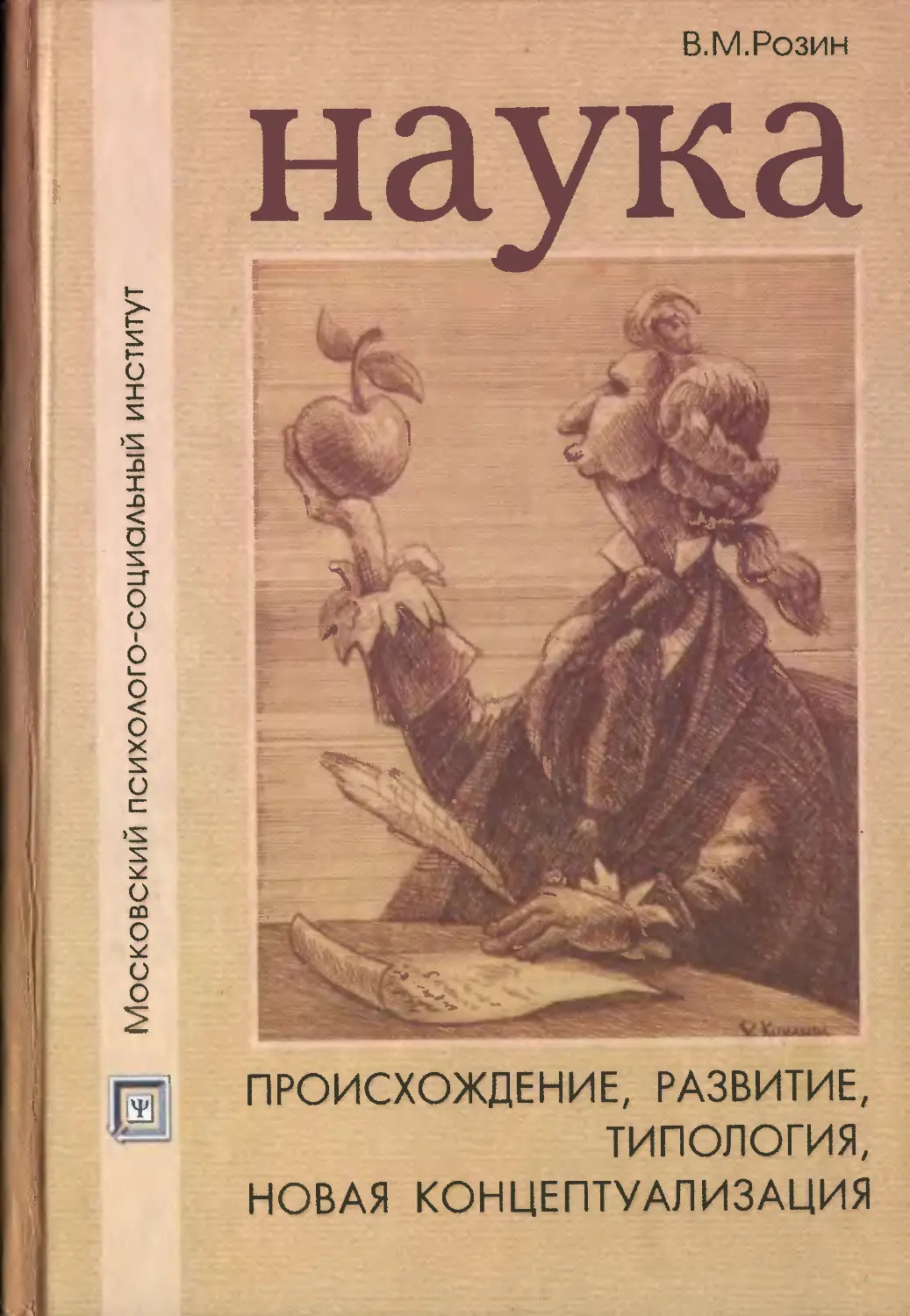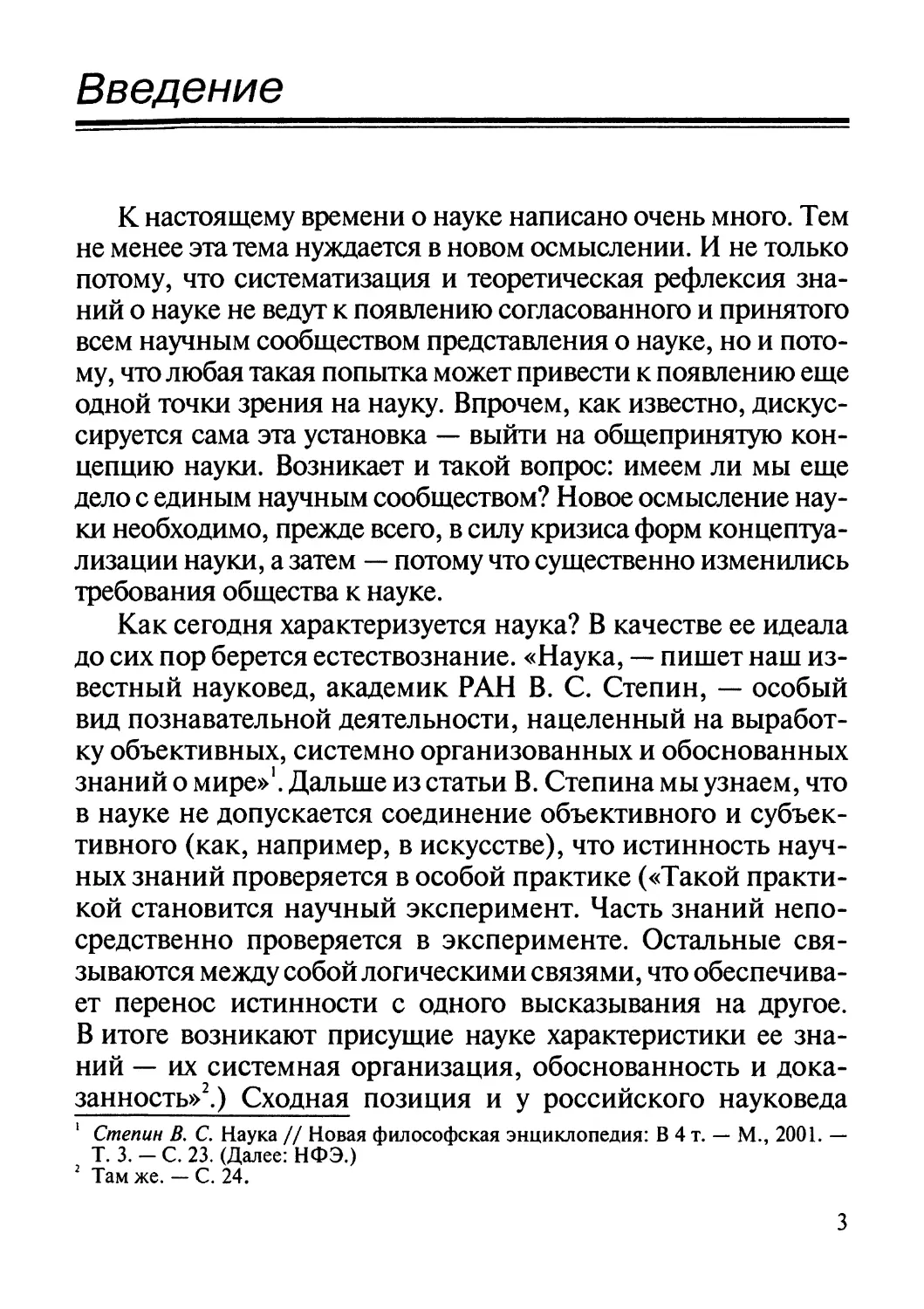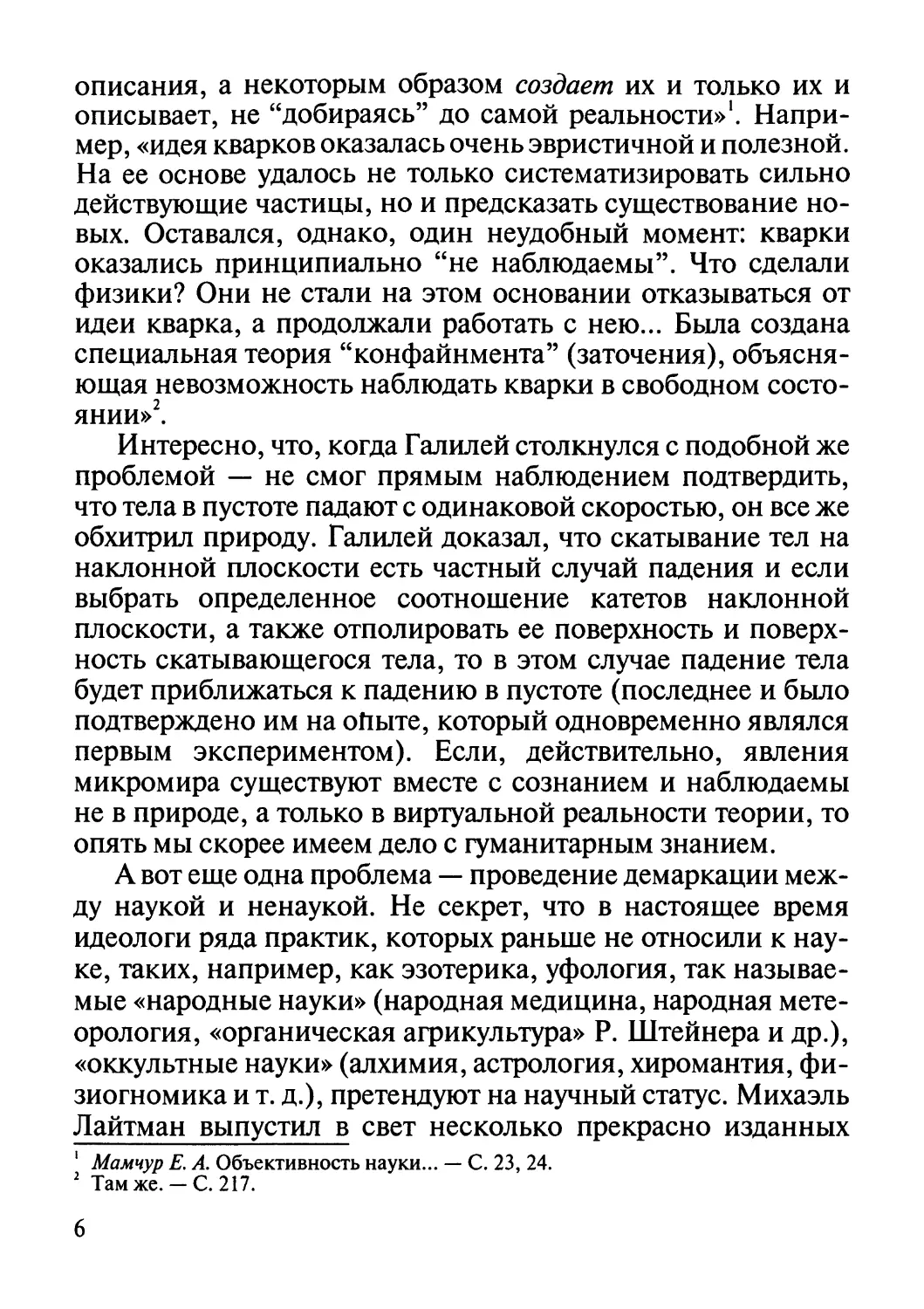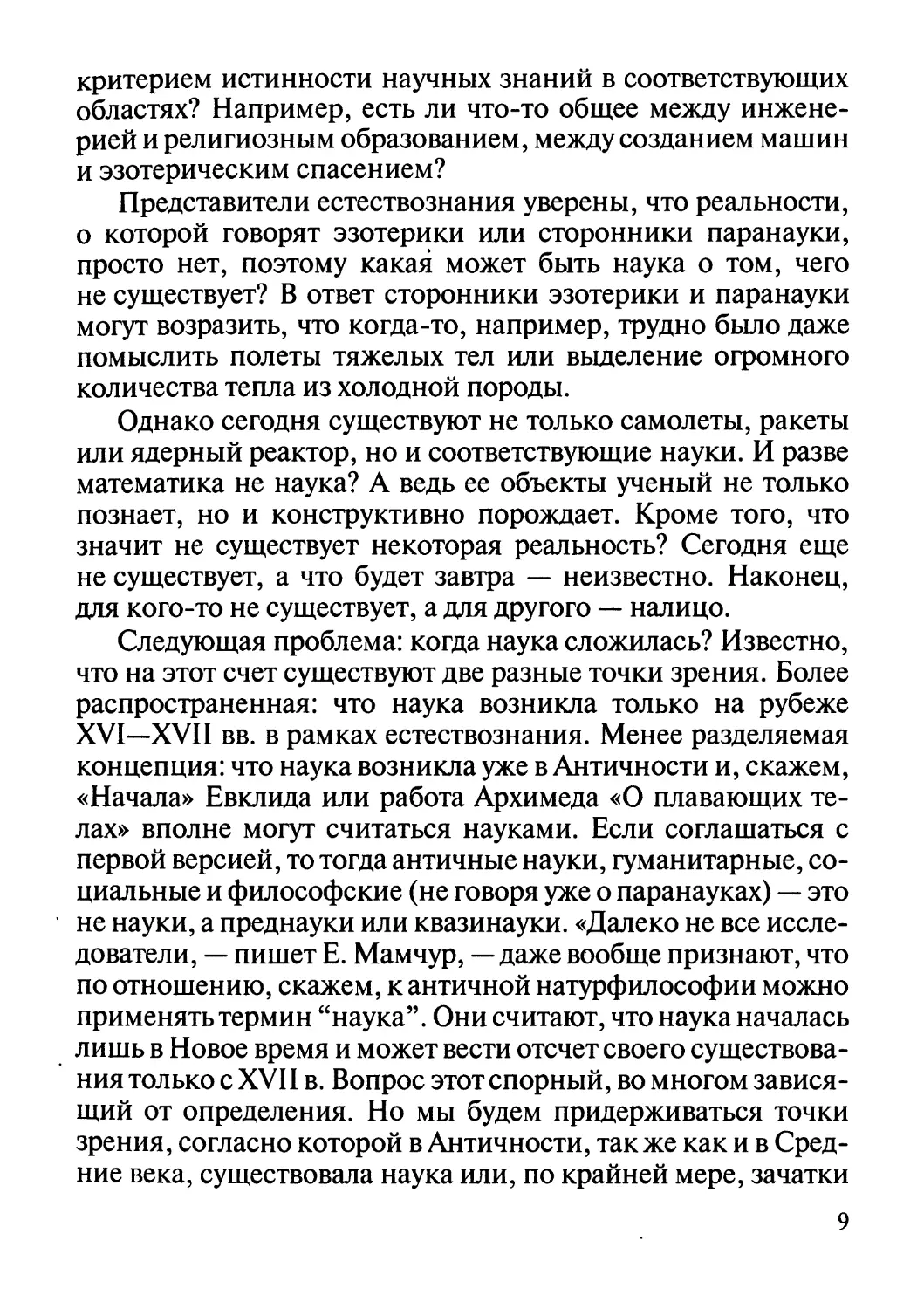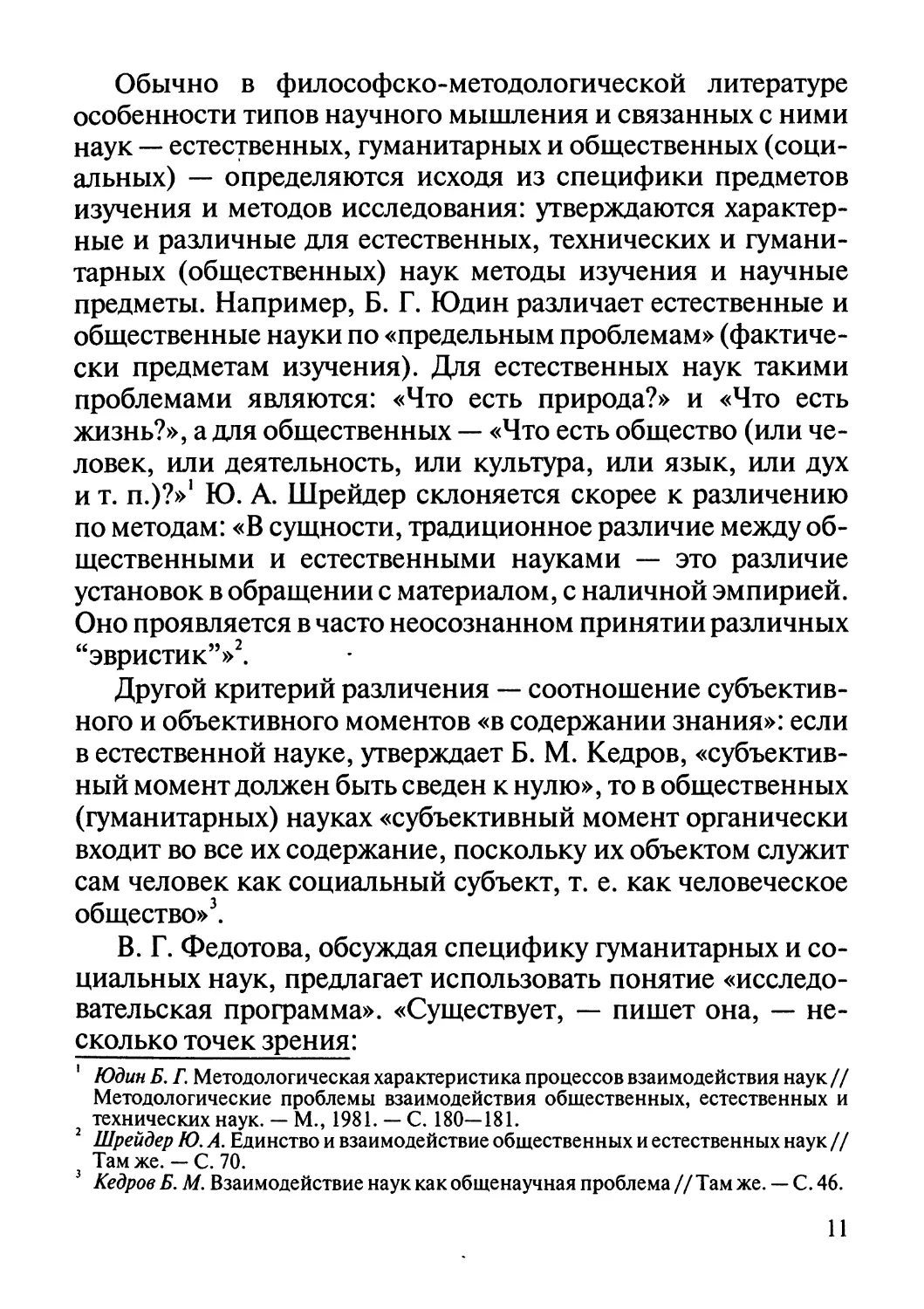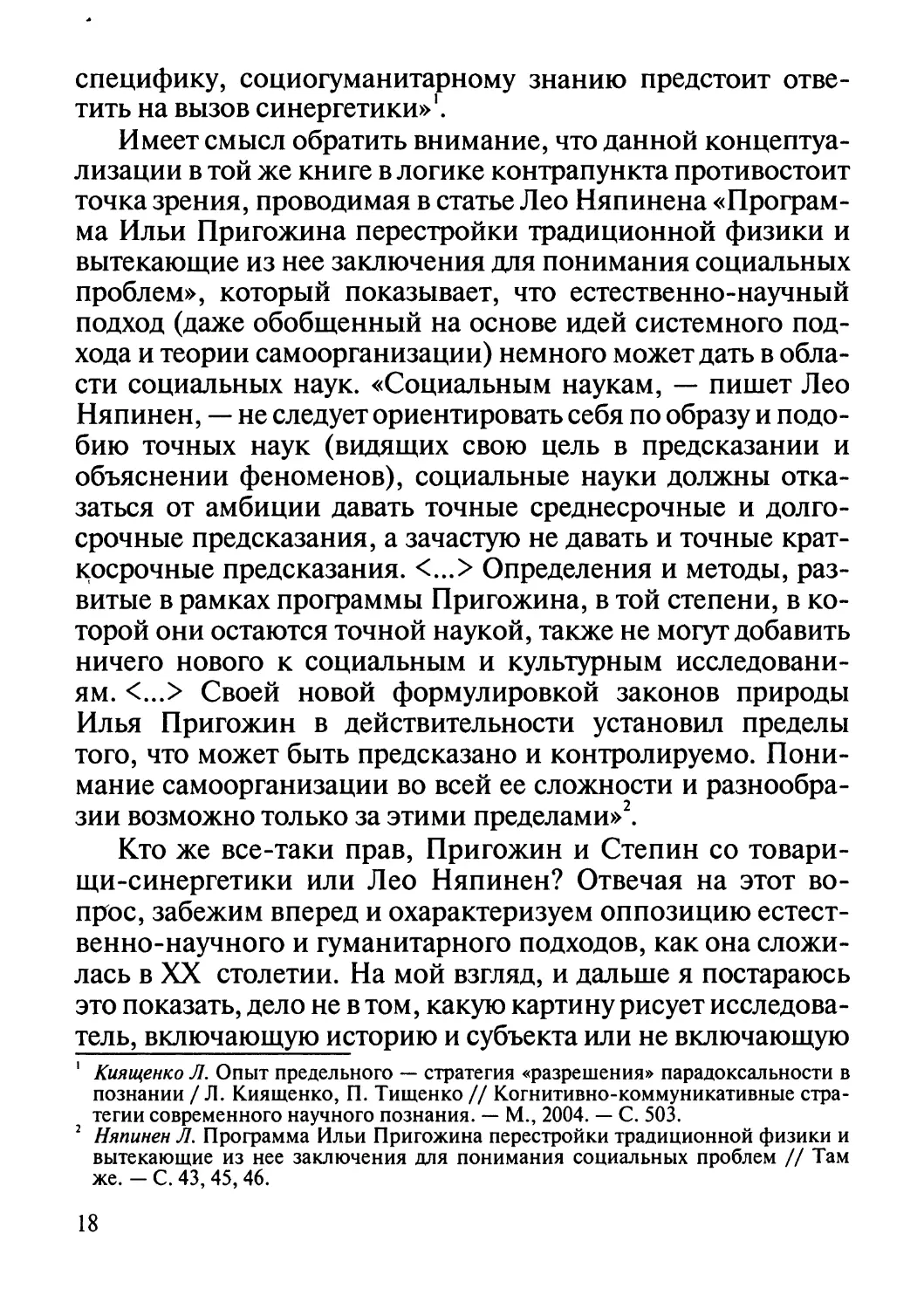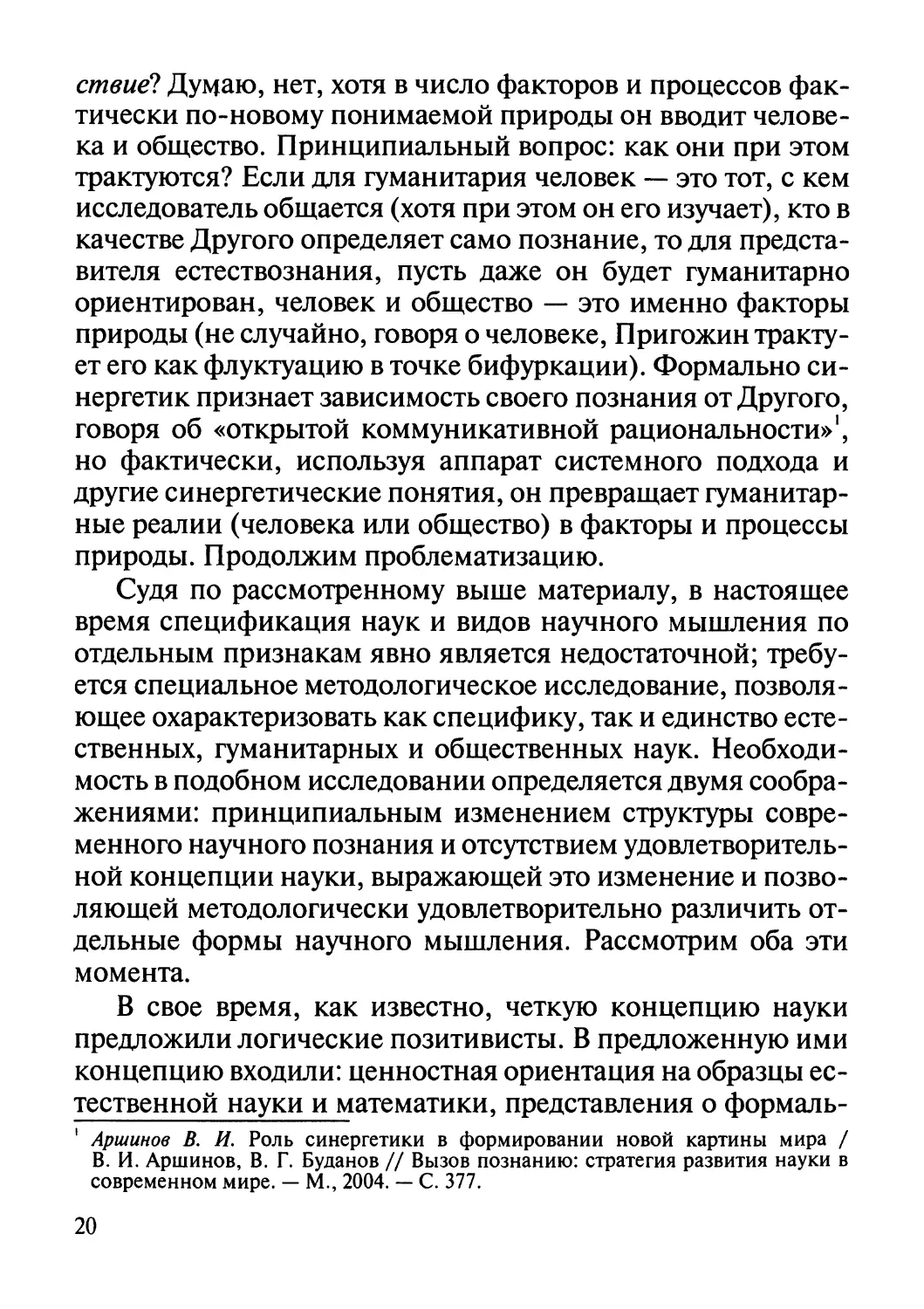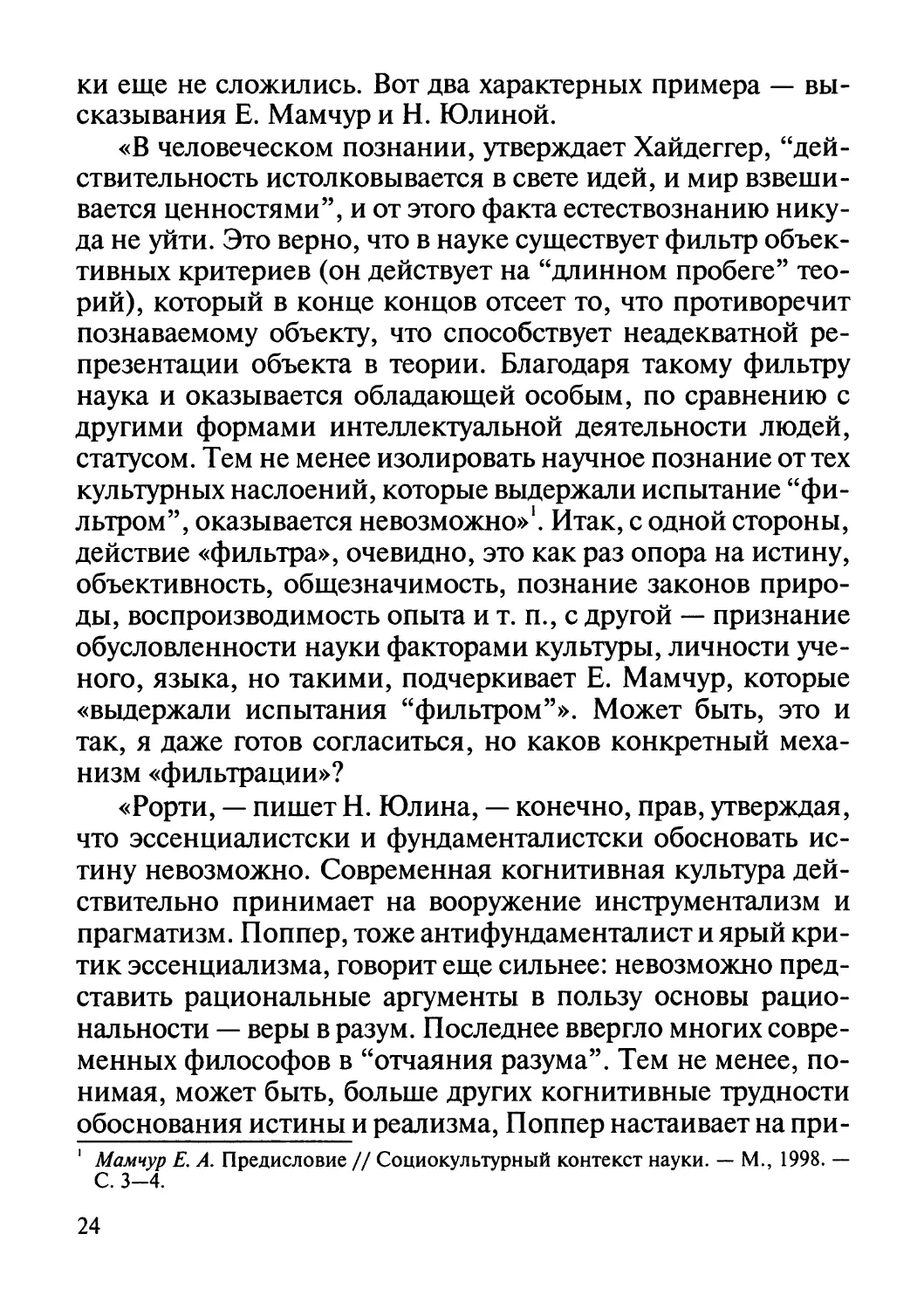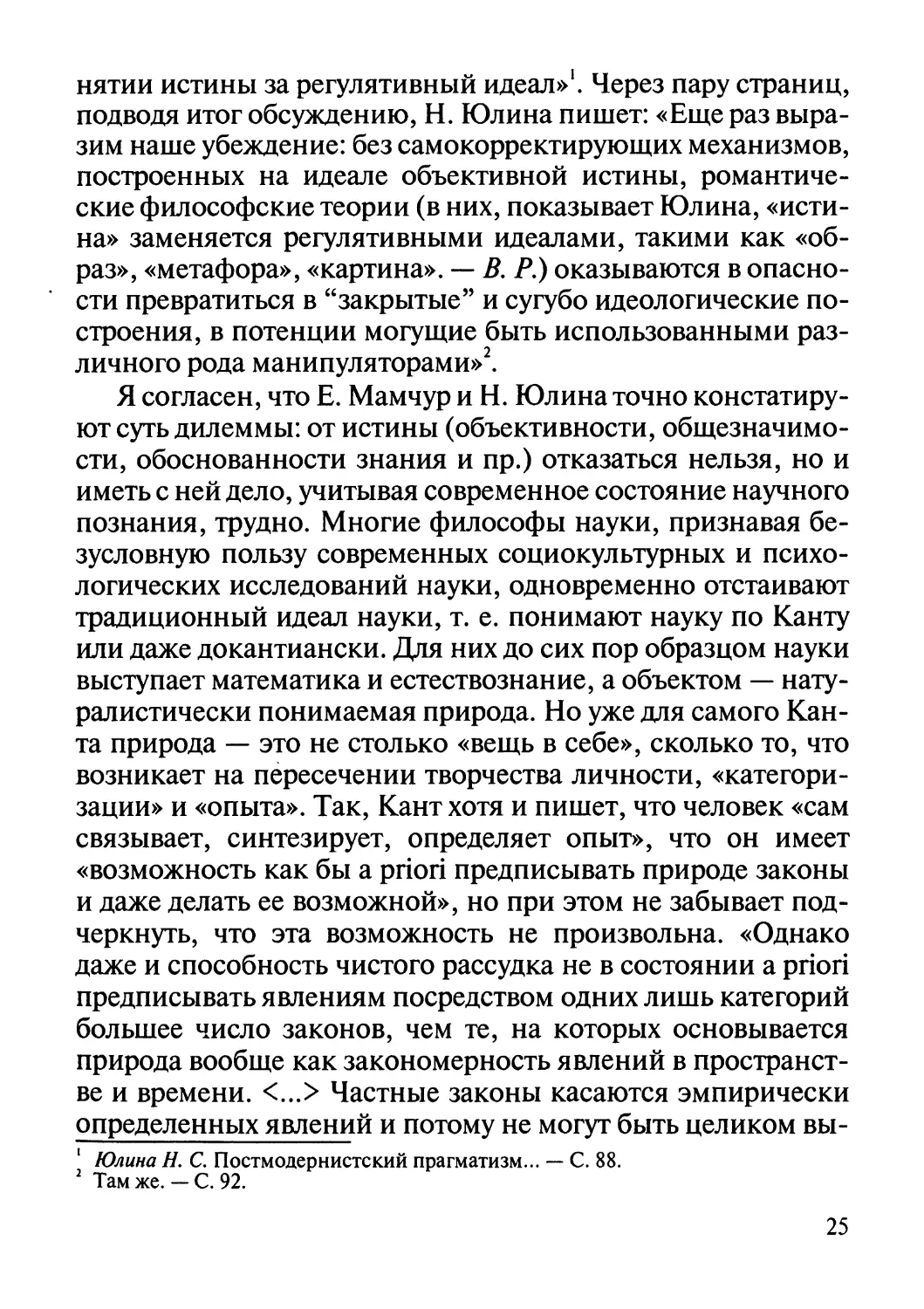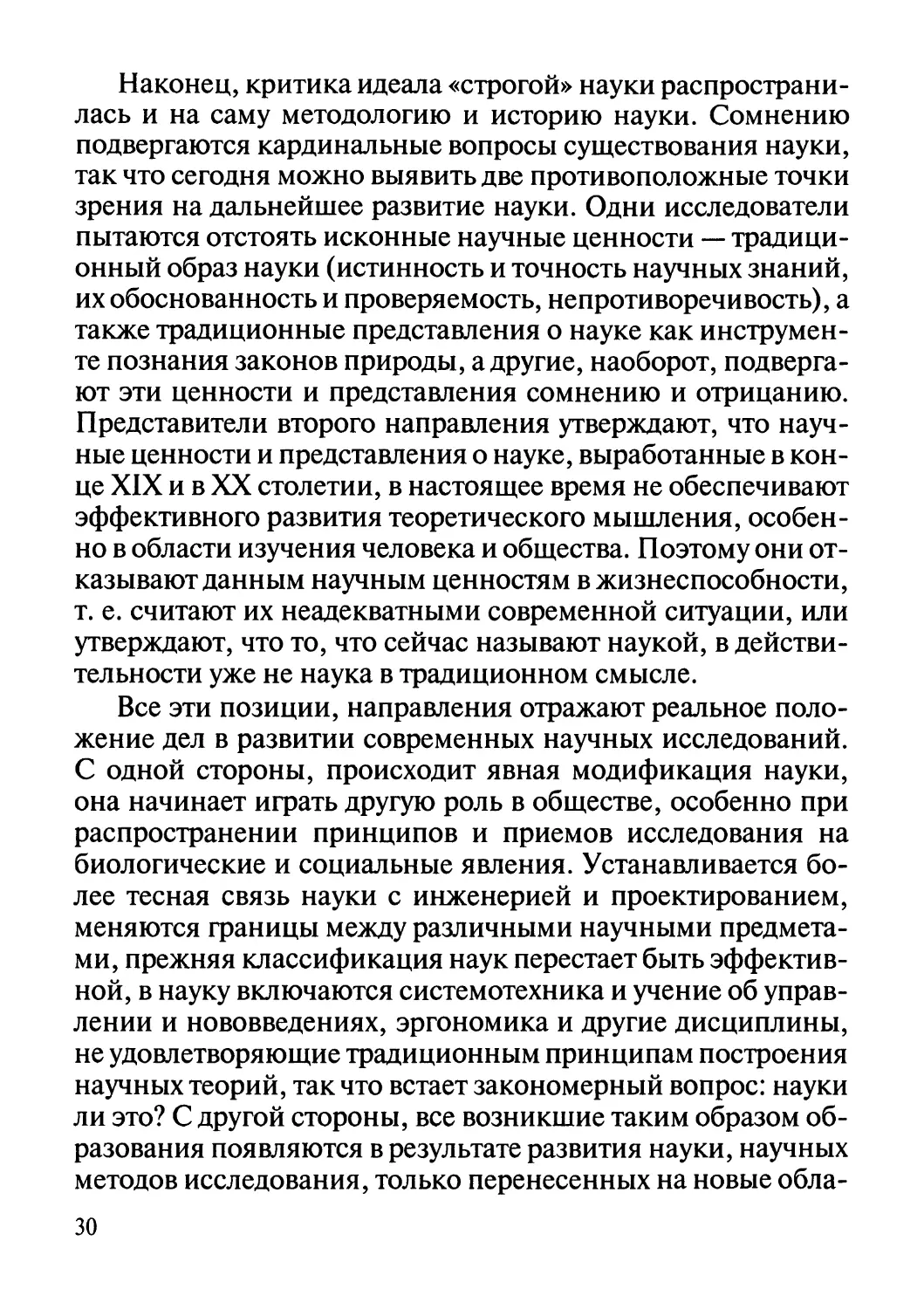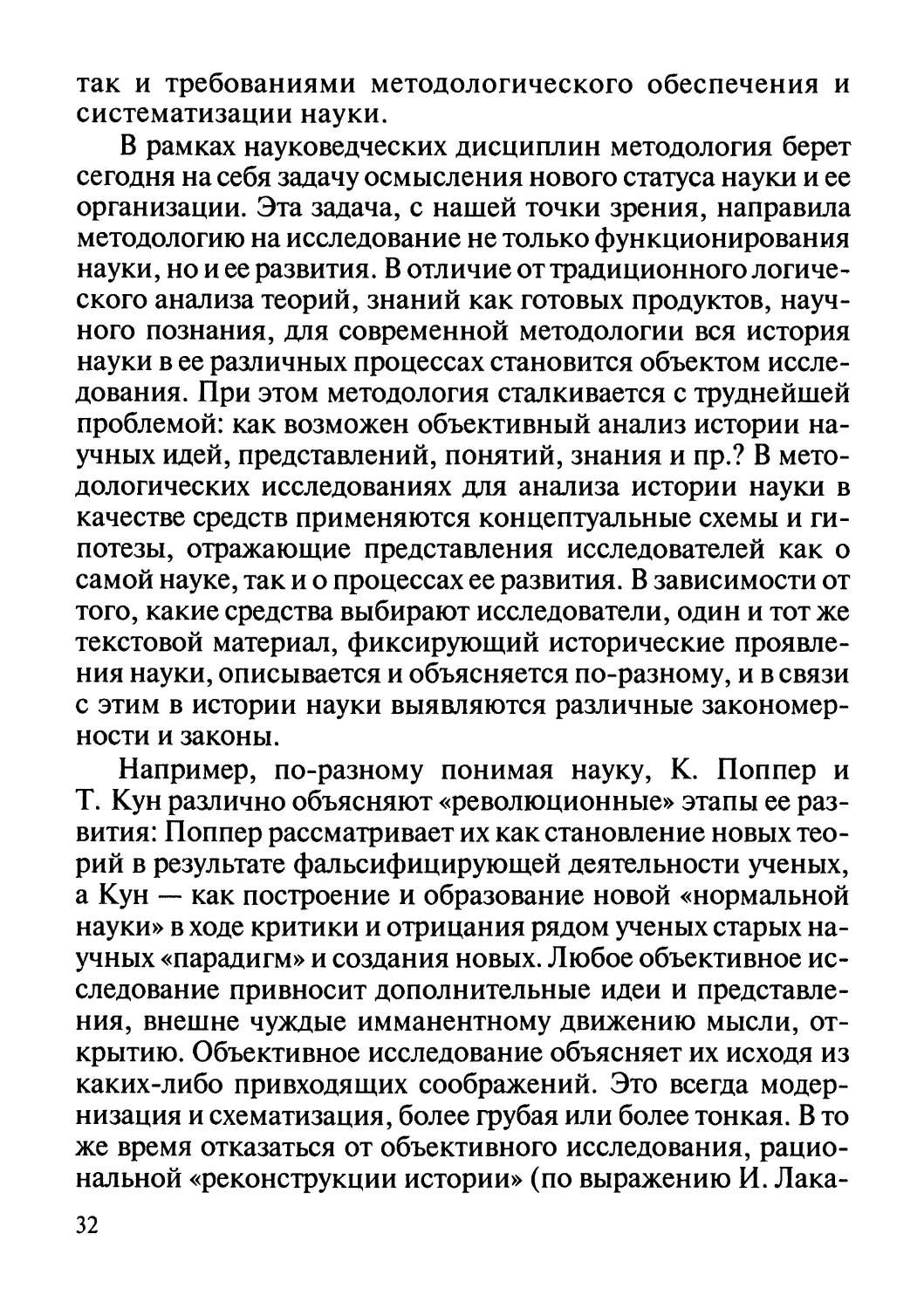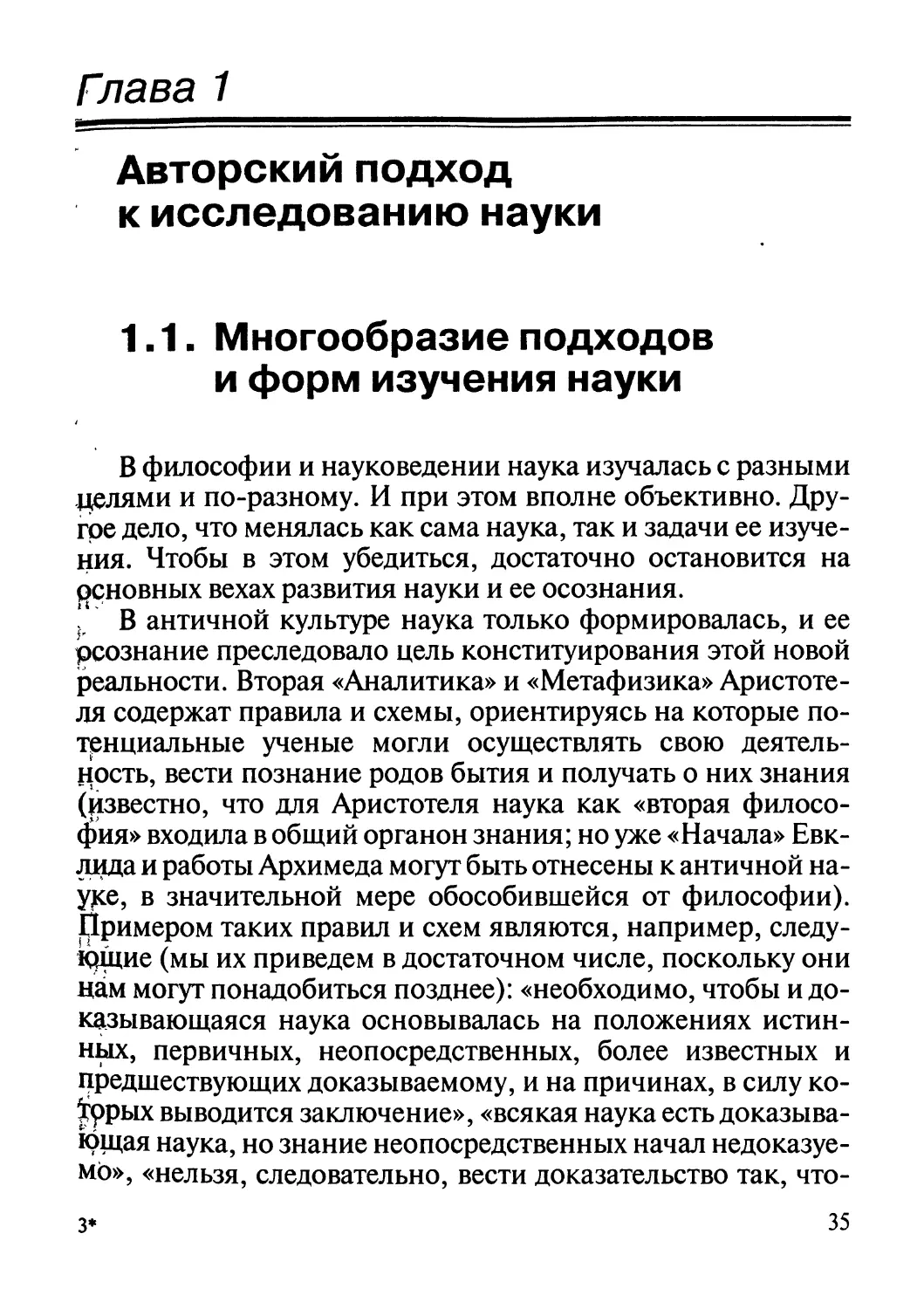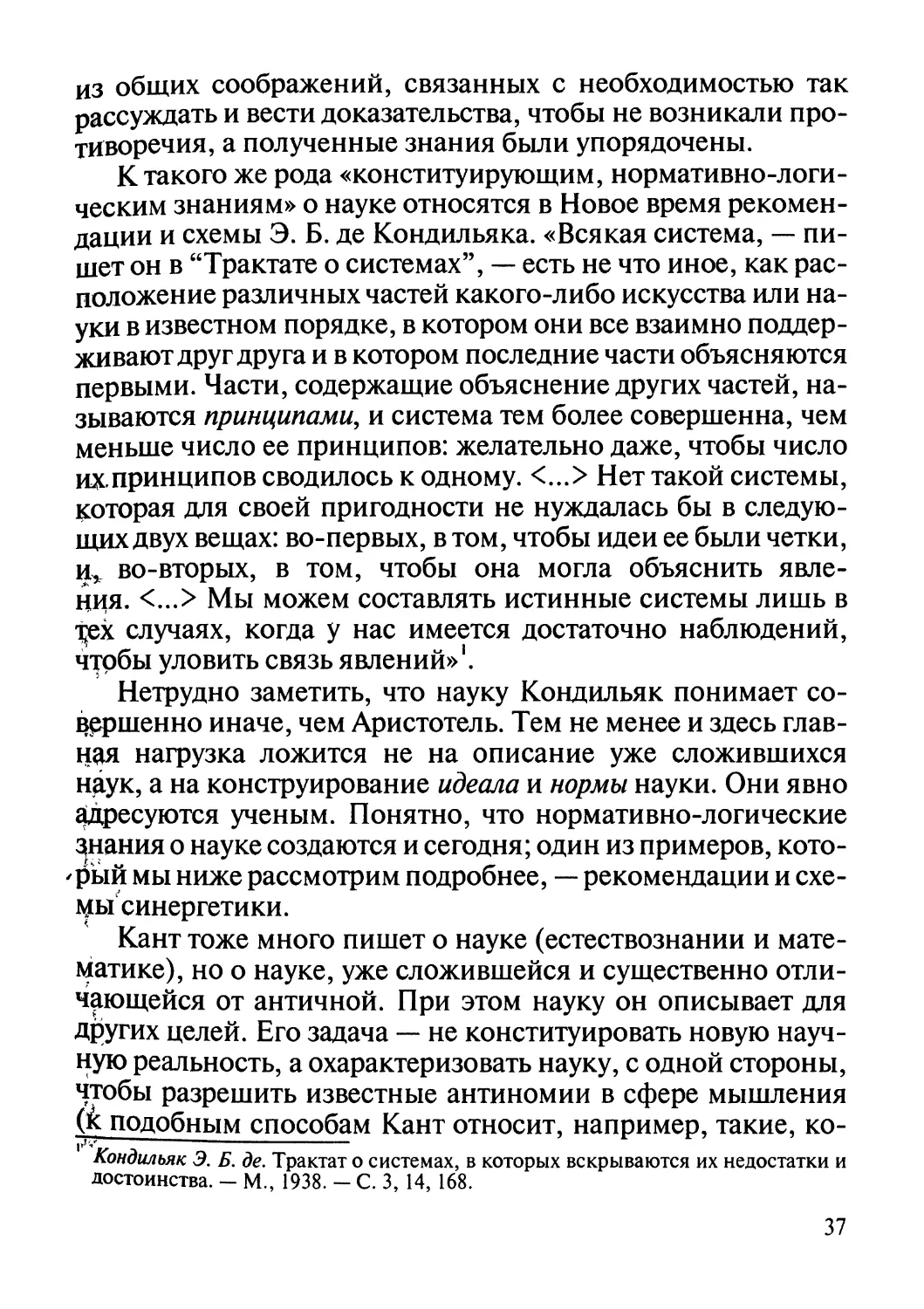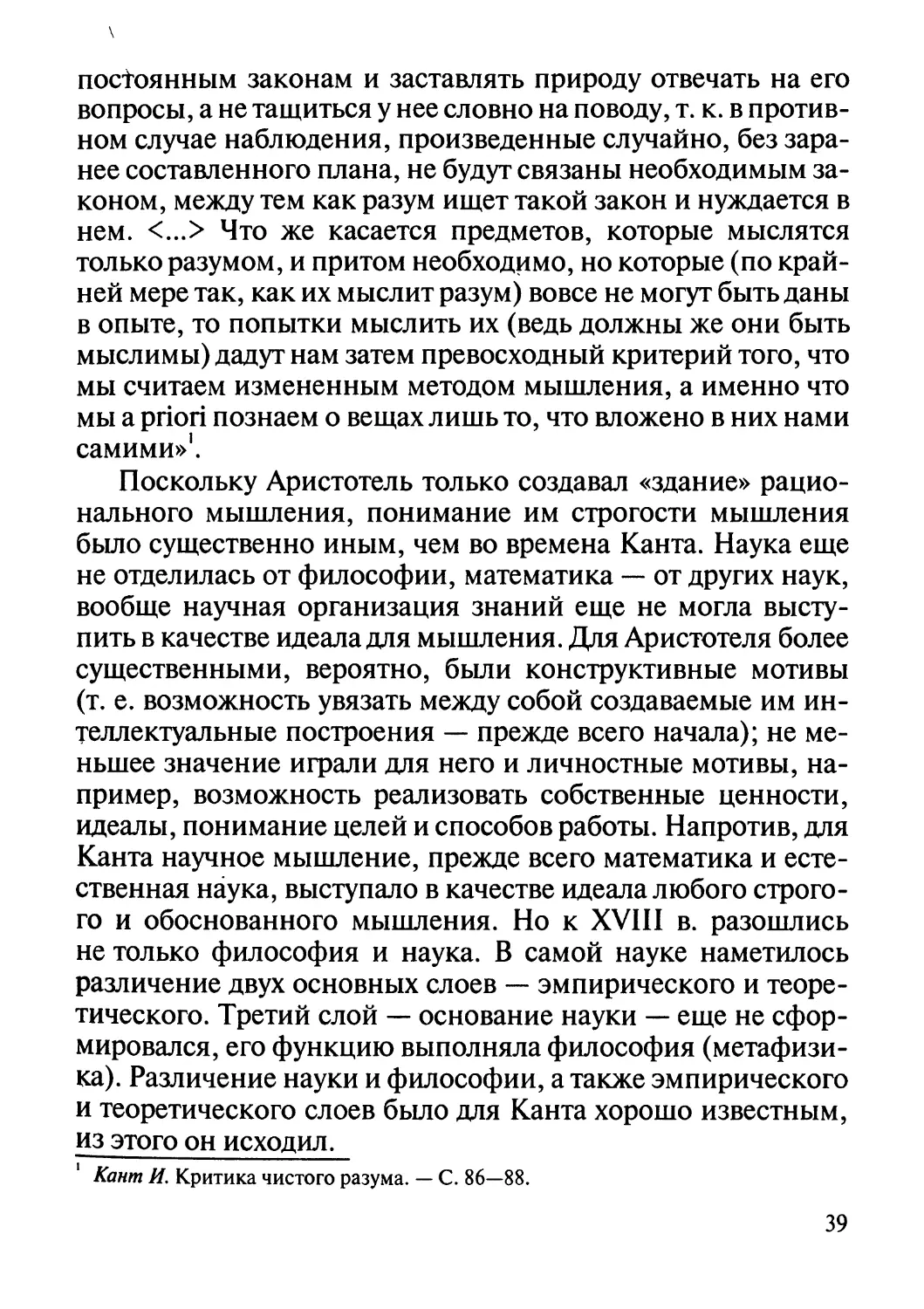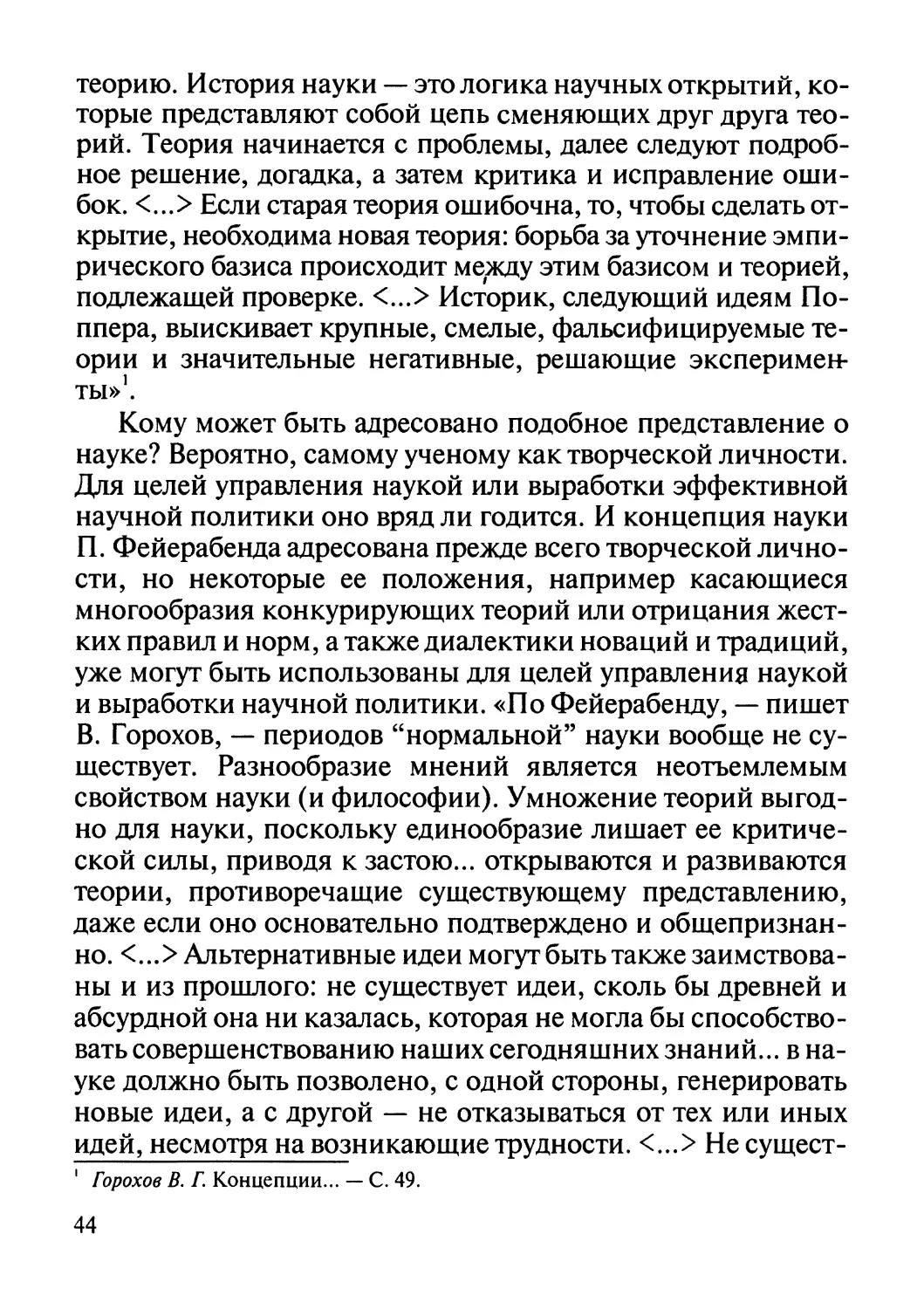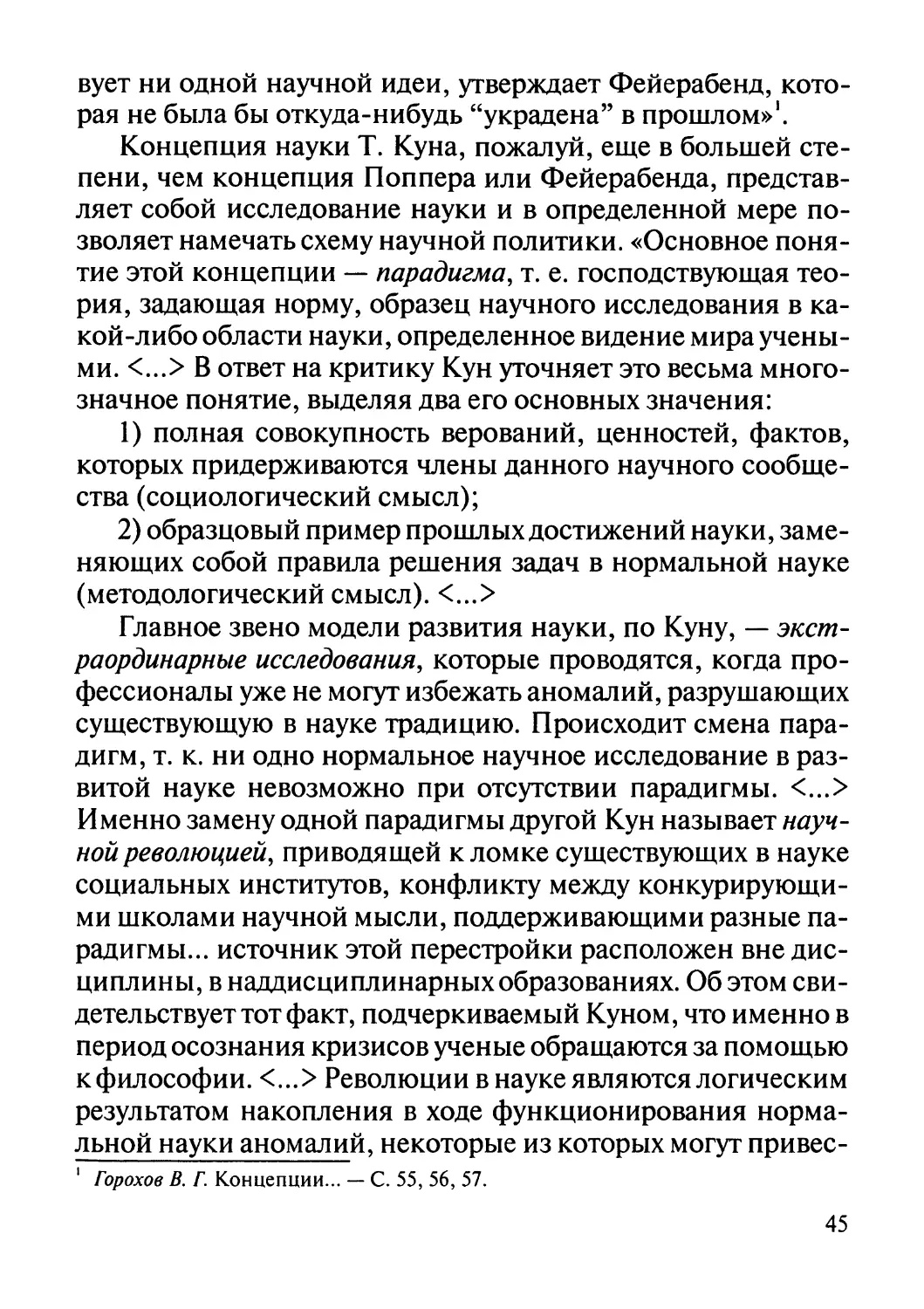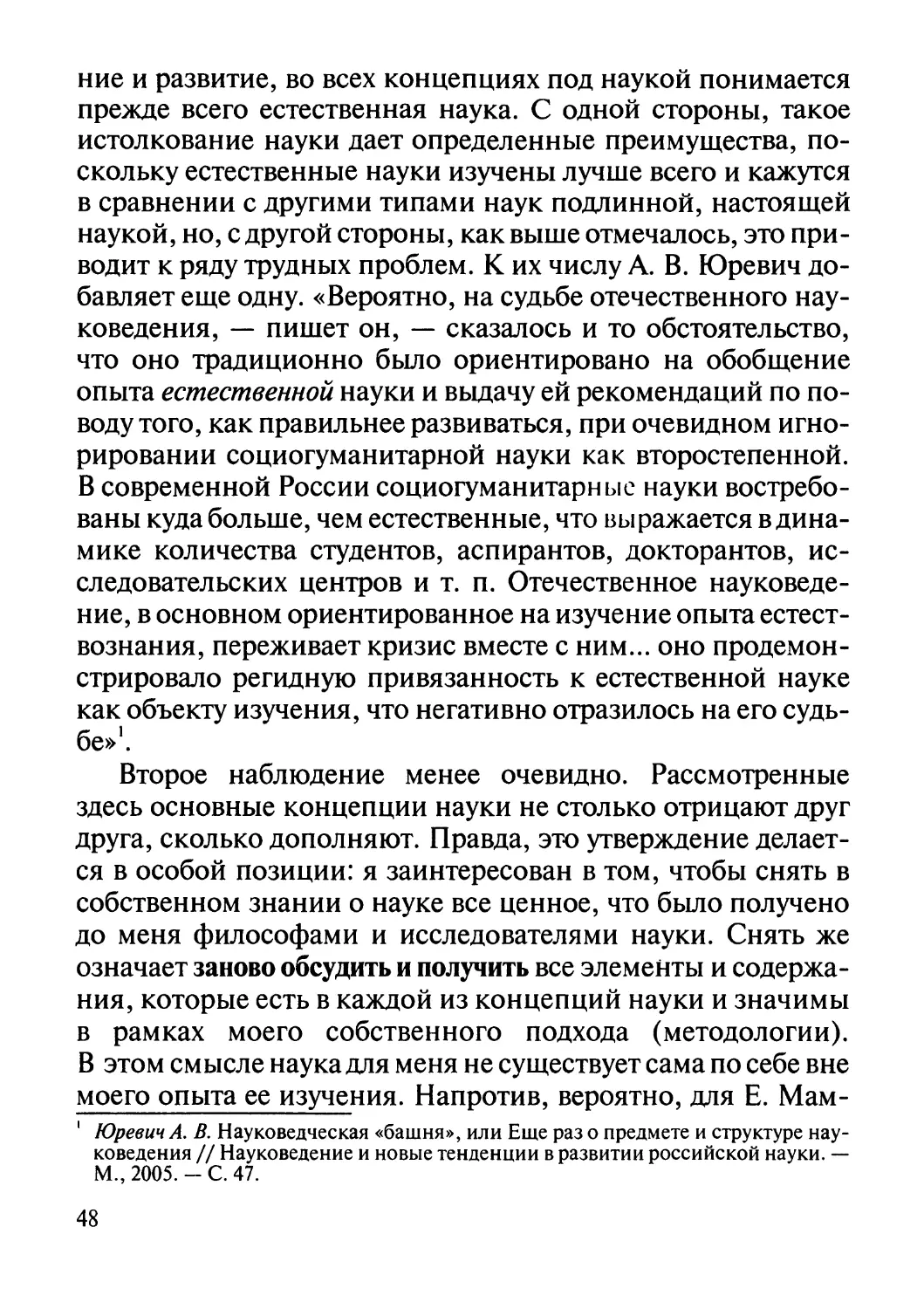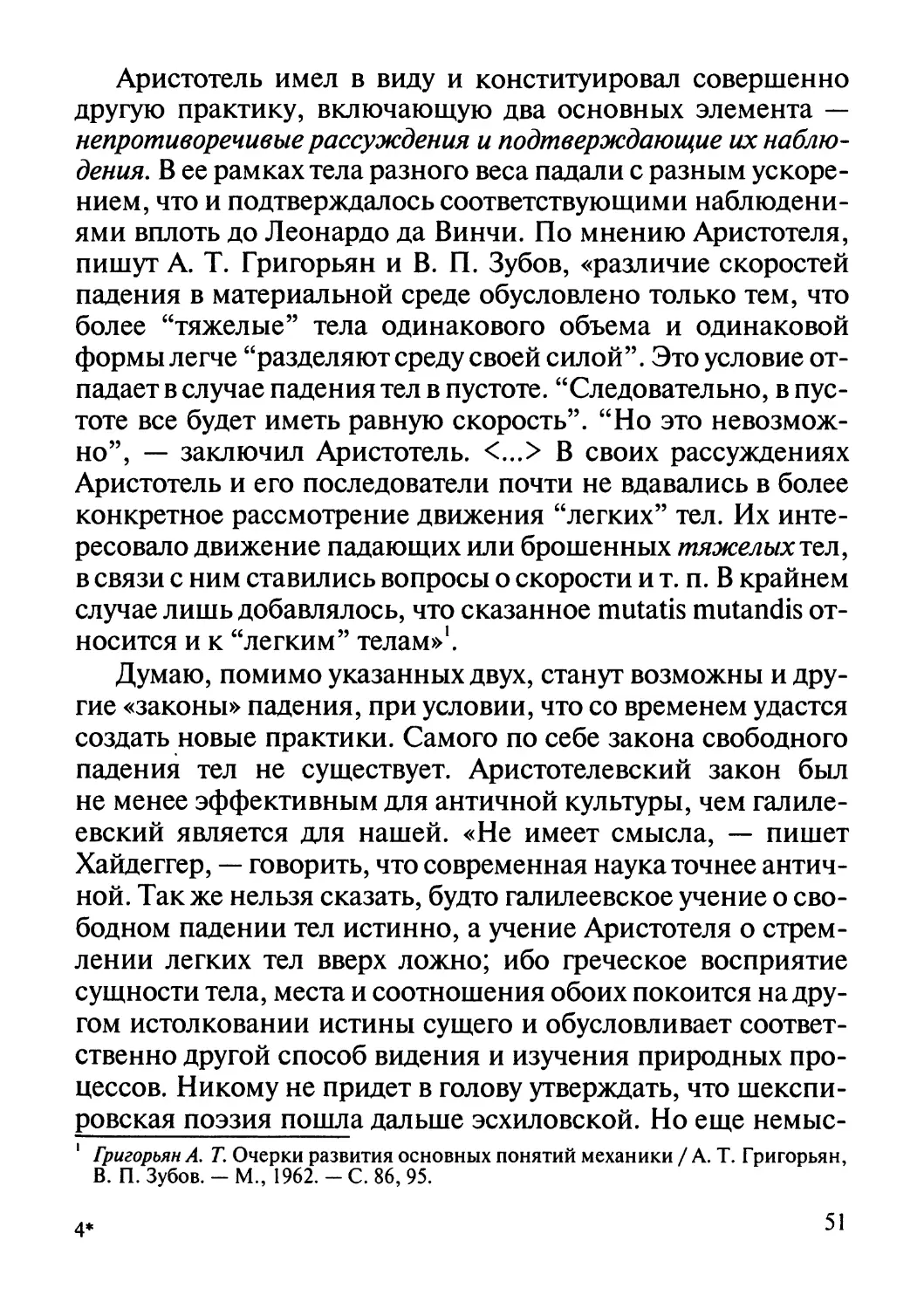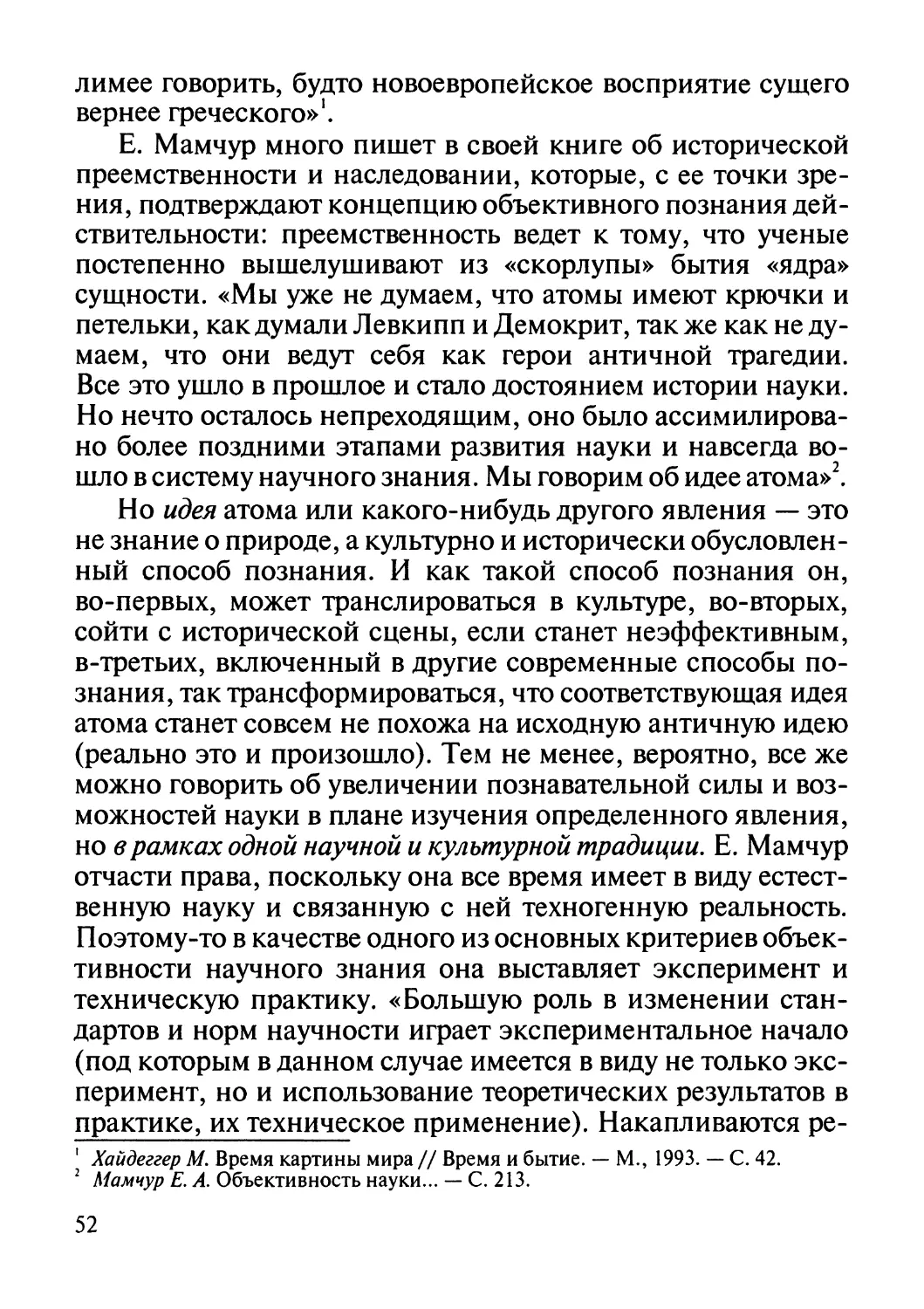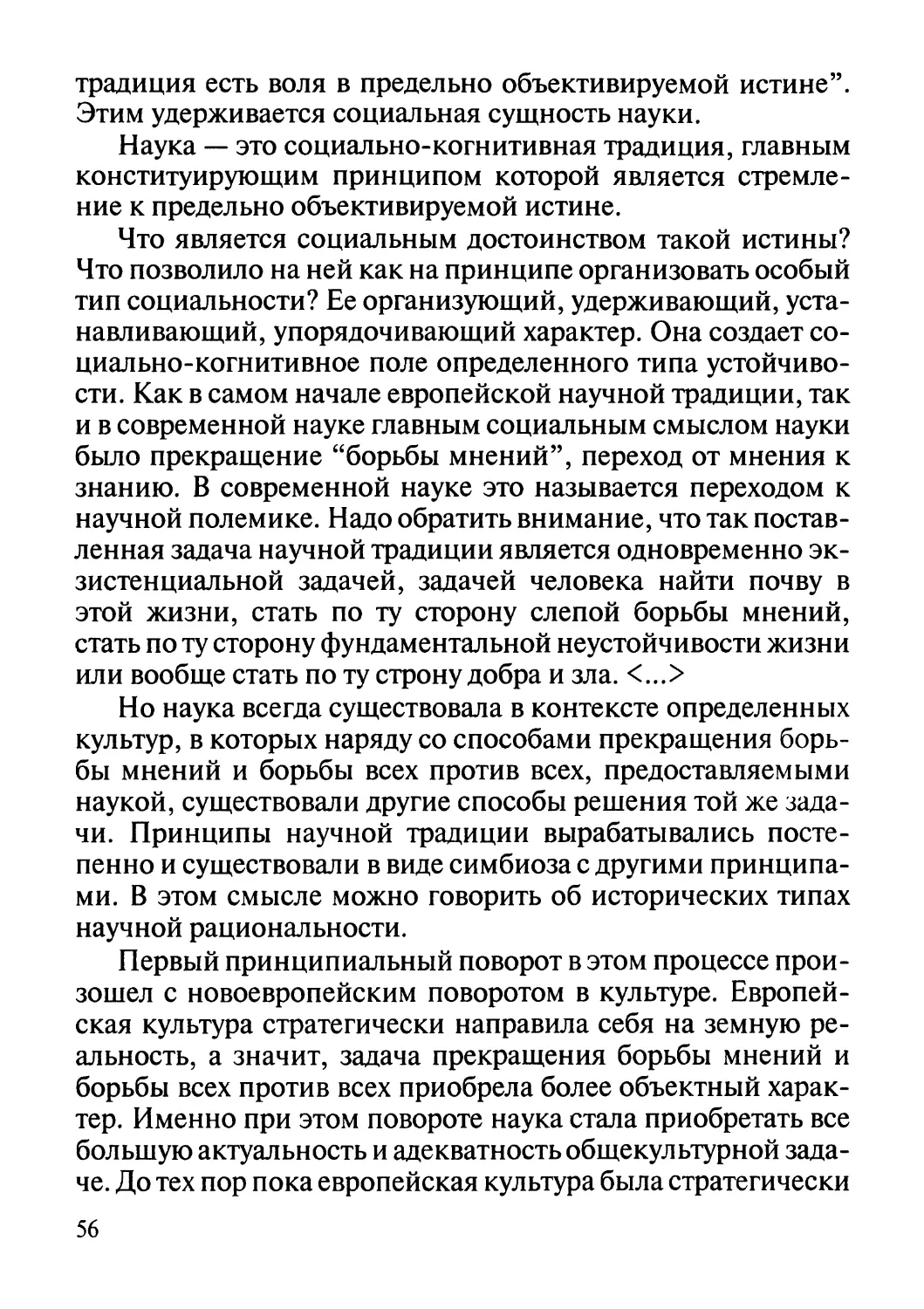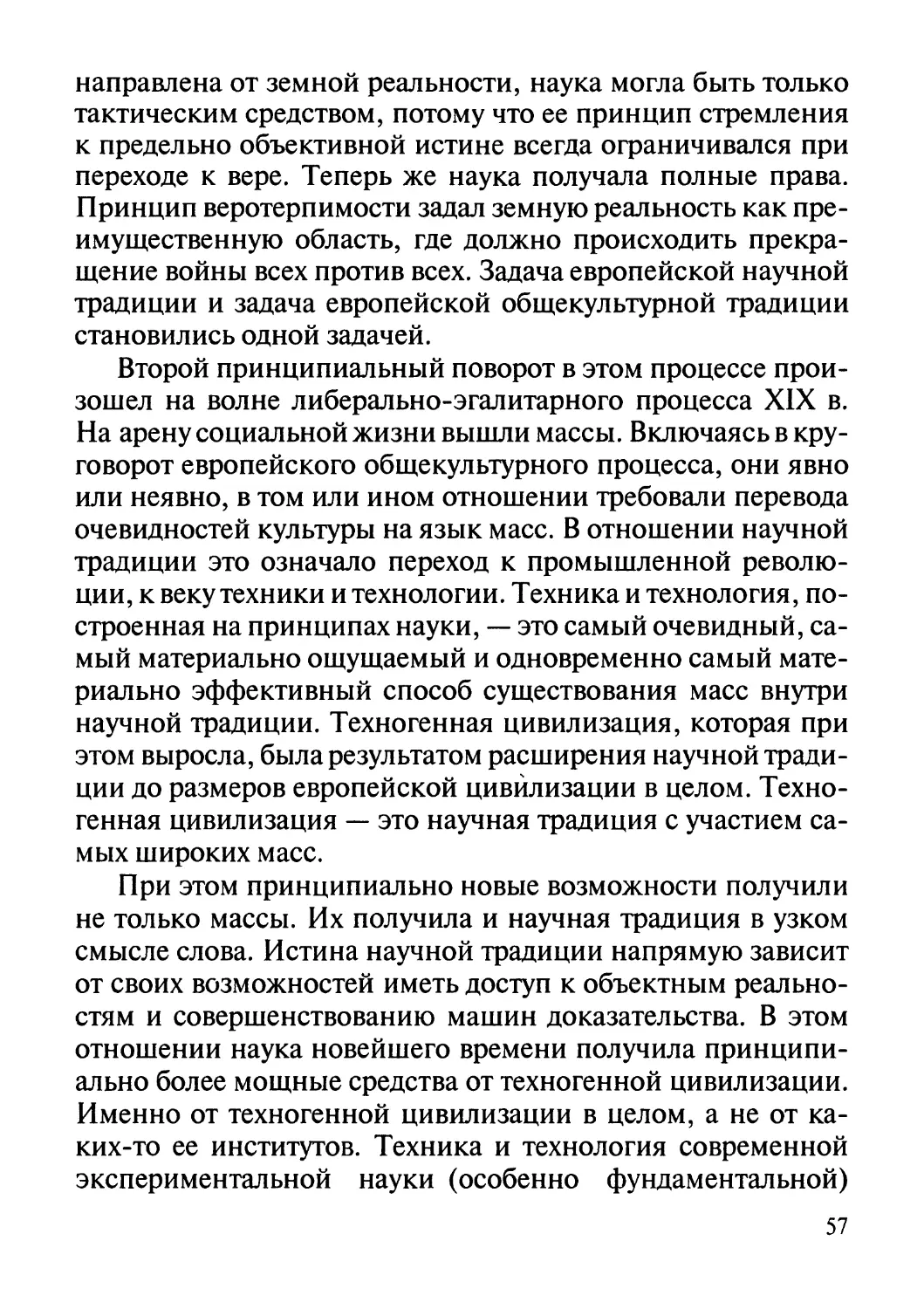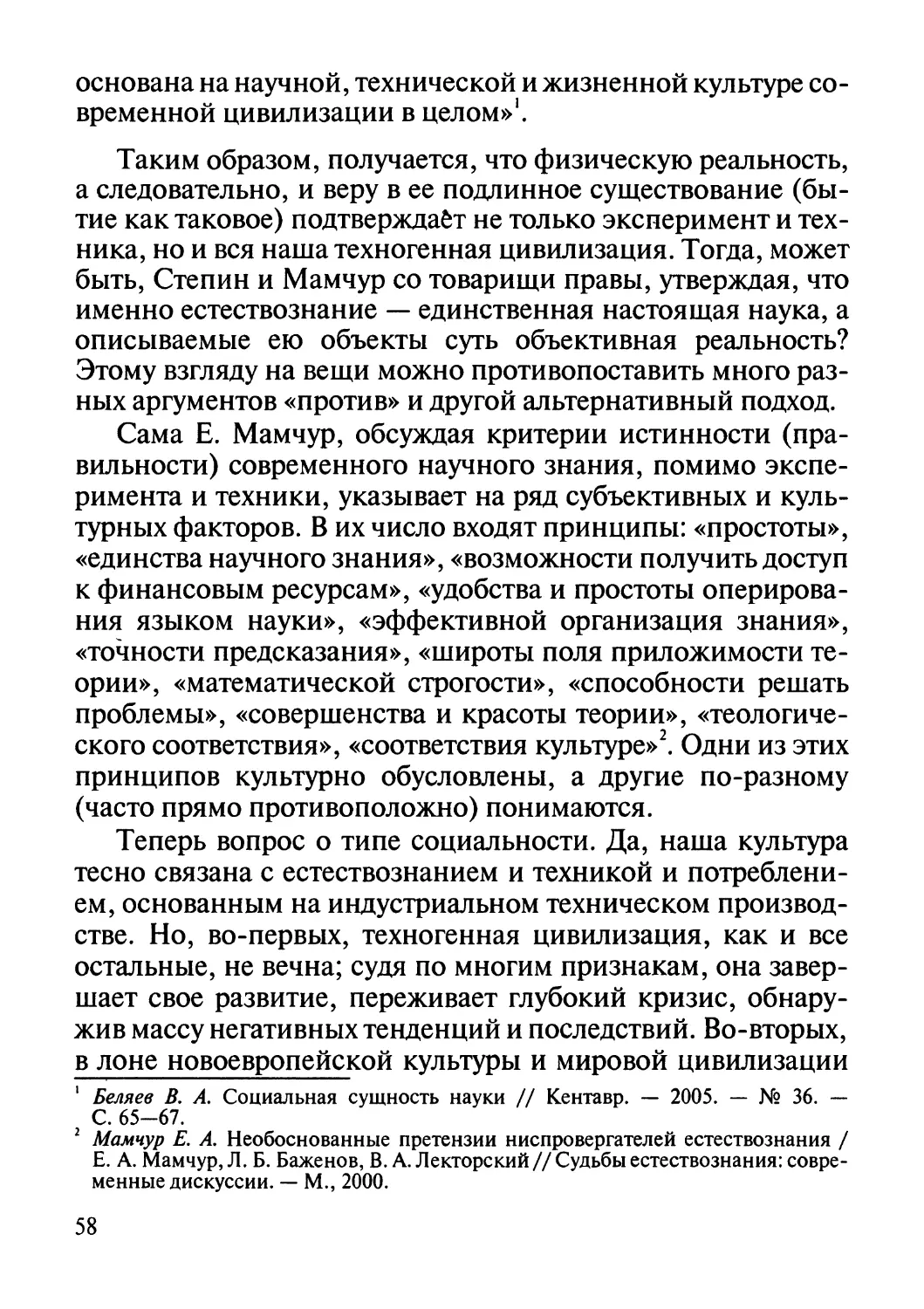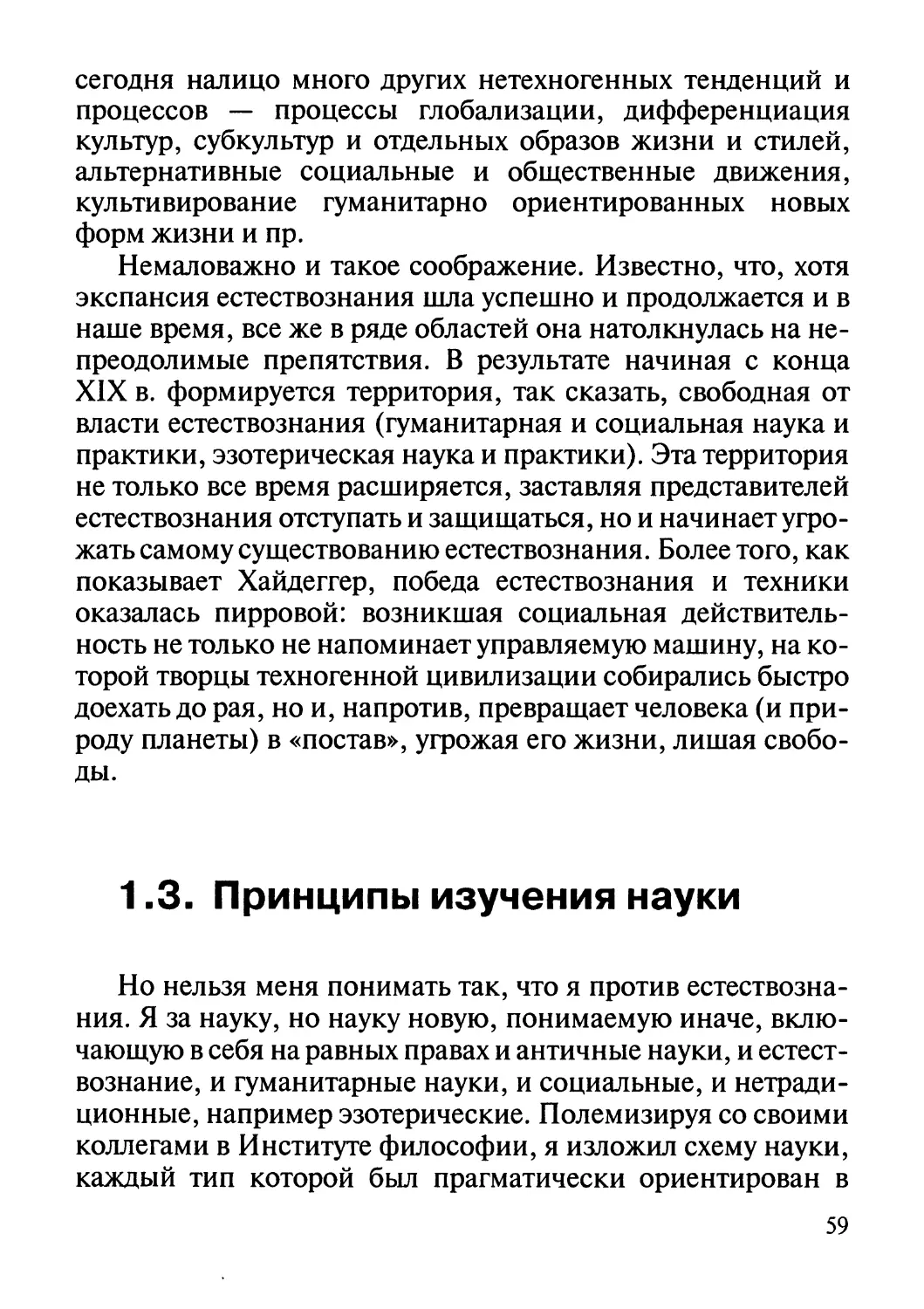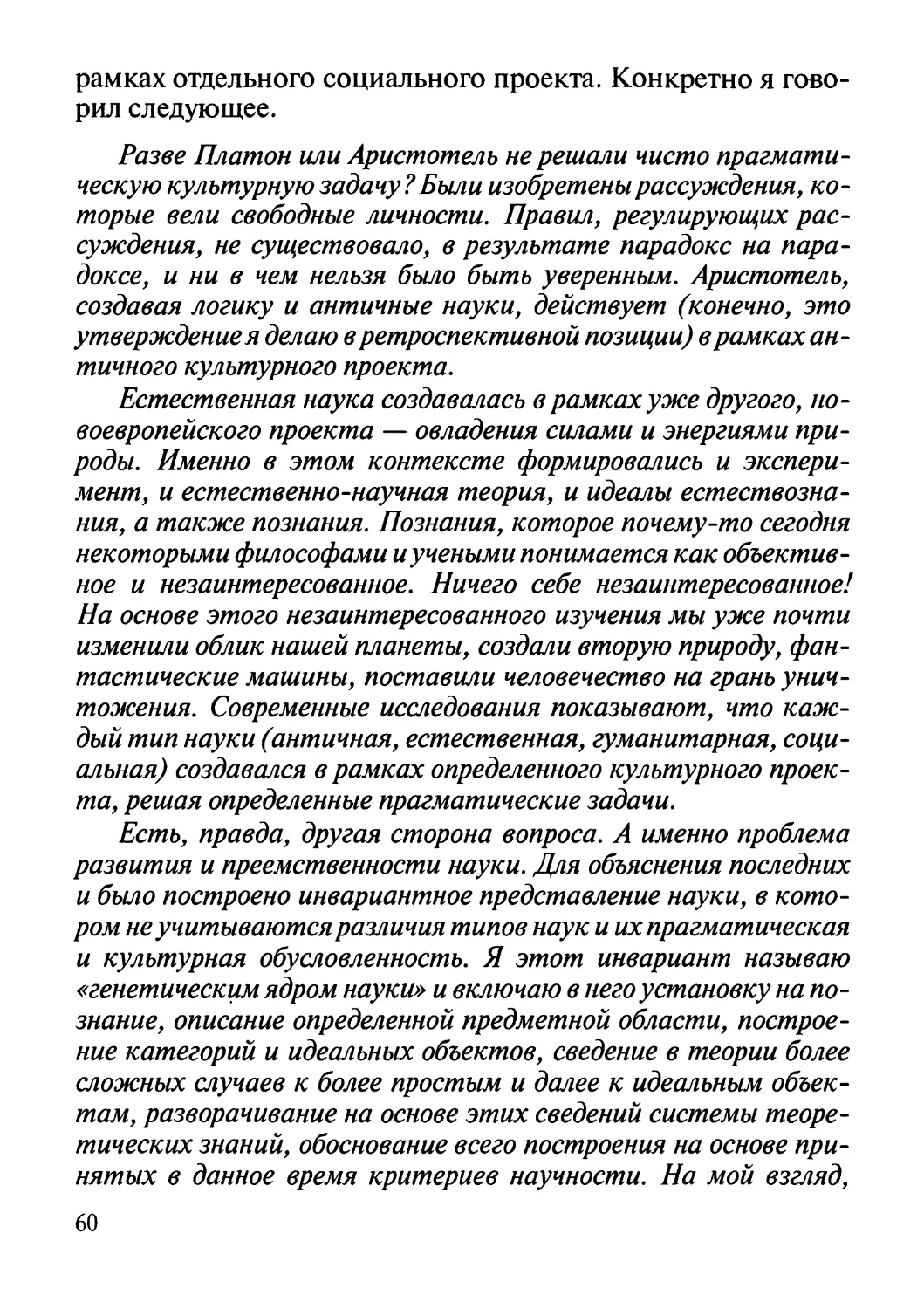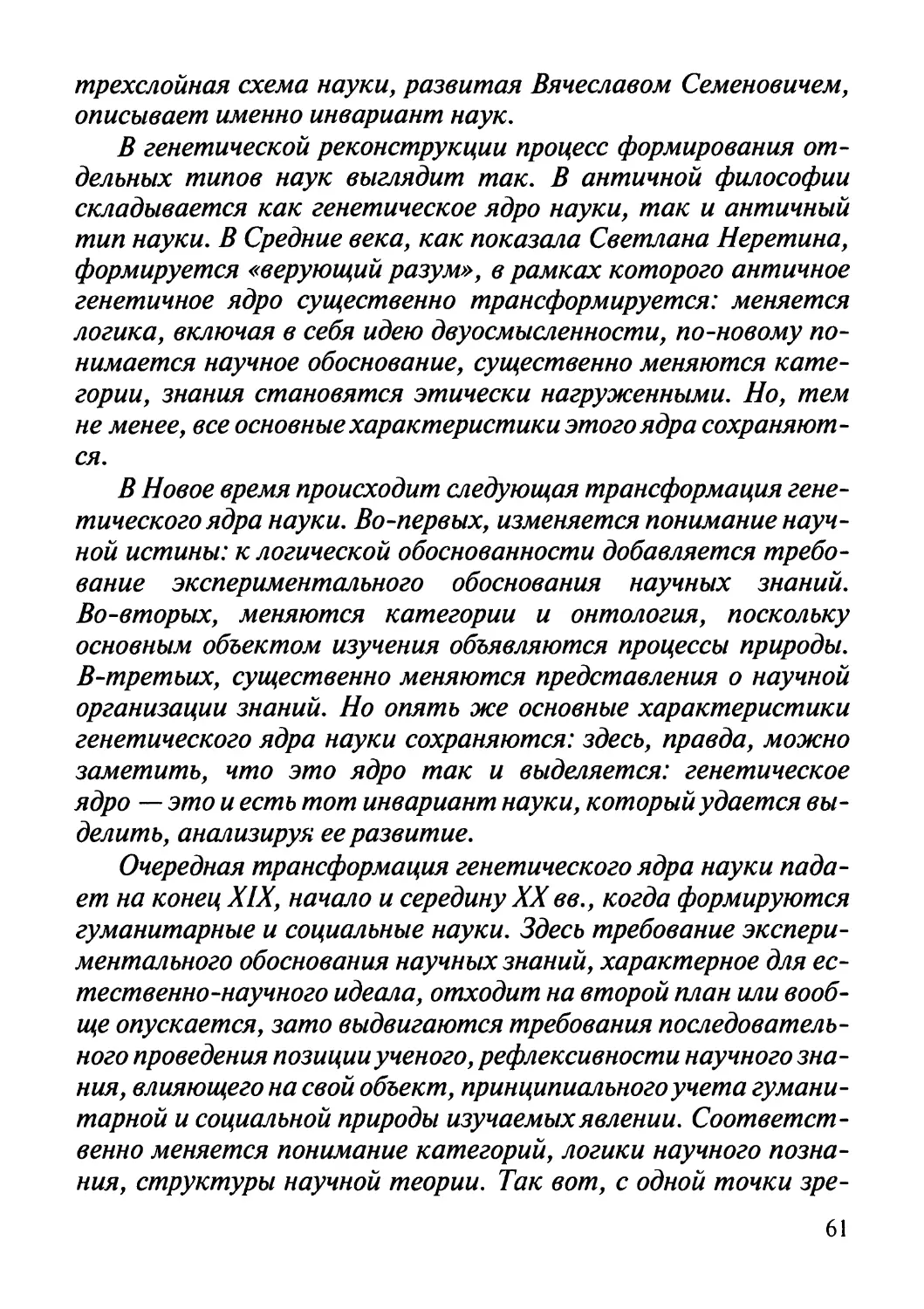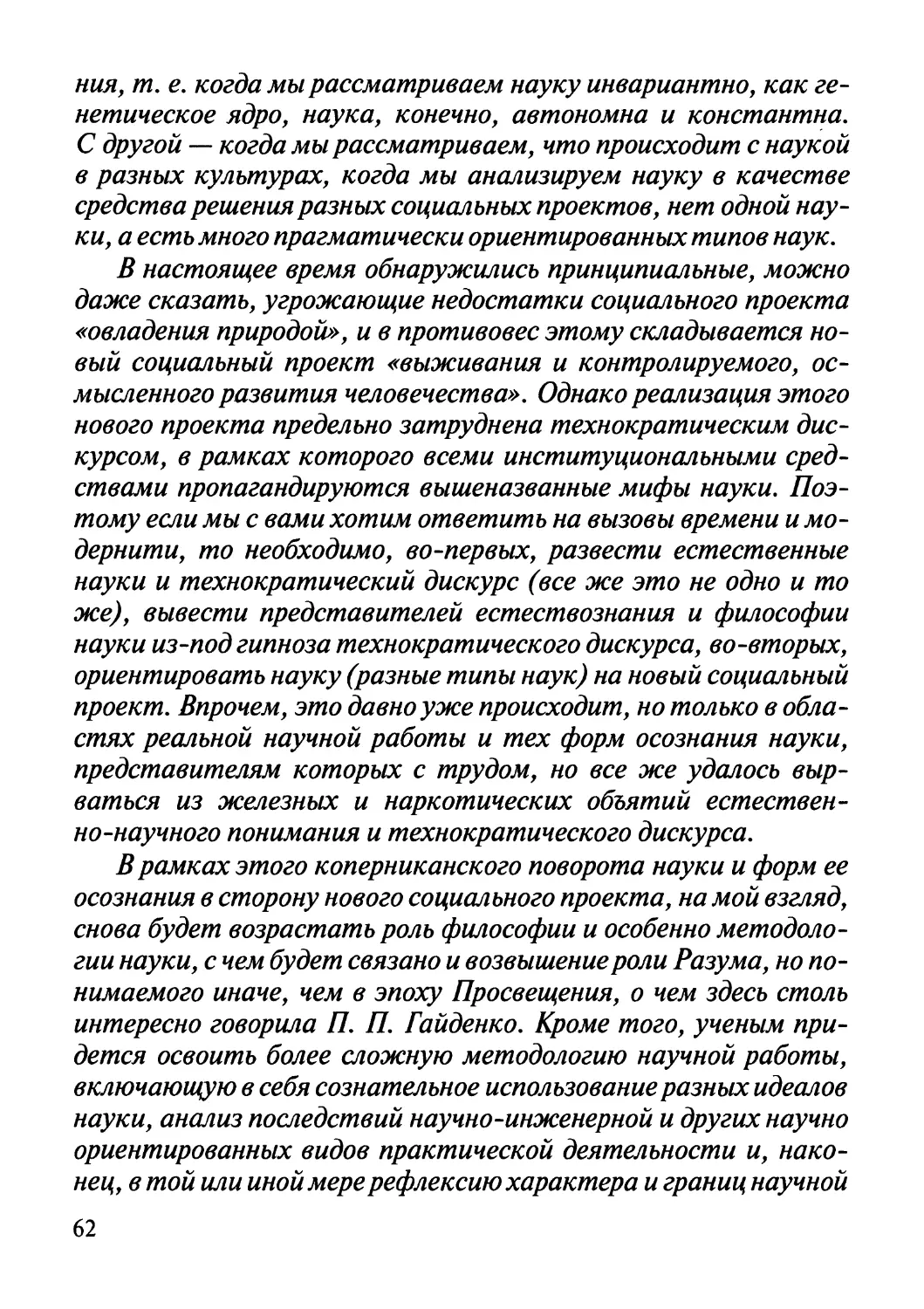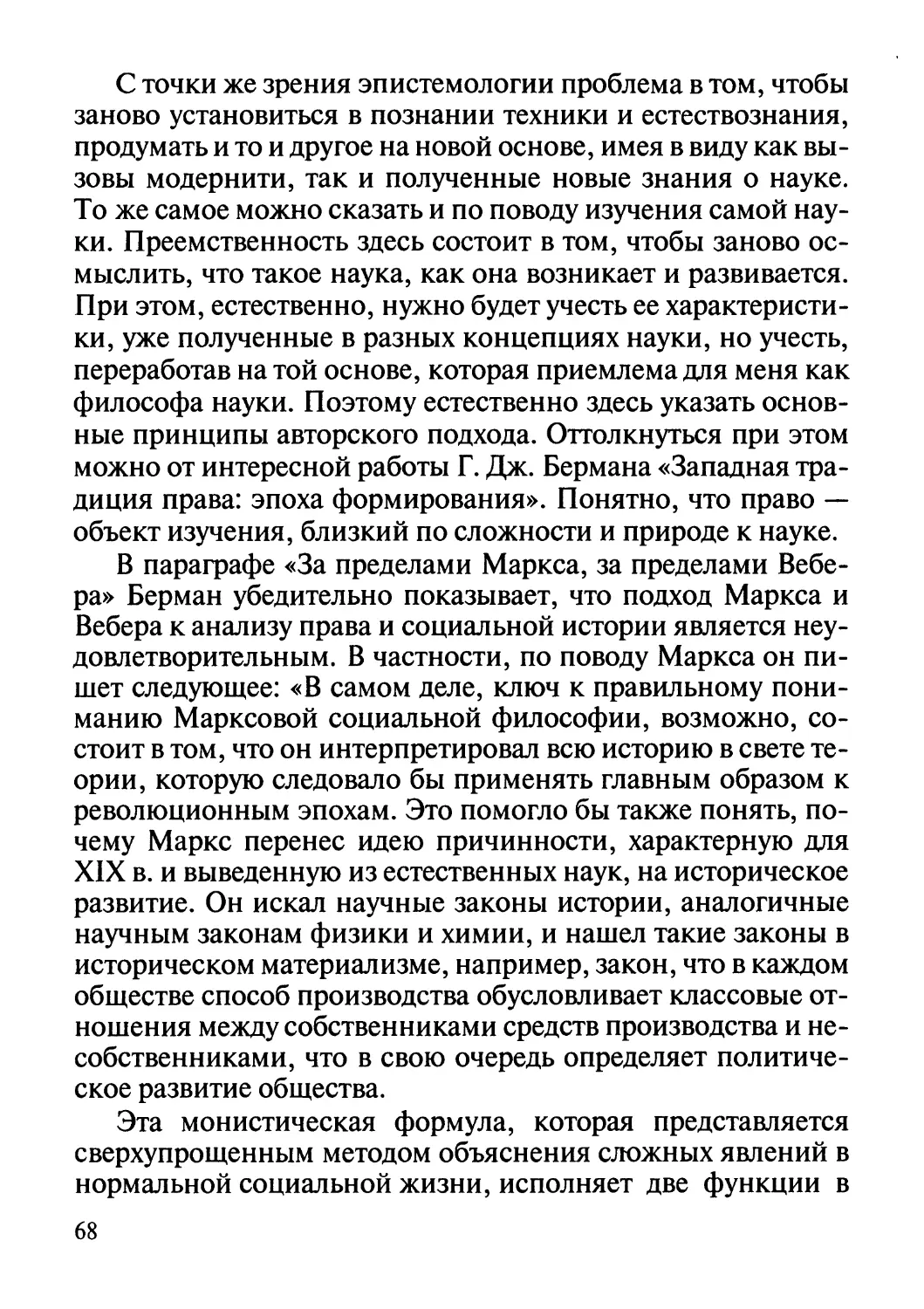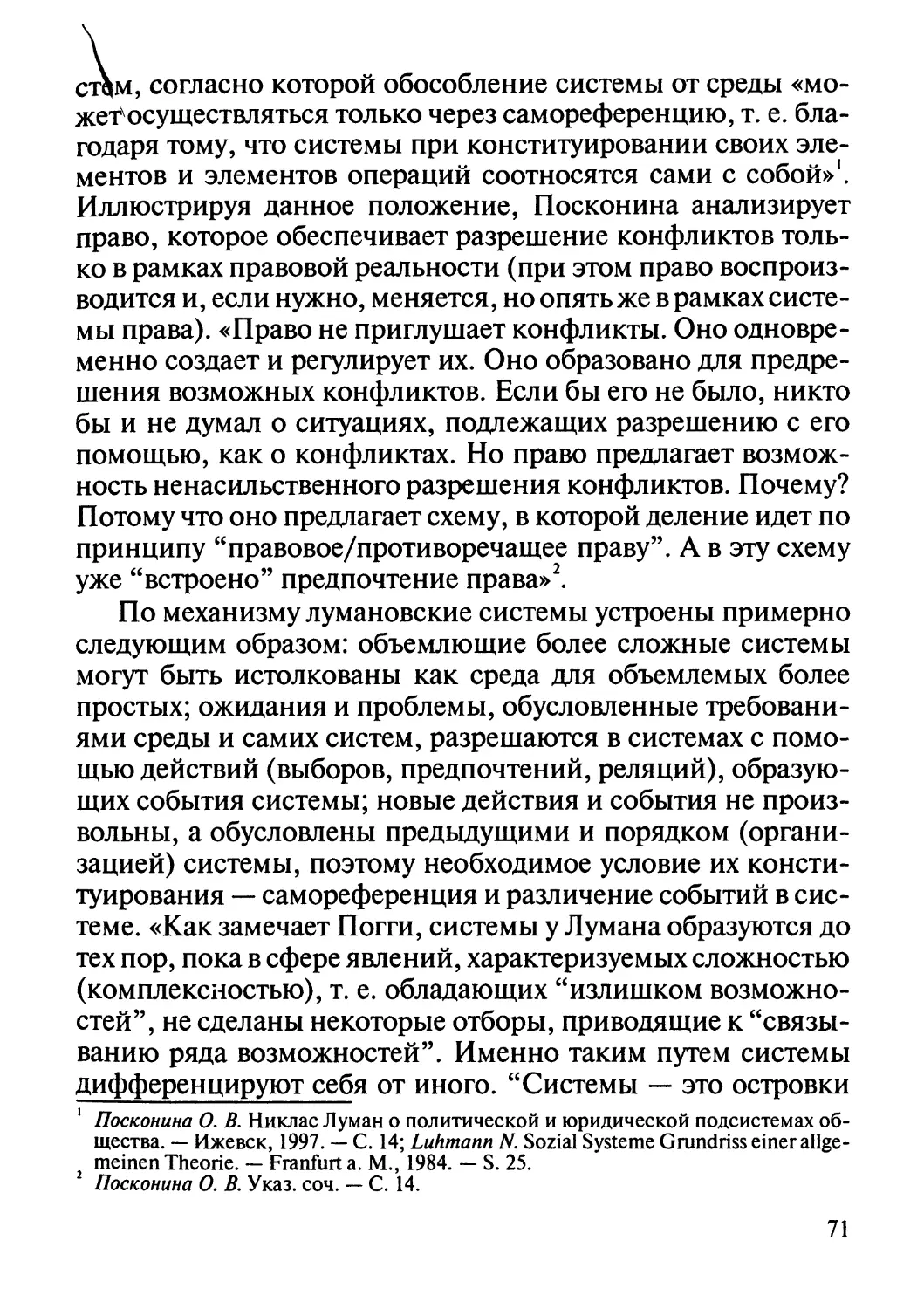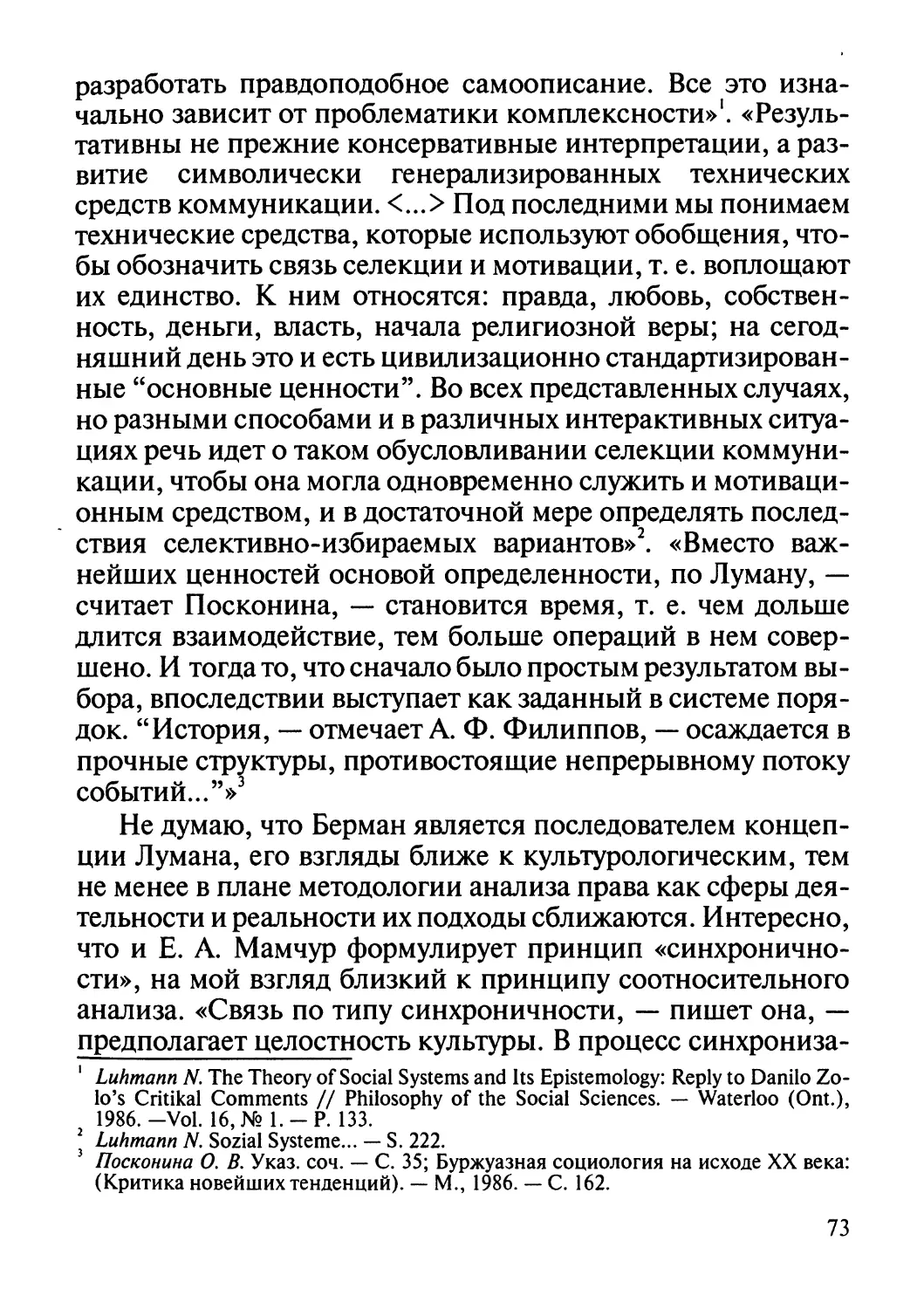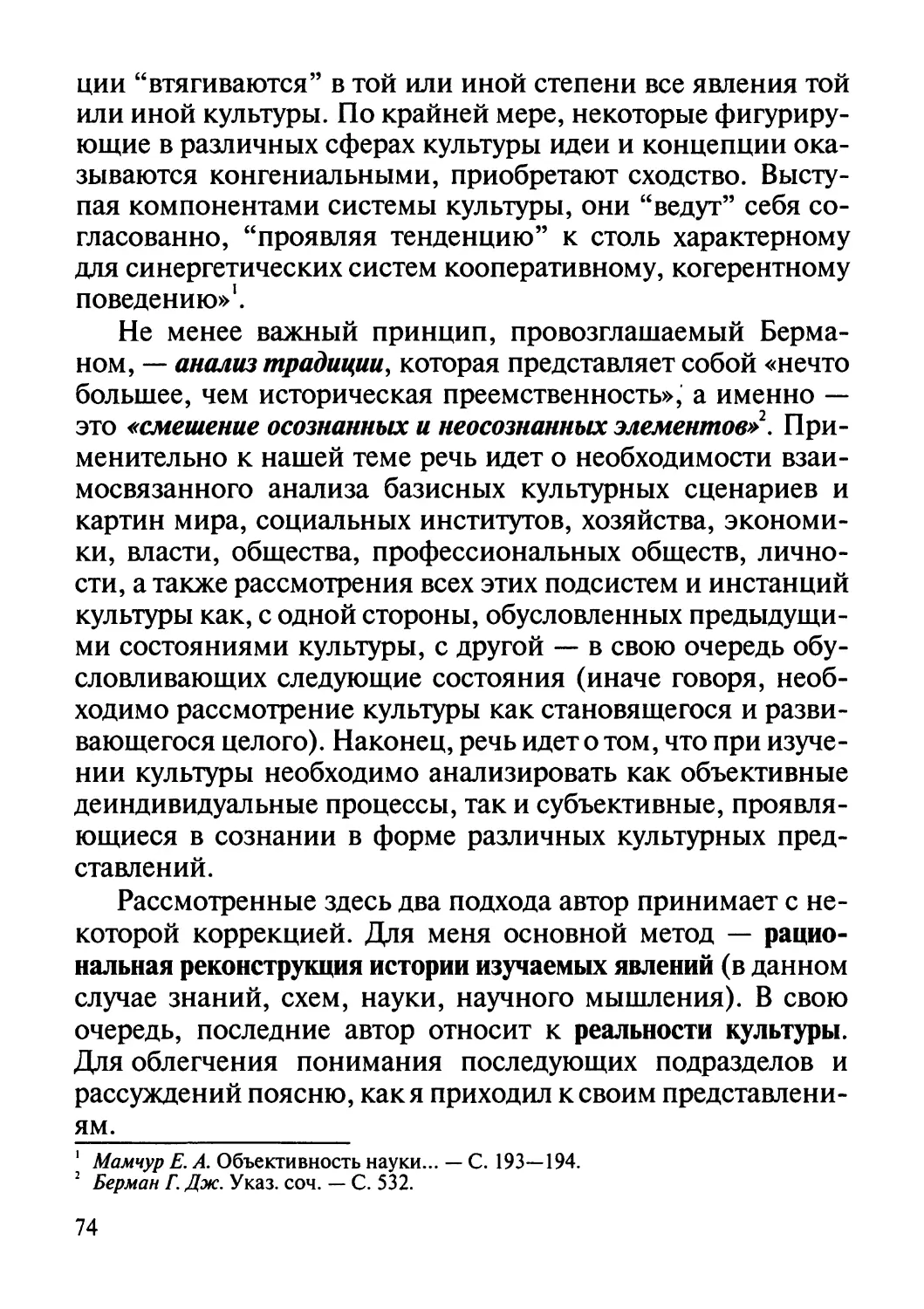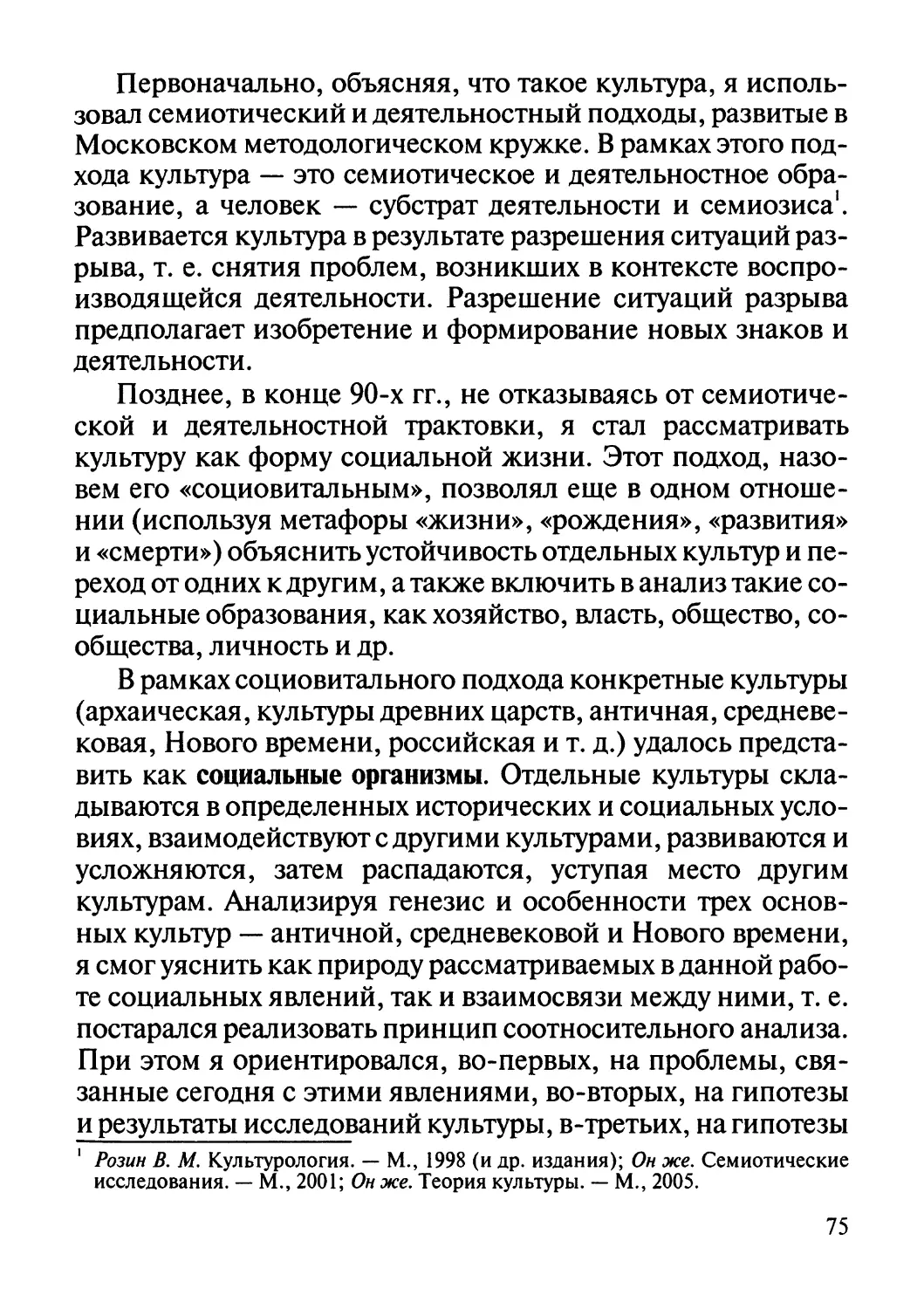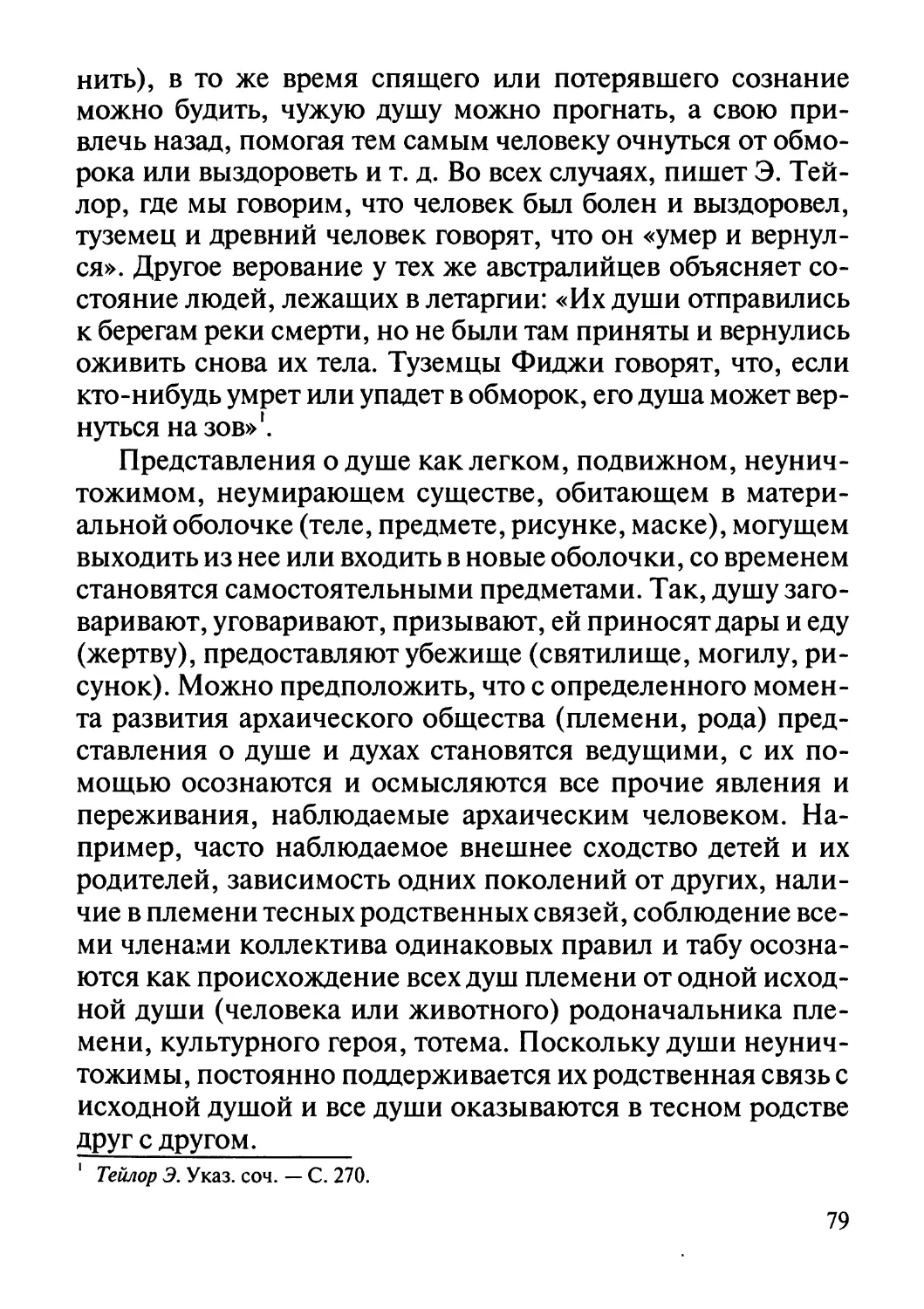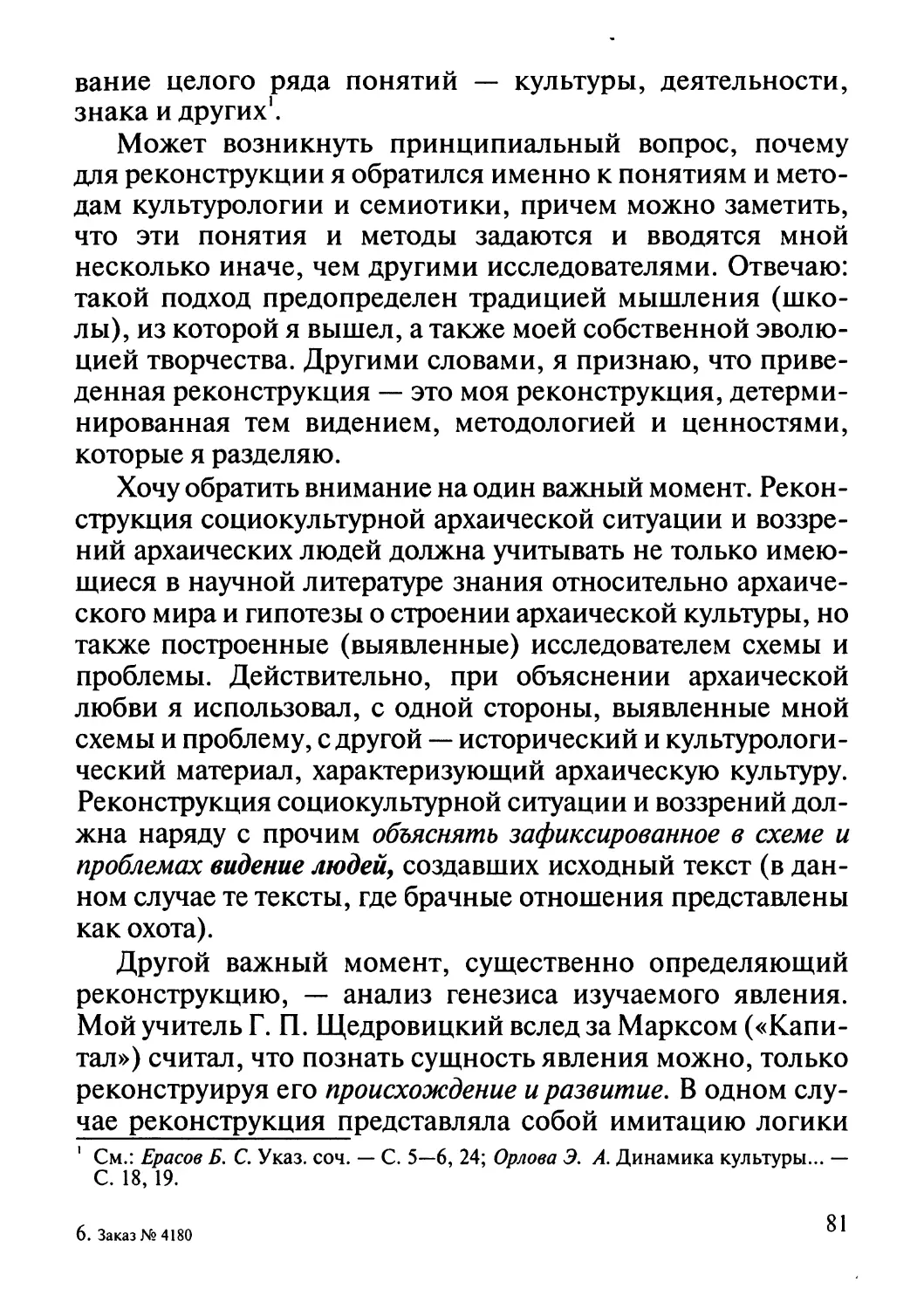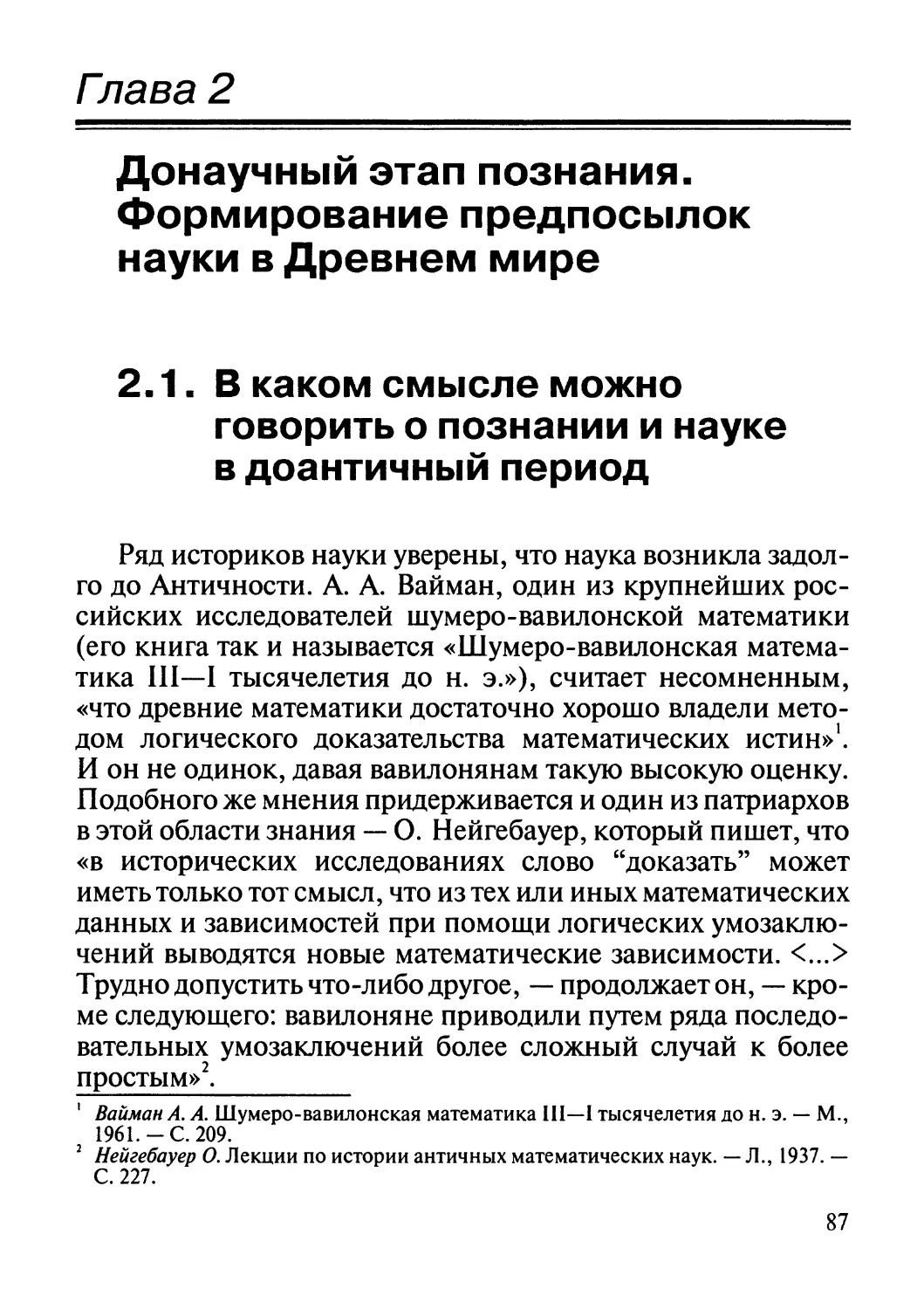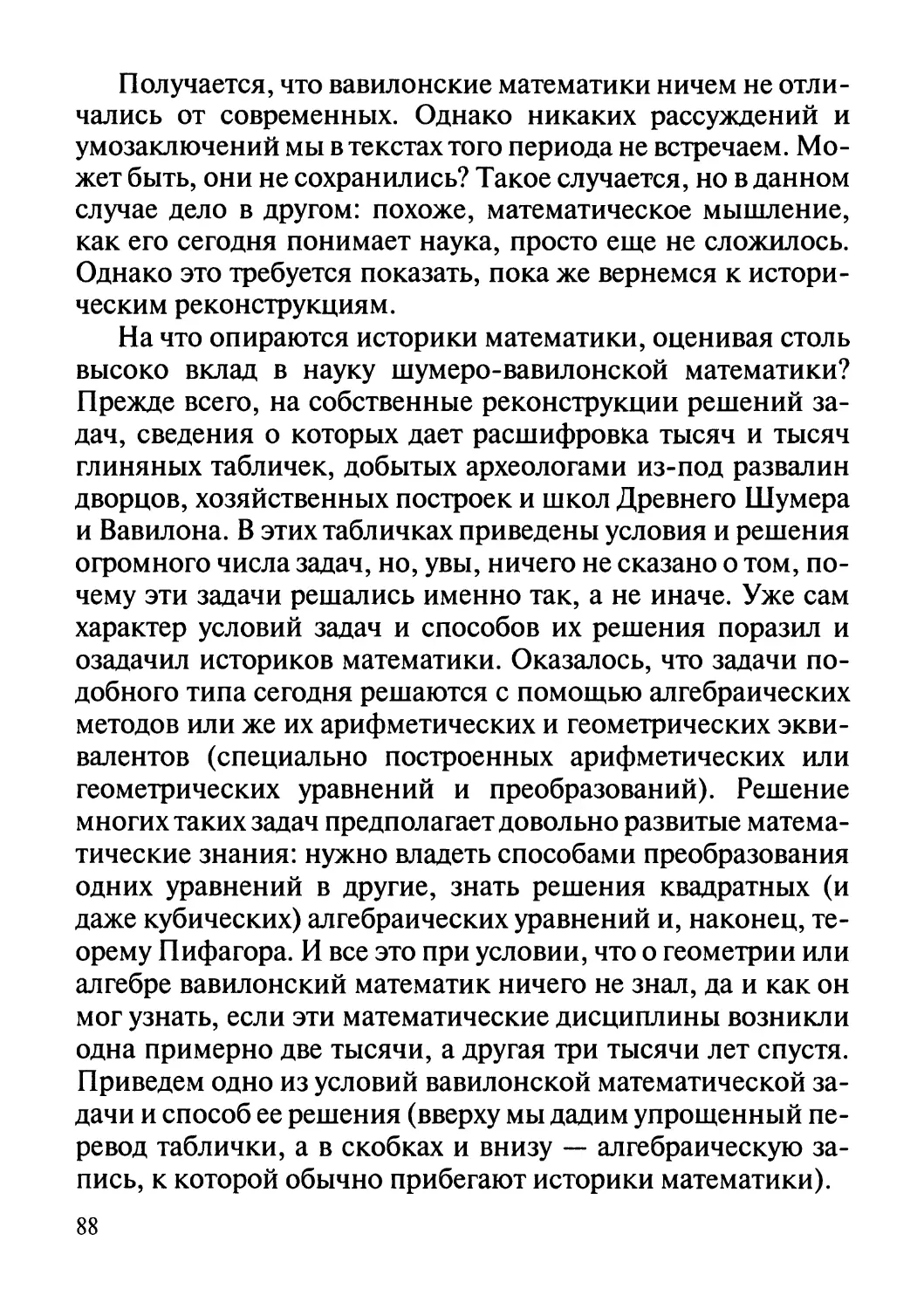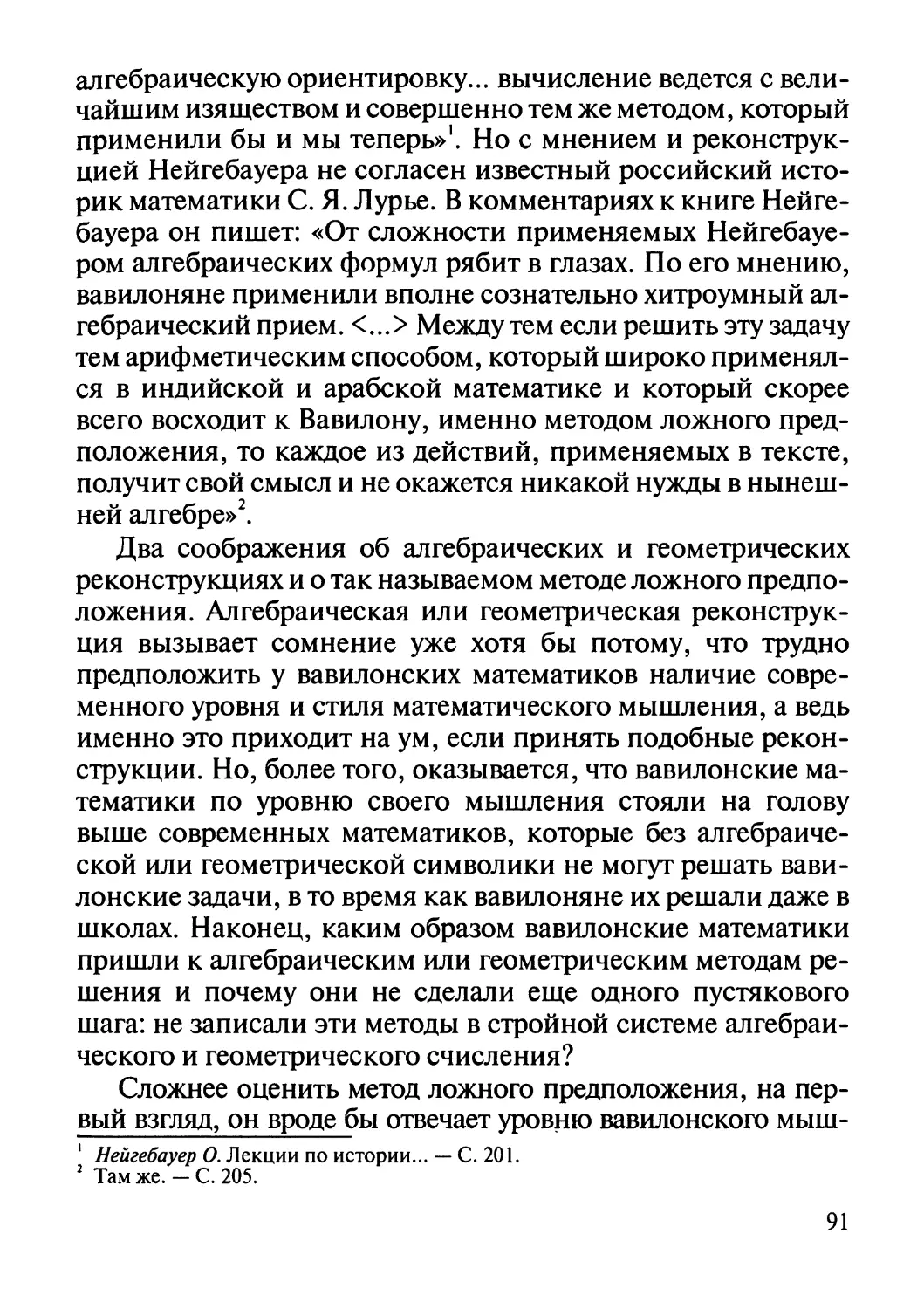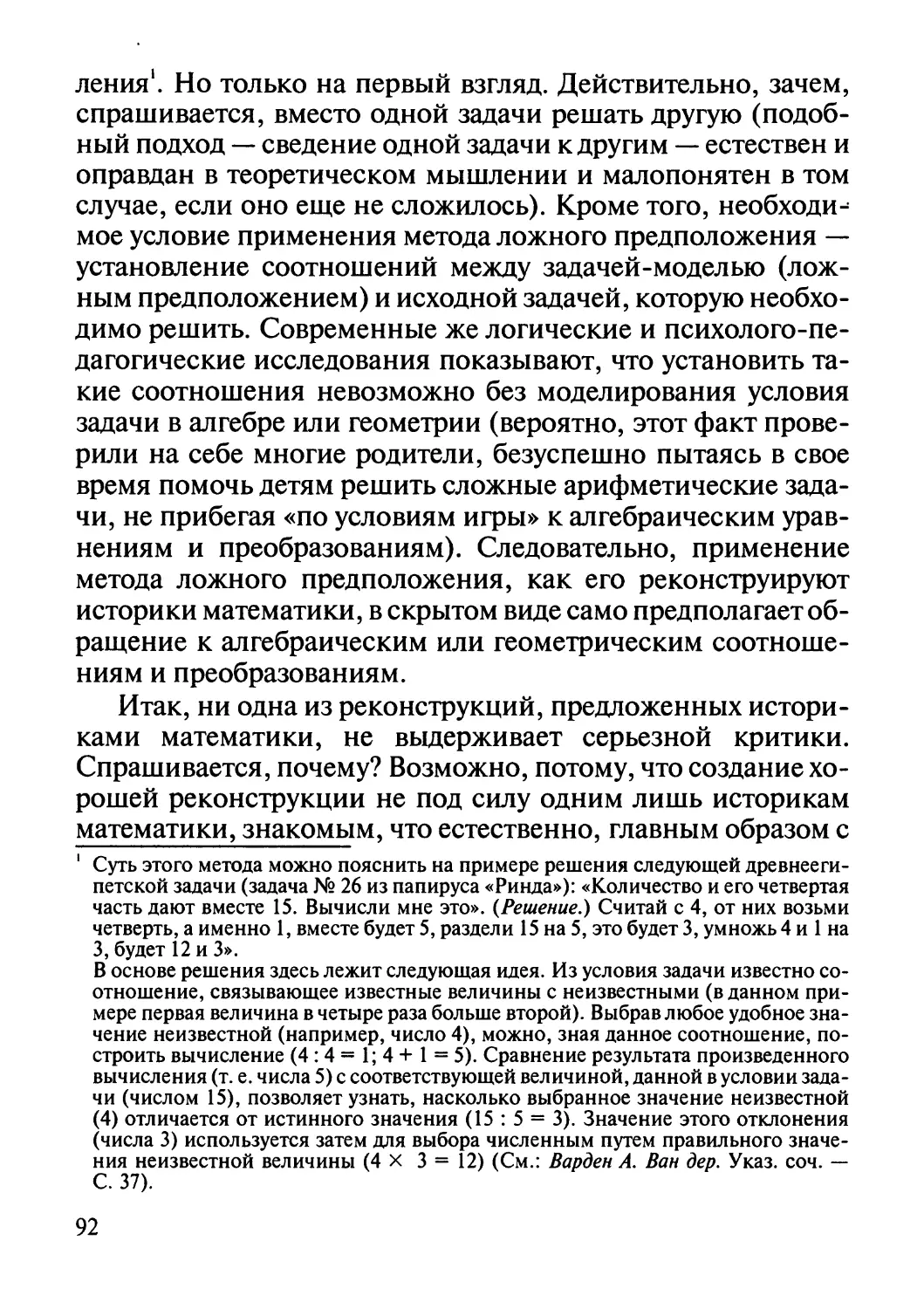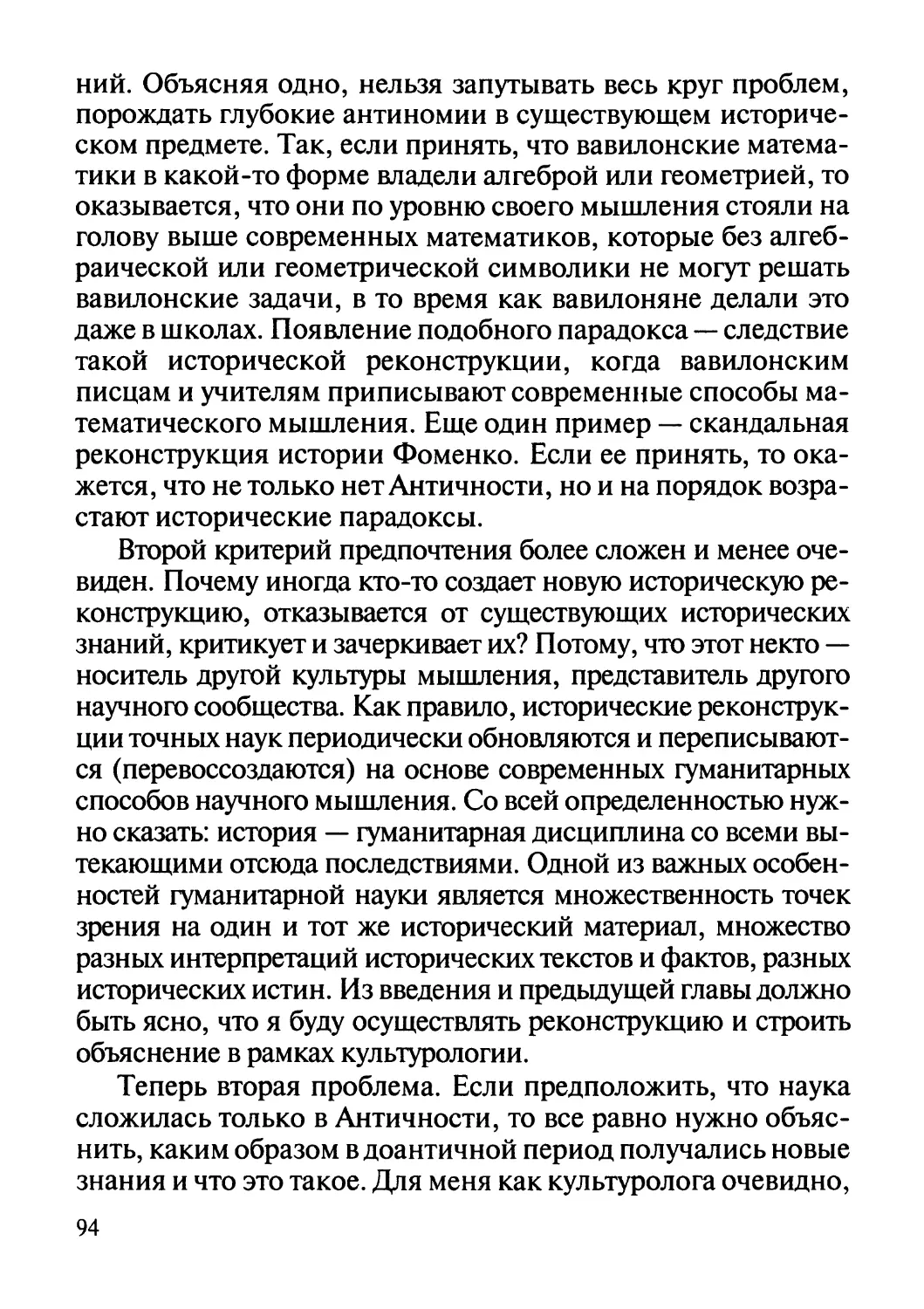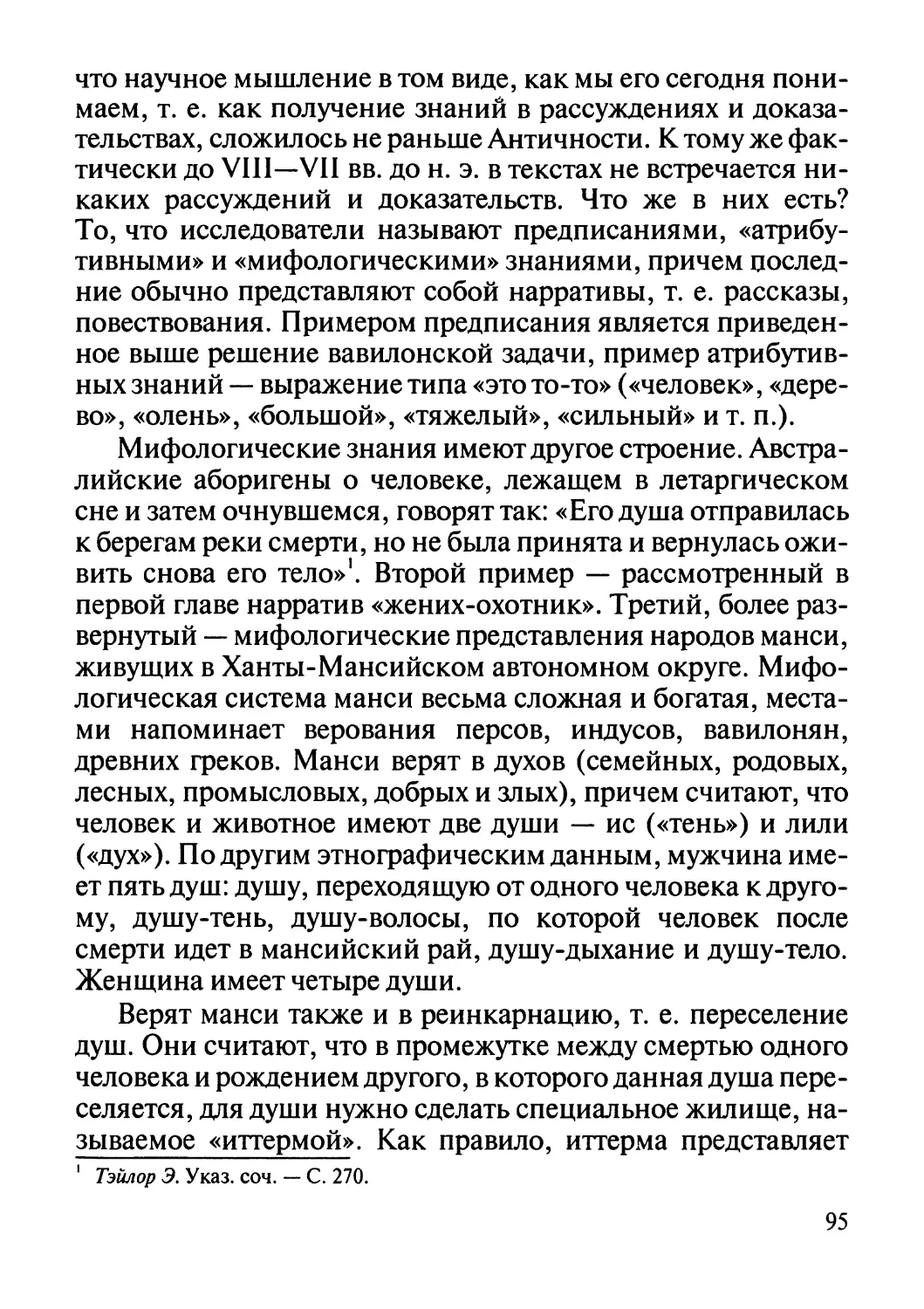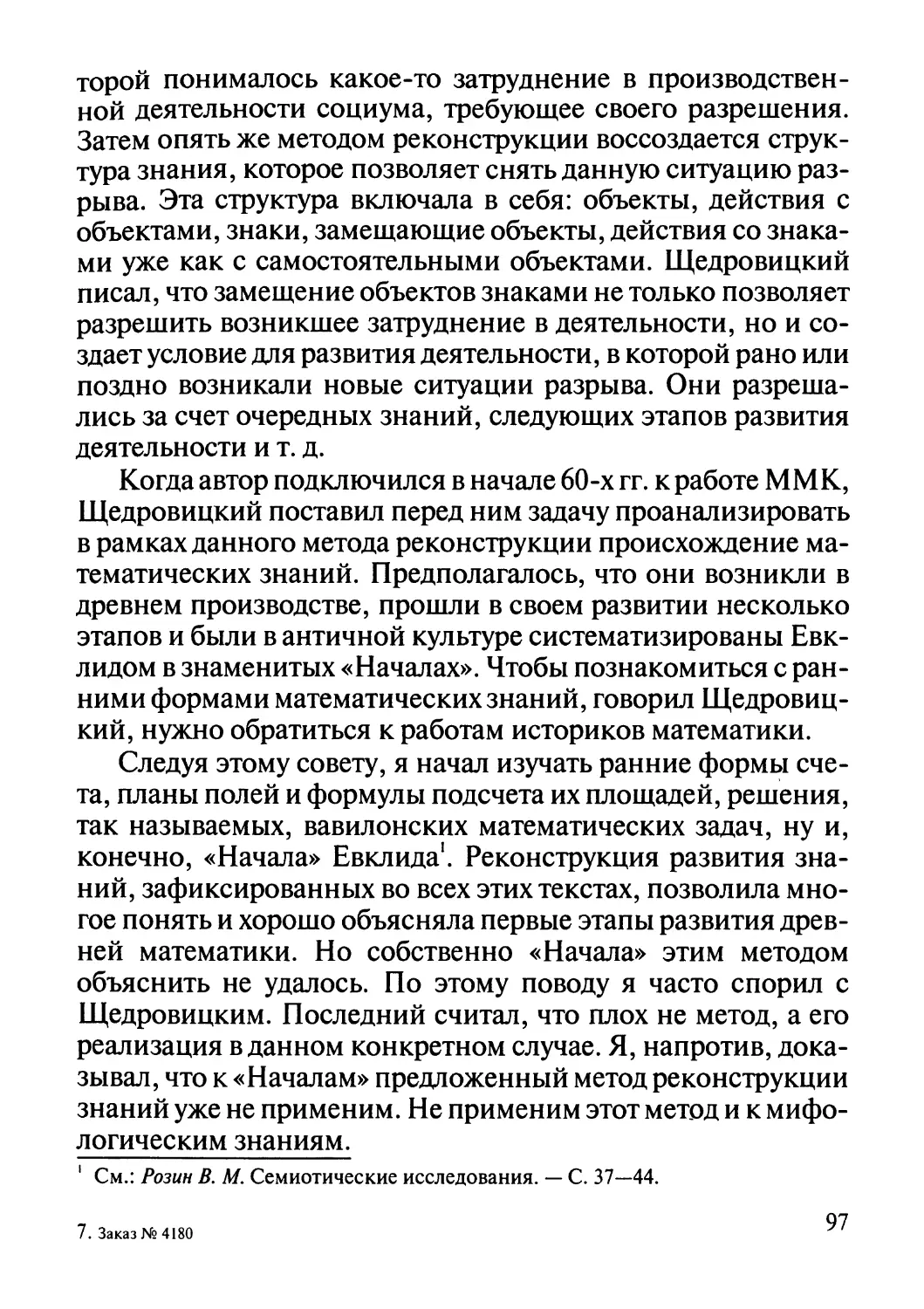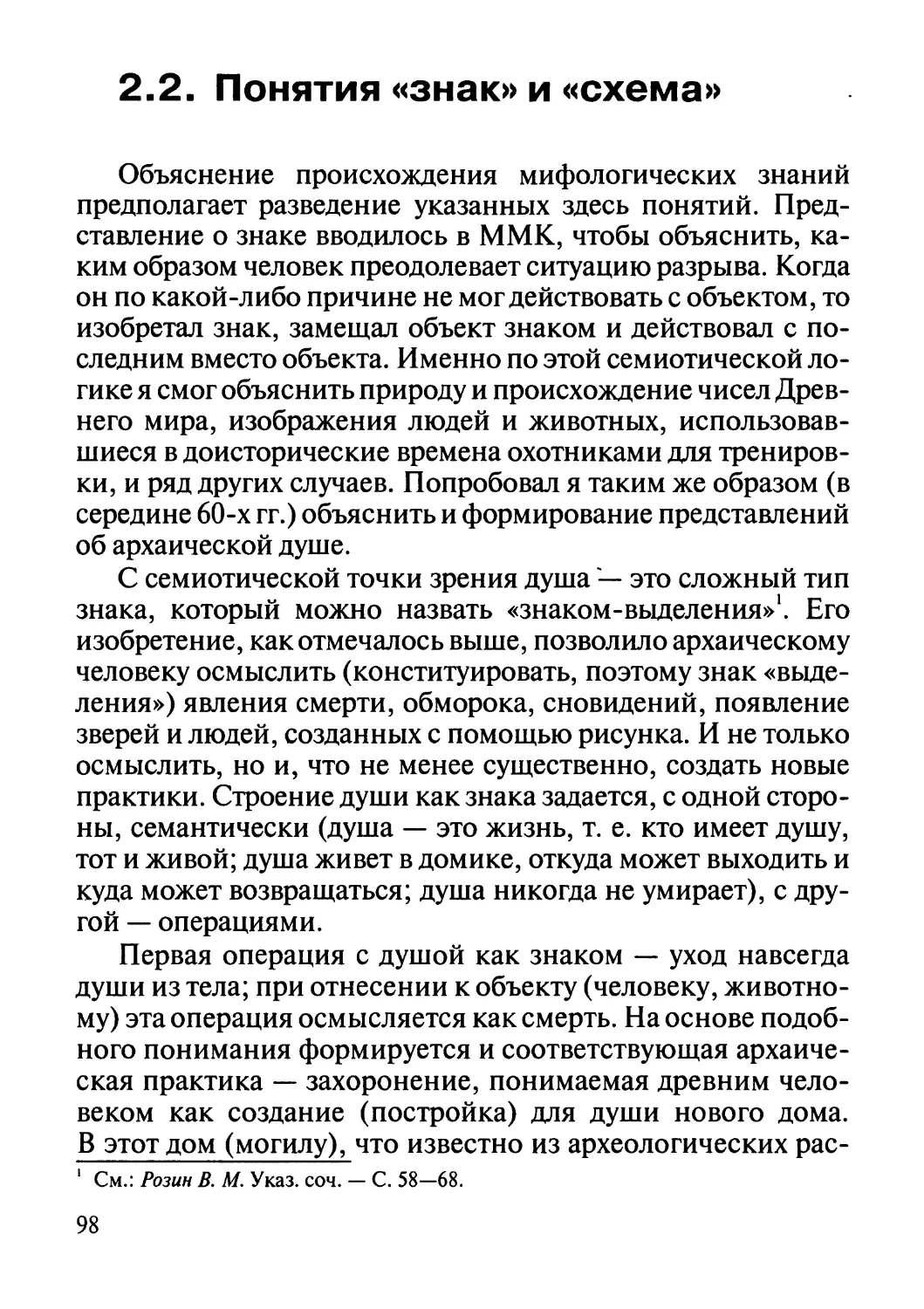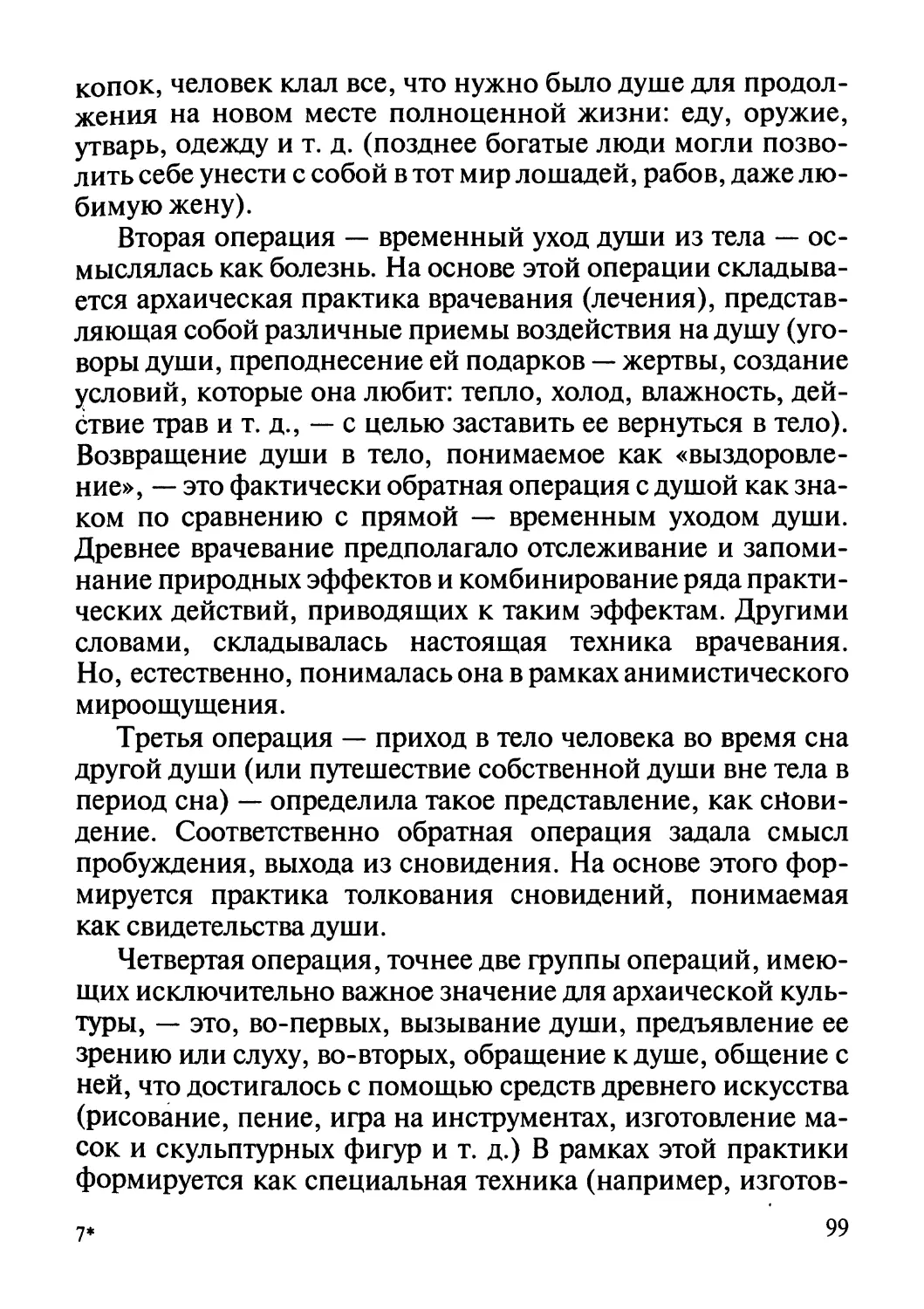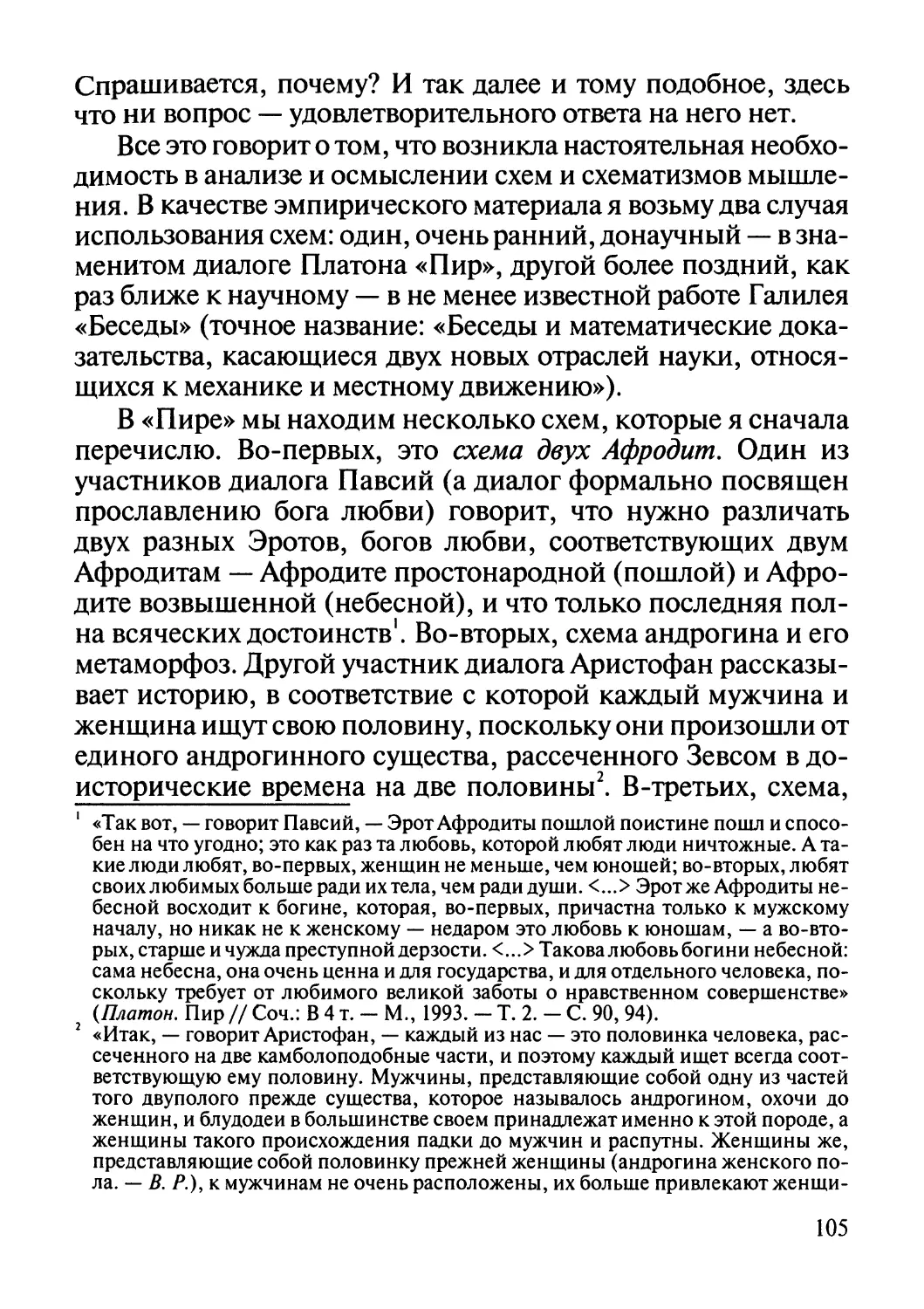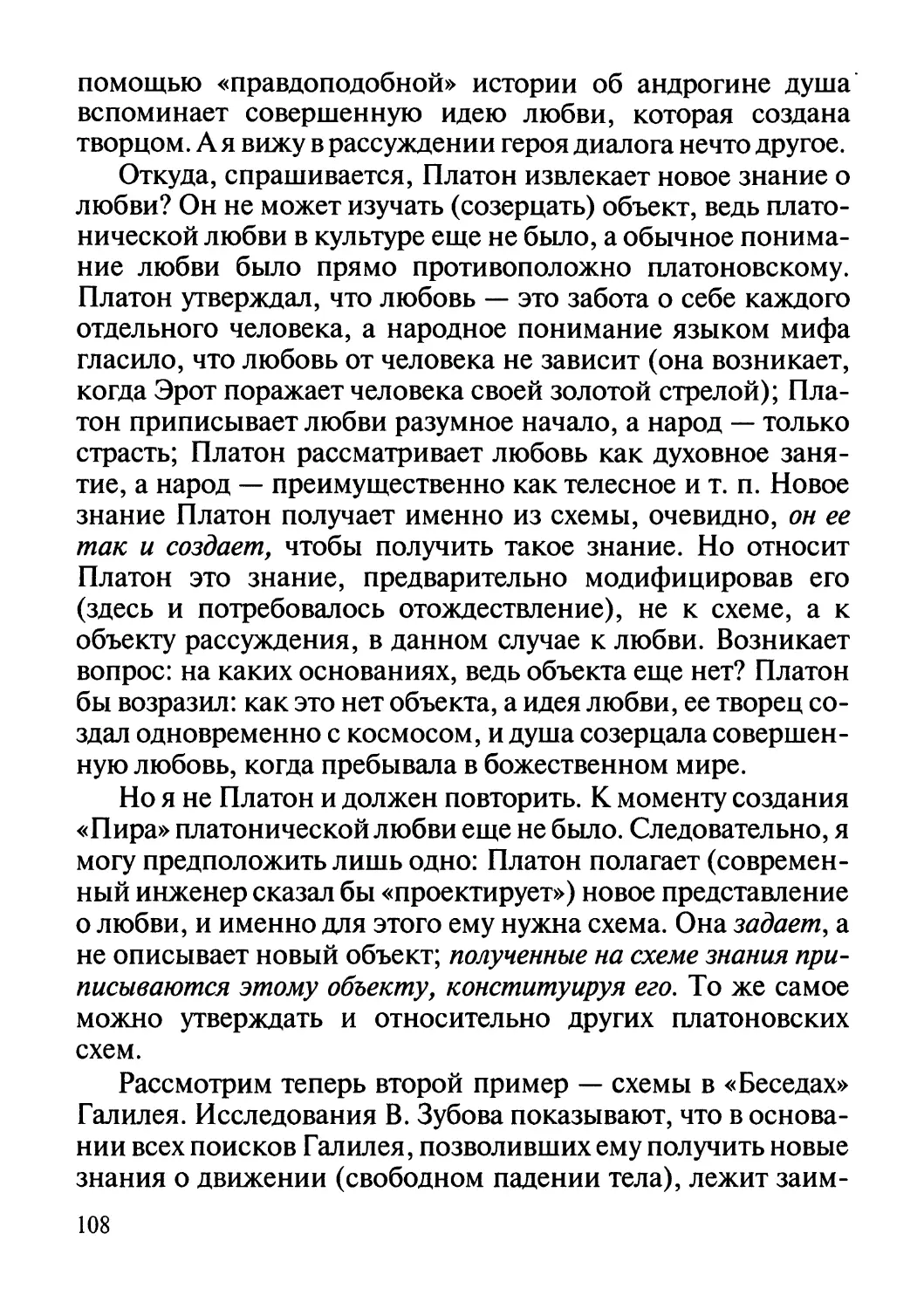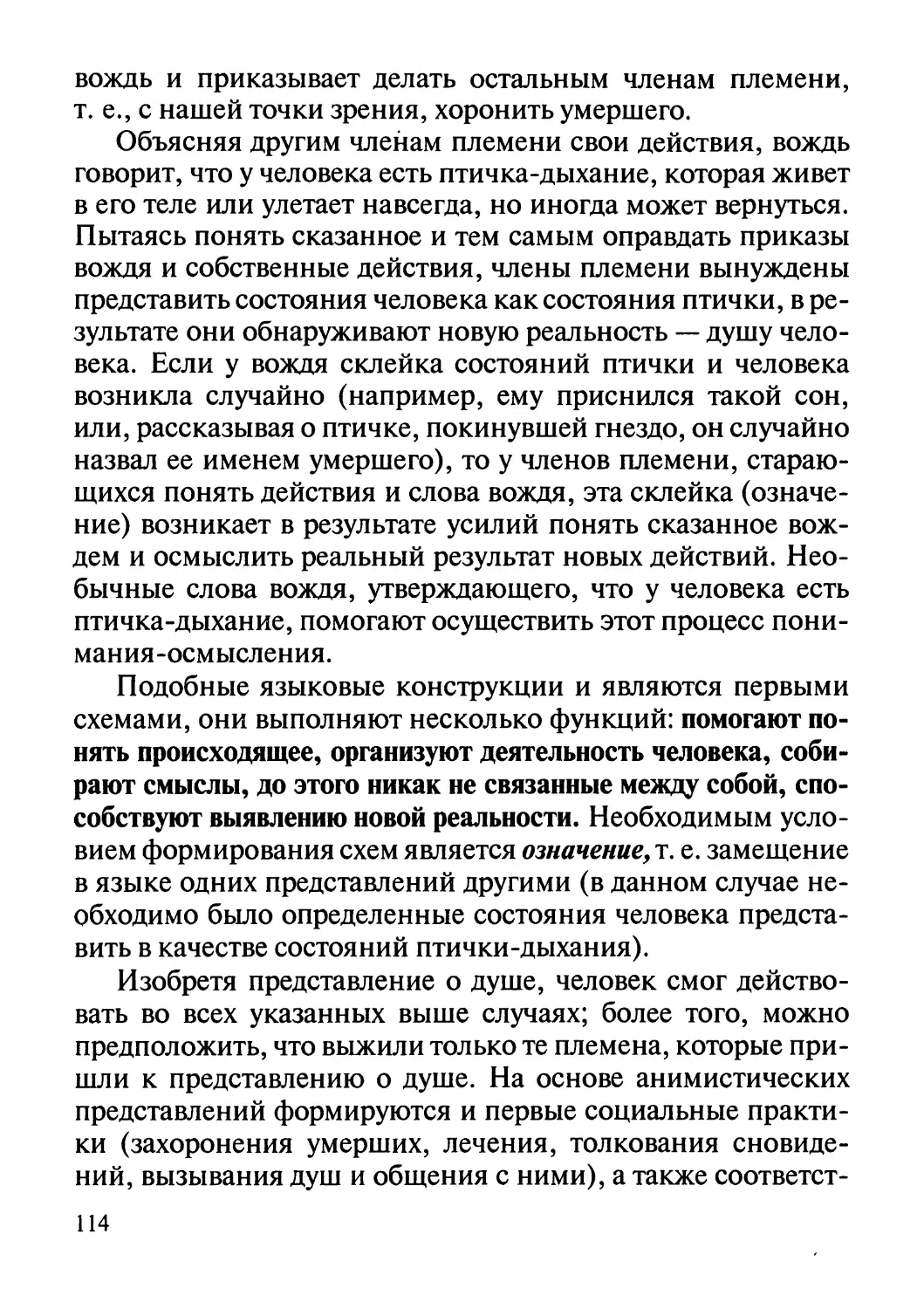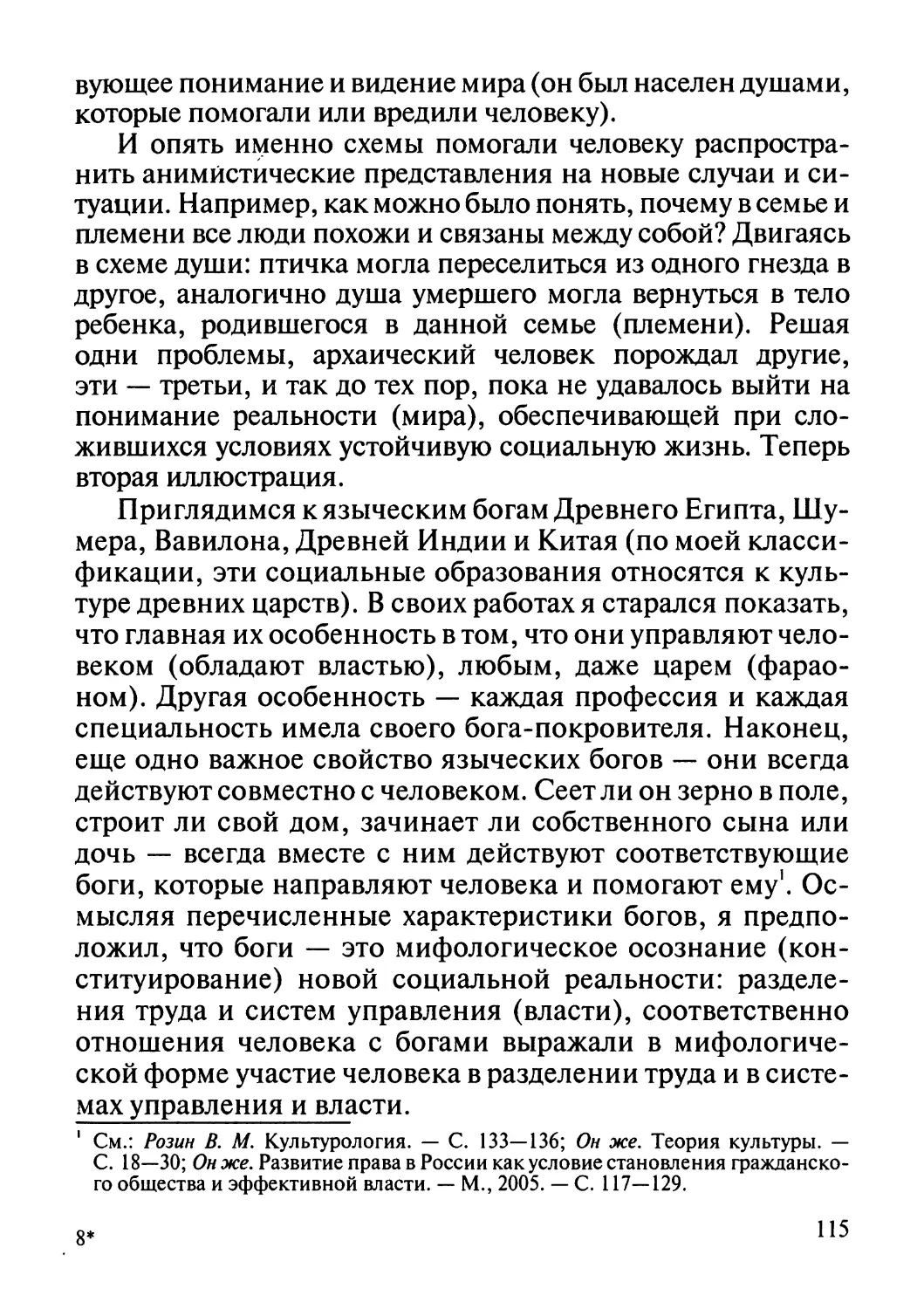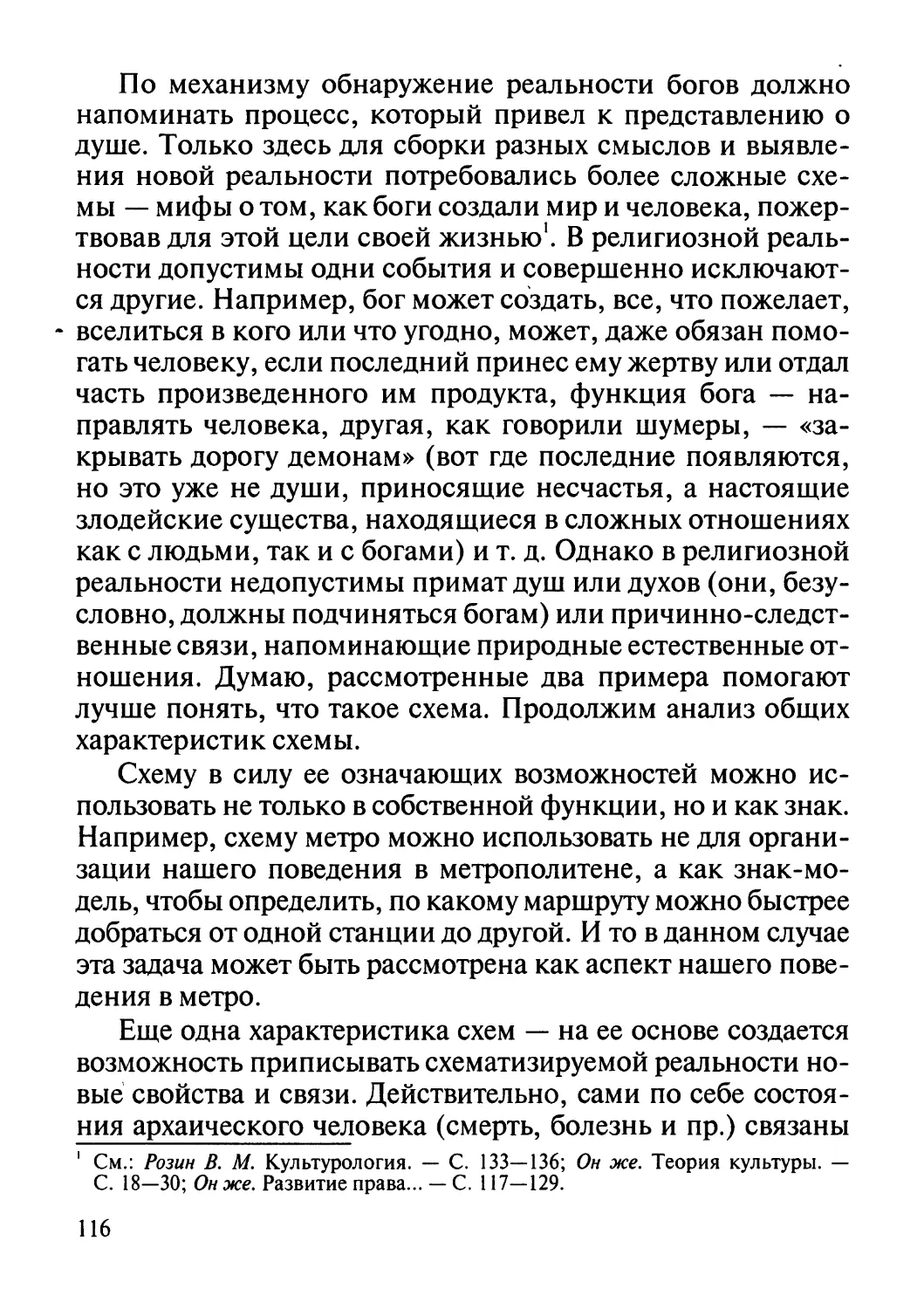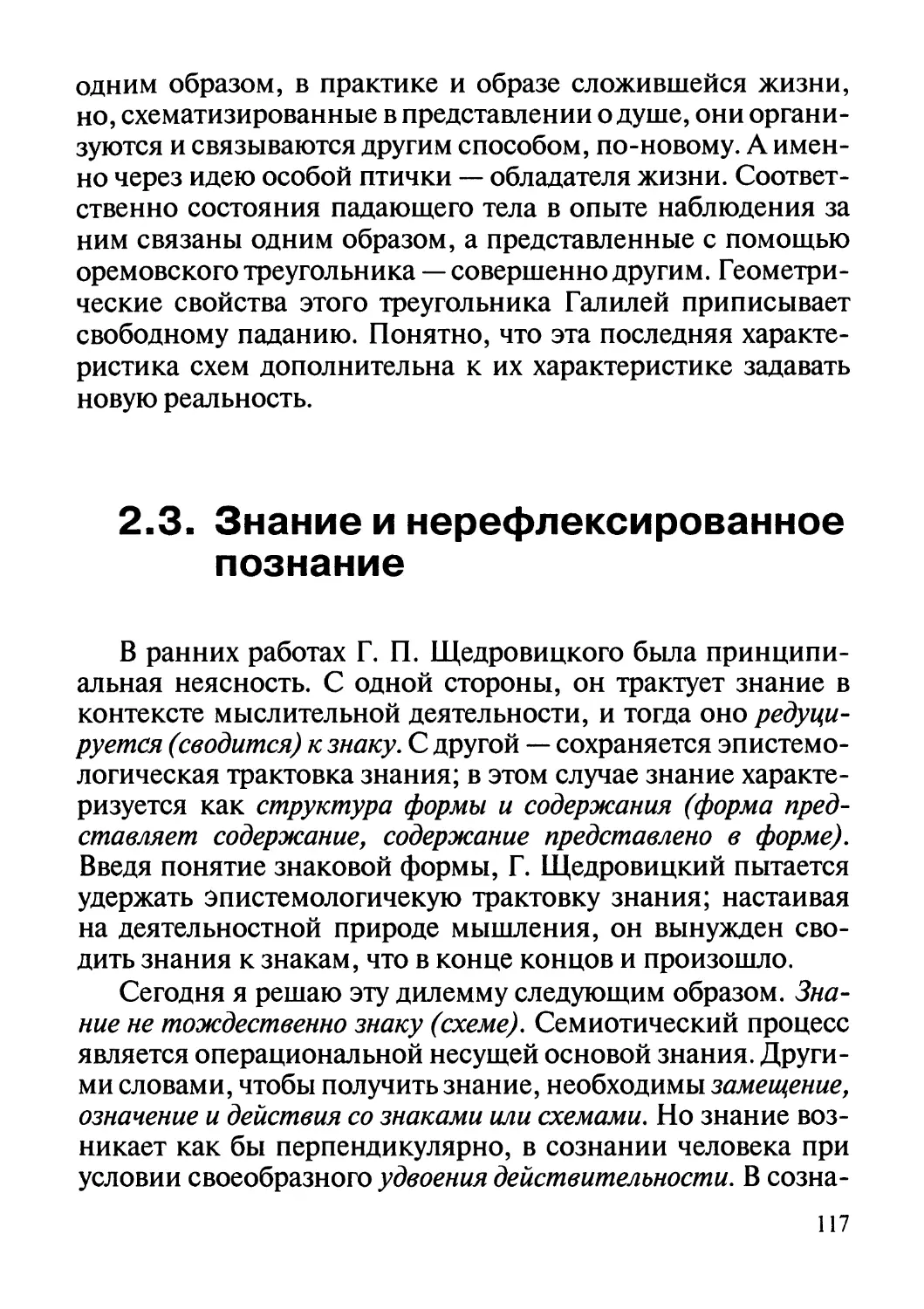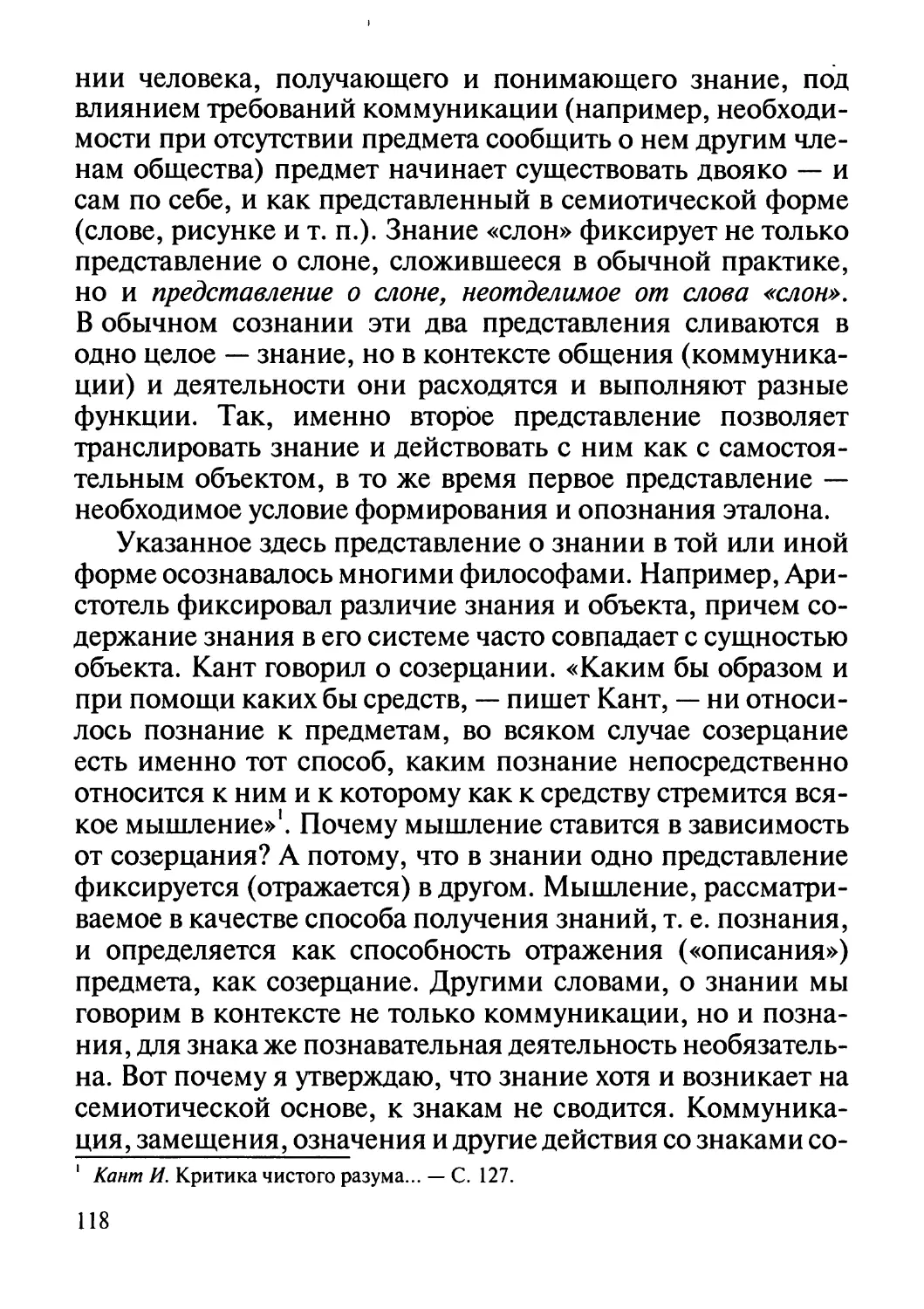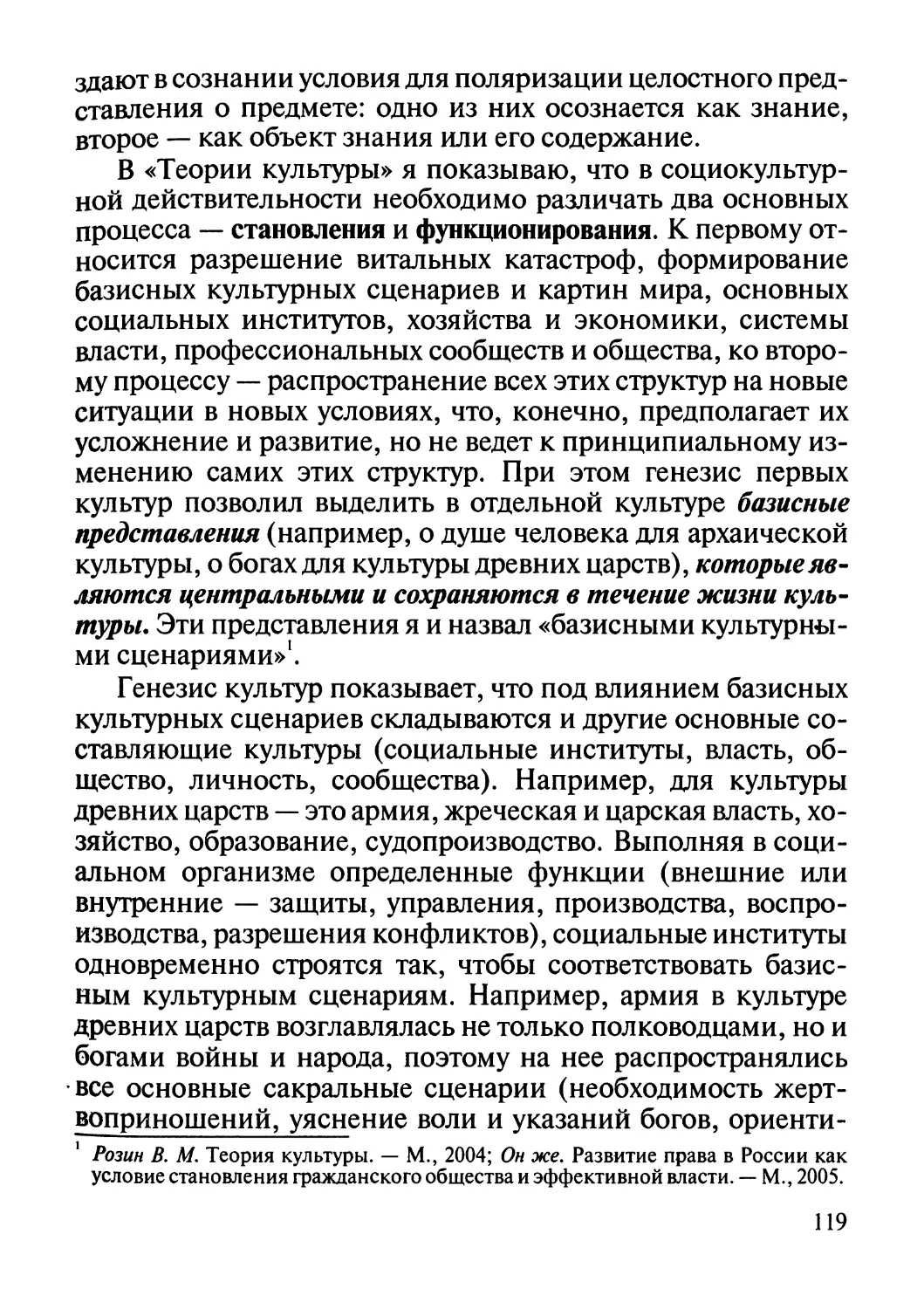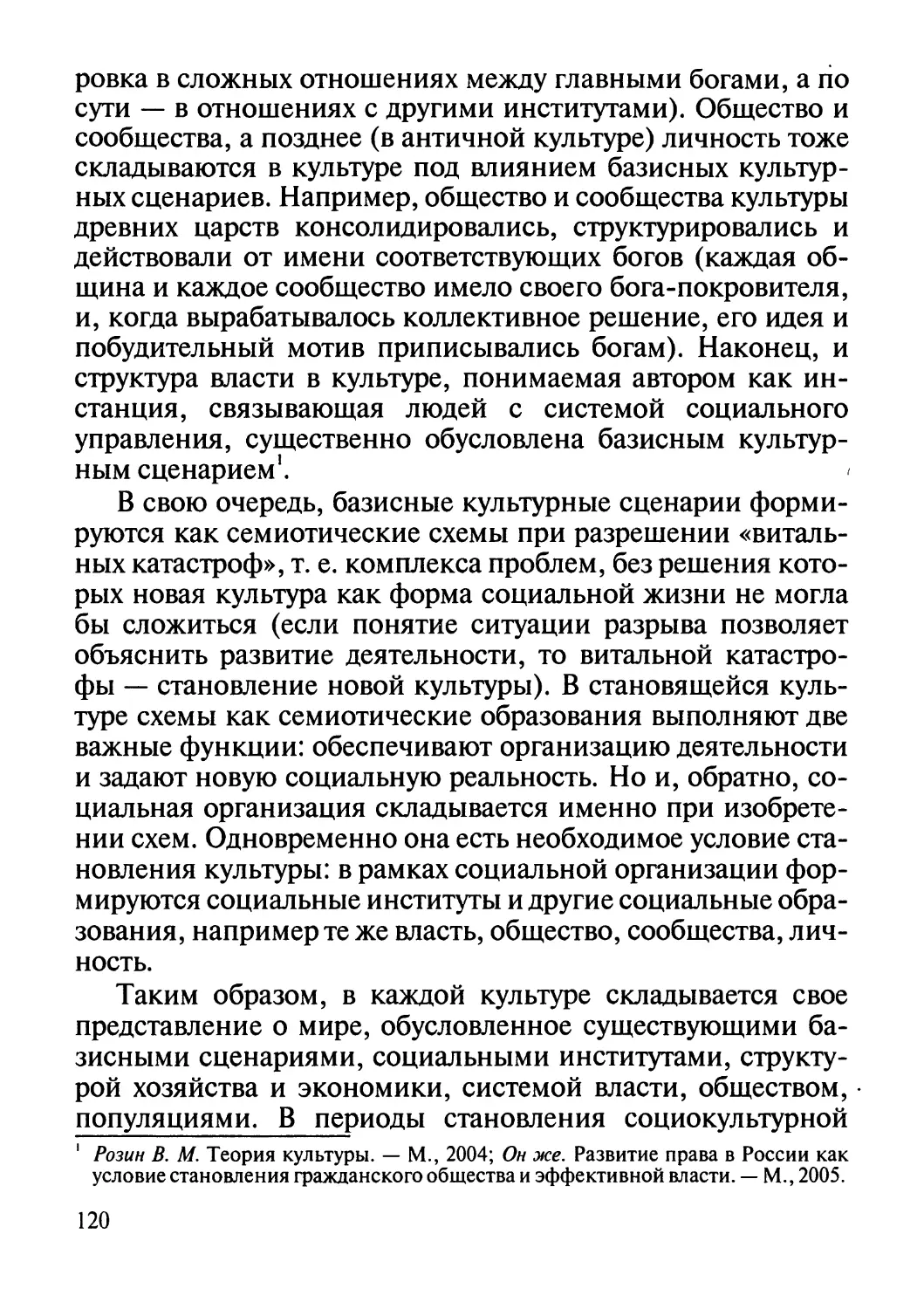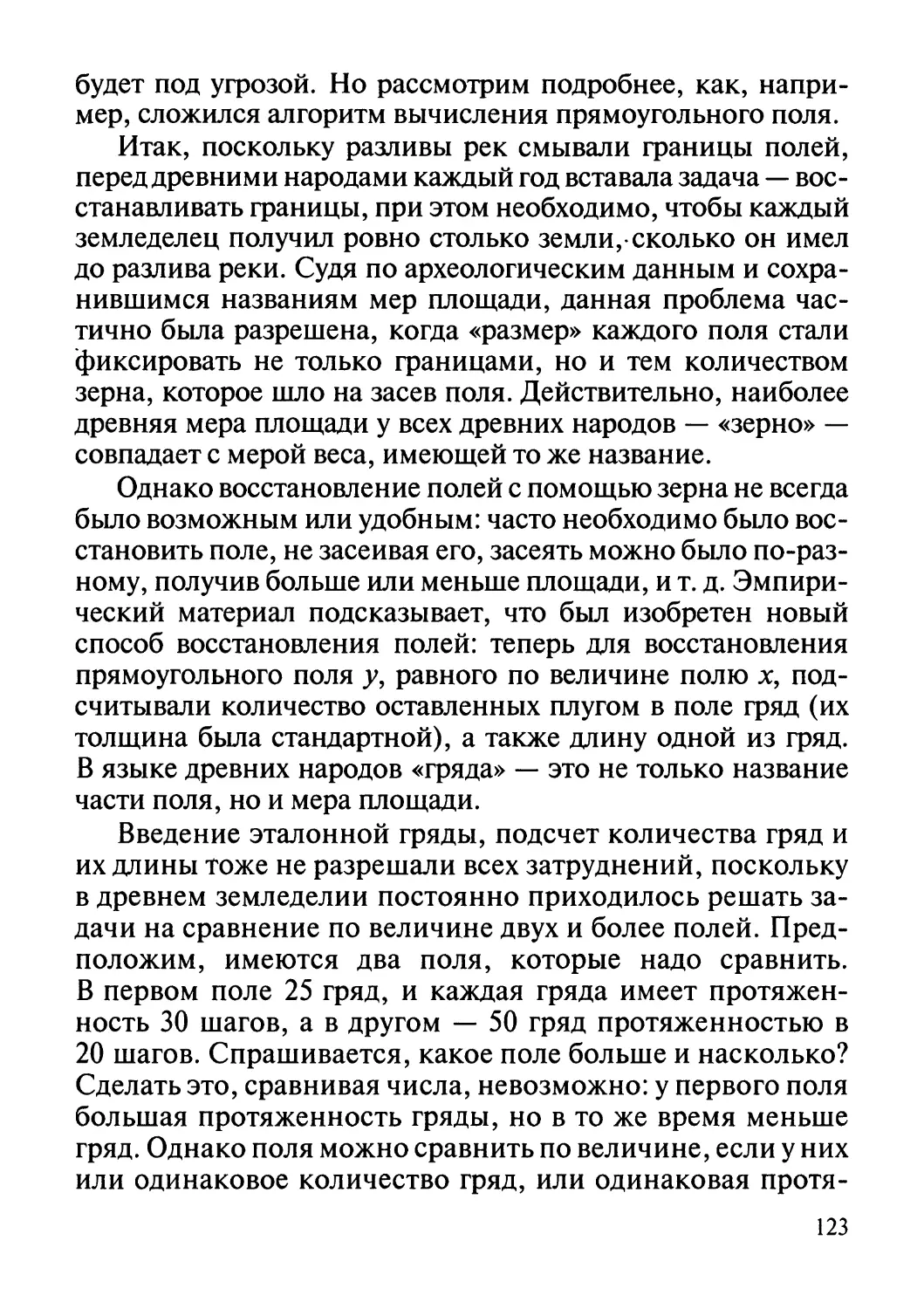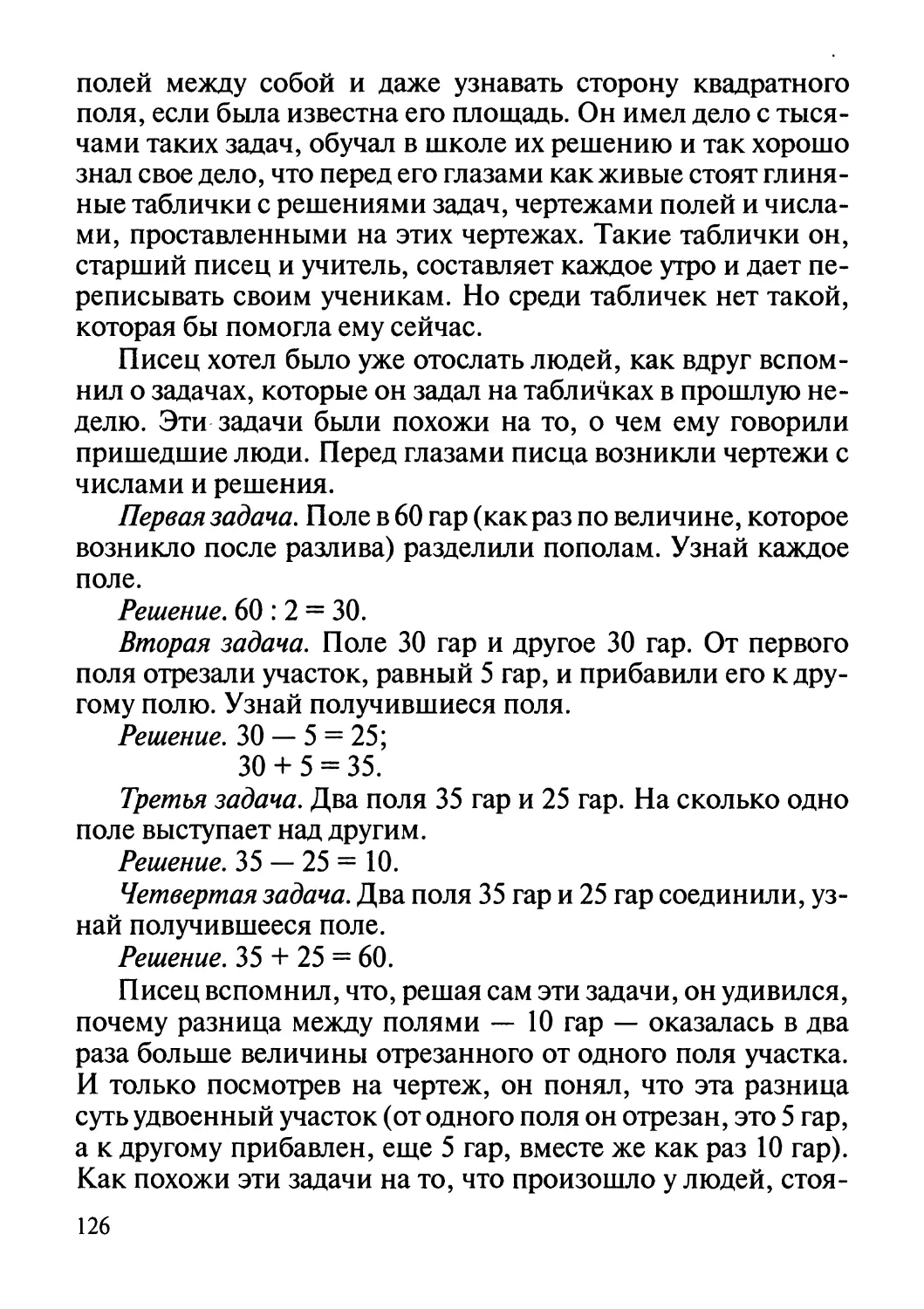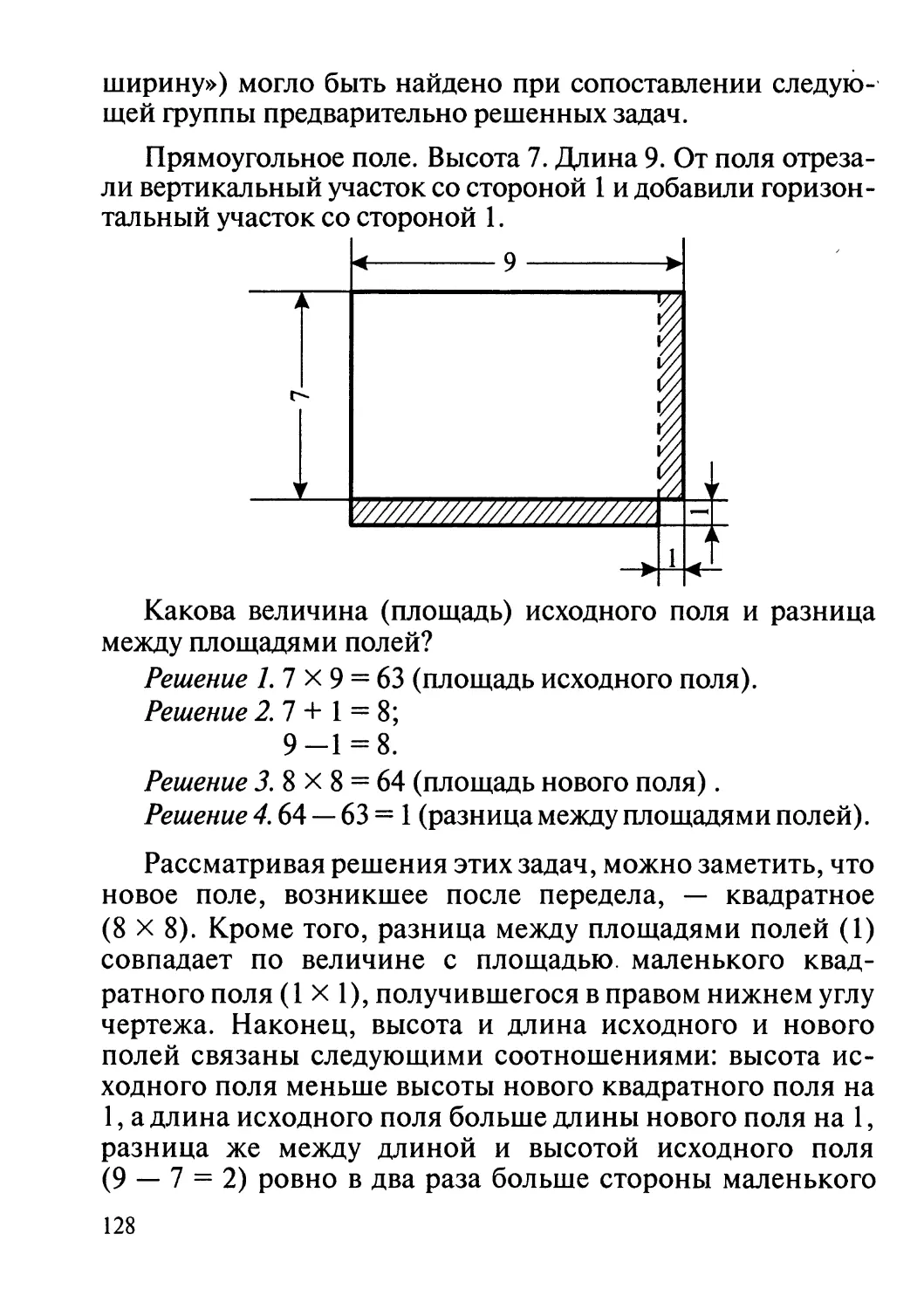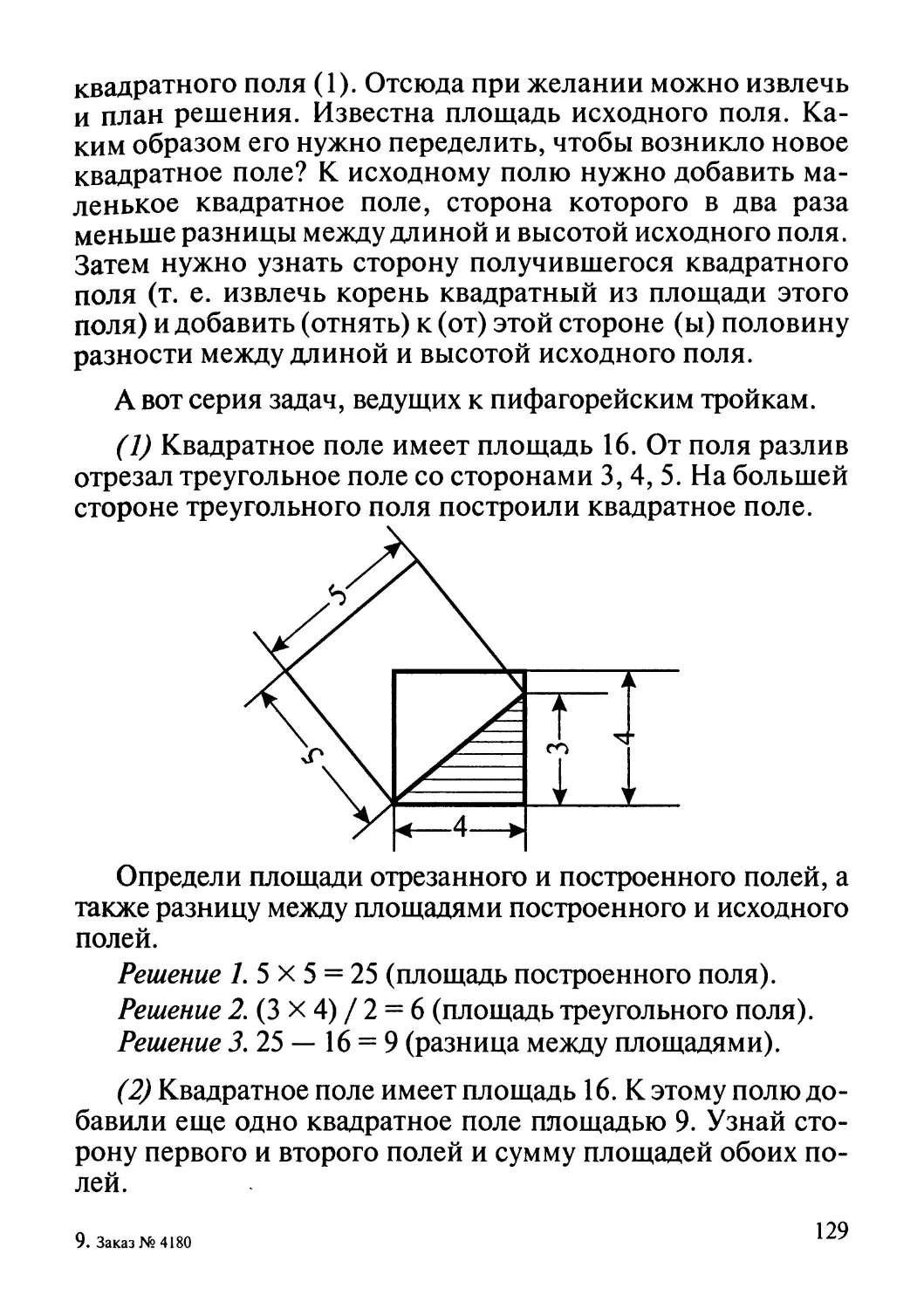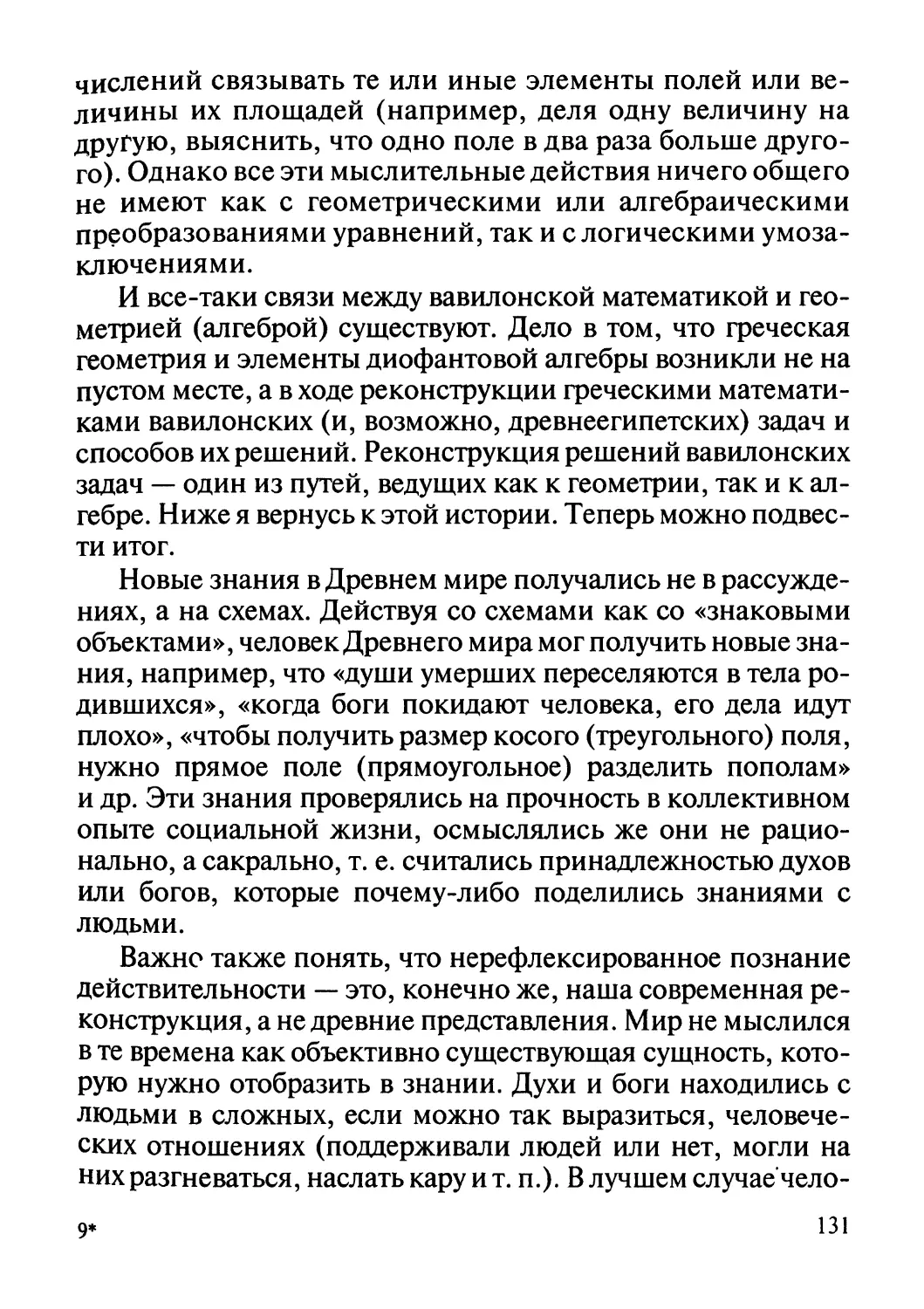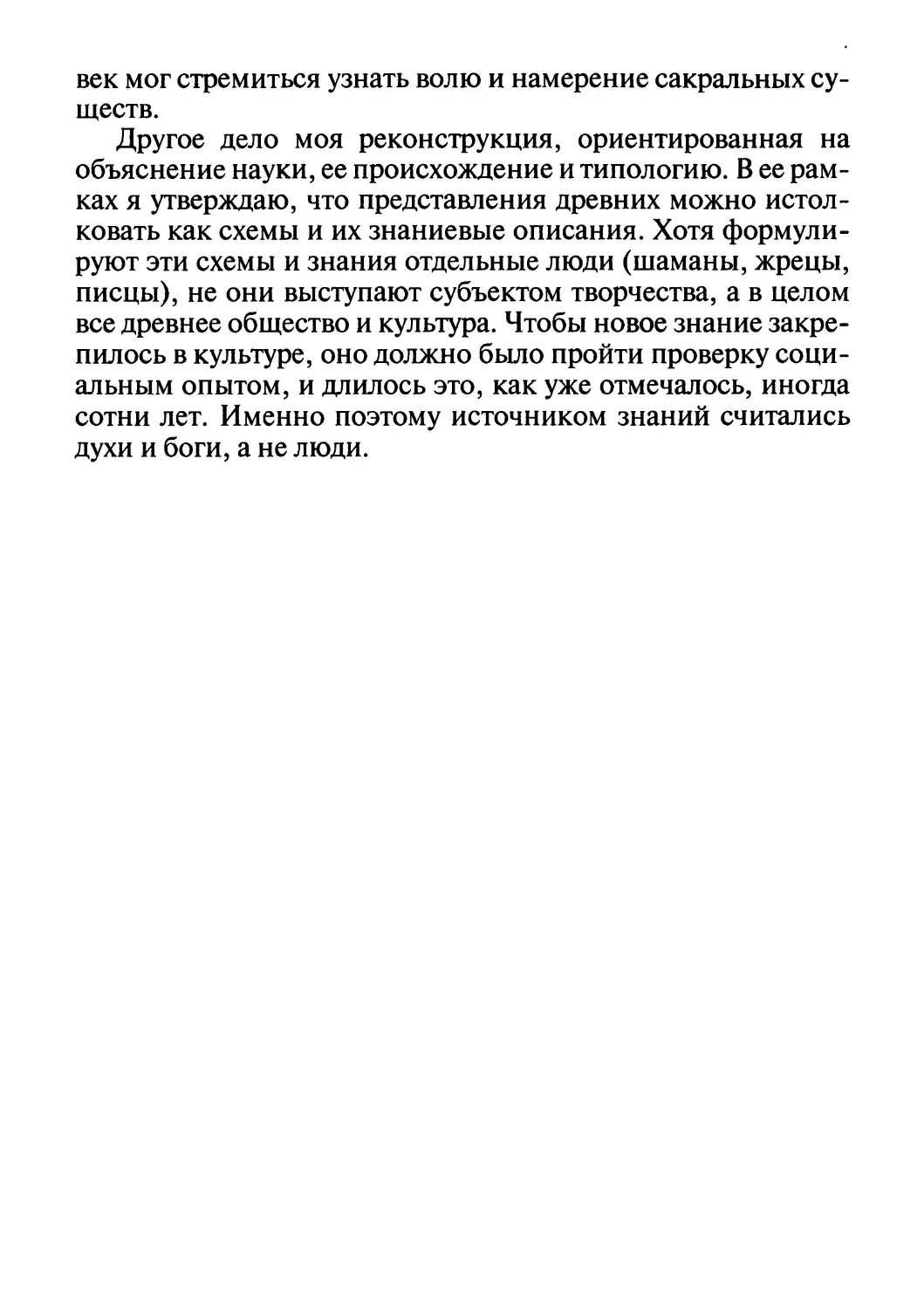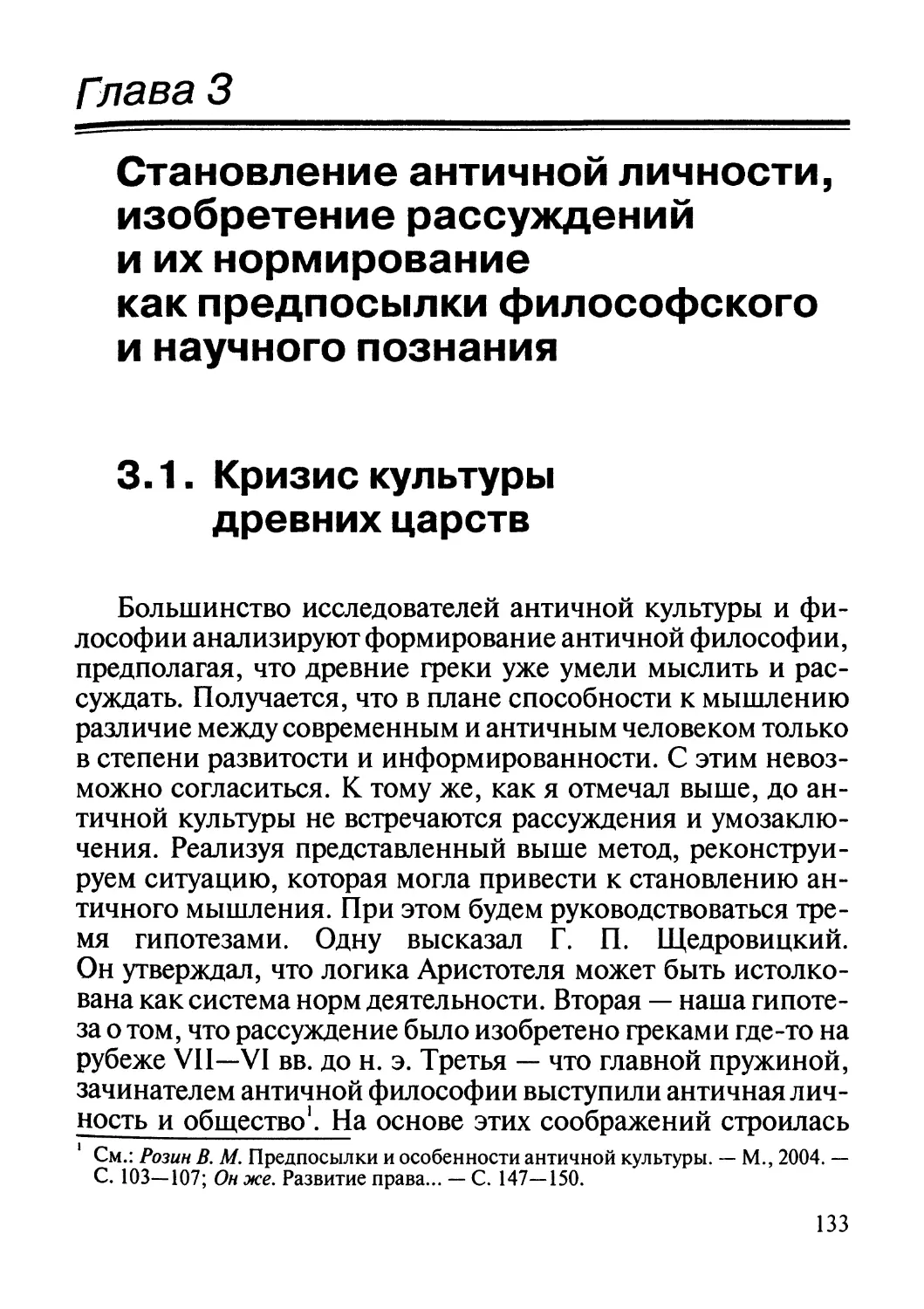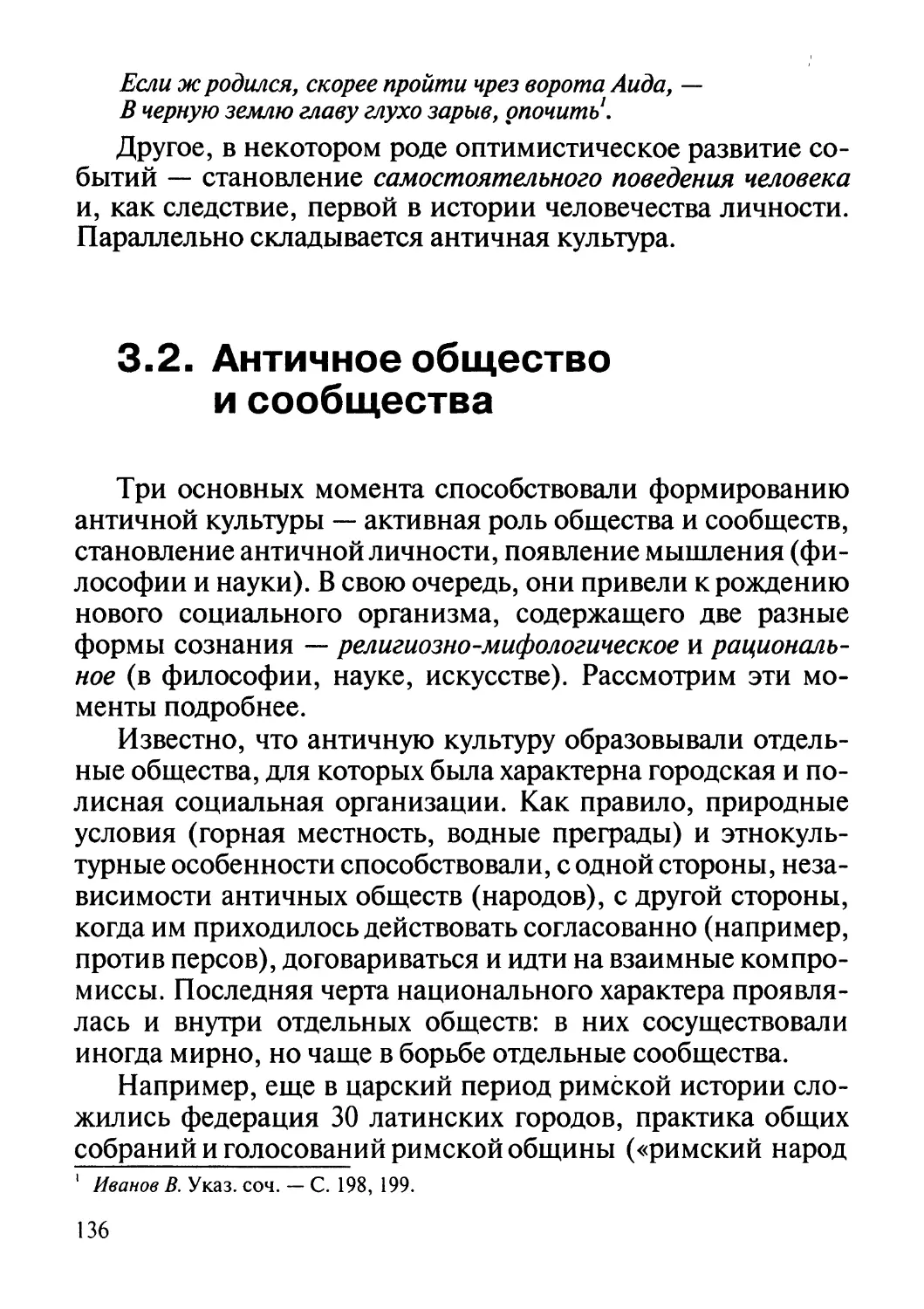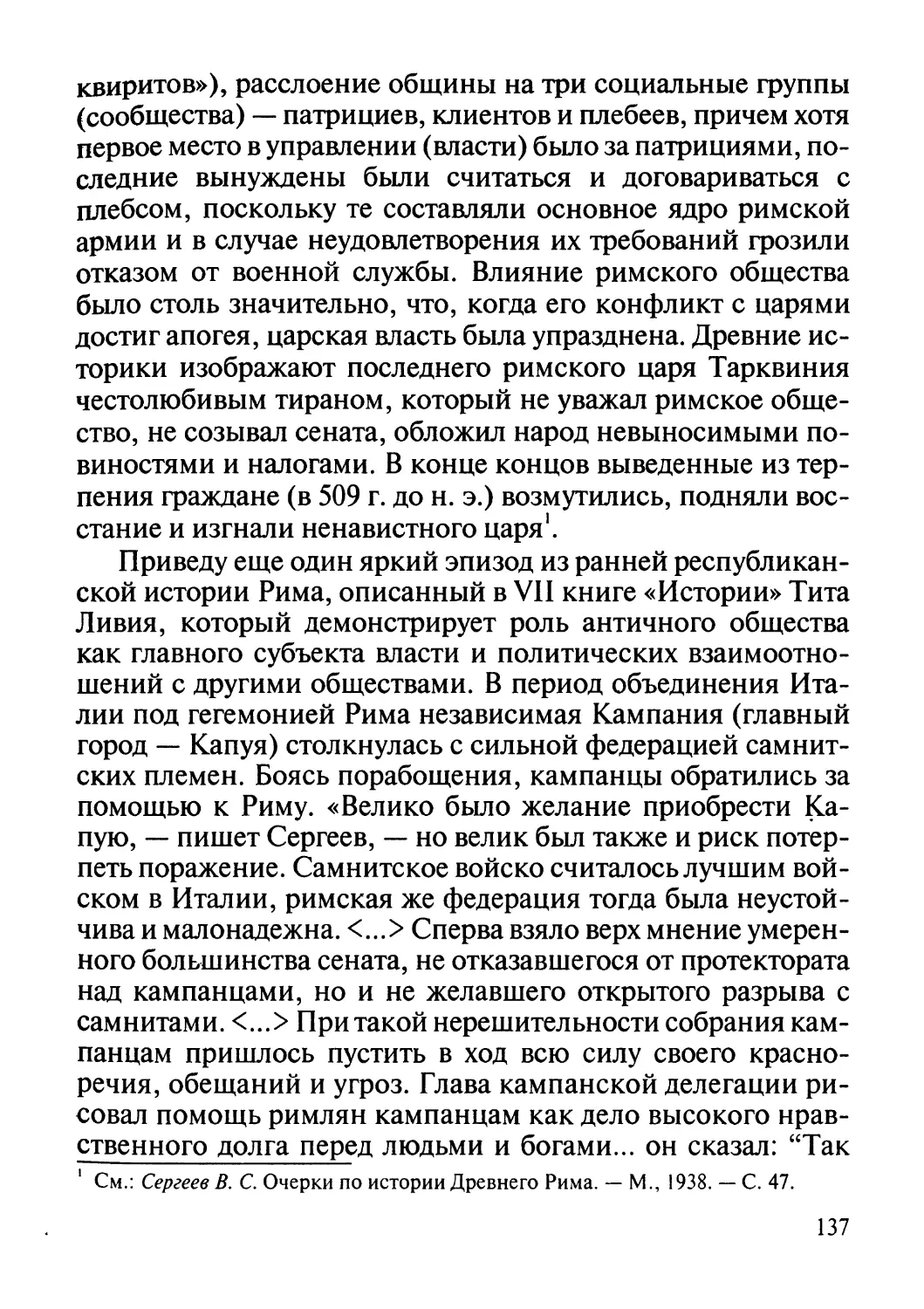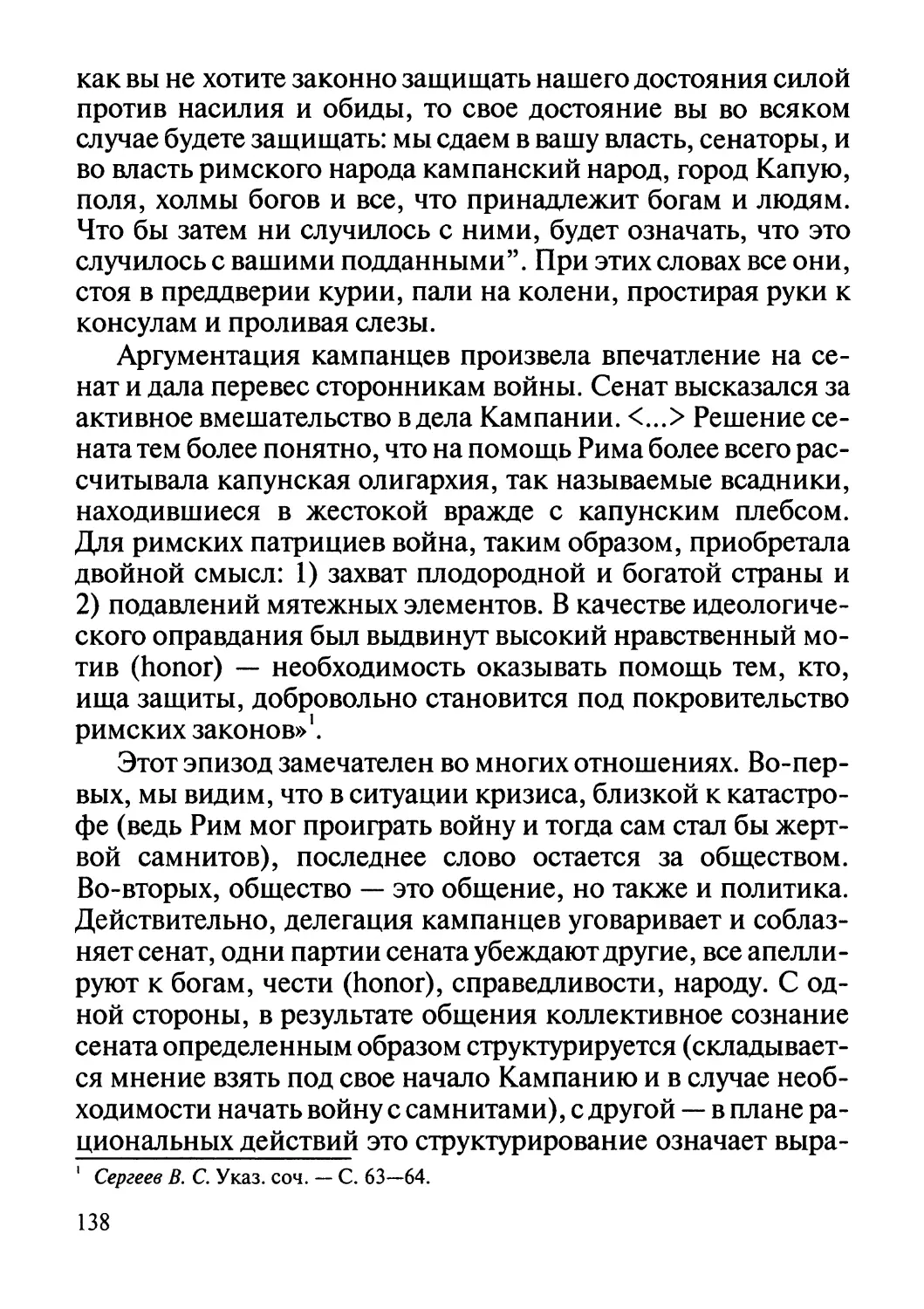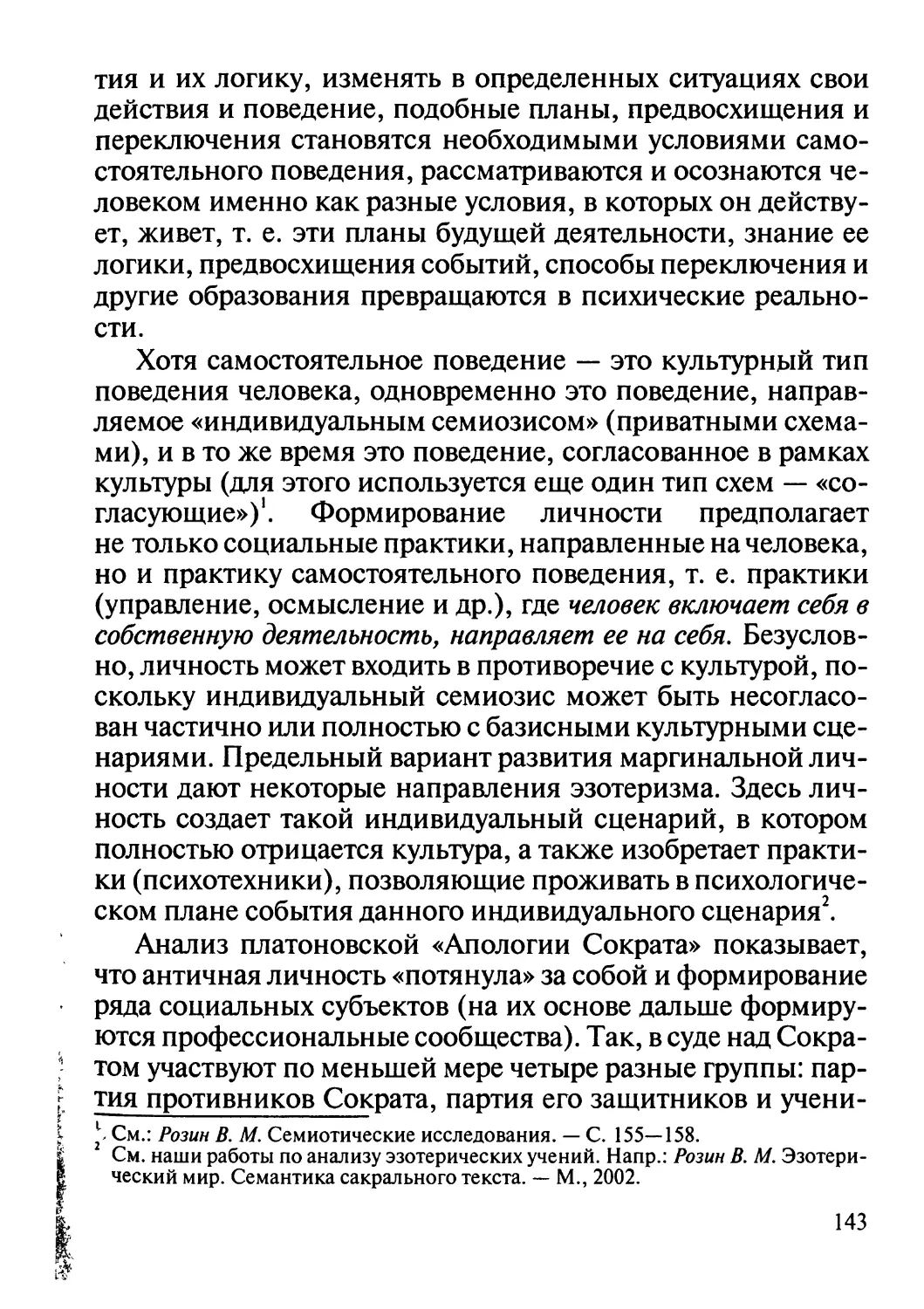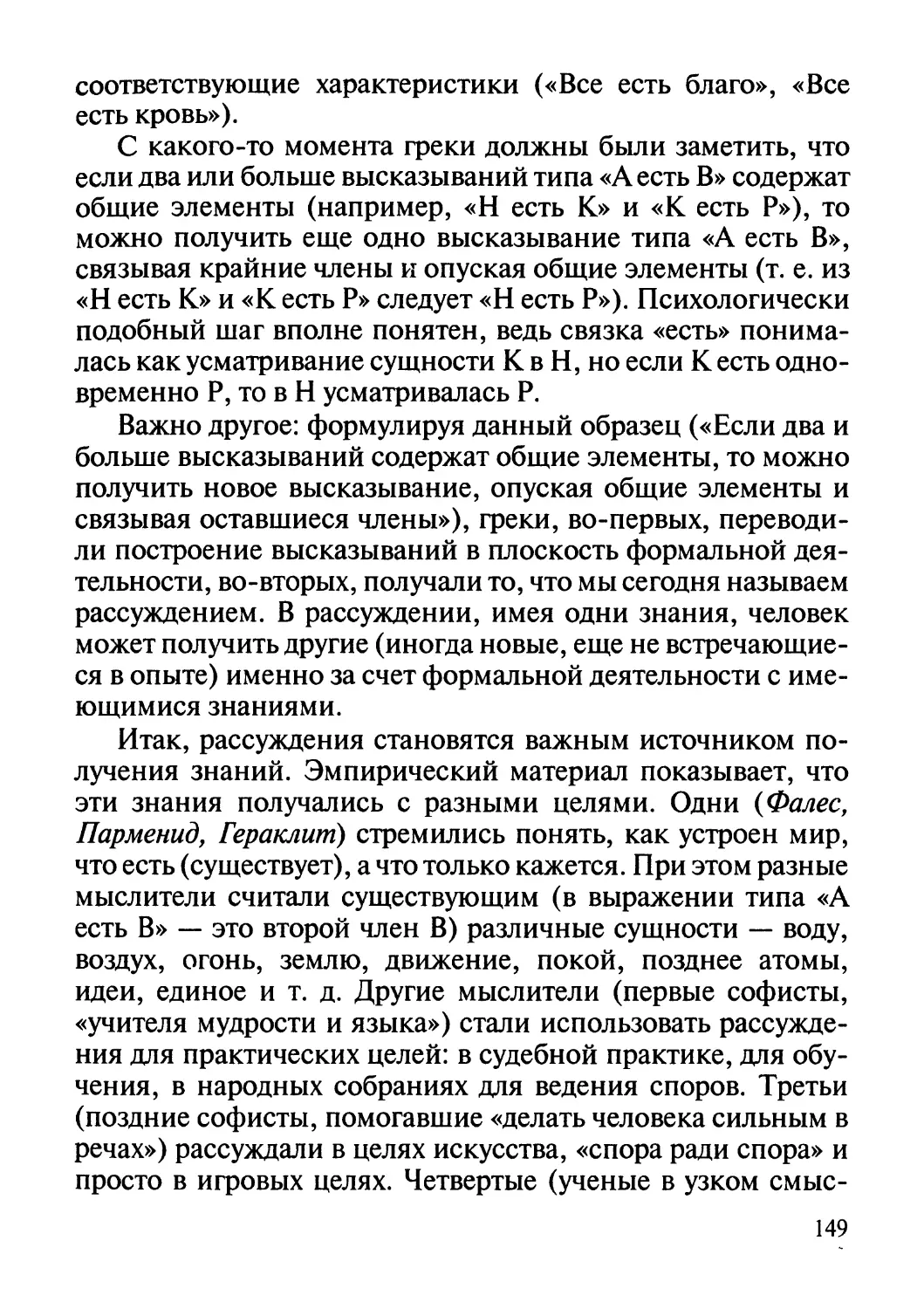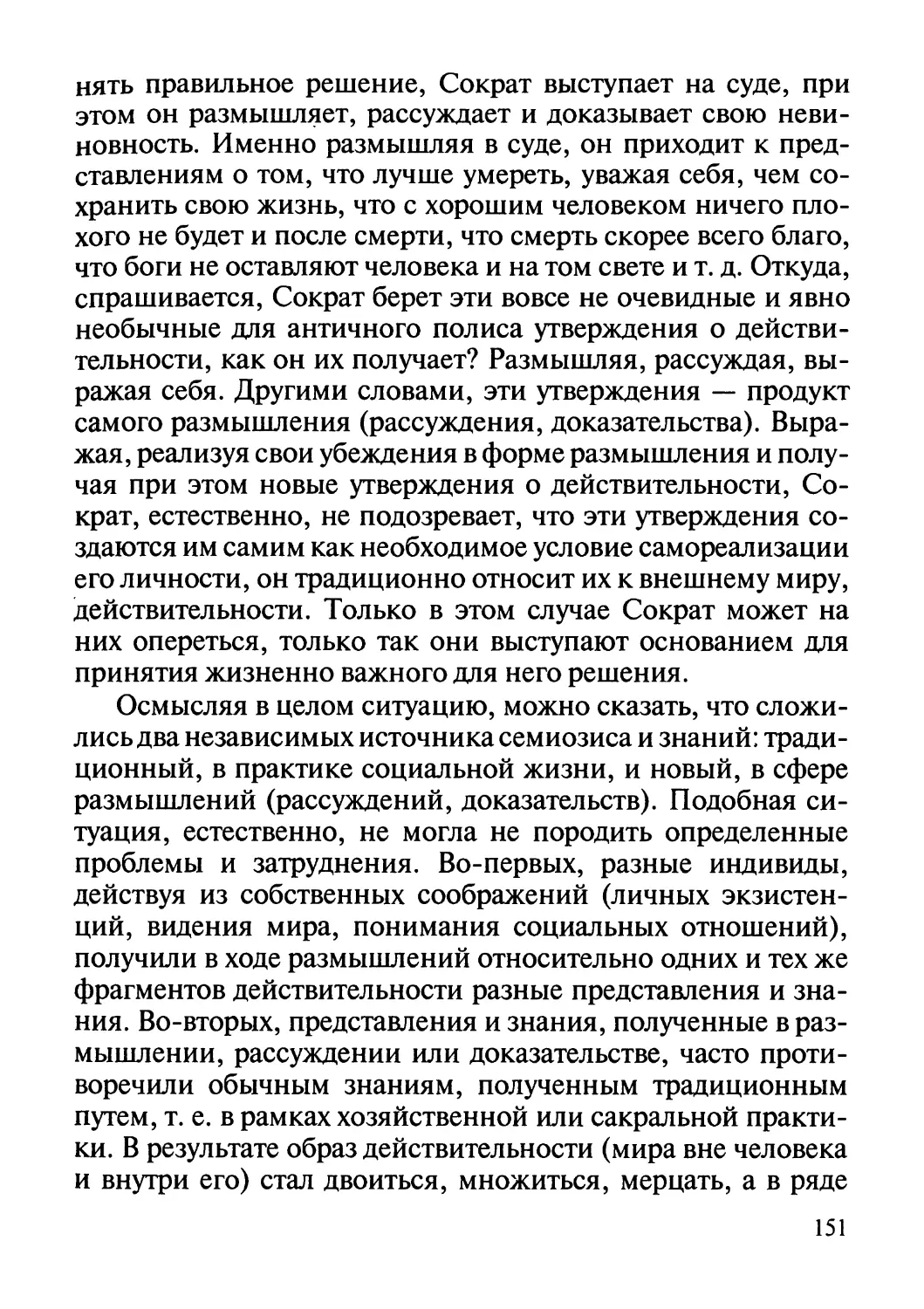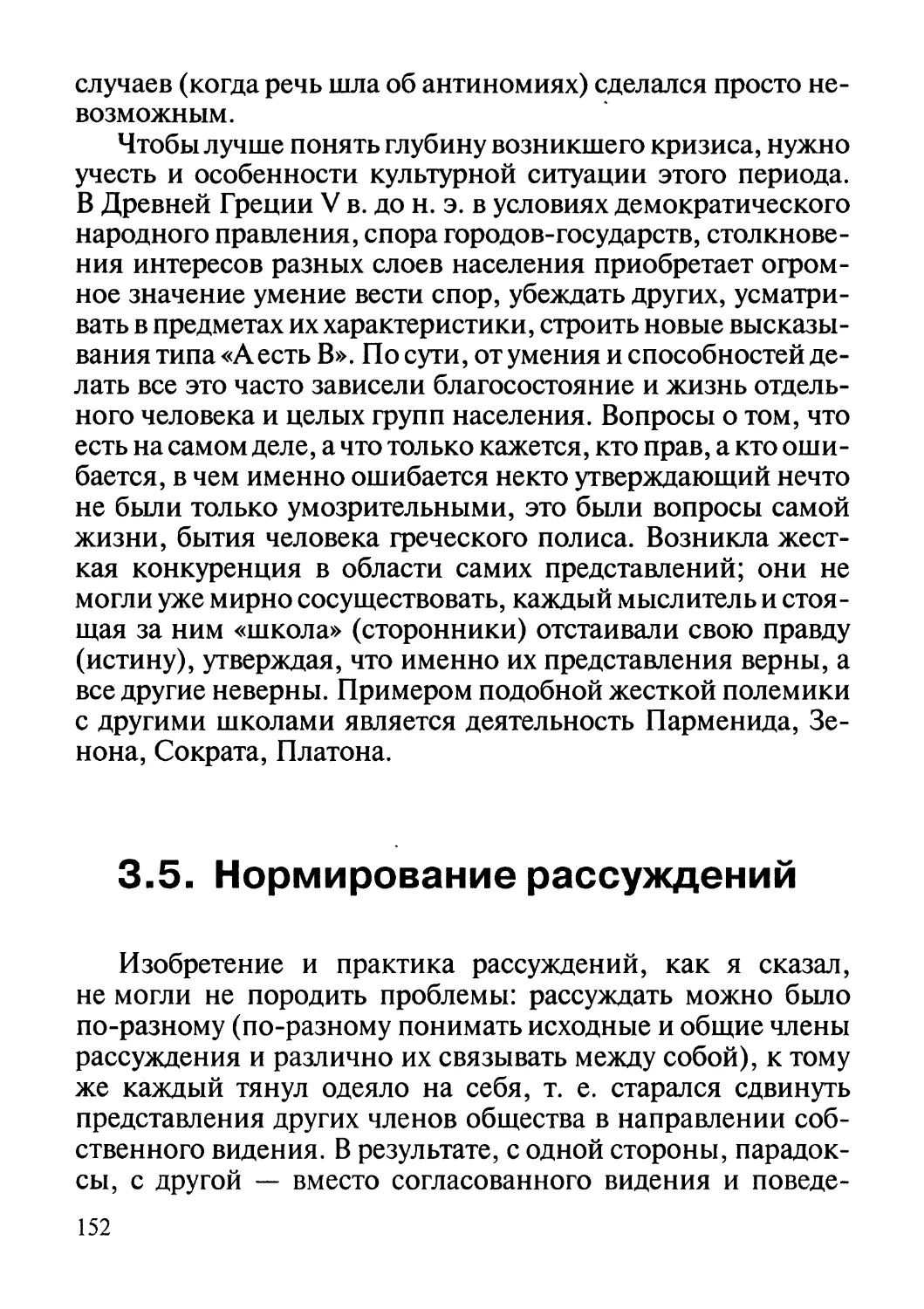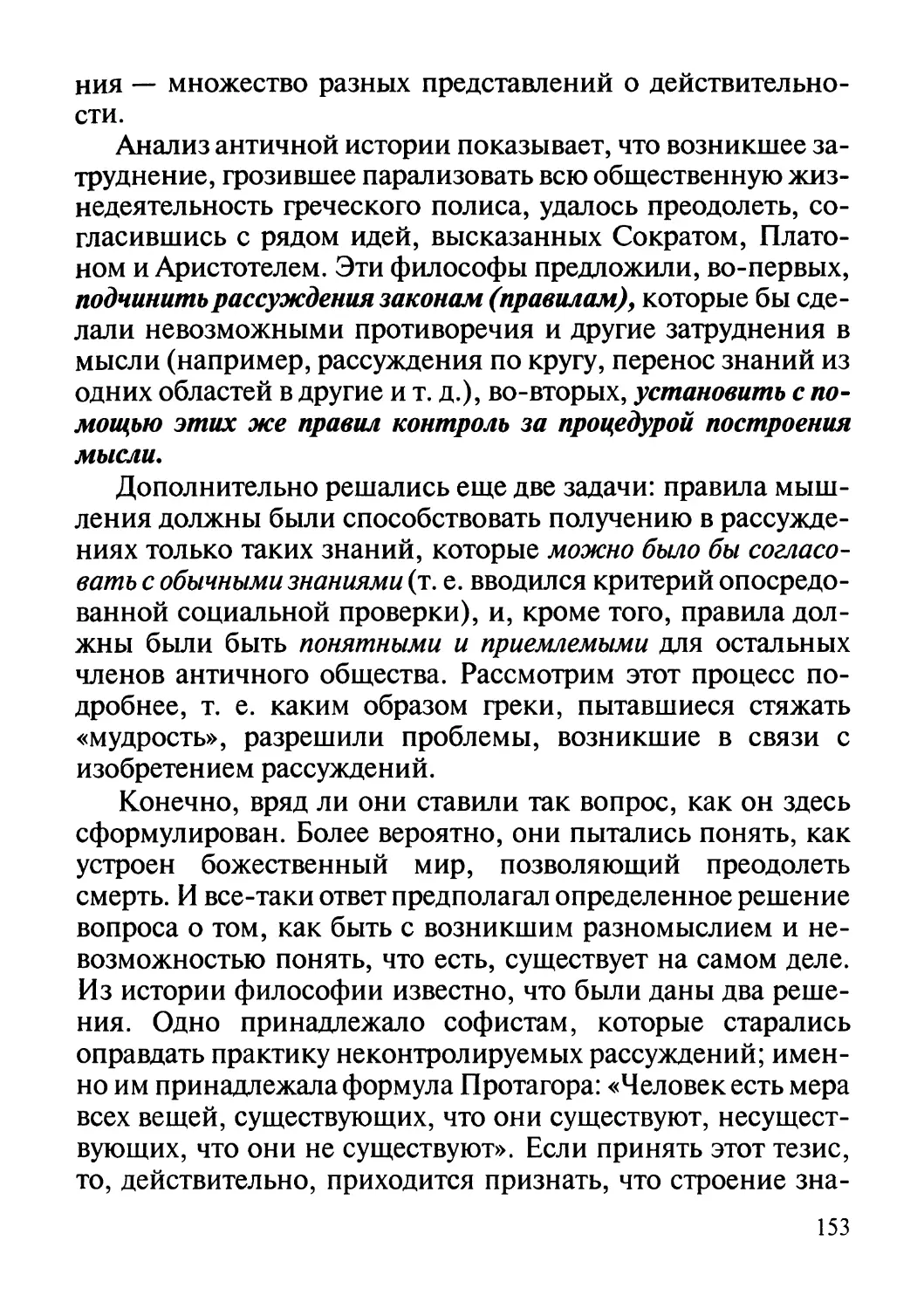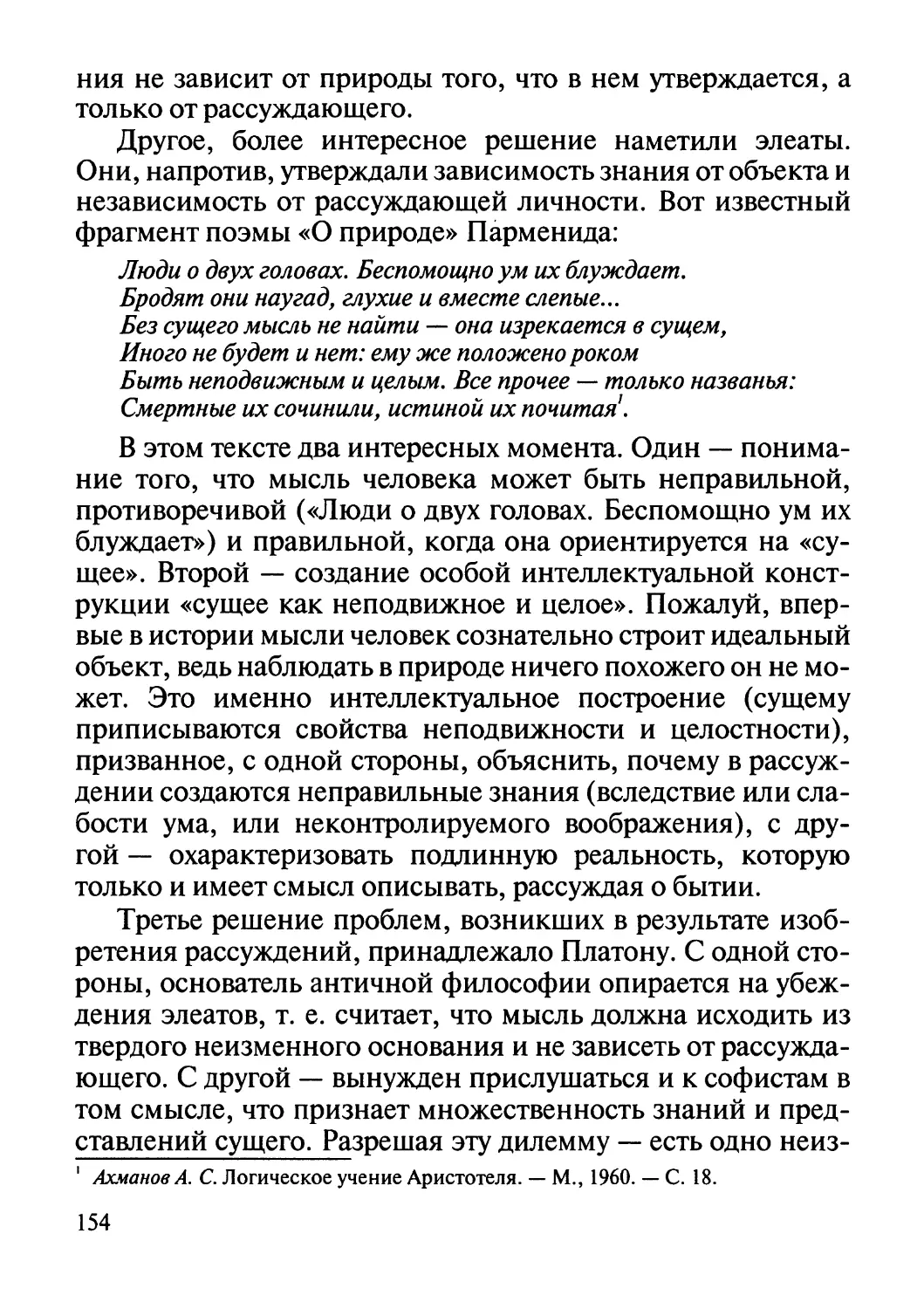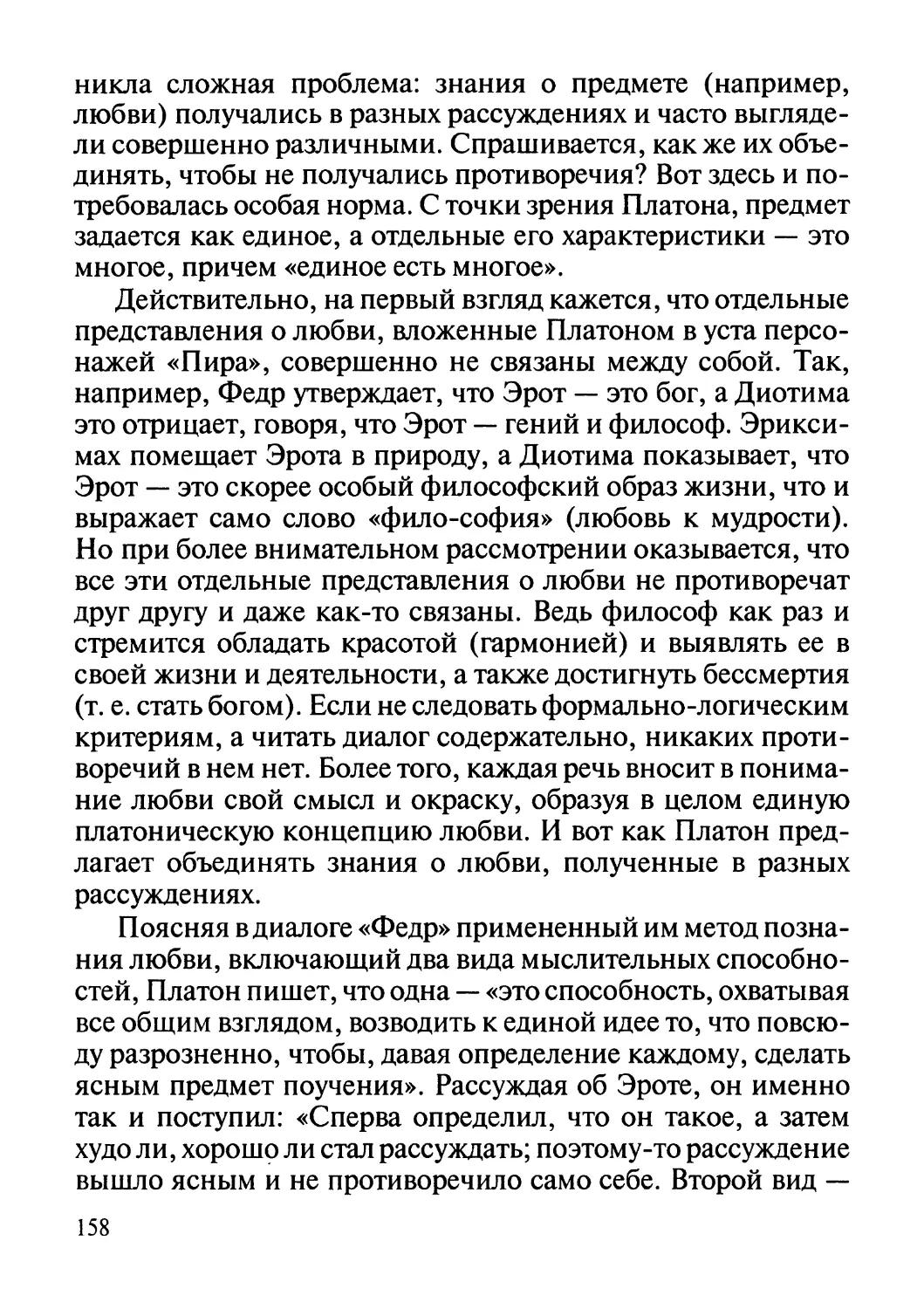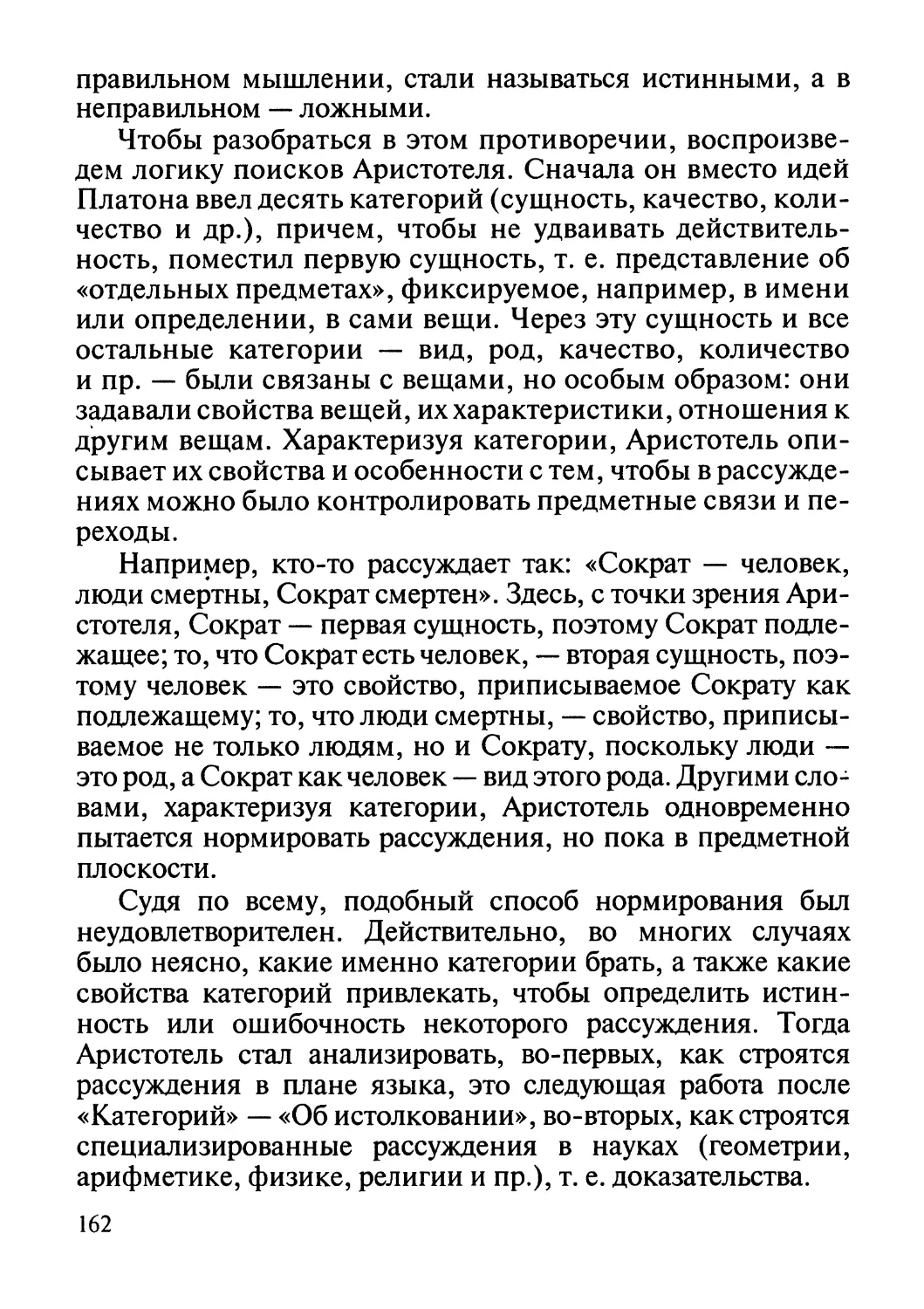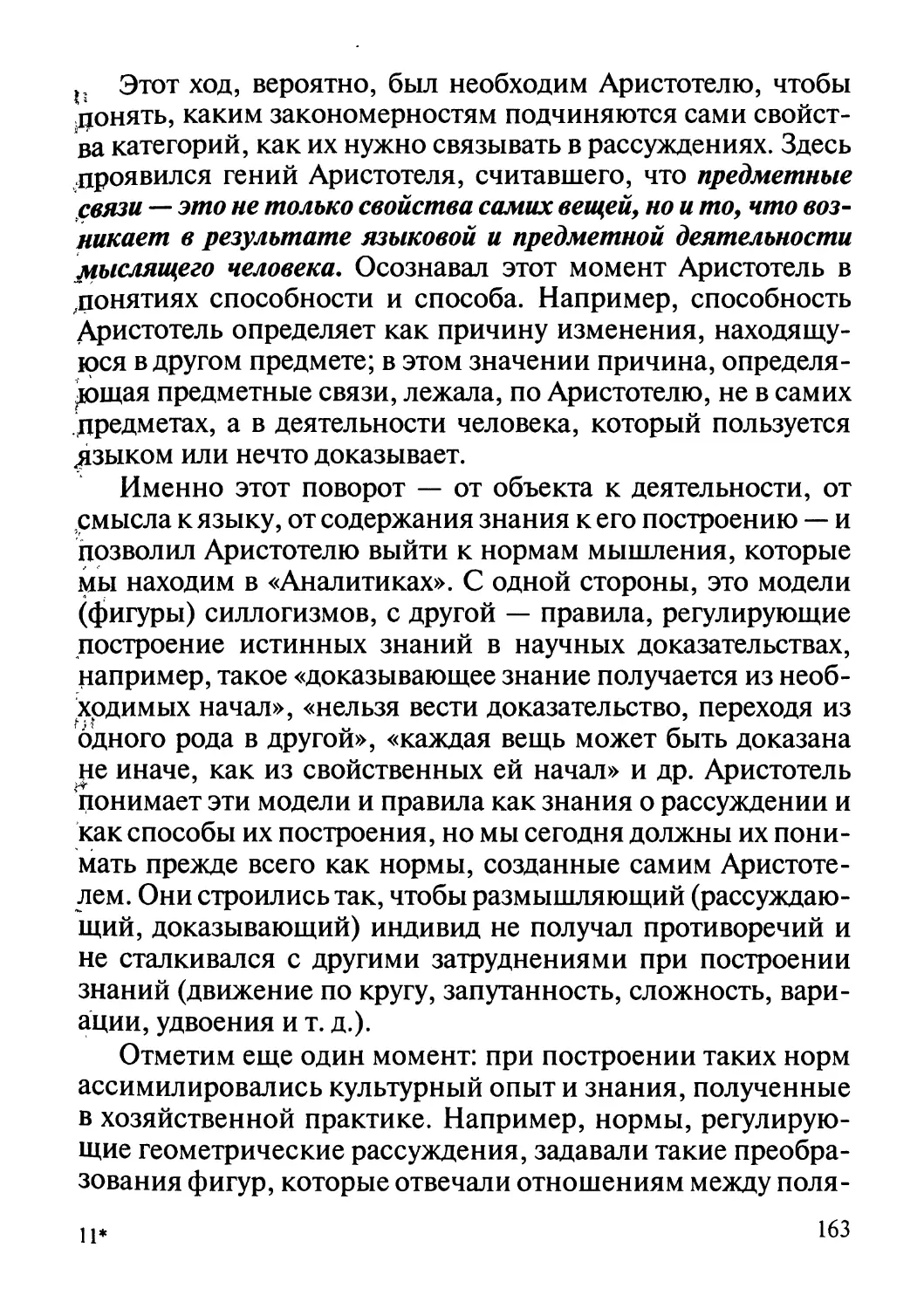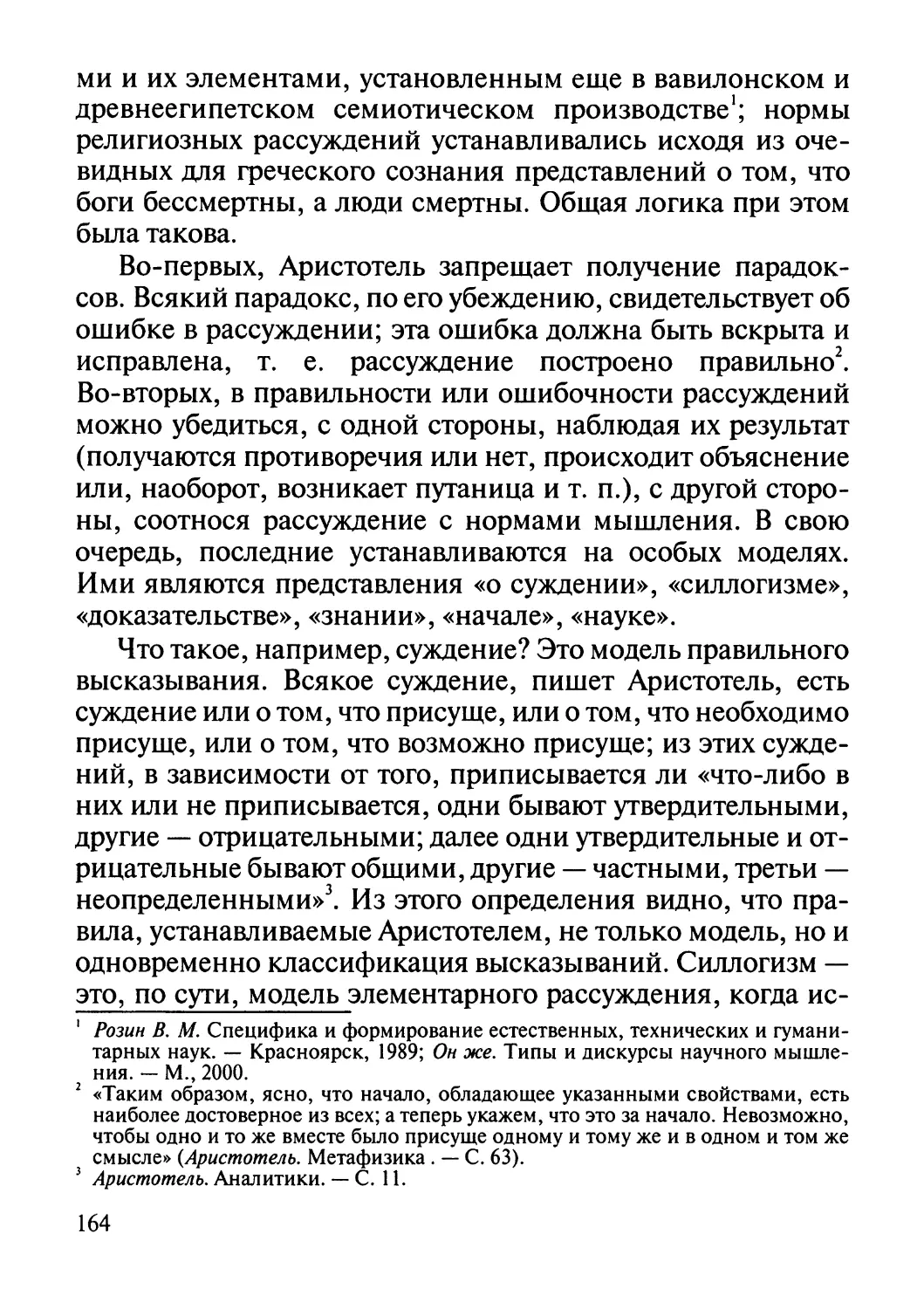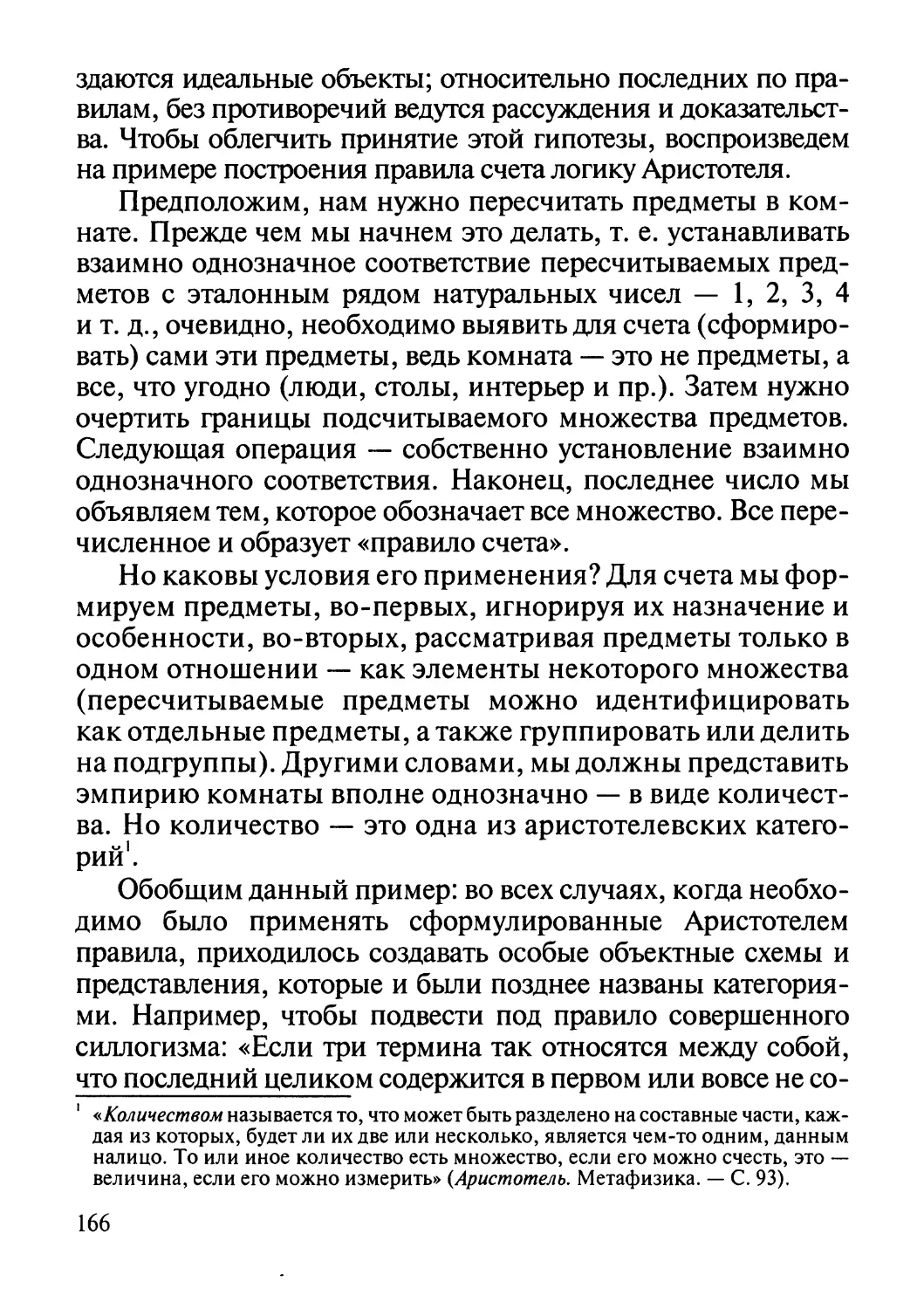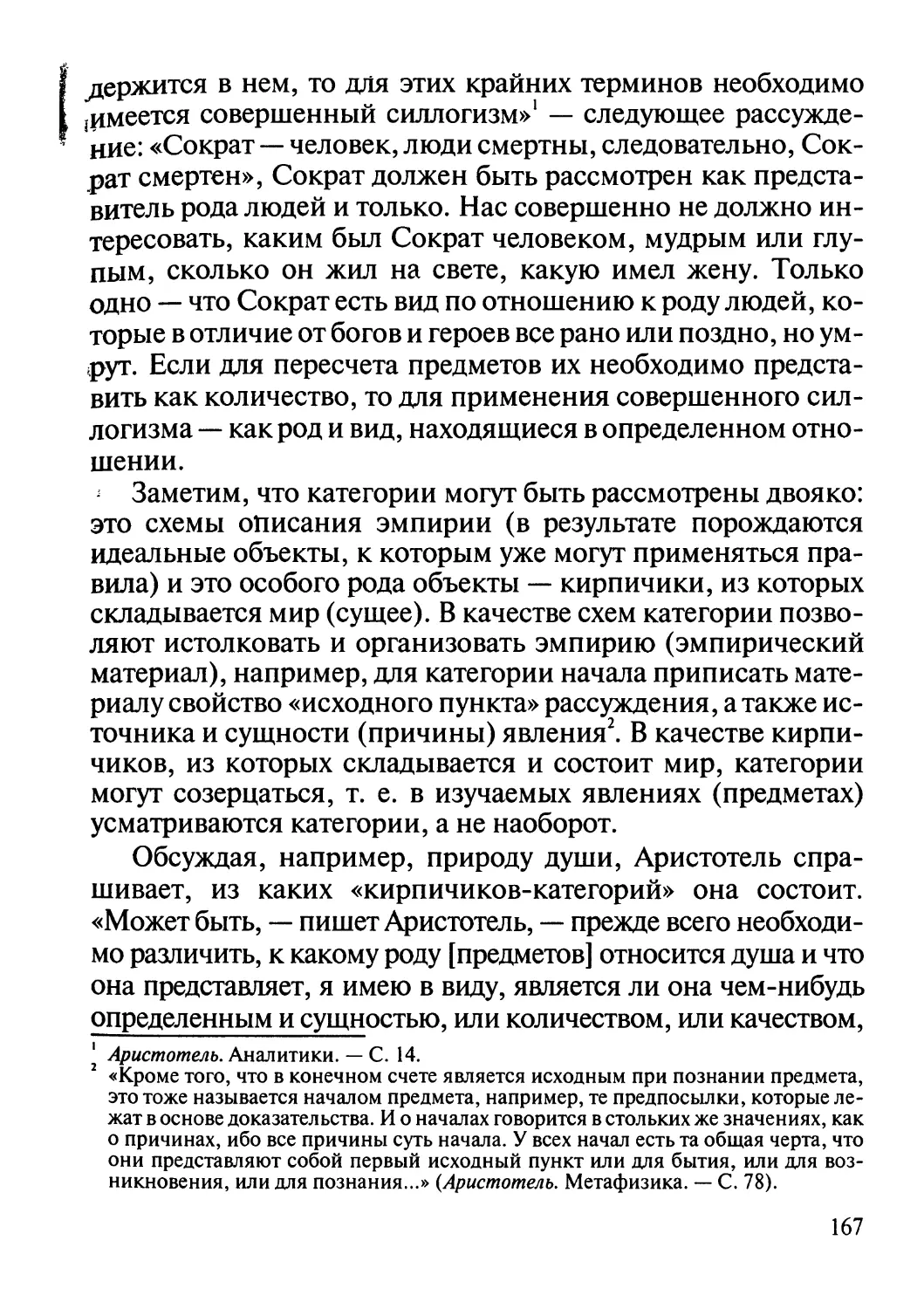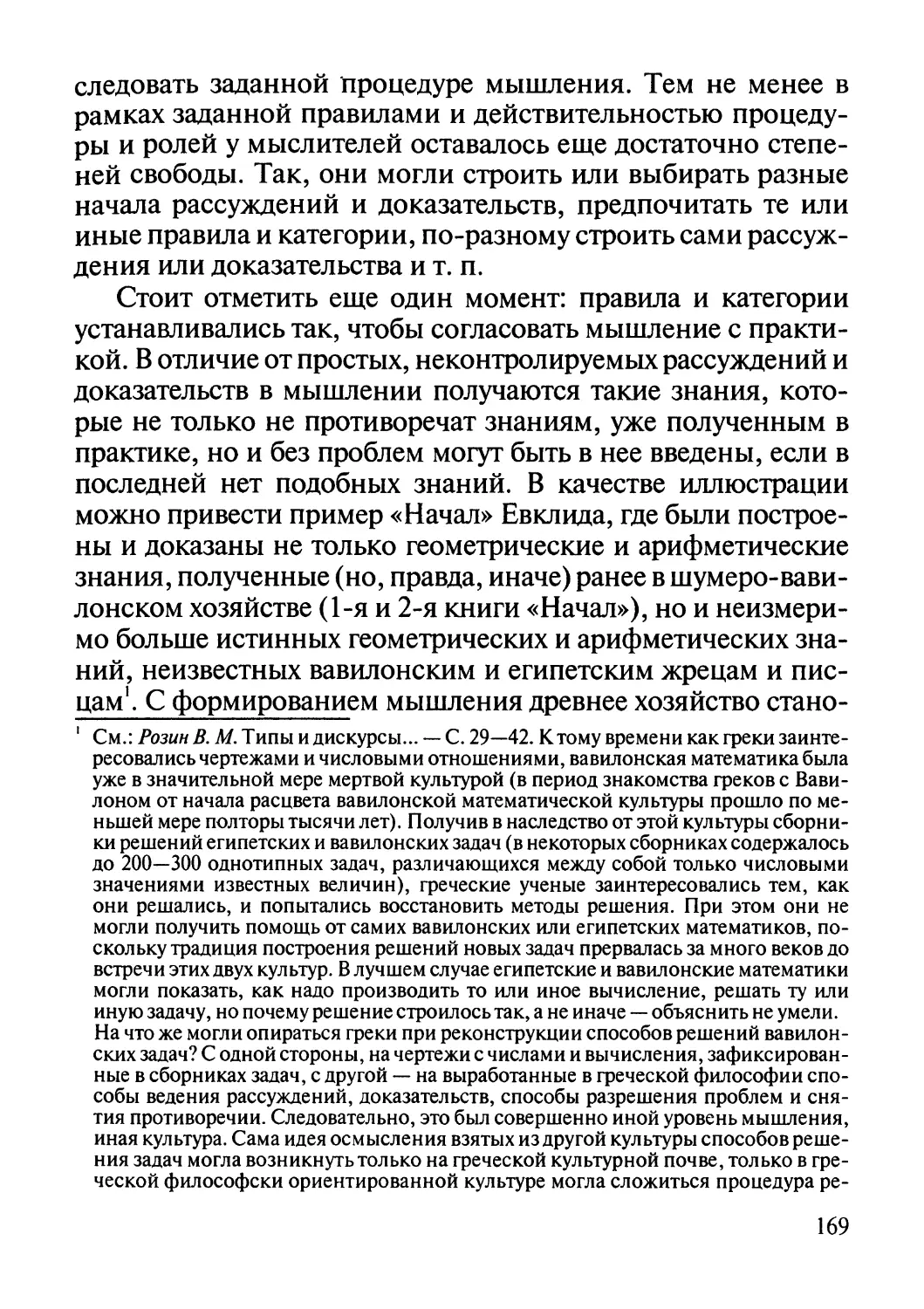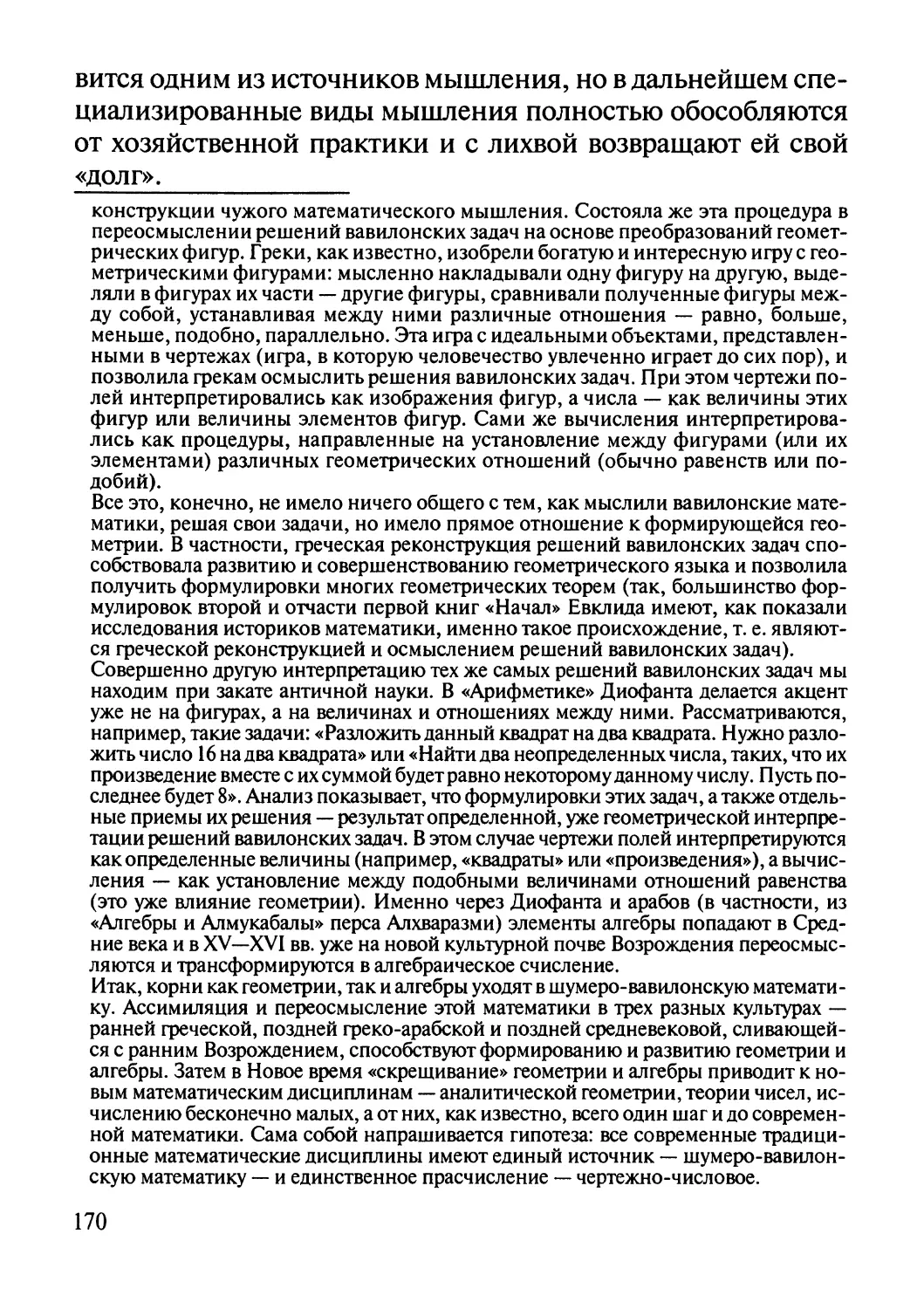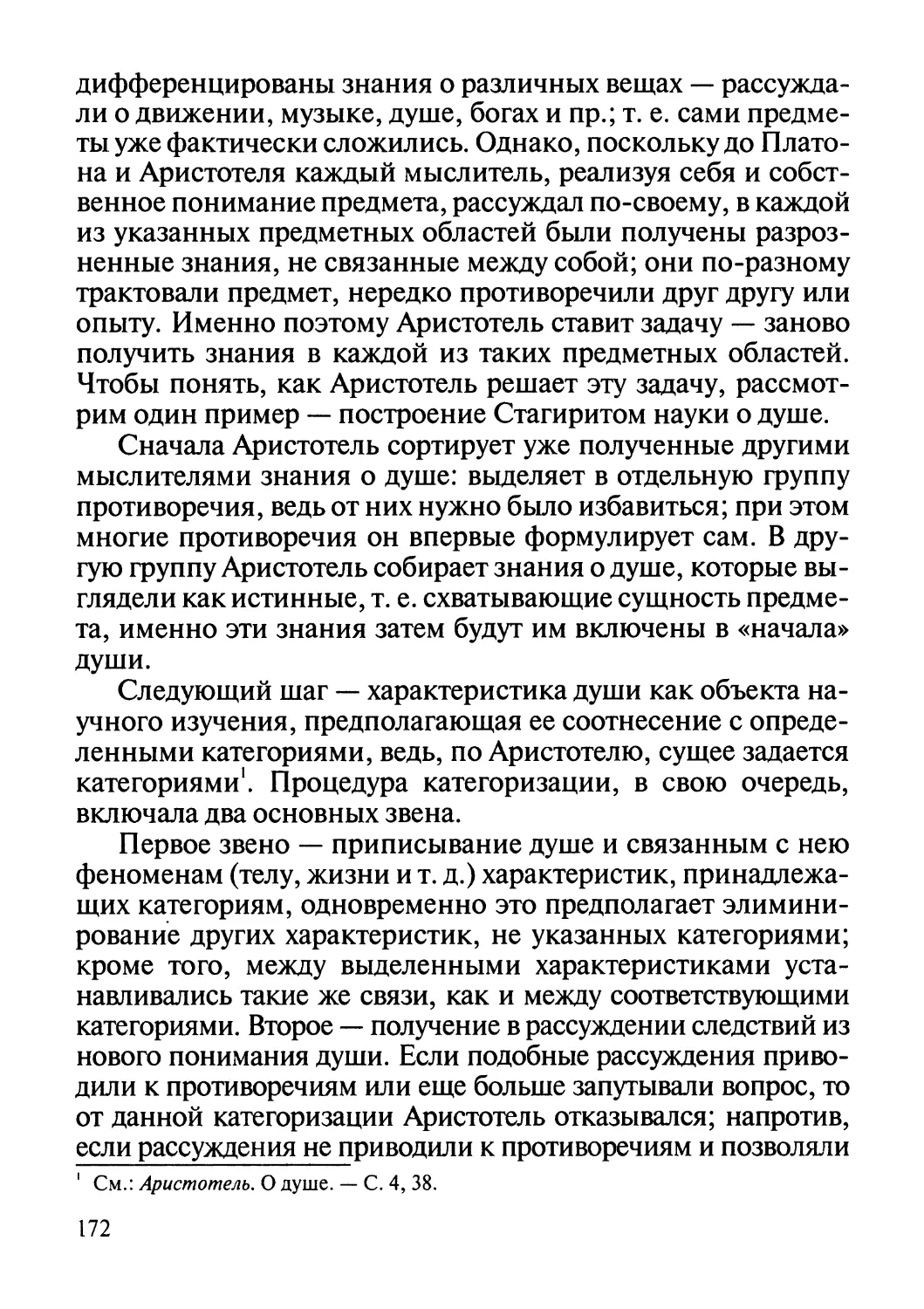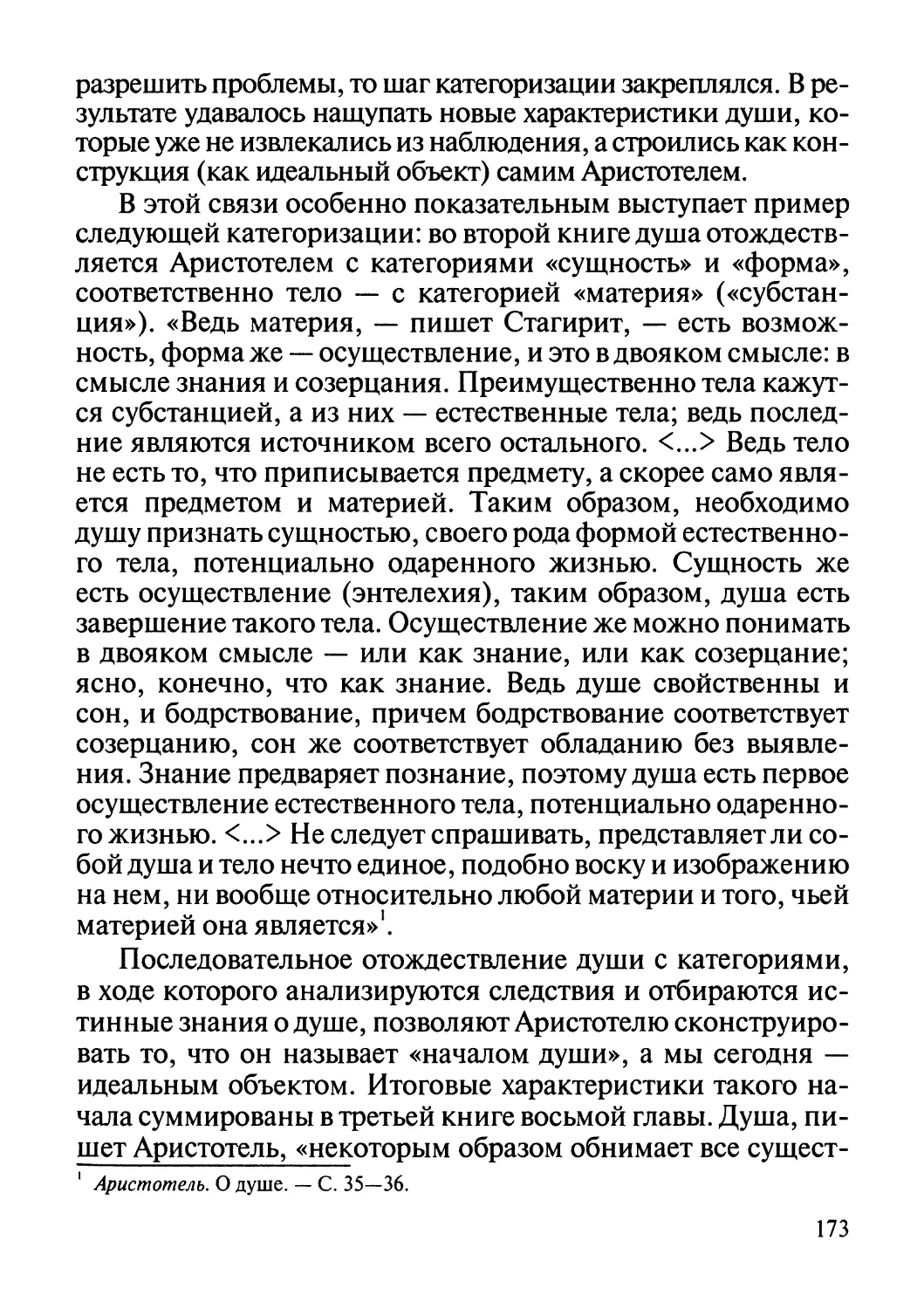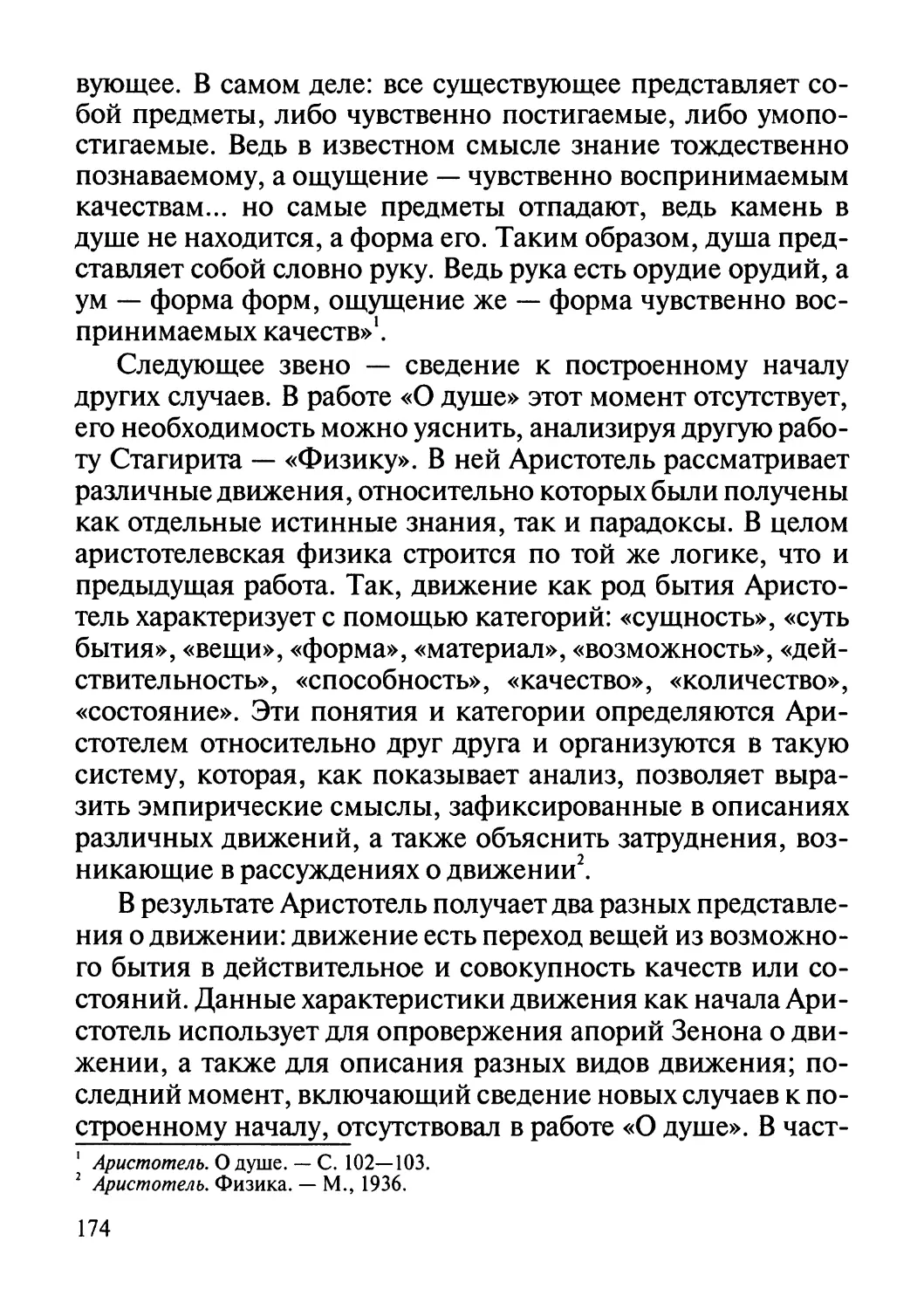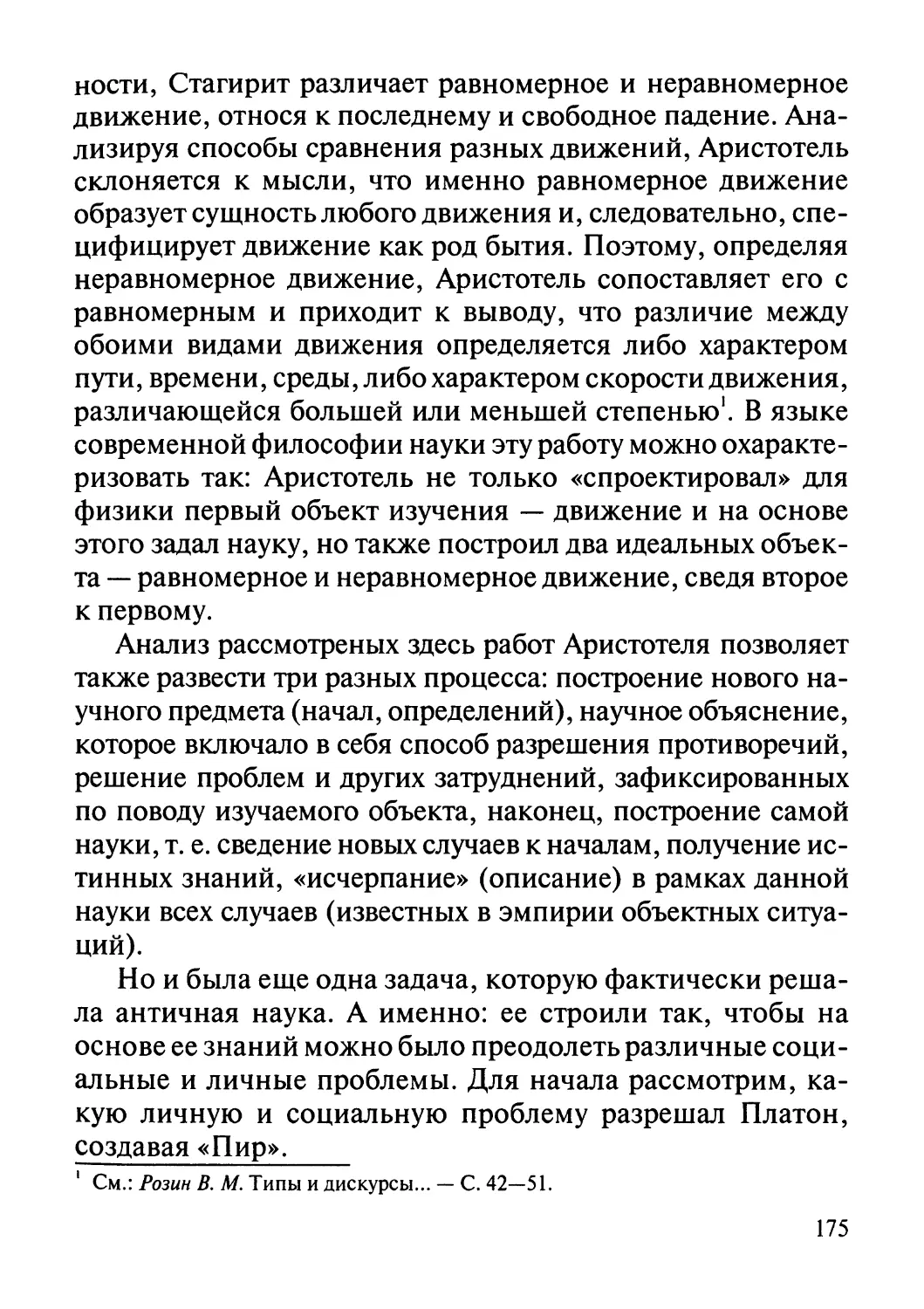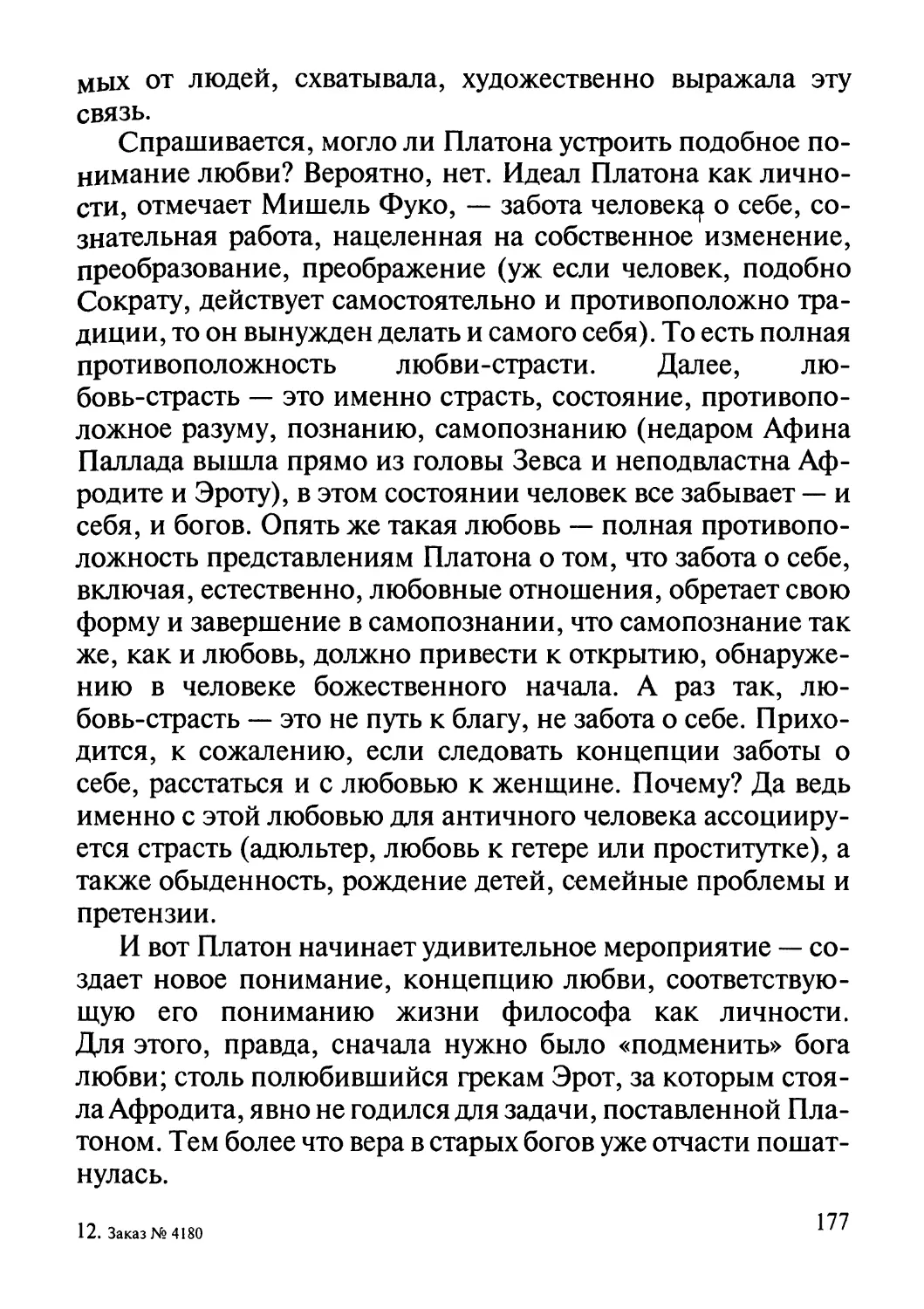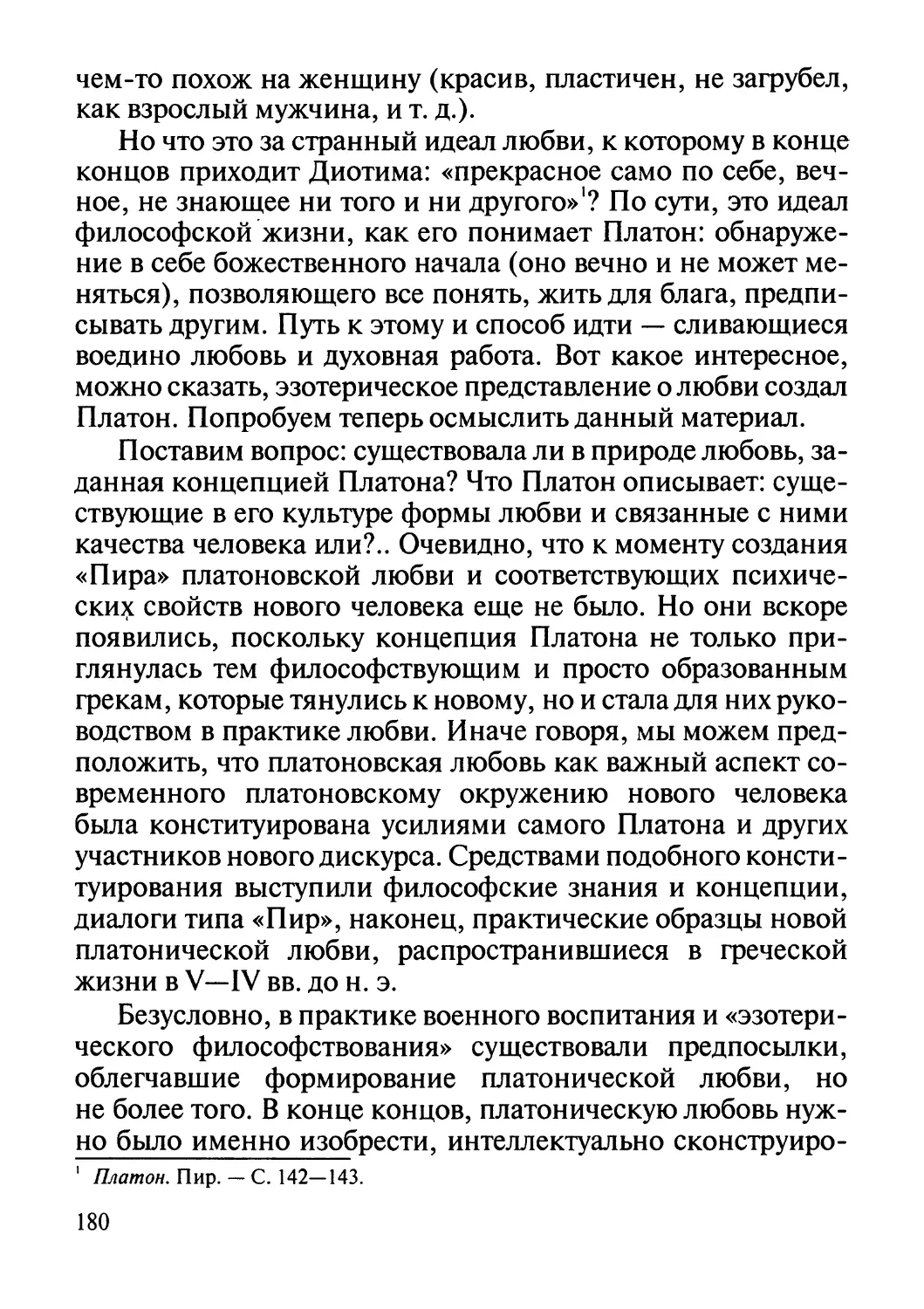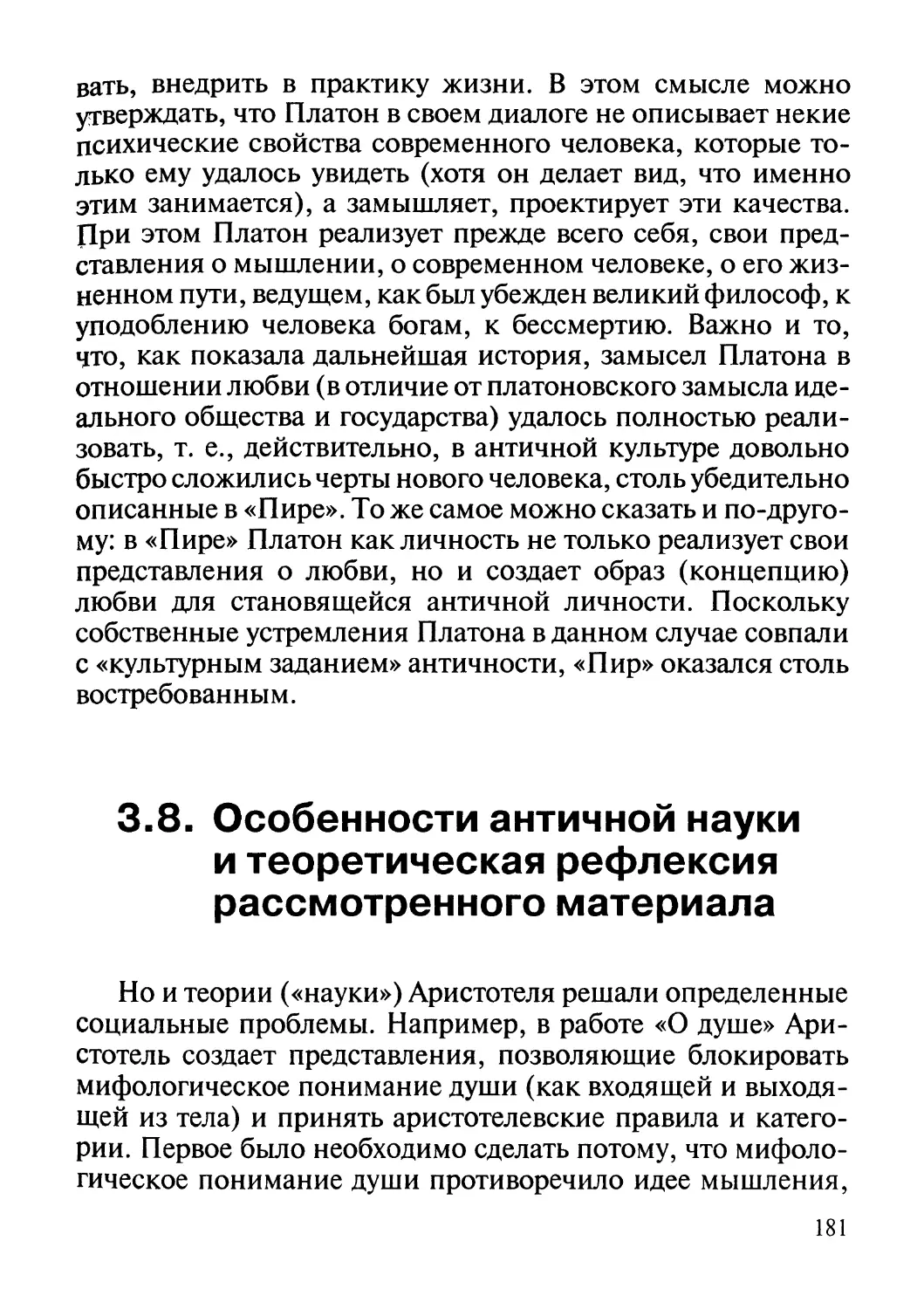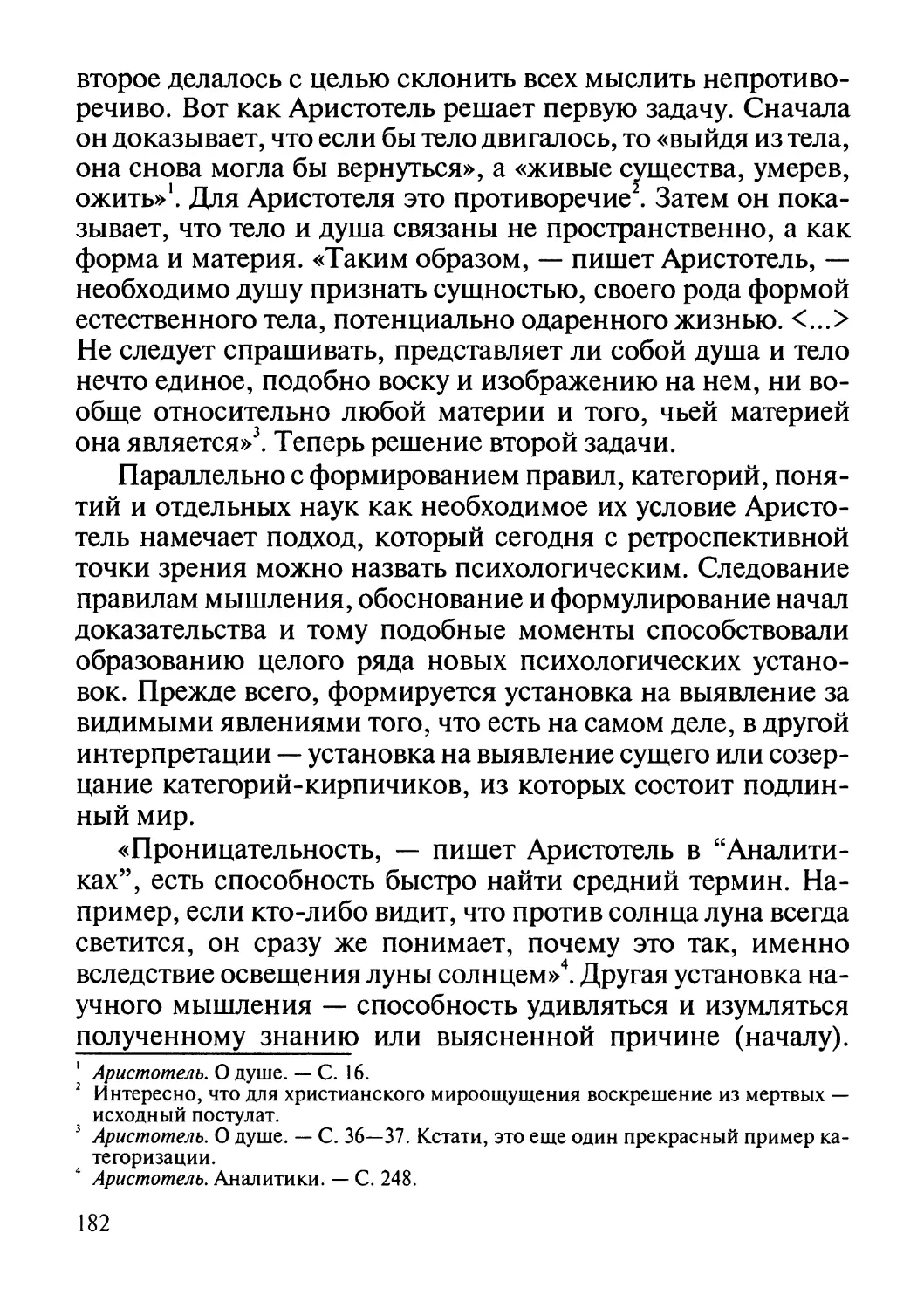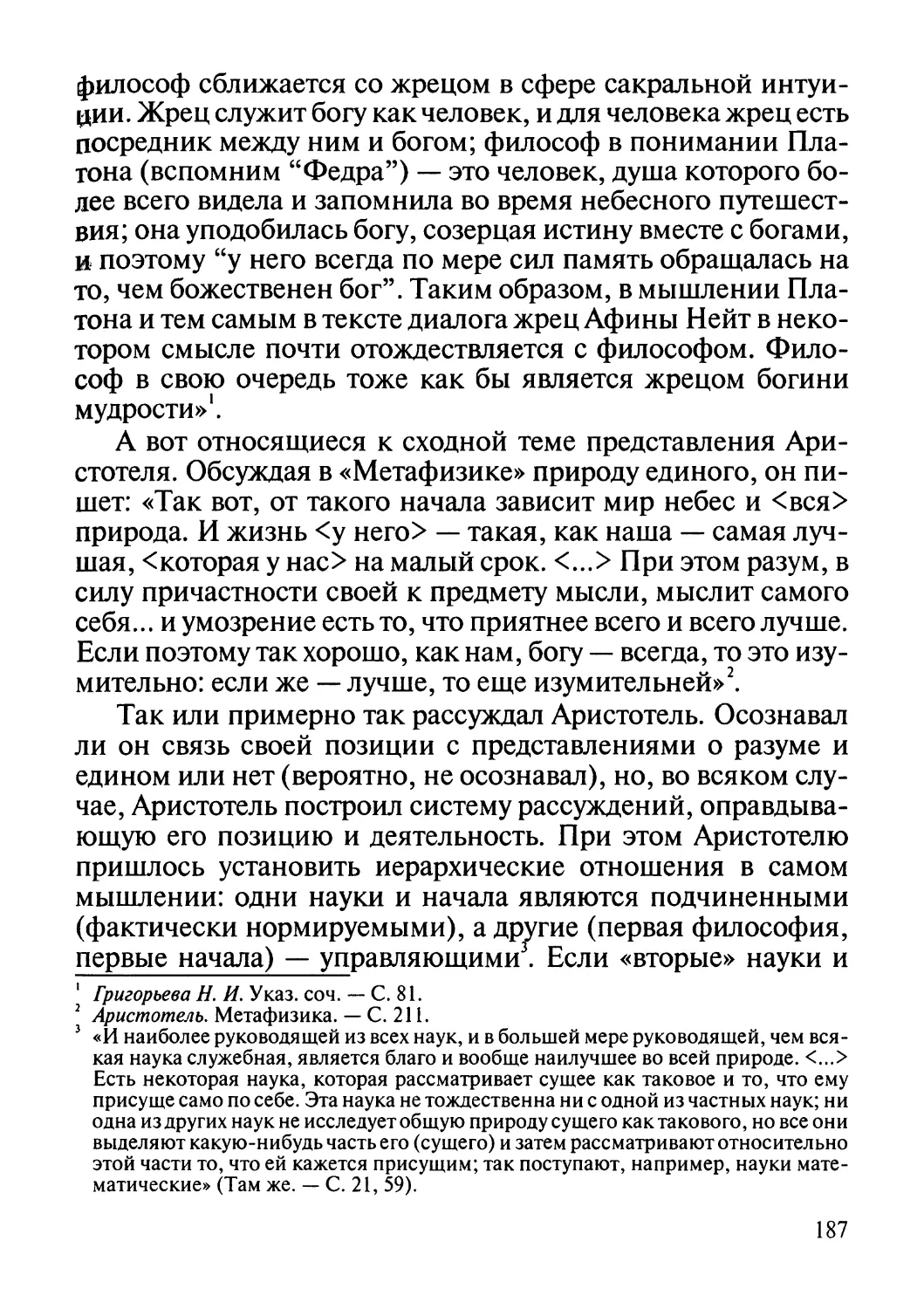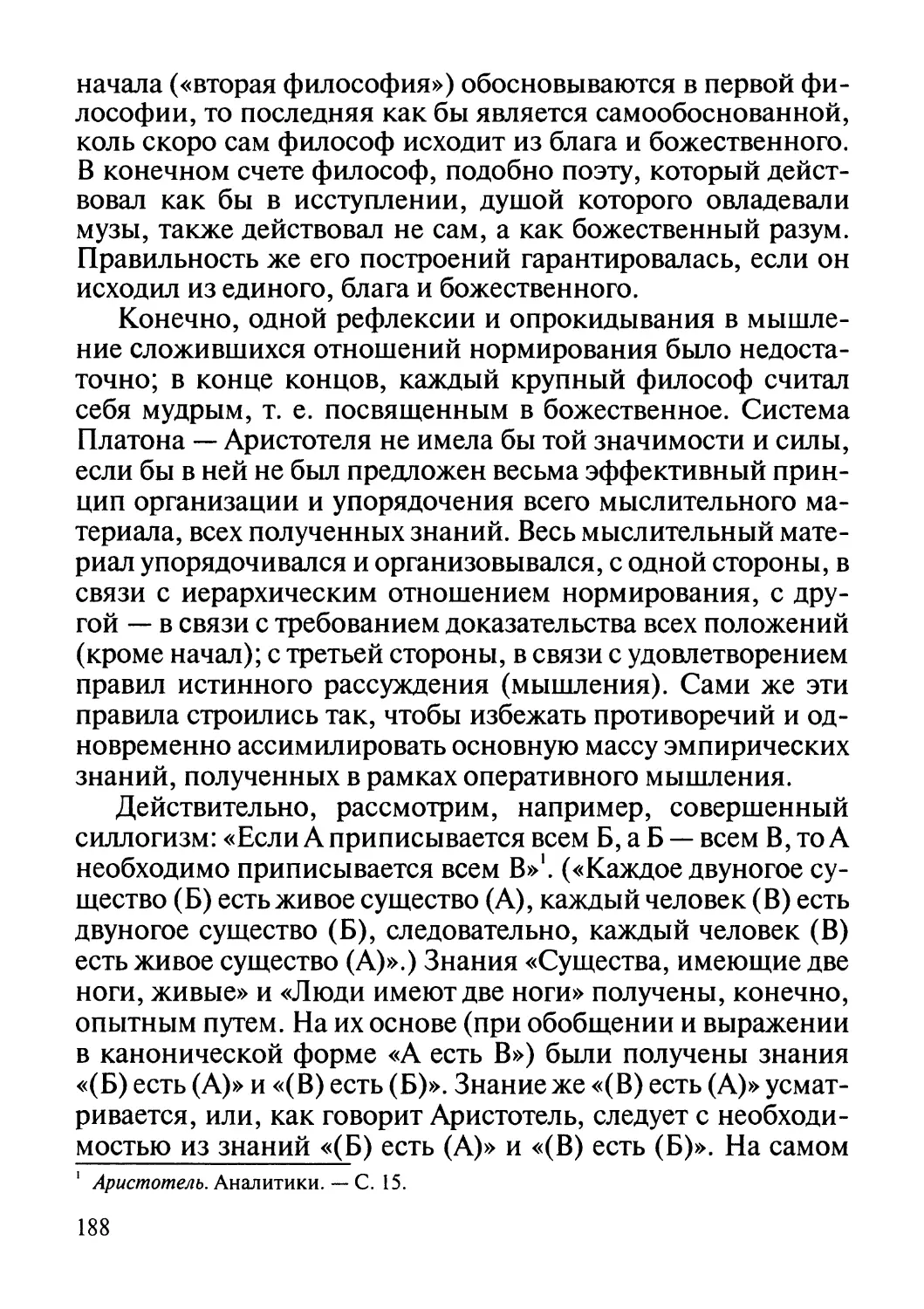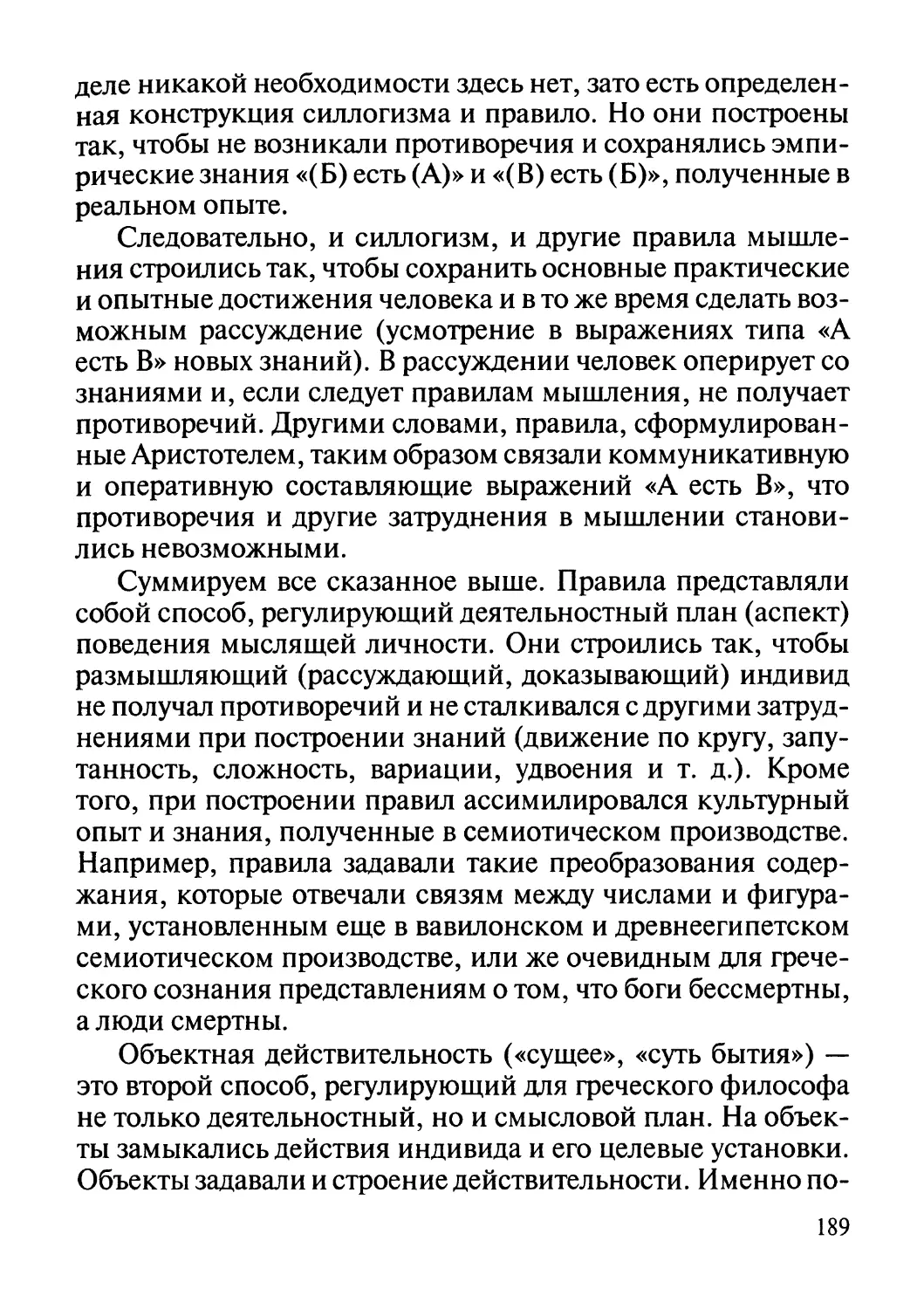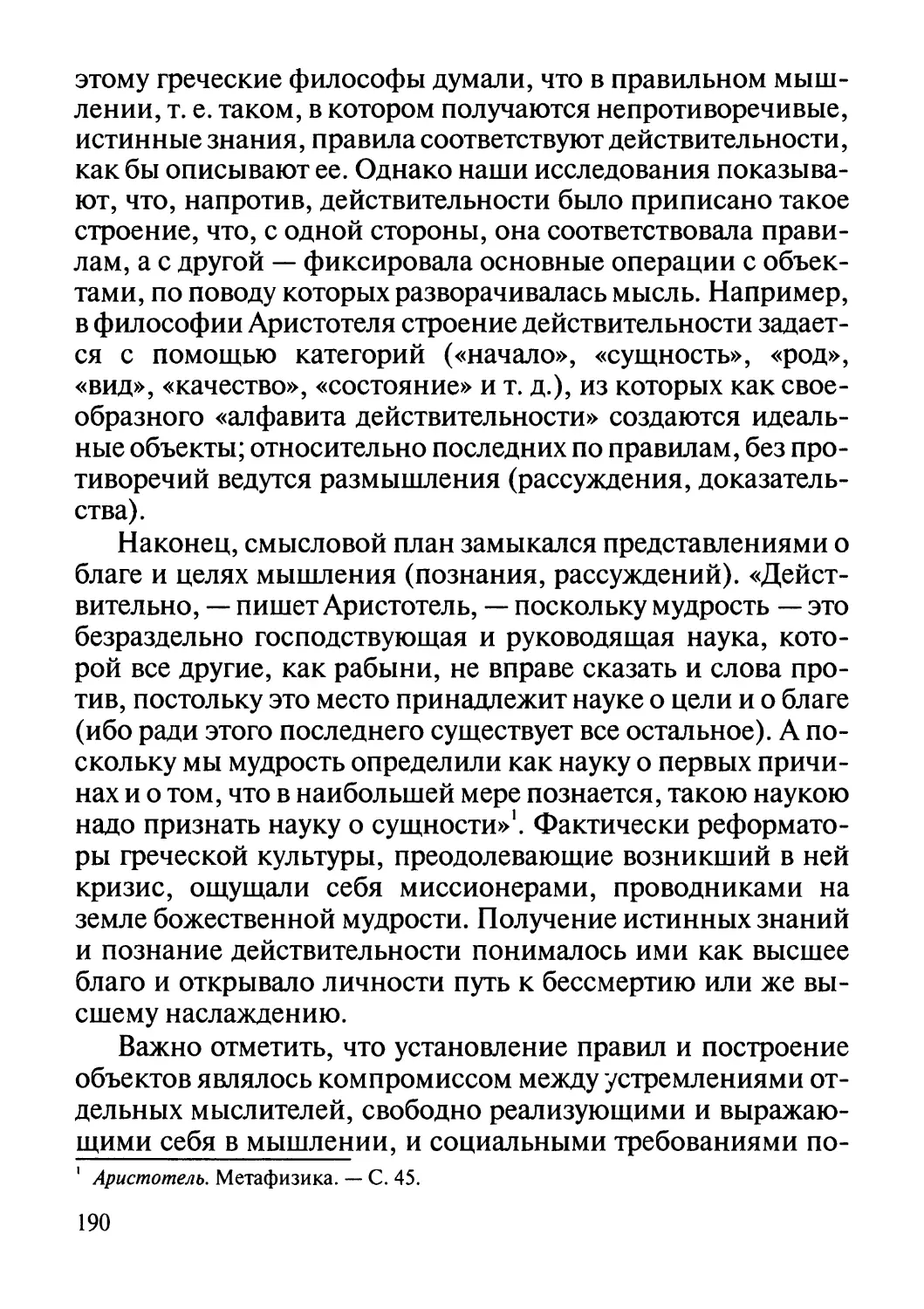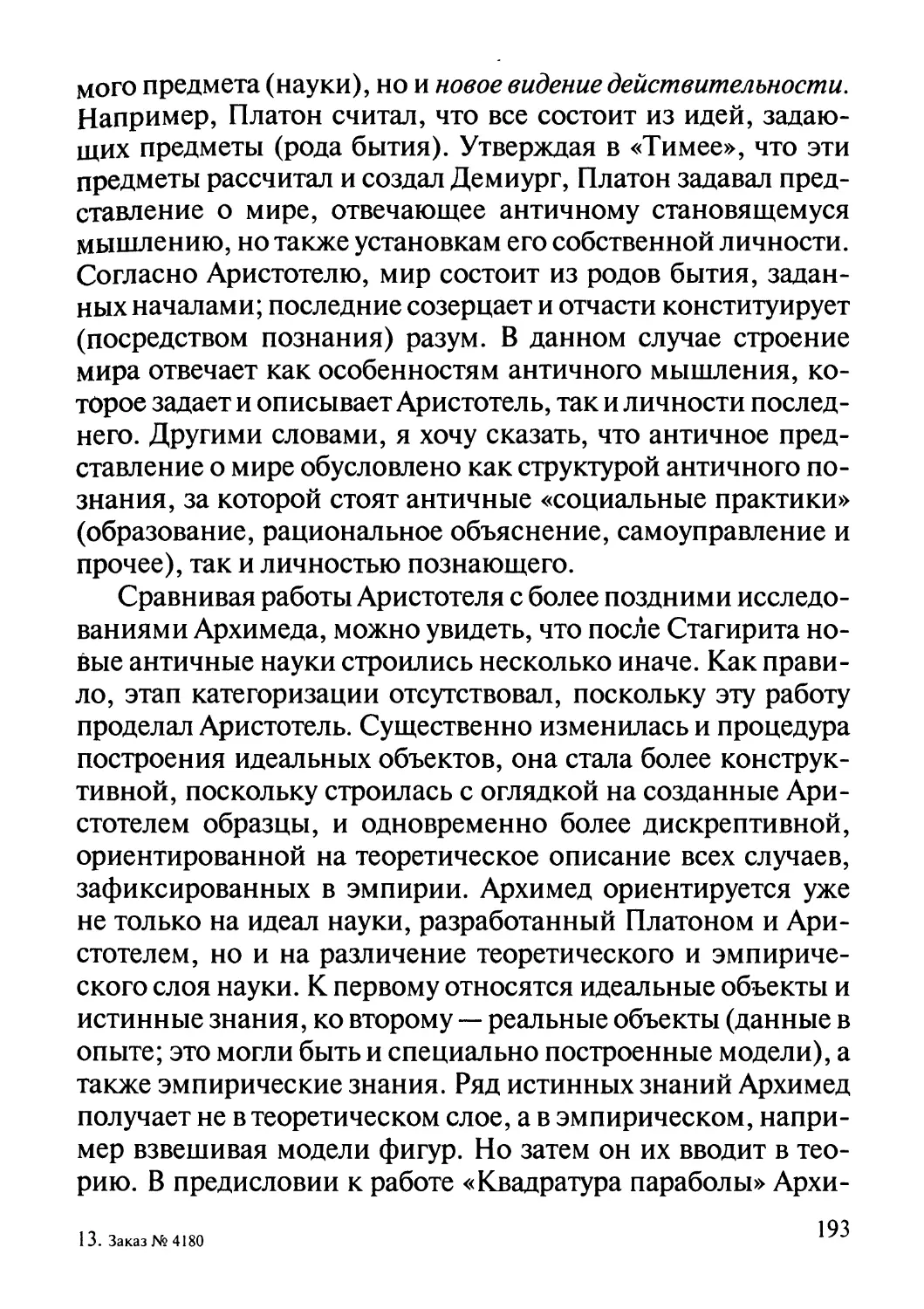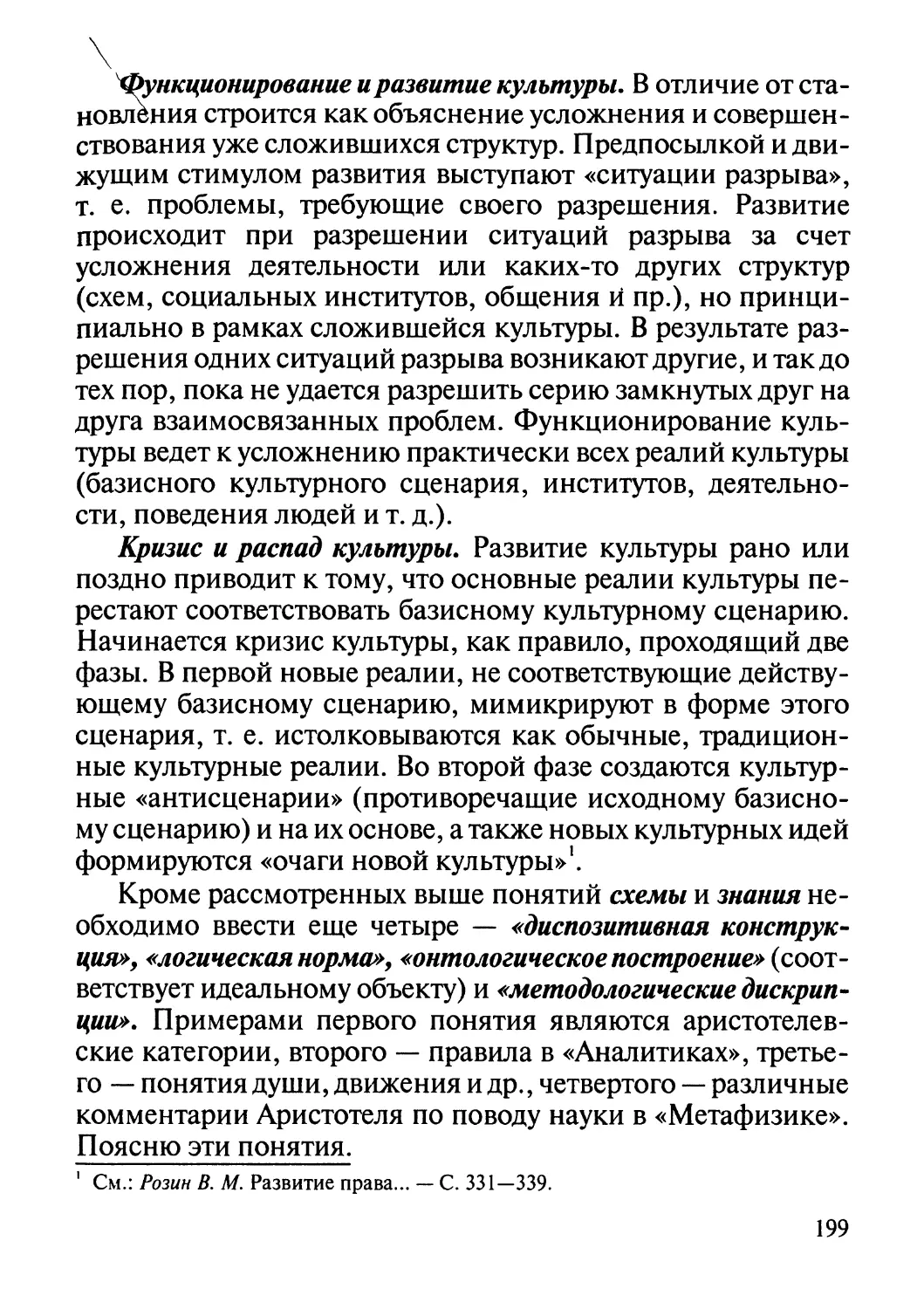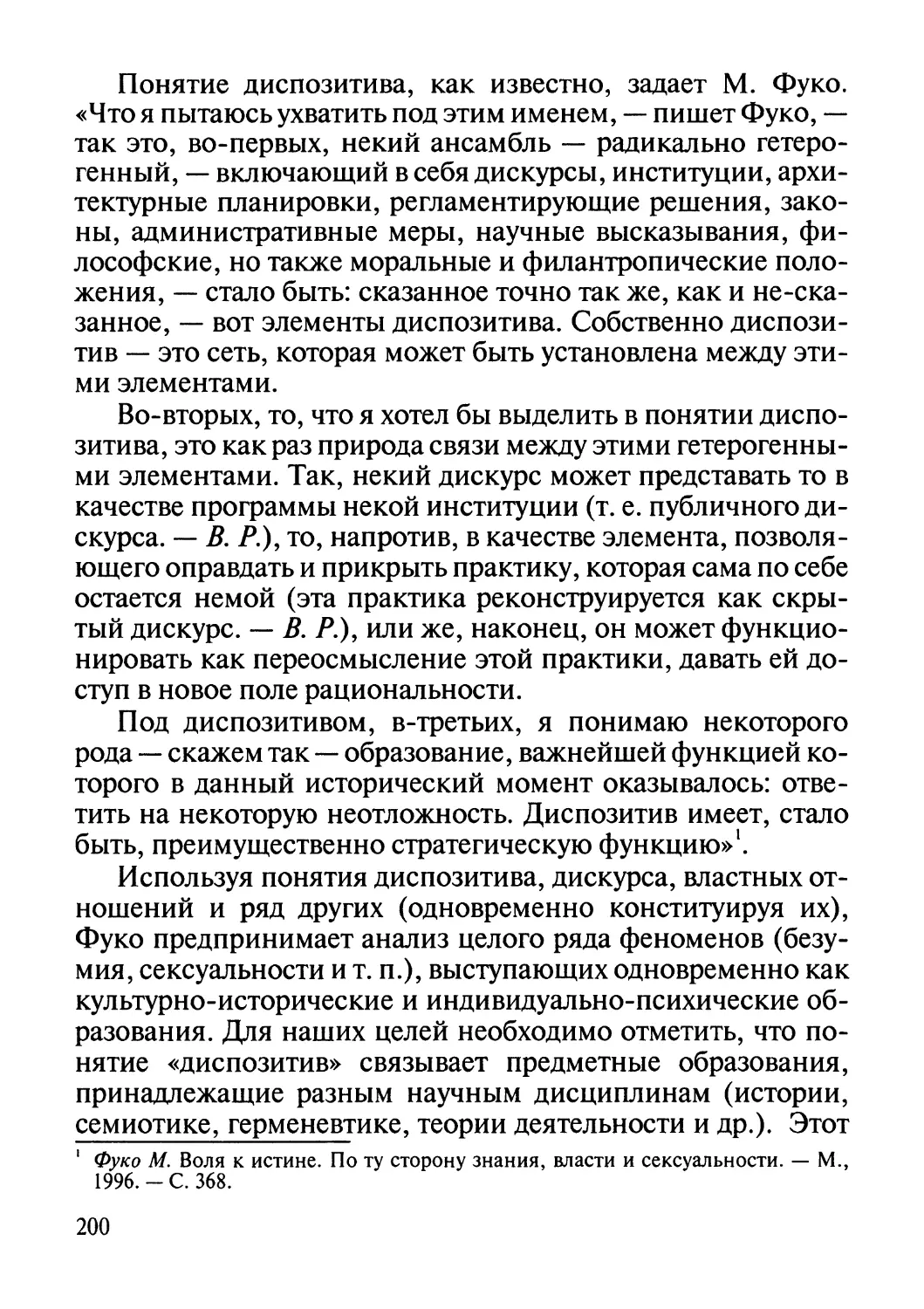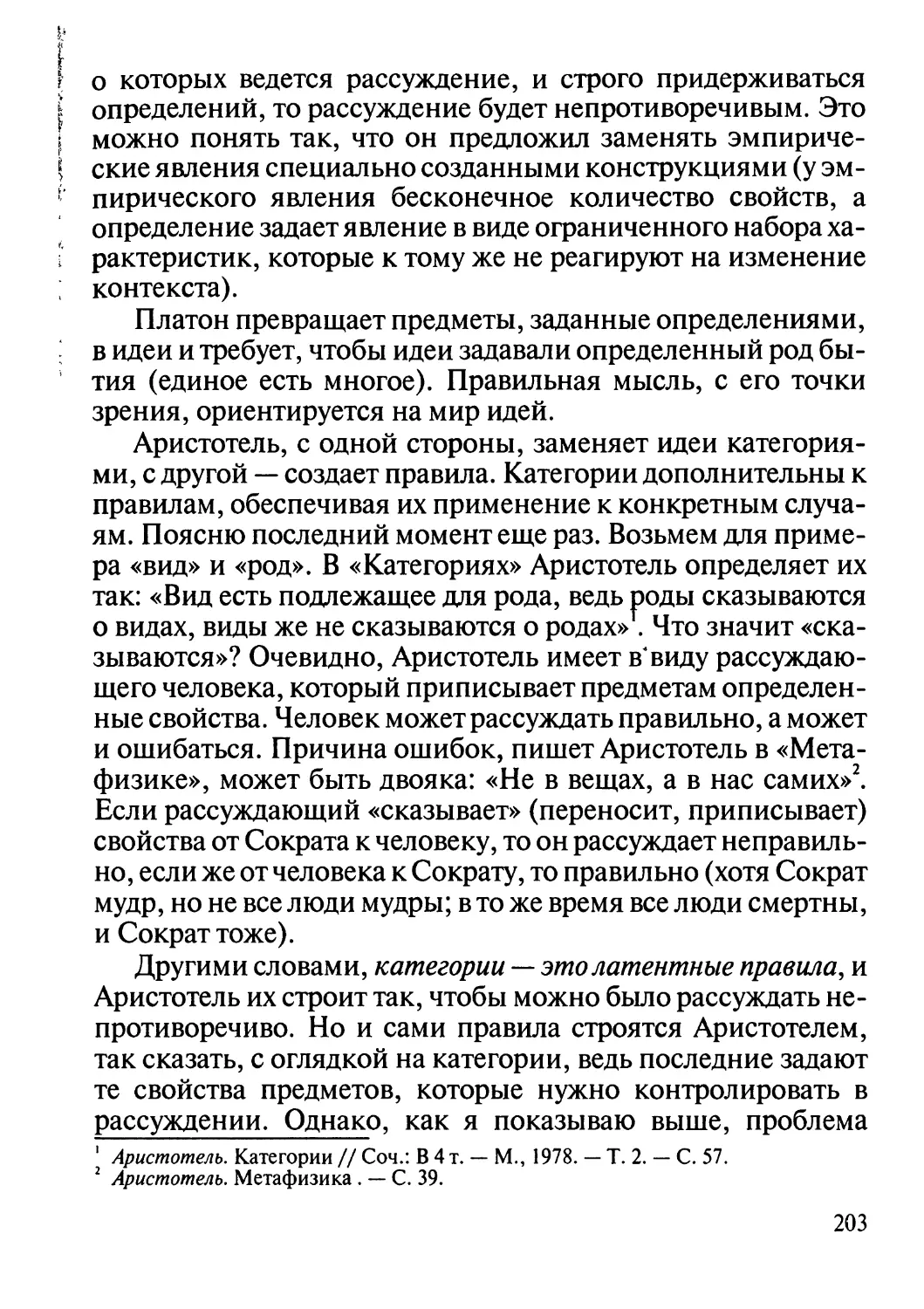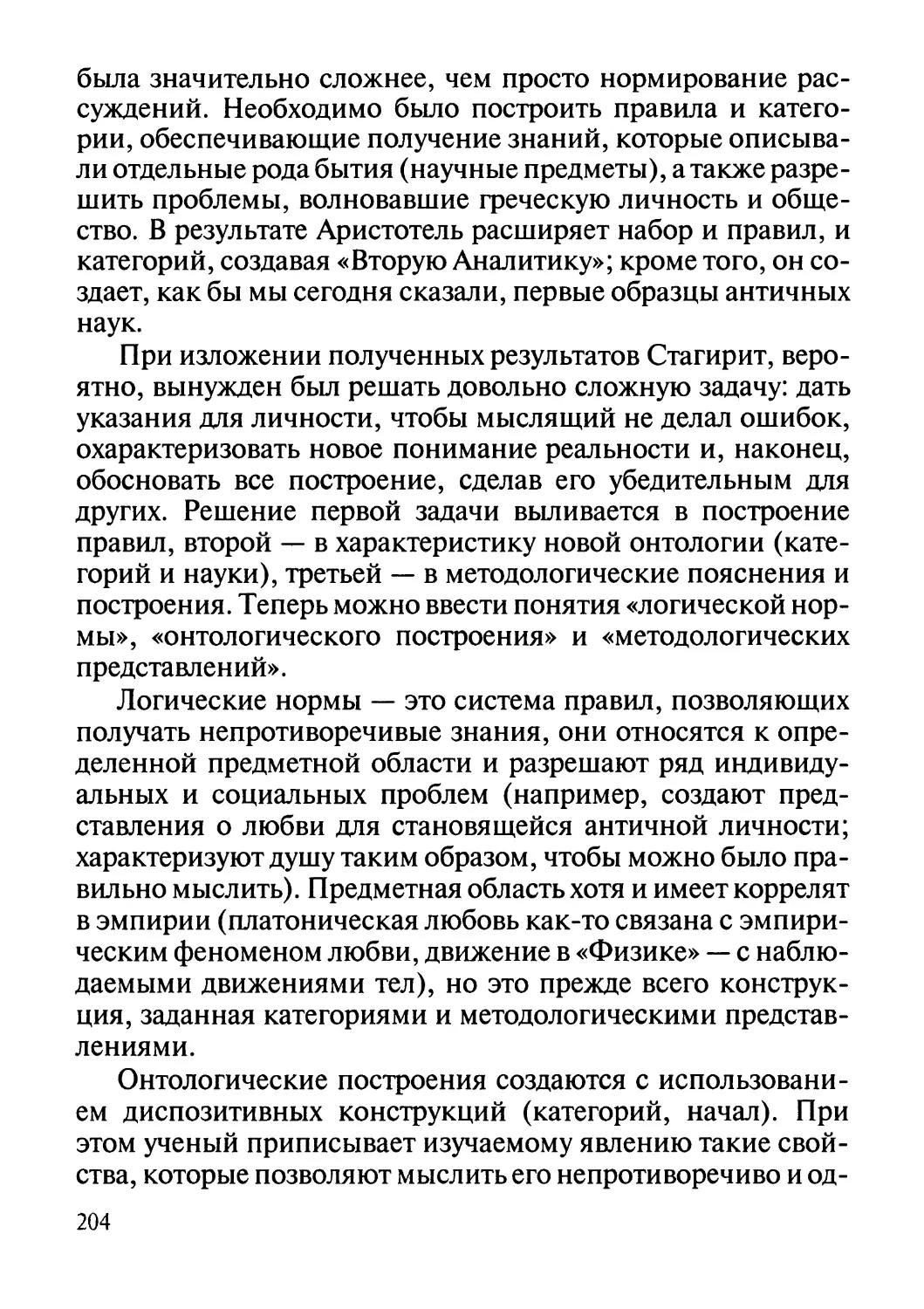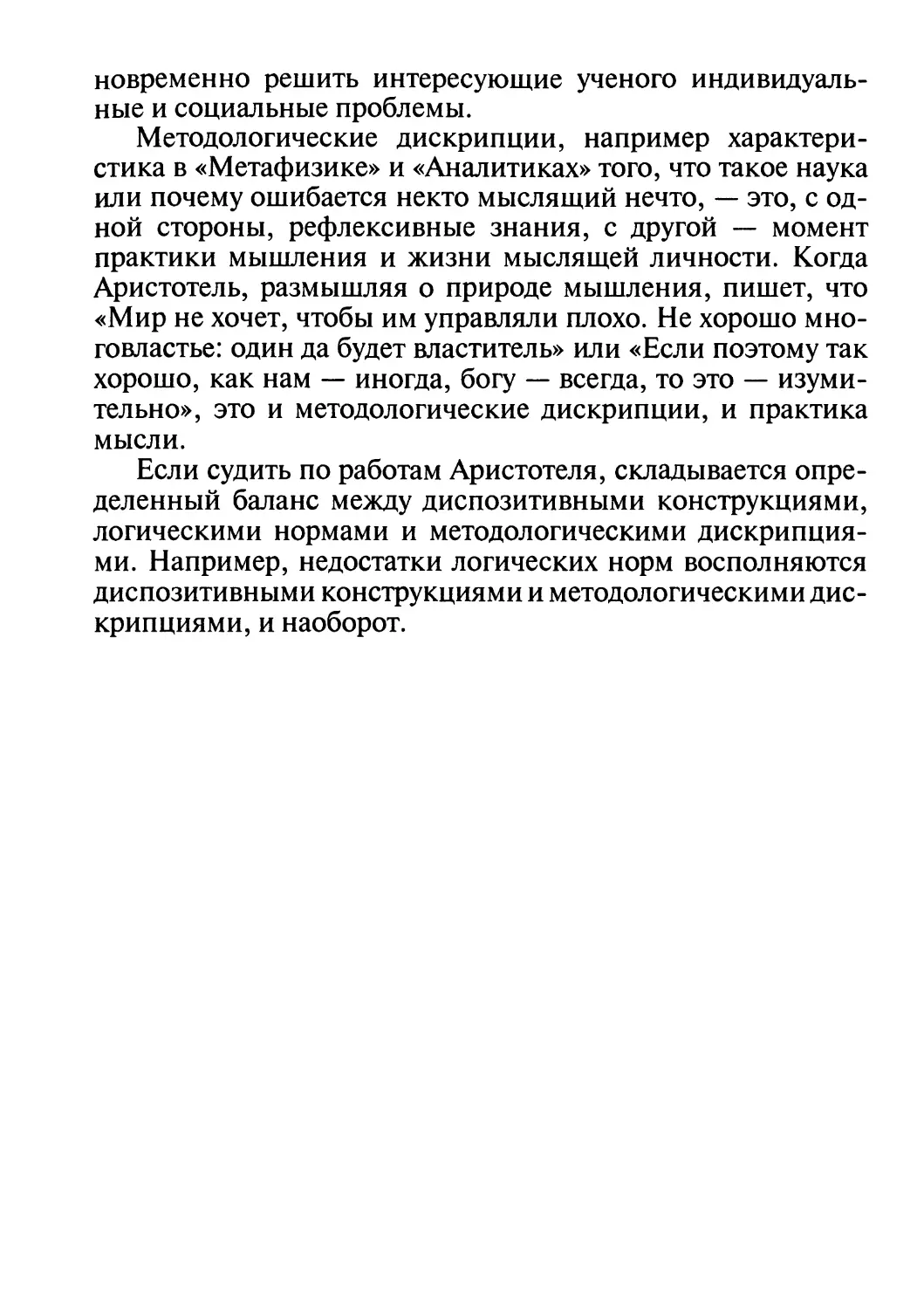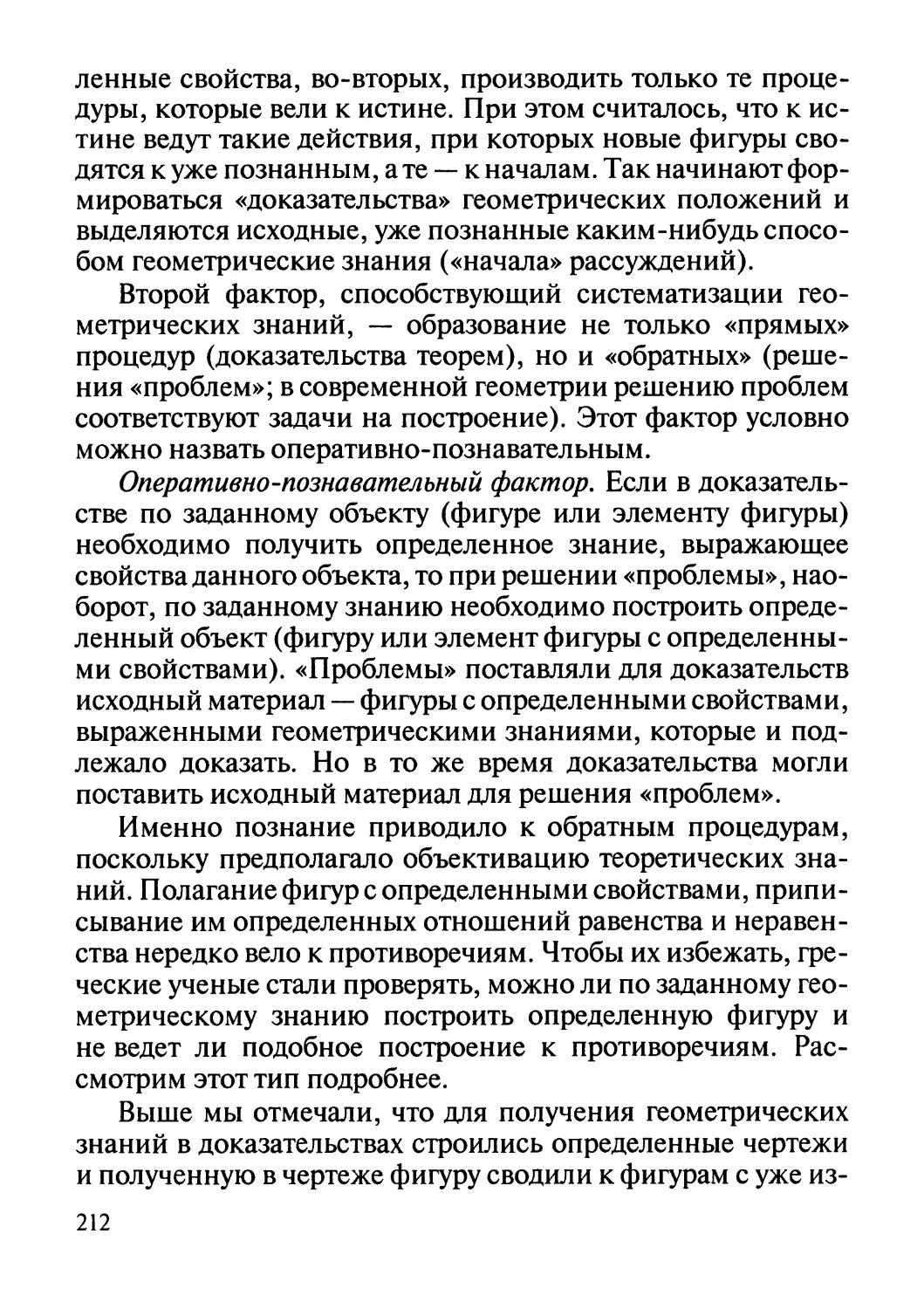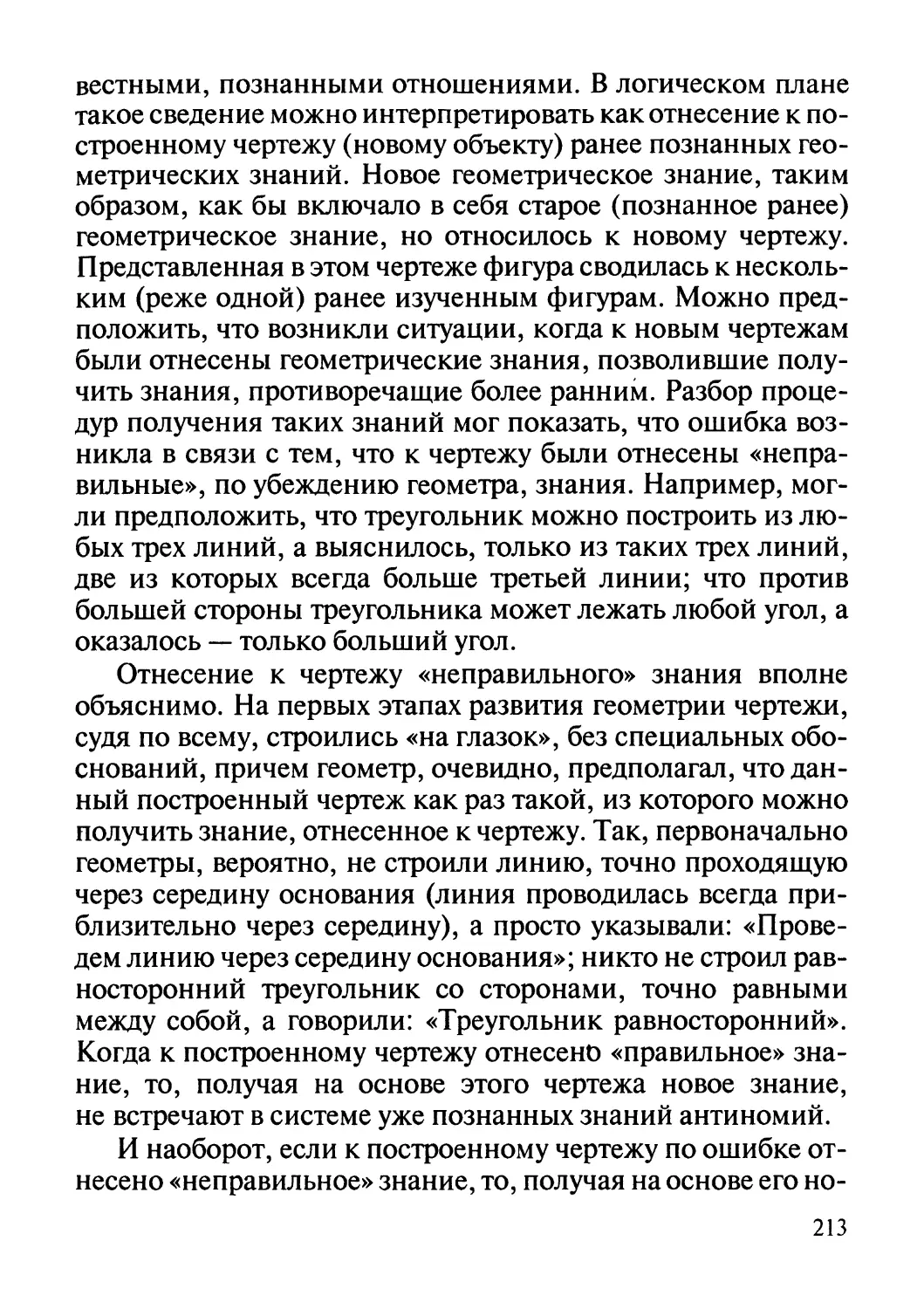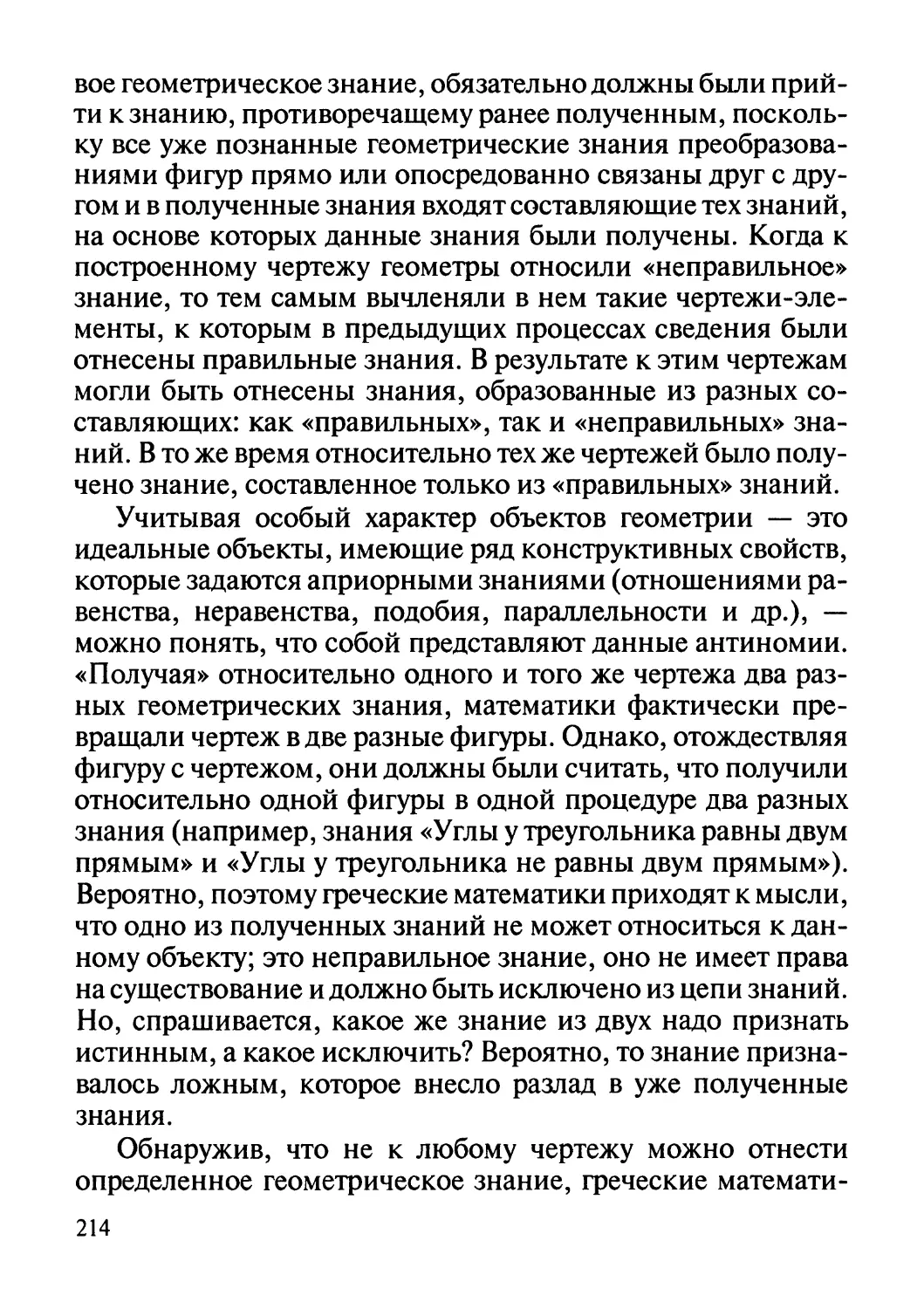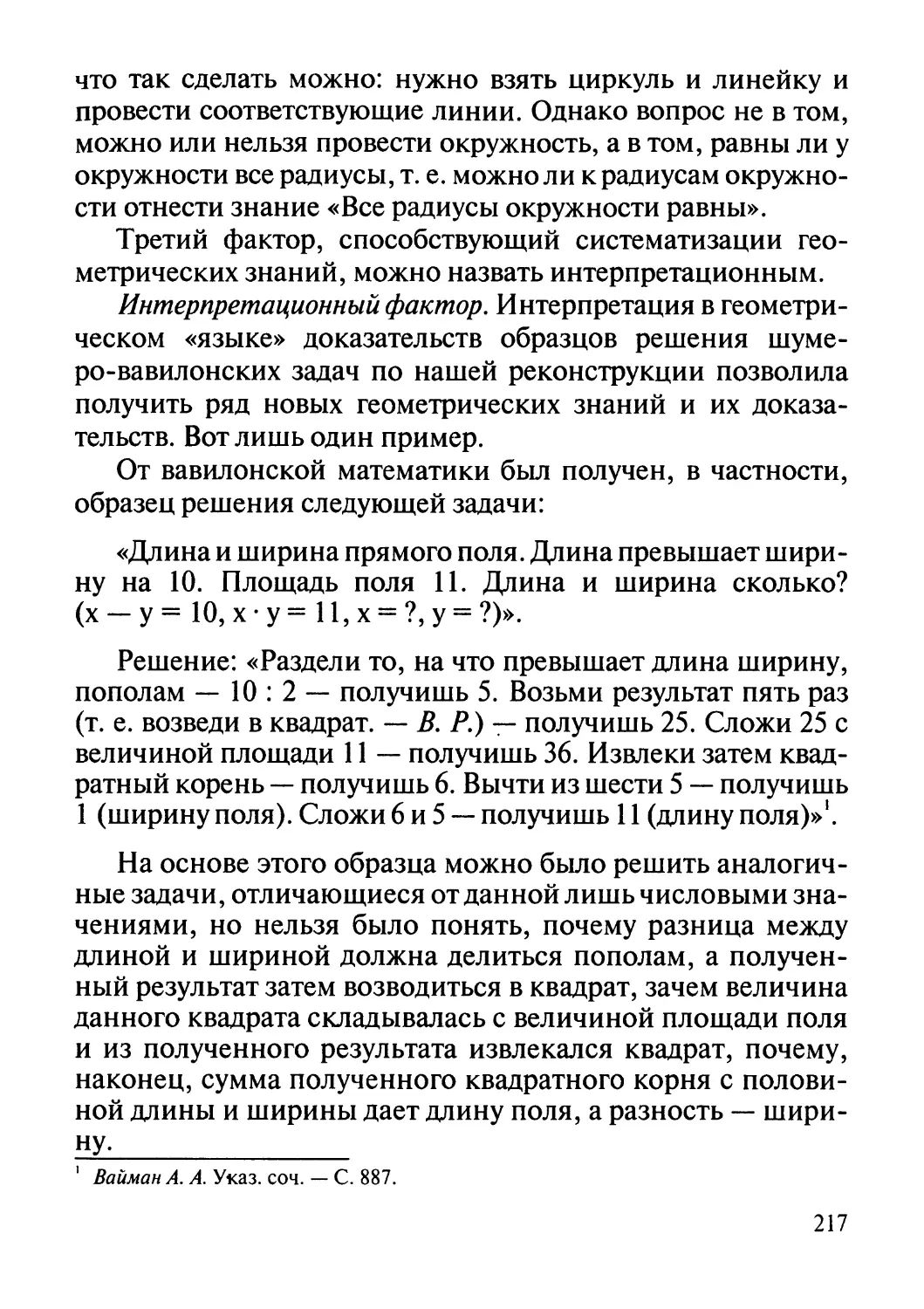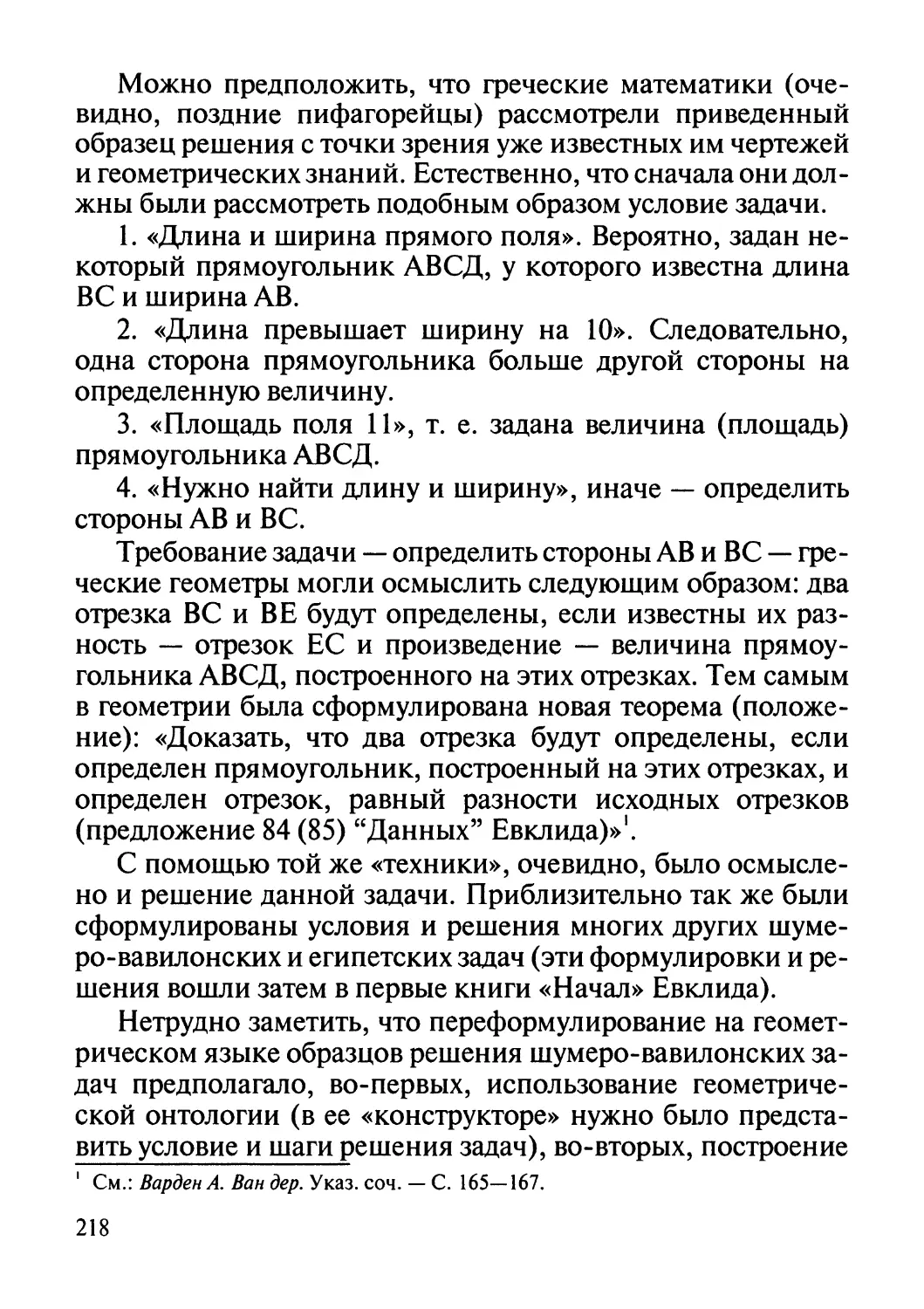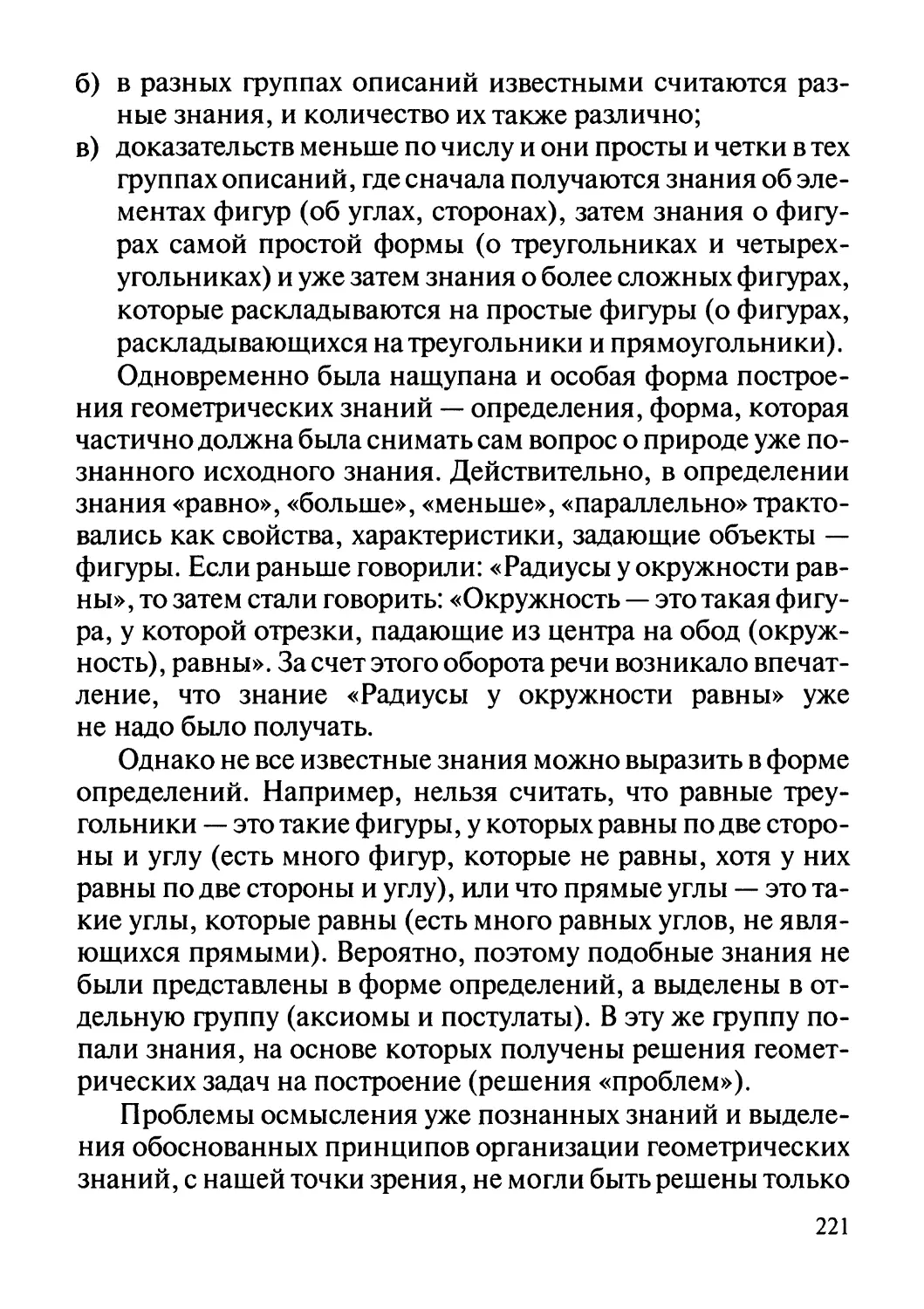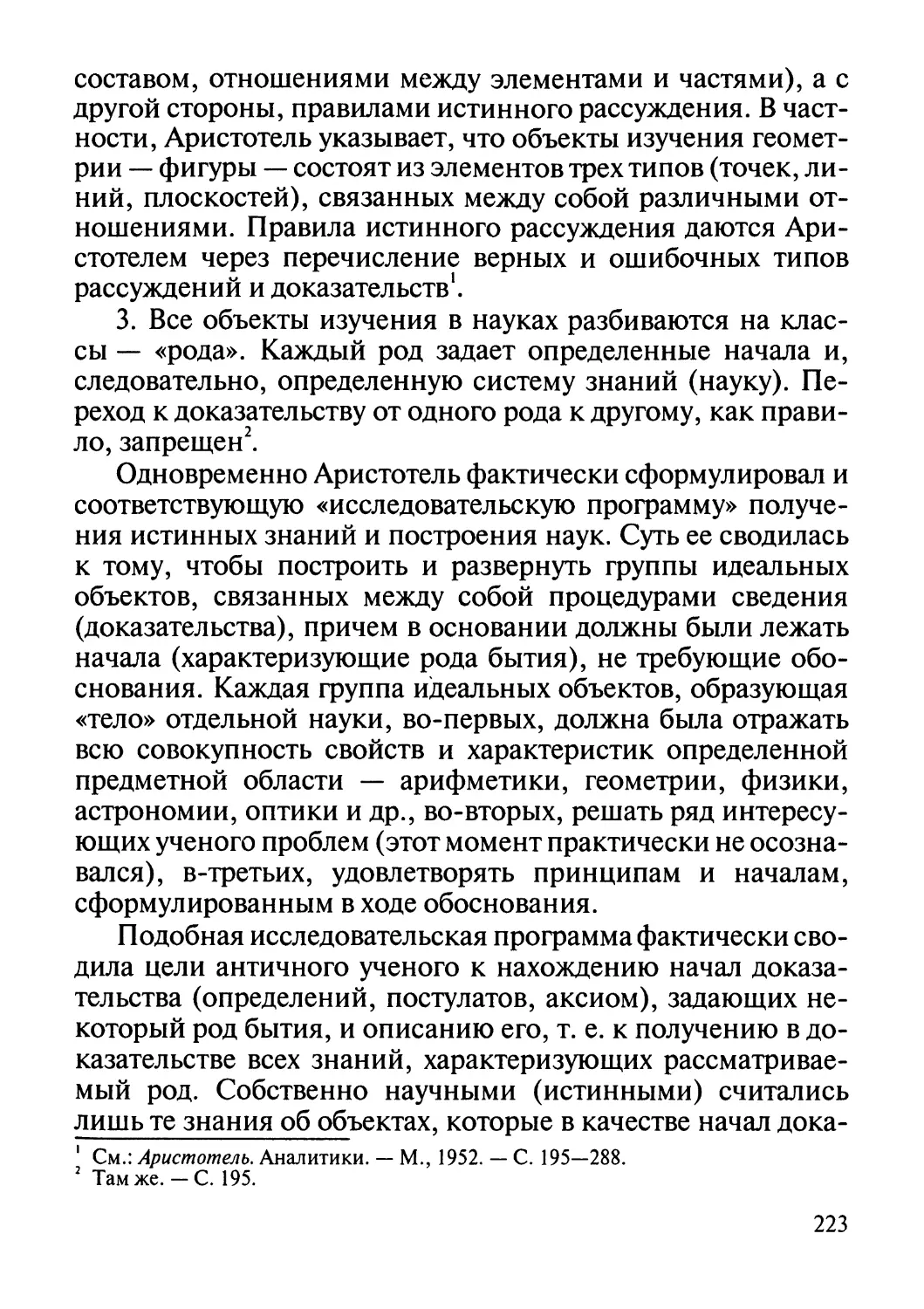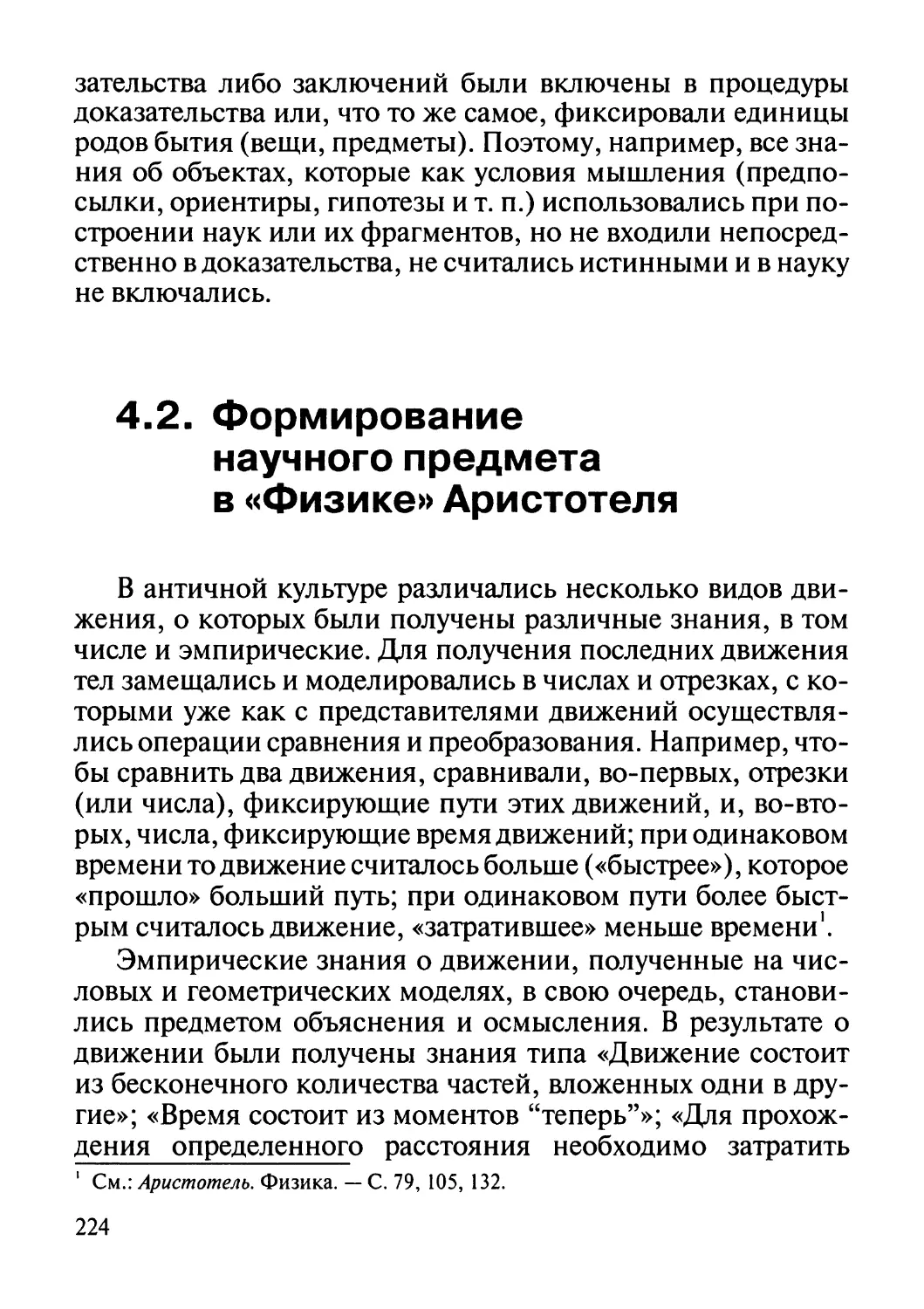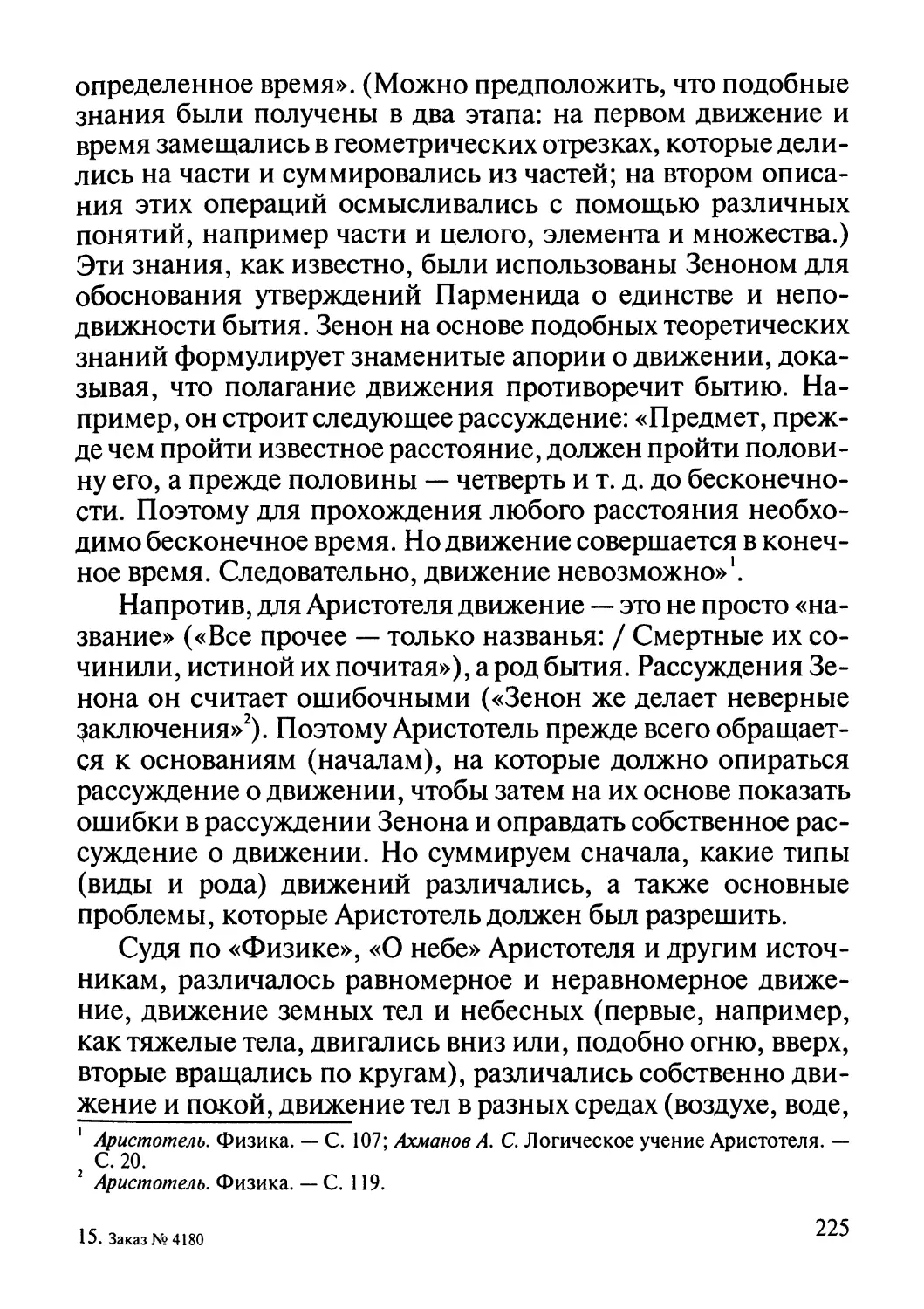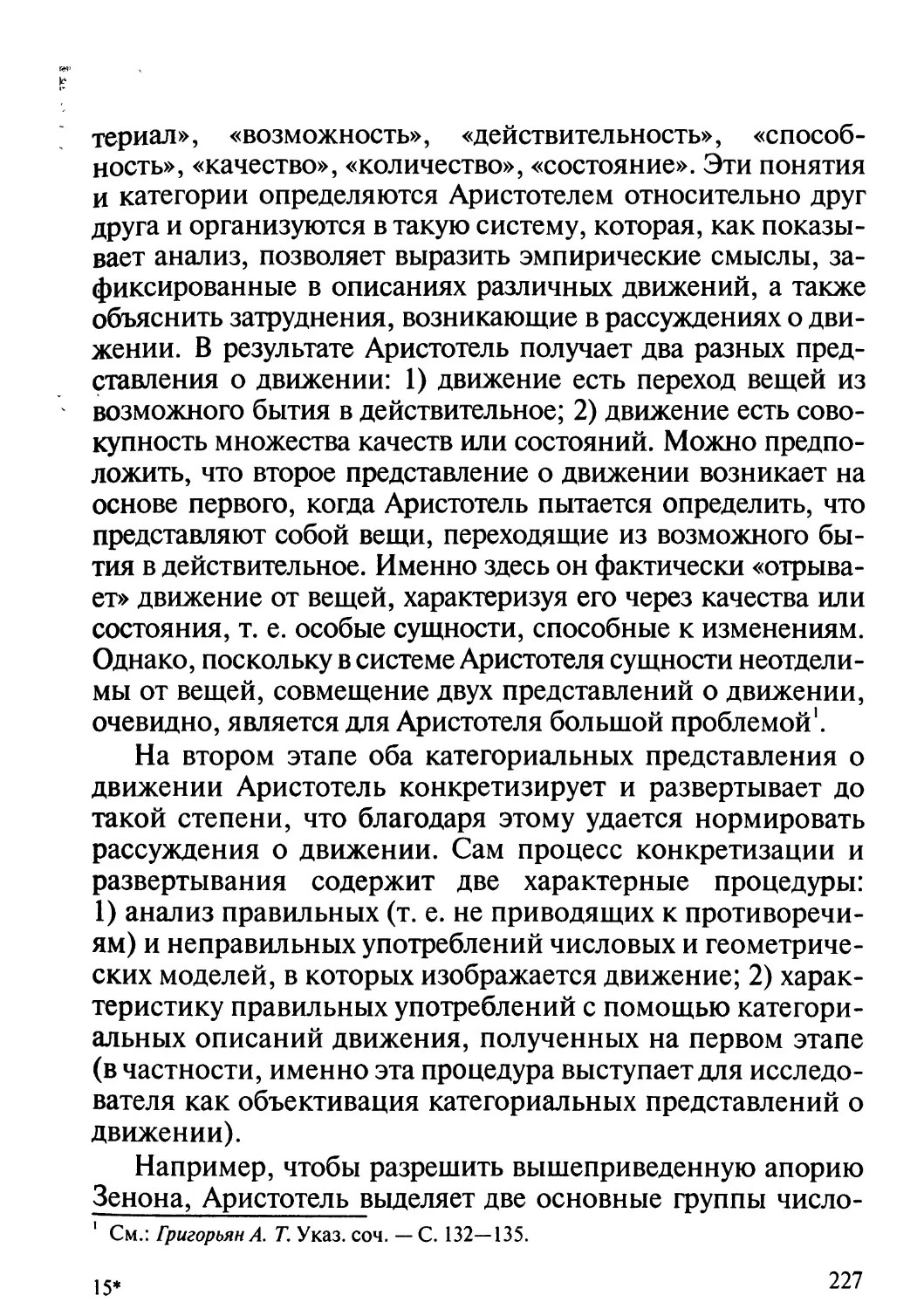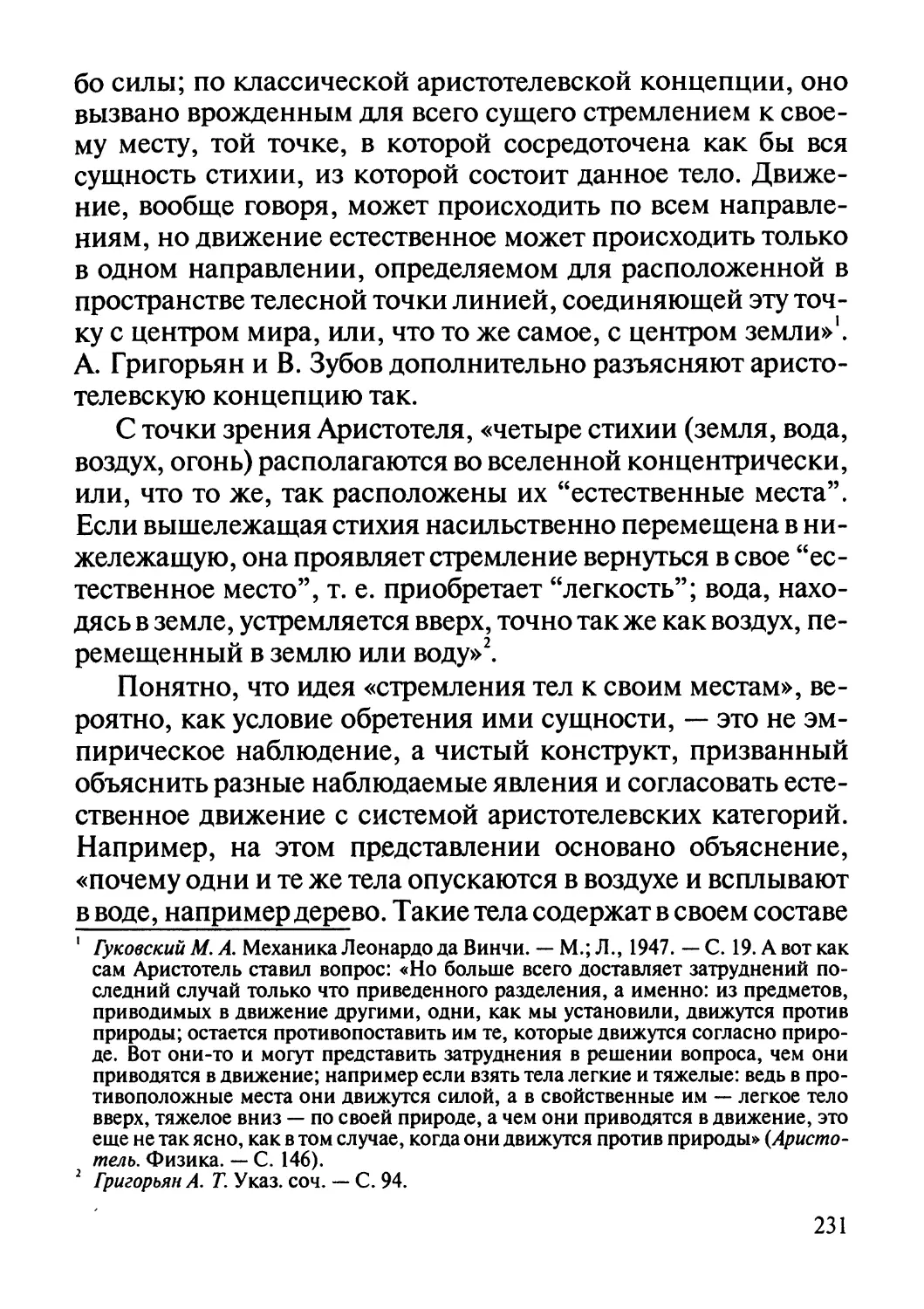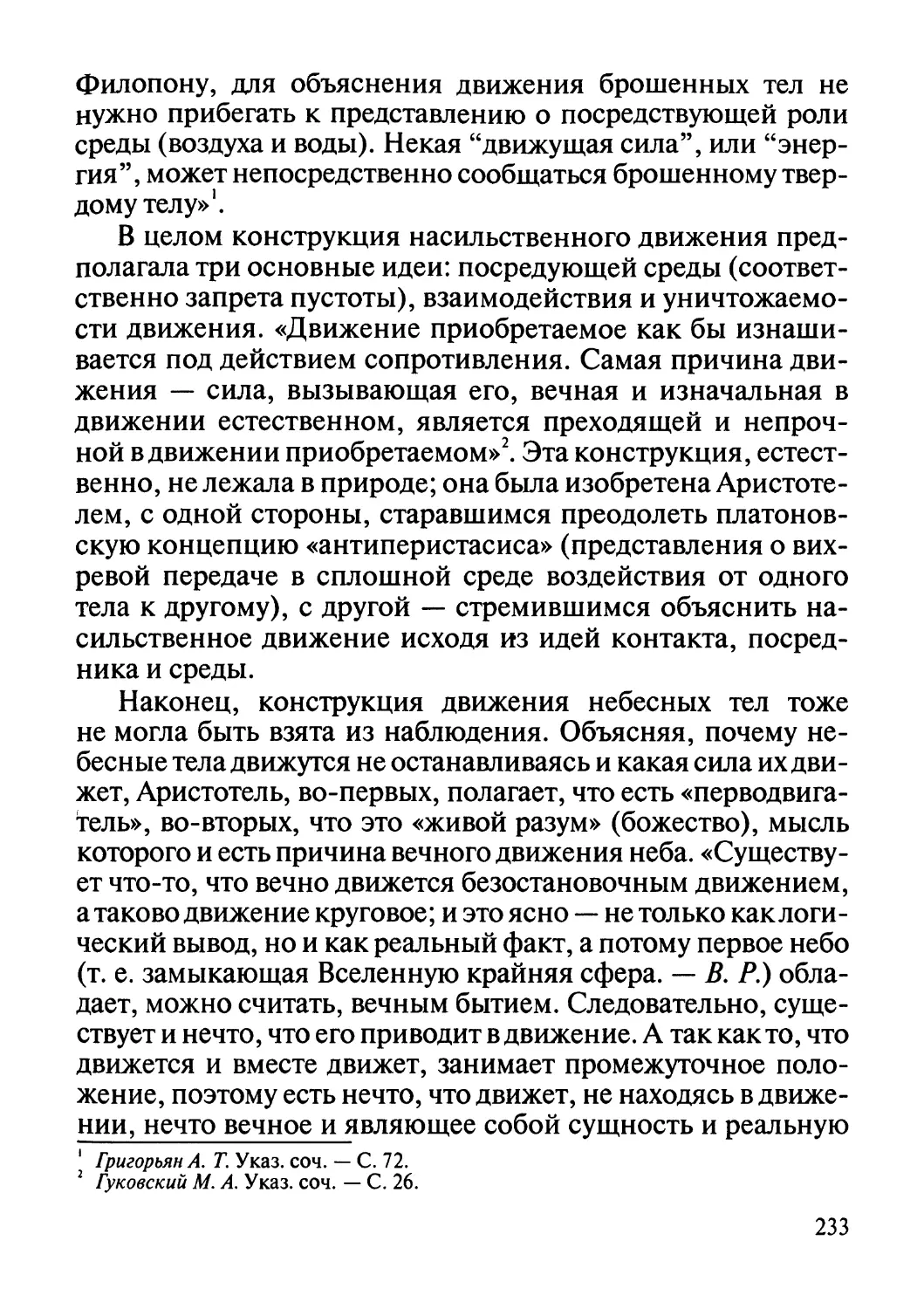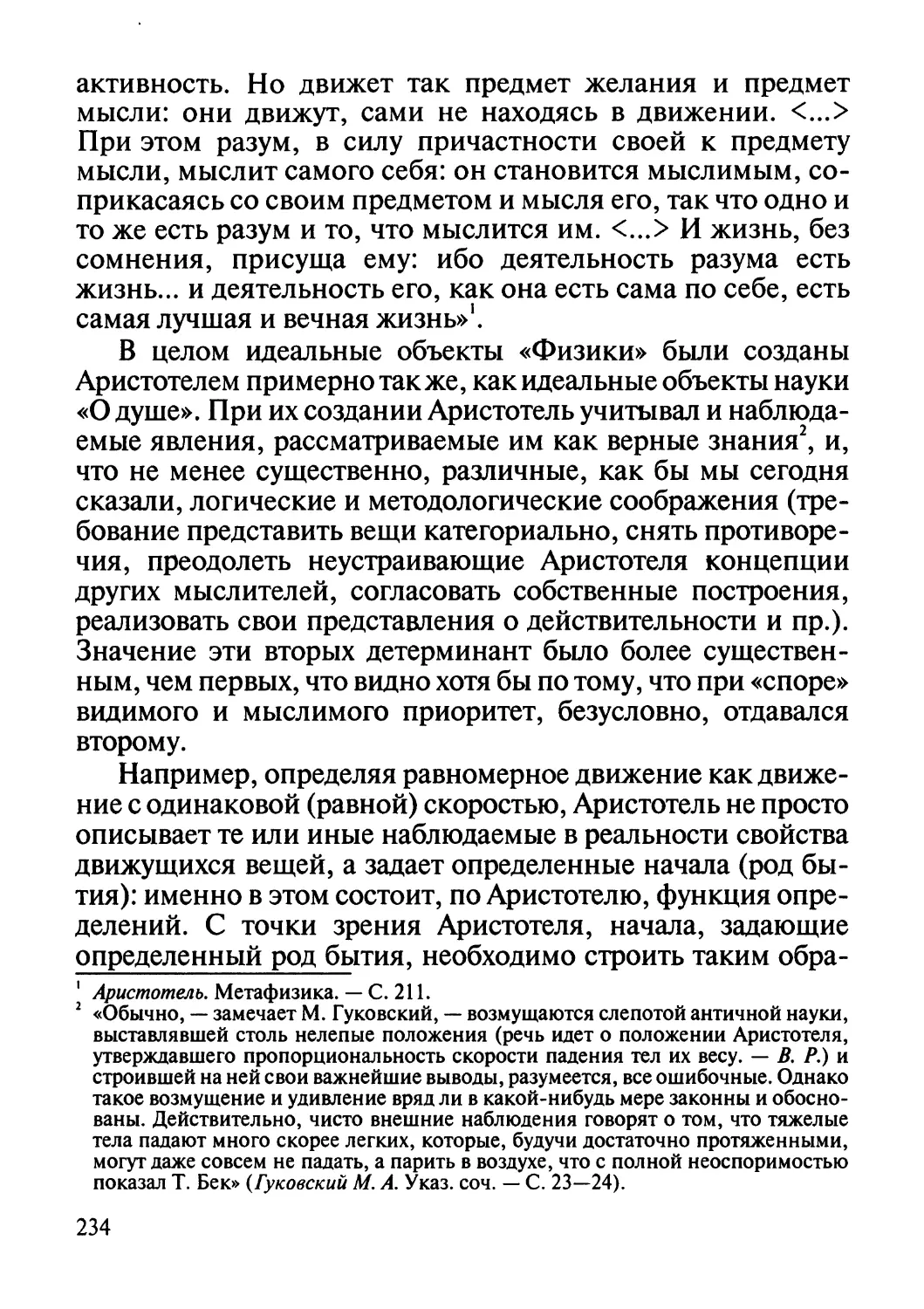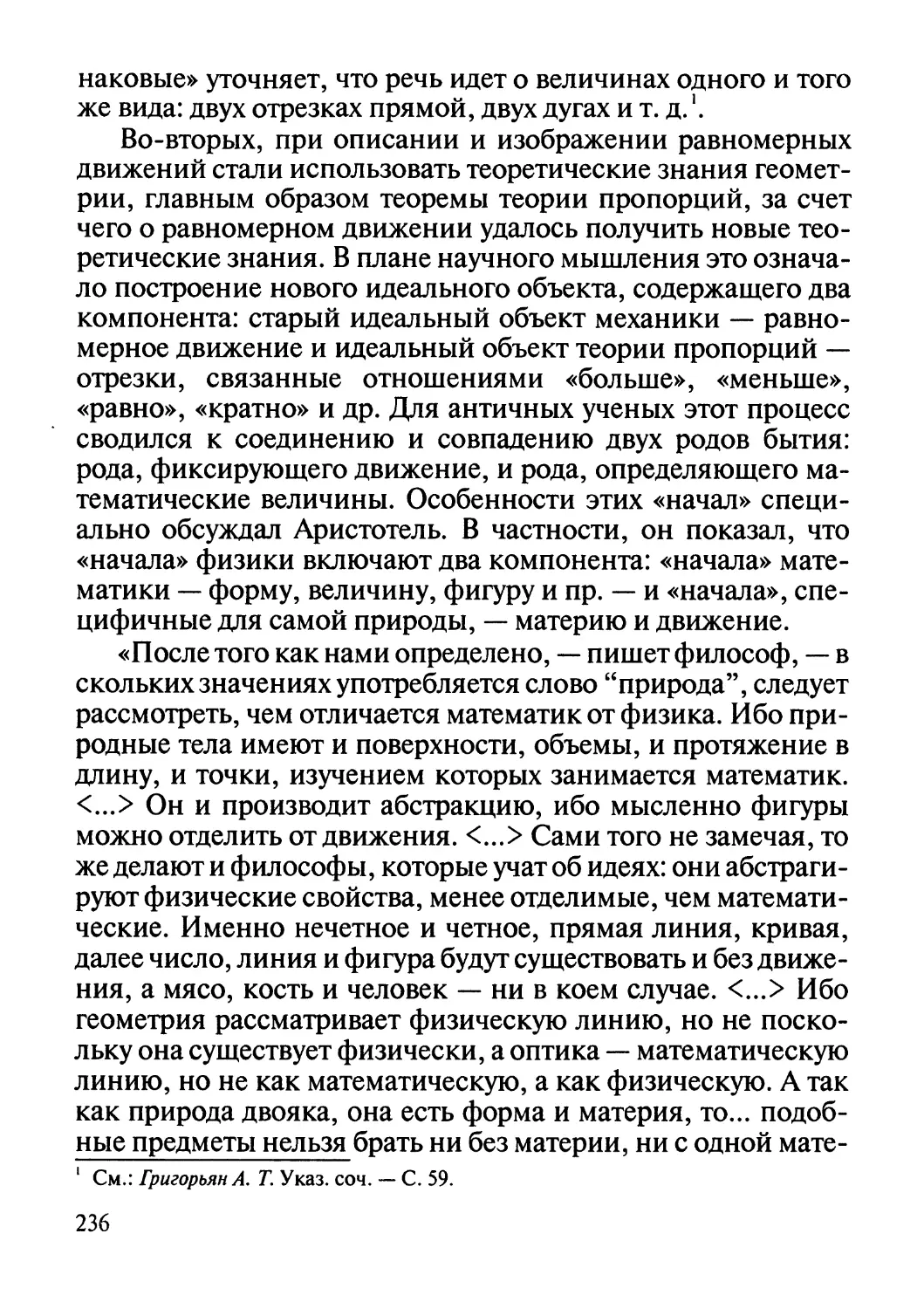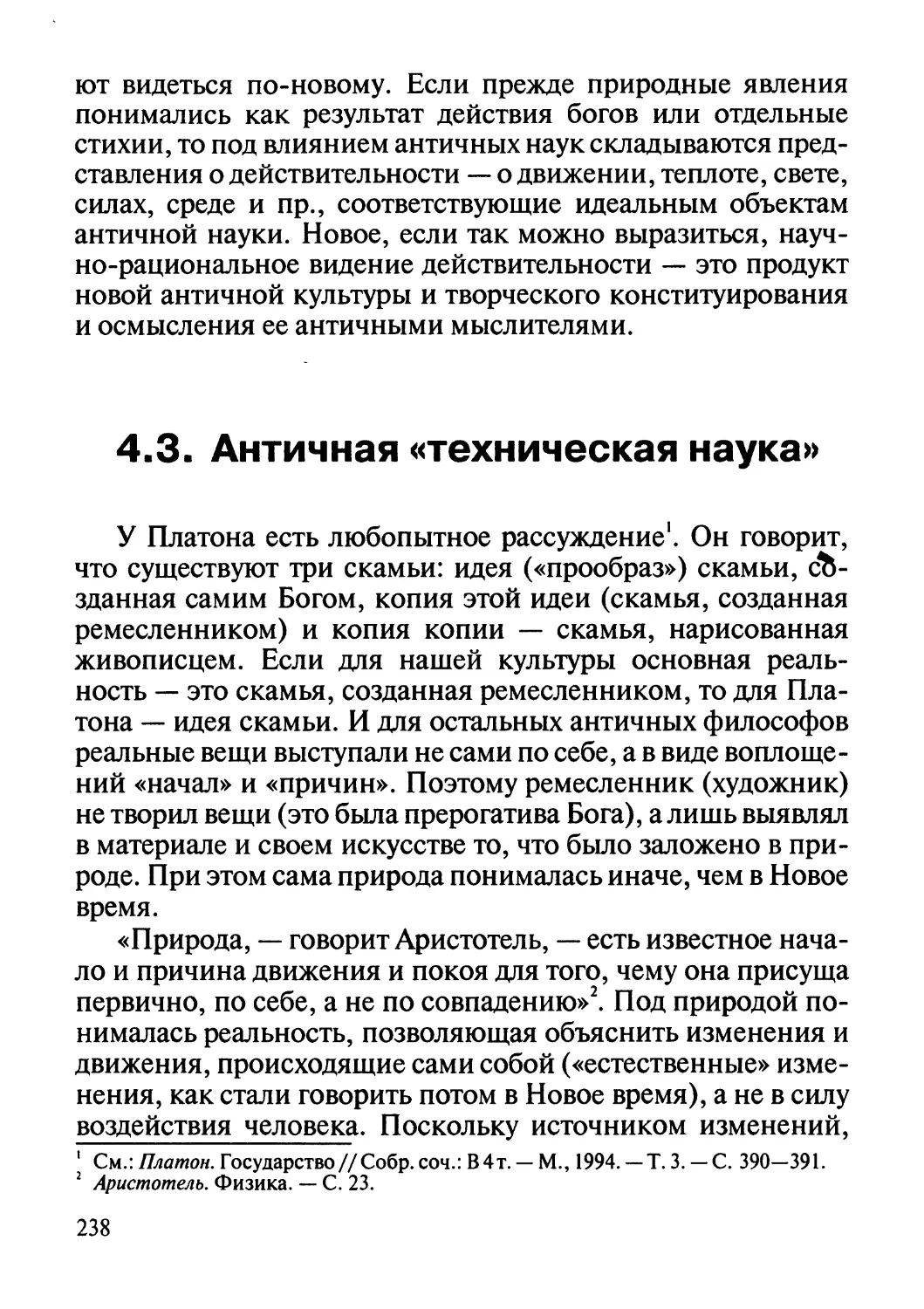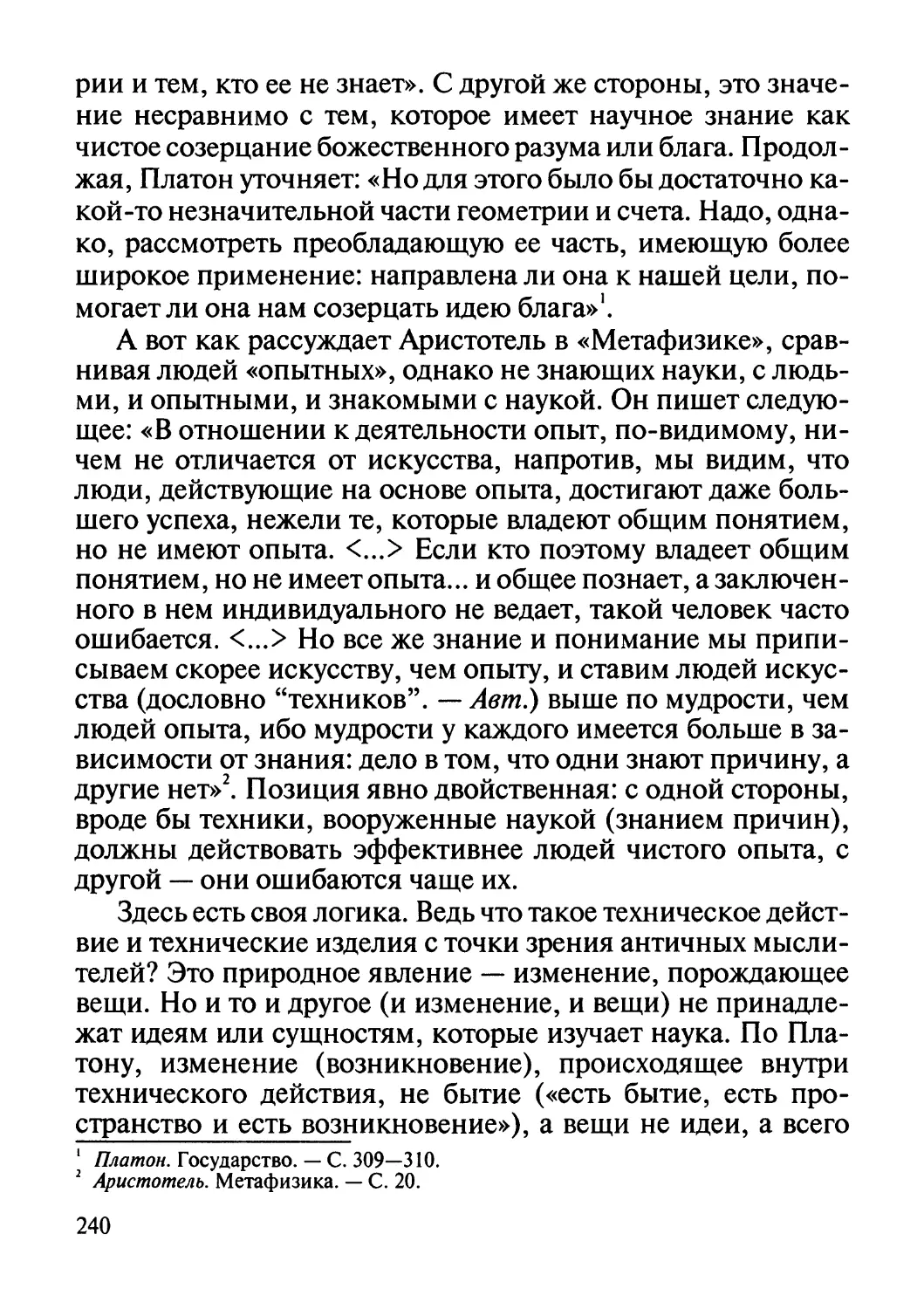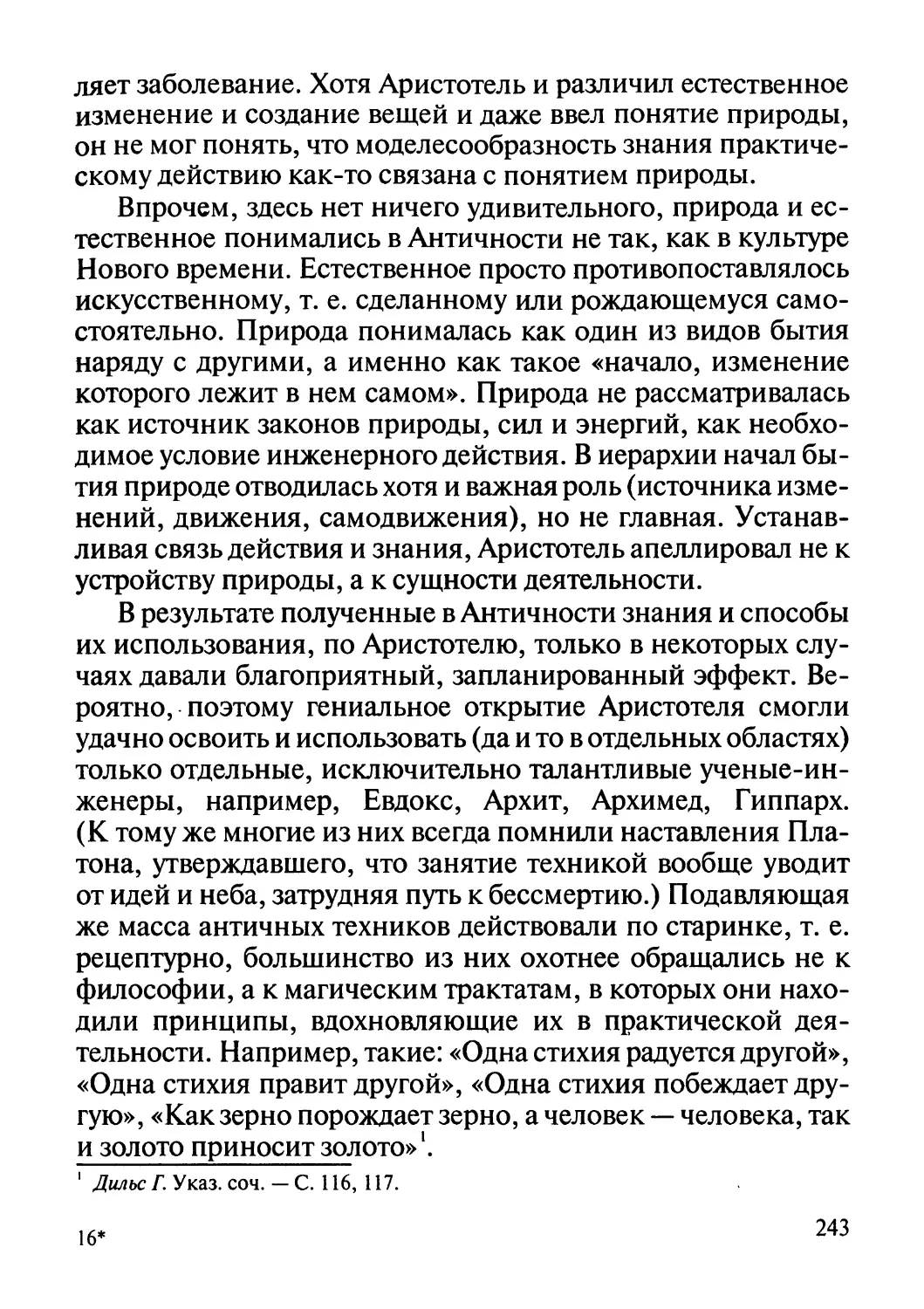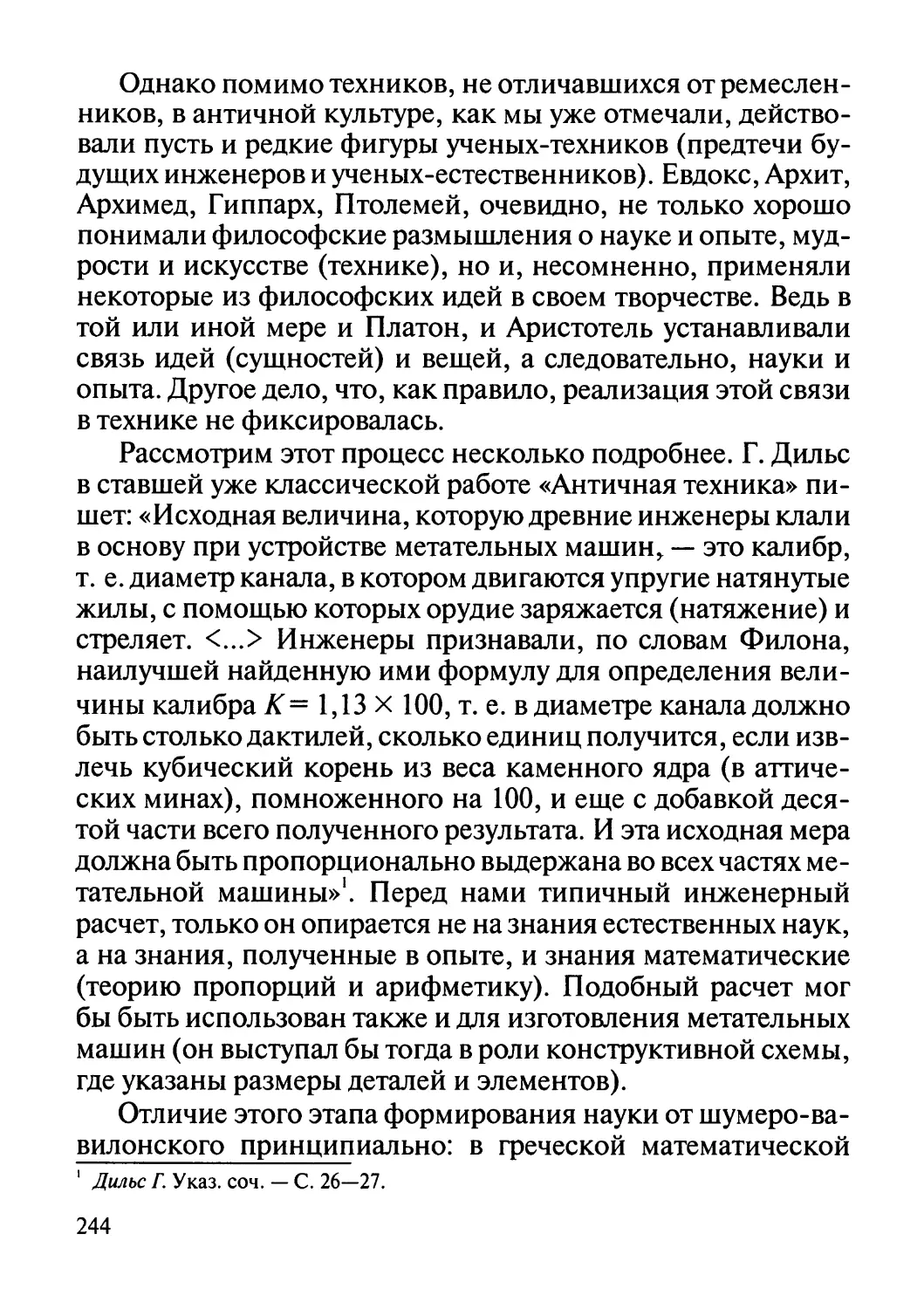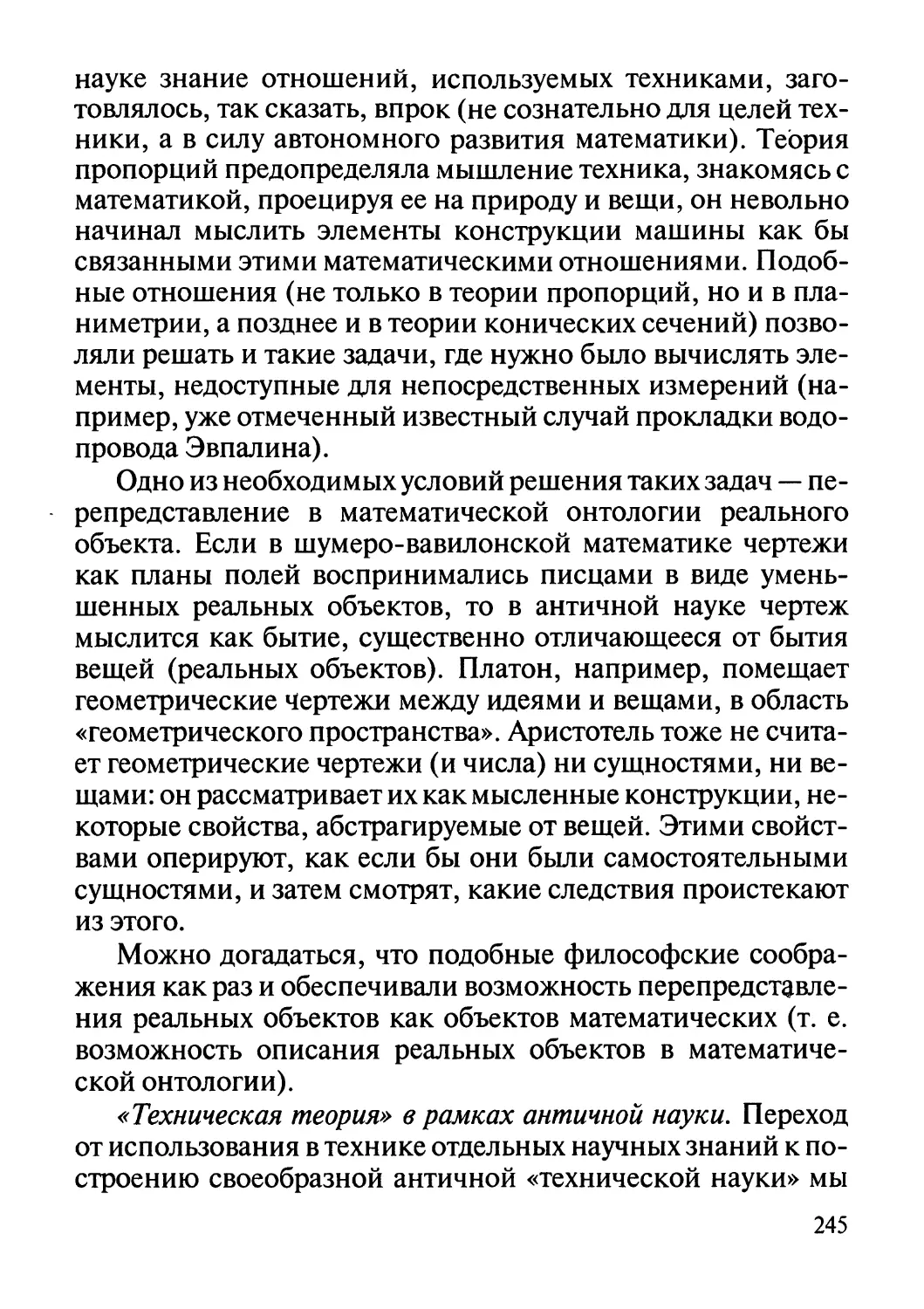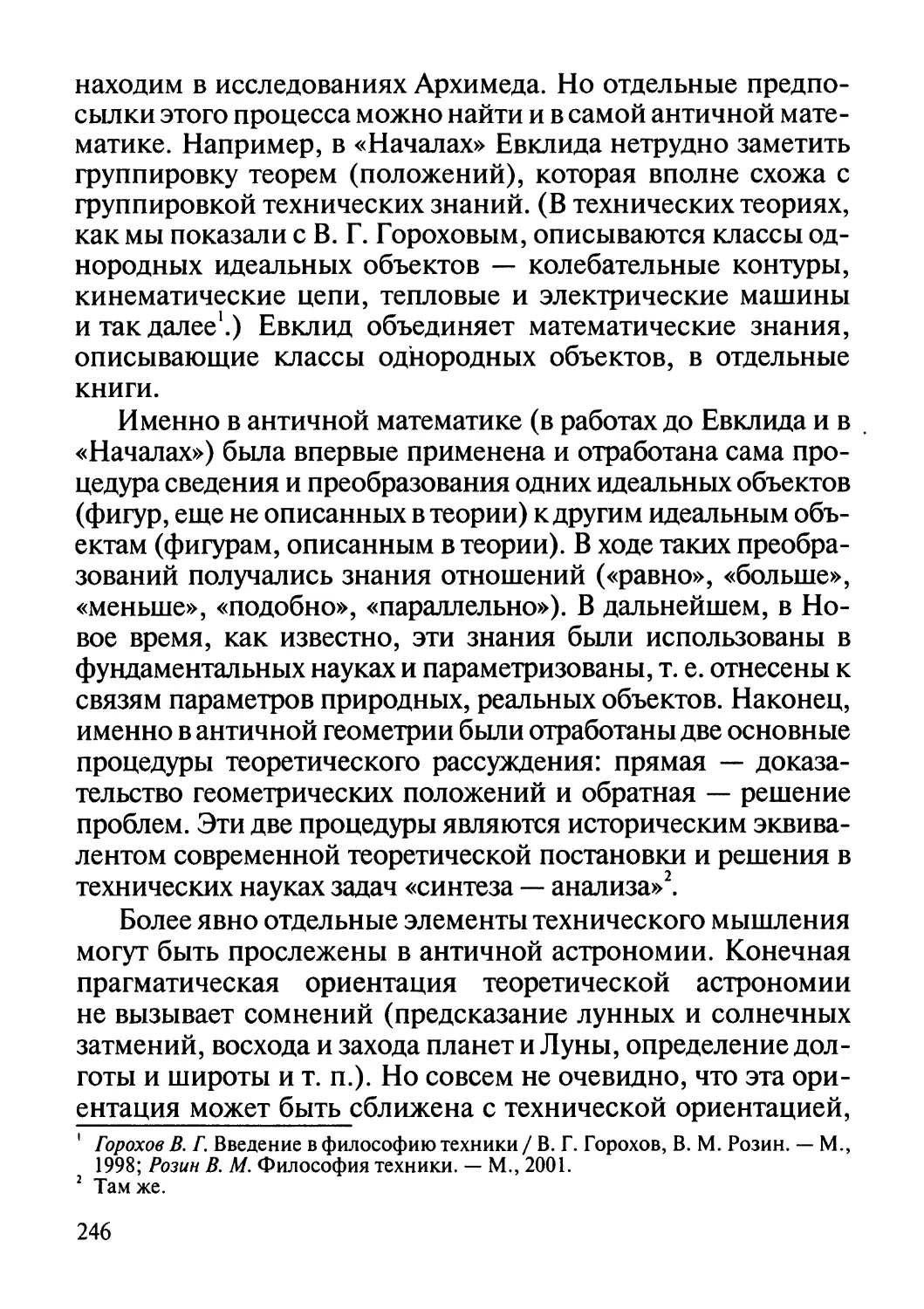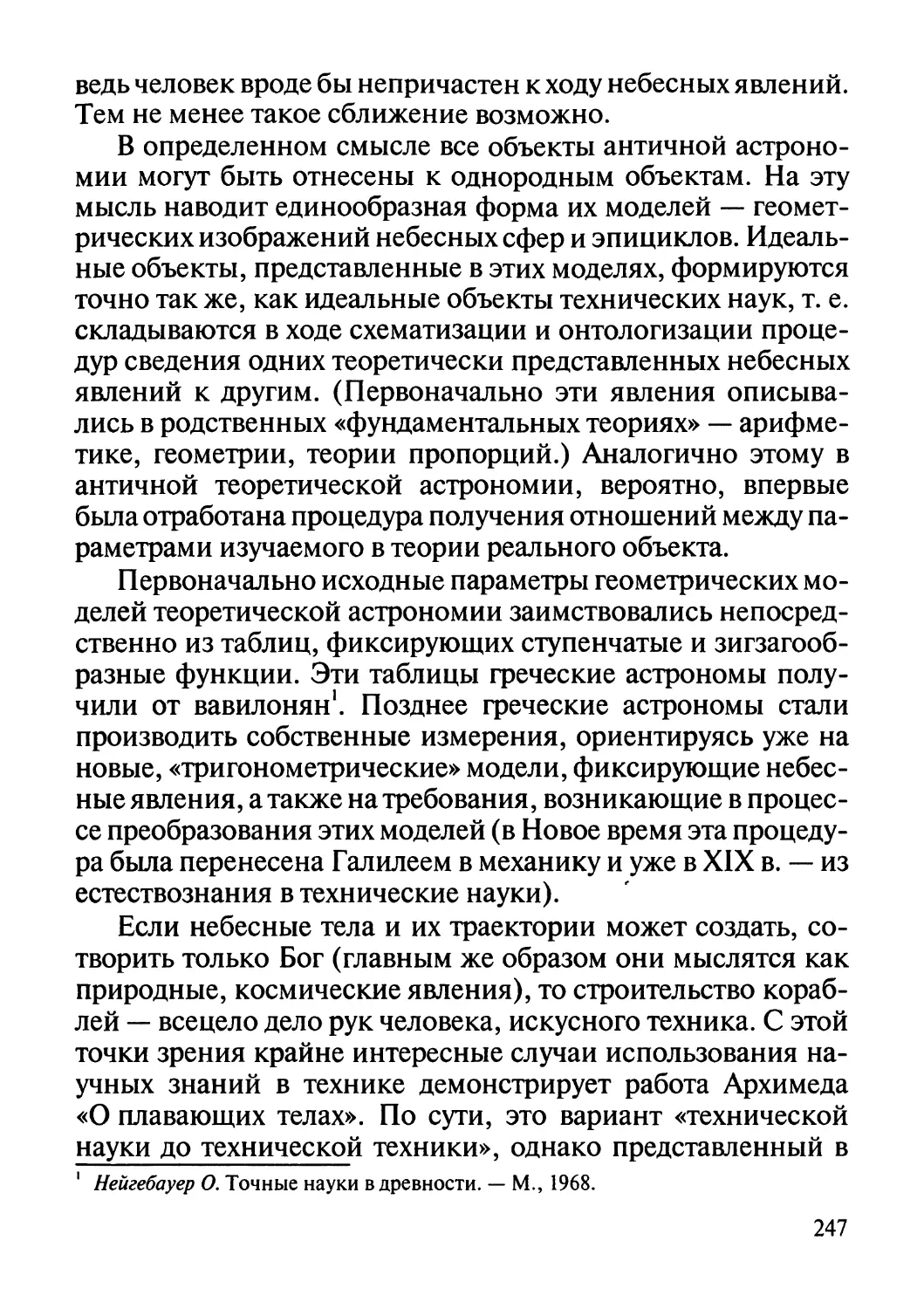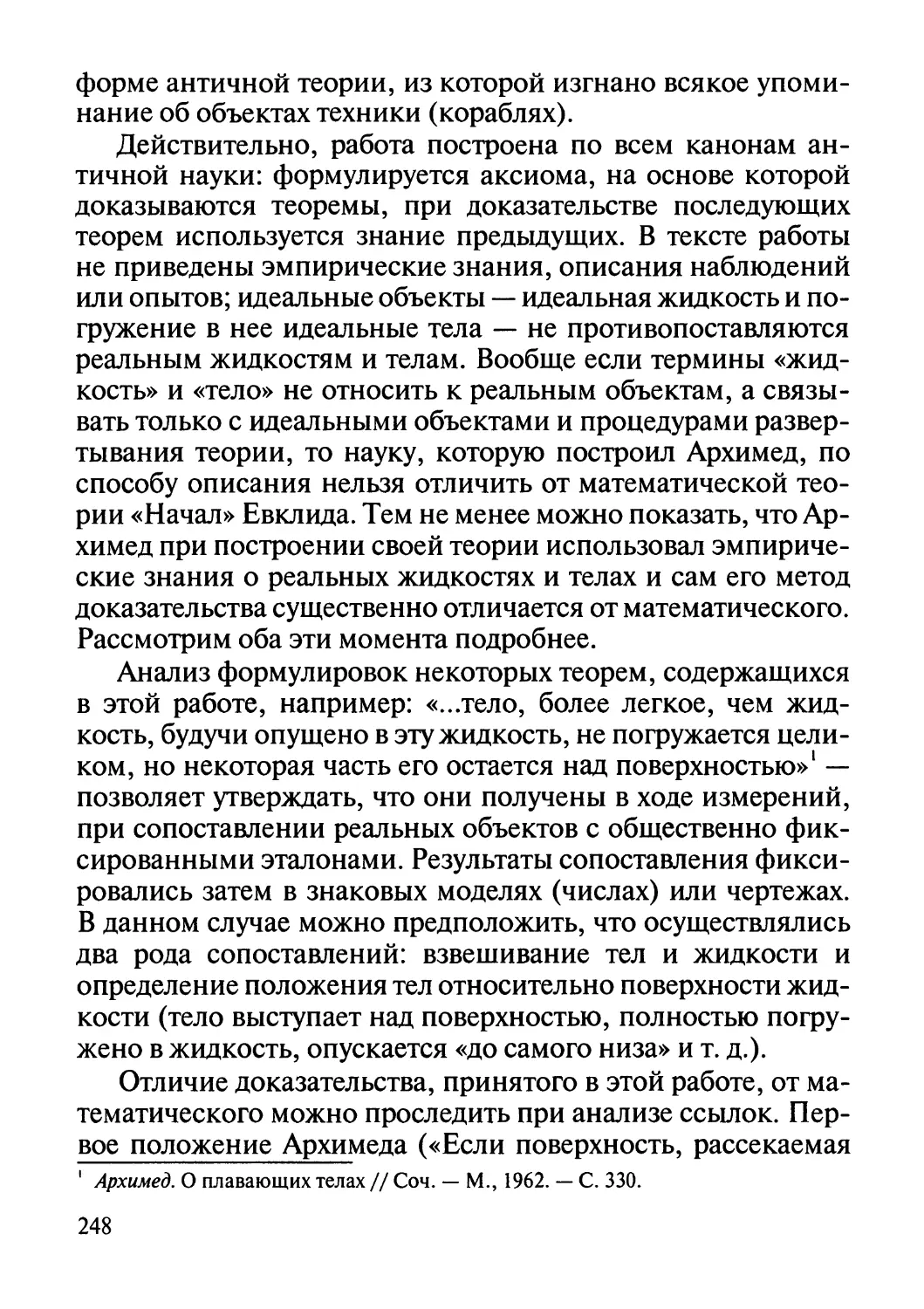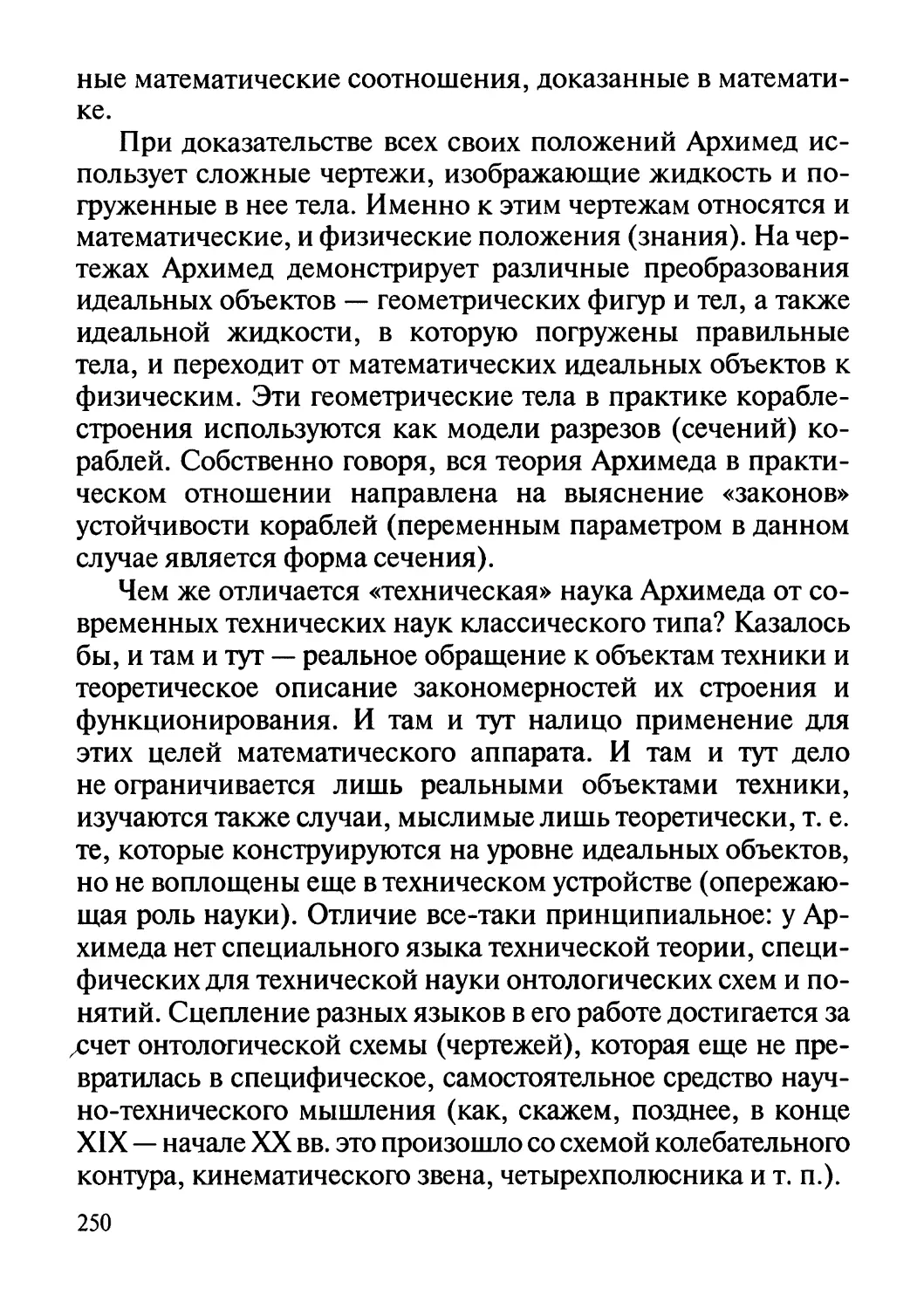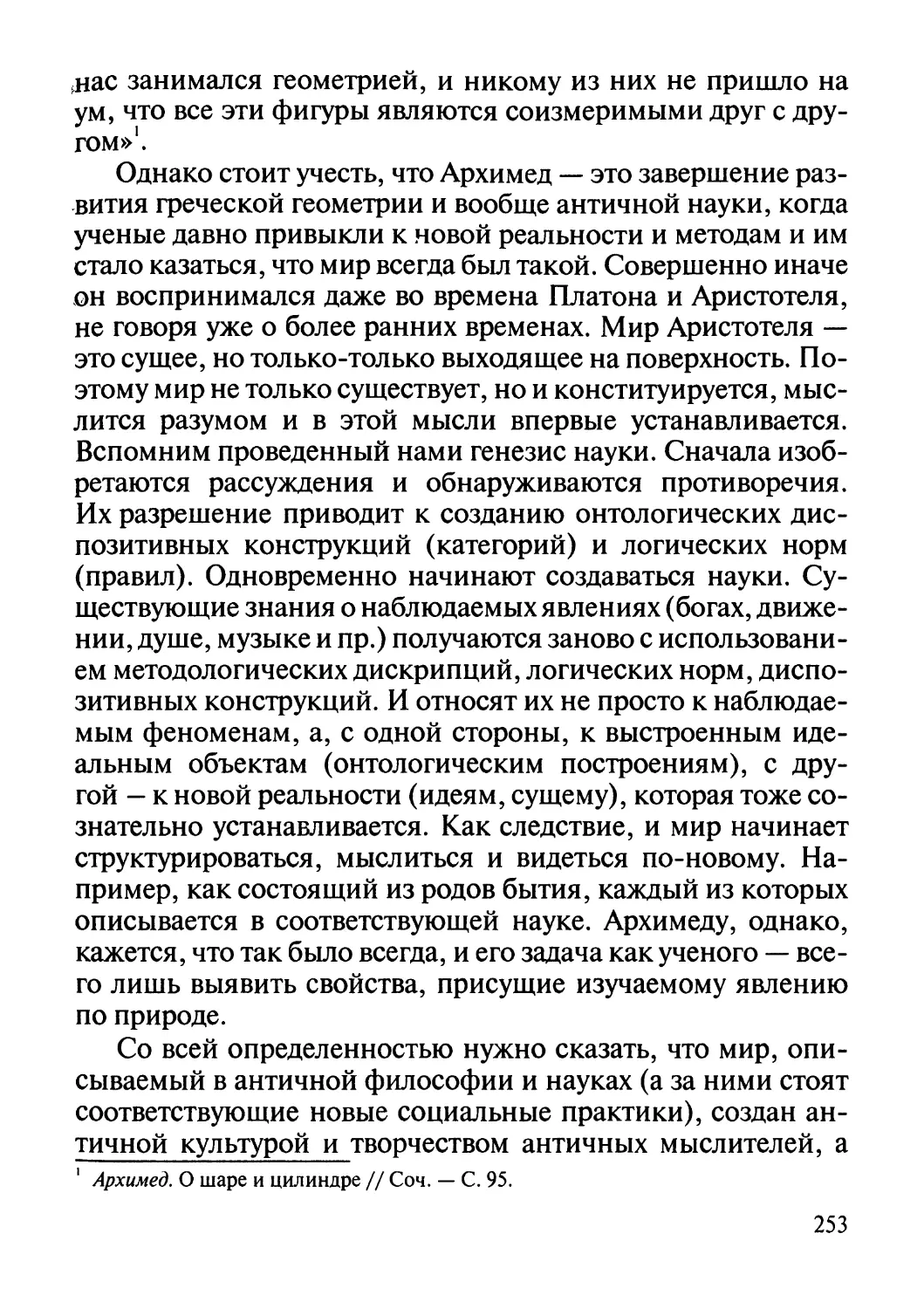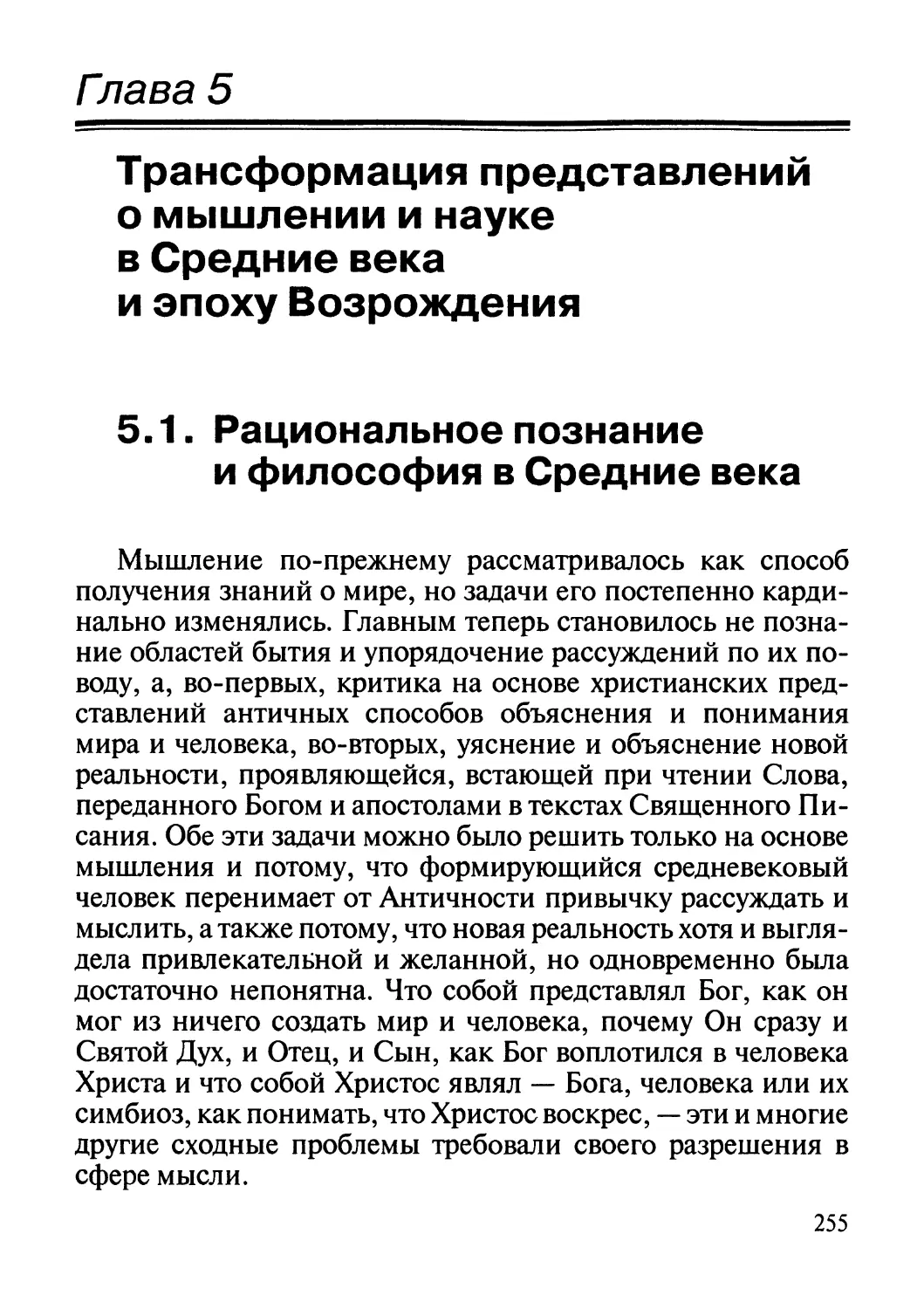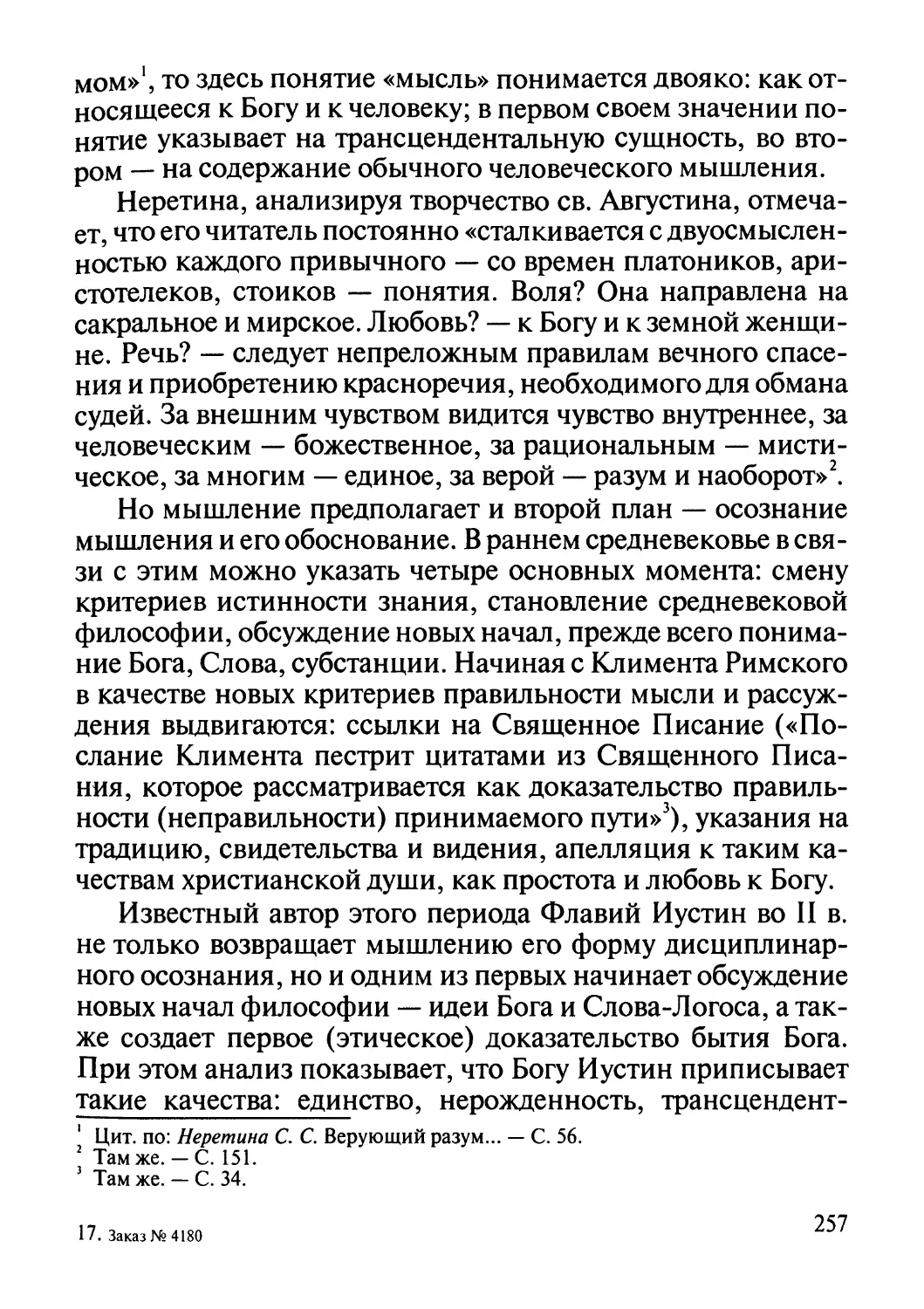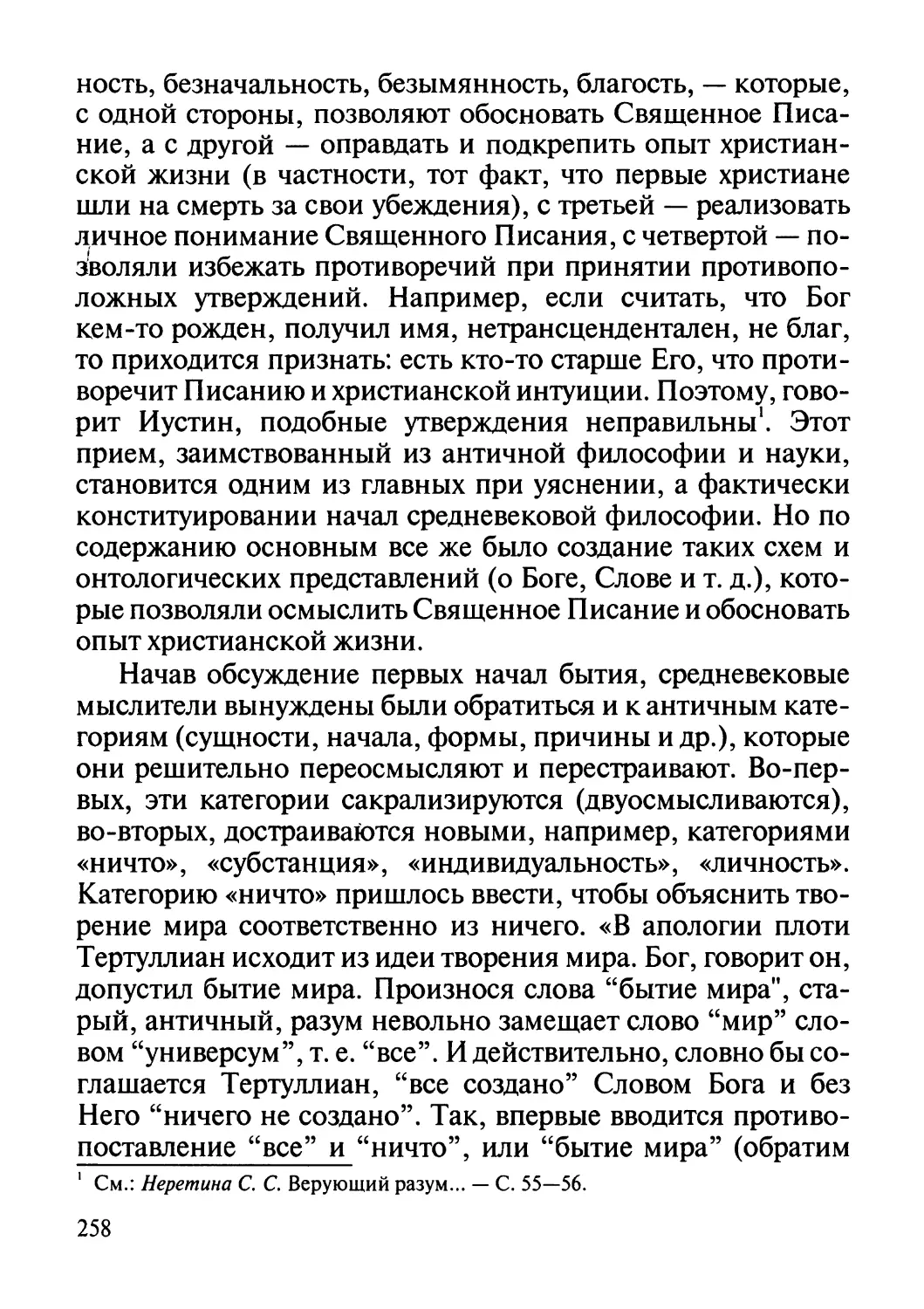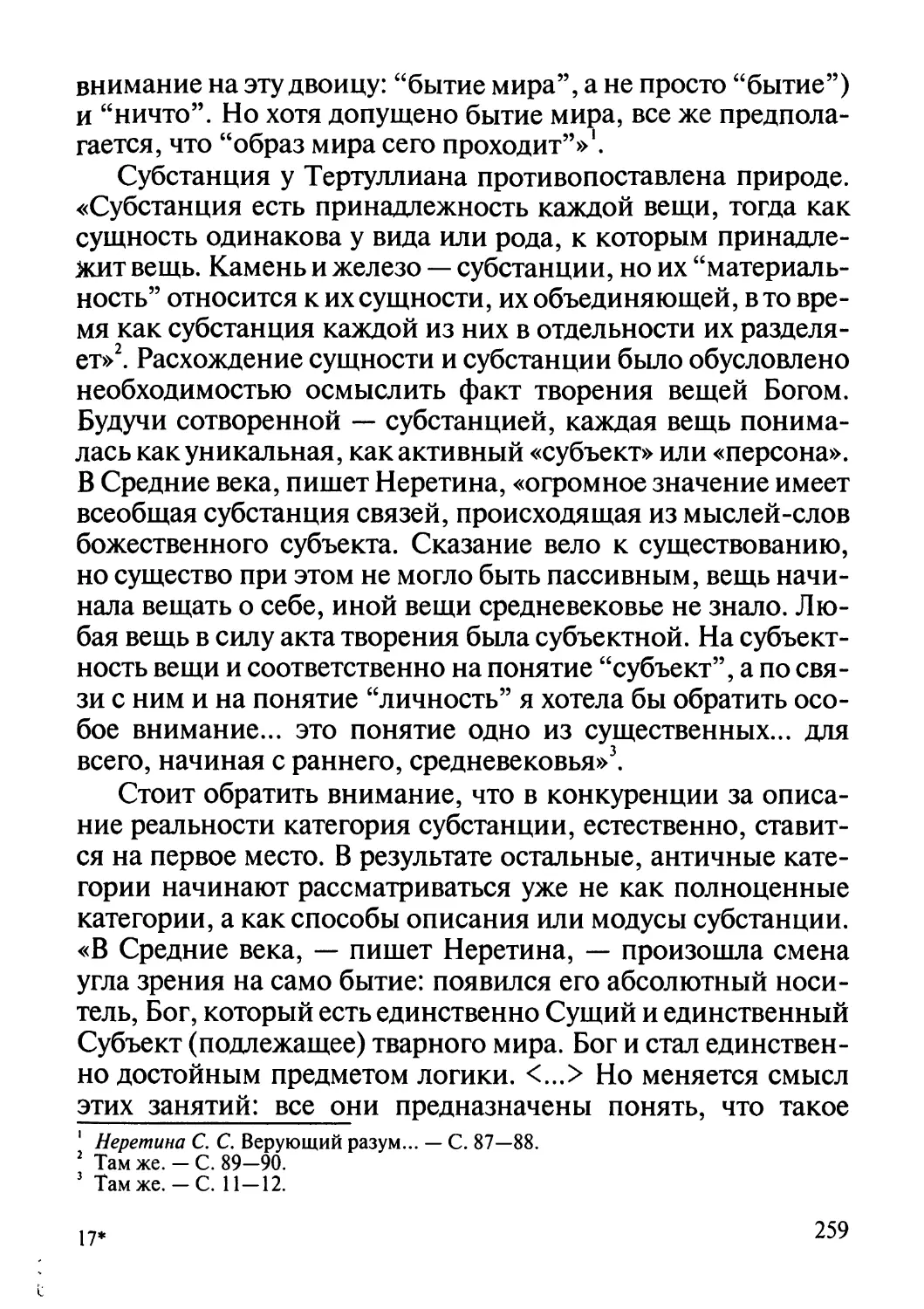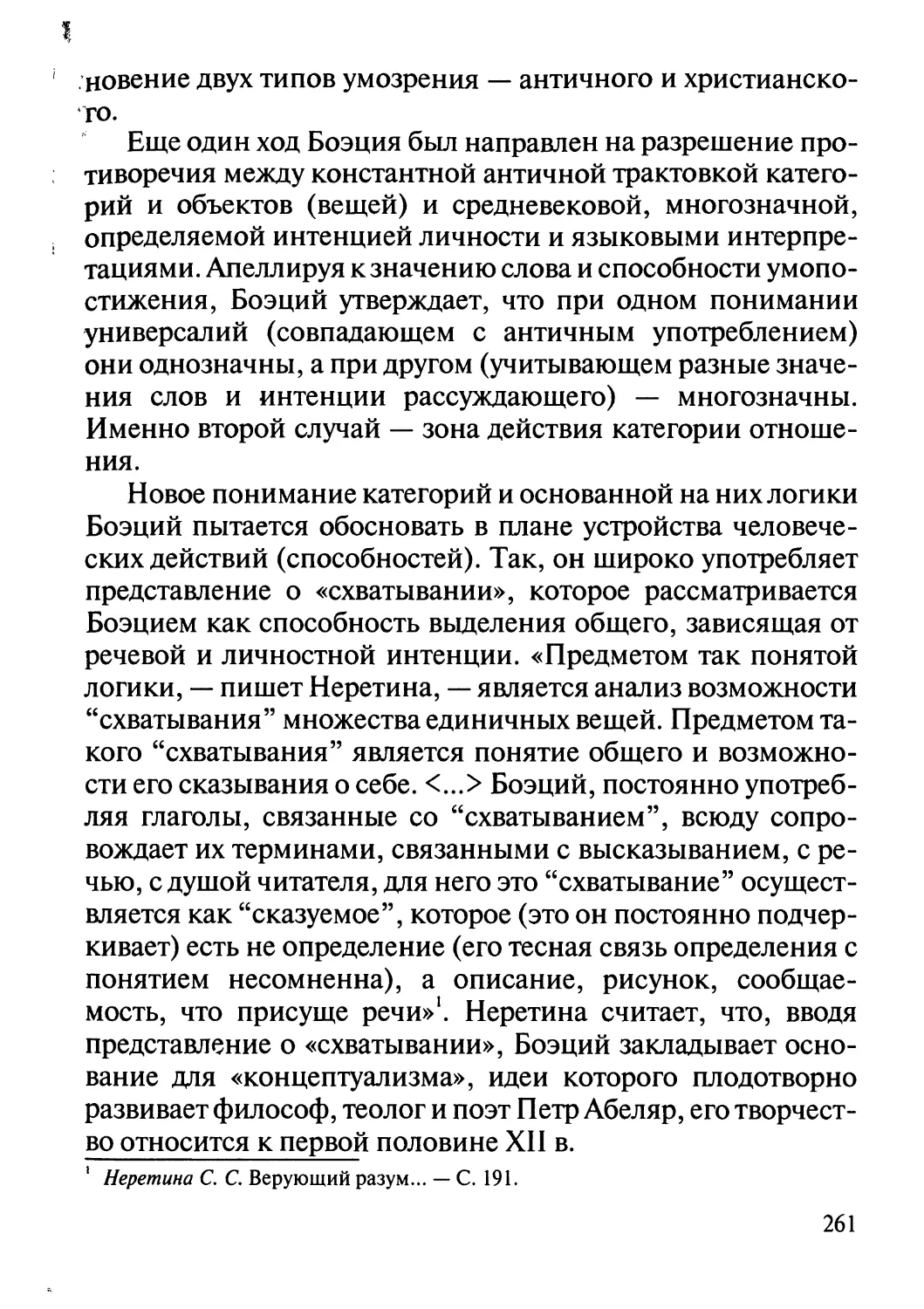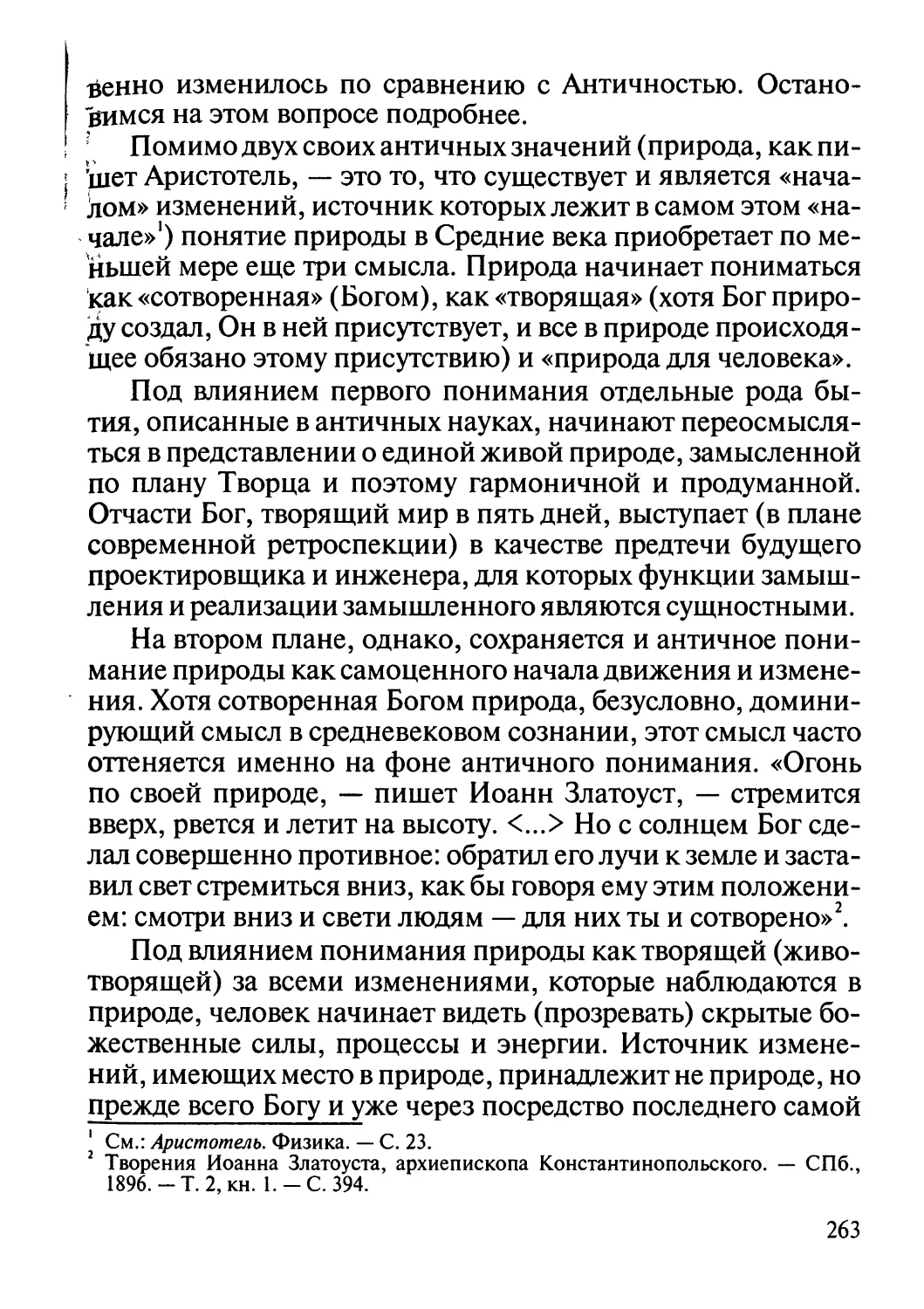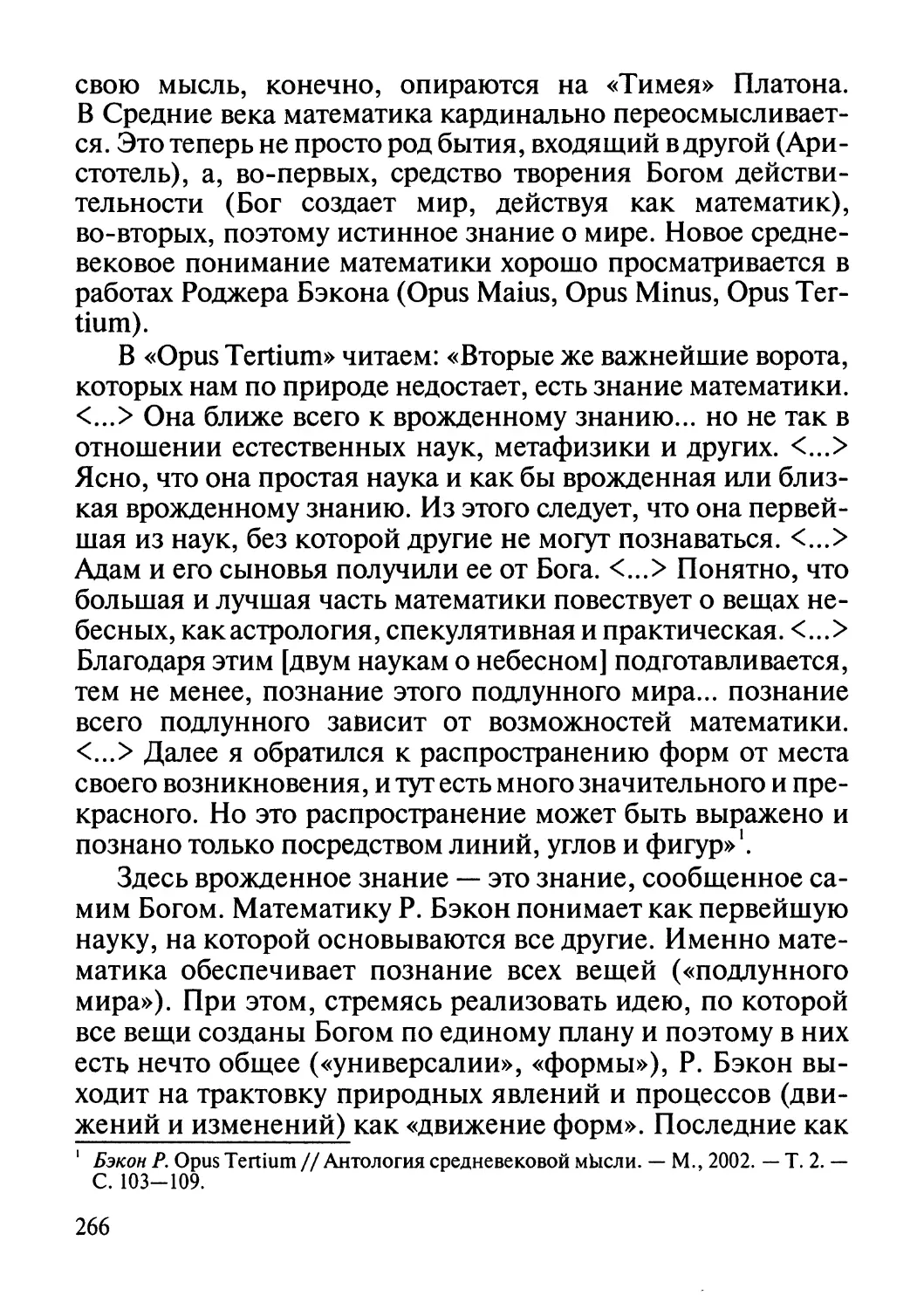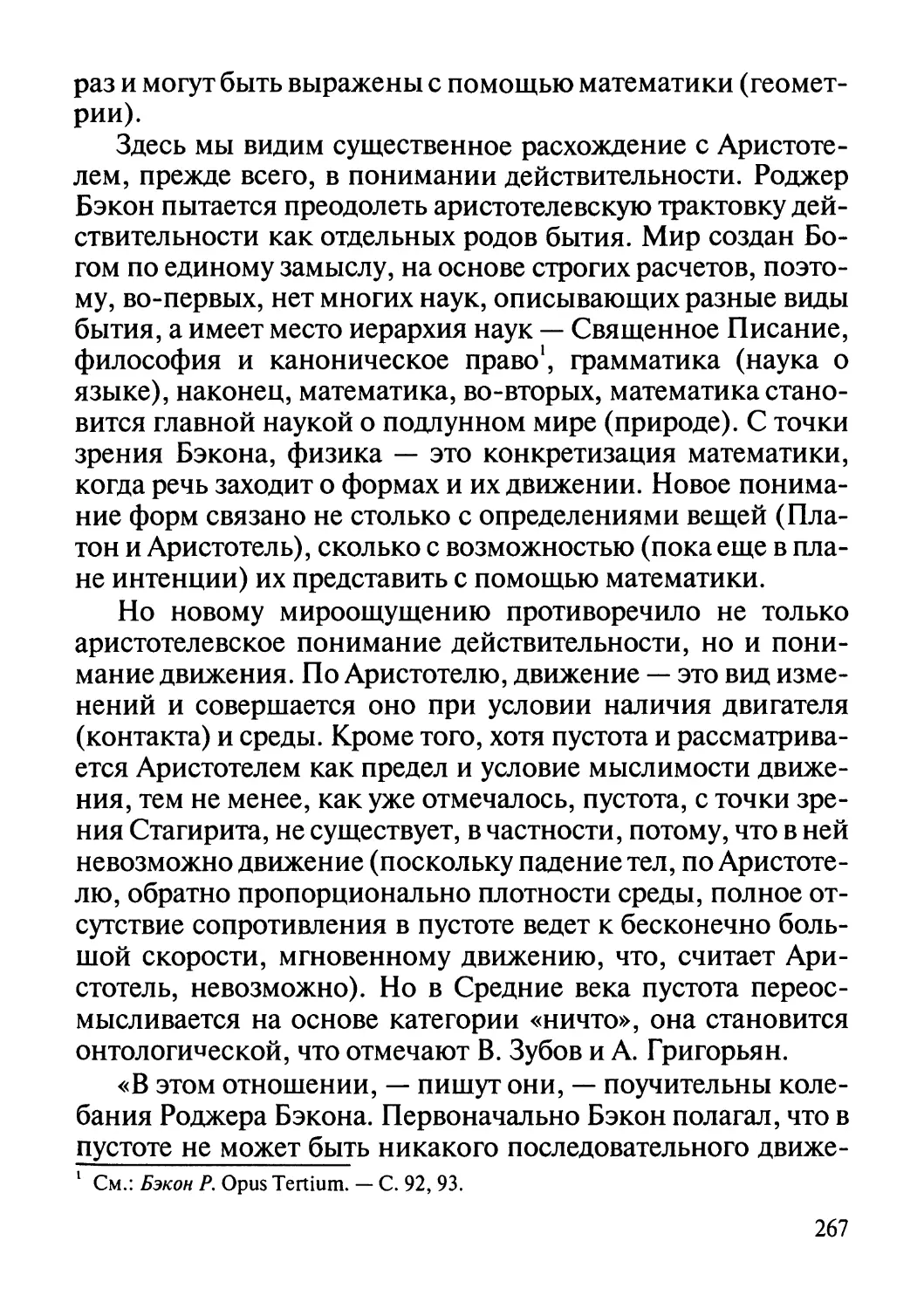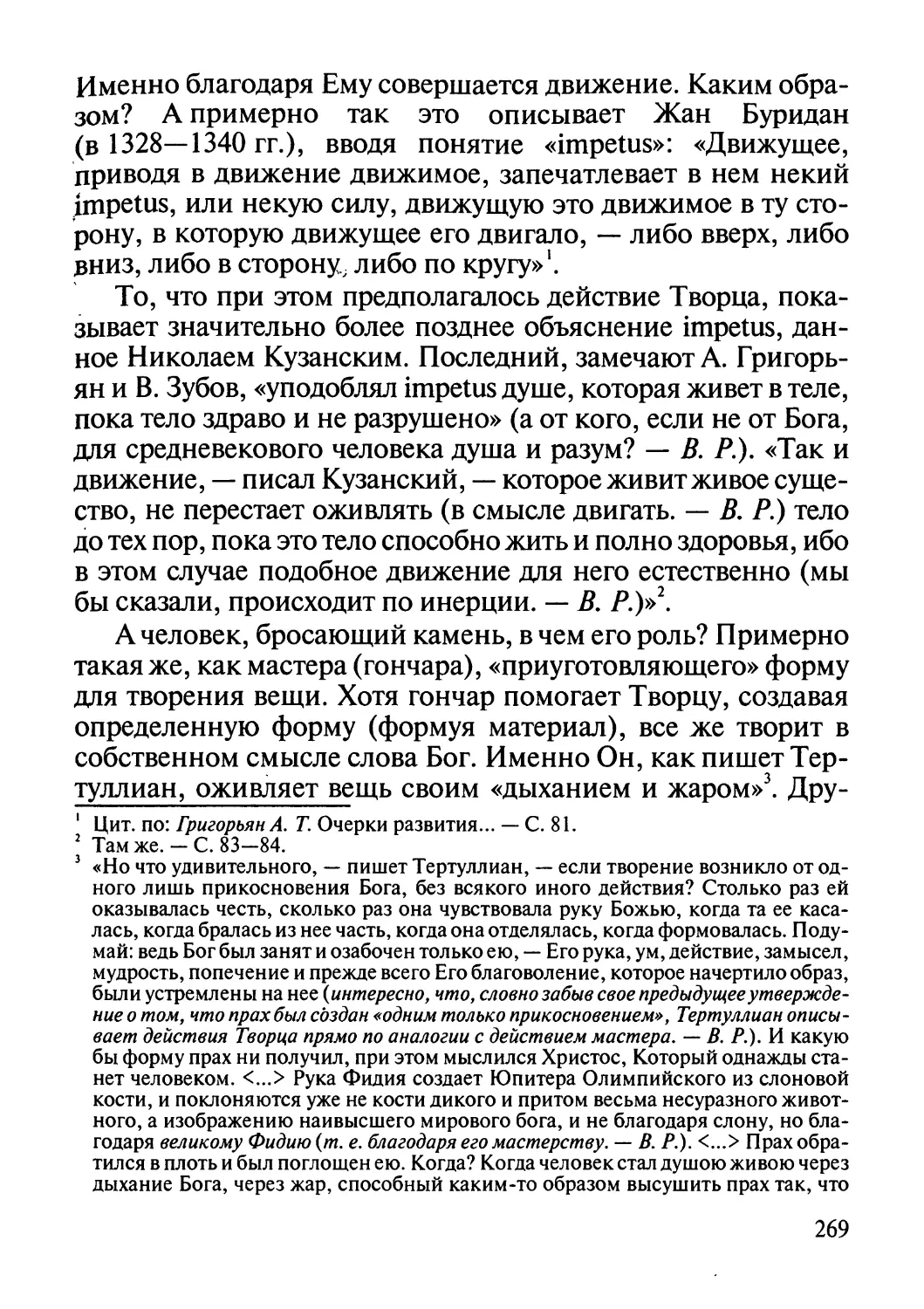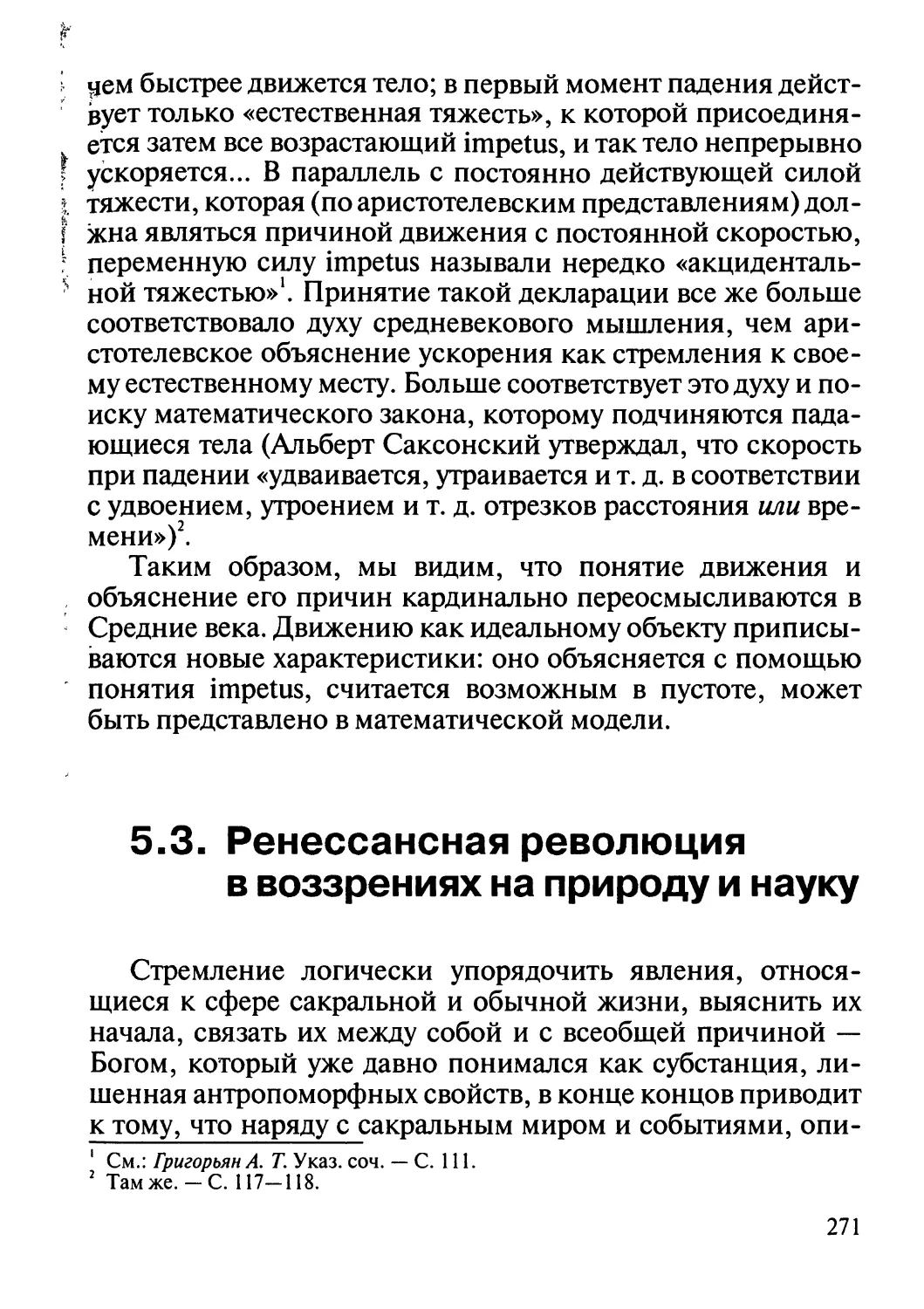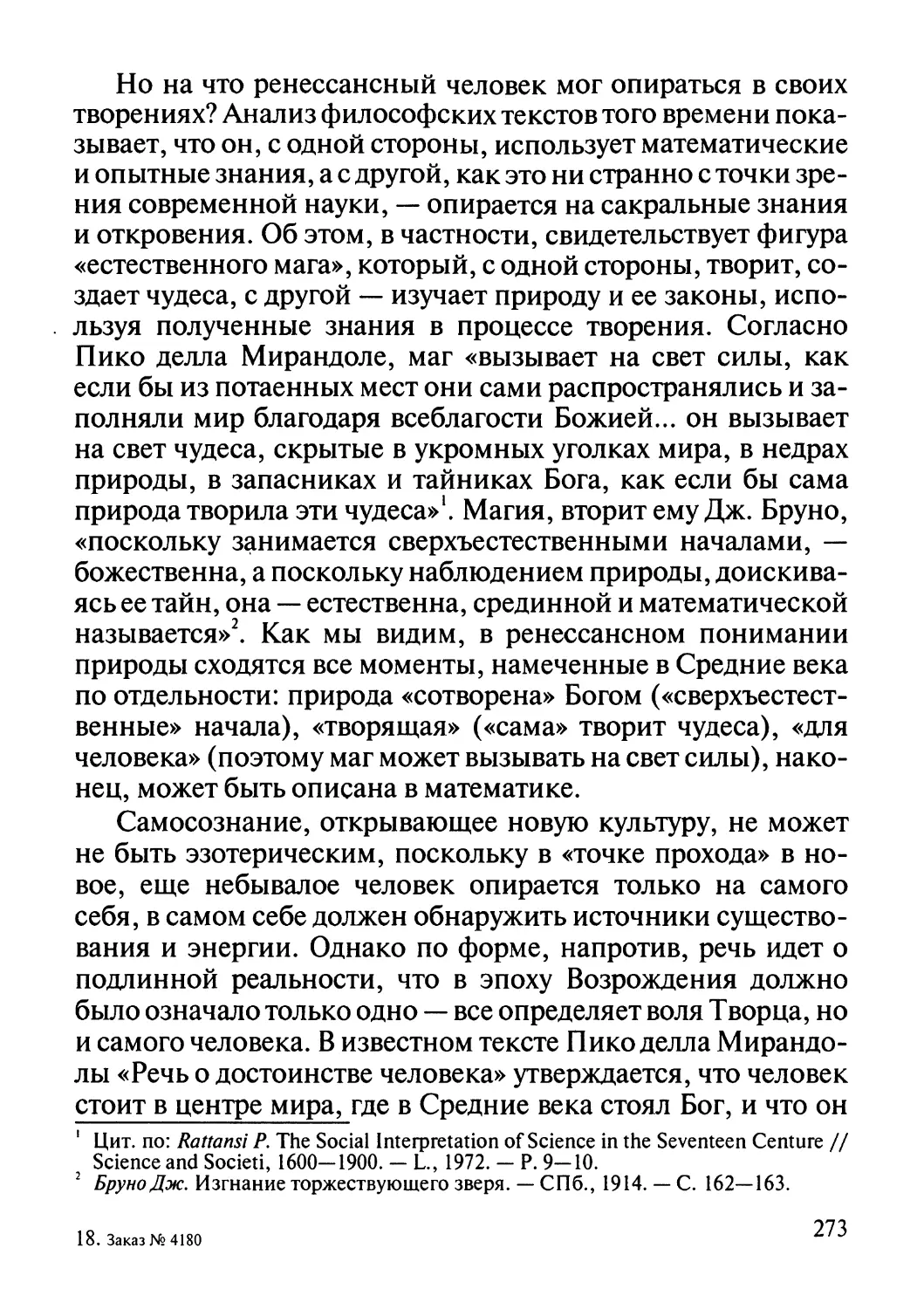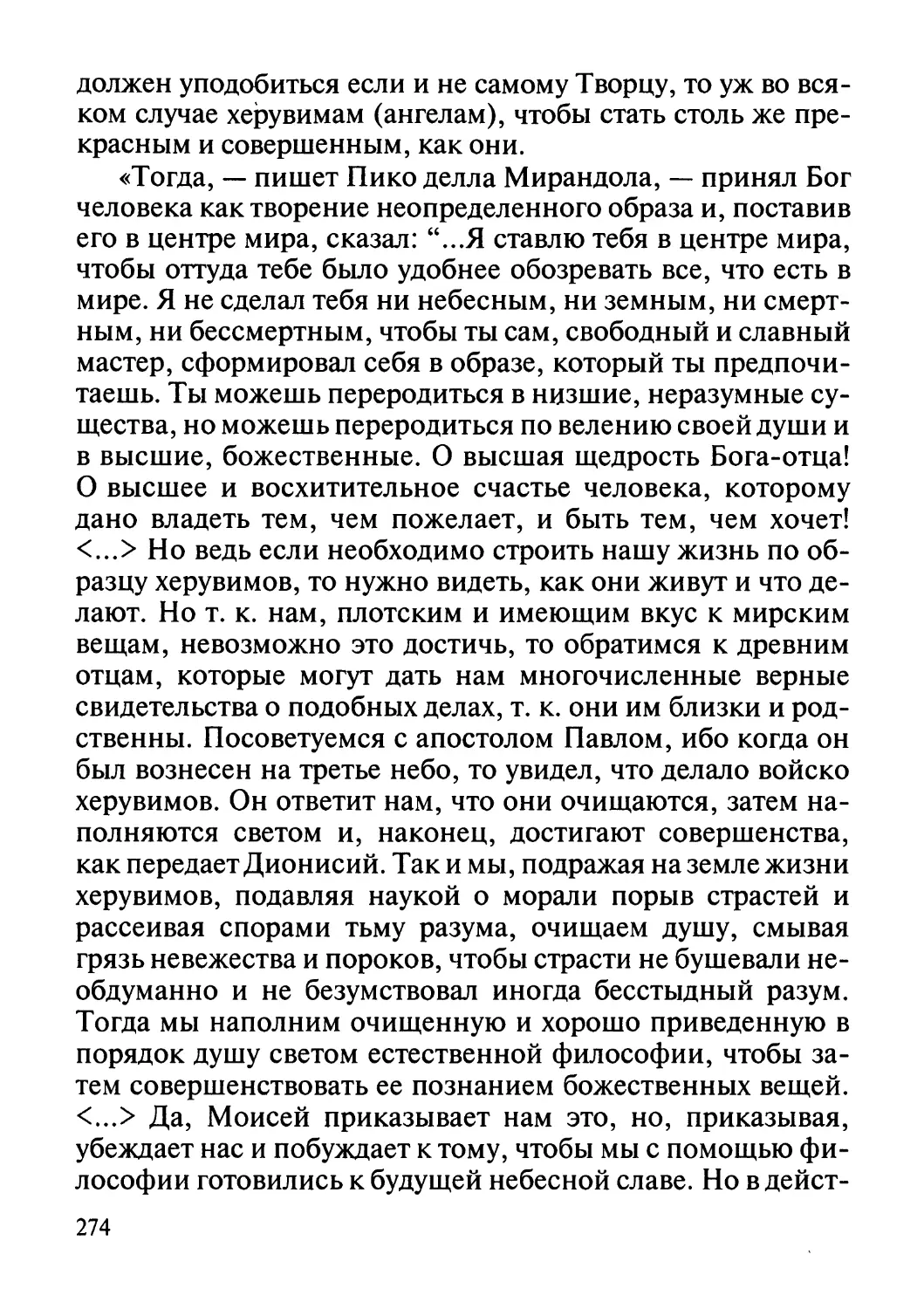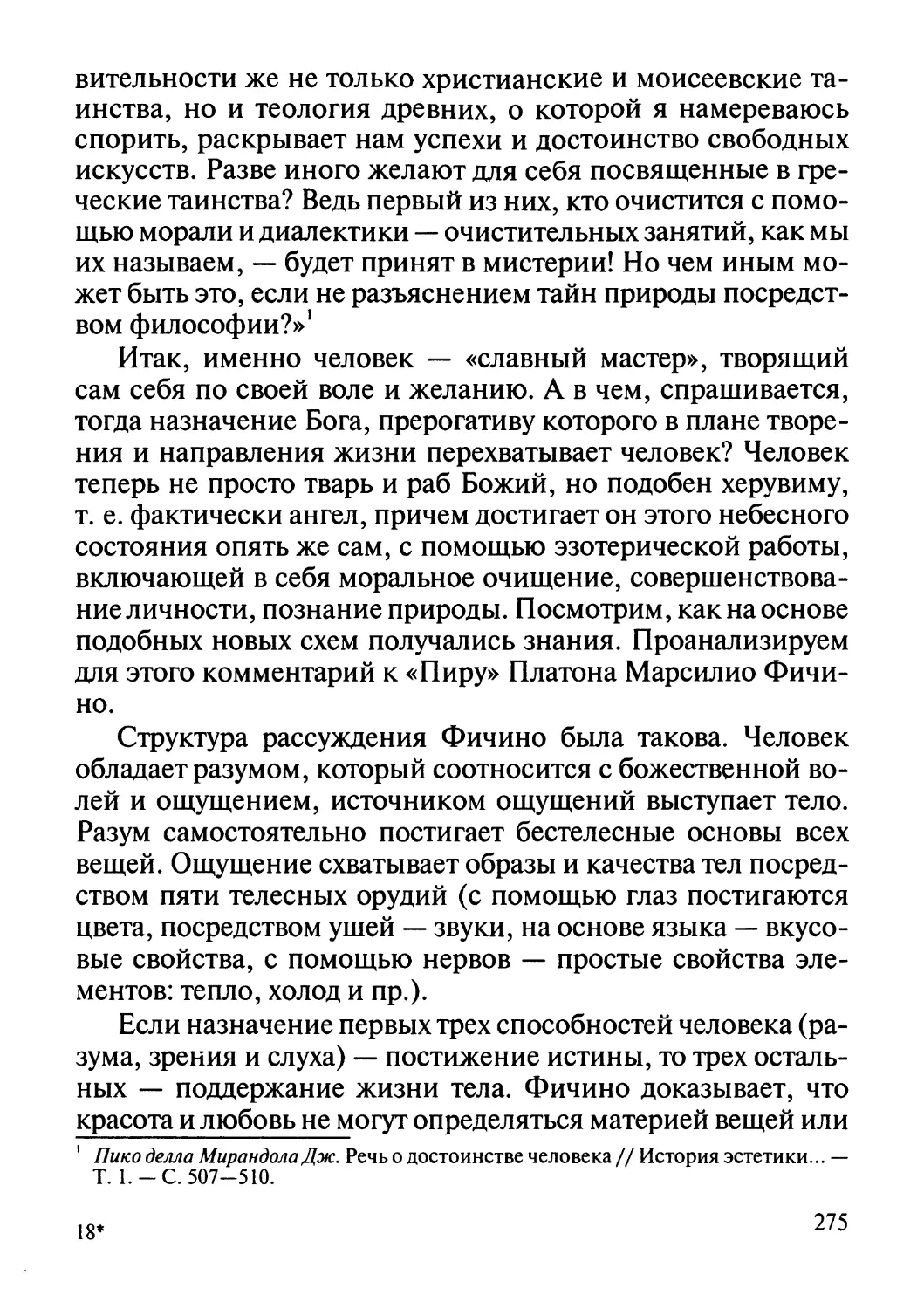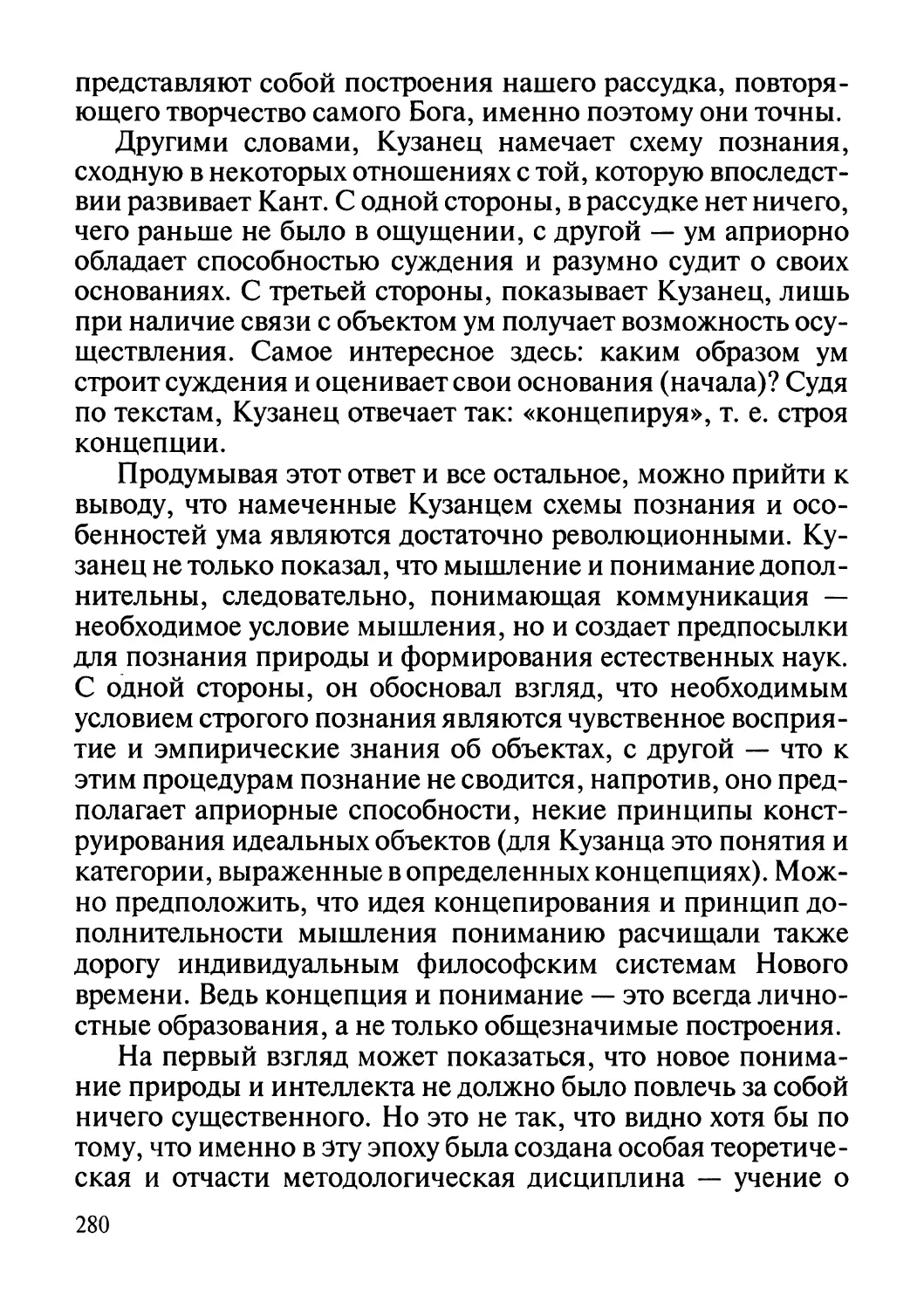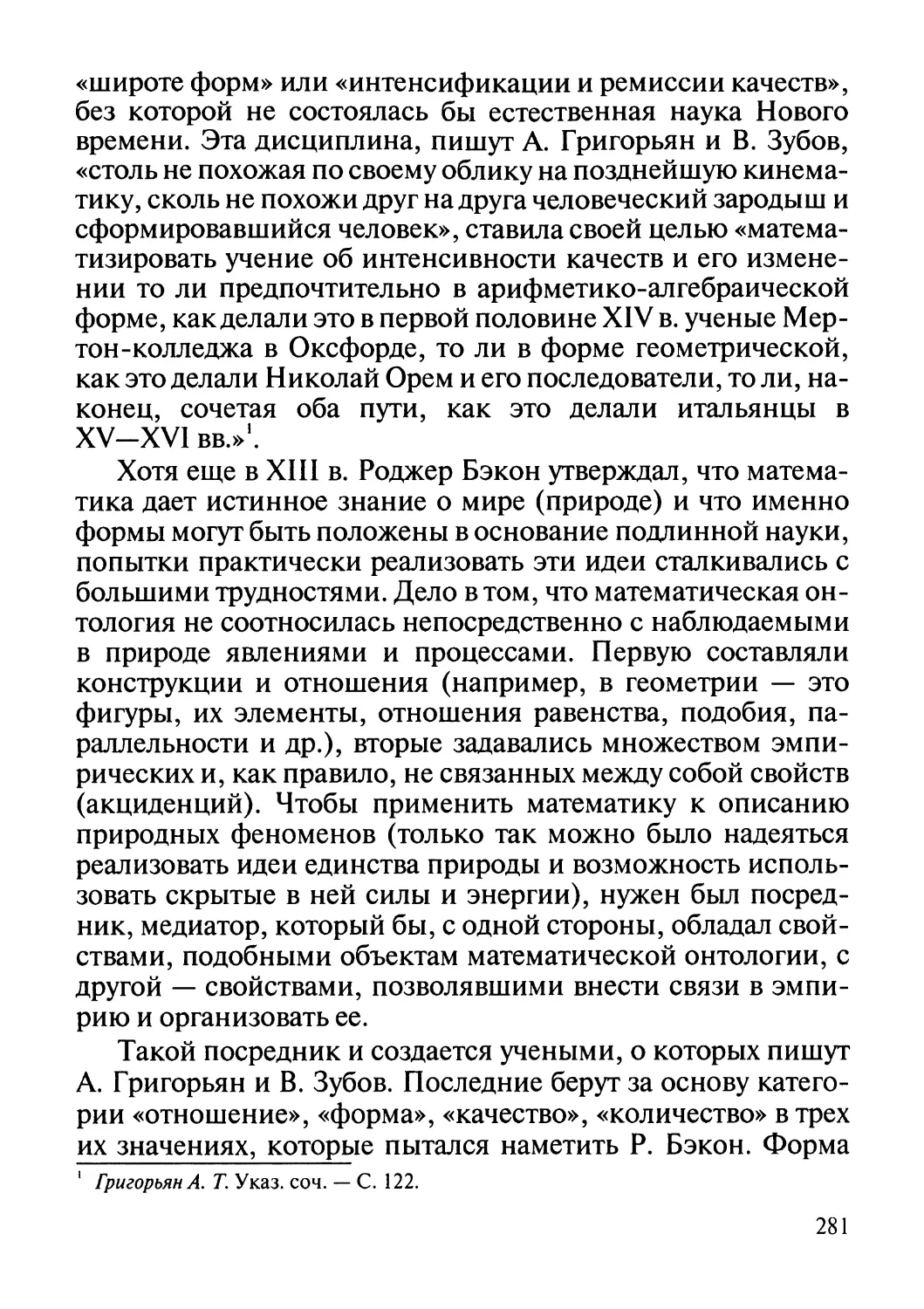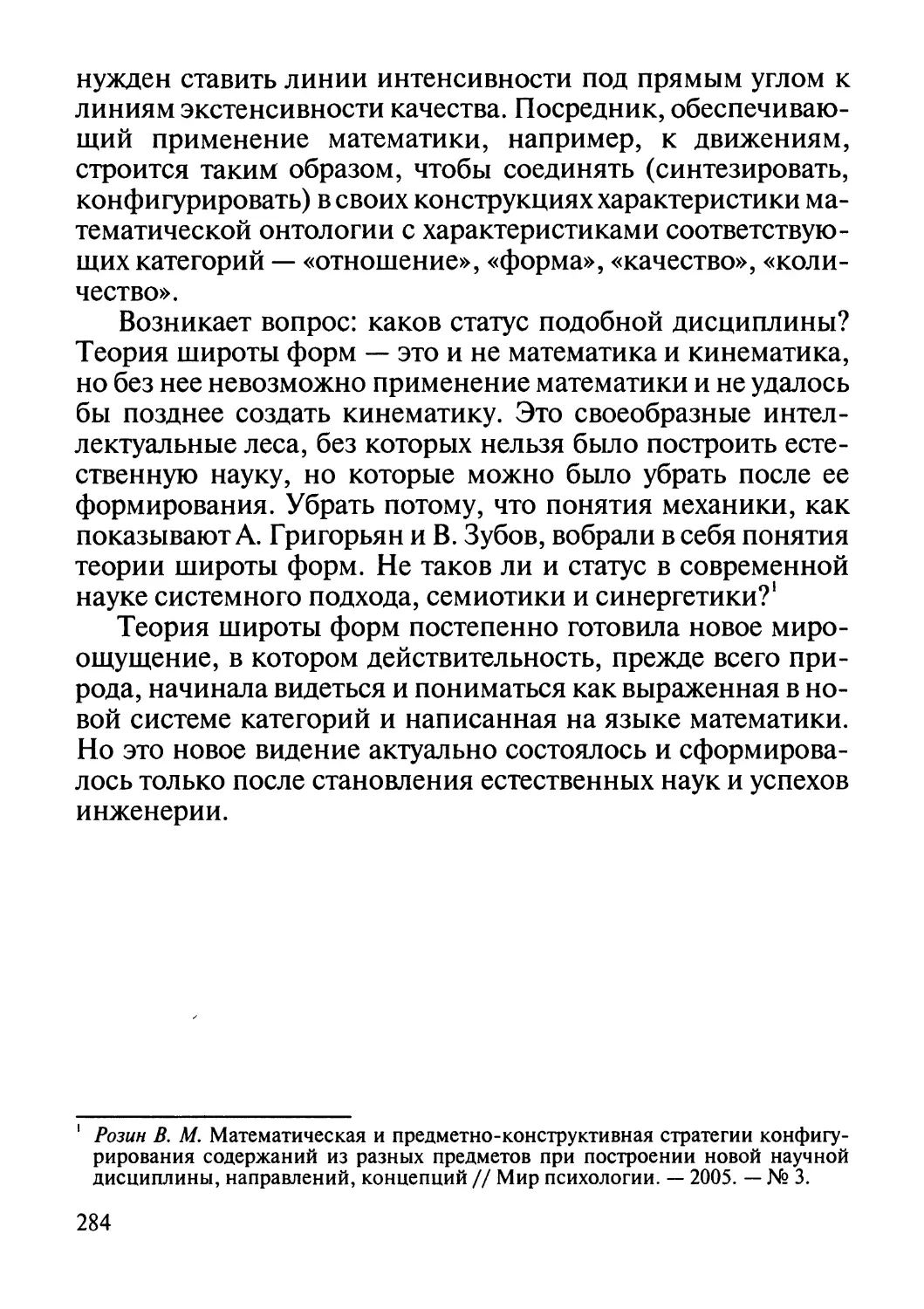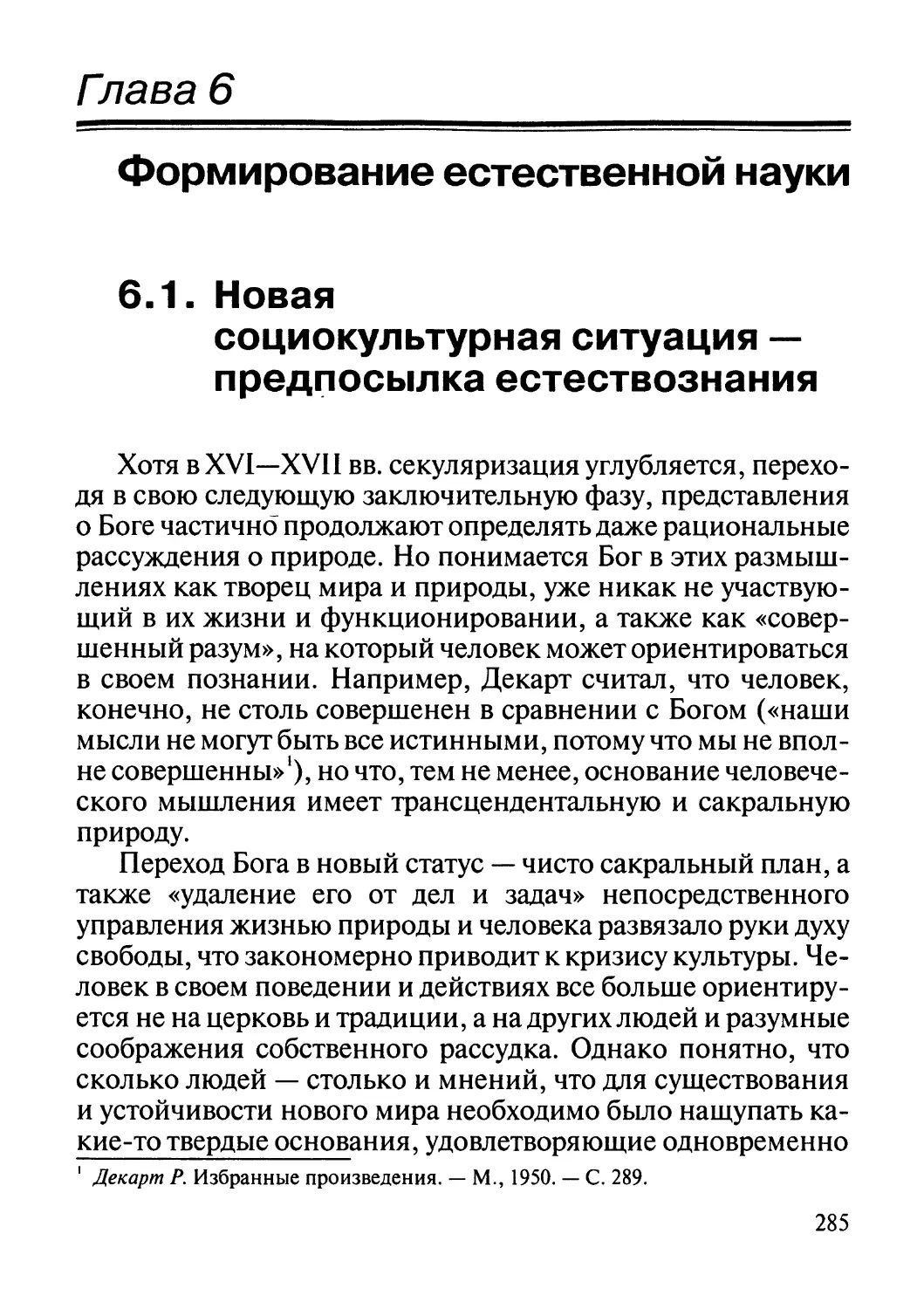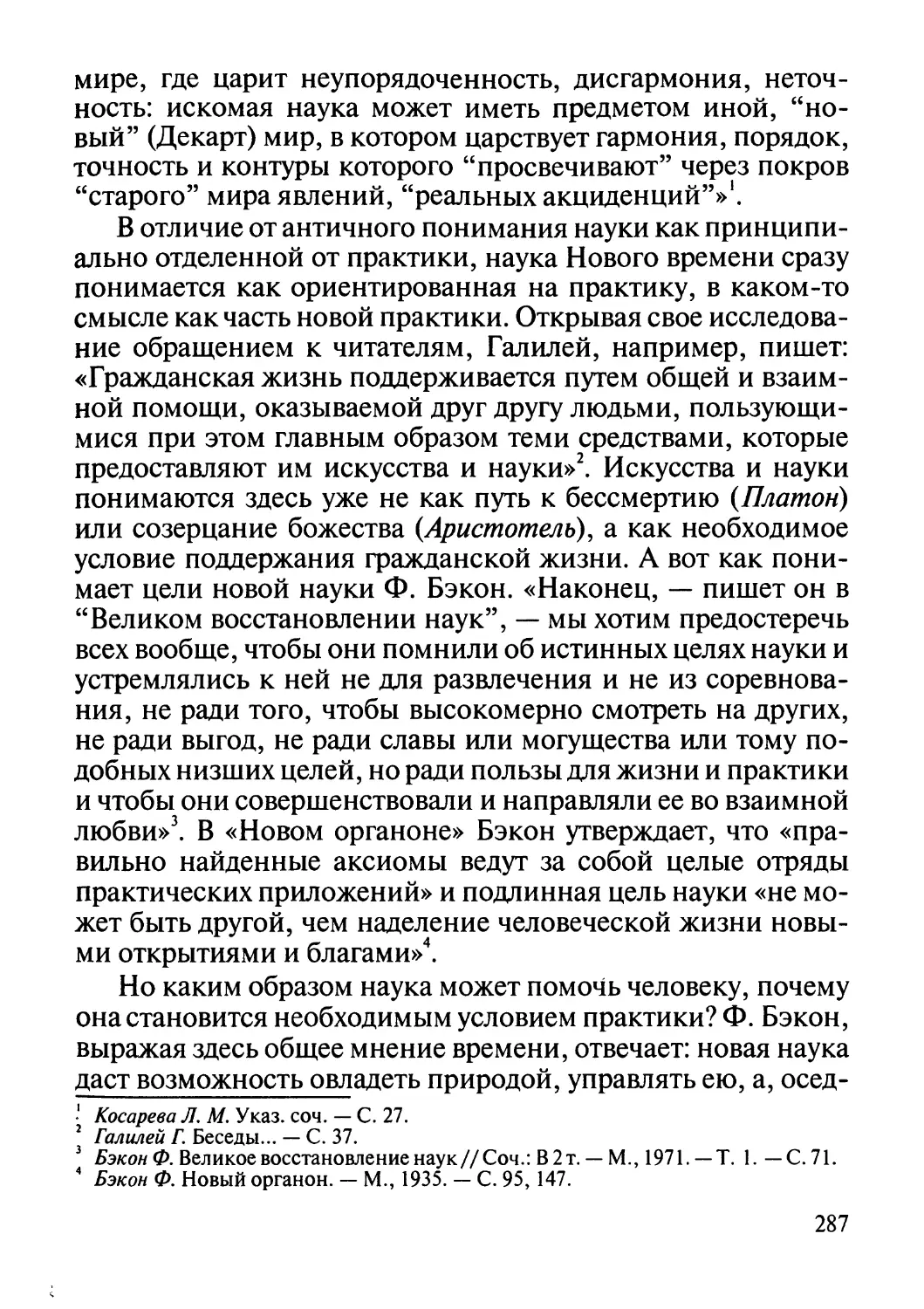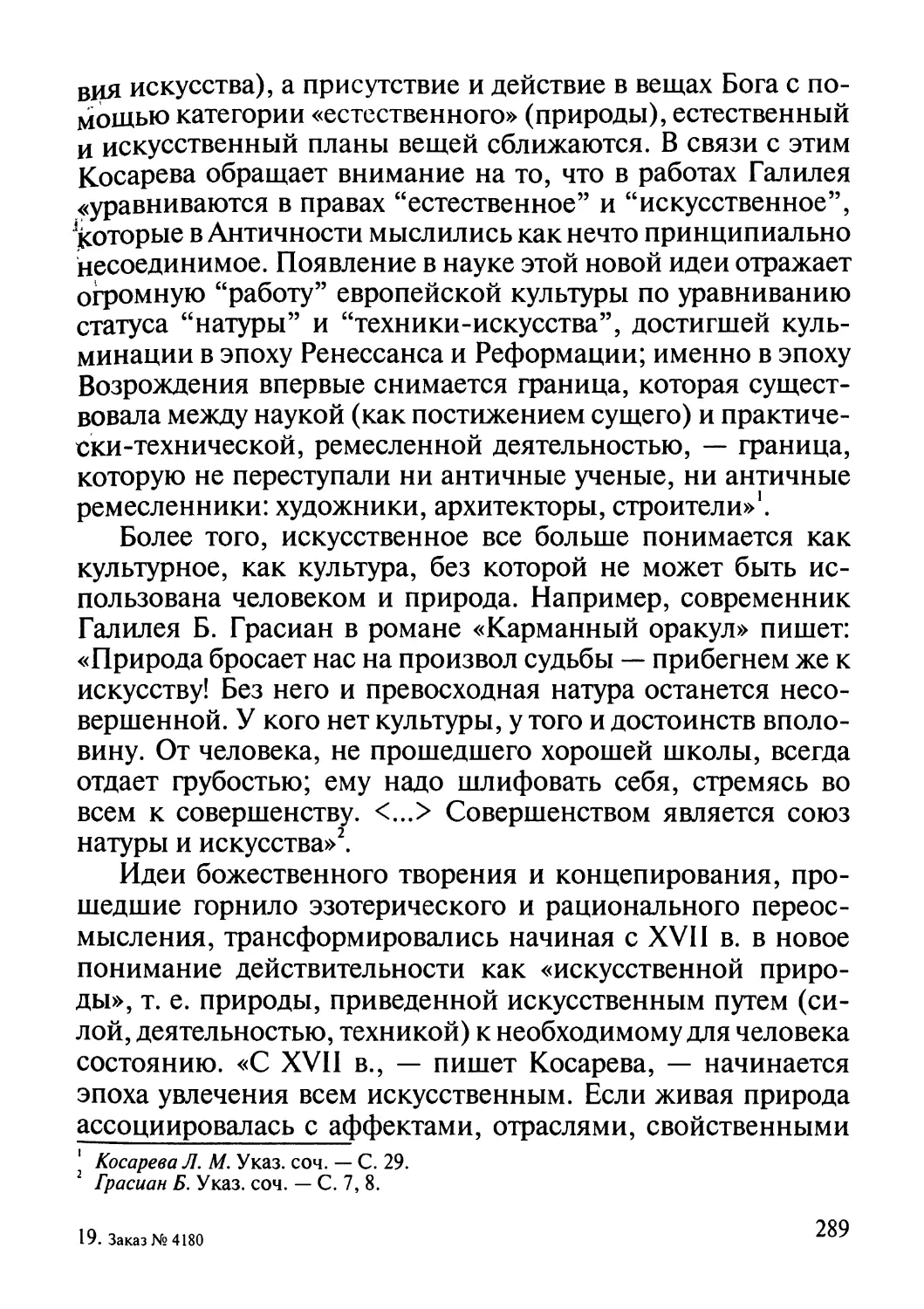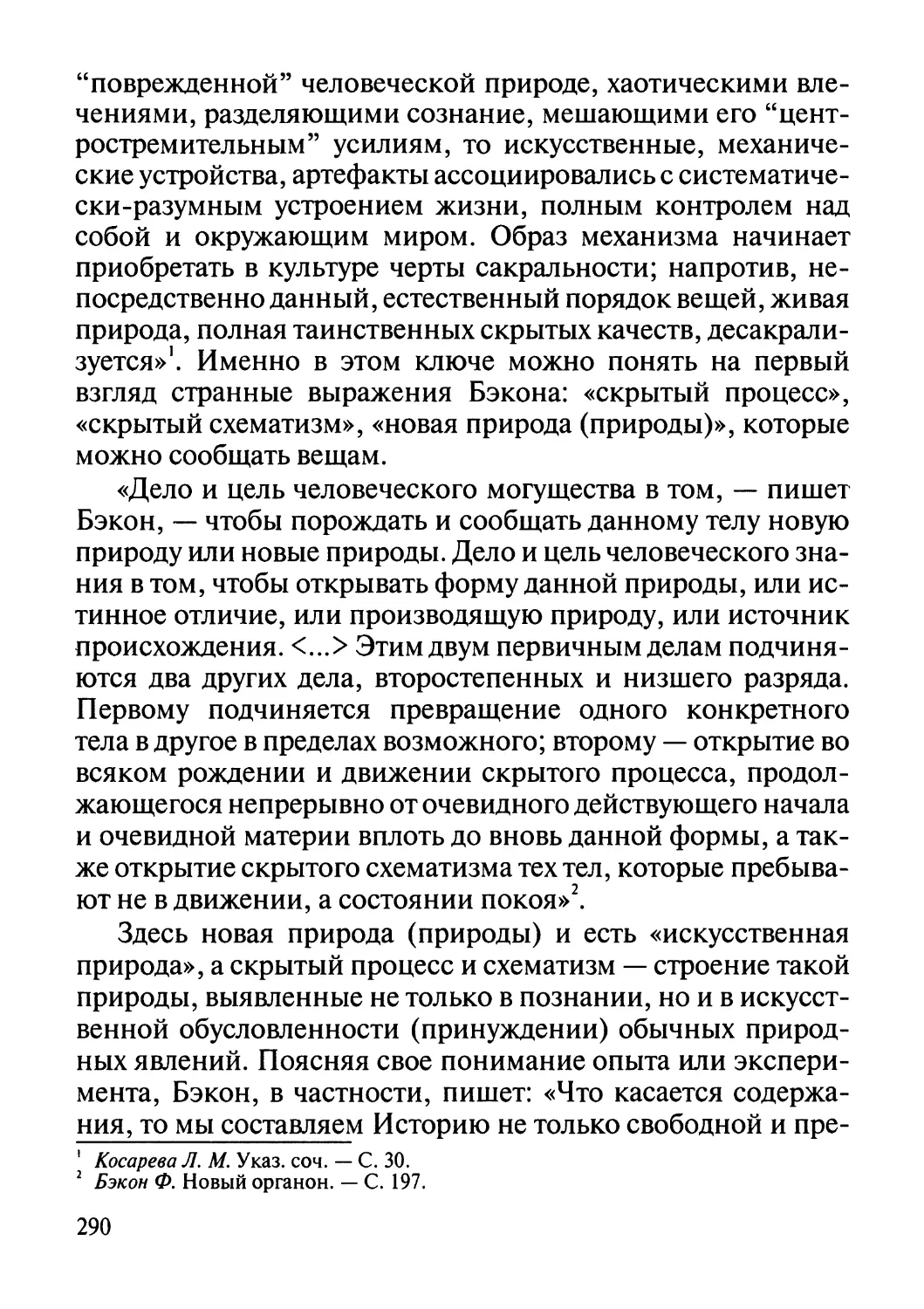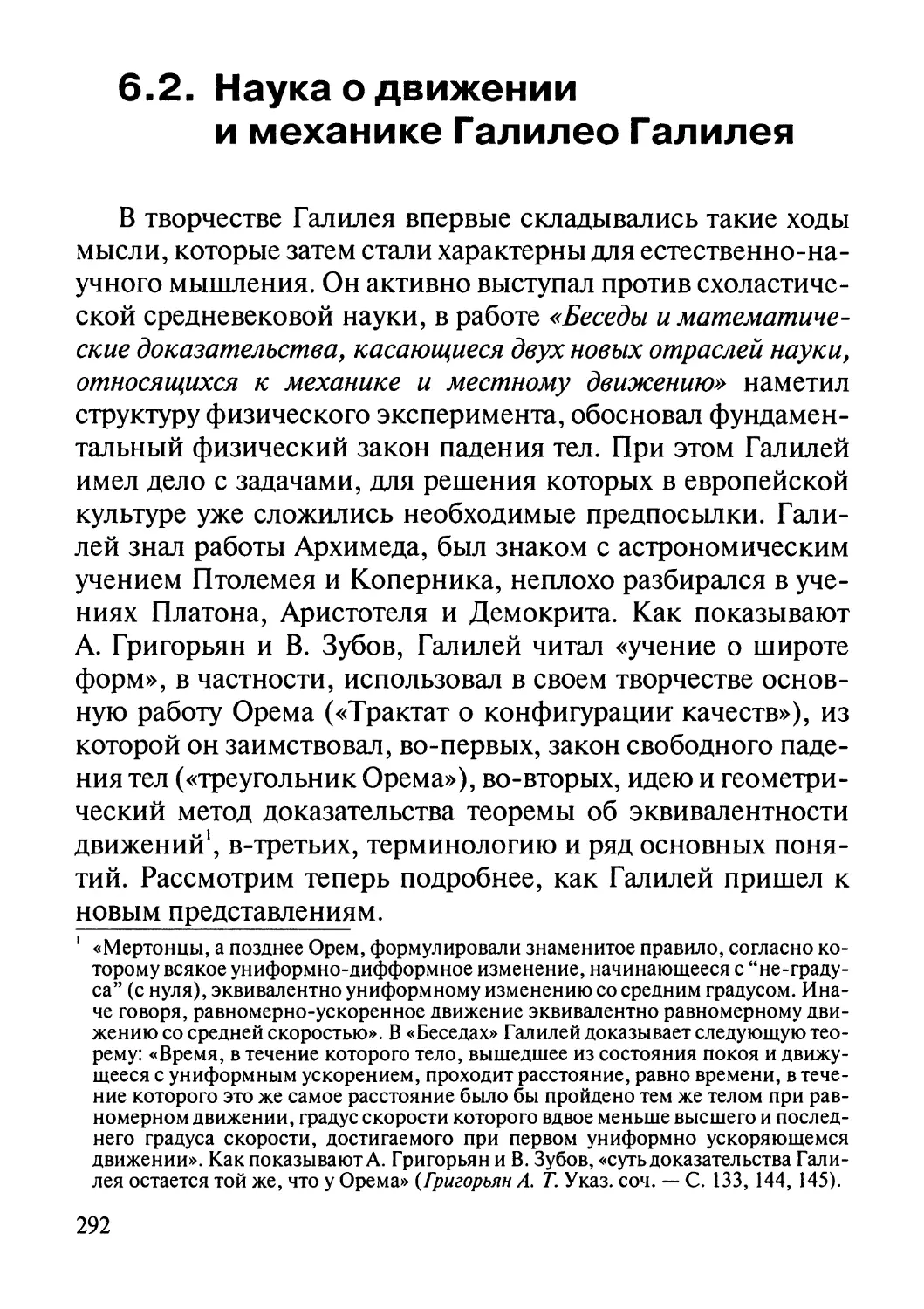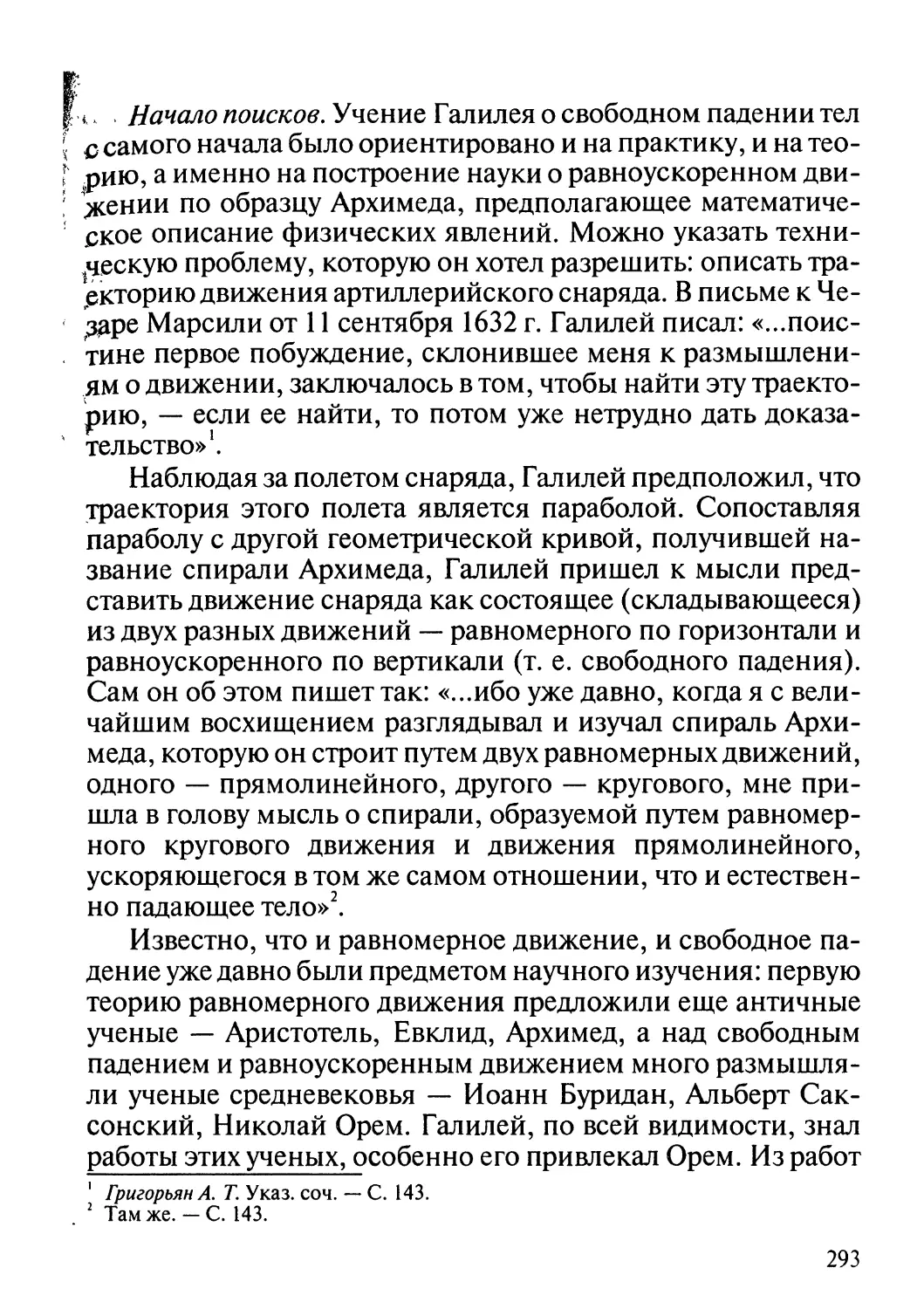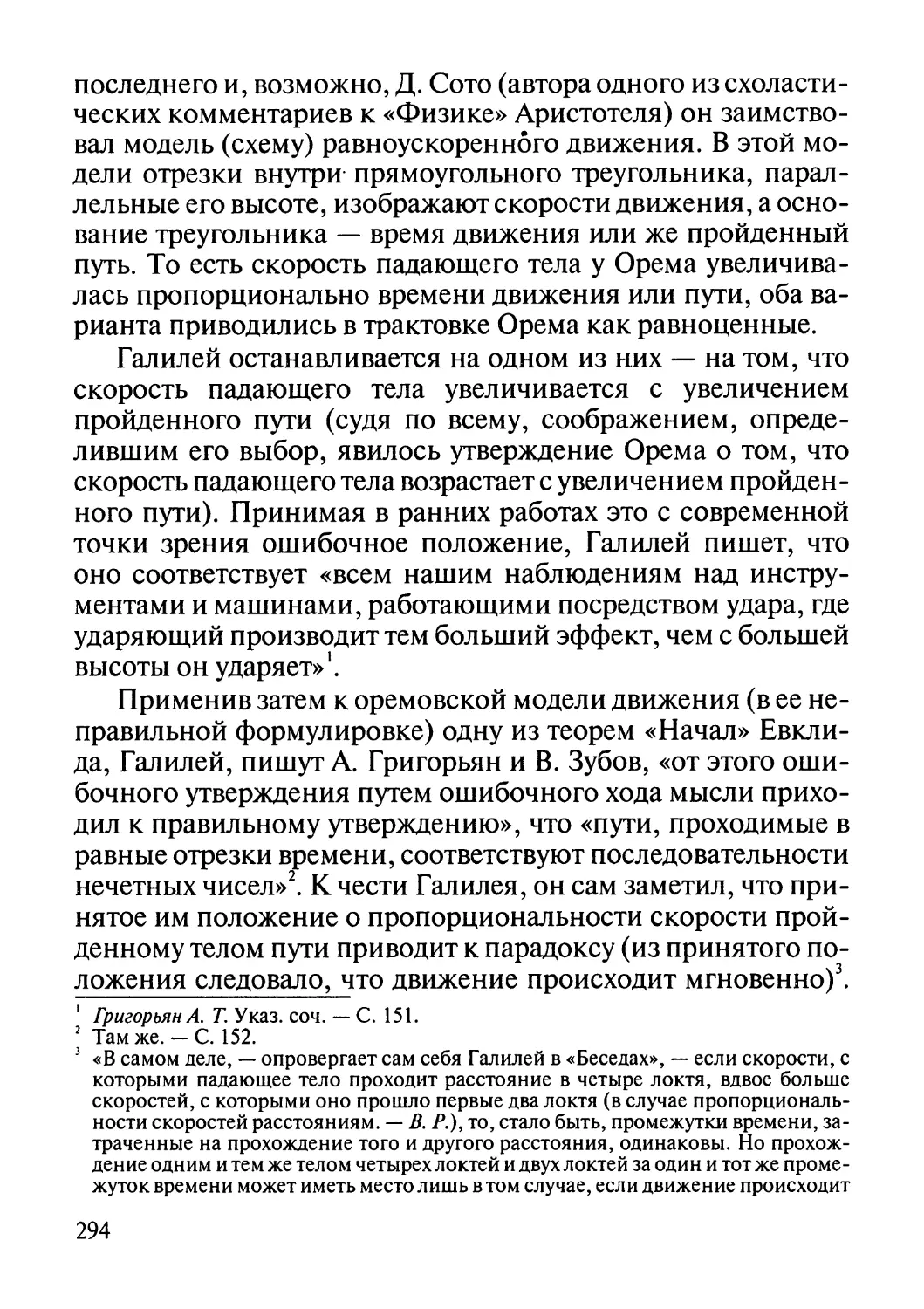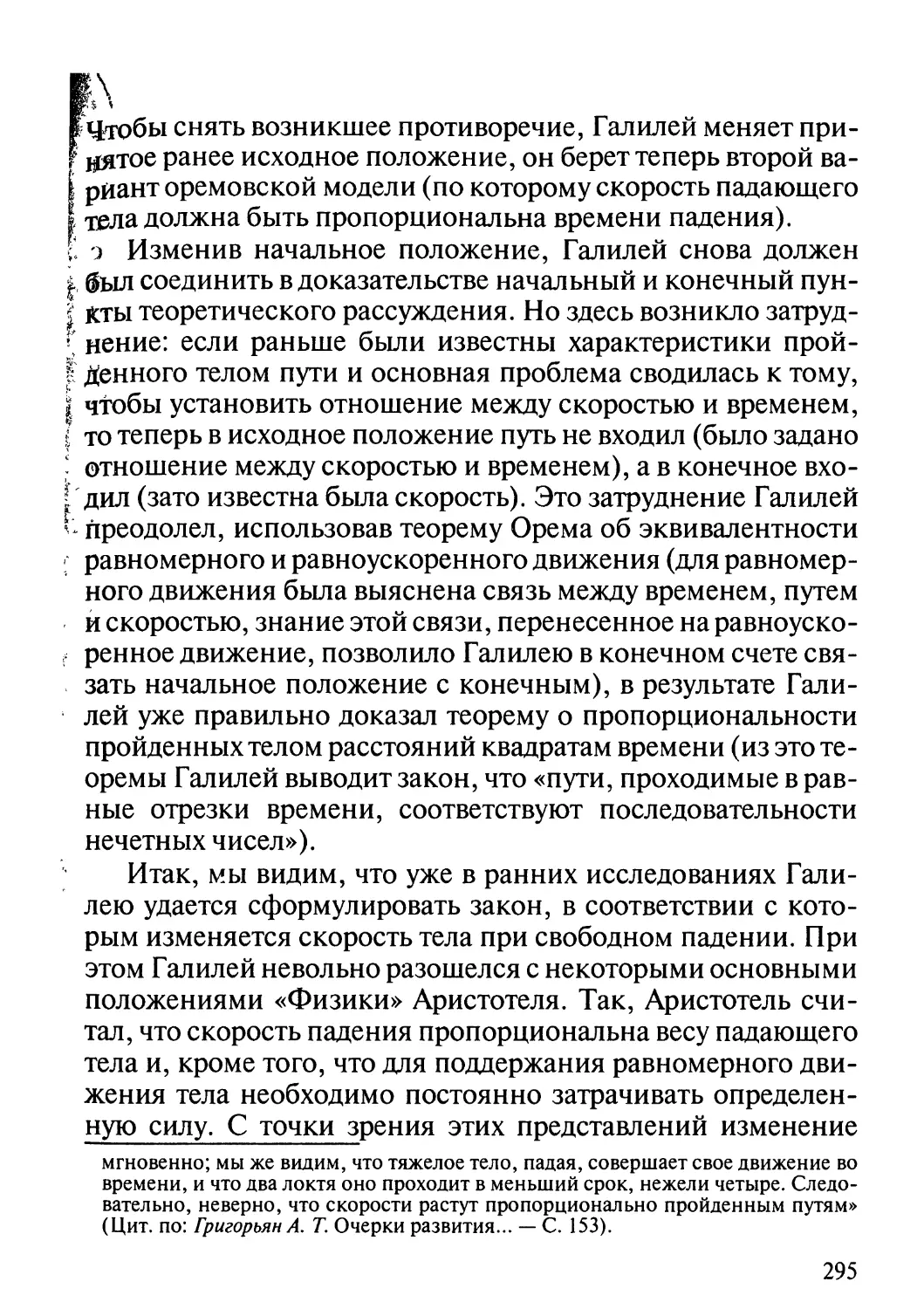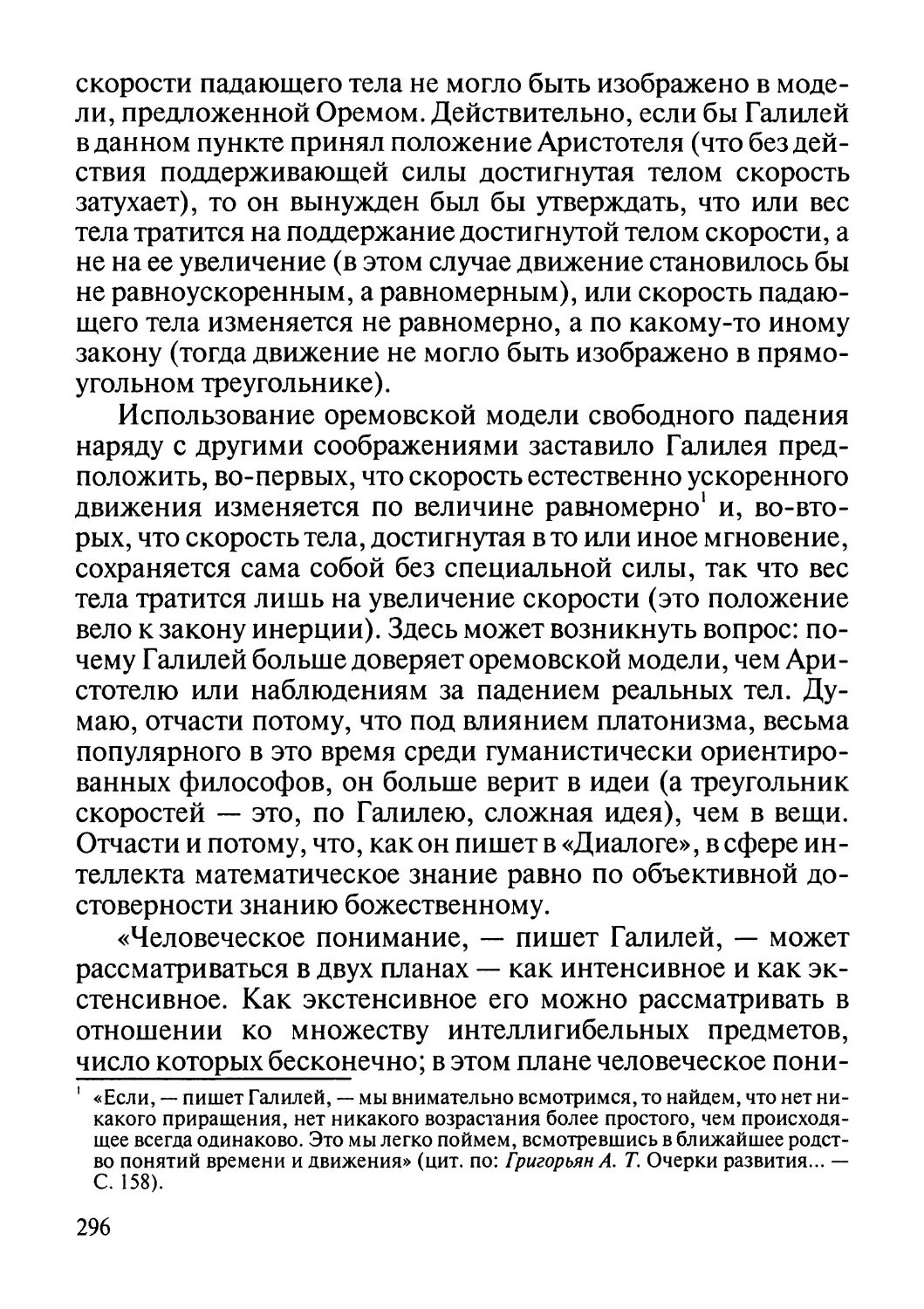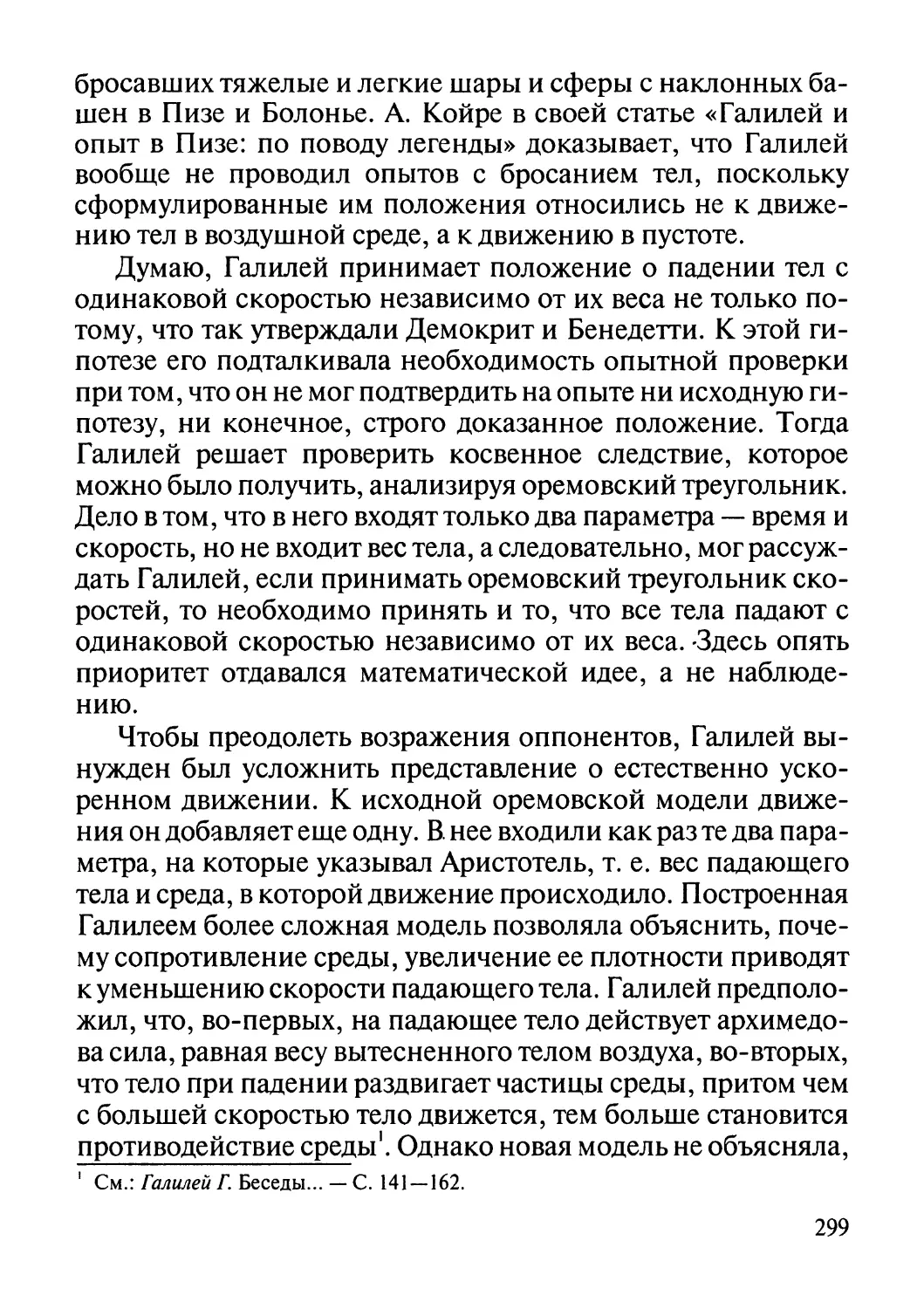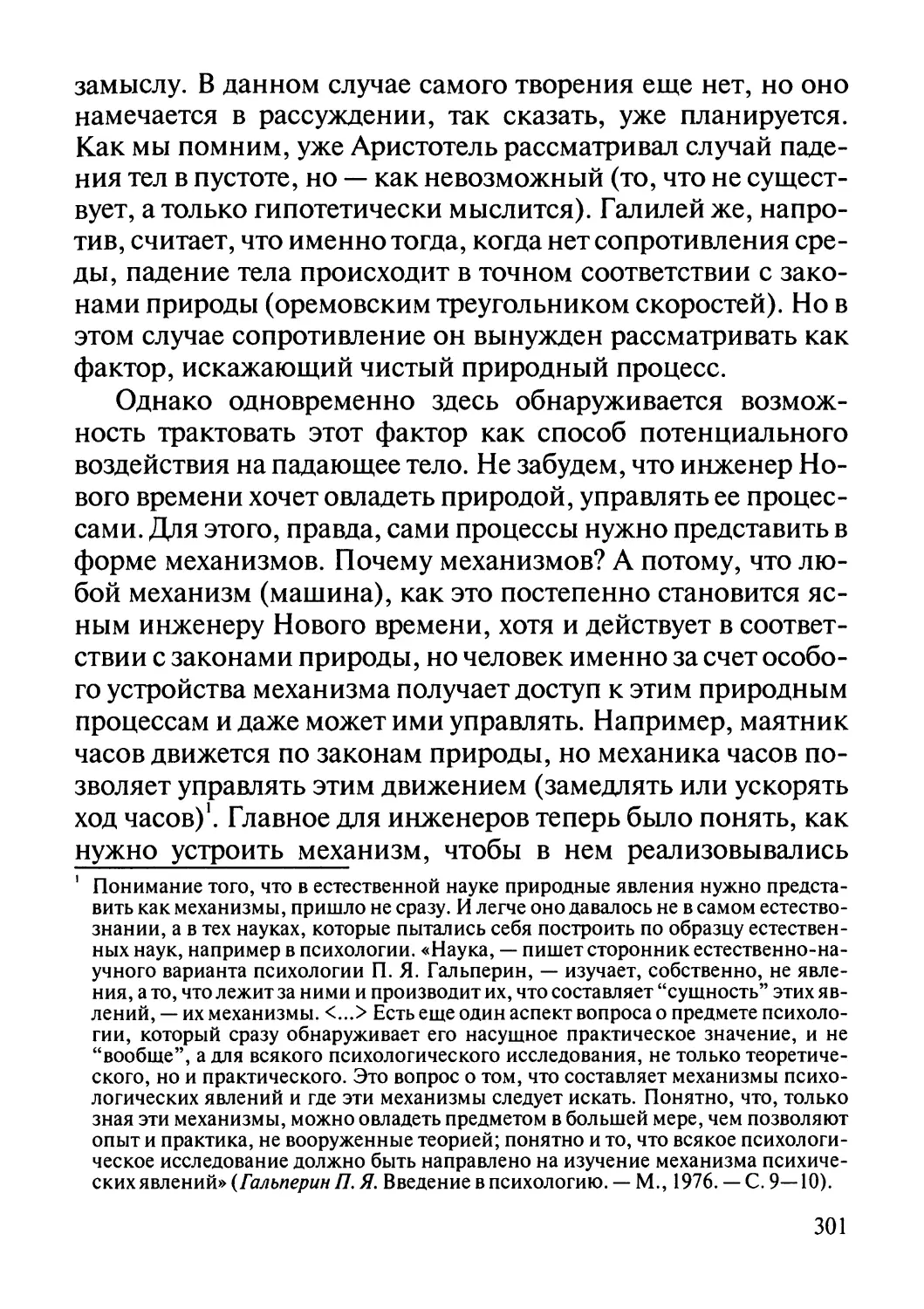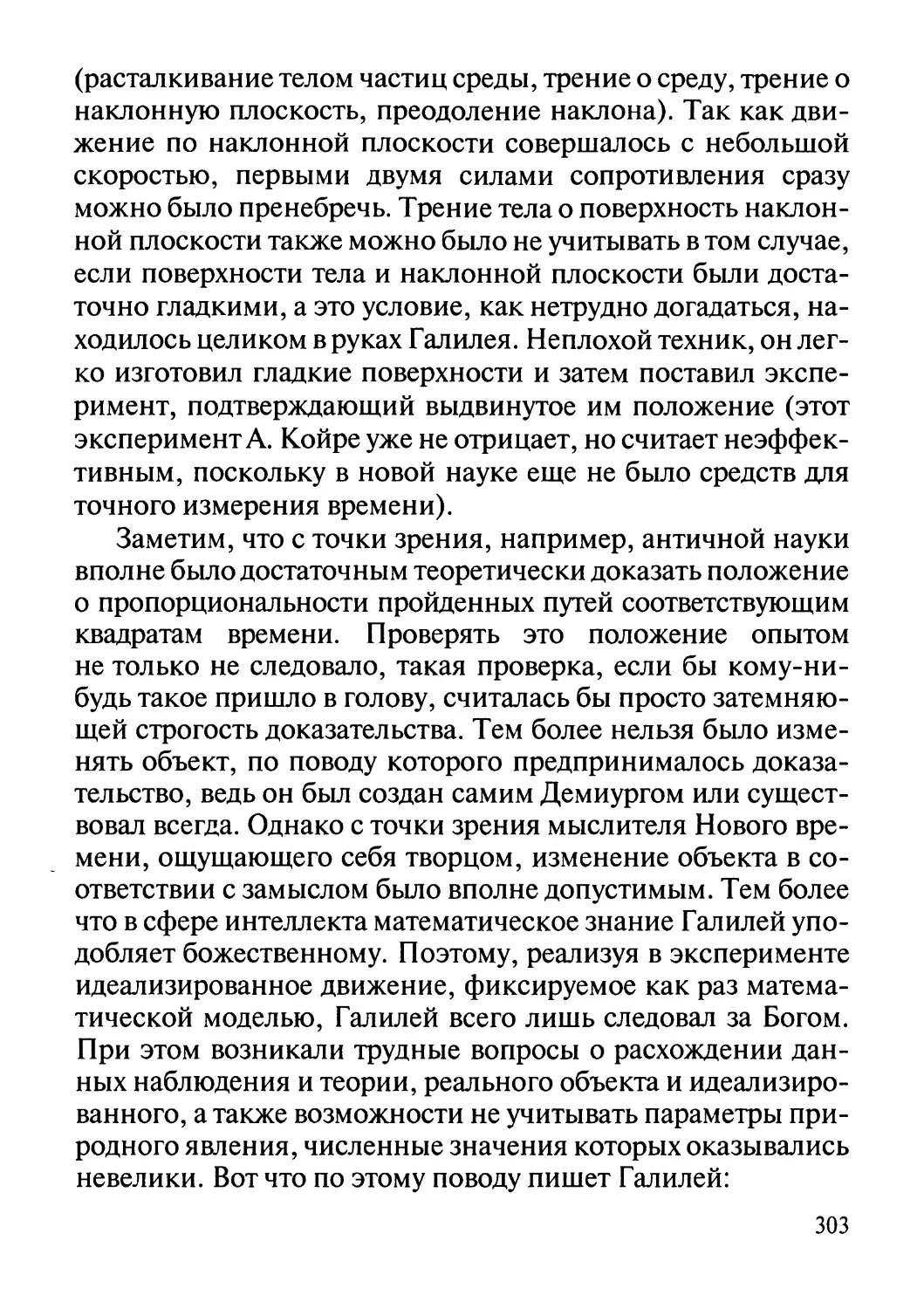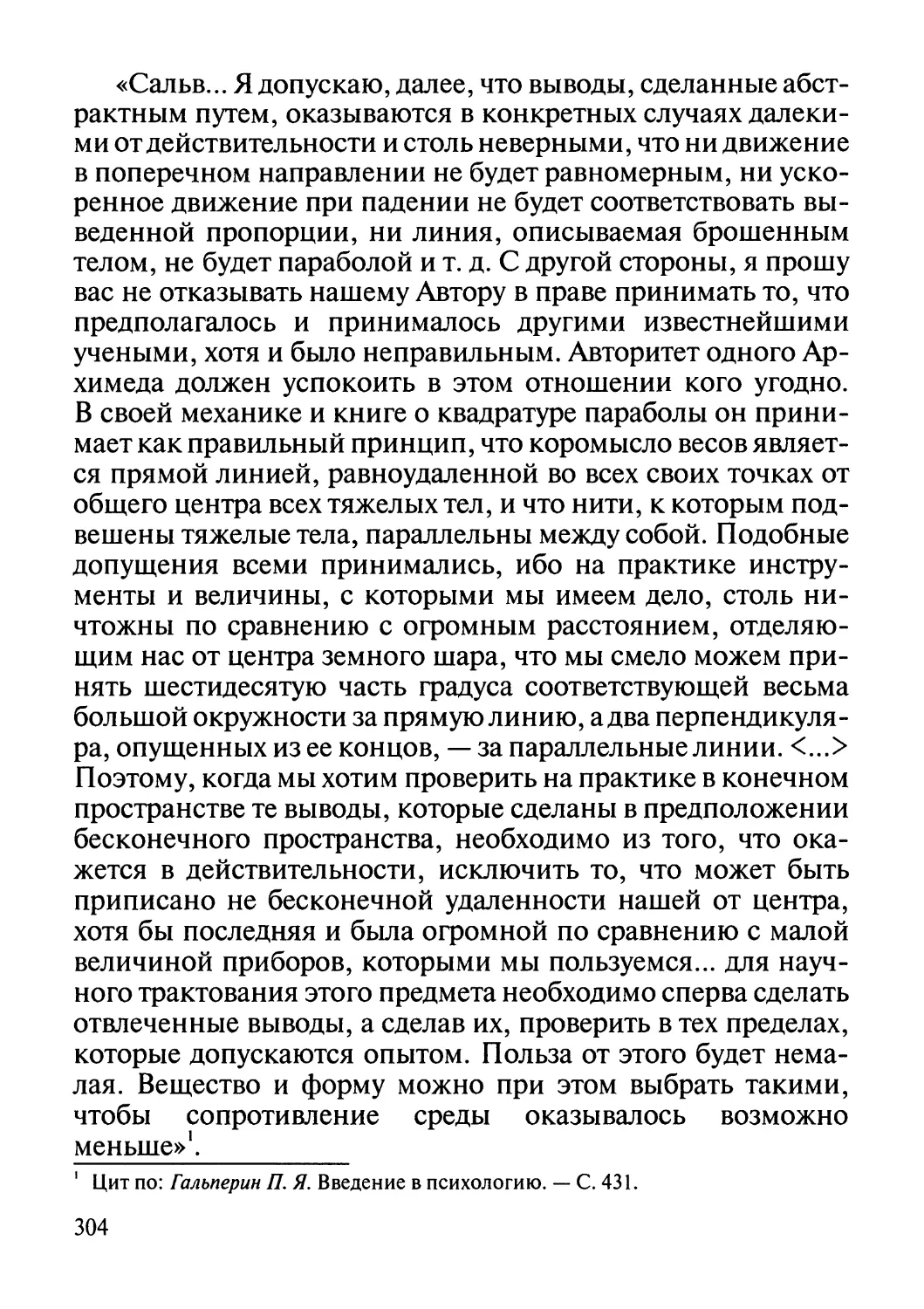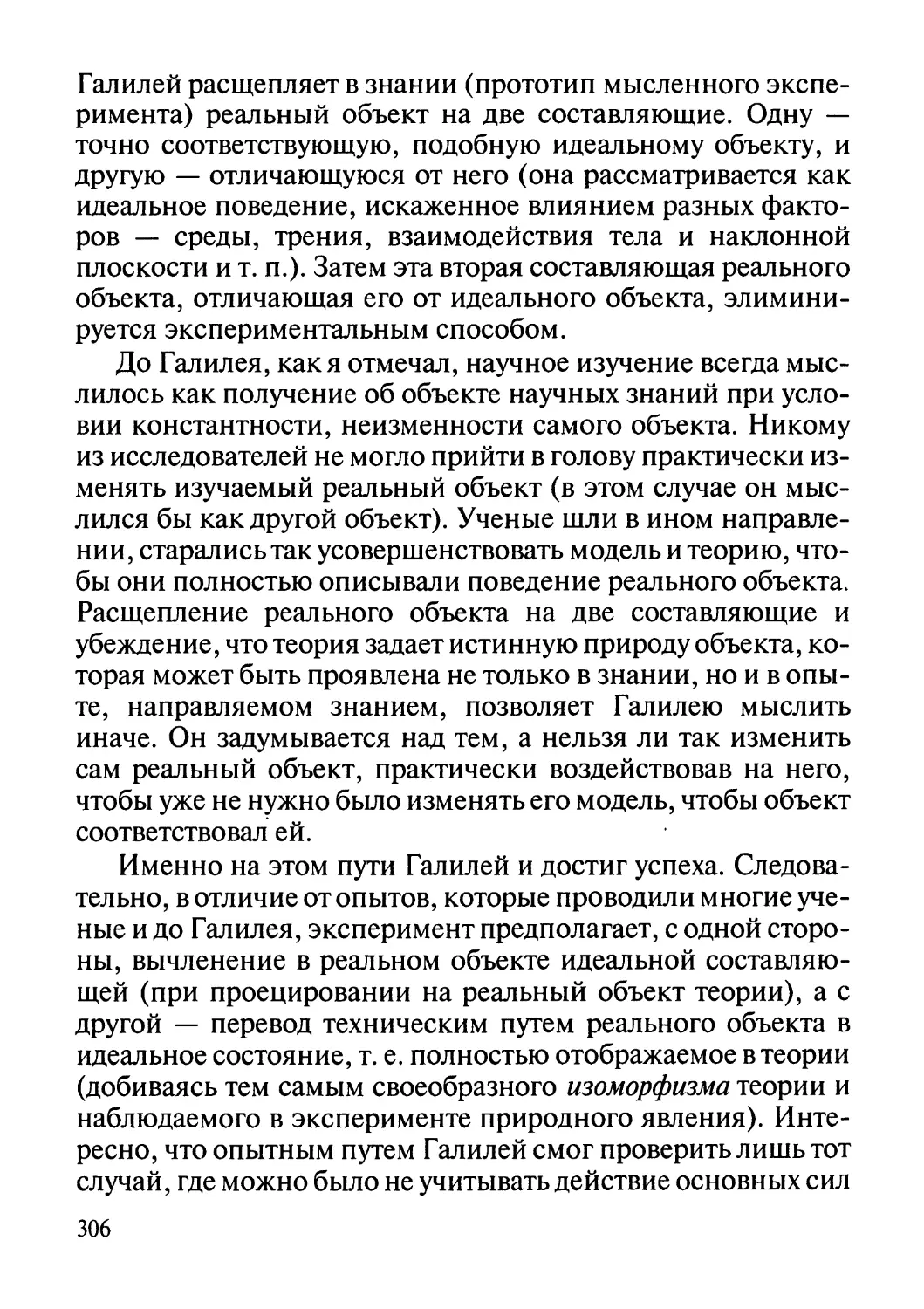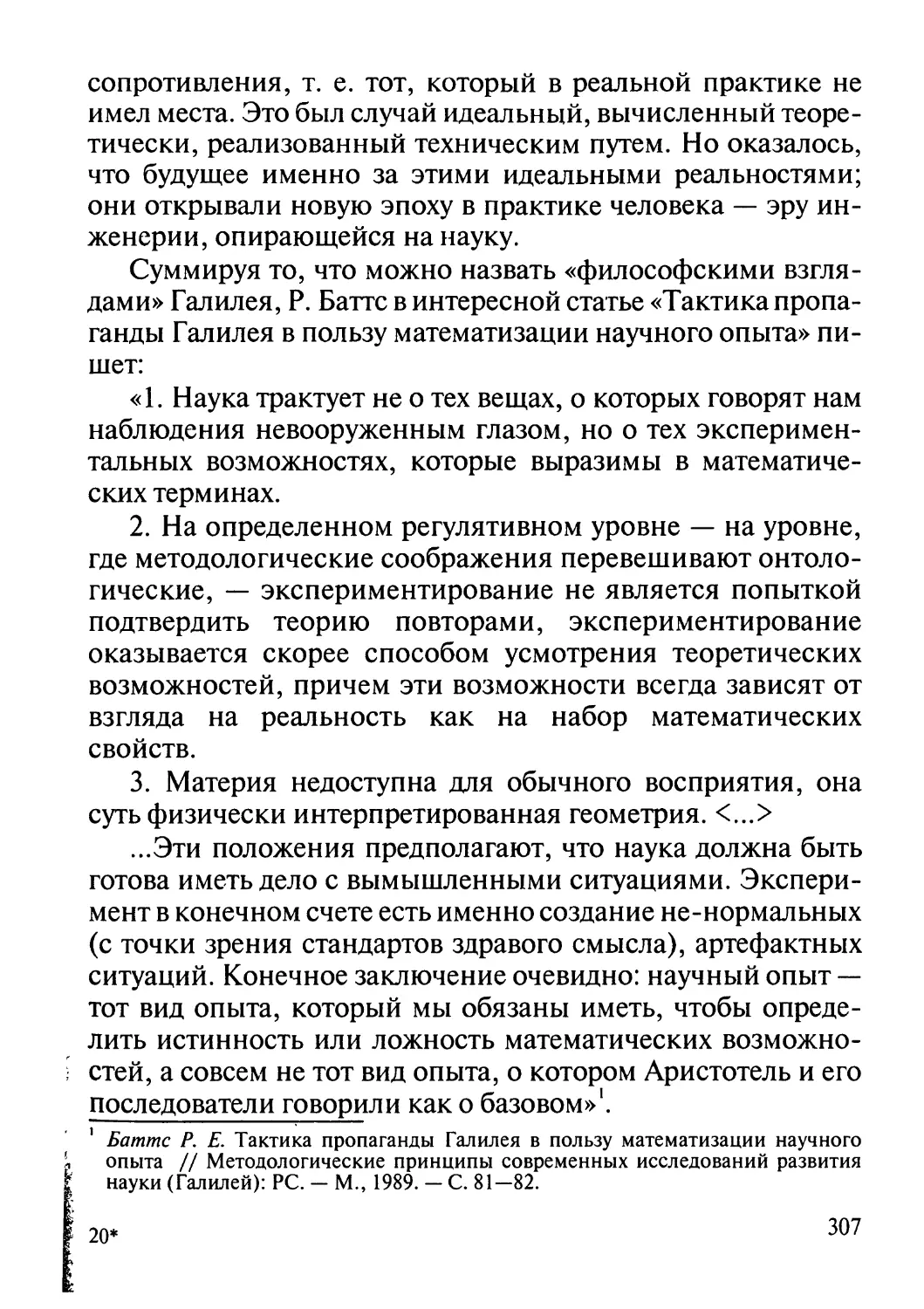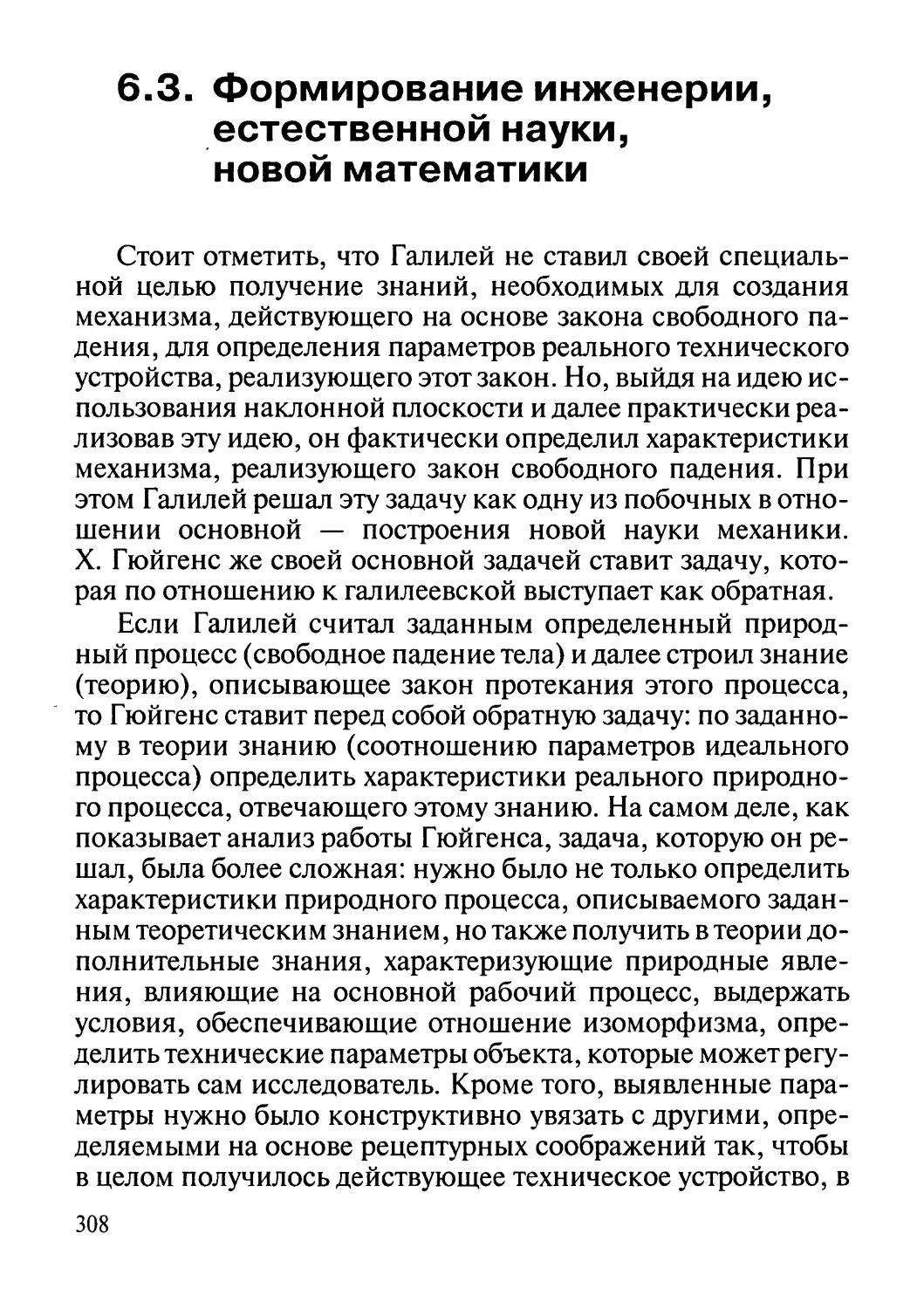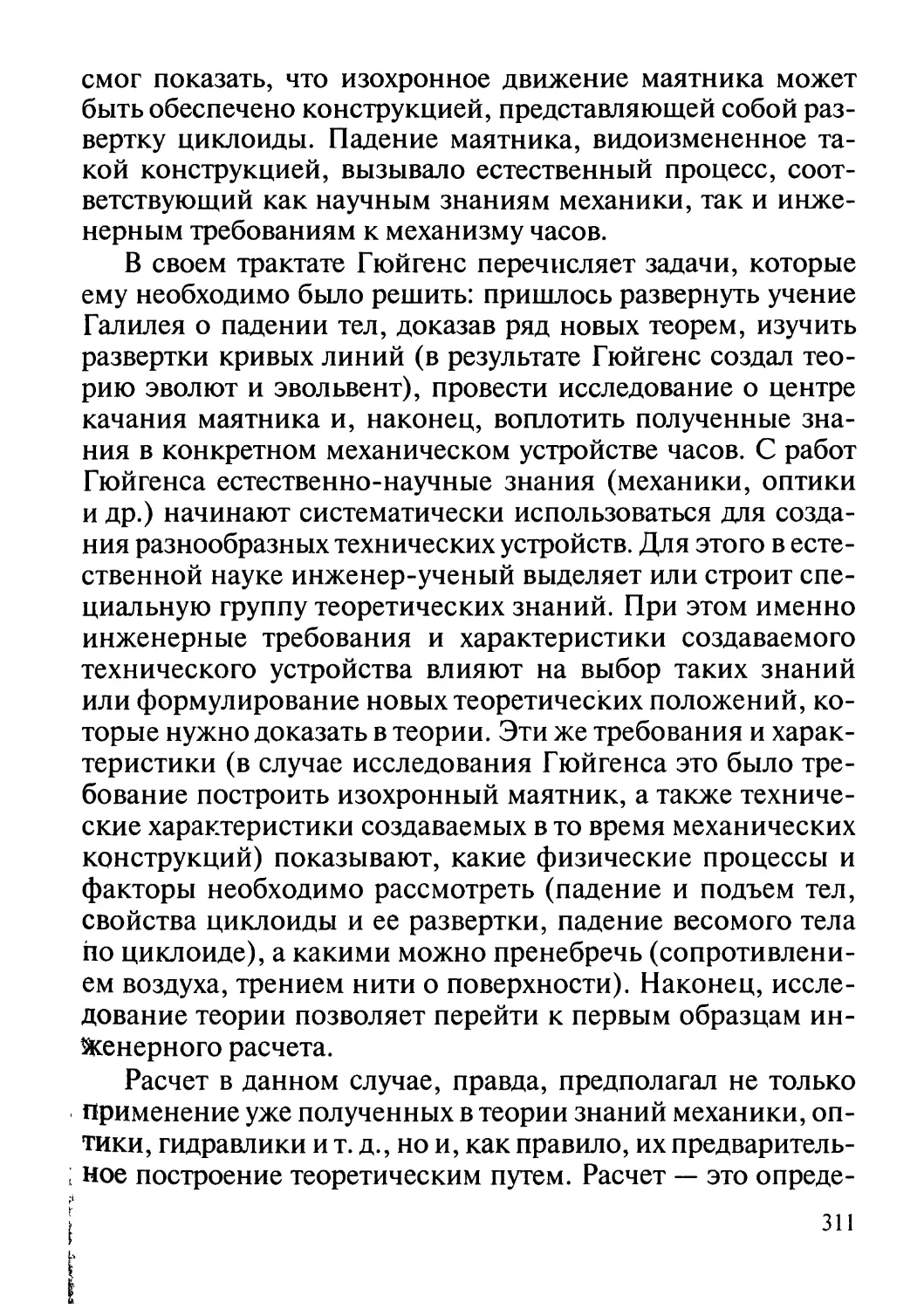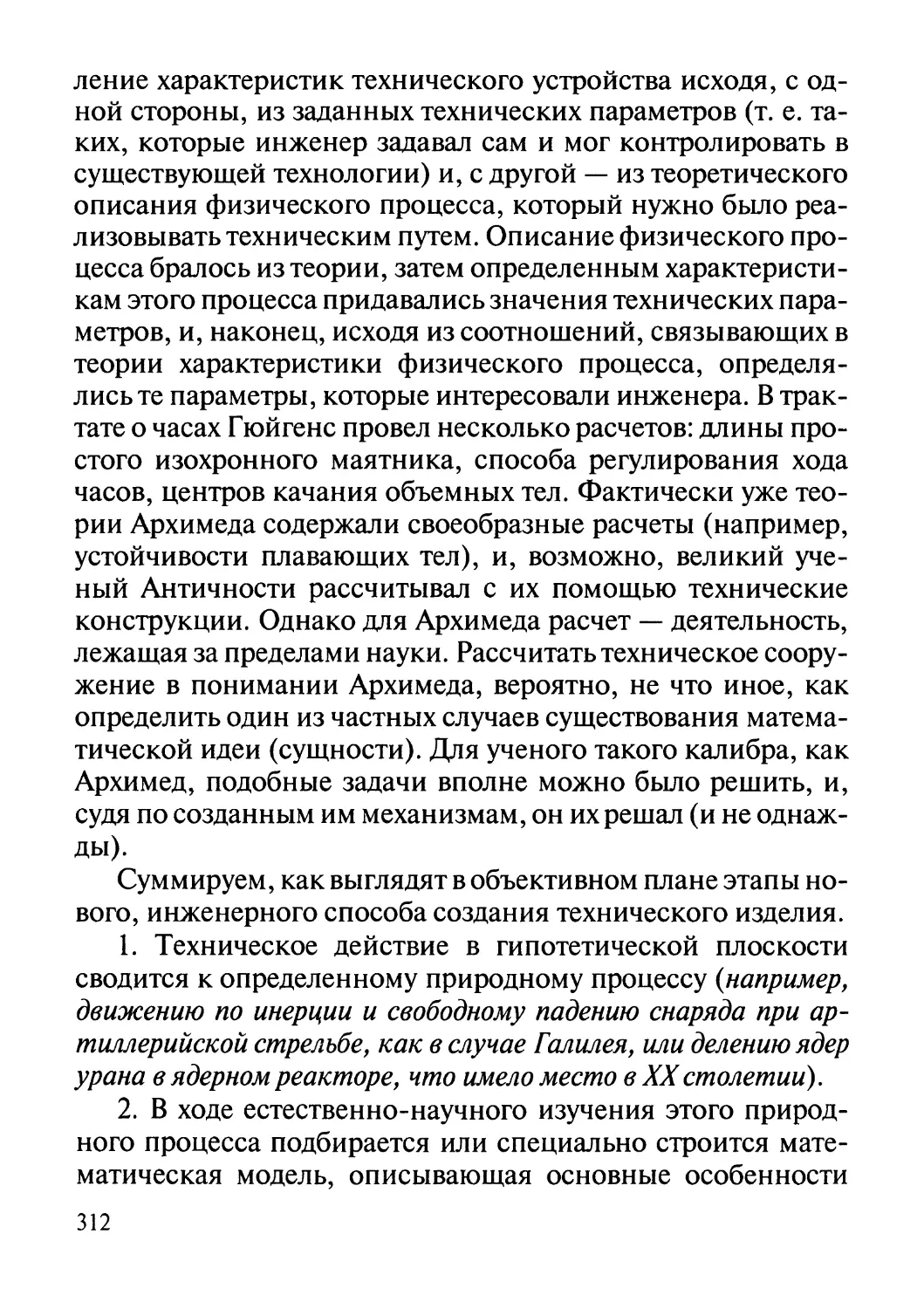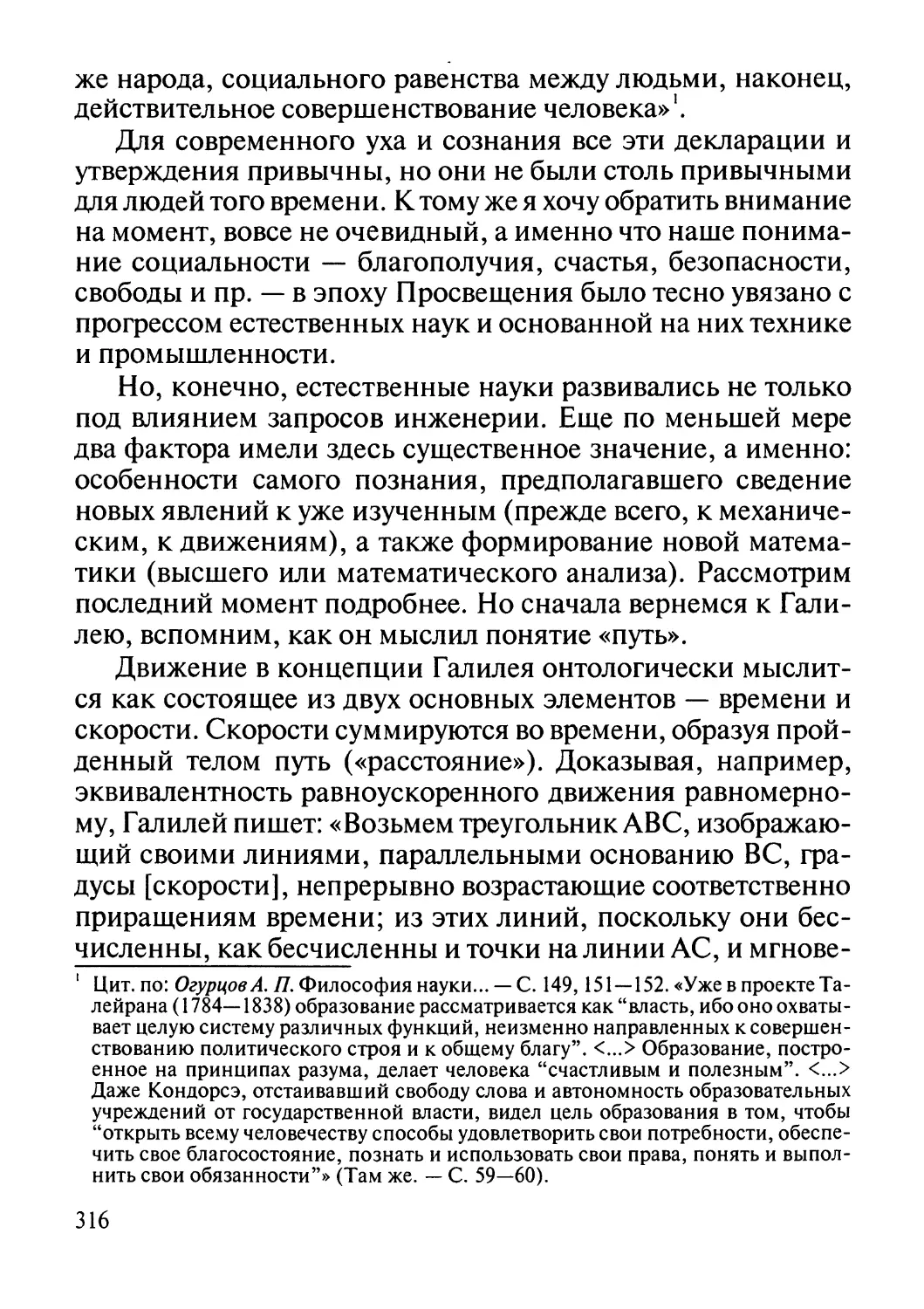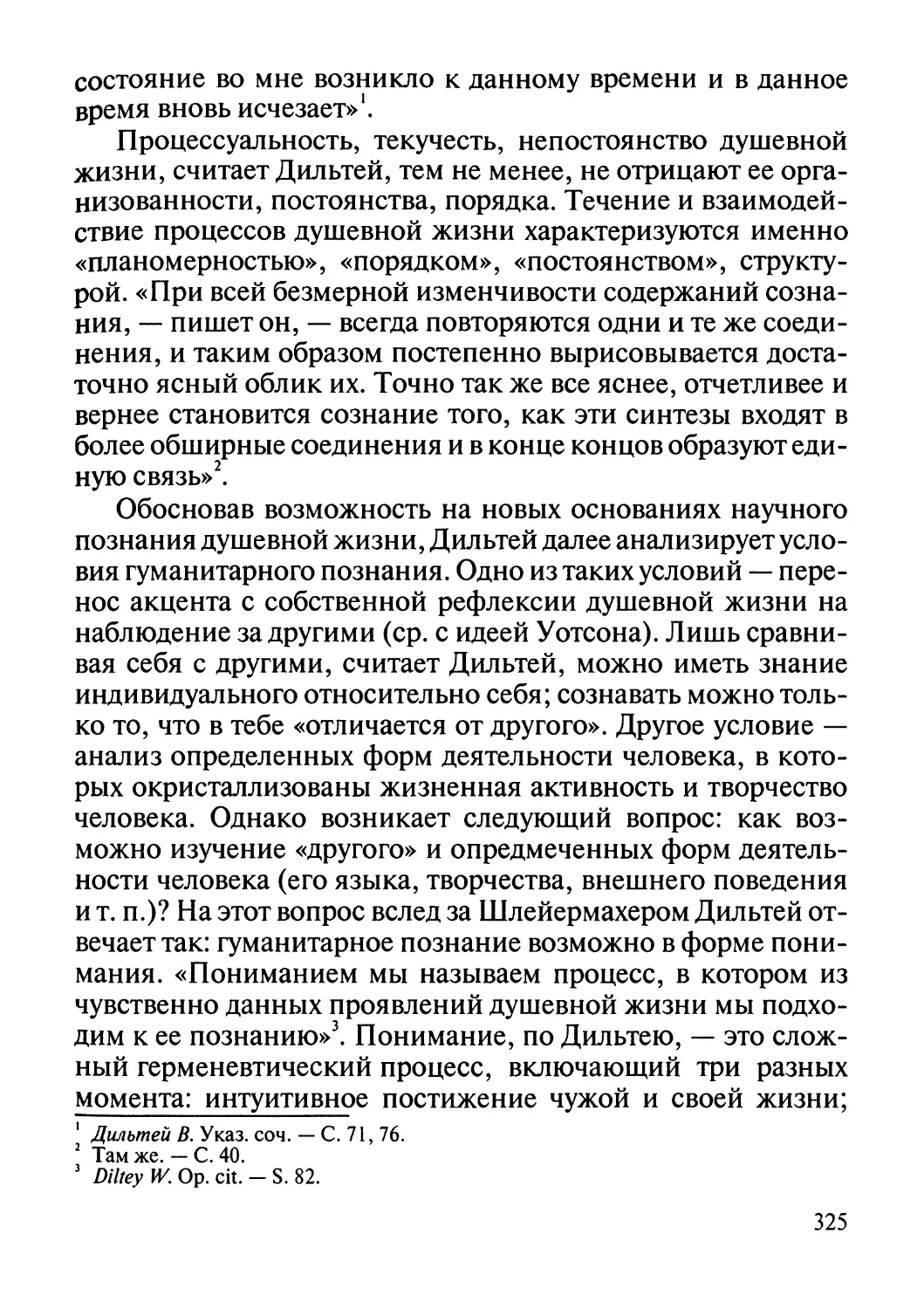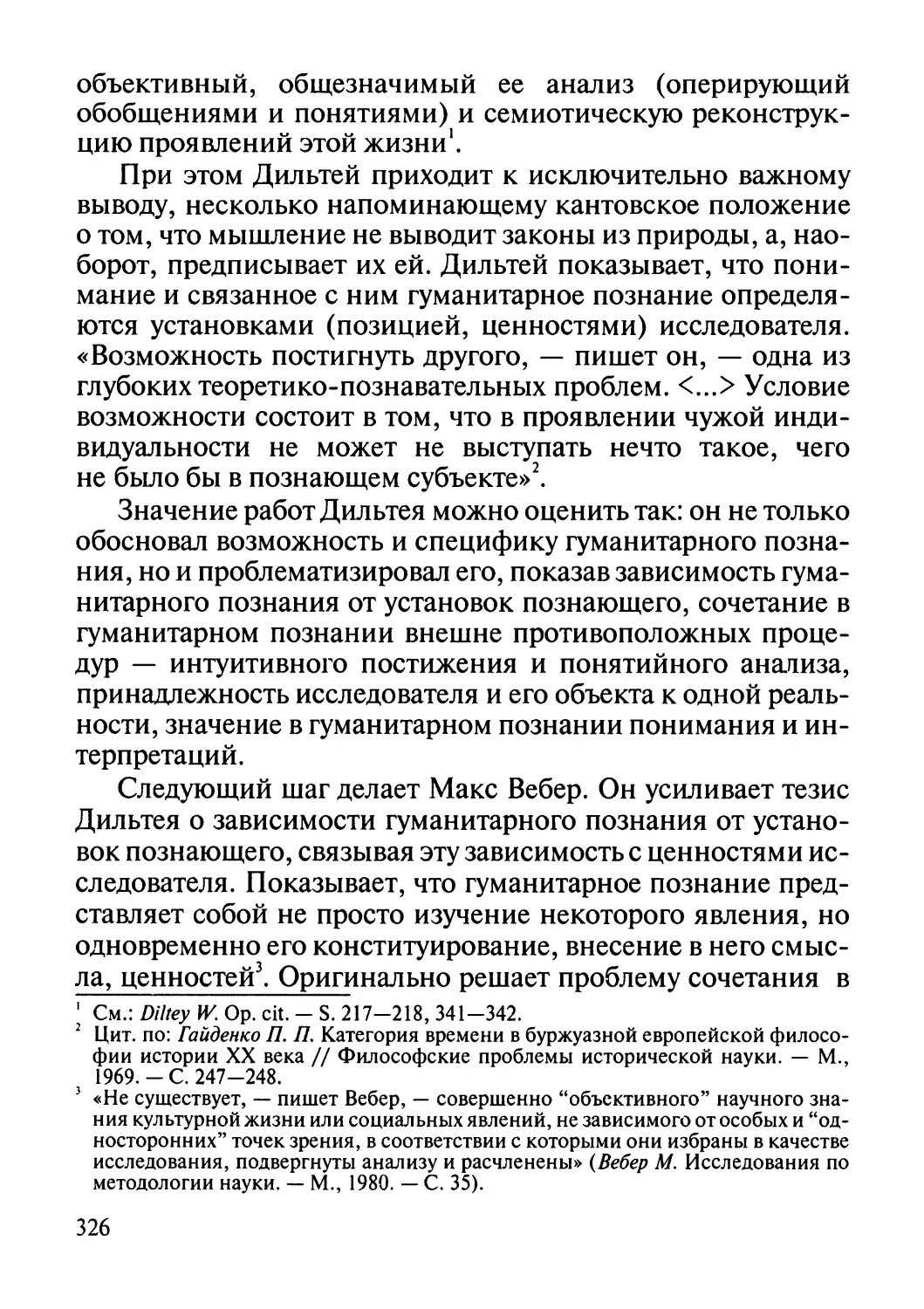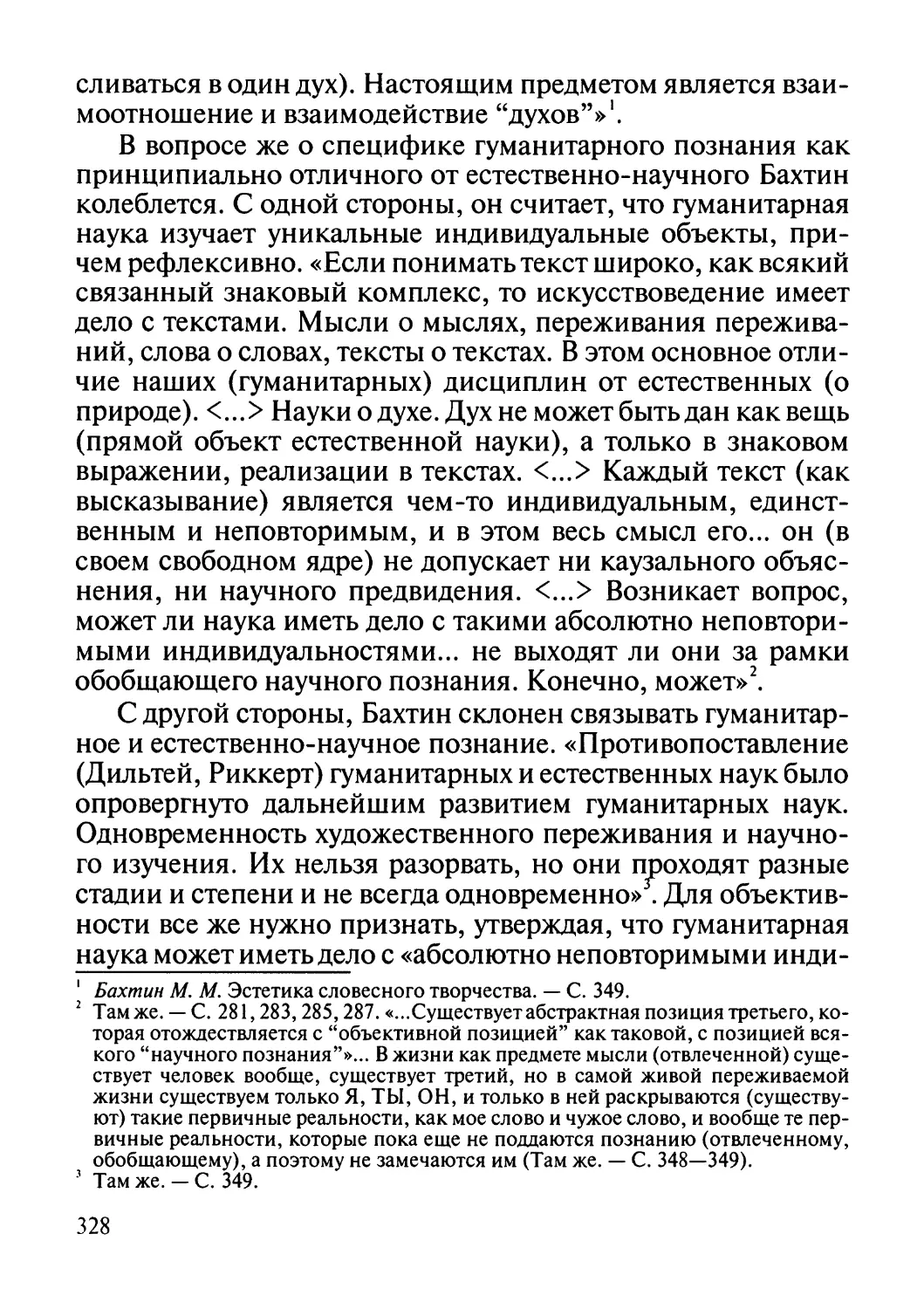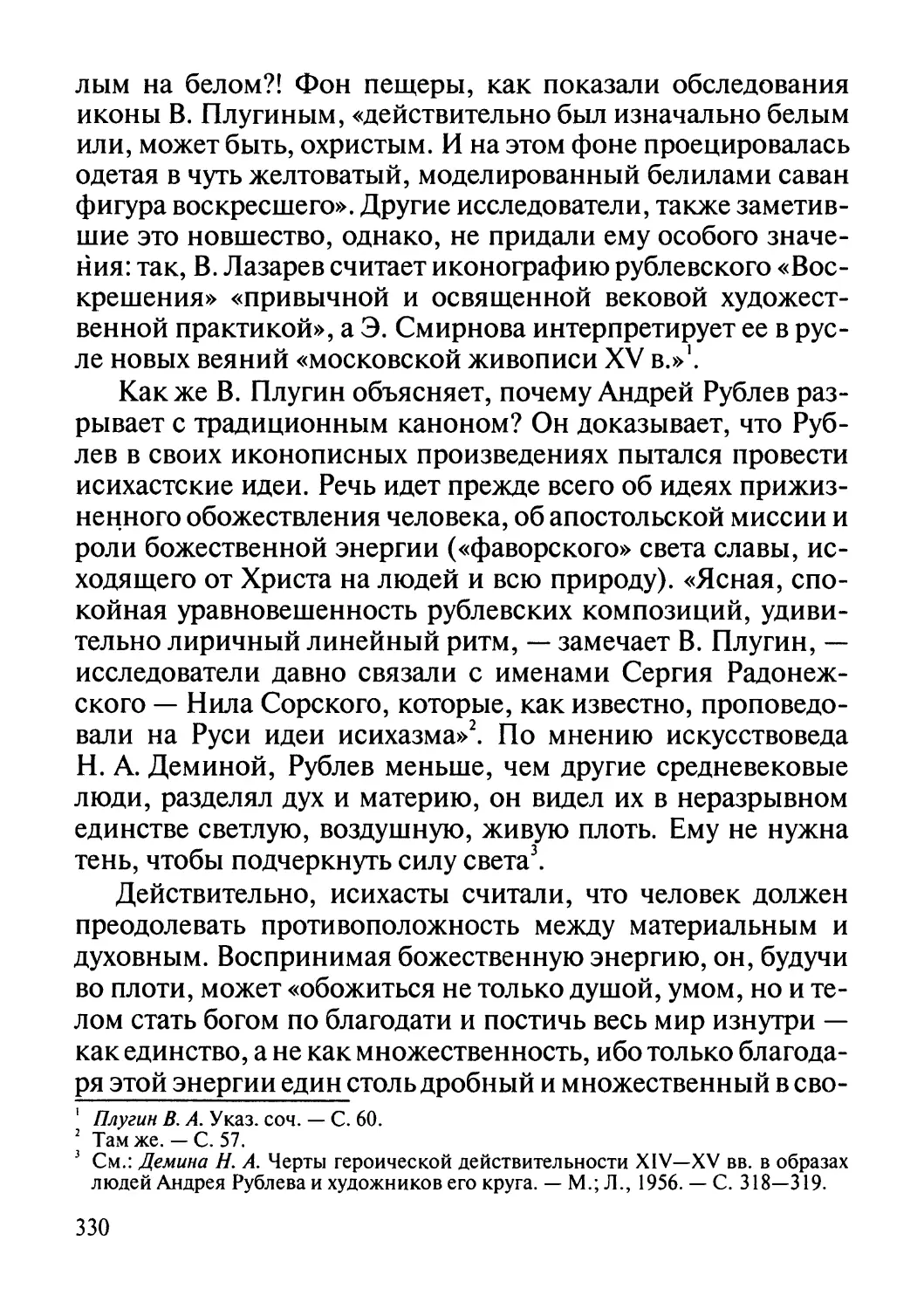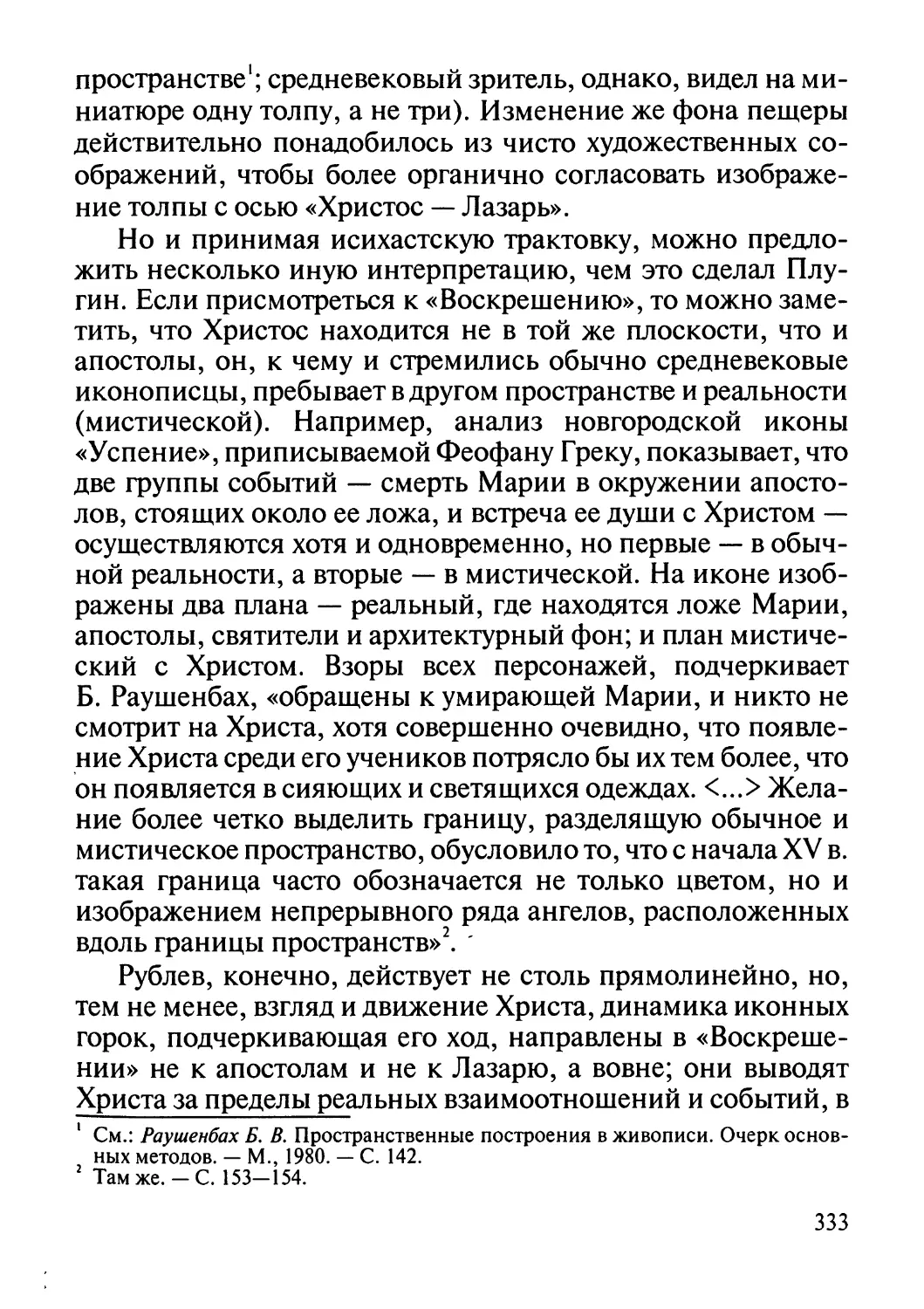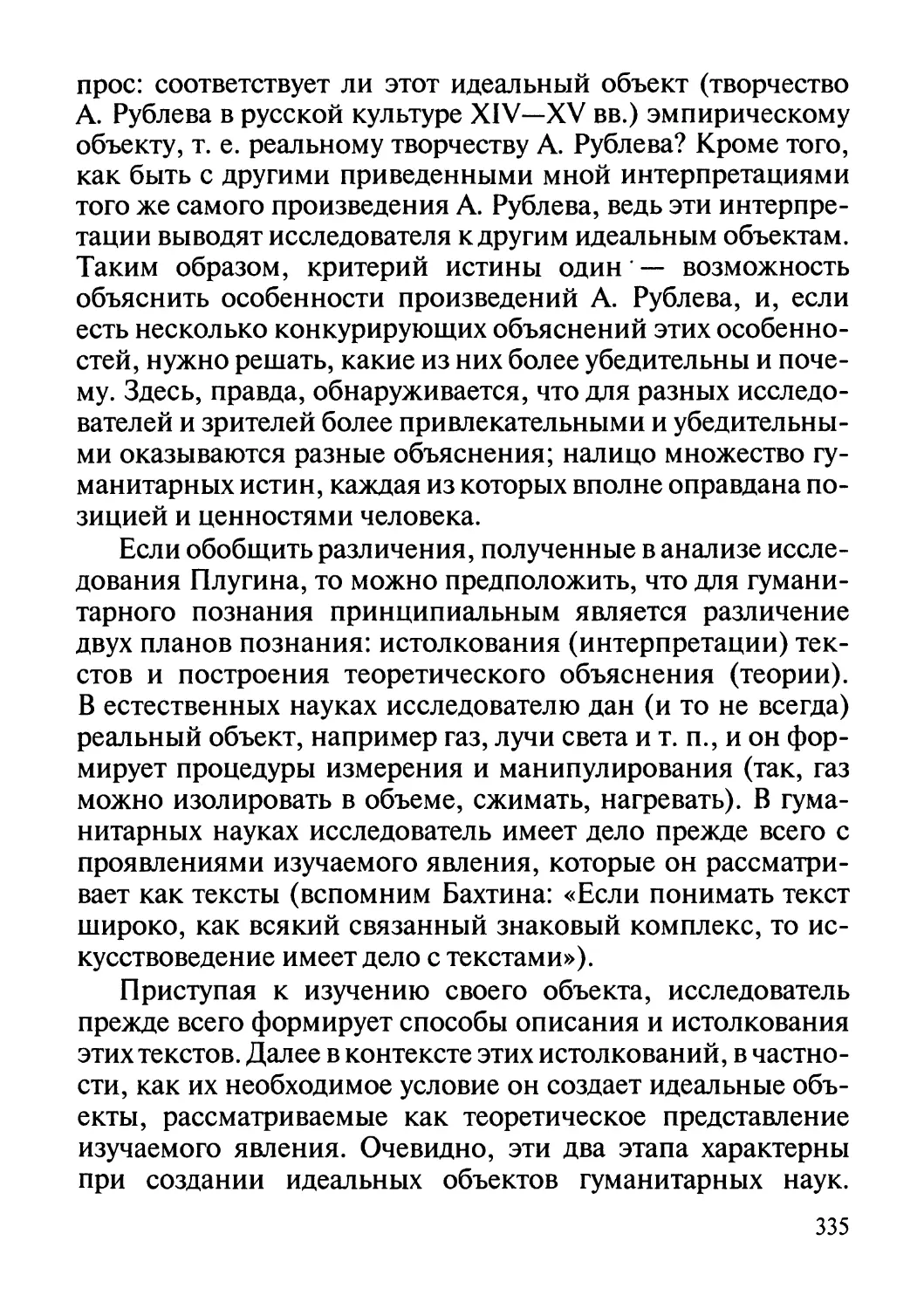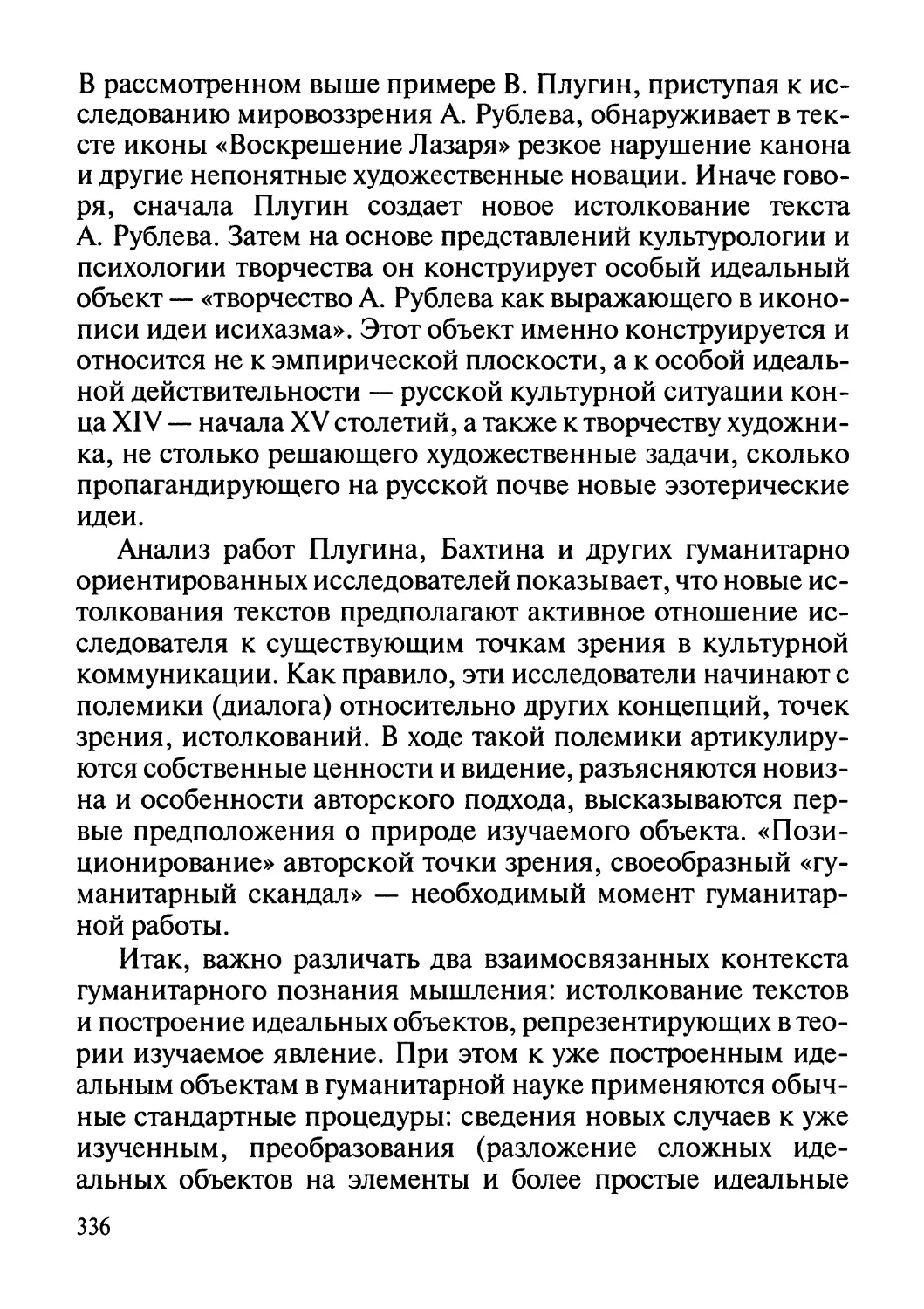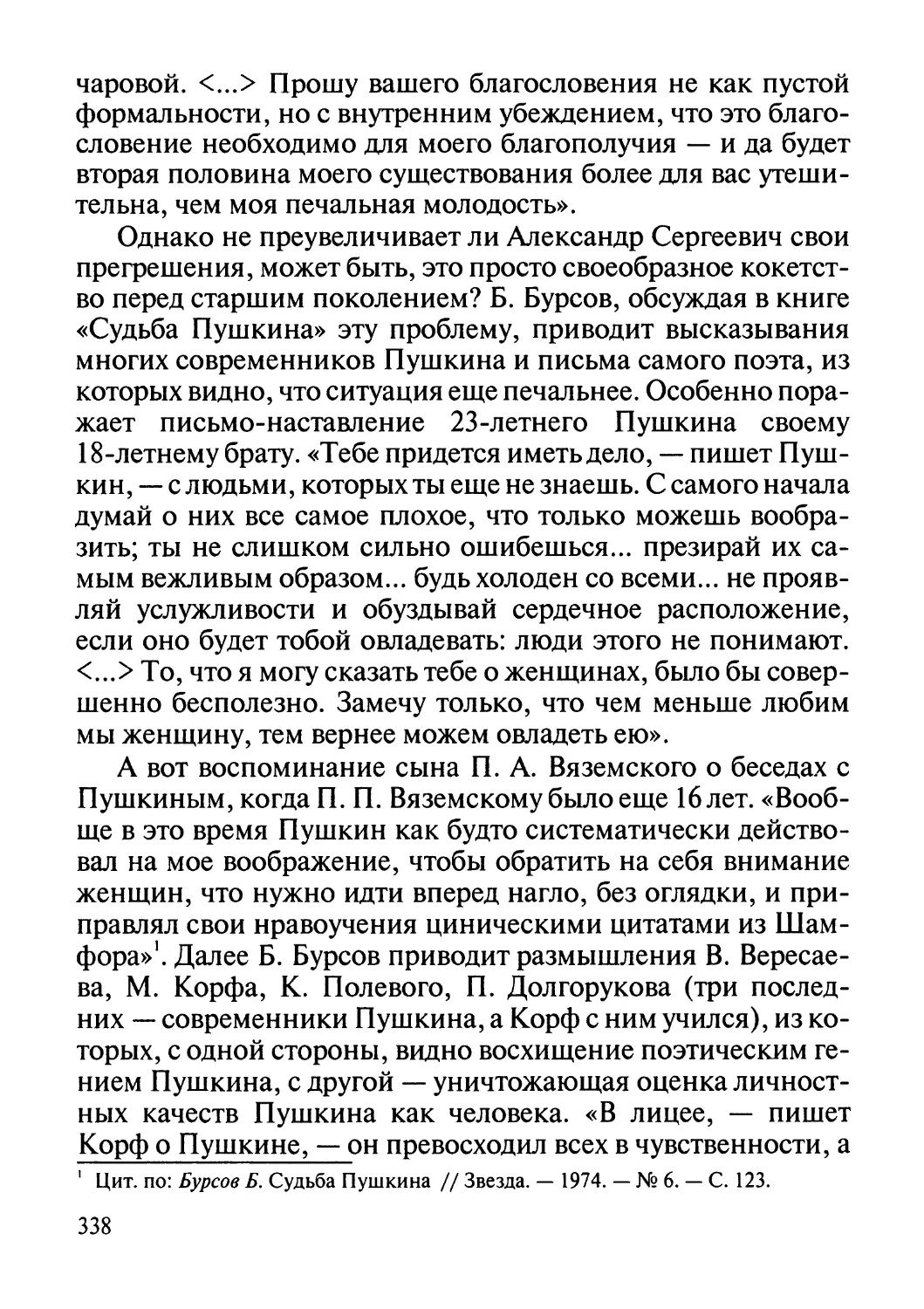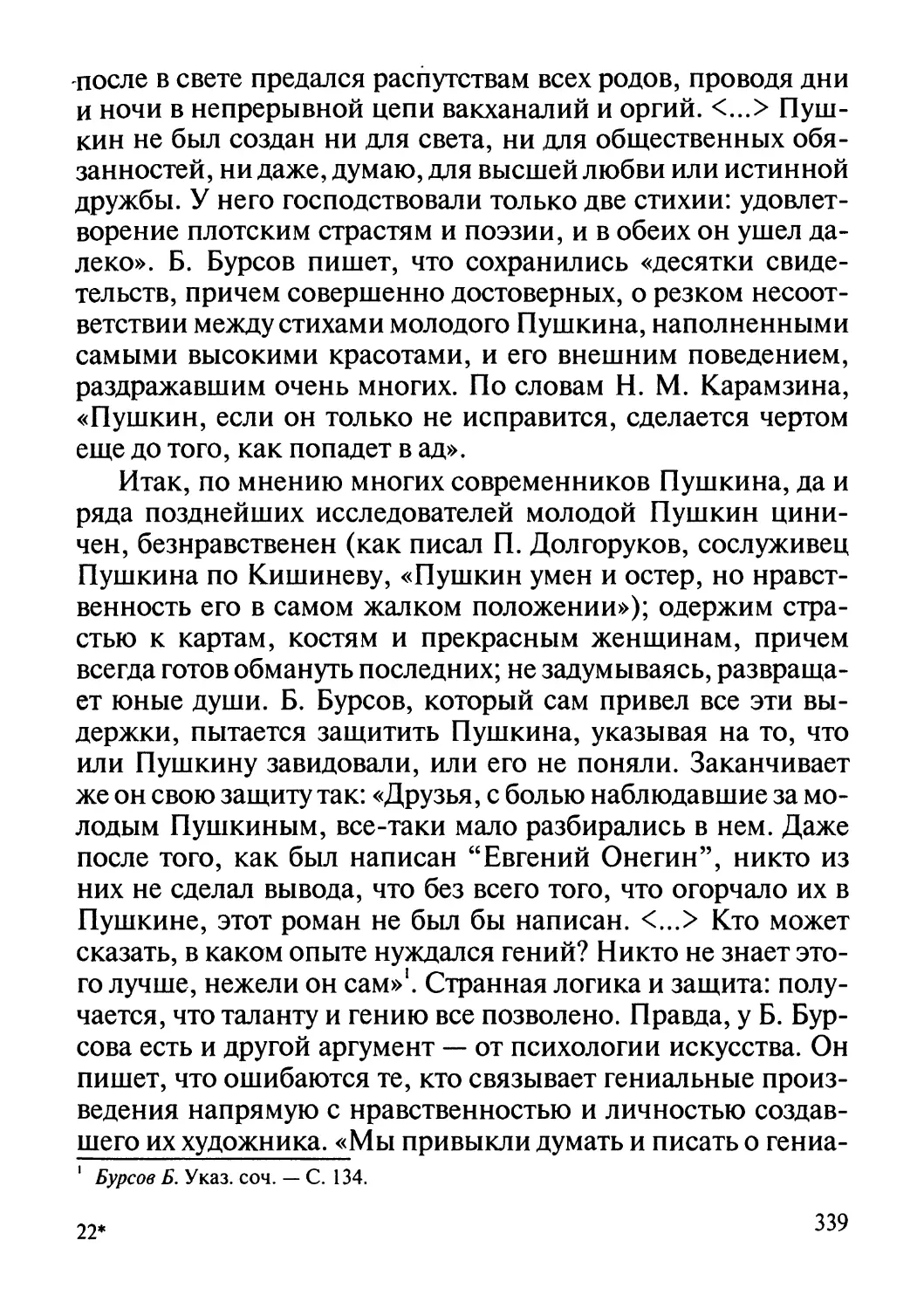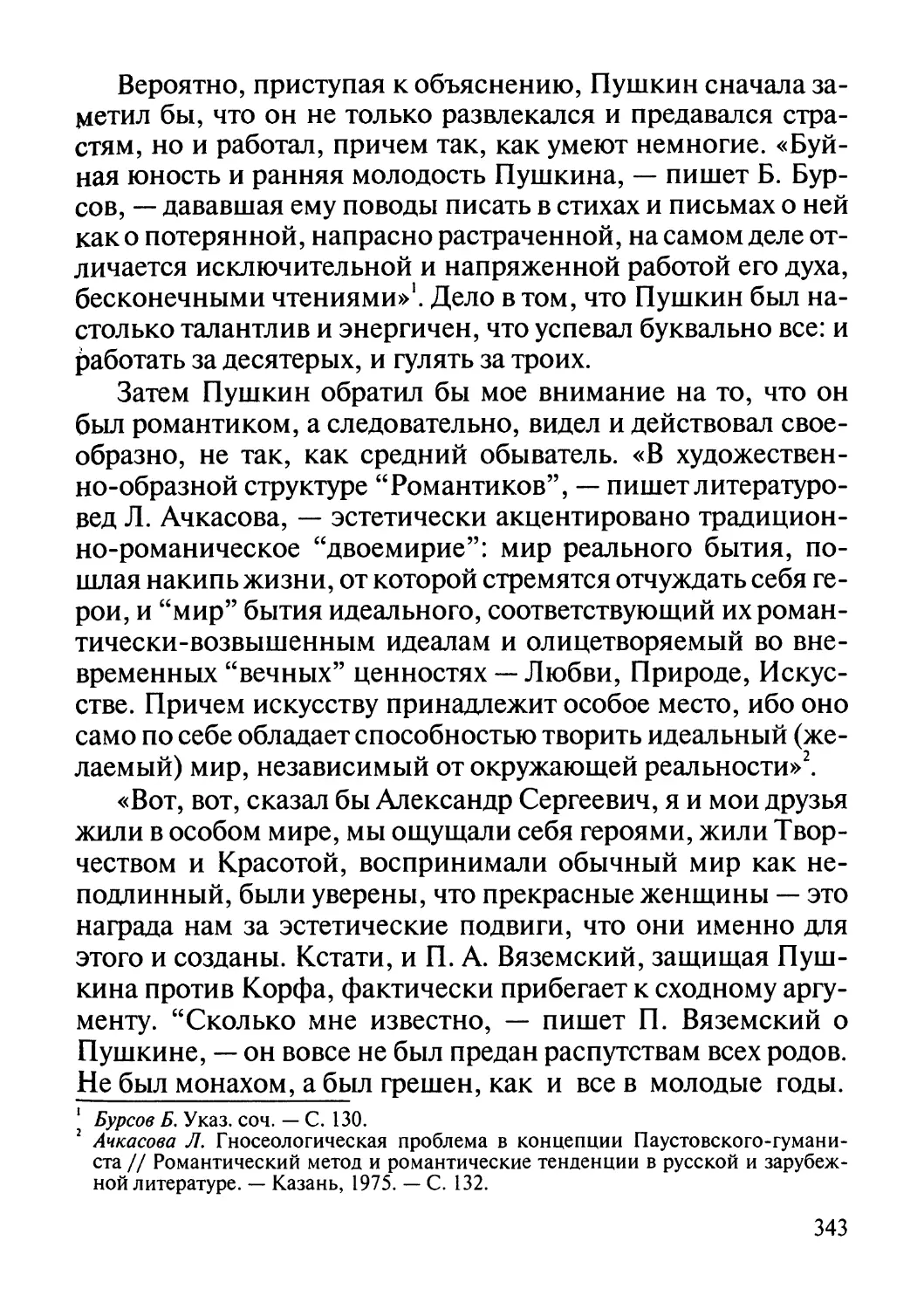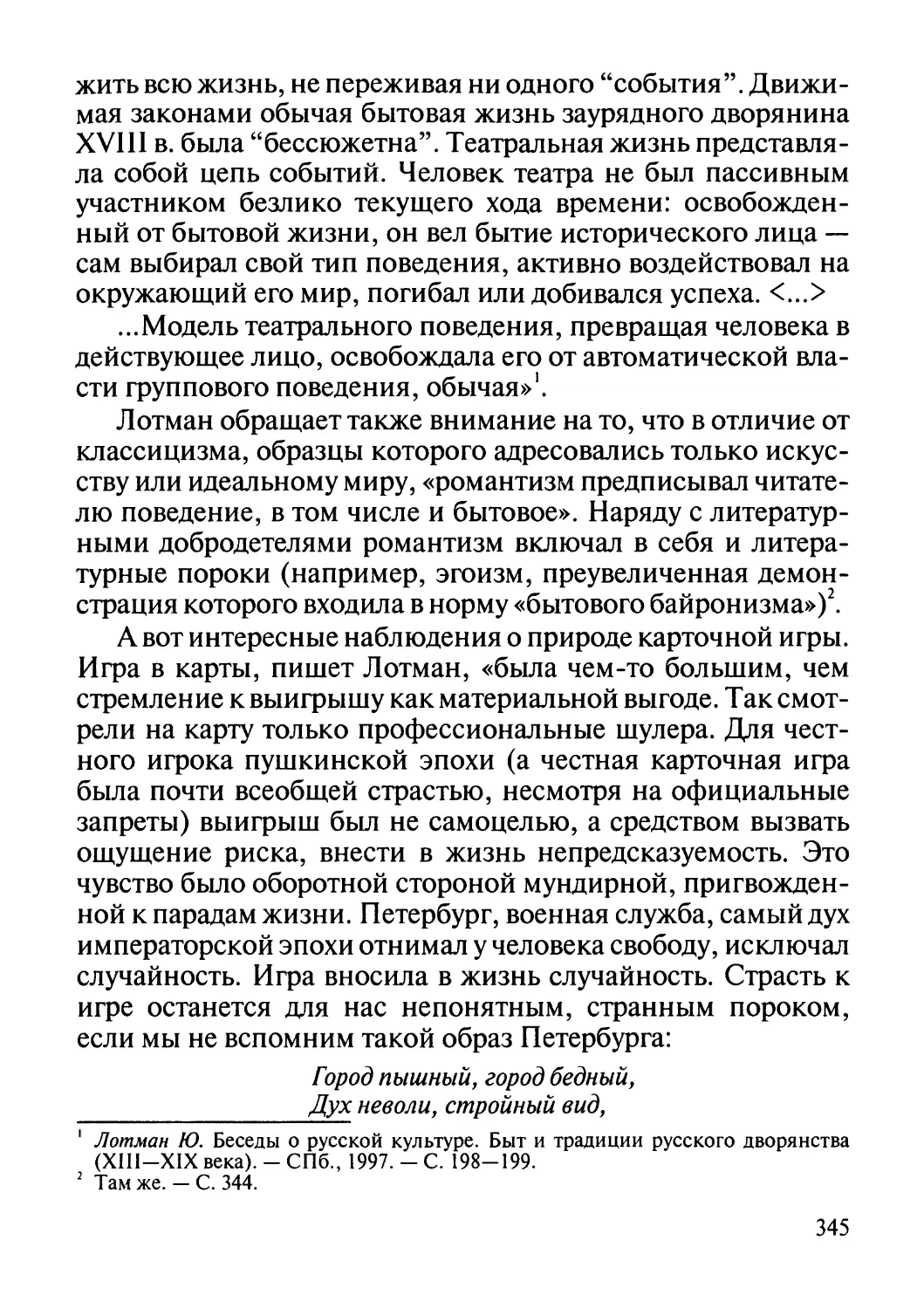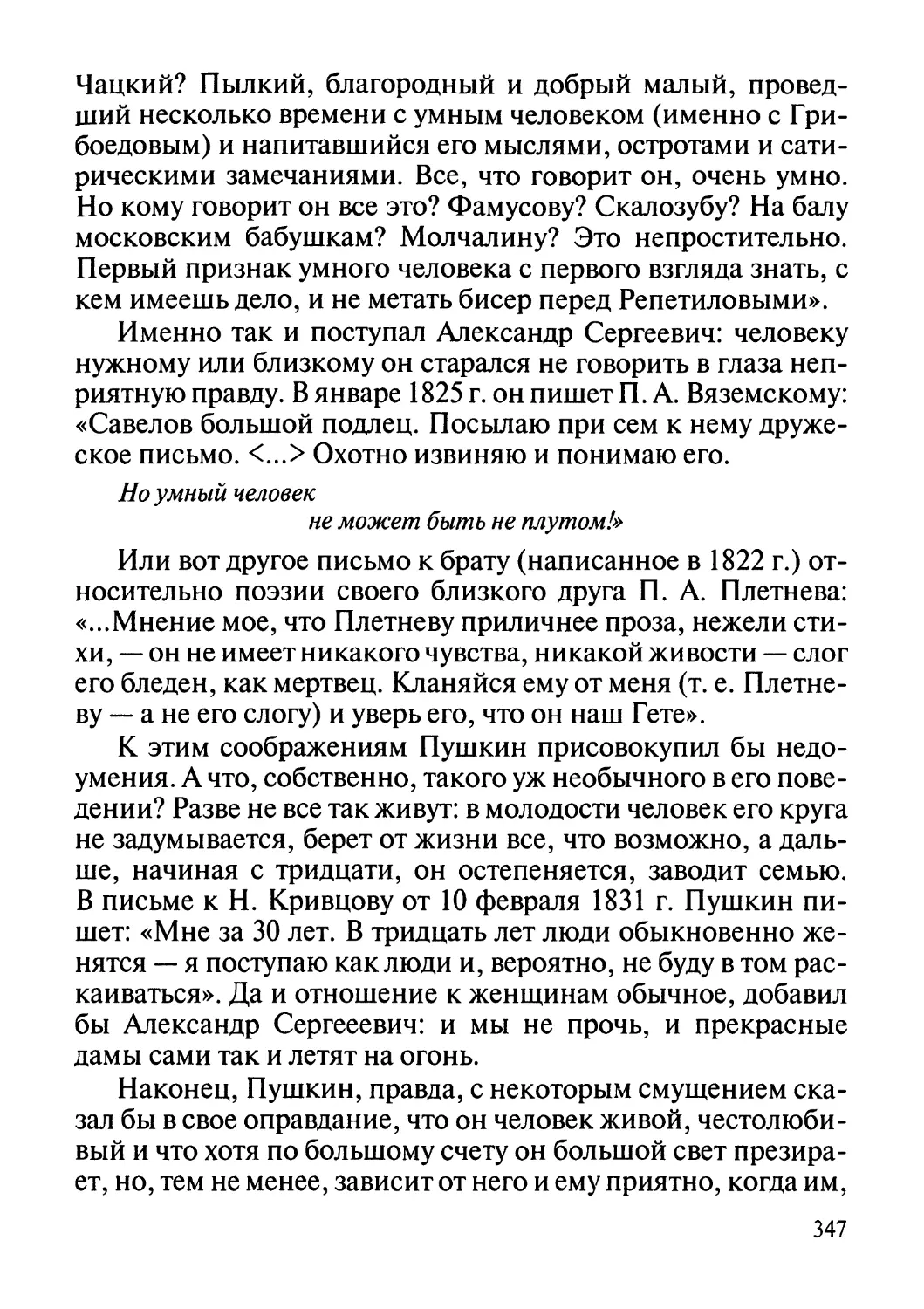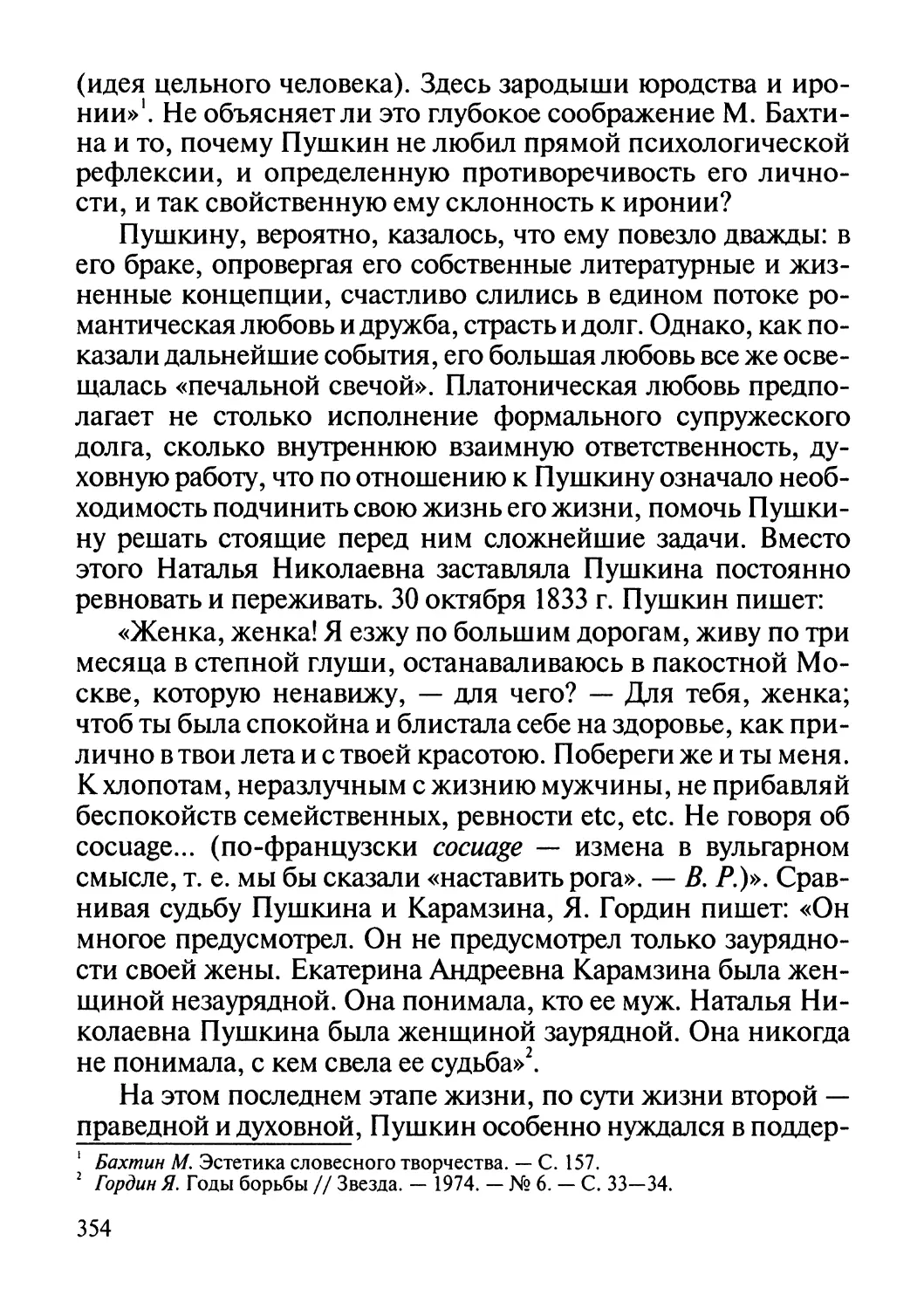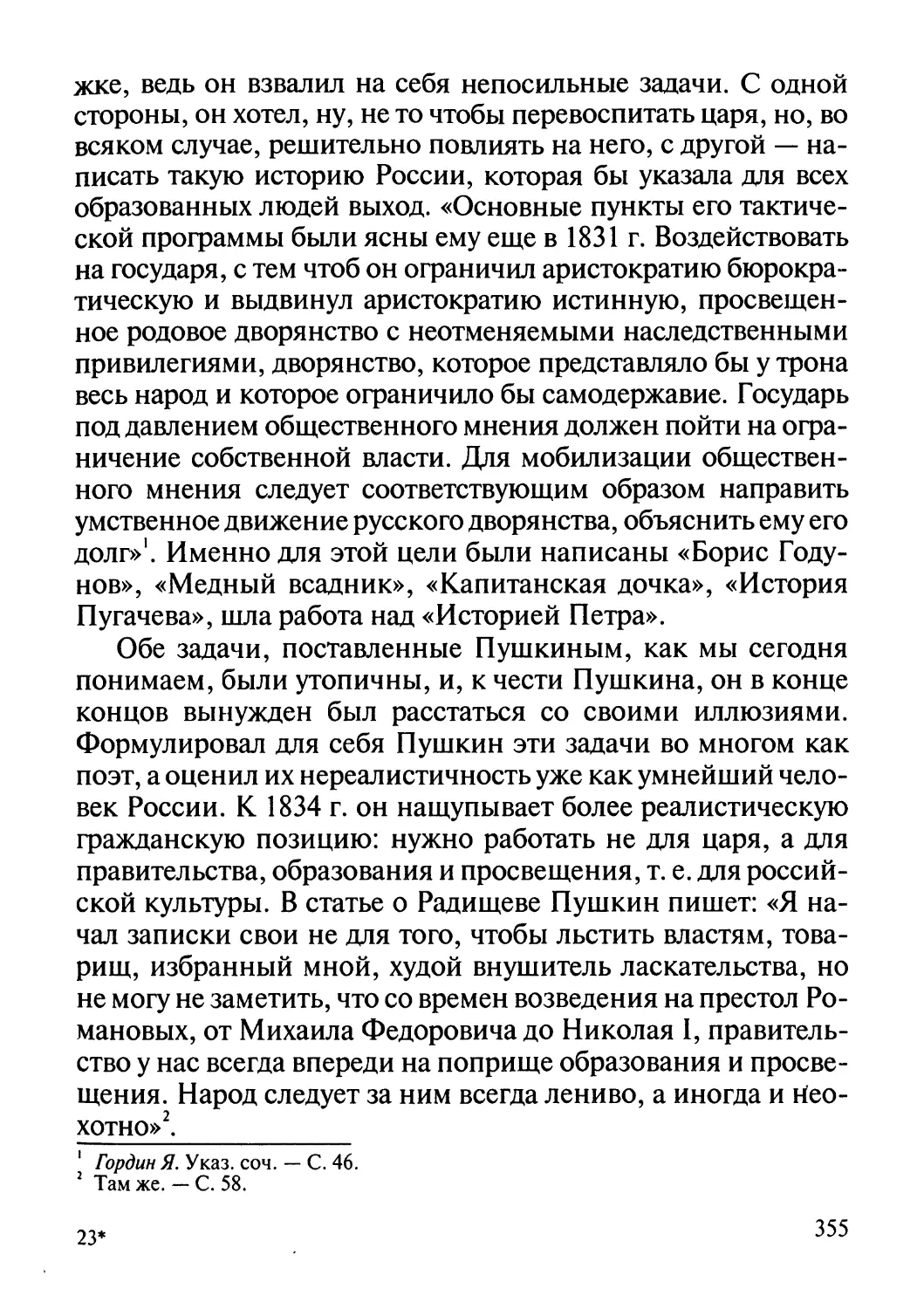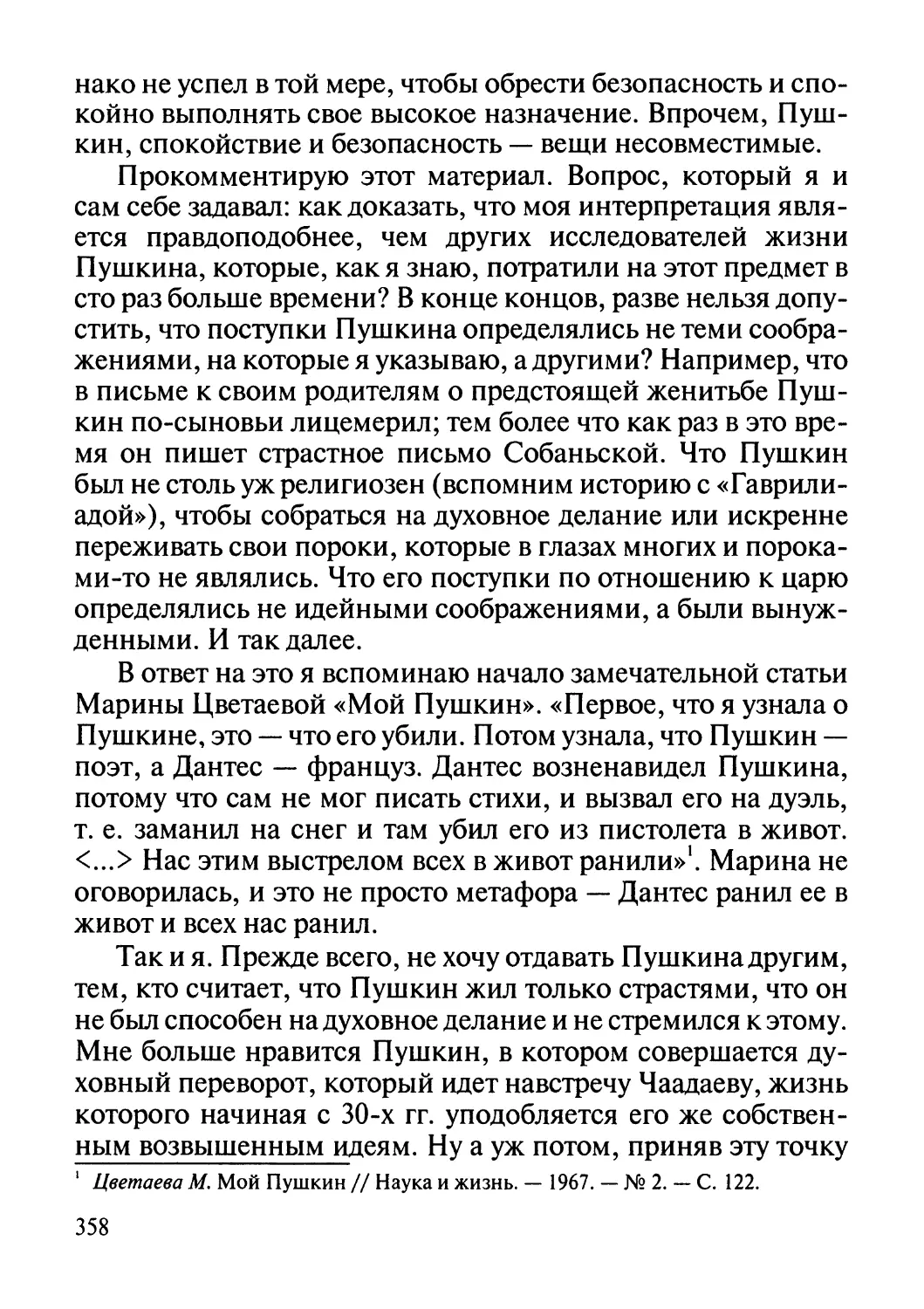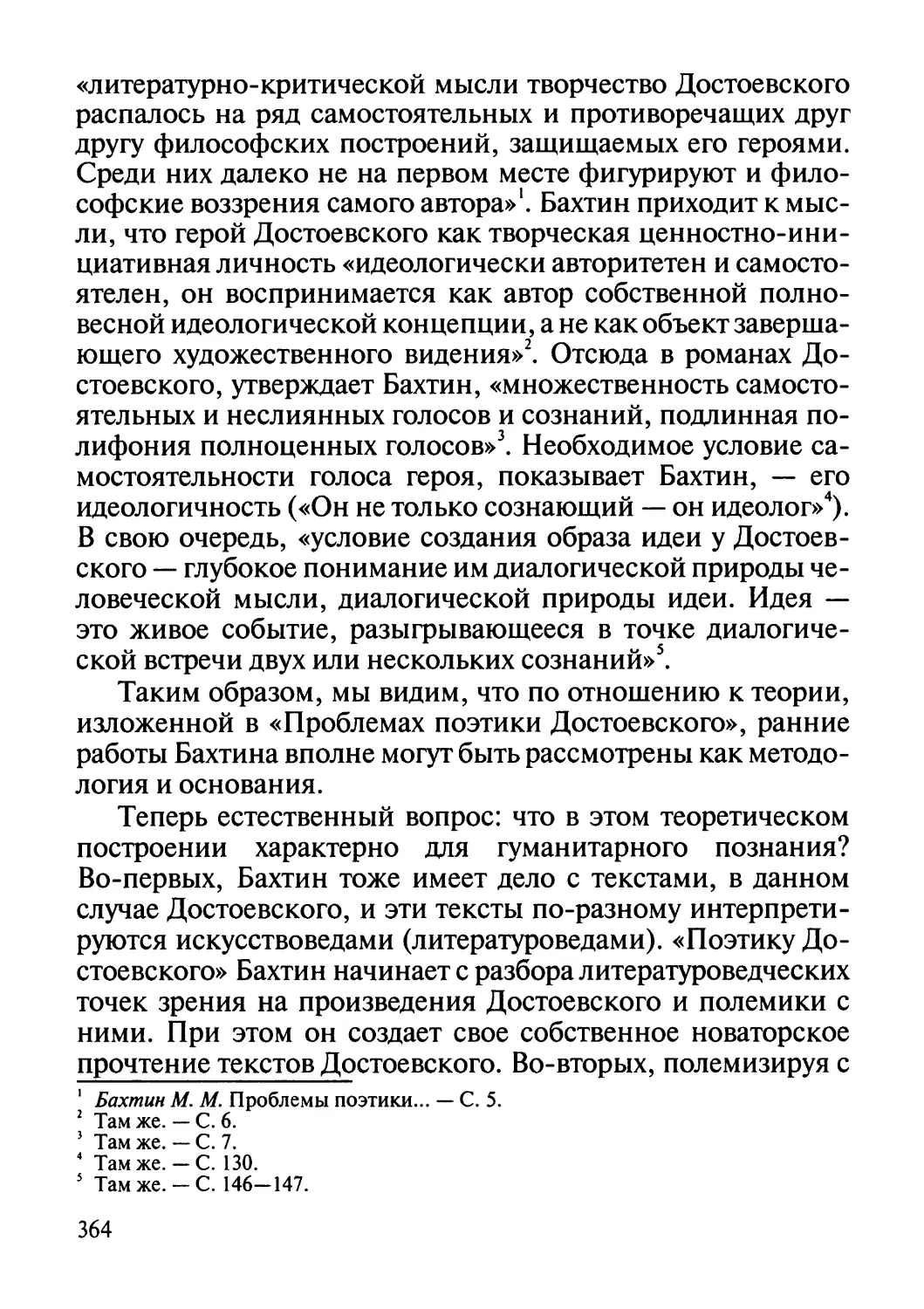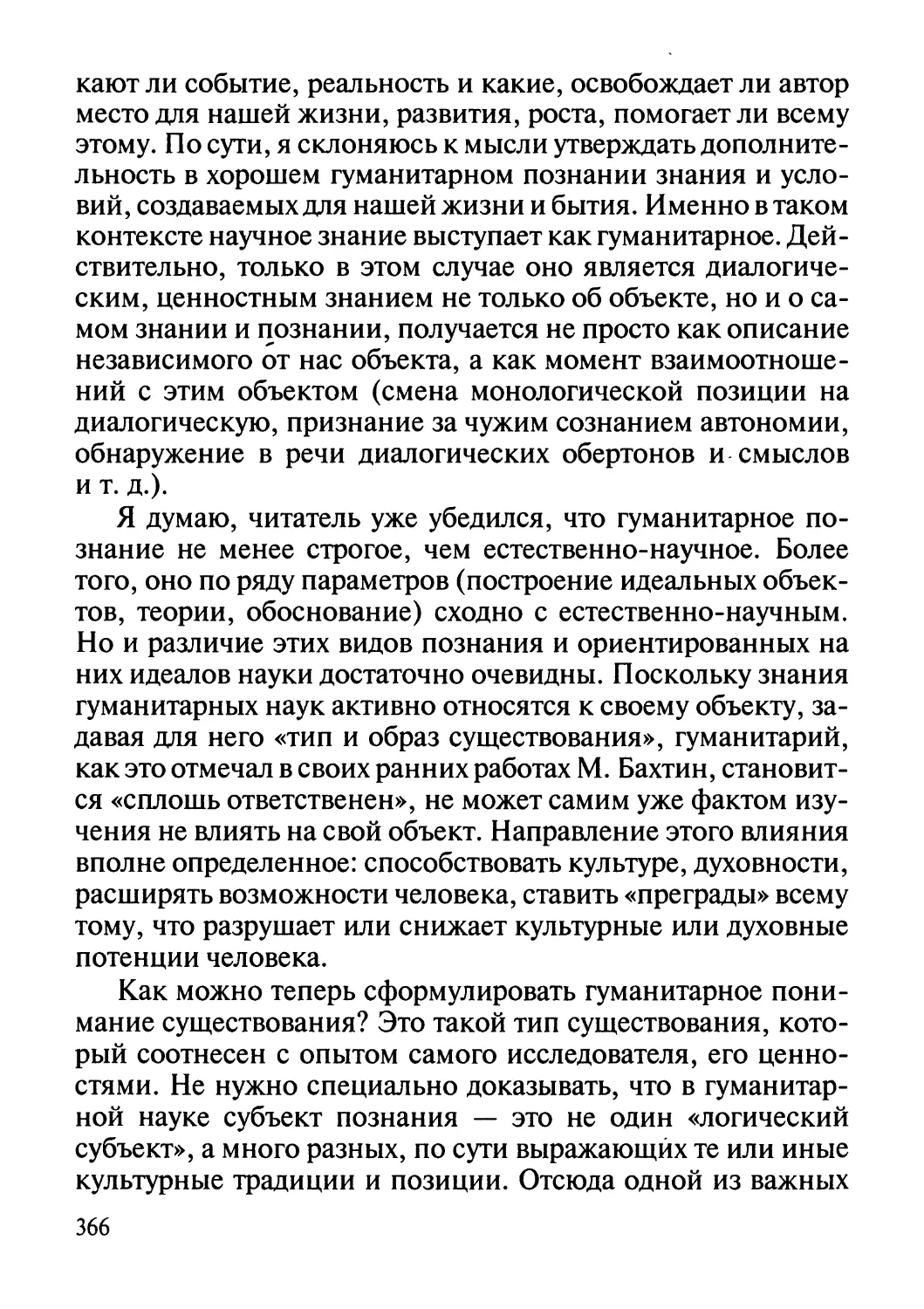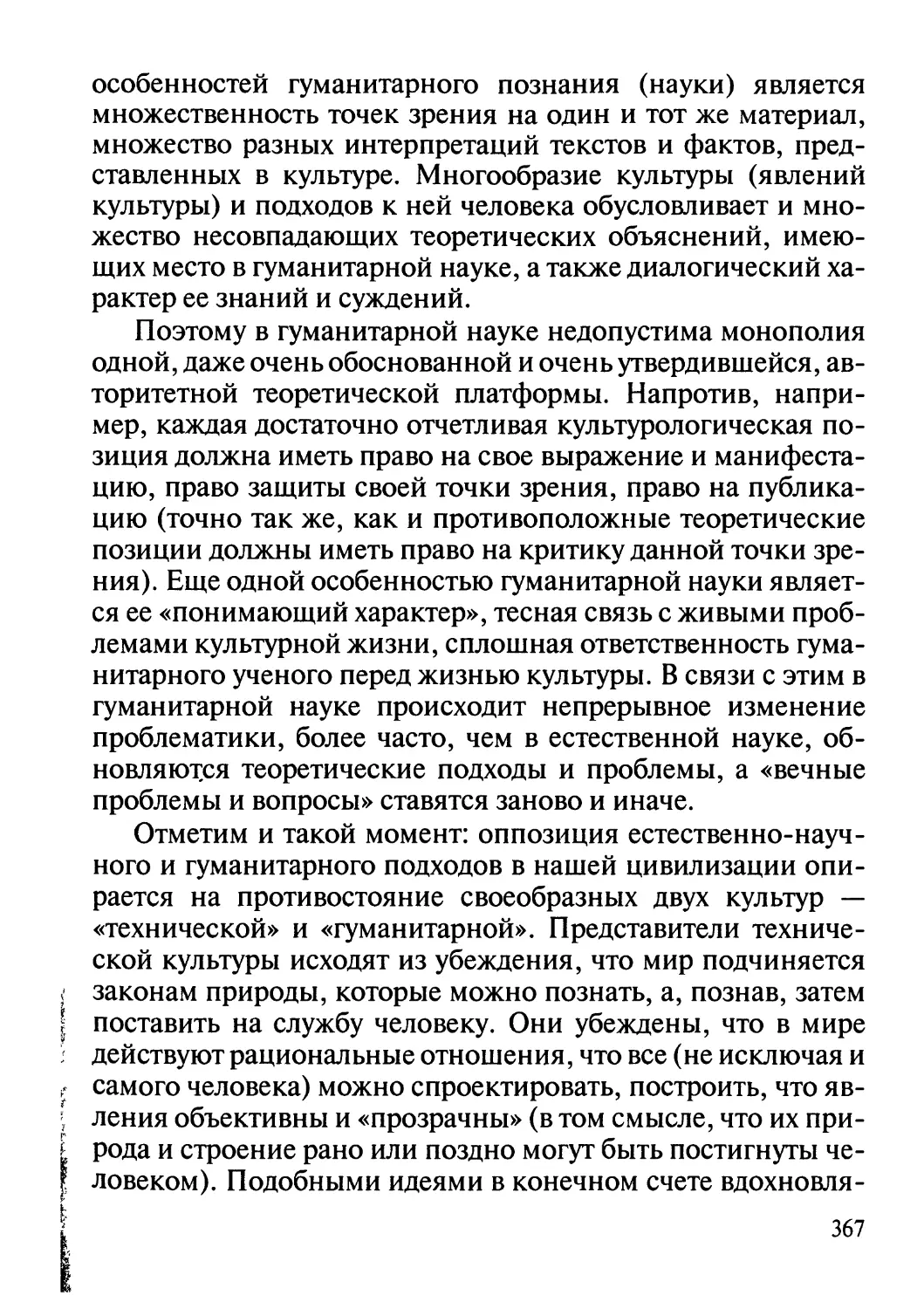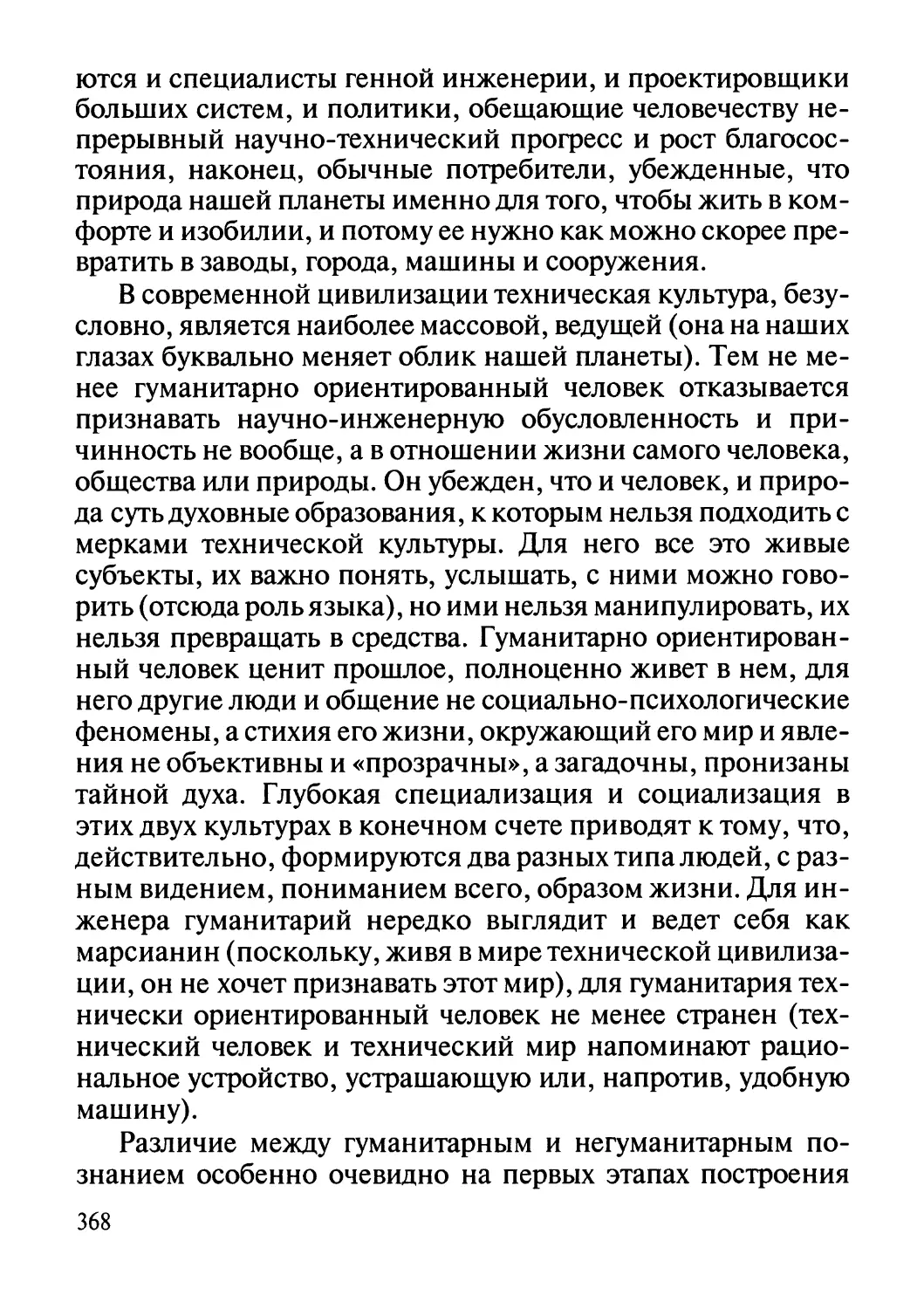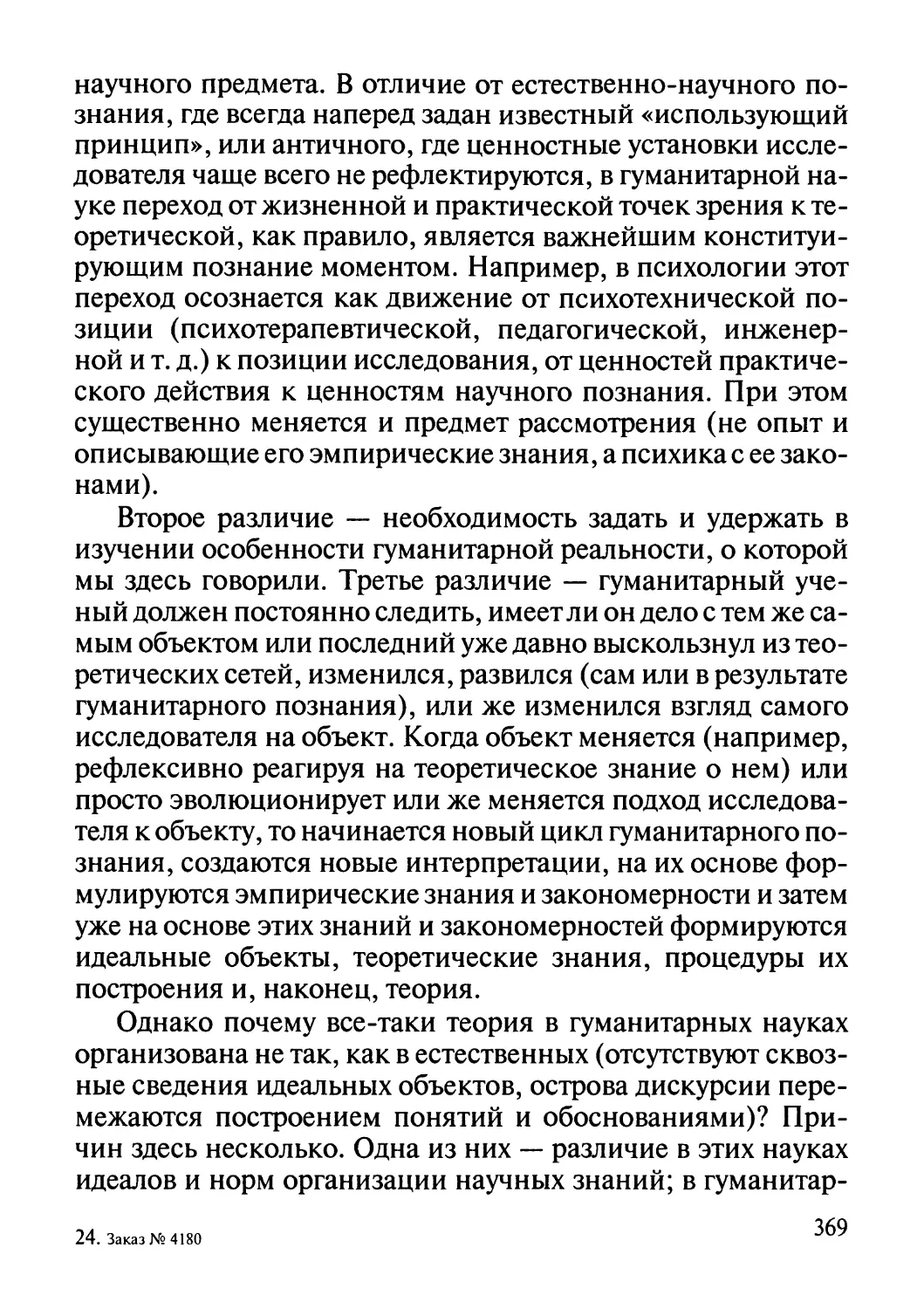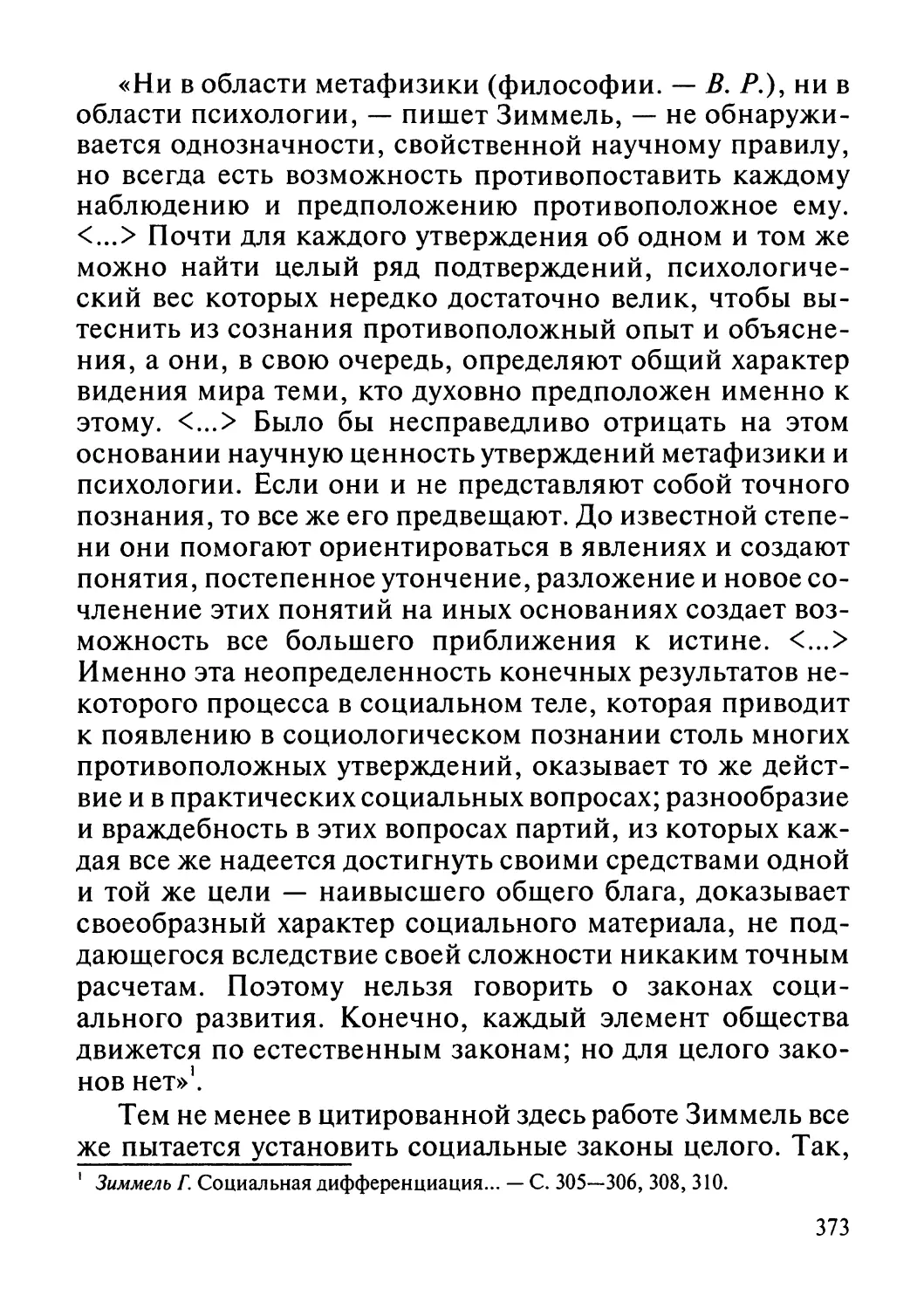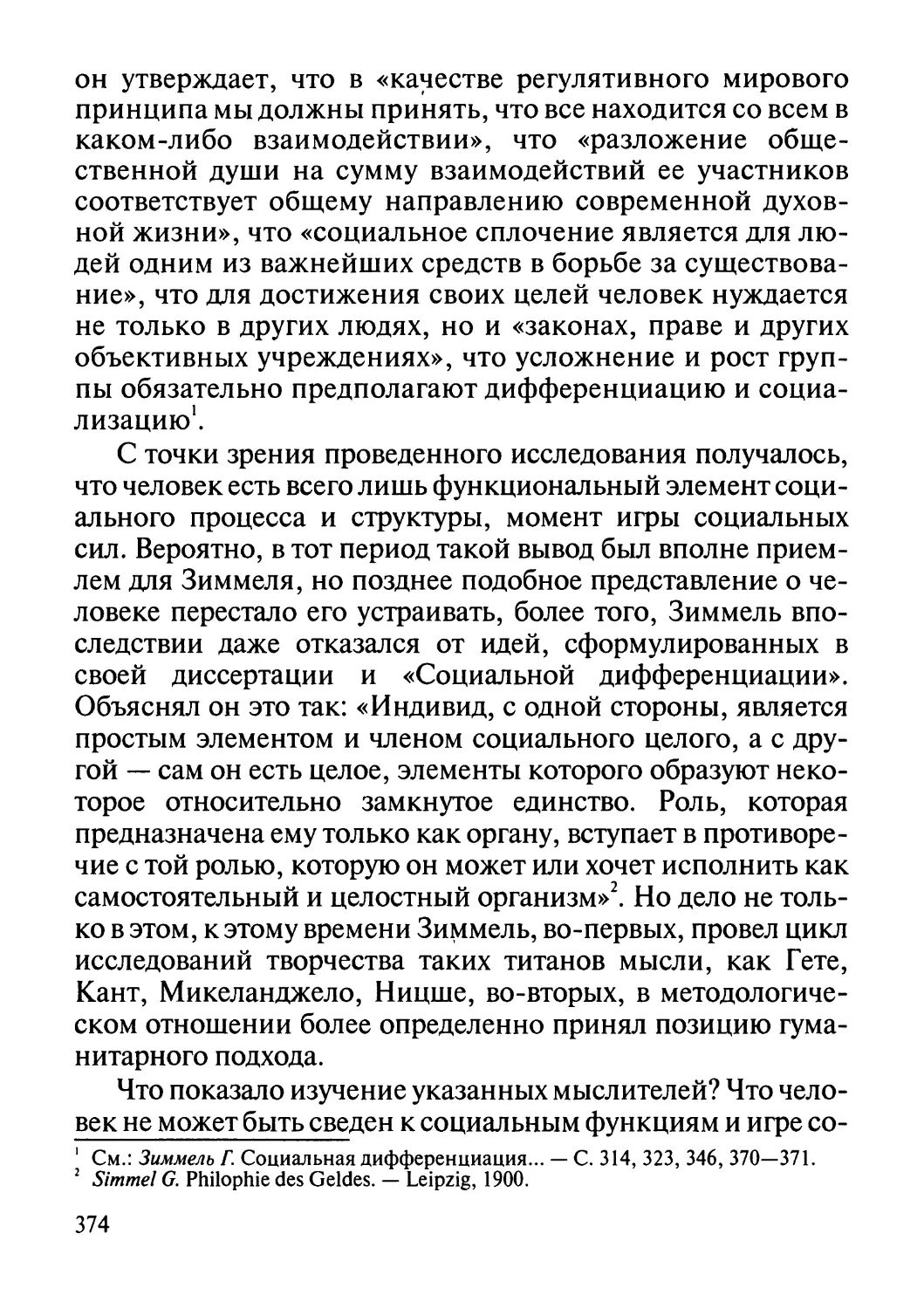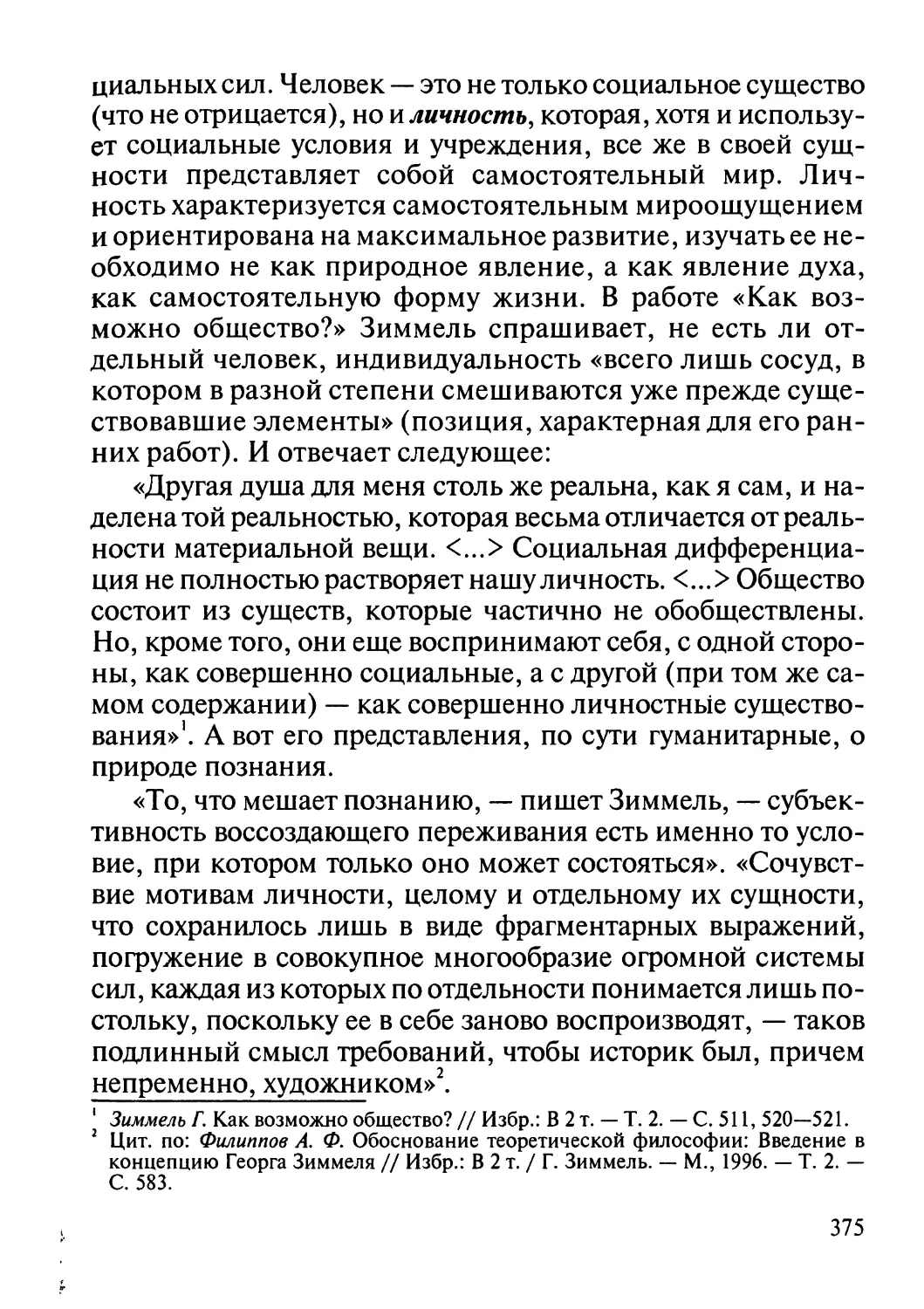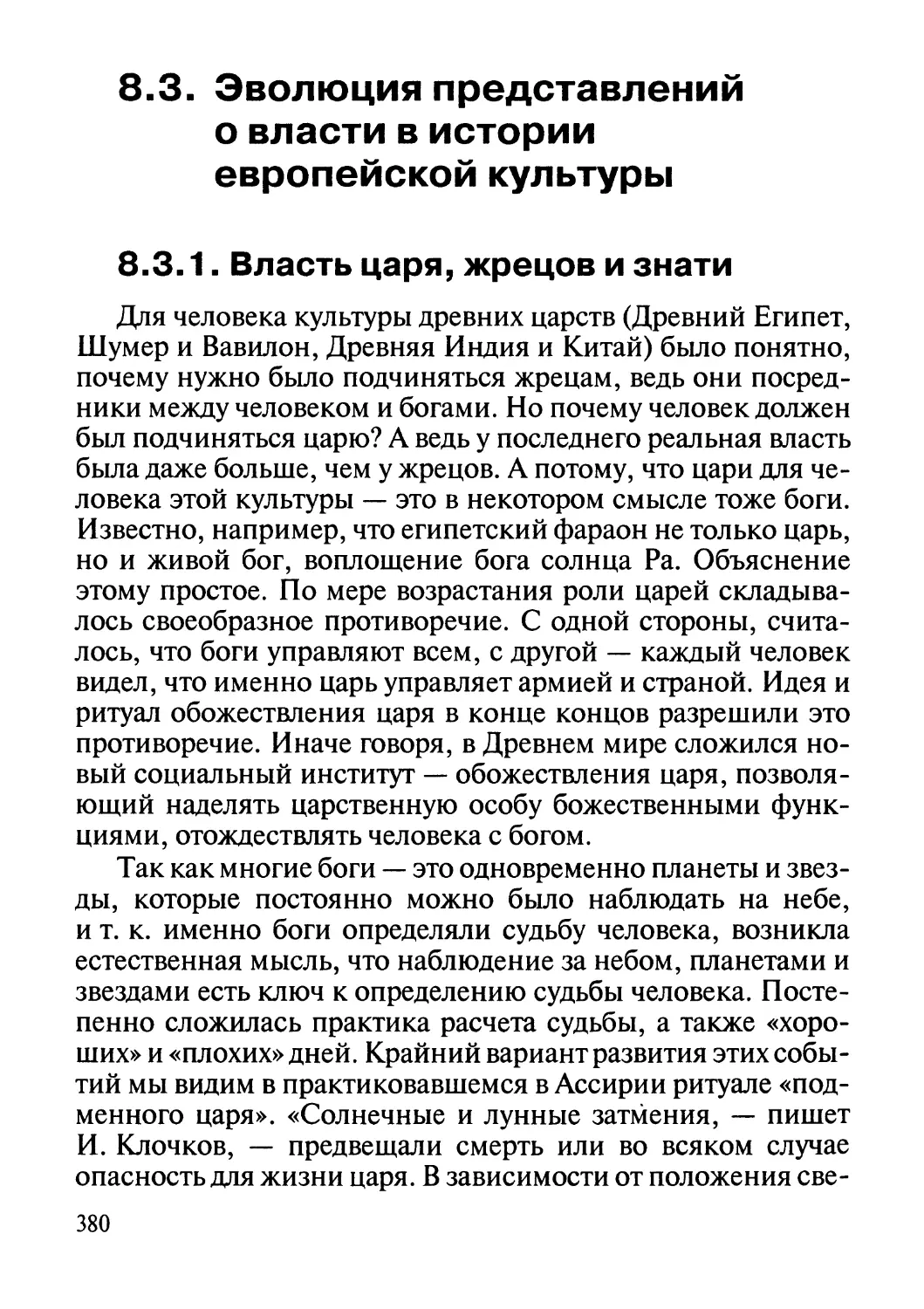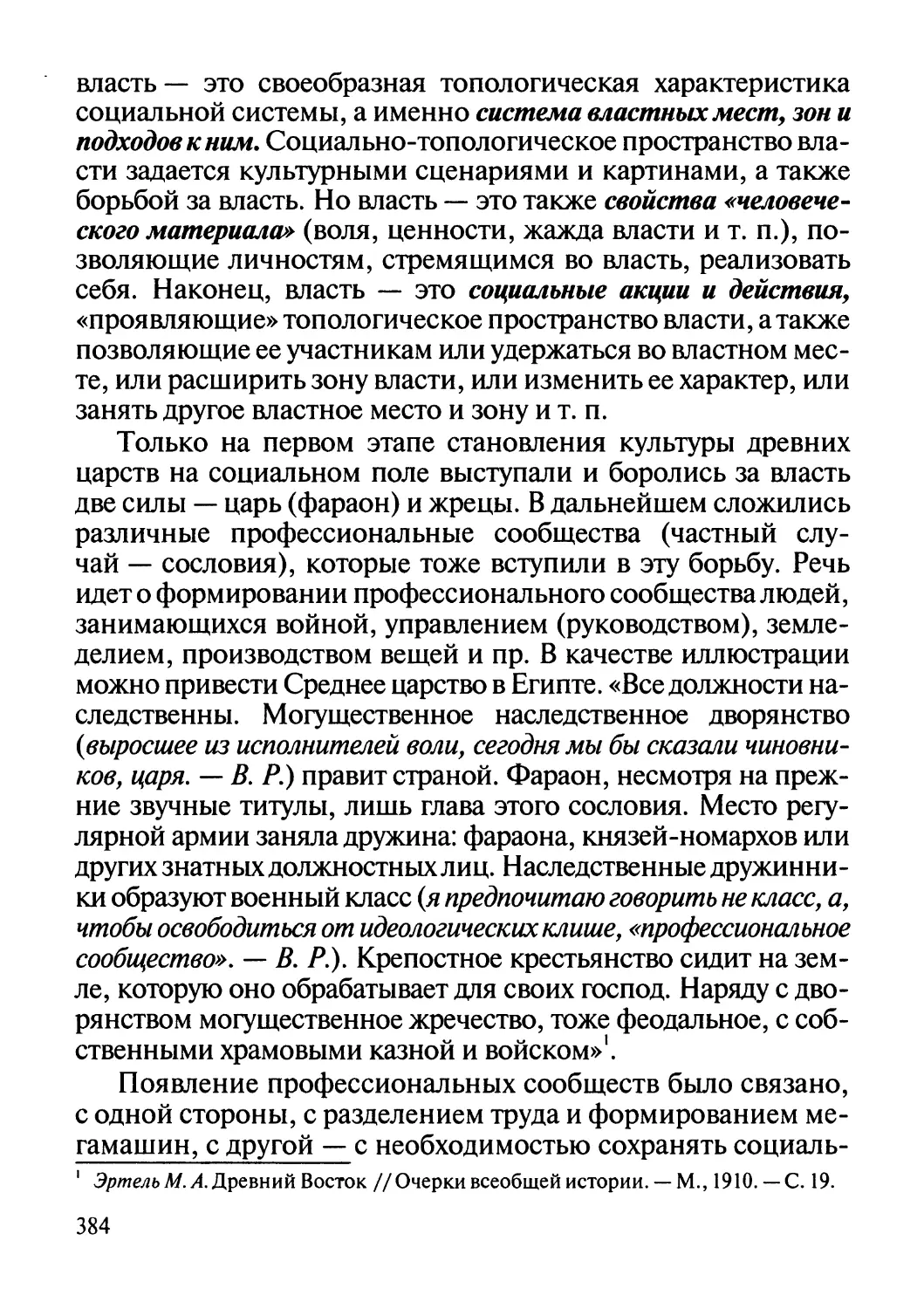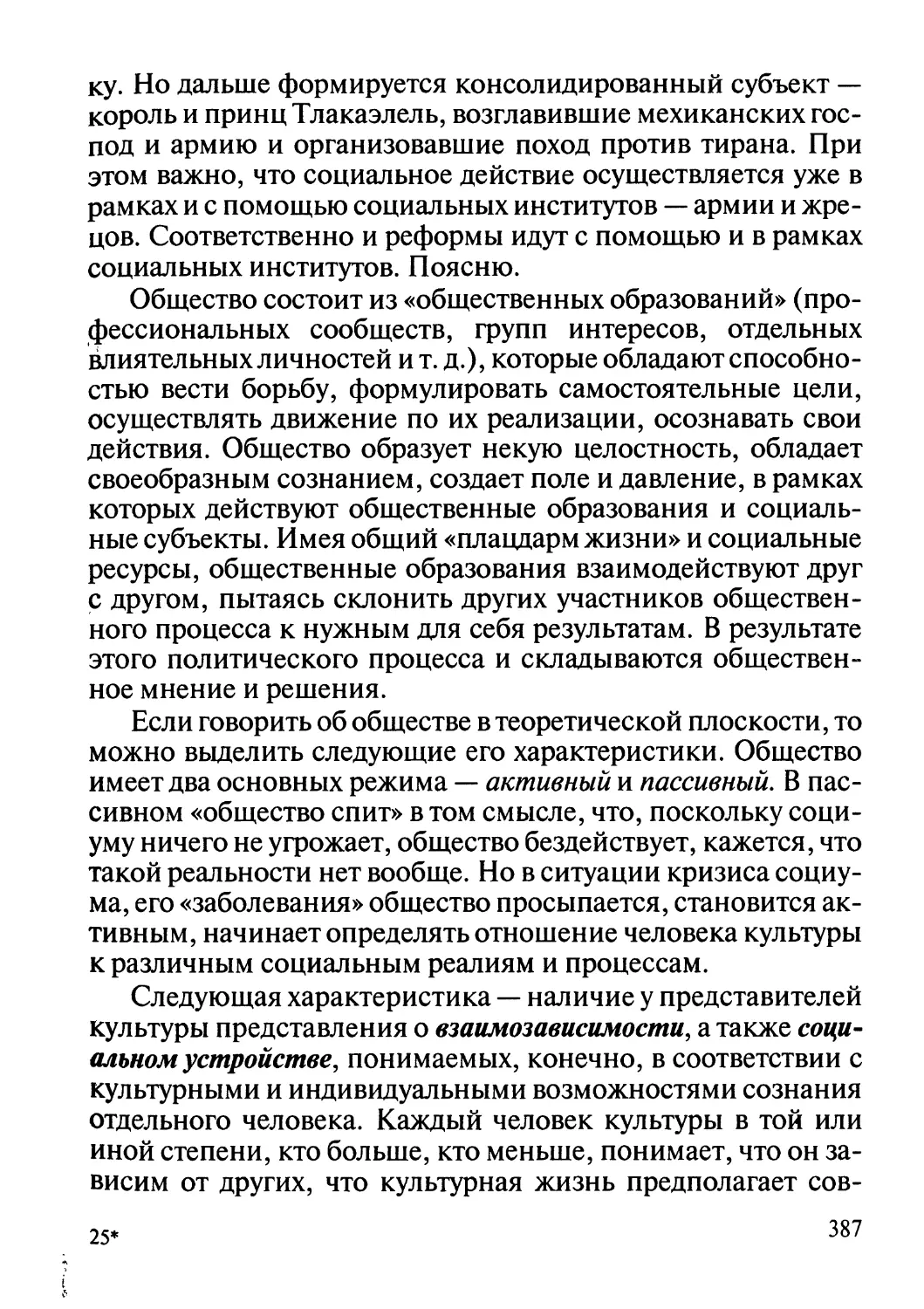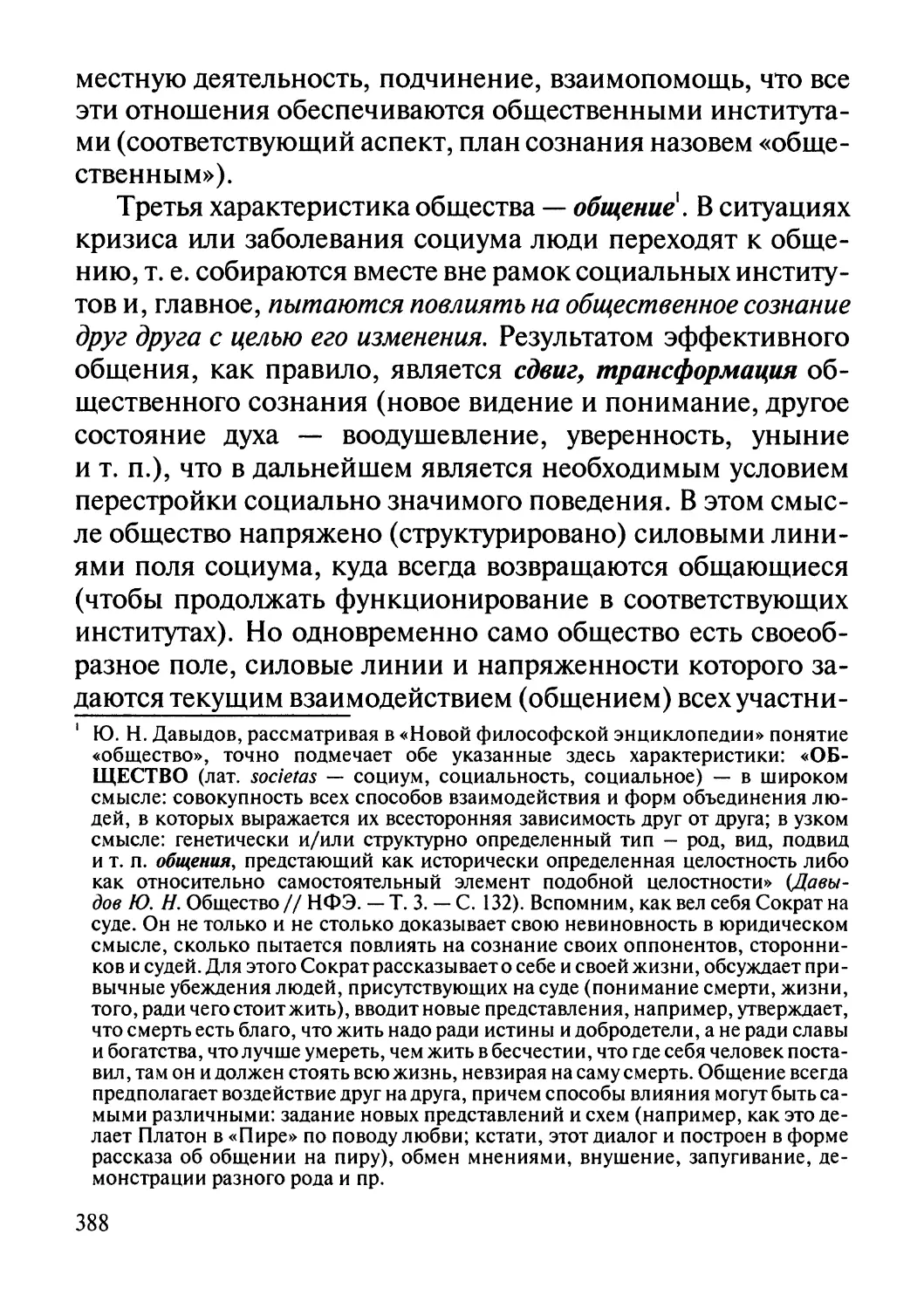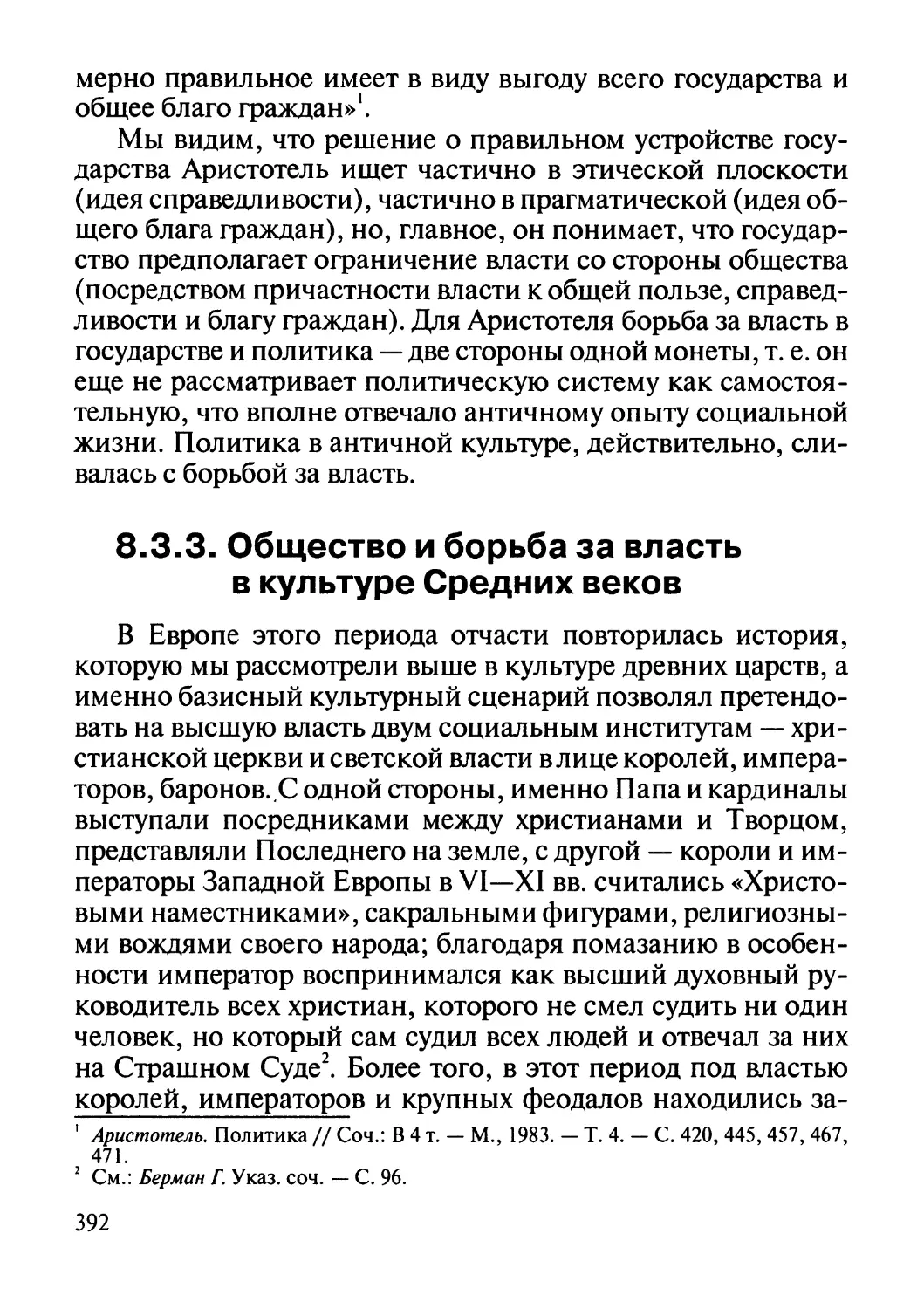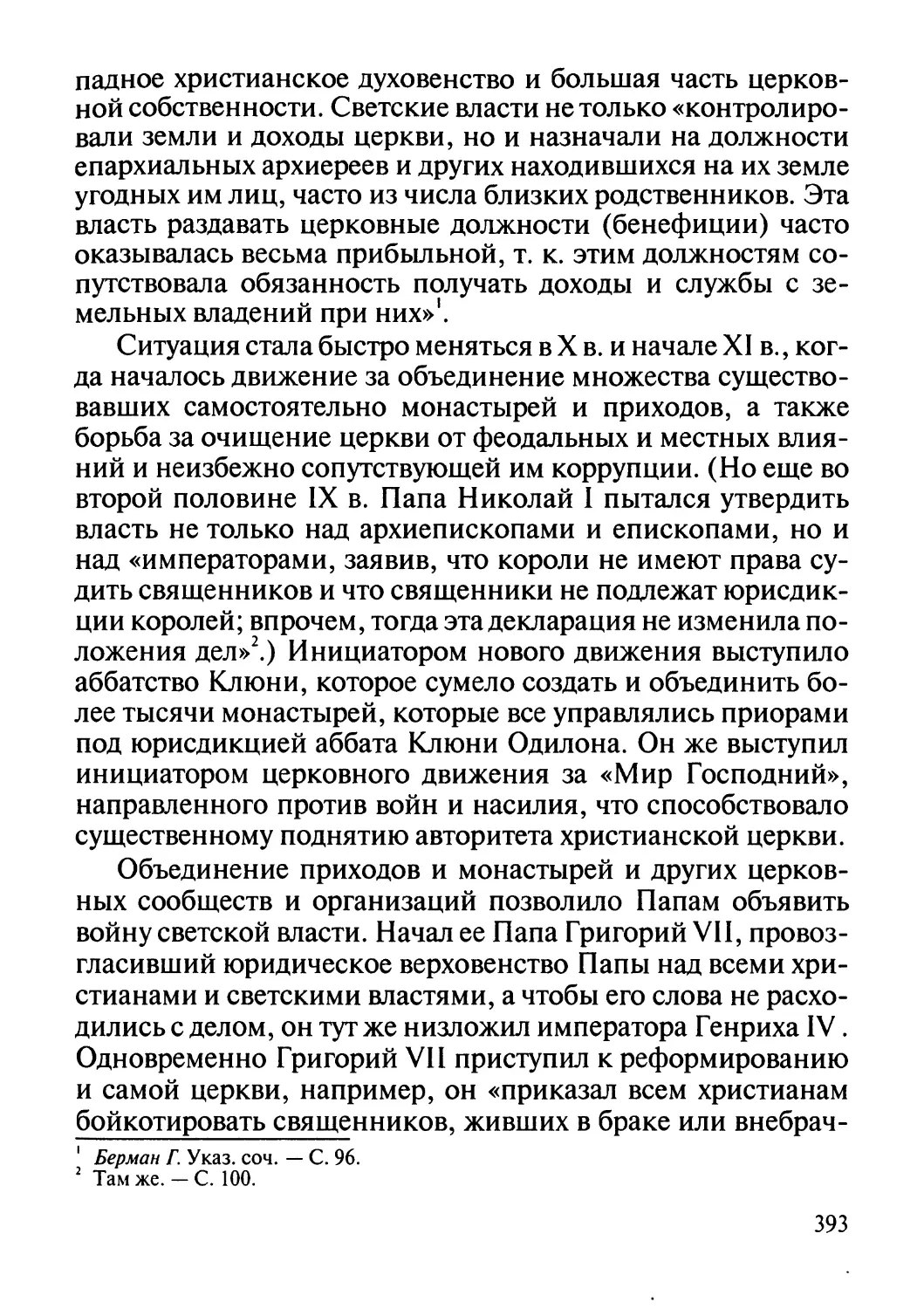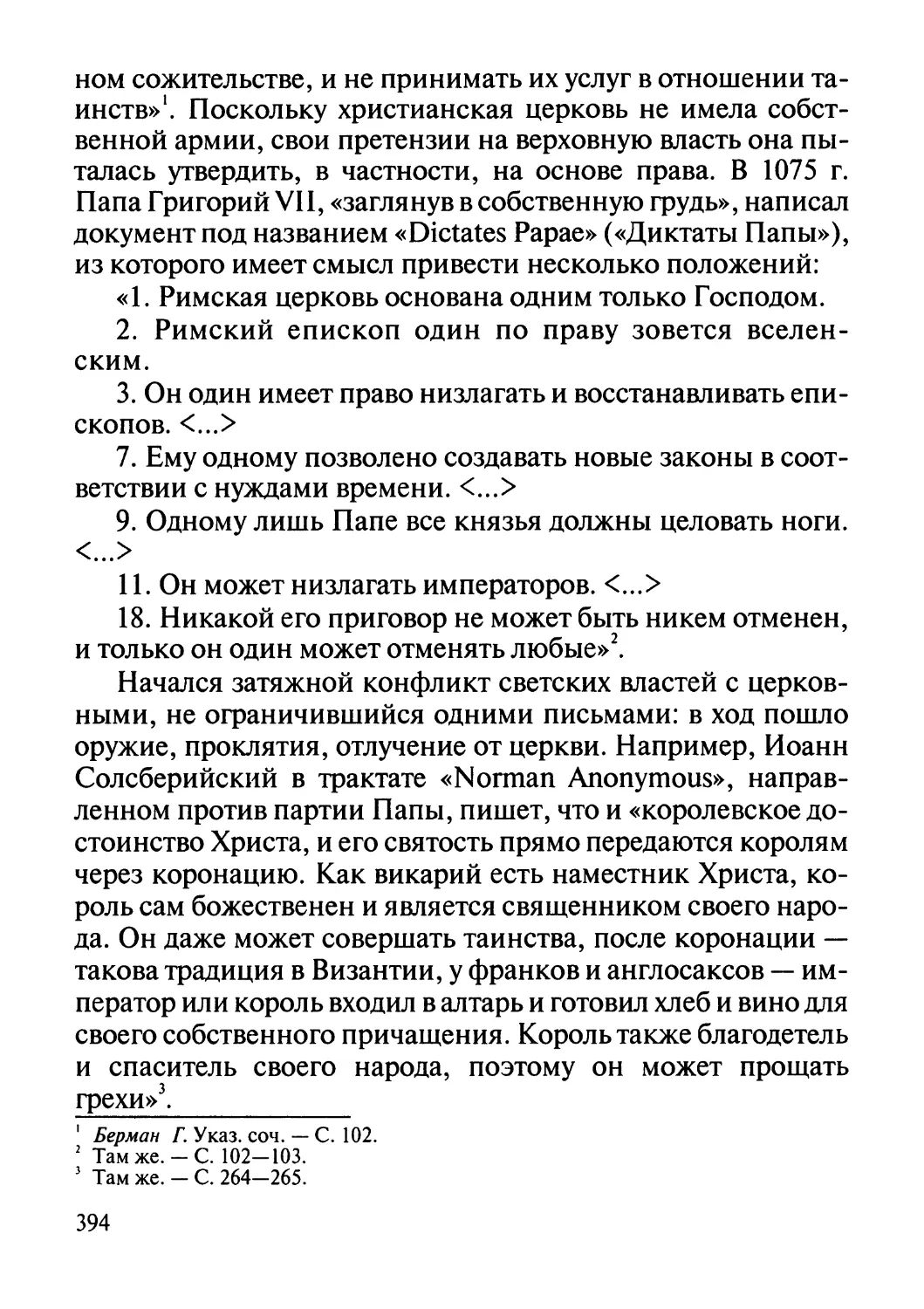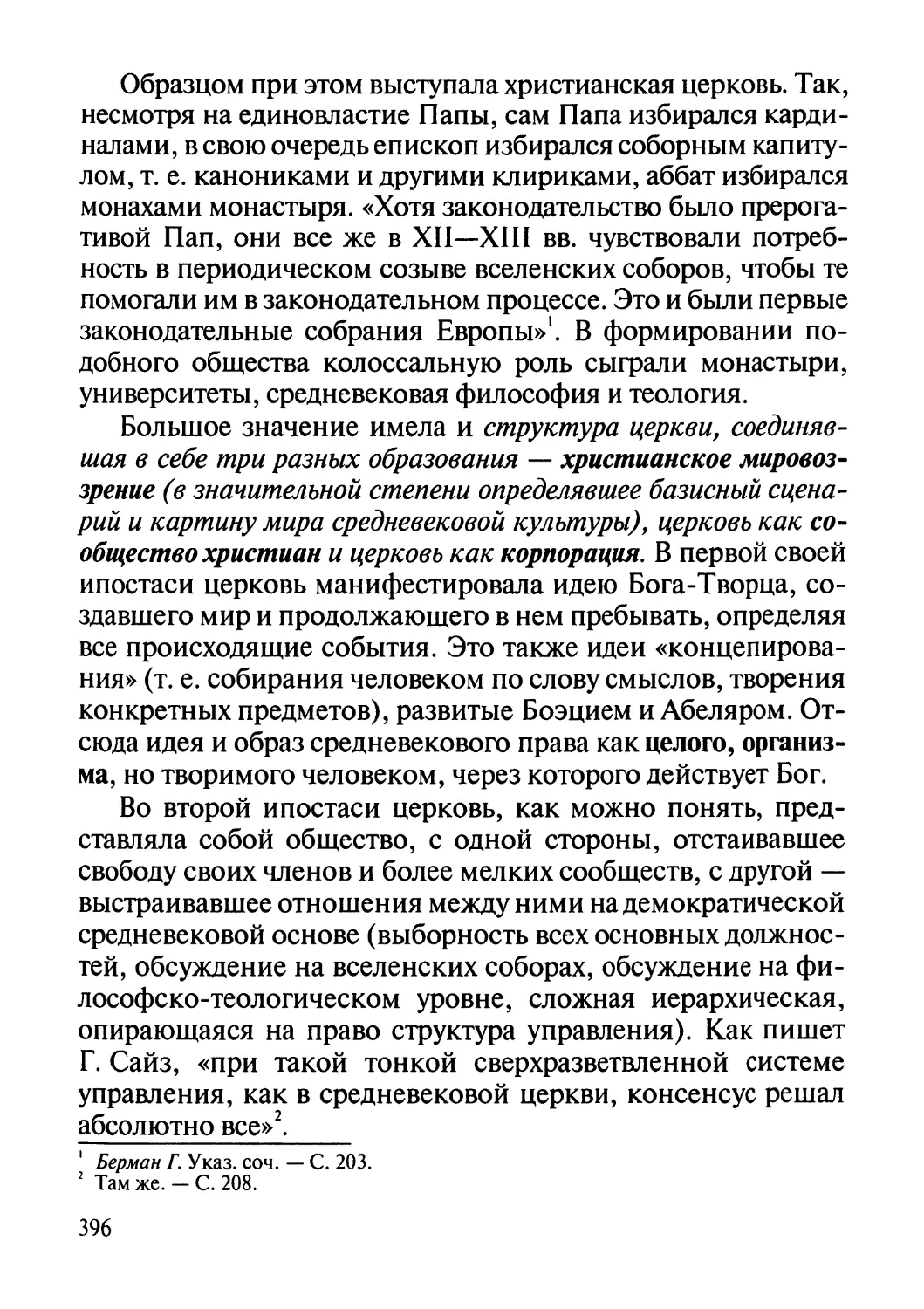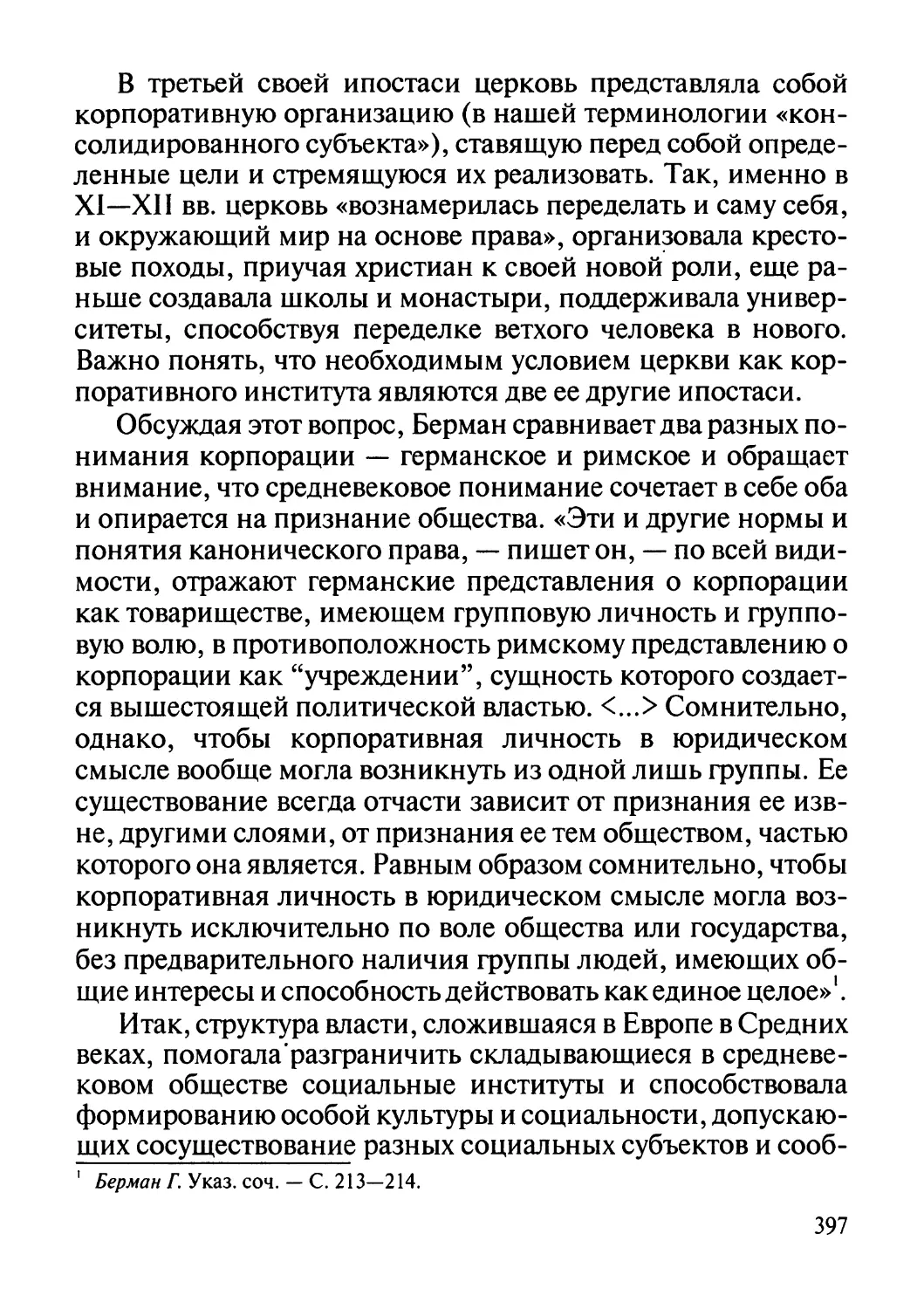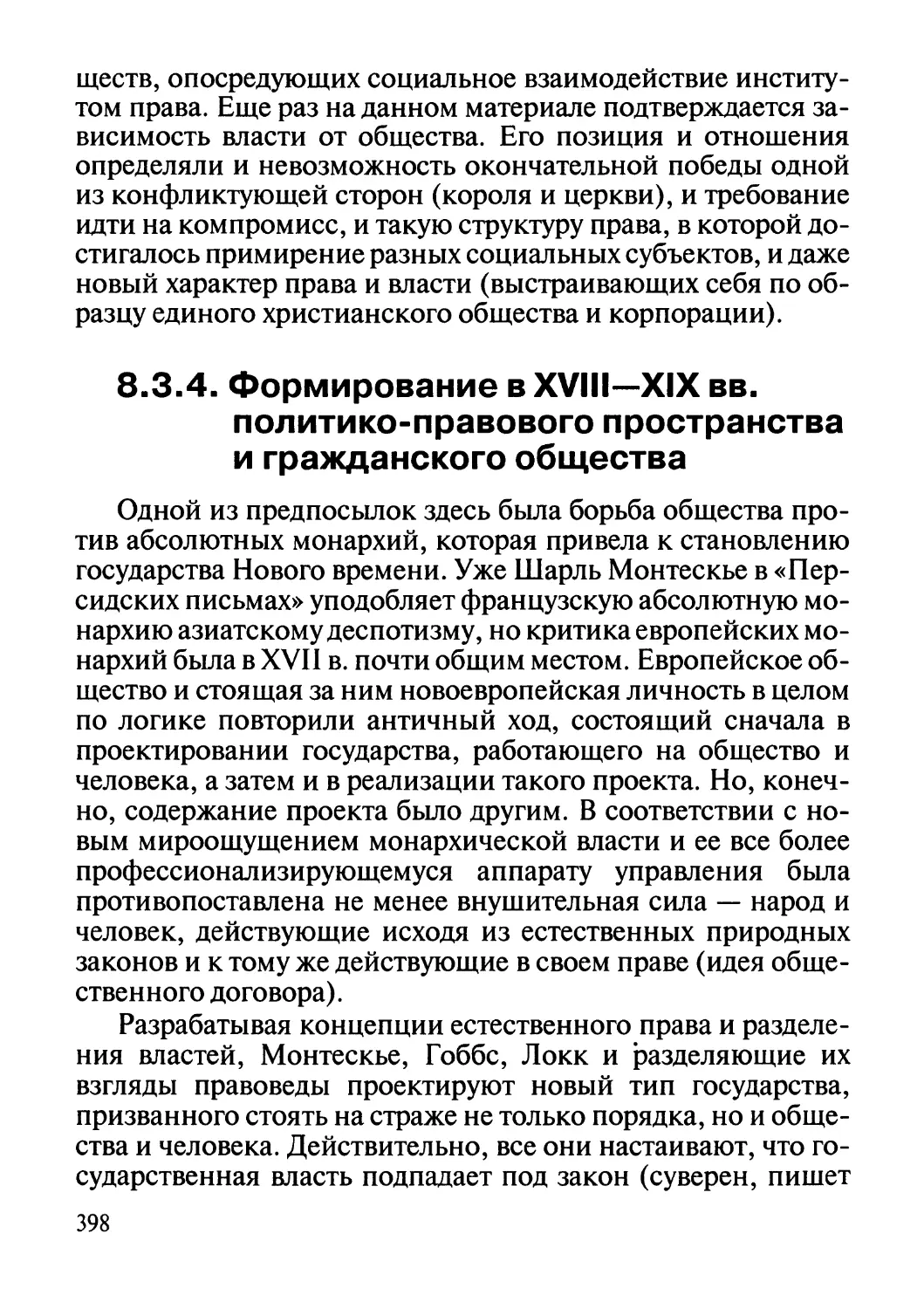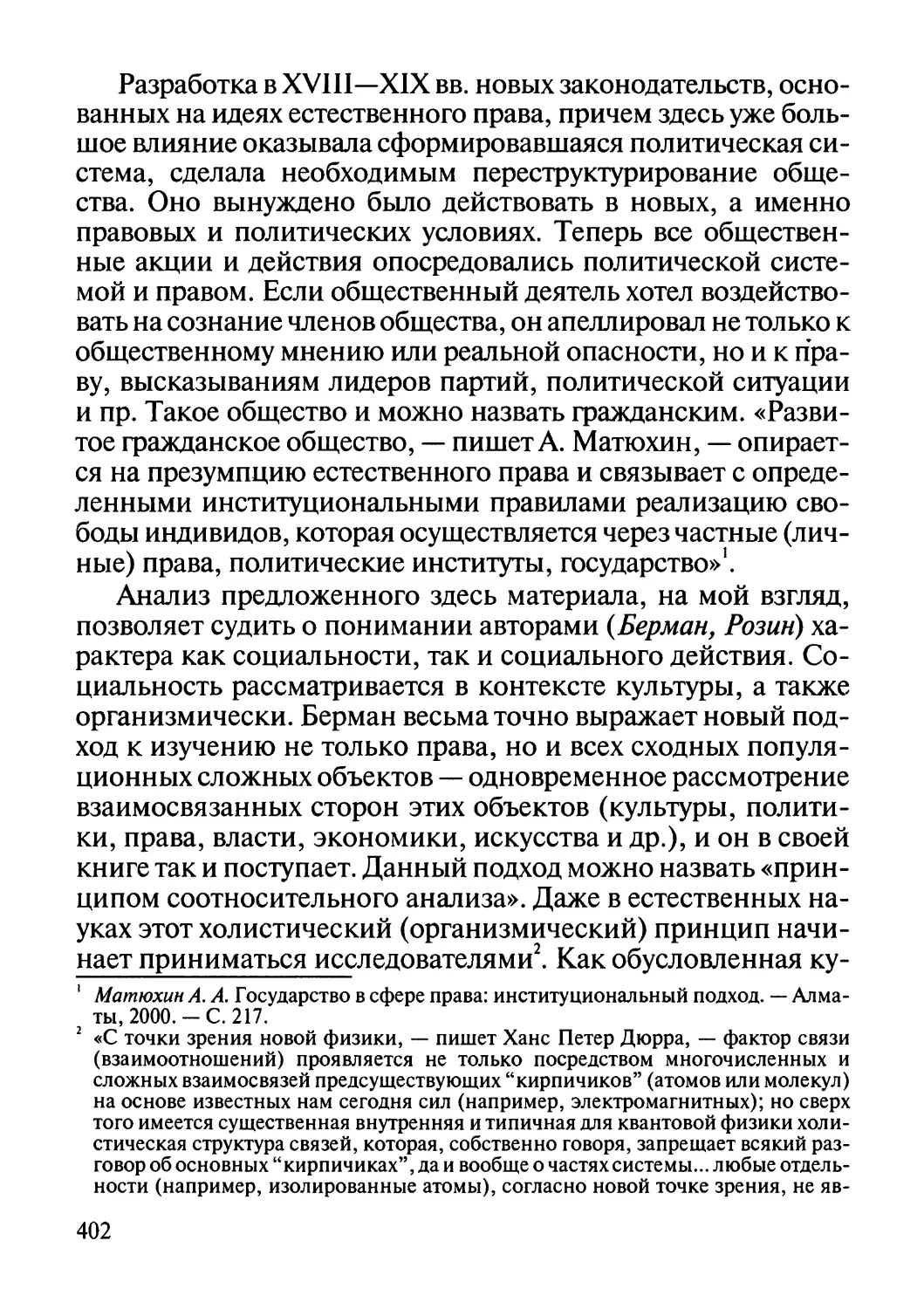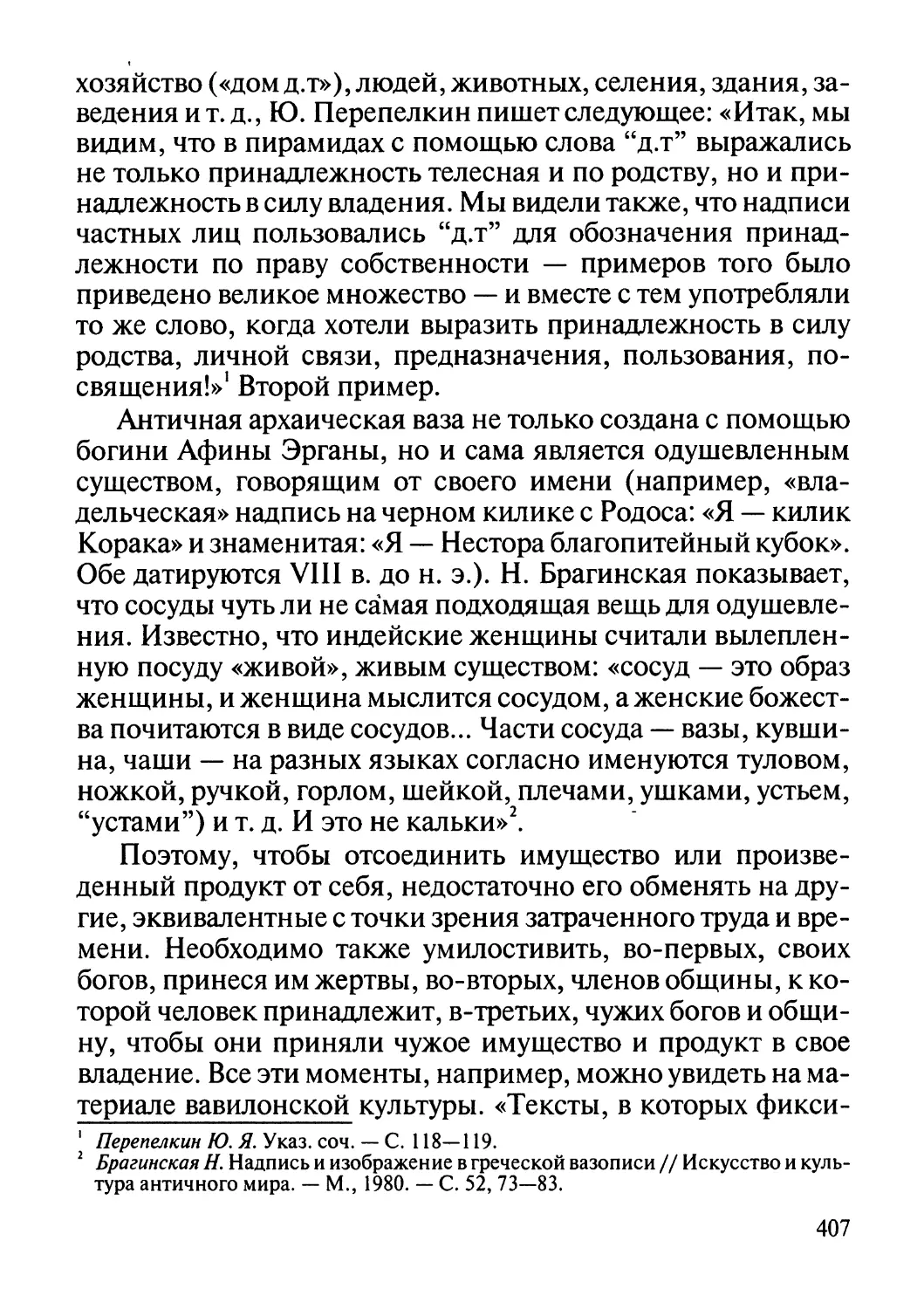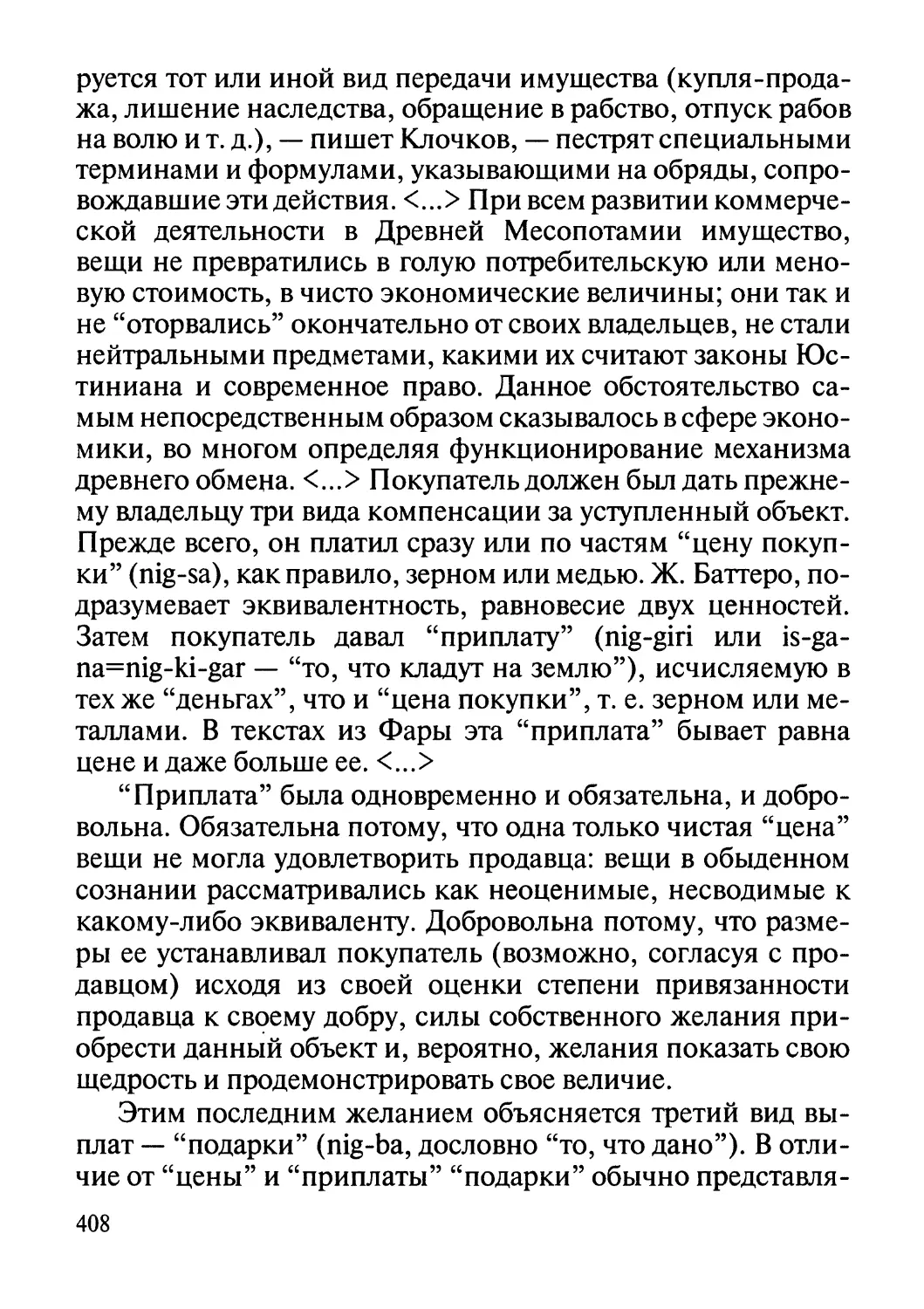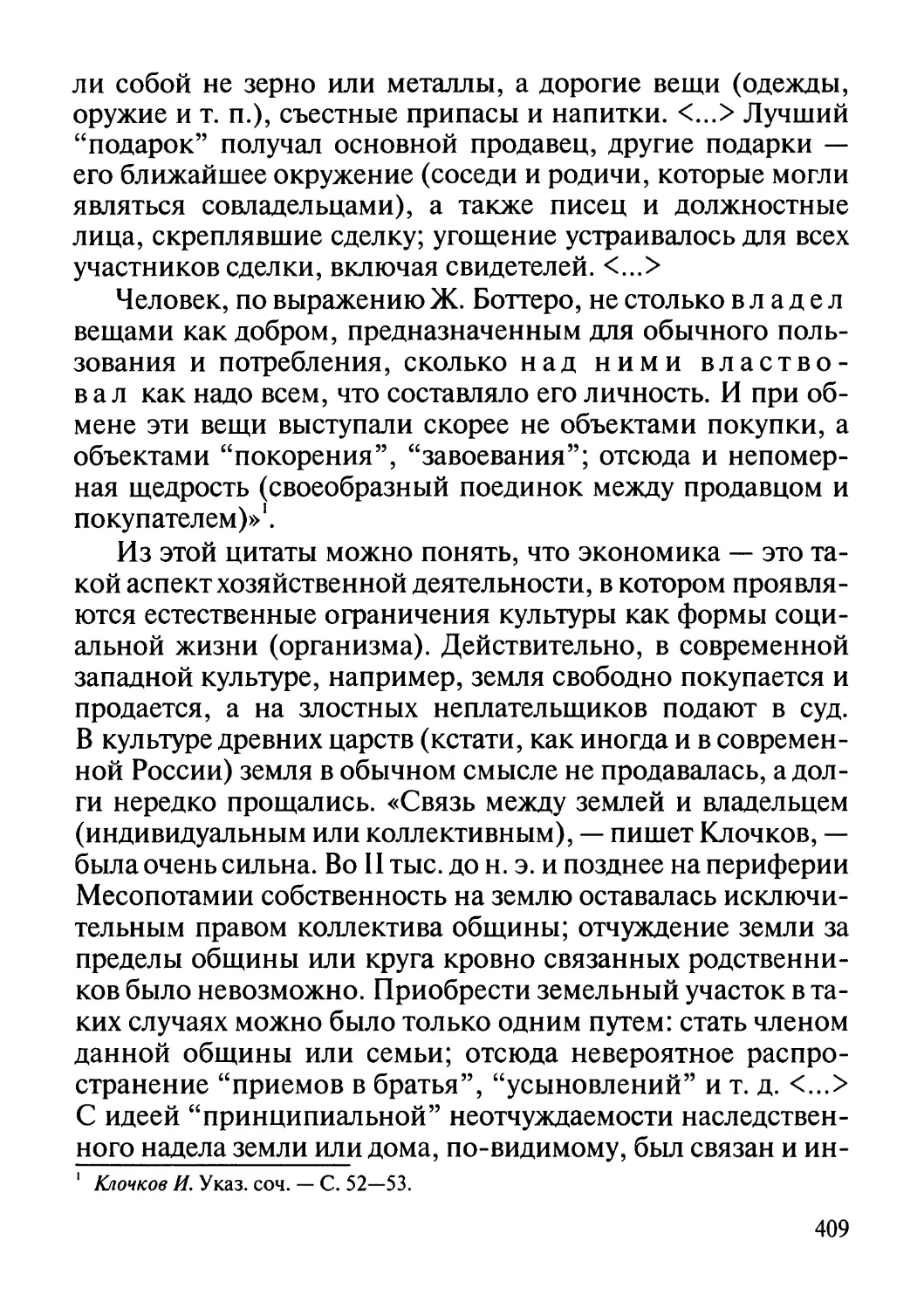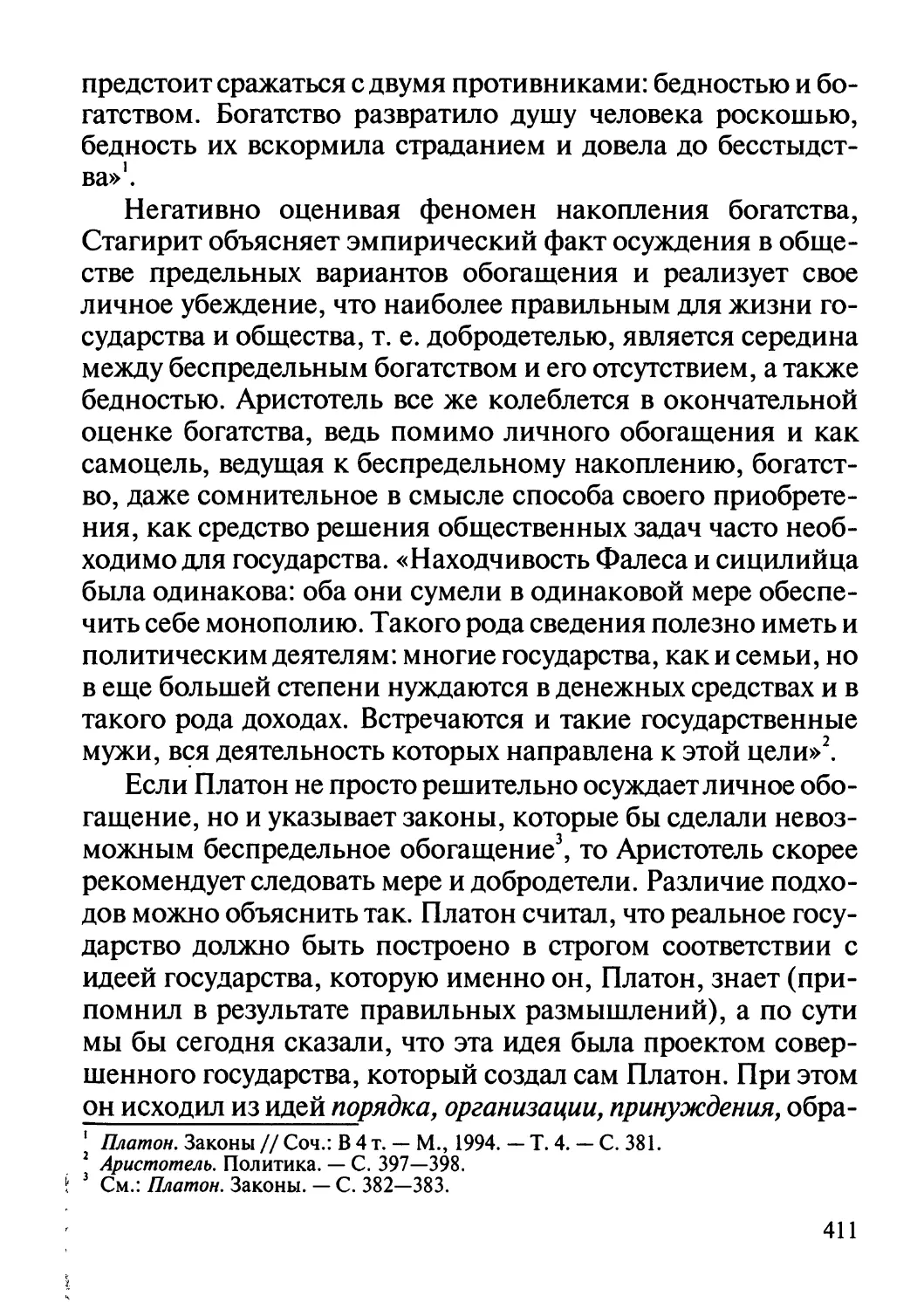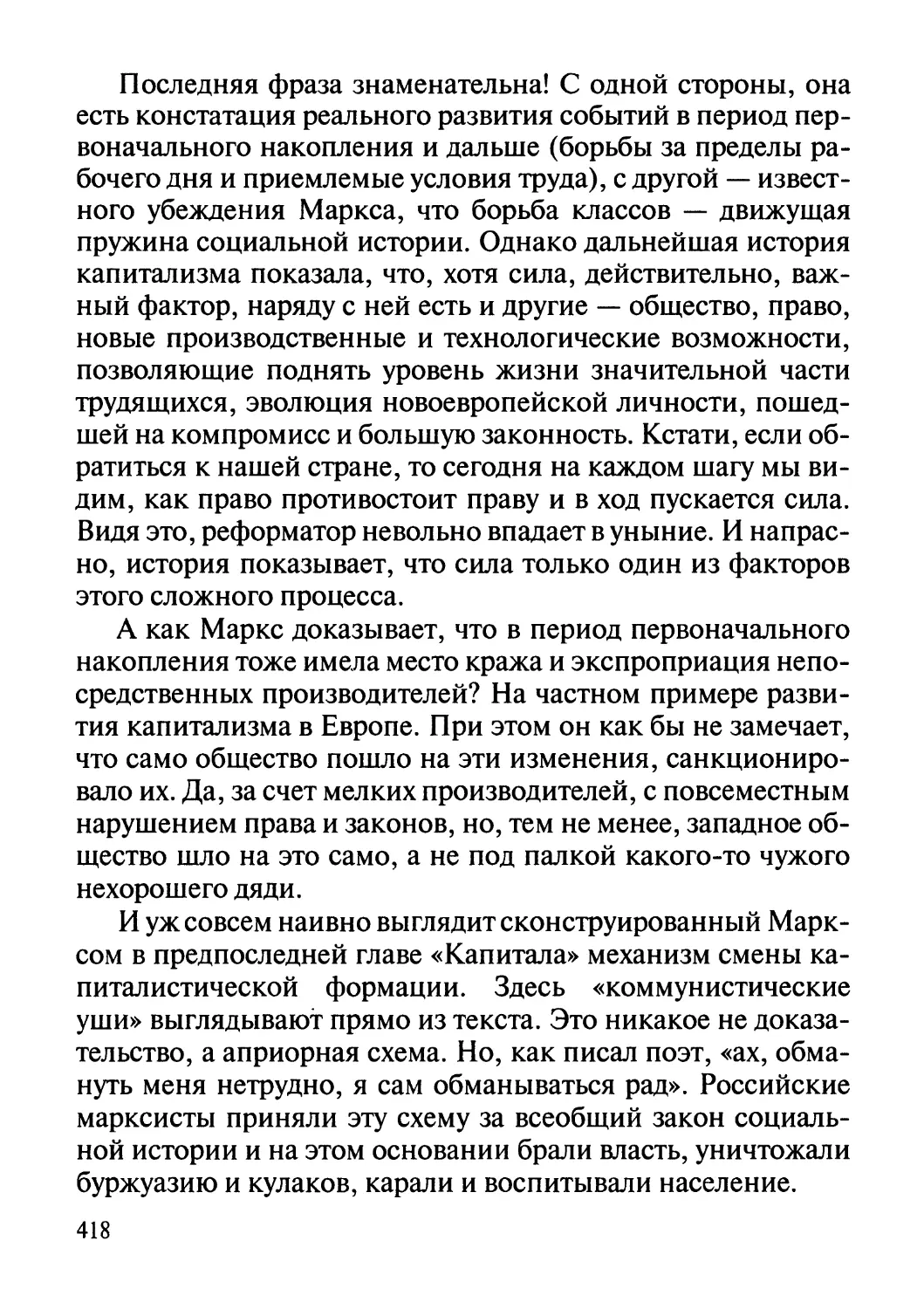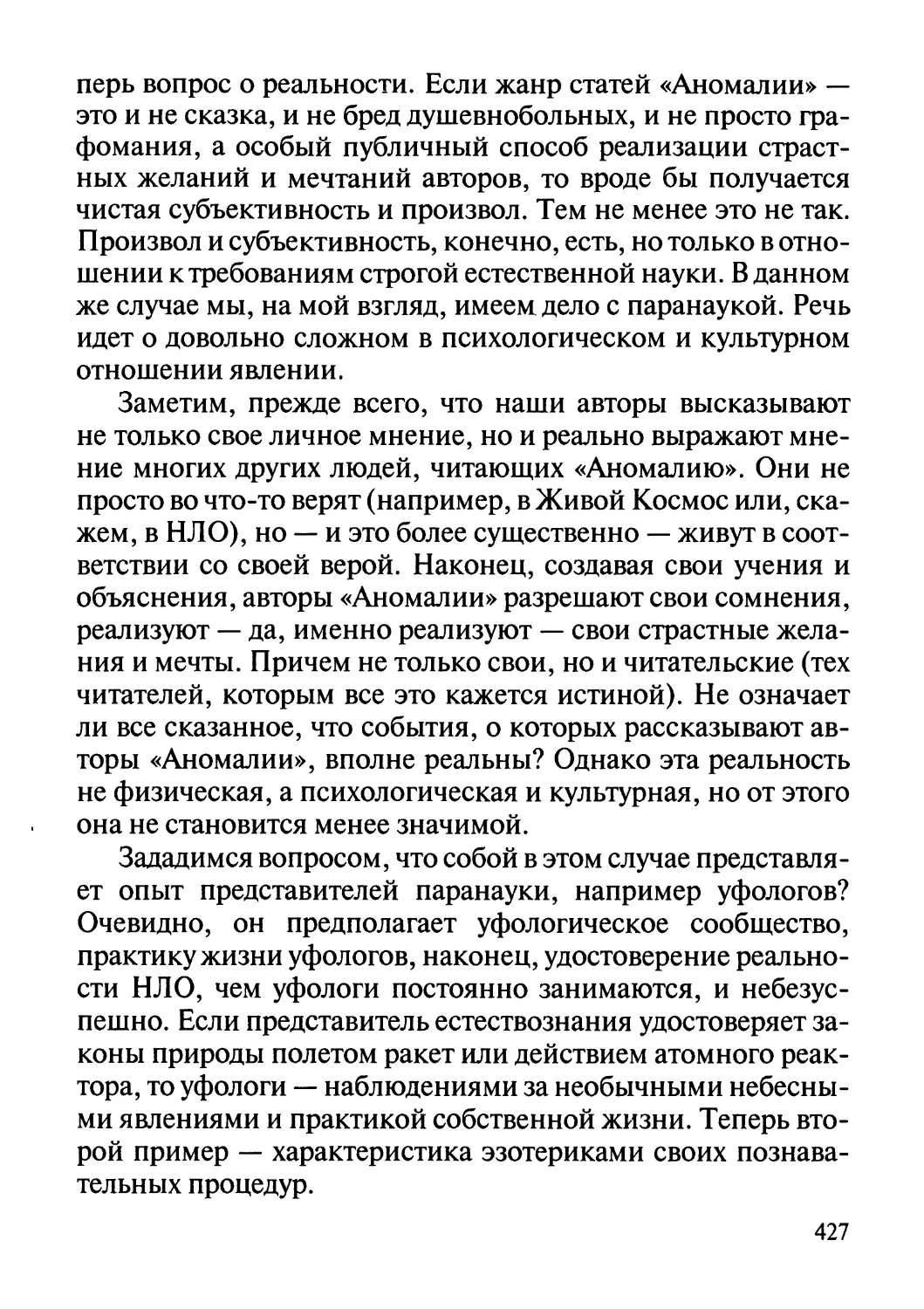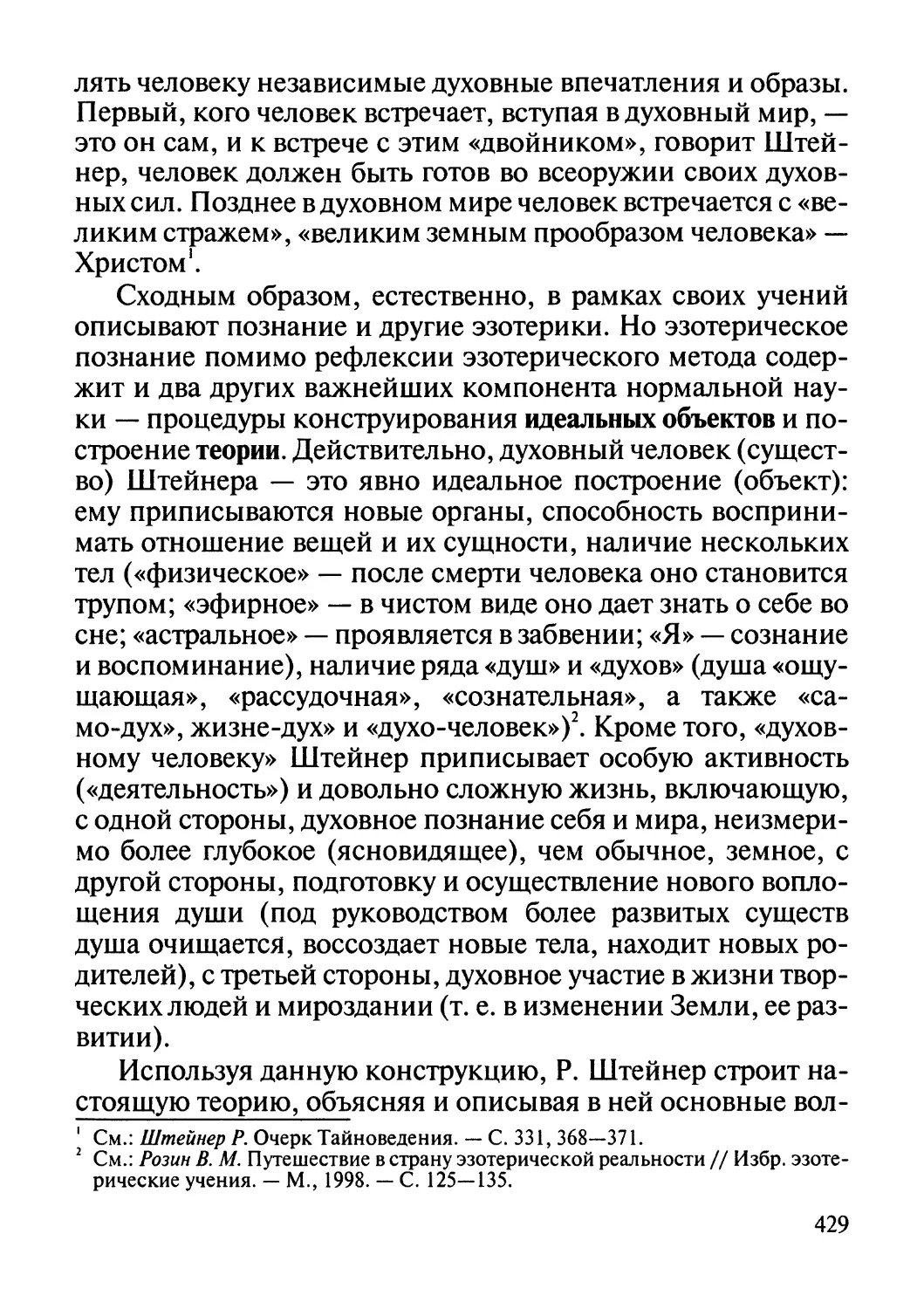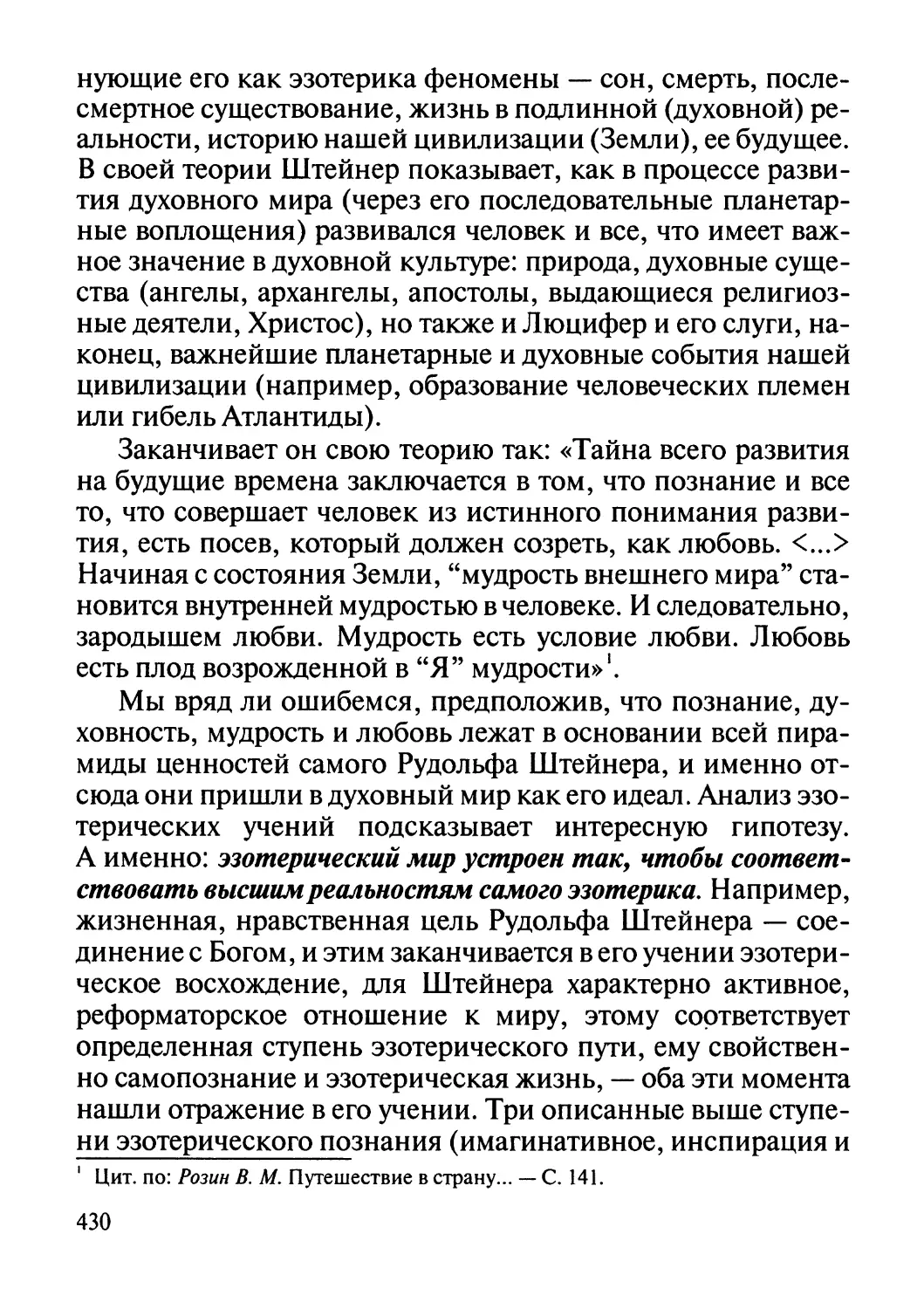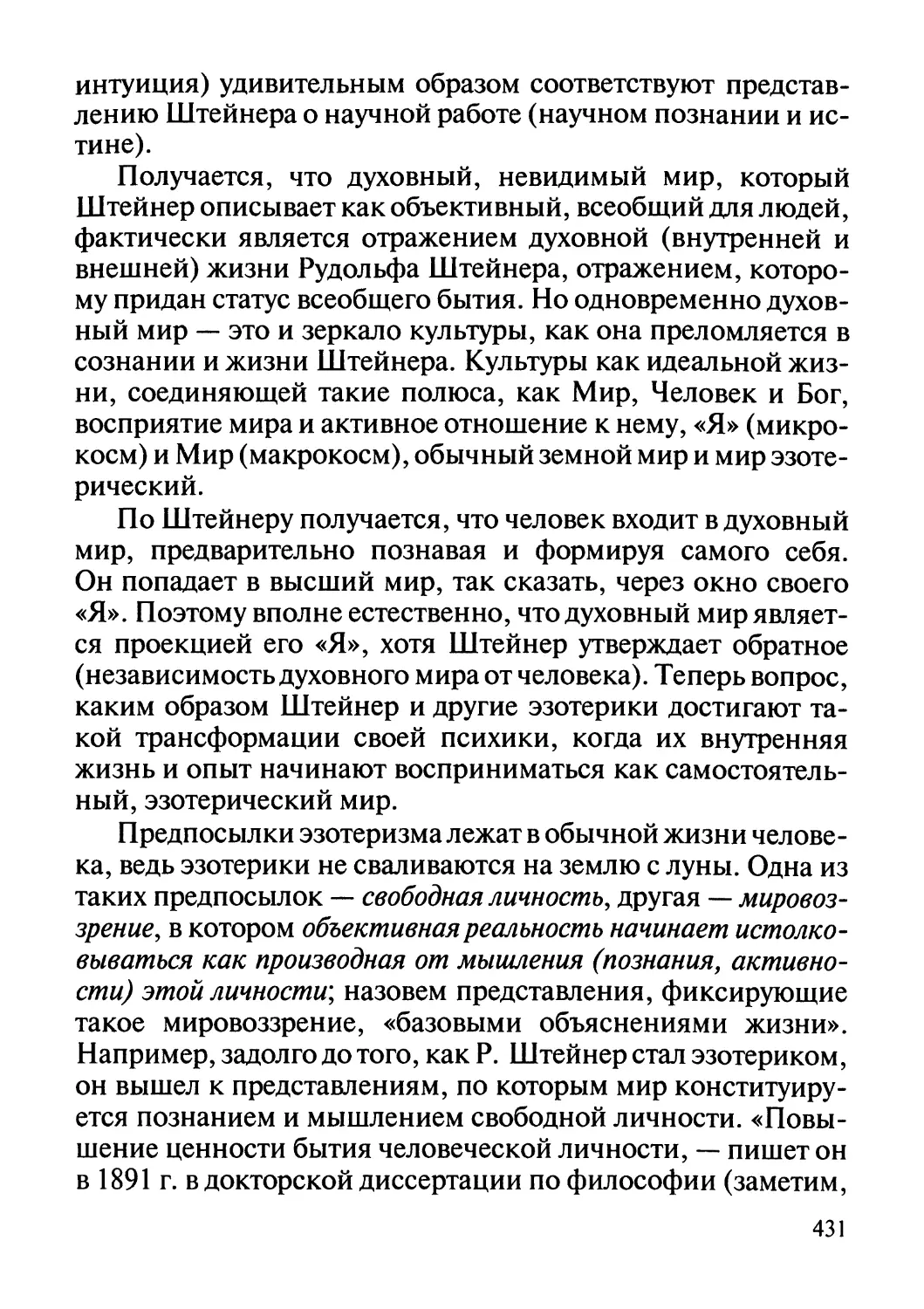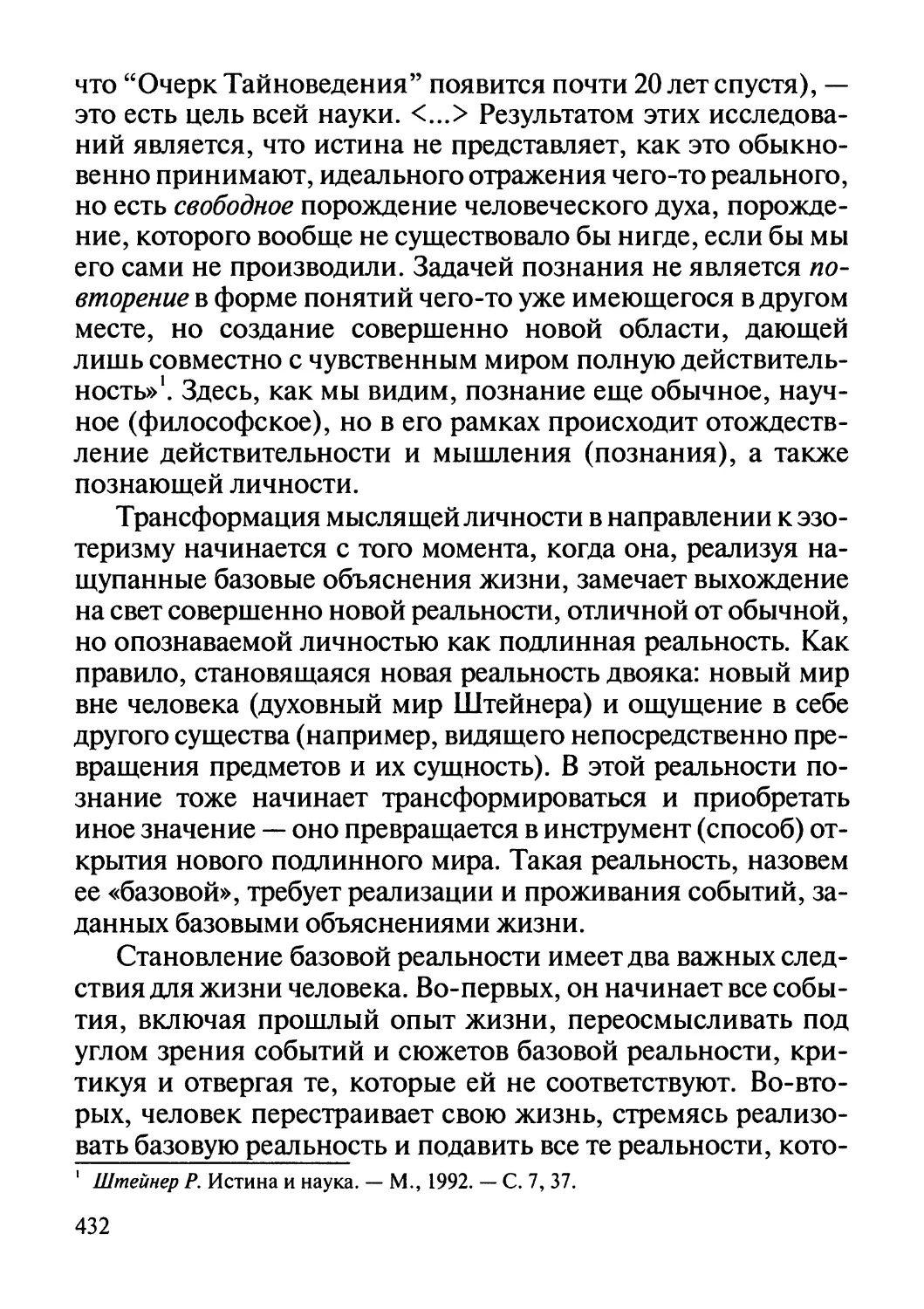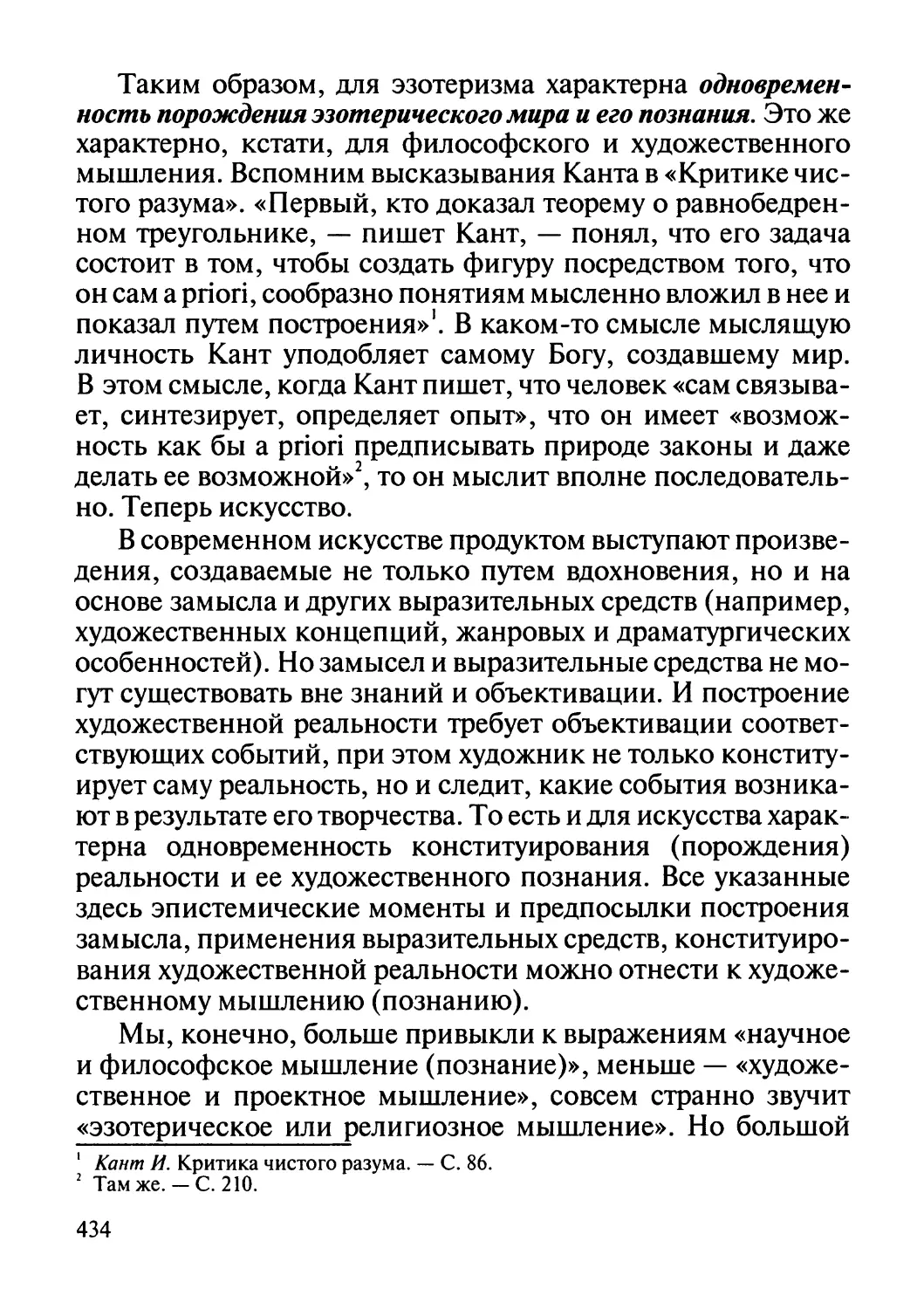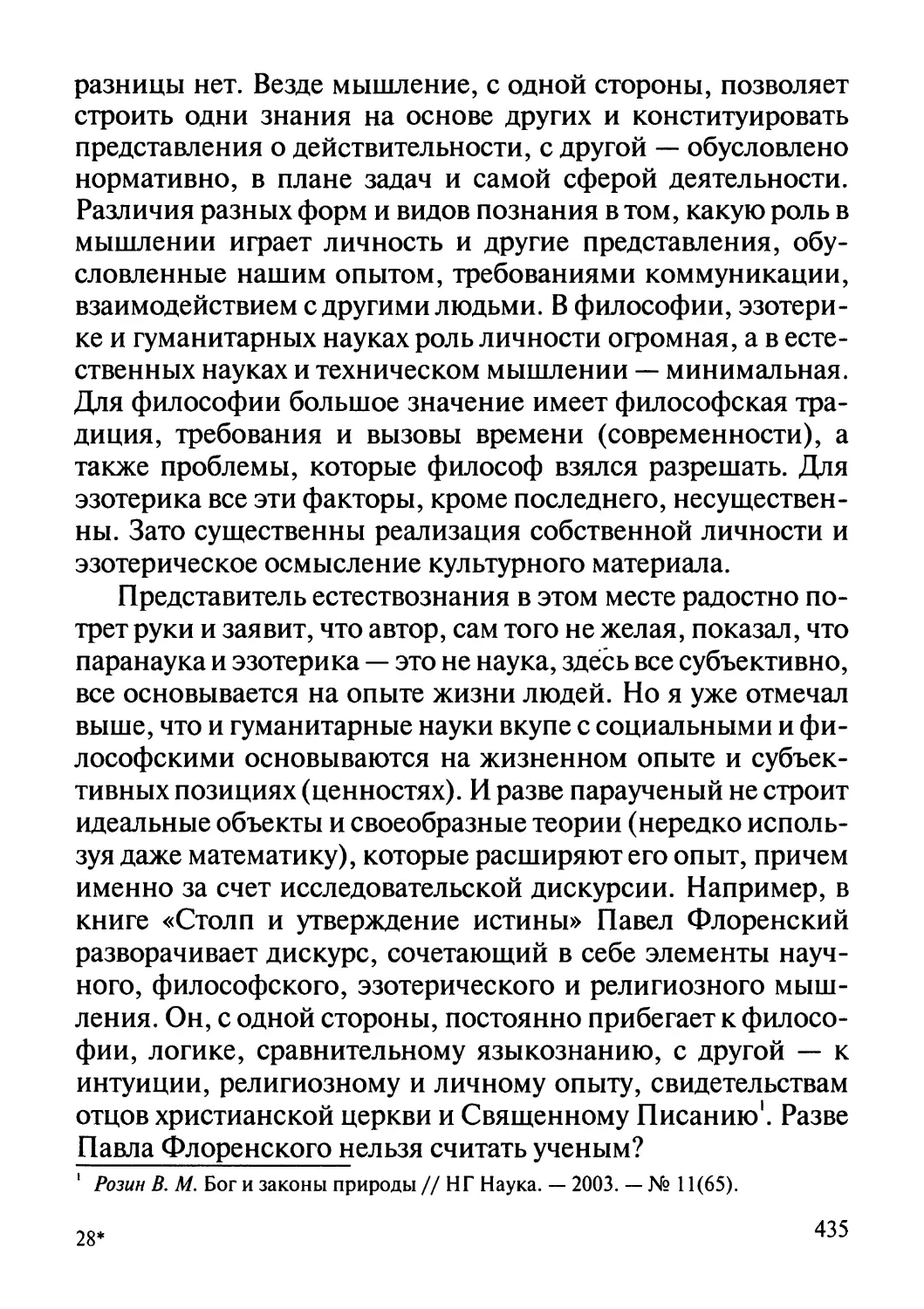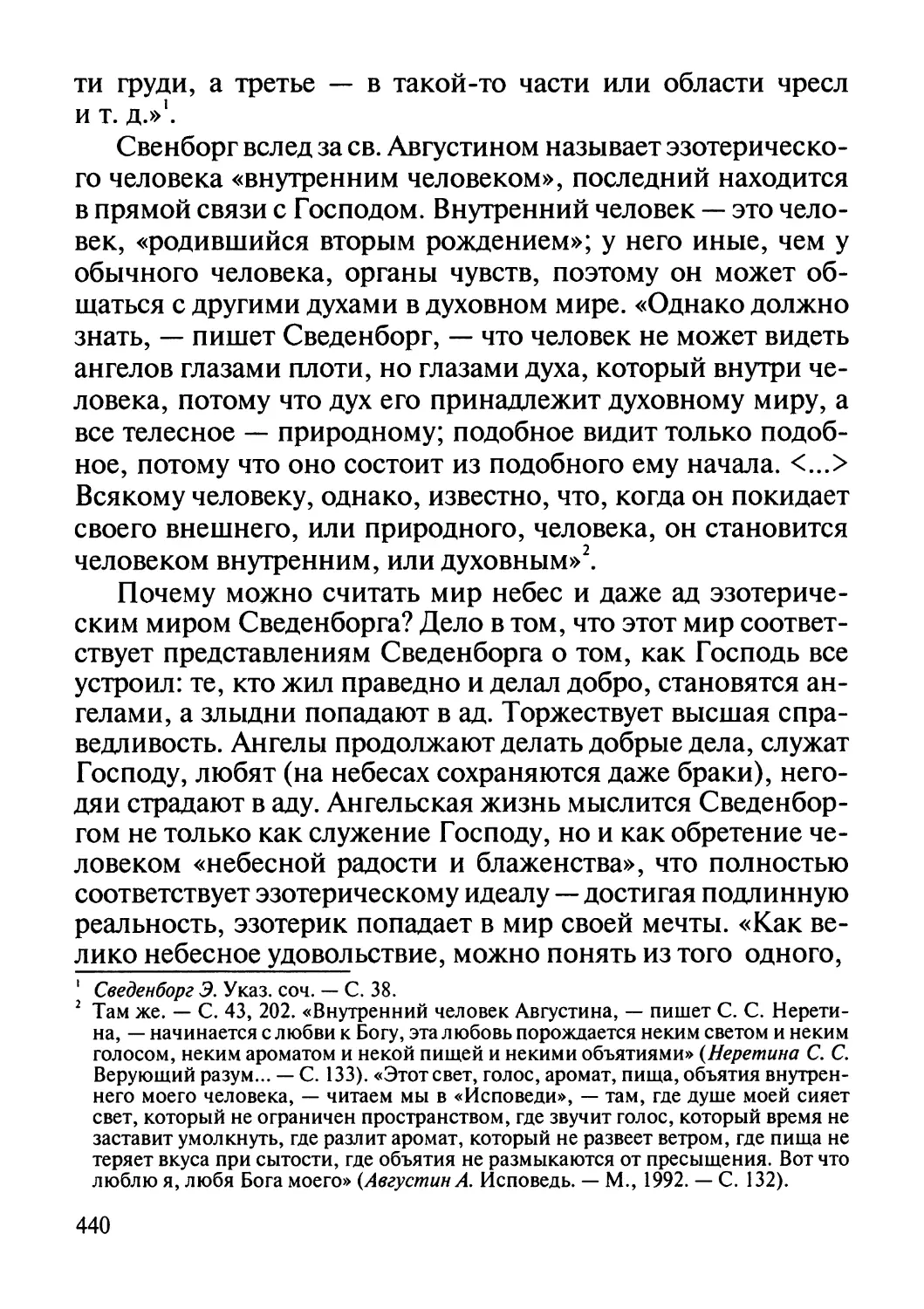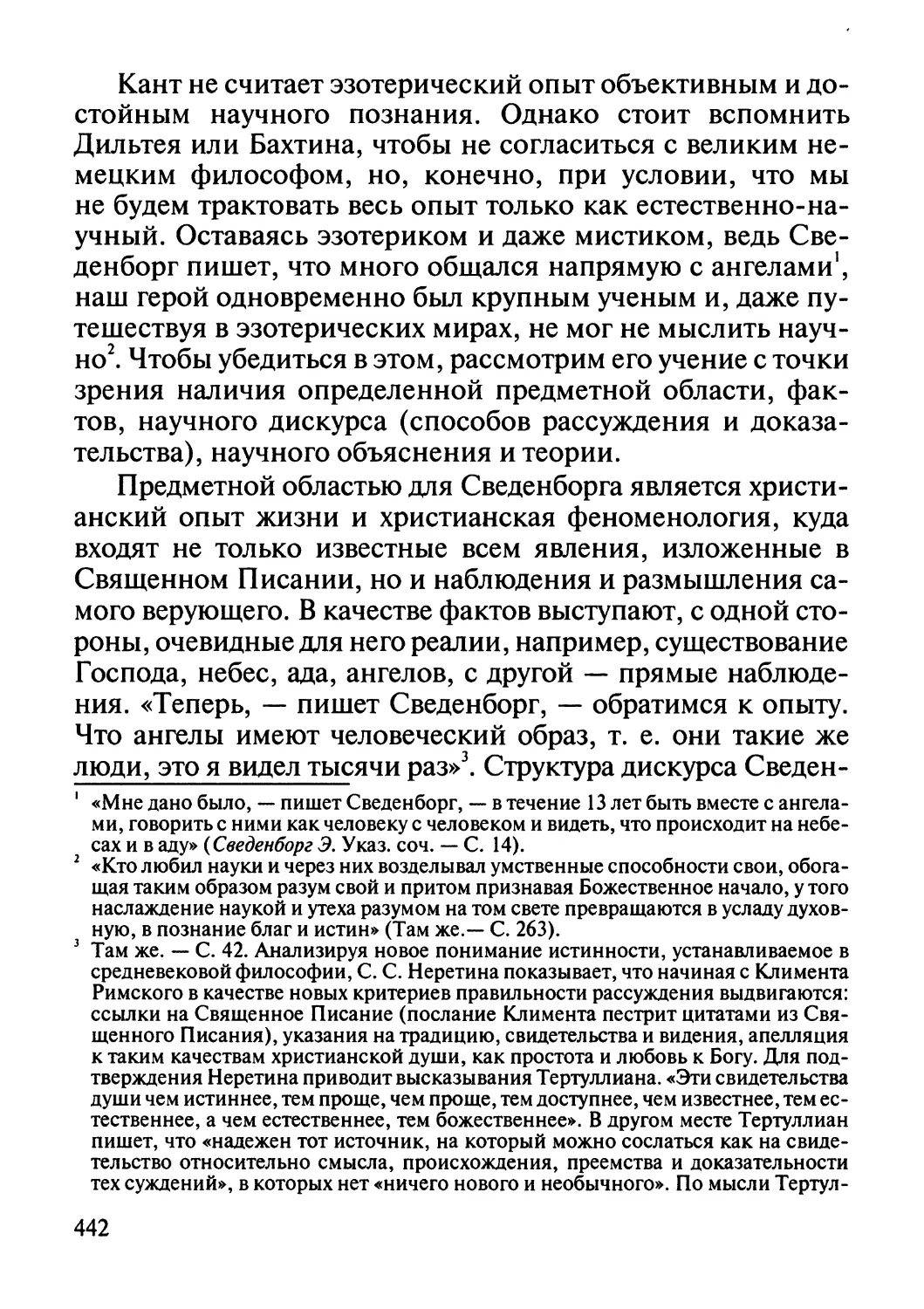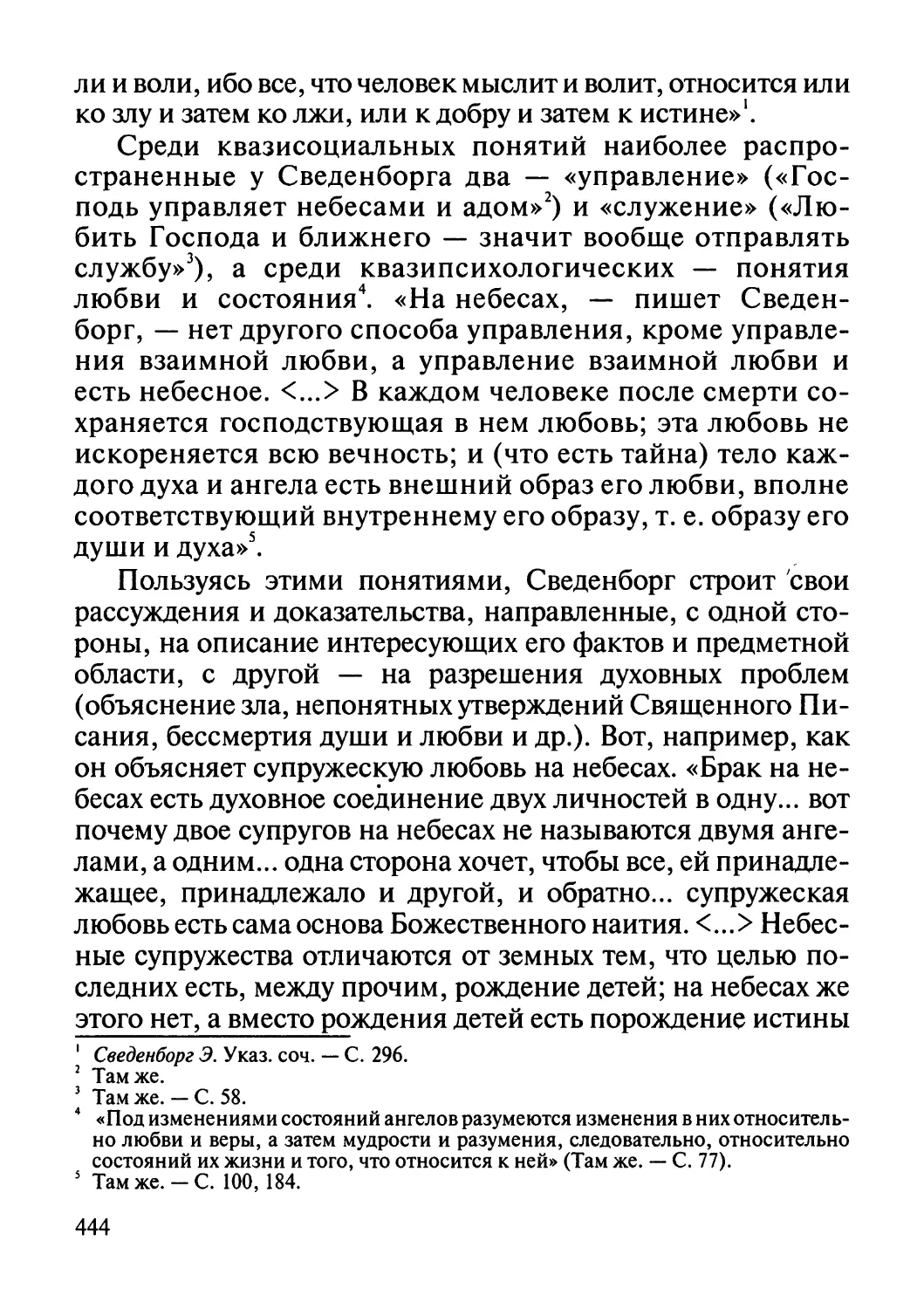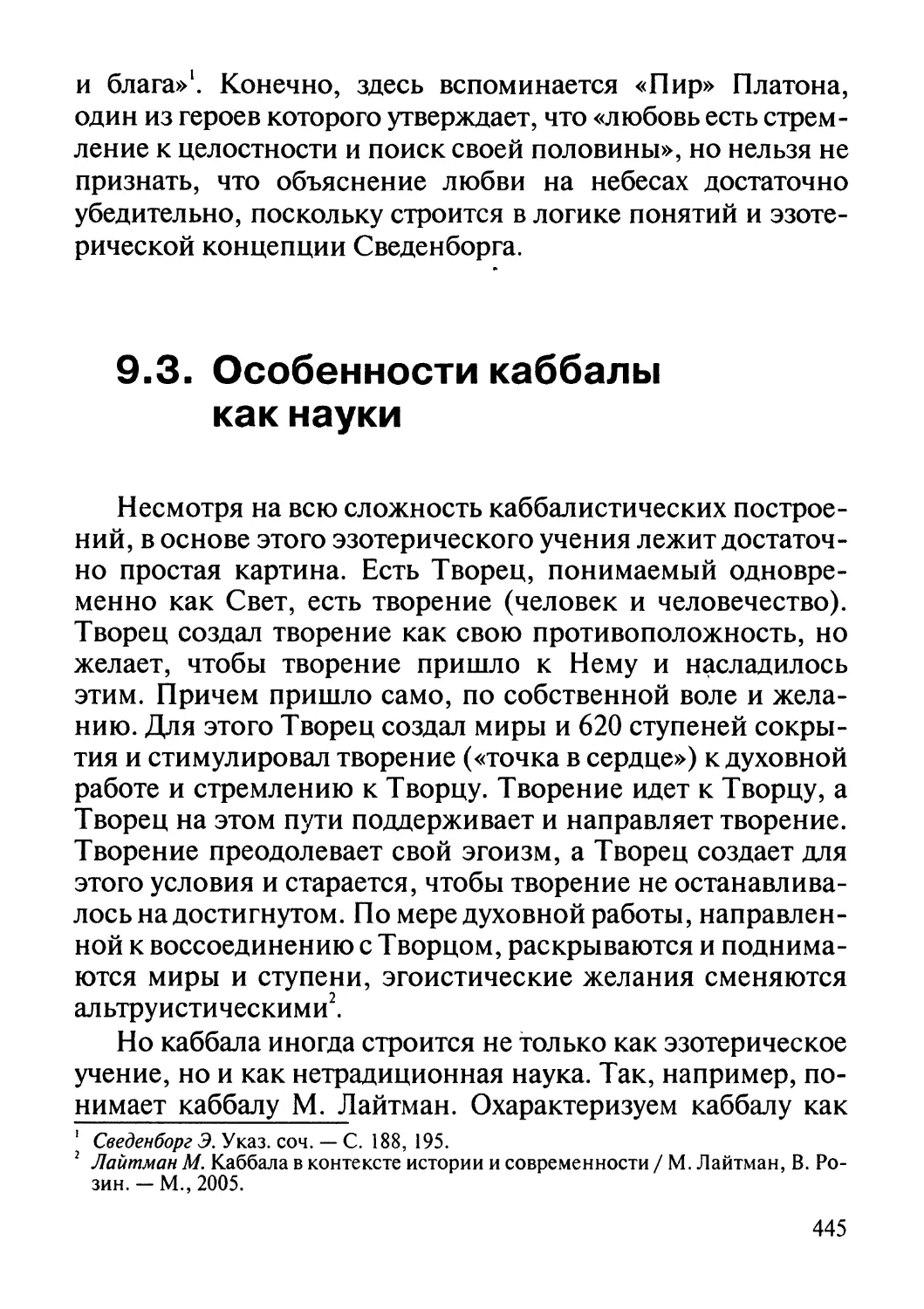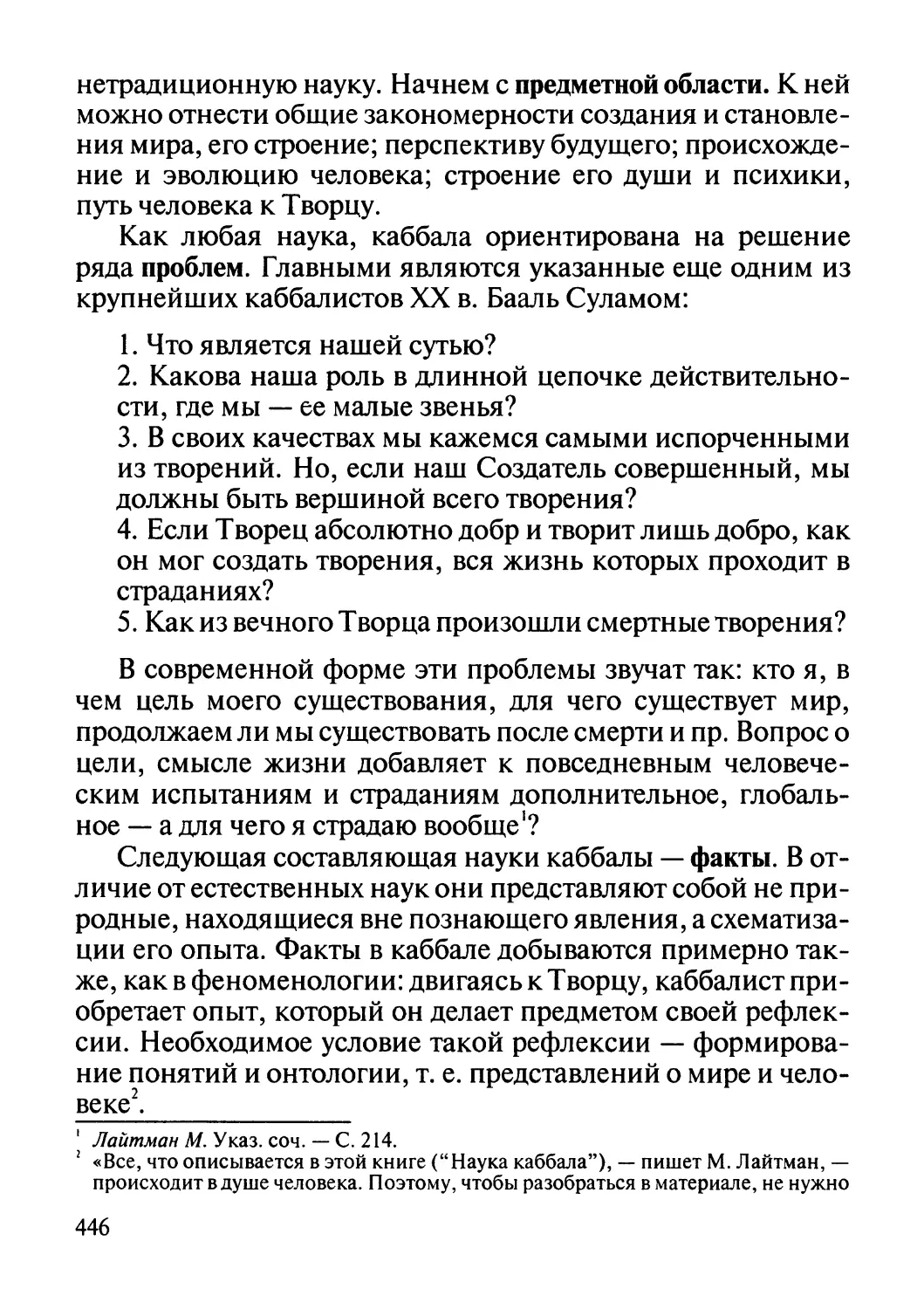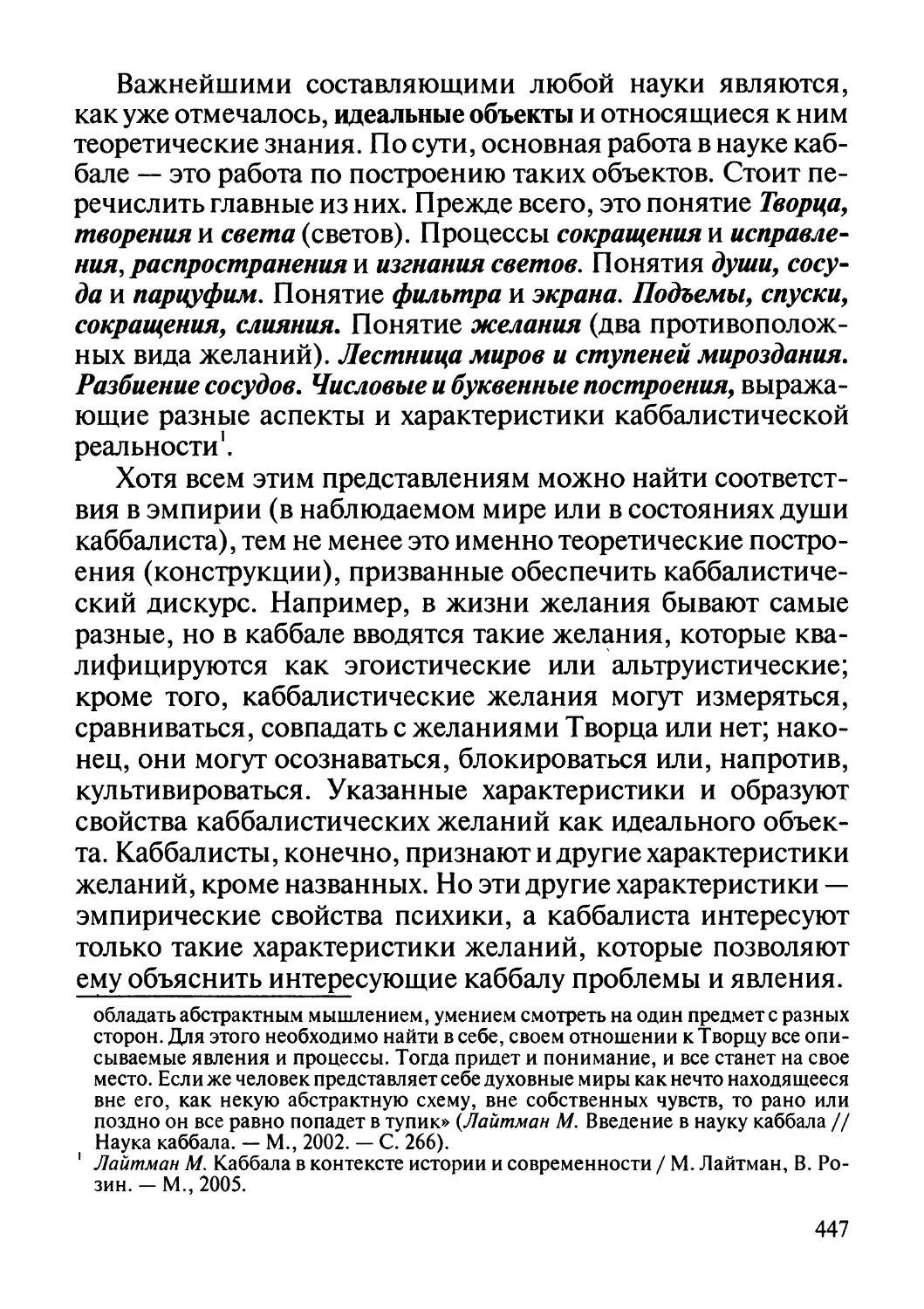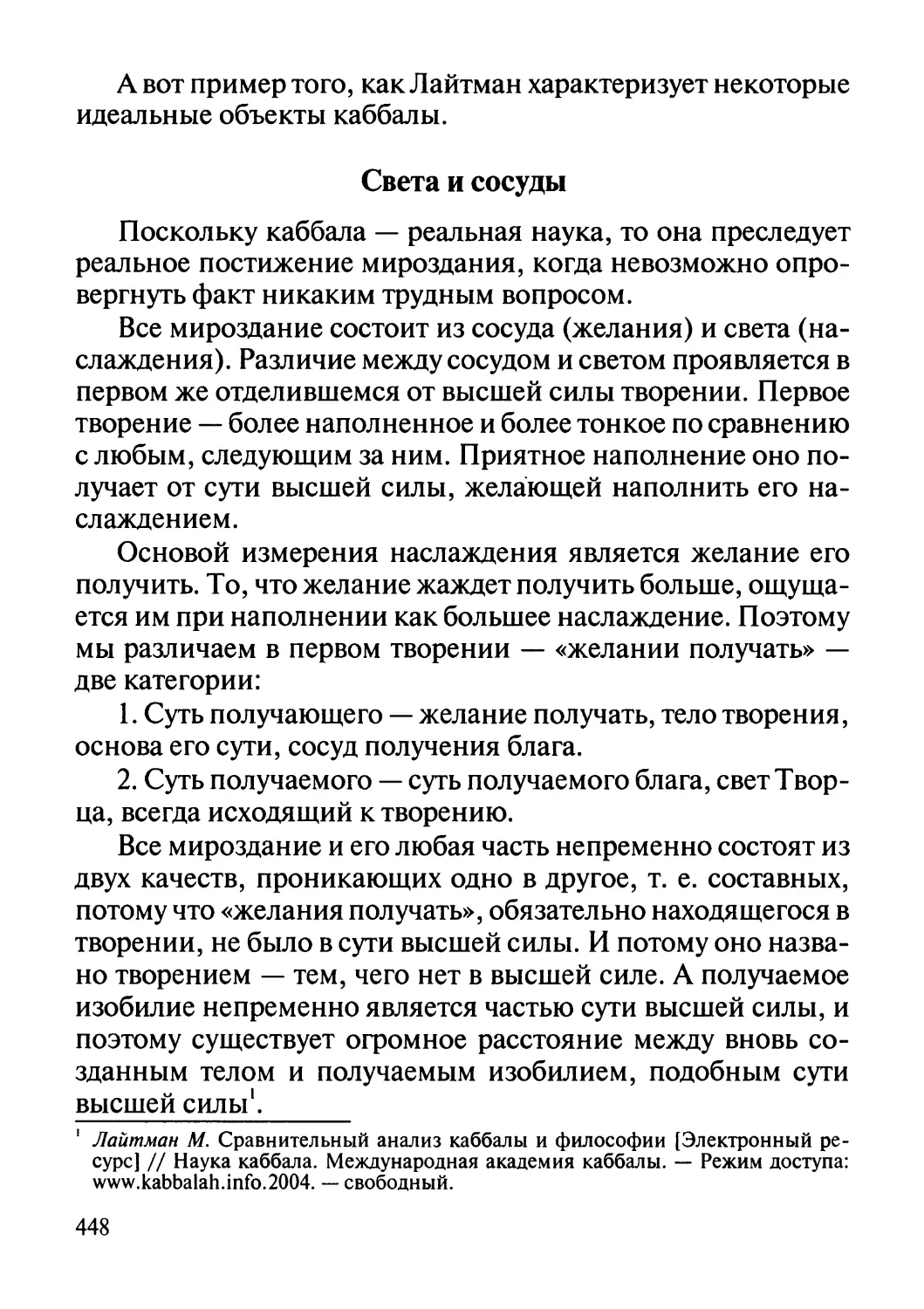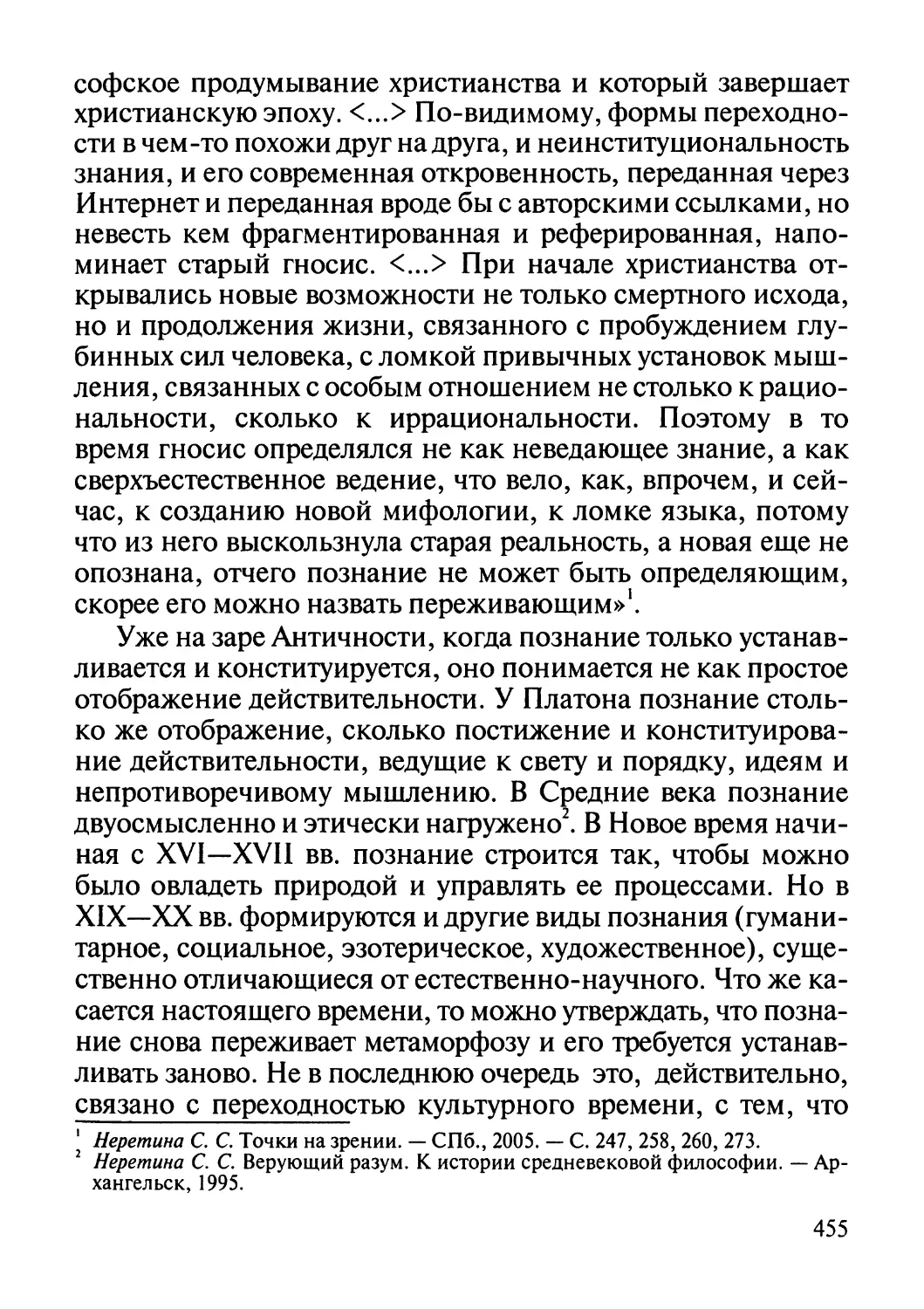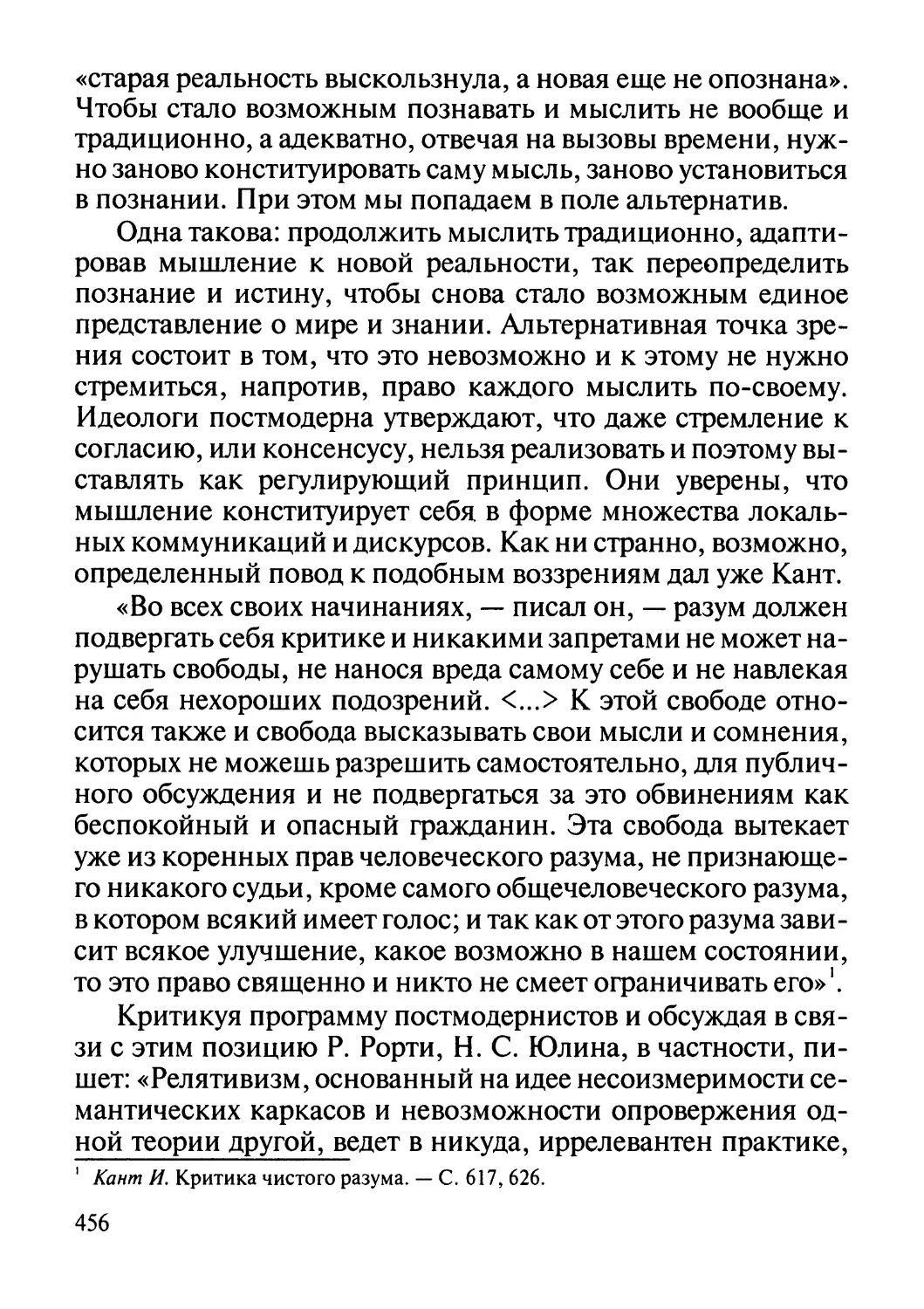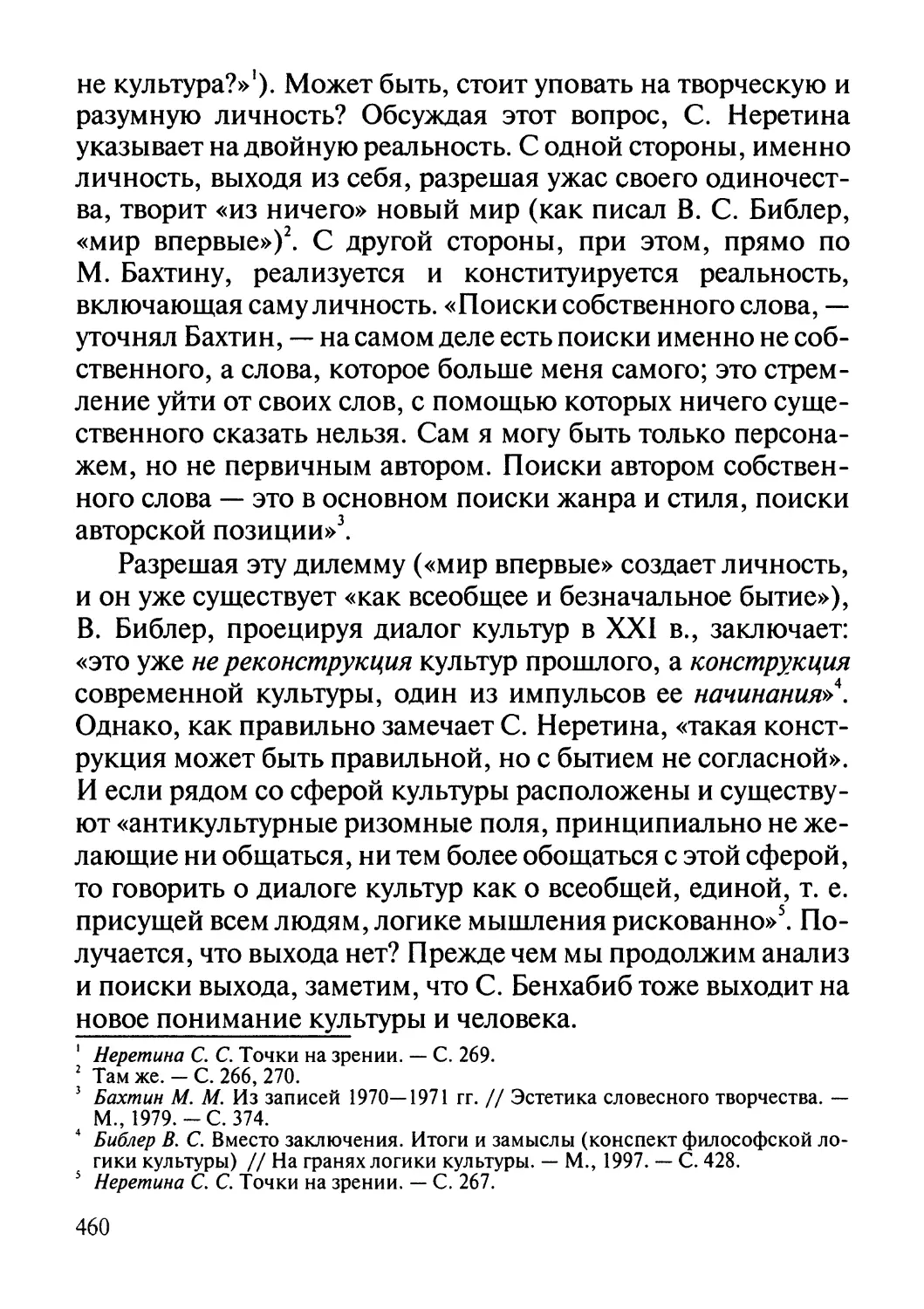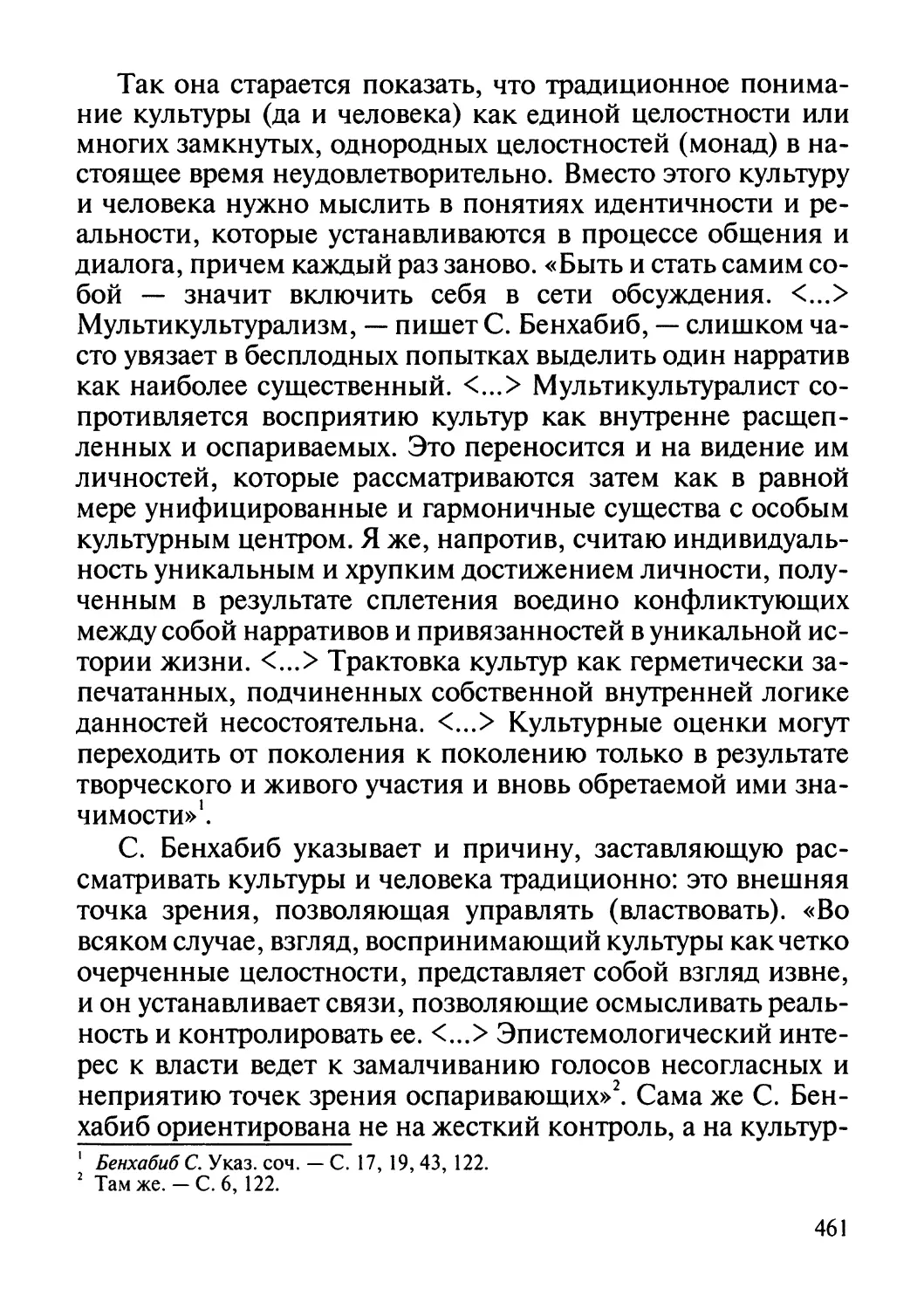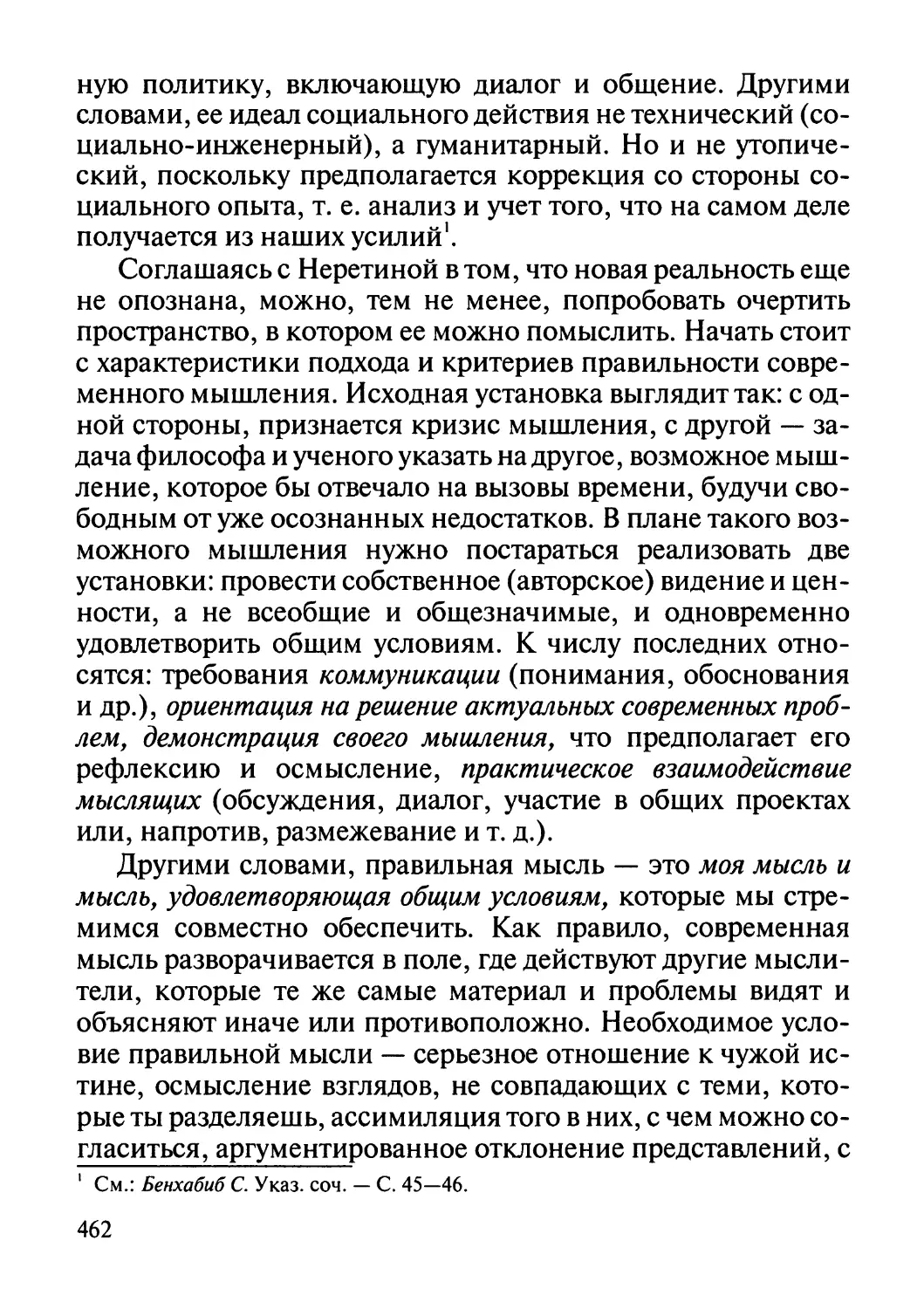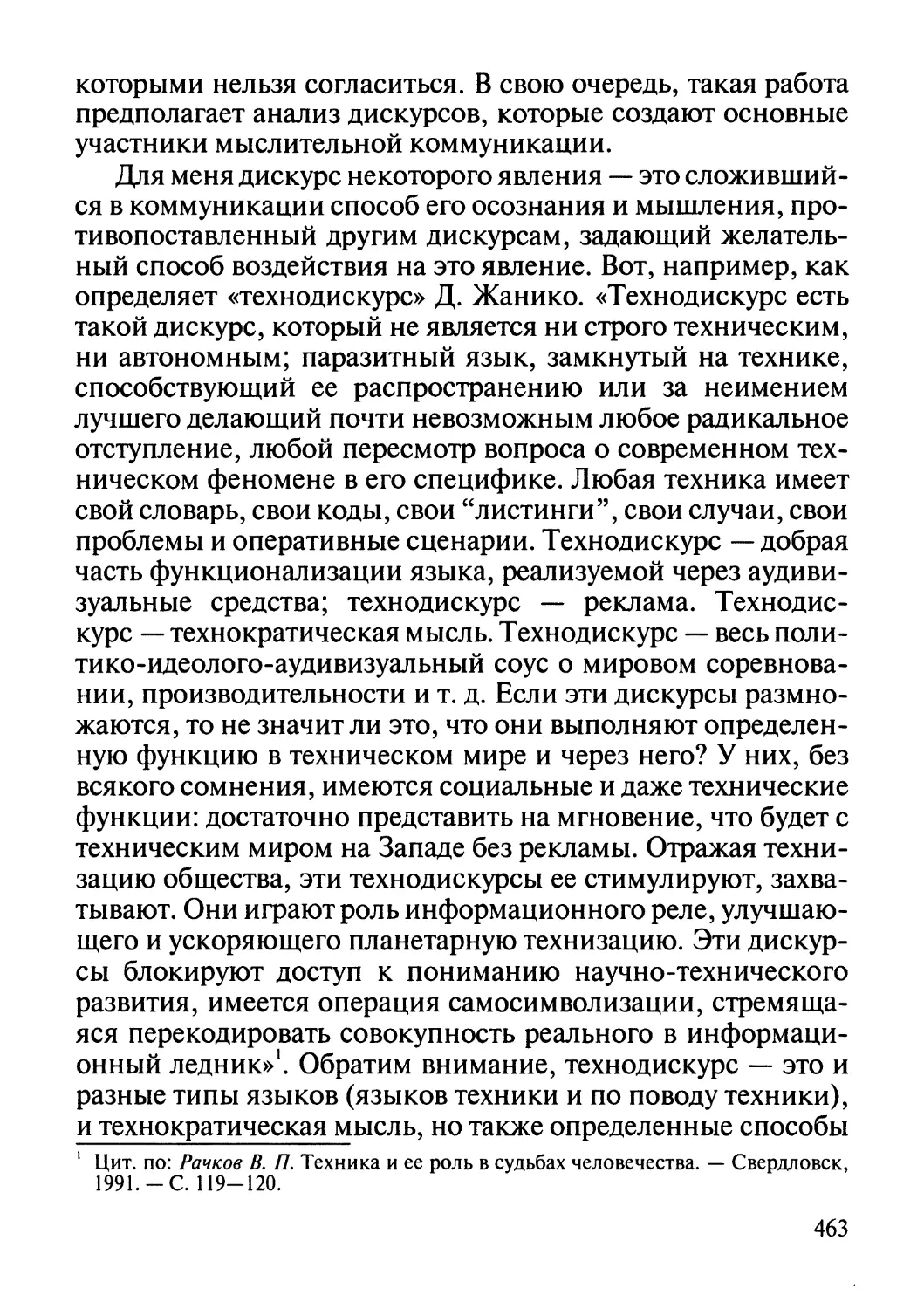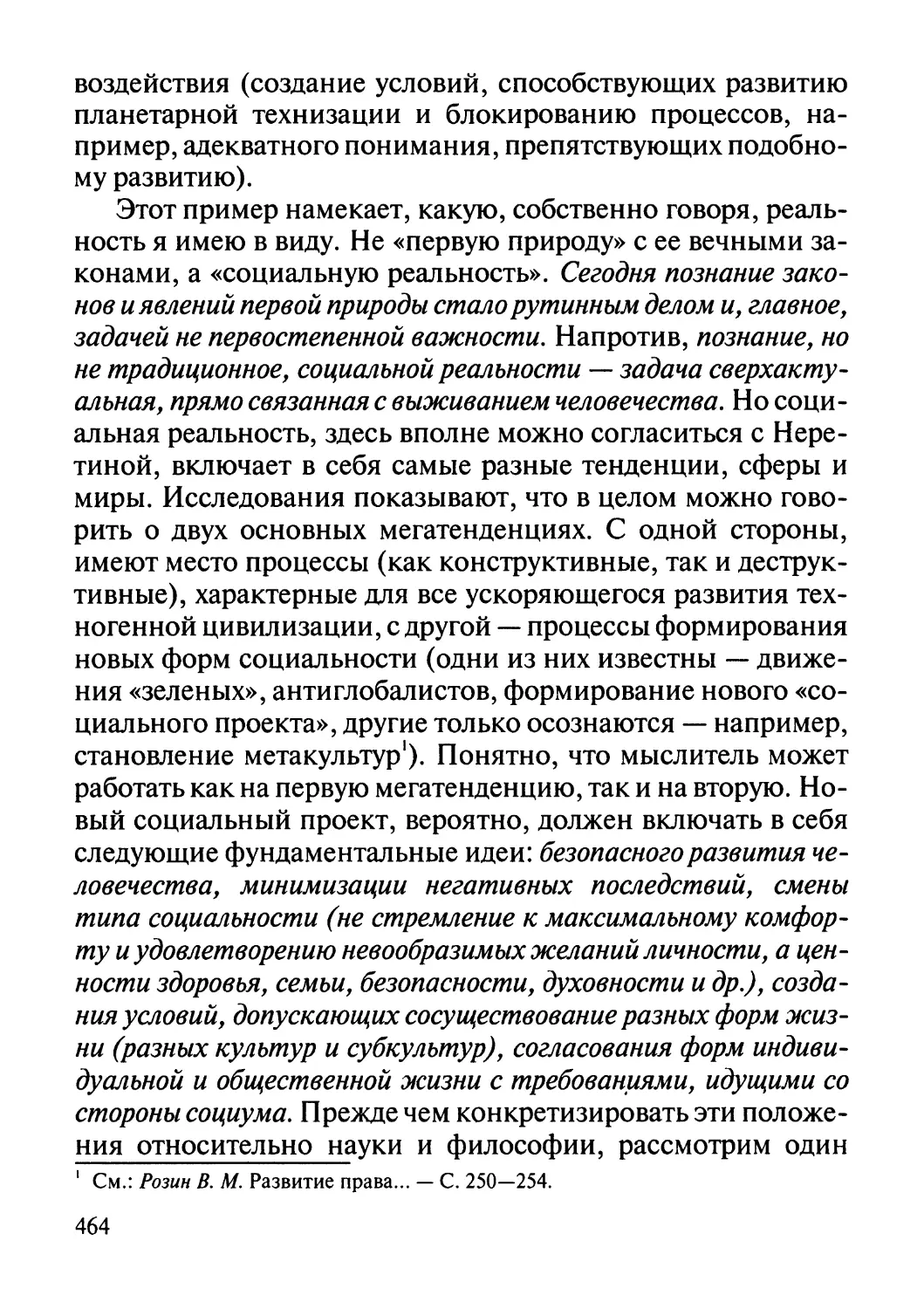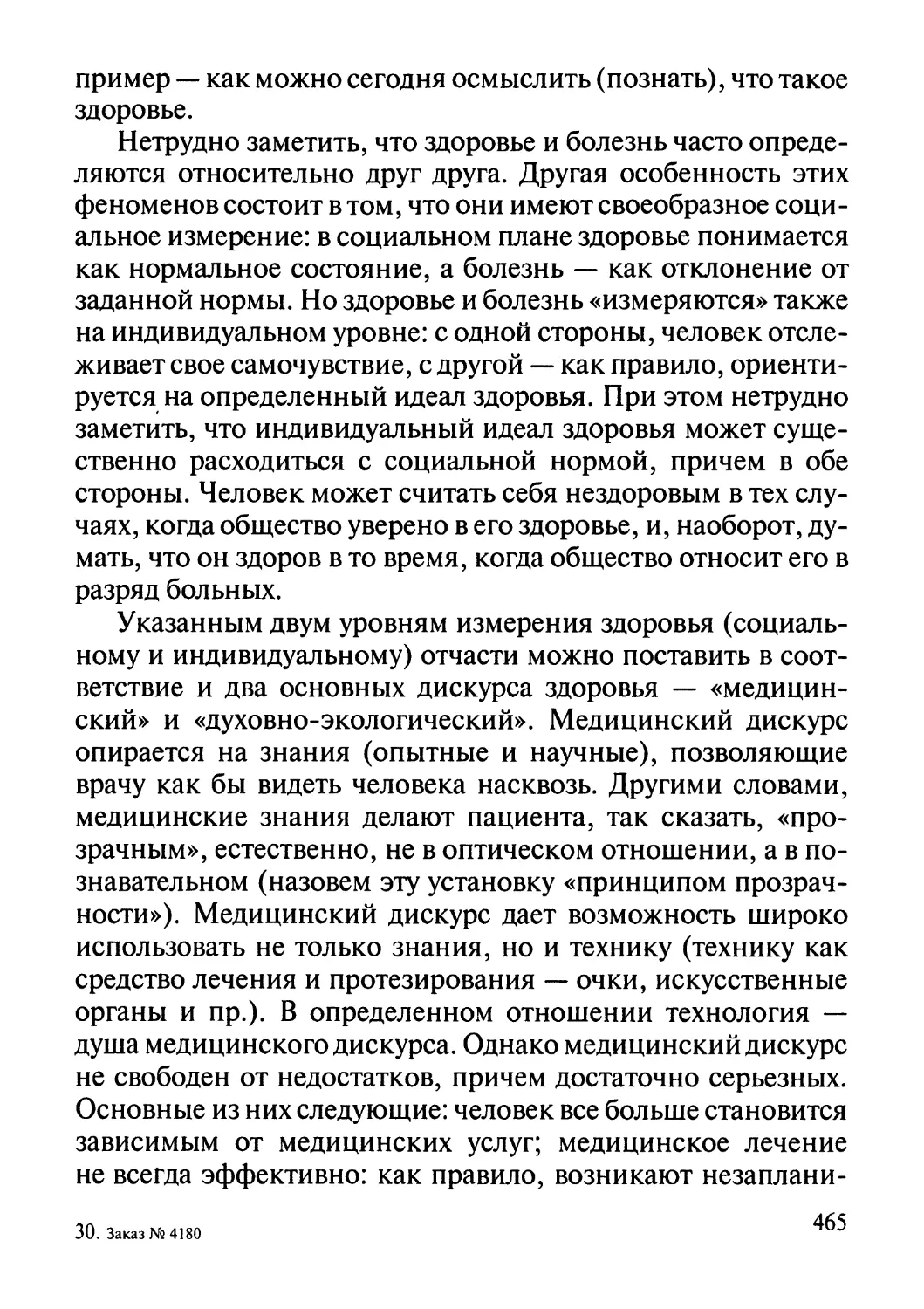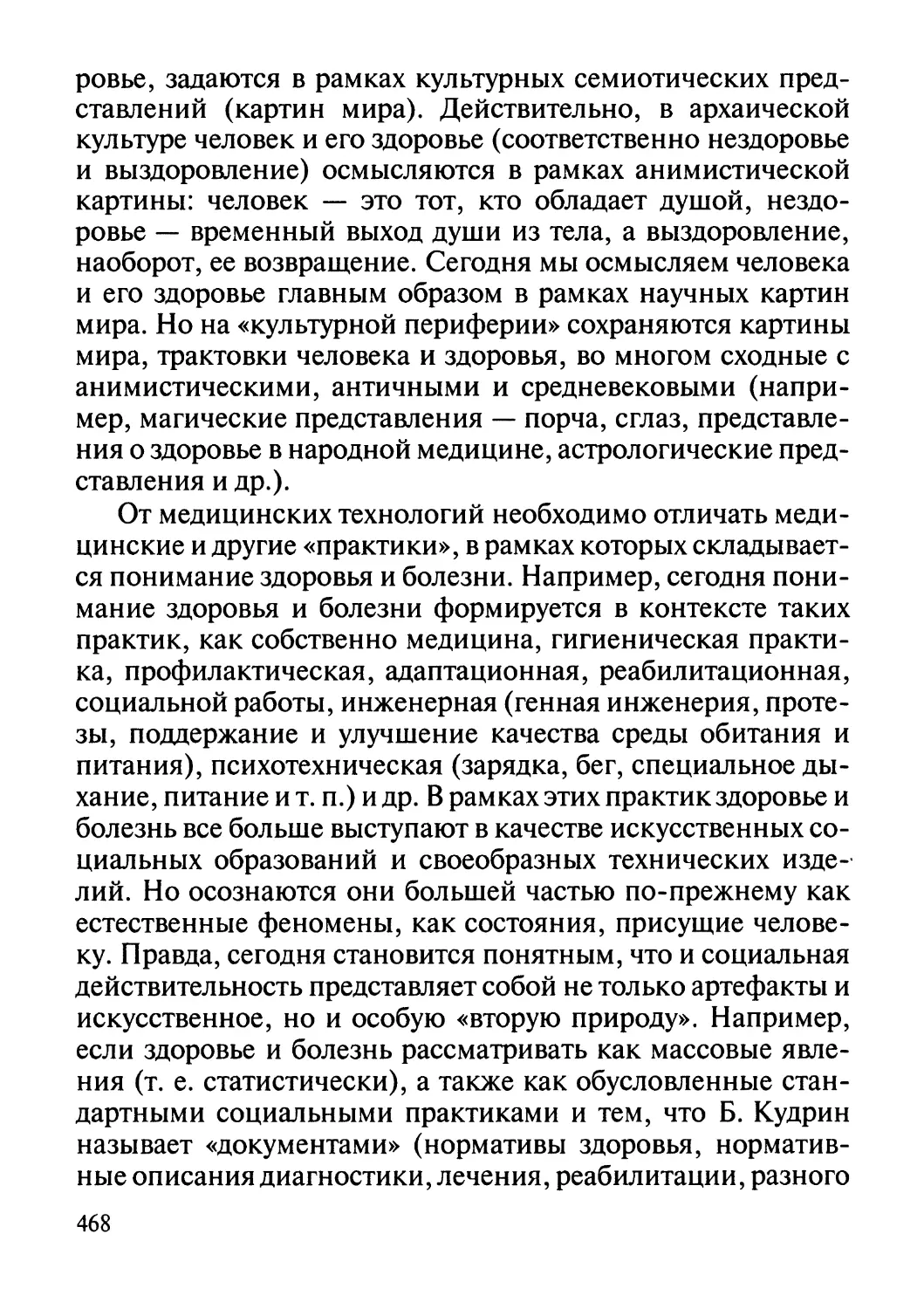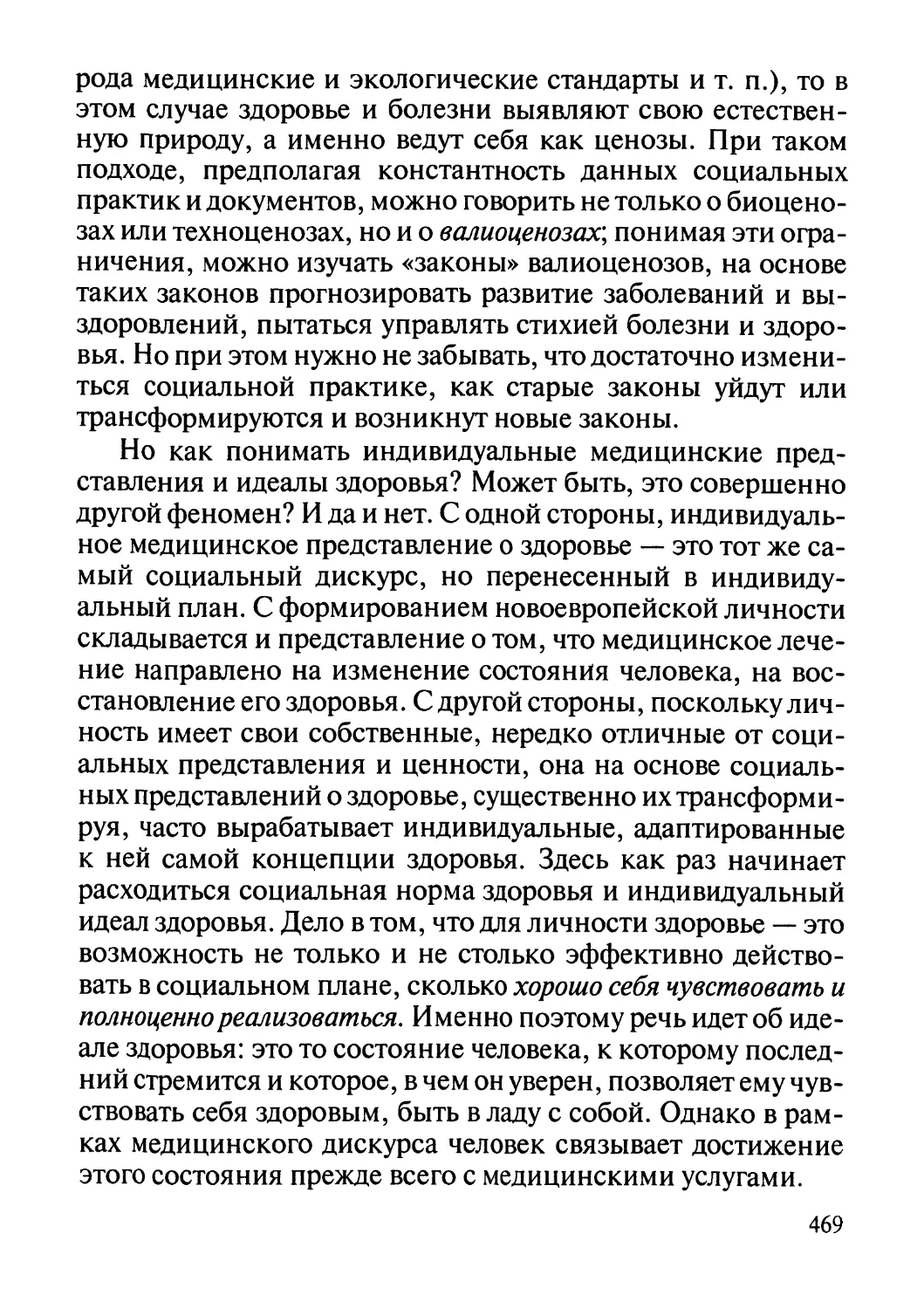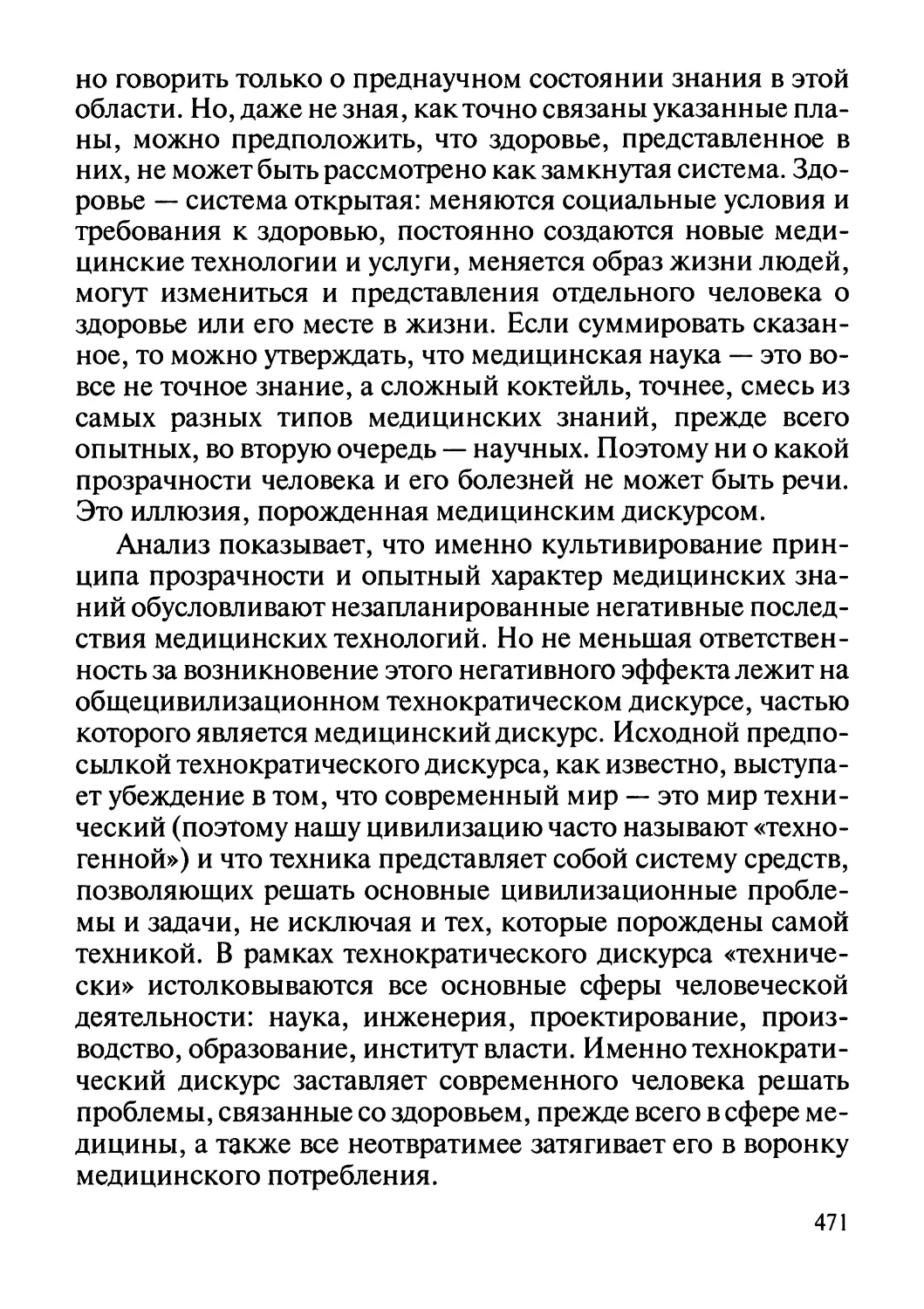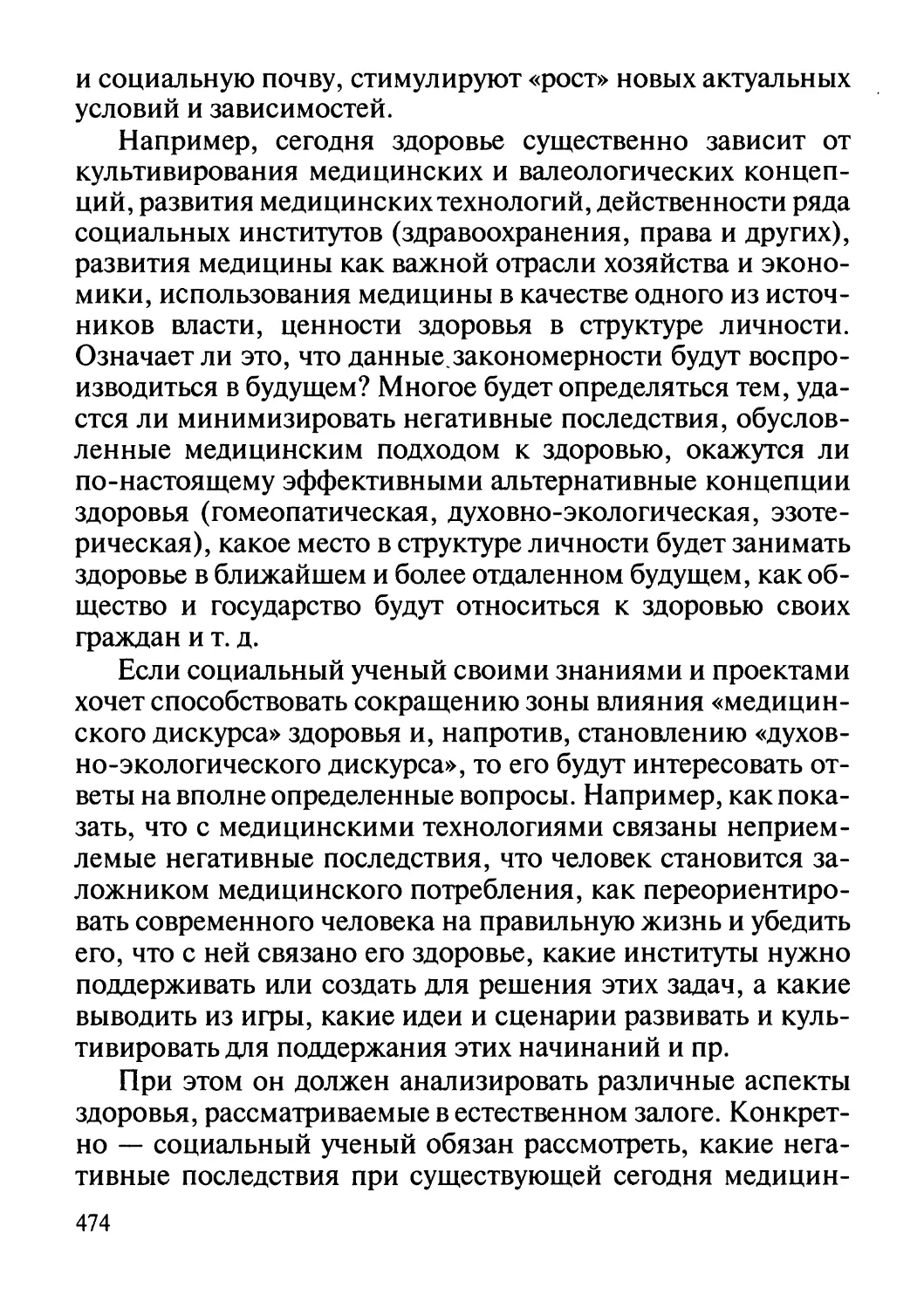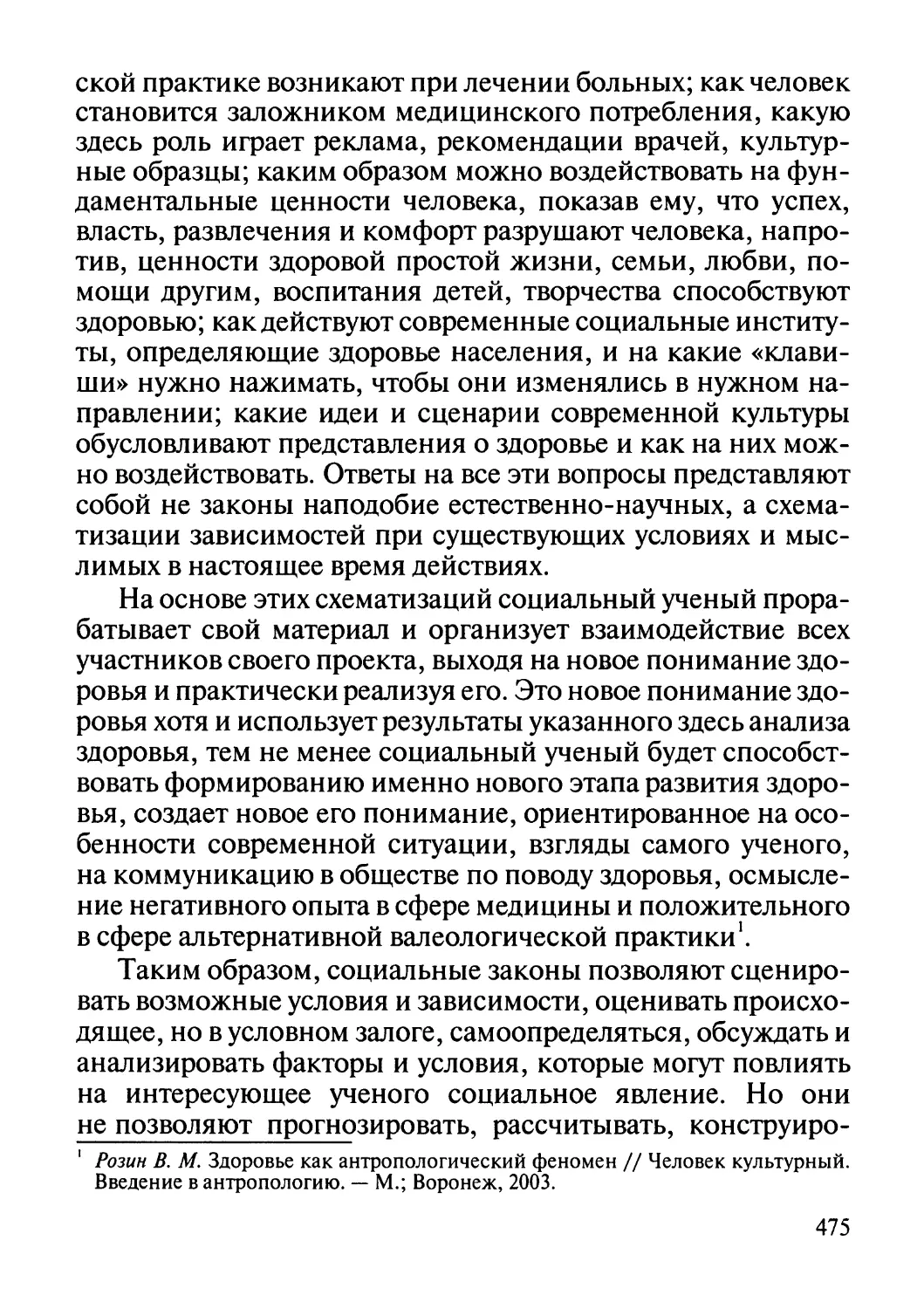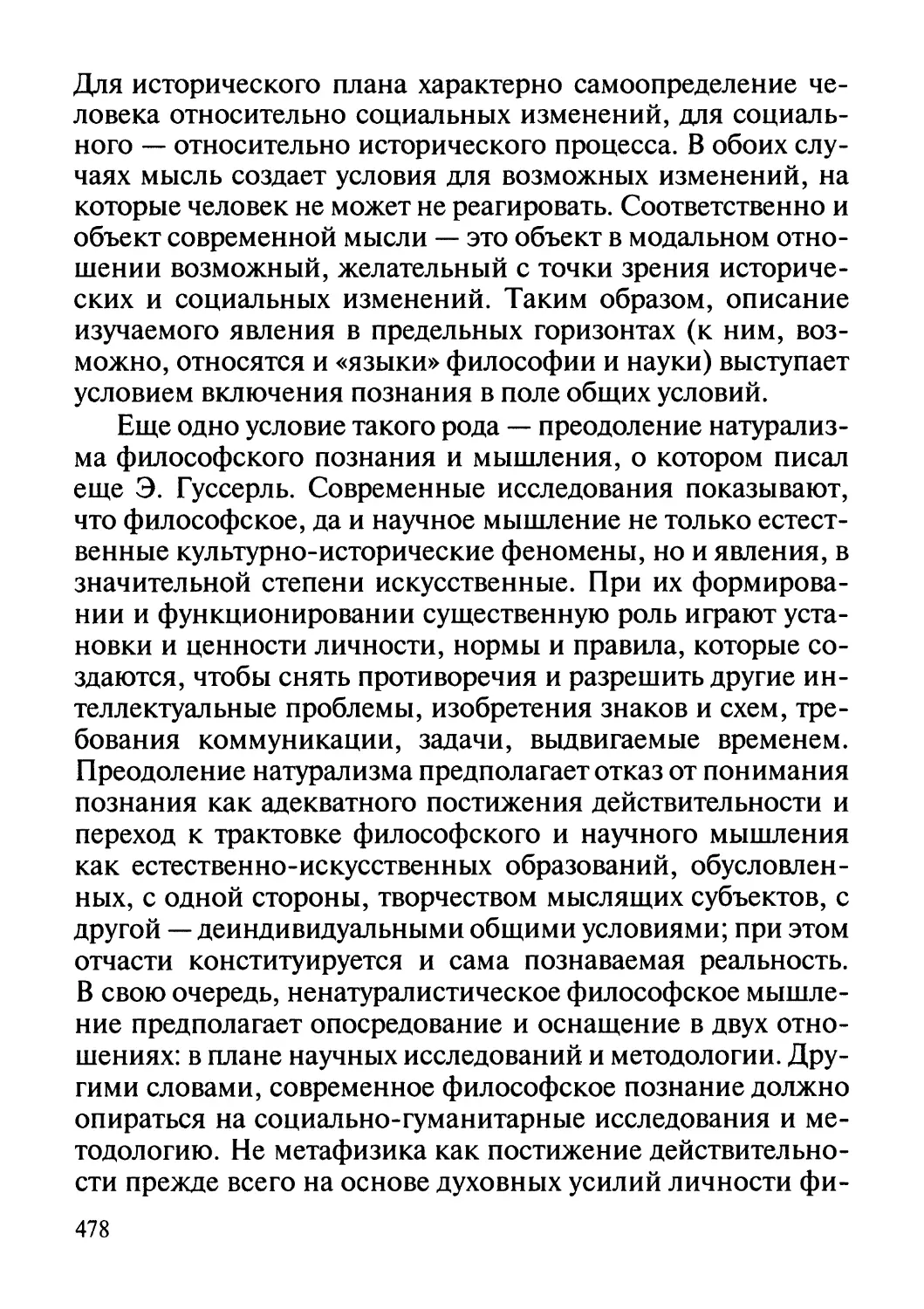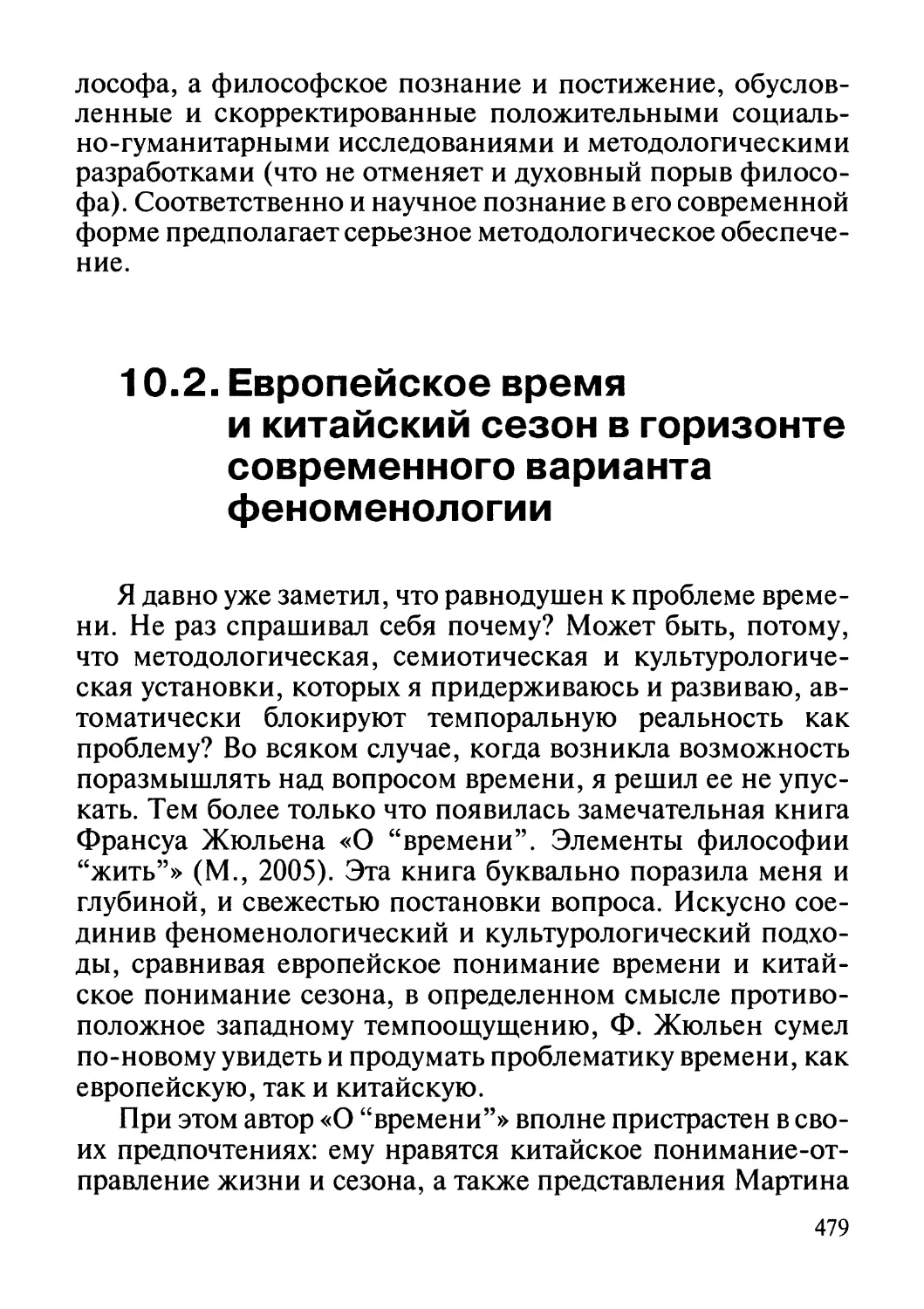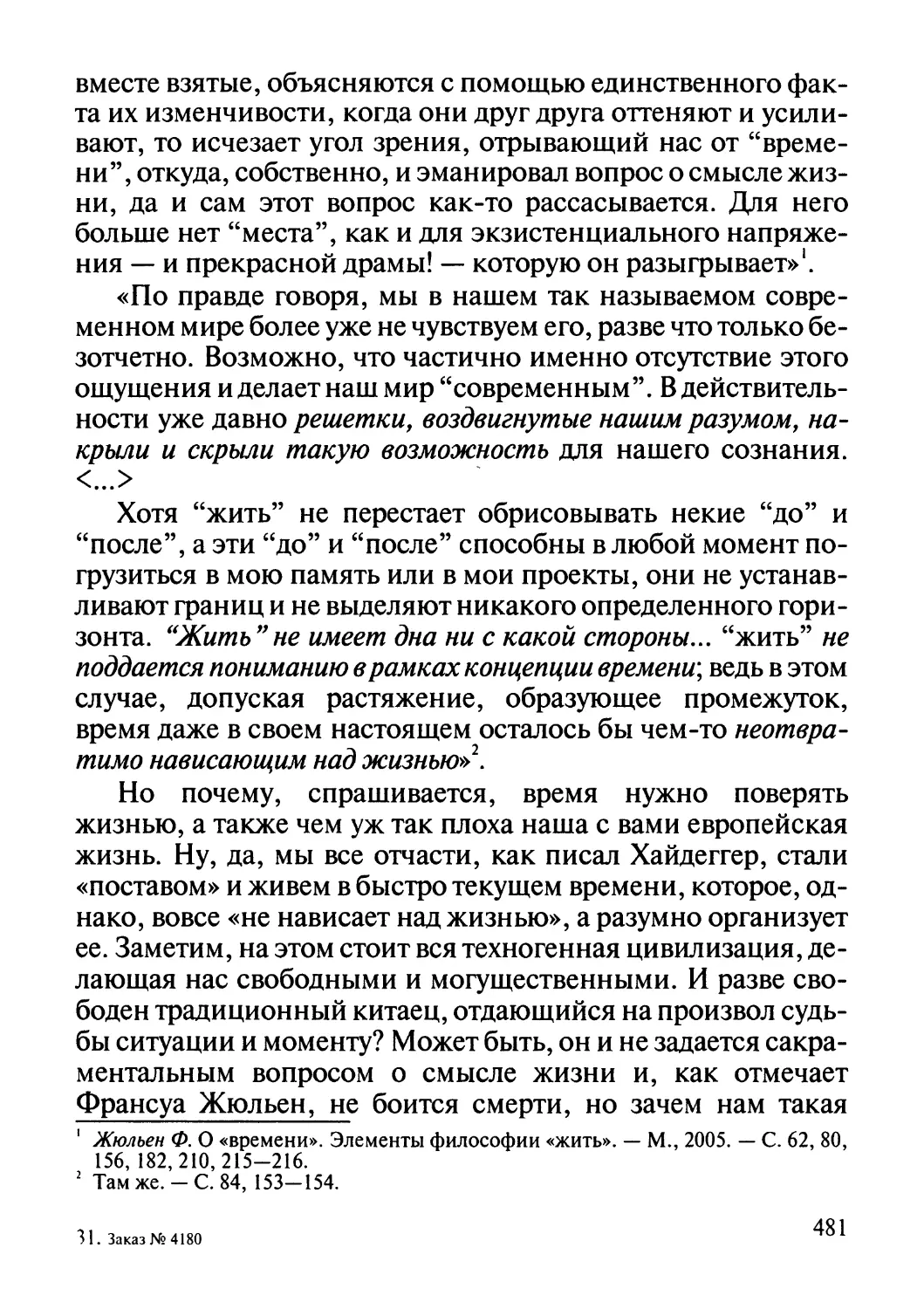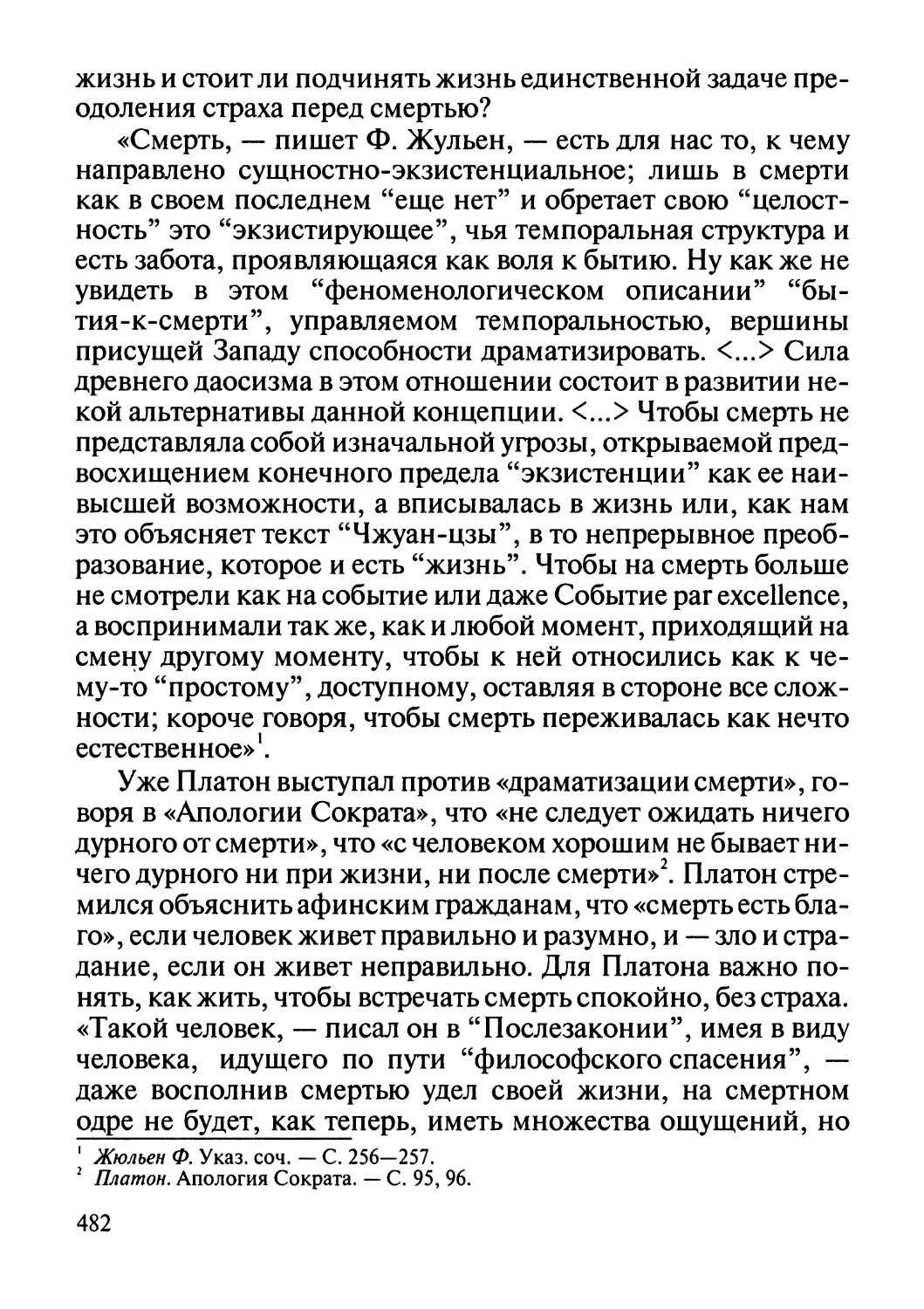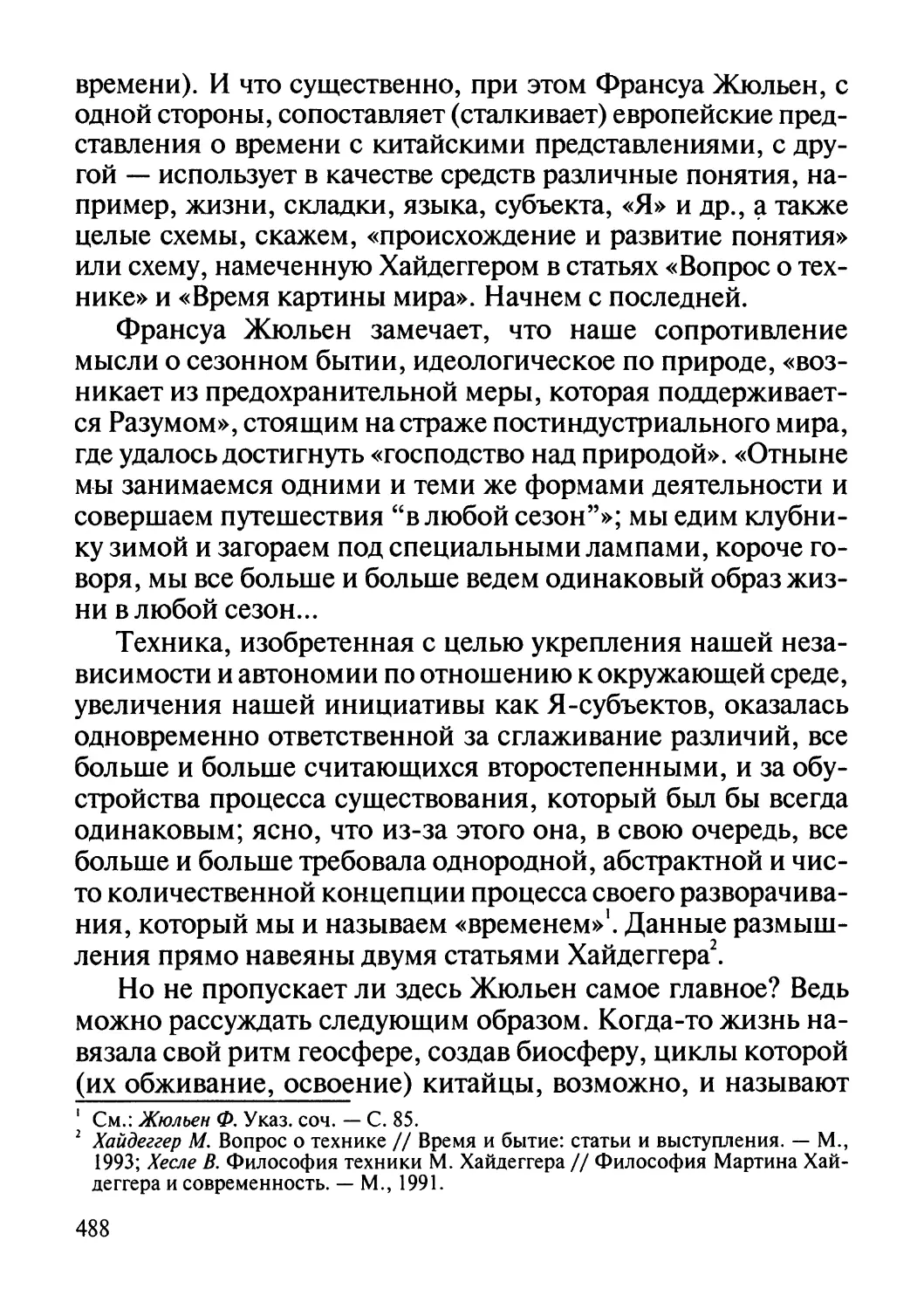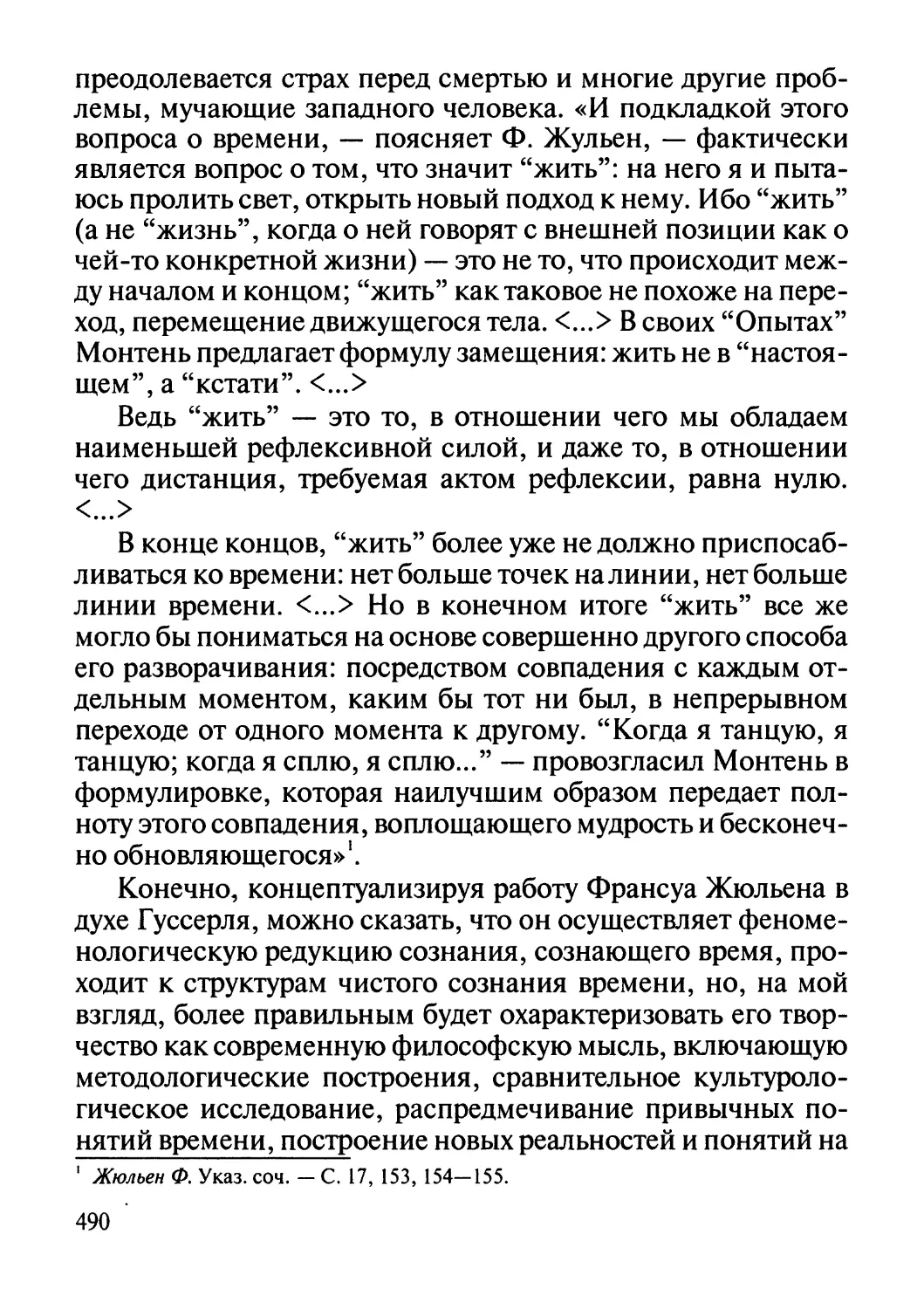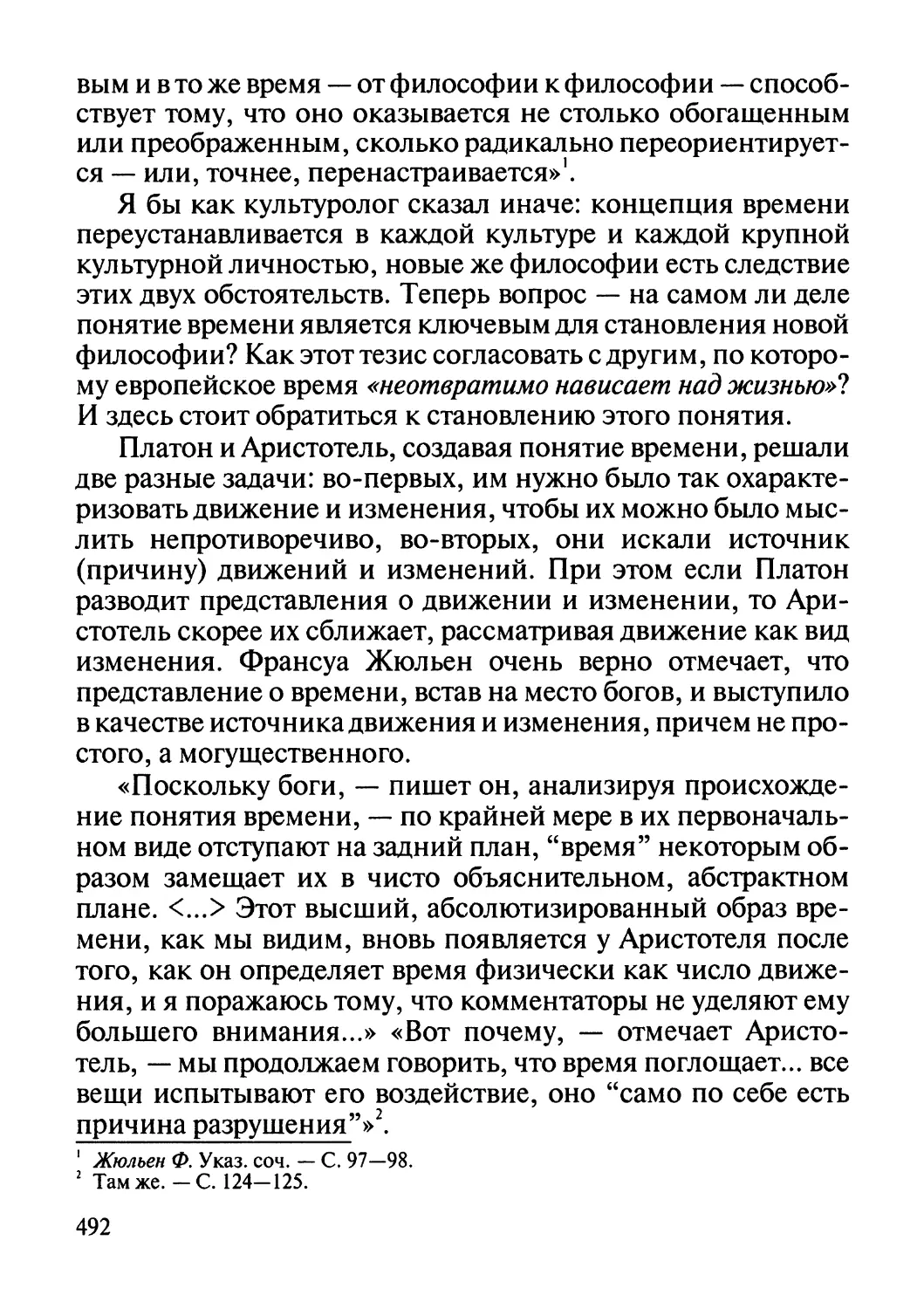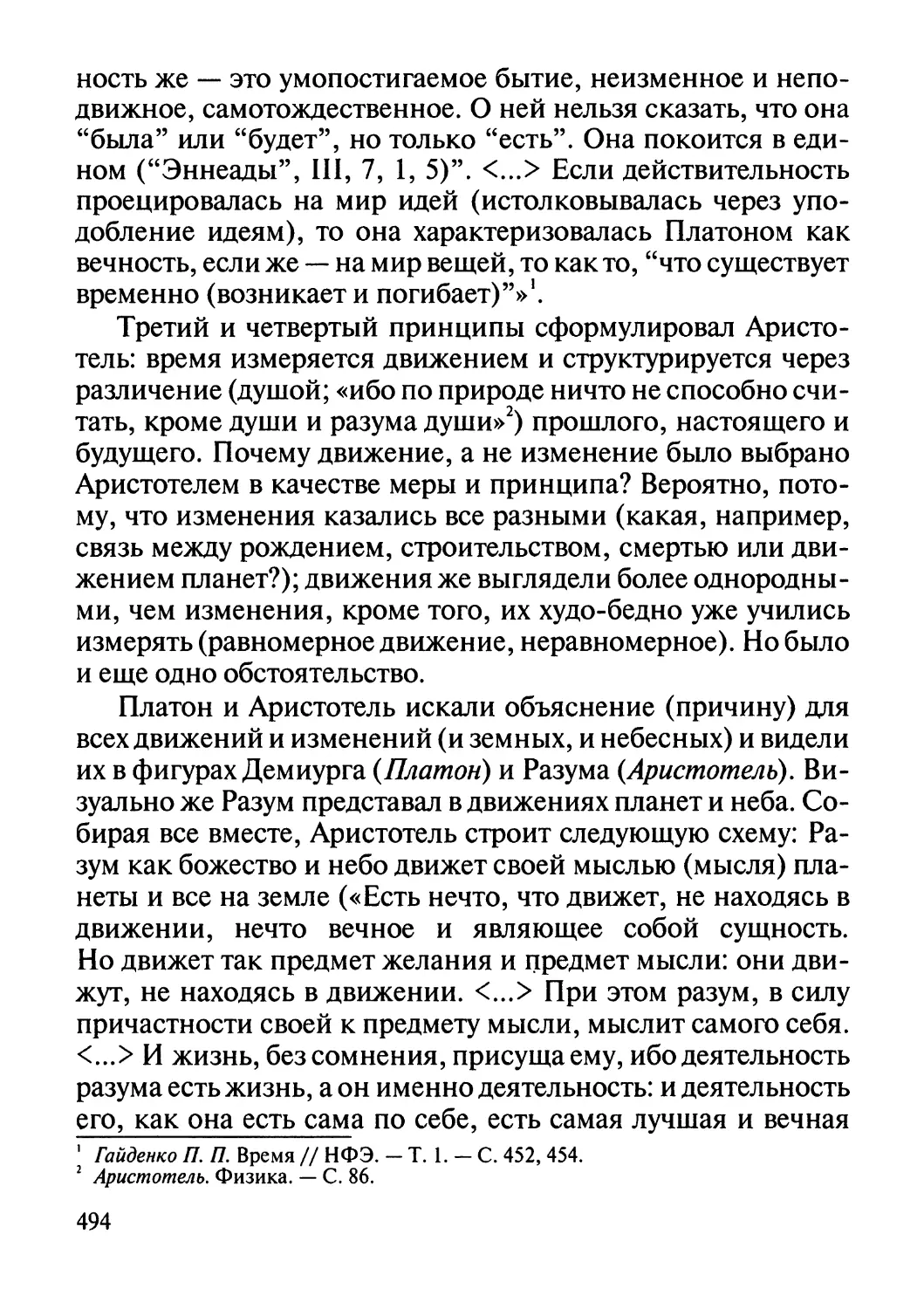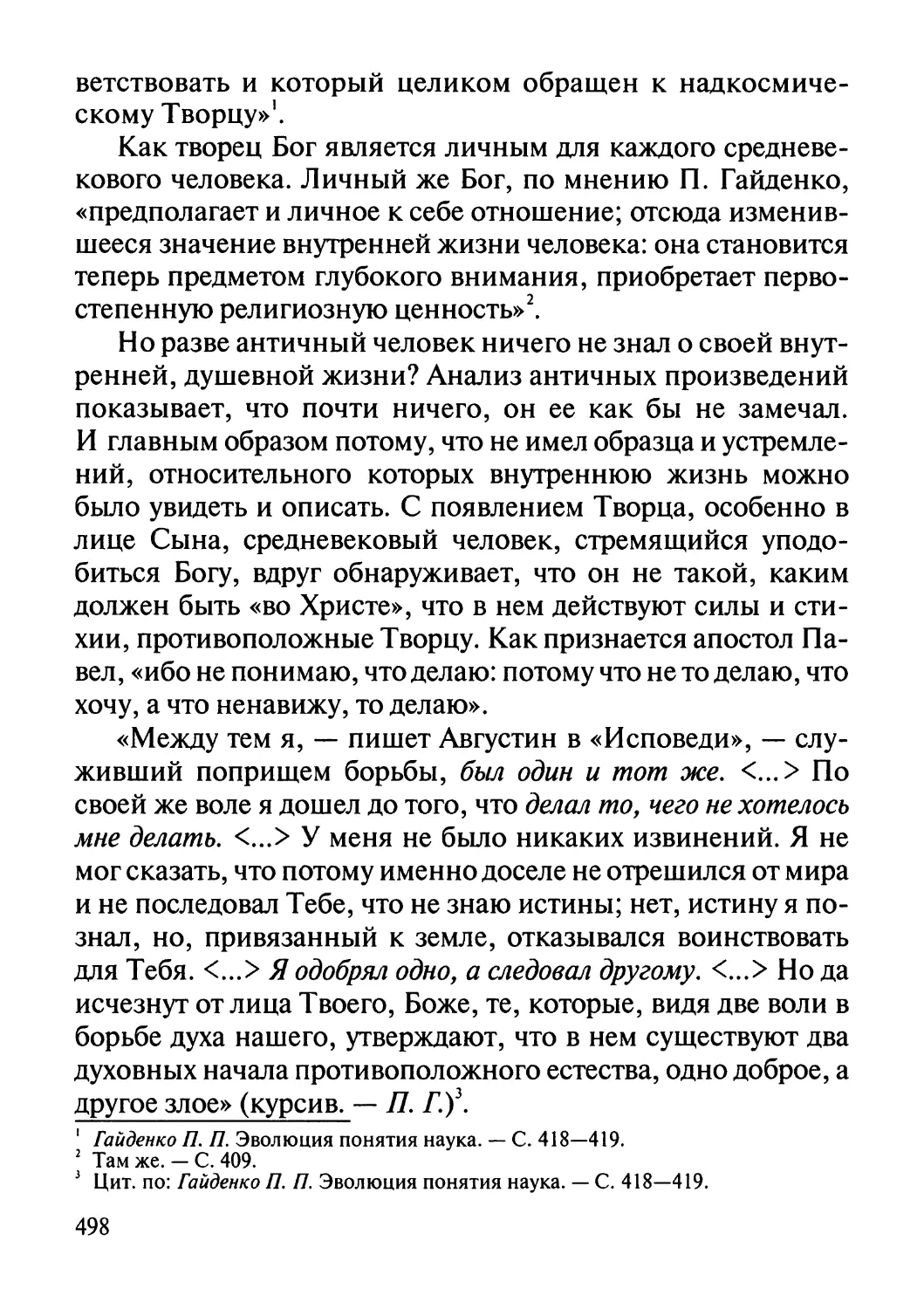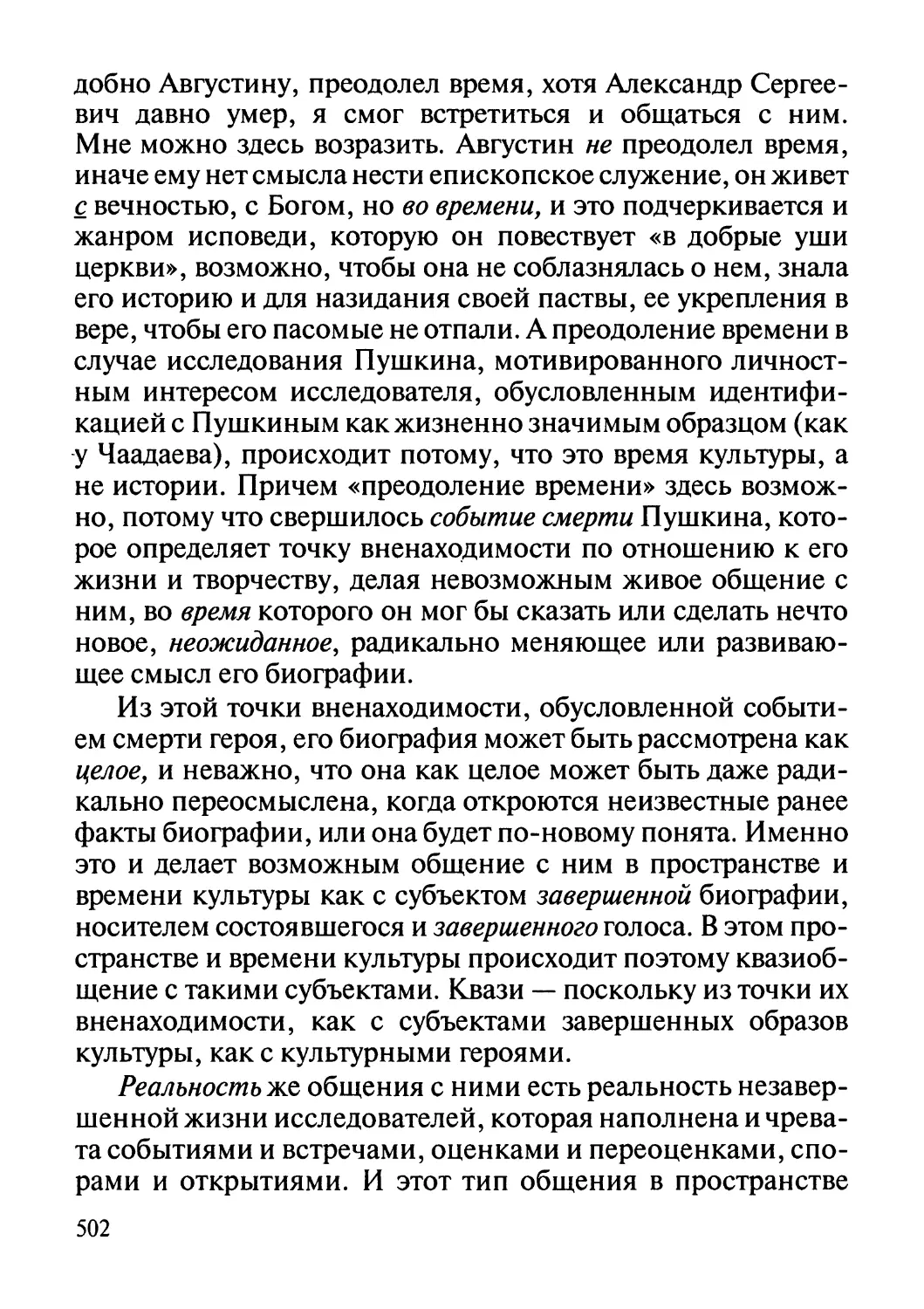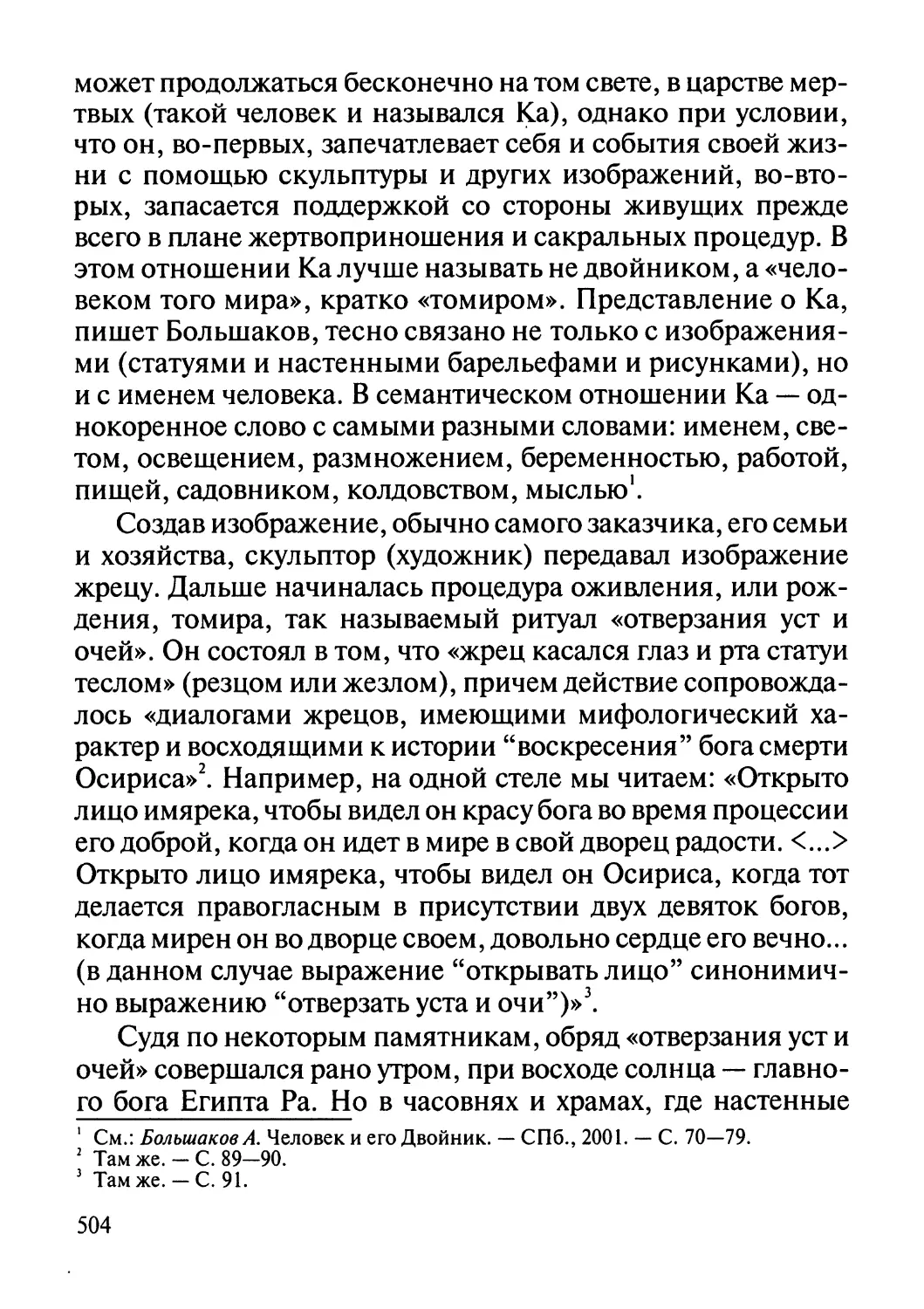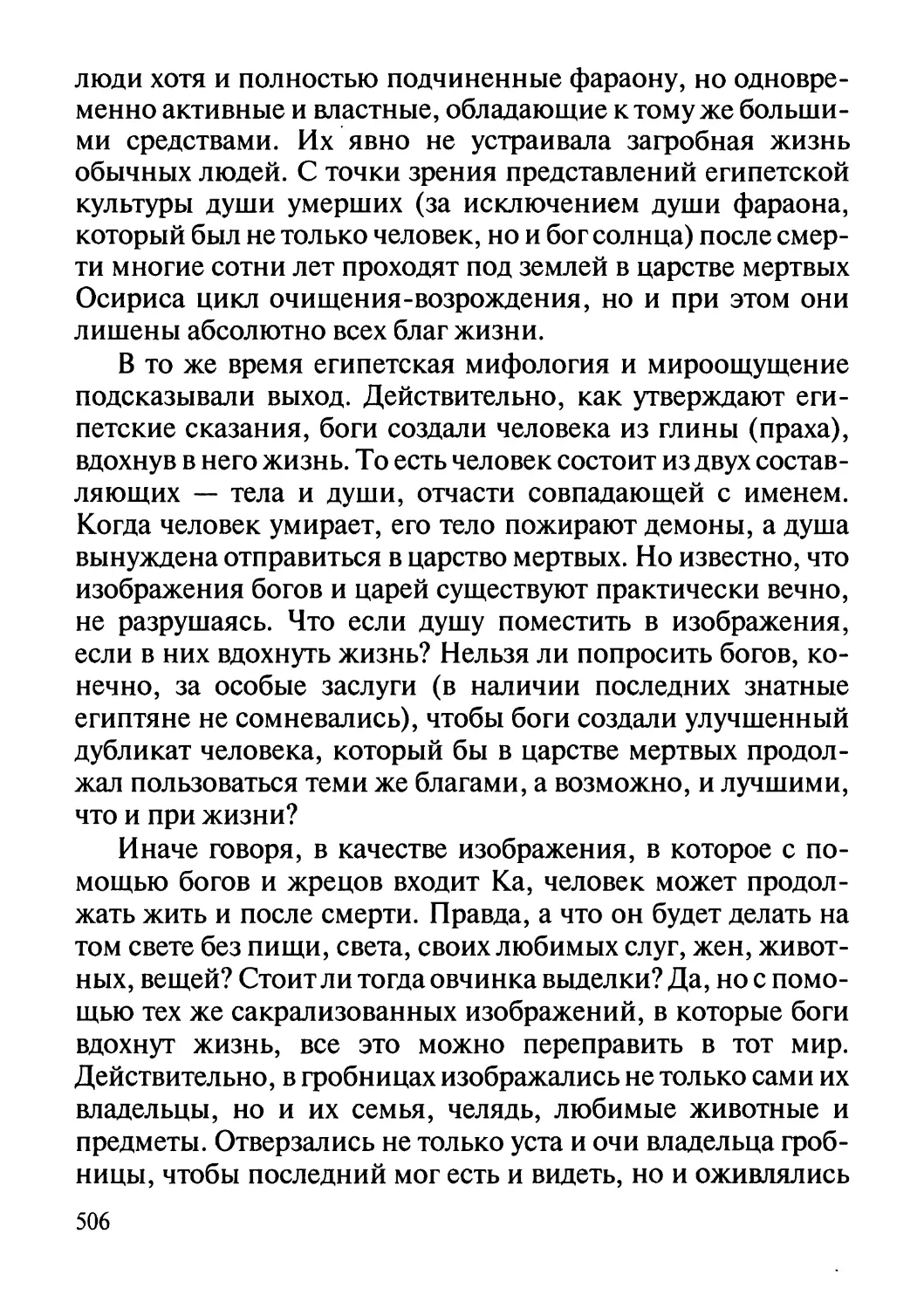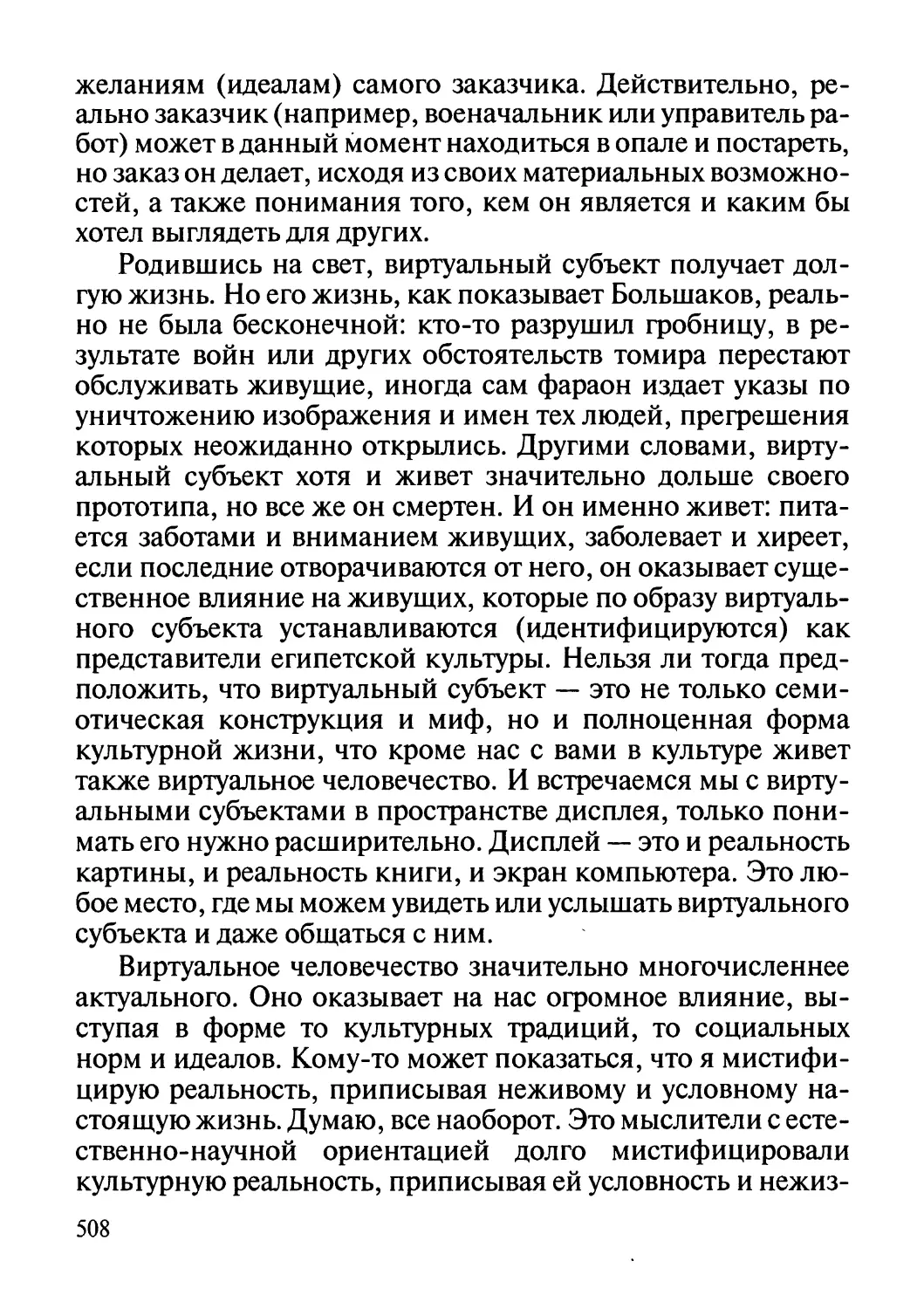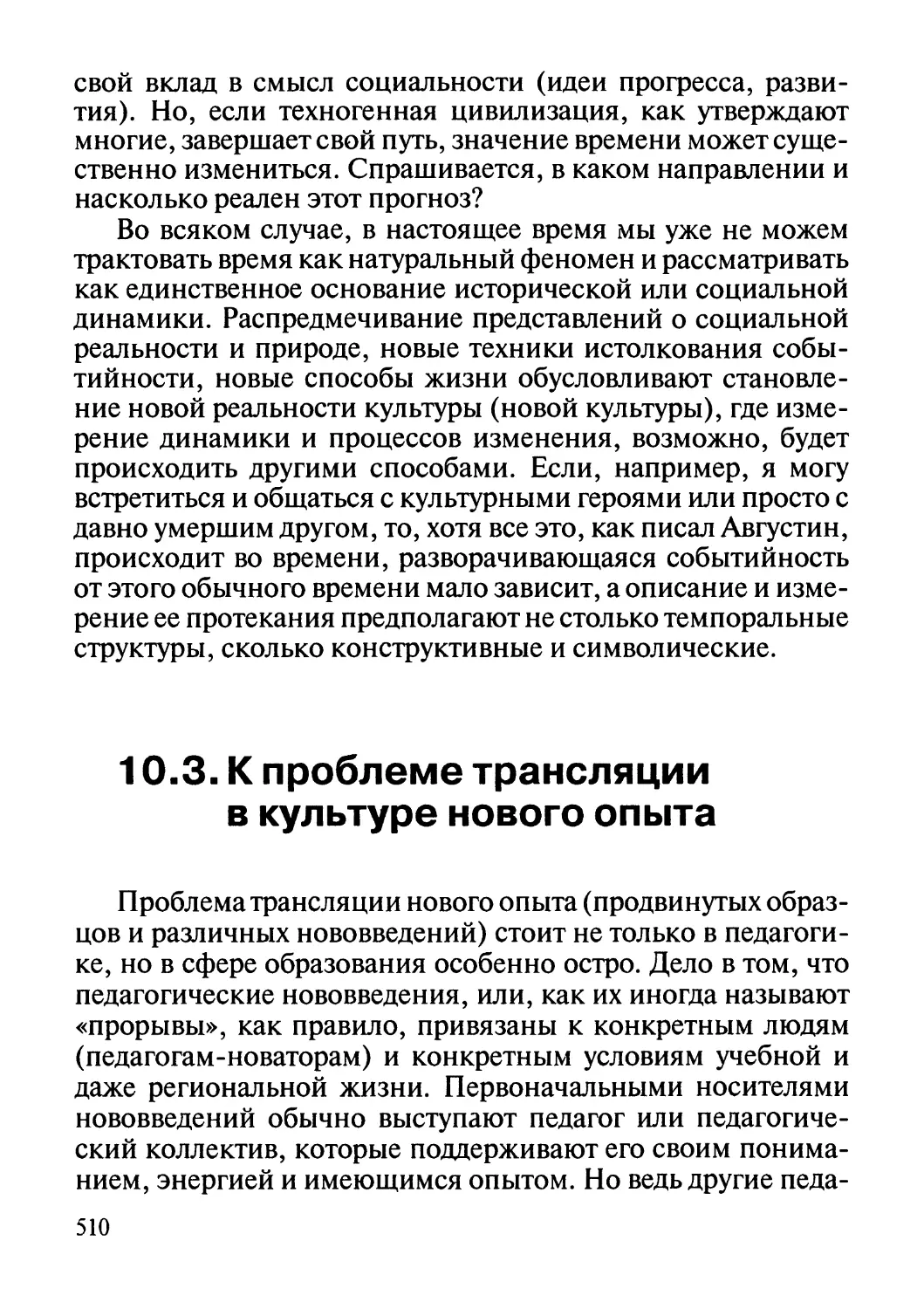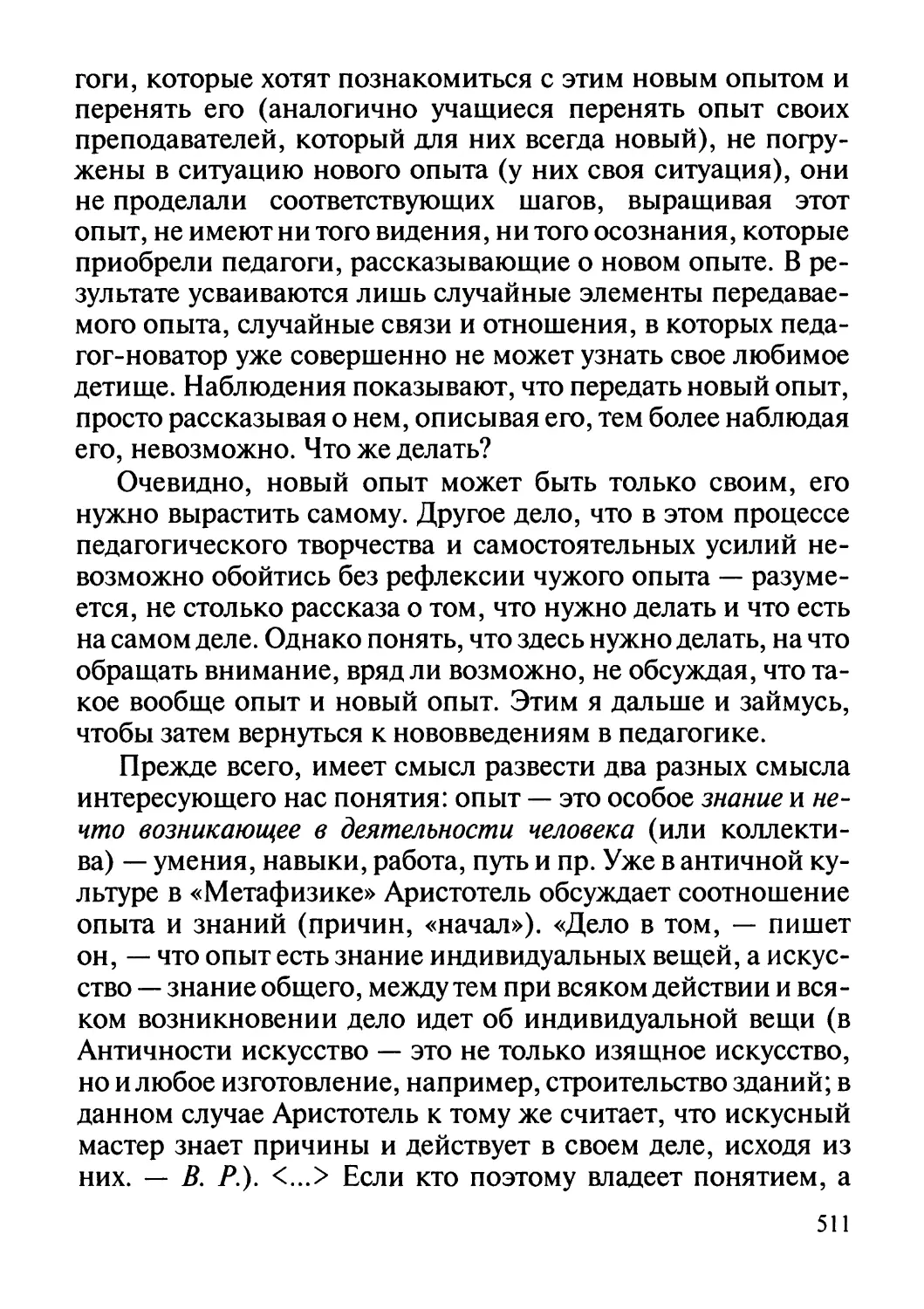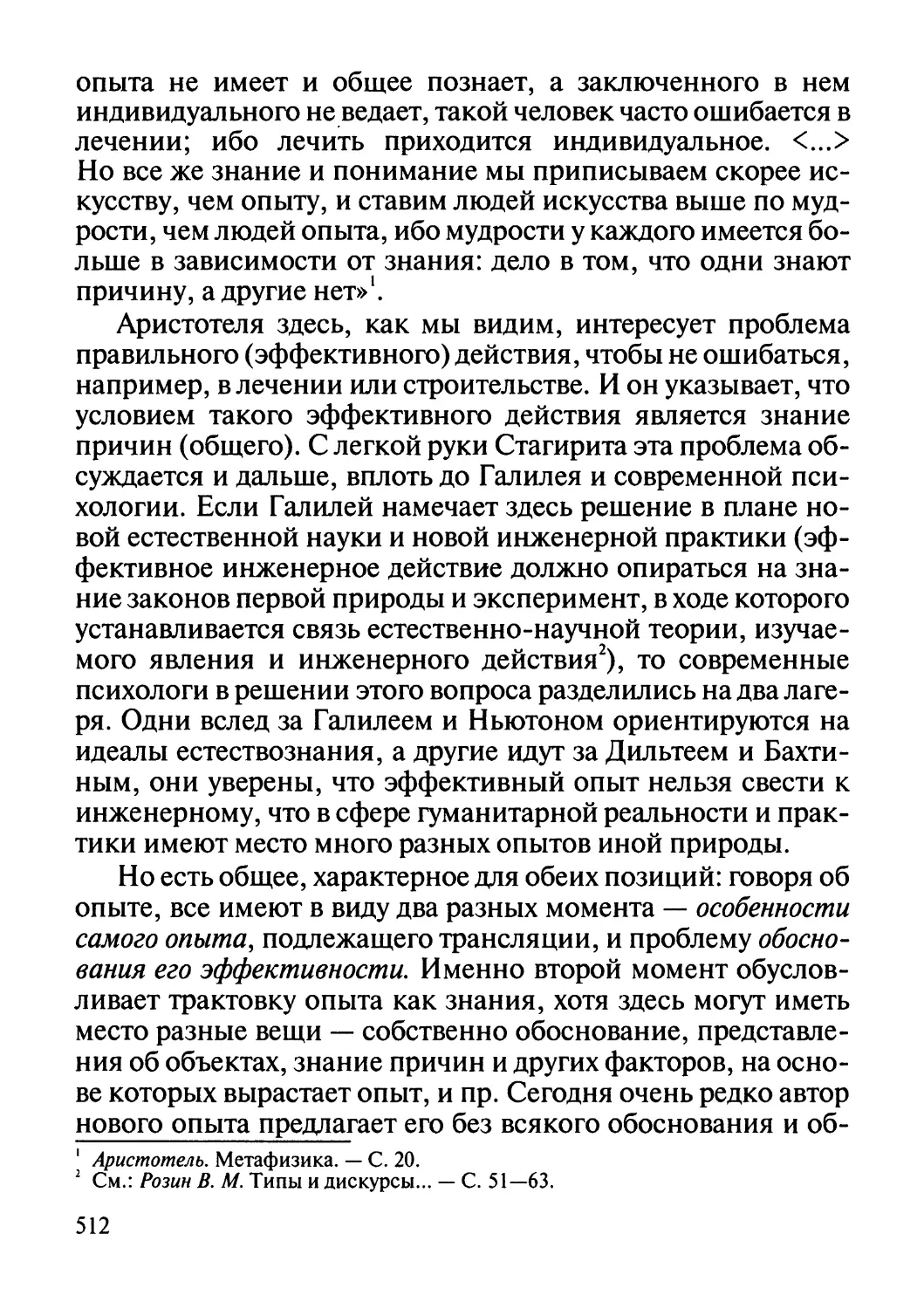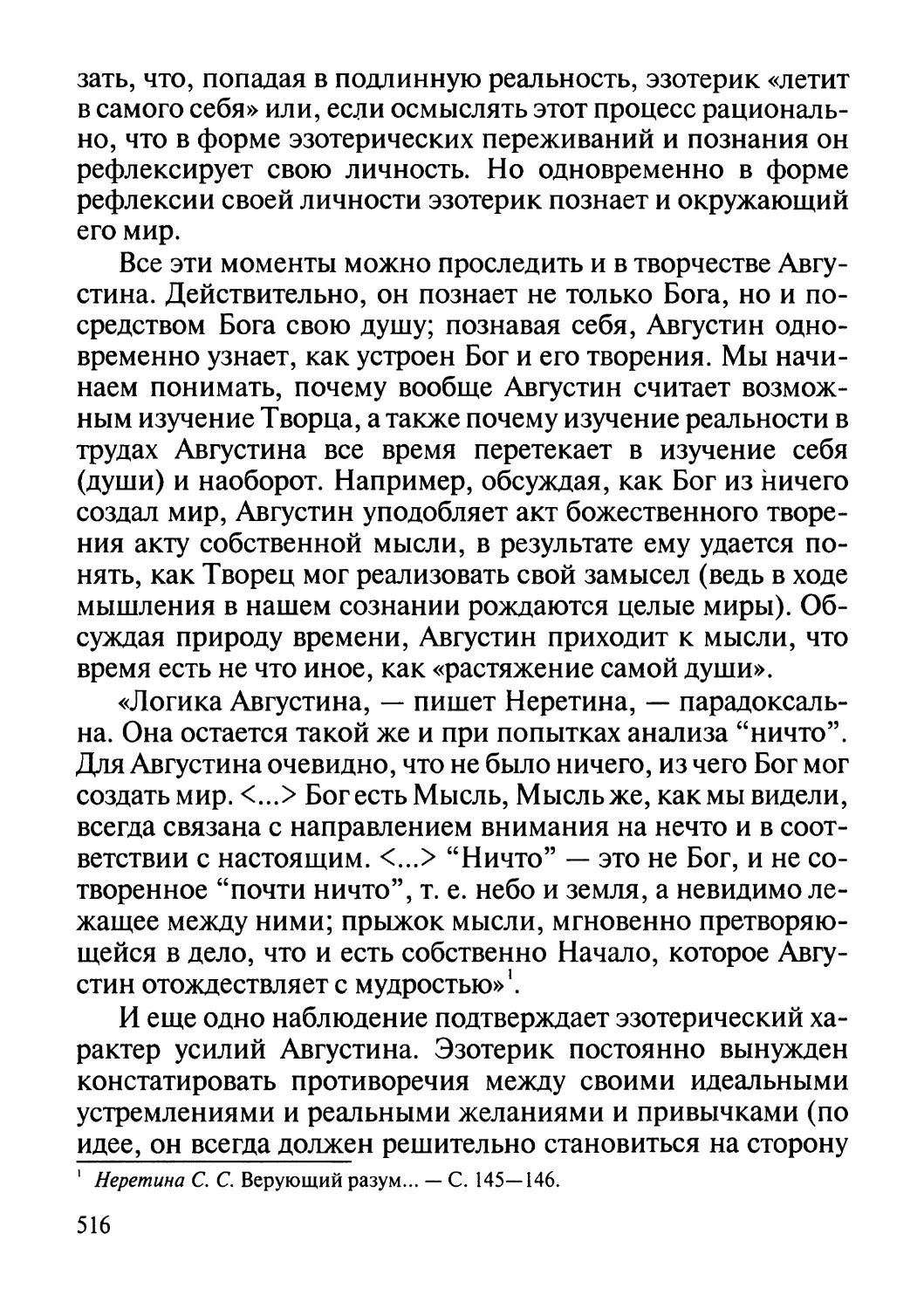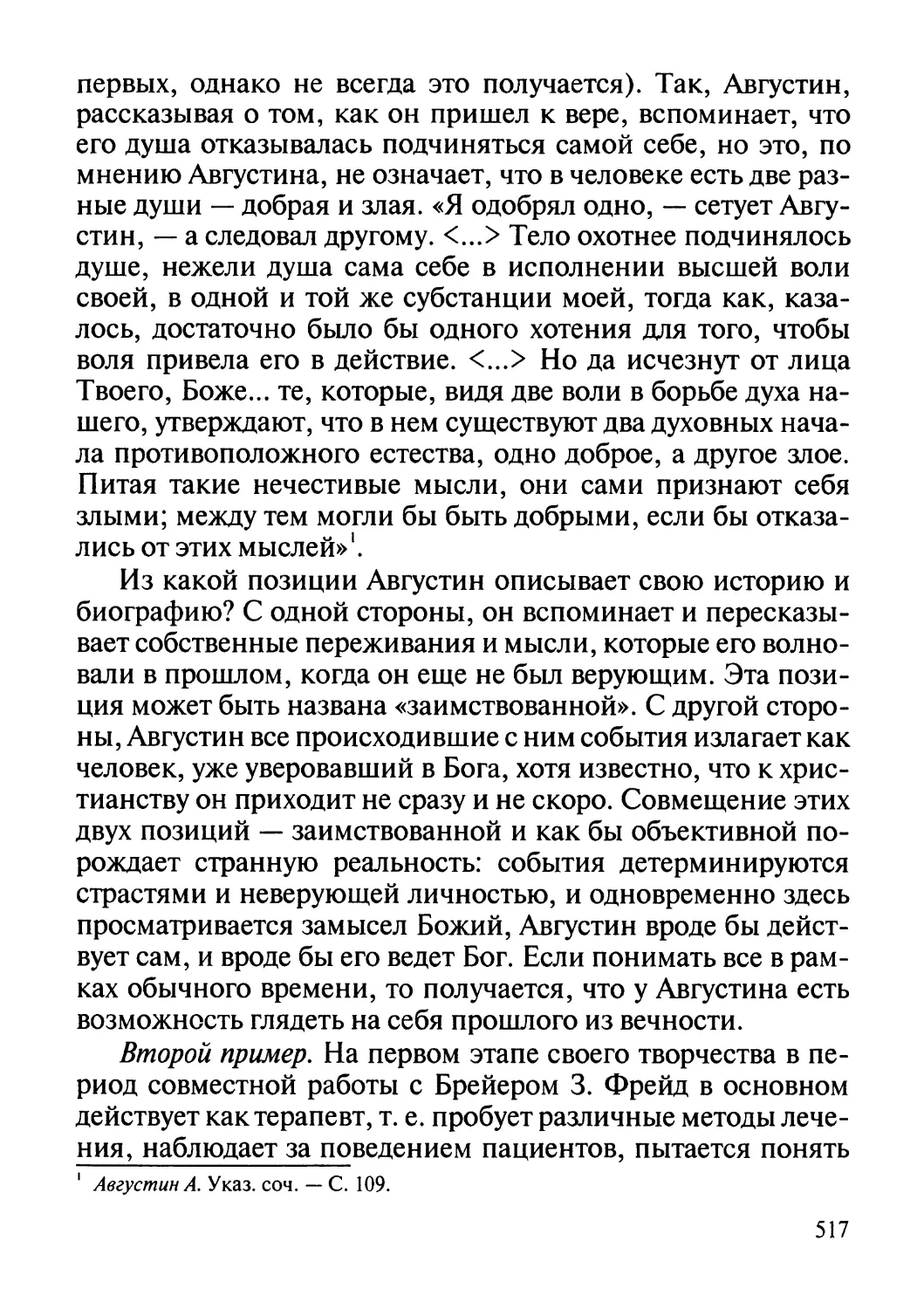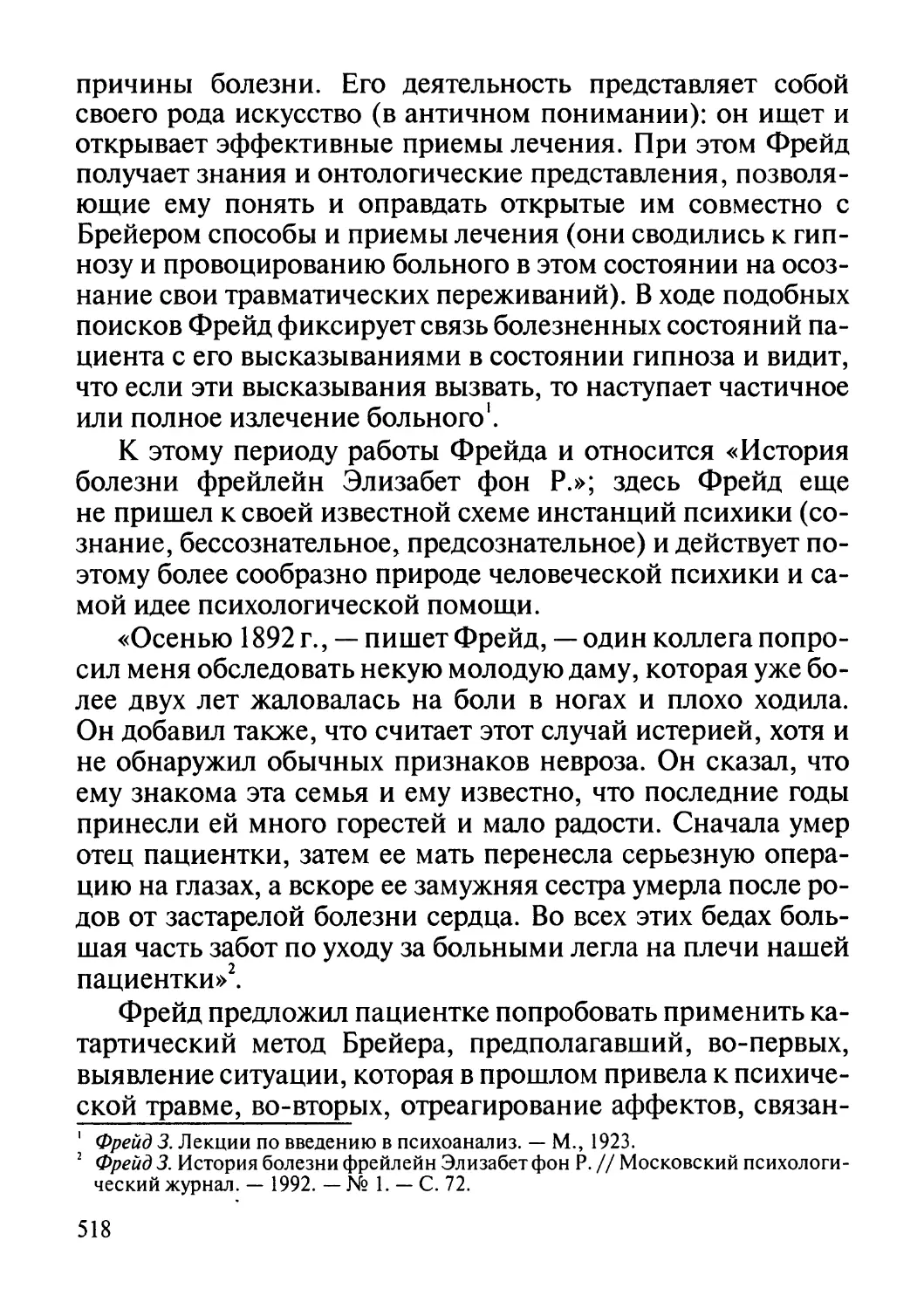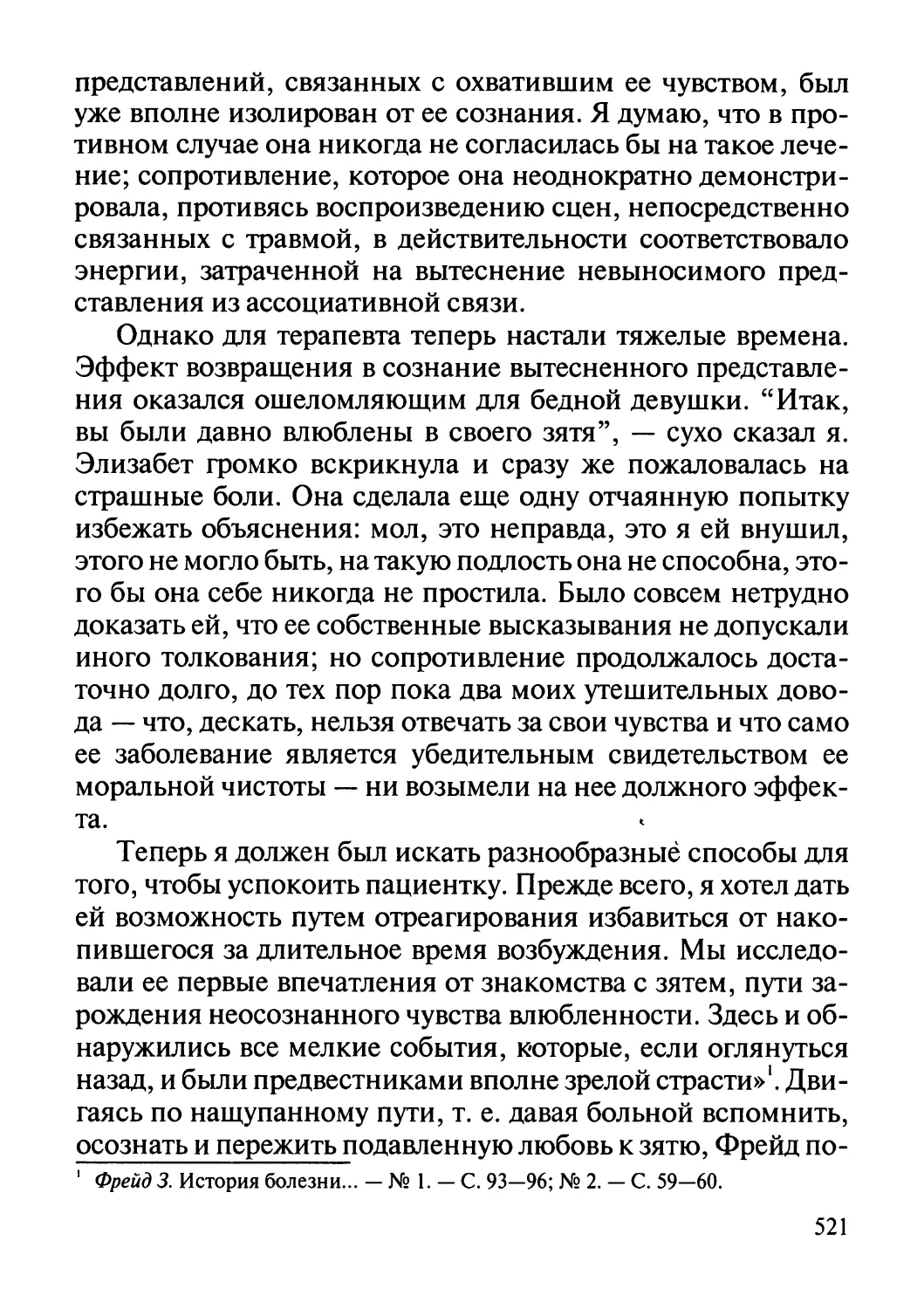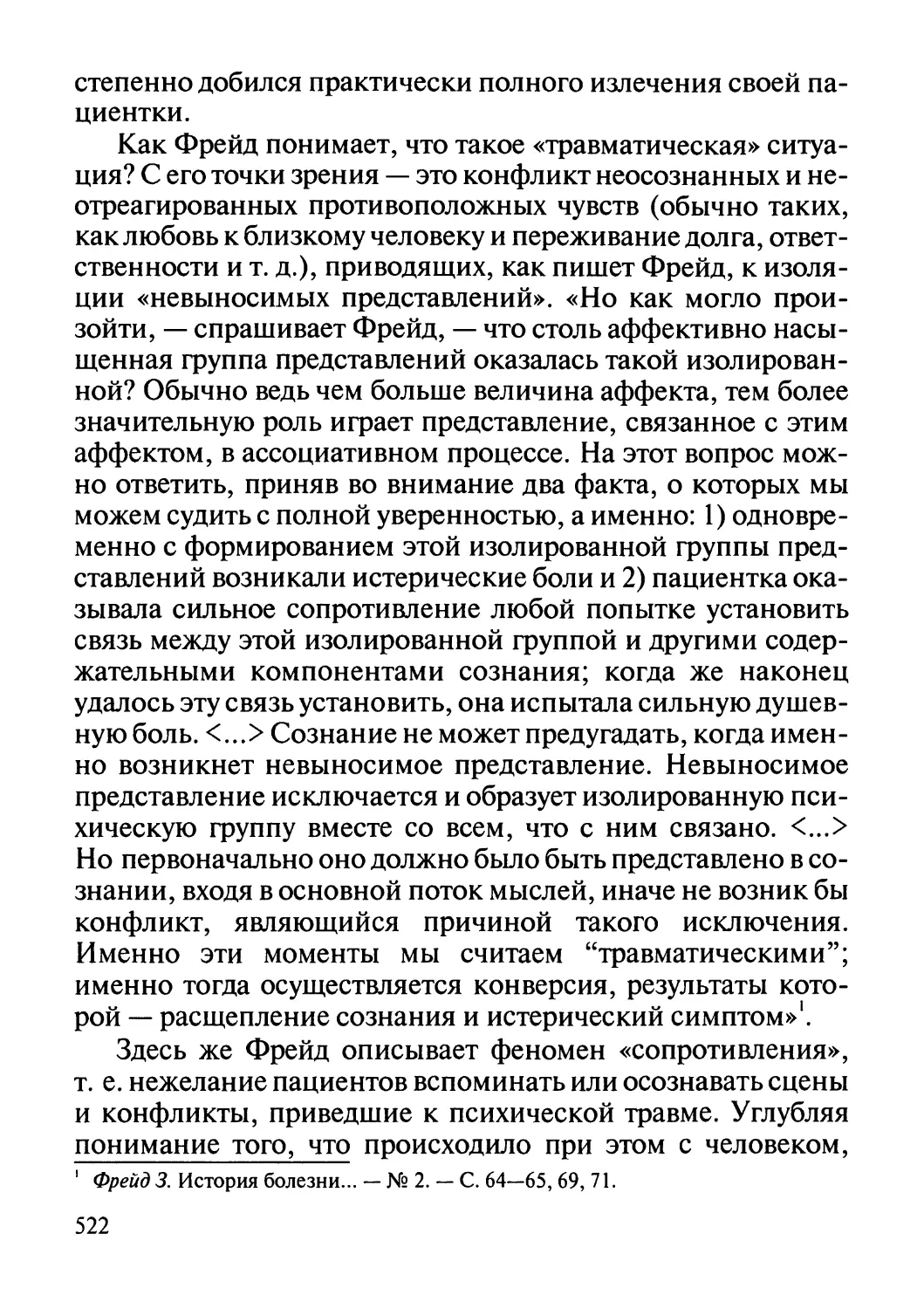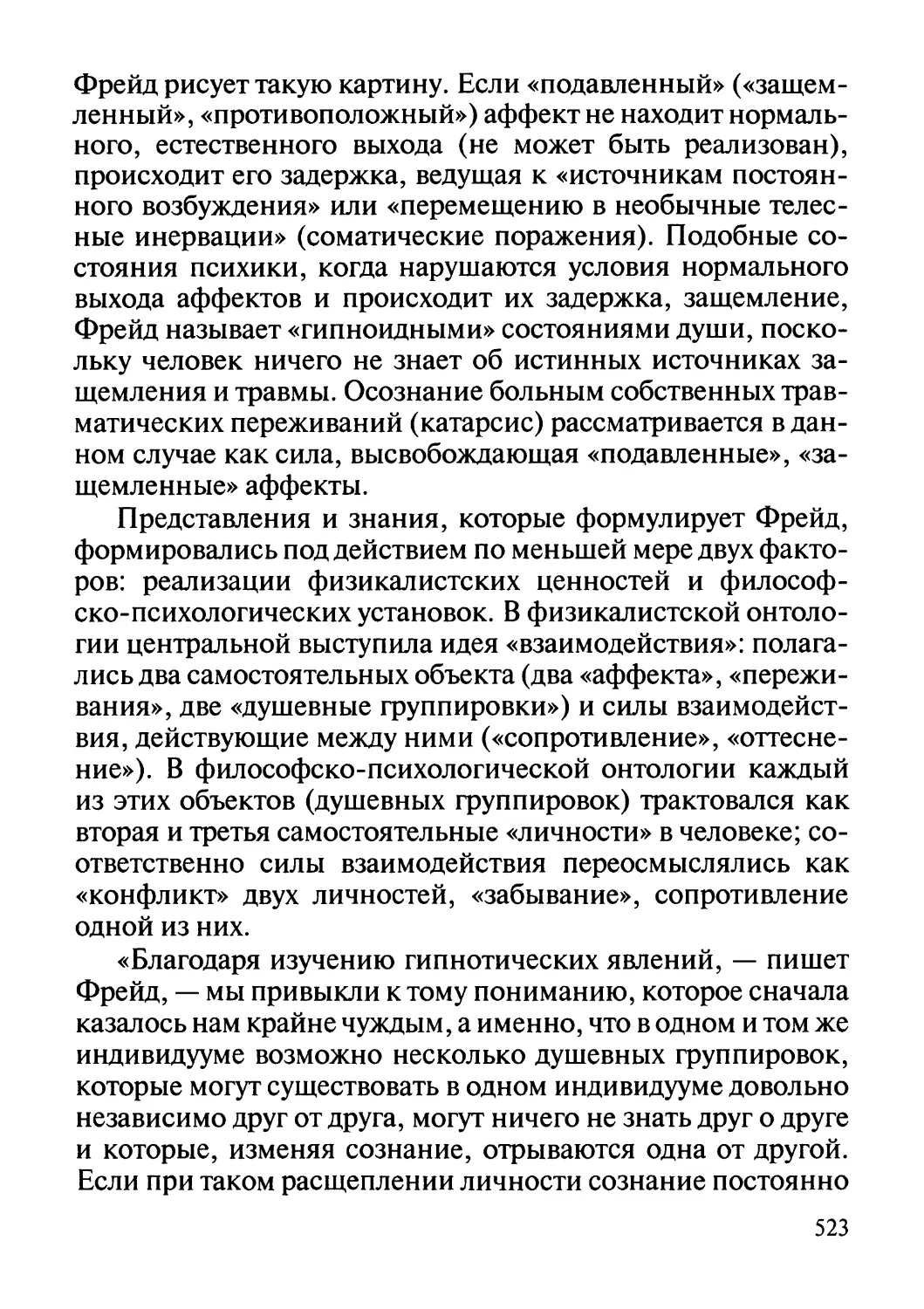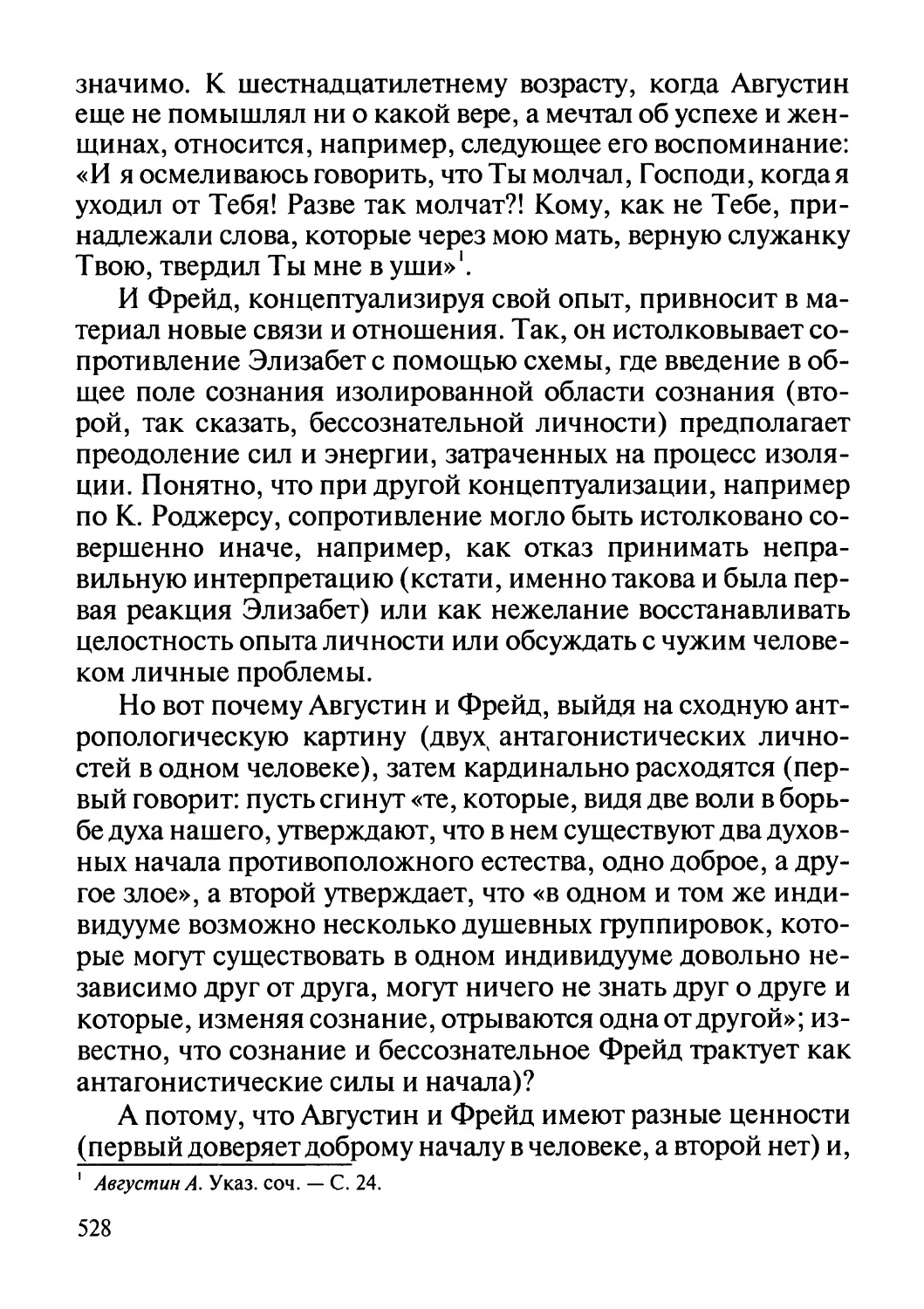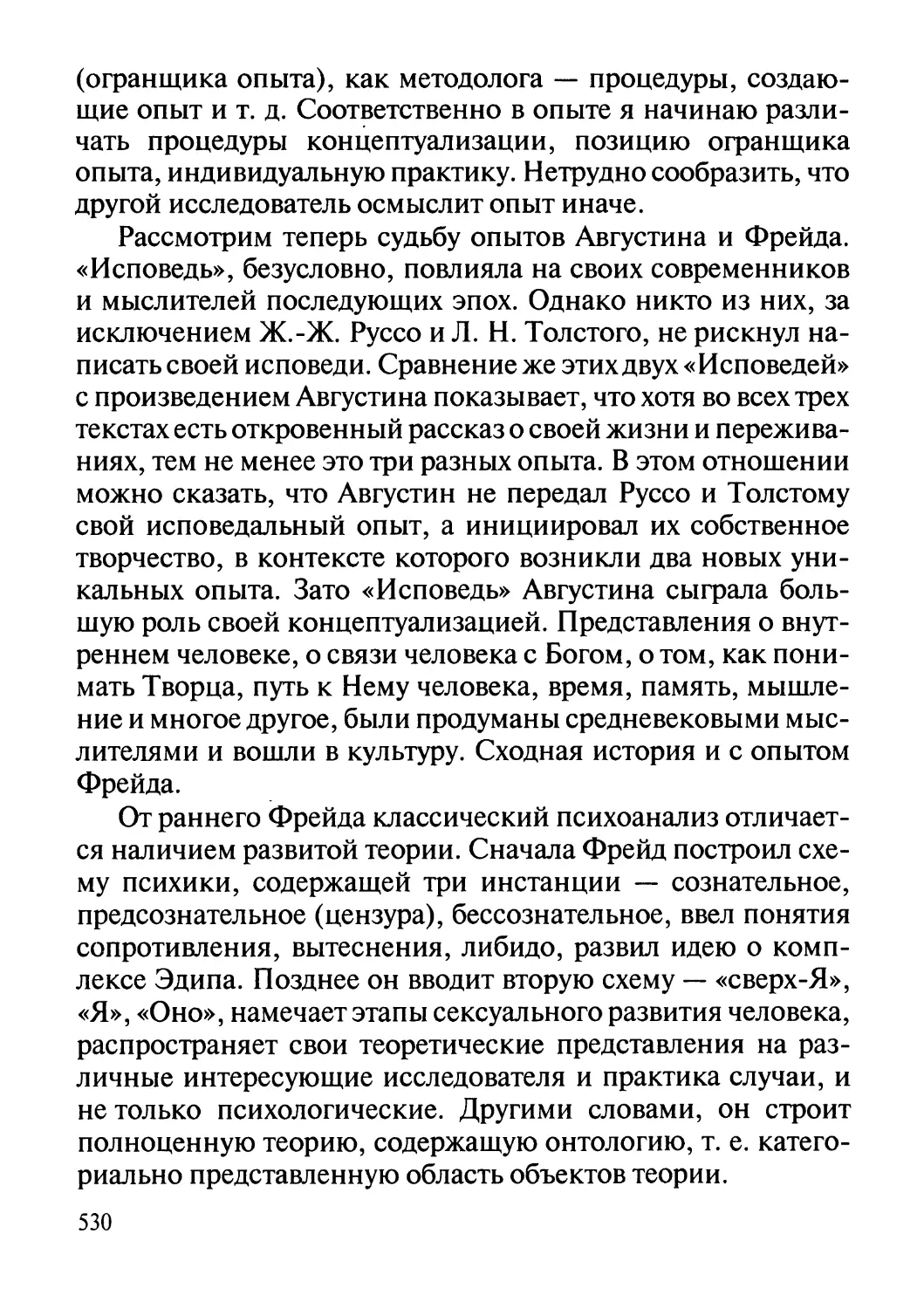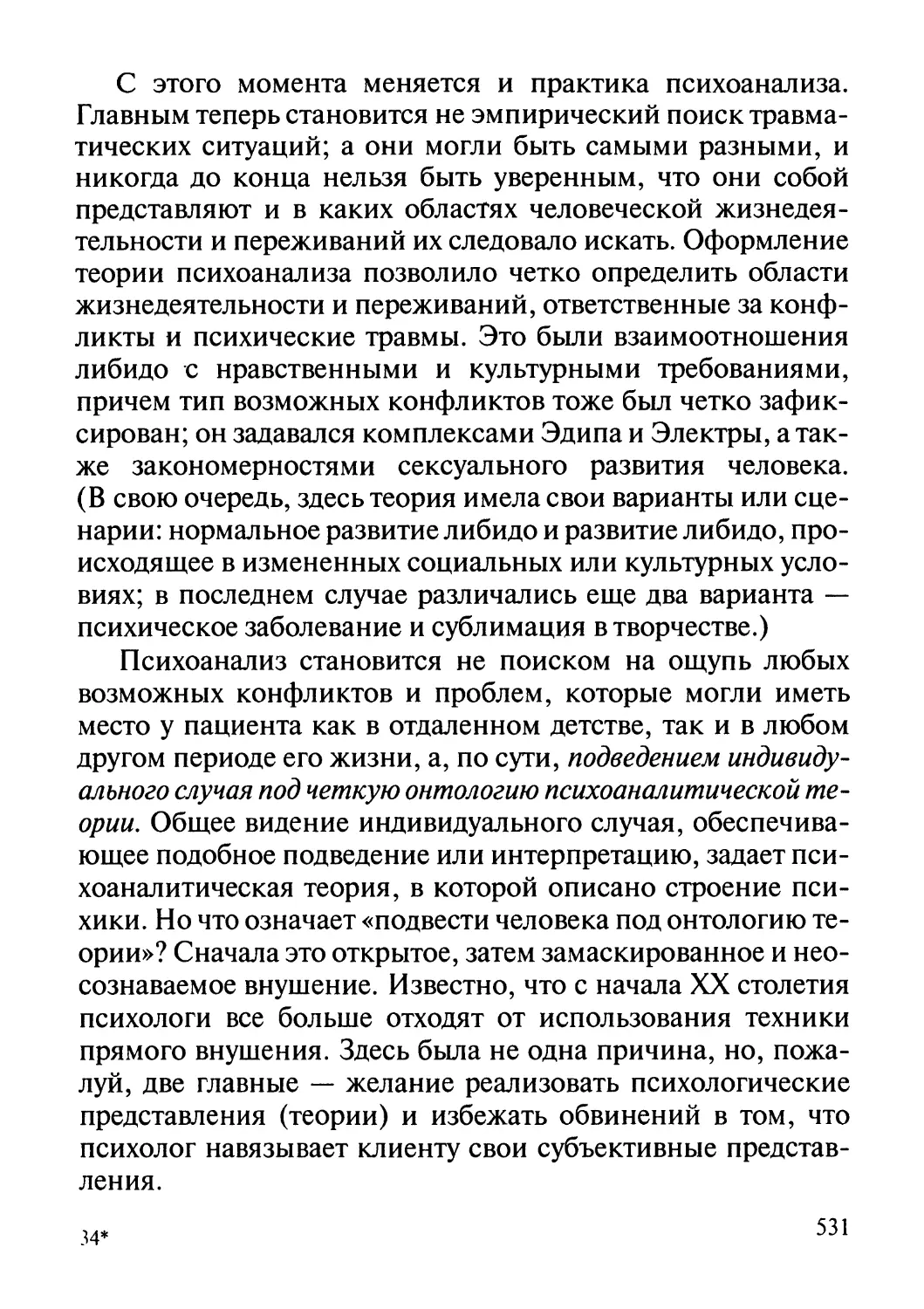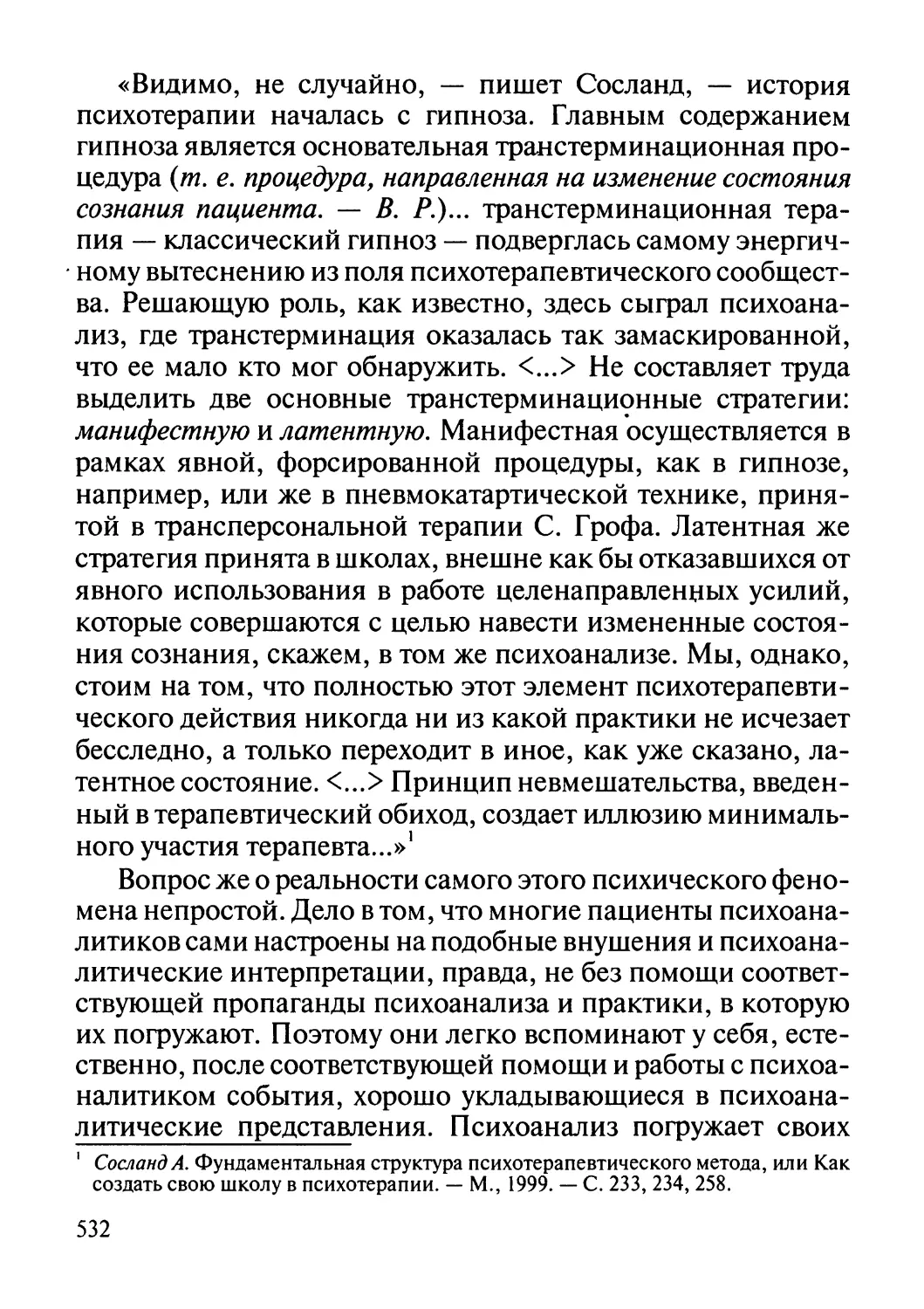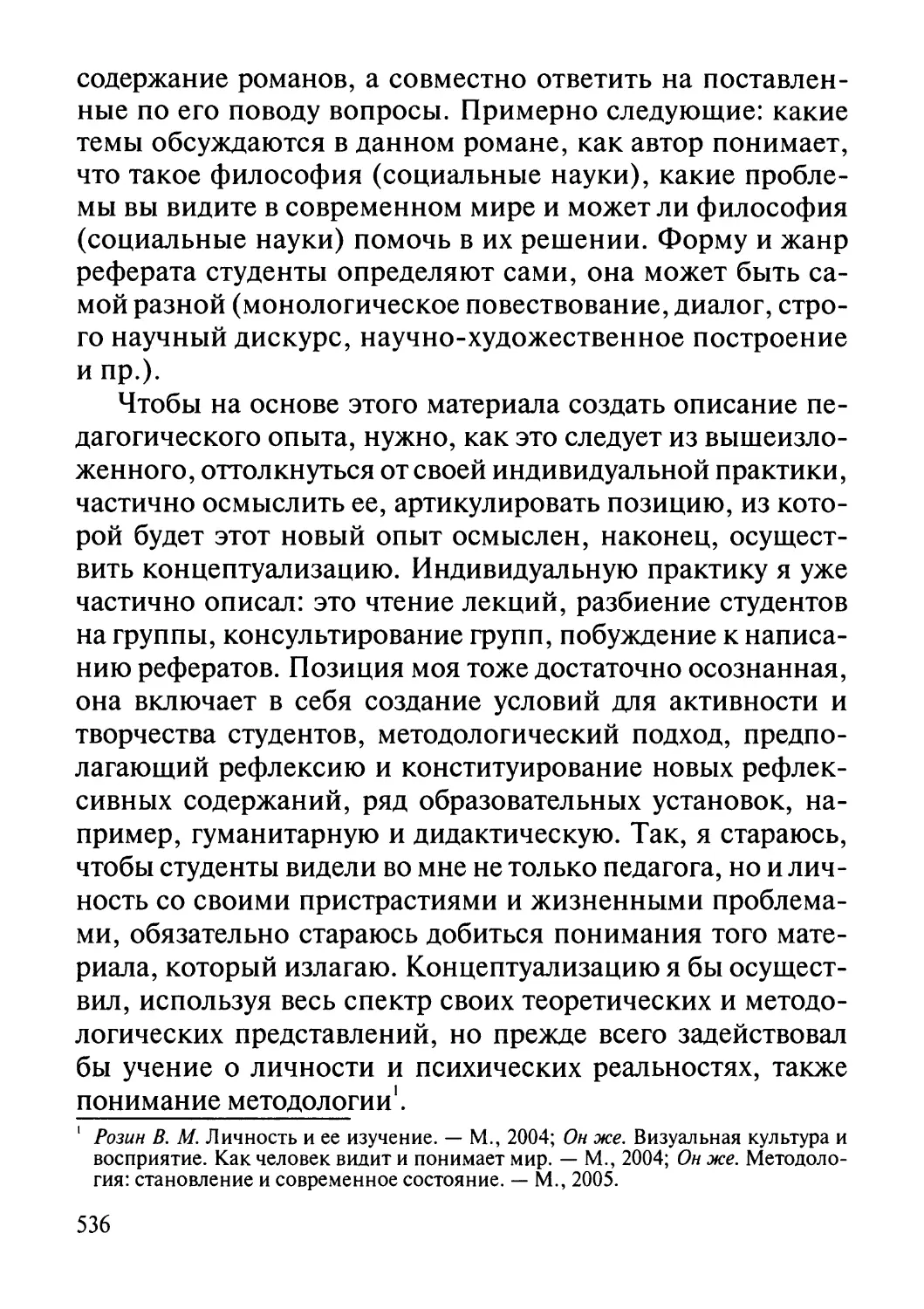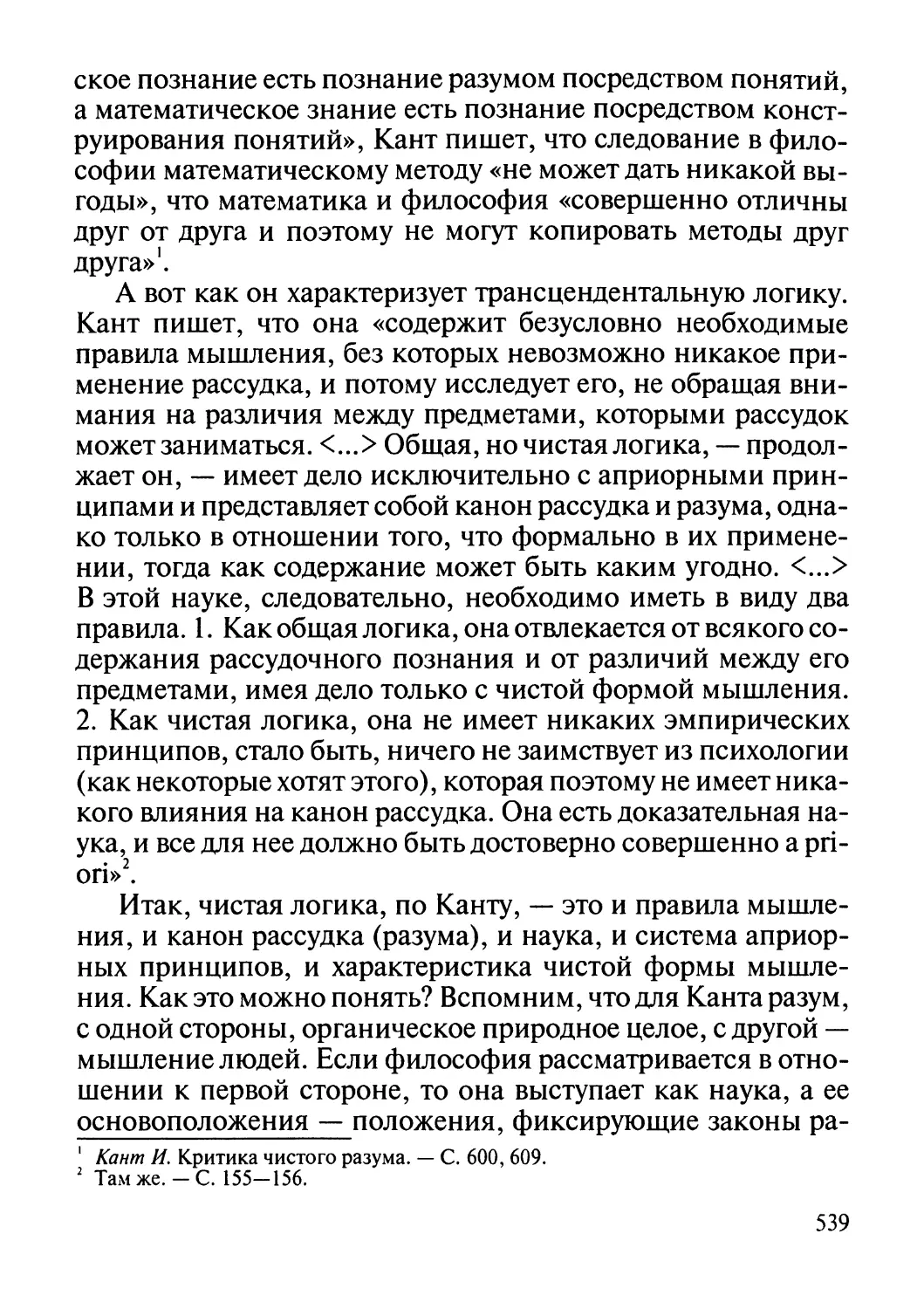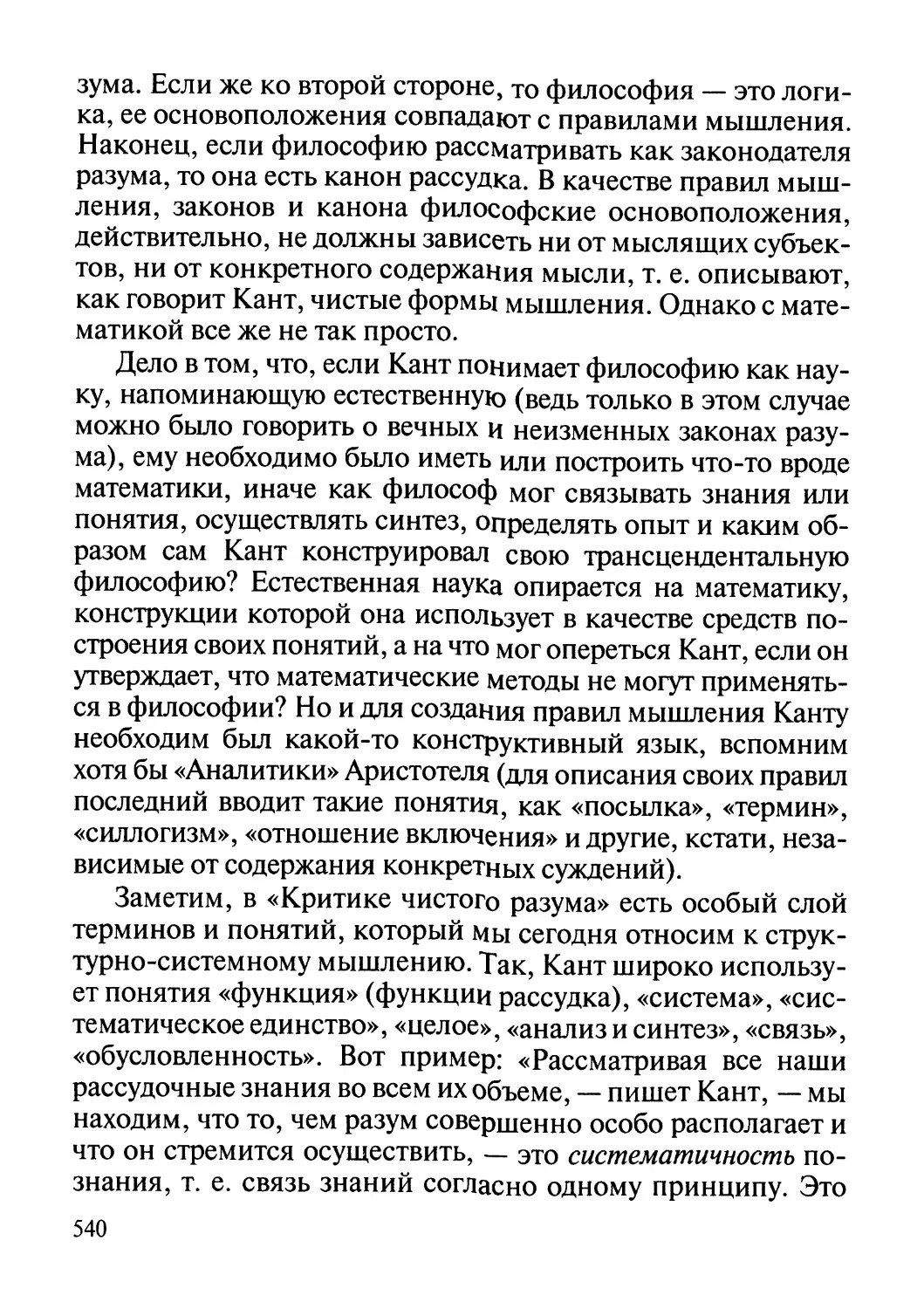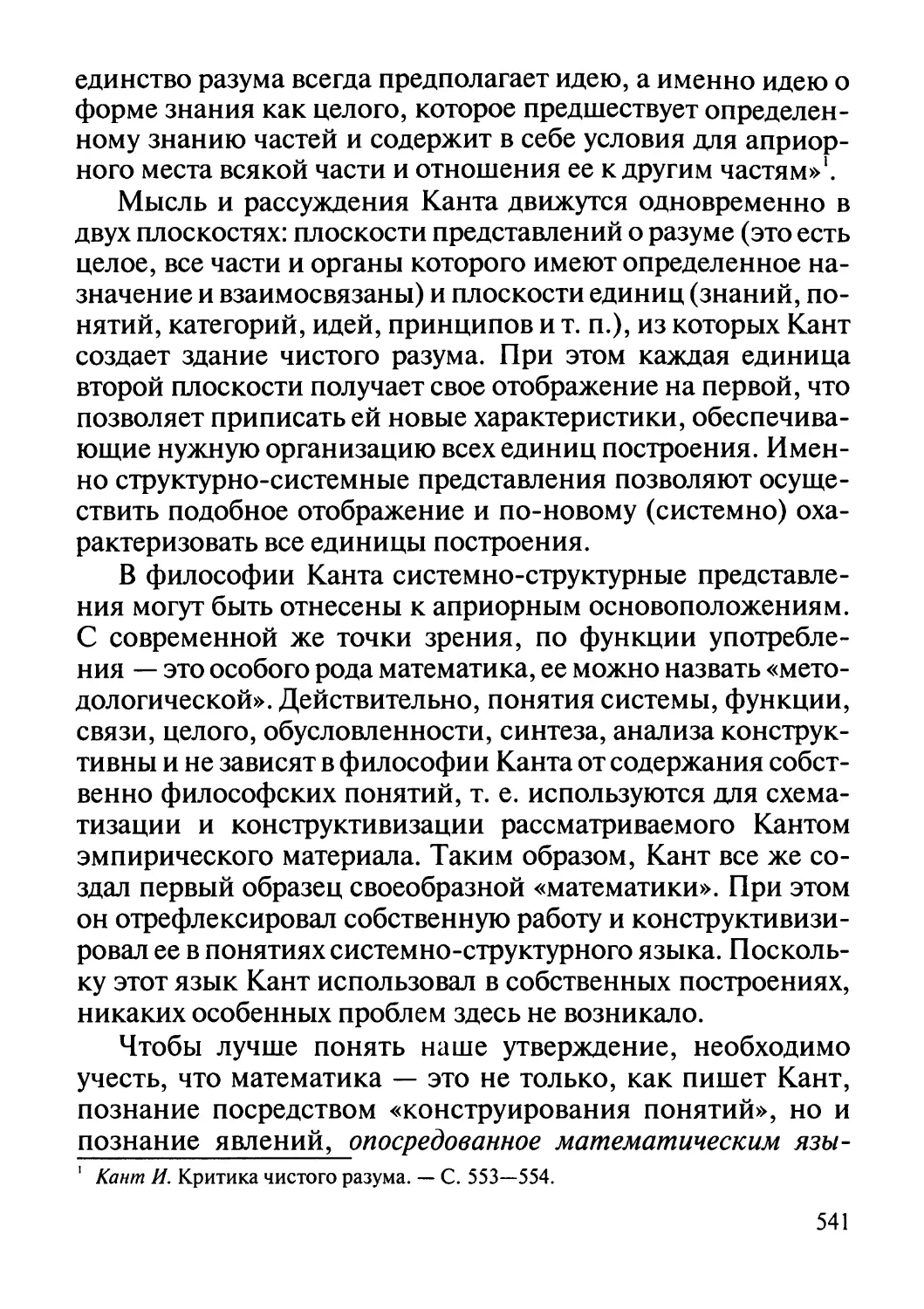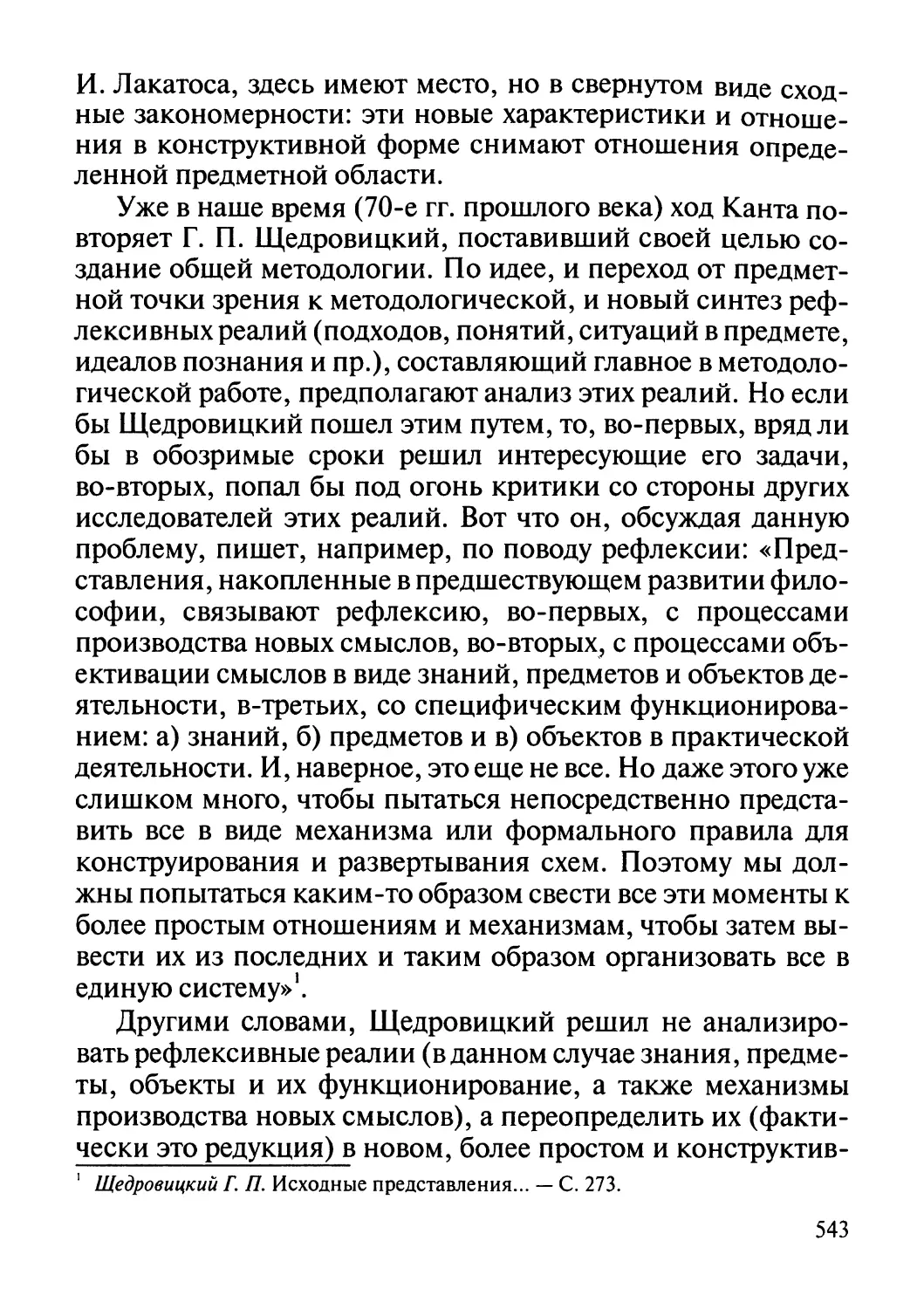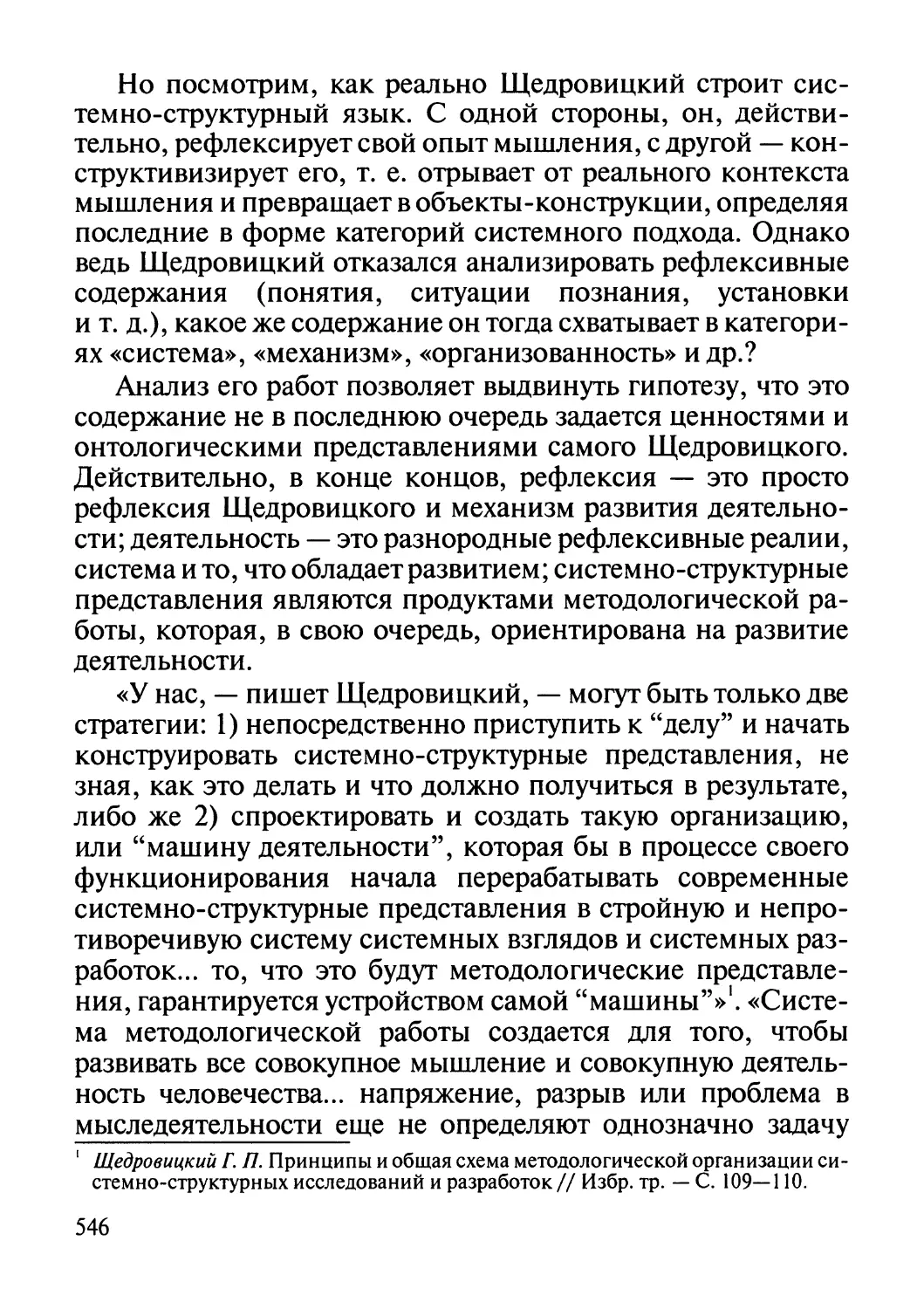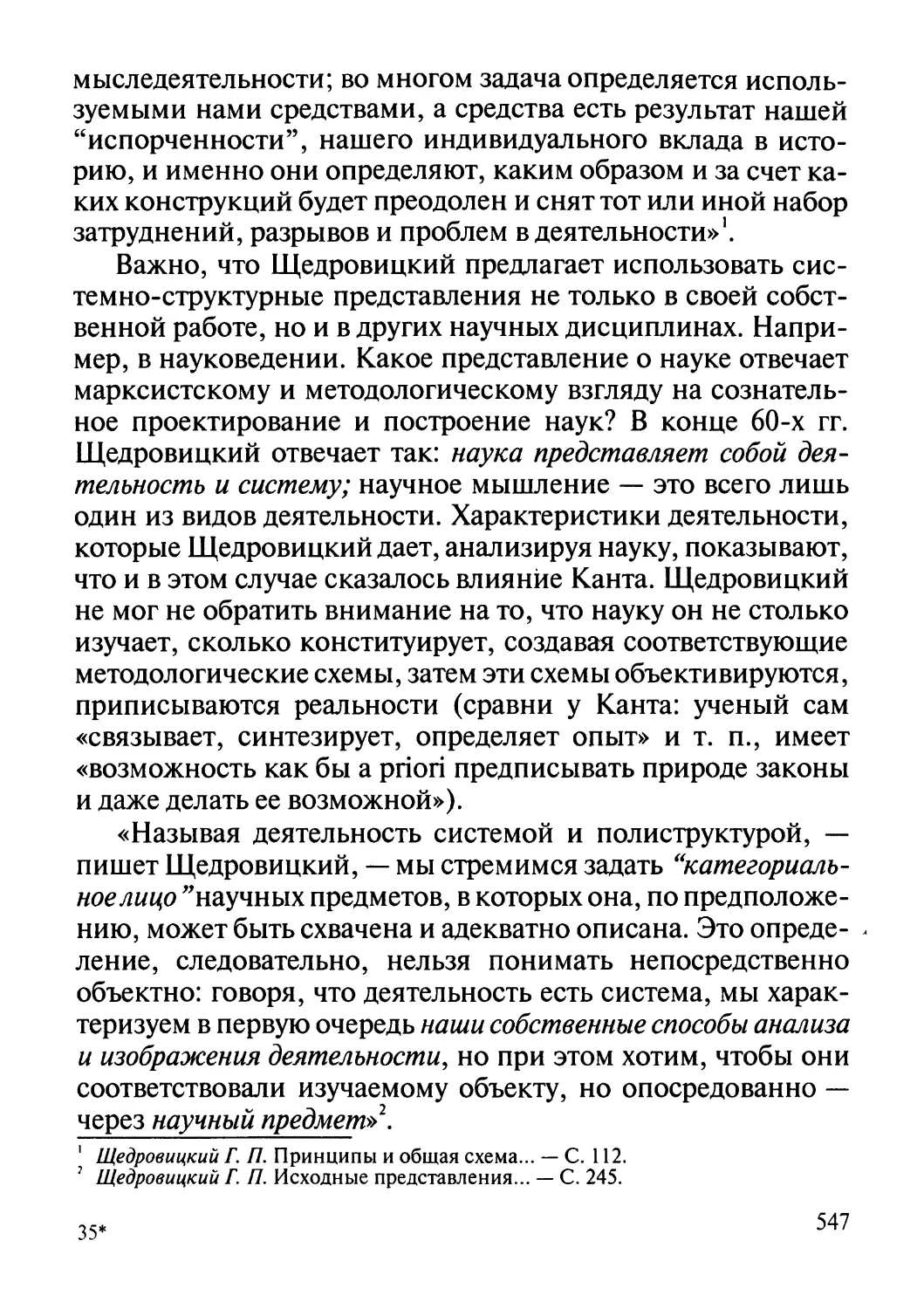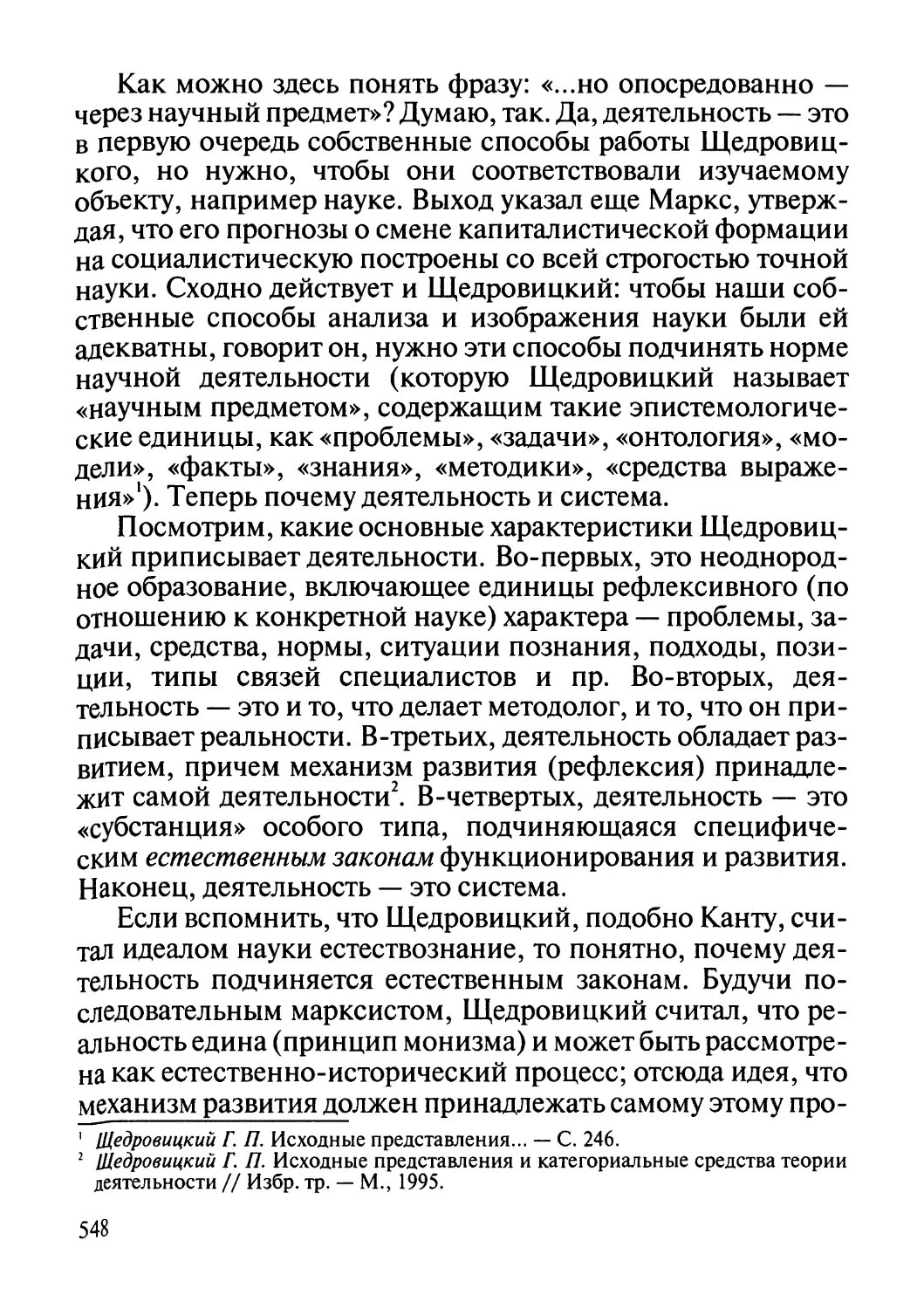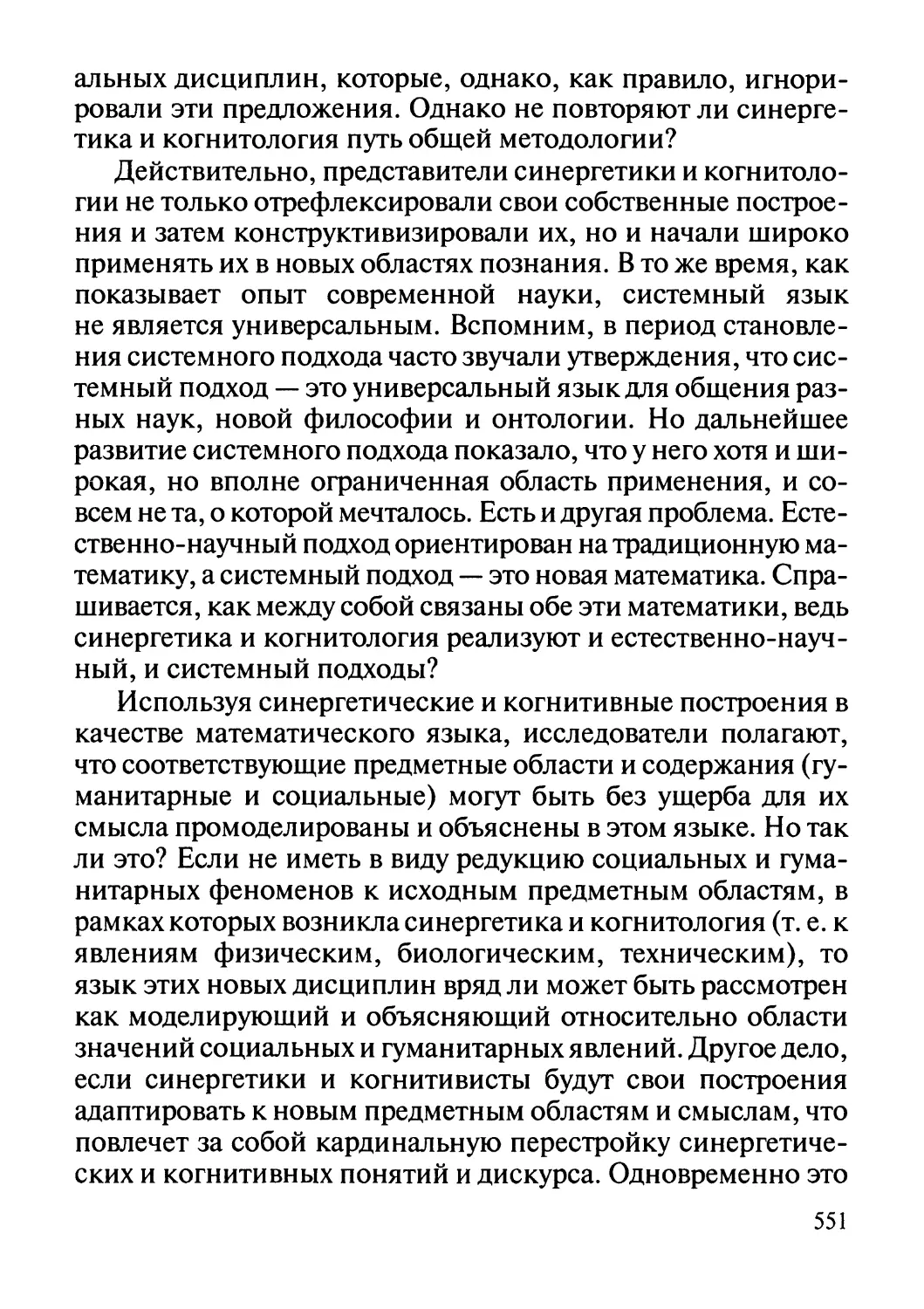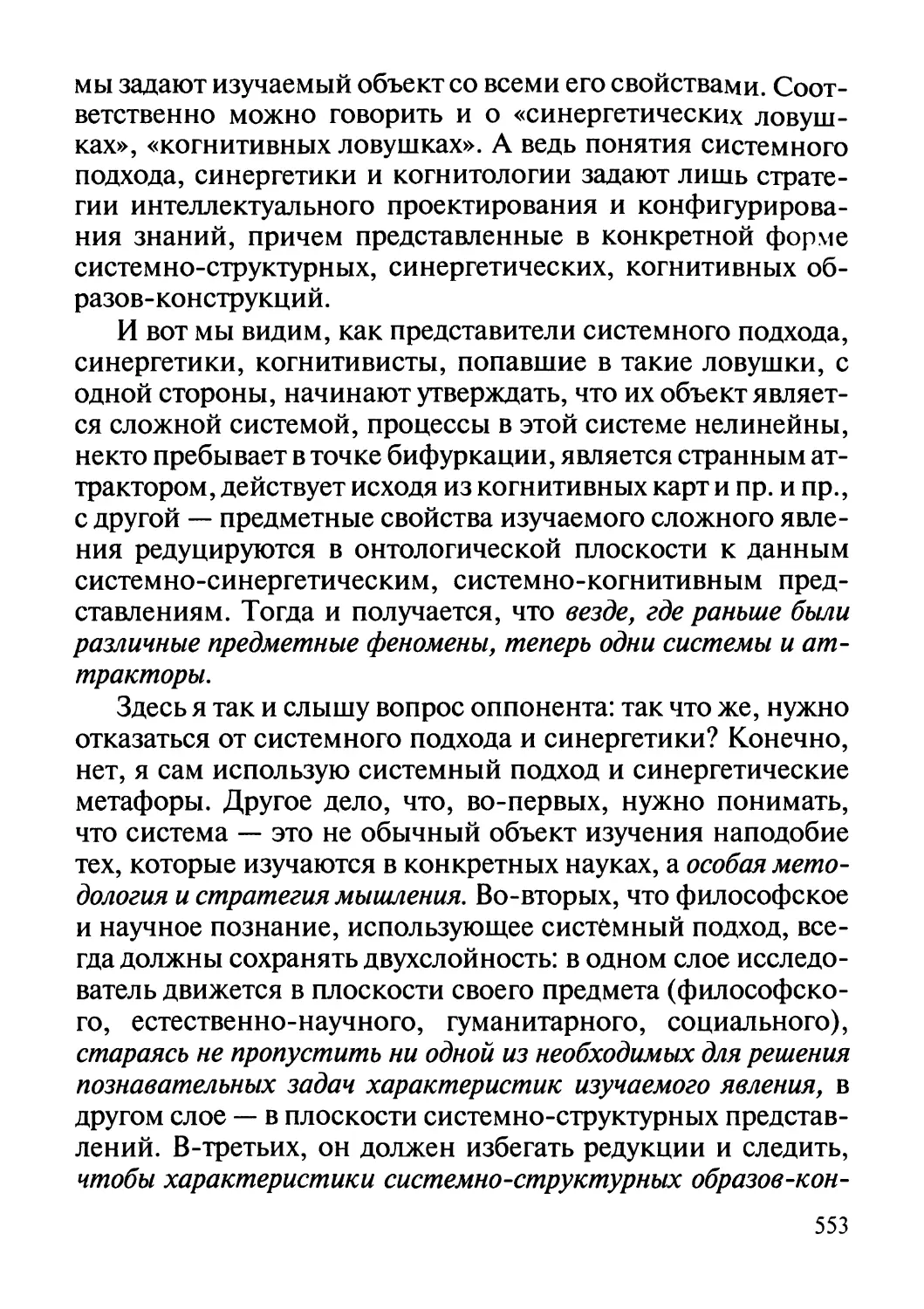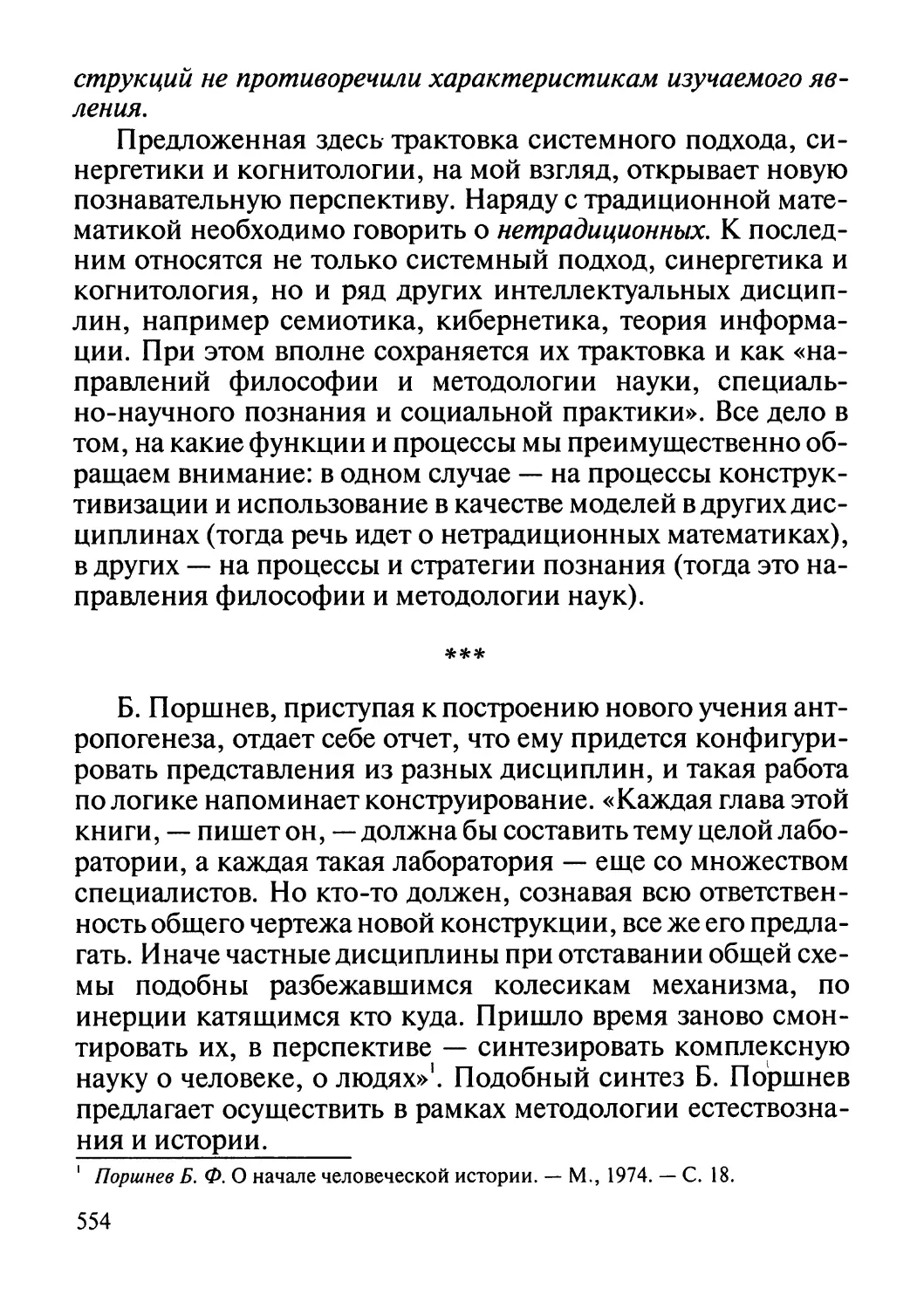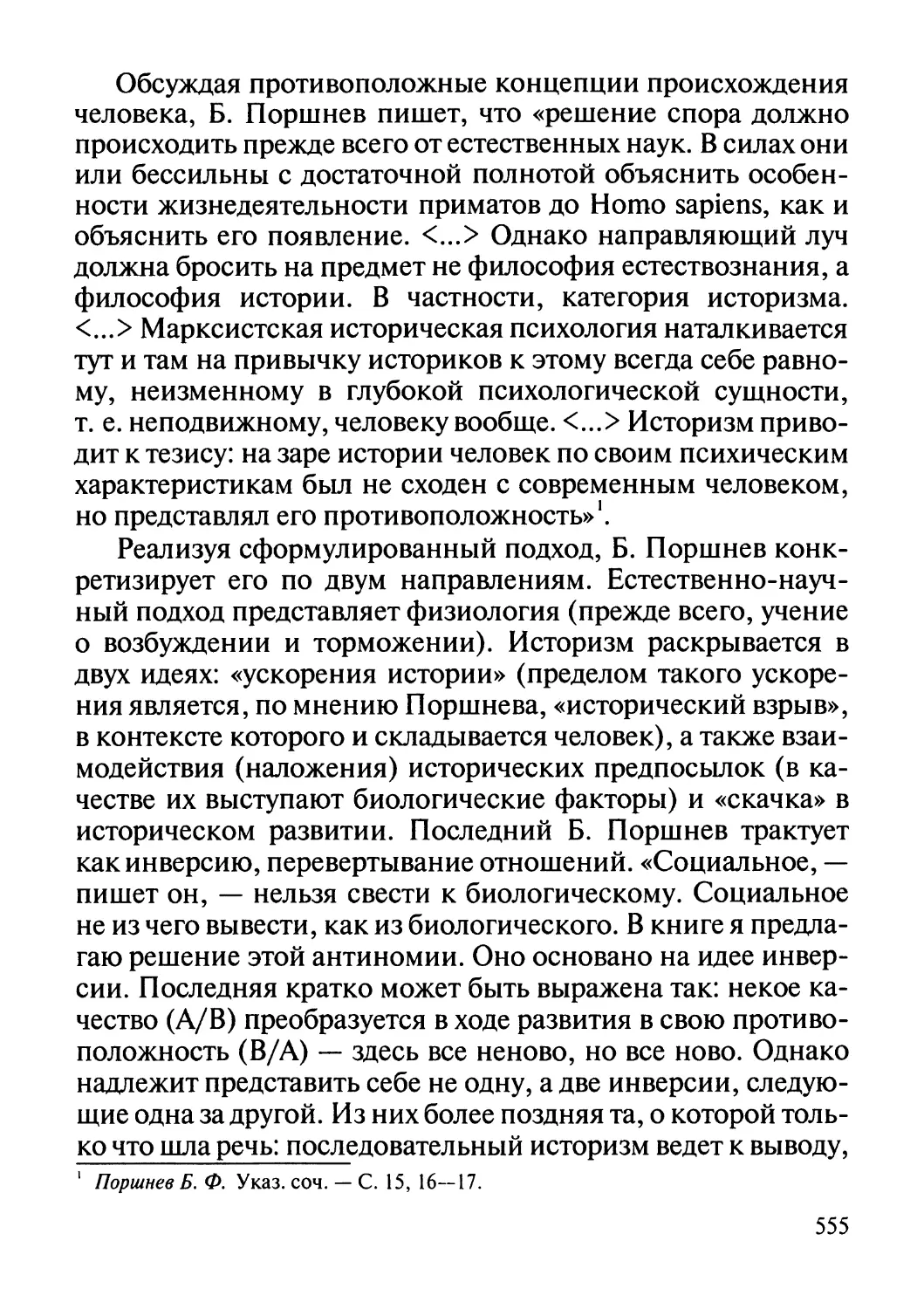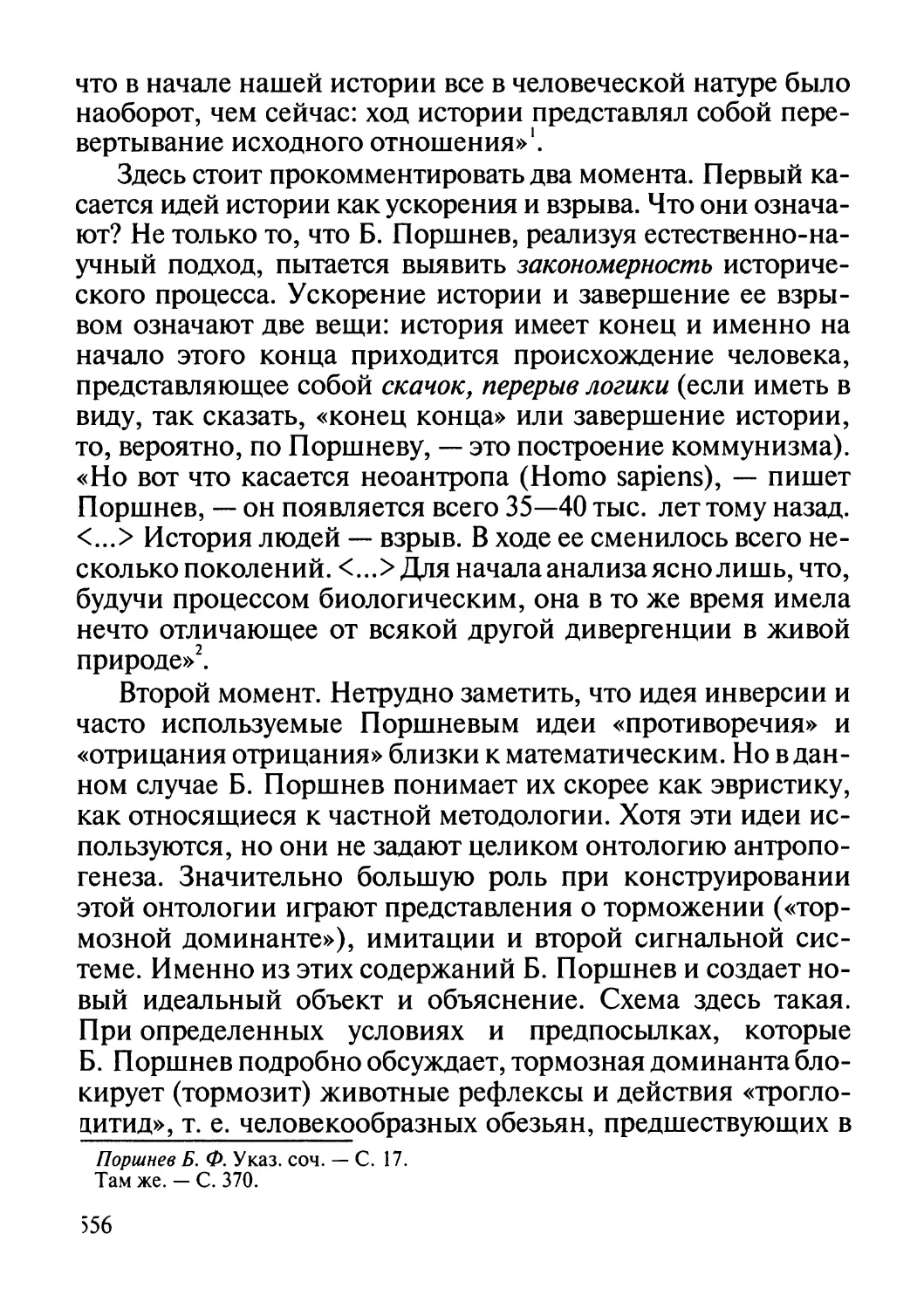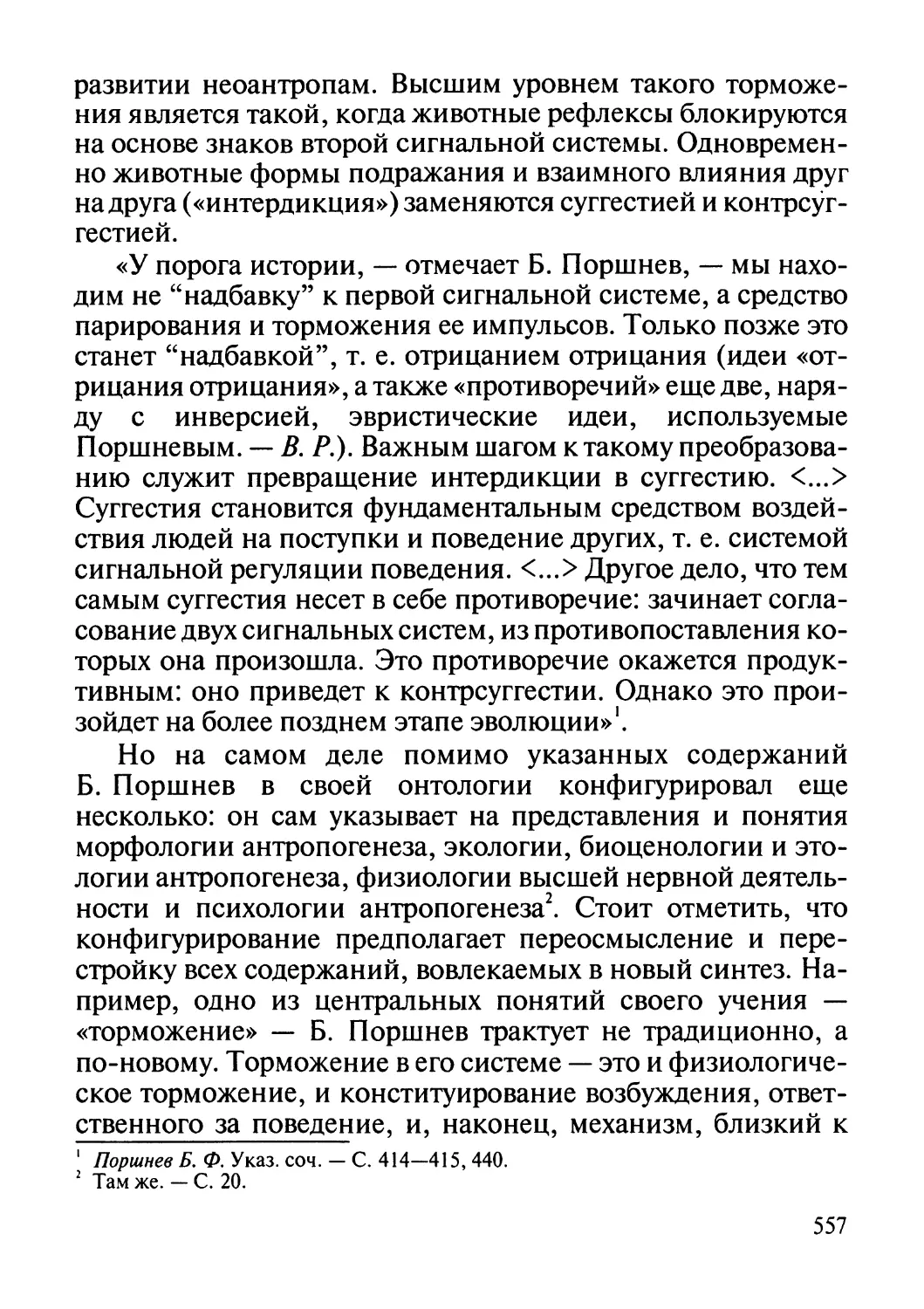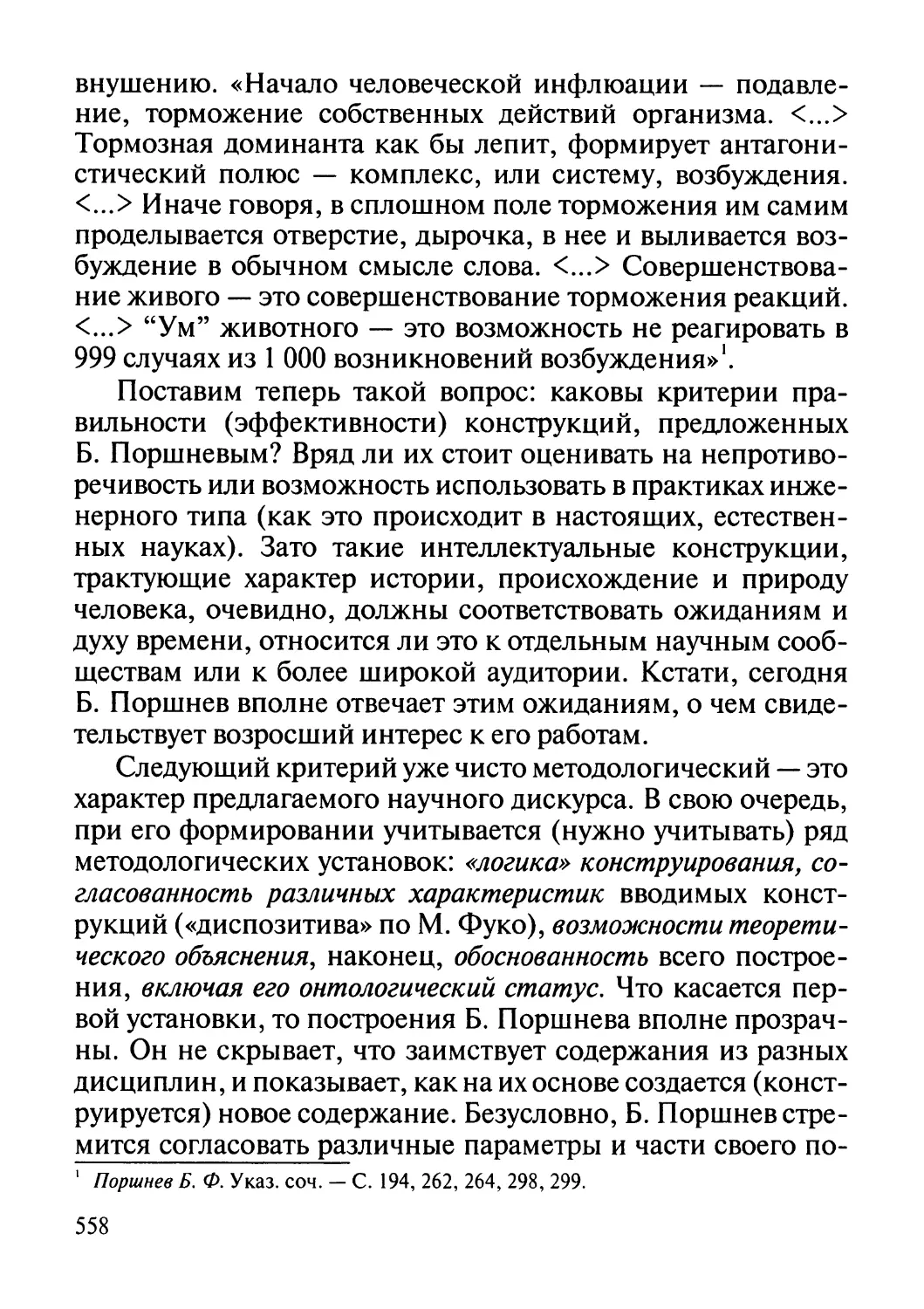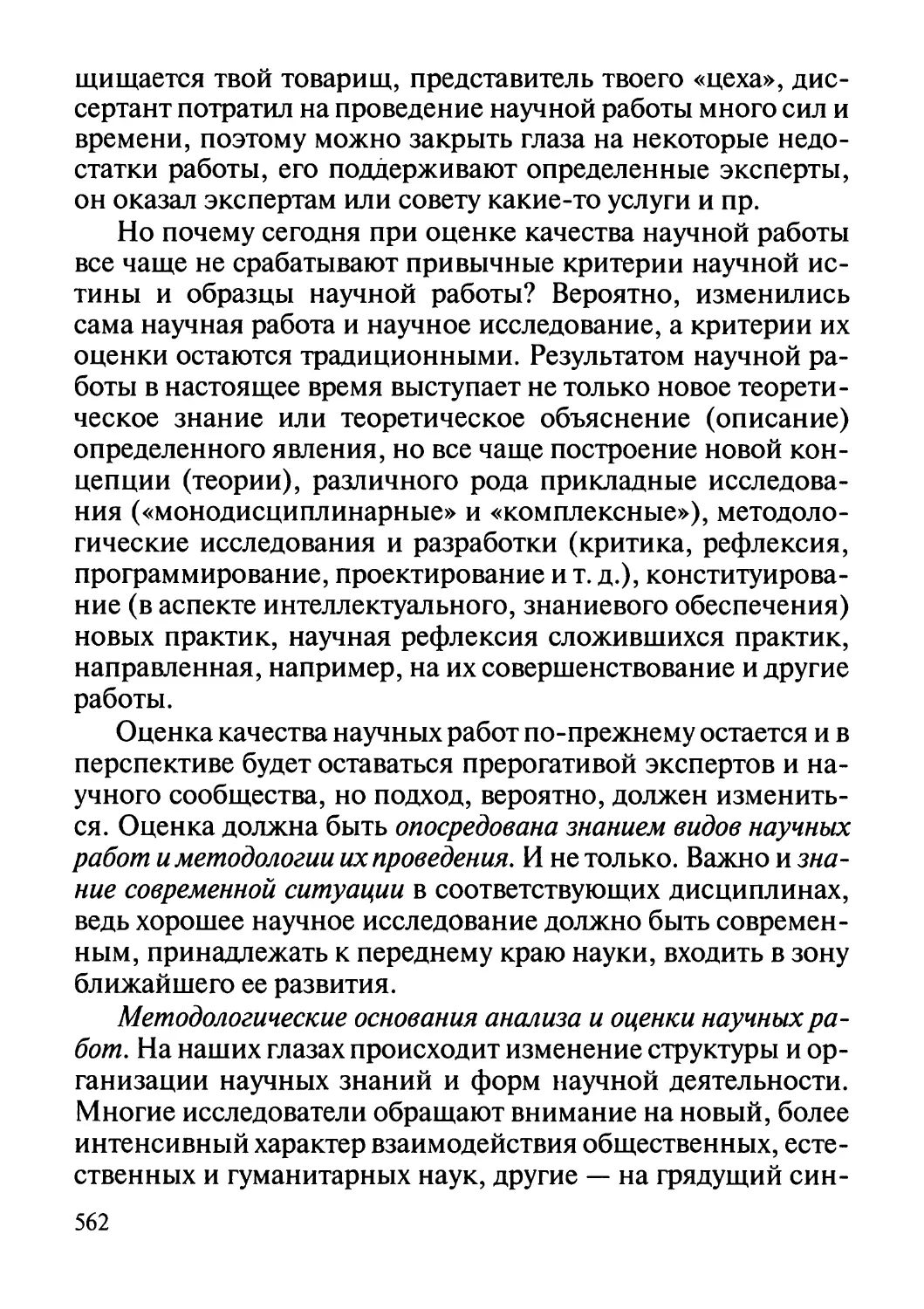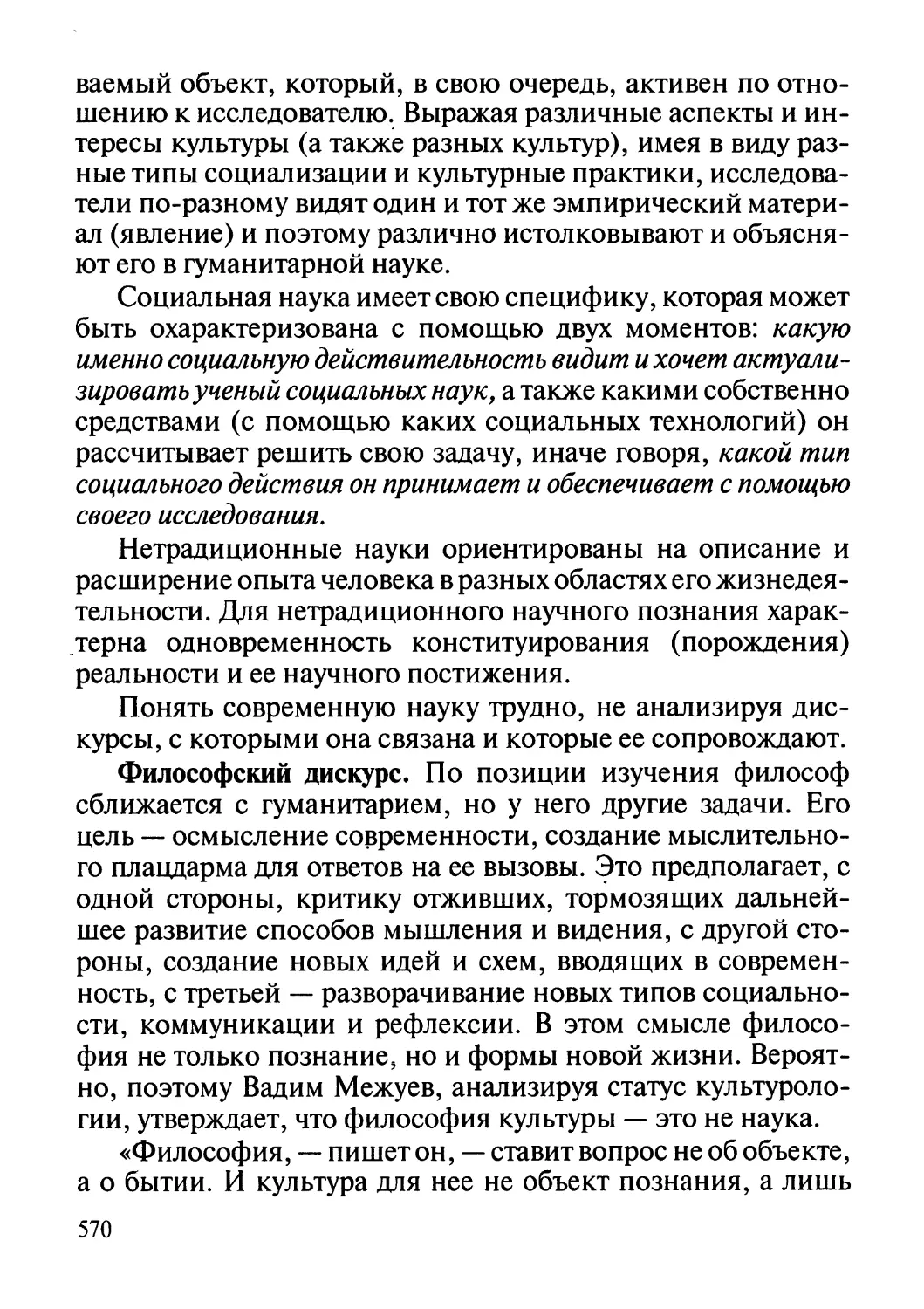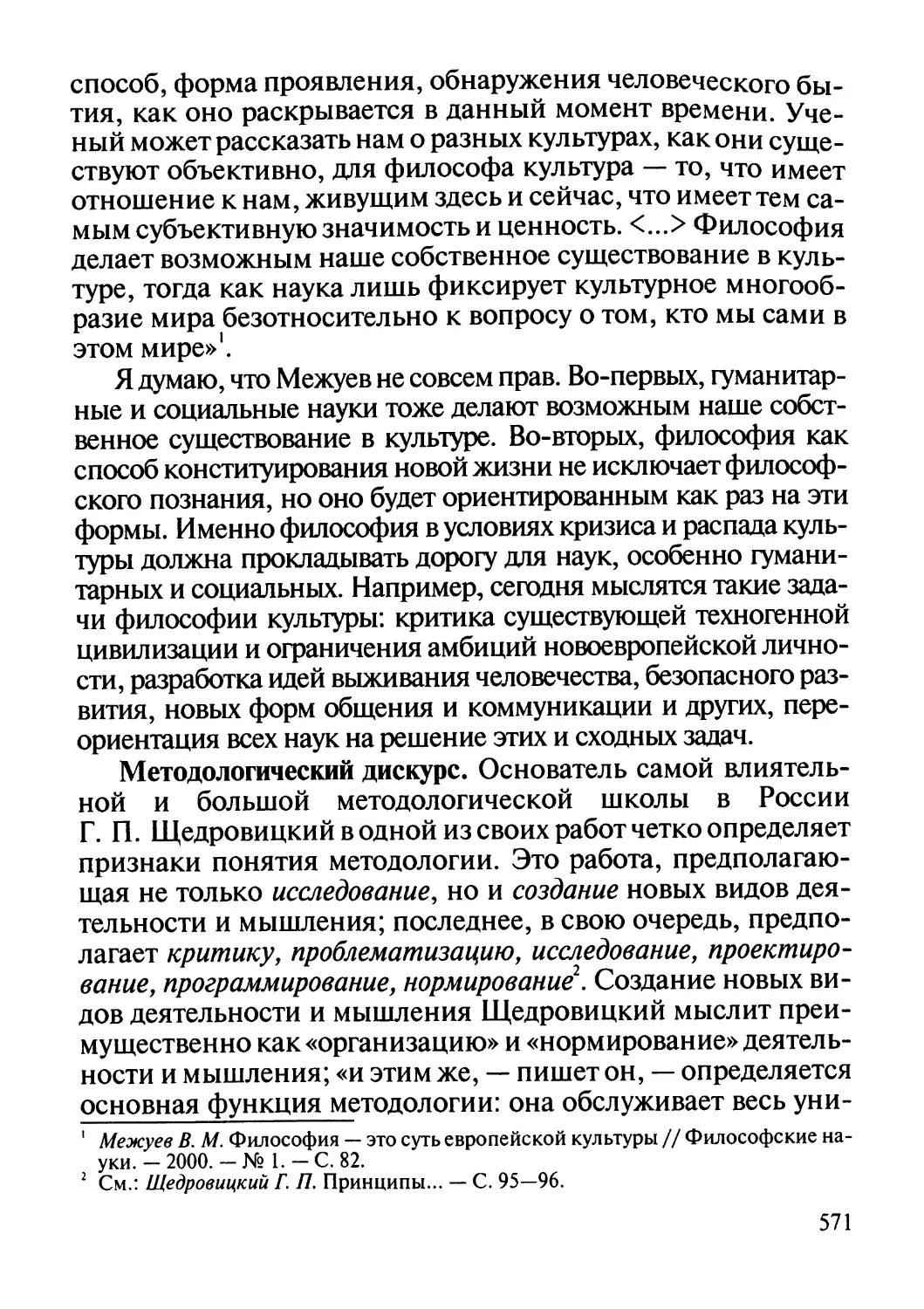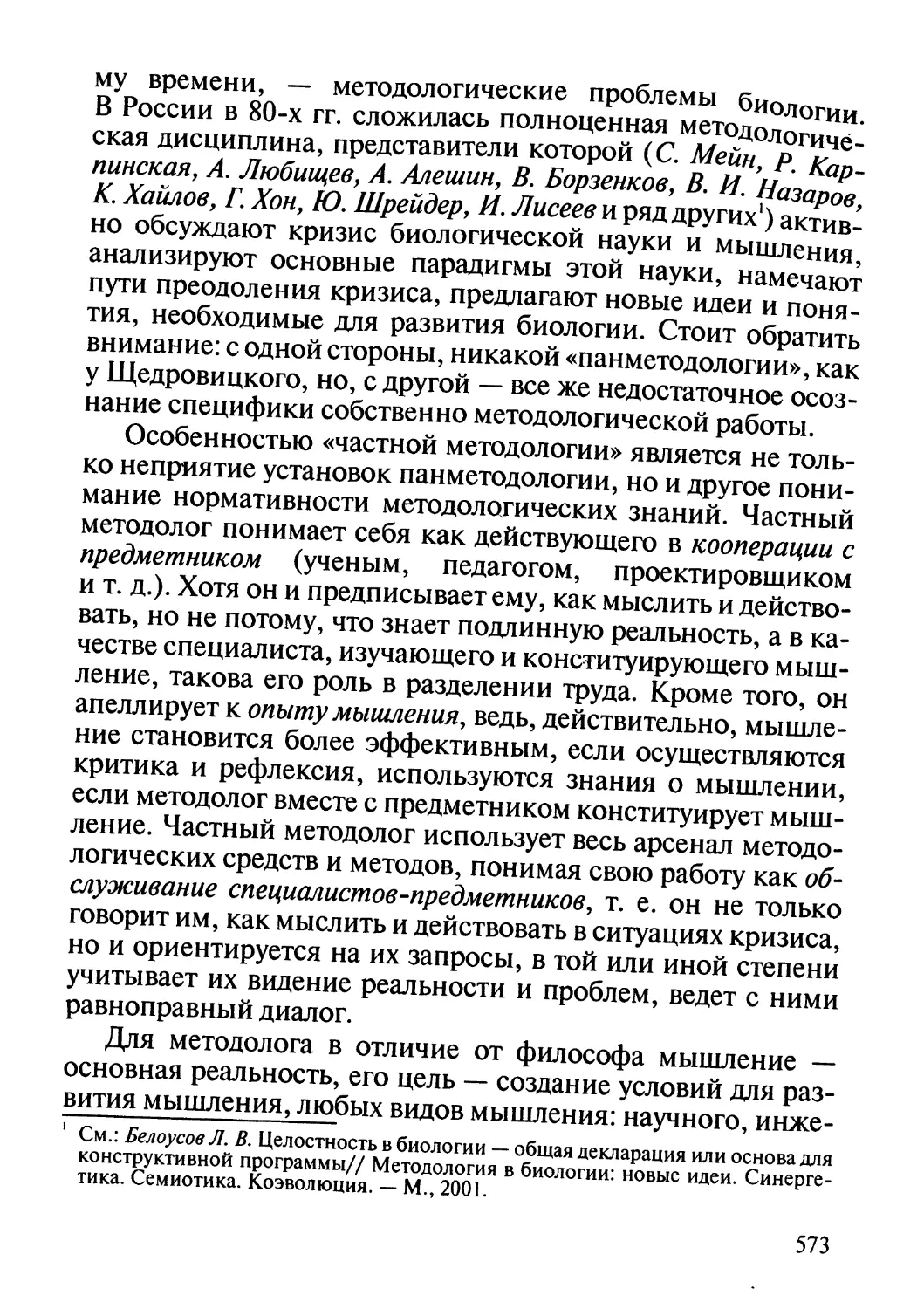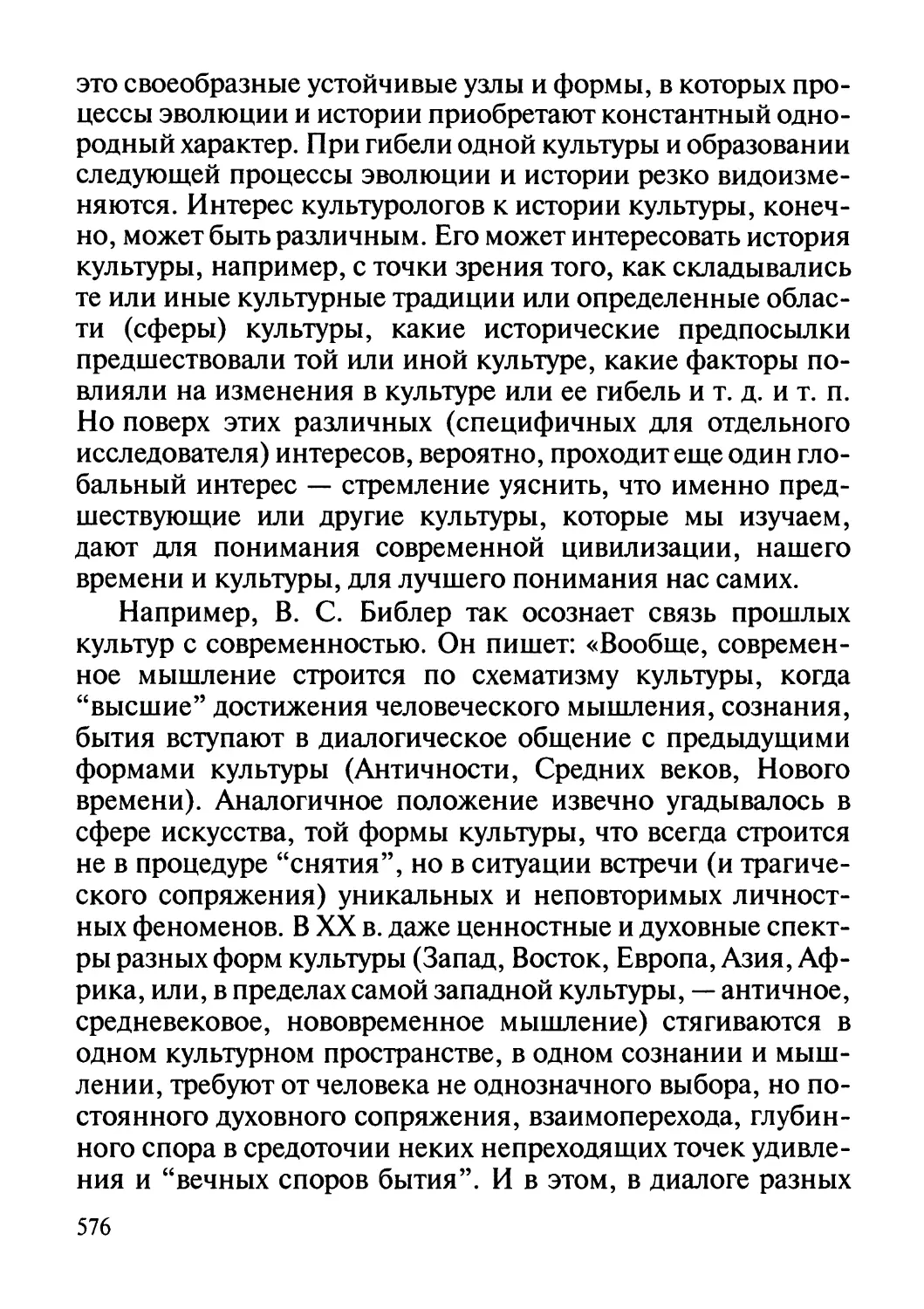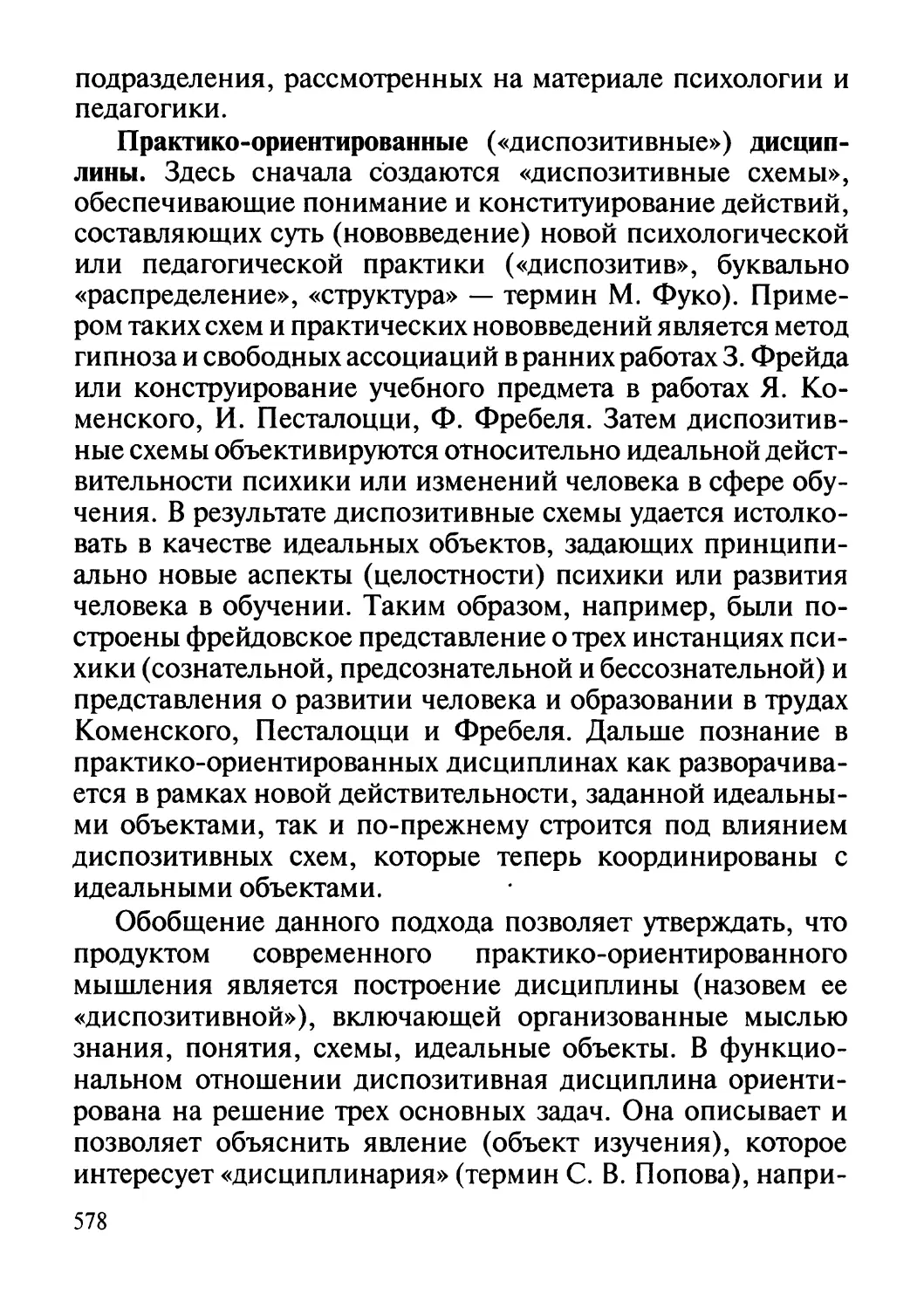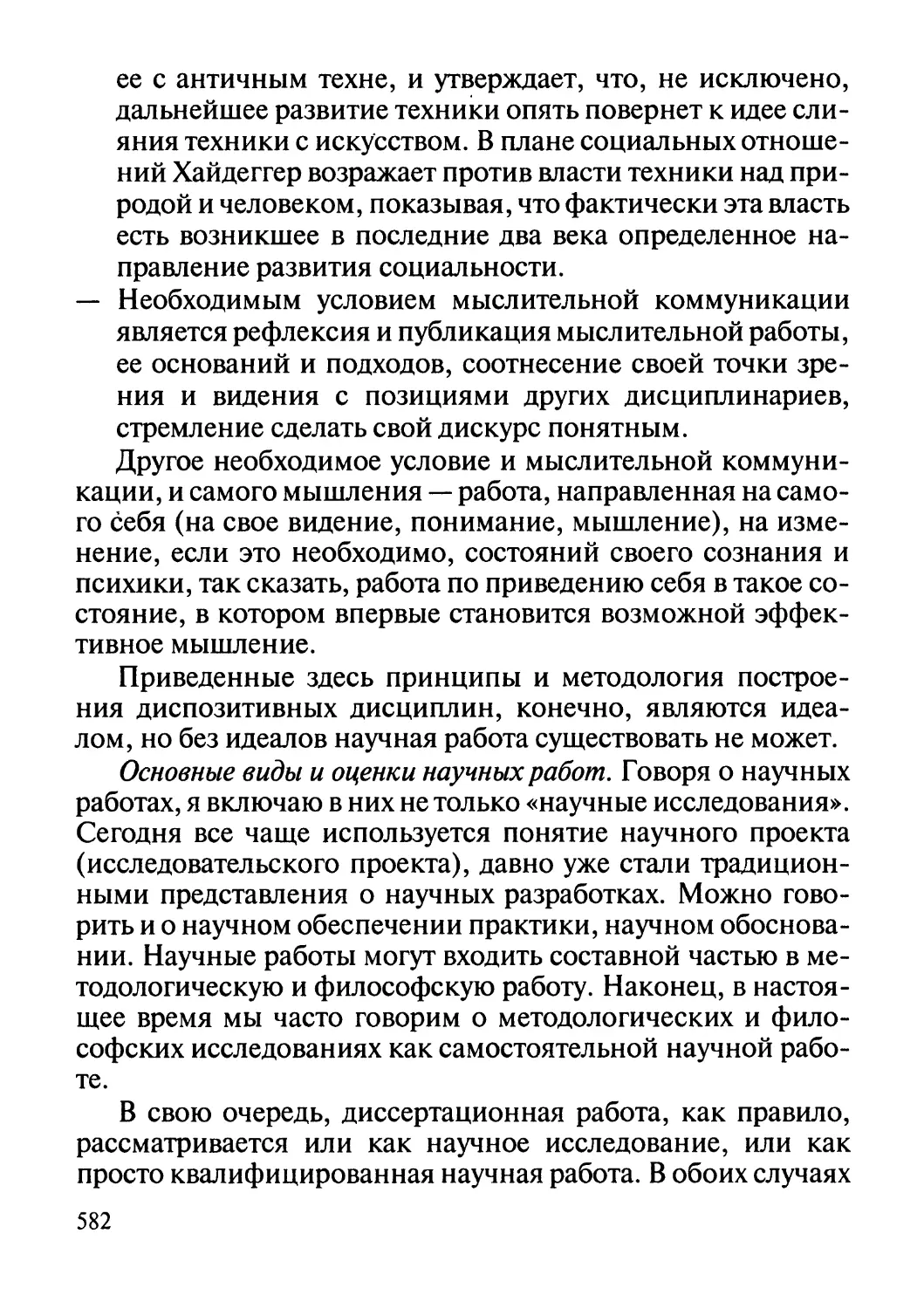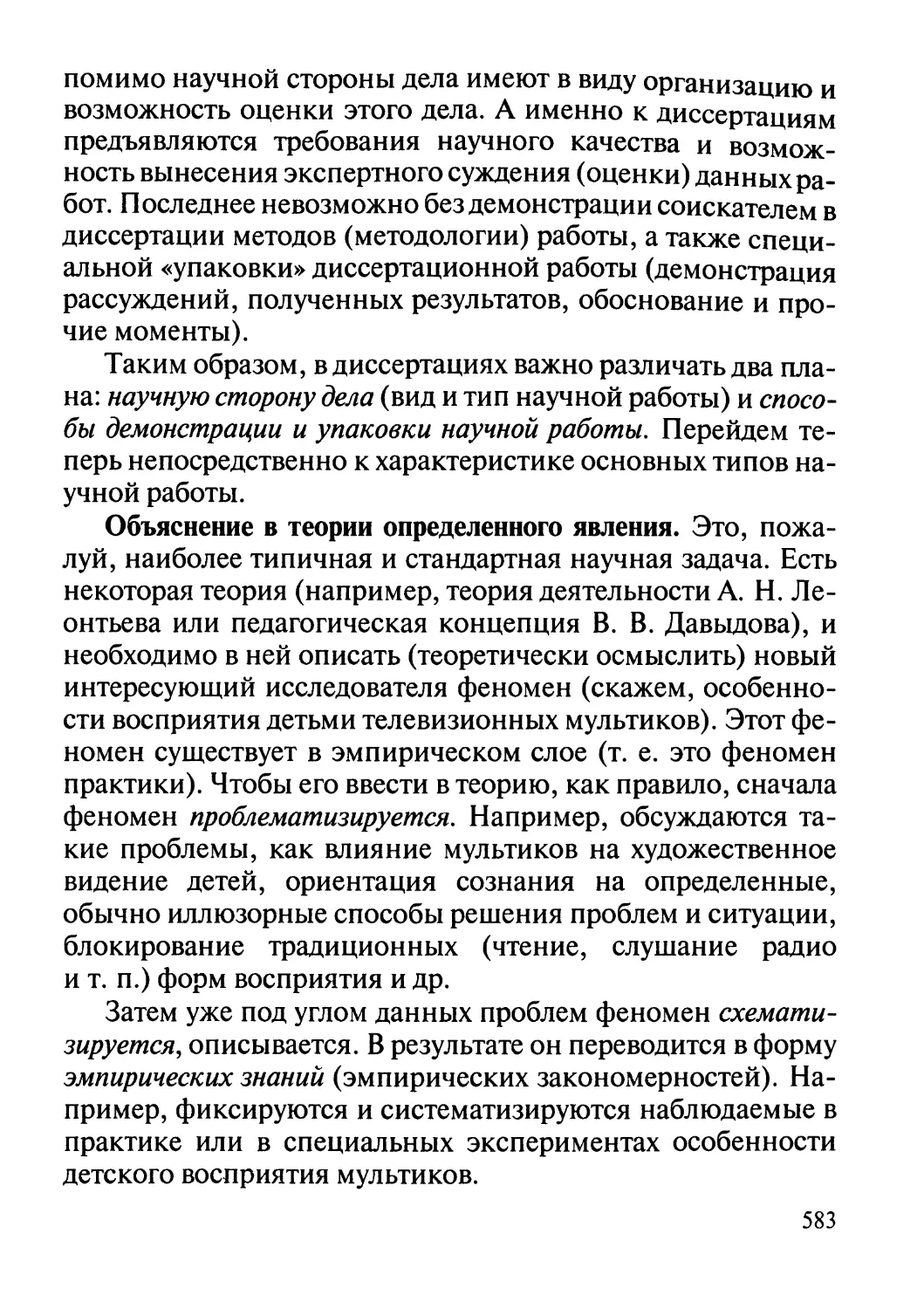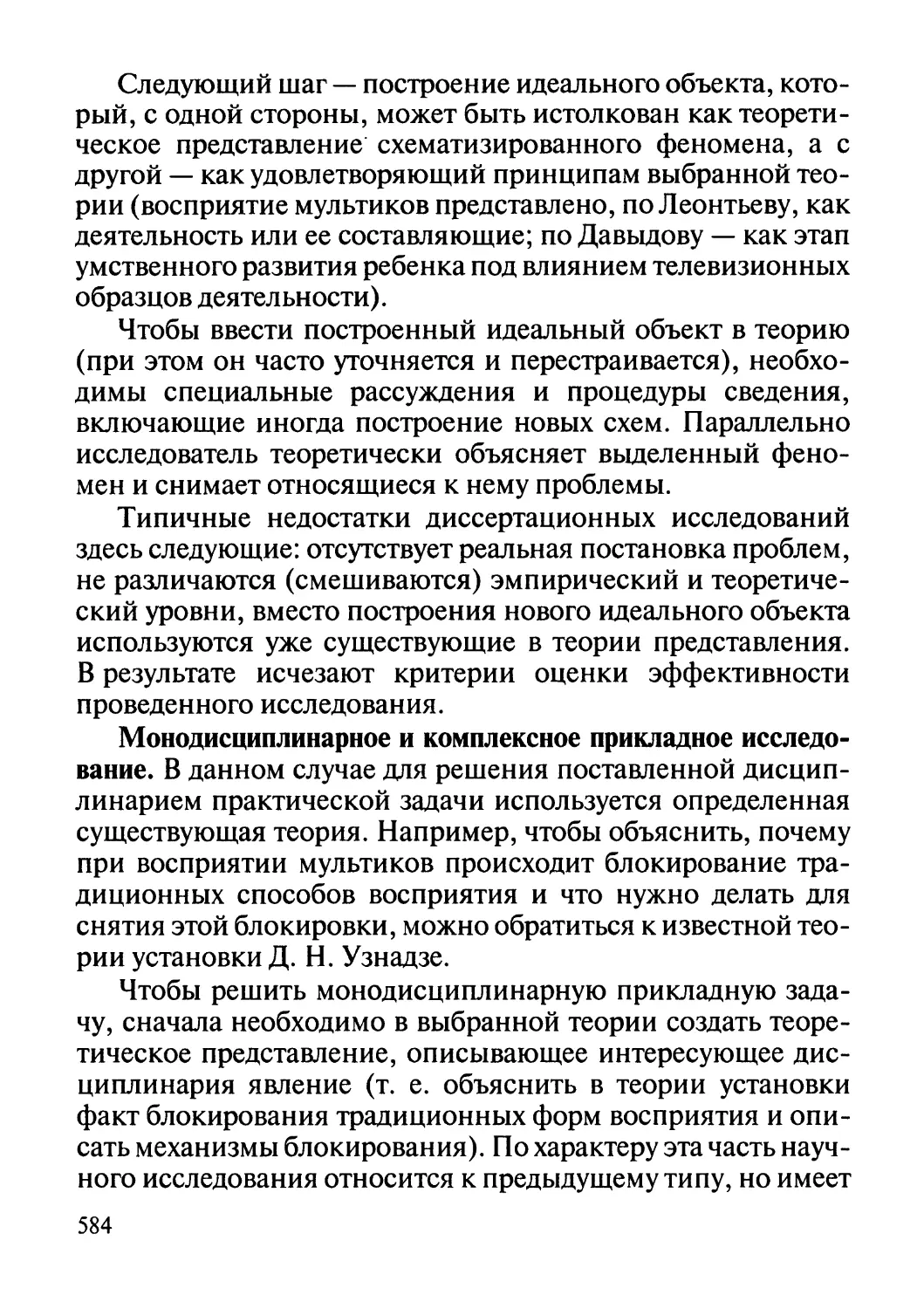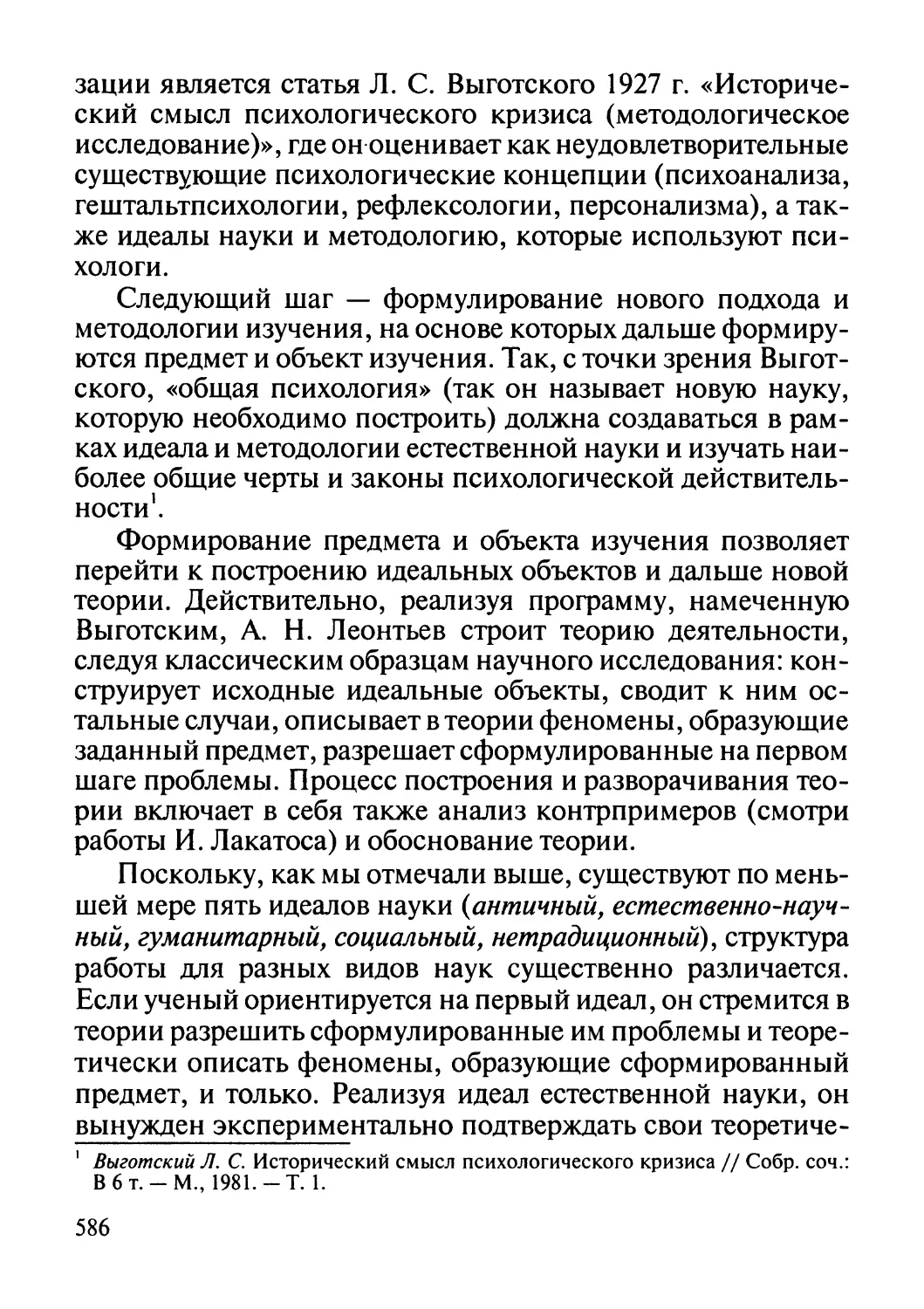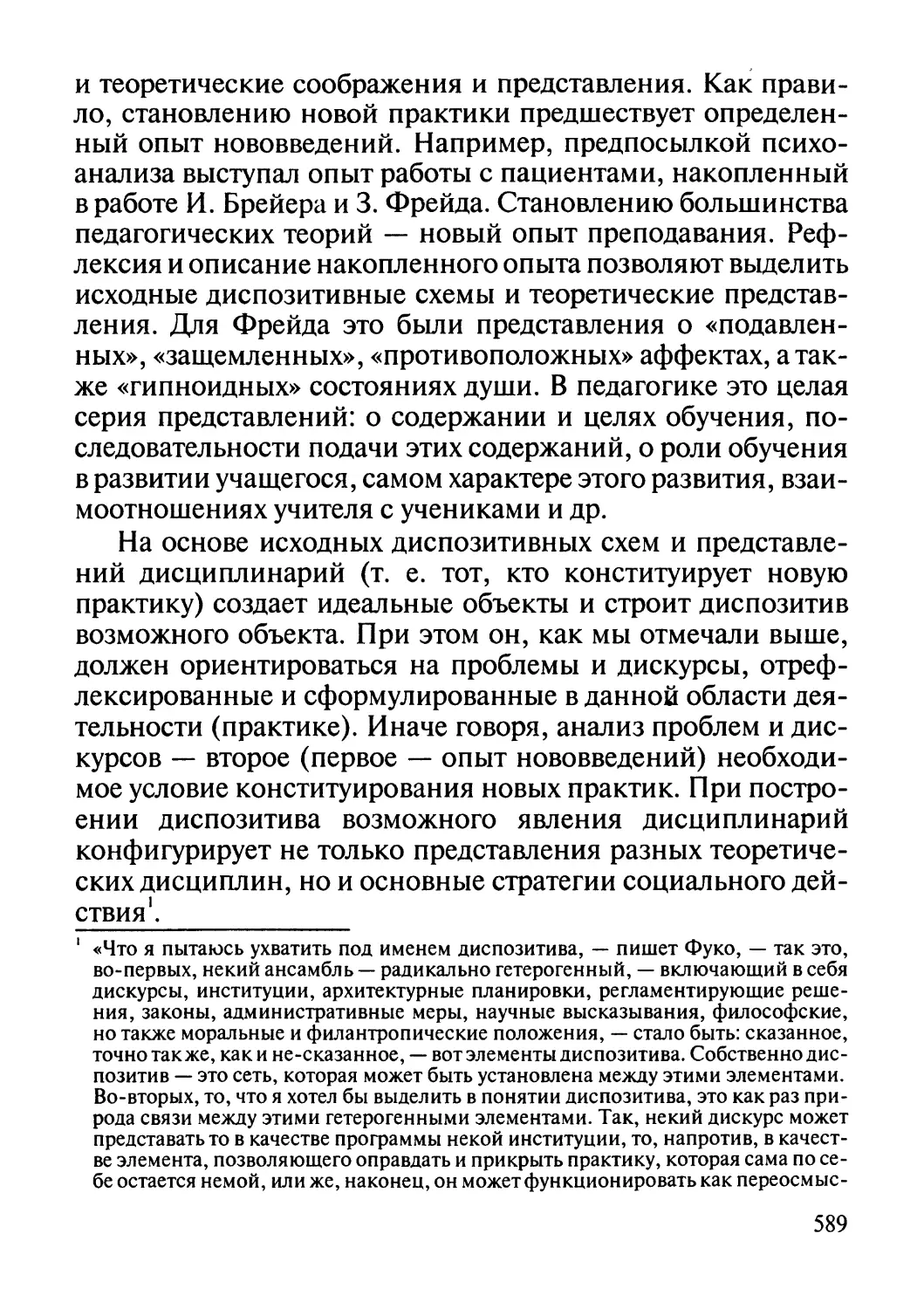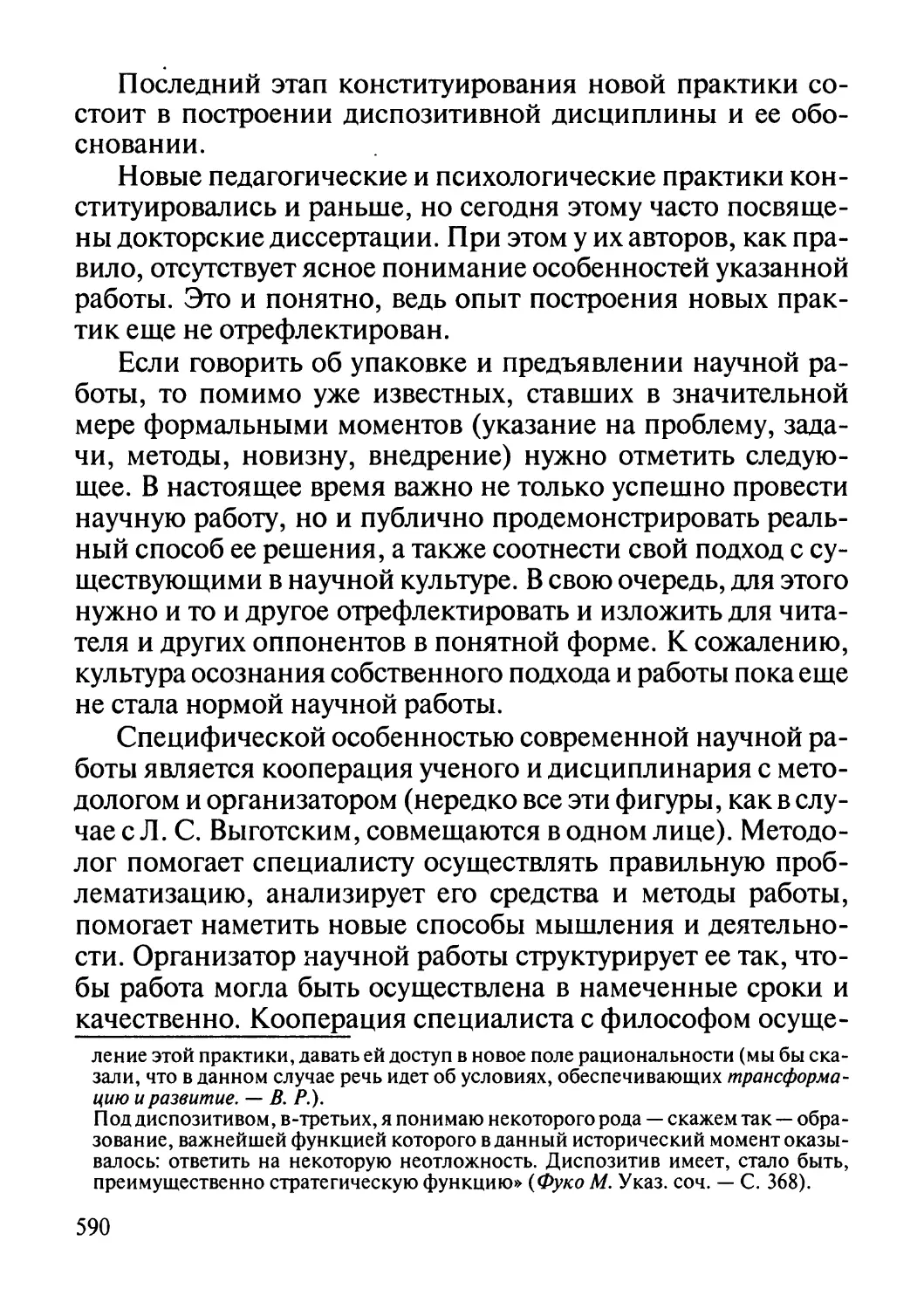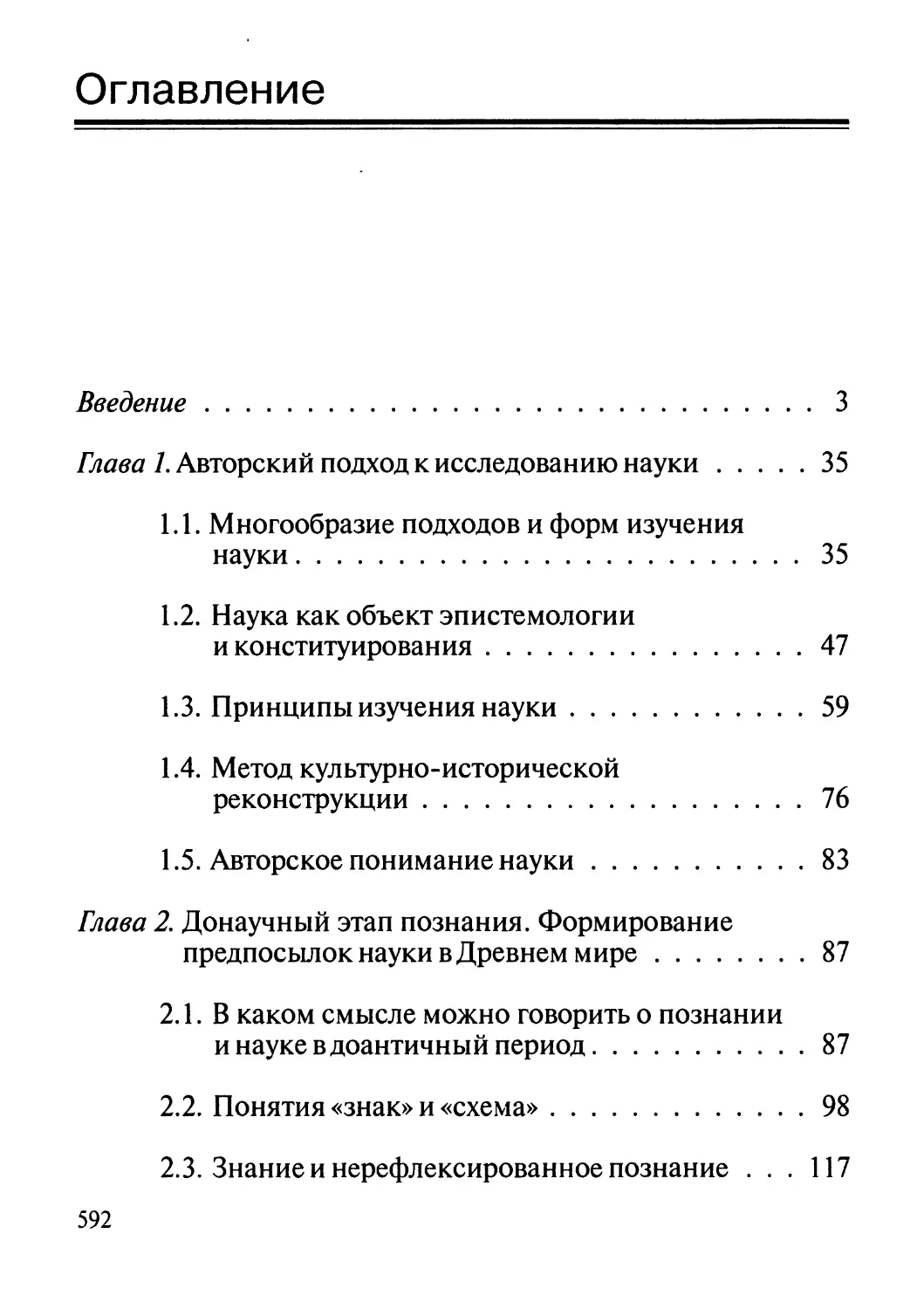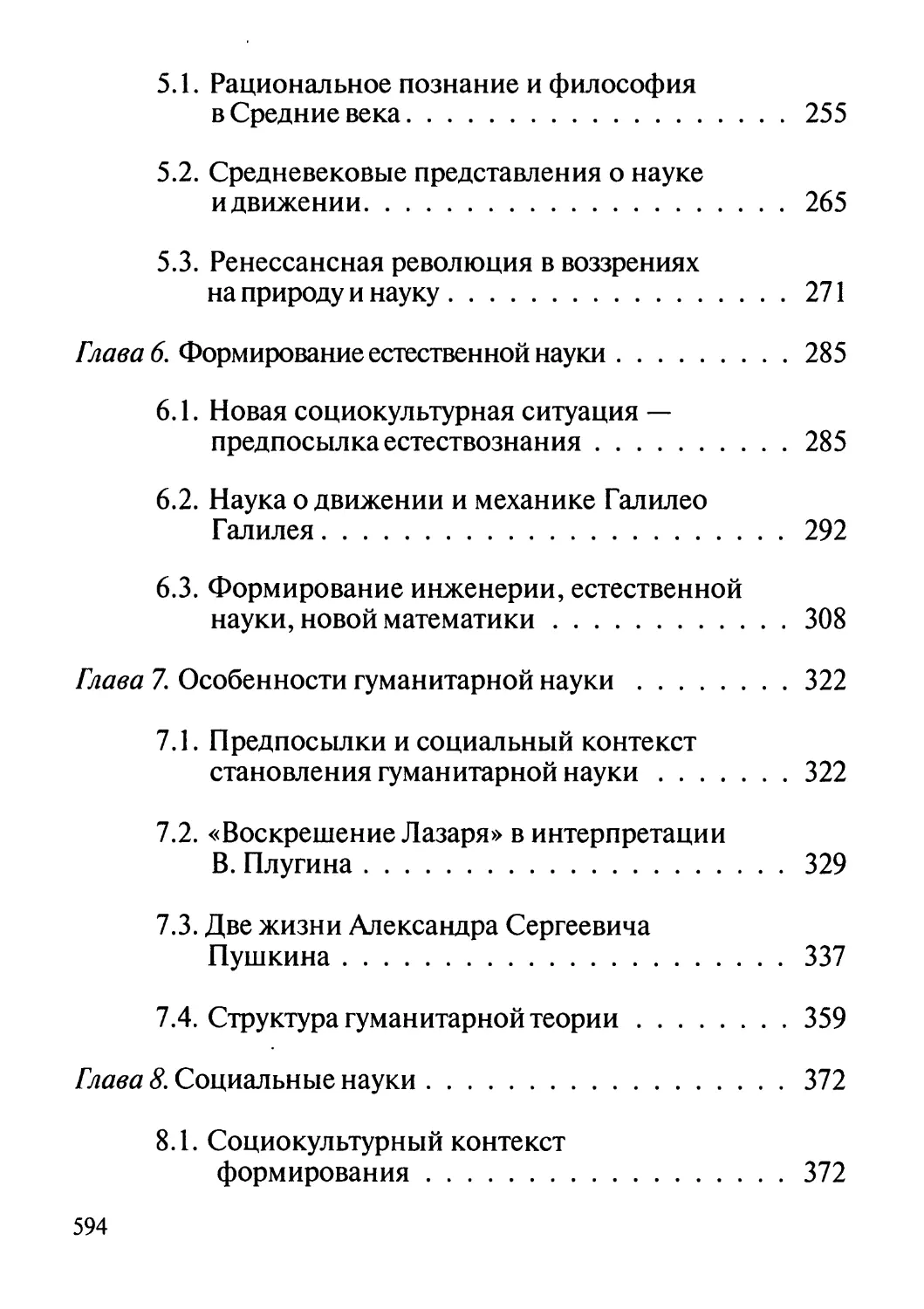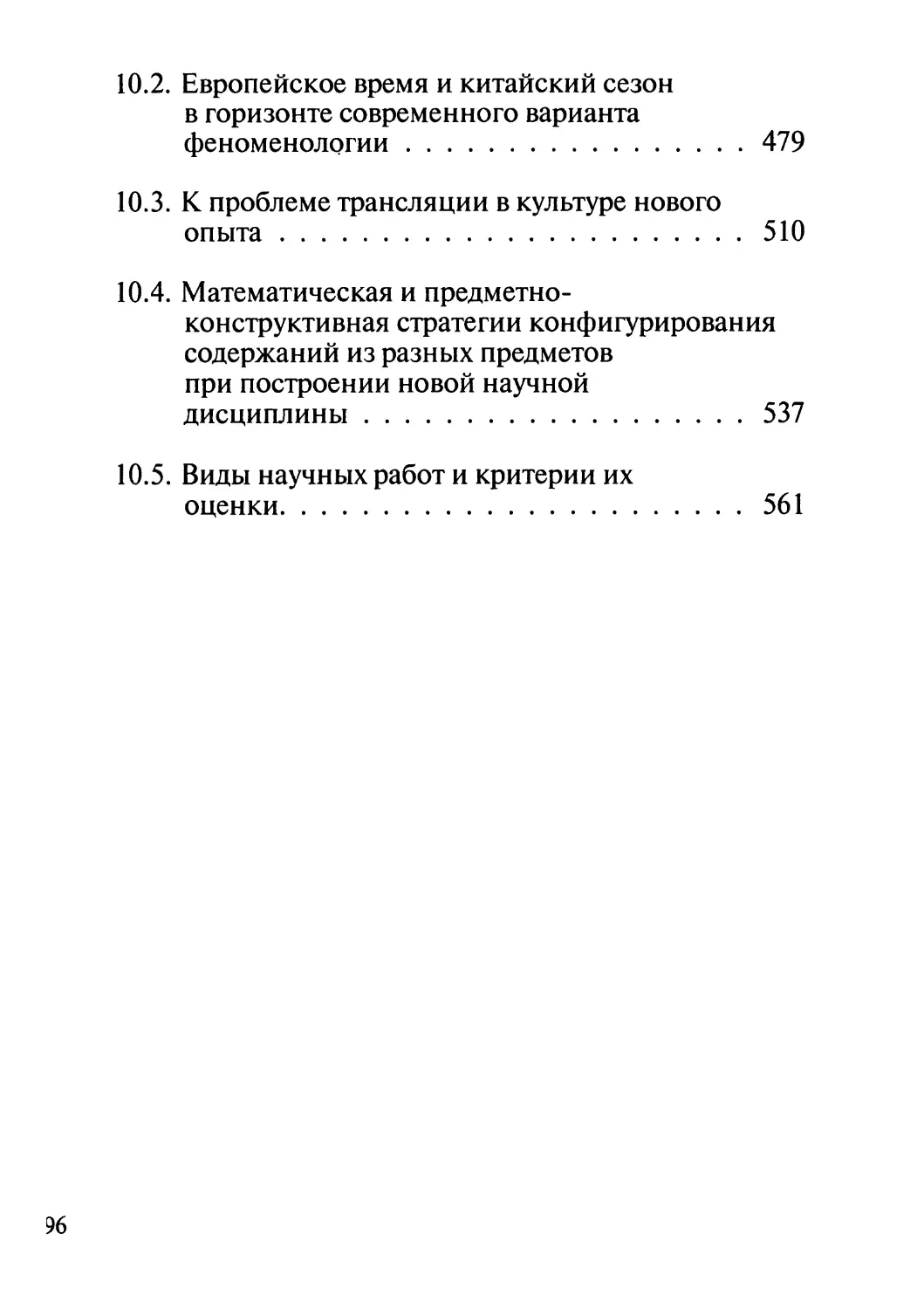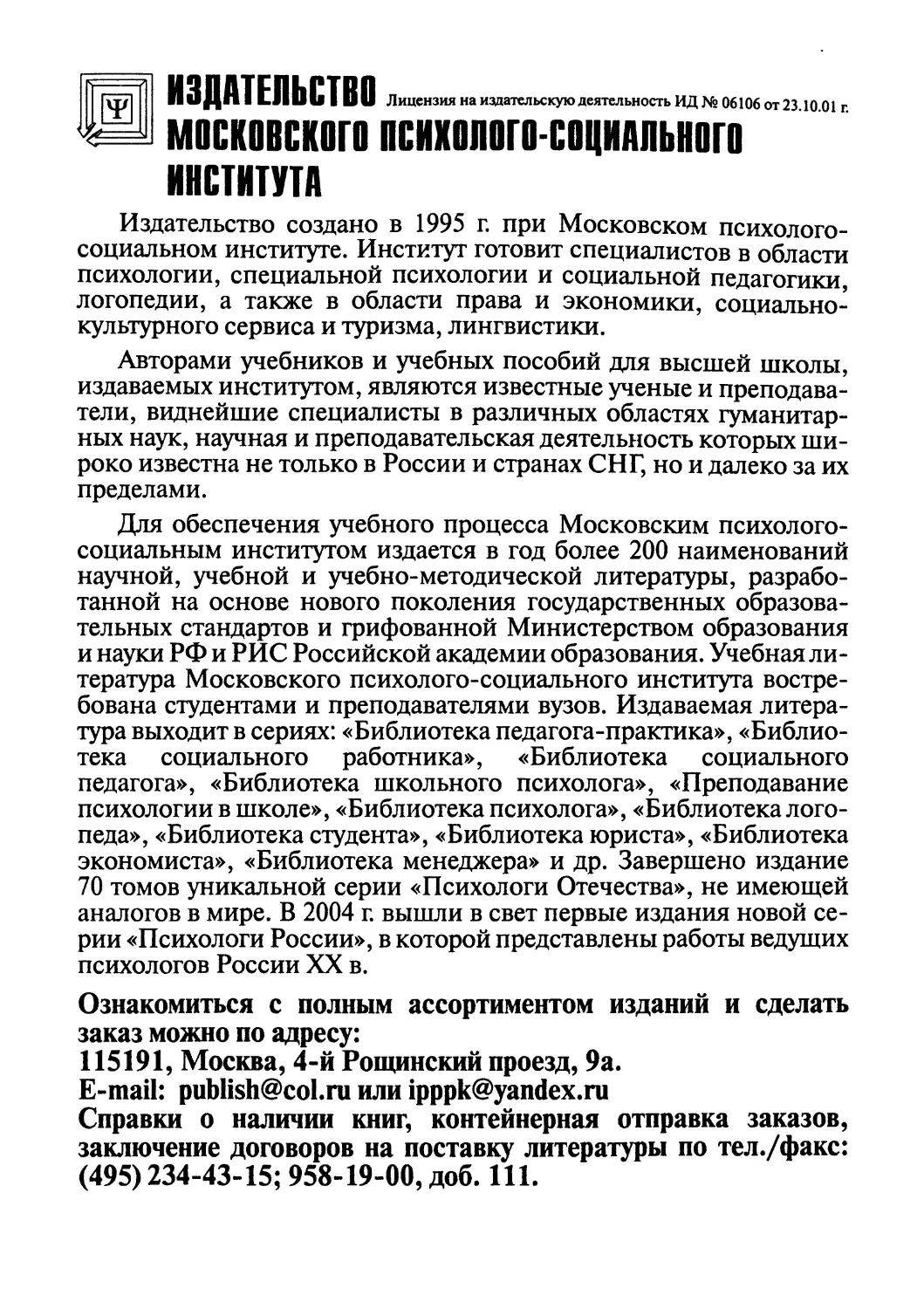Автор: Розин В.М.
Теги: социальные процессы социальная динамика наука науковедение история науки
ISBN: 978-5-89502-967-1
Год: 2008
Текст
УДК 316.422.44
ББК72
Р64
Главный редактор
Д. И. Фельдштейн
Заместитель главного редактора
С. К. Бондырева
Члены редакционной коллегии:
Ш. А. Амонашвили А. И. Донцов Н. Н. Малофеев
A. Г. Асмолов И. В. Дубровина Н.Д. Никандров
B. А. Болотов Ю.П. Зинченко В. В. Рубцов
В. П. Борисенков М. И. Кондаков Э. В. Сайко
А. А. Деркач В. Г. Костомаров
Розин В. М.
Р64 Наука: происхождение, развитие, типология, новая
концептуализация: Учеб. пособие/В. М. Розин. — М.: Издательство
Московского психолого-социального института; Воронеж:
Издательство НПО «МОДЭК», 2008. — 600 с. — (Серия «Библиотека
студента»).
ISBN 978-5-89502-967-1 (МПСИ)
ISBN 978-5-89395-760-0 (НПО «МОДЭК»)
В книге излагаются результаты многолетних исследований автора,
российского методолога и культуролога, посвященных происхождению и развитию
науки. Вадим Розин предлагает новую типологию науки, рассматривает
предпосылки становления отдельных типов науки (античной, естественной,
гуманитарной, социальной, нетрадиционной), их особенности и осмысление. Автор
полемизирует с точкой зрения, трактующей науку преимущественно в
естественно-научном плане, противопоставляя такому подходу культурологическую и
методологическую позиции. Книга представляет большой интерес и потому, что
в ней приведены образцы исследований разных типов науки.
Для студентов, преподавателей, специалистов — философов и науковедов
и широкого круга читателей, интересующихся природой науки и ее
происхождением.
УДК 316.422.44
ББК72
ISBN 978-5-89502-967-1 (МПСИ)
ISBN 978-5-89395-760-0 (НПО «МОДЭК»)
© Московский психолого-социальный
институт, 2007
О Издательский дом
Российской академии образования (РАО), 2007
© Оформление. НПО «МОДЭК», 2007
Введение
К настоящему времени о науке написано очень много. Тем
не менее эта тема нуждается в новом осмыслении. И не только
потому, что систематизация и теоретическая рефлексия
знаний о науке не ведут к появлению согласованного и принятого
всем научным сообществом представления о науке, но и
потому, что любая такая попытка может привести к появлению еще
одной точки зрения на науку. Впрочем, как известно,
дискуссируется сама эта установка — выйти на общепринятую
концепцию науки. Возникает и такой вопрос: имеем ли мы еще
дело с единым научным сообществом? Новое осмысление
науки необходимо, прежде всего, в силу кризиса форм
концептуализации науки, а затем — потому что существенно изменились
требования общества к науке.
Как сегодня характеризуется наука? В качестве ее идеала
до сих пор берется естествознание. «Наука, — пишет наш
известный науковед, академик РАН В. С. Степин, — особый
вид познавательной деятельности, нацеленный на
выработку объективных, системно организованных и обоснованных
знаний о мире»1. Дальше из статьи В. Степина мы узнаем, что
в науке не допускается соединение объективного и
субъективного (как, например, в искусстве), что истинность
научных знаний проверяется в особой практике («Такой
практикой становится научный эксперимент. Часть знаний
непосредственно проверяется в эксперименте. Остальные
связываются между собой логическими связями, что
обеспечивает перенос истинности с одного высказывания на другое.
В итоге возникают присущие науке характеристики ее
знаний — их системная организация, обоснованность и дока-
занность»2.) Сходная позиция и у российского науковеда
Степин В. С. Наука // Новая философская энциклопедия: В 4 т. — М., 2001. —
Т. 3. - С. 23. (Далее: НФЭ.)
2 Там же. — С. 24.
3
Е. А. Мамчур. Под наукой она понимает прежде всего
естественные науки. «Цель науки, — пишет Е. Мамчур, —
достижение объективного истинного знания». «Но чем бы
помешало представителю science studies признание того, что в
конечном счете эта заявка у подлинного ученого имеет цель
способствовать прогрессу научного исследования, цель
которого — познание законов природы»1.
Другими словами, идеалом науки для В. Степина и Е.
Мамчур выступают естественные науки (физика, химия и т. д.), где,
действительно, эксперимент обеспечивает не только
обоснованность научной концепции и теории, но и
возможность дальнейшего использования научных знаний в
технике. Но как в этом случае быть с другими типами наук —
гуманитарными, социальными, философскими? Например, в
гуманитарных науках соединение объективного и
субъективного, а также отсутствие экспериментальной проверки —
норма научной работы. Об этом, в частности, ясно писали
В. Дильтей, М. Вебер, М. Бахтин. А вот что в своей книге
пишет Е. Мамчур: «Вполне возможно, что некоторые
психологические особенности познающего субъекта играют
неустранимую роль в развитии научного знания и в связи с этим
должны учитываться современной эпистемологией. Но в
любом случае следует отдавать себе отчет в том, что призывы
включить в исходную эпистемологическую абстракцию
эмпирического субъекта как такового, не попытавшись
подчинить его познавательную деятельность методологическим
нормам и не вооружив его способами обосновывать любой
предлагаемый им вклад в систему научного знания, грозят не
только отдать науку на откуп персоналистскому
релятивизму, но и вообще ее разрушить»2. Позиция, как мы видим, с
точки зрения указанной дилеммы не совсем ясная.
Стоит обратить внимание и на такой факт: некоторые
объекты (микро- или, напротив, макромира), которые в
XIX в. уверенно проходили по «ведомству» естествознания,
1 Мамчур Е. А. Объективность науки и релятивизм: (К дискуссиям в современной
эпистемологии). — М., 2004. — С. 45, 222.
2 Та*чже. — С. 156—157.
4
сегодня все чаще попадают в сферу действия гуманитарного
познания. На примере анализа концепций «Вселенная» и
«Метагалактика» это блестяще показал в ряде статей Вадим
Казютинский.
Во-первых, относительно объектов космологии не
срабатывают традиционные критерии обоснованности научного
знания — эксперимент и эмпирическая проверка.
Во-вторых, космологам при построении своих теорий
приходится руководствоваться не объективными
критериями, а ценностями и индивидуальными предпочтениями, как
в гуманитарной науке.
В-третьих, Вселенная и Метагалактика, по сути, не могут
быть отнесены к физической реальности, а космология — к
естествознанию1. С точки зрения различения идеалов
естественной и гуманитарной науки в пределах Солнечной
системы мы имеем дело с физической реальностью (поскольку
можем даже ставить прямые решающие эксперименты —
полеты на околоземную орбиту, на Луну, Марс и дальше), а за
ее пределами (Галактика, Метагалактика и Вселенная) —
только с гуманитарной реальностью; в последнем случае
говорить о проверке истинности научного знания практикой и
экспериментами не приходится.
Сходные трудности, как известно, обсуждаются в
квантовой механике. «Первая, — пишет Е. Мамчур, — связана с
проблемой независимости самой микрореальности или ее
описания от сознания наблюдателя. Вопрос ставится так: что
описывает квантовая механика — микромир или микромир
плюс сознание наблюдателя?.. Его ставили Э. Шредингер,
Жд. А. Уилер, Ю. Винер, А. Шимони и др. Часть физиков
(Е. Мамчур присоединяется к ним. — В. Р.) при этом
отрицали такую возможность (Шредингер), часть относилась к идее
положительно. <...> Вторая трактовка связана с тем, что
квантовая механика (во всяком случае в ее стандартной
интерпретации) в отличие от классической не открывает явле-
ния, которые существуют до любого акта измерения или
1 См.: Казютинский В. Миры культуры и миры науки: эпистемологический статус
космологии // Социокультурный контекст науки. — М., 1998. — С. 103—116.
5
описания, а некоторым образом создает их и только их и
описывает, не "добираясь" до самой реальности»1.
Например, «идея кварков оказалась очень эвристичной и полезной.
На ее основе удалось не только систематизировать сильно
действующие частицы, но и предсказать существование
новых. Оставался, однако, один неудобный момент: кварки
оказались принципиально "не наблюдаемы". Что сделали
физики? Они не стали на этом основании отказываться от
идеи кварка, а продолжали работать с нею... Была создана
специальная теория "конфайнмента" (заточения),
объясняющая невозможность наблюдать кварки в свободном
состоянии»2.
Интересно, что, когда Галилей столкнулся с подобной же
проблемой — не смог прямым наблюдением подтвердить,
что тела в пустоте падают с одинаковой скоростью, он все же
обхитрил природу. Галилей доказал, что скатывание тел на
наклонной плоскости есть частный случай падения и если
выбрать определенное соотношение катетов наклонной
плоскости, а также отполировать ее поверхность и
поверхность скатывающегося тела, то в этом случае падение тела
будет приближаться к падению в пустоте (последнее и было
подтверждено им на опыте, который одновременно являлся
первым экспериментом). Если, действительно, явления
микромира существуют вместе с сознанием и наблюдаемы
не в природе, а только в виртуальной реальности теории, то
опять мы скорее имеем дело с гуманитарным знанием.
А вот еще одна проблема — проведение демаркации
между наукой и ненаукой. Не секрет, что в настоящее время
идеологи ряда практик, которых раньше не относили к
науке, таких, например, как эзотерика, уфология, так
называемые «народные науки» (народная медицина, народная
метеорология, «органическая агрикультура» Р. Штейнера и др.),
«оккультные науки» (алхимия, астрология, хиромантия,
физиогномика и т. д.), претендуют на научный статус. Михаэль
Лайтман выпустил в свет несколько прекрасно изданных
Мамчур Е. А. Объективность науки... — С. 23, 24.
2 Там же. -С. 217.
6
книг, где излагается его эзотерическое учение. В него входит
и «Наука Каббала» (М., 2002). В предисловии автор пишет
следующее: «Изучение Каббалы дает человеку ответы на все
вопросы. Он изучает все причинно-следственные связи
этого мира, изучает высший мир, из которого все нисходит в
наш мир. Раскрытие высших миров происходит постоянно,
постепенно, причем все происходит внутри самого человека.
Человек создает внутри себя дополнительные органы
восприятия, более чувствительные, чем обычные, которые
позволяют ощущать дополнительные силы мироздания, ту его
часть, которая скрыта от человека»1. В другой книге Лайтма-
на «Плоды Мудрости» читаем: «Любое духовное постижение
состоит из двух обязательных свойств:
1) ни в коем случае не должно быть ни в коей мере плодом
воображения, а являться истинным;
2) не должно вызывать ни малейшего сомнения, как не
вызывает в человеке сомнения собственное
существование»2.
Из того, что пишет Михаэль Лайтман, можно понять, что
каббалист познает высший мир необычным способом (с
помощью дополнительных, более чувствительных органов
восприятия и не покидая своего внутреннего мира), при этом он
не сомневается в существовании высшего мира. Но не
совпадает ли тогда высший мир с миром каббалиста, более
широко — миром эзотерика?
Эти парадоксы эзотерического осмысления познания
обсуждали еще Платон и Плотин. «Когда же душа, — говорит
Платон устами Сократа, — ведет исследование сама по себе,
она направляется туда, где все чисто, вечно, бессмертно и
неизменно, и т. к. она близка и сродни всему этому, то всегда
оказывается вместе с ним, как только остается наедине с
собой и не встречает препятствий. Здесь наступает конец ее
блужданиям, и в непрерывном соприкосновении с постоян-
1 Лайтман М. Наука Каббала. — М., 2002. — С. 9.
Лайтман М. Плоды Мудрости. — М., 2002. — С. 206.
7
ным и неизменным она и сама обнаруживает те же свойства.
Это ее состояние мы и называем разумением, правильно?»1
Но дело не только в научных претензиях представителей
указанных выше практик. К сожалению, сами ученые
сегодня не в состоянии провести четкую границу между наукой и
ненаукой и поэтому часто вынуждены отвергать последние,
исходя из социальных и политических соображений.
Например, в Новой философской энциклопедии И. Касавин,
указывая, что паранауки «тщательно имитируют структуру
науки и научного образования», пишет, что адепты и
сторонники паранаук избегают присущей науке самокритики,
культивируют фанатизм, сектантство, не чужды стремления к
политической власти; «паранаука в ее современном
состоянии — естественный спутник науки и вместе с тем вызов ей в
условиях демократического общественного устройства,
когда наука вынуждена вести диалог с другими
социокультурными системами и не может окончательно устранить
оппонентов»2.
Если наука, как об этом пишет В. Степин, — это особый
способ получения знаний о действительности, то любой
представитель ненауки скажет, что он ученый, поскольку,
конечно же, тоже познает действительность, притом
старается это делать объективно и системно. Другое дело, что его
представления о мире не совпадают со взглядами
официальной науки; но, может он тут же добавить, в самом научном
цехе никакого единства взглядов на мир не существует — и,
добавим от себя, будет совершенно прав, особенно если речь
идет о гуманитарных, социальных и философских науках.
Кант в поисках демаркации между наукой и ненаукой
вводил понятие опыта. В частности, антиномии разума он
характеризует как выход разума за пределы опыта. Но что
понимать под опытом? Одинаков ли опыт у представителей
естествознания, гуманитарной и социальной наук, в эзотерике
или уфологии? А также сходны ли практики, выступающие
1 Платон. Федон // Соч.: В 4 т. - М., 1993. - Т. 2. - С. 35.
2 Касавин И. Т. Паранаука // НФЭ. — Т. 3. — С. 197.
8
критерием истинности научных знаний в соответствующих
областях? Например, есть ли что-то общее между
инженерией и религиозным образованием, между созданием машин
и эзотерическим спасением?
Представители естествознания уверены, что реальности,
о которой говорят эзотерики или сторонники паранауки,
просто нет, поэтому какая может быть наука о том, чего
не существует? В ответ сторонники эзотерики и паранауки
могут возразить, что когда-то, например, трудно было даже
помыслить полеты тяжелых тел или выделение огромного
количества тепла из холодной породы.
Однако сегодня существуют не только самолеты, ракеты
или ядерный реактор, но и соответствующие науки. И разве
математика не наука? А ведь ее объекты ученый не только
познает, но и конструктивно порождает. Кроме того, что
значит не существует некоторая реальность? Сегодня еще
не существует, а что будет завтра — неизвестно. Наконец,
для кого-то не существует, а для другого — налицо.
Следующая проблема: когда наука сложилась? Известно,
что на этот счет существуют две разные точки зрения. Более
распространенная: что наука возникла только на рубеже
XVI—XVII вв. в рамках естествознания. Менее разделяемая
концепция: что наука возникла уже в Античности и, скажем,
«Начала» Евклида или работа Архимеда «О плавающих
телах» вполне могут считаться науками. Если соглашаться с
первой версией, то тогда античные науки, гуманитарные,
социальные и философские (не говоря уже о паранауках) — это
не науки, а преднауки или квазинауки. «Далеко не все
исследователи, — пишет Е. Мамчур, — даже вообще признают, что
по отношению, скажем, к античной натурфилософии можно
применять термин "наука". Они считают, что наука началась
лишь в Новое время и может вести отсчет своего
существования только с XVII в. Вопрос этот спорный, во многом
зависящий от определения. Но мы будем придерживаться точки
зрения, согласно которой в Античности, также как и в
Средние века, существовала наука или, по крайней мере, зачатки
9
научного знания»1. Эти колебания характерны, ведь не одно
и то же — наука или всего лишь зачатки научного знания.
Если принять вторую версию происхождения науки, то
надо пересматривать позицию, по которой именно
естествознание является идеалом науки.
К этой проблеме примыкает и такая: под влияние каких
факторов и условий наука (науки) складывается и
развивается? Являются ли эти факторы имманентными (логическими
и эпистемологическими) или внешними,
социокультурными, или действуют обе группы факторов и условий, но,
спрашивается, в каком отношении? В зависимости от того,
каково решение этой дилеммы, по-разному решается вопрос о
природе научных революций, а также возможности
управлять наукой, например, определять научно-техническую
политику. Например, с одной стороны, Е. Мамчур пишет, что
«наука имеет собственную логику развития», с другой — она
рассматривает социокультурную обусловленность развития
науки, анализируя целый ряд интересных примеров влияния
культуры на научное знание, с третьей стороны, утверждает,
что культуру нельзя понимать как причину изменения
науки. «Именно культура является для науки той средой,
которая может влиять на его эволюцию. <...> Как
представляется, следует отказаться от идеи причинного воздействия
культуры на научное знание. <...> Здесь осуществляется какой-то
другой, не причинный, не детерминистический тип связи»2.
Целую группу проблем можно обозначить выражением
«наука и современность». Здесь и критика сциентизма, и
обвинения в адрес естествознания как ответственного за
экологический кризис, и обсуждения нового статуса науки, и
споры о том, какой тип науки (естественные науки,
технические, гуманитарные или социальные) наиболее
представителен в наше время и необходим для того, чтобы ответить на
вызовы модернити. Рассмотрим последнюю проблему
подробнее.
1 Мамчур Е. А. Объективность науки... — С. 159.
2 Там же.-С. 184, 189, 168, 179.
10
Обычно в философско-методологической литературе
особенности типов научного мышления и связанных с ними
наук — естественных, гуманитарных и общественных
(социальных) — определяются исходя из специфики предметов
изучения и методов исследования: утверждаются
характерные и различные для естественных, технических и
гуманитарных (общественных) наук методы изучения и научные
предметы. Например, Б. Г. Юдин различает естественные и
общественные науки по «предельным проблемам»
(фактически предметам изучения). Для естественных наук такими
проблемами являются: «Что есть природа?» и «Что есть
жизнь?», а для общественных — «Что есть общество (или
человек, или деятельность, или культура, или язык, или дух
и т. п.)?»1 Ю. А. Шрейдер склоняется скорее к различению
по методам: «В сущности, традиционное различие между
общественными и естественными науками — это различие
установок в обращении с материалом, с наличной эмпирией.
Оно проявляется в часто неосознанном принятии различных
"эвристик"»2.
Другой критерий различения — соотношение
субъективного и объективного моментов «в содержании знания»: если
в естественной науке, утверждает Б. М. Кедров,
«субъективный момент должен быть сведен к нулю», то в общественных
(гуманитарных) науках «субъективный момент органически
входит во все их содержание, поскольку их объектом служит
сам человек как социальный субъект, т. е. как человеческое
общество»3.
В. Г. Федотова, обсуждая специфику гуманитарных и
социальных наук, предлагает использовать понятие
«исследовательская программа». «Существует, — пишет она, — не-
сколько точек зрения:
Юдин Б. Г. Методологическая характеристика процессов взаимодействия наук //
Методологические проблемы взаимодействия общественных, естественных и
2 технических наук. — М., 1981. — С. 180—181.
Шрейдер Ю, А. Единство и взаимодействие общественных и естественных наук //
Там же. — С. 70.
Кедров Б. М. Взаимодействие наук как общенаучная проблема // Там же. — С. 46.
11
1. Разделение наук по предмету: социальные науки
изучают общие социальные закономерности, структуру
общества и его законы, гуманитарные науки — человеческий
мир.
2. Разделение наук по методу: социальные науки — это те,
в которых используется метод объяснения, гуманитарными
называются науки, где базовым методологическим
средством является понимание.
3. Разделение наук одновременно по предмету и методу.
Это предполагает, что специфический объект диктует
специфические методы.
4. Разделение наук в соответствии с исследовательскими
программами. Мы придерживаемся последней точки
зрения»1.
В данном случае В. Федотова противопоставляет
социальные науки гуманитарным. Но чаще гуманитарные науки
противопоставляются естественным (фактически первые
две точки зрения у В. Федотовой — это та же самая
оппозиция). Приведу еще два примера той же оппозиции на
материале психологии и культурологии.
Еще в 1937 г. в работе «Исторический смысл
психологического кризиса» создатель советской психологии Л. С.
Выготский писал: «Существуют две психологии —
естественно-научная, материалистическая, и спиритуалистическая:
этот тезис вернее выражает смысл кризиса, чем тезис о
существовании многих психологии; именно психологии
существуют две, т. е. два разных непримиримых типа наук, две
принципиально разные конструкции системы знания...
Вслед за Мюнстербергом все видят различие не в материале
или объекте, а в способе познания, в принципе — понимать
ли явления в категории причинности, в связи и в
принципиально тождественном смысле, как все прочие явления, или
понимать их интенционально, как духовную деятельность,
1 Федотова В. Г. Основные исследовательские программы
социально-гуманитарных наук//Анархия и порядок. — М., 2000. — С. 134.
12
направленную к цели и отрешенную от всяких материальных
связей»1.
Суть и различие естественно-научного и гуманитарного
подходов в культурологии понимается не совсем одинаково.
Например, Л. Ионин называет эти подходы
«объективистским» и «культурно-аналитическим», а Б. Ерасов говорит о
«гуманитарном (понимающем) культуроведении» и
«социальной культурологии». Все многообразие социологических
концепций культуры, пишет Ионин, можно свести к двум
направлениям: «объективистскому, якобы
естественно-научному, с одной стороны, и культурно-аналитическому — с
другой. Их главное различие заключается в том, что в первом
социальные явления — структуры, институты —
рассматриваются как объективные "вещи" (в этом смысле
основоположником данного направления является Эмиль Дюрк-
гейм), не зависящие от идей и мнений членов общества, в то
время как во втором те же явления трактуются как
существующие исключительно посредством самих этих идей и
мнений. <...> Это различие не всегда прямо осознаваемо в
конкретных социологических концепциях, однако носит
достаточно принципиальный характер»2. А вот понимание этой
оппозиции Б. Ерасовым.
«Конечно, — пишет он, — прежде всего культуроведе-
ние — гуманитарная наука, основанная на постижении
внутренних закономерностей и структур культуры в ее
различных "представительных" вариантах: литература,
искусство, язык, мифология, религия, идеология, мораль и наука.
В каждом из этих вариантов существует своя система
"постижения" тех смыслов и знаний, которые необходимы для
понимания текстов, образов, положений и принципов. <...>
Социальная культурология предполагает иную
модальность в отношении к культуре, основанном на объективном
и аналитическом, не "погруженном", а "отстраненном"
взгляде на культурную жизнь общества. <...> Наряду с пони-
Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса (методологи-
2 ческое исследование) // Собр. соч.: В 6 т. — М., 1981. — Т. 1. — С. 381.
Ионин Л. Г. Социология культуры. — М., 1996. — С. 64—65.
13
мающим вхождением в культуру необходимо и
познавательное выяснение функций культуры в обществе. Необходим
причинно-следственный анализ, соотнесенный с
теоретической концепцией. Последовательное вживание в ту или
иную систему культурных образов может означать
превращение зрителя или исследователя в приверженца этой
системы...»
Позиция Ерасова очень характерная. Он, как и многие
современные ученые, думает, что гуманитарная наука
ограничивается только постижением (пониманием) культурных
явлений, не доходя до теоретических обобщений. Что такое
постижение по необходимости субъективно, в отличие от
объективного изучения в естественных науках. Что
гуманитарная наука пользуется «индивидуализирующим методом»,
позволяющим «воссоздать объект в его подлинности и
уникальности», в то время как естественно-научный подход
описывает не отдельные объекты, а обобщенные типы,
причины и следствия явлений2.
Понятно, что при таком понимании различий этих двух
подходов вопрос о правильном методе изучения культуры
должен стоять достаточно остро. Хотя Б. Ерасов решительно
становится на позицию объективного подхода к изучению
культуры, а Л. Ионин — на позицию понимающей
социологии культуры, оба исследователя, как показывает анализ их
работ, тем не менее, периодически при решении
определенных задач вынуждены «сидеть на двух стульях», т. е.
соединять естественно-научный и гуманитарный подходы. Но это
означает, что помимо чистых подходов, вероятно, можно
говорить также о смешанном —
гуманитарно-естественно-научном подходе. Если только, конечно, речь не идет об
эклектике.
Нужно заметить, что большая часть культурологов
придерживаются гуманитарной ориентации. Однако
большинство представителей социологии культуры и ряд других куль-
турологов разделяют естественно-научный подход. Напри-
1 Ерасов Б. С. Социальная культурология. — М., 1996. — С. 5—6, 24.
2 Там же. - С. 23—28.
14
мер, Э. А. Орлова, характеризуя свой подход, пишет:
«Изучение динамики культуры позволяет понять не только то, чем
являются ее составляющие и почему, но и то, каково их
происхождение, какие преобразования они претерпели и что с
ними может случиться. <...> Понимание механизмов
динамики культуры, особенно на микроисторической шкале
времени, открывает широкие возможности для разработки
помощи людям при их адаптации в сложном и изменчивом
социокультурном окружении за счет изменения стереотипов
поведения, структур взаимодействия, навыков, ценностных
ориентации и т. п.»1. Другими словами, Э. Орлова, подобно
всякому адепту естественно-научного подхода, хотела бы на
основе культурологических знаний прогнозировать и
рассчитывать процессы динамики культуры, а также создавать
условия для целенаправленного, точного их
преобразования.
Интересно отметить, что сходную программу в уже
цитированной статье сформулировал Л. С. Выготский.
Анализируя ситуацию в психологии, Л. Выготский квалифицирует ее
как кризисную и формулирует три тезиса, которые, с его
точки зрения, должны помочь ее преодолеть. Во-первых, он
указывает практическую (по сути, инженерную) цель
психологической практики («психотехники») — управление
психикой, контроль над ней. Во-вторых, подчинение целей
развития психологической науки прикладным задачам
психологии. В-третьих, безусловное превращение психологии в
естественную науку. «Не Шекспир в понятиях, как для
Дильтея, — пишет Л. Выготский, — но психотехника — в
одном слове, т. е. научная теория, которая привела бы к
подчинению и овладению психикой, к искусственному
управлению поведением. <...> Мы исходили из того, что
единственная психология, в которой нуждается психотехника, должна
быть описательно-объяснительной наукой. Мы можем
теперь добавить, что эта наука, пользующаяся данными фи-
зиологии (подобно тому, как Э. Орлова предлагает для куль-
Орлова Э. А. Динамика культуры и целеполагающая активность человека //
Морфология культуры. Структура и динамика. — М., 1994. — С. 18, 19.
15
турологии использовать социологию. — В. Р.), и, наконец,
экспериментальная наука»1.
На проблему соотношения в культурологии
естественно-научного и гуманитарного подходов можно взглянуть
еще с одной стороны. В гуманитарно ориентированных
исследованиях культура чаще рассматривается как ставшая,
сложившаяся. Однако в культурологии можно исследовать
также: кризис той или иной культуры, ее распад (гибель),
формирование новой культуры, различные процессы
трансформации культурных институтов или других культурных
образований. При решении подобных задач культуролог
вынужден сочетать гуманитарные и естественно-научные
методы познания. Например, он прослеживает и описывает
изменение экономических и социальных отношений,
обусловивших культурную динамику, т. е. обращается к
экономической и социологической наукам. Анализирует, как
формировались новые знаковые системы и языки (это одно из
необходимых условий любых изменений в культуре), для этого
он обращается к семиотике и языкознанию. Выявляет и
описывает новые идеи и представления, овладевающие
сознанием представителей культуры, или новые способы
обучения; это уже компетенция психологии и педагогики. При
решении подобных задач культуролог не только сопоставляет
изучаемую культуру с другими и характеризует ее, но и
изучает, как правильно утверждает Э. Орлова, изменение,
развитие, динамику культурных процессов. Именно здесь он
вынужден сочетать естественно-научные и гуманитарные
идеалы познания. Но, конечно, в культурологии, как мы уже
отмечали, реализуется и самостоятельный
естественно-научный подход; особенно широко — в социологическом
варианте этой молодой дисциплины. В этом последнем случае
культура описывается с помощью категорий «социального
взаимодействия», «социальной динамики», «социальной ор-
ганизации», «социальных институтов», «ценностей», «соци-
1 Выготский Л. С. Указ. соч. — С. 389, 390.
16
альных норм» и ряда других хорошо известных из
социологии.
Однако и в этом случае, так же как и в гуманитарно
ориентированном исследовании, хорошее культурологическое
исследование вынуждено дополнять себя, так сказать,
противоположным подходом. А именно: хорошее
социологическое изучение культуры в определенном отношении не
может не быть гуманитарно ориентированным, должно
дополнять естественно-научные методы гуманитарными.
Таким образом, мы получаем следующую
классификацию культурологических подходов: гуманитарный,
естественно-научный и два смешанных — гуманитарный подход,
дополненный естественно-научным, и
естественно-научный, дополненный гуманитарным.
В последних своих статьях, анализируя статус
синергетики, В. Степин утверждает, что саморазвивающиеся системы
на определенных этапах и уровнях развития могут включать
в себя не только объекты, но и их историю, а также субъектов
и даже социокультурные условия, обусловливающие
последних. Другими словами, В. Степин считает, что не имеет
смысла противопоставлять естественные, гуманитарные и
социальные науки (не вообще, а при решении ряда задач);
мы имеем дело либо с наукой, говорит он, либо с ненаукой.
Позицию В. Степина на снятие проблемы демаркации
между естественными и гуманитарно-социальными
науками в определенной мере разделяют и составители
интересной книги «Когнитивно-коммуникативные стратегии
современного научного познания» (М., 2004). «Резко обогатив
свой концептуальный аппарат, — пишут Л. Киященко и
П. Тищенко, — синергетика делает изоморфными,
легитимно сопоставимыми традиционно разведенные области
естественно-научного и социогуманитарного знания... оставаясь
всецело естественно-научной дисциплиной, синергетика
смогла включить в свой понятийный потенциал те
характеристики, которые в классическую эпоху выражали
специфику гуманитаристики. Теперь, чтобы обеспечить собственную
2. Заказ №4180
17
специфику, социогуманитарному знанию предстоит
ответить на вызов синергетики»1.
Имеет смысл обратить внимание, что данной
концептуализации в той же книге в логике контрапункта противостоит
точка зрения, проводимая в статье Лео Няпинена
«Программа Ильи Пригожина перестройки традиционной физики и
вытекающие из нее заключения для понимания социальных
проблем», который показывает, что естественно-научный
подход (даже обобщенный на основе идей системного
подхода и теории самоорганизации) немного может дать в
области социальных наук. «Социальным наукам, — пишет Лео
Няпинен, — не следует ориентировать себя по образу и
подобию точных наук (видящих свою цель в предсказании и
объяснении феноменов), социальные науки должны
отказаться от амбиции давать точные среднесрочные и
долгосрочные предсказания, а зачастую не давать и точные
краткосрочные предсказания. <...> Определения и методы,
развитые в рамках программы Пригожина, в той степени, в
которой они остаются точной наукой, также не могут добавить
ничего нового к социальным и культурным
исследованиям. <...> Своей новой формулировкой законов природы
Илья Пригожий в действительности установил пределы
того, что может быть предсказано и контролируемо.
Понимание самоорганизации во всей ее сложности и
разнообразии возможно только за этими пределами»2.
Кто же все-таки прав, Пригожий и Степин со товари-
щи-синергетики или Лео Няпинен? Отвечая на этот
вопрос, забежим вперед и охарактеризуем оппозицию
естественно-научного и гуманитарного подходов, как она
сложилась в XX столетии. На мой взгляд, и дальше я постараюсь
это показать, дело не в том, какую картину рисует исследова-
тель, включающую историю и субъекта или не включающую
1 Киященко Л. Опыт предельного — стратегия «разрешения» парадоксальности в
познании / Л. Киященко, П. Тищенко // Когнитивно-коммуникативные
стратегии современного научного познания. — М., 2004. — С. 503.
2 Няпинен Л. Программа Ильи Пригожина перестройки традиционной физики и
вытекающие из нее заключения для понимания социальных проблем // Там
же. - С. 43, 45, 46.
18
таковых, а в том, как он при этом мыслит: в одном случае он
мыслит как физик, в другом — как гуманитарий, в третьем —
совмещая эти мыслительные стратегии.
Опять же это не то, о чем пишет ученый — о природе или
культуре, о системах или коммуникации, а то, как он при
этом мыслит и на что ориентирует свои знания в плане их
дальнейшего использования. Представитель
естествознания, говоря о первой природе или человеке (культуре,
обществе и т. п.), ориентируется в плане использования своих
знаний на практики инженерного типа, где основные
задачи — прогнозирование, расчет и управление явлениями. Кроме
того, он описывает эти явления (именно для того, чтобы
решить указанные задачи) как механизмы, добиваясь в
эксперименте соответствия между изучаемым феноменом и
математической конструкцией, описывающей его (в результате
эта конструкция становится математической моделью, что и
позволяет на ее основе вести расчеты, прогнозирование и
строить управляющие воздействия).
Гуманитарий, опять же неважно, что он описывает —
психику, культуру или природу, ориентирован не на
инженерию, а на уникальную гуманитарную ситуацию,
например, понимание, разрешение собственной экзистенциальной
ситуации, общение по поводу какой-то проблемы и пр.
При этом, исследуя явление, он движется одновременно в
двух плоскостях — строит идеальный объект, необходимый
для разворачивания теоретического дискурса, и разрешает и
проживает свою уникальную гуманитарную ситуацию.
Именно второе движение является здесь ведущим в том смысле,
что идеальный объект и теоретические построения в
гуманитарном исследовании строятся так, чтобы можно было
разрешить и прожить жизненную ситуацию, а не наоборот.
Когда Пригожий помимо детерминированных,
линейных процессов вводит недетермированные, нелинейные и
говорит о неопределенности будущего, то спрашивается,
отказывается ли он от таких установок естественной науки, как
открытие законов, описание механизмов, управляемое воздей-
2*
19
cmeuel Думаю, нет, хотя в число факторов и процессов
фактически по-новому понимаемой природы он вводит
человека и общество. Принципиальный вопрос: как они при этом
трактуются? Если для гуманитария человек — это тот, с кем
исследователь общается (хотя при этом он его изучает), кто в
качестве Другого определяет само познание, то для
представителя естествознания, пусть даже он будет гуманитарно
ориентирован, человек и общество — это именно факторы
природы (не случайно, говоря о человеке, Пригожий
трактует его как флуктуацию в точке бифуркации). Формально си-
нергетик признает зависимость своего познания от Другого,
говоря об «открытой коммуникативной рациональности»1,
но фактически, используя аппарат системного подхода и
другие синергетические понятия, он превращает
гуманитарные реалии (человека или общество) в факторы и процессы
природы. Продолжим проблематизацию.
Судя по рассмотренному выше материалу, в настоящее
время спецификация наук и видов научного мышления по
отдельным признакам явно является недостаточной;
требуется специальное методологическое исследование,
позволяющее охарактеризовать как специфику, так и единство
естественных, гуманитарных и общественных наук.
Необходимость в подобном исследовании определяется двумя
соображениями: принципиальным изменением структуры
современного научного познания и отсутствием
удовлетворительной концепции науки, выражающей это изменение и
позволяющей методологически удовлетворительно различить
отдельные формы научного мышления. Рассмотрим оба эти
момента.
В свое время, как известно, четкую концепцию науки
предложили логические позитивисты. В предложенную ими
концепцию входили: ценностная ориентация на образцы ес-
тественной науки и математики, представления о формаль-
' Лршинов В. И. Роль синергетики в формировании новой картины мира /
В. И. Аршинов, В. Г. Буданов // Вызов познанию: стратегия развития науки в
современном мире. — М., 2004. — С. 377.
20
но-логическом строении научного знания (теории),
принципы верифицируемости и фальсифицируемости научной
теории, сведение функций философии только к логическому
языку науки, полный отказ от метафизики. Однако работы
философов и историков науки позволили сделать вывод, что
эта концепция не объясняет реальных процессов и
механизмов развития и функционирования науки. Ныне
убедительно показана неадекватность неопозитивистского образа
науки с характерными для него чертами — универсализацией
форм рациональности, присущих естествознанию и
математике1.
Анализируя в начале XX столетия кризис европейских
цаук, Гуссерль выступил против «притязаний
естествознания представить господствующий в них тип рациональности
. в качестве единственно научного и претендующего на
универсальное применение». В результате, по утверждению
Гуссерля, «за подлинное бытие мы принимаем то, что в
действительности есть метод, и математически конструируемый мир
идеальных сущностей постепенно вытесняет тот реальный
мир, который всегда воспринимался нашим сознанием. <...>
Причины кризиса заключены в натуралистическом
объективизме, превратившем человека в объект. Науки с их
установкой на изучение внешнего мира, с характерной для них
концепцией рациональности не в состоянии ответить на
экзистенциальные вопросы человека»2.
Н. С. Юлина, разбирая взгляды Ричарда Рорти,
акцентирует внимание на еще одной стороне неопозитивистской
программы. «Мечта аналитических философов о научности,
считает Рорти, построена на вере, а именно вере в
возможность обоснования знания. Можно сказать, что она
составляет стержень, сердцевину идеологии фундаментализма,
по-другому — идеологии верификационизма или
оправдательное™^ — поиск ясных и четких критериев
Юлина Н. С. Образы науки и поиски альтернатив демаркационизму // Вопр.
философии. — 1981. — № 5.
Цит. по: Михайлов А. А. Современная философская герменевтика. — Минск,
1984. - С. 72-74.
21
знания, демаркация истинного отложного. Провал верифи-
кационистской стратегии неопозитивистов не был
частичной неудачей одной из частных теорий. Он свидетельствовал
о невозможности обоснования знания вообще, о том, что
платоновско-декартовско-кантианская традиция
руководствовалась мифом — верила в Истину»1.
Но разае стремление к Истине не определяет характер и
направленность научного мышления? Оказывается, это
когда-то очевидное положение сегодня подвергается сомнению
рядом серьезных исследователей. Чтобы в этом убедиться,
рассмотрим две проблемы, живо дискуссируемые последнее
время в науковедении и философии науки.
Первая касается отношений, связывающих
традиционные логико-методологические представления науки с
представлениями, которые складываются в подходах, где
анализируются различные факторы и условия
(психологические, социологические, культурологические,
семиотические и пр.), определяющие функционирование или
эволюцию (формирование) науки. Проблема в том, что эти
подходы или жестко противопоставляются друг другу или
же один подход редуцируется к другому. Возражая против
такой практики, В. Казютинский пишет, «что
противопоставление логико-методологических и
социально-психологических критериев концептуальных революций, а тем
более исключение последних из философско-методологи-
ческого анализа динамики науки нельзя считать
оправданным»2.
Напротив, К. Кнорр, как показывает Л. Маркова,
увлекшись психолого-социологическим подходом, фактически
исключает из анализа науки именно логи ко
-методологические представления. «Если, — пишет Л. Маркова, —
вернуться к началу статьи и задуматься еще раз, насколько оправ-
данны экстравагантные заявления Кнорр об отсутствии в ла-
1 Юлина Н. С. Постмодернистский прагматизм Ричарда Рорти. — Долгопрудный,
1998.-С. 15.
2 Казютинский В. В. Революция в системе научно-познавательной деятельности //
Научные революции в динамике культуры. — Минск, 1987. — С. 112.
22
боратории природы как предмета изучения, истины,
объективности, воспроизводимости результатов, логики, теории
и т. д., то придется констатировать тенденцию Кнорр nojrpy-
зиться в мир эмпирии и уйти от какого бы ни было
логического, теоретического обсуждения действительно
существующих проблем»1.
Вторая проблема, отчасти связанная с первой, возникла
при обсуждении так называемого постмодернистского
проекта. Ее суть в отказе постмодернистов от фундаментальных
критериев научного познания — объективной истины,
обоснованности научного знания, возможности теоретически
не заинтересованного познания и пр. Н. С. Юлина,
анализируя взгляды Ричарда Рорти и отдельные аспекты
постмодернистского проекта, пишет: «Главное, что, по мнснию
Рорти, характеризует современную эпоху, — это крах
фундаментализма. Провал верификационистской
стратегии.неопозитивистов не был частной неудачей одной из частных
теорий. Он свидетельствовал о невозможности обоснования
знания вообще, о том, что платоновско-декартовско-канти-
анская традиция руководствовалась мифом — верила в
Истину. <...> Человеку нужно трезво посмотреть на себя и
понять, что он представляет собой не что иное, как
поэтическое существо, творящее свой мир с помощью метафор для
ориентации в среде и обретении смысла в том историческом
сообществе, в котором он живет»2.
В отличие от постмодернистов многие современные
философы науки занимают в решении указанной дилеммы
противоречивую позицию: с одной стороны, они
соглашаются, что нужно учитывать влияние на науку различны^
социокультурных и психологических факторов, но с другой —
пытаются при этом сохранить основные характеристики,
науки, полученные в рамках традиционного логико-методоло-
гического подхода, когда положительные исследования нау-
Маркова Л. А. Конструирование научного знания как социальный процесс //
2 Философия науки. — М., 1997. — Вып. 3. — С. 126—127.
Юдина Н. С. Постмодернистский прагматизм... — С. 15, 37.
23
ки еще не сложились. Вот два характерных примера —
высказывания Е. Мамчур и Н. Юлиной.
«В человеческом познании, утверждает Хайдеггер,
"действительность истолковывается в свете идей, и мир
взвешивается ценностями", и от этого факта естествознанию
никуда не уйти. Это верно, что в науке существует фильтр
объективных критериев (он действует на "длинном пробеге"
теорий), который в конце концов отсеет то, что противоречит
познаваемому объекту, что способствует неадекватной
репрезентации объекта в теории. Благодаря такому фильтру
наука и оказывается обладающей особым, по сравнению с
другими формами интеллектуальной деятельности людей,
статусом. Тем не менее изолировать научное познание от тех
культурных наслоений, которые выдержали испытание
"фильтром", оказывается невозможно»1. Итак, с одной стороны,
действие «фильтра», очевидно, это как раз опора на истину,
объективность, общезначимость, познание законов
природы, воспроизводимость опыта и т. п., с другой — признание
обусловленности науки факторами культуры, личности
ученого, языка, но такими, подчеркивает Е. Мамчур, которые
«выдержали испытания "фильтром"». Может быть, это и
так, я даже готов согласиться, но каков конкретный
механизм «фильтрации»?
«Рорти, — пишет Н. Юлина, — конечно, прав, утверждая,
что эссенциалистски и фундаменталистски обосновать
истину невозможно. Современная когнитивная культура
действительно принимает на вооружение инструментализм и
прагматизм. Поппер, тоже антифундаменталист и ярый
критик эссенциализма, говорит еще сильнее: невозможно
представить рациональные аргументы в пользу основы
рациональности — веры в разум. Последнее ввергло многих
современных философов в "отчаяния разума". Тем не менее,
понимая, может быть, больше других когнитивные трудности
обоснования истины и реализма, Поппер настаивает на при-
1 Мамчур Е. А. Предисловие // Социокультурный контекст науки. — М., 1998. —
С. 3-4.
24
нятии истины за регулятивный идеал»1. Через пару страниц,
подводя итог обсуждению, Н. Юлина пишет: «Еще раз
выразим наше убеждение: без самокорректирующих механизмов,
построенных на идеале объективной истины,
романтические философские теории (в них, показывает Юлина,
«истина» заменяется регулятивными идеалами, такими как
«образ», «метафора», «картина». — В. Р.) оказываются в
опасности превратиться в "закрытые" и сугубо идеологические
построения, в потенции могущие быть использованными
различного рода манипуляторами»2.
Я согласен, что Е. Мамчур и Н. Юлина точно
констатируют суть дилеммы: от истины (объективности,
общезначимости, обоснованности знания и пр.) отказаться нельзя, но и
иметь с ней дело, учитывая современное состояние научного
познания, трудно. Многие философы науки, признавая
безусловную пользу современных социокультурных и
психологических исследований науки, одновременно отстаивают
традиционный идеал науки, т. е. понимают науку по Канту
или даже докантиански. Для них до сих пор образцом науки
выступает математика и естествознание, а объектом —
натуралистически понимаемая природа. Но уже для самого
Канта природа — это не столько «вещь в себе», сколько то, что
возникает на пересечении творчества личности,
«категоризации» и «опыта». Так, Кант хотя и пишет, что человек «сам
связывает, синтезирует, определяет опыт», что он имеет
«возможность как бы a priori предписывать природе законы
и даже делать ее возможной», но при этом не забывает
подчеркнуть, что эта возможность не произвольна. «Однако
даже и способность чистого рассудка не в состоянии a priori
предписывать явлениям посредством одних лишь категорий
большее число законов, чем те, на которых основывается
природа вообще как закономерность явлений в
пространстве и времени. <...> Частные законы касаются эмпирически
определенных явлений и потому не могут быть целиком вы-
Юлина Н. С. Постмодернистский прагматизм... — С. 88.
2 Там же. - С. 92.
25
ведены из категорий, хотя все они им подчиняются. Для
познания частных законов вообще необходим опыт, хотя, в
свою очередь, знание об опыте вообще и о том, что может
быть познано как предмет опыта, дается нам только
упомянутыми априорными законами»1.
Но, мы знаем, Кант думал, что система категорий,
которой может пользоваться человек, константна, поскольку
определяется Творцом, да и опыт он считал ограниченным
«кругом», очерченным той же божественной личностью.
Сегодня, «стоя на плечах» историков науки и культуры, никто
не сомневается, что в ходе развития науки и категории
меняются, и тем более опыт. Знаем мы также, что то понимание
природы, которое характерно для современного
естествознания («как написанной на языке математики» и
реализуемой в технике), сложилось достаточно поздно (не раньше
XVIII—XIX вв.), что в Античности и в Средние века природа
понималась совершенно иначе (см., например, работы
А. В. Ахутина). Наконец, не секрет, что сегодня
обсуждаются проекты пересмотра естественно-научной идеи природы.
«Природа, — пишут И. Пригожий и И. Стенгерс, —
создавалась не для нас, и она не подчиняется нашей воле. Как сказал
Жак Моно, наступило время ответить за прежние авантюры
человека... последние три века процесс "познания" часто
отождествлялся с "умением манипулировать". Но
естественные науки нельзя рассматривать лишь как проекты
господства над природой. Они ведут с ней также и диалог,
целью которого вовсе не является подавления одного
собеседника другим»2. Здесь, конечно, кое-что напутано. Если уж
естественные науки создавались для овладения силами и
энергиями природы, то они как раз и являются «проектами
господства над природой». Хотя человек — дитя природы,
но, как метко заметил А. Ахутин, формулируя кредо естест-
венно-научного подхода, «в природе нет ничего принципи-
1 Кант И. Критика чистого разума //Соч.: В 6 т. — М., 1964.— Т. 3. —С. 210,313.
2 Пригожим И. Возвращенное очарование мира / И. Пригожий, И. Стенгерс //
Природа. - 1982. - № 2. - С. 95.
26
ально недоступного человеку. Человек — исчезающе малая
величина во Вселенной — несет, однако, в себе ее тайну и
ключ, с помощью которого он может властвовать над этим
джином»1. В то же время понятно, что природа, ведущая
«диалог» с человеком, который ее познает, существенно
отличается от природы, написанной на языке математики и
реализуемой в технике.
Вернемся к проблеме различения разных типов наук и
оценки их значения. Сегодня «гуманитарное знание уже
перестает рассматриваться как низшее или несовершенное по
сравнению с естественно-научным»2, происходит изменение
и реального значения разных наук. Так, относительная доля
естественных наук в общем объеме наук все больше
сокращается, а доля и значимость технических, гуманитарных и
социальных наук постоянно увеличивается. Возрастает
также значение нетрадиционных комплексных научных
дисциплин, таких, например, как экология или синергетика.
Налицо разнообразие научных дисциплин. Однако
выработанный в философско-методологической литературе идеал
«строгой» науки по-прежнему ориентирован прежде всего на
естественно-научные формы познания, прототипом
которых послужили физика и математика. В результате
методологические исследования постоянно выявляют
неадекватность этого идеала как гуманитарным и социальным наукам,
так и современным нетрадиционным научным
дисциплинам.
Еще в конце XIX — начале XX столетия была показана
ограниченность использования такого идеала организации
знания в исторической науке (Винделъбанд и Риккерт), в
психологии (Дилыпей), в социологии (М. Вебер), позднее, по
сути дела, ту же задачу в литературоведении решал М.
Бахтин, в языкознании — А. Лосев и В. Абаев. На первых этапах
обсуждения критика естественно-научного анализа в отно-
шении гуманитарных наук сводилась к следующим двум мо-
АхутинА. Понятие «природа» в античности и в Новое время. — М., 1988. — С. 20.
Шрейдер Ю. А. Указ. соч. — С. 82.
27
ментам. Гуманитарная наука изучает уникальные,
индивидуальные объекты, а естественная имеет дело лишь с
обобщенными случаями, в которых особенности единичного
случая не представлены. Объекты гуманитарных наук имеют
ценностную и рефлективную природу, т. е. теоретическое
знание об объекте, полученное исследователем, так или
иначе влияет на сам объект. Все эти моменты, например, можно
найти в исследованиях М. Бахтина1. В дальнейшем была
показана и проанализирована роль в гуманитарных науках
обобщений и абстрагирования, но параллельно
по-прежнему сохраняется представление о том, что гуманитарные
науки изучают уникальные объекты.
Если вначале (Риккерт, Дильтей) естественные и
гуманитарные науки резко противопоставлялись, рассматривались
как чужеродные, то в настоящее время между ними
устанавливаются связи. «Противопоставление гуманитарных и
естественных наук, — пишет М. Бахтин, — было опровергнуто
дальнейшим развитием гуманитарных наук.
Одновременность художественного переживания и научного изучения.
Их нельзя разорвать, но они проходят разные стадии и
степени не всегда одновременно»2. «Гуманитарные науки, —
усиливает мысль Бахтина Г. Д. Гачев, — все более прибегают
ныне к методам точных наук... идя на сближение с
естественными, пользуются методами и результатами последних»3.
Кажется, все ясно. Однако, когда М. Бахтин пытается
охарактеризовать специфику гуманитарной науки, он
опять же указывает на то, что в ней изучаются уникальные
объекты, «неповторимые индивидуальности»
(«высказывания личности»), которые по самой своей сущности не
допускают «ни каузального объяснения, ни научного предвиде-
ния»4. И хотя, действительно, гуманитарные науки исполь-
1 См.: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979. — С. 281, 285,
287, 349.
2 Там же. — С. 349.
3 Гачев Г. Д. О возможном содействии гуманитарных наук развитию
естественных // Методологические проблемы взаимодействия общественных,
естественных и технических наук. — М., 1981. — С. 109.
Бахтин M. M. Эстетика словесного творчества. — С. 285.
28
зуют в некоторых своих областях естественно-научные
методы («Гуманитарные науки скрепя сердце подались на
некоторый поклон точным наукам и впустили в себя
маленькую толику оттуда (математические методы и лингвистика,
структурализм, семиотика и т. д.)»1), тем не менее они,
во-первых, переосмысливают эти методы на свой
гуманитарный лад, во-вторых, фиксируют их малую эффективность
по сравнению с традиционными собственно гуманитарными
методами исследования. В целом приходится признать, что
не ясно, в чем же заключается специфика гуманитарных
наук и форм мышления, почему все-таки нельзя человека
или общество изучать так же, как в естественных науках,
каковы реальные отношения этих двух полярных видов
научного мышления.
Неадекватность идеала «строгой» науки особенно
заметна в нетрадиционных научных дисциплинах. С одной
стороны, их представители часто ориентируются на стандарты
естественно-научного построения знания, с другой —
реальная организация и типы этих знаний носят эмпирический
характер, описывают множество отдельных, не сводимых
друг к другу случаев, имеют различные ценностные
ориентации. Кроме того, нетрадиционные дисциплины сходны как с
естественными, техническими, так и с гуманитарными
науками. Например, теоретические конструкции
градостроительной науки явно имеют ценностную природу (в разных
градостроительных концепциях во главу угла ставят
культурологические, инженерно-технологические, эстетические,
экологические и другие требования и ценности). С одной
стороны, в градостроительной теории описываются
идеальные, обобщенные типы, относительно которых
устанавливаются градостроительные нормы, с другой — одновременно
стоит задача теоретического описания отдельных,
уникальных градостроительных структур: новых типов жилища,
экспериментальных жилых районов, реконструируемых посе-
лений и т. п.
Гачев Г. Д. Указ. соч. — С. 115.
29
Наконец, критика идеала «строгой» науки
распространилась и на саму методологию и историю науки. Сомнению
подвергаются кардинальные вопросы существования науки,
так что сегодня можно выявить две противоположные точки
зрения на дальнейшее развитие науки. Одни исследователи
пытаются отстоять исконные научные ценности —
традиционный образ науки (истинность и точность научных знаний,
их обоснованность и проверяемость, непротиворечивость), а
также традиционные представления о науке как
инструменте познания законов природы, а другие, наоборот,
подвергают эти ценности и представления сомнению и отрицанию.
Представители второго направления утверждают, что
научные ценности и представления о науке, выработанные в
конце XIX и в XX столетии, в настоящее время не обеспечивают
эффективного развития теоретического мышления,
особенно в области изучения человека и общества. Поэтому они
отказывают данным научным ценностям в жизнеспособности,
т. е. считают их неадекватными современной ситуации, или
утверждают, что то, что сейчас называют наукой, в
действительности уже не наука в традиционном смысле.
Все эти позиции, направления отражают реальное
положение дел в развитии современных научных исследований.
С одной стороны, происходит явная модификация науки,
она начинает играть другую роль в обществе, особенно при
распространении принципов и приемов исследования на
биологические и социальные явления. Устанавливается
более тесная связь науки с инженерией и проектированием,
меняются границы между различными научными
предметами, прежняя классификация наук перестает быть
эффективной, в науку включаются системотехника и учение об
управлении и нововведениях, эргономика и другие дисциплины,
не удовлетворяющие традиционным принципам построения
научных теорий, так что встает закономерный вопрос: науки
ли это? С другой стороны, все возникшие таким образом
образования появляются в результате развития науки, научных
методов исследования, только перенесенных на новые обла-
30
Г '4., .
%
3-
%
сти и явления и потому приобретающих новые формы.
Что понимать под наукой, что в нее включать, зависит
не только от самой науки, но и от различных науковедческих
дисциплин (методологии, философии, логики и т. д.), от
того, как и на основании каких принципов они сумеют за-
^ дать целостность возникших и традиционных направлений и
^научных содержаний.
Есть еще один исключительно важный момент, заставля-
/* ющий заново специфицировать естественные,
гуманитарные и социальные науки и формы научного мышления, а
также понять их единство и взаимозависимость. Все яснее
становится, что естественно-научное познание и связанная с
ним техническая деятельность «есть не просто наблюдение,
Ко активная деятельность в космосе, и их успехи
небезразличны к здоровью космоса, к гигиене Вселенной!..
Взаимоопыление проблем гуманитарных и естественных наук, —
<м развивает свою мысль Г. Гачев, — есть не прихоть праздного
$ума, но назревшая историческая потребность самого челове-
i/чества, даже исходя из простого корыстного вопроса о
возможностях и путях продолжения его существования:
выживем л и?»1
* f Таким образом, в настоящее время в философии науки
И методологии сложилась новая ситуация. Безусловно,
назрел вопрос о создании такой концепции науки и науч-
ного мышления, которая, с одной стороны, разрешала бы
указанные проблемы и трудности, с другой — обобщала
результаты, полученные в последние десятилетия (так,
были описаны механизмы и этапы развития науки,
нащупаны отдельные интересные представления,
объясняющие в методологическом, социологическом,
психологическом или культурологическом ключе различные
реальные моменты функционирования науки).
Необходимость концептуального обобщения диктуется как задачей
эффективной организации самих исследований науки,
i ' Гачев Г. Д. Указ. соч. — С. 121.
31
так и требованиями методологического обеспечения и
систематизации науки.
В рамках науковедческих дисциплин методология берет
сегодня на себя задачу осмысления нового статуса науки и ее
организации. Эта задача, с нашей точки зрения, направила
методологию на исследование не только функционирования
науки, но и ее развития. В отличие от традиционного
логического анализа теорий, знаний как готовых продуктов,
научного познания, для современной методологии вся история
науки в ее различных процессах становится объектом
исследования. При этом методология сталкивается с труднейшей
проблемой: как возможен объективный анализ истории
научных идей, представлений, понятий, знания и пр.? В
методологических исследованиях для анализа истории науки в
качестве средств применяются концептуальные схемы и
гипотезы, отражающие представления исследователей как о
самой науке, так и о процессах ее развития. В зависимости от
того, какие средства выбирают исследователи, один и тот же
текстовой материал, фиксирующий исторические
проявления науки, описывается и объясняется по-разному, и в связи
с этим в истории науки выявляются различные
закономерности и законы.
Например, по-разному понимая науку, К. Поппер и
Т. Кун различно объясняют «революционные» этапы ее
развития: Поппер рассматривает их как становление новых
теорий в результате фальсифицирующей деятельности ученых,
а Кун — как построение и образование новой «нормальной
науки» в ходе критики и отрицания рядом ученых старых
научных «парадигм» и создания новых. Любое объективное
исследование привносит дополнительные идеи и
представления, внешне чуждые имманентному движению мысли,
открытию. Объективное исследование объясняет их исходя из
каких-либо привходящих соображений. Это всегда
модернизация и схематизация, более грубая или более тонкая. В то
же время отказаться от объективного исследования,
рациональной «реконструкции истории» (по выражению И. Лака-
32
тоса) методология не может. Нереконструированная
история ее мало интересует.
Сопоставление существующих в настоящее время в
методологии концептуальных схем и представлений о науке
и ее развитии показывает, что, несмотря на наличие
резкой полемики между представителями разных
направлений методологии, логики и науковедения, каждое
направление выявило и проанализировало в своих схемах и
представлениях определенные реальные аспекты науки или ее
становления. В этом смысле схемы и представления
российских науковедов и зарубежных историков науки
А. Койре, Т. Куна, К. Поппера, И. Лакатоса и других
исследователей науки не столько отрицают друг друга,
сколько дополняют.
Поэтому цель и задачу методологического исследования
науки и ее формирования мы видим в том, чтобы
развернуть такие представления о науке и научной деятельности,
которые бы учитывали различные аспекты и
характеристики науки, полученные в сложившихся направлениях
методологии, логики и науковедения. Эти представления,
образующие своего рода концепцию, должны строиться исходя
из учета ряда соображений. Прежде всего, необходимо
выявить природу и границы естественно-научного идеала
науки.
Сегодня, характеризуя науку, исследователи, как
правило, указывают несколько ее особенностей: наука — это
специфическая форма отражения действительности, одна из
форм общественного сознания; она является
специализированной деятельностью по получению научных знаний,
выявлению законов природы, на основе которых происходит
преобразование практики (наука как производительная сила); в
науку также включают результаты познавательной
деятельности (теории, законы, картины мира) и социальную
организацию этой деятельности (наука как социальный
институт). Указанными характеристиками науки для нашей цели
трудно воспользоваться хотя бы потому, что они ориентиро-
3. Заказ №4180
33
ваны на образец естественной науки и, кроме того,
составлены из отдельных, не согласующихся друг с другом (хотя и
верных самих по себе) представлений. Новое представление
о науке должно органически включать в себя как
равноценные естественные, гуманитарные и социальные виды
научной деятельности.
Эти виды научной деятельности нужно
охарактеризовать, с одной стороны, как взаимосвязанные (в
генетическом аспекте и в ходе использования), с другой — как
специфические, особенные, различающиеся своими принципами,
методами, предметами исследования.
34
Глава 1
Авторский подход
к исследованию науки
1.1. Многообразие подходов
и форм изучения науки
В философии и науковедении наука изучалась с разными
целями и по-разному. И при этом вполне объективно.
Другое дело, что менялась как сама наука, так и задачи ее
изучения. Чтобы в этом убедиться, достаточно остановится на
рсновных вехах развития науки и ее осознания.
! В античной культуре наука только формировалась, и ее
рсознание преследовало цель конституирования этой новой
реальности. Вторая «Аналитика» и «Метафизика»
Аристотеля содержат правила и схемы, ориентируясь на которые
потенциальные ученые могли осуществлять свою
деятельность, вести познание родов бытия и получать о них знания
(известно, что для Аристотеля наука как «вторая
философия» входила в общий органон знания; но уже «Начала»
Евклида и работы Архимеда могут быть отнесены к античной на-
yjce, в значительной мере обособившейся от философии),
рримером таких правил и схем являются, например, следу-
кмцие (мы их приведем в достаточном числе, поскольку они
дам могут понадобиться позднее): «необходимо, чтобы и
доказывающаяся наука основывалась на положениях
истинных, первичных, неопосредственных, более известных и
предшествующих доказываемому, и на причинах, в силу ко-
$ррых выводится заключение», «всякая наука есть
доказывающая наука, но знание неопосредственных начал
недоказуемо», «нельзя, следовательно, вести доказательство так, что-
з*
35
бы из одного рода переходить в другой, как, например,
нельзя геометрические положения доказать при помощи
арифметики», «каждую вещь мы тогда знаем не случайным
образом, когда мы по тому, в силу чего нечто ей присуще,
познаем ее из начал, свойственных ей как таковой», «среди фигур
силлогизма первая является наиболее подходящей для
приобретения научного знания», «доказательство же исходит из
общего, индукция — из частного; однако и общее нельзя
рассматривать без посредства индукции», «наука, дающая
одновременно и знание того, что что-нибудь есть, и знание того,
почему что-нибудь есть, является более точной и высшей,
чем наука, дающая знание только того, почему что-нибудь
есть», «одна наука, наука одного рода, есть наука о том, что
слагается из начал и является частями или свойствами этих
начал, присущих сами по себе. А отличаются науки друг от
друга, если их начала не возникают ни из одних и тех же
начал, ни одно из другого», «причин же существует четыре
вида», «и наиболее руководящей из всех наук, и в большей
мере руководящей, чем всякая наука служебная, является
благо и вообще наилучшее во всей природе... Эта наука
не тождественна ни с одной из частных наук; ни одна из
других наук не исследует общую природу сущего как такового,
но все они выделяют какую-нибудь часть его (сущего) и
затем рассматривают относительно этой части то, что ей
кажется присущим; так поступают, например, науки
математические»1.
Хотя Аристотель пишет о науках как о чем-то
существующем, но античные науки еще только складывались и не
выделились из философии. Поэтому указанные здесь правила и
схемы нужно понимать не как знания о существующей
науке, а как идеал и норму. Однако у Архимеда они уже выглядят
в том числе и как знания. Конечно, Аристотель
рефлексировал какие-то сложившиеся к его времени квазинаучные
построения (например, геометрические и натурфилософские),
но все же важнее, что он эти правила и схемы строил, исходя
1 Аристотель. Метафизика. — М.; Л., 1934. — С. 21, 59; Он же. Аналитики. — М.,
1952. - С. 182, 185, 195, 198, 210, 217, 218, 239, 240, 266.
36
из общих соображений, связанных с необходимостью так
рассуждать и вести доказательства, чтобы не возникали
противоречия, а полученные знания были упорядочены.
К такого же рода «конституирующим,
нормативно-логическим знаниям» о науке относятся в Новое время
рекомендации и схемы Э. Б. де Кондильяка. «Всякая система, —
пишет он в "Трактате о системах", — есть не что иное, как
расположение различных частей какого-либо искусства или
науки в известном порядке, в котором они все взаимно
поддерживают друг друга и в котором последние части объясняются
первыми. Части, содержащие объяснение других частей,
называются принципами, и система тем более совершенна, чем
меньше число ее принципов: желательно даже, чтобы число
их принципов сводилось к одному. <...> Нет такой системы,
которая для своей пригодности не нуждалась бы в
следующих двух вещах: во-первых, в том, чтобы идеи ее были четки,
и% во-вторых, в том, чтобы она могла объяснить
явления. <...> Мы можем составлять истинные системы лишь в
ijex случаях, когда у нас имеется достаточно наблюдений,
чтобы уловить связь явлений»1.
Нетрудно заметить, что науку Кондильяк понимает
совершенно иначе, чем Аристотель. Тем не менее и здесь
главная нагрузка ложится не на описание уже сложившихся
наук, а на конструирование идеала и нормы науки. Они явно
адресуются ученым. Понятно, что нормативно-логические
^нания о науке создаются и сегодня; один из примеров,
который мы ниже рассмотрим подробнее, — рекомендации и схе-
^ы синергетики.
Кант тоже много пишет о науке (естествознании и
математике), но о науке, уже сложившейся и существенно
отличающейся от античной. При этом науку он описывает для
других целей. Его задача — не конституировать новую
научную реальность, а охарактеризовать науку, с одной стороны,
чтобы разрешить известные антиномии в сфере мышления
(к подобным способам Кант относит, например, такие, ко-
Кондильяк Э. Б. де. Трактат о системах, в которых вскрываются их недостатки и
Достоинства. - М., 1938. - С. 3, 14, 168.
37
торые приводят к противоречивым высказываниям о Боге,
душе, а также бесконечности Вселенной (известные кантов-
ские антиномии разума)), с другой стороны, чтобы
реформировать философию («метафизику») по образцу
новоевропейской науки. «Такой суд, — пишет он, — есть не что иное,
как критика самого чистого разума. <...> Задача этой
критики чистого разума состоит в попытке изменить прежний
способ исследования в метафизике, а именно совершить в ней
полную революцию, следуя примеру геометров и
естествоиспытателей. <...> Если метафизика вступит благодаря этой
критике на верный путь науки, то она сможет овладеть всеми
отраслями относящихся к ней знаний»1.
И способ исследования науки у Канта отличается от
аристотелевского. Уже имея перед собой сложившееся научное
знание и теории, он выясняет условия возможности их
существования, имея в виду решение указанных задач.
Аристотель еще не осознает роль мыслящего, Кант же, опираясь на
декартовскую новоевропейскую традицию личности,
утверждает, что именно мыслящий, как он пишет, «сам является
творцом опыта», «сам вкладывает» в объект необходимые
априорные характеристики, «сам связывает знания и
характеристики объекта». «Но свет, — пишет Кант, — открылся
тому, кто первый доказал теорему о равнобедренном
треугольнике (безразлично, был ли это Фалес или кто-то другой);
он понял, что его задача состоит не в исследовании того, что
он усматривал в фигуре или в одном лишь ее понятии, как бы
прочитывая в ней ее свойства, а в том, чтобы создать фигуру
посредством того, что он сам a priori, сообразно понятиям
мысленно вложил в нее и показал (путем построения).
Он понял, что иметь о чем-то верное априорное знание он
может лишь в том случае, если приписывает вещи только то,
что необходимо следует из вложенного им самим сообразно
его понятию. <...> Естествоиспытатели поняли, что разум
видит то, что сам создает по собственному плану, что он с
принципами своих суждений должен идти вперед согласно
1 Кант И. Критика чистого разума. — С. 76, 91—92.
38
\
постоянным законам и заставлять природу отвечать на его
вопросы, а не тащиться у нее словно на поводу, т. к. в
противном случае наблюдения, произведенные случайно, без
заранее составленного плана, не будут связаны необходимым
законом, между тем как разум ищет такой закон и нуждается в
нем. <...> Что же касается предметов, которые мыслятся
только разумом, и притом необходимо, но которые (по
крайней мере так, как их мыслит разум) вовсе не могут быть даны
в опыте, то попытки мыслить их (ведь должны же они быть
мыслимы) дадут нам затем превосходный критерий того, что
мы считаем измененным методом мышления, а именно что
мы a priori познаем о вещах лишь то, что вложено в них нами
самими»1.
Поскольку Аристотель только создавал «здание»
рационального мышления, понимание им строгости мышления
было существенно иным, чем во времена Канта. Наука еще
не отделилась от философии, математика — от других наук,
вообще научная организация знаний еще не могла
выступить в качестве идеала для мышления. Для Аристотеля более
существенными, вероятно, были конструктивные мотивы
(т. е. возможность увязать между собой создаваемые им
интеллектуальные построения — прежде всего начала); не
меньшее значение играли для него и личностные мотивы,
например, возможность реализовать собственные ценности,
идеалы, понимание целей и способов работы. Напротив, для
Канта научное мышление, прежде всего математика и
естественная наука, выступало в качестве идеала любого
строгого и обоснованного мышления. Но к XVIII в. разошлись
не только философия и наука. В самой науке наметилось
различение двух основных слоев — эмпирического и
теоретического. Третий слой — основание науки — еще не
сформировался, его функцию выполняла философия
(метафизика). Различение науки и философии, а также эмпирического
и теоретического слоев было для Канта хорошо известным,
из этого он исходил.
Кант И. Критика чистого разума. — С. 86—88.
39
Неопозитивисты (Р. Карнап, Г. Фейгль, Ф. Франк, Г. Рай-
хенбах, К. Гемпелъ, Э. Нагель и др.) изучали науку с целью ее
реформирования (обоснования). Идеал науки для них
задавался, с одной стороны, логическими построениями, с
другой — образом физики. Анализируя эту концепцию, В. Г.
Горохов пишет: «Главная идея заключалась в том, чтобы
использовать выработанные в математической логике средства
анализа языка науки вообще и физической теории прежде
всего. В качестве единицы методологического анализа была
выбрана единичная теория, понимаемая как множество
высказываний, включающих в себя язык наблюдения
(эмпирический уровень), теоретические конструкты и словарь
логических терминов (метатеоретический уровень). Последние
не несут в себе знания о какой-либо реальности, поскольку
ориентированы на описание самой теории.
Основными исходными пунктами неопозитивистской
концепции науки были редукционизм, физикализм и
демаркация науки от метафизики.
Редукционизм (в первоначальном виде) — это
утверждение о том, что теоретический словарь определяется
эксплицитно с помощью правил соответствия на базе языка
наблюдения. Этот принцип и получил название верификации, т. е.
проверки соответствия всех теоретических утверждений
опыту или эмпирическим высказываниям. <...>
Физикализм как программа создания унифицированной
науки — это сведение различных языков науки
(химического, биологического, психологического, социологического
и др.) к языку физики (2-я ступень редукции), а через него
как наиболее легко верифицируемого — к языку
наблюдения. <...>
Согласно исходному требованию {демаркации науки от
метафизики. — В. Р.) все философские теории и
высказывания должны быть изъяты из науки как бессмысленные, т. к.
они вообще не могут быть верифицированны, т. е. нельзя су-
дить об их истинности и ложности»1.
1 Горохов В. Г. Концепции современного естествознания и техники. — М., 2000. —
С. 37-40.
40
Неважно, что эта концепция была малореалистична.
На ее основе неопозитивисты описывали науку и затем
пытались ее реформировать (что, естественно, не получалось).
«Наиболее рельефно структура научной теории в
качестве единицы методологического анализа представлена
К. Гемпелем в модели теории как сложной сети. Ее
термины — это узлы; нити, связывающие их, — определения и
гипотезы, входящие в теорию. Вся эта сеть находится над
плоскостью наблюдения и закрепляется с помощью правил
интерпретации — нитей, не являющихся частью самой сети.
Функционирование теории согласно этой модели
происходит за счет движения от плоскости наблюдения через
интерпретационные нити к теоретическим терминам, затем с
помощью определений и гипотез — к другим пунктам
теоретической сети, а от них опять через интерпретационные нити
спускается к плоскости наблюдения»1.
Хотя создатель Московского методологического кружка
(ММК) Г. П. Щедровицкий критиковал неопозитивистов, в
отношении к науке с середины 60-х гг. он решает близкую
задачу — реформирования науки, но уже на базе методологии.
Но реформирование понимается им не как обоснование, а
как перестройка сложившихся наук или построение новых.
В статье 1967 г. «О специфических характеристиках
логико-методологического исследования науки» Щедровицкий
трактует функции методологии науки как ответ на запросы
«ученых-практиков», которые спрашивают у методолога:
«Что нужно сделать, чтобы проанализировать и описать
"этот" объект или объект "определенного типа"?» или «Что
нужно сделать, чтобы получить знание "определенного
типа" о таких-то объектах?»2 (Стоит отметить, что такие
вопросы ученые-практики обычно не задают, а если и
спрашивают об этом, то только в ситуациях кризиса науки, когда
привычные способы научной работы не срабатывают.)
Горохов В. Г. Концепции... — С. 41.
Щедровицкий Г. П. О специфических характеристиках
логико-методологического исследования науки // Избр. тр. — М., 1995. — С. 351.
41
Но уже в середине 60-х гг., обсуждая теорию дизайна,
Щедровицкий пишет следующее: «До последнего времени
науки, обслуживающие разные сферы человеческой
практики и инженерии, складывались, как правило, очень
медленно, стихийно, путем множества проб и отбора из них тех,
которые оказывались удачными. На это уходили столетия.
Дизайнерская практика не может ориентироваться на такой
путь постепенного становления и оформления необходимой
ей науки. Науку дизайна нужно построить, и это должно быть
сделано быстро, максимум в два-три десятилетия. <...>
Теоретики дизайна должны построить теорию дизайна
примерно так, как инженер строит или конструирует какую-либо
машину или изделие. Это значит, что они должны
спроектировать науку, обслуживающую дизайн, а потом создать ее
части и элементы в соответствии с этим общим проектом»1.
Правда, через две страницы Щедровицкий спешит
объяснить, что проектирование науки дизайна предполагает
исследование дизайнерской деятельности и обслуживающих
ее знаний.
Какое же представление о науке отвечает марксистскому
взгляду на сознательное проектирование и построение наук?
Щедровицкий отвечает так: наука представляет собой
деятельность и систему; научное мышление — это всего лишь
один из видов деятельности. На первый взгляд может
показаться, что здесь Щедровицкий просто объективно
описывает науку. Но характеристики деятельности, которые он дает,
показывают, что в этом случае сказалось влияние Канта.
Щедровицкий не мог не обратить внимание, что науку он
не столько изучает, сколько конституирует, создавая
соответствующие методологические схемы, затем эти схемы
объективируются, приписываются реальности (сравни у Канта:
ученый сам «связывает, синтезирует, определяет опыт»
и т. п., имеет «возможность как бы a priori предписывать
природе законы и даже делать ее возможной»).
1 Щедровицкий Г. П. Дизайн и его наука: «художественное конструирование» —
сегодня, что дальше? // Избр. тр. — С. 337.
42
«Называя деятельность системой и полиструктурой, —
пишет Щедровицкий, — мы стремимся задать
"категориальное лицо" научных предметов, в которых она, по
предположению, может быть схвачена и адекватно описана. Это
определение, следовательно, нельзя понимать непосредственно
объектно: говоря, что деятельность есть система, мы
характеризуем в первую очередь наши собственные способы анализа
и изображения деятельности, но при этом хотим, чтобы они
соответствовали изучаемому объекту, но опосредованно —
через научный предмет»1.
Как можно здесь понять фразу: «но опосредованно —
через научный предмет»? Думаю, так. Да, деятельность — это в
первую очередь собственные способы работы Щедровицко-
го, но нужно, чтобы они соответствовали изучаемому
объекту, например науке. Выход указал еще Маркс, утверждая, что
его прогнозы о смене капиталистической формации на
социалистическую построены со всей строгостью точной
науки. Сходно действует и Щедровицкий: чтобы наши
собственные способы анализа и изображения науки были ей
адекватны, говорит он, нужно эти способы подчинять норме
научной деятельности (которую Щедровицкий называет
«научным предметом», содержащим такие эпистемологические
единицы, как «проблемы», «задачи», «онтология», «модели»,
«факты», «знания», «методики», «средства выражения»2).
Хотя К. Поппер изучает науку с целью ее обоснования,
образ науки у него другой, чем у неопозитивистов, и другие
методы ее изучения. Идеи фальсификации и критицизма
более похожи на формы философского познания, чем
естественно-научного; но одновременно Поппер одним из первых
переходит к положительному исследованию развития науки,
а не просто пытается схватить сущность науки.
Функционирование науки, по Попперу, «заключается в том, чтобы
критиковать и опровергать теории в надежде найти ошибку, че-
му-то научиться на этой ошибке и развить новую, лучшую
Щедровицкий Г. П. Исходные представления и категориальные средства теории
деятельности // Избр. тр. — С. 245.
Там же. — С. 246.
43
теорию. История науки — это логика научных открытий,
которые представляют собой цепь сменяющих друг друга
теорий. Теория начинается с проблемы, далее следуют
подробное решение, догадка, а затем критика и исправление
ошибок. <...> Если старая теория ошибочна, то, чтобы сделать
открытие, необходима новая теория: борьба за уточнение
эмпирического базиса происходит между этим базисом и теорией,
подлежащей проверке. <...> Историк, следующий идеям По-
ппера, выискивает крупные, смелые, фальсифицируемые
теории и значительные негативные, решающие
эксперименты»1.
Кому может быть адресовано подобное представление о
науке? Вероятно, самому ученому как творческой личности.
Для целей управления наукой или выработки эффективной
научной политики оно вряд ли годится. И концепция науки
П. Фейерабенда адресована прежде всего творческой
личности, но некоторые ее положения, например касающиеся
многообразия конкурирующих теорий или отрицания
жестких правил и норм, а также диалектики новаций и традиций,
уже могут быть использованы для целей управления наукой
и выработки научной политики. «По Фейерабенду, — пишет
В. Горохов, — периодов "нормальной" науки вообще не
существует. Разнообразие мнений является неотъемлемым
свойством науки (и философии). Умножение теорий
выгодно для науки, поскольку единообразие лишает ее
критической силы, приводя к застою... открываются и развиваются
теории, противоречащие существующему представлению,
даже если оно основательно подтверждено и
общепризнанно. <...> Альтернативные идеи могут быть также
заимствованы и из прошлого: не существует идеи, сколь бы древней и
абсурдной она ни казалась, которая не могла бы
способствовать совершенствованию наших сегодняшних знаний... в
науке должно быть позволено, с одной стороны, генерировать
новые идеи, а с другой — не отказываться от тех или иных
идей, несмотря на возникающие трудности. <...> Несущест-
1 Горохов В. Г. Концепции... — С. 49.
44
вует ни одной научной идеи, утверждает Фейерабенд,
которая не была бы откуда-нибудь "украдена" в прошлом»1.
Концепция науки Т. Куна, пожалуй, еще в большей
степени, чем концепция Поппера или Фейерабенда,
представляет собой исследование науки и в определенной мере
позволяет намечать схему научной политики. «Основное
понятие этой концепции — парадигма, т. е. господствующая
теория, задающая норму, образец научного исследования в
какой-либо области науки, определенное видение мира
учеными. <...> В ответ на критику Кун уточняет это весьма
многозначное понятие, выделяя два его основных значения:
1) полная совокупность верований, ценностей, фактов,
которых придерживаются члены данного научного
сообщества (социологический смысл);
2) образцовый пример прошлых достижений науки,
заменяющих собой правила решения задач в нормальной науке
(методологический смысл). <...>
Главное звено модели развития науки, по Куну, —
экстраординарные исследования, которые проводятся, когда
профессионалы уже не могут избежать аномалий, разрушающих
существующую в науке традицию. Происходит смена
парадигм, т. к. ни одно нормальное научное исследование в
развитой науке невозможно при отсутствии парадигмы. <...>
Именно замену одной парадигмы другой Кун называет
научной революцией, приводящей к ломке существующих в науке
социальных институтов, конфликту между
конкурирующими школами научной мысли, поддерживающими разные
парадигмы... источник этой перестройки расположен вне
дисциплины, в наддисциплинарных образованиях. Об этом
свидетельствует тот факт, подчеркиваемый Куном, что именно в
период осознания кризисов ученые обращаются за помощью
к философии. <...> Революции в науке являются логическим
результатом накопления в ходе функционирования норма-
льной науки аномалий, некоторые из которых могут привес-
Горохов В. Г. Концепции... — С. 55, 56, 57.
45
ти не только к необходимости модификации теории, но и ее
замене»1.
Понятия «парадигма», «нормальная наука»,
«экстраординарные исследования» и ряд других в концепции Т. Куна —
это идеальные объекты «науки о науке», в которой
объясняются ряд фактов, интересующих науковедов, например,
конкуренция разных теорий, игнорирование
представителями одних направлений в науке критики со стороны других
направлений, устойчивые периоды развития науки, научные
революции и др. Другой пример «науки о науке»
представляет собой эволюционная концепция науки С. Тулмина2. Дело
в том, что начиная с конца XIX, но главным образом в
XX столетии философское осмысление науки отходит на
второй план, а на его место приходит исследование науки,
т. е. создаются разные варианты «науки о науке». В этот же
период формируются «философия науки» и «методология
науки» — комплексные дисциплины, в которых или на
философской, или на методологической основе обсуждается
природа науки, формулируются и реализуются программы
ее исследования, строятся нормы и программы развития
науки. Часто исследователи, говоря о философии науки или
методологии науки, включают в эти дисциплины все три
указанных здесь типа работ.
Наконец, концепция науки И. Лакатоса, помимо многих
из указанных здесь моментов, вводит в игру и такой важный
компонент, как философская или методологическая
«концептуализация науки», которую Лакатос называет
«исследовательской программой». Концептуализация
науки, в отличие от «тела» науки, т. е. самих научных способов
работы и построений, представляет собой осознание и
описание науки, в результате и создаются различные модели,
концепции или теории науки. Лакатос не просто предлагает
новую концепцию науки (это делали до него многие), но и
включает в состав науки такой элемент, как отображение на-
уки, направляющее и нормирующее научную деятельность.
1 Горохов В. Г. Концепции... — С. 65—68.
2 Там же. — С. 69—76.
46
По Лакатосу, «совершенствование логического механизма
теорий в процессе их функционирования происходит при
столкновении с противоречащими контрпримерами и
аномалиями, превращение этих контрпримеров в
подтверждающие примеры, т. е. новые факты, выявление скрытых
посылок и лемм и т. д. <...> Фундаментальной единицей
методологического анализа, с точки зрения Лакатоса, должна быть
не изолированная теория, а исследовательская программа,
представляющая собой серию взаимосвязанных теорий.
Именно в пределах исследовательской программы одна
теория должна быть заменена лучшей теорией. <...>
Исследовательская программа состоит из методологических правил,
одни из которых указывают, каких путей следует избегать
(отрицательная эвристика), а другие — какими путями
следовать (положительная эвристика). <...> Аномалии, или
контрпримеры, должны вызывать изменения лишь в
защитном поясе вспомогательных гипотез, которым защищено
жесткое ядро программы... решение непреодолимой для
данной программы аномалии внутри соперничающей
программы (аномалия превращается в контрпример —
опровергающий пример). В этом случае возможна замена старой
исследовательской программы на новую, т. е. научная
революция»1.
1.2. Наука как объект
эпистемологии
и конституирования
Подводя итог этому краткому обзору хорошо известных в
литературе концепций науки, можно отметить следующие
моменты. Хотя каждая из здесь указанных концепций
по-разному объясняет природу науки, ее функционирова-
Горохов В. Г. Концепции... — С. 50—53.
47
ние и развитие, во всех концепциях под наукой понимается
прежде всего естественная наука. С одной стороны, такое
истолкование науки дает определенные преимущества,
поскольку естественные науки изучены лучше всего и кажутся
в сравнении с другими типами наук подлинной, настоящей
наукой, но, с другой стороны, как выше отмечалось, это
приводит к ряду трудных проблем. К их числу А. В. Юревич
добавляет еще одну. «Вероятно, на судьбе отечественного
науковедения, — пишет он, — сказалось и то обстоятельство,
что оно традиционно было ориентировано на обобщение
опыта естественной науки и выдачу ей рекомендаций по
поводу того, как правильнее развиваться, при очевидном
игнорировании социогуманитарной науки как второстепенной.
В современной России социогуманитарные науки
востребованы куда больше, чем естественные, что выражается в
динамике количества студентов, аспирантов, докторантов,
исследовательских центров и т. п. Отечественное
науковедение, в основном ориентированное на изучение опыта
естествознания, переживает кризис вместе с ним... оно
продемонстрировало регидную привязанность к естественной науке
как объекту изучения, что негативно отразилось на его
судьбе»1.
Второе наблюдение менее очевидно. Рассмотренные
здесь основные концепции науки не столько отрицают друг
друга, сколько дополняют. Правда, это утверждение
делается в особой позиции: я заинтересован в том, чтобы снять в
собственном знании о науке все ценное, что было получено
до меня философами и исследователями науки. Снять же
означает заново обсудить и получить все элементы и
содержания, которые есть в каждой из концепций науки и значимы
в рамках моего собственного подхода (методологии).
В этом смысле наука для меня не существует сама по себе вне
моего опыта ее изучения. Напротив, вероятно, для Е. Мам-
1 Юревич А. В. Науковедческая «башня», или Еще раз о предмете и структуре
науковедения // Науковедение и новые тенденции в развитии российской науки. —
М., 2005. - С. 47.
48
чур наука, как и любой другой объект, существует сама по
себе, а познание дает о ней объективное знание.
Вопрос об объективности научного знания, пишет она,
«о его истинности является центральным для современных
дискуссий по поводу статуса науки и статуса классической
эпистемологии. <...> Эпистемологическая объективность
может быть определена как адекватность знания
действительности. <...> Такая объективность является синонимом
правильности теории, ее относительной истинности. <...>
Понимание цели науки (очевидно, и науки о науке? — В. Р.)
как получения знания, адекватного действительности,
зиждется на предположении о существовании внешнего мира,
независимого от нашего сознания. Говорят, что этот
постулат устарел, что современная эпистемология должна
отказаться от него. <...> Да, познаваемый нами мир (т. е. мир
нашего знания, или — что то же самое — "эмпирическая
реальность" (Д'Эспанья); "действительность" (Г. Рот); "мир
феноменов" (Кант)) — это наша конструкция. Это так. Но это
как раз то, что мы и стремились обосновать, поскольку это
просто другое словесное выражение развиваемой в данной
работе мысли о том, что в научном познании не достигается
объектного описания, что в этом смысле знание субъектно.
(Хотя утверждение, что мы познаем культуру, а не объект, —
преувеличение: через призму культуры мы познаем все-таки
объект, несмотря на то что знание о нем неизбежно содержит
в себе "культурный след".) Все это известно давно и, как уже
многократно отмечалось в книге, называется культурной
релятивностью научного знания. Но делать на основании этого
верного положения вывод о том, что устарел тезис о
существовании самого внешнего мира, неправомерно»1.
Безусловно, наука существует сама по себе, независимо
от нашего сознания. Но как, спрашивается, она нам дана?
Только в контексте нашего культурного опыта и практики.
Вне их мы про науку ничего не знаем и сказать о ней ничего
не можем, кроме того, что наука — одна из кантианских «ве-
Мамчур Е. А. Объективность науки... — С. 7, 11, 26, 222—223.
4. Заказ №4180
49
щей в себе», поскольку мы науку мыслим. То же самое
приходится утверждать и относительно объектов природы. Они
нам даны только в контексте нашего опыта и практики,
познать их сущность саму по себе, как таковую мы не можем.
Е. Мамчур, очевидно, думает иначе. «Действующий в науке
фильтр, — пишет она, — способен "выбраковывать" то, что
не является адекватным действительности. Причем не
только то, что кажется таковым представителям новой
культуры, но что на самом деле является неверным. Утверждения
Аристотеля о том, что тела падают с разным ускорением,
зависящим от массы падающих тел, были неверны не только с
точки зрения новой физики. Они были неверны и в эпоху
Аристотеля. Правда, в Античности они считались
истинными. Но ведь и в Античности, как и в Новое время, тела падали
с одинаковым ускорением»1.
Замечательное рассуждение. Но откуда Е. Мамчур знает,
что тела падают с одинаковым ускорением? Она что, Господь
Бог? Потребовались эксперименты Галилея и работы
Гюйгенса, а также специальные рассуждения, которые
описывает сама Мамчур, чтобы можно было, во-первых, создать
условия, в которых наблюдался данный эффект, во-вторых,
принять новые факты. «Многое, — пишет Мамчур, —
оставалось непонятным в отношении самого
экспериментального факта. Почему все-таки тяжелые и легкие тела падают с
одинаковым ускорением? Для того чтобы это объяснить,
нужно было ввести в рассмотрение представление о
гравитационной и инертной массах и доказать их равенство (это
было сделано позднее Ньютоном). Тогда рассматриваемый
факт получал красивое и убедительное объяснение: тела
более тяжелые (имеющие большую гравитационную массу)
имеют и большую инертную массу. А она характеризует
сопротивление тела движению. Тело более тяжелое,
обладающее большей гравитационной массой, "стремится" и падать
быстрее, но его большая инерционная масса "не дает" ему
это сделать»2.
1 Мамчур Е. Л. Объективность науки... — С. 219—220.
2 Там же. — С. 176.
50
Аристотель имел в виду и конституировал совершенно
другую практику, включающую два основных элемента —
непротиворечивые рассуждения и подтверждающие их
наблюдения. В ее рамках тела разного веса падали с разным
ускорением, что и подтверждалось соответствующими
наблюдениями вплоть до Леонардо да Винчи. По мнению Аристотеля,
пишут А. Т. Григорьян и В. П. Зубов, «различие скоростей
падения в материальной среде обусловлено только тем, что
более "тяжелые" тела одинакового объема и одинаковой
формы легче "разделяют среду своей силой". Это условие
отпадает в случае падения тел в пустоте. "Следовательно, в
пустоте все будет иметь равную скорость". "Но это
невозможно", — заключил Аристотель. <...> В своих рассуждениях
Аристотель и его последователи почти не вдавались в более
конкретное рассмотрение движения "легких" тел. Их
интересовало движение падающих или брошенных тяжелыхтсл,
в связи с ним ставились вопросы о скорости и т. п. В крайнем
случае лишь добавлялось, что сказанное mutatis mutandis
относится и к "легким" телам»1.
Думаю, помимо указанных двух, станут возможны и
другие «законы» падения, при условии, что со временем удастся
создать новые практики. Самого по себе закона свободного
падения тел не существует. Аристотелевский закон был
не менее эффективным для античной культуры, чем галиле-
евский является для нашей. «Не имеет смысла, — пишет
Хайдеггер, — говорить, что современная наука точнее
античной. Также нельзя сказать, будто галилеевское учение о
свободном падении тел истинно, а учение Аристотеля о
стремлении легких тел вверх ложно; ибо греческое восприятие
сущности тела, места и соотношения обоих покоится на
другом истолковании истины сущего и обусловливает
соответственно другой способ видения и изучения природных
процессов. Никому не придет в голову утверждать, что шекспи-
ровская поэзия пошла дальше эсхиловской. Но еще немыс-
Григоръян А. Т. Очерки развития основных понятий механики / А. Т. Григорьян,
В. П. Зубов. - М., 1962. - С. 86, 95.
4*
51
лимее говорить, будто новоевропейское восприятие сущего
вернее греческого»1.
Е. Мамчур много пишет в своей книге об исторической
преемственности и наследовании, которые, с ее точки
зрения, подтверждают концепцию объективного познания
действительности: преемственность ведет к тому, что ученые
постепенно вышелушивают из «скорлупы» бытия «ядра»
сущности. «Мы уже не думаем, что атомы имеют крючки и
петельки, как думали Левкипп и Демокрит, так же как не
думаем, что они ведут себя как герои античной трагедии.
Все это ушло в прошлое и стало достоянием истории науки.
Но нечто осталось непреходящим, оно было
ассимилировано более поздними этапами развития науки и навсегда
вошло в систему научного знания. Мы говорим об идее атома»2.
Но идея атома или какого-нибудь другого явления — это
не знание о природе, а культурно и исторически
обусловленный способ познания. И как такой способ познания он,
во-первых, может транслироваться в культуре, во-вторых,
сойти с исторической сцены, если станет неэффективным,
в-третьих, включенный в другие современные способы
познания, так трансформироваться, что соответствующая идея
атома станет совсем не похожа на исходную античную идею
(реально это и произошло). Тем не менее, вероятно, все же
можно говорить об увеличении познавательной силы и
возможностей науки в плане изучения определенного явления,
но в рамках одной научной и культурной традиции. Е. Мамчур
отчасти права, поскольку она все время имеет в виду
естественную науку и связанную с ней техногенную реальность.
Поэтому-то в качестве одного из основных критериев
объективности научного знания она выставляет эксперимент и
техническую практику. «Большую роль в изменении
стандартов и норм научности играет экспериментальное начало
(под которым в данном случае имеется в виду не только
эксперимент, но и использование теоретических результатов в
практике, их техническое применение). Накапливаются ре-
1 Хайдеггер М. Время картины мира // Время и бытие. — М, 1993. — С. 42.
2 Мамчур Е. А. Объективность науки... — С. 213.
52
зультаты наблюдений, которые заставляют усомниться в
адекватности действительности существующей картины
мира, а значит, и в критериях оценки и принятия
теоретических утверждений, на основе которых эта картина была
сформирована»J.
Вообще-то, понять Мамчур можно: успехи техники,
опирающейся на естествознание, каждый день подтверждают
физическую реальность. Более того, как показывает в своих
статьях В. А. Беляев, эту реальность подтверждает не только
современная техника, ее удостоверяет в целом техногенная
цивилизация.
«Современная экспериментальная наука, — пишет
В. Беляев, — потому и достигла таких глубин в макро- и
микромире, что ее познавательные инфраструктуры (грубо
говоря, инструменты познания) основаны на технике и
технологии современной техногенной цивилизации. Но
техногенная цивилизация не стала бы содержать и развивать
экспериментальную науку, если бы не получила от нее
согласие на поставку прикладной науки и техники.
Следовательно, без техногенной цивилизации объем и глубина
познавательных возможностей современной
экспериментальной науки были бы на несколько порядков меньше.
Можно сказать, что техногенная цивилизация является
интегральным инструментом познания современной
экспериментальной науки.
Во-вторых, степень опровергаемости объективных истин
напрямую зависит от степени их объективированности.
На этом принципе основана суть экспериментальности.
Эксперимент есть объективация по определению. Можно даже
сказать, что суть эксперимента составляет сама
объективация. Эксперимент ставят в первую очередь для того, чтобы
проверить существование научной истины в качестве
объективной реальности — в качестве объективации. Борьба кон-
цепций экспериментальной науки неизбежно становится
1 Мамчур Е. А. Объективность науки... — С. 215.
53
борьбой их объективации. Наиболее очевидный способ
объективации науки — это техника.
Если соединить сказанное относительно объективации с
тем, что сказано относительно объема опровергающей
эмпирической реальности, то станет ясно: создание техники
является не только, даже не столько принуждением
социальности, в которой существует современная наука, сколько ее
внутренним императивом к расширению и углублению
пространства своих объективации и, следовательно, к
расширению и углублению пространства соизмерения научных
концепций, к расширению и углублению статуса их
объективности.
Этот императив и реализует в себе наука как
когнитивный модус техногенной цивилизации. Техногенная
цивилизация выступает в этом случае как социальный модус науки.
Это и есть экзотерический путь в науке. Почему, несмотря на
то что внутренний императив науки направлен скорее в
сторону экзотерического пути, существует эзотерический путь
(его демонстрируют те, кто, например, как Е. Мамчур,
утверждают что фундаментальное естествознание в отличие от
прикладного имеет своей целью познание объективной
действительности такой, как она есть сама по себе\ — В. Р.)?
И не только существует, но отчаянно защищается научной
элитой? Очевидно потому, что эзотерический путь — это
путь чистоты научной истины, своеобразное научное
монашество. Эзотерические пути существуют во всех традициях.
По этим путям идут те, кто хочет максимально слиться с той
реальностью, которая задана принципами традиции. В
религиозной традиции — это путь чистоты веры, слияния с
Богом. В научной традиции — это путь чистоты научной
истины, слияния с Объективностью. <...>
Самое печальное из того, что сопровождает сегодня
идущего эзотерическим путем науки, — это то, что его доступ к
научной истине (а значит, и к слиянию с ее чистотой) напря-
1 Мамчур Е. А. Необоснованные претензии ниспровергателей естествознания /
Е. А. Мамчур, Л. Б. Баженов, В. А. Лекторский // Судьбы естествознания:
современные дискуссии. — М., 2000.
54
мую зависит от материальной поддержки социумом
института науки. Казалось бы, иди себе к чистоте научной истины,
но нужны научные центры, лаборатории, библиотеки,
которые идущий не может ни построить, ни содержать в
одиночку. Не может их построить и содержать даже научное
сообщество в целом (для этого нужен объемлющий социум).
А именно через них сейчас с неизбежностью пролегает путь
к чистоте научной истины. Кто сейчас сможет идти к чистоте
научной истины через экспериментальную физику без
целого научно-промышленного комплекса?..
Из того, что наука не является индивидуальным
предприятием, следует, что наука по определению является
социально-когнитивной традицией определенного типа. Ее истина
существует не сама для себя, а как внутренняя истина этой
социально-когнитивной традиции. До тех пор пока
существует такая традиция, до тех пор существует и осмысленность
научной истины. До тех пор пока существует осмысленность
научной истины, до тех пор она будет формировать науку как
социально-когнитивную традицию.
Любая истина, не только научная, существует как истина
какой-то традиции. Но для науки это верно более, чем для
какой-либо другой традиции. Это определяется сущностью
научной истины как стратегическим принципом научной
традиции.
Наука ищет предельно объективной истины. Такой
истины, которая может быть доказана. Но что такое
доказательство? Это способ приведения к очевидности. Причем такого
приведения к очевидности, которое минимально зависит, а в
пределе вообще не зависит от того, кто приводит к
очевидности. Именно на принципе такого доказательства держится
научная истина.
В этом смысле научную традицию нужно определить как
волю к объективной, предельно объективируемой истине.
Еще раз нужно подчеркнуть, что следует говорить не "наука
есть воля к предельно объективируемой истине", а "научная
55
традиция есть воля в предельно объективируемой истине".
Этим удерживается социальная сущность науки.
Наука — это социально-когнитивная традиция, главным
конституирующим принципом которой является
стремление к предельно объективируемой истине.
Что является социальным достоинством такой истины?
Что позволило на ней как на принципе организовать особый
тип социальности? Ее организующий, удерживающий,
устанавливающий, упорядочивающий характер. Она создает
социально-когнитивное поле определенного типа
устойчивости. Как в самом начале европейской научной традиции, так
и в современной науке главным социальным смыслом науки
было прекращение "борьбы мнений", переход от мнения к
знанию. В современной науке это называется переходом к
научной полемике. Надо обратить внимание, что так
поставленная задача научной традиции является одновременно
экзистенциальной задачей, задачей человека найти почву в
этой жизни, стать по ту сторону слепой борьбы мнений,
стать по ту сторону фундаментальной неустойчивости жизни
или вообще стать по ту строну добра и зла. <...>
Но наука всегда существовала в контексте определенных
культур, в которых наряду со способами прекращения
борьбы мнений и борьбы всех против всех, предоставляемыми
наукой, существовали другие способы решения той же
задачи. Принципы научной традиции вырабатывались
постепенно и существовали в виде симбиоза с другими
принципами. В этом смысле можно говорить об исторических типах
научной рациональности.
Первый принципиальный поворот в этом процессе
произошел с новоевропейским поворотом в культуре.
Европейская культура стратегически направила себя на земную
реальность, а значит, задача прекращения борьбы мнений и
борьбы всех против всех приобрела более объектный
характер. Именно при этом повороте наука стала приобретать все
большую актуальность и адекватность общекультурной
задаче. До тех пор пока европейская культура была стратегически
56
направлена от земной реальности, наука могла быть только
тактическим средством, потому что ее принцип стремления
к предельно объективной истине всегда ограничивался при
переходе к вере. Теперь же наука получала полные права.
Принцип веротерпимости задал земную реальность как
преимущественную область, где должно происходить
прекращение войны всех против всех. Задача европейской научной
традиции и задача европейской общекультурной традиции
становились одной задачей.
Второй принципиальный поворот в этом процессе
произошел на волне либерально-эгалитарного процесса XIX в.
На арену социальной жизни вышли массы. Включаясь в
круговорот европейского общекультурного процесса, они явно
или неявно, в том или ином отношении требовали перевода
очевидностей культуры на язык масс. В отношении научной
традиции это означало переход к промышленной
революции, к веку техники и технологии. Техника и технология,
построенная на принципах науки, — это самый очевидный,
самый материально ощущаемый и одновременно самый
материально эффективный способ существования масс внутри
научной традиции. Техногенная цивилизация, которая при
этом выросла, была результатом расширения научной
традиции до размеров европейской цивилизации в целом.
Техногенная цивилизация — это научная традиция с участием
самых широких масс.
При этом принципиально новые возможности получили
не только массы. Их получила и научная традиция в узком
смысле слова. Истина научной традиции напрямую зависит
от своих возможностей иметь доступ к объектным
реальностям и совершенствованию машин доказательства. В этом
отношении наука новейшего времени получила
принципиально более мощные средства от техногенной цивилизации.
Именно от техногенной цивилизации в целом, а не от
каких-то ее институтов. Техника и технология современной
экспериментальной науки (особенно фундаментальной)
57
основана на научной, технической и жизненной культуре
современной цивилизации в целом»1.
Таким образом, получается, что физическую реальность,
а следовательно, и веру в ее подлинное существование
(бытие как таковое) подтверждает не только эксперимент и
техника, но и вся наша техногенная цивилизация. Тогда, может
быть, Степин и Мамчур со товарищи правы, утверждая, что
именно естествознание — единственная настоящая наука, а
описываемые ею объекты суть объективная реальность?
Этому взгляду на вещи можно противопоставить много
разных аргументов «против» и другой альтернативный подход.
Сама Е. Мамчур, обсуждая критерии истинности
(правильности) современного научного знания, помимо
эксперимента и техники, указывает на ряд субъективных и
культурных факторов. В их число входят принципы: «простоты»,
«единства научного знания», «возможности получить доступ
к финансовым ресурсам», «удобства и простоты
оперирования языком науки», «эффективной организация знания»,
«точности предсказания», «широты поля приложимости
теории», «математической строгости», «способности решать
проблемы», «совершенства и красоты теории»,
«теологического соответствия», «соответствия культуре»2. Одни из этих
принципов культурно обусловлены, а другие по-разному
(часто прямо противоположно) понимаются.
Теперь вопрос о типе социальности. Да, наша культура
тесно связана с естествознанием и техникой и
потреблением, основанным на индустриальном техническом
производстве. Но, во-первых, техногенная цивилизация, как и все
остальные, не вечна; судя по многим признакам, она
завершает свое развитие, переживает глубокий кризис,
обнаружив массу негативных тенденций и последствий. Во-вторых,
в лоне новоевропейской культуры и мировой цивилизации
1 Беляев В. А. Социальная сущность науки // Кентавр. — 2005. — № 36. —
С. 65-67.
2 Мамчур Е. А. Необоснованные претензии ниспровергателей естествознания /
Е. А. Мамчур, Л. Б. Баженов, В. А. Лекторский// Судьбы естествознания:
современные дискуссии. — М., 2000.
58
сегодня налицо много других нетехногенных тенденций и
процессов — процессы глобализации, дифференциация
культур, субкультур и отдельных образов жизни и стилей,
альтернативные социальные и общественные движения,
культивирование гуманитарно ориентированных новых
форм жизни и пр.
Немаловажно и такое соображение. Известно, что, хотя
экспансия естествознания шла успешно и продолжается и в
наше время, все же в ряде областей она натолкнулась на
непреодолимые препятствия. В результате начиная с конца
XIX в. формируется территория, так сказать, свободная от
власти естествознания (гуманитарная и социальная наука и
практики, эзотерическая наука и практики). Эта территория
не только все время расширяется, заставляя представителей
естествознания отступать и защищаться, но и начинает
угрожать самому существованию естествознания. Более того, как
показывает Хайдеггер, победа естествознания и техники
оказалась пирровой: возникшая социальная
действительность не только не напоминает управляемую машину, на
которой творцы техногенной цивилизации собирались быстро
доехать до рая, но и, напротив, превращает человека (и
природу планеты) в «постав», угрожая его жизни, лишая
свободы.
1.3. Принципы изучения науки
Но нельзя меня понимать так, что я против
естествознания. Я за науку, но науку новую, понимаемую иначе,
включающую в себя на равных правах и античные науки, и
естествознание, и гуманитарные науки, и социальные, и
нетрадиционные, например эзотерические. Полемизируя со своими
коллегами в Институте философии, я изложил схему науки,
каждый тип которой был прагматически ориентирован в
59
рамках отдельного социального проекта. Конкретно я
говорил следующее.
Разве Платон или Аристотель не решали чисто
прагматическую культурную задачу? Были изобретены рассуждения,
которые вели свободные личности. Правил, регулирующих
рассуждения, не существовало, в результате парадокс на
парадоксе, и ни в чем нельзя было быть уверенным. Аристотель,
создавая логику и античные науки, действует (конечно, это
утверждение я делаю в ретроспективной позиции) в рамках
античного культурного проекта.
Естественная наука создавалась в рамках уже другого,
новоевропейского проекта — овладения силами и энергиями
природы. Именно в этом контексте формировались и
эксперимент, и естественно-научная теория, и идеалы
естествознания, а также познания. Познания, которое почему-то сегодня
некоторыми философами и учеными понимается как
объективное и незаинтересованное. Ничего себе незаинтересованное!
На основе этого незаинтересованного изучения мы уже почти
изменили облик нашей планеты, создали вторую природу,
фантастические машины, поставили человечество на грань
уничтожения. Современные исследования показывают, что
каждый тип науки (античная, естественная, гуманитарная,
социальная) создавался в рамках определенного культурного
проекта, решая определенные прагматические задачи.
Есть, правда, другая сторона вопроса. А именно проблема
развития и преемственности науки. Для объяснения последних
и было построено инвариантное представление науки, в
котором не учитываются различия типов наук и их прагматическая
и культурная обусловленность. Я этот инвариант называю
«генетическим ядром науки» и включаю в него установку на
познание, описание определенной предметной области,
построение категорий и идеальных объектов, сведение в теории более
сложных случаев к более простым и далее к идеальным
объектам, разворачивание на основе этих сведений системы
теоретических знаний, обоснование всего построения на основе
принятых в данное время критериев научности. На мой взгляд,
60
трехслойная схема науки, развитая Вячеславом Семеновичем,
описывает именно инвариант наук.
В генетической реконструкции процесс формирования
отдельных типов наук выглядит так. В античной философии
складывается как генетическое ядро науки, так и античный
тип науки. В Средние века, как показала Светлана Неретина,
формируется «верующий разум», в рамках которого античное
генетичное ядро существенно трансформируется: меняется
логика, включая в себя идею двуосмысленности, по-новому
понимается научное обоснование, существенно меняются
категории, знания становятся этически нагруженными. Во, тем
не менее, все основные характеристики этого ядра
сохраняются.
В Новое время происходит следующая трансформация
генетического ядра науки. Во-первых, изменяется понимание
научной истины: к логической обоснованности добавляется
требование экспериментального обоснования научных знаний.
Во-вторых, меняются категории и онтология, поскольку
основным объектом изучения объявляются процессы природы.
В-третьих, существенно меняются представления о научной
организации знаний. Но опять же основные характеристики
генетического ядра науки сохраняются: здесь, правда, можно
заметить, что это ядро так и выделяется: генетическое
ядро — это и есть тот инвариант науки, который у дается
выделить, анализируя ее развитие.
Очередная трансформация генетического ядра науки
падает на конец XIX, начало и середину XX вв., когда формируются
гуманитарные и социальные науки. Здесь требование
экспериментального обоснования научных знаний, характерное для
естественно-научного идеала, отходит на второй план или
вообще опускается, зато выдвигаются требования
последовательного проведения позиции ученого, рефлексивности научного
знания, влияющего на свой объект, принципиального учета
гуманитарной и социальной природы изучаемых явлении.
Соответственно меняется понимание категорий, логики научного
познания, структуры научной теории. Так вот, с одной точки зре-
61
ния, т. е. когда мы рассматриваем науку инвариантно, как
генетическое ядро, наука, конечно, автономна и константна.
С другой — когда мы рассматриваем, что происходит с наукой
в разных культурах, когда мы анализируем науку в качестве
средства решения разных социальных проектов, нет одной
науки, а есть много прагматически ориентированных типов наук.
В настоящее время обнаружились принципиальные, можно
даже сказать, угрожающие недостатки социального проекта
«овладения природой», и в противовес этому складывается
новый социальный проект «выживания и контролируемого,
осмысленного развития человечества». Однако реализация этого
нового проекта предельно затруднена технократическим
дискурсом, в рамках которого всеми институциональными
средствами пропагандируются вышеназванные мифы науки.
Поэтому если мы с вами хотим ответить на вызовы времени и мо-
дернити, то необходимо, во-первых, развести естественные
науки и технократический дискурс (все же это не одно и то
же), вывести представителей естествознания и философии
науки из-под гипноза технократического дискурса, во-вторых,
ориентировать науку (разные типы наук) на новый социальный
проект. Впрочем, это давно уже происходит, но только в
областях реальной научной работы и тех форм осознания науки,
представителям которых с трудом, но все же удалось
вырваться из железных и наркотических объятий
естественно-научного понимания и технократического дискурса.
В рамках этого коперниканского поворота науки и форм ее
осознания в сторону нового социального проекта, на мой взгляд,
снова будет возрастать роль философии и особенно
методологии науки, с чем будет связано и возвышение роли Разума, но
понимаемого иначе, чем в эпоху Просвещения, о чем здесь столь
интересно говорила П. П. Гайденко. Кроме того, ученым
придется освоить более сложную методологию научной работы,
включающую в себя сознательное использование разных идеалов
науки, анализ последствий научно-инженерной и других научно
ориентированных видов практической деятельности и,
наконец, в той или иной мере рефлексию характера и границ научной
62
деятельности. Следовательно, я прогнозирую выдвижение в
XXI в. на первый план гуманитарно-социальных наук и
методологии, конечно, под зонтиком и водительством обновленной
философии. Отсюда и наша с вами ответственность за судьбы
науки .
Но вот какое соображение в ответ на это высказал В.
Беляев.
«Судя по контексту рассуждений Розина, — пишет он, —
техногенная цивилизация является определенным
культурным проектом, использовавшим науку, а не способом
реализации внутренней логики самой науки. С точки зрения
науки как социально-когнитивной традиции это не так. Я
попытаюсь показать это.
Суть объективной научной истины, как она предельно
выражена в принципах естественных наук, состоит в том,
чтобы образовывать единое пространство объективации, ту
самую объективную реальность, которая с точки зрения
классического естествознания единственна и неотменима.
Единственности и неотменимости этой реальности
соответствует единственность и неотменимость
естественно-научной истины. Это та самая единственность и неотменимость,
о которую много раз разбивали себе головы ученые, шедшие
путем самореализации через науку и узнававшие, что их
открытия уже были совершены ранее другими и,
следовательно, науке не нужны. Это та самая земная реальность, та самая
единственность и неотменимость земной жизни, которая
веками терзала человеческие умы.
До тех пор пока цивилизация (какого бы типа она ни
была) стратегически направлена на земную реальность,
ведет свое существование через земную реальность, она будет
существовать по типу научной социально-когнитивной
традиции, а ее истина будет по преимуществу научной истиной.
Не случайно техногенная цивилизация есть земная цивили-
зация. Не случайно она родилась из распада христианской
' Розин В. М. Типы и дискурсы научного мышления. — М., 2000.
63
теократической цивилизации, направленной от земной
реальности. Техногенная цивилизация является реализацией
стратегии на поиск единой для всех реальности и истины при
условии запрета опыта трансцендентного. Точнее, опыт
трансцендентного не запрещен, но находится вне всеобщей
реальности и истины этой цивилизации. Ибо техногенная
цивилизация есть одновременно цивилизация масс, для
которых опыт трансцендентного предельно проблематичен.
Это цивилизация великого инквизитора Достоевского,
спасающего всех, а не избранных, реализованная на
рациональных основаниях. Эти основания были сформулированы в
философии Канта, связавшего запрет на опыт
трансцендентного со стратегией к вечному миру. В русской
религиозной философии те, кто хотел философского выхода за
пределы земной реальности и возврата опыта трансцендентного,
выступали одновременно против великого инквизитора и
против Канта.
Естественные науки, технократический дискурс и вся
технико-технологическая инфраструктура современной
цивилизации занимают в этом смысле фундаментальное место.
Именно они на самом нижнем уровне реализуют принципы
образования единой и неотменимой объективной
реальности и истины. До тех пор пока современная цивилизация
будет направлена на такую реальность и истину, она будет
техногенной цивилизацией в своем основании. А удерживает ее
как цивилизацию такого типа остающееся стремление к
вечному миру и стремление реализовать этот мир на уровне
земной реальности.
Если Розин в новом социальном проекте не предполагает
изменить направление цивилизации и направить ее от
земной реальности, то это означает, что стратегически наука
вообще и естественная наука в частности будут занимать в
цивилизации то же самое место. Тип цивилизации в этом
отношении не изменится. Так как же именно может изменить тип
цивилизации новый социальный проект?»1
' Беляев В. А. Социальная сущность науки. — С. 69.
64
Соображения Беляева вполне убедительны. Конечно,
переключение науки на новый социальный проект
невозможно без кардинального переустройства (трансформации)
нашей техногенной цивилизации. В недавно вышедшей в
«Вопросах философии» статье я завершил свои размышления
следующим пассажем.
И все же, думаю, надежда существует. Во-первых,
нарастание отрицательных и катастрофических последствий
технологического развития рано или поздно (естественно, лучше,
чтобы это произошло пораньше) заставит людей задуматься
над причинами неблагополучия и попытаться изменить свой
образ жизни. Во-вторых, элиты современной цивилизации
(философы, ученые, политики, менеджеры, государственные
деятели и др.) постепенно будут приходить к пониманию
серьезности ситуации и начнут искать новые формы поведения и
способы решения задач.
Анализ показывает, что техника в широком понимании
является сверхсложной органической системой. Хотя в нее
встроены искусственные механизмы (например, формы
осознания и системы социального воздействия), думать, что с их
помощью можно управлять или просто контролируемо влиять на
технологическое развитие было бы наивным. По сути, решение
состояло бы в том, чтобы поменять наш тип цивилизации на
другой, более осмысленный и безопасный. Но цивилизация
не объект демиургических действий, да и где взять нужного
демиурга ? Проблематичными являются даже более простые
усилия, например направленные на преобразование отдельных
социальных институтов.
Выход один — начать с себя, единственная надежда — на
думающую личность. Рано или поздно кризис техногенной
цивилизации станет всеобщим, игнорировать его уже не удастся в
силу катастрофических последствий и техногенных
разрушений. Здесь личность и скажет свое слово. Человеку, чтобы
сначала выжить, а затем жить и развиваться нормально,
придется создать новую мораль, например, отказаться от всех
проектов, угрожающих природе или культуре, научиться
5. Заказ №4180
65
по-новому использовать технику и технологию (не теряя над
ней контроль), перестроить свои интересы и характер
деятельности. Главным станет не рост благосостояния,
комфорта, силы на основе техники и технологии, а безопасное
развитие, контроль над собственными средствами, поиск
необходимых условий и ограничений. В их число, судя по всему, войдет
контроль над рождаемостью, поддержание только тех
стандартов потребления, которые обеспечивают здоровый образ
жизни, разумное использование технических средств и изделий.
Но, конечно, усилия «снизу» от отдельного человека должны
быть поддержаны усилиями «сверху» от государства и других
институтов.
Безусловно, должно измениться и само понимание техники.
Прежде всего, необходимо преодолеть натуралистическое, ин-
струменталистское представление техники. Ему на смену
должно прийти понимание техники, с одной стороны, как
проявления сложных интеллектуальных и социокультурных
процессов (познания и исследования, инженерной и
проектировочной деятельности, развития технологий, сферы экономических
и политических решений и т. д.), с другой — как особой среды
обитания человека, навязывающей ему средовые архетипы,
ритмы функционирования, эстетические образы и т. п.
Необходимо осознать как природу техники, так и последствия
технического развития и включить оба эти момента в саму идею и
концепции техники. В свою очередь, это означает, что будет
дана оценка этих последствий. Вероятно, участие
общественности в обсуждении и оценке современной техники является
одной из предпосылок становления нового понимания техники и
преодоления кризиса техногенной цивилизации. Но только
одной. Не менее важны усилия в других направлениях: разведение
техники и социальности, обсуждение новых типов
социальности, необходимых для современного человека и на перспективу,
анализ и минимизация негативных последствий
научно-технического развития, критика технократического дискурса,
смена традиционной научно-инженерной картины мира, реформы
в сфере технического и гуманитарного образования, создание
социальных институтов, ориентированных на новые типы со-
66
ццальности, и многое другое. Движение в этом направлении
уже видно, хотя пока это только тенденции, только отдель-
нш ростки и очаги новой жизни, которые с трудом пробивают
себе дорогу на фоне постава и бурного развития структур
техногенной цивилизации.
Новая техника, действительно, предполагает иную
научно-инженерную картину мира. Такая картина уже не может
строиться на идее свободного использования сил, энергий и
материалов природы. Плодотворные для своего времени (эпохи
Возрождения и XVI—XVII столетий), эти идеи помогли
сформулировать замысел и образы инженерии. Но сегодня они уже
не отвечают ситуации. Понятно, что отказаться от техники
и технического развития просто невозможно. По сути,
техническую основу имеет сама деятельность человека и культура.
Brno же время развитие техники и технической среды в
XX столетии приняло угрожающий для жизни человека
характер. С этим человек уже не может не считаться, несмотря на
все блага, которые техника обещает. Вообще-то, понятен и
выход из создавшейся ситуации, хотя он, конечно, непрост.
Важно, чтобы все, от кого это зависит (философы, ученые,
инженеры, политики, журналисты и т. д.), уяснили, что дело
не в технике, а в том типе социальности, который сложился в
последние столетия. До тех пор пока мы будем думать, что
техника — это главное, что основные социальные проблемы
решаются на ее основе, что благополучие человечества
непосредственным образом связано с развитием современных
технологий, мы будем и дальше способствовать углублению кризиса
нашей цивилизации. Хотя в нашей техногенной цивилизации
именно техника играет колоссальную роль, с точки зрения
перспектив развития нужно способствовать пониманию того,
что это вещи разные. Сложившийся тип социальности нас
больше не может удовлетворять, убеждение, что основные
социальные проблемы можно решать на основе техники, все
больше становится деструктивным моментом. Любой социум и
культура предполагают технику, но не определяются полт
ностью последней.
Розин В. М. Техника и социальность // Вопр, философии. — 2005. — № 4.
5*
67
С точки же зрения эпистемологии проблема в том, чтобы
заново установиться в познании техники и естествознания,
продумать и то и другое на новой основе, имея в виду как
вызовы модернити, так и полученные новые знания о науке.
То же самое можно сказать и по поводу изучения самой
науки. Преемственность здесь состоит в том, чтобы заново
осмыслить, что такое наука, как она возникает и развивается.
При этом, естественно, нужно будет учесть ее
характеристики, уже полученные в разных концепциях науки, но учесть,
переработав на той основе, которая приемлема для меня как
философа науки. Поэтому естественно здесь указать
основные принципы авторского подхода. Оттолкнуться при этом
можно от интересной работы Г. Дж. Бермана «Западная
традиция права: эпоха формирования». Понятно, что право —
объект изучения, близкий по сложности и природе к науке.
В параграфе «За пределами Маркса, за пределами Вебе-
ра» Берман убедительно показывает, что подход Маркса и
Вебера к анализу права и социальной истории является
неудовлетворительным. В частности, по поводу Маркса он
пишет следующее: «В самом деле, ключ к правильному
пониманию Марксовой социальной философии, возможно,
состоит в том, что он интерпретировал всю историю в свете
теории, которую следовало бы применять главным образом к
революционным эпохам. Это помогло бы также понять,
почему Маркс перенес идею причинности, характерную для
XIX в. и выведенную из естественных наук, на историческое
развитие. Он искал научные законы истории, аналогичные
научным законам физики и химии, и нашел такие законы в
историческом материализме, например, закон, что в каждом
обществе способ производства обусловливает классовые
отношения между собственниками средств производства и
несобственниками, что в свою очередь определяет
политическое развитие общества.
Эта монистическая формула, которая представляется
сверхупрощенным методом объяснения сложных явлений в
нормальной социальной жизни, исполняет две функции в
68
философии Маркса: объясняла революционные истоки
существующих институтов и идеологических представлений и
давала основу для революционной атаки на них. Сегодня,
однако, теории причинности даже в физике и химии
являются более сложными, а в социальной теории стало все труднее
говорить о законах причинности вообще. Более уместно и
полезно говорить о взаимодействии политики, экономики,
права, религии, искусства, идей без расчленения этих
нераздельно взаимосвязанных сторон общественной жизни на
"причины" и "следствия". Это не означает, что мы отрицаем
тот факт, что какие-то цели и интересы важнее других. Нет
необходимости отступать с позиций детерминизма на
позиции релятивизма»1.
А вот оценка работ Вебера: «Очевидно, веберовская
классификация права на четыре идеальных типа сама по себе
не дает адекватной оценки для социальной теории права.
Она полезна как введение в анализ сходств и различий между
различными имеющимися в истории формами правового
строя, но не объясняет эти сходства и различия. Она не
отвечает на вопрос: "Почему харизматическое право в одном
обществе традиционализируется, а в другом — нет?" Кроме
того, она даже не упоминает, а еще меньше объясняет тот
факт, что западная традиция права сама по себе является
сочетанием всех четырех идеальных типов»2.
С критикой Бермана можно полностью согласиться.
Тем не менее можно понять и Маркса с Вебером: они
стремились мыслить научно, авторитетом для них,
действительно, выступала естественная наука, хотя Вебер посвятил
обсуждению гуманитарной науки немало страниц. Марксовы
или веберовские понятия идеального типа — это
теоретические конструкты, действительно больше ориентированные
на ценностные установки и социальное действие их авторов
(прежде всего, политические и властные), чем на объясне-
ние сложного материала культуры и истории. При столкно-
Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. — М., 1998. —
С. 521.
2 Там же. — С. 527.
69
вении «теоретических соображений» с «эмпирическими»
оба великих ученых отдавали предпочтение, конечно,
теории и понятиям.
Берман весьма точно выражает новый подход к изучению
не только права, но и всех подобных популяционных
сложных объектов — одновременное рассмотрение
взаимосвязанных сторон этих объектов (культуры, политики, права,
экономики, искусства и др.), и он в своей книге так и поступает.
Данный подход можно назвать «принципом
соотносительного анализа». Заметим, что даже в естественных науках этот
холистический принцип начинает приниматься
исследователями. Например, известный современный физик Ханс
Петер Дюрра пишет: «С точки зрения новой физики фактор
связи (взаимоотношений) проявляется не только
посредством многочисленных и сложных взаимосвязей предсущест-
вующих "кирпичиков" (атомов или молекул) на основе
известных нам сегодня сил (например, электромагнитных); но
сверх того имеется существенная внутренняя и типичная для
квантовой физики холистическая структура связей, которая,
собственно говоря, запрещает всякий разговор об основных
"кирпичиках", да и вообще о частях системы... любые
отдельности (например, изолированные атомы) согласно
новой точке зрения не являются началами действительности,
но, напротив, их разделение возможно лишь как результат
структурных преобразований, а именно — нарушение связей
путем гашения в промежуточных районах. Связи между
частями целого возникают, таким образом, не вторично, путем
взаимодействия исходно изолированных образований, но
являются выражением первичной идентичности всего»1.
Представления Бермана интересно сравнить с луманов-
скими. Н. Луман в своей концепции рассматривает
общество и его подсистемы как самовоспроизводящиеся
образования (системы) в среде. «Речь в данном случае идет, — пояс-
няетО. В. Посконина, — о концепции самореферентных си-
' Цит. по: Белоусов Л. В. Целостность в биологии — общая декларация или основа
для конструктивной программы // Методология в биологии: новые идеи.
Синергетика. Семиотика. Коэволюция. — М., 2001. — С. 81.
70
ctqm, согласно которой обособление системы от среды
«может^ осуществляться только через самореференцию, т. е.
благодаря тому, что системы при конституировании своих
элементов и элементов операций соотносятся сами с собой»1.
Иллюстрируя данное положение, Посконина анализирует
право, которое обеспечивает разрешение конфликтов
только в рамках правовой реальности (при этом право
воспроизводится и, если нужно, меняется, но опять же в рамках
системы права). «Право не приглушает конфликты. Оно
одновременно создает и регулирует их. Оно образовано для
предрешения возможных конфликтов. Если бы его не было, никто
бы и не думал о ситуациях, подлежащих разрешению с его
помощью, как о конфликтах. Но право предлагает
возможность ненасильственного разрешения конфликтов. Почему?
Потому что оно предлагает схему, в которой деление идет по
принципу "правовое/противоречащее праву". А в эту схему
уже "встроено" предпочтение права»2.
По механизму лумановские системы устроены примерно
следующим образом: объемлющие более сложные системы
могут быть истолкованы как среда для объемлемых более
простых; ожидания и проблемы, обусловленные
требованиями среды и самих систем, разрешаются в системах с
помощью действий (выборов, предпочтений, реляций),
образующих события системы; новые действия и события не
произвольны, а обусловлены предыдущими и порядком
(организацией) системы, поэтому необходимое условие их консти-
туирования — самореференция и различение событий в
системе. «Как замечает Погги, системы у Лумана образуются до
тех пор, пока в сфере явлений, характеризуемых сложностью
(комплексностью), т. е. обладающих "излишком
возможностей", не сделаны некоторые отборы, приводящие к
"связыванию ряда возможностей". Именно таким путем системы
дифференцируют себя от иного. "Системы — это островки
Посконина О. В. Никлас Луман о политической и юридической подсистемах
общества. — Ижевск, 1997. — С. 14; Luhmann N. Sozial Systeme Grundriss einer allge-
2 meinen Theorie. — Franfurta. M., 1984. — S. 25.
Посконина О. В. Указ. соч. — С. 14.
71
/
I
il
обязательно более низкой сложности, комплексности
внутри их окружения, т. е. внутри сфер более высокого уровня
комплексности"»1. «Среда, — поясняет Посконина
представления Лумана, — постоянно предъявляет все новые
требования к системе. Система реагирует на них постоянным
самообновлением, которое невозможно без
предшествующего разложения. Разложение происходит от того, что все
элементы исчезают, лишь только появившись. Но каждый
элемент определен. Следующее за ним событие не может
быть произвольным. Круг возможностей ограничен.
Событие обусловлено тем, что произошло до него и что может
произойти после него. Фактором разложения системы
выступает время. Фактором обновления — избирательная
возможность следования элементов, т. е. структура. Если
событиями в системе являются действия, то упорядочить их могут
только ожидания. <...> Основной проблемой в данном
случае является не столько повторяемость тех или иных
событий, сколько дар их согласования. <...> По времени
конкретные селективные события основываются друг на друге,
наблюдается их преемственность, и таким образом
предшествующие селекции встраиваются в конкретный процесс
отбора в качестве предпосылки...»2
При таком взгляде на понятие «система» понятно, как
Луман решает проблему соотношения объективного и
субъективного или роли ценностей субъекта: конечно же, в
пользу объективного, бессубъектного описания; человек с его
предпочтениями и представлениями является одним из
элементов социальной системы; и сам исследователь с его
ценностями подчиняется порядку системы, обеспечивая
определенные ее возможности (например, посредника,
«медиума» в транспортировке смысла в технических системах
коммуникации). «Я думаю, — пишет Луман, — никто не будет
отрицать, что сегодняшнее общество не знает самого себя в
достаточной степени и что оно даже отдаленно не способно
1 Посконина О. В. Указ. соч. — С. 9; Luhmann N. Trust and Power // Two works
by N. Luhmann; With introd. by Poggi G. Chichester ets. — Wiley, 1979. — P. 10.
2 Посконина О. В. Указ. соч. — С. 16,18,19; Luhmann N. Sozial Systeme... — S. 62,74.
72
разработать правдоподобное самоописание. Все это
изначально зависит от проблематики комплексности»1.
«Результативны не прежние консервативные интерпретации, а
развитие символически генерализированных технических
средств коммуникации. <...> Под последними мы понимаем
технические средства, которые используют обобщения,
чтобы обозначить связь селекции и мотивации, т. е. воплощают
их единство. К ним относятся: правда, любовь,
собственность, деньги, власть, начала религиозной веры; на
сегодняшний день это и есть цивилизационно
стандартизированные "основные ценности". Во всех представленных случаях,
но разными способами и в различных интерактивных
ситуациях речь идет о таком обусловливании селекции
коммуникации, чтобы она могла одновременно служить и мотиваци-
онным средством, и в достаточной мере определять
последствия селективно-избираемых вариантов»2. «Вместо
важнейших ценностей основой определенности, по Луману, —
считает Посконина, — становится время, т. е. чем дольше
длится взаимодействие, тем больше операций в нем
совершено. И тогда то, что сначало было простым результатом
выбора, впоследствии выступает как заданный в системе
порядок. "История, — отмечает А. Ф. Филиппов, — осаждается в
прочные структуры, противостоящие непрерывному потоку
событий..."»3
Не думаю, что Берман является последователем
концепции Лумана, его взгляды ближе к культурологическим, тем
не менее в плане методологии анализа права как сферы
деятельности и реальности их подходы сближаются. Интересно,
что и Е. А. Мамчур формулирует принцип
«синхроничности», на мой взгляд близкий к принципу соотносительного
анализа. «Связь по типу синхроничности, — пишет она, —
предполагает целостность культуры. В процесс синхрониза-
Luhmann N. The Theory of Social Systems and Its Epistemology: Reply to Danilo Zo-
lo's Critikal Comments // Philosophy of the Social Sciences. — Waterloo (Ont.),
2 1986.-Vol. 16, № 1.-P. 133.
Luhmann N. Sozial Systeme... — S. 222.
Посконина О. В. Указ. соч. — С. 35; Буржуазная социология на исходе XX века:
(Критика новейших тенденций). — М., 1986. — С. 162.
73
ции "втягиваются" в той или иной степени все явления той
или иной культуры. По крайней мере, некоторые
фигурирующие в различных сферах культуры идеи и концепции
оказываются конгениальными, приобретают сходство.
Выступая компонентами системы культуры, они "ведут" себя
согласованно, "проявляя тенденцию" к столь характерному
для синергетических систем кооперативному, когерентному
поведению»1.
Не менее важный принцип, провозглашаемый Берма-
ном, — анализ традиции, которая представляет собой «нечто
большее, чем историческая преемственность», а именно —
это «смешение осознанных и неосознанных элементов».
Применительно к нашей теме речь идет о необходимости
взаимосвязанного анализа базисных культурных сценариев и
картин мира, социальных институтов, хозяйства,
экономики, власти, общества, профессиональных обществ,
личности, а также рассмотрения всех этих подсистем и инстанций
культуры как, с одной стороны, обусловленных
предыдущими состояниями культуры, с другой — в свою очередь
обусловливающих следующие состояния (иначе говоря,
необходимо рассмотрение культуры как становящегося и
развивающегося целого). Наконец, речь идет о том, что при
изучении культуры необходимо анализировать как объективные
деиндивидуальные процессы, так и субъективные,
проявляющиеся в сознании в форме различных культурных
представлений.
Рассмотренные здесь два подхода автор принимает с
некоторой коррекцией. Для меня основной метод —
рациональная реконструкция истории изучаемых явлений (в данном
случае знаний, схем, науки, научного мышления). В свою
очередь, последние автор относит к реальности культуры.
Для облегчения понимания последующих подразделов и
рассуждений поясню, как я приходил к своим
представлениям
1 Мамчур Е. А. Объективность науки... — С. 193—194.
2 Берман Г. Дж. Указ. соч. — С. 532.
74
Первоначально, объясняя, что такое культура, я
использовал семиотический и деятельностныи подходы, развитые в
Московском методологическом кружке. В рамках этого
подхода культура — это семиотическое и деятельностное
образование, а человек — субстрат деятельности и семиозиса1.
Развивается культура в результате разрешения ситуаций
разрыва, т. е. снятия проблем, возникших в контексте
воспроизводящейся деятельности. Разрешение ситуаций разрыва
предполагает изобретение и формирование новых знаков и
деятельности.
Позднее, в конце 90-х гг., не отказываясь от
семиотической и деятельностнои трактовки, я стал рассматривать
культуру как форму социальной жизни. Этот подход,
назовем его «социовитальным», позволял еще в одном
отношении (используя метафоры «жизни», «рождения», «развития»
и «смерти») объяснить устойчивость отдельных культур и
переход от одних к другим, а также включить в анализ такие
социальные образования, как хозяйство, власть, общество,
сообщества, личность и др.
В рамках социовитального подхода конкретные культуры
(архаическая, культуры древних царств, античная,
средневековая, Нового времени, российская и т. д.) удалось
представить как социальные организмы. Отдельные культуры
складываются в определенных исторических и социальных
условиях, взаимодействуют с другими культурами, развиваются и
усложняются, затем распадаются, уступая место другим
культурам. Анализируя генезис и особенности трех
основных культур — античной, средневековой и Нового времени,
я смог уяснить как природу рассматриваемых в данной
работе социальных явлений, так и взаимосвязи между ними, т. е.
постарался реализовать принцип соотносительного анализа.
При этом я ориентировался, во-первых, на проблемы,
связанные сегодня с этими явлениями, во-вторых, на гипотезы
и результаты исследований культуры, в-третьих, на гипотезы
Розин В. М. Культурология. — М., 1998 (и др. издания); Он же. Семиотические
исследования. — М., 2001; Он же. Теория культуры. — М., 2005.
75
и результаты исследований права, власти, гражданского
общества и некоторых других социальных явлений.
1.4. Метод культурно-
исторической реконструкции
Этот метод я проиллюстрирую на модельном примере —
культурно-семиотической реконструкции понимания брачных
отношений в глубокой древности.
В архаической культуре (это период примерно от 50 до
10 тыс. лет до н. э.) человек учится рисовать, считать, создает
первые объяснения мира и самого себя. В этот же период
появляются и первые социальные формы организации людей
(племенные и родовые союзы). Сразу нужно обратить
внимание на необычность с современной точки зрения
воззрений и видения, присущих людям архаической культуры. Вот
характерный пример. В архаической культуре брачные
отношения (ухаживание и любовь) отождествлялись с охотой,
соответственно жених в архаической культуре понимался как
охотник (стрелок излука), невеста — как дичь. В связи с этим
сразу приходит на память сказка о царевне-лягушке.
Ивану-царевичу нужно искать невесту, а он берет лук и стрелы и
идет стрелять «в чисто поле» (т. е. действует как охотник);
подобравшая его стрелу лягушка становится его невестой.
Специальное исследование этим отношениям посвятила
культуролог Н. Ерофеева1. Она приводит, в частности, такой
текст из русской свадебной лирики:
На гори-то соболя убил,
Под горою лисицу убил,
В тихой заводи утицу,
На песочке лебедушку,
1 Ерофеева Н. Лирика. — М., 1973. — № 67; Лук // Мифы народов мира. — М.; Л.,
1982.
76
В терему-то красну девицу-душу
Настасью Егоровну.
Сера утица — кушанье мое,
А белая лебедушка — забава моя,
Да Настасья — невеста моя.
Чрезвычайно трудно, пишет Н. Ерофеева, понять, где
кончается «охота» и начинается «свадьба». Так, в колядовом
репертуаре славян широко распространена сюжетная
ситуация, в которой «молодец охотится за ланью (серной,
куницей, лисицей), которая оказывается девицей». В
восточно-романской эпической поэме «Иоргован и дикая дева
из-под камня» герой едет охотиться непосредственно на
дикую деву.
Охотиться едет на легких птиц,
Свататься едет к девушкам милым...
Н. Ерофеева приводит и лингвистические параллели.
Так, в тюркских языках АТА — «самец», «отец» при корне
AT — «стрелять»; AHA — «самка», «мать» при корне АН —
«дичь».
Таковы факты. Для нашей же темы они задают то, что
можно назвать «формальной структурой» текста. Кроме
того, задана проблема, ведь, действительно, непонятно,
почему в архаической культуре понимались одинаково такие
разные вещи, как брачные отношения и охота.
Рассмотрим теперь в предмете культурологии, как могли
возникнуть данные представления о брачных отношениях и
любви. Если иметь в виду культурное сознание человека, то
главным для архаического человека являлось убеждение, что
все люди, животные, растения имеют душу. Представление о
душе у примитивных обществ (а они до сих пор находятся на
стадии развития, соответствующей архаической культуре)
примерно следующее. Душа — это тонкий, невещественный
человеческий образ, по своей природе нечто вроде пара,
воздуха или тени. Некоторые племена, отмечает классик
культурологии Э. Тейлор, «наделяют душой все существующее,
даже рис имеет у даяков свою душу». В соответствии с архаи-
77
ческими представлениями, душа — это легкое, подвижное,
неуничтожимое, неумирающее существо (самое главное в
человеке, животном, растении), которое обитает в
собственном жилище (теле), но может и менять свой дом, переходя из
одного места в другое1. Как же сложилось подобное
представление? Естественно, что никаких научных
представлений у архаического человека не было, они возникли много
тысячелетий спустя. Даже простейшие с современной точки
зрения явления представляли для древних проблему, они
могли разрешать ее только на основе тех средств и
представлений, которые им были доступны.
Укажем одну из ситуаций, разрешение которой
потребовало изобрести представление о душе. Архаический человек
постоянно сталкивался с явлениями смерти, сновидений,
обморока, болезни. Что они означали для всего коллектива,
как в этих случаях нужно было действовать и поступать?
Вопросы эти для коллектива были, несомненно, жизненно
актуальными. Например, внешне сон, обморок и смерть
похожи друг на друга, но, как мы сегодня понимаем, действие
племени в каждом случае должно быть разным. По-разному
коллектив должен действовать в отношении здорового и
заболевшего.
Этнографические и культурологические исследования
показывают, что эта ситуация была разрешена, когда
сформировалось представление о «душе» (духах), которая может
существовать в теле человека, как в материальной оболочке,
выходить из тела и снова входить в него. В свете этих
представлений смерть — это ситуация, когда душа навсегда
покидает собственное тело, уходит из него, обморок и болезнь —
временный выход души из тела (затем, когда душа
возвращается, человек приходит в себя и выздоравливает),
сновидения — появление в теле человека чужой души. Важно, что
подобные представления подсказывают, что нужно делать в
каждом случае: мертвого будить или лечить бесполезно, зато
душу умершего можно провожать в другую жизнь (хоро-
1 См.: Тейлор Э. Первобытная культура. — М., 1939. — С. 266—290.
78
нить), в то же время спящего или потерявшего сознание
можно будить, чужую душу можно прогнать, а свою
привлечь назад, помогая тем самым человеку очнуться от
обморока или выздороветь и т. д. Во всех случаях, пишет Э.
Тейлор, где мы говорим, что человек был болен и выздоровел,
туземец и древний человек говорят, что он «умер и
вернулся». Другое верование у тех же австралийцев объясняет
состояние людей, лежащих в летаргии: «Их души отправились
к берегам реки смерти, но не были там приняты и вернулись
оживить снова их тела. Туземцы Фиджи говорят, что, если
кто-нибудь умрет или упадет в обморок, его душа может
вернуться на зов»г.
Представления о душе как легком, подвижном,
неуничтожимом, неумирающем существе, обитающем в
материальной оболочке (теле, предмете, рисунке, маске), могущем
выходить из нее или входить в новые оболочки, со временем
становятся самостоятельными предметами. Так, душу
заговаривают, уговаривают, призывают, ей приносят дары и еду
(жертву), предоставляют убежище (святилище, могилу,
рисунок). Можно предположить, что с определенного
момента развития архаического общества (племени, рода)
представления о душе и духах становятся ведущими, с их
помощью осознаются и осмысляются все прочие явления и
переживания, наблюдаемые архаическим человеком.
Например, часто наблюдаемое внешнее сходство детей и их
родителей, зависимость одних поколений от других,
наличие в племени тесных родственных связей, соблюдение
всеми членами коллектива одинаковых правил и табу
осознаются как происхождение всех душ племени от одной
исходной души (человека или животного) родоначальника
племени, культурного героя, тотема. Поскольку души неунич-
тожимы, постоянно поддерживается их родственная связь с
исходной душой и все души оказываются в тесном родстве
друг с другом.
Тейлор Э. Указ. соч. — С. 270.
79
Однако ряд наблюдаемых явлений «ставил» для
архаического сознания довольно сложные задачи. Что такое,
например, рождение человека; откуда в теле матери появляется
новая душа — ребенка? Или почему тяжело раненное животное
или человек умирают, что заставляет их душу покинуть тело
раньше срока? Очевидно, не сразу архаический человек
нашел ответы на эти вопросы, но ответ, нужно признать, был
оригинальным. Откуда к беременной женщине, «рассуждал»
архаический человек, приходит новая душа? От
предка-родоначальника племени. Каким образом он посылает ее?
«Выстреливает» через отца ребенка; в этом смысле брачные
отношения не что иное, как охота: отец — охотник, мать —
дичь; именно в результате брачных отношений (охоты)
новая душа из дома предка переходит в тело матери.
Аналогичное убеждение: после смерти животного или человека душа
возвращается к роду, предку племени. Кто ее туда
перегоняет? Охотник. Где она появится снова? В теле младенца,
детеныша животного. На барельефе саркофага, найденного в
Югославии, изображено древо жизни, на ветвях которого,
очевидно, изображены кружочками души, рядом стрелок,
прицеливающийся из лука в женщину с ребенком на руках
(судя по нашей интерпретации, это отец ребенка), слева от
этой сцены нарисован охотник на лошади, поражающий
копьем оленя.
Итак, описав социокультурную ситуацию и возможные
воззрения архаических людей, я в культурологическом
плане объяснил, почему брачные отношения и любовь
отождествлялись с охотой. Для этого мне пришлось
реконструировать, во-первых, так называемую «ситуацию
разрыва», сделавшую необходимым изобретение
представления о душе, во-вторых, «средство», позволившее
разрешить эту ситуацию разрыва (т. е. само архаическое
понимание души), в-третьих, описать реальность,
сложившуюся на основе данного средства. При этом необходимым
условием адекватной реконструкции является использо-
80
вание целого ряда понятий — культуры, деятельности,
знака и других1.
Может возникнуть принципиальный вопрос, почему
ддя реконструкции я обратился именно к понятиям и
методам культурологии и семиотики, причем можно заметить,
что эти понятия и методы задаются и вводятся мной
несколько иначе, чем другими исследователями. Отвечаю:
такой подход предопределен традицией мышления
(школы), из которой я вышел, а также моей собственной
эволюцией творчества. Другими словами, я признаю, что
приведенная реконструкция — это моя реконструкция,
детерминированная тем видением, методологией и ценностями,
которые я разделяю.
Хочу обратить внимание на один важный момент.
Реконструкция социокультурной архаической ситуации и
воззрений архаических людей должна учитывать не только
имеющиеся в научной литературе знания относительно
архаического мира и гипотезы о строении архаической культуры, но
также построенные (выявленные) исследователем схемы и
проблемы. Действительно, при объяснении архаической
любви я использовал, с одной стороны, выявленные мной
схемы и проблему, с другой — исторический и
культурологический материал, характеризующий архаическую культуру.
Реконструкция социокультурной ситуации и воззрений
должна наряду с прочим объяснять зафиксированное в схеме и
проблемах видение людей, создавших исходный текст (в
данном случае те тексты, где брачные отношения представлены
как охота).
Другой важный момент, существенно определяющий
реконструкцию, — анализ генезиса изучаемого явления.
Мой учитель Г. П. Щедровицкий вслед за Марксом
(«Капитал») считал, что познать сущность явления можно, только
реконструируя его происхождение и развитие. В одном слу-
чае реконструкция представляла собой имитацию логики
1 См.: Ерасов Б. С. Указ. соч. — С. 5—6, 24; Орлова Э. А. Динамика культуры... —
С. 18, 19.
6. Заказ №4180
81
«сборки» явления, в другом — его исторического развития.
Точнее, реконструировалась так называемая «логическая
история», фактически тоже сборка, но выдаваемая за
генезис (развитие) явления.
Итак, чтобы понять сущность сложного явления типа
мышления или творчества, нужно реконструировать, как это
явление возникло, какие этапы в своем развитии оно
прошло, как его используют (этот этап называется
«генетическим выведением», или «генетической проспекцией»)1.
Здесь логика создания вещи заменяется логикой развития,
причем развитие понимается отчасти в искусственном, дея-
тельностном, отчасти в естественном залоге. С одной
стороны, развитие изучаемого явления понимается как процесс
изобретения людьми знаков и других средств деятельности, с
другой — как собственно развитие явления, т. е. как
естественно-исторический процесс изменения, усложнения и
перестройки деятельности, обусловленный объективными,
не зависящими от человека факторами.
В так понимаемом изучении явления одной из главных
задач является определение его основных характеристик
или, как говорил в 50-е гг. наш известный логик А. А.
Зиновьев, описание «клеточки явления» (этот этап называется
«генетическим сведением», или «генетической
ретроспекцией»). С этим же этапом работы связана проблема
происхождения явления, т. е. определение того, когда и как
изучаемое явление впервые сложилось. В рассмотренном здесь
примере генетическая ретроспекция состояла в движении от
схемы архаического понимания брачных отношений к
предшествующим состояниям архаической культуры, что
позволило определить в качестве «клеточки» (предпосылок и
«стартовых начал») два основных элемента — архаическое
1 Ладенко И. С. Об отношении эквивалентности и его роли в некоторых процессах
мышления, связанных с установлением отношения эквивалентности //
Доклады АПН РСФСР. — 1958. — № 1,2; Щедровицкий Г. П. «Языковое мышление» и
его анализ // Избр. тр. — М., 1995; Щедровицкий Г. П. О некоторых принципах
генетического анализа мышления / Г. П. Щедровицкий, И. С. Ладенко // Тез.
докл. 1-го съезда Общ-ва психологов. — М., 1959. — Вып. 1.
82
понимание души и ситуацию разрыва, в результате
разрешения которой это понимание возникло.
Процедура генетического сведения сменяется
процедурой генетического выведение, но дальше они чередуются
друг с другом, позволяя уточнить каждый анализ, т. е. эти
процедуры образуют, как говорят в методологии,
«челночный процесс».
1.5. Авторское понимание науки
Точнее, речь идет о «предпонимании», поскольку
приведенная ниже характеристика науки предварительная,
рабочая, призванная сориентировать читателя и указать на
своеобразную гипотезу, которая сама получена в результате
долгих исследований. Эти исследования, опубликованные в
двух книгах и различных статьях, позволяют утверждать, что
научная деятельность — это специализированная, культурно
обусловленная форма построения знаний о
действительности (включающей первую и вторую природу), тесно
связанная с построением идеальных объектов, разрешением
проблем, описанием^ выбранной области действительности,
определенными способами концептуализации научной
деятельности.
Как культурно обусловленный способ получения знаний
наука ориентирована на решение разных социальных задач и
поэтому самоорганизуется в отдельные типы. В Античности
наука была ориентирована на построение
непротиворечивых систем знаний об отдельных областях бытия —
«античный тип»; в Средние века — на рациональное осмысление
действительности, заданной Священным Писанием —
«средневековый тип науки»; в Новое время — сначала на
овладение природными и техническими феноменами —
«естественные и технические науки», затем на рациональное
б*
83
освоение духовных, социальных и культурный явлений —
«гуманитарные и социальные науки».
Ядром научной деятельности является построение
идеальных объектов и теории. Идеальные объекты — это
интеллектуальные конструкции (в семиотической теории —
«онтологические схемы»), выступающие в функции моделей по
отношению к «реальным» объектам, которые теория берется
описать, а по отношению к способам научного мышления —
как своеобразные «онтологические нормы». Например, в
работах «О душе» и «Физика» (ниже они будут рассмотрены
подробнее) Аристотель создает один из первых образцов
идеальных объектов: это конструкции, позволяющие,
во-первых, описывать реальные объекты (наблюдаемые
феномены — ощущение, воображение, мышление, равномерное и
неравномерное движение), во-вторых, рассуждать без
противоречий, в-третьих, на основе этих конструкций
Аристотель решает определенные социальные задачи (блокирует
архаическое понимание души, обосновывает необходимость
в ходе рассуждений пользоваться логическими правилами и
категориями, разрешает апории Зенона и др.). Поскольку
способы мышления со временем меняются,
видоизменяются и принципы конструирования идеальных объектов.
Научная теория включает в себя построение идеальных
объектов и относящихся к ним теоретических знаний. Она
описывает выделенную предметную область (например,
феномены души или физические движения), ориентирована на
разрешение возникших по поводу этой области проблем (в
данном случае противоречий и неструктурированности
знаний), удовлетворяет нормам и принципам научного
мышления (например, сформулированным в «Аналитиках» и
«Метафизике» Аристотеля). Как концептуализированные
построения научные теории (науки) обусловлены
соответствующими формами осознания научной деятельности в
философии, а в XX столетии также в науковедении и
методологии. В истории науки, как это видно из первого подраздела,
эти формы осознания выполняли разные функции и
соответственно рефлексировались по-разному.
84
Особого разъяснения требует понимание представления
о «генетическом ядре» науки. Как мы помним, это
представление науки, инвариантное относительно развития науки и
разных типов наук. Ядро науки включает установку на
познание, описание определенной предметной области, построение
категорий и идеальных объектов, сведение в теории более
сложных случаев к более простым и далее к идеальным
объектам, разворачивание на основе этих сведений системы
теоретических знаний, обоснование всего построения на основе
принятых в данное время критериев научности. Проблема здесь в
том, что в каждой культуре компоненты науки и наука в
целом устанавливаются заново. Например формулируя в
самом начале XX столетия особенности гуманитарной науки
(«науки о духе»), В. Дильтей по-новому характеризует
научное познание (оно включает теперь позицию исследователя,
не требует экспериментального обоснования, содержит
установку на сохранение гуманитарной природы и
уникальности явления). То есть вроде бы научное познание по
Дильтею принципиально отличается от галилеевского
познания природы, написанной на языке математики. Но
тогда разве можно выделять инвариантные характеристики
науки?
Разрешение этого противоречия я вижу в следующем.
В науке, как известно, постоянно идет процесс ассимиляции
предыдущих научных представлений (знаний, понятий,
способов работы и пр.). Да, и почему ученый должен
отказываться от того, что продолжает работать? Хотя Галилей
постоянно полемизирует с Аристотелем и отрицает ряд его
положений (о необходимости прикладывать силу, чтобы
движение тела продолжалось, о том, что скорости падения тел
разного веса прямо пропорциональны их весу), он, тем
не менее, использует ряд его логических принципов
(скажем, требование избегать противоречий), и некоторые
положения механики (например, что скорость свободного паде-
ния тела обратно пропорциональна плотности среды)1. При
Григорьян Л. Т. Очерки развития основных понятий механики / А. Т. Григорьян,
В. П. Зубов. — М., 1962.
85
этом ученому, действительно, приходится переосмыслять (и
переопределять) ассимилированные представления с тем,
чтобы они не вызвали противоречий или очередных проблем
в создаваемой новой системе научных знаний. Это я и
называю «установиться заново». При становлении нового типа
науки (например, гуманитарной) ряд положений ученый
формулирует впервые, причем часто в оппозиции к
сложившемуся типу науки, который рассматривается в качестве
научного идеала (в данном случае в оппозиции к
естественно-научному типу). Другие положения он заимствует из уже
сложившейся науки, но переосмысляет и переопределяет
по-новому. Говоря о генетическом ядре науки, я имею в виду
именно сформулированные заново, ассимилированные
представления, касающиеся познания, описания определенной
предметной области, построения категорий и идеальных
объектов, сведения в теории более сложных случаев к более
простым и далее к идеальным объектам, разворачивания на
основе этих сведений системы теоретических знаний,
обоснования всего построения на основе принятых в данное
время критериев научности.
86
Глава 2
Донаучный этап познания.
Формирование предпосылок
науки в Древнем мире
2.1. В каком смысле можно
говорить о познании и науке
в доантичный период
Ряд историков науки уверены, что наука возникла
задолго до Античности. А. А. Вайман, один из крупнейших
российских исследователей шумеро-вавилонской математики
(его книга так и называется «Шумеро-вавилонская
математика III—I тысячелетия до н. э.»), считает несомненным,
«что древние математики достаточно хорошо владели
методом логического доказательства математических истин»1.
И он не одинок, давая вавилонянам такую высокую оценку.
Подобного же мнения придерживается и один из патриархов
в этой области знания — О. Нейгебауер, который пишет, что
«в исторических исследованиях слово "доказать" может
иметь только тот смысл, что из тех или иных математических
данных и зависимостей при помощи логических
умозаключений выводятся новые математические зависимости. <...>
Трудно допустить что-либо другое, — продолжает он, —
кроме следующего: вавилоняне приводили путем ряда
последовательных умозаключений более сложный случай к более
простым»2.
1 Вайман А. А. Шумеро-вавилонская математика III—I тысячелетия до н. э. — М.,
1961.-С. 209.
2 Нейгебауер О. Лекции по истории античных математических наук. — Л., 1937. —
С.227.
87
Получается, что вавилонские математики ничем не
отличались от современных. Однако никаких рассуждений и
умозаключений мы в текстах того периода не встречаем.
Может быть, они не сохранились? Такое случается, но в данном
случае дело в другом: похоже, математическое мышление,
как его сегодня понимает наука, просто еще не сложилось.
Однако это требуется показать, пока же вернемся к
историческим реконструкциям.
На что опираются историки математики, оценивая столь
высоко вклад в науку шумеро-вавилонской математики?
Прежде всего, на собственные реконструкции решений
задач, сведения о которых дает расшифровка тысяч и тысяч
глиняных табличек, добытых археологами из-под развалин
дворцов, хозяйственных построек и школ Древнего Шумера
и Вавилона. В этих табличках приведены условия и решения
огромного числа задач, но, увы, ничего не сказано о том,
почему эти задачи решались именно так, а не иначе. Уже сам
характер условий задач и способов их решения поразил и
озадачил историков математики. Оказалось, что задачи
подобного типа сегодня решаются с помощью алгебраических
методов или же их арифметических и геометрических
эквивалентов (специально построенных арифметических или
геометрических уравнений и преобразований). Решение
многих таких задач предполагает довольно развитые
математические знания: нужно владеть способами преобразования
одних уравнений в другие, знать решения квадратных (и
даже кубических) алгебраических уравнений и, наконец,
теорему Пифагора. И все это при условии, что о геометрии или
алгебре вавилонский математик ничего не знал, да и как он
мог узнать, если эти математические дисциплины возникли
одна примерно две тысячи, а другая три тысячи лет спустя.
Приведем одно из условий вавилонской математической
задачи и способ ее решения (вверху мы дадим упрощенный
перевод таблички, а в скобках и внизу — алгебраическую
запись, к которой обычно прибегают историки математики).
88
Условие. Длина и ширина. Длина превышает ширину на 4,
площадь 32, узнай длину и ширину.
Решение. 4 раздели пополам, получишь два. Два умножь
на само себя, ты видишь площадь — 4. Площади 32 и 4 сложи,
ты видишь 36. Узнай корень квадратный из 36. Это 6. 6 и 2
сложи, ты видишь 8 — длина. От 6 отними 2, ты видишь 4 —
ширина.
Условие: ху = S x — y=b х = ?
Решение:
= ?
х
У\
Это решение, с точки зрения А. Ваймана, позволяет
сделать вывод, что шумеры знали алгебраические формулы и
преобразования, которые Вайман и приводит в своей
книге1.
Мы привели условие и решение одной из
распространенных, так сказать, типовых задач, но в сборниках
вавилонских задач можно встретить задачи, которые в
алгебраической форме записываются даже такими
уравнениями:
ху = 600
(Зх + 2у)2 +
+
2
<
13
г
4
\и
—
[А
(х + у)-{- + \\х-у)
12
+ (х + у)
=7 100.
Как же решались эти задачи, на основе какого метода и
счисления? Если бы у историков математики были сведения
о способах решения вавилонских задач или стиле мышления
См.: Вайман А. А. Указ. соч. — С. 159.
89
вавилонских математиков, то методы решения этих задач
можно было бы восстановить достаточно легко. Однако
каждый крупный историк математики изобретает нечто
заменяющее сведения о способах решения, а именно: на основе
близких ему математических методов он реконструирует способы
их решения. Анализ приемов решения вавилонских задач
заставляет думать, что они решались как-то одинаково, на
основе близких методов. Однако оказалось, что мнения
математиков, реконструировавших способы решения
вавилонских задач, резко разошлись. Одни из них утверждают, что
вавилонские задачи решались на основе алгебраических
методов и счислений, другие — на основе геометрических,
третьи — на основе арифметических (в их современном
понимании).
Здесь, естественно, возникает вопрос: как же так, ведь
вавилонские математики не были знакомы ни с алгеброй, ни с
геометрией, ни с современной теоретической арифметикой?
Нельзя сказать, что историки математики не знают этого
факта. Знают, и очень хорошо. Поэтому они говорят не
прямо об алгебре, геометрии или теоретической арифметике, а о
том, что, хотя древние математики и не знали этих
математических дисциплин, они, тем не менее, «по сути» мыслили
алгебраически, геометрически или арифметически. Вот,
например, что пишет Вайман: «Наиболее правдоподобна
гипотеза, которая может быть подкреплена некоторыми
косвенными наблюдениями. Согласно этой гипотезе, по крайней
мере, первоначально полные квадратные уравнения, как и
система уравнений канонического вида, решались
геометрически»1.
Иначе считают А. Ван дер Варден и О. Нейгебауер.
«Вавилоняне, — пишет А. Ван дер Варден, — мыслили прежде
всего алгебраически. Сквозь геометрическую внешность
просвечивает алгебраическая сущность»2. А вот высказывание
Нейгебауера: «...эта математика имеет сильно выраженную
1 Вайман А. А. Указ. соч. — С. 168.
2 Варден А. Ван дер. Пробуждающаяся наука. — М., 1959. — С. 97.
90
алгебраическую ориентировку... вычисление ведется с
величайшим изяществом и совершенно тем же методом, который
применили бы и мы теперь»1. Но с мнением и
реконструкцией Нейгебауера не согласен известный российский
историк математики С. Я. Лурье. В комментариях к книге
Нейгебауера он пишет: «От сложности применяемых Нейгебауе-
ром алгебраических формул рябит в глазах. По его мнению,
вавилоняне применили вполне сознательно хитроумный
алгебраический прием. <...> Между тем если решить эту задачу
тем арифметическим способом, который широко
применялся в индийской и арабской математике и который скорее
всего восходит к Вавилону, именно методом ложного
предположения, то каждое из действий, применяемых в тексте,
получит свой смысл и не окажется никакой нужды в
нынешней алгебре»2.
Два соображения об алгебраических и геометрических
реконструкциях и о так называемом методе ложного
предположения. Алгебраическая или геометрическая
реконструкция вызывает сомнение уже хотя бы потому, что трудно
предположить у вавилонских математиков наличие
современного уровня и стиля математического мышления, а ведь
именно это приходит на ум, если принять подобные
реконструкции. Но, более того, оказывается, что вавилонские
математики по уровню своего мышления стояли на голову
выше современных математиков, которые без
алгебраической или геометрической символики не могут решать
вавилонские задачи, в то время как вавилоняне их решали даже в
школах. Наконец, каким образом вавилонские математики
пришли к алгебраическим или геометрическим методам
решения и почему они не сделали еще одного пустякового
шага: не записали эти методы в стройной системе
алгебраического и геометрического счисления?
Сложнее оценить метод ложного предположения, на пер-
вый взгляд, он вроде бы отвечает уровню вавилонского мыш-
Нейгебауер О. Лекции по истории... — С. 201.
2 Там же. — С. 205.
91
ления1. Но только на первый взгляд. Действительно, зачем,
спрашивается, вместо одной задачи решать другую
(подобный подход — сведение одной задачи к другим — естествен и
оправдан в теоретическом мышлении и малопонятен в том
случае, если оно еще не сложилось). Кроме того, необходим
мое условие применения метода ложного предположения —
установление соотношений между задачей-моделью
(ложным предположением) и исходной задачей, которую
необходимо решить. Современные же логические и
психолого-педагогические исследования показывают, что установить
такие соотношения невозможно без моделирования условия
задачи в алгебре или геометрии (вероятно, этот факт
проверили на себе многие родители, безуспешно пытаясь в свое
время помочь детям решить сложные арифметические
задачи, не прибегая «по условиям игры» к алгебраическим
уравнениям и преобразованиям). Следовательно, применение
метода ложного предположения, как его реконструируют
историки математики, в скрытом виде само предполагает
обращение к алгебраическим или геометрическим
соотношениям и преобразованиям.
Итак, ни одна из реконструкций, предложенных
историками математики, не выдерживает серьезной критики.
Спрашивается, почему? Возможно, потому, что создание
хорошей реконструкции не под силу одним лишь историкам
математики, знакомым, что естественно, главным образом с
1 Суть этого метода можно пояснить на примере решения следующей
древнеегипетской задачи (задача № 26 из папируса «Ринда»): «Количество и его четвертая
часть дают вместе 15. Вычисли мне это». (Решение.) Считай с 4, от них возьми
четверть, а именно 1, вместе будет 5, раздели 15 на 5, это будет 3, умножь 4 и 1 на
3, будет 12 и 3».
В основе решения здесь лежит следующая идея. Из условия задачи известно
соотношение, связывающее известные величины с неизвестными (в данном
примере первая величина в четыре раза больше второй). Выбрав любое удобное
значение неизвестной (например, число 4), можно, зная данное соотношение,
построить вычисление (4: 4 = 1; 4 + 1 = 5). Сравнение результата произведенного
вычисления (т. е. числа 5) с соответствующей величиной, данной в условии
задачи (числом 15), позволяет узнать, насколько выбранное значение неизвестной
(4) отличается от истинного значения (15 : 5 = 3). Значение этого отклонения
(числа 3) используется затем для выбора численным путем правильного
значения неизвестной величины (4x3 = 12) (См.: Варден А. Ван дер. Указ. соч. —
С. 37).
92
математикой. Ведь здесь речь идет не столько о математике,
сколько о мышлении, а мышление, как известно, изучается
прежде всего,в логике, психологии, теории культуры.
Наделяя вавилонских математиков современным стилем и
характером мышления, историки математики нарушают, к
примеру, некоторые основные принципы исторического
рассмотрения культур, принципы исторического анализа
человеческого сознания, мышления и поведения. Согласно этим
принципам шумеро-вавилонская культура самобытна и
непохожа на современную. Языки, сложившиеся в этой
культуре (и математические в том числе), принципиально
отличны от современных, мышление и поведение представителей
шумеро-вавилонской культуры своеобразны и
определяются всем строем данной культуры и ее историей.
Рассмотренная здесь ситуация с реконструкцией доан-
тичных «математических» текстов сходна с ситуацией
реконструкции древних «астрономических» текстов. С одной
стороны, известно, например, что теоретическая астрономия
сложилась только в Древней Греции (Евдокс, Гиппарх, Пто-
ломей), с другой — О. Нейгебауер утверждает, что
вавилоняне создали «стройную математическую теорию» движения
Луны и планет1. Впрочем, другие историки астрономии
утверждают, что астрономия как наука сложилась только в
античной культуре. Почему же историки науки по-разному
объясняют начала и природу математики и астрономии и
других точных наук? Хотя иногда различные реконструкции
генезиса точных наук дополняют друг друга, все же чаще они
находятся, так сказать, в антагонистических отношениях.
Естественное следствие подобного положения дел — борьба
за истину, за правильный взгляд на исторический процесс,
за поиски критериев предпочтения одного исторического
объяснения другим.
Один критерий предпочтения относительно очевиден.
Новая историческая реконструкция и осмысление не дол-
жны увеличивать противоречия в системе исторических зна-
1 См.: Нейгебауер О. Точные науки в древности. — М., 1968. — С. 116, 138—139.
93
ний. Объясняя одно, нельзя запутывать весь круг проблем,
порождать глубокие антиномии в существующем
историческом предмете. Так, если принять, что вавилонские
математики в какой-то форме владели алгеброй или геометрией, то
оказывается, что они по уровню своего мышления стояли на
голову выше современных математиков, которые без
алгебраической или геометрической символики не могут решать
вавилонские задачи, в то время как вавилоняне делали это
даже в школах. Появление подобного парадокса — следствие
такой исторической реконструкции, когда вавилонским
писцам и учителям приписывают современные способы
математического мышления. Еще один пример — скандальная
реконструкция истории Фоменко. Если ее принять, то
окажется, что не только нет Античности, но и на порядок
возрастают исторические парадоксы.
Второй критерий предпочтения более сложен и менее
очевиден. Почему иногда кто-то создает новую историческую
реконструкцию, отказывается от существующих исторических
знаний, критикует и зачеркивает их? Потому, что этот некто —
носитель другой культуры мышления, представитель другого
научного сообщества. Как правило, исторические
реконструкции точных наук периодически обновляются и
переписываются (перевоссоздаются) на основе современных гуманитарных
способов научного мышления. Со всей определенностью
нужно сказать: история — гуманитарная дисциплина со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Одной из важных
особенностей гуманитарной науки является множественность точек
зрения на один и тот же исторический материал, множество
разных интерпретаций исторических текстов и фактов, разных
исторических истин. Из введения и предыдущей главы должно
быть ясно, что я буду осуществлять реконструкцию и строить
объяснение в рамках культурологии.
Теперь вторая проблема. Если предположить, что наука
сложилась только в Античности, то все равно нужно
объяснить, каким образом в доантичной период получались новые
знания и что это такое. Для меня как культуролога очевидно,
94
что научное мышление в том виде, как мы его сегодня
понимаем, т. е. как получение знаний в рассуждениях и
доказательствах, сложилось не раньше Античности. К тому же
фактически до VIII—VII вв. до н. э. в текстах не встречается
никаких рассуждений и доказательств. Что же в них есть?
То, что исследователи называют предписаниями,
«атрибутивными» и «мифологическими» знаниями, причем
последние обычно представляют собой нарративы, т. е. рассказы,
повествования. Примером предписания является
приведенное выше решение вавилонской задачи, пример
атрибутивных знаний — выражение типа «это то-то» («человек»,
«дерево», «олень», «большой», «тяжелый», «сильный» и т. п.).
Мифологические знания имеют другое строение.
Австралийские аборигены о человеке, лежащем в летаргическом
сне и затем очнувшемся, говорят так: «Его душа отправилась
к берегам реки смерти, но не была принята и вернулась
оживить снова его тело»1. Второй пример — рассмотренный в
первой главе нарратив «жених-охотник». Третий, более
развернутый — мифологические представления народов манси,
живущих в Ханты-Мансийском автономном округе.
Мифологическая система манси весьма сложная и богатая,
местами напоминает верования персов, индусов, вавилонян,
древних греков. Манси верят в духов (семейных, родовых,
лесных, промысловых, добрых и злых), причем считают, что
человек и животное имеют две души — ис («тень») и лили
(«дух»). По другим этнографическим данным, мужчина
имеет пять душ: душу, переходящую от одного человека к
другому, душу-тень, душу-волосы, по которой человек после
смерти идет в мансийский рай, душу-дыхание и душу-тело.
Женщина имеет четыре души.
Верят манси также и в реинкарнацию, т. е. переселение
душ. Они считают, что в промежутке между смертью одного
человека и рождением другого, в которого данная душа
переселяется, для души нужно сделать специальное жилище, на-
зываемое «иттермой». Как правило, иттерма представляет
Тэйлор Э. Указ. соч. — С. 270.
95
собой схематическое изображение умершего человека (в
форме деревянного идола сантиметров 50—60, наряженного
в расшитые бисером одежды). Раньше иттерма
изготовлялась непременно из венца дома, где жил покойник. Манси
считают, что душа покойного воплощается затем в
младенца, родившегося в этом же доме1. Спрашивается, можно ли
считать все это знаниями и как представления манси
объяснить с культурологической точки зрения. Обычно картины
такого рода относят к мифам. Но на представления о
реинкарнации, нарратив «жених-охотник» или понимание
смерти как отбытия души в страну мертвых можно посмотреть и с
эпистемологической точки зрения, т. е. как на
мифологическое знание. Тогда встают вопросы: что собой такие знания
представляют, каким образом они были получены, с какой
целью?
Структуру самых простых, атрибутивных типов знаний:
это «стол», «дерево», «олень», «большой», «зеленый» и т. п. —
проанализировал в своих ранних работах Г. П. Щедровиц-
кий. Предварительным условием их формирования,
показывает он, было выделение общественно фиксированных
эталонов (например, эталона «олень» или «зеленый») и
«изобретение» знаковой формы, т. е. в данном случае
соответствующих слов — «олень», «зеленый». Чтобы получить само
знание А о некотором объекте X, пишет Щедровицкий,
необходимо последний сопоставить с эталоном и, зафиксировав их
тождество, выразить результат сопоставления в знаковой
форме. Скажем, если объект Л'удается отождествить с
эталоном «олень», то этот объект называется словом «олень», хотя
в содержании знака «олень», подчеркивал Щедровицкий,
фиксируется и выражается прежде всего результат
сопоставления объекта Хс эталоном2.
Более сложные типы знаний, вплоть до научных,
Щедровицкий и участники ММК в конце 50-х — начале 60-х гг.
предлагали анализировать по следующей схеме. Сначала ре-
конструируется так называемая «ситуация разрыва», под ко-
1 Гемуев И. Н. Мировоззрение манси: дом и космос. — Новосибирск, 1990.
2 Щедровицкий Г. П. О строении атрибутивных знаний // Избр. тр. — М., 1995.
96
торой понималось какое-то затруднение в
производственной деятельности социума, требующее своего разрешения.
Затем опять же методом реконструкции воссоздается
структура знания, которое позволяет снять данную ситуацию
разрыва. Эта структура включала в себя: объекты, действия с
объектами, знаки, замещающие объекты, действия со
знаками уже как с самостоятельными объектами. Щедровицкий
писал, что замещение объектов знаками не только позволяет
разрешить возникшее затруднение в деятельности, но и
создает условие для развития деятельности, в которой рано или
поздно возникали новые ситуации разрыва. Они
разрешались за счет очередных знаний, следующих этапов развития
деятельности и т. д.
Когда автор подключился в начале 60-х гг. к работе ММК,
Щедровицкий поставил перед ним задачу проанализировать
в рамках данного метода реконструкции происхождение
математических знаний. Предполагалось, что они возникли в
древнем производстве, прошли в своем развитии несколько
этапов и были в античной культуре систематизированы
Евклидом в знаменитых «Началах». Чтобы познакомиться с
ранними формами математических знаний, говорил
Щедровицкий, нужно обратиться к работам историков математики.
Следуя этому совету, я начал изучать ранние формы
счета, планы полей и формулы подсчета их площадей, решения,
так называемых, вавилонских математических задач, ну и,
конечно, «Начала» Евклида1. Реконструкция развития
знаний, зафиксированных во всех этих текстах, позволила
многое понять и хорошо объясняла первые этапы развития
древней математики. Но собственно «Начала» этим методом
объяснить не удалось. По этому поводу я часто спорил с
Щедровицким. Последний считал, что плох не метод, а его
реализация в данном конкретном случае. Я, напротив,
доказывал, что к «Началам» предложенный метод реконструкции
знаний уже не применим. Не применим этот метод и к мифо-
логическим знаниям.
1 См.: Розин В. М. Семиотические исследования. — С. 37—44.
7. Заказ №4180
97
2.2. Понятия «знак» и «схема»
Объяснение происхождения мифологических знаний
предполагает разведение указанных здесь понятий.
Представление о знаке вводилось в ММК, чтобы объяснить,
каким образом человек преодолевает ситуацию разрыва. Когда
он по какой-либо причине не мог действовать с объектом, то
изобретал знак, замещал объект знаком и действовал с
последним вместо объекта. Именно по этой семиотической
логике я смог объяснить природу и происхождение чисел
Древнего мира, изображения людей и животных,
использовавшиеся в доисторические времена охотниками для
тренировки, и ряд других случаев. Попробовал я таким же образом (в
середине 60-х гг.) объяснить и формирование представлений
об архаической душе.
С семиотической точки зрения душа *— это сложный тип
знака, который можно назвать «знаком-выделения»1. Его
изобретение, как отмечалось выше, позволило архаическому
человеку осмыслить (конституировать, поэтому знак
«выделения») явления смерти, обморока, сновидений, появление
зверей и людей, созданных с помощью рисунка. И не только
осмыслить, но и, что не менее существенно, создать новые
практики. Строение души как знака задается, с одной
стороны, семантически (душа — это жизнь, т. е. кто имеет душу,
тот и живой; душа живет в домике, откуда может выходить и
куда может возвращаться; душа никогда не умирает), с
другой — операциями.
Первая операция с душой как знаком — уход навсегда
души из тела; при отнесении к объекту (человеку,
животному) эта операция осмысляется как смерть. На основе
подобного понимания формируется и соответствующая
архаическая практика — захоронение, понимаемая древним
человеком как создание (постройка) для души нового дома.
В этот дом (могилу), что известно из археологических рас-
1 См.: Розин В. М, Указ. соч. — С. 58—68.
98
копок, человек клал все, что нужно было душе для
продолжения на новом месте полноценной жизни: еду, оружие,
утварь, одежду и т. д. (позднее богатые люди могли
позволить себе унести с собой в тот мир лошадей, рабов, даже
любимую жену).
Вторая операция — временный уход души из тела —
осмыслялась как болезнь. На основе этой операции
складывается архаическая практика врачевания (лечения),
представляющая собой различные приемы воздействия на душу
(уговоры души, преподнесение ей подарков — жертвы, создание
условий, которые она любит: тепло, холод, влажность,
действие трав и т. д., — с целью заставить ее вернуться в тело).
Возвращение души в тело, понимаемое как
«выздоровление», — это фактически обратная операция с душой как
знаком по сравнению с прямой — временным уходом души.
Древнее врачевание предполагало отслеживание и
запоминание природных эффектов и комбинирование ряда
практических действий, приводящих к таким эффектам. Другими
словами, складывалась настоящая техника врачевания.
Но, естественно, понималась она в рамках анимистического
мироощущения.
Третья операция — приход в тело человека во время сна
другой души (или путешествие собственной души вне тела в
период сна) — определила такое представление, как
сновидение. Соответственно обратная операция задала смысл
пробуждения, выхода из сновидения. На основе этого
формируется практика толкования сновидений, понимаемая
как свидетельства души.
Четвертая операция, точнее две группы операций,
имеющих исключительно важное значение для архаической
культуры, — это, во-первых, вызывание души, предъявление ее
зрению или слуху, во-вторых, обращение к душе, общение с
ней, что достигалось с помощью средств древнего искусства
(рисование, пение, игра на инструментах, изготовление
масок и скульптурных фигур и т. д.) В рамках этой практики
формируется как специальная техника (например, изготов-
7* 99
ление музыкальных инструментов и масок, орудий и
материалов для живописи и скульптуры), так и сложные технологии
древнего искусства (рисование, танец, изготовление
скульптур и т. д.).
Для нас естественно разделение живого и неживого,
человека и природы. Для архаического человека живым было
все, что менялось, двигалось, от чего он зависел, что давало
ему пищу или другие жизненные блага. Живой была земля
(временами она содрогалась от землетрясений), она же
дарила воду и пищу. Живым было небо, оно менялось,
посылало дождь, гневалось громами и молниями. Живой была
вода, она текла, бежала, умирала (испарялась), временами,
во время наводнений, становилась страшной. Короче
говоря, для архаического человека вся природа (планеты,
солнце, луна, звезды, вода и земля, огонь и воздух, леса и озера)
была живая. Но раз так, все природные стихии наделялись
душой. Эти души назывались или собственно душами, или
духами и демонами. Поясню теперь, как я пришел к
необходимости кроме знаков вводить понятие «семиотическая
схема».
Исследователь в любой науке, не только семиотике,
нередко сталкивается со следующей методологической
проблемой. С определенного момента он выходит на изучение
таких явлений, которые уже плохо описываются и, главное,
объясняются на основе наработанных представлений и
понятий. Тогда ученый оказывается перед дилеммой — или
продолжать двигаться в заданном направлении, стараясь все
же свести новые явления к уже изученным, принципиально
не меняя основных понятий, или же создать новые понятия и
идеальные объекты, проведя границу между одним классом
явлений, описанных на основе исходных понятий, и
другими, новыми классами, для изучения которых необходимы
новые понятия. Третий вариант, близкий к первому, —
создать такие понятия, которые бы описывали и объясняли
широкую область, включающую разные классы явлений.
100
Например, если судить по работам У. Эко, то очевидно,
что он столкнулся с подобной методологической проблемой,
когда пытался понять семиотическую природу иконическо-
го знака, искусства, дизайна, архитектуры, рекламы.
Разрешая эту ситуацию, Эко выбирает третий вариант. Он создает
систему понятий, главными из которых являются понятия
кода, риторики и идеологии (последние два задают для кода
контексты), позволяющие описывать и объяснять все
перечисленные явления. Однако при этом ему пришлось очень
расширить понятие кода. Действительно, код, по Эко, — это
то, что задает и систему константных общепризнанных
значений, и систему локальных, частных значений (так
называемый «лексикод»), и значения «произведения искусств» (Эко
называет такой специфический код «идеолектом»), и
«слабые коды», когда в зависимости от контекста и установок
субъекта постоянно меняются значения; одновременно код
понимается как семиотический метод анализа структур и как
сама семиотическая структура, но часто и как структура
восприятия1. При таком расширительном понимании кода Эко
вынужден постоянно фиксировать парадоксы. Например
обсуждая идеолект произведения искусства, он пишет: «Так,
произведение безостановочно преобразует денотации в
коннотации, заставляя значения играть роль означающих новых
означаемых. <...> Тут-то и возникают две проблемы,
которые можно рассматривать порознь, и в то же время они тесно
связаны между собой:
а) эстетическая информация — это опыт такой
коммуникации, который не поддается ни количественному
исчислению, ни структурной систематизации;
б) и все же за этим опытом стоит что-то такое, что
несомненно должно обладать структурой, причем на всех
уровнях, иначе это была бы не коммуникация, но чисто рефлек-
торная реакция на стимул»2.
См.: Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. — СПб., 1998. —
С. 45-48, 56-60, 84-88, 121-123, 253.
Там же. - С. 85-86.
101
И подобными парадоксами полна вся книга Эко. Не
означает ли это, что столь расширительное понятие кода
неоперативно и внутренне противоречиво?
В своих семиотических исследованиях я тоже столкнулся
с подобной же проблемой и примерно в тех же областях —
семиотического объяснения искусства, науки, дизайна,
сновидений, игры, общения и т. п. Довольно долго я пытался
реализовать первую стратегию, т. е. сохранить в неизменности
представления о знаках и их типах. Наконец, я понял, что эта
стратегия семиотического исследования тупиковая. Решил
выбрать второй вариант, т. е. для семиотического
объяснения перечисленных здесь явлений ввести новые
семиотические понятия, а именно понятие схема. Примерами ее
являются схема метро, нарративные описания архаической души
(«Его душа отправилась к берегам реки смерти, но не была
принята и вернулась оживить снова его тело») или схема анд-
рогина (двуполого существа, которого Зевс рассек пополам)
в платоновском «Пире».
Прежде всего, стоит обратить внимание, что схемы — это
семиотические образования (они в своем материале
представляют определенные предметы, отличные от них самих).
Но схемы — это не отдельные знаки и даже не системы
знаков, а самостоятельные семиотические предметы. Что
объединяет знаки и схемы? Главным образом метод
семиотической реконструкции, намеченный в ряде моих работ.
Он включает в себя:
— реконструкцию ситуации разрыва или витальных
катастроф (т. е. социально или индивидуально значимых
проблем и затруднений)1;
— предположение о том, что эти ситуации и катастрофы
разрешаются за счет изобретения, формирования и
употребления определенного семиотического образования (зна-
ка, схемы);
' Ситуации разрыва рассматривались как причины формирования новых знаков.
Витальные катастрофы автор ввел, чтобы объяснить становление новой
культуры.
102
— {^конструкцию формирования этого семиотического
образования, анализ его строения;
— реконструкцию процессов переноса свойств с объектов
на снаки (схемы) и обратно, а также образования
вторичный предметов;
— анализ возможных линий развития новых семиотических
образований;
— реконструкцию проблем, возникших в результате
формирования новых семиотических образований (эти
проблемы наряду с какими-то другими факторами могут
привести к новой ситуации разрыва или витальной
катастрофе)1.
Рассмотрим теперь специфические особенности схем.
Известно, что у Канта в «Критике чистого разума» есть
понятия «схематизма рассудка» и «схемы». Он пишет: «Это
формальное и чистое условие чувственности, которым
рассудочное понятие ограничивается в своем применении, мы будем
называть схемой этого рассудочного понятия, а способ,
которым рассудок обращается с этими схемами, — схематизмом
чистого рассудка. <...> Следовательно, схемы чистых
понятий суть истинные и единственные условия, способные дать
этим понятиям отношение к объектам, стало быть значение,
и потому в конце концов категории не могут иметь никакого
другого применения, кроме эмпирического, т. к. они служат
лишь для того, чтобы посредством оснований a priori
необходимого единства (ради необходимого объединения всего
сознания в первоначальной апперцепции) подчинить явления
общим правилам синтеза и таким образом сделать их
пригодными для полного соединения в опыте»2.
Обратим внимание, с точки зрения Канта, именно схемы
придают категориям и понятиям значение. Но
одновременно в кантианской системе роль схем и схематизмов не столь
уж и велика: как подчеркивает Кант, «схема есть,
собственно, лишь феномен или чувственное понятие предмета, нахо-
дящееся в соответствии с категорией», имеющей независи-
2 Розин В. М. Семиотические исследования. — М., 2001.
Кант И. Критика чистого разума. — С. 222, 226.
103
/.
мое от всякой схемы и гораздо более широкое значение1.
Другой интересный момент состоит в том, что хотя без схем
мышление, по Канту, не может состояться, поскольку
построить синтетическое суждение и получить в нем новое
знание можно только при соотнесении априорных
представлений с предметами опыта, тем не менее собственно
логической характеристикой схемы не обладают, т. е. к мышлению
они прямо не относятся.
В кантианской системе подобное неоднозначное, если
не сказать отчасти противоречивое, понимание схем,
вообще-то, понятно, но за пределами этой системы
представления о схемах и схематизме мышления нуждаются в
осмыслении, тем более что, действительно, без использования
разного рода схем мышление невозможно. В современной
методологии нередко можно услышать и утверждения (я их слышал,
например, из уст Г. П. Щедровицкого и С. В. Попова) о том,
что именно схемы, а не знания и понятия являются
основными познавательными инструментами не только
методологии, но и всех современных общественных и
гуманитарных дисциплин. Однако даже и без таких сильных заявлений
любой внимательный философ и ученый может заметить,
сколь широкое применение имеют сегодня схемы.
Интересный анализ происхождения и употребления схем
в естественных науках мы встречаем в работах В. С. Степина,
но он не рассматривал специально гносеологическую
природу схем. Если же это делать, возникают вопросы. Чем
являются схемы в познавательном отношении, по сути, ведь
не ясно. Схемы — это не знания, хотя могут быть
использованы для получения знаний (но каких?). Схемы сами по себе не
являются объектами, однако часто задают объекты; именно в
этом случае мы говорим об «онтологических схемах».
Схемы — это и не понятия, хотя нередко именно со схем
начинается жизнь понятий. Без схем современное мышление не
могло бы состоятся, но после того, как оно «встает на ноги», часто
исследователи вполне успешно могут обходиться без схем.
1 Кант И. Критика чистого разума. — С. 226—227.
104
Спрашивается, почему? И так далее и тому подобное, здесь
что ни вопрос — удовлетворительного ответа на него нет.
Все это говорит о том, что возникла настоятельная
необходимость в анализе и осмыслении схем и схематизмов
мышления. В качестве эмпирического материала я возьму два случая
использования схем: один, очень ранний, донаучный — в
знаменитом диалоге Платона «Пир», другой более поздний, как
раз ближе к научному — в не менее известной работе Галилея
«Беседы» (точное название: «Беседы и математические
доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки,
относящихся к механике и местному движению»).
В «Пире» мы находим несколько схем, которые я сначала
перечислю. Во-первых, это схема двух Афродит. Один из
участников диалога Павсий (а диалог формально посвящен
прославлению бога любви) говорит, что нужно различать
двух разных Эротов, богов любви, соответствующих двум
Афродитам — Афродите простонародной (пошлой) и
Афродите возвышенной (небесной), и что только последняя
полна всяческих достоинств1. Во-вторых, схема андрогина и его
метаморфоз. Другой участник диалога Аристофан
рассказывает историю, в соответствие с которой каждый мужчина и
женщина ищут свою половину, поскольку они произошли от
единого андрогинного существа, рассеченного Зевсом в до-
исторические времена на две половины2. В-третьих, схема,
' «Так вот, — говорит Павсий, — Эрот Афродиты пошлой поистине пошл и
способен на что угодно; это как раз та любовь, которой любят люди ничтожные. А
такие люди любят, во-первых, женщин не меньше, чем юношей; во-вторых, любят
своих любимых больше ради их тела, чем ради души. <...> Эрот же Афродиты
небесной восходит к богине, которая, во-первых, причастна только к мужскому
началу, но никак не к женскому — недаром это любовь к юношам, — а
во-вторых, старше и чужда преступной дерзости. <...> Такова любовь богини небесной:
сама небесна, она очень ценна и для государства, и для отдельного человека,
поскольку требует от любимого великой заботы о нравственном совершенстве»
2 {Платон. Пир // Соч.: В 4 т. — М., 1993. — Т. 2. - С. 90, 94).
«Итак, — говорит Аристофан, — каждый из нас — это половинка человека,
рассеченного на две камболоподобные части, и поэтому каждый ищет всегда
соответствующую ему половину. Мужчины, представляющие собой одну из частей
того двуполого прежде существа, которое называлось андрогином, охочи до
женщин, и блудодеи в большинстве своем принадлежат именно к этой породе, а
женщины такого происхождения падки до мужчин и распутны. Женщины же,
представляющие собой половинку прежней женщины (андрогина женского
пола. — В. Р.), к мужчинам не очень расположены, их больше привлекают женщи-
105
описывающая путь людей, которые, как выражается Диоти-
ма, разрешаются в любви духовным бременем1. Этих людей,
противопоставляемых обычным возлюбленным, вполне
можно назвать эзотериками, конечно, в платоновском
понимании эзотеризма. Наконец, в-четвертых, в «Пире» можно
найти схему, в которой любви приписываются такие
качества, как гармония, рассудительность, мудрость, даже
стремление к бессмертию2.
Заметим, что перечисленные здесь образования в тексте
Платона ниоткуда не выводятся, а, напротив, сами являются
источниками рассуждений о любви и получения о ней
знаний. При этом каждое такое образование представляет собой
некую целостность в отношении последующих рассуждений
о любви. Действительно, рассказывая историю с андроги-
ном, Аристофан получает знание о том, что возлюбленным
присуще стремление к поиску своей половины. Деление
Афродит на вульгарную и возвышенную позволяет приписать люб-
ей мужчины к прекрасному юноше различные достоинства, а
мужчине к женщине — только низменную страсть.
Соответственно той же цели приписывания любви необычных (если
сравнивать с распространенным, народным пониманием
любви) качеств: совершенствования личности, работы над со-
ны, и лесбиянки принадлежат именно этой породе. Зато мужчин,
представляющих собой половинку прежнего мужчины, влечет ко всему мужскому» (Платон.
Пир. - С. 100).
' «Те, — говорит Диотима Сократу, — у кого разрешиться от бремени стремится
тело, обращаются больше к женщинам и служат Эроту именно так, надеясь
деторождением приобрести бессмертие и оставить о себе память на вечные времена.
Беременные же духовно — ведь есть и такие, — беременны тем, что как раз душе
и подобает вынашивать. А что ей подобает вынашивать? Разум и прочие
добродетели... каждый, пожалуй, предпочтет иметь таких детей, чем обычных» (Там
же.-С. 119-120).
2 Например, Агафон говорит, что Эроту «в высшей степени свойственна
рассудительность», и аргументирует он эту мысль так: «Ведь рассудительность — это, по
общему признанию, умение обуздывать свои вожделения и страсти, а нет
страсти, которая бы была сильнее Эрота. Но, если страсти слабее, чем он, значит они
должны подчиняться ему, а он — обуздывать их. А если Эрот обуздывает желания
и страсти, его нужно признать необыкновенно рассудительным» (Там же. —
С. 105). А вот что утверждает Диотима: «Ведь мудрость — это любовь к
прекрасному, поэтому Эрот не может не быть философом, т. е. любителем
мудрости. <...> Но если любовь, как мы согласились, есть стремление к вечному
обладанию благом, то наряду с благом нельзя не желать и бессмертия. А значит,
любовь — это стремление и к бессмертию» (Там же. — С. 114, 116).
106
бой, стремления к бессмертию — служат рассуждения по
поводу людей, разрешающихся в любви духовным бременем.
Таким образом, с помощью схем герои диалога (а
фактически сам Платон) получают различные знания о любви.
Еще один признак схем: как правило, они могут стать
объектами оперирования, в том смысле, что схемы имеют
определенное строение, их можно анализировать, на основе одних
схем можно создавать другие и т. п.
Следующая важнейшая особенность схем — они
являются самостоятельными предметами, что осознается даже в
этимологии этого термина (от греч. scema — наружный вид,
форма). Предложим следующее рабочее определение схемы:
схема — это самостоятельный предмет, выступающий
одновременно как представление (или изображение) другого предмета.
Понятно, что схема может быть использована и в функции
модели (как известно, модель — это объект, употребляемый
вместо другого объекта), но схема все же не совпадает с
моделью. Для схемы существенна именно предметность: схема
и сама является самостоятельным предметом, и
представляет другой предмет, это, так сказать, предмет в квадрате. В
качестве первого предмета (корня) схема выступает как
источник знаний, в качестве второго (самого квадрата) позволяет
переносить знания с одного предмета на другой. Имеет
смысл рассмотреть тот способ, на основе которого Платон
получает на схемах новые знания. Рассмотрим для этого
более подробно историю об андрогинах.
Сначала рассказывается сама история, а именно то, как
Зевс рассек андрогинов пополам. Затем половинки андроги-
нов отождествляются с мужчинами и женщинами или с
разными мужчинами. Наконец, влюбленным мужчинам и
женщинам приписывается стремление к поиску своей
половины, поскольку их происхождение от андрогинов требует
воссоединения целого. Кант, вероятно, сказал бы, что
категории «часть — целое», «любовь» и «пол» — это априорные
начала, применение которых к реальным объектам (людям) и
потребовало схемы андрогина. Платон рассуждает иначе: с
107
помощью «правдоподобной» истории об андрогине душа
вспоминает совершенную идею любви, которая создана
творцом. А я вижу в рассуждении героя диалога нечто другое.
Откуда, спрашивается, Платон извлекает новое знание о
любви? Он не может изучать (созерцать) объект, ведь
платонической любви в культуре еще не было, а обычное
понимание любви было прямо противоположно платоновскому.
Платон утверждал, что любовь — это забота о себе каждого
отдельного человека, а народное понимание языком мифа
гласило, что любовь от человека не зависит (она возникает,
когда Эрот поражает человека своей золотой стрелой);
Платон приписывает любви разумное начало, а народ — только
страсть; Платон рассматривает любовь как духовное
занятие, а народ — преимущественно как телесное и т. п. Новое
знание Платон получает именно из схемы, очевидно, он ее
так и создает, чтобы получить такое знание. Но относит
Платон это знание, предварительно модифицировав его
(здесь и потребовалось отождествление), не к схеме, а к
объекту рассуждения, в данном случае к любви. Возникает
вопрос: на каких основаниях, ведь объекта еще нет? Платон
бы возразил: как это нет объекта, а идея любви, ее творец
создал одновременно с космосом, и душа созерцала
совершенную любовь, когда пребывала в божественном мире.
Но я не Платон и должен повторить. К моменту создания
«Пира» платонической любви еще не было. Следовательно, я
могу предположить лишь одно: Платон полагает
(современный инженер сказал бы «проектирует») новое представление
о любви, и именно для этого ему нужна схема. Она задает, а
не описывает новый объект; полученные на схеме знания
приписываются этому объекту, конституируя его. То же самое
можно утверждать и относительно других платоновских
схем.
Рассмотрим теперь второй пример — схемы в «Беседах»
Галилея. Исследования В. Зубова показывают, что в
основании всех поисков Галилея, позволивших ему получить новые
знания о движении (свободном падении тела), лежит заим-
108
ствованная им у средневекового логика Николая Орема
«схема треугольника скоростей». В этой схеме один катет
прямоугольного треугольника изображает пройденное
время, а другой — максимальную скорость, достигнутую при
свободном падении тела (прямые внутри треугольника,
параллельные этой максимальной скорости, — это
мгновенные скорости в определенный момент времени падения).
На оремовской схеме Галилей получает исходное знание о
том, что скорость падающего тела увеличивается равномерно,
которое он кладет в основание всех дальнейших
доказательств. «Поэтому, — пишет Галилей, — когда я замечаю, что
камень, выведенный из состояния покоя и падающий со
значительной высоты, приобретает все новое и новое
приращение скорости, не должен ли я думать, что подобное
приращение происходит в самой простой и ясной для всякого форме?
Если внимательно всмотримся в дело, то найдем, что нет
приращения более простого, чем происходящее всегда
равномерно. К такому заключению мы придем, подумав о
сродстве понятий времени и движения»1.
Отталкиваясь от той же схемы, Галилей получает еще два
знания: что все тела должны падать с одинаковой скоростью
независимо от их веса и что вес тела расходуется не на
поддержание движения, а только на его приращение
(Аристотель утверждал обратное: скорость падения прямо
пропорциональна весу падающего тела и для поддержания
равномерного движения тела необходимо постоянно
прикладывать определенную силу). Наконец, еще одно знание («Если
тело, выйдя из состояния покоя, падает равномерно
ускоренно, то расстояния, проходимые им за определенные
промежутки времени, относятся между собой, как квадраты
времени») Галилей получает, доказывая геометрическим путем
равенство треугольника скоростей «прямоугольнику скоро-
Галилей Г. Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых
отраслей науки, относящихся к механике и местному движению // Соч. — М.; Л.,
1934.-T. 1.-C. 292.
109
стей», т. е. равенство равноускоренного движения
равномерному движению со средней скоростью падения '.
Первое исходное знание Галилей получает примерно так
же, как Платон. Он доказывает, что предположение о
равномерном приращении скорости падающего тела является
наиболее естественным и соответствующим природе
изучаемого явления. Другими словами, схема треугольника
скоростей построена так, чтобы приписать падающему телу
данное соотношение.
По-другому получаются второе и третье знания. Почему,
рассуждает Галилей (смотри нашу реконструкцию2), нельзя
считать, что вес тела тратится на поддержание его
постоянной скорости. А потому, что в этом случае нельзя объяснить
ускорение тела при падении, ведь тогда пришлось бы
считать, что по мере падения и вес тела постоянно возрастает.
Почему все тела падают с одинаковой скоростью независимо
от их веса? А потому, что в треугольник скоростей входят
только два параметра — скорость тела и пройденное время, а
параметр веса не входит, следовательно, от веса тела
скорость не зависит. Как мы видим, новые знания здесь
получаются не прямо из оремовской схемы, но в связи с ней. В
данном случае схема помогает организовать соответствующие
рассуждения.
Наконец, четвертое знание получается при
отождествлении оремовской схемы с определенной геометрической
фигурой. На основе полученного в геометрии знания о
равенстве фигур далее создается новое знание о свободном падении.
То есть новое знание здесь создается в два этапа: сначала в
геометрии, затем в механике, но и там и там объекты
задаются с помощью схемы треугольника скоростей.
Если Платон в обосновании своих знаний апеллирует к
идеям, то Галилей — к устройству природы как «написанной
на языке математики». В частности, в «Диалоге о двух
главнейших системах мира» Галилей пишет: «Но если человече-
ское понимание рассматривается интенсивно и коль скоро
' См.: Галилеи Г. Беседы... — С. 311—315.
2 См.: Розин В. М. Типы и дискурсы... — С. 52—69.
110
под интенсивностью разумеют совершенное понимание
некоторых суждений, то я говорю, что человеческий интеллект
действительно понимает некоторые из этих суждений
совершенно и что в них он приобретает ту же степень
достоверности, какую имеет сама Природа. К этим суждениям
принадлежат только математические науки, а именно геометрия и
арифметика, в которых божественный интеллект
действительно знает бесконечное число суждений, поскольку он
знает все. И что касается того немногого, что действительно
понимает человеческий интеллект, то я считаю, что это
знание равно божественному в его объективной достоверности,
поскольку здесь человеку удается понять необходимость,
выше которой не может быть никакой более высокой
достоверности»1.
Вернемся теперь к проблеме определения
специфических характеристик схем. Обратим внимание на контекст, в
котором Платон вводит схему андрогина. Этот контекст
явно игровой, участники диалога берутся прославлять на
пирушке бога любви Эрота, а Аристофан рассказывает
историю, безусловно им лично сочиненную; во всяком случае,
такого нарратива в стандартном наборе греческих мифов
не было. Другими словами, отношения, устанавливаемые
между выдуманной историей и отношениями
возлюбленных, не являются общезначимыми, они устанавливаются тут
же, в реальности беседы о любви. То есть в отличие от знака,
имеющего константное общезначимое значение, схема как
семиотическое образование условна, что часто и
фиксируется в ее определении. Значение схемы устанавливается
относительно данного контекста и реальности, в других
реальностях значение схемы может быть иным. Установленное в
определенном контексте значение схемы, конечно, может
сохраниться и в дальнейшем употреблении, как, например,
это произошло со схемой метро или схемами архаической
души. В этом, не столь уж редком случае схема, сохраняя свою
функцию схемы, превращается в знак (иногда в символ, как в
Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира. — М., 1948. — С. 89.
111
случае креста). Однако в общем случае специфическая
особенность схем состоит именно в том, что их значения
устанавливаются и имеют силу в рамках определенной реальности
(игровой, познавательной, общения и т. д.).
Еще одна важная характеристика схем — осознание ее
предметности. И знак может превращаться (и постоянно
превращается) в предмет, но этот момент обычно не
осознается, поскольку знак используется прежде всего как средство
деятельности. Напротив, строение схемы, ее предметные
возможности интересуют создателя или пользователя схемы
в первую очередь, поскольку именно они позволяют решить
с помощью схемы определенную задачу, например,
получить на схеме новое знание и отнести его к
схематизируемому предмету.
Чем еще схемы отличаются от знаков? Говоря о знаках,
мы употребляем два ключевых слова — «обозначение» и
«замещение», например, некоторое число как знак обозначает
то-то (скажем, совокупность предметов), замещает такой-то
предмет (эту совокупность) в плане количества. У схемы
другие ключевые слова — «описание» и «средство» (средство
организации деятельности и понимания). Например, мы
говорим, что схема метро описывает пересадки и маршруты
движения, помогает понять, как человеку эффективно
действовать в метрополитене.
Знаки вводятся в ситуации, когда уже сформировалась
некоторая объектная область, но по какой-либо причине
человек не может действовать с объектами этой области
(например, они разрушились, громоздки и пр.). Замещая эти
объекты знаками и действуя с ними вместо того, чтобы
действовать с соответствующими объектами, человек получает
возможность достигнуть нужного ему результата; при этом
частично перестраивается и сама деятельность и по-новому
(сквозь призму означения) понимаются исходные объекты.
Схемы тоже означают некоторую предметную область
(например, схема архаической души — состояния человека),
но эта их функция не главная, а подчиненная; можно ска-
112
зать, что она вообще находится на другом иерархическом
уровне. Более важны две другие функции: организации
деятельности и понимания, выявление новой реальности . Здесь
нет исходной объектной области, которая означается.
Напротив, создается новая объектная и предметная область.
До изобретения схемы души никаких душ не существовало.
Схема вводится с целью организации новой деятельности,
материалом которой выступают различные состояния
человека, при этом душа — это не еще одно интегральное
состояние, а новая антропологическая реальность. Чтобы лучше
понять этот тезис, рассмотрим более подробно, как могли
сформироваться представления о душе в архаической
культуре и языческих богах в культуре древних царств.
Где-то на рубеже 100—50 тыс. лет до н. э. человек
столкнулся с тем, что не знает, как действовать в случаях
заболевания своих соплеменников, их смерти, когда он видел сны,
изображения животных или людей, которые он сам же и
создавал, а также в ряде других ситуаций, от которых зависело
благополучие племени2. Этимология слова «душа»
показывает его связь со словами «птичка», бабочка», «дыхание».
Можно предположить, что представление о душе возникает
примерно так.
Не зная, как действовать в случаях смерти, заболевания,
обморока, сновидений, встречи с изображениями животных
или людей, вождь племени случайно отождествляет
состояния птички (она может вылететь из гнезда, вернуться в него,
навсегда его покинуть и т. д.) с интересующими его
состояниями человека (смертью, болезнью, выздоровлением и пр.)
и дальше использует возникшую связь состояний как
руководство в своих действиях. Например, если человек долго не
просыпается и перестал дышать, это значит, что его
«птичка-дыхание» улетела из тела навсегда. Чтобы улетевшая
«птичка-дыхание» не осталась без дома, ей надо сделать но-
вый, куда можно отнести и бездыханное тело. Именно это
1 См.: Розин В. М. Теоретическая и прикладная культурология. — М., 2007. —
С. 89-97.
2 См.: Розин В. М. Культурология. — С. 115—120.
8. Заказ №4180
113
вождь и приказывает делать остальным членам племени,
т. е., с нашей точки зрения, хоронить умершего.
Объясняя другим членам племени свои действия, вождь
говорит, что у человека есть птичка-дыхание, которая живет
в его теле или улетает навсегда, но иногда может вернуться.
Пытаясь понять сказанное и тем самым оправдать приказы
вождя и собственные действия, члены племени вынуждены
представить состояния человека как состояния птички, в
результате они обнаруживают новую реальность — душу
человека. Если у вождя склейка состояний птички и человека
возникла случайно (например, ему приснился такой сон,
или, рассказывая о птичке, покинувшей гнездо, он случайно
назвал ее именем умершего), то у членов племени,
старающихся понять действия и слова вождя, эта склейка
(означение) возникает в результате усилий понять сказанное
вождем и осмыслить реальный результат новых действий.
Необычные слова вождя, утверждающего, что у человека есть
птичка-дыхание, помогают осуществить этот процесс
понимания-осмысления.
Подобные языковые конструкции и являются первыми
схемами, они выполняют несколько функций: помогают
понять происходящее, организуют деятельность человека,
собирают смыслы, до этого никак не связанные между собой,
способствуют выявлению новой реальности. Необходимым
условием формирования схем является означение, т. е. замещение
в языке одних представлений другими (в данном случае
необходимо было определенные состояния человека
представить в качестве состояний птички-дыхания).
Изобретя представление о душе, человек смог
действовать во всех указанных выше случаях; более того, можно
предположить, что выжили только те племена, которые
пришли к представлению о душе. На основе анимистических
представлений формируются и первые социальные
практики (захоронения умерших, лечения, толкования
сновидений, вызывания душ и общения с ними), а также соответст-
114
вующее понимание и видение мира (он был населен душами,
которые помогали или вредили человеку).
И опять именно схемы помогали человеку
распространить анимистические представления на новые случаи и
ситуации. Например, как можно было понять, почему в семье и
племени все люди похожи и связаны между собой? Двигаясь
в схеме души: птичка могла переселиться из одного гнезда в
другое, аналогично душа умершего могла вернуться в тело
ребенка, родившегося в данной семье (племени). Решая
одни проблемы, архаический человек порождал другие,
эти — третьи, и так до тех пор, пока не удавалось выйти на
понимание реальности (мира), обеспечивающей при
сложившихся условиях устойчивую социальную жизнь. Теперь
вторая иллюстрация.
Приглядимся к языческим богам Древнего Египта,
Шумера, Вавилона, Древней Индии и Китая (по моей
классификации, эти социальные образования относятся к
культуре древних царств). В своих работах я старался показать,
что главная их особенность в том, что они управляют
человеком (обладают властью), любым, даже царем
(фараоном). Другая особенность — каждая профессия и каждая
специальность имела своего бога-покровителя. Наконец,
еще одно важное свойство языческих богов — они всегда
действуют совместно с человеком. Сеет ли он зерно в поле,
строит ли свой дом, зачинает ли собственного сына или
дочь — всегда вместе с ним действуют соответствующие
боги, которые направляют человека и помогают ему1.
Осмысляя перечисленные характеристики богов, я
предположил, что боги — это мифологическое осознание (кон-
ституирование) новой социальной реальности:
разделения труда и систем управления (власти), соответственно
отношения человека с богами выражали в
мифологической форме участие человека в разделении труда и в систе-
мах управления и власти.
1 См.: Розин В. М. Культурология. — С. 133—136; Он же. Теория культуры. —
С. 18—30; Он же. Развитие права в России как условие становления
гражданского общества и эффективной власти. — М., 2005. — С. 117—129.
8*
115
По механизму обнаружение реальности богов должно
напоминать процесс, который привел к представлению о
душе. Только здесь для сборки разных смыслов и
выявления новой реальности потребовались более сложные
схемы — мифы о том, как боги создали мир и человека,
пожертвовав для этой цели своей жизнью1. В религиозной
реальности допустимы одни события и совершенно
исключаются другие. Например, бог может создать, все, что пожелает,
вселиться в кого или что угодно, может, даже обязан
помогать человеку, если последний принес ему жертву или отдал
часть произведенного им продукта, функция бога —
направлять человека, другая, как говорили шумеры, —
«закрывать дорогу демонам» (вот где последние появляются,
но это уже не души, приносящие несчастья, а настоящие
злодейские существа, находящиеся в сложных отношениях
как с людьми, так и с богами) и т. д. Однако в религиозной
реальности недопустимы примат душ или духов (они,
безусловно, должны подчиняться богам) или
причинно-следственные связи, напоминающие природные естественные
отношения. Думаю, рассмотренные два примера помогают
лучше понять, что такое схема. Продолжим анализ общих
характеристик схемы.
Схему в силу ее означающих возможностей можно
использовать не только в собственной функции, но и как знак.
Например, схему метро можно использовать не для
организации нашего поведения в метрополитене, а как
знак-модель, чтобы определить, по какому маршруту можно быстрее
добраться от одной станции до другой. И то в данном случае
эта задача может быть рассмотрена как аспект нашего
поведения в метро.
Еще одна характеристика схем — на ее основе создается
возможность приписывать схематизируемой реальности
новые свойства и связи. Действительно, сами по себе состоя-
ния архаического человека (смерть, болезнь и пр.) связаны
1 См.: Розин В. М. Культурология. — С. 133—136; Он же. Теория культуры. —
С. 18—30; Он же. Развитие права... — С. 117—129.
116
одним образом, в практике и образе сложившейся жизни,
но, схематизированные в представлении о душе, они
организуются и связываются другим способом, по-новому. А
именно через идею особой птички — обладателя жизни.
Соответственно состояния падающего тела в опыте наблюдения за
ним связаны одним образом, а представленные с помощью
оремовского треугольника — совершенно другим.
Геометрические свойства этого треугольника Галилей приписывает
свободному паданию. Понятно, что эта последняя
характеристика схем дополнительна к их характеристике задавать
новую реальность.
2.3. Знание и нерефлексированное
познание
В ранних работах Г. П. Щедровицкого была
принципиальная неясность. С одной стороны, он трактует знание в
контексте мыслительной деятельности, и тогда оно
редуцируется (сводится) к знаку. С другой — сохраняется
эпистемологическая трактовка знания; в этом случае знание
характеризуется как структура формы и содержания (форма
представляет содержание, содержание представлено в форме).
Введя понятие знаковой формы, Г. Щедровицкий пытается
удержать эпистемологичекую трактовку знания; настаивая
на деятельностной природе мышления, он вынужден
сводить знания к знакам, что в конце концов и произошло.
Сегодня я решаю эту дилемму следующим образом.
Знание не тождественно знаку (схеме). Семиотический процесс
является операциональной несущей основой знания.
Другими словами, чтобы получить знание, необходимы замещение,
означение и действия со знаками или схемами. Но знание
возникает как бы перпендикулярно, в сознании человека при
условии своеобразного удвоения действительности. В созна-
117
нии человека, получающего и понимающего знание, под
влиянием требований коммуникации (например,
необходимости при отсутствии предмета сообщить о нем другим
членам общества) предмет начинает существовать двояко — и
сам по себе, и как представленный в семиотической форме
(слове, рисунке и т. п.). Знание «слон» фиксирует не только
представление о слоне, сложившееся в обычной практике,
но и представление о слоне, неотделимое от слова «слон».
В обычном сознании эти два представления сливаются в
одно целое — знание, но в контексте общения
(коммуникации) и деятельности они расходятся и выполняют разные
функции. Так, именно второе представление позволяет
транслировать знание и действовать с ним как с
самостоятельным объектом, в то же время первое представление —
необходимое условие формирования и опознания эталона.
Указанное здесь представление о знании в той или иной
форме осознавалось многими философами. Например,
Аристотель фиксировал различие знания и объекта, причем
содержание знания в его системе часто совпадает с сущностью
объекта. Кант говорил о созерцании. «Каким бы образом и
при помощи каких бы средств, — пишет Кант, — ни
относилось познание к предметам, во всяком случае созерцание
есть именно тот способ, каким познание непосредственно
относится к ним и к которому как к средству стремится
всякое мышление»1. Почему мышление ставится в зависимость
от созерцания? А потому, что в знании одно представление
фиксируется (отражается) в другом. Мышление,
рассматриваемое в качестве способа получения знаний, т. е. познания,
и определяется как способность отражения («описания»)
предмета, как созерцание. Другими словами, о знании мы
говорим в контексте не только коммуникации, но и
познания, для знака же познавательная деятельность
необязательна. Вот почему я утверждаю, что знание хотя и возникает на
семиотической основе, к знакам не сводится. Коммуника-
ция, замещения, означения и другие действия со знаками со-
1 Кант И. Критика чистого разума... — С. 127.
118
здают в сознании условия для поляризации целостного
представления о предмете: одно из них осознается как знание,
второе — как объект знания или его содержание.
В «Теории культуры» я показываю, что в
социокультурной действительности необходимо различать два основных
процесса — становления и функционирования. К первому
относится разрешение витальных катастроф, формирование
базисных культурных сценариев и картин мира, основных
социальных институтов, хозяйства и экономики, системы
власти, профессиональных сообществ и общества, ко
второму процессу — распространение всех этих структур на новые
ситуации в новых условиях, что, конечно, предполагает их
усложнение и развитие, но не ведет к принципиальному
изменению самих этих структур. При этом генезис первых
культур позволил выделить в отдельной культуре базисные
представления (например, о душе человека для архаической
культуры, о богах для культуры древних царств), которые
являются центральными и сохраняются в течение жизни
культуры. Эти представления я и назвал «базисными
культурными сценариями»1.
Генезис культур показывает, что под влиянием базисных
культурных сценариев складываются и другие основные
составляющие культуры (социальные институты, власть,
общество, личность, сообщества). Например, для культуры
древних царств — это армия, жреческая и царская власть,
хозяйство, образование, судопроизводство. Выполняя в
социальном организме определенные функции (внешние или
внутренние — защиты, управления, производства,
воспроизводства, разрешения конфликтов), социальные институты
одновременно строятся так, чтобы соответствовать
базисным культурным сценариям. Например, армия в культуре
древних царств возглавлялась не только полководцами, но и
богами войны и народа, поэтому на нее распространялись
все основные сакральные сценарии (необходимость
жертвоприношений, уяснение воли и указаний богов, ориенти-
Розин В. М. Теория культуры. — М., 2004; Он же. Развитие права в России как
условие становления гражданского общества и эффективной власти. — М., 2005.
119
ровка в сложных отношениях между главными богами, а по
сути — в отношениях с другими институтами). Общество и
сообщества, а позднее (в античной культуре) личность тоже
складываются в культуре под влиянием базисных
культурных сценариев. Например, общество и сообщества культуры
древних царств консолидировались, структурировались и
действовали от имени соответствующих богов (каждая
община и каждое сообщество имело своего бога-покровителя,
и, когда вырабатывалось коллективное решение, его идея и
побудительный мотив приписывались богам). Наконец, и
структура власти в культуре, понимаемая автором как
инстанция, связывающая людей с системой социального
управления, существенно обусловлена базисным
культурным сценарием1.
В свою очередь, базисные культурные сценарии
формируются как семиотические схемы при разрешении
«витальных катастроф», т. е. комплекса проблем, без решения
которых новая культура как форма социальной жизни не могла
бы сложиться (если понятие ситуации разрыва позволяет
объяснить развитие деятельности, то витальной
катастрофы — становление новой культуры). В становящейся
культуре схемы как семиотические образования выполняют две
важные функции: обеспечивают организацию деятельности
и задают новую социальную реальность. Но и, обратно,
социальная организация складывается именно при
изобретении схем. Одновременно она есть необходимое условие
становления культуры: в рамках социальной организации
формируются социальные институты и другие социальные
образования, например те же власть, общество, сообщества,
личность.
Таким образом, в каждой культуре складывается свое
представление о мире, обусловленное существующими
базисными сценариями, социальными институтами,
структурой хозяйства и экономики, системой власти, обществом,
популяциями. В периоды становления социокультурной
1 Розин В. М. Теория культуры. — М., 2004; Он же. Развитие права в России как
условие становления гражданского общества и эффективной власти. — М., 2005.
120
действительности можно говорить и о становлении мира, в
периоды функционирования — о его существовании.
Именно на стадии существования мира появляется познание. Оно
представляет собой семиотическое и схемное осмысление и
освоение первой природы и самой социальной
действительности в рамках сложившихся базисных сценариев.
Например, в архаической культуре и первая, и вторая
природы были поняты анимистически: земля, солнце, ветер,
река и все остальные стихии — это были души, но точно так
же племя, в котором жил человек, понималось как
сообщество душ, переходящих от умерших к родившимся.
Подобное осмысление представляло собой первый в истории
человечества тип познания. Его особенностью было то, что сам
процесс познания не осознавался, поэтому такой тип
познания можно назвать нерефлексированным. Рассмотрим,
например, как на схеме архаической души, задававшей
базисный культурный сценарий архаической культуры, могло
быть получено новое мифологическое знание о том, что
после смерти родственников их души возвращаются в тела
детей, родившихся в данной семье.
Получению этого знания, вероятно, предшествовали
следующие наблюдения (их можно трактовать как
атрибутивные знания), полученные в разных бытийственных
ситуациях, но почему-либо соединенных вместе. Первое —
родственники в семье похожи друг на друга, не исключая умерших
и живущих. Последнее могло звучать примерно так:
«Умерший дед (бабушка, отец) вернулся, т. е. снова родился».
Второе — птица может сменить свое гнездо, перелетев из одного
в другое. Совмещение обоих наблюдений на фоне
актуализации представления о душе-птице создает условие для склейки
в сознании двух образов — похожих друг на друга
родственников и птицы-души, перелетающей из одного гнезда-дома
(тела) в другой. Можно предположить, что подобная склейка
облегчалась языковой игрой, воображением, сновидениями
и стремлением понять возникший из соединения двух
предметов феномен. Рождается же из всего этого новая схема (ре-
121
инкарнации) и знание: «Живущие и умершие родственники
имеют общие души». Кстати, в этом же контексте, вероятно,
рождается и схема «древа жизни»: душа-птица, прежде чем
влететь в новое гнездо, отдыхает на древе (жизни). На
некоторых петроглифах так и изображено.
В культуре древних царств и первая природа, и
социальная жизнь осмыслялись в религиозном ключе: не только все
природные стихии понимались как соответствующие боги
(боги рек, бог солнца, богиня луны, боги земли и неба и т. д.),
но и социальные явления, например, в Шумере почитались
боги государства, боги городов, боги кварталов, боги всех
основных профессий. Частично начал осознаваться в той же
религиозной форме и сам процесс познания. Действительно,
чтобы согласовать деятельность человека с деятельностью и
жизнью богов, жрецы стали вести регулярные наблюдения за
поведением богов, т. е. изучать движение солнца, луны,
звезд, начало и окончание разлива рек и пр., включая
наблюдения за отдельными социальными явлениями, например
гибелью одних царств и возникновением других. При этом
жрецы, вероятно, не могли не осознавать в какой-то форме
свою деятельность. Однако полностью рефлексированное
познание возникает значительно позднее, в античной
культуре.
Аналогично можно показать, что элементы науки и
астрономии были созданы (изобретены) вавилонянами и
египтянами, когда они искали способы восстановления
нарушенного с их точки зрения миропорядка. Геометрия,
например, была изобретена, когда нужно было восстанавливать
границы полей, смываемых каждый год Нилом и Ефратом1.
И как еще, как не катастрофу, мог шумер понимать такой
разлив: вода унесла межевые камни, какой теперь брать
налог — неизвестно, а если налог не будет вовремя получен,
боги разгневаются и отвернутся от человека, да и сама жизнь
1 ВарденА. Ван дер. Пробуждающаяся наука. — М., 1959; Вайман А. А. Шумеро-ва-
вилонская математика III—I тысячелетия до н. э. — М., 1961; Нейгебауер О.
Лекции по истории античных математических наук. — Л., 1937.
122
будет под угрозой. Но рассмотрим подробнее, как,
например, сложился алгоритм вычисления прямоугольного поля.
Итак, поскольку разливы рек смывали границы полей,
перед древними народами каждый год вставала задача —
восстанавливать границы, при этом необходимо, чтобы каждый
земледелец получил ровно столько земли,-сколько он имел
до разлива реки. Судя по археологическим данным и
сохранившимся названиям мер площади, данная проблема
частично была разрешена, когда «размер» каждого поля стали
фиксировать не только границами, но и тем количеством
зерна, которое шло на засев поля. Действительно, наиболее
древняя мера площади у всех древних народов — «зерно» —
совпадает с мерой веса, имеющей то же название.
Однако восстановление полей с помощью зерна не всегда
было возможным или удобным: часто необходимо было
восстановить поле, не засеивая его, засеять можно было
по-разному, получив больше или меньше площади, и т. д.
Эмпирический материал подсказывает, что был изобретен новый
способ восстановления полей: теперь для восстановления
прямоугольного поля у, равного по величине полю х,
подсчитывали количество оставленных плугом в поле гряд (их
толщина была стандартной), а также длину одной из гряд.
В языке древних народов «гряда» — это не только название
части поля, но и мера площади.
Введение эталонной гряды, подсчет количества гряд и
их длины тоже не разрешали всех затруднений, поскольку
в древнем земледелии постоянно приходилось решать
задачи на сравнение по величине двух и более полей.
Предположим, имеются два поля, которые надо сравнить.
В первом поле 25 гряд, и каждая гряда имеет
протяженность 30 шагов, а в другом — 50 гряд протяженностью в
20 шагов. Спрашивается, какое поле больше и насколько?
Сделать это, сравнивая числа, невозможно: у первого поля
большая протяженность гряды, но в то же время меньше
гряд. Однако поля можно сравнить по величине, если у них
или одинаковое количество гряд, или одинаковая протя-
123
женность (длина) гряды. Именно к этой ситуации
старались прийти древние писцы и землемеры. Заметив,
сравнивая урожаи полей, что величина поля не изменится,
если длину гряды (количество гряд) увеличить в п раз и
соответственно количество гряд (длину гряды) уменьшить в
п раз, они стали преобразовывать поля, но не реально, а в
плоскости замещающих их знаков (чисел). Например,
чтобы решить приведенную здесь задачу, нужно
количество гряд в первом поле увеличить в два раза
(25 х 2 = 50), а длину гряды соответственно уменьшить в
два раза (30 : 2 = 15). Так как в древнем мире обычно
сравнивали большое количество полей разной величины
(например, в Древнем Вавилоне сразу сравнивали несколько
сотен полей), то постепенно сложилась практика
приведения длины гряды к самой маленькой длине полей и в конце
концов к единице длины (один шаг, локоть).
Соответственно, чтобы не изменилась величина поля, количество
гряд умножали на длину полей. Например, для полей,
величина которых выражается числами 10,40, 5, 25,15,20, 2,
30, получалась следующая таблица:
10:10
5:5
15:15
2:2
40X10
25X5
20X15
30X2
или после
соответствующих
арифметических
операций
1
1
1
1
400
125
300
60
Поскольку слева всегда получается число 1, то величина
поля выражается только числами и операциями в правом
столбце, т. е. произведением длины гряды на количество
гряд. Естественно предположить, что этот факт рано или
поздно был осознан древними писцами, они стали опускать
числа 1 левого столбца и построили принципиально новый
способ: сначала измеряли количество гряд и длину средней
гряды (у прямоугольного поля — это любая гряда, у
трапецеидального и треугольного — среднее арифметическое самой
большой и самой маленькой длины), а затем вычисляли ве-
124
личину поля, перемножив полученные числа1. Но если бы,
например, шумерскому писцу, впервые нашедшему
формулу вычисления площади прямого поля, сказали, что он
что-то там сочинил или придумал, то он все это отверг бы как
кощунство и неверие в богов. Выводя данную формулу, он
считал, что всего лишь описывает, как нечто было устроено
богом, что сам бог в обмен на его усердие и богопочитание
открывает ему знание этого устройства.
На основе сложившихся по той же логике алгоритмов
вычисления площадей полей, а также решения задач,
связанных с суммированием и разделом полей, формируются и
более сложные способы вычисления, включая приведенные
выше «уравнения». На самом деле, как следует из
реконструкции, это никакие не уравнения, а способы оперирования
со сложившимися алгоритмами. Чтобы убедиться в этом,
посмотрим «методом проникновения» в чужую культуру, как
мог вавилонский «математик», а точнее, старший писец и
распорядитель хозяйственных работ, он же часто и учитель,
решать подобные «уравнения».
Однажды в Древнем Шумере или Вавилоне к
вавилонскому писцу, учителю и математику пришли люди и,
поклонившись, говорят: «Ты искусный и мудрый писец, имя
твое славится, помоги нам поскорей. Два поля земли было
у нас, одно превышало другое на 20 гар, об этом
свидетельствует младший писец, бравший с нас налог, остальное он
забыл. Прошлой ночью разлив реки смыл межевые камни
и уничтожил границу между полями. Сосчитай же скорей,
каковы наши поля, ведь общая их площадь известна —
60 гар».
Выслушав людей, писец стал размышлять. Таких задач он
никогда не решал. Он умел измерять поля, вычислять
площади полей, если даны их элементы (ширина, длина, линия
раздела), умел делить поля на части, соединять несколько
ВарденА. Ван дер. Пробуждающаяся наука. — М., 1959; Вайман А. А. Шумеро-ва-
вилонская математика III—I тысячелетия до н. э. — М., 1961; Нейгебауер О.
Лекции по истории античных математических наук. — Л., 1937.
125
полей между собой и даже узнавать сторону квадратного
поля, если была известна его площадь. Он имел дело с
тысячами таких задач, обучал в школе их решению и так хорошо
знал свое дело, что перед его глазами как живые стоят
глиняные таблички с решениями задач, чертежами полей и
числами, проставленными на этих чертежах. Такие таблички он,
старший писец и учитель, составляет каждое утро и дает
переписывать своим ученикам. Но среди табличек нет такой,
которая бы помогла ему сейчас.
Писец хотел было уже отослать людей, как вдруг
вспомнил о задачах, которые он задал на табличках в прошлую
неделю. Эти задачи были похожи на то, о чем ему говорили
пришедшие люди. Перед глазами писца возникли чертежи с
числами и решения.
Первая задача, Поле в 60 гар (как раз по величине, которое
возникло после разлива) разделили пополам. Узнай каждое
поле.
Решение. 60 : 2 = 30.
Вторая задача. Поле 30 гар и другое 30 гар. От первого
поля отрезали участок, равный 5 гар, и прибавили его к
другому полю. Узнай получившиеся поля.
Решение. 30 — 5 = 25;
30 + 5 = 35.
Третья задача. Два поля 35 гар и 25 гар. На сколько одно
поле выступает над другим.
Решение. 35 — 25 = 10.
Четвертая задача. Два поля 35 гар и 25 гар соединили,
узнай получившееся поле.
Решение. 35 + 25 = 60.
Писец вспомнил, что, решая сам эти задачи, он удивился,
почему разница между полями — 10 гар — оказалась в два
раза больше величины отрезанного от одного поля участка.
И только посмотрев на чертеж, он понял, что эта разница
суть удвоенный участок (от одного поля он отрезан, это 5 гар,
а к другому прибавлен, еще 5 гар, вместе же как раз 10 гар).
Как похожи эти задачи на то, что произошло у людей, стоя-
126
щих перед ним. Правда, разница между полями не 10 rap, a
20, но ведь это неважно, все равно эта разница в два раза
больше величины добавленного участка. И тут писца
осенило. Мысленно воздал он почести великой лунной богине
Иштар, подавшей ему знак, что делать: нужно разделить
60 гар пополам (как в той задаче, где поля были равные), а
затем отнять от одного полученного при делении поля участок,
равный половине 20 гар, и прибавить его к другому полю.
И писец стал записывать решение первой в истории
Вавилона задачи нового типа, не прибегая ни к алгебре, ни к
геометрии, ни к методу ложного предположения1.
Безусловно, эта история выдумана с начала до конца, и,
конечно, это очередная реконструкция, но обратите
внимание на ее достоинства. Я не ссылался на возможности
современной математики и все, что предположил, могу
документально подтвердить и обосновать. Все перечисленные задачи
действительно решались на определенном этапе развития
вавилонской математики, решались тысячами, тиражировались
тысячами тысяч в школах писцов, причем в самых
разнообразных последовательностях и сочетаниях. Среди таких
последовательно решенных (как правило, в учебных целях)
задач при огромном потоке решений вполне могли встречаться
и такие подборки задач, которые обеспечивали построение
решений новых задач. Чертежи с числами и алгоритмы
решений учебных задач (случайно, а в дальнейшем специально
подобранные) облегчали отождествление уже решенных задач с
условиями новых. Вот, например, как таким способом могла
быть решена задача еще одного типа, а также построена
таблица пифагорейских троек (чисел 3, 4, 5; 5, 12, 13; 8, 15, 17
и т. д., для которых была справедлива теорема Пифагора)2.
Решение следующей задачи («Длина и ширина. Длина
превышает ширину (высоту) на 4, площадь 32, узнай длину и
' Розин В. М. Как решали математические задачи в Древнем Вавилоне //
Природа. - 1980. - № 6.
2 См.: Вайман А. Л. Указ. соч. — С. 186; Варден Л. Ван дер. Указ. соч. — С. 74,
103-104.
127
ширину») могло быть найдено при сопоставлении следую
щей группы предварительно решенных задач.
Прямоугольное поле. Высота 7. Длина 9. От поля отреза
ли вертикальный участок со стороной 1 и добавили горизон
тальный участок со стороной 1.
у/щ/м///м7МШ<
I
ii
1
t
Какова величина (площадь) исходного поля и разница
между площадями полей?
Решение 7. 7 х 9 = 63 (площадь исходного поля).
Решение 2.7 + 1 = 8;
9-1 = 8.
Решение 3. 8 х 8 = 64 (площадь нового поля).
Решение 4.64 — 63 = 1 (разница между площадями полей).
Рассматривая решения этих задач, можно заметить, что
новое поле, возникшее после передела, — квадратное
(8 х 8). Кроме того, разница между площадями полей (1)
совпадает по величине с площадью, маленького
квадратного поля (lxl)? получившегося в правом нижнем углу
чертежа. Наконец, высота и длина исходного и нового
полей связаны следующими соотношениями: высота
исходного поля меньше высоты нового квадратного поля на
1, а длина исходного поля больше длины нового поля на 1,
разница же между длиной и высотой исходного поля
(9 — 7 = 2) ровно в два раза больше стороны маленького
128
квадратного поля (1). Отсюда при желании можно извлечь
и план решения. Известна площадь исходного поля.
Каким образом его нужно переделить, чтобы возникло новое
квадратное поле? К исходному полю нужно добавить
маленькое квадратное поле, сторона которого в два раза
меньше разницы между длиной и высотой исходного поля.
Затем нужно узнать сторону получившегося квадратного
поля (т. е. извлечь корень квадратный из площади этого
поля) и добавить (отнять) к (от) этой стороне (ы) половину
разности между длиной и высотой исходного поля.
А вот серия задач, ведущих к пифагорейским тройкам.
(1) Квадратное поле имеет площадь 16. От поля разлив
отрезал треугольное поле со сторонами 3, 4, 5. На большей
стороне треугольного поля построили квадратное поле.
Определи площади отрезанного и построенного полей, а
также разницу между площадями построенного и исходного
полей.
Решение 1. 5 х 5 = 25 (площадь построенного поля).
Решение 2. (3 х 4) / 2 = 6 (площадь треугольного поля).
Решение J. 25 — 16 = 9 (разница между площадями).
(2) Квадратное поле имеет площадь 16. К этому полю
добавили еще одно квадратное поле площадью 9. Узнай
сторону первого и второго полей и сумму площадей обоих
полей.
9. Заказ №4180
129
Решение 7. 16 = 4x4.
Решение 2. 9 = 3 х 3.
Решение 3. 16 + 9 = 25.
Анализ решений этих задач показывает, что площадь
квадратного поля (25), построенного на большей стороне
треугольного поля, равна сумме площадей исходного
квадратного поля (16) и квадратного поля, построенного
на меньшей стороне треугольника (9). Вавилонские
математики скоро обнаружили, что не любое треугольное
поле, отрезанное разливом, дает такое замечательное
отношение чисел (квадратов). Например, если размеры
смытого треугольного поля будут 4, 2, 6, то квадрат,
восстановленный на большей стороне треугольного поля, не
будет равен сумме квадратов, построенных на двух других
сторонах. Именно поэтому вавилонские математики
стали создавать таблицы треугольных полей, размеры
которых удовлетворяли открытому соотношению квадратов
(3,4, 5; 5, 12, 13 и т. д.).
Предложенная здесь реконструкция заставляет
пересмотреть многие представления о характере шумеро-вави-
лонской математики. Во-первых, получается, что
вавилонские математики пользовались вполне естественным
(если иметь в виду уровень развития их практики) языком,
который образовывали простейшие алгоритмы
вычисления полей и поясняющие их чертежи с числами.
Во-вторых, никаких уравнений они не знали и тем более не знали
способов их преобразования. В-третьих, создавая
решения задач, вавилонские математики не проводили
логических умозаключений; все, что от них требовалось в плане
мышления, — сравнить между собой условие новой задачи
с решениями специально или случайно подобранных
задач. Конечно, это сравнение не было простым, оно
включало в себя, с одной стороны, сравнение чертежей полей, с
другой — сравнение чисел, фиксирующих размеры полей
или их элементов. Кроме того, необходимо было путем вы-
130
числений связывать те или иные элементы полей или
величины их площадей (например, деля одну величину на
другую, выяснить, что одно поле в два раза больше
другого). Однако все эти мыслительные действия ничего общего
не имеют как с геометрическими или алгебраическими
преобразованиями уравнений, так и с логическими
умозаключениями.
И все-таки связи между вавилонской математикой и
геометрией (алгеброй) существуют. Дело в том, что греческая
геометрия и элементы диофантовой алгебры возникли не на
пустом месте, а в ходе реконструкции греческими
математиками вавилонских (и, возможно, древнеегипетских) задач и
способов их решений. Реконструкция решений вавилонских
задач — один из путей, ведущих как к геометрии, так и к
алгебре. Ниже я вернусь к этой истории. Теперь можно
подвести итог.
Новые знания в Древнем мире получались не в
рассуждениях, а на схемах. Действуя со схемами как со «знаковыми
объектами», человек Древнего мира мог получить новые
знания, например, что «души умерших переселяются в тела
родившихся», «когда боги покидают человека, его дела идут
плохо», «чтобы получить размер косого (треугольного) поля,
нужно прямое поле (прямоугольное) разделить пополам»
и др. Эти знания проверялись на прочность в коллективном
опыте социальной жизни, осмыслялись же они не
рационально, а сакрально, т. е. считались принадлежностью духов
или богов, которые почему-либо поделились знаниями с
людьми.
Важно также понять, что нерефлексированное познание
действительности — это, конечно же, наша современная
реконструкция, а не древние представления. Мир не мыслился
в те времена как объективно существующая сущность,
которую нужно отобразить в знании. Духи и боги находились с
людьми в сложных, если можно так выразиться,
человеческих отношениях (поддерживали людей или нет, могли на
них разгневаться, наслать кару и т. п.). В лучшем случае чело-
Q*
131
век мог стремиться узнать волю и намерение сакральных
существ.
Другое дело моя реконструкция, ориентированная на
объяснение науки, ее происхождение и типологию. В ее
рамках я утверждаю, что представления древних можно
истолковать как схемы и их знаниевые описания. Хотя
формулируют эти схемы и знания отдельные люди (шаманы, жрецы,
писцы), не они выступают субъектом творчества, а в целом
все древнее общество и культура. Чтобы новое знание
закрепилось в культуре, оно должно было пройти проверку
социальным опытом, и длилось это, как уже отмечалось, иногда
сотни лет. Именно поэтому источником знаний считались
духи и боги, а не люди.
Глава 3
Становление античной личности,
изобретение рассуждений
и их нормирование
как предпосылки философского
и научного познания
3.1. Кризис культуры
древних царств
Большинство исследователей античной культуры и
философии анализируют формирование античной философии,
предполагая, что древние греки уже умели мыслить и
рассуждать. Получается, что в плане способности к мышлению
различие между современным и античным человеком только
в степени развитости и информированности. С этим
невозможно согласиться. К тому же, как я отмечал выше, до
античной культуры не встречаются рассуждения и
умозаключения. Реализуя представленный выше метод,
реконструируем ситуацию, которая могла привести к становлению
античного мышления. При этом будем руководствоваться
тремя гипотезами. Одну высказал Г. П. Щедровицкий.
Он утверждал, что логика Аристотеля может быть
истолкована как система норм деятельности. Вторая — наша
гипотеза о том, что рассуждение было изобретено феками где-то на
рубеже VII—VI вв. до н. э. Третья — что главной пружиной,
зачинателем античной философии выступили античная
личность и общество1. На основе этих соображений строилась
См.: Розин В. М. Предпосылки и особенности античной культуры. — М., 2004. —
С. 103—107; Он же. Развитие права... — С. 147—150.
133
схема реконструкции: становление античной личности и
общества сделало необходимым изобретение рассуждений,
практика рассуждений приводит к различным проблемам
(разномыслию, противоречиям, невозможности
действовать), их разрешение вылилось в нормирование
рассуждений, в результате складывается мышление.
И. Клочков в книге «Духовная культура Вавилонии:
человек, судьба, время» приводит удивительные тексты,
свидетельствующие о том, что где-то на рубеже середины
1-го тыс. до н. э. человек Древнего мира разуверился в богах
и стал жаловаться на судьбу.
Ты ведь стоишь на земле, замыслы бога далече. <... >
Научишь ли бога ходить за тобой, как собаку? <... >
То он хочет от тебя обрядов, то: «Не спрашивай бога!»,
То чего-то иного1.
Человек эпохи заката культуры древних царств не
понимает, почему боги перестали выполнять свои обязанности,
хотя человек делает все, что положено. Зато много других
людей, прямо нарушающих божественные заветы и законы,
живут припеваючи. Герой одного из текстов, названного
исследователями «Вавилонская теодицея», восклицает:
Что получил я от бога, которому поклонялся ?
Пред тем, кто ниже меня, я склоняюсь,
Презирают меня (и) последний, (и) богатый, и гордый.
А вот причина.
Вгляделся я в мир — дела (обстоят) по-другому:
Демону бог не закрыл дороги,
Отец по каналам волочит лодку,
(А) сын его (взрослый) разлегся в постели2.
Человек мифической эпохи, пишет К. Хюбнер, находит
корни своей жизни в совместном бытии. Как единичное, как
индивид и «Я» он ничего собой не представляет. Не иметь
рода значит быть лишенным нуминозного Kydos и Olbos, в
которых содержится даваемая богами идентичность рода,
1 Клочков И. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. — М., 1983. —
С. 122, 140.
2 Там же. — С. 85—86.
134
т# е\ вообще не иметь своего лица. Человеку мифической
эпо&и абсолютно неизвестна область внутренне идеального
в качестве «Я». Он есть тот, кто он есть, занимая при этом
место во всеобщей мифически-нуминозной субстанции,
которая существует во многом, будь то люди, живые существа
или «материальные» предметы, поэтому и человек живет во
многом, и оно живет в нем1.
Другое дело, когда культура древних царств стала умирать
и человек больше уже не мог рассчитывать на богов. Ему
остается рассчитывать только на самого себя и ближайшее
окружение. Усиливается и страх перед смертью, поскольку
боги, даже боги смерти, стали ненадежны и коварны.
Оказаться же на том свете одному и на вечные времена, без
всякой поддержки — что может быть страшнее? Одно из
следствий подобного развития событий — пессимистическое
умонастроение, характерное для ранней Античности. В
стихотворении (VII—VI вв. до н. э.) к своему другу Меланиппу
великий лирик Лесбоса Алкей пишет (перевод Вячеслава
Иванова):
Что, Меланипп, обещает нам тризна плачевная?
Вправду ли мнишь, переплыв Ахеронта великий вир,
Некогда в теле воскреснуть и солнца небесного
Чистый приветствовать свет ? Высоко ты заносишься!..
Тюжкий, под глыбами черной земли. Не надейся же,
К мертвым сошед, преисподней покинуть обители2.
Приводит Вячеслав Иванов и такие строки старого гимна
к Деметре, и такие почти уже болезненные слова поэта Феог-
нида:
Матерь! Бессмертных дары мы терпеть, и страдая, повинны;
Клонит под иго нужда: небожителей нам не осилить. <...>
Мы же бессмертных дары претерпеть, и страдая, повинны:
Нудит к тому нас нужда, нам ярмо тяготеет на вые.
Лучший удел из уделов земных — не родиться на землю;
Дар вожделенный — не зреть солнечных острых лучей.
1 Хюбнер К. Истина мифа. — М., 1996.
Иванов В. Дионис и прадионисийство. — СПб., 1994. — С. 171.
135
Если ж родился, скорее пройти чрез ворота Аида, —
В черную землю главу глухо зарыв, опочить1.
Другое, в некотором роде оптимистическое развитие
событий — становление самостоятельного поведения человека
и, как следствие, первой в истории человечества личности.
Параллельно складывается античная культура.
3.2. Античное общество
и сообщества
Три основных момента способствовали формированию
античной культуры — активная роль общества и сообществ,
становление античной личности, появление мышления
(философии и науки). В свою очередь, они привели к рождению
нового социального организма, содержащего две разные
формы сознания — религиозно-мифологическое и
рациональное (в философии, науке, искусстве). Рассмотрим эти
моменты подробнее.
Известно, что античную культуру образовывали
отдельные общества, для которых была характерна городская и
полисная социальная организации. Как правило, природные
условия (горная местность, водные преграды) и
этнокультурные особенности способствовали, с одной стороны,
независимости античных обществ (народов), с другой стороны,
когда им приходилось действовать согласованно (например,
против персов), договариваться и идти на взаимные
компромиссы. Последняя черта национального характера
проявлялась и внутри отдельных обществ: в них сосуществовали
иногда мирно, но чаще в борьбе отдельные сообщества.
Например, еще в царский период римской истории
сложились федерация 30 латинских городов, практика общих
собраний и голосований римской общины («римский народ
' Иванов В. Указ. соч. - С. 198, 199.
136
квиритов»), расслоение общины на три социальные группы
(сообщества) — патрициев, клиентов и плебеев, причем хотя
первое место в управлении (власти) было за патрициями,
последние вынуждены были считаться и договариваться с
плебсом, поскольку те составляли основное ядро римской
армии и в случае неудовлетворения их требований грозили
отказом от военной службы. Влияние римского общества
было столь значительно, что, когда его конфликт с царями
достиг апогея, царская власть была упразднена. Древние
историки изображают последнего римского царя Тарквиния
честолюбивым тираном, который не уважал римское
общество, не созывал сената, обложил народ невыносимыми по-
виностями и налогами. В конце концов выведенные из
терпения граждане (в 509 г. до н. э.) возмутились, подняли
восстание и изгнали ненавистного царя1.
Приведу еще один яркий эпизод из ранней
республиканской истории Рима, описанный в VII книге «Истории» Тита
Ливия, который демонстрирует роль античного общества
как главного субъекта власти и политических
взаимоотношений с другими обществами. В период объединения
Италии под гегемонией Рима независимая Кампания (главный
город — Капуя) столкнулась с сильной федерацией
самнитских племен. Боясь порабощения, кампанцы обратились за
помощью к Риму. «Велико было желание приобрести
Капую, — пишет Сергеев, — но велик был также и риск
потерпеть поражение. Самнитское войско считалось лучшим
войском в Италии, римская же федерация тогда была
неустойчива и малонадежна. <...> Сперва взяло верх мнение
умеренного большинства сената, не отказавшегося от протектората
над кампанцами, но и не желавшего открытого разрыва с
самнитами. <...> При такой нерешительности собрания кам-
панцам пришлось пустить в ход всю силу своего
красноречия, обещаний и угроз. Глава кампанской делегации
рисовал помощь римлян кампанцам как дело высокого
нравственного долга перед людьми и богами... он сказал: "Так
См.: Сергеев В. С. Очерки по истории Древнего Рима. — М., 1938. — С. 47.
137
как вы не хотите законно защищать нашего достояния силой
против насилия и обиды, то свое достояние вы во всяком
случае будете защищать: мы сдаем в вашу власть, сенаторы, и
во власть римского народа кампанский народ, город Капую,
поля, холмы богов и все, что принадлежит богам и людям.
Что бы затем ни случилось с ними, будет означать, что это
случилось с вашими подданными". При этих словах все они,
стоя в преддверии курии, пали на колени, простирая руки к
консулам и проливая слезы.
Аргументация кампанцев произвела впечатление на
сенат и дала перевес сторонникам войны. Сенат высказался за
активное вмешательство в дела Кампании. <...> Решение
сената тем более понятно, что на помощь Рима более всего
рассчитывала капунская олигархия, так называемые всадники,
находившиеся в жестокой вражде с капунским плебсом.
Для римских патрициев война, таким образом, приобретала
двойной смысл: 1) захват плодородной и богатой страны и
2) подавлений мятежных элементов. В качестве
идеологического оправдания был выдвинут высокий нравственный
мотив (honor) — необходимость оказывать помощь тем, кто,
ища защиты, добровольно становится под покровительство
римских законов»1.
Этот эпизод замечателен во многих отношениях.
Во-первых, мы видим, что в ситуации кризиса, близкой к
катастрофе (ведь Рим мог проиграть войну и тогда сам стал бы
жертвой самнитов), последнее слово остается за обществом.
Во-вторых, общество — это общение, но также и политика.
Действительно, делегация кампанцев уговаривает и
соблазняет сенат, одни партии сената убеждают другие, все
апеллируют к богам, чести (honor), справедливости, народу. С
одной стороны, в результате общения коллективное сознание
сената определенным образом структурируется
(складывается мнение взять под свое начало Кампанию и в случае
необходимости начать войну с самнитами), с другой — в плане ра-
циональных действий это структурирование означает выра-
1 Сергеев В. С. Указ. соч. — С. 63—64.
138
ботку политического решения. В-третьих, необходимость
политических действий диктуется двумя основными
обстоятельствами: наличием многих сообществ (кампанцы, сенат,
всадники, патриции, плебс), каждое из которых действует
самостоятельно, и необходимостью опереться в своих
действиях на институициональные и символические структуры
(богов, народ, сенат, честь, справедливость), иначе убедить
других невозможно.
3.3. Становление
античной личности
В античной культуре, где, как известно, мифологические
и религиозные начала сильно ослабевают, а государство
имеет ограниченное влияние на человека, впервые
складывается самостоятельное поведение человека и, как
следствие, первая в истории человечества личность. Вспомним
поведение Сократа на суде. С одной стороны, он идет на суд и
соглашается с решением общества, назначившего ему
смерть. С другой — Сократ предпочитает оставаться при
своем мнении. Он твердо убежден, что его осудили
неправильно, что смерть — благо и с хорошим человеком ничего
плохого не может быть ни здесь, ни там и что боги его
не оставят и после смерти1. Сократ как личность хотя и не
разрывает с обществом, тем не менее идет своим путем.
И что существенно, не только Сократ выслушивает мнение
суда, т. е. общественное мнение, но и афинское общество
выслушивает достаточно неприятные для него речи Сократа
и даже, как нам известно, через некоторое время начинает
разделять его убеждения. Отчасти Сократ уже осознает свое
новое положение в мире. Например, он говорит на суде, что
ведь «Сократ не простой человек», а также «где кто поставил
Платон. Апология Сократа // Соч.: В 4 т. — М., 1994. — Т. 1.
139
себя, думая, что для него это самое лучшее место... там и
должен переносить опасность, не принимая в расчет ничего,
кроме позора, — ни смерти, ни еще чего-нибудь»1.
В теоретическом плане здесь можно говорить о
формировании самостоятельного поведения, которое невозможно без
создания «приватных схем» (например, представлений, что
Сократ не простой человек, что он сам ставит себя на
определенное место в жизни и стоит там насмерть). Приватные
схемы выполняли двоякую роль: с одной стороны,
обеспечивали (организовывали) самостоятельное поведение, с
другой — задавали новое видение действительности,
включавшее в себя два важных элемента — индивидуальное видение
мира и особое самосознание (ощущение себя личностью)2.
Случайно ли, что по форме становление античной
личности происходит на сцене суда? Думаю, что нет, так же как
не случайно распространение подобных же сюжетов в
античном театре. В произведениях Эсхила, Софокла, Еврипида
и других известных греческих драматургов герои ставятся в
ситуации «амехании», где они вынуждены принимать
самостоятельные решения и при этом, как показывает А. Ахутин,
обнаруживают свою личность.
Античная личность складывается в попытке разрешить
следующее противоречие: человек должен действовать в
соответствии с традицией и не может этого сделать, поскольку
нарушит традицию. В этой драматической ситуации герой
вынужден принимать самостоятельное решение, тоже
нарушающее традицию. Так вот суд и театр оказываются той
единственной формой, в которой вынужденный
самостоятельный поступок героя получает санкцию со стороны
общества. Одновременно формой становления личности и его
сознания. Не то чтобы общество оправдывает поступок
героя, оно осмысляет этот поступок, переживает его, вынуж-
дено согласиться, что у героя не было другого выхода.
1 Платон. Апология Сократа. — С. 82.
2 О приватных схемах см.: Розин В. М. Семиотические исследования. —
С. 155-158.
140
«Герой, попавший в ситуацию трагической амехании, —
пишет Ахутин, — как бы поворачивается, поворачивается к
зрителю с вопросом. Зритель видит себя под взором героя и
меняется с ним местами. Театр и город взаимообратимы.
Театр находится в городе, но весь город (а по сути полис,
античное общество. — В. Р.) сходится в театр, чтобы научиться
жизни перед зрителем, при свидетеле, перед лицом. Этот взор
возможного свидетеля и судьи, взор, под которым я не
просто делаю что-то дурное или хорошее, а впервые могу
предстать как герой, в эстетической завершенности тела, лица,
Судьбы — словом, в "кто", и есть взор сознания, от которого
нельзя укрыться. Сознание — свидетель, и судья — это
зритель. Быть в сознании — значит быть на виду, на площади, на
позоре»1.
Ахутин напирает на «открытие сознания», но я бы этот
прекрасный материал использовал для объяснения того, как
происходит «становление античной личности». Ведь, что
Ахутин показывает в своей реконструкции? Во-первых, что
античные поэты воспроизводят в своих произведениях те
ситуации, в которые в то время попадали многие. Их суть в том,
что человек не может больше надеяться ни на богов, ни на
традиции (обычаи) и поэтому вынужден действовать
самостоятельно. Во-вторых, в ситуациях амехании античный
человек вынужден опираться только на самого себя, но в силу
мифологического сознания еще истолковывает свое
самостоятельное поведение в превращенной форме, а именно как
трагическое действие, выставленное на суд богов. Кстати, и
Сократ на суде говорит, что «исследовал дело по указанию
бога», что и после смерти «боги не перестают заботиться о его
делах», что с детства «какой-то голос» (гений, личный бог? —
В. Р.) отклоняет его от неправильных решений, а «склонять к
чему-нибудь никогда не склоняет»; т. е. во всех остальных
случаях Сократ действует самостоятельно2. В-третьих,
именно театр и суд предъявляют античному человеку новые фор-
2 Ахутин А. В. Открытие сознания // Человек и культура. — М., 1990. — С. 20—21.
См.: Платон. Апология Сократа. — С. 85—86.
141
мы самостоятельного поведения, в лоне суда и театра
происходят их осмысление и трансляция.
Психологические исследования автора показывают, что
необходимое условие выработки самостоятельного
поведения — обнаружение, открытие человеком нового «Я»,
которое в нашей культуре психологи и называют личностью. Это
«Я» неотделимо от формирования человеком «образа себя»,
приписывания «Я» определенных качеств: я такой-то, я жил
раньше, буду жить, я видел себя во сне и т. д. По сути, «Я»
(личность) парадоксально: это тот, кто советует, направляет,
управляет, поддерживает, и тот, кому адресованы эти
советы, управляющие воздействия, поддержка. Личность — это,
собственно, такой тип организации и поведения человека, в
котором ведущую роль приобретают «образы себя» и
действия с ними: уподобление и регулирование естественного
поведения со стороны «образов себя» — сознательное, волевое и
целевое поведение; отождествление ранее построенных
«образов себя» с теми, которые действуют в настоящее время —
воспоминание о прошлой жизни; поддержание «образов
себя» —реализация и самоактуализация и т. п.1. Сам человек
обычно не осознает искусственно-семиотический план
своего поведения, для него все эти действия с «образом себя»
переживаются как естественные, природные состояния, как
события, которые он претерпевает.
Еще одно необходимое условие самостоятельного
поведения — формирование «психических реальностей»2.
Действительно, выработка самостоятельного поведения
предполагает планирование и предвосхищение будущих действий и
переживаний, смену одних способов деятельности и форм
поведения на другие, причем человек сам должен это
сделать. Первоначально человеку кажется, что подобные планы
и предвосхищения, смены и переключения сознания и
поведения подсказываются и идут со стороны, от богов, гения,
других значимых людей. Но по мере того, как человек науча-
ется сам строить эти планы, предвосхищать будущие собы-
1 Розин В. М. Личность и ее изучение. — М., 2004.
2 См.: Розин В. М. Семиотические исследования. — С. 69—113.
142
тия и их логику, изменять в определенных ситуациях свои
действия и поведение, подобные планы, предвосхищения и
переключения становятся необходимыми условиями
самостоятельного поведения, рассматриваются и осознаются
человеком именно как разные условия, в которых он
действует, живет, т. е. эти планы будущей деятельности, знание ее
логики, предвосхищения событий, способы переключения и
другие образования превращаются в психические
реальности.
Хотя самостоятельное поведение — это культурный тип
поведения человека, одновременно это поведение,
направляемое «индивидуальным семиозисом» (приватными
схемами), и в то же время это поведение, согласованное в рамках
культуры (для этого используется еще один тип схем —
«согласующие»)1. Формирование личности предполагает
не только социальные практики, направленные на человека,
но и практику самостоятельного поведения, т. е. практики
(управление, осмысление и др.), где человек включает себя в
собственную деятельность, направляет ее на себя.
Безусловно, личность может входить в противоречие с культурой,
поскольку индивидуальный семиозис может быть
несогласован частично или полностью с базисными культурными
сценариями. Предельный вариант развития маргинальной
личности дают некоторые направления эзотеризма. Здесь
личность создает такой индивидуальный сценарий, в котором
полностью отрицается культура, а также изобретает
практики (психотехники), позволяющие проживать в
психологическом плане события данного индивидуального сценария2.
Анализ платоновской «Апологии Сократа» показывает,
что античная личность «потянула» за собой и формирование
ряда социальных субъектов (на их основе дальше
формируются профессиональные сообщества). Так, в суде над Сокра-
; том участвуют по меньшей мере четыре разные группы: пар-
[ тия противников Сократа, партия его защитников и учен и-
Г 7 ■
I 2> См.: Розин В. М. Семиотические исследования. — С. 155—158.
I См. наши работы по анализу эзотерических учений. Напр.: Розин В. М. Эзотери-
| ческий мир. Семантика сакрального текста. — М., 2002.
%
№
ков, колеблющееся «болото», наконец, исполнительная
власть, включающая судей. Социальные субъекты
вырабатывали самостоятельные цели, действовали согласованно на
политической сцене, пытались навязать остальным членам
общества свое видение мира, понимание целей и способов
их достижения.
Из той же «Апологии» можно понять, что собой
представляло античное общество. Оно состояло из социальных
субъектов и других граждан античного полиса, сходившихся
на публичной сцене (суде, собрании, на площаде города
и т. д), где каждый мог высказать свое мнение и попытаться
повлиять на других. В результате складывалось
общественное мнение, принимались коллективные решения,
исполнение которых поручалось уже властям. Общество — это и
не самостоятельный субъект, но отчасти и субъект,
поскольку обладает своеобразным сознанием, может формулировать
цели и реализовывать их. Общество структурируется «здесь и
сейчас» в ходе общения, но имеет также и постоянную
основу: ее члены связаны «слабыми взаимодействиями»; к их
числу относятся общие условия жизни, принадлежность к
единому этносу, разделяемые всеми культурные реалии.
Каким же образом античная личность взаимодействует с
другими, если учесть, что каждый видит все по-своему?
Например, средний гражданин афинского общества думает,
что жить надо ради славы и богатства, а Сократ на суде
убеждает своих сограждан, что жить нужно ради истины и
добродетели. Этот средний афинянин больше всего боится
смерти, а Сократ доказывает, что смерть скорее всего благо.
Мы видим, что основной «инструмент» Сократа —
рассуждение и построение схем; с их помощью Сократ приводит в
движение представления своих оппонентов и слушателей,
заставляя меняться их видение и понимание происходящего,
мира и себя. До античной культуры мы не встречаем никаких
рассуждений, да они и не были нужны, поскольку все
представители культуры видели одинаково, имели одни и те же
представления, заданные коллективными схемами (те же,
144
кто почему-либо начинал видеть, отклоняясь от общей
нормы, подвергались немедленному остракизму). Рассуждения
понадобились и были изобретены только тогда, когда
формируется античная личность и социальные субъекты.
Их структура содержит такое важное звено, как схема типа
«А есть В» («Все есть вода», «Люди смертны», «Боги
бессмертны», «Кровь есть жидкость» и т. п.), позволяющая
переходить от одних представлений к другим (от А к В, от В к С,
от С к Д и т. д.). Но посмотрим, как рассуждения появились
и что это такое.
3.4. Формирование
и изобретение рассуждений
По свидетельству греческих историков, ряд греков (Фа-
лес, Пифагор, Анаксимандр, Гераклит и др.) ездили в Египет и
Вавилон за мудростью, под которой они понимали
божественные знания, позволяющие человеку приобщиться к
бессмертию богов. В целом в Древнем мире начиная с конца
второго тысячелетия смерть переживается достаточно остро.
Поэтому люди начинают мечтать о бессмертии и искать
выход из сложившейся драматической ситуации. О желании
бессмертия, например, замечательно пишут поэты и
«ученые» народа нагуа.
(Если) за один день мы уйдем
И за одну ночь спустимся в область тайны,
И здесь мы только, чтобы узнать себя,
А на земле мы лишь мимоходом.
Мирно и радостно проведем жизнь:
Приходите и наслаждайтесь,
Пусть не приходят те, кто живет в злобе:
Земля очень широка!
10. Заказ №4180.
Вот бы всегда жить,
Вот бы никогда не умереть!'
Возможно, первое решение этого вопроса намечает
Пифагор. Он учил, что есть три типа существ: «смертные люди,
бессмертные боги и существа, подобные Пифагору».
Пифагорейцы и позднее Платон стали утверждать, что человек,
подобно античным героям, ведя особый образ жизни —
героический (эзотерический), может «блаженно закончить
свою жизнь», т. е. преодолеть саму смерть, стать
бессмертным. И именно в этом цель жизни мудрых (философов).
И Сократ, заканчивая свое выступление на суде, говорит,
что быть этого не может, чтобы мы правильно понимали
дело, полагая, что смерть есть зло. И далее Сократ
доказывает, что смерть действительно есть благо: или как сладкий
вечный сон, или как удивительное общение («Так если
смерть такова, — говорит Сократ, — я со своей стороны
назову ее приобретением, потому что таким образом выходит,
что вся жизнь не лучше одной ночи»). После смерти Сократ
надеется встретиться с замечательными умершими мужами
Греции, которых там не убивают за поиски мудрости,
«потому что помимо всего прочего тамошние люди блаженнее
здешних еще и тем, что остаются все время
бессмертными»2.
Но еще раньше стяжавшие мудрость едут за спасением в
Египет и Вавилон. Известное высказывание Фалеса
Милетского: «Все есть вода, поскольку боги клянутся водами
Стикса» — один из таких примеров подобной мудрости,
вывезенной из Вавилона3. Анализ этого высказывания позволяет
предположить, что сначала были построены схемы-наррати-
вы, позволявшие переводить представления о мире,
созданные в одной культуре (египетской, вавилонской), на язык
другой культуры (греческой). Но потом функция схем
меняется — они становятся объектами деятельности конструк-
тивного типа.
1 Леон-Портилъя М. Философия нагуа. — М., 1961. — С. 159.
2 Платон. Апология Сократа. — С. 95—96.
3 Аристотель. Метафизика. — С. 24.
146
Судя по историческим свидетельствам, греки — народ
свободолюбивый, торговый и независимый — не верили на
слово даже своим уважаемым соплеменникам. Их нужно
было еще убедить, склонить к чужой мудрости, привести
аргументы в ее подтверждение, доказать, что она правдива, что
положение дел именно таково, как эта мудрость утверждает.
Важно учесть еще одно обстоятельство: в сознании древних
греков без особого противоречия уживались вера в культ
собственных богов и героев и знание «естественных»
отношений, которые во многом мыслились по торговому образцу
(эквивалентный обмен, расчет, доказательство перед
торговым партнером или третьим лицом справедливости обмена
и т. п.).
Можно предположить, что действие этих двух моментов
приводит к созданию в греческой культуре утверждений о
действительности, имеющих структуру «А есть В» («Все есть
вода», «Все есть огонь», «Все состоит из атомов», «Человек
смертен», «Бог есть бессмертное существо» и т. п.). Что они
собой представляют? С одной стороны, это осмысленная
греческими мыслителями восточная мудрость. Например,
утверждения древних вавилонян о том, что Океан (Бог)
рождает землю, рыб, людей, животных и т. д., могли быть поняты
Фалесом следующим образом. Океан — это то, что есть на
самом деле, что существует (Бог и вода одновременно). Люди,
рыбы, земля, животные и т. д. — все то, что человек видит
глазами, это только видимость. Если же смотреть вглубь (в
сущность вещей), «знать» мудрость, то вместо этих видимых
вещей увидишь воду. Разъясняя эту мудрость своим
соплеменникам, Фал ее действовал как жрец и одновременно как
купец: он апеллировал как к сакральным началам, так и к
тому, что данные чувствам вещи и вода (божественное
начало) — это одно и то же (в плане равного обмена). «Все есть
вода», — говорил Фал ее.
В высказывании типа «А есть В» можно увидеть
основные интенции нарождающегося греческого мышления:
разделение действительности на два плана (что есть на
earn*
147
мом деле, т. е. существует, и что видится, лежит на
поверхности чувств), установка на созерцательность (нужно было
усмотреть в видимых вещах то, что есть на самом деле),
установление эквивалентных отношений (есть, быть,
существовать и т. д.) между двумя предметами.
Что собой представляет выражение «А есть В» с
семиотической точки зрения? С одной стороны, это разъяснение,
описание чего-либо; здесь главное — осмысленность. В этом
употреблении выражение «А есть В» является нарративной
схемой, оно позволяет понять чужое утверждение
(мудрость). С другой стороны, это же выражение является
характеристикой определенного предмета, а именно мы узнаем,
что А обладает свойством В. Как схема, обеспечивающая
понимание мудрости, выражение «А есть В» строится вполне
произвольно относительно вторичных предметов А и В
(эквивалентность подобных предметов лишь полагается; нет
таких весов, на которых можно было бы уравновесить «воду» и
«все»). Однако как отношение между предметом А и знанием
В выражение «А есть В» должно удовлетворять опыту.
Следовательно, можно предположить, что выражение «А есть В»
выступало источником объективных противоречий, что, в
свою очередь, есть условие развития мысли.
Выражения типа «А есть В» оказались очень удобными
для молодой греческой культуры. В условиях
межкультурного (Вавилон, Египет, Финикия, Индия и др.) и внутрикуль-
турного общения (множество греческих полисов) эти
выражения позволяли понять различные интересующие греков
чужие представления и мудрость. В результате начинается
перевод на «язык» «А есть В» самых разнообразных
представлений и сведений. Но был еще один источник новых
представлений типа «А есть В». Дело в том, что предметы А и В
могут входить в другие высказывания типа «А есть В».
Например, вторичный предмет «вода» может входить в
высказывания типа «Вода — это благо» или «Кровь есть вода».
Опять же, поскольку одновременно предмет В («вода»)
входит в исходное выражение «А есть В», в нем усматриваются
148
соответствующие характеристики («Все есть благо», «Все
есть кровь»).
С какого-то момента греки должны были заметить, что
если два или больше высказываний типа «А есть В» содержат
общие элементы (например, «Н есть К» и «К есть Р»), то
можно получить еще одно высказывание типа «А есть В»,
связывая крайние члены и опуская общие элементы (т. е. из
«Н есть К» и «К есть Р» следует «Н есть Р»). Психологически
подобный шаг вполне понятен, ведь связка «есть»
понималась как усматривание сущности К в Н, но если К есть
одновременно Р, то в H усматривалась Р.
Важно другое: формулируя данный образец («Если два и
больше высказываний содержат общие элементы, то можно
получить новое высказывание, опуская общие элементы и
связывая оставшиеся члены»), греки, во-первых,
переводили построение высказываний в плоскость формальной
деятельности, во-вторых, получали то, что мы сегодня называем
рассуждением. В рассуждении, имея одни знания, человек
может получить другие (иногда новые, еще не
встречающиеся в опыте) именно за счет формальной деятельности с
имеющимися знаниями.
Итак, рассуждения становятся важным источником
получения знаний. Эмпирический материал показывает, что
эти знания получались с разными целями. Одни (Фалес,
Парменид, Гераклит) стремились понять, как устроен мир,
что есть (существует), а что только кажется. При этом разные
мыслители считали существующим (в выражении типа «А
есть В» — это второй член В) различные сущности — воду,
воздух, огонь, землю, движение, покой, позднее атомы,
идеи, единое и т. д. Другие мыслители (первые софисты,
«учителя мудрости и языка») стали использовать
рассуждения для практических целей: в судебной практике, для
обучения, в народных собраниях для ведения споров. Третьи
(поздние софисты, помогавшие «делать человека сильным в
речах») рассуждали в целях искусства, «спора ради спора» и
просто в игровых целях. Четвертые (ученые в узком смыс-
149
ле — пифагорейцы, геометры, оптики и т. д.) использовали
рассуждения для эзотерических и отчасти практических
целей. Например, ранние пифагорейцы сначала осмысляли в
новом языке переходы в числах и планах полей,
заимствованные ими из Египта и Вавилона, а затем стали усматривать
в полученных высказываниях типа «А равно В» («А
параллельно В», «А подобно В» и т. д., где А и В — числа или фигуры)
новые характеристики (отношения) чисел и геометрических
фигур; за счет этого им удалось получить цепи высказываний
типа «А равно В».
На первый взгляд, рассуждения — это просто новые
способы построения знания, сложившиеся в среде греческих
софистов и натурфилософов. Но важно, как создаются эти
знания и кому приписываются. Размышляет, рассуждает и ведет
доказательство не бог, а человек, причем именно как
индивид, выражающий себя, собственное видение мира и
социальных отношений. И само знание не получается от бога, а
строится, усматривается в действительности при
соединении, как писал Платон, имен и глаголов (или «ноэм», по
Аристотелю). То есть размышление, рассуждение и
доказательство представляют собой деятельность индивида,
который, опираясь на уже имеющиеся в его распоряжении
знания (посылки) или другие представления (мнения,
сомнения, вопросы и т. п.), а также собственное видение и
понимание действительности (мира), строит нечто новое —
особую семиотическую конструкцию (какое-то новое
представление, следствие из посылок, вывод в доказательстве).
При этом греки научились (это также входило в изобретение
размышлений, рассуждений и доказательств)
объективировать подобные семиотические конструкции, т. е. создавать
на их основе атрибутивные и другие типы знаний. Для
иллюстрации опять можно обратиться к речи Сократа на суде.
Ему нужно принять важное решение: или согласиться с
предложением друзей, которые гарантировали ему спасение,
предлагая дать деньги, организовать побег, или настаивать
на своем, доказывая судьям свою невиновность. Чтобы при-
150
нять правильное решение, Сократ выступает на суде, при
этом он размышляет, рассуждает и доказывает свою
невиновность. Именно размышляя в суде, он приходит к
представлениям о том, что лучше умереть, уважая себя, чем
сохранить свою жизнь, что с хорошим человеком ничего
плохого не будет и после смерти, что смерть скорее всего благо,
что боги не оставляют человека и на том свете и т. д. Откуда,
спрашивается, Сократ берет эти вовсе не очевидные и явно
необычные для античного полиса утверждения о
действительности, как он их получает? Размышляя, рассуждая,
выражая себя. Другими словами, эти утверждения — продукт
самого размышления (рассуждения, доказательства).
Выражая, реализуя свои убеждения в форме размышления и
получая при этом новые утверждения о действительности,
Сократ, естественно, не подозревает, что эти утверждения
создаются им самим как необходимое условие самореализации
его личности, он традиционно относит их к внешнему миру,
действительности. Только в этом случае Сократ может на
них опереться, только так они выступают основанием для
принятия жизненно важного для него решения.
Осмысляя в целом ситуацию, можно сказать, что
сложились два независимых источника семиозиса и знаний:
традиционный, в практике социальной жизни, и новый, в сфере
размышлений (рассуждений, доказательств). Подобная
ситуация, естественно, не могла не породить определенные
проблемы и затруднения. Во-первых, разные индивиды,
действуя из собственных соображений (личных
экзистенций, видения мира, понимания социальных отношений),
получили в ходе размышлений относительно одних и тех же
фрагментов действительности разные представления и
знания. Во-вторых, представления и знания, полученные в
размышлении, рассуждении или доказательстве, часто
противоречили обычным знаниям, полученным традиционным
путем, т. е. в рамках хозяйственной или сакральной
практики. В результате образ действительности (мира вне человека
и внутри его) стал двоиться, множиться, мерцать, а в ряде
151
случаев (когда речь шла об антиномиях) сделался просто
невозможным.
Чтобы лучше понять глубину возникшего кризиса, нужно
учесть и особенности культурной ситуации этого периода.
В Древней Греции V в. до н. э. в условиях демократического
народного правления, спора городов-государств,
столкновения интересов разных слоев населения приобретает
огромное значение умение вести спор, убеждать других,
усматривать в предметах их характеристики, строить новые
высказывания типа «А есть В». По сути, от умения и способностей
делать все это часто зависели благосостояние и жизнь
отдельного человека и целых групп населения. Вопросы о том, что
есть на самом деле, а что только кажется, кто прав, а кто
ошибается, в чем именно ошибается некто утверждающий нечто
не были только умозрительными, это были вопросы самой
жизни, бытия человека греческого полиса. Возникла
жесткая конкуренция в области самих представлений; они не
могли уже мирно сосуществовать, каждый мыслитель и
стоящая за ним «школа» (сторонники) отстаивали свою правду
(истину), утверждая, что именно их представления верны, а
все другие неверны. Примером подобной жесткой полемики
с другими школами является деятельность Парменида, Зе-
нона, Сократа, Платона.
3.5. Нормирование рассуждений
Изобретение и практика рассуждений, как я сказал,
не могли не породить проблемы: рассуждать можно было
по-разному (по-разному понимать исходные и общие члены
рассуждения и различно их связывать между собой), к тому
же каждый тянул одеяло на себя, т. е. старался сдвинуть
представления других членов общества в направлении
собственного видения. В результате, с одной стороны,
парадоксы, с другой — вместо согласованного видения и поведе-
152
ния — множество разных представлений о
действительности.
Анализ античной истории показывает, что возникшее
затруднение, грозившее парализовать всю общественную
жизнедеятельность греческого полиса, удалось преодолеть,
согласившись с рядом идей, высказанных Сократом,
Платоном и Аристотелем. Эти философы предложили, во-первых,
подчинить рассуждения законам (правилам), которые бы
сделали невозможными противоречия и другие затруднения в
мысли (например, рассуждения по кругу, перенос знаний из
одних областей в другие и т. д.), во-вторых, установить с по-
мощью этих же правил контроль за процедурой построения
мысли.
Дополнительно решались еще две задачи: правила
мышления должны были способствовать получению в
рассуждениях только таких знаний, которые можно было бы
согласовать с обычными знаниями (т. е. вводился критерий
опосредованной социальной проверки), и, кроме того, правила
должны были быть понятными и приемлемыми для остальных
членов античного общества. Рассмотрим этот процесс
подробнее, т. е. каким образом греки, пытавшиеся стяжать
«мудрость», разрешили проблемы, возникшие в связи с
изобретением рассуждений.
Конечно, вряд ли они ставили так вопрос, как он здесь
сформулирован. Более вероятно, они пытались понять, как
устроен божественный мир, позволяющий преодолеть
смерть. И все-таки ответ предполагал определенное решение
вопроса о том, как быть с возникшим разномыслием и
невозможностью понять, что есть, существует на самом деле.
Из истории философии известно, что были даны два
решения. Одно принадлежало софистам, которые старались
оправдать практику неконтролируемых рассуждений;
именно им принадлежала формула Протагора: «Человек есть мера
всех вещей, существующих, что они существуют,
несуществующих, что они не существуют». Если принять этот тезис,
то, действительно, приходится признать, что строение зна-
153
ния не зависит от природы того, что в нем утверждается, а
только от рассуждающего.
Другое, более интересное решение наметили элеаты.
Они, напротив, утверждали зависимость знания от объекта и
независимость от рассуждающей личности. Вот известный
фрагмент поэмы «О природе» Парменида:
Люди о двух головах. Беспомощно ум их блуждает.
Бродят они наугад, глухие и вместе слепые...
Без сущего мысль не найти — она изрекается в сущем,
Иного не будет и нет: ему же положено роком
Быть неподвижным и целым. Все прочее — только названья:
Смертные их сочинили, истиной их почитая.
В этом тексте два интересных момента. Один —
понимание того, что мысль человека может быть неправильной,
противоречивой («Люди о двух головах. Беспомощно ум их
блуждает») и правильной, когда она ориентируется на
«сущее». Второй — создание особой интеллектуальной
конструкции «сущее как неподвижное и целое». Пожалуй,
впервые в истории мысли человек сознательно строит идеальный
объект, ведь наблюдать в природе ничего похожего он не
может. Это именно интеллектуальное построение (сущему
приписываются свойства неподвижности и целостности),
призванное, с одной стороны, объяснить, почему в
рассуждении создаются неправильные знания (вследствие или
слабости ума, или неконтролируемого воображения), с
другой — охарактеризовать подлинную реальность, которую
только и имеет смысл описывать, рассуждая о бытии.
Третье решение проблем, возникших в результате
изобретения рассуждений, принадлежало Платону. С одной
стороны, основатель античной философии опирается на
убеждения элеатов, т. е. считает, что мысль должна исходить из
твердого неизменного основания и не зависеть от
рассуждающего. С другой — вынужден прислушаться и к софистам в
том смысле, что признает множественность знаний и пред-
ставлений сущего. Разрешая эту дилемму — есть одно неиз-
1 Ахманов А. С. Логическое учение Аристотеля. — М., 1960. — С. 18.
154
менное основание мысли и есть много разных
представлений действительности, Платон формулирует известное
представление об идеях.
Как же Платон пришел к этим представлениям? Можно
высказать следующую гипотезу. Уже Сократ показал, что
ошибки в рассуждениях возникают потому, что
рассуждающий по ходу мысли или меняет исходное представление, или
же переходит от одного предмета мысли к другому, нарушая,
так сказать, предметные связи. Вот пример элементарного
софистического рассуждения: «У человека есть козел, у
которого есть рога, следовательно, у человека есть рога». Здесь
в первой посылке связка «есть» — это одно отношение
(имущественной принадлежности, т. е. козел принадлежит
человеку), а во второй — другое отношение (рога козла — это
не его имущество, а часть его тела). Чтобы при подобных
подменах и отождествлениях не возникали парадоксы,
Сократ стал требовать, во-первых, определения исходных
представлений (в данном случае нужно определить, что такое
человек, козел и рога), во-вторых, сохранения (неизменности)
в рассуждении заданных в определении характеристик
предмета.
Однако как эти требования могли выглядеть для
античного человека, вглядывающегося в реальность,
пытающегося схватить сущность явлений? Вероятно, как выявление в
действительности твердых, неизменных сущностей вещей.
То есть Платон сузил сущее Парменида до предмета,
заданного в определении, но это как раз и есть идея Платона. С
одной стороны, идея — это неизменная сущность, предмет
мысли, сохраняющийся неизменным в ходе рассуждения, с
другой — это то, что задано определением. Получалось, что
платоновские идеи — это онтологизированные способы
нормирования рассуждений, когда в качестве норм
выступают определения, которые, однако, истолковываются как
самостоятельные сущности.
Кстати, Аристотель четко отрефлексировал этот момент.
«Теория относительно идей, — пишет Стагирит в "Метафи-
155
зике", — получилась у высказывающих ее вследствие того,
что они насчет истины прониклись гераклитовскими
взглядами, согласно которым все чувственные вещи находятся в
постоянном течении; поэтому если знание и разумная мысль
будут иметь какой-нибудь предмет, то должны существовать
другие реальности, <устойчиво> пребывающие за
пределами чувственности: о вещах текучих знания не бывает. С
другой стороны, Сократ занимался вопросом о нравственных
добродетелях и впервые пытался устанавливать в их области
общие определения (из физиков только Демокрит слегка
подошел к этому и некоторым образом дал определения для
теплого и для холодного; а пифагорейцы раньше его делали
это для немногих отдельных вещей, понятия которых они
приводили в связь с числами, указывая, например, что есть
удача, или справедливость, или брак). Между тем Сократ
правомерно искал существо вещи, т. к. он стремился делать
логические умозаключения, а началом для умозаключений
является существо вещи. <...> Но только Сократ общим
сторонам вещи не приписывал обособленного существования и
определениям также; между тем сторонники теории идей эти
стороны обособили и подобного рода реальности назвали
идеями»1.
Итак, идеи вводились Платоном, чтобы нормировать
рассуждения, чтобы не получалось противоречий. В «Парме-
ниде» Платон пишет, что «не допуская постоянно
тождественной себе идеи каждой из существующих вещей, человек
не найдет, куда направить мысль, и тем самым уничтожит
саму возможность рассуждений»2. П. П. Гайденко показала,
какие трудности влекло за собой такое решение.
Приходилось предполагать непротиворечивость и системность самих
идей, вторичность вещей по отношению к идеям и
одновременно причастность вещей к идеям. Как пишет Гайденко,
Платон предполагает обосновывать соотнесенность
эмпирического мира с миром идей соотнесенностью идей между
собой. По ее мнению, соотнесенность логосов определяет
1 Аристотель. Метафизика. — С. 29, 223.
2 Платон. Парменид // Соч.: В 4 т. — М., 1993. — Т. 2. — С. 357.
156
собой причастность к ним вещей и проистекающую из этой
причастности соотнесенность уже самих вещей1. Хотя мысль
Платона вращается вокруг вещей и идей, с современной
методологической точки зрения видно, что Платон все время
решает другую задачу — пытается построить нормы
рассуждений.
Но решение его онтологическое, ему кажется, что
человек будет правильно рассуждать, именно это он и называет
размышлением, если будет знать, как устроена подлинная
реальность (мир идей) и затем в рассуждении будет исходить
из этого знания.
Кстати, именно поэтому Платон столько сил потратил на
обоснование теории идей; ему нужно было убедить
слушателей, что можно не сомневаться в мире, который он открыл.
Здесь и теория припоминания душой божественного мира
идей, и рассказ в «Тимее» о том, как Демиург создавал мир и
человека, и много других разбросанных по разным диалогам
незаметных подсказок. Весь этот сложный мир
(припоминания и творения) Платон открыл не в ходе изучения вне его
лежащей реальности, в этом случае пришлось бы
предположить, что мир идей существует физически, так же, впрочем,
как и все другие миры, число которым легион. Платон
сконструировал этот мир, подобно миру идей, но в его сознании
этот факт, конечно, выступал иначе, именно как открытие
подлинного мира.
Стоит обратить внимание на еще одно важное
обстоятельство. На мой взгляд, рассматривая в диалоге «Парменид»
отношения между единым и многим, Платон одновременно
решает важную задачу нормирования рассуждений,
разворачивающихся по поводу какого-нибудь предмета. До
изобретения рассуждений знания, относящиеся к определенному
предмету, например любви, объединялись на схемах,
задающих этот предмет. В античной мифологии любовь
истолковывалась как совместное действие богов любви — Афродиты
(Эрота) — и человека. С формированием рассуждений воз-
См.: Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. — М., 1980. — С. 161 — 162.
157
никла сложная проблема: знания о предмете (например,
любви) получались в разных рассуждениях и часто
выглядели совершенно различными. Спрашивается, как же их
объединять, чтобы не получались противоречия? Вот здесь и
потребовалась особая норма. С точки зрения Платона, предмет
задается как единое, а отдельные его характеристики — это
многое, причем «единое есть многое».
Действительно, на первый взгляд кажется, что отдельные
представления о любви, вложенные Платоном в уста
персонажей «Пира», совершенно не связаны между собой. Так,
например, Федр утверждает, что Эрот — это бог, а Диотима
это отрицает, говоря, что Эрот — гений и философ. Эрикси-
мах помещает Эрота в природу, а Диотима показывает, что
Эрот — это скорее особый философский образ жизни, что и
выражает само слово «фило-софия» (любовь к мудрости).
Но при более внимательном рассмотрении оказывается, что
все эти отдельные представления о любви не противоречат
друг другу и даже как-то связаны. Ведь философ как раз и
стремится обладать красотой (гармонией) и выявлять ее в
своей жизни и деятельности, а также достигнуть бессмертия
(т. е. стать богом). Если не следовать формально-логическим
критериям, а читать диалог содержательно, никаких
противоречий в нем нет. Более того, каждая речь вносит в
понимание любви свой смысл и окраску, образуя в целом единую
платоническую концепцию любви. И вот как Платон
предлагает объединять знания о любви, полученные в разных
рассуждениях.
Поясняя в диалоге «Федр» примененный им метод
познания любви, включающий два вида мыслительных
способностей, Платон пишет, что одна — «это способность, охватывая
все общим взглядом, возводить к единой идее то, что
повсюду разрозненно, чтобы, давая определение каждому, сделать
ясным предмет поучения». Рассуждая об Эроте, он именно
так и поступил: «Сперва определил, что он такое, а затем
худо ли, хорошо ли стал рассуждать; поэтому-то рассуждение
вышло ясным и не противоречило само себе. Второй вид —
158
это, наоборот, способность разделять все на виды, на
естественные составные части»1. То есть Платон мыслит любовь
как идею — единое, а различные представления о любви,
высказываемые участниками диалога, — это многое. Задавая
любовь как «единство многого», Платон, как бы мы сказали
сегодня, строит теоретический предмет (теорию). В нем
различные характеристики любви с помощью схем и
рассуждений непротиворечиво объединяются в рамках единой идеи
платонической любви. Иначе говоря, представления и
знания о любви, зафиксированные в онтологических схемах,
относятся к одному объекту изучения, связаны между собой.
В своих работах Аристотель показывает, что принятие
идей в качестве нормы рассуждений создает массу проблем.
Идей оказывается больше, чем вещей, поскольку
относительно одной вещи можно дать много разных определений;
действительность приходится удваивать; непонятно, как на
основе идей упорядочиваются вещи; идеи, считает
Аристотель, возникают из-за незаконной объективации общих
понятий и определений, а также приводит и другие аргументы.
Кроме того, судя по всему, Аристотеля вообще не устраивал
платоновский эзотеризм, он не верил в существование
подлинного мира, параллельного обычному2.
Соглашаясь с аристотелевской критикой, все же имеет
смысл обратить внимание на то, что именно теория идей
позволила, с одной стороны, окончательно развести обычный
мир, данный человеку в опыте и чувствах, и мир идеальный,
который постигает, описывает философ и ученый, с
другой — поставить их в связь друг с другом. Ведь Платон
утверждал, что обычный мир строится в соответствии с миром
идей, копируя и отображая последний. Трудно переоценить
значение этой новой картины мира, которая может
считаться необходимой предпосылкой рационального мышления и
основывающихся на нем философии и наук. Кроме того,
внимательный анализ работ Аристотеля показывает, что по-
следний многое заимствует у своего учителя.
1 Платон. Федр//Соч.: В4т. -М., 1993. -Т. 2. -С. 176.
2 Аристотель. Метафизика. — М.; Л., 1934.
159
Итак, Аристотеля не устраивал платоновский эзотеризм,
поскольку он не верил в существование подлинного мира,
параллельного обычному. Судя по всему, Аристотель
принципиально меняет подход к нормированию рассуждений:
нормы — это не система идей, а система правил, законов
человеческой деятельности. Другими словами, Аристотель
предлагает осознать и описать не мир, представленный в
знании, а мыслительную деятельность человека.
В какой мере Аристотель осознает свой революционный
шаг? Да, он сам пишет, что гордится проведенной работой,
что до него никто не смог установить подобных правил1.
Но все же это отличается от осознания деятельностного
подхода к нормированию рассуждений. В «Метафизике»
Аристотель определяет, что такое «способность», она
характеризуется, в частности, на основе представления о
деятельности2. Тем не менее правила, нормирующие рассуждения,
Аристотель никак не характеризует понятийно. В целом
неясно, как он их понимает. И все же можно понять, как
Аристотель понимает, что такое нормы, которые он сам создает.
В «Топике» он пишет, что это средства, способ, на основе
которых строятся непротиворечивые рассуждения и
умозаключения; в работах «Об истолковании» и «Аналитики» —
что это учение, исследование. Первая характеристика может
быть понята как определенное осознание деятельностной
природы аристотелевских норм, а вторая, напротив,
блокирует такое понимание.
Но посмотрим, как Аристотель мог создавать правила,
нормирующие рассуждения. Размышляя по поводу сложив-
шейся драматической ситуации, предлагая способ разреше-
1 «Что же касается учения об умозаключениях, — пишет Аристотель, завершая
книгу "Об истолковании", — то мы не нашли ничего такого, что было бы сказано
до нас, а должны были сами создать его с большой затратой времени и сил»
(Аристотель. Об истолковании // Соч.: В 4 т. — М., 1978. — Т. 2. — С. 593).
2 «Название способности прежде всего обозначает начало движения или
изменения, которое находится в другом, или поскольку оно — другое, как, например,
строительное искусство есть способность, которая не находится в том, что
строится; а врачебное искусство, будучи некоторой способностью, может находиться
в том, кто лечится, но не поскольку он лечится» (Аристотель. Метафизика. —
С. 91).
160
ния противоречий и других мыслительных затруднений,
Сократ, Платон и Аристотель исходили примерно из
следующих соображений. Источником противоречий и других
ошибок является не действительность, которую создали
боги, а именно сами размышления, рассуждения или
доказательства. Чтобы противоречий и ошибок не было,
мыслительную деятельность необходимо подчинить законам
(правилам). В свою очередь, чтобы определить эти законы,
нужно знать, как устроена действительность, поскольку
размышления (рассуждения, доказательства) отражают или
не отражают в своей структуре строение действительности.
В первом случае размышление будет правильным и
полученные в нем знания — истинными, во втором —
неправильным, а знания ложными.
Но как, спрашивается, узнать строение
действительности? Как ни парадоксально, Платон и Аристотель думали,
что именно правильное мышление выводит мудрого к
знанию действительности. Получается замкнутый круг: чтобы
узнать правила мышления, нужно знать устройство
действительности, для этого, в свою очередь, необходимо правильно
мыслить. В частности, такой круг просматривается в
следующих рассуждениях Платона: «Когда душа ведет
исследование сама по себе, она направляется туда, где все чисто, вечно,
бессмертно и неизменно, и т. к. она близка и сродни всему
этому, то всегда оказывается вместе с ним, как только
остается наедине с собой и не встречает препятствий. Здесь
наступает конец ее блужданиям, и в непрерывном
соприкосновении с постоянным и неизменным она и сама обнаруживает
те же свойства. Это ее состояние мы называем
размышлением. <...> Божественному, бессмертному, умопостигаемому,
единообразному, неразложимому, постоянному и
неизменному самому по себе в высшей степени подобна наша душа, а
человеческому, смертному, постигаемому не умом,
многообразному, разложимому и тленному, непостоянному и
несходному с самим собою подобно — и тоже в высшей степе-
ни — наше тело»1. Соответственно знания, полученные в
Платон. Федон. — С. 35, 36.
11. Заказ №4180
161
правильном мышлении, стали называться истинными, а в
неправильном — ложными.
Чтобы разобраться в этом противоречии,
воспроизведем логику поисков Аристотеля. Сначала он вместо идей
Платона ввел десять категорий (сущность, качество,
количество и др.), причем, чтобы не удваивать
действительность, поместил первую сущность, т. е. представление об
«отдельных предметах», фиксируемое, например, в имени
или определении, в сами вещи. Через эту сущность и все
остальные категории — вид, род, качество, количество
и пр. — были связаны с вещами, но особым образом: они
задавали свойства вещей, их характеристики, отношения к
другим вещам. Характеризуя категории, Аристотель
описывает их свойства и особенности с тем, чтобы в
рассуждениях можно было контролировать предметные связи и
переходы.
Например, кто-то рассуждает так: «Сократ — человек,
люди смертны, Сократ смертен». Здесь, с точки зрения
Аристотеля, Сократ — первая сущность, поэтому Сократ
подлежащее; то, что Сократ есть человек, — вторая сущность,
поэтому человек — это свойство, приписываемое Сократу как
подлежащему; то, что люди смертны, — свойство,
приписываемое не только людям, но и Сократу, поскольку люди —
это род, а Сократ как человек — вид этого рода. Другими
словами, характеризуя категории, Аристотель одновременно
пытается нормировать рассуждения, но пока в предметной
плоскости.
Судя по всему, подобный способ нормирования был
неудовлетворителен. Действительно, во многих случаях
было неясно, какие именно категории брать, а также какие
свойства категорий привлекать, чтобы определить
истинность или ошибочность некоторого рассуждения. Тогда
Аристотель стал анализировать, во-первых, как строятся
рассуждения в плане языка, это следующая работа после
«Категорий» — «Об истолковании», во-вторых, как строятся
специализированные рассуждения в науках (геометрии,
арифметике, физике, религии и пр.), т. е. доказательства.
162
|5 Этот ход, вероятно, был необходим Аристотелю, чтобы
донять, каким закономерностям подчиняются сами
свойства категорий, как их нужно связывать в рассуждениях. Здесь
дроявился гений Аристотеля, считавшего, что предметные
связи — это не только свойства самих вещей, но и то, что
возникает в результате языковой и предметной деятельности
мыслящего человека. Осознавал этот момент Аристотель в
дюнятиях способности и способа. Например, способность
Аристотель определяет как причину изменения,
находящуюся в другом предмете; в этом значении причина,
определяющая предметные связи, лежала, по Аристотелю, не в самих
дредметах, а в деятельности человека, который пользуется
дзыком или нечто доказывает.
Именно этот поворот — от объекта к деятельности, от
смысла к языку, от содержания знания к его построению — и
позволил Аристотелю выйти к нормам мышления, которые
мы находим в «Аналитиках». С одной стороны, это модели
(фигуры) силлогизмов, с другой — правила, регулирующие
построение истинных знаний в научных доказательствах,
например, такое «доказывающее знание получается из
необходимых начал», «нельзя вести доказательство, переходя из
одного рода в другой», «каждая вещь может быть доказана
не иначе, как из свойственных ей начал» и др. Аристотель
понимает эти модели и правила как знания о рассуждении и
как способы их построения, но мы сегодня должны их
понимать прежде всего как нормы, созданные самим
Аристотелем. Они строились так, чтобы размышляющий
(рассуждающий, доказывающий) индивид не получал противоречий и
не сталкивался с другими затруднениями при построении
знаний (движение по кругу, запутанность, сложность,
вариации, удвоения и т. д.).
Отметим еще один момент: при построении таких норм
ассимилировались культурный опыт и знания, полученные
в хозяйственной практике. Например, нормы,
регулирующие геометрические рассуждения, задавали такие
преобразования фигур, которые отвечали отношениям между поля-
и*
163
ми и их элементами, установленным еще в вавилонском и
древнеегипетском семиотическом производстве1; нормы
религиозных рассуждений устанавливались исходя из
очевидных для греческого сознания представлений о том, что
боги бессмертны, а люди смертны. Общая логика при этом
была такова.
Во-первых, Аристотель запрещает получение
парадоксов. Всякий парадокс, по его убеждению, свидетельствует об
ошибке в рассуждении; эта ошибка должна быть вскрыта и
исправлена, т. е. рассуждение построено правильно2.
Во-вторых, в правильности или ошибочности рассуждений
можно убедиться, с одной стороны, наблюдая их результат
(получаются противоречия или нет, происходит объяснение
или, наоборот, возникает путаница и т. п.), с другой
стороны, соотнося рассуждение с нормами мышления. В свою
очередь, последние устанавливаются на особых моделях.
Ими являются представления «о суждении», «силлогизме»,
«доказательстве», «знании», «начале», «науке».
Что такое, например, суждение? Это модель правильного
высказывания. Всякое суждение, пишет Аристотель, есть
суждение или о том, что присуще, или о том, что необходимо
присуще, или о том, что возможно присуще; из этих
суждений, в зависимости от того, приписывается ли «что-либо в
них или не приписывается, одни бывают утвердительными,
другие — отрицательными; далее одни утвердительные и
отрицательные бывают общими, другие — частными, третьи —
неопределенными»3. Из этого определения видно, что
правила, устанавливаемые Аристотелем, не только модель, но и
одновременно классификация высказываний. Силлогизм —
это, по сути, модель элементарного рассуждения, когда ис-
1 Розин В. М. Специфика и формирование естественных, технических и
гуманитарных наук. — Красноярск, 1989; Он же. Типы и дискурсы научного
мышления. — М., 2000.
2 «Таким образом, ясно, что начало, обладающее указанными свойствами, есть
наиболее достоверное из всех; а теперь укажем, что это за начало. Невозможно,
чтобы одно и то же вместе было присуще одному и тому же и в одном и том же
смысле» (Аристотель. Метафизика . — С. 63).
3 Аристотель. Аналитики. — С. 11.
164
ходя из двух высказываний, не обращаясь к опыту и объекту,
получают третье новое высказывание («Силлогизм же, —
пишет Аристотель, — есть высказывание, в котором при
утверждении чего-либо из него необходимо вытекает нечто
отличное от утвержденного»1). Если силлогизм — модель
элементарного рассуждения, то доказательство — модель верного,
истинного рассуждения; элементами этой модели являются
знания и начала.
Именно на основе этих моделей и критериев Аристотелю
удается, с одной стороны, сформулировать правила
«правильных» (не приводящих к противоречиям) рассуждений, с
другой — охарактеризовать ошибочные рассуждения.
Например, к первым относились правила построения
силлогизмов, включающие различение трех фигур силлогизмов и
классификацию силлогизмов по модальностям (в
соответствии с категориями «существования», «необходимости
существования» и «возможности существования»), а также
правила построения доказательств. Ко вторым относились
ошибки при построении силлогизмов, правила спора,
запрещение доказательства по кругу, недопустимость перехода
доказательства из одного рода в другой, ошибочные
заключения при доказательствах и другие2.
Подумаем, какова связь норм мышления с категориями.
Анализ показывает, что нормы и категории дополнительны
друг другу — без категорий нельзя было построить нормы, а
последние требовали выделения категорий. Именно поэтому
греческие философы думали, что в правильном мышлении,
т. е. таком, в котором получаются непротиворечивые,
истинные знания, правила соответствуют действительности, как бы
описывают ее. Однако, напротив, действительности было
приписано такое строение, чтобы она соответствовала
построенным нормам мышления. Например, в философии Аристотеля
строение действительности задается с помощью категорий, из
которых как своеобразного «алфавита действительности» со-
2 Аристотель. Аналитики. — С. 10.
Там же.
165
здаются идеальные объекты; относительно последних по
правилам, без противоречий ведутся рассуждения и
доказательства. Чтобы облегчить принятие этой гипотезы, воспроизведем
на примере построения правила счета логику Аристотеля.
Предположим, нам нужно пересчитать предметы в
комнате. Прежде чем мы начнем это делать, т. е. устанавливать
взаимно однозначное соответствие пересчитываемых
предметов с эталонным рядом натуральных чисел — 1, 2, 3, 4
и т. д., очевидно, необходимо выявить для счета
(сформировать) сами эти предметы, ведь комната — это не предметы, а
все, что угодно (люди, столы, интерьер и пр.). Затем нужно
очертить границы подсчитываемого множества предметов.
Следующая операция — собственно установление взаимно
однозначного соответствия. Наконец, последнее число мы
объявляем тем, которое обозначает все множество. Все
перечисленное и образует «правило счета».
Но каковы условия его применения? Для счета мы
формируем предметы, во-первых, игнорируя их назначение и
особенности, во-вторых, рассматривая предметы только в
одном отношении — как элементы некоторого множества
(пересчитываемые предметы можно идентифицировать
как отдельные предметы, а также группировать или делить
на подгруппы). Другими словами, мы должны представить
эмпирию комнаты вполне однозначно — в виде
количества. Но количество — это одна из аристотелевских
категорий1.
Обобщим данный пример: во всех случаях, когда
необходимо было применять сформулированные Аристотелем
правила, приходилось создавать особые объектные схемы и
представления, которые и были позднее названы
категориями. Например, чтобы подвести под правило совершенного
силлогизма: «Если три термина так относятся между собой,
что последний целиком содержится в первом или вовсе не со-
«Количеством называется то, что может быть разделено на составные части,
каждая из которых, будет ли их две или несколько, является чем-то одним, данным
налицо. То или иное количество есть множество, если его можно счесть, это —
величина, если его можно измерить» (Аристотель. Метафизика. — С. 93).
166
держится в нем, то для этих крайних терминов необходимо
смеется совершенный силлогизм»1 — следующее
рассуждение: «Сократ — человек, люди смертны, следовательно,
Сократ смертен», Сократ должен быть рассмотрен как
представитель рода людей и только. Нас совершенно не должно
интересовать, каким был Сократ человеком, мудрым или
глупым, сколько он жил на свете, какую имел жену. Только
одно — что Сократ есть вид по отношению к роду людей,
которые в отличие от богов и героев все рано или поздно, но
умрут. Если для пересчета предметов их необходимо
представить как количество, то для применения совершенного
силлогизма — как род и вид, находящиеся в определенном
отношении.
Заметим, что категории могут быть рассмотрены двояко:
это схемы описания эмпирии (в результате порождаются
идеальные объекты, к которым уже могут применяться
правила) и это особого рода объекты — кирпичики, из которых
складывается мир (сущее). В качестве схем категории
позволяют истолковать и организовать эмпирию (эмпирический
материал), например, для категории начала приписать
материалу свойство «исходного пункта» рассуждения, а также
источника и сущности (причины) явления2. В качестве
кирпичиков, из которых складывается и состоит мир, категории
могут созерцаться, т. е. в изучаемых явлениях (предметах)
усматриваются категории, а не наоборот.
Обсуждая, например, природу души, Аристотель
спрашивает, из каких «кирпичиков-категорий» она состоит.
«Может быть, — пишет Аристотель, — прежде всего
необходимо различить, к какому роду [предметов] относится душа и что
она представляет, я имею в виду, является ли она чем-нибудь
определенным и сущностью, или количеством, или качеством,
Аристотель. Аналитики. — С. 14.
«Кроме того, что в конечном счете является исходным при познании предмета,
это тоже называется началом предмета, например, те предпосылки, которые
лежат в основе доказательства. И о началах говорится в стольких же значениях, как
о причинах, ибо все причины суть начала. У всех начал есть та общая черта, что
они представляют собой первый исходный пункт или для бытия, или для
возникновения, или для познания...» (Аристотель. Метафизика. — С. 78).
167
или какой-нибудь другой категорией из установленных, кроме
того, относится ли она к тому, что существует в возможности
или, скорее, представляет собой нечто актуальное, ведь это
немаловажная разница. <...> Те же, кто усматривает в душе
стремление к познанию и чувственному постижению
действительности, говорят, что душа содержит начала, [из которых
состоит вся природа], при этом одни из них считают, что этих
начал много, другие — что такое начало одно. <...> Так как
[всякое изучение] идет от неясного, но более доступного к
понятному и более осмысленному, но также, в свою очередь, следует
подходить к исследованию души. Ведь определение должно
вскрыть не только то, что есть, как это делается в большинстве
определений, но определение должно заключать в себе и
обнаруживать причину»1. В данном случае у Аристотеля в качестве
категорий выступают не только 10 известных категорий
(«сущность», «количество», «качество», «отношение»,
«место», «время», «положение», «обладание», «действие»,
«страдание»), но также категории: «начало», «причина»,
«возможность», «актуальность».
Обратим внимание, что установление правил мышления
и построение категорий — это компромисс между
устремлениями отдельных мыслителей, свободно реализующих и
выражающих себя в мышлении, и социальными требованиями
понимания (коммуникации), без которых был невозможен
общественный порядок античного полиса и согласованные
действия. Недаром Аристотель, обсуждая в «Метафизике»
основание всей действительности (самое первое «начало»
вещей — Единое), бросает многозначительную фразу:
«...Мир не хочет, чтобы им управляли плохо. Нехорошо мно-
говластье: один да будет властитель»2. Те мыслители,
которые принимали единые правила и общую действительность
(ведь помимо аристотелевской версии порядка в мышлении
существовали и другие — например, платоновская или демо-
критовская), вынуждены были ограничивать свою свободу и
1 Аристотель. О душе. — ML, 1937. — С. 4, 38.
2 Аристотель. Метафизика. — С. 217.
168
следовать заданной процедуре мышления. Тем не менее в
рамках заданной правилами и действительностью
процедуры и ролей у мыслителей оставалось еще достаточно
степеней свободы. Так, они могли строить или выбирать разные
начала рассуждений и доказательств, предпочитать те или
иные правила и категории, по-разному строить сами
рассуждения или доказательства и т. п.
Стоит отметить еще один момент: правила и категории
устанавливались так, чтобы согласовать мышление с
практикой. В отличие от простых, неконтролируемых рассуждений и
доказательств в мышлении получаются такие знания,
которые не только не противоречат знаниям, уже полученным в
практике, но и без проблем могут быть в нее введены, если в
последней нет подобных знаний. В качестве иллюстрации
можно привести пример «Начал» Евклида, где были
построены и доказаны не только геометрические и арифметические
знания, полученные (но, правда, иначе) ранее в шумеро-вави-
лонском хозяйстве (1-я и 2-я книги «Начал»), но и
неизмеримо больше истинных геометрических и арифметических
знаний, неизвестных вавилонским и египетским жрецам и пис-
цам1. С формированием мышления древнее хозяйство стано-
1 См.: Розин В. М. Типы и дискурсы... — С. 29—42. Ктому времени как греки
заинтересовались чертежами и числовыми отношениями, вавилонская математика была
уже в значительной мере мертвой культурой (в период знакомства греков с
Вавилоном от начала расцвета вавилонской математической культуры прошло по
меньшей мере полторы тысячи лет). Получив в наследство от этой культуры
сборники решений египетских и вавилонских задач (в некоторых сборниках содержалось
до 200—300 однотипных задач, различающихся между собой только числовыми
значениями известных величин), греческие ученые заинтересовались тем, как
они решались, и попытались восстановить методы решения. При этом они не
могли получить помощь от самих вавилонских или египетских математиков,
поскольку традиция построения решений новых задач прервалась за много веков до
встречи этих двух культур. В лучшем случае египетские и вавилонские математики
могли показать, как надо производить то или иное вычисление, решать ту или
иную задачу, но почему решение строилось так, а не иначе — объяснить не умели.
На что же могли опираться греки при реконструкции способов решений
вавилонских задач? С одной стороны, на чертежи с числами и вычисления,
зафиксированные в сборниках задач, с другой — на выработанные в греческой философии
способы ведения рассуждений, доказательств, способы разрешения проблем и
снятия противоречии. Следовательно, это был совершенно иной уровень мышления,
иная культура. Сама идея осмысления взятых из другой культуры способов
решения задач могла возникнуть только на греческой культурной почве, только в
греческой философски ориентированной культуре могла сложиться процедура ре-
169
вится одним из источников мышления, но в дальнейшем
специализированные виды мышления полностью обособляются
от хозяйственной практики и с лихвой возвращают ей свой
«долг».
конструкции чужого математического мышления. Состояла же эта процедура в
переосмыслении решений вавилонских задач на основе преобразований
геометрических фигур. Греки, как известно, изобрели богатую и интересную игру с
геометрическими фигурами: мысленно накладывали одну фигуру на другую,
выделяли в фигурах их части — другие фигуры, сравнивали полученные фигуры
между собой, устанавливая между ними различные отношения — равно, больше,
меньше, подобно, параллельно. Эта игра с идеальными объектами,
представленными в чертежах (игра, в которую человечество увлеченно играет до сих пор), и
позволила грекам осмыслить решения вавилонских задач. При этом чертежи
полей интерпретировались как изображения фигур, а числа — как величины этих
фигур или величины элементов фигур. Сами же вычисления
интерпретировались как процедуры, направленные на установление между фигурами (или их
элементами) различных геометрических отношений (обычно равенств или
подобий).
Все это, конечно, не имело ничего общего с тем, как мыслили вавилонские
математики, решая свои задачи, но имело прямое отношение к формирующейся
геометрии. В частности, греческая реконструкция решений вавилонских задач
способствовала развитию и совершенствованию геометрического языка и позволила
получить формулировки многих геометрических теорем (так, большинство
формулировок второй и отчасти первой книг «Начал» Евклида имеют, как показали
исследования историков математики, именно такое происхождение, т. е.
являются греческой реконструкцией и осмыслением решений вавилонских задач).
Совершенно другую интерпретацию тех же самых решений вавилонских задач мы
находим при закате античной науки. В «Арифметике» Диофанта делается акцент
уже не на фигурах, а на величинах и отношениях между ними. Рассматриваются,
например, такие задачи: «Разложить данный квадрат на два квадрата. Нужно
разложить число 16 на два квадрата» или «Найти два неопределенных числа, таких, что их
произведение вместе с их суммой будет равно некоторому данному числу. Пусть
последнее будет 8». Анализ показывает, что формулировки этих задач, а также
отдельные приемы их решения — результат определенной, уже геометрической
интерпретации решений вавилонских задач. В этом случае чертежи полей интерпретируются
как определенные величины (например, «квадраты» или «произведения»), а
вычисления — как установление между подобными величинами отношений равенства
(это уже влияние геометрии). Именно через Диофанта и арабов (в частности, из
«Алгебры и Алмукабалы» перса Алхваразми) элементы алгебры попадают в
Средние века и в XV—XVI вв. уже на новой культурной почве Возрождения
переосмысляются и трансформируются в алгебраическое счисление.
Итак, корни как геометрии, так и алгебры уходят в шумеро-вавилонскую
математику. Ассимиляция и переосмысление этой математики в трех разных культурах —
ранней греческой, поздней греко-арабской и поздней средневековой,
сливающейся с ранним Возрождением, способствуют формированию и развитию геометрии и
алгебры. Затем в Новое время «скрещивание» геометрии и алгебры приводит к
новым математическим дисциплинам — аналитической геометрии, теории чисел,
исчислению бесконечно малых, а от них, как известно, всего один шаг и до
современной математики. Сама собой напрашивается гипотеза: все современные
традиционные математические дисциплины имеют единый источник —
шумеро-вавилонскую математику — и единственное прасчисление — чертежно-числовое.
170
3.6. Формирование античной науки
Для Аристотеля наука была чем-то вроде прикладной
философии; Стагирит и называл ее «второй философией»,
чтобы отличить от «первой философии», «мудрости», которая
занималась изучением самых первых причин и «начал»,
включая и такое, как живой разум-бог — последнее
основание всего сущего. В практическом отношении, считает
Аристотель, вторая философия ценнее первой, с точки зрения
мышления — наоборот; все науки, утверждается в
«Метафизике», более необходимы, нежели первая философия, но
лучше нет ни одной. Известно, что именно Аристотель и его
ученики, опираясь на значительную помощь со стороны
Александра Македонского, создали первые образцы
античных наук.
Уже Платон в «Пире», «Федре» и «Пармениде» ставит
вопрос о том, как строить знание о некотором объекте
изучения, сегодня мы бы сказали, как строить научный предмет,
науку. Он показывает, что такие знания должны быть
непротиворечивыми и связанными между собой процедурой
размышления. Аристотель идет дальше. Он ставит задачу
создания регулярной процедуры построения наук, понимая под
этим, с одной стороны, способы построения знаний о
некотором предмете, основанные на применении
сформулированных им правил и категорий, с другой — поиск того, что
Аристотель называет «началами».
Начала, по Аристотелю, — это истинные знания,
задающие сущность изучаемого предмета. Силлогистическое
суждение будет доказывающим, пишет Аристотель, «если оно
истинно и взято из предположений, выдвинутых с самого
начала». «У всех начал есть та общая черта, что они
представляют собой первый исходный пункт или для бытия, или для
возникновения, или для познания...»1 К тому времени как
Аристотель приступил к реализации своей программы, были
Аристотель. Аналитики. — С. 10; Он же. Метафизика. — С. 78.
171
дифференцированы знания о различных вещах —
рассуждали о движении, музыке, душе, богах и пр.; т. е. сами
предметы уже фактически сложились. Однако, поскольку до
Платона и Аристотеля каждый мыслитель, реализуя себя и
собственное понимание предмета, рассуждал по-своему, в каждой
из указанных предметных областей были получены
разрозненные знания, не связанные между собой; они по-разному
трактовали предмет, нередко противоречили друг другу или
опыту. Именно поэтому Аристотель ставит задачу — заново
получить знания в каждой из таких предметных областей.
Чтобы понять, как Аристотель решает эту задачу,
рассмотрим один пример — построение Стагиритом науки о душе.
Сначала Аристотель сортирует уже полученные другими
мыслителями знания о душе: выделяет в отдельную группу
противоречия, ведь от них нужно было избавиться; при этом
многие противоречия он впервые формулирует сам. В
другую группу Аристотель собирает знания о душе, которые
выглядели как истинные, т. е. схватывающие сущность
предмета, именно эти знания затем будут им включены в «начала»
души.
Следующий шаг — характеристика души как объекта
научного изучения, предполагающая ее соотнесение с
определенными категориями, ведь, по Аристотелю, сущее задается
категориями1. Процедура категоризации, в свою очередь,
включала два основных звена.
Первое звено — приписывание душе и связанным с нею
феноменам (телу, жизни и т. д.) характеристик,
принадлежащих категориям, одновременно это предполагает
элиминирование других характеристик, не указанных категориями;
кроме того, между выделенными характеристиками
устанавливались такие же связи, как и между соответствующими
категориями. Второе — получение в рассуждении следствий из
нового понимания души. Если подобные рассуждения
приводили к противоречиям или еще больше запутывали вопрос, то
от данной категоризации Аристотель отказывался; напротив,
если рассуждения не приводили к противоречиям и позволяли
1 См.: Аристотель. О душе. — С. 4, 38.
172
разрешить проблемы, то шаг категоризации закреплялся. В
результате удавалось нащупать новые характеристики души,
которые уже не извлекались из наблюдения, а строились как
конструкция (как идеальный объект) самим Аристотелем.
В этой связи особенно показательным выступает пример
следующей категоризации: во второй книге душа
отождествляется Аристотелем с категориями «сущность» и «форма»,
соответственно тело — с категорией «материя»
(«субстанция»). «Ведь материя, — пишет Стагирит, — есть
возможность, форма же — осуществление, и это в двояком смысле: в
смысле знания и созерцания. Преимущественно тела
кажутся субстанцией, а из них — естественные тела; ведь
последние являются источником всего остального. <...> Ведь тело
не есть то, что приписывается предмету, а скорее само
является предметом и материей. Таким образом, необходимо
душу признать сущностью, своего рода формой
естественного тела, потенциально одаренного жизнью. Сущность же
есть осуществление (энтелехия), таким образом, душа есть
завершение такого тела. Осуществление же можно понимать
в двояком смысле — или как знание, или как созерцание;
ясно, конечно, что как знание. Ведь душе свойственны и
сон, и бодрствование, причем бодрствование соответствует
созерцанию, сон же соответствует обладанию без
выявления. Знание предваряет познание, поэтому душа есть первое
осуществление естественного тела, потенциально
одаренного жизнью. <...> Не следует спрашивать, представляет л и
собой душа и тело нечто единое, подобно воску и изображению
на нем, ни вообще относительно любой материи и того, чьей
материей она является»1.
Последовательное отождествление души с категориями,
в ходе которого анализируются следствия и отбираются
истинные знания о душе, позволяют Аристотелю
сконструировать то, что он называет «началом души», а мы сегодня —
идеальным объектом. Итоговые характеристики такого
начала суммированы в третьей книге восьмой главы. Душа, пи-
шет Аристотель, «некоторым образом обнимает все сущест-
Лристотель. О душе. — С. 35—36.
173
вующее. В самом деле: все существующее представляет
собой предметы, либо чувственно постигаемые, либо
умопостигаемые. Ведь в известном смысле знание тождественно
познаваемому, а ощущение — чувственно воспринимаемым
качествам... но самые предметы отпадают, ведь камень в
душе не находится, а форма его. Таким образом, душа
представляет собой словно руку. Ведь рука есть орудие орудий, а
ум — форма форм, ощущение же — форма чувственно
воспринимаемых качеств»1.
Следующее звено — сведение к построенному началу
других случаев. В работе «О душе» этот момент отсутствует,
его необходимость можно уяснить, анализируя другую
работу Стагирита — «Физику». В ней Аристотель рассматривает
различные движения, относительно которых были получены
как отдельные истинные знания, так и парадоксы. В целом
аристотелевская физика строится по той же логике, что и
предыдущая работа. Так, движение как род бытия
Аристотель характеризует с помощью категорий: «сущность», «суть
бытия», «вещи», «форма», «материал», «возможность»,
«действительность», «способность», «качество», «количество»,
«состояние». Эти понятия и категории определяются
Аристотелем относительно друг друга и организуются в такую
систему, которая, как показывает анализ, позволяет
выразить эмпирические смыслы, зафиксированные в описаниях
различных движений, а также объяснить затруднения,
возникающие в рассуждениях о движении2.
В результате Аристотель получает два разных
представления о движении: движение есть переход вещей из
возможного бытия в действительное и совокупность качеств или
состояний. Данные характеристики движения как начала
Аристотель использует для опровержения апорий Зенона о
движении, а также для описания разных видов движения;
последний момент, включающий сведение новых случаев к по-
строенному началу, отсутствовал в работе «О душе». В част-
1 Аристотель. О душе. — С. 102—103.
2 Аристотель. Физика. — М., 1936.
174
ности, Стагирит различает равномерное и неравномерное
движение, относя к последнему и свободное падение.
Анализируя способы сравнения разных движений, Аристотель
склоняется к мысли, что именно равномерное движение
образует сущность любого движения и, следовательно,
специфицирует движение как род бытия. Поэтому, определяя
неравномерное движение, Аристотель сопоставляет его с
равномерным и приходит к выводу, что различие между
обоими видами движения определяется либо характером
пути, времени, среды, либо характером скорости движения,
различающейся большей или меньшей степенью1. В языке
современной философии науки эту работу можно
охарактеризовать так: Аристотель не только «спроектировал» для
физики первый объект изучения — движение и на основе
этого задал науку, но также построил два идеальных
объекта — равномерное и неравномерное движение, сведя второе
к первому.
Анализ рассмотреных здесь работ Аристотеля позволяет
также развести три разных процесса: построение нового
научного предмета (начал, определений), научное объяснение,
которое включало в себя способ разрешения противоречий,
решение проблем и других затруднений, зафиксированных
по поводу изучаемого объекта, наконец, построение самой
науки, т. е. сведение новых случаев к началам, получение
истинных знаний, «исчерпание» (описание) в рамках данной
науки всех случаев (известных в эмпирии объектных
ситуаций).
Но и была еще одна задача, которую фактически
решала античная наука. А именно: ее строили так, чтобы на
основе ее знаний можно было преодолеть различные
социальные и личные проблемы. Для начала рассмотрим,
какую личную и социальную проблему разрешал Платон,
создавая «Пир».
См.: Розин В. М. Типы и дискурсы... — С. 42—51.
175
3.7. Платоническая
концепция любви
Понимание любви в ранней греческой культуре
существенно отличается от того, которое намечает и развивает
Платон. Любовь в это время понимается преимущественно как
страсть. Любовь-страсть имеет много общих черт с
архаической любовью: она сакрализирована, практически не
связана с браком, по форме представляет собой сценарий, но уже
не охоты, а борьбы-состязания1.
Читая раннюю греческую лирику и мифы, все время
приходишь к одной картине: чтобы возникла любовь,
необходимо внешнее действие — или богини Афродиты, или ее сына,
бога любви Эрота. Это подчеркивается уже самим способом
возникновения любви — Эрот должен поразить человека
стрелой из своего волшебного лука. Если в архаической
культуре «выстреливает» отец будущего ребенка, то в
античной — бог любви, и теперь уже равноценно как в женщину,
так и в мужчину. Но опять любовь — это не действие и усилие
самого человека, а то, что ему посылают боги, то, что
захватывает человека, как огонь охапку сухих дров.
Мы знаем, что один из центральных сюжетов греческой
мифологии — любовь бессмертных богов к прекрасным
земным женщинам и юношам. Но за что боги их любят, что
привлекает их в людях? Ясно, что не ум, не добродетель, не
домовитость, а красота и девственность, возможность любить и
получать наслаждение. Однако для самих людей через
любовь бессмертных богов на землю сходили благословение,
сила, первородство. Таким образом, связь между богами и
человеком мыслилась прежде всего через чувственную
любовь, через рождение (дети, рождавшиеся от богов и земных
женщин). Греческая скульптура, изображавшая прекрасных
обнаженных богов, практически ничем внешне не отличи-
1 См.: Розин ß. M. Любовь и сексуальность в культуре, семье и во взглядах на
половое воспитание. — М., 1999. — С. 118—127.
176
мых от людей, схватывала, художественно выражала эту
связь.
Спрашивается, могло ли Платона устроить подобное
понимание любви? Вероятно, нет. Идеал Платона как
личности, отмечает Мишель Фуко, — забота человеку о себе,
сознательная работа, нацеленная на собственное изменение,
преобразование, преображение (уж если человек, подобно
Сократу, действует самостоятельно и противоположно
традиции, то он вынужден делать и самого себя). То есть полная
противоположность любви-страсти. Далее,
любовь-страсть — это именно страсть, состояние,
противоположное разуму, познанию, самопознанию (недаром Афина
Паллада вышла прямо из головы Зевса и неподвластна
Афродите и Эроту), в этом состоянии человек все забывает — и
себя, и богов. Опять же такая любовь — полная
противоположность представлениям Платона о том, что забота о себе,
включая, естественно, любовные отношения, обретает свою
форму и завершение в самопознании, что самопознание так
же, как и любовь, должно привести к открытию,
обнаружению в человеке божественного начала. А раз так,
любовь-страсть — это не путь к благу, не забота о себе.
Приходится, к сожалению, если следовать концепции заботы о
себе, расстаться и с любовью к женщине. Почему? Да ведь
именно с этой любовью для античного человека
ассоциируется страсть (адюльтер, любовь к гетере или проститутке), а
также обыденность, рождение детей, семейные проблемы и
претензии.
И вот Платон начинает удивительное мероприятие —
создает новое понимание, концепцию любви,
соответствующую его пониманию жизни философа как личности.
Для этого, правда, сначала нужно было «подменить» бога
любви; столь полюбившийся грекам Эрот, за которым
стояла Афродита, явно не годился для задачи, поставленной
Платоном. Тем более что вера в старых богов уже отчасти
пошатнулась.
12. Заказ №4180
177
В «Пире» решение этой задачи — смены Эрота — Платон
поручает Эриксимаху, Агафону и Диотиме, которые
последовательно доказывают, что Эрот пронизывает собой всю
природу, внося в них гармонию, порядок, благо, что он добр,
рассудителен, наконец, мудр. Когда Эриксимах указывает,
что и в природе, «и в музыке, и во врачевании, и во всех
других делах, и человеческих, и божественных», присутствует
Эрот, что проявляется в благом устройстве всех этих вещей,
он, по сути, намекает, что любовь — это не страсть, а
познание, занятие наукой, искусством, врачеванием и т. д. Когда
Агафон говорит, что «Эрот не обижает ни богов, ни людей»,
что «насилие Эрота не касается», что «ему в высшей степени
свойственна рассудительность», то Платон тем самым
переводит «поезд любви» на совсем другой путь — к ясному
сознанию, воле и разуму.
«Ведь рассудительность, — говорит Агафон, — это, по
общему признанию, умение обуздывать свои вожделения и
страсти, а нет страсти, которая была бы сильнее Эрота.
Но если слабее, чем он, — значит, они должны подчиняться
ему, а он — обуздывать их. А если Эрот обуздывает желания и
страсти, его нужно признать необычайно рассудительным»1.
Не правда ли, с точки зрения любви-страсти Эрот
удивительный, прямо-таки Эрот-самоубийца?
Когда Диотима говорит Сократу, что «мудрость — это
одно из самых прекрасных на свете благ, а Эрот — это любовь
к прекрасному, поэтому Эрот не может не быть
философом»2, то Платон, с одной стороны, продолжает ту же
линию — замены Эрота-страсти, с другой — видно
позабывшись, приоткрывает свою личную заинтересованность во
всем мероприятии. Ведь получается, что Платон ставит на
пьедестал не просто Эрота, а бога любви для философов.
Затем Платон переходит от бога к человеку. Он
определяет, что такое любовь для смертного. На первый взгляд это
определение вполне годится и для любви-страсти.
«Любовью ^ _ говорит Аристофан, — называется жажда целостно-
1 Платон. Пир. — С. 124.
2 Там же. — С. 134.
178
сти и стремление к ней»1. Однако продолжение речи
Аристофана и далее речь Диотимы показывают, что и целостность,
и стремление к ней Платон понимает не столько как
физическое соитие, сколько как поиск своей половины (это имеет
смысл прежде всего для личности), стремление к
прекрасному, благу, творчеству, совершенствованию, бессмертию.
При этом Платон вводит удивительный образ — людей,
«беременных духовно», разрешающихся духовным бременем в
совершенствовании себя и творчестве.
Не отбрасывает Платон и обычную любовь, которая
совершается, однако, не ради наслаждения, а ради рождения.
И все же духовное зачатие и рождение он ставит неизмеримо
выше обычного, физического. «Те, — говорит Диотима
Сократу, — у кого разрешиться от бремени стремится тело,
обращаются больше к женщинам и служат Эроту именно так,
надеясь деторождением приобрести бессмертие и оставить о
себе память на вечные времена. Беременные же духовно,
ведь есть и такие, беременны тем, что как раз душе и
подобает вынашивать. А что ей подобает вынашивать? Разум и
прочие добродетели... каждый, пожалуй, предпочтет иметь
таких детей, чем обычных»2.
Речь Диотимы показательна во многих отношениях.
Во-первых, оказывается, что Платон ограничивает обычную
любовь между мужчиной и женщиной очень небольшой
территорией — деторождением; кстати, это оказалось весьма
ценным для христианской церкви в следующей культуре —
средневековой. Далее, он утверждает, что объект любви не
тело, а душа; соответственно продукты любви не страсть и
наслаждение, а духовное творчество и забота о себе.
В-третьих, естественный объект любви в этом случае не женщина, а
прекрасный юноша. И понятно почему: юноша легко
поддается воспитанию, склонен к дружбе и усвоению
прекрасного. Наконец, немаловажное обстоятельство, что, с одной
стороны, юноша не женщина, с которой уже связаны обы-
денность, рождение детей, любовь-страсть, а с другой — он
1 Платон. Пир. — С. 120.
2 Там же.-С. 119-120.
12*
179
чем-то похож на женщину (красив, пластичен, не загрубел,
как взрослый мужчина, и т. д.).
Но что это за странный идеал любви, к которому в конце
концов приходит Диотима: «прекрасное само по себе,
вечное, не знающее ни того и ни другого»1? По сути, это идеал
философской жизни, как его понимает Платон:
обнаружение в себе божественного начала (оно вечно и не может
меняться), позволяющего все понять, жить для блага,
предписывать другим. Путь к этому и способ идти — сливающиеся
воедино любовь и духовная работа. Вот какое интересное,
можно сказать, эзотерическое представление о любви создал
Платон. Попробуем теперь осмыслить данный материал.
Поставим вопрос: существовала ли в природе любовь,
заданная концепцией Платона? Что Платон описывает:
существующие в его культуре формы любви и связанные с ними
качества человека или?.. Очевидно, что к моменту создания
«Пира» платоновской любви и соответствующих
психических свойств нового человека еще не было. Но они вскоре
появились, поскольку концепция Платона не только
приглянулась тем философствующим и просто образованным
грекам, которые тянулись к новому, но и стала для них
руководством в практике любви. Иначе говоря, мы можем
предположить, что платоновская любовь как важный аспект
современного платоновскому окружению нового человека
была конституирована усилиями самого Платона и других
участников нового дискурса. Средствами подобного консти-
туирования выступили философские знания и концепции,
диалоги типа «Пир», наконец, практические образцы новой
платонической любви, распространившиеся в греческой
жизни в V—IV вв. до н. э.
Безусловно, в практике военного воспитания и
«эзотерического философствования» существовали предпосылки,
облегчавшие формирование платонической любви, но
не более того. В конце концов, платоническую любовь нуж-
но было именно изобрести, интеллектуально сконструиро-
1 Платон. Пир. — С. 142—143.
180
вать, внедрить в практику жизни. В этом смысле можно
утверждать, что Платон в своем диалоге не описывает некие
психические свойства современного человека, которые
только ему удалось увидеть (хотя он делает вид, что именно
этим занимается), а замышляет, проектирует эти качества.
При этом Платон реализует прежде всего себя, свои
представления о мышлении, о современном человеке, о его
жизненном пути, ведущем, как был убежден великий философ, к
уподоблению человека богам, к бессмертию. Важно и то,
что, как показала дальнейшая история, замысел Платона в
отношении любви (в отличие от платоновского замысла
идеального общества и государства) удалось полностью
реализовать, т. е., действительно, в античной культуре довольно
быстро сложились черты нового человека, столь убедительно
описанные в «Пире». То же самое можно сказать и
по-другому: в «Пире» Платон как личность не только реализует свои
представления о любви, но и создает образ (концепцию)
любви для становящейся античной личности. Поскольку
собственные устремления Платона в данном случае совпали
с «культурным заданием» античности, «Пир» оказался столь
востребованным.
3.8. Особенности античной науки
и теоретическая рефлексия
рассмотренного материала
Но и теории («науки») Аристотеля решали определенные
социальные проблемы. Например, в работе «О душе»
Аристотель создает представления, позволяющие блокировать
мифологическое понимание души (как входящей и
выходящей из тела) и принять аристотелевские правила и
категории. Первое было необходимо сделать потому, что
мифологическое понимание души противоречило идее мышления,
181
второе делалось с целью склонить всех мыслить
непротиворечиво. Вот как Аристотель решает первую задачу. Сначала
он доказывает, что если бы тело двигалось, то «выйдя из тела,
она снова могла бы вернуться», а «живые существа, умерев,
ожить»1. Для Аристотеля это противоречие2. Затем он
показывает, что тело и душа связаны не пространственно, а как
форма и материя. «Таким образом, — пишет Аристотель, —
необходимо душу признать сущностью, своего рода формой
естественного тела, потенциально одаренного жизнью. <...>
Не следует спрашивать, представляет ли собой душа и тело
нечто единое, подобно воску и изображению на нем, ни
вообще относительно любой материи и того, чьей материей
она является»3. Теперь решение второй задачи.
Параллельно с формированием правил, категорий,
понятий и отдельных наук как необходимое их условие
Аристотель намечает подход, который сегодня с ретроспективной
точки зрения можно назвать психологическим. Следование
правилам мышления, обоснование и формулирование начал
доказательства и тому подобные моменты способствовали
образованию целого ряда новых психологических
установок. Прежде всего, формируется установка на выявление за
видимыми явлениями того, что есть на самом деле, в другой
интерпретации — установка на выявление сущего или
созерцание категорий-кирпичиков, из которых состоит
подлинный мир.
«Проницательность, — пишет Аристотель в
"Аналитиках", есть способность быстро найти средний термин.
Например, если кто-либо видит, что против солнца луна всегда
светится, он сразу же понимает, почему это так, именно
вследствие освещения луны солнцем»4. Другая установка
научного мышления — способность удивляться и изумляться
полученному знанию или выясненной причине (началу).
1 Аристотель. О душе. — С. 16.
2 Интересно, что для христианского мироощущения воскрешение из мертвых —
исходный постулат.
3 Аристотель. О душе. — С. 36—37. Кстати, это еще один прекрасный пример
категоризации.
Аристотель. Аналитики. — С. 248.
182
Это удивление и изумление как момент мудрости носило во
многом сакральный характер. Открытие знания или
причины было делом божественного разума и поэтому вызывало
изумление. С этим же тесно связана и способность искать
доказательство и рассуждение, дающие знание или же
позволяющие уяснить причину. Поскольку для построения
доказательства или рассуждения, как правило, необходимо
построить цепочку связанных между собой рассуждений,
формировалась также способность поиска правильного
действия в сфере идеальных объектов и теоретических знаний, без
опоры на эмпирические знания.
Важной способностью и ценностью становится и
желание рассуждать правильно, следовать правилам истинного
мышления, избегать противоречий, а если они возникали —
снять их. На основе перечисленных установок и связанных с
ними переживаний, которые рассматривались как
наслаждение («Если поэтому так хорошо, как нам — иногда, богу —
всегда, то это — изумительно...»1), а также самой
деятельности мышления (получение в рассуждении и доказательстве
новых знаний, уяснение причин, следование правилам
мышления и т. д.) постепенно складывается античная наука.
Ее характер определяется также осознанием научного
мышления (ума, разума, науки) как особого явления среди
других. Один аспект такого осознания — построение
оппозиций: мышление и чувственное восприятие, наука и
искусство («техне»), знание и мнение, софизмы и доказательства
и т. д. Другой — непосредственная рефлексия мышления.
Наиболее обстоятельно о мышлении Аристотель говорит
в книге «О душе». «Что касается мышления, — пишет
Аристотель, — т. к. оно, по-видимому, есть отличное от
чувственных восприятий и кажется, что, с одной стороны, ему
свойственно воображение, с другой — составление
суждений... мышление должно быть непричастно страданию,
воспринимая формы и отождествляясь с ними потенциально,
но не будучи ими, и подобно тому, как чувственная способ-
ность относится к чувственным качествам, так ум относится
1 Аристотель. Метафизика. — С. 215.
183
к предметам мысли. И поскольку ум мыслит обо всем, ему
необходимо быть ни с чем не смешанным. <...> Таким
образом, природа ума заключается не в чем ином, как только в
возможности. <...> Мышление о неделимом относится к той
области, где не может быть лжи. А то, где встречается и ложь,
и истина, представляет собой соединение понятий. <...>
Ошибка заключается именно в сочетании. <...> А соединяет
эти отдельные [представления] в единство ум. <...> Таким
образом, душа представляет собой словно руку. Ведь рука
есть орудие орудий, а ум — форма форм, ощущение же —
форма чувственно воспринимаемых качеств»1.
Что собой представляют эти характеристики мышления?
Конечно, не эмпирически наблюдаемые особенности ума.
Это своеобразное, как бы мы сегодня сказали,
антропологически ориентированное осмысление и обоснование
аристотелевского органона: например, фиксация независимости
правил и категорий от мыслящего и конкретных суждений
(поэтому мышление непричастно страданию) или деятель-
ностной природы мышления (мышление соединяет
представления и может выступать источником ошибок).
Аристотель хочет подключить человека к созданной им
логике, оправдать новый взгляд на вещи и эмпирию как
выраженных с помощью категорий и понятий, объяснить, как
создаются знания, категории и понятия. Восприятие
(ощущение), по Аристотелю, решает задачу связи вещей и
эмпирии с категориями и понятиями, воображение позволяет
понять, как на основе одних знаний и понятий получаются
новые, а мышление трактуется именно как деятельность
человека, пользующегося логикой, категориями и понятиями.
Обсуждая, например, в «Аналитиках» способность к
познанию начал, Аристотель указывает на индукцию, «ибо таким
образом восприятие порождает общее»2. Но сходно Аристо-
тель определяет в работе «О душе» ощущение как способ-
' Аристотель. О душе. - С. 90, 94, 97-98, 102-103.
2 Аристотель. Аналитики. — С. 288. «В самом деле, если что-то из не
отличающихся между собой вещей удерживается в воспоминании, то появляется впервые в
душе общее, ибо воспринимается что-то отдельное, но восприятие есть
восприятие общего, а не отдельного» (Там же).
184
ность: «Ощущение есть то, что способно принимать формы
чувственно воспринимаемых предметов без их материи,
подобно тому, как воск принимает оттиск печати без железа и
без золота»1. Ясно, что восприятию (ощущению) Аристотель
приписывает здесь такие свойства, которые позволяют
понять связь начал с вещами и работой чувств.
Тот же ход он реализует относительно мышления.
«Мышление о неделимом, — по Аристотелю, — относится к той
области, где не может быть лжи. А то, где [встречаются] и ложь, и
истина, представляет собой соединение понятий. <...>
Впрочем, не всегда ум таков, но ум, предмет которого берется в
самой его сути, [всегда усматривает] истинное, а не только
устанавливает связь чего-то с чем-то» . Другими словами,
мышление, по Аристотелю, — это и есть рассуждения по правилам с
использованием категорий. Важно, что именно категории и
понятия задавали в мышлении подлинную реальность,
причем эта реальность оказывалась идеальной и конструктивной.
Впрочем, уже Платон отчасти понимал, что
размышления предполагают перевоссоздание действительности. Я уже
отмечал, что в «Пире» знания о любви Платон собирает и
связывает не так, как они до этого существовали и
объединялись в мифологии и практике. Все знания о любви Платон
относит к идее любви. В данном случае единая идея любви —
это любовь как идеальный объект, любовь, сконструированная
Платоном. Такая любовь позволяет не только рассуждать без
противоречий, но и любить по-новому (в плане реализации
античной личности), позволяет она, уже как эзотерическая
концепция, осуществлять себя в любви и самому Платону.
Хотя Аристотель собирает и связывает знания иначе, чем
Платон, используя для этого правила и категории, в целом
он продолжает намеченную Платоном линию на
перевоссоздание действительности. То, что Аристотель называет
наукой, — это и новый способ получения знаний о
действительности, и задание новой реальности. Например, в работе
«О душе» душа — это идеальный объект, с конструирован-
Аристотель. О душе. — С. 73.
2 Там же. -С. 97,99.
185
ный Аристотелем, он позволяет рассуждать без
противоречий, блокировать мифологическое понимание души,
реализовать новое понимание человека, обосновать при
рассуждении использование правил и категорий.
В «Тимее» Платон утверждает, что существующее
существует в качестве идей именно потому, что его создал
Демиург (Бог). Н. И. Григорьева в весьма интересной и тонкой
работе1 убедительно показывает, что Демиург в платоновском
«Тимее» выступает не только как Творец, но и еще в двух
ипостасях: как некий Жрец, замышляющий и
рассчитывающий вселенную (и затем творящий ее по этим расчетам), и
как Ткач, создающий (ткущий) ту же вселенную. В первой
своей ипостаси Демиург ассоциируется с Зевсом, а во
второй — с Афиной Палладой. Вселенная и природные стихии
(небо, планеты, огонь, вода, земля, воздух и т. д.) не только
созданы Демиургом, который рассчитывает их, но и сами
поэтому пронизаны математическими отношениями («Мы
видим, — пишет П. Гайденко, — что бог поступает как
математик...»2).
Не менее интересно, какими качествами Платон
наделяет человека. Человека боги не только замышляют,
исчисляют и складывают (собирают) по расчетам, но он и сам
обладает способностью замышлять, исчислять, творить. Что же
получилось? Вселенная, по Платону, устроена так, как
Платон понял восточных жрецов, а Демиург подозрительно
напоминает самого Платона (он уясняет, творит мир,
устанавливая порядок, исчисляя, созерцая благо).
«Общеизвестно, — пишет Н. Григорьева, — что жрецы Египта,
обособленно живущие, занимались исследованием природы
макро- и микрокосмов, были математиками, астрономами или
"изучая науки божественные, из них выводили науки
человеческие". Приблизительно то же самое говорит Платон в
разных диалогах и о занятиях философов. В "Тимее" не толь-
ко жрец сближается с философом в области интеллекта, но и
1 Григорьева Н. И. Парадоксы платоновского «Тимея»: диалог и гимн // Поэтика
древнегреческой литературы. — М., 1981.
2 Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. — С. 233.
186
философ сближается со жрецом в сфере сакральной
интуиции. Жрец служит богу как человек, и для человека жрец есть
посредник между ним и богом; философ в понимании
Платона (вспомним "Федра") — это человек, душа которого
более всего видела и запомнила во время небесного
путешествия; она уподобилась богу, созерцая истину вместе с богами,
и поэтому "у него всегда по мере сил память обращалась на
то, чем божественен бог". Таким образом, в мышлении
Платона и тем самым в тексте диалога жрец Афины Нейт в
некотором смысле почти отождествляется с философом.
Философ в свою очередь тоже как бы является жрецом богини
мудрости»1.
А вот относящиеся к сходной теме представления
Аристотеля. Обсуждая в «Метафизике» природу единого, он
пишет: «Так вот, от такого начала зависит мир небес и <вся>
природа. И жизнь <у него> — такая, как наша — самая
лучшая, <которая у нас> на малый срок. <...> При этом разум, в
силу причастности своей к предмету мысли, мыслит самого
себя... и умозрение есть то, что приятнее всего и всего лучше.
Если поэтому так хорошо, как нам, богу — всегда, то это
изумительно: если же — лучше, то еще изумительней»2.
Так или примерно так рассуждал Аристотель. Осознавал
ли он связь своей позиции с представлениями о разуме и
едином или нет (вероятно, не осознавал), но, во всяком
случае, Аристотель построил систему рассуждений,
оправдывающую его позицию и деятельность. При этом Аристотелю
пришлось установить иерархические отношения в самом
мышлении: одни науки и начала являются подчиненными
(фактически нормируемыми), а другие (первая философия,
первые начала) — управляющими. Если «вторые» науки и
1 Григорьева Н. И. Указ. соч. — С. 81.
2 Аристотель. Метафизика. — С. 211.
3 «И наиболее руководящей из всех наук, и в большей мере руководящей, чем
всякая наука служебная, является благо и вообще наилучшее во всей природе. <...>
Есть некоторая наука, которая рассматривает сущее как таковое и то, что ему
присуще само по себе. Эта наука не тождественна ни с одной из частных наук; ни
одна из других наук не исследует общую природу сущего как такового, но все они
выделяют какую-нибудь часть его (сущего) и затем рассматривают относительно
этой части то, что ей кажется присущим; так поступают, например, науки
математические» (Там же. — С. 21, 59).
187
начала («вторая философия») обосновываются в первой
философии, то последняя как бы является самообоснованной,
коль скоро сам философ исходит из блага и божественного.
В конечном счете философ, подобно поэту, который
действовал как бы в исступлении, душой которого овладевали
музы, также действовал не сам, а как божественный разум.
Правильность же его построений гарантировалась, если он
исходил из единого, блага и божественного.
Конечно, одной рефлексии и опрокидывания в
мышление сложившихся отношений нормирования было
недостаточно; в конце концов, каждый крупный философ считал
себя мудрым, т. е. посвященным в божественное. Система
Платона — Аристотеля не имела бы той значимости и силы,
если бы в ней не был предложен весьма эффективный
принцип организации и упорядочения всего мыслительного
материала, всех полученных знаний. Весь мыслительный
материал упорядочивался и организовывался, с одной стороны, в
связи с иерархическим отношением нормирования, с
другой — в связи с требованием доказательства всех положений
(кроме начал); с третьей стороны, в связи с удовлетворением
правил истинного рассуждения (мышления). Сами же эти
правила строились так, чтобы избежать противоречий и
одновременно ассимилировать основную массу эмпирических
знаний, полученных в рамках оперативного мышления.
Действительно, рассмотрим, например, совершенный
силлогизм: «Если А приписывается всем Б, а Б — всем В, то А
необходимо приписывается всем В»1. («Каждое двуногое
существо (Б) есть живое существо (А), каждый человек (В) есть
двуногое существо (Б), следовательно, каждый человек (В)
есть живое существо (А)».) Знания «Существа, имеющие две
ноги, живые» и «Люди имеют две ноги» получены, конечно,
опытным путем. На их основе (при обобщении и выражении
в канонической форме «А есть В») были получены знания
«(Б) есть (А)» и «(В) есть (Б)». Знание же «(В) есть (А)»
усматривается, или, как говорит Аристотель, следует с необходи-
мостью из знаний «(Б) есть (А)» и «(В) есть (Б)». На самом
Аристотель. Аналитики. — С. 15.
188
деле никакой необходимости здесь нет, зато есть
определенная конструкция силлогизма и правило. Но они построены
так, чтобы не возникали противоречия и сохранялись
эмпирические знания «(Б) есть (А)» и «(В) есть (Б)», полученные в
реальном опыте.
Следовательно, и силлогизм, и другие правила
мышления строились так, чтобы сохранить основные практические
и опытные достижения человека и в то же время сделать
возможным рассуждение (усмотрение в выражениях типа «А
есть В» новых знаний). В рассуждении человек оперирует со
знаниями и, если следует правилам мышления, не получает
противоречий. Другими словами, правила,
сформулированные Аристотелем, таким образом связали коммуникативную
и оперативную составляющие выражений «А есть В», что
противоречия и другие затруднения в мышлении
становились невозможными.
Суммируем все сказанное выше. Правила представляли
собой способ, регулирующий деятельностный план (аспект)
поведения мыслящей личности. Они строились так, чтобы
размышляющий (рассуждающий, доказывающий) индивид
не получал противоречий и не сталкивался с другими
затруднениями при построении знаний (движение по кругу,
запутанность, сложность, вариации, удвоения и т. д.). Кроме
того, при построении правил ассимилировался культурный
опыт и знания, полученные в семиотическом производстве.
Например, правила задавали такие преобразования
содержания, которые отвечали связям между числами и
фигурами, установленным еще в вавилонском и древнеегипетском
семиотическом производстве, или же очевидным для
греческого сознания представлениям о том, что боги бессмертны,
а люди смертны.
Объектная действительность («сущее», «суть бытия») —
это второй способ, регулирующий для греческого философа
не только деятельностный, но и смысловой план. На
объекты замыкались действия индивида и его целевые установки.
Объекты задавали и строение действительности. Именно по-
189
этому греческие философы думали, что в правильном
мышлении, т. е. таком, в котором получаются непротиворечивые,
истинные знания, правила соответствуют действительности,
как бы описывают ее. Однако наши исследования
показывают, что, напротив, действительности было приписано такое
строение, что, с одной стороны, она соответствовала
правилам, а с другой — фиксировала основные операции с
объектами, по поводу которых разворачивалась мысль. Например,
в философии Аристотеля строение действительности
задается с помощью категорий («начало», «сущность», «род»,
«вид», «качество», «состояние» и т. д.), из которых как
своеобразного «алфавита действительности» создаются
идеальные объекты; относительно последних по правилам, без
противоречий ведутся размышления (рассуждения,
доказательства).
Наконец, смысловой план замыкался представлениями о
благе и целях мышления (познания, рассуждений).
«Действительно, — пишет Аристотель, — поскольку мудрость — это
безраздельно господствующая и руководящая наука,
которой все другие, как рабыни, не вправе сказать и слова
против, постольку это место принадлежит науке о цели и о благе
(ибо ради этого последнего существует все остальное). А
поскольку мы мудрость определили как науку о первых
причинах и о том, что в наибольшей мере познается, такою наукою
надо признать науку о сущности»1. Фактически
реформаторы греческой культуры, преодолевающие возникший в ней
кризис, ощущали себя миссионерами, проводниками на
земле божественной мудрости. Получение истинных знаний
и познание действительности понималось ими как высшее
благо и открывало личности путь к бессмертию или же
высшему наслаждению.
Важно отметить, что установление правил и построение
объектов являлось компромиссом между устремлениями
отдельных мыслителей, свободно реализующими и выражаю-
щими себя в мышлении, и социальными требованиями по-
1 Аристотель. Метафизика. — С. 45.
190
нимания (коммуникации), без которых были невозможны
общественный порядок античного полиса и согласованные
действия. Недаром Аристотель, обсуждая в «Метафизике»
основание всей действительности (самое первое «начало»
вещей — единое), бросает многозначительную фразу:
«...Мир не хочет, чтобы им управляли плохо. Не хорошо
многовластье: один да будет властитель»1. Те мыслители,
которые принимали единые правила и общую
действительность (ведь помимо аристотелевской версии порядка в
мышлении существовали и другие — например, платоновская
или демокритовская), вынуждены были ограничивать свою
свободу и следовать заданной процедуре мышления.
Тем не менее в рамках заданной правилами и
действительностью процедуры и ролей у мыслителей оставалось еще
достаточно степеней свободы. Так, они могли строить или
выбирать разные начала рассуждений и доказательств,
предпочитать те или иные правила и категории, по-разному
строить сами размышления, рассуждения или доказательства
и т. п. Следовательно, мы приходим к выводу, что греческое
мышление представляет собой полноценный социальный
институт.
Под социальным институтом мы вслед за Б.
Малиновским и В. Марачей понимаем следующее. Социальный
институт разрешает определенное противоречие между
человеком и обществом; в данном случае между стремлением
каждого мыслить свободно, выражая собственное понимание
действительности, и не менее сильным стремлением
общества к порядку и общезначимости. Далее, социальный
институт декларирует институциональную идею, в которой
заявляется общественный смысл данного института. В
анализируемой ситуации в качестве подобной идеи выступали
собственно идеи мышления, познания и науки, которые
Платоном и Аристотелем трактуются как благо. Социальный
институт — это также определенная социальная технология
(процедуры и организация), которая вменяется человеку,
Аристотель. Метафизика. — С. 217..
191
прибегающему к услугам данного института. В античной
философии подобная технология задавалась правилами
мышления, картиной действительности и принципами
организации познания. Наконец, социальный институт предполагает
индивидуальные и социальные «опоры»; для мышления —
это мыслительные способности индивида (их формирование
предполагало особую мыслительную коммуникацию и
обучение) и сама атмосфера античного полиса1.
Построение Аристотелем правил мышления
(«Аналитики», «Топика», «О софистических опровержениях») и
категорий, а также обоснование этих правил и начал
(«Метафизика») имели колоссальные последствия для всего
дальнейшего развития человеческого интеллекта. Человек получил в
свои руки мощное орудие мысли: возможность получать
знания о действительности (т. е. выражения типа«А есть В»), не
обращаясь непосредственно к ней самой. Правила
мышления позволяли включать в рассуждение одни знания (ранее
доказанные, или эмпирические, или же априорно верные —
начала) и получать на их основе другие знания (как уже
известные, так и новые). При этом новые знания не приводили к
противоречиям и их не нужно было оправдывать опытным
путем. Начиная с этого периода формируются и собственно
научное мышление, и отдельные науки. Происходит
распространение новых правил и представлений о мышлении на
полученные ранее опытные (эмпирические) знания
(переосмысленные знания шумеро-вавилонской математики,
геометрические знания ранней античной науки и т. д.).
Подчеркнем еще раз, результатом усилий Платона и
Аристотеля выступает не только формирование античной науки,
которая включала: разрешение противоречий, процедуры
построения идеальных объектов, рассуждения по правилам
логики, сведение новых случаев к идеальным объектам, по-
лучение знаний о всех объектах, входивших в область изучае-
1 См.: Малиновский Б. Научная теория культуры. — М., 1998. — С. 54—57;
Марана В. Г. Исследование мышления в ММК и самоорганизация методолога:
семиотические и институциональные предпосылки // Кентавр. — 1997. — № 18;
Марана В. Г. Правовые институты, сфера права, правовая культура / В. Г. Марача,
А. А. Матюхин // Науч. тр. «Адилет». — Алматы, 1998. — № 1(3).
192
мого предмета (науки), но и новое видение действительности.
Например, Платон считал, что все состоит из идей,
задающих предметы (рода бытия). Утверждая в «Тимее», что эти
предметы рассчитал и создал Демиург, Платон задавал
представление о мире, отвечающее античному становящемуся
мышлению, но также установкам его собственной личности.
Согласно Аристотелю, мир состоит из родов бытия,
заданных началами; последние созерцает и отчасти конституирует
(посредством познания) разум. В данном случае строение
мира отвечает как особенностям античного мышления,
которое задает и описывает Аристотель, так и личности
последнего. Другими словами, я хочу сказать, что античное
представление о мире обусловлено как структурой античного
познания, за которой стоят античные «социальные практики»
(образование, рациональное объяснение, самоуправление и
прочее), так и личностью познающего.
Сравнивая работы Аристотеля с более поздними
исследованиями Архимеда, можно увидеть, что после Стагирита
новые античные науки строились несколько иначе. Как
правило, этап категоризации отсутствовал, поскольку эту работу
проделал Аристотель. Существенно изменилась и процедура
построения идеальных объектов, она стала более
конструктивной, поскольку строилась с оглядкой на созданные
Аристотелем образцы, и одновременно более дискрептивной,
ориентированной на теоретическое описание всех случаев,
зафиксированных в эмпирии. Архимед ориентируется уже
не только на идеал науки, разработанный Платоном и
Аристотелем, но и на различение теоретического и
эмпирического слоя науки. К первому относятся идеальные объекты и
истинные знания, ко второму — реальные объекты (данные в
опыте; это могли быть и специально построенные модели), а
также эмпирические знания. Ряд истинных знаний Архимед
получает не в теоретическом слое, а в эмпирическом,
например взвешивая модели фигур. Но затем он их вводит в
теорию. В предисловии к работе «Квадратура параболы» Архи-
13. Заказ №4180
193
мед пишет, что основную теорему он нашел «при помощи
механики, но затем также доказал и геометрически»1.
В связи с рассматриваемым материалом можно
вспомнить полемику Томаса Куна с Карлом Поппером, имевшую
место более четверти века тому назад2. Кун возражает против
концепции Поппера, утверждавшего, что систематической
проверке подвергаются целые теории, которые
периодически ниспровергаются в ходе научных революций и
заменяются лучшими; такое, думает Кун, происходит крайне
редко. Концепции Поппера Кун противопоставляет идею
разрешения научных головоломок — процесс, весьма
напоминающий то, что делает и о чем пишет Архимед. Кун считает,
что проверкам не подвергается действующая научная
теория, ученый должен предполагать существующую теорию,
задающую правила игры, его задача состоит в том, чтобы
разрешить головоломку, желательно такую, при решении
которой потерпели неудачу другие. И не о том ли самом
пишет в работе «О спиралях» Архимед Досифею. Архимед
говорит, что он долго задерживал публикацию доказательств
нескольких ранее сформулированных и обнародованных
теорем, поскольку хотел сперва сообщить о них людям,
которые хотели бы сами доказать эти теоремы, но что, к
сожалению, никто за это не взялся3. То есть, как бы сказал Томас
Кун, никому эти головоломки разрешить не удалось.
Признается в этом письме Архимед и в том, что одна из ранее
опубликованных им теорем оказалась неверна, но что в
конце концов он заметил это и нашел правильную
формулировку и доказательство4. Однако такое возможно было
именно потому, что, как правильно пишет Кун, геометрическая
теория позволяла не только строить доказательства теорем,
но и находить ошибки в доказательствах, т. е. теория задава-
1 Архимед. Квадратура параболы // Соч. — М., 1962. — С. 78.
2 Философия науки / Под ред. М. А. Розова. — М., 1997. — Вып. 3.
3 Архимед. О спиралях // Соч. — М., 1962. «Мы еще не слышали, — говорит
Архимед, — чтобы кто-нибудь продвинул вперед решение хотя бы одной из
поставленных задач» (Там же. — С. 227).
4 Там же. — С. 228.
194
ла правила игры и на случай решения головоломок, и на
случай анализа их на прочность.
Интересно, наконец, сравнить античные науки с
естественными. Это сопоставление показывает, что первые в
отличие от вторых не нуждались в экспериментальной проверке.
Ведь античный ученый не собирается использовать научные
знания в практических целях для овладения силами
природы, он и не предполагал в природе наличие сил и энергий.
Основная цель античного ученого — непротиворечивое
описание родов бытия, что позволяло, как учил Платон,
«блаженно закончить свою жизнь» или, по Аристотелю,
созерцать бытие наподобие разума-бога. *
Рассмотрим теперь в целом, что собой представляло
становление античной науки и как мы его анализировали.
Сначала укажем основные теоретические средства нашего
анализа. Это представление о культуре, обществе, личности,
ситуациях разрыва или витальных катастрофах, схемах,
знаниях, нормах рассуждения, мышлении. Приведем
характеристики некоторых из этих образований, взятые из работы
«Развитие права в России как условие становления
гражданского общества и эффективной власти».
Культура. Один из основных объектов изучении
культурологии. В разных направлениях и концепциях
культурологии культура трактуется по-разному: как деятельность и
изобретения человека, как традиции, как семиозис, как
социальный организм, как система норм, обеспечивающая
трансляцию и воспроизводство общественной
деятельности, и т. д. В данной книге принимается семиотическая и со-
циально-организмическая трактовки культуры. В
соответствие с последней культура является самостоятельной формой
жизни и организмом (социальным, а не биологическим).
Но одна из важных функций культуры — обеспечение
базисных и производных потребностей людей как биологических
существ. Но только одна, у культуры есть и другие
функции — воспроизводства социального опыта, реализации ба-
13*
195
зисного культурного сценария и других смыслов,
поддержание жизни культуры.
Социум. Предельное представление социальной
действительности, дополнительное к понятию культуры. В
исследовании социум истолковывается как синонимичный
социальной жизни, а отдельные культуры понимаются как
конкретные формы социальной жизни.
Базисный культурный сценарий. Система
мифологических, религиозных или рациональных представлений,
определяющая основной строй культуры, остающаяся
неизменной в течение жизни данной культуры. Состоит из
постоянного ядра и периферийных представлений, которые в
отличие от ядра могут меняться. Базисный культурный сценарий
формируется при разрешении жизненно важных для
общества проблем («витальных катастроф») за счет изобретения
новых семиотических образований (прежде всего, схем),
задающих новые виды деятельности и реальности.
Различаются два типа базисных культурных сценария — «гомогенные»
(единая система представлений) и «распределенные»
(несколько разных, как, например, в античной культуре:
мифология, философия, право).
Социальные институты. Социальная жизнь в культуре
структурируется и самоорганизуется в такие целые
(институты), которые сохраняют основные особенности культуры,
соответствующие базисному культурному сценарию, заданы
им. Социальные институты возникли не ранее культуры
древних царств, где складываются разделение труда и
иерархические системы управления. Социальные институты
характеризуются преемственностью, иерархичностью,
наличием хартии (миссии), правилами и процедурами.
Общество. Общество состоит из сообществ и других
общественных образований (союзов, партий, групп,
популяций, отдельных влиятельных личностей и т. д), которые
обладают способностью вести борьбу, формулировать
самостоятельные цели, реализовать их, осознавать свои действия.
Общество образует целостность, обладает своеобразным со-
196
знанием, создает поле и давление, в рамках которых
действуют сообщества, общественные образования, личности.
Имеет два основных режима — активный и пассивный. В
пассивном «общество спит» в том смысле, что, поскольку социуму
ничего не угрожает, общество бездействует, кажется, что
такой реальности нет вообще. Но в ситуации кризиса социума,
его «заболевания» общество просыпается, становится
активным, начинает определять отношение человека культуры к
различным социальным реалиям и процессам. При этом
люди переходят к общению, т. е. собираются вместе вне
рамок социальных институтов и, главное, пытаются повлиять
на общественное сознание с целью его изменения. Результатом
эффективного общения, как правило, является сдвиг,
трансформация общественного сознания (новое видение и
понимание, другое состояние духа — воодушевление,
уверенность, уныние и т. п.), что в дальнейшем является
необходимым условием перестройки социально значимого
поведения. В рамках общества человек уже не только субстрат
культуры, а потенциальный носитель всей социальности, а также
возможного социального устройства. Такой человек,
«латентная личность», является самостоятельным социальным
организмом, живущим, однако, и это существенно, в лоне
культуры.
Сообщества. С одной стороны, сообщество — это
фрагмент общества, действующий по той же логике, как и
общество. С другой — сообщество может быть организованным и
функционально нагруженным, подобно другим системам
жизнеобеспечения. Так, сообщества предоставляют своим
членам возможность общения, в результате которого могут
произойти сдвиги и трансформация сознания, но
одновременно сообщества — это, как правило, в той или иной
степени организованные и институционализованные формы
социальной жизни. За счет подобного двойного статуса
сообщества в отличие от общества, активного лишь
эпизодически, могут действовать на постоянной основе,
подготавливая условия для будущих социальных изменений. Становле-
197
ние сообществ может происходить путем не только
самоорганизации, но и внешней организации.
Социальный индивид. Человек, принадлежащий
определенной культуре и действующий в соответствии с
основными ее реалиями (в рамках социальных институтов, следуя
базисному культурному сценарию, традициям и обычаям).
В отличие от личности не имеет отличных от принятых в
данной культуре собственных представлений и
самостоятельного поведения.
Личность. Человек, хотя и входящий в культуру, тем
не менее действующий самостоятельно, вырабатывающий
собственные представления о мире и самом себе. Личность
формируется начиная с античной культуры, но только в
культуре Нового времени становится массовым явлением.
В социальном отношении современная личность
поддерживается такими институтами, как право, философия,
наука, искусство, в психологическом — рациональными и
художественными концепциями человека, а также рядом
способностей (самосознания, рефлексии, планирования,
самооценки и др.).
Становление культуры (культурных реалий). В отличие от
развития строится как объяснение появления нового.
Можно говорить о предпосылках становления культуры. К ним
относятся факторы, условия и проблемы (витальные
катастрофы), без которых культура не возникла бы. При
становлении новой культуры происходит ассимиляция материала
структур предшествующей культуры (культур), которые в
рамках новой культуры переосмысляются и ведут себя
по-новому. В данной книге использована следующая схема
объяснения становления культуры. Витальные катастрофы
при наличии других предпосылок разрешаются за счет
изобретения определенных семиотических средств (знаков и
схем), на их основе формируются социальные практики,
базисные культурные сценарии и новые представления о
реальности.
198
\
функционирование и развитие культуры. В отличие от
становления строится как объяснение усложнения и
совершенствования уже сложившихся структур. Предпосылкой и
движущим стимулом развития выступают «ситуации разрыва»,
т. е. проблемы, требующие своего разрешения. Развитие
происходит при разрешении ситуаций разрыва за счет
усложнения деятельности или каких-то других структур
(схем, социальных институтов, общения и пр.), но
принципиально в рамках сложившейся культуры. В результате
разрешения одних ситуаций разрыва возникают другие, и так до
тех пор, пока не удается разрешить серию замкнутых друг на
друга взаимосвязанных проблем. Функционирование
культуры ведет к усложнению практически всех реалий культуры
(базисного культурного сценария, институтов,
деятельности, поведения людей и т. д.).
Кризис и распад культуры. Развитие культуры рано или
поздно приводит к тому, что основные реалии культуры
перестают соответствовать базисному культурному сценарию.
Начинается кризис культуры, как правило, проходящий две
фазы. В первой новые реалии, не соответствующие
действующему базисному сценарию, мимикрируют в форме этого
сценария, т. е. истолковываются как обычные,
традиционные культурные реалии. Во второй фазе создаются
культурные «антисценарии» (противоречащие исходному
базисному сценарию) и на их основе, а также новых культурных идей
формируются «очаги новой культуры»1.
Кроме рассмотренных выше понятий схемы и знания
необходимо ввести еще четыре — «диспозитивная
конструкция», «логическая норма», «онтологическое построение»
(соответствует идеальному объекту) и «методологические дискрип-
ции». Примерами первого понятия являются
аристотелевские категории, второго — правила в «Аналитиках»,
третьего — понятия души, движения и др., четвертого — различные
комментарии Аристотеля по поводу науки в «Метафизике».
Поясню эти понятия.
1 См.: Розин В. М. Развитие права... — С. 331—339.
199
Понятие диспозитива, как известно, задает М. Фуко.
«Что я пытаюсь ухватить под этим именем, — пишет Фуко, —
так это, во-первых, некий ансамбль — радикально
гетерогенный, — включающий в себя дискурсы, институции,
архитектурные планировки, регламентирующие решения,
законы, административные меры, научные высказывания,
философские, но также моральные и филантропические
положения, — стало быть: сказанное точно так же, как и не-ска-
занное, — вот элементы диспозитива. Собственно
диспозитив — это сеть, которая может быть установлена между
этими элементами.
Во-вторых, то, что я хотел бы выделить в понятии
диспозитива, это как раз природа связи между этими
гетерогенными элементами. Так, некий дискурс может представать то в
качестве программы некой институции (т. е. публичного
дискурса. — Î?. Р.), то, напротив, в качестве элемента,
позволяющего оправдать и прикрыть практику, которая сама по себе
остается немой (эта практика реконструируется как
скрытый дискурс. — В. Р.), или же, наконец, он может
функционировать как переосмысление этой практики, давать ей
доступ в новое поле рациональности.
Под диспозитивом, в-третьих, я понимаю некоторого
рода — скажем так — образование, важнейшей функцией
которого в данный исторический момент оказывалось:
ответить на некоторую неотложность. Диспозитив имеет, стало
быть, преимущественно стратегическую функцию»1.
Используя понятия диспозитива, дискурса, властных
отношений и ряд других (одновременно конституируя их),
Фуко предпринимает анализ целого ряда феноменов
(безумия, сексуальности и т. п.), выступающих одновременно как
культурно-исторические и индивидуально-психические
образования. Для наших целей необходимо отметить, что
понятие «диспозитив» связывает предметные образования,
принадлежащие разным научным дисциплинам (истории,
семиотике, герменевтике, теории деятельности и др.). Этот
1 Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. — М.,
1996. - С. 368.
200
момент Фуко артикулирует в представлении об диспозитиве
как «гетерогенном ансамбле». Кроме того, диспозитив
задает связь онтологических и прагматических (деятельностных)
аспектов объясняемого явления. Диспозитив понимается
Фуко и как объект, и как ответ на актуальную
«неотложность».
Но не таковы ли и категории Аристотеля? Например,
начало — это и объект («источник» и «сущее»), и
характеристика познания («предпосылки, лежащие в основе
доказательства», а также «цель»), и ответ на задачу рационального
объяснения (начало как «причина»). «И вообще, говоря о
началах, — пишет Аристотель, — говорится в стольких же
значениях, как о причине: ибо все причины суть начала»1.
Но, конечно, Аристотель, в силу понятных причин, не имел
понятия «диспозитив», поэтому мы будем говорить не о
диспозитиве, а диспозитивной конструкции.
Диапозитивная конструкция — принципиально
гетерогенное объектное образование, создаваемое мыслителем,
связывающее онтологический план с задачами научного объяснения.
Необходимость такой конструкции проистекала из
представлений Аристотеля и задач, которые он должен был
решить. Важно, однако, понять, что диспозитивная
конструкция — это наше понятие, а не Аристотеля. В частности,
онтологический аспект бытия он впервые конституирует,
используя представления о сущности, сути бытия, началах,
причинах, материи, форме. При этом Аристотель не отдает
себе отчета, что он сам конституирует познаваемую
реальность. Кант понимает это уже достаточно хорошо.
«Но свет, — пишет Кант, — открылся тому, кто первый
доказал теорему о равнобедренном треугольнике
(безразлично, был ли это Фалес или кто-то другой); он понял, что
его задача состоит не в исследовании того, что он усматривал
в фигуре или в одном лишь ее понятии, как бы прочитывая в
ней ее свойства, а в том, чтобы создать фигуру посредством
того, что он сам a priori, сообразно понятиям мысленно вло-
Аристотель. Метафизика. — С. 78.
201
жил в нее и показал (путем построения). Он понял, что иметь
о чем-то верное априорное знание он может лишь в том
случае, если приписывает вещи только то, что необходимо
следует из вложенного им самим сообразно его понятию. <...>
Естествоиспытатели поняли, что разум видит то, что сам
создает по собственному плану, что он с принципами своих
суждений должен идти вперед согласно постоянным
законам и заставлять природу отвечать на его вопросы, а не
тащиться у нее словно на поводу, т. к. в противном случае
наблюдения, произведенные случайно, без заранее
составленного плана, не будут связаны необходимым законом, между
тем как разум ищет такой закон и нуждается в нем. <...>
Я полагал бы, что пример математики и естествознания,
которые благодаря быстро совершившейся в них революции
стали тем, что они есть в настоящее время, достаточно
замечателен, чтобы поразмыслить над сущностью той перемены
в способе мышления, которая оказалась для них столь
благоприятной, и чтобы по крайней мере попытаться подражать
им. <...> Не разрешим ли мы задачи метафизики более
успешно, если будем исходить из предположения, что
предметы должны сообразоваться с нашим познанием, а это
лучше согласуется с требованием возможности априорного
знания о них, которое должно установить нечто о предметах
раньше, чем они нам даны. <...> Что же касается предметов,
которые мыслятся только разумом, и притом необходимо, но
которые (по крайней мере так, как их мыслит разум) вовсе не
могут быть даны в опыте, то попытки мыслить их (ведь
должны же они быть мыслимы) дадут нам затем превосходный
критерий того, что мы считаем измененным методом
мышления, а именно что мы a priori познаем о вещах лишь то, что
вложено в них нами самими»1.
Чтобы задать понятие «логическая норма», вспомним
общую линию развития идей от Сократа до Аристотеля (речь,
естественно, идет о нашей реконструкции). Сократ открыл,
что если давать правильные определения предметов (вещей),
1 Кант И. Критика чистого разума. — С. 86—88.
202
I*
I
\ о которых ведется рассуждение, и строго придерживаться
I определений, то рассуждение будет непротиворечивым. Это
I можно понять так, что он предложил заменять эмпириче-
\ ские явления специально созданными конструкциями (у эм-
' лирического явления бесконечное количество свойств, а
определение задает явление в виде ограниченного набора ха-
!' рактеристик, которые к тому же не реагируют на изменение
контекста).
Платон превращает предметы, заданные определениями,
в идеи и требует, чтобы идеи задавали определенный род
бытия (единое есть многое). Правильная мысль, с его точки
зрения, ориентируется на мир идей.
Аристотель, с одной стороны, заменяет идеи
категориями, с другой — создает правила. Категории дополнительны к
правилам, обеспечивая их применение к конкретным
случаям. Поясню последний момент еще раз. Возьмем для
примера «вид» и «род». В «Категориях» Аристотель определяет их
так: «Вид есть подлежащее для рода, ведь роды сказываются
о видах, виды же не сказываются о родах» . Что значит
«сказываются»? Очевидно, Аристотель имеет ввиду
рассуждающего человека, который приписывает предметам
определенные свойства. Человек может рассуждать правильно, а может
и ошибаться. Причина ошибок, пишет Аристотель в
«Метафизике», может быть двояка: «Не в вещах, а в нас самих»2.
Если рассуждающий «сказывает» (переносит, приписывает)
свойства от Сократа к человеку, то он рассуждает
неправильно, если же от человека к Сократу, то правильно (хотя Сократ
мудр, но не все люди мудры; в то же время все люди смертны,
и Сократ тоже).
Другими словами, категории — это латентные правила, и
Аристотель их строит так, чтобы можно было рассуждать
непротиворечиво. Но и сами правила строятся Аристотелем,
так сказать, с оглядкой на категории, ведь последние задают
те свойства предметов, которые нужно контролировать в
рассуждении. Однако, как я показываю выше, проблема
1 Аристотель. Категории // Соч.: В 4 т. — М., 1978. — Т. 2. — С. 57.
Аристотель. Метафизика . — С. 39.
203
была значительно сложнее, чем просто нормирование
рассуждений. Необходимо было построить правила и
категории, обеспечивающие получение знаний, которые
описывали отдельные рода бытия (научные предметы), а также
разрешить проблемы, волновавшие греческую личность и
общество. В результате Аристотель расширяет набор и правил, и
категорий, создавая «Вторую Аналитику»; кроме того, он
создает, как бы мы сегодня сказали, первые образцы античных
наук.
При изложении полученных результатов Стагирит,
вероятно, вынужден был решать довольно сложную задачу: дать
указания для личности, чтобы мыслящий не делал ошибок,
охарактеризовать новое понимание реальности и, наконец,
обосновать все построение, сделав его убедительным для
других. Решение первой задачи выливается в построение
правил, второй — в характеристику новой онтологии
(категорий и науки), третьей — в методологические пояснения и
построения. Теперь можно ввести понятия «логической
нормы», «онтологического построения» и «методологических
представлений».
Логические нормы — это система правил, позволяющих
получать непротиворечивые знания, они относятся к
определенной предметной области и разрешают ряд
индивидуальных и социальных проблем (например, создают
представления о любви для становящейся античной личности;
характеризуют душу таким образом, чтобы можно было
правильно мыслить). Предметная область хотя и имеет коррелят
в эмпирии (платоническая любовь как-то связана с
эмпирическим феноменом любви, движение в «Физике» — с
наблюдаемыми движениями тел), но это прежде всего
конструкция, заданная категориями и методологическими
представлениями.
Онтологические построения создаются с
использованием диспозитивных конструкций (категорий, начал). При
этом ученый приписывает изучаемому явлению такие
свойства, которые позволяют мыслить его непротиворечиво и од-
204
новременно решить интересующие ученого
индивидуальные и социальные проблемы.
Методологические дискрипции, например
характеристика в «Метафизике» и «Аналитиках» того, что такое наука
или почему ошибается некто мыслящий нечто, — это, с
одной стороны, рефлексивные знания, с другой — момент
практики мышления и жизни мыслящей личности. Когда
Аристотель, размышляя о природе мышления, пишет, что
«Мир не хочет, чтобы им управляли плохо. Не хорошо мно-
говластье: один да будет властитель» или «Если поэтому так
хорошо, как нам — иногда, богу — всегда, то это —
изумительно», это и методологические дискрипции, и практика
мысли.
Если судить по работам Аристотеля, складывается
определенный баланс между диспозитивными конструкциями,
логическими нормами и методологическими дискрипция-
ми. Например, недостатки логических норм восполняются
диспозитивными конструкциями и методологическими дис-
крипциями, и наоборот.
Глава 4
Античная математика, физика
и технические науки
4.1. «Начала» Евклида — образец
античной математики
Известно, что «Начала» Евклида представляют собой ряд
«предложений» (теорем) и их доказательств, объединенных в
несколько книг по предметному содержанию. Все
предложения связаны друг с другом благодаря тому, что доказательства
одних предложений опираются на другие, предыдущие.
При этом характер объединения знаний предложений в
систему «Начал» детерминируется строением фигур и
деятельностью с ними (отдельные знания получаются в результате
преобразования фигур и сведения одних фигур к другим).
Рассмотрим один пример — доказательство 20-го предложения
первой книги «Начал» («Во всяком треугольнике две стороны,
взятые вместе при всяком их выборе, больше, чем третья
сторона»1). Перед этим доказательством находятся 5 постулатов,
9 аксиом и 19 доказанных предложений. Ссылки указывают,
что доказательство 20-го предложения опирается на
предложения 19-е и 5-е, а также 8-ю аксиому:
1. «У равнобедренных треугольников углы при основании
равны между собой и по продолжении равных углов под
основанием будут равны между собой» (предложение 5-е).
2. «И целое больше части» (аксиома 8-я).
3. «Во всяком треугольнике больший угол стягивается и
большей стороной» (предложение 19-е).
' Евклид. Начала. - М., 1996. - Кн. I—VI. - С. 32.
206
«Во всяком треугольнике две стороны, взятые вместе при
всяком их выборе, больше оставшейся» (предложение 20-е).
Проведенный нами (В. М. Розин, Л. С. Москаева) анализ
этого доказательства1 позволяет сделать два вывода.
1. Геометрические знания предложений в «Началах»
получаются за счет трех типов действий:
1) преобразования одних фигур в другие и выделения из
одних фигур других;
2) получения одних геометрических знаний из других;
3) получения геометрических знаний из фигур и
отнесения геометрических знаний к фигурам.
2. Несмотря на то что доказательство при исследовании
можно разложить на указанные три движения,
фактически оно идет за счет единого движения, одновременно
включающего в себя три движения. Например,
выделение одних фигур из других может осуществляться только
одновременно с движением в геометрических знаниях.
В чертежах фигур невозможно произвести ни одной
линии, не получая одновременно знания о виде фигур или
их элементов, об отношениях равенства и неравенства
между фигурами и их элементами. В то же время
формальное движение в геометрических знаниях
сопровождается одновременным движением в соответствующих
фигурах.
В отличие от геометрических чертежей, используемых в
земледелии и технике, фигуры в «Началах» представляют
собой идеальные объекты, а геометрические знания типа
«если... то...» («Если треугольник равнобедренный, то углы у
его основания равны») — теоретические знания, отнесенные
к этим объектам. В системе «Начал» просматривается и
онтология: разные виды фигур, их конструктивные элементы,
геометрические отношения — треугольники, прямоугольни-
ки, круги и т. д., точки, стороны, отрезки, плоскости, отно-
1 Розин В. М. К анализу строения знаний типа «Начал» Евклида / В. М. Розин,
А. С. Москаева // Новые исследования в педагогических науках. — 1966. —
Вып. 8; 1967. - Вып. 9.
207
шения равенства, неравенства, подобия, параллельности
и т. д. Как же формировались «Начала» Евклида?
Исходные в генетическом отношении элементы
геометрии (планы полей, алгоритмы вычисления их площадей,
соотношения площадей и элементов) возникли еще в Древнем
Египте и Вавилоне на стыке двух операций —
восстановления границ полей, смываемых разливами рек, и сравнения
полей по величине. Чтобы восстановить конфигурацию
поля (правильное по величине соотношение элементов
поля) и указать положение поля среди других полей (а это
необходимое условие восстановления системы
прилегающих друг к другу полей), вавилонские и египетские
математики использовали планы полей — рисунки полей, на
сторонах которых проставлялись числа, фиксирующие длины
сторон поля1. Таким образом, в целом поля восстанавливались с
помощью знаков двух типов (чисел и рисунков), связанных
между собой.
Если первоначально планы полей использовались только
для восстановления полей, то в дальнейшем, как показывает
генетический анализ, с их помощью стали изображать
различные операции с полями (соединение или разделение
полей, передел полей и т. п.). В связи с этим планы полей
превращаются в знаковые модели (онтологические схемы), с
помощью которых получают одновременно две группы
знаний: знания о величине элементов поля и знания о типе
(форме) поля и его конфигурации.
Числа, представленные на планах полей, использовались
не только для восстановления полей, но и для определения
их величины (площади). В ходе восстановления полей
решались как прямые, так и обратные задачи (прямые — по
элементам найти площадь поля, разделить площадь поля на две,
три и т. д. части; обратные — дана площадь и один из элемен-
тов, найти неизвестные элементы; дана сумма и разность
1 Генезис элементов геометрии в доантичный период в основном рассмотрен в
двух работах: Розин В. М. Логический анализ математических знаний: Автореф.
дис.... канд. филос. наук. — Новосибирск: НГУ, 1968; Он же.
Логико-семиотический анализ знаковых средств геометрии (к построению учебного предмета) //
Педагогика и логика. — М., 1993.
208
двух полей, найти величину каждого поля и т. п.), что
приводило к формированию особых идеализированных объектов.
В отличие от модели (чертежа с числами) идеализированный
объект — это серия прямых и обратных операций практики,
отнесенных уже не к самому объекту практики, а по
материалу—к модели. Позднее на этом этапе практикуется сведение
одних идеализированных объектов к другим
(конструирование из более простых более сложных, разложение сложных
на простые, составление из простых групп операций более
сложных). Таким путем формируются таблицы
пифагорейских троек и решения задач «алгебраического» типа (смотри
приведенную выше реконструкцию).
Необходимым условием решения всех перечисленных
задач было осуществление процедур с планами полей и
числами, сравнение планов или чисел, вычленение в сложном
плане более простых, составление из отдельных планов
нового, сложного, установление отношений между
различными элементами полей или величинами их площадей
(например, деля одно число на другое, определяли, что одно поле в
два раза больше другого).
Выше я отмечал (см. сноску на С. 168—169), что
рассмотренная здесь практика вычисления площадей полей и
расчета их элементов, сложившаяся в древнеегипетском и шуме-
ро-вавилонском хозяйстве, может считаться предпосылкой
становления греческой геометрии. Анализ эмпирического
материала и теоретические соображения позволяют
наметить три возможных пути и способа формирования системы
геометрических знаний:
1) схематизацию и осмысление образцов решения шуме-
ро-вавилонских и египетских задач;
2) измерение и анализ геометрических фигур или
вещественных моделей фигур;
3) анализ затруднений, встречающихся в теории геометрии
при доказательстве теорем или решении проблем.
При этом постоянно действовали факторы, способству-
14. Заказ №4180
209
ющие стихийной систематизации геометрических
знаний.
В качестве первого можно указать
познавательно-коммуникативный фактор — необходимость объяснять, как
получены новые геометрические знания, а также доказательства
их истинности, т. е. отнесенность к началам (идеям,
сущностям).
Познавательно-коммуникативный фактор. Некоторые
данные дают основание для предположения, что
первоначально в греческой математике геометрические положения
не доказывались (в смысле требований геометрии Евклида),
а пояснялись (объяснялись в целях обучения или
профессионального общения). Первые геометры, судя по скудным
историческим данным, для получения геометрического знания
строили чертежи и затем сводили (преобразовывали)
полученную фигуру к фигурам с уже известными отношениями.
При этом демонстрировались как сама фигура (позднее и
способ ее построения), так и способ ее сведения к другой
фигуре. Естественно думать, что если получалось не одно
геометрическое знание, а несколько (двадцать, тридцать и
более), то геометрические знания самой процедурой
получения организовывались в длинные разветвленные цепи,
занимая в такой цепи определенное «место»: геометрическое
знание А получалось на основе знания Б и В, геометрические
знания Б и В — на основе знаний Г, Д, эти знания — на
основе еще одной группы знаний и т. д., до тех пор пока не
оставались самые «первые» знания, которые не получались, а
считались известными, познанными.
В дальнейшем, вероятно, в целях обучения и облегчения
профессионального общения способы получения новых
знаний осознаются и описываются с помощью языка,
включающего геометрические знания, термины геометрических
фигур, описание процедур их построения и преобразования,
описание исходных данных и требований к продукту.
Кроме того, в связи с трудностями понимания длинные
описания и процессы получения и объяснения знаний дол-
210
жны были разбиваться на отдельные части. «Длина» каждой
части, вероятно, бралась такой, чтобы описание было
простым и ясным. В результате описания включали в себя:
части, фиксирующие способ получения и объяснения всех
предыдущих знаний в цепи, и новые части. Чтобы не
повторяться, греческие математики стали в последующих описаниях
опускать все части из предыдущих описаний, отсылая к ним
(так начинает складываться система ссылок одних
предложений на другие).
Все опущенные части геометрических преобразований и
описаний заменяются знаниями, фиксирующими ситуации
(условия) сведения и результаты, полученные в процессе
сведения. Именно таким путем, вероятно, формировались
знания типа «если... то...», которые мы находим в «Началах»
(«Если углы вертикальные, то они равны», «Если у
треугольников равны три соответствующие стороны, то они равны»).
В первой части этих знаний фиксируются ситуации
сведения, а во второй — полученный в ходе сведения результат.
В конце концов, изменяется и сама процедура (способ)
сведения: фигуры, помимо непосредственных преобразований,
начинают сводиться друг к другу с помощью знаний типа
«если... то...», для чего в фигурах выделяются содержания,
фиксируемые в знания этого типа. В свою очередь, для
выделения таких содержаний приходится дополнительно
преобразовывать одни фигуры в другие.
Таким образом, складывается новая процедура (способ)
получения геометрических знаний, опирающаяся на
преобразование фигур и применение знаний типа «если... то...».
При этом преобразования фигур создают условия для
применения определенных знаний типа «если... то...», а
применение таких знаний, в свою очередь, позволяет осуществить
новые преобразования фигур. Параллельно усложняется и
способ демонстрации фигур и их преобразований.
Требование истинности геометрических знаний, которое
постепенно укореняется в сознании геометров, заставляет,
во-первых, обосновывать существование фигур, имеющих опреде-
14*
211
ленные свойства, во-вторых, производить только те
процедуры, которые вели к истине. При этом считалось, что к
истине ведут такие действия, при которых новые фигуры
сводятся к уже познанным, а те — к началам. Так начинают
формироваться «доказательства» геометрических положений и
выделяются исходные, уже познанные каким-нибудь
способом геометрические знания («начала» рассуждений).
Второй фактор, способствующий систематизации
геометрических знаний, — образование не только «прямых»
процедур (доказательства теорем), но и «обратных»
(решения «проблем»; в современной геометрии решению проблем
соответствуют задачи на построение). Этот фактор условно
можно назвать оперативно-познавательным.
Оперативно-познавательный фактор. Если в
доказательстве по заданному объекту (фигуре или элементу фигуры)
необходимо получить определенное знание, выражающее
свойства данного объекта, то при решении «проблемы»,
наоборот, по заданному знанию необходимо построить
определенный объект (фигуру или элемент фигуры с
определенными свойствами). «Проблемы» поставляли для доказательств
исходный материал — фигуры с определенными свойствами,
выраженными геометрическими знаниями, которые и
подлежало доказать. Но в то же время доказательства могли
поставить исходный материал для решения «проблем».
Именно познание приводило к обратным процедурам,
поскольку предполагало объективацию теоретических
знаний. Полагание фигур с определенными свойствами,
приписывание им определенных отношений равенства и
неравенства нередко вело к противоречиям. Чтобы их избежать,
греческие ученые стали проверять, можно ли по заданному
геометрическому знанию построить определенную фигуру и
не ведет ли подобное построение к противоречиям.
Рассмотрим этот тип подробнее.
Выше мы отмечали, что для получения геометрических
знаний в доказательствах строились определенные чертежи
и полученную в чертеже фигуру сводили к фигурам с уже из-
212
вестными, познанными отношениями. В логическом плане
такое сведение можно интерпретировать как отнесение к
построенному чертежу (новому объекту) ранее познанных
геометрических знаний. Новое геометрическое знание, таким
образом, как бы включало в себя старое (познанное ранее)
геометрическое знание, но относилось к новому чертежу.
Представленная в этом чертеже фигура сводилась к
нескольким (реже одной) ранее изученным фигурам. Можно
предположить, что возникли ситуации, когда к новым чертежам
были отнесены геометрические знания, позволившие
получить знания, противоречащие более ранним. Разбор
процедур получения таких знаний мог показать, что ошибка
возникла в связи с тем, что к чертежу были отнесены
«неправильные», по убеждению геометра, знания. Например,
могли предположить, что треугольник можно построить из
любых трех линий, а выяснилось, только из таких трех линий,
две из которых всегда больше третьей линии; что против
большей стороны треугольника может лежать любой угол, а
оказалось — только больший угол.
Отнесение к чертежу «неправильного» знания вполне
объяснимо. На первых этапах развития геометрии чертежи,
судя по всему, строились «на глазок», без специальных
обоснований, причем геометр, очевидно, предполагал, что
данный построенный чертеж как раз такой, из которого можно
получить знание, отнесенное к чертежу. Так, первоначально
геометры, вероятно, не строили линию, точно проходящую
через середину основания (линия проводилась всегда
приблизительно через середину), а просто указывали:
«Проведем линию через середину основания»; никто не строил
равносторонний треугольник со сторонами, точно равными
между собой, а говорили: «Треугольник равносторонний».
Когда к построенному чертежу отнесено «правильное»
знание, то, получая на основе этого чертежа новое знание,
не встречают в системе уже познанных знаний антиномий.
И наоборот, если к построенному чертежу по ошибке
отнесено «неправильное» знание, то, получая на основе его но-
213
вое геометрическое знание, обязательно должны были
прийти к знанию, противоречащему ранее полученным,
поскольку все уже познанные геометрические знания
преобразованиями фигур прямо или опосредованно связаны друг с
другом и в полученные знания входят составляющие тех знаний,
на основе которых данные знания были получены. Когда к
построенному чертежу геометры относили «неправильное»
знание, то тем самым вычленяли в нем такие
чертежи-элементы, к которым в предыдущих процессах сведения были
отнесены правильные знания. В результате к этим чертежам
могли быть отнесены знания, образованные из разных
составляющих: как «правильных», так и «неправильных»
знаний. В то же время относительно тех же чертежей было
получено знание, составленное только из «правильных» знаний.
Учитывая особый характер объектов геометрии — это
идеальные объекты, имеющие ряд конструктивных свойств,
которые задаются априорными знаниями (отношениями
равенства, неравенства, подобия, параллельности и др.), —
можно понять, что собой представляют данные антиномии.
«Получая» относительно одного и того же чертежа два
разных геометрических знания, математики фактически
превращали чертеж в две разные фигуры. Однако, отождествляя
фигуру с чертежом, они должны были считать, что получили
относительно одной фигуры в одной процедуре два разных
знания (например, знания «Углы у треугольника равны двум
прямым» и «Углы у треугольника не равны двум прямым»).
Вероятно, поэтому греческие математики приходят к мысли,
что одно из полученных знаний не может относиться к
данному объекту; это неправильное знание, оно не имеет права
на существование и должно быть исключено из цепи знаний.
Но, спрашивается, какое же знание из двух надо признать
истинным, а какое исключить? Вероятно, то знание
признавалось ложным, которое внесло разлад в уже полученные
знания.
Обнаружив, что не к любому чертежу можно отнести
определенное геометрическое знание, греческие математи-
214
ки, прежде чем оформлять доказательства, вероятно, стали
проверять, можно ли к построенному чертежу отнести
знание, необходимое для получения определенного нового
знания. Например, можно ли для получения некоторого знания
построить на отрезке угол, равный другому углу (т. е. можно
ли к чертежу, на котором начерчены два приблизительно
равных угла, отнести знание «Угол А равен углу В»). Для
этого необходимо обосновать (доказать), что данное знание
можно отнести к чертежу, изображающему отрезок с двумя
углами.
Можно предположить, что подобные затруднения и
требования на определенном этапе развития геометрии были
осознаны и сформулированы в виде «проблем». Как и
всякую обратную задачу (по отношению к доказательству),
«проблему», по всей видимости, удалось решить, когда
заметили, что в процессе доказательства некоторых
геометрических знаний за счет построения и преобразования фигур уже
были получены такие фигуры, к которым отнесено нужное
знание.
Однако не всегда для решения «проблемы» можно найти
нужный образец получения геометрических знаний;
вероятно, в большинстве случаев такого образца не удавалось
найти. Поэтому естественно предположить, что, когда был
осознан сам принцип подбора образца доказательства,
отсутствующий образец стали строить специально. При его
построении подбирали такое знание, в процессе доказательства
которого находили нужный результат. Тем самым решение
«проблем» должно было повлечь за собой получение новых
геометрических знаний в цепях. Именно на данном этапе
складываются так называемые обратные процедуры, точнее,
пара из прямой и обратной процедур; процедуры
доказательства и процедуры решения «проблем». Эта пара действовала
как своеобразный «системный генератор» получения новых
геометрических знаний.
Действительно, решение одних «проблем», очевидно,
повлекло за собой постановку и решение других новых «проб-
215
лем». И вот почему. Для решения «проблем» находятся или
строятся доказательства, в которых получаются нужные для
данной цели геометрические знания. Для построения
доказательств точно так же необходимо построить определенный
чертеж, к которому можно отнести определенное
геометрическое знание. Тогда немедленно возникает вопрос,
породивший постановку и решение предыдущих «проблем»:
можно ли к данному чертежу отнести данное знание и т. д.
Например, чтобы убедиться, что два угла на отрезке могут
быть равны, необходимо доказать, что углы при основании
равнобедренного треугольника равны. Для этого, в свою
очередь, нужно построить равнобедренный треугольник и
провести в нем через середину основания и вершину высоту.
Однако возникают вопросы, аналогичные предыдущему:
можно ли построить равнобедренный треугольник (можно
ли к треугольнику отнести знание «Треугольник
равнобедренный»), можно ли через середину основания провести
высоту?
Таким образом, решение одних «проблем» должно было
порождать постановку и решение новой группы «проблем» и
тем самым приводить к расширению группы знаний,
получаемых в цепях. Решение новой группы «проблем» снова
порождало постановку и решение следующей группы
«проблем» и т. д.
Анализ «проблем» и доказательств в «Началах»
показывает, что все движение заканчивается, когда удается прийти к
постановке «проблемы», решение которой осуществлялось с
помощью инструментов (например, линейки и циркуля).
Так, для построения в «Началах» равностороннего
(равнобедренного) треугольника проводят две окружности с
одинаковыми радиусами и доказывают, что треугольник ABC
равносторонний, т. к. все его стороны — радиусы, а все радиусы
у окружностей равны. При этом кажется, что уже нельзя
задать вопрос: а можно ли провести две окружности с
одинаковым радиусом или можно ли точки А, В, С соединить
отрезками AB, ВС, АС? Греческие математики, вероятно, думали,
216
что так сделать можно: нужно взять циркуль и линейку и
провести соответствующие линии. Однако вопрос не в том,
можно или нельзя провести окружность, а в том, равны ли у
окружности все радиусы, т. е. можно ли к радиусам
окружности отнести знание «Все радиусы окружности равны».
Третий фактор, способствующий систематизации
геометрических знаний, можно назвать интерпретационным.
Интерпретационный фактор. Интерпретация в
геометрическом «языке» доказательств образцов решения шуме-
ро-вавилонских задач по нашей реконструкции позволила
получить ряд новых геометрических знаний и их
доказательств. Вот лишь один пример.
От вавилонской математики был получен, в частности,
образец решения следующей задачи:
«Длина и ширина прямого поля. Длина превышает
ширину на 10. Площадь поля 11. Длина и ширина сколько?
(х — у = 10, х • у = 11, х = ?, у = ?)».
Решение: «Раздели то, на что превышает длина ширину,
пополам — 10 : 2 — получишь 5. Возьми результат пять раз
(т. е. возведи в квадрат. — В. Р.) — получишь 25. Сложи 25 с
величиной площади 11 — получишь 36. Извлеки затем
квадратный корень — получишь 6. Вычти из шести 5 — получишь
1 (ширину поля). Сложи 6 и 5 — получишь 11 (длину поля)»1.
На основе этого образца можно было решить
аналогичные задачи, отличающиеся от данной лишь числовыми
значениями, но нельзя было понять, почему разница между
длиной и шириной должна делиться пополам, а
полученный результат затем возводиться в квадрат, зачем величина
данного квадрата складывалась с величиной площади поля
и из полученного результата извлекался квадрат, почему,
наконец, сумма полученного квадратного корня с
половиной длины и ширины дает длину поля, а разность —
ширину
Ваиман А. А. Указ. соч. — С. 887.
217
Можно предположить, что греческие математики
(очевидно, поздние пифагорейцы) рассмотрели приведенный
образец решения с точки зрения уже известных им чертежей
и геометрических знаний. Естественно, что сначала они
должны были рассмотреть подобным образом условие задачи.
1. «Длина и ширина прямого поля». Вероятно, задан
некоторый прямоугольник АВСД, у которого известна длина
ВС и ширина AB.
2. «Длина превышает ширину на 10». Следовательно,
одна сторона прямоугольника больше другой стороны на
определенную величину.
3. «Площадь поля 11», т. е. задана величина (площадь)
прямоугольника АВСД.
4. «Нужно найти длину и ширину», иначе — определить
стороны AB и ВС.
Требование задачи — определить стороны AB и ВС —
греческие геометры могли осмыслить следующим образом: два
отрезка ВС и BE будут определены, если известны их
разность — отрезок ЕС и произведение — величина
прямоугольника АВСД, построенного на этих отрезках. Тем самым
в геометрии была сформулирована новая теорема
(положение): «Доказать, что два отрезка будут определены, если
определен прямоугольник, построенный на этих отрезках, и
определен отрезок, равный разности исходных отрезков
(предложение 84 (85) "Данных" Евклида)»1.
С помощью той же «техники», очевидно, было
осмыслено и решение данной задачи. Приблизительно так же были
сформулированы условия и решения многих других шуме-
ро-вавилонских и египетских задач (эти формулировки и
решения вошли затем в первые книги «Начал» Евклида).
Нетрудно заметить, что переформулирование на
геометрическом языке образцов решения шумеро-вавилонских
задач предполагало, во-первых, использование
геометрической онтологии (в ее «конструкторе» нужно было предста-
вить условие и шаги решения задач), во-вторых, построение
1 См.: ВарденА. Ван дер. Указ. соч. — С. 165—167.
218
новых фигур и геометрических положений (т. е. идеальных
объектов и теоретических знаний). Другими словами, это
был уже процесс функционирования формирующейся
науки геометрии.
Но был, вероятно, еще один источник получения новых
геометрических положений (знаний). Ван дер Варден
утверждает (и мы разделяем его точку зрения), что первоначально
греческие математики имели готовые тексты шумеро-вави-
лонской и египетской математики, которые они и
описывали с помощью геометрического языка. Однако со временем
должна была сложиться познавательная процедура
построения подобных текстов. Можно предположить, что она
включала операции сопоставления и измерения, применяемые к
реальным или знаковым объектам — вещественным
моделям или чертежам; по отношению к фигурам как идеальным
объектам подобные знаковые модели выступали в качестве
эмпирических объектов. В этом случае фигуры или их
элементы не сводят одни к другим на основе мысленного
наложения, а сопоставляют друг с другом как эмпирические
объекты по величине или конфигурации (так в некоторых
случаях поступал еще Архимед).
Последовательное сопоставление позволяет получить
новые группы геометрических знаний (они, по нашей
классификации, являются эмпирическими). Вот пример одной
из них: «Четырехугольник в два раза больше треугольника»,
«Упрямого (косого) четырехугольника противоположные
стороны не сближаются и не удаляются» (потом стали
говорить «параллельны»), «У прямого четырехугольника две
любые прилежащие стороны наклонены друг к другу под
прямым углом», «Противоположные стороны, которые не
сближаются и не удаляются, одинаково наклонены к линии,
пересекающей одну из этих сторон под прямым углом».
Именно подобные серии эмпирических знаний были в
дальнейшем схематизированы в языке теории геометрии.
В результате в «Началах» Евклида мы находим уже
следующие геометрические знания: «Прямая, падающая на па-
219
раллельные прямые, образует накрест лежащие углы, равные
между собой, и внешний угол, равный внутреннему,
противолежащему с той же стороны, и внутренние односторонние
углы, равные двум прямым» (предложение 29 первой книги),
«В параллелограмме противоположные стороны и углы
равны между собой и диагональ разделяет их пополам»
(предложение 34), «Если параллелограмм имеет с треугольником
одно и то же основание и находится между теми же
параллельными, то параллелограмм будет вдвое больше
треугольника» (предложение 41).
Рассмотренный здесь процесс стихийной
систематизации не был единственным. Параллельно с ним
развертывался и второй — сознательное построение науки геометрии и
попытки обосновать самые первые познанные
геометрические знания и объекты, к которым сводились все остальные.
Действительно, одни и те же цепи геометрического знания
можно было получить по-разному, исходя из разных
познанных ранее знаний (соответственно изменялись и движения в
чертежах). Выбирая в группе уже познанных знаний разные
геометрические знания, можно получить цепи знаний, в
которых одни и те же знания будут в одном варианте
построения этих цепей познанными, в другом варианте —
полученными из познанных знаний. Характерно, что с точки зрения
способа получения геометрических знаний нет никакой
разницы, какие знания считать познанными, а какие получать.
Однако, с точки зрения отдельного геометра, познанные
знания существенно отличались от всех остальных. Каждый
крупный геометр мог, вероятно, считать в качестве уже
познанных, истинных строго определенную группу знаний.
В эту группу знания могли отбираться по самым разным
признакам, например, по «простоте», или «очевидности»,
или «неделимости» ее объекта.
Мы полагаем, что в этот же период были осознаны
следующие простые закономерности:
а) во всех группах описаний некоторые знания не
получаются, а считаются известными, познанными;
220
б) в разных группах описаний известными считаются
разные знания, и количество их также различно;
в) доказательств меньше по числу и они просты и четки в тех
группах описаний, где сначала получаются знания об
элементах фигур (об углах, сторонах), затем знания о
фигурах самой простой формы (о треугольниках и
четырехугольниках) и уже затем знания о более сложных фигурах,
которые раскладываются на простые фигуры (о фигурах,
раскладывающихся на треугольники и прямоугольники).
Одновременно была нащупана и особая форма
построения геометрических знаний — определения, форма, которая
частично должна была снимать сам вопрос о природе уже
познанного исходного знания. Действительно, в определении
знания «равно», «больше», «меньше», «параллельно»
трактовались как свойства, характеристики, задающие объекты —
фигуры. Если раньше говорили: «Радиусы у окружности
равны», то затем стали говорить: «Окружность — это такая
фигура, у которой отрезки, падающие из центра на обод
(окружность), равны». За счет этого оборота речи возникало
впечатление, что знание «Радиусы у окружности равны» уже
не надо было получать.
Однако не все известные знания можно выразить в форме
определений. Например, нельзя считать, что равные
треугольники — это такие фигуры, у которых равны по две
стороны и углу (есть много фигур, которые не равны, хотя у них
равны по две стороны и углу), или что прямые углы — это
такие углы, которые равны (есть много равных углов, не
являющихся прямыми). Вероятно, поэтому подобные знания не
были представлены в форме определений, а выделены в
отдельную группу (аксиомы и постулаты). В эту же группу
попали знания, на основе которых получены решения
геометрических задач на построение (решения «проблем»).
Проблемы осмысления уже познанных знаний и
выделения обоснованных принципов организации геометрических
знаний, с нашей точки зрения, не могли быть решены только
221
в языковом и операциональном планах, для их разрешения
потребовалась философская рефлексия.
П. Гайденко показывает, что фигуры и другие объекты
геометрии Платон помещает между миром идей и
чувственным миром в область геометрического пространства.
Поэтому геометрические объекты подчиняются, во-первых,
«логике» существования идеального (идеям), во-вторых, «логике»
чувственного мира (поэтому фигуры можно чертить,
рассматривать, делить и т. д.), в-третьих, «логике» обеих этих
реальностей (т. е. логике геометрического пространства).
Подобное решение позволило Платону наметить интересную
процедуру обоснования (и фактически систематизации)
геометрических объектов. По реконструкции Гайденко, точка,
линия, треугольник (плоскость), тетраэдр (объем)
уподобляются в мире идеального единице, двойке, тройке и четверке
(т. е. соответствующим идеям), а в мире геометрического
пространства — «движущемуся» (точка — это граница,
потенциальная возможность движения, движущаяся точка есть
линия, движущаяся линия образует пространство,
движущееся пространство порождает объем)1.
Следующий шаг в систематизации научных знаний
делает Аристотель. В «Аналитиках» он формулирует принципы
организации и построения знаний, полученных в
доказательстве. Мы укажем лишь несколько главных принципов,
определивших характер и строение различных вариантов
«Начал».
1. Все знания в науке разбиваются на два класса:
первичные, или «начала» (аксиомы, постулаты, определения), и
«производные», полученные из «начал» в доказательствах
(Аристотель в «Аналитиках» и «Метафизике» подробно
обсуждает как строение и вид «начал», так и строение
доказательств.
2. Логика развертывания знаний в доказательстве и,
следовательно, организация научных знаний в систему опреде-
ляются, с одной стороны, строением изучаемых объектов (их
1 См.: Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. — С. 211—216.
222
составом, отношениями между элементами и частями), а с
другой стороны, правилами истинного рассуждения. В
частности, Аристотель указывает, что объекты изучения
геометрии — фигуры — состоят из элементов трех типов (точек,
линий, плоскостей), связанных между собой различными
отношениями. Правила истинного рассуждения даются
Аристотелем через перечисление верных и ошибочных типов
рассуждений и доказательств1.
3. Все объекты изучения в науках разбиваются на
классы — «рода». Каждый род задает определенные начала и,
следовательно, определенную систему знаний (науку).
Переход к доказательству от одного рода к другому, как
правило, запрещен2.
Одновременно Аристотель фактически сформулировал и
соответствующую «исследовательскую программу»
получения истинных знаний и построения наук. Суть ее сводилась
к тому, чтобы построить и развернуть группы идеальных
объектов, связанных между собой процедурами сведения
(доказательства), причем в основании должны были лежать
начала (характеризующие рода бытия), не требующие
обоснования. Каждая группа идеальных объектов, образующая
«тело» отдельной науки, во-первых, должна была отражать
всю совокупность свойств и характеристик определенной
предметной области — арифметики, геометрии, физики,
астрономии, оптики и др., во-вторых, решать ряд
интересующих ученого проблем (этот момент практически не
осознавался), в-третьих, удовлетворять принципам и началам,
сформулированным в ходе обоснования.
Подобная исследовательская программа фактически
сводила цели античного ученого к нахождению начал
доказательства (определений, постулатов, аксиом), задающих
некоторый род бытия, и описанию его, т. е. к получению в
доказательстве всех знаний, характеризующих
рассматриваемый род. Собственно научными (истинными) считались
лишь те знания об объектах, которые в качестве начал дока-
См.: Аристотель. Аналитики. — М., 1952. — С. 195—288.
Там же. — С. 195.
223
зательства либо заключений были включены в процедуры
доказательства или, что то же самое, фиксировали единицы
родов бытия (вещи, предметы). Поэтому, например, все
знания об объектах, которые как условия мышления
(предпосылки, ориентиры, гипотезы и т. п.) использовались при
построении наук или их фрагментов, но не входили
непосредственно в доказательства, не считались истинными и в науку
не включались.
4.2. Формирование
научного предмета
в «Физике» Аристотеля
В античной культуре различались несколько видов
движения, о которых были получены различные знания, в том
числе и эмпирические. Для получения последних движения
тел замещались и моделировались в числах и отрезках, с
которыми уже как с представителями движений
осуществлялись операции сравнения и преобразования. Например,
чтобы сравнить два движения, сравнивали, во-первых, отрезки
(или числа), фиксирующие пути этих движений, и,
во-вторых, числа, фиксирующие время движений; при одинаковом
времени то движение считалось больше («быстрее»), которое
«прошло» больший путь; при одинаковом пути более
быстрым считалось движение, «затратившее» меньше времени1.
Эмпирические знания о движении, полученные на
числовых и геометрических моделях, в свою очередь,
становились предметом объяснения и осмысления. В результате о
движении были получены знания типа «Движение состоит
из бесконечного количества частей, вложенных одни в
другие»; «Время состоит из моментов "теперь"»; «Для прохож-
дения определенного расстояния необходимо затратить
1 См.: Аристотель. Физика. — С. 79, 105, 132.
224
определенное время». (Можно предположить, что подобные
знания были получены в два этапа: на первом движение и
время замещались в геометрических отрезках, которые
делились на части и суммировались из частей; на втором
описания этих операций осмысливались с помощью различных
понятий, например части и целого, элемента и множества.)
Эти знания, как известно, были использованы Зеноном для
обоснования утверждений Парменида о единстве и
неподвижности бытия. Зенон на основе подобных теоретических
знаний формулирует знаменитые апории о движении,
доказывая, что полагание движения противоречит бытию.
Например, он строит следующее рассуждение: «Предмет,
прежде чем пройти известное расстояние, должен пройти
половину его, а прежде половины — четверть и т. д. до
бесконечности. Поэтому для прохождения любого расстояния
необходимо бесконечное время. Но движение совершается в
конечное время. Следовательно, движение невозможно»1.
Напротив, для Аристотеля движение — это не просто
«название» («Все прочее — только названья: / Смертные их
сочинили, истиной их почитая»), а род бытия. Рассуждения Зе-
нона он считает ошибочными («Зенон же делает неверные
Заключения»2). Поэтому Аристотель прежде всего
обращается к основаниям (началам), на которые должно опираться
рассуждение о движении, чтобы затем на их основе показать
ошибки в рассуждении Зенона и оправдать собственное
рассуждение о движении. Но суммируем сначала, какие типы
(виды и рода) движений различались, а также основные
проблемы, которые Аристотель должен был разрешить.
Судя по «Физике», «О небе» Аристотеля и другим
источникам, различалось равномерное и неравномерное
движение, движение земных тел и небесных (первые, например,
как тяжелые тела, двигались вниз или, подобно огню, вверх,
вторые вращались по кругам), различались собственно дви-
жение и покой, движение тел в разных средах (воздухе, воде,
Аристотель. Физика. — С. 107; Ахманов А. С. Логическое учение Аристотеля. —
С. 20.
Аристотель. Физика. — С. 119.
15. Заказ №4180
225
масле). Движение в пустоте хотя и мыслилось, но
понималось различно: атомисты, как известно, считали пустоту
реальностью, необходимой для объяснения движения, а
Аристотель, рассуждая о покое, решительно отрицал ее
существование. Если бы пустота существовала, считает Аристотель,
то было бы возможно движение с бесконечно большой
скоростью (мгновенное), а также падение всех тел, какой бы вес
и размер они ни имели, с одинаковой скоростью, что, по
убеждению Аристотеля, невозможно1.
Центральной проблемой для Аристотеля было разрешить
противоречия, сформулированные Зеноном, а также объяс- ,
нить ряд уже известных знаний, полученных из наблюдений
за движущимися телами и в рассуждениях. Например,
почему тяжелые тела падают вниз, а легкие устремляются вверх,
почему происходит ускорение свободно падающих тел, как
понять движение тела, брошенного в воздух (рука уже не
соприкасается с телом, а оно продолжает движение), как
объяснить, почему планеты не останавливаются в своем
движении (почему небесное движение не иссякает, хотя на
земле, если перестает действовать сила и двигатель, всякое
движение заканчивается)?
Анализ «Физики» дает возможность предположить, что
движение как род бытия Аристотель конституирует в два
этапа. На первом этапе движение характеризуется с помощью
категорий «сущность», «суть бытия», «вещь», «форма», «ма-
1 «И всегда, чем среда, через которую происходит движение, бестелеснее, меньше
оказывает препятствий и легче разделима, тем скорее перемещение. Для
пустоты же не существует никакого пропорционального отношения, в каком оно
превосходило бы тело, так же как у нуля по отношению к числу. <...> Мы видим, что
тела, имеющие большую силу тяжести или легкости, если в остальном они
имеют одинаковую фигуру, скорее проходят равное пространство. <...> То же,
следовательно, должно быть и в пустоте. Но это невозможно: по какой причине они
стали бы двигаться скорее? В среде наполненной это произойдет в силу
необходимости, т. к. большее скорее будет разделять ее своей силой. Ведь разделение
производится или фигурой, или импульсом, который имеет движущееся или
брошенное тело. Следовательно, в пустоте все будет иметь равную скорость.
Но это невозможно. <...> Итак, из сказанного ясно, что пустоты в отдельности
не существует» (Аристотель. Физика. — С. 71,72,73). Комментаторов
Аристотеля, замечают А. Григорьян и В. Зубов, «мало могла интересовать проблема, как
падали бы тела в пустоте, поскольку с перипатетической точки зрения пустота
была физическим абсурдом» (Григорьян А. Т. Указ. соч. — С. 96).
226
териал », «возможность», «действительность»,
«способность», «качество», «количество», «состояние». Эти понятия
и категории определяются Аристотелем относительно друг
друга и организуются в такую систему, которая, как
показывает анализ, позволяет выразить эмпирические смыслы,
зафиксированные в описаниях различных движений, а также
объяснить затруднения, возникающие в рассуждениях о
движении. В результате Аристотель получает два разных
представления о движении: 1) движение есть переход вещей из
возможного бытия в действительное; 2) движение есть
совокупность множества качеств или состояний. Можно
предположить, что второе представление о движении возникает на
основе первого, когда Аристотель пытается определить, что
представляют собой вещи, переходящие из возможного
бытия в действительное. Именно здесь он фактически
«отрывает» движение от вещей, характеризуя его через качества или
состояния, т. е. особые сущности, способные к изменениям.
Однако, поскольку в системе Аристотеля сущности
неотделимы от вещей, совмещение двух представлений о движении,
очевидно, является для Аристотеля большой проблемой1.
На втором этапе оба категориальных представления о
движении Аристотель конкретизирует и развертывает до
такой степени, что благодаря этому удается нормировать
рассуждения о движении. Сам процесс конкретизации и
развертывания содержит две характерные процедуры:
1) анализ правильных (т. е. не приводящих к
противоречиям) и неправильных употреблений числовых и
геометрических моделей, в которых изображается движение; 2)
характеристику правильных употреблений с помощью
категориальных описаний движения, полученных на первом этапе
(в частности, именно эта процедура выступает для
исследователя как объективация категориальных представлений о
движении).
Например, чтобы разрешить вышеприведенную апорию
Зенона, Аристотель выделяет две основные группы число-
См.: ГригорьянА. Г. Указ. соч. — С. 132—135.
15*
227
вых и геометрических моделей движения, фиксируемых
терминами «расстояние» и «время». Описывая эти
употребления, он сначала выделяет правильные и неправильные
операции деления и суммирования, производимые на этих
моделях, и затем правильные операции характеризует с
помощью категорий и понятий о движении, заданных на первом
этапе1. Так, Аристотель доказывает, что и время, и
пройденное расстояние относятся к роду движения и могут быть,
подобно движению, охарактеризованы с помощью категорий
«изменение», «потенция» (возможность), «энтелехия»
(действительность), «качество и количество». Он утверждает, что
при характеристике времени и расстояния необходимо
употреблять категорию «бесконечность», что позволяет и время,
и пройденное расстояние делить до бесконечности и
складывать из «бесконечно малых» частей, причем
бесконечность времени как бы «покрывает» бесконечность
расстояния2. В результате, утверждает Стагирит, противоречие
снимается.
Аристотель устанавливает не только сходство времени с
пройденным расстоянием, но также их различие: если время
является количеством (мерой, величиной) движения, т. е.
определяет движение как его «механизм», то пройденное
расстояние — это целое, которое делится на бесконечное
количество частей и проходится движением как бесконечное,
т. е. является «продуктом», «результатом» движения. Нако-
нец, Аристотель показывает, что скорость (быстрота, мед-
1 См.: ГригорьянА. Т. Указ. соч. — С. 40—88.
2 Другими словами, чтобы снять апорию, Аристотель предлагает ввести новое
понятие времени, которое бы, подобно пути, изображалось геометрическим
отрезком и делилось до бесконечности; тогда, как он пишет в "Физике",
"бесконечность пути проходится бесконечностью времени". «И вот, бесконечного
в количественном отношении нельзя коснуться в ограниченное время,
бесконечного согласно делению — возможно, т. к. само время в этом смысле
бесконечно. Следовательно, приходится проходить бесконечность в бесконечное, а
не в ограниченное время и касаться бесконечного множества частей
бесконечным, а не ограниченным множеством. Конечно, невозможно ни пройти
бесконечного в конечное время, ни конечного в бесконечное время, но если время
будет бесконечным, то и величина будет бесконечной, если величина, то и
время» (Там же. — С. 107).
228
ленность) — это отношение, связывающее в движении время
и пройденное расстояние.
Обе группы моделей, фиксирующих время и расстояние,
пройденные в движении, Аристотель рассматривает, с одной
стороны, как стороны единого объекта (рода) — движения,
выделенные в знании, и, с другой стороны, как знания об
этих сторонах. Скорость движения, как это видно из текста
«Физики», не является для Аристотеля параметром
движения, поскольку не изображается как целое в моделях. В
античной науке понятие «скорость» относилось к
сопоставлениям движений в числовых и геометрических моделях,
изображающих время движения и пройденные расстояния.
Результаты этих сопоставлений фиксируются в естественном
языке с помощью терминов «быстрое», «медленное»,
«одинаково», которые сами уже не относятся к числам или
геометрическим отрезкам. Именно поэтому Аристотель не мог
выделить «употребление скоростей»; скорость он сводит к
характеристике, присущей в одинаковой мере как роду, так и
видам движения1. Следовательно, в категориальном видении
Аристотеля скорость не могла быть противопоставлена
движению ни как его вид, ни как его сторона (параметр).
Конкретизированные представления о движении
Аристотель исг/ользует не только для нормирования правильных
рассуждений о движении и опровержения апорий Зенона, но
также для/различения и описания разных видов движения.
В частности, он различает равномерное и неравномерное
движение, относя к последнему и свободное падение.
Анализируя способы сравнения разных движений, Аристотель
склоняется к мысли, что именно равномерное движение
преимущественно образует сущность любого движения и,
следовательно, специфицирует движение как род бытия.
Поэтому, определяя неравномерное движение, Аристотель
сопоставляет его с равномерным и приходит к выводу, что
различие между обоими видами движения определяется
либо характером пути, времени, среды, либо характером
См.: ГрцгорьянА. Т. Указ. соч. — С. 97.
229
скорости движения, различающейся большей или меньшей
степенью1.
Объявляя равномерное движение сущностью движения,
Аристотель закреплял и обосновывал сложившиеся в
античной науке способы описания движений разного вида. Так,
чтобы охарактеризовать некоторое движение, античные
исследователи разбивали его на «части» (по времени или пути)
и определяли скорость движения в каждой полученной
«части»; если величины этих скоростей совпадали, то движение
считалось равномерным, если нет — неравномерным.
(Естественно, что при этом каждый раз определялась средняя
скорость на конкретном участке движения. Однако для
античных ученых это просто скорость, понятие «мгновенная
скорость» возникло лишь в XIV в. в работах Уильяма Хейтейсбе-
ри и Николая Орема2.) Поскольку равномерное движение
при таком способе описания задавалось одной величиной,
выражающей скорость этого движения, а неравномерное —
радом величин, выражающих скорость на равных участках
неравномерного движения, но не скорость это^о движения в
целом, в категориальном представлении исследователей
равномерное движение «виделось» как единое \делое, а
неравномерное — как составленное из единых. Именно этот
момент категориального видения Аристотель фиксирует в
«Физике», объявив равномерное движение сущностью.
Помимо рассмотренных двух идеальных объектов, в
своих физических работах Аристотель создает и другиЬ —
представление о естественном и насильственном движении, о
падении тяжелых тел и движении легких, о круговом движении
неба. «Под естественным, — пишет М. Гуковский,]— пони-
мается движение, происходящее без воздействия какой-ли-
1 «Движение одного вида — то, которое, принадлежа одному роду, относится к
неделимому виду. <...> Неравномерное движение таково, что не кажется единым,
таким кажется скорее равномерное, как, например, прямое, ибо неравномерное
движение разделено на неравномерные участки; различие при этом сводится к
большей или меньшей степени. <...> Скорость и медленность не представляют
собой ни видов, ни видовых различий движения, т. к. они сопровождает все
видовые различия» (ГригорьянА. Т. Указ. соч. — С. 95, 97).
2 Там же. - С. 68-69.
230
бо силы; по классической аристотелевской концепции, оно
вызвано врожденным для всего сущего стремлением к
своему месту, той точке, в которой сосредоточена как бы вся
сущность стихии, из которой состоит данное тело.
Движение, вообще говоря, может происходить по всем
направлениям, но движение естественное может происходить только
в одном направлении, определяемом для расположенной в
пространстве телесной точки линией, соединяющей эту
точку с центром мира, или, что то же самое, с центром земли»1.
А. Григорьян и В. Зубов дополнительно разъясняют
аристотелевскую концепцию так.
С точки зрения Аристотеля, «четыре стихии (земля, вода,
воздух, огонь) располагаются во вселенной концентрически,
или, что то же, так расположены их "естественные места".
Если вышележащая стихия насильственно перемещена в
нижележащую, она проявляет стремление вернуться в свое
"естественное место", т. е. приобретает "легкость"; вода,
находясь в земле, устремляется вверх, точно так же как воздух,
перемещенный в землю или воду»2.
Понятно, что идея «стремления тел к своим местам»,
вероятно, как условие обретения ими сущности, — это не
эмпирическое наблюдение, а чистый конструкт, призванный
объяснить разные наблюдаемые явления и согласовать
естественное движение с системой аристотелевских категорий.
Например, на этом представлении основано объяснение,
«почему одни и те же тела опускаются в воздухе и всплывают
вводе, например дерево. Такие тела содержат в своем составе
1 Гуковский М. А. Механика Леонардо да Винчи. — М.; Л., 1947. — С. 19. А вот как
сам Аристотель ставил вопрос: «Но больше всего доставляет затруднений
последний случай только что приведенного разделения, а именно: из предметов,
приводимых в движение другими, одни, как мы установили, движутся против
природы; остается противопоставить им те, которые движутся согласно
природе. Вот они-то и могут представить затруднения в решении вопроса, чем они
приводятся в движение; например если взять тела легкие и тяжелые: ведь в
противоположные места они движутся силой, а в свойственные им — легкое тело
вверх, тяжелое вниз — по своей природе, а чем они приводятся в движение, это
еще не так ясно, как в том случае, когда они движутся против природы»
(Аристотель. Физика. — С. 146).
2 Григорьян А. Т. Указ. соч. — С. 94.
231
то или иное количество воздуха»1. Или другое объяснение,
почему скорость падения прямо пропорциональна весу
падающего тела: «Если тело стремится вниз вследствие
врожденного в самом его веществе стремления соединиться со
свойственным ему местом, то естественно, что чем больше в
нем этого вещества, с тем большей скоростью оно будет к
этому месту стремиться»2.
Другой конструкт Аристотеля — объяснение
насильственного движения. Исходя из убеждения, что «все движущее
необходимо бывает движимо чем-то» (за исключением того,
что имеет начало движения в себе самом, например, человек
или бог), а также что человека с движущим телом связывает
среда (воздух или жидкость), Аристотель утверждает, что
«при бросании тела происходит последовательная передача
движения через промежуточную среду. Бросающий как бы
сообщает способность двигать либо воздуху, либо воде, либо
"чему-нибудь иному подобному, что по природе своей
способно и двигать, и двигаться". Когда движущее перестает
двигать, движимое перестает двигаться, однако оно
сохраняет еще способность двигать нечто другое, а потому
действительно движет соприкасающееся с ним»3.
Гуковский считает, что Аристотель здесь вводит понятие
импульса, «импето». Иначе думают А. Григорьян и В. Зубов.
«Фемистий (IV в. н. э.), — пишут они, — пытался ближе
определить природу той "движущей способности", которую
приобретает воздух. <...> Всего более "движущая
способность" сходна с теплотой, способной передаваться от одного
тела к другому и сохраняться в нем независимо от
последующей судьбы первого тела. Против этой ставшей
традиционной перипатетической теории выступил в VI в. н. э. Иоанн
Филопон (или Иоанн Грамматик). Он положил начало тео-
рии, которая позднее получила название теории impetus. По
1 Григорьян А. Т. Указ. соч. — С. 94. Другое назначение этой концепции —
«объяснение движений не элементарных тел (огня, воздуха, воды и земли), а
"смешанных" тел, т. е. практически материальных тел во всем их разнообразии» (Там
же. — С. 96).
2 Гуковский М. А. Указ. соч. — С. 24.
3 Григорьян А. Т. Указ. соч. — С. 71.
232
филопону, для объяснения движения брошенных тел не
нужно прибегать к представлению о посредствующей роли
среды (воздуха и воды). Некая "движущая сила", или
"энергия", может непосредственно сообщаться брошенному
твердому телу»1.
В целом конструкция насильственного движения
предполагала три основные идеи: посредующей среды
(соответственно запрета пустоты), взаимодействия и уничтожаемо-
сти движения. «Движение приобретаемое как бы
изнашивается под действием сопротивления. Самая причина
движения — сила, вызывающая его, вечная и изначальная в
движении естественном, является преходящей и
непрочной в движении приобретаемом»2. Эта конструкция,
естественно, не лежала в природе; она была изобретена
Аристотелем, с одной стороны, старавшимся преодолеть
платоновскую концепцию «антиперистасиса» (представления о
вихревой передаче в сплошной среде воздействия от одного
тела к другому), с другой — стремившимся объяснить
насильственное движение исходя из идей контакта,
посредника и среды.
Наконец, конструкция движения небесных тел тоже
не могла быть взята из наблюдения. Объясняя, почему
небесные тела движутся не останавливаясь и какая сила их
движет, Аристотель, во-первых, полагает, что есть «перводвига-
тель», во-вторых, что это «живой разум» (божество), мысль
которого и есть причина вечного движения неба.
«Существует что-то, что вечно движется безостановочным движением,
а таково движение круговое; и это ясно — не только как
логический вывод, но и как реальный факт, а потому первое небо
(т. е. замыкающая Вселенную крайняя сфера. — В. Р.)
обладает, можно считать, вечным бытием. Следовательно,
существует и нечто, что его приводит в движение. А так как то, что
движется и вместе движет, занимает промежуточное
положение, поэтому есть нечто, что движет, не находясь в движе-
нии, нечто вечное и являющее собой сущность и реальную
Григорьян А. Т. Указ. соч. — С. 72.
Гуковский М. А. Указ. соч. — С. 26.
233
активность. Но движет так предмет желания и предмет
мысли: они движут, сами не находясь в движении. <...>
При этом разум, в силу причастности своей к предмету
мысли, мыслит самого себя: он становится мыслимым,
соприкасаясь со своим предметом и мысля его, так что одно и
то же есть разум и то, что мыслится им. <...> И жизнь, без
сомнения, присуща ему: ибо деятельность разума есть
жизнь... и деятельность его, как она есть сама по себе, есть
самая лучшая и вечная жизнь»1.
В целом идеальные объекты «Физики» были созданы
Аристотелем примерно также, как идеальные объекты науки
«О душе». При их создании Аристотель учитывал и
наблюдаемые явления, рассматриваемые им как верные знания2, и,
что не менее существенно, различные, как бы мы сегодня
сказали, логические и методологические соображения
(требование представить вещи категориально, снять
противоречия, преодолеть неустраивающие Аристотеля концепции
других мыслителей, согласовать собственные построения,
реализовать свои представления о действительности и пр.).
Значение эти вторых детерминант было более
существенным, чем первых, что видно хотя бы по тому, что при «споре»
видимого и мыслимого приоритет, безусловно, отдавался
второму.
Например, определяя равномерное движение как
движение с одинаковой (равной) скоростью, Аристотель не просто
описывает те или иные наблюдаемые в реальности свойства
движущихся вещей, а задает определенные начала (род
бытия): именно в этом состоит, по Аристотелю, функция
определений. С точки зрения Аристотеля, начала, задающие
определенный род бытия, необходимо строить таким обра-
1 Аристотель. Метафизика. — С. 211.
2 «Обычно, — замечает М. Гуковский, — возмущаются слепотой античной науки,
выставлявшей столь нелепые положения (речь идет о положении Аристотеля,
утверждавшего пропорциональность скорости падения тел их весу. — В. Р.) и
строившей на ней свои важнейшие выводы, разумеется, все ошибочные. Однако
такое возмущение и удивление вряд ли в какой-нибудь мере законны и
обоснованы. Действительно, чисто внешние наблюдения говорят о том, что тяжелые
тела падают много скорее легких, которые, будучи достаточно протяженными,
могут даже совсем не падать, а парить в воздухе, что с полной неоспоримостью
показал Т. Бек» (Гуковский М. А. Указ. соч. — С. 23—24).
234
зом, чтобы, с одной стороны, в них фиксировались
«знания», полученные в чувственном восприятии и индукции, ас
другой стороны, обеспечивалась возможность построения
доказательств. Доказательство же, говорит Аристотель,
исходит из общего.
Таким образом, по мнению Аристотеля, чтобы с помощью
определений задать начала, необходимо от знаний о
единичном и частном перейти к знанию об общем. Именно на основе
таких представлений Аристотель строит определение
равномерного движения. Сравнивая скорости на отдельных
участках пути, проходимого телом, движущимся примерно с одной
и той же скоростью, можно получить знание о равенстве
скоростей, которое относится к единичному движению и верно
лишь приблизительно (на самом деле скорости на отдельных
участках любого реального движения различны). Тем не
менее Аристотель, чтобы задать движение как род бытия, как
общее, утверждает, что существует движение с одинаковой
(равной) скоростью. Соответственно выражаемый этим знанием
объект — равномерное движение — является идеальным
объектом.
В дальнейшем получение теоретических знаний о
равномерном движении определялось использованием понятия
«равномерное движение» в математике. Уже современники
Аристотеля, Архит и Автолик, доказывали ряд
геометрических теорем, используя представление о равномерном
движении (перемещении или вращении) точки или отрезка
прямой. Опираясь на это представление, они определяли
отношения между отрезками (дугами), которые равномерно
движущиеся точки проходят за одинаковое или различное
время. Подобное употребление понятия «равномерное
движение» имело два последствия. Во-первых, пришлось ввести
новое понятие равномерного движения, учитывающее
подведение под это понятие математических объектов. Вот как
Автолик переопределяет равномерное движение: «О точке
говорится, что она равномерно перемещается, если в равные
времена она проходит и одинаковые величины» (слово «оди-
235
наковые» уточняет, что речь идет о величинах одного и того
же вида: двух отрезках прямой, двух дугах ит.д.1.
Во-вторых, при описании и изображении равномерных
движений стали использовать теоретические знания
геометрии, главным образом теоремы теории пропорций, за счет
чего о равномерном движении удалось получить новые
теоретические знания. В плане научного мышления это
означало построение нового идеального объекта, содержащего два
компонента: старый идеальный объект механики —
равномерное движение и идеальный объект теории пропорций —
отрезки, связанные отношениями «больше», «меньше»,
«равно», «кратно» и др. Для античных ученых этот процесс
сводился к соединению и совпадению двух родов бытия:
рода, фиксирующего движение, и рода, определяющего
математические величины. Особенности этих «начал»
специально обсуждал Аристотель. В частности, он показал, что
«начала» физики включают два компонента: «начала»
математики — форму, величину, фигуру и пр. — и «начала»,
специфичные для самой природы, — материю и движение.
«После того как нами определено, —- пишет философ, — в
скольких значениях употребляется слово "природа", следует
рассмотреть, чем отличается математик от физика. Ибо
природные тела имеют и поверхности, объемы, и протяжение в
длину, и точки, изучением которых занимается математик.
<...> Он и производит абстракцию, ибо мысленно фигуры
можно отделить от движения. <...> Сами того не замечая, то
же делают и философы, которые учат об идеях: они
абстрагируют физические свойства, менее отделимые, чем
математические. Именно нечетное и четное, прямая линия, кривая,
далее число, линия и фигура будут существовать и без
движения, а мясо, кость и человек — ни в коем случае. <...> Ибо
геометрия рассматривает физическую линию, но не
поскольку она существует физически, а оптика — математическую
линию, но не как математическую, а как физическую. А так
как природа двояка, она есть форма и материя, то... подоб-
ные предметы нельзя брать ни без материи, ни с одной мате-
1 См.: ГригоръянА. Т. Указ. соч. — С. 59.
236
риальнои стороны... раз существуют две природы, с которой
из двух должен иметь дело физик, или, может быть, с тем, что
составлено из них? Но если искусство подражает природе, то
к одной и той же науке относится и познание формы и
материи в определенных границах. <...> Следовательно, дело
физики — познавать ту и другую природу...»1
Включение в предмет механики оперативной системы
математики, по нашему предположению, стало возможным
по двум причинам. Во-первых, изменяются и усложняются
механизмы развертывания знаний: от процедур
сопоставления реальных объектов на моделях, которые дают
эмпирические знания, переходят к процедурам построения идеальных
объектов и теоретических знаний. При этом развертывание
эмпирических знаний теперь «подчиняется» логике
построения и употребления идеальных объектов и теоретических
знаний. Во-вторых, идеальные объекты и теоретические
знания механики с самого начала строятся с помощью
знаковых и понятийных средств, заимствованных из
оперативной системы математики. Например, определение
равномерного движения включает в себя термины идеальных
объектов математики («точка», «отрезок») и термины
отношений, их связывающих («равно», «больше», «меньше»,
«кратно»).
Таким образом, при конструировании идеальных
объектов античной механики большое значение играли и
математические соображения. В частности, теория пропорций во
многом обусловливала форму представления этих объектов.
В работах Архимеда, как известно, намеченная здесь линия
математизации античной механики находит свое полное
завершение. Одновременно Архимед создает первый образец
эмпирической теории, полностью удовлетворяющий
нормам, которые сформулировали Платон и Аристотель. Но,
прежде чем перейти к анализу одной из его работ «О
плавающих телах», сделаем одно замечание.
Работы Аристотеля и других «античных ученых» способ-
ствовали тому, что земной мир и космос постепенно начина-
Аристотелъ. Физика. — С. 25—26.
237
ют видеться по-новому. Если прежде природные явления
понимались как результат действия богов или отдельные
стихии, то под влиянием античных наук складываются
представления о действительности — о движении, теплоте, свете,
силах, среде и пр., соответствующие идеальным объектам
античной науки. Новое, если так можно выразиться,
научно-рациональное видение действительности — это продукт
новой античной культуры и творческого конституирования
и осмысления ее античными мыслителями.
4.3. Античная «техническая наука»
У Платона есть любопытное рассуждение1. Он говорит,
что существуют три скамьи: идея («прообраз») скамьи,
созданная самим Богом, копия этой идеи (скамья, созданная
ремесленником) и копия копии — скамья, нарисованная
живописцем. Если для нашей культуры основная
реальность — это скамья, созданная ремесленником, то для
Платона — идея скамьи. И для остальных античных философов
реальные вещи выступали не сами по себе, а в виде
воплощений «начал» и «причин». Поэтому ремесленник (художник)
не творил вещи (это была прерогатива Бога), а лишь выявлял
в материале и своем искусстве то, что было заложено в
природе. При этом сама природа понималась иначе, чем в Новое
время.
«Природа, — говорит Аристотель, — есть известное
начало и причина движения и покоя для того, чему она присуща
первично, по себе, а не по совпадению»2. Под природой
понималась реальность, позволяющая объяснить изменения и
движения, происходящие сами собой («естественные»
изменения, как стали говорить потом в Новое время), а не в силу
воздействия человека. Поскольку источником изменений,
1 См.: Платон. Государство//Собр. соч.: В4т. — М., 1994. — Т. 3. — С. 390—391.
2 Аристотель. Физика. — С. 23.
238
происходящих сами собой, в конечном счете мог быть
только Бог, природа мыслилась одновременно и как живое,
органическое и сакральное целое. Как мы помним, небо у
Аристотеля — это и небо, и источник всех изменений и
движений, и перводвигатель как причина этих изменений, а также
божество, созерцающее (мыслящее) само себя.
Итак, природа, по Аристотелю, — это первое начало
движения и божественный разум («предмет желания и предмет
мысли, они движут, (сами) не находясь в движении»).
Именно Бог вложил в природу прообразы (идеи, сущности) всех
вещей и изделий. Если человек, занимаясь наукой, узнавал
«начала» и «причины» вещей, т. е. прообразы их, он мог
затем и создать (выявить в материале) соответствующие вещи.
Но лишь постольку, поскольку они были сотворены Богом и
помещены в природу в виде «начал» и «причин».
С точки зрения Платона, человек создает некоторую
вещь, подражая ее идее, причем идею создал Творец. Но что
значит подражать идее? Это было не очень понятно. По
Платону получалось, что относительно философского познания,
ведущего от вещей к идеям, изготовление вещей, уводящее
от идей к вещам, является обратной операцией, а
следовательно, по сравнению с философским занятием делом,
не стоящим настоящих усилий. Ценным, ведущим к благу,
считал Платон, является только достижение бессмертия, а
это предполагало жизнь философией и наукой. Решение
прямой задачи считалось занятием благородным, поскольку
приближало человека к подлинному бытию, а решение
обратной — занятием низким, т. к. удаляло человека от этого
бытия. В представлениях античных мыслителей можно
отметить известную двойственность, противоречивость. С
одной стороны, они не отрицали значения научных знаний
(особенно арифметики и геометрии) для практики и техники
(искусства).
«При устройстве лагерей, занятии местностей, — пишет
Платон, — стягивании и развертывании войск и различных
других военных построениях как во время сражения, так и в
походах, конечно, скажется разница между знатоком геомет-
239
рии и тем, кто ее не знает». С другой же стороны, это
значение несравнимо с тем, которое имеет научное знание как
чистое созерцание божественного разума или блага.
Продолжая, Платон уточняет: «Но для этого было бы достаточно
какой-то незначительной части геометрии и счета. Надо,
однако, рассмотреть преобладающую ее часть, имеющую более
широкое применение: направлена ли она к нашей цели,
помогает ли она нам созерцать идею блага»1.
А вот как рассуждает Аристотель в «Метафизике»,
сравнивая людей «опытных», однако не знающих науки, с
людьми, и опытными, и знакомыми с наукой. Он пишет
следующее: «В отношении к деятельности опыт, по-видимому,
ничем не отличается от искусства, напротив, мы видим, что
люди, действующие на основе опыта, достигают даже
большего успеха, нежели те, которые владеют общим понятием,
но не имеют опыта. <...> Если кто поэтому владеет общим
понятием, но не имеет опыта... и общее познает, а
заключенного в нем индивидуального не ведает, такой человек часто
ошибается. <...> Но все же знание и понимание мы
приписываем скорее искусству, чем опыту, и ставим людей
искусства (дословно "техников". — Авт.) выше по мудрости, чем
людей опыта, ибо мудрости у каждого имеется больше в
зависимости от знания: дело в том, что одни знают причину, а
другие нет»2. Позиция явно двойственная: с одной стороны,
вроде бы техники, вооруженные наукой (знанием причин),
должны действовать эффективнее людей чистого опыта, с
другой — они ошибаются чаще их.
Здесь есть своя логика. Ведь что такое техническое
действие и технические изделия с точки зрения античных
мыслителей? Это природное явление — изменение, порождающее
вещи. Но и то и другое (и изменение, и вещи) не
принадлежат идеям или сущностям, которые изучает наука. По
Платону, изменение (возникновение), происходящее внутри
технического действия, не бытие («есть бытие, есть про-
странство и есть возникновение»), а вещи не идеи, а всего
1 Платон. Государство. — С. 309—310.
2 Аристотель. Метафизика. — С. 20.
240
лишь копии идей. Для Аристотеля бытие и вещи также
не совпадают, а изменение есть «переход из возможного
бытия в действительное». В последнем случае изменение
получает осмысленную трактовку и, что важно, сближается с
представлением о деятельности.
Аристотель, как известно, отрицавший платоновскую
концепцию идей, старается понять, что такое создание
вещей, исходя из предположения о том, что в этом процессе
важная роль отводится познанию и знаниям. Его
рассуждение таково: если известно, что болезнь представляет собой
то-то (например, неравномерность), а равномерность
предполагает тепло, то, чтобы устранить болезнь, необходимо
нагревание1. Познание и мышление — это, по Аристотелю,
движение в знаниях, а также рассуждение, которое
позволяет найти последнее звено (в данном случае тепло), а
практическое дело, наоборот, — движение от последнего звена,
опирающееся на знания и отношения, полученные в
предшествующем рассуждении. Это и будет, по Аристотелю,
создание вещи2.
Для современного сознания в этом рассуждении нет
ничего особенного, все это достаточно очевидно. Не так
обстояло дело в античные времена. Связь деятельности по
созданию вещей с мышлением и знаниями была не только не
очевидна, но, напротив, противоестественна. Действие — это
одно, а знание — другое. Потребовался гений Аристотеля,
чтобы соединить эти две реальности. Созданная
Аристотелем поистине замечательная конструкция действия,
опирающегося на знание и мышление, основывается на том, что
знания отношений, полученные в таком мышлении, снима-
ют в себе в обратном отношении практические операции.
1 См.: Аристотель. Метафизика. — С. 122.
2 «При этом здоровое тело получается в результате следующего ряда мысли у
врача: т. к. здоровье заключается в том-то, то надо, если тело должно быть здорово,
чтобы было дано то-то, например, равномерность, а если нужно это, тогда
требуется теплота (согревание); и так он размышляет все время, пока не приведет к
последнему звену, к тому, что он сам может сделать. Начинающееся с этого
момента движение, которое направлено на то, чтобы телу быть здоровым,
называется затем уже создаванием. <...> Там, где процесс идет от начала и формы (т. е.
причин. — В. Р.), — это мышление, а там, где он начинается от последнего звена,
к которому приходит мысль, — это создавание» (Там же).
16. Заказ №4180
241
Действительно, если тепло есть равномерность, то
предполагается, что неравномерность устраняется действием
нагревания. Но всегда ли это так? В ряде случаев да. Например,
анализ античной практики, которая стала ориентироваться
на аристотелевское решение и конструкцию практического
действия, показывает, что были по меньшей мере три
области, где знания отношений, полученных в научном
рассуждении, действительно, позволяют найти это последнее звено и
затем выстроить практическое действие, дающее нужный
эффект.
Это были геодезическая практика, изготовление орудий,
основанных на действии рычага, и определение
устойчивости кораблей в кораблестроении. При прокладке
водопровода Эвпалина, который копался с двух сторон горы, греческие
инженеры, как известно, использовали геометрические
соображения (вероятно, подобие двух треугольников,
описанных вокруг горы, и измерили соответствующие углы и
стороны этих треугольников; одни стороны и углы они задавали, а
другие определяли из геометрических отношений)1.
Аналогично Архимед, опираясь на закон рычага (который он сам
вывел), определял при заданной длине плеч и одной силе
другую силу, т. е. вес, который рычаг мог поднять (или при
заданных остальных элементах определял длину плеча).
Сходным образом (т. е. когда при одних заданных величинах
высчитывались другие) Архимед определял центр тяжести и
устойчивость кораблей. Можно заметить, что во всех этих
трех случаях знания отношений моделировали реальные
отношения в изготовляемых вещах.
Но не меньше, а, скорее, больше было других случаев,
когда знания отношений не могли быть рассмотрены как
модель реальных отношений в вещах. Например, Аристотель
утверждал, что тела падают тем быстрее, чем больше весят,
однако сегодня мы знаем, что это не так. Тот же Аристотель
говорил, что нагревание ведет к выздоровлению, но в каких
случаях? Известно, что во многих случаях нагревание усугуб-
' См.: Дильс Г. Античная техника. — М.; Л., 1934. — С. 20.
242
ляет заболевание. Хотя Аристотель и различил естественное
изменение и создание вещей и даже ввел понятие природы,
он не мог понять, что моделесообразность знания
практическому действию как-то связана с понятием природы.
Впрочем, здесь нет ничего удивительного, природа и
естественное понимались в Античности не так, как в культуре
Нового времени. Естественное просто противопоставлялось
искусственному, т. е. сделанному или рождающемуся
самостоятельно. Природа понималась как один из видов бытия
наряду с другими, а именно как такое «начало, изменение
которого лежит в нем самом». Природа не рассматривалась
как источник законов природы, сил и энергий, как
необходимое условие инженерного действия. В иерархии начал
бытия природе отводилась хотя и важная роль (источника
изменений, движения, самодвижения), но не главная.
Устанавливая связь действия и знания, Аристотель апеллировал не к
устройству природы, а к сущности деятельности.
В результате полученные в Античности знания и способы
их использования, по Аристотелю, только в некоторых
случаях давали благоприятный, запланированный эффект.
Вероятно, поэтому гениальное открытие Аристотеля смогли
удачно освоить и использовать (да и то в отдельных областях)
только отдельные, исключительно талантливые
ученые-инженеры, например, Евдокс, Архит, Архимед, Гиппарх.
(К тому же многие из них всегда помнили наставления
Платона, утверждавшего, что занятие техникой вообще уводит
от идей и неба, затрудняя путь к бессмертию.) Подавляющая
же масса античных техников действовали по старинке, т. е.
рецептурно, большинство из них охотнее обращались не к
философии, а к магическим трактатам, в которых они
находили принципы, вдохновляющие их в практической
деятельности. Например, такие: «Одна стихия радуется другой»,
«Одна стихия правит другой», «Одна стихия побеждает
другую», «Как зерно порождает зерно, а человек — человека, так
и золото приносит золото» \
1 Дильс Г. Указ. соч. — С. 116, 117.
16*
243
Однако помимо техников, не отличавшихся от
ремесленников, в античной культуре, как мы уже отмечали,
действовали пусть и редкие фигуры ученых-техников (предтечи
будущих инженеров и ученых-естественников). Евдокс, Архит,
Архимед, Гиппарх, Птолемей, очевидно, не только хорошо
понимали философские размышления о науке и опыте,
мудрости и искусстве (технике), но и, несомненно, применяли
некоторые из философских идей в своем творчестве. Ведь в
той или иной мере и Платон, и Аристотель устанавливали
связь идей (сущностей) и вещей, а следовательно, науки и
опыта. Другое дело, что, как правило, реализация этой связи
в технике не фиксировалась.
Рассмотрим этот процесс несколько подробнее. Г. Дильс
в ставшей уже классической работе «Античная техника»
пишет: «Исходная величина, которую древние инженеры клали
в основу при устройстве метательных машин> — это калибр,
т. е. диаметр канала, в котором двигаются упругие натянутые
жилы, с помощью которых орудие заряжается (натяжение) и
стреляет. <...> Инженеры признавали, по словам Филона,
наилучшей найденную ими формулу для определения
величины калибра К= 1,13 х 100, т. е. в диаметре канала должно
быть столько дактилей, сколько единиц получится, если
извлечь кубический корень из веса каменного ядра (в
аттических минах), помноженного на 100, и еще с добавкой
десятой части всего полученного результата. И эта исходная мера
должна быть пропорционально выдержана во всех частях
метательной машины»1. Перед нами типичный инженерный
расчет, только он опирается не на знания естественных наук,
а на знания, полученные в опыте, и знания математические
(теорию пропорций и арифметику). Подобный расчет мог
бы быть использован также и для изготовления метательных
машин (он выступал бы тогда в роли конструктивной схемы,
где указаны размеры деталей и элементов).
Отличие этого этапа формирования науки от шумеро-ва-
вилонского принципиально: в греческой математической
1 Дильс Г. Указ. соч. — С. 26—27.
244
науке знание отношений, используемых техниками,
заготовлялось, так сказать, впрок (не сознательно для целей
техники, а в силу автономного развития математики). Теория
пропорций предопределяла мышление техника, знакомясь с
математикой, проецируя ее на природу и вещи, он невольно
начинал мыслить элементы конструкции машины как бы
связанными этими математическими отношениями.
Подобные отношения (не только в теории пропорций, но и в
планиметрии, а позднее и в теории конических сечений)
позволяли решать и такие задачи, где нужно было вычислять
элементы, недоступные для непосредственных измерений
(например, уже отмеченный известный случай прокладки
водопровода Эвпалина).
Одно из необходимых условий решения таких задач —
перепредставление в математической онтологии реального
объекта. Если в шумеро-вавилонской математике чертежи
как планы полей воспринимались писцами в виде
уменьшенных реальных объектов, то в античной науке чертеж
мыслится как бытие, существенно отличающееся от бытия
вещей (реальных объектов). Платон, например, помещает
геометрические чертежи между идеями и вещами, в область
«геометрического пространства». Аристотель тоже не
считает геометрические чертежи (и числа) ни сущностями, ни
вещами: он рассматривает их как мысленные конструкции,
некоторые свойства, абстрагируемые от вещей. Этими
свойствами оперируют, как если бы они были самостоятельными
сущностями, и затем смотрят, какие следствия проистекают
из этого.
Можно догадаться, что подобные философские
соображения как раз и обеспечивали возможность
перепредставления реальных объектов как объектов математических (т. е.
возможность описания реальных объектов в
математической онтологии).
«Техническая теория» в рамках античной науки. Переход
от использования в технике отдельных научных знаний к
построению своеобразной античной «технической науки» мы
245
находим в исследованиях Архимеда. Но отдельные
предпосылки этого процесса можно найти и в самой античной
математике. Например, в «Началах» Евклида нетрудно заметить
группировку теорем (положений), которая вполне схожа с
группировкой технических знаний. (В технических теориях,
как мы показали с В. Г. Гороховым, описываются классы
однородных идеальных объектов — колебательные контуры,
кинематические цепи, тепловые и электрические машины
и так далее1.) Евклид объединяет математические знания,
описывающие классы однородных объектов, в отдельные
книги.
Именно в античной математике (в работах до Евклида и в .
«Началах») была впервые применена и отработана сама
процедура сведения и преобразования одних идеальных объектов
(фигур, еще не описанных в теории) к другим идеальным
объектам (фигурам, описанным в теории). В ходе таких
преобразований получались знания отношений («равно», «больше»,
«меньше», «подобно», «параллельно»). В дальнейшем, в
Новое время, как известно, эти знания были использованы в
фундаментальных науках и параметризованы, т. е. отнесены к
связям параметров природных, реальных объектов. Наконец,
именно в античной геометрии были отработаны две основные
процедуры теоретического рассуждения: прямая —
доказательство геометрических положений и обратная — решение
проблем. Эти две процедуры являются историческим
эквивалентом современной теоретической постановки и решения в
технических науках задач «синтеза — анализа»2.
Более явно отдельные элементы технического мышления
могут быть прослежены в античной астрономии. Конечная
прагматическая ориентация теоретической астрономии
не вызывает сомнений (предсказание лунных и солнечных
затмений, восхода и захода планет и Луны, определение
долготы и широты и т. п.). Но совсем не очевидно, что эта ори-
ентация может быть сближена с технической ориентацией,
1 Горохов В. Г. Введение в философию техники / В. Г. Горохов, В. М. Розин. — М.,
1998; Розин В. М. Философия техники. — М., 2001.
2 Там же.
246
ведь человек вроде бы непричастен к ходу небесных явлений.
Тем не менее такое сближение возможно.
В определенном смысле все объекты античной
астрономии могут быть отнесены к однородным объектам. На эту
мысль наводит единообразная форма их моделей —
геометрических изображений небесных сфер и эпициклов.
Идеальные объекты, представленные в этих моделях, формируются
точно так же, как идеальные объекты технических наук, т. е.
складываются в ходе схематизации и онтологизации
процедур сведения одних теоретически представленных небесных
явлений к другим. (Первоначально эти явления
описывались в родственных «фундаментальных теориях» —
арифметике, геометрии, теории пропорций.) Аналогично этому в
античной теоретической астрономии, вероятно, впервые
была отработана процедура получения отношений между
параметрами изучаемого в теории реального объекта.
Первоначально исходные параметры геометрических
моделей теоретической астрономии заимствовались
непосредственно из таблиц, фиксирующих ступенчатые и
зигзагообразные функции. Эти таблицы греческие астрономы
получили от вавилонян1. Позднее греческие астрономы стали
производить собственные измерения, ориентируясь уже на
новые, «тригонометрические» модели, фиксирующие
небесные явления, а также на требования, возникающие в
процессе преобразования этих моделей (в Новое время эта
процедура была перенесена Галилеем в механику и уже в XIX в. — из
естествознания в технические науки).
Если небесные тела и их траектории может создать,
сотворить только Бог (главным же образом они мыслятся как
природные, космические явления), то строительство
кораблей — всецело дело рук человека, искусного техника. С этой
точки зрения крайне интересные случаи использования
научных знаний в технике демонстрирует работа Архимеда
«О плавающих телах». По сути, это вариант «технической
науки до технической техники», однако представленный в
1 Нейгебауер О. Точные науки в древности. — М., 1968.
247
форме античной теории, из которой изгнано всякое
упоминание об объектах техники (кораблях).
Действительно, работа построена по всем канонам
античной науки: формулируется аксиома, на основе которой
доказываются теоремы, при доказательстве последующих
теорем используется знание предыдущих. В тексте работы
не приведены эмпирические знания, описания наблюдений
или опытов; идеальные объекты — идеальная жидкость и
погружение в нее идеальные тела — не противопоставляются
реальным жидкостям и телам. Вообще если термины
«жидкость» и «тело» не относить к реальным объектам, а
связывать только с идеальными объектами и процедурами
развертывания теории, то науку, которую построил Архимед, по
способу описания нельзя отличить от математической
теории «Начал» Евклида. Тем не менее можно показать, что
Архимед при построении своей теории использовал
эмпирические знания о реальных жидкостях и телах и сам его метод
доказательства существенно отличается от математического.
Рассмотрим оба эти момента подробнее.
Анализ формулировок некоторых теорем, содержащихся
в этой работе, например: «...тело, более легкое, чем
жидкость, будучи опущено в эту жидкость, не погружается
целиком, но некоторая часть его остается над поверхностью»1 —
позволяет утверждать, что они получены в ходе измерений,
при сопоставлении реальных объектов с общественно
фиксированными эталонами. Результаты сопоставления
фиксировались затем в знаковых моделях (числах) или чертежах.
В данном случае можно предположить, что осуществлялись
два рода сопоставлений: взвешивание тел и жидкости и
определение положения тел относительно поверхности
жидкости (тело выступает над поверхностью, полностью
погружено в жидкость, опускается «до самого низа» и т. д.).
Отличие доказательства, принятого в этой работе, от
математического можно проследить при анализе ссылок. Пер-
вое положение Архимеда («Если поверхность, рассекаемая
1 Архимед. О плавающих телах // Соч. — М., 1962. — С. 330.
248
любой плоскостью, проходящей через одну точку, всегда
дает в сечении окружность круга с центром в той самой
точке, через которую проводятся секущие плоскости, то эта
поверхность будет шаровой»1) является чисто математическим
и опирается при доказательстве на математическое знание о
равенстве радиусов шара. При доказательстве второго
положения («Поверхность всякой жидкости, установившейся
неподвижно, будет иметь форму шара, центр которого
совпадает с центром Земли») используются не только первое
положение, но также аксиома, не математическая по своей
природе («Предположим, что жидкость имеет такую природу,
что из ее частиц, расположенных на одинаковом уровне и
прилегающих друг к другу, менее сдавленные
выталкиваются более сдавленными, и что каждая из ее частиц
сдавливается жидкостью, находящейся под ней по отвесу, если только
жидкость не заключена в каком-нибудь сосуде и не
сдавливается еще чем-нибудь»2).
Кроме того, в этом доказательстве Архимед, не
оговаривая, использует положение о равенстве давления частиц
жидкости, расположенных на одинаковом расстоянии от
центра Земли. Это положение, физическое по своей сути,
позволяет Архимеду утверждать, что частицы жидкости,
расположенные на одинаковом расстоянии от центра, не придут
в движение (отсюда следует, что частицы покоящейся
жидкости лежат на одинаковом расстоянии от центра Земли и,
следовательно, поверхность такой жидкости имеет форму
шара с центром, совпадающим с центром Земли). Таким
образом, доказательство второго положения (и, как показывает
анализ, всех последующих) включает две группы ссылок: на
математические и физические положения (аксиому или
скрытое или ранее доказанное положение). От физических
положений в этих доказательствах Архимед переходит к
определенным математическим положениям и наоборот.
В результате в каждом доказательстве строится новое физи-
Ческое положение (знание), включающее в себя определен-
Архимед. О плавающих телах. — М., 1962. — С. 228.
Там же.
249
ные математические соотношения, доказанные в
математике.
При доказательстве всех своих положений Архимед
использует сложные чертежи, изображающие жидкость и
погруженные в нее тела. Именно к этим чертежам относятся и
математические, и физические положения (знания). На
чертежах Архимед демонстрирует различные преобразования
идеальных объектов — геометрических фигур и тел, а также
идеальной жидкости, в которую погружены правильные
тела, и переходит от математических идеальных объектов к
физическим. Эти геометрические тела в практике
кораблестроения используются как модели разрезов (сечений)
кораблей. Собственно говоря, вся теория Архимеда в
практическом отношении направлена на выяснение «законов»
устойчивости кораблей (переменным параметром в данном
случае является форма сечения).
Чем же отличается «техническая» наука Архимеда от
современных технических наук классического типа? Казалось
бы, и там и тут — реальное обращение к объектам техники и
теоретическое описание закономерностей их строения и
функционирования. И там и тут налицо применение для
этих целей математического аппарата. И там и тут дело
не ограничивается лишь реальными объектами техники,
изучаются также случаи, мыслимые лишь теоретически, т. е.
те, которые конструируются на уровне идеальных объектов,
но не воплощены еще в техническом устройстве
(опережающая роль науки). Отличие все-таки принципиальное: у
Архимеда нет специального языка технической теории,
специфических для технической науки онтологических схем и
понятий. Сцепление разных языков в его работе достигается за
,£чет онтологической схемы (чертежей), которая еще не
превратилась в специфическое, самостоятельное средство
научно-технического мышления (как, скажем, позднее, в конце
XIX — начале XX вв. это произошло со схемой колебательного
контура, кинематического звена, четырехполюсника и т. п.).
250
Теперь мы можем сказать, в каком смысле в Античности
понималась математика. С одной стороны, уже Аристотель
доказал, что математика используется как средство в науках
Q природе («Следовательно, дело физики познавать ту и дру-
ргю природу»). С другой стороны, и природа, и отношение к
ней математики понимались иначе, чем в Новое время. В
некотором отношении математика и физика в Античности, по
отношению, например, к философии, понимаются как
принадлежащие к одному типу наук: они описывают два рода
бытия, относящихся ко второй философии, просто один род
рходит в другой.
В Новое время математика по отношению к наукам о
природе понимается совершенно иначе: а именно как
подлинное знание о законах природы1.
В Античности математика не выделяется из других наук,
не имеет привилегированного положения. Но точно так же
науки о природе и технике рассматриваются одинаково с
другими науками, это видно хотя бы по тому, что и «Начала»
Евклида, и учение «О плавающих телах» строятся и
обосновываются совершенно одинаково. Но различие в строении и
формировании математических и физических наук,
конечно, есть.
1 Реконструкция происхождения геометрии показывает,
что оперативность математических конструкций связана,
во-первых, с тем, что идеальные объекты математики
строятся так, чтобы снять в своем строении отношения и
характеристики некоторой исходной предметной области
(например, геометрические фигуры снимают в своем строении
отношения, которые были установлены в практике
земледелия — определение площадей полей, раздел и соединение
Полей, определение одних элементов полей, если известны
другие), во-вторых, с тем, что нащупываются (задаются)
самостоятельные операции с идеальными объектами
математики (эти операции, как правило, отличаются от действий,
Направленных на исходные объекты, но могут их имитиро-
См.: Галилей Г. Диалог... — С. 61.
251
вать, например, наложение геометрических фигур друг на
друга имитирует сравнение полей по величине площадей).
Предварительно может быть зафиксирована следующая
закономерность (я вернусь к ее обсуждению дальше).
На первом этапе формирования определенной математики
отношения и характеристики определенной предметной
области переводятся в характеристики и строение
соответствующих математических (идеальных) объектов. На втором
этапе вырабатываются процедуры построения одних
математических объектов на основе других, а также их теоретического
изучения. Такое изучение позволяет получать все новые и
новые характеристики математических объектов, однако,
что принципиально, не выходящие за круг заданных
конструктивных отношений. На третьем этапе построенные и
изученные математические объекты начинают использоваться в
других областях познания, причем идеальным объектам этих
областей приписываются отношения и характеристики,
заимствованные из соответствующих математических языков.
Обновление и развитие характеристик и отношений
исходной области математических объектов, конечно,
периодически происходит, но, как следует из работ И. Лакатоса, здесь
имеют место, но в свернутом виде, сходные закономерности:
эти новые характеристики и отношения в конструктивной
форме снимают отношения определенной предметной
области1.
Завершая этот раздел, вернемся еще раз к полемике с
Е. Мамчур. Кажется, что мнение Архимеда полностью
подтверждает ее убеждение в том, что есть природа, а наука
только отображает ее закономерности (а не создает их, как
утверждает Кант и я вслед за ним; вспомним знаменитое: человек
имеет «возможность как бы a priori предписывать природе
законы и даже делать ее возможной»2). В работе «О шаре и
цилиндре» Архимед пишет следующее: «Конечно, эти
свойства были и раньше по самой природе присущи упомянутым
фигурам, но они все же оставались неизвестными тем, кто до
1 Лакатос И. Доказательства и опровержения. — М., 1967.
2 Кант И. Критика чистого разума. — С. 210.
252
лас занимался геометрией, и никому из них не пришло на
ум, что все эти фигуры являются соизмеримыми друг с
другом»1.
Однако стоит учесть, что Архимед — это завершение
развития греческой геометрии и вообще античной науки, когда
ученые давно привыкли к новой реальности и методам и им
стало казаться, что мир всегда был такой. Совершенно иначе
он воспринимался даже во времена Платона и Аристотеля,
не говоря уже о более ранних временах. Мир Аристотеля —
это сущее, но только-только выходящее на поверхность.
Поэтому мир не только существует, но и конституируется,
мыслится разумом и в этой мысли впервые устанавливается.
Вспомним проведенный нами генезис науки. Сначала
изобретаются рассуждения и обнаруживаются противоречия.
Их разрешение приводит к созданию онтологических дис-
позитивных конструкций (категорий) и логических норм
(правил). Одновременно начинают создаваться науки.
Существующие знания о наблюдаемых явлениях (богах,
движении, душе, музыке и пр.) получаются заново с
использованием методологических дискрипций, логических норм, диспо-
зитивных конструкций. И относят их не просто к
наблюдаемым феноменам, а, с одной стороны, к выстроенным
идеальным объектам (онтологическим построениям), с
другой — к новой реальности (идеям, сущему), которая тоже
сознательно устанавливается. Как следствие, и мир начинает
структурироваться, мыслиться и видеться по-новому.
Например, как состоящий из родов бытия, каждый из которых
описывается в соответствующей науке. Архимеду, однако,
кажется, что так было всегда, и его задача как ученого —
всего лишь выявить свойства, присущие изучаемому явлению
по природе.
Со всей определенностью нужно сказать, что мир,
описываемый в античной философии и науках (а за ними стоят
соответствующие новые социальные практики), создан ан-
тичной культурой и творчеством античных мыслителей, а
Архимед. О шаре и цилиндре // Соч. — С. 95.
253
не существовал всегда. Но точно также мир языческих богов
создан культурой древних царств, мир физических законов
природы — культурой Нового времени. А дальше человека
ожидают все новые и новые миры будущих цивилизаций.
Кстати, в них в силу традиции и действия физических
законов (если, конечно, они будут продолжать действовать),
вероятно, сохранятся и законы первой природы. Но может
оказаться, что и они уйдут в небытие, уступив место другой
реальности.
254
Глава 5
Трансформация представлений
о мышлении и науке
в Средние века
и эпоху Возрождения
5.1. Рациональное познание
и философия в Средние века
Мышление по-прежнему рассматривалось как способ
получения знаний о мире, но задачи его постепенно
кардинально изменялись. Главным теперь становилось не
познание областей бытия и упорядочение рассуждений по их
поводу, а, во-первых, критика на основе христианских
представлений античных способов объяснения и понимания
мира и человека, во-вторых, уяснение и объяснение новой
реальности, проявляющейся, встающей при чтении Слова,
переданного Богом и апостолами в текстах Священного
Писания. Обе эти задачи можно было решить только на основе
мышления и потому, что формирующийся средневековый
человек перенимает от Античности привычку рассуждать и
мыслить, а также потому, что новая реальность хотя и
выглядела привлекательной и желанной, но одновременно была
достаточно непонятна. Что собой представлял Бог, как он
мог из ничего создать мир и человека, почему Он сразу и
Святой Дух, и Отец, и Сын, как Бог воплотился в человека
Христа и что собой Христос являл — Бога, человека или их
симбиоз, как понимать, что Христос воскрес, — эти и многие
другие сходные проблемы требовали своего разрешения в
сфере мысли.
255
В раннем средневековье мышление наряду с речью и
жанрами убеждения (послания, увещевания, назидания,
притчи, проповеди, наставления) и исповеди помогает
осуществить движение, направленное на приведение к
христианской вере колеблющихся, укрепление в вере, уяснение
непонятных положений христианского учения. Вера, как
подчеркивает С. Неретина, «непременно предполагает разум»,
ибо, по мнению безымянного автора «Дидахе» («Учение
двенадцати апостолов»), «вы должны иметь рассудок, чтобы
отличать правое от левого»1. Вера, утверждает Климент
Римский, «не потому называется верой, что в ней нет разума, а
потому, что этот разум обнаружил свою силу в вере»2.
Христианские проповедники и мыслители, с одной
стороны, подвергают критике и переосмыслению основные
нехристианские доктрины (философские и
религиозно-мифологические), с другой — нащупывают рассуждения и
онтологические представления, позволяющие выйти на новое,
соответствующее христианскому мироощущению видение
действительности. И первое и второе было бы невозможным
без создания новых схем (онтологических и направляющих),
рисунок и смыслы которых заимствуются из Библии и
Евангелий3.
Помимо характерного источника новых схем (им
являлась сфера религиозных представлений) их строение, как
показывает С. Неретина, было обусловлено
необходимостью удовлетворить «логике» отношений «сакральное —
мирское». Проявление этого фактора Неретина видит в
этической нагруженности средневекового мышления и в
присущей средневековым понятиям «двуосмысленности».
Средневековые понятия выступают как связующее звено двух
достаточно разных реальностей: обычной и сакральной. Когда,
например, Иустин пишет, что «Бог не есть имя, но мысль,
всаженная в человеческую природу, о чем-то неизъясни-
1 Цит. по: Неретина С. С. Верующий разум. К истории средневековой
философии. — Архангельск, 1995. — С. 26.
2 Там же. — С. 32.
3 См.: Розин В. М. Семиотические исследования. — М., 2001; Он же.
Проникновение в мышление. — М., 2002. — С. 154—166.
256
мом»1, то здесь понятие «мысль» понимается двояко: как
относящееся к Богу и к человеку; в первом своем значении
понятие указывает на трансцендентальную сущность, во
втором — на содержание обычного человеческого мышления.
Неретина, анализируя творчество св. Августина,
отмечает, что его читатель постоянно «сталкивается с двуосмыслен-
ностью каждого привычного — со времен платоников, ари-
стотелеков, стоиков — понятия. Воля? Она направлена на
сакральное и мирское. Любовь? — к Богу и к земной
женщине. Речь? — следует непреложным правилам вечного
спасения и приобретению красноречия, необходимого для обмана
судей. За внешним чувством видится чувство внутреннее, за
человеческим — божественное, за рациональным —
мистическое, за многим — единое, за верой — разум и наоборот»2.
Но мышление предполагает и второй план — осознание
мышления и его обоснование. В раннем средневековье в
связи с этим можно указать четыре основных момента: смену
критериев истинности знания, становление средневековой
философии, обсуждение новых начал, прежде всего
понимание Бога, Слова, субстанции. Начиная с Климента Римского
в качестве новых критериев правильности мысли и
рассуждения выдвигаются: ссылки на Священное Писание
(«Послание Климента пестрит цитатами из Священного
Писания, которое рассматривается как доказательство
правильности (неправильности) принимаемого пути»3), указания на
традицию, свидетельства и видения, апелляция к таким
качествам христианской души, как простота и любовь к Богу.
Известный автор этого периода Флавий Иустин во II в.
не только возвращает мышлению его форму
дисциплинарного осознания, но и одним из первых начинает обсуждение
новых начал философии — идеи Бога и Слова-Логоса, а
также создает первое (этическое) доказательство бытия Бога.
При этом анализ показывает, что Богу Иустин приписывает
такие качества: единство, нерожденность, трансцендент-
Цит. по: Неретина С. С. Верующий разум... — С. 56.
Там же. — С. 151.
Там же. — С. 34.
17. Заказ №4180
257
ность, безначальность, безымянность, благость, — которые,
с одной стороны, позволяют обосновать Священное
Писание, а с другой — оправдать и подкрепить опыт
христианской жизни (в частности, тот факт, что первые христиане
шли на смерть за свои убеждения), с третьей — реализовать
личное понимание Священного Писания, с четвертой —
позволяли избежать противоречий при принятии
противоположных утверждений. Например, если считать, что Бог
кем-то рожден, получил имя, нетрансцендентален, не благ,
то приходится признать: есть кто-то старше Его, что
противоречит Писанию и христианской интуиции. Поэтому,
говорит Иустин, подобные утверждения неправильны1. Этот
прием, заимствованный из античной философии и науки,
становится одним из главных при уяснении, а фактически
конституировании начал средневековой философии. Но по
содержанию основным все же было создание таких схем и
онтологических представлений (о Боге, Слове и т. д.),
которые позволяли осмыслить Священное Писание и обосновать
опыт христианской жизни.
Начав обсуждение первых начал бытия, средневековые
мыслители вынуждены были обратиться и к античным
категориям (сущности, начала, формы, причины и др.), которые
они решительно переосмысляют и перестраивают.
Во-первых, эти категории сакрализируются (двуосмысливаются),
во-вторых, достраиваются новыми, например, категориями
«ничто», «субстанция», «индивидуальность», «личность».
Категорию «ничто» пришлось ввести, чтобы объяснить
творение мира соответственно из ничего. «В апологии плоти
Тертуллиан исходит из идеи творения мира. Бог, говорит он,
допустил бытие мира. Произнося слова "бытие мира",
старый, античный, разум невольно замещает слово "мир"
словом "универсум", т. е. "все". И действительно, словно бы
соглашается Тертуллиан, "все создано" Словом Бога и без
Него "ничего не создано". Так, впервые вводится
противопоставление^ или "бытие мира" (обратим
См.: Неретина С. С. Верующий разум... — С. 55—56.
258
внимание на эту двоицу: "бытие мира", а не просто "бытие")
и "ничто". Но хотя допущено бытие мира, все же
предполагается, что "образ мира сего проходит"»1.
Субстанция у Тертуллиана противопоставлена природе.
«Субстанция есть принадлежность каждой вещи, тогда как
сущность одинакова у вида или рода, к которым
принадлежит вещь. Камень и железо — субстанции, но их
"материальность" относится к их сущности, их объединяющей, в то
время как субстанция каждой из них в отдельности их
разделяет»2. Расхождение сущности и субстанции было обусловлено
необходимостью осмыслить факт творения вещей Богом.
Будучи сотворенной — субстанцией, каждая вещь
понималась как уникальная, как активный «субъект» или «персона».
В Средние века, пишет Неретина, «огромное значение имеет
всеобщая субстанция связей, происходящая из мыслей-слов
божественного субъекта. Сказание вело к существованию,
но существо при этом не могло быть пассивным, вещь
начинала вещать о себе, иной вещи средневековье не знало.
Любая вещь в силу акта творения была субъектной. На субъект-
ность вещи и соответственно на понятие "субъект", а по
связи с ним и на понятие "личность" я хотела бы обратить
особое внимание... это понятие одно из существенных... для
всего, начиная с раннего, средневековья»3.
Стоит обратить внимание, что в конкуренции за
описание реальности категория субстанции, естественно,
ставится на первое место. В результате остальные, античные
категории начинают рассматриваться уже не как полноценные
категории, а как способы описания или модусы субстанции.
«В Средние века, — пишет Неретина, — произошла смена
угла зрения на само бытие: появился его абсолютный
носитель, Бог, который есть единственно Сущий и единственный
Субъект (подлежащее) тварного мира. Бог и стал
единственно достойным предметом логики. <...> Но меняется смысл
этих занятий: все они предназначены понять, что такое
1 Неретина С. С. Верующий разум... — С. 87—88.
2 Там же. - С. 89-90.
3 Там же. — С. 11—12.
именно и только субстанция. Не случайно, делая перечень
категорий, девять из них, исключая первую, Аристотелеву
категорию сущности, Северин Боэций называет
акциденциями (т. е. случайными, превходящими признаками. — В. Р.),
что невозможно для Аристотеля. <...> ("Кто усомнится в
том, что из десяти категорий девять имеют природу
акциденций?")»1. Для этих вторичных категорий Боэций находит
другую сущностную трактовку. Он говорит, что они
представляют собой скорее «описание» вещей, чем их
определение. Это есть «своего рода наглядность (informatio) вещи,
которую можно сравнить с изображением красками на
картине»2. С помощью античных категорий вещь как бы
информирует о себе.
С одной стороны, только Бог мог выступать основанием
бытия, т. е. онтология должна была определяться категорией
субстанции, с другой — если становиться на точку зрения
философии, в которой Бог становился объектом изучения,
то в этом случае и Бог нуждался в категориальном
осмыслении. Недаром практически все средневековые мыслители
пытались обсуждать природу Бога и истолковывать его
категориально; при этом они, как правило, приходили к
парадоксам. Например, Иоанн Скот Эриугена, живший в IX в.,
фиксируя одно из таких противоречий, пишет: «Неужели
высшая, простая и Божественная природа принимает
какие-либо акциденции? — Прочь такую мысль! — Неужели
она не сообщает какому-либо предмету акциденции: — ...И
это аксиома. — Стало быть, высшая причина и высшее
начало всех вещей, которое есть Бог, не может ни действовать, ни
испытывать действие. — Это умозаключение загнало меня в
тупик. Если я объявлю его ложным, то сам разум, пожалуй,
осмеет меня. <...> Если же я признаю его верным, сколь
острым стрелам Священного Писания я себя подставляю?»3
Здесь, как видим, не только антиномии, но и прямое столк-
1 Неретина С. С. Верующий разум... — С. 183, 184.
2 Там же.-С. 188.
3 Там же. — С. 235.
260
I
новение двух типов умозрения — античного и
христианского.
Еще один ход Боэция был направлен на разрешение
противоречия между константной античной трактовкой
категорий и объектов (вещей) и средневековой, многозначной,
определяемой интенцией личности и языковыми
интерпретациями. Апеллируя к значению слова и способности
умопостижения, Боэций утверждает, что при одном понимании
универсалий (совпадающем с античным употреблением)
они однозначны, а при другом (учитывающем разные
значения слов и интенции рассуждающего) — многозначны.
Именно второй случай — зона действия категории
отношения.
Новое понимание категорий и основанной на них логики
Боэций пытается обосновать в плане устройства
человеческих действий (способностей). Так, он широко употребляет
представление о «схватывании», которое рассматривается
Боэцием как способность выделения общего, зависящая от
речевой и личностной интенции. «Предметом так понятой
логики, — пишет Неретина, — является анализ возможности
"схватывания" множества единичных вещей. Предметом
такого "схватывания" является понятие общего и
возможности его сказывания о себе. <...> Боэций, постоянно
употребляя глаголы, связанные со "схватыванием", всюду
сопровождает их терминами, связанными с высказыванием, с
речью, с душой читателя, для него это "схватывание"
осуществляется как "сказуемое", которое (это он постоянно
подчеркивает) есть не определение (его тесная связь определения с
понятием несомненна), а описание, рисунок, сообщае-
мость, что присуще речи»1. Неретина считает, что, вводя
представление о «схватывании», Боэций закладывает
основание для «концептуализма», идеи которого плодотворно
развивает философ, теолог и поэт Петр Абеляр, его творчест-
во относится к первой половине XII в.
Неретина С. С. Верующий разум... — С. 191.
261
В позднем средневековье мы застаем уже совершенно
другую картину: единое христианское мироощущение
постепенно начинает расщепляться на два плана — светское
видение, манифестирование которого все больше берет на
себя философия и нарождающееся естествознание, и
собственно религиозное. Выделение светского мышления (в лице
философии и наук о природе) было обусловлено, конечно,
многими обстоятельствами, из которых я укажу на два
главных. Первое относится к общему изменению культурной
действительности. Под влиянием христианского учения и
неустанной работы церкви средневековый человек в целом
действительно стал христианином, а следовательно, задача
переделки ветхого человека в нового, по сути, была снята с
повестки дня. Одним из свидетельств этого было изменение
трактовки конца света и Страшного Суда. Сроки этого
эсхатологического события были отодвинуты в неопределенное
будущее.
Второе обстоятельство. Постепенно меняется и
понимание Бога: теперь Он не столько побуждающая к
трансформации сила и реальность, сколько необходимое условие жизни,
ее Первопричина. Подобное понимание Бога было
подготовлено также философской, абстрактной его трактовкой.
Бог, лишенный всех антропологических характеристик,
делающих его похожим на Сверхсубъекта, постепенно стал
пониматься просто как причина всего существующего. «Бог, —
пишет Неретина, — все более и более рассматривается как
Первопричина. Причинно-следственные — необходимые —
отношения начинают превалировать над идеей созидания на
основании, что понятно, поскольку мир начинает
постигаться с точки зрения физики как нарождающейся особой
дисциплины»1. Здесь Неретина указывает еще на один
важный момент — переориентацию интереса в изучении
действительности с Бога на одно из его главных творений — при-
роду, понимание которой в течение Средних веков сущест-
1 Неретина С. С. Верующий разум... — С. 313.
262
йенно изменилось по сравнению с Античностью.
Остановимся на этом вопросе подробнее.
Помимо двух своих античных значений (природа, как пи-
| 'шет Аристотель, — это то, что существует и является «нача-
' ком» изменений, источник которых лежит в самом этом
«начале»1) понятие природы в Средние века приобретает по
меньшей мере еще три смысла. Природа начинает пониматься
как «сотворенная» (Богом), как «творящая» (хотя Бог
природу создал, Он в ней присутствует, и все в природе
происходящее обязано этому присутствию) и «природа для человека».
Под влиянием первого понимания отдельные рода
бытия, описанные в античных науках, начинают
переосмысляться в представлении о единой живой природе, замысленной
по плану Творца и поэтому гармоничной и продуманной.
Отчасти Бог, творящий мир в пять дней, выступает (в плане
современной ретроспекции) в качестве предтечи будущего
проектировщика и инженера, для которых функции замыш-
ления и реализации замышленного являются сущностными.
На втором плане, однако, сохраняется и античное
понимание природы как самоценного начала движения и
изменения. Хотя сотворенная Богом природа, безусловно,
доминирующий смысл в средневековом сознании, этот смысл часто
оттеняется именно на фоне античного понимания. «Огонь
по своей природе, — пишет Иоанн Златоуст, — стремится
вверх, рвется и летит на высоту. <...> Но с солнцем Бог
сделал совершенно противное: обратил его лучи к земле и
заставил свет стремиться вниз, как бы говоря ему этим
положением: смотри вниз и свети людям — для них ты и сотворено»2.
Под влиянием понимания природы как творящей
(животворящей) за всеми изменениями, которые наблюдаются в
природе, человек начинает видеть (прозревать) скрытые
божественные силы, процессы и энергии. Источник
изменений, имеющих место в природе, принадлежит не природе, но
прежде всего Богу и уже через посредство последнего самой
См.: Аристотель. Физика. — С. 23.
Творения Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. — СПб.,
1896.-Т. 2, кн. 1.-С. 394.
263
природе. В «Книге о природе вещей» Бэда Достопочтенный,
в частности, пишет: «...Все те семена и первопричины
вещей, что были сотворены тогда, развиваются естественным
образом все то время, что существует мир, так что до сего дня
продолжается деятельность Отца и Сына, до сих пор питает
Бог птиц и одевает лилии»1.
О том же говорит и Эриугена, поясняя, что «когда мы
слышим, что Бог все создал, мы должны понимать под этим
не что иное, как то, что Бог есть во всем»2. В связи с таким
понимаем Бога естественные изменения и связи, наблюдаемые
в природе и описываемые в науке, трактуются в
средневековой философии и теологии как происходящие в
соответствии с «божественными законами» (божественным
замыслом, волей, энергией).
С понятием «творящей» природы человек постепенно
начинает уяснять, что в природе скрыты огромные силы и
энергии, доступ к которым в принципе человеку не закрыт.
И вот почему. С точки зрения христианского мировоззрения
природа создана для человека, который сам создан «по
образу и подобию» Бога, т. е. обладает разумом, отчасти сходным
с божественным. Поэтому человек при определенных
духовных условиях в состоянии приобщиться к замыслам Бога, в
результате он может узнать устройство и план природы,
замыслы и законы, в соответствии с которыми происходят
природные изменения.
Архимеду приписывали утверждение, что имей он точку
опоры, то мог бы перевернуть земной шар. В этом
характерном для античной культуры высказывании сила,
перевертывающая землю, понимается как принадлежащая человеку.
В Средние века уже не сделали бы подобной ошибки:
источником силы, которая могла бы перевернуть земной шар,
является только Бог и природа как его инобытие. Для
античного философа в природе ничего нет кроме сущности (она
просто существует, как и многое другое), для средневекового че-
ловека в природе скрыты и могут быть открыты (прежде все-
1 Цит. по: Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. — С. 400.
2 Цит. по: Неретина С. С. Верующий разум... — С. 229.
264
го, на основе мистического постижения) могущественные
силы, процессы и энергии.
Природа, по убеждению средневековых философов,
не только сотворена Богом, но и предназначена для
человека, его пользы и жизни. Таким образом, природа
оказывается дистанцированной пока еще от Бога (она является
объектом его замышления и деятельности) и наделенной
практическим значением для человека. Правда, человек еще не
помышляет сам творить природу, это прерогатива Бога, но,
стоя за его широкой спиной, человек как бы примеривается
к этой задаче.
Боэций Дакийский, разводя в начале XIII в. веру и
разум, имеет в виду уже новое понимание природы. В
частности он доказывает, что, с одной стороны, начала физики
не простираются на основания христианской веры, но, с
другой — что на основании своих начал физик может
отрицать истины, противоречащие этим началам, например, что
«умерший человек непосредственно восстает живым» или
что «мир и перводвижения новые», т. е. были созданы1.
Не удивительно, что за подобные ереси Боэций (в 1277 г.)
был осужден церковью.
5.2. Средневековые
представления о науке
и движении
Изменения представлений о науке в Средние века удобно
рассмотреть на материале науки о движении (ее начало, как
мы помним, положил Аристотель своей работой «Физика»),
а также новом понимании математики. Начнем со второго.
Именно со Средних веков идет представление о Боге как гео-
метре, хотя здесь средневековые мыслители, обосновывая
1 См.: Неретина С. С. Верующий разум... — С. 318.
265
свою мысль, конечно, опираются на «Тимея» Платона.
В Средние века математика кардинально
переосмысливается. Это теперь не просто род бытия, входящий в другой
(Аристотель), а, во-первых, средство творения Богом
действительности (Бог создает мир, действуя как математик),
во-вторых, поэтому истинное знание о мире. Новое
средневековое понимание математики хорошо просматривается в
работах Роджера Бэкона (Opus Maius, Opus Minus, Opus Ter-
tium).
В «Opus Tertium» читаем: «Вторые же важнейшие ворота,
которых нам по природе недостает, есть знание математики.
<...> Она ближе всего к врожденному знанию... но не так в
отношении естественных наук, метафизики и других. <...>
Ясно, что она простая наука и как бы врожденная или
близкая врожденному знанию. Из этого следует, что она
первейшая из наук, без которой другие не могут познаваться. <...>
Адам и его сыновья получили ее от Бога. <...> Понятно, что
большая и лучшая часть математики повествует о вещах
небесных, как астрология, спекулятивная и практическая. <...>
Благодаря этим [двум наукам о небесном] подготавливается,
тем не менее, познание этого подлунного мира... познание
всего подлунного зависит от возможностей математики.
<...> Далее я обратился к распространению форм от места
своего возникновения, и тут есть много значительного и
прекрасного. Но это распространение может быть выражено и
познано только посредством линий, углов и фигур»1.
Здесь врожденное знание — это знание, сообщенное
самим Богом. Математику Р. Бэкон понимает как первейшую
науку, на которой основываются все другие. Именно
математика обеспечивает познание всех вещей («подлунного
мира»). При этом, стремясь реализовать идею, по которой
все вещи созданы Богом по единому плану и поэтому в них
есть нечто общее («универсалии», «формы»), Р. Бэкон
выходит на трактовку природных явлений и процессов (дви-
жений и изменений) как «движение форм». Последние как
1 Бэкон Р. Opus Tertium // Антология средневековой мксли. — М., 2002. — Т. 2. —
С. 103-109.
266
раз и могут быть выражены с помощью математики
(геометрии).
Здесь мы видим существенное расхождение с
Аристотелем, прежде всего, в понимании действительности. Роджер
Бэкон пытается преодолеть аристотелевскую трактовку
действительности как отдельных родов бытия. Мир создан
Богом по единому замыслу, на основе строгих расчетов,
поэтому, во-первых, нет многих наук, описывающих разные виды
бытия, а имеет место иерархия наук — Священное Писание,
философия и каноническое право1, грамматика (наука о
языке), наконец, математика, во-вторых, математика
становится главной наукой о подлунном мире (природе). С точки
зрения Бэкона, физика — это конкретизация математики,
когда речь заходит о формах и их движении. Новое
понимание форм связано не столько с определениями вещей
(Платон и Аристотель), сколько с возможностью (пока еще в
плане интенции) их представить с помощью математики.
Но новому мироощущению противоречило не только
аристотелевское понимание действительности, но и
понимание движения. По Аристотелю, движение — это вид
изменений и совершается оно при условии наличия двигателя
(контакта) и среды. Кроме того, хотя пустота и
рассматривается Аристотелем как предел и условие мыслимости
движения, тем не менее, как уже отмечалось, пустота, с точки
зрения Стагирита, не существует, в частности, потому, что в ней
невозможно движение (поскольку падение тел, по
Аристотелю, обратно пропорционально плотности среды, полное
отсутствие сопротивления в пустоте ведет к бесконечно
большой скорости, мгновенному движению, что, считает
Аристотель, невозможно). Но в Средние века пустота
переосмысливается на основе категории «ничто», она становится
онтологической, что отмечают В. Зубов и А. Григорьян.
«В этом отношении, — пишут они, — поучительны
колебания Роджера Бэкона. Первоначально Бэкон полагал, что в
пустоте не может быть никакого последовательного движе-
См.: Бэкон Р. Opus Tertium. — С. 92, 93.
267
ния, потому что вообще в ней "нет никакой величины"
(magnitudo) или "какого-либо телесного пространства" (spa-
cium aliquod corporale). Позднее он отступил от этого
ортодоксального аристотелевского представления. В
пустоте есть прежде и после в частях ее величины, а потому есть
прежде и после в движении и времени. Далее: никакая
конечная сила не может действовать мгновенно, стало быть, она
последовательно проходит части пустого пространства»1.
К такому же выводу о возможности движения в пустоте
приходили от критики аристотелевской концепции
передачи движущей силы через среду (воздух) и контакт. И дело не
только в том, что во многих случаях наблюдения и опыт
противоречили этому объяснению2. Важнее было другое.
Аристотелевское объяснение движения было сугубо античным:
оно не предполагало участия в этом процессе Творца и
преувеличивало значимость деятельности человека. Не так было
в Средние века. Если ничто в природе не совершалось без
участия Бога, то тем более движение, являющееся
основанием и вращения планет, и падения простого камня. К тому же
к большинству движений (например, стихий) человек был
непричастен. Не было ли для средневекового человека более
естественным предположить, что движения совершаются
не потому, что здесь участвует человек, а потому, что участ-
вует, причем, так сказать, на постоянной основе, Творец?
1 ГригорьянА. Т. Указ. соч. — С. 90—91.
2 «Коль скоро, спрашивал Филопон, "тетива непосредственно прилегает к стреле
и рука к камню, коль скоро между ними нет никакого промежутка, о каком
воздухе, приводимом в движение сзади брошенного тела, может идти речь?". <...>
Корабль, влекомый против течения реки (конями, уточняет Марсилий),
продолжает некоторое время двигаться и после того, как его перестали тащить, но
при этом сзади не ощущается никакого дуновения воздуха, наоборот, такое
дуновение ощущается спереди. <...>
Если бы теория Аристотеля была справедлива, легче было бы забросить на
далекое расстояние пушинку, чем камень, указал Буридан. <...> Не довольствуясь
ссылками на житейские наблюдения, Буридан описывал даже простенький
эксперимент с волчком и жерновом, которые искусственно ограждаются
посредством занавесок от притока окружающего воздуха. <...> Уже у основоположника
номинализма Вильяма Оккама был приведен необъяснимый с аристотелиан-
ской точки зрения пример двух стрел, летящих навстречу друг другу, — воздух
должен был бы иметь тогда одновременно два противоположно направленных
движения» (Там же. — С. 84—85).
268
Именно благодаря Ему совершается движение. Каким
образом? А примерно так это описывает Жан Буридан
(в 1328—1340 гг.), вводя понятие «impetus»: «Движущее,
приводя в движение движимое, запечатлевает в нем некий
impetus, или некую силу, движущую это движимое в ту
сторону, в которую движущее его двигало, — либо вверх, либо
зниз, либо в сторону:; либо по кругу»1.
То, что при этом предполагалось действие Творца,
показывает значительно более позднее объяснение impetus,
данное Николаем Кузанским. Последний, замечают А. Григорь-
ян и В. Зубов, «уподоблял impetus душе, которая живет в теле,
пока тело здраво и не разрушено» (а от кого, если не от Бога,
ддя средневекового человека душа и разум? — В. Р.). «Так и
движение, — писал Кузанский, — которое живит живое
существо, не перестает оживлять (в смысле двигать. — В. Р.) тело
до тех пор, пока это тело способно жить и полно здоровья, ибо
в этом случае подобное движение ддя него естественно (мы
бы сказали, происходит по инерции. — В. Р.)»2.
А человек, бросающий камень, в чем его роль? Примерно
такая же, как мастера (гончара), «приуготовляющего» форму
для творения вещи. Хотя гончар помогает Творцу, создавая
определенную форму (формуя материал), все же творит в
собственном смысле слова Бог. Именно Он, как пишет Тер-
туллиан, оживляет вещь своим «дыханием и жаром»3. Дру-
1 Цит. по: ГригорьянА. Т Очерки развития... — С. 81.
2 Там же. — С. 83—84.
3 «Но что удивительного, — пишет Тертуллиан, — если творение возникло от
одного лишь прикосновения Бога, без всякого иного действия? Столько раз ей
оказывалась честь, сколько раз она чувствовала руку Божью, когда та ее
касалась, когда бралась из нее часть, когда она отделялась, когда формовалась.
Подумай: ведь Бог был занят и озабочен только ею, — Его рука, ум, действие, замысел,
мудрость, попечение и прежде всего Его благоволение, которое начертило образ,
были устремлены на нее (интересно, что, словно забыв свое предыдущее
утверждение о том, что прах был создан «одним только прикосновением», Тертуллиан
описывает действия Творца прямо по аналогии с действием мастера. — В. Р.). И какую
бы форму прах ни получил, при этом мыслился Христос, Который однажды
станет человеком. <...> Рука Фидия создает Юпитера Олимпийского из слоновой
кости, и поклоняются уже не кости дикого и притом весьма несуразного
животного, а изображению наивысшего мирового бога, и не благодаря слону, но
благодаря великому Фидию (т. е. благодаря его мастерству. — В. Р.). <...> Прах
обратился в плоть и был поглощен ею. Когда? Когда человек стал душою живою через
дыхание Бога, через жар, способный каким-то образом высушить прах так, что
269
гими словами, необходима синергия усилий Бога и человека.
Да, человек бросает камень, но летит он в силу действия
Творца. «Импето» (impetus) и есть такое явление синергии. Оно не
требует контакта и среды для передачи движения, зато вполне
допускает идею пустоты и движения в ней. Причем не только
потому, что пустота теперь может мыслиться как
существующая. Идея impetus позволяла искать как новое объяснение
движения (это, показывают А. Григорьян и В. Зубов, в конце
концов привело к формулированию принципа энерции), так
и объяснение зависимости скорости от среды. Если
Аристотель связывал изменение скорости только с действием среды,
то идея impetus давала возможность искать другие, имманет-
ные самому движению причины.
Еще с Античности (Стратон, Симпликий и др.) было
известно, что скорость тел при падении увеличивается. Но как
это можно объяснить? Поскольку вес и другие
характеристики падающего тела остаются неизменными, они не могут
быть причиной ускорения. Тогда в качестве объяснения
Аристотель формулирует идею, что «тяжелые и легкие тела
движутся тем быстрее, чем они ближе к своему
естественному месту». Были и другие античные объяснения1. Но здесь
опять нет места Творцу. Напротив, идея impetus
предполагала Последнего, но тогда, правда, нужно было вводить
постулат о приращении скорости и своеобразном изменении
тяжести падающего тела.
«Объяснение», предполагавшееся сторонниками теории
impetus, отмечают А. Григорьян и В. Зубов, было в сущности
не объяснением, а декларацией, что скорость падения есть
функция некой «силы», возрастающей вместе с возрастани-
ем скорости. По Буридану, impetus становится тем больше,
он приобрел иное качество, став как бы глиняным сосудом, т. е. плотью. <...> Так
и гончар способен, воздействуя огнем, сгущать глину в твердую массу и из одной
формы производить другую, лучше прежней, уже особого рода и со своим
собственным именем. <...> Искусства осуществляются через плоть, ученые занятия,
дарования — через плоть, дела, работу, обязанности — через плоть. <...> Вот что
я хотел представить в пользу плоти, имея в виду общие основания человеческого
бытия» (Неретина С. С. Марионетка из рая //Традиционная и современная
технология. - М., 1999. - С. 192-195; 199-200).
1 См.: Григорьян А. Т. Указ. соч. — С. 106.
270
l уем быстрее движется тело; в первый момент падения
действует только «естественная тяжесть», к которой
присоединяется затем все возрастающий impetus, и так тело непрерывно
I ускоряется... В параллель с постоянно действующей силой
I тяжести, которая (по аристотелевским представлениям) дол-
I жна являться причиной движения с постоянной скоростью,
{ переменную силу impetus называли нередко «акциденталь-
* ной тяжестью»1. Принятие такой декларации все же больше
соответствовало духу средневекового мышления, чем
аристотелевское объяснение ускорения как стремления к
своему естественному месту. Больше соответствует это духу и
поиску математического закона, которому подчиняются пада-
ющиеся тела (Альберт Саксонский утверждал, что скорость
при падении «удваивается, утраивается и т. д. в соответствии
с удвоением, утроением и т. д. отрезков расстояния или
времени»)2.
Таким образом, мы видим, что понятие движения и
объяснение его причин кардинально переосмысливаются в
Средние века. Движению как идеальному объекту приписы-
ваются новые характеристики: оно объясняется с помощью
понятия impetus, считается возможным в пустоте, может
быть представлено в математической модели.
5.3. Ренессансная революция
в воззрениях на природу и науку
Стремление логически упорядочить явления,
относящиеся к сфере сакральной и обычной жизни, выяснить их
начала, связать их между собой и с всеобщей причиной —
Богом, который уже давно понимался как субстанция,
лишенная антропоморфных свойств, в конце концов приводит
к тому, что наряду с сакральным миром и событиями, опи-
См.: ГригорьянА. Т. Указ. соч. — С. 111.
2 Там же.-С. 117-118.
271
санными в Священном Писании, перед человеком встал
другой мир — природа, подчиняющаяся неизменным
законам. В эпоху Возрождения человек осваивался в новом
двойном мире: начинал познавать природу и одновременно
продолжал отдавать должное Богу. Заимствовав от последнего
волю и веру в разум, человек Возрождения становится и
более независимым от Творца, поскольку перестает бояться
конца света и Страшного Суда и все больше воспринимает
Бога как условие жизни, как законы, которым подчиняется
жизнь и природа. Себя человек все чаще понимает и
истолковывает всего лишь как менее совершенного по
отношению к Творцу. Если Бог создал мир, то и человек в принципе
способен это сделать. Как писал известный гуманист того
времени Марсилио Фичино, человек может создать сами
«светила, если бы имел орудия и небесный материал»1.
И для Леонардо да Винчи творчество почти прямой акт
творения «второй природы», так, он пишет, что во власти
инженера породить прекрасные или уродливые вещи. «Если
живописец пожелает увидеть прекрасные вещи, внушающие
ему любовь, то в его власти породить их, а если он пожелает
увидеть уродливые вещи, которые устрашают, или
шутовские, или смешные, то и над ними он властелин и бог»2.
Чтобы творить природу, инженер, по Леонардо, должен
опираться на математику, из которой он заимствует
конструктивные принципы, а также на природу, где он подсматривает
(подражая Творцу) принципы устройства вещей. В свою
очередь, чтобы выявить эти принципы, необходимы, указывает
Леонардо, опыты, представляющие собой наблюдение за
природными процессами, которые выбирает и локализует
инженер. На основе всего этого инженер и создает
искусственное сооружение, представляющее собой вторую природу,
где реализованы математические принципы и принципы
устройства вещей.
1 История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 2 т. — М.,
1962.-T. 1.-C.468.
2 Леонардо да Винчи. Книга о живописи // История эстетики... — Т. 1. — С. 543.
272
Но на что ренессансный человек мог опираться в своих
творениях? Анализ философских текстов того времени
показывает, что он, с одной стороны, использует математические
и опытные знания, а с другой, как это ни странно с точки
зрения современной науки, — опирается на сакральные знания
и откровения. Об этом, в частности, свидетельствует фигура
«естественного мага», который, с одной стороны, творит,
создает чудеса, с другой — изучает природу и ее законы,
используя полученные знания в процессе творения. Согласно
Пико делла Мирандоле, маг «вызывает на свет силы, как
если бы из потаенных мест они сами распространялись и
заполняли мир благодаря всеблагости Божией... он вызывает
на свет чудеса, скрытые в укромных уголках мира, в недрах
природы, в запасниках и тайниках Бога, как если бы сама
природа творила эти чудеса»1. Магия, вторит ему Дж. Бруно,
«поскольку занимается сверхъестественными началами, —
божественна, а поскольку наблюдением природы,
доискиваясь ее тайн, она — естественна, срединной и математической
называется»2. Как мы видим, в ренессансном понимании
природы сходятся все моменты, намеченные в Средние века
по отдельности: природа «сотворена» Богом
(«сверхъестественные» начала), «творящая» («сама» творит чудеса), «для
человека» (поэтому маг может вызывать на свет силы),
наконец, может быть описана в математике.
Самосознание, открывающее новую культуру, не может
не быть эзотерическим, поскольку в «точке прохода» в
новое, еще небывалое человек опирается только на самого
себя, в самом себе должен обнаружить источники
существования и энергии. Однако по форме, напротив, речь идет о
подлинной реальности, что в эпоху Возрождения должно
было означало только одно — все определяет воля Творца, но
и самого человека. В известном тексте Пико делла Мирандо-
лы «Речь о достоинстве человека» утверждается, что человек
стоит в центре мира, где в Средние века стоял Бог, и что он
1 Цит. по: Rattansi P. The Social Interpretation of Science in the Seventeen Centure //
Science and Societi, 1600-1900. - L., 1972. - P. 9-10.
2 Бруно Дж. Изгнание торжествующего зверя. — СПб., 1914. — С. 162—163.
18. Заказ №4180
273
должен уподобиться если и не самому Творцу, то уж во
всяком случае херувимам (ангелам), чтобы стать столь же
прекрасным и совершенным, как они.
«Тогда, — пишет Пико делла Мирандола, — принял Бог
человека как творение неопределенного образа и, поставив
его в центре мира, сказал: "...Я ставлю тебя в центре мира,
чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в
мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни
смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный
мастер, сформировал себя в образе, который ты
предпочитаешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные
существа, но можешь переродиться по велению своей души и
в высшие, божественные. О высшая щедрость Бога-отца!
О высшее и восхитительное счастье человека, которому
дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, чем хочет!
<...> Но ведь если необходимо строить нашу жизнь по
образцу херувимов, то нужно видеть, как они живут и что
делают. Но т. к. нам, плотским и имеющим вкус к мирским
вещам, невозможно это достичь, то обратимся к древним
отцам, которые могут дать нам многочисленные верные
свидетельства о подобных делах, т. к. они им близки и
родственны. Посоветуемся с апостолом Павлом, ибо когда он
был вознесен на третье небо, то увидел, что делало войско
херувимов. Он ответит нам, что они очищаются, затем
наполняются светом и, наконец, достигают совершенства,
как передает Дионисий. Так и мы, подражая на земле жизни
херувимов, подавляя наукой о морали порыв страстей и
рассеивая спорами тьму разума, очищаем душу, смывая
грязь невежества и пороков, чтобы страсти не бушевали
необдуманно и не безумствовал иногда бесстыдный разум.
Тогда мы наполним очищенную и хорошо приведенную в
порядок душу светом естественной философии, чтобы
затем совершенствовать ее познанием божественных вещей.
<...> Да, Моисей приказывает нам это, но, приказывая,
убеждает нас и побуждает к тому, чтобы мы с помощью
философии готовились к будущей небесной славе. Но в дейст-
274
вительности же не только христианские и моисеевские
таинства, но и теология древних, о которой я намереваюсь
спорить, раскрывает нам успехи и достоинство свободных
искусств. Разве иного желают для себя посвященные в
греческие таинства? Ведь первый из них, кто очистится с
помощью морали и диалектики — очистительных занятий, как мы
их называем, — будет принят в мистерии! Но чем иным
может быть это, если не разъяснением тайн природы
посредством философии?»1
Итак, именно человек — «славный мастер», творящий
сам себя по своей воле и желанию. А в чем, спрашивается,
тогда назначение Бога, прерогативу которого в плане
творения и направления жизни перехватывает человек? Человек
теперь не просто тварь и раб Божий, но подобен херувиму,
т. е. фактически ангел, причем достигает он этого небесного
состояния опять же сам, с помощью эзотерической работы,
включающей в себя моральное очищение,
совершенствование личности, познание природы. Посмотрим, как на основе
подобных новых схем получались знания. Проанализируем
для этого комментарий к «Пиру» Платона Марсилио Фичи-
но.
Структура рассуждения Фичино была такова. Человек
обладает разумом, который соотносится с божественной
волей и ощущением, источником ощущений выступает тело.
Разум самостоятельно постигает бестелесные основы всех
вещей. Ощущение схватывает образы и качества тел
посредством пяти телесных орудий (с помощью глаз постигаются
цвета, посредством ушей — звуки, на основе языка —
вкусовые свойства, с помощью нервов — простые свойства
элементов: тепло, холод и пр.).
Если назначение первых трех способностей человека
(разума, зрения и слуха) — постижение истины, то трех
остальных — поддержание жизни тела. Фичино доказывает, что
красота и любовь не могут определяться материей вещей или
1 Пико делла Мирандола Дж. Речь о достоинстве человека // История эстетики... —
Т. 1.-С. 507-510.
1о* 27J
их формой, они бестелесны. Сущность красоты и любви, по
его убеждению, состоит в том, что в вещах мы видим сияние
лика Божьего. Запечатлено это сияние наиболее ярко в
ангелах, менее ярко и определенно — в душе человека и вещах1.
Но как, спрашивает Фичино, бестелесное божественное
сияние воплощается в образах души и вещей и от чего зависит,
является ли вещь красивой (любимой) или нет?
И отвечает так: «Если образ внешнего человека,
воспринятый чувствами и перешедший в душу, не созвучен с
формой человека, которой обладает душа, он сразу же не
нравится, если же созвучен, тотчас же он нравится и бывает любим,
как прекрасный. <...> В ангеле и в душе божественная сила
произвела совершенную конфигурацию создаваемого
человека; но в материи мира как наиболее отдаленной от Творца
строение человека отклонилось от его чистой формы».
Однако в материи, как говорит Фичино, «испытавшей лучшее
воздействие», оно более подобно чистой форме, в другой же
материи оно менее подобно.
«Если бы кто-то спросил, — разъясняет Фичино, —
каким образом форма тела может быть подобна форме души и
разуму, пусть он, прошу, посмотрит на здание архитектора.
Вначале архитектор зачинает в душе план здания и
вынашивает его идею. Затем в меру сил он сооружает дом таким,
каким он его замыслил. Кто будет отрицать, что дом — тело и
что вместе с тем он похож на бестелесную идею мастера, по
подобию которой создан. <...> Что же такое, наконец,
красота тела? Деятельность, жизненность и некая прелесть,
блистающие в нем от вливающейся в него идеи. Блеск этого рода
проникает в материю не раньше, чем она будет надлежащим
образом приуготовлена. Приуготовление живого тела заклю-
чается в следующих трех началах: порядке, мере и облике»2.
1 Сравни: «И исходя из моего положения о том, что всякое философское озарение
от Бога, я показываю, что этот действующий интеллект есть в первую очередь
Бог, а во вторую — ангелы, которые иллюминируют нас» (Бэкон Р. Указ. соч. —
С. 93).
2 Фичино М. Комментарий на «Пир» Платона // История эстетики... — Т. 1. —
С. 503-504.
276
Здесь различение разума и ощущений — это
средневековое прочтение Аристотеля: разум соотносится с миром
горнего, а ощущения — с миром дольнего. Но отношение между
разумом и ощущением — отношение не управления, как у
Аристотеля, а подобия и совершенства — несовершенства.
Вероятно, чтобы объяснить участие слуха и зрения в
восприятии красоты и любви, Фичино добавляет их к разуму,
аргументируя этот не очень-то оправданный шаг тем, что душа с
помощью этих трех начал постигает действительность «ради
ее самой», последний аргумент он тоже явно заимствует у
Аристотеля. Но вопрос о сущности красоты и любви Фичино
решает не в античном ключе, а в средневековом: источник и
того и другого не форма, гармония, соответствие,
пропорции, о чем писали Платон и Аристотель, а сияние
божественного лика. Одновременно это сияние отождествляется
Фичино с идеей мастера (архитектора).
Блестяще и, кажется, в том же средневековом ключе
решается вопрос о связи бестелесного сияния с телесной
формой вещей. Во всяком случае, невольно вспоминается идея
«схватывания» (концепта) Боэция и Абеляра. Но если
подумать, то фактически Фичино намечает принципиально
новое решение. Вместо идеи концепта, предполагающего
творение вещи по Слову и сборку образа вещи в душе человека,
Фичино создает новую схему — фактически инженерии; ее,
вероятно, тоже можно назвать «магической», т. к. вместо сил
природы в рассуждениях Фичино действуют силы
божественные.
Магический инженер создает сооружение на основе
плана, и именно это его магическое инженерное действие
запускает и высвобождает божественные силы, они же силы
природные, если вспомнить высказывание Джордано Бруно.
Как утверждает Фичино, приуготовление материи вещи и
позволяет проникнуть в нее божественному сиянию,
проявиться деятельности, жизненности и грации. Когда
значительно позднее, уже на заре культуры Нового времи Френсис
Бэкон писал, что в действии человек не может ничего друго-
277
го, как «соединять и разделять тела природы, остальное
природа совершает внутри себя», то он развивает дальше
(переводя сакральные моменты в рациональные) ренессансные
представления о магической инженерии.
В творчестве Фичино новые знания о любви и красоте
получаются на основе по меньшей мере трех типов схем:
средневековых, античных и новых, созданных в рамках ренес-
сансного мироощущения. Ренессансные представления и
схемы опираются на средневековые и античные,
одновременно способствуя их переосмыслению. Скажем, схема
магического инженерного действия, которую намечает
Фичино, была бы невозможна не только без средневековой идеи
«схватывания», но и без рассуждений Аристотеля о связях
знания (мышления) и практического действия.
«При этом здоровое тело, — пишет Стагирит, —
получается в результате следующего ряда мысли у врача: т. к.
здоровье заключается в том-то, то надо, если тело должно быть
здорово, чтобы было дано то-то, например, равномерность, а
если нужно это, тогда требуется теплота (согревание); и так
он размышляет все время, пока не приведет к последнему
звену, к тому, что он сам может сделать. Начинающееся с
этого момента движение, которое направлено на то, чтобы
телу быть здоровым, называется затем уже создаванием. <...>
Там, где процесс идет от начала и формы, это мышление, а
там, где он начинается от последнего звена, к которому
приходит мысль, это создавание»1.
Обсуждая интеллектуальную революцию Ренессанса,
нельзя обойти и взгляды Николая Кузанского (Кузанца).
Этот крупнейший философ Возрождения мыслит вполне
характерно для своего времени. С одной стороны, в его работах
речь идет о Боге и его творениях, с другой — о природе и ее
научном познании. В диалоге «Простец об уме» Кузанский
пишет следующее. «Думаю, что душой мира Платон называл
то, что Аристотель — природой. Но я полагаю, что душа и
1 Аристотель. Метафизика. — С. 122.
278
природа есть не что иное, как Бог, который все во всем
создает и которого мы называем духом всего в совокупности»1.
Бог понимается Кузанцем вполне ренессансно: это и
Троица, но и «абсолютный максимум», т. е. «единое, которое
есть все»; одновременно Бог есть «абсолютное бытие»,
«благодаря которому все вещи суть то, что они суть»; наконец, в
познании природы (Вселенной) Бог выступает как ее
сущность (совершенство). Как же познается Бог и природа? —
спрашивает Кузанец и отвечает: через уподобление
(человеческого образа божественному первообразу) на основе
математических предметов, поскольку только последние дают
однозначное, точное знание, свободное от двусмысленности
чувственных впечатлений. В другой работе, диалоге «О
возможности-бытии», Кузанец пишет, что в «нашем знании нет
ничего достоверного, кроме нашей математики...
математические предметы, происходящие из нашего рассудка и, как
мы знаем, существующие в нас как своем исходном начале,
познаются нами — в качестве принадлежащих нам, или
нашему рассудку, сущностей — точно, т. е. с той рассудочной
точностью, от которой они происходят... точное познание
всех произведений божественного творчества может быть
только у того, кто их произвел. И если мы что-нибудь знаем о
них, то только с помощью отражений в зеркале и
символическом намеке ведомой нам математики, т. е. так, как мы знаем
создающую бытие форму по фигуре, которая создает бытие в
математике»2.
Здесь намечена настоящая программа исследования
природы: «шаткость» ввиду «изобилия материальных
возможностей», как пишет Кузанец, что можно понять как
многообразие неорганизованных и часто противоречивых
эмпирических знаний о реальных объектах, делает необходимым
построение идеальных объектов; последние человек находит в
математике, в которой мы можем рассуждать строго и одно-
значно. Кузанец указывает, что математические предметы
1 Кузанский Н. Собрание сочинений: В 2 т. — М., 1979. — Т. 1. — С. 435.
2 Кузанский Н. Указ. соч. — М., 1980. — Т. 2. — С. 162.
279
представляют собой построения нашего рассудка,
повторяющего творчество самого Бога, именно поэтому они точны.
Другими словами, Кузанец намечает схему познания,
сходную в некоторых отношениях с той, которую
впоследствии развивает Кант. С одной стороны, в рассудке нет ничего,
чего раньше не было в ощущении, с другой — ум априорно
обладает способностью суждения и разумно судит о своих
основаниях. С третьей стороны, показывает Кузанец, лишь
при наличие связи с объектом ум получает возможность
осуществления. Самое интересное здесь: каким образом ум
строит суждения и оценивает свои основания (начала)? Судя
по текстам, Кузанец отвечает так: «концепируя», т. е. строя
концепции.
Продумывая этот ответ и все остальное, можно прийти к
выводу, что намеченные Кузанцем схемы познания и
особенностей ума являются достаточно революционными.
Кузанец не только показал, что мышление и понимание
дополнительны, следовательно, понимающая коммуникация —
необходимое условие мышления, но и создает предпосылки
ддя познания природы и формирования естественных наук.
С одной стороны, он обосновал взгляд, что необходимым
условием строгого познания являются чувственное
восприятие и эмпирические знания об объектах, с другой — что к
этим процедурам познание не сводится, напротив, оно
предполагает априорные способности, некие принципы
конструирования идеальных объектов (для Кузанца это понятия и
категории, выраженные в определенных концепциях).
Можно предположить, что идея концепирования и принцип
дополнительности мышления пониманию расчищали также
дорогу индивидуальным философским системам Нового
времени. Ведь концепция и понимание — это всегда
личностные образования, а не только общезначимые построения.
На первый взгляд может показаться, что новое
понимание природы и интеллекта не должно было повлечь за собой
ничего существенного. Но это не так, что видно хотя бы по
тому, что именно в эту эпоху была создана особая
теоретическая и отчасти методологическая дисциплина — учение о
280
«широте форм» или «интенсификации и ремиссии качеств»,
без которой не состоялась бы естественная наука Нового
времени. Эта дисциплина, пишут А. Григорьян и В. Зубов,
«столь не похожая по своему облику на позднейшую
кинематику, сколь не похожи друг на друга человеческий зародыш и
сформировавшийся человек», ставила своей целью
«математизировать учение об интенсивности качеств и его
изменении то ли предпочтительно в арифметико-алгебраической
форме, как делали это в первой половине XIV в. ученые Мер-
тон-колледжа в Оксфорде, то ли в форме геометрической,
как это делали Николай Орем и его последователи, то ли,
наконец, сочетая оба пути, как это делали итальянцы в
XV-XVI вв.»1.
Хотя еще в XIII в. Роджер Бэкон утверждал, что
математика дает истинное знание о мире (природе) и что именно
формы могут быть положены в основание подлинной науки,
попытки практически реализовать эти идеи сталкивались с
большими трудностями. Дело в том, что математическая
онтология не соотносилась непосредственно с наблюдаемыми
в природе явлениями и процессами. Первую составляли
конструкции и отношения (например, в геометрии — это
фигуры, их элементы, отношения равенства, подобия,
параллельности и др.), вторые задавались множеством
эмпирических и, как правило, не связанных между собой свойств
(акциденций). Чтобы применить математику к описанию
природных феноменов (только так можно было надеяться
реализовать идеи единства природы и возможность
использовать скрытые в ней силы и энергии), нужен был
посредник, медиатор, который бы, с одной стороны, обладал
свойствами, подобными объектам математической онтологии, с
другой — свойствами, позволявшими внести связи в
эмпирию и организовать ее.
Такой посредник и создается учеными, о которых пишут
А. Григорьян и В. Зубов. Последние берут за основу
категории «отношение», «форма», «качество», «количество» в трех
их значениях, которые пытался наметить Р. Бэкон. Форма
Григорьян А. Т. Указ. соч. — С. 122.
281
как трансформируемая, способная быть выраженной в
математическом языке, качества как изменяющиеся и
описываемые в математике. Сами трансформация и изменение
схватываются («измеряются») категорией «количество» (при
измерении «величины»). Важно, что между формами и
качествами и математическими объектами устанавливаются
отношения соответствия (изоморфизма), что позволяет, с одной
стороны, интерпретировать эмпирию (наблюдаемые
природные явления и процессы) в соответствующем
математическом языке (например, геометрии), с другой —
приписывать изучаемым природным явлениям свойства и
характеристики, отвечающие выбранным посредством интерпретации
математическим объектам.
Всякая вещь, поддающаяся измерению, писал Николай
Орем в «Трактате о конфигурации качеств», за исключением
чисел, изображается в виде непрерывной величины.
Следовательно, для ее измерения нужно воображать точки, линии
и поверхности или их свойства. И даже если неделимые
точки или линии ничто, тем не менее нужно их математически
вымыслить для познания мер вещей и их отношений1.
«Комментатор Орема, Якопи де Санто Мартино, говорил об этом
так: "Все вещи, стоящие в каком-либо отношении, причаст-
ны понятию количества. <...> Отношение одной формы к
другой такое же, как отношение одной фигуры к другой".
Под "формой" понимаются качества (теплота, цвет и т. п.) и
их изменения, а под "фигурой" — соответствующие им
геометрические фигуры и формы»2.
«В соответствии со сказанным Орем изображает (или
"воображает") интенсивность качества, сосредоточенного в
точке, в виде прямой линии. Тогда отношение между двумя
"точечными" интенсивностями мыслится как отношение
между двумя линиями. Далее качества могут представляться
распределенными по различным точкам тела (или простран-
1 Орем Н. Трактат о конфигурации качеств // Историко-математические
исследования. — М., 1958. — Вып. 11.
2 ГригорьянА. Т. Указ. соч. — С. 128.
282
ства) в одном лишь измерении. Это так называемые
"линейные" качества. Тогда, говоря современным языком, линия
абсцисс будет соответствовать экстенсивности качества (его
распределению в пространстве одного измерения), линия
ординат — его интенсивности. <...> Подобное
геометрическое изображение качеств (белизны, теплоты и т. д.) Орем
применяет дальше к скоростям движений. В этом случае
(говоря современным языком) по оси абсцисс откладывается
время, а по оси ординат — скорости, рассматриваемые как
своего рода "интенсивности" движения.
Интенсивность качества может оставаться постоянной.
Тогда мы имеем дело с качеством "униформным", которому
соответствует четырехугольник. Интенсивности могут
равномерно возрастать или убывать. Тогда мы имеем дело с
качеством "униформно-дифформным", которое может либо
начинаться с нуля ("не-градуса") или кончаться им, либо
начинаться или кончаться на определенном градусе
интенсивности. Фигура такого качества — треугольник или
четырехугольник с двумя непараллельными сторонами. Наконец,
все прочие виды качеств объединяются в группу "дифформ-
но-дифформных"»1.
Рассматривая нововведения Орема, в частности
изображения скоростей перпендикулярно времени, можно
задаться вопросом, который, судя по всему, и обсуждали многие
еще при самом Ореме, а именно: почему
«перпендикулярно»? Сам Орем отвечает так: линии интенсивности
воображают «поставленной под прямым углом к предмету,
наделенному качеством, только потому, что это более
сподручно»2. А. Григорьян и В. Зубов говорят об условности
избранной Оремом системы. Но я бы ответил иначе. Дело не в
удобстве или условности, а в том, что проецирование
математической онтологии на эмпирию заставляет приписать
природным феноменам характеристики, подобные математиче-
ским. Так, если Орем использует планиметрию, то он вы-
ГригорьянА. Т. Указ. соч. — С. 128—129.
Орем Н. Указ. соч. — С. 639.
283
нужден ставить линии интенсивности под прямым углом к
линиям экстенсивности качества. Посредник,
обеспечивающий применение математики, например, к движениям,
строится таким образом, чтобы соединять (синтезировать,
конфигурировать) в своих конструкциях характеристики
математической онтологии с характеристиками
соответствующих категорий — «отношение», «форма», «качество»,
«количество».
Возникает вопрос: каков статус подобной дисциплины?
Теория широты форм — это и не математика и кинематика,
но без нее невозможно применение математики и не удалось
бы позднее создать кинематику. Это своеобразные
интеллектуальные леса, без которых нельзя было построить
естественную науку, но которые можно было убрать после ее
формирования. Убрать потому, что понятия механики, как
показывают А. Григорьян и В. Зубов, вобрали в себя понятия
теории широты форм. Не таков ли и статус в современной
науке системного подхода, семиотики и синергетики?1
Теория широты форм постепенно готовила новое
мироощущение, в котором действительность, прежде всего
природа, начинала видеться и пониматься как выраженная в
новой системе категорий и написанная на языке математики.
Но это новое видение актуально состоялось и
сформировалось только после становления естественных наук и успехов
инженерии.
1 Розин В. М. Математическая и предметно-конструктивная стратегии
конфигурирования содержаний из разных предметов при построении новой научной
дисциплины, направлений, концепций // Мир психологии. — 2005. — № 3.
284
Глава 6
Формирование естественной науки
6.1. Новая
социокультурная ситуация —
предпосылка естествознания
Хотя в XVI—XVII вв. секуляризация углубляется,
переходя в свою следующую заключительную фазу, представления
о Боге частично продолжают определять даже рациональные
рассуждения о природе. Но понимается Бог в этих
размышлениях как творец мира и природы, уже никак не
участвующий в их жизни и функционировании, а также как
«совершенный разум», на который человек может ориентироваться
в своем познании. Например, Декарт считал, что человек,
конечно, не столь совершенен в сравнении с Богом («наши
мысли не могут быть все истинными, потому что мы не
вполне совершенны»1), но что, тем не менее, основание
человеческого мышления имеет трансцендентальную и сакральную
природу.
Переход Бога в новый статус — чисто сакральный план, а
также «удаление его от дел и задач» непосредственного
управления жизнью природы и человека развязало руки духу
свободы, что закономерно приводит к кризису культуры.
Человек в своем поведении и действиях все больше
ориентируется не на церковь и традиции, а на других людей и разумные
соображения собственного рассудка. Однако понятно, что
сколько людей — столько и мнений, что для существования
и устойчивости нового мира необходимо было нащупать ка-
кие-то твердые основания, удовлетворяющие одновременно
1 Декарт Р. Избранные произведения. — М., 1950. — С. 289.
285
новым реалиям. «Социальная психология, философия,
наконец, этика экспериментализма, — отмечает Л. М.
Косарева, — есть плод социальных потрясений XV—XVII вв.,
приведших к убежденности в неразумности
непосредственной действительности1 и к необходимости сначала найти
эту исчезнувшую из эмпирического мира разумность в
умопостигаемом царстве Порядка, Гармонии, Красоты,
Справедливости, Закона, Логоса, а затем внести ее в мир, тем
самым преобразуя, усовершенствуя его. <...> Вся
европейская культура XVI—XVII вв. была пронизана страстным
поиском "нового мира" гармонии, разумности,
совершенства, утраченных обыденной жизнью и обыденным здравым
смыслом средневекового образца. Это стремление
вылилось в мощных интеллектуальных движениях
переориентации: в теологии — от томизма к августинианству, в
философии — от аристотелианства ("оправдывающего"
чувственный мир) к платонизму (разрывающему с миром
обыденного сознания), в методологии науки — от эмпиризма к экспе-
риментализму»2.
Признание неразумности и неупорядоченности
наблюдаемых явлений жизни, как это ни странно, не означало
отказа от поиска порядка и законов, которым мир
подчиняется. Все же сакральная составляющая была еще достаточно
сильна, чтобы человек отказался от мысли, что мир создан
Творцом, печать творчества которого придает ему единство
и смысл. Чем явнее человек констатировал хаос, тем больше
стремился обнаружить за ним порядок и закономерности, с
тем чтобы преодолеть наблюдаемую неразумность бытия.
Поэтому, отмечает Л. Косарева, согласно становящейся в
этот период методологии экспериментализма, «новая наука
не может быть наукой об этом чувственно данном ("старом")
1 Сталкиваясь с социальной действительностью, герой романа современника
Галилея Б. Грасиана восклицает: «И это называется мир!.. Даже в имени его —
обман. Вовсе оно ему не пристало. Надо говорить "немир", "непорядок"» (Граси-
ан Б. Карманный оракул. Критикой. — М., 1981. — С. 26).
2 Косарева Л. М. Методологические проблемы исследования развития науки:
Галилей и становление экспериментального естествознания // Методологические
принципы современных исследований развития науки: PC. — М., 1989. — С. 26.
286
мире, где царит неупорядоченность, дисгармония,
неточность: искомая наука может иметь предметом иной,
"новый" (Декарт) мир, в котором царствует гармония, порядок,
точность и контуры которого "просвечивают" через покров
"старого" мира явлений, "реальных акциденций"»1.
В отличие от античного понимания науки как
принципиально отделенной от практики, наука Нового времени сразу
понимается как ориентированная на практику, в каком-то
смысле как часть новой практики. Открывая свое
исследование обращением к читателям, Галилей, например, пишет:
«Гражданская жизнь поддерживается путем общей и
взаимной помощи, оказываемой друг другу людьми,
пользующимися при этом главным образом теми средствами, которые
предоставляют им искусства и науки»2. Искусства и науки
понимаются здесь уже не как путь к бессмертию {Платон)
или созерцание божества {Аристотель), а как необходимое
условие поддержания гражданской жизни. А вот как
понимает цели новой науки Ф. Бэкон. «Наконец, — пишет он в
"Великом восстановлении наук", — мы хотим предостеречь
всех вообще, чтобы они помнили об истинных целях науки и
устремлялись к ней не для развлечения и не из
соревнования, не ради того, чтобы высокомерно смотреть на других,
не ради выгод, не ради славы или могущества или тому
подобных низших целей, но ради пользы для жизни и практики
и чтобы они совершенствовали и направляли ее во взаимной
любви»3. В «Новом органоне» Бэкон утверждает, что
«правильно найденные аксиомы ведут за собой целые отряды
практических приложений» и подлинная цель науки «не
может быть другой, чем наделение человеческой жизни
новыми открытиями и благами»4.
Но каким образом наука может помочь человеку, почему
она становится необходимым условием практики? Ф. Бэкон,
выражая здесь общее мнение времени, отвечает: новая наука
даст возможность овладеть природой, управлять ею, а, осед-
• Косарева Л. М. Указ. соч. — С. 27.
Галилей Г. Беседы... — С. 37.
Бэкон Ф. Великое восстановление наук //Соч.: В 2 т. — М., 1971.— Т. 1. —С. 71.
Бэкон Ф. Новый органон. — М., 1935. — С. 95, 147.
287
>;
лав такого «скакуна», человек быстро домчит, куда ему
нужно. «Власть же человека над вещами, — говорит Бэкон, —
заключается в одних лишь искусствах и науках. Ибо над
природой не властвуют, если ей не подчиняются. <...> Пусть
человеческий род только овладеет своим правом на природу,
которая назначила ему божественная милость, и пусть ему
будет дано могущество. <...> Итак, наше требование и
предписание относительно истинной и совершенной аксиомы
знания состоит в том, чтобы была открыта другая природа,
которая могла бы быть превращена в данную природу, была
бы, однако, ограничением более известной природы,
наподобие истинного рода. Но эти два требования относительно
действенного и созерцательного суть одно и то же. Что в
Действии наиболее полезно, то в Знании наиболее истинно»1.
Это новое понимание инженерного действия, в которое
встроено действие природы, как уже отмечалось выше,
вырастает и из аристотелианской схемы связи мышления и
практического действия и схемы «магического действия».
Вспомним рассуждения Аристотеля и Фичино. Первый
показал, что условием эффективного практического действия
является получение знания о природном явлении, на основе
которого это действие осуществляется. Второй — что для
высвобождения природного действия (силы, энергии)
необходимо приуготовление материала вещи, т. е. создание особой
конструкции вещи.
Понимание инженерного действия не состоялось бы
также и без переосмысления соотношения «естественного»
(природного) и «искусственного». Уже в работах Кузанца
естественное начинает пониматься как аспект искусственного
и наоборот. Ничто, пишет он, не может быть только
природой или только искусством, а все по-своему причастно
обоим. После Средних веков человек привыкает смотреть на
вещи как сотворенные Богом, который тут же в вещах
присутствует и действует. Начиная же с XVI—XVII вв., когда
творение осмысляется в категории «искусственного» (дейст-
1 Бэкон Ф. Новый органон. — С. 192—193, 200.
288
вия искусства), а присутствие и действие в вещах Бога с
помощью категории «естественного» (природы), естественный
и искусственный планы вещей сближаются. В связи с этим
Косарева обращает внимание на то, что в работах Галилея
«уравниваются в правах "естественное" и "искусственное",
которые в Античности мыслились как нечто принципиально
несоединимое. Появление в науке этой новой идеи отражает
огромную "работу" европейской культуры по уравниванию
статуса "натуры" и "техники-искусства", достигшей
кульминации в эпоху Ренессанса и Реформации; именно в эпоху
Возрождения впервые снимается граница, которая
существовала между наукой (как постижением сущего) и
практически-технической, ремесленной деятельностью, — граница,
которую не переступали ни античные ученые, ни античные
ремесленники: художники, архитекторы, строители»1.
Более того, искусственное все больше понимается как
культурное, как культура, без которой не может быть
использована человеком и природа. Например, современник
Галилея Б. Грасиан в романе «Карманный оракул» пишет:
«Природа бросает нас на произвол судьбы — прибегнем же к
искусству! Без него и превосходная натура останется
несовершенной. У кого нет культуры, у того и достоинств
вполовину. От человека, не прошедшего хорошей школы, всегда
отдает грубостью; ему надо шлифовать себя, стремясь во
всем к совершенству. <...> Совершенством является союз
натуры и искусства»2.
Идеи божественного творения и концепирования,
прошедшие горнило эзотерического и рационального
переосмысления, трансформировались начиная с XVII в. в новое
понимание действительности как «искусственной
природы», т. е. природы, приведенной искусственным путем
(силой, деятельностью, техникой) к необходимому для человека
состоянию. «С XVII в., — пишет Косарева, — начинается
эпоха увлечения всем искусственным. Если живая природа
ассоциировалась с аффектами, отраслями, свойственными
Косарева Л. М. Указ. соч. — С. 29.
Грасиан Б. Указ. соч. — С. 7, 8.
19. Заказ №4180
289
"поврежденной" человеческой природе, хаотическими
влечениями, разделяющими сознание, мешающими его
"центростремительным" усилиям, то искусственные,
механические устройства, артефакты ассоциировались с
систематически-разумным устроением жизни, полным контролем над
собой и окружающим миром. Образ механизма начинает
приобретать в культуре черты сакральности; напротив,
непосредственно данный, естественный порядок вещей, живая
природа, полная таинственных скрытых качеств, десакрали-
зуется»1. Именно в этом ключе можно понять на первый
взгляд странные выражения Бэкона: «скрытый процесс»,
«скрытый схематизм», «новая природа (природы)», которые
можно сообщать вещам.
«Дело и цель человеческого могущества в том, — пишет
Бэкон, — чтобы порождать и сообщать данному телу новую
природу или новые природы. Дело и цель человеческого
знания в том, чтобы открывать форму данной природы, или
истинное отличие, или производящую природу, или источник
происхождения. <...> Этим двум первичным делам
подчиняются два других дела, второстепенных и низшего разряда.
Первому подчиняется превращение одного конкретного
тела в другое в пределах возможного; второму — открытие во
всяком рождении и движении скрытого процесса,
продолжающегося непрерывно от очевидного действующего начала
и очевидной материи вплоть до вновь данной формы, а
также открытие скрытого схематизма тех тел, которые
пребывают не в движении, а состоянии покоя»2.
Здесь новая природа (природы) и есть «искусственная
природа», а скрытый процесс и схематизм — строение такой
природы, выявленные не только в познании, но и в
искусственной обусловленности (принуждении) обычных
природных явлений. Поясняя свое понимание опыта или
эксперимента, Бэкон, в частности, пишет: «Что касается содержа-
ния, то мы составляем Историю не только свободной и пре-
1 Косарева Л. М. Указ. соч. — С. 30.
2 Бэкон Ф. Новый органон. — С. 197.
290
доставленной себе природы (когда она самопроизвольно
течет и совершает свое дело), какова история небесных тел,
метеоритов, земли и моря, минералов, растений,
животных; но в гораздо большей степени природы связанной и
стесненной, когда искусство и служение человека выводят ее
из обычного состояния, воздействуют на нее и оформляют ее.
<...> Природа Вещей сказывается более в стесненности
посредством искусства, чем в собственной свободе»1 (курсив
мой. — В. Р.).
Это высказвание показывает, что и эффект инженерии
Бэкон, вероятно, связывает с действием стесненной
посредством искусства природы, а не с обычными проявлениями
природы. То есть природа, по Бэкону, — это вовсе не
природные стихии и не то, что лежит на поверхности как
природные явления, а природа, так сказать, искусственная,
природа, «проявленная» (конституированная) с помощью
человеческой деятельности, искусства и техники.
Обратим внимание на характер схем новой науки и
инженерии, намеченных Бэконом. В совокупности они составляли
своеобразный социальный проект, поскольку эти идеи еще
не были реализованы и не было ясным, удастся ли
практически это сделать, т. е. с помощью новой науки заставить
природу работать на человека. По сути, такой социальный проект
мало чем отличался, например, от проекта Карла Маркса —
создания социализма, сформулированного в «Манифесте
Коммунистической партии». Только в случае
коммунистического движения проект оказался нереализуемым (что, правда,
выяснилось не сразу, а после 70 лет жестких социальных
экспериментов в нашей и не только в нашей стране), а в
рассматриваемом случае удалось создать и новую науку о природе
(естествознание), и новую практику (инженерную), опирающуюся
на естествознание. Первый образец новой науки, как известно,
создал Галилей, а новой практики — Гюйгенс.
р ' Бэкон Ф. Указ. соч. — С. 95, 96.
19* 291
f.
»
к
6.2. Наука о движении
и механике Галилео Галилея
В творчестве Галилея впервые складывались такие ходы
мысли, которые затем стали характерны для
естественно-научного мышления. Он активно выступал против
схоластической средневековой науки, в работе «Беседы и
математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки,
относящихся к механике и местному движению» наметил
структуру физического эксперимента, обосновал
фундаментальный физический закон падения тел. При этом Галилей
имел дело с задачами, для решения которых в европейской
культуре уже сложились необходимые предпосылки.
Галилей знал работы Архимеда, был знаком с астрономическим
учением Птолемея и Коперника, неплохо разбирался в
учениях Платона, Аристотеля и Демокрита. Как показывают
А. Григорьян и В. Зубов, Галилей читал «учение о широте
форм», в частности, использовал в своем творчестве
основную работу Орема («Трактат о конфигурации качеств»), из
которой он заимствовал, во-первых, закон свободного
падения тел («треугольник Орема»), во-вторых, идею и
геометрический метод доказательства теоремы об эквивалентности
движений1, в-третьих, терминологию и ряд основных
понятий. Рассмотрим теперь подробнее, как Галилей пришел к
новым представлениям.
1 «Мертонцы, а позднее Орем, формулировали знаменитое правило, согласно
которому всякое униформно-дифформное изменение, начинающееся с "не-граду-
са" (с нуля), эквивалентно униформному изменению со средним градусом.
Иначе говоря, равномерно-ускоренное движение эквивалентно равномерному
движению со средней скоростью». В «Беседах» Галилей доказывает следующую
теорему: «Время, в течение которого тело, вышедшее из состояния покоя и
движущееся с униформным ускорением, проходит расстояние, равно времени, в
течение которого это же самое расстояние было бы пройдено тем же телом при
равномерном движении, градус скорости которого вдвое меньше высшего и
последнего градуса скорости, достигаемого при первом униформно ускоряющемся
движении». Как показывают А. Григорьян и В. Зубов, «суть доказательства
Галилея остается той же, что у Орема» (Григорьян А. Т. Указ. соч. — С. 133, 144, 145).
292
I i, Начало поисков. Учение Галилея о свободном падении тел
( с самого начала было ориентировано и на практику, и на тео-
Г рию, а именно на построение науки о равноускоренном дви-
! VeHMM по образцу Архимеда, предполагающее математиче-
£Кое описание физических явлений. Можно указать
техническую проблему, которую он хотел разрешить: описать
траекторию движения артиллерийского снаряда. В письме к Че-
здре Марсили от 11 сентября 1632 г. Галилей писал:
«...поистине первое побуждение, склонившее меня к
размышлениям о движении, заключалось в том, чтобы найти эту
траекторию, —- если ее найти, то потом уже нетрудно дать
доказательство»1.
Наблюдая за полетом снаряда, Галилей предположил, что
траектория этого полета является параболой. Сопоставляя
параболу с другой геометрической кривой, получившей
название спирали Архимеда, Галилей пришел к мысли
представить движение снаряда как состоящее (складывающееся)
из двух разных движений —- равномерного по горизонтали и
равноускоренного по вертикали (т. е. свободного падения).
Сам он об этом пишет так: «...ибо уже давно, когда я с
величайшим восхищением разглядывал и изучал спираль
Архимеда, которую он строит путем двух равномерных движений,
одного —- прямолинейного, другого —- кругового, мне
пришла в голову мысль о спирали, образуемой путем
равномерного кругового движения и движения прямолинейного,
ускоряющегося в том же самом отношении, что и
естественно падающее тело»2.
Известно, что и равномерное движение, и свободное
падение уже давно были предметом научного изучения: первую
теорию равномерного движения предложили еще античные
ученые — Аристотель, Евклид, Архимед, а над свободным
падением и равноускоренным движением много
размышляли ученые средневековья —- Иоанн Буридан, Альберт
Саксонский, Николай Орем. Галилей, по всей видимости, знал
работы этих ученых, особенно его привлекал Орем. Из работ
1 ГригорьянА. Т. Указ. соч. — С. 143.
2 Там же. — С. 143.
293
последнего и, возможно, Д. Сото (автора одного из
схоластических комментариев к «Физике» Аристотеля) он
заимствовал модель (схему) равноускоренного движения. В этой
модели отрезки внутри прямоугольного треугольника,
параллельные его высоте, изображают скорости движения, а
основание треугольника — время движения или же пройденный
путь. То есть скорость падающего тела у Орема
увеличивалась пропорционально времени движения или пути, оба
варианта приводились в трактовке Орема как равноценные.
Галилей останавливается на одном из них — на том, что
скорость падающего тела увеличивается с увеличением
пройденного пути (судя по всему, соображением,
определившим его выбор, явилось утверждение Орема о том, что
скорость падающего тела возрастает с увеличением
пройденного пути). Принимая в ранних работах это с современной
точки зрения ошибочное положение, Галилей пишет, что
оно соответствует «всем нашим наблюдениям над
инструментами и машинами, работающими посредством удара, где
ударяющий производит тем больший эффект, чем с большей
высоты он ударяет»1.
Применив затем к оремовской модели движения (в ее
неправильной формулировке) одну из теорем «Начал»
Евклида, Галилей, пишут А. Григорьян и В. Зубов, «от этого
ошибочного утверждения путем ошибочного хода мысли
приходил к правильному утверждению», что «пути, проходимые в
равные отрезки времени, соответствуют последовательности
нечетных чисел»2. К чести Галилея, он сам заметил, что
принятое им положение о пропорциональности скорости
пройденному телом пути приводит к парадоксу (из принятого по-
ложения следовало, что движение происходит мгновенно)3.
1 Григорьян А. Т. Указ. соч. — С. 151.
2 Там же. — С. 152.
3 «В самом деле, — опровергает сам себя Галилей в «Беседах», — если скорости, с
которыми падающее тело проходит расстояние в четыре локтя, вдвое больше
скоростей, с которыми оно прошло первые два локтя (в случае
пропорциональности скоростей расстояниям. — В. Р.), то, стало быть, промежутки времени,
затраченные на прохождение того и другого расстояния, одинаковы. Но
прохождение одним и тем же телом четырех локтей и двух локтей за один и тот же
промежуток времени может иметь место лишь в том случае, если движение происходит
294
I Чтобы снять возникшее противоречие, Галилей меняет при-
г датое ранее исходное положение, он берет теперь второй ва-
I рйант оремовской модели (по которому скорость падающего
[ тела должна быть пропорциональна времени падения).
I о Изменив начальное положение, Галилей снова должен
| был соединить в доказательстве начальный и конечный пун-
I кты теоретического рассуждения. Но здесь возникло затруд-
\ нение: если раньше были известны характеристики прой-
f Денного телом пути и основная проблема сводилась к тому,
I чтобы установить отношение между скоростью и временем,
( то теперь в исходное положение путь не входил (было задано
< отношение между скоростью и временем), а в конечное вхо-
[ дил (зато известна была скорость). Это затруднение Галилей
*'<• преодолел, использовав теорему Орема об эквивалентности
; равномерного и равноускоренного движения (для
равномерного движения была выяснена связь между временем, путем
и скоростью, знание этой связи, перенесенное на равноуско-
? ренное движение, позволило Галилею в конечном счете
связать начальное положение с конечным), в результате
Галилей уже правильно доказал теорему о пропорциональности
пройденных телом расстояний квадратам времени (из это
теоремы Галилей выводит закон, что «пути, проходимые в
равные отрезки времени, соответствуют последовательности
нечетных чисел»).
Итак, мы видим, что уже в ранних исследованиях
Галилею удается сформулировать закон, в соответствии с
которым изменяется скорость тела при свободном падении. При
этом Галилей невольно разошелся с некоторыми основными
положениями «Физики» Аристотеля. Так, Аристотель
считал, что скорость падения пропорциональна весу падающего
тела и, кроме того, что для поддержания равномерного
движения тела необходимо постоянно затрачивать определен-
ную силу. С точки зрения этих представлений изменение
мгновенно; мы же видим, что тяжелое тело, падая, совершает свое движение во
времени, и что два локтя оно проходит в меньший срок, нежели четыре.
Следовательно, неверно, что скорости растут пропорционально пройденным путям»
(Цит. по: Григорьян А. Т. Очерки развития... — С. 153).
295
скорости падающего тела не могло быть изображено в
модели, предложенной Оремом. Действительно, если бы Галилей
в данном пункте принял положение Аристотеля (что без
действия поддерживающей силы достигнутая телом скорость
затухает), то он вынужден был бы утверждать, что или вес
тела тратится на поддержание достигнутой телом скорости, а
не на ее увеличение (в этом случае движение становилось бы
не равноускоренным, а равномерным), или скорость
падающего тела изменяется не равномерно, а по какому-то иному
закону (тогда движение не могло быть изображено в
прямоугольном треугольнике).
Использование оремовской модели свободного падения
наряду с другими соображениями заставило Галилея
предположить, во-первых, что скорость естественно ускоренного
движения изменяется по величине равномерно1 и,
во-вторых, что скорость тела, достигнутая в то или иное мгновение,
сохраняется сама собой без специальной силы, так что вес
тела тратится лишь на увеличение скорости (это положение
вело к закону инерции). Здесь может возникнуть вопрос:
почему Галилей больше доверяет оремовской модели, чем
Аристотелю или наблюдениям за падением реальных тел.
Думаю, отчасти потому, что под влиянием платонизма, весьма
популярного в это время среди гуманистически
ориентированных философов, он больше верит в идеи (а треугольник
скоростей —- это, по Галилею, сложная идея), чем в вещи.
Отчасти и потому, что, как он пишет в «Диалоге», в сфере
интеллекта математическое знание равно по объективной
достоверности знанию божественному.
«Человеческое понимание, —- пишет Галилей, — может
рассматриваться в двух планах —- как интенсивное и как
экстенсивное. Как экстенсивное его можно рассматривать в
отношении ко множеству интеллигибельных предметов,
число которых бесконечно; в этом плане человеческое пони-
1 «Если, — пишет Галилей, — мы внимательно всмотримся, то найдем, что нет
никакого приращения, нет никакого возрастания более простого, чем
происходящее всегда одинаково. Это мы легко поймем, всмотревшись в ближайшее
родство понятий времени и движения» (цит. по: Григорьян А. Т. Очерки развития... —
С. 158).
296
мание ничтожно, даже если оно охватывает тысячу
суждений, коль скоро тысяча по отношению к бесконечности есть
нуль. Но если человеческое понимание рассматривать
интенсивно и коль скоро под интенсивностью разумеют
совершенное понимание некоторых суждений, то я говорю, что
человеческий интеллект действительно понимает некоторые
из этих суждений совершенно и что в них он обретает ту же
степень достоверности, какую имеет сама Природа. К этим
суждениям принадлежат только математические науки, а
именно геометрия и арифметика, в которых божественный
интеллект действительно знает бесконечное число
суждений, поскольку он знает все. И что касается того немногого,
что действительно понимает человеческий интеллект, то я
считаю, что это знание равно божественному в его
объективной достоверности, поскольку здесь человеку удается понять
необходимость, выше которой не может быть никакой более
высокой достоверности»1. Не правда ли, поразительное
сходство с мыслями Кузанца? Но, вероятно, дело не в
сходстве, а в том, что Галилей прямо реализует программу
Кузанца, с работами которого он был знаком.
Наконец, новое понимание Галилеем свободного
падения стало возможным, поскольку оно принимает
концепцию импето, называя impetus «моментом»2. «Во время
движения тяжелого тела, —- пишет он, — такие моменты
накапливаются в каждое мгновение, нарастая равномерно, и
сохраняются в теле совершенно так же, как и нарастающая
скорость падающего тяжелого тела»3.
Дальнейшие шаги творческого поиска. Галилей прекрасно
сознавал, что доказанное им знание о пропорциональности
расстояний квадратам времени в теории равноускоренного
1 Галилей Г. Диалог... — С. 61.
2 «Так как градус скорости, — пишет Галилей в «Беседах», — достигнутый телом
при естественном падении, по своей природе нерушим и вечен», он «оставался
бы в теле неизменно запечатленным, если бы не было причин нового ускорения
или замедления; ускорения — в случае продолжающегося падения тела по
наклонной плоскости вниз, а замедления — в случае отраженного подъема по
второй плоскости, поднимающейся вверх» (Цит. по: Григорьян А. Т. Очерки
развития... — С. 34).
Там же. — С. 119.
297
движения является центральным. Поэтому он старался
обосновать и это знание, и положение, на которое оно
опирается (о равномерном приращении скорости падающего тела),
не только теоретически, но и посредством опыта1. Однако
оба эти положения противоречили некоторым наблюдениям
и фактам. Во-первых, было известно, что скорость тел,
имеющих малый диаметр, вообще не меняется, т. е. эти тела
падают равномерно. Во-вторых, оба положения вступали в
прямое противоречие и с одним из основных принципов
механики Аристотеля, гласящим, что ускорение падающего
тела прямо пропорционально его весу и обратно
пропорционально степени плотности или густоты среды, в которой
совершается падение. К тому же оба положения (о
равномерном приращении и пропорциональности квадратам
времени) в то время при слабом развитии измерительной техники
вообще нельзя было проверить опытным путем.
В данном пункте своих исследований Галилей отрицает
положение Аристотеля о пропорциональности ускорения
весу тела и пытается обосновать другое — о том, что все тела
независимо от веса падают с одинаковой скоростью (в
античной науке это положение высказывал Демокрит, а в ре-
нессансной — Бенедетти)2. Для этого Галилей производит
прямые опыты и, кроме того, доказывает, что рассуждение,
опирающееся на положение Аристотеля, приводит к
противоречиям. Однако оба способа аргументации Галилея
не имели успеха, на противоречия сторонники Аристотеля
просто не обратили внимания, а опыт Галилея они признали
неудовлетворительным на том основании, что тела
бросаются с малой высоты и поэтому-де эффект
пропорциональности не успевает проявиться3. Более того, очень точные для
того времени опыты Леонардо да Винчи как будто бы
подтвердили положение Аристотеля о том, что тела падают со
скоростями, пропорциональными их весу. Подтвердили по-
ложения Аристотеля и опыты Винченцо Раньери и Риччоли,
1 См.: Галилей Г. Беседы... — С. 319.
2 Там же.— С. 143—145.
3 См.: Гуковский М. А. Указ. соч. — С. 463—477.
298
бросавших тяжелые и легкие шары и сферы с наклонных
башен в Пизе и Болонье. А. Койре в своей статье «Галилей и
опыт в Пизе: по поводу легенды» доказывает, что Галилей
вообще не проводил опытов с бросанием тел, поскольку
сформулированные им положения относились не к
движению тел в воздушной среде, а к движению в пустоте.
Думаю, Галилей принимает положение о падении тел с
одинаковой скоростью независимо от их веса не только
потому, что так утверждали Демокрит и Бенедетти. К этой
гипотезе его подталкивала необходимость опытной проверки
при том, что он не мог подтвердить на опыте ни исходную
гипотезу, ни конечное, строго доказанное положение. Тогда
Галилей решает проверить косвенное следствие, которое
можно было получить, анализируя оремовский треугольник.
Дело в том, что в него входят только два параметра —- время и
скорость, но не входит вес тела, а следовательно, мог
рассуждать Галилей, если принимать оремовский треугольник
скоростей, то необходимо принять и то, что все тела падают с
одинаковой скоростью независимо от их веса. Здесь опять
приоритет отдавался математической идее, а не
наблюдению.
Чтобы преодолеть возражения оппонентов, Галилей
вынужден был усложнить представление о естественно
ускоренном движении. К исходной оремовской модели
движения он добавляет еще одну. В. нее входили как раз те два
параметра, на которые указывал Аристотель, т. е. вес падающего
тела и среда, в которой движение происходило. Построенная
Галилеем более сложная модель позволяла объяснить,
почему сопротивление среды, увеличение ее плотности приводят
к уменьшению скорости падающего тела. Галилей
предположил, что, во-первых, на падающее тело действует
архимедова сила, равная весу вытесненного телом воздуха, во-вторых,
что тело при падении раздвигает частицы среды, притом чем
с большей скоростью тело движется, тем больше становится
противодействие среды1. Однако новая модель не объясняла,
1 См.: Галилей Г. Беседы... — С. 141 — 162.
299
почему в одной и той же среде уменьшение диаметра тела
сказывается на уменьшении его скорости. Чтобы объяснить
и этот факт, Галилей предположил, что при падении
происходит взаимодействие среды с поверхностью тела. В
результате становится возможным говорить о трении,
замедляющем движение тела в среде. Галилей показывает, что чем
больше поверхность тела, тем больше среда взаимодействует
с падающим телом и тем больше, следовательно, трение
(тела с малым диаметром имеют сравнительно с их весом
большую площадь поверхности, и поэтому на них действует
большая замедляющая сила трения)1.
Тактика «спасения» Галилеем оремовской модели
довольно интересна. С одной стороны, он вынужден
обратиться к анализу наблюдаемой реальности и признать роль
среды, с другой —- тем не менее, Галилей и эту роль осмысляет в
духе платонизма как искажение процесса падения,
заданного исходной моделью. При этом он рассматривает сущность
свободного падения двояко: как идеализированный случай
«падение тела в пустоте» (т. е. некий мыслимый случай
падения тела, когда полностью устранено сопротивление среды)
и как факторы, искажающие этот идеализированный
процесс (один фактор — сила трения тела о среду, другой —
архимедова выталкивающая сила). Устами героя диалога Саль-
ва Галилей говорит: «...причина различной скорости
падения тел различного веса не заключается в самом их весе, а
обусловливается внешними причинами — главным образом
сопротивлением среды, так что если бы устранить
последнее, то все тела падали бы с одинаковой скоростью»2. Здесь
«тела, падающие с одинаковой скоростью» —-
идеализированный случай падения, «сопротивление среды» —- фактор,
искажающий идеализированное падение тела.
Вводя представление об идеализированном падении тела
(когда полностью устранено сопротивление среды), Галилей
реализует и платоновскую установку, по которой вещи — это
копии идей, и ренессансную установку на творение вещи по
1 См.: Галилей Г. Беседы... — С. 182—183.
2 Там же. — С. 160.
300
замыслу. В данном случае самого творения еще нет, но оно
намечается в рассуждении, так сказать, уже планируется.
Как мы помним, уже Аристотель рассматривал случай
падения тел в пустоте, но — как невозможный (то, что не
существует, а только гипотетически мыслится). Галилей же,
напротив, считает, что именно тогда, когда нет сопротивления
среды, падение тела происходит в точном соответствии с
законами природы (оремовским треугольником скоростей). Но в
этом случае сопротивление он вынужден рассматривать как
фактор, искажающий чистый природный процесс.
Однако одновременно здесь обнаруживается
возможность трактовать этот фактор как способ потенциального
воздействия на падающее тело. Не забудем, что инженер
Нового времени хочет овладеть природой, управлять ее
процессами. Для этого, правда, сами процессы нужно представить в
форме механизмов. Почему механизмов? А потому, что
любой механизм (машина), как это постепенно становится
ясным инженеру Нового времени, хотя и действует в
соответствии с законами природы, но человек именно за счет
особого устройства механизма получает доступ к этим природным
процессам и даже может ими управлять. Например, маятник
часов движется по законам природы, но механика часов
позволяет управлять этим движением (замедлять или ускорять
ход часов)1. Главное для инженеров теперь было понять, как
нужно устроить механизм, чтобы в нем реализовывались
1 Понимание того, что в естественной науке природные явления нужно
представить как механизмы, пришло не сразу. И легче оно давалось не в самом
естествознании, а в тех науках, которые пытались себя построить по образцу
естественных наук, например в психологии. «Наука, — пишет сторонник
естественно-научного варианта психологии П. Я. Гальперин, — изучает, собственно, не
явления, а то, что лежит за ними и производит их, что составляет "сущность" этих
явлений, — их механизмы. <...> Есть еще один аспект вопроса о предмете
психологии, который сразу обнаруживает его насущное практическое значение, и не
"вообще", а для всякого психологического исследования, не только
теоретического, но и практического. Это вопрос о том, что составляет механизмы
психологических явлений и где эти механизмы следует искать. Понятно, что, только
зная эти механизмы, можно овладеть предметом в большей мере, чем позволяют
опыт и практика, не вооруженные теорией; понятно и то, что всякое
психологическое исследование должно быть направлено на изучение механизма
психических явлений» (Гальперин П. Я. Введение в психологию. — М., 1976. — С. 9—10).
301
нужные, работающие на человека природные процессы и
как на них можно воздействовать.
Еще раз усовершенствованная модель движения
позволила Галилею не только сохранить исходную оремовскую
схему и одновременно объяснить наблюдаемые факты, но и
поставить один из опытов, подтверждающих
пропорциональность пройденных путей квадратам времени. Галилей с
помощью построенной модели стал изучать, при каких
условиях параметры движения становятся удобными для
измерения или же влияют на выделенные процессы так
незначительно, что ими на практике можно пренебречь.
Теоретическое моделирование в конечном счете позволило Галилею
выделить одно из таких условий, и он показал, что если
падение тел происходит с небольшой скоростью, то
сопротивление среды будет незначительным, а время движения
достаточно большим (даже в том случае, если тело падает с
небольшой высоты). Практически это означало, что
сопротивлением среды в данном случае можно пренебречь и,
следовательно, движение тела будет происходить в
соответствии с теоретической моделью. При этом можно будет
измерить время движения.
Для постановки опыта Галилею необходимо было решить
еще одну задачу — найти тела, падающие с небольшой
скоростью. Падение же с такой скоростью происходит или в
плотной среде, или для тел маленького диаметра, для
которых сопротивление среды достаточно велико. Необходимое
же условие опыта, как это следовало из рассуждения
Галилея, — возможность пренебречь сопротивлением среды.
Вместе с тем не учитывать его тоже невозможно.
Последнее затруднение Галилей преодолел, еще раз
разложив силы и движения. Так, падение тела по наклонной
плоскости (оно совершалось с малой скоростью) он
разложил на два: горизонтальное движение и свободное падение,
видоизмененное сопротивлением наклонной плоскости.
Затем импульс, ускоряющий тело, Галилей представил как
результат пяти сил: силы веса и четырех сил сопротивления
302
(расталкивание телом частиц среды, трение о среду, трение о
наклонную плоскость, преодоление наклона). Так как
движение по наклонной плоскости совершалось с небольшой
скоростью, первыми двумя силами сопротивления сразу
можно было пренебречь. Трение тела о поверхность
наклонной плоскости также можно было не учитывать в том случае,
если поверхности тела и наклонной плоскости были
достаточно гладкими, а это условие, как нетрудно догадаться,
находилось целиком в руках Галилея. Неплохой техник, он
легко изготовил гладкие поверхности и затем поставил
эксперимент, подтверждающий выдвинутое им положение (этот
эксперимент А. Койре уже не отрицает, но считает
неэффективным, поскольку в новой науке еще не было средств для
точного измерения времени).
Заметим, что с точки зрения, например, античной науки
вполне было достаточным теоретически доказать положение
о пропорциональности пройденных путей соответствующим
квадратам времени. Проверять это положение опытом
не только не следовало, такая проверка, если бы
кому-нибудь такое пришло в голову, считалась бы просто
затемняющей строгость доказательства. Тем более нельзя было
изменять объект, по поводу которого предпринималось
доказательство, ведь он был создан самим Демиургом или
существовал всегда. Однако с точки зрения мыслителя Нового
времени, ощущающего себя творцом, изменение объекта в
соответствии с замыслом было вполне допустимым. Тем более
что в сфере интеллекта математическое знание Галилей
уподобляет божественному. Поэтому, реализуя в эксперименте
идеализированное движение, фиксируемое как раз
математической моделью, Галилей всего лишь следовал за Богом.
При этом возникали трудные вопросы о расхождении
данных наблюдения и теории, реального объекта и
идеализированного, а также возможности не учитывать параметры
природного явления, численные значения которых оказывались
невелики. Вот что по этому поводу пишет Галилей:
303
«Сальв... Я допускаю, далее, что выводы, сделанные
абстрактным путем, оказываются в конкретных случаях
далекими от действительности и столь неверными, что ни движение
в поперечном направлении не будет равномерным, ни
ускоренное движение при падении не будет соответствовать
выведенной пропорции, ни линия, описываемая брошенным
телом, не будет параболой и т. д. С другой стороны, я прошу
вас не отказывать нашему Автору в праве принимать то, что
предполагалось и принималось другими известнейшими
учеными, хотя и было неправильным. Авторитет одного
Архимеда должен успокоить в этом отношении кого угодно.
В своей механике и книге о квадратуре параболы он
принимает как правильный принцип, что коромысло весов
является прямой линией, равноудаленной во всех своих точках от
общего центра всех тяжелых тел, и что нити, к которым
подвешены тяжелые тела, параллельны между собой. Подобные
допущения всеми принимались, ибо на практике
инструменты и величины, с которыми мы имеем дело, столь
ничтожны по сравнению с огромным расстоянием,
отделяющим нас от центра земного шара, что мы смело можем
принять шестидесятую часть градуса соответствующей весьма
большой окружности за прямую линию, а два
перпендикуляра, опущенных из ее концов, — за параллельные линии. <...>
Поэтому, когда мы хотим проверить на практике в конечном
пространстве те выводы, которые сделаны в предположении
бесконечного пространства, необходимо из того, что
окажется в действительности, исключить то, что может быть
приписано не бесконечной удаленности нашей от центра,
хотя бы последняя и была огромной по сравнению с малой
величиной приборов, которыми мы пользуемся... для
научного трактования этого предмета необходимо сперва сделать
отвлеченные выводы, а сделав их, проверить в тех пределах,
которые допускаются опытом. Польза от этого будет
немалая. Вещество и форму можно при этом выбрать такими,
чтобы сопротивление среды оказывалось возможно
меньше»1.
1 Цит по: Гальперин П. Я. Введение в психологию. — С. 431.
304
Из этих размышлений Галилея видно, что он не путал
принцип, по которому математическое знание задает
истинное описание природы, и обоснование полученных знаний,
где устанавливается только приблизительное состояние дел.
В целом (с точки зрения исторической перспективы)
Галилей смог добиться успеха, по крайней мере, за счет трех
моментов: построения моделей движения,
ориентированных на эксперимент; переноса в механику астрономических
способов мышления; неожиданного переворачивания
отношений между знанием и объектом. Рассмотрим эти моменты
подробнее.
В теории Галилей смог определить условия, при которых
стала возможна постановка хорошего эксперимента.
Именно в данном пункте он и обращается к астрономическим
приемам мышления. Еще в античной науке последнего
периода астрономы, задавая в теоретической модели одни
параметры изучаемого объекта, как правило, неизмеряемые, а
лишь введенные в теорию, могли рассчитывать другие
параметры этого объекта, которые уже можно было измерить с
помощью астрономических приборов. Галилей действовал
строго по астрономическим «рецептам» — построил такую
модель движения, на которой смог рассчитывать параметры,
допускающие измерение. А. Койре вообще считает, что
современная физика имеет свой пролог и эпилог в астрономии
и что нельзя «установить и выработать земную физику или
по крайней мере земную механику, не развивая в то же время
механику небесную».
Помимо переноса в механику астрономических методов
мышления, Галилей сделал еще один революционный шаг:
обработав поверхности падающего тела и наклонной
плоскости, он привел изучаемый объект в соответствие с
моделью. Установка Галилея на построение теории и
одновременно на инженерные приложения заставляет его
проецировать на реальные объекты (падающие тела) характеристики
моделей и теоретических отношений, т. е. уподоблять
реальный объект идеальному. Однако, поскольку они различны,
20. Заказ №4180
305
Галилей расщепляет в знании (прототип мысленного
эксперимента) реальный объект на две составляющие. Одну —
точно соответствующую, подобную идеальному объекту, и
другую — отличающуюся от него (она рассматривается как
идеальное поведение, искаженное влиянием разных
факторов — среды, трения, взаимодействия тела и наклонной
плоскости и т. п.). Затем эта вторая составляющая реального
объекта, отличающая его от идеального объекта,
элиминируется экспериментальным способом.
До Галилея, как я отмечал, научное изучение всегда
мыслилось как получение об объекте научных знаний при
условии константности, неизменности самого объекта. Никому
из исследователей не могло прийти в голову практически
изменять изучаемый реальный объект (в этом случае он
мыслился бы как другой объект). Ученые шли в ином
направлении, старались так усовершенствовать модель и теорию,
чтобы они полностью описывали поведение реального объекта.
Расщепление реального объекта на две составляющие и
убеждение, что теория задает истинную природу объекта,
которая может быть проявлена не только в знании, но и в
опыте, направляемом знанием, позволяет Галилею мыслить
иначе. Он задумывается над тем, а нельзя ли так изменить
сам реальный объект, практически воздействовав на него,
чтобы уже не нужно было изменять его модель, чтобы объект
соответствовал ей.
Именно на этом пути Галилей и достиг успеха.
Следовательно, в отличие от опытов, которые проводили многие
ученые и до Галилея, эксперимент предполагает, с одной
стороны, вычленение в реальном объекте идеальной
составляющей (при проецировании на реальный объект теории), а с
другой — перевод техническим путем реального объекта в
идеальное состояние, т. е. полностью отображаемое в теории
(добиваясь тем самым своеобразного изоморфизма теории и
наблюдаемого в эксперименте природного явления).
Интересно, что опытным путем Галилей смог проверить лишь тот
случай, где можно было не учитывать действие основных сил
306
сопротивления, т. е. тот, который в реальной практике не
имел места. Это был случай идеальный, вычисленный
теоретически, реализованный техническим путем. Но оказалось,
что будущее именно за этими идеальными реальностями;
они открывали новую эпоху в практике человека — эру
инженерии, опирающейся на науку.
Суммируя то, что можно назвать «философскими
взглядами» Галилея, Р. Баттс в интересной статье «Тактика
пропаганды Галилея в пользу математизации научного опыта»
пишет:
«1. Наука трактует не о тех вещах, о которых говорят нам
наблюдения невооруженным глазом, но о тех
экспериментальных возможностях, которые выразимы в
математических терминах.
2. На определенном регулятивном уровне — на уровне,
где методологические соображения перевешивают
онтологические, — экспериментирование не является попыткой
подтвердить теорию повторами, экспериментирование
оказывается скорее способом усмотрения теоретических
возможностей, причем эти возможности всегда зависят от
взгляда на реальность как на набор математических
свойств.
3. Материя недоступна для обычного восприятия, она
суть физически интерпретированная геометрия. <...>
...Эти положения предполагают, что наука должна быть
готова иметь дело с вымышленными ситуациями.
Эксперимент в конечном счете есть именно создание не-нормальных
(с точки зрения стандартов здравого смысла), артефактных
ситуаций. Конечное заключение очевидно: научный опыт —
тот вид опыта, который мы обязаны иметь, чтобы
определить истинность или ложность математических возможно-
; стей, а совсем не тот вид опыта, о котором Аристотель и его
последователи говорили как о базовом»1.
Баттс Р. Е. Тактика пропаганды Галилея в пользу математизации научного
\ опыта // Методологические принципы современных исследований развития
| науки (Галилей): PC. - М., 1989. - С. 81-82.
6.3. Формирование инженерии,
естественной науки,
новой математики
Стоит отметить, что Галилей не ставил своей
специальной целью получение знаний, необходимых для создания
механизма, действующего на основе закона свободного
падения, для определения параметров реального технического
устройства, реализующего этот закон. Но, выйдя на идею
использования наклонной плоскости и далее практически
реализовав эту идею, он фактически определил характеристики
механизма, реализующего закон свободного падения. При
этом Галилей решал эту задачу как одну из побочных в
отношении основной — построения новой науки механики.
X. Гюйгенс же своей основной задачей ставит задачу,
которая по отношению к галилеевской выступает как обратная.
Если Галилей считал заданным определенный
природный процесс (свободное падение тела) и далее строил знание
(теорию), описывающее закон протекания этого процесса,
то Гюйгенс ставит перед собой обратную задачу: по
заданному в теории знанию (соотношению параметров идеального
процесса) определить характеристики реального
природного процесса, отвечающего этому знанию. На самом деле, как
показывает анализ работы Гюйгенса, задача, которую он
решал, была более сложная: нужно было не только определить
характеристики природного процесса, описываемого
заданным теоретическим знанием, но также получить в теории
дополнительные знания, характеризующие природные
явления, влияющие на основной рабочий процесс, выдержать
условия, обеспечивающие отношение изоморфизма,
определить технические параметры объекта, которые может
регулировать сам исследователь. Кроме того, выявленные
параметры нужно было конструктивно увязать с другими,
определяемыми на основе рецептурных соображений так, чтобы
в целом получилось действующее техническое устройство, в
308
котором бы реализовался природный процесс,
описываемый исходно заданным теоретическим знанием.
Другими словами, X. Гюйгенс пытается реализовать
мечту и замысел техников и ученых Нового времени: исходя из
научных теоретических соображений запустить реальный
природный процесс, которым бы можно было управлять.
И надо сказать, это ему удалось. Конкретно инженерная
задача, стоящая перед Гюйгенсом, заключалась в
необходимости сконструировать часы с изохронным качанием
маятника, т. е. подчиняющимся определенному физическому
соотношению (время падения такого маятника от какой-либо
точки пути до самой его низкой точки не должно зависеть от
высоты падения). Анализируя движение тела,
удовлетворяющее такому соотношению, Гюйгенс приходит к выводу, что
маятник будет двигаться изохронно, если будет падать по
циклоиде, обращенной вершиной вниз. Открыв далее, «что
развертка циклоиды есть также циклоида», он подвесил
маятник на нитке и поместил по обеим ее сторонам
циклоидально изогнутые полосы так, «чтобы при качании нить с
обеих сторон прилегала к кривым поверхностям. Тогда
маятник действительно описывал циклоиду»1.
Таким образом, исходя из технического требования,
предъявленного к функционированию маятника, и знаний
механики, Гюйгенс определил конструкцию, которая может
удовлетворять данному требованию. Решая эту техническую
задачу, он отказывается от традиционного метода проб и
ошибок, типичного для античной и средневековой
технической деятельности, и обращается к науке. Гюйгенс сводит
действия отдельных частей механизма часов к естественным
процессам и закономерностям и затем, теоретически описав
их, использует полученные знания для определения
конструктивных характеристик нового механизма. Такому выводу
предшествовали исследования по механике, идущие в русле
идей «Бесед...». Не забывает Гюйгенс при этом и своей
конечной цели. «Для изучения его (маятника) природы, — пи-
См.: Гюйгенс X. Три мемуара по механике. — М., 1951. — С. 12—13, 79, 91.
309
шет он, — я должен был произвести исследования о центре
качания. <...> Я здесь доказал ряд теорем. <...> Но всему я
предпосылаю описание механического устройства часов...»1
Другими словами, Гюйгенс опирается на установленные
Галилеем отношения между научным знанием (идеальными
объектами) и реальным инженерным объектом. Но если
Галилей показал, как приводить реальный объект в
соответствие с идеальным, то Гюйгенс продемонстрировал, каким
образом полученное в теории и эксперименте соответствие
идеального и реального объектов использовать в
технических целях. Тем самым Гюйгенс и Галилей практически
осуществили то целенаправленное применение научных
знаний, которое и составляет основу инженерного мышления и
деятельности. Для инженера всякий объект, относительно
которого стоит техническая задача, выступает, с одной
стороны, как явление природы, подчиняющееся естественным
законам, а с другой — как орудие, механизм, машина,
сооружение, которые необходимо построить искусственным
путем («как другую природу»).
Сочетание в инженерной деятельности «естественной» и
«искусственной» ориентации заставляет инженера
опираться и на науку, из которой он черпает знания о естественных
процессах, и на существующую технику, где он заимствует
знания о материалах, конструкциях, их технических
свойствах, способах изготовления и т. д. Совмещая эти два рода
знаний, инженер находит те «точки» природы и практики, в
которых, с одной стороны, удовлетворяются требования,
предъявляемые к данному объекту его употреблением, а с
другой — происходит совпадение природных процессов и
действий изготовителя. Если инженеру удается в такой
двухслойной «действительности» выделить непрерывную цепь
процессов природы, действующую так, как это необходимо
для функционирования создаваемого объекта, а также найти
в практике средства для «запуска» и «поддержания» процес-
сов в такой цепи, то он достигает своей цели. Так, Гюйгенс
1 Гюйгенс X. Указ. соч. — С. 10.
310
смог показать, что изохронное движение маятника может
быть обеспечено конструкцией, представляющей собой
развертку циклоиды. Падение маятника, видоизмененное
такой конструкцией, вызывало естественный процесс,
соответствующий как научным знаниям механики, так и
инженерным требованиям к механизму часов.
В своем трактате Гюйгенс перечисляет задачи, которые
ему необходимо было решить: пришлось развернуть учение
Галилея о падении тел, доказав ряд новых теорем, изучить
развертки кривых линий (в результате Гюйгенс создал
теорию эволют и эвольвент), провести исследование о центре
качания маятника и, наконец, воплотить полученные
знания в конкретном механическом устройстве часов. С работ
Гюйгенса естественно-научные знания (механики, оптики
и др.) начинают систематически использоваться для
создания разнообразных технических устройств. Для этого в
естественной науке инженер-ученый выделяет или строит
специальную группу теоретических знаний. При этом именно
инженерные требования и характеристики создаваемого
технического устройства влияют на выбор таких знаний
или формулирование новых теоретических положений,
которые нужно доказать в теории. Эти же требования и
характеристики (в случае исследования Гюйгенса это было
требование построить изохронный маятник, а также
технические характеристики создаваемых в то время механических
конструкций) показывают, какие физические процессы и
факторы необходимо рассмотреть (падение и подъем тел,
свойства циклоиды и ее развертки, падение весомого тела
по циклоиде), а какими можно пренебречь
(сопротивлением воздуха, трением нити о поверхности). Наконец,
исследование теории позволяет перейти к первым образцам
инженерного расчета.
Расчет в данном случае, правда, предполагал не только
применение уже полученных в теории знаний механики,
оптики, гидравлики и т. д., но и, как правило, их предваритель-
; ное построение теоретическим путем. Расчет — это опреде-
[ 311
ление характеристик технического устройства исходя, с
одной стороны, из заданных технических параметров (т. е.
таких, которые инженер задавал сам и мог контролировать в
существующей технологии) и, с другой — из теоретического
описания физического процесса, который нужно было реа-
лизовывать техническим путем. Описание физического
процесса бралось из теории, затем определенным
характеристикам этого процесса придавались значения технических
параметров, и, наконец, исходя из соотношений, связывающих в
теории характеристики физического процесса,
определялись те параметры, которые интересовали инженера. В
трактате о часах Гюйгенс провел несколько расчетов: длины
простого изохронного маятника, способа регулирования хода
часов, центров качания объемных тел. Фактически уже
теории Архимеда содержали своеобразные расчеты (например,
устойчивости плавающих тел), и, возможно, великий
ученый Античности рассчитывал с их помощью технические
конструкции. Однако для Архимеда расчет —- деятельность,
лежащая за пределами науки. Рассчитать техническое
сооружение в понимании Архимеда, вероятно, не что иное, как
определить один из частных случаев существования
математической идеи (сущности). Для ученого такого калибра, как
Архимед, подобные задачи вполне можно было решить, и,
судя по созданным им механизмам, он их решал (и не
однажды).
Суммируем, как выглядят в объективном плане этапы
нового, инженерного способа создания технического изделия.
1. Техническое действие в гипотетической плоскости
сводится к определенному природному процессу (например,
движению по инерции и свободному падению снаряда при
артиллерийской стрельбе, как в случае Галилея, или делению ядер
урана в ядерном реакторе, что имело место в XX столетии).
2. В ходе естественно-научного изучения этого
природного процесса подбирается или специально строится
математическая модель, описывающая основные особенности
312
исследуемого процесса (оремовская модель в работе Галилея;
уравнения, описывающие деление ядер у рана).
3. В эксперименте эта модель уточняется или
перестраивается с тем, чтобы можно было описать особенности
экспериментально сформированного идеализированного
природного процесса {свободного падения тела в безвоздушной среде;
деления всех ядер урана), а также факторы и условия,
влияющие на него {сопротивление воздуха при падении тела;
примеси в уране и величина пробега осколков ядер в процессе их
деления). Одновременно в эксперименте происходит
практическое формирование такого идеализированного процесса.
4. На основе построенной математической модели и
результатов эксперимента инженер изобретает и рассчитывает
конструкцию, призванную реализовать идеализированный
природный процесс уже в форме технического действия
{создание Гюйгенсом циклоидально изогнутой металлической
полоски, по которой должен падать маятник часов; очищение
урана от примесей и определение критической массы). Для
расчета конструкции он сводит ее параметры, с одной стороны,
к характеристикам идеализированного природного
процесса, с другой —- к факторам и условиям, влияющим на этот
процесс.
5. Опытным путем (при создании опытного образца)
уточняются и доводятся все характеристики технического
изделия, и инженер убеждается, что оно действительно
работает, как было запланировано и рассчитано.
Заметим, что в случае инженерной деятельности при
создании технического изделия опыт уже не играет той роли,
которую он имел на предыдущих стадиях развития техники.
Он, конечно, частично сохраняется в форме эксперимента и
на стадии создания опытного образца, но все же главным
становится именно инженерная деятельность и
обеспечивающие ее исследования и разработки.
Итак, если Галилей создал первый образец
естествознания, то Гюйгенс — инженерного действия, т. е. показал, как
на основе знаний новой науки (позднее она получила назва-
313
ния естественной) создавать технику, где бы, во-первых,
реализовались уже изученные в естественной науке процессы
природы, во-вторых, ими можно было управлять.
Если подвести итог, то можно сказать следующее: в
естественных науках идеальные объекты должны включать в
себя математические идеальные объекты и описывать
механизмы природных явлений; теория естественной науки,
помимо требований, сформулированных еще в Античности,
строится так, чтобы в ней можно было получить знания,
необходимые для инженерии. Как следствие, постепенно
формируется мировоззрение, что «природа написана на языке
математики», представляет собой скрытый механизм,
однако в естественной науке этот скрытый механизм можно
описать в форме законов природы, а в инженерии, используя эти
законы, создавать реальные механизмы. Успехи
естествознания и инженерии все больше затеняли тот факт, что
идеализированная природа (написанная на языке математики) —-
это всего лишь небольшой фрагмент действительности,
который освоил человек, что «природа в эксперименте» не
тождественна реальной природе.
Напротив, человек XVII—XVIII вв. склоняется к мысли
отождествить идеализированную природу со всем миром, а
естественно-научное знание — с истинным знанием о мире.
Социальная жизнь все больше стала пониматься как
изучение законов природы (при этом и сам человек, и общество
тоже понимались как природные явления), обнаружение ее
практических эффектов, создание в инженерии механизмов
и машин, реализующих законы природы, удовлетворение на
основе достижений естественных наук и инженерии
растущих потребностей человека. Просвещение не только
развивает это новое мировоззрение, но и создает условия для
распространения его в жизнь. Известно, что объединенные
вокруг «Энциклопедии» передовые мыслители хотели
осуществить начертанный Ф. Бэконом план «великого
восстановления наук», связывающий социальный прогресс с
прогрессом научным; исходными идеями для всех просветителей
314
стали понятия природы и воспитания; последнее должно
было подготовить нового просвещенного, а по сути —
естественно-научно и технически ориентированного человека1.
«Просветители XVIII в., — пишет А. П. Огурцов, —
довели до конца подход к миру как к машине, созданной Богом.
Природа мыслится как машина, а ее законы постижимы
благодаря техническим средствам... понятие "естественного
закона" становится фундаментальным не только для
естествознания, но и для складывающейся общественной науки,
прежде всего для концепций естественного права и учения о
морали».
«Государи (по словам Руссо. — В. Р.) должны поощрять
искусства и науки, в противном случае подданые "остались
бы невежественными и бедными"»2.
«Прогресс наук (пишет Кондорсэ в книге «Эскиз
исторической картины прогресса человеческого разума». —- В. Р.)
обеспечивает прогресс промышленности, который сам
затем ускоряет научные успехи, и это взаимное влияние,
действие которого беспрестанно возобновляется, должно быть
причислено к более деятельным, наиболее могущественным
причинам совершенствования человеческого рода»3. «С
прогрессом наук Кондорсэ связывает увеличение массы
продуктов, уменьшение сырьевых и материальных затрат при
выпуске продуктов промышленности, уменьшение доли
тяжелого труда, повышение целесообразности и рациональности
потребления, рост народонаселения и в конечном итоге
устранение вредных воздействий работ, привычек и
климата, удлинение продолжительности человеческой жизни.
<...> В последней главе, посвященной десятой эпохе,
Кондорсэ намечает основные линии будущего прогресса
человеческого разума и основанного на нем прогресса в
социальной жизни человека: уничтожение неравенства между наци-
ями, прогресс равенства между различными классами того
J Длугач Т. Б. Просвещение // НФЭ. — М., 2001. - Т. 3.
з Огурцов А. П. Философия науки эпохи Просвещения. — М., 1993. — С. 45, 95.
Там же. — С. 250.
315
с
же народа, социального равенства между людьми, наконец,
действительное совершенствование человека»1.
Для современного уха и сознания все эти декларации и
утверждения привычны, но они не были столь привычными
для людей того времени. К тому же я хочу обратить внимание
на момент, вовсе не очевидный, а именно что наше
понимание социальности — благополучия, счастья, безопасности,
свободы и пр. — в эпоху Просвещения было тесно увязано с
прогрессом естественных наук и основанной на них технике
и промышленности.
Но, конечно, естественные науки развивались не только
под влиянием запросов инженерии. Еще по меньшей мере
два фактора имели здесь существенное значение, а именно:
особенности самого познания, предполагавшего сведение
новых явлений к уже изученным (прежде всего, к
механическим, к движениям), а также формирование новой
математики (высшего или математического анализа). Рассмотрим
последний момент подробнее. Но сначала вернемся к
Галилею, вспомним, как он мыслил понятие «путь».
Движение в концепции Галилея онтологически
мыслится как состоящее из двух основных элементов — времени и
скорости. Скорости суммируются во времени, образуя
пройденный телом путь («расстояние»). Доказывая, например,
эквивалентность равноускоренного движения
равномерному, Галилей пишет: «Возьмем треугольник ABC,
изображающий своими линиями, параллельными основанию ВС,
градусы [скорости], непрерывно возрастающие соответственно
приращениям времени; из этих линий, поскольку они бес-
численны, как бесчисленны и точки на линии АС, и мгнове-
1 Цит. по: Огурцов А. П. Философия науки... — С. 149,151—152. «Уже в проекте Та-
лейрана ( 1784—1838) образование рассматривается как "власть, ибо оно
охватывает целую систему различных функций, неизменно направленных к
совершенствованию политического строя и к общему благу". <...> Образование,
построенное на принципах разума, делает человека "счастливым и полезным". <...>
Даже Кондорсэ, отстаивавший свободу слова и автономность образовательных
учреждений от государственной власти, видел цель образования в том, чтобы
"открыть всему человечеству способы удовлетворить свои потребности,
обеспечить свое благосостояние, познать и использовать свои права, понять и
выполнить свои обязанности"» (Там же. — С. 59—60).
316
ния в любом отрезке времени, возникнет площадь
треугольника»1. Здесь площадь —- это и совокупность (сумма) всех
«точечных скоростей», и с современной точки зрения
пройденное телом расстояние, т. е. путь. Но для Галилея это не
так, путь выглядит не как свойство движения, а только как
его результат.
Разработка понятия пути, приближающегося к
современному, —- заслуга Ньютона. Опираясь на разработанную
Галилеем онтологию, последний приступает к изучению новых
видов движения — движений тел по криволинейным
траекториям в поле тяготения. Особенности этих движений
предопределили и разработку нового математического языка,
включающего теорию элементарной геометрии, теорию
конических сечений и инфинитезимальные методы. Эти
методы представляют собой нахождение квадратур кривых линий
и определение касательных к ним («интегрирование до
интегрального исчисления и дифференцирование до
дифференциального исчисления»), а также использование
результатов одних процедур в других. Известно, что И. Барроу,
учителю и другу Ньютона, удается доказать, что процедуры
нахождения касательных и квадрирования связаны
«отношением обратимости»2. «Барроу исходил из механических
идей Галилея и Торричелли. Во главу исследования он
поставил понятие движения и в одних случаях выводит путь,
пройденный точкой, по времени и скорости движения, а в
других по времени и пути выводит скорость движения. В
такой форме у Барроу впервые были сопоставлены две
взаимно обратные проблемы интегрирования и
дифференцирования, причем для произвольных кривых, т. е., по-нашему,
функций»3.
Цит. по: ГригорьянА. Т. Очерки развития... — С. 146—147.
Вилейтнер Г. В. История математики от Декарта до середины XIX столетия. —
М., 1960. — С. 114. «Взаимно обратный характер двух групп инфинитезимальных
проблем, решаемых нами теперь с помощью дифференцирования и
интегрирования, отнюдь еще не был ясен ученым того времени» (Там же).
Там же. — С. 114. Отношение обратимости позволяет, зная уравнение А,
задающее касательные к определенной кривой, которая выражена уравнением В,
находить квадратуру кривой, выраженной уравнением А, объявив уравнение В
результатом процедуры квадрирования.
317
i
Можно предположить, что использование отношения
обратимости обусловило новые требования к строгости
процедур квадрирования и нахождения касательных. И раньше
при построении подобных процедур использовались
«предельные переходы», т. е. прием, когда сумма «бесконечно
малых» величин и их отношения приравнивались к
постоянным величинам. Требования к строгости этих переходов, как
показывает анализ математических работ (Архимед, Кеплер
и др.), определялись лишь возможностями получить те же
самые результаты другими, уже испытанными
геометрическими способами. Например, Кавальери с помощью
предельных переходов вычисляет объемы пирамиды и конуса, а
также площадь параболического сегмента; ранее эти
результаты были вычислены с помощью строгих геометрических
методов.
Ситуация стала меняться, когда было установлено
отношение обратимости. На процедуры предельных переходов
были наложены новые требования: например, убедиться при
переходе от бесконечно малых величин к постоянным, что
сумма этих бесконечно малых действительно равна
постоянной величине. Дело в том, что процедуры, которые
подводятся под отношения обратимости, как правило,
складываются в разных математических предметах и вначале кажутся
совершенно разными, несвязанными. Если первоначально
отношения обратимости устанавливаются для отдельных и к
тому же нередко нематематических ситуаций (в случае
Барроу для движения тел), то затем они переносятся на
математические объекты. Свойства же традиционных
математических объектов таковы, что при таком переносе возникают
парадоксы. Естественный выход из этого затруднения —
перестройка математической онтологии, в ней задаются
операции и объекты, сразу связанные отношением обратимости.
Другой недостаток инфинитезимального метода был
обусловлен тоже предельными переходами. Эти переходы
невозможно было интерпретировать на построенную
Галилеем онтологию движения, поскольку переходы в вычисле-
318
ниях от суммы отрезков к площадям и от площадей к
отрезкам не удавалось соотнести с переходами от скоростей к пути
и обратно (ведь, как уже отмечалось, площадь у Галилея
не получала удовлетворительного онтологического
истолкования).
Можно предположить, что, применяя
инфинитезимальный метод, Ньютон обнаружил, с одной стороны, дефекты
самого этого математического метода, с другой — дефекты
физической онтологии движения, не позволявшие
эффективно применять инфинитезимальный метод. В связи с этим
Ньютон формулирует и начинает решать сразу две задачи:
одну — направленную на изменение математического языка,
другую — на изменение физической онтологии.
Анализ работ Ньютона показывает, что для построения
новой математики он вслед за Барроу воспользовался
физическими соображениями, привнеся в математику
характеристики, полученные Галилеем при изучении движения. «Я, —
пишет Ньютон, —- рассматриваю здесь математические
количества не как состоящие из очень малых частей, а как
производимые непрерывным движением. Линии описываются
и по мере описания образуются не приложением частей, а
непрерывным движением точек, поверхности — движением
линий, объемы —- движением поверхностей, углы —
вращением сторон, времена —- непрерывным течением».
Одновременно Ньютон строит новое понятие математической
величины, приписывая ей атрибуты идеального движения —
время, скорость, путь. Вместо физического времени он берет
так называемую «соотнесенную величину» (quatitas),
«посредством равномерного роста или течения которой
выражается и измеряется время». С ее помощью и задается новое
понятие математической величины: «Постоянно и
неопределенно возрастающие величины называются флюентами, их
бесконечно малые приращения суть моменты, между тем как
их скорости суть флюксии, с которыми возрастают вследст-
вие порождающего их движения флюенты»1.
Цит. по: Кудрявцев 77. С. История физики. — М., 1948. — Т. 1. — С. 197—199.
319
Этим, так сказать, сделана половина дела, поскольку
введенное понятие позволяет осмыслить и задать отношение
обратимости между процедурами квадрирования и
нахождения касательных. Действительно, объекты новой
математической онтологии (флюенты, моменты и флюксии) задаются
на пересечении двух операций — прямой и обратной,
например, флюксия — это, с одной стороны, скорость изменения
флюенты, т. е. отношение бесконечно малых, а с другой —
то, что обусловливает моменты, т. е. изменение самих
величин.
Чтобы сделать вторую половину дела, а именно задать в
новой онтологии конкретный вид прямых и обратных
операций, нужно было новые математические объекты связать
между собой определенными отношениями. Решая эту
задачу, Ньютон схематизирует правила определения
касательных, которые получили Барроу и другие математики, отреф-
лексировавшие свои инфинитезимальные вычисления.
Например, основное отношение, связывающее флюксии и
флюенты, Ньютон получает из схематизации
опубликованного Барроу приема определения касательных (этот прием
основывался на отношении обратимости и совмещал в себе
идеи Валлиса и Ферма)1.
Построив новую математику, Ньютон использует ее
для построения физической онтологии. Эта задача была
значительно проще первой, поскольку новая
математическая онтология включала в себя основные характеристики
идеальных объектов механики. Это обстоятельство
позволило основные элементы новой математической
онтологии переинтерпретировать относительно движения. В
результате формируются новые понятия «скорость» и
«путь», соответствующие флюксиям и флюентам, и новое
понимание механического движения, на законных
основаниях включающего в себя не только время и скорость, но
и путь.
1 См.: Вилейтнер Г. В. Указ. соч. — С. 114.
320
Рассмотренный здесь материал показывает, что не любая
математика эффективна при формировании естественной
1ауки, что важным фактором развития последней выступает
взаимодействие соответствующих онтологии (применяемой
математики и естественной науки), что формирование
математики в Новое время часто идет на основе ассимиляции,
тереосмысления и конструктивизации онтологических
характеристик естественной науки.
21. Заказ №4180
Глава 7
Особенности гуманитарной науки
7.1. Предпосылки и социальный
контекст становления
гуманитарной науки
Можно указать несколько таких предпосылок. Одной из
них являлось возросшее значение в культуре личности,
частных форм жизни, отдельных подходов в науке. Другой —
неудачные попытки в XIX в. распространить
естественно-научный подход на человека, историю, культуру, социальные
явления. Неудачные с точки зрения ряда ученых и
философов, а не вообще; известно, что до сих пор многие
специалисты пытаются реализовать естественно-научный подход.
Определенное значение сыграло и осознание новых
способов мышления, характерных для истории, искусствознания,
культурологии, социологии, языкознания, права, этики и
других родственных им научных дисциплин (позднее они
получили название гуманитарных или социальных). Речь
идет, например, о методах реконструкции текстов,
представлении материала сквозь призму ценностей исследователя,
этической интерпретации знаний.
Развитие в XIX в. гуманитарных и социальных
дисциплин способствовало осознанию того обстоятельства, что
естественная наука и математика больше не могут
рассматриваться как всеобщая форма научного знания. Но именно
таков был отрефлексированный Кантом идеал научности.
Одним из первых критиков этого идеала был Ф. Шлейермахер.
Философия, по его мнению, должна изучать не чистое
мышление (теоретическое и естественно-научное), а повседнев-
322
ную обыденную жизнь; философия «не может быть отделена
от истории и конкретного человеческого опыта», должна
включать в себя «анализ искусства, религии, этики,
политики и языка»1. Другая важнейшая установка Шлейермахера,
оказавшая большое влияние на взгляды Вильяма Дильтея, —
необходимость поворота в познании от выявления общих
законов к единичному и индивидуальному.
Если согласно философской традиции, объединяющей
Аристотеля, Ф. Бэкона и Канта, утверждается, что наука
имеет дело только с общим, понятиями, законами, то новая
традиция, идущая от Шлейермахера и Риккерта, ориентирует
научное познание на индивидуальное. Соответственно
«науки о природе» (естествознание и математика) начинают резко
противопоставляться «наукам о культуре» (позднее
«гуманитарным»). «История, которая трактует о людях, их
учреждениях и деяниях, — пишет Риккерт, — может быть названа лишь
индивидуализирующей наукой о культуре, если мы будем
иметь в виду ее последние цели. Целью ее всегда является
изображение единичного, более или менее обширного хода
развития во всей его единственности и индивидуальности»2.
На это же противопоставление двух типов наук опирается
в ранних работах В. Дильтей, доказывающий, что «науки о
духе» должны выработать собственные методы и приемы
исследования (конкретно его интересовала психология).
«Метод объяснительной психологии, — пишет Дильтей, —
возник из неправомерного распространения
естественно-научных понятий на область душевной жизни и истории. <...>
Господство объяснительной или конструктивной
психологии, оперирующей гипотезами по аналогии с познанием
природы, ведет к последствиям, чрезвычайно вредным для
развития наук о духе». Мы, говорит Дильтей, «заявляем
требование наук о духе на право самостоятельного определения
методов, соответствующих их предмету»3.
Цит. по: Михаилов А. А. Современная философская герменевтика. — С. 34.
2 Риккерт Г. Философия истории. — СПб., 1908. — С. 74.
Дильтей В. Описательная психология. — М., 1924. — С. 8, 10, 69.
21*
323
Дильтей считает, что «первоначально данной»,
«непосредственной» в духе (душевной жизни) является «связь
душевной жизни» (ее целостность, «связанный комплекс» —
ср. с идеями гештальтпсихологов). В то же время в природе
исследователю даны не связанные друг с другом явления.
Если в естественных науках, считает Дильтей, природные
явления объясняются на основе гипотез о связи между
явлениями (связывающих их в целое), то в психологии явления
душевной жизни должны «постигаться» («переживаться») на
основе душевной связи, исходя из целого. Отсюда и
проистекает различие методов объяснительной и описательной
психологии: первая полагает, конструирует связи на основе
гипотез, а вторая, исходя из связи душевной жизни (целого),
должна расчленять душевную жизнь на другие связи и
единицы. «...В естественных науках, — пишет Дильтей, — связь
природных явлений может быть дана только путем
дополняющих заключений, через посредство ряда гипотез. Для наук
о духе, наоборот, вытекает то последствие, что в их области в
основе всегда лежит связь душевной жизни как
первоначально данное. Природу объясняем, душевную жизнь мы
постигаем. Во внутреннем опыте даны также процессы
воздействия, связи в одно целое функций как отдельных членов
душевной жизни. Переживаемый комплекс тут является
первичным, различение отдельных членов его — дело уже
последующего...»1
Сформулировав проблему, Дильтей, однако, пришел к
проблематичности гуманитарного познания, поскольку
познание такого объекта, как переживание, меняет само это
переживание. «Мы не можем познать сущность самой
жизни, то, что открывается, есть образ, а не сама жизнь»2. «В
известных границах возможность постижения внутренних
состояний существует. Правда, и в пределах их постижение
затрудняется внутренним непостоянством всего психическо-
го. Последнее — всегда процесс. <...> Всякое психическое
1 Дильтей В. Указ. соч. — С. 9.
2 Diltey W. Jesammelte Schriften. - Leipzig, 1928-1979.-Bd. 1-18, Vol. 5.-S. 317.
324
состояние во мне возникло к данному времени и в данное
время вновь исчезает»1.
Процессуальное^, текучесть, непостоянство душевной
жизни, считает Дильтей, тем не менее, не отрицают ее
организованности, постоянства, порядка. Течение и
взаимодействие процессов душевной жизни характеризуются именно
«планомерностью», «порядком», «постоянством»,
структурой. «При всей безмерной изменчивости содержаний
сознания, — пишет он, — всегда повторяются одни и те же
соединения, и таким образом постепенно вырисовывается
достаточно ясный облик их. Точно так же все яснее, отчетливее и
вернее становится сознание того, как эти синтезы входят в
более обширные соединения и в конце концов образуют
единую связь»2.
Обосновав возможность на новых основаниях научного
познания душевной жизни, Дильтей далее анализирует
условия гуманитарного познания. Одно из таких условий —
перенос акцента с собственной рефлексии душевной жизни на
наблюдение за другими (ср. с идеей Уотсона). Лишь
сравнивая себя с другими, считает Дильтей, можно иметь знание
индивидуального относительно себя; сознавать можно
только то, что в тебе «отличается от другого». Другое условие —
анализ определенных форм деятельности человека, в
которых окристаллизованы жизненная активность и творчество
человека. Однако возникает следующий вопрос: как
возможно изучение «другого» и опредмеченных форм
деятельности человека (его языка, творчества, внешнего поведения
и т. п.)? На этот вопрос вслед за Шлейермахером Дильтей
отвечает так: гуманитарное познание возможно в форме
понимания. «Пониманием мы называем процесс, в котором из
чувственно данных проявлений душевной жизни мы
подходим к ее познанию»3. Понимание, по Дильтею, — это
сложный герменевтический процесс, включающий три разных
момента: интуитивное постижение чужой и своей жизни;
Дильтей В. Указ. соч. — С. 71, 76.
Там же. — С. 40.
3 Diltey W. Op. cit. - S. 82.
325
объективный, общезначимый ее анализ (оперирующий
обобщениями и понятиями) и семиотическую
реконструкцию проявлений этой жизни1.
При этом Дильтей приходит к исключительно важному
выводу, несколько напоминающему кантовское положение
о том, что мышление не выводит законы из природы, а,
наоборот, предписывает их ей. Дильтей показывает, что
понимание и связанное с ним гуманитарное познание
определяются установками (позицией, ценностями) исследователя.
«Возможность постигнуть другого, — пишет он, — одна из
глубоких теоретико-познавательных проблем. <...> Условие
возможности состоит в том, что в проявлении чужой
индивидуальности не может не выступать нечто такое, чего
не было бы в познающем субъекте»2.
Значение работ Дильтея можно оценить так: он не только
обосновал возможность и специфику гуманитарного
познания, но и проблематизировал его, показав зависимость
гуманитарного познания от установок познающего, сочетание в
гуманитарном познании внешне противоположных
процедур — интуитивного постижения и понятийного анализа,
принадлежность исследователя и его объекта к одной
реальности, значение в гуманитарном познании понимания и
интерпретаций.
Следующий шаг делает Макс Вебер. Он усиливает тезис
Дильтея о зависимости гуманитарного познания от
установок познающего, связывая эту зависимость с ценностями
исследователя. Показывает, что гуманитарное познание
представляет собой не просто изучение некоторого явления, но
одновременно его конституирование, внесение в него смыс-
ла, ценностей3. Оригинально решает проблему сочетания в
1 См.: Diltey W. Op. cit. - S. 217-218, 341-342.
2 Цит. по: Гайденко П. П. Категория времени в буржуазной европейской
философии истории XX века // Философские проблемы исторической науки. — М.,
1969.-С. 247-248.
3 «Не существует, — пишет Вебер, — совершенно "объективного" научного
знания культурной жизни или социальных явлений, не зависимого от особых и
"односторонних" точек зрения, в соответствии с которыми они избраны в качестве
исследования, подвергнуты анализу и расчленены» (Вебер М. Исследования по
методологии науки. — М., 1980. — С. 35).
326
\
гуманитарном познании индивидуализирующих и
генерализирующих методов. «Разумеется, — пишет Вебер, — это
не означает, что в области наук о культуре познание общего,
образование абстрактных родовых понятий и знание правил,
попытка формулировать "закономерные" связи вообще
не имеют научного оправдания. Напротив. <...> Следует
только всегда помнить, что установление закономерностей
такого рода не цель, а средство познания»1. М. Вебер считал,
что идеальные объекты гуманитарной науки имеют особый
статус: это не изображения действительности, а
идеально-типические построения («конструкции», «понятия»),
которые позволяют исследователю схематизировать
эмпирический материал и организовывать его в соответствии с
выбранной точкой зрения и задачей исследования2.
М. Бахтин прекрасно знал работы Риккерта, Дильтея и
Вебера. Еще в ранней статье (1919) он формулирует мысль,
сходную с веберовской, о том, что познание в гуманитарной
науке есть одновременно и конституирование познаваемой
действительности. В поздних работах, отталкиваясь от своих
исследований, Бахтин утверждает, что объект познания в
гуманитарных науках не просто принадлежит к той же
действительности, что и познающий, но что он не менее активен,
чем познающий субъект. Гуманитарное познание у Бахтина
истолковывается как активный процесс диалогического
общения и взаимодействия. «Науки о духе, предмет — не один,
а два "духа" (изучаемый и изучающий, которые не должны
1 Вебер М. Указ. соч. — С. 46.
2 «По своему содержанию эта конструкция носит характер утопии, полученной
посредством мысленного доведения определенных элементов действительности
до их полного выражения. Ее отношение к эмпирически данным феноменам
действительной жизни состоит в следующем: в тех случаях, когда абстрактно
представленные в этой конструкции связи в какой-то степени выявляются или
предполагаются реально действующими, мы можем, сопоставляя их с
идеальным типом, показать и пояснить с прагматической целью своеобразие этих
связей. Такой метод может быть эвристическим, а для определения ценности
явления даже необходимым. В исследовании идеально-типическое понятие —
средство для вынесения правильного суждения о каузальном сведении элементов
действительности» (Там же. — С. 60—61).
327
сливаться в один дух). Настоящим предметом является
взаимоотношение и взаимодействие "духов"»1.
В вопросе же о специфике гуманитарного познания как
принципиально отличного от естественно-научного Бахтин
колеблется. С одной стороны, он считает, что гуманитарная
наука изучает уникальные индивидуальные объекты,
причем рефлексивно. «Если понимать текст широко, как всякий
связанный знаковый комплекс, то искусствоведение имеет
дело с текстами. Мысли о мыслях, переживания
переживаний, слова о словах, тексты о текстах. В этом основное
отличие наших (гуманитарных) дисциплин от естественных (о
природе). <...> Науки о духе. Дух не может быть дан как вещь
(прямой объект естественной науки), а только в знаковом
выражении, реализации в текстах. <...> Каждый текст (как
высказывание) является чем-то индивидуальным,
единственным и неповторимым, и в этом весь смысл его... он (в
своем свободном ядре) не допускает ни каузального
объяснения, ни научного предвидения. <...> Возникает вопрос,
может ли наука иметь дело с такими абсолютно
неповторимыми индивидуальностями... не выходят ли они за рамки
обобщающего научного познания. Конечно, может»2.
С другой стороны, Бахтин склонен связывать
гуманитарное и естественно-научное познание. «Противопоставление
(Дильтей, Риккерт) гуманитарных и естественных наук было
опровергнуто дальнейшим развитием гуманитарных наук.
Одновременность художественного переживания и
научного изучения. Их нельзя разорвать, но они проходят разные
стадии и степени и не всегда одновременно» . Для
объективности все же нужно признать, утверждая, что гуманитарная
наука может иметь дело с «абсолютно неповторимыми инди-
' Бахтин M. M. Эстетика словесного творчества. — С. 349.
2 Там же. — С. 281,283,285,287. «...Существует абстрактная позиция третьего,
которая отождествляется с "объективной позицией" как таковой, с позицией
всякого "научного познания"»... В жизни как предмете мысли (отвлеченной)
существует человек вообще, существует третий, но в самой живой переживаемой
жизни существуем только Я, ТЫ, ОН, и только в ней раскрываются
(существуют) такие первичные реальности, как мое слово и чужое слово, и вообще те
первичные реальности, которые пока еще не поддаются познанию (отвлеченному,
обобщающему), а поэтому не замечаются им (Там же. — С. 348—349).
3 Там же. — С. 349.
328
видуальностями», Бахтин не показывает, как это возможно.
В чем же специфика гуманитарного познания? Чтобы
понять это, проанализируем под интересующим нас углом
зрения три образца гуманитарной работы — исследование
В. А. Плугиным произведения Андрея Рублева
«Воскрешение Лазаря», нашу работу «Две жизни А. С. Пушкина» и
исследование М. Бахтиным произведений Достоевского.
7.2. «Воскрешение Лазаря»
в интерпретации В. Плугина
Большинство искусствоведов (Г. Милле, Л. Рео, В.
Лазарев, И. Лебедева и др.) считают, что «Воскрешение Лазаря»
«не представляет ничего нового и неожиданного ни в
деталях, ни в построении целого» (сюжет иконы прост —
Христос воскрешает умершего Лазаря, являя свою божественную
сущность и знаменуя будущее собственное и всеобщее
воскресение)1. Однако В. А. Плугин утверждает, что
«иконография рублевского "Воскрешения" при всей традиционности
деталей уникальна...» Он обращает внимание на новое
расположение в композиции апостолов. Обычно они
изображались за Христом, это можно наблюдать в тысяче других
«Воскрешений», здесь же апостолы идут навстречу Христу.
Апостолы поменялись местами с иудеями. Христос в своем
движении как бы наталкивается на обращенных к нему
апостолов. «Его вытянутая вперед правая рука словно врезается в
эту группу». В то же время изображение Лазаря отходит на
второй план. Божественная благодать как бы адресуется
теперь только апостолам2. Другое важное отличие —
изображение белоснежной фигуры воскресшего Лазаря, обернутого
погребальными пеленами, не на черном фоне входа в пещеру
(как это делалось всегда), а на белом. Рублев написал его бе-
' См.: Плугин В. А. Мировоззрение Андрея. — М., 1974. — С. 60.
2 Там же. — С. 60, 66.
329
лым на белом?! Фон пещеры, как показали обследования
иконы В. Плугиным, «действительно был изначально белым
или, может быть, охристым. И на этом фоне проецировалась
одетая в чуть желтоватый, моделированный белилами саван
фигура воскресшего». Другие исследователи, также
заметившие это новшество, однако, не придали ему особого
значения: так, В. Лазарев считает иконографию рублевского
«Воскрешения» «привычной и освященной вековой
художественной практикой», а Э. Смирнова интерпретирует ее в
русле новых веяний «московской живописи XV в.»1.
Как же В. Плугин объясняет, почему Андрей Рублев
разрывает с традиционным каноном? Он доказывает, что
Рублев в своих иконописных произведениях пытался провести
исихастские идеи. Речь идет прежде всего об идеях
прижизненного обожествления человека, об апостольской миссии и
роли божественной энергии («Фаворского» света славы,
исходящего от Христа на людей и всю природу). «Ясная,
спокойная уравновешенность рублевских композиций,
удивительно лиричный линейный ритм, — замечает В. Плугин, —-
исследователи давно связали с именами Сергия
Радонежского — Нила Сорского, которые, как известно,
проповедовали на Руси идеи исихазма»2. По мнению искусствоведа
Н. А. Деминой, Рублев меньше, чем другие средневековые
люди, разделял дух и материю, он видел их в неразрывном
единстве светлую, воздушную, живую плоть. Ему не нужна
тень, чтобы подчеркнуть силу света3.
Действительно, исихасты считали, что человек должен
преодолевать противоположность между материальным и
духовным. Воспринимая божественную энергию, он, будучи
во плоти, может «обожиться не только душой, умом, но и
телом стать богом по благодати и постичь весь мир изнутри —
как единство, а не как множественность, ибо только благода-
ря этой энергии един столь дробный и множественный в сво-
1 Плугин В. А. Указ. соч. — С. 60.
2 Там же. — С. 57.
3 См.: Демина Н. А. Черты героической действительности XIV—XV вв. в образах
людей Андрея Рублева и художников его круга. — М.; Л., 1956. — С. 318—319.
330
их формах мир»1. Свет от Христа, изображенный
Рублевым, — считает В. Плугин, — понимается русским
художником именно как благодать, «как энергия, которая
животворит весь мир»2.
Если традиционная иконография «Воскрешения»
подчеркивала факт удостоверения чуда прежде всего для неуве-
ровавших иудеев («Иудеи мечутся и жестикулируют,
ощупывают тело воскрешенного и затыкают носы от трупного
запаха»3), то Рублев переносит центр тяжести всей композиции и
драматургии на взаимоотношения Христа с апостолами.
Именно апостолов, а не простых иудеев, доказывает В.
Плугин, убеждает Христос в первую очередь, а поэтому именно к
ним и обращается («Тогда Иисус сказал им (ученикам)
прямо: Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там,
дабы не уверовали; но пойдем к нему»4). В. Плугин уверен,
что вифанские иудеи как народ темный, неодухотворенный
мало интересуют Рублева. Им отведена третьестепенная
роль статистов. Главное внимание Рублев сосредоточивает
на апостолах, идущих по пути богопознания5.
Однако, изменив «центр тяжести» «Воскрешения»,
Рублев, как убедительно показывает Плугин, вынужден был для
сохранения «художественного равновесия» изменить и
другие ее элементы. Так, он снижает и отодвигает на второй
план старую ось и центр — Христос и Лазарь; именно этому
служит изменение фона пещеры («белое на белом» уже
не бросается в глаза, не приковывает к себе взор). Еще одно
назначение этого приема — передать божественный свет
славы Христа, освещающий пещеру и воскресшего, свет,
одновременно физический и мистический, «который заново
созидает человека из тлена» (в «Апологии» 1868 г.
говорилось: «Верю и принимаю, что свет Господня Преображения
на Фаворе есть несозданный и вечный, что он есть безнача-
льное и вечное божество, физический луч, существенная и
Плугин В. А. Указ. соч. — С. 59.
Там же.
Там же. — С. 62.
Евангелие от Иоанна. — XI. — С. 15—16.
См.: Плугин В. А. Указ. соч. — С. 71.
божеская энергия, осияние и блеск и красота божества
Бога-Слова»1).
И еще один новый момент: Рублев искусно группирует
цвета одежды Христа и апостолов; компонует, связывая
силуэтные линии фигур Христа и апостолов формой овала,
снимает натуралистические подробности (так, персонажи
иконы уже не зажимают носы от нестерпимого смрада, как
это любили изображать средневековые художники)2.
Интерпретация Плугина, безусловно, интересна и
убедительна. И, тем не менее, нельзя с достоверностью
утверждать, что так и было на самом деле. Нет строгих исторических
свидетельств того, что Рублев был исихастом (известно
лишь, что он родился, вероятно, в 1360 г., сорок лет жил в
миру, затем постригся в монахи, еще в миру получил
признание и известность, всех превосходил в мудрости). Но, даже
если бы подобные свидетельства остались, нет прямых
доказательств, что Рублев в своих произведениях выражал иси-
хастское мировоззрение. К тому же ведь возможны и другие
интерпретации «Воскрешения Лазаря».
Например, можно (наша собственная интерпретация)
предположить, что, расположив апостолов перед Христом,
Рублев всего лишь следовал канону средневекового видения.
Он изображает толпу, следующую за Христом, двумя
группами: апостолов как более значимую группу учеников
выдвинул вперед и развернул к Христу, а простых иудеев дал
традиционно идущими вслед за Христом. Средневековое
художественное видение вполне допускало не только изображение
рядом видимых и невидимых с фиксированной точки зрения
поверхностей (и внешних, и внутренних), но также
изображение частей одного предмета разнесенными в пространстве
и различно повернутыми (особенно толпы; это прекрасно
видно, например, на миниатюре из «Древнего летописца»;
желая показать план фундамента возводимой церкви, лето-
писец разбил толпу на три части и разнес их в живописном
1 Цит. по: Успенский Ф. //. Очерки по истории византийской образованности. —
СПб., 1891.-С. 359.
2 См.: Плугин В. Л. Указ. соч. — С. 66—67.
332
пространстве1; средневековый зритель, однако, видел на
миниатюре одну толпу, а не три). Изменение же фона пещеры
действительно понадобилось из чисто художественных
соображений, чтобы более органично согласовать
изображение толпы с осью «Христос — Лазарь».
Но и принимая исихастскую трактовку, можно
предложить несколько иную интерпретацию, чем это сделал Плу-
гин. Если присмотреться к «Воскрешению», то можно
заметить, что Христос находится не в той же плоскости, что и
апостолы, он, к чему и стремились обычно средневековые
иконописцы, пребывает в другом пространстве и реальности
(мистической). Например, анализ новгородской иконы
«Успение», приписываемой Феофану Греку, показывает, что
две группы событий — смерть Марии в окружении
апостолов, стоящих около ее ложа, и встреча ее души с Христом —
осуществляются хотя и одновременно, но первые — в
обычной реальности, а вторые — в мистической. На иконе
изображены два плана — реальный, где находятся ложе Марии,
апостолы, святители и архитектурный фон; и план
мистический с Христом. Взоры всех персонажей, подчеркивает
Б. Раушенбах, «обращены к умирающей Марии, и никто не
смотрит на Христа, хотя совершенно очевидно, что
появление Христа среди его учеников потрясло бы их тем более, что
он появляется в сияющих и светящихся одеждах. <...>
Желание более четко выделить границу, разделящую обычное и
мистическое пространство, обусловило то, что с начала XV в.
такая граница часто обозначается не только цветом, но и
изображением непрерывного ряда ангелов, расположенных
вдоль границы пространств»2. '
Рублев, конечно, действует не столь прямолинейно, но,
тем не менее, взгляд и движение Христа, динамика иконных
горок, подчеркивающая его ход, направлены в
«Воскрешении» не к апостолам и не к Лазарю, а вовне; они выводят
Христа за пределы реальных взаимоотношений и событий, в
См.: Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи. Очерк
основных методов. — М., 1980. — С. 142.
Там же. — С. 153—154.
333
которые погружены люди. Соответственно взгляды иудеев и
апостолов обращены не прямо на Христа, а как бы проходят
сквозь него, мимо него (такое впечатление, что они его
не видят). Сделано это, конечно, весьма тонко и деликатно,
без жесткого деления пространства на две сферы — обычную
и мистическую. Рублев как бы хочет сказать: Христос сделал
свое дело и уходит, а на земле остаются апостолы и иудеи, вот
они стоят друг против друга. Им жить дальше, как же они
будут жить, что делать, после того как воочию увидели чудо
воскрешения. Прокомментируем теперь данное
исследование.
В. Плугин добивается новой, оригинальной
интерпретации произведений Андрея Рублева прежде всего за счет
привлечения представлений культурологии и теории творчества.
Он помещает произведения А. Рублева в контекст русской
культуры XIV—XV вв. и художественного творчества.
Плугин доказывает, что А. Рублев проводил в своем творчестве
исихастские идеи (мировоззрение), и это обстоятельство
вместе с законами художественного творчества обусловило
совершенно иную, нетрадиционную структуру
иконописного произведения. Следовательно, полагается особый
сложный объект — «творчество художника в культуре»,
утверждается влияние культуры на мировоззрение художника и
трансформация художественной деятельности под
воздействием этого мировоззрения и законов художественного
творчества. Что же это за объект?
Ясно, что его нельзя наблюдать, нельзя описать как
эмпирическую данность. Он сконструирован исследователем,
причем на основе гипотетических соображений:
утверждается соответствие мировоззрения исихазма мировоззрению
А. Рублева и полное воплощение этого мировоззрения в его
художественном творчестве. Следовательно, Плугин строит
идеальный объект. Отнесенные к нему теоретические
знания, безусловно, объясняют, и на хорошем современном
уровне гуманитарного мышления, особенности
произведений Рублева. Однако, естественно, может возникнуть во-
334
прос: соответствует ли этот идеальный объект (творчество
А. Рублева в русской культуре XIV—XV вв.) эмпирическому
объекту, т. е. реальному творчеству А. Рублева? Кроме того,
как быть с другими приведенными мной интерпретациями
того же самого произведения А. Рублева, ведь эти
интерпретации выводят исследователя к другим идеальным объектам.
Таким образом, критерий истины один — возможность
объяснить особенности произведений А. Рублева, и, если
есть несколько конкурирующих объяснений этих
особенностей, нужно решать, какие из них более убедительны и
почему. Здесь, правда, обнаруживается, что для разных
исследователей и зрителей более привлекательными и
убедительными оказываются разные объяснения; налицо множество
гуманитарных истин, каждая из которых вполне оправдана
позицией и ценностями человека.
Если обобщить различения, полученные в анализе
исследования Плугина, то можно предположить, что для
гуманитарного познания принципиальным является различение
двух планов познания: истолкования (интерпретации)
текстов и построения теоретического объяснения (теории).
В естественных науках исследователю дан (и то не всегда)
реальный объект, например газ, лучи света и т. п., и он
формирует процедуры измерения и манипулирования (так, газ
можно изолировать в объеме, сжимать, нагревать). В
гуманитарных науках исследователь имеет дело прежде всего с
проявлениями изучаемого явления, которые он
рассматривает как тексты (вспомним Бахтина: «Если понимать текст
широко, как всякий связанный знаковый комплекс, то
искусствоведение имеет дело с текстами»).
Приступая к изучению своего объекта, исследователь
прежде всего формирует способы описания и истолкования
этих текстов. Далее в контексте этих истолкований, в
частности, как их необходимое условие он создает идеальные
объекты, рассматриваемые как теоретическое представление
изучаемого явления. Очевидно, эти два этапа характерны
при создании идеальных объектов гуманитарных наук.
335
В рассмотренном выше примере В. Плугин, приступая к
исследованию мировоззрения А. Рублева, обнаруживает в
тексте иконы «Воскрешение Лазаря» резкое нарушение канона
и другие непонятные художественные новации. Иначе
говоря, сначала Плугин создает новое истолкование текста
А. Рублева. Затем на основе представлений культурологии и
психологии творчества он конструирует особый идеальный
объект — «творчество А. Рублева как выражающего в
иконописи идеи исихазма». Этот объект именно конструируется и
относится не к эмпирической плоскости, а к особой
идеальной действительности — русской культурной ситуации
конца XIV — начала XV столетий, а также к творчеству
художника, не столько решающего художественные задачи, сколько
пропагандирующего на русской почве новые эзотерические
идеи.
Анализ работ Плугина, Бахтина и других гуманитарно
ориентированных исследователей показывает, что новые
истолкования текстов предполагают активное отношение
исследователя к существующим точкам зрения в культурной
коммуникации. Как правило, эти исследователи начинают с
полемики (диалога) относительно других концепций, точек
зрения, истолкований. В ходе такой полемики
артикулируются собственные ценности и видение, разъясняются
новизна и особенности авторского подхода, высказываются
первые предположения о природе изучаемого объекта.
«Позиционирование» авторской точки зрения, своеобразный
«гуманитарный скандал» — необходимый момент
гуманитарной работы.
Итак, важно различать два взаимосвязанных контекста
гуманитарного познания мышления: истолкование текстов
и построение идеальных объектов, репрезентирующих в
теории изучаемое явление. При этом к уже построенным
идеальным объектам в гуманитарной науке применяются
обычные стандартные процедуры: сведения новых случаев к уже
изученным, преобразования (разложение сложных
идеальных объектов на элементы и более простые идеальные
336
объекты, а также обратный синтез), промежуточного
изучения, позволяющего получить новые теоретические знания,
моделирования (уже за пределами теории), систематизации
и др.
7.3. Две жизни Александра
Сергеевича Пушкина
В 1830 г. Пушкин женится на Наталье Гончаровой и, по
сути, начинает новую жизнь. Он не только все меньше
времени уделяет поэзии, соответственно все больше прозе, а
также историческим исследованиям, но и в корне меняет
образ жизни: становится образцовым семьянином, оставляя
уже без внимания карты и женщин. В начале 1832 г. Пушкин
пишет в письме: «Надобно тебе сказать, что я женат около
года и что вследствие сего образ жизни моей совершенно
переменился, к неописуемому огорчению Софьи Остафьевны
и кавалергардских шаромыжников. От карт и костей отстал я
более двух лет...»1
Но дело не просто в смене внешнего образа жизни и
отказа от дурных, пагубных привычек, вряд ли красивших
великого поэта России. Пушкин меняется нравственно, духовно.
Собираясь жениться, он трезво и горько оценивает свою
прожитую жизнь, фактически осуществляет христианское
покаяние. В апреле 1830 г. Пушкин пишет письмо Н. И.
Гончаровой, матери своей будущей жены, где, в частности, есть
такие строчки: «Заблуждения моей ранней молодости
представились моему воображению; они были слишком тяжки и
сами по себе, а клевета их еще усилила; молва о них, к
несчастью, широко распространилась». И буквально через день —
два он пишет своим родителям: «Я намерен жениться на мо-
лодой девушке, которую люблю уже год — м-ль Натали Гон-
Все письма цитированы по кн.: Пушкин Л. С. Сочинения. Переписка. — М.,
1941. -Т. 13, 14.
г. '
%.
{ 22. Заказ №4180
\
чаровой. <...> Прошу вашего благословения не как пустой
формальности, но с внутренним убеждением, что это
благословение необходимо для моего благополучия — и да будет
вторая половина моего существования более для вас
утешительна, чем моя печальная молодость».
Однако не преувеличивает ли Александр Сергеевич свои
прегрешения, может быть, это просто своеобразное
кокетство перед старшим поколением? Б. Бурсов, обсуждая в книге
«Судьба Пушкина» эту проблему, приводит высказывания
многих современников Пушкина и письма самого поэта, из
которых видно, что ситуация еще печальнее. Особенно
поражает письмо-наставление 23-летнего Пушкина своему
18-летнему брату. «Тебе придется иметь дело, — пишет
Пушкин, — с людьми, которых ты еще не знаешь. С самого начала
думай о них все самое плохое, что только можешь
вообразить; ты не слишком сильно ошибешься... презирай их
самым вежливым образом... будь холоден со всеми... не
проявляй услужливости и обуздывай сердечное расположение,
если оно будет тобой овладевать: люди этого не понимают.
<...> То, что я могу сказать тебе о женщинах, было бы
совершенно бесполезно. Замечу только, что чем меньше любим
мы женщину, тем вернее можем овладеть ею».
А вот воспоминание сына П. А. Вяземского о беседах с
Пушкиным, когда П. П. Вяземскому было еще 16 лет.
«Вообще в это время Пушкин как будто систематически
действовал на мое воображение, чтобы обратить на себя внимание
женщин, что нужно идти вперед нагло, без оглядки, и
приправлял свои нравоучения циническими цитатами из Шам-
фора»1. Далее Б. Бурсов приводит размышления В.
Вересаева, М. Корфа, К. Полевого, П. Долгорукова (три
последних — современники Пушкина, а Корф с ним учился), из
которых, с одной стороны, видно восхищение поэтическим
гением Пушкина, с другой — уничтожающая оценка
личностных качеств Пушкина как человека. «В лицее, — пишет
Корф о Пушкине, — он превосходил всех в чувственности, а
1 Цит. по: Бурсов Б. Судьба Пушкина // Звезда. — 1974. — № 6. — С. 123.
338
после в свете предался распутствам всех родов, проводя дни
и ночи в непрерывной цепи вакханалий и оргий. <...>
Пушкин не был создан ни для света, ни для общественных
обязанностей, ни даже, думаю, для высшей любви или истинной
дружбы. У него господствовали только две стихии:
удовлетворение плотским страстям и поэзии, и в обеих он ушел
далеко». Б. Бурсов пишет, что сохранились «десятки
свидетельств, причем совершенно достоверных, о резком
несоответствии между стихами молодого Пушкина, наполненными
самыми высокими красотами, и его внешним поведением,
раздражавшим очень многих. По словам H. M. Карамзина,
«Пушкин, если он только не исправится, сделается чертом
еще до того, как попадет в ад».
Итак, по мнению многих современников Пушкина, да и
ряда позднейших исследователей молодой Пушкин
циничен, безнравственен (как писал П. Долгоруков, сослуживец
Пушкина по Кишиневу, «Пушкин умен и остер, но
нравственность его в самом жалком положении»); одержим
страстью к картам, костям и прекрасным женщинам, причем
всегда готов обмануть последних; не задумываясь,
развращает юные души. Б. Бурсов, который сам привел все эти
выдержки, пытается защитить Пушкина, указывая на то, что
или Пушкину завидовали, или его не поняли. Заканчивает
же он свою защиту так: «Друзья, с болью наблюдавшие за
молодым Пушкиным, все-таки мало разбирались в нем. Даже
после того, как был написан "Евгений Онегин", никто из
них не сделал вывода, что без всего того, что огорчало их в
Пушкине, этот роман не был бы написан. <...> Кто может
сказать, в каком опыте нуждался гений? Никто не знает
этого лучше, нежели он сам»1. Странная логика и защита:
получается, что таланту и гению все позволено. Правда, у Б. Бур-
сова есть и другой аргумент — от психологии искусства. Он
пишет, что ошибаются те, кто связывает гениальные
произведения напрямую с нравственностью и личностью создав-
шего их художника. «Мы привыкли думать и писать о гениа-
1 Бурсов Б. Указ. соч. — С. 134.
22*
339
льных художниках как о безгрешных людях. <...> В
действительности никто из них не был святым. Святость и
искусство — вещи несовместимые. Едва ли не самые
проникновенные стихи Пушкина как раз те, которые переполнены
чувствами если не раскаяния, то самообличения...»1 Опять
получается несуразица, а именно что необходимое условие
гениального искусства — греховность, и добавим, вероятно,
следуя логике Б. Бурсова, чем художник гениальнее, тем глубже
он должен упасть, чтобы приобрести так нужный ему для
творчества опыт жизни.
Прежде чем мы пойдем дальше, попробуем понять
ситуацию. Для этого я восстановлю события, заставившие меня
обратиться к Бурсову и другим авторам. Читая письма
Пушкина, я однажды поймал себя на мысли, что мне совершенно
не понятны ни поступки, ни высказывания великого поэта.
Чего стоит хотя бы такое послание. В апреле-мае 1826 г.
Пушкин пишет П. А. Вяземскому следующее: «Письмо это
тебе вручит милая и добрая девушка, которую один из твоих
друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое
человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве и дай денег, сколько
ей понадобиться — а потом отправь в Болдино. <...> При сем
с отеческой нежностью прошу тебя позаботиться о будущем
малютке, если только то будет мальчик. Отсылать его в
Воспитательный дом мне не хочется — а нельзя ли его покамест
отдать в какую-нибудь деревню, — хоть в Остафьево. Милый
мой, мне совестно ей богу — но тут уж не до совести (курсив
мой. — В. Р.)».
Интересно и ответное послание (от 10 мая 1826 г.)
П. А. Вяземского: «Мой совет: написать тебе полулюбовное,
полураскаятельное, полупомещичье письмо твоему тестю
(Вяземский выше в своем письме сообщает Пушкину, что
отец беременной девушки назначается старостой в Бол-
дине. — В. Р.), во всем ему признаться, поручить ему судьбу
дочери и грядущего творения, но поручить на его ответст-
венность, напомнив, что волею Божиею ты будешь барином
1 Бурсов Б. Указ. соч. — С. 120.
340
и тогда сочтешься с ним в хорошем или худом исполнении
твоего поручения». Чему здесь нужно больше удивляться:
странной и безнравственной просьбе Пушкина или
циничному совету Вяземского — неизвестно.
В то же время и игнорировать свое недоумение
относительно личности великого поэта я не мог, слишком велико в
моей душе было значение Александра Сергеевича. Следуя за
Мариной Цветаевой, я вполне мог сказать: «Мой Пушкин».
Я не мог и жить с открывшимся новым пониманием
Пушкина, точнее, непониманием, и отмахнуться от возникшей
проблемы. Читая дальше письма, я с определенным
удовлетворением отметил, что сходная проблема не давала покою и
Петру Чаадаеву. В марте-апреле 1829 г., т. е. более чем за год
до женитьбы Пушкина, П. Чаадаев пишет ему: «Нет в мире
духовном зрелища более прискорбного, чем гений, не
понявший своего века и своего призвания. Когда видишь, что
человек, который должен господствовать над умами,
склоняется перед мнением толпы, чувствуешь, что сам
останавливаешься в пути. Спрашиваешь себя: почему человек,
который должен указывать мне путь, мешает идти вперед? Право,
это случается со мной всякий раз, когда я думаю о вас, а
думаю я о вас так часто, что устал от этого. Дайте же мне
возможность идти вперед, прошу вас. Если у вас не хватает
терпения следить за всем, что творится на свете, углубитесь в
самого себя и в своем внутреннем мире найдите свет, который,
безусловно, кроется во всех душах, подобных вашей. Я
убежден, что вы можете принести бесконечную пользу
несчастной, сбившейся с пути России. Не изменяйте своему
предназначению, друг мой».
Спрашивается, при чем здесь Пушкин — иди вперед, если
хочешь. Но в том-то и дело — если Пушкин мой, во мне,
часть моего «Я», то не могу отмахнуться, если не понимаю
или не одобряю его поступки.
С точки же зрения особенностей гуманитарного
познания, опять исходная познавательная ситуация задается
проблемой, связанной с пониманием текстов (Пушкина и
341
других авторов) и необходимостью выработать собственное
отношение к различным интерпретациям их. Но не только.
Эта ситуация задается и моей экзистенциальной проблемой.
Размышляя над возникшей ситуацией, я вспомнил, что
писал Бахтин относительно гуманитарного познания: «Чужие
сознания нельзя созерцать, анализировать, определять как
объекты, как вещи, — с ними можно только диалогически
общаться. Думать о них — значит говорить с ними, иначе они
тот час же поворачиваются к нам своей объектной стороной:
они замолкают, закрываются и застывают в завершенные
объектные образы»1. Конечно, нехорошо, подумал я, если
Пушкин повернется ко мне своей «спиной», поэтому
предоставлю ему возможность объясниться. Другими словами, я
решил справиться со сложившейся ситуацией, разрешить ее
путем гуманитарного познания, предоставить голос самому
Пушкину, чтобы он отвечал на мои недоумения.
Для этого, правда, пришлось выстроить специальную
методологию исследования. Я искал в письмах Пушкина
ответы на свои вопросы, старался вжиться в позицию
Пушкина, чтобы увидеть мир его глазами, сам и с
помощью Ю. Лотмана реконструировал его время, нравы,
обычаи и т. д. и т. п. Я анализировал поступки Пушкина и
старался понять их мотивы, короче, сделал все, чтобы
Пушкин действительно стал моим, чтобы, как писал
Чаадаев, он позволил мне идти своим путем, чтобы я смог
жить вместе с Пушкиным. Конечно, я вел исследование
жизни Пушкина, но главным было не подведение
Пушкина под какую-то известную мне схему или теорию
творчества, а движение в направлении к Пушкину и, тешу себя
надеждой, движение Пушкина ко мне, поскольку я
старался предоставить Пушкину полноценный голос. То есть мое
исследование как гуманитарный способ мышления
представляло собой создание условий для нашей встречи и об-
щения. Теперь конкретно.
1 Бахтин М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979. — С. 116.
342
Вероятно, приступая к объяснению, Пушкин сначала
заметил бы, что он не только развлекался и предавался
страстям, но и работал, причем так, как умеют немногие.
«Буйная юность и ранняя молодость Пушкина, — пишет Б. Бур-
сов, — дававшая ему поводы писать в стихах и письмах о ней
как о потерянной, напрасно растраченной, на самом деле
отличается исключительной и напряженной работой его духа,
бесконечными чтениями»1. Дело в том, что Пушкин был
настолько талантлив и энергичен, что успевал буквально все: и
работать за десятерых, и гулять за троих.
Затем Пушкин обратил бы мое внимание на то, что он
был романтиком, а следовательно, видел и действовал
своеобразно, не так, как средний обыватель. «В
художественно-образной структуре "Романтиков", — пишет
литературовед Л. Ачкасова, — эстетически акцентировано
традиционно-романическое "двоемирие": мир реального бытия,
пошлая накипь жизни, от которой стремятся отчуждать себя
герои, и "мир" бытия идеального, соответствующий их
романтически-возвышенным идеалам и олицетворяемый во
вневременных "вечных" ценностях — Любви, Природе,
Искусстве. Причем искусству принадлежит особое место, ибо оно
само по себе обладает способностью творить идеальный
(желаемый) мир, независимый от окружающей реальности»2.
«Вот, вот, сказал бы Александр Сергеевич, я и мои друзья
жили в особом мире, мы ощущали себя героями, жили
Творчеством и Красотой, воспринимали обычный мир как
неподлинный, были уверены, что прекрасные женщины — это
награда нам за эстетические подвиги, что они именно для
этого и созданы. Кстати, и П. А. Вяземский, защищая
Пушкина против Корфа, фактически прибегает к сходному
аргументу. "Сколько мне известно, — пишет П. Вяземский о
Пушкине, — он вовсе не был предан распутствам всех родов.
Не был монахом, а был грешен, как и все в молодые годы.
Бурсов />. Указ. соч. — С. 130.
Ачкасова Л. Гносеологическая проблема в концепции
Паустовского-гуманиста // Романтический метод и романтические тенденции в русской и
зарубежной литературе. — Казань, 1975. — С. 132.
343
В любви его преобладала вовсе не чувственность, а скорее
поэтическое увлечение, что, впрочем, и отразилось в поэзии
его"»1. «Абсолютно точно, — подтвердил бы Пушкин, —
наша жизнь была сплошь поэтическое увлечение, и женщин
мы любили как в романах, и в карты играли не для денег
(поэтому в основном и проигрывали), а чтобы острее ощутить
творческое безумие и дыхание иных миров».
Но, конечно, для нас убедительнее мнение Ю. М. Лотма-
на, который в книге «Беседы о русской культуре» показывает
не только то, что во времена Пушкина искусство, и особенно
театр, глубоко пронизывало жизнь, уподобляя ее себе, но и
то, что, например, карточная игра выступала своеобразной
моделью мира.
«Есть эпохи, — пишет Ю. М. Лотман, — когда искусство
властно вторгается в быт, эстетизируя повседневное течение
жизни: Возрождение, барокко, романтизм, искусство начала
XX в. Это вторжение имеет много последствий. С ним
видимо, связаны взрывы художественной талантливости,
которые приходятся на эти эпохи. Конечно, не только театр
оказывал мощное воздействие на проникновение искусства в
жизнь интересующей нас эпохи: не меньшую роль здесь
сыграли скульптура и — в особенности — поэзия. Только на
фоне мощного вторжения поэзии в жизнь русского
дворянства начала XIX в. понятно и объяснимо колоссальное
явление Пушкина. <...> Взгляд на реальную жизнь как на
спектакль не только давал человеку возможность избирать
амплуа индивидуального поведения, но и наполнял его
ожиданием событий. Сюжетность, т. е. возможность неожиданных
происшествий, неожиданных поворотов, становилась
нормой. <...> Именно потому, что театральная жизнь
отличается от бытовой, взгляд на жизнь как на спектакль давал
человеку новые возможности поведения. Бытовая жизнь по
сравнению с театральной выступала как неподвижная: события,
происшествия в ней или не происходили совсем, или были
редкими выпадениями из нормы. Сотни людей могли про-
1 Бурсов />.Указ. соч. — С. 125.
344
жить всю жизнь, не переживая ни одного "события".
Движимая законами обычая бытовая жизнь заурядного дворянина
XVIII в. была "бессюжетна". Театральная жизнь
представляла собой цепь событий. Человек театра не был пассивным
участником безлико текущего хода времени:
освобожденный от бытовой жизни, он вел бытие исторического лица —
сам выбирал свой тип поведения, активно воздействовал на
окружающий его мир, погибал или добивался успеха. <...>
...Модель театрального поведения, превращая человека в
действующее лицо, освобождала его от автоматической
власти группового поведения, обычая»1.
Лотман обращает также внимание на то, что в отличие от
классицизма, образцы которого адресовались только
искусству или идеальному миру, «романтизм предписывал
читателю поведение, в том числе и бытовое». Наряду с
литературными добродетелями романтизм включал в себя и
литературные пороки (например, эгоизм, преувеличенная
демонстрация которого входила в норму «бытового байронизма»)2.
А вот интересные наблюдения о природе карточной игры.
Игра в карты, пишет Лотман, «была чем-то большим, чем
стремление к выигрышу как материальной выгоде. Так
смотрели на карту только профессиональные шулера. Для
честного игрока пушкинской эпохи (а честная карточная игра
была почти всеобщей страстью, несмотря на официальные
запреты) выигрыш был не самоцелью, а средством вызвать
ощущение риска, внести в жизнь непредсказуемость. Это
чувство было оборотной стороной мундирной,
пригвожденной к парадам жизни. Петербург, военная служба, самый дух
императорской эпохи отнимал у человека свободу, исключал
случайность. Игра вносила в жизнь случайность. Страсть к
игре останется для нас непонятным, странным пороком,
если мы не вспомним такой образ Петербурга:
Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
1 Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства
(XIII—XIX века). - СПб., 1997. - С. 198-199.
2 Там же. — С. 344.
345
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит...
Для того чтобы понять, почему Пушкин называл ее
«"одной из самых сильных страстей", надо представить себе
атмосферу петербургской культуры. Вяземский писал:
"...Нигде карты не вошли в такое употребление, как у нас: в
русской жизни карты одна из непреложных и неизбежных
стихий". <...> Умнейшие люди увлекались ею. Знаменитый
французский писатель и оратор Бенжамен Констан был
такой же страстный игрок, как и страстный трибун. Пушкин во
время пребывания своего в Южной России куда-то ездил за
несколько сот верст на бал, где надеялся увидеть предмет
своей тогдашней любви. Приехал в город он до бала, сел
понтировать и проиграл всю ночь до позднего утра, так что
прогулял и деньги свои, и бал, и любовь свою. Богатый граф,
Сергей Петрович Румянцев, блестящий вельможа времен
Екатерины, человек отменного ума, большой
образованности, любознательности по всем отраслям науки, был до
глубокой старости подвержен этой страсти, которой
предавался, так сказать, запоем. Он запирался иногда дома на
несколько дней с игроками, проигрывал им баснословные
суммы и переставал играть вплоть до нового запоя.
Подобная игра, род битвы за жизнь и смерть, имеет свое волнение,
свою драму, свою поэзию. Хороша и благородна ли эта
страсть, эта поэзия — другой вопрос. Один из таких игроков
говаривал, что после удовольствия выиграть нет большего
удовольствия, чем проиграть»1.
Еще Александр Сергеевич заметил бы, что среди
подавляющей глупости и плутовства, что было для тогдашней
России общим местом, умный человек не может не быть
циничным и отчасти даже двуличным, но что подобное
поведение не безнравственность, а скорее жизненная тактика.
В этом смысле интересен отзыв Пушкина о Чацком. «В
комедии "Горе от ума", — спрашивает Пушкин, — кто умное
действующее лицо? Ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое
1 Лотман Ю. Беседы... — С. 154—155.
346
Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый,
проведший несколько времени с умным человеком (именно с
Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и
сатирическими замечаниями. Все, что говорит он, очень умно.
Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На балу
московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно.
Первый признак умного человека с первого взгляда знать, с
кем имеешь дело, и не метать бисер перед Репетиловыми».
Именно так и поступал Александр Сергеевич: человеку
нужному или близкому он старался не говорить в глаза
неприятную правду. В январе 1825 г. он пишет П. А. Вяземскому:
«Савелов большой подлец. Посылаю при сем к нему
дружеское письмо. <...> Охотно извиняю и понимаю его.
Но умный человек
не может быть не плутом!»
Или вот другое письмо к брату (написанное в 1822 г.)
относительно поэзии своего близкого друга П. А. Плетнева:
«...Мнение мое, что Плетневу приличнее проза, нежели
стихи, — он не имеет никакого чувства, никакой живости — слог
его бледен, как мертвец. Кланяйся ему от меня (т. е.
Плетневу — а не его слогу) и уверь его, что он наш Гете».
К этим соображениям Пушкин присовокупил бы
недоумения. А что, собственно, такого уж необычного в его
поведении? Разве не все так живут: в молодости человек его круга
не задумывается, берет от жизни все, что возможно, а
дальше, начиная с тридцати, он остепеняется, заводит семью.
В письме к Н. Кривцову от 10 февраля 1831 г. Пушкин
пишет: «Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно
женятся — я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том
раскаиваться». Да и отношение к женщинам обычное, добавил
бы Александр Сергееевич: и мы не прочь, и прекрасные
дамы сами так и летят на огонь.
Наконец, Пушкин, правда, с некоторым смущением
сказал бы в свое оправдание, что он человек живой,
честолюбивый и что хотя по большому счету он большой свет
презирает, но, тем не менее, зависит от него и ему приятно, когда им,
347
Пушкиным, восхищаются. Что есть, то есть. Тот же Плетнев,
сожалея о напрасно потраченном Пушкиным времени,
пишет: «Но всего вреднее была мысль, которая навсегда
укоренилась в нем, что никакими успехами таланта и ума нельзя
человеку в обществе замкнуть круга своего счастья без
успехов в большом свете»1. Впрочем, так думал не один Пушкин,
а многие достойные люди того времени, например
Грибоедов. После успеха в публике своей поэмы Грибоедов в
письме к своему другу Бегичеву ловит себя на противоречивых
чувствах:
«Не могу в эту минуту оторваться от побрякушек
авторского самолюбия. <...> Грому, шуму, восхищению,
любопытству конца нет. <...> Ты насквозь знаешь своего
Александра; подивись гвоздю, который он вбил себе в голову,
мелочной задаче, вовсе несообразной с ненасытностью к
новым вымыслам. <...> Могу ли принадлежать к чему-нибудь
высшему? Как притом, с какой стати сказать людям, что
грошовые их одобрения, ничтожная славишка в их кругу не
могут меня утешить? Ах, прилична ли спесь тому, кто хлопочет
из дурацких рукоплесканий». Однако хлопотали, и не раз: и
Грибоедов, и Пушкин, и не только они.
Сумел ли Пушкин перед нами оправдаться? Конечно, мы
его лучше поняли, но общая нравственная оценка во многом
зависит опять же от самого Пушкина. Важно, как он сам
смотрел на себя, как он себя в молодые годы оценивал в
нравственном отношении. Даже Б. Бурсов постеснялся
привести цитированное выше письмо П. А. Вяземскому по
поводу «доброй девушки», которую Пушкин «неосторожно
обрюхатил», характерен конец этого письма: «Милый мой, мне
совестно ей богу — но тут уж не до совести». Правда, опять в
некоторое оправдание Александра Сергеевича можно
заметить, что девушка-то была крепостная и барчук, можно
сказать, ее осчастливил, во всяком случае в крепостной России
ничего экстраординарного в подобных случаях не было.
1 Бурсов Б. Указ. соч. — С. 134.
348
Ю. Лотман пишет, что «семейные отношения в
крепостном быту неотделимы были от отношений помещика и
крестьянки», что в эту эпоху нередко встречаются даже
крепостные гаремы. Рассказывая об одном из них, созданном
помещиком П. А. Кошкаровым, Лотман отмечает: «При
этом все девушки обучены чтению и письму, а некоторые
французскому языку. Мемуарист, бывший тогда ребенком,
вспоминает: "Главною моею учительницей, вероятно, была
добрая Настасья, потому что я в особенности помню, что она
постоянно привлекала меня к себе рассказами о
прочитанных ею книгах и что от нее я впервые услыхал стихи
Пушкина и со слов ее наизусть выучил "Бахчисарайский фонтан", и
впоследствии я завел у себя целую тетрадь стихотворений
Пушкина же и Жуковского. Вообще, девушки все были
очень развиты: они были прекрасно одеты и получали — как
и мужская прислуга — ежемесячное жалованье и денежные
подарки к праздничным дням. Одевались же все, конечно,
не в национальное, но в общеевропейское платье"»1.
Так и видится «милая и добрая девушка» Пушкина. Да, но
ведь Пушкин, как известно, всегда был против
крепостничества, утверждая, что политическая свобода в России
«неразлучна с освобождением крестьян».
Итак, Пушкину, ей богу, было совестно, но не настолько,
чтобы поступать по совести. Тем не менее неуклонно с
годами не только расцветал талант Пушкина, но и в поэте зрела
неудовлетворенность собственной жизнью. «Всем бросалось
в глаза, — отмечает Б. Бурсов, — с какой молниеносной
скоростью совершенствуются формальные средства его поэзии.
Но мало кто замечал углубление его духовного и
нравственного смысла»2. Духовная эволюция Пушкина просто не
могла не происходить. Его окружали замечательные люди —
писатели, поэты, мыслители, для которых судьба Пушкина
была небезразлична. И не просто небезразлична, они счита-
ли, что у Пушкина такой огромный талант, что он не может
1 Лотман Ю. Беседы... — С. 105—106.
2 Бурсов Б. Указ. соч. — С. 134—135.
349
вести легкую и скандальную жизнь, растрачивая себя если
не по пустякам, то, во всяком случае, не по назначению.
Но, конечно, и сам Пушкин, по мере того как росло его
влияние в России, все больше понимал несовместимость
многих своих убеждений и образа жизни с тем образом
человека, который складывался у людей, читавших его
произведения, но также читавших отзывы о Пушкине и критику в его
адрес со стороны недоброжелателей. Трудно воспевать
высокие чувства, призывать к свободе, отстаивать достоинство
человека и одновременно портить девушек, проводить ночи
за картами, лицемерить и цинично все осмеивать. А именно
так многие воспринимали молодого Пушкина.
Ю. Лотман показывает, что в тот период в среде
образованных дворян возникла альтернатива двух образов жизни.
Одни трактовали страсть и разгул как свидетельство свободы
и оппозиционного отношения в властям, а другие,
напротив, — как отказ от гражданского служения. «Страсть, —
пишет Лотман, — воспринималась как выражение порыва к
вольности. Человек, полный страстей, жаждущий счастья,
готовый к любви и радости, не может быть рабом. С этой
позиции у свободолюбивого идеала могли быть два
равноценных проявления: гражданин, полный ненависти к
деспотизму, или страстная женщина, исполненная жажды счастья.
Именно эти два образа свободолюбия поставил Пушкин
рядом в стихотворении 1817 г.:
...в отечестве моем
Где верный ум, где гений мы найдем ?
Где гражданин с душою благородной.
Возвышенной и пламенно свободной ?
Где женщина — нескладной красотой.
Но с пламенной, пленительной, живой ?
Приобщение к свободолюбию мыслилось как праздник,
а в пире и даже оргии виделась реализация идеала вольности.
Однако могла быть и другая разновидность
свободолюбивой морали. Она опиралась на тот сложный конгломерат
передовых этических представлений, который был связан с
пересмотром философского наследия материалистов XVIII в.
350
и включал в себя весьма противоречивые источники — от
Руссо в истолковании Робеспьера до Шиллера. Это был
идеал политического стоицизма, римской добродетели,
героического аскетизма. Любовь и счастье были изгнаны из этого
мира как чувства унижающие, эгоистические и не достойные
гражданина. Здесь идеалом была не "женщина — не с
хладной красотой, но с пламенной, пленительной, живой", а
тени сурового Брута и Марфы-Посадницы ("Катона своей
республики", по словам Карамзина). Богиня любви здесь
изгонялась ради музы "либеральности". Тот же Пушкин в
"Вольности" писал:
Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?
В свете этих представлений "разгул" получал прямо
противоположное значение — отказ от "служения", хотя в обоих
случаях подобное поведение рассматривалось как имеющее
значение. Из области рутинного поведения оно
переносилось в сферу символической, знаковой деятельности»1.
Важное значение, вероятно, сыграл и печальный опыт
любви, не в том смысле, что Пушкину не отвечали
взаимностью, а в плане финальных ее последствий: его любовные
увлечения, как правило, никуда не вели. Зато душу они
опустошали основательно, до дна. Вспомним одно из его
последних сильных любовных увлечений К. А. Собаньской.
Буквально за три месяца до своей женитьбы (2 февраля 1830 г.)
Пушкин пишет К. Собаньской, в которую был когда-то
страстно влюблен: «Дорогая Элленора, вы знаете, я испытал на
себе все ваше могущество. Вам я обязан тем, что познал все,
что есть самого судорожного и мучительного в любовном
опьянении, и все, что есть в нем самого ошеломляющего.
От всего этого у меня осталась лишь слабость выздоравляю-
щего, одна привязанность, очень нежная, очень искрен-
няя, — и немного робости, которую я не могу побороть. <...>
1 Лотман Ю. Беседы... — С. 359—360.
351
Однако, взявшись за перо, я хотел о чем-то просить вас — уж
не помню о чем — ах, да — о дружбе. <...> Но вы увянете; эта
красота когда-нибудь покатится вниз как лавина. Ваша душа
некоторое время еще продержится среди стольких опавших
прелестей — а затем исчезнет, и никогда, быть может, моя
душа, ее боязливая рабыня, не встретит ее в беспредельной
вечности».
Ю. Лотман, обсуждая отношение Пушкина к Собань-
ской, отмечает два момента. Во-первых, Собаньска была
не простой женщиной, а «демонической». «Возникнув в
литературе, идеал демонической женщины активно вторгся в
быт и создал целую галерею женщин-разрушительниц норм
"приличного" светского поведения. Этот образ становится в
один ряд с образом мужчины-протестанта. Пушкин
сближает в своей поэзии "гражданина с душою благородной" и
"женщину не с хладной красотой, // Но с пламенной,
пленительной, живой". Этот характер становится одним из
главных идеалов романтиков. При этом между реальной и
литературной "демонической" женщиной устанавливаются
интересные и весьма неоднозначные отношения»1.
Во-вторых, письмо Пушкина Собаньской написано
по-французски и «несет на себе отпечаток стиля
французских романов», но из этого было бы неправильно делать
вывод относительно неискренности поэта. «Тот, кто скажет:
"Это самое страстное письмо из написанных
Пушкиным", — будет прав. Кто скажет: "Это одно из самых
литературных писем Пушкина", — тоже будет прав. Но тот, кто
сделает вывод о неискренности письма, — ошибется»2.
Конец этого письма весьма показателен. Пушкин
эволюционирует еще в одном отношении: для него постепенно
теряет привлекательность идеал любви-страсти, зато все более
становится привлекательным платоновский идеал
любви-дружбы. (Как известно, платоновкая любовь
предполагала не только дружбу, но и совершенствование себя и стрем -
ление к красоте и бессмертию.) Пушкин, безусловно, был
1 Лотман Ю. Беседы... — С. 66.
2 Там же. — С. 71.
352
верующим человеком, недаром, собираясь жениться, он
испрашивает у своих родителей неформальное благословение.
И как человек верующий, он решает для себя вопрос о
романтической любви однозначно. С романтической любовью
связаны страсть, наслаждение, отчасти грех (недаром
Пушкин в этом письме говорит о «печальной молодости»).
Романтическая любовь по самой своей природе
противоположна браку и дружбе. Дружба начинается только там, где
кончается любовь-страсть. Точно так же брак начинается, по
мнению Пушкина, там, где кончается любовь-страсть. Там,
где брак, нет места страсти. Выйдя замуж, и Татьяна Ларина,
и Машенька Троекурова отвергают романтическую любовь.
Вероятно, именно в этот период (1829—1830) Пушкин
переосмысляет свою прежнюю жизнь, осознает, что любит
Натали Гончарову и что, возможно, эта любовь является для него
спасением. Сразу после женитьбы (10 февраля 1831 г.) он
пишет Н. Кривцову: «Молодость моя прошла шумно и
бесплодно. <...> Счастья мне не было... я женюсь без упоения,
без ребяческого очарования. Будущность является мне не в
розах, но в строгой наготе своей».
Женившись, Пушкин начал новую, праведную во всех
отношениях жизнь. Интересно, в какой мере Александр
Сергеевич осознает нравственный и духовный переворот,
происходивший в нем на рубеже 30-х гг.? Трудно сказать.
Дело в том, что Пушкин не любил копаться в собственной
душе. Прямой психологической рефлексии он еще со времен
своих романтических увлечений всегда предпочитал
художественную рефлексию, т. е. вкладывал свои переживания и их
возможное развитие в души героям своих поэтических
произведений. М. Бахтин, обсуждая особенности характера
романтического героя, в частности, пишет: «Романтизм
является формой бесконечного героя: рефлекс автора над героем
вносится вовнутрь героя и перестраивает его, герой отнимает
у автора все его трансгредиентные определения для себя, для
своего саморазвития и самоопределения, которое
вследствие этого становится бесконечным. Паралелльно этому
происходит разрушение граней между культурными областями
23. Заказ №4180
353
(идея цельного человека). Здесь зародыши юродства и
иронии»1. Не объясняет ли это глубокое соображение М.
Бахтина и то, почему Пушкин не любил прямой психологической
рефлексии, и определенную противоречивость его
личности, и так свойственную ему склонность к иронии?
Пушкину, вероятно, казалось, что ему повезло дважды: в
его браке, опровергая его собственные литературные и
жизненные концепции, счастливо слились в едином потоке
романтическая любовь и дружба, страсть и долг. Однако, как
показали дальнейшие события, его большая любовь все же
освещалась «печальной свечой». Платоническая любовь
предполагает не столько исполнение формального супружеского
долга, сколько внутреннюю взаимную ответственность,
духовную работу, что по отношению к Пушкину означало
необходимость подчинить свою жизнь его жизни, помочь
Пушкину решать стоящие перед ним сложнейшие задачи. Вместо
этого Наталья Николаевна заставляла Пушкина постоянно
ревновать и переживать. 30 октября 1833 г. Пушкин пишет:
«Женка, женка! Я езжу по большим дорогам, живу по три
месяца в степной глуши, останаваливаюсь в пакостной
Москве, которую ненавижу, — для чего? — Для тебя, женка;
чтоб ты была спокойна и блистала себе на здоровье, как
прилично в твои лета и с твоей красотою. Побереги же и ты меня.
К хлопотам, неразлучным с жизнию мужчины, не прибавляй
беспокойств семейственных, ревности etc, etc. He говоря об
cocuage... (по-французски cocuage — измена в вульгарном
смысле, т. е. мы бы сказали «наставить рога». — В, Р.)».
Сравнивая судьбу Пушкина и Карамзина, Я. Гордин пишет: «Он
многое предусмотрел. Он не предусмотрел только
заурядности своей жены. Екатерина Андреевна Карамзина была
женщиной незаурядной. Она понимала, кто ее муж. Наталья
Николаевна Пушкина была женщиной заурядной. Она никогда
не понимала, с кем свела ее судьба»2.
На этом последнем этапе жизни, по сути жизни второй —
праведной и духовной, Пушкин особенно нуждался в поддер-
1 Бахтин М. Эстетика словесного творчества. — С. 157.
2 Гордин Я. Годы борьбы // Звезда. — 1974. — № 6. — С. 33—34.
354
жке, ведь он взвалил на себя непосильные задачи. С одной
стороны, он хотел, ну, не то чтобы перевоспитать царя, но, во
всяком случае, решительно повлиять на него, с другой —
написать такую историю России, которая бы указала для всех
образованных людей выход. «Основные пункты его
тактической программы были ясны ему еще в 1831 г. Воздействовать
на государя, с тем чтоб он ограничил аристократию
бюрократическую и выдвинул аристократию истинную,
просвещенное родовое дворянство с неотменяемыми наследственными
привилегиями, дворянство, которое представляло бы у трона
весь народ и которое ограничило бы самодержавие. Государь
под давлением общественного мнения должен пойти на
ограничение собственной власти. Для мобилизации
общественного мнения следует соответствующим образом направить
умственное движение русского дворянства, объяснить ему его
долг»1. Именно для этой цели были написаны «Борис
Годунов», «Медный всадник», «Капитанская дочка», «История
Пугачева», шла работа над «Историей Петра».
Обе задачи, поставленные Пушкиным, как мы сегодня
понимаем, были утопичны, и, к чести Пушкина, он в конце
концов вынужден был расстаться со своими иллюзиями.
Формулировал для себя Пушкин эти задачи во многом как
поэт, а оценил их нереалистичность уже как умнейший
человек России. К 1834 г. он нащупывает более реалистическую
гражданскую позицию: нужно работать не для царя, а для
правительства, образования и просвещения, т. е. для
российской культуры. В статье о Радищеве Пушкин пишет: «Я
начал записки свои не для того, чтобы льстить властям,
товарищ, избранный мной, худой внушитель ласкательства, но
не могу не заметить, что со времен возведения на престол
Романовых, от Михаила Федоровича до Николая I,
правительство у нас всегда впереди на поприще образования и
просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и нео-
хотно»2.
Гордин Я. Указ. соч. — С. 46.
Там же. — С. 58.
23*
355
Но к этому времени Александр Сергеевич основательно
залез в долги, запутался в отношениях с царем, который
ловко использовал его политические мечты, попал под огонь
критики, ждавшей от Пушкина прежних романтических
стихов. В начале июня 1834 г. он пишет жене: «...Я не должен
был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя
денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной
делает человека более нравственным. Зависимость, которую
налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас.
Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно
поступать как им угодно. Опала легче презрения. Я, как
Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога». Пушкин
оказался на перепутье: он не мог, да и не хотел повернуть
назад, но и не мог жить по-прежнему.
Вероятно, в это роковое для него время Пушкин начал
лучше понимать позицию Карамзина и Чаадаева,
предпочитавших дистанцироваться от царской власти и превыше
всего ценивших свободу личности. Судя по лирике последних
двух лет, к этому же начинает склоняться и Пушкин.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нее.
И дальше прозой: «О, скоро ли перенесу я мои пенаты в
деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды
поэтические — семья, любовь etc. — религия, смерть». Однако в
1834 г., к которому относятся эти строки, иллюзии Пушкина
иссякли еще не полностью, он еще не был готов в третий раз
кардинально поменять свою жизнь. Этому препятствовала
прежде всего его личность, для которой, можно
предположить, эзотерическая работа над собой (т. е. опыт творческого
одиночества и делания себя под свои идеалы), столь
характерная для Карамзина и Чаадаева, была непривычна. В
ноябре 1815 г., т. е. когда Пушкин только-только начинает свой
творческий путь, Карамзин пишет Александру Тургеневу:
«Жить есть не писать историю, не писать трагедию или коме-
356
дию, а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать,
любить добро, возвышаться душою к источнику. <...> Мало
разницы между мелочными и так называемыми важными
занятиями; одно внутреннее побуждение и чувство важно.
Делайте, что и как можете: только любите добро; а что есть
добро — спрашивайте у совести»1.
Здесь явно выражена эзотерическая позиция Карамзина:
подлинная жизнь — это жизнь души, ведомой совестью, т. е.
трансцендентальным, высшим началом. Напротив, Пушкин
больше руководствуется разумом и рассудком. Кроме того,
как мы уже отмечали, несмотря на весь свой ум, Пушкин
не любил рефлексировать, предпочитая поэтическую
реальность (шире реальность творчества) всем другим
реальностям, не исключая реальности собственной личности.
Но, как утверждали Карамзин и Чаадаев (еще раньше
Сократ и Платон, а позднее многие мыслители, одни из
последних — М. Фуко и М. Мамардашвили), забвение своей
личности, недостаточная работа над ней чреваты для творческого
человека многими бедами. Судьба Пушкина вроде бы
подтверждает это наблюдение. Но в то же время чрезмерный
эзотеризм также пагубен. «Последние десять лет, — пишет
Ю. Лотман, — жизнь Карамзина протекала внешне в
обстановке идиллии: любящая семья, круг друзей, работа,
уважение, небольшой, но твердый материальный достаток — плод
непрерывного труда. И все же, когда читаешь лист за листом
документы, воспоминания, вдруг начинает веять ужасом.
Гостиная уютно освещена, но за окнами — тьма. Под тонкой
корочкой бытового благополучия кипит мрак. Карамзин
построил свою жизнь так, чтобы жить, ни на что не надеясь.
Жизнь без надежды...»2
Возможно, идеал в том, чтобы установить равновесие
(причем для каждого свое) между общественной и
публичной деятельностью и творческим одиночеством, между
служением отечеству и дистанцированием от власти предержа-
щей. Похоже, именно к этому постепенно шел Пушкин. Од-
1 Цит. по: Лотман Ю. Сотворение Карамзина. — М., 1987. — С. 293.
2 Там же. — С. 309.
357
нако не успел в той мере, чтобы обрести безопасность и
спокойно выполнять свое высокое назначение. Впрочем,
Пушкин, спокойствие и безопасность — вещи несовместимые.
Прокомментирую этот материал. Вопрос, который я и
сам себе задавал: как доказать, что моя интерпретация
является правдоподобнее, чем других исследователей жизни
Пушкина, которые, как я знаю, потратили на этот предмет в
сто раз больше времени? В конце концов, разве нельзя
допустить, что поступки Пушкина определялись не теми
соображениями, на которые я указываю, а другими? Например, что
в письме к своим родителям о предстоящей женитьбе
Пушкин по-сыновьи лицемерил; тем более что как раз в это
время он пишет страстное письмо Собаньской. Что Пушкин
был не столь уж религиозен (вспомним историю с «Гаврили-
адой»), чтобы собраться на духовное делание или искренне
переживать свои пороки, которые в глазах многих и
пороками-то не являлись. Что его поступки по отношению к царю
определялись не идейными соображениями, а были
вынужденными. И так далее.
В ответ на это я вспоминаю начало замечательной статьи
Марины Цветаевой «Мой Пушкин». «Первое, что я узнала о
Пушкине, это — что его убили. Потом узнала, что Пушкин —
поэт, а Дантес — француз. Дантес возненавидел Пушкина,
потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль,
т. е. заманил на снег и там убил его из пистолета в живот.
<...> Нас этим выстрелом всех в живот ранили»1. Марина не
оговорилась, и это не просто метафора — Дантес ранил ее в
живот и всех нас ранил.
Так и я. Прежде всего, не хочу отдавать Пушкина другим,
тем, кто считает, что Пушкин жил только страстями, что он
не был способен на духовное делание и не стремился к этому.
Мне больше нравится Пушкин, в котором совершается
духовный переворот, который идет навстречу Чаадаеву, жизнь
которого начиная с 30-х гг. уподобляется его же собствен -
ным возвышенным идеям. Ну а уж потом, приняв эту точку
1 Цветаева М. Мой Пушкин // Наука и жизнь. — 1967. — № 2. — С. 122.
358
*
зрения на Пушкина (точно в соответствии со смыслом
гуманитарного подхода), я начал внимательно читать
биографический материал и других пушкинистов. При этом старался
не только подтвердить свою версию, но и критически
взглянуть на нее.
Второй вопрос. Что такое «мой Пушкин»? Очевидно —
идеальный объект гуманитарной науки. Действительно, я
приписал Александру Сергеевичу (конечно, не без
оснований, используя факты и культурологические
реконструкции) целый ряд, как бы сказал Кант, априорных
характеристик: он был романтиком, как человек своего времени любил
карточную игру, был в меру циничен, пользовался
женщинами и пр. и пр. Почему гуманитарной науки? А потому, что
указанные характеристики Пушкина позволили мне,
во-первых, реализовать свои ценности и видение (как
человека, методолога, культуролога), во-вторых, встретиться с
великим поэтом и выслушать его объяснения, в-третьих,
помогли мне разрешить исходную экзистенциальную
ситуацию (я вполне могу уважать Пушкина, который нашел в себе
силы, чтобы кардинально поменять свою жизнь, с которым
произошел духовный переворот).
7.4. Структура
гуманитарной теории
Если В. Плугин специально не обсуждает природу и
категориальные особенности полагаемого им идеального
объекта, то в сходной по задаче исследования работе С. С. Аверин-
цева «Поэтика ранневизантийской литературы» этот момент
уже присутствует в виде развернутого культурологического
описания ранневизантийской культуры. С. Аверинцев и
другие литературоведы не только задают идеальные объекты,
позволяющие объяснить определенные литературные про-
359
изведения и целые жанры, но и пользуются для этой цели
специальными методами и средствами, особой
методологией. Поэтому можно говорить не только о формировании в
гуманитарной науке идеального слоя, но и элементах
«оснований» (к ним относятся методология гуманитарного
исследования, а также специальные категории, используемые при
конструировании идеальных объектов).
В работах В. Плугина и С. Аверинцева идеальные
объекты используются лишь в целях интерпретации и объяснения
художественных и литературных текстов, здесь в явном виде
не просматривается ни процесс конструирования идеальных
объектов, ни действия с ними в теоретической плоскости,
т. е. сведение одних идеальных объектов к другим и
получение за счет этого новых теоретических знаний. Оба
указанных момента (и конструирование идеальных объектов, и
действия с ними) можно увидеть в замечательном
исследовании М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского»1.
В этой работе М. Бахтин соединяет, связывает в одно
целое (представление о многоголосье) различные
теоретические построения (идеальные объекты): отношение «автор —
герой», идеологичность героя, диалогические отношения.
Если к тому же учесть, что отношения «автор — герой» и
диалога связаны с идеей «Я и Другие», то в целом можно
говорить о следующем ряде идеальных объектов (в порядке
сложности их строения): «Я и Другие», диалог, идея (человек
идеи), «автор — герой», отдельный самостоятельный голос
(включающий идеологическое отношение и отношение*«ав-
тор — герой»), многоголосье. Задав подобный объект
изучения, Бахтин действует вполне по рецептам
естественно-научного познания: он сводит новые случаи к уже изученным,
т. е. представляет интересующие его феномены как диалог,
противостояния голосов, идеологические отношения и т. д.
Во-первых, даже само согласие он трактует как диалог.
Во-вторых, слово в произведениях Достоевского Бахтин
представляет как диалог, столкновение идей, голосов.
1 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. — М., 1972.
360
В-третьих, на основе представлений о диалоге, а также
противостояния «Я и Другие» Бахтину удается объяснить
функцию двойников в романах Достоевского. По сути, Бахтин
показывает, что герой и его двойник моделируют
амбивалентность сознания героя (столкновение и противостояние его
внутренних голосов). Наконец, в-четвертых, Бахтин
показывает, что такие предшествующие полифоническому
роману литературные жанры, как «сократические диалоги» и ме-
ниппея, также основываются на диалоге и идеологических
отношениях1.
Более того, Бахтин задает своего рода онтологию для
построенных им идеальных объектов и теории. Он показывает,
что диалог, диалогические отношения, многоголосье живут
в особой реальности — карнавальном мире. Идея карнавала
у Бахтина — это не просто еще одно теоретическое
представление наряду с другими, это именно задание онтологии, т. е.
объектной и смысловой действительности, своеобразных
правил и норм конструирования идеальных объектов и
действий с ними. Перечисляя карнавальные категории
(перевертывание «мира наоборот», отмена дистанции между
людьми, вольный фамильярный контакт, карнавальные
мезальянсы, профанация), Бахтин отмечает, что на
протяжении тысячелетий эти категории «транспонировались в
литературу, особенно в диалогическую линию развития
романной художественной прозы».
Итак, Бахтин строит полноценный теоретический слой
(теорию), который включает не только идеальные объекты и
действия с ними, но и онтологию. Что же здесь является
эмпирическим слоем и эмпирическими объектами, ведь
известно, что теория противопоставляется, с одной стороны,
эмпирии, с другой — основаниям науки? Вопрос законный.
Эмпирический слой образует действительность, которая
1 «Нужно подчеркнуть, — пишет Бахтин, — что в мире Достоевского и согласие
сохраняет свой диалогический характер, т. е. никогда не приводит к слиянию
голосов и правд в единую безличную правду» (Бахтин M. M. Проблемы
поэтики... — С. 161). «Жизнь слова — в переходе из уст в уста, из одного контекста в
другой контекст». Слово человек «получает с чужого голоса и наполненное
чужим голосом» (Там же. — С. 346,438).
361
стала видна сквозь призму построенной Бахтиным теории
(онтологии). Это конкретные диалогические отношения
героев в конкретных романах Достоевского, конкретные виды
многоголосья, конкретное диалогизированное
художественное слово Достоевского в конкретных его произведениях
и т. п. А слой оснований, вроде бы его нет? В «Проблемах
поэтики Достоевского» он действительно не зафиксирован, но
он присутствует в других, более ранних исследованиях
Бахтина, посвященных методам решения тех вопросов, которые
рассматриваются в «Проблемах...». Слой оснований в
исследованиях Бахтина представляет собой методологическую
проработку определенных проблем литературоведения и
гуманитарной науки, которые Бахтин осуществил в своих
ранних работах. Вот что ему удалось при этом показать.
В работе «Автор и герой в эстетической
действительности» Бахтин, анализируя то, что он называет «эстетической
реальностью», связывает эстетический подход с наличием
двух несовпадающих сознаний (автора и героя). За счет этого
несовпадения (позиции «вненаходимости», «трансгредиент-
ности» по отношению к сознанию героя) автор не просто
художественно описывает героя, но полностью его определяет
и завершает. «Сознание автора есть сознание сознания, т. е.
объемлющее сознание героя и его мир, сознание,
объемлющее это сознание героя моментами, принципиально транс-
гредиентными ему самому, которые, будучи имманентными,
сделали бы фальшивым это сознание»1.
Бахтин подчеркивает, что завершение и определение
внешнего и внутреннего мира человека, так же как его
объективная характеристика, возможны лишь в результате
существования «Другого»; только в рамках отношения «Я и
Другой» возможно определение и завершение человека,
возможен сам эстетический акт познания. «В категории Я моя
наружность не может переживаться как объемлющая и
завершающая меня ценность, так переживается она лишь в ка-
тегории Другого, избыток видения (возникающий через
1 Бахтин М. Эстетика словесного творчества. — С. 14.
362
Другого. — В. Р.) — почка, где дремлет форма и откуда она и
развертывается, как цветок»1. В отличие от героя, утверждает
Бахтин, автор всегда остается незавершенным, не
совпадающим с сами собой. Если поведение автора определяется
смыслом конкретной бытовой ситуации, ее событиями и
предметом, напряженными ценностно-смысловыми
отношениями существования, то поведение героя полностью
завершается и определяется позицией, оценкой и творческим
художественным заданием автора.
В этот же период Бахтин развивает идею «языкового
общения», или взаимодействия, что видно, например, из
высказываний В. Н. Волошинова, принадлежавшего к кругу
Бахтина. Волошинов доказывает, что всякое речевое
высказывание, не исключая и эстетическое, является «моментом
непрерывного речевого общения», которое может быть
представлено как широко понимаемый диалог («реальной
единицею языка-речи (Sprach als Rede), как мы уже знаем,
является не изолированное единичное монологическое
высказывание, а взаимодействие по крайней мере двух
высказываний, т. е. диалог»)2.
Третья идея — идея многоголосья, неслиянности
сознания героев в романах Достоевского. Обсуждая логику
построения романтического характера, Бахтин отмечает здесь
три важных момента: во-первых, автор должен определить и
завершить «самочинную», «творчески одинокую»,
«ценностно-инициативную личность»; во-вторых, ценность и
единство всех определений подобной личности задается
категорией «идея» («индивидуальность романтического героя
раскрывается не как судьба, а как идея или, точнее, как
воплощение идеи»3); в-третьих, автор как бы вносит свое
отношение к герою в его сознание4.
Анализируя творчество Достоевского, которого Бахтин
относил к романтикам, он обнаружил, что с точки зрения
Бахтин М. Эстетика словесного творчества. — С. 24.
Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. — Л., 1930. — С. 97.
Бахтин М. Эстетика словесного творчества. — С. 157.
Там же.
363
«литературно-критической мысли творчество Достоевского
распалось на ряд самостоятельных и противоречащих друг
другу философских построений, защищаемых его героями.
Среди них далеко не на первом месте фигурируют и
философские воззрения самого автора»1. Бахтин приходит к
мысли, что герой Достоевского как творческая
ценностно-инициативная личность «идеологически авторитетен и
самостоятелен, он воспринимается как автор собственной
полновесной идеологической концепции, а не как объект
завершающего художественного видения»2. Отсюда в романах
Достоевского, утверждает Бахтин, «множественность
самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная
полифония полноценных голосов»3. Необходимое условие
самостоятельности голоса героя, показывает Бахтин, — его
идеологичность («Он не только сознающий — он идеолог»4).
В свою очередь, «условие создания образа идеи у
Достоевского — глубокое понимание им диалогической природы
человеческой мысли, диалогической природы идеи. Идея —
это живое событие, разыгрывающееся в точке
диалогической встречи двух или нескольких сознаний»5.
Таким образом, мы видим, что по отношению к теории,
изложенной в «Проблемах поэтики Достоевского», ранние
работы Бахтина вполне могут быть рассмотрены как
методология и основания.
Теперь естественный вопрос: что в этом теоретическом
построении характерно для гуманитарного познания?
Во-первых, Бахтин тоже имеет дело с текстами, в данном
случае Достоевского, и эти тексты по-разному
интерпретируются искусствоведами (литературоведами). «Поэтику
Достоевского» Бахтин начинает с разбора литературоведческих
точек зрения на произведения Достоевского и полемики с
ними. При этом он создает свое собственное новаторское
прочтение текстов Достоевского. Во-вторых, полемизируя с
1 Бахтин M. M. Проблемы поэтики... — С. 5.
2 Там же. — С. 6.
* Там же. — С. 7.
4 Там же. — С. 130.
5 Там же.-С. 146-147.
364
другими литературоведами и создавая собственное
прочтение и объяснение Достоевского, Бахтин реализует свои
ценности и взгляды на мышление, литературу, творчество.
Короче говоря, бахтинская теория творчества Достоевского
валентна личности Бахтина. Но внутри субъективной бахтин-
ской «рамки» реализуется строгий объективный научный
подход: формулируются проблемы и эмпирические
особенности произведений Достоевского (их требуется объяснить
теоретическим путем), строятся идеальные объекты, более
сложные случаи сводятся к более простым и уже изученным,
проводятся культурно-исторические обоснования. Но есть
еще один важный момент.
Читая Бахтина, стараясь его понять, вживаясь в
реальность, о которой Бахтин говорит, переживая события этой
реальности («вненаходимости», «напряженно-активного
единства», «Я», «Другого», «почки, где дремлет форма и
откуда она развертывается, как цветок», «диалога», «голоса»,
«идеи как живого события, разыгрывающегося в точке
диалогической встречи», «неслиянности сознаний»,
«полифонии голосов» и т. д.), мы не просто что-то узнаем о человеке,
его сознании и поведении. Мы сами обретаем человеческое
достоинство (наш голос так же значим, как и другие голоса);
понимаем, что наша жизнь и сознание зависят от Других
(только Другой обладает возможностью вненаходимости и,
следовательно, другого, «объективного» видения нас); наше
видение и горизонты нашего сознания расширяются и
утончаются (мы становимся участниками выяснения последних
идей, входим в историю, где идет непрерывный диалог и
духовная работа) и т. д. и т. п. Своими исследованиями, своим
знанием, символическим описанием М. Бахтин создает для
нас то самое напряженно-активное единство, о котором он
сам говорит, вводит в драму последних идей, «высвобождает
место» для нашего духовного роста, для «умного понимания»
Достоевского и искусства.
То есть я хочу сказать, что важно не только то, о чем
гуманитарное знание говорит, но и то, куда оно нас ведет, возни-
365
кают ли событие, реальность и какие, освобождает ли автор
место для нашей жизни, развития, роста, помогает ли всему
этому. По сути, я склоняюсь к мысли утверждать
дополнительность в хорошем гуманитарном познании знания и
условий, создаваемых для нашей жизни и бытия. Именно в таком
контексте научное знание выступает как гуманитарное.
Действительно, только в этом случае оно является
диалогическим, ценностным знанием не только об объекте, но и о
самом знании и познании, получается не просто как описание
независимого от нас объекта, а как момент
взаимоотношений с этим объектом (смена монологической позиции на
диалогическую, признание за чужим сознанием автономии,
обнаружение в речи диалогических обертонов и смыслов
и т. д.).
Я думаю, читатель уже убедился, что гуманитарное
познание не менее строгое, чем естественно-научное. Более
того, оно по ряду параметров (построение идеальных
объектов, теории, обоснование) сходно с естественно-научным.
Но и различие этих видов познания и ориентированных на
них идеалов науки достаточно очевидны. Поскольку знания
гуманитарных наук активно относятся к своему объекту,
задавая для него «тип и образ существования», гуманитарий,
как это отмечал в своих ранних работах М. Бахтин,
становится «сплошь ответственен», не может самим уже фактом
изучения не влиять на свой объект. Направление этого влияния
вполне определенное: способствовать культуре, духовности,
расширять возможности человека, ставить «преграды» всему
тому, что разрушает или снижает культурные или духовные
потенции человека.
Как можно теперь сформулировать гуманитарное
понимание существования? Это такой тип существования,
который соотнесен с опытом самого исследователя, его
ценностями. Не нужно специально доказывать, что в
гуманитарной науке субъект познания — это не один «логический
субъект», а много разных, по сути выражающих те или иные
культурные традиции и позиции. Отсюда одной из важных
366
особенностей гуманитарного познания (науки) является
множественность точек зрения на один и тот же материал,
множество разных интерпретаций текстов и фактов,
представленных в культуре. Многообразие культуры (явлений
культуры) и подходов к ней человека обусловливает и
множество несовпадающих теоретических объяснений,
имеющих место в гуманитарной науке, а также диалогический
характер ее знаний и суждений.
Поэтому в гуманитарной науке недопустима монополия
одной, даже очень обоснованной и очень утвердившейся,
авторитетной теоретической платформы. Напротив,
например, каждая достаточно отчетливая культурологическая
позиция должна иметь право на свое выражение и
манифестацию, право защиты своей точки зрения, право на
публикацию (точно так же, как и противоположные теоретические
позиции должны иметь право на критику данной точки
зрения). Еще одной особенностью гуманитарной науки
является ее «понимающий характер», тесная связь с живыми
проблемами культурной жизни, сплошная ответственность
гуманитарного ученого перед жизнью культуры. В связи с этим в
гуманитарной науке происходит непрерывное изменение
проблематики, более часто, чем в естественной науке,
обновляются теоретические подходы и проблемы, а «вечные
проблемы и вопросы» ставятся заново и иначе.
Отметим и такой момент: оппозиция
естественно-научного и гуманитарного подходов в нашей цивилизации
опирается на противостояние своеобразных двух культур —
«технической» и «гуманитарной». Представители
технической культуры исходят из убеждения, что мир подчиняется
i законам природы, которые можно познать, а, познав, затем
I поставить на службу человеку. Они убеждены, что в мире
\ действуют рациональные отношения, что все (не исключая и
f самого человека) можно спроектировать, построить, что яв-
\ ления объективны и «прозрачны» (в том смысле, что их при-
[ рода и строение рано или поздно могут быть постигнуты че-
| ловеком). Подобными идеями в конечном счете вдохновля-
i
367
ются и специалисты генной инженерии, и проектировщики
больших систем, и политики, обещающие человечеству
непрерывный научно-технический прогресс и рост
благосостояния, наконец, обычные потребители, убежденные, что
природа нашей планеты именно для того, чтобы жить в
комфорте и изобилии, и потому ее нужно как можно скорее
превратить в заводы, города, машины и сооружения.
В современной цивилизации техническая культура,
безусловно, является наиболее массовой, ведущей (она на наших
глазах буквально меняет облик нашей планеты). Тем не
менее гуманитарно ориентированный человек отказывается
признавать научно-инженерную обусловленность и
причинность не вообще, а в отношении жизни самого человека,
общества или природы. Он убежден, что и человек, и
природа суть духовные образования, к которым нельзя подходить с
мерками технической культуры. Для него все это живые
субъекты, их важно понять, услышать, с ними можно
говорить (отсюда роль языка), но ими нельзя манипулировать, их
нельзя превращать в средства. Гуманитарно
ориентированный человек ценит прошлое, полноценно живет в нем, для
него другие люди и общение не социально-психологические
феномены, а стихия его жизни, окружающий его мир и
явления не объективны и «прозрачны», а загадочны, пронизаны
тайной духа. Глубокая специализация и социализация в
этих двух культурах в конечном счете приводят к тому, что,
действительно, формируются два разных типа людей, с
разным видением, пониманием всего, образом жизни. Для
инженера гуманитарий нередко выглядит и ведет себя как
марсианин (поскольку, живя в мире технической
цивилизации, он не хочет признавать этот мир), для гуманитария
технически ориентированный человек не менее странен
(технический человек и технический мир напоминают
рациональное устройство, устрашающую или, напротив, удобную
машину).
Различие между гуманитарным и негуманитарным
познанием особенно очевидно на первых этапах построения
368
научного предмета. В отличие от естественно-научного
познания, где всегда наперед задан известный «использующий
принцип», или античного, где ценностные установки
исследователя чаще всего не рефлектируются, в гуманитарной
науке переход от жизненной и практической точек зрения к
теоретической, как правило, является важнейшим
конституирующим познание моментом. Например, в психологии этот
переход осознается как движение от психотехнической
позиции (психотерапевтической, педагогической,
инженерной и т. д.) к позиции исследования, от ценностей
практического действия к ценностям научного познания. При этом
существенно меняется и предмет рассмотрения (не опыт и
описывающие его эмпирические знания, а психика с ее
законами).
Второе различие — необходимость задать и удержать в
изучении особенности гуманитарной реальности, о которой
мы здесь говорили. Третье различие — гуманитарный
ученый должен постоянно следить, имеет ли он дело с тем же
самым объектом или последний уже давно выскользнул из
теоретических сетей, изменился, развился (сам или в результате
гуманитарного познания), или же изменился взгляд самого
исследователя на объект. Когда объект меняется (например,
рефлексивно реагируя на теоретическое знание о нем) или
просто эволюционирует или же меняется подход
исследователя к объекту, то начинается новый цикл гуманитарного
познания, создаются новые интерпретации, на их основе
формулируются эмпирические знания и закономерности и затем
уже на основе этих знаний и закономерностей формируются
идеальные объекты, теоретические знания, процедуры их
построения и, наконец, теория.
Однако почему все-таки теория в гуманитарных науках
организована не так, как в естественных (отсутствуют
сквозные сведения идеальных объектов, острова дискурсии
перемежаются построением понятий и обоснованиями)?
Причин здесь несколько. Одна из них — различие в этих науках
идеалов и норм организации научных знаний; в гуманитар-
24. Заказ №4180
369
ной науке сплошная, непрерывная дискурсия и
систематизация скорее осуждаются как признак физикализма, чем
приветствуются. Другая причина — необходимость
обосновать и оправдать свои ценности, подход к объекту изучения,
имея в виду несовпадающие с данным подходом другие
теоретические точки зрения на тот же предмет. Немаловажно и
то обстоятельство, что в гуманитарной науке сам образ,
идеал гуманитаной науки окончательно не сформировался, он
еще дискутируется.
Вернемся к дилеммам Дильтея и Бахтина. Я старался
показать, что объект гуманитарного познания расположен на
пересечении трех сфер: истолкования текстов,
теоретического обоснования предложенного исследователем
истолкования, разрешения экзистенциальных проблем самого
гуманитария. Подумаем, как он может рефлексировать свою
деятельность. Если основная задача гуманитария состоит в
истолковании и теоретическом осмыслении конкретного
текста (текстов), как это имело место в рассматриваемых
примерах, то он, вероятно, будет считать свой объект изучения
индивидуальным и уникальным. Соответственно метод
гуманитарного познания гуманитарий истолкует как
индивидуализирующий, а открытые при теоретическом обосновании
закономерности — как средство решения основной задачи.
Если же задача исследователя смещается и его больше
начинают интересовать именно установленные закономерности
и сам метод (так, многих последователей Бахтина больше
увлекают идеи диалогического анализа, чем понимание
литературных текстов; и Плугин в дальнейших исследованиях
теоретические построения, полученные в ходе анализа
«Воскрешения Лазаря», использует уже в собственно
теоретических целях), то в этом случае гуманитарий будет осознавать
свой объект в категориях общего, а метод — скорее как
генерализующий. Конечно, при этом познание в значительной
степени утрачивает свой гуманитарный контекст, что,
безусловно, сказывается на логике; она становится аморфной,
поскольку движение мысли теперь не детерминируется ис-
370
толкованием выбранных текстов (или этот процесс
становится неконтролируемым, например, исследователь, не
осознавая того, меняет тексты или их истолкование). Если
главная задача гуманитария — разрешить мучащие его
экзистенциальные проблемы, то он будет свой метод осознавать
именно как гуманитарный.
Особый случай гуманитарного познания, сближающий
его с социальным познанием, — возможность формировать
объект гуманитарной науки. Например, для ряда
психологических гуманитарных теорий в психологической практике
были созданы свои типы психик (клиентов). Наиболее
известный случай — психоанализ, создавший своего
психоаналитического клиента. В рамках этой практики клиенту
внушаются именно те знания, схемы и формы поведения,
которые отвечают психоаналитической теории. И в том случае,
если это удается (что, естественно, получается не так уж
часто), человек частично начинает вести себя в соответствии с
теорией. Энтони Гидденс связывает этот феномен с
присущей общественным наукам «рефлексивностью». «Знание, —
пишет он, — на которое претендуют профессиональные
исследователи (до некоторой степени и многообразными
способами), присоединяется к своему предмету (в принципе, но
также обычно и на практике), его изменяя. В естественных
науках данный процесс не имеет параллелей; здесь нет
ничего общего с физикой микромира, где вмешательство
наблюдателя изменяет то, что изучается»1.
1 Гидденс Э. Последствия модернити // Новая постиндустриальная волна на
Западе: Антология. — М., 1999. — С. 109.
24*
371
Глава 8
Социальные науки
8.1. Социокультурный контекст
формирования
Отдельные особенности контекста, в котором
складывались социальные науки, можно почувствовать,
рассматривая, например, эволюцию взглядов Георга Зиммеля. В своей
диссертации и затем книге «Социальная дифференциация:
Социологические и психологические исследования» он
намечает ряд понятий и различений, например,
«дифференциации», «взаимодействия», «обобществления»
(социализации), «конфликта», «социального уровня» и другие,
оказавшие существенное влияние на развитие социологии1. В этих
исследованиях Зиммель еще стоит на позиции
естественнонаучного подхода, примеряя к изучению общества методы
естествознания, но понимает естественно-научный подход
не совсем обычно. Как правило, представители
естествознания были убеждены, что естественные науки дают знание
законов, устанавливая тем самым единственно правильную,
объективную истину, на основе которой можно
рассчитывать и управлять явлением. Зиммель же утверждает, что
социология не может устанавливать законы, что любой
научный взгляд (подход) в этой области сосуществует с другими
научными взглядами, а истина устанавливается именно за
счет всех этих взглядов, каждый из которых сохраняет свое
значение. Эта позиция характерна скорее для формирую-
щейся в это время гуманитарной науки.
1 Зиммель Г. Социальная дифференциация: Социологические и психологические
исследования // Избр.: В 2 т. — М., 1996. — Т. 2.
372
«Ни в области метафизики (философии. — В. Р.), ни в
области психологии, — пишет Зиммель, — не
обнаруживается однозначности, свойственной научному правилу,
но всегда есть возможность противопоставить каждому
наблюдению и предположению противоположное ему.
<...> Почти для каждого утверждения об одном и том же
можно найти целый ряд подтверждений,
психологический вес которых нередко достаточно велик, чтобы
вытеснить из сознания противоположный опыт и
объяснения, а они, в свою очередь, определяют общий характер
видения мира теми, кто духовно предположен именно к
этому. <...> Было бы несправедливо отрицать на этом
основании научную ценность утверждений метафизики и
психологии. Если они и не представляют собой точного
познания, то все же его предвещают. До известной
степени они помогают ориентироваться в явлениях и создают
понятия, постепенное утончение, разложение и новое
сочленение этих понятий на иных основаниях создает
возможность все большего приближения к истине. <...>
Именно эта неопределенность конечных результатов
некоторого процесса в социальном теле, которая приводит
к появлению в социологическом познании столь многих
противоположных утверждений, оказывает то же
действие и в практических социальных вопросах; разнообразие
и враждебность в этих вопросах партий, из которых
каждая все же надеется достигнуть своими средствами одной
и той же цели — наивысшего общего блага, доказывает
своеобразный характер социального материала, не
поддающегося вследствие своей сложности никаким точным
расчетам. Поэтому нельзя говорить о законах
социального развития. Конечно, каждый элемент общества
движется по естественным законам; но для целого
законов нет»1.
Тем не менее в цитированной здесь работе Зиммель все
же пытается установить социальные законы целого. Так,
1 Зиммель Г. Социальная дифференциация... — С. 305—306, 308, 310.
373
он утверждает, что в «качестве регулятивного мирового
принципа мы должны принять, что все находится со всем в
каком-либо взаимодействии», что «разложение
общественной души на сумму взаимодействий ее участников
соответствует общему направлению современной
духовной жизни», что «социальное сплочение является для
людей одним из важнейших средств в борьбе за
существование», что для достижения своих целей человек нуждается
не только в других людях, но и «законах, праве и других
объективных учреждениях», что усложнение и рост
группы обязательно предполагают дифференциацию и
социализацию1.
С точки зрения проведенного исследования получалось,
что человек есть всего лишь функциональный элемент
социального процесса и структуры, момент игры социальных
сил. Вероятно, в тот период такой вывод был вполне
приемлем для Зиммеля, но позднее подобное представление о
человеке перестало его устраивать, более того, Зиммель
впоследствии даже отказался от идей, сформулированных в
своей диссертации и «Социальной дифференциации».
Объяснял он это так: «Индивид, с одной стороны, является
простым элементом и членом социального целого, а с
другой — сам он есть целое, элементы которого образуют
некоторое относительно замкнутое единство. Роль, которая
предназначена ему только как органу, вступает в
противоречие с той ролью, которую он может или хочет исполнить как
самостоятельный и целостный организм»2. Но дело не
только в этом, к этому времени Зиммель, во-первых, провел цикл
исследований творчества таких титанов мысли, как Гете,
Кант, Микеланджело, Ницше, во-вторых, в
методологическом отношении более определенно принял позицию
гуманитарного подхода.
Что показало изучение указанных мыслителей? Что чело-
век не может быть сведен к социальным функциям и игре со-
1 См.: Зиммель Г. Социальная дифференциация... — С. 314, 323, 346, 370—371.
2 Simmel G. Philophie des Geldes. — Leipzig, 1900.
374
циальных сил. Человек — это не только социальное существо
(что не отрицается), но и личность, которая, хотя и
использует социальные условия и учреждения, все же в своей
сущности представляет собой самостоятельный мир.
Личность характеризуется самостоятельным мироощущением
и ориентирована на максимальное развитие, изучать ее
необходимо не как природное явление, а как явление духа,
как самостоятельную форму жизни. В работе «Как
возможно общество?» Зиммель спрашивает, не есть ли
отдельный человек, индивидуальность «всего лишь сосуд, в
котором в разной степени смешиваются уже прежде
существовавшие элементы» (позиция, характерная для его
ранних работ). И отвечает следующее:
«Другая душа для меня столь же реальна, как я сам, и
наделена той реальностью, которая весьма отличается от
реальности материальной вещи. <...> Социальная
дифференциация не полностью растворяет нашу личность. <...> Общество
состоит из существ, которые частично не обобществлены.
Но, кроме того, они еще воспринимают себя, с одной
стороны, как совершенно социальные, а с другой (при том же
самом содержании) — как совершенно личностные
существования»1. А вот его представления, по сути гуманитарные, о
природе познания.
«То, что мешает познанию, — пишет Зиммель, —
субъективность воссоздающего переживания есть именно то
условие, при котором только оно может состояться».
«Сочувствие мотивам личности, целому и отдельному их сущности,
что сохранилось лишь в виде фрагментарных выражений,
погружение в совокупное многообразие огромной системы
сил, каждая из которых по отдельности понимается лишь
постольку, поскольку ее в себе заново воспроизводят, — таков
подлинный смысл требований, чтобы историк был, причем
непременно, художником»2.
1 Зиммель Г. Как возможно общество? // Избр.: В 2 т. — Т. 2. — С. 511, 520—521.
2 Цит. по: Филиппов А. Ф. Обоснование теоретической философии: Введение в
концепцию Георга Зиммеля // Избр.: В 2 т. / Г. Зиммель. — М., 1996. — Т. 2. —
С. 583.
375
Итак, перед Зиммелем встала проблема — как совместить
трактовку человека в качестве социального существа,
которое формируется под влиянием социальных сил и
процессов (дифференциации, обобществления, стремления с
согласию и т. п. и т. д.), условием развития которого выступают
объективные социальные институции, с трактовкой
человека как имманентной развивающейся личности. Но это
проблема была не единственной. Одновременно нужно было
понять, как вообще происходит социальное развитие и
развитие отдельного человека, а также почему в современном
обществе становление социальных сил и институций —
например, техники, науки, искусства, права, государства —
приобретает характер, направленный против человека и личности,
раздробляющий их, превращающий в частичные существа,
при том, что все эти образования вроде бы создавались для
человека и его развития.
«Вырастающее до необозримых размеров скопление
плодов объективированного духа, — пишет Зиммель, —
предъявляет претензии на субъекта, пробуждает в нем
безвольные желания, ошеломляет его ощущениями
недоступности и собственной беспомощности, завлекает в
отношения, от всей совокупности которых он не в состоянии
избавиться, не преодолев их отдельные содержания. <...>
Субъект не в состоянии внутренним образом ассимилировать
каждое из них по отдельности, но и не в состоянии просто от
них отказаться, поскольку они, так сказать, потенциально
принадлежат к сфере его культурного развития...»1 «Нам
противостоят бесчисленные объективации духа,
произведения искусства и социальные нормы, институты и познания,
подобно управляемым по собственным законам царствам,
притязающие на то, чтобы стать содержанием и нормой
нашего индивидуального существования, которое в сущности
не знает, что с ними делать, и часто воспринимает их как бре-
мя и противостоящие ему силы»2.
1 Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры // Избр.: В 2 т. — Т. 1. — С. 470—471.
2 Зиммель Г. Кризис культуры // Избр.: В 2 т. — Т. 1. — С. 490.
376
Я специально привел этот материал, чтобы обратить
внимание на то, что в этот период речь шла не только о
привычных нам сегодня социальных реалиях (государство, право,
общество и пр.), но также о новом социальном понимании
человека (личности).
8.2. Особенности и специфика
социального познания
В статье «Основные исследовательские программы
социально-гуманитарных наук» Валентина Федотова сначала
сближает социальные науки с естественными,
соответственно их цель, считает она, — выявление «объективных
закономерностей общественного развития». Цели гуманитарных
наук другие — исследование субъективных аспектов
действительности1. Но дальше Федотова показывает, что, если
социальные науки хотят выполнить свое назначение, они
должны описывать и субъективные моменты, и объективные
социальные закономерности, позволяющие преобразовывать
социальную действительность.
«Сейчас, — пишет она, — существует некоторая
тенденция отказа от научного доминирования в социальной сфере
и тенденция критики науки, критики во многом
справедливой. Подчеркивается значение научно-гуманитарного и вне-
научного социального знания. Их большая
непосредственность, понятность для неспециалистов, связь с
обыденно-практическим сознанием вызывает естественное доверие
к такому типу знания. Однако социальные науки несут
ответственность перед людьми за состояние социальной
жизни, ибо их цель заключается не только в объективном
познании, но и в нахождении путей социально необходимых
преобразований/^ понятности, доступности для об-
См.: Федотова В. Г. Указ. соч. — М., 2000. — С. 134—135.
377
суждения заменяется другим — уметь раскрыть социальные
механизмы, дать возможность их использовать, осуществить
не только регулятивно-консультативную, но и
познавательно-преобразующую, даже технологическую функцию.
Социальные науки гуманитарно адекватны, если выполняют
эти задачи. Например, экономические науки проявят свою
гуманитарную адекватность, если не только выразят
экономические устремления людей, но и найдут механизмы и
способы реализации этих устремлений на основе объективных
экономических законов»1.
В результате всех этих размышлений Федотова приходит
к мысли, что «социальный подход» должен строиться на
взаимодействии двух других подходов —
естественно-научного и гуманитарного. «Речь идет, — пишет она, — о
взаимодействии социальных и гуманитарных наук, т. е. об
одновременной работе двух программ. Одна анализирует цели и
ценности субъекта, другая выявляет закономерности, которые
могли бы привести к достижению этих целей. Первая
ориентирована на "очеловечивание", вторая — на "овещнение".
<...> Попытка строить третью, "интегрирующую", неверна
хотя бы потому, что обе программы имеют
разнонаправленные векторы, взаимоотрицают друг друга»2.
С точки зрения моих исследований специфики разных
типов наук указанный критерий (взаимодействие
естественно-научного и гуманитарного подходов) не может быть
положен в основание спецификации социальных наук.
Значительно ближе к существу дела тезис Федотовой о том, что
социальные науки должны создавать знания для построения
социальных технологий. Действительно, социальная
действительность такова, что предполагает постоянное свое
воссоздание (в работе сознания и деятельности отдельных
людей или поколений). Социальные же технологии — это
специальные способы воссоздания социальной действительно-
сти, и начиная с «Государства» Платона социальные науки
1 Федотова В. Г. Указ. соч. — С. 136.
2 Там же. — С. 139.
378
ставят свой целью продуцирование знаний для их
эффективного осуществления. И не только. Федотова показывает, что
у социальных наук есть еще одна важная функция —
критического анализа социальной действительности. Задача
ученого-обществоведа на сегодняшний день, пишет она,
«состоит не только в производстве нового знания,
доставляющего новые возможности, но и в разрушении фиктивных
ожиданий обыденного сознания от сферы управления. <...>
Важнейшими функциями социальных наук является
критика действительности и ее проблематизация. Вопрос же о том,
"что позитивного для развития общества может дать наука",
который всегда представлялся основным, не снимается
этими утверждениями, а требует более дифференцированного
подхода»1.
Не должны ли мы в таком случае высказать следующую
гипотезу. Специфика социального подхода состоит в двух
моментах: какую именно социальную действительность
видит и хочет актуализировать ученый социальных наук, а
также какими собственно средствами (с помощью каких
социальных технологий) он рассчитывает решить свою задачу,
иначе говоря, какой тип социального действия он принимает
и обеспечивает с помощью своего исследования. Обычно
считается, что научное познание — это одно, а практическое
4спользование научных знаний — другое. Что объект изуче-
шя не зависит от исследователя. Но в социальных и гума-
штарных науках совершенно другие отношения. Здесь
исследователь и практик выступают как два лица единого
1нуса, а исследование явления есть в какой-то степени его
юнституирование. Причем в ходе социального исследова-
1ия нередко меняется и сам ученый. Чтобы сделать эти
тверждения более понятными, рассмотрим два модельных
[римера — исследование власти, а также хозяйства и богат-
тва.
Федотова В. Г. Указ. соч. — С. 133.
379
8.3. Эволюция представлений
о власти в истории
европейской культуры
8.3.1. Власть царя, жрецов и знати
Для человека культуры древних царств (Древний Египет,
Шумер и Вавилон, Древняя Индия и Китай) было понятно,
почему нужно было подчиняться жрецам, ведь они
посредники между человеком и богами. Но почему человек должен
был подчиняться царю? А ведь у последнего реальная власть
была даже больше, чем у жрецов. А потому, что цари для
человека этой культуры — это в некотором смысле тоже боги.
Известно, например, что египетский фараон не только царь,
но и живой бог, воплощение бога солнца Ра. Объяснение
этому простое. По мере возрастания роли царей
складывалось своеобразное противоречие. С одной стороны,
считалось, что боги управляют всем, с другой — каждый человек
видел, что именно царь управляет армией и страной. Идея и
ритуал обожествления царя в конце концов разрешили это
противоречие. Иначе говоря, в Древнем мире сложился
новый социальный институт — обожествления царя,
позволяющий наделять царственную особу божественными
функциями, отождествлять человека с богом.
Так как многие боги — это одновременно планеты и
звезды, которые постоянно можно было наблюдать на небе,
и т. к. именно боги определяли судьбу человека, возникла
естественная мысль, что наблюдение за небом, планетами и
звездами есть ключ к определению судьбы человека.
Постепенно сложилась практика расчета судьбы, а также
«хороших» и «плохих» дней. Крайний вариант развития этих
событий мы видим в практиковавшемся в Ассирии ритуале
«подменного царя». «Солнечные и лунные затмения, — пишет
И. Клочков, — предвещали смерть или во всяком случае
опасность для жизни царя. В зависимости от положения све-
380
тил астрологи могли объявлять опасным весьма
продолжительный период времени, до ста дней. Царя на это время
отправляли в загородную резиденцию, где его именовали
"землевладельцем" и повергали различным ограничениям, тогда
как во дворце поселяли подставное лицо, наделенное всеми
внешними атрибутами власти. По минованию опасного
периода "подменного царя" убивали (должно же предсказание
сбыться!), а истинный царь возвращался в свой дворец»1.
Приведенный здесь материал иллюстрирует, как могли
сложиться такие институты Древнего мира, как
«обожествление царя» и «расчет плохих дней», а также как мог
действовать «институт» власти. Чтобы понять последнее,
предположим следующие, кстати, вполне правдоподобные мотивы
расчета плохих дней: поскольку жрецы, подобно царям,
претендовали на верховную власть (считая себя посредниками
между людьми и богами), жрецы воспользовались
процедурой определения плохих дней, чтобы периодически удалять
настоящего царя, заменяя его своими послушными
ставленниками. Заметим, что это было, пожалуй, самой первой в
истории сознательной политической акцией: царя не убивали,
не свергали силой, а на вполне законных основаниях
временно удаляли с политического поля, при этом в стране
сохранялись спокойствие и порядок.
Чтобы задать власть как идеальный объект (а это есть
необходимое условие теоретического ее рассмотрения),
зафиксирую нескольких моментов. В культуре древних царств
социальная структура, также как и представление о мире,
задавалась на основе ряда мифологических текстов и
повествований (примером их является «Эпос о Гильгамеше» и
старовавилонский миф об Атра-хасисе), в целом образующих то,
что мы сегодня назвали бы «картиной мира», а я, следуя
своей теории, называю «базисным культурным сценарием»2.
Клочков И. Указ. соч. — С. 160.
Под базисным культурным сценарием понимается система мифологических,
религиозных или рациональных представлений, определяющая основной строй
культуры, остающаяся неизменной в течение жизни данной культуры. Состоит
из постоянного ядра и периферийных представлений, которые в отличие от ядра
могут меняться. Базисный культурный сценарий формируется при разрешении
жизненно важных для общества проблем («витальных катастроф») за счет изоб-
381
Такой сценарий определял место богов и людей, роль царя и
жрецов, объяснял необходимость подчинения простых
людей царской и жреческой администрации, короче, задавал
все основные отношения социальной структуры того
времени.
Второй момент: наличие двух соперничающих ветвей
власти — царской и жреческой, причем легитимность их
оправдывалась базисным культурным сценарием. Царь
воспринимался в качестве живого бога, но и жрецы — это
посредники между людьми и богами. За обоими стояли боги,
но часто разные, и не всегда было понятно, какие из богов
сильнее. В культуре древних царств реализация властных
отношений, вероятно, осуществлялась посредством
предписаний (многие из них дошли до нашего времени), а также
непосредственного руководства. Поскольку, однако,
спускались все эти указания одним и тем же действующим лицам,
наличие двух конфликтующих ветвей власти создавало в
социальной структуре значительные проблемы и напряжения.
Исторический материал подсказывает, что постепенно
сложились культурно значимые способы разрешения этих
проблем и напряжений — использование культурного
сценария (например, изобретение ритуала «подменного царя»
или ритуала обожествления царя, последнее можно понять
как контрмеру против власти жрецов), тайные сговоры и
заговоры, прямые перевороты и пр.
В этих властных играх, конечно, участвовали не все, тем
более что человек того времени не являлся личностью, он
был жестко интегрирован в социальной структуре, строго
выполняя предписанные ему функции. Тем не менее и в той
культуре появляются люди (как правило, это верховные
правители и жрецы или, напротив, случайно попавшие во власть
маргиналы), которые не удовлетворяются предписанными
им местами и функциями. Именно такие люди, назовем их
ретения новых семиотических образований (прежде всего, схем), задающих
новые виды деятельности и реальности. Различаются два типа базисных
культурных сценариев — «гомогенные» (единая система представлений) и
«распределенные» (несколько разных, как, например, в античной культуре: мифология,
философия, право) (подробнее см.: Розин В. М. Теория культуры. — С. 290—293).
382
условно «властными авантюристами», изобретают
культурно значимые способы разрешения проблем и напряжений,
постоянно возникавших в социальной структуре. Такие
способы должны быть культурно значимыми не только потому,
что объективно они разрешали возникающие проблемы и
напряжения, но и потому, что властный авантюрист не мог
действовать самостоятельно, как частное лицо, но прежде
всего от имени бога и соответствующего социального
института, например, царской или жреческой власти.
Субъективно же, конечно, властный авантюрист мотивировал свои
поступки иными, самыми разными соображениями.
Фактически он стремился расширить свою власть или удержать ее
потому, что попадание на более высокое с точки зрения
властного потенциала место или просто удержание власти
позволяло властному авантюристу или расширить свои
возможности (именно за счет данного места, обладающего большим
властным потенциалом), или сохранить достигнутые
возможности и блага.
Можно предположить, что борьба за власть не только
разрешает возникающие в социальной системе и управлении
проблемы и напряжения, но и влияет на становление
социальных институтов и отношения между ними. Действительно,
институты власти царя и жреца, так же как и «подменного
царя» и «обожествления царской власти», сложились как раз
в борьбе за власть и в этом смысле почти одновременно.
И наоборот, становление социальных институтов, каждый
из которых решает свои специфические задачи (управления,
хозяйственные, защиты, разрешения социальных
конфликтов и т. п.), в силу того что социальные институты
структурируют социальную систему, создает новые условия и
возможности для борьбы за власть. Властные авантюристы
начинают использовать эти институты как средство расширения
(или удержания) своей власти, объективно способствуя
разрешению возникающих в социальной системе и управлении
проблем и напряжений.
На основе данной реконструкции можно наметить первые
теоретические характеристики власти. Получается, что
383
власть — это своеобразная топологическая характеристика
социальной системы, а именно система властных мест, зон и
подходов к ним. Социально-топологическое пространство
власти задается культурными сценариями и картинами, а также
борьбой за власть. Но власть — это также свойства
«человеческого материала» (воля, ценности, жажда власти и т. п.),
позволяющие личностям, стремящимся во власть, реализовать
себя. Наконец, власть — это социальные акции и действия,
«проявляющие» топологическое пространство власти, а также
позволяющие ее участникам или удержаться во властном
месте, или расширить зону власти, или изменить ее характер, или
занять другое властное место и зону и т. п.
Только на первом этапе становления культуры древних
царств на социальном поле выступали и боролись за власть
две силы — царь (фараон) и жрецы. В дальнейшем сложились
различные профессиональные сообщества (частный
случай — сословия), которые тоже вступили в эту борьбу. Речь
идет о формировании профессионального сообщества людей,
занимающихся войной, управлением (руководством),
земледелием, производством вещей и пр. В качестве иллюстрации
можно привести Среднее царство в Египте. «Все должности
наследственны. Могущественное наследственное дворянство
(выросшее из исполнителей воли, сегодня мы бы сказали
чиновников, царя. — В. Р.) правит страной. Фараон, несмотря на
прежние звучные титулы, лишь глава этого сословия. Место
регулярной армии заняла дружина: фараона, князей-номархов или
других знатных должностных лиц. Наследственные
дружинники образуют военный класс (я предпочитаю говорить не класс, а,
чтобы освободиться от идеологических клише, «профессиональное
сообщество». — В. Р.). Крепостное крестьянство сидит на
земле, которую оно обрабатывает для своих господ. Наряду с
дворянством могущественное жречество, тоже феодальное, с
собственными храмовыми казной и войском»1.
Появление профессиональных сообществ было связано,
с одной стороны, с разделением труда и формированием ме-
гамашин, с другой — с необходимостью сохранять социаль-
1 ЭртельМ. А. Древний Восток //Очерки всеобщей истории. — М., 1910.— С. 19.
384
ный порядок, раз и навсегда заданный базисными
культурными сценариями. Проще всего обе эти задачи решались в
ходе формирования сословного общества. В свою очередь,
появление профессиональных сообществ вело к
перераспределению власти: она делилась между всеми участниками
социального процесса, но, конечно, неравномерно.
Скажем, в Древнем царстве власть фараона была
несравнима ни с чем. В Среднем царстве сложилось относительное
равновесие всех основных властных сил и субъектов (царя,
жрецов, знати, за которой стоят различные
профессиональные сообщества). В первую половину Нового царства резко
возвысились жрецы, а остальные сословия в плане властного
потенциала почти сошли со сцены; зато во вторую половину
цари в борьбе со жрецами восстановили равновесие,
воспользовавшись для этого силой войск, составленных из
чужеземных наемников. Но в результате наемники начинают
сами претендовать на власть в Египте. Эта борьба за власть
оказалась гибельной для страны.
«Жречество вступает в борьбу с наемниками, на которых
опирались обессилившие фараоны. На мгновение жрецы
побеждают, и первосвященник Аммона-Ра на престоле
фараонов; но духовенство оказалось не в силах удержать власть
в своих руках; Египет распадается на отдельные княжества; с
юга нападают и покоряют его эфиопы, с северо-востока —
ассирийцы»1.
Формирование профессиональных сообществ выступило
катализатором и формирования самого общества.
Последнее, как показывает исторический материал, появляется в
особых кризисных для конкретного социума ситуациях.
Одну из таких ситуаций описывает в книге «Философия на-
гуа» Леон-Портил ья.
«Образованию в XV в. империи ацтеков предшествовала
следующая история. В начале XV в. мехики жили в
небольшом государстве. После избрания королем Итцкоатла, око-
ло 1424 г., мехики оказались перед трагическим выбором:
Эртель М. А. Указ. соч. — С. 22.
25. Заказ №4180
385
или признать власть Максила, тирана соседнего государства,
или начать против него войну. Перед угрозой уничтожения
король и мехиканские господа решили полностью
подчиниться тирану, говоря, что лучше отдаться всем в руки
Максила, чтобы он сделал с ними все, что пожелает, а быть может,
Максил их простит и сохранит им жизнь. Именно тогда слово
взял принц Тлакаэлель и сказал: "Что же это такое, мехикан-
цы? Что вы делаете? Вы потеряли рассудок! Неужели мы так
трусливы, что должны отдаться жителям Ацкапутцалко?
Король, обратитесь к народу, найдите способ для нашей защиты
и чести, не отдадим себя так позорно нашим врагам".
Воодушивив короля и народ, принц Тлакаэлель получил в
свою власть управление армией, укрепил и организовал ее,
повел на врага и разбил тирана. Став после победы
ближайшим советником короля и опираясь на мехиканских господ,
Тлакаэлель начал ряд реформ. Сначала он осуществил
идеологическую и религиозную реформы. Тлакаэлель приказал
сжечь кодексы и книги побежденных текпанеков и самих ме-
хиканцев, потому что в них народу ацтеков не придавалось
никакого значения; параллельно были созданы новые версии
истории и веры ацтеков, где этот народ объявлялся
избранным, он должен был спасти мир, подчиняя для этой цели
другие народы, чтобы питать кровью захваченных пленников
Бога-Солнце. Подобно тому как Тлакаэлель провел реформы
в идеях и в религиозном культе, он преобразовал, как об этом
говорит "История" Дурана, юридические нормы, службу
царского дома, армию, организацию почтеков (торговцев) и даже
создал ботанический сад в Оахтепеке»1.
Проинтерпретируем этот случай. Король и мехиканские
господа образуют своеобразное общество: на собрании
вопрос о судьбе страны они решали вне рамок государственных
институтов, это было именно общественное собрание, где
важно было убедить других (короля, жрецов, господ,
народ — это все различные общественные образования,
субъекты), склонить их к определенному решению и поступ-
Леон-Портилья М. Указ. соч. — С. 266—267.
386
ку. Но дальше формируется консолидированный субъект —
король и принц Тлакаэлель, возглавившие мехиканских
господ и армию и организовавшие поход против тирана. При
этом важно, что социальное действие осуществляется уже в
рамках и с помощью социальных институтов — армии и
жрецов. Соответственно и реформы идут с помощью и в рамках
социальных институтов. Поясню.
Общество состоит из «общественных образований»
(профессиональных сообществ, групп интересов, отдельных
влиятельных личностей и т. д.), которые обладают
способностью вести борьбу, формулировать самостоятельные цели,
осуществлять движение по их реализации, осознавать свои
действия. Общество образует некую целостность, обладает
своеобразным сознанием, создает поле и давление, в рамках
которых действуют общественные образования и
социальные субъекты. Имея общий «плацдарм жизни» и социальные
ресурсы, общественные образования взаимодействуют друг
с другом, пытаясь склонить других участников
общественного процесса к нужным для себя результатам. В результате
этого политического процесса и складываются
общественное мнение и решения.
Если говорить об обществе в теоретической плоскости, то
можно выделить следующие его характеристики. Общество
имеет два основных режима — активный и пассивный. В
пассивном «общество спит» в том смысле, что, поскольку
социуму ничего не угрожает, общество бездействует, кажется, что
такой реальности нет вообще. Но в ситуации кризиса
социума, его «заболевания» общество просыпается, становится
активным, начинает определять отношение человека культуры
к различным социальным реалиям и процессам.
Следующая характеристика — наличие у представителей
культуры представления о взаимозависимости, а также
социальном устройстве, понимаемых, конечно, в соответствии с
культурными и индивидуальными возможностями сознания
отдельного человека. Каждый человек культуры в той или
иной степени, кто больше, кто меньше, понимает, что он
зависим от других, что культурная жизнь предполагает СОВ-
ос* 387
местную деятельность, подчинение, взаимопомощь, что все
эти отношения обеспечиваются общественными
институтами (соответствующий аспект, план сознания назовем
«общественным»).
Третья характеристика общества — общение1. В ситуациях
кризиса или заболевания социума люди переходят к
общению, т. е. собираются вместе вне рамок социальных
институтов и, главное, пытаются повлиять на общественное сознание
друг друга с целью его изменения. Результатом эффективного
общения, как правило, является сдвиг, трансформация
общественного сознания (новое видение и понимание, другое
состояние духа — воодушевление, уверенность, уныние
и т. п.), что в дальнейшем является необходимым условием
перестройки социально значимого поведения. В этом
смысле общество напряжено (структурировано) силовыми
линиями поля социума, куда всегда возвращаются общающиеся
(чтобы продолжать функционирование в соответствующих
институтах). Но одновременно само общество есть
своеобразное поле, силовые линии и напряженности которого за-
даются текущим взаимодействием (общением) всехучастни-
1 Ю. H. Давыдов, рассматривая в «Новой философской энциклопедии» понятие
«общество», точно подмечает обе указанные здесь характеристики:
«ОБЩЕСТВО (лат. societas — социум, социальность, социальное) — в широком
смысле: совокупность всех способов взаимодействия и форм объединения
людей, в которых выражается их всесторонняя зависимость друг от друга; в узком
смысле: генетически и/или структурно определенный тип — род, вид, подвид
и т. п. общения, предстающий как исторически определенная целостность либо
как относительно самостоятельный элемент подобной целостности»
(Давыдов Ю. Н. Общество // НФЭ. — Т. 3. — С. 132). Вспомним, как вел себя Сократ на
суде. Он не только и не столько доказывает свою невиновность в юридическом
смысле, сколько пытается повлиять на сознание своих оппонентов,
сторонников и судей. Для этого Сократ рассказывает о себе и своей жизни, обсуждает
привычные убеждения людей, присутствующих на суде (понимание смерти, жизни,
того, ради чего стоит жить), вводит новые представления, например, утверждает,
что смерть есть благо, что жить надо ради истины и добродетели, а не ради славы
и богатства, что лучше умереть, чем жить в бесчестии, что где себя человек
поставил, там он и должен стоять всю жизнь, невзирая на саму смерть. Общение всегда
предполагает воздействие друг на друга, причем способы влияния могут быть
самыми различными: задание новых представлений и схем (например, как это
делает Платон в «Пире» по поводу любви; кстати, этот диалог и построен в форме
рассказа об общении на пиру), обмен мнениями, внушение, запугивание,
демонстрации разного рода и пр.
388
ков, которые «здесь и сейчас» сошлись на оощественном
подиуме.
Заметим, что в рамках общества человек уже не
субстрат культуры, а потенциальный носитель всей социальности,
а также будущего социального устройства. Именно его
активность, направленность и взаимодействие (общение) в
рамках общества определяют возможную в перспективе
структуру культуры, возможную в том смысле, что новая
культура состоится (при этом возможность перейдет в
действительность), если имеют место и другие необходимые
для формирования культуры предпосылки
(семиотические, ресурсные и пр.). Такой человек, назовем его
латентной личностью, является самостоятельным социальным
организмом, живущим, однако, и это существенно, в лоне
культуры.
8.3.2. Аристотель о власти и государстве
Власть в Античности была устроена совершенно иначе,
чем в культуре древних царств: человек соединялся с
системами управления не навсегда, а лишь временно, причем это
соединение опосредовалось новым институтом —
государством. Кроме того, способов соединения человека с
управлением (т. е. типов власти) было несколько. Хотя историки
постоянно пишут о государствах культуры древних царств,
такой социальный институт в этой культуре еще не
сложился. Государство, понимаемое прежде всего как особая
организация власти, формируется только в античности. Оно
понадобилось обществу, защищавшему себя от произвола
власти, несмотря на то что чаще всего эту власть общество
ставило и санкционировало само. Но, получив рычаги
управления, власть нередко узурпировала права граждан и
общества, порабощала их, начинала использовать свое
положение для собственных целей, ничего общего не
имеющих с общественными. В «Политике» Аристотель описыва-
389
ет много таких случаев. Не меньше дает и история Древнего
Рима.
Например, Луция Корнелия Суллу в качестве диктатора
римский сенат и комиции в ситуации глубокого социального
кризиса выбрали сами, но дальше события развивались
совсем по другому недемократическому сценарию. «Суллан-
ские учреждения — сенат, комиции и магистраты, —
отмечает Сергеев, — оставаясь по форме и названию
республиканскими учреждениями, по сути дела являлись уже
императорскими административно-бюрократическими органами:
сенат — государственный совет, состоявший в значительной
степени из фаворитов Суллы, магистраты — чиновники,
подчиненные сенату, войско — профессиональная армия,
зависимая от своего вождя (императора), от него же зависела
и большая часть оптиматов и всадников, занимавших в
армии посты интендантов, обслуживающих армию».
«О законе, голосовании или жеребьевке теперь уже не
было и речи, после того как все оцепенели от ужаса,
замкнулись в себе и молчали. <...> Теперь римляне наконец
поняли, что у них уже не существует свободного, законного
голосования и что вообще ведение дел уже не в их власти. В этом
чрезвычайно сомнительном положении даже тень
народного голосования казалась желанной как эмблема свободы.
Они голосуют и избирают Суллу неограниченным государем
на срок, какой ему будет угодно. Правда, и прежние
диктаторские полномочия были беспредельны, но важным
ограничением была краткость срока. Теперь же, когда впервые
отпало ограничение и во времени, власть диктатора
превратилась в настоящий произвол — тиранию»1.
Здесь видно, что узурпации власти способствуют не
только чрезвычайные обстоятельства и наклонности
властвующей личности, но и профессионализация и бюрократизация
власти. Так или иначе, но в подобных ситуациях общество
стало искать средства, позволяющие контролировать власть,
ориентировать власть на общество и человека, блокировать
1 Сергеев В. С Указ. соч. — С. 239—240.
390
возможность переключения власти на решение
собственных, а не общественных задач. Таким средством и выступило
государство, которое в Античности понималось прежде
всего как устройство власти (организация управления),
работающее на общество. При этом одновременно выяснилось, что
и человек, отвечающий поставленной задаче, должен быть
особый: соблюдать законы, участвовать в политической
жизни; именно такой человек и получил название
гражданина.
В «Политике» Аристотель обобщает основные
характеристики государства как социального института и гражданина
как части государства. «Но, если бы даже кто-нибудь
установил умеренную собственность для всех, пользы от этого
не было бы никакой, потому что скорее уж следует
уравнивать человеческие вожделения, а не собственность. А это
возможно достигнуть лишь в том случае, когда граждане
будут надлежащим образом воспитаны посредством закона.
<...> Лучше всего безусловное понятие гражданина может
быть определено через участие в суде и власти. <...>
Государственное устройство (politeia) — это распорядок в области
организации государственных должностей вообще, и в
первую очередь верховной власти. <...> Государственное
устройство означает то же, что и порядок государственного
управления, последнее же олицетворяется верховной
властью в государстве, и верховная власть непременно
находится в руках либо одного, либо немногих, либо
большинства. И когда один ли человек, или немногие, или
большинство правят, руководствуясь общественной пользой,
естественно, такие виды государственного устройства являются
правильными, а те, при которых имеются в виду выгоды
либо одного лица, либо немногих, либо большинства,
являются отклонениями. Ведь нужно признать одно из двух: либо
I граждане, участвующие в государственном общении, не
! граждане, либо они должны все быть причастны к общей
:; пользе. Государственным благом является справедливость,
'. т. е. то, что служит общей пользе. По общему представлению
I справедливость есть некое равенство. <...> А такое равно-
мерно правильное имеет в виду выгоду всего государства и
общее благо граждан»1.
Мы видим, что решение о правильном устройстве
государства Аристотель ищет частично в этической плоскости
(идея справедливости), частично в прагматической (идея
общего блага граждан), но, главное, он понимает, что
государство предполагает ограничение власти со стороны общества
(посредством причастности власти к общей пользе,
справедливости и благу фаждан). Для Аристотеля борьба за власть в
государстве и политика — две стороны одной монеты, т. е. он
еще не рассматривает политическую систему как
самостоятельную, что вполне отвечало античному опыту социальной
жизни. Политика в античной культуре, действительно,
сливалась с борьбой за власть.
8.3.3. Общество и борьба за власть
в культуре Средних веков
В Европе этого периода отчасти повторилась история,
которую мы рассмотрели выше в культуре древних царств, а
именно базисный культурный сценарий позволял
претендовать на высшую власть двум социальным институтам —
христианской церкви и светской власти в лице королей,
императоров, баронов. С одной стороны, именно Папа и кардиналы
выступали посредниками между христианами и Творцом,
представляли Последнего на земле, с другой — короли и
императоры Западной Европы в VI—XI вв. считались
«Христовыми наместниками», сакральными фигурами,
религиозными вождями своего народа; благодаря помазанию в
особенности император воспринимался как высший духовный
руководитель всех христиан, которого не смел судить ни один
человек, но который сам судил всех людей и отвечал за них
на Страшном Суде2. Более того, в этот период под властью
королей, императоров и крупных феодалов находились за-
1 Аристотель. Политика // Соч.: В 4 т. — М., 1983. — Т. 4. — С. 420, 445, 457, 467,
471.
2 См.: Берман Г. Указ. соч. — С. 96.
392
падное христианское духовенство и большая часть
церковной собственности. Светские власти не только
«контролировали земли и доходы церкви, но и назначали на должности
епархиальных архиереев и других находившихся на их земле
угодных им лиц, часто из числа близких родственников. Эта
власть раздавать церковные должности (бенефиции) часто
оказывалась весьма прибыльной, т. к. этим должностям
сопутствовала обязанность получать доходы и службы с
земельных владений при них»1.
Ситуация стала быстро меняться в X в. и начале XI в.,
когда началось движение за объединение множества
существовавших самостоятельно монастырей и приходов, а также
борьба за очищение церкви от феодальных и местных
влияний и неизбежно сопутствующей им коррупции. (Но еще во
второй половине IX в. Папа Николай I пытался утвердить
власть не только над архиепископами и епископами, но и
над «императорами, заявив, что короли не имеют права
судить священников и что священники не подлежат
юрисдикции королей; впрочем, тогда эта декларация не изменила
положения дел»2.) Инициатором нового движения выступило
аббатство Клюни, которое сумело создать и объединить
более тысячи монастырей, которые все управлялись приорами
под юрисдикцией аббата Клюни Одилона. Он же выступил
инициатором церковного движения за «Мир Господний»,
направленного против войн и насилия, что способствовало
существенному поднятию авторитета христианской церкви.
Объединение приходов и монастырей и других
церковных сообществ и организаций позволило Папам объявить
войну светской власти. Начал ее Папа Григорий VII,
провозгласивший юридическое верховенство Папы над всеми
христианами и светскими властями, а чтобы его слова не
расходились с делом, он тут же низложил императора Генриха IV.
Одновременно Григорий VII приступил к реформированию
и самой церкви, например, он «приказал всем христианам
бойкотировать священников, живших в браке или внебрач-
Берман Г. Указ. соч. — С. 96.
2 Там же. — С. 100.
393
ном сожительстве, и не принимать их услуг в отношении
таинств»1. Поскольку христианская церковь не имела
собственной армии, свои претензии на верховную власть она
пыталась утвердить, в частности, на основе права. В 1075 г.
Папа Григорий VII, «заглянув в собственную грудь», написал
документ под названием «Dictates Papae» («Диктаты Папы»),
из которого имеет смысл привести несколько положений:
«1. Римская церковь основана одним только Господом.
2. Римский епископ один по праву зовется
вселенским.
3. Он один имеет право низлагать и восстанавливать
епископов. <...>
7. Ему одному позволено создавать новые законы в
соответствии с нуждами времени. <...>
9. Одному лишь Папе все князья должны целовать ноги.
11. Он может низлагать императоров. <...>
18. Никакой его приговор не может быть никем отменен,
и только он один может отменять любые»2.
Начался затяжной конфликт светских властей с
церковными, не ограничившийся одними письмами: в ход пошло
оружие, проклятия, отлучение от церкви. Например, Иоанн
Солсберийский в трактате «Norman Anonymous»,
направленном против партии Папы, пишет, что и «королевское
достоинство Христа, и его святость прямо передаются королям
через коронацию. Как викарий есть наместник Христа,
король сам божественен и является священником своего
народа. Он даже может совершать таинства, после коронации —
такова традиция в Византии, у франков и англосаксов —
император или король входил в алтарь и готовил хлеб и вино для
своего собственного причащения. Король также благодетель
и спаситель своего народа, поэтому он может прощать
грехи»3.
1 Берман Г. Указ. соч. — С. 102.
2 Там же.-С. 102-103.
3 Там же. — С. 264—265.
394
Успех в борьбе Пап с королями попеременно был то на
одной стороне, то на другой, поскольку обе партии имели
своих многочисленных сторонников, которые, однако, сами
часто меняли свои взгляды, ведь и христианская церковь
представляла собой тело Христово, но и светская власть
была сакральна. «В итоге ни Папам, ни императорам не
удалось настоять на своих изначальных притязаниях. По Вор-
мскому конкордату 1122 г. император гарантировал, что
епископы и аббаты будут свободно избираться одной лишь
церквью, и отказался от присвоения им духовных символов
кольца и посоха. Со своей стороны Папа согласился на право
императора присутствовать на выборах и вмешиваться там,
где возникал спор»1. За этим первым шагом последовали и
другие, в ходе которых церковь и светская власть постепенно
разграничивали компетенции и определяли границы
собственных институтов. Другой важный результат — формирова-
V ние канонического права и по его образцу — права светского
J государства.
Нужно учесть еще одно обстоятельство. Общество того
I времени состояло из многих сообществ (племенных союзов,
\ дворов королей и других крупных феодалов, христиан-мона-
| хов, мирян, связанных феодальными отношениями, горо-
| жан и т. д.), каждое из которых отстаивало свою самостоя-
| тельность. Средневековое общество было обществом равных
[ перед Богом, а также отчасти в силу договорных отношений.
Это общество признавало разных социальных субъектов
(церковь, светские власти, города, цеха и т. д.). Потому и
не могли в рассмотренном конфликте победить ни церковь,
ни светские власти, что средневековое общество было
обществом многих равных перед Богом, обществом, не
мыслящим деспотизма в качестве нормы социальности. По сути,
начиная с XI—XII вв. средневековое общество пытается
конституировать себя на основе права и механизмов, напомина-
ющих собой демократические.
Берман Г. Указ. соч. — С. 104.
395
Образцом при этом выступала христианская церковь. Так,
несмотря на единовластие Папы, сам Папа избирался
кардиналами, в свою очередь епископ избирался соборным
капитулом, т. е. канониками и другими клириками, аббат избирался
монахами монастыря. «Хотя законодательство было
прерогативой Пап, они все же в XII—XIII вв. чувствовали
потребность в периодическом созыве вселенских соборов, чтобы те
помогали им в законодательном процессе. Это и были первые
законодательные собрания Европы»1. В формировании
подобного общества колоссальную роль сыграли монастыри,
университеты, средневековая философия и теология.
Большое значение имела и структура церкви, соединяв-
тая в себе три разных образования — христианское
мировоззрение (в значительной степени определявшее базисный
сценарий и картину мира средневековой культуры), церковь как
сообщество христиан и церковь как корпорация. В первой своей
ипостаси церковь манифестировала идею Бога-Творца,
создавшего мир и продолжающего в нем пребывать, определяя
все происходящие события. Это также идеи «концепирова-
ния» (т. е. собирания человеком по слову смыслов, творения
конкретных предметов), развитые Боэцием и Абеляром.
Отсюда идея и образ средневекового права как целого,
организма, но творимого человеком, через которого действует Бог.
Во второй ипостаси церковь, как можно понять,
представляла собой общество, с одной стороны, отстаивавшее
свободу своих членов и более мелких сообществ, с другой —
выстраивавшее отношения между ними на демократической
средневековой основе (выборность всех основных
должностей, обсуждение на вселенских соборах, обсуждение на фи-
лософско-теологическом уровне, сложная иерархическая,
опирающаяся на право структура управления). Как пишет
Г. Сайз, «при такой тонкой сверхразветвленной системе
управления, как в средневековой церкви, консенсус решал
абсолютно все»2.
Берман Г. Указ. соч. — С. 203.
Там же. — С. 208.
396
В третьей своей ипостаси церковь представляла собой
корпоративную организацию (в нашей терминологии
«консолидированного субъекта»), ставящую перед собой
определенные цели и стремящуюся их реализовать. Так, именно в
XI—XII вв. церковь «вознамерилась переделать и саму себя,
и окружающий мир на основе права», организовала
крестовые походы, приучая христиан к своей новой роли, еще
раньше создавала школы и монастыри, поддерживала
университеты, способствуя переделке ветхого человека в нового.
Важно понять, что необходимым условием церкви как
корпоративного института являются две ее другие ипостаси.
Обсуждая этот вопрос, Берман сравнивает два разных
понимания корпорации — германское и римское и обращает
внимание, что средневековое понимание сочетает в себе оба
и опирается на признание общества. «Эти и другие нормы и
понятия канонического права, — пишет он, — по всей
видимости, отражают германские представления о корпорации
как товариществе, имеющем групповую личность и
групповую волю, в противоположность римскому представлению о
корпорации как "учреждении", сущность которого
создается вышестоящей политической властью. <...> Сомнительно,
однако, чтобы корпоративная личность в юридическом
смысле вообще могла возникнуть из одной лишь группы. Ее
существование всегда отчасти зависит от признания ее
извне, другими слоями, от признания ее тем обществом, частью
которого она является. Равным образом сомнительно, чтобы
корпоративная личность в юридическом смысле могла
возникнуть исключительно по воле общества или государства,
без предварительного наличия группы людей, имеющих
общие интересы и способность действовать как единое целое»1.
Итак, структура власти, сложившаяся в Европе в Средних
веках, помогала'разграничить складывающиеся в
средневековом обществе социальные институты и способствовала
формированию особой культуры и социальности, допускаю-
щих сосуществование разных социальных субъектов и сооб-
1 Берман Г. Указ. соч. — С. 213—214.
397
ществ, опосредующих социальное взаимодействие
институтом права. Еще раз на данном материале подтверждается
зависимость власти от общества. Его позиция и отношения
определяли и невозможность окончательной победы одной
из конфликтующей сторон (короля и церкви), и требование
идти на компромисс, и такую структуру права, в которой
достигалось примирение разных социальных субъектов, и даже
новый характер права и власти (выстраивающих себя по
образцу единого христианского общества и корпорации).
8.3.4. Формирование в XVIII—XIX вв.
политико-правового пространства
и гражданского общества
Одной из предпосылок здесь была борьба общества
против абсолютных монархий, которая привела к становлению
государства Нового времени. Уже Шарль Монтескье в
«Персидских письмах» уподобляет французскую абсолютную
монархию азиатскому деспотизму, но критика европейских
монархий была в XVII в. почти общим местом. Европейское
общество и стоящая за ним новоевропейская личность в целом
по логике повторили античный ход, состоящий сначала в
проектировании государства, работающего на общество и
человека, а затем и в реализации такого проекта. Но,
конечно, содержание проекта было другим. В соответствии с
новым мироощущением монархической власти и ее все более
профессионализирующемуся аппарату управления была
противопоставлена не менее внушительная сила — народ и
человек, действующие исходя из естественных природных
законов и к тому же действующие в своем праве (идея
общественного договора).
Разрабатывая концепции естественного права и
разделения властей, Монтескье, Гоббс, Локк и разделяющие их
взгляды правоведы проектируют новый тип государства,
призванного стоять на страже не только порядка, но и
общества и человека. Действительно, все они настаивают, что
государственная власть подпадает под закон (суверен, пишет
398
Гоббс в «Левиафане», «подчинен действию закона так же,
как последний из его подданных»; народ, еще более
решительно говорит Л окк, остается безусловным сувереном, имея
право не поддерживать и даже ниспровергать
безответственное правительство); что все люди равны и свободны; что
государство через систему судопроизводства должно
обеспечить права человека на жизнь, свободу слова и веры, на
собственность; что разделение властей, обеспечивающее
систему «сдержек и противовесов», необходимо для
предотвращения такого развития государственной власти, когда
последняя работает только на себя, а не на общество и человека.
Обращение к праву здесь было вполне естественным, ведь
именно в праве общество могло провести свой новый идеал
справедливости и утвердить необходимость для власти
получить санкцию на управление со стороны общества.
Практическая реализация в XVIII—XIX вв. этих
концепций приводит не только к построению правового
государства, отличительными признаками которого являются:
верховенство закона, реальность прав и свобод индивида,
организация и функционирование суверенной судебной власти на
основе принципа разделения властей, правовая форма
взаимоотношений личности и общества1, но и к формированию
политико-правового пространства и гражданского
общества. И вот почему. Постепенно выяснилось, что общество
может реализовать свои планы, лишь создав институции
(силы), соразмерные государству с его аппаратом. Такими
институциями и выступили политическая система и граждан-
ское общество, складывающиеся в этот период2.
1 См.: Нерсесянц В. С. История идей правовой государственности. — М., 1993. —
С. 15.
2 Политическая система, по Луману, циркулирует в пространстве
«государственная бюрократия — народ — общественность» и дифференцируется на три
подсистемы — собственно политику, аппарат управления и политическую
общественность. Для политической деятельности характерны все основные моменты
жизнедеятельности общества: воздействие в кризисных ситуациях на сознание
членов общества с целью его изменения, использование для этих целей
институциональных средств (партий, парламента, прессы, права и пр.), ориентация на
социальные структуры и институты. То есть политика — это определенный аспект
жизнедеятельности общества. («Политика, — указывает Луман, — является
обществом в том смысле, что общество политически взаимодействует; она в
качестве подсистемы имеет за своими границами не общество, а только неполити-
399
Что такое политика? Анализ современной
политологической литературы позволяет сделать два вывода:
— в современных условиях становления нового социального и
хозяйственного порядка (структуры) любое хозяйственное
или политическое решение, если оно рассчитывает на
эффективность, должно быть опосредовано выработкой
политики. В противном случае социальная среда (включающая
участников социального действия и заинтересованных
субъектов) сделает невозможным реализацию этого решения или
исказит воплощение данного решения до неузнаваемости.
Это одно понимание политики. Другое — политика как
сфера профессиональной политической деятельности;
— понятие политики предполагает обсуждение по меньшей
мере четырех сфер социальной жизни — хозяйственной
деятельности (хозяйства), власти, государства и общества.
Тлакаэлель (см. случай, рассмотренный выше),
уговаривая мехиканских господ и короля, как бы мы сегодня
сказали, воздействовал политически на мехиканское общество;
ассирийские жрецы, составляя «прогноз» для царя (см. выше
«ритуал подменного царя»), напротив, действовали
политически в рамках существующих социальных институтов,
совершенно игнорируя общество.
Обобщая этот материал, не должны ли мы утверждать,
что политика — это, во-первых, или воздействие либо на
общество, либо на власть, или создание условий,
обеспечивающих эффективное социальное действие (хозяйственное,
культурное, политическое), или то и другое вместе.
Во-вторых, политика — это действие, направленное на изменение
существующего порядка (социальных процессов); в первом
случае нужно было переломить сложившееся мнение
общества, во втором — заставить царя хотя бы временно
расстаться с принадлежащей ему законной властью, в третьем случае
изменить сразу несколько процессов (отношение субъектов
к проекту, консолидировать разные силы, до этого не консоли-
дированные, и пр.). В-третьих, инструментами политики явля-
ческие интеракции» (Luhmann N. Politikbegraffe und die Politisierung der
Verwaltung // Demokratie und Verwaltung. — В., 1972. — S. 219).)
400
ются, с одной стороны, социальные институты (например,
парламент или СМИ), с другой — действия, направленные
на изменение общественной среды (повышение уровня
жизни, или создание атмосферы страха, или идеологическая
пропаганда и пр.), с третьей стороны, механизмы власти,
позволяющие влиять и на общество, и отчасти на саму власть
(так называемый административный ресурс), с четвертой —
«власть» знаний и технологий разного рода. Необходимым
условием политики, как показывают многие исследования,
являются определенные формы демократии (действие
права, законов, выборность и разделение властей и т. п.), а также
формирование разных самостоятельных социальных
субъектов, которые могут воздействовать друг на друга
политическими методами, но не могут силой «переубедить» своих
оппонентов.
Однако в XVIII—XIX вв. указанные особенности
политики еще не были осознаны, они воспринимались как аспекты
обычной жизнедеятельности общества, решавшего две
взаимосвязанные задачи — создание нового права и правового
государства. Поэтому казалось, что право и политика — это две
стороны одной «монеты», которой является
политико-правовое пространство. Во времена Франциска Суареса, Томаса
Гоббса и Самуэля Пуфендорфа, пишет Луман, складывается
представление о единой политико-правовой системе, что
рефлексируется в теории естественного права. Но с XIX в.
акцент смещается на «политическое», отождествляемое с
«государственным». «Данное обстоятельство способствовало
возникновению политических партий, преследовавших цель
доступа к государственным должностям. Одновременно и право
трактовалось как область выражения политических
устремлений». «Право нуждается в политике для своего
осуществления, поскольку без перспектив претворения в жизнь
невозможна всесторонне контролируемая стабильность норм.
Со своей стороны политика использует право для доступа к
политически концентрированной власти»1.
1 Luhmann N. Das Recht der Gesellschaft. — M.: Suhrkamp, 1995. — S. 416.
26. Заказ №4180
401
Разработка в XVIII—XIX вв. новых законодательств,
основанных на идеях естественного права, причем здесь уже
большое влияние оказывала сформировавшаяся политическая
система, сделала необходимым переструктурирование
общества. Оно вынуждено было действовать в новых, а именно
правовых и политических условиях. Теперь все
общественные акции и действия опосредовались политической
системой и правом. Если общественный деятель хотел
воздействовать на сознание членов общества, он апеллировал не только к
общественному мнению или реальной опасности, но и к
праву, высказываниям лидеров партий, политической ситуации
и пр. Такое общество и можно назвать гражданским.
«Развитое гражданское общество, — пишет А. Матюхин, —
опирается на презумпцию естественного права и связывает с
определенными институциональными правилами реализацию
свободы индивидов, которая осуществляется через частные
(личные) права, политические институты, государство»1.
Анализ предложенного здесь материала, на мой взгляд,
позволяет судить о понимании авторами (Берман, Розын)
характера как социальности, так и социального действия.
Социальность рассматривается в контексте культуры, а также
организмически. Берман весьма точно выражает новый
подход к изучению не только права, но и всех сходных популя-
ционных сложных объектов — одновременное рассмотрение
взаимосвязанных сторон этих объектов (культуры,
политики, права, власти, экономики, искусства и др.), и он в своей
книге так и поступает. Данный подход можно назвать
«принципом соотносительного анализа». Даже в естественных
науках этот холистический (организмический) принцип начи-
нает приниматься исследователями2. Как обусловленная ку-
1 Матюхин А. А. Государство в сфере права: институциональный подход. — Алма-
ты, 2000.-С. 217.
2 «С точки зрения новой физики, — пишет Ханс Петер Дюрра, — фактор связи
(взаимоотношений) проявляется не только посредством многочисленных и
сложных взаимосвязей предсуществующих "кирпичиков" (атомов или молекул)
на основе известных нам сегодня сил (например, электромагнитных); но сверх
того имеется существенная внутренняя и типичная для квантовой физики
холистическая структура связей, которая, собственно говоря, запрещает всякий
разговор об основных "кирпичиках", да и вообще о частях системы... любые
отдельности (например, изолированные атомы), согласно новой точке зрения, не яв-
402
льтурой социальность уникальна и существенно меняется в
историческом времени; в организмическом плане она
существенно зависит от характера и состояния общества, права,
власти и других подсистем культуры как социального
организма.
Понятно, что на власть как подсистему сложного
социального организма нельзя воздействовать подобно тому, как
мы действует в сфере техники. На нее можно влиять только
опосредованно через другие системы и институты социума.
Другими словами, здесь не работает понимание социального
действия как социальной инженерии или организационной
реформы.
Думаю, уже не нужно доказывать, что представление о
власти в приведенном исследовании представляет собой
идеальный объект, что я приписывал этому феномену такие
характеристики, которые позволяли рассуждать без
противоречий и вести научное объяснение в рамках социальной
научной дисциплины, опирающейся на культурологию и
использующей методы генетической реконструкции.
8.4. Понимание хозяйства,
экономики и богатства
8.4.1. Формирование хозяйства
и экономики в Древнем мире
Необходимость появления хозяйства в этот период была
обусловлена двумя основными факторами — процессами
разделения труда и формирования «мегамашин», т. е. кол-
ляются началами действительности, но, напротив, их разделение возможно
лишь как результат структурных преобразований, а именно — нарушения связей
путем гашения в промежуточных районах. Связи между частями целого
возникают, таким образом, не вторично, путем взаимодействия исходно
изолированных образований, но являются выражением первичной идентичности всего»
(Цит. по: Белоусов Л. В. Целостность в биологии... — М., 2001. — С. 81).
26*
403
лективов с жестким вертикальным управлением.
Действительно, пока не были созданы армия, большие коллективы,
работающие под надзором тысяч писцов, проблемы,
возникавшие в управлении, в царском дворе, храмах, в
производстве, при распределении продуктов труда и питания,
разрешались традиционно и не требовали специальной
организации. С появлением всего этого хозяйственная деятельность
стала совершенно необходимой, ведь, скажем, накормить и
одеть десятки тысяч не работающих в поле и домашнем
хозяйстве людей (чтобы они эффективно управляли,
отправляли культ, воевали) традиционным способом невозможно.
В этом случае необходимо производство, обеспечивающее
не только самого производителя, но и многих других людей,
необходимо распределение продуктов труда исходя из
потребностей целого и его частей, а не самого производителя.
Именно хозяйственная деятельность разрешает все эти
проблемы.
Царские писцы и жрецы начинают улучшать
производство (вносить в него новшества, организовывать его),
по-новому распределять продукты труда, стараясь обеспечивать ими
все социальные институты и сферы общества, следить,
чтобы производство функционировало эффективно и
бесперебойно. Чтобы хотя бы отчасти почувствовать атмосферу
хозяйственной жизни того времени, послушаем
жизнеописание, высеченное в гробнице царского зодчего (построенной
в эпоху Старого царства), в котором он рассказывает о своей
молодости, когда помогал старшему брату (в расшифровке
Ю. Я. Перепелкина, с его же пояснениями).
«"Когда был (я) позади брата (моего) (т. е. сопровождал
брата), управителя работ, был (я) с писчей дощечкой его (т. е.
носил его письменный прибор, на котором разводились
чернила)".
"И назначили его наставником, что для строителей, (и)
был (я) с тростью его" (носил за ним трость; она в Древнем
Египте олицетворяла власть. — В. Р.).
404
"И назначили его управителем строителей, (и) был (я)
третьим (т. е. ближайшим помощником) его".
"И назначили его плотником царевым (и) строителем, (и
я) властвовал для него (над) городом (т. е. управлял
принадлежавшей тому деревней?), (и) творил (я) для него вещь
всякую (т. е. все) в ней гораздо".
"И назначили его другом единственным (высокий
придворный чин), плотником царевым (и) строителем в обоих
домах (т. е. в обоих половинах государства), (и я) считал для
него имущество его всякое; больше было вещей (т. е.
имущества) в доме (т. е. хозяйстве) его против дома сановника
всякого".
"И назначили его управителем работ, и (я) повторял
слово его всякое (т. е. передавал все его распоряжения) в (том)
сообразно тому, за что жаловал он (т. е. так, что он жаловал
исполнителя)".
"Считал же (я) ддя него вещи (т. е. имущество) в доме
(т. е. хозяйстве), что от собственности его, (в) продолжение
20 лет. Никогда не бил (я) человека какого-нибудь там так,
чтобы объявился он мертвым под пальцами (моими).
Никогда не порабощал (я) людей каких-либо там"»1.
Нужно учесть, что производство в широком смысле — это
не только изготовление вещей и орудий (оружия), но и
военное дело (его продукты — военная добыча и дань, а также
уверенность, защищенность жителей страны), и, так сказать,
«духовное производство», позволявшее общаться с богами и
\ получать от них помощь, и сфера управления. Но это только
; один аспект хозяйства — искусственный, поскольку он пред-
I полагает от человека целеполагание (что именно нужно де-
> лать, чтобы...), а также планирование и принятие решений.
Примером первого является целевая установка на создание в
царствах Древнего мира ирригационных сооружений
(каналов, плотин), второго — заготовки запасов зерна на случай
засухи или неурожая.
У IT
Перепелкин Ю. Я. Частная собственность в представлении египтян Старого цар-
i ства // Палестинский сб. — М.; Л., 1966. — С. 27—28.
405
Необходимость хозяйственной деятельности диктуется
также быстрым развитием в Древнем мире торговли.
Разделение труда и объединение в одном царстве различных
номов и провинций, с разными условиями и традициями
земледелия и ремесла, а следовательно, производящих разную
продукцию, способствует развитию внутренней торговли,
что, в свою очередь, заставляет планировать производство и
увеличивать производительность, по-новому распределять
произведенный продукт, т. е. создавать хозяйство.
Второй аспект древнего хозяйства можно назвать
естественным, он связан с тем, что можно назвать экономикой
культуры древних царств. Чтобы понять, что это такое,
сравним для примера хозяйственную деятельность Древнего и
Среднего царств в Египте. В первом случае — это прежде
всего властные решения чиновников фараона в сфере
производства и распределения, во втором, когда сложились
разные самостоятельные субъекты (царь, жрецы, знать),
хозяйственная деятельность опосредуется, с одной стороны,
договорами и соглашениями, которые заключаются между
данными субъектами, с другой — особым пониманием
собственности и имущества (эти два момента и образуют суть
древней экономики).
Учтем одно обстоятельство. Для человека культуры
древних царств, хотя он и обменивает свой продукт на рынке или
оставляет наследство, отчуждаемое имущество или товар в
определенном смысле неотчуждаемы, поскольку являются
продолжением самого человека (например, термины
«собственный» и «собственность» в Египте обознаются тем же
знаком «д.т», что и «плоть», «туловище»). Имущество и продукт,
созданный человеком, не только являлись условием его
существования, а следовательно, и жизни, но и обладали
душой, тесно связанной с человеком или богами,
участвовавшими вместе с человеком в его создании. Приведем два
примера.
Анализируя широко употреблявшееся в Старом царстве
понятие «д.т», обозначающее с добавлениями других слов
406
t
хозяйство («дом д.т»), людей, животных, селения, здания,
заведения и т. д., Ю. Перепелкин пишет следующее: «Итак, мы
видим, что в пирамидах с помощью слова "д.т" выражались
не только принадлежность телесная и по родству, но и
принадлежность в силу владения. Мы видели также, что надписи
частных лиц пользовались "д.т" для обозначения
принадлежности по праву собственности — примеров того было
приведено великое множество — и вместе с тем употребляли
то же слово, когда хотели выразить принадлежность в силу
родства, личной связи, предназначения, пользования,
посвящения!»1 Второй пример.
Античная архаическая ваза не только создана с помощью
богини Афины Эрганы, но и сама является одушевленным
существом, говорящим от своего имени (например,
«владельческая» надпись на черном килике с Родоса: «Я — килик
Корака» и знаменитая: «Я — Нестора благопитейный кубок».
Обе датируются VIII в. до н. э.). Н. Брагинская показывает,
что сосуды чуть ли не самая подходящая вещь для
одушевления. Известно, что индейские женщины считали
вылепленную посуду «живой», живым существом: «сосуд — это образ
женщины, и женщина мыслится сосудом, а женские
божества почитаются в виде сосудов... Части сосуда — вазы,
кувшина, чаши — на разных языках согласно именуются туловом,
ножкой, ручкой, горлом, шейкой, плечами, ушками, устьем,
"устами") и т. д. И это не кальки»2.
Поэтому, чтобы отсоединить имущество или
произведенный продукт от себя, недостаточно его обменять на
другие, эквивалентные с точки зрения затраченного труда и
времени. Необходимо также умилостивить, во-первых, своих
богов, принеся им жертвы, во-вторых, членов общины, к
которой человек принадлежит, в-третьих, чужих богов и
общину, чтобы они приняли чужое имущество и продукт в свое
владение. Все эти моменты, например, можно увидеть на ма-
териале вавилонской культуры. «Тексты, в которых фикси-
1 Перепелкин Ю. Я. Указ. соч. — С. 118—119.
2 Брагинская Я. Надпись и изображение в греческой вазописи // Искусство и
культура античного мира. — М., 1980. — С. 52, 73—83.
407
руется тот или иной вид передачи имущества
(купля-продажа, лишение наследства, обращение в рабство, отпуск рабов
на волю и т. д.), — пишет Клочков, — пестрят специальными
терминами и формулами, указывающими на обряды,
сопровождавшие эти действия. <...> При всем развитии
коммерческой деятельности в Древней Месопотамии имущество,
вещи не превратились в голую потребительскую или
меновую стоимость, в чисто экономические величины; они так и
не "оторвались" окончательно от своих владельцев, не стали
нейтральными предметами, какими их считают законы
Юстиниана и современное право. Данное обстоятельство
самым непосредственным образом сказывалось в сфере
экономики, во многом определяя функционирование механизма
древнего обмена. <...> Покупатель должен был дать
прежнему владельцу три вида компенсации за уступленный объект.
Прежде всего, он платил сразу или по частям "цену
покупки" (nig-sa), как правило, зерном или медью. Ж. Баттеро,
подразумевает эквивалентность, равновесие двух ценностей.
Затем покупатель давал "приплату" (nig-giri или is-ga-
na=nig-ki-gar — "то, что кладут на землю"), исчисляемую в
тех же "деньгах", что и "цена покупки", т. е. зерном или
металлами. В текстах из Фары эта "приплата" бывает равна
цене и даже больше ее. <...>
"Приплата" была одновременно и обязательна, и
добровольна. Обязательна потому, что одна только чистая "цена"
вещи не могла удовлетворить продавца: вещи в обыденном
сознании рассматривались как неоценимые, несводимые к
какому-либо эквиваленту. Добровольна потому, что
размеры ее устанавливал покупатель (возможно, согласуя с
продавцом) исходя из своей оценки степени привязанности
продавца к своему добру, силы собственного желания
приобрести данный объект и, вероятно, желания показать свою
щедрость и продемонстрировать свое величие.
Этим последним желанием объясняется третий вид
выплат — "подарки" (nig-ba, дословно "то, что дано"). В
отличие от "цены" и "приплаты" "подарки" обычно представля-
408
ли собой не зерно или металлы, а дорогие вещи (одежды,
оружие и т. п.), съестные припасы и напитки. <...> Лучший
"подарок" получал основной продавец, другие подарки —
его ближайшее окружение (соседи и родичи, которые могли
являться совладельцами), а также писец и должностные
лица, скреплявшие сделку; угощение устраивалось для всех
участников сделки, включая свидетелей. <...>
Человек, по выражению Ж. Боттеро, не столько владел
вещами как добром, предназначенным для обычного
пользования и потребления, сколько над ними
властвовал как надо всем, что составляло его личность. И при
обмене эти вещи выступали скорее не объектами покупки, а
объектами "покорения", "завоевания"; отсюда и
непомерная щедрость (своеобразный поединок между продавцом и
покупателем)»1.
Из этой цитаты можно понять, что экономика — это
такой аспект хозяйственной деятельности, в котором
проявляются естественные ограничения культуры как формы
социальной жизни (организма). Действительно, в современной
западной культуре, например, земля свободно покупается и
продается, а на злостных неплательщиков подают в суд.
В культуре древних царств (кстати, как иногда и в
современной России) земля в обычном смысле не продавалась, а
долги нередко прощались. «Связь между землей и владельцем
(индивидуальным или коллективным), — пишет Клочков, —
была очень сильна. Во II тыс. до н. э. и позднее на периферии
Месопотамии собственность на землю оставалась
исключительным правом коллектива общины; отчуждение земли за
пределы общины или круга кровно связанных
родственников было невозможно. Приобрести земельный участок в
таких случаях можно было только одним путем: стать членом
данной общины или семьи; отсюда невероятное
распространение "приемов в братья", "усыновлений" и т. д. <...>
С идеей "принципиальной" неотчуждаемости наследствен-
ного надела земли или дома, по-видимому, был связан и ин-
1 Клочков И. Указ. соч. — С. 52—53.
409
ститут misarum. В первой половине II тыс. до н. э., как и в
более древнюю эпоху, некоторые месопотамские правители
время от времени объявляли "справедливость" (мишарум) —
т. е. издавали особые указы, по которым прощались
определенные долги и проданные (очевидно, при крайних
обстоятельствах) земли, сады и дома безвозмездно возвращались
прежним владельцам»1.
Понятно, что мишарум, прием в братья или усыновление
нужно отнести к актам хозяйственной деятельности
(поскольку обличенные компетенцией лица должны были
принять соответствующее решение), но те же акты можно
считать относящимися к древней экономике; с их помощью
хозяйственная деятельность опосредовалась реалистическими
социальными соображениями. Подобно тому как в
стоимость товара входила сакральная связь владельца с этой
вещью, в стоимость земли входили ее связи с ее владельцем и
общиной, что в случае мишарума позволяло земле, домам и
садам даже возвращаться к своим владельцам.
8.4.2. Оценка богатства в античной
культуре и Новом времени
В «Политике» Аристотель пишет, «что для всякого рода
богатство должно бы иметь свой предел, но в
действительности, мы видим, происходит противоположное: все
занимающиеся денежными оборотами стремятся увеличить
количество денег до бесконечности. <...> В основе этого
направления лежит стремление к жизни вообще, но не к благой
жизни»2. Здесь Аристотель отталкивается не только от
негативной общественной оценки некоторых видов накопления
(«...с полным основанием, — замечает он, — вызывает
ненависть ростовщичество»3), но и от высказываний своего учи-
теля. В «Законах» Платон с горечью замечает: «...теперь нам
1 Клочков И. Указ. соч. — С. 50—51.
2 Аристотель. Политика. — С. 393.
3 Там же. — С. 395.
410
предстоит сражаться с двумя противниками: бедностью и
богатством. Богатство развратило душу человека роскошью,
бедность их вскормила страданием и довела до
бесстыдства»1.
Негативно оценивая феномен накопления богатства,
Стагирит объясняет эмпирический факт осуждения в
обществе предельных вариантов обогащения и реализует свое
личное убеждение, что наиболее правильным для жизни
государства и общества, т. е. добродетелью, является середина
между беспредельным богатством и его отсутствием, а также
бедностью. Аристотель все же колеблется в окончательной
оценке богатства, ведь помимо личного обогащения и как
самоцель, ведущая к беспредельному накоплению,
богатство, даже сомнительное в смысле способа своего
приобретения, как средство решения общественных задач часто
необходимо для государства. «Находчивость Фалеса и сицилийца
была одинакова: оба они сумели в одинаковой мере
обеспечить себе монополию. Такого рода сведения полезно иметь и
политическим деятелям: многие государства, как и семьи, но
в еще большей степени нуждаются в денежных средствах и в
такого рода доходах. Встречаются и такие государственные
мужи, вся деятельность которых направлена к этой цели»2.
Если Платон не просто решительно осуждает личное
обогащение, но и указывает законы, которые бы сделали
невозможным беспредельное обогащение3, то Аристотель скорее
рекомендует следовать мере и добродетели. Различие
подходов можно объяснить так. Платон считал, что реальное
государство должно быть построено в строгом соответствии с
идеей государства, которую именно он, Платон, знает
(припомнил в результате правильных размышлений), а по сути
мы бы сегодня сказали, что эта идея была проектом
совершенного государства, который создал сам Платон. При этом
он исходил из идей порядка, организации, принуждения, обра-
| Платон. Законы // Соч.: В 4 т. — М., 1994. — Т. 4. — С. 381.
Аристотель. Политика. — С. 397—398.
[ 3 См.: Платон. Законы. — С. 382—383.
411
ь
t
за социальной жизни, несколько напоминающего военный
коммунизм. А. Ф. Лосев прямо пишет, что в «Законах»
Платон принес свои идеалы в «жертву гармонии казармы»;
«Законы» поражают дотошной регламентацией всех без
исключения проявлений человеческой жизни, вплоть до брака и
половых отношений1. Но понять Платона можно.
Да, сначала Платон питал иллюзии: думал, что много
людей захотят жить по разуму, приблизить свою жизнь к
подлинному бытию. Ведь если уже знаешь, как устроен мир и
что правильная жизнь ведет к блаженству и бессмертию, то
разве будешь жить по-прежнему? Но оказалось, что не
только тираны, но и все остальные граждане совершенно не
желают или не могут приблизиться к правильной жизни,
предпочитают синицу в руках, чем журавля в небе. И в общем-то,
Платон понял почему: хотя в мире идей царит порядок и
разум, в чувственном мире — хаос и злоба, порождающие
войну. «Все, — пишет Платон в "Законах", — находятся в войне
со всеми как в общественной, так и в частной жизни, и
каждый с самим собой».
Тем не менее как человек разумный и знающий истину,
Платон не мог отказаться от попыток открыть глаза людям и
способствовать преображению обычного мира. Только
теперь он меняет тактику: если человек не понимает своего
счастья или не хочет понимать, если у него на глазах шоры,
то одними увещеваниями и обращением к разуму не
обойтись. Нужно людей заставить жить правильно, необходимо
создать жесткие условия — для того и законы, чтобы их
жизнь постепенно приближалась к подлинной.
В этом смысле Аристотель не утопист. У него совершенно
иное представление о социальной реальности. Для него
обычный мир — сущностный, ведь первая сущность («суть
бытия»), по Аристотелю, совпадает с единичными вещами.
Но, пожалуй, даже более важным в его взглядах выступает
убеждение, что в сущность значительный вклад вносят мыш-
ление и деятельность человека, поэтому разумный, мудрый
1 См.: Платон. Законы. — С. 719—730.
412
человек может не только прояснять (выявлять) в вещах
сущее, но и в определенной мере упорядочивать мир. Здесь он
всего лишь подражает Единому, которое созерцает и мыслит
самого себя, все время проясняя и упорядочивая
собственное бытие. Однако упорядочивать социальную
действительность, считает Аристотель, можно, лишь следуя ее природе
(«по природе»). Последнюю Аристотель понимает как
непротиворечивое существование (роль понятий), порядок, благо,
меру,
В соответствии с подобным истолкованием социальной
действительности Аристотель и в отношении богатства
предлагает следовать понятиям, мере, благу, порядку. При
этом он признает, что, поскольку мудрых не так уж много,
средний человек вряд ли добровольно откажется от наживы.
Всю надежду он возлагает на воспитание личности, кстати,
на основе закона. «Но, если бы даже кто-нибудь, — пишет
Стагирит, — установил умеренную собственность для всех,
пользы от этого не было никакой, потому что скорее уж
следует уравнивать человеческие вожделения, а не
собственность. А этого возможно достигнуть лишь в том случае, когда
граждане будут надлежащим образом воспитаны посредством
законов»1.
Известно, что Маркс, как и Платон, тоже порицает
огромное богатство одних и сопутствующее ему обнищание
других. Однако источником и того и другого он вслед за
социалистами считал капитализм, частную собственность и
кражу части чужого труда, формально принадлежащего
капиталисту, но по праву справедливости — только рабочему.
Энгельс в предисловии ко второму тому «Капитала»
приводит несколько фрагментов комментариев Маркса к
сочинениям его предшественников.
Комментируя социалистический памфлет 1821 г., Маркс
делает следующее замечание: «Прибавочную стоимость, или
"прибыль", как называет ее Рикардо (часто также — приба-
вочный продукт, surplus produce), или interest, как называет
Аристотель. Политика. — С. 420.
413
его автор памфлета, последний прямо определяет как surplus
labour, прибавочный труд, труд, исполняемый рабочим даром,
исполняемый сверх того количества труда, которым
возмещается стоимость его рабочей силы...» Или другой фрагмент:
«Постоянное стремление того, что мы называем
обществом, состояло в том, чтобы при помощи обмана или
убеждения, страха или принуждения заставить
производительного работника исполнять труд за возможно меньшую долю его
собственного труда. <...> Почему же рабочий не должен
получать абсолютно весь продукт своего труда? <...> Так как эти
материалы находятся в обладании других лиц, интересы
которых противоположны интересам рабочего и согласие
которых является предпосылкой его деятельности, — то не
зависит ли и не должно ли зависеть от милости этих
капиталистов, какую долю плодов его собственного труда они
пожелают дать ему в вознаграждение за этот труд... по отношению
к величине удержанного продукта, называется ли это
налогами, прибылью или кражей»1 (выделено мной. — В, Р.).
Для Маркса довольно рано было очевидным, что
интересы капиталиста и рабочего противоположны, что первый
крадет у второго значительную часть его труда (отсюда как
богатство одних, так и бедность других), что подобное
положение дел обусловлено частной собственностью, что,
наконец, разрешение всех проблем и восстановление попранной
справедливости предполагает отмену частной
собственности со всеми вытекающими из этого последствиями.
(Заметим, что Платон и Аристотель настаивали на сохранении и
защите частной собственности.) Очевидными эти
положения были потому, что Маркс присоединялся к определенной
политической и научной традиции, а не в силу его
собственных исследований. Впрочем, как добросовестный ученый,
он в начале 40-х гг. старается доказать все эти положения;
при этом, как известно, Маркс использует понятия
самоотчуждения и отчуждения. Понимая последнее отчасти юри-
дически (отчуждение в юриспруденции — это передача сво-
1 Маркс К. Капитал. - 8-е изд. - М., 1935. -1.2.- С. XI1-XV1.
414
их прав другому лицу), отчасти экономически как
вынужденную обстоятельствами продажу своей рабочей силы,
своего труда, отчасти философски как объективацию
человеком в продуктах труда своей жизнедеятельности,
объективацию, которая противостоит ему, превращает его в объект и
средство, и поэтому отчуждение должно быть преодолено,
Маркс пытается интерпретировать частную собственность и
страдания рабочего как результат отчуждения труда и
самоотчуждения в деятельности самого труда.
«В чем же заключается самоотчуждение труда? —
спрашивает он. — Во-первых, в том, что труд является для
рабочего чем-то внешним, не принадлежащим к его сущности; в
том, что он в своем труде не утверждает себя, а отрицает,
чувствует себя не счастливым, а несчастным, не развертывает
свободно свою физическую и духовную энергию, а изнуряет
свою физическую природу и разрушает свой дух. <...> У себя
он тогда, когда не работает; а когда работает, он уже не у себя.
В силу этого труд его не добровольный, а вынужденный,
это — принудительный труд. <...> Заработанная плата есть
непосредственное следствие отчужденного труда, а
отчужденный труд есть непосредственная причина частной
собственности. Поэтому с падением одной стороны должна пасть
и другая»1.
Надо сказать, что в «Экономическо-философских
рукописях 1844 года» убедительно доказать перечисленные
положения Марксу не удается. Чувствуя это, он бросает игру в
отчуждение и сосредоточивается на разработке
положительного политэкономического учения, где уже использует
совершенно другие подход и понятия. Именно на этом пути
Маркс и достигает успеха. Но при этом он полностью
сохраняет свои ранние ценностные установки, а именно:
источник богатства капиталиста — кража им части труда рабочего,
подобная кража стала возможной в силу частной
собственности на средства производства, капиталистические отно-
шения — несправедливые и антогонистические, поэтому ча-
1 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года / К. Маркс, Ф.
Энгельс // Из ранних произведений. — М., 1956. — С. 563, 570.
415
стная собственность и капитализм должны быть
преодолены. Каким способом? Путем экспроприации
экспроприаторов, путем социалистической революции. Такой идеал
социального действия разделял Маркс.
Говоря в «Тезисах о Фейербахе», что философы лишь
различным образом интерпретировали мир, но дело
заключается в том, чтобы изменить его, Маркс отчасти идет вслед и
дальше за Платоном. Ведь последний тоже считал, что
социальную реальность нужно построить по образцу мира идей.
Маркс уточняет: не мира идей, а следуя историческим
законам («Я, — поясняет он в предисловии к первому тому
"Капитала", — смотрю на развитие экономической
общественной формации как на естественно-исторический процесс»).
Заключает «Капитал» Марк как раз формулированием
общего закона смены капиталистического производства и
общества. «Теперь экспроприации, — пишет он, — подлежит уже
не работник, сам ведущий самостоятельное хозяйство, а
капиталист, эксплуатирующий многих рабочих. Эта
экспроприация совершается игрой имманентных законовсамого
капиталистического производства, путем централизации
капиталов. <...> Централизация средств производства и
обобществление труда достигают такого пункта, когда они
становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой.
Она взрывается. Бьет час капиталистической частной
собственности. Экспроприаторов экспроприируют»2.
Итак, вроде бы все доказано: противоположность
интересов капиталистов и рабочих, вина капиталистов, крадущих
у рабочего значительную часть прибавочного труда,
невозможность этой кражи, если бы не было частной
собственности, наконец, неизбежная отмена частной собственности и
восстановление социальной справедливости. Правда,
последующая критика показала, что Маркс совершенно не
учитывает вклад в производство самого производителя, ведь от его
умения организовать производство, управлять им, выгодно
продавать свою продукцию зависит буквально все. Не учи-
1 Маркс К. Капитал. — М., 1978. —Т. 1. -С. 10.
2 Там же. - С. 772, 773.
416
тывает он и такой важный фактор, как изменение
социальных и производственных отношений, происходившее, в
частности, и потому, что рабочий класс вел борьбу за свои
права, что политэкономы, включая и самого Маркса, заслуги
которого в этой области огромны, описали механизмы
капиталистического производства, поэтому стало возможным
управление экономикой. Не берет Маркс в расчет и
капиталистическое общество, которое, естественно, не без борьбы
и колебаний все же пошло на изменение своих
взаимоотношений с работниками труда.
К тому же что это за доказательство? Все положения,
подлежащие доказательству, Маркс принимал как очевидные
задолго до своих политэкономических исследований. Но
самое любопытное, что доказать в «Капитале» кражу
капиталистом части прибавочного продукта ему так и не удалось.
Действительно, анализируя механизм образования
прибавочной стоимости и структуру рабочего дня, Маркс как
честный ученый (здесь перед ним надо снять шляпу) вынужден
был признать, что и капиталист прав, и рабочий. Вот это
замечательный фрагмент.
«Мы видим, что если не считать весьма растяжимых
границ рабочего дня, то природа товарного обмена сама не
устанавливает никаких границ для рабочего дня, а
следовательно, и для прибавочного труда. Капиталист осуществляет свое
право покупателя, когда стремится по возможности
удлинить рабочий день и, если возможно, сделать два рабочих дня
из одного. С другой стороны, специфическая природа
продаваемого товара (труда рабочего. — В. Р.) обусловливает
предел потребления его покупателем, и рабочий
осуществляет свое право продавца, когда стремится ограничить
рабочий день определенной нормальной величиной.
Следовательно, здесь получается антиномия, право
противопоставляется праву, причем они в равной мере санкционируются
законом товарооборота. При столкновении двух равных прав ре-
шаетсила»1.
1 Маркс К. Капитал. — М., 1978. - Т. 1. — С. 246.
27. Заказ №4180
417
Последняя фраза знаменательна! С одной стороны, она
есть констатация реального развития событий в период
первоначального накопления и дальше (борьбы за пределы
рабочего дня и приемлемые условия труда), с другой —
известного убеждения Маркса, что борьба классов — движущая
пружина социальной истории. Однако дальнейшая история
капитализма показала, что, хотя сила, действительно,
важный фактор, наряду с ней есть и другие — общество, право,
новые производственные и технологические возможности,
позволяющие поднять уровень жизни значительной части
трудящихся, эволюция новоевропейской личности,
пошедшей на компромисс и большую законность. Кстати, если
обратиться к нашей стране, то сегодня на каждом шагу мы
видим, как право противостоит праву и в ход пускается сила.
Видя это, реформатор невольно впадает в уныние. И
напрасно, история показывает, что сила только один из факторов
этого сложного процесса.
А как Маркс доказывает, что в период первоначального
накопления тоже имела место кража и экспроприация
непосредственных производителей? На частном примере
развития капитализма в Европе. При этом он как бы не замечает,
что само общество пошло на эти изменения,
санкционировало их. Да, за счет мелких производителей, с повсеместным
нарушением права и законов, но, тем не менее, западное
общество шло на это само, а не под палкой какого-то чужого
нехорошего дяди.
И уж совсем наивно выглядит сконструированный
Марксом в предпоследней главе «Капитала» механизм смены
капиталистической формации. Здесь «коммунистические
уши» выглядывают прямо из текста. Это никакое не
доказательство, а априорная схема. Но, как писал поэт, «ах,
обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Российские
марксисты приняли эту схему за всеобщий закон
социальной истории и на этом основании брали власть, уничтожали
буржуазию и кулаков, карали и воспитывали население.
418
И все же надо сказать, что, создавая свой вариант
политэкономии, Маркс не только запустил процесс критики
учений политической экономии и описал реальные механизмы
формирования прибавочной стоимости и капитала, но и
подготовил условия для понимания обусловленности
социального познания со стороны тех или иных моделей
социального действия. Анализ его работ показывает, что
социальные законы — это не более чем конфигуратор,
составленный из трех составляющих — проекции в социальную
действительность моделей социального действия, схем
текущего социального взаимодействия и социальных
проектов желаемого общества. Другой важный момент —
правовое истолкование экономических отношений. Истолковав
прибавочную стоимость с точки зрения прав человека (с
точки зрения справедливости), Маркс открыл дорогу для
изменения экономических отношений в направлении их
адаптации к человеку и другим подсистемам общества,
которые в этот период стали быстро меняться. Кстати, и
самого права.
Вообще, современные исследования подводят нас к
пониманию социальной реальности, которое, по-моему,
ближе к взглядам Аристотеля, чем Платона и Маркса.
Действительно, в социальную реальность делают вклад деятельность
и мышление самого человека (его концепции социального
действия, теории, проекты преобразования, их реализация).
Но не менее очевидно, что социальная реальность имеет
свою природу, определяемую различными факторами и
подсистемами социума (культурой, обществом, сообществами,
хозяйством, экономикой, образованием, личностью).
Безусловно, мы может научно проанализировать эти факторы и
подсистемы и на основе этого действовать более
эффективно, но именно этим будут созданы новые условия и
возможности, способствующие следующему этапу развития
социума.
В плане современного понимания социального действия
после М. Вебера и Т. Парсонса тоже необходимы существен-
27*
419
ные коррекции. Социальное действие — это не просто
программа социального преобразования, учитывающая
ожидание других или обусловленная социальными отношениями.
Не вдаваясь в специальное исследование этого понятия,
охарактеризую его в первом приближении. Социальное
действие состоит как бы из двух частей: с одной стороны, это
картина действительности, задающая необходимость новых
действий и социальных изменений, с другой — указание и
задание (осуществление) самих этих действий. Оно всегда
поляризовано: с одной стороны, это вменение обществу
новой картины действительности, с другой — реализация
действий, обусловленных этой картиной, заданной ею.
Социальное действие — это действия и представления,
отвечающие на некоторую настоятельную социальную
потребность (разрешающее социальную проблему, катастрофу
и пр.). Но что такое социальная потребность, в какой мере
она объективна и значима для всех членов общества? Думаю,
социальная потребность значима и актуальна не для всех, а
для кого она значима и актуальна, т. е. это характеристика
субъективная, но «субъектом социального действия» может
быть и отдельная личность, и сообщество, и даже все
общество в целом. Конечно, ретроспективно мы можем сказать,
что такие-то социальные действия на самом деле не отвечали
социальной потребности, например, марксистский проект
построения социализма был утопическим. Но в периоды
становления каждый субъект социального действия имеет
шанс создать новый мир. Другое дело, что история все
расставит на свои места, но потом.
Почему мы выбираем или строим определенное
социальное действие? Потому, что мы сами определенные люди и
стараемся себя в этой определенности реализовать и
осуществить. Сократ и Христос идут на смерть не только потому,
что в этом событии они могут осуществить себя, но и потому,
что излагают (создают) учения, определяющие и
обусловливающие их поступки. Если эта определенность и
уникальность личности субъектов социального действия совпадает с
420
движением социума (отвечает на вызовы времени, решает
реальные социальные задачи и т. п.), то социальное действие
оценивается как социально значимое, легитимное, в
противном случае оно рассматривается как деструктивное или
просто незначимое.
Можно ли сегодня сказать, какой из новых миров,
предлагаемых социальными реформаторами и
политиками, лучший и куда на самом деле идет исторический и
социальный процесс? Если мы находимся в событиях
становления, то ответить на этот вопрос нельзя. Однако как
личности мы можем предпочесть один из этих миров.
Правда, сделать это нелегко. Стратегия социального
действия, как я его понимаю, предполагает мощное
опосредование в системе представлений о культуре как форме
социальной жизни. Последнее означает по меньшей мере две
вещи: во-первых, то, что исполнительное действие
(собственно программа действий) рассчитывается исходя из
знания целого и других систем, во-вторых, что исполнительное
действие должно быть поддержано действиями в других
подсистемах целого.
Говоря об опосредовании, я согласен с С. В. Поповым,
что нужные сегодня представления о культуре и социальной
жизни не могут быть заданы на основе социальных теорий
традиционного толка1. Но такие представления не являются
только схемами бывшего в прошлом или сложившегося
«здесь и сейчас» социального взаимодействия.
Опосредование предполагает новые типы исследований и разработок, в
результате которых строятся «диспозитивные дисциплины»
(смотри мои исследования техники, здоровья, любви2).
Их продуктом выступают такие знания и квазитеоретиче-
ские построения, которые позволяют описывать «возмож-
Попов С. В. Методологически организованная экспертиза как способ
инициации общественных изменений // Этюды по социальной инженерии: от утопии к
организации. — М., 2002.
Розин В. М. Любовь и сексуальность в культуре, семье и во взглядах на половое
воспитание. — М., 1999; Он же. Философия техники. — М., 2001; Он же.
Психическая реальность, способности и здоровье человек. — М., 2001.
421
ный объект», т. е. такой, на который можно влиять, причем
органичным способом как для «дисциплинария» (термин
Попова), так и для объекта.
На основе «диспозитивных дисциплин», с одной
стороны, проблематизации современности (ее вызовов, проблем,
проектов) — с другой, и анализа, а также изобретения
социальных технологий, с третьей стороны, на мой взгляд, и
создаются как картины новой действительности, требующие
социальных изменений, так и обусловленные этими
картинами программы социальных действий. Сергей Попов на сто
процентов прав в том отношении, что без выращивания
субъекта (субъектов) социального действия, которые на себе
создают и несут новообразования, все эти программы
обречены. Поэтому в структуру социального действия
обязательно должны входить игры и тренинги «аля Попов», в которых
будут выращиваться субъекты социального действия. Общее
место практической методологии — в структуру социального
действия должны входить еще три важных звена: собственно
рациональные построения деятельности и объекта в нем
(проекты, программы, сценарии, схемы объекта и т. п.),
создание среды реализации (ресурсное обеспечение,
разворачивание поддерживающих и нейтрализующих политик
и пр.), а также управление процессом реализации
(мониторинг, рефлексия, коррекция или изменение целей и т. п.).
Важным моментом социального действия, как правильно
отмечает О. И. Генисаретский, является снижение
системной неопределенности при одновременном понимании
границ рационального воздействия1. С одной стороны,
«дисциплинарна (социальный практик) действует
рационально, стараясь полностью рассчитать и конституировать
деятельность и подведомственные ему процессы, с другой
стороны, грамотный дисциплинарий понимает, что помимо его
усилий на становление конституируемой действительности
1 Генисаретский О. И. Российская государственность в гражданско-правовой и
корпоративной перспективе // Полномочия, функции и предметы ведения в
стратегической перспективе развития государственности: Доклад ЦСИ ПФО за
2001 г. — H. Новгород; М., 2002.
422
^лияют и другие силы, которые он, оставаясь в рамках
данного социального действия, проконтролировать не может.
Сравнивая между собой трактовки социальности и
понимания социального действия рассмотренных здесь авторов
(Платона, Аристотеля, Маркса и вашего покорного слуги),
нетрудно заметить, что они все разные. Соответственно эти
авторы приписывают идеальным объектам социальных
теорий разные характеристики.
В целом оба подраздела, на мой взгляд, подтверждают как
исходную гипотезу о специфике социальной науки, так и
представления о характере идеальных объектов науки и их
функциях.
Глава 9
Нетрадиционные науки
9.1. Особенности
нетрадиционного познания
Мы уже отмечали во введении, что в настоящее время
идеологи ряда практик, которых раньше не относили к науке,
таких, например, как эзотерика, уфология, так называемые
«народные науки» (народная медицина, народная
метеорология, «органическая агрикультура» Р. Штейнера и др.),
«оккультные науки» (алхимия, астрология, хиромантия,
физиогномика и т. д.), претендуют на научный статус, а также и
то, что Кант в поисках демаркации между наукой и ненаукой
использовал понятие опыта. В частности, антиномии разума
он характеризует как выход разума за пределы опыта1. Но что
понимать под опытом? Одинаков ли опыт у представителя
естествознания, гуманитарной и социальной наук, в эзотерике
или уфологии? А также сходны ли практики, выступающие
критерием истинности научных знаний в соответствующих
областях? Например, есть ли что-нибудь общее между
инженерией и пониманием, обеспечивающим поведение человека,
между созданием машин и эзотерическим спасением? Чтобы
разобраться в этом, рассмотрим два конкретных примера —
один из паранауки, другой из эзотерики.
Получив как-то уфологический журнал «Аномалия», я в
очередной раз задумался над тем, что объединяет статьи, на-
печатанные в этом и других номерах вестника, а также в ка-
1 В тех случаях, пишет Кант, когда «доводы разума не имеют никакого значения
ни для обнаружения, ни для подтверждения возможности или невозможности,
то решающим следует здесь признать только опыт» (Кант И. Грезы духовидца,
поясненные грезами метафизики // Соч.: В 6 т. — М., 1964. — Т. 2. — С. 353).
424
кой реальности они написаны. Конечно, вестник можно
рассматривать просто как уютное прибежище графоманов
или людей, не совсем здоровых психически, ведь черт знает о
чем пишут. Однако от поспешной клинической
квалификации авторов вестника, одним из которых я являюсь сам, меня
остановило следующее соображение. Как в этом случае
отличить, например, святого от душевнобольного: и тот и другой
говорят нам о чудесах и каких-то реальностях. Сегодня мы
называем Секо Асахару преступником, а несколько лет тому
назад говорили, что он святой, и каждый день почтительно
слушали его проповеди и музыку по «Маяку». Сегодня мы
считаем Марию Цвигун, объявившую себя мессией и живым богом,
душевнобольной. Естественно, мы ей не верим, а многие над
ней даже смеются, но и Христу не верили и смеялись над ним,
а где теперь эти пересмешники? Дело в том, что авторов
«Аномалии» действительно что-то объединяет и, несмотря на
кажущийся бред их статей, в их содержании чувствуется
какая-то общая реальность. Спрашивается, какая?
Вот статья доктора физико-математических наук
В. Н. Луговенко «Земля задышала глубже. Скоро
Армагеддон». «Суть измерений земного дыхания, — пишет В.
Луговенко, — состоит в наблюдении лозоходцами за
расширением и "схлопыванием" светлых и темных зон, которые в
течение дня регулярно меняют свою ширину»1. Первое
измерение и первый вздох, поясняет В. Луговенко, относятся к
восходу солнца: «Солнце отрывается от горизонта и
поднимается все выше и выше. Наступает тот замечательный момент,
когда Земля делает первый после ночного отдыха глубокий
вдох». Анализируя динамику изменения параметров первого
вдоха, автор статьи приходит к следующему выводу:
«Энергетика дыхания Земли в последние четыре года стала
меняться очень интенсивно»2.
Далее начинаются эзотерические и апокалипсистские
интерпретации. Оказывается, наша Земля — живое сущест-
Луговенко В. Земля задышала глубже. Скоро Армагеддон // Аномалия. — 1995. —
2 № 3. - С. 2.
Там же.
425
во, связанное потоком «космического поля» с Живым
Космосом. Существует план Природы, по которому поток
космического поля в ближайшие десять лет должен постоянно
усиливаться, ведя к великим преобразованиям —
Армагеддону («Смысл Армагеддона — затормозить и повернуть
вспять карму Земли»). И вот что при этом будет происходить
с человеком. Его энергетика начнет улучшаться, возрастет
сенситивизм, «все больше индивидов получат общение с
тонким планом с помощью ясночувствования, яснослыша-
ния, ясновидения, яснопонимания и т. д.; познание своей
биоприроды, гармонизация тела и духа, руководство тела с
помощью разума, нормализация морали и психики,
правильное проявление себя вовне помогут индивиду легче
перенести нагрузки Армагеддона»1. В чем же смысл всего
построения? Похоже, что все строилось ради этих, в общем-то,
благородных целей: ясновидения, познания себя,
гармонизации тела и духа, нормализации морали и психики и т. д.
Но здесь уже, конечно, начинается моя интерпретация.
Анализ этой и других работ, напечатанных в «Аномалии»,
показывает, что у ее авторов есть страстные мечты и
желания, у кого какие. Одни стремятся к ясновидению, другие —
к необыкновенным реальностям, третьи — к контактам с
внеземными цивилизациями (например, чтобы те помогли
нам решить наши земные неразрешимые проблемы),
четвертые — к власти над другими людьми, пятые хотят найти
причины своих страхов и неблагополучия, шестые, седьмые...
При этом важно то, каким образом создается картина или
учение, дающие понимание решения и надежду на
реализацию мечты и желания, буквально съедающих авторов
«Аномалии».
Здесь, судя по всему, два звена: физикалистское
(например, космическое или биоэнергетическое) объяснение и
объяснение эзотерическое. И первое и второе строятся
достаточно произвольно, главное — выйти на понимание ре-
шения и план реализации заветной мечты или желания. Те-
1 Луговенко В. Указ. соч. — С. 3.
426
перь вопрос о реальности. Если жанр статей «Аномалии» —
это и не сказка, и не бред душевнобольных, и не просто
графомания, а особый публичный способ реализации
страстных желаний и мечтаний авторов, то вроде бы получается
чистая субъективность и произвол. Тем не менее это не так.
Произвол и субъективность, конечно, есть, но только в
отношении к требованиям строгой естественной науки. В данном
же случае мы, на мой взгляд, имеем дело с паранаукой. Речь
идет о довольно сложном в психологическом и культурном
отношении явлении.
Заметим, прежде всего, что наши авторы высказывают
не только свое личное мнение, но и реально выражают
мнение многих других людей, читающих «Аномалию». Они не
просто во что-то верят (например, в Живой Космос или,
скажем, в НЛО), но — и это более существенно — живут в
соответствии со своей верой. Наконец, создавая свои учения и
объяснения, авторы «Аномалии» разрешают свои сомнения,
реализуют — да, именно реализуют — свои страстные
желания и мечты. Причем не только свои, но и читательские (тех
читателей, которым все это кажется истиной). Не означает
ли все сказанное, что события, о которых рассказывают
авторы «Аномалии», вполне реальны? Однако эта реальность
не физическая, а психологическая и культурная, но от этого
она не становится менее значимой.
Зададимся вопросом, что собой в этом случае
представляет опыт представителей паранауки, например уфологов?
Очевидно, он предполагает уфологическое сообщество,
практику жизни уфологов, наконец, удостоверение
реальности НЛО, чем уфологи постоянно занимаются, и
небезуспешно. Если представитель естествознания удостоверяет
законы природы полетом ракет или действием атомного
реактора, то уфологи — наблюдениями за необычными
небесными явлениями и практикой собственной жизни. Теперь
второй пример — характеристика эзотериками своих
познавательных процедур.
427
В «Очерке Тайноведения» Рудольф Штейнер описывает
три основные стадии эзотерического познания — «имагина-
тивное познание», «инспирацию» и «интуицию». Первый
этап — «имагинативное» познание, включающее наряду с
другими моментами «концентрацию всей душевной жизни
на одном представлении», приводящее человека к
невидимому, высшему, духовному миру. Штейнер считает
символические представления наиболее подходящими для имаги-
нативного познания. Он приводит несколько примеров
таких представлений, вот один из них. «Представим себе
черный крест. Пусть он будет символическим образом для
уничтоженного низшего, влечений и страстей. И там, где
пересекаются брусья креста, мысленно представим себе семь
красных сияющих роз, расположенных в круге. Эти розы пусть
будут символическим образом для крови, которая является
выражением просветленных, очищенных страстей и
влечений. Это символическое представление и нужно вызвать в
своей душе. <...> Все другие представления надо попытаться
исключить во время этого погружения. Только один
описанный символический образ должен в духе как можно живее
парить перед душой»1.
Второй этап — «инспирация», в которой происходит
познание отношений и сущности существ и предметов
духовного мира («Мы познаем, — пишет Р. Штейнер, — прежде
всего множественность духовных существ и их взаимное
превращение»).
Третий этап — «интуиция», в процессе которой
происходит полное превращение личности, идущей по
эзотерическому пути, в духовное существо2. При этом происходит
психическая трансформация и обновление: «отбрасывается»
старое тело и «Я», старые органы и впечатления, осознаются,
формируются и осваиваются новые. Подобно обычному
чувственно-физическому миру, поставляющему человеку
независимые от него образы и впечатления, духовный мир дол-
жен на этой стадии эзотерического восхождения предостав-
1 Штейнер Р. Очерк Тайноведения. — М., 1916. — С. 295—297.
2 Там же. — С. 302, 341, 345.
428
лять человеку независимые духовные впечатления и образы.
Первый, кого человек встречает, вступая в духовный мир, —
это он сам, и к встрече с этим «двойником», говорит Штей-
нер, человек должен быть готов во всеоружии своих
духовных сил. Позднее в духовном мире человек встречается с
«великим стражем», «великим земным прообразом человека» —
Христом1.
Сходным образом, естественно, в рамках своих учений
описывают познание и другие эзотерики. Но эзотерическое
познание помимо рефлексии эзотерического метода
содержит и два других важнейших компонента нормальной
науки — процедуры конструирования идеальных объектов и
построение теории. Действительно, духовный человек
(существо) Штейнера — это явно идеальное построение (объект):
ему приписываются новые органы, способность
воспринимать отношение вещей и их сущности, наличие нескольких
тел («физическое» — после смерти человека оно становится
трупом; «эфирное» — в чистом виде оно дает знать о себе во
сне; «астральное» — проявляется в забвении; «Я» — сознание
и воспоминание), наличие ряда «душ» и «духов» (душа
«ощущающая», «рассудочная», «сознательная», а также «са-
мо-дух», жизне-дух» и «духо-человек»)2. Кроме того,
«духовному человеку» Штейнер приписывает особую активность
(«деятельность») и довольно сложную жизнь, включающую,
с одной стороны, духовное познание себя и мира,
неизмеримо более глубокое (ясновидящее), чем обычное, земное, с
другой стороны, подготовку и осуществление нового
воплощения души (под руководством более развитых существ
душа очищается, воссоздает новые тела, находит новых
родителей), с третьей стороны, духовное участие в жизни
творческих людей и мироздании (т. е. в изменении Земли, ее
развитии).
Используя данную конструкцию, Р. Штейнер строит на-
стоящую теорию, объясняя и описывая в ней основные вол-
См.: Штейнер Р. Очерк Тайноведения. — С. 331, 368—371.
См.: Розин В. М. Путешествие в страну эзотерической реальности // Избр.
эзотерические учения. — М., 1998. — С. 125—135.
429
нующие его как эзотерика феномены — сон, смерть, после-
смертное существование, жизнь в подлинной (духовной)
реальности, историю нашей цивилизации (Земли), ее будущее.
В своей теории Штейнер показывает, как в процессе
развития духовного мира (через его последовательные
планетарные воплощения) развивался человек и все, что имеет
важное значение в духовной культуре: природа, духовные
существа (ангелы, архангелы, апостолы, выдающиеся
религиозные деятели, Христос), но также и Люцифер и его слуги,
наконец, важнейшие планетарные и духовные события нашей
цивилизации (например, образование человеческих племен
или гибель Атлантиды).
Заканчивает он свою теорию так: «Тайна всего развития
на будущие времена заключается в том, что познание и все
то, что совершает человек из истинного понимания
развития, есть посев, который должен созреть, как любовь. <...>
Начиная с состояния Земли, "мудрость внешнего мира"
становится внутренней мудростью в человеке. И следовательно,
зародышем любви. Мудрость есть условие любви. Любовь
есть плод возрожденной в "Я" мудрости»1.
Мы вряд ли ошибемся, предположив, что познание,
духовность, мудрость и любовь лежат в основании всей
пирамиды ценностей самого Рудольфа Штейнера, и именно
отсюда они пришли в духовный мир как его идеал. Анализ
эзотерических учений подсказывает интересную гипотезу.
А именно: эзотерический мир устроен так, чтобы
соответствовать высшим реальностям самого эзотерика. Например,
жизненная, нравственная цель Рудольфа Штейнера —
соединение с Богом, и этим заканчивается в его учении
эзотерическое восхождение, для Штейнера характерно активное,
реформаторское отношение к миру, этому соответствует
определенная ступень эзотерического пути, ему
свойственно самопознание и эзотерическая жизнь, — оба эти момента
нашли отражение в его учении. Три описанные выше ступе-
ни эзотерического познания (имагинативное, инспирация и
1 Цит. по: Розин В. М. Путешествие в страну... — С. 141.
430
интуиция) удивительным образом соответствуют
представлению Штейнера о научной работе (научном познании и
истине).
Получается, что духовный, невидимый мир, который
Штейнер описывает как объективный, всеобщий для людей,
фактически является отражением духовной (внутренней и
внешней) жизни Рудольфа Штейнера, отражением,
которому придан статус всеобщего бытия. Но одновременно
духовный мир — это и зеркало культуры, как она преломляется в
сознании и жизни Штейнера. Культуры как идеальной
жизни, соединяющей такие полюса, как Мир, Человек и Бог,
восприятие мира и активное отношение к нему, «Я»
(микрокосм) и Мир (макрокосм), обычный земной мир и мир
эзотерический.
По Штейнеру получается, что человек входит в духовный
мир, предварительно познавая и формируя самого себя.
Он попадает в высший мир, так сказать, через окно своего
«Я». Поэтому вполне естественно, что духовный мир
является проекцией его «Я», хотя Штейнер утверждает обратное
(независимость духовного мира от человека). Теперь вопрос,
каким образом Штейнер и другие эзотерики достигают
такой трансформации своей психики, когда их внутренняя
жизнь и опыт начинают восприниматься как
самостоятельный, эзотерический мир.
Предпосылки эзотеризма лежат в обычной жизни
человека, ведь эзотерики не сваливаются на землю с луны. Одна из
таких предпосылок — свободная личность, другая —
мировоззрение, в котором объективная реальность начинает
истолковываться как производная от мышления (познания,
активности) этой личности', назовем представления, фиксирующие
такое мировоззрение, «базовыми объяснениями жизни».
Например, задолго до того, как Р. Штейнер стал эзотериком,
он вышел к представлениям, по которым мир
конституируется познанием и мышлением свободной личности.
«Повышение ценности бытия человеческой личности, — пишет он
в 1891 г. в докторской диссертации по философии (заметим,
431
что "Очерк Тайноведения" появится почти 20 лет спустя), —
это есть цель всей науки. <...> Результатом этих
исследований является, что истина не представляет, как это
обыкновенно принимают, идеального отражения чего-то реального,
но есть свободное порождение человеческого духа,
порождение, которого вообще не существовало бы нигде, если бы мы
его сами не производили. Задачей познания не является
повторение в форме понятий чего-то уже имеющегося в другом
месте, но создание совершенно новой области, дающей
лишь совместно с чувственным миром полную
действительность»1. Здесь, как мы видим, познание еще обычное,
научное (философское), но в его рамках происходит
отождествление действительности и мышления (познания), а также
познающей личности.
Трансформация мыслящей личности в направлении к эзо-
теризму начинается с того момента, когда она, реализуя
нащупанные базовые объяснения жизни, замечает выхождение
на свет совершенно новой реальности, отличной от обычной,
но опознаваемой личностью как подлинная реальность. Как
правило, становящаяся новая реальность двояка: новый мир
вне человека (духовный мир Штейнера) и ощущение в себе
другого существа (например, видящего непосредственно
превращения предметов и их сущность). В этой реальности
познание тоже начинает трансформироваться и приобретать
иное значение — оно превращается в инструмент (способ)
открытия нового подлинного мира. Такая реальность, назовем
ее «базовой», требует реализации и проживания событий,
заданных базовыми объяснениями жизни.
Становление базовой реальности имеет два важных
следствия для жизни человека. Во-первых, он начинает все
события, включая прошлый опыт жизни, переосмысливать под
углом зрения событий и сюжетов базовой реальности,
критикуя и отвергая те, которые ей не соответствуют.
Во-вторых, человек перестраивает свою жизнь, стремясь реализо-
вать базовую реальность и подавить все те реальности, кото-
1 Штейнер Р. Истина и наука. — М., 1992. — С. 7, 37.
432
рые находятся с ней в конфликте. С определенного момента
сам, но чаще под влиянием культурных образцов {Платон,
Будда и др.) он выходит и на собственно эзотерические идеи:
признания двух миров (подлинного и неподлинного), ориентации
своей жизни на обретение подлинного мира, установки на кар-
диналъную перестройку личности. Именно в этот период на
основе базовой реальности складывается собственно
«эзотерическая» личность. В ее рамках происходит и
переосмысление самого человека: он опознает себя как эзотерика,
например, философа, «стремящегося блаженно закончить свои
дни» {Платон), «благородного мужа» {Будда), «внутреннего
человека» {Августин), «духовное существо» {Штейнер),
«гностическое существо» {Шри Ауробиндо Гхош), «мага» {Каста-
неда).
Указанные здесь процессы происходят не сами собой, а
предполагают напряженную работу личности, стремящейся
лучше уяснить свои идеалы и ценности, реализовать
базисные объяснения жизни, поддержать базовую и
эзотерическую реальность в ее борьбе с другими, обычными
реальностями. По сути (т. е. в нашей реконструкции) эта работа
представляет собой построение эзотерического учения
(идеальных объектов и на их основе теории) и преобразование
себя в направлении эзотерических идеалов; по форме
осознания, доступной эзотерической личности, такая работа
понимается как познание подлинной реальности (открытие
подлинного мира). В свою очередь, построение
эзотерического учения обусловлено не только созданием условий для
реализации эзотерической личности, но и возможностью
осмыслить весь доступный эзотерику материал культуры.
Например, мы видим, что Рудольф Штейнер осмысляет в своих
эзотерических работах происхождение человека,
психические феномены, историю культуры, искусство, прошлое и
будущее современной цивилизации и многое другое. «Роза
Мира» тоже эзотерически толкует все реалии истории и
культуры, известные Даниилу Андрееву.
28. Заказ №4180
433
Таким образом, для эзотеризма характерна
одновременность порождения эзотерического мира и его познания. Это же
характерно, кстати, для философского и художественного
мышления. Вспомним высказывания Канта в «Критике
чистого разума». «Первый, кто доказал теорему о
равнобедренном треугольнике, — пишет Кант, — понял, что его задача
состоит в том, чтобы создать фигуру посредством того, что
он сам a priori, сообразно понятиям мысленно вложил в нее и
показал путем построения»1. В каком-то смысле мыслящую
личность Кант уподобляет самому Богу, создавшему мир.
В этом смысле, когда Кант пишет, что человек «сам
связывает, синтезирует, определяет опыт», что он имеет
«возможность как бы a priori предписывать природе законы и даже
делать ее возможной»2, то он мыслит вполне
последовательно. Теперь искусство.
В современном искусстве продуктом выступают
произведения, создаваемые не только путем вдохновения, но и на
основе замысла и других выразительных средств (например,
художественных концепций, жанровых и драматургических
особенностей). Но замысел и выразительные средства не
могут существовать вне знаний и объективации. И построение
художественной реальности требует объективации
соответствующих событий, при этом художник не только
конституирует саму реальность, но и следит, какие события
возникают в результате его творчества. То есть и для искусства
характерна одновременность конституирования (порождения)
реальности и ее художественного познания. Все указанные
здесь эпистемические моменты и предпосылки построения
замысла, применения выразительных средств,
конституирования художественной реальности можно отнести к
художественному мышлению (познанию).
Мы, конечно, больше привыкли к выражениям «научное
и философское мышление (познание)», меньше —
«художественное и проектное мышление», совсем странно звучит
«эзотерическое или религиозное мышление». Но большой
1 Кант И. Критика чистого разума. — С. 86.
2 Там же. — С. 210.
434
разницы нет. Везде мышление, с одной стороны, позволяет
строить одни знания на основе других и конституировать
представления о действительности, с другой — обусловлено
нормативно, в плане задач и самой сферой деятельности.
Различия разных форм и видов познания в том, какую роль в
мышлении играет личность и другие представления,
обусловленные нашим опытом, требованиями коммуникации,
взаимодействием с другими людьми. В философии,
эзотерике и гуманитарных науках роль личности огромная, а в
естественных науках и техническом мышлении — минимальная.
Для философии большое значение имеет философская
традиция, требования и вызовы времени (современности), а
также проблемы, которые философ взялся разрешать. Для
эзотерика все эти факторы, кроме последнего,
несущественны. Зато существенны реализация собственной личности и
эзотерическое осмысление культурного материала.
Представитель естествознания в этом месте радостно
потрет руки и заявит, что автор, сам того не желая, показал, что
паранаука и эзотерика — это не наука, здесь все субъективно,
все основывается на опыте жизни людей. Но я уже отмечал
выше, что и гуманитарные науки вкупе с социальными и
философскими основываются на жизненном опыте и
субъективных позициях (ценностях). И разве параученый не строит
идеальные объекты и своеобразные теории (нередко
используя даже математику), которые расширяют его опыт, причем
именно за счет исследовательской дискурсии. Например, в
книге «Столп и утверждение истины» Павел Флоренский
разворачивает дискурс, сочетающий в себе элементы
научного, философского, эзотерического и религиозного
мышления. Он, с одной стороны, постоянно прибегает к
философии, логике, сравнительному языкознанию, с другой — к
интуиции, религиозному и личному опыту, свидетельствам
отцов христианской церкви и Священному Писанию1. Разве
Павла Флоренского нельзя считать ученым?
1 Розин В. М. Бог и законы природы // НГ Наука. — 2003. — № 11(65).
28*
435
Конечно, были времена и, добавлю, культуры
(архаическая, Средних веков, социалистическая), когда не
допускалось разномыслие и разновидение. Все люди были
включены в общую практику жизни, принимали единую
реальность (верили в души и духов, языческих богов,
христианского Бога, Сталина и партию), имели одинаковый опыт.
Но в другие времена (Античность, Возрождение, Новое
время) жизнь обустраивается иначе. Наряду с общими
структурами и институтами, которые поддерживаются
всеми, существуют несовпадающие сообщества и формы
жизни. Наряду с представлениями, которые разделяются
каждым, культивируются совершенно различные
мировоззрения и мироощущения. За примерами не нужно ходить
далеко.
Сегодня, с одной стороны, все люди Земли включены в
мировые хозяйственно-экономические инфраструктуры,
пользуются общими информационными сетями и
международным правом, с другой стороны, именно за счет
возможностей, которые при этом создаются, развиваются и
набирают силы самые разные сообщества и социальные
образования, исповедующие различные, часто противоположные
мировоззрения и мироощущения. Мировое сообщество и
терроризм, золотой миллиард и бедные развивающиеся
страны, Запад и Восток, США, Общий рынок и Китай,
христианство и ислам — вот только некоторые примеры
ментальных оппозиций и несовпадающих форм жизни на нашей
планете. И каждая такая форма жизни задает свой
познавательный взгляд, предполагает разворачивание своего
научного дискурса, обосновывающего и расширяющего
соответствующие опыты жизни.
Таким образом, если не считать естествознание идеалом
науки, то вполне можно говорить не только о гуманитарных
и социальных науках, но и паранауке и эзотерической науке.
Если естественные науки позволяют рассчитывать,
прогнозировать и управлять природными процессами, чем
пользуется инженерия, то другие типы наук (философские, гума-
436
нитарные, социальные, паранаука, эзотерическая наука)
обосновывают и расширяют соответствующий опыт жизни
человека — функция, как я думаю, не менее достойная и
необходимая. Другое дело, что в самое последнее время все
больше осознается, что различные формы современной
жизни взаимозависимы. Если ученые учтут эту
взаимозависимость, то будущая наука выработает и новое понимание
истины. Но то будущая наука, а сегодня мы вынуждены
признать, что наука, действительно, имеет «много гитик»,
не исключая паранауку и эзотерику.
9.2. Духовная наука
Эмануэля Сведенборга
В некотором смысле Рудольф Штейнер всего лишь
повторил путь Сведенборга. Последний, будучи широко
известным шведским ученым, философом и инженером, в 1745 г.
пережил духовный переворот и с тех пор жил только
эзотерическими интересами1. Учение Сведенборга можно отнести, с
одной стороны, к христианскому варианту эзотеризма, с
другой — к нетрадиционной науке. Рассмотрим их
последовательно.
Обычный мир, по Сведенборгу, — это мир природы,
людей и вещей, созданных отчасти по Платону, т. е. Творцом.
Имеет место и соответствие, но не миру идей, а
божественному порядку. «Словом, — пишет Сведенборг, — все, что
есть в природе, от самого малого предмета и до самого боль-
шого, есть соответствие; потому что мир природный со все-
1 См.: Сведенборг Э. О небесах, о мире духов и об аде. — Киев, 1993. — С. 7. Все
свои духовные сочинения «Сведенборг печатал в Лондоне и Амстердаме, всегда
с собственноручных манускриптов, писанных, по словам его, прямо набело, и
потом рассылал их по разным университетам или раздавал духовным и светским
лицам, известным в ученом мире своими трудами и значением. Других путей
Сведенборг не избирал для распространения своего учения и далек был от духа
сектаторства и старания приобрести прозелитов» (Там же. — С. 8).
437
ми своими принадлежностями заимствует свое бытие и
существование от мира духовного, а тот и другой — от
божественного. <...> Кто после этого, мысля хоть несколько по
здравому рассудку, скажет, что все эти чудеса не от духовного
мира, которому природный служит телесной оболочкой, или
для того, чтоб духовную причину представить в
вещественном. проявлении»1.
Эзотерический мир Сведенборга состоит из трех
основных сфер — небес, ада и мира духов. Он населен
соответственно ангелами, духами, «приобщенными к преисподней», и
духами, которые еще не определились в своем посмертном
пути. «Мир духов отличается как от мира небес, так и ада; это
место или состояние среднее между тем и другим: туда
человек приходит по смерти своей и, пробыв там известный срок,
смотря по жизни своей на земле, или возносится на небеса,
или низвергается в ад» . Сведенборг подчеркивает, что
всякий человек «по внутренним началам своим — дух», и после
смерти он «таков, какова была жизнь его на земле». «Душа
человека, о бессмертии которой столько написано, есть
самый дух его, он бессмертен во всей целостности своей. <...>
Всякий человек по духу своему уже в телесной жизни своей
находится в сообществе духов, хотя и не ведает этого. <...>
Человек, умирая, переходит только из одного мира в другой.
Вот почему смерть в Слове Божием по внутреннему смыслу
означает воскресение и жизнь»3. Если человек жил
праведной жизнью и творил добро, он становится ангелом и
продолжает на небесах служить Господу, помогать другим и
любить; если, напротив, его жизнь прошла в эгоизме и зле, он
идет в ад.
1 Сведенборг Э. Указ. соч. — С. 54—55. Кант, комментируя трактовку Сведенбор-
гом обычного мира, пишет следующее: «Познание материальных вещей имеет
поэтому двойное значение: внешнее — поскольку речь идет о взаимном
отношении материальных предметов, и внутреннее — поскольку они как действия
указывают на силы мира духов, которые являются их причинами» (Кант И. Грезы
духовидца... — С. 344).
2 Там же. — С. 220.
3 Там же. - С. 224, 229, 247.
438
С одной стороны, небеса и ад устроены подобно земле,
например, на небесах есть свое солнце, свет, тепло,
различные страны, с другой — все это отличается от земного.
Солнце на небесах «выше природного, совершенно от него
раздельно и сообщается с ним не иначе, чем через соответствия.
<...> Солнце на небесах есть Господь, свет небесный есть
Божественная истина, а тепло небесное — Божественное благо,
исходящее от Господа как солнца»1. На небесах и в аду нет
времени и пространства, а «вместо них изменение
состояний»2. Зато эти сферы структурированы силовыми линиями
человеческих ценностей и отношений: любящие
просветлены (излучают свет), ненавидящие людей и Бога, напротив,
темны; угодные Господу проживают во внутренних небесах,
а более отдаленные от него — на внешних; ангелы, близкие
по духу, «как бы сами собой влекутся к подобным себе»,
пребывающие во зле и эгоизме не могут преодолеть
сопротивления и попасть на небеса; «лицо каждого делается образом
или выражением его внутренних чувств», так что нет разлада
между реальными чувствами и мыслями и их публичным
выражением вовне; «зло, постоянно дышащее из ада» достигает
мира духов и даже небес, но «Господь постоянно охраняет
небеса, отвращая их жителей от зла от соби и содержа их во
благе, исходящем от него самого»3.
Особенно необычны и парадоксальны ангельские
сообщества: они и сообщества, и отдельный человек, сообщества
и его органы. «Так как все небеса, — пишет Сведенборг, — не
только изображают одного человека, но, можно сказать, и
составляют божественно-духовного человека в наибольшем
образе, даже по виду, то небеса и различаются, подобно
человеку, на члены и части, которые и одинаково именуются;
ангелы знают, в каком члене находится то или другое
общество, и говорят: такое-то общество находится в такой-то час-
ти или области головы, другое — в такой-то части или облас-
1 Сведенборг Э. Указ. соч. — С. 60.
2 Там же. — С. 80.
3 Там же. - С. 21, 27, 30,46, 183, 236, 295, 296, 324, 330.
439
ти груди, а третье — в такой-то части или области чресл
и т. д.»1.
Свенборг вслед за св. Августином называет
эзотерического человека «внутренним человеком», последний находится
в прямой связи с Господом. Внутренний человек — это
человек, «родившийся вторым рождением»; у него иные, чем у
обычного человека, органы чувств, поэтому он может
общаться с другими духами в духовном мире. «Однако должно
знать, — пишет Сведенборг, — что человек не может видеть
ангелов глазами плоти, но глазами духа, который внутри
человека, потому что дух его принадлежит духовному миру, а
все телесное — природному; подобное видит только
подобное, потому что оно состоит из подобного ему начала. <...>
Всякому человеку, однако, известно, что, когда он покидает
своего внешнего, или природного, человека, он становится
человеком внутренним, или духовным»2.
Почему можно считать мир небес и даже ад
эзотерическим миром Сведенборга? Дело в том, что этот мир
соответствует представлениям Сведенборга о том, как Господь все
устроил: те, кто жил праведно и делал добро, становятся
ангелами, а злыдни попадают в ад. Торжествует высшая
справедливость. Ангелы продолжают делать добрые дела, служат
Господу, любят (на небесах сохраняются даже браки),
негодяи страдают в аду. Ангельская жизнь мыслится Сведенбор-
гом не только как служение Господу, но и как обретение
человеком «небесной радости и блаженства», что полностью
соответствует эзотерическому идеалу — достигая подлинную
реальность, эзотерик попадает в мир своей мечты. «Как ве-
лико небесное удовольствие, можно понять из того одного,
1 Сведенборг Э. Указ. соч. — С. 38.
2 Там же. — С. 43, 202. «Внутренний человек Августина, — пишет С. С.
Неретина, — начинается с любви к Богу, эта любовь порождается неким светом и неким
голосом, неким ароматом и некой пищей и некими объятиями» {Неретина С. С.
Верующий разум... — С. 133). «Этот свет, голос, аромат, пища, объятия
внутреннего моего человека, — читаем мы в «Исповеди», — там, где душе моей сияет
свет, который не ограничен пространством, где звучит голос, который время не
заставит умолкнуть, где разлит аромат, который не развеет ветром, где пища не
теряет вкуса при сытости, где объятия не размыкаются от пресыщения. Вот что
люблю я, любя Бога моего» (Августин Л. Исповедь. — М., 1992. — С. 132).
440
что там для всех удовольствие состоит в том, чтобы сообщать
свои удовольствия и свое блаженство другому; а т. к. это
свойственно всем небесным жителям, то ясно из этого, как
необъятно небесное удовольствие, ибо на небесах, как было
сказано, все сообщаются с каждым и каждый со всеми»1.
Сведенборг постоянно подчеркивает, что путь в
духовный мир начинается в мире обычном, что более важны
не молитвы и аскеза, а добрые дела и нравственная жизнь.
«Чтобы приспособить себя к небесной жизни, — пишет
он, — человек, напротив, должен жить в миру, в должностях,
занятиях и сношениях с людьми, возвышаясь к духовной
жизни посредством жизни нравственной и гражданской»2.
Нет сомнения, оба эти момента являются идеалами самого
Сведенборга. Какой-нибудь другой человек (даже
христианин) может быть далек от служения обществу или желания
доставить удовольствия другому.
Интересна реакция Канта на учение Сведенборга, он
не жалеет сарказма. Более того, прямо утверждает, что
учение Сведенборга не просто фантастично и болезненно, но и
опасно для человека со слабой психикой. «Поэтому, —
пишет Кант, — я нисколько не осужу читателя, если он, вместо
того чтобы считать духовидцев наполовину
принадлежащими иному миру, тотчас же запишет их в кандидаты на
лечение в больнице и таким образом избавит себя от всякого
дальнейшего исследования. <...> В творчестве Сведенборга я
нахожу ту самую причудливую игру воображения, какую
многие другие любители находили в игре природы, когда в
очертаниях пятнистого мрамора им рисовалась святая семья
или в сталактитовых образованиях — монахи, купели и
церковные органы. <...> Я устал приводить дикие бредни самого
дурного из всех фантастов или продолжать их вплоть до
описания им состояния после смерти. <...> Было бы напрасно
пытаться скрыть бесплодность всего этого труда — она бро-
сается в глаза каждому»3.
1 Сведенборг Э. Указ. соч. — С. 204.
2 Там же. - С. 288.
3 Кант //. Грезы духовидца... — С. 327, 340, 347.
441
Кант не считает эзотерический опыт объективным и
достойным научного познания. Однако стоит вспомнить
Дильтея или Бахтина, чтобы не согласиться с великим
немецким философом, но, конечно, при условии, что мы
не будем трактовать весь опыт только как
естественно-научный. Оставаясь эзотериком и даже мистиком, ведь Све-
денборг пишет, что много общался напрямую с ангелами1,
наш герой одновременно был крупным ученым и, даже
путешествуя в эзотерических мирах, не мог не мыслить
научно2. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим его учение с точки
зрения наличия определенной предметной области,
фактов, научного дискурса (способов рассуждения и
доказательства), научного объяснения и теории.
Предметной областью для Сведенборга является
христианский опыт жизни и христианская феноменология, куда
входят не только известные всем явления, изложенные в
Священном Писании, но и наблюдения и размышления
самого верующего. В качестве фактов выступают, с одной
стороны, очевидные для него реалии, например, существование
Господа, небес, ада, ангелов, с другой — прямые
наблюдения. «Теперь, — пишет Сведенборг, — обратимся к опыту.
Что ангелы имеют человеческий образ, т. е. они такие же
люди, это я видел тысячи раз»3. Структура дискурса Сведен-
1 «Мне дано было, — пишет Сведенборг, — в течение 13 лет быть вместе с
ангелами, говорить с ними как человеку с человеком и видеть, что происходит на
небесах и в аду» (Сведенборг Э. Указ. соч. — С. 14).
2 «Кто любил науки и через них возделывал умственные способности свои,
обогащая таким образом разум свой и притом признавая Божественное начало, у того
наслаждение наукой и утеха разумом на том свете превращаются в усладу
духовную, в познание благ и истин» (Там же.— С. 263).
3 Там же. — С. 42. Анализируя новое понимание истинности, устанавливаемое в
средневековой философии, С. С. Неретина показывает, что начиная с Климента
Римского в качестве новых критериев правильности рассуждения выдвигаются:
ссылки на Священное Писание (послание Климента пестрит цитатами из
Священного Писания), указания на традицию, свидетельства и видения, апелляция
к таким качествам христианской души, как простота и любовь к Богу. Для
подтверждения Неретина приводит высказывания Тертуллиана. «Эти свидетельства
души чем истиннее, тем проще, чем проще, тем доступнее, чем известнее, тем
естественнее, а чем естественнее, тем божественнее». В другом месте Тертуллиан
пишет, что «надежен тот источник, на который можно сослаться как на
свидетельство относительно смысла, происхождения, преемства и доказательности
тех суждений», в которых нет «ничего нового и необычного». По мысли Тертул-
442
борга, с одной стороны, напоминает естественно-научное
построение: она содержит своеобразную математику,
которая конкретизируется при соотнесении с эмпирическим
материалом, в результате появляются (строятся) «духовные
квазифизические понятия» (по форме они напоминают
физические). С другой стороны, эта структура похожа на
социальные теоретические построения, здесь используются
«духовные квазисоциальные понятия». С третьей стороны,
эзотерический дискурс Сведенборга включает в себя понятия,
заимствованные из психологии, но переосмысленные, т. е.
«духовные квазипсихологические понятия».
Эзотерическая математика Сведенборга включает в себя
следующие понятия и объекты: представление о
«соответствии»1 и «подобии», «части и целом», «единице»,
«симметрии», «внешнем и внутреннем», «совершенстве как
сочетании различных, стройно составленных и согласованных
частей, расположенных в совокупном (совместном) или
последовательном порядке»2, «сферах». Духовные
квазифизические понятия такие: «свет», «тепло», «сила», «движение»,
«сопротивление», «равновесие», «время», «пространство»,
«притяжение», «отталкивание», «подъем», «падение»,
«присоединение», «слияние». Вот один пример — использование
понятия «равновесие». «Таково равновесие между небесами и
адом; однако ж это не такое равновесие, как бы между двумя
состязающимися особами, коих силы равны между собой, но
это равновесие духовное, т. е. лжи и истины, зла и добра: ад
постоянно дышит ложью, происходящей от зла; небеса же
постоянно дышат истиной, происходящей от блага. Вследствие
этого духовного равновесия человек находится в свободе мыс-
лиана, хранителем такой преемственности является душа «простая,
необразованная, грубая, невоспитанная», такая, какой она бывает «на улицах, на
площадях и в мастерских ткачей» (Цит. по: Неретина С. С. Верующий разум... — С. 83).
1 «Все, что в природе имеет бытие и существует согласно Божественному порядку,
есть соответствие» (Сведенборг Э. Указ. соч. — С. 54). Понятие соответствия
используется Сведенборгом очень широко: существуют соответствия между
небесами и адом, небесами и человеком, жизнью человека и его послесмертной
судьбой и много других соответствий.
2 Там же. — С. 35.
443
ли и воли, ибо все, что человек мыслит и волит, относится или
ко злу и затем ко лжи, или к добру и затем к истине»1.
Среди квазисоциальных понятий наиболее
распространенные у Сведенборга два — «управление»
(«Господь управляет небесами и адом»2) и «служение»
(«Любить Господа и ближнего — значит вообще отправлять
службу»3), а среди квазипсихологических — понятия
любви и состояния4. «На небесах, — пишет Сведен-
борг, — нет другого способа управления, кроме
управления взаимной любви, а управление взаимной любви и
есть небесное. <...> В каждом человеке после смерти
сохраняется господствующая в нем любовь; эта любовь не
искореняется всю вечность; и (что есть тайна) тело
каждого духа и ангела есть внешний образ его любви, вполне
соответствующий внутреннему его образу, т. е. образу его
души и духа»5.
Пользуясь этими понятиями, Сведенборг строит свои
рассуждения и доказательства, направленные, с одной
стороны, на описание интересующих его фактов и предметной
области, с другой — на разрешения духовных проблем
(объяснение зла, непонятных утверждений Священного
Писания, бессмертия души и любви и др.). Вот, например, как
он объясняет супружескую любовь на небесах. «Брак на
небесах есть духовное соединение двух личностей в одну... вот
почему двое супругов на небесах не называются двумя
ангелами, а одним... одна сторона хочет, чтобы все, ей
принадлежащее, принадлежало и другой, и обратно... супружеская
любовь есть сама основа Божественного наития. <...>
Небесные супружества отличаются от земных тем, что целью
последних есть, между прочим, рождение детей; на небесах же
этого нет, а вместо рождения детей есть порождение истины
1 Сведенборг Э. Указ. соч. — С. 296.
2 Там же.
3 Там же. — С. 58.
4 «Под изменениями состояний ангелов разумеются изменения в них
относительно любви и веры, а затем мудрости и разумения, следовательно, относительно
состояний их жизни и того, что относится к ней» (Там же. — С. 77).
5 Там же. — С. 100, 184.
444
и блага»1. Конечно, здесь вспоминается «Пир» Платона,
один из героев которого утверждает, что «любовь есть
стремление к целостности и поиск своей половины», но нельзя не
признать, что объяснение любви на небесах достаточно
убедительно, поскольку строится в логике понятий и
эзотерической концепции Сведенборга.
9.3. Особенности каббалы
как науки
Несмотря на всю сложность каббалистических
построений, в основе этого эзотерического учения лежит
достаточно простая картина. Есть Творец, понимаемый
одновременно как Свет, есть творение (человек и человечество).
Творец создал творение как свою противоположность, но
желает, чтобы творение пришло к Нему и насладилось
этим. Причем пришло само, по собственной воле и
желанию. Для этого Творец создал миры и 620 ступеней
сокрытия и стимулировал творение («точка в сердце») к духовной
работе и стремлению к Творцу. Творение идет к Творцу, а
Творец на этом пути поддерживает и направляет творение.
Творение преодолевает свой эгоизм, а Творец создает для
этого условия и старается, чтобы творение не
останавливалось на достигнутом. По мере духовной работы,
направленной к воссоединению с Творцом, раскрываются и
поднимаются миры и ступени, эгоистические желания сменяются
альтруистическими2.
Но каббала иногда строится не только как эзотерическое
учение, но и как нетрадиционная наука. Так, например, по-
нимает каббалу М. Лайтман. Охарактеризуем каббалу как
1 Сведенборг Э. Указ. соч. — С. 188, 195.
2 Лайтман М. Каббала в контексте истории и современности / М. Лайтман, В. Ро-
зин. — М., 2005.
445
нетрадиционную науку. Начнем с предметной области. К ней
можно отнести общие закономерности создания и
становления мира, его строение; перспективу будущего;
происхождение и эволюцию человека; строение его души и психики,
путь человека к Творцу.
Как любая наука, каббала ориентирована на решение
ряда проблем. Главными являются указанные еще одним из
крупнейших каббалистов XX в. Бааль Суламом:
1. Что является нашей сутью?
2. Какова наша роль в длинной цепочке
действительности, где мы — ее малые звенья?
3. В своих качествах мы кажемся самыми испорченными
из творений. Но, если наш Создатель совершенный, мы
должны быть вершиной всего творения?
4. Если Творец абсолютно добр и творит лишь добро, как
он мог создать творения, вся жизнь которых проходит в
страданиях?
5. Как из вечного Творца произошли смертные творения?
В современной форме эти проблемы звучат так: кто я, в
чем цель моего существования, для чего существует мир,
продолжаем ли мы существовать после смерти и пр. Вопрос о
цели, смысле жизни добавляет к повседневным
человеческим испытаниям и страданиям дополнительное,
глобальное — а для чего я страдаю вообще1?
Следующая составляющая науки каббалы — факты. В
отличие от естественных наук они представляют собой не
природные, находящиеся вне познающего явления, а
схематизации его опыта. Факты в каббале добываются примерно
также, как в феноменологии: двигаясь к Творцу, каббалист
приобретает опыт, который он делает предметом своей
рефлексии. Необходимое условие такой рефлексии —
формирование понятий и онтологии, т. е. представлений о мире и
человеке^
Лайтман М. Указ. соч. — С. 214.
2 «Все, что описывается в этой книге ("Наука каббала"), — пишет М. Лайтман, —
происходит в душе человека. Поэтому, чтобы разобраться в материале, не нужно
446
Важнейшими составляющими любой науки являются,
как уже отмечалось, идеальные объекты и относящиеся к ним
теоретические знания. По сути, основная работа в науке
каббале — это работа по построению таких объектов. Стоит
перечислить главные из них. Прежде всего, это понятие Творца,
творения и света (светов). Процессы сокращения и
исправления, распространения и изгнания светов. Понятия души,
сосуда и парцуфим. Понятие фильтра и экрана. Подъемы, спуски,
сокращения, слияния. Понятие желания (два
противоположных вида желаний). Лестница миров и ступеней мироздания.
Разбиение сосудов. Числовые и буквенные построения,
выражающие разные аспекты и характеристики каббалистической
реальности1.
Хотя всем этим представлениям можно найти
соответствия в эмпирии (в наблюдаемом мире или в состояниях души
каббалиста), тем не менее это именно теоретические
построения (конструкции), призванные обеспечить
каббалистический дискурс. Например, в жизни желания бывают самые
разные, но в каббале вводятся такие желания, которые
квалифицируются как эгоистические или альтруистические;
кроме того, каббалистические желания могут измеряться,
сравниваться, совпадать с желаниями Творца или нет;
наконец, они могут осознаваться, блокироваться или, напротив,
культивироваться. Указанные характеристики и образуют
свойства каббалистических желаний как идеального
объекта. Каббалисты, конечно, признают и другие характеристики
желаний, кроме названных. Но эти другие характеристики —
эмпирические свойства психики, а каббалиста интересуют
только такие характеристики желаний, которые позволяют
ему объяснить интересующие каббалу проблемы и явления.
обладать абстрактным мышлением, умением смотреть на один предмет с разных
сторон. Для этого необходимо найти в себе, своем отношении к Творцу все
описываемые явления и процессы. Тогда придет и понимание, и все станет на свое
место. Если же человек представляет себе духовные миры как нечто находящееся
вне его, как некую абстрактную схему, вне собственных чувств, то рано или
поздно он все равно попадет в тупик» (Лайтман М. Введение в науку каббала //
Наука каббала. — М., 2002. — С. 266).
1 Лайтман М. Каббала в контексте истории и современности / М. Лайтман, В. Ро-
зин. — М., 2005.
447
А вот пример того, как Лайтман характеризует некоторые
идеальные объекты каббалы.
Света и сосуды
Поскольку каббала — реальная наука, то она преследует
реальное постижение мироздания, когда невозможно
опровергнуть факт никаким трудным вопросом.
Все мироздание состоит из сосуда (желания) и света
(наслаждения). Различие между сосудом и светом проявляется в
первом же отделившемся от высшей силы творении. Первое
творение — более наполненное и более тонкое по сравнению
с любым, следующим за ним. Приятное наполнение оно
получает от сути высшей силы, желающей наполнить его
наслаждением.
Основой измерения наслаждения является желание его
получить. То, что желание жаждет получить больше,
ощущается им при наполнении как большее наслаждение. Поэтому
мы различаем в первом творении — «желании получать» —
две категории:
1. Суть получающего — желание получать, тело творения,
основа его сути, сосуд получения блага.
2. Суть получаемого — суть получаемого блага, свет
Творца, всегда исходящий к творению.
Все мироздание и его любая часть непременно состоят из
двух качеств, проникающих одно в другое, т. е. составных,
потому что «желания получать», обязательно находящегося в
творении, не было в сути высшей силы. И потому оно
названо творением — тем, чего нет в высшей силе. А получаемое
изобилие непременно является частью сути высшей силы, и
поэтому существует огромное расстояние между вновь
созданным телом и получаемым изобилием, подобным сути
высшей силы1.
1 Лайтман М. Сравнительный анализ каббалы и философии [Электронный
ресурс] // Наука каббала. Международная академия каббалы. — Режим доступа:
www.kabbalah.info.2004. — свободный.
448
Обратим внимание, рассматриваемым здесь понятиям
приписываются только такие характеристики, которые
обеспечивают каббалистический дискурс. Последний
включает в себя несколько планов, причем каждый
характеризуется своей собственной логикой. Первый план можно
назвать «квазифизическим» (сокращенно Ф-план). Здесь
работают с понятиями светов, экранов, фильтров, сил (свечения,
вытеснения, пропускания), взаимодействия. Логика Ф-пла-
на напоминает физикалистскую. Второй план назовем
условно «квазипсихологическим» (П-план). Именно в этом
срезе каббалистического дискурса используются такие
понятия, как «желания», «намерения», «осознание», «расчет»,
«память о светах» («решимот»), «душа» и др. Логика П-плана
напоминает психологическую. Третий план будем называть
«операторным» (О-план). Он содержит сокращенные
названия ступеней и миров, а также различные операции с ними,
например, подъемы, спуски, сокращения, слияния. Логика
О-плана — это формальная логика, по форме отчасти
напоминающая математические исчисления. Четвертый план
назовем «квазипифагорейским» (Кп-план). Здесь действуют с
буквами иврита, а также с числами: с одной стороны, на их
основе создаются различные теоретические построения и
комбинации, с другой — эти построения соотносятся с
явлениями ступеней и миров, а также феноменами души
человека, подвизающегося на пути к Творцу (подобное
соотнесение позволяет приписать этим явлениям и феноменам новые
характеристики). Пятый план назовем планом «научного
обоснования» (Но-план). Это своеобразный метаплан,тде в
целях обоснования теоретических построений используются
философские категории и дискурсы (понятия материи,
формы, света, духа, силы, системы и др.). Наконец, шестой план
с полным правом можно назвать «объяснительным», или
«интерпретационным» (И-план). У него нет специфических
идеальных объектов, используются идеальные объекты всех
предыдущих планов. Именно на И-плане идет объяснение
различных проблем и фактов, что предполагает их интерпер-
29. Заказ №4180
449
тацию в «языке идеальных объектов». Приведем два примера
каббалистического дискурса, указывая соответствующие
планы (простым курсивом выделены понятия, относящиеся
к Ф-плану, полужирным курсивом — понятия П-плана,
подчеркиванием выделен О-план, квадратными скобками —
И-план. Некоторые понятия относятся сразу к нескольким
планам, но в данном случае это не фиксировалось).
Распространение и изгнание света
«После того как малхут с помощью экрана получила
определенную порцию прямого света, она прекратила
получение, и теперь она пока не может получать свет. Малхут
всегда просчитывает в рош, какую максимальную порцию света
она может получить ради Творца. Однако согласно силе
экрана она получает лишь небольшую порцию света, потому что
получение ради Творца противоположно ее первичной
природе — желанию насладиться.
Свет, оставшийся вне сосуда, называется окружающий
свет. Он продолжает давить на экран, который ограничивает
его распространение внутрь сосуда. Этот свет пытается
пробить себе дорогу и заполнить собой весь сосуд, как это было
до ЦМА.
Малхут соглашается со светом — она чувствует, что если
останется в таком состоянии, то не сможет достигнуть Цели
Творения — насладить Творение всем светом, находившимся
в свое время внутри Малхут Мира Бесконечности, но уже с
новым намерением — доставить своим получением
удовольствие Творцу.
Однако, если малхут получит больше, чем она уже
получила, это будет получение не ради Творца, а ради
собственного удовольствия. Поэтому малхут не может получить
больше, но и оставаться в данном состоянии она больше не
может.
Малхут принимает решение — прекратить получение
света, изгнать из себя тот свет, который находился в ней, и вер-
450
нуться в состояние до начала получения. Это решение, как и
все остальные, принимается в рош парцуфа. После принятия
этого решения экран, стоявший до этого в табуре, начинает
подниматься в пэ. Этот подъем экрана приводит к выходу
света из тох парцуфа.
Окружающий свет, который хочет войти внутрь
парцуфа, снаружи давит на экран, стоящий в табуре. Внутренний
свет тоже давит на этот экран, но изнутри парцуфа. Оба
этих света хотят ликвидировать экран, который
ограничивает распространение света.
Это двустороннее давление на экран называется
соударением внутреннего света с окружающим светом. В принципе,
оба эти света хотят, чтобы экран опустился вниз, с табура в
сиюм (окончание) парцуфа, и тогда весь окружающий свет
сможет войти внутрь парцуфа. <...>
После того как свет вышел из парцуфа, внутри парцуфа о
нем остается воспоминание (рошем, решимо). Решимот
остаются и от светов таамим, и от светов некудот. Решимо от
таамим называется тагим, а решимо от некудот называется
отиет (буквы).
Распространение света сверху вниз вместе с
последующим выходом этого света создает сосуд — после того как
сосуд ощутил удовольствие, а потом это удовольствие исчезло —
именно тогда у сосуда рождается настоящее желание
получить это удовольствие. Это происходит потому, что после
выхода света в сосуде остаются решимот от полученного
удовольствия. Это решимо остается от некудот.
После того как сосуд становится пустым, именно решимо
определяет желание этого сосуда. Поэтому именно решимо
от выхода света, т. е. отиет, и является настоящим сосудом.
До Ц"А бхина далет получает света от всех предыдущих
ей четырех бхинот. Это происходит потому, что свет
приходит к ней от Сущности Творца через бхинот шо-
реш-алеф-бэт-гимел-далет. Поэтому малхут состоит из пяти
бхинот. Каждая из этих пяти собственных бхинот малхут по-
29*
451
лунает свет от соответствующей ей бхины,
предшествовавшей мал хут. <...>
Все духовные миры« наш мир, а также все их обитатели:
неживая природа, растения, животные и люди — и их
духовные корни создаются из этих четырех первых бхинот малхут.
Ни у кого из них нет самостоятельного желания получать.
Все их действия запрограммированы Творцом. Они,
подобно роботам, выполняют только то. что заложено в их приро-
Только тот, у кого есть желание к духовному, желание,
которое выходит за пределы этого мира, выходит за рамки
своей природы и становится самостоятельной силой.
Необходимым условием для этого является наличие экрана. Чем
больше сила экрана, тем более самостоятельным становится
человек. Настоящее желание получать ради себя рождается
только в бхине далет бхины далет. Поэтому только она
ощущает себя получающей. <...>
Первый человек и сообщество душ
[Мы изучаем распространение миров сверху вниз]. После
того как появилось все Мироздание, создался парцуф Адам
аРишон (первый человек). Затем этот парцуф раскололся на
600 000 частей, называемых душами. [Каждая из этих частей
должна получить свою часть света]. [Когда душа, т. е.
частичка парцуфа Адам аРишон, достигает какой-то ступени в
духовном мире, она получает немного своей части света], и
хотя она не наполнилась всем предназначенным ей светом, она
ощущает это состояние как совершенство. [Тогда ей (душе)
добавляют немного эгоизма], и она опять начинает желать
чего-то большего. Исправляя эту порцию эгоизма, она
получает во вновь исправленые келим новую порцию света, и
только тогда понимает, что есть еще большее совершенство.
<...> [Это исправление желания получать — очень тяжелый и
сложный процесс, потому что оно противоположно природе
творения]. [Поэтому Творец разделил весь путь на 620 ма-
452
леньких ступеней, а само творение — на 600 000 маленьких
частей (человеческих душ). Когда все души объединяются в
одно целое, это называется "Общая душа", или "Адам аРи-
шон"]»1.
Каббалистический дискурс значительно сложнее, чем
тот, который выстроил Сведенборг. Но с его помощью
решаются, в общем-то, те же самые задачи: дается ответ на
эзотерические проблемы, описываются и объясняются факты и
предметная область.
Лайтман М. Введение в науку каббала. — С. 103, 465.
453
Глава 10
Отдельные исследования
10.1. Условия мыслимости
современного познания,
философии и науки
Не является ли подобная постановка вопроса странной
или даже неправильной, может спросить читатель. Разве
познание не есть объективное отражение в философском и
научном знании существующей действительности, например,
законов природы, одинаковое в своей основе и вчера, и
сегодня? Да, именно так утверждает школьная философия, но
не так обстоят дела в реальности. Современные
исследования показывают, что познание не тождественно само себе,
оно принципиально меняется в каждой культуре, да и внутри
отдельной культуры может различаться по видам (одно дело
естественно-научное познание, другое — гуманитарное,
философское познание отличается от научного, и оба они от
художественного и эзотерического). Еще сложнее обстоят дела
в периоды кризиса и смены культур, в периоды
«переходности»; здесь познание, как утверждает С. С. Неретина,
становится «гностическим» и «переживающим».
Есть в гносисе, пишет Неретина, «со всеми его
мифологическими наворотами или благодаря им — страх за
пропащий мир, заставляющий заново прописывать его пусть и с
замысловатыми генеалогиями, безумиями и падениями.
<... > Я долго думала над тем, как обозначить этот век
культуры, чем он является среди вот уже двухтысячелетнего
христианского периода? И предположила, что его можно
определить как постхристианский гносис, который начинал фило-
454
софское продумывание христианства и который завершает
христианскую эпоху. <...> По-видимому, формы
переходности в чем-то похожи друг на друга, и неинституциональность
знания, и его современная откровенность, переданная через
Интернет и переданная вроде бы с авторскими ссылками, но
невесть кем фрагментированная и реферированная,
напоминает старый гносис. <...> При начале христианства
открывались новые возможности не только смертного исхода,
но и продолжения жизни, связанного с пробуждением
глубинных сил человека, с ломкой привычных установок
мышления, связанных с особым отношением не столько к
рациональности, сколько к иррациональности. Поэтому в то
время гносис определялся не как неведающее знание, а как
сверхъестественное ведение, что вело, как, впрочем, и
сейчас, к созданию новой мифологии, к ломке языка, потому
что из него выскользнула старая реальность, а новая еще не
опознана, отчего познание не может быть определяющим,
скорее его можно назвать переживающим»1.
Уже на заре Античности, когда познание только
устанавливается и конституируется, оно понимается не как простое
отображение действительности. У Платона познание
столько же отображение, сколько постижение и конституирова-
ние действительности, ведущие к свету и порядку, идеям и
непротиворечивому мышлению. В Средние века познание
двуосмысленно и этически нагружено2. В Новое время
начиная с XVI—XVII вв. познание строится так, чтобы можно
было овладеть природой и управлять ее процессами. Но в
XIX—-XX вв. формируются и другие виды познания
(гуманитарное, социальное, эзотерическое, художественное),
существенно отличающиеся от естественно-научного. Что же
касается настоящего времени, то можно утверждать, что
познание снова переживает метаморфозу и его требуется
устанавливать заново. Не в последнюю очередь это, действительно,
связано с переходностью культурного времени, с тем, что
Неретина С. С. Точки на зрении. — СПб., 2005. — С. 247, 258, 260, 273.
Неретина С. С. Верующий разум. К истории средневековой философии. —
Архангельск, 1995.
455
«старая реальность выскользнула, а новая еще не опознана».
Чтобы стало возможным познавать и мыслить не вообще и
традиционно, а адекватно, отвечая на вызовы времени,
нужно заново конституировать саму мысль, заново установиться
в познании. При этом мы попадаем в поле альтернатив.
Одна такова: продолжить мыслить традиционно,
адаптировав мышление к новой реальности, так переопределить
познание и истину, чтобы снова стало возможным единое
представление о мире и знании. Альтернативная точка
зрения состоит в том, что это невозможно и к этому не нужно
стремиться, напротив, право каждого мыслить по-своему.
Идеологи постмодерна утверждают, что даже стремление к
согласию, или консенсусу, нельзя реализовать и поэтому
выставлять как регулирующий принцип. Они уверены, что
мышление конституирует себя в форме множества
локальных коммуникаций и дискурсов. Как ни странно, возможно,
определенный повод к подобным воззрениям дал уже Кант.
«Во всех своих начинаниях, — писал он, — разум должен
подвергать себя критике и никакими запретами не может
нарушать свободы, не нанося вреда самому себе и не навлекая
на себя нехороших подозрений. <...> К этой свободе
относится также и свобода высказывать свои мысли и сомнения,
которых не можешь разрешить самостоятельно, для
публичного обсуждения и не подвергаться за это обвинениям как
беспокойный и опасный гражданин. Эта свобода вытекает
уже из коренных прав человеческого разума, не
признающего никакого судьи, кроме самого общечеловеческого разума,
в котором всякий имеет голос; и так как от этого разума
зависит всякое улучшение, какое возможно в нашем состоянии,
то это право священно и никто не смеет ограничивать его»1.
Критикуя программу постмодернистов и обсуждая в
связи с этим позицию Р. Рорти, Н. С. Юлина, в частности,
пишет: «Релятивизм, основанный на идее несоизмеримости
семантических каркасов и невозможности опровержения од-
ной теории другой, ведет в никуда, иррелевантен практике,
1 Кант И. Критика чистого разума. — С. 617, 626.
456
не может служить основой коммуникации. Если исходить из
того, что два концептуальных каркаса создают два
совершенно различных по семантике мира, как мы вообще можем
судить об их сходстве или различии и вообще вести о них
разговор? Даже их эстетическая оценка предполагает какую-то
общую базу»1. Сходную критику можно увидеть и в недавно
вышедшей книге «Притязания культуры. Равенство и
разнообразие в глобальную эру». Ее автор проф. Сейла Бенхабиб
старается показать, что если бы посмодернисты были правы,
то перестали бы работать основные принципы либерализма
и демократии, поскольку никогда нельзя было бы понять
другого, договориться и, как следствие, добиться равенства.
Бенхабиб же стремится именно к пониманию и миру, при
том что одновременно она признает — есть границы
компромисса. «Практика уступок мультикультурализму {движение,
настаивающее на признании отдельных сообществ и
культурных групп как самостоятельных политических образований. —
В. Р.) может привести к своего рода "холодной войне" между
культурами: возможными станут мир, но без примирения,
заключение сделок, но не взаимное понимание. <...> В
качестве граждан нам следует понимать, когда мы доходим до
пределов своей терпимости; тем не менее нам нужно
научиться сосуществовать с "особостью" других, чей образ бытия,
возможно, серьезно угрожает нашему собственному»2.
Критика теории «рамочного релятивизма» в лице
Жана-Франсуа Л иотара и Ричарда Рорти позволяет С. Бенхабиб
сформулировать важные тезисы: представители
постмодернизма абсолютизируют различие подходов, закрывая глаза
на наличие общих условий; на самом деле, несмотря на
различия, мы в состоянии понять друг друга; реальное общение
не ограничивается только семантикой, оно ведет также к
установлению взаимозависимостей; общее пространство
описания культурных взаимодействий включает в себя такие
три плана, как моральный, этический и оценочный.
1 Юлина Н. С. Постмодернистский прагматизм... — С. 87.
2 Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную
эпоху. - М., 2003. - С. 155.
4У/
«Реальное столкновение между разными
культурами, — утверждает С. Бенхабиб, — создает не только
сообщество обсуждения, но и сообщество взаимозависимости.
<...> В моральном плане мы стали современниками, если
не партнерами, захваченными в сеть взаимозависимости,
причем наши действия будут иметь и вневременные
последствия... что если мы уважаем людей как создателей
культуры, то мы должны либо "классифицировать или
упорядочить" их миры в целом, или отказать им в уважении,
вообще отстранив от себя их жизненные миры. Мы можем
не соглашаться с каким-то из аспектов их моральных,
этических или оценочных практик, при этом не отвергая их
жизненные миры как таковые и не проявляя неуважения к
ним»1.
То есть, с точки зрения Бенхабиб, в обществе возможно
не только добиваться согласия, но и сравнивать разные
подходы и нарративы. При этом в плане взаимодействия и
установления взаимозависимостей нужно ориентироваться на
идеи «совещательной демократии», сформулированные Ха-
бермасом и другими теоретиками социальной философии.
Сама же совещательная демократия, по мнению С.
Бенхабиб, предполагает выработку публичных решений,
основанных на культуре, общении и диалоге, этике и морали, в
равной мере отвечающих интересам всех.
Но здесь вступают в силу размышления С. Неретиной,
показывающей, что современная культура умирает, если уже
не умерла, и в ней как раз и не действуют моральный и
этический планы, в значительной степени основанные на
религиозной христианской культурной традиции. «Упование на
культуру, — пишет С. Неретина, — а сейчас на нее кивают
почти все и невзирая ни на что, именно потому сейчас
не имеют прежнего веса... о ней так много говорят, потому
что она преставилась. Преставилась как центральное
понятие философии XX в. Ее универсальное обаяние — это обая-
ние культуры мертвой. <...> Процессы, ныне происходящие,
1 Бенхабиб С. Указ. соч — С. 42,43, 48.
458
можно назвать постхристианскими и потому, что мы
вступили в иной мир этики, точнее не- или внеэтики, хотя бы
потому, что XX в. является веком, когда киллерство стало
профессией. И это нельзя игнорировать. То стремление к
смерти, о котором толковали постмодернисты, удостоверяется
фактом появления такой профессии. <...> Столь страстное
постижение культуры, одержимость ею в XX в. также были
вызваны стремлением задержать этот смертоносный
запал. <...> Идея культуры возникает, как ни странно, на
первый взгляд там, где не все в порядке с правовой ситуацией.
<...> В той или иной степени теоретики культуры связаны с
религией, и поэтому вопрос о единстве христианства и
культуры не посторонний, каким он является, например,
для той части мирового сообщества, которое не связано с
религией столь тесными узами, как ветви со стволом
мирового древа. "Ризомное" сознание {образ связи имыслимости
реальности, предлагаемый постмодернистами. — В. Р.) не
требует не то что всеединства, но даже простого единства.
Можно сказать, что оно отвергает саму идею
единомышленников. И это сознание столь же правомерно и
равноправно в современном мире, что и культурное сознание, но
почему-то культурное сознание не принимается в расчет, а
следовательно, оно не глобально. <...> Сегодня мы вправе
поставить вопрос о конце культуры. Не о конце жизни, не о
смерти человека, а именно о конце культуры как явления,
имевшего свое начало и соответственно долженствующего
иметь свой конец. <...> Поэтому, на мой взгляд, сейчас, в
эпоху переходности, необходимо не упование на культуру
(сродни религиозной мольбе). Необходима критика
культурного разума...»1
Но если не культура и не религия, то что в состоянии
собрать распадающуюся реальность, все множащиеся
независимые и непроницаемые ризомные миры и сферы бытия?
Может быть, личность («Не является ли эта "особь", — спра-
шивает Неретина, —- главным вопросом философии, а вовсе
1 Неретина С. С. Точки на зрении. — С. 226, 227, 230, 231, 258, 271, 273.
459
не культура?»1). Может быть, стоит уповать на творческую и
разумную личность? Обсуждая этот вопрос, С. Неретина
указывает на двойную реальность. С одной стороны, именно
личность, выходя из себя, разрешая ужас своего
одиночества, творит «из ничего» новый мир (как писал В. С. Библер,
«мир впервые»)2. С другой стороны, при этом, прямо по
М. Бахтину, реализуется и конституируется реальность,
включающая саму личность. «Поиски собственного слова, —
уточнял Бахтин, — на самом деле есть поиски именно не
собственного, а слова, которое больше меня самого; это
стремление уйти от своих слов, с помощью которых ничего
существенного сказать нельзя. Сам я могу быть только
персонажем, но не первичным автором. Поиски автором
собственного слова — это в основном поиски жанра и стиля, поиски
авторской позиции»3.
Разрешая эту дилемму («мир впервые» создает личность,
и он уже существует «как всеобщее и безначальное бытие»),
В. Библер, проецируя диалог культур в XXI в., заключает:
«это уже не реконструкция культур прошлого, а конструкция
современной культуры, один из импульсов ее начинания»4.
Однако, как правильно замечает С. Неретина, «такая
конструкция может быть правильной, но с бытием не согласной».
И если рядом со сферой культуры расположены и
существуют «антикультурные ризомные поля, принципиально не
желающие ни общаться, ни тем более обощаться с этой сферой,
то говорить о диалоге культур как о всеобщей, единой, т. е.
присущей всем людям, логике мышления рискованно»5.
Получается, что выхода нет? Прежде чем мы продолжим анализ
и поиски выхода, заметим, что С. Бенхабиб тоже выходит на
новое понимание культуры и человека.
1 Неретина С. С. Точки на зрении. — С. 269.
2 Там же. — С. 266, 270.
3 Бахтин М. М. Из записей 1970—1971 гг. // Эстетика словесного творчества. —
М., 1979. -С. 374.
4 Библер В. С. Вместо заключения. Итоги и замыслы (конспект философской
логики культуры) // На гранях логики культуры. — М., 1997. — С. 428.
5 Неретина С. С. Точки на зрении. — С. 267.
460
Так она старается показать, что традиционное
понимание культуры (да и человека) как единой целостности или
многих замкнутых, однородных целостностей (монад) в
настоящее время неудовлетворительно. Вместо этого культуру
и человека нужно мыслить в понятиях идентичности и
реальности, которые устанавливаются в процессе общения и
диалога, причем каждый раз заново. «Быть и стать самим
собой — значит включить себя в сети обсуждения. <...>
Мультикультурализм, — пишет С. Бенхабиб, — слишком
часто увязает в бесплодных попытках выделить один нарратив
как наиболее существенный. <...> Мультикулыуралист
сопротивляется восприятию культур как внутренне
расщепленных и оспариваемых. Это переносится и на видение им
личностей, которые рассматриваются затем как в равной
мере унифицированные и гармоничные существа с особым
культурным центром. Я же, напротив, считаю
индивидуальность уникальным и хрупким достижением личности,
полученным в результате сплетения воедино конфликтующих
между собой нарративов и привязанностей в уникальной
истории жизни. <...> Трактовка культур как герметически
запечатанных, подчиненных собственной внутренней логике
данностей несостоятельна. <...> Культурные оценки могут
переходить от поколения к поколению только в результате
творческого и живого участия и вновь обретаемой ими
значимости»1.
С. Бенхабиб указывает и причину, заставляющую
рассматривать культуры и человека традиционно: это внешняя
точка зрения, позволяющая управлять (властвовать). «Во
всяком случае, взгляд, воспринимающий культуры как четко
очерченные целостности, представляет собой взгляд извне,
и он устанавливает связи, позволяющие осмысливать
реальность и контролировать ее. <...> Эпистемологический
интерес к власти ведет к замалчиванию голосов несогласных и
неприятию точек зрения оспаривающих»2. Сама же С. Бен-
хабиб ориентирована не на жесткий контроль, а на культур-
1 Бенхабиб С. Указ. соч. — С. 17, 19, 43, 122.
Там же. — С. 6, 122.
461
ную политику, включающую диалог и общение. Другими
словами, ее идеал социального действия не технический
(социально-инженерный), а гуманитарный. Но и не
утопический, поскольку предполагается коррекция со стороны
социального опыта, т. е. анализ и учет того, что на самом деле
получается из наших усилий1.
Соглашаясь с Неретиной в том, что новая реальность еще
не опознана, можно, тем не менее, попробовать очертить
пространство, в котором ее можно помыслить. Начать стоит
с характеристики подхода и критериев правильности
современного мышления. Исходная установка выглядит так: с
одной стороны, признается кризис мышления, с другой —
задача философа и ученого указать на другое, возможное
мышление, которое бы отвечало на вызовы времени, будучи
свободным от уже осознанных недостатков. В плане такого
возможного мышления нужно постараться реализовать две
установки: провести собственное (авторское) видение и
ценности, а не всеобщие и общезначимые, и одновременно
удовлетворить общим условиям. К числу последних
относятся: требования коммуникации (понимания, обоснования
и др.), ориентация на решение актуальных современных
проблем, демонстрация своего мышления, что предполагает его
рефлексию и осмысление, практическое взаимодействие
мыслящих (обсуждения, диалог, участие в общих проектах
или, напротив, размежевание и т. д.).
Другими словами, правильная мысль — это моя мысль и
мысль, удовлетворяющая общим условиям, которые мы
стремимся совместно обеспечить. Как правило, современная
мысль разворачивается в поле, где действуют другие
мыслители, которые те же самые материал и проблемы видят и
объясняют иначе или противоположно. Необходимое
условие правильной мысли — серьезное отношение к чужой
истине, осмысление взглядов, не совпадающих с теми,
которые ты разделяешь, ассимиляция того в них, с чем можно со-
гласиться, аргументированное отклонение представлений, с
1 См.: Бенхабиб С. Указ. соч. — С. 45—46.
462
которыми нельзя согласиться. В свою очередь, такая работа
предполагает анализ дискурсов, которые создают основные
участники мыслительной коммуникации.
Для меня дискурс некоторого явления — это
сложившийся в коммуникации способ его осознания и мышления,
противопоставленный другим дискурсам, задающий
желательный способ воздействия на это явление. Вот, например, как
определяет «технодискурс» Д. Жанико. «Технодискурс есть
такой дискурс, который не является ни строго техническим,
ни автономным; паразитный язык, замкнутый на технике,
способствующий ее распространению или за неимением
лучшего делающий почти невозможным любое радикальное
отступление, любой пересмотр вопроса о современном
техническом феномене в его специфике. Любая техника имеет
свой словарь, свои коды, свои "листинги", свои случаи, свои
проблемы и оперативные сценарии. Технодискурс — добрая
часть функционализации языка, реализуемой через аудиви-
зуальные средства; технодискурс — реклама.
Технодискурс — технократическая мысль. Технодискурс — весь поли-
тико-идеолого-аудивизуальный соус о мировом
соревновании, производительности и т. д. Если эти дискурсы
размножаются, то не значит ли это, что они выполняют
определенную функцию в техническом мире и через него? У них, без
всякого сомнения, имеются социальные и даже технические
функции: достаточно представить на мгновение, что будет с
техническим миром на Западе без рекламы. Отражая
технизацию общества, эти технодискурсы ее стимулируют,
захватывают. Они играют роль информационного реле,
улучшающего и ускоряющего планетарную технизацию. Эти
дискурсы блокируют доступ к пониманию научно-технического
развития, имеется операция самосимволизации,
стремящаяся перекодировать совокупность реального в
информационный ледник»1. Обратим внимание, технодискурс — это и
разные типы языков (языков техники и по поводу техники),
и технократическая мысль, но также определенные способы
1 Цит. по: Рачков В. П. Техника и ее роль в судьбах человечества. — Свердловск,
1991.-С. 119-120.
463
воздействия (создание условий, способствующих развитию
планетарной технизации и блокированию процессов,
например, адекватного понимания, препятствующих
подобному развитию).
Этот пример намекает, какую, собственно говоря,
реальность я имею в виду. Не «первую природу» с ее вечными
законами, а «социальную реальность». Сегодня познание
законов и явлений первой природы стало рутинным делом и, главное,
задачей не первостепенной важности. Напротив, познание, но
не традиционное, социальной реальности — задача
сверхактуальная, прямо связанная с выживанием человечества. Но
социальная реальность, здесь вполне можно согласиться с
Неретиной, включает в себя самые разные тенденции, сферы и
миры. Исследования показывают, что в целом можно
говорить о двух основных мегатенденциях. С одной стороны,
имеют место процессы (как конструктивные, так и
деструктивные), характерные для все ускоряющегося развития
техногенной цивилизации, с другой — процессы формирования
новых форм социальности (одни из них известны —
движения «зеленых», антиглобалистов, формирование нового
«социального проекта», другие только осознаются — например,
становление метакультур1). Понятно, что мыслитель может
работать как на первую мегатенденцию, так и на вторую.
Новый социальный проект, вероятно, должен включать в себя
следующие фундаментальные идеи: безопасного развития
человечества, минимизации негативных последствий, смены
типа социальности (не стремление к максимальному
комфорту и удовлетворению невообразимых желаний личности, а
ценности здоровья, семьи, безопасности, духовности и др.),
создания условий, допускающих сосуществование разных форм
жизни (разных культур и субкультур), согласования форм
индивидуальной и общественной жизни с требованиями, идущими со
стороны социума. Прежде чем конкретизировать эти положе-
ния относительно науки и философии, рассмотрим один
1 См.: Розин В. М. Развитие права... — С. 250—254.
464
пример — как можно сегодня осмыслить (познать), что такое
здоровье.
Нетрудно заметить, что здоровье и болезнь часто
определяются относительно друг друга. Другая особенность этих
феноменов состоит в том, что они имеют своеобразное
социальное измерение: в социальном плане здоровье понимается
как нормальное состояние, а болезнь — как отклонение от
заданной нормы. Но здоровье и болезнь «измеряются» также
на индивидуальном уровне: с одной стороны, человек
отслеживает свое самочувствие, с другой — как правило,
ориентируется на определенный идеал здоровья. При этом нетрудно
заметить, что индивидуальный идеал здоровья может
существенно расходиться с социальной нормой, причем в обе
стороны. Человек может считать себя нездоровым в тех
случаях, когда общество уверено в его здоровье, и, наоборот,
думать, что он здоров в то время, когда общество относит его в
разряд больных.
Указанным двум уровням измерения здоровья
(социальному и индивидуальному) отчасти можно поставить в
соответствие и два основных дискурса здоровья —
«медицинский» и «духовно-экологический». Медицинский дискурс
опирается на знания (опытные и научные), позволяющие
врачу как бы видеть человека насквозь. Другими словами,
медицинские знания делают пациента, так сказать,
«прозрачным», естественно, не в оптическом отношении, а в
познавательном (назовем эту установку «принципом
прозрачности»). Медицинский дискурс дает возможность широко
использовать не только знания, но и технику (технику как
средство лечения и протезирования — очки, искусственные
органы и пр.). В определенном отношении технология —
душа медицинского дискурса. Однако медицинский дискурс
не свободен от недостатков, причем достаточно серьезных.
Основные из них следующие: человек все больше становится
зависимым от медицинских услуг; медицинское лечение
не всегда эффективно: как правило, возникают незаплани-
30. Заказ №4180
465
рованные негативные последствия, довольно часто врач не
достигает намеченной цели.
Духовно-экологический дискурс в некотором
отношении противоположен медицинскому; здесь считается, что
человек здоров, если правильно живет. Еще в античной
культуре Платон связывал здоровье и выздоровление не с
действием лекарств, а с правильной, духовной жизнью и
работой человека, направленной на самого себя. В «Тимее»,
объясняя природу болезней и способ их исцеления, Платон
пишет, что первое целительное средство и самое важное —
жить сообразно с божественным исчисляющим разумом и
сообразно природе поддерживать равновесие между
внутренними и внешними движениями. Преимущества
духовно-экологического дискурса — независимость от
медицинских услуг, опора на собственные силы и помощь
родственных душ, т. е. тех, кто тебя понимает и готов помочь.
Недостаток — непроясненность природы болезни и
выздоровления.
Чтобы осмыслить дискурсы здоровья, рассмотрим на
уровне идей природу здоровья. При этом я буду стремиться к
построению того, что Мишель Фуко называет
«депозитивом» (буквально «распределение», «устройство»,
«структура»). Для меня диспозитив здоровья — это схематические
представления о здоровье, которое рассматривается как
идеальный объект (это необходимое условие любого
научно-философского мышления) и как объект возможный (т. е. меня
интересует не только существующий феномен здоровья, но и
тот, который может сформироваться, если мы выработаем к
здоровью правильное отношение). При построении
депозитива здоровья я постараюсь учесть как свои интуитивные
(Кант бы сказал априорные) представления о здоровье, так и
анализ дискурсов здоровья и его проблематизацию. В свою
очередь, на основе диспозитива здоровья можно построить
новую дисциплину (назовем ее соответственно «диспози-
тивной»). Диспозитивная дисциплина здоровья, с одной
стороны, должна описывать и объяснять современный фе-
466
номен здоровья, с другой — содержать схемы и
представления, которые можно использовать в особых практиках,
например, для выработки современного понимания здоровья
или правильной политики в отношении здоровья.
Обычно, говоря о здоровье, подразумевают, что
здоровье — это естественный феномен, т. е. особое состояние
данного природой организма или психики. Но вспомним
медицинский дискурс здоровья. Во-первых, сохранение,
поддержание и восстановление здоровья и в архаической
культуре, и сегодня обязательно предполагает медицинские
услуги и технологии (лечение, оздоровление, профилактику
и пр.). Во-вторых, нормы здоровья, на которые
ориентированы медицинские технологии, тоже не естественный
феномен, а скорее искусственный. Действительно, с социальной
точки зрения (а именно на нее ориентирован медицинский
дискурс) здоровый — это тот, кто эффективно
функционирует. Когда, например, в наше время летчик или военный
проходят обязательный медицинский осмотр (не потому,
что они плохо себя почувствовали, а потому, что они
обязаны быть здоровыми), мы, обдумывая этот факт, начинаем
понимать, что здоровье специалиста определяется не
относительно естественного, природного состояния человека, а
относительно социальных требований к его
функционированию в том или ином производстве. Но и обычное
понимание здоровья ребенка, женщины, мужчины с социальной
Точки зрения несет на себя печать этого же
функционального отношения.
Вывод, на мой взгляд, очевиден: здоровье не является
естественным феноменом, это социальный артефакт,
неразрывно связанный с социальными (медицинскими)
технологиями. Но осознается этот артефакт обычно в превращенной
форме (как естественный феномен), что объясняется
необходимостью оправдать медицинские технологии «природой
человека». Однако что такое природа человека, не является
ли она сама артефактом? Подтверждает наш вывод и то
обстоятельство, что человек и его здоровье, так же как и нездо-
30*
467
ровье, задаются в рамках культурных семиотических
представлений (картин мира). Действительно, в архаической
культуре человек и его здоровье (соответственно нездоровье
и выздоровление) осмысляются в рамках анимистической
картины: человек — это тот, кто обладает душой,
нездоровье — временный выход души из тела, а выздоровление,
наоборот, ее возвращение. Сегодня мы осмысляем человека
и его здоровье главным образом в рамках научных картин
мира. Но на «культурной периферии» сохраняются картины
мира, трактовки человека и здоровья, во многом сходные с
анимистическими, античными и средневековыми
(например, магические представления — порча, сглаз,
представления о здоровье в народной медицине, астрологические
представления и др.).
От медицинских технологий необходимо отличать
медицинские и другие «практики», в рамках которых
складывается понимание здоровья и болезни. Например, сегодня
понимание здоровья и болезни формируется в контексте таких
практик, как собственно медицина, гигиеническая
практика, профилактическая, адаптационная, реабилитационная,
социальной работы, инженерная (генная инженерия,
протезы, поддержание и улучшение качества среды обитания и
питания), психотехническая (зарядка, бег, специальное
дыхание, питание и т. п.) и др. В рамках этих практик здоровье и
болезнь все больше выступают в качестве искусственных
социальных образований и своеобразных технических
изделий. Но осознаются они большей частью по-прежнему как
естественные феномены, как состояния, присущие
человеку. Правда, сегодня становится понятным, что и социальная
действительность представляет собой не только артефакты и
искусственное, но и особую «вторую природу». Например,
если здоровье и болезнь рассматривать как массовые
явления (т. е. статистически), а также как обусловленные
стандартными социальными практиками и тем, что Б. Кудрин
называет «документами» (нормативы здоровья,
нормативные описания диагностики, лечения, реабилитации, разного
468
рода медицинские и экологические стандарты и т. п.), то в
этом случае здоровье и болезни выявляют свою
естественную природу, а именно ведут себя как ценозы. При таком
подходе, предполагая константность данных социальных
практик и документов, можно говорить не только о
биоценозах или техноценозах, но и о валиоценозах; понимая эти
ограничения, можно изучать «законы» валиоценозов, на основе
таких законов прогнозировать развитие заболеваний и
выздоровлений, пытаться управлять стихией болезни и
здоровья. Но при этом нужно не забывать, что достаточно
измениться социальной практике, как старые законы уйдут или
трансформируются и возникнут новые законы.
Но как понимать индивидуальные медицинские
представления и идеалы здоровья? Может быть, это совершенно
другой феномен? И да и нет. С одной стороны,
индивидуальное медицинское представление о здоровье — это тот же
самый социальный дискурс, но перенесенный в
индивидуальный план. С формированием новоевропейской личности
складывается и представление о том, что медицинское
лечение направлено на изменение состояния человека, на
восстановление его здоровья. С другой стороны, поскольку
личность имеет свои собственные, нередко отличные от
социальных представления и ценности, она на основе
социальных представлений о здоровье, существенно их
трансформируя, часто вырабатывает индивидуальные, адаптированные
к ней самой концепции здоровья. Здесь как раз начинает
расходиться социальная норма здоровья и индивидуальный
идеал здоровья. Дело в том, что для личности здоровье — это
возможность не только и не столько эффективно
действовать в социальном плане, сколько хорошо себя чувствовать и
полноценно реализоваться. Именно поэтому речь идет об
идеале здоровья: это то состояние человека, к которому
последний стремится и которое, в чем он уверен, позволяет ему
чувствовать себя здоровым, быть в ладу с собой. Однако в
рамках медицинского дискурса человек связывает достижение
этого состояния прежде всего с медицинскими услугами.
469
Вспомним принцип прозрачности. Кажется, что
медицина дает нам истинное знание о лечении и восстановлении
здоровья, поскольку врач, опирающийся на медицинскую
науку, знает, как устроены человек и болезнь. Несмотря на
очевидность этого убеждения, имеет смысл его проблемати-
зировать. Что собой представляют медицинские знания и
теории? На первый взгляд — это наука наподобие
естественной, поэтому и медицина должна быть столь же
эффективной, как деятельность инженера. Но на самом деле анализ
показывает, что только небольшая часть медицинских
знаний основывается на точной науке. Основная же часть имеет
опытное происхождение. К тому же известно, что разные
медицинские школы часто опираются на разный медицинский
опыт. Но и в случае с точными медицинскими знаниями
(физиологическими, биохимическими и т. п.) нельзя
говорить о полной прозрачности. Во-первых, потому, что в
медицине существуют разные конкурирующие научные школы,
во-вторых, потому, что медицинские научные теории
описывают только некоторые процессы функционирования,
вычлененные в более широком целом — биологическом
организме или психике. Однако и это не все.
Сегодня медицина рассматривает человека по меньшей
мере на четырех уровнях — социального функционирования
(например, когда речь идет об инфекционных или
техногенных заболеваниях и эпидемиях), биологического организма,
психики и личности. При этом современная медицинская
наука не в состоянии ответить на вопросы, как связаны между
собой эти уровни и как характер связей между уровнями
должен сказываться при разработке медицинских технологий (в
этом направлении делаются только первые шаги).
Например, неясно, какие конкретно факторы техногенной
цивилизации способствуют разрушению здоровья, как психика
влияет на соматику человека, как установки личности и
образ жизни человека предопределяют состояние психики
и т. д. Конечно, многие из этих вопросов в настоящее время
обсуждаются, но больше на уровне гипотез, в целом же мож-
470
но говорить только о преднаучном состоянии знания в этой
области. Но, даже не зная, как точно связаны указанные
планы, можно предположить, что здоровье, представленное в
них, не может быть рассмотрено как замкнутая система.
Здоровье — система открытая: меняются социальные условия и
требования к здоровью, постоянно создаются новые
медицинские технологии и услуги, меняется образ жизни людей,
могут измениться и представления отдельного человека о
здоровье или его месте в жизни. Если суммировать
сказанное, то можно утверждать, что медицинская наука — это
вовсе не точное знание, а сложный коктейль, точнее, смесь из
самых разных типов медицинских знаний, прежде всего
опытных, во вторую очередь — научных. Поэтому ни о какой
прозрачности человека и его болезней не может быть речи.
Это иллюзия, порожденная медицинским дискурсом.
Анализ показывает, что именно культивирование
принципа прозрачности и опытный характер медицинских
знаний обусловливают незапланированные негативные
последствия медицинских технологий. Но не меньшая
ответственность за возникновение этого негативного эффекта лежит на
общецивилизационном технократическом дискурсе, частью
которого является медицинский дискурс. Исходной
предпосылкой технократического дискурса, как известно,
выступает убеждение в том, что современный мир — это мир
технический (поэтому нашу цивилизацию часто называют
«техногенной») и что техника представляет собой систему средств,
позволяющих решать основные цивилизационные
проблемы и задачи, не исключая и тех, которые порождены самой
техникой. В рамках технократического дискурса
«технически» истолковываются все основные сферы человеческой
деятельности: наука, инженерия, проектирование,
производство, образование, институт власти. Именно
технократический дискурс заставляет современного человека решать
проблемы, связанные со здоровьем, прежде всего в сфере
медицины, а также все неотвратимее затягивает его в воронку
медицинского потребления.
471
Вернемся еще раз к указанным четырем уровням
описания человека — социальному, биологическому,
психическому и личностному. Хотя связи между ними пока до конца
не ясны, последние все же необходимо учитывать.
Поскольку, как выше отмечалось, сегодня социальный план и
реальность в плане познания выдвигаются на первый план, имеет
смысл поговорить о них подробнее. Я не отрицаю
естественного аспекта социальной реальности, поэтому вполне
можно говорить о «социальной природе». Говоря о природе, мы в
той или иной степени категорируем материал в естественной
модальности. Обычная трактовка естественного плана
такова: естественное не предполагает вмешательства
деятельности', изменения, вызванные в природном явлении (ими
может выступить и деятельность), автоматически влекут за
собой другие изменения; законы природы схватывают именно
эти независимые от нас изменения. Но социальная природа
устроена совершенно иначе, чем первая природа.
Во-первых, ее явления сложились под воздействием
культуры и деятельности, и в этом смысле это артефакты.
Как артефакты социальные явления пластичны и могут
меняться в значительных пределах. Например, техника или
здоровье человека менялись в разных культурах под
влиянием культурных и социальных факторов. Человек может
прожить в среднем и 30 лет, и 70, пользоваться и деревянной
палкой-рыхлителем, и стальным плугом. Сегодня мы
говорим, что норма жизни человека должна превышать сто лет,
однако что общество будет думать на этот счет через
несколько тысяч лет? Как социальное явление здоровье нагружено
массой культурных и исторических смыслов, существенно
зависит от социальных технологий и образа жизни, не менее
существенно, что мы сами определяем границы и отчасти
особенности своего здоровья. Означает ли сказанное, что
здоровье — произвольная конструкция и мы может лепить
его, как хотим? Например, можем ли мы добиться, чтобы
человек не болел вообще или не умирал? Вероятно, что нет,
здоровье хотя пластично и может быть изменено, но все же в
472
определенных пределах, за фаницами которых будет уже не
здоровье человека, что-то другое.
Во-вторых, социальные явления, с одной стороны,
уникальны, а с другой — законосообразны. Уникальны они в
том отношении, что являются элементами и
составляющими определенной культуры, определенной формы
социальной жизни (архаической, античной, средневековой,
Нового времени, западной или восточной, российской и пр.).
В качестве таких элементов и составляющих социальные
структуры отражают в своем строении уникальные
проблемы и способы их разрешения, характерные для
определенной культуры и времени. Например, в архаической
культуре социальные явления сложились в процессе решения
определенного круга проблем: организация коллективной
охоты, лечение заболевших членов племени, проводы в
другой мир умерших, толкование сновиденийч рисунков,
масок, скульптурных изображений и пр., — причем
основной способ организации социальной жизни строился на
основе идеи души. Как моменты и составляющие
архаической культуры социальные явления того времени
уникальны, если они и воспроизводятся в других, более поздних
культурах, то именно как уникальные образования, не
характерные для этих культур.
Законосообразны социальные явления, поскольку
удовлетворяют логике формирования различных подсистем
социума. В ряде своих работ я показываю, что в культуре
складываются и взаимосвязаны несколько основных подсистем:
базисные культурные сценарии (картины мира), социальная
структура (институты), хозяйственное обустройство
(хозяйство), экономика, власть, общество, сообщества, личность.
Взаимосвязанность указанных подсистем позволяет
истолковывать социальные явления в естественной модальности.
И опять же не так, как в естественных науках. «Социальные
законы» задают не вечные условия и отношения, а лишь
гипотетические схемы, которые, попадая на новую культурную
473
и социальную почву, стимулируют «рост» новых актуальных
условий и зависимостей.
Например, сегодня здоровье существенно зависит от
культивирования медицинских и валеологических
концепций, развития медицинских технологий, действенности ряда
социальных институтов (здравоохранения, права и других),
развития медицины как важной отрасли хозяйства и
экономики, использования медицины в качестве одного из
источников власти, ценности здоровья в структуре личности.
Означает ли это, что данные.закономерности будут
воспроизводиться в будущем? Многое будет определяться тем,
удастся ли минимизировать негативные последствия,
обусловленные медицинским подходом к здоровью, окажутся ли
по-настоящему эффективными альтернативные концепции
здоровья (гомеопатическая, духовно-экологическая,
эзотерическая), какое место в структуре личности будет занимать
здоровье в ближайшем и более отдаленном будущем, как
общество и государство будут относиться к здоровью своих
граждан и т. д.
Если социальный ученый своими знаниями и проектами
хочет способствовать сокращению зоны влияния
«медицинского дискурса» здоровья и, напротив, становлению
«духовно-экологического дискурса», то его будут интересовать
ответы на вполне определенные вопросы. Например, как
показать, что с медицинскими технологиями связаны
неприемлемые негативные последствия, что человек становится
заложником медицинского потребления, как
переориентировать современного человека на правильную жизнь и убедить
его, что с ней связано его здоровье, какие институты нужно
поддерживать или создать для решения этих задач, а какие
выводить из игры, какие идеи и сценарии развивать и
культивировать для поддержания этих начинаний и пр.
При этом он должен анализировать различные аспекты
здоровья, рассматриваемые в естественном залоге.
Конкретно — социальный ученый обязан рассмотреть, какие
негативные последствия при существующей сегодня медицин-
474
ской практике возникают при лечении больных; как человек
становится заложником медицинского потребления, какую
здесь роль играет реклама, рекомендации врачей,
культурные образцы; каким образом можно воздействовать на
фундаментальные ценности человека, показав ему, что успех,
власть, развлечения и комфорт разрушают человека,
напротив, ценности здоровой простой жизни, семьи, любви,
помощи другим, воспитания детей, творчества способствуют
здоровью; как действуют современные социальные
институты, определяющие здоровье населения, и на какие
«клавиши» нужно нажимать, чтобы они изменялись в нужном
направлении; какие идеи и сценарии современной культуры
обусловливают представления о здоровье и как на них
можно воздействовать. Ответы на все эти вопросы представляют
собой не законы наподобие естественно-научных, а
схематизации зависимостей при существующих условиях и
мыслимых в настоящее время действиях.
На основе этих схематизации социальный ученый
прорабатывает свой материал и организует взаимодействие всех
участников своего проекта, выходя на новое понимание
здоровья и практически реализуя его. Это новое понимание
здоровья хотя и использует результаты указанного здесь анализа
здоровья, тем не менее социальный ученый будет
способствовать формированию именно нового этапа развития
здоровья, создает новое его понимание, ориентированное на
особенности современной ситуации, взгляды самого ученого,
на коммуникацию в обществе по поводу здоровья,
осмысление негативного опыта в сфере медицины и положительного
в сфере альтернативной валеологической практики1.
Таким образом, социальные законы позволяют сцениро-
вать возможные условия и зависимости, оценивать
происходящее, но в условном залоге, самоопределяться, обсуждать и
анализировать факторы и условия, которые могут повлиять
на интересующее ученого социальное явление. Но они
не позволяют прогнозировать, рассчитывать, конструиро-
1 Розин В. М. Здоровье как антропологический феномен // Человек культурный.
Введение в антропологию. — М.; Воронеж, 2003.
475
вать. Социальные законы — это схемы, в которых
социальный ученый прорабатывает и конституирует интересующее
его явление. При этом он должен следить, что реально
получается из его усилий, какой объект «прорастает», а также
удается ли ему реализовать свои ценности и убеждения. Иначе
говоря, кроме всего прочего, социальные законы валентны
социальному опыту и личности социального ученого.
Возвращаясь к осмыслению современного познания, не
должны ли мы сказать, что перед современной философией
стоят следующие основные задачи: осуществить критику
традиционных способов познания и традиционной
онтологии, переориентировать научное познание с изучения
первой природы на постижение и конституирование
социальной реальности (с естествознания на «социознание»),
обеспечить социознание соответствующими
«интеллектуальными инструментами» (речь идет о формировании новых
категорий, понятий, стратегий мышления, дискурсов и пр.),
помочь в становлении нового типа социального действия (не
инженерного, а социокультурного, ядром которого
являются различные политики). Новые задачи соответственно
стоят и перед наукой.
Продуктом современного научного мышления является
построение диспозитивных дисциплин, включающих
организованные мыслью знания, понятия, идеальные объекты,
схемы. В функциональном отношении эти дисциплины
ориентированы на решение трех основных задач. Они
описывают и позволяют объяснить явление, которое интересует
социального ученого. Могут быть использованы для
социально значимого влияния (воздействия) на данное явление.
Наконец, позволяют социальному ученому при создании этих
дисциплин реализовать себя. Помимо того что сущность
рассматриваемого явления конституируется в соответствии
с дискурсами и характером социального действия, который
нащупывает и начинает осуществлять мыслящий, сущность
явления должна быть соотносима также с «предельными
горизонтами» его описания, что предполагает выработку при
476
изучении явления отношения к истории и социальности
(социальным практикам, социальному опыту, социальным
отношениям и т. п.).
Обязательно ли выходить при описании явления на
предельные горизонты? Чтобы ответить на этот непростой
вопрос, необходимо понять смысл исторического и
социального описания явления. С одной стороны, такое описание
включает изучаемое явление в более широкое целое
(историю, социум, культуру), которое и задает «пространство
сущего», с другой — позволяет определиться относительно
этого целого самому исследователю. Последнее необходимо,
поскольку мыслящий должен при изучении данного явления
занять твердую позицию, исходя из которой он будет вести
свой дискурс. При этом такая позиция должна позволять и
другим участникам мыслительной коммуникации
определиться со своими дискурсами, осуществить их. Иначе
говоря, такая позиция должна быть общей для всех участников
мыслительной коммуникации при том, что каждый из них
сможет сохранить свой «суверенитет», возможность своего
видения и понимания действительности.
На мой взгляд, именно история и социальность могут
выступить как одно из общих оснований для мышления и
социального действия, если только их не понимать
натуралистически. Исторические и социальные события — это
пространство и реальность, только частично независимые от
человека. Напротив, выделяя историческое или социальное
событие (отношение), человек конституирует как историю и
социальность, так и себя. Но одновременно для других
участников истории и социальной жизни эти события,
конституированные человеком, выступают как объективные условия,
как то, во что все с необходимостью вовлекаются. Общее
здесь не реальность, данная вне человека, а условия, которые
человек находит и которые он, следуя себе, осмысляет и
претворяет. Частично это условия материальные (природные
явления, биологические тела, артефакты), частично
идеальные (семиозис, деятельность, взаимодействия и т. п.).
477
Для исторического плана характерно самоопределение
человека относительно социальных изменений, для
социального — относительно исторического процесса. В обоих
случаях мысль создает условия для возможных изменений, на
которые человек не может не реагировать. Соответственно и
объект современной мысли — это объект в модальном
отношении возможный, желательный с точки зрения
исторических и социальных изменений. Таким образом, описание
изучаемого явления в предельных горизонтах (к ним,
возможно, относятся и «языки» философии и науки) выступает
условием включения познания в поле общих условий.
Еще одно условие такого рода — преодоление
натурализма философского познания и мышления, о котором писал
еще Э. Гуссерль. Современные исследования показывают,
что философское, да и научное мышление не только
естественные культурно-исторические феномены, но и явления, в
значительной степени искусственные. При их
формировании и функционировании существенную роль играют
установки и ценности личности, нормы и правила, которые
создаются, чтобы снять противоречия и разрешить другие
интеллектуальные проблемы, изобретения знаков и схем,
требования коммуникации, задачи, выдвигаемые временем.
Преодоление натурализма предполагает отказ от понимания
познания как адекватного постижения действительности и
переход к трактовке философского и научного мышления
как естественно-искусственных образований,
обусловленных, с одной стороны, творчеством мыслящих субъектов, с
другой — деиндивидуальными общими условиями; при этом
отчасти конституируется и сама познаваемая реальность.
В свою очередь, ненатуралистическое философское
мышление предполагает опосредование и оснащение в двух
отношениях: в плане научных исследований и методологии.
Другими словами, современное философское познание должно
опираться на социально-гуманитарные исследования и
методологию. Не метафизика как постижение
действительности прежде всего на основе духовных усилий личности фи-
478
лософа, а философское познание и постижение,
обусловленные и скорректированные положительными
социально-гуманитарными исследованиями и методологическими
разработками (что не отменяет и духовный порыв
философа). Соответственно и научное познание в его современной
форме предполагает серьезное методологическое
обеспечение.
10.2. Европейское время
и китайский сезон в горизонте
современного варианта
феноменологии
Я давно уже заметил, что равнодушен к проблеме
времени. Не раз спрашивал себя почему? Может быть, потому,
что методологическая, семиотическая и
культурологическая установки, которых я придерживаюсь и развиваю,
автоматически блокируют темпоральную реальность как
проблему? Во всяком случае, когда возникла возможность
поразмышлять над вопросом времени, я решил ее не
упускать. Тем более только что появилась замечательная книга
Франсуа Жюльена «О "времени". Элементы философии
"жить"» (М., 2005). Эта книга буквально поразила меня и
глубиной, и свежестью постановки вопроса. Искусно
соединив феноменологический и культурологический
подходы, сравнивая европейское понимание времени и
китайское понимание сезона, в определенном смысле
противоположное западному темпоощущению, Ф. Жюльен сумел
по-новому увидеть и продумать проблематику времени, как
европейскую, так и китайскую.
При этом автор «О "времени"» вполне пристрастен в
своих предпочтениях: ему нравятся китайское
понимание-отправление жизни и сезона, а также представления Мартина
479
Хайдеггера о «здесь-бытии» и времени («Смысл Dasein есть
временность»), напротив, он пускает немало стрел в
западное понимание времени как блокирующее естественные
формы жизни. Сравним (курсив мой. — В. Р.).
«Таким образом, сезон представляет собой общую
рубрику, под которой пересекаются по принципу аналогии и в
соответствии с надлежащим качеством самые разные линии
эволюции, звезды и животные, ноты и тональности, имена и
числа, места и боги — и так далее вплоть до жестов и
привычек. То есть сезон является упорядочивающим принципом
мира, или, скорее, он каждый раз создает свой мир в
соответствии с определенной экологией. <...>
Сезон "воздействует", а человек, проницаемый для
всякого влияния, реагирует в унисон, никакая его внутренняя
структура не препятствует этому, а проходящее через него
влияние сезона не изолируется в чем-то, что можно было бы
определить как "ощущение" в отличие от рационального
представления. <...>
Вот так я возвращаюсь к китайской мысли, к ней,
которая, не мысля "время", сразу выводит нас из-под влияния
концепции времени, стеснявшей нас в нашем отношении к
"жить "и к процессам. <...>
Выбор китайской мысли в этом отношении является
прямо противоположным: она отправляется не от субъекта, а от
ситуации, которая ввиду своей постоянной эволюции
является моментом-ситуацией... именно окружающий мир и его
"сезон", как мы видели, вызывают прилив чувств и
побуждают поэта реагировать и выражать эти чувства в песне. <...>
"[Обрести] покой [в] моменте (ань ши)..."
Успокаивающей и умиротворяющей самодостаточности момента,
переданной в китайском выражении, противопоставляется
недостаток, присущий времени и его терзающий. <...>
Это невыразимое китайским языком есть "смысл
жизни". <...> Но если я думаю о процессе жизни ("жить") в
соответствии с моментом и как о постоянном переходе, входе
которого один момент вызывает другой и все эти моменты,
480
вместе взятые, объясняются с помощью единственного
факта их изменчивости, когда они друг друга оттеняют и
усиливают, то исчезает угол зрения, отрывающий нас от
"времени", откуда, собственно, и эманировал вопрос о смысле
жизни, да и сам этот вопрос как-то рассасывается. Для него
больше нет "места", как и для экзистенциального
напряжения — и прекрасной драмы! — которую он разыгрывает»1.
«По правде говоря, мы в нашем так называемом
современном мире более уже не чувствуем его, разве что только
безотчетно. Возможно, что частично именно отсутствие этого
ощущения и делает наш мир "современным". В
действительности уже давно решетки, воздвигнутые нашим разумом,
накрыли и скрыли такую возможность для нашего сознания.
Хотя "жить" не перестает обрисовывать некие "до" и
"после", а эти "до" и "после" способны в любой момент
погрузиться в мою память или в мои проекты, они не
устанавливают границ и не выделяют никакого определенного
горизонта. "Жить"не имеет дна ни с какой стороны,., "жить" не
поддается пониманию в рамках концепции времени^ ведь в этом
случае, допуская растяжение, образующее промежуток,
время даже в своем настоящем осталось бы чем-то
неотвратимо нависающим над жизнью»2.
Но почему, спрашивается, время нужно поверять
жизнью, а также чем уж так плоха наша с вами европейская
жизнь. Ну, да, мы все отчасти, как писал Хайдеггер, стали
«поставом» и живем в быстро текущем времени, которое,
однако, вовсе «не нависает над жизнью», а разумно организует
ее. Заметим, на этом стоит вся техногенная цивилизация,
делающая нас свободными и могущественными. И разве
свободен традиционный китаец, отдающийся на произвол
судьбы ситуации и моменту? Может быть, он и не задается
сакраментальным вопросом о смысле жизни и, как отмечает
Франсуа Жюльен, не боится смерти, но зачем нам такая
1 Жюльен Ф. О «времени». Элементы философии «жить». — М., 2005. — С. 62, 80,
156, 182,210,215-216.
2 Там же.-С. 84, 153-154.
31. Заказ №4180
481
жизнь и стоит ли подчинять жизнь единственной задаче
преодоления страха перед смертью?
«Смерть, — пишет Ф. Жульен, — есть для нас то, к чему
направлено сущностно-экзистенциальное; лишь в смерти
как в своем последнем "еще нет" и обретает свою
"целостность" это "экзистирующее", чья темпоральная структура и
есть забота, проявляющаяся как воля к бытию. Ну как же не
увидеть в этом "феноменологическом описании" "бы-
тия-к-смерти", управляемом темпоральностью, вершины
присущей Западу способности драматизировать. <...> Сила
древнего даосизма в этом отношении состоит в развитии
некой альтернативы данной концепции. <...> Чтобы смерть не
представляла собой изначальной угрозы, открываемой
предвосхищением конечного предела "экзистенции" как ее
наивысшей возможности, а вписывалась в жизнь или, как нам
это объясняет текст "Чжуан-цзы", в то непрерывное
преобразование, которое и есть "жизнь". Чтобы на смерть больше
не смотрели как на событие или даже Событие par excellence,
а воспринимали также, как и любой момент, приходящий на
смену другому моменту, чтобы к ней относились как к
чему-то "простому", доступному, оставляя в стороне все
сложности; короче говоря, чтобы смерть переживалась как нечто
естественное»1.
Уже Платон выступал против «драматизации смерти»,
говоря в «Апологии Сократа», что «не следует ожидать ничего
дурного от смерти», что «с человеком хорошим не бывает
ничего дурного ни при жизни, ни после смерти»2. Платон
стремился объяснить афинским гражданам, что «смерть есть
благо», если человек живет правильно и разумно, и — зло и
страдание, если он живет неправильно. Для Платона важно
понять, как жить, чтобы встречать смерть спокойно, без страха.
«Такой человек, — писал он в "Послезаконии", имея в виду
человека, идущего по пути "философского спасения", —
даже восполнив смертью удел своей жизни, на смертном
одре не будет, как теперь, иметь множества ощущений, но
1 Жюльен Ф. Указ. соч. — С. 256—257.
2 Платон. Апология Сократа. — С. 95, 96.
482
достигнет единого удела, из множественности станет
единством, будет счастлив, чрезвычайно мудр и вместе блажен»1.
Однако мы знаем, что мало кому удавалось спокойно
встречать «эту даму с провалившимся носом и косой», в
частности, потому, что окончание жизни в европейской
культурной традиции обычно понималось и переживалось как
прекращение всего, как пустая вечность, не заполненная ничем.
Можно ли смотреть на смерть спокойно, если с ее
наступлением ставится предел проецированию себя в будущее и
реализации, без чего невозможно существование личности?
Когда Сократ говорил, что «от смерти уйти нетрудно, о
мужи, а вот что гораздо труднее — уйти от нравственной
порчи, потому что она идет скорее, чем смерть»2, он намекал, что
реализация себя, своих жизненных принципов и задает
целостность и полноту жизни, смерть же всего лишь момент
жизни. Но большинство пошло не за Платоном, а за
Аристотелем, писавшим, что «более важным и более полным
представляется все-таки благо государства», чем благо одного
человека3. Если государство вечно, то отдельный человек,
напротив, смертен и меру его жизни определяет
быстротекущее время.
Следующая проблема, встающая при чтении Франсуа
Жюльена, примыкающая к заданным вопросам, — о каком
времени, точнее, понятии идет речь в книге. С одной
стороны, автор старается показать, что разные европейские
мыслители понимали под временем разное и поэтому не стоит
подверстывать все понятия времени под одно
универсальное. С другой — Франсуа Жульен говорит именно о таком
универсальном понятии: времени как связанном с
движением, его измерением (по Аристотелю, «время — число
движения», но также прошлое, настоящее, будущее), однородном,
противопоставленном вечности, концептуализируемом
относительно природы или Бога, принципиально событийном, за ко-
торым стоят европейский субъект и познание. С третьей сто-
1 Платон, Послезаконие // Собр. соч.: В 4 т. — М., 1994. — Т. 4. — С. 458.
2 Платон. Апология Сократа. — С. 93.
3 Аристотель. Никомахова этика // Собр. соч.: В 4 т. — М., 1983. — Т. 4. — С. 55.
31*
483
роны, в книге просматривается, правда, не очень отчетливо
еще одно понимание: время — это не одна реальность, а
разные, концептуальные, напоминающие то образы движения
и их условия {Аристотель), то языковую и сакральную
проекции-процессы {Августин), то китайский сезон и момент
{Монтень), то формы бытия и жизни {Хайдеггер).
Проиллюстрирую второе из указанных здесь пониманий.
«Благодаря времени и через сходство с ним, — читаем у
Ф. Жюльена, — движение позволило показать однородный
характер делимой и протяженной величины; опять-таки
благодаря времени, но через контраст с ним, вечность
открывает связанные друг с другом аспекты бесконечного
следования и чередования. Движение — с одной стороны,
вечность — с другой: таковы две опоры или, скорее, две парные
наружные арки (соответственно физики и метафизики),
которые поддерживают вопрос о "времени" начиная с Древней
Греции. Либо мысль о времени вносится в рубрику мыслей о
природе, либо она приписывается мысли о Боге. <...>
В отличие от длительности "время" было, возможно,
не чем иным, как конструкцией ума, скопированной с
пространственных представлений и способной самостоятельно
держаться на ногах только благодаря эффекту спаривания с
пространством. <...>
Вопрос тем более ключевой, что понятие события
внутренне связано с идеей времени и что мы не умеем понимать
"время" без "событий", в нем происходящих, — природа
времени, если у него вообще есть природа, связана с этой
возможностью. <...> Вот почему я спрашиваю себя: можно
ли на этом основании определить всю европейскую культуру
как культуру события? <...>
Но, если инициатива не приходит именно от "субъекта",
что тогда выражает готовность (отдаться событию сезона,
жизни как таковой. — 2?. Р.)? Если, как мы видели, Монтеню
и удается избежать этого недостатка, и это делает его
уникальным мыслителем, то лишь потому, что у него (до
Декарта) фигура Я-субъекта или, скорее, его внутренняя организа-
484
ция находится еще в стадии становления, еще не
воздвигнута, не одеревенела в форме "познающего" и волеизъявляю-
щего "субъекта", который в этом качестве правит миром».
(Сравни с высказываниями М. Хайдеггера: «Человеческий
субъективизм достигает в планетарном империализме
технически организованного человека своего высшего пика, с
которого он опускается в плоскость организованного
однообразия и обустраивается там. Это однообразие есть самый
надежный инструмент полной, т. е. технической, власти над
Землей»1. — В. Р.) «Она (китайская традиция. — В. Р.) не
пыталась специально выделить из этого своего мира "точку
зрения" сознания, чтобы возвести изолированный "субъект".
<...> Вот это-то и позволяет лучше оценить, и уже не в
единственном модусе недостатка, отказ китайцев выделить
абстрактный план познания и умозрения»2.
Но совместимо ли с таким универсальным
европейским понятием времени, например, то, которое мы
встречаем у Августина, а именно языковое и сакральное?
«Августин, — пишет Франсуа Жюльен, — исследует
возможности своего языка, чтобы мыслить время, и его мысль о
времени принимает форму латыни. <...> Он конструирует
свое понятие времени, используя латинский синтаксис.
<...> Один падеж все же остается вне от этого
синтаксического набора: место, где нечто есть, — здесь (лат. иЫ).
Устойчивое место, через которое ничто не движется, но в
котором можно пребывать. Августин один раз использует
его: "Здесь услышу я глас хвалы и буду созерцать
блаженство Твое, которое не появляется и не исчезает"»3. Или
хайдеггеровское понимание времени как бытия и
временности? Думаю, нет. Эти понятия времени предполагают
другие концептуализации.
Анализируя китайские представления о темпоральности,
Франсуа Жюльен отмечает, что в Китае были более совер-
Хесле В. Философия техники М. Хайдеггера // Философия Мартина Хайдеггера
и современность. — М., 1991. — С. 144.
2 Жюльен Ф. Указ. соч. - С. 33-34, 71, 119, 120, 204-205, 218.
3 Там же. — С. 50-51.
485
шенные, чем в Европе, часы, календари и историография1.
Но годы китайцы считали «по династиям и царствам, у них
не было идеи единой эры, каковая присутствует в
олимпийской датировке Древней Греции, в которую внес свой вклад
и Аристотель, или идеи христианской эры, закрепленной у
нас в начале VI в., — идеи начальной точки истории,
фиксирующей нечто, "отправляясь от чего", осуществляют все
последующие расчеты: последняя интересовала их так же мало,
как идея творения мира. Но это нисколько не мешало им,
как напоминает нам Нидэм, разработать строгую линейную
теорию династической легитимности, основанную на
линейной последовательности и примиряющую разночтения в
разных календарях, охватить огромные временные периоды,
заполненные непрерывным историческим развитием»2.
Другими словами, получается, что в Китае были по меньшей
мере три системы темпоральных мер — сезоны, меры
измерения длительности природных процессов и меры
измерения исторических событий; на их основе
регламентировалась жизнь социума и отдельного человека. В Европе,
однако, понятие «время» каким-то образом соединяло и
измерение природных процессов, и социальных, и психических
(историческое время, психологическое, событийное и пр.).
Не создает ли такой синтез большинство проблем со
временем?
Выше, говоря о методологии автора, я сказал, что он
искусно связал феноменологию с культурологией. Но вряд ли
бы сам Франсуа Жульен согласился с такой констатацией.
Для него это просто современный вариант феноменологии.
Изюминка этого варианта — «обходный путь» через Китай.
«Если, — объясняет Ф. Жюльен, — я склоняюсь над этими
китайскими формулами и собираю их настолько осторожно,
насколько это для меня возможно... то делаю я это для того,
чтобы через эти формулировки и как бы мимоходом начать
освобождать наш собственный дискурс. <...> Тем самым я
1 См.: Жюльен Ф. Указ. соч. — С. 72—73.
2 Там же. — С. 73—74.
486
признаю, что за этим "компаративным" интересом я вижу
другой интерес — для меня он, возможно, еще более важен,
поскольку он помогает выявить основные координаты
вопроса о времени, способного — с помощью монтажа и
окольных путей через китайскую мысль — вновь подвести к
вопросу о "жить" в философии»1.
Возможно, Франсуа Жюльен, подобно некоторым
нашим философам, не признает за культурологией научного
статуса. Тем не менее в российской гуманитарной науке
сравнительные анализы представлений и понятий,
принадлежащих разным культурам, безусловно, относятся к
ведению культурологии (здесь достаточно кивнуть хотя бы на
классика российской культурологии А. Я. Гуревича,
который, кстати, осуществил сопоставительный
культурологический анализ европейского времени). Но что Франсуа
Жюльен имеет в виду под феноменологией? Я давно подозревал,
что феноменологи неадекватно осознают свои методы, что
они реально работают не по Гуссерлю, хотя концептуально
стараются ему следовать. Чтение работы Франсуа Жульена
меня в этом окончательно убедило. Действительно, в
реальной работе автора «О "времени"» можно выделить три
разных момента.
Во-первых, он осуществляет критику привычных
европейских представлений о времени. Во-вторых, выясняет
условия мыслимости времени в европейской культуре и в
Китае («Как же философии, — спрашивает Ф. Жюльен, —
взяться за свое дело, — мыслить о времени»2). В
методологическом плане это есть анализ обусловленности мысли и
особый тип распредмечивания понятий; с точки же зрения
методологии постмодернизма — деконструкция европейского
понятия времени. В-третьих, Франсуа Жюльен
осуществляет «конструктивизацию», т. е., по сути, создает новое
понятие времени (приписывает времени такие характеристики,
которые призваны разрешить многочисленные проблемы и
противоречия, связанные с привычным представлением о
1 Жюльен Ф. Указ. соч. — С. 84, 175.
2 Там же. — С. 28.
487
времени). И что существенно, при этом Франсуа Жюльен, с
одной стороны, сопоставляет (сталкивает) европейские
представления о времени с китайскими представлениями, с
другой — использует в качестве средств различные понятия,
например, жизни, складки, языка, субъекта, «Я» и др., а также
целые схемы, скажем, «происхождение и развитие понятия»
или схему, намеченную Хайдеггером в статьях «Вопрос о
технике» и «Время картины мира». Начнем с последней.
Франсуа Жюльен замечает, что наше сопротивление
мысли о сезонном бытии, идеологическое по природе,
«возникает из предохранительной меры, которая
поддерживается Разумом», стоящим на страже постиндустриального мира,
где удалось достигнуть «господство над природой». «Отныне
мы занимаемся одними и теми же формами деятельности и
совершаем путешествия "в любой сезон"»; мы едим
клубнику зимой и загораем под специальными лампами, короче
говоря, мы все больше и больше ведем одинаковый образ
жизни в любой сезон...
Техника, изобретенная с целью укрепления нашей
независимости и автономии по отношению к окружающей среде,
увеличения нашей инициативы как Я-субъектов, оказалась
одновременно ответственной за сглаживание различий, все
больше и больше считающихся второстепенными, и за
обустройства процесса существования, который был бы всегда
одинаковым; ясно, что из-за этого она, в свою очередь, все
больше и больше требовала однородной, абстрактной и
чисто количественной концепции процесса своего
разворачивания, который мы и называем «временем»1. Данные
размышления прямо навеяны двумя статьями Хайдеггера2.
Но не пропускает ли здесь Жюльен самое главное? Ведь
можно рассуждать следующим образом. Когда-то жизнь
навязала свой ритм геосфере, создав биосферу, циклы которой
(их обживание, освоение) китайцы, возможно, и называют
1 См.: Жюльен Ф. Указ. соч. — С. 85.
2 Хайдеггер М. Вопрос о технике // Время и бытие: статьи и выступления. — М.,
1993; Хесле В. Философия техники М. Хайдеггера // Философия Мартина
Хайдеггера и современность. — М., 1991.
488
сезонами. Но, по Вернадскому, теперь человек навязывает
свои ритмы биосфере, создавая ноосферу. В существенной
мере вторая позиция для Вернадского послужила истоком
конструирования первой. И возникновение ноосферы
не есть для него некоторый артефакт на теле биосферы, а
закономерный этап эволюции планеты. Причем в силу
первого геохимического принципа (ускорение круговоротов
веществ) с момента возникновения жизни планета было
обречена на тепловую смерть, поскольку жизнь не может выйти
за пределы того отношения, которым является она сама.
А человек, хотя он пока только приближает этот конец, в
принципе, способен изменить направление развития
планеты. В свете такого взгляда желание китайцев остаться в
материнской утробе биосферы (экологичность, биологичность
их культуры) оборачивается парадоксом. Они понимают
свободу человека не как свободу в природе (таково
понимание как раз европейского человека — по Вернадскому, да уже
и у Канта), а как свободу от (вне) природы — в некотором
сверхчувственном мире, — ведь они хотят жить так, как
будто в природе живет не человек, а некоторое биологическое
существо, подчиняющееся природным ритмам,
человеческое же в нем определяется «неучастием» (по типу
«умеющий ходить не оставляет следов»). Но тогда дело не просто в
«идеологии» или «европейских удобствах», а в том,
применима ли вообще к нашей истории китайская
концептуализация действительности. Ведь вопрос о свободе для европейцев
коренной! Если нет свободы, то «зачем нам такая жизнь»?
Если она есть, то, может быть, пусть европейское время
«неотвратимо нависает над жизнью», возможно, это плата за
личностное, свободное бытие?
Весьма интересно у Франсуа Жюльена понятие «жизнь».
За ним много чего стоит. Это и оппозиция привычному
понятию времени, и необходимость мирно развести эти два
представления (жизни и времени), и попытка преодолеть
техногенное понимание жизни как «постава» и, напротив,
культивировать восточное отношение к жизни мудреца, где
489
преодолевается страх перед смертью и многие другие
проблемы, мучающие западного человека. «И подкладкой этого
вопроса о времени, — поясняет Ф. Жульен, — фактически
является вопрос о том, что значит "жить": на него я и
пытаюсь пролить свет, открыть новый подход к нему. Ибо "жить"
(а не "жизнь", когда о ней говорят с внешней позиции как о
чей-то конкретной жизни) — это не то, что происходит
между началом и концом; "жить" как таковое не похоже на
переход, перемещение движущегося тела. <...> В своих "Опытах"
Монтень предлагает формулу замещения: жить не в
"настоящем", а "кстати". <...>
Ведь "жить" — это то, в отношении чего мы обладаем
наименьшей рефлексивной силой, и даже то, в отношении
чего дистанция, требуемая актом рефлексии, равна нулю.
В конце концов, "жить" более уже не должно
приспосабливаться ко времени: нет больше точек на линии, нет больше
линии времени. <...> Но в конечном итоге "жить" все же
могло бы пониматься на основе совершенно другого способа
его разворачивания: посредством совпадения с каждым
отдельным моментом, каким бы тот ни был, в непрерывном
переходе от одного момента к другому. "Когда я танцую, я
танцую; когда я сплю, я сплю..." — провозгласил Монтень в
формулировке, которая наилучшим образом передает
полноту этого совпадения, воплощающего мудрость и
бесконечно обновляющегося»1.
Конечно, концептуализируя работу Франсуа Жюльена в
духе Гуссерля, можно сказать, что он осуществляет
феноменологическую редукцию сознания, сознающего время,
проходит к структурам чистого сознания времени, но, на мой
взгляд, более правильным будет охарактеризовать его
творчество как современную философскую мысль, включающую
методологические построения, сравнительное
культурологическое исследование, распредмечивание привычных по-
нятий времени, построение новых реальностей и понятий на
' Жюльен Ф. Указ. соч. — С. 17, 153, 154—155.
490
основе средств и схем современной философии,
методологии и гуманитарных наук. Вся эта работа ведется для
решения по меньшей мере трех задач: дать анализ проблем и
затруднений, возникших в области мышления о времени,
наметить альтернативные представления, преодолевающие
кризис темпорального сознания, создать одну из
предпосылок выводящих культуру в новые горизонты (ради жизни).
По сути, я бы принял все эти задачи и для себя, но
попытался решать их именно в рамках методологии и
культурологии. В этом случае нужно будет сделать ряд уточнений.
Франсуа Жюльен сопоставляет понятие европейского
времени с китайскими представлениями и делает это
прекрасно. Но почему бы тогда (при последовательном проведении
культурологического подхода) не сравнить представления о
времени в разных культурах европейской линии. Тем более
сам Ф. Жюльен понимает, насколько различными были
понимания времени в разных культурах (античной,
средневековой, ренессансной, Нового времени) и насколько разные
задачи при этом решались. Концепция времени, показывает
Франсуа Жюльен, переустанавливается каждой новой
философией.
В одном случае время «представляют по образу
пространства и параллельно ему (от Аристотеля до Канта); то
независимо от него (Августин) и в отличие от него (Бергсон); то для
того, чтобы мыслить движение (Аристотель); а то для того,
чтобы мыслить противоположное ему — Единое,
Умопостигаемое, Бога (Плотин, Августин). Кант рассуждает о
времени, чтобы установить возможность априорных
синтетических суждений. <...> Гуссерль мыслит время, чтобы через
единство интенции получить доступ к "интенционально-
сти", составляющей время, а вследствие этого — к
абсолютной объективности сознания... само "время" вместо того,
чтобы сделаться объектом в полном смысле этого слова,
являлось скорее тем, что каждый раз делает возможной новую
инициативу философии, предоставляя ей полную свободу.
<...> Это и делает понятие времени до такой степени ключе-
491
вым и в то же время — от философии к философии —
способствует тому, что оно оказывается не столько обогащенным
или преображенным, сколько радикально
переориентируется — или, точнее, перенастраивается»1.
Я бы как культуролог сказал иначе: концепция времени
переустанавливается в каждой культуре и каждой крупной
культурной личностью, новые же философии есть следствие
этих двух обстоятельств. Теперь вопрос — на самом ли деле
понятие времени является ключевым для становления новой
философии? Как этот тезис согласовать с другим, по
которому европейское время «неотвратимо нависает над жизнью»?
И здесь стоит обратиться к становлению этого понятия.
Платон и Аристотель, создавая понятие времени, решали
две разные задачи: во-первых, им нужно было так
охарактеризовать движение и изменения, чтобы их можно было
мыслить непротиворечиво, во-вторых, они искали источник
(причину) движений и изменений. При этом если Платон
разводит представления о движении и изменении, то
Аристотель скорее их сближает, рассматривая движение как вид
изменения. Франсуа Жюльен очень верно отмечает, что
представление о времени, встав на место богов, и выступило
в качестве источника движения и изменения, причем не
простого, а могущественного.
«Поскольку боги, — пишет он, анализируя
происхождение понятия времени, — по крайней мере в их
первоначальном виде отступают на задний план, "время" некоторым
образом замещает их в чисто объяснительном, абстрактном
плане. <...> Этот высший, абсолютизированный образ
времени, как мы видим, вновь появляется у Аристотеля после
того, как он определяет время физически как число
движения, и я поражаюсь тому, что комментаторы не уделяют ему
большего внимания...» «Вот почему, — отмечает
Аристотель, — мы продолжаем говорить, что время поглощает... все
вещи испытывают его воздействие, оно "само по себе есть
причина разрушения"»2.
1 Жюльен Ф. Указ. соч. — С. 97—98.
2 Там же. — С. 124—125.
492
Заметим теперь, что для того, чтобы непротиворечиво
охарактеризовать движения и изменения, нужно было
установиться самому мыслящему, нащупать
определенные принципы, с точки зрения которых движения и
изменения могли быть описаны единообразно и сопоставлены.
Дело в том, что мышление, как я показываю в своих
исследованиях, — это не только новый (сравнительно с
архаическими временами) способ получения знаний в
рассуждениях и доказательствах, но и способ установления в мире
античной личности1. Личность — это человек,
переходящий к самостоятельному поведению, самостоятельно
выстраивающий свою жизнь и представления о
действительности; все это предполагает нащупывание принципов
жизни самой личности («Не на то надо смотреть, — писал
Апулей, — где человек родился, а каковы его нравы, не в
какой земле, а по каким принципам решил он прожить
свою жизнь»2).
Так вот один из принципов нового подхода,
позволяющего мыслящей личности непротиворечиво охарактеризовать
движения и изменения, был принцип объяснения движений
и изменений с помощью времени как их сакральной
причины. Второй принцип, ясно установленный еще Платоном, —
это связь времени и вечности. Этот принцип всецело
опирался на платоновскую идею как самотождественную
сущность («Не допуская постоянно тождественной себе идеи
каждой из существующих вещей, — писал Платон в «Парме-
ниде», — человек не найдет куда направить мысль и тем
самым уничтожит саму возможность рассуждений»3). «Вслед за
Платоном, — пишет П. П. Гайденко в Новой философской
энциклопедии, — Плотин считает необходимым
определение времени через вечность: "Только если познано то, что
является образцом, можно уяснить и сущность образа. Веч-
1 Розин В. М. Предпосылки и особенности античной культуры. — М., 2004; Он же.
Античная культура. Этюды исследования. — М.; Воронеж, 2005.
2 Апулей. Апология, или Речь в защиту самого себя от обвинений в магии //
Апология. Метаморфозы. Флориды. — М., 1960. — С. 28.
3 Платон. Парменид. — С. 375.
493
ность же — это умопостигаемое бытие, неизменное и
неподвижное, самотождественное. О ней нельзя сказать, что она
"была" или "будет", но только "есть". Она покоится в
едином ("Эннеады", III, 7, 1, 5)". <...> Если действительность
проецировалась на мир идей (истолковывалась через
уподобление идеям), то она характеризовалась Платоном как
вечность, если же — на мир вещей, то как то, "что существует
временно (возникает и погибает)"»1.
Третий и четвертый принципы сформулировал
Аристотель: время измеряется движением и структурируется через
различение (душой; «ибо по природе ничто не способно
считать, кроме души и разума души»2) прошлого, настоящего и
будущего. Почему движение, а не изменение было выбрано
Аристотелем в качестве меры и принципа? Вероятно,
потому, что изменения казались все разными (какая, например,
связь между рождением, строительством, смертью или
движением планет?); движения же выглядели более
однородными, чем изменения, кроме того, их худо-бедно уже учились
измерять (равномерное движение, неравномерное). Но было
и еще одно обстоятельство.
Платон и Аристотель искали объяснение (причину) для
всех движений и изменений (и земных, и небесных) и видели
их в фигурах Демиурга {Платон) и Разума {Аристотель).
Визуально же Разум представал в движениях планет и неба.
Собирая все вместе, Аристотель строит следующую схему:
Разум как божество и небо движет своей мыслью (мысля)
планеты и все на земле («Есть нечто, что движет, не находясь в
движении, нечто вечное и являющее собой сущность.
Но движет так предмет желания и предмет мысли: они
движут, не находясь в движении. <...> При этом разум, в силу
причастности своей к предмету мысли, мыслит самого себя.
<...> И жизнь, без сомнения, присуща ему, ибо деятельность
разума есть жизнь, а он именно деятельность: и деятельность
его, как она есть сама по себе, есть самая лучшая и вечная
1 Гайденко Я. /7. Время // НФЭ. - Т. 1. - С. 452, 454.
2 Аристотель. Физика. — С. 86.
494
жизнь»1). Движет Разум и физически, и в форме изменения
вещей, т. е. Аристотель невольно обобщает, начинает
истолковывать изменения как вид движения, обусловленного
Разумом. Последствия этого не замедлили сказаться:
изменения были редуцированы до механического движения, а
время истолковано через движение.
Почему, наконец, конструкция «прошлое, настоящее,
будущее»? Во-первых, потому, утверждает Франсуа Жюльен,
что таков греческий язык. «Чтобы доказать существование
времени, — замечает он, — достаточно единственного факта
наличия спряжения (мы говорим "было" или "будет"). Бог,
говорит Плотин, не может "ошибаться", выражаясь так»2.
В то же время китайский язык не имеет спряжений, он
«не предназначен для того, чтобы производить различение
между временами», и как факт в Китае нет понятия времени3.
Когда же в конце XIX в. китайцы «познакомились с
европейской мыслью, они передали — вынуждены были передать —
термин "время" через неологизм, построенный на
заимствовании из японского. "Время" было переведено на китайский
как "между-моментами", а пространство "параллельно" как
"между-пустотами"»4. Во-вторых, возможно, определенную
роль здесь сыграло новое мироощущение, складывающееся
под влиянием Сократа, Парменида, Платона, Аристотеля и
ряда других философов. Для них мир обновлялся, причем
именно за счет их усилий; мифология вытеснялась на второй
план, а на первый выходили новые рациональные
представления — представления о сущности, атомах, идеях,
движении и изменении и др. Это обновление действительности и
схватывалось не только в понятиях становления {Платон) и
изменения {Аристотель), но и в конструкции «прошлое,
настоящее, будущее».
И по мнению О. Румянцева, греческий тип тематизации
времени связан с греческим языком, точнее, с их фонетиче-
1 Аристотель. Метафизика. — С. 211.
2 Жюльен Ф. Указ. соч. — С. 46.
3 Там же.
4 Там же. — С. 74.
495
ским письмом. С. Б. Долгопольскиий, пишет Румянцев,
обращает внимание, что если до греков был известен только
показ (делай, как данный герой) в качестве способа передачи
знания, то греки, разработав фонетическое, или алфавитное
(а не иероглифическое), письмо, нашли новый метод
трансляции знаний (и распоряжений) — теперь можно прочесть
данную книгу (и закон), до этого ни разу не видев и не
слышав, как ее читают. И поэтому у них возникла проблема:
если мысль можно отделить от ее носителя посредством
письма, то как относится выражение мысли к самой мысли?
Выражение может циркулировать отдельно от мысли, может
подражать мысли, миметировать мысль. Сложилось
положение, когда можно делать (в том числе и думать), не понимая.
Греческая культура выработала принцип «Один разумно
движет, оставаясь неподвижным, остальные разумно
движутся, оставаясь неразумными» (этой формулировкой мы
обязаны М. К. Петрову). Такая внемирная позиция того, кто
разумно движет, оставаясь неподвижным, — одно из
важнейших условий возможности открытия (тематизации)
греками Логоса, который есть и мысль, и закон, и слово, что
созвучно тематизации индивидуального самосознания.
Поскольку Логос понят как такой закон изменчивого мира,
который изменяется вместе с миром, считает Румянцев, то
открывается возможность понимания времени как
подвижного образа вечности.
Истолкование времени через движение и языковую
конструкцию «прошлое, настоящее, будущее» имело глубокие
последствия. Связанная с изменениями событийность
вытесняется везде, где используется понятие «время»
(вытесняется в искусство и обычный язык), кроме того, мыслить
«время» не удается без противоречий; они анализируются от
Аристотеля до Франсуа Жульена. Таковы основные итоги (и
положительные, и негативные) античного становления
понятия «время». Но это понятия кардинально
переустраивается в Средние века.
496
Устанавливаясь в мире заново, личность в средневековой
культуре нащупывает и новые принципы, в частности, для
понимания времени. «В тебе, душа моя, — пишет Августин в
«Исповеди», — измеряю я время. <...> Только потому, что
это происходит в душе, и только в ней существует три
времени. Она и ждет, и внимает, и помнит: то, чего она ждет,
проходит через то, чему она внимает, и уходит туда, о чем она
вспоминает. Кто станет отрицать, что будущего еще нет?
Но в душе есть ожидание будущего. И кто станет отрицать,
что прошлого уже нет? Но и до сих пор есть в душе память о
прошлом. И кто станет отрицать, что настоящее лишено
длительности: оно проходит мгновенно. Наше внимание,
однако, длительно, и оно переводит в небытие то, что
появится»1.
«Христианство с его догматом о боговоплощении, —
разъясняет П. Гайденко, — позволяет по-новому
взглянуть и на память, и на историю. Не в уме только, а в
человеческой душе, неразрывно связанной с плотью, теперь
заключена онтологически значимая реальность, и не
случайно время как форма бытия души, как единство
воспоминания, восприятия и ожидания становится предметом
внимания у Василия Великого, Григория Нисского,
Августина и др.»2.
Действительно, в Средние века человек (и «простец», и
«высоколобый») отождествляет себя прежде всего с
Творцом, поскольку считает себя созданным «по образу и
подобию» последнего. Но ведь и мир создан Богом. В
результате, как пишет П. Гайденко, человек «вырван из
космической, природной жизни и поставлен вне ее; по замыслу
Бога, он выше космоса, должен быть его господином. <...>
Августин вслед за апостолом Павлом открывает "внутрен-
него человека", которому ничего в космосе не можетсоот-
1 Августин А. Исповедь // Исповедь. Петр Абеляр. История моих бедствий. — М.,
1992.-С. 173, 176.
2 Гайденко П. П. Время. — С. 452.
32. Заказ №4180
497
ветствовать и который целиком обращен к надкосмиче-
скому Творцу»1.
Как творец Бог является личным для каждого
средневекового человека. Личный же Бог, по мнению П. Гайденко,
«предполагает и личное к себе отношение; отсюда
изменившееся значение внутренней жизни человека: она становится
теперь предметом глубокого внимания, приобретает
первостепенную религиозную ценность»2.
Но разве античный человек ничего не знал о своей
внутренней, душевной жизни? Анализ античных произведений
показывает, что почти ничего, он ее как бы не замечал.
И главным образом потому, что не имел образца и
устремлений, относительного которых внутреннюю жизнь можно
было увидеть и описать. С появлением Творца, особенно в
лице Сына, средневековый человек, стремящийся
уподобиться Богу, вдруг обнаруживает, что он не такой, каким
должен быть «во Христе», что в нем действуют силы и
стихии, противоположные Творцу. Как признается апостол
Павел, «ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что
хочу, а что ненавижу, то делаю».
«Между тем я, — пишет Августин в «Исповеди», —
служивший поприщем борьбы, был один и тот же. <...> По
своей же воле я дошел до того, что делал то, чего не хотелось
мне делать. <...> У меня не было никаких извинений. Я не
мог сказать, что потому именно доселе не отрешился от мира
и не последовал Тебе, что не знаю истины; нет, истину я
познал, но, привязанный к земле, отказывался воинствовать
для Тебя. <...> Я одобрял одно, а следовал другому. <...> Но да
исчезнут от лица Твоего, Боже, те, которые, видя две воли в
борьбе духа нашего, утверждают, что в нем существуют два
духовных начала противоположного естества, одно доброе, а
другое злое» (курсив. — П. Г.)\
1 Гайденко П. 77. Эволюция понятия наука. — С. 418—419.
2 Там же. — С. 409.
3 Цит. по: Гайденко 77. 77. Эволюция понятия наука. — С. 418—419.
498
Обратим внимание на то, что Августин, сравнивая свое
поведение с тем, которое предписывалось Священным
Писанием, не только обнаруживает, как пишет Гайденко,
«неподчинение души самой себе», т. е. естественный ее план, но
и в духе античного мышления пытается объяснить, почему
он так себя ведет (поскольку был «привязан к земле»), а
также собирает силы для правильной жизни, для делания себя
человеком, приближающимся к человеку «внутреннему»
(поэтому и отрицает манихеев, утверждавших
существование в человеке двух начал — добра и зла). Конституирование
и формирование внутренней жизни предполагало, таким
образом, не только установку средневекового человека на
переделку себя из человека «ветхого» в «нового» (внутреннего),
отсюда, кстати, и средневековое значение воли, но и
рациональное объяснение уклонений (грехопадений) на
правильном пути, и мобилизацию сил, чтобы снова идти
правильным путем.
Как же на таком фоне могло быть осмыслено время и что
здесь подлежало «измерению»? Прежде всего, отношение к
Богу, устремление к Нему или отход от Него. В центр
становится настоящее и работа человека над собой («растяжение души»,
она и измеряет1). Но одновременно сохраняется и античное
понимание. «Признаюсь Тебе, Господи, — пишет
Августин, — я до сих пор не знаю, что такое время, но признаюсь,
Господи, и в другом: я знаю, что говорю это во времени, что я
долго уже разговариваю о времени и что это самое "долго"
есть не что иное, как некий промежуток времени»2.
Спрашивается, может ли новая концепция времени,
измеряемого душой, центрированного на настоящем
(«настоящее прошлого, настоящее настоящего и настоящее
будущего») и включенного в обычное время (или, наоборот,
обычное античное время входит в это новое средневековое),
рассматриваться как развитие аристотелевской концепции?
Думаю, нет. Концепция Августина представляет собой
новообразование^^ ее составляющих заимствуется в Ан-
1 См.: Августин А. Указ. соч. — С. 174.
2 Там же.
32*
499
тичности. Концепция времени Августина и концепция
времени Аристотеля задают две разные темпоральные
реальности. Будем в дальнейшем такие темпоральные реальности
называть «концептуально-событийными». Термин
«концепт» здесь призван указать на то, что формирование
подобных реальностей предполагает концептуализацию, а
«событие» — на то, что в этих реальностях задаются и проживаются
определенные события. Европейское время начинает
«нависать над жизнью» только тогда, когда разные
концептуально-событийные реальности времени редуцируются к
какой-нибудь одной: античного времени, или
естественно-научного, или психологического.
Замечу, культурологический подход хорош тем, что дает
материал для исследовательской работы, поскольку
позволяет говорить о разных переживаниях времени в
Античности, Средневековье и т. д. При этом он не освобождает от
необходимости формулировать — переживания «чего» мы
обсуждаем? Все же речь идет о/?язя6/хконцептуально-событий-
ных реальностях времени. Предлагая понятие
«концептуально-событийные реальности времени», я хочу, с одной
стороны, сказать, что у нас нет и не может быть концепта «времени
вообще», а только — истории переживания конкретного
времени греками, средневековыми мыслителями и т. д., с
другой — напротив, подчеркнуть необходимость рассматривать
ассимиляцию предыдущих представлений о времени в
последующих культурах. Одновременно я считаю, что при
такой ассимиляции всегда происходит переосмысление
времени, или, в другом языке, мыслящий заново устанавливается
в понятии времени. Говоря же вслед за Жюльеном, что
европейское время начинает «нависать над жизнью», я имею в
виду редукцию разных культурно-исторических способов
концептуализации времен к какому-нибудь одному.
Можно показать, что под приведенное понятие подходят
и многие другие темпоральные реальности: представление о
времени Фомы Аквинского, Суареса, Декарта, Ньютона,
500
Локка и Юма, Канта, Фихте, Бергсона, Дильтея, Брентано,
Гуссерля, Хайдеггера, Гадамера1, т. е. все они представляют
собой темпоральные концептуально-событийные
реальности. А китайский сезон? Это тоже
концептуально-событийная реальность, но, как старается показать Франсуа Жульен,
не темпоральная. Точнее, у такой реальности, назовем ее
«квазитемпоральной», есть темпоральная составляющая,
иначе бы сезон не мог размещаться во времени и
использоваться как одна из мер времени.
Одну из первых квазитемпоральных реальностей мы
находим в той же «Исповеди» Августина. Из какой позиции
Августин описывает свою историю и биографию? С одной
стороны, он вспоминает и пересказывает собственные
переживания и мысли, которые его волновали в прошлом, когда
он еще не был верующим. Эта позиция может быть названа
условно «субъективной». С другой стороны, Августин все
происходившие с ним события излагает как человек, уже
уверовавший в Бога, хотя известно, что к христианству он
приходит не сразу и не скоро. Совмещение этих двух
позиций — субъективной и как бы объективной — порождает
странную реальность: события детерминируются страстями
и неверующей личностью, и одновременно здесь
просматривается замысел Божий, Августин вроде бы действует сам, и
вроде бы его ведет Бог. Если понимать все в рамках обычного
времени, то получается, что у Августина есть возможность
глядеть на себя прошлого из вечности. Вообще-то, взгляд из
точки своего обращения-покаяния, которое есть событие во
времени, но в свете вечного, вроде бы не отрицает видение
себя еще как неверующего тоже во времени. Дело в другом,
совмещение обоих точек зрения делает время труднопони-
маемым.
Вот еще два интересных примера квазитемпоральной
реальности. Вспомним проанализированное выше мое
общение с А. С. Пушкиным, где я старался предоставить послед-
нему полноценный голос. Опять же получается, что я, по-
1 Гайденко П. П. Время // НФЭ: В 4 т. - М., 2000. - Т. 1.
501
добно Августину, преодолел время, хотя Александр
Сергеевич давно умер, я смог встретиться и общаться с ним.
Мне можно здесь возразить. Августин не преодолел время,
иначе ему нет смысла нести епископское служение, он живет
с вечностью, с Богом, но во времени, и это подчеркивается и
жанром исповеди, которую он повествует «в добрые уши
церкви», возможно, чтобы она не соблазнялась о нем, знала
его историю и для назидания своей паствы, ее укрепления в
вере, чтобы его пасомые не отпали. А преодоление времени в
случае исследования Пушкина, мотивированного
личностным интересом исследователя, обусловленным
идентификацией с Пушкиным как жизненно значимым образцом (как
у Чаадаева), происходит потому, что это время культуры, а
не истории. Причем «преодоление времени» здесь
возможно, потому что свершилось событие смерти Пушкина,
которое определяет точку вненаходимости по отношению к его
жизни и творчеству, делая невозможным живое общение с
ним, во время которого он мог бы сказать или сделать нечто
новое, неожиданное, радикально меняющее или
развивающее смысл его биографии.
Из этой точки вненаходимости, обусловленной
событием смерти героя, его биография может быть рассмотрена как
целое, и неважно, что она как целое может быть даже
радикально переосмыслена, когда откроются неизвестные ранее
факты биографии, или она будет по-новому понята. Именно
это и делает возможным общение с ним в пространстве и
времени культуры как с субъектом завершенной биографии,
носителем состоявшегося и завершенного голоса. В этом
пространстве и времени культуры происходит поэтому
квазиобщение с такими субъектами. Квази —- поскольку из точки их
вненаходимости, как с субъектами завершенных образов
культуры, как с культурными героями.
Реальность же общения с ними есть реальность
незавершенной жизни исследователей, которая наполнена и
чревата событиями и встречами, оценками и переоценками,
спорами и открытиями. И этот тип общения в пространстве
502
культуры и своеобразное преодоление времени в нем делает
понятным и условия культурологической
компаративистики вообще, тот своеобразный способ объективирующей
диа(поли)логичности, который использует культурология.
Возможность анализа и сравнения разных темпорально-
стей тоже предполагает, что эпоха завершилась, отжила, по
крайней мере в том отношении, в котором она может теперь
рассматриваться как завершенное целое. Неважно, что
образ этого целого у исследователя сам не завершен, важно,
что можно строить его как образ завершенного целого.
Темпоральность эпохи можно концептуализировать, когда
осуществимо отстранение от жизни этой эпохи. Например,
для Августина уже циклическое время Античности может
быть концептуализировано, т. к. он выходит за его рамки,
размыкает цикл в линию и это различение сосредоточивает
в душе, поскольку она обращается к Богу. Поэтому он
вообще ставит вопрос о времени. Возможно, многие
концептуализации времени в мыслительной традиции Европы пред-
ставимы как обозначение выхода за рамки определенной
эпохи.
Все эти соображения-возражения правильны, если
только мы считаем культуру особой формой рефлексии, а ее
персонажей —- символическими образами. Тогда Сократ, или
Августин, или Пушкин давно умерли и мы не можем с ними
встретиться и общаться. Но если культура, как я показываю,
является воспроизводящейся формой социальной жизни
(воспроизводящейся в новых последующих культурах), а
культурные герои — активные участники социальной
жизни, то в этом случае понятие «время культуры» перестает
работать.
Теперь второй пример. В 2001 г. вышла книга нашего
известного историка, египтолога А. О. Большакова «Человек и
его Двойник» (СПб., 2001). Сама идея двойника человека —
«Ка», лежащая в основе египетского мироощущения как
Старого царства, так и Среднего (3—2-е тыс. до н. э.),
поразительна. Египтянин той эпохи был уверен, что его жизнь
503
может продолжаться бесконечно на том свете, в царстве
мертвых (такой человек и назывался Ка), однако при условии,
что он, во-первых, запечатлевает себя и события своей
жизни с помощью скульптуры и других изображений,
во-вторых, запасается поддержкой со стороны живущих прежде
всего в плане жертвоприношения и сакральных процедур. В
этом отношении Ка лучше называть не двойником, а
«человеком того мира», кратко «томиром». Представление о Ка,
пишет Большаков, тесно связано не только с
изображениями (статуями и настенными барельефами и рисунками), но
и с именем человека. В семантическом отношении Ка — од-
нокоренное слово с самыми разными словами: именем,
светом, освещением, размножением, беременностью, работой,
пищей, садовником, колдовством, мыслью1.
Создав изображение, обычно самого заказчика, его семьи
и хозяйства, скульптор (художник) передавал изображение
жрецу. Дальше начиналась процедура оживления, или
рождения, томира, так называемый ритуал «отверзания уст и
очей». Он состоял в том, что «жрец касался глаз и рта статуи
теслом» (резцом или жезлом), причем действие
сопровождалось «диалогами жрецов, имеющими мифологический
характер и восходящими к истории "воскресения" бога смерти
Осириса»2. Например, на одной стеле мы читаем: «Открыто
лицо имярека, чтобы видел он красу бога во время процессии
его доброй, когда он идет в мире в свой дворец радости. <...>
Открыто лицо имярека, чтобы видел он Осириса, когда тот
делается правогласным в присутствии двух девяток богов,
когда мирен он во дворце своем, довольно сердце его вечно...
(в данном случае выражение "открывать лицо"
синонимично выражению "отверзать уста и очи")»3.
Судя по некоторым памятникам, обряд «отверзания уст и
очей» совершался рано утром, при восходе солнца — главно-
го бога Египта Ра. Но в часовнях и храмах, где настенные
1 См.: Большаков А. Человек и его Двойник. — СПб., 2001. — С. 70—79.
2 Там же. - С. 89—90.
3 Там же. — С. 91.
504
изображения и статуи пребывали в полной темноте,
использовались факелы и светильники. Об этом свидетельствует,
например, договор сиутского номарха со жрецами, в
котором «специально оговаривается, где и когда перед его
статуями должен возжигаться свет, а также особо упоминается
обеспечение ламп фитилями». Большаков показывает, что
свет, так же как и пища, выступали двумя основными
условиями загробной жизни томира. Именно поэтому
последнему необходимо было приносить жертвы (это главным
образом пища) и обеспечивать освещение погребальных
помещений. Тем самым жизнь и благополучие томира целиком
зависели от живущих.
Важным результатом исследований Большакова является
доказательство того, что мир, в котором живет томир,
является улучшенной копией обычного мира, где акцентируются
и актуализируются желаемые для человека события,
например, его значение, власть, масштаб хозяйства. «Искажения
касались, конечно, не только хозяйства вельможи, но и его
собственного облика. Уже в самой природе Ка он в своей
вечности всегда молод, силен, здоров, даже если смерть
застала человека дряхлым стариком. Таким образом, хозяин
мира-двойника не только наслаждается материальными
благами, но и пребывает при этом в идеальном, наиболее
желательном состоянии. <...> Этот мирок, представляющий
собой несколько улучшенную копию вельможного хозяйства,
замкнутый сам на себя и ни в чем за своими пределами не
нуждающийся... это не какая-то искони существующая
преисподняя... не общее обиталище для многих, а закрытая для
чужих территория, предназначенная только для своего
владельца и его родни и челяди»1.
Идея послесмертного, почти райского существования
томира может быть названа первой в истории человечества
идеей индивидуального «спасения». На нее выходят
отдельные представители египетской элиты под влиянием следую-
щих обстоятельств. Как показывает Большаков, это были
1 Большаков А. Указ. соч. — С. 214, 220—221.
505
люди хотя и полностью подчиненные фараону, но
одновременно активные и властные, обладающие к тому же
большими средствами. Их явно не устраивала загробная жизнь
обычных людей. С точки зрения представлений египетской
культуры души умерших (за исключением души фараона,
который был не только человек, но и бог солнца) после
смерти многие сотни лет проходят под землей в царстве мертвых
Осириса цикл очищения-возрождения, но и при этом они
лишены абсолютно всех благ жизни.
В то же время египетская мифология и мироощущение
подсказывали выход. Действительно, как утверждают
египетские сказания, боги создали человека из глины (праха),
вдохнув в него жизнь. То есть человек состоит из двух
составляющих —- тела и души, отчасти совпадающей с именем.
Когда человек умирает, его тело пожирают демоны, а душа
вынуждена отправиться в царство мертвых. Но известно, что
изображения богов и царей существуют практически вечно,
не разрушаясь. Что если душу поместить в изображения,
если в них вдохнуть жизнь? Нельзя ли попросить богов,
конечно, за особые заслуги (в наличии последних знатные
египтяне не сомневались), чтобы боги создали улучшенный
дубликат человека, который бы в царстве мертвых
продолжал пользоваться теми же благами, а возможно, и лучшими,
что и при жизни?
Иначе говоря, в качестве изображения, в которое с
помощью богов и жрецов входит Ка, человек может
продолжать жить и после смерти. Правда, а что он будет делать на
том свете без пищи, света, своих любимых слуг, жен,
животных, вещей? Стоит ли тогда овчинка выделки? Да, но с
помощью тех же сакрализованных изображений, в которые боги
вдохнут жизнь, все это можно переправить в тот мир.
Действительно, в гробницах изображались не только сами их
владельцы, но и их семья, челядь, любимые животные и
предметы. Отверзались не только уста и очи владельца
гробницы, чтобы последний мог есть и видеть, но и оживлялись
506
все другие изображенные люди, любимые животные,
источники света, пищи и другие предметы.
Решение древнеегипетскими жрецами проблемы
бессмертия интересно сравнить с тенденциями,
складывающимися в наше время. Геннадий Ваганов в своих последних
статьях показывает, что в настоящее время формируется
практика прижизненного воплощения, правда, непонятно чего, в
электронные формы. Техника оцифровывания, Интернет и
другие современные технологии позволяют нам видеть и
общаться с виртуальным субъектом, человеческий прототип
которого к этому времени мог уже умереть. Опять оживилась
мечта достижения бессмертия, но в данном случае в
электронном виде.
А почему нет, чем, спрашивается, электронная форма и
семиотика хуже художественных воплощений? И там и здесь
присутствует вера в то, что видимое (неважно, что это —-
скульптура или образ на экране компьютера) — это наша
душа, которой обеспечено вечное существование. В
объяснении здесь, конечно, нуждается столь стойкая вера в
бессмертие. Уже Аристотель считал такую веру наивной. Но,
очевидно, эта вера является производной от неистребимого
желания вечной жизни. И поскольку это желание
возрождается вновь и вновь, возрождается и соответствующая вера в
бессмертие нашей души. А уж в какой ладье, каменной или
электронной, отправиться в вечность, не столь существенно.
Главное отправиться и надеяться достигнуть берегов мира,
где наша жизнь не подвержена тленью и исчезновению.
Задумаемся теперь над тем, что видит древний
египтянин, разглядывая в гробнице свое изображение. Это для нас
изображение, а для него —- это он сам на границе этого и того
мира. Недаром в гробнице изображались двери, ведущие в
царство мертвых. Получается, что гробница — это
своеобразный дисплей, где человек встречается со своим
двойником. Назовем его «виртуальным субъектом» и попытаемся
понять, что это такое. Виртуальный субъект похож на
обычного человека не во всем. Он больше соответствует, с одной
стороны, социальным требованиям и сценариям, с другой —
507
желаниям (идеалам) самого заказчика. Действительно,
реально заказчик (например, военачальник или управитель
работ) может в данный момент находиться в опале и постареть,
но заказ он делает, исходя из своих материальных
возможностей, а также понимания того, кем он является и каким бы
хотел выглядеть для других.
Родившись на свет, виртуальный субъект получает
долгую жизнь. Но его жизнь, как показывает Большаков,
реально не была бесконечной: кто-то разрушил гробницу, в
результате войн или других обстоятельств томира перестают
обслуживать живущие, иногда сам фараон издает указы по
уничтожению изображения и имен тех людей, прегрешения
которых неожиданно открылись. Другими словами,
виртуальный субъект хотя и живет значительно дольше своего
прототипа, но все же он смертен. И он именно живет:
питается заботами и вниманием живущих, заболевает и хиреет,
если последние отворачиваются от него, он оказывает
существенное влияние на живущих, которые по образу
виртуального субъекта устанавливаются (идентифицируются) как
представители египетской культуры. Нельзя ли тогда
предположить, что виртуальный субъект —- это не только
семиотическая конструкция и миф, но и полноценная форма
культурной жизни, что кроме нас с вами в культуре живет
также виртуальное человечество. И встречаемся мы с
виртуальными субъектами в пространстве дисплея, только
понимать его нужно расширительно. Дисплей —- это и реальность
картины, и реальность книги, и экран компьютера. Это
любое место, где мы можем увидеть или услышать виртуального
субъекта и даже общаться с ним.
Виртуальное человечество значительно многочисленнее
актуального. Оно оказывает на нас огромное влияние,
выступая в форме то культурных традиций, то социальных
норм и идеалов. Кому-то может показаться, что я
мистифицирую реальность, приписывая неживому и условному
настоящую жизнь. Думаю, все наоборот. Это мыслители с
естественно-научной ориентацией долго мистифицировали
культурную реальность, приписывая ей условность и нежиз-
508
ненность, затрудняя тем самым нашу жизнь. Пришло время
признать за культурой и нашим символическим творчеством
их подлинное существование — быть настоящей жизнью.
Жизнью биологической, социальной, индивидуальной.
Другими словами, если я как личность установлюсь
по-новому, считая культуру полноценной формой
социальной жизни, трактуя персонажей типа «мой Пушкин» или то-
мир в качестве виртуальных субъектов, то я высвобождаю
место, где время обладает странными характеристиками: с
одной стороны, на заднем плане течет обычное время (я
хорошо знаю, когда жили древние египтяне и Пушкин), с
другой — все мы (и древние египтяне, и Пушкин, и я) живем в
топосе (реальности), где время не обладает измерениями
«прошлое, настоящее, будущее». Но оно течет и разрешается
от бремени событиями, правда, если только я сумел
осуществить эффективную концептуализацию. Например, смог
реализовать гуманитарную стратегию исследования,
удовлетворяющую установке М. Бахтина — предоставить
полноценный голос изучаемой личности, или другую стратегию
исследования, позволившую понять, как древний египтянин
создавал условия для рождения томиров и почему он был
уверен, что они живые. Что в этих
концептуально-событийных реальностях течет, какие события сменяют друг друга?
В первом случае меняются мои взаимоотношения с
Пушкиным, во втором — создаются условия для рождения томира,
он творится богами (рождается), складываются непростые
отношения между живущими и томиром.
Итак, помимо европейского времени,
противопоставленного другим культурным квазитемпоральным
реальностям (например, китайскому сезону), стоит различать
разные концептуально-событийные реальности времени как
внутри европейской культуры, так и принадлежащие разным
типам культур. Стоит заново обсудить и значение
европейского времени как фактора, конституирующего нашу жизнь.
В рамках техногенной цивилизации это значение огромно,
поскольку время не только выступает важным фактором
организации большинства жизненных процессов, но и вносит
509
свой вклад в смысл социальности (идеи прогресса,
развития). Но, если техногенная цивилизация, как утверждают
многие, завершает свой путь, значение времени может
существенно измениться. Спрашивается, в каком направлении и
насколько реален этот прогноз?
Во всяком случае, в настоящее время мы уже не можем
трактовать время как натуральный феномен и рассматривать
как единственное основание исторической или социальной
динамики. Распредмечивание представлений о социальной
реальности и природе, новые техники истолкования
событийности, новые способы жизни обусловливают
становление новой реальности культуры (новой культуры), где
измерение динамики и процессов изменения, возможно, будет
происходить другими способами. Если, например, я могу
встретиться и общаться с культурными героями или просто с
давно умершим другом, то, хотя все это, как писал Августин,
происходит во времени, разворачивающаяся событийность
от этого обычного времени мало зависит, а описание и
измерение ее протекания предполагают не столько темпоральные
структуры, сколько конструктивные и символические.
10.3. К проблеме трансляции
в культуре нового опыта
Проблема трансляции нового опыта (продвинутых
образцов и различных нововведений) стоит не только в
педагогике, но в сфере образования особенно остро. Дело в том, что
педагогические нововведения, или, как их иногда называют
«прорывы», как правило, привязаны к конкретным людям
(педагогам-новаторам) и конкретным условиям учебной и
даже региональной жизни. Первоначальными носителями
нововведений обычно выступают педагог или
педагогический коллектив, которые поддерживают его своим
пониманием, энергией и имеющимся опытом. Но ведь другие педа-
510
гоги, которые хотят познакомиться с этим новым опытом и
перенять его (аналогично учащиеся перенять опыт своих
преподавателей, который для них всегда новый), не
погружены в ситуацию нового опыта (у них своя ситуация), они
не проделали соответствующих шагов, выращивая этот
опыт, не имеют ни того видения, ни того осознания, которые
приобрели педагоги, рассказывающие о новом опыте. В
результате усваиваются лишь случайные элементы
передаваемого опыта, случайные связи и отношения, в которых
педагог-новатор уже совершенно не может узнать свое любимое
детище. Наблюдения показывают, что передать новый опыт,
просто рассказывая о нем, описывая его, тем более наблюдая
его, невозможно. Что же делать?
Очевидно, новый опыт может быть только своим, его
нужно вырастить самому. Другое дело, что в этом процессе
педагогического творчества и самостоятельных усилий
невозможно обойтись без рефлексии чужого опыта —
разумеется, не столько рассказа о том, что нужно делать и что есть
на самом деле. Однако понять, что здесь нужно делать, на что
обращать внимание, вряд ли возможно, не обсуждая, что
такое вообще опыт и новый опыт. Этим я дальше и займусь,
чтобы затем вернуться к нововведениям в педагогике.
Прежде всего, имеет смысл развести два разных смысла
интересующего нас понятия: опыт — это особое знание и
нечто возникающее в деятельности человека (или
коллектива) — умения, навыки, работа, путь и пр. Уже в античной
культуре в «Метафизике» Аристотель обсуждает соотношение
опыта и знаний (причин, «начал»). «Дело в том, — пишет
он, — что опыт есть знание индивидуальных вещей, а
искусство — знание общего, между тем при всяком действии и
всяком возникновении дело идет об индивидуальной вещи (в
Античности искусство — это не только изящное искусство,
но и любое изготовление, например, строительство зданий; в
данном случае Аристотель к тому же считает, что искусный
мастер знает причины и действует в своем деле, исходя из
них. — В. Р.). <...> Если кто поэтому владеет понятием, а
511
опыта не имеет и общее познает, а заключенного в нем
индивидуального не ведает, такой человек часто ошибается в
лечении; ибо лечить приходится индивидуальное. <...>
Но все же знание и понимание мы приписываем скорее
искусству, чем опыту, и ставим людей искусства выше по
мудрости, чем людей опыта, ибо мудрости у каждого имеется
больше в зависимости от знания: дело в том, что одни знают
причину, а другие нет»1.
Аристотеля здесь, как мы видим, интересует проблема
правильного (эффективного) действия, чтобы не ошибаться,
например, влечении или строительстве. И он указывает, что
условием такого эффективного действия является знание
причин (общего). С легкой руки Стагирита эта проблема
обсуждается и дальше, вплоть до Галилея и современной
психологии. Если Галилей намечает здесь решение в плане
новой естественной науки и новой инженерной практики
(эффективное инженерное действие должно опираться на
знание законов первой природы и эксперимент, в ходе которого
устанавливается связь естественно-научной теории,
изучаемого явления и инженерного действия2), то современные
психологи в решении этого вопроса разделились на два
лагеря. Одни вслед за Галилеем и Ньютоном ориентируются на
идеалы естествознания, а другие идут за Дильтеем и
Бахтиным, они уверены, что эффективный опыт нельзя свести к
инженерному, что в сфере гуманитарной реальности и
практики имеют место много разных опытов иной природы.
Но есть общее, характерное для обеих позиций: говоря об
опыте, все имеют в виду два разных момента — особенности
самого опыта, подлежащего трансляции, и проблему
обоснования его эффективности. Именно второй момент
обусловливает трактовку опыта как знания, хотя здесь могут иметь
место разные вещи — собственно обоснование,
представления об объектах, знание причин и других факторов, на
основе которых вырастает опыт, и пр. Сегодня очень редко автор
нового опыта предлагает его без всякого обоснования и об-
1 Аристотель. Метафизика. — С. 20.
2 См.: Розин В. М. Типы и дискурсы... — С. 51—63.
512
суждения, подразумевая «действуй, как я», по образцу.
Конкуренция разных опытов и походов, принципиальные
сомнения в эффективности предлагаемого кем-то опыта (мало
ли что утверждают его адепты в «борьбе за клиента»),
требования научности и обоснованности — все это заставляет
новаторов не только демонстрировать новый опыт, но и
обосновывать его в разных отношениях.
Чтобы понять, что при этом происходит, и получить
характеристики самого опыта, рассмотрим два модельных
примера (модельные они потому, что специально
представлены и реконструированы), а именно «Исповедь» Августина
(ее можно считать одной из первых публичных
демонстраций индивидуального опыта) и раннюю работу Зигмунда
Фрейда «История болезни фрейлейн Элизабет фон Р.». Хотя
«Исповедь» выполнена в духе гуманитарного подхода (так
это выглядит с ретроспективной точки зрения), а
«История...» полностью выполняется в рамках
естественно-научного подхода, в обеих работах их авторы выходят на сходные
представления о человеке (в нем сталкиваются и борются две
противоположные личности); тем не менее окончательные
теоретические трактовки противоположны (Августин
говорит, что человек целостен, а Фрейд, наоборот, утверждает,
что психику человека образуют два противоположных
антагонистических начала — сознание и бессознательное).
Первый пример. «В середине 90-х гг. IV в. Паулин Нолан-
ский обратился к другу Августина Алипию с просьбой
написать о своем личном религиозном опыте, т. е. о своем житии,
тот переадресовал его к Августину, выполнившему и
перевыполнившему просьбу, рассказав и об Алипии, и о себе:
"Исповедь" написана в 397—401 гг. Таким образом, сложился
канон письма, отвечающий не только личным
интеллектуально-душевным потребностям, но и запросам со стороны,
выражающий устремленность не только к Богу, но и к
человеку, которого избрал Бог для сообщаемости. Эта двуосмыс-
пенность выражена и в исповедельном акте как таковом,
согласно которому исповедь — это громкий рассказ о грехах,
13. Заказ №4180
513
которому предшествует обращенность внутрь сознания,
или, как говорил Августин, к внутреннему человеку, молча
думающему»1. Заметим, что Августин перевыполнил задание
не только по объему, он помимо изложения своего
религиозного опыта и пути был вынужден набросать описание нового
человека, обсудить его сущность и отличие от человека
ветхого.
«Исповедь» Августина по многим параметрам может
считаться не только философско-религиозным, но и
эзотерическим текстом. Как правило, эзотерические учения
начинаются с критики существующих форм жизни и культуры как
неподлинных и иллюзорных. И в «Исповеди» немало места
посвящено прямой или косвенной критике языческих форм
жизни и философствования. Впрочем, здесь Августин всего
лишь идет по стопам других христианских мыслителей,
которые начиная со второго века критикуют многобожие,
образ жизни граждан империи, античные представления о
душе человека и сущности мира и т. д.
Другой важный сюжет эзотерических учений — описание
духовного переворота, происходящего с человеком,
который, с одной стороны, осознает невозможность привычного
существования в обычном мире, с другой — выходит на идею
спасения, содержащую веру в существование подлинной
реальности и жизни. Для Августина подлинная реальность —
это христианский Бог, находящийся в напряженных
нравственных отношениях с отдельным человеком. Обнаружению
этой реальности предшествует тяжелая душевная борьба
Августина с самим собой. «О, как желал и я достигнуть этого
счастья, только не по сторонним побуждениям, а по
собственной воле. А воля моя, к несчастью, была в то время не столько
во власти моей, сколько во власти врага моего. <...> Между
тем во мне родилась новая воля — служить Тебе бескорыстно
и наслаждаться Тобою, Боже мой, как единственным
источником истинных наслаждений. Но эта воля была еще так
слаба, что не могла победить той воли, которая уже господст-
1 Неретина С. С. Верующий разум... — С. 126.
514
вовала во мне. <...> Таким образом, две воли боролись во
мне, ветхая и новая, плотская и духовная, и в этой борьбе
раздиралась душа моя. <...> Между тем я, служивший
поприщем борьбы, был один и тот же. <...> По своей же воле дошел
я до того, что делал то, чего не хотелось делать. <...> У меня
не было никаких извинений. Я не мог сказать, что потому
именно доселе не отрешился от мира и последовал Тебе, что
не знаю истины; нет, истину я познал, но, привязанный к
земле, отказывался воинствовать для Тебя. <...> Я одобрял
одно, а следовал другому»1.
Чтобы идти по эзотерическому пути, человек должен
нащупать твердое основание жизни и мышления,
независимое от принятых в культуре, общераспространенных
устоев. В эзотеризме таким основанием обычно выступает
личное бытие эзотерика, однако понятое уже в модусе
подлинного существования. Для Августина — это «внутренний
человек», непосредственно общающийся с Богом. Но как
убедиться, что внутренний человек не является обманом чувств
или воображения Августина, ведь другие мыслители
отрицают подлинную реальность эзотерика, напротив, они
утверждают, что существует нечто другое? Ответ эзотерика таков:
критерий достоверности и истиности в моем
существовании, в очевидности той подлинной реальности, которую я
обретаю. Августин говорит: как я могу сомневаться в
существовании Бога, если все мое существование подтверждает это,
если я с Богом оказываюсь прямо в раю (т. е. в подлинной
реальности). Обретя в своей личности и подлинной реальности
твердое основание, эзотерик начинает сложную двойную
работу: с одной стороны, он познает приоткрывшуюся ему
подлинную реальность, с другой — меняет, переделывает
себя в направлении, позволяющем ему в конце концов
попасть в эту реальность.
Мои исследования эзотерических учений показывают,
что устройство подлинной реальности эзотерика отвечает
его идеалам и личности, другими словами, мы можем ска-
АвгустинА. Указ. соч. — С. 103—108.
33*
515
зать, что, попадая в подлинную реальность, эзотерик «летит
в самого себя» или, если осмыслять этот процесс
рационально, что в форме эзотерических переживаний и познания он
рефлексирует свою личность. Но одновременно в форме
рефлексии своей личности эзотерик познает и окружающий
его мир.
Все эти моменты можно проследить и в творчестве
Августина. Действительно, он познает не только Бога, но и
посредством Бога свою душу; познавая себя, Августин
одновременно узнает, как устроен Бог и его творения. Мы
начинаем понимать, почему вообще Августин считает
возможным изучение Творца, а также почему изучение реальности в
трудах Августина все время перетекает в изучение себя
(души) и наоборот. Например, обсуждая, как Бог из ничего
создал мир, Августин уподобляет акт божественного
творения акту собственной мысли, в результате ему удается
понять, как Творец мог реализовать свой замысел (ведь в ходе
мышления в нашем сознании рождаются целые миры).
Обсуждая природу времени, Августин приходит к мысли, что
время есть не что иное, как «растяжение самой души».
«Логика Августина, — пишет Неретина, —
парадоксальна. Она остается такой же и при попытках анализа "ничто".
Для Августина очевидно, что не было ничего, из чего Бог мог
создать мир. <...> Богесть Мысль, Мысль же, как мы видели,
всегда связана с направлением внимания на нечто и в
соответствии с настоящим. <...> "Ничто" — это не Бог, и не
сотворенное "почти ничто", т. е. небо и земля, а невидимо
лежащее между ними; прыжок мысли, мгновенно
претворяющейся в дело, что и есть собственно Начало, которое
Августин отождествляет с мудростью»1.
И еще одно наблюдение подтверждает эзотерический
характер усилий Августина. Эзотерик постоянно вынужден
констатировать противоречия между своими идеальными
устремлениями и реальными желаниями и привычками (по
идее, он всегда должен решительно становиться на сторону
1 Неретина С. С. Верующий разум... — С. 145—146.
516
первых, однако не всегда это получается). Так, Августин,
рассказывая о том, как он пришел к вере, вспоминает, что
его душа отказывалась подчиняться самой себе, но это, по
мнению Августина, не означает, что в человеке есть две
разные души — добрая и злая. «Я одобрял одно, — сетует
Августин, — а следовал другому. <...> Тело охотнее подчинялось
душе, нежели душа сама себе в исполнении высшей воли
своей, в одной и той же субстанции моей, тогда как,
казалось, достаточно было бы одного хотения для того, чтобы
воля привела его в действие. <...> Но да исчезнут от лица
Твоего, Боже... те, которые, видя две воли в борьбе духа
нашего, утверждают, что в нем существуют два духовных
начала противоположного естества, одно доброе, а другое злое.
Питая такие нечестивые мысли, они сами признают себя
злыми; между тем могли бы быть добрыми, если бы
отказались от этих мыслей»1.
Из какой позиции Августин описывает свою историю и
биографию? С одной стороны, он вспоминает и
пересказывает собственные переживания и мысли, которые его
волновали в прошлом, когда он еще не был верующим. Эта
позиция может быть названа «заимствованной». С другой
стороны, Августин все происходившие с ним события излагает как
человек, уже уверовавший в Бога, хотя известно, что к
христианству он приходит не сразу и не скоро. Совмещение этих
двух позиций — заимствованной и как бы объективной
порождает странную реальность: события детерминируются
страстями и неверующей личностью, и одновременно здесь
просматривается замысел Божий, Августин вроде бы
действует сам, и вроде бы его ведет Бог. Если понимать все в
рамках обычного времени, то получается, что у Августина есть
возможность глядеть на себя прошлого из вечности.
Второй пример. На первом этапе своего творчества в
период совместной работы с Брейером 3. Фрейд в основном
действует как терапевт, т. е. пробует различные методы лече-
ния, наблюдает за поведением пациентов, пытается понять
1 Августин А. Указ. соч. — С. 109.
517
причины болезни. Его деятельность представляет собой
своего рода искусство (в античном понимании): он ищет и
открывает эффективные приемы лечения. При этом Фрейд
получает знания и онтологические представления,
позволяющие ему понять и оправдать открытые им совместно с
Брейером способы и приемы лечения (они сводились к
гипнозу и провоцированию больного в этом состоянии на
осознание свои травматических переживаний). В ходе подобных
поисков Фрейд фиксирует связь болезненных состояний
пациента с его высказываниями в состоянии гипноза и видит,
что если эти высказывания вызвать, то наступает частичное
или полное излечение больного1.
К этому периоду работы Фрейда и относится «История
болезни фрейлейн Элизабет фон Р.»; здесь Фрейд еще
не пришел к своей известной схеме инстанций психики
(сознание, бессознательное, предсознательное) и действует
поэтому более сообразно природе человеческой психики и
самой идее психологической помощи.
«Осенью 1892 г., — пишет Фрейд, — один коллега
попросил меня обследовать некую молодую даму, которая уже
более двух лет жаловалась на боли в ногах и плохо ходила.
Он добавил также, что считает этот случай истерией, хотя и
не обнаружил обычных признаков невроза. Он сказал, что
ему знакома эта семья и ему известно, что последние годы
принесли ей много горестей и мало радости. Сначала умер
отец пациентки, затем ее мать перенесла серьезную
операцию на глазах, а вскоре ее замужняя сестра умерла после
родов от застарелой болезни сердца. Во всех этих бедах
большая часть забот по уходу за больными легла на плечи нашей
пациентки»2.
Фрейд предложил пациентке попробовать применить ка-
тартический метод Брейера, предполагавший, во-первых,
выявление ситуации, которая в прошлом привела к психиче-
ской травме, во-вторых, отреагирование аффектов, связан-
1 Фрейд 3. Лекции по введению в психоанализ. — М., 1923.
2 Фрейд 3. История болезни фрейлейн Элизабет фон Р. // Московский
психологический журнал. — 1992. — № 1. — С. 72.
518
ных с переживанием этой ситуации. «Когда начинаешь, —
говорит Фрейд, — проводить катартическое лечение
подобного рода, сразу же возникает вопрос: известно ли пациенту
происхождение и причина его недуга? Если да, то тут не
требуется какой-либо определенной техники, чтобы уговорить
его воспроизвести историю болезни; интерес, который вы к
нему проявляете, понимание, которое вы даете ему
почувствовать, надежда на выздоровление, которую вы ему дарите,
побудят пациента раскрыть свою тайну. В случае фрейлейн
Элизабет с самого начала у меня возникло впечатление, что
она знает о причинах своего недуга, т. е. в сознании она
имеет лишь тайну, но не инородное тело. При взгляде на нее
вспоминались слова поэта: "Маска выдает скрытый
смысл". <...>
В процессе этого первого полного анализа истерии,
предпринятого мною, я нашел прием, который позже поднял на
уровень метода и применял целенаправленно. Это метод
расчистки пластов патогенного психического материала,
который мы охотно сравнили бы с техникой раскопок древнего
города. Сначала я выслушал то, что было известно
пациентке, тщательно отмечая при этом моменты, где взаимосвязь
осталась загадочной, где не хватало одного из звеньев в цепи
причин, а затем внедрялся в более глубокие слои
воспоминаний, применяя в некоторых случаях исследование под
гипнозом или какую-нибудь из подобных техник.
Предпосылкой всей работы являлось, конечно, ожидание того, что мы
полностью поймем, что и чем детерминировано; о средствах
глубинного исследования речь пойдет дальше»1.
Работая таким способом, Фрейд смог понять общий
контекст жизни своей пациентки, но не приблизился к
уяснению причинной связи между исходной ситуацией,
вызвавшей нарушение психики, и известными симптомами ее
заболевания. Поэтому, говорит Фрейд, «я решил поставить
перед "расширенным сознанием" пациентки прямой вопрос о
том, с каким психическим впечатлением впервые было свя-
1 Фрейд 3. История болезни... — № 1. — С. 76—77.
519
зано возникновение болевых ощущений в ногах. Ее ответы
привели к выявлению ситуации, связанной с конфликтом
двух противоположных чувств — долга перед больным отцом
и желания, в то время как она ухаживает за больным,
встречаться с молодым человеком. Разбор этой ситуации, пишет
Фрейд, привел к тому, что состояние Элизабет фон Р. явно
улучшилось.
"Но, — продолжает Фрейд, — боли не исчезли и
возникали время от времени с прежней силой. Неполный успех
лечения соответствовал незавершенности анализа; я все еще
не знал точно, с каким моментом и с каким механизмом
связано их происхождение. <...> В процессе воспроизведения
самых разных эпизодов во втором периоде лечения и в
результате наблюдения за нежеланием пациентки рассказать о
них у меня возникло определенное подозрение; однако я не
решался действовать на его основе. Дело решил случай.
Однажды во время работы с пациенткой я услыхал в соседней
комнате мужские шаги и приятный голос задал какой-то
вопрос. Вслед за этим моя пациентка поднялась, прося меня
прекратить работу на сегодня: она услыхала, что пришел ее
зять и спрашивает ее. Вплоть до этого момента она не
испытывала никакой боли, но после того, как нам помешали,
лицо и походка выдали, что неожиданно появились сильные
боли. Мое подозрение усилилось, и я решился наконец
ускорить окончательное объяснение. <...>
Все говорило о том, что дело обстояло именно так, а
не иначе. Девушка подарила зятю свое нежное чувство,
осознанию которого противилась вся ее моральная сущность.
Ей было нужно избежать осознания невыносимой истины,
состоявшей в том, что она любит мужа своей сестры, и с этой
целью она причинила себе физическую боль. В те
мгновения, когда эта истина становилась очевидной для ее
сознания: во время прогулок с ним, утренних фантазий, купания в
ванне, перед постелью умирающей сестры — и появлялись
боли как результат удавшейся конверсии в соматическую
сферу. К тому моменту, когда я начал лечение, комплекс
520
представлений, связанных с охватившим ее чувством, был
уже вполне изолирован от ее сознания. Я думаю, что в
противном случае она никогда не согласилась бы на такое
лечение; сопротивление, которое она неоднократно
демонстрировала, противясь воспроизведению сцен, непосредственно
связанных с травмой, в действительности соответствовало
энергии, затраченной на вытеснение невыносимого
представления из ассоциативной связи.
Однако для терапевта теперь настали тяжелые времена.
Эффект возвращения в сознание вытесненного
представления оказался ошеломляющим для бедной девушки. "Итак,
вы были давно влюблены в своего зятя", — сухо сказал я.
Элизабет громко вскрикнула и сразу же пожаловалась на
страшные боли. Она сделала еще одну отчаянную попытку
избежать объяснения: мол, это неправда, это я ей внушил,
этого не могло быть, на такую подлость она не способна,
этого бы она себе никогда не простила. Было совсем нетрудно
доказать ей, что ее собственные высказывания не допускали
иного толкования; но сопротивление продолжалось
достаточно долго, до тех пор пока два моих утешительных
довода — что, дескать, нельзя отвечать за свои чувства и что само
ее заболевание является убедительным свидетельством ее
моральной чистоты — ни возымели на нее должного
эффекта.
Теперь я должен был искать разнообразные способы для
того, чтобы успокоить пациентку. Прежде всего, я хотел дать
ей возможность путем отреагирования избавиться от
накопившегося за длительное время возбуждения. Мы
исследовали ее первые впечатления от знакомства с зятем, пути
зарождения неосознанного чувства влюбленности. Здесь и
обнаружились все мелкие события, которые, если оглянуться
назад, и были предвестниками вполне зрелой страсти»1.
Двигаясь по нащупанному пути, т. е. давая больной вспомнить,
осознать и пережить подавленную любовь к зятю, Фрейд по-
1 Фрейд 3. История болезни... — № 1. — С. 93—96; № 2. — С. 59—60.
521
степенно добился практически полного излечения своей
пациентки.
Как Фрейд понимает, что такое «травматическая»
ситуация? С его точки зрения — это конфликт неосознанных и не-
отреагированных противоположных чувств (обычно таких,
как любовь к близкому человеку и переживание долга,
ответственности и т. д.), приводящих, как пишет Фрейд, к
изоляции «невыносимых представлений». «Но как могло
произойти, — спрашивает Фрейд, — что столь аффективно
насыщенная группа представлений оказалась такой
изолированной? Обычно ведь чем больше величина аффекта, тем более
значительную роль играет представление, связанное с этим
аффектом, в ассоциативном процессе. На этот вопрос
можно ответить, приняв во внимание два факта, о которых мы
можем судить с полной уверенностью, а именно: 1)
одновременно с формированием этой изолированной группы
представлений возникали истерические боли и 2) пациентка
оказывала сильное сопротивление любой попытке установить
связь между этой изолированной группой и другими
содержательными компонентами сознания; когда же наконец
удалось эту связь установить, она испытала сильную
душевную боль. <...> Сознание не может предугадать, когда
именно возникнет невыносимое представление. Невыносимое
представление исключается и образует изолированную
психическую группу вместе со всем, что с ним связано. <...>
Но первоначально оно должно было быть представлено в
сознании, входя в основной поток мыслей, иначе не возник бы
конфликт, являющийся причиной такого исключения.
Именно эти моменты мы считаем "травматическими";
именно тогда осуществляется конверсия, результаты
которой — расщепление сознания и истерический симптом»1.
Здесь же Фрейд описывает феномен «сопротивления»,
т. е. нежелание пациентов вспоминать или осознавать сцены
и конфликты, приведшие к психической травме. Углубляя
понимание того, что происходило при этом с человеком,
1 Фрейд 3. История болезни... — № 2. — С. 64—65, 69, 71.
522
Фрейд рисует такую картину. Если «подавленный»
(«защемленный», «противоположный») аффект не находит
нормального, естественного выхода (не может быть реализован),
происходит его задержка, ведущая к «источникам
постоянного возбуждения» или «перемещению в необычные
телесные инервации» (соматические поражения). Подобные
состояния психики, когда нарушаются условия нормального
выхода аффектов и происходит их задержка, защемление,
Фрейд называет «гипноидными» состояниями души,
поскольку человек ничего не знает об истинных источниках
защемления и травмы. Осознание больным собственных
травматических переживаний (катарсис) рассматривается в
данном случае как сила, высвобождающая «подавленные»,
«защемленные» аффекты.
Представления и знания, которые формулирует Фрейд,
формировались под действием по меньшей мере двух
факторов: реализации физикалистских ценностей и философ-
ско-психологических установок. В физикалистской
онтологии центральной выступила идея «взаимодействия»:
полагались два самостоятельных объекта (два «аффекта»,
«переживания», две «душевные группировки») и силы
взаимодействия, действующие между ними («сопротивление»,
«оттеснение»). В философско-психологической онтологии каждый
из этих объектов (душевных группировок) трактовался как
вторая и третья самостоятельные «личности» в человеке;
соответственно силы взаимодействия переосмыслялись как
«конфликт» двух личностей, «забывание», сопротивление
одной из них.
«Благодаря изучению гипнотических явлений, — пишет
Фрейд, — мы привыкли к тому пониманию, которое сначала
казалось нам крайне чуждым, а именно, что в одном и том же
индивидууме возможно несколько душевных группировок,
которые могут существовать в одном индивидууме довольно
независимо друг от друга, могут ничего не знать друг о друге
и которые, изменяя сознание, отрываются одна от другой.
Если при таком расщеплении личности сознание постоянно
523
присуще одной из личностей, то эту последнюю называют
сознательным душевным состоянием, а отделенную от нее
личность — бессознательным... мы имеем прекрасный
пример того влияния, которое сознательное состояние может
испытать со стороны бессознательного»1.
Это высказывание Фрейда — удивительный образец
мышления: здесь «склеиваются», эклектически
переплетаются физикалистекая и психологическая точки зрения. С
одной стороны, душевные группировки (личности)
понимаются вполне физикалистски (они отрываются
самопроизвольно или под действием сил друг от друга), с другой — эти
личности действуют как самостоятельные субъекты (ничего
не знают друг о друге, «говорят одна другой», «запрещают»,
«обманывают» одна другую). Кроме того, обе эти душевные
группировки (личности) действуют в поле сознания
(«изменяя» его). Не будем забывать еще об одной группе
ценностей — герменевтической, под влиянием которой
складывались данные объектные представления и знания. Уже на
этом этапе душевные группировки, или личности, пациента
понимаются Фрейдом как способные к высказыванию,
несущие определенный смысл, содержание, которые и
пытается понять психотерапевт.
В целом знания и объектные представления, полученные
Фрейдом на этом этапе, можно назвать
«психотехническими»: они были добыты в результате объективации и
схематизации психотерапевтических процедур, нащупанных
Фрейдом при общении со своими пациентами; подобные
психотехнические схемы и знания позволяли осмыслить и
объяснить как проявления психической деятельности больного,
так и то, почему помогает гипноз или метод «свободных
ассоциаций». Хотя «строительный материал» и «конструкции»
брались Фрейдом из научных онтологии (метаязыков
физики, биологии, психологии), план сборки подобных
психотехнических схем и сами отношения (эмпирические знания)
были получены в ходе объективации и схематизации психо-
1 Фрейд 3. Лекции по введению... — С. 17.
524
терапевтической практики. Важно, что она включала в себя
не только эмпирически наблюдаемые отношения (феномен
сопротивления, связь гипноза или метода «свободных
ассоциаций» с изменением состояния пациента и т. д.), но и
различные высказывания пациента, которые нужно было
понять психотерапевту. В то же время психотехнические схемы
и знания были получены не только при обработке
отношений, наблюдаемых в психотерапевтической практике, но и
априорно, исходя из физикалистской и психологической
онтологии.
На следующем этапе Фрейд, опираясь на
психотехнические схемы и знания, строит известную схему психики,
содержащую три инстанции (сознательную, предсознательную
и бессознательную). Эта схема уже, несомненно, является
идеальным объектом: она оторвана от эмпирического
материала и отнесена к особой действительности — психике
человека как таковой. И элементы (инстанции) психики, и их
связи (конфликт сознательного и бессознательного,
отношение вытеснения, а также выход вытесненных структур в
сознание) являются конструктивными. Хотя в них
отображены, описаны особенности психотехнических схем и
знаний, полученных на первом этапе, тем не менее схема
инстанций психики именно сконструирована, построена как
механизм (сравни с механизмом взаимодействия падающего
тела и среды в работах Галилея) и, что существенно, отнесена
к особой действительности. Природа такой
действительности непроста: это природа биологических и психических сил
и закономерностей (сексуальная природа бессознательного,
сознание и т. д.), природа культуры (конфликт человека и
общества, цензура сознания над бессознательным с
помощью предсознательной инстанции), природа,
напоминающая физическую (энергетическая основа сексуальных сил,
взаимодействие сознательного и бессознательного, силы
вытеснения, движение бессознательных структур).
Перейдем теперь к анализу этих модельных примеров.
525
Если рассматривать их как описание опыта (ведь можно и
иначе), то описанные события нужно отнести к реальности,
связанной в одном случае с Августином, в другом — с
Зигмундом Фрейдом. Эта реальность предполагает целостное
представление и искусственную модальность — опыт
складывается не сам собой, а предполагает усилия человека;
конкретно — желание Августина обрести веру, борьбу с самим
собой и пр., аналогично работу Фрейда, направленную на то,
чтобы помочь Элизабет, осмысление происходящего и т. д.
Однако опыт — это и то, что возникает само собой, т. е.
естественный феномен. Так, отклонение Августина от истинного
пути обретения христианской веры, сопротивление
собственным устремлениям — пример естественного плана в
опыте; соответственно сопротивление Элизабет или согласие ее
с предложенным объяснением заболевания после
утешительных доводов — тот же план.
Нетрудно заметить, что описание опыта обязательно
предполагает концептуализацию, т. е. осмысление имеющих
место событий в определенном языке, с точки зрения
определенной позиции. Действительно, Августин описывает
свой путь к христианству, во-первых, как человек, уже
поверивший в Творца, во-вторых, с точки зрения человека,
не чуждого и рационального мышления (известно, что к
христианству приходили не только простые люди, но и
античные философы; Августин как раз и был ритором и
философом). Так, сначала Августин как философ подвергал
критическому анализу христианское учение, находя в нем одни
противоречия и суеверия вроде многочисленных чудес,
приписываемых Богу или Христу. Но и отмахнуться от
христианского учения Августин не мог. Истовой христианкой была
любимая мать Августина, к христианству приходили многие
окружающие его люди и друзья. Будучи человеком,
внимательным к реальности и социальным отношениям, Августин
не мог не задуматься над этим явлением. И не просто
задуматься, он стал внимательно читать тексты Священного
Писания и обратился с вопросами к людям, сведущим в христи-
526
анском учении, чтобы они разъяснили ему его недоумения.
Это позволило Августину начать сближать свою позицию с
христианской.
При этом Августин проделал две важные работы.
Во-первых, с помощью знатоков христианского учения он уяснил,
что тексты Священного Писания нельзя понимать
буквально, иначе, действительно, будут одни противоречия и
несуразицы, эти тексты надо понимать иносказательно,
аллегорически и символически. Во-вторых, Августин
последовательно переосмысливает идею христианского Бога. Сначала
он уходит от антропоморфного понимания Творца. Затем
Августин пытается представить Бога в виде тонкого эфира
или пространства, пронизывающего все вещи, все. Но и при
таком понимании остаются противоречия. Тогда Августин
делает решающий шаг, представляя Бога в виде истины и
условия творения. В этом случае Бог везде и нигде, он не
антропоморфен, обеспечивает правильное понимание мира,
природы и человека как их Творец и истина. Таким образом,
рефлексируя свой опыт, Августин реализует сразу две
позиции — рационального мышления и верующего человека.
Фрейд описывает свою работу и опыт прежде всего с
позиций естественно-научного объяснения: он ищет
однозначные причины заболевания Элизабет и прибегает к
рациональным представлениям, главными из которых
являются физикалистски истолкованные идеи борьбы
противоположных влечений, расщепления личности и сознания,
выпадения одной из областей сознания из общего поля,
возможности снова ввести эту область в сознание за счет осознания
и отреагирования. Стоит обратить внимание и на такой
момент.
Концептуализация вносит в события, берущиеся в
качестве материала и основы опыта, новые связи и отношения,
создает новые реалии. Например, все происходившие с ним
события Августин переосмысляет и структурирует исходя из
идеи связи человека с Богом, который долгое время может
не осознаваться, но от этого его участие в жизни не менее
527
значимо. К шестнадцатилетнему возрасту, когда Августин
еще не помышлял ни о какой вере, а мечтал об успехе и
женщинах, относится, например, следующее его воспоминание:
«И я осмеливаюсь говорить, что Ты молчал, Господи, когда я
уходил от Тебя! Разве так молчат?! Кому, как не Тебе,
принадлежали слова, которые через мою мать, верную служанку
Твою, твердил Ты мне в уши»1.
И Фрейд, концептуализируя свой опыт, привносит в
материал новые связи и отношения. Так, он истолковывает
сопротивление Элизабет с помощью схемы, где введение в
общее поле сознания изолированной области сознания
(второй, так сказать, бессознательной личности) предполагает
преодоление сил и энергии, затраченных на процесс
изоляции. Понятно, что при другой концептуализации, например
по К. Роджерсу, сопротивление могло быть истолковано
совершенно иначе, например, как отказ принимать
неправильную интерпретацию (кстати, именно такова и была
первая реакция Элизабет) или как нежелание восстанавливать
целостность опыта личности или обсуждать с чужим
человеком личные проблемы.
Но вот почему Августин и Фрейд, выйдя на сходную
антропологическую картину (двух антагонистических
личностей в одном человеке), затем кардинально расходятся
(первый говорит: пусть сгинут «те, которые, видя две воли в
борьбе духа нашего, утверждают, что в нем существуют два
духовных начала противоположного естества, одно доброе, а
другое злое», а второй утверждает, что «в одном и том же
индивидууме возможно несколько душевных группировок,
которые могут существовать в одном индивидууме довольно
независимо друг от друга, могут ничего не знать друг о друге и
которые, изменяя сознание, отрываются одна от другой»;
известно, что сознание и бессознательное Фрейд трактует как
антагонистические силы и начала)?
А потому, что Августин и Фрейд имеют разные ценности
(первый доверяет доброму началу в человеке, а второй нет) и,
1 Августин А. Указ. соч. — С. 24.
528
кроме того, включены в разную «индивидуальную
практику». Если Августин погружен в среду, где многие приходят к
христианству (его мать, друзья, различные люди), и поэтому
Августин тоже стремится поверить и снова и снова собирает
силы, когда терпит неудачу на этом пути, то Фрейд прежде
всего старается реализовать свои принципы и как сильная
личность преодолевает сопротивление Элизабет, внушая ей
свою версию ее заболевания; параллельно он смог
осмыслить это сопротивление в естественно-научном ключе. В
результате Августин, обосновывая и осмысляя свою работу,
настаивает на том, что человек целостен и изначально
духовен (Бог всегда с ним и готов ему помочь), а отклонения на
пути к вере — это временные ослабления его усилий и
личности; в то же время Фрейд, осмысляя и оправдывая свою
индивидуальную практику, утверждает, что в самой природе
человека заложен конфликт и расщепление личности.
Таким образом, мне кажется, имеет смысл различать в
опыте два разных плана: собственно опыт и индивидуальную
практику. Если опыт описывает сам «огранщик опыта»
(Августин и Фрейд), концептуализируя имевшие место события,
то индивидуальную практику описывает не столько
огранщик опыта (но частично и он), сколько исследователь (в
данном случае я, Вадим Розин). При этом я решаю задачи,
отличные от тех, которые стремились разрешить огранщики
опыта: они хотели транслировать свой опыт в культуре и
обосновать его как эффективный, а я обсуждаю, что такое опыт и
как его транслируют в культуре.
Здесь можно спросить, при чем здесь Вадим Розин, зачем
он влезает в понятие «опыт»? А затем, что, на мой взгляд,
не существует абстрактного и одного на всех понятия
«опыт». Создавая здесь и сейчас это понятие, я сам занимаю
вполне определенную позицию, определенным образом
концептуализирую материал, сам включен в определенную
индивидуальную практику. В частности, меня как
культуролога интересуют внешние объективные условия,
определяющие опыт, как психолога — установки и позиция личности
34. Заказ №4180
529
(огранщика опыта), как методолога — процедуры,
создающие опыт и т. д. Соответственно в опыте я начинаю
различать процедуры концептуализации, позицию огранщика
опыта, индивидуальную практику. Нетрудно сообразить, что
другой исследователь осмыслит опыт иначе.
Рассмотрим теперь судьбу опытов Августина и Фрейда.
«Исповедь», безусловно, повлияла на своих современников
и мыслителей последующих эпох. Однако никто из них, за
исключением Ж.-Ж. Руссо и Л. Н. Толстого, не рискнул
написать своей исповеди. Сравнение же этих двух «Исповедей»
с произведением Августина показывает, что хотя во всех трех
текстах есть откровенный рассказ о своей жизни и
переживаниях, тем не менее это три разных опыта. В этом отношении
можно сказать, что Августин не передал Руссо и Толстому
свой исповедальный опыт, а инициировал их собственное
творчество, в контексте которого возникли два новых
уникальных опыта. Зато «Исповедь» Августина сыграла
большую роль своей концептуализацией. Представления о
внутреннем человеке, о связи человека с Богом, о том, как
понимать Творца, путь к Нему человека, время, память,
мышление и многое другое, были продуманы средневековыми
мыслителями и вошли в культуру. Сходная история и с опытом
Фрейда.
От раннего Фрейда классический психоанализ
отличается наличием развитой теории. Сначала Фрейд построил
схему психики, содержащей три инстанции — сознательное,
предсознательное (цензура), бессознательное, ввел понятия
сопротивления, вытеснения, либидо, развил идею о
комплексе Эдипа. Позднее он вводит вторую схему — «сверх-Я»,
«Я», «Оно», намечает этапы сексуального развития человека,
распространяет свои теоретические представления на
различные интересующие исследователя и практика случаи, и
не только психологические. Другими словами, он строит
полноценную теорию, содержащую онтологию, т. е.
категориально представленную область объектов теории.
530
С этого момента меняется и практика психоанализа.
Главным теперь становится не эмпирический поиск
травматических ситуаций; а они могли быть самыми разными, и
никогда до конца нельзя быть уверенным, что они собой
представляют и в каких областях человеческой
жизнедеятельности и переживаний их следовало искать. Оформление
теории психоанализа позволило четко определить области
жизнедеятельности и переживаний, ответственные за
конфликты и психические травмы. Это были взаимоотношения
либидо с нравственными и культурными требованиями,
причем тип возможных конфликтов тоже был четко
зафиксирован; он задавался комплексами Эдипа и Электры, а
также закономерностями сексуального развития человека.
(В свою очередь, здесь теория имела свои варианты или
сценарии: нормальное развитие либидо и развитие либидо,
происходящее в измененных социальных или культурных
условиях; в последнем случае различались еще два варианта —
психическое заболевание и сублимация в творчестве.)
Психоанализ становится не поиском на ощупь любых
возможных конфликтов и проблем, которые могли иметь
место у пациента как в отдаленном детстве, так и в любом
другом периоде его жизни, а, по сути, подведением
индивидуального случая под четкую онтологию психоаналитической
теории. Общее видение индивидуального случая,
обеспечивающее подобное подведение или интерпретацию, задает
психоаналитическая теория, в которой описано строение
психики. Но что означает «подвести человека под онтологию
теории»? Сначала это открытое, затем замаскированное и
неосознаваемое внушение. Известно, что с начала XX столетия
психологи все больше отходят от использования техники
прямого внушения. Здесь была не одна причина, но,
пожалуй, две главные — желание реализовать психологические
представления (теории) и избежать обвинений в том, что
психолог навязывает клиенту свои субъективные
представления.
34*
531
«Видимо, не случайно, — пишет Сосланд, — история
психотерапии началась с гипноза. Главным содержанием
гипноза является основательная транстерминационная
процедура (т. е. процедура, направленная на изменение состояния
сознания пациента. — В. Р.)... транстерминационная
терапия — классический гипноз — подверглась самому
энергичному вытеснению из поля психотерапевтического
сообщества. Решающую роль, как известно, здесь сыграл
психоанализ, где транстерминация оказалась так замаскированной,
что ее мало кто мог обнаружить. <...> Не составляет труда
выделить две основные транстерминационные стратегии:
манифестную и латентную. Манифестная осуществляется в
рамках явной, форсированной процедуры, как в гипнозе,
например, или же в пневмокатартической технике,
принятой в трансперсональной терапии С. Грофа. Латентная же
стратегия принята в школах, внешне как бы отказавшихся от
явного использования в работе целенаправленных усилий,
которые совершаются с целью навести измененные
состояния сознания, скажем, в том же психоанализе. Мы, однако,
стоим на том, что полностью этот элемент
психотерапевтического действия никогда ни из какой практики не исчезает
бесследно, а только переходит в иное, как уже сказано,
латентное состояние. <...> Принцип невмешательства,
введенный в терапевтический обиход, создает иллюзию
минимального участия терапевта...»1
Вопрос же о реальности самого этого психического
феномена непростой. Дело в том, что многие пациенты
психоаналитиков сами настроены на подобные внушения и
психоаналитические интерпретации, правда, не без помощи
соответствующей пропаганды психоанализа и практики, в которую
их погружают. Поэтому они легко вспоминают у себя,
естественно, после соответствующей помощи и работы с
психоаналитиком события, хорошо укладывающиеся в
психоаналитике^ Психоанализ погружает своих
1 Сослано А. Фундаментальная структура психотерапевтического метода, или Как
создать свою школу в психотерапии. — М., 1999. — С. 233, 234, 258.
532
пациентов в реальность, где, например, ревность к матери и
конфликт с отцом есть закономерный результат принятия
данной реальности.
Но ситуация еще сложнее: дело в том, что ряд людей, но,
естественно, не все, действительно, склонны к принятию
реальности, конфликтной по отношению к других людям, в
том числе и самым близким. Именно поэтому их и
привлекает психоанализ: он подтверждает их ожидания в отношении
других людей, он дает им возможность адекватно себя
реализовать. Адекватно, т. е. соответственно направлению их
личности: направленности на конфликт, на научное
объяснение, на такую психологическую помощь, которая
основывается на научном знании психики. Другими словами,
психоанализ погружает пациента в родственную привлекательную
реальность, т. е. сообразную его природе — ценностям,
жизненному опыту, представлениям о психологической
помощи.
В этом, очевидно, и состоит реальное культурное
значение психоанализа, и не только психоанализа, но и многих
других направлений психологической практики.
Психоанализ позволяет пациенту обрести мир, родственный его душе,
привлекательный во всех отношениях, позволяющий ему
понять и что с ним, и что ему делать. Другое дело, что с точки
зрения объективного анализа реальное неблагополучие
пациента может не снижаться в результате
психоаналитической помощи, но даже и возрасти. Но, во-первых, пациент
об этом ничего не знает, напротив, он думает, что его
состояние должно улучшаться. Во-вторых, ему с помощью
психоанализа представлена возможность играть в свои любимые
игры: реализовать свои убеждения в отношении других
людей, реализовать такое понимание психологической
помощи, которое он разделяет. А это немало. Ну а если пациент
не разделяет психологические убеждения? Не беда, он
может пойти к другому психологу-практику, который
предложит ему другую реальность, более сообразную его природе.
533
Продумывание этого материала позволяет утверждать
три вещи. Во-первых, действительно, опыт раннего Фрейда
не воспроизводится в психоанализе, но влияние
теоретических построений Фрейда, выросших из концептуализации
его опыта, огромно. Во-вторых, известно, что опыт Фрейда
инициировал другие опыты его учеников и последователей
(например, К. Юнга), мало похожие на фрейдистский.
В-третьих, вероятно, нужно различать индивидуальную и
«социальную практику». Индивидуальная практика — это
аспект опыта индивида, совокупность условий, в которые
включен и вовлечен огранщик опыта и которые частично
обусловливают структуру опыта. Социальная практика,
например психоаналитическая, складывается, с одной
стороны, под влиянием нового опыта, с другой — социальных
требований и условий. К последним относятся процедуры
суггестии, удовлетворения и разрешения запросов и
потребностей социального индивида, институциализация практики,
т. е. превращение ее в социальный институт, что
предполагает обучение, организационные построения и нормирование,
формулирование миссии новой практики и другое1.
Общий вывод звучит так: новый опыт не может быть в
точном смысле этого слова транслирован; зато в культуре
используются его концептуализации, этот опыт инициирует
другие опыты, он выступает одной из предпосылок
формирования новых социальных практик. Возьмем теперь
конкретный педагогический опыт и попробуем с указанных
позиций подойти к его осмыслению и описанию.
Последние четыре года я читаю семестровый курс
введения в философию для студентов философского и
политологического отделения ГУГН. Курс состоит из лекций и
работы в группах. Курс лекций построен следующим образом.
Выбираются четыре базисных философских
произведения: «Пир» Платона, «О душе» Аристотеля, «Исповедь» Ав-
густина, «Вопрос о технике» М. Хайдеггера. Каждое произ-
1 Бержель Ж. Общая теория права. — М., 2000; Марана В. Социокультурный
анализ политико-правового пространства / В. Марача, А. Матюхин // Эдилет. —
Алматы, 1999. -№ 1(5).
534
ведение прочитывается дома студентами. На лекции они
«проблематизируются». К проблематизации относится:
обсуждение непонятных мест, выявление противоречий,
сравнение высказываний комментаторов (подбираются по
возможности противоположные подходы и точки зрения),
постановка собственно проблем. Проблематизация позволяет
поставить вопрос о том, как можно понять, что собой
представляет данное философское произведение, какие идеи
хотел провести его автор. В качестве решения я предлагаю
провести культурно-историческую реконструкцию данного
произведения. При этом формулируются три основные
цели: понять, что собой представляет данное произведение,
познакомиться с образцами философской работы, войти в
реальность философии.
Затем я демонстрирую непосредственно
культурно-историческую реконструкцию произведения. Эта реконструкция
включает в себя, во-первых, анализ социокультурной
ситуации, в контексте которой было создано произведение,
во-вторых, воссоздание целей, задач, методологических
установок и способов решения, которые предположительно
были характерны для автора произведения. Параллельно с
реконструкцией, с одной стороны, идет обсуждение
«рефлексивных содержаний», например, что такое проблема, чем
она отличается от задачи, какую роль выполняет
проблематизация, что такое культурно-историческая реконструкция
и ее отличие от исторического исследования, почему
необходимо реконструировать методологию и мироощущение
автора, создавшего произведение, и т. д. С другой стороны, я
начинаю обсуждение вопроса о сущности философии, путях
ее формирования, фигуре философа.
Групповая работа (в группу входит от двух до четырех
студентов) заключается в написании совместного реферата по
материалам моих двух методологических романов1. Участни-
ки группы должны не пересказывать в реферативной форме
1 Розин В. М. Беседы о реальности и сновидения Марка Вадимова.
Методологический роман. — М., 1998; Он же. Проникновение в мышление. История одного
исследования Марка Вадимова. — М., 2002.
535
содержание романов, а совместно ответить на
поставленные по его поводу вопросы. Примерно следующие: какие
темы обсуждаются в данном романе, как автор понимает,
что такое философия (социальные науки), какие
проблемы вы видите в современном мире и может ли философия
(социальные науки) помочь в их решении. Форму и жанр
реферата студенты определяют сами, она может быть
самой разной (монологическое повествование, диалог,
строго научный дискурс, научно-художественное построение
и пр.).
Чтобы на основе этого материала создать описание
педагогического опыта, нужно, как это следует из
вышеизложенного, оттолкнуться от своей индивидуальной практики,
частично осмыслить ее, артикулировать позицию, из
которой будет этот новый опыт осмыслен, наконец,
осуществить концептуализацию. Индивидуальную практику я уже
частично описал: это чтение лекций, разбиение студентов
на группы, консультирование групп, побуждение к
написанию рефератов. Позиция моя тоже достаточно осознанная,
она включает в себя создание условий для активности и
творчества студентов, методологический подход,
предполагающий рефлексию и конституирование новых
рефлексивных содержаний, ряд образовательных установок,
например, гуманитарную и дидактическую. Так, я стараюсь,
чтобы студенты видели во мне не только педагога, но и
личность со своими пристрастиями и жизненными
проблемами, обязательно стараюсь добиться понимания того
материала, который излагаю. Концептуализацию я бы
осуществил, используя весь спектр своих теоретических и
методологических представлений, но прежде всего задействовал
бы учение о личности и психических реальностях, также
понимание методологии1.
1 Розин В. М. Личность и ее изучение. — М., 2004; Он же. Визуальная культура и
восприятие. Как человек видит и понимает мир. — М., 2004; Он же.
Методология: становление и современное состояние. — М., 2005.
536
10.4. Математическая
и предметно-конструктивная
стратегии конфигурирования
содержаний из разных
предметов при построении
новой научной дисциплины
В настоящее время большинство новых дисциплин
строятся путем конфигурирования (синтеза) представлений и
теоретических построений, заимствованных из разных
научных дисциплин. При этом можно различить две основные
стратегии такого конфигурирования. В одной, назовем ее
«математической», объединение и переосмысление
конфигурируемых содержаний происходит на базе предварительно
или параллельно выстраиваемой математики (как правило,
нетрадиционного типа — системного подхода, синергетики,
семиотики и др.). В другой («предметно-конструктивная»
стратегия) конфигурирование содержаний, заимствованных
из разных предметов, обусловлено, с одной стороны,
методологическими соображениями, с другой — логикой
конструирования предметных содержаний. Первую стратегию я
рассмотрю преимущественно на материале системного
подхода и внутри его идеи И. Канта и Г. П. Щедровицкого (с
привлечением для сравнения и других подходов), а вторую
стратегию — на примере построения Б. Ф. Поршневым
нового (по отношению к существующим теориям) учения
антропогенеза.
***
Что такое системный подход (системные исследования,
системный анализ), какое он занимает место среди
известной типологии наук и форм познания? В Новой
философской энциклопедии системный подход характеризуется так:
537
«...направление философии и методологии науки,
специально-научного познания и социальной практики, в основе
которого лежит исследование объектов как систем...
системный подход — междисциплинарное философско-методоло-
гическое и научное направление исследований... он
выполняет свои эвристические функции, оставаясь
совокупностью познавательных принципов, основной смысл
которых состоит в соответствующей ориентации конкретных
исследований»1. Здесь, намой взгляд, важно понять, что значит
«междисциплинарное» и в каком смысле «эвристика»; эти
номинации, действительно, схватывают что-то
существенное. Интересно и то, что ряд современных направлений
философии и методологии наук, опирающихся на системный
подход, такие как синергетика и когнитология, тоже
осознают себя как междисциплинарные исследования и
эвристики. Вряд ли это случайно. Рассмотрим сначала, где впервые
появляются системные представления.
Они складываются сначала в философии (Э. />. де Кон-
дильяк «Трактат о системах» и //. Кант «Критика чистого
разума»), затем в химии, биологии и социологии. Наиболее
интересна здесь фигура Канта. Одна из центральных задач,
которую решал Кант, — построить философию по образцу
новой науки. Кант не скрывает, что идеал такой науки для
него задают математика и естествознание. Наличие в
идеале новой науки этих двух дисциплин должно было бы вести
к пониманию философии, с одной стороны, как
описывающей «формы мышления» {философия как математика), с
другой — «законы мышления» (философия как
естествознание).
Но Кант утверждает, что трансцендентальная философия
не содержит математических и естественно-научных
способов мышления, а является трансцендентальной («чистой»)
логикой. При этом он понимает чистую логику одновремен-
но как науку и систему правил. Показывая, что «философ-
' Блауберг И. В. Системный подход / И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин, В. H.
Садовский // НФЭ. - Т. 3. - С. 559-560.
538
ское познание есть познание разумом посредством понятий,
а математическое знание есть познание посредством
конструирования понятий», Кант пишет, что следование в
философии математическому методу «не может дать никакой
выгоды», что математика и философия «совершенно отличны
друг от друга и поэтому не могут копировать методы друг
друга»1.
А вот как он характеризует трансцендентальную логику.
Кант пишет, что она «содержит безусловно необходимые
правила мышления, без которых невозможно никакое
применение рассудка, и потому исследует его, не обращая
внимания на различия между предметами, которыми рассудок
может заниматься. <...> Общая, но чистая логика, —
продолжает он, — имеет дело исключительно с априорными
принципами и представляет собой канон рассудка и разума,
однако только в отношении того, что формально в их
применении, тогда как содержание может быть каким угодно. <...>
В этой науке, следовательно, необходимо иметь в виду два
правила. 1. Как общая логика, она отвлекается от всякого
содержания рассудочного познания и от различий между его
предметами, имея дело только с чистой формой мышления.
2. Как чистая логика, она не имеет никаких эмпирических
принципов, стало быть, ничего не заимствует из психологии
(как некоторые хотят этого), которая поэтому не имеет
никакого влияния на канон рассудка. Она есть доказательная
наука, и все для нее должно быть достоверно совершенно a
priori»2.
Итак, чистая логика, по Канту, — это и правила
мышления, и канон рассудка (разума), и наука, и система
априорных принципов, и характеристика чистой формы
мышления. Как это можно понять? Вспомним, что для Канта разум,
с одной стороны, органическое природное целое, с другой —
мышление людей. Если философия рассматривается в
отношении к первой стороне, то она выступает как наука, а ее
основоположения — положения, фиксирующие законы ра-
1 Кант И. Критика чистого разума. — С. 600, 609.
2 Там же. — С. 155—156.
539
зума. Если же ко второй стороне, то философия — это
логика, ее основоположения совпадают с правилами мышления.
Наконец, если философию рассматривать как законодателя
разума, то она есть канон рассудка. В качестве правил
мышления, законов и канона философские основоположения,
действительно, не должны зависеть ни от мыслящих
субъектов, ни от конкретного содержания мысли, т. е. описывают,
как говорит Кант, чистые формы мышления. Однако с
математикой все же не так просто.
Дело в том, что, если Кант понимает философию как
науку, напоминающую естественную (ведь только в этом случае
можно было говорить о вечных и неизменных законах
разума), ему необходимо было иметь или построить что-то вроде
математики, иначе как философ мог связывать знания или
понятия, осуществлять синтез, определять опыт и каким
образом сам Кант конструировал свою трансцендентальную
философию? Естественная наука опирается на математику,
конструкции которой она использует в качестве средств
построения своих понятий, а на что мог опереться Кант, если он
утверждает, что математические методы не могут
применяться в философии? Но и цдя создания правил мышления Канту
необходим был какой-то конструктивный язык, вспомним
хотя бы «Аналитики» Аристотеля (ддя описания своих правил
последний вводит такие понятия, как «посылка», «термин»,
«силлогизм», «отношение включения» и другие, кстати,
независимые от содержания конкретных суждений).
Заметим, в «Критике чистого разума» есть особый слой
терминов и понятий, который мы сегодня относим к
структурно-системному мышлению. Так, Кант широко
использует понятия «функция» (функции рассудка), «система»,
«систематическое единство», «целое», «анализ и синтез», «связь»,
«обусловленность». Вот пример: «Рассматривая все наши
рассудочные знания во всем их объеме, — пишет Кант, — мы
находим, что то, чем разум совершенно особо располагает и
что он стремится осуществить, — это систематичность
познания, т. е. связь знаний согласно одному принципу. Это
540
единство разума всегда предполагает идею, а именно идею о
форме знания как целого, которое предшествует
определенному знанию частей и содержит в себе условия для
априорного места всякой части и отношения ее к другим частям»1.
Мысль и рассуждения Канта движутся одновременно в
двух плоскостях: плоскости представлений о разуме (это есть
целое, все части и органы которого имеют определенное
назначение и взаимосвязаны) и плоскости единиц (знаний,
понятий, категорий, идей, принципов и т. п.), из которых Кант
создает здание чистого разума. При этом каждая единица
второй плоскости получает свое отображение на первой, что
позволяет приписать ей новые характеристики,
обеспечивающие нужную организацию всех единиц построения.
Именно структурно-системные представления позволяют
осуществить подобное отображение и по-новому (системно)
охарактеризовать все единицы построения.
В философии Канта системно-структурные
представления могут быть отнесены к априорным основоположениям.
С современной же точки зрения, по функции
употребления — это особого рода математика, ее можно назвать
«методологической». Действительно, понятия системы, функции,
связи, целого, обусловленности, синтеза, анализа
конструктивны и не зависят в философии Канта от содержания
собственно философских понятий, т. е. используются для
схематизации и конструктивизации рассматриваемого Кантом
эмпирического материала. Таким образом, Кант все же
создал первый образец своеобразной «математики». При этом
он отрефлексировал собственную работу и конструктивизи-
ровал ее в понятиях системно-структурного языка.
Поскольку этот язык Кант использовал в собственных построениях,
никаких особенных проблем здесь не возникало.
Чтобы лучше понять наше утверждение, необходимо
учесть, что математика — это не только, как пишет Кант,
познание посредством «конструирования понятий», но и
познание явлений, опосредованное математическим язы-
1 Кант И. Критика чистого разума. — С. 553—554.
541
ком. Реконструкция происхождения математики
показывает, что оперативность математических конструкций
связана, во-первых, с тем, что идеальные объекты математики
строятся так, чтобы снять в своем строении отношения и
характеристики некоторой исходной предметной области
(например, геометрические фигуры снимают в своем
строении отношения, которые были установлены в практике
земледелия: определение площадей полей, раздел и
соединение полей, определение одних элементов полей, если
известны другие), во-вторых, с тем, что нащупываются
(задаются) самостоятельные операции с идеальными объектами
математики (эти операции, как правило, отличаются от
действий, направленных на исходные объекты, но могут их
имитировать, например, наложение геометрических фигур
друг на друга имитирует сравнение полей по величине
площадей).
Проведенная нами на материале геометрии, алгебры и
математического анализа реконструкция показывает, что
становление математики проходит три основных этапа1.
На первом отношения и характеристики определенной
предметной области переводятся в характеристики и
строение соответствующих математических (идеальных)
объектов. На втором этапе вырабатываются процедуры
построения одних математических объектов на основе других, а
также их теоретического изучения. Такое изучение позволяет
получать все новые и новые характеристики математических
объектов, однако, что принципиально, не выходящие за круг
заданных конструктивных отношений. На третьем этапе
построенные и изученные математические объекты начинают
использоваться в других областях познания, причем
идеальным объектам этих областей приписываются отношения и
характеристики, заимствованные из соответствующих
математических языков. Обновление и развитие характеристик и
отношений исходной области математических объектов, ко-
нечно, периодически происходит, но, как следует из работ
1 Розин В. М. Типы и дискурсы научного мышления. — М., 2000.
542
И. Лакатоса, здесь имеют место, но в свернутом виде
сходные закономерности: эти новые характеристики и
отношения в конструктивной форме снимают отношения
определенной предметной области.
Уже в наше время (70-е гг. прошлого века) ход Канта
повторяет Г. П. Щедровицкий, поставивший своей целью
создание общей методологии. По идее, и переход от
предметной точки зрения к методологической, и новый синтез
рефлексивных реалий (подходов, понятий, ситуаций в предмете,
идеалов познания и пр.), составляющий главное в
методологической работе, предполагают анализ этих реалий. Но если
бы Щедровицкий пошел этим путем, то, во-первых, вряд ли
бы в обозримые сроки решил интересующие его задачи,
во-вторых, попал бы под огонь критики со стороны других
исследователей этих реалий. Вот что он, обсуждая данную
проблему, пишет, например, по поводу рефлексии:
«Представления, накопленные в предшествующем развитии
философии, связывают рефлексию, во-первых, с процессами
производства новых смыслов, во-вторых, с процессами
объективации смыслов в виде знаний, предметов и объектов
деятельности, в-третьих, со специфическим
функционированием: а) знаний, б) предметов и в) объектов в практической
деятельности. И, наверное, это еще не все. Но даже этого уже
слишком много, чтобы пытаться непосредственно
представить все в виде механизма или формального правила для
конструирования и развертывания схем. Поэтому мы
должны попытаться каким-то образом свести все эти моменты к
более простым отношениям и механизмам, чтобы затем
вывести их из последних и таким образом организовать все в
единую систему»1.
Другими словами, Щедровицкий решил не
анализировать рефлексивные реалии (в данном случае знания,
предметы, объекты и их функционирование, а также механизмы
производства новых смыслов), а переопределить их (факти-
чески это редукция) в новом, более простом и конструктив-
1 Щедровицкий Г. П. Исходные представления... — С. 273.
543
ном языке. Что это за язык? Системного подхода
(системно-структурный язык), в рамках которого теперь задается и
деятельность. «Исходное фундаментальное представление:
деятельность — система», — пишет Щедровицкий в работе
1995 г.1.
Одновременно, чтобы обосновать этот ход, он
утверждает, что системный подход является всего лишь вариантом
методологической работы. «Область существования
подлинно системных проблем и системных объектов, — пишет
Щедровицкий, — это область методологии»2. «Системный
подход в нынешней социокультурной ситуации может быть
создан и будет эффективным только в том случае, если он
будет включен в более общую и более широкую задачу
создания и разработки средств методологического мышления и
методологической работы»3.
Если согласиться, что системно-структурный язык
представляет собой вариант методологической математики, то,
спрашивается, откуда Щедровицкий его берет.
В XVI—XVII столетии математика (арифметика, алгебра,
теория пропорций, геометрия) уже была, и физики могли ей
воспользоваться. Кроме того, они благодаря творчеству
Галилея и Гюйгенса научились превращать математические
конструкции в модели природных процессов (приводя в
эксперименте локальные природные процессы в соответствие с
математическими конструкциями). Затем эти модели
уточнялись и доводились в практике инженерии.
По работам Щедровицкого мы знаем, что он, подобно
Канту, сам создает системно-структурный язык. При этом
Щедровицкий утверждает, что источник не только этого
языка, но и схем деятельности двоякий: с одной стороны, это
опыт его собственной работы и ее рефлексия, с другой —
законы деятельности и мышления. Подтверждение первому
можно увидеть в лекции «Методологическая организация
1 Щедровицкий Г. Л. Исходные представления... — С. 241.
2 Щедровицкий Г. П. Системное движение и перспективы развития
системно-структурной методологии // Избр. тр. — М., 1995. — С. 81.
3 Там же. — С. 114.
544
сферы психологии». «Осуществляется, — подводит итог
лекции Щедровицкий, — полный отказ от описания внешнего
объекта. На передний план выходит рефлексия, а смысл
идеи состоит в том, чтобы деятельно творить новый мысле-
деятельный мир и вовремя его фиксировать, — и это для
того, чтобы снова творить и снова отражать и чтобы снова
более точно творить. Поэтому фактически идет не изучение
внешнего объекта, а непрерывный анализ и осознание опыта
своей работы»1.
Второй источник обсуждается Щедровицким при
анализе того, что собой представляет рефлексия. Оказывается, что
это не только и не столько осознание своей деятельности
человеком, сколько кооперация в деятельности и создание
обеспечивающей ее организованности материала
(практической, методической, инженерной, научной и пр.)2.
Кстати, и Кант, обсуждая происхождение априорных
основоположений, указывает два источника — деятельность
самого ученого (человека) и законы разума, который, как
выясняется, совпадает с Творцом. Судя по всему, разум Кант
понимает двояко: как разум отдельного эмпирического
человека и разум как таковой, как особую природу, законам
которой подчиняется отдельный эмпирический разум,
отдельный правильно мыслящий человек. Не то же ли самое
утверждает Щедровицкий, говоря в своих последних
выступлениях и интервью, что им мыслит мышление, которое
еще «в юности село на него»? Правда, здесь можно задать ряд
трудных для подобного мироощущения вопросов:
например, как убедиться, что на тебя «село мышление», а не
какой-нибудь демон, почему помимо твоего «правильного»
мышления в социуме существуют и находят сторонников
другие «неправильные», что это за наука, если истинность
твоего мышления, в конце концов, зависит не от тебя как
личности?
1 Щедровицкий Г. П. Методологическая организация сферы психологии // Вопр.
методологии. — 1997. — № 1—2. — С. 124.
2 См.: Щедровицкий Г. П. Исходные представления... — С. 275—276.
35. Заказ №4180
545
Но посмотрим, как реально Щедровицкий строит
системно-структурный язык. С одной стороны, он,
действительно, рефлексирует свой опыт мышления, с другой — кон-
структивизирует его, т. е. отрывает от реального контекста
мышления и превращает в объекты-конструкции, определяя
последние в форме категорий системного подхода. Однако
ведь Щедровицкий отказался анализировать рефлексивные
содержания (понятия, ситуации познания, установки
и т. д.), какое же содержание он тогда схватывает в
категориях «система», «механизм», «организованность» и др.?
Анализ его работ позволяет выдвинуть гипотезу, что это
содержание не в последнюю очередь задается ценностями и
онтологическими представлениями самого Щедровицкого.
Действительно, в конце концов, рефлексия — это просто
рефлексия Щедровицкого и механизм развития
деятельности; деятельность — это разнородные рефлексивные реалии,
система и то, что обладает развитием; системно-структурные
представления являются продуктами методологической
работы, которая, в свою очередь, ориентирована на развитие
деятельности.
«У нас, — пишет Щедровицкий, — могут быть только две
стратегии: 1) непосредственно приступить к "делу" и начать
конструировать системно-структурные представления, не
зная, как это делать и что должно получиться в результате,
либо же 2) спроектировать и создать такую организацию,
или "машину деятельности", которая бы в процессе своего
функционирования начала перерабатывать современные
системно-структурные представления в стройную и
непротиворечивую систему системных взглядов и системных
разработок... то, что это будут методологические
представления, гарантируется устройством самой "машины"»1.
«Система методологической работы создается для того, чтобы
развивать все совокупное мышление и совокупную
деятельность человечества... напряжение, разрыв или проблема в
мыследеятельности еще не определяют однозначно задачу
1 Щедровицкий Г. Л. Принципы и общая схема методологической организации
системно-структурных исследований и разработок// Избр. тр. — С. 109—110.
546
мыследеятельности; во многом задача определяется
используемыми нами средствами, а средства есть результат нашей
"испорченности", нашего индивидуального вклада в
историю, и именно они определяют, каким образом и за счет
каких конструкций будет преодолен и снят тот или иной набор
затруднений, разрывов и проблем в деятельности»1.
Важно, что Щедровицкий предлагает использовать
системно-структурные представления не только в своей
собственной работе, но и в других научных дисциплинах.
Например, в науковедении. Какое представление о науке отвечает
марксистскому и методологическому взгляду на
сознательное проектирование и построение наук? В конце 60-х гг.
Щедровицкий отвечает так: наука представляет собой
деятельность и систему; научное мышление — это всего лишь
один из видов деятельности. Характеристики деятельности,
которые Щедровицкий дает, анализируя науку, показывают,
что и в этом случае сказалось влияние Канта. Щедровицкий
не мог не обратить внимание на то, что науку он не столько
изучает, сколько конституирует, создавая соответствующие
методологические схемы, затем эти схемы объективируются,
приписываются реальности (сравни у Канта: ученый сам
«связывает, синтезирует, определяет опыт» и т. п., имеет
«возможность как бы a priori предписывать природе законы
и даже делать ее возможной»).
«Называя деятельность системой и полиструктурой, —
пишет Щедровицкий, — мы стремимся задать
"категориальное лицо "научных предметов, в которых она, по
предположению, может быть схвачена и адекватно описана. Это опреде- <.
ление, следовательно, нельзя понимать непосредственно
объектно: говоря, что деятельность есть система, мы
характеризуем в первую очередь наши собственные способы анализа
и изображения деятельности, но при этом хотим, чтобы они
соответствовали изучаемому объекту, но опосредованно —
через научный предмет»2.
1 Щедровицкий Г. П. Принципы и общая схема... — С. 112.
1 Щедровицкий Г. П. Исходные представления... — С. 245.
35*
547
Как можно здесь понять фразу: «...но опосредованно —
через научный предмет»? Думаю, так. Да, деятельность — это
в первую очередь собственные способы работы Щедровиц-
кого, но нужно, чтобы они соответствовали изучаемому
объекту, например науке. Выход указал еще Маркс,
утверждая, что его прогнозы о смене капиталистической формации
на социалистическую построены со всей строгостью точной
науки. Сходно действует и Щедровицкий: чтобы наши
собственные способы анализа и изображения науки были ей
адекватны, говорит он, нужно эти способы подчинять норме
научной деятельности (которую Щедровицкий называет
«научным предметом», содержащим такие
эпистемологические единицы, как «проблемы», «задачи», «онтология»,
«модели», «факты», «знания», «методики», «средства
выражения»1). Теперь почему деятельность и система.
Посмотрим, какие основные характеристики
Щедровицкий приписывает деятельности. Во-первых, это
неоднородное образование, включающее единицы рефлексивного (по
отношению к конкретной науке) характера — проблемы,
задачи, средства, нормы, ситуации познания, подходы,
позиции, типы связей специалистов и пр. Во-вторых,
деятельность — это и то, что делает методолог, и то, что он
приписывает реальности. В-третьих, деятельность обладает
развитием, причем механизм развития (рефлексия)
принадлежит самой деятельности2. В-четвертых, деятельность — это
«субстанция» особого типа, подчиняющаяся
специфическим естественным законам функционирования и развития.
Наконец, деятельность — это система.
Если вспомнить, что Щедровицкий, подобно Канту,
считал идеалом науки естествознание, то понятно, почему
деятельность подчиняется естественным законам. Будучи
последовательным марксистом, Щедровицкий считал, что
реальность едина (принцип монизма) и может быть
рассмотрена как естественно-исторический процесс; отсюда идея, что
механизм развития должен принадлежать самому этому про-
1 Щедровицкий Г. П. Исходные представления... — С. 246.
2 Щедровицкий Г. П. Исходные представления и категориальные средства теории
деятельности // Избр. тр. — М., 1995.
548
цессу. Истолкование его как рефлексии позволяло
объяснить, как развитие идет через деятельность самого Щедро-
вицкого, который, рефлексируя свою деятельность,
результаты рефлексии может приписать науке. Наконец,
разнородность рефлексивных единиц и их принадлежность к одному
целому, т. е. деятельности, можно понять следующим
образом. Выступая перед ученым, методолог переводит его
взгляд с изучаемого им объекта на разнообразные
рефлексивные единицы, которые не только интерпретируются в
методологическом духе, но и заново собираются в новое целое;
при этом методолог утверждает, что именно это целое будет
составлять следующий этап развития данной науки.
В этом пункте, естественно, встает принципиальный
вопрос: какой логике должны подчиняться методологические
интерпретации рефлексивных единиц и сборка
(конфигурирование) их в новое целое? Заметим, что сходная проблема
возникла и у Канта: как интерпретировать и синтезировать
такие рефлексивные содержания, как вещи в себе, опыт,
явления, априорные основоположения, рассудок, разум и пр.
Г. Щедровицкий вслед за Кантом, как мы помним, ответил
так: это логика системно-структурного подхода.
Таким образом, утверждая, что наука — это деятельность
и система, Щедровицкий реализует свое понимание
методологии. С одной стороны, он трактует науку как естественное
образование, или «естественный процесс» (в рамках более
широкого целого, например, воспроизводящейся
деятельности), с другой — «как искусственно создаваемые,
конструируемые нами системы», причем нужную систему знаний
дает наука о деятельности, которая «как бы замыкает извне
всю систему методологической работы, в том числе и
методологию науки, и является для нее последним научным
основанием».
В этом пункте имеет смысл сделать замечание. А как
можно было действовать иначе, слышу я недоуменный вопрос
читателя, разве вы сами не создаете схемы, ну, не
деятельности, а других, иначе истолковываемых рефлексивных содер-
549
жаний и затем не объявляете, что это и есть то, что
существует на самом деле? Да, безусловно, если я методолог, то обязан
не только осуществить «методологический поворот», но и
заново организовать и переопределить выделенные
рефлексивные содержания. Однако при этом я должен, во-первых,
опираться на знания, полученные при реальном
исследовании подобных рефлексивных содержаний, причем само это
исследование должно быть методологическим, т. е.
ориентированным на методологическую работу. Для других целей,
например, формально-логических или психологических,
мышление анализируется совершенно по-другому, и в
результате ему приписываются иные сущностные
характеристики.
Во-вторых, методолог обязан помнить, что построенные
им новые схемы (предлагаемая новая организация и
осмысление рефлексивных содержаний) — это не модели нового
состояния предмета, а всего лишь гипотетические схемы и
сценарии, предлагаемые на суд специалиста-предметника и
истории. Чтобы на основе таких схем и сценариев удалось
построить эффективные модели и проекты, много чего еще
нужно сделать: обсуждать эти схемы и сценарии с
заинтересованными специалистами, использовать их при обратном
«дисциплинарном повороте» (т. е. создании на основе
методологических рекомендаций новых предметных понятий и
концепций), проследить, принимаются ли новые понятия и
концепции, и как они работают, если не принимаются и
работают плохо, то понять почему, и т. д.
Однако в силу ряда причин Г. П. Щедровицкий после
второй половины 60-х гг. перестал заниматься
исследованием рефлексивных содержаний и полностью сосредоточился
на построении системно-структурного языка и
опирающихся на него схем деятельности. Исследование он подменил
рефлексией своего опыта и опыта участников его семинаров
и организационно-деятельностных игр. Построенные схемы
в качестве норм деятельности и мышления Щедровицкий со
товарищи предлагали представителям других интеллекту-
550
альных дисциплин, которые, однако, как правило,
игнорировали эти предложения. Однако не повторяют ли
синергетика и когнитология путь общей методологии?
Действительно, представители синергетики и когнитоло-
гии не только отрефлексировали свои собственные
построения и затем конструктивизировали их, но и начали широко
применять их в новых областях познания. В то же время, как
показывает опыт современной науки, системный язык
не является универсальным. Вспомним, в период
становления системного подхода часто звучали утверждения, что
системный подход — это универсальный язык для общения
разных наук, новой философии и онтологии. Но дальнейшее
развитие системного подхода показало, что у него хотя и
широкая, но вполне ограниченная область применения, и
совсем не та, о которой мечталось. Есть и другая проблема.
Естественно-научный подход ориентирован на традиционную
математику, а системный подход — это новая математика.
Спрашивается, как между собой связаны обе эти математики, ведь
синергетика и когнитология реализуют и
естественно-научный, и системный подходы?
Используя синергетические и когнитивные построения в
качестве математического языка, исследователи полагают,
что соответствующие предметные области и содержания
(гуманитарные и социальные) могут быть без ущерба для их
смысла промоделированы и объяснены в этом языке. Но так
ли это? Если не иметь в виду редукцию социальных и
гуманитарных феноменов к исходным предметным областям, в
рамках которых возникла синергетика и когнитология (т. е. к
явлениям физическим, биологическим, техническим), то
язык этих новых дисциплин вряд ли может быть рассмотрен
как моделирующий и объясняющий относительно области
значений социальных и гуманитарных явлений. Другое дело,
если синергетики и когнитивисты будут свои построения
адаптировать к новым предметным областям и смыслам, что
повлечет за собой кардинальную перестройку синергетиче-
ских и когнитивных понятий и дискурса. Одновременно это
551
означало бы, что синергетики и когнитивисты начали
учиться у философов, гуманитариев и социальных ученых, а
не просто навязывают последним новые представления,
не прошедшие научную критику и рефлексию.
Подведем итог. С одной стороны, понятия
системно-структурного языка выступали как эвристические
(методологические) схемы в задачах своеобразного
проектирования теории изучаемого сложного явления, с другой — как
средства связи (конфигурирования) разных предметов и
уровней описания этого явления. При этом при построении
системно-структурных понятий использовались отрефлек-
тированные образцы исследований и мышления в
определенных областях (философии, физике, химии, биологии,
социологии, технике). Эти образцы описывались, конструкти-
визировались и операционализировались, т. е.
превращались в конструкции самостоятельных идеальных объектов,
оторванных от исходных эмпирических ситуаций и отнесенных
к новой особой реальности (ее и задавал системный подход).
Затем такие конструкции начинают жить по логике этой
реальности, последнее означало, что системно-структурные
понятия используются в двух указанных целях (как
проектные эвристики и средства конфигурирования) и
подчиняются онтологическим ограничениям, установленным в ходе
конструктивизации и операционализации. Так, говоря о
системе, связях, подсистемах и других системно-структурных
представлениях, мы всегда пользуемся онтологическими
образами-конструкциями. Характеристики их получены при
снятии ряда свойств соответствующих исходных
предметных областей, переведенных в свойства идеальных объектов
системо-структурного языка.
Однако, что не менее принципиально, представления
системно-структурного языка все время используются за
пределами исходных предметных областей. Как, например, это
происходит у Щедровицкого, в синергетике или когнитоло-
гии. Вот здесь исследователь и может попасть в
своеобразную «системную ловушку», т. е. считать, что понятие систе-
552
мы задают изучаемый объект со всеми его свойствами.
Соответственно можно говорить и о «синергетических
ловушках», «когнитивных ловушках». А ведь понятия системного
подхода, синергетики и когнитологии задают лишь
стратегии интеллектуального проектирования и
конфигурирования знаний, причем представленные в конкретной форме
системно-структурных, синергетических, когнитивных
образов-конструкций.
И вот мы видим, как представители системного подхода,
синергетики, когнитивисты, попавшие в такие ловушки, с
одной стороны, начинают утверждать, что их объект
является сложной системой, процессы в этой системе нелинейны,
некто пребывает в точке бифуркации, является странным
аттрактором, действует исходя из когнитивных карт и пр. и пр.,
с другой — предметные свойства изучаемого сложного
явления редуцируются в онтологической плоскости к данным
системно-синергетическим, системно-когнитивным
представлениям. Тогда и получается, что везде, где раньше были
различные предметные феномены, теперь одни системы и
аттракторы.
Здесь я так и слышу вопрос оппонента: так что же, нужно
отказаться от системного подхода и синергетики? Конечно,
нет, я сам использую системный подход и синергетические
метафоры. Другое дело, что, во-первых, нужно понимать,
что система — это не обычный объект изучения наподобие
тех, которые изучаются в конкретных науках, а особая
методология и стратегия мышления. Во-вторых, что философское
и научное познание, использующее системный подход,
всегда должны сохранять двухслойность: в одном слое
исследователь движется в плоскости своего предмета
(философского, естественно-научного, гуманитарного, социального),
стараясь не пропустить ни одной из необходимых для решения
познавательных задач характеристик изучаемого явления, в
другом слое — в плоскости системно-структурных
представлений. В-третьих, он должен избегать редукции и следить,
чтобы характеристики системно-структурных образов-кон-
553
струкции не противоречили характеристикам изучаемого
явления.
Предложенная здесь трактовка системного подхода,
синергетики и когнитологии, на мой взгляд, открывает новую
познавательную перспективу. Наряду с традиционной
математикой необходимо говорить о нетрадиционных. К
последним относятся не только системный подход, синергетика и
когнитология, но и ряд других интеллектуальных
дисциплин, например семиотика, кибернетика, теория
информации. При этом вполне сохраняется их трактовка и как
«направлений философии и методологии науки,
специально-научного познания и социальной практики». Все дело в
том, на какие функции и процессы мы преимущественно
обращаем внимание: в одном случае — на процессы конструк-
тивизации и использование в качестве моделей в других
дисциплинах (тогда речь идет о нетрадиционных математиках),
в других — на процессы и стратегии познания (тогда это
направления философии и методологии наук).
***
Б. Поршнев, приступая к построению нового учения
антропогенеза, отдает себе отчет, что ему придется
конфигурировать представления из разных дисциплин, и такая работа
по логике напоминает конструирование. «Каждая глава этой
книги, — пишет он, — должна бы составить тему целой
лаборатории, а каждая такая лаборатория — еще со множеством
специалистов. Но кто-то должен, сознавая всю
ответственность общего чертежа новой конструкции, все же его
предлагать. Иначе частные дисциплины при отставании общей
схемы подобны разбежавшимся колесикам механизма, по
инерции катящимся кто куда. Пришло время заново
смонтировать их, в перспективе — синтезировать комплексную
науку о человеке, о людях»1. Подобный синтез Б. Поршнев
предлагает осуществить в рамках методологии естествозна-
ния и истории.
1 Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. — М., 1974. — С. 18.
554
Обсуждая противоположные концепции происхождения
человека, Б. Поршнев пишет, что «решение спора должно
происходить прежде всего от естественных наук. В силах они
или бессильны с достаточной полнотой объяснить
особенности жизнедеятельности приматов до Homo sapiens, как и
объяснить его появление. <...> Однако направляющий луч
должна бросить на предмет не философия естествознания, а
философия истории. В частности, категория историзма.
<...> Марксистская историческая психология наталкивается
тут и там на привычку историков к этому всегда себе
равному, неизменному в глубокой психологической сущности,
т. е. неподвижному, человеку вообще. <...> Историзм
приводит к тезису: на заре истории человек по своим психическим
характеристикам был не сходен с современным человеком,
но представлял его противоположность»1.
Реализуя сформулированный подход, Б. Поршнев
конкретизирует его по двум направлениям.
Естественно-научный подход представляет физиология (прежде всего, учение
о возбуждении и торможении). Историзм раскрывается в
двух идеях: «ускорения истории» (пределом такого
ускорения является, по мнению Поршнева, «исторический взрыв»,
в контексте которого и складывается человек), а также
взаимодействия (наложения) исторических предпосылок (в
качестве их выступают биологические факторы) и «скачка» в
историческом развитии. Последний Б. Поршнев трактует
как инверсию, перевертывание отношений. «Социальное, —
пишет он, — нельзя свести к биологическому. Социальное
не из чего вывести, как из биологического. В книге я
предлагаю решение этой антиномии. Оно основано на идее
инверсии. Последняя кратко может быть выражена так: некое
качество (А/В) преобразуется в ходе развития в свою
противоположность (В/А) — здесь все неново, но все ново. Однако
надлежит представить себе не одну, а две инверсии,
следующие одна за другой. Из них более поздняя та, о которой толь-
ко что шла речь: последовательный историзм ведет к выводу,
1 Поршнев Б. Ф. Указ. соч. — С. 15, 16—17.
555
что в начале нашей истории все в человеческой натуре было
наоборот, чем сейчас: ход истории представлял собой
перевертывание исходного отношения»1.
Здесь стоит прокомментировать два момента. Первый
касается идей истории как ускорения и взрыва. Что они
означают? Не только то, что Б. Поршнев, реализуя
естественно-научный подход, пытается выявить закономерность
исторического процесса. Ускорение истории и завершение ее
взрывом означают две вещи: история имеет конец и именно на
начало этого конца приходится происхождение человека,
представляющее собой скачок, перерыв логики (если иметь в
виду, так сказать, «конец конца» или завершение истории,
то, вероятно, по Поршневу, — это построение коммунизма).
«Но вот что касается неоантропа (Homo sapiens), — пишет
Поршнев, — он появляется всего 35—40 тыс. лет тому назад.
<...> История людей — взрыв. В ходе ее сменилось всего
несколько поколений. <...> Для начала анализа ясно лишь, что,
будучи процессом биологическим, она в то же время имела
нечто отличающее от всякой другой дивергенции в живой
природе»2.
Второй момент. Нетрудно заметить, что идея инверсии и
часто используемые Поршневым идеи «противоречия» и
«отрицания отрицания» близки к математическим. Но в
данном случае Б. Поршнев понимает их скорее как эвристику,
как относящиеся к частной методологии. Хотя эти идеи
используются, но они не задают целиком онтологию
антропогенеза. Значительно большую роль при конструировании
этой онтологии играют представления о торможении
(«тормозной доминанте»), имитации и второй сигнальной
системе. Именно из этих содержаний Б. Поршнев и создает
новый идеальный объект и объяснение. Схема здесь такая.
При определенных условиях и предпосылках, которые
Б. Поршнев подробно обсуждает, тормозная доминанта
блокирует (тормозит) животные рефлексы и действия «трогло-
цитид», т. е. человекообразных обезьян, предшествующих в
Поршнев Б. Ф. Указ. соч. — С. 17.
Там же. — С. 370.
556
развитии неоантропам. Высшим уровнем такого
торможения является такой, когда животные рефлексы блокируются
на основе знаков второй сигнальной системы.
Одновременно животные формы подражания и взаимного влияния друг
на друга («интердикция») заменяются суггестией и
контрсуггестией.
«У порога истории, — отмечает Б. Поршнев, — мы
находим не "надбавку" к первой сигнальной системе, а средство
парирования и торможения ее импульсов. Только позже это
станет "надбавкой", т. е. отрицанием отрицания (идеи
«отрицания отрицания», а также «противоречий» еще две,
наряду с инверсией, эвристические идеи, используемые
Поршневым. — В. Р.). Важным шагом к такому
преобразованию служит превращение интердикции в суггестию. <...>
Суггестия становится фундаментальным средством
воздействия людей на поступки и поведение других, т. е. системой
сигнальной регуляции поведения. <...> Другое дело, что тем
самым суггестия несет в себе противоречие: зачинает
согласование двух сигнальных систем, из противопоставления
которых она произошла. Это противоречие окажется
продуктивным: оно приведет к контрсуггестии. Однако это
произойдет на более позднем этапе эволюции»1.
Но на самом деле помимо указанных содержаний
Б. Поршнев в своей онтологии конфигурировал еще
несколько: он сам указывает на представления и понятия
морфологии антропогенеза, экологии, биоценологии и
этологии антропогенеза, физиологии высшей нервной
деятельности и психологии антропогенеза2. Стоит отметить, что
конфигурирование предполагает переосмысление и
перестройку всех содержаний, вовлекаемых в новый синтез.
Например, одно из центральных понятий своего учения —
«торможение» — Б. Поршнев трактует не традиционно, а
по-новому. Торможение в его системе — это и
физиологическое торможение, и конституирование возбуждения, ответ-
ственного за поведение, и, наконец, механизм, близкий к
1 Поршнев Б. Ф. Указ. соч. - С. 414—415, 440.
2 Там же. — С. 20.
557
внушению. «Начало человеческой инфлюации —
подавление, торможение собственных действий организма. <...>
Тормозная доминанта как бы лепит, формирует
антагонистический полюс — комплекс, или систему, возбуждения.
<...> Иначе говоря, в сплошном поле торможения им самим
проделывается отверстие, дырочка, в нее и выливается
возбуждение в обычном смысле слова. <...>
Совершенствование живого — это совершенствование торможения реакций.
<...> "Ум" животного — это возможность не реагировать в
999 случаях из 1 000 возникновений возбуждения»1.
Поставим теперь такой вопрос: каковы критерии
правильности (эффективности) конструкций, предложенных
Б. Поршневым? Вряд ли их стоит оценивать на
непротиворечивость или возможность использовать в практиках
инженерного типа (как это происходит в настоящих,
естественных науках). Зато такие интеллектуальные конструкции,
трактующие характер истории, происхождение и природу
человека, очевидно, должны соответствовать ожиданиям и
духу времени, относится ли это к отдельным научным
сообществам или к более широкой аудитории. Кстати, сегодня
Б. Поршнев вполне отвечает этим ожиданиям, о чем
свидетельствует возросший интерес к его работам.
Следующий критерий уже чисто методологический — это
характер предлагаемого научного дискурса. В свою очередь,
при его формировании учитывается (нужно учитывать) ряд
методологических установок: «логика» конструирования,
согласованность различных характеристик вводимых
конструкций («диспозитива» по М. Фуко), возможности
теоретического объяснения, наконец, обоснованность всего
построения, включая его онтологический статус. Что касается
первой установки, то построения Б. Поршнева вполне
прозрачны. Он не скрывает, что заимствует содержания из разных
дисциплин, и показывает, как на их основе создается
(конструируется) новое содержание. Безусловно, Б. Поршнев стре-
мится согласовать различные параметры и части своего по-
1 Поршнев Б. Ф. Указ. соч. - С. 194, 262, 264, 298, 299.
558
строения. Но, к сожалению, нередко за счет редукции
многих смыслов. Например, трудно согласиться с тем, что
функции знаков трактуются автором «О начале человеческой
истории» прежде всего в плане торможения животных
импульсов; у них есть и другие важные характеристики — задавать
новую реальность, обеспечивать организацию и
деятельность человека, выступать в роли моделей1.
Сложнее обстоит дело с возможностью теоретического
объяснения. Судя по высказываниям Б. Поршнева, он
уверен, что ему удалось объяснить проблемы происхождения
человека, отталкиваясь от основных известных в его время
фактов. Но, во-первых, с Б. Поршневым не согласны (и
раньше, и сегодня) многие другие исследователи; во-вторых,
в настоящее время значительно изменилось само понимание
научного объяснения в сфере антропогенеза (впрочем, стоит
заметить, что с этим последним утверждением тоже многие
не согласятся). С моей точки зрения, сегодня в истории и
антропологии происходит отказ от естественно-научного
подхода в его марксистском варианте, вызывает сомнение
поршневская трактовка труда и семиозиса, налицо критика
понимания человеческой истории как имеющей конец, вряд
ли верна и марксистская точка отсчета в качестве основного
критерия развития и прогресса. Так что вопрос, сумел ли
Поршнев объяснить происхождение и развитие человека,
весьма спорный.
Все сказанное здесь можно повторить и относительно
обоснованности теоретических построений Б. Поршнева.
На мой взгляд, многие доводы Б. Поршнева,
оправдывающие и обосновывающие его теоретические построения и
ходы, в настоящее время выглядят неубедительно. В плане
прояснения онтологического статуса рассуждения
Поршнева тоже могут быть подвергнуты критике. Как,
спрашивается, Б. Поршнев категориально осмысляет предлагаемую им
новую сборку содержаний? С одной стороны, он пишет о
том, что человек не может быть выведен из троглодитов, что
1 Розин В. М. Семиотические исследования. — М, 2001.
559
это, как бы я сказал, «новообразование»; той же цели служит
идея второй сигнальной системы как подавляющей
животные импульсы. С другой стороны, Поршнев вслед за
Л. С. Выготским старается доказать, что человек — это
следующий этап развития (чего?), совершающийся за счет
двойной инверсии и, как ни странно, пришествия в мир
(откуда?) второй сигнальной системы.
Тем не менее для меня сейчас более важна не сама по себе
критика учения Б. Поршнева, а уяснение логики, в
соответствие с которой он создает новое учение антропогенеза,
конфигурируя содержания, заимствованные из многих уже
сложившихся научных дисциплин. Как мы видим, эта логика
детерминируется по меньшей мере четырьмя основными
факторами: реакцией на новое учение времени и научного
сообщества, методологией, которую автор нового учения
выстраивает и проводит, «логикой» предметного
конструирования и конфигурирования, наконец, осмыслением и
обоснованием всех построений. Новая сборка содержаний
предполагает, в частности, специальное обсуждение онтологического
статуса созданных интеллектуальных конструкций.
В собственной версии антропогенеза вместо концепции
развития, из которой исходит Б. Поршнев, я предложил идеи
«предпосылок» и «становления» (происхождения). В
частности, старался показать, что человек — это новообразование.
Его становление предполагало две основные предпосылки:
сообщество человекообразных обезьян с развитой
сигнальной системой и сильной властью вожака, а также попадание
человекообразных обезьян в экстремальные для выживания
условия. Новая сборка содержаний задавалась с помощью
идей парадоксального поведения, образования знаков и
социальной коммуникации, появления новой изменчивости
биологического организма, что повлекло за собой
метаморфозы телесности1.
Естественно, возникает вопрос: а нельзя ли на основе
этой работы Поршнева создать и соответствующую новую
1 Розын В. М. Культурология. — М., 1998 (и др. издания); Он же. Человек
культурный. Введение в антропологию. — М.; Воронеж, 2003.
560
нетрадиционную математику? Вероятно, можно, если
только будет выполнен ряд условий: подобная работа будет
воспроизведена на другом материале (для других, отчасти
сходных, отчасти различающихся случаев), отрефлектирована и
описана, наконец, «оторвана» от своего предметного
материала и конструктивизирована (переведена в строение
новых математических объектов и отношений). В этом случае
мы бы имели схождение двух указанных в заглавии стратегий
конфигурирования.
10.5. Виды научных работ
и критерии их оценки
Не секрет, что в последнее время уровень научных работ,
в частности кандидатских и докторских диссертаций,
значительно упал. По форме большинство диссертаций выглядят
вполне удовлетворительно: постановка проблемы и задач,
новизна, положения, выставляемые на защиту, научный
текст нужных размеров, апробация, авторитетные отзывы —
все на месте. Но даже поверхностный независимый
экспертный анализ показывает, что во многих случаях научная
работа не проведена или проведена некачественно, исследование
нередко просто имитируется. Каковы же причины этого?
Одна из основных — низкая культура научного
мышления и работы исследователей (низкий методологический
уровень). Многие исследователи (соискатели) просто не
знают, что такое научная работа и исследование. Другая
причина — снижение требований экспертов, причем по разным
обстоятельствам. В одних случаях эксперты не могут
оценить научную работу, поскольку она не укладывается в
привычные представления о научном исследовании; кстати,
количество таких трудных для оценки научных работ
постоянно растет. В других срабатывает корпоративная «этика»: за-
36. Заказ №4180
561
щищается твой товарищ, представитель твоего «цеха»,
диссертант потратил на проведение научной работы много сил и
времени, поэтому можно закрыть глаза на некоторые
недостатки работы, его поддерживают определенные эксперты,
он оказал экспертам или совету какие-то услуги и пр.
Но почему сегодня при оценке качества научной работы
все чаще не срабатывают привычные критерии научной
истины и образцы научной работы? Вероятно, изменились
сама научная работа и научное исследование, а критерии их
оценки остаются традиционными. Результатом научной
работы в настоящее время выступает не только новое
теоретическое знание или теоретическое объяснение (описание)
определенного явления, но все чаще построение новой
концепции (теории), различного рода прикладные
исследования («монодисциплинарные» и «комплексные»),
методологические исследования и разработки (критика, рефлексия,
программирование, проектирование и т. д.), конституирова-
ние (в аспекте интеллектуального, знаниевого обеспечения)
новых практик, научная рефлексия сложившихся практик,
направленная, например, на их совершенствование и другие
работы.
Оценка качества научных работ по-прежнему остается и в
перспективе будет оставаться прерогативой экспертов и
научного сообщества, но подход, вероятно, должен
измениться. Оценка должна быть опосредована знанием видов научных
работ и методологии их проведения. И не только. Важно и
знание современной ситуации в соответствующих дисциплинах,
ведь хорошее научное исследование должно быть
современным, принадлежать к переднему краю науки, входить в зону
ближайшего ее развития.
Методологические основания анализа и оценки научных
работ. На наших глазах происходит изменение структуры и
организации научных знаний и форм научной деятельности.
Многие исследователи обращают внимание на новый, более
интенсивный характер взаимодействия общественных,
естественных и гуманитарных наук, другие — на грядущий син-
562
тез этих наук. Третьи же — на то, что начинает ломаться
веками утвердившееся членение науки на отдельные ее отрасли и
зарождается принципиально новый подход к самой основе
того, что именуется наукой. Начать можно с инвариантных
относительно разных видов наук характеристик. Одна из
таких инвариантных характеристик задается трехслойной
схемой науки.
Трехслойная схема науки. Научная деятельность
направлена на получение научного знания, которое еще со времен
Античности противопоставляется мнению, софизмам,
знанию о случайном, о единичном, просто чувственному
восприятию. Научное знание должно удовлетворять критерию
научной истины, т. е. характеризовать, отражать реальное
положение дел, утверждать то, что есть на самом деле.
Другой аспект научной деятельности (мышления) — ее «логика»,
структура. Научная деятельность подчиняется специальным
правилам, нормам, законам, примером их являются правила
построения научных суждений (рассуждений) и понятий,
нормы научного доказательства (индукции, дедукции,
верификации, фальсификации и т. д.) и систематизации научных
знаний в теорию, законы противоречий и исключенного —
третьего и т. д. Именно удовлетворение этих правил, норм и
законов есть гарантия истинности научных знаний.
В аспекте мышления научная деятельность
характеризуется таким отношением к действительности, как познание.
Еще в античной науке с мышлением была связана установка
на выявление не явлений, а сущности, не видимого (данного
в чувственном восприятии), а того, что существует на самом
деле. Реализация познавательного отношения приводит к
выделению объекта как такового, полаганию его, описанию
в знаниях и понятиях (И. Кант подчеркивал: субъект в ходе
познания формирует объект, превращая его в предмет
познания). При этом действуют нормативный принцип,
ценностная установка научного сознания, в соответствии с
которыми организуется весь мыслительный материал: мир
явлений подчиняется миру сущности (явления трактуются как
проявления сущности), знания описывают объекты и их
36*
563
строение. «Основная задача науки, — пишет Д. М. Петру-
шевский, — преодолеть бесконечное разнообразие бытия
путем переработки его в понятия»1.
Наконец, именно в научной деятельности создаются
такие знания и объекты, которые в других практических
контекстах и областях используются в качестве моделей и
эмпирических знаний, т. е. «интеллектуальных инструментов»
практической деятельности.
В уже сформированной науке и научной деятельности
различаются два слоя (уровня, формы существования):
эмпирический и теоретический. В эмпирическом находятся
реальные объекты той или иной практики, представленные,
однако, в соответствующей теории. К эмпирическому слою
относят также слой эмпирических знаний и объектов.
«Эмпирические объекты, — пишет В. С. Степин, — хотя и
сопоставляются с реальными предметами опыта, не
тождественны последним. Они суть абстракции, существующие только
в идеальном плане, как смысл знаков эмпирического языка
науки»2. Например, реальный газ обладает многими
свойствами, но как эмпирический объект классической физики он
характеризуется только такими параметрами, как вес, масса,
объем, температура, давление, остальные свойства
исследователя не интересуют. Эмпирические знания получают или
при различных действиях с реальными объектами —
измерении, моделировании, схематизации, или теоретическим
путем и в обоих случаях относят их не к реальным объектам, а к
эмпирическим.
В теоретическом слое выделяются идеальные объекты и
теоретические знания, а также различные теоретические
процедуры (доказательства, решения задач, систематизация,
построение теории и т. д.). В отличие от эмпирических
объектов идеальные объекты специфицируются не
относительно определенной практики, хотя и имеют к ней отношение, а
относительно идеальной действительности (в естественной
науке — законов природы, в античной — идей, сущности, на-
1 Петрушевский Д. М. Очерки из истории средневекового общества и
государства. - М, 1922.-С. 7.
2 Степин В. С. Становление научной теории. — М., 1976. — С. 80.
564
чал). Идеальный объект не только отличается от
эмпирического (например, любая жидкость сжимается, а
«идеальная» — нет, реальный луч света имеет толщину, а
геометрический, идеальный не имеет), но и удовлетворяет
особенностям идеальной действительности.
Теоретические знания относятся уже к идеальным
объектам. Получают теоретические знания разными способами:
или в процессе преобразования одних идеальных объектов в
другие (сведения новых случаев к уже познанным1), или при
особой теоретической обработке эмпирических знаний (путь
снизу, от практики), или интерпретации «внепредметных»
знаний (ассимилированных из других наук или научных
предметов либо из «оснований наук» — путь сверху). В. Сте-
пин показал, что большинство теоретических схем науки
конструируются не за счет прямой схематизации опыта, а
методом трансляции уже созданных абстрактных объектов2.
Но как бы ни получались теоретические знания, вводятся
они в науку с помощью стандартных теоретических
процедур, регулируемых специальными правилами, нормами,
законами. Совокупность (органон) этих правил, норм и
законов фактически образует третий слой научной
деятельности — основания наук.
Именно в основаниях наук формируются критерии
«строгости» научных процедур, задаются научные предметы
и объекты изучения, формируются научная онтология и
научные картины мира. Все эти образования — уже не просто
множество объектов, знаний и процедур (как эмпирических,
так и теоретических), но множество, упорядоченное и
организованное в соответствии с правилами, нормами,
законами, регулирующими научную деятельность и мышление.
Например, научные предметы — это группа эмпирических и
теоретических знаний, эмпирических и идеальных объектов,
эмпирических и теоретических процедур, выделенных по
принципу однородности связей и отношений (критерии од-
нородности могут быть достаточно сложными и ориентиро-
1 Розин В. М. Типы и дискурсы научного мышления. — М., 2000.
г См.: Степин В. С. Становление... — С. 100.
565
ваться как на эмпирические, так и теоретические
соображения). Объект изучения специфицирует и задает целостность
научного предмета в онтологическом плане. Научная
онтология обеспечивает теоретические процедуры построения
идеальных объектов, а также связь теоретического слоя с
эмпирическим. Действительно, идеальные объекты
конструируются из элементов, заданных в научной онтологии, эти же
элементы используются при конструировании новых
идеальных объектов, соответствующих определенным
эмпирическим объектам. Наконец, картина мира имеет две
функции: она объединяет онтологии нескольких научных
предметов (являясь своего рода метаонтологией) и одновременно
замыкает (обосновывает) смысловой горизонт научного
сознания. Критерии однородности связей и отношений,
определяющих научный предмет, критерии объектной
целостности научного предмета, строение онтологии и картин мира и
их функции задаются именно в слое оснований наук.
В заданной таким образом структуре науки различаются
два основных процесса — функционирование науки и ее
формирование (становление и развитие).
Процесс функционирования представляет собой,
во-первых, распространение структуры науки на новые
случаи (ассимиляция в науке новых эмпирических объектов и
знаний), во-вторых, совершенствование оснований науки
(уточнение и видоизменение правил, норм, законов,
регулирующих научную деятельность), в-третьих, получение новых
теоретических знаний (разворачивание теоретического
слоя). Побуждающей силой функционирования науки
являются решения теоретических задач, а также анализ
противоречий, проблем и различных затруднений, возникающих в
научном мышлении и деятельности.
От функционирования науки процесс ее формирования
(становления и развития) отличается тем, что здесь все три
слоя науки (эмпирический, теоретический, оснований), а
также отношения между ними или складываются, или
видоизменяются. (Различаются и более простые случаи: форми-
566
рование нового теоретического и эмпирического слоя при
сохранении оснований науки или формирование отдельного
теоретического (эмпирического) слоя (последнее является,
как правило, временным, неустойчивым состоянием науки).
Формирование науки побуждается, с одной стороны, самой
логикой научного познания (его требованиями, идеалами,
ценностями), с другой — проблемами функционирования
науки (накопления большого числа противоречий,
неувязок, рассогласований, невозможность их разрешить). В
число проблем входят и те, которые возникают в практике:
описание новых объектов практики, включение в теорию
знаний, полученных об этих объектах, построение теории
новой объектной области и др. Описанная здесь
трехслойная схема науки фиксирует именно инвариант наук разного
типа. Как инвариантная схема она не совпадает с каждым
отдельным типом науки.
Типология наук. Для решения проблем, которые мы здесь
обсуждаем, наука не может рассматриваться сама по себе;
она должна быть взята в отношениях (связках) «наука —
культура», «наука — практика», «наука — личность ученого»,
а также с точки зрения «эволюции» (развития). Современные
исследования показывают, что хотя в свое время
естественные науки были взяты за образец и идеал научности (не
только в самой науке, но и в философии), сегодня
естественно-научный идеал отвергается во многих направлениях
философии, гуманитарных и социальных науках. Точнее, в этих
направлениях и науках сложились два разных подхода —
естественно-научный и гуманитарный, причем в последние
десятилетия наблюдается постепенное вытеснение первого
вторым. Даже в самом естествознании (в областях микро- и
макромира) все чаще отмечаются прецеденты
гуманитарного мышления и подхода.
В типологическом отношении можно говорить о трех
основных, равноценных идеалах науки — античном,
естественно-научном и гуманитарном, причем первый сложился в
конце античной культуры, второй — в XVIII — начале XIX в.,
третий — в первой половине XX столетия. В настоящее вре-
567
мя формируется еще два идеала науки — социальный (в
связи с этим, например, Вольф Лепенис предлагает ввести
понятие третьей, социальной культуры наряду с технической и
гуманитарной) и нетрадиционный. Если для первого идеала
образцами выступили античные науки («Начала» Евклида,
«Физика» Аристотеля, работы Архимеда), то для второго —
естественные науки (прежде всего, физика Галилея и
Ньютона). Для третьего — гуманитарные науки (история,
литературоведение, гуманитарно ориентированная психология,
языкознание). Для формирующегося идеала социальных
наук образцами выступают некоторые социальные и
общественные науки (отдельные экономические теории,
понимающая социология, гуманитарная культурология). Для идеала
нетрадицинных наук — прежде всего искусствоведение и
эзотерика.
Хотя все эти идеалы науки специфичны и различны, они
содержат (задают) единое «генетическое ядро» (инвариант),
которое сложилось в античной философии и науке и далее
постоянно уточнялось и заново осмыслялось. Это ядро
включает в себя: установку на познание явлений; выделение
определенной области изучения (научного предмета);
построение идеальных объектов и фиксирующих их научных понятий;
сведение более сложных явлений, принадлежащих области
изучения, к более простым, фактически же к сконструированным
идеальным объектам; получение теоретических знаний об
идеальных объектах в процедурах доказательства; построение
теории, что предполагает, с одной стороны, разрешение
проблем, выделенных относительно области изучения, с другой —
«снятие» эмпирических знаний (они должны быть
переформулированы, отнесены к идеальным объектам и затем получены в
доказательстве), с третьей — обоснование всего построения
(т. е. системы теоретических знаний, идеальных объектов и
понятий) в соответствии с принятыми в данное время
критериями строгости и научности'.
В античной культуре, где это ядро сложилось, цель науки
понималась как получение с помощью доказательств истин-
1 Розин В. М. Типы и дискурсы научного мышления. — М., 2000.
568
ных знаний о подлинной реальности (родах сущего, бытия).
Для этого эмпирическая реальность описывалась с помощью
категорий, а эмпирические знания относились к
сконструированным идеальным объектам и затем (уже как
теоретические знания) доказывались.
В естествознании Нового времени цели науки меняются:
помимо получения истинных знаний о подлинной
реальности, которая теперь понимается как природа, на первый
план выдвигается практическая задача — овладение силами
и энергиями природы. Начиная с работ Галилея, X.
Гюйгенса, Ф. Бекона формируется представление о естественной
науке как описывающей законы природы, а сама природа
считается «написанной на языке математики и реализуемой
в инженерии». Естественно-научный идеал помимо
генетического ядра включает в себя экспериментальное
обоснование теории и такие процедуры ее развертывания, которые
позволяют получить знания, используемые именно в
инженерии, где и происходит деятельностное овладение
процессами природы. Если в античной науке природа понималась
просто как начало, противопоставленное искусственному
(«Из различных родов изготовления, — пишет Аристотель в
«Метафизике», — естественное мы имеем у тех вещей, у
которых оно зависит от природы»1 ), то в Новое время природа
фактически понимается как «латентный механизм»,
строение которого выявляет сначала ученый-естествоиспытатель
(создавая теорию), затем собственно инженер, рассчитывая
и изготавливая настоящий механизм или машину.
В гуманитарном подходе цели науки снова
переосмысляются: помимо познания подлинной реальности,
истолковываемой теперь в оппозиции к природе (не природа, а
культура, история, духовные феномены и т. п.), ставится задача
получить теоретическое объяснение, принципиально
учитывающее, во-первых, позицию исследователя, во-вторых,
особенности гуманитарной реальности, в частности, то обстоя-
тельство, что гуманитарное познание конституирует позна-
1 Аристотель. Метафизика. — С. 82.
569
ваемыи ооъект, который, в свою очередь, активен по
отношению к исследователю. Выражая различные аспекты и
интересы культуры (а также разных культур), имея в виду
разные типы социализации и культурные практики,
исследователи по-разному видят один и тот же эмпирический
материал (явление) и поэтому различно истолковывают и
объясняют его в гуманитарной науке.
Социальная наука имеет свою специфику, которая может
быть охарактеризована с помощью двух моментов: какую
именно социальную действительность видит и хочет
актуализировать ученый социальных наук, а также какими собственно
средствами (с помощью каких социальных технологий) он
рассчитывает решить свою задачу, иначе говоря, какой тип
социального действия он принимает и обеспечивает с помощью
своего исследования.
Нетрадиционные науки ориентированы на описание и
расширение опыта человека в разных областях его
жизнедеятельности. Для нетрадиционного научного познания
характерна одновременность конституирования (порождения)
реальности и ее научного постижения.
Понять современную науку трудно, не анализируя
дискурсы, с которыми она связана и которые ее сопровождают.
Философский дискурс. По позиции изучения философ
сближается с гуманитарием, но у него другие задачи. Его
цель — осмысление современности, создание
мыслительного плацдарма для ответов на ее вызовы. Это предполагает, с
одной стороны, критику отживших, тормозящих
дальнейшее развитие способов мышления и видения, с другой
стороны, создание новых идей и схем, вводящих в
современность, с третьей — разворачивание новых типов
социальности, коммуникации и рефлексии. В этом смысле
философия не только познание, но и формы новой жизни.
Вероятно, поэтому Вадим Межуев, анализируя статус
культурологии, утверждает, что философия культуры — это не наука.
«Философия, — пишет он, — ставит вопрос не об объекте,
а о бытии. И культура для нее не объект познания, а лишь
570
способ, форма проявления, обнаружения человеческого
бытия, как оно раскрывается в данный момент времени.
Ученый может рассказать нам о разных культурах, как они
существуют объективно, для философа культура — то, что имеет
отношение к нам, живущим здесь и сейчас, что имеет тем
самым субъективную значимость и ценность. <...> Философия
делает возможным наше собственное существование в
культуре, тогда как наука лишь фиксирует культурное
многообразие мира безотносительно к вопросу о том, кто мы сами в
этом мире»1.
Я думаю, что Межуев не совсем прав. Во-первых,
гуманитарные и социальные науки тоже делают возможным наше
собственное существование в культуре. Во-вторых, философия как
способ конституирования новой жизни не исключает
философского познания, но оно будет ориентированным как раз на эти
формы. Именно философия в условиях кризиса и распада
культуры должна прокладывать дорогу для наук, особенно
гуманитарных и социальных. Например, сегодня мыслятся такие
задачи философии культуры: критика существующей техногенной
цивилизации и ограничения амбиций новоевропейской
личности, разработка идей выживания человечества, безопасного
развития, новых форм общения и коммуникации и других,
переориентация всех наук на решение этих и сходных задач.
Методологический дискурс. Основатель самой
влиятельной и большой методологической школы в России
Г. П. Щедровицкий в одной из своих работ четко определяет
признаки понятия методологии. Это работа,
предполагающая не только исследование, но и создание новых видов
деятельности и мышления; последнее, в свою очередь,
предполагает критику, проблематизацию, исследование,
проектирование, программирование, нормирование. Создание новых
видов деятельности и мышления Щедровицкий мыслит
преимущественно как «организацию» и «нормирование»
деятельности и мышления; «и этим же, — пишет он, — определяется
основная функция методологии: она обслуживает весь уни-
1 Межуев В. М. Философия — это суть европейской культуры // Философские
науки. -2000. -№ 1.-С. 82.
2 См.: Щедровицкий Г. П. Принципы... — С. 95—96.
571
версум человеческой деятельности прежде всего проектами
и предписаниями»1. Инженерное истолкование
методологической работы смыкается у Щедровицкого с оргуправленче-
ским. Методология стала складываться тогда, считает он,
когда стала «развертываться полипрофессиональная и поли-
предметная работа, которая нуждалась в комплексной и
системной организации и насаждалась в первую очередь оргуп-
равленческой работой, которая в последние 100 лет
становилась все более значимой, а после Первой мировой войны
стала господствующей»2.
Вторая особенность методологии — она «стремится
соединить и соединяет знания о деятельности и мышлении со
знаниями об объектах этой деятельности и мышления»*. Такая
работа предполагает специальную реконструкцию, где
показывается, что объекты, как они представляются нам
существующими, являются «подлинными лишь с исторически
ограниченной точки зрения», а на самом деле — это
организованности деятельности и мышления. Одно из следствий
подобного понимания онтологии состоит в том, что «в
методологии связывание и объединение разных знаний происходит
прежде всего не по схемам объекта деятельности, а по схемам
самой деятельности»4. Третья особенность методологии —
«учет различия и множественности разных позиций деятеля в
отношении к объекту»5.
Начиная с середины XX столетия методологические
школы, относящие к «частной методологии», складываются в
разных дисциплинах (в языкознании, социологии,
педагогике, философии науки и т. д.), ставя своей целью
интеллектуальное обслуживание и управление мышлением в данных
дисциплинах; при этом нет претензий на кардинальную
перестройку и включение этих дисциплин в новый
методологический органон, как на этом настаивал Г. Щедровицкий.
Приведу один пример, правда относящийся к более поздне-
1 Щедровицкий Г. П. Принципы... — С. 95.
2 Щедровицкий Г. Я. Методологический смысл оппозиции натуралистического и
деятельностного подходов // Избр. тр. — М., 1995. — С. 149.
3 Щедровицкий Г. П. Принципы... — С. 97.
4 Там же. -С. 99.
5 Там же. — С. 98.
572
му времени, — методологические проблемы биологии
В России в 80-х гг. сложилась полноценная
методологическая дисциплина, представители которой (С. Мейн, р. кар„
пинская, А. Любищев, А. Алешин, В. Борзенков, В. И. Назаров
К. Хайлов, Г. Хон, Ю. Шрейдер, //. Лисеев и ряд других1)
активно обсуждают кризис биологической науки и мышления,
анализируют основные парадигмы этой науки, намечают
пути преодоления кризиса, предлагают новые идеи и
понятия, необходимые для развития биологии. Стоит обратить
внимание: с одной стороны, никакой «панметодологии», как
у Щедровицкого, но, с другой — все же недостаточное
осознание специфики собственно методологической работы.
Особенностью «частной методологии» является не
только неприятие установок панметодологии, но и другое
понимание нормативности методологических знаний. Частный
методолог понимает себя как действующего в кооперации с
предметником (ученым, педагогом, проектировщиком
и т. д.). Хотя он и предписывает ему, как мыслить и
действовать, но не потому, что знает подлинную реальность, а в
качестве специалиста, изучающего и конституирующего
мышление, такова его роль в разделении труда. Кроме того, он
апеллирует к опыту мышления, ведь, действительно,
мышление становится более эффективным, если осуществляются
критика и рефлексия, используются знания о мышлении,
если методолог вместе с предметником конституирует
мышление. Частный методолог использует весь арсенал
методологических средств и методов, понимая свою работу как об-
служивание специалистов-предметников, т. е. он не только
говорит им, как мыслить и действовать в ситуациях кризиса,
но и ориентируется на их запросы, в той или иной степени
учитывает их видение реальности и проблем, ведет с ними
равноправный диалог.
Для методолога в отличие от философа мышление —
основная реальность, его цель — создание условий для раз-
вития мышления, любых видов мышления: научного, инже-
1 См.: Белоусов Л. В. Целостность в биологии — общая декларация или основа для
конструктивной программы// Методология в биологии: новые идеи.
Синергетика. Семиотика. Коэволюция. — М., 2001.
573
нерного, художественного, методологического и т. д. Если
философия ориентирована на решение современных
экзистенциальных проблем и дилемм, на философски
понимаемые спасение и искупление, то методология — на развитие
деятельности, понимаемое в значительной мере в
технологическом ключе. Ценности и смыслы, стоящие за подобным
технологическим подходом, как правило, больше
ориентированы на ту же технологию и воспроизводство социума, чем
на отдельного человека с его частными (что не отменяет их
экзистенциальное™) жизненными проблемами.
На мой взгляд, сегодня необходимо говорить также о
формировании третьего направления методологии, которое
можно назвать «методологией с ограниченной
ответственностью». С одной стороны, методология с ограниченной
ответственностью — это нормальная методология, в том смысле
что она ориентирована на методологическое управление
мышлением в ситуациях разрыва или дисциплинарного
кризиса. Последнее предполагает рефлексию мышления
(предметного и методологического), исследование мышления,
критику неэффективных форм мышления,
распредмечивание понятий и других интеллектуальных построений, консти-
туирование новых форм мышления (сюда, например,
относятся проблематизация, планирование, программирование,
проектирование, конфигурирование, построение
депозитивов и др.), отслеживание результатов методологической
деятельности и коррекция методологических программ. С
другой стороны, методология с ограниченной ответственностью
старается опосредовать свои действия знанием природы
мышления и пониманием собственных границ.
Исторический дискурс. Говоря сегодня об истории,
обычно имеют в виду те или иные научные реконструкции
истории. Для таких реконструкций характерны три основных
момента: а) опора на исторические факты и исторический
материал; б) своеобразные принципы «непрерывности» и
«полноты» исторического объяснения (в соответствии с
ними история какого-либо явления описывается так, как
если бы историк точно знал границы этого явления и все ста-
574
дии его исторического изменения; ясно, что реализация этих
принципов всего лишь прием исторического объяснения)*
в) использование для исторического объяснения понятий и
средств определенных наук, например социологии,
психологии, семиотики, других гуманитарных наук. В результате
один и тот же исторический материал (сохранившиеся в
истории тексты, свидетельства, формы осознания) допускает
не одно, а множество теоретических осмыслений, в
результате чего разные историки воссоздают несовпадающие
истории.
Хотя иногда различные реконструкции генезиса
дополняют друг друга, все же чаще они находятся, так сказать, в
антагонистических отношениях. Естественное следствие
подобного положения дел — борьба за истину, за
правильный взгляд на исторический процесс, за поиски критериев
предпочтения одного исторического объяснения другим.
Один критерий предпочтения относительно очевиден.
Новая историческая реконструкция и осмысление не должны
увеличивать противоречия в системе исторических знаний.
Объясняя одно, нельзя запутывать весь круг проблем,
порождать глубокие антиномии в существующем
историческом предмете. Второй критерий предпочтения более
сложен и менее очевиден. Почему иногда кто-то создает новую
историческую реконструкцию, отказывается от
существующих исторических знаний, критикует и зачеркивает их?
Потому, что этот некто — носитель другой культуры мышления,
представитель другого научного сообщества. Как правило,
исторические реконструкции периодически обновляются и
переписываются (перевоссоздаются) на основе
современных гуманитарных способов научного мышления. Со всей
определенностью нужно сказать: история — гуманитарная
дисциплина со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Сегодня в рамках гуманитарного подхода одним из
наиболее перспективных видится именно культурологический
подход. Здесь история мыслится как осуществляющаяся в
виде (в форме) сменяющих друг друга культур. Культуры —
575
это своеобразные устойчивые узлы и формы, в которых
процессы эволюции и истории приобретают константный
однородный характер. При гибели одной культуры и образовании
следующей процессы эволюции и истории резко
видоизменяются. Интерес культурологов к истории культуры,
конечно, может быть различным. Его может интересовать история
культуры, например, с точки зрения того, как складывались
те или иные культурные традиции или определенные
области (сферы) культуры, какие исторические предпосылки
предшествовали той или иной культуре, какие факторы
повлияли на изменения в культуре или ее гибель и т. д. и т. п.
Но поверх этих различных (специфичных для отдельного
исследователя) интересов, вероятно, проходит еще один
глобальный интерес — стремление уяснить, что именно
предшествующие или другие культуры, которые мы изучаем,
дают для понимания современной цивилизации, нашего
времени и культуры, для лучшего понимания нас самих.
Например, В. С. Библер так осознает связь прошлых
культур с современностью. Он пишет: «Вообще,
современное мышление строится по схематизму культуры, когда
"высшие" достижения человеческого мышления, сознания,
бытия вступают в диалогическое общение с предыдущими
формами культуры (Античности, Средних веков, Нового
времени). Аналогичное положение извечно угадывалось в
сфере искусства, той формы культуры, что всегда строится
не в процедуре "снятия", но в ситуации встречи (и
трагического сопряжения) уникальных и неповторимых
личностных феноменов. В XX в. даже ценностные и духовные
спектры разных форм культуры (Запад, Восток, Европа, Азия,
Африка, или, в пределах самой западной культуры, — античное,
средневековое, нововременное мышление) стягиваются в
одном культурном пространстве, в одном сознании и
мышлении, требуют от человека не однозначного выбора, но
постоянного духовного сопряжения, взаимоперехода,
глубинного спора в средоточии неких непреходящих точек
удивления и "вечных споров бытия". И в этом, в диалоге разных
576
культурных смыслов бытия, суть современного понятия
современной логики мышления»1.
Отметим еще, что история все больше становится те-
леологичной, ведь ее все больше определяют
сознательные усилия человека. Когда Бердяев говорил, что
история должна закончиться и ей на смену придет метаисто-
рия, то это можно понимать так, что наступит время,
когда сознательные усилия человечества действительно
будут определять его судьбу и, следовательно, ход
истории. Понимание истории помогает нам
конфигурировать, синтезировать различные аспекты и понятия
реальности, так сказать, цементирует разнородные ее
части. С философско-методологической точки зрения
история представляет собой определенный способ консти-
туирования жизни, а именно за счет связывания ее с
предыдущими и последующими состояниями. При этом
историк так выделяет и истолковывает прошлое,
настоящее и будущее, чтобы они становились для него
значимыми. Например, выделение золотого века или
божественного происхождения людей в Античности позволяли
грекам ощутить ценность своего текущего
существования и открывали перспективу для будущего. Помещая
себя в историю, человек тем самым придает значение
своим действиям и поступкам. Он рассчитывает не
только на то, что будет существовать в будущем, но также на
то, что это будущее будет значимым для него. В этом
смысле история образует основание для любой
социально значимой реальности. Для человека история — это
не только место (арена) социальных событий, но
ценностное пространство его собственной жизни.
Если анализировать формирование науки по отношению
к практике, то приходится выделять еще несколько ее
подразделений, лежащих как бы перпендикулярно к
указанной выше типологии (античная наука, естественная, гума-
нитарная, нетрадиционная). Вот один из примеров такого
1 Библер В. С. Школа диалога культур. — М., 1992. — С. 6—7.
37. Заказ №4180
577
подразделения, рассмотренных на материале психологии и
педагогики.
Практико-ориентированные («диспозитивные»)
дисциплины. Здесь сначала создаются «диспозитивные схемы»,
обеспечивающие понимание и конституирование действий,
составляющих суть (нововведение) новой психологической
или педагогической практики («диспозитив», буквально
«распределение», «структура» — термин М. Фуко).
Примером таких схем и практических нововведений является метод
гипноза и свободных ассоциаций в ранних работах 3. Фрейда
или конструирование учебного предмета в работах Я. Ко-
менского, И. Песталоцци, Ф. Фребеля. Затем
диспозитивные схемы объективируются относительно идеальной
действительности психики или изменений человека в сфере
обучения. В результате диспозитивные схемы удается
истолковать в качестве идеальных объектов, задающих
принципиально новые аспекты (целостности) психики или развития
человека в обучении. Таким образом, например, были
построены фрейдовское представление о трех инстанциях
психики (сознательной, предсознательной и бессознательной) и
представления о развитии человека и образовании в трудах
Коменского, Песталоцци и Фребеля. Дальше познание в
практико-ориентированных дисциплинах как
разворачивается в рамках новой действительности, заданной
идеальными объектами, так и по-прежнему строится под влиянием
диспозитивных схем, которые теперь координированы с
идеальными объектами.
Обобщение данного подхода позволяет утверждать, что
продуктом современного практико-ориентированного
мышления является построение дисциплины (назовем ее
«диспозитивной»), включающей организованные мыслью
знания, понятия, схемы, идеальные объекты. В
функциональном отношении диспозитивная дисциплина
ориентирована на решение трех основных задач. Она описывает и
позволяет объяснить явление (объект изучения), которое
интересует «дисциплинария» (термин С. В. Попова), напри-
578
мер, образования, здоровья, психики, техники и т. п. Может
быть использована для социально значимого влияния
(воздействия) на данное явление. Наконец, позволяет дисцип-
линарию при создании этой дисциплины реализовать себя.
Можно сформулировать следующие принципы научной
работы, ориентированной на построение диспозитивной
дисциплины.
—- Мысль о явлении — это мысль исследователя (ученого); в
этом смысле она выражает его (и априорное, и
апостериорное) видение данного явления и отношение к нему,
включая понимание им возможности воздействовать
(влиять) на это явление.
— Современная мысль, как правило, разворачивается в
поле мыслительной коммуникации, где действуют
другие дисциплинарии (мыслители), которые сходный
материал и проблемы видят и объясняют иначе или
противоположно. Необходимое условие правильной
мысли — осмысление этих взглядов, ассимиляция того в
них, с чем можно согласиться, аргументированное
отклонение представлений, с которыми нельзя
согласиться.
— Для того чтобы сформировать отношение к взглядам
основных коммуникантов, необходимо анализировать
соответствующие дискурсы и концепции. Например,
дискурсы и концепции образования, здоровья, психики,
техники. Под дискурсом нужно понимать не только то, о
чем писал Фуко. Дискурс некоторого явления —- это
определенный способ его осознания, мышления и
языкового выражения, в той или иной форме включающий в
себя определение характера воздействия на это явление.
Вспомним, например, как определяет «технодискурс»
Д. Жанико.
В отличие от дискурса концепция предполагает
определенное (философское или теоретическое) объяснение
феномена. Можно предположить, что концепции техники
разворачиваются в рамках определенных дискурсов.
37*
579
— Выработка отношения ко взглядам основных
коммуникантов предполагает самоопределение дисциплинария
по меньшей мере в двух отношениях: в плане
определения характера воздействия на изучаемое явление (будем
такое воздействие называть «социально значимым
действием») и в плане понимания сущности изучаемого
явления. Например, М. Хайдеггер предпочитает такой тип
воздействия на технику, который распространяется
прежде всего на самого мыслящего (Хайдеггера),
«выслушивающего голос судьбы», «ощутившего опасность
техники», «понявшего необходимость мыслить технику
иначе»; сущность же техники Хайдеггер определяет как
«постав». Сам я склонен следовать поздней концепции Фуко
(необходимость выслушать реальность, нащупать
тенденции ее изменения, соотнести свои действия с этими
тенденциями, контролировать форму и характер этих
действий). Кроме того, подобно Хайдеггеру, считаю, что
начинать надо с самого себя, меняя собственное
мышление. В отношении же других допустим только метод
убеждения, который нужно проводить последовательно.
Сущность явлений задается априорно, до всякого
исследования, напротив, она нащупывается в процессе изуче-
ния-конституирования. Тем не менее, как и любой
мыслитель, ученый не может не следовать каким-то традициям,
несвободен от них. В частности, я как представитель
методологической школы мышления склонен описывать явления в
горизонтах истории, культуры, культурного или
индивидуального сознания, деятельности, языка (семиозиса).
Обязательность именно таких, а не каких-то других представлений, на
мой взгляд, должна корректироваться критикой и
рефлексией собственной мыслительной работы, а также живым
ощущением предмета.
Выявление сущности явления включает в себя
объективные процедуры познания и объяснения и, следовательно,
проблематизацию, эмпирическую верификацию,
построение идеальных объектов, понятий, системную организацию
знаний.
580
— В методологическом отношении сущность явлений
задается понятием «диспозитив». Под диспозитивом
некоторого явления можно понимать схему (описание) этого
явления как идеального объекта, содержащую отдельные сто-
роны (планы, составляющие) этого объекта, причем такая
схема в той или иной степени учитывает анализ дискурсов,
развернутых по поводу данного явления, позволяет
объяснить проблемы, относящиеся к этому явлению, создает
возможность воздействия на него. Диспозитив задает хотя и
целостное, но гетерогенное представление объекта. В
модальном отношении этот объект может быть опознан как
«объект возможный» (например, возможная техника,
возможное образование, возможный человек), поскольку
мыслящий, анализируя дискурсы, проблематизирует
ситуацию как неудовлетворительную и имеет намерение
воздействовать на интересующее его явление. Строение
возможного объекта проясняется, уточняется и
конкретизируется (а также пересматривается, если это
необходимо) в ходе дальнейших исследований и при создании
дисциплины, описывающей и объясняющей этот объект.
При построении этой дисциплины диспозитив
используется в качестве методологической план-карты, а также
конфигуратора возможного объекта (именно поэтому
такую дисциплину можно назвать диспозитивной).
— Помимо того, что сущность рассматриваемого явления
конституируется в соответствии с дискурсами и
характером социального действия, который нащупывает и
начинает осуществлять мыслящий, сущность явления должна
быть соотносима также с «предельными горизонтами»
его описания. Под последним понимается выработка при
изучении явления отношения к истории и социальности
(социальным практикам, социальному опыту,
социальным отношениям и т. п.). Например, идея техники как
постава вполне соотносится с хайдеггеровским
пониманием возможности влиять на технику. Одновременно
Хайдеггер прописывает технику в истории, сопоставляя
581
ее с античным техне, и утверждает, что, не исключено,
дальнейшее развитие техники опять повернет к идее
слияния техники с искусством. В плане социальных
отношений Хайдеггер возражает против власти техники над
природой и человеком, показывая, что фактически эта власть
есть возникшее в последние два века определенное
направление развития социальности.
— Необходимым условием мыслительной коммуникации
является рефлексия и публикация мыслительной работы,
ее оснований и подходов, соотнесение своей точки
зрения и видения с позициями других дисциплинариев,
стремление сделать свой дискурс понятным.
Другое необходимое условие и мыслительной
коммуникации, и самого мышления — работа, направленная на
самого себя (на свое видение, понимание, мышление), на
изменение, если это необходимо, состояний своего сознания и
психики, так сказать, работа по приведению себя в такое
состояние, в котором впервые становится возможной
эффективное мышление.
Приведенные здесь принципы и методология
построения диспозитивных дисциплин, конечно, являются
идеалом, но без идеалов научная работа существовать не может.
Основные виды и оценки научных работ. Говоря о научных
работах, я включаю в них не только «научные исследования».
Сегодня все чаще используется понятие научного проекта
(исследовательского проекта), давно уже стали
традиционными представления о научных разработках. Можно
говорить и о научном обеспечении практики, научном
обосновании. Научные работы могут входить составной частью в
методологическую и философскую работу. Наконец, в
настоящее время мы часто говорим о методологических и
философских исследованиях как самостоятельной научной
работе.
В свою очередь, диссертационная работа, как правило,
рассматривается или как научное исследование, или как
просто квалифицированная научная работа. В обоих случаях
582
помимо научной стороны дела имеют в виду организацию и
возможность оценки этого дела. А именно к диссертациям
предъявляются требования научного качества и
возможность вынесения экспертного суждения (оценки) данных
работ. Последнее невозможно без демонстрации соискателем в
диссертации методов (методологии) работы, а также
специальной «упаковки» диссертационной работы (демонстрация
рассуждений, полученных результатов, обоснование и
прочие моменты).
Таким образом, в диссертациях важно различать два
плана: научную сторону дела (вид и тип научной работы) и
способы демонстрации и упаковки научной работы. Перейдем
теперь непосредственно к характеристике основных типов
научной работы.
Объяснение в теории определенного явления. Это,
пожалуй, наиболее типичная и стандартная научная задача. Есть
некоторая теория (например, теория деятельности А. Н.
Леонтьева или педагогическая концепция В. В. Давыдова), и
необходимо в ней описать (теоретически осмыслить) новый
интересующий исследователя феномен (скажем,
особенности восприятия детьми телевизионных мультиков). Этот
феномен существует в эмпирическом слое (т. е. это феномен
практики). Чтобы его ввести в теорию, как правило, сначала
феномен проблематизируется. Например, обсуждаются
такие проблемы, как влияние мультиков на художественное
видение детей, ориентация сознания на определенные,
обычно иллюзорные способы решения проблем и ситуации,
блокирование традиционных (чтение, слушание радио
и т. п.) форм восприятия и др.
Затем уже под углом данных проблем феномен
схематизируется, описывается. В результате он переводится в форму
эмпирических знаний (эмпирических закономерностей).
Например, фиксируются и систематизируются наблюдаемые в
практике или в специальных экспериментах особенности
детского восприятия мультиков.
583
Следующий шаг — построение идеального объекта,
который, с одной стороны, может быть истолкован как
теоретическое представление схематизированного феномена, а с
другой — как удовлетворяющий принципам выбранной
теории (восприятие мультиков представлено, по Леонтьеву, как
деятельность или ее составляющие; по Давыдову — как этап
умственного развития ребенка под влиянием телевизионных
образцов деятельности).
Чтобы ввести построенный идеальный объект в теорию
(при этом он часто уточняется и перестраивается),
необходимы специальные рассуждения и процедуры сведения,
включающие иногда построение новых схем. Параллельно
исследователь теоретически объясняет выделенный
феномен и снимает относящиеся к нему проблемы.
Типичные недостатки диссертационных исследований
здесь следующие: отсутствует реальная постановка проблем,
не различаются (смешиваются) эмпирический и
теоретический уровни, вместо построения нового идеального объекта
используются уже существующие в теории представления.
В результате исчезают критерии оценки эффективности
проведенного исследования.
Монодисциплинарное и комплексное прикладное
исследование. В данном случае для решения поставленной дисцип-
линарием практической задачи используется определенная
существующая теория. Например, чтобы объяснить, почему
при восприятии мультиков происходит блокирование
традиционных способов восприятия и что нужно делать для
снятия этой блокировки, можно обратиться к известной
теории установки Д. Н. Узнадзе.
Чтобы решить монодисциплинарную прикладную
задачу, сначала необходимо в выбранной теории создать
теоретическое представление, описывающее интересующее дис-
циплинария явление (т. е. объяснить в теории установки
факт блокирования традиционных форм восприятия и
описать механизмы блокирования). По характеру эта часть
научного исследования относится к предыдущему типу, но имеет
584
одну особенность. Так как исследование здесь нацелено на
решение прикладной задачи, проблематизация и идеальный
объект строятся так, чтобы обеспечить это решение.
Затем на основе построенного идеального объекта и
опирающихся на него теоретических объяснений дисциплина-
рий создает схемы и представления, которые используются
непосредственно для решения прикладной задачи (т. е. он
разрабатывает практические рекомендации, призванные
снизить или совсем снять блокирование при восприятии
мультиков традиционных способов восприятия).
В случае комплексного прикладного исследования дис-
циплинарий обращается к нескольким теоретическим
дисциплинам и поэтому вынужден интегрировать
(конфигурировать) заимствованные из них теоретические
представления. Для этого он строит диспозитивные схемы
(конфигураторы), которые объективируются и истолковываются как
изображения новой идеальной действительности
(собственно таким образом были получены многие психологические и
педагогические представления — деятельности, установки,
гештальта, образования, дисциплины, содержания обучения
и др.).
Типичные проблемы, относящиеся к данному типу
научных работ, таковы. Практические (прикладные) задачи
смешиваются с теоретическими. Проблематизация не связана с
установкой на решение прикладной задачи. Теоретическое
описание явления отрывается от прикладного контекста и не
переходит в построение схем и представлений, необходимых
для решения прикладной задачи. Не удается построить
диспозитивные схемы.
Построение новой теории (концепции, науки). Если иметь
в виду стандартные традиционные научные работы, то
построение новой теоретической концепции или теории тоже
достаточно распространенный тип работы. Начинается эта
работа нередко с критики существующих,
неудовлетворительных теорий и концепций, а также методологической
проблематизации. Примером такой критики и проблемати-
585
зации является статья Л. С. Выготского 1927 г.
«Исторический смысл психологического кризиса (методологическое
исследование)», где он оценивает как неудовлетворительные
существующие психологические концепции (психоанализа,
гештальтпсихологии, рефлексологии, персонализма), а
также идеалы науки и методологию, которые используют
психологи.
Следующий шаг — формулирование нового подхода и
методологии изучения, на основе которых дальше
формируются предмет и объект изучения. Так, с точки зрения
Выготского, «общая психология» (так он называет новую науку,
которую необходимо построить) должна создаваться в
рамках идеала и методологии естественной науки и изучать
наиболее общие черты и законы психологической
действительности1.
Формирование предмета и объекта изучения позволяет
перейти к построению идеальных объектов и дальше новой
теории. Действительно, реализуя программу, намеченную
Выготским, А. Н. Леонтьев строит теорию деятельности,
следуя классическим образцам научного исследования:
конструирует исходные идеальные объекты, сводит к ним
остальные случаи, описывает в теории феномены, образующие
заданный предмет, разрешает сформулированные на первом
шаге проблемы. Процесс построения и разворачивания
теории включает в себя также анализ контрпримеров (смотри
работы И. Лакатоса) и обоснование теории.
Поскольку, как мы отмечали выше, существуют по
меньшей мере пять идеалов науки {античный,
естественно-научный, гуманитарный, социальный, нетрадиционный), структура
работы для разных видов наук существенно различается.
Если ученый ориентируется на первый идеал, он стремится в
теории разрешить сформулированные им проблемы и
теоретически описать феномены, образующие сформированный
предмет, и только. Реализуя идеал естественной науки, он
вынужден экспериментально подтверждать свои теоретиче-
1 Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса // Собр. соч.:
В 6 т. -М., 1981. -Т. 1.
586
ские построения и ориентировать их на технические
приложения (прогнозирование изучаемых явлений и управление
ими). «Не Шекспир в понятиях, как для Дильтея, — пишет
Выготский в упомянутой статье, — но психотехника — в
одном слове, т. е. научная теория, которая привела бы к
подчинению и овладению психикой, к искусственному
управлению поведением»1.
Разделяя идеал гуманитарной науки, ученый стремится,
во-первых, реализовать свое видение действительности,
во-вторых, так объяснить эту действительность, чтобы в ней
нашлось место для него самого и другого человека. При этом
ученый-гуманитарий не должен экспериментально
подтверждать свои теоретические построения. Наконец, ученый,
разделяющий идеал социальной науки, должен быть
озабочен построением такой теории, которая бы отвечала
пониманию этим исследователем характера социального
действия и природы социальной действительности. Особый
случай образует сочетание отдельных подходов, например, ряд
крупных ученых искусно скрещивали естественно-научный
и гуманитарный подходы.
Обратим внимание, что в качестве самостоятельного
научного исследования может выступить не целиком весь
указанный здесь состав работ, а какая-нибудь одна его часть,
например, методологическая проблематизация и критика, или
экспериментальное обоснование теории, или построение
нового идеального объекта, или обоснование теории, или
разрешение контрпримеров и т. д. Это связано с тем, что
каждая такая часть общей работы может потребовать
значительных интеллектуальных усилий и организации и, кроме
того, может быть в определенной мере методически отреф-
лектирована.
Было бы излишним перечислять все отступления от
указанной здесь логики научных работ. Назовем лишь главные
из них: отсутствие методологической критики и проблема-
тизации, неразличение теоретической и эмпирической ра-
1 Выготский Л. С. Указ. соч. — С. 389.
587
боты, некритическое использование одного определенного
идеала науки (неразличение самих идеалов науки),
использование не по назначению отдельных научных работ
(например, экспериментов в гуманитарно ориентированной
психологии), ориентация теоретических построений на чужие
области применения (например, использование
естественнонаучных психологических теорий в педагогике).
Оптимизация (совершенствование) существующих
практик. Подобная оптимизация или совершенствование
осуществляются на основе определенных теоретических
представлений и схем, которые еще нужно построить. Первый этап
работы состоит в проблематизации и формулировании
требований к сложившейся практике, например,
педагогической или психологической. В результате ставится задача
оптимизации или совершенствования данной практики.
На втором этапе происходит поиск подхода или
теоретической дисциплины, которые бы обеспечили формирование
представлений, обещающих решение поставленной задачи
оптимизации или совершенствования. Часто для ее решения
существующие теории необходимо развернуть, например,
объяснить в них определенные феномены. Другой вариант —
построение диспозитивных (конфигурирующих) схем, на
которых объединяются представления нескольких
теоретических дисциплин. На третьем этапе на основе нащупанных
теоретических представлений и диспозитивных схем
вырабатываются рекомендации, позволяющие оптимизировать
или совершенствовать существующую практику.
В педагогических и психологических диссертациях
указанный тип научной работы встречается довольно часто, но
того же нельзя сказать о соблюдении правильной логики
исследования. Например, часто отсутствует проблематизация,
а теоретические представления и схемы не отвечают задаче.
Конституирование новой практики. Только на первый
взгляд это задача, относящаяся к практической
деятельности. Чтобы конституировать новую практику
(педагогическую или психологическую), необходимы методологические
588
и теоретические соображения и представления. Как
правило, становлению новой практики предшествует
определенный опыт нововведений. Например, предпосылкой
психоанализа выступал опыт работы с пациентами, накопленный
в работе И. Брейера и 3. Фрейда. Становлению большинства
педагогических теорий — новый опыт преподавания.
Рефлексия и описание накопленного опыта позволяют выделить
исходные диспозитивные схемы и теоретические
представления. Для Фрейда это были представления о
«подавленных», «защемленных», «противоположных» аффектах, а
также «гипноидных» состояниях души. В педагогике это целая
серия представлений: о содержании и целях обучения,
последовательности подачи этих содержаний, о роли обучения
в развитии учащегося, самом характере этого развития,
взаимоотношениях учителя с учениками и др.
На основе исходных диспозитивных схем и
представлений дисциплинарий (т. е. тот, кто конституирует новую
практику) создает идеальные объекты и строит диспозитив
возможного объекта. При этом он, как мы отмечали выше,
должен ориентироваться на проблемы и дискурсы, отреф-
лексированные и сформулированные в данной области
деятельности (практике). Иначе говоря, анализ проблем и
дискурсов — второе (первое — опыт нововведений)
необходимое условие конституирования новых практик. При
построении диспозитива возможного явления дисциплинарий
конфигурирует не только представления разных
теоретических дисциплин, но и основные стратегии социального дей-
ствия1.
1 «Что я пытаюсь ухватить под именем диспозитива, — пишет Фуко, — так это,
во-первых, некий ансамбль — радикально гетерогенный, — включающий в себя
дискурсы, институции, архитектурные планировки, регламентирующие
решения, законы, административные меры, научные высказывания, философские,
но также моральные и филантропические положения, — стало быть: сказанное,
точно также, как и не-сказанное, — вот элементы диспозитива. Собственно
диспозитив — это сеть, которая может быть установлена между этими элементами.
Во-вторых, то, что я хотел бы выделить в понятии диспозитива, это как раз
природа связи между этими гетерогенными элементами. Так, некий дискурс может
представать то в качестве программы некой институции, то, напротив, в
качестве элемента, позволяющего оправдать и прикрыть практику, которая сама по
себе остается немой, или же, наконец, он может функционировать как переосмыс-
589
Последний этап конституирования новой практики
состоит в построении диспозитивной дисциплины и ее
обосновании.
Новые педагогические и психологические практики
конституировались и раньше, но сегодня этому часто
посвящены докторские диссертации. При этом у их авторов, как
правило, отсутствует ясное понимание особенностей указанной
работы. Это и понятно, ведь опыт построения новых
практик еще не отрефлектирован.
Если говорить об упаковке и предъявлении научной
работы, то помимо уже известных, ставших в значительной
мере формальными моментов (указание на проблему,
задачи, методы, новизну, внедрение) нужно отметить
следующее. В настоящее время важно не только успешно провести
научную работу, но и публично продемонстрировать
реальный способ ее решения, а также соотнести свой подход с
существующими в научной культуре. В свою очередь, для этого
нужно и то и другое отрефлектировать и изложить для
читателя и других оппонентов в понятной форме. К сожалению,
культура осознания собственного подхода и работы пока еще
не стала нормой научной работы.
Специфической особенностью современной научной
работы является кооперация ученого и дисциплинария с
методологом и организатором (нередко все эти фигуры, как в
случае с Л. С. Выготским, совмещаются в одном лице).
Методолог помогает специалисту осуществлять правильную проб-
лематизацию, анализирует его средства и методы работы,
помогает наметить новые способы мышления и
деятельности. Организатор научной работы структурирует ее так,
чтобы работа могла быть осуществлена в намеченные сроки и
качественно. Кооперация специалиста с философом осуще-
ление этой практики, давать ей доступ в новое поле рациональности (мы бы
сказали, что в данном случае речь идет об условиях, обеспечивающих
трансформацию и развитие. — В. Р.).
Под диспозитивом, в-третьих, я понимаю некоторого рода — скажем так —
образование, важнейшей функцией которого в данный исторический момент
оказывалось: ответить на некоторую неотложность. Диспозитив имеет, стало быть,
преимущественно стратегическую функцию» (Фуко М. Указ. соч. — С. 368).
590
ствляется только в точках экзистенциального или
культурного кризиса, что, впрочем, характерно для нашего
тревожного времени глобальных кризисов, перемен и реформ.
В заключение отметим, что предложенная здесь
классификация видов научных работ и их оценок является
идеально типической (по М. Веберу), т. е. скорее методом и схемой
анализа, чем изображением конкретных видов научного
исследования.
591
Оглавление
Введение
3
Глава 1. Авторский подход к исследованию науки 35
1.1. Многообразие подходов и форм изучения
науки 35
1.2. Наука как объект эпистемологии
и конституирован ия 47
1.3. Принципы изучения науки 59
1.4. Метод культурно-исторической
реконструкции 76
1.5. Авторское понимание науки 83
Глава 2. Донаучный этап познания. Формирование
предпосылок науки в Древнем мире 87
2.1. В каком смысле можно говорить о познании
и науке в доантичный период 87
2.2. Понятия «знак» и «схема» 98
2.3. Знание и нерефлексированное познание ... 117
592
Глава 3. Становление античной личности, изобретение
рассуждений и их нормирование
как предпосылки философского и научного
познания 133
3.1. Кризис культуры древних царств 133
3.2. Античное общество и сообщества 136
3.3. Становление античной личности 139
3.4. Формирование и изобретение рассуждений. . . 145
3.5. Нормирование рассуждений 152
3.6. Формирование античной науки 171
3.7. Платоническая концепция любви 176
3.8. Особенности античной науки и теоретическая
рефлексия рассмотренного материала 181
Глава 4. Античная математика, физика и технические
науки 206
4.1. «Начала» Евклида — образец античной
математики 206
4.2. Формирование научного предмета в «Физике»
Аристотеля 224
4.3. Античная «техническая наука» 239
Глава 5. Трансформация представлений о мышлении
и науке в Средние века и эпоху
Возрождения 255
593
38. Заказ №4180
5.1. Рациональное познание и философия
в Средние века 255
5.2. Средневековые представления о науке
идвижении 265
5.3. Ренессансная революция в воззрениях
на природу и науку 271
Глава 6. Формирование естественной науки 285
6.1. Новая социокультурная ситуация —
предпосылка естествознания 285
6.2. Наука о движении и механике Галилео
Галилея 292
6.3. Формирование инженерии, естественной
науки, новой математики 308
Глава 7. Особенности гуманитарной науки 322
7.1. Предпосылки и социальный контекст
становления гуманитарной науки 322
7.2. «Воскрешение Лазаря» в интерпретации
В. Плугина 329
7.3. Две жизни Александра Сергеевича
Пушкина 337
7.4. Структура гуманитарной теории 359
Глава 8. Социальные науки 372
8.1. Социокультурный контекст
формирования 372
594
8.2. Особенности и специфика социального
познания 377
8.3. Эволюция представлений о власти в истории
европейской культуры 380
8.3.1. Власть царя, жрецов и знати 380
8.3.2. Аристотель о власти и государстве .... 389
8.3.3. Общество и борьба за власть в культуре
Средних веков 392
8.3.4. Формирование в XVIII—XIX вв.
политико-правового пространства
и гражданского общества 398
8.4. Понимание хозяйства, экономики
и богатства 403
8.4.1. Формирование хозяйства и экономики
в Древнем мире 403
8.4.2. Оценка богатства в античной культуре
и Новом времени 410
Глава 9. Нетрадиционные науки 424
9.1. Особенности нетрадиционного познания. . . 424
9.2. Духовная наука Эмануэля Сведенборга .... 437
9.3. Особенности каббалы как науки 445
Глава 10. Отдельные исследования 454
10.1. Условия мыслимости современного
познания, философии и науки 454
595
10.2. Европейское время и китайский сезон
в горизонте современного варианта
феноменологии 479
10.3. К проблеме трансляции в культуре нового
опыта 510
10.4. Математическая и предметно-
конструктивная стратегии конфигурирования
содержаний из разных предметов
при построении новой научной
дисциплины 537
10.5. Виды научных работ и критерии их
оценки 561
96
ИЗДАТЕЛЬСТВО Лицензия на издательскую деятельность ИД № 06106 от 23 10 01 г.
московского психолога социального
ИНСТИТУТА
Издательство создано в 1995 г. при Московском психолого-
социальном институте. Институт готовит специалистов в области
психологии, специальной психологии и социальной педагогики,
логопедии, а также в области права и экономики, социально-
культурного сервиса и туризма, лингвистики.
Авторами учебников и учебных пособий для высшей школы,
издаваемых институтом, являются известные ученые и
преподаватели, виднейшие специалисты в различных областях
гуманитарных наук, научная и преподавательская деятельность которых
широко известна не только в России и странах СНГ, но и далеко за их
пределами.
Для обеспечения учебного процесса Московским психолого-
социальным институтом издается в год более 200 наименований
научной, учебной и учебно-методической литературы,
разработанной на основе нового поколения государственных
образовательных стандартов и грифованной Министерством образования
и науки РФ и РИС Российской академии образования. Учебная
литература Московского психолого-социального института
востребована студентами и преподавателями вузов. Издаваемая
литература выходит в сериях: «Библиотека педагога-практика»,
«Библиотека социального работника», «Библиотека социального
педагога», «Библиотека школьного психолога», «Преподавание
психологии в школе», «Библиотека психолога», «Библиотека
логопеда», «Библиотека студента», «Библиотека юриста», «Библиотека
экономиста», «Библиотека менеджера» и др. Завершено издание
70 томов уникальной серии «Психологи Отечества», не имеющей
аналогов в мире. В 2004 г. вышли в свет первые издания новой
серии «Психологи России», в которой представлены работы ведущих
психологов России XX в.
Ознакомиться с полным ассортиментом изданий и сделать
заказ можно по адресу:
115191, Москва, 4-й Рощинский проезд, 9а.
E-mail: publish@col.ru или ipppk@yandex.ru
Справки о наличии книг, контейнерная отправка заказов,
заключение договоров на поставку литературы по тел./факс:
(495)234-43-15; 958-19-00, доб. 111.
ИЗДАТЕЛЬСТВО Лицензия на издательскую деятельность ИД № 06106 от 23 10 01 г.
московского психолога социального
ИНСТИТУТА
Издательство создано в 1995 г. при Московском психолого-
социальном институте. Институт готовит специалистов в области
психологии, специальной психологии и социальной педагогики,
логопедии, а также в области права и экономики, социально-
культурного сервиса и туризма, лингвистики.
Авторами учебников и учебных пособий для высшей школы,
издаваемых институтом, являются известные ученые и
преподаватели, виднейшие специалисты в различных областях
гуманитарных наук, научная и преподавательская деятельность которых
широко известна не только в России и странах СНГ, но и далеко за их
пределами.
Для обеспечения учебного процесса Московским психолого-
социальным институтом издается в год более 200 наименований
научной, учебной и учебно-методической литературы,
разработанной на основе нового поколения государственных
образовательных стандартов и грифованной Министерством образования
и науки РФ и РИС Российской академии образования. Учебная
литература Московского психолого-социального института
востребована студентами и преподавателями вузов. Издаваемая
литература выходит в сериях: «Библиотека педагога-практика»,
«Библиотека социального работника», «Библиотека социального
педагога», «Библиотека школьного психолога», «Преподавание
психологии в школе», «Библиотека психолога», «Библиотека
логопеда», «Библиотека студента», «Библиотека юриста», «Библиотека
экономиста», «Библиотека менеджера» и др. Завершено издание
70 томов уникальной серии «Психологи Отечества», не имеющей
аналогов в мире. В 2004 г. вышли в свет первые издания новой
серии «Психологи России», в которой представлены работы ведущих
психологов России XX в.
Ознакомиться с полным ассортиментом изданий и сделать
заказ можно по адресу:
115191, Москва, 4-й Рощинский проезд, 9а.
E-mail: publish@col.ru или ipppk@yandex.ru
Справки о наличии книг, контейнерная отправка заказов,
заключение договоров на поставку литературы по тел./факс:
(495)234-43-15; 958-19-00, доб. 111.