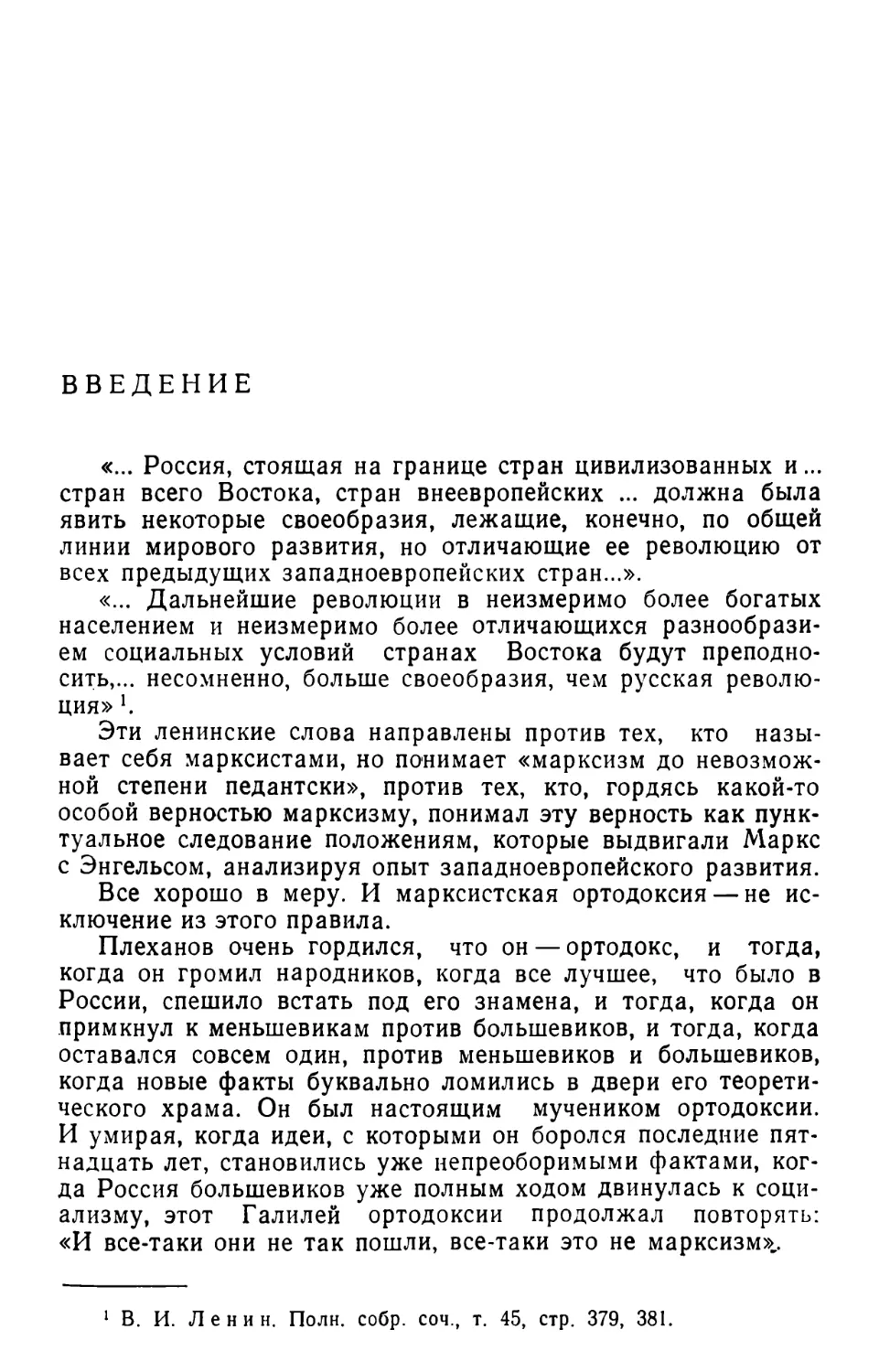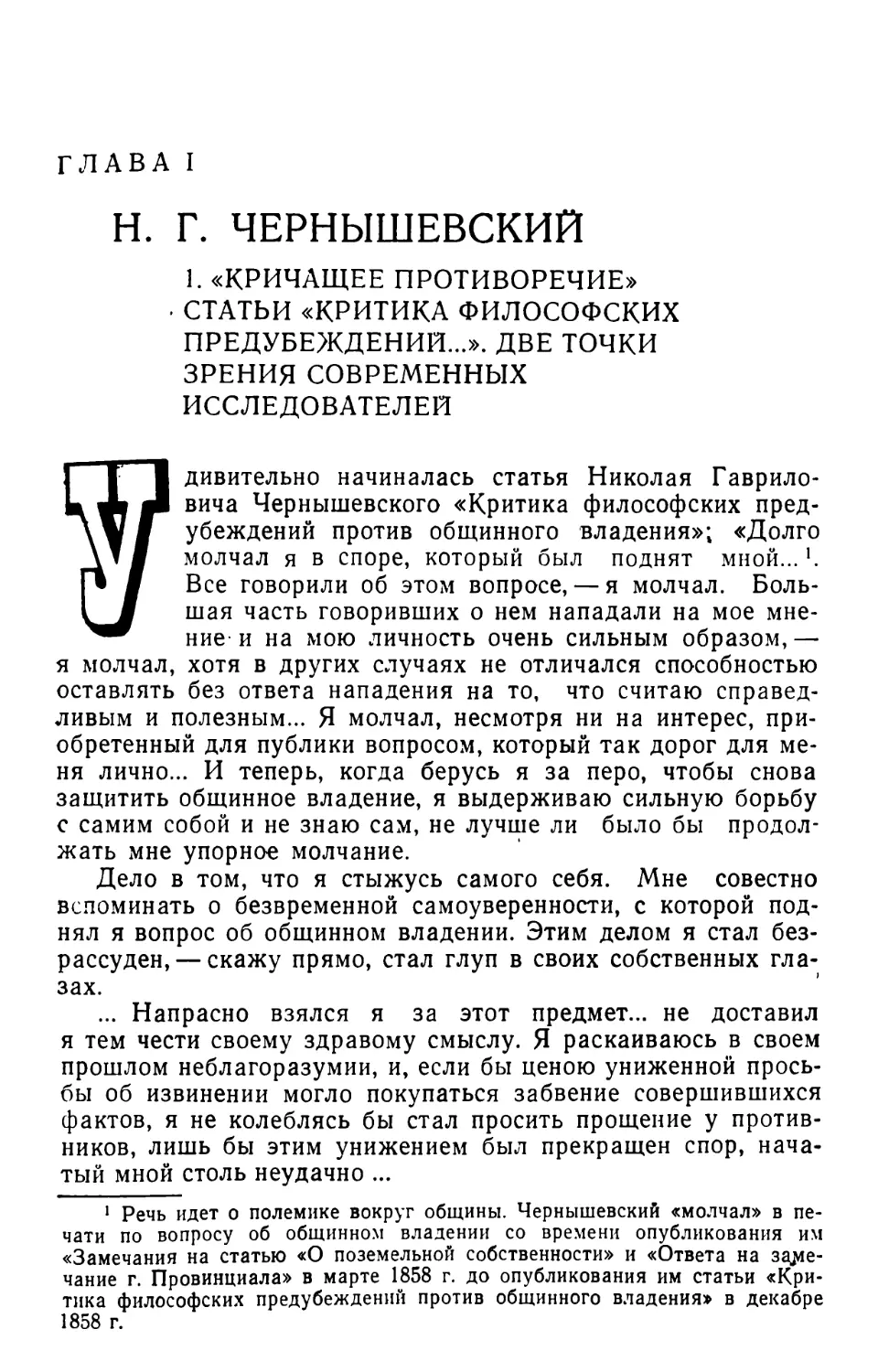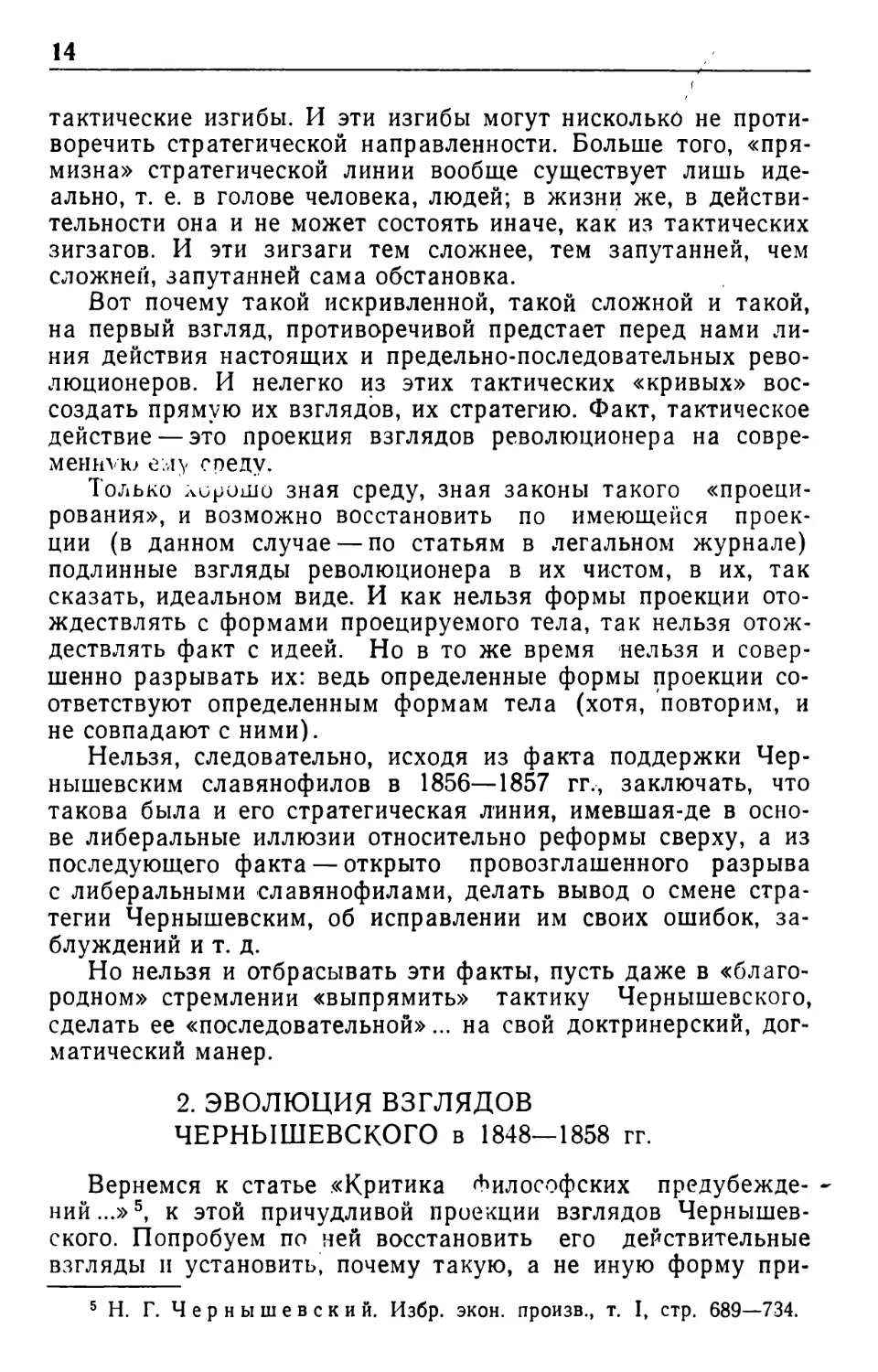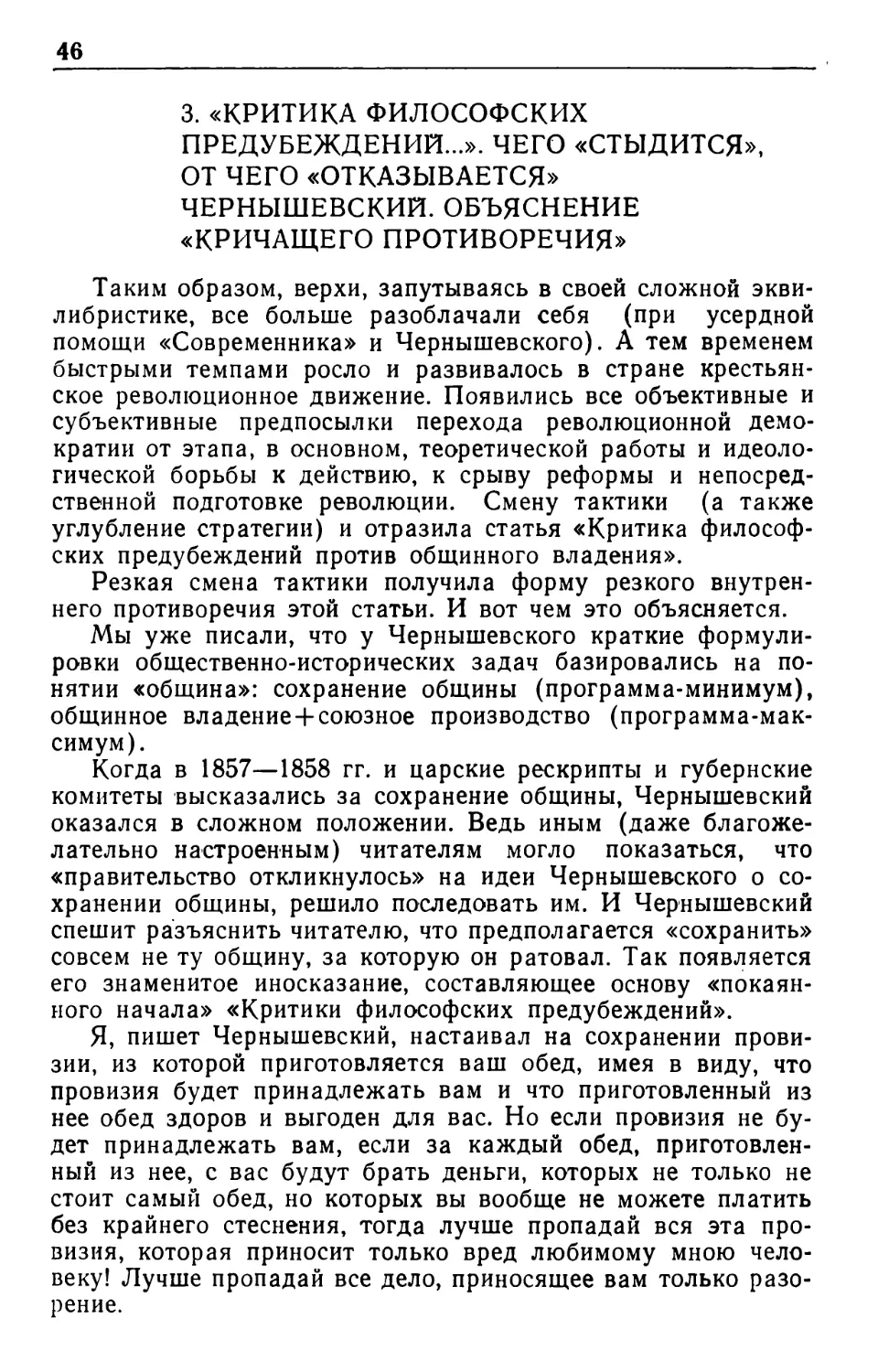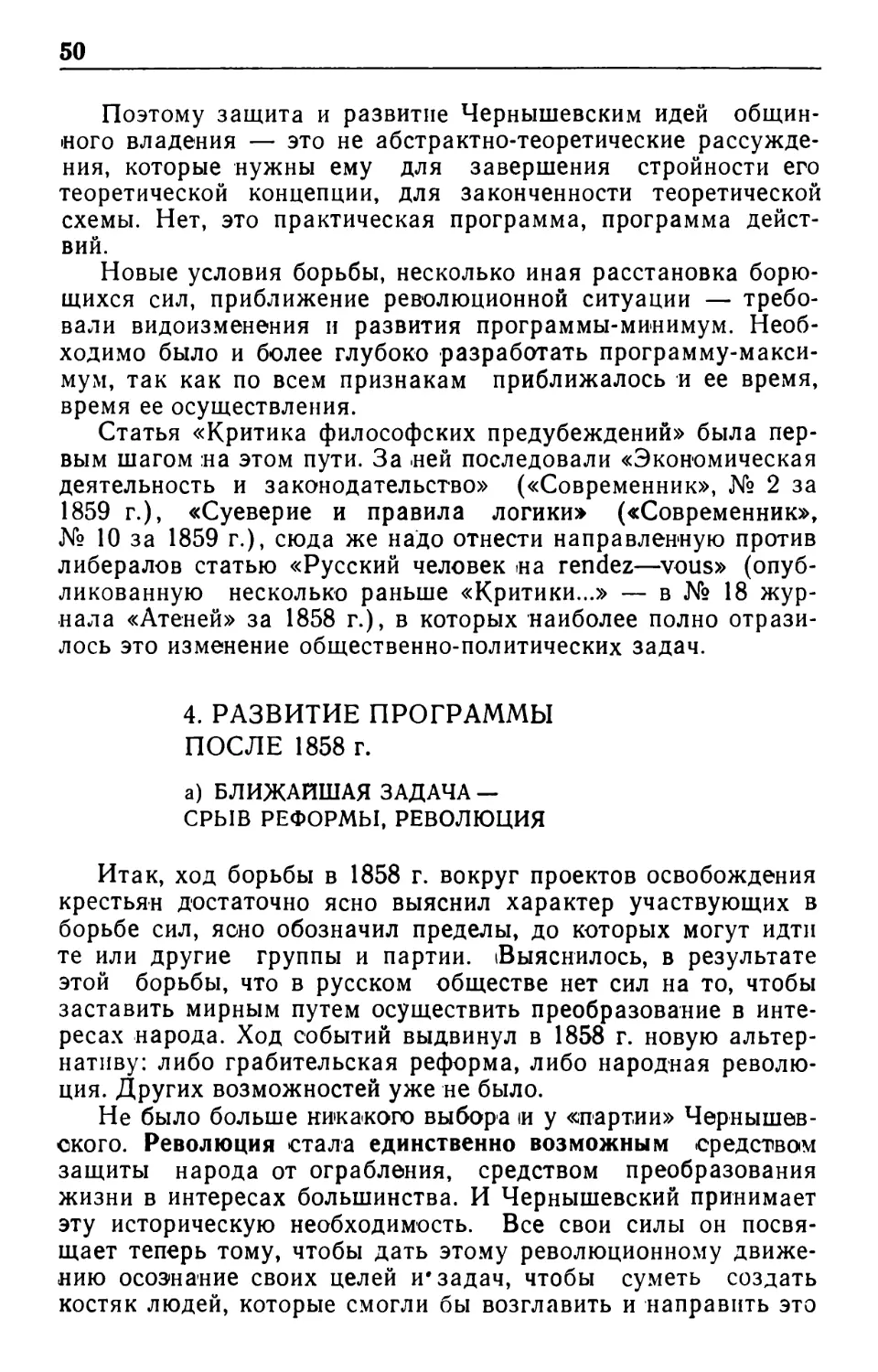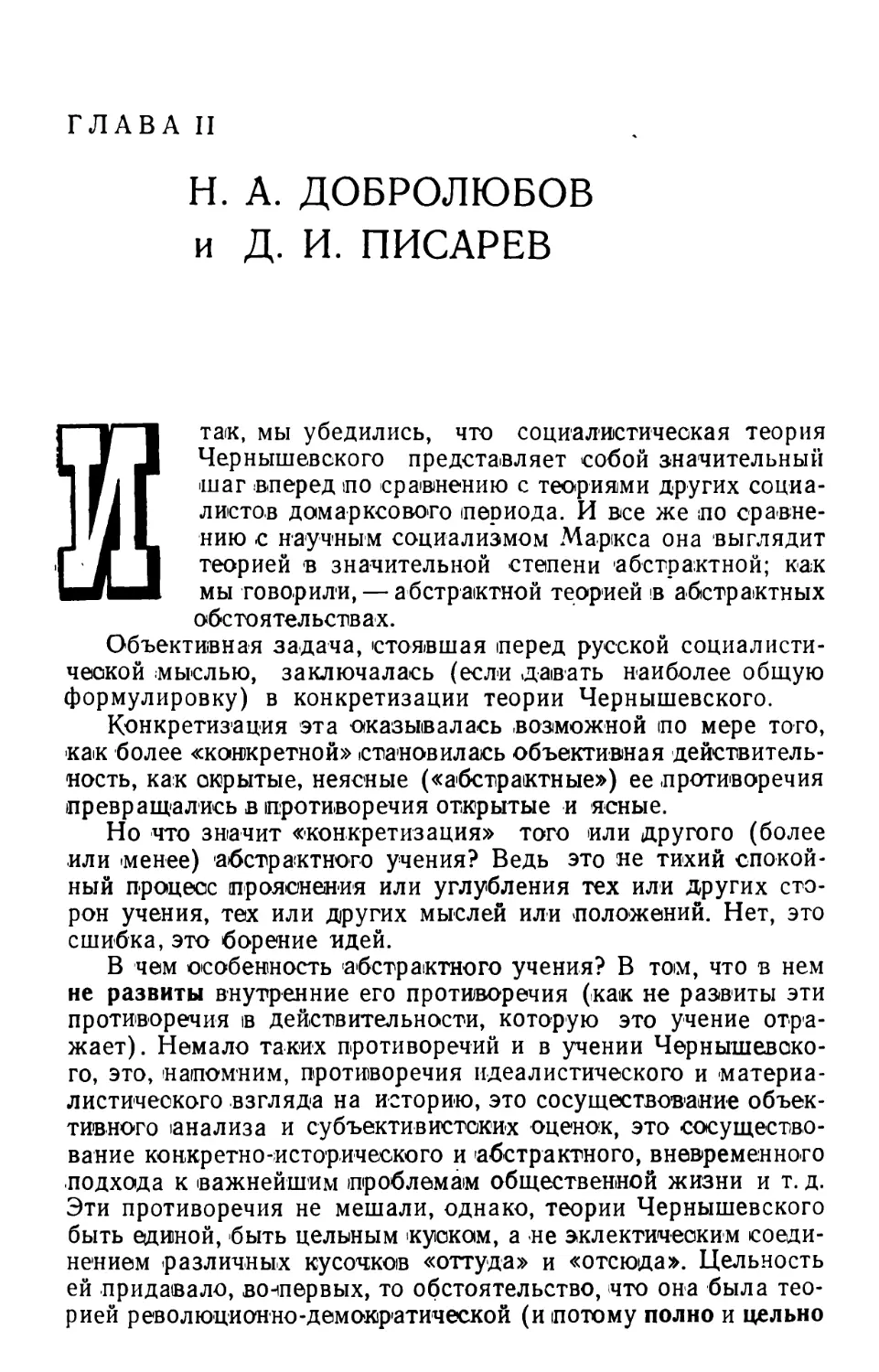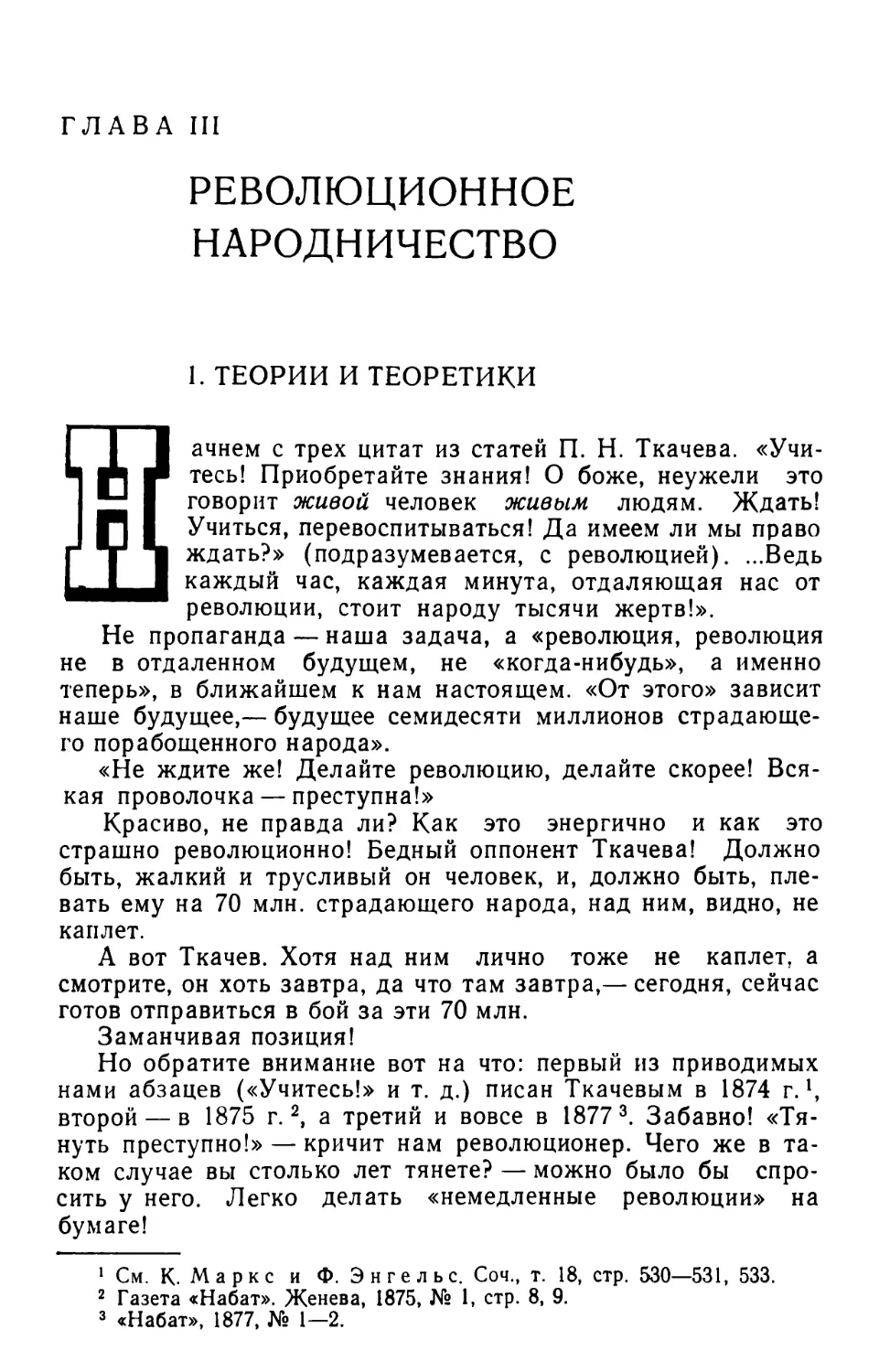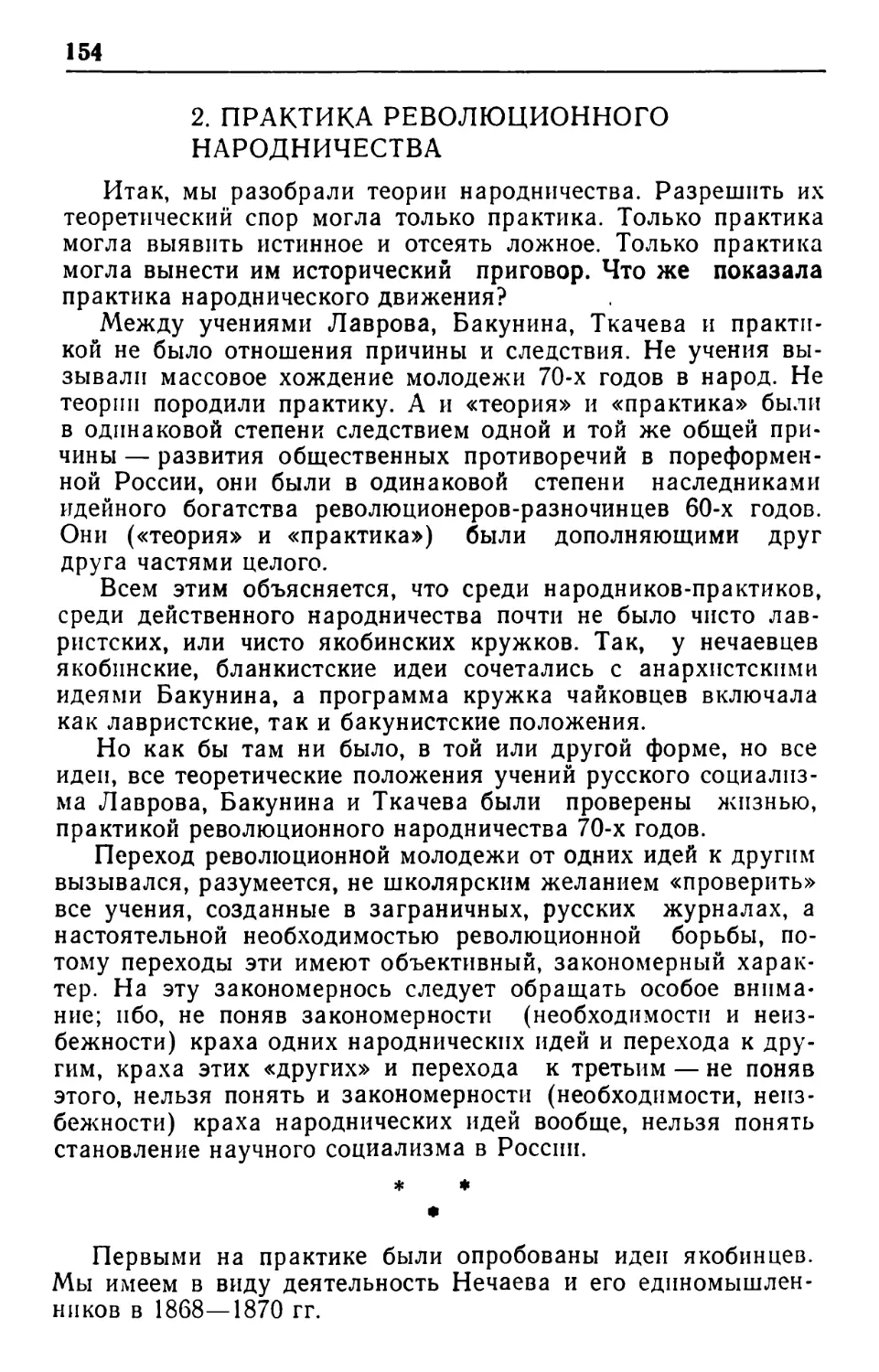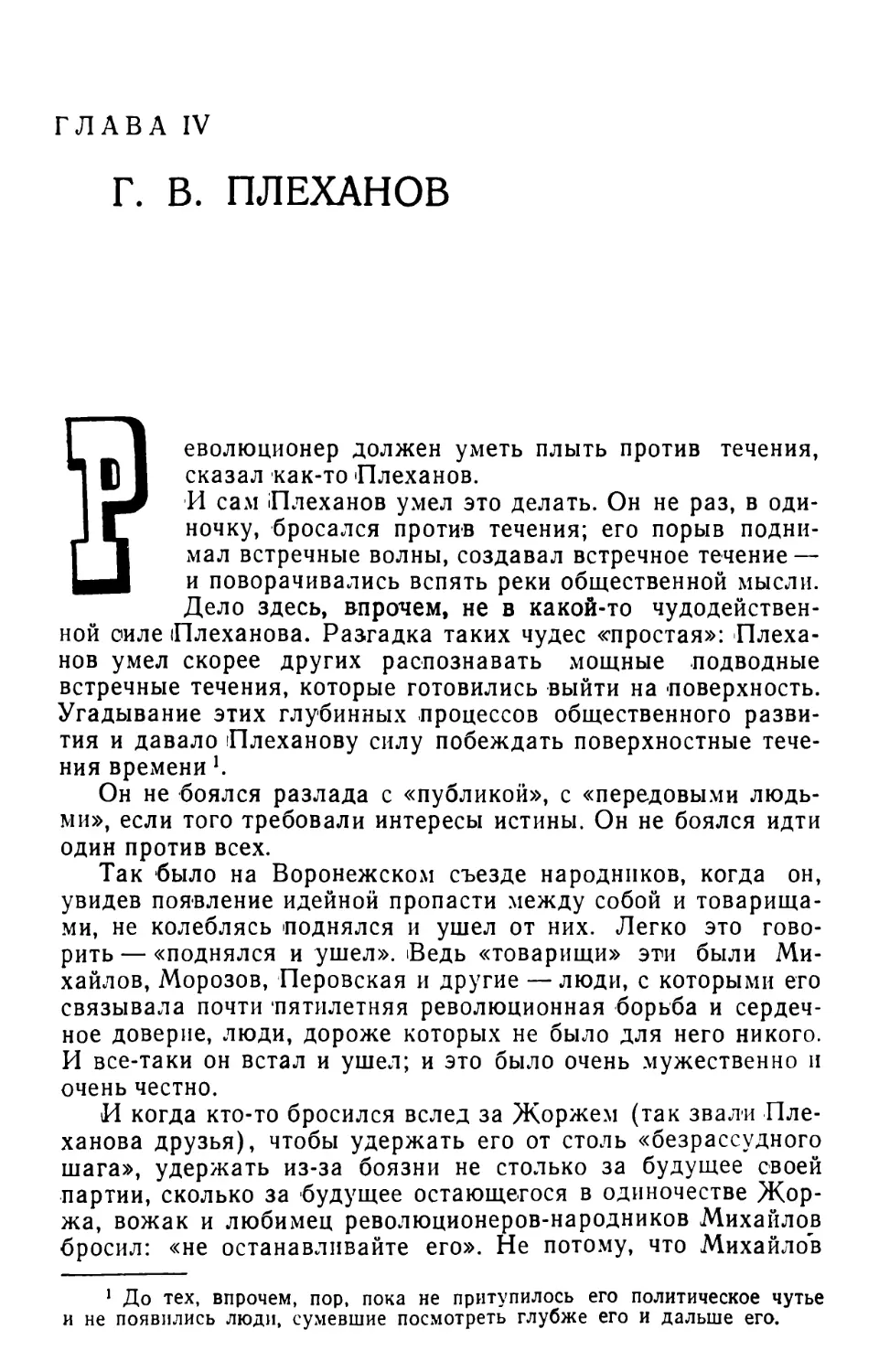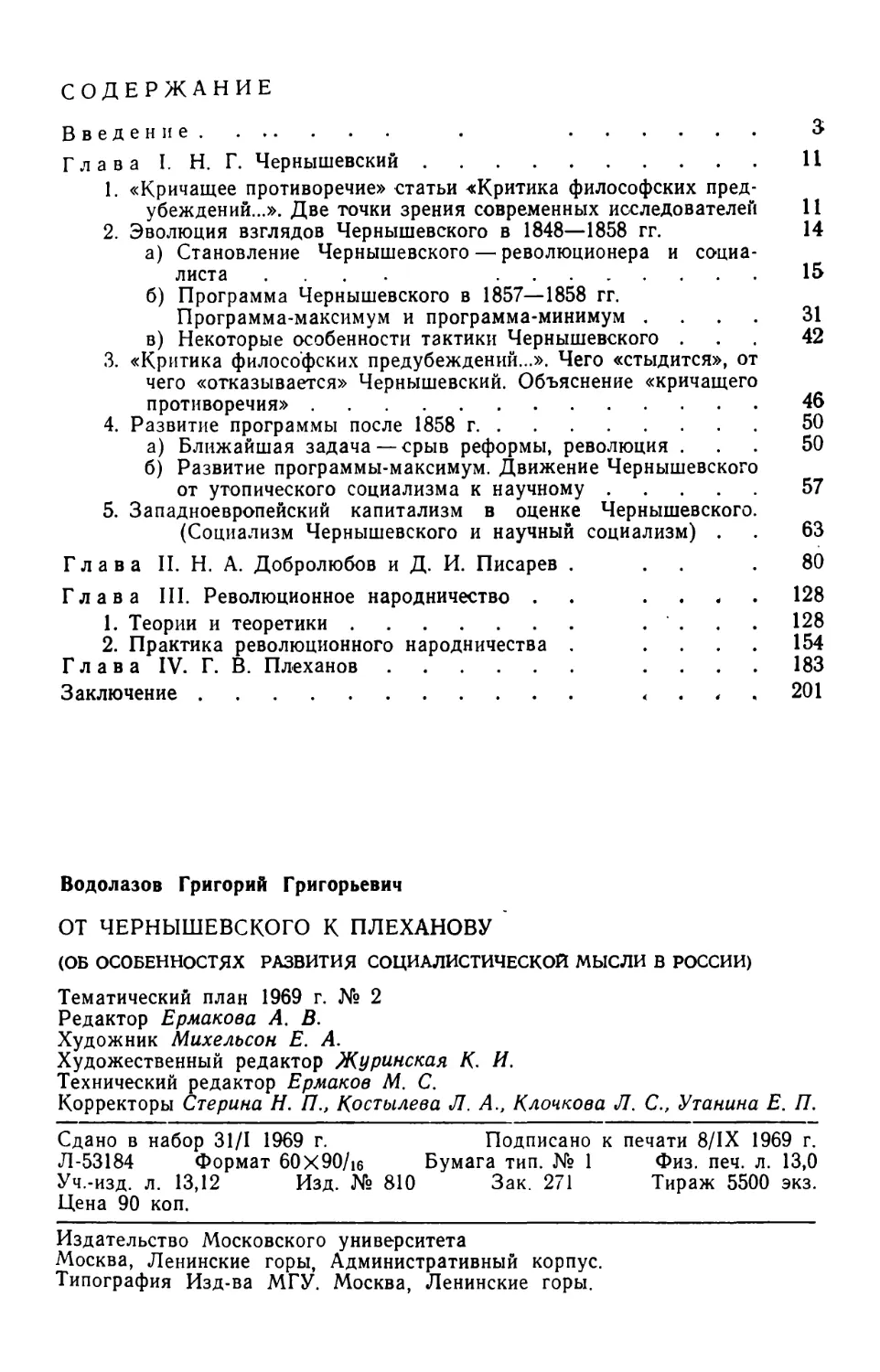Текст
Г. Г. ВОДОЛАЗОВ
ОТ ЧЕРНЫШЕВСКОГО
К ПЛЕХАНОВУ
(об особенностях развития
социалистической мысли
в России)
ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
19 6 9
Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Московского университета
ВВЕДЕНИЕ
«... Россия, стоящая на границе стран цивилизованных и...
стран всего Востока, стран внеевропейских ... должна была
явить некоторые своеобразия, лежащие, конечно, по общей
линии мирового развития, но отличающие ее революцию от
всех предыдущих западноевропейских стран...».
«... Дальнейшие революции в неизмеримо более богатых
населением и неизмеримо более отличающихся
разнообразием социальных условий странах Востока будут
преподносить,... несомненно, больше своеобразия, чем русская
революция» К
Эти ленинские слова направлены против тех, кто
называет себя марксистами, но понимает «марксизм до
невозможной степени педантски», против тех, кто, гордясь какой-то
особой верностью марксизму, понимал эту верность как
пунктуальное следование положениям, которые выдвигали Маркс
с Энгельсом, анализируя опыт западноевропейского развития.
Все хорошо в меру. И марксистская ортодоксия — не
исключение из этого правила.
Плеханов очень гордился, что он — ортодокс, и тогда,
когда он громил народников, когда все лучшее, что было в
России, спешило встать под его знамена, и тогда, когда он
примкнул к меньшевикам против большевиков, и тогда, когда
оставался совсем один, против меньшевиков и большевиков,
когда новые факты буквально ломились в двери его
теоретического храма. Он был настоящим мучеником ортодоксии.
И умирая, когда идеи, с которыми он боролся последние
пятнадцать лет, становились уже непреоборимыми фактами,
когда Россия большевиков уже полным ходом двинулась к
социализму, этот Галилей ортодоксии продолжал повторять:
«И все-таки они не так пошли, все-таки это не марксизм»,.
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 379, 381.
4
Это, по его мнению, — не марксизм потому, что «это»
противоречит ряду важных положений, сформулированных
Марксом. И главное состоит в том, что Россия «не доросла до
социализма», что нет «объективных экономических предпосылок»
для социалистического строительства, и потому «очередным
вопросом исторического дня является у нас теперь развитие
производительных сил на капиталистической основе»2.
Главным и любимейшим приемом Плеханова в борьбе с
инакомыслящими революционерами было показывать, что то
или иное утверждение противоречит такому-то утверждению
Маркса или Энгельса. И это почти всегда ему удавалось,
только... Только при этом он забывал одну из любимых своих
поговорок: «Я не хотел бы думать, как Вольтер, в то время,
когда бы Вольтер думал иначе».
Да, все хорошо в меру. Разумеется, говоря так, мы не
имеем в виду «златосерединный» обывательский принцип.
Мы говорим, что всякая теория хороша в той мере, в какой
она верно отражает общественное бытие; мы говорим: все
хорошо, что соответствует данной конкретной
действительности.
С этой стороны рассматриваемый марксизм есть не что
иное, как осмысление данной, конкретной исторической
действительности с точки зрения общих диалектико-материали-
стических принципов. Не догма, не символ веры, а
руководство к действию — так определял суть марксизма Энгельс.
Применять же педантски общие принципы к
своеобразным условиям (т. е. превращать марксизм в догму) —значит,
говоря словами Ленина, «издеваться над историческим
методом Маркса»3, суть которого состоит в его «революционной
диалектике»4.
Образец применения общих принципов марксизма к
своеобразным условиям общественного развития — ленинская
теория русской революции, которая и является реализацией,
конкретным воплощением принципа «марксизм — не догма...».
Мы говорим о конкретной реализации этого принципа, потому
что в общем, в абстрактном виде он, как и всякий другой
абстрактный принцип, ничего и никого не опровергает: не
было ведь, наверное, ни одного догматика, который не
признавал, что «марксизм—не догма...»—ибо какой же он был бы
тогда догматик, если бы не признавал эту, одну из главных
«догм» марксизма; и не было, наверное, ни одного ревизио-
2 Г. В. Плеханов. Новое правительство, буржуазия и
революционная демократия. «Единство», 1917, № 99. (Здесь и далее полужирный
шрифт в цитатах означает наше подчеркивание. — Г. В.)
3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 15, стр. 235.
4 В. И. Л е н и н. Полк собр. соч., т. 45, стр. 378.
5
ниста, который не взял бы эпиграфом к своим рассуждениям
этого положения. Только конкретное раскрытие данного
принципа, при анализе определенной исторической ситуации, дает
возможность успешно вести борьбу на два фронта с
«правым» и «левым» искажением марксизма, с догматизмом и
ревизионизмом, дает возможность ясно и четко отделиться от
тех и от других.
Основное, решающее с точки зрения определения
своеобразия русской социалистической революции сказано, как
известно, в одной из последних ленинских статей — «О нашей
революции».
В ней Ленин вовсе не возражает против тех общих
положений марксизма, которые на разные лады повторяли «герои
II Интернационала» и Плеханов в их числе: что для перехода
к социализму нужны такие предпосылки, как высокий
уровень производительных сил и высокий уровень культуры.
Ленин вовсе не оспаривает этого. Он оспаривает другое, а
именно то, что предпосылки эти должны, как уверяют
педанты, целиком и полностью, везде и всюду создаваться на
капиталистической основе; Ленин возражает против того, что
пролетариат, по уверению ссылающихся на
западноевропейский опыт педантов, не смеет взять власть до того, как
капитализм не исчерпает всех своих возможностей.
Да, по отношению к Западной Европе это было истиной,
а для России — нет. Потому, что Россия 1917 г. имеет
существенные особенности, отличающие ее от Западной Европы
вообще и от Западной Европы XIX в. в частности, от той
Западной Европы, которая была предметом анализа Маркса и
Энгельса. Ленин называет две главные из этих особенностей.
Первая — связана с мировой империалистической войной,
•в результате которой «буржуазия богатейших стран не может
наладить «нормальных» буржуазных отношений», тогда как
педанты считают эти «нормальные буржуазные отношения»
«пределом (его же не прейдеши)»5.
Вторая особенность — более капитального свойства. Она
коренится в своеобразии России как государства, стоящего
«на границе стран цивилизованных и стран, впервые этой
войной окончательно втягиваемых в цивилизацию, стран всего
Востока, стран внеевропейских...»6.
Как же сказываются эти особенности на своеобразии
русской социалистической революции? Они сказываются в
появлении возможности «иного перехода к созданию основных
5 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 379.
6 Там же.
6
посылок цивилизации, чем во всех остальных
западноевропейских государствах»7.
Суть этого перехода — слияние «крестьянской войны» с
рабочим движением, образование рабоче-крестьянской власти
и советского строя, на базе которого можно создать все
необходимые предпосылки цивилизации. «... Почему мы не
могли сначала создать такие предпосылки цивилизованности у
себя, как изгнание помещиков и изгнание российских
капиталистов,— пишет Ленин, — а потом уже начать движение к
социализму? В каких книжках прочитали вы, что подобные
видоизменения обычного исторического порядка недопустимы
или невозможны?»8. И дальше: «Слов нет, учебник,
написанный по Каутскому, был вещью для своего времени очень
полезной. Но пора уже все-таки отказаться от мысли, будто
этот учебник предусмотрел все формы развития дальнейшей
мировой истории»9.
Да, каждый шаг исторического развития, каждый новый
поворот истории требует от марксистов внимательного
рассмотрения своего мыслительного багажа — с тем, чтобы
своевременно выработать новые положения, соответствующие
новой исторической ситуации. Социализм — это беспрестанно
развивающееся учение. И это особенно верно сейчас, в
период, когда начали переходить к социализму страны Востока
(которые, по пророчеству Ленина, преподнесут, несомненно,
больше своеобразия, чем русская революция), когда
социализм пришел в Латинскую Америку, когда о социализме
горячо заговорила пробуждающаяся Африка. Вот почему за
последние годы так сильно возрос интерес к теоретическим
проблемам социализма, интерес, получивший у нас
отражение, например, в острой дискуссии, развернувшейся вокруг
проблем научного коммунизма 10, интерес, проявляющийся в
пристальном исследовании нашими учеными
социально-экономических проблем стран Азии, Африки и Латинской Америки.
О развитии социалистической теории и практики по-своему
свидетельствуют и серьезные расхождения внутри
международного коммунистического движения.
Изучение своеобразия современного социалистического
(коммунистического) развития, своеобразных форм перехода
государств с докапиталистической экономикой к социализму
(форм так называемого некапиталистического развития) —
одна из первоочередных задач марксистских философов, исто-
7 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 380.
8 Там же, стр. 381.
9 Там же, стр. 382.
10 См., например, материалы дискуссии по проблемам научного
коммунизма. «Вопросы философии», 1965, № 5.
7
риков, экономистов, социологов. И, конечно, плодотворное
изучение этих проблем невозможно без
историко-философского анализа своеобразия развития социалистической мысли в
странах, исторический путь которых отличался от
западноевропейского образца.
И здесь принципиальное значение имеет опыт развития
социалистической мысли в России, страны, переходной от
Запада к Востоку, страны, впервые поставившей вопрос об
историческом своеобразии развития отсталых стран к социализму;
пример России позволяет установить то направление, в
котором увеличивается своеобразие развития по мере движения
с Запада на Восток. Поэтому опыт, накопленный
социалистической мыслью нашей страны, небесполезен для стран Азии,
Африки и Латинской Америки. Этот опыт небесполезен для
всей мировой социалистической мысли, ибо современный
социализм немыслим без учения о некапиталистическом пути
развития отсталых стран, без глубокой разработки
диалектики общего и своеобразного в развитии современных
государств.
Характернейшей особенностью современного социализма
является необходимость рассматривать сущность и
перспективы развития отдельных стран, исходя не только из
производственных отношений данной страны, не только из ее
внутренних противоречий, но из совокупности мировых
производственных отношений, из экономических и прочих отношений
внутри других стран и их взаимодействия с отношениями
внутри данной страны. Экономическая структура
современной страны не есть более или менее замкнутая система,
отгороженная от всего мира и развивающаяся по своим
собственным, внутренним законам. Экономическая структура
современной страны есть часть общемировой экономической
структуры. Выяснение этого соотношения, внутреннего и внешнего,
национального и общемирового — одна из важнейших и
труднейших проблем современной социалистической науки. На эту
проблему обращал внимание уже Маркс (хотя в середине XIX в.
она лишь зарождалась): «Трудный вопрос заключается для
нас в следующем, — писал Маркс 8 октября 1858 г. в письме
Энгельсу, — на континенте (т. е. в Европе. — Г. В.)
революция близка и примет сразу же социалистический характер.
Но не будет ли она неизбежно подавлена в этом маленьком
уголке, поскольку на неизмеримо большем пространстве
буржуазное общество проделывает еще восходящее движение?»11.
То, что во времена Маркса было лишь в зародыше, что
было лишь объектом абстрактно-теоретического рассмотре-
11 К. M а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 29, стр. 295.
8
ния, теперь стало делом насущной практики, важнейшей
частью современной социалистической теории.
Цель изучения истории русского социализма,
следовательно, состоит в том, чтобы, говоря словами Гегеля, «путем
изучения истории этой науки быть введенным в самое эту
науку» 12, т. е. в данном случае — в науку современного
социализма (а как мы говорили, — Россия была первой страной,
где проблема общего и своеобразного стала одной из
решающих проблем исторического развития).
* *
*
Несмотря на всю свою несомненную важность, изучение
истории русской социалистической мысли, закономерностей ее
развития многие годы велось у нас довольно слабо.
Сравнительно активно проблемы развития «русского социализма»
обсуждались в 20-е годы и в начале 30-х годов 13.
Достоинство работ этих лет состоит, прежде всего, в постановке
проблемы о традициях русской общественной мысли, их связи
с ленинизмом. Однако совершенно естественная для того
времени недостаточная изученность творчества представителей
«русского социализма» и его отдельных течений нередко
приводила исследователей к ошибочным обобщениям,
обусловливала неисторичность целого ряда выводов. К числу
распространенных ошибок относится стремление датировать
рождение марксизма в России 70-ми годами XIX в. (Ю. М. Стек-
лов относит к марксистам чернопередельцев, Н. Л.
Сергиевский— П. Л. Лаврова, М. Н. Покровский — П. Н. Ткачева).
В указанной литературе ясно различимы две
противоположные концепции в оценке закономерностей развития идей
социализма. Сторонники одной из этих концепций по существу
отрицают своеобразие в развитии русского социализма. Они
стараются доказать, что социализм в России развивался точ-
12 Гегель. Соч., т. IX. М., Партиздат, 1932, стр. 11.
13 В этот период вышли книги: Ю. М. Стек л о в. Борцы за
социализм. М.—Пг., 1923 (первое издание вышло в 1918 г.); M. Н.
Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв. М., 1924;
Н. Л. Сергиевский. Партия русских социал-демократов. М.—Л., 1929;
В. Я. Кирпотин. Идейные предшественники марксизма-ленинизма в
России. М., 1931; П. Н. С а кул и н. Русская литература и социализм. М.,
1922. Следует упомянуть также статьи, появившиеся в эти годы: В. В.
Боровский. К истории марксизма в России. Соч., т. I. М., 1932 (статья
написана в 1908 г.); Б. Горев. Российские корни ленинизма. «Под
знаменем марксизма», 1924, № 2; и в особенности — дискуссию начала 30-х
годов, открывшуюся статьей: И. А. Теодорович. Историческое
значение партии «Народная воля». «Каторга и ссылка», 1929, № 8—9.
9
но так же, как на Западе м. Сторонники другой концепции —
напротив, подчеркивая своеобразие России и справедливо
говоря о том, что оно ясно обрисовалось в начале XX в. и что
острая идейная борьба большевиков и меньшевиков велась
именно вокруг вопросов, связанных со своеобразием России,
и что сама эта борьба была выражением своеобразия
развития социалистических идей в России, — справедливо говоря
все это, сторонники второй концепции стараются убедить
читателя, что зародыши большевистских и меньшевистских идей,
борьба большевистских и меньшевистских линий
существовали еще ... в период царствования Николая 115. Думается,
что и та и другая точка зрения далеки от того, чтобы
выяснить действительное своеобразие развития русского
социализма, чтобы раскрыть в этом своеобразии диалектику общего
и особенного.
В 30-е и 40-е годы появляется очень мало работ,
посвященных проблемам истории русского утопического
социализма. Заслуживает быть отмеченной интересная работа
Ш. М. Левина «К вопросу об исторических особенностях
русского утопического социализма» («Исторические записки»,
1948, № 26). В ней анализируются социалистические идеи
революционной демократии в основном шестидесятых годов.
После XX съезда партии, открывшего новые горизонты
перед исторической наукой, внимание исследователей к
проблемам развития русского утопического социализма заметно
возросло. В большом количестве стали выходить книги,
посвященные анализу взглядов отдельных социалистов, и что
особенно важно — появились книги, в которых авторы
сосредоточивают свое внимание на выяснении общих
закономерностей, свойственных тому или другому периоду в развитии
русской общественной мысли16. В ряде работ, вышедших в
14 См. В. Я. К и р п о т и н. Идейные предшественники марксизма-
ленинизма в России. М., ОГИЗ, 1931, стр. 22, 28.
15 M. Н. Покровский пишет о том, что Чернышевский был
«несомненно» родоначальником меньшевистской тактики, а «образчиком настроения
большевистского» — «знаменитая прокламация «Молодая Россия»
(M. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения
XIX—XX вв., стр. 59—60).
18 Среди последних — исследования: А. Л. Реуэль. Русская
экономическая мысль 60—70-х годов и марксизм. М., Госполитиздат, 1956;
Ш. М. Л е в и н. Общественное движение в России в 60—70-е годы XIX
века. М., Соцэкгиз, 1958; Ю. 3. Полевой. Зарождение марксизма в
России (1883—1894 гг.). М., Изд-во АН СССР, 1959; Б. П. Козьм ин.
Народничество на буржуазно-демократическом этапе освободительного"
движения в России. М., Изд-во АН СССР, 1959; В. A. M а л и н и н,
М.И.Сидоров. Предшественники научного социализма в России. М., Изд-во
ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1963; Б. С. Итенберг. Движение револю-
10
последние годы, ставится вопрос о необходимости выявления
«сквозных» линий в развитии русской общественной мысли,
разрабатываются методологические вопросы истории
общественной мысли России.
В данной книге автор ставит перед собой задачу — в
форме популярных очерков показать логику
развития.социалистических идей в России (в период от Чернышевского до
Плеханова), логику смены идей, перехода мысл:!-:елей от одних
идей к др;гт\\>, автор попытался охарактеризовать
своеобразие «русского социализма», своеобразие постановки и
решения им проблем общественного развития. Автор не стремился,
впрочем, выявить эту логику во всех ее подробностях и
ответвлениях. Выявление главных особенностей, объяснение
некоторых наиболее существенных переломных, переходных
моментов в истории «русского социализма» — вот задача
книги.
ционного народничества. Народнические кружки и «хождение в народ» в
70-х годах XIX в. М., «Наука», 1965; Э. С. В и л е н с к а я.
Революционное подполье в России (60-е годы XIX века). М., «Наука», 1965;
А. И. Володин. Начало социалистической мысли в России. М., «Высшая
школа», 1966.
ГЛАВА I
H. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
1. «КРИЧАЩЕЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ»
• СТАТЬИ «КРИТИКА ФИЛОСОФСКИХ
ПРЕДУБЕЖДЕНИИ...». ДВЕ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
дивительно начиналась статья Николая
Гавриловича Чернышевского «Критика философских
предубеждений против общинного владения»; «Долго
молчал я в споре, который был поднят мной... '.
Все говорили об этом вопросе, — я молчал.
Большая часть говоривших о нем нападали на мое
мнение и на мою личность очень сильным образом, —
я молчал, хотя в других случаях не отличался способностью
оставлять без ответа нападения на то, что считаю
справедливым и полезным... Я молчал, несмотря ни на интерес,
приобретенный для публики вопросом, который так дорог для
меня лично... И теперь, когда берусь я за перо, чтобы снова
защитить общинное владение, я выдерживаю сильную борьбу
с самим собой и не знаю сам, не лучше ли было бы
продолжать мне упорное молчание.
Дело в том, что я стыжусь самого себя. Мне совестно
вспоминать о безвременной самоуверенности, с которой
поднял я вопрос об общинном владении. Этим делом я стал
безрассуден,— скажу прямо, стал глуп в своих собственных
глазах.
... Напрасно взялся я за этот предмет... не доставил
я тем чести своему здравому смыслу. Я раскаиваюсь в своем
прошлом неблагоразумии, и, если бы ценою униженной
просьбы об извинении могло покупаться забвение совершившихся
фактов, я не колеблясь бы стал просить прощение у
противников, лишь бы этим унижением был прекращен спор,
начатый мной столь неудачно ...
1 Речь идет о полемике вокруг общины. Чернышевский «молчал» в
печати по вопросу об общинном владении со времени опубликования им
«Замечания на статью «О поземельной собственности» и «Ответа на
замечание г. Провинциала» в марте 1858 г. до опубликования им статьи
«Критика философских предубеждений против общинного владения» в декабре
1858 г.
у
12
Но довольно мне говорить о своих чувствах и о
собственной личности. Как бы то ни было, но пошло в ход глупым
образом начатое мной дело об общинном владении... Дело это
уже не может быть брошено. А если дело, которому лучше
было бы быть брошену, уже не может быть брошено, то
нечего делать, надобно участвовать в его ведении»2.
И Чернышевский посвящает этому делу, «которому лучше
было бы быть брошену», пятьдесят страниц журнального
текста— страниц наиболее блистательной защиты принципа
общинного владения.
В задумчивости остановился перед статьей Плеханов.
Странно, «с одной стороны, человек говорит, что он стал
«безрассуден», даже более — «стал глуп в своих собственных
глазах» потому, что защищал общину, а с другой — он опять
защищает ее, и защищает несокрушимым, по его мнению,
оружием. Что же это значит?»3.
На этот счет в нашей исторической науке нет
удовлетворительного ответа, хотя «Критика философских
предубеждений...» является одной из самых важных статей
Чернышевского, а многие совершенно справедливо называют ее даже
«переломной» — так резко меняется тон и характер
последующих статей Чернышевского. И вот эта-то «переломная
статья» по существу не понята. Так и остается неясным, что за
странно противоречивое отношение к общине у
Чернышевского, неясно, чего он стыдится, от чего отказывается?
* *
*
Есть две точки зрения. Одни исследователи видят в
«Критике философских предубеждений...» признание ошибок. Они
считают, что в 1856—1858 гг. у Чернышевского были
иллюзии относительно возможности «хорошей» реформы сверху.
Эти иллюзии сказались-де и на разработке вопроса об
общине и на характере политической борьбы Чернышевского; в
частности, обусловили поддержку, которую оказывал он
либеральным славянофилам (которые «тоже» выступали за
общину и «тоже» надеялись на реформу сверху). Но к концу 1858г.
иллюзии «хорошей» реформы у Чернышевского рассеялись,
он «окончательно убедился, что славянофилы не могут быть
полезны в борьбе против крайних правых групп» — об этом
2Н. Г. Чернышевский. Избр. экон. произв., т. I. М., Госполит-
издат, 1948, стр. 689, 690, 694.
3 Г. В. Плеханов. Избр. философ, произв. в пяти томах, т. IV. М.,
Соцэкгиз, 1958, стр. 174. О том, как сам Плеханов ответил на этот вопрос,
мы еще будем говорить.
13
он и написал в «Критике философских предубеждений...».
Короче, Чернышевский исправлял ошибку и открыто сказал об
этом.
— Но позвольте, — резонно возражают им оппоненты,
придерживающиеся диаметрально противоположной точки
зрения. — Этим можно объяснить «покаянное» начало статьи,
т. е. то место, где Чернышевский «стыдится» своих
выступлений в защиту общины. Но как же вы объясните, почему
после такого начала Чернышевский тем не менее продолжает
защищать общину, защищает и развивает свои прежние
взгляды? Хорошенькое «раскаяние»!
Вопрос законный, и первым ответить на него по существу
нечего. Можно только задать контрвопрос: «Но тогда, как же
понимаете вы?».
— А тут и понимать особенно нечего, — отвечают
«вторые». — Иллюзий насчет «хорошей» реформы Чернышевский
никогда не имел, никаких точек соприкосновения со
славянофилами у него никогда не было. А поэтому и незачем ему
«признавать ошибки». Не надо выдумывать лишних
проблем; «Критика философских предубеждений...» — просто
очередное выступление Чернышевского в защиту общины.
Вот и все.
— Да, но начало? Как вы тогда объясните начало статьи?
— Начало? Не придавайте ему особенного значения. Оно
употреблено в чисто полемических целях — с тем, чтобы
привлечь внимание читателей к этому вопросу.
Тоже не убедительно. Во-первых, что это за «полемические
цели» такие и почему к ним идут таким странным путем?
И потом, как это «точек соприкосновения» со славянофилами
не было?4
Вот и получилось: первые объясняют начало статьи, но
пасуют перед концом, вторые объясняют конец, но пасуют
перед началом. А правильнее сказать, и те и другие пасуют
и перед концом, и перед началом, потому что статья
Чернышевского едина, потому что начало и конец составляют одно
органическое целое, и это целое требует объяснения.
Толкователи статьи, несмотря на диаметральную
противоположность своих точек зрения, допускают одну и ту же
ошибку (вот уж, действительно, крайности сходятся!). Они
упустили из виду сложное диалектическое (т. е. противоречивое)
единство революционной стратегии и революционной
тактики, упустили из виду, что стратегическая линия борьбы под
влиянием обстановки необходимо принимает причудливые
4 См., например, ст.: Н. Г. Чернышевский. «Русская беседа» и
славянофильство. «Современник», 1857, № 3.
14
тактические изгибы. И эти изгибы могут нисколько не
противоречить стратегической направленности. Больше того,
«прямизна» стратегической линии вообще существует лишь
идеально, т. е. в голове человека, людей; в жизни же, в
действительности она и не может состоять иначе, как из тактических
зигзагов. И эти зигзаги тем сложнее, тем запутанней, чем
сложней, запутанней сама обстановка.
Вот почему такой искривленной, такой сложной и такой,
на первый взгляд, противоречивой предстает перед нами
линия действия настоящих и предельно-последовательных
революционеров. И нелегко из этих тактических «кривых»
воссоздать прямую их взглядов, их стратегию. Факт, тактическое
действие — это проекция взглядов революционера на
современную ему среду.
Только хорошо зная среду, зная законы такого
«проецирования», и возможно восстановить по имеющейся
проекции (в данном случае — по статьям в легальном журнале)
подлинные взгляды революционера в их чистом, в их, так
сказать, идеальном виде. И как нельзя формы проекции
отождествлять с формами проецируемого тела, так нельзя
отождествлять факт с идеей. Но в то же время нельзя и
совершенно разрывать их: ведь определенные формы проекции
соответствуют определенным формам тела (хотя, повторим, и
не совпадают с ними).
Нельзя, следовательно, исходя из факта поддержки
Чернышевским славянофилов в 1856—1857 гг., заключать, что
такова была и его стратегическая линия, имевшая-де в
основе либеральные иллюзии относительно реформы сверху, а из
последующего факта — открыто провозглашенного разрыва
с либеральными славянофилами, делать вывод о смене
стратегии Чернышевским, об исправлении им своих ошибок,
заблуждений и т. д.
Но нельзя и отбрасывать эти факты, пусть даже в
«благородном» стремлении «выпрямить» тактику Чернышевского,
сделать ее «последовательной»... на свой доктринерский,
догматический манер.
2. ЭВОЛЮЦИЯ взглядов
ЧЕРНЫШЕВСКОГО в 1848—1858 гг.
Вернемся к статье «Критика Философских предубежде- -
ний...»5, к этой причудливой проекции взглядов
Чернышевского. Попробуем по ней восстановить его действительные
взгляды и установить, почему такую, а не иную форму при-
5 Н. Г. Чернышевский. Избр. экон. произв., т. I, стр. 689—734.
\ '-?
\
няла эта проекция. Для этого нам придется начать
издалека — рассмотреть эволюцию взглядов Чернышевского на
общину и пути\ развития России в связи с эволюцией форм
и способов выражения этих взглядов в подцензурной печати
(приведшей к такому «кричащему противоречию» в «Критике
философских предубеждений...»).
а) СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО —
РЕВОЛЮЦИОНЕРА И СОЦИАЛИСТА
Для того чтобы пробраться, так сказать, к сердцевине
мировоззрения Чернышевского, чтобы обнаружить ядро его
программы, нужно немало потрудиться — петлять по сложным
хитросплетениям дорог его мысли, разгребать завалы на
этих дорогах, умышленно созданные им, а подобравшись к
ядру — осторожно очищать его от «упаковки».
Однако не надо думать, что ядро это составляет
единственную цель нашего «путешествия» по статьям великого
революционера. Нет, нас в неменьшей степени интересуют и
хитросплетения дорог на пути к этому «ядру», и секреты его
«упаковки». Нас интересует это потому, что все это не менее
важно, чем «ядро», потому что все это неотделимо от «ядра».
Не для того же настоящие революционеры составляют свои
программы, чтобы в кабинетной тиши любоваться своей
мудростью и своей логикой. Программы создаются для того,
чтобы сообщить их людям, чтобы позвать людей на их
осуществление. Поэтому путь к людям — это тоже часть
программы, часть революционной теории, часть революционной
науки. Ведь можно иметь великолепное понимание обстановки,
создать превосходную программу ее изменения, но так и
остаться с ней в четырех стенах. И какая тогда по существу
разница — была эта программа, было это понимание или нет.
Мысль осталась мыслью. На примере Чернышевского мы
увидим, как мысль превращается в дело, как люди умели
бороться в подлейшей обстановке российского царизма, когда,
казалось, всякая возможность борьбы исключена, мы увидим, как
умели они (даже в этой обстановке!) влиять на все события
в революционном духе. Что же это была за обстановка?
Это был конец царствования Николая I и начало
царствования Александра И.
*
Период, связанный с именем Николая I —один из самых
мрачных в истории России. Моровая полоса, идущая от 1825
16
z
до 1855 г. — так охарактеризовал его Герцен. «Вглядываясь
в темносерый фон, видны солдаты под палками, крепостные
под розгами, подавленный стон, выразившийся в лицах,
кибитки, несущиеся в Сибирь, колодники, плетущиеся туда же,
бритые лбы, клейменные лица, каски, эполеты, султаны...
словом, петербургская Россия»6. Человеческое уступило
место животному. Беззаконие стало законом. Дикая физическая
расправа стала будничной работой николаевских палачей.
«Имея в руках дикую власть, они не имеют даже того
звериного сознания силы, которое удерживает большую собаку
от нападения на маленькую»7. Николаевские собаки кусали
от злобы, кусали от трусости, кусали потому, что их за это
хорошо кормили; кусали на голодное и сытое брюхо, кусали,
едва успевая сплевывать кровь со своих клыков.
Да, это действительно была моровая полоса, время
сибирских рудников и белых ремней. Но оно (и, может быть, это
самое страшное!) убивало, как писал Герцен, не одними
рудниками и белыми ремнями, а своей удушающей, понижающей
атмосферой. Николаевское время было, по выражению
Герцена, временем нравственного душегубства.
И, наконец, еще более страшное, еще более тягостное
заключалось в том, что сколько-нибудь открытая борьба
против этого произвола, против этого деспотизма была
невозможна. Человек может быть счастлив в самой подлой, самой
угнетенной стране, если в руках у него винтовка,
если у него не отнята возможность (пусть даже на
суде, пусть даже в последней перед казнью речи) обратиться
к людям, к народу, через головы правителей. Но если крепко
стиснуты руки, если перехвачен полотенцем рот? Если «земли
нет под ногами», если «хотят кричать — языка нет... да нет и
уха, которое бы слышало»8? И лучшие люди становились
«лишними» людьми.
— Как это невозможна борьба? — воскликнет иной
читатель XX в.— Вы что же, оправдываете бездействие, пассив-*
ность? А Огарев, Герцен, в конце концов?
И, может быть, даже добавит победно: «В жизни всегда
есть место подвигу!».
В жизни действительно всему есть место. И между
прочим— глупости, или, скажем мягче, — наивности. Эта милая
наивность гнездится в нежных голубиных головах, о которых
иногда говорят со вздохом: «Святая простота». Она свята,
6 А. И. Герцен. Соч. в девяти томах, т. 5. М., Гослитиздат, 1956,
стр. 224.
7 Там же, стр. 78.
8 Там же, стр. 224.
\
17
потому что не замутнена ни одним корыстным или
материальным интересом. Но это — простота, потому что такой
человек сам не знает, о каких трудных и сложных вещах он
говорит. Он не понимает, что он спрашивает. Ему кажется,
что оправдывают пассивное отношение к жизни. Но причем
тут оправдание или осуждение! Можно ли оправдывать или
осуждать, скажем, тяжелораненого человека за то, что он
лежит в постели, а не идет, ну, скажем, играть в городки.
Можно, конечно, говорить, что ранения нетрудно было
избежать, или хотя бы избежать такого тяжелого ранения, и что
наш раненый наполовину сам виноват в своем тяжелом
положении, и т. д. Это другое дело. Но если ранение уже факт?
То здесь врач уже не занимается вопросом, можно или
нельзя было избежать. Он лишь констатирует: никаких городков,
более того — никаких движений, если хотите когда-нибудь
вообще двигаться; вам надо залечить раны и набраться сил.
Согласитесь, что заподозрить такого врача в том, что он
«оправдывает» бездействие — весьма наивно.
А разве в 1825 г. не была обескровлена, не была тяжело
ранена лучшая часть русского общества?
А вот вам и Герцен: «Господи, .какая невыносимая тоска!
Слабость ли это, или мое законное право? Неужели мне
считать жизнь оконченною, неужели всю готовность труда, всю
необходимость обнаружения держать под спудом, пока
потребности заглохнут, и тогда начать пустую жизнь. Можно
было бы жить с единой целью внутреннего образования, но
середь кабинетных занятий является та же ужасная тоска.
Я должен обнаруживаться, —ну, пожалуй, по той же
необходимости, по которой пищит сверчок, ... и еще годы надобно
таскать эту тяжесть!». «Мои плечи ломятся, но еще несут!».
И словно обращаясь к потомкам из другого века:
«... Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю
трагическую сторону нашего существования? а между тем
наши страдания — почки, из которых разовьется их счастье.
Поймут ли они отчего мы, лентяи, ищем всяких наслаждений,
пьем вино и прочее? Отчего руки не подымаются на большой
труд, отчего в минуту восторга не забываем тоски? Пусть же
они остановятся с мыслью и с грустью перед камнями, под
которыми мы уснем: мы заслужили их грусть!»9.
Ну что же, святая простота может бросить вязаночку
сухих слов — и подпалить немножко память Герцена — пусть, на
то она и святая простота.
9 Запись в дневнике 184É г. См. А. И. Герцен. Соч. в девяти томах,
т. 5, стр. 91, 92.
18
Да, мы с грустью останавливаемся перед могилами людей,
истомившихся в нравственной душегубке по свободной
деятельности. Но мы останавливаемся не только с грустью, но
как и просили эти люди — «с мыслью»; с мыслью о том, что
их жизни, их поиск истины, не пропали даром для следующих
поколений. Они с честью выполнили (кто сознавая, а кто и
не сознавая) задачу, возложенную на них историей.
Они были теми капиллярами, по которым кровь
декабристов перелилась в тело разночинцев, героев «Народной воли».
Период, в который они жили, словно специально был
предназначен для теоретических размышлений, для философских
раздумий; такой период, лишая возможности действовать,
концентрирует все уцелевшие силы на анализе происшедшего
и происходящего. Это период теории, период, когда
подготавливается завтрашнее действие.
«Юноша, пришедший в себя и успевший оглядеться после
школы, находился в тогдашней России в положении путника,
просыпающегося в степи: ступай куда хочешь, — есть следы,
есть кости погибнувших, есть дикие звери и пустота во все
стороны, грозящая тупой опасностью, в которой погибнуть
легко, а бороться невозможно. Единственная вещь, которую
можно было продолжать честно и с любовью,— это ученье»10.
Лучшие люди уходят в философию, историю, политическую
экономию; запираются в кабинетах, среди книг и лишь
близких друзей. Кротами зарываются они в землю и принимаются
за работу. На поверхности ни движения, ни ветерка. Но крот
делает свое дело. И он хорошо роет, этот крот ...
Меж тем время залечивало раны, поднималось к жизни
новое поколение революционных бойцов. «Новая жизнь эта
прозябала, как трава, пытающаяся расти на губах непро-
стывшего кратера». «В самой пасти "чудовища выделяются
дети, не похожие на других детей; они растут, развиваются и
начинают жить совсем другой жизнью. Слабые, ничтожные,
ничем не поддержанные, напротив, всем гонимые, они легко
могут погибнуть без малейшего следа...». Но «мало-помалу из
них составляют группы. Более родное собирается около
своих средоточий». «Главная черта всех их — глубокое чувство
отчуждения от официальной России, от среды, их
окружавшей, и с тем вместе стремление выйти из нее — а у
некоторых порывистое желание вывести и ее самое»11. «Этими
детьми ошеломленная Россия начала приходить в себя»12. К числу
этих «детей» и принадлежал Чернышевский.
10 А. И. Герцен. Соч. в девяти томах, т. 5, стр. 39.
11 Там же, стр. 32, 33.
12 Там же, стр. 35.
19
* *
Чернышевский честно и с любовью учился — изучал
историю, философию, политическую экономию. «Она
(политическая экономия. — Г. В.) и история (то есть и то и другое, как
приложение философии, и вместе главные опоры, источники
для философии) стоят теперь во главе всех наук, — писал
Чернышевский родным 22 ноября 1849 г. — ... И это не то,
что мода, как говорят иные, нет, вопросы
политико-экономические действительно теперь стоят на первом плане и в
теории, и на практике, то есть и в науке, и в жизни
государственной» 13. Он предчувствовал перемены и готовился к ним.
Осознание происшедшего и происходящего становится все
более глубоким, предчувствие будущего все более
определенным.
Для него не было предметом раздумий, по какую сторону
баррикад его место. Он был с угнетенным и «утесняемым»
классом и себя считал обязанным содействовать
пробуждению его сознания, организации его борьбы. Для этого и
учился. Вот первый итсг учебы, зафиксированный двадцатилетним
Чернышевским в своем дневнике 18 сентября 1848 г.: «... Яду-
маю, что единственная и возможно лучшая форма правления
есть диктатура или лучше наследственная неограниченная
монархия, ко которая понимает свое назначение, — что она
должна стоять выше всех классов и собственно создана для
покровительства утесняемых, а утесняемые — это низший
класс, земледельцы и работники, и поэтому монархия
должна искренно стоять за них, поставить себя главою их и
защитницею их интересов»14.
До революции здесь еше далеко. Но кто из
революционеров не проходил через эту веру в мудрого правителя, кто не
думал, что многочисленные несчастья происходят лишь по
злой воле отдельных вельмож и помещиков и лишь потому,
что о них не знает царь.
С этой верой в высшую справедливость легко и спокойно
живется, с этой верой человек свободен от нравственных
мучений и бессонных ночей. Поэтому для либерала и обывателя
эта вера вырастает в целую философию, превращается в
идеологическую подкладку их собственного благополучия. Для
революционера эта вера — быстро проходящая детская
болезнь, потому что главное в ней — не столько вера в мудрого
13 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й. Поли. собр. соч. в пятнадцати томах,
т. XIV. Мм Гослитиздат, 1949, стр. 167.
14 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. I, стр. 121.
20
царя, сколько уверенность в том, что сильные, имущие
классы не пойдут добровольно навстречу угнетенным; мудрый
монарх — лишь средство заставить их это сделать.
Поэтому так быстро приходит выздоровление, так
естествен следующий шаг: «С год должно быть назад тому или
несколько поменее писал я о демократии и абсолютизме
(имеется в виду как раз приведенная нами выше запись от
18 сентября 1848 г. —Г. В.)... Видно, тогда я был еще того
мнения, что абсолютизм имеет естественное стремление
препятствовать высшим классам угнетать низшие, что это
противоположность аристократии. — А теперь я решительно
убежден в противном—монарх, и тем более абсолютный монарх,—
только завершение аристократической иерархии, душою и
телом принадлежащее к ней. Это все равно, что вершина
конуса аристократии» 15:
Это, пожалуй, самый важный вывод, сделанный молодым
Чернышевским. Это самый трудный и ко многому
обязывающий вывод. Ибо как только установлено, что монарх и его
окружение — не что-то обособленное от вельмож и
помещиков, как только установлено, что абсолютистская верхушка и
средние слои — одно и то же, принадлежат одному и тому же
телу, как только это установлено — вывод о необходимости
революции делается сам собой, ибо среди правящих — ни
внизу, ни наверху — нет сил, способных преобразовать общество,
покончить с угнетением народа.
Так Чернышевский подходит к осознанию исторической
необходимости революции. Как же ускорить ее приход?
. Идя в гости, «думал о тайном печатном станке. Когда сел
в карету, определились больше мысли и вздумал так, что
если доживет теперешнее положение общества до того
времени, когда я буду жить в отдельной квартире и будет у
меня несколько денег, то едва ли я не буду исполнять своих
планов, которые, между прочим, были и такие: если
напечатать манифест, в котором провозгласить свободу крестьян,
освобождение от рекрутчины... и т. д., и разослать его по всем
консисториям и т. д. в пакетах от святейшего синода и велеть
тотчас исполнить, не объявляя никому до времени исполнения
и не смущаясь противоречием... Потом придумал, что должно
это послать и губернаторам; потом придумал, что должно не
посылать его в самые ближайшие губернии к Петербургу,
потому что если так, то могут, получивши оттуда донесения,
послать курьеров, которые догонят почту в дальних
губерниях до приезда их туда, в назначенное место. И когда думал,
что тотчас это поведет за собою ужаснейшее волнение, кото-
15 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й. Поли. собр. соч., т. I, стр. 355, 356.
2Î
рое везде может быть подавлено и может быть сделает
многих несчастными на время, но разовьет таки и так
расколышет народ, что уже нельзя будет и на несколько лет
удержать его и даст широкую опору всем восстаниям, — когда
подумал об этом, почувствовал какую-то силу в себе
решиться на это и не пожалеть об этом тогда, когда стану погибать
за это дело. Когда слез с кареты и пошел, пробудилась и та
мысль, что ложь, во всяком случае, приносит всегда вред в
окончательном результате, поэтому не лучше ли написать
просто воззвание к восстанию, а не манифест, не употребляя
лжи, а просто демагогическим языком описать положение и
то, что только сила и только они сами через эту силу могут
освободиться от этого. И когда подумал, — да как же ложь
здесь принесет вред, а не пользу, — тотчас подумал, что так,
-что убьет доверие народа к воззваниям его приверженцев
впоследствии времени.
Да и теперь чувствую себя не просто как за несколько
часов перед тем, питающим различные нахватанные из газет
мнения, которые делают его расположенным к социализму и
врагом застоя и угнетения, а почувствовал себя личным вра-
'Гом, почувствовал себя в измененном положении, так, как
чувствует себя заговорщик, как чувствует себя генерал в
отношении к неприятельскому генералу, с которым должен
вступить завтра в бой, внутренне теперь почувствовал, что я,
может быть, способен на поступки самые отчаянные, самые
смелые, самые безумные... Этот ток мыслей и эта перемена
вся произошли в 8-м часу вечера, 15 мая 1850 года»16.
Да, такой «ток мыслей» стоит того, чтобы быть
записанным так подробно и даже с указанием дня и часа своего
появления.
Историческая необходимость и неизбежность революции
осознаны Чернышевским совершенно ясно. Осуществится ли
эта необходимость при его жизни или после, доживет ли он
До ее осуществления или нет, арестуют ли его или нет — эти
и подобные им вопросы становятся уже в общем-то
неважными. Он вступил на путь революционной борьбы, потому что
он просто не может идти по другому пути, он просто не
сумеет идти по другому пути — такой уж у него склад личности,
такой характер — это самый естественный и, простите, самый
легкий для него путь. Это о таких людях писал Герцен: «Они
невозмущаемо тихи, идут твердым шагом, но не топают,
людей этих боятся судьи, им с ними неловко» 17. Да,
Чернышевский из разряда тех людей, «которые также просто надевали
16 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. I, стр. 372, 373.
17 А. И. Г е р ц е н. Соч. в девяти томах, т. 5, стр. 121.
22
венок славы на свою голову, как и терновый венок» 18.
Потому что, строго говоря, они не принадлежат себе, они
принадлежат исторической необходимости; они не думают о себе,
они думают о работе, совершить которую требует история, их
личное без остатка растворяется в исторической
необходимости. И хотя дороги этой исторической необходимости не всегда
идут через «сады и виноградники», эти люди сами шагают по
ним и зовут других — что делать, иных дорог нет.
«Вот мой образ мысли о России: неодолимое ожидание
близкой революции и жажда ее, хоть я и знаю, что долго,
может быть весьма долго, из этого ничего не выйдет
хорошего, что, может быть, надолго только увеличатся угнетения
и т. д. — что нужды?» 19.
Это удивительное, это потрясающее* место. Много ли
найдется в истории революционеров, которые в 22 года так
трезво оценивали перспективы борьбы, так верно оценивали
расстояние, отделяющее их от. осуществления их идеалов?
Да, это удивительное место! Здесь ясное, честное и
гордое осознание того трагического положения, в котором
оказались революционеры 50—60-х годов. Объективной основой
этой трагедии было то, что темное русское крестьянство (эта
единственная массовая революционная сила) было не
способно на историческое творчество по созданию общества,
свободного от эксплуатации; в то время не было ни одной
возможности,— ни широкой дороги, ни узкой тропинки, по
которой Россия могла бы двинуться непосредственно к
социализму, к тому общественному идеалу, который уже достаточно
полно сложился в западноевропейской науке и который был
достаточно глубоко усвоен крупнейшими русскими
мыслителями, такими, как Белинский, Герцен, Огарев, Петрашевский,
Спешнев и др.
Гениальность Чернышевского проявилась в том. что он
(и это в 22-летнем возрасте!) остро почувствовал этот
трагизм ситуации. Он не ждет от возможной русской революции
решения всех проклятых вопросов, «загаданных» истории
крепостническим строем. Никакой идеализации: сознавая
значительную вероятность (если не сказать неизбежность) этой
революции, он сознает и то, что эта революция не приведет
к действительному освобождению утесняемых (хотя и прольет
немало крови тех людей, которым ou симпатизирует), что в
результате этой революции, может быть, «надолго увеличатся'
угнетение». Эго только розовощеким, не научившимся думать
юношам (которые, впрочем, нередко со временем становились
18 А. И. Герцен. Соч. в девяти томах, т. 5, стр. 121.
19 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. I, стр. 356—357.
23
исправными столоначальниками) свойственно было полагать,
что революция одним махом может все решить, все
расставить по нужным местам, уничтожить все зло и породить
неизбывное добро. А «человек, не ослепленный идеализациею,—
писал в дневнике Чернышевский, —умеющий судить о
будущем по прошлому и благословляющий известные эпохи
прошедшего, несмотря на все зло, какое сначала принесли они,
не может устрашиться этого (т. е. призываемой
революции.— Г. В.)\ он знает, что иного и нельзя ожидать от людей,
что мирное, тихое развитие невозможно... Глупо думать, что
человечество может идти прямо и ровно, когда это до сих пор
никогда не бывало»20.
И сознавая (или вернее, предощущая) всю трудность
этого пути, Чернышевский тем не менее готов шагать по этим
кривым дорогам истории вместе с утесненными и
угнетенными, вместе с народом, потому что, иначе как в борьбе, иначе
как через испытания и ошибки, не приходит сознание к
угнетенным, не появляются силы, способные к исторической
самодеятельности. «... Пусть народ не приготовленный вступит в
свои права, во время борьбы он скорее приготовится; пока
ты (речь идет о царском самодержавии. — Г. В.) не падешь,
он не может приготовиться, потому что ты причина слишком
большого препятствия развитию умственному даже и в
средних классах, а в низших, которые ты предоставляешь на
совершенное угнетение, на совершенное иссосание средним, нет
никакой возможности понять себя людьми, имеющими
человеческие права. Пусть начнется угнетение одного класса
другим, тогда будет борьба, тогда угнетаемые сознают, что они
угнетаемы при настоящем порядке вещей, но что может быть
другой порядок вещей, при котором они не будут угнетаемы;
поймут, что их угнетает не бог, а люди; что нет им надежды
ни на правосудие, ни на что, и между угнетателями их нет
людей, стоящих за них; а теперь они самого главного из этих
угнетателей считают своим защитником, считают святым. —
Тогда не будет* святых, а будет: ты подлец, взяточник,
грабитель, жестокий притеснитель, пиявка, развратник, и ты
тоже, и он тоже, и нет между вами никого, кто променял бы
свой класс на наш класс, кто стал бы за нас против вас и
стал бы искренно, с убеждением...»21.
Так в канун журналистской деятельности складывалась
у Чернышевского программа борьбы, тгж филировался его
удивительно глубокий взгляд на значение массового револю-
20 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. I, стр. 357.
21 Там же, стр. 356.
24
ционного действия — в истории вообще и в конкретной
исторической ситуации в России, в частности.
Конечно, в дальнейшем у Чернышевского углубилось
понимание хода исторического развития, необычайно
обогатилась теория революционного действия. Но важно отметить (и
не грех несколько раз повторить), что уже в самом начале
деятельности Чернышевскому не была присуща психология
безоглядной и бездумной революционности. Уже в начале
своей деятельности он не рассматривал приближавшуюся, по
его мнению, русскую революцию в качестве панацеи от всех
зол, не рассматривал революционное насилие в качестве
единственно достойного и безошибочно действующего средства, с
помощью которого одним махом можно решить все проблемы
общественной жизни. И это — то драгоценное зерно, которое
дало потом, в творчестве Чернышевского, такие прекрасные
всходы.
Придя к мысли о неизбежности и необходимости
революционных преобразований, Чернышевский, естественно,
стремится сделать посильный вклад в то, чтобы преобразования
эти совершились с возможно большей пользой для
«утесняемых» и с возможно меньшими потерями для дела свободы.
Чернышевский считал, что таким вкладом с его стороны
может быть пропагандистская (просветительская) и
организаторская деятельность. Чернышевский ищет тот круг людей, с
которыми он мог бы идти плечом к плечу. Он ищет лучшие
для того времени формы организации и сплочения передовых
людей, лучшие формы для пропаганды социалистических
взглядов.
В период николаевщины все эти формы сводились в
основном к созданию узких кружков, которые скреплялись не
только идейной общностью, но и близкими дружескими
отношениями их участников. Такими кружками были, например,
кружки Станкевича, Герцена. Стремление к более широкой и
разнообразной деятельности, проявившееся в организации
кружка петрашевцев с его более широким кругом участников
и попытками практической деятельности (выпуск
«Карманного словаря иностранных слов», например), было подавлено
с той злобой и жестокостью, которые составляли
отличительную особенность николаевского правления. Добавим только-
временно подавлено, временно приостановлено. Потому, что
остановить было уже невозможно. Кружок петрашевцев был
лишь гребнем поднимающейся революционной,
социалистической волны. А волну поднимали силы, справиться с
которыми николаевским палачам уже было не по плечу. Это были
силы, высвобождающиеся в результате распада крепостниче-
25
ского строя, это были силы массового крестьянского
движения. Свободная и рвущаяся к свободе мысль была
неостановима, потому что она отражала общий кризис русской жизни.
Крымская война и смерть Николая ускорили этот
процесс раскрепощения русской мысли. У передовых людей
появилась возможность расширить круг своего влияния. И
главное средство для реализации этой возможности они видели
в печати. Наступал золотой век русской журналистики. Но
золотым он стал отнюдь не потому, что правящий дом
позаботился о предоставлении русским журналистам свободы
высказываний (такого, как известно, Россия не знала). И
вообще не будем переоценивать тех «возможностей» для
расширения своего влияния, которые открылись перед
революционно настроенными людьми/
Время Александра II "Ничем существенным от
николаевского времени не отличалось. Разве изменилось положение
утесняемых классов, разве изменились формы
хозяйствования, разве изменился государственный бюрократический
аппарат? Нет, по-прежнему драли три шкуры с крестьян и
работников, по-прежнему крепостной и полукрепостной труд
давал низкую производительность и по-прежнему утесняемых
гнали от парадных подъездов государственных учреждений.
Правда, было одно обстоятельство, которое прикрывало
от невнимательных глаз прямую преемственность этих двух
эпох. Это обстоятельство заключалось во всеобщем
либеральном водолействе, начало которому положил сам
Александр и которое стало прямой обязанностью его вельмож
и сановников — от мала до велика. Стало модно осуждать-
(намеками и полунамеками) николаевское время.
Журнальные канарейки щелкали языками во славу нового
«свободолюбивого» императора, во славу «нового времени» и
отпускали сердитые трели по адресу времени старого.
А уж как воспевались мужество и смелость Александра
и его администрации, которые будто бы смогли взглянуть
правде в глаза, которые осудили-де прошлое и готовят какие-
то там реформы. «Заря свободы восходит над Россией»,—
писали вчерашние Булгарины и Гречи (которых не поймешь,
кто они — полицейские или журналисты). Да что Булгарин!
Хорошие, честные, порядочные люди клюнули на это и
поспешили встать в ряды Александра. Сам Герцен попался на
удочку! (И Герцена, по-человечески, можно понять: ну как
же, теперь хоть можно говорить вслух кое-что из того, что ты
думаешь, можно хоть что-то писать, хоть что-то обсуждать
с друзьями, не боясь, что назавтра тебя отправят куда-нибудь
в Вятскую губернию.)
26
Но между прочим, мутная волна либерализма, пущенная
Александром, пущена была вовсе не по его доброте или его
смелости, можно даже сказать, и не по его доброй воле.
Александром и его приближенными руководил животный
страх перед пропастью, куда неслась страна. Россия
приближалась к экономическому краху, и Крымская война ясно
показала это.
По-старому, по-николаевски управлять было просто
нельзя, невозможно. Это значило бы для дома Романовых и его
окружения подписать свой смертный приговор. А как
управлять по-новому? И что вообще значит это «по-новому»?
Как управлять по-новому, чтобы сохранить все старые
привилегии —вот какая задача стояла перед правящим
домом. Ясно, что это была не простая задача, ибо старые
привилегии были неразрывно связаны со' старыми формами.
Поэтому, чтобы выиграть время и поразмыслить над ее
решением, царское правительство дало понять, что оно готовит
реформы; со сцены были убраны некоторые наиболее
одиозные политические фигуры, чуть-чуть отпустили вожжи, чуть-
чуть ослабили цензуру, создав видимость некоторой свободы
слова, и, не тронув существа, навели некоторый либеральный
блеск на правительственные учреждения. Дальше
политической спекуляции дело, разумеется, не пошло.
Чиновник быстро и хорошо усвоил «новый стиль» работы.
Раньше он, говоря словами Щедрина, два каменных дома
ложью нажил, а теперь пошел спрос на «правду», и он еще
два каменных дома уже «правдой» нажил. Правдой ли,
ложью ли — чиновнику все равно, лишь бы каменные дома
наживать. Такой чиновник ясно и отчетливо видел — чуть-
чуть изменились формы, но суть осталась та же самая; эту
одну и ту же суть он совершенно реально видел в своих
совершенно одинаковых домах, которые-то и были подлинною
сутью. А либеральные писатели, не обращая внимания на
одинаковость приобретенных чиновником каменных домов,
этот символ одинаковости двух эпох, разглядывали «формы»
и ликовали по поводу их «неодинаковости». А «формы» изме-
нились-де по воле Александра. Стало быть, хвала
императору! И волны субъективизма забороздили по газетно-журналь-
ному морю. Захлестнули они и прогрессивный лагерь. Многие
писатели вместо анализа экономического и политического
строя «прошлого» и «настоящего времени» занялись
анализом поступков и решений отдельных личностей, пытаясь в них
найти ключ к пониманию событий. Они мучительно
раздумывали над фигурой Николая, — и не могли ни понять, ни
объяснить его. Ибо они Николаем пытались объяснить прошед-
27
шее, из Николая вывести его, а надо было изучать не
'Николая, а экономический и политический строй прошлого. Они
пытались найти логику в Николае и страдали оттого, что не
видели ее. Они не понимали, что в Николае и нет никакой
логики, что его решения, его поступки — нелогичны, что его
действиями руководила не логика, а произвол. Они не
понимали, что произвол, нелогичность — это и есть «логика»
Николая. А разве даже сам самодур можг понять, почему он
в одном случае в морду сапогом ткнул, в другом — в животг
а в третьем — на чай дал? А черт его знает почему, ну, была
погода плохая, скучно, а рядом чья-то морда оказалась —
ну и ткнул. А в другом случае, погода была хорошая,
настроение отменное — ну и сунул он той же самой морде
чаевые. А историк-бедняга мучается: что за черт, что за
загадочный характер: одному и тому же человеку за одно и то же
подобострастное выражение лица в одном случае ткнул в
морду, а в другом — чаевые дал.
А надо было понять и объяснить экономические и
политические причины, сделавшие такой произвол возможным.
Почему царствующий самодур, не считаясь ни с чем, мог
безнаказанно то бить в морду, то унижать чаевыми.
И если даже для Герцена это не было до конца решенной
проблемой (о прочих уже не говорим!), то Чернышевский,
вы помните, уже в двадцать два года (за пять лет до прихода
к власти Александра II) открыл для себя ту истину, что не
произвольным желанием того или другого царя определяется
общественная жизнь страны. Вы помните эту запись в
дневнике: царь — лишь «вершина конуса аристократии», «ору л не
высших классов», а причины господства высших классоз
Чернышевский видел в экономических отношениях
крепостничества и политической системе, как он называл, «азиатства»22.
Потому и не был для него секретом тот факт, что ничем
существенным время Александра II от времени Николая I
не отличается. Но хорошо понимая это, он понимал и
другое— а именно то, что при всем сходстве двух эпох между
ними имелось некоторое различие в формах управления. И это
различие можно и нужно было использовать в политической
борьбе. Но, чтобы умело использовать, надо было правильно
оценить его (избежать как недооценки, так и переоценки).
И Чернышевский оценил: незначительные изменения,
связанные с ослаблением цензуры, и вынужденное некоторое рас-
22 Впоследствии, в «Письмах без адреса» Чернышевский ярко и
убедительно покажет, что деспот —сам игрушка не зависящих от него
отношений, что не так просто (если не невозможно) сказать, деспот ли создает
рабов или рабы — деспота; потому правильнее сказать: и деспот и рабы
создаются самобытным ходом исторического развития.
28
крепощение общественной жизни были для Чернышевского
не объектом восхищения, не желанной достигнутой целью
(как воспринимали их либералы), а взятыми с боя
средствами будущей революционной борьбы. Изменившиеся условия
для него — это лишь более выгодные условия борьбы, а не
условия лучшей жизни. И этими условиями Чернышевский
не преминул воспользоваться.
Правда, борьба была им начата еще в последние годы
николаевского времени на страницах литературно-критического
отдела «Современника». Не случайно была выбрана такая
арена борьбы — легальная журналистика и такое
«безобидное» средство — литературная критика. Нелегальные средства
и формы борьбы не могли дать тогда того эффекта, который
давали умело используемые легальные формы. Нелегально
люди собираются чаще всего, чтобы действовать, а не
заниматься самообразованием или вести политические дискуссии.
Но если даже прогрессивная часть общества еще не готова к
восприятию идей народной революции? Если общество еще,
что называется, не разогрето, то как же можно ковать?
Некрасовский «Современник» и, в первую очередь, статьи
Чернышевского и были теми мехами, которые раздували огонь,
разогревая, раскаляя общество. Правда, до 1855 г., до смерти
Николая I, процесс разогревания шел очень медленно. Но
вот новая администрация чуть-чуть ослабила цепи, и
появилась возможность подбросить жару. С 1856 г. литературно-
критические статьи уступают свое ведущее место в
творчестве Чернышевского экономическим и политическим статьям,
в которых можно было высказаться более определенно.
«Современник» и Чернышевский учили и воспитывали
новое поколение революционных бойцов, будущих героев 60-х
и 70-х годов.
Между читателями и «Современником» установился тот
живой, духовный контакт, когда люди понимают друг друга
с полуслова, с полунамека. Образно говоря, читатели
журнала чувствовали себя членами революционного союза (пусть
организационно неоформленного), центральным комитетом
которого был «Современник», а вождем — Чернышевский.
Среди них бытовало даже такое название — «партия»
«Современник». Создание такой «партии», с силой которой не
могла не считаться реакция и которую ввиду ее
«оригинальности» невозможно было разогнать, создание такой партии —
бессмертная заслуга Чернышевского и его ближайших
сподвижников. Ибо, повторяю, журнал был не просто «любимым»
или «популярным» у революционной молодежи, он был не
просто «учителем и другом», а он был именно руководите-
29
лем и организатором лучших революционных сил общества.
И если уж продолжать не весьма преувеличенное сравнение
журнала с «центральным комитетом», он был именно
руководящим центром революционных сил страны, центром,
который вырабатывал программу действия и разрабатывал
способы ее осуществления.
Над Ф. М. Достоевским обычно потешаются, рассказывая,
как он приехал к Чернышевскому с просьбой, чтобы тот дал
команду своим единомышленникам умерить свой пыл:
Достоевский считал, что непрекращающиеся пожары в городе —
дело рук «партии» «Современника». Достоевский, конечно,
ошибался в частном, конкретном случае — в том, что
революционеры пойдут жечь дома и лавки мирных жителей. Но он
не ошибался в главном, он не ошибался, когда полагал, что
за Чернышевским стоит революционная армия и что слово
Чернышевского для нее — решающее слово.
Да, «Современник» представляет собой уникальное
явление в истории русской журналистики, в истории развития
революционной мысли в России. Ни до, ни после не было такого
легального (!) журнала, который был бы не просто органом
оппозиционных сил, но крайней левой в революционном
движении, главным штабом революционных сил.
Тому были, конечно, и объективные причины:
растерянность правящих верхов, с одной стороны, и отсутствие
подполья — с другой; т. е. с одной стороны, правительство,
терявшееся от многочисленных трудностей, свалившихся ему
на голову, не имело ни сил, ни времени для того, чтобы
держать «в струне» печать, а с другой стороны, подполье в
период николаевщины сложиться не могло, и в 50-х годах
подпольная, нелегальная деятельность в общем-то не была
первейшей необходимостью, — потому и появилась
возможность: легальному журналу возглавить революционную
борьбу.
Да, «объективные предпосылки» были и «возможность»
была, — это верно. Но. сходные объективные предпосылки «и
аналогичные «возможности» случались и в другие годы,
однако такого журнала не появлялось; не находилось людей,
которые использовали бы эти «объективные предпосылки»
и реализовали бы «возможности».
Пятидесятые годы таких людей дали. Ими, в первую
очередь, были Чернышевский и Добролюбов. Что же сделали
эти люди, и прежде всего — Чернышевский, чтобы
реализовать благоприятные возможности, какой знали они «секрет»
превращения журнала (приданных обстоятельствах), в
«главный штаб» и «центральный комитет»?
30
* *
*
Секрет этот заключался не в т'^v! ином, как в выработке
научно и всесторонне обоснованной программы.
«Современник» сделал глубокий анализ экономического
быта России, дал всестороннюю оценку политического
момента и, исходя из него, выработал программу действий, наметил
пути борьбы и ее конечные цели.
Такую программу не может заменить никакая (даже
блестящая!) критика частностей эксплуататорского строя,
никакое (даже самое пылкое!) отрицание существующих
общественных отношений, основанное на
абстрактно-гуманистических идеалах и разлюбезном «здравом смысле» (мы уж не
говорим о мелком обличительстве и булавочных уколах).
Вообще программа, состоящая только из негативного
материала, только из отрицания существующей
действительности, такая программа для создания революционной партии
не годится. История показала, что негативная программа не
может сплотить на продолжительное время даже небольшие
группы людей. Серьезный революционер должен иметь
положительную (созидательную) цель, должен иметь
экономическую и политическую программу.
История (в особенности французская история) знает
немало радикальных деятелей, которые умели прекрасно
оперировать со словом «долой»; это были настоящие виртуозы раз-
рушительства (словесного, разумеется), хорошо отвечавшие
на вопрос: «Как разрушать?». Но они совершенно терялись,
когда их спрашивали: «Как строить?». И когда в редкие
исторические моменты революционная волна поднимала их к
власти, вчерашние радикалы становились жалкими мокрыми
курами, которым любая политическая посредственность, но
имеющая вполне определенный план действий, могла без
труда открутить головы.
Кто не знает, как строить, тому лучше не приниматься за
разрушение. Так хоть какой-никакой, а домишко стоит; и
худо-бедно, а живут в нем люди; какая-никакая, а все-таки
крыша над головой, да и не так холодно, как на улице. А
подожги ее бестолковый человек — и сам будет мерзнуть на
пепелище и других разорит; а тут еще найдется какой-нибудь
предприимчивый деятель — да вместо дома построит
что-нибудь вроде свинарника, да и поселит туда погорельцев, да
за это еще с них три шкуры будет драть...
Установить, что самодержавный строй плох, что плоха
система организации труда в обществе, что плохи государ-
31
ственные чиновники — не трудно. Для этого надо быть просто
честным, просто наблюдательным человеком, не прятать
голову под подушку и жить так, чтобы толстый кусок колбасы
не закрывал весь мир.
Для того чтобы прийти к мысли, что этот мир надо
изменить— надо иметь еще несколько важных качеств:
обостренное чувство справедливости и недюжинную смелость.
Но, чтобы установить, как его изменить и что строить
взамен разрушенного — для этого нужны не просто честность
и смелость, не просто «здравый смысл», для этого надо
серьезно изучить историю, философию, политическую экономию,
для этого надо уметь не засыпать над экономическими
таблицами; в общем, не легкая это должность — быть инженером
истории.
б) ПРОГРАММА ЧЕРНЫШЕВСКОГО в 1857-1858 гг.
ПРОГРАММА-МАКСИМУМ
И ПРОГРАММА-МИНИМУМ
Чернышевский придавал огромное значение выработке
положительной программы, определению цели, к которой
надо стремиться, ибо эта цель подчиняет себе всю практическую
деятельность.
Какова же эта цель, т. е. какова программа-максимум? ,
Из дневников Чернышевского мы узнали ее политический
аспект— республика, из журнальных статей 1856—1858 гг. мы
узнаем и ее экономический аспект — общественная
собственность + общественное, коллективное производство. Эта цель,
а также общественно-политическая обстановка в свою
очередь определяли своеобразие тактики на 1856—1858 гг.,
программу-минимум. Чернышевский — из тех мыслителей, кто,
развивая «свою идею с одной заботой о справедливости и
последовательности системы в своих чисто теоретических
трудах, умеет ограничивать свои советы в практических делах
настоящего лишь одной частью своей системы и для
настоящего»23. В чем заключались эти «ограничения»
Чернышевского, что же было «удобоисполнимо для настоящего»?
Короче— в чем заключалась его программа-минимум на 1856—
1858 гг.?
Вот что писал в тот период Герцен: «Освобождение
крестьян с землею, ими обрабатываемой. Уничтожение
предварительной цензуры. Уничтожение тайного следствия и суда
при закрытых дверях. Уничтожен»* • телесных наказаний»24.
23 Н. Г. Чернышевский. Гьбр. экон. произв., т. 3, ч. II. М.,
Господ итиздат, 1949, стр. 33.
24 А. И. Герцен. Поли. собр. соч. и писем, т. IX. Пг., 1919, стр.300.
32
Программа на первый случай — так называл ее Герцен. Эту
программу (и именно «на первый случай») поддерживал и
Чернышевский. Ее поддерживали и лучшие из либералов-
славянофилов, но для них она была и первым и последним
«случаем», альфой и омегой их мировоззрения, их крайней
фулой. Однако Чернышевский нередко находил полезным
солидаризоваться с ними, так как революционная партия
была еще слаба и малочисленна, а «лучшие из славянофилов»
(по выражению Чернышевского) так или иначе помогали
«разогревать» общество, способствовать росту его активности
и самосознания, способствовали пробуждению в русском
обществе «мысли и способности к принятию каких-либо
умственных убеждений, каких-либо нравственных влечений,
каких-либо общественных интересов»25, — а ведь это тоже
входило в программу-минимум Чернышевского на 1856—
1858 гг.
* *
*
Но как же удалось Чернышевскому обо всем этом
сообщить своим читателям — единомышленникам, как удалось ему
раскрыть перед ними свою программу-максимум и
программу-минимум? Ведь не напишешь в подцензурной печати, что
современный режим никуда не годится и что нужен новый,
базирующийся на коллективном производстве и общественной
собственности. Ведь не скажешь, как Герцен: долой
помещичье право, да здравствует освобождение крестьян с землей!
Герцену — что, он — в Лондоне, трудно дотянуться дотуда, а
тут в Санкт-Петербурге любой околоточный может тебя
«хватать и не пущать». В этом отношении патриархальная
простота нравов русской полиции известна всему миру. К тому же
категорически было запрещено обсуждать в печати вопросы,
связанные с крепостным правом.
Но Чернышевский нашел легальную дорожку к своим
единомышленникам — он поднял вопрос об общине,
сохранившемся старинном русском институте, в основе которого
лежало коллективное владение землей. Община вместе с
контекстом заменяла многие «запретные» слова, через
рассуждения об общине и удалось Чернышевскому передать «своей
партии» все, что нужно.
Некоторые писатели и исследователи XIX в., правда,
решительно оспаривали приоритет Чернышевского в постанов-
25 Н. Г. Чернышевский. «Русская беседа» и славянофильство.
«Современник», 1857, № 3.
33
ке вопроса об общине в журналистике1 50-х годов. Уж не
честолюбие ли заставило Чернышевского исказить факты,
написав, что именно он поднял этот вопрос? И действительно, не
трудно установить, что до Чернышевского появилось
несколько исторических статей об общине за подписями «известных»
ученых, профессоров. Но это была типичная профессорская
полемика с пространными выдержками из старинных
законодательных актов, обилием исторических терминов и
отупляющих подробностей. -Приоритет в такой полемике
Чернышевский и не хочет себе приписывать.
Чернышевский поднял вопрос об общине, как вопрос
политический, злободневный, как вопрос о путях дальнейшего
развития русского государства. И здесь его приоритет
несомненен.
Профессора изучали общину, как таковую, общину, как
замкнутое целое, как старинный общественный институт.
Если бы их спросить, зачем это они делали, что им далась
община — почтенные профессора величественно бы
промолчали, считая, что вы своим вопросом оскорбляете их высокий
сан. Но это была бы лишь хорошая мина при плохой игре,
потому что, как верно говорил о подобных профессорах
Писарев, «большая часть наших ученых вовсе не задает себе
вопроса о конечной цели своих трудов. Один пишет о какой-
нибудь черниговской гривне, другой о том, как писалась
буква юс в рукописях XIII в., третий о значении слова изгой или
еще что-нибудь в таком же нравоучительном роде. (А надо
сказать, что эти почтенные профессора умели даже о
французской революции—об общине уже не говорю—писать так же,
как о какой-нибудь «гривне» или каком-нибудь «изгое».—Г. В.).
Если бы вы спросили у этих добровольных мучеников,
к чему же они стремятся, из чего они бьются, чем
оправдывают и объясняют свою многострадальческую и пребесполез-
ную деятельность, знаете ли вы, что они ответили бы вам на
один из подобных вопросов? Самые задорные ответили бы
вам, что вы профан и невежда, что если вы не признаете
пользы и необходимости археологических, филологических,
палеографических и разных других изысканий, одаренных
очень звучными названиями, то с вами и говорить не стоит
о предметах, недоступных вашему ограниченному пониманию.
Другие, более смиренные на вид, ответят скромно, что они
собирают материалы для будущего здания русской истории, что
они, безвестные труженики, работают для грядущих
поколений, которые будут пожинать плоды их усилий. Этот
приличный ответ в сущности не что иное, как довольно ловкая
увертка, которая действительно обманывает многих доверчивых
34
слушателей н читателей. Представьте себе, что кто-нибудь
хочет построить каменный дом и купил себе для этого землю,
место; у этого NN есть много знакомых, сочувствующих его
предприятию и желающих, чтобы роскошное здание, как
можно скорее и успешнее, было воздвигнуто на приготовленном
месте; и вот эти знакомые начинают тащить на место
предполагающейся постройки всякий хлам, все, что им
попадается под руку: один волочет старую подошву, другой —
разбитую склянку, третий — мешок гнилого картофеля,
четвертый — растрепанный экземпляр какого-нибудь сочинения
Эккартсгаузена.
— Что вы делаете? — спросит у этих людей посторонний и
беспристрастный зритель.
— Да, вот, батюшка, — скажут ему усердные
носильщики,— собираем материалы для будущего здания.
Конечно, беспристрастный зритель захохочет.
— Помилуйте, — скажет он, — за что же вы разоряете
хозяина? Ведь ему придется нанимать несколько подвод,
чтобы вывезти с своего участка всю ту рухлядь, которую вы
набросали... Разве вы не понимаете, что битое стекло и гнилой
картофель ни при каких условиях не превращаются ни в
кирпич, ни в камень, ни в известку? Неужели у вас и на это не
хватает мозга и соображения?»26
Дело здесь, может быть, даже и не в «мозге и
соображении», а в том, что это собирание хлама для «здания
будущего» усиленно поощрялось правящей верхушкой, во-первых,
потому, что отвлекало силы от излишнего внимания к
«зданию настоящего», а также потому, что знали — из хлама
«здание будущего» построить невозможно, и потому волей-
неволей все будут продолжать жить в «здании настоящего»,
так замечательно приспособленном для вольготной жизни
власть имущих.
Вот почему так незаметно поначалу и удалось
пристроиться Чернышевскому к этим ворошителям исторического хлама.
И пока все вокруг таскали этот хлам из одного конца двора в
другой, пока занимались его классификацией, Чернышевский
использовал общину — в качестве фундамента, а связанные
с ней исторические материалы — в качестве кирпичей для
строительства действительного «здания русской истории», для
выработки своей стратегии и тактики, а также в качестве
инструмента для разрушения «здания настоящего».
И дело здесь вовсе не в том, что понятие «общины» само
по себе начинено каким-либо особенным революционным за-
26 Д. И. Писарев. Соч. в четырех томах, т. 2. М., Гослитиздат, 1955,
стр. 54, 55.
35
рядом. Нет, само по себе оно в общем-то нейтрально. Важен
контекст, в котором эта «община» присутствует. Будучи
единственным дозволенным к «употреблению» пунктом из
программы Чернышевского, община в его статьях представляла
не только себя, но вместе с контекстом нередко заменяла
такие слова, как республика, революция и т. д.27.
Чтобы нас правильно поняли, надо оговориться. Община,
конечно, не была притянута за уши к теории Чернышевского,
она не была в ней каким-то искусственным телом, каким-то
условным символом, или паролем. Мы не хотим сказать, что
теория Чернышевского — это одно, а община —это другое
(пристегнутое лишь по цензурным соображениям), что
теория— сама собой, а община — сама собой. Нет, община —
существенный элемент его теории, но она не является
элементом, определяющим все остальное. Она — не исходное у
Чернышевского. Не внутренние законы развития общины
положены Чернышевским в основу разработанной им программы
организации производства будущего. Принцип этой
организации он выводит из другого источника. Из какого же? «Взгляд
на общину, который мы защищаем, — прямо пишет
Чернышевский,— принадлежит западной науке, а не
славянофилам»28. То есть в отличие от славянофилов (а впоследствии
и народников) Чернышевский далек от идеализации
общины, далек от того, чтобы видеть в ней лучшую, высшую форму
производства. Он постоянно подчеркивает, что общинное
владение— продукт застоя страны, ее неразвитости, «сохранение
его у нас есть следствие невыгодных обстоятельств нашего
исторического развития»29. Он вовсе не делает ставку на
внутренние законы развития общины. «Но как самые хорошие
вещи имеют свою дурную сторону, — пишет он, — так и самые
дурные вещи имеют свою хорошую»30. В те годы
обстоятельства сложились так, что общинное владение, эта хорошая
сторона патриархальной, низкопроизводительной формы
производства была важнее ее недостатков. И это обстоятельство
надо было использовать (!) при организации будущего
экономического устройства.
27 В письме А. С. Зеленому (июнь, 1857 г.) Чернышевский говорит о
себе, что когда он пишет статьи об общинном владении, то у него «тут
есть разные цели» — «прямо говорить нельзя, будем говорить как бы о
посторонних предметах, лишь бы связанных с идеею о преобразовании
сельских отношений» (Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й. Поли. собр. соч., т. XIV,
стр. 348).
28 Н. Г. Чернышевский. Избр. экон. произв., т. 1, стр. 133.
29 Там же, стр. 202.
30 Там же.
36
Принцип же этой организации (общественная
собственность -Ь коллективное производство) Чернышевский выводит
из анализа исторического развития передовых стран Европы.
И это не потому, что Чернышевский был каким-нибудь
космополитом, для которого этикетка «сделано в Западной
Европе» значила больше, чем все отечественные ценности. Нет,
просто Чернышевский уже подошел к мысли о
законосообразном ходе истории. Просто он ясно понимал, что Россия не
какая-то заповедная страна со своей особой исторической
миссией, что Россия подчиняется тем же законам развития,
по которым развивался и Запад, только она очень отстала от
Запада; что существующие в России экономические
отношения и формы, на которые молятся славянофилы,
существовали когда-то и на Западе, но уступили место более
прогрессивным формам. А потому, считал Чернышевский, рано или
поздно Россия придет к необходимости решать те же задачи,
которые стоят сейчас перед Западом.
Анализируя экономический строй Западной Европы,
Чернышевский глубоко и в высшей степени диалектически
рассматривает такое сложное явление, как капитализм.
Чернышевский признает его прогрессивность по сравнению с
феодализмом. Вместе с тем он показывает, как по мере
развития капитализма его достоинства превращались в
недостатки, как рождались и развивались его противоречия. Он
показывает, как система частного предпринимательства
разоряет крестьянина, мелкого производителя, превращает их в
пролетария, как крупные хозяйства поглощают мелкие, как
на два большие класса раскалывается общество.
«Люди, имеющие значительный запас наличных денег,—
пишет он, — всегда немногочисленны пропорционально массе
народа, и потому большинство сельского населения в
Англии— батраки, положение которых очень печально. В завод-
ско-фабричной промышленности вся выгода
сосредоточивается в руках капиталиста, и на каждого капиталиста
приходятся сотни работников — пролетариев, существование
которых бедственно»31. («Славянофилы и вопрос об общине»,
апрель 1857 г.)
«Таким образом, — подводит итог Чернышевский, — с
одной стороны, возникли в Англии и Франции тысячи богачей,
и с другой — миллионы бедняков. По роковому закону
безграничного соперничества богатство первых должно все
возрастать, сосредоточиваясь все в меньшем и меньшем числе
рук, а положение бедняков должно становиться все тяжеле
и тяжеле». Чернышевский нащупывает одно из основных про-
Н. Г. Чернышевский. Избр. экон. произв., т. 1, стр. 104.
37
тиворечий капитализма. А в каком направлении должно
разрешиться это противоречие? Что думает по этому поводу
Чернышевский? Вот что: в результате этого противоречия
рядом с идеей частнопредпринимательской деятельности
«возникла идея о союзном пользовании и производстве между
людьми. В земледелии оно должно выразиться переходом
земли в общинное пользование»32.
«В общинное пользование». Так Чернышевский
перебрасывает мост от истории Запада к истории России. Теперь
«община» крепко связана с тем анализом, который проделал
Чернышевский. Теперь «читатель — друг», встречаясь с
рассуждениями Чернышевского о будущем «общины», сможет
держать в памяти весь этот анализ. И это поможет ему в
дальнейшем разбираться в «шифрованных» журналограммах
«Современника», поможет ему отличить общину
Чернышевского от общины славянофилов, общину как результат
всемирно-исторического развития от общины
патриархально-монархической, хотя бы обе стороны и употребляли одно и то
же слово «община».
А что значит по Чернышевскому «использовать» общину?
Это значит сохранить общинное владение, оплодотворив его
общинным (коллективным) производством. Вот в какой фор-,
ме смог он сообщить эту мысль читателю: «Мы заботимся о
настоящих потребностях (т, е. пока лишь о сохранении
общинного владения. — Г. В.), а не о том, что было нужно триста
лет тому назад или будет нужно через триста лет вперед.
Потому мы ничего не говорили об общинном союзе для
производства работ, потребность которого, конечно, со временем
будет чрезвычайно сильна в России, как теперь уже
чрезвычайно сильна в Западной Европе»33. Во-первых, смотрите,
мол, как безобидно для России требование «общинного
союза для'производства работ» — когда-то еще там, через триста
лет, появится такая потребность; так что спите спокойно,
нынешние временщики. И во-вторых, мы собственно и «не
говорим» об этой потребности, мы «не говорим», что со
временем она будет чрезвычайно сильна в России, мы «не говорим»
о законосообразности и объективности процесса мирового
экономического развития, в одинаковой степени присущего как
Западу, так и России. И много чего'еще «не говорит» здесь
Чернышевский.
Так, он своими «не говорим» и «через триста лет»
легализирует требование «общинного владения и союзного
производства». А завоевав право иногда напоминать об этом
32 Н. Г. Чернышевским. И:*бр. экон. произв., т. 1, стр. 105.
33 Там же, стр. 211.
38
«безобидном» требовании, Чернышевский в одной из
последующих статей (правда, тоже мельком, тоже скороговоркой)
дает читателю понять о действительных, по его мнению,
сроках возникновения этой потребности союзного производства:
«Через тридцать или двадцать пять лет общинное владение
будет доставлять нашим поселянам другую, еще более
важную выгоду, открывая им чрезвычайно легкую возможность
к составлению земледельческих товариществ для обработки
земли»34. Итак, не триста, а тридцать лет, весьма
существенная разница.
Такова, стало быть, программа Чернышевского и ее
теоретические посылки, такова его стратегическая линия.
А «удобоисполнимой частью программы для настоящего»
было, как мы уже писали, сохранение общины35. Это, так
сказать, программа-минимум. Но не будем забывать, что это
лишь легальная форма программы-минимум. Чернышевский
всюду в статьях афиширует это краткое выражение своего
требования «сохранение общины». В своем кратком
выражении это требование ничем не отличается от требования
славянофилов, людей, как всем известно, умеренных и
аккуратных. И Чернышевский этим умело пользуется для усыпления
бдительности полицейских цензоров. Однако наиболее
внимательные читатели-друзья могли бы заметить, что прежде,
чем ввести эту краткую формулировку в употребление,
Чернышевский в статьях «Русская беседа» и славянофильство»
(март, 1857 г.) и «Славянофилы и вопрос об общине»
(апрель, 1857 г.) несколько раскрывает ее. Намеками и
полунамеками он дает понять, что он требует не просто сохранить
общину, но освободить ее от крепостнических пут, освободить
крестьян с землей и с наименьшим выкупом. И вот,эти
требования, предъявляемые Чернышевским силам, готовящим
реформу, его доказательства необходимости освобождения
крестьян с землей, его расчеты, касающиеся условий выкупа
и т. д. — все это вызывает у целого ряда исследователей
смущение и противоречивые комментарии. Одни говорят (с
глубоким вздохом), что надо-де смотреть правде в глаза и
признать, что коли уж Чернышевский обращался к
правительству со своими расчетами — значит, верил в возможность
осуществления справедливой реформы сверху, значит, были у
него либеральные иллюзии. Другие исследователи
утверждают, что все эти расчеты Чернышевского — просто хитрость,
34 Н. Г. Чернышевский. Избр. экон. произв., т. 1, стр. 489.
35 «... Полнейшее развитие общинного принципа должно быть делом
будущего, а для настоящего достаточно желать сохранение в общинном
владении той части земли, которая в нем находится» (Н. Г. Ч е р н ы-
ш е в с к и й. Поли. собр. соч., т. V, стр. 152).
39
просто маскировка, на деле же он был, что называется, за
революцию во что бы то ни стало.
Важный момент, на нем стоит остановиться.
Надо сказать, что Чернышевский никогда не думал, что
«реформа сверху» может произвести коренной переворот в
условиях жизни угнетенных и что царское правительство по
доброй воле способно осуществить программу преобразований,
предлагаемую «Современником». Никаких либеральных
иллюзий на этот счет у него никогда не было.
Никогда, даже в статьях 1856—1857 гг., он не упускает
из виду возможности революционного решения поставленных
жизнью проблем и не упускает также возможности так или
иначе сказать об этом читателю36.
Но отношение к революции у Чернышевского более
сложное, нежели это представляют историки, «делающие» из
Чернышевского этакого «революционера во что бы то ни стало».
Мы говорили, что уже юношеские дневниковые записи
характеризуют Чернышевского как серьезного
революционера, осознающего бесконечную сложность переплетения
различных тенденций и возможностей, сопровождающих
революционные перевороты, их «за» и их «против».
Апофеоз, вершина этих раздумий, берущих начало в
«Дневниках» — знаменитые «Письма без адреса»,
написанные Чернышевским незадолго до ареста, в 1862 г. Да, в них
Чернышевский по-прежнему остается революционером. Он
по-прежнему, как и подобает истинному революционеру,
убежден, что «ничьи посторонние работы не приносят людям такой
пользы, как самостоятельное действование по своим делам»
и что в «разрешении запутанностей положения русской
нации» народ выиграл бы «через независимое от нас занятие
национальными делами больше, чем от продолжения хлопот
о нем»37. Но Чернышевский ясно видит и другие стороны
революционного процесса, которые, будучи следствием
народного невежества и «народной бестолковости», могут с
жестокой силой обернуться потом против самого народа. Вот
почему Чернышевский, нисколько ни кривя душой, пишет в том
смысле, что-де пока такой «развязки» «мы (т. е. партия
«Современника».— Г. В.) желали бы избежать». «Ведь между
нами,—разъясняет он,—также распространена мысль, что и
наши интересы пострадали бы от нее (от «развязки».—Г. В.),
даже тот из наших интересов, который мы любим выставлять
36 См., например, статью «О поземельной собственности» (Н. Г.
Чернышевский. Избр. экон. произв., т. 1) или рецензию на исследование
Л. Гакстгаузена (там же, стр. 147—214).
37 Н. Г. Чернышевски и. Поли. собр. соч., т. X, стр. 92.
40
как единственный предмет наших желаний... интерес
просвещения. Мы думаем: народ невежествен, исполнен
грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем
отказавшимся от его диких привычек... Он не пощадит и нашей
науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю
нашу цивилизацию»38.
Весь пафос «Писем без адреса» — это последняя попытка
добиться осуществления коренного улучшения жизни народа,
избегнув кровопролития. Попытка, представляющая собой не
трусливые просьбы либерала, молящего царя пойти на
уступки, дабы избежать гнева народного и кары народной; нет, это
попытка, представляющая собой решительное и грозное
требование вожака революционного народа, вожака умного и
мудрого, который не о спокойствии царя заботится, а о
благополучии народа. И такое отношение к крестьянской
революции было характерно для Чернышевского на всех этапах его
деятельности.
Так, в одной из рецензий 1857 г. Чернышевский, который
в то время (по мнению некоторых исследователей)
«испытывал либеральные иллюзии», прямо и откровенно пишет, что
«обыкновенный путь к изменению гражданских учреждений
нации—'исторические события», и в качестве примера таких
«исторических событий» указывает на английскую (XVII в.)
и французскую революции. И тут же характерное для него
замечание, побивающее концепцию «безоглядной
революционности» Чернышевского: «Но этот способ слишком дорого
обходится государству, и счастлива нация, когда
прозорливость ее законодателя предупреждает ход событий. Облегчить
действование этим способом было целью всех мыслителей,
занимавшихся наукою о государстве»39.
В политической обстановке того времени, когда писалась
эта статья, приведенные слова как раз и выражали
стремление Чернышевского, как лидера крайней левой в
общественном движении, сделать все возможное, чтобы без
кровопролития вырвать уступки в пользу народа.
Тот же тип рассуждения лежит в основе статьи начала
1858 г. «О новых условиях сельского быта» (в которой, как
иногда утверждают, либерализм Чернышевского не вызывает
никаких сомнений). Смотрите сами: «обязательный (т. е.
крепостной.— Г. В.) труд, — пишет Чернышевский в заключение
этой статьи, — явление, совершенно чуждое правилам
политической экономии... Роль его относительно
политико-экономических принципов — роль препятствия их развитию. Пра-
Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. X, стр. 92.
Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. IV, стр. 495.
41
вительство имеет не только право, оно, по требованию всех
экономистов, имеет прямую обязанность удалять от народной
жизни все препятствия действию экономических принципов...
прямая обязанность правительства состоит из отстранения
всех препятствий к развитию этого экономического принципа.
Этот аргумент совершенно достаточен для здравого смысла.
Но, кроме здравого смысла, бывают в людях страсти.
Против них существуют аргументы еще более точные и т. д.»40.
Хорош «либерал»! Хороши «либеральные иллюзии»!
Человек в полный голос заявляет свои требования,
человек прямо-таки грозит революцией — а историки голову
ломают: либерал или нет.
Не либерал и не бездумный революционер, отвечаем мы.
А такой революционер, который осознал сложность и
противоречивость крестьянской революции, революционер,
который, прежде чем дать сигнал к бою, испробует все средства,
чтобы мирным путем получить, если не все, то по крайней
мере значительную часть требуемого. Это беспроигрышная
революционная тактика. Чернышевский отнюдь не
загадывает: примет правительство его требования или нет;
Чернышевский отнюдь не связывает с реакцией правительства на его
требования всех своих надежд, более того, он вообще
никаких надежд не возлагает на правительство. Нет! Он,
опираясь на созданные ходом исторического развития передовые
силы (на них возлагает он надежды) и от их имени, ведет
единственно разумную и в высшей степени реалистическую
борьбу: если хватит сил добиться своего и добиться открытым
путем — очень хорошо, если не хватит — тоже неплохо, ибо
та работа по составлению и пропаганде требований, по
выработке условий освобождения крестьян не пройдет даром —
в борьбе за это выяснится расстановка политических сил и
своим отказом правительство разоблачит себя. Таким
образом, возможно только два исхода: либо осуществление
преобразования мирным путем, либо разоблачение правительства
(что необходимо для роста сознания всех передовых и
революционных сил). Этой беспроигрышной революционной
тактики и придерживается Чернышевский.
Очень важной особенностью этой тактики, о которой стоит
сказать еще несколько слов, является то, что программа,
выдвигаемая в статьях революционного деятеля, требования,
формулируемые им, на первый взгляд мало чем отличаются
от намерений правительства.
Наверняка, не все друзья-читатели схватывали
революционную подоплеку скромного требования Чернышевского
40 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. V, стр. 106, 107.
42
сохранить общину, освободить крестьян с землей и т. д.,
наверняка, многие из них полагали, что это скромное
требование можно осуществить скромными средствами (вроде
реформы сверху и .т. п.). Но это, конечно, не должно было
огорчать Чернышевского. Главное пока — доказать, что
требование это справедливо, необходимо и весьма умеренно41.
Чернышевский знал, подойдет час (в случае, если на мирную
революцию сил не хватит), когда они увидят, что даже это
необходимое, справедливое требование, даже это «скромное»
требование правительство отказывается удовлетворить. Чего
же, в таком случае, стоит это правительство? К этой мысли, в
частности, и подводит Чернышевский передовых людей
своего времени.
в) НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ТАКТИКИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО
Революционная пропаганда, вытекающая из защиты
«скромного, легального», внешне безобидного требования (и
становящаяся революционной именно потому, что защитник
этих требований настаивает не на словесном только их
выполнении, как то водится в антагонистическом обществе, а
на последовательном и полном претворении их в жизнь) —
важная особенность революционно-публицистической
деятельности Чернышевского. Исторический опыт
свидетельствует, что чем подлее общественное устройство в стране, тем
медоточивее речи правящих, тем красивее фиговый листок
идеологии, прикрывающий безобразное тело общественной
подлости.
Когда ведут солдат умирать — за то, чтобы сильные мира
сего жрали, пили и содержали любовниц, никто не говорит
им: «Солдаты, вы идете умирать за то, чтобы мы жрали,
пили и содержали любовниц», а говорят: «Солдаты, Отечество
вас не забудет».
Когда Чаадаева объявили за статью в журнале
сумасшедшим, никто не говорил: его преследуют за то, что он честный
человек и враг деспотизма, а говорили: он — враг свободы.
Речи николаевских и александровских министров
переполнены «отеческими» наставлениями — как надо любить
ближнего, как надо скромно жить и не лезть вперед, как
жертвовать личным счастьем для отечества и т. д. Из святых слов
41 «Освобождение будет, — писал Чернышевский в июне 1857 г. в
письме Л. С. Зеленому, — когда, я не знаю, но будет; мне хотелось бы, чтобы
[оно] не влекло за собою превращение большинства крестьян в
безземельных бобылей! К этому я хотел бы приготовить мысль образованных
людей ...» (Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. XIV, стр. 348).
43
составлялись эти речи. Но на деле оказывалось, что
наставления эти относятся не к обществу в целом, а только — к
«плебеям». Это им надо жертвовать, это им надо поступаться
личным. Им надо жить тихо и скромно. Плебеев дурачили
этими моральными поучениями. Ведь в обществе,
разделенном на вражеские классы, всегда две морали: одна — для
плебеев, а другая, негласная — для них, стоящих у трона, этих
палачей свободы, гения и славы; хотя на словах они, конечно
же, и за свободу, и за гений, и за славу. «Это иудушка, —
писал о российской бюрократии В. И. Ленин, — который
пользуется своими крепостническими симпатиями и связями для
надувания рабочих и крестьян, проводя под видом «охраны
экономически слабого» и «опеки» над ним в защиту от
кулака и ростовщика такие мероприятия, которые низводят
трудящихся в положение «подлой черни», отдавая их головой
крепостнику-помещику и делая тем более беззащитными
против буржуазии. Это — опаснейший лицемер, который умудрен
опытом западноевропейских мастеров реакции и искусно
прячет свои аракчеевские вожделения под фиговые листочки
народолюбивых фраз»42.
Конечно, можно прямо разоблачить это лицемерие
правящих классов, открыть читателю глаза, в какой связи
находятся их речи и их поступки. Можно. Но лишь в том случае,
«ели ты издаешь «Колокол», а не «Современник» и не в
Петербурге, а в Лондоне. Поэтому журналист «Современника»
избирает другой путь разоблачения — он всерьез принимает
некоторые из высказываемых желаний правящих (несмотря
на то, что эти «правящие» давно научили всех не относиться
серьезно к своему словолейству), и начинает всерьез
заниматься их последовательной разработкой. Вы говорите, что
заинтересованы в том, чтобы крестьяне жили и хлебосольно
и свободно. Очень хорошо. Мы тоже этого хотим, мы это
приветствуем и в этом вас поддерживаем и даже хвалим.
И в порядке помощи мы предлагаем вам даже некоторые
расчетики, как это быстрее и лучше сделать.
Или берется какое-нибудь другое подобное же
высказывание и из него выстраивается стройная практическая
теория— и удобовыполнимая и полностью совпадающая с
официальными взглядами (все это хорошо видят, да и журналист
это подчеркивать не устает). И вот крутится правительство,
вертится, такие словесные метели поднимает, что ой-ой-ой.
Другой бы, может, и забыл, с чего он начал и чего он
требовал. Но тут журналист и журнал такой попался, что -ему
42 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 301.
44
дело подавай —слова, заверения и заклинания его не
устраивают.
И вот тогда-то и у так называемых рядовых людей
начинают глаза открываться. То, что предлагает журналист,
рассуждают они, очень здраво, разумно, лояльно и совершенно
в духе того, что говорят представители правительства. А
смотрите, правительство не только не делает, как предлагает
журналист, но даже преследовать его начинает. Что же это за
правительство такое, каковы же его действительные цели и
что вообще происходит вокруг? И тут-то наш журналист
может прийти на помощь, чтобы раскрывшемуся уму передать
нужные знания.
Но это сможет сделать лишь тот журналист, который
сознательно применял подобную тактику разоблачения
реакционного правительства, который предвидел и готовил
наступление всеобщего разочарования. Бывали и другие
журналисты, которые, как и «плебеи», поверили во все это
идеологическое словолейство правящих и, не жалея сил, засучив, что
называется, рукава, принялись «помогать» осуществлять их
идеи (не понимая, что «их идеи» — не для того, чтобы
«осуществлять», а для того, чтобы дурачить). С такими
патриотически настроенными, умными, честными и бескорыстными...
дураками хорошо жилось этим «правящим». Такой умный и
честный дурак для них сущая находка, ибо, когда люди уже
ни во что не верят, то они еще верят этим честным дуракам.
И когда этот честный дурак, наконец, прозревает, когда
он, наконец, понимает, что он — дурак, что он служил
средством одурачивания общества, тогда уже поздно — все свои
силы он уже израсходовал на пустое дело. Он уже не может
приняться за новое, он уже не может новому учить людей.
И он сам ставит на своей жизни точку — будет ли эта точка
в виде выстрела в висок, нескончаемого ряда винных
бутылок, желтого дома или лакейского стояния на запятках
господских карет. А на его место тем временем приходит
другой, молодой, честный, умный и полный сил дурак. Страна
дураков — это густонаселенная страна...
Чернышевский принадлежал к первому типу
журналистов, т. е. к тем, кто сознательно готовил всеобщее
разочарование, кто сам способствовал прозрению и передовых людей
и честных дураков, собиравшихся «служить царю, отечеству
и народу».
Он выработал умеренную программу
(«программу-минимум»), доказал, что она совпадает со словесными
заявлениями стоящих у трона, и фактически предложил ее
правительству. И когда в конце 1857 г. появились царские рескрипты,
45
в которых излагались общие принципы освобождения
крестьян, то читатели имели возможность сравнить то, что
предлагал Чернышевский, с тем, что намеревается сделать
правительство. Правда, такая возможность была лишь
потенциальной, потому что стоящие у трона — люди искушенные.
Когда они выпускали первые рескрипты, то согласно всем
своим религиозно-идеологическим принципам, наговорили с
пять коробов про «новую эру», «свободу», «заботу о народе»,
начинающееся освобождение и т. д. А как конкретно
освобождать крестьян — с землей или без земли, с выкупом (и
каким) или без выкупа — не поймешь.
«Э нет, друзья, так не пойдет, — мог сказать
Чернышевский,— дурачьте своих дураков. Я — стреляный воробей».
И воспользовавшись разрешением «обсуждать» (а для всех,
кроме «Современника», это, на религиозно-идеологическом
языке, значило — «прославлять») рескрипты, он печатает
(«Современник», 1858, № 4) записку либерала Кавелина,
которая просит большей ясности от правительства. Но просьба
о «ясности» при таком режиме — это уже преступление.
Реакция была злобная. «Современник» получает выговор.
Кавелин отстраняется от должности наставника царского
наследника. А ведь «записку»-то составил благонадежнейший
человек и программа, изложенная в ней, была намного
скромней, чем «скромная» программа «Современника»! Разумеется,
все это не осталось не замеченным в обществе.
Любопытен в связи с этим и следующий тактический
«ход» Чернышевского. Прикидываясь наивным человеком, он
пишет письмо в правительственную комиссию (как
предполагают, судя по обращению, великому князю Константину).
В нем он спрашивает, почему такая странная реакция на
опубликованную «Современником» «записку». Разве есть в
ней что-либо, что противоречило бы царским рескриптам?
И в заключение он прямо требует: «Пусть сам государь
император решит, такова ли его воля, какою несомненно
предполагает ее автор записки; пусть сам государь скажет,
сообразно ли с видами августейшей воли действительное
улучшение быта помещичьих крестьян...»43.
Судьба этого письма Чернышевского неизвестна
(сохранился лишь черновик). Но сам по себе этот «ход»,
направленный на разоблачение «самого государя императора», яв
ляется р.л:*<'^н характеристикой тактики Чернышч'ок?^.
Такое «обсуждение» рескриптов, как в «Современнике»,
не входило в намерения правительства. Обсуждение
крестьянского вопроса на страницах печати было вновь запрещено.
43 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. V, стр. 139.
46
з. «критика ФИЛОСОФСКИХ
ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ...». ЧЕГО «СТЫДИТСЯ»,
ОТ ЧЕГО «ОТКАЗЫВАЕТСЯ»
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. ОБЪЯСНЕНИЕ
«КРИЧАЩЕГО ПРОТИВОРЕЧИЯ»
Таким образом, верхи, запутываясь в своей сложной
эквилибристике, все больше разоблачали себя (при усердной
помощи «Современника» и Чернышевского). А тем временем
быстрыми темпами росло и развивалось в стране
крестьянское революционное движение. Появились все объективные и
субъективные предпосылки перехода революционной
демократии от этапа, в основном, теоретической работы и
идеологической борьбы к действию, к срыву реформы и
непосредственной подготовке революции. Смену тактики (а также
углубление стратегии) и отразила статья «Критика
философских предубеждений против общинного владения».
Резкая смена тактики получила форму резкого
внутреннего противоречия этой статьи. И вот чем это объясняется.
Мы уже писали, что у Чернышевского краткие
формулировки общественно-исторических задач базировались на
понятии «община»: сохранение общины (программа-минимум),
общинное владение + союзное производство
(программа-максимум).
Когда в 1857—1858 гг. и царские рескрипты и губернские
комитеты высказались за сохранение общины, Чернышевский
оказался в сложном положении. Ведь иным (даже
благожелательно настроенным) читателям могло показаться, что
«правительство откликнулось» на идеи Чернышевского о
сохранении общины, решило последовать им. И Чернышевский
спешит разъяснить читателю, что предполагается «сохранить»
совсем не ту общину, за которую он ратовал. Так появляется
его знаменитое иносказание, составляющее основу
«покаянного начала» «Критики философских предубеждений».
Я, пишет Чернышевский, настаивал на сохранении
провизии, из которой приготовляется ваш обед, имея в виду, что
провизия будет принадлежать вам и что приготовленный из
нее обед здоров и выгоден для вас. Но если провизия не
будет принадлежать вам, если за каждый обед,
приготовленный из нее, с вас будут брать деньги, которых не только не
стоит самый обед, но которых вы вообще не можете платить
без крайнего стеснения, тогда лучше пропадай вся эта
провизия, которая приносит только вред любимому мною
человеку! Лучше пропадай все дело, приносящее вам только
разорение.
47
Община, которую предполагает «сохранить» (а вернее —
создать) правительство, говорится в этом иносказании, будет
источником не улучшения, а ухудшения положения
крестьянства, источником его обнищания. Ибо эта община будет
состоять из земледельцев, разоренных огромными суммами
выкупа, земледельцев, имеющих худшие участки земли.
Такая община неминуемо разложится и погибнет. Ничего,
кроме страданий, не принесет она крестьянину.
«Нужна была именно гениальность Чернышевского, —
писал В. И. Ленин, — чтобы тогда, в эпоху самого
совершения крестьянской реформы (когда еще не была достаточно
освещена она даже на Западе), понимать с такой ясностью
ее основной буржуазный характер, — чтобы понимать, что уже
тогда в русском «обществе» и «государстве» царили и
правили общественные классы, бесповоротно враждебные
трудящемуся и безусловно предопределявшие разорение и
экспроприацию крестьянства»44.
Община, которую намеревалось «сохранить»
правительство, как раз и предопределяла «разложение и
экспроприацию крестьянства». Против этой общины и надо было
выступить, надо было сказать единомышленникам: не спутайте эту
общину с той, за которую ратовал «Современник».
Неужели, скажете вы, читатель был настолько слеп,
чтобы не увидеть разницы между этими двумя общинами.
Читатель, разумеется, не был слеп (хотя и не был столь
проницателен, как Чернышевский), и все же разобраться ему было
не так-то просто: очень сложная общественно-политическая
обстановка, обтекаемые, туманные формулировки царских
рескриптов и речей высокопоставленных чиновников, наконец,
эзопов язык статей Чернышевского (постоянные недоговорки
и недомолвки) — все это могло привести к смешению двух
общин. Да что уж говорить о рядовом
читателе-современнике, если даже такой видный писатель-народник, как Кривенко
(причем, три десятка лет спустя!), не заметил по существу
разницы между «правительственной» общиной и «общиной
Чернышевского»: «Неужели, — восклицает он, — никого дру-
го и не было (кроме Герцена, Чернышевского и народников),
кто стоял за общину и земельный надел. А составители
положения о крестьянах, положившие общину и хозяйственную
самостоятельность крестьян в основу реформы...»45.
Эту-то «общину составителей положения о крестьянах» и
проклял Чернышевский в своем «покаянном» вступлении
в статье «Критика философских предубеждений».
44 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 291.
45 Там же, стр. 280.
48
Итак, Чернышевский проклинал правительственную
общину. Ыо зачем же, спрашивается, он ругал себя? Разберемся
внимательнее, кого он ругал.
Чернышевский пишет о «безвременной самоуверенности»,
с которой он поднял вопрос об общине, о том, что он
«напрасно взялся» «за этот предмет», что «не доставил» он «тем
чести своему здравому смыслу» и что он «прямо стал глуп».
Но почему? Потому, выясняется, что община, которую
намереваются создать, — настоящее разорение для народа.
Следовательно, подытожим мы, всякий, кто пишет о такой общине,
кто защищает такую общину — глуп, самоуверен, он не
доставляет тем чести своему здравому смыслу. Но разве
Чернышевский когда-нибудь писал о такой общине? Нет, конечно.
А кто же писал? Правительство, губернские комитеты,
многие либералы, славянофилы. Следовательно, им и
принадлежат эти «похвальные» слова Чернышевского о глупости,
самоуверенности, отсутствии здравого смысла (слова,
которые, впрочем, выражают не столько квалификацию их
действий по существу, сколько отрицательное к ним отношение
самого Чернышевского). Короче, глупцом можно назвать того,
кто поверит в такую общину, кто поверит рескриптам.
«Не ошибитесь, не потеряйте голову» — вот о чем
предупреждает читателей это «покаянное вступление», —
вчитайтесь в иносказание об обеде, внимательно разберитесь, о чем
пишется во второй части статьи».
И когда читатель начинает разбираться, то он видит, что
во второй части статьи речь идет совсем о другой общине, о
такой, которая базировалась бы на принципах, выработанных
Чернышевским (когда «провизия принадлежит вам» и
«приготовленный из нее обед здоров и выгоден для вас»).
Вот, стало быть, разгадка странного, на 1пер;вый взгляд,
противоречия статьи «Критика философских
/предубеждений...» — о двух разных общинах идет в ней речь и потому
такое разное к ним отношение.
Ближе других к разгадке этой статьи подходил Плеханов.
Чутье подсказало ему, что в статье понятие общины
раздвоено (во вступлении Чернышевский, мол, говорит о
«действительной» существующей общине, во второй части — об
общине «теоретической»). Но Плеханов неверно раскрыл характер
этой раздвоенности, не сумел объяснить ее. Вот что пишет
Плеханов, отвечая на свой же вопрос: что это значит —
с одной стороны, человек ругает общину, а с другой
стороны, — защищает. «Это значит то, — отвечает он, — что в
одном случае Чернышевский говорит о действительной
русской общине, находящейся в определенном историческом
49
положении. Дело этой общины кажется ему окончательно
проигранным. Но, как утопист, он считается не с одними
только действительными общественными отношениями, он не
забывает тех возможных отношений, которые играют такую
большую роль в миросозерцании всякого утописта. С точки
зрения этих возможных отношений община по-прежнему
остается прекрасной вещью, и защищать ее не только не
стыдно, а, напротив, очень хорошо. Таким образом,
возможность оказывается областью, совершенно независимой от
действительности. Эта логическая ошибка постоянно повторялась
впоследствии у всех русских народников, вплоть до Г. И.
Успенского включительно»46.
Хочет того Плеханов или нет, но в таком толковании
Чернышевский предстает перед нами прекраснодушным
Маниловым: знает, что дело «действительной общины» проиграно, но
не может удержаться от того, чтобы не помечтать об общине
«недействительной», «возможной», об общине, как приятном
продукте своей фантазии. Такая чисто теоретическая игра.
И в этой оторванной от жизни, заоблачно-теоретической игре
община «по-прежнему остается прекрасной вещью». А раз —
«прекрасная вещь», то почему бы не поиграть? Но все дело в
том, что играть в эту игру заставил Чернышевского
Плеханов. У самого Чернышевского ничего подобного нет.
Да, Чернышевский в своей статье «Критика философских
предубеждений...» ведет речь о двух разных общинах:
«правительственной» и «своей». Но какая из них «действительная»
и какая «теоретическая»? Да они обе — «теоретические», в
том смысле, что ни той ни другой пока не существует в жизни.
Существует пока, так сказать, община-куколка, община,
перед которой два возможных пути развития: через
правительственную реформу, в результате которой будет создана
община, проклинаемая Чернышевским, и через крестьянскую
революцию, в результате которой будет создана община,
защищаемая Чернышевским.
Считает ли Чернышевский второй путь, революционный,
невозможным? Если — да, то тогда его рассуждения о
«своей» общине, действительно, — теоретическая игра. Но в
том-то и дело, что он верит в близкую крестьянскую
революцию, он чувствует ее приближение, он работает на нее. И
верит не без основания. На рубеже 60-х годов, писал Ленин,
«самый осторожный и трезвый политик должен был бы
признать революционный взрыв вполне возможным и
крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной»47.
46 Г. В. Плеханов. Избр. философ, произв., т. IV, стр. 174.
47 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 5, стр. 30.
50
Поэтому защита и развитие Чернышевским идей
общинного владения — это не абстрактно-теоретические
рассуждения, которые нужны ему для завершения стройности его
теоретической концепции, для законченности теоретической
схемы. Нет, это практическая программа, программа
действий.
Новые условия борьбы, несколько иная расстановка
борющихся сил, приближение революционной ситуации —
требовали видоизменения и развития программы-минимум.
Необходимо было и более глубоко разработать
программу-максимум, так как по всем признакам приближалось и ее время,
время ее осуществления.
Статья «Критика философских предубеждений» была
первым шагом :на этом пути. За «ей последовали «Экономическая
деятельность и законодательство» («Современник», № 2 за
1859 г.), «Суеверие и правила логики» («Современник»,
№ 10 за 1859 г.), сюда же надо отнести направленную против
либералов статью «Русский человек -на rendez—vous»
(опубликованную несколько раньше «Критики...» — в № 18
журнала «Атеней» за 1858 г.), в которых наиболее полно
отразилось это изменение общественно-политических задач.
4. РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ
ПОСЛЕ 1858 г.
а) БЛИЖАЙШАЯ ЗАДАЧА —
СРЫВ РЕФОРМЫ, РЕВОЛЮЦИЯ
Итак, ход борьбы в 1858 г. вокруг проектов освобождения
крестьян достаточно ясно выяснил характер участвующих в
борьбе сил, ясно обозначил пределы, до которых могут идти
те или другие группы и партии. (Выяснилось, в результате
этой борьбы, что в русском обществе нет сил на то, чтобы
заставить мирным путем осуществить преобразование в
интересах народа. Ход событий выдвинул в 1858 г. новую
альтернативу: либо грабительская реформа, либо народная
революция. Других возможностей уже не было.
Не было больше никакого выбора « у «партии»
Чернышевского. Революция стала единственно возможным средством
защиты народа от ограбления, средством преобразования
жизни в интересах большинства. И Чернышевский принимает
эту историческую необходимость. Все свои силы он
посвящает теперь тому, чтобы дать этому революционному
движению осоз-нание своих целей и'задач, чтобы суметь создать
костяк людей, которые смогли бы возглавить и направить это
51
движение. Без такого руководства (Чернышевский, как мы
знаем, не идеализировал крестьянскую революцию) —
положение трудящихся в результате стихийной, «слепой»
революции может не только не улучшиться, но еще больше
ухудшиться. Такой трезвый взгляд на возможности крестьянской
революции Чернышевский излагал 'неоднократно, но особенно
ярко, особенно полно он изложил его в статье 1861 г. «Не
начало ли перемены?», прибегнув, как и всегда в подобных
случаях, к аллегории: «Ездит, ездит лошадь смирно и
благоразумно — и вдруг встанет на дыбы или заржет и понесет...
Будет ли какой-нибудь прок из такой выходки, или принесет
она только вред, это зависит от того, даст ли ей "направление
искусная и сильная рука. Если вожжи схвачены такою рукой,
лошадь в пять минут своей горячности передвинет вас (и
себя, разумеется) так далеко вперед, что в целый час не
подвинуться бы на такое пространство мерным, тихим шагом.
Но если не будет сообщено надлежащее направление порыву,
результатом его останутся только переломленные оглобли и
усталость самой лошади»48. (Нет, Чернышевский не был,
слава богу, «революционным романтиком».) Сплочение уже
не просто оппозиционных, а революционных сил и выработка
программы »а революционный период — вот что направляло
перо Чернышевского после 1858 г.
Революция, о которой в статьях Чернышевского 1856—
1858 гг. говорилось весьма глухо и говорилось лишь как об
одной из имеющихся возможностей, со 2-й половины 1858 г.
ставится Чернышевским в ряд ближайших практических
задач.
Об этом должен был сказать и сказал Чернышевский
своим единомышленникам в приведенном нами знаменитом
иносказании о провизии из «Критики философских
предубеждений...», которое Ленин приводил в качестве примера
«чисто революционных идей» Чернышевского. Оно
затрагивает экономический аспект революции.
Потом последовала менее знаменитая, но не менее
революционная «журналограмма» в статье «Суеверие и правила
логики», касающаяся политического аспекта.
Чернышевский цитирует письмо, которое будто бы получил
«Современник» от какого-то «неизвестного автора». В нем,
в частности, предлагается ряд мер для борьбы с произволом
и беззаконием в государственном аппарате: «Надобно
сделать, чтобы должностная деятельность перестала быть
канцелярскою тайною, чтобы все делалось открыто, перед глазами
общества, и общество могло высказывать свое мнение о каж-
48 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. VII, стр. 881—882.
52
дом официальном действии каждого должностного лица»49.
Этот отрывок и сам по себе имеет достаточный внутренний
заряд, достаточную революционную направленность. И,
может быть, в 1856—1858 (1-я полов.) гг. Чернышевский
ограничился бы им, запрятав в подтекст его революционное острие.
Но теперь уже не то время, и Чернышевский дает к нему
комментарий, да еще какой комментарий!
«Мы не знаем, возможно ли при нынешнем устройстве
наших общественных отношений осуществление условия,
которое предлагается выписанным нами отрывком для
прекращения беззаконности: быть может, подобная реформа
предполагает уничтожение отношений слишком сильных, не
.поддающихся реформам, а исчезающих только вследствие важных
исторических событий, выходящих из обыкновенного порядка,
которыми производятся реформы. Мы не хотим решать этого,
мы не хотим рассматривать, какие обстоятельства нужны
для исполнения мысли, изложенной автором приведенного
нами отрывка. Но можно сказать, что пока не осуществится
изменение, необходимость которого он показывает, все
попытки к водворению законности б нашей администрации и
судебном деле останутся безуспешными»50.
Тут даже полицейскому болвану должно быть ясно, что
выражение «не знаем, возможно ли» значит «знаем —
невозможно»; что выражение «мы не хотим решать» означает «вы
знаете, что мы решили — революция!», что «быть может»
значит «обязательно» и, наконец, что «важные исторические
события, выходящие из обыкновенного порядка» это и есть
«революция».
Но Чернышевского, видимо, не смущало то, что это
понятно и полицейскому болвану (не заткнешь же ему уши!),
главное — удалось передать важную мысль единомышленникам.
А что полицейский сделает? Прямо придраться трудно: мало
ли как понимает твоя полицейская голова, мог бы возразить
Чернышевский, я совсем не то имел в виду. Придется
возиться, доказывать (а такого хитреца, как Чернышевский,
голыми руками не возьмешь), а тут крестьяне бунтуют, студенты
волнуются, государственный долг растет — куда кинуться, не
знаешь; в такой обстановке не до шарад Чернышевского.
Полицейскому остается только кулаки сжать да прошипеть про
себя: «Ну погоди ужо. Придем немного в себя, а там и до
тебя доберемся».
Какой-нибудь окололитературный скептик, возможно, по-
Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. V, стр. 707.
Там же.
53
смеется над моим рассказом об умении Чернышевского вести
революционную борьбу, используя легальную печать.
— Цензура была тогда дырявая — вот что. Не
Чернышевского это заслуга, — скажет он. — Ну подумайте сами, разве
может сколько-нибудь порядочная цензура позволить
легальному журналу встретить правительственную реформу 1861 г.
так, как встретил ее «Современник»: вслед за официальным
сообщением о реформе, которую все сравнивали не иначе,
как с восходящим солнцем, «Современник» дает ни больше,
ми меньше, как статью... «О препровождении ссыльных по
Сибири», затем «Песни о неграх», статью «Невольничество в
Северной Америке», и, наконец — «Внутреннее обозрение»,
где автор уже прямо пишет, что он не будет вести речь «о чем
трезвонят, поют, говорят теперь все журналы, журнальцы и
газеты, т. е. о дарованной крестьянам свободе», и дальше:
«мы ...почитаем себя обязанными обозревать все явления не
в обманчивой призрачности их первоначального появления...».
— Так что не преувеличивайте талантов
Чернышевского,— заключит он. — И не принимайте слишком буквально
слов Герцена о существовавшей тогда «татарской цензуре» —
хотя бы потому, что годы, протекшие после его смерти,
-несколько расширили наши представления о возможностях
цензуры.
Ну, что ж, я могу пожалеть только о том, что этот
скептик слишком много знает о цензуре и слишком мало о
журналистах, подобных Чернышевскому. Нет, милый скептик,
Герцен был прав, когда кровью сердца писал о дикой
татарской цензуре. Правда, он говорит о николаевском времени;
а при всем его сходстве с временем Александра II, между
ними имелись и важные различия. И при Александре
цензура желала бы быть дикой и татарской. Но этому мешали и
объективные и, что для нас особенно интересно, субъективные
обстоятельства. Объективные мы уже назвали — народные
Еолнения, экономический крах и т. п. Но эти «объективные
данные» создают только условия для активных действий
революционеров, обусловливают лишь возможность таких
действий. Нужны смелые и решительные люди, которые
осуществили бы эту возможность. Ведь немало было и таких, кто
плохо понимал язык объективной действительности. Такие по-
прежнему твердили, что сейчас период мирной, теоретической
борьбы, они думали, что по-прежнему сильна полиция и
всемогуще правительство, которое по-прежнему может хватать
виновного и невиновного, за дело и без дела.
«Наступило ли время поднять... знамя? — писал один из
таких в частном письме своему другу. — Или мы должны мол-
54
ча работать, накоплять сведения, приготовляться, чтобы в
удобную минуту выступить во всеоружии? Я стою за
последнее, мне кажется, что время еще не созрело»51. Они как
залегли в эпоху Николая, так и лежали, не смея поднять высоко
голову. А Чернышевский имел революционную дерзость
подняться во весь рост и пойти в атаку, и тогда обнаружилось,
что враг слабее, чем все думали. Оказалось, что он может
еще бить по головам, которые нерешительно, едва-едва
приподнимаются от земли, но не в силах остановить
поднявшихся во весь рост. Больше смелости и решительности в статьях,
призывал Добролюбов сотрудника «Современника» Славу-
тинского, ибо чем трусливей статьи, тем смелей с ними
обращается цензура, тем решительней она черкает их. Короче —
бей в барабан и не бойся, да здравствует революционная
дерзость. Правительство и царь не пошлют тебе вестового с
сообщением о том, что они слабы, что растеряны, что не знают,
как справиться с трудностями- и завоевать доверие общества
и народа, и не подскажут, что тебе пора начинать
наступление. Глупо думать также, что чисто теоретически, лежа в
кустах, можно установить, когда переходить в наступление.
Надо пробовать!
. Еще раз: да здравствует революционная дерзость.
Конечно, Чернышевский и его соратники знали, что первым,
поднявшимся в рост, возможно, придется плохо, ибо им
достанутся первые пули врага (на первые выстрелы пуль еще
хватит), но кому-то все-таки надо подниматься первым. Зато
других, поднимающихся к борьбе, больше, чем вражеских
пуль, и близко ли, далеко ли, а победа придет к ним, потому
что бегущим в атаке также трудно снова лечь, как когда-то
лежавшим было трудно подняться.
«Современник» Чернышевского и Добролюбова и поднял
русских революционеров в атаку на самодержавие, положил
начало той героической борьбе, которая, говорим не боясь
сколько-нибудь преувеличить, закончилась победным
Октябрем 17-го года.
Вот почему так смело шел Чернышевский на еще
сильного, но теряющего под собой почву врага, вот почему так
дерзки, так откровенны его статьи после 1858 г.
А у кого это «не укладывается в голове», кто что-то
скептическое лепечет насчет того, была ли такой уж «дикой»
51 Так писал Б. Н. Чичерин К. Д. Кавелину 26 ноября (8 декабря)
1858 г. (Цит. по кн. III., М. Левин. Общественное движение в России в
60—70-е годы XIX века. М., Соцэкгиз, 1958, стр. 80). Оба они считали себя
очень прогрессивными (мудро прогрессивными) людьми и обоих история
заслуженно заклеймила в качестве отвратительнейших типов либерального
хамства.
55
царская цензура, тому объяснять все это лишне. Обывателю,
мнящему себя «прогрессистом», не объяснишь, что если что
и печаталось в XIX в. из разряда «не укладывающегося в
голове», то это не по причине мягкости и благородства
цензуры, а по причине немеркнущего в веках героизма русских
революционеров, по причине их великого умения бороться.
Итак, Чернышевскому удалось сообщить
единомышленникам о том, что на повестке дня — революция. Сообщает он и
о новой расстановке сил, о разрыве с либералами, «лучшими
из славянофилов». Делает он это в статье, посвященной
разбору любовной истории тургеневской повести «Ася». Да, это
знаменитейшая статья: «Русский человек на rendez-vous».
Любовная история превратилась у Чернышевского в историю
политическую, а свидание героя повести с Асей — в свидание
либерала с революцией. Мы у_же говорили, что в 1856—
1857 гг. Чернышевский вел разговор большей частью о
принципах предстоящего освобождения. Обсуждался главным
образом -вопрос, что значит «освобождение крестьян», но не
как его осуществить — сверху или снизу. Пока вопрос «как»
не был главным, «лучшие из славянофилов» и приносили
'некоторую 'ПОЛЬЗУ.
К 1858 г. на первый план выдвигается вопрос «как»,
«подходит дело к тому, чтобы прямо и точно выразить свои
чувства и желания». (Фразы этого абзаца, взятые в
кавычки,— цитаты из статьи «Русский человек на rendez-vous».)
Но как выполнить ту программу, которую они выдвигали
прежде (помните, ту, которую «на первый случай» выдвигал- и
Герцен)? Время показало, что «сверху» эта программа
выполнена не будет. Значит, надо снизу (Герцен, между прочим, и
пришел к такому выводу). Но «большая часть героев
(либералов, славянофилов. — Г. В.) начинает уже колебаться».
А Чернышевский, представитель интересов крестьянских масс,
продолжает настаивать: «начинайте же действовать, а мы вас
поддержим». Так оказались они зажатыми между
аристократией и народом, и -народ устами Чернышевского требовал от
них переходить от слов к делу. Но они «любили» только
«пассивный», дремлющий народ. Народ, поднимающийся к
действию, смертельно пугал их. Вот почему после призыва
действовать «одна половина храбрейших героев падает в обморок,
другие начинают очень грубо упрекать за то, что вы
поставили их в неловкое положение», т. е. в положение выбирать
между самодержавием и народом. И они вынуждены были
выбрать. Нет, сказали они, если снизу, то не надо
выполнения наших программ. Теперь у Чернышевского были веские
доводы против либерала, теперь он мог открыто сказать о
56
его бегстве с rendez-vous с революцией. «Мы не имеем чести
быть его родственниками».
Так Чернышевский убил двух зайцев: пошел в 56—57 гг.
на некоторый контакт с либералами, славянофилами,
утилизовав в революционных целях всю их относительную
полезность, а потом — разоблачил их, так сказать, «изнутри». Вот
что значит — уметь бороться, вот что значит беспроигрышная
революционная тактика.
Не 'надо, конечно, изображать дело так, что
Чернышевский какой-то всезнающий провидец, что он не участник
реальной политической борьбы со всеми ее хитросплетениями
и неожиданностями, а этакий шахматный маэстро, легко
разыгрывающий многоходовые комбинации на жизненной доске;
не надо думать, что он уже в 1855—1856 гг. предвидел, что
русские либералы вскоре окажутся абсолютно ни на что не
годными, что на какую-либо серьезную оппозицию они не
способны и что поэтому-де задача заключается лишь в том,
чтобы, накопив «посильнее» факты, убедительно изобличить
их, на что и потребовалось Чернышевскому два-три года.
Нет, так дело не надо изображать. В 1856 г. ничего этого
сказать было нельзя. Русский либерализм должен был пройти
проверку боем, проверку практикой, чтобы о >нем можно было
хоть что-то сказать, хоть как-то оценить его (ведь в 1855 г.
сами либералы не знали, — ни на что они способны, ни
степени своей храбрости, ни размеров своих сил). Более того,
русский либерализм должен был просто-напросто
сформироваться.
Конечно, Чернышевский и тогда, в 1856—1857 гг., особых
иллюзий насчет либералов не имел, но как всякий
практический деятель, как революционер-реалист, знающий, сколь
богата возможностями и неожиданными поворотами
общественная жизнь, он не мог и не имел права тогда выносить столь
решительные по адресу либералов, славянофилов
«резолюции» и «постановления». Но тактику отношений с ними
Чернышевский избрал единственно верную: он утилизовал в
революционных целях относительную прогрессивность
отдельных либеральных течений52, он в значительной степени спо-
52 В статье «Русская беседа» и славянофильство» Чернышевский писал,
что славянофилы в ряде вопросов «полезным образом действуют на
пробуждение умов, доступных их влиянию», что «в настоящее время» «для
народного развития» недостатки «примеси» славянофильского воззрения
«менее важны, нежели выгоды, соединенные с некоторыми твердыми
убеждениями славянофилов» . (Н. Г. Чернышевский. Избр. экон. произв.,
т. I, стр. 94, 98). Сочувственно отнесся Чернышевский и к речи либерала
Бабста, видя в ней оппозицию самодержавию (см. Н. Г.
Чернышевский. Поли. собр. соч., т. IV, стр. 470 и др.).
57
собствовал прояснению их позиции (полемизируя с ними,
толкая на более решительные шаги).
В 1858 г. можно было уже дать более или менее
исчерпывающую оценку русскому либерализму, ибо к тому времени
он, по крайней мере, в общих чертах сложился и «проявил
себя».
«...Он протестовал, проклинал реформу, желая ей неуспеха,
желая, чтобы правительство запуталось в своей
эквилибристике между либералами и помещиками и получился крах,
который бы вывел Россию на дорогу открытой борьбы
классов»53,— так охарактеризовал Ленин тактику Чернышевского-
после 1858 г.
б) РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ-МАКСИМУМ.
ДВИЖЕНИЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО
ОТ УТОПИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА
К НАУЧНОМУ
«Критика философских предубеждений...» — это не только
программа-минимум, это и программа-максимум.
Чернышевский думал не только над тем, как совершить революцию, но
и над тем, что делать после ее победы, как строить новую
жизнь. Он принадлежал к числу серьезных революционеров,
отнюдь не беззаботных насчет теории.
Когда говорят о теории Чернышевского, о его плане
перехода к социализму с использованием общины, обычно
подчеркивают утопический характер этого плана. И в общем это
верно. Но при этом не надо забывать, что исследование
такой возможности содержало у Чернышевского немало такого,
что сближает его с научным социализмом. Именно за это
Маркс назвал «замечательными» его статьи об общине.
Более того, по статьям Чернышевского можно легко
проследить, как развивался в направлении от утопии к науке его
взгляд на пути перехода к социализму. И в этом развитии
«Критика философских предубеждений...» имеет этапный
характер.
Мы''уже говорили, что вначале, в статьях первой
половины 1857 г. Чернышевский говорил о необходимости сохранить
общинное владение, так как оно «в настоящее время» для
крестьянства и для государства вообще выгоднее, чем
частная собственность.
Доказательством преимущества общинного владения
главным образом и занимался Чернышевский в этот период. Идея
53 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 292.
58
оплодотворения общинного владения союзным производством
высказывалась мельком, одним-двумя предложениями.
Какие предпосылки нужны для того, чтобы претворить в
.жизнь идею союзного производства? Уже в 1856—1857 гг.
Чернышевский высказывает мысль, что союзное производство
будет исторически необходимо, только когда в стране
разовьется промышленность, внутренний рынок, когда сельское
хозяйство получит машинную технику54. Но каким путем
будет развиваться промышленность, внутренний рынок? Этот
вопрос — самый сложный, самый коварный во всей
программе Чернышевского (с решением этого вопроса и связаны
утопические элементы его программы). Дело, ведь, в том, что
в развитии промышленности, машинной индустрии — в этом
как раз и заключается историческая миссия капитализма.
Во имя этого он как раз и пришел на смену
патриархальному, феодальному укладу. Причем рост внутреннего рынка,
развитие промышленности требует разложения общины,
требует образования пролетариата. А пролетариат образуется на
счет крестьянства, ремесленников и мелкой городской
буржуазии, вследствие их разложения и обнищания.
Как же можно соединить развитие промышленности,
внутреннего рьшка и сохранение патриархальной общины?
Чернышевский задумывался над этим вопросом, но в период до
1858 г. он не исследовал его подробно. Он считал, что
решение этого вопроса—дело хотя и не далекого, но будущего.
А пока главное — сохранить общинное владение (как
оплодотворить его союзным производством — решим в будущем).
В том-то и заключался утопизм социализма Чернышевского
(в период до 58 года), не понимавшего тогда, что ни в
каком будущем, далеком или близком, нельзя найти решение,
которое позволяло бы в пределах одной
феодально-патриархальной страны (без помощи извне) параллельно развивать
промышленность, внутренний рынок и старую
патриархальную общину. Он не понимал, что внутри одной страны
промышленность и внутренний рынок могут развиваться
вследствие разложения общины. И хотя Чернышевский в 1857 г.
подробно не разрабатывал эту проблему, но чувствуется, что
он несколько упрощенно смотрел на нее, полагая, что
общинным артельным путем можно постепенно развить
производительные силы; пусть этот процесс будет идти не так быстро,
как он шел на Западе, но зато народные массы испытывают
меньше страданий. Ведь быстрый прогресс Запада куплен
54 Особенно полно развивает Чернышевский эту мысль в статье «Ответ
на замечания г. Провинциала» (март 1858 г.). См. Н. Г. Чернышев-
■с к и й. Поли. собр. соч., т. V, стр. 158.
59
большой кровью 'народа55. Таково было тогда мнение
Чернышевского. Чернышевский, конечно, дорожил своими
мнениями, но еще больше он дорожил фактами, которые давала ему
действительность. Поэтому так внимательно прислушивался
он к ее голосу. Анализируя быстро развивающийся русский
капитализм, Чернышевский отдает должное его молодой
силе; он понимает, что еще несколько лет такого быстрого,
'ничем не сдерживаемого развития частного
предпринимательства— и оно подавит общину. Тогда-то, в начале 1858 г., и
возникает у Чернышевского идея переходного периода:
сосуществование двух форм владения — общинной и частной —
при поддержке государством, демократическим
правительством общинной формы и при ограничении частной56.
В этой идее есть верное реалистическое зерно, связанное
с исследованием сосуществования и борьбы двух форм
владения. И все же главная проблема так и остается проблемой:
каким путем могут быть созданы орудия труда, которые
сделают необходимым соединение общинного владения с
союзным производством, которые в конечном счете будут
способствовать победе общинного сектора над частным.
Серьезный шаг к решению этой проблемы, а
следовательно и шаг от утопии к науке сделан Чернышевским в статье
«Критика философских предубеждений...», которая занимает
основное наше внимание. Западная Европа, рассуждает
Чернышевский, уже достаточно развила свои производительные
силы. Не может ли Россия воспользоваться плодами этого
развития для создания у себя союзного производства? Тогда
развитие капитализма в России не будет исторической
необходимостью, ибо эту миссию выполнит Запад.
Эта мысль не нуждается в комплиментах исследователя.
Она говорит сама за себя. Она показывает, на какой высоте
«научной мысли стоял Чернышевский: здесь и признание
объективной законосообразности истории, неизбежности и
необходимости определенных этапов экономического развития,
при всем этом отсутствует всякая фетишизация исторических
и экономических законов.
Однако медвежью услугу оказывают Чернышевскому те
исследователи, которые по существу отождествляют взгляд
Чернышевского о зависимости победы социалистической
революции в России от помощи развитого Запада с известным
взглядом Маркса и Энгельса о том, что переход России к
55 См. «О поземельной собственности». Н. Г. Чернышевский.
Поли. собр. соч., т. IV.
56 См. «Ответ на замечания г. Провинциала». Н. Г.
Чернышевский. Поли. собр. соч., т. V.
60
социализму через общину возможен только в случае, если на
Западе произойдет пролетарская революция.
Медвежью, во-первых, потому, что это не соответствует
действительности. Ведь в этой мысли Маркса и Энгельса
многое остается «за кадром». Два слова «пролетарская
революция» содержат в себе, как говорят философы, в «снятом»
виде всю теорию классовой борьбы марксизма. За этими
словами—до конца помятая диалектика буржуазного способа
производства, раскрытая в «Капитале», теория прибавочной
стоимости, теория государства^ многие другие вещи, к
которым еще не пришел (не мог прийти) Чернышевский..
И, во-вторых, услуга эта медвежья потому, что такие
люди, как Чернышевский, -не нуждаются в приукрашивании.
Всякое «современное прибавление» к его взглядам
оскорбительно для памяти этого выдающегося революционера и
ученого. Такие «прибавители», значит, просто не осознают
действительного величия своего соотечественника и гонятся за
величием мнимым.
В пику им, некоторые авторы в хорошем стремлении
снять хрестоматийный глянец с Чернышевского, показать
великого ученого, каким он действительно был, без
прибавлений, впадают в другую крайность: отнимают у него
действительные заслуги. Так, например, некоторые исследователи
считают, что, говоря о необходимости помощи со стороны
Запада для развития и укрепления социализма в России,
Чернышевский вовсе не имеет в виду европейскую
революцию, а речь идет лишь о технической, экономической помощи
Запада в деле развития промышленности.
Разберемся. Да, он говорит о технической помощи Запада
в развитии хозяйства России. Но о помощи какого Запада
идет речь?
Неужели исследователи всерьез считают, что
Чернышевский 'возлагал надежды на то, что капиталисты Европы с
радостью придут на помощь победоносной крестьянской
революции и что они, вместо того чтобы попытаться задушить ее,
станут предлагать ей строить в России в кредит за малые
проценты заводы и фабрики, снабдят современными
машинами сельское хозяйстве, пришлют своих специалистов и т. п.
Чернышевский не был столь наивен.
Он достаточно выяснил в своих статьях сущность
буржуазии ведущих стран Европы. Уже кто-кто, а он знал, что
трудящимся классам нечего рассчитывать на помощь
угнетателей 57. И потому Чернышевский говорит, конечно, о помощи
57 См., например, ст.: «Кавеньяк» (Н. Г. Чернышевскн и. Поли.
собр. соч., т. V).
61
революционного Запада. При этом он раскрывает не только
техническую, производственную взаимозависимость России и
Запада, но и взаимозависимость политическую,
революционную.
Куча деревьев, пишет он в одной из своих аллегорий, имея
в виду Россию, сама собой может загореться лишь после
следующих степеней: «1) проникновение сыростью; 2)
гниение; 3) брожение; 4) просыхание; 5) образование черного
угля; 6) превращение черного в раскаленный; 7) появление
пламени»58. Однако вероятность такого самовоспламенения,
такого классически последовательного и постепенного
развития событий, по мнению Чернышевского, чрезвычайно мала.
«...Мы не знаем, удавалось ли разным массам дерева достичь
горения по такому пути хоть пять или шесть раз. от самого
«начала лесов на земле до нашего времени»59.
Более вероятной Чернышевский считает другую
возможность: это — воспламенение деревьев от фосфорной спички
(толчок извне). Речь идет, разухмеется, о сухих, созревших
деревьях. Фосфорная опичжа лишь ускоряет прохождение
ступеней воспламенения (ступеней революции). «Эта
фосфорная спичка даст нам следующие выводы:
1) Когда в одном теле известный .процесс достиг высокой
степени развития (спичка уже зажглась),. то при помощи
этого тела он может быть доведен до той же степени развития
в другом теле гораздо скорее, нежели как достиг бы без
помощи этого опередившего пособника...
2) Это ускорение совершается посредством
соприкосновения (зажженная спичка прикладывается к лучине, а лучина
положена подле поленьев)...»60.
«...Вечная смена форм, — заканчивает свою статью
Чернышевский,— вечное отвержение формы, порожденной
известным содержанием или стремлением вследствие усиления того
же стремления, высшего развития того же содержания, — кто
понял этот великий, вечный, повсеместный закон, кто
приучился применять его ко всякому явлению, о, как спокойно
призывает он шансы, которыми смущаются другие!»61.
Призванию шансов, которыми «смущаются другие», —
этому посвящена статья. На примере деревьев и фосфорной
спички Чернышевский показал, как он понимает эти шансы для
России. А для тех исследователей, для которых спичка и
деревья ни о чем не говорят, для которых это просто спичка
58 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й. Поли. собр. соч., т. V, стр. 380.
59 Там же.
60 Там же, стр. 381.
61 Там же, стр. 391.
62
и просто деревья, для которых «шансы будущего» не больше,
как надежда Чернышевского на техническую помощь
буржуазного Запада, для тех мы даем выписку из дневника героя
романа «Пролог» Левицкого (Добролюбова). Левицкий
приводит высказывание Волгина (Чернышевского) о «шансах
будущего», уже не сдавленное намордником полицейской
цензуры. (Заметьте, что в дневнике употребляется именно это
выражение — «шансы будущего».) «Шансы будущего
различны,— замечает Волгин. — Какой из них осуществится?» И он
говорит, что развитие в России будет идти медленно,
трусливо и подло, «пока где-нибудь в Европе, — вероятнее всего во
Франции, «не подымется буря, и не пойдет по остальной
Европе, как было в 1848 году.
В 1830 году буря прошумела только по Западной
Германии; в 1848 году захватила Вену и Берлин. Судя по этому,
надобно думать, что в следующий раз захватит Петербург и
Москву»62.
Прекрасный комментарий к иносказанию о спичке, деревь-.
ях и «шансах будущего»!
А раз буря на Западе — наиболее возможный в настоящее
время и наиболее благоприятный путь развития
революционного процесса в России, то, сделав такой важный вывод,
Чернышевский встает перед необходимостью исследовать
подробнейшим образом эту возможность. Исследование
экономического и политического положения Западной Европы
приобретает теперь иной смысл и иное значение.
Политико-экономические, исторические исследования Запада становятся для
Чернышевского частью внутреннего дела русской революции.
Так русская социалистическая мысль пришла к
постановке одной из важнейших проблем исторического развития —
соотношение общего и особенного, и эта проблема получила
глубокое для своего времени разрешение в трудах
Чернышевского: да, существуют общие объективные законы
исторического движения, утверждал великий русский социалист,
существуют ступени общественного развития, через которые с
необходимостью должно пройти всякое общество, однако в
пределах общей линии мирового развития, в пределах общего
возможны (и неизбежны) важные особенности в развитии
того или другого конкретного общества. Это — важная мысль
(хотя, конечно, в трактовке Чернышевского она была не
вполне свободна от утопических черт).
Существенную особенность России Чернышевский видел в
возможности миновать (или сократить) путь
капиталистического развития, используя результаты развития западноевро-
Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. XIII, стр. 244.
63
пейского капитализма. Сделав такой важный вывод,
Чернышевский, повторяем, встает перед необходимостью
подробнейшим образом исследовать экономические и политические
отношения Западной Европы, оценить степень зрелости
европейского капитализма, его противоречия, возможность
революции. И с 1859 г. он приступает к систематическому,
тщательному исследованию экономических и политических
отношений Европы. Этому посвящены его многочисленные
журнальные статьи в разделе «Политика», статья «Капитал
и труд», замечания и комментарии к «Основаниям
политической экономии» Милля, «Очерки из политической экономии
(поМиллю)».
К каким же мыслям привело Чернышевского это
исследование, какие же выводы были сделаны им о характере
противоречий на Западе, о приблизительных сроках революции в
Европе и характере этой революции?
Надо сказать, что окончательных выводов Чернышевский
сделать не успел. Не по своей вине. Его работа была
прервана арестом в 1862 г. и многолетним заключением в
Сибири.
Однако направление его поисков более или менее
определилось— об этом и пойдет речь в следующем параграфе.
5. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КАПИТАЛИЗМ
В ОЦЕНКЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО
(Социализм Чернышевского
и научный социализм)
Задача, стоявшая перед социалистами середины XIX в.,
«заключалась,—то словам Энгельса, — е том, чтобы, с одной
стороны, объяснить неизбежность возникновения
капиталистического способа «производства *в его исторической связи и
необходимость его для определенного исторического периода,
а поэтому и неизбежность его гибели, а с другой — в том,
чтобы обнажить также внутренний, до сих пор еще не
раскрытый характер этого способа производства... Это было
сделано благодаря открытию прибавочной стоимости»63. Только
решение этих задач делало, социализм наукой.
Надо сказать, что именно эти задачи были в поле зрения
и Чернышевского. Надо сказать также, что Чернышевский в
общем-то выяснил и неизбежность возникновения
капитализма, и необходимость его для определенного периода, и
неизбежность гибели. Но выяснил он это в слишком общей, в сли-
63 Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. М., Госполитиздат, 1952, стр. 27.
64
шком абстрактной форме, которая и не позволяет социализм
Чернышевского назвать научным социализмом.
Эта характерная черта социализма Чернышевского — его
абстрактность—не была в должной ,мере оценена
исследователями наследия русского социалиста. И потому одни
('например, Ю. Стеклов) незаметно для себя наполняли более или
менее абстрактные схемы Чернышевского той (конкретностью,
которая составляла завоевания более позднего времени, и
Чернышевский у них получался почти «марксистом. Другие,
исходя из того, что у Чернышевского нет всестороннего,
конкретного решения .вышеназванных проблем, невольно
преуменьшают его значение как теоретика социализма, делая
упор на бедности его выводов (по сравнению с Марксом), на
их, вследствие этого, ненаучности.
Такова судьба-всякого абстрактного решения — его
сравнительно легко можно повернуть в ту или другую сторону
(даже незаметно для себя!). Поэтому здесь нужна особая ,
осторожность в исследовании, чтобы при изложении взглядов
ученого сохранить именно ту степень абстрактности, которая
им была свойственна в то далекое время, чтобы, таким
образом, ученый предстал перед нами таким, каким он был в
действительности. И тут уместно вспомнить мудрые слова
Гегеля, сказанные им по сходному поводу: «...Ранние
философские системы являются наиболее скудными и
абстрактными (абстрактным является и социализм Чернышевского по
отношению к социализму Маркса. — Г. В.); идея -в них
наименее определенна. Они остаются лишь в пределах еще не
наполненных общностей (как «не наполнены» или
недостаточно «наполнены» — по сравнению с марксизмом — многие
«общности» в системе Чернышевского.—Г. В.). Мы должны
это знать, чтобы не искать в древних философских учениях
больше того, что мы вправе там находить (Ю. Стеклов как
раз и «находил» в учении Чернышевского «больше того, что
можно там найти». — Г. В.)». «Мы не должны приписывать
им (системам прошлого. — Г. В.), — пишет далее Гегель,—
выводов и утверждений, которых они вовсе не делали и
которые даже не приходили их творцам в голову, хотя эти
утверждения и можно правильно вывести из мыслей, высказанных
в этих системах... (Из мыслей, высказанных в
социалистическом учении Чернышевского, можно с 'большим или меньшим
успехом вывести едва ли не все положения научного
социализма и исторического материализма, так же как при
желании, можно вывести и утверждения, говорящие о прямо
противоположном — о мечтательном характере социализма
Чернышевского и его историческом идеализме,—можно, если не
65
научно, не исторически подходить к учению русского
социалиста.— Г. В.). Надо излагать исторически: приписывать им
лишь то, что нам непосредственно передано как их учение»64.
Так, как советует Гегель, мы и поступим. Мы постараемся
показать, в чем конкретно проявляется абстрактность
социализма Чернышевского. (Ведь степень абстрактности может
быть различна. Поэтому не будем абстрактно рассуждать об
абстрактности Чернышевского. Об абстрактном надо
рассуждать конкретно.)
Мы сказали, что в общем виде Чернышевский говорит и
об исторической неизбежности возникновения капитализма
(или, как он у 'него чаще всего называется — системы
наемного рабства, системы соперничества или системы частной
собственности), и о необходимости его для определенного
периода, и о неизбежности гибели, неизбежности замены его
социалистической формой хозяйства.
Вот как именно он говорит об этом (приводим наиболее
яркое и наиболее характерное место «з его работы
«Основания политической экономии») :
«При грубых процессах производства, какими
ограничивалась техника варварских обществ, рабский труд не
представлял несообразности с орудиями, к которым прилагался: то и
другое было одинаково дурно.
Когда техника несколько развилась, когда явились
довольно многосложные и деликатные орудия, грубый труд
раба оказался непригодным, машина не терпит подле себя
невольничества; она не выдерживает тяжелых рук его
беспечности. Не выдерживают невольничества и все те мастерства,
в которых введены сколько-нибудь усовершенствованные
инструменты. Для них необходим вольный человек.
Но когда производство совершенствуется до того, что
требует ведения в широком размере, для >него становится
недостаточным одно то условие, чтобы работник был свободен.
В 'небольшой мастерской, в маленьком хозяйстве хозяин
может наблюсти за исполнением дела; тут нет большой
разницы между работою хозяина и наемника, потому что 'наемник
работает на "глазах у хозяина, который может уследить за
всякой мелочью. Но чем обширнее становится размер
хозяйства, тем меньше возможности одному хозяину усмотреть за
постоянно возрастающим числом работников, за
подробностями дела, принимающего громадную величину. Тут наемный
труд даром тратит половину времени, даром пропадает
половина силы, даваемой машинами. Вместо наемного труда,
64 Гегель. Соч., т. IX, стр. 43, 44, 45.
66
выгодою дела требуется тут уже другая форма труда, более
заботливая, более добросовестная к делу. Тут нужно, чтобы
каждый работник имел побуждение к добросовестному труду
не в постороннем надзоре, который уже не может уследить
за ним, а в собственном своем расчете; тут уже 'нуж'но, чтобы
вознаграждение за труд заключалось в самом продукте
труда, а не в какой-нибудь плате»65, т. е. нужно, чтобы
работники были одновременно и хозяевами.
И общетеоретический вывод: «Мы видим, что перемены в
качествах труда вызываются переменами в характере
производительных процессов. ...Это значит, что если изменился
характер производительных процессов, то непременно изменится
и характер труда, и что, следовательно, опасаться за будущую
судьбу труда не следует: неизбежность ее улучшения
заключается уже в самом развитии производительных
процессов»66. Ну, что же, рассуждения почти «марксистские», не
правда ли?
В самом деле, разве не формулируется здесь важнейшее
положение исторического материализма о зависимости
производственных отношений («характера труда», в терминологии
Чернышевского) от производительных сил
(«производительных процессов», «техники», «орудий труда» — у
Чернышевского), разве не говорится о том, что с изменением
производительных сил («производительных процессов») изменяются
производственные отношения («характер труда»)? Разве не
раскрывается далее Чернышевским, как развивающиеся
орудия производства делают 'необходимым появление свободного
работника и наемного труда (т. е. делают необходимым
возникновение капитализма), и разве, наконец, не говорится, что
система наемного труда уступит место системе, где работники
будут одновременно и хозяевами (т. е. социалистической
системе)? И если все это здесь говорится (а это действительно
говорится—>в этом может убедиться всякий, внимательно
читавший нашу выдержку из сочинения Чернышевского), то
почему же неправы те, кто, подобно Ю. Стеклову, стирают по
существу грани, отделяющие социализм Чернышевского от
научного социализма?
Да потому, ответим мы, что этим принципам не достает у
Чернышевского конкретности. Ведь для революционного
социалиста недостаточно (хотя и немаловажно) знать, что
производительные силы (вообще) определяют производственные
отношения (вообще). Революционеру надо знать, в какой
момент развития-производительных сил он может выдвигать
66 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. IX, стр. 220—221.
66 Там же, стр. 222.
67
требование ликвидации старых 'производственных отношений.
Ответа на этот вопрос вы не найдете у Чернышевского.
Т. е. Чернышевский связывает социализм с развитием
(Производительных сил, но он не может связать его с г
".^деленным уровнем развития этих сил. А раз так, то
неизбежность (табели капитализма и рождения социализма,
естественно, не имеет у .него конкретного обоснования, и,
следовательно, каждому революционеру, исповедующему учение
Чернышевского, открывается возможность более или менее
произвольно определять момент перехода к социализму
(т. е. теория оставляет достаточно места для
субъективистских, идеалистических и просветительских построений).
С одной стороны, таким образом, социализм у
Чернышевского выступает не как случайное открытие гениального ума,
а как необходимый результат развития производительных
сил, т. е. обладает чертами исторической конкретности, а с
другой стороны, эта конкретность все же еще недостаточно
конкретна. Возможность осуществления социалистических
преобразований взята Чернышевским в более узкие, чем у
социалистов, исторические рамки. Это правда. И все же в
пределах этих рамок (которые, впрочем, достаточно
широки — целый период капиталистического развития) социализм
Чернышевского в общем и целом теряет временные
признаки.
Попытки Чернышевского как-то прояснить это (попытки,
не связанные с анализом определенного уровня развития
производительных сил и сопутствующих им социальных
изменений), эти попытки ведут (и не могут не вести) лишь к
затемнению дела. Вот Чернышевский доказывает, что социализм
становится необходимым с появлением крупного производстг
ва. Наемный труд, который, по мнению Чернышевского,
соответствует лишь «небольшой мастерской», этот наемный труд
в крупном производстве невыгоден — так как в крупном
производстве хозяин не может «усмотреть за постоянно
возрастающим числом работников», а сами работники-де вовсе не
заинтересованы в добросовестной работе. Поэтому выгода
дела требует соединения в одном лице работников и хозяев
(т. е. социализма).
Рассмотрим это доказательство с интересующей нас
стороны. Давайте не будем касаться неверного (и не очень
характерного для Чернышевского) утверждения о
несовместимости крупного производства и капитализма (на самом-то,
ведь, деле именно крупное производство и делает капитализм
капитализмом), давайте пройдем мимо наивных, по
нынешним временам, аргументов насчет невозможности контроля
68
над наемными рабочими (которых тоже, впрочем, нигде
больше не приводил Чернышевский) —капиталисту не составляет
труда заставить работать рабочего с полной нагрузкой, он
знает такой эффективный контроль, как.контроль рублем, он
знает систему Тэйлора, да мало ли еще чего знает он в этом
роде! Остановимся на весьма характерной для
Чернышевского аргументации относительно необходимости социализма,
сводящейся к подчеркиванию преимущества труда
работника-хозяина перед трудом наемного рабочего.
Да, конечно, труд работника-хозяина «выгодней для
дела», производительней труда наемного рабочего. Но ведь он
и выгодней и производительней и труда раба и труда
крепостного. Почему же рабство не заменилось системой труда, где
работник (раб) был бы и хозяином?
Короче — доказательством выгоды (вообще) труда
работника-хозяина не доказывается необходимость постановки на
повестку дня вопроса о замене капитализма социализмом.
(А наличие такого рода аргументации, основывающейся на
вневременном и внеисторическом принципе, свидетельствует,
сколь далек еще был Чернышевский от подлинно научной
постановки вопроса о путях и закономерностях перехода от
капиталистической к социалистической форме хозяйства.)
Но смотрите дальше. Чернышевский пытается еще более
конкретизировать свою точку зрения на характер перехода
к социализму (и, естественно, еще более запутывает дело).
Чернышевский, доказав «выгодность для дела» труда
работника-хозяина, считает, что для осуществления этого принципа
в жизни нужно, чтобы большинство людей осознало его
«выгодность». Чтобы бороться за этот принцип, «людям
нужно, — по мнению Чернышевского, — приобрести гораздо
большую твердость мыслей, чем к какой способно теперь
огромное большинство не одних простолюдинов, но и
образованных сословий»67. Значит, задача состоит в том, чтобы
способствовать этому приобретению «твердости мыслей», т. е.
в просвещении. Поэтому вовсе не следует удивляться,
встречая у Чернышевского такие чисто идеалистические
положения, как: «Прогресс основывается на умственном развитии;
коренная сторона его прямо и состоит в успехах и развитии
знаний»68, — или: «Вот что такое прогресс — результат
знания»69 и т. п. Вот куда иногда уводит конкретизация «верных
вообще» абстрактных положений.
97 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. IX, стр. 422.
68 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. VII, стр. 645.
Ä Там же.
69
Надо заметить, однако, что Чернышевский избегает
большой конкретизации общих положений. Ему в большой степени
присуще то чувство исторической реальности, которое
отличает все действительно великие умы от умов псевдовеликих.
Маркс, Энгельс, Ленин никогда не забегали дальше, чем это
позволяла реальная возможность расчета.
Это чувство реальности и удерживало Чернышевского от
большой конкретизации общих положений. Он только чуть-
чуть -наметит развитие мысли то в одну, то в другую сторону,
он только поговорит немного то об одном, то о другом
возможном конкретном пути, отметит достоинства их и
недостатки (см., например, его рассуждение об ассоциациях) и, не
произнося окончательного суда, снова возвращается к своим
бесспорным, абстрактным ^по необходимости) положениям.
Поэтому-то иногда его мысль делает зигзаг в сторону
идеализма, а иногда (и надо отметить — чаще всего) в сторону
материализма; причем такого рода идеалистические и
материалистические элементы его системы вовсе «е ведут
яростной между собой борьбы, они в общем-то легко уживаются
друг с другом. Они появляются в некоторых, так сказать,
разветвлениях его системы, на которых, впрочем, не очень
настаивает и сам Чернышевский.
Кстати сказать, эта особенность теоретических
рассуждений Чернышевского не есть только присущее лично
Чернышевскому качество, это, по всей видимости, общий закон:
в периоды, когда новые общественные противоречия только
наметились, но еще «е проявились всесторонне, когда
недостаточно четко определились общественные силы, вступающие
друг с другом в борьбу, единственно научной может быть
только такая теория, которая, основываясь на этой
объективной «абстрактности» общественных отношений, осознает и эту
свою собственную абстрактность (неполноту) и
«абстрактность» объективного мира. Рассуждения сторонников такой
теории могли бы быть, например, следующие: в настоящее
время основным противоречием является противоречие
между богатыми и бедными, между эксплуататорами и
эксплуатируемыми, между владельцами капиталов и трудящимися;
трудно пока сказать более определенно, какие классы
противостоят каким классам, трудно пока выделить из массы
трудящихся ведущую силу, но совершенно ясно, что
историческое развитие внесет определенность в общественные
противоречия и что такая сила более четко определится в жизни и
более решительно заявит о себе, — тогда мы и
конкретизируем свою теорию, свою программу — в соответствии с
характером этой Юговой определенной силы; а пока этого нет, мы
70
будем выступать от имени и в интересах той силы и в той
степени, как она сложилась на сегодняшний день — мы будем
выступать от имени всех трудящихся против эксплуататоров
(не забывая, однако, временность такой постановки вопроса),
и своей борьбой мы (вкупе с другими факторами) будем
способствовать прояснению противоречий, выведению
противоречий на ясную дорогу открытой классовой борьбы. Так
может рассуждать, например, социалист в какой-нибудь
азиатской или африканской стране, начавшей борьбу со своей
национальной буржуазией.
Отличие такого рода рассуждений от рассуждений
Чернышевского только в одном: Чернышевский не осознавал (по
крайней мере не осознавал достаточно ясно) абстрактности
своей теории, но действовал он объектив-но так, словно бы
осознавал это.
Абстрактность социализма Чернышевского сказывается не
только в оценке 'исторической роли капиталистического
способа производства, но и в характеристике общественных сил,
способных преобразовать капиталистическое общество в
социалистическое.
Нет, Чернышевский в отличие от западноевропейских
социалистов-утопистов не возлагает свои надежды на
социалистически-преобразовательную деятельность богатых
меценатов и знатных филантропов, он вовсе не надеется также, что
можно убедить целые общественные классы отказаться от
барыша и приступить к строительству социалистического
хозяйства на началах товарищества. Нет, он достаточно хорошо
знал, что «если <вы владеете порядочной собственностью или
хотя ждете порядочного наследства», тогда для вас нет
общественной системы лучше, чем «система частной
собственности»; все другие системы для вас — «фальшивы и
гибельны» 70.
Чернышевский идет по единственному методологически-
правильному пути: он ищет общественные силы,
заинтересованные в установлении социализма. Посмотрим, каков
результат этих поисков.
Первое: «Общество разделяется в экономическом
отношении на две часл. Одну, конечно, всегда малочисленную по
количеству, составляют люди, из которых у каждого доход
получается... не столько от его собственного труда, сколько от
поступления в его пользу части труда 'нескольких или многих
других людей». Другую, «несравненно многочисленнейшую
часть общества», составляют люди, «-.из которых каждый не
только (не получает в свою пользу чясть труда или продукта
70 H Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. IX, стр. 900.
71
других, но т* продуктом своего труда или заслуг пользуется
не вполне, оставляя большую или меньшую долю его в
пользу кого-нибудь из первой части общества»71. И вот эта-та
«другая часть» «под возбуждением личного интереса»
находит «не основательными» такого рода условия общественной
жизни, и она «влечется» к их изменению72.
Итак, Чернышевский устанавливает важную истину,
которая заметно возвышает его 'над прежними
социалистами-утопистами: внутри самого общества существует мощная
общественная сила, интересы которой требуют установления
социализма. Именно это обстоятельство внушает Чернышевскому
надежду на сравнительно скорый успех дела73.
Но опять-таки слишком обще, слишком абстрактно
говорит Чернышевский об этой силе, об этой «многочисленнейшей
части общества». Нет ли у него более конкретных
характеристик?
Вот, пожалуйста, и более конкретные: «Как только
одерживают в своем союзе верх над получающим ренту классом
сословие капиталистов и сословие работников, история
страны получает главным своим содержанием борьбу среднего
сословия с народом»74. Итак, борьба среднего сословия,
буржуазии, с «народом» («сословием работников»). Более того,
Чернышевский отмечает, что внутри «народа», внутри
«сословия работников» с каждым годом растет доля наемных
работников». «...Масса работников во всех заводских, фабричных
и ремесленных производствах быстро переходит в состояние
наемных работников, а в отраслях промышленности, где
наиболее усовершенствованы процессы производства, уже вся
сполна перешла в это положение»75. Пролетариат, таким
образом, выдвигается Чернышевским на первое место среди
«трудящихся классов» — «соразмерно экономическому
прогрессу, увеличивается пропорция наемных работников и
уменьшается пропорция самостоятельных хозяев в рабочих
классах»76.
Такова та крайняя степень конкретности, до которой
доходил Чернышевский при рассмотрении вопроса об
общественных силах, заинтересованных в социализме.
И этого для некоторых исследователей (для Ю. Стеклова,
в первую очередь) достаточно, чтобы сказать, что
Чернышевский понимал ведущую рель рабочего класса в борьбе за со-
71 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. IX, стр. 422.
72 Там же.
73 См. там же.
74 Там же, стр. 516.
75 Там же, стр. 459.
76 Там же, стр. 626.
72
циализм и, в общем и целом, предвидел пролетарский
характер будущей социалистической революции. К
заключению этому приходят примерно по такой логической схеме:
Чернышевский говорил, что -социализм возникнет в
результате борьбы народа с буржуазией; в то же 'время он говорил,
что большинство «народа» превращается в пролетариев, и
предсказывал также, что с прогрессом техники едва ли не все
трудящиеся станут пролетариями; как же назвать
революцию, которую совершает «народ», состоящий из
пролетариев, — конечно же пролетарской.
Да, положим, такой вывод можно сделать из ряда
рассуждений Чернышевского. Но ведь все дело в том, что сам-то
Чернышевский его не сделал, да и не был он готов к такому
выводу. И опять призовем на помощь старика Гегеля. «Брук-
кер, — пишет Гегель об одном немецком историке
философии,— действует следующим образом: простое философское
положение древнего философа он снабжает всеми теми
выводами и предпосылками, которые, согласно представлению
вольфовой метафизики, должны были бы быть
предпосылками этого философского положения и выводами из него, и
такой плод чистого домысла он приводит без дальних
околичностей в качестве действительного исторического факта. Так,
например, Фалес сказал, согласно Бруккеру: ex nihilo nihil
fit, ибо Фалес говорит, что вода вечна... Этот вывод
напрашивается, но он не оправдывается исторически.
(Напрашивается и из рассуждений Чернышевского вывод, что ведущей
силой в исторической борьбе за социализм становится
пролетариат и что, следовательно, грядущая революция будет
пролетарской и т. д., но этот вывод в начале 60-х годов XIX в.
в России исторически невозможен. — Г. В.). Мы не должны
посредством таких выводов превращать древнюю систему
философии в нечто совершенно другое, чем она была
первоначально. Велик соблазн перечеканить древних философов
в нашу форму рефлексии»77. Для того же, чтобы исторически
были сделаны «напрашивающиеся» выводы, подчеркивает
Гегель, должны были пройти года, десятилетия, а иногда и
зека.
Нужно было пройти двум десятилетиям, прежде чем
русские революционеры смогли сделать выводы, которые
некоторые исследователи приписывают Чернышевскому.
Известно ведь, что определенный уровень развития
производительных сил обусловливает и определенный уровень
развития, организации и сплоченности рабочего класса. И если,
как мы уже говорили, Чернышевский не связывал социали-
77 Гегель. Соч., т. IX, стр. 46.
73
стическую революцию с определенным уровнем развития
производительных сил, то он никак ле мог связать
социалистическую революцию с зависимой от этого уровня
определенной исторической формой развития трудящихся,
эксплуатируемой части капиталистического общества (т. е. с такой ее
формой, как класс пролетариев, осознавший в лице
авангарда свои политические и экономические задачи). Раз,
повторяем, нет ясного понимания связи социализма с
определенным уровнем производительных сил, значит «е может быть и
ясного представления о типе трудящегося человека,
способного осуществить социалистические преобразования.
Это можно было сказать априори. И конкретный анализ
лишний раз подтверждает это. Слова «народ», «трудящиеся»,
«работники», «масса», «простолюдины» Чернышевский
употребляет как синонимы, причем, чаще всего он говорит о
«народе» и о «массе»78. А если два или три раза он делает
специально ударение на наемных рабочих, то этим он просто
констатирует факт их возрастающей роли. Конечно, это тоже
немаловажно — подчеркивание неоднородности «народа»,
выявление происходящих в нем качественных изменений;
немаловажно и то, что Чернышевский констатирует весьма
своеобразный характер рабочих выступлений, отличающихся от
выступлений других слоев -народа, отмечает специфический
характер рабочих требований79. Но от такого рода констата-
78 Мы уже приводили примеры этого из примечаний Чернышевского
к «Очеркам из политической экономии (по Миллю)». Вот еще несколько
выдержек на эту тему из других его статей начала 60-х гг. «... Высшее и
среднее сословия составляют только небольшую часть в каждой нации,
а масса нации ни в одной еще стране не принимала деятельного,
самостоятельного участия в истории. Это новый элемент, безмерно различный
от прежних; он еще только готовится войти в историю». (Н. Г.
Чернышевский. Поли. собр. соч., т. VII, стр. 618). «...Лишь самая ничтожная
доля в составе населения каждой передовой страны могла истощить свои
силы, а если брать весь народ страны, то следует сказать, что он еще
только готовится выступить на историческое поприще, только еще
авангард народа — среднее сословие, уже действует на исторической арене,
да и то почти лишь только начинает действовать; а главная масса еще
и не принималась за дело, ее густые колонны еще только приближаются
к полю исторической деятельности» (там же, стр. 666).
79 «До сих пор перед нами проходили события, имевшие чисто
политический характер. Но вот Лион подал первый пример тех волнений
нового рода, которые, постепенно возрастая, оттеснили на второй план
политические вопросы во внутренней жизни Франции и в 1848 г. дали событиям
направление, смущающее ныне столь многих... Лионские работники
поднялись не за Генриха V, не за Наполеона II, не для провозглашения
республики,— зачем же они восстали, чего хотят? — Чего-то чуждого
понятиям всех порядочных людей, даже самых увлеченных крайними
республиканскими понятиями. «Жить работою или умереть в бою» — это девиз,
чуждый всем партиям: что же будет такое?» (Н. Г. Чернышевский.
Поли. собр. соч., т. VII, стр. 111, 117).
74
ций и такого рода оценок до действительного понимания
роли и значения пролетариата в социалистической
революции — дистанция довольно значительная. '
Подводя итог сказанному в этом параграфе, повторим, что
анализ Чернышевским капитализма, будучи серьезным
шагом вперед в развитии социалистической мысли в России (да
и не только в России) и содержа в себе значительное
количество научных элементов, все же еще довольно абстрактен;
,и потому социализм Чернышевского еще далек от того, чтобы
быть научным социализмом.
Могут сказать: все это хорошо, но зачем вы так много
спорили с теми, кто излишне сближал социализм
Чернышевского и социализм Маркса. Ведь у них по существу-то и
сторонников ныне нет.
На это мы ответим вот что. Если нет ныне «сторонников»,
разделяющих их концепцию целиком, то «сторонников»
(часто и «бессознательных»), разделяющих их концепцию в
частностях— сколько угодно.
Но дело даже не в этом. Этот параграф написан не
столько для того, чтобы опровергать Ю. Стеклова или еще кого,
сколько для того, чтобы выяснить отношение социализма
Чернышевского к «научному социализму Маркса, чтобы точно
определить место Чернышевского на дороге 'развития
социализма от утопии к науке, чтобы ясно представлять себе,
какие же задачи стояли перед русской социалистической
мыслью после того, как Чернышевский «закончил» свою
научную и политическую деятельность.
Несомненно, что оценка Чернышевским капитализма в
начале 60-х годов стала более глубокой и более
основательной, чем в предыдущий период, в период, когда он
разрабатывал стратегию и тактику русской революции, в период,
когда он писал статьи в защиту общины, когда он печатал
свою знаменитую статью «Критика философских
предубеждений против общинного владения». И главное здесь было то,
что более глубоким и более конкретным стало понимание
законосообразности исторического развития (которое прежде
страдало 'неясностью и некоторым схематизмом — что
проявилось, в частности, и в статье «Критика философских
предубеждений...» — в довольно формальной трактовке
гегелевской триады).
В начале 60-х годов Чернышевским в большой степени
осознана революционная роль производительных сил в
общественно-историческом процессе, поставлен вопрос о
соответствии производительных сил и производственных отношений
(или, в терминологии Чернышевского, «производительных
75
процессов» и «качества труда»). Углубилось и представление
о месте и роли класса наемных рабочих в социальной борьбе.
Все это не могло не отразиться на дальнейшей
разработке Чернышевским проблем своеобразия русского
общественного развития, русского революционного движения. К
сожалению, это 'направление развития теории Чернышевского не
получило большого развития -вследствие его ареста и ссылки,
но и то, что Чернышевский успел сделать в этом
направлении, представляет значительный интерес.
\
* *
*
Чернышевский решительно высмеивает самобытников,
отделяющих в своих теориях китайскими стенами одно
государство от другого, общество от общества. И в борьбе с ними
Чернышевский развивает тот абсолютно верный, абсолютно
точный общеметодологический принцип, что в основу анализа
путей исторического развития страны должны быть, в первую
очередь,, положены законы общемирового хозяйственного
развития, свойственные всем странам, «Когда мы
поверхностным образом, — пишет Чернышевский, — обозреваем две
страны, очень далекие по развитию одна от другой, страну
дикарей (Чериышевский пишет о стране «якутов», но это,
конечно, про тех «якутов», у которых столица
Санкт-Петербург.— Г. В.) и страну высокоцивилизованного'народа, нам
кажется, будто бы в одной из них нет даже и следа тех
явлений, какие поражают нас своим колоссальным размером в
другой. В Англии мы видим Лондон и Манчестер, доки,
наполненные пароходами, и железные дороги, а у каких-нибудь
якутов 'нет, по-видимому ничего соответствующего этим
явлениям»80. «Но загляните в основательное описание жизни
якутов»,— советует Чернышевский, и вы увидите, что
«поверхностное заключение наше было ошибочно», т. е. у «якутов»
есть все, что и у англичан, только «у англичан эти явления
общественной жизни сильно развиты, а у якутов они развиты
слабо»: «у англичан есть Лондон, но и у якутов есть явления,
возникающие из того же самого принципа, которым создан
Лондон»81.
И главный, интересующий нас, вывод: «Зародыш один и
тот же; он развивается повсюду по одним и тем же
законам» 82.
80 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. VII, стр. 273.
81 Там же.
82 Там же, стр. 274.
76
И вот только усвоив, что в основе развития лежат общие
закономерности, свойственные различным странам, только
усвоив это, можно ставить вопрос о своеобразии, о
видоизменении этих общих закономерностей ino отношению к той или
другой стране.
Вот как говорит об этом сам Чернышевский: «Зародыш
один и тот же; о« развивается повсюду ino одним и тем же
законам, только обстановка у него в разных .местах различна,
оттого различно и развитие: берлинский кислый виноград —
тот-же самый виноград, какой растет в Шампани ив Венгрии;
только климат разный, потому с практической точки зрения
можно говорить, что берлинский виноград, который ни на что
не годится, вещь совершенно иного рода, чем виноград Токая
или Эперне, из которого делают дивные вина; так, разница
огромная, явная для всякого, но согласитесь, что ученые
люди поступают справедливо, утверждая, что нет в токайском
винограде таких элементов, которых не нашлось 'бы в
берлинском винограде»83.
Да, только так: вначале — общее, потом—своеобразное,
только такая постановка вопроса имеет право называться
научной. (Конечно, при конкретном определении этого
«общего» и «своеобразного» ученый может наделать ошибок — не
избежал их и Чернышевский — но сейчас мы говорим лишь о
принципе, лишь о (методологии — и здесь Чернышевский
безупречен.)
Причем, что для нас особенно интересно, Чернышевский
отмечал одну очень важную причину своеобразия развития
той или другой страны. Причину эту он видит не только в
своеобразии климатических, географических, исторических,
экономических условий данной страны, т. е. не просто в
факторах чисто внутренних, но и в своеобразии, проистекающем
из влияния передовых стран на страны отсталые,
проистекающем из того, что ломаются стены отчуждения, внутренней
замкнутости между государствами, — и мир движется к
единству, и втягиваются в механизм мировых закономерностей
страны, дотоле стоявшие «на отшибе», и очень своеобразно
должны складываться судьбы этих стран.
«...Работа одной -нации была всегда полезна прогрессу
других наций»84. «Нет ни малейшего сомнения в том, что
китайская нация скоро начнет переделывать свою жизнь под
влиянием европейских учреждений, обычаев и понятий...»85.
А, ведь, согласитесь, такая переделка есть нечто качественно
83 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. VII, стр. 274.
84 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. IX, стр. 896.
85 Там же.
77
иное, чем переделка, постепенно происходившая в ведущих
европейских странах под воздействием внутренних факторов
их развития.
«Иначе сказать,—пишет в другом -месте Чернышевский,—
если ты живешь не в английском, а в тунисском обществе, то
и iHe 'воображай, что дела будут идти по английскому, а не
по тунисскому способу»86.
В чем же состоит главное своеобразие отсталых стран?
«Именно то, что мы допускаем к должному участию в
установлении политико-экономических принципов понятие о
поселян и не-собственнике, и служит одною из главных .причин
разницы наших мнений от господствующих»87.
В этом суть теории Чернышевского. И это — теория
своеобразия русского развития. Это—проблема «крестьянство и
социализм», причем проблема, поставленная не в плане
мыслей Герцена о «мужицком социализме» и народнических
теорий «народного производства», теорий, мечтающих о
социализме, который базировался бы на (мелком кустарном
производстве. Нет, Чернышевский ставит проблему: (Крестьянство
и подлинный социализм, т. е. социализм высокой
производительности труда, социализм, в основе которого—крупное
хозяйство.
Чернышевский бесконечно далек от
либерально-народнических теорий преимущества мелкого производства в
сельском хозяйстве над крупным. Не могут вызывать никаких
кривотолков следующие слова Чернышевского, говорящего о
неоспоримых преимуществах крупного хозяйства перед
мелким: «Перевес выгод, даваемых делу усовершенствованными
процессами, требующими обширных размеров производства,
так велик, что ни в какой отрасли экономического быта
мелкое хозяйство не может выдержать соперничества с большим,
как скоро процесс технологии и механики открывает
возможность усовершенствованных процессов в этом деле и начинает
прилагаться к делу капитал большими массами: никакое
усердие в труде не спасает мелкого хозяина, когда являются
у большого хозяина усовершенствованные процессы, не
доступные мелкому». Когда земледелие «станет (а оно уже
начинает становиться) не патриархальным, а коммерческим
делом, мелкие хозяйства должны погибнуть при нынешнем
экономическом устройстве»88.
Но Чернышевский был! реалжтшь- И видя в крупном
производстве наилучшую и наивысшую форму хозяйства, видя в
86 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. IX, стр. 435.
87 Там же, стр. 454.
88 Там же, стр. 458.
78
нем цель, iK которой идет хозяйственное развитие, и идеал, к
которому надо стремиться, он, исходя из своеобразия
русского развития, исходя из условий., сложившихся б России в
середине XIX в., агитирует за мелкое хозяйство89.
И это требование имело объективно глубокий
прогрессивный смысл, ибо, как говорил Ленин, .в те годы вопрос стоял
не о крупном и мелком хозяйстве вообще, а о крупном
крепостническом (или тол у крепостническом) хозяйстве и мелком
крестьянском хозяйстве. Выступление Чернышевского в
пользу мелкого крестьянского хозяйства 'было выступлением
крайней (прогрессивности и крайнего радикализма для того
времени; это была по существу борьба за развитие России по
пути демократического капитализма, борьба против -идеологии
феодально-помещичьего капитализма.
Да, конечно, Черныше веки v. четко не осознавал, что его
требование — буржуазно-демократическое. Но то, что оно не
социалистическое, это — осознавал м осознавал ясно.
По Чернышевскому, мелкое хозяйство, где работник
является одновременно и хозяином, — переходная форма к
крупному социалистическому хозяйству, форма, которая не
есть какая-то наилучшая форма вообще, а единственно
возможная (единственно возможная в качестве прогрессивной
формы) в России того времени. «О том, который способ
лучше сам по себе, — писал Чернышевский, — не нужно было
бы по-настоящему и говорить и нам: как мы думаем об этом
предмете, должно быть понятно читателю, сколько-нибудь
желающему вникать в наш образ мыслей (как мы знаем,
Чернышевский «думает» о крупном социалистическом
производстве, где работники были бы одновременно и хозяевами.—
Г. В.)... Но в истории слишком часто задача бывает не в том,
какой путь самый лучший, а в том, какой путь возможен при
данных обстоятельствах»90, т. е. Чернышевский дает понять,
что говорит о тех возможных, исполнимых на сегодня
«путях», которые надо пройти на шути к социализму, т. е. говорит
о таком периоде хозяйственного устройства, какие
впоследствии получили название «переходных».
Вот такой «переходной» формой хозяйства и является у
Чернышевского мелкое производство.
А способ перехода от мелкого производства к крупному,
социалистическому, то, что мы в двадцатом веке назвал«
«коллективизацией», Чернышевский изложил в главных
чертах еще раньше, в статьях, посвященных вопросу об
общинном владении. И многочисленные замечания, имеющиеся в бо-
См. Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. IX, стр. 215—222.
Там же, стр. 434.
79
лее поздних статьях, свидетельствуют,- что изменения взгляда
Чернышевского в этом вопросе не ороизошло. А писал он
тогда, что для ©ведения союзного (коллективного)
производства в странах, где преобладает мелкий производитель,
«надобно путем разумного убеждения .перевоспитать целые
народы», «вселить новое убеждение, и не только вселить его, но
и утвердить до такой силы, чтобы оно взяло верх над
обычаями и привычками, которые чрезвычайно сроднились со
всем образом жизни тех племен»91.
Путем «разумного убеждения»! Как это далеко от того,
что десяток лет спустя будут говорить Ткачев и Нечаев —
с их призывами «ломать беспощадно» вековые привычки, с
их принципом—загонять в рай дубиной. И как это близко к
тому, о чем писал полвека спустя Ленин!
Говорит Чернышевский и о том, с какого рода
правительственной властью связывает он надежды на успех этого
переходного периода. Впервые подробно об этом он писал в
статье 1859 г. «Экономическая деятельность и
законодательство». Теперь Чернышевский углубляет и развивает
мысли, высказанные там, а заодно проясняет и
расшифровывает сказанное прежде, и уже не может вызывать никаких
сомнений то, что Чернышевский ведет речь о революционном
правительстве, революционном государстве нового типа,
которые не есть уже по существу «правительство» и
«государство» в прежнем их понимании. «Когда прогрессисты, или так
называемые утописты,—пишет Чернышевский,—говорят о
расширении круга общественной деятельности в
экономической жизни, не следует воображать, будто бы они
рекомендуют расширение того, что ныне называют правительственной
деятельностью. Правда, некоторые из них употребляют слово
«правительство», но они соединяют с ним не тот смысл, какой
имеет оно в обыкновенном языке...»92. Прогрессисты говорят
«собственно не о правительстве, а вообще о коллективной
деятельности»93. Здесь, в абстрактной, в зародышевой форме —
теория социалистического государства, которое есть уже по
существу не государство, а «коллективная деятельность»
народа, народоправство, теория, которая получит потом высшее
конкретное раскрытие в трудах Ленина.
91 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. IV, стр. 742.
92 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. IX, стр. 659.
93 Там же, стр. 660.
ГЛАВА II
H. А. ДОБРОЛЮБОВ
и Д. И. ПИСАРЕВ
та«, мы убедились, что социалистическая теория
Чернышевского представляет собой значительный
шаг ©перед то сравнению с теориями других
социалистов домарксового (периода. И все же по
сравнению с научным социализмом Маркса она выглядит
теорией в значительной степени абстрактной; как
мы говорили, — абстрактной теорией в абстрактных
обстоятельствах.
Объективная задача, стоявшая перед русской
социалистической мыслью, заключалась (если .давать наиболее общую
формулировку) в конкретизации теории Чернышевского.
Конкретизация эта оказывалась возможной ino мере того,
как более «конкретной» становилась объективная
действительность, как скрытые, неясные («абстрактные») ее противоречия
превращались в противоречия открытые и ясные.
Но что значит «конкретизация» того или другого (более
или 'менее) абстрактного учения? Ведь это не тихий
спокойный процесс прояснения или углубления тех или других
сторон учения, тех или других мыслей или положений. Нет, это
сшибка, это борение идей.
В чем особенность абстрактного учения? В том, что в нем
не развиты внутренние его противоречия (как не развиты эти
противоречия в действительности, которую это учение
отражает). Немало таких противоречий и в учении
Чернышевского, это, напомним, противоречия идеалистического и
материалистического взгляда на историю, это сосуществование
объективного анализа и субъективистских оценок, это
сосуществование конкретно-исторического и абстрактного, вневременного
подхода к важнейшим проблемам общественной жизни и т. д.
Эти противоречия не мешали, однако, теории Чернышевского
быть единой, быть цельным куском, а не эклектическим
соединением различных кусочков «оттуда» и «отсюда». Цельность
ей придавало, во-первых, то обстоятельство, что она была
теорией революционно-демократической (и потому полно и цельно
s
81
отражала 1взгляды 'революционной демократии,
антифеодальные интересы революционного крестьянства). Вонвторых
(поскольку она оыла социалистической теорией), она полно и
цельно отразила антибуржуазные устремления
существовавших в его время предпролетарских элементов, когда они еще
не сложились в определенный класс — пролетариат — со своей
особой исторической миссией. В-третьих, социалистическая
теория Чернышевского была «порождением того периода,
когда история не давала еще достаточно материала для того,
чтобы в ней самой найти в полном развитии материальные
силы, необходимые для социалистического переустройства
(а там, где эти материалы уже были даны историей —в
передовых странах Западной Европы, там они оказались
недоступны для всестороннего анализа русским социалистам,
отграниченным высокими умственными и прочими барьерами). И, в
четвертых, теория Чернышевского потому выглядит цельной и
отлитой из единого куска, что при всех противоречиях, над
теорией в целом «витает», так сказать, дух объективного,
конкретно-исторического, материалистического анализа, т. е.
идеалистические, абстрактно-исторические, субъективистские
элементы хотя и присутствуют в учении Чернышевского, но
занимают в нем все же весьма незначительное место.
Но какое бы место ни занимали эти элементы, факт
остается фактом: они не были теоретически преодолены. Они не
были разбиты Чернышевским; и потому, если у него самого
доставало исторического чутья не делать на них акцент, то
это вовсе не мешало его последователям развивать эти
элементы, расчищать для них место побольше и пошире,
переводя их, так сказать, «из сеней в красный угол».
Итак, особенность абстрактной теории состоит в том, что
противоречия, в ней заключающиеся, не выявлены и не
противопоставлены друг другу. И конкретизация как раз и состоит
в том, что «абстрактные» (неясные и неощущаемые, или едва
ощущаемые, «размытые») противоречия проясняются.
Внутренние, скрытые противоречия единого прежде учения
получают самостоятельное развитие, самостоятельное
существование. Одна из сторон прежнего учения становится
самостоятельной теорией и направляется против другой его стороны.
Так происходит развитие вообще (развитие есть «раздвоение
единого на взаимоисключающие противоположности и
взаимоотношение между «ими»1), так происходит и развитие
теоретической мысли.
Уже выступление Писарева со статьей «Мотивы русской
драмы» (всего год спустя после того, как Чернышевский
1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 317.
82
«ушел» с литературно-политической арены) ^.показало, что
теория Чернышевского начала развиваться и
конкретизироваться. «Развиваться» — не в том, повторяем, смысле, что в
трудах Писарева нашли развитие «лучшие стороны» учения
Чернышевского (этого »мы пока не касаемся), а в том, что в
статьях Писарева проявилось (объективно) стремление
устранить в исторической концепции Чернышевского противоречие
между идеалистическими и материалистическими элементами,
между элементами объективного анализа и субъективизма —
стремление, которое пошло, правда, в основном путем
критики и материалистических положений и исторического
объективного метода. Заранее скажем, что и у Писарева
отсутствует ясное и полное противопоставление исторического
идеализма— историческому материализму, субъективизма —
объективному анализу. У него есть и то и другое, он еще все же
достаточно «абстрактен». Писарев—это еще не
окончательное разделение этих двух тенденций, но он — у начала этого
разделения.
*
В основу своих исторических взглядов Писарев положил
принцип, сформулированный Чернышевским в статье «О
причинах падения Рима».
«Прогресс основывается на умственном развитии;
коренная сторона его прямо и состоит в успехах и разлитии знаний...
Вот что такое прогресс — результат знания»2,—так писал
Чернышевский.
«Чем больше реальных знаний, тем сильнее прогресс»;
«знание составляет ключ к решению общественной задачи»
«во всем мире» и в России в том числе3, — так писал
Писарев.
И этот идеалистический принцип Писарев открыто
противопоставил материалистической тенденции
концепции-Чернышевского, хотя, конечно, Писарев не употреблял в связи с
этим таких терминов, как «идеализм» и «материализм» — это
уже наша оценка. Более того, в этой полемике он ни разу не
употребляет и имени Чернышевского и даже не намекает на
него; для полемики он берет взгляды Добролюбова, у
которого (материалистические стороны теории Чернышевского нашли
наиболее полное и глубокое развитие.
2Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. VII, стр. 645.
2 Д. И. Писарев. Соч., т. 2, стр. 373; т. 3, стр. 461.
83
Не иоключена возможность, что сам Писарев не видел
внутренних противЬречий теории Чернышевского, — тем более
интересна его полемика против Добролюбова, ибо она
помогает установить объективную логику развития идей, которая
складывалась чаще всего независимо от желаний и
намерений самих производителей идей.
Рассмотрим основные моменты полемики Писарева
против Добролюбова.
О своем расхождении с Добролюбовым Писарев заявляет
громко и отчетливо:
«...Я никогда не был ни самым горячим, ни даже просто
горячим приверженцем Добролюбова.
Я давно разошелся с Добролюбовым на многих пунктах»
и «с очень многими из его мнений я все-таки совершенно
несогласен» 4.
В особенности Писарев не согласен с мнениями
Добролюбова, выраженными им в статье «Луч света в темном
царстве». «Эта статья была ошибкою со стороны Добролюбова, —
пишет Писарев, — он увлекся симпатиею к характеру
Катерины и принял ее личность за Светлое явление. Подробный
анализ этого характера покажет нашим читателям, что взгляд
Добролюбова в этом случае неверен и что ни одно светлое
явление не может ни возникнуть, ни сложиться в «темном
царстве» патриархальной русской семьи, выведенной на
сцену в драме Островского»5.
Разумеется, не в «оценке женского характера» расходится
Писарев с Добролюбовым. Писарев подчеркивал, что дело тут
идет об общих вопросах нашей жизни: «Предстоит решить
вопрос о том, кто из наших любимцев, добролюбовский или
мой, Катерина или Базаров, заключают в себе элементы,
необходимые для решения общественной задачи, поставленной
русскому народу всем течением нашей исторической
жизни?» 6.
«Катерина или Базаров», самодеятельность народных масс
или преобразующая сила знания — так по существу
формулирует проблему Писарев.
Ну, и поскольку, как мы уже говорили, для Писарева
знание и только знание — «ключ к разрешению общественной
задачи», то он, естественно, и «отдает» свой голос Базарову.
Что и говорить, по части «положительных знаний» Катерина
явно уступает Базарову. Только вот вопрос —действительно
ли знание является основной, ведущей силой прогрессивного
4 Д. И. П и с а р е в. Соч., т. 3, стр. 446, 447.
5 Д. И. П и с а р е в. Соч., т. 2, стр. 366, 367.
в Д. И. П и с а р е в. Соч., т. 3, стр. 460.
84
развития, прогрессивных изменений? Это — во-первых. И, ви-
вторых, действительно ли >в народной массе не может
развиться сознательность, достаточная, по крайней мере, для того,
чтобы подняться на борьбу против угнетателей и добиться
важных прогрессивных перемен в общественной жизни?
Развернутого анализа этих проблем у Писарева нет, так
как для него их решение — почти само собой разумеется.
Поэтому он ограничивается немногими (но достаточно
ясными) высказываниями и короткими примерами. Трудящаяся,
народная масса, люди, «которые кормят и одевают нас»,
«составляют, — по утверждению Писарева, — пассивный
материал, над которым друзьям человечества приходится много
работать, но который сам помогает им очень мало»7. Когда
же эта масса вдруг поднимается и бросается в бой, то дело
прогресса не только не выигрывает от этого, но даже, в
конечном счете, проигрывает. «...Каждое событие оканчивается
самою нелепою и печальною развязкою, если у данного
народа не оказывается в наличности тех умственных
способностей, тех знаний и той опытности, которые могли бы
поворотить, куда следует (курсив мой. — Г. В.), дальнейшее
течение исторической жизни. Посмотрите, например, на первую
французскую революцию: энергии, героизма, любви к
отечеству и всяких других добродетелей было истрачено
столько, что их хватило бы на освобождение всех народов земного
шара; а между тем движение завершилось военным
деспотизмом и позорнейшею реставрацией) именно оттого, что не
нашлось в запасе положительных знаний, без которых и
самый гениальный организатор всегда потерпит полнейшую
неудачу»8.
Писарев не замечает, что ход его рассуждений
неукоснительно ведет к подрыву фундамента его исторических
взглядов. Еще несколько логических шагов, — и все
построение рассыпется.
Смотрите. Совершенно очевидно, что, говоря о том, что
французская революция не пришла «куда следует», Писарев
имеет в виду, что она <не пришла к «справедливому»
общественному устройству, к республике равенства и политических
добродетелей, т. е. не пришла к тому, к чему ее хотели
привести революционные вожди. Так. Но было бы очень
естественно спросить себя: а бывали ли в истории революции,
которые приходили бы «куда следует»? — Нет, таких
революций не было.
7 Д. И. П и с а р е в. Соч., т. 3, стр. 67, 68.
8 Там же, стр. 462.
85
Хорошо. Значит на протяжении всей истории у людей
постоянно не хватало «знания», чтобы направлять ход событий
«куда следует», так? — Да, так.
Совсем хорошо. Значит, знаний не хватало, а история
все-таки развивалась, и прогресс (медленно, быстро ли) —
а осуществлялся? Так, стало быть, прогрессом-то
«управляет» какой-то другой «извозчик», значит, не знание (раз его
недоставало), а что-то другое вызывает прогрессивные
изменения в истории.
Теперь попробуем логически продолжить приведенный
Писаревым пример с несколько иной стороны. Писарев
говорит, что французская революция не пошла «куда следует».
Так. Может быть, там не было «мыслящих реалистов»,
умных и светлых Базаровых и революцию делали одни
невежественные и темные Катерины?
Думается, Писарев не возражал бы, если бы мы сказали,
что Мирабо, Робеспьер, Дантон, Бриссо и многие их друзья
и товарищи по крайней мере не уступали и по интеллекту и
по запасу знаний Евгению Базарову. У них были
определенные и весьма осознанные цели (т. е. была сознательность).
Робеспьер и Сен-Жюст намечали «устроить» республику
античного образца, базирующуюся на политических
добродетелях. И немало продвинулись на этом пути. Ан, не
вышло: вместо республики политических добродетелей
получилась бонапартовская тирания.
Почему же так произошло? — У народа не хватило
положительных знаний, отвечает Писарев (виноваты
«Катерины»!).
Ну, хорошо, у народа не хватило. А у французских
Базаровых, у Робеспьера и Сен-Жюста — хватило? Ведь если бы
они знали, что у народа знаний, необходимых для
осуществления их планов, нет, то, может быть, они или отказались
от этих планов или переменили бы их.
Оказывается, таким образом, что «знаний» не хватало не
только у народа, но и у Робеспьеров — Базаровых, в
действиях которых было также немало стихийного. Можно ли в
таком случае так решительно противопоставлять
«Базарова»— «Катеринам», как знание — незнанию, как свет —
темноте и невежеству. Не есть ли «Базаров» и «Катерина» —
лишь разные уровни знания, лишь разные уровни
сознательности, связанные к тому же какой-то общей закономерностью
развития?
Проблема-то, оказывается, глубже, чем думал Писарев.
Глубже, чем полагал Писарев, был и Добролюбов, с
мнениями которого он так решительно воюет.
86
Сразу скажем, что Добролюбов (доживи он до
выступлений Писарева) наверняка решительно возражал бы против
писаревской формулировки проблемы: Базаров или
Катерина, знание или самодеятельность народных масс. Почему
надо выбирать «или — или»? Да и почему, собственно,
спросил бы он, вы подозреваете меня в пренебрежении к
«знанию» и почему приписываете какую-то безоглядную веру во
всяческое движение в низах народных?
Добролюбов должен был бы так спросить, — потому что
он вовсе не был апостолом невежества.
Добролюбов не хуже Писарева знал цену «знанию» и
«сознательности». Мало найдется в нашей истории
публицистов, которые так деятельно, так горячо заботились о
появлении на Руси «мыслящих людей», сознательных
революционных бойцов.
Это Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?»
звал к жизни тех, кто мог бы сказать всемогущее слово
«вперед!», слово, «которого так давно и томительно ожидает
Русь»9.
Это Добролюбову принадлежит статья «Когда же придет
настоящий день?», главным героем которой является
«мыслящая личность» Инсаров — предтеча русских
революционеров.
Это Добролюбов в статье «Луч света в темном царстве»
с болью писал о недостатке знаний в русском обществе:
«даже в средних слоях нашего общества мы видим гораздо
больше людей, которым еще нужно приобретение и уяснение
правильных понятий, нежели таких, которые с
приобретенными идеями не знают куда деваться» 10.
Добролюбов знал цену сознательности. Добролюбов
превосходно понимал необходимость выработки революционных
вожаков — это несомненно.
С другой стороны, несомненно также и то, что
Добролюбов вовсе не идеализировал народ, людей из народа. Он и не
думал выдавать народные представления за высшую форму
сознательности. Он не хуже Писарева знал условия, в
которых проходит умственная жизнь народа; он прекрасно
понимал, что эти условия подавляют его ум, мешают развиваться
ему.
Это Добролюбов в статье «Черты для характеристики
русского простонародья» писал: «...в крестьянском быту
общее мнение часто бывает нелепо, иногда нечестно по
неискренности, иногда совсем скрыто по малодушию. Против
9 Н. А. Добролюбов. Избр. соч. М.—Л., Гослитиздат, 1947, стр. 92.
10 Там же, стр. 296.
87
всего этого мы не думаем спорить; мы даже готовы
прибавить, что во всех случаях, где нужно собирать голоса и по
ним узнавать общее мнение, в крестьянском сословии,
вследствие его непривычки вести собственные дела по своему
собственному желанию, оказывается гораздо больше
бестолковщины, чем где-либо»11. И дальше, в этой же статье:
«...силы, живущие в нем (в народе. — Г. В.), не находя себе
правильного и свободного выхода, принуждены пробивать
себе неестественный путь и поневоле обнаруживаться шумно,
сокрушительно, часто к собственной погибели. Как это
дурно, нечего и говорить...» 12.
Это Добролюбов в статье «Луч света в темном царстве»
называет народ «темной массой», «ужасной в своей
наивности и искренности». «Страшна и тяжела... попытка идти
наперекор требованиям и убеждениям этой... массы... Ведь
она проклянет нас, будет бегать, как зачумленных, — не по
злобе, не по расчетам, а по глубокому убеждению в том, что
мы сродни антихристу... Вы можете сообщить калиновским
жителям некоторые географические знания; но не касайтесь
того, что земля на трех китах стоит, и что в Иерусалиме есть
пуп земли — этого они вам не уступят, хотя о пупе земли
имеют такое же ясное понятие, как о Литве, в «Грозе» 13.
Не знаю, найдутся ли у Писарева такие беспощадные
характеристики народной бестолковости, народного
невежества. Во всяком случае верх несправедливости подозревать
Добролюбова в идеализации народной жизни.
Ни идеализации народа, ни принижения роли
интеллигенции, роли сознательности нет у Добролюбова. Вот почему не
мог он решать проблему «знание — самодеятельность
народа» путем «или — или».
Но Добролюбову чуждо и эклектическое решение
проблемы. Эклектики решали подобные проблемы при помощи
союзов «и» — «и Базаров, и Катерина»; и то и другое-де
важно: и сознательность интеллигенции, и стихийная сила
народных масс. Не правда ли, какое мудрое и какое
гениально простое решение: все важно. Такой «решатель»,
разумеется, не откажется подсоединить через тот же союз «и»
еще несколько весьма важных для революции вещей.
Например: и Базаров, и Катерина, и 57-миллиметровые пушки, и
вилы, и топоры, и... и... А то как же — все важно! Разве не
нужно восставшему народу хорошее вооружение, разве
может он без него победить?
11 Н. А. Д о б р о л ю б о в. Избр. соч., стр. 271.
12 Там же, стр. 278.
13 Там же, стр. 300, 301.
88
О, это целая система мышления. Исходя из нее
совершенно невозможно, как писал один современный философ,
понять такие, например, лозунги, как: «Лучше меньше, да
лучше». Почему «меньше»? «Лучше больше и лучше» —
почему не так?
Это система метафизического, электрического мышления,
игнорирующего реальные жизненные связи, диалектику
живой действительности.
Добролюбов никаких стилистических манипуляций с
союзами не производил: он прекрасно понимал, что ни
разъединительный «или», ни соединительный «и» ни на йоту не
подвигают нас к решению проблемы. Добролюбов
исследовал реальные жизненные связи двух стихий
освободительного движения, вскрыл их общность, определил роль каждой
в едином потоке революции.
Решение этой проблемы основывается у Добролюбова на
признании объективности исторического процесса.
Добролюбов, в отличие от Писарева, не задавался
вопросом, «куда следовало» бы идти тому или другому
историческому событию. Он исследовал, куда движется история. Он
постоянно подчеркивал — «действительность... имеет свой
натуральный смысл» и.
Всевозможные «должно» и «надо» по отношению к
общественному развитию решительно отбрасывались
Добролюбовым. У него был иной подход: «Мы говорим обществу: «нам
кажется, что вы вот к чему способны, вот что чувствуете, вот
чем недовольны...»15. Иными словами, Добролюбов не
пытается навязывать обществу: вот что вы должны желать, вот
к чему должны стремиться. Он в жизни, в реальной
действительности улавливает реально существующие стремления
(потребности) и объясняет их.
Добролюбовская формула очень напоминает формулу
Маркса: «Мы не говорим миру: «перестань бороться; вся
твоя борьба — пустяки», мы даём ему истинный лозунг
борьбы. Мы только показываем миру, за что собственно он
борется, а сознание — такая вещь, которую мир должен
приобрести себе, хочет он этого или нет» 16.
Сопоставляя эти две формулы, мы вовсе не хотим
зачислять Добролюбова в марксисты (да такое и не делается
парой цитат). Наше сопоставление преследует совсем иную
цель: выявить несравненно большую научную ценность мето-
14 Н. А. Д о б р о л ю б о в. Избр. соч., стр. 294.
16 Там же, стр. 295.
16 К. Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т. 1, стр. 381.
89
дологии Добролюбова, анализировавшего, «куда идет мир»,
чем методология Писарева — куда ему «следует идти».
Вот здесь, уже в самой основе, коренятся все дальнейшие
расхождения двух критиков.
Раз, по мнению Писарева, надо все время определять,
куда следует идти, и раз без этого знания можно только
лишь дров наломать, то, естественно, вся надежа на
интеллигенцию, на мыслящих реалистов.
Когда же человек, подобно Добролюбову, исследует, куда
движется история, то он (тоже совершенно естественно)
обращает внимание на ту роль, которую играют в этом
процессе и сознательная деятельность интеллигенции и стихийная
народная борьба. Добролюбовский подход к этой проблеме
отмечен всеми признаками диалектики (убежденным
сторонником которой был Добролюбов).
Мы помним, как путался Писарев в категориях «знания»
и «незнания» (напрасно Дмитрий Иванович недооценивал
Гегеля!). Добролюбов же с блеском решает все эти вопросы.
Он выдвигает и обосновывает положение огромной
теоретической важности: и сознательность интеллигенции и
стихийный протест народа имеют один и тот же источник. Не
сознание, не идеи порождают борьбу сословий, но и не борьба
сословий порождает революционное сознание. И то и другое
имеют в основе своей «нечто третье». «Нечто третье» — это
у Добролюбова «обстоятельства», «известное положение
дел», это объективная действительность, которая в
одинаковой мере порождает и «стихийные» и «сознательные»
действия людей. Согласно Добролюбову, сама действительность
идейна, разумна, т. е. закономерна. Потому и стихийные,
неосознанные движения человеческого общества, вызываемые
ею, — идейны и разумны, ибо они не просто слепое
блуждание, не просто движение наугад, — а движение, созданное
обстоятельствами «разумной», «идейной» действительности,
ибо само это движение — часть действительности. Вот
почему и сознательное и стихийное движение идут в одном
направлении (ибо направление это диктуется лежащей вне их
действительностью) и к одной цели (к цели, которая
объективно складывается из сочетания фактов той же
действительности).
Обо всем этом достаточно ясно говорится, например, в
статье «Луч света в темном царстве», в отрывке, в котором
сопоставляются теоретически неосознанное художественное
творчество и «сознательная» философия. «Художественное
произведение, — пишет там Добролюбов, — может быть
выражением известной идеи, не потому, что автор задался
90
этой идеей при его создании, а потому, что автора его
поразили такие факты действительности, из которых эта идея
вытекает сама собою» 17. Пусть писатель не имеет особенно
глубокой теоретической подготовки, пусть в теоретическом
осмыслении действительности он уступает самым заурядным
и самым маленьким философам, но если он внимателен к
жизненной правде, если он как чуткий камертон «звучит»
в унисон с правдой действительности, в его звучании звучат
все идеи, заложенные в ней, идеи, которые теоретическим
путем открывает, например, философ.
Так, Аристофан «просто картиною греческих нравов того
времени» достигает той же цели (доказательства
несостоятельности общественных отношений), что и философские
произведения Сократа и Платона, «т.е., — пишет Добролюбов,—
он (Аристофан. — Г. В.) практически подводит нас к тому,
что Сократ и Платон доказывают философским образом» 18.
А получается так потому, что «действительность ... имеет
свой натуральный смысл» 19.
Там, где Писарев видит разделенные резкой границей
знание и невежество, активность и смирение, Добролюбов
видит знание, которому недостает силы, и силу, которой
недостает знания; он видит активность, не идущую дальше
смирения, и смирение, грозящее перейти в активность.
Добролюбов видит порожденные жизнью и несущиеся навстречу
друг другу два могучих потока — сознание, вырабатываемое
интеллигенцией, и протестующая сила, накапливаемая
народом. Он ясно видит, что эти потоки обязательно встретятся,
обязательно сольются друг с другом, ибо это совместимые
потоки, так как бегут они в одной, так сказать, плоскости.
Добролюбов постоянно подчеркивает тесное единство
стихийного и сознательного протеста (впрочем, отнюдь не
смешивая их). Сравнивая возникновение того и другого,
Добролюбов подмечает общую им особенность: и тот и другой
исходят из «материалов», даваемых действительностью, но и
тот и другой отвергают сложившееся в обществе отношение
к этим материалам, они отвергают существующую оценку
материалов, выводы, которые в них обычно делаются, — ибо
эти выводы противоречат логике жизни. И тот и другой
протест, стало быть, и есть следование этой логике.
Вот Катерина. Она, пишет Добролюбов, берет из
окружающей ее действительности «материалы», но не берет
выводов, а ищет их сама, и часто приходит вовсе не к тому, на
17 Н. А. Д о б р о л ю б о в. Избр. соч., стр. 294.
18 Там же.
19 Там же.
_91
чем успокаиваются окружающие ее люди. «Подобное
отношение к внешним впечатлениям мы замечаем и в другой
среде, в людях, по своему воспитанию привыкших к
отвлеченным рассуждениям и умеющих анализировать свои
чувства»20. Это о сходстве. А вот — о различии: «Вся разница в
том, что у Катерины, как личности непосредственной, живой,
все делается по влечению натуры, без отчетливого сознания,
а у людей развитых теоретически и сильных умом —
главную роль играет логика и анализ. Сильные умы именно и
отличаются той внутренней силой, которая дает им
возможность не поддаваться готовым воззрениям и системам, а
самим создавать свои взгляды и выводы на основании живых
впечатлений. Они ничего не отвергают сначала, но ни на чем
и не останавливаются, а только все принимают к сведению и
перерабатывают по-своему. Аналогические результаты
представляет нам и Катерина, хотя она и не резонирует и даже
не понимает сама своих ощущений, а водится прямо
натурою»21.
Но тут-то мы подошли к тому главному вопросу, который
явился причиной писаревских неудач: а может ли этот
протест, который «водится прямо натурою», способствовать
изменению общества к лучшему, т. е. быть «лучом света»?
Ведь как рассуждал Писарев? Человек — есть продукт
обстоятельств. Так? — обращался он к добролюбовцам. —
Так, — соглашались те. Что же собою представляют
обстоятельства «темного царства»? — продолжал Писарев. — Это
обстоятельства угнетения, забитости и невежества; как же
эти обстоятельства могут произвести «луч света»?
А не показал ли Добролюбов, как эти обстоятельства
«темного царства» порождают «лучи света», порождают
борьбу, которая, развиваясь, приближает общество к
переустройству, не показал ли он также, что для объяснения
происхождения этой борьбы вовсе не надо прибегать к
силам, вырабатывающимся где-то там в солнечном царстве
знаний и затем своей животворной энергией преобразующим
общество? Не показал ли Добролюбов, что само «темное
царство» неизбежно порождает своих могильщиков?
Нам кажется, что показал. И показал, на наш взгляд,
с той подробностью, с какой до него у нас в России никто
не показывал — включая и Чернышевского.
Давайте восстановим ход добролюбовских рассуждений,
касающихся этой проблемы, важнейшей проблемы всякого
революционного учения.
20 Н. А. Добролюбов. Избр. соч., стр. 311.
21 Там же.
92
*
Добролюбов не раз повторял, что крайности отражаются
крайностями и что самый сильный протест бывает тот,
который поднимается, наконец, из груди самых слабых и
терпеливых. «Обстоятельства», «темное царство» давят и гнетут
людей, и в особенности таких, как Катерина, ибо она «более
всего выдерживает на себе весь гнет самодурства» и менее
всего «имеет возможности высказать свой ропот, отказаться
от исполнения того, что ей противно»22. Есть люди, которые
связаны с самодуром «только материально», они «могут
оставить самодура тотчас, как найдут себе другое место»23.
Иное дело — жена, женщина в семействе самодура: ее
положение сходно с положением крепостного крестьянина. (И это
обстоятельство, между прочим, дает Добролюбову
возможность, говоря о Катерине, распространить выводы на все
крестьянство, на весь народ.) Жена связана с самодуром
«неразрывно»; что бы муж ни делал, она должна ему
повиноваться. Она не может уйти от него. «Да если б, наконец,
она и могла уйти, то куда она денется, за что примется?»24.
И потому она вынуждена все терпеть, все сносить, иначе ее
«прибьют, запрут, оставят на покаянии, на хлебе и воде,
лишат света дневного, испытают все домашние
исправительные средства доброго старого времени...»25.
Таковы эти страшные, эти мертвящие «обстоятельства»,
которые до поры до времени терпит народ. Но всякое
терпение имеет границы26, в то время как самодурство и произвол
таких границ не имеют. В результате этого противоречия и
рождается протест, протест огромной взрывной силы.
Самодурство и произвол доводят дело до отчаянного
положения, до того предела, когда даже самому смирному,
самому тихому и покорному человеку нет возможности
«выдержать то, к чему его принуждают..,»27. То же самое надо
сказать и о слабой женщине, решающейся на борьбу'за свои
22 Н. А. Добролюбов. Избр. соч., стр. 308.
23 Там же.
24 Там же, стр. 309.
25 Там же.
26 «Можно их (естественные стремления человеческой натуры.— Г. В.)
наклонять в сторону, давить, сжимать, но все это до известной степени,
Торжество ложных положений показывает только, до какой степени
может доходить упругость человеческой натуры...» (Н. А. Добролюбов.
Избр. соч., стр. 309).
27 Н. А. Добролюбов. Избр. соч., стр. 310.
93
права28: дело дошло до того, что ей уж невозможно дальше
выдерживать свое унижение, вот она и рвется из него уже
не по соображению того, что лучше и что хуже, а только по
инстинктивному стремлению к тому, что выносимо и
возможно. Натура заменяет здесь и соображения рассудка, и
требования чувства и воображения: все это сливается в
общем чувстве организма, требующего себе воздуха, пищи,
свободы. Здесь-то и заключается тайна цельности
характеров, появляющихся в обстоятельствах, подобных тем, какие
мы видели в «Грозе», в обстановке, окружающей
Катерину» 29.
И, наконец, вывод: «Таким образом возникновение
женского энергического характера вполне соответствует тому
положению, до какого доведено самодурство в драме
Островского»30. Самодурство переступает определенную черту —
и этим оно само рождает протест; темнота доходит до такой
степени концентрации, что сама высекает искру. Но «темное
царство» не только высекает искру, оно само же
старательно и раздувает ее.
Конечно, такое раздувание не входит в планы
самодурства, это происходит помимо его воли. Самодурство,
напротив, пытается погасить, затоптать эту искру, но ведь это
значит — поливать бензином огонь: ведь искра-то и возникла
именно вследствие беспощадного топтания всего, что не
абсолютно черное, не абсолютно темное. Самодурство
доводит условия жизни подвластных ему людей «до крайности,
до отрицания всякого здравого смысла... Через это оно еще
более вызывает ропот и протест даже в существах самых
слабых»31. Самодурство само приводит людей, даже самых
слабых, к решению: «борьба или смерть». «Что ей смерть? —
пишет Добролюбов о Катерине. — Все равно — она не
считает жизнью и то прозябание, которое выпало ей на долю
в семье Кабановых» 32.
И вторая причина превращения искры в пламя. Она
заключается в том, что «самодурство... потеряло свою само-
28 Заметьте, как Добролюбов ведет повествование: то он сказанное
о Катерине вдруг переносит на «человека вообще», явления народной
жизни вообще, то от «человека вообще», «крестьянина вообще» он
переходит сразу к Катерине, т. е. постоянно дает понять читателю, что речь
идет не собственно о Катерине. Что поделаешь — время подлое! Как писал
Добролюбов, «приходится поневоле перевертываться всячески с фразой,
чтобы ввести как-нибудь читателя в сущность излагаемой мысли».
(Н. А. Добролюбов. Избр. соч., стр. 295.)
29 Там же.
30 Там же.
31 Там же.
32 Там же.
94
уверенность, лишилось и твердости в действиях, утратило и
значительную долю той силы, которая заключалась для
него в наведении страха на всех. Поэтому протест против
него не заглушается уже в самом начале, а может
превратиться в упорную борьбу»33.
На первый взгляд, может показаться, что между первой и
второй причиной существует определенное противоречие:
с одной стороны, самодурство доводит «топтание» до
крайности, т. е. усиливает произвол, а с другой стороны, говорится,
что силы его слабеют, и страха оно вызывает меньше.
На самом же деле это вовсе не противоречие, или это
такое противоречие, которое есть факт реальной
действительности. Ведь чем менее уверенно самодурство в своих силах,
тем ожесточеннее произвол; чем больше страха испытывает
самодур, тем несоразмерней его реакция на то или иное
внешнее действие — то, мимо чего прежде он проходил, не
обращая внимания, теперь вызывает у него приступы
бешеной злобы (подобно пуганой вороне, он начинает бояться
каждого куста). «Чем менее чувствуют они (самодуры.—
Г. В.) действительной силы... тем наглее и безумнее
отрицают они всякие требования разума, ставя себя и свой
произвол на их место»34, — вот по существу и добролюбовский
ответ на вопрос: есть ли противоречие.
Крайности произвола и деспотизма — есть несомненней-
ший показатель их растерянности и страха. Это показатель
кризисного состояния общества, после которого неизбежно
выздоровление.
Все дальше и дальше развертывается логическая цепь
рассуждений Добролюбова, все конкретней и конкретней
становится анализ зарождения и развития борьбы в недрах
«темного царства». Показав, как с ослаблением позиций
«самодурства» (и одновременно — с усилением его
произвола) рождается протест в «темном царстве», Добролюбов,
как того требует логика, переходит к выяснению причин —
почему же слабеет самодурство. Почему вдруг «самодуры»
стали терять уверенность, почему «как-то неспокойно,
нехорошо им»?35. А потому, отвечает Добролюбов, что «помимо
их, 'не спросясь их, /выросла другая жизнь, с другими
началами, и хотя далеко она, еще и не видна хорошенько, но уже
дает себя предчувствовать и посылает нехорошие видения
темному произволу самодуров... закон времени, закон
природы и истории берет свое, и тяжело дышат старые Кабано-
Н. А. Добролюбов. Избр. соч., стр. 310.
Там же, стр. 304.
Там же, стр. 302.
95
вы, чувствуя, что есть сила выше их, которой они одолеть не
могут, к которой даже и подступить не знают как»36.
Что же за сила, которая выше и Диких и Кабаних?
Прямо ответить на этот вопрос Добролюбов не может —
цензура! Но он ведь умеет «перевертываться с фразой» —
и штрихами намечает контуры новой силы.
Вот Добролюбов пишет о том, как слушает Кабаниха
рассказ Феклуши «о разных ужасах настоящего времени —
о железных дорогах и т. п.» и как, выслушав, она пророчески
заключает: «и хуже, милая, будет». «А отчего она
тревожится? — задает вопрос Добролюбов. — Народ по железным
дорогам ездит, — да ей-то что от этого? А вот видите ли:
она, «хоть ты ее всю золотом осыпь», не поедет по
дьявольскому изобретению; а народ ездит все больше и больше, не
обращая внимания на ее проклятия; разве это не грустно,
разве не служит свидетельством ее бессилия?»37.
А вот почитайте дальше: «Об электричестве проведали
люди, — кажется, что тут обидного для Диких и
Кабановых? Но видите ли, Дикой говорит, что «гроза в наказание
нам посылается, чтоб мы чувствовали», а Кулигин не
чувствует, или чувствует совсем не то, и толкует об электричестве.
Разве это не своеволие, не пренебрежение власти и значения
Дикого? Не хотят верить тому, чему он верит, — значит, и
ему не верят, считают себя умнее его; рассудите, к чему же
это поведет?»38.
Два очень важных места из Добролюбовской статьи.
Вот, стало быть, существенные основания этих новых сил:
«железные дороги, электричество и т. п.», т. е. по существу,
пользуясь современной терминологией, можно сказать, речь
идет о развитии производительных сил, разрывающих старые
патриархальные отношения самодурства. Этот добролюбов-
ский анализ — вполне на уровне высших теоретических
достижений Чернышевского; в частности, он точно
соответствует тому взгляду Чернышевского, что неизбежность
изменения и улучшения общественных условий «заключается уже
в самом развитии производительных процессов»39.
Теперь мы можем представить себе логическую цепочку
Добролюбова в итоговом, так сказать, виде: развитие
«производительных процессов» ведет к ослаблению позиций
«самодурства», в результате чего «самодурный» произвол
становится злее, заметнее, неприемлемее — все это в свою
36 Н. А. Д о б р о .ч ю б о в. Избр. соч., стр. 302.
37 Там же.
38 Там же.
39 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й. Поли. собр. соч., т. IX, стр. 222.
96
очередь порождает протест даже у самых слабых и самых
забитых (терпение которых не беспредельно).
Так Добролюбов объясняет самое трудное — начало,
начало возникновения той борьбы в недрах темного царства,
которая приближает крах этого «темного царства». И хотя
объяснение «начала» — самое трудное, но все же это —
лишь начало.
Шаг за шагом начинает прослеживать Добролюбов
внутреннюю логику развития этого протеста, этой борьбы. Он
решает тот вопрос, который не смог решить Писарев: как
же народное движение обретает сознательность. Борьба
сословий — вот, по мнению Добролюбова, главная школа
народного просвещения. У него нет, конечно, той чеканной
знаменитой ленинской формулировки, но то, что стихийная
борьба — есть зачаточная форма сознательности,
Добролюбов знал превосходно.
Добролюбов последовательно прослеживает стадии
стихийной борьбы и соответствующие им уровни
сознательности. Этот добролюбовский анализ интересен для нас.
Последуем за ним.
1. Вот самая начальная стадия — Катерина не может
«определить себе», «в чем настоящее добро и истинное
наслаждение для человека», она не знает «всего, что на свете
делается», не понимает «хорошенько даже своих
собственных потребностей» и поэтому «не может, разумеется, дать
себе отчета в том, что ей нужно»40. И соответственно этому
реакция на гнет внешних обстоятельств: «внезапные порывы
каких-то безотчетных, неясных стремлений»41.
И поначалу эти внезапные порывы и неясные стремления
не представляют ничего угрожающего для внешних
обстоятельств, да они чаще всего и не выходят вовне, они остаются
порывами, стремлениями внутреннего мира этих людей,
подобных Катерине, они «угрожают» лишь их внутреннему
спокойствию. А не выходят вовне, потому, что «Катерина
(как всякий другой представитель народа. — Г. В.) вовсе не
принадлежит к буйным характерам, никогда не довольным,
любящим разрушать, во что бы то ни стало. Напротив, это
характер по преимуществу созидающий, любящий...»42.
И вот, когда такой характер сталкивается с чем-то таким,
что стесняет его, что вызывает в нем недовольство, то
первое, что он пытается сделать — это подавить, растворить его
в себе. Такие характеры по доброте, по внутренней чистоте
40 Н. А. Добролюбов. Избр. соч., стр. 311.
41 Там же.
42 Там же, стр. 310.
97
своей упрекают в первую очередь сами себя. «Заметив в себе
недовольство, они стараются прогнать его», — пишет
Добролюбов.
2. Но из этого «старания», разумеется, ничего не
получается, потому что причина такого недовольства лежит вне
этого характера — она в общественных отношениях. И
потому подавлять его в себе можно лишь до поры до
времени — пока терпится. А затем, «видя, что оно
(недовольство. — Г. В.) не проходит», люди «кончают тем, что дают
полную свободу высказаться новым требованиям,
возникающим в душе»43. Но, к сожалению (а может и нет, в
зависимости от того, как смотреть), это «затем» на Руси приходит
не скоро: терпение русского народа известно. История
показала, что русский народ может долгие годы терпеть такие
условия, каких другой народ не вытерпел бы и несколько
недель. Однако у этого терпения есть и другая сторона.
Возможно, это прозвучит как парадокс, но тем не менее это
факт, и факт несомненный: чтобы так терпеть, чтобы так
смиряться, как умел терпеть и смиряться русский народ,
надо обладать огромным мужеством, огромной силой и
огромной волей — иначе трудно было бы выдержать то, что
выпадало на его долю. Это точно и верно отмечено
Добролюбовым: «...в самой покорности несчастных, вынужденных
покориться поневоле, мы видим часто гораздо больше
решимости и энергии, нежели в суетливых исканиях и метаниях
из стороны в сторону...»44.
Припомните тургеневского Герасима из «Муму» — какая
чудовищная сила проглядывает сквозь его покорность!
Да, русский народ поистине страшен в своем терпении.
Вот почему, когда оно лопается, то нет такой силы, которая
бы переломила его силу; вот почему, когда этот народ
поднимается, когда он расправляет плечи и возвышает голос,
не сомневайтесь: условия для переустройства жизни созрели
и жизнь будет переустроена. Если уж спокойный и любящий
характер, можно прочитать у Добролюбова, «...захочет
высвободиться из подобного положения», то его «дело будет
серьезно и решительно»45. Никакая внешняя сила не сможет
вновь сковать раскрепощенные народные характеры. Они,
пишет Добролюбов, «не успокоятся, пока не достигнут»
«удовлетворения» своих требований46.
43 Н. А. Добролюбов. Избр. соч., стр. 312.
44 Там же, стр. 264.
45 Там же, стр. 309.
46 См. там же, стр. 312.
98
И это будет не слепая сила, прорвавшаяся, наконец,
сквозь плотину вековой покорности. Нет, ведь еще до
открытого протеста, до открытой борьбы внутри народной
психологии, народного сознания происходят существенные сдвиги.
Тут, по словам Добролюбова, «сама жизнь приходит на
помощь» — в деле понимания и своих потребностей и
обстановки, в которой доводится жить людям.
3. Раньше — неясные порывы и смутные стремления
господствовали над характером Катерины. Но вот «вместе с
общей возмужалостью прибавилась в ней и сила
выдерживать впечатления и господствовать над ними»47. Умение
управлять своими чувствами, господствовать над своими
впечатлениями — это уже большой шаг в развитии
сознательности народного характера. Это умение господствовать
над своими чувствами пригодится ему в особенности тогда,
когда «лопнет его терпение», когда «естественные
стремления» одержат в нем «победу над всеми внешними
требованиями, предрассудками и искусственными комбинациями, в
которых запутана жизнь»48 его. Это уже весьма важные
элементы сознательности. И такой уровень сознательности, по
мнению Добролюбова, вполне достаточен, чтобы по крайней
мере начать вести «упорную борьбу».
Более того, этот уровень народной сознательности имеет
в некотором отношении серьезные преимущества перед
сознательностью интеллигенции, особенно в начальный период
движения. Эти преимущества объясняются тем, что сложная
система противоречий общества еще недостаточно изучена и
понята наукой, тогда как непосредственная реакция народа
на эти противоречия уже есть в некотором смысле их
решение; такая непосредственная реакция обнаруживает эти
противоречия и дает примерное направление их развития.
«...Теоретическим образом, — пишет Добролюбов, —
Катерина не могла отвергнуть ни одного из этих требований
(темного царства. — Г. В.), не могла освободиться ни от
каких отсталых мнений; она пошла против всех них,
вооруженная единственно силою своего чувства, инстинктивным
сознанием своего прямого неотъемлемого права на жизнь,
счастье и любовь... Она нимало не резонирует, но с
удивительною легкостью разрешает все трудности своего
положения»49. И Добролюбов приводит слова Катерины: «Конечно,
не дай бог этому случиться, а уж коли очень мне здесь
опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно выбро-
Н. А. Добролюбов. Избр. соч., стр. 315.
Там же.
Там же.
99
шусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану,
хоть ты меня режь». — «Вот высота, до которой доходит
наша народная жизнь в своем развитии»50, — с восхищением
комментирует Добролюбов эти слова. И это действительно
огромная высота: она характеризуется тем, что народный
характер осознает свою полную противоположность
окружающей обстановке и ничто уже не сможет его заставить
подчиниться ей. Конфликт между потребностями народными
и условиями темного царства достигает высшей точки своего
развития. Прав Добролюбов: небывалая высота!
Такое самосознание народа особенно ценно для
Добролюбова как объективный показатель, что условия для
решительной борьбы созрели. Для Добролюбова самосознание
народа — главный и решающий показатель кануна
революции. Ведь какие бы революционные призывы ни раздавались
в тех или иных кружках, какие бы зажигательные ни
выпускали они прокламации, как бы горячо ни звали они к
топору — все будет тщетно, если народ не поднялся до
высоты решения: хоть в Волгу, а жить в этом омуте не хочу.
Не по настроению кружков надо судить о близости
революционной бури.
Народ — вот барометр революции.
* *
*
Мы уже говорили, что, выдвигая «самодеятельность
народа» на первое место среди других компонентов, влияющих
на историческое развитие, Добролюбов не зачеркивал роль
теорий, роль знаний, вырабатываемых интеллигенцией,
«мыслящими реалистами», — «Базаровыми», употребляя
писаревский лексикон. Мы говорили также, что
Добролюбову чуждо было решение проблемы (в формулировке
Писарева) «Базаров — Катерина» и посредством метода «или —
или» и посредством союза «и». Добролюбов исследовал
конкретную диалектическую взаимосвязь «знания» и «народного
протеста», «мыслящих личностей» и «народа».
И в своей статье «Луч света в темном царстве»
Добролюбов не мог, разумеется, не сопоставлять эти два вида
революционности: революционности народной стихии и
революционности «мыслящей» интеллигенции. Для той и для
другой Добролюбов находит великолепные образы, объемно
и полно выражающие суть его мысли.
50 Н. А. Добролюбов. Избр. соч., стр. 316.
100
Революционеры из интеллигенции — «похожи на
фонтанчики, бьющие довольно красиво и бойко, но зависящие в
своих проявлениях от постороннего механизма, подведенного
к ним...»51.
«...Катерина, напротив, может быть уподоблена
многоводной реке: она течет, как требует ее природное свойство;
характер ее течения изменяется сообразно с местностью,
через которую она проходит, но течение не останавливается;
ровное дно — она течет спокойно, камни большие
встретились — она через них перескакивает, обрыв — льется
каскадом, запружают ее — она бушует и прорывается в другом
месте. Не потому бурлит она, чтобы воде вдруг захотелось
пошуметь или рассердиться на препятствия, а просто потому,
что это ей необходимо для выполнения ее естественного
требования, — для дальнейшего течения»52.
Этот образ народа—реки, многоводной реки,
неостановимой в своем течении — центральный образ творчества
Добролюбова. Этот образ переходит из статьи в статью, делая
их тесно связанными главами одной большой книги, главным
героем которой является народ, главной целью которой
является благо народное.
Этот образ стал кульминационным пунктом знаменитой
статьи «Черты для характеристики русского простонародья».
Вот это место: «...Если потребность восстановить
независимость своей личности существует, то... во всяком случае она
проявится в фактах народной жизни, решительно и неотла-
гаемо. Заглушить эту потребность или повернуть ее по-
своему никто не в состоянии; это река, пробивающаяся через
все преграды и не могущая остановиться в своем течении,
потому что подобная остановка была бы противна ее
естественным свойствам»53.
Как это непохоже на писаревское: «...люди, которые
кормят и одевают нас», «составляют пассивный материал, над
которым друзьям человечества приходится много работать,
но который сам помогает им очень мало...»54.
Контраст с добролюбовскими мыслями разительный!
И контраст этот особенно примечателен тем, что
Добролюбов, возвеличивая народ, отнюдь не принижает значение
«друзей человечества». Богу — богово, кесарю —кесарево.
Каждому свое.
51 Н. А. Д о б р о л ю б о в. Избр. соч., стр. 316.
52 Там же.
53 Там же, стр. 255.
54 Д. И. П и с а р е в. Соч., т. 3, стр. 67, 68.
101
Какую же роль в историческом процессе отводит
Добролюбов «друзьям человечества», в каком отношении должна
находиться их деятельность к движению народных масс?
Начнем вот с этого абзаца из той же статьи «Черты для
характеристики русского простонародья»: «...Народ не замер,
не опустился, источник жизни не иссяк в нем; но силы,
живущие в нем, не находя себе правильного и свободного
выхода, принуждены пробивать себе неестественный путь и
поневоле обнаруживаться шумно, сокрушительно, часто к
собственной погибели. Как это дурно, нечего и говорить; как
желательно, чтобы силы народа направились лучше и
служили в пользу, а не во вред ему самому...»55. Здесь-то и
могут проявить себя «друзья человечества». Ведь часто
народу не ясны свои собственные стремления, он не понимает
«хорошенько» их значения. Но «одного слова» достаточно,
пишет Добролюбов, чтобы сообщить его (народа) мыслям
ту определенность, которую он сам боится им дать56. И
Добролюбов намечает задачу, которую как раз в состоянии
выполнить «друзья человечества»: «...они приводят в сознание
масс то, что открыто передовыми деятелями человечества,
раскрывают и проясняют людям то, что в них живет еще
смутно и неопределенно»57.
Эта формулировка — образец диалектического
понимания объективного и субъективного: «друзья человечества»
познают независимую от них закономерность общественного
развития, необходимость тех или иных требований и несут
знания этой закономерности, этой необходимости в народные
массы, которые сами уже движутся в рамках этой
закономерности и этой необходимости и потому так быстро
понимают «друзей человечества».
В этой проблеме, однако, имеется весьма существенная
тонкость. И, на наш взгляд, добролюбовские статьи
содержат достаточно материалов, чтобы остановиться на этой
тонкости.
Тонкость эта вот какого рода. Для того чтобы «друзья
человечества» смогли до конца выполнить свою роль
толкователей стремлений народных, свою роль сознательного
авангарда народного движения, для этога они должны не
только раскрыть объективную картину борьбы
противоположных исторических тенденций, но, выбрав одну из них,
целиком стать на ее сторону. «Друг человечества» только
тогда заслуживает название «друга народа», когда он не
55 Н. А. Добролюбов. Избр. соч., стр. 278.
56 Там же, стр. 317.
57 Там же, стр. 292.
102
только «понимает» народ, но и совершенно сливается с ним,
с его мыслями, чувствами, чаяниями, когда он даже в
мыслях не отделяет себя от народа.
В статьях Добролюбова рождается новый образ
революционера (который несколько лет спустя, кстати говоря,
получит свое первое художественное воплощение в романе
Чернышевского «Что делать?», мы имеем в виду Рахметова).
Отличительная черта этого добролюбовского героя —
народность, в которой слились воедино знание и народный
инстинкт. Потому герой Добролюбова и не
противопоставляется народу, ибо он — плоть от плоти народной: Добролюбов
потому и отказывается признавать в Рудиных и им подобных
выразителей духа народного, потому что идея, «которой они
хотят служить, составляет для них что-то внешнее, без чего
они могут обойтись, что они умеют очень хорошо отделить
от своих личных, прямых потребностей»58.
Не таков добролюбовский герой. Его герой — это
человек, для которого дело служения народу является
«жизненной необходимостью, сердечной святыней», «религией», оно
так органически срослось с ним, что отнять это дело у него,
значило бы лишить его жизни»59. Об этом — в статье «Что
такое обломовщина?». А вот как развивается, углубляется
характеристика этого героя в другой статье — «Когда же
придет настоящий день?»: «Освободить свою родину» —
«этой мысли он (Инсаров. — Г. В.) предается весь... Он не
думает ставить свое личное благо в противоположность с
своей жизненной целью... напротив, он потому-то и хлопочет
о свободе родины, что в этом видит свое личное спокойствие,
счастье всей своей жизни... он никак не может понять себя
отдельно от родины»60.
Вот эта полная слитность личного интереса и общего,
неотделимость «я» героя от народа — сближает
добролюбовского революционера с протестующим народным
характером. Заметьте, что даже слова, которыми Добролюбов
характеризует Инсарова, — почти целиком переносятся им в
характеристику Катерины: «Любовь к свободе родины у
Инсарова не в рассудке, не в сердце, не в воображении: она
у него во всем организме, и что бы ни вошло в него, все
претворяется силою этого чувства, подчиняется ему,
сливается с ним», и поэтому «он делает свое задушевное дело
совершенно спокойно, без натяжек и фанфаронад, так же просто,
68 Н. А. Д о б р о л ю б о в. Избр. соч., стр. 316.
59 Там же, стр. 90.
60 Там же, стр. 229.
103
как ест и пьет»61. А вот — почти слово в слово то же самое
о Катерине: «В этой личности мы видим ... из глубины всего
организма возникающее требование права и простора жизни.
Здесь уже не воображение, не наслышка, не искусственно
возбужденный порыв является нам, а жизненная
необходимость натуры»62, и поэтому она «не принимает геройских
поз и не произносит изречений, доказывающих твердость
характера»63 и т. д.
И если Инсаров (этот, по общему мнению,
малохудожественный образ) дал возможность Добролюбову высказать
свои задушевные мысли о сущности революционного
характера, как характера народного, если так близки друг другу
очерченные Добролюбовым характеры Инсарова и
Катерины, то можно себе представить, с каким энтузиазмом
встретил бы Добролюбов образ Рахметова (русского
революционера, которому в одинаковой мере присущи и теоретические
знания и народный инстинкт).
Мы знаем немало примеров, когда лирический герой
поэтических произведений так мало похож на его создателя,
словно «создатель» израсходовал все свои идеалы на создание
поэтических образов, не оставив себе лично ни одного
идеала.
Не то у Добролюбова: он сам — первый герой своих
произведений, он сам — образец того служения народу, о котором он
писал в статьях как об идеале. Слияние теоретического
мышления и народного инстинкта составляло существо его натуры.
И всю свою короткую жизнь он следовал намеченному им в
статьях принципу: «прояснять людям то, что в них живет еще
смутно и неопределенно»; он способствовал выяснению
народом своего положения в условиях темного царства, подводил
его к решению, которое зрело в наиболее чутких его
представителях, способствовал воспитанию той решимости, которая
выказалась в характере Катерины, в ее решительном: «уж
коли очень мне здесь опостынет, так не удержать меня
никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь
жить, так не стану, хоть ты режь меня».
Писарев равнодушно проходил мимо таких стремлений,
полупрезрительно бросая несколько слов о невежестве,
отсутствии знаний и т. п. Для Добролюбова же такой протест был
как раз знанием, был формой сознательности. Способствовать
появлению такого рода сознательности Добролюбов считал
своей главной задачей. Вот кредо его деятельности, изложен«
61 Н. А. Д о б р о л ю б о в. Избр. соч., стр. 229—230.
62 Там же, стр. 315.
63 Там же, стр. 319.
104
ное в письме Славутинскому: «Мы знаем.., что современная
путаница не может быть разрешена иначе как самобытным
воздействием народной жизни. Чтобы возбудить это
воздействие хоть в той части общества, какая доступна нашему
вниманию, мы должны действовать не усыпляющим, совсем
противоположным образом. Нам следует группировать факты
русской жизни, требующие шоправки и улучшений, надо
вызывать читателя на внимание к тому, что их окружает, надо
колоть глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не
давать отдыху, — до того, чтобы противно стало читателю все это
богатство грязи, чтобы он, задетый наконец за живое, вскочил
с азартом и вымолвил: «да, что же, дескать, это, наконец, за
каторга! лучше уж пропадай моя душонка, а жить в этом
омуте не хочу больше». Вот чего надобно добиться и вот чем
объясняется и тон критик моих, и политические статьи
«Современника» и «Свистка»64.
На этом можно закончить изложение конфликта
«Писарев— Добролюбов» и подвести итоги. И главный итог будет
такой: возражения Писарева Добролюбову — это возражения,
сделанные с идеалистических позиций, против
материалистических сторон добролюбовского мировоззрения. Это
возражения, сделанные с субъективистских позиций, против элементов
объективно-исторического анализа.
Эта полемика — яркое свидетельство того, что внутри
мировоззрения революционного лагеря положено начало
разделению субъективистских и объективных тенденций, что неясные,
скрытые, абстрактные противоречия теории Чернышевского
начали проясняться и получать внешнее проявление в виде
борющихся между собой теорий.
Однако, повторяем, это лишь начало разделения. Та и
другая тенденция только намечены, они еще не развиты во
всей своей конкретности, их диаметральная
противоположность еще не выявлена. Многие мыслители-шестидесятники
«незаметно» для себя поклоняются двум богам — идеализму
и материализму, субъективизму и объективизму.
И потому ошибочно было бы сделать из нашего анализа
этой полемики Писарева шротив Добролюбова то
прямолинейное заключение, что Писарев — законченный идеалист в
истории, а Добролюбов — законченный материалист.
Такое заключение не выражало бы всю сложность
рассматриваемых явлений, а потому и было бы неверным.
Неверным потому, что, повторяем, полного разделения, поляризации
взглядов еще не было. И полемика, ведь, шла в общем-то
64 Н. А. Добролюбов. Избр. философ, произв., т. II. М., Госпо-
литиздат, 1948, стр. 561.
105
внутри одного лагеря, хотя, впрочем, и резко иногда
обострялась между слишком последовательными писаревцами
(Зайцевым, Соколовым, например) и «слишком
последовательными» добролюбовцами (Антоновичем).
В исторических воззрениях и Чернышевского и
Добролюбова было, конечно, немало материалистических элементов, но
все же в целом материалистами в истории их назвать еще
нельзя. Что это конкретно значит по отношению к
Чернышевскому, мы уже показывали в предыдущей главе. Теперь
сделаем то же и относительно Добролюбова — тогда мы ясно
увидим и высоту, до которой поднималась русская
общественная мысль, и пределы, поставленные ей временем; и главное,
мы поймем, почему «писаревская» и «добролюбовская»
тенденции не превращаются в совершенные антиподы, мы
увидим, что свое начало они берут из одного источника.
* *
*
Главное исходное положение Добролюбова — история
человечества объясняется природой человека.
Сама по себе эта посылка — материалистическая. Но это —
недостаточный, антропологический материализм; в своем
развитии он неизбежно (и легко) переходит временами в
идеализм, рождая многочисленные (отнюдь не диалектические)
противоречия. Не смог (и не мог) избежать этого и такой
чуткий к идеалистической фальши ученый, как Добролюбов.
Положив в основу исторического процесса такую
субстанцию, как «природа человека», Добролюбов, разумеется,
должен был определить, в чем состоит эта природа и каким
образом объясняется ею историческое развитие. Природа человека
проявляется в стремлениях — в «естественных стремлениях»,
как говорит Добролюбов. «Естественные стремления
человечества, приведенные к самому простому знаменателю, могут
быть выражены в двух словах: «чтоб всем было хорошо»65.
Пока — все в пределах материализма.
Но можно ли двигаться, не изменяя материализму, дальше?
Ведь возникает вопрос: если суть природы человека —
«стремление к счастью» («чтоб всем было хорошо»), то откуда же в
жизни возникает плохое, откуда несчастье? Предполагать ли
для их объяснения существование какой-то другой
субстанции, другой силы, которая находится вне природы человека
и которая является источником «всего плохого»?
65 Н. А. Добролюбов. Избр. соч., стр. 291. Более подробно
о «естественных стремлениях» пишет Добролюбов в статье «Черты для
характеристики русского простонародья» (Избр. соч., стр. 251—261).
106
Вынужденные отвечать на этот вопрос, французские
просветители, например, сразу начинали путаться в
неразрешимых антиномиях. Конечно, «точка зрения» католического
духовенства, утверждавшего, что человеческая природа испорчена
грехопадением Адама и Евы, была для них неприемлема.
Однако у них был свой Адам, своя Ева и свое грехопадение.
Господствующей точкой зрения среди французских
'просветителей было утверждение, что человека «портят»
обстоятельства (которые дурны). Но спрашивается, откуда берутся эти
дурные обстоятельства? Кто их-то создает? Если — не
человек, то значит — силы из того же царства, что и Адам с Евой;
если человек, то как же он, такой добрый от природы, создает
такие «недобрые обстоятельства»?
Из этого противоречия, из этого круга: «человек создает
обстоятельства, обстоятельства—человека»,—вы-рваться было
невозможно, не расставшись с дорогой сердцу «природой
человека». В практической борьбе из этого круга можно было
двигаться в любом направлении, на все 360 градусов. Одни
«нажимали» на первую часть формулы: «человек создает
обстоятельства» — и шли постепенно к субъективизму и идеализму;
другие — на вторую ее часть: «обстоятельства создают
человека» — и подвигались на пути к материализму и объективному
пониманию истории. Но ни те, ни другие не могли быть
последовательными, не противоречивыми (ибо непоследовательным,
противоречивым было исходное положение).
Разрешением этой антиномии об обстоятельствах и
человеке мог быть только выход за ее пределы, нахождение того
«третьего общего», что в одинаковой степени порождает и
человека и обстоятельства.
Но вот как Добролюбов отвечал на вопрос, откуда же в
жизни возникает «плохое», если природа человека так хороша
и если эта природа определяет ход истории? К чести
Добролюбова надо сказать, что он пошел дальше французских
просветителей»66 и сделал весьма заметный шаг в направлении,
по которому шло разрешение этой антиномии — к Гегелю и
Марксу. У него налицо попытка преодолеть принцип
взаимодействия, выработать монистический взгляд на историю. Он
пытается искажение, загрязнение человеческой природы,
появление «плохого» объяснить из самой же человеческой
природы. Вот что он пишет: «Стремясь к этой цели (т. е. к тому,
«чтобы всем было хорошо».—Г. В.), люди, по самой сущности
дела, сначала должны были от нее удалиться: каждый хотел,
66 При этом, разумеется, во избежание возможных «перекосов», не
будем забывать, что Добролюбов жил сотней лет позже великих
французских просветителей, этих могучих трубачей французской революции.
107
чтоб ему было хорошо, и, утверждая свое благо, мешал
другим...»67. Это место стоит того, чтобы быть прочитанным
несколько раз. Оно стоит того, чтобы в него вникнуть как
следует. Потому что это удивительное место. «Природа человека»
у Добролюбова теряет метафизический характер, какой она
имеет у французских просветителей. Она оказывается
диалектически противоречивым явлением (противоречивым «в себе»).
Она оказывается не пассивным, от века данным явлением,
развитие которого вызвано лишь какими-то внешними силами, а
саморазвивающимся («из себя» развивающимся) явлением.
И потому «плохое» — столь же естественный результат чело-
вечеокой натуры, как и хорошее. Добролюбов так и говорит:
ловкие люди, «устроившие свое благосостояние, продолжали
следовать естественному (!) влечению» и забирали все больше
и больше, тесня других68.
Тем самым Добролюбов по существу подрывает все основы
мировоззрения, базировавшегося на понятиях «природа
человека» и «естественные стремления», ибо оказывается
«естественным» как добро, так и зло, ибо оказывается «естественной»
борьба между ними. Если и добро естественно, и зло
естественно, то, следовательно, ссылка на «естественные стремления»
ничего объяснить не может. Надо объяснить, 'почему в одном
случае естественные стремления создают «естественное» «зло»,
а в другом столь же «естественное» «добро», т. е.
Добролюбов вплотную подошел к научной постановке вопроса.
Непосредственно следующим шагом могло быть только
отбрасывание теории «естественных стремлений», как ничего не
объясняющей, и поиски материалистического основания появления
«добра» и «зла» и их борьбы.
Но Добролюбову не суждено было сделать этого шага.
Слабое развитие общественных отношений в России не давало
материала для этого.
Однако надо сказать, что в произведениях Добролюбова
было раскрыто все лучшее, все прогрессивное, что несла
идеология просветителей, можно сказать, что в его произведениях
прогрессивность идеологии просветителей была исчерпана.
Вперед можно было идти, только сделавшись историческим
материалистом.
Нанеся (объективно) сокрушительный удар исходным
понятиям исторического миросозерцания просветителей,
Добролюбов тем не менее не вышел (не мог выйти) из круга этих
понятий.
67 Н. А. Д о б р о л ю б о в. Избр. соч., стр. 291.
68 Там же.
108
Добролюбов и сам, по всей -вероятности, не ощущал, что он
уже по существу покидает традиционную точку зрения
просветителей, точку зрения взаимодействия. Возникает любопытное
положение: философ логически подошел к той черте, за
которой начинается страна исторического материализма, но в
которую вступать не позволяет барьер времени. Но ведь как-то
отвечать на развитую антиномию надо! Куда-то шагнуть надоГ
В этом случае можно шагнуть только или назад или в сторону.
То же произошло и с Добролюбовым.
Ведь если он пришел к выводу, что и зло и добро по-своему
«естественны», то ino существу он пришел к выводу, что зло
и добро не определяются «естественными стремлениями».
И значит, ему надо определить, чем же они определяются. Вот
Добролюбов пишет, что в результате стремления к своему
счастью «более ловкие» притесняют «менее ловких». Но
спросим, почему у этих «ловких» не хватило столько «ловкости,
чтобы устроить счастье всех (раз они «более ловкие»), чтобы
никто не был притеснен и чтобы всем было хорошо? В чем
причина того, что они не устроили так? В том, ответит человек,
придерживающийся исторического материализма, что они не
могли устроить счастье всех. Не от них это зависело. Уровень
производительных сил продиктовал сначала отношения
рабства, потом, повысившись, феодальные отношения и т. д., ибо
эти отношения служили быстрейшему развитию производства,
служили в конечном счете усилению власти человека над
природой.
Не так отвечает Добролюбов. Причину того, что каждый,
«утверждая свое благо, мешал другим», Добролюбов видит не
больше, не меньше — как в неумелости людей. «Устроиться же
так, чтобы один другому не мешал, еще неумели»69.
«Первоначальная неумелость людей» — вот, по мнению Добролюбова,
причина всех «искусственных общественных комбинаций»,
причина «зла»70.
Добролюбов делает, таким образом, шаг назад и
немедленно попадает в замкнутые логические круги просветительской
мысли: если неумелость — причина искусственных комбинаций,
то что является причиной «неумелости» (и, следовательно, что
является причиной «умелости»)? Это во-первых.
И во-вторых: «неумелость» — это ведь, другими словами,
незнание того, как устроить счастье всех, это не что иное, как
невежество. Невежество — стало быть, мать и отец всех поро-
69 Н. А. Добролюбов. Избр. соч., стр. 291.
70 «Мы уже видели, — писал Добролюбов, — что искусственные
общественные комбинации, бывшие следствием первоначальной неумелости
людей в устройстве своего благосостояния, во многих заглушили сознание
естественных потребностей» (там же, стр. 293).
109
ков, всех искусственных комбинаций. А соответственно,
знание — это первый борец с пороками и т. п.
— Но ведь, товарищи, это же Писарев! — воскликнет
пораженный таким оборотом дела читатель. — Это же чисто
идеалистическая посылка: знания правят миром!
И читатель будет совершенно прав. Но он будет еще более
прав (если возможен такой оборот речи), если добавит:
— То, что в самой основе своей Добролюбов смыкается
с Писаревым, говорит не о том, что возражения Писарева
против добролюбовских идей — плод недоразумения, а о том, что
оба они находятся внутри круга исторических идей
просветительства. Только один (Добролюбов) подошел уже к их
крайней границе, а другой— (Писарев) находится в самом центре
этого круга.
И еще. Противоречие Добролюбова с самим собой ясно
показывает недостаточность для научного понимания истории
такой посылки, как природа человека, недостаточность
антропологического материализма, создателем которого был
Фейербах— духовный учитель Добролюбова.
Однако изложение взглядов Добролюбова будет
неполным, если мы не скажем о тех важных поправках, которые этот
«гениальный юноша» сделал в фундаменте антропологического
материализма, в «святая святых» исходных принципов этого
миросозерцания.
И главная среди них — конкретно-исторический подход к
«естественным стремлениям» людей. Добролюбов говорит не
о «естественных стремлениях» человека вообще (что
свойственно просветителям и Фейербаху), а о «естественных
стремлениях известного времени и народа»71. Таким образом,
согласно Добролюбову, «естественное стремление» следует
определять не из анализа «природы человека», а из анализа
(потребностей того времени, в которое живет человек.
Добролюбов, конкретизируя свою мысль о естественности
как добра, так и зла, говорит, что «естестьенное» разные
люди понимают по-разному. «Мы полагаем, например, что
благо в труде, и потому труд считаем естественным для человека;
ia «Экономический Указатель» уверяет, что людям естественно
лениться, ибо благо состоит в пользовании капиталом»72. Итак:
«труд или капитал»? Как же, по мнению Добролюбова,
должно разрешаться это противоречие, кто прав в этом споре?
Может быть, для выяснения надо обратиться к ученейшей
пикировке вокруг понятия «природа человека» и в научном
турнире постараться доказать свою правоту? Нет, Добролюбов
71 H А. Добролюбов. Избр. соч., стр. 291.
72 Там же, стр. 294—295.
по
говорит о другом пути — пути общественной борьбы. «...Всякий
может считать свое мнение справедливым, — пишет он, — но
решение в этом случае более, нежели когда-нибудь, надо
предоставить публике. Это дело до нее касается, и только во имя
ее (а не во имя 'абстрактного «природного человека». — Г. В.)
можем мы утверждать наши положения... Скажите, кому же
иначе судить о справедливости наших слов, как не тому
самому обществу, о котором идет речь... Его решение должно
быть... важно и окончательно»73. Так проблема «естественных
стремлений», вневременная и абстрактная у Фейербаха,
обретает у Добролюбова высокую форму конкретности:
социальная борьба труда и капитала.
В другом месте Добролюбов называет «неестественным»
«крепостные отношения»74, ясно выражая ту мысль, что
«естественными стремлениями» данного времени является борьба
с крепостничеством.
Такое понимание «естественных стремлений» не может
привести человека к отшельничеству: оно ясно определяет суть
общественной борьбы своего времени, ее направление, оно
раскрывает перед человеком возможности сознательного и
плодотворного участия в этой борьбе.
Таков важный шаг, сделанный Добролюбовым от
абстрактной морали Фейербаха к морали конкретной, классовой.
Теперь, по-видимому, ясно, почему «писаревская
тенденция» не могла стать антиподом «добролюбовской».
Итак, мы показали, как начинает «разделяться»
наследство Чернышевского, как из его учения рождаются течения,
несущие на себе печать субъективизма. Но теперь нам
предстоит ответить на главный вопрос, а вернее, на два вопроса:
во-первых, чем объясняется появление субъективистских
тенденций и их усиление по мере приближения к 70-м годам и,
во-вторых, как оценить этот факт (помня, что Писарев,
например, был подлинным властителем дум прогрессивной
молодежи своего времени).
Ответим по порядку. Общая почва, на которой
произрастает субъективизм — это неразвитость общественных
отношений (вследствие чего затрудняется выявление реальных,
массовых сил, способных 'перестроить общество; тогда и пытаются
73 Н. А. Д о б р о л ю б о в. Избр. соч., стр. 295.
74 Статья «Черты для характеристики русского простонародья»
(там же, стр. 278).
\ ш
найти так^е силы вне объективного исторического процесса).
Это самая общая причина субъективных построений. Именно
ею объясняется, как мы уже говорили, элементы
субъективизма в мировоззрении Чернышевского и Добролюбова. Однако
вспомним, в какой период действовали два наших
«социалистических Лессинга». Это был период назревания
революционной ситуации,^период достаточно широких народных
волнений. Реальная массовая сила готовилась к бою. В этих
условиях сужалась почва, на которой произрастает субъективизм.
И потому исторический оптимизм, основанный на «вере в
объективное общественное развитие, является стержнем
мировоззрения Чернышевского и Добролюбова. Пусть будет, что будет,
а все-таки на нашей улице будет праздник — вот их кредо.
Писарев же выступил против добролюбовских идей, когда
историческая ситуация претерпела серьезные изменения.
Что же представляла собой российская действительность
середины 60-х годов (приблизительно 1863—67 гг.)? Это было
время спада революционного движения. Революционная
ситуация 1859—1861 гг. не переросла в революцию. Поутихло
пламя крестьянских волнений, присмирела либеральная
публика, напуганная размахом народного движения и своими
ставшими опасными связями с демократами; многие либералы
превратились в образцовых реакционеров. Впервые после
Крымской войны царское правительство почувствовало себя в
некоторой безопасности от гнева своего народа и с
жестокостью долго трусившего труса принялось избивать
демократов, которых так долго (шесть-семь лет для такого режима —
это «долго»!) вынуждено было терпеть.
Из рядов революционной партии были вырваны ее вожди:
Чернышевский, Михайлов, Серно-Соловьевич и др.
(Добролюбова, как и его предшественника — Белинского, только смерть
спасла от сибирской каторги. «Везет» же лучшим людям на
Руси!). Выяснилось, что николаевщина жива-живехонька и что
она никуда не исчезала, только замаскировалась немного в
50-х годах.
На выступление народных масс, на близкую революцию
надеяться теперь было бы наивностью.
И снова, таким образом, сама действительность расширяла,
«расчищала» почву для произрастания субъективистских идей.
Это общий закон исторического «развития идей: где
объективный ход истории, ее закономерности не осознаны ясно и до
конца, там революционных теоретиков от субъективизма
может «спасти» только выступление широких народных масс
(объективность, так сказать, второго порядка, в отличие от
объективного характера (производственно-экономических про-
цессов), спад же народного энтузиазма неминуемо/ приводит
к большему или меньшему торжеству субъективней идей.
Как же надо оценить такого рода теоретические зигзаги,
что это — прогресс или регресс? Односложно ответить на
вопрос нельзя. /
Вообще, как метод исторический субъективизм по
отношению к объективно-историческому 'анализу — регресс, шаг
назад и проч. и проч. Но это — если говорить «вообще». А если
подойти к вопросу конкретно-исторически? Ведь возможен
наивный, абстрактный объективизм и возможен субъективизм,
глубоко и всесторонне разработавший какую-то важную
сторону человеческой истории (хотя бы и-придавал он этой
стороне несравненно большее значение, чем она имела в
действительности). Как тут быть?
Ответим аналогией. Какой способ мышления
прогрессивней— диалектический или метафизический? Ответ, конечно,
будет незатруднителен: ясно, что диалектический. И «вообще»
это верно. А давайте посмотрим, каково было их соотношение
в конкретно-историческом развитии. Вспомним известное место
из Энгельса.
Энгельс, отмечая, что древнегреческой философии был
присущ по сути дела правильный, диалектический взгляд на мир,
все же называет эту диалектику «наивной»: потому что
диалектический взгляд греческих философов, схватывая общий
характер всей картины явлений, «все же -недостаточен для
объяснения частностей, из которых она слагается, а пока мы
не знаем их, нам не ясна и общая картина»75. Как видите,
«первоначальная», «наивная» диалектика недостаточна для
действительного дознания мира. «Чтобы познавать отдельные
стороны (частности), — продолжает Энгельс, — мы
вынуждены вырывать их из их естественной или исторической связи и
исследовать каждую в отдельности по ее свойствам, по ее
особым причинам и следствиям, и так далее»76. То есть
историческая необходимость создавала все условия для процветания
метафизического способа мышления. Это «разложение
природы на ее отдельные части» и их исследование «было основным
условием тех исполинских успехов, которыми ознаменовалось
развитие естествознания за последние четыре столетия»77,
успехов, которые сделали возможным и необходимым «второе
рождение» диалектики. Метафизика не была, как видите,
пустоцветом, и нельзя к ней пришлепывать знак минус, не справ-
ляясь, о каком историческом периоде идет речь.
75 К. Маркс и Ф. Энгельс. Избр. произв. в двух томах, т. II.
М., Госполитиздат, 1955, стр. 120.
76 Там же.
77 Там же.
\
113
To же и в отношении субъективизма и объективизма.
Разный бывает субъективизм и разный объективизм.
Так что субъективизм — не всегда безусловный шаг назад.
Субъективизм^ в истории, как видим, бывал преодолением тех
преград, которые ставило время перед объективным анализом.
Субъективизм «бросался» вперед, часто не раздумывая,
вслепую (и, конечно, погибал или по крайней мере погибал, как
относительно прогрессивное явление), но, 'погибая, он оставлял
после себя кое-какое (иногда довольно существенное)
наследство, которое с благодарностью принимали ученые-«объекти-
висты». (Субъективизм становился реакционным тогда, когда
становился возможным объективно-исторический анализ.)
Мы знаем, что конечным выводом мировоззрения
Чернышевского— Добролюбова было все-таки: знание — вот основа
прогресса. Правда, в своей деятельности, они уделяли главное
внимание борющимся массовым силам, и потому их
основоположение не часто вмешивалось в их рассуждения.
Более того, борьба масс и выводы, которые делали
Чернышевский с Добролюбрвым из анализа этой борьбы, вели в
конечном счете к изменению основы, к вытряхиванию
идеализма из последних углов их учения. Но все-таки до настоящего
вытряхивания было еще далеко.
И нет ничего более естественного, что когда массовая
народная борьба стала утихать, положение «прогресс — это
разлитие знаний» стало занимать все большее и большее место в
революционных теориях.
Никакой безусловной реакционности, никакой безусловной
ошибочности в этом положении нет. «Развитие знаний» есть
действительно одна из важнейших сторон прогрессивного
развития. Поэтому и конкретная разработка этого положения
применительно к этой другой исторической ситуации должна
содержать в себе элементы истины. А ошибка, а затруднение
проистекают из непомерного раздувания этой черты прогресса,
из предания ей чересчур большого, решающего значения. Но
раздувание это »е происходит мгновенно, и потому история
субъективизма имеет свои этапы развития — от
прогрессивных до реакционных.
Как же в связи со всем этим оценить те субъективистские
тенденции, которые начали в 60-е годы проявляться во
взглядах Писарева?
Нам думается, что особенности эпохи середины 60-х годов
обусловили то, что в тшсаревском анализе преобладали
.элементы истины (что и сделало Писарева властителем дум
своего времени).
Рассмотрим писаревскую программу— «что делать?».
114
/
Какая объективная задача стояла перед революционерами
этой поры? Да та же, что и в шоследний (период николаевщины
(в период Бельтовых и Рудиных) — осмыслить происшедшее,
подготовиться к будущему. Перед ними стояла задача
серьезной теоретической работы (раз возможность действовать была
отнята)78. Рудины в свое время не поняли этого, они не поняли
ни своеобразия исторической ситуации, ни своего места в ней.
Но опыт их, их ошибки и заблуждения не прошли даром.
Поколение 60-х годов серьезно отличается от своих отцов. И это
верно и точно отмечает Писарев: «В практическом отношении
они (люди 60-х годов, Базаровы.— Г. В.) так же бессильны,
как и Рудины, но они сознали свое бессилие и перестали
махать руками»79.
Казалось бы, подумаешь, какое преимущество: сознать
свое бессилие, — но в том «все и дело, что сознание бессилия —
это уже некоторая сила. Это не просто констатация факта, но
уже первый шаг действия: раз мы бессильны (а только силой
можно в этом обществе чего либо добиться)80, значит надо
позаботиться о том, чтобы эту силу приобрести, надо подумать,
как это сделать. Человек, сознающий свое бессилие, уже не
будет хвататься за дело, на которое, он знает, у него сил
недостает, — и, таким образом, и дело не скомпрометирует, и
себя понапрасну не огубит; этот человек будет осторожно и
расчетливо, изо дня в день копить силы.
Так начинают вырисовываться контуры программы —
накопление сил.
Накопление сил, для Писарева, —это накопление знаний.
Какого же рода должны быть эти знания и как их накоплять?
Первое знание, которое надо приобрести прогрессивным
людям (или имеющим претензии быть таковыми) —это знание
того, что у них нет знаний. «Общество нуждается в знаниях,
но оно само почти совсем не сознает и не чувствует, до какой
степени оно бедно в умственном отношении и до какой степени
эта умственная бедность мучительно отзывается во всех
подробностях его вседневной жизни... Когда больной считает себя
здоровым, тогда ему прежде всего необходимо доказать, что
78 «Не имея возможности действовать, люди начинают думать и
исследовать...» (Д. И. Писарев. Соч., т. 2, стр. 19).
79 Там же.
80 «Счастие надо завоевать, — пишет Писарев. — Есть силы — берите
его. Нет силы — молчите, а то и без вас тошно!» (Там же.)
115
он жестоко ошибается. Именно таким образом следует
поступить и с нашим обществом»81.
Здесь формулировка исходного принципа направления,
которое получило название «нигилизм». Оно ставило своей
задачей доказать призрачный характер знаний, которыми
располагает общество, оно ставило себе целью выметать «мусор
ложных понятий»82.
Ну и, конечно, «патриотической» журналистике был не по
душе этот тон «мальчишек» из «Русского слова».
— Как это мы, русские, ничего не знаем? — грозно
вопрошали «патриоты из патриотов». — «Мы знаем ужасно много,
мы все читаем и обо всем пишем. — Мы знаем, что есть
телескоп, микроскоп, химический анализ, жирафа, Александр
Гумбольдт, хлебное дерево, анатомия, кокосовые орехи,
эмбриология, коралловые рифы и многие другие естественные
произведения, интересные с той или другой стороны для
исследователей природы. Познания наши по части европейской
политики еще более обширны и разнообразны»83.
И не тронутый политическими ветрами времени
добродушный читатель может действительно задуматься: «Так ли уж
мы ничего не знаем? Не есть ли этот нигилизм и в самом деле
мальчишество? Не хотят ли эти молодые люди слишком просто
войти в историю? Не хотят ли они, то лености своей,
выговорить себе право ничего не читать, не изучать, что было до
них?».
Да, конечно, отвечает Писарев «патриотам», все это «мы»
знаем — и как дела в английском парламенте, и кто наши
братья и т. д. Но он показывает, что в условиях казенщины и
деспотизма знания имеют лишь видимость знаний; в этих
условиях, когда человек лишен, по существу, возможности
применять эти знания в жизни, а обречен на бездумное следование
воле ближайшего столоначальника, воле самодуров темного
царства, знания теряют свою суть — быть инструментом
преобразования природы и общества, — они становятся мишурой,
цветным фантиком от конфеты, они превращаются в чистую
формальность, назначение которой «пускать пыль в глаза» и
«делать карьеру» или прикрывать замысловатыми
наукообразными фразами идиотские (и идиотски простые) действия и
решения самодуров. «Мы из каждой дельной мысли, — пишет
Писарев, — выхватываем только ее формальное выражение и к
обширному сборнику наших затверженных изречений прибав-
81 Д. И. Писарев. Соч., т. 3, стр. 69—70.
82 Там же, стр. 112.
î3 Там же, стр. 70.
116
ляем, таким образом, еще новую форму, из которой
улетучивается весь ее жизненный смысл»84.
А что же остается после того, как жизненный смысл
улетучивается? — «Лексикон мудреных слов, целые сборники
готовых изречений»85. И разве затвердить готовые изречения —
означает «знать»? Разве попугайское повторение мудрых
слов — «знание»?
Что же, по мнению Писарева, нужно? — Нужно знать
жизнь, живые явления в их связи.
Афористический (как и всегда у Писарева) вывод:
«обладание такими сокровищами», как «лексикон мудреных слов»,
как «сборники готовых изречений», «во всех отношениях
должно считаться более тягостным бедствием, чем самая голая
умственная нищета»86.
Писарев намечает и тот единственный, по его мнению, путь,
который ведет к подлинному знанию и решению «проклятых
вопросов» времени. Этот путь — самообразование. «Кто
дорожит жизнью мысли, тот знает очень хорошо, что настоящее
образование есть только самообразование и что оно
начинается только с той минуты, когда человек, распростившись
навсегда со всеми школами, делается полным хозяином своего
времени и своих знаний»87.
В чем же смысл такой постановки вопроса? Почему с такой
настойчивостью, чуть ли не в каждой статье, пропагандирует
Писарев эту мысль о самообразовании (подумаешь, какое
важное дело — «самообразование»!)? Потому, что у Писарева
самообразование это не «самоподготовка», это не выполнение
«домашних заданий» и т. п.; у Писарева «самообразование»
означает «самоосвобождение» — освобождение от гнета
официальной мысли, освобождение от полицейского указующего
перста; у Писарева «самообразование» означает
«свободомыслие». Вот »почему такое презрение у Писарева ко «всем
школам», вот ^почему с таким сарказмом высмеивает он
«университетскую науку» того времени.
Ошибаются те, говорил в своих статьях Писарев, кто
думает, что университет — светоч науки, светоч знания. Знания,
которые дает университет — это знания лексикона «мудреных
слов» и «сборника готовых изречений»; он дает знания того,
как поддерживать и укреплять строй, основанный на
«бедности и невежестве», он учит манипуляциям со словами. Задача
университетов «самодурных режимов» заключается не столько
84 Д. И. П и с а р е в. Соч., т. 3, стр. 70.
85 Там же.
86 Там же.
87 Там же, стр. 127.
117
в том, чтобы давать действительное знание (это происходит
попутно, независимо от желания воспитателей), сколько в том,
чтобы (подготовить чиновников «царевых государственных
учреждений», чиновников от литературы, чиновников от
искусства, чиновников всех мастей и расцветок. В условиях царской
России — университет может оказаться (и обычно оказывался)
хорошо замаскированной ловушкой, куда попадает наивный и
восторженный молодой человек. Ум такого молодого человека,
не обладающего ни знаниями, ни опытом, необходимыми для
критического отношения к тому, что ему преподносится, легко
пЪдавляется искусной софистикой профессоров, этих
присяжных поверенных «самодурного режима».
Собственно, это начинается еще в гимназии. «Дети по
поводу своих уроков, — пишет Писарев, — часто предлагают
учителю очень меткие и остроумные -вопросы; иногда эти
вопросы приводят учителя в немалое смущение своим
неожиданным и непозволительным радикализмом; но учитель — человек
ловкий и политичный; он быстро производит искуссную
диверсию, принимает на себя внушительную осанку или
произносит с важным видом глубокомысленную чепуху, и умственная
самодеятельность, только что зашевелившаяся в живой голове
ученика, опять усыпляется надолго, а может быть, и
навсегда»88.
Университет продолжает этот процесс на, так сказать,
более высоком уровне. Но мы говорили, что, производя эту
«искусную диверсию», университет не мог не давать каких-то
реальных знаний, не мог не знакомить с книгами и
'произведениями, которые сами по себе будят мысль. Правда, делалось
все, чтобы заранее навязать студенту определенное
понимание этих произведений — так что читал он их уже со скукой,
полагая, что все их содержание сводится к тем нескольким
безжизненным формулам, которые прежде были вбиты ему в
голову — «даже вопросов и сомнений никаких не являлось»89.
Но не все студенты были такие. Кто раньше, кто позже, но
вдруг чувствовал жизнь, которая дышит 'в той или другой
книге. Й тогда происходило удивительное: «... книга, не тронутая
школьным педантизмом, вызывает живую деятельность мысли
и прохватывает насквозь все убеждения читателя теми самыми
истинами, которые, красуясь на страницах учебника, не
возбуждают в мальчике или в юноше ничего, кроме истерической
зевоты и ленивого отвращения»90.
Это Писарев хорошо знал по собственному опыту: «...когда
s8 Д. И. Писаре в. Соч., т. 3, стр. 127.
89 Там же.
90 Там же.
118
пришлось читать и обдумывать читанное с практической целью
(т. е. для самостоятельного решения занимавших Писарева
вопросов. — Г. В.), тогда мысль получила такой толчок,
которого действия и последствия я не мог ни предвидеть, ни
рассчитать. Пробудившееся стремление анализировать и
всматриваться не может быть по вашей воле опять погружено в
сон ... Человек боится подойти к тем гипотезам, которые
величественнее Казбека и Монблана, а мысль не боится — и
подходит, и ощупывает эти гипотезы, и вдруг докладывает, что
все это пустяки. Человек приходит в ужас, но ужас этот
оказывается бессильным в борьбе с мыслью; мысль осмеивает и
прогоняет ужас, и человеку остается только качать головой,
стоя на развалинах своего миросозерцания. Наконец и качание
головой прекращается, и тогда начинается новая умственная
жизнь, в которой мысль пользуется неограниченным
могуществом (вот что такое самообразование! — Г. В.) и не встречает
себе нигде ни отпора, ни сопротивления»91.
Посмотрим теперь, какую программу намечает Писарев
для самообразования, что он думает то поводу того, каким оно
должно быть. Рассуждения Писарева об этом базируются
приблизительно на следующих основаниях.
Поскольку вы, окончив университет и будучи уже
действительно взрослым и солидным (даже, вероятно, женатым)
человеком, решили заняться самообразованием, то, несмотря
на внешнюю безобидность этого желания, вы обрекли себя на
не очень блестящую и вовсе не усыпанную розами дорогу:
ведь для вас самообразование стало не чем-то подсобным,
дополнительным к вашей, так сказать, основной работе; оно
стало главным в жизни, а то «основное» —подсобным.
Самообразование будет поэтому забирать массу времени и не
давать ни копейки денег. Кроме того, результат вашей
деятельности (как и деятельности подобных вам людей) скажется не
скоро (может быть и не при вашей жизни!) и не весьма
заметным образом, — так что, может, потом, на празднике
жизни, вас лично и не вспомнит никто. Так что хорошенько
подумайте, прежде чем решаться. Если можете жить иначе —
тянуть чиновничью лямку в темном царстве — живите.
Беритесь за самообразование, становитесь на этот путь, если иначе
не можете.
Читайте, советует Писарев, как Рахметов: только то, что
«нужно», что «основательно», что «капитально», т. е. читайте,
что называется, классиков, великих людей. «Ничто так сильно
не расширяет весь горизонт наших понятий о природе и о
человеческой жизни, — писал Писарев, — как близкое знакомство
91 Д. И. П и с а р е в. Соч., т. 2, стр. 181.
119
с величайшими умами человечества, к какой бы отдельной
области знания или творчества не относилась деятельность
этих первоклассных представителей нашей породы»92.
И дальше: «Надо знакомиться только с настоящими тита-
нами и преспокойно проходить, не кивая головой, мимо многих
и премногих кумиров, выставляемых на поклонение толпы
усердными историками различных литератур»93.
Но воспитывая в своих читателях высокое уважение к
«величайшим умам человечества», Писарев предупреждает об
опасности — когда это высокое уважение может перейти в
почти религиозное почитание. «Знакомясь с этими титанами,—
пишет он, — надо непременно сохранять в отношении к ним
полную самостоятельность своей собственной мысли, а иначе
придется принимать за чистое золото даже то, что составляет
грязное пятно в произведении титана»94.
И второй совет Писарева: читайте произведения титанов,
имея перед собой практическую цель (чтение «просто так»,
чтение «для эрудиции» — это бесполезное чтение, в этом
случае эрудиция становится ерундицией). Читая произведения
титанов, не упускайте из виду сегодняшний день, ищите черты
сходства и различия, короче — учитесь думать. И тогда в этих
произведениях заметите то, чего не замечали раньше, то, что
так важно для вас.
Однако с помощью цитат из «величайших умов
человечества», с помощью даже более или менее правдоподобных и
виртуозных аналогий нельзя удовлетворительно решить
проблемы, которые ставят новые и новые обстоятельства. С
помощью «величайших умов» можно установить лишь
приблизительное направление поиска решения современных
конфликтов. А потом, разумеется, придется оторваться от «"великих»
и пуститься в самостоятельное плавание (сохраняя, впрочем,
их методологию, их приемы анализа и т. п.), т. е. заняться
кропотливыми и специальными исследованиями явлений
современной жизни.
Однако, по мнению Писарева, это время, время кропотливых
и специальных исследований — еще не подошло. Пока вся
проблема заключается в ведении предварительной работы, в
установлении приблизительного направления анализа в
подготовке инструментария для исследования, в собирании
интеллектуальных сил, способных коллективно выполнить эту
задачу огромной важности — дать научное освещение
происходящего.
92 Д. И. П и с а р е в. Соч., т. 3, стр. 105.
93 Там же, стр. 105—106.
94 Там же, стр. 105.
120
Браться же за изучение какого-нибудь специального
вопроса сейчас, по убеждению Писарева, — неразумно. «Наша мысль
только что пробуждается в немногих головах», — писал он,—
поэтому «взяться основательно за специальную задачу —
значит уйти далеко вперед от понимания общества, сузить, без
малейшей пользы, сферу своего влияния и не встретить в
соотечественниках ничего, кроме равнодушия и недоумения»95.
И поэтому такого рода «специалисты», как бы прекрасны и
глубоки ни были их исследования, «не могут создать в
обществе умственное движение»96. Вот почему «предварительная
деятельность совершенно необходима»97. К этой цели и
направляются наши реалисты, отчасти осмеивая мешающие
глупости, отчасти распространяя научные сведения»98.
В распространении знаний Писарев видел «альфу и омегу
общественного процесса»99, причем главной задачей он считал
распространение знаний в народе (мы уже знакомы с его
рассуждениями о том, что только просвещенный, только
высокосознательный народ сможет «как следует» устроить свою
жизнь).
Но народ находится шока в состоянии глубокой умственной
спячки, к нему не подступишься. И Писарев формулирует
задачу на ближайшее время: «Если вы хотите образовать народ,
возвышайте уровень образования в цивилизованном
обществе»100.
Писарев не только в общем виде формулирует задачу, но
и намечает пути ее решения. «Каким же образом надо
распространять знания?» — ставит он вопрос и отвечает: «...пусть
каждый человек, способный мыслить и желающий служить
обществу, действует собственным примером и своим
непосредственным влиянием в том самом кружке, в котором он живет
постоянно, и на тех самых людей, с которыми он находится в
ежедневных сношениях. Учитесь сами и вовлекайте в сферу
ваших умственных занятий ваших братьев, сестер,
родственников, товарищей, всех тех людей, которых вы знаете лично и
которые питают к вашей особе доверие, сочувствие и
уважение. Если умеете писать — пишите о предмете ваших занятий;
если не чувствуете расположения к литературной
деятельности, говорите о нем с теми людьми, у которых уже пробуди-
95 Д. И. П и с а р е в. Соч., т. 3, стр. 68.
96 Там же, стр. 78.
97 Там же, стр. 79.
98 Там же.
99 Там же, стр. 123.
100 Там же.
121
лась любознательность и на которых вы можете иметь прочное
влияние»101.
Писарев говорит, таким образом, и об «организационных
формах» самообразования. Он думает не только над тем, как
•повысить умственный уровень людей, но и как они могли бы
соединяться и сплачиваться — в этот 'период страшной
реакции. Поэтому, если характеризовать «писаревский период» с
точки зрения задач прогрессивной революционной
интеллигенции, то его надо назвать не просто периодом теоретической
работы («теоретическим периодом»), но
организационно-теоретическим периодом.
«Самообразование», стало быть, — не только
«самоосвобождение», не только «свободомыслие», но и организация,
сплочение революционных сил.
Но ведь это очень медленно, — могут сказать особо
«активные» люди, — все эти узкие кружки и кружочки.
— Подскажите же, как скорее? — ответим мы им. — Что бы
вы предложили на месте Писарева? Со своей стороны мы
готовы быть его адвокатом...
И последняя цитата в связи с писаревской (программой
деятельности — из статьи «Посмотрим». Писарев отвечает на
вопрос — что должны делать «люди, которые берутся быть
руководителями общественного самосознания», в период, когда
теоретическое решение социального вопроса еще не найдено:
«Всеми силами искать теоретического решения и всеми силами
побуждать других людей к тому же самому исканию, то есть
изображать яркими красками страдания голодного
большинства, вдумываться в причины этих страданий, лостоянно
обращать внимание общества на экономические и общественные
вопросы и систематически отрицать, заплевывать и осмеивать
все, что отвлекает умственные силы образованных людей от
главной задачи»102.
Такова программа Писарева, таков его отвег на вопрос —
что делать.
В чем же достоинство этой программы? В том, что она
представляет собой в деталях разработанную систему и метод
выработки и собирания революционных сил в периоды
отливов революционно-освободительного движения. И я не думаю,
будь с ней знакомы Чернышевский или Добролюбов, чтобы
они в ней что-нибудь существенное изменили — ибо эта
система сама по себе совершенно не противоречит их учению. Более
того, под этой программой со спокойной совестью мог бы
подписаться и марксист. Правда, марксист дополнил бы ее тео-
101 Д. И. П и с а р е в. Соч., т. 3, стр. 124.
102 Там же, стр. 489.
122
ретическим положением о будущей связи этой организации
революционеров с народной массой, которая будет
пробуждена самим ходом исторического развития, так, как это сделал
в 80-е годы Плеханов: «... пока наша пропаганда вырабатывает
революционеров, история создаст необходимую для их
деятельности революционую среду; пока мы готовим
руководителей революционной массы, офицеров и унтер-офицеров
революционной армии, — сама эта армия создается неотвратимым
ходом общественного развития» 103.
Да, именно такое дополнение внес бы марксист, но это
дополнение касалось бы, так сказать, будущего, перспектив;
практически же — марксист делал бы в точности все то, что
советует Писарев.
Объективно перед революционерами 60-х годов ближайшей
была именно та задача, о которой писал Писарев. Поэтому
его влияние было так сильно и так 'плодотворно.
* *
В чем же состоит объективное историческое значение
полемики Писарева против Добролюбова, что значила она для
развития передовой общественной мысли России, какое она.
занимала место на пути от Чернышевского к Плеханову?
Говорить об этом необходимо в двух аспектах —
логическом и историческом. Логический аспект состоит в
установлении соотношения добролюбовского и писаревского методов с
точки зрения их общетеоретической значимости и
общетеоретической истинности. Исторический — требует выявить
конкретно-исторические формы, в которых была реализована та
или другая научная идея, установить роль и значение данного
звена в общей цепи исторического развития теории.
С логической стороны, — субъективистские тенденции,
проявившиеся в творчестве Писарева, свидетельствовали о
начинавшемся понижении теоретической мысли по сравнению с
временем Чернышевского и Добролюбова. Однако не надо
забывать при этом, что и в рамках субъективистских идей
русская общественная мысль, в лице Писарева, делает ряд
важных завоеваний, которые войдут потом в золотой фонд науки
об обществе. Такое противоречие метода и результатов
исследования— не исключение в истории общественной науки, а
скорее — вид закономерности. Напомним хотя бы
высказывания Маркса относительно того, что именно идеализм, учение
более низкого теоретического достоинства, чем материализм,
103 Г. В. Плеханов. Соч., т. III. М.—Л., Госиздат, 1925, стр. 414.
123
развивал деятельную сторону. Поэтому это такое «понижение
теоретической мысли», которое вовсе не есть застой, вовсе не
тотальное отступление. Где-то Писарев отступил (может
быть — не мог не отступить), а где-то, может быть, не на
самых главных, но все же довольно важных направлениях, он
развивал «наступление», начатое Чернышевским и
Добролюбовым. Причем «завоевания» Писарева лежали на пути к
созданию подлинной науки в обществе, они составляли
необходимое звено цепи теоретического прогресса. И чтобы в полной
мере охарактеризовать всю сложность «писаревского этапа»
в истории русской мысли, скажем еще, что только с помощью
ряда субъективистских идей и были возможны в то время эти
«завоевания». Говоря так, мы по существу уже переходим к
исторической оценке субъективистских тенденций
общественной мысли 60-х годов (особенно ярко проявившихся в статьях
Писарева).
О неизбежности появления этих тенденций и о том, что
бурливый поток писаревских идей имеет источником учение
Чернышевского, мы уже не раз говорили в этой главе. Скажем
теперь, куда этот поток впадает. Продолжая образный строй
речи, надо сказать, что если писаревская река питается лишь
несколькими ключами из источника Чернышевского (оставляя
многие другие нетронутыми), то и впадает она не в одно место,,
а разделяется на несколько рукавов.
Субъективистские тенденции будут подхвачены и
«развиты» народниками, в теориях которых они пройдут и завершат
весь цикл своего развития. А то непреходяще-ценное, что
выработалось в рамках писаревских субъективистских идей,,
войдет полезной страницей в «книгу» науки об обществе,
которую потом будут писать русские марксисты.
Положительное значение писаревской полемики еще вот
в чем. Она способствовала прояснению (конкретизации)
проблем, стоявших перед революционным движением, она в
крайней степени заостренности поставила проблему стихийности и
сознательности в освободительном движении, проблему,
которая будет одной из главных проблем русской
социалистической революции. Писарев заставил революционных теоретиков
задуматься над конкретностью связей стихийного и
сознательного, революционной интеллигенции и народа. После Писарева
уже нельзя было с теоретической беззаботностью в одном
месте говорить, что «Базаровы» определяют ход
общественного развития, а в другом — как ни в чем не бывало говорить,
что историю делают народные массы. После Писарева
необходимо было четко представлять соотношение того и другого.
Поиски решения этой проблемы вынуждали революционных
124
теоретиков более внимательно разбирать взгляды по этим
вопросам Чернышевского и Добролюбова, и это
«разбирательство» не могло не приводить к обнаружению противоречий в
творчестве двух великих мыслителей, к выделению в их
теориях материалистического зерна. Заслуга Писарева, таким
образом, — в конкретизации проблемы, что объективно
способствовало победе материалистических элементов, отделению
материалистических научно-объективных элементов от
идеалистических, субъективистских.
Таково значение полемики Писарева /против Добролюбова.
Однако сказанным не ограничивается значение писаревского
творчества вообще, так как его творчество не сводится к этой
полемике. И поэтому надо сказать о другой, важной стороне
наследства Писарева.
Писарев — не только теоретик, в сочинениях которого
нашло место усиление субъективистских тенденций по сравнению
со временем Чернышевского и Добролюбова, но Писарев и
просветитель (именно в том специфическом значении этого
•слова, как оно употребляется Лениным в статье «От какого
наследства мы отказываемся?», существенными признаками
которого являются историческая трезвость и объективизм).
В качестве субъективиста, Писарев — предшественник
народничества, в качестве «просветителя», он — его антипод.
Это, кстати, показывает, что и теория Писарева еще довольно
абстрактна и внутренне (незаметно для самого ее создателя)
противоречива.
Но как же, спрашивается, эти две тенденции уживаются
в рамках одного мировоззрения? Они «уживаются» потому,
что «уживаются» в жизни причины, их порождающие. Какие
же это причины?
Во-первых, спад революционного крестьянского движения,
что, как мы уже отмечали, и явилось причиной усиления
субъективизма (ибо прежде у Чернышевского и Добролюбова
именно широкое народное движение было основой их
объективизма); на первый план выдвигается «знание», как основа
прогресса, «знание», источники и закономерности развития
которого устанавливаются неопределенно или довольно
произвольно. (В произвольном выборе отдельных «главенствующих»
идей в историческом развитии общества Ленин видел одну из
характернейших черт субъективизма) 104.
Спад революционного крестьянского движения сочетался с
начавшимся бурным промышленным развитием России, с
развитием капитализма. Промышленное развитие страны было,
разумеется, невозможно без прогресса научной мысли. Про-
См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 58.
125
гресс промышленности означал прогресс «знаний». А прогресс
знаний — это и был тот путь, по которому намеревались идти
революционные просветители 60-х годов к «справедливому»
общественному устройству. Потому они горячо и
приветствовали промышленное развитие России, представлявшее собой
объективно-исторический процесс. Короче говоря, «знание»,
противопоставленное движению народных масс, было основой
субъективизма шестидесятников (и это сближает их с
народничеством). Но они были и сторонниками объективного
метода, поскольку «знание» не противопоставлялось у них
общественно-экономическому развитию (и этим они отличаются от
народников).
Эти черты исторического оптимизма, трезвости и
объективного анализа вообще характерны для прогрессивной
общественной мысли '60-х годов. Революционный демократизм 60-х
годов имеет преимущественно просветительскую окраску (в
отличие от народнической окраски идеологии революционной
демократии 70-х годов) — в том специфическом понимании
терминов «просветительство» и «народничество», в каком их
употребляет В. И. Ленин в статье «От какого наследства мы
отказываемся?».
Здесь следует ответить на один сложный вопрос, связанный
с выяснением корней русского просветительства. Сложность
вопроса состоит в следующем. Если трезвость, объективность
и оптимизм французского, скажем, просветительства были
исторически оправданы тем, что не раскрылись еще
противоречия буржуазного общества — того общества, победе
которого споспешествовали просветители, то что же служило
основой просветительского оптимизма у русских просветителей —
ведь перед ними был опыт развития европейскогоо
капитализма со всеми его противоречиями и язвами?
Кратко говоря, дело, по нашему мнению, состоит в том, что
русские прогрессивные мыслители, и в первую очередь публи>
цисты «Современика» и «Русского слова», находили в
условиях русской жизни ряд своеобразных элементов, которые, по
их убеждению, могут (и должны) спасти Россию от зла
бесчеловечной капиталистической эксплуатации и «язвы проле-
тариатства», доставив в то же время все те выгоды, которые
доставило промышленное развитие Западу. Главнейшие из
этих элементов: своеобразие русского рабочего — «рабочего с
наделом» и «ассоциация», которая искони свойственна духу
русского народа.
Однако по мере развития пореформенных отношений вера
в то, что «оседлость», «надел» спасут русского работника от
«язвы пролетариатства», падала. Решающий удар этим взгля-
126
дам нанесло исследование В. В. Флеровского «Положение
рабочего класса в России».
К началу 70-х годов в значительной степени теряет кредит
у публицистов демократического лагеря и идея ассоциации в
качестве средства, способного защитить рабочих от всех
капиталистических зол.
Таким образом, резко сужается почва, на которой
вырастали в России идеи, аналогичные идеям французского
просветительства.
* *
В 60-е годы промышленное развитие России еще
недостаточно связывалось русскими публицистами с ростом
непримиримых общественных противоречий. Все конфликты того
времени сводились в основном к борьбе с крепостническими
остатками и феодальной рутиной. Можно сказать, что
просветительство, как важный элемент идеологии революционной
демократии 60-х годов, «держалось» борьбой с феодализмом
и неразвитостью капиталистических отношений.
К началу 70-х годов противоречия отечественного
капитализма проявились довольно зримо. В 1873 г. разразился
промышленный кризис, важный показатель капиталистического
способа производства. А чуть раньше, в 1870 г. крупная стачка
на Невской бумагопрядильне возвестила о начале классовой
борьбы русских рабочих с предпринимателями.
Игнорировать, не замечать эти острые противоречия было,
разумеется, невозможно. Отношение демократической
публицистики к промышленному развитию начало меняться.
«Просветительский» оптимизм в отношении к промышленному
развитию России становился все менее и менее возможен, так как
к началу 70-х годов было уже достаточно ясно, что развитие
промышленности в России неизбежно ведет к закабалению
трудящихся, к «язве пролетариатства». И в этой дилемме:
промышленное развитие или благополучие человека —
публицисты демократического лагеря выбрали «человека»,
трудящегося человека. В этом решении — одна из существенных
черт народничества; в этом решении как в капле воды
отразились слабость и сила народнического мировоззрения. Это
сила, ибо отстаивание интересов трудового люда есть важнейшее
свидетельство демократизма. И это слабость, потому что
«отрыв» прогресса промышленности от интересов человека —
противоестествен. Но и сила и слабость этого народнического
взгляда обусловлены исторически; такая точка зрения была
127
неизбежна (и прогрессивна) в начале 70-х годов, ибо тогда
степень развития капитализма (и следствие этого — слабость
рабочего класса) не позволяла соединить в единой теории
борьбу за промышленный (а при тех условиях он был
неизбежно капиталистический) прогресс с борьбой за освобождение
рабочего класса. Когда же в результате развития
действительности появилась возможность связать в одно целое прогресс
промышленности и интересы человека (это было сделано
русскими марксистами), тогда «защита» человека от
промышленности стала реакционной.
Защита народных масс от капитализма мыслилась
народническими течениями по-разному: одни уповали на реформы
(и апеллировали к «обществу» и государству), другие —
осуществление своих надежд связывали с революцией.
Соответственно в народничестве различают две тенденции —
либеральную и революционную. Последняя — демократическая,
революционная тенденция у народников начала 70-х годов тесно
переплеталась с тенденцией социалистической.
Анализу развития революционного народничества и
посвящается следующая глава.
ГЛАВА III
РЕВОЛЮЦИОННОЕ
НАРОДНИЧЕСТВО
1. ТЕОРИИ И ТЕОРЕТИКИ
ачнем с трех цитат из статей П. Н. Ткачева.
«Учитесь! Приобретайте знания! О боже, неужели это
говорит живой человек живым людям. Ждать!
Учиться, перевоспитываться! Да имеем ли мы право
ждать?» (подразумевается, с революцией). ...Ведь
каждый час, каждая минута, отдаляющая нас от
революции, стоит народу тысячи жертв!».
Не пропаганда — наша задача, а «революция, революция
не в отдаленном будущем, не «когда-нибудь», а именно
теперь», в ближайшем к нам настоящем. «От этого» зависит
наше будущее,— будущее семидесяти миллионов
страдающего порабощенного народа».
«Не ждите же! Делайте революцию, делайте скорее!
Всякая проволочка — преступна!»
Красиво, не правда ли? Как это энергично и как это
страшно революционно! Бедный оппонент Ткачева! Должно
быть, жалкий и трусливый он человек, и, должно быть,
плевать ему на 70 млн. страдающего народа, над ним, видно, не
каплет.
А вот Ткачев. Хотя над ним лично тоже не каплет, а
смотрите, он хоть завтра, да что там завтра,— сегодня, сейчас
готов отправиться в бой за эти 70 млн.
Заманчивая позиция!
Но обратите внимание вот на что: первый из приводимых
нами абзацев («Учитесь!» и т. д.) писан Ткачевым в 1874 г.1,
второй — в 1875 г.2, а третий и вовсе в 18773. Забавно!
«Тянуть преступно!» — кричит нам революционер. Чего же в
таком случае вы столько лет тянете? — можно было бы
спросить у него. Легко делать «немедленные революции» на
бумаге!
1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, стр. 530—531, 533.
2 Газета «Набат». Женева, 1875, № 1, стр. 8, 9.
3 «Набат», 1877, № 1—2.
ж
129
И ткачевцам отвечал Лавров — так, как они того
заслуживали: «Вы не можете ждать? Слабонервные трусы, вы
должны терпеть, пока не сумели вооружиться, не сумели
сплотиться, не сумели внушить доверие народу! Так из-за
вашего революционного зуда, из-за вашей барской
революционной фантазии вы бросите на карту будущность народа?
Года через два народ мог бы победить, он, может быть, был
бы готов; но вот, видите ли, русской революционной
молодежи невтерпеж. Надо сейчас, сию минуту...» 4.
«Слабонервные трусы» — это хорошо. Но вообще Лавров
слишком всерьез принимает их, полагая, что они в состоянии
«бросить на карту будущность народа».
Насмешливо-презрительный тон Энгельса здесь больше подходит5.
Может быть, кому-то покажется, что Энгельс слишком уж
жестоко «разделывает» Ткачева. Ведь что там ни говори, а
Ткачев все-таки в прогрессивных журналах писал, и в
царской тюрьме сидел, и от карьеры отказался, бежал за
границу, где не такая уж сладкая была у него жизнь. Но это,
разумеется, детские рассуждения.
Энгельс не касается всех сторон общественной
деятельности Ткачева. Он рассматривает его как социалиста и
революционного теоретика (т. е. так, как сам Ткачев хотел,
чтобы его рассматривали) и говорит, что он (Ткачев)
никакой не социалист и не революционный теоретик. Вот и все.
Это, разумеется, не препятствовало Ткачеву быть весьма
полезным для России общественным деятелем, хорошим
журналистом, верным другом, порядочным семьянином, короче,
иметь массу достоинств, в число которых только не входят
ни социалистические убеждения, ни подлинно революционные
взгляды.
А был ли он действительно полезным и какого рода пользу
принес он, это мы, в частности, постараемся показать в этой
главе, которую мы и задумали посвятить разбору трех
основных теорий народничества 70-х годов — ткачевизма, лавризма
и бакунизма.
* *
*
Идеал ткачевистов — социализм, общественная
собственность, коллективное производство, справедливое
распределение и т. д. Собственно, это — идеал, общий всем трем
теоретикам народничества. Этот идеал они вычитали из книг.
4 П. Л. Лавров. Избр. соч. на социально-политические темы, т. III.
М., 1934, стр. 345.
5 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, стр. 537—548.
130
И для них он не результат развития общественного бытия
людей, классовых противоречий, а единственно — результат
развития мысли. Для них, как и для большинства утопистов,
этот идеал — случайно открытая формула наилучшего
устройства общества (случайная в том смысле, что в принципе ее
можно было открыть сотню лет назад, или сотню другую лет
позднее). Поэтому разрабатываемые ими пути достижения
этого идеала почти не соотносятся с объективной
действительностью, с направлением и тенденциями ее развития
(разумеется, здесь не без исключения, но об этом ниже). Надо отметить
только, что в отличие от первых социалистов-утопистов
Запада, наши народники уже не надеятся на мудрого монарха
или доброго богача. Они стоят на точке зрения борьбы за
этот идеал, понимая, что правящие силы не склонны
споспешествовать ему (здесь определенным образом сказалось
влияние Чернышевского, учение которого, впрочем, не было в
достаточной степени усвоено народниками).
Итак, спор между теоретиками народничества идет, вроде
бы, только из-за средств, с помощью которых можно достиг«
нуть цели. Однако диалектика говорит, что средства и цель,
средства и результат вовсе не есть что-то отделенное друг от
друга: средства не отделимы от цели и цель от средств, они
существуют только в единстве, они составляют одно целое.
И в данном случае мы увидим, как полемика теоретиков
народничества о средствах постоянно переходит в полемику о
цели, в результате чего мы увидим также, к каким
результатам объективно ведут предлагаемые народниками средства.
Итак, Ткачев считал, что революцию надо делать
«немедленно». Почему же? Что говорит в пользу такой точки зрения?
Как это ни парадоксально, но, оказывается, потому, что,
кроме прочих причин, «народ к революции не готов». Вы
скажете: нелогично, раз народ не готов, надо подождать —
пока готов будет, а тогда уж и заводить разговор о
революции. Но в том-то и дело, что, с точки зрения Ткачева, никакой
нелогичности тут нет: ведь, по его мнению, народ вряд ли
вообще когда-нибудь будет готов, условия, в которых живет
русский народ, не способствуют-де его развитию. «Вековое
рабство, вековой гнет,— пишет Ткачев,— приучили его к
терпению и бессловесному послушанию; развили в нем рабские
инстинкты, самые возмутительные насилия не в состоянии
расшевелить его притуплённые нервы»6. Он даже пишет, что
нагло и возмутительно лгут те, кто говорит, что народ «в
ближайшем будущем... просветится и поумнеет» и сможет поэто-
6 «Набат», 1876, № 2—3, стр. 4.
131
му сам освободить себя 7. «Пока народ будет находиться в тех
экономических и политических условиях, в каких он
находится теперь,— развивает Ткачев свои излюбленные мысли, ни
его идеалы, ни его отношения к окружающей его среде
измениться не могут,— следовательно и в будущем он останется на
столько же беспомощным, на сколько он беспомощен в
настоящем» 8. (Ясно слышны писаревские интонации в этих
словах, не правда ли?).
Человеку, придерживающемуся диалектико-материалисти-
ческих взглядов на историческое развитие, нетрудно
подметить ошибку Ткачева: он, как и всякий другой метафизик,
берет за исходное «те экономические условия», в каких
народ «теперь» находится. И как всякий другой метафизик и
идеалист, он полагает, что меняются эти экономические
условия по воле «начальства»; и раз начальство остается то же
самое (царь, придворные и проч.), то, следовательно, теми же
самыми остаются и «экономические условия», а
следовательно, «тем же самым» (забитым и беспомощным) остается
народ 9. Что общественное производство имеет свои внутренние
законы развития, независимо от начальства, и что эти законы
неизбежно приведут к изменению «экономических условий»,
к изменению соотношения антагонистических сил в обществе,
к изменению облика и характера народного,— этого Ткачев не
понимал (хотя и был знаком с главными трудами Маркса).
Вот почему в его метафизических устах совершенно
логично звучит главный вывод: «Ни в настоящем, ни в будущем
народ, сам себе предоставленный, не в силах осуществить
социальную революцию» 10.
И по всему поэтому совершенно логичен и его энергичный
призыв к' «революционному меньшинству»: «Делать
революцию немедленно» — ибо чего ждать?
А если прибавить к этому неоднократно высказываемое в
«Набате» беспокойство по поводу того, что «начальство»
будто бы предпринимает попытки изменить кое-что в
экономических условиях и тем, по мнению Ткачева, затруднить
осуществление революции, то настойчивый призыв Ткачева и
подавно понятен, и подавно логичен.
Но это, повторяем, логика идеалиста и метафизика. И она
в полной мере сказывается и на практической стороне
«учения Ткачева».
7 «Набат», 1876, № 4, стр. 5.
8 Там же.
9 Все это очень и очень, повторяем, напоминает нам рассуждения
«раннего» Писарева о Катерине. Влияние Писарева (особенно раннего и
особенно субъективистских черт его мировоззрения) на Ткачева несомненно.
10 «Набат», 1876, № 4, стр. 6.
132
Для Петра Никитича Ткачева действительность — лишь
объект деятельности, лишь материал, который надо кроить и
перекраивать. Действительность для него — глина, из которой
можно слепить «идеал», так или иначе появившийся в его
голове.
И вот он начинает лепить и кроить (разумеется —
мысленно, теоретически, до практики дело не дошло). Итак, что же
делать для устройства «идеала»? Это самый легкий вопрос
для Ткачева: «Вопрос» что делать?» нас не должен больше
занимать. Он уже давно решен. Делать революцию.— Как?
Как кто может и умеет» п. Ответ этот — своего рода шедевр.
Он опять-таки может показаться диким и нелогичным. И опять
мы должны вступиться за Ткачева: ответ этот более чем
логичен, с его точки зрения,— более того, ответ этот во всей
красе, во всей своей ослепительной яркости раскрывает перед
нами идеалистическое представление о мире. Раз историческая
действительность не имеет внутренних источников своего
развития, раз она не имеет объективных законов, с которыми
должен считаться всякий, подступающий к ней с планами и
выкройками, то именно логично заявить: все зависит от
Портного, крон как кто может.
Но поскольку Ткачев себя считает, видимо, наиболее
искусным портным, то он и предлагает план, по которому
слепить «идеал» можно «всего скорее».
План этот заключается в том, что «революционное,
цивилизованное меньшинство» устраивает тайный заговор и
свергает правительство, революция в виде coup d'état.
Впрочем, Ткачев понимает, что захватить Зимний — это
захватить лишь одно красивое здание, не больше. Чтобы
вместе с Зимним захватить и власть в стране, надо
парализовать силы, служившие царю, и силы немалые. Кучка
заговорщиков сделать это, конечно, не в состоянии. И вот тогда-
то ткачевцам (или, как они себя сами называли, якобинцам)
и пригодится народ. «Революционное меньшинство, освободив
народ из-под ига гнетущего его страха и ужаса перед властью
предержащею (в результате coup d'état. — Г. В.)} открывает
ему возможность проявить свою
разрушительно-революционную силу и, опираясь на эту силу, искусно направляя ее к
уничтожению непосредственных врагов революции, оно
разрушает охраняющие их твердыни и лишает их всяких средств к
сопротивлению и противодействию» 12. Ткачев советует умело
11 П. H. f к а ч е в. Избр. соч. на социально-политические темы в
четырех томах, т. III. Мм Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и
ссыльно-переселенцев, 1933, стр. 85.
12 «Набат», 1876, № 4, стр. 4.
133
использовать этот момент, когда «его (народа.— Г. В.)
скрытое недовольство, его подавленное озлобление с неудержимою
силою вырвется наружу...» 13.
Таким образом, народ помогает «революционному
меньшинству» закрепиться у власти, и «меньшинство» приступает
к перекройке действительности. В этой- «работе» народ на
роль помощника уже не годится, надо обходиться без него.
Ткачев об этом говорит прямо, не стесняясь; он не опускается
до лживых, с его точки зрения, речей о «мудрости народа», до
фарисейских клятв в любви к нему и т. д. Не опускается,
может быть, не столько по честности, которую, однако, мы ни
в коем случае не можем ставить под сомнение, сколько по
наивности, но факт остается фактом: он не маскирует свои
замыслы, он не льстит народу. «Положительные идеалы
нашего крестьянства,— пишет он,— строго консервативны
(«общественный идеал нашего народа не идет далее окаменелых
форм его бытия»); — они (идеалы.— Г. В.) не могут быть
идеалами революции. Самое полное и беспрепятственное
применение их к жизни мало или даже нисколько не пододвинет
нас к конечной цели социальной революции — к торжеству
коммунизма» и. «Народ не в состоянии построить на
развалинах старого мира такой новый мир, который был бы способен
прогрессировать,— развиваться в направлении
коммунистического идеала» 15.
Итак, идеалы народа — не коммунистические. Что же
делать? Ждать и способствовать тому, чтобы эти идеалы
развивались в коммунистическую сторону?
Что вы, тогда бы Ткачев не был Ткачевым, человеком,
орудующим над миром. Нет, просто «при построении этого
нового мира он (народ.— Г. В.) не может и не должен иметь
никакого решающего, руководящего значения,— он не может
и не должен играть никакой выдающейся, первенствующей
роли.— Эта роль и это значение принадлежат исключительно
революционному меньшинству» 16. В чем же заключается эта
роль? Вот в чем: «...пользуясь своею силою и своим
авторитетом, оно (меньшинство.—Г. В.) вносит новые прогрессивно-
коммунистические элементы в условия народной жизни;
сдвигает эту жизнь с ее вековых устоев, одухотворяет ее
окоченевшие и заскорузлые формы. В своей реформаторской
деятельности революционное меньшинство не должно
рассчитывать на активную поддержку народа» 17.
13 «Набат», 1876, № 2—3, стр. 4.
14 «Набат», 1876, № 4, стр. 2, 3.
15 Там же, стр. 3.
16 Там же.
17 Там же, стр. 4.
134
Но ведь «сдвигать жизнь с ее вековых устоев» — штука,
прямо скажем, адской трудности, удастся ли это ткачевскому
«великолепному меньшинству»? И этот вопрос не оставлен
Ткачевым без ответа.
В одной из своих статей в «Набате» он смеется над
Лавровым, который полагает, что после революции весьма просто
«декретировать общественную собственность» и «ввести ее в
обычай». Декретировать-то просто, замечает Ткачев, но ввести
в обычай... И он не без иронии излагает наивные (и надо
сказать, действительно наивные) рассуждения Лаврова о том,
что вот-де «соберется «мирской сход», сейчас уже уничтожит
(автор, т. е. Лавров, в этом ни на минуту не сомневается)
частные запашки, обратит подушные и подворные наделы в
общую собственность, отберет у частных лиц и самих же
крестьян их движимое имущество, их скот, их орудия труда,
их сбережения, объявит, что все продукты частных работ
должны принадлежать всем членам общины, распределяться
между ними сообразно с их потребностями и т. д. и т. д.» 18.
«Набат» справедливо смеется над этой иллюзией (ведь
мелкое крестьянское хозяйство в то время действительно не
исчерпало своих возможностей!) и назидательно замечает:
«...предполагать, чтобы это мог сделать добровольно «мирской
сход», сход, в котором будут участвовать кроме массы
крестьян, «по своим воззрениям и привычкам к новым порядкам
совершенно не подготовленных и не понимающих их» 19,
вчерашние собственники, мирские паразиты,— предполагать
подобную нелепость, значит — не понимать самых
элементарных требований практической деятельности, умышленно
отворачиваться от реализма жизни и всецело отдаваться
утопии» 20.
«Конечно, практические революционеры,— продолжает
назидание Ткачев,— никогда так не поступают, как советует
им автор (т. е. Лавров.— Г. В.). Если уже им удается
осуществить первую часть его программы, т. е. захватить в
восставших общинах революционную диктатуру, то нет сомнения, что
они не пожелают выпустить ее из своих рук до тех пор, пока
каждый новый порядок не пустит более или менее глубоких
корней в общественную жизнь, пока он не уничтожит всех
своих врагов и не завоюет себе симпатий большинства» 21.
Добровольно крестьяне не согласятся на уничтожение
частных запашек, на обращение подушных и подворных наде-
18 «Набат», 1877, № 1—2, стр. 17.
19 Эту характеристику «Набат» берет из работы самого Лаврова
и бьет его — его же оружием.
2) «Набат», 1877, № 1—2, стр. 17.
21 Там же.
135
лов в общую собственность, говорит «утописту» Лаврову
«не-утопист» Ткачев. Но «нет сомнения, что сильная власть,
опираясь на некоторую часть восставших рабочих, — может
все это сделать»22.
Сильная власть, которая «все может» — это настоящая
idée fixe Ткачева. Благодаря ей вовсе не страшны опасности,
на которые, в частности, указывает Лавров, такие, как:
1) «остатки паразитов старого общества», 2) «привычки и
влечения прежнего времени», широко распространенные в
массе («пережитки»^ говоря языком XX в.); 3) сами «лица
социально-революционного союза, которые, вследствие хода
революции, стали властью в общинах и на более обширных
территориях (и которые — Г. В.) могут поддаться
развращающему влиянию своего положения и злоупотребить своею
революционною властью или присвоить ее себе в
ненадлежащих размерах» 23.
Сильная власть это и многое другое преодолеет, и без
особого труда. Каким же образом, как? Судя по всему,
именно так, как описывает Лавров план своих противников (ткаче-
вистов), план, с которым Лавров решительно не согласен:
«Всего удобнее устранить их привычными приемами старого
общества: составить кодекс социалистических законов с
соответствующим отделом «о наказаниях»; выбрать из среды
наиболее надежных лиц (преимущественно из членов социально-
революционного союза, конечно) комиссию «общественной
безопасности» для суда и расправы; организовать корпус
общинной и территориальной полиции из сыщиков,
разнюхивающих нарушения закона, и из охранителей благочиния,
наблюдающих за «порядком»; подчинить людей «заведомо
опасных» социалистическому полицейскому надзору; устроить
надлежащее количество тюрем, а вероятно, и виселиц, с
соответственным персоналом социалистических тюремщиков и
палачей; и затем, для осуществления социалистической ...
справедливости, пустить в ход всю эту обновленную машину
старого времени во имя начал рабочего социализма» 24.
Написав так, Лавров, видимо, полагал, что совершенно
убил Ткачева. Наивный человек! Он просто дельно и четко
изложил то, что Ткачев вовсе и не думает скрывать.
Захотели скомпрометировать щуку причастностью к реке!
Захотели скомпрометировать русских якобинцев намеком на
возможность с их стороны государственного насилия, виселиц
и т. п.! По мнению Ткачева, важно, против кого направлены
22 «Набат», 1877, № 1—2, стр. 17.
23 «Вперед». Непериод, обозр., т. IV. Лондон, 1876, стр. 122.
24 «Набат», 1877, № 1—2, стр. 17.
136
средства насилия. Ну и что же, что «формы (государства,
насилия, принуждения.— Т. В.) одинаковы (с реакционными,
деспотическими режимами.—Г. В.),— пишет он,— но их
содержание, их основная мысль, оживляющий их дух
диаметрально противоположны. Вот почему Мараты, Фукье-Тенвили,
Раули Риго возбуждают к себе наше сочувствие и
симпатию— сочувствие, симпатии всех честных людей, всех
искренних революционеров. А прокуроры и палачи божьих
помазанников, конституционных монархов и буржуазных республик
вызывают в нас чувство ненависти и презрения. Никто не
решится поставить их на одну доску, а между тем внешняя
форма их деятельности, та легальная машина, которую одни
направляли во вред, другие на пользу общества, были
совершенно одинаковы» 25.
Итак, теперь нам понятно, какими средствами бравое
меньшинство Ткачева намеревалось «сдвигать народную жизнь с
ее вековых устоев», каким путем собиралось оно «вносить
новые прогрессивно-коммунистические элементы в условия
народной жизни».
Перейдем к Лаврову.
*
Лавристы, так же как и якобинцы (ткачевцы), признают,
что народ к революции и социализму не готов. Но в отличие
от якобинцев, они считают, что готовность народа — это дело
времени: он должен «созреть», он обязательно «созреет».
В противном случае, по их мнению, о социальной революции
и говорить не стоит. «Перестройка русского общества,—писал
Лавров,— должна быть совершена не столько с целью
народного блага, не только для народа, но и посредством народа» 26.
Но как это возможно? Как должно осуществиться это
«посредством народа»?
Если бы такой вопрос встал перед материалистом, то он,
разумеется, обратился бы к анализу общественного бытия
России и в развитии его внутренних противоречий, в росте
классового антагонизма искал бы данные, свидетельствующие
о том, что именно силой объективных исторических законов
народ неудержимо подвигается к революции — сплачиваются
его ряды, зреет его самосознание.
25 «Набат», 1877, № 1—2, стр. 17.
26 «Вперед». Непериод, обозр., т. I. Лондон, 1873, стр. 12
137
Не так смотрят на историю идеалисты, и Лавров в том
числе. Не в развитии общественных противоречий видят лав-
ристы движущую силу истории. Сознание, мысль, мнения
правят миром — вот их точка зрения. И раз мысль доработалась
до открытия принципа наилучшего устройства общества, и раз
в осуществлении этого принципа наибольшую
заинтересованность могут иметь эксплуатируемые, т. е. народ (ввиду
предполагающегося улучшения, в первую очередь, его жизни), то,
следовательно, задача теперь заключается лишь в том, чтобы
растолковать народу, нецивилизованному большинству, что
такое устройство общества им выгодно и что ради него стоит
выйти на борьбу с власть предержащими. Цивилизованное
меньшинство должно «уяснить народу его истинные (!)
потребности, наилучшие средства удовлетворения этих
потребностей и ту силу, которая лежит в народе, но им не
сознана» 27.
Народ, таким образом, для лавристов — инертная масса, в
которую лишь цивилизованное меньшинство может вдохнуть
«душу живу». Поэтому не стоит придавать слишком
глубокого смысла словам «посредством народа», которые будто бы
сближают лавризм с научным социализмом. «Посредством
народа» у Лаврова имеет именно тот сугубо идеалистический
смысл, что мысль может воплотиться в действительность лишь
посредством народа, лишь через народ (активное сознание
преобразует пассивную материю). Мысль,
критически-мыслящие личности — творцы истории, народ — лишь средство,
лишь материал. Все это — чистейшей воды идеализм или,
точнее, бауэризм. Правда, нельзя не отметить, что Лавров,
будучи эклектиком — в данном случае, к счастью — подчас
«забывает» об этой субъективно-идеалистической подоплеке
формулы «посредством народа» и в полемике с якобинцами
незаметно для себя — ив противоречии со своими
субъективно-идеалистическими взглядами — высказывает немало верных
(близких к материализму) суждений, когда ему приходится
защищать это свое «посредством народа». Нельзя не отметить
благотворное влияние этой формулы и на действенное
народничество, на народников-практиков: не все схватывали, не
все имели время и возможность схватить тонкости
метафизических зигзагов мысли Лаврова, а броская, четкая формула
«посредством народа», почти совпадающая с лозунгом
Интернационала, запоминалась, западала в душу. Но все это
происходило, так сказать, по независящим от Лаврова
обстоятельствам.
27 «Вперед». Непериод, обозр., т. I. Лондон. 1873. стр 13.
138
На вопрос же, каким образом цивилизованное
меньшинство может внести социалистическую бациллу в темную массу
нецивилизованного большинства, Лавров отвечает: путем
пропаганды.
Т. е., если Ткачев намеревался вносить эту бациллу
средствам» насилия, то Лавров —пропагандой: один битьем,
другой лаской. Но тот и другой, по сути, стоят на одной и той
же кастовой точке зрения избранного, цивилизованного
меньшинства, толкающего к «социализму» невежественную толпу.
Они были ближе друг к другу, чем им казалось.
* *
*
Третья разновидность народнических теорий—бакунизм
(или анархизм).
Бакунисты, в отличие от якобинцев и лавристов,
утверждали, что народ русский к революции «всегда готов» (как
Онегин к дуэли, иронизировал по этому поводу Плеханов).
Правда, на пути реализации революционной активности
народа стоит одно препятствие — «замкнутость общин,
уединение и разъединение крестьянских местных миров»23.
Задача по преодолению этого препятствия возлагается
бакунистами на революционное меньшинство, которое должно
«связать лучших крестьян всех деревень, волостей и по
возможности областей... между собою, и там, где оно возможно,
провести такую же живую связь между фабричными
работниками и крестьянством», убедить их в том, что «в народе живет
несокрушимая сила», которая «могуча только когда она
собрана и действует одновременно... и что до сих пор она не
была собрана», связать и организовать «села, волости, облас^
ти по одному общему плану и с единою целью всенародного
освобождения»29.
Материалист знает, что главную часть этой работы по
сплочению трудящихся различных цехов, фабрик, районов и
областей страны проделывает экономика — развитие
производства (а именно капиталистического производства).
Бакунин намеревается выполнить эту задачу чисто политически,
путем организаторской деятельности революционного
меньшинства.
28 М. А. Бакунин. Государственность и анархия. Цюрих, 1873.
Прибавление А, стр. 20.
29 Там же, стр. 20, 21.
139
«...Работа, достойная титанов!»30 — продолжает
иронизировать Плеханов.
Оказывается, и начавший за здравие народа бакунизм
кончает заупокойным причитанием о неспособности этого
народа сделать что-либо, пока цивилизованное меньшинство не
сплотит его, пока оно его не подтолкнет в нужном
направлении.
Знакомая нам песня о мыслящем, всемогущем
меньшинстве и темном, неподвижном большинстве. И такую
программу, как верно замечает Плеханов, предлагает
революционному меньшинству человек, который писал, что «нужно быть
олухом царя небесного или неизлечимым доктринером для
того, чтобы вообразить себе, что можно что-нибудь дать
народу, подарить ему какое бы то ни было материальное благо
или новое умственное или нравственное содержание, новую
истину и произвольно дать его жизни новое направление или,
как утверждал... покойный Чаадаев, писать на нем, как на
белом листе, что угодно»31. «...Можно ли вообразить более
вопиющее противоречие между теоретическими положениями
«программы» и намеченными ею практическими
задачами?»32 — спрашивает Плеханов.
Противоречие это любопытно, как свидетельство острой
борьбы материалистических и идеалистических тенденций
внутри одного учения. (Материалистические тенденции
заметны и у Лаврова, но у Бакунина они получают большее
место и большее развитие).
* *
*
Ну, а теперь, закончив краткое изложение трех систем
народнического мировоззрения, мы можем сделать вывод, что
при всех их различиях они сходятся в главном, что делает их
видами одного рода, что позволяет их все характеризовать,
как народничество. Об этом прекрасно сказал Плеханов:
«...Общей им всем чертой была вера в возможность
могущественного, решающего влияния нашей революционной
интеллигенции на народ. Интеллигенция играла в наших
(народнических. — Г. В.) революционных расчетах роль
благодетельного провидения русского народа, провидения, от воли
которого зависит повернуть историческое колесо в ту или
иную сторону. Как бы кто из революционеров ни объяснял
30 Г. В. Плеханов. Избр. философ, произв., т. I, стр. 163.
31 М. А. Б а к у н и н. Государственность и анархия. Прибавл. А., стр. 9.
32 Г. В. П л е х а н о в. Избр. философ, произв., т. I, стр. 163.
140
современное порабощение русского народа — недостатком
ли в нем понимания, отсутствием ли сплоченности и
революционной энергии или, наконец, полною неспособностью его
к политической инициативе, — каждый думал, однако, что
вмешательство интеллигенции устранит указываемую им
причину народного порабощения... Эта самоуверенность
интеллигенции уживалась рядом с самой беззаветной идеализацией
народа и с убеждением — по крайней мере, большинства
наших революционеров — в том, что «освобождение
трудящихся должно быть делом самих трудящихся». Предполагалось,
что формула эта получит совершенно правильное применение,
раз только наша интеллигенция примет народ за объект
своего революционного воздействия. О том, что это основное
положение устава Международного Товарищества Рабочих
имеет другой, так сказать, философско-исторический смысл,
что освобождение данного класса может быть его
собственным делом лишь в том случае, когда в нем самом является
самостоятельное движение во имя своей эмансипации, — обо
всем этом наша интеллигенция частью не задумывалась
вовсе, а частью имела довольно странное представление»33.
Но, разумеется, ограничиться такой оценкой нельзя.
Диалектика требует выявления как тождества, так и
различия (внутри тождества).
Внутри общего для народничества идеалистического
представления о роли личности и масс в истории, внутри этого
общего идеалистического мировоззрения, так верно
очерченного Плехановым, шла яростная внутренняя борьба, которая
методично расшатывала это мировоззрение в целом. Борьба
эта шла, как мы уже видели, и внутри одного вида (у лаври-
стов и бакунистов) — как внутреннее логическое
противоречие этого вида, и между видами одного рода — как
внутреннее противоречие рода. Мы покажем в дальнейшем
необходимость и неизбежность появления такого «рода», как
народническое миросозерцание, необходимость и неизбежность
«видов» этого «рода» (ткачевизма и лавризма, бакунизма),
их борьбы между собой, неизбежность внутренних
противоречий каждого из видов, — борьбы, которая была не последней
причиной гибели этого рода и появления мировоззрения
нового рода (научного социализма), который удержал наиболее
прогрессивные элементы прошлого, прошлой борьбы
(предварительно качественно переработав и иначе преломив их).
Мы это постараемся показать, но прежде, — о содержании
самой этой борьбы.
Г. В. Плеханов. Избр. философ, произв., т. I, стр. 154—155.
141
*
Противники якобинцев выдвинули три существенных
возражения против их (якобинцев) программы.
1) Главным доводом бакунистов против якобинцев было
утверждение, что если даже якобинцы осуществят
государственный переворот, то социализма тем не менее они
построить не смогут, ибо власть портит человека, и на смену
одной формы эксплуатации придет другая — эксплуатация
народа захватившим власть меньшинством. «История
показывает нам, — говорят бакунисты, — что каждый раз, когда
интеллигентное меньшинство захватывало власть в свои руки,
оно всегда угнетало народ, оно надевало на него новые
оковы взамен старых, оно систематически убивало в нем
всякую инициативу; под тяжким гнетом его мнимых
благодеяний масса еще более тупела, еще более теряла способность к
самоуправлению». И таким образом, путь, по которому хотят
идти якобинцы, — ложный путь, «он неизбежным образом
должен привести не к освобождению масс из-под ярма
власти, а к новому их порабощению»34. И что-де в случае
анархической революции такого не произойдет, потому что
анархисты против всякой власти, всякой централизации и
всякого насилия. Но оставим пока в стороне анархический идеал
безвластия, оставим в стороне противоречие между теорией
и практикой бакунистов, организации которых — Альянс или
Народная расправа — были организованы как раз по
принципу строгого централизма, вплоть до единовластия,
деспотизма. И эти «противники насилия» не гнушались в борьбе
со своими идейными противниками прибегать даже к
«методу физических действий».
Оставим пока это в стороне и остановимся на их
возражении якобинцам. В нем есть изрядная доля истины, а
именно та, что в условиях России того времени якобинское
революционное меньшинство, оказавшись у власти, превратилось
бы в эксплуататорское меньшинство. Однако обосновать это
верное положение анархисты не смогли; более того, пытаясь
обосновать, они наговорили столько вздору, что верная
мысль почти затерялась в нем. Вот как это произошло. В
ответ на упрек анархистов в неизбежном перерождении
меньшинства под воздействием власти, якобинцы с пафосом
восклицали, что это поклеп, что они будут умными, добрыми
и хорошими и все будут делать в интересах народа: «Разве
это меньшинство есть меньшинство буржуазное?.. — горячи-
34 «Набат», 1875, № 1, стр. 15.
142
лись они. — Разве его интересы враждебны интересам
народа ?.. Чего же вы (т. е. анархисты. — Г. В.) боитесь?
Какое право имеете вы думать, что это меньшинство —
меньшинство отчасти по своему общественному положению,
отчасти по своим идеям, беззаветно преданное народным инте~
ресам, — что оно, захватив власть в свои руки, внезапно
превратится в народного тирана»35.
В ответ на это анархистам надо было бы обратиться к
анализу экономической действительности России тех лет и
показать, что в условиях мелкокрестьянской страны, где
господствует мелкий производитель и где усиливаются
буржуазные тенденции, в таких условиях люди, составляющие
правящее якобинское меньшинство, либо должны поддерживат!-
буржуазные экономические тенденции (имеющие силу есте
ственного объективного закона) и тем самым «переродиться»,
превратиться в эксплуататоров народа, либо стушеваться,
уйти в отставку, уступив место другому меньшинству, более
точно отражающему требования эпохи; и отсюда вывод, что
как бы там ни было, в результате якобинского переворота у
власти, в конце концов, должно неизбежно оказаться
меньшинство, враждебное народу.
В подтверждение своих абстрактно-теоретических
рассуждений анархисты могли бы сослаться и на исторические
примеры, хорошо известные якобинцам (но плохо понятые ими).
В частности, они могли бы посоветовать русским якобинцам
заглянуть в зеркало французской революции конца XVIII в.,
в котором наши якобинцы увидели бы себя в образе
французских якобинцев.
Те тоже хотели облагодетельствовать народ сверху, те
тоже намеревались насилием решить все вопросы —
экономические, политические, религиозные, и тоже мало считались с
экономическими требованиями времени. А между тем их
политический идеал вовсе не отвечал этим требованиям. И
хотя лично Робеспьер и многие его друзья были честными
людьми (и если ошибались, то вовсе не по личной корысти), но
все же честности и благого желания оказалось маловато для
перекройки действительности «по собственному усмотрению».
Экономическое развитие делало свое дело: бурно росли
производительные силы, освобожденные от феодальных пут,
углублялось расслоение народа, к жизни (и власти)
поднималась молодая буржуазия, обогатившаяся и твердо вставшая
на ноги именно в годы революции. И эта буржуазия успешно
просачивалась в ряды властвующего меньшинства и, в
отличие от политических идеалистов Робеспьера и К0 рассмат-
35 «Набат», 1876, № 2-3, стр. 7—8.
ИЗ-
ривала свои государственные местечки в качестве источника
дохода. Стоящие на почве экономических интересов, они с
оптимизмом смотрели в будущее. И пока политический
идеализм правительства Робеспьера, его речи о равенстве,
братстве, свободе и т. д. имели успех, эти люди охотно вторили
им. Революционная фразеология была для них удобной па
тому времени ширмой, за которой шла их действительная
жизнь. И постепенно, по мере их усиления, революционная
фразеология превращалась в демагогию, а серп
революционного правосудия начинал все с большей скоростью косить
головы людей, отстаивавших народные интересы. Скосил он
и головы Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона, которые так и не
поняли, где же они ошиблись. А кто же поднимался в то
время к высшим правительственным местам, кому переходила
эстафета революции? — «Тальену, Баррасу — проконсулам
в Бордо и Тулоне, мздоимцам и ворам, искоренявшим
контрреволюцию потоками крови, превращаемой ими в золото»,
«вероломному Фуше — будущему министру полиции
Наполеона», «Фрерону — казнокраду и убийце, будущему
главарю банд «золотой молодежи», Мерлену из Тионвилля,
мечтавшему о княжеском особняке», «не раскрывшему клюва,
пока не придет его час, старому ворону Сиейесу». «Благо
отечества», «человечность», «добродетель» — это были
пустые слова для всех этих... набивших себе карманы за годы
революции и торопившихся насладиться так легко
доставшимся им добром»36.
И если бы нетерпеливые русские якобинцы перебили на
этом месте возражения анархистов, заметив, что пример с
Робеспьером к делу не относится, так как он (Робеспьер) не
отменил частную собственность, на которой и произрастала
буржуазия, а они (русские якобинцы) отменят, провозгласят
общественную собственность и введут ее в привычку
методами государственного насилия, если бы якобинцы так сказали,
то анархисты могли бы на это сказать следующее.
Особенной разницы, почтеннейшие, тут нет никакой. Что
такое общественная собственность? — Это собственность,
принадлежащая всему населению страны. А это, в свою
очередь, что значит? — А то, что все взрослые граждане
участвуют в управлении этой собственностью и в распределении
доходов, получаемых от нее. А что нужно для этого? А для
этого нужна демократическая организация всего народа.
А у вас, г. г. якобинцы? Кто управляет собственностью? —
Пришедшее к власти цивилизованное меньшинство. Так?
36 Максимилиан Робеспьер. Избр. произв. в трех томах, т. I. М.,
«Наука», 1965, стр. 71.
144
À кто распределяет доход? Конечно же, пришедшее к власти
цивилизованное меньшинство. Таким образом, получается,
что фактически собственность страны принадлежит вашему,
якобинцы, меньшинству; а народ — ваш работник.
Все это могли бы сказать анархисты в ответ на
запальчивый якобинский вопрос, какое право имеют они думать,
что меньшинство, захватившее власть, «превратится в
народного тирана». Могли бы... Но тогда они перестали бы быть
анархистами. А в действительности в ответ на якобинское
«какое право...?» они наивно ответили: «всякая власть
портит человека» (в качестве примеров нередко фигурировали
Цезарь и Наполеон). Высказав такую ребяческую «истину»,
анархисты лишили себя возможности дальнейшего
наступления на якобинцев. Зато якобинцы с готовностью ( и с полной,
добавим, справедливостью), в свою очередь, восстают против
этого утверждения анархистов. И вопрос о тирании
меньшинства все больше и больше затемняется и запутывается.
Так, якобинцы говорят, что власть нисколько не влияет на
человека. Кто был хороший и добрый до революции, тот и
после победы останется добрым и хорошим. Что касается
Цезаря и Наполеона, то власть в их «порче» неповинна, они
и до победы были-де «порченными» людьми.
И спор начинает терять уже всякий смысл.
Таким образом, перед нами две метафизические
крайности: одни (анархисты) говорят, что всякая власть портит
человека, другие (якобинцы) утверждают, что власть тут
не причем и что характер власти зависит от характера
человека.
Но эти крайности сходятся в одном: та и другая
игнорируют экономическое бытие людей и его влияние на характер
власти.
Верное решение вопроса дано материализмом: власть
«портит» человека (т. е. делает его выразителем
антинародных стремлений) лишь в том случае, если эта власть в целом
становится антинародной, если под воздействием
экономических причин она отрывается от народа. Экономика
разделяет людей, а не ее политическое следствие — власть.
Но эта истина еще ускользала от народников, хотя и
сверкала некоторыми своими гранями в схватке
народнических крайностей.
2. Не менее любопытны были возражения лавристов
против якобинской программы.
«Вам ничего не удастся сделать, потому что... вы
перессоритесь... — говорили они якобинцам. — Те, кто боролись
вместе против общего врага, будут неизбежно бороться меж-
145
ду собою за личное преобладание». «На другой день
социалистической диктатуры начнется спор за диктатуру, а раз он
начнется — социальная революция отодвинется на второй
план»37.
Правы лавристы! Ведь поссорятся, обязательно
поссорятся! Без драки за местечки у, так сказать, кормила власти не
обойдется. Во-первых, сами эти представители меньшинства
выходят из ада прошлого далеко не святыми, а во-вторых,
разведут их различные экономические интересы — ибо
борьба экономических интересов в мелкобуржуазной России
неизбежна; и экономическая конкуренция неизбежно найдет свое
отражение и в конкуренции политической. (Нельзя
сбрасывать со счетов и того факта, что в условиях, когда
правительство неподконтрольно народу, немалое влияние на форму
власти могут оказывать черты характера стоящих на верху
общественной лестницы). Результатом таких ссор может
быть только то, что действительно задачи революции
отодвинутся на второй план.
И ничего в этом случае не решают софистические
рассуждения на тему о разумном эгоизме, — что-де «каждый
из них (стоящих у власти. — Г. В.) будет видеть свою
личную выгоду в том, чтобы удержать власть как можно долее
в руках своей партии... — чтобы сделать эту власть как
можно тверже и могущественней. Ведь от этого будет зависеть их
личная безопасность и т. д.»38. Не решают потому, что в
этом случае мы будем иметь дело с кастовым интересом
(правительственного меньшинства), противостоящим
интересам всех других общественных групп (корпораций), и если
победит интерес правящего меньшинства (чиновничьей
корпорации) над интересами других групп (а такой исход в
некоторые периоды не есть нечто невозможное), мы получим как
раз тесно сплоченное сословие (чиновников), противостоящее
народу — в видах личной выгоды.
Так что в любом случае у власти окажется антинародное
меньшинство.
3. И,, наконец, последнее, — и, может быть, самое
существенное — взгляд якобинцев на государство и роль
государственного насилия в строительстве нового общества.
Может быть, иной читатель, читая наше изложение
взглядов Ткачева на роль государственного насилия, искренне
недоумевал, почему это мы с таким неодобрением относились
к этим взглядам. Ведь Ткачев, вроде, был прав: после рево-
37 «Набат», 1876, № 6, стр. 5.
38 Там же.
146
люции революционеры должны взять власть в свои руки,
причем власть эта должна быть твердая и служить народу.
Разве это не верно? Разве не верно, что государство — это
машина для подавления и что поэтому важно лишь, против
кого направлена эта машина? И раз якобинцы хотят
направить ее против эксплуататоров и в защиту трудящихся, то
что же здесь неверного, еретического с точки зрения
материализма и научного социализма?
Сейчас мы ответим на этот вопрос. Но прежде, вот что
рассказывает почти по этому поводу один писатель в одной
книге.
Жила-была одна такая власть, в виде Марьи Алексеевны.
И жил под ее началом опекаемый ею «народ», в виде ее
дочери Веры Павловны, или просто Верочки. И служила эта
власть (Марья Алексеевна) верой и правдой счастью своего
народа (то бишь Верочке). Жениха хорошего ей
заприметила, и собой недурного и с деньжонками — завидная, короче
говоря, партия. Одна беда только, не нравится этот жених
дочери: не те у нее запросы и потребности. Но разве может
молоденькая неопытная девушка знать свои истинные
потребности? Их знает только многоопытная Марья Алексеевна,
которая пробует все средства, чтобы уломать строптивую.
И бранится, и угрозы в ход пускает, и кулаки даже.
«С ума ты сошла, дура? Смей повторить, мерзавка.
Ослушница, — закричала Марья Алексеевна, поднимаясь
с кулаками на дочь» — и все это для счастья, все для
осуществления истинных потребностей своей дочери. «Я из
любви к тебе бранюсь, тебе же добра хочу», — говорит Марья
Алексеевна. — «Ты думаешь, я злая. Да, я злая, только
нельзя не быть злой...».
Все знают, как кончилась эта история, описанная
Чернышевским в «Что делать?». Девушка вначале прогнала
«жениха», а потом тайком от матери вышла замуж и тайком
ушла из дома своих благодетелей.
Избави бог от благодетелей!
Но оставим литературные аналогии, ныне все и без того
прекрасно знают, что там, где большинство народа не имеет
влияния на власть, там все разговоры о благе народа, о
заботе о народе — пустая идеологическая болтовня.
И марксизм, подлинный марксизм, говоря о социализме,
никогда не разъединял даже в понятии власть и народ.
Не «власть и народ», а народная власть. Не власть,
благодетельствующая народ, а властвующий (правящий) народ
(пролетариат) — вот лозунги марксизма.
Марксизм — за твердую власть после революции, за сох-
147
ранение государства, но такого государства, которое по
существу есть уже не государство. В этом соль!
Что же это за «государство — не-государство»?
Как и всякое государство, оно — тоже орудие насилия,
но насилия большинства над меньшинством, пролетарского,
пришедшего к власти большинства над эксплуататорским
меньшинством. А «насилие во имя интересов и прав
большинства населения отличается иным характером: оно
попирает «права» эксплуататоров, буржуазии, оно неосуществимо
без демократической организации войска и «тыла»39.
В этом вся суть марксизма в данном вопросе.
Демократическая организация народа — вот основа
«государства — не-государства». Без нее государство может
быть только орудием в руках тщеславного меньшинства —
какие бы народолюбивые слова не вылетали из
правительственных канцелярий. К этой мысли часто возвращался
Ленин. «Гражданская война, — писал он, — насильственно
экспроприирует, сразу и прежде всего, банки, фабрики,
железные дороги, крупные сельскохозяйственные имения и т. д.
Но именно для того, чтобы экспроприировать все это (т. е.
действительно, а не на бумаге, не на словах
экспроприировать, то есть действительно, а не на бумаге, не на словах
передать во владение народу. — Г. В.), надо ввести и выбор
всех чиновников народом и выбор офицеров народом и
полное слияние армии, ведущей войну против буржуазии, с
массой населения, и полную демократию в деле распоряжения
съестными припасами, производства и распределения их
и т. д. Целью гражданской войны является завоевание
банков, фабрик, заводов и пр., уничтожение всякой
возможности сопротивления буржуазии, истребление ее войска. Но эта
цель недостижима ни с чисто военной, ни с экономичской, ни
с политической стороны без одновременного, развивающегося
в ходе такой войны, введения и распространения демократии
среди нашего войска и нашего «тыла».
И дальше: «М ы в своей гражданской войне против
буржуазии будем соединять и сливать народы не силой рубля,
не силой дубья, не насилием, а добровольным согласием,
солидарностью трудящихся против эксплуататоров»40.
«Без демократической организации отношения между
нациями на деле, ... гражданская война рабочих и трудящихся
масс всех наций против бружуазии невозможна (т. е.
невозможна в результате такой войны победа действительного со-
39 В. И. Л е н и и. Поли. собр. соч., т. 30, стр. 73.
40 Там же, стр. 73—74.
148
циализма. — Г. Б.)»41. И в заключении: «Иного пути нет.
Иной «выход» не есть выход»42 (т. е. иной социализм не есть
социализм).
Таким «иным выходом», который «не есть выход», таким
социализмом, который не есть социализм, и была как раз
программа русских якобинцев. «Казарменным
коммунизмом» — окрестили его Маркс и Энгельс.
* *
*
Перейдем теперь к возражениям, которые выставлялись
против лавристов.
Как мы знаем, лавристы, в отличие от якобинцев,
ставили целью весь народ поднять на борьбу на революцию.
Поэтому они за революционную организацию, более
широкую, чем кучка заговорщиков из интеллигенции. В их
представлении это должна быть организация рабочих союзов,
сельских общин, фабричных ремесленных артелей, т. е.
организация, приближающаяся по своему характеру к народной
массовой партии.
И то, что через два десятка лет будет реальной (и
исполнимой) задачей русской социал-демократии (т. е. создание
партии трудящихся, партии рабочего класса), то в условиях
70-х годов, в условиях отсутствия класса пролетариев, в
условиях мелкобуржуазной стихии, в условиях, когда
крестьянство, «народ» распадается на антагонистические
группы, — в таких условиях создание сплоченной, широкой
народной организации есть утопия чистейшей воды.
И «реалист» Ткачев высказывает лавристам в связи с
этим немало справедливых возражений.
Община, на которую уповают лавристы, говорится в № 5
«Набата» за 1876 г., отнюдь не может служить основой для
создания массовой социалистической организации. Община
вовсе не «рождает дух солидарности», напротив, она
«обособляет местные интересы», общины «не чувствуют ни
малейшей потребности вступать в какие-нибудь близкие
сношения с соседними общинами». Между общинами развиваются
скорее «дух соперничества и конкуренции», чем дух
«солидарности и братского единства»43.
И дальше — очень точно и очень верно: когда община
«задыхалась и изнывала под гнетом крепостного права, тог-
41 В. И. Л е н н н. Поли. собр. соч., т. 30, стр. 74.
42 Там же.
43 «Набат», 1876, № 5, стр. 4.
149
да еще возможно было в виду общего гнета объединение
сельских рабочих в одну организацию. Но теперь эта чистая
утопия»44. Здесь во всяком случае есть ощущение того, что
прежде единое крестьянство расслаивается. Но вывод,
который из этого делают якобинцы (раз массовая партия
невозможна, да здравствует узкий, радикальный заговор), этот
вывод находится за пределами социалистических учений.
Таким образом, и в данном случае мы имеем любопытное
сочетание: реализм якобинцев — не социализм, а социализм
лавристов — не реалистичен, утопия (истина одними
гранями соприкасается с учением якобинцев, когда речь идет об
оценке текущего момента, и другими — с учением лавристов,
когда речь идет о формах социалистического движения).
И если заслугой лавристов было выявление не
социалистического содержания якобинских форм борьбы, то заслугой
якобинцев было подчеркивание бессодержательности
(нереалистичности, утопичности, абстрактности)
пропагандируемых лавристами форм социалистической деятельности.
Вот как, например, якобинцы критикуют организационный
план лавристов. Лавристы, выдвигая идею массовой
организации, вместе с тем ясно понимают, что в условиях царского
деспотизма таковая организация должна быть тайной и,
следовательно, без тайного заговора не обойтись. Но
подготовка этого заговора сочетается у Лаврова с требованием
длительной пропаганды в народе.
Но тут-то Ткачев и указывает Лаврову на противоречие.
С одной стороны, тайная организация и тайный заговор,
которые не могут рассчитывать на долговечность (ибо тайное
быстро становится явным; подготовка заговора не может
быть рассчитана на годы; дни и месяцы — вот сроки
успешного заговора). А с другой стороны, социальная пропаганда
в народе — до тех пор, когда «значительная часть
существующих артелей и общин вполне усвоит себе принципы и
задачи социализма»45, что требует долгих и долгих лет. «Таким
образом, — делает вывод «Набат», — та деятельность,
которую автор рекомендует революционерам накануне
революции, есть деятельность не только непрактическая, но просто
даже невозможная»46. Верно!
Столь же мало реалистичен план деятельности лавристов
и «на другой день после революции». Так, Лавров,
признавая необходимость взятия революционерами власти и
пытаясь в то же время отгородиться от палочного социализма
44 «Набат», 1876, № 5, стр. 4.
45 «Набат», 1876, № 11—12, стр. 24.
46 Там же.
150
якобинцев, говорит, что революционеры не должны слишком
уж часто использовать эту власть, что власть эта должна
быть как можно мягче; и вообще не удерживать свою
диктатуру на минуту доле, чем это необходимо. Над этим
справедливо иронизирует Ткачев: «Вы требуете, чтобы...
революционное меньшинство захватило и удержало в своих руках
экономическую и духовную диктатуру и, в то же время, вы
отнимаете у него самые элементарные, самые существенные
атрибуты власти (речь идет, в частности, об органах насилия
и т. п.)»47.
И убийственный вывод: «Накануне революции он
(Лавров.— Г. В.) обрекает его (революционное меньшинство.—
Г. В.) на невозможную деятельность,— на другой день он
ставит его в невозможное положение...» 48.
Это истинно. Не будем забывать только, что это все же
лишь часть истины, ибо другая ее часть заключается в том,
что лавристские принципы массовой революционной
организации, лавристское отношение к государству все же ближе (по
форме) к социализму, чем учение Ткачева. И эта вторая
сторона лавризма сыграла роль в критике казарменного
коммунизма, в подготовке почвы в России для мировоззрения
научного социализма.
И последняя проблема: наука и революция. Проблема эта
имеет много сторон. В полемике 70-х годов она
поворачивалась то той, то другой гранью. В ней было много наивного,
объяснявшегося слабым развитием общественных отношений
в России: так, всерьез спорили — нужны революционерам
знания или не нужны (бакунисты утверждали, что не нужны,
так как они-де создают барьер между народом и
интеллигенцией, мешают их взаимопониманию и т. д.).
Но нередко проблема эта поворачивалась и весьма
существенной (и интересной для нас) стороной: «вносить» или «не
вносить» — вносить социалистическое сознание в массы или
не вносить, в уверенности, что массы и без того социалистич-
ны.
Лавров, как мы уже знаем, был за внесение сознания.
Правда, при этом он не слишком интересовался, насколько
подготовлен народ к восприятию социалистических идей,—
47 «Набат», 1877, № 1—2, стр. 20.
48 Там же.
151
субъективно идеалистическое мировоззрение давало себя
знать! Но, тем не менее, он все же считал, что социализм
невозможен без науки и что трудящиеся, не усвоившие
социалистические идеалы, не в состоянии построить социалистическое
общество.
Бакунин горячо оспаривал это. «Чернорабочий человек»,—
говорил он, — «социалист именно по своему положению»49.
«Существенная разница между образованным
социалистом... и бессознательным социалистом из чернорабочего люда,
состоит именно в том, что первый, желая быть социалистом,
никогда не может сделаться им вполне, в то время, как
последний, будучи вполне социалистом, не подозревает о том и не
знает, что есть социальная наука на свете... Один знает, но не
есть (т. е. не есть социалист.— Г. В.), другой есть, но не
знает. Что лучше? По моему быть лучше. Из отвлеченной
мысли, не сопровождаемой жизнью и не толкаемой
жизненной необходимостью, переход в жизнь, можно сказать,
невозможен. Возможность же перехода бытия к мысли
доказывается всею историею. Она доказывается именно историей
чернорабочего люда» 50.
Вообще говоря, конечно лучше быть социалистом, чем не
быть им. Но можно ли быть социалистом, не будучи знакомым
хотя бы с общими выводами теории социализма? И
социалистический ли инстинкт у русского мужика? Вот в чем вопрос.
Если бы Бакунин действительно знал русского мужика,
если бы у него был опыт общения с ним, то такой нелепицы
о «социалистическом инстинкте» он бы не сказал. Но такого
опыта в те годы, увы, не было — и не только у Бакунина, но
и у основной массы русских революционеров. Поэтому
теоретический спор, коммунист ли по инстинкту мужик, никаких
плодов дать не мог. Тогда это был вопрос веры, а не точного,
опытного знания. Грандиозные «опыты» народничества были
впереди. А вместе с опытом вопрос об инстинктах мужика
решился легко и просто, и совсем не в бакунинском плане.
Сложнее обстояло дело с другим вопросом: может ли
«чернорабочий человек» быть (стать) социалистом, не будучи
знакомым хотя бы с общими выводами социалистической
теории. Или в более общей форме: может ли стихийная
классовая борьба сама по себе (без помощи научного знания)
перерасти в борьбу социалистическую.
49 М. Бакунин. Наука и насущное революционное дело. Женева,
1870, стр. 13.
50 Там же.
152
Народники не ответили на этот вопрос, но то, что они его
поставили — это их большая историческая заслуга. А не
решили потому, что они и не могли его решить,— ни с бакуни-
стской, ни с лавристской, ни с любой другой народнической
точки зрения. По-бакунински эта проблема нерешаема потому,
что мужик — вовсе не социалист по инстинкту (т. е. неверно
исходное данное), а по-лавристски — нерешаема потому, что
мужик совершенно не готов (и не может быть готов) к
восприятию и осуществлению социалистической программы.
Только с появлением пролетариата эта проблема получила
твердое и реальное основание, ибо пролетариат —
единственная общественная сила, способная (и заинтересованная)
пересоздать общество на социалистических началах; и,
следовательно, вопрос — вносить или не вносить социалистическое
сознание в пролетарские массы — приобретает в этом случае
реальный, практический смысл.
* *
*
Особенность большинства из рассмотренных теоретических
построений народников состоит в том, что эти построения
начисто лишены реального социалистического содержания.
Однако они имеют значение как разработка форм
революционно-социалистической теории или, говоря иначе, как
разработка социалистической теории с формальной стороны. Все
эти проблемы, как-то: вносить или не вносить
социалистическое сознание в революционный класс, брать или не брать
государственную власть после восстания, заговор
меньшинства или народная революция,— все эти и другие проблемы
встанут и перед подлинно социалистическим теоретиком (хотя
наполнение их реальным материалом и будет существенно
иным).
И хотя новое (пролетарское) содержание серьезно
переработает все (даже лучшие) достижения народничества в
области теоретического формотворчества, тем не менее опыт
формально-социалистических исследований народников, их
взаимно и постоянно опровергаемые «за» и «против»
относительно того или другого положения — все это будет
небесполезно для представителя подлинно социалистического
учения.
В этом смысле теоретическое народничество и явилось
одним из теоретических истоков русской социал-демократии.
Не надо, конечно, преувеличивать значение этого истока, но,
несомненно, что своей верностью марксизму, своей
последовательной ортодоксальностью группа «Освобождение труда» от-
153
части обязана и теоретическому народничеству, теоретики
которого так хорошо обнаружили слабости друг друга, и то,
что в иных странах бывало новостью, для России было давно
прошедшим и пережитым.
Теоретически народничество пусть в абстрактном виде, но
высказало немало истин, сходных с положениями научного
социализма. И первым социал-демократам легко было
усваивать их, встречаясь с этими знакомыми незнакомцами.
Давайте припомним эти истины, о которых мы подробно
писали в этой главе. Припомним то ценное, что было в
доктринах народничества и что можно было удержать.
1. Крестьянство к социализму (и революции) не готово
(якобинцы, лавристы).
2. Революция (социалистическая) может осуществиться
только посредством самого народа (бакунисты, лавристы).
3. Для победы революции необходимо создать
революционную организацию (якобинцы, лавристы).
4. Признание только революционного пути, никаких
иллюзий относительно реформы сверху (все — бакунисты,
лавристы, якобинцы).
5. После революции восставшие должны обладать
государственной властью, чтобы сломить врагов и упрочить
завоевания революции (лавристы, якобинцы).
6. Это должна быть особого рода государственная
власть — отмирающее государство (лавристы).
7. Социализм — дело массового творчества (лавристы,
бакунисты) .
8. Необходимость внесения социалистического сознания
в борьбу угнетенных (лавристы).
9. Критика общинных иллюзий, община не может стать
базисом русского социализма (якобинцы).
10. Необходимость создания широкой массовой
организации (лавристы).
11. Признание «политики» (якобинцы).
Все эти положения вошли в теоретический багаж русской
социал-демократии. (Хотя, повторим, не теории
народничества породили марксизм. Чисто теоретического пути от
народничества к марксизму нет... Добавим только, что и восприятие
этих положений было бы совершенно невозможно без их
практического испытания). Плеханов не льстил Лаврову,
когда писал ему, что он считает его одним из своих учителей.
Плеханов не обманывался, когда говорил о теории Бакунина,
как предшествующей историческому материализму. Плеханов
не заблуждался, когда высоко оценивал политическую борьбу
«Народной воли».
154
2. ПРАКТИКА РЕВОЛЮЦИОННОГО
НАРОДНИЧЕСТВА
Итак, мы разобрали теории народничества. Разрешить их
теоретический спор могла только практика. Только практика
могла выявить истинное и отсеять ложное. Только практика
могла вынести им исторический приговор. Что же показала
практика народнического движения?
Между учениями Лаврова, Бакунина, Ткачева и
практикой не было отношения причины и следствия. Не учения
вызывали массовое хождение молодежи 70-х годов в народ. Не
теории породили практику. А и «теория» и «практика» были
в одинаковой степени следствием одной и той же общей
причины — развития общественных противоречий в
пореформенной России, они были в одинаковой степени наследниками
идейного богатства революционеров-разночинцев 60-х годов.
Они («теория» и «практика») были дополняющими друг
друга частями целого.
Всем этим объясняется, что среди народников-практиков,
среди действенного народничества почти не было чисто лав-
ристских, или чисто якобинских кружков. Так, у нечаевцев
якобинские, бланкистские идеи сочетались с анархистскими
идеями Бакунина, а программа кружка чайковцев включала
как лавристские, так и бакунистские положения.
Но как бы там ни было, в той или другой форме, но все
идеи, все теоретические положения учений русского
социализма Лаврова, Бакунина и Ткачева были проверены жизнью,
практикой революционного народничества 70-х годов.
Переход революционной молодежи от одних идей к другим
вызывался, разумеется, не школярским желанием «проверить»
все учения, созданные в заграничных, русских журналах, а
настоятельной необходимостью революционной борьбы,
потому переходы эти имеют объективный, закономерный
характер. На эту закономернось следует обращать особое
внимание; ибо, не поняв закономерности (необходимости и
неизбежности) краха одних народнических идей и перехода к
другим, краха этих «других» и перехода к третьим — не поняв
этого, нельзя понять и закономерности (необходимости,
неизбежности) краха народнических идей вообще, нельзя понять
становление научного социализма в России.
* *
Первыми на практике были опробованы идеи якобинцев.
Мы имеем в виду деятельность Нечаева и его
единомышленников в 1868—1870 гг.
155
Фабула нечаевской истории такова 51.
В 1868—1869 гг. Нечаев участвует в студенческом
движении с Ткачевым (будущим теоретиком якобинцев),
возглавляет левую, наиболее решительно настроенную часть
студенчества. Когда начались аресты, он скрылся за границу, а в
письмах товарищам сообщал, что его будто бы арестовали,
посадили в Петропавловскую крепость и что он оттуда бежал
(так он создавал себе капитал революционного деятеля).
За границей он правдами и неправдами приобрел
расположение Бакунина и Огарева.
Получил подписанный Бакуниным документ: «Податель
сего № 2771 есть один из доверенных представителей
русского отдела Всемирного революционного союза», и, вернувшись
в конце августа 1869 г. в Россию, принялся создавать
заговорщическую организацию, вербуя оппозиционно настроенных
студентов (главным образом студентов Петровской
земледельческой академии).
Началась заговорщическая конспиративная деятельность—
сложная система образования пятерок, вербовки новых
членов. (А что еще делать заговорщикам? Подготовлять,
убеждать людей, считал Нечаев, дело совершенно бесполезное,
напрасная потеря времени. Их следует втягивать в организацию
такими, каковы есть, и брать с них то, что можно).
Вербовали, разумеется, своих близких друзей. Но скоро оказалось,
что у всех завербованных ближайшие товарищи тоже стоят в
организации и делать становилось нечего. Все были под
номерами: собирались на заседания по пятеркам и писали
протоколы заседания. С этими протоколами у членов высших
кружков была постоянная возня: с них строжайшим образом
требовались письменные доклады, а составлять их никому не
хотелось, да и писать-то было нечего. «Протоколы» — это
неспроста было придумано Нечаевым. Это были те
«компрометирующие документы», благодаря которым он мог держать
всех в послушании. А чем же еще долго можно держать
людей в заговорщическом ничегонеделании? Как сделать, чтобы
не отошла от него молодежь, чтобы не испортить это «мясо
для заговоров»? «Их надо беспрестанно толкать и тянуть
вперед в практические головоломные заявления, результатом
которых будет бесследная гибель большинства и настоящая
революционная выработка немногих» — так относился Нечаев
к своим друзьям-заговорщикам. И эту сторону нечаевщины
превосходно охарактеризовал Бакунин (он-то, слава богу,
имел о ней прекрасное представление). По убеждению Нечае-
51 Мы излагаем ее по статье: В. И. Засулич. Нечаевское дело.
«Группа «Освобождение труда», сб. № 2. М., Госиздат, 1924, стр. 22—73.
156
ва, писал Бакунин, «за вычетом десятка, составляющих
«избранных», все остальное должно служить слепым орудием и
как бы материей для пользования в руках этого десятка
людей действительно солидарных. Дозволительно и даже
простительно их обманывать, компрометировать, обкрадывать и,
по нужде, даже губить их, это мясо для заговоров...»; «во имя
дела он должен завладеть вашей личностью без вашего
ведома. Для этого он будет вас шпионить и постарается
овладеть всеми вашими секретами...», «в вашем отсутствии,
оставшись один в комнате, он откроет все ваши ящики, прочитает
всю вашу корреспонденцию, и когда какое письмо покажется
ему интересным, т. е. компрометирующим с какой бы то ни
было точки вас или одного из ваших друзей, он его крадет и
прячет старательно как документ против вас или вашего
друга...». «Если ваш приятель имеет жену, дочь, он старается ее
соблазнить, сделать ей дитя, чтобы вырвать ее из пределов
официальной морали и чтобы бросить ее в вынужденный ре-,
волюционный протест против общества. Всякая личная связь,
всякая дружба считается злом, которое они обязаны
разрушить, потому что все это представляет силу, которая,
находясь вне секретной организации, уменьшает единую силу
этой последней» 52.
Такова моральная атмосфера нечаевского заговора. Как
же живется, как дышится людям в этой атмосфере?
Остановимся на некоторых из «главной пятерки».
18-летний Николаев. Крестьянский мальчик, кончивший свое
образование в сельской школе. Нечаеву очень пригодились
качества этого типичного «крестьянского сына»: и его
недостаточная умственная развитость — в сравнении с представителями
интеллигенции, его наивность, с которой он принимал все за
чистую монету, его поклонение культу силы, его терпеливость
и выносливость. «Он стал буквально его (Нечаева) рабом, но
рабом любящим, преданным, на которого можно положиться,
как на самого себя... С ним даже хитрить не было надобности:
самые, казалось бы, нелепые приказания он свято исполнял,
не задавал вопросов и ни на йоту не отступал от
инструкций» 53. В деятельности Нечаева этот крестьянский юноша
чаще всего играл роль «деятеля из народа», и для
интеллигенции, членов организации, он олицетворял собой народ, его
чаяния, думы и желания. А этот «народ» был лишь пешкой в
руках Нечаева, был, как пишет Засулич, «пугалом для многих
членов организации» 54. «Самому Николаеву было строго за-
52 «Группа «Освобождение труда», сб. N° 2, стр. 78.
53 Там же, стр. 53.
54 Там же.
157
прещено пускаться в разговоры — говорил за него Нечаев, он
же разыгрывал свои разнообразные роли в строгом
молчании»55.
23-летний студент Кузнецов. Он всеми силами старался
служить «народу», в лице его представителей Нечаева и
Николаева. Но в атмосфере нечаевщины служить народу
оказывалось непросто.
Той окрыляющей радости, которая естественно должна
наполнять человека, отдающего свои силы для блага людей,
Кузнецов не испытывал. Как-то совершенно незаметно для
себя он погружался в вязкое болото лжи и мистификаций.
Когда организация получила приказание собирать деньги
с сочувствующих, Кузнецову, поскольку он был сын богатых
купцов, было поручено делать сборы с купечества. Поручение
по тем временам нелепое вообще, а по отношению к
Кузнецову — в особенности. «Московских купцов он вовсе не знал, но
желание угодить и не обмануть ожиданий было так сильно,
что он вносил несколько раз по 200—300 р. собственных,
присланных родными денег и записывал их как собранные с
купечества» 56. (Нечаев, конечно, догадывался обо всем этом,
но уличать Кузнецова не стремился: главное — деньги
достает, ну и хорошо, пусть хоть ворует; человек Нечаева не
интересовал: срывай с каждого столько, сколько на сегодняшний
день можешь сорвать). А Кузнецов все больше и больше
запутывался: «по внешности он казался страшно занятым,
возбужденным, деятельным; в сущности же своей
исполнительностью он навлек на себя массу дел и поручений (которые,
добавим, нередко не имели ничего общего с реальными
возможностями): переговорить с тем-то, достать то-то, привлечь
того-то, и не был в состоянии выполнить их, но по слабости
характера он не решался отказываться и, стараясь
выкручиваться из затруднений ложными отчетами, путался все более
и более» 57. Кузнецов терял свой нравственный облик.
Успенский. Человек высокоинтеллигентный, талантливый.
В отличие от Кузнецова, Успенский обладал достаточно
твердым и решительным характером, был человеком весьма
широких знаний и, конечно, Нечаева он оценивал более
реалистически, чем другие. Успенский видел его недостатки, видел его
хитрости, но сознательно закрывал на них глаза. Он вполне
понимал, что в России немыслима никакая легальная работа
на пользу масс, и в то время «по собственной инициативе...
едва ли он скоро сделался бы заговорщиком: в его натуре не
55 «Группа «Освобождение труда»», сб. № 2, стр. 53.
56 Там же, стр. 52.
57 Там же, стр. 59.
158
было элементов практического деятеля»58, у него не было ни
знания людей, ни изворотливости. Нечаев был практик, это
Успенский в тот момент поставил выше всего и «в интересах
дела» подчинился ему. Этим он, так сказать, освятил нечаев-
скую деятельность и тем самым оказал Нечаеву неоценимую
услугу по одурачиванию (или, вернее сказать, по идейному
закабалению) многих молодых нечаевцев, для которых
мнение такого образованного человека, как Успенский, значило
очень много.
И, наконец, Иванов 22-летний студент.
Как ни гони природу в дверь, она войдет через окно. Как
ни пытайся посадить на цепь мысль человеческую, как ни
пытайся подавить ее угрозами или хитростью,— ничего не
выйдет. Идеи могут быть побеждены только идеями.
Вот что говорилось в нечаевском документе: «Общие
правила сети для отделений»:
«Все количество лиц, организованных по «Общим
правилам», употребляется как средство или орудие для выполнения
предприятий и достижения целей общества. Поэтому во
всяком деле, приводимом отделением в исполнение, существенный
план этого дела должен быть известен только отделению;
приводящие его в исполнение люди отнюдь не должны знать
сущность, а только те подробности, те части дела, которые
выполнять выпало на их долю. Для возбуждения же энергии
необходимо объяснять им сущность дела в превратном виде».
И дальше: «План, предложенный со стороны Комитета,
выполняется немедленно» 59.
И вдруг выясняется, что один человек из руководящей
пятерки не хочет быть больше «средством или орудием»
неведомых ему целей, не соглашается объяснять кому бы то ни было
из товарищей «сущность дела в превратном виде» и
отказывается выполнять дурацкие приказания таинственного
Комитета, которые вредят студенческому движению, человек,
который подозревает также, что и Комитета-то никакого не
существует, а существует лишь дурачащий их маленький Наполеон
из народа — Нечаев.
Этим человеком был один из любимцев студентов
Петровской академии Иванов.
Иванов с самого начала стремился сознательно служить
революционному делу, сознательно, а не механически
выполнять поручаемое ему. А сознательно — значит, он должен
принять участие в выработке того или другого решения, а не
получать готовый приказ; значит, он должен иметь право критн-
«Группа «Освобождение труда», сб. № 2, стр. 44.
Там же, стр. 54.
159
км тех или других действий, право сомнения, короче, он
должен иметь право голоса, к которому прислушиваются и
который уважают.
И с самого начала этому стремлению Нечаев
противопоставил административный окрик и угрозу. Такой метод
«руководства» имел успех лишь первое время, пока критическая
мысль была еще слаба и, так сказать, не стояла еще на
собственных ногах. Но она росла и развивалась. И в один
прекрасный (вернее трагический) момент Нечаев
почувствовал: всё, угрозы не действуют. И тогда он без всяких
колебаний решает убить мысль, убить Иванова.
Немедленно фабрикуется соответствующий приказ
Комитета. Любопытно, как отнеслись к этому «смертному приговору»
упомянутые нами члены руководящей пятерки.
Ну, с Николаевым, с этим «крестьянским сыном», с этим
любящим и преданным рабом — все ясно. Он думает так, как
думает его бог — Нечаев. Раз бог говорит, что Иванов —
враг, значит — враг и дело с концом.
«Николаеву, — пишет Засулич, — ...было заявлено, что
Иванов не повинуется Комитету и будет убит.
А ты ступай в академию и посмотри, там ли он,— добавил
Нечаев.
Не задавая никаких вопросов, не выказывая ни малейшего
недоумения, Николаев оделся и вышел» 60.
Успенского Нечаев «обработал» так, что тот только рот
разинул. Нечаев, зная эту «богато одаренную»,
«последовательно теоретическую» натуру Успенского, зная его любимый
способ решать спорные практические вопросы сперва в
теории, в принципе и затем уже не отступать перед принятым
решением на практике, как бы тяжело оно ни было, зная это,
Нечаев задал Успенскому теоретический вопрос: обязательно
ли для Общества устранять всеми зависящими от него
способами являющиеся на пути препятствия? И получив,
естественно, утвердительный ответ, Нечаев показал, что Иванов
составляет препятствие (при этом Нечаев без всяких церемоний,
без всяких документов и фактов, высказался в том смысле, что
выйдя из организации и ставши к ней во враждебное
положение, Иванов может кончить доносом). Правда, когда речь
коснулась смертной казни (или попросту — убийства),
поколебался даже такой последовательный человек, как
Успенский. «Но какое же имеем мы право лишать человека
жизни?» — спросил он. «Это вы о подсудности, что ли? —
возразил Нечаев.— Тут дело не в праве, а в нашей обязанности
«Группа «Освобождение труда», сб. № 2, стр. 63, 64.
160
устранять все, что вредит делу,— иных же способов сделать
Иванова безвредным мы не имеем» 61.
На этот «теоретический довод» Успенский сдался. (Хотя
мы склонны думать, что все эти теоретические построения —
лишь жалкая и, может быть, неосознанная попытка успокоить
совесть и сохранить уважение к себе; на самом деле
Успенский был раздавлен не теоретическими доводами, а
удушающей атмосферой нечаевщины; он самообманывался, если бы
думал иначе).
И — третий, потерявший себя и совершенно растерявшийся
Кузнецов; для него «Иванов был старым товарищем, почти
другом, с которым он прожил много лет». Как же повел себя
Кузнецов, когда узнал, что его друг совершенно
необоснованно обвиняется в потенциальном предательстве и что над ним
уже занесена рука убийцы?
Вот как. Сначала он «принялся уверять, что Иванова
всегда можно уговорить, что он берется его успокоить». Потом
он с общего вопроса перешел к частному: «убийство
невыполнимо, оно не может удаться». Наконец, Нечаеву надоело
слушать этот жалкий лепет и он «грозно спросил: «Не думает.ли
он сопротивляться Комитету?» — Кузнецов замолчал» 62.
Вот и все. Остается только добавить, что Иванов был убит.
«Потенциального предателя» заманили в грот в парке
Петровско-Разумовского, ему сказали, что там спрятана типография,
которую надо отрыть. «Потенциальный предатель», услыхав
о действительном деле, немедленно согласился отправиться в
грот, но его ждала там пуля Нечаева.
Этим, собственно, и кончается «деятельность» нечаевско-
го общества «Народная расправа». Вскоре большинство ее
членов были арестованы, а Нечаев скрылся за границу 63.
Каковы же объективные результаты всей этой
деятельности нечаевского общества для революционного процесса?
Какое влияние оказала она на революционную молодежь
начала 70-х годов?
Мы уже говорили, как печально сказалась атмосфера
нечаевщины на самих членах общества. И это особенно было
заметно на процессе. «Внезапно явившееся вместе с арестом
сознание,— писала Засулич,— что ни Комитета, ни близости
народного восстания, ни обширной организации — ничего
этого не существует, а были только они одни, обманутые
студенты, заговорщики по ошибке, действовало на арестованных по-
61 «Группа «Освобождение труда», сб. № 2, стр. 63.
62 Там же, стр. 64.
63 Потом он был выдан царю швейцарским правительством, был
заключен в Алексеевский равелин, где и погиб в 1882 г.
161
давляющим образом. То возбужденное, поднятое настроение,
в которое они были искусственно приведены, мгновенно опало,
и юноши очутились ниже, чем были до своего соприкосновения
с призраком революции. Немногие из членов организации
оправились потом, к немногим возвратилась прежняя
бодрость и жажда дела» 64.
А вот и более широкая оценка, данная Верой Ивановной
Засулич: «Несмотря на всю свою революционную энергию,
Нечаевы не усилили бы революционных элементов среди нашей
интеллигентной молодежи, ни на шаг не ускорили бы ход
движения, а могли бы, наоборот, деморализовать его и
отодвинуть назад, особенно в ту раннюю пору. Система «не
убеждать, а сплачивать» и обманом толкать на дело, вела, конечно,
«к бесследной гибели большинства»,* но ни в коем случае не
«к настоящей революционной выработке», хотя...» 65.
К сожалению, на этом слове «хотя» и на этом многоточии
кончаются записки Засулич, и, соглашаясь в общем и целом
с ней в оценке Нечаевых, мы, однако, хотели бы продолжить
дальше мысль, начинающуюся этим «хотя», мысль о той
объективной пользе, которая была принесена нечаевской
деятельностью. (И это надо сделать даже в том случае, если по
выражению — и выражению справедливому — Козьмина,
«Нечаев принес революционному делу больше вреда, чем
пользы»).
Итак, о какой «пользе» и в каком смысле «пользе» можно
и нужно говорить в данном случае?
Нечаевское дело — это не деятельность одного Нечаева,
а это важные опыты практической революционной
деятельности русской интеллигенции. Впервые в истории разночинского
этапа русской революции столь широкие формы приняла
организационная деятельность революционеров. Пусть в формах
«казарменного коммунизма», но получило определенное
развитие политическое самосознание революционеров, были
выдвинуты политические требования, что явилось большим
завоеванием революционной практики (и это ценное потом
подхватит отчасти ткачевский «Набат» и в еще большей
степени «Народная воля»). Нечаевская история была
проявлением стремлений русских революционеров к политической
деятельности и созданию крепкой организации. К сожалению,
эти стремления получили форму нечаевщины, форму
казарменного коммунизма, но даже и в этих формах нельзя
игнорировать их проявления. Немалым было и революционизи-
64 «Группа «Освобождение труда», сб. № 2, стр. 68.
65 Там же, стр. 70.
162
рующее влияние самого процесса. Это что касается
содержания.
А теперь о форме, о собственно нечаевщине. (Надо
сказать, что из-за формы современники просмотрели содержание,
не удерживали ценное, хотя и получившее уродливую
форму— нужен был опыт, чтобы понять это). Случайна ли эта
форма? Большинство отечественных историков в один голос
заявляет, что для русского революционного движения нечаев-
щина — явление случайное.
Вот об этом мы и хотим порассуждать. Ну, во-первых, что
обычно вкладывают в понятие «нечаевщины»?
Заговорщическая деятельность, основанная на строгой централизации
(деспотии центра), марионеточном послушании низших, на
мистификации, обмане и вероломстве. (Сюда же надо добавить еще
одну весьма существенную черту, верно подмеченную
Засулич: это — «жгучая ненависть, и не против правительства
только, не против учреждений, не против одних
эксплуататоров народа, а против всего общества, всех, образованных
слоев...» 66.
Случайна ли была идея тайного заговора в России в конце
60-х годов XIX в. (т. е. коренилась ли она в объективных
условиях российской жизни или только в голове фанатичного
Нечаева)?
Вообще революционная деятельность в виде заговоров
возникает там, где не сложился, не созрел класс, которому
предстоит освободить все общество. «Всем знакома склонность
романских народов к заговорам,— писал Маркс и Энгельс,—
а также роль, которую играли заговоры в современной
истории Испании, Италии и Франции» 67, т. е. в странах со
слаборазвитым пролетариатом и преобладанием мелкой буржуазии.
Маркс и Энгельс отмечали также, что, например, во Франции
«по мере того как парижский пролетариат сам стал
выдвигаться вперед в качестве партии, эти заговорщики (т. е.
заговорщики по профессии.— Г. В.) начали терять руководящее
влияние, среди них начался распад...» 68.
Заговор — это политическое выражение революционности
мелкого буржуа (так же как массовая пролетарская партия—
есть политическое выражение революционности рабочего
класса). Почему же интересы мелкой буржуазии имеют
тенденцию принимать форму заговора? Ответ на этот вопрос дан
Марксом в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта».
66 «Группа «Освобождение труда», сб. № 2, стр. 69.
67 К. Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т. 7, стр. 285.
68 Там же, стр. 289.
163
«Мелкие крестьяне (Parzellenbauern) составляют
громадную массу, члены которой живут в одинаковых условиях, не
вступая, однако, в разнообразные отношения друг к другу.
Их способ производства изолирует их друг от друга, вместо
того чтобы вызывать взаимные сношения между ними. Эта
изолированность еще усиливается вследствие плохих
французских путей сообщения и вследствие бедности крестьян.
Их поле производства, парцелла, не допускает при обработке
никакого разделения труда, никакого применения науки, а,
следовательно, и никакого разнообразия развития, никакого
различия талантов, никакого богатства общественных
отношений. Каждая отдельная крестьянская семья почти что
довлеет сама себе, производит непосредственно большую часть
того, что она потребляет, приобретая таким образом свои
средства к жизни более в обмене с природой, чем в
сношениях с обществом. Парцелла, крестьянин и семья; рядом
другая парцелла, другой крестьянин и другая семья. Кучка этих
единиц образует деревню, а кучка деревень — департамент.
Таким образом, громадная масса французской нации
образуется простым сложением одноименных величин, вроде того
как мешок картофелин образует мешок картофеля.
Поскольку миллионы семей живут в экономических условиях,
отличающих и враждебно противопоставляющих их образ жизни,
интересы и образование образу жизни, интересам и
образованию других классов, они образуют класс. Поскольку между
мелкими крестьянами существует лишь местная связь,
поскольку тождество их интересов не создает между ними
никакой общности, никакой национальной связи, никакой
политической организации,— они не образуют класса. Они поэтому
неспособны защищать свои классовые интересы от своего
собственного имени, будь то через посредство парламента или
конвента. Они не могут представлять себя, их должны
представлять другие. Их представитель должен вместе с тем
являться их господином, стоящим над ними авторитетом, в виде
неограниченной правительственной власти, защищающей их
от других классов и ниспосылающей им свыше дождь и
солнечный свет. Политическое влияние мелкого крестьянства в
последнем счете выражается, стало быть, в том, что
исполнительная власть подчиняет себе общество» б9.
Могут сказать, все это хорошо, но причем здесь тайные
заговоры? Ведь Маркс говорит о правительстве.
А при том, что люди, пришедшие к власти, прежде чем
стать членами правительства в таких странах, должны -были
69 К. Маркс и Ф. Энгельс. Избр. произв. в двух томах, т. 1,
стр. 292—293.
164
быть заговорщиками. И именно в среде заговорщиков
складываются и вырабатываются те принципы руководства и
управления, которые будут применены на другой день после
революции. «Прообразом будущего общества» называли баку-
нистские заговорщики свою тайную организацию — Альянс.
И этот «прообраз» достаточно полно проявил себя.
«Бонапартистами» называли Маркс и Энгельс бакунистских
заговорщиков, а сам Бакунин получил от них «звание» лейб-гвардии
диктатора.
Итак, заговор, повторяем,— средство революционной
борьбы, порождаемое мелкобуржуазной стихией, средство,
получающее значительное распространение в условиях отсутствия
рабочего движения.
Именно такова и была обстановка в России в конце 60-х
годов XIX в.
Вот почему можно решительно утверждать, что
заговорщическая деятельность имела корни в объективной
действительности, и потому случайной ее назвать никак нельзя.
Разумеется, она была не единственной формой мелкого
производителя против гнетущих жизненных условий. Мелкий
производитель — слишком противоречивое явление, в нем развиваются
слишком противоречивые тенденции, чтобы иметь
однозначный выход — лишь в форме заговора; его протест может
принимать и принимал и другие формы, соответствующие другим
сторонам его общественного бытия.
А раз мы признаем неслучайной заговорщическую
деятельность, то надо быть последовательными и не признавать
случайными атрибуты этой деятельности, в число которых, между
прочим, входят и мистификация, и вероломство, и ненависть
к науке и «образованным людям» вообще и проч. и проч. Ибо
эти атрибуты — опять-таки не случайны для заговора, а
вытекают из его сути.
В чем же заключается эта суть, почему мелкий буржуа
прибегает к заговору?
Потому, что законы объективного развития — против него.
А объективные законы реализуются через деятельность
общества, через деятельность массовых сил общества.
Поэтому и реальные массовые силы (поскольку они
осознают законы развития, тенденции процесса и свою роль в
нем) враждебны мелкому буржуа. Поэтому он (мелкий
буржуа) против просвещения, против науки. Для того чтобы
остановить общественное развитие или хотя бы направить его
в выгодную для себя сторону, мелкий буржуа не имеет за
собой реальных общественных сил. Поэтому он хватается за
любую соломинку: ему ничего не остается, как надеяться на
165
чудо. И это чудо пытаются осуществить через заговор, через
бонапартистские приемы и методы деятельности.
Заговорщики — «алхимики революции и целиком разделяют
превратность представлений, ограниченность навязчивых идей
прежних алхимиков. Они увлекаются изобретениями, которые
должны сотворить революционные чудеса: зажигательными
бомбами, разрушительными машинами магического действия.,
мятежами, которые должны подействовать тем чудотворнее
и поразительнее, чем меньше имеется для них разумных
оснований. Занятые сочинением подобных проектов, они
преследуют только одну ближайшую цель — низвержение
существующего правительства, и глубочайшим образом презирают
просвещение рабочих относительно их классовых интересов,
просвещение, носящее более теоретический характер. Этим
объясняется их не пролетарская, а чисто плебейская неприязнь
к habits noirs, более или менее образованным людям,
представляющим эту сторону движения...» 70. (Последние слова
почти полностью повторяют то, что, как мы помним, говорила
Засулич об отношении Нечаева к интеллигенции).
А вот откуда вероломство и взаимный шпионаж
заговорщиков (то, что мы называем теперь нечаевщиной) :
«Заговорщики находятся в постоянном соприкосновении с полицией,
они ежеминутно приходят в столкновение с ней; они охотятся
за шпиками, так же как шпики охотятся за ними.
Шпионство — одно из их главных занятий. Поэтому неудивительно, что
небольшой скачок от заговорщика по профессии к платному
полицейскому агенту совершается так часто, если к этому еще
толкают нищета и тюремное заключение, угрозы и посулы.
Этим объясняется безграничная подозрительность, которая
царит в заговорщических обществах, совершенно ослепляет их
членов и заставляет их видеть в своих лучших людях шпиков»
а в действительных шпиках своих самых надежных людей»71.
Так что если бы заговорщическая деятельность Нечаева
была единственной на святой Руси, если бы у него не было
предшественников и вольных или невольных последователей,
то и тогда мы имели бы полное право отрицать случайность
нечаевщины в русском освободительном движении. Но мы
обязаны это сделать тем более, что у Нечаева были и
предшественники и последователи. Это — автор «Молодой России»
П. Г. Зайчневский, это П. Н. Ткачев, это (в какой-то мере)
народовольцы и, наконец, эсеры (Б. Савинков и др.) — целая
линия в истории русского революционного движения.
70 К. M а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 7, стр. 288.
71 Там же, стр. 288—289.
166
Идейное родство нечаевщины и взглядов названных
«революционеров» нетрудно доказать документально, да это в
той или иной форме признается и многими историками.
Л. Г. Дейч, например, пишет о «предпринятой его (Нечаева)
единомышленниками — Зайчневским и Ткачевым — в середине
70-х годов» «проповеди макиавеллизма», он говорит, что и
«народовольцы стали очень снисходительно относиться к
якобинским воззрениям; этим, несомненно, объясняется то
огромное значение, какое они придали Нечаеву, поставив рядом с
цареубийством план его освобождения» 72. Сходные взгляды
высказывает Б. П. Козьмин в статьях о Зайчневском и
Ткачеве 73.
Точно устанавливает это родство Плеханов:
«...литературная деятельность «партии Народной Воли» сводится к
повторению на разные лады ткачевских учений» 74. А связь ткачев-
ских учений с нечаевщиной для Плеханова несомненна: он
отмечал, что именно ткачевский «Набат» занимался
пропагандой террора и возвеличением нечаевского заговора 75.
Таким образом, можно сказать, что заговорщическая
деятельность (в том числе и один из ее видов — нечаевщина)
есть одно из политических выражений революционности
мелкого буржуа. Эта деятельность не имеет ничего общего с
социализмом, и по сравнению с деятельностью
социалистической — реакционна. Но в условиях неразвитого капитализма,
в условиях отсутствия пролетариата она несет некоторые
прогрессивные черты, в число которых входит признание
необходимости политической борьбы, организации революционеров,
выработка конспиративных навыков, без которых не сможет
обойтись впоследствии партия пролетариата (костяк которой
поневоле будет складываться тайно, подпольно). Однако для
выявления и усвоения этих достоинств нужен опыт.
* *
*
В России удержание положительных черт бланкизма
(якобинства) было затруднено — по причине уж слишком
отталкивающей формы нечаевской деятельности. Уж очень
несимпатичный характер Нечаева наложил свой мрачный отпечаток
72 Л. Г. Дейч. Был ли Нечаев гениален? «Группа «Освобождение
труда», сб. № 2, стр. 77.
73 См. Б. П. Козьмин. Из истории революционной мысли в России.
Избр. труды. М., Изд-во АН СССР, 1961.
74 Г. В. Плеханов. Из€р. философ, произв., т. I, стр. 176.
75 См. там же, стр. 168.
167
на в общем-то обычные формы и методы заговорщической
деятельности. В его «исполнении» они имели уж очень
отталкивающий, непривлекательный вид. Может быть, будь на его
месте другой человек — ну, скажем, Зайчневский, или Ткачев,
т. е. чуть более образованный, чуть более гуманный, может
быть, и не имели бы все эти методы заговорщичества столь
отталкивающей формы (хотя суть их, конечно же, оставалась
бы той же самой); и быть может, то ценное, что было в
русском якобинстве, и было бы усвоено преемниками.
А так — эти «преемники» целиком, полностью отбросили
все, что было у Нечаева. Они начали выступать против
необходимости организации, отказывались от политической
борьбы, от централизма и вообще от единого руководства
движением.
Якобинство, хотя и не усвоенное и не испытанное
по-настоящему на практике, серьезно подорвало свой кредит.
Однако в то время низвергнутым и разбитым оно не было. Оно
было, так сказать, отложено в сторону. Оно нуждалось еще в
настоящей проверке.
А пока революционная деятельность молодежи приняла
другое направление, тесно связанное с якобинством
(связанное через полное противопоставление ему; это был
«антитезис») — направление «пропагандизма». Итак, отталкивание от
заговорщичества, от якобинства вполне понятно. Но почему
новое направление выбрало своим знаменем именно пропа-
гандизм?
Собственно, к пропаганде молодежь готовилась давно.
Этому учили ее Герцен, Огарев и, в особенности,
Добролюбов и Чернышевский. Да и деятельность нечаевцев была
синтезом двух стремлений — пропагандистского и
заговорщического (вспомним, что Лунин, Иванов и другие студенты хотели
странствовать артелью). Но заговор временно взял верх над
пропагандой. И вот теперь пропаганда стала номером первым
на повестке дня. Пропагандисты (кружок чайковцев и др.)
имеют ту же социальную базу и то же объективное
содержание, что и якобинцы — выражение мелкобуржуазной
революционности. Но есть, нам думается, существенное отличие.
«Якобинцы» — это политическое выражение интересов
мелкого производителя как собственника, пропагандисты — как
трудящегося.
Разъясним это. Каковы могут быть интересы мелкого
собственника, человека, владеющего какими-то средствами
производства? Во-первых, он чужд всем, он один против всех, он
отделяет себя от всех, ему все — враги. Стало быть, общество,
рассматриваемое с точки зрения мелкого производителя как
168
собственника,— это общество врагов: каждый противостоит
всем и каждому. Для того чтобы сохранить такое свое
положение собственника, чтобы каждый не пожрал каждого, это
«общество врагов» нуждается в правящей силе, которая бы
не служила ни одному из них (т. е. не усиливала бы ни
одного из них), для которой каждый из них был бы безразличен
(ибо только тогда, согласно убеждениям собственника,
возможна справедливость). Они нуждаются в силе, стоящей над
ними и чуждой им.
Заговор и следующее за ним бонапартистское
правительство как раз и являются такой силой, поэтому они
(собственники) и отдают им свои симпатии. (Могут сказать, что это
бонапартистское правительство будет потом гнуть их в
бараний рог; но во-первых, будет гнуть, по их убеждению, всех
одинаково, а во-вторых... а, во-вторых — если бы мелкий
производитель умел так далеко заглядывать вперед...)
Так в теории. И это хорошо понимал даже Ткачев — он
говорил именно так: заговор нужен потому, что мужик не
соединен с мужиком, потому, что община противостоит
общине и т. д., потому, что каждый — против каждого. И еще
Ткачев говорил, что ткачевское (читай, бонапартистское)
правительство нужно потому, что крестьянин — собственник.
Иное дело — мелкий производитель как труженик. Труд
составляет основу для единства мелких производителей. Так
они противостоят крупным собственникам. Собственность —
это то, что их разъединяет, труд — это то, что их соединяет,
что роднит их с пролетариатом и делает более других классов
' восприимчивыми к социалистическим идеям (ибо в основе
социалистического принципа, как известно, лежит правило:
жить своим трудом). И вот это стремление мелкого
производителя, крестьянина-труженика к единению, к справедливому,
свободному и равноправному труду и было объективной
основой распространения социалистических взглядов среди
интеллигенции, было основой деятельности пропагандистов. Но
здесь было и предрешение того, что эта деятельность не
удастся, потому что нет отдельно крестьянина-собственника и
крестьянина-труженика. А есть один крестьянин — он и
собственник, он и труженик; как собственник — стремится к
капитализму, как труженик — к социализму, не будучи в состоянии
принимать по-настоящему, близко ни то, ни другое.
Итак, отказ от нечаевщины вызван был отвращением к
методам Нечаева, а главное — ее безрезультатностью. Нечаев-
щина обусловила (в определенном смысле) и формы новой
революционной деятельности, которые рождались как
антиподы нечаевщины.
169
Главным уроком, извлеченным из нечаевщины, было
осознание (или скорее ощущение) того, что революционная
деятельность без народа бесплодна. После нечаевщины лозунг
«В народ!» приобрел много новых сторонников, стал основным
лозунгом революционной молодежи. Однако содержание этого
лозунга разными людьми раскрывалось по-разному, а
вернее,— ясного представления о будущей деятельности в народе
не имел никто. Велись бесконечные споры, шли
приготовления — каждый молодец готовился действовать на свой
образец.
В разгар этих споров и приготовлений (т. е. в 1873 г.) и
появились в заграничных изданиях бакунистские и лаврист-
ские программы, бакунистское и лавристское понимание
лозунга «В народ!». Это уже были не «взгляды и нечто», не
юношеские спутанные мечтания, а тщательно и всесторонне
разработанные платформы, которые вполне годились к тому,
чтобы стать основой для размежевания инакомыслящих и для
более тесного идейного сплочения единомышленников. Это
был материал для выбора пути.
Однако в 1873—1874 гг. четкого разделения молодежи на
бакунистов и лавристов не произошло. Да мало кто и видел
существенное различие двух программ: нужен был опыт,
чтобы почувствовать их принципиальную разницу.
К моменту начала массового движения в народ (т. е. к
весне 1874 г.) молодежь теоретически примкнула к Бакунину
«всею своею массою» 76,— пишет О. В. Аптекман. С одной
стороны, сказался бакунистский призыв к немедленному
действию, с другой — статья в первом номере журнала «Вперед»
о необходимости «бесконечного учения» в университетах.
«Но,— продолжает О. В. Аптекман,— пропагандистская
волна ... перетасовала там, в народе, все направления, уничтожив
практически все различия и оттенки революционных фракций:
революционеры, словно сговорившись, делали в народе одно
дело — пропагандировали идеи социализма. И вышло, что
все были тогда пропагандистами: и «бунтари» и «лавровис-
ты» 77.
Итак, на практике, «все были тогда пропагандистами»,
пропагандистами социализма в крестьянской среде, т. е. лав-
ристами. Это свидетельство мемуариста подтверждается
многочисленными воспоминаниями других участников «хождения
76 См. О. В. Аптекман. Общество «Земля и воля» 70-х гг. Пг.г
«Колос», 1924, стр. 180.
77 Там же.
170
в народ», материалами судебных дел, признается многими
исследователями 78.
Хождение в народ 1874—1875 гг.— это было испытание на
практике идеи лавризма, это была попытка внесения
социалистического (или почти социалистического) сознания в
крестьянские массы.
Каковы же итоги этой практики, каков результат этой
попытки? Оказалось, что мужик не восприимчив к
социалистическим идеям. Воспоминания пропагандистов полны
комическими и печальными примерами того, как встречали
крестьяне их проповеди. «Если не считать единичных, успешных
случаев пропаганды, — подбивал итоги О. В. Аптекман, — то
в общем результат ее, пропаганды, в народе почти
неуловим» 79.
Иллюзии рассеивались. «Тяжелый опыт нескольких лет не
.мог не убедить всякого трезвого человека в том, что...
социализм западный совершенно отскакивает от русской массы, как
горох от. стены» 80,— писал С. М. Кравчинский.
Вот как Лавров описывает то состояние подавленности,
юхватившее пропагандистов (он обобщает содержание писем,
приходивших во «Вперед» в тот период): «Пропаганда
партии, расширяющая и укрепляющая партию, бессмысленна. Но
это — единственное дело социально-революционной партии, по
мнению автора. Если оно невозможно, вредно и бессмысленно,
то у партии нет никакого дела, сама партия не имеет смысла,
само социальное революционное дело невозможно». И значит,
остается, как писали авторы подобных писем, «сложить руки»,
«ждать спасителей из-за границы» или ... «пустить себе пулю
в лоб» 81. «Пулю в лоб». И это не было фразой. Эти письма
писались кровью сердца. Некоторые выдающиеся
пропагандисты покончили с собой. И покончили не в тюрьме, не в
страшных условиях каторги (хотя были и такие), но на воле.
Их раздавила большая духовная драма.
Были и те, кто «сложил руки» и «стал ждать». Но чего
ждать — они толком не знали, а потому отчасти
теоретизировали, отчасти трудились, так сказать, на ниве мирного
прогресса. Это так называемые поздние лавристы. Они были
живым воплощением краха лавризма: действительность и их
78 См., например: Б. С. И т е н б е р г. Движение революционного
народничества. Народнические кружки и «хождение в народ» в 70-х годах
XIX в. М., «Наука», 1965; Ш. М. Левин. Общественное движение в
России в 60—70-е годы XIX века. М., Соцэкгиз, 1958.
79 О. В. Аптекман. Общество «Земля и воля» 70-х гг., стр. 178.
80 «Красный архив», т. VI (19). М., Госсоцэкгиз, 1926, стр. 196.
81 См. П. Л. Лавров. Народники-пропагандисты 1873—1878 гг. Л.,
«Колос», 1925, стр. 310.
171
теории потеряли всякие точки соприкосновения. И потому
сами себя они называли «недеятельными» в отличие от
«современных деятельных протестантов» (т. е. народовольцев и чер-
нопередельцев). И вот в конце 1879 г. последний аккорд: по
сведениям известного представителя лавристского течения
Кулябко-Корецкого, петербургский кружок лавристов был
даже самими членами признан формально закрытым. Лавризм
приказал долго жить.
(При этом в скобках надо заметить сам Лавров
решительно расходился с поздними лавристами, ибо Лавров — шире,
чем лавризм, ибо Лавров к 1877—1878 гг. сам перестал быть
лавристом, или, по крайней мере, чистокровным лавристом.
Известно, что в конце 1876 г. на съезде лавристов в Париже
Лавров разошелся со своими последователями, которые
выступали против усиления боевой активности. Лавров же был
сторонником действий и действий решительных, что и привело
его впоследствии в «Народную волю».)
Но не для всех революционеров крах лавризма оказался
личным крахом.
Александр Квятковский, например, признавая «весь
неуспех» пропаганды, говорил о «важности отрицательного
значения этого движения», которое, по его словам, дало богатый
материал опытов и наблюдений взамен «довольно смутного»
прежде представления о народе, о мужике82.
Революционеры стали изучать этот опыт и увидели, что
они, инстинктивно тянувшиеся к бакунизму, который
призывал ничего не навязывать народу извне, который говорил о
необходимости агитировать на почве насущных интересов,
крестьянства, а не на почве абстрактно социалистических
идеалов, они, повторяю, увидели, что на деле они были
именно пропагандистами лавристского толка; теперь они поняли
принципиальную разницу двух этих учений. Наступало время
практического испытания бакунистских идей. «Когда
пропаганда,— писал О. В. Аптекман, — завершила полный цикл
своего развития, молодежь, в критической оценке своей
пропагандистской деятельности, вернулась к исходному ее
пункту, — к бакунизму, возродившемуся в форме «революционного
народничества» с лозунгом «Земля и воля»83.
«Надобно начать с другого конца. Надобно дать Сысою
(т. е. крестьянину.— Г. В.) то, что он требует» 84,— так стали
82 «Красный архив», т. VII, стр. 81.
83 О. В. Аптекман. Общество «Земля и воля» 70-х гг., стр. 180. "
84 «Земля и воля», 1878, № 1. (Сб. «Земля и воля». Женева, 1903,
стр. 46).
172
думать революционеры. И вместо пропаганды, по словам
В. И. Засулич, поверили в возможность поднять народ
посредством агитации на почве уже имеющихся у него желаний и
чаяний.
Так революционная интеллигенция спускалась с неба на
грешную землю. И как бы «грешна» ни была земля, только
она дает человеку действительную силу, только на ней его
планы могут стать реальностью.
Теряло кредит лавристское субъективно-идеалистическое
представление о том, что мнения правят миром, что сознание
по своему усмотрению творит бытие. Жизнь, практика
толкала революционеров к историческому материализму. И переход
в практической деятельности от лавризма к бакунизму был
важным шагом на этом пути.
* *
Бакунин не имел ясного и правильного представления о
диалектике общественного сознания и общественного бытия,
о соотношении революционной теории и классовой борьбы —
решить эти задачи суждено было марксизму. Но бакунизм
требовал считаться с действительностью, говорил об
объективных законах истории, обращал внимание в особенности на
экономическое бытие людей.
Бакунизм преобразовал не только содержание
революционной деятельности, но и ее форму. Он поставил на
практическую почву вопрос о революционной организации.
Пропагандисты были отчаянными врагами строгой
организованности, централизма, «генеральства», они хотели, чтобы
ничто не напоминало о кошмарах нечаевского заговора. И
потому ударились в другую крайность. Но жизнь сглаживает,
нивелирует симпатии, она порождает крайности и уничтожает
их, создавая синтез. Закономерность прокладывает себе
дорогу. Жизнь, насущные интересы движения требовали
сплоченности революционных сил, координации их действий, т. е.
требовали организации.
Отрицая в теории необходимость организации, пишет
Е. А. Серебряков, пропагандисты на практике «оказались
связанными друг с другом, во многих случаях даже не подозревая
этого», ведь им надо было «вести сношения в виду того или
другого содействия, или для получения того или другого
сведения». А это, вследствие отсутствия объединяющего центра,
влекло за собой обширную переписку, встречи массы
посредников и т. п. «Получилась какая-то странная организация,
173
при которой каждый делает, что хочет, но его ошибки и
промахи отзываются на всех»85.
Таким образом, практика революционной борьбы
требовала изменения деятельности интеллигенции в народе не только
по содержанию, но и по форме.
«Все мои помыслы,— писал в автобиографии один из
руководителей «Земли и воли» Александр Михайлов,— были
сосредоточены на расширении практической выработки и
развитии организации. В характерах, привычках и нравах самых
видных деятелей нашего общества было много явно
губительного и вредного для роста тайного общества; но недостаток
ежеминутной осмотрительности, рассеянность, а иногда и
просто недостаток воли и сознательности мешали переделке,
перевоспитанию характеров членов соответственно
организации мысли. И вот я и Оболяшин начали самую упорную
борьбу против широкой русской натуры... Сколько выпало на
нашу долю неприятностей, иногда даже насмешек! Но все-
таки, в конце концов, сама практика заставила признать
громадную важность для дела наших указаний, казавшихся
иногда мелкими. Мы так же упорно боролись за принципы
полной кружковой обязательности, дисциплины и некоторой
централизованности. Это теперь всеми признанные истины, но
тогда за это в своем же кружке могли глаза выцарапать,
клеймить якобинцами, генералами, диктаторами и проч.
И опять-таки сама жизнь поддержала нас — эти принципы
восторжествовали» 86.
Так произошло отрицание отрицания — идея строгой
организации и централизма, нашедшая отражение в деятельности
нечаевцев и отвергнутая чайковцами, вновь возвращалась к
жизни. Но она возвратилась к жизни обогащенная и
преобразованная опытом массового хождения в народ в 1874—1875 гг.,
и потому по своей реальной наполненности это была новая
идея. Если организация нечаевцев была узкой организацией
coup d'état, то созданное бунтарями «Общество «Земля и
воля»,— по справедливому замечанию Е. А. Серебрякова,—
имело целью объединить все революционные элементы в
одну партию и двинуть их на работу в народных массах» 87.
Организацию, созданную землевольцами, В. И. Ленин
считал образцом «боевой централизованной организации» 88.
Организация имела программу и устав. В программе были
зафиксированы изменения, происшедшие в мировоззрении ре-
85 Е. А. Серебряков. Общество «Земля и воля». Лондон, 1902,
стр. 5.
88 «Былое». СПб., 1906, № 2, стр. 162—163.
87 Е. А. С е р е б р я к о в. Общество «Земля и воля», стр. 9.
88 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 6, стр. 135.
174
волюционной интеллигенции, под влиянием опыта
пропагандистской деятельности. «...Мы суживаем наши требования,—
говорится в программе,— до реально осуществимых в
ближайшем будущем, т. е. до народных требований, каковы они есть
в данную минуту» 89. И главными среди этих требований были
анархистские требования «перехода всей земли в руки
сельского рабочего сословия и равномерного ее распределения» и
организации «полного мирского самоуправления» 90.
Главным средством для достижения этих целей считалась
агитация словом и в особенности делом (организация стачек,
демонстраций, бунтов, протестов против произвола местных
властей). Такого рода агитация заставила революционеров
решительно пересмотреть применявшиеся ранее
пропагандистские формы деятельности — когда революционные
проповедники только проходили по деревням или, по выражению
А. Д. Михайлова, «только проходили через народ» (этим,
кстати, нередко объяснялось, почему народ с недоверием
слушал их речи). Решено было/что называется, по-настоящему
слиться с народом, завоевать его полное доверие. «Главная
первоначальная задача народника,—писал А. А. Квятков-
ский,— это приобретение уважения, доверия народа, а
следовательно, и влияния на него» 91. Этому, по замыслу землеволь-
цев, должны были послужить длительные и прочные
«поселения» революционеров в народе.
Начинался (1876 г.) новый фазис борьбы революционного
народничества: на суд практики «выносились» бакунистские
идеи. И через пять лет им был вынесен «приговор», не
подлежащий обжалованию. Правда, частичное определение по
«делу» состоялось еще в 1879 г. К нему и обратимся (оставив,
впрочем, в стороне фразеологию уголовных кодексов, не
отвечающую всему существу дела).
В 1879 г. «Земля и воля» раскололась на две организации:
«Народную волю» и «Черный передел». Дали трещину
бакунистские идеи!
Значительная группа землевольцев в результате
трехлетней практики пришла к убеждению, что в условиях царского
деспотизма и произвола эффективная агитация в массе (даже
на почве ее интересов) невозможна. Агитаторы попадают в
тюрьмы раньше, чем успевают получить реальные результаты
своей деятельности. И вот, по мнению этой группы
(впоследствии народовольцев), «для партии абсолютно необходимо из-
89 «Революционное народничество 70-х годов XIX века». Сборник
документов и материалов в 2-х томах, т. II. М., «Наука», 1964—1965, стр.30.
90 Там же, стр. 31.
91 См. Ш. М. Левин. Общественное движение в России в 60—70-е
годы XIX века, стр. 385.
175
менить эту обстановку, необходимо обуздать
правительственный произвол, уничтожить это нахальное вмешательство в
народную жизнь и создать такой государственный строй, при
котором деятельность в народе не была бы наполнением
бездонных бочек Данаид» 92.
Итак, «обуздать правительственный произвол», добиться
демократических свобод, расширения прав для того, чтобы
иметь возможность более или менее открыто агитировать в
народе, более или менее открыто сплачивать революционные
силы. Но попробуй добиться расширения прав, когда за тобой
нет массовой силы!
Получается заколдованный круг: чтобы стать силой —
нужны права, а права можно взять, только когда будешь
силой. Такого рода «заколдованные круги» — очень
распространенное явление в истории. Поэтому весьма любопытно, как
пытались его разорвать народники и какой урок можно
извлечь из этих попыток.
Народовольцы попытались разорвать его волевым
усилием горстки революционеров. Противоречие, сложившееся
под действием объективных причин, имеющих глубокое
основание в экономическом быте России, они захотели
устранить посредством своей личной активности. Они решили один
на один сразиться с абсолютизмом и вырвать права. И они
всерьез рассчитывали на успех — правительство,
государственный аппарат казались им изолированными от общества,
противостоящими всему обществу в целом и не имеющими
никаких глубоких корней в борьбе экономических интересов
России. А раз правительство изолировано, раз оно не может
рассчитывать на поддержку общества, то разве сможет оно
устоять против героев «Народной воли», пусть даже
изолированных и от общества и от народа, но зато полных
беззаветной решимости идти до конца? Старые ткачевские
заблуждения, высмеянные в свое время Энгельсом! Но
«заблуждениями» они были для Энгельса, но не для народовольцев: для
народовольцев эти взгляды были убеждениями, и этим
убеждениям предстояло пройти проверку практикой. Так пришло
время практической проверки и ткачевских идей.
То, что было в зародыше в деятельности Нечаева и
Ткачева — политическая борьба против самодержавия,— получило
развитие и стало главным в практике «Народной воли».
«Социальная революция — как конечная цель наша и
политическая — как единственное средство для достижения этой
92 О. В. Аптекман. Общество «Земля и воля» 70-х гг., стр. 412.
176
цели» 93,— так писали еще в конце 60-х годов Нечаев и
Ткачев, авторы «Программы революционных действий».
«Мы должны поставить своей ближайшей задачей снять
с народа подавляющий его гнет современного государства,
произвести политический переворот» 94.— А так писали
народовольцы в своей «Программе Исполнительного комитета».
Но в какую форму могла вылиться политическая борьба
людей с народовольческим мировоззрением? Каким образом
можно было запугать правительство?
На широкие массовые движения народовольцы не
рассчитывали. Оставался террор как средство запугать,
деморализовать правительство и тайный заговор, как орудие захвата
власти. Вот как об этом говорилось в народовольческой
программе:
«Деятельность разрушительная и террористическая.
Террористическая детельность, состоящая в уничтожении
наиболее вредных лиц правительства, в защите партии от
шпионства, в наказании наиболее выдающихся случаев
насилия и произвола со стороны правительства, администрации
и т. п., имеет своей целью подорвать обаяние
правительственной силы, давать непрерывное доказательство возможности
борьбы против правительства, поднимать таким образом
революционный дух народа и веру в успех и, наконец,
формировать годные к бою силы» 95.
«Организация тайных обществ и сплочение их вокруг
одного центра» 96.
«Организация и совершение переворота.
Ввиду придавленности народа, ввиду того что
правительство частными усмирениями может очень долго сдерживать
общее революционное движение, партия должна взять на себя
почин самого переворота, а не дожидаться того момента,
когда народ будет в состоянии обойтись без нее» 97.
Таковы основополагающие пункты программы
народовольцев. Правда, в ней упоминалось и о необходимости
агитационной и пропагандистской деятельности, но это было больше для
успокоения своей совести — на практике «Народная воля»
этим почти не занималась, ибо не было для этого ни сил ни
условий, да и не для того, чтобы заниматься агитацией, выш-
93 См. Ш. М. Левин. Общественное движение в России в 60—
70-е годы XIX века, стр. 262.
94 «Революционное народничество 70-х годов XIX века», т. II,
стр. 171—172.
95 Там же, стр. 173.
96 Там же.
97 Там же, стр. 174.
177
ли народовольцы из земледельческой организации. Все силы
сосредоточились на террористической деятельности.
А террористическая деятельность в общем-то никого не
запугала: место убитого негодяя занимал другой (часто —
еще больший) негодяй. И даже убийство царя 1 марта 1881 г.
оказалось, с точки зрения изменения политического строя
России, не больше, чем прибавлением одной палочки к имени
Александра — вместо Александра II стал Александр III, вот
и все.
В то же время каждый террористический акт влек за собой
аресты и гибель лучших, выдающихся революционеров. И
конец Александра II был по существу концом и партии
«Народная воля».
И не столько потому, что были арестованы почти все
руководители Исполнительного комитета, сколько потому, что
революционная интеллигенция начала понимать: из-за одной
палочки, приставленной к царскому имени, не стоит губить
десятки и сотни революционеров, надежду России.
Таким образом, народовольцам не удалось разорвать тот
заколдованный круг, они только, так сказать, слегка
надорвали его — заявив во весь голос о необходимости
политической борьбы. Призыв к политической борьбе был крупным
шагом вперед в практике революционного движения 70-х годов.
Однако борьба за политические права приобрела
индивидуально-террористическую форму. (В этом отношении
народовольцы сделали шаг назад от «Земли и воли» с ее традицией
опоры на массы, на народ. Такова уж диалектика жизни
стихийно развивающегося общества: шаги вперед
сопровождаются нередко шагами назад, приобретения сопровождаются
потерями).
* *
*
Теперь посмотрим, как из заколдованного круга «право —
сила» выходила другая группа землевольцев — те, кто был не
согласен с политическим направлением деятельности
«Народной воли», с ее тактикой терроризма, те, кто после раскола
образовал партию «Черный передел».
Правда, слово «выходила» к этой группе не подходит.
Поэтому, если смотреть, так смотреть, как вращалась эта.группа
внутри заколдованного круга.
«Чернопередельцы» остались на традиционной
народнической (землевольческой) точке зрения. «Утверждение
террористов, что масса инертна,— писал чернопеределец О. В. Ап-
178
текман,— приводило народников в ярость. Никто из нас не в
состоянии был отразить это мнение дельными аргументами,
или фактами из народной жизни, а ограничивались лишь
общими пустопорожными местами»98. Довольно резкую
самокритику «навел» Осип Васильевич! Но и весьма
справедливую.
Да, было много пустопорожних фраз, а реальных успехов
не было. Агитация в крестьянстве в общем оставалась
бесплодной. Куда же им теперь? В трагическом положении
очутились «деревенщики»: путь «Народной воли»
(заговорщические организации без народа) решительно отвергался ими;
«для народа и только через народ» — они оставались верны
этому лозунгу, они инстинктивно ощущали, что только в
последнем случае возможен подлинный социализм, но что-то не
получалось у них ничего с этим «народом». Правда,
сдаваться они не спешили; и хотя почва ощутимо уходила из-под ног,
они все еще верили, что дело «пойдет». Они верили, потому
что не знали причин, почему не «идет» дело.
Но вера эта не была столь горячей, как прежде, она была
верой рассудка, а не верой сердца, она не давала бодрости
и энтузиазма.
«Деревенщики» объединились в «Черный передел». Они
продолжали, так сказать, по инерции изрекать, по
выражению О. В. Аптекмана, «общие места», носиться с общиной и
«народными идеалами», но дела, живого дела у них не было.
«Убежденные деревенщики» проповедовали деятельность в
народе... и сидели в городах. Даже те немногие, что были в
деревнях, снимались с места и возвращались в город.
Трагично было положение деревенщиков, сидящих в
городе, теряющих всякие связи с деревней, с почвой, на которой
они выросли. Это ясно понимали и сами чернопередельцы.
Тот же О. В. Аптекман писал об этом времени: «Деревня
ушла от нас — и, по-видимому, бесповоротно и надолго. Что
же теперь? Что же мы, «чернопередельцы»-народники,
значили без работы в деревне, в народе?» ". И дальше — страшные,
беспощадно правдивые слова: «Мрачное отчаяние овладело
мною. Мрачна была моя душа, мрачно и черно было все
кругом. Меня страшило наше банкротство, которое — я это
ощущал тогда всеми наболевшими струнами моей души — вот-
вот уже надвигается на нас неотвратимо. Я чувствовал, что
под моими ногами колеблется почва, пропасть разверзается,
готова проглотить меня, моих товарищей — чернопередельцев,
9« О. В. Аптекман. Общество «Земля и воля» 70-х гг., стр. 434.
99 Там же, стр. 386.
179
наше народничество, со всеми его гордыми помыслами и
высокими стремлениями....
Ни тюрьма, ни ссылка — ни каторга — даже и смерть не
страшна была! Со всем этим мы с давних пор свыклись.
Меня, повторяю, страшило наше банкротство, идейное и
тактическое» 10°.
Когда читаешь такие свидетельства, особенно ясно
ощущаешь бесконечную правоту ленинских слов — Россия
выстрадала марксизм.
Ужасен каменный гроб одиночной камеры, ужасны пытки
III отделения, кошмарна жизнь на каторге, но для
мыслящего человека (тем более для революционера) нет ничего
страшнее идейного банкротства. Это звучит парадоксально, но это
святая правда — тюрьму некоторые революционеры встречали
почти что с радостью: она спасала их от самих себя. Вот что
пишет Аптекман по поводу своего ареста: «Значит в
крепость!»—подумал я, почувствовав, что меня охватила радость.
Да, читатель, радость, как это ни звучит странно, дико, почти
уродливо. Значит — уж очень тяжело мне жилось в последнее
время, что даже крепость казалась мне желанной пристанью,
где бы я мог хоть немного отдохнуть и забыться» 101.
Этим кончилась практика бакунизма, да и не только
бакунизма. Все революционеры — народники 70-х годов после
1 марта 1881 г. решали трудную для себя проблему: как же
дальше? И что же теперь?
Революционное народничество 70-х годов завершило цикл
своего развития. Практика выяснила объективный смысл
народничества. Выяснилось, что крестьянский социализм —
утопия.
Трагедия «Черного передела» — это трагедия, вызванная
тем, что социалистические идеалы проникли в сознание
русской интеллигенции раньше, чем создались объективные
условия для их осуществления, раньше чем на арене политических
боев появился рабочий класс — единственная массовая сила,
способная (и призванная историей) осуществить
социалистические преобразования.
100 О. В. Аптекман. Общество «Земля и воля» 70-х гг., стр. 386.
101 Там же, стр. 410. Сравните с этим рассказ С. Степняка (Кравчин-
ского) о переживаниях Засулич после оправдательного приговора. «Когда
Засулич услышала о своем оправдании, — пишет Степняк, — то, по ее
словам, вслед за первым удивлением (не радости) последовало чувство
грусти: если б я была осуждена, то по силе вещей не могла бы ничего
делать и была бы спокойна, потому что сознание, что я сделала для дела
все что только могла, было бы мне удовлетворением. Но теперь, раз я
свободна, нужно снова искать, а найти так трудно» (С. Степняк.
Подпольная Россия. СПб., 1905, стр. 92).
180
«Исторически-реальное и исторически-правомерное
содержание» народничества В. И. Ленин видел <гв борьбе с
крепостничеством». Он подчеркивал, что теории народничества
«выражают передовой, революционный мелкобуржуазный
демократизм, что эти теории служат знаменем самой решительной
борьбы против старой, крепостнической России» 102.
А спросим себя, каково реальное содержание борьбы
«против старой, крепостнической России»? Реальное содержание
этой борьбы заключается в требовании решительной
ликвидации всех остатков крепостного права (и тем самым — в рас-
чищении почвы для свободного ускоренного развития
капиталистических отношений). Т. е. хотя субъективно народники и
были 'против капитализма, но объективно народнические
теории были теориями '«массовой мелкобуржуазной борьбы
капитализма демократического против капитализма либерально-
помещичьего, капитализма «американского» против
капитализма «прусского» 103.
Итак, реальное содержание народничества — борьба
против остатков крепостничества, против «прусского» пути
развития.
Но тогда почему, спрашивается, такой крах потерпело
народничество (и именно к началу 80-х годов)? Разве к этому
времени абыли ликвидированы остатки крепостничества, разве
начала Россия развиваться по американскому пути?
На это, мне думается, надо ответить так: крах потерпело
не народничество вообще, крах потерпело народничество в
качестве социалистической доктрины. А если быть еще более
точным, то следует говорить не о «крахе», а о том, что
народнический социализм (старый русский социализм), поскольку в
России сложились условия для появления социализма
пролетарского, научного, исчерпал свою относительную
прогрессивность, свойственную ему в прошлом. 'После 'Появления
марксистских работ Плеханова быть народником-социалистом
было нельзя, можно было быть лишь народником-демократом.
Агония народничества в качестве социалистического учения
началась в 80-х годах и завершилась в 90-х годах (после
критики его молодыми русскими марксистами во главе с
Лениным).
Но в качестве демократического учения, в качестве теории
«массовой мелкобуржуазной борьбы капитализма
демократического против капитализма либерально-помещичьего»
народничество еще долгие годы сохраняло свое прогрессивное зна-
102 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 16, стр. 213.
103 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 47, стр. 229.
181
чение (это особенно ясно проявилось, в частности, во время
первой русской революции 1905—1907 гг.).
Эволюция народничества после «1(881 г. — эта тема
представляет значительную важность и чрезвычайный интерес, и
над ней очень плодотворно работает ряд современных
исследователей, таких, как И. К. Пантин, Э. С. Виленская,
В. А. Твардовская и др., но тема эта касается эволюции
демократических (а не социалистических идей) и потому мы
оставляем ее за пределами нашей работы.
Для нас важно констатировать конец народничества в
качестве социалистического учения. И это понимал целый ряд
выдающихся народников, стремившихся остаться именно
социалистом <(а не выразителями демократических устремлений
крестьянства). И вот их-то положение и было весьма
трагическим, ибо они веру в крестьянство, как массовую
социалистическую базу, по существу, потеряли, а другой массовой базы
не нашли, отчасти не могли найти.
Между тем такая массовая база создавалась в России —
развитие капитализма порождало пролетариат, который день
ото дня креп, сплачивался и набирался сил. Перед
социалистами открывалось новое поле деятельности.
Пролетариат был тем классом, который мог их спасти от
краха в качестве социалистов. Они уже случайно, стихийно
наталкивались на него. «...Работа наша теперь, после
крушения надежд на деревню, — пишет О. В. Аптекман, —
упростилась. Мы сосредоточили все наше внимание на работе в
городе— на .пропаганде народнических (!?) идей устно и печатно
среди интеллигенции и рабочих» 104.
В то же время, рассказывает О. В. Аптекман, Плеханов
говорил на совете чернопередельцев: «Настроение наличных
революционных сил молодежи не в пользу систематической
работы в деревне. Настроение толкает молодежь на другой путь,
на путь террористической деятельности. Но мы не должны
падать духом. Есть работа и для нас, работа народническая (!?).
Нас зовут городские рабочие. Разве они не те же крестьяне?
Пойдем же в их среду. Для этой работы у нас хватит своих
сил, а за нами в этой работе пойдет и молодежь» 105. «Речь, —
свидетельствует О. В. Аптекман, — произвела сильное
впечатление. Пойти к рабочим вызвались Н. П. Щедрин и
«Егорыч». Они и стали завязывать через «Северно-русский
рабочий союз» сношения с фабричным и заводским населением
Петербурга» ,м.
104 О. В. Аптекман. Общество «Земля и воля» 70-х гг., стр. 387
105 Там же, стр. 391.
106 Там же.
Жизнь буквально загоняла народников к рабочим. Правда,
пока они шли туда с народническими идеалами — «разве
рабочие не те же крестьяне»? Но рабочим предстояло показать,
что они — нет, не «те же крестьяне» и что «крестьянский
социализм» им не подходит.
Рабочее движение, развитие капиталистических
противоречий заставят интеллигенцию пересмотреть многие и многие
догмы народничества. Народничество в качестве доктрины
социализма уже ничто не могло спасти. Но
социалистов-народников от их личного краха могло спасти пробуждавшееся в
России массовое рабочее движение, ибо оно было как раз той
массовой силой для осуществления социалистических идеалов,
базой, которую тщетно искали социалисты-народники.
С появлением и ростом рабочего движения социализм
получал прочную жизненную основу, он лереставал быть только
теорией, он становился программой действий рабочего класса.
ГЛАВА IV
Г. В. ПЛЕХАНОВ
еволюционер должен уметь плыть против течения,
сказал как-то 'Плеханов.
И сам Плеханов умел это делать. Он не раз, в
одиночку, бросался против течения; его порыв
поднимал встречные волны, создавал встречное течение —
и поворачивались вспять реки общественной мысли.
Дело здесь, впрочем, не в какой-то
чудодейственной силе (Плеханова. Разгадка таких чудес «■простая»:
Плеханов умел скорее других распознавать мощные подводные
встречные течения, которые готовились выйти на поверхность.
Угадывание этих глубинных процессов общественного
развития и давало Плеханову силу побеждать поверхностные
течения времени К
Он не боялся разлада с «публикой», с «передовыми
людьми», если того требовали интересы истины. Он не боялся идти
один против всех.
Так было на Воронежском съезде народников, когда он,
увидев появление идейной пропасти между собой и
товарищами, не колеблясь поднялся и ушел от них. Легко это
говорить — «поднялся и ушел». Ведь «товарищи» эти были
Михайлов, Морозов, Перовская и другие — люди, с которыми его
связывала почти 'пятилетняя революционная борьба и
сердечное доверие, люди, дороже которых не было для него никого.
И все-таки он встал и ушел; и это было очень мужественно и
очень честно.
И когда кто-то бросился вслед за Жоржем (так звали
Плеханова друзья), чтобы удержать его от столь «безрассудного
шага», удержать из-за боязни не столько за будущее своей
партии, сколько за будущее остающегося в одиночестве
Жоржа, вожак и любимец революционеров-народников Михайлов
бросил: «не останавливайте его». Не потому, что Михайлов
1 До тех, впрочем, пор, пока не притупилось его политическое чутье
и не появились люди, сумевшие посмотреть глубже его и дальше его.
ï
184
«обиделся» на Жоржа, а пото'му, что революционер Михайлов
уважал и ценил свободу воли другого революционера, -потому,
что он знал Жоржа, потому, что он знал, что Жорж умеет
плыть против течения, как умел плыть, если было надо, сам
Михайлов.
Так было и потом. В начале 80-х годов, когда даже
близкие к Юлеханову люди (Дейч, Засулич, Стефанович)
буквально умоляли его не спешить рвать с народнической партией, с
народовольцами (ведь все-таки — партия, с печатными
органами, громкими делами, с известными авторитетными людьми
во главе!), 27-летний Плеханов в первом же предложении
■предисловия к своему труду «Социализм и политическая
борьба» провозгласил: «...я отступил от теории так называемого
народничества». Старые утопические народнические теории,
писал он в следующей своей работе «Наши разногласия»,
«уже не живут, не развиваются, но они еще продолжают
разлагаться и своим разложением заражают всю Россию...»2.
И Плеханов поднимал другое знамя: «мы... указываем нашей
социалистической молодежи на марксизм, эту алгебру
революции, ... эту '«програхмму», научающую своих приверженцев
пользоваться каждым шагом общественного развития в
интересах революционного воспитания рабочего класса. И я
уверен, что рано или поздно наша молодежь и наши рабочие
кружки усвоят эту единственно революционную программу» 3.
И революционная молодежь спешила встать под это знамя,
поднятое 'Плехановым; и старое течение стушевывалось,
начинал бурление новый поток. «Новый мир открылся передо
мной, — вспоминал о своих впечатлениях от чтения
плехановской книги «Наши разногласия» один из первых московских
марксистов С. Мицкевич, — найден был ключ к пониманию
окружающей действительности, найдена была база для
работы, выход из тупика, «из тисков казавшейся ранее всесильной
реакции. Русский рабочий класс — вот куда надо идти, надо
нести в него светоч научного социализма. Он произведет ту
политическую и социалистическую революцию, базу для
которой тщетно старались найти Зайчневский и др.
революционеры 60—70-х годов. Прочитал я тогда вновь и «Манифест
Коммунистической партии», и новое громадное впечатление он
произвел на меня: я его понял, я 'понял основы великой
историко-философской теории Маркса. Я стал марксистом и уже
на всю жизнь»4.
2 Г. В. П л е х а н о в. Соч., т. II, стр. 105.
3 Г. В. Плеханов. Избр. философ, произв., т. I, стр. 127—128.
4 «Пролетарская революция», 1923, № 2 (4), стр. 54.
185
И так воспринимали работу Плеханова многие из
революционной молодежи 80-х годов. Революционное движение в
России начинало становиться марксистским, русский
утопический социализм уступал место социализму научному.
Мы говорили о мужестве »и умении .Плеханова плыть
против течения. Но, разумеется, не это его умение вызвало
поворот русской общественной мысли от утопического социализма
к научному. Это «умение» объясняет (да и то отчасти) лишь
то, почему именно Плеханов стал провозвестником этого
поворота— ведь только таким безумно смелым характерам
суждено прокладывать новые пути человечества.
*
В нашей литературе нередко смешиваются эти два в
общем-то разных вопроса: поворот русской общественной мысли
к марксизму и поворот Плеханова к марксизму. Как, казалось
бы, ни близки эти два вопроса, смешивать их нельзя, ибо
тогда мы не отделим в процессе становления марксизма в
России необходимое от случайного, важное от неважного. В
эволюции Плеханова от народничества к марксизму есть
элементы необходимого, свойственного общей логике развития идей
в России, и есть случайное, специфическое, что свойственно
собственно Плеханову, что обусловлено характером,
воспитанием и другими особенностями плехановской личности.
Конечно, оба вышеназванных вопроса заслуживают того,
чтобы быть внимательно рассмотренными — важны и общая
логика и конкретная форма, — без всего этого трудно понять
дальнейшее развитие русской социалистической мысли,
дальнейшую идейную борьбу. В данной же работе, поскольку нас
интересует объективная логика развития идей, мы
остановимся лишь на моментах необходимого, что содержалось в
эволюции Плеханова.
Выяснить это — значит ответить на вопросы: а) какие
объективные факторы делали необходимым <и неизбежным в
начале 80-х годов появление и распространение идей марксизма
в русском революционном движении? и б) какого рода люди
могли стать пионерами этих идей в России?
Среди «объективных факторов» мы выделили бы четыре
решающих (или, как говорят математики, необходимых и
достаточных): 1) развитие капитализма в России, 2) рост
российского рабочего движения, 3) «pax народнических идей, 4)
торжество марксистской идеологии в западноевропейском
рабочем движении.
186
Какого же рода, какого типа люди могли выполнить
задачу теоретического разгрома народнических идей и стать
пионерами марксизма в России? Во-первых, они должны были
быть из породы тех людей, которые, как мы уже писали,
умеют (и имеют мужество) плыть 'против течения. Во-вторых, это
должны были быть практические, деятельные революционеры
с ясной теоретической головой. Только единство всех этих черт
могло дать человека, способного выполнить роль пионера
марксизма.
Посмотрим теперь, в какой форме проявилось влияние
вышеназванных четырех объективных факторов в идейной
эволюции Плеханова.
Отправная точка плехановской эволюции — его первая
теоретическая статья «Закон экономического развития
общества и задачи социализма в России».
В первой части статьи, напечатанной в № 3 «Земли и воли»
(от 15 января 4879 г.), Плеханов выступает народником
чистых кровей. Никаких ясных предпосылок будущей его
эволюции здесь не содержится. Это талантливо выраженное и
подробно аргументированное народническое кредо. Правда,
обращают на себя внимание серьезные попытки оценить
практику революционного движения 70-х годов, извлечь из нее
уроки. Обращает на себя -внимание и попытка глубоко,
исторически, опираясь на последние достижения мировой
социалистической мысли '(и на положения Маркса и Энгельса в том
числе), обосновать народническую программу.
Уметь извлекать уроки из опыта своей борьбы —
необходимая предпосылка -плодотворной революционной деятельности.
Как бы убедительно ни свидетельствовала практика о крахе
тех или других теорий, они не умирают, пока не родится
новая теория, которая сумеет преодолеть их теоретически. Пока
нет теоретического обоснования краха теорий прошлого, нет
по существу их и краха.
Плеханов и написал теоретический некролог, посвященный
методам <и принципам важнейших народнических течений 70-х
годов: нечаевщины, ткачевизма, лавризма. Он вскрыл
главный порок этих учений — субъективизм — и попытался
противопоставить ему объективный метод. Правда, это был
объективизм бакунистского толка (который при логическом
продолжении сам легко переходил в субъективизм), и все же это
были зачатки новой методологии (где-то отдаленно родственной
марксистской историко-материалистической концепции).
Достоинство юного народнического теоретика состояло
также в том, что он попытался теоретически осмыслить и
сформулировать основные положения этого нозого течения. И это,
187
заметим, у&ке второе его достоинство (считая первым — тео-
ретическоеюсмысление уроков прошлого).
Систематизация, формулировка взглядов — существенная
предпосылка теоретического прогресса. Пока мировоззрение
приблизительно, пока программа аморфна, невозможна не
только успешная борьба на ее основе, но и теоретическая
эволюция от менее верного к более верному.
Заслуга (Плеханова, состоявшая в систематизации и
последовательном! изложении взглядов нового течения в
революционной среде, тем более заслуживает быть отмеченной, что
среди действенного народничества преобладали люди, не
склонные к «излишнему» теоретизированию, теоретическая совесть
которых вполне удовлетворялась немногочисленными,
эклектически соединенными и не весьма ясными
представлениями— об эксплуатации, свободе, народе, общине и т. п. А
если учесть, что среди землевольцев, к числу которых
принадлежал Плеханов, господствовало мнение о ненужности и даже
вредности знаний вообще (которые-де мешают слиянию
революционной интеллигенции и народа), то в этих условиях
теоретическая деятельность имеет еще, так сказать, и
дополнительные достоинства.
Какие же идеи развивал и обосновывал Плеханов в своей
статье? Весьма любопытно, что в общем виде они очень
напоминают концепцию Чернышевского (правда, концепцию
Чернышевского в ее наиболее раннем и наиболее абстрактном
виде — концепцию, которой тот придерживался в 1856—1857 гг.).
Так же, как Чернышевский, Плеханов признак
законосообразность в развитии общества. Так же, как Чернышевский,
он признает, что объективный ход истории движет
человеческое общество к социалистическому строю, основу которого
составляет общественное (общинное) владение и
общественное, коллективное (союзное — в терминологии
Чернышевского) производство. И так же, как Чернышевский, Плеханов
говорит о том, что Россия имеет возможность прийти к
социализму, минуя период капиталистического развития — залогом
тому служит общинное владение, которое надо «только»
оплодотворить в будущем коллективным производством.
Да, статья юного народника весьма напоминала
первоначальную концепцию Чернышевского, хотя (это надо заметить!)
и уступала ей в смысле глубины аргументации, философского
обоснования. (Именно эта глубина теоретической
аргументации и позволила в свое время Чернышевскому обнаруживать
слабые утопические места в своей программе >и делать
успешные шаги в направлении к социализму научному..) Но как бы
там ни было, молодой теоретик «Земли и воли» вступил на тот
186
след, которым шел Чернышевский и который привел его
(Чернышевского) к глубоким обобщениям, к выводам, сделанным
в 1858—'1862 гг., с высоты которых уже угадывались
некоторые положения научного социализма.
Однако вступив на след Чернышевского, Плеханов
двигался дальше путем, отличающимся от того, каким ц^ел его
великий предшественник. Та стройная, мы бы сказали, плавная
логика развития первоначальной концепции, которая ясно
прослеживается у Чернышевского, заменилась у Плеханова, как
бы это сказать ... импульсивными движениями,
скачкообразными переходами.
У Чернышевского последовательно разрешаются вопросы
и противоречия, содержащиеся в первоначальных набросках
программы; а с появлением новых, более глубоко
разработанных программ появляются и новые вопросы и новые
противоречия, требующие и нового своего разрешения — так
углублялась теория Чернышевского.
В плехановской эволюции нет такой последовательности.
Вопросы, которые возникают у него при изложении кредо,
остаются часто без ответа, и противоречия — без разрешения.
Он то просто оставляет эти вопросы и эти противоречия и
вдруг пытается подойти к проблеме с совершенно другой
стороны, с третьей, то просто перескакивает через противоречия,
через нелепость и продолжает развивать свою мысль дальше,
словно этой нелепости, словно этого белого пятна, словно
этого перерыва постепенности и не было.
Вот он доказывает, например, что замена общинного
принципа буржуазным, индивидуалистическим — регресс, поэтому
для России капитализм был бы «понятным шагом»; но для За-
пада-де (и тут следуют комплименты представителю
«блестящей плеяды» социалистов Марксу) капитализм был
прогрессом, так как пришел на смену не общинному, а феодальному
принципу. Понятно, что столь оригинально рассуждающему
автору не уйти от вопроса: ну, а феодальный-то принцип
(который тоже есть «принцип индивидуалистический»),
феодальный-то принцип почему в свое время пришел на смену
общинному в Западной Европе?
Что, если это вытеснение общинного принципа феодальным
было исторической необходимостью и служило прогрессу —
ведь тогда развалится вся концепция регрессивности
капитализма -по отношению к общине. (Если капитализм — прогресс
по отношению к феодализму, а феодализм — по отношению к
общине, значит капитализм — прогресс по отношению к
общине.) Но Плеханов пока перескакивает через этот вопрос. «Чем
обусловилось падение западно-европейской общины, — пишет
189
он, — для нас теперь не важно; мы констатируем только факг
замещения! (на Западе. — Г. В.) индивидуализмом
(феодализмом. — Г. а.) общинного принципа»5.
А потом это-то и оказалось самым важным по всей этой
-проблеме, и\ по существу этому-то и пришлось Плеханову
посвятить целую статью — «(Поземельная община и ее вероятное
будущее» («Русское богатство», январь, 1880 г.). Тогда
Плеханов и убедился, что вопрос, связанный с гибелью общинного
принципа на Западе, решается не просто. И хотя он пытался
еще по-народнически решить его, но ему самому становилось
ясно, что народническое решение вовсе не является таким
убедительным, как ему казалось раньше. ('Впоследствии
Плеханов вспоминал, что именно во время писания этой статьи
'Поколебались его народнические воззрения.) Вопрос по существу
так >и остался вопросом.
А вот другой пример теоретических скачков Плеханова.
В первой части статьи «Закон экономического развития...» он,
долго и складно рассуждавший об общине, земельных
отношениях, о необходимости создания широкой революционной
организации, отстаивающей интересы крестьянства, он,
пообещавший в следующем номере журнала «показать, какие
данные существуют в нашей истории и современной
действительности для создания революционной организации»6, он в
следующем номере журнала '«показывает» вдруг совсем не то, что
обещал .показать: он подходит к проблеме с совершенно
неожиданной стороны и начинает вести речь о... роли и значении
рабочих(!) в освободительной борьбе.
Плеханов не выполнил своего обещания, данного в
предыдущем номере, в чем, впрочем, чистосердечно признается
перед читателями: «Вопрос о городском рабочем принадлежит к
числу тех, которые, можно сказать, самою жизнью
самостоятельно выдвигаются вперед, на подобающее им место, вопреки
априорным теоретическим решениям революционных
деятелей» 7 ((и добавим, самого Плеханова, в том числе).
Однако в такого рода отсутствии строгой логики
теоретического развития, в отсутствии строгой последовательности
развития есть своя логика и своя последовательность, которые
объясняются -временем, когда жил Плеханов.
Идеи, высказанные Плехановым в статье «Закон
экономического развития общества...», хотя и напоминают идеи
первоначальной концепции Чернышевского, имеют, между «прочим,
5 Г. В. П л е х а н о в. Соч., т. I, стр. 60.
6 Там же, стр. 66.
7 Там же, стр. 67.
190
то существенное от них отличие, что они являются итогом
развития взглядов действенного народничества, обобщением их
теорми и практики, тогда как идеи Чернышевского —
предпосылкой деятельности революционеров 70-х годов. /
То, 'что итог развития, то, что выводы, сделанные на основе
десятилетнего опыта борьбы, в общем своем виде совпадают
с предпосылками, не должно наводить на ту печальную мысль,
что развития-то но существу и не было, потому что-де выводы
оказались не богаче предпосылок. /
Обычное явление в развитии общественной мысли — начав
с общих (и потому более 'или менее абстрактных)
предпосылок, теоретическая мысль проходит период их' конкретного
развития, проверки на практике тех или других сторон,
частностей; и когда она вновь возвращается к исходному, то это
уже по существу иное положение, чем прежде, оно обогащено
опытом всего предшествующего развития, новое — уже
несравненно более конкретное. Дальнейший путь развития
естественно будет отличаться от предыдущего, ибо предыдущее было
лишь конкретизацией; следующий этап должен быть
принципиально новым (если верно, а это несомненно верно, что
развитие не есть вечное и нудное движение по одному и тому же
кругу).
Эта общая закономерность развития теории проявилась и
в данном случае. Правда, условия русской действительности
помешали этой закономерности проявиться в своем, так
сказать, чистом виде, они несколько исказили ее, хотя «отменить»
были, конечно, не в состоянии. Искажение это заключалось в
том, что возврат к положениям даже ранней концепции
Чернышевского оказался неполным. И хотя плехановская
концепция более конкретная (и в этом ее преимущество), она в то же
время теоретически менее совершенна, нежели концепция
Чернышевского. Произошло это, в частности, и потому, что идеи
Чернышевского были под запретом и доходили до
революционеров обрывками — в упрощенном, а нередко и в искаженном
виде. Однако если взять за исходное другую предпосылку, а
именно то, как концепция Чернышевского воспринималась в
начале 60-х годов идеологами среднего, так сказать, калибра
(сотрудниками «Современника», например), и сравнить с тем,
что писал Плеханов, то указанная выше закономерность будет
просматриваться гораздо лучше.
Итак, теория, изложенная Плехановым в «Законе
экономического развития общества...», совпадает во многом с тем,
что писал Чернышевский в начале своей общественной
деятельности, превосходя программу Чернышевского большей
конкретности и уступая ей в теоретическом уровне. Оба эти
191
отличия и [объясняют дальнейшую эволюцию взглядов
Плеханова. I
С одношстороны, логика теории толкает мысль Плеханова
в том направлении, -по которому шел Чернышевский (и статья
«Поземельная община...» тому пример, в ней Плеханов
приближается К тому теоретическому уровню, на котором стоял
Чернышевский в конце 50-х годов); с другой же стороны,
жизнь, действительность (несравненно более развитая и
конкретная, чем в эпоху Чернышевского) врывается в его
теоретические рассуждения, нарушая их последовательность и
внося поправки, которые не могла предусмотреть ни одна теория
прошлого (в том числе и теория Чернышевского) — так,
стачечная борьба} рабочих «спутала» намеченную Плехановым
последовательность теоретического изложения и «заставила»
немедленно предоставить ей уголок в революционных теориях.
В этих двух направлениях — последовательное развитие
внутренней логики прежней теории и осмысление новых
явлений действительности, часто противоречащих прежней теории
и нарушающих ее логику, — в этих двух направлениях и шло
теоретическое развитие Плеханова в 11878—1880 гг.
m *
*
Это движение вперед по обоим указанным -выше
направлениям .приближало мыслителя к краху его концепции. С одной
стороны, развитие теории все яснее и яснее показывало, что
община имеет внутренние предпосылки своего разложения и
потому не может быть основой социалистического устройства,
начинало сокращаться место, отводимое общине в теории; с
другой стороны, развитие капитализма и рабочее движение
пробивали такие бреши в прежней теории, что латать их с
каждым днем становилось все труднее и труднее. Наступал
момент, когда уже просто невозможно становилось объяснять
новые явления в рамках 'прежней концепции. Это была
принципиальная невозможность. Но Плеханов не сразу это понял,
ему казалось, все дело лишь в том, что ему лично недостает
знаний, чтобы свести концы с концами.
И вот в начале 1880 г. Плеханов уезжает за границу
—перед ним открывается возможность «поработать на свободе» и
обрести «необходимые знания».
Процесс духовного перерождения Плеханова, начавшийся
в России, продолжается за границей более быстро.
Сказывается, в первую очередь, влияние таких факторов, как: 1)
изучение произведений Маркса и Энгельса, штудирование немец-
192
кой классической философии8, 2) непосредственнее знакомст
во с европейским рабочим движением9, 3) близкое знакомство
с различными социалистическими течениями
западноевропейского социализма, с их идейной борьбой 10 и, наконец, 4)
пиррова победа народовольцев .1 марта 'Ш81 .г. Не Оудем
подробно характеризовать весь этот процесс, скажем только, что
завершился он написанием двух работ: «Социализм и
политическая борьба» и «Наши разногласия», в которых автор
решительно порывал с народничеством и .провозглашал себя
марксистом. Это был качественно новый этап в| -развитии
русского социализма.
8 Летом 1880 г. Георгий Валентинович «был погружен в изучение
Гегеля, произведений Маркса, Прудона, братьев Бауэров и т. д. Работая над
своим умственным образованием, что называется непокладая рук, или
скорее книг, пера» (Р. М. Плеханова. Моя жизнь (Воспоминания).
Архив Дома Плеханова в Ленинграде. Пашка № АП 13а, стр. 184). А вот
только некоторые из работ, которые входили в круг чтения Плеханова
(берем из его «Записной книжки» 1880—1882 гг.): произведения Маркса
и Энгельса — «Манифест Коммунистической партии», «Гражданская война
во Франции», «К жилищному вопросу», «Бакунисты за работой»,
«Кельнский процесс коммунистов»; сочинения В. Либкнехта, Лассаля, Рикардо,
Мальтуса, Тюрго, Сэя, Сисмонди; статьи из «Revue des deux Mondes»:
«Экономисты-финансисты XVIII века», «Кенэ и его положения...», «Ричард
Кобдэн и манчестерская школа», «Поземельная собственность в римской
империи...», «Юстиция в феодальном мире» и др. («Литературное наследие
Г. В. Плеханова», сб. I. М., Госсоцэкгиз, 1934).
9 «Устроившись на первое время с жилищем, помнится, мы с Г. В.
(Георгием Валентиновичем) принялись за знакомство с рабочим и
социалистическим движением Франции. Мы начали посещать рабочие собрания,
которые производили на нас неизгладимое впечатление. Парижский
рабочий переживал эпоху увлечения, энтузиазма новым социалистическим
движением... Вид этих лиц (рабочих) часто измученных, но в глазах которых
горел святой огонь искания правды, производил на нас, меня, Г. В. и мою
подругу Полляк глубокое впечатление. Перед моими глазами стоит Жюль
Гед, вдохновенно с глубоким убеждением развивая идеи освобождения
рабочего от эксплуатации капитализма» (Р. М. Плеханова. Моя жизнь
(Воспоминания).. Архив Дома Плеханова. Папка № АП 13а, стр. 218).
10 «Знакомство с Гедом и его соратниками давали нам возможность
близкого знакомства и даже изучения рабочего движения, проникновения
в это движение научного социализма, т. е. марксизм, на пути к которому
шло социалистическое мировоззрение Плеханова и мое. Мы могли
благодаря связям, приобретенным в Париже, проникнуть на собрание
кружков последователей Прудона и других социальных учений, словом, мы
стремились и имели возможность широко познакомиться с
социалистическими теориями и практической деятельностью всех оттенков» (Р. М.
Плеханова. Моя жизнь. (Воспоминания). Архив Дома Плеханова. Папка
№ АП 13а, стр. 244).
«Мы присутствовали на трех конференциях Геда, а именно 4 февраля
1881 г. ...6 марта 1881 г. и 29 марта 1881 г. Несомненно, что пропаганда
Геда утверждала его (Плеханова) на новом пути, на который он
становился, на путь марксизма». (Там же, стр. 219).
193
Вопрос! касающийся места, роли и значения .плехановского
социализма в истории русской революционной мысли,
казалось бы, ясный и достаточно выясненный: Плеханов
разгромил народовольческую идеологию и открыл в России эру
научного социализма. И это, конечно, правильно, но по
свидетельству Луначарского, Плеханов «кричал» Ленину на
Стокгольмском Съезде (1906 г.): «В новизне твоей мне старина
слышится» Ч Старина народнических идей слышалась
Плеханову в ленинской «новизне».
Начиная û 1904 г. Плеханов, как и его единомышленники-
меньшевики, не переставал упрекать Ленина в субъективизме
и возрождении идей «Народной воли». И самое
примечательное здесь то, что аргумент против Ленина плехановцы (и
-вообще все меньшевики) выписывали -почти дословно из работ
«Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия». А уж
приведенную в «Наших разногласиях» цитату из Энгельса
относительно того, что «самым худшим из всего, что может
предстоять вождю крайней партии, является вынужденная
необходимость овладеть властью в то время, когда движение еще
недостаточно созрело для господства представляемого <им
класса...» 12, эту цитату противники Ленина буквально
заездили.
Тут есть над чем задуматься: с одной стороны,
утверждается, что социализм двух вышеназванных работ Плеханова —
вполне марксистский и вполне научный, с другой же стороны,
мы видим, что положения этого '«вполне научного социализма»
выдвигаются (и, в первую очередь, их автором) «против
ленинской революционной теории ((которая, как уже доказано
практикой, является единственно научной теорией
социалистической революции XX в.). Как же объяснить сей парадокс, когда
один представитель «вполне научного социализма» Плеханов
выступает против основных положений теории другого и
несомненно научного социалиста? Не слишком ли много
-взаимоисключающих вариантов научного социализма?
Самое простое, лежащее на поверхности «объяснение»
(которым удовлетворяется, кстати, часть историков) состоит в
том, что в начале XX в. Плеханов-де изменил своим прежним
научно-социалистическим взглядам, сжег, в общем, все, чему
поклонялся. Короче — «изменил» и «переметнулся». Это было
бы вполне приемлемое объяснение, если бы... если бы
Плеханов действительно «изменил» и действительно сжег бы все,
чему -поклонялся. iB действительности же Плеханов ничему не
11 А. В. Луначарский. Этика и эстетика Чернышевского'перед
судом современности. В кн.: Н. Г. Чернышевский. Избр. соч. М.,
Гослитиздат, 1934, стр. 41.
12 Г. В. Плеханов. Избр. философ, произв., т. I, стр. 345.
194
изменял, в начале XX в. он исповедовал в принципе те же идеи,
что и в 80-х годах. /
Существует и другое объяснение, которое учитывает тог
факт, что никаких принципиальных сдвигов в мировоззрении
Плеханова не произошло. Это объяснение сводится к тому, что
плехановский социализм всегда был-де не вполйА научным и
что все его меньшевистские ошибки в зародыше содержались
уже в его работах начала 80-х «годов (далее обычно
показываются эти «зародыши» и прослеживается процесс их развития
в меньшевистскую концепцию). I
Такое объяснение нам также представляется
поверхностным и неправильным. ;
(Жили-были два мальчика, два маленьких сорванца.
Сколько раз их драли за уши, сколько ругали за то, что не
проходило дня, чтобы они не придумывали какую-нибудь
шкоду; приходили в отчаяние учителя от их непослушания,
бледнели кондуктора трамваев, когда мальчишки эти на полном
ходу спрыгивали с подножек. И вот выросли мальчишки —
один из Н'их стал героем, другой преступником. И воспитатели
в назидание другим мальчишкам ищут «зародыши». Смотрите,
говорят они в одном классе, вот Герой: в детстве он был,
правда, не слишком послушным, но зато смелым и отчаянным —
вот зародыш героизма; смотрите, говорят они в другом классе,
вот преступник, уже в детстве были видны зародыши его
будущего пути: он нарушал дисциплину в школе, он нарушал
правила уличного движения, вот и нарушил правовые нормы
нашего общества. Какое чудное объяснение! А ведь
зародышей-то никаких и не было. А были просто два отчаянных
мальчишки, которые могли стать кем угодно. В другое время и при
других обстоятельствах появляются «зародыши» преступности
и героизма.)
Итак, мы исходим из того, что в принципе плехановские
взгляды 1'904 г. и Ш84 г. совпадают. Разберем, как они
относились к программе партии «Народной воли» и к программе
большевиков.
Вначале — о программе «Народной воли». В ее основе
лежал принцип общий всему народничеству — прийти к
социализму, минуя капитализм. Народовольцы считали, что
«ниоткуда не следует: чтобы другие страны, например, Россия, не
имели для развития крупного производства других путей»,
нежели Запад13.
В чем же, по мнению народовольцев, должен состоять этог
«другой путь», каковы формы его практического
осуществления?
13 «Вестник «Народной воли». Женева, 1884, № 2, стр. 239.
195
Все должно начаться с захвата власти революционерами
(возмущение народных масс политикой самодержавия
поможет революционерам это сделать). Захватившие власть
революционеры изберут такую политику, которая 'позволит стране,
минуя капитализм, постепенно приближаться к
социалистическим общественным отношениям. В отличие от ткачевистов,
«якобинцев», которые намеревались вводить социализм
главным образом с помощью «социалистических тюремщиков»,
народовольцы считали, что временное правительство не должно
прибегать к насильственным мерам. «Временное
(революционное.— Г. В.) правительство, — писал идеолог «Народной
воли» Тихомиров, — не имеет тут нужды ни приневоливать
народную массу, ни учить ее. Оно только помогает ей с чисто
внешней стороны» и.
Что же конкретно будет делать это правительство для
приближения социализма? В первую очередь организовывать
крупное производство и способствовать повышению
производительности труда (важность для социализма того и другого
хорошо понимали народовольцы). «Правительство,
ответственное за ход дел в стране, заинтересованное в ее благосостоянии,
от которого зависит и его собственная популярность, без
сомнений, .принуждено будет употреблять меры к повышению
производительности труда, а между прочим, и к организации
крупного производства... Выгода и необходимость крупного
производства слишком очевидна, а во многих случаях — оно даже
совершенно неизбежно» 15.
Правда, некоторые противники «Народной воли» из числа
«сторонников немецкой социал-демократии» считали, что
развитие крупного производства — это и входит в историческую
миссию капитализма. Но народовольцы считали, что сам
народ без всяких капиталистов способен создать крупное
производство. Ведь «выгоду и необходимость крупного
производства» — «это легко понять массе народа», тем более, если
инициативные, образованные люди придут на помощь народу со
своими разъяснениями.
«Почему же таким путем, — продолжает народовольческий
теоретик, — не может мало-помалу создаваться переход
общины в ассоциацию, организация обмена между общинами и
союзами общин, самый союз нескольких общин в целях того или
другого производства, пока социалистический строй,
развиваясь мало-помалу и все 'более вытесняя частное хозяйство, не
охватит наконец всех отправлений страны» 16.
14 «Вестник «Народной воли», 1884, № 2, стр. 255—256.
15 Там же, стр. 257—258.
16 Там же, стр. 258.
196
А этот процесс будет наверняка ускорен социалистической
революцией, которая в недалеком будущем совершится в
Западной Европе: «Наступление социалистического -переворота,
если не во всей Европе, то по крайней мере в некоторых ее
странах... поставит Россию в почти безусловную необходимость
организовать свой международный обмен на тех же '(т. е.
социалистических.— Г. В.) началах, а стало быть, почти
навяжет нам социалистическую организацию и в сфере
внутреннего обмена» 17.
Кратко суть народовольческой теории сводится, стало быть,
к следующему. Революционное правительство, всемерно
ограничивая частнохозяйственный сектор, будет всеми
имеющимися в его распоряжении средствами способствовать развитию
социалистических отношений, постепенно приближая
общественное устройство к социалистическому идеалу (и
рассчитывая при случае на помощь европейской социалистической
революции).
В чем утопизм (и субъективизм) этого плана?
Главное в том, что народовольческое «революционное
правительство»— это правительство, не имеющее за собой
никаких массовых исторических сил. На что (или на кого) может
опираться это правительство при осуществлении своих
реформ? Только на силу своей власти, только на свое желание,
которое, кстати, вовсе не совпадает с желанием
многомиллионных масс мелких производителей, крестьян, а именно они
составляли подавляющее большинство «русского народа»,
крестьян, идеалы которых, как известно, отнюдь не социалистические.
Разумеется, одного желания небольшой революционной
партии недостаточно для осуществления социалистических
преобразований. И с этим, .полных благих желаний правительством
неизбежно должно -произойти одно из двух — либо оно
уступит желаниям народным (т. е. желаниям крестьянским),
осуществление которых быстро приведет к чисто
капиталистическим отношениям, либо оно выступит против этих желаний и,
лишившись вследствие этого массовой поддержки народа,
окажется вынужденным прибегнуть к диктатуре (ткачевского
типа), с опорой на армию и карательные органы. Таким образом,
выполнение «социалистической» программы народовольцев ни
•к какому социализму не приведет и привести не может.
На это и указал -Плеханов в «Наших разногласиях». Он
доказал также, что без класса, заинтересованного в
социализме, революционные социалисты не смогут добиться успеха.
А таким классом,/писал (Плеханов, является лишь рабочий
класс (который в России находится пока лишь в состоянии
17 «Вестник «Народной воли», 1884, № 2, стр. 259.
197
формирования). Поэтому не захват власти должен быть целью
революционеров—в настоящее время, а развитие сознания
рабочего класса и организация его партии.
И здесь Плеханов был совершенно прав — так же как он
был впоследствии совершенно неправ, выставляя те же самые
аргументы против большевиков.
Да, несомненно, ленинская теория революции внешне
несколько напоминала народовольческую теорию: было у
Ленина и революционно-демократическое правительство, которое,,
осуществляя под своим контролем
буржуазно-демократические 'преобразования, будет способствовать постепенному
переходу общества на социалистические рельсы18. Однако
содержание этих теорий было существенно различным.
Они базировались на разных принципах. Ленин,
вырабатывая план социалистического переустройства, уповал не на
желания и волю революционеров, захвативших государственную
машину и использующих ее силу в интересах социализма. Нет,
Ленин показывает те объективные материальные
предпосылки, те массовые силы, которые позволяют говорить о
социализме как о реально осуществимой возможности.
Предпосылки эти заключались в достаточном развитии (в начале XX в.)
капитализма, а массовой исторической силой,
заинтересованной в социализме, был достаточно сильный рабочий класс.
Можно было, конечно, спорить (хотя и без шансов на
успех, но оставаясь все-таки верным марксистскому требованию
конкретно-исторического анализа), спорить о том, достаточно
ли развиты эти силы для удержания власти, ограничения
«буржуазных отношений и перехода к социализму. Но упрекать а
субъективизме авторов большевистского плана, демонстрируя
свой объективизм ссылками на опыт европейского развития —
значило обнаруживать существенные пороки лишь
собственной методологии. И все пороки поздней плехановской
методологии сводились к одному и тому же, что эта (хотя и
объективно-историческая) методология не была в то время
методологией конкретно-исторической.
18 «Не впадая в авантюризм, не изменяя своей научной совести, не
гоняясь за дешевенькой популярностью, мы можем сказать и говорим
лишь одно: мы всеми силами поможем всему крестьянству сделать
революцию демократическую, чтобы тем легче было.нам, партии пролетариата,
перейти как можно скорее к новой и высшей задаче — революции
социалистической», «...от революции демократической мы сейчас же начнем
переходить и как раз в меру нашей силы, силы сознательного и
организованного пролетариата, начнем переходить к социалистической революции»
(В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 11, стр. 222).
198
Однако эти .пороки, эти недостатки проявились-(или
вернее сказать, появились) у Плеханова лишь в XX в.
В 80-х годах XIX в. в полемике с народовольцами
социализм Плеханова открывался с самой сильной своей стороны —
со стороны объективно-исторического анализа фактов и
явлений общественного развития. Другие стороны не могли тогда
проявиться (или вернее определиться, сформироваться) в силу
своеобразия общественного развития и теоретической борьбы
той поры.
Какие главные задачи объективно стояли тогда перед
передовой социалистической мыслью России? Осознание весьма
быстрого развития капитализма в России; осмысление в связи
с этим новых задач, возникающих перед революционерами,
социалистами; разгром субъективистской исторической
концепции народничества. Это и было сделано Плехановым. Он
полностью выполнил задачи, поставленные перед социалистами
эпохой 80-х годов.
Могут возразить: как же это — «полностью», когда сами же
вы сказали, что -в теории Плеханова отсутствовал конкретно-
исторический анализ, своеобразие русского общественного
развития? 3, нет: мы говорили об отсутствии
конкретно-исторического анализа в плехановских работах 900-х годов.
Позвольте, но ведь в 900-х годах (и вы опять-таки сами это
говорили) Плеханов защищал в основном те же положения,
что и в 80-х годах.
— Да, положения те же, но время другое. А одно и то же
положение в одно время, в одних условиях может быть
предельно конкретным, а в другое время и в других условиях —
абстрактным.
В 80-е годы Плеханов с максимальной для того времени
конкретностью охарактеризовал вступление России в новую
полосу исторического развития — в полосу капиталистических
отношений. «В то же время никаких данных, говорящих о том,
что в России развитие это пойдет в высшей степени
своеобразно, таких данных не было. Более того, опыт мирового
развития капитализма просто требовал решительного
подчеркивания общего в развитии европейских стран и России, ибо этот
опыт европейского развития свидетельствовал, что
«своеобразие» капиталистического развития каждой из стран Европы
сводится лишь к несущественным особенностям, возникающим
лишь вследствие разницы вступления в капитализм по
времена. «Было ли похоже начало английского капитализма на
начало капитализма в Германии?—спрашивает Плеханов в
«Наших разногласиях».—Поскольку нам известно, совсем
непохоже, так непохоже, что в свое время и в Германии возникло
199
мнение, будто эта страна совсем не имеет данных для
развития крупной обрабатывающей 'промышленности...» 19. Но, как
известно, со временем Германия стала вполне
капиталистической страной. Почему же в России должно быть иначе?
Повторяем, данных для утверждения, что количественные
(временные, социальные и экономические) отличия России от Запада
перейдут впоследствии в качественное своеобразие русского
пути развития, таких данных в 80-е годы не было. И -потому
рассуждать о своеобразии (существенном качественном
своеобразии) России в ту пору было бы именно
абстрактно-схоластическим занятием. Вот почему мы говорим, что в 80-е
годы исследование Плеханова было «и объективно-историческим
и конкретно-историческим исследованием. И поэтому мы
решительно возражаем .против того, чтобы видеть в ранних
марксистских работах Плеханова зародыши меньшевизма.
Там нет ни меньшевизма, ни большевизма; эти течения
возникли на принципиально иной исторической почве.
Плехановский социализм 80-х годов — один из важнейших
этапов развития русской социалистической мысли от утопии к
науке, последняя ступенька 'перед ленинским учением.
Подводя итог, можно сказать, что завоевания
плехановского социализма огромны. Однако не обошлось и без -потерь: в
социализме Плеханова утрачены некоторые важные
завоевания предшествующего развития русской социалистической
мысли, и, в первую очередь, идеи Чернышевского о
возможности качественно своеобразного пути России к социализму в
■силу существования двух родов острых противоречий
(крепостнических и буржуазных). Вместе с тем, как мы -показывали,
потери эти были неизбежны, более того, они ;были необходимы:
в 80-е годы социалистическим теоретикам нельзя было
двигаться дальше, не отложив в сторону идеи своеобразия
(разросшиеся, кстати, до идей самобытничества). Да и то, что это—
потери, выяснилось лишь несколько десятилетий спустя,
когда достаточно развились общественные отношения России.
Дальнейшее движение русской социалистической мысли
заключалось в развитии и конкретизации .плехановских (т. е.
ортодоксально-марксистских, поскольку их защищал Плеханов)
положений, в соединении их с завоеваниями лредшествующей
Плеханову социалистической мысли России. Это стало
возможным в результате развития, или, как мы говорили,
конкретизации, экономических отношений русской жизни. Более
того, задача расширялась — так как капитализм становился
империализмом (и этот процесс требовал осмысления),,так
как исторический процесс все более становился всемирно-ис-
19 Г. В. П л е х а н о в. Избр. философ, произв., т. I, стр. 207.
торическим процессом. И потому теория революции в той или
другой стране не могла быть разработана в отрыве от теории
революционного преобразования мира в целом. Теория
русской революции в XX в. должна была быть одновременно
теорией мирового революционного процесса — процесса, в
котором участвуют (и взаимодействуют) страны разного уровня
экономического развития, разного социального устройства.
Вот какая задача стояла перед социалистическими
теоретиками.
Она была решена Лениным. Ленинская теория
революции — это завершение цикла развития русской
социалистической мысли, синтез, в котором соединились все ее лучшие
достижения. Ленинизм — это завершение определенного
цикла развития мировой социалистической мысли. Ленинизм —
начало качественно нового этапа развития социализма в
России и во всем мире. Этапа практического осуществления
идей, выработанных мировой социалистической мыслью,
важной составной частью которой была социалистическая мысль
России.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем итог. Какова же главная особенность русского
социализма, что составляет его своеобразие?
1. Настоящее исследование приводит нас к тому выводу,
что своеобразие (и «историческая заслуга) русской
социалистической мысли состоит, в первую очередь, в постановке и
обсуждении проблемы некапиталистического .пути развития
отсталой страны к социализму К
И хотя в решении этой проблемы у русских социалистов
было много утопического и наивного, сама ее постановка не
была ни надуманной, ни случайной. Она отражала
появившуюся во второй половине XIX в. объективную возможность
такого рода пути, возможность, связанную с наличием
высокоразвитых буржуазных стран Европы, с образованием
мирового капиталистического рынка, втягивавшего в свою орбиту
отсталые страны и способствовавшего быстрому (и
своеобразному) развитию производительных сил в этих странах,
возможность, связанную с ростом рабочего, социалистического
движения в Западной Европе и революционной борьбы
крестьянства в России.
2. Проблема эта, однако, не могла .получить научного
разрешения (или хотя бы вполне научной постановки)—пока
русская социалистическая мысль, проделав трудный и
сложный путь развития, не -пришла (в лице Плеханова) к
убеждению, что социалистический строй возможен только как
результат высокого развития производительных сил. Иной
социализм — «социализм», который базировался бы на
слаборазвитых производительных силах — не социализм. Это вполне до-
1 Первый, кто поставил эту проблему в России, был Герцен. Однако
лишь в трудах Чернышевского проблема эта получила глубокое и
всестороннее обоснование. Потому совершенно справедлива точка зрения,
согласно которой оба они — и Герцен и Чернышевский — являются
основоположниками русского социализма
202
казал Плеханов, полемизируя с народническими
публицистами.
И только лишь после этого теоретического завоевания
стала возможной научная постановка вопроса о своеобразии
русского общественного развития, об особом .пути развития
отсталых стран к социализму, ибо теперь слишком общая
формулировка вопроса: «как достичь социализма, минуя этап
капиталистического развития» — тюлучала ясное и конкретное
выражение: «каким путем достичь необходимого для
социализма уровня производительных оил». Решить эту .проблему
выпало на долю Ленина и созданной им партии большевиков.
3. Однако это вовсе не значит, что поиски особого пути
развития России, которые вели русские социалисты XIX в.,
оказались бесплодными или что завоевания группы «Освобождение
труда» были единственным результатом этих поисков.
Плеханов и его группа не смогли синтезировать все то лучшее, что
было в теории русских социалистов.
Многие плодотворные идеи, порожденные русским
социализмом, многие его направления не были развиты, не были
реализованы группой «Освобождение труда», и в первую
очередь идеи, связанные с поиском своеобразия русского
общественного развития. А ведь несмотря на утопический (в общем)
характер русского социализма, в нем было немало такого рода
плодотворных идей.
Напомним наиболее существенные из них.
Русские социалисты были страстными пропагандистами
человеческой активности. Теории русских социалистов (от
Чернышевского до народовольцев) буквально пронизаны верой в
могущество знаний, в силу человеческого разума,
человеческого сознания. И это не просто идеалистические построения,
подобные идеалистическим теориям французских просветителей
или германских младогегельянцев (как думал Плеханов). Нет,
в теориях русских социалистов нашел отражение современный
им факт действительного возрастания роли сознательного
элемента в человеческой истории, факт, заключающийся,
например, в том, что в России (впервые в истории человечества)
революционное сознание «обогнало» национальное бытие:
сознание, сложившееся на почве буржуазных отношений Европы,
было социалистическим, тогда как экономическое бытие
России было феодальным и ближайшие задачи, стоявшие перед
Россией, 'были задачами буржуазными.
Появление объективной возможности ускорить процесс
развития отсталых стран (используя достижения стран
передовых) и обусловило возрастание роли сознательного
элемента, ибо теперь от сознания, от степени понимания объективных
203
задач, стоящих перед страной, и возможностей помощи
извне — от этого теперь в большой степени зависело ускорение
или замедление процесса развития.
Научная реализация идей русского социализма о
возрастающей роли сознательности в историческом 'процессе была
осуществлена Лениным, впервые в истории марксизма с такой
•полнотой разработавшего проблему соотношения стихийного и
сознательного в общественно-преобразовательной
деятельности. Объективная необходимость увеличения роли сознания в
истории (необходимость, вызванная новой экономической
ситуацией) была совершенно не .понята меньшевиками и
педантами II Интернационала, вульгаризировавшими мысли
Маркса и Энгельса о подчиненности сознания бытию; и потому
Ленин для них был субъективист и волюнтарист, мало чем
отличавшийся от Бруно Бауэра и К°.
Возрастание роли сознания — эта особенность
объективного исторического развития второй половины XIX в.,
получившая преломление в теориях русских социалистов, во многом
обусловила боевой, активный, действенный характер русского
социализма. Эта особенность (наряду с другой его
особенностью— слиянием социализма с революционным
демократизмом) обусловила также и ярко выраженную революционность
русского социализма (которая так отличает его от широко
распространенных в то время на Западе форм социализма
нереволюционного) .
Здесь надо также добавить, что эта сторона своеобразия:
русского социализма, связанная с увеличением роли сознания,
получает еще большее усиление в странах Востока — ибо здесь
имеется еще больший разрыв между высокоразвитым
производством передовых промышленных стран и отсталым
хозяйством стран восточных (а также африканских и
латиноамериканских стран), ибо здесь объективно наличествует
возможность еще более резкого, чем у России, броска вперед — от
форм дофеодальных, от форм раннего феодализма, от форм
так называемого «азиатского способа производства» к формам
социалистическим. Естественно, роль сознательной и
организующей силы, имеющей перед собой богатые возможности
выбора и различного рода комбинаций, учитывающей и
-использующей достижения соседних высокоразвитых стран, в этих
условиях роль, повторяем, сознательной и организующей силы
резко возрастает. Однако это обстоятельство таит в себе не
только приятную возможность ускорения прогресса, но и
трагическую возможность его резкого замедления, замедления,
проистекающего из переоценки роли человеческой воли и
человеческого сознания. Потому одной из важнейших проблем со-
204
циалистической теории является выяснение возможностей и
границ сознательного руководства историческими (и
экономическими в том числе) процессами.
4. Надо сказать, что этот вопрос о возможностях и
границах человеческой воли в историческом развитии был в центре
внимания русской социалистической мысли. История русского
социализма (его теория и практика) содержит богатый и
поучительный материал по этому вопросу. Через всю историю
социалистической мысли России шроходит острая борьба двух
линий в оценке возможностей человеческой воли в
общественном преобразовании: одну из них мы назвали бы
революционным фанатизмом, другую — революционным реализмом.
Революционные фанатики (которые часто столь же отвратительны,
как и средневековые религиозные фанатики) человеческую
волю, сознание, человеческую активность превращали в исходное
исторического развития. Естественно, их не интересовали ни
объективные законы бытия, ни объективные потребности
людей; природа и люди для них — лишь объект их (фанатиков)
деятельности, лишь материал, который надо кромсать и мять,
чтобы слепить из него что-нибудь «путное». Это — «воля»,
которая реализуется (по планам фанатиков) в виде большой
дубины, которой загоняют людей в социализм. (Нечаев <и нечаев-
щина — наиболее яркий пример тому.)
Безудержному культу «воли» и «насилия» революционный
реализм (ярчайшим представителем которого был
Чернышевский) противопоставляет теорию объективного анализа
закономерностей 'исторического процесса, принципиально отрицая
насилие над большинством народа (даже «для его же
собственного блага»). Для революционных реалистов «воля» и
«сознание» были лишь «майэвтическими» (т. е.
родовспомогательными) средствами.
«Наша сила ... в исторической попутности»2, — писал
Герцен в поистине манифесте революционного реализма — в
письмах «К старому товарищу».
5. Борьба революционного реализма и революционного
фанатизма шла по многим направлениям, но центральным
вопросом их 'полемики (вопросом, в котором конкретизировалось
основное противоречие: «культ насилия» или «историческая
попутность»), был вопрос о роли народных масс и личности в
истории.
Особенности исторического развития России обусловили то,
что ни одна из стран не имеет столь обширной и столь
поучительной литературы по этому вопросу. В этой литературе лред-
2 А. И. Герцен. Соч. в девяти томах, т. 8. М., Госполитиздат, 1956,
стр. 412.
205
ставлены все мыслимые точки зрения на этот счет: от
фанатического (почти религиозного) преклонения перед каждой
подробностью народной жизни до не менее фанатического
презрения к самым мощным народным движениям. И среди этих
точек зрения была точка зрения, наиболее полно выраженная
Чернышевским и Добролюбовым (например, в статьях «Луч
света в темном царстве», «Не начало ли перемены?» и др.) —
точка зрения, одинаково свободная от фанатических
крайностей как преклонения, так и презрения. Сторонники этой точки
зрения знали могучую силу народа и уважали его, но они
знали и то, что народ этот темен и невежествен, и не приходили
в восторг по этому поводу. Деятельность этих революционеров
заключалась в пробуждении сознания и революционной
энергии народа, они обосновали основной принцип социализма:
самодеятельность народных масс — только эта сила способна
построить подлинно социалистическое общество.
Иной социализм, — т. е. социализм, в строительстве
которого народные массы принимают участие лишь в качестве
пассивного инструмента власть имущего меньшинства, — такой
социализм не есть социализм.
«Самодеятельность народных масс» — это станет потом
важным принципом ленинского социалистического учения.
6. Таким образом, русские социалисты (из разряда
«революционных реалистов») нащупывали те объективные рамки,
которые указывали предел возможностей человеческой «воли»
и человеческого сознания; это степень хозяйственного,
промышленного развития страны (степень развития
производительных сил, как сказали бы мы сегодня), возможность
помощи со стороны высокоразвитых стран, это интересы и
потребности, существующие в народе, нравственный и культурный
уровень населения. Революционные реалисты решительно
выступали против всяких «великих скачков», в основе которых в
лучшем случае не было ничего, кроме воли и желания
нетерпеливых людей. Наиболее глубокие и наиболее серьезные из
русских социалистов, создавая свои революционные
программы, тщательно и всесторонне изучали объективное
соотношение реальных общественных сил и характер общественных
противоречий. Ярчайший пример этому — идеи
Чернышевского (и Добролюбова) о сочетании борьбы за демократию с
борьбой за социализм.
Решительную борьбу ведут ныне коммунисты всего мира
с идеологией «левого» оппортунизма, прикрывающего свою
авантюристическую, антинародную политику
ультрареволюционными фразами. Эту борьбу современные марксисты ведут,
опираясь на опыт борьбы Маркса и Ленина с «левой», мелко-
206
буржуазной революционностью. Серьезным подспорьем в этой
идеологической борьбе является и опыт русского
революционного движения XIX века. Ведь именно в борьбе с
мелкобуржуазной революционностью русские революционеры
выстрадали марксизм.
Не надо, конечно, переоценивать «левую опасность», но не
надо и недооценивать ее. Ведь левая фраза, как и «левая
политика», не является лишь результатом «происков»
властолюбивых людей. Нет, эта фраза и эта политика имеют прочные
корни в положении и настроении народов отсталых стран.
С одной стороны, страшная нищета, страшное угнетение
народов такой страны порождают его кипучую
революционность, его беззаветную решимость, ибо перед ним
действительно вьгбор: победа или смерть. Но есть и другая сторона этой
народной нищеты и угнетенности, эта «сторона» — темнота и
невежество народа. Темнота и невежество «человека из
народа» мешают ему ясно понять суть .происходящей борьбы,
мешают понять самого себя и, в первую очередь, мешают понять
свою собственную отсталость, свою ограниченность. Ему
начинает казаться, что командирский приказ, сабля, винтовка
(«средства», так верно служившие ему в революционных
боях!) в состоянии решить любые проблемы, любые самые
сложные вопросы экономического, политического и культурного
строительства; он не понимает, что ему, бесстрашному
революционеру-победителю, надо ... учиться. Он не понимает
этого. Свое ограниченное сознание, свои неразвитые,
ограниченные потребности он хочет представить, как эталон сознания,
как эталон жизнеповедения, следование которому
обязательно. Короче, свою ограниченность он хотел бы возвести во
всеобщий закон, не понимая, что его ограниченность была
порождена прошлым строем и что поэтому, возводя ее в общий
закон нового строя, в обязательную но,рму нравственности <и
культурности, он возводит в закон именно это прошлое.
(Происходит (в новой форме) возрождение старой мерзости, как
выражался Маркс. А люди, которые смогли бы (в целях
захвата власти) использовать эти настроения, всегда найдутся,
больше того, эти настроения сами порождают определенного
рода людей.
Однако победа такого рода «настроений», победа
всеобщей ограниченности, не является в XX в. фатальным,
неизбежным исходом революций в отсталых странах: здесь и может
сказаться сила сознательности и сплоченности
революционного руководящего меньшинства, способного понимать уроки
истории, и дело вовсе не в том, чтобы в страхе 'перед
возможностью возрождения старой мерзости противиться сплочению
207
и организации народа, его революционному выступлению
против старого мира. Ничего подобного. Сплачивать и поднимать
народ надо, и пробовать надо, и рисковать надо, и не
обязательно ждать, пока сознание последнего «человека из народа»
поднимется на запланированную высокую ступень. Все это так.
Но только еще одно «надо»: надо помнить при этом о
границах и возможностях наших воль и желаний, и конкретно,
относительно данной проблемы — надо помнить, что победа
«сплоченной и организованной» (но еще неразвитой и
малограмотной) народной массы — вовсе еще не означает
«автоматического» наступления социализма. Надо помнить, что
только то достижении определенного (высокого) уровня
производительных сил и высокого уровня культурности, только
тогда и можно всерьез говорить о социалистических
преобразованиях.
Это очень важно— как руководители революционного
движения оценивают ситуацию, складывающуюся на другой день
после революции. Одно дело рассматривать эту ситуацию как
временную и преходящую, видеть в ней лишь предпосылки для
скорейшего развития производительных сил и культурности
народа, т. е. для социализма (в этом случае политическое
руководство отдает себе ясный отчет в опасностях, которые
встают на пути нового строительства, и направляет свои
усилия на то, чтобы свести эти опасности до минимума). И
другое дело, если ситуация эта выставляется в качестве образца
общественного устройства, в качестве подлинного, истинного
социализма (коммунизма); это уже торможение
общественного развития, это .преддверие личной диктатуры или диктатуры
какой-нибудь клики «революционных негодяев».
Фатальной неизбежности исхода такого рода, повторяем,
нет. Надо только трезво оценивать возможности и ясно
представлять опасность. Неоценимую помощь в этом может
оказать внимательное изучение уроков истории, за которые так
дорого платило человечество. Не в нашей власти исправить
ошибки прошлого, но в нашей власти не повторять их.
«Прошедшее не в нашей власти, но будущность наша», — этими
словами П. Я. Чаадаева мы и хотим закончить свою работу.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение . 3
Глава I. Н. Г. Чернышевский 11
1. «Кричащее противоречие» статьи «Критика философских
предубеждений...». Две точки зрения современных исследователей 11
2. Эволюция взглядов Чернышевского в 1848—1858 гг. 14
а) Становление Чернышевского — революционера и
социалиста .... 15
б) Программа Чернышевского в 1857—1858 гг.
Программа-максимум и программа-минимум .... 31
в) Некоторые особенности тактики Чернышевского ... 42
3. «Критика философских предубеждений...». Чего «стыдится», от
чего «отказывается» Чернышевский. Объяснение «кричащего
противоречия» 46
4. Развитие программы после 1858 г 50
а) Ближайшая задача —срыв реформы, революция ... 50
б) Развитие программы-максимум. Движение Чернышевского
от утопического социализма к научному 57
5. Западноевропейский капитализм в оценке Чернышевского.
(Социализм Чернышевского и научный социализм) . . 63
Глава II. Н. А. Добролюбов и Д. И. Писарев . . .80
Глава III. Революционное народничество . . .... 128
1. Теории и теоретики .... 128
2. Практика революционного народничества . .... 154
Глава IV. Г. В. Плеханов .... 183
Заключение 201
Водолазов Григорий Григорьевич
ОТ ЧЕРНЫШЕВСКОГО К ПЛЕХАНОВУ
(ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ)