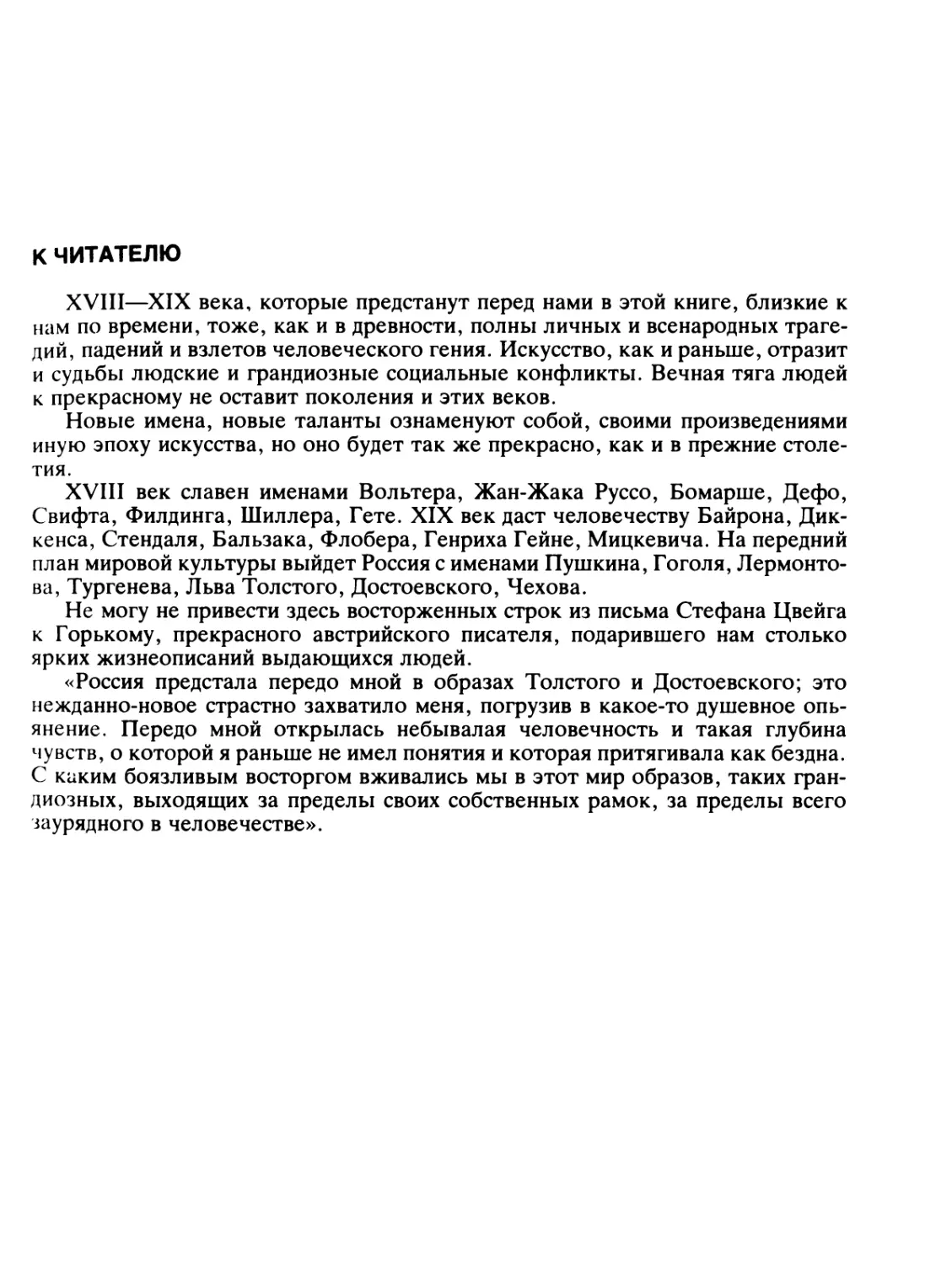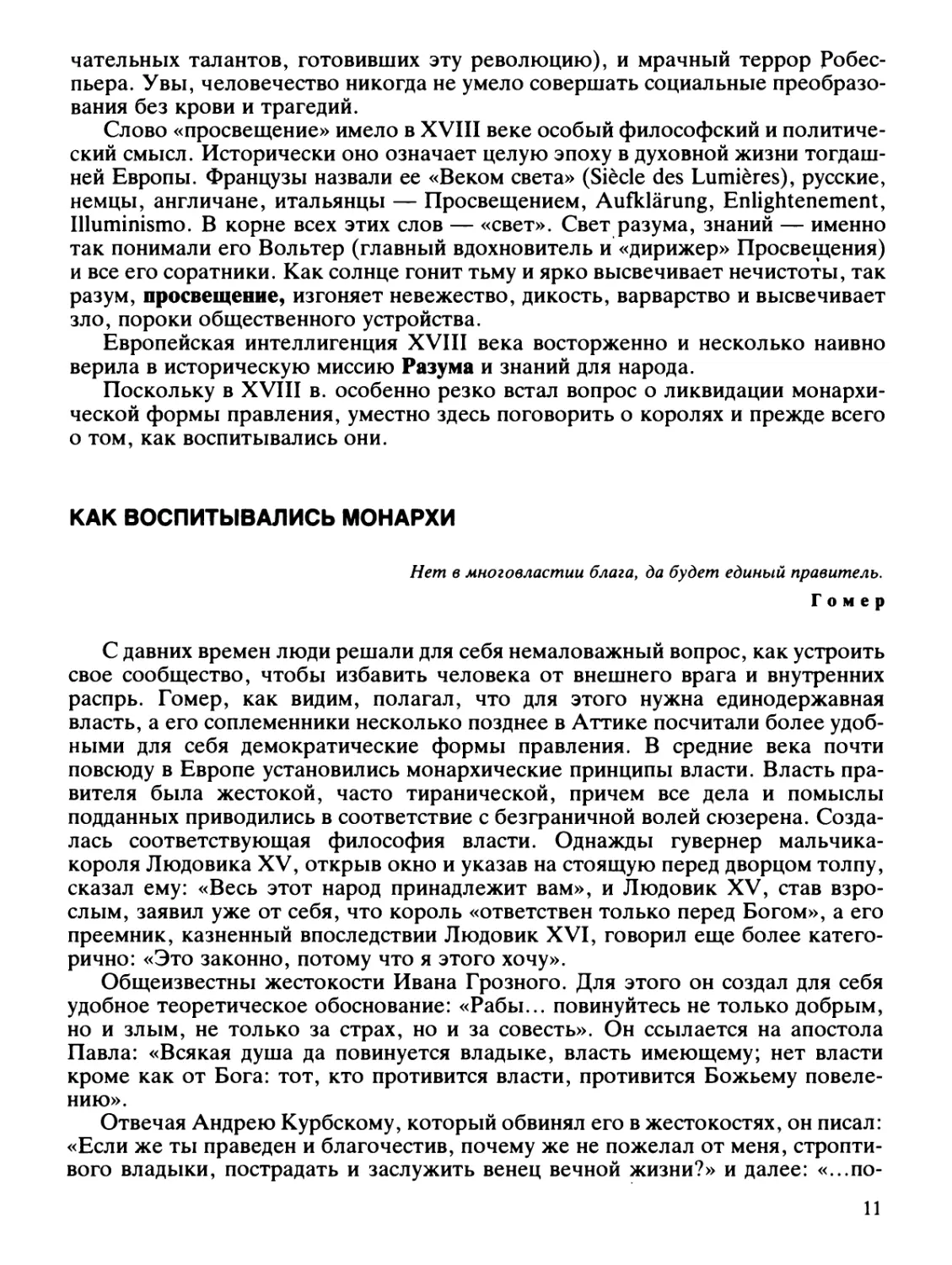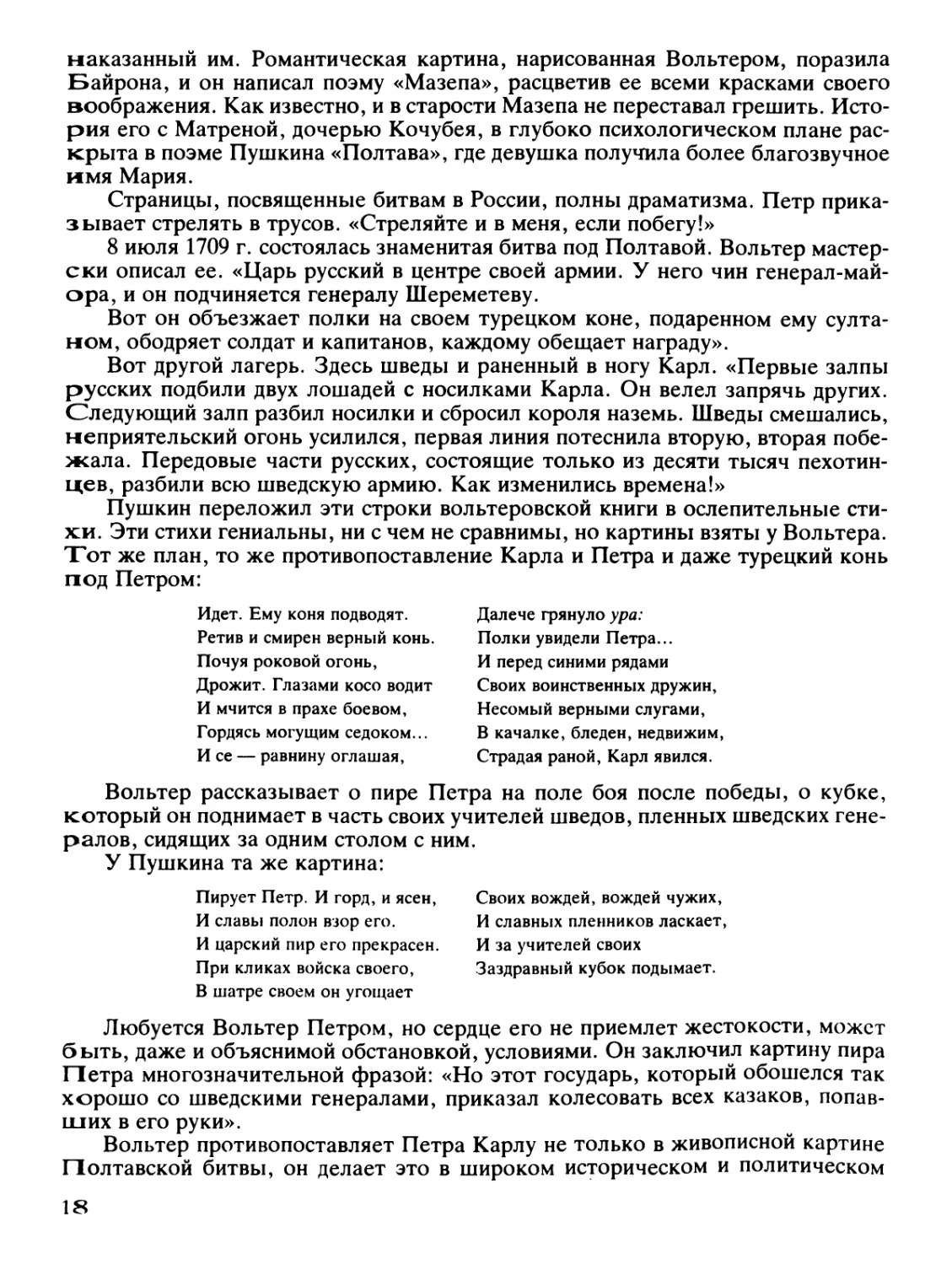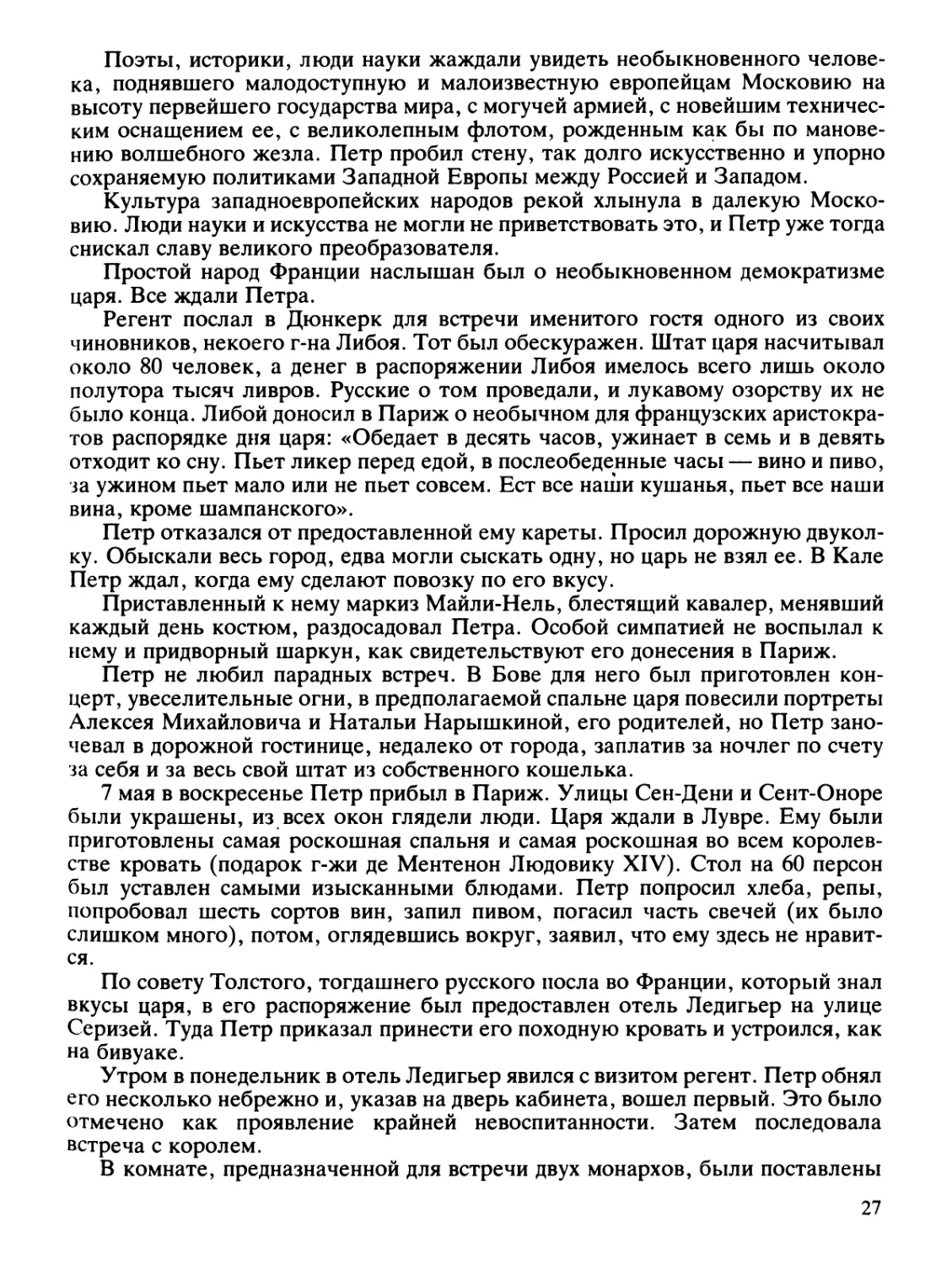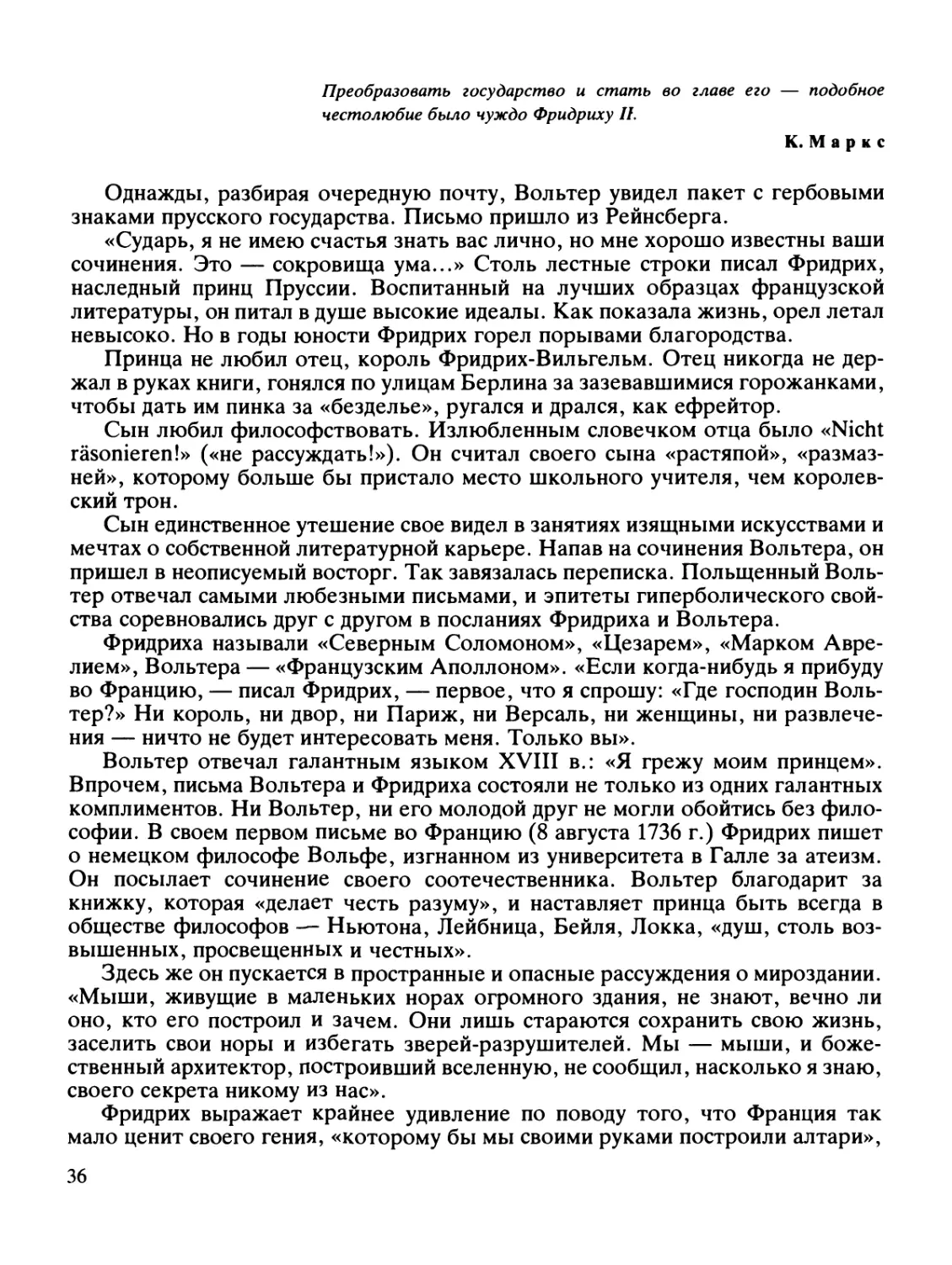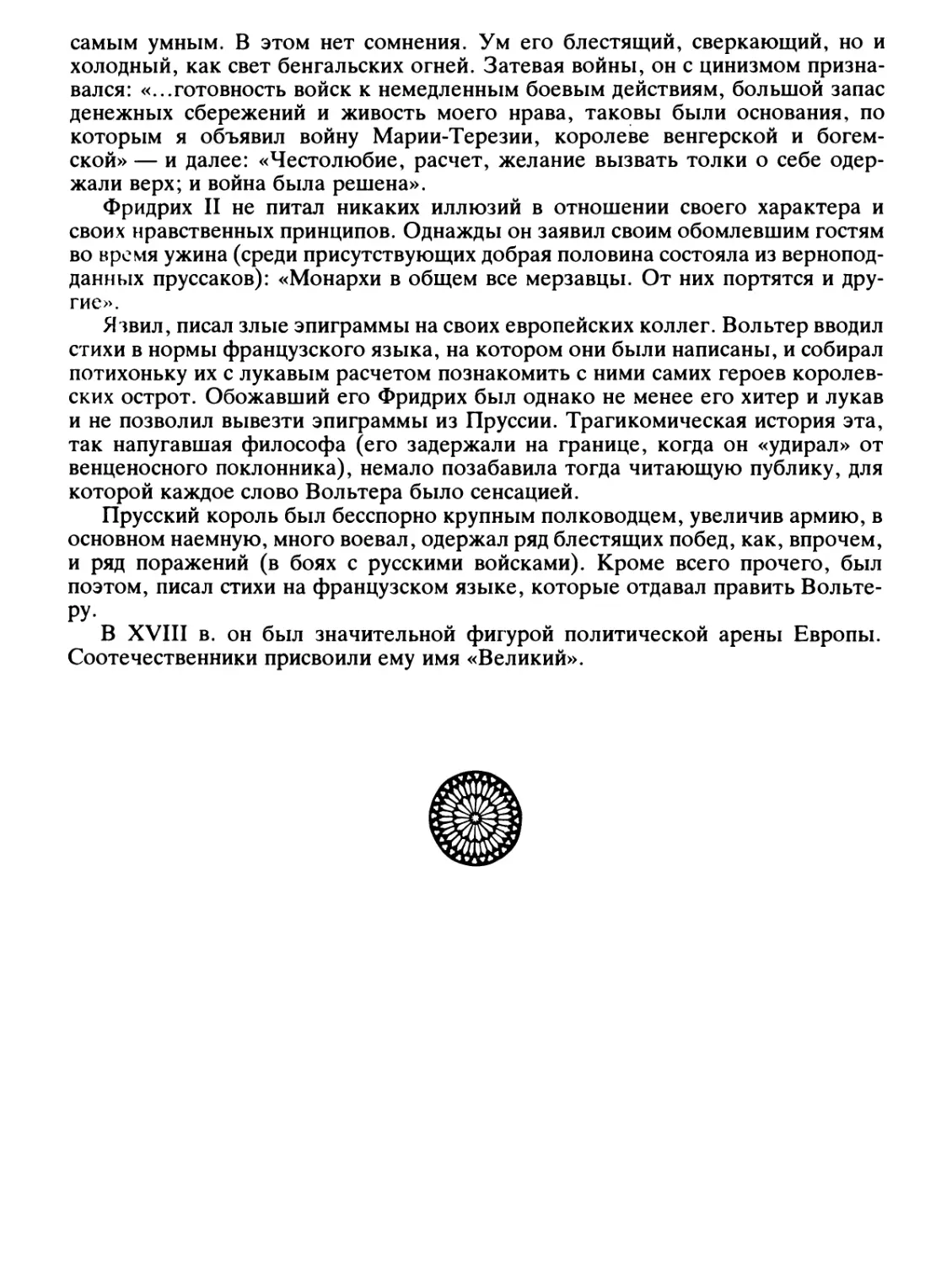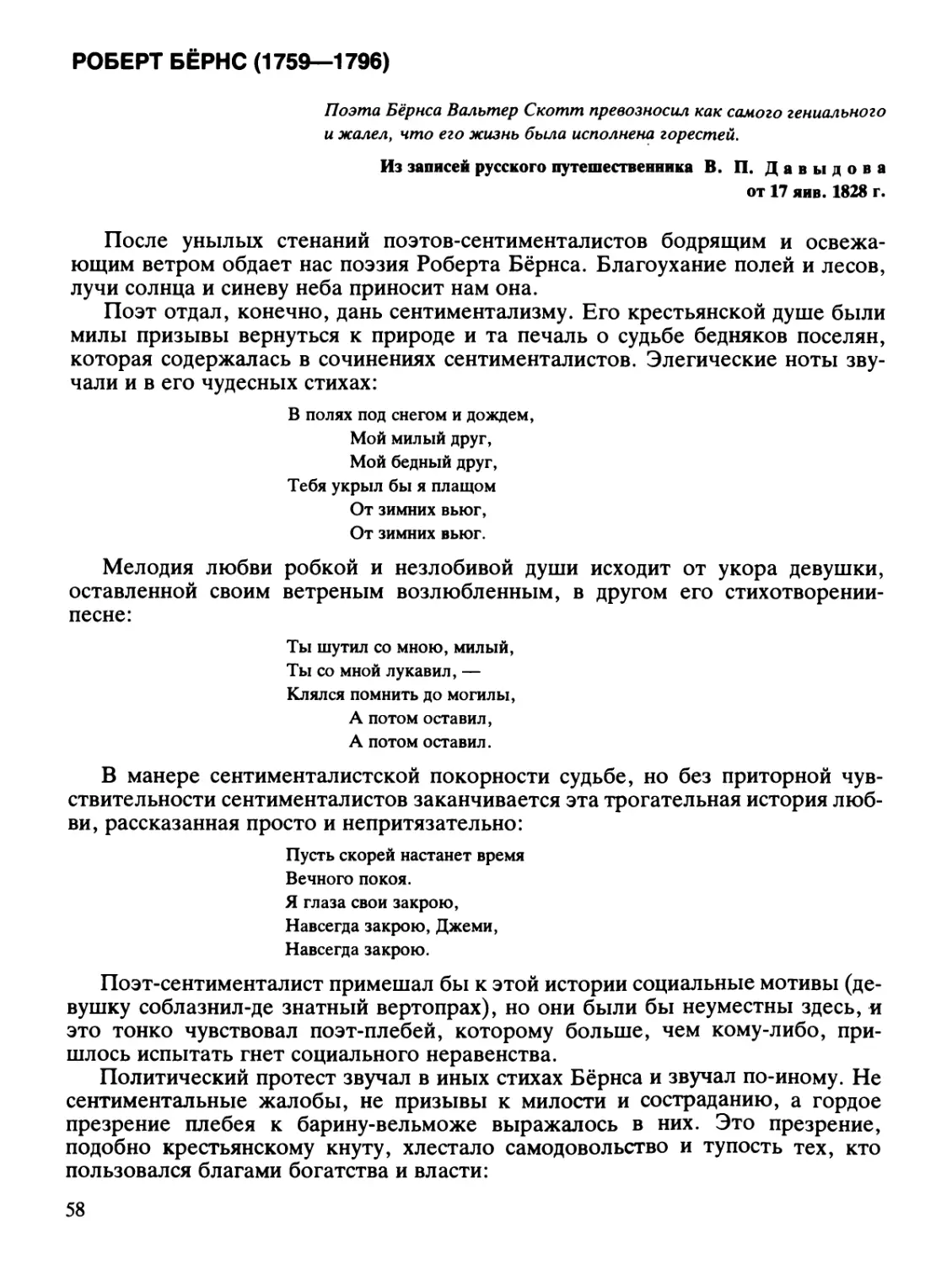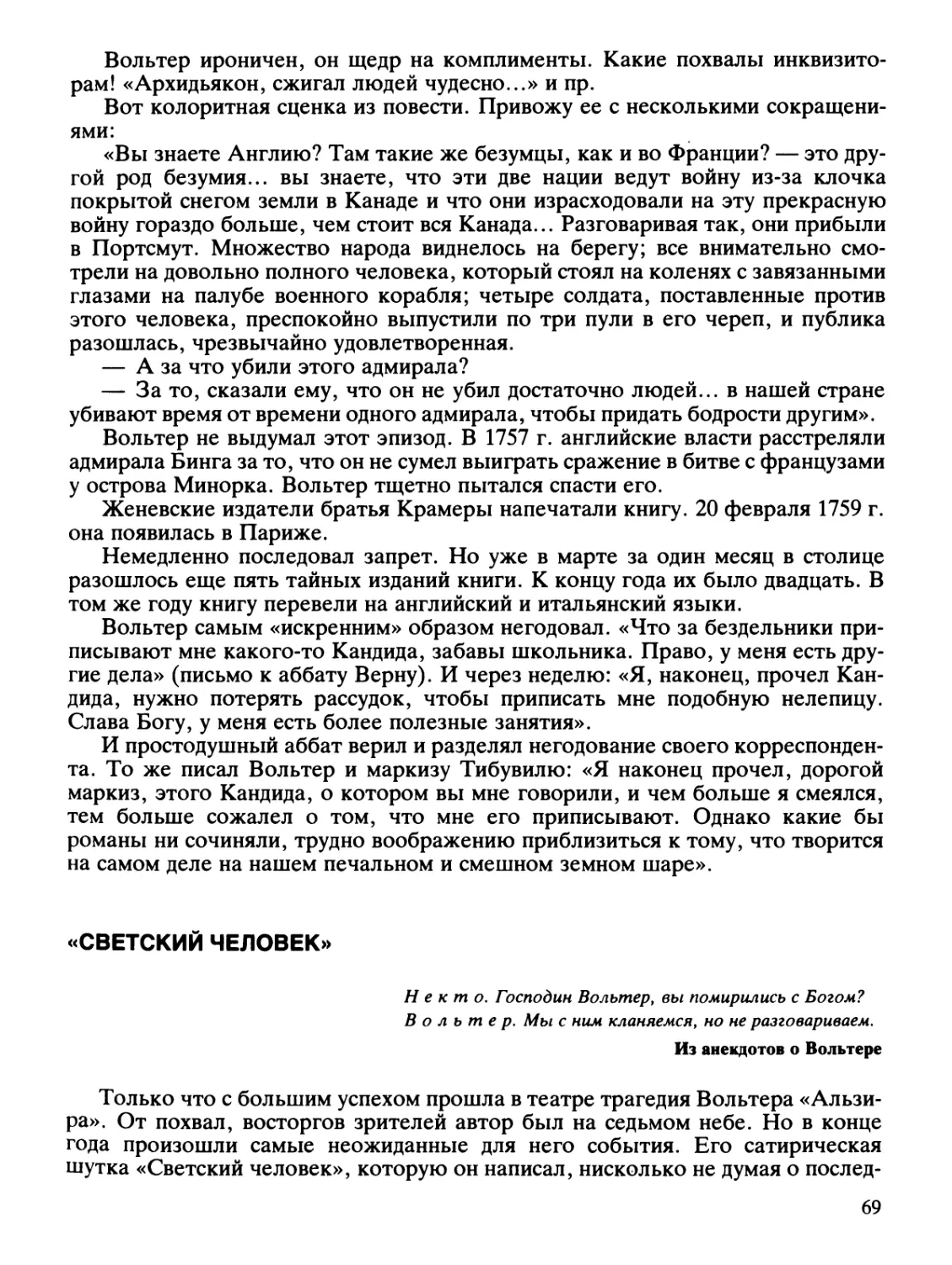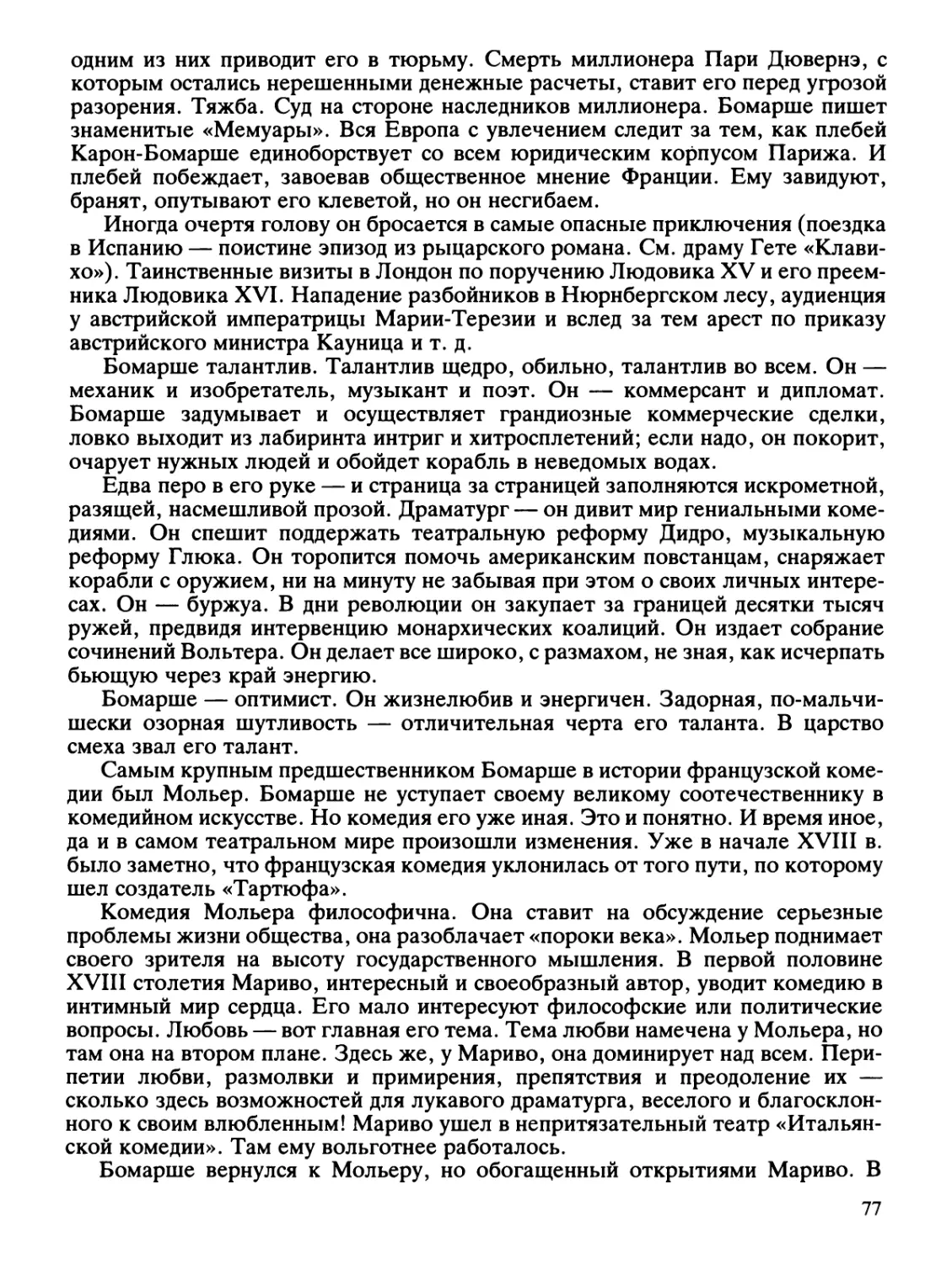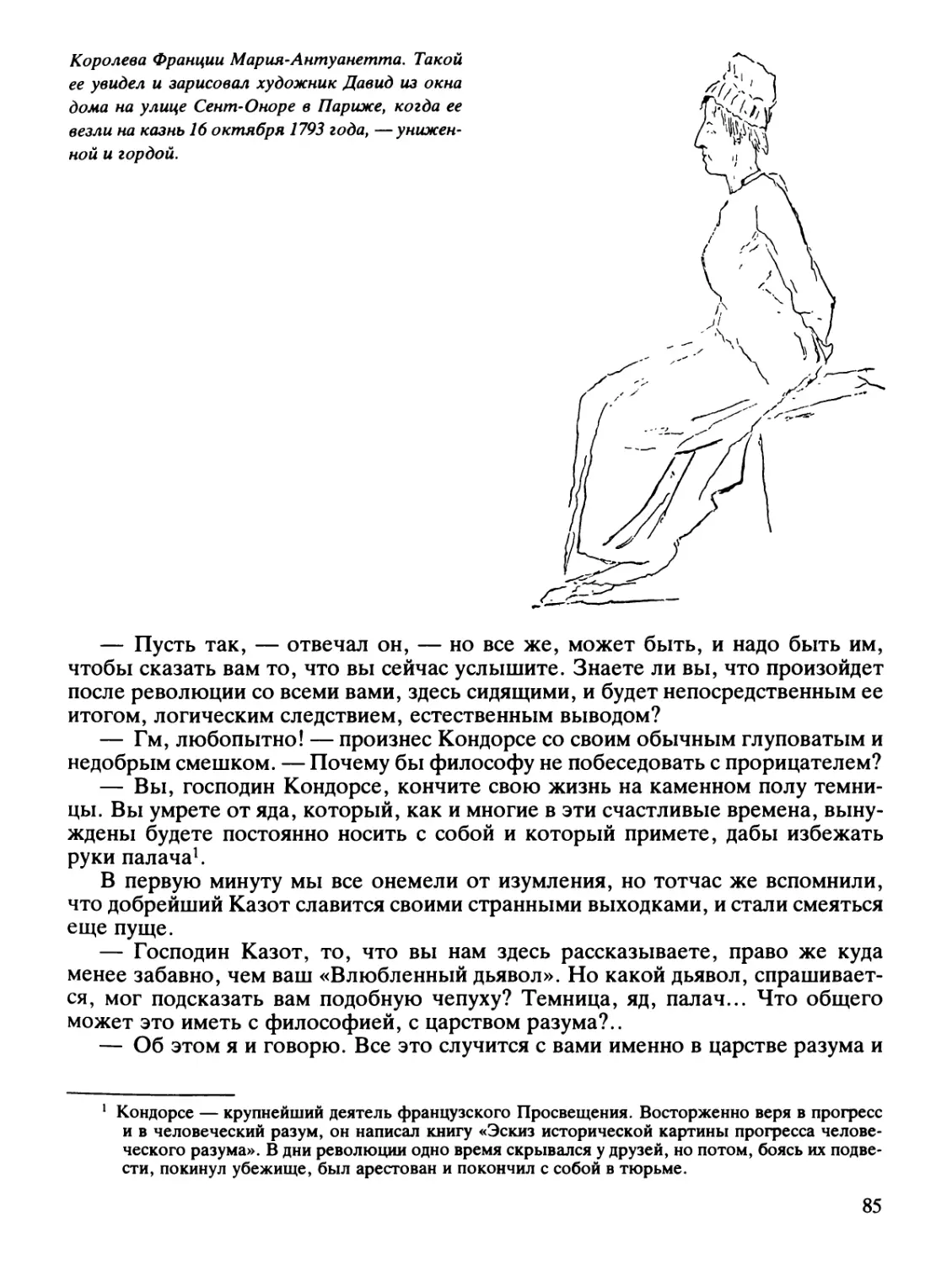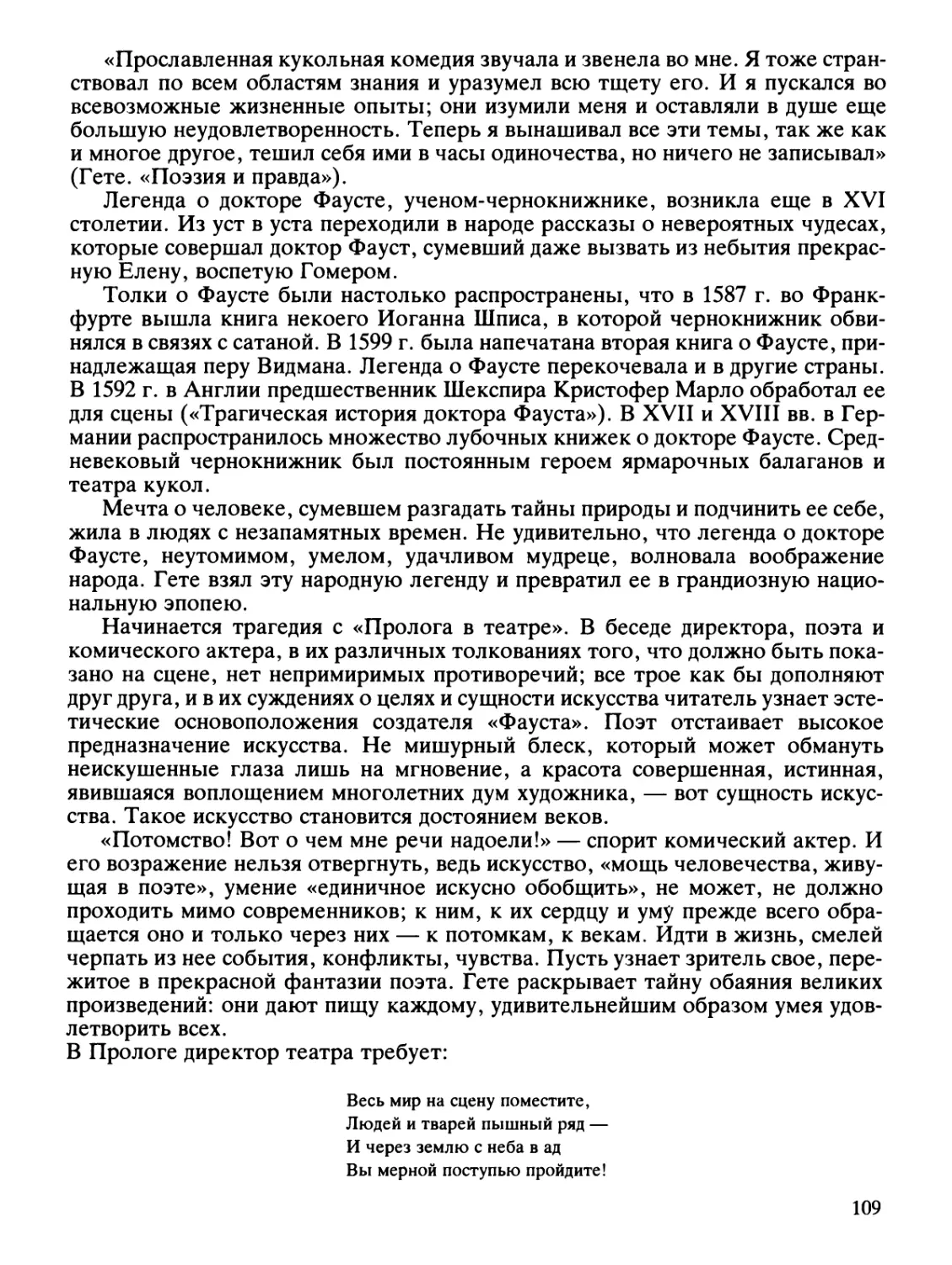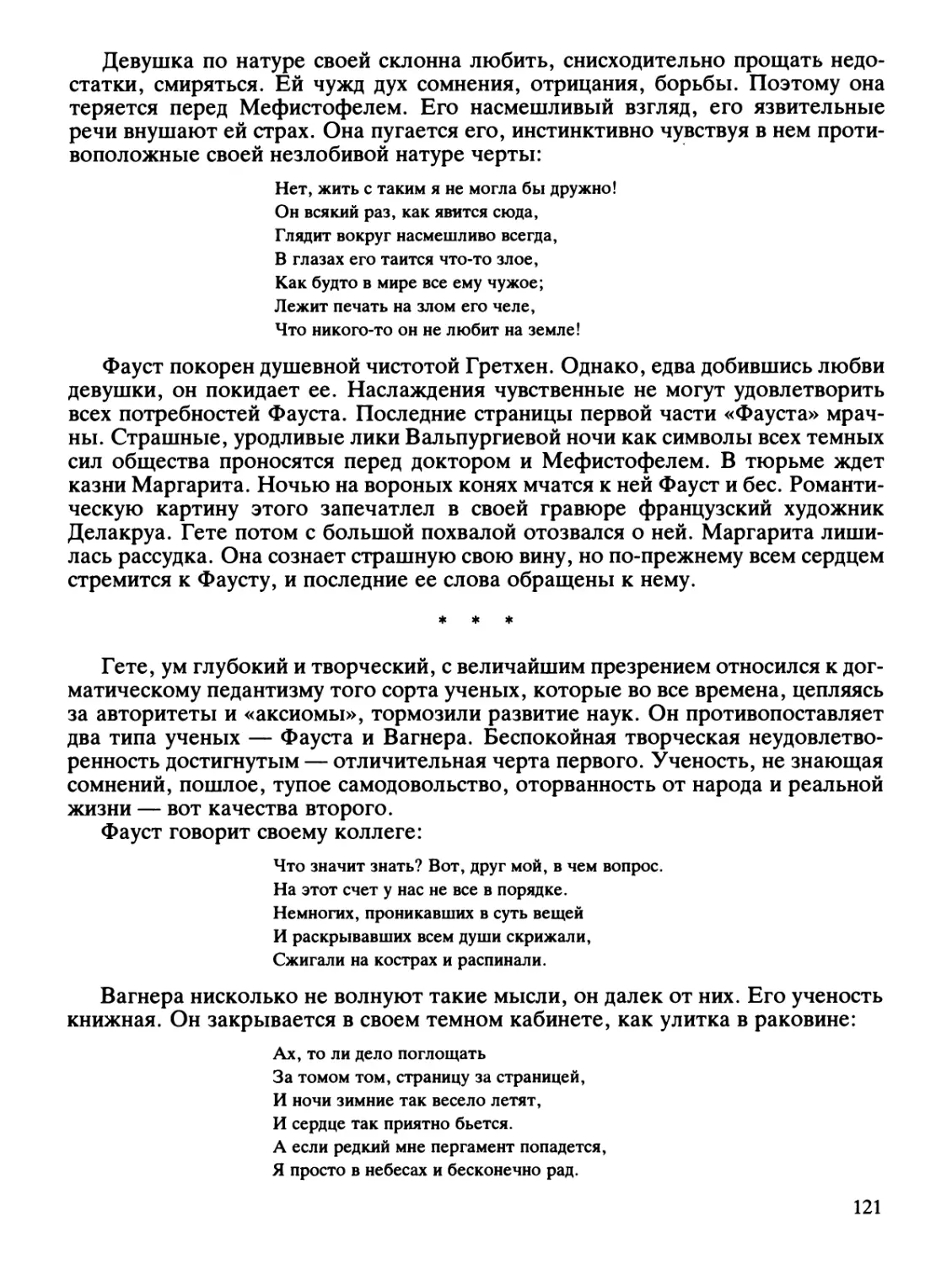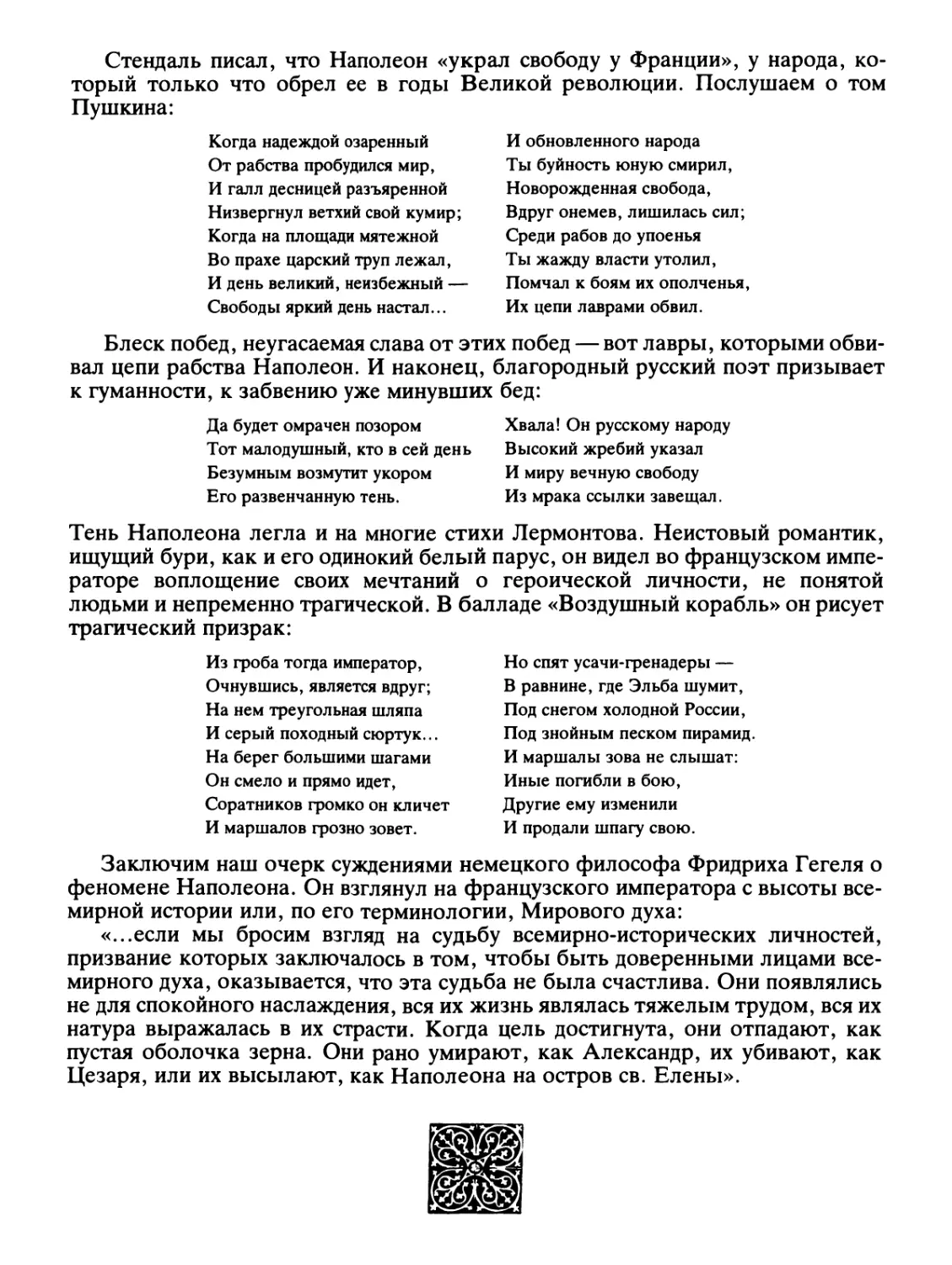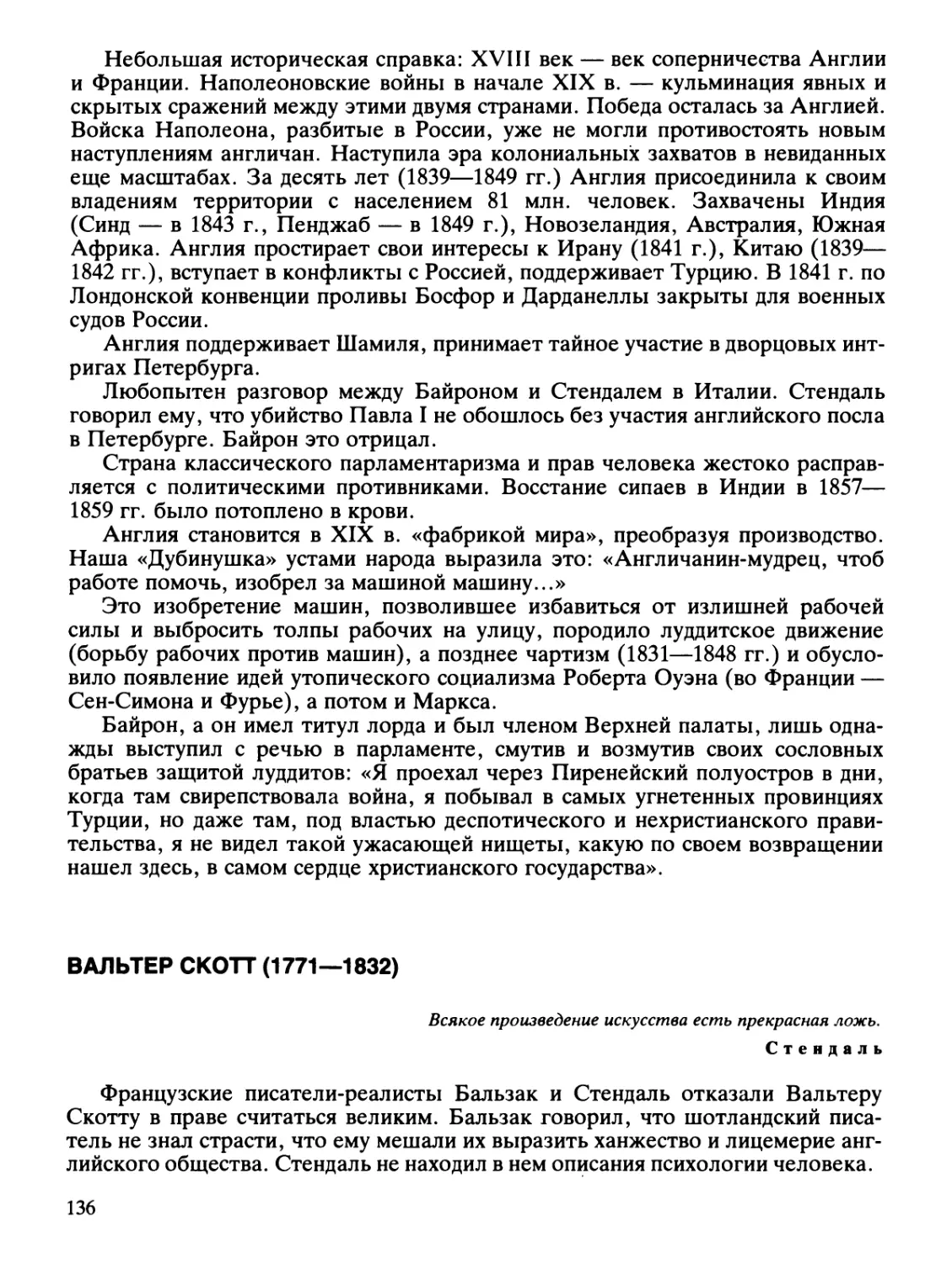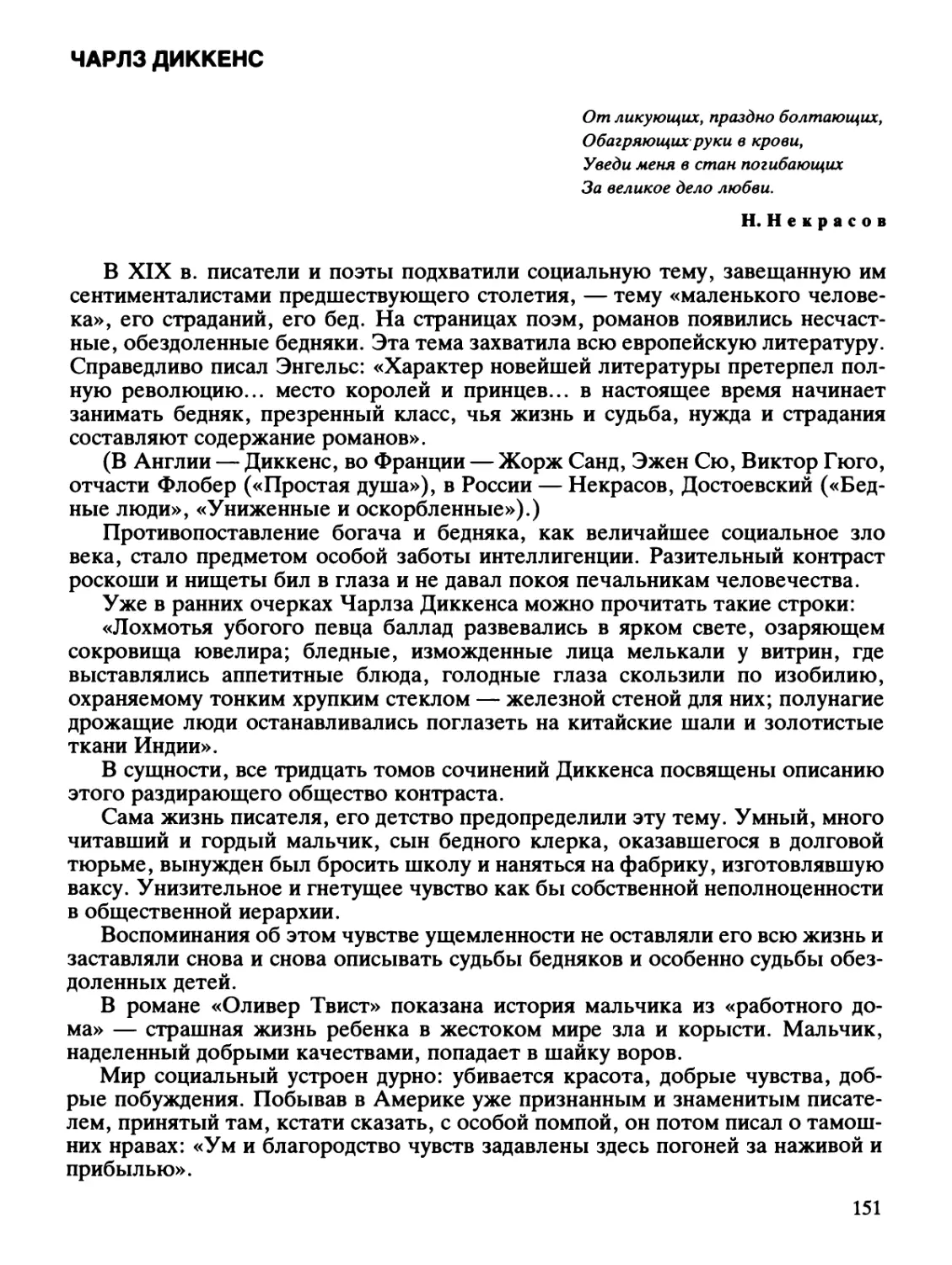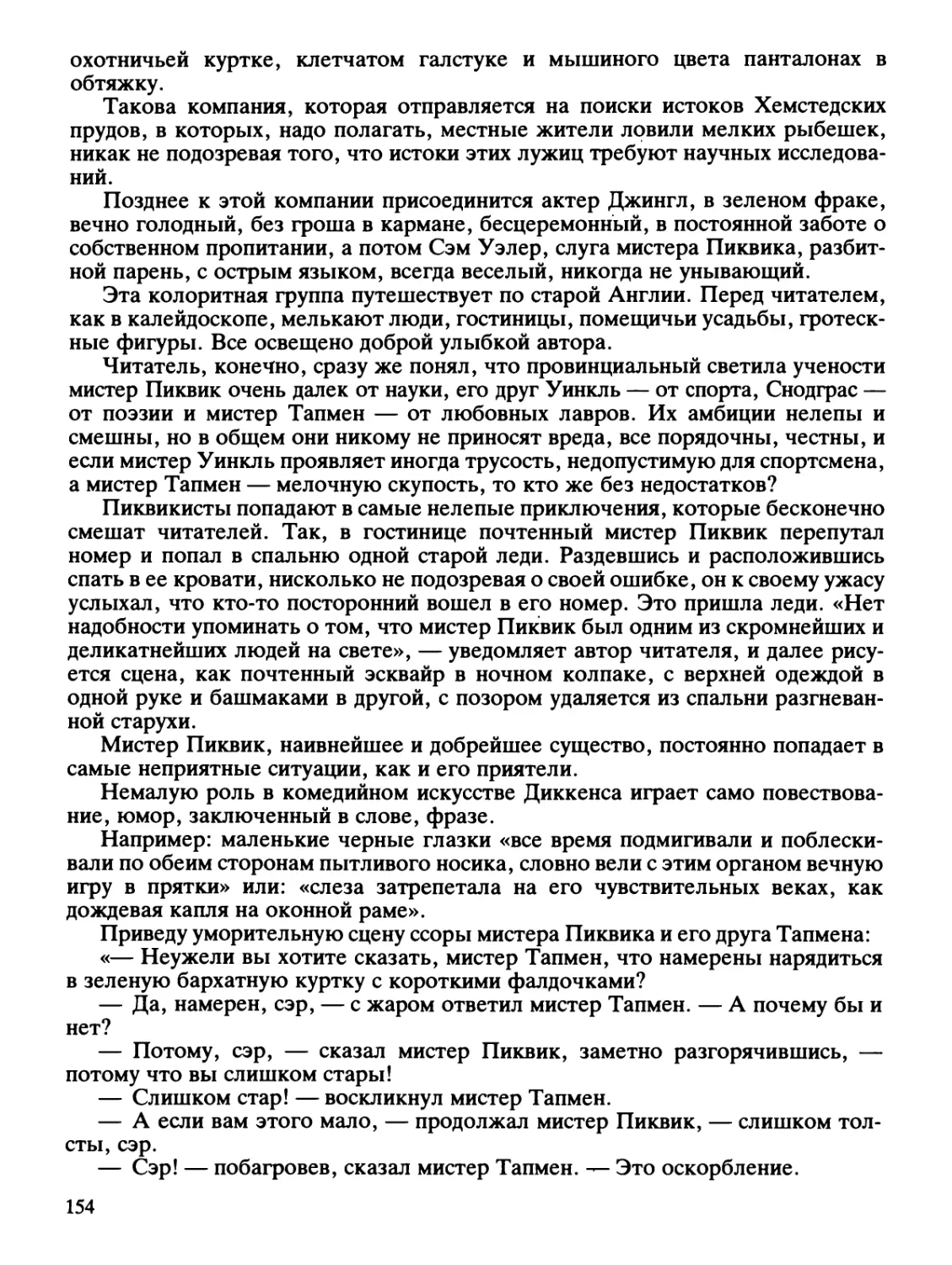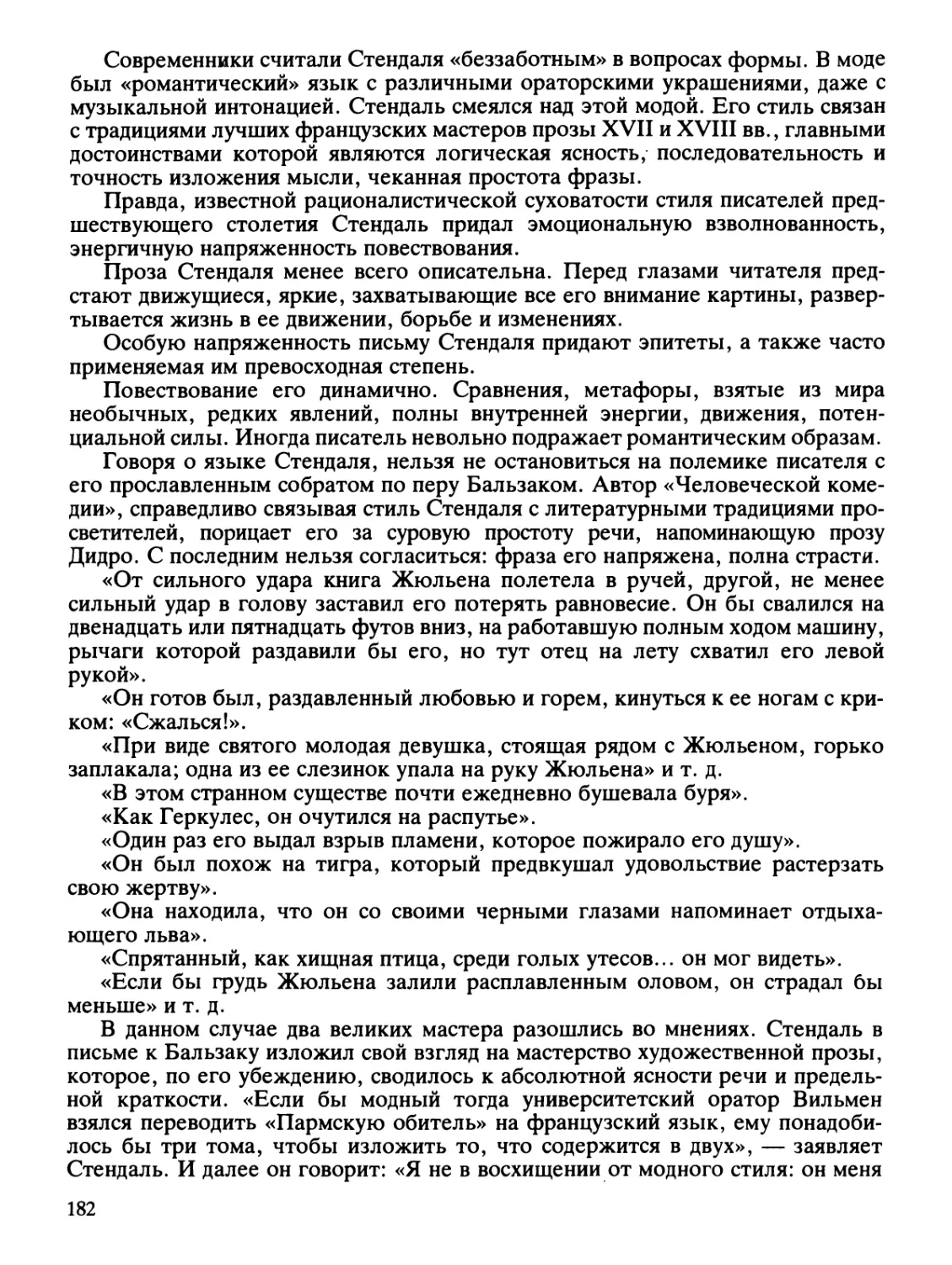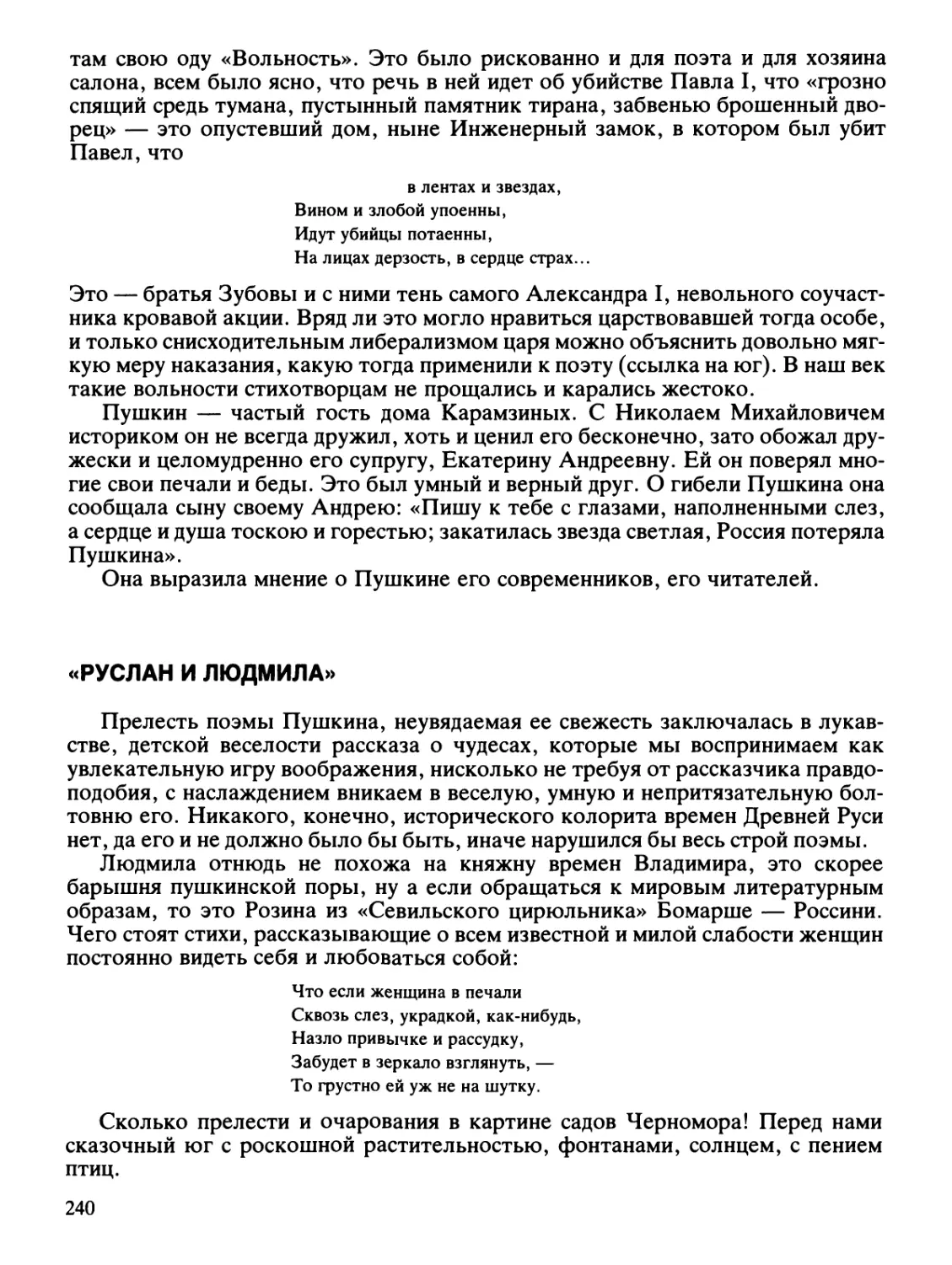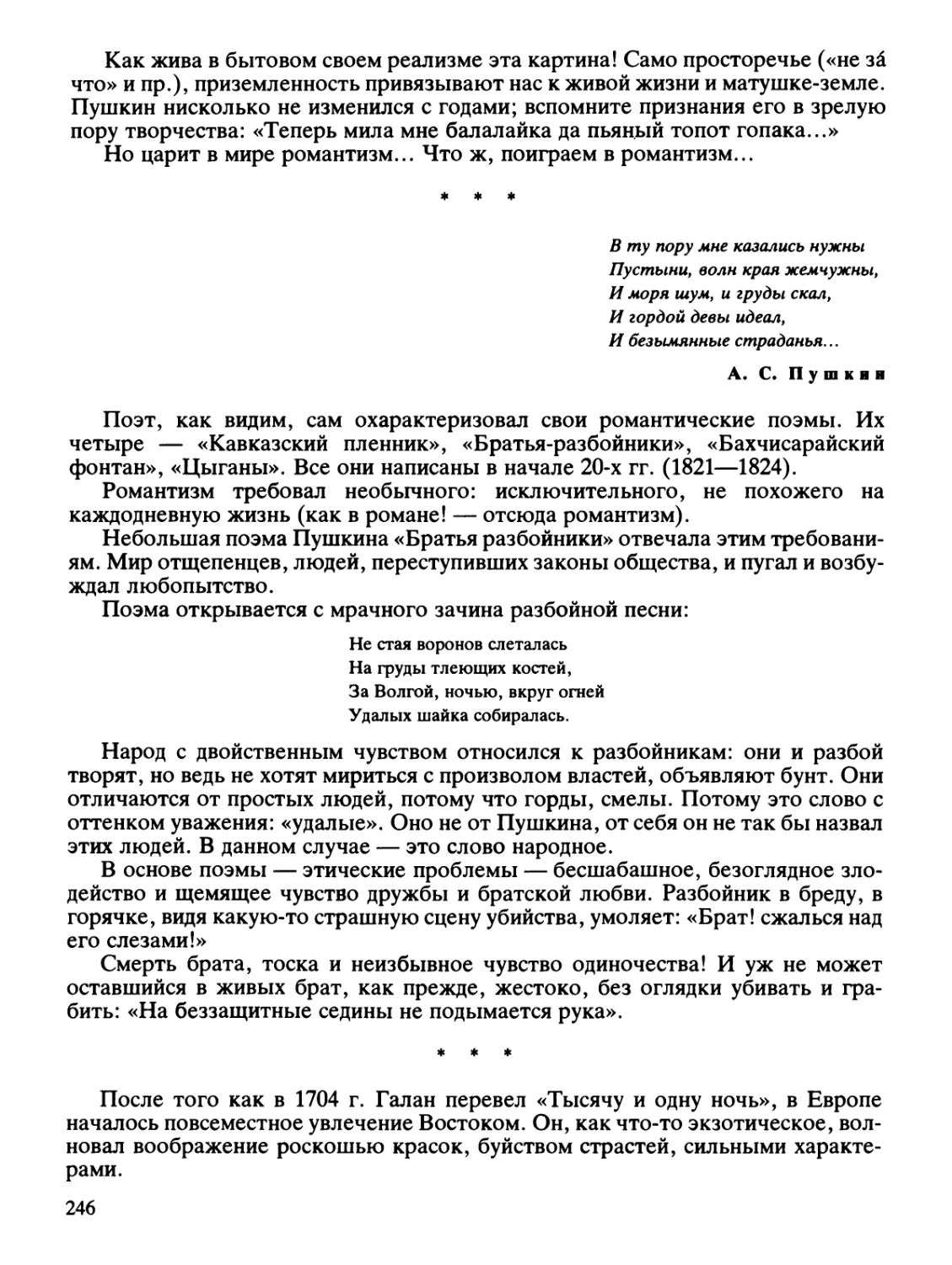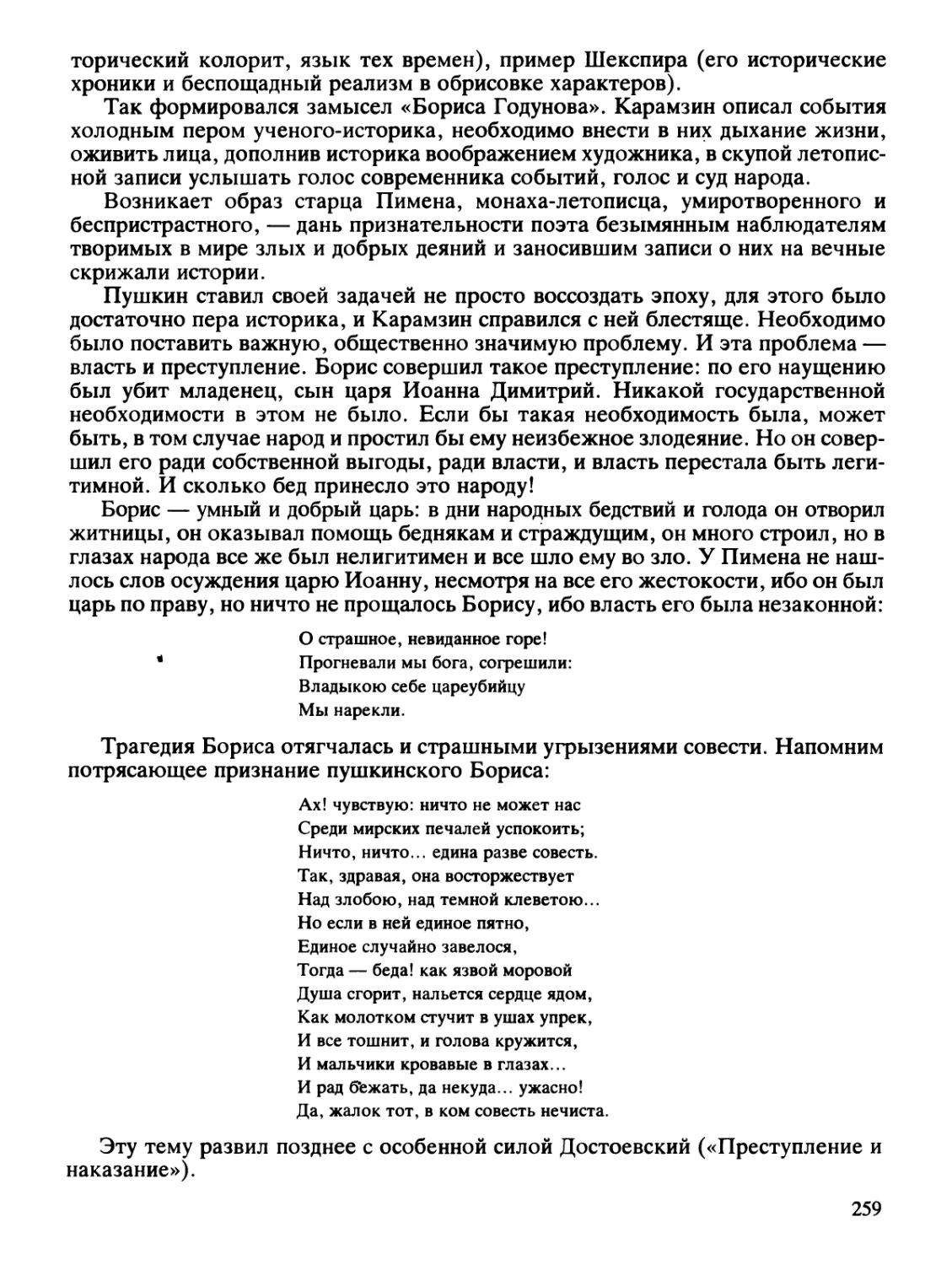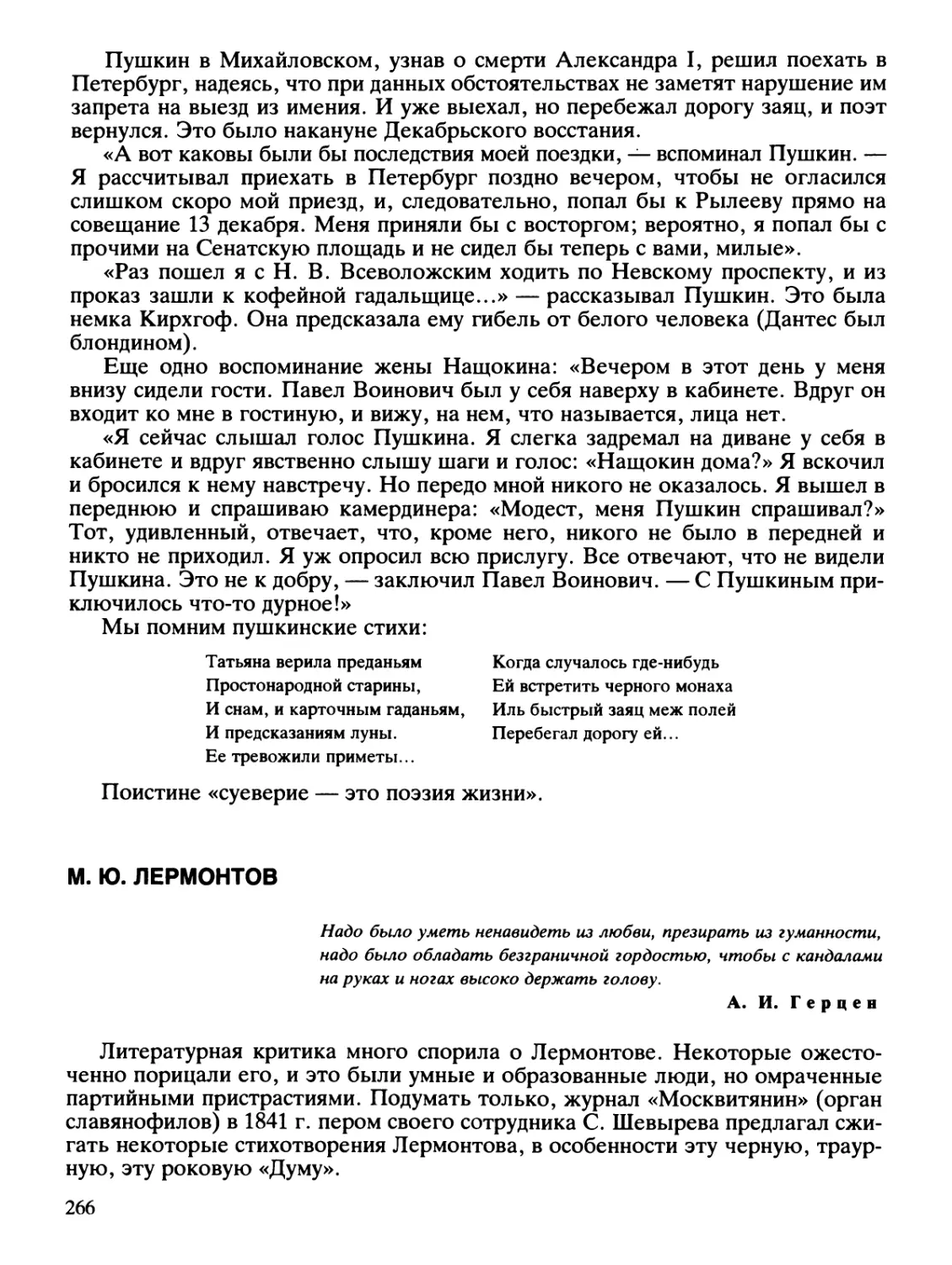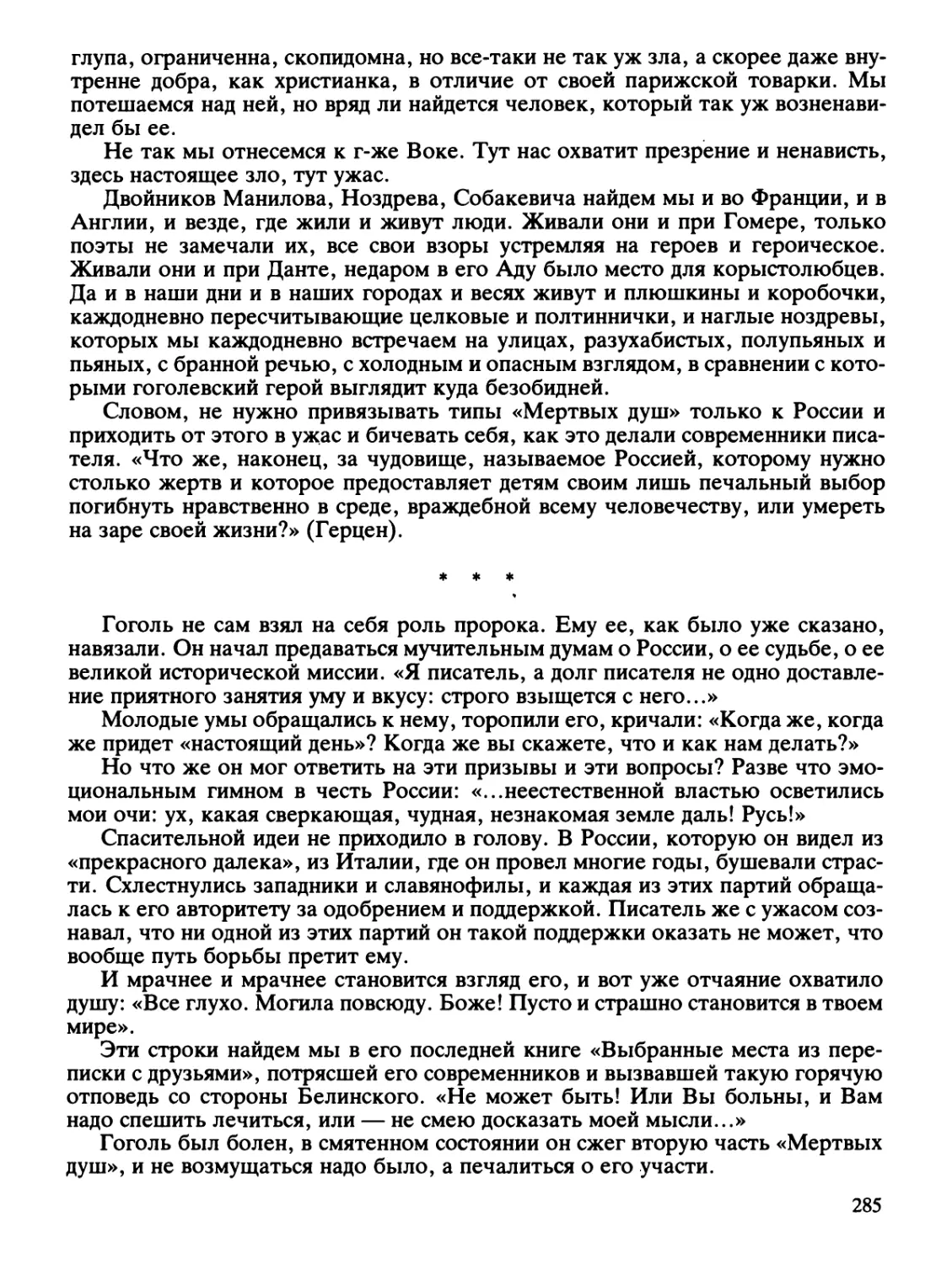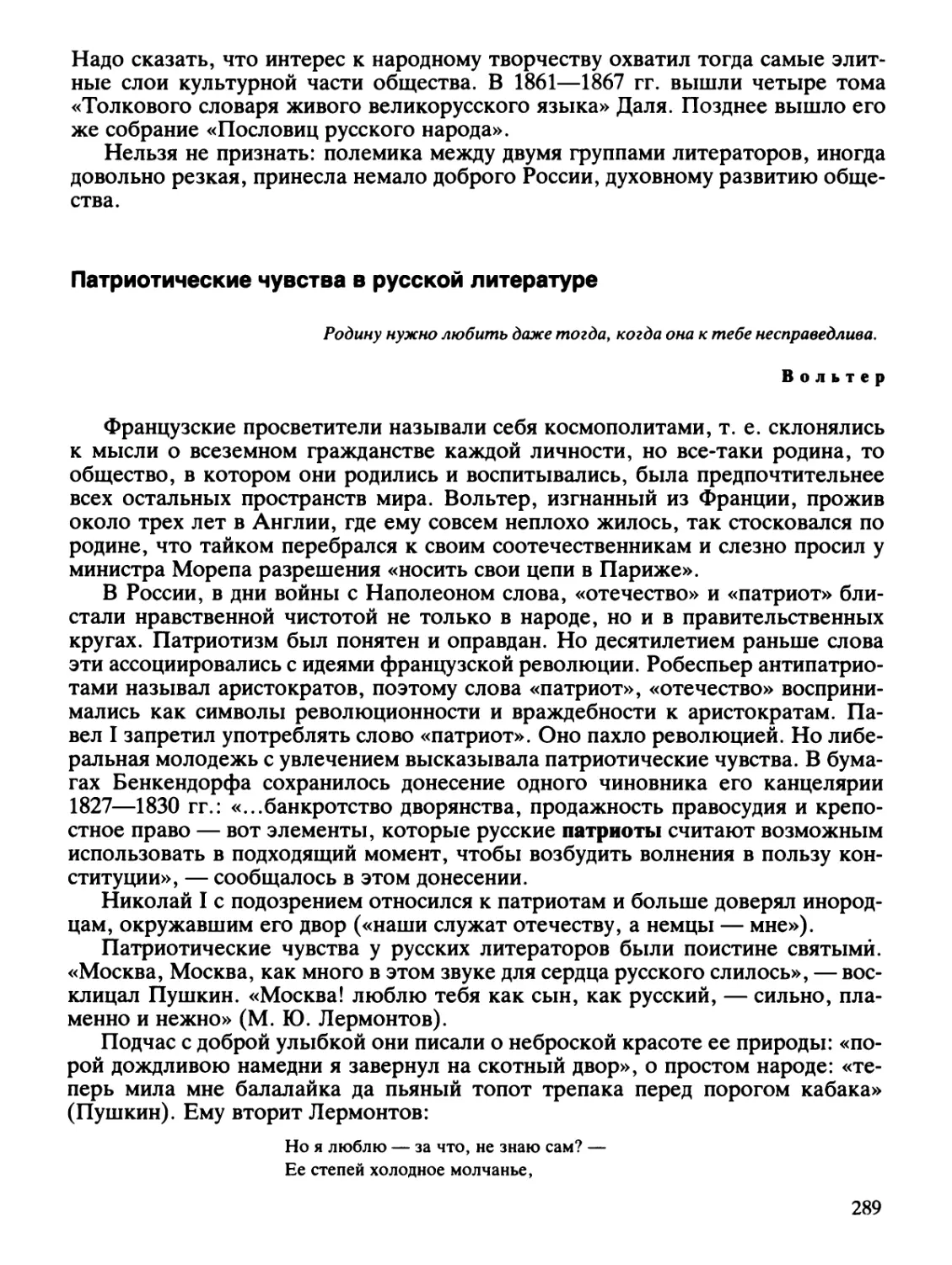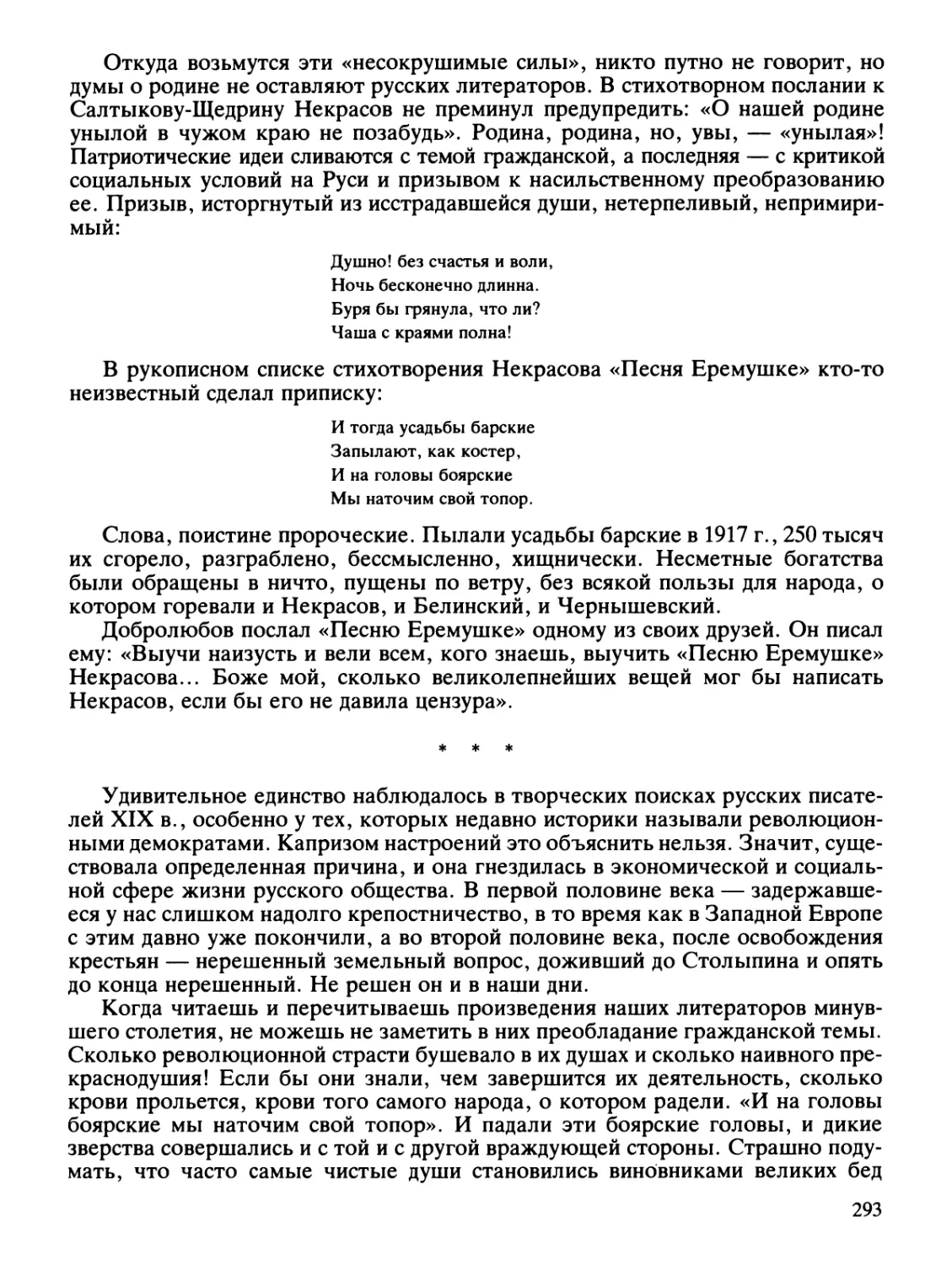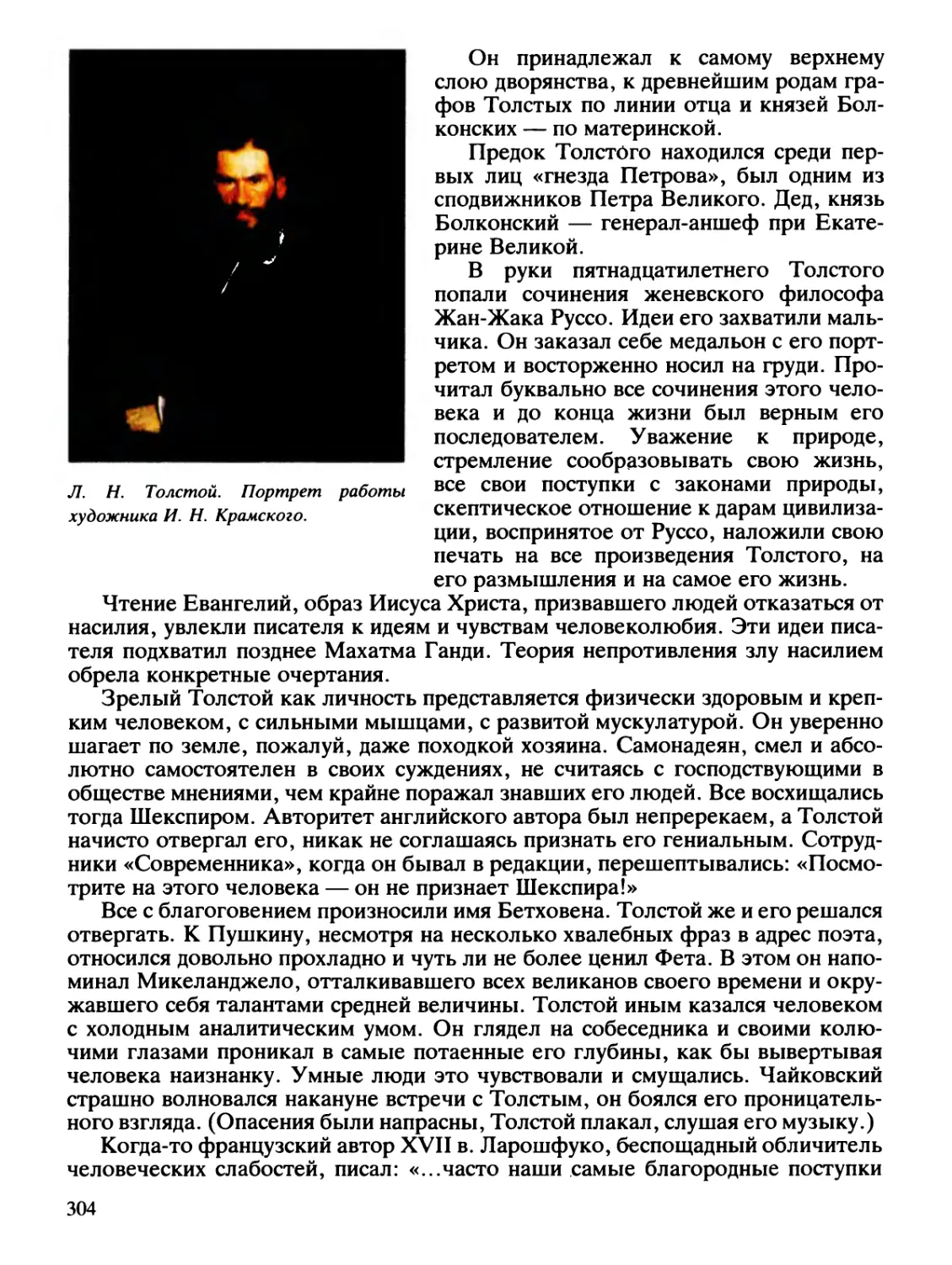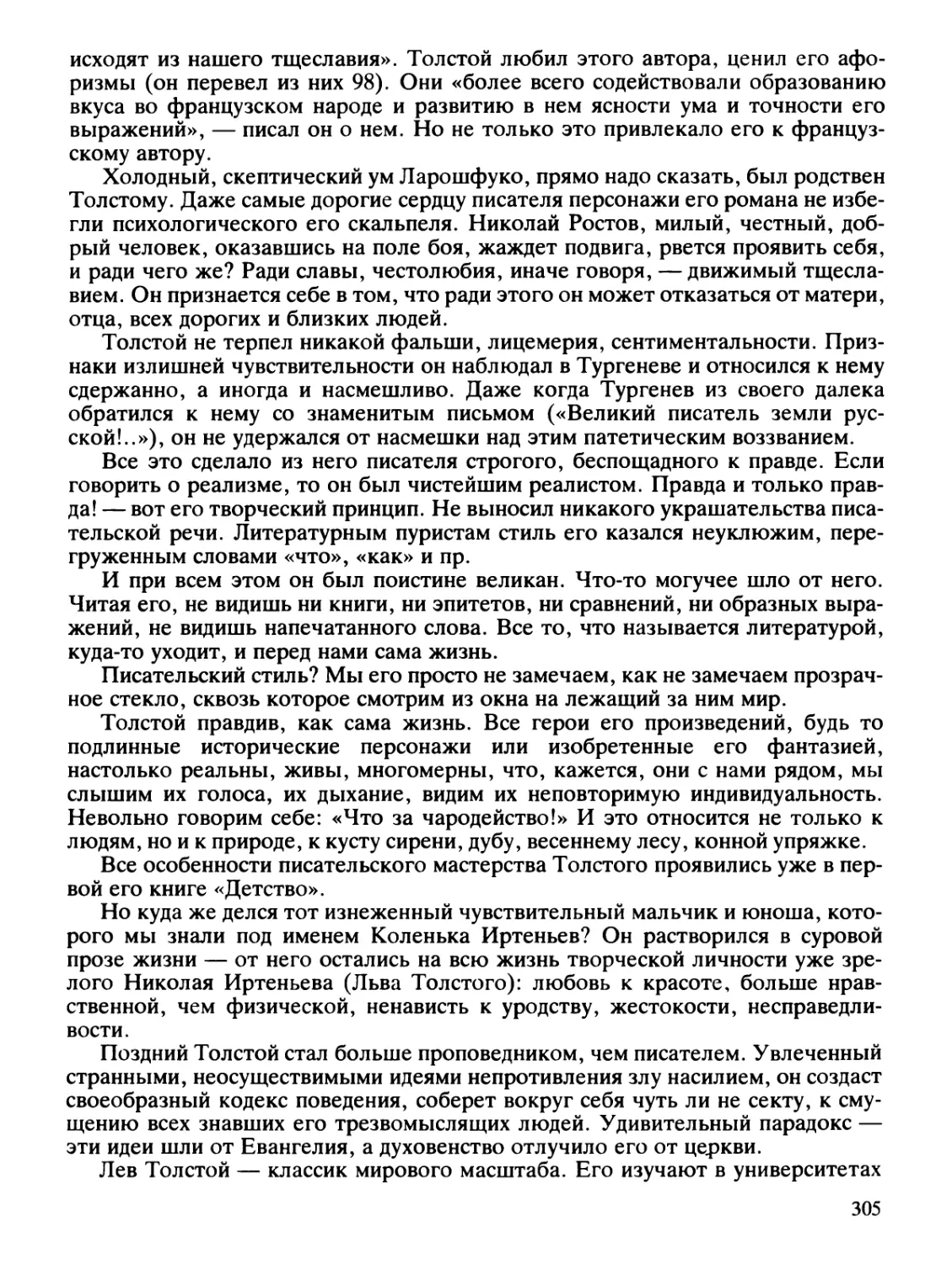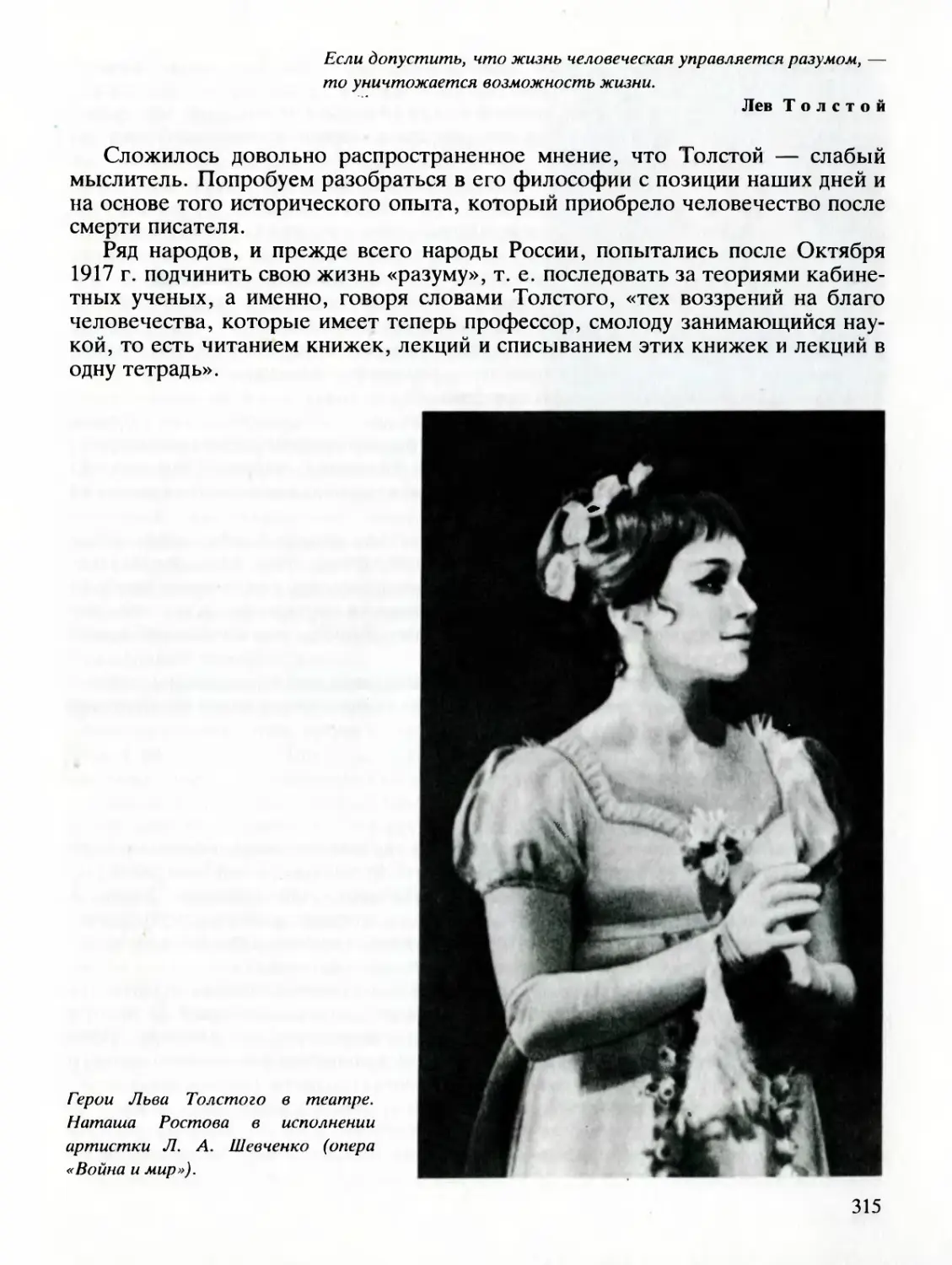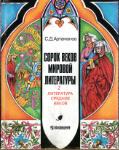Автор: Артамонов С.Д.
Теги: литература литературоведение литература хix в русская литература иностранная литература
ISBN: 5-09-008001-1
Год: 1997
Текст
С. Д. АРТАМОНОВ
СОРОК ВЕКОВ
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
В ЧЕТЫРЕХ КНИГАХ
КНИГА 4
ЛИТЕРАТУРА
НОВОГО
ВРЕМЕНИ
Москва «Просвещение» 1997
УДК820/89(100-87).0
ББК 83.3(0)5
А86
Художник И. В. Данилевич
Артамонов С. Д.
А86 Сорок веков мировой литературы. В 4 кн. Кн. 4. Литература нового
времени. — М.: Просвещение, 1997. — 336 с: ил. — ISBN 5-09-008001-1.
Завершающая, четвертая книга доктора филологических наук, профессора С. Д. Арта-
монова из серии «Сорок веков мировой литературы» посвящена обзору важнейших литера-
турных событий конца XIX — начала XX века. В ней повествуется о творчестве Монтескье,
Вольтера, Дидро, Бомарше, Гюго, Байрона, Бальзака, Флобера, Гете и др.
Особое внимание в книге уделяется мировому значению русской культуры XIX века —
поэзии Пушкина и Лермонтова, прозе Гоголя и Тургенева, Льва Толстого и Достоевского.
ББК 83.3(0)5
Учебное издание
Артамонов Сергей Дмитриевич
СОРОК ВЕКОВ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В четырех книгах
Книга 4
ЛИТЕРАТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ
Заведующий редакцией В. П. Журавлев
Редактор Е. 77. Пронина
Технические редакторы Л. Г. Лаврентьева,
О. А. Куликова
Художественный редактор А. П. Присекина
Корректор И. В. Чернова
Сдано в набор 09.04.96. Налоговая льгота —
Общероссийский классификатор продукции ОК
005-93—953000. Изд. лиц. № 010001 от 10.10.96.
Подписано к печати 01.04.97. Формат 70x90V16.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура Тайме. Печать
офсетная. Усл. печ. л. 24,57+форз. 0,36. Усл.
кр.-отт. 100,1. Уч.-изд. л. 25,05+форз. 0,53.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 1417.
Ордена Трудового Красного Знамени издатель-
ство «Просвещение» Государственного коми-
тета Российской Федерации по печати. 127521,
Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.
АООТ «Тверской полиграфический комбинат».
170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5.
f
ISBN 5-09-008001-1(4)
ISBN 5-09-007998-6
© Издательство «Просвещение», 1997
Все права защищены
К ЧИТАТЕЛЮ
XVIII—XIX века, которые предстанут перед нами в этой книге, близкие к
нам по времени, тоже, как и в древности, полны личных и всенародных траге-
дий, падений и взлетов человеческого гения. Искусство, как и раньше, отразит
и судьбы людские и грандиозные социальные конфликты. Вечная тяга людей
к прекрасному не оставит поколения и этих веков.
Новые имена, новые таланты ознаменуют собой, своими произведениями
иную эпоху искусства, но оно будет так же прекрасно, как и в прежние столе-
тия.
XVIII век славен именами Вольтера, Жан-Жака Руссо, Бомарше, Дефо,
Свифта, Филдинга, Шиллера, Гете. XIX век даст человечеству Байрона, Дик-
кенса, Стендаля, Бальзака, Флобера, Генриха Гейне, Мицкевича. На передний
план мировой культуры выйдет Россия с именами Пушкина, Гоголя, Лермонто-
ва, Тургенева, Льва Толстого, Достоевского, Чехова.
Не могу не привести здесь восторженных строк из письма Стефана Цвейга
к Горькому, прекрасного австрийского писателя, подарившего нам столько
ярких жизнеописаний выдающихся людей.
«Россия предстала передо мной в образах Толстого и Достоевского; это
нежданно-новое страстно захватило меня, погрузив в какое-то душевное опь-
янение. Передо мной открылась небывалая человечность и такая глубина
чувств, о которой я раньше не имел понятия и которая притягивала как бездна.
С каким боязливым восторгом вживались мы в этот мир образов, таких гран-
диозных, выходящих за пределы своих собственных рамок, за пределы всего
заурядного в человечестве».
ЧЕЛОВЕК И СОБСТВЕННОСТЬ
Собственность — это максима нашей воли.
Иммануил К а в т
Читатель заметил, конечно, что каждая наша книга начинается с общих
размышлений о вечных проблемах, социальных, нравственных, эстетических,
волновавших в большей или в меньшей степени людей в разные исторические
эпохи. Свои особые проблемы поставили и те века, которым посвящена эта
книга. В связи с переходом общества от сословных отношений к свободе, регу-
лируемой капиталом, писатели и мыслители этой эпохи взволнованно загово-
рили о феномене собственности. Тема «богач — бедняк» стала главенству-
ющей в творчестве Бальзака, Диккенса, Виктора Гюго.
О небо!
Тут золота достаточно вполне,
Чтоб черное успешно сделать белым,
Уродство — красотою, зло — добром,
Трусливого — отважным, старца — юным
И низость благородством.
Так рассуждает на эту тему пушкинский барон (трагедия «Скупой ры-
царь»). Этот барон — скорее поэт, он вдохновенно, так красочно говорит о
своей власти над миром. Сундуки в его подвалах ломятся от золота, но сам он
ведет нищенский образ жизни и собственного сына держит в нищете. И он
счастлив — счастлив от одной мысли, что он богат.
Что не подвластно мне? как некий демон
Отселе править миром я могу;
Лишь захочу — воздвигнутся чертоги;
В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпою,
И музы дань свою мне принесут,
И вольный гений мне поработится,
И добродетель и бессонный труд
Смиренно будут ждать своей награды.
Я свистну, и ко мне послушно, робко
Вползет окровавленное злодейство,
И руку будет мне лизать, и в очи
Смотреть, в них знак моей читая воли.
Мне все послушно, я же — ничему;
Я выше всех желаний;
Я знаю мощь свою: с меня довольно
Сего сознанья.
Кант усмотрел в феномене собственности чисто психологический элемент.
Нам нравится, что предмет, признанный нашей собственностью, полностью
зависит от нашей воли.
Герой одного из романов Бальзака ростовщик Гобсек, богач, миллионер,
отказывает себе во всем, но счастлив сознанием того, что он богат, что может
позволить себе все. Он с умом и логикой философа рассуждает:
«Мой взор подобен взору Господа. Я читаю в сердцах. Ничто не скрыто от
меня. Ни в чем нет отказа тому, кто развязывает денежный мешок. Я доста-
точно богат, чтобы купить совесть тех, кто управляет министрами, начиная от
канцелярских служащих и кончая любовницами: разве это не власть? Я могу
иметь самых красивых женщин и пользоваться самыми их нежными ласками —
разве это не наслаждение — не это ли венец всего нашего социального строя?
Мы в Париже, нас таких человек десять. Мы молчаливые и неведомые вла-
стители, вершители ваших судеб. А жизнь? Разве это не машина, движением
которой управляют деньги?»
Во Франции в XVIII в., в период идейной подготовки революции, много
писали и спорили философы на тему частной собственности.
Жан-Жак Руссо со всей присущей ему страстностью клеймил того «перво-
го», кто огородил клочок земли и сказал: «это мое». Именно этот «первый»
является основателем современной цивилизации, — заявлял Руссо, и от сколь-
ких бы бед избавил человечество тот, кто разметал бы ограду и колья и сказал:
«Земля не принадлежит никому, а плод ее всем».
Вольтер резко возражал: «Это философия оборванцев! Он хочет, чтобы
нищие ограбили богатых!» Ссора этих двух властителей умов XVIII в. зани-
мала тогда Европу.
Кажется, с моральной точки зрения, с позиций гуманизма, человечности
прав Жан-Жак Руссо и не прав Вольтер. Но... Перед нами любопытный пара-
докс, описанный в одном удивительном литературном опусе XVIII в. одного
английского автора, названный им «Басня о пчелах» (1705).
В басне рассказывается об одном улье, в котором появились идеи уравни-
тельности и бескорыстия. Идеи эти охватили все общество пчел. Пчелы реши-
ли, что они живут безнравственно, что все заботятся о себе, своих интересах,
стремятся к наживе, не думают об общем благе и пр. Словом, возроптали и
пришли к выводу, что надо переменить образ жизни, весь общественный уклад
и стать добродетельными. Сказано — сделано. Но последовал неожиданный
результат: добродетельные пчелы стали жить хуже. Производство их захире-
ло. Скромные и теперь непритязательные пчелы не тратились на роскошные
покупки, и отпала необходимость создавать предметы роскоши. Закрылись
фабрики, их производящие. Умеренный образ жизни укрепил здоровье их, и
опустели больницы: медицина стала не нужна. Так как добродетельные пчелы
не хотели войн, то они распустили армию. Исчезли накопители богатств, ибо
частная собственность была отменена. Исчез тот живительный элемент, те
дрожжи, которые поднимали всю экономику. Этими дрожжами была частная
собственность.
5
В конце концов улей погиб, на него напали, а так как у него не было армии,
то трудно было защищаться. Они героически сражались, но «огромное число
их погибло».
Первоначально пчелы жили, с моральной точки зрения, дурно, но улей в
целом процветал:
Хотя везде порок царил,
Но улей в целом раем был, —
говорит Мандевил и далее, уже в прозе (а свою басню он пополнил философ-
скими комментариями) заключает: «Кто хотел бы возродить золотой век, дол-
жен быть готов не только стать честным, но и питаться желудями».
Печальная истина, но от нее никуда не уйдешь. Мандевил усмотрел в частной
собственности и в личном интересе пружины социального и экономического
процветания, всеобщей трудовой активности и в конце концов благоденствия
людей. «Мое и Твое должны быть строго разграничены и обеспечены законом», —
настаивает он. Противник частной собственности, Маркс читал это сочинение
и остался доволен им. «Умная голова», — отозвался он об авторе. Он обратил
внимание лишь на разоблачительную сторону басни («везде порок царил»), но
не заметил иронии и конечного вывода басни («улей в целом раем был»).
Английские парламентарии, а это были практичнейшие деятели лондон-
ского Сити, в 1628 г. в обращении к королю писали: «Закон охраняет как свя-
щенное — деление на «мое» и «твое», являющееся кормилицей трудолюбия и
матерью общества. Без этого деления на «мое» и «твое» в государстве не
может быть ни закона, ни правосудия, ибо охрана собственности есть истинная
цель того и другого».
В свете нашей истории нельзя не обратить внимания на этот спор веков о
частной собственности. Во время английской революции середины XVII в. в
парламенте тоже раздавались голоса об отмене частной собственности, но
Кромвель решительно их подавил.
Мы, следуя теории Маркса («Вы приходите в ужас от того, что мы хотим
уничтожить частную собственность». — Маркс, Энгельс. «Манифест коммуни-
стической партии») и Жан-Жака Руссо, отказались от частной собственности и,
увы, получили то, что получили пчелы Мандевила. Трудно понять, как могли
умные люди, а в уме нельзя отказать корифеям революции, могли так по-дет-
ски заблуждаться, не видеть, не знать того, что видел, что знал в XVII столетии
вряд ли очень грамотный английский купец, что понимала в XVIII в. образо-
ванная, но никак не философ, не теоретик, умная правительница России Екате-
рина Великая, которая в своем указе от 27 ноября 1767 г. в связи со слабой
эффективностью одной государственной кожевенной фабрики достаточно
популярно разъясняла своим подданным преимущества частной собственности:
«Когда сия фабрика будет не в казенных руках, тогда, я чаю, достаточно и кож
будет. Монополизм, к сей фабрике присоединенный, был вреден народу...
никаких дел, касающихся до торговли и фабрик, не можно завести принужде-
нием; а дешевизна родится только от великого числа продавцов и вольного
умножения товаров».
В XX в. министр в правительстве Николай II граф Витте с той же убежден-
ностью писал: «Человек не разовьет свой труд, если он не имеет сознания, что
плоды его труда суть его собственность и собственность его наследников».
ЕВРОПА И ПРОСВЕЩЕНИЕ
Р о з и н а. Вечно вы браните наш бедный век.
Б а р т о л о. Прошу простить мою дерзость, но что он нам дал
такого, за что мы могли бы его восхвалять? Всякого рода глупо-
сти: вольномыслие, всемирное тяготение, электричество, веро-
терпимость, оспопрививание, хину, энциклопедию и мещанские
драмы.
Бомарше. «Севильский цирюльник»
Доктор Бартоло, герой комедии Бомарше, смешной и жалкий персонаж,
перечислил здесь социальные, политические, философские, научные пробле-
мы, волновавшие поколения XVIII в. Этими проблемами жил XVIII в. О них
писали книги и спорили в кофейнях Парижа и Лондона, в дворянских гостиных
Москвы и Петербурга, о них говорили люди высокой образованности и полу-
грамотные подмастерья. Это были великие научные открытия и вместе с тем
великие дискуссии века.
В «Философском словаре» Вольтера есть одно слово, которое связано с
самыми мучительными социальными проблемами XVIII в. Это слово «равен-
ство» (egalite). Оно было выстрадано человечеством. Социальная проблема
имела глобальный характер. Еще существовало крепостничество и даже раб-
ство в самых крайних его формах. Сотни тысяч негров в цепях и оковах выво-
зили тогда с Африканского континента в Америку.
Доктор Бартоло, слова которого мы привели в эпиграфе, сетует на вольно-
мыслие и энциклопедию, как на опасные дары цивилизации XVIII в. «Вольно-
мыслие» (Вольтер, Дидро, Руссо) выдвинуло тогда принцип «естественного
равенства», отказывая господствовавшему дворянскому классу в моральном и
юридическом праве на привилегии.
«Поскольку человеческая натура у всех людей одинакова, закон природы
обязывает каждого относиться к другому как к равному», — писал в «Энцикло-
педии» один из ее активных авторов Жокур.
Между тем в жизни все обстояло иначе. Правительство всей своей полити-
кой, всеми законодательными актами утверждало социальное неравенство.
Людовик XVI издал 22 марта 1781 г. специальный указ о том, что офицерский
чин могут получить только те лица, у которых четыре поколения предков
были дворянами. Крупнейшие наполеоновские генералы Марсо, Ней, Ожеро,
Бернадот (впоследствии король Швеции) имели чин унтер-офицера и дальше
продвинуться по службе не могли. Не будь революции, они так бы и остались
унтер-офицерами, ибо не обладали необходимыми дворянскими грамотами,
8
тогда как аристократы сразу же получали высшие командные посты. Проти-
воестественность этого положения била в глаза. Виконт Тюренн в возрасте 13
лет был назначен командующим кавалерии, герцог Фронсак получил чин пол-
ковника, будучи семилетним мальчиком.
В «Философском словаре» Вольтера есть еще одно слово, которое в XVIII в.
не могло не волновать сердца и умы. Это слово «война» (la querre). Войны —
давний бич человечества.
Богат войнами и век Вольтера. На полях сражений сложили головы
5 200 000 человек. Франция участвовала в трех крупных войнах. Каждая из них
под благовидным предлогом скрывала неблаговидные цели. Вот краткая
справка: в 1700 г. в Мадриде скончался испанский король Карл II, последний из
рода Габсбургов. У него не осталось наследников. Между тем две его сестры
были замужем, одна за французским королем Людовиком XIV, вторая за импе-
ратором так называемой Священной Римской империи Леопольдом I, из
австрийского дома Габсбургов. Оба они заявили теперь права на испанскую
корону. Владения Испании были тогда огромны. Ей принадлежали Милан,
Неаполь, Сардиния, Сицилия, кроме того Куба, Мексика с Калифорнией и
Техасом, Филиппинские и Каролинские острова, земли в Южной и Централь-
ной Америке, Флорида, Канарские острова — словом, достаточно для того,
чтобы вызвать аппетит у соседних государств. Англия, Франция, Австрия не
могли не проявить заботу о пустующем испанском троне. Война за Испанское
наследство длилась 13 лет, закончилась только в марте 1713 г. Австрийские
Габсбурги оторвали у Испании Ломбардию, Неаполитанское королевство и
Сардинию, Англия — Менорку и Гибралтар, герцог Савойский — Сицилию.
Франция же довольствовалась тем, что второй внук Людовика XIV герцог
Анжуйский воцарился в Мадриде под именем Филиппа V.
Через 27 лет примерно такая же ситуация возникла в Австрии, где умерший
Карл VI не оставил наследников по мужской линии. Теперь началась война за
Австрийское наследство. Предметом спора стало право на австрийский пре-
стол женщины — дочери Карла VI Марии-Терезии. Зачинщиком войны высту-
пил прусский король Фридрих II, привлекший на свою сторону Францию (на
стороне Австрии была Англия, Голландия, а потом и Россия). Кончилось все
тем, что после восьмилетних кровопролитий право на престол за Марией-Тере-
зией было признано, а Фридрих II присоединил к Пруссии Силезию.
Через 8 лет после окончания войны за Австрийское наследство Фридрих II
внезапным нападением на Саксонию начал новую, так называемую Семилет-
нюю войну (1756—1763) против Австрии. На стороне последней оказались ее
старые противницы Франция и Россия, а потом Швеция. Пруссию поддержала
Англия.
Фридрих II потерпел полный разгром. Русские войска вошли в Берлин.
Положение прусского короля спас Петр III, занявший престол после смерти
Елизаветы. Он не только прекратил войну, но и предложил вчерашнему про-
тивнику России военную помощь. Екатерина II, став русской императрицей,
отменила распоряжение своего супруга, но и не пожелала продолжать войну.
Вольтер, свидетель этих событий, имел все основания негодовать. Он писал
в «Философском словаре»:
«Самое замечательное в этом адском мероприятии, что каждый из вожаков-
убийц торжественно призывает Бога помочь ему убивать своих ближних. Если
9
какому-нибудь военачальнику удается убить две, три тысячи человек, то за это
еще не благодарят Бога, если же от огня и меча гибнут десятки тысяч и до осно-
вания рушится несколько городов, тогда устраивается пышное молебствие,
поют в четыре партии длинную песню на языке, непонятном никому из сражав-
шихся» (латыни).
Итак, картина социальной и политической жизни народов мира в XVIII сто-
летии была достаточно мрачна. Но Вольтер и его соратники оптимистически
смотрели на будущее. Видя в истории постепенное восхождение человечества
от невежества к просвещению, они уверовали в разум, в силу идей, полагая,
что разум в конце концов одержит победу над пороками общества и приведет
человечество ко всеобщему благоденствию. В этом их убеждали достижения
научной мысли. Та небольшая часть человечества, которая имела возможность
заниматься интеллектуальным трудом, проделала огромную работу в XVIII
столетии.
Доктор Бартоло в комедии Бомарше ворчал не только на вольномыслие, но
и на научные открытия XVIII в. — электричество, хину, оспопрививание, все-
мирное тяготение. А это были великие открытия, ими может гордиться век
Вольтера.
XVIII век начал заниматься электричеством. И хотя главнейшие достиже-
ния были сделаны в XIX в., но уже тогда оно стало предметом всеобщего инте-
реса и великих надежд. Стали известны целебные свойства хины в борьбе с
малярией, от которой не знали спасения в те дни. Тогда же впервые стали при-
менять оспопрививание. Это было сенсационным открытием. Оспа косила
народы, гибли десятки и сотни тысяч, особенно в XVIII столетии. Поражала
она, конечно, прежде всего бедняков, но проникала и во дворцы. В России от
оспы умер молодой царь Петр II, во Франции — король Людовик XV.
Самым важным событием в духовной жизни XVIII в. было, конечно, пости-
жение законов всемирного тяготения, открытых Ньютоном. Еще древние гре-
ки, наблюдая жизнь Вселенной, отметили удивительное согласие всех ее миров
и дали ей имя — «порядок» (космос).
Каждая эпоха имеет свои цвета. У XVIII в., если судить по его событиям и
культуре, светло-розовые тона постепенно сгущаются и становятся к концу
столетия кроваво-красными, цвета сумятицы и революции. Французы ныне
отмечают 14 июля 1789 г. как национальный праздник. День взятия Бастилии,
оплота и символа сословно-монархического режима. С этого дня началась
Великая французская революция, завершившая XVIII в. и открывшая век XIX
с его уже новой культурой. Раскаты этой революции далеко отозвались по тог-
дашнему миру, породив смуту в душах людей: смятение и страх у одних, наде-
жду и волевую активность у других. Так или иначе, но революция эта стала
главным событием века.
Много споров по поводу этого события было и продолжает быть в истори-
ческой литературе. Одни восторженно славят ее как очистительный смерч,
пронесшийся по Франции, другие преисполнены страхом и ужасом перед ее
смертоносной гильотиной и проклинают все ее акты.
Думается, лучшую оценку ей дал отнюдь не ученый, не историк, а поэт —
наш великий Пушкин — в предельно краткой и необыкновенно емкой поэти-
ческой фразе: «Союз ума и фурий». Перед судом истории она примиряет все: и
мудрость просветителей (Вольтера, Руссо, Дидро, Бомарше, всю когорту заме-
10
чательных талантов, готовивших эту революцию), и мрачный террор Робес-
пьера. Увы, человечество никогда не умело совершать социальные преобразо-
вания без крови и трагедий.
Слово «просвещение» имело в XVIII веке особый философский и политиче-
ский смысл. Исторически оно означает целую эпоху в духовной жизни тогдаш-
ней Европы. Французы назвали ее «Веком света» (Siecle des Lumieres), русские,
немцы, англичане, итальянцы — Просвещением, Aufklarung, Enlightenement,
Illuminismo. В корне всех этих слов — «свет». Свет разума, знаний — именно
так понимали его Вольтер (главный вдохновитель и «дирижер» Просвещения)
и все его соратники. Как солнце гонит тьму и ярко высвечивает нечистоты, так
разум, просвещение, изгоняет невежество, дикость, варварство и высвечивает
зло, пороки общественного устройства.
Европейская интеллигенция XVIII века восторженно и несколько наивно
верила в историческую миссию Разума и знаний для народа.
Поскольку в XVIII в. особенно резко встал вопрос о ликвидации монархи-
ческой формы правления, уместно здесь поговорить о королях и прежде всего
о том, как воспитывались они.
КАК ВОСПИТЫВАЛИСЬ МОНАРХИ
Нет в многовластии блага, да будет единый правитель.
Гомер
С давних времен люди решали для себя немаловажный вопрос, как устроить
свое сообщество, чтобы избавить человека от внешнего врага и внутренних
распрь. Гомер, как видим, полагал, что для этого нужна единодержавная
власть, а его соплеменники несколько позднее в Аттике посчитали более удоб-
ными для себя демократические формы правления. В средние века почти
повсюду в Европе установились монархические принципы власти. Власть пра-
вителя была жестокой, часто тиранической, причем все дела и помыслы
подданных приводились в соответствие с безграничной волей сюзерена. Созда-
лась соответствующая философия власти. Однажды гувернер мальчика-
короля Людовика XV, открыв окно и указав на стоящую перед дворцом толпу,
сказал ему: «Весь этот народ принадлежит вам», и Людовик XV, став взро-
слым, заявил уже от себя, что король «ответствен только перед Богом», а его
преемник, казненный впоследствии Людовик XVI, говорил еще более катего-
рично: «Это законно, потому что я этого хочу».
Общеизвестны жестокости Ивана Грозного. Для этого он создал для себя
удобное теоретическое обоснование: «Рабы... повинуйтесь не только добрым,
но и злым, не только за страх, но и за совесть». Он ссылается на апостола
Павла: «Всякая душа да повинуется владыке, власть имеющему; нет власти
кроме как от Бога: тот, кто противится власти, противится Божьему повеле-
нию».
Отвечая Андрею Курбскому, который обвинял его в жестокостях, он писал:
«Если же ты праведен и благочестив, почему же не пожелал от меня, стропти-
вого владыки, пострадать и заслужить венец вечной жизни?» и далее: «...no-
il
чему же испугался безвинно погибнуть, ибо это не смерть, а воздаяние? В
конце концов все равно умрешь?».
Иначе говоря, князь Курбский сделал бы богоугодное дело, добровольно
отдав себя на убиение. Удивительная логика!
Правда, сама обстановка при дворе — невежество й дикости, творившиеся
на глазах царя, когда он был еще мальчиком, вряд ли могли способствовать
воспитанию в нем гуманных чувств. Вот что писал Иван в своем первом посла-
нии Андрею Курбскому: «Когда же нам исполнилось пятнадцать лет, то взя-
лись сами управлять своим царством, и, слава Богу, управление наше началось
благополучно. Но так как человеческие грехи часто раздражают Бога, то слу-
чилось за наши грехи по Божьему гневу в Москве пожар, и наши изменники-
бояре, те, которых ты называешь мучениками (я назову их имена, когда найду
нужным), как бы улучив благоприятное время для своей измены, убедили ску-
доумных людей, что будто наша бабка княгиня Анна Глинская со своими
детьми и слугами вынимала человеческие сердца и колдовала и таким образом
спалила Москву и что мы будто знали об этом их замысле. И по наущению
наших изменников народ, собравшись по обычаю иудейскому, с криками захва-
тил в приделе церкви великомученика Христова Дмитрия Селунского нашего
боярина, князя Юрия Васильевича Глинского; втащили его в собсюную'и вели-
кую церковь и бесчеловечно убили напротив митрополичьего места^залив цер-
ковь кровью, и, вытащив его тело через передние церковные двери, положили
его на торжище, как осужденного преступника. И это убийство в святой церкви
всем известно, а не то, о котором ты, собака, лжешь! Мы жили тогда в своем
селе Воробьеве, и те же изменники подговорили народ и нас убить за то, что
будто бы прячем от них у себя мать князя Юрия, княгиню Анну, и его брата
князя Михаила». Текст переведен на современный язык. В оригинале это зву-
чит так:
«...Научиша народ скудожайших умов, бутто матери нашей мать, княгиня
Анна Глинская, со своими детьми и людьми сердца человеческия выимали и
таким чародейством Москву попалили; да бутто и мы тот их совет ведали»1.
В России еще никто не смел помышлять об изменении политического и
нравственного статуса монарха, но в странах Западной Европы идеология еди-
новластия стала уже постепенно изменяться. Особенно этому содействовали
деятели Возрождения. Вспомнили идеи Платона, который еще в древности
обнародовал свое представление об идеальном государстве («Государство»),
где править должны философы.
Рабле, Монтень, Шекспир поколебали веру в непогрешимость самодержца,
подчеркнуто демонстрируя его человеческие слабости («Короля отличает от
бедняка лишь покрой его штанов». — Монтень; «Череп Александра Македон-
ского так же вонял, как и череп шута Йорика». — «Гамлет» Шекспира и пр.).
Появились сочинения, явно направленные к дискредитации обожествления
королей (Этьен де ля Боэси. «Добровольное рабство»).
Казнь Карла I в Англии 1649 г. явилась грозным предостережением всем
королям.
1 Письма Грозного и Курбского дошли до нас в списках XVII в. Не сохранилось ни одного авто-
графа.
12
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ XVIII В.
... Все были непроизвольными орудиями истории... Такова неизмен-
ная судьба всех практических деятелей...
Лев Толстой
Бросим взгляд на судьбу этих всемирно-исторических личностей,
призвание которых заключалось в том, чтобы быть доверенными
лицами всемирного духа.
Фридрих Гегель
Как видим, и русский писатель и немецкий философ единодушны в оценке
роли личности в истории. Выдающаяся личность, оказывается, только выпол-
няет предписания какой-то магической силы — исторической необходимости,
Духа, фатальной заданности общественного развития.
Мы долго находились под воздействием этой теории и, хоть разделяли мне-
ние о массах, ведомых вождями, значит все-таки личностями, однако противо-
реча этому мнению, считали, что историю творит если не Бог (мы были ате-
истами), то «способ производства», «производительные силы» и пр.
Теперь мы начинаем понимать, что роль личности в истории огромна. В
этом убедила нас жизнь.
Не будь Александра Македонского и его победоносных походов, разве воз-
никла бы великая эллинистическая империя? Маленькая Македония разве
вышла бы на мировую арену?
Не будь Чингисхана, кто бы повел монгольские племена на Европу, опусто-
шая города и государства.
Потому обратимся к тем крупным фигурам, которые определяли в XVIII в.
те или иные события в Европе.
КАРЛ XII
Карл XII сделал попытку вторгнуться в Россию; этим он погубил
Швецию и воочию показал неприступность России.
Ф. Энгельс
Еще в Англии Вольтер начал собирать материалы о шведском короле. В
1731 г. он издал свою книгу о нем. Он использовал каждую встречу с людьми,
стоявшими когда-то в центре событий и вступившими в тот или иной контакт
с Карлом, — с польским королем Станиславом Лещинским, с вдовой герцога
Мальборо, с адъютантом Карла Секьером, с лордом Боллингброком. Он изу-
чил записи шведского офицера Адлерфельда, и перед ним довольно четко
вырисовывалась фигура короля, мученика тщеславной мечты и мучителя
своего народа. Под пером Вольтера она обрела зловещие черты. Книга чита-
лась современниками с трепетом душевным. У старшего поколения еще свежи
были в памяти описываемые годы.
13
«История Карла XII» — научный труд и
вместе с тем образец великолепной,
поистине художественной прозы.
Раскроем ее.
Суровый край. Суровые, крепкие,
мужественные люди. Швеция господствует
над Балтикой. Ей подчинены все прибал-
тийские земли. Суров, непреклонен, деспо-
тичен шведский король Карл XI, деспоти-
чен даже у себя дома, с сыном и женой.
Когда последняя однажды попыталась всту-
питься за кого-то из подданных, он резко
оборвал ее: «Сударыня, мы брали вас
затем, чтобы вы давали нам детей, а не
Шведский король Карл XII. Портрет советы».
неизвестного художника. Его СЫН (КарЛ XII), ОЧеВИДНО, МОГ бы
быть личностью выдающейся, если бы жил
в другой среде. Но он рос с сознанием, что
воля короля превыше всего, что государство, а значит, прежде всего люди, по
смерти его отца будет принадлежать ему всецело. И он научился не считаться
ни с их мнением, ни с их присутствием. Только лицо королевской крови — будь
то современник, будь то далекий персонаж истории — могло иметь для него
какое-то значение.
Он был упрям. Латынь ему показалась несносной, и он отказался изучать
ее, но ему сообщили, что короли польский и датский отлично владеют ею.
Тогда он приложил все усилия, чтобы усвоить латынь, и усвоил ее блестяще.
Он был самолюбив и с детства пожираем жаждой славы. Прочитав «Историю
Александра Великого» (Македонского) Квинта Курция, он заявил: «Я буду
таким же!»
— Но он жил только тридцать два года, — ответили ему.
— А разве этого мало для завоевателя стольких царств?
Разговор передали королю. Тот возликовал: «Мальчик, кажется, будет
стоить больше меня». И волчонок продолжал расти. Увидав однажды библей-
скую надпись: «Бог дал, Бог взял», — он перечеркнул ее и написал свое: «Бог
дал, и сам дьявол у меня не отнимет». Король умер, когда его сыну было пят-
надцать лет. Править стала бабка Ядвига-Элеонора Гольштейнская.
Однажды на смотре войск он заявил: «Доколе мы будем слушать приказы
бабы?» Государственный советник Пипер, неразлучный потом с ним вплоть до
Полтавы, понял, что от него ждут. Королева-регентша была отстранена,
короля-юношу короновали. На церемонии коронации он дал первое свое пред-
ставление. Вырвав из рук архиепископа корону, он надел ее себе на голову,
дерзко озирая стоящих вокруг. Присутствующие различно истолковали этот
жест: одни увидели шалость своевольного ребенка, вторые — волевой акт
смельчака, третьи — более дальновидные — повадки тирана.
Сразу же начались приготовления к войне. 8 мая 1700 г. жители Стокгольма
провожали своего короля, сказочно юного и прекрасного, в дальний поход. В
воображении самовлюбленного Карла в это время витали образы Александра
Македонского и Юлия Цезаря, их лавры терзали его сердце. Он готов был про-
14
лить каплю за каплей кровь всех своих бравых солдат, превратить в пепел все
города и села мира, чтобы сподобиться судьбе этих знаменитых завоевателей.
Он упрямо шел к своей цели; а целью была слава во что бы то ни стало. Он
отказался от удобств и комфорта. Домом его стала походная палатка без вся-
ких украшений, одеждой — солдатский мундир из грубого синего сукна,
обувью — высокие сапоги, не снимая которых он часто засыпал на своей
походной кровати или просто на земле. Ни осеннее ненастье, ни зимняя стужа,
ни холод, ни жара — ничто не останавливало его. Он отказался от всех радо-
стей и наслаждений. Он не пил вина, ни разу не взглянул на женщину, он не
читал книг, не увлекся ни одним видом искусства, и так как не считал окружа-
ющих достойными доверительных бесед, то почти ни с кем не говорил. Отда-
вал только приказы. В конце концов он просто одичал. Понял это и еще
больше замкнулся в себе теперь уж из чувства стыда, боясь обнаружить перед
другими неловкую свою речь, неловкие солдатские манеры.
Его безбородое, женственно округлое лицо с большими синими глазами, с
пухлым ртом, с тонко очерченными бровями, лицо, в сущности, красивое, при-
обрело отталкивающее выражение высокомерия и наглой дерзости. Он часто
смеялся, но смех его не веселил — металлический, резкий, презрительный
смех. На обедах его царило гробовое молчание.
Он был храбр, храбр до дерзости, до мальчишеского озорства. Робел он
только перед женщинами, за всю свою жизнь так и не приблизившись ни к
одной. Красавица графиня Кенигсмарк тщетно пыталась добиться у него ауди-
енции. Он решительно отказывался принять ее. Тогда она стала появляться в
тех местах, где он имел обычай прогуливаться. Однажды они встретились на
узкой дороге. Графиня улыбаясь вышла из своей кареты. Карл нашел в себе
силы поклониться ей, но, не проронив ни слова, повернул свою лошадь
обратно и ускакал.
Дела поначалу шли хорошо. Дания сдалась почти без боя. Русские под Нар-
вой потерпели жестокое поражение. «Они, — пишет Вольтер, — были крепки-
ми, неутомимыми и, пожалуй, столь же храбрыми, что и шведы... но состояли
из дикарей, оторванных от своих лесов, одетых в звериные шкуры, вооружен-
ных стрелами или дубинами (ружей было очень мало).
Никто из солдат еще не видел правильной осады города, во всей армии не
было ни одного хорошего канонира. Сто пятьдесят пушек, которые могли бы
превратить маленький городок Нарву в развалины, едва лишь сделали неболь-
шую брешь в стене».
Этим людям противостояли хорошо вооруженные, обученные, дисциплини-
рованные шведские войска. Они одержали победу легко, взяв много пленных,
с которыми обошлись с крайней жестокостью.
Карл XII перестал считать теперь русские войска сколько-нибудь стоящими
внимания. Это заблуждение стало для него роковым. Польша подчинилась
ему. Перед ним трепетала Германия. Он хотел быть щедрым, даровать цар-
ства. И опять ради славы, только ради славы каждый его шаг, каждый жест
рассчитан был на анналы мировой истории. Ему приглянулся молодой поль-
ский аристократ Станислав Лещинский. Пусть будет он королем польским, а
царствующий Август пусть сойдет со сцены. Ничто не останавливало воин-
ственного короля. В Польше разгоралась гражданская война. Лилась кровь,
рушились дома, без крова оставались тысячи несчастных, пустели поля. Карл
15
играл в войну. Однажды каприза ради он помчался один, без войск и свиты в
Дрезден, где в то время жил смещенный им Август. Тот принял его, как прини-
мают нежеланного, но опасного гостя. Разговор не клеился. Гость говорил о
своих грязных солдатских сапогах. Так давно он их не снимал. Август делал
вид, что разговор о сапогах его очень занимал.
В лагере Карла были обеспокоены его исчезновением. Но он возвратился
так же неожиданно, как и уехал.
— Как вы решились? Один... в стане врага? Вас могли...
— Не посмеют! — говорил Карл, резко, неприятно смеясь.
Он хотел лишить трона и Петра, царя русского, и тоже отдать этот трон
кому-нибудь, лишь бы о нем, о Карле, говорили.
Между тем шли годы. Ни одного дня не проходило без выстрела, без сты-
чек, битв, кровопролитий. Офицер Адлерфельд бесстрастно и точно заносит в
свой военный дневник события каждого дня. «Если вы станете читать записи
г-на Адлерфельда, то не найдете в них ничего, кроме того, что: в понедельник
столько-то тысяч убито на таком-то поле; во вторник целые деревни превра-
щены в пепел, женщины с детьми на руках сгорели в пламени; в среду тысячи
бомб обрушились на дома свободного и ни в чем не повинного города, который
не смог собрать ста тысяч экю для победителя, проходившего мимо его стен; в
четверг пятнадцать или шестнадцать сотен пленных погибло от холода и голо-
да. Таков примерно сюжет четырех томов», — писал Вольтер.
Вольтер, нарисовав одну-другую картину из жизни шведского короля, неиз-
менно бросал взгляд в сторону огромной, лежащей за лесами и долами Моско-
вии. Что-то поделывает там русский царь Петр? А царь Петр не гонялся за сла-
вой. Царь Петр рыскал по свету, ища знаний, царь Петр вез к себе на родину
ученых и мастеров, строил флот, строил славный город на Неве, изучал сам
ремесла и искусства, и дивно поднималась новая страна, приобщаясь к евро-
пейской культуре.
Петр трезво оценивал обстановку, здраво мыслил.
— Шведы долго еще будут нас бить, но в конце концов они сами научат нас
их же победить.
В лагерь к Карлу XII прибыл Джон Черчилл герцог Мальборо, знаменитый
полководец, ловкий дипломат, хитрый политик, о котором французы сложили
песенку («Вот Мальбрук в поход собрался»). Зачем прибыл сюда сей немало-
важный персонаж мировой истории? Позондировать почву. Англия, которая в
это время была в состоянии войны с Францией из-за Испанского наследства,
видя успехи Карла XII, очень боялась его сближения с ее соперницей. И Маль-
боро потащился в ставку короля. Зоркие глаза старого интригана усмотрели на
одном из столов карту России. Будто ненароком, он назвал имя Петра. Глаза
Карла загорелись недобрым огнем. Тогда лукавый герцог начал с простоду-
шием ангельским хвалить Петра, распаляя ненависть шведа, терзая его само-
любие.
Лукавому царедворцу все было ясно. Англии ничто не угрожает. Войска
Карла XII завязнут в лесах и болотах Московии. И Мальборо отбыл восвояси,
не сделав королю никаких предложений, ограничившись светской беседой. По
слухам, однако, он дал перед отъездом крупную сумму денег канцлеру Пиперу,
чтобы тот не сдерживал воинственного пыла своего государя, направленного в
сторону Московии. Вольтер отвергает этот слух. Петр, однако, верил в него, и,
16
когда Пипер после Полтавского боя попал в плен к русским, он обошелся с ним
круто. Пипер умер в России.
Петр не хотел войны. Он предложил Карлу переговоры, но швед высоко-
мерно ответил: «Об этом мы поговорим в Москве». Петр улыбнулся, когда ему
привезли ответ.
— Мой брат Карл персону свою ставит не ниже Александра, но льщу себя
надеждой, что во мне никогда не найдет он Дария.
И война началась. Войска Карла пересекли русские земли. Непроходимые
лесные чащи, болота значительно поубавили их военное снаряжение, количе-
ство их пушек да и число солдат. Предательство Мазепы не принесло Карлу
особой пользы.
На страницах книги Вольтера промелькнул на мгновение этот человек,
самолюбивый, мстительный, проведший молодость свою бурно и озорно.
Вольтер рассказал, между прочим, как по украинской степи мчалась однажды
лошадь с привязанным к ее спине обнаженным телом юноши. Это был моло-
дой Мазепа, соблазнивший супругу какого-то шляхтича и подобным образом
(арл XII и гетман Мазепа. Цветной эстамп.
17
наказанный им. Романтическая картина, нарисованная Вольтером, поразила
Байрона, и он написал поэму «Мазепа», расцветив ее всеми красками своего
воображения. Как известно, и в старости Мазепа не переставал грешить. Исто-
рия его с Матреной, дочерью Кочубея, в глубоко психологическом плане рас-
крыта в поэме Пушкина «Полтава», где девушка получила более благозвучное
имя Мария.
Страницы, посвященные битвам в России, полны драматизма. Петр прика-
зывает стрелять в трусов. «Стреляйте и в меня, если побегу!»
8 июля 1709 г. состоялась знаменитая битва под Полтавой. Вольтер мастер-
ски описал ее. «Царь русский в центре своей армии. У него чин генерал-май-
ора, и он подчиняется генералу Шереметеву.
Вот он объезжает полки на своем турецком коне, подаренном ему султа-
ном, ободряет солдат и капитанов, каждому обещает награду».
Вот другой лагерь. Здесь шведы и раненный в ногу Карл. «Первые залпы
русских подбили двух лошадей с носилками Карла. Он велел запрячь других.
Следующий залп разбил носилки и сбросил короля наземь. Шведы смешались,
неприятельский огонь усилился, первая линия потеснила вторую, вторая побе-
жала. Передовые части русских, состоящие только из десяти тысяч пехотин-
цев, разбили всю шведскую армию. Как изменились времена!»
Пушкин переложил эти строки вольтеровской книги в ослепительные сти-
хи. Эти стихи гениальны, ни с чем не сравнимы, но картины взяты у Вольтера.
Хот же план, то же противопоставление Карла и Петра и даже турецкий конь
под Петром:
Идет. Ему коня подводят. Далече грянуло ура:
Ретив и смирен верный конь. Полки увидели Петра...
Почуя роковой огонь, И перед синими рядами
Дрожит. Глазами косо водит Своих воинственных дружин,
И мчится в прахе боевом, Несомый верными слугами,
Гордясь могущим седоком... В качалке, бледен, недвижим,
И се — равнину оглашая, Страдая раной, Карл явился.
Вольтер рассказывает о пире Петра на поле боя после победы, о кубке,
который он поднимает в часть своих учителей шведов, пленных шведских гене-
ралов, сидящих за одним столом с ним.
У Пушкина та же картина:
Пирует Петр. И горд, и ясен, Своих вождей, вождей чужих,
И славы полон взор его. И славных пленников ласкает,
И царский пир его прекрасен. И за учителей своих
При кликах войска своего, Заздравный кубок подымает.
В шатре своем он угощает
Любуется Вольтер Петром, но сердце его не приемлет жестокости, может
быть, даже и объяснимой обстановкой, условиями. Он заключил картину пира
Петра многозначительной фразой: «Но этот государь, который обошелся так
хорошо со шведскими генералами, приказал колесовать всех казаков, попав-
ших в его руки».
Вольтер противопоставляет Петра Карлу не только в живописной картине
Полтавской битвы, он делает это в широком историческом и политическом
18
плане. Первый — созидатель, второй — разрушитель. «Карл имел титул непо-
бедимого. Мгновение отняло его. Народы дали Петру Алексеевичу титул
Великого. Потерпев поражение, он все равно не утратил бы этого титула, ибо
заслужил его не за военные победы».
История Карла не закончилась разгромом его войск. Вольтер неумолимо
последовал за ним в Турцию, проследил каждый его шаг, не поленился тща-
тельно изучить ничтожнейшие дела этого мученика честолюбия, этого фана-
тика славы, этого самовлюбленного безумца. Вот он в Бендерах, злой и нетер-
пимый, с ненавистью к Петру, жаждой мести, с глупой, бессмысленной наде-
ждой столкнуть Турцию с Россией.
Идут годы. Он валяется на кровати, вперив пустые глаза в потолок, не зная,
чем себя занять. Вот на мгновение вспыхнула надежда. Неудачный прусский
поход Петра обещает долгожданное мщение. Вот-вот, кажется, турки дадут
шведскому королю войска и бросят ему в руки русского царя. Но турки предпо-
чли мир. И снова пустота и мучительная тоска бездействия.
Турки начинают тяготиться гостем. Его пребывание накладно и хлопотно.
Скуки ради он затевает склоки, жалуется на визирей. Ему вежливо намекают,
что король должен жить у себя дома. Он не понимает. Ему говорят более ясно.
Тогда он просит денег. Ему дают вдвое больше просимого, но, взяв деньги, он
все-таки остается. Его хотят принудить силой покинуть страну. Он запирается
со своим маленьким войском в доме. Дом осаждают. Он отстреливается. Ведет
бой по всем правилам военного искусства. Результаты плачевны: его друзья,
согласившиеся разделить с ним его несчастье, или убиты, или проданы в раб-
ство. Самого его, взяв за руки и за ноги, тащат к визирю. Как напроказивший
мальчишка, теперь он улыбается. Для него это забава. И его оставляют в
покое, дав ему мизерное содержание. Пусть остается хоть до самой смерти. И
снова пустота и безделье. Так длилось пять лет. Вернуться на родину? Нет,
разве может он возвратиться с позором, он, мечтавший о славе Александра и
Цезаря? Но, наконец, и он не выдержал. Быстры сборы, скор отъезд. Днем и
ночью инкогнито мчится он через Германию на север.
Ничего хорошего не принесло Швеции его возвращение. Впрочем, он не
пожелал вернуться в Стокгольм. Только с лаврами героя, только с победами он
мог бы это сделать. Новые поборы, новые налоги. Страна истощена вконец. В
деревнях остались только старики и дети. Швецию терзают враги со всех сто-
рон. Теперь бы только обороняться, а Карл задумал завоевательный поход в
Норвегию. Дивятся шведы, но не смеют перечить. Они помнят ответ Карла,
когда сенат вздумал роптать на его долгое отсутствие: «Вам нужен король, так
вот вам мой представитель — мой сапог. Пусть он председательствует в сена-
те». И он выслал в сенат свой солдатский сапог. И нация молчала, когда нужно
было его судить как тягчайшего государственного преступника. Такова
система деспотизма.
В Норвегии при подготовке к осаде одной из крепостей морозным декабрь-
ским вечером 1718 г. Карл XII вышел осматривать траншеи. Он был чем-то
недоволен и сделал выговор французскому инженеру Мегре. Неожиданно
неприятельская пушка выстрелила картечью. Осколок попал королю в правый
висок. Он упал замертво с тяжелым вздохом, инстинктивно схватившись за
рукоятку шпаги. Лицо было обезображено, левый глаз запал в глубь черепа,
правый выскочил наружу. Инженер Мегре, человек «своеобразный и бесстраст-
19
ный», как пишет Вольтер, холодной остротой заключил трагикомическую
историю шведского короля: «Пьеса окончена, господа, пойдемте ужинать».
Швеция облегченно вздохнула. Последовали мирные договоры со всеми, на
кого шел вчера войной их безумный король. Наследование престола было
отменено. Наученные горьким опытом шведы не хотели больше рисковать.
Королевский пост стал выборным.
Пушкин в поэме «Полтава» отметил те же черты характера Карла XII, что
и Вольтер. Он осудил «воинственного бродягу», ослепленного «беглым сча-
стием побед». Эпитет «беглый» очень точно передает мысль Вольтера об эфе-
мерности славы шведского короля, противопоставленной им крепкой славе
Петра-созидателя.
Пушкин писал о Карле XII:
Он мальчик бойкий и отважный;
Два-три сраженья разыграть,
Конечно, может он с успехом,
К врагу на ужин прискакать,
Ответствовать на бомбу смехом...
Как полк, вертеться он судьбу
Принудить хочет барабаном;
Он слеп, упрям, нетерпелив,
И легкомыслен, и кичлив,
Бог весть какому счастью верит;
Он силы новые врага
Успехом прошлым только мерит...
ПЕТР ВЕЛИКИЙ
Самый факт преобразования Московии в Россию был возможен бла-
годаря ее превращению из полуазиатского континентального госу-
дарства в наиболее могущественную державу на Балтике.
К. М а р к с
В 1757 г. Елизавета, российская императрица, поручила Вольтеру написать
историю ее прославленного отца. Имя французского философа хорошо было
известно русскому двору, ведь половину своей книги «История Карла XII» он
посвятил Петру. Было спрошено мнение Ломоносова, который ответил, что
«к сему делу, по правде, господина Вольтера никто не может быть способнее».
Впрочем, инициатива шла от самого Вольтера. Он давно собирал мате-
риалы к истории Петра. В 1737 г. он через Фридриха, тогда еще наследного
принца прусского, просил сведений о России у Воккеродта, прусского поддан-
ного, проведшего в ней 18 лет, причем 10 из них в годы правления Петра.
Фридрих никак не сочувствовал интересу Вольтера. Отзывы его дышат
ненавистью и злобой. «Я не стану читать историю этих варваров, я хотел бы
даже вовсе не знать о том, что они населяют наше полушарие». Вольтер, одна-
ко, шел своим путем.
Д'Аржансон, школьный товарищ Вольтера, став министром иностранных
20
дел Франции и желая завязать более друже-
ственные связи с Россией, обратился к
автору «Истории Карла XII», где Петру
было уделено столько добрых строк, и про-
сил его написать что-либо дочери Петра,
царствовавшей тогда Елизавете.
Вольтер немедленно послал ей свою
«Генриаду», славя ее стихами как «Север-
ную Семирамиду» («Небо дало мне жить в
эти славные времена, когда трон России
заняла Северная Семирамида»). Француз-
ского посла в Петербурге Вольтер просил
передать «Генриаду» Елизавете, а Россий-
ской академии наук «Философию Ньюто-
на». «Я уже имею честь быть членом акаде-
мий Лондона, Эдинбурга, Берлина,
Болоньи, я хотел бы удостоиться той же
чести и в Петербурге», — писал он послу.
Вольтер просил разрешения приехать в
Россию, чтобы поработать в архивах и
написать историю Петра. Канцлер Бесту-
жев, однако, Отказал, заявив, ЧТО «ИСТО- ПетР Великий в юности. Портрет
рию» должна написать Петербургская ака- неизвестного художника начала xvm
демия, а не иностранец. Когда директором века-
академии был назначен восемнадцатилет-
ний Кирилл Разумовский, брат фаворита,
Вольтер снова обратился с той же просьбой. Но и на этот раз последовал отказ.
Что касается Петербургской академии наук, то она отнеслась к Вольтеру с
большим пониманием, и 10 мая 1746 г. он получил звание ее почетного члена.
Желание Вольтера сбылось. В начале 1757 г. граф Бестужев-Рюмин, рус-
ский посол в Париже, от имени И. И. Шувалова просит его приехать в Россию
и писать историю Петра. Вольтер в восторге. «Вы мне делаете предложение, о
котором я мечтал тридцать лет». Однако требует гарантий: «Я хотел бы,
чтобы господин граф Шувалов соблаговолил заверить меня, что ее величество
Императрица желает, чтобы этот памятник был воздвигнут в честь Императо-
ра, ее отца».
От поездки в Россию Вольтер отказался, вежливо сославшись на здоровье,
а приятелю Сидевилю писал 9 февраля 1757 г.: «Не хочу ни короля, ни самодер-
жавия. Сыт по горло. С меня довольно». (Воспоминания о пребывании при
дворе прусского короля были еще свежи.)
Так Вольтер стал историком русского царя Петра I. Он вспомнил о встрече
с ним где-то на рыночной площади Парижа. «Когда я его увидел сорок лет тому
назад, ни он, ни я не думали о том, что однажды я стану его историком», —
писал Вольтер Тирио 4 марта 1759 г.
Со стороны русского правительства выбор был необыкновенно удачен. По
сути дела, был заказан крупному мастеру литературный памятник Петру, и для
той поры он, пожалуй, был более значителен, чем сто лет спустя памятник в
бронзе, исполненный Фальконе и его ученицей Марией Колло.
21
Голова Петра работы Марии Колло. Екатерину никак не удовлетворяли варианты
головы Петра, предлагаемые автором памятника скульптором Фалъконе. Его ученица
блестяще выполнила пожелания императрицы. Лицо Петра прекрасно — ум, воля и благо-
желательная красота выражены с гениальной точностью.
Важно было само имя Вольтера, авторитет этого имени, всеобщая извест-
ность, которая еще более привлекла внимание мировой общественности к лич-
ности Петра. Вольтер не мог знать достаточно хорошо внутреннюю жизнь Рос-
сии, и заключительные строки его книги приглашали «национальных истори-
ков» рассказать о том, о чем не мог рассказать он, иностранец. Он назвал
Петра «великим человеком, который научился побеждать врагов России, кото-
рый дважды выезжал за ее пределы, дабы подать личный пример своему наро-
ду, который был основателем и отцом своей империи». Для Вольтера Петр
являл собою образец идеального государя, и он ставил его в пример всем коро-
нованным особам Европы. «Они бы сами должны себе сказать: «Если в ледя-
ных просторах древней Скифии человек, опираясь только на собственный
гений, совершил столько великих дел, то что же можем сделать мы в наших
королевствах, где плоды труда народа, накопленные многими веками, делают
наши задачи совсем нетрудными». Такого мнения о Петре придерживалась в те
дни вся передовая мыслящая Европа. Известие о его смерти в 1725 г. было вос-
принято, особенно в научных кругах, с большим сожалением. В ноябре 1725 г.
Французская академия поручила своему секретарю Фонтенелю написать
похвальное слово Петру I. (Фонтенель встречался с русским царем 19 июня
1717 г. во время его пребывания в Париже.)
Речь Фонтенеля содержала не только похвалу Петру, но и косвенный упрек
всем здравствовавшим монархам. Петр прославлялся за то, что смело порвал с
22
устаревшими традициями, отбросил предрассудки, придерживался религиозной
терпимости, был чужд религиозному фанатизму, что подчинил церковь госу-
дарству, что отнял у нее лишние богатства и заставил платить налоги, что уни-
чтожил патриаршество, что верил в науку и технику, двигателей прогресса,
словом, сделал то, что не смогли, не умели, не хотели или не смели сделать дру-
гие монархи.
Царевна Софья в заточении в Новодевиньем монастыре. Картина И. Репина.
23
Утро стрелецкой казни. Фрагмент. Картина художника В. Сурикова.
Вольтеру надо было как-то объяснить общественному мнению Европы
казнь царевича Алексея. Многим это казалось чудовищным со стороны Петра.
Вольтер оправдал трагическую необходимость акта: «Петр был более госуда-
рем, чем отцом. Он принес собственного сына в жертву интересам созидателя
и законодателя, интересам своего народа, который без этой несчастной суро-
вости впал бы снова в то состояние, из которого он был извлечен».
Вольтер, видимо, много размышлял об исторических судьбах России. Его
наблюдения интересны и глубоки. Он полагает, к примеру, что несчастия Рос-
сии начались с того момента, когда «великий князь Владимир разделил страну
между своими детьми и тем ослабил ее. Уделы князей стали добычей татарских
орд». Вольтеру не известно было еще «Слово о полку Игореве», не известно
тогда оно было и русским, но автор этой великой поэмы из той далекой эпохи
пел о том же: «рекоста бо брать брату: «се мое, а то мое же». И начяша князи...
сами на себе крамолу ковати. А погании съ всех странъ прихождаху съ побе-
дами на землю Рускую».
24
Вольтер писал, что «Россия является единственным большим христианским
государством, в котором религия не возбудила гражданских войн, хотя и вы-
звала кое-какие волнения».
Замечание важное: Россия, «страна волков и медведей», как презрительно
ее именовал Фридрих II, не знала ни инквизиции с ее ужасами, ни ведовских
процессов, ни кровопролитных сражений религиозных фанатиков.
Как известно, в 3(У—50-х гг. XIX в. в России славянофилы (о них речь даль-
ше) судили Петра I за реформы, за насильственную европеизацию страны, за
то, что он нарушил естественный ход ее развития и столкнул ее с особого
национального пути. Они всячески прославляли стародавнюю допетровскую
Русь. Иначе говоря, все то, за что Вольтер прославлял Петра, ими было
подвергнуто пересмотру и критике. Пожалуй, первой ласточкой славянофиль-
ства, как это ни странно, оказалась Екатерина II. Ее привлекли к допетров-
ским временам события французской революции. Какие примеры дает Запад?!
Там казнят королей (Карла I в Англии, Людовика XVI во Франции), там бес-
чинствует народ, подстрекаемый «философами», там смуты и революции. Нет,
нет, не нам идти к этим странам за наукой, не нам перенимать у них дух свобо-
домыслия! Как спокойны в этом отношении православные консервативные
старорусские царства! «Признаюсь вам, — говорила она Сенаку де Мейлану,
французу, вознамерившемуся написать историю России, — у меня определен-
ное пристрастие ко всему тому, что предшествовало царствам дома Петра I»,
иначе говоря, если будете писать о России, то не как Вольтер, восхвалявший
петровские реформы. И далее: «Я хотела бы, чтобы история писалась не ради
восхваления одного царства», т. е. как у Вольтера, посвятившего свою исто-
рию только эпохе Петра и не оценившего стародавнюю, православную и так не
похожую на буйную и неспокойную Европу Русь. И наконец, совсем уже поли-
тически определенно: «Я хотела бы верить, что вы не найдете в России фран-
цузского духа», а именно французской революционности.
Надо, однако, отдать ей должное. Она много и тщательно читала русские
летописи. Ее интерес заметили, и однажды на письменный стол императрицы
легла аккуратно переписанная рукопись «Слова о полку Игореве», только что
тогда найденная стараниями графа А. И. Мусина-Пушкина.
Екатерина была, конечно, полна глубочайшего уважения к Петру и к его
реформам. Как и Петр, она ценила достижения западной культуры и всеми
силами старалась приобщить к ним Россию. В нашей истории эти две фигуры
сыграли исключительную роль. Петр проводил реформы жестко, по-мужски,
«уздой железной» (Пушкин), Екатерина «цивилизовала» Россию, смягчала
нравы с обаятельной женской чуткостью. Вспоминаются слова Вольтера о вли-
янии женщин на французское общество (женские литературные салоны XVII—
XVIII вв.): «Общество создают женщины. Все народы, которые имели несча-
стье их обособить, лишались общества».
25
ПЕТР ВО ФРАНЦИИ
Что скажете вы, сударь, о путешествии царя Московии и о пре-
красном его замысле вырвать из варварства свой народ? Не правда
ли, в этом есть что-то из ряда вон выходящее?
Лейбниц1. Письмо к принцу Ганноверскому,
18 июля 1698 г.
Путешествие Петра I — это целая эпоха в истории не только его
страны, но и в истории нашей страны и всего мира.
М а к о л е й2
Весной 1717 г. Франция была взволнована чрезвычайным известием. Пред-
стоял неофициальный визит Петра I.
Отношения между Францией и Россией были довольно прохладны. Их
ничто не связывало. В то время, когда Петр I вел ожесточенную войну со швед-
ским королем Карлом XII, Франция была занята войной за Испанское наслед-
ство. Ей было не до России. Англия боялась того, что Карл XII завяжет какие-
либо связи с Францией и тем усилит ее позиции, потому очень благосклонно
глядела на действия Петра, отвлекавшие силы Карла. Франция была в дружес-
ких отношениях с Турцией, что противоречило тогда внешнеполитическим
интересам России. Людовик XIV хотел поставить на польский престол францу-
за, принца Конти, — Петр воспротивился этому. Словом, никаких общих инте-
ресов в России и Франции тогда не было. Петр не бывал во Франции, относясь
неодобрительно к высокомерию Людовика XIV и к роскоши его двора, не
посылал он туда и русских людей для обучения.
И вот теперь Петр решил совершить путешествие в эту страну. После бли-
стательных побед русской армии отношение в Европе к России и к личности ее
государя было уже иным. Вольтер в книге «Век Людовика XIV», в которой он
подробно и обстоятельно рассказал о больших и малых событиях времени, ни
словом не обмолвился о России, настолько была мала ее роль в европейских
делах XVII столетия. Теперь, после Полтавской битвы, Россия становилась в
ряде важных вопросов всеевропейским политическим арбитром, поэтому визит
русского царя во Францию сулил ей много политических выгод.
Утрехтский мир был далеко еще не упрочен. Англия все еще терзалась со-
мнениями, не продешевила ли она испанский трон. Германский император после
поражения Швеции чувствовал себя почти полновластным хозяином в Запад-
ной Европе. Внешнеполитическое положение Франции было отнюдь не завид-
ное, и приезд русского царя в такой момент был как нельзя кстати.
К тому же и для внутриполитического престижа регента визит царя был
очень желателен. (Народ уверует в авторитет своего правителя.)
С Лейбницем, ученым и философом, Петр встречался неоднократно, любил его беседу, ценил
его ум, научные открытия, приглашал в Россию.
Маколей — историк, критик, политический деятель. Его «История Англии от восшествия на
престол Якова II» (т. 1—5, 1849—1861) очень ценилась англичанами.
26
Поэты, историки, люди науки жаждали увидеть необыкновенного челове-
ка, поднявшего малодоступную и малоизвестную европейцам Московию на
высоту первейшего государства мира, с могучей армией, с новейшим техничес-
ким оснащением ее, с великолепным флотом, рожденным как бы по манове-
нию волшебного жезла. Петр пробил стену, так долго искусственно и упорно
сохраняемую политиками Западной Европы между Россией и Западом.
Культура западноевропейских народов рекой хлынула в далекую Моско-
вию. Люди науки и искусства не могли не приветствовать это, и Петр уже тогда
снискал славу великого преобразователя.
Простой народ Франции наслышан был о необыкновенном демократизме
царя. Все ждали Петра.
Регент послал в Дюнкерк для встречи именитого гостя одного из своих
чиновников, некоего г-на Либоя. Тот был обескуражен. Штат царя насчитывал
около 80 человек, а денег в распоряжении Либоя имелось всего лишь около
полутора тысяч ливров. Русские о том проведали, и лукавому озорству их не
было конца. Либой доносил в Париж о необычном для французских аристокра-
тов распорядке дня царя: «Обедает в десять часов, ужинает в семь и в девять
отходит ко сну. Пьет ликер перед едой, в послеобеденные часы — вино и пиво,
за ужином пьет мало или не пьет совсем. Ест все наши кушанья, пьет все наши
вина, кроме шампанского».
Петр отказался от предоставленной ему кареты. Просил дорожную двукол-
ку. Обыскали весь город, едва могли сыскать одну, но царь не взял ее. В Кале
Петр ждал, когда ему сделают повозку по его вкусу.
Приставленный к нему маркиз Майли-Нель, блестящий кавалер, менявший
каждый день костюм, раздосадовал Петра. Особой симпатией не воспылал к
нему и придворный шаркун, как свидетельствуют его донесения в Париж.
Петр не любил парадных встреч. В Бове для него был приготовлен кон-
церт, увеселительные огни, в предполагаемой спальне царя повесили портреты
Алексея Михайловича и Натальи Нарышкиной, его родителей, но Петр зано-
чевал в дорожной гостинице, недалеко от города, заплатив за ночлег по счету
за себя и за весь свой штат из собственного кошелька.
7 мая в воскресенье Петр прибыл в Париж. Улицы Сен-Дени и Сент-Оноре
были украшены, из всех окон глядели люди. Царя ждали в Лувре. Ему были
приготовлены самая роскошная спальня и самая роскошная во всем королев-
стве кровать (подарок г-жи де Ментенон Людовику XIV). Стол на 60 персон
был уставлен самыми изысканными блюдами. Петр попросил хлеба, репы,
попробовал шесть сортов вин, запил пивом, погасил часть свечей (их было
слишком много), потом, оглядевшись вокруг, заявил, что ему здесь не нравит-
ся.
По совету Толстого, тогдашнего русского посла во Франции, который знал
вкусы царя, в его распоряжение был предоставлен отель Ледигьер на улице
Серизей. Туда Петр приказал принести его походную кровать и устроился, как
на бивуаке.
Утром в понедельник в отель Ледигьер явился с визитом регент. Петр обнял
его несколько небрежно и, указав на дверь кабинета, вошел первый. Это было
отмечено как проявление крайней невоспитанности. Затем последовала
встреча с королем.
8 комнате, предназначенной для встречи двух монархов, были поставлены
27
два трона. Куракин переводил речь Петра королю. Людовик XV, семилетний
мальчик, белокурый, очень миловидный, вошел в сопровождении своих воспи-
тателей, герцога дю Мена и престарелого маршала Мильруа, и довольно бойко
пролепетал подготовленную ему речь. Петр улыбался:
— Брат мой, я давно хотел видеть французского короля. Теперь я доволен,
видя Его величество. Я знаю много языков, но хотел бы все их забыть и знать
только французский, чтобы говорить с вами.
Теперь Петр с жадностью ребенка принялся за изучение французской сто-
лицы. Он отказался от какого-либо экипажа. Ходил по улицам города пешком
и только иногда, когда уставал, брал первую попавшуюся карету. Его интере-
совало все: люди, их образ жизни, их труд. Он останавливался, заговаривал то
с тем, то с другим. На базарной площади он вошел в толпу, но не смешался с
ней. Он был на голову выше остальных. Там его увидел Вольтер. Он глядел на
него, не зная еще тогда, что будет первым историком этого человека. Одет
Петр в серый камзол, довольно грубый и без всяких украшений. Куртка серая
льняная, только пуговицы из драгоценных каменьев. Без галстука, без манжет.
Никаких кружев. Портупея отделана серебром. Маленький кортик.
Позднее Вольтер писал о нем:
«Петр Великий был высокого роста, хорошо сложен, держался неприну-
жденно. Лицо благородно, глаза живые, темперамент здорового человека, спо-
собного переносить любые испытания и любые тяготы. Его ум был трезв, что
всегда отмечает истинные таланты, и эта трезвость его мышления сочеталась
в нем с особым беспокойством натуры, стремившейся все познать и все сде-
лать».
Речь Петра была энергична, голос довольно высок. Лицо часто оживлялось
улыбкой. Портрет Петра дал герцог Сен-Симон в своих «Мемуарах». Вот что
он писал:
«Очень высокий и сильный человек. Великолепно сложен, худощав, кру-
глолиц. Большой лоб, чудные брови, нос в меру короток, в конце несколько
толстоват, губы довольно полные, цвет лица красноватый, темный. Чудные
черные глаза, большие, живые, проницательные, изумительный разрез глаз.
Взгляд величествен и обаятелен, когда он следит за собой, но строг, жесток, с
тиком, который не очень часто повторяется, но совершенно изменяет и глаза
и все лицо. Тогда он страшен. Это длится мгновение: взгляд блуждающий и
грозный, но тут же все проходит. Весь его вид обличает в нем ум, работу
мысли, его величие и не лишен обаяния. Он носит маленький полотняный
воротник, круглый парик, коричневый, без пудры, не доходящий до плеч,
коричневый одноцветный камзол с золотыми пуговицами, куртку, штаны, чул-
ки, ни перчаток, ни манжет. Орден на груди, над ним лента. Камзол часто рас-
стегнут, шляпа на столе и никогда на голове, даже когда он на улице. При всей
его простоте, в каком бы экипаже он ни ехал, в сопровождении кого бы он ни
был, нельзя было ошибиться в значительности его личности. Величие его про-
являлось в нем как бы само собой, как свойство его натуры».
Ему показали сокровища королевского дома. Он сказал, что не разбирается
в драгоценностях и не может ценить того, что не дает реальной пользы. Его
повезли в Фонтенбло на охоту, он не нашел в ней никакого удовольствия.
Отказался видеть принцесс крови. С регентом был несколько грубоват, с маль-
чиком-королем дружелюбен. Когда Людовик преподнес ему карту России,
28
Петр был тронут. Он тут же стал объяснять мальчику, как хочет соединить
каналами Каспийское и Черное моря. Потом показал весь путь, который
прошла русская армия, идя на сближение с армией Карла XII, под Полтавой.
Посетив Сорбонну, обнял статую Ришелье, ничего при этом не сказав.
Французы запомнили этот жест Петра, они поняли его символический
смысл. Через сто двадцать лет Бальзак, говоря об основателях абсолютизма во
Франции, писал: «Петр Великий хорошо понимал их; обнимая статую кардина-
лами, может быть, хотел перенести его дух на Север!»
Вольтер, однако, несколько по-иному рассказал об этом эпизоде в своей
книге о Петре: «Не могу удержаться от того, чтобы не сообщить читателю о
восторге, каким он (Петр. — С. А.) был охвачен перед могилой кардинала
Ришелье. Почти не обратив внимания на совершенство самой скульптуры, он
весь был поглощен созерцанием облика министра, который завоевал себе
славу в Европе, оживляя ее деятельность, и вернул Франции ту славу, которую
Петр в Париже, на руках держит мальчика — короля Людовика XV. Картина художника Герсена.
29
она потеряла после смерти Генриха IV. Как известно, он обнял статую и вос-
кликнул: «Великий человек! Я бы тебе отдал одну половину своих земель,
чтобы ты научил меня управлять другой».
Если это было и не совсем так, то патриотические пристрастия француза
Вольтера, сказавшиеся в этой маленькой неточности, по правде говоря, и тро-
гательны и простительны.
Богословы Сорбонны стали упрашивать Петра ввести в России католиче-
ство.
— Я солдат. В делах религии ничего не смыслю, — уклончиво ответил
Петр.
Богословы настаивали. Чтобы закончить разговор, Петр предложил им
написать ему соответствующую памятную записку:
— Я передам своим епископам. Пусть решат они.
Петр не расставался с записной книжкой (таблицами). Записывал все при-
мечательное, важное для России. Побывав в Академии, он записал: «Основать
Академию в Петербурге». Академик Бинью показал ему машину, поднима-
ющую воду вверх. Петр был в восторге.
Посетил Монетный двор. Поднимался на башни собора Парижской богома-
тери. Смотрел королевскую библиотеку. В обсерватории засыпал вопросами
географа Делиля и химика Жоффроя. С большой симпатией говорил с учены-
ми, но не оказывал никаких знаков внимания герцогине де Роган, которая была
от этого в бешенстве.
Рыскал по Парижу, заглядывал во все мастерские, дружески обнимал рабо-
чих. Посетил фабрику гобеленов. Увидел ребенка, семилетнего мальчика (ра-
бочего), обнял его, поцеловал. Рассматривал, расспрашивал, записывал.
Пожелал увидеть г-жу де Ментенон. Для этого поехал в Сен-Сир. Напуганная
супруга покойного короля сказалась больной. Войдя в ее спальню, Петр просит
открыть окна, раздвинуть полог кровати. Подойдя к кровати, молча взглянул
в лицо старухи и, не сказав ни слова, удалился.
Сен-Симон по этому поводу ядовито замечает в своих «Мемуарах»: «Она
была очень удивлена и еще более оскорблена, но покойного короля уже не
было в живых...»
Вольтер объяснил желание Петра увидеть г-жу де Ментенон, небогатую
когда-то особу, ставшую в свое время по нужде женой писателя Скарона, пол-
ного инвалида, и поднявшуюся потом до придворной дамы и тайной супруги
короля, сходством ее судьбы с судьбой жены самого Петра, Екатерины,
вышедшей из низов. «Это сходство браков Людовика XIV и его собственного
вызвало его живое любопытство, но была большая разница между ним и коро-
лем Франции: он женился открыто и не на героине, а Людовик XIV тайно и не
более как на привлекательной женщине. Царица не сопровождала его в путе-
шествии: Петр предвидел сложности этикета и любопытство двора, неспособ-
ного оценить достоинства женщины, которая от берегов Прута и до Финляндии
делила с ним смертельные опасности на море и суше».
Вольтер всегда и везде подчеркивал превосходство Петра перед тогдаш-
ними владыками государств.
Петр посетил Ботанический сад. Дом инвалидов. В столовой потребовал
суп, какой подают солдатам, пил за их здоровье, дружески хлопал их по плечу,
называл товарищами. С маршалом Вил аром держался как с другом. Рассказы-
30
вал ему о Полтавском сражении. Первый раз любезен с дамой, супругой мар-
шала.
Посетил анатомический музей. Встретился с маршалом д'Эстре, хотел
знать состояние морского дела во Франции. По воде проехал в Париж. Ему
было необходимо обязательно проплыть под всеми мостами французской сто-
лицы.
Присутствовал вместе с регентом в Парижской Опере. Во время представ-
ления заснул. В Люксембургском дворце у герцогини Берийской (дочери реген-
та) восхищался картинами Рубенса.
Придворные были немало шокированы. Он их не замечал — ни принцев
крови, ни сеньоров, ни их супруг. Казался странным, экстравагантным. По его
заказу для него был сделан парик. Мастер потребовал огромных денег. Петр
дал десятую часть. Спорил, торговался. На чай давал гроши. Петр был лукав.
Уезжая из Парижа, он оставил, однако, слугам отеля 60 тысяч ливров, 3 ты-
сячи телохранителям, 30 тысяч рабочим фабрик, которые он посещал. Он
дарит направо и налево золотые медали с изображением важнейших событий
своей жизни.
Французы дивились: странен русский царь!
20 июня он покинул Париж, «оставив Францию очарованной его гением,
широтой познаний и необыкновенным своим характером», — писал один фран-
цузский автор.
Вольтер, или тогда молодой Аруэ, только с неделю мог что-либо знать о
Петре или иметь возможность видеть его. В его жизни произошло нечто серь-
езное, что изъяло из орбиты его внимания чудесного московского гостя.
16 мая, через девять дней после прибытия Петра в Париж, Аруэ был арестован
и препровожден в Бастилию.
Однако облик русского царя-преобразователя, так не похожего на всех
остальных монархов, дерзко ломавшего стародавний уклад жизни и традицион-
ные жизненные принципы своих подданных, не мог не запечатлеться в памяти
юного бунтаря, каким был в ту пору Аруэ-Вольтер.
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ
Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины...
А. С. П у ш к и н
Пушкин оставил резкие суждения о Екатерине, хотя и восхищался ее веком
(«Книгохранилища, кумиры и картины, и стройные сады...»). Веком вельмож,
роскоши, вольтерьянства — парадной стороной царствования этой государы-
ни. Но саму императрицу не щадил, называя ее «Тартюфом в юбке», лицемер-
ной и лживой.
В его дни дворяне уже критически относились к ней и даже ее царствовав-
ший внук Николай I.
Однако она была несомненно незаурядной личностью и много содейство-
вала тому, что так пышно и ярко расцвело в России в XIX в.
31
Еще будучи великой княгиней, она ознакомилась с сочинениями Монтескье
и прониклась его идеями республиканизма, равенства, гражданственности.
Один из первых ее указов, когда она взошла на трон, предписывал впредь во
всех государственных документах не употреблять слово «раб», заменив его сло-
вом «подданный». Этот маленький филологический эпизод говорит о громад-
ном событии в России.
Екатерина рассказывает в своих «Записках», что, когда ей было примерно
шестнадцать лет, швед Гюлленборг в беседе с ней указал ей на ряд авторов, с
Петр допрашивает сына Алексея. Картина художника Н. Н. Ге.
32
которыми надлежало ознакомиться. «...Он рекомендовал мне «Жизнь знаме-
нитых людей» Плутарха, «Жизнь Цицерона» и «Причины величия и упадка
Римской республики» (Монтескье. — С. А.). Я тотчас же послала за этими кни-
гами, которые с трудом тогда нашли в Петербурге».
Далее она вспоминает: «Мне попались под руку произведения Вольтера;
после этого чтения я искала книги с большим разбором».
Новые идеи живо воспринимались этой тогда еще девочкой, умной и често-
любивой, при глуповатом муже, игравшем тогда еще в куклы.
Самодержица России и бабушка, она серьезно занялась воспитанием двух
своих внуков, Александра и Константина. Педагогическая ее программа была
направлена на воспитание совершенно нового типа государя. И это примеча-
тельно! Главная ее заповедь — освободить будущего государя от представления
о своей исключительности. Воспитывать в нем правдивость, уважение к собе-
седнику, снисходительность, человеколюбие.
«Главное достоинство воспитания детей состоять должно в любви к ближ-
нему (не делай другому, чего не хочешь, чтоб тебе сделано больно было), в
общем благоволении к роду человеческому, в доброжелательстве ко всем
людям, в ласковом и снисходительном обращении со всеми, в добронравии,
чистосердечии, в удалении гневной горячности, боязливости и пустого подозре-
ния...» Учить детей следует без наказаний и страха, ибо под страхом ничего
нельзя усвоить, как нельзя что-либо написать на дрожащей бумаге (сравнение
самой Екатерины), воспитывать в свободе, дабы формировалась честная, прав-
дивая, благожелательная к людям и не высокомерная личность. Императрица
приставила к цесаревичу Лагарпа, откровенного республиканца. Александр
усвоил идеи своего наставника, это стало личной трагедией, так как осуще-
ствить эти идеи в тогдашней России при крепко внедрившейся крепостнической
системе не удалось ни ему, ни позднее Николаю I, хотя необходимость освобо-
ждения крестьян от крепостной зависимости назревала год от года, день ото
дня.
Среди мыслителей Франции XVIII в. получила широкое распространение
идея «просвещенной монархии». В нее верили даже скептические умы (Воль-
тер). С детской восторженностью Дидро писал:
«Он придет, он придет когда-нибудь, тот справедливый, просвещенный,
сильный человек, которого вы ждете, потому что время приносит с собою все,
что возможно, а такой человек возможен».
И такие монархи, философы появились: в Пруссии — Фридрих II, Великий,
как именовали его немцы, в России — Екатерина II, Великая, как именовали ее
русские. Они завязали связи с французскими просветителями, не всегда поспе-
шая проводить их идеи в жизнь, ибо были политиками, а это требует трезвости
ума и ясного представления о реальностях. Трудно сказать, насколько важна
была для германских государств философская направленность ума Фридри-
ха И, но для России просветительская деятельность Екатерины II была исклю-
чительно важной.
Германия уже имела Гете, Шиллера, Канта и мощную философскую шко-
лу, великолепных музыкантов, давние культурные традиции. Ничего этого
еще не было в России. На культурном горизонте выделялись лишь фигуры
Ломоносова, Державина, Фонвизина. Малообразованное дворянство и совер-
шенно безграмотное крестьянство составляли основную массу населения.
33
Юная цесаревна Екатерина читала Платона, а вот некий князь по имени Влади-
мир Дмитриевич Долгоруков, сенатор, «не умел ни читать, ни писать ничего,
кроме своего имени», — отмечала в своих записках Екатерина.
В 1783 г. Екатерина издала Указ о вольных типографиях. Для тогдашней
России это было невиданное и неслыханное дело, по сути — закон о свободе
печати, который только в наши дни мы снова обретаем. Развернулась бурная
журнальная деятельность, в которой приняла участие сама императрица в каче-
стве автора.
Мы долго и упорно замалчивали просветительскую деятельность Екате-
рины II и очень охотно писали и прославляли Новикова за его нападки на импе-
ратрицу, Новикова, который, по справедливым словам историка Ключевского,
«был недостоин ни ее ума, ни сана».
Может быть, я выскажу слишком смелую мысль, но я все-таки ее выскажу:
в XVIII столетии в России самой значительной просветительной силой была
Екатерина И.
Продолжая дело Петра, она посылала молодых людей учиться за границу.
Одним из них был Радищев, благородно, в духе самой Екатерины клеймивший
зло крепостничества, но несвоевременно предложивший радикальные меры
оздоровления общества, совершенно тогда нереальные и потому опасные. Гнев
императрицы был конечно понятен и оправдан.
Екатерина пригласила в Петербург французского философа-просветителя
и поборника всех политических свобод Дени Дидро, вела с ним частые беседы,
с пониманием и сочувствием относясь к его идеям, но когда он стал настаивать
на том, чтобы она, пользуясь данной ей властью, сверху провела социальную
реформу, а именно учредила в России «третье сословие», — то, что мы сейчас
называем третьим классом, — свободных предпринимателей, она резонно
ответила ему, что он, философ, проводит свои «реформы» на бумаге, тогда как
ей придется их проводить на людях, а это не одно и то же.
Спор кончился тем, что философу было поручено подготовить проект уни-
верситета в Харькове. Что он и сделал.
Позднее императрица купила у бедствующего в Париже Дидро его библио-
теку, назначила его пожизненно хранителем этой библиотеки, выплатив ему
жалованье за пятьдесят лет вперед.
Не думаю, что это было сделано ради пропагандистских целей. Она в самом
деле сочувствовала освободительным идеям французских просветителей пра-
вого крыла (Вольтера, но никак не Руссо). Она говаривала: «В душе я респуб-
ликанка, но моя профессия заставляет меня быть монархисткой».
Екатерина бесспорно цивилизовала русское общество, и та образован-
ность русского дворянства и нравственные идеалы, которые привели к дека-
бристам, возникли не без влияния Екатерины Великой. Не Радищев стоял у
истоков декабризма, а эта умная и благородная женщина, недаром ее суровый
правнук Николай I, ненавидевший Вольтера, так неодобрительно о ней отзы-
вался.
Нам интересно, как относились к императрице ее современники, за что
ценили, за что хвалили. Державин в оде «Фелица» прославил Екатерину. Коне-
чно, здесь не обошлось без верноподданнической патетики, но тон оды искрен-
ний, восторженный. Поэт намеком сравнил ее с прежними царствиями: она не
допускает варварских увеселений, не устраивает «шутовских свадеб» «в ледо-
34
Москва XVIII века. Художник В. Семе-
нов.
вых банях», «князья наседками не клохчут, любимцы въявь им не хохочут и
сажей не марают рож», «не щелкают в усы вельмож».
Екатерина устанавливает «просвещенья нравы», снисходительна («по-
ступки снисхожденьем правишь»), «нимало не горда», «любезна и в делах и в
шутках, приятна в дружбе и тверда», ей «любезна» поэзия, «ей завсегда воз-
можно и правду говорить».
Державин хвалит и экономическую политику царицы, поощрение свобод-
ного предпринимательства:
Велит и ткать, и прясть, и шить;
Развязывая им и руки,
Велит любить торги, науки
И счастье дома находить.
Екатерина, прочитав оду, была растрогана до слез. «Я ревела как дура», —
писала она своей приятельнице княгине Дашковой.
35
Преобразовать государство и стать во главе его — подобное
честолюбие было чуждо Фридриху II.
К. М а р к с
Однажды, разбирая очередную почту, Вольтер увидел пакет с гербовыми
знаками прусского государства. Письмо пришло из Рейнсберга.
«Сударь, я не имею счастья знать вас лично, но мне хорошо известны ваши
сочинения. Это — сокровища ума...» Столь лестные строки писал Фридрих,
наследный принц Пруссии. Воспитанный на лучших образцах французской
литературы, он питал в душе высокие идеалы. Как показала жизнь, орел летал
невысоко. Но в годы юности Фридрих горел порывами благородства.
Принца не любил отец, король Фридрих-Вильгельм. Отец никогда не дер-
жал в руках книги, гонялся по улицам Берлина за зазевавшимися горожанками,
чтобы дать им пинка за «безделье», ругался и дрался, как ефрейтор.
Сын любил философствовать. Излюбленным словечком отца было «Nicht
rasonieren!» («не рассуждать!»). Он считал своего сына «растяпой», «размаз-
ней», которому больше бы пристало место школьного учителя, чем королев-
ский трон.
Сын единственное утешение свое видел в занятиях изящными искусствами и
мечтах о собственной литературной карьере. Напав на сочинения Вольтера, он
пришел в неописуемый восторг. Так завязалась переписка. Польщенный Воль-
тер отвечал самыми любезными письмами, и эпитеты гиперболического свой-
ства соревновались друг с другом в посланиях Фридриха и Вольтера.
Фридриха называли «Северным Соломоном», «Цезарем», «Марком Авре-
лием», Вольтера — «Французским Аполлоном». «Если когда-нибудь я прибуду
во Францию, — писал Фридрих, — первое, что я спрошу: «Где господин Воль-
тер?» Ни король, ни двор, ни Париж, ни Версаль, ни женщины, ни развлече-
ния — ничто не будет интересовать меня. Только вы».
Вольтер отвечал галантным языком XVIII в.: «Я грежу моим принцем».
Впрочем, письма Вольтера и Фридриха состояли не только из одних галантных
комплиментов. Ни Вольтер, ни его молодой друг не могли обойтись без фило-
софии. В своем первом письме во Францию (8 августа 1736 г.) Фридрих пишет
о немецком философе Вольфе, изгнанном из университета в Галле за атеизм.
Он посылает сочинение своего соотечественника. Вольтер благодарит за
книжку, которая «делает честь разуму», и наставляет принца быть всегда в
обществе философов — Ньютона, Лейбница, Бейля, Локка, «душ, столь воз-
вышенных, просвещенных и честных».
Здесь же он пускается в пространные и опасные рассуждения о мироздании.
«Мыши, живущие в маленьких норах огромного здания, не знают, вечно ли
оно, кто его построил и зачем. Они лишь стараются сохранить свою жизнь,
заселить свои норы и избегать зверей-разрушителей. Мы — мыши, и боже-
ственный архитектор, построивший вселенную, не сообщил, насколько я знаю,
своего секрета никому из нас».
Фридрих выражает крайнее удивление по поводу того, что Франция так
мало ценит своего гения, «которому бы мы своими руками построили алтари»,
36
что его, автора единственной во Франции эпической поэмы «Генриада», пре-
следуют попы, что он живет в одиночестве.
В 1740 г. умер Вильгельм, отец Фридриха. Последний получил королевский
скипетр и вместе с ним долгожданную личную свободу (отец держал его на
положении узника). Парк Сирея был по этому случаю иллюминирован. Воль-
тер, скептик и хитрец, теперь с наивностью ребенка праздновал зарю просве-
щенной монархии.
Фридрих, уже король, писал по-прежнему дружески, чуть ли не по-при-
ятельски: «Смотрите на меня, прошу вас, как на частного гражданина, филосо-
фа, чуть-чуть скептического и верного друга. Ради Бога, говорите со мной как
с человеком и отбросьте все титулы, громкие имена и весь этот внешний деко-
рум».
И Вольтер плачет от восторга. Наконец-то всходит заря свободы! «Заря,
что предвещает земле такой яркий день». Он пишет Фридриху стихами, он сла-
вит его, теперь уже со всей искренностью: «Вы самый достойный король, вы
клянетесь мне покровительствовать искусствам и любить человечество!» И
называет его не «Вашим Величеством», как требовал королевский сан, а «Ва-
шим Человечеством».
Первой мыслью молодого короля (ему тогда минуло 28 лет) было пригла-
сить французского поэта к себе, но только его, а никак не маркизу Дюшатле.
(Фридрих не терпел женщин, и особенно женщин умных. На этот счет в пись-
мах Вольтера и его друзей есть немало насмешливых намеков.) Маркиза согла-
силась отпустить своего друга, но только на краткий визит, не долее. 11 сентя-
бря 1740 г. Фридрих и Вольтер встретились в замке Мойланд близ города Кле-
ва. Фридрих совершал поездку по своим гарнизонам, инспектируя войска, но
дорогой подхватил лихорадку и принял Вольтера, лежа в своей солдатской
походной постели. Вольтер подивился спартанской скудности обстановки.
Вечером оправившийся король пригласил его на ужин. Говорили о филосо-
фии, о диалогах Платона, о бессмертии души. И тот и другой высказывали
самые дерзкие сомнения в канонических догмах церкви. Фридрих уговаривал
Вольтера остаться в Германии. Вольтер отказывался, ссылаясь на сердечные
узы, связывающие его с Сиреем.
Французское правительство решило воспользоваться «дружбой» поэта с
прусским королем и разведать кое-что, касающееся планов Фридриха в отно-
шении Европы. В частности, министра Мирпуа очень интересовало, сможет ли
Пруссия оказать поддержку Франции в борьбе против Австрии и Англии.
Чтобы король был откровенен с Вольтером, придумали версию о том, что
последний якобы подвергается преследованиям со стороны министра. Вольтер
с мальчишеским лукавством поносил Мирпуа в своих письмах к Фридриху.
Фридрих тотчас же разгадал маневр двух «дипломатов». Он восторженно при-
нял Вольтера, устроил в его честь блестящие празднества, и пока тот упивался
лаской короля и писал мадригалы в честь принцессы Ульрики, сестры его, от-
правил французскому министру письма своего «дорогого» гостя, порочащие
этого самого министра. Расчет короля был прост: или Мирпуа должен прийти
в бешенство от писем Вольтера, тогда последнему будет заказан въезд во
Францию и он останется добровольным пленником Пруссии, или министр не
рассердится, тогда налицо будет сговор, хитрость. Последнее подтвердилось.
Из всех немецких королей Фридрих, конечно, был самым образованным и
37
самым умным. В этом нет сомнения. Ум его блестящий, сверкающий, но и
холодный, как свет бенгальских огней. Затевая войны, он с цинизмом призна-
вался: «...готовность войск к немедленным боевым действиям, большой запас
денежных сбережений и живость моего нрава, таковы были основания, по
которым я объявил войну Марии-Терезии, королеве венгерской и богем-
ской» — и далее: «Честолюбие, расчет, желание вызвать толки о себе одер-
жали верх; и война была решена».
Фридрих II не питал никаких иллюзий в отношении своего характера и
своих нравственных принципов. Однажды он заявил своим обомлевшим гостям
во время ужина (среди присутствующих добрая половина состояла из вернопод-
данных пруссаков): «Монархи в общем все мерзавцы. От них портятся и дру-
гие».
Язвил, писал злые эпиграммы на своих европейских коллег. Вольтер вводил
стихи в нормы французского языка, на котором они были написаны, и собирал
потихоньку их с лукавым расчетом познакомить с ними самих героев королев-
ских острот. Обожавший его Фридрих был однако не менее его хитер и лукав
и не позволил вывезти эпиграммы из Пруссии. Трагикомическая история эта,
так напугавшая философа (его задержали на границе, когда он «удирал» от
венценосного поклонника), немало позабавила тогда читающую публику, для
которой каждое слово Вольтера было сенсацией.
Прусский король был бесспорно крупным полководцем, увеличив армию, в
основном наемную, много воевал, одержал ряд блестящих побед, как, впрочем,
и ряд поражений (в боях с русскими войсками). Кроме всего прочего, был
поэтом, писал стихи на французском языке, которые отдавал править Вольте-
РУ-
В XVIII в. он был значительной фигурой политической арены Европы.
Соотечественники присвоили ему имя «Великий».
АНГЛИЯ
Яо Лондон звал твое вниманье. Твой взор
Прилежно разобрал сей двойственный собор:
Здесь натиск пламенный, а там отпор суро-
вый,
Пружины смелые гражданственности новой.
А. С. П у ш к и н
То, к чему готовилась Франция в XVIII в., что в конце его она совершила,
произошло в Англии веком раньше. «Пружины смелые гражданственности
новой», о которой говорит здесь Пушкин, установились в ней после казни
короля Карла I Стюарта, диктатуры Кромвеля и краткой паузы 28-летнего
правления реставрированных Стюартов. Мы оставили Англию в XVII столе-
тии, когда она, совершив свою революцию, решительно и смело пошла по пути
внутреннего и внешнего преуспевания. Напомню вкратце исторические собы-
тия тех дней. После смерти Кромвеля потомки казненного Карла I вернулись
39
на английский трон. Период их правления (28 лет) назвали временем Реставра-
ции. Она не могла повернуть историю вспять. Завоевания революции оказа-
лись настолько прочными, что их не поколебало временное политическое
переустройство. Реставрация показала лишь, что исторический процесс не
совершается прямолинейно, что серьезные социальные сдвиги не происходят
безболезненно, что, наконец, старые, отжившие формы общественных отно-
шений не сразу и не без ожесточенной борьбы сдают свои позиции.
В 1688 г. Яков II был изгнан. Английская буржуазия, не мыслившая еще
государства без короля, пригласила на трон тогдашнего правителя (штатгалте-
ра) Голландии Вильгельма Оранского, женатого на дочери Якова II Марии.
5 ноября Вильгельм был радушно встречен англичанами на Британских остро-
вах и торжественно препровожден в Лондон. С этой поры начинается эра пол-
ного господства буржуазии в Англии. Теперь ей уже ничто не мешало. Новый
король (Уильям III) издал «Билль о правах», передав фактическую власть пар-
ламенту и оставив за собой власть символическую (по сути дела, протоколь-
ные, представительские функции).
Королевская власть (без власти) была и остается до сих пор в Англии свое-
образным и довольно дорогим декорумом государства. Ныне у королевы Ели-
заветы II имеются Сен-Джемский и Бэкингемский дворцы в Лондоне, замки в
Балморале и Виндзоре, охраняемые часовыми в красных мундирах и высоких
медвежьих шапках. Она зачитывает в парламенте тронную речь, составленную
очередным премьер-министром, излагающую политическую программу своего
кабинета, выслушивает еженедельные доклады этого премьера и ни единого
пункта не может изменить в его программе. Англичане шутят, что если бы
кабинет вынес решение о казни короля, то это решение он представил бы на
утверждение короля и тот в силу существующего положения обязан был бы
подписать его, иначе говоря, санкционировать свою собственную казнь. Пра-
вит страной кабинет министров. Парламент редко собирается в полном соста-
ве. В новом Вестминстерском дворце (старый сгорел в 1834 г.), несмотря на то
что в нем имеется 1100 комнат, для палаты общин отведено помещение с 300
местами, а депутатов — 655. Присутствуют обычно 20—30 человек, бывает,
что и не больше четырех-пяти.
Англия в течение XVIII столетия вела ряд войн. В 1707—1714 гг. она уча-
ствовала в войне за Испанское наследство. По Утрехтскому договору она полу-
чила Гибралтар и острова Менорки. Таким образом она захватила в свои руки
ключевые позиции Средиземного моря и могла контролировать его, открывая
и запирая его «ворота». Она подчинила своему влиянию Португалию, ставшую
ее поставщицей продуктов сельского хозяйства. В 1707 г. Англия присоединила
к себе Шотландию. Еще в конце XVII в. она подавила восстание в Ирландии.
Англия участвует в войне за Австрийское наследство (1741—1748), в Семи-
летней войне (1756—1763), перехватывает у Франции Канаду, у Испании Фло-
риду, вытесняет Францию из Индии.
Через сто лет после революции она стала самой богатой страной в мире по
объему продукции на душу населения. (Ныне она занимает лишь 14-е место,
потеряв свои заморские колонии.) Когда во Франции развернулись события
революции 1789—1794 гг., в годы правления Наполеона I она вступила с Фран-
цией в войну. После битвы при Ватерлоо англичане возвращают Людовика
XVIII, брата казненного Людовика XVI, в Париж.
40
* * *
Духовную жизнь общества часто определяют философы, авторитетные для
того или иного народа, для той или другой страны. В Англии наибольшим вли-
янием в XVIII в. пользовались две философские школы. Одни, я бы их назвал
прагматиками, утверждали идеи материализма, отказывались от религии или
высказывали скептическое отношение к ней, другие, наоборот, утверждали
принципы религиозно окрашенной нравственности, придерживались филосо-
фии идеализма. Первое направление в философии возглавил Джон Локк
(«Опыт о человеческом разуме», 1690). Он писал о материальности мира, о
том, что человек, появляясь на свет, не имеет никаких «врожденных идей», а
приобретает их в процессе познания мира, что сами люди устанавливают, а в
случае необходимости перестраивают свои общественные отношения, что цель
государства — сохранение свободы личности.
Последователи Локка высказывались более резко, называя все религии
обманом, изобретением политиков и жрецов (Джон Тол ланд, «Христианство
без тайн»). В дни Кромвеля ничего подобного не могло бы возникнуть в умах
англичан.
В Англии появились и энтузиасты идеализма. Одним из них был епископ
Беркли (1685—1753), выступивший с сочинением «Защита христианской рели-
гии против так называемых свободных мыслителей».
ДАНИЭЛЬ ДЕФО (1660—1731)
Натура активная, волевая, Дефо прожил бурную жизнь, смело вмешива-
ясь в политическую жизнь страны, отдавая свое бойкое перо (часто небеско-
рыстно) различным политическим партиям, однако принципиально поддержи-
вая буржуазную линию развития Англии.
Родился он в Лондоне. Его предки (по фамилии Фо; писатель прибавил к
ней частичку «де») — протестанты, в XVI в. в годы религиозных войн они
бежали из Фландрии, спасаясь от преследований католиков.
Отец Дефо, ремесленник, владелец небольшой мастерской по изготовле-
нию свечей, жил в собственном доме в пригороде Лондона. Суровый пуританин
и скопидом, он поместил сына в духовную академию. Будущий писатель полу-
чил в ней практические знания по истории, математике, географии, изучил
живые языки (французский, итальянский, испанский) и языки классические
(латынь и древнегреческий). Проповедником он стать не пожелал и занялся
предпринимательской деятельностью и коммерцией. В молодости он побывал,
занимаясь виноторговлей, во Франции, Испании, Италии, Португалии.
Во время «славной революции» Дефо был в числе тех лондонских коммер-
сантов, которые торжественно встречали в Лондоне нового, «буржуазного»
короля Вильгельма Оранского. Жил он жизнью типичного буржуа-коммерсан-
та, занимаясь торговлей, обогащаясь и разоряясь, нисколько не помышляя о
литературной славе. Писать начал поздно, и первые его сочинения были
далеки от художественной прозы. Его «Опыт о проектах» предлагал англича-
нам целый ряд реформ, конечно, экономического порядка, рекомендовал осла-
бить средневековую строгость законов и проявить известную долю гуманности
41
к беднякам. Позднее он напечатал несколько политических памфлетов в газете
«Афинский Меркурий» и, наконец, в 1701 г. памфлет «Чистокровный англича-
нин», принесший ему широкую известность в Англии. Дефо осмеял претензии
лордов на чистоту их аристократической крови и вообще чистоту крови англи-
чан. Английская нация сформировалась в ходе истории из самых различных
племен. В нее вошли норманны, англосаксы, шотландцы, французы, датчане:
Британец чистокровный? — В это верю еле!
Насмешка на словах и фикция на деле!
Памфлет заметил Вильгельм III (аристократы называли его иностранцем
на троне) и наградил автора. Благодарны Дефо были и деятели лондонского
Сити, увидев в нем собрата и защитника их общих интересов от посягательств
лордов.
Второй памфлет Дефо — «Кратчайший способ расправы с диссидентами» —
навлек на автора недовольство правительства, которое (к этому времени умер
Вильгельм III) сочло необходимым покарать сатирика, «кощунственно смеяв-
шегося над официальной англиканской церковью». (Дефо был пуританином.)
Писатель перешел на нелегальное положение. Власти объявили его розыск.
«Человек среднего роста, около 40 лет от роду, смуглый, с темно-русыми воло-
сами, носит парик. У него крючковатый нос, острый подбородок, серые глаза
и большая бородавка около рта». Так излагались его приметы. Дефо был,
конечно, вскоре найден и помещен в тюрьму, затем выставлен в колодках у
позорного столба. Писатель ответил «Гимном позорному столбу», и его «по-
зор» превратился в настоящий триумф.
Писал он много, часто один заполняя все столбцы своей газеты. «Обозре-
ние французских дел». Кроме того, печатал памфлеты, романы, историчес-
кие сочинения, трактаты. В 1719 г. вышел в свет его знаменитый «Робинзон
Крузо», принеся писателю мировую славу.
В 1731 г. одна лондонская газета напечатала сообщение: «Несколько дней
назад скончался Даниель Дефо-старший, весьма известный своими многочи-
сленными сочинениями». Смерть настигла писателя в то время, когда он скры-
вался от кредиторов. Он умер один, вдали от своей многочисленной семьи.
«РОБИНЗОН КРУЗО»
Эта книга будет первой, которую прочтет мой Эмиль. Она долгое
время будет составлять всю его библиотеку и навсегда займет в
ней почетное место...
Что же это за волшебная книга? Аристотель? Плиний? Бюфон?
Нет: это «Робинзон Крузо»!
Жан-Жак Руссо
«Робинзон Крузо». Читатели времен Дефо, да и значительно раньше его,
предъявляли к литературе, и особенно к прозе, два взаимоисключающих тре-
бования: рассказ должен быть о чем-нибудь из ряда вон выходящем, исключи-
тельном и при этом не должен быть выдумкой. Дефо сумел удовлетворить оба
42
эти требования. Он писал об исключительном так правдоподобно, что никто не
мог бы уличить его в вымысле. Его роман о Робинзоне мы бы отнесли сейчас
к жанру документальной прозы.
«Документализм» романа подтверждает и тот факт, что прообразом его
Робинзона был реальный человек, матрос Александр Селькирк, шотландец,
проведший четыре года на необитаемом острове. О нем рассказали Вудз Род-
жерс и капитан Кук, а затем литератор Ричард Стил. История Селькирка стала
широко известной. Заглавие романа являлось одновременно и его аннотаци-
ей — длинное, излагавшее его содержание, по обычаям тех времен.
«Жизнь,необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо,
моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на
необитаемом острове, у берегов Америки, близ устья великой реки Ориноко,
куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж
корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения
пиратами, написанные им самим».
Итак, «Необыкновенные и удивительные приключения» и «написанные
самим», героем этих приключений, — следовательно, сомнений в подлинности
событий не могло быть.
Автор записок, как явствовало заглавие книги, был моряком, не литерато-
ром, поэтому всякие поэтические тонкости были ему не к лицу. Рассказ должен
быть до предела строг и скуп в описаниях, иначе читатели сразу же обнаружили
бы подделку. Дефо очень пунктуально следует этой авторской программе.
Стиль его письма строг, скуп, точен и лишен поэтических прикрас.
Позднее Диккенс сетовал на Дефо за его нежелание описывать чувства.
«Чувства» в прозу придут позднее, с именем Ричардсона. Пока же в прозе
господствует событийность.
Мы узнаем руку коммерсанта, предпринимателя в самом стиле романа: «С
полным беспристрастием я, словно должник и кредитор, записывал все претер-
певаемые мною горести, а рядом — все, что случилось со мной отрадного».
•
Зло Добро
Я заброшен судьбой на мрачный необи- Но я жив, я не утонул, подобно всем моим
таемый остров и не имею никакой надежды товарищам. Но зато я выделен из всего нашего
на избавление. Я как бы выделен и отрезан от экипажа, смерть пощадила меня, и тот, кто
всего мира и обречен на горе. столь чудесным образом спас меня от смерти,
вызволит и из этого безотрадного положения.
Я отдален от всего человечества; я от- Но я не умер с голоду и не погиб в этом пус-
шельник, изгнанный из общества людей. И т. д. тынном месте, где человеку нечем пропитаться!
и т. п.
Чтобы еще более усилить правдоподобие своего повествования, Дефо при-
бегает к форме дневника, который якобы вел его герой, «пока не вышли чер-
нила». Записи кратки, лаконичны, подобны пометкам в корабельной книге, и
это тоже предусмотрено автором в качестве залога правдоподобия.
Описаний, в сущности, нет. Есть перечисления событий, конкретных фак-
тов, вещей, актов бытия Робинзона. «Первым делом я наполнил водой боль-
шую четырехугольную бутыль», «Чтобы обезвредить воду, лишив ее свойств,
43
вызывающих простуду или лихорадку, я влил в нее около четверти пинты рому
и взболтал», «Я отрезал козлятины и изжарил ее на углях» и т. д.
О чувствах Робинзон рассказать не умеет (но так и должно было быть: ведь
он моряк, человек некнижный), когда же приходится касаться чувств, то
Робинзон беспомощен: «Я не способен описать, как потрясена была моя душа»
или: «Невозможно описать произведенное им на меня впечатление». Словом,
автор предоставляет самому читателю воссоздать в своем воображении кар-
тину чувств.
Дефо великолепно обрисовал нравственный и интеллектуальный облик
своего героя через его же записи. Робинзон — человек скромный, непритяза-
тельный, искренний, средний горожанин Англии.
Мыслитель он неглубокий, но практически сметлив. Богобоязненный в
силу своего воспитания, он, однако, далек от религиозного рвения. «Я даже и
не думал о Боге и провидении, я действовал как неразумное животное, руко-
водствуясь природным инстинктом, внимал лишь повелениям здравого смы-
сла». Робинзон порицает в себе это равнодушие к провидению, однако повсюду
мы замечаем, что он больше полагается на здравый смысл и реальность вещей,
чем на какие-либо сверхчувственные и сверхъестественные явления. Он посто-
янно убеждается в том, что чудес нет и все то, что он первоначально принимает
за чудо, оказывается при здравом рассмотрении вещью естественной:
«Чудо исчезло, а вместе с открытием, что все это произошло самым естест-
венным путем, я должен сознаться, значительно поостыла и моя горячая благо-
дарность провидению».
Дефо не случайно коснулся этого вопроса. Через несколько страниц он
снова вернется к этой мысли о чуде, провидении и естестве:
«Прорастание зерна, как было уже отмечено в моем дневнике, оказало на
меня благодетельное влияние, и до тех пор, пока я приписывал его чуду, серь-
езные благоговейные мысли не покидали меня; но как только мысль о чуде
отпала, улетучилось, как я уже говорил, и мое благоговейное настроение».
Дефо вряд ли можно заподозрить в нерелигиозности, он, конечно, был
искренним христианином, но и практическим человеком, котЬрый действовал
по принципу: «На Бога надейся, а сам не плошай». Главной в его концепции,
как и в мировоззрении всего его поколения, была идея волевой активности лич-
ности. Человек может и должен всего добиваться сам, побеждать, ломать все
преграды как в мире природы, так и в мире людей.
Чрезвычайно интересен в плане идей времен Дефо образ Пятницы, маль-
чика-дикаря, ставшего слугой и товарищем Робинзона. Пятница, это «дитя
природы», по выражению Дефо, прошел школу цивилизации под руководством
Робинзона. Тот, конечно, прежде всего обратил его в христианство. Любопыт-
но, как шло это обращение, как воспринимал непосредственный ум дикаря
хитрости цивилизованного мира. Он быстро усвоил идею Бога, его власти над
миром, его могущества. Но никак не мог понять, почему Бог терпит дьявола и
зло, исходящее от него. И Робинзон растерялся: он не знал, как объяснить
непонятное ему самому противоречие между всесилием Бога (благого, мило-
стивого) и злом, царящим на земле: «Раз Бог больше сильный и больше может
сделать, почему он не убить дьявол, чтобы не было зло?» И Робинзон не нахо-
дит ответа.
У Робинзона бодрый, оптимистический взгляд на вещи. Он не поддается
44
отчаянию. Все его размышления, в сущности, сводятся к поискам выхода из
всех трудных положений, в какие бросают его обстоятельства, и он всегда
находит выход и обретает радость и спокойствие духа: «Я уже покончил с
напрасными надеждами и все свои помыслы направил на то, чтобы по возмож-
ности облегчить свое существование», «У нас всегда найдется какое-нибудь
утешение», «...по должном раздумье, я осознал свое положение... все мое горе
как рукой сняло: я успокоился, начал работать для удовлетворения своих
насущных потребностей и для сохранения своей жизни».
Книга Дефо, пожалуй, самая бодрая, самая жизнеутверждающая книга из
всех книг мира. Недаром ее так любят дети, дети всегда оптимисты и не терпят
неудачников. Они охотно следят за бедами своих любимых героев, но при обя-
зательном условии, что герои эти в конце концов победят, что история бед
закончится счастьем и радостью.
Дефо не идеализирует природы. Она сурова и подчас беспощадна к челове-
ку. Жизнь Робинзона не идиллия. Его постоянно подстерегают опасности.
Смерть ходит за ним по пятам. Но такова сила человека: он подчиняет себе
природу. Это следует понимать расширительно: не обстоятельства владеют
человеком, а человек обстоятельствами. И книга Дефо становится великим
памятником человеческой силе, бодрости, предприимчивости, изобретательно-
сти и энергии. С каким удовольствием мы узнаем о новых и новых победах
Робинзона, как важны и значительны для нас все детали его быта! Мы, не
отрываясь, следим за всеми его трудами. Мы радуемся вместе с ним, когда он
заявляет: «Теперь у меня есть дом на берегу моря и дача в лесу» или: «Я только
что доделал ограду и начал наслаждаться плодами своих трудов». Теперь и при-
рода перестает быть враждебной к человеку и улыбается ему и приветствует
его: «Я был так пленен этой долиной, что провел там почти весь конец июля».
Образ Робинзона вошел в мировую литературу. Он стал вечным спутником
человечества, как Дон Кихот, Фауст, Гамлет, Гулливер. В читательском фонде
всех подростков мира обязательно имеется книга Дефо. Нравственно облаго-
раживающее влияние ее на детей отметил Жан-Жак Руссо1 и герою своего
философского романа «Эмиль» оставил для чтения только одну книгу — «Ро-
бинзон Крузо». Женевского философа увлекла идея слияния «естественного
человека» с природой, которую усмотрел он в книге Дефо. Английский писа-
тель был, конечно, далек от этой идеи, но его книга давала обильный материал
для руссоистского учения о благах естественного состояния.
Руссо не могло не восхитить, к примеру, нижеследующее заявление Робин-
зона:
«Я ясно ощущал, насколько моя теперешняя жизнь, со всеми ее страдани-
ями и невзгодами, счастливее той, позорной, исполненной греха, омерзитель-
ной жизни, какую я вел прежде. Все во мне изменилось, горе и радость я пони-
мал теперь совершенно иначе, не те были у меня желания, страсть потеряла
свою остроту».
В этом заявлении Робинзона не содержалось, конечно, никакой критики
цивилизации и прославления жизни дикарей, т. е. главного элемента руссоист-
ской теории.
Книгу Дефо использовали крупнейшие деятели педагогики, в частности
1 О Руссо пойдет речь дальше, см. с. 72—76.
45
немецкий педагог Иохим Генрих Кампе («Новый Робинзон», изд. в 1779 г., рус-
ский перевод — в 1781 г.).
Огромная популярность книги Дефо вызвала целый поток подражаний,
переделок. Создался жанр «робинзонад», в который вложили свою лепту круп-
нейшие имена. Среди них Жюль Верн («Таинственный остров»), Киплинг
(«Маугли»), Берроуз («Тарзан»), в самое последнее время — Голдинг («Пове-
литель мух»). Своеобразную адаптацию романа английского писателя (первого
тома) сделал Лев Толстой.
Другие романы Дефо («Молль Флендерс», «Капитан Сингльтон», «Полков-
ник Джек» и др.) являются тоже своеобразными робинзонадами, только в них
обособленный индивид, одиночка, оказывается во враждебной стихии люд-
ской, в обществе. «Человек бывает одинок среди толпы», — писал Дефо. Исто-
рия жизни этого обособленного индивида, всегда вначале отщепенца, отвер-
женного людьми, заканчивается победой, утверждением его в обществе.
Дефо писал историю самоутверждения человека в природе, в обществе.
Всюду он прославлял мужество и стойкость личности. Общество так же вра-
ждебно к личности, как и природа. Чтобы выжить, нужно бороться, и слава
победителю, слава сильному! В этой борьбе за место в жизни отходят на вто-
рой план нравственные принципы. Герои романов Дефо — из преступного
мира. Молль Флендерс — воровка, проститутка, капитан Сингльтон — пират,
полковник Джек — вор. Все они в конце концов добиваются благополучия.
Джек становится полковником, Молль Флендерс — состоятельной и доброде-
тельной дамой, Сингльтон, добыв достаточную сумму денег, бросает пират-
ское ремесло и становится добропорядочным буржуа.
Романы Дефо иллюстрируют философию Гоббса о враждебности человека
к человеку, о вечном антагонизме, царящем в сообществе людей («война всех
против всех»). В них царит дух индивидуализма. Этого нельзя не видеть, оцени-
вая его творчество в свете идей его времени. К счастью, этого не замечают
дети. Читая его роман «Робинзон Крузо», они видят только одно — великое
мужество человека, побеждающего враждебную стихию и создающего счастье
своим умом, руками, энергией. И не нужно их в этом разубеждать. В конце
концов это главное, что оставил Дефо векам, остальное осталось с его време-
нем.
ДЖОНАТАН СВИФТ (1667—1745)
Жестокое негодование не может больше терзать его сердце. Иди,
путник, и, если можешь, подражай ревностному поборнику муже-
ственной свободы.
Эпитафия на могиле Свифта,
написанная им самим
Особый характер творчества Джонатана Свифта, его мрачные памфлеты,
его роман «Путешествие Гулливера», вся его страшная, подчас доводящая до
ужаса сатира — свидетельство отнюдь не только своеобразия его личности и
его таланта, но и присущих многим его современникам и соотечественникам
46
настроений, свидетельство разочарования в
результате революции XVII в., разочарова-
ния, приводившего иногда к отчаянию и
неверию в какой-либо социальный прогресс
вообще.
Свифт по преимуществу писатель поли-
тический. Он общественный деятель прежде
всего. Все его мысли заняты социальными
проблемами. Его не волнуют тайны миро-
здания, загадки прекрасного, глубины психо-
логии, поэзия чувств. Только недуги обще-
ства во всей их совокупности — нелепые
институты, чудовищные предрассудки,
жестокость угнетателей, страдания угнетен-
ных, гнет всех окрасок — социальный, рели-
гиозный, национальный — неотступно пре-
следуют его.
У Свифта обостренное зрение. Под его
взглядом с вещей и лиц спадают покрывала
лжи, и зло предстает в пугающей наготе. Он
чужд ИЛЛЮЗИЙ. Он не верит В конечное ТОр- Джонатан Свифт.
жество справедливости, но не складывает
оружия. У него был темперамент борца
и бескомпромиссная совесть правдолюбца.
Дед писателя, выступивший при Кромвеле против революции, был посажен
в тюрьму и лишен имущества, а десять сыновей, в том числе и отец писателя,
разбрелись по свету, ища пропитания.
Судьба забросила отца Свифта в Дублин, где он нашел место смотрителя
здания местного суда и умер еще до рождения сына. Ирландия стала родиной
писателя. Угнетенная, подавленная, терпевшая экономический гнет и оскорби-
тельное высокомерие английского правительства, Ирландия прибавила к лич-
ным невзгодам Свифта свои всенародные беды. Он полюбил ее еще больше за
переживаемые ею несправедливости. Отсюда повышенная чувствительность к
политическим проблемам, связанным с событиями и результатами буржуазной
революции, сыгравшей роковую роль в его личной судьбе (бедность, унизи-
тельное прозябание в домах богатых покровителей) и роковую роль в истории
Ирландии, превращенной Кромвелем в колонию Англии. Так еще с юности
оттачивалось политическое зрение писателя.
Школу ума Свифт прошел в доме богатого вельможи и дипломата Темпля в
его имении Мур-Парк. Состоя при Темпле в качестве личного секретаря,
встречаясь с людьми его круга, дипломатами и политиками, Свифт жил поли-
тическими и культурными интересами своего хозяина, и ему приоткрывались
иногда закулисные механизмы тайной дипломатии, что, конечно, чрезвычайно
расширило его политический кругозор и одновременно усилило его недоверие
к официальной стороне государственной жизни. (Свифту доводилось бывать с
поручениями Темпля и у королевы Англии Анны.)
47
«ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
Язвительные памфлеты Свифта в наши дни требуют уже разъяснений исто-
рика: многое в Англии переменилось с тех пор, как остановилось перо ее вели-
чайшего сатирика, автора бессмертного романа «Путешествия Гулливера»,
насмешливого и печального.
Герой Свифта Гулливер совершил четыре путешествия в самые необыкно-
венные страны. Повествование о них ведется в форме делового и скупого
отчета путешественника. «Англия с избытком снабжена книгами путеше-
ствий», — ворчит Гулливер, недовольный тем, что авторы таких книг, расска-
зывая о всяких небылицах, стремятся только развлечь читателей, «между тем
главная цель путешественника — просвещать людей и делать их лучшими,
совершенствовать их умы как дурными, так и хорошими примерами того, что
они передают касательно чужих стран».
Здесь ключ к книге Свифта: он хочет «совершенствовать умы», а потому
ищите в его фантазиях философский подтекст. Скромные и скупые записи Гул-
ливера, хирурга, корабельного врача, рядового англичанина, нетитулованного
и небогатого человека, выдержанные в самых непритязательных выражениях,
содержат в себе в своеобразном иносказании потрясающую сатиру на все сло-
жившиеся и бытовавшие формы человеческого общежития и в конце концов
на все человечество, не сумевшего построить общественные отношения на
разумных началах.
Современник Свифта Даниель Дефо показал романтику первооткрытий,
красоту первопроходческого подвига, создал, так сказать, поэзию освоения
европейцами новых земель. Свифт раскрыл прозу этого освоения, жестокую
реальность вещей.
«Буря несет шайку пиратов в неизвестном им направлении; наконец юнга
открывает с верхушки мачты землю; пираты выходят на берег, чтобы заняться
грабежом и разбойничеством; они находят безобидное население, оказыва-
ющее им хороший прием; дают стране новое название; именем короля завладе-
вают ею... Так возникает новая колония, приобретенная по божескому праву.
При первой возможности туда посылают корабли; туземцы либо изгоняются,
либо истребляются, государи их подвергаются пыткам, чтобы принудить
их выдать свое золото; открыта полная свобода для совершения любых бес-
человечных поступков, для любого распутства, земля обагряется кровью
своих сынов. И эта гнусная шайка мясников, выполняющая столь благоче-
стивую миссию, образует современных колонистов, отправленных для обраще-
ния в христианство и насаждения цивилизации среди дикарей-идолопоклонни-
ков».
Свифт обращался ко всем людям мира, и главным образом к так называе-
мым цивилизованным народам, с самыми жестокими обвинениями. Он беспо-
щаден в своих нападках. Его называли мизантропом, человеконенавистником,
его сатиру — злобной. Его разоблачения не нравились, они терзали совесть,
и, чем больше в них содержалось правды, тем большую досаду они вызы-
вали.
В первой книге («Путешествие в Лилипутию») ирония заключается уже в
том, что народ, во всем похожий на все другие народы, с качествами, свой-
ственными всем народам, с теми же общественными институтами, что и у всех
48
людей, — народ этот — лилипуты. Поэтому все притязания, все учреждения,
весь уклад — лилипутский, т. е. до смешного крохотный и жалкий.
Крохотного короля лилипутов его подданные величают «могущественней-
шим императором», «отрадой и ужасом вселенной», «монархом над монарха-
ми», «величайшим из всех сынов человеческих, который своею стопой упи-
рается в центр вселенной, а главой касается солнца» и т. д.
* * *
Во второй книге, где Гулливер показан среди великанов, крохотным и жал-
ким выглядит он сам. Он сражается с мухами, его пугает лягушка, мальчик
шутки ради засовывает его в кость, он чуть не тонет в суповой миске и пр. «По-
нятия великого и малого суть понятия относительные», — философствует
автор. Но не ради этой сентенции предпринял он свое сатирическое повество-
вание, а с целью избавить весь род человеческий от глупых притязаний на
какие-то привилегии одних людей перед другими, на какие-то особые права и
преимущества. Король великанов, глядя на мизерного Гулливера и слушая его
рассказы и рассуждения, восклицает: «Как ничтожно человеческое величие».
Свифт осмеивает английский парламент, в сущности сложившиеся в стране
формы демократии. Он смеется над пустой и глупой борьбой партий (низко-
каблучники и высококаблучники, за которыми просматриваются тори и виги),
пустой и глупой сварой тупоконечников и остроконечников, влекущей крово-
пролития и жестокость (намек на религиозные войны).
Смеется над пустыми и глупыми обрядами, которым как дикие, так и циви-
лизованные народы придают идиотски великое значение («Обряд присяги
заключался в том, что я должен был держать правую ногу в левой руке,
положа в то же время средний палец правой руки на темя, а большой — на вер-
хушку правого уха»).
Свифта осуждали за нигилистическое отношение к наукам. Действительно,
его сарказм, его нападки на Королевское общество (Академию наук Англии),
которое он вывел в книге под именем Академии прожектёров Лагадо,
достойны лучшего применения, ибо настоящие ученые никак не заслужили его
унизительных характеристик. Однако запальчивость Свифта объясняется его
недовольством тем, что ученые, занятые и увлеченные чисто научными проб-
лемами, не видели более важных, по его мнению, проблем социальных. Фило-
софы свои политические сочинения посвящали оправданию существующего
порядка вещей, ученые не заботились о том, какое применение найдут их науч-
ные открытия. Король-великан в книге Свифта говорит, что «ничто не достав-
ляет ему такой радости, как открытия в области искусства и природы», однако
он не хочет изобретений, назначение которых увеличивать убойную и разру-
шительную силу орудий войны и уничтожения.
* * *
Книга Свифта тенденциозна в высшей степени. В ней резко разграничены
два полюса — положительный и отрицательный. К первому относятся гуингн-
мы (лошади), ко второму — иеху (выродившиеся люди).
Иеху — отвратительное племя грязных и злобных существ, живущих в
стране лошадей. Это выродившиеся люди. Исторические прогнозы Свифта,
49
как видим, безнадежны. Человечество деградирует, идет к гибели, вырожде-
нию. «Я наполнился мрачными мыслями при виде вырождения человечества за
последнее столетие», — пишет Свифт. Он сравнивает римский сенат с совре-
менным парламентом: «Первый казался собранием героев и полубогов, вто-
рой — сборищем разносчиков, карманных воришек, грабителей и буянов».
Словом, человечество идет к своему концу, оно превратится в иеху.
Причины такой деградации рода людского — «общие болезни человече-
ства»: внутренние распри общества (дворянство борется «за власть, народ — за
свободу, а король — за абсолютное господство»), войны между народами.
Поводом их «является честолюбие монархов, которым все бывает мало земель
или людей, находящихся под их властью; иногда — испорченность министров,
вовлекающих своих государей в войну, чтобы заглушить и отвлечь недоволь-
ство подданных их дурным управлением» и т. д.
Полную противоположность иеху и, следовательно, неразумным, лживым,
тщеславным, жестоким людям являют собой гуингнмы (лошади). Они не отда-
лялись от природы, «все произведения которой совершенны», они не знали
войн, у них нет королей и вообще каких-либо правителей, они не знают слов
«власть, правительство, война, закон, наказание и тысячи подобных понятий».
«На языке гуингнмов совсем нет слов, обозначающих ложь и обман». У них нет
понятия «мнение», ибо «мнение» есть суждение, которое возможно оспорить, а
спорных суждений не могло быть в царстве разумных лошадей, они утверж-
дали лишь то, что доподлинно знали, потому у них не было ни борьбы, ни войн,
возникающих из-за противоположных мнений.
Французские просветители во времена Свифта прославляли разум, полагая,
что он, разум, выведет человечество на путь благоденствия и справедливости.
Их английский собрат Свифт (а он был знаком и дружен с Вольтером) не разде-
лял этой веры в разум, полагая, что «развращенный разум, пожалуй, хуже
какой угодно звериной тупости».
Аллегорический смысл притчи Свифта о лошадях (гуингнмах) достаточно
ясен — писатель зовет к опрощению, к возврату на лоно природы, к отказу от
цивилизации. Через несколько десятков лет нападки на цивилизацию и при-
зывы к опрощению, прозвучавшие в романе Свифта, обретут все качества раз-
работанного социального учения в сочинениях французского автора — Жан-
Жака Руссо. Но об этом речь пойдет дальше.
Два литературных жанра, возникшие еще во времена Ренессанса, послу-
жили Свифту образцом для создания его знаменитого романа, как послужили
они образцом и Даниелю Дефо, — жанр путешествий и жанр утопий. «В юно-
сти я с огромным наслаждением прочел немало путешествий, но... убедившись
в несостоятельности множества басен... проникся отвращением к такого рода
чтению», — сообщает в романе Гулливер. Признание делается, конечно, для
того, чтобы убедить читателя в точности и правдивости своего собственного
рассказа: уж если у других много всяких врак и небылиц, то у меня, дорогой
читатель, все досконально, я терпеть не могу небылиц, как бы говорит автор
путешествий и целые страницы посвящает всевозможным деловым подсчетам
и расчетам, географическим справкам, указаниям на долготы и широты, насы-
щает описания географическими и корабельными терминами, подчеркивая
всюду непритязательную точность и правдивость описаний, что мы видели и в
романе Дефо «Робинзон Крузо». Здесь этот прием используется для создания
иллюзии правдоподобия явно фантастического вымысла.
50
«Ненасытное желание видеть чужие страны не давало мне покоя», —гово-
рит о себе Гулливер. Такое признание могли сделать тысячи отважных море-
плавателей и первопроходцев со времен Васк да Гама, Христофора Колумба,
Магеллана. Средневековье уходило в прошлое. Люди отрешались от кропотли-
вого домоводства, стародавнего уклада быта и устремлялись на поиски незнае-
мых земель, неведомых островов и континентов, гибли или возвращались,
переполненные впечатлениями. Европа открывала мир.
Экзотические страны, экзотические народы, экзотические нравы, о кото-
рых рассказывали вернувшиеся путешественники, часто чудом уцелевшие,
дивили читателей, возбуждая в них страсть к поискам новых земель, а литера-
торам и политическим мыслителям давали обильную пищу для социальных
фантазий и утопий. Так возник побратим жанра путешествий — жанр утопий,
началом которого послужила знаменитая книга Томаса Мора.
В XVI, XVII, XVIII вв. были созданы утопии Рабле «Телемская обитель» в
романе «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Город солнца» Кампанеллы, «Путеше-
ствия» на Луну и на Солнце Сирано де Бержерака, повести Вольтера и др. В
этом же ряду — и книга Свифта, полная злого и убийственного сарказма.
* * *
Свифт — мастер иронического повествования. Все в его книге пронизано
иронией. Если он говорит «величайший» и «всемогущий», значит дело идет о
ничтожном и бессильном, если упоминается милосердие, то непременно име-
ется в виду очередная жестокость, если мудрость, то, по всей видимости, какая-
нибудь нелепость.
Дети всей планеты, не постигая еще смысла свифтовских иносказаний, с
увлечением читают первые части романа, следя за странными, диковинными
превращениями милого и доброго Гулливера, то всесильно-великого среди кро-
хотных лилипутов, то жалкого и ничтожного среди людей-великанов. Взро-
слые, перечитывая книгу, открывают в ней за гротескными образами и карти-
нами злую и жестокую сатиру на все человечество, не сумевшее разумно
построить свою жизнь, наполнив ее войнами, жестокостями, предрассудками и
нелепостями.
Итак, та занимательная книга, которую мы в детстве с увлечением читаем,
особенно первые ее части («Путешествие в страну лилипутов» и «Путеше-
ствие в страну великанов») с ее чудесными превращениями, оказывается, когда
мы обращаемся к ней уже в зрелые годы, мрачным предсказанием вырождения
и гибели человечества. Перечитывая ее сейчас, чтобы рассказать о ней чита-
телю, я к ужасу своему не мог спорить с автором. Наша современность
подтверждает самые его мрачные прогнозы. Само искусство наших дней с
маниакальным упорством зовет нас в царство инстинкта, к тому состоянию, в
котором оказались свифтовские иеху. Великие научные открытия, грандиоз-
ные технические свершения XX века породили кошмары невиданных по своим
жестокостям войн, индустрию убийств и ее неисчислимые жертвы.
Невольно задаешь себе вопрос: «Куда идет человечество? Не к тому ли
рубежу, о котором пророчествовал этот угрюмый англичанин два века назад?»
В 1745 году семидесятивосьмилетний Свифт скончался в Дублине. Старость
его была печальна. Последние годы он провел в полном затмении ума, почти
ничего не говоря. Увы, беды и физические недуги не минуют и великих людей.
51
ГЕНРИ ФИЛДИНГ (1707—1754)
Муза, наполни страницы мои юмором.
Г. Филдинг
Генри Филдинг открывает своими романами тот путь, по которому пойдут
крупнейшие реалисты Англии — Диккенс, Теккерей, Голсуорси, а вслед за
ними и романисты Америки — Марк Твен, Теодор Драйзер, т. е. путь реализ-
ма. Он сам называл себя «творцом нового вида литературы» и поэтому освобо-
ждал себя от каких-либо правил и канонов. Главной задачей этого нового вида
литературы писатель считал изображение реального человека в реальных
обстоятельствах.
Жизнь писателя была трудной. Дворянин по происхождению (его отец был
генералом), он добывал себе кусок хлеба трудом литератора. Восемь лет про-
вел в аристократическом Итонском колледже, где «поклонялся учености и с
истинно спартанским мужеством приносил в жертву кровь свою на березовый
ее алтарь». Затем учился на филологическом факультете Лейденского универ-
ситета в Голландии, не окончил его, вернулся в Англию и стал драматургом. В
течение десяти лет он поставил на сцене Друри-Лейнского театра в Лондоне
25 комедий. Среди них много ярких и своеобразных («Политики из кофейни»1,
«Дон Кихот в Англии», «Исторический календарь» и др.).
С неподражаемым талантом сатирика он выводил на сцену судей-вымогате-
лей, политических мошенников, скряг. Но в 1737 г. был принят закон о цензу-
ре. И писателю в возрасте тридцати лет пришлось сесть за ученическую
скамью и начать изучать право, чтобы получить должность судейского чинов-
ника и, следовательно, какой-то стабильный заработок. Теперь он, получив
должность судьи, обратился к прозе.
Бернард Шоу впоследствии писал:
«В 1737 г. Генри Филдинг, величайший из всех профессиональных драма-
тургов, появившихся на свет в Англии со средних веков до XIX века, за един-
ственным исключением Шекспира, посвятил свой гений задаче разоблачения и
уничтожения парламентской коррупции, достигшей к тому времени своего апо-
гея. Уолпол, не будучи в состоянии управлять страной без помощи коррупции,
живо заткнул рот театру цензурой, остающейся в полной силе и поныне. Вы-
гнанный из цеха Мольера и Аристофана, Филдинг перешел в цех Сервантеса,
и с тех пор английский роман стал гордостью литературы...».
Умер Филдинг в возрасте 47 лет в Лиссабоне, куда уехал лечиться. Там же
он и похоронен.
Филдинг трезво смотрел на мир, не впадая в иллюзии. Социальное устрой-
ство этого мира отнюдь не исходило из принципа справедливости, и это пре-
красно понимал писатель. В 1743 г. он написал повесть «История Джонатана
Уайльда Великого». Вор, мошенник, рецидивист, Джонатан Уайльд на страни-
цах повести Филдинга бросает обвинение всему обществу. Предвосхищая Пру-
дона, он мог бы заявить, что собственность — это кража. Во всяком случае,
это явствует из его характеристики источников всяких богатств.
1 Одно время шла на советской сцене.
52
Послушаем его рассуждения:
«Оглядись кругом и посмотри, кто живет в великолепнейших зданиях, объ-
едается самыми роскошными яствами, тешит взор свой прекраснейшими кар-
тинами и статуями и одевается в самую пышную и богатую одежду, и скажи
мне, не выпадает ли все это на долю тех, кто не принимал ни малейшего уча-
стия в производстве всех этих благ и не имеет к этому ни малейших способно-
стей? Почему же в таком случае положение вора должно отличаться от всех
остальных?»
ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША
Какой прекрасный идеал должен был жить в душе поэта, создав-
шего Тома Джонса и Софию.
Г. Ш и л л е р
Роман вошел в фонд мировой литературы и живет и в наши дни полной
жизнью живого литературного произведения, пользуясь постоянным читатель-
ским спросом.
Сюжет романа построен по стародавней схеме злоключения двух влюблен-
ных. Два любящих сердца не могут соединиться. Им мешают и злые люди, и
обстоятельства, и собственные промахи и ошибки.
Тысячелетиями люди зачарованно слушали подобные истории, их пленяли
молодость, красота и верность сердцу, проносившие любовь сквозь муки и
испытания самых страшных и чудовищных злоключений. Герои романа Том
Джонс и Софья Вестерн, воспитанные на лоне природы, с детства сдруживши-
еся и потом полюбившие друг друга бескорыстно и навсегда, являют собой ту
пленительную пару, которая знакома нам по стародавним сказкам о вечной
любви. Однако Том Джонс, традиционно наделенный и молодостью, и красо-
той, и влюбленностью, отнюдь не является идеальным любовником, образцом
добродетели и вообще всех тех качеств, которыми авторы обязательно наде-
ляли своих влюбленных даже значительно позднее Филдинга. (Достаточно
вспомнить молодых героев Вальтера Скотта или Виктора Гюго.)
Том Джонс при всей привлекательности своей (доброте, бескорыстии, чест-
ности) отличается самым неприемлемым для идеального любовника каче-
ством — он ветрен. Страсти постоянно играют с ним злую шутку. Как ни
любит он свою Софью, он не может побороть в себе зовов молодого тела и
желания, выражаясь языком автора, — «отведать от каждой женщины». Он
совершает десятки промахов, ошибок, глупостей, терпит от них много непри-
ятностей, но никогда не лишается симпатий читателя, который, вооруженный
зрением автора, прекрасно понимает, что причина их в неопытности и порыви-
стости молодого и неискушенного сердца.
«Элизиум — не для тех, кто слишком благоразумен, чтобы быть счастли-
вым» («Путешествие в загробный мир»), — ответил бы писатель слишком
строгим своим читателям, которые стали бы порицать его героя.
Целая галерея лицемеров выведена Филдингом на страницах его романа.
Первое место среди них занимает сестра сквайра Олверти мисс Бриджет, а
53
потом миссис Блайфил, которая из-за страха перед пуританской моралью
лишилась собственного счастья и обрекла своего сына Тома на страшную
участь подкидыша, втайне или открыто презираемого людьми. Далее идет
законный сын этой особы — мистер Блайфил-младший, поистине образец мер-
завца-лицемера. За ним следуют учителя Тома Джонса и Блайфила: Тваком и
Сквейр, бессердечие и жестокость которых всегда прикрыты высокопарными
фразами о морали и добродетели.
Писатель всегда с недоверием относился к подчеркнуто безупречной добро-
детели людей, подозревая ложь и лицемерие. «Кислая, брюзгливая, склонная к
порицанию святость никогда не бывает и не может быть искренной», — писал
он («Опыт о познании человеческих характеров»).
Роман Филдинга завершается счастливым финалом. Порок наказывается:
лицемер и мерзавец Блайфил изгнан из дома Олверти. Добро торжествует.
Том Джонс и Софья Вестерн обретают счастье семейного союза, родят детей и
умножают свои богатства. Писатель не избежал традиционного для любовно-
авантюрных романов Happy end — счастливого конца, тем более что сам
насмешливо писал: «Некоторые богословы, или, вернее, моралисты, учат, что
на этом свете добродетель — прямая дорога к счастью, а порок — к несчастью.
Теория благотворная и утешительная, против которой можно сделать только
одно возражение, а именно: она не соответствует истине». Но выдержать свой
принцип до конца он все-таки не смог: слишком любил своих молодых героев
и слишком любил добро, чтобы отказать им в победе. Социальная критика его
не резка, но достаточно зрима. Его демократические симпатии очевидны, вме-
сте со своим Томом он горячо сочувствует обездоленным и униженным бедня-
кам и всем сердцем хотел бы облегчить их тяжелую участь. Однако эта симпа-
тия к обездоленным у него не приобретает привкуса слащавой и приторной
умиленности, какая ощущается подчас в романах Ричардсона. Филдинг не
жалует аристократов. Леди Белланстон, коварная, лживая и развратная, оли-
цетворяет все пороки придворных. Писатель с величайшим презрением пишет
о них.
По складу своего письма Филдинг больше рассказчик, чем живописец.
Повествует он неторопливо, часто проявляя словоохотливость в беседах с
читателем, непосредственно обращаясь к нему во время рассказа о тех или
иных поступках своих героев. Он пишет с улыбкой. Мы ощущаем эту улыбку
почти на всех страницах его романа. Иногда она злая и саркастическая, когда
он разоблачает за лицемерной маской свирепое лицо корысти и жестокости, но
часто мягкая и добродушная, когда речь идет о слабостях человеческих.
Вот несколько фраз, наудачу взятых из романа:
«Ей было тридцать лет, так как она давала себе двадцать шесть», «Доброде-
тель ее была вознаграждена смертью мужа и получением большого наслед-
ства», «Религиозный образ мыслей делал для нее новый брак совершенно необ-
ходимым», «Тут Гонора сочла уместным разразиться рыданьем».
От Филдинга не осталось портрета. Мы не знаем, как выглядел он внешне.
Правда, к собранию его сочинений в 1762 г. был приложен портрет, написан-
ный с... знаменитого актера Гаррика. Писатель очень ценил актера. «Мой друг
Гаррик», «величайший трагический актер, какого когда-либо производил
свет», — писал он о нем.
Гаррик, как известно, после долгого забвения возродил шекспировский
54
театр, восстановил Шекспира (после пошлых переделок и искажений) в
подлинном его виде и в приемах реалистической игры.
Он обладал неподражаемым талантом копировать людей, и после смерти
своего друга он согласился позировать художнику Хогарту в роли... Филдинга,
воздав писателю дань любви и дружбы.
Главная писательская задача, которую Филдинг себе поставил, — это живо-
писать характер, не «впадая в чудесное», т. е. характер реальный, и сообразо-
вывать поступки своего героя с его характером.
Он рассуждал: человеку так же несвойственно совершать поступки, проти-
воречащие его природе, как потоку нести лодку против своего течения. Нельзя
ждать щедрости от закоренелого скряги, от педанта беспечности, от просто-
фили лукавства и изворотливости. Поэтому писателю надлежит «уметь пред-
сказывать поступки людей при тех или иных обстоятельствах на основании их
характеров».
Филдинг, таким образом, начисто отметает всякое своеволие писателя.
Писатель не может, не должен по собственному произволу, нарушая естествен-
ный ход событий и естественную логику характера, приписывать людям
несвойственные им чувства и поступки, а событиям несвойственный им оборот.
Отсюда — один из первых законов реалистического письма: «всегда держаться
в границах возможного».
Итак, главная задача того романа, того «нового вида литературы», перво-
открывателем которого себя считал Филдинг, — живописать характер:
«Высочайшим предметом для пера наших историков и поэтов является
человек; и, описывая его действия, мы должны тщательно остерегаться, как
бы не переступить границы возможного для него». Филдинг не отрицает, ко-
нечно, романтических фантазий в литературе. Отсутствие их обеднило бы ее.
Но для них отведена особая сфера в искусстве, сфера поэтической мечты:
«Жаль было бы замыкать в определенные границы чудесные вымыслы тех
поэтов, для творчества которых рамки человеческой природы слишком тесны;
их произведения надо рассматривать как новые миры, в которых они вправе
распоряжаться».
В программу творчества, по Филдингу, должно входить нижеследующее:
— Человеколюбие. Оно — «почти неразлучный спутник истинного гения».
— Ученость, «без помощи которой гению не создать ничего чистого,
ничего верного».
— Опыт, иначе говоря, знание людей и жизни. Оно недоступно «педанту-
затворнику, как ни будь он умен и учен». Знать надо представителей всех сосло-
вий общества, от министра до тюремщика, от герцогини до трактирщицы.
Это программа любого писателя, желающего воссоздать верные картины
жизни, что же касается себя лично, то Филдинг поставил себе еще несколько,
необязательных для других, задач.
1. Пользоваться приемом контраста.
2. Обходить молчанием то, что нельзя изобразить достаточно ярко, давать
в данном случае свободу читательской фантазии.
3. Писать с улыбкой.
55
английская драма
История английского театра в XVIII столетии тесно связана с теми полити-
ческими тенденциями, которые возникали в духовной жизни страны и были
обусловлены последствиями революционных событий предшествующего века.
Театр XVII столетия представляется пуританской буржуазии Англии театром
распущенности и разврата, театром, обслуживающим вкусы аристократов и
развращающим простолюдинов. Поэтому, едва захватив власть, она поспе-
шила закрыть театры и запретить все зрелищные представления.
Вернувшиеся к власти Стюарты в 1660 г. снова открыли театры, и блестя-
щая, но безнравственная комедия эпохи Реставрации как бы подтвердила отри-
цательную оценку, данную театру сподвижниками Кромвеля.
Вильгельм III не закрыл театры, но указом от 13 февраля 1698 г. предупре-
ждал актеров, что ежели они будут играть пьесы, «содержащие в себе выраже-
ния, противные религии и приличию», и допускать на сцене «богохульство и
безнравственность», то за это «они должны будут отвечать головой».
В том же 1698 г. был напечатан трактат некоего богослова-пуританина по
имени Джереми Колльер под весьма колоритным названием «Краткий обзор
безнравственности и нечестивости английской сцены». Богослов сурово осудил
существовавшую театральную практику. Он писал, что на сцене «гнев и злоба,
кровь и варварство чуть ли не обоготворяются», что «извращается понятие
чести, унижаются христианские принципы», что «дьяволы и герои делаются из
одного металла», и потребовал коренной перестройки деятельности театров,
превращения их в своеобразную школу добродетели, благовоспитанности и
благопристойности: «Назначение пьес — поощрять добродетель и разоблачать
порок, показывать непрочность человеческого величия, внезапные превратно-
сти судьбы и пагубные последствия насилия и несправедливости».
ШЕРИДАН (1751—1816)
Злые языки страшнее пистолетов.
Грибоедов
Наибольший след в истории английской драматургии этого периода оставил
Ричард Бринсли Шеридан. Писал он недолго. Все лучшие его пьесы были со-
зданы в течение пяти лет (1775—1779) — «Соперники», комическая опера «Ду-
энья», «Поездка в Скарборо», «Критик» и наиболее известная «Школа злосло-
вия». Большую часть своей жизненной энергии писатель посвятил парламент-
ской деятельности и руководству театром «Друри-Лейн», директором и вла-
дельцем которого он был одно время.
Прекрасный оратор, он выступал с парламентской трибуны с яркими реча-
ми, разоблачая подчас те стороны английской политики, которые хотели бы
скрыть от широкой общественности правители страны. В конце концов его
удалили из парламента. Пожар театра «Друри-Лейн» нанес писателю послед-
ний удар. Он умер в крайней нищете.
56
Пьесы, написанные Шериданом в славное пятилетие его жизни, когда он
был молод и полон радужных надежд, веселы, остроумны, без претензий на
глубину. Сценический интерес сосредоточивается вокруг молодых людей,
влюбленных и преодолевающих препятствия на пути к желанному браку. В
пьесах использованы традиционные приемы «комедии ошибок». В «Соперни-
ках» идет борьба между отцом, подыскавшим сыну невесту, и сыном, который
противится выбору отца, не подозревая того, что это как раз та самая девица,
в которую он влюблен. Комические ситуации, возникающие на почве недора-
зумения, вызывают веселый смех зрителя. В пьесе «Дуэнья» корыстный
жених, избранный отцом для своей дочери, в результате недоразумений и оши-
бок женится на старой дуэнье, а молодой избранник дочери получает согласие
на брак со стороны не подозревающего об обмане отца девушки. Словом,
удача и успех всегда на стороне молодых, бескорыстных влюбленных, а
фиаско терпят несправедливые родители и корыстные искатели приданого.
Шеридан — мастер живописать характеры. В пьесе «Соперники» велико-
лепно вылеплен духовный портрет молодого человека, глубоко честного и
постоянно страдающего от собственной мнительности. Это юноша Фокленд.
Он любит Джулию. Он спас ей жизнь. Отец Джулии, умирая, благословил их
на брак. И Джулия жертвенно любит Фокленда. Казалось бы, чего же еще? Но
таков несчастный характер молодого человека. Его терзают тягчайшие сомне-
ния. Любит ли его Джулия? Не принимает ли она за любовь простую призна-
тельность свою к нему? Почему она пела и танцевала в его отсутствии? Почему
после ссоры сама первая пошла на примирение? И т. д. Комическая сторона
этих сомнений очевидна зрителю, но характер героя сам по себе чрезвычайно
реален и колоритен.
Шеридан не прочь в иных случаях прибегнуть и к гротеску. Гротескные
черты приобретает в «Соперниках» миссис Малапроп (Невпопад), кичащаяся
своей образованностью, безжалостно путающая слова, озлобленная, грубая и
ко всему прочему сентиментально влюбленная пятидесятилетняя особа. Осо-
бенно заметен прием гротеска в комедии Шеридана «Школа злословия». Коме-
дия имела шумный успех при жизни драматурга и вошла в мировой театраль-
ный репертуар. Светское злословие выставлено в ней в качестве главного объ-
екта лицезрения. Оно главный герой пьесы. Леди и джентльмены, обеспечен-
ные, пресыщенные, скучающие, изощряются в изобретении сплетен, они «раз-
носчики лжи, мастера клеветы и губители имен», «зловредные болтуны,
тихонькие кумушки обоего пола, которые, чтобы убить время, умертвляют
чужие репутации». Шеридан осмеял аристократические круги — моральную
нечистоплотность, эгоизм, злоречие.
Мы узнаем в пьесе ситуацию, знакомую нам по роману Филдинга «История
Тома Джонса, найденыша». Два брата. Один из них, внешне респектабельный
и внутренне порочный (Джозеф Сэрфес), олицетворяет собой пуританское
ханжество и лицемерие, проникшее теперь уже и в среду аристократов, вто-
рой — мот и гуляка, но, в сущности, добрый малый (Чарльз Сэрфес).
Шеридана отличало великолепное знание законов театра, чувство сцены.
Стремительное развитие действия, острая конфликтность ситуаций, отточен-
ные диалоги, четкая линия основной сатирической темы, связывающей все
действие воедино, наконец, непритязательная веселость сделали «Школу зло-
словия» поистине бессмертной.
57
РОБЕРТ БЁРНС (1759—1796)
Поэта Бёрнса Вальтер Скотт превозносил как самого гениального
и жалел, что его жизнь была исполнена горестей.
Из записей русского путешественника В. П. Давыдова
от 17 янв. 1828 г.
После унылых стенаний поэтов-сентименталистов бодрящим и освежа-
ющим ветром обдает нас поэзия Роберта Бёрнса. Благоухание полей и лесов,
лучи солнца и синеву неба приносит нам она.
Поэт отдал, конечно, дань сентиментализму. Его крестьянской душе были
милы призывы вернуться к природе и та печаль о судьбе бедняков поселян,
которая содержалась в сочинениях сентименталистов. Элегические ноты зву-
чали и в его чудесных стихах:
В полях под снегом и дождем,
Мой милый друг,
Мой бедный друг,
Тебя укрыл бы я плащом
От зимних вьюг,
От зимних вьюг.
Мелодия любви робкой и незлобивой души исходит от укора девушки,
оставленной своим ветреным возлюбленным, в другом его стихотворении-
песне:
Ты шутил со мною, милый,
Ты со мной лукавил, —
Клялся помнить до могилы,
А потом оставил,
А потом оставил.
В манере сентименталистской покорности судьбе, но без приторной чув-
ствительности сентименталистов заканчивается эта трогательная история люб-
ви, рассказанная просто и непритязательно:
Пусть скорей настанет время
Вечного покоя.
Я глаза свои закрою,
Навсегда закрою, Джеми,
Навсегда закрою.
Поэт-сентименталист примешал бы к этой истории социальные мотивы (де-
вушку соблазнил-де знатный вертопрах), но они были бы неуместны здесь, и
это тонко чувствовал поэт-плебей, которому больше, чем кому-либо, при-
шлось испытать гнет социального неравенства.
Политический протест звучал в иных стихах Бёрнса и звучал по-иному. Не
сентиментальные жалобы, не призывы к милости и состраданию, а гордое
презрение плебея к барину-вельможе выражалось в них. Это презрение,
подобно крестьянскому кнуту, хлестало самодовольство и тупость тех, кто
пользовался благами богатства и власти:
58
Вот этот хлыщ — природный лорд.
Ему должны мы кланяться,
Но, пусть он чопорен и горд,
Бревно бревном останется.
Судьба Бёрнса — вечный позор бур-
жуазной Англии. Сын шотландского кре-
стьянина, всю жизнь бившийся с нуждой,
уже прославленный и признанный в каче-
стве лучшего поэта страны, он вынужден
был принять на себя глупейшую роль
акцизного чиновника и, вместо того
чтобы творить чудеса поэзии, к чему был
призван и к чему всей душой рвался, дол-
жен был «ссориться с контрабандистами и
виноделами, исчислять таможенные
пошлины на сало и обмерять пивные боч-
ки. В таких трудах печально растрачи-
вался этот мощный дух», — писал сооте-
чественник поэта Карлейль. Лишенный
житейского практицизма, вечно нужда-
ющийся, Берне щедро отдавал деньги,
когда они у него появлялись. От первого
гонорара он уделил большую сумму на постройку памятника поэту Фергюсону.
Потом купил пушку и послал ее во Францию на вооружение восставшему наро-
ду. Пушку, конечно, задержали в Дувре, и власти стали подозрительно глядеть
на поэта.
Конечно, он страдал от унизительной нищеты. Вот что он писал незадолго
до смерти одной своей корреспондентке:
«...Едва ли найдется более грустная история, чем жизнь поэта... Возьмите
любого из нас, наделите его сильным воображением и нежной восприимчивос-
тью... вложите в него неудержимое стремление к свободной мечте, даже кап-
ризу — как, например, составить из полевых цветов венок, отыскать место, где
прячется сверчок, следя за его пением, наблюдать за игрой рыбок в залитом
солнцем пруду или угадывать любовные затеи бабочек и т. д. Словом, предо-
ставьте его занятиям, которые постоянно отвлекают его от путей наживы, и в
то же время наделите его, как проклятием, жаждой и тех наслаждений, кото-
рые требуют денег, дополните меру его несчастий, внушив ему повышенное
чувство собственного достоинства, и вы получите существо, почти столь же
несчастное, как поэт».
Сломленный нуждой (перед смертью он едва избежал долговой тюрьмы),
великий поэт, гордость Шотландии, скончался в возрасте 37 лет. Сейчас день
его рождения отмечается на его родине как национальный праздник.
Дошедший до нас портрет рисует поэта молодым, с красивым, тонко очер-
ченным лицом и светом огромных глаз. Лицо жизнерадостного, полного сил и
внутреннего огня человека. Такой уверенно и смело должен был шагать по
земле — сын народа, дитя земли. От поэзии Бёрнса исходит здоровый дух чув-
ственности. Его любовная лирика прекрасна. В ней нет ничего от утонченной
59
развращенности поэтов эпохи Реставрации, но она чужда и чопорному целому-
дрию пуританской лирики. Берне воспевает здоровую любовь, естественное
взаимное влечение полов. Из всех песен, сочиненных поэтами о любви, песни
Бёрнса в ряду самых чистых и поэтичных. Его стихотворение «Ночлег в
пути» — поистине благоуханная повесть о красоте единения сердец:
Был мягок шелк ее волос Она не спорила со мной,
И завивался, точно хмель. Не открывала милых глаз,
Она была душистей роз, И между мною и стеной
Та, что постлала мне постель. Она уснула в поздний час.
И грудь ее была кругла, — Проснувшись в первом свете дня,
Казалось, ранняя зима В подругу я влюбился вновь.
Своим дыханьем намела — Ах, погубили вы меня! —
Два этих маленьких холма. Сказала мне моя любовь.
Я целовал ее в уста, Целуя веки влажных глаз
Ту, что постлала мне постель, И локон, вьющийся, как хмель,
И вся она была чиста, Сказал я:
Как эта горная метель. — Много, много раз
Ты будешь мне стелить постель!
Берне весел, жизнерадостен, задорен, часто дерзок, насмешлив. Ему нра-
вится жизненная сила во всем, он любуется природой, но без умиленности,
свойственной сентиментальной поэзии его дней. Вот цветок поник, скошенный
сохой. Ах, несчастный бедолага! Там пахарь потревожил полевую мышь; не
сердись, дружище! Он поет гимн природе, гимн ячменному зерну. Ячменное
зерно — символ вечной жизни. Она неистребима, в ней вечная тяга к воспроиз-
ведению, несокрушимая воля к созиданию новой жизни. «Джон — Ячменное
зерно» — так называется эта философская баллада. Джон, как у нас на Руси
Иван, самое распространенное имя в Англии. Джон — это сам народ, созида-
тель всех благ общества, носитель нравственного и физического здоровья
человека. Его веселая поэма «Тэм о'Шентер» полна народного юмора. Шабаш
ведьм, который привиделся подвыпившему Тэму, как святочная фантасмаго-
рия, праздничен и шутлив и конечно, лишен мистического ужаса, излюблен-
ного поэтами-сентименталистами. В конце XVIII в. Берне внес в английскую
литературу ту струю бодрости, нравственного здоровья и оптимизма, в которой
она так тогда нуждалась.
Ныне он поэт мира. У нас он — «свой». Его приобщили к русскому слову
Э. Багрицкий, Т. Щепкина-Куперник и особенно С. Маршак. Стихи Бёрнса в
переводах С. Маршака вошли в сокровищницу нашей национальной поэзии.
ФРАНЦИЯ
В глазах Людовика XIV, Генриха IV, Людовика XVIII во Франции
было только два рода людей: благородные, которыми нужно было
управлять посредством нести и вознаграждать голубой лентой, и
чернь, которой в торжественных случаях бросают груды колбас и
окороков, но которую нужно безжалостно вешать и убивать, как
только она вздумает возвысить голос.
Стендаль
В начале века Франция потеряла ряд колоний в Америке (земли вокруг Гуд-
зонова залива, Ньюфаундленд), после Семилетней войны она вынуждена была
уступить Англии Канаду, колонии в Индии и даже разрушить собственный
военный порт в Дюнкерке. Войны ослабили Францию, нарушили внутреннюю
экономическую жизнь страны. Государственная казна была опустошена. Вну-
тренняя политика французского правительства была беспомощна, как и поли-
тика внешняя.
61
Государство неоднократно объявляло себя банкротом, а между тем двор
поглощал львиную долю государственных средств, при дворе умножились раз-
личные фиктивные должности.
Имелась, например, должность капитана королевских собачек-левреток с
весьма солидной оплатой.
Некий Дюкро числился парикмахером при мадемуазель д'Артуа, умершей в
трехлетнем возрасте. За это он получал пенсию в 1700 ливров.
Была должность хранителя королевской трости и т. д. Правительство
неспособно было даже организовать сбор налогов и перепоручало это откуп-
щикам, которые, купив у государства право на сбор налогов, взимали их с боль-
шой лихвой для себя.
По стране бродило около 1,5 миллиона нищих. В 1739 г. герцог Орлеанский
показал королю хлеб, выпеченный из травы, заявив, что в его графстве в
Турени уже год крестьяне питаются таким хлебом.
В стране между отдельными областями были установлены с незапамятных
времен таможенные границы, до крайности затруднявшие торговлю.
При вывозе товара из одной провинции в другую нужно было платить тамо-
женные пошлины, а это удорожало товар. Современники подсчитывали, что
дешевле было доставить товар из Америки во французский порт, чем от фран-
цузского порта до Парижа.
Старая система сеньериальных повинностей, феодальных ограничений и
регламентации, таможенных барьеров ставила непроходимую преграду мощ-
ному напору развивающихся производительных сил общества. Буржуазия,
которой феодальные порядки мешали наживаться, роптала.
Знаменитый английский агроном Артур Юнг, посетивший Францию в
80-х гг. XVIII столетия, был поражен той картиной бесхозяйственности и эко-
номического застоя, которая открылась его глазам, как только он переплыл
Ла-Манш.
Пустовали огромные земельные массивы, зарастали бурьяном плодород-
нейшие земли, а между тем в стране ощущался острый недостаток хлеба и
цены на хлеб были непомерно высоки. Самыми частыми судебными процес-
сами были процессы о разграблении мучных лавок и булочных.
Вот что писал в своем путевом дневнике Артур Юнг:
«5 сентября 1788 г. Монтабан... Треть той земли, которую я видел в этой
провинции, была не возделана и почти вся остальная часть в жалком состо-
янии». Таких наблюдений немало в дневнике Юнга. Английский путешествен-
ник, один из передовых людей времени, смутно догадывался о причинах эконо-
мического застоя в стране.
«Каким ужасным обвинением против королей, министров, парламентов и
штатов выглядят миллионы неприставленных к делу людей, обреченных на
голод и праздность отвратительными принципами деспотизма и не менее отвра-
тительными предрассудками феодального дворянства».
Все это привело к революции в конце XVIII века.
62
«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
Спешите, мужественный Дидро и неустрашимый д'Лламбер,
напасть на фанатиков и негодяев: опровергайте их глупое разгла-
гольствование, их презренные софизмы, историческую ложь, про-
тиворечия, бесконечные нелепости...
Вольтер
На столе издателя Лебретона лежали только что полученные из Лондона,
еще пахнувшие типографской краской четыре тома «универсального справоч-
ника наук и искусств». Автор их почтенный квакер Эфраим Чемберс сделал их
двадцать лет назад. Публике настолько они пришлись по вкусу, что книга
выдерживала уже четвертое издание. Книгопродавцы получали изрядный
барыш.
Лебретон решил перевести английские книжицы на язык Парижа, но ему
указали, что издать оригинальную книгу предпочтительнее, это принесет боль-
ший доход, тем более, что во Франции не занимать ученых умов. К работе был
привлечен Дидро, в помощь ему — д'Аламбер, математик и секретарь Акаде-
мии наук. Так Дидро и д'Аламбер стали во главе самого удивительного в исто-
рии, самого значительного для XVIII в. памятника культуры человеческой.
Они стали редакторами знаменитой «Энциклопедии».
Дидро делал все со страстью. Немедленно полетели письма во все концы
страны. Монтескье из Бордо шлет отеческое благословение: он старше Дидро
на 24 года и считает себя вправе говорить отечески с молодежью. Жан-Жак
Руссо, еще не открывший себя, еще безвестный, горит желанием сотрудни-
чать. Бюффон, Мармонтель, Гольбах, Кондильяк, Мабли, Рейналь, Кондорсе,
Гримм, Тюрго — сколько имен! — и все талантливы, все жаждут перемен в
социальной и политической Франции и все воспитаны Вольтером, для всех
он — мэтр, учитель.
Спрошен, конечно, и Вольтер, и, конечно, он «за», конечно, согласен
сотрудничать1. Не менее редактора взволнован и он. «Это будет величайший
памятник эпохи, гордость нации!»
Он поощряет, наставляет издателей, он учит диалектике борьбы. «Бро-
сайте стрелы, не показывая руки». Важно, чтобы идея дошла до народа, все
прочее в сторону.
Об «Энциклопедии» заговорили. Забеспокоились иезуиты, богословы Сор-
бонны. Их инвективы еще более подогрели интерес к изданию. А тут еще
арест главного редактора, Дидро в 1749 г. препроводили в Венсенский замок за
его философский трактат, объявленный «разрушительным и нечестивым»
(«Письмо о слепых в назидание зрячим»).
Идя на свидание к другу в Венсен, Жан-Жак Руссо, как молнией, озарен
идеей написать сочинение о человеческой цивилизации. Вышедшее в следу-
ющем году, оно принесло автору неожиданную и повсеместную славу, отблеск
которой упал опять же на «Энциклопедию», ни один том которой пока еще не
вышел. Но все его ждут нетерпеливо.
Он написал для «Энциклопедии» 43 статьи.
63
И вот в 1751 г. появился первый, а вслед затем и второй том. Вокруг них
ажиотаж необыкновенный. Может быть, все бы пошло спокойнее, «академич-
нее», когда бы не волнения отцов-иезуитов и Сорбонны. Гнев их пал прежде
всего на головы авторов богословских статей, аббатов Ивона, Морелле, Де-
Прада.
Ивон бежал из Франции, Морелле посажен в Бастилию, Де-Прад, лишен-
ный немедленно ученой степени, укрылся при дворе Фридриха II и пополнил
собою компанию острословов на ужинах в Сан-Су си. А читатели неистовство-
вали: где купить «Энциклопедию»? Рвали ее друг у друга, читали как самый
увлекательный роман. Статьи отличались умом, знанием фактов истории и
современности и блеском изложения. Такого еще никогда не было. Гигантский
коллективный труд! Задачи определены в Предисловии, и они грандиозны:
«Собрать знания, рассеянные по земле», «собрать их воедино», «изложить в
строгой системе» — для современников («людей, с которыми мы живем») и
потомков («людей, которые придут после нас», «для веков грядущих»), чтобы
люди стали «образованнее, добрее и счастливее», «тогда мы можем умереть
спокойно с сознанием выполненного долга».
История издания «Энциклопедии» — история умственной жизни Франции
XVIII столетия. Не все выдержали испытание. Утомленный борьбой отошел
д'Аламбер, отказался сотрудничать Руссо. До конца остался Дидро. Около
тысячи статей он написал лично. В 1765 г. он обнаружил, что Лебретон, хозяин
издательства, тайно от него уродовал статьи, убирая все опасные мысли. Дидро
бушевал и плакал от досады и обиды (он слишком поздно заметил).
Издание было закончено в 1772 г. Дидро остался по-прежнему нищим и жил
на чердаке. Екатерина II была вынуждена помочь ему под предлогом покупки
его библиотеки. Издатель Лебретон положил в карман значительную сумму
чистого дохода.
ВОЛЬТЕР (1694—1778)
По одну сторону его смертного одра раздавался клич любви, а по
другую — шел разгул ненависти и порицания, которым неумолимое
прошлое награждает тех, кто боролся против него.
Виктор Гюго
Бури страстей человеческих сопровождают грандиозные сдвиги в истории,
и люди, оказавшиеся в силу ума, таланта, энергии и воли на гребне событий,
вызывают к себе самые противоположные чувства в противоборствующих
лагерях. Так случилось и с Вольтером. По отношению к нему не было равно-
душных и нейтральных. Здесь был восторг, признательность одних и ненависть
других.
Вольтер в XVIII столетии был, пожалуй, самой значительной фигурой в
Европе, на ее политической, философской и культурной арене. И в наши дни
радио или телевидение нет-нет и помянет его имя и процитирует тот или иной
его броский афоризм в защиту и во славу демократии.
Он был наделен самыми разнообразными талантами. Послушаем о том со-
всем еще юного Пушкина.
64
Когда-то Пушкин, совсем еще юный
(шестнадцатилетний лицеист), рассказывая
легкокрылыми стихами о своей книжной
полке, упомянул Вольтера:
щ Ф? 4
Укрывшись в кабинет,
Один я не скучаю
И часто целый свет
С восторгом забываю.
Друзья мне — мертвецы,
Парнасские жрецы;
Над полкою простою
Под тонкою тафтою
Со мной они живут.
Певцы красноречивы,
Прозаики шутливы
В порядке стали тут.
Сын Мома и Минервы,
Форнейский злой крикун,
Поэт в поэтах первый,
Ты здесь, седой шалун!
Он Фебом был воспитан,
Всех больше перечитан,
Издетства стал пиит;
Всех менее томит;
Соперник Эврипида,
Эраты нежный друг,
Арьоста, Тасса внук —
Скажу ль?., отец Кандида —
Он все; везде велик,
Единственный старик!
Что можно добавить к этой характери-
стике, которую дал властителю умов XVIII в.
гениальный РУССКИЙ МаЛЬЧИК, НаХОДИВ- Вольтер.
шийся тогда еще на ученической скамье?
«Он Фебом был воспитан». Да, да.
Едва научившись говорить, Вольтер уже лепетал стихи известных в его дни
поэтов. С ранних лет он дышал воздухом поэзии и свободомыслия. «Издетства
стал пиит». Двенадцатилетний Вольтер уже поэт, «соперник Эврипида».
Современники видели в Вольтере великого драматурга. Он работал для
театра в течение шестидесяти лет и написал десятки пьес. «Арьоста, Тасса
внук». И это верно. Его эпическая поэма «Генриада», его тонкие, умные, изыс-
канные стансы, эпиграммы, стихотворные послания, философские поэмы,
наконец, полная веселого шутовства, иронии, убийственной насмешки «Орле-
анская девственница» ставили его в один ряд с самыми прославленными
поэтами древности. По крайней мере, так судили его современники.
«Сын Мома и Минервы». Насмешливый и злоречивый бес древних греков и
богиня мудрости — «родители» Вольтера. Вольтер — философ. Философу
положено быть глашатаем мудрости. «Эраты нежный друг». Эрато, сладкого-
лосая девушка с лирой в руках, муза эротической поэзии древних греков, пожа-
луй, менее всего привлекала Вольтера. Он менее всего был лирик, менее всего
умел писать о любви, правда, его трагедия «Заира» вызывала потоки слез у
чувствительных современников. Но сила его состояла в убийственной иронии.
Он был подлинным сыном Мома. Он умел смеяться.
Таланты Вольтера были универсальны. Он называл себя служителем всех
девяти муз. И его читали. Читали жадно и воинственно. О том говорит скупой
язык цифр. При его жизни, с 1740 по 1778 г., во Франции 19 раз печатали собра-
ния его сочинений, не считая публикаций отдельных его произведений; после
его смерти, с 1778 по 1815 г., еще 6 раз.
Бомарше напечатал сразу два издания: в 70 и 90 томах. В следующие 20 лет
вышло 28 изданий. После семнадцатилетнего перерыва, с 1852 по 1876 г., —
65
снова пять изданий. Тиражи по тем временам поистине космические: 12 изда-
ний с 1817 по 1824 г. составили в общей сложности 1 598 000 томов.
Этот читательский интерес к Вольтеру был не случаен. Его литературное
наследие, как в фокусе, вобрало в себя содержание всей социальной, полити-
ческой и культурной жизни Европы XVIII столетия, все самые кардинальные
проблемы, волновавшие тогдашние поколения, от вопросов социального
устройства вселенной, от поэтической метрики до законов природы.
Нельзя не заметить того, что читательский интерес к Вольтеру резко воз-
растал в дни безвременья, в дни реакции. Так было в годы правления послед-
него отпрыска Бурбонов на французском престоле Карла X, пытавшегося вос-
становить сословно-монархический режим накануне революции 1830 г., когда
за семь лет было опубликовано 2 159 500 книг просветителей. Три четверти из
них составляли сочинения Вольтера. Общество нуждалось в нем, в его идеях, в
его слове.
«КАНДИД, ИЛИ ОПТИМИЗМ»
Искусство во Франции всегда было выражением основной стихии ее
национальной жизни: в веке отрицания, в XVIII веке оно было
исполнено иронии и сарказма.
В. Г. Белинский
У берегов Женевского озера, почти свободный, почти независимый, с дрях-
лым телом, с юным умом, Вольтер создавал свои художественные шедевры и
содействовал миру «яростно освобождаться от глупости».
В 1758 г. он тайно писал «Кандида», самую лучшую свою философскую
повесть. Идеи, окрыленные рифмами в поэме «О гибели Лиссабона», теперь
засверкали в коротких и острых, как стрелы, фразах прозы.
XVIII век создал свой особый литературный жанр — философский роман,
философскую повесть. Начало ему положил Монтескье книгой «Персидские
письма», вышедшей в свет в 1721 г., однако истоки его следует искать еще в
эпохе Ренессанса («Утопия» Томаса Мора, «Похвала глупости» Эразма Роттер-
дамского, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле).
Философский роман не претендовал на точность и обстоятельность бытопи-
сания, на тщательное изображение характеров. Он охотно прибегал к фанта-
стике, к приемам сказочного повествования, обращался к далеким странам, к
малоизвестному тогда Востоку. В веселом шутливом тоне автор рассказывал
были и небылицы, как бы желая позабавить читателя.
Но это была уловка. На самом деле он меньше всего думал о развлекатель-
ности своего рассказа. Ему важно было довести до читателя идеи, а они имели
непосредственное отношение к социальным, политическим и философским
проблемам века. Философский роман был, в сущности, трактат, но трактат
особый, без тяжеловесных рассуждений, без ученого педантизма, трактат в
форме общедоступного художественного иносказания.
«Этот жанр имеет несчастье казаться легким, — отзывался о нем Кондорсе,
просветитель и первый биограф Вольтера, — но он требует редкого таланта, а
66
именно — умения выразить шуткой, штрихом воображения или самими собы-
тиями романа — результаты глубокой философии».
Классическим образцом жанра были философские повести Вольтера и наи-
более читаемая из них «Кандид, или Оптимизм». Повесть Вольтера есть не что
иное, как размышление о мире, полном предрассудков, насилия, мучительства,
угнетения и глупости.
В XVIII в. много говорили о космосе. Великие открытия Ньютона возбу-
дили в обществе чрезвычайный интерес к мирозданию. Вспомнили книгу
Кеплера «Гармония мира», написанную еще в 1616 г., в которой наряду с важ-
ными научными истинами содержались и спорные, мистические толкования. В
ходу были и теории Лейбница о некоей «предустановленной гармонии» («Рассу-
ждения о метафизике», 1685, и другие сочинения), которые, перенесенные из
области естественных наук в сферу общественных идей почитателями этих
великих ученых, часто вели к благодушному примирению со всеми социаль-
ными пороками. Рассуждали так: раз во вселенной царит Богом установленная
гармония, то и в обществе существует такое же согласие, своеобразное равно-
весие сил, иначе говоря, зло уравновешивается добром.
Против этой теории политического благодушия, названной Вольтером тео-
рией «оптимизма», и направлена была его повесть.
«Кандид» — сказка. Героями сказок обычно бывают или царевичи, или
дурачки. Заметим, что «дурачок» в русских сказках слово ласковое, доброе,
оно не означает «глупый», но — простодушный, бесхитростный, наивный.
Поэтому Иванушка-дурачок и оказывается в конце концов и самым умным, и
самым удачливым.
В повести Вольтера Кандид именно таков. Слово «кандид» на языке древ-
них римлян означало «ослепительно белый», «белоснежный». От него шли и
все производные значения нравственного порядка — «наивный», «искренний»,
«чистосердечный», «беспечный». Все эти эпитеты подходят герою повести
Вольтера. Кандид наивен и чист душой. Он и прекрасен, ибо юн, он и «беспе-
чен», ибо не подозревает того, какие беды готовит ему жизнь. В самом имени
героя — вольтеровская ирония. «Счастливому» Кандиду выпадают такие беды,
что назвать его можно разве что бедолагой.
Кандид живет в замке кичливого и тупого немецкого барона Тундер-тен-
Тронка. В родословной барона вереница поколений предков, чем он очень гор-
дится. В том же замке живут прекрасная дочь барона Кунигунда, ее брат, столь
же кичливый. Там же живет и еще одно примечательное лицо — философ
Панглос. Он сторонник идеи Кеплера и Лейбница о мировой гармонии.
В насмешливо-гротескной форме воспроизводятся его разглагольствова-
ния:
«...Все по необходимости существует для наилучшей цели. Вот, заметьте,
носы созданы для того, чтобы носить очки, — поэтому мы носим очки. Ноги,
очевидно, предназначаются быть обутыми, — и мы носим обувь. Камни были
созданы, чтобы их тесать и строить из них замки, — и вот у монсеньора пре-
красный замок; величайший барон области должен иметь наилучшее жилище.
Свиньи созданы, чтобы их есть, — и мы едим свинину круглый год».
Философ Панглос и идея мировой гармонии — вот главный объект насме-
шек Вольтера. Для опровержения идеи примирения с действительностью, или
оптимизма, он развернул длинную череду самых жестоких злоключений своих
67
героев. Все било в одну цель, все было пронизано одной мыслью —мир чело-
веческий устроен плохо, всюду люди страдают, и причина этих страданий — в
общественных институтах, порочных законах, нелепых предрассудках.
Барон изгнал Кандида из своего замка. Изгнан был и философ Панглос.
Пути их разошлись, но каждому из них выпала самая печальная участь. После
долгих мытарств, измученные и опустошенные, они встретились снова. Учи-
тель и ученик. И безносый Панглос, гонимый Панглос, избиваемый, терза-
емый, почти повешенный, почти сожженный на костре, чудом спасавшийся и
снова бросаемый в море бед, несчастный и жалкий, вечный образец слепой и
благодушной глупости, проповедовал... «оптимизм».
Слепая вера обладает магической силой воздействия особенно на души
чистые, доверчивые, юные. Простодушный и наивный Кандид не решается
подвергать сомнению проповедь своего учителя. Он верил Панглосу, но:
«...Мой дорогой Панглос, — сказал ему Кандид, — когда вас вешали, реза-
ли, нещадно били, когда вы гребли на галерах, неужели вы продолжали
думать, что все в мире идет к лучшему?
— Я всегда оставался при своем прежнем убеждении, — отвечал Панглос, —
потому что я философ. Мне непристойно отрекаться от своих мнений: Лейб-
ниц не мог ошибиться, и предустановленная гармония есть самое прекрасное в
мире, так же как полнота вселенной и невесомая материя».
Отвергая теорию «оптимизма», иначе говоря, идею «предустановленной
гармонии», которая убаюкивала людей, в то время как нужно было деятельно
разрушать зло и созидать добро, Вольтер вовсе не хотел заразить своего чита-
теля унынием или отчаянием. Век Просвещения смотрел вперед, он верил в
силы разума и, пожалуй, в добрую основу человека. «Люди несколько извра-
тили природу, ибо они вовсе не родятся волками, а становятся ими», — писал
он. И задача, следовательно, состояла в том, чтобы уничтожить те обществен-
ные установления и институты, которые способствуют превращению людей в
волков.
Вольтер показал читателю страну своей мечты, иначе говоря, своих обще-
ственных идеалов. Кандид побывал в Эльдорадо, сказочном царстве, где не
было монахов, инквизиции, казней, тюрем, где процветали науки и искусства,
где люди жили в неведении зла и притеснений. Так должно быть в идеале. Но
когда Кандид вернулся из этой страны мечты и ступил на почву реальности, он
увидел... распростертого на земле негра, полуодетого, истерзанного.
«...Собаки, обезьяны, попугаи в тысячу раз менее несчастливы, чем мы, —
говорит негр, — жрецы, которые обратили меня в свою веру, говорят мне
каждое воскресенье, что мы все — потомки Адама, белые и черные. Я не силен
в генеалогии, но если проповедники говорят правду, то мы двоюродные
братья. Однако, согласитесь, нельзя же так ужасно обращаться с родственни-
ками».
Стиль Вольтера — образец иронической прозы.
В каждом слове намек. Подобно калейдоскопу складываются, сменяются
судьбы, события, и мир полон жестоких нелепостей. Вольтер обозревает весь
тогдашний мир. Берлин, Германия, пошлые геральдические притязания тупо-
умных баронов (их насмотрелся вдоволь французский автор), Франция —
«обезьяны поступают как тигры» (казни, убийства, пытки), Венеция — «хо-
рошо только одним нобелям» (аристократам).
68
Вольтер ироничен, он щедр на комплименты. Какие похвалы инквизито-
рам! «Архидьякон, сжигал людей чудесно...» и пр.
Вот колоритная сценка из повести. Привожу ее с несколькими сокращени-
ями:
«Вы знаете Англию? Там такие же безумцы, как и во Франции? — это дру-
гой род безумия... вы знаете, что эти две нации ведут войну из-за клочка
покрытой снегом земли в Канаде и что они израсходовали на эту прекрасную
войну гораздо больше, чем стоит вся Канада... Разговаривая так, они прибыли
в Портсмут. Множество народа виднелось на берегу; все внимательно смо-
трели на довольно полного человека, который стоял на коленях с завязанными
глазами на палубе военного корабля; четыре солдата, поставленные против
этого человека, преспокойно выпустили по три пули в его череп, и публика
разошлась, чрезвычайно удовлетворенная.
— А за что убили этого адмирала?
— За то, сказали ему, что он не убил достаточно людей... в нашей стране
убивают время от времени одного адмирала, чтобы придать бодрости другим».
Вольтер не выдумал этот эпизод. В 1757 г. английские власти расстреляли
адмирала Бинга за то, что он не сумел выиграть сражение в битве с французами
у острова Минорка. Вольтер тщетно пытался спасти его.
Женевские издатели братья Крамеры напечатали книгу. 20 февраля 1759 г.
она появилась в Париже.
Немедленно последовал запрет. Но уже в марте за один месяц в столице
разошлось еще пять тайных изданий книги. К концу года их было двадцать. В
том же году книгу перевели на английский и итальянский языки.
Вольтер самым «искренним» образом негодовал. «Что за бездельники при-
писывают мне какого-то Кандида, забавы школьника. Право, у меня есть дру-
гие дела» (письмо к аббату Верну). И через неделю: «Я, наконец, прочел Кан-
дида, нужно потерять рассудок, чтобы приписать мне подобную нелепицу.
Слава Богу, у меня есть более полезные занятия».
И простодушный аббат верил и разделял негодование своего корреспонден-
та. То же писал Вольтер и маркизу Тибувилю: «Я наконец прочел, дорогой
маркиз, этого Кандида, о котором вы мне говорили, и чем больше я смеялся,
тем больше сожалел о том, что мне его приписывают. Однако какие бы
романы ни сочиняли, трудно воображению приблизиться к тому, что творится
на самом деле на нашем печальном и смешном земном шаре».
«СВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК»
Некто. Господин Вольтер, вы помирились с Богом?
Вольтер. Мы с ним кланяемся, но не разговариваем.
Из анекдотов о Вольтере
Только что с большим успехом прошла в театре трагедия Вольтера «Альзи-
ра». От похвал, восторгов зрителей автор был на седьмом небе. Но в конце
года произошли самые неожиданные для него события. Его сатирическая
шутка «Светский человек», которую он написал, нисколько не думая о послед-
69
ствиях и, в сущности, не придавая ей никакого значения, вызвала в Париже
необыкновенный ажиотаж.
Враг Вольтера аббат Дефонтен показал стихи аббату Кутюрье, а тот был
вхож к первому министру кардиналу Флери. В парижских гостиных заговорили
о том, как негодует и грозится кардинал Флери.
Сатирическая поэма состояла из нескольких десятков стихов и в наши дни
показалась бы совершенно безобидной. Как и всюду у Вольтера (да только ли
у него? Таков уж был век), здесь царила философия. Последняя сводилась к
оправданию прогресса. Цивилизация лучше дикости — вот, в сущности, глав-
ный тезис маленького стихотворного экспромта.
Что цивилизация лучше дикости, что дворец лучше хижины — это откры-
тие вряд ли могло показаться сенсационным для 25 тысяч дворянских семей
Франции, понимавших, что такое роскошь. Да и служители церкви не отказы-
вали себе в благах цивилизации. Сенсационным показалось другое, а именно
непочтительный отзыв о райской жизни наших прародителей Адама и Евы и
слишком вольное обращение с этими священными именами.
Вольтер в поэме, смеясь, спрашивал «доброго папашу и лакомку» Адама,
что делал он в садах Эдема.
— Ласкал мадам Еву.
— Но она была грязна, со спутанными волосами, с длинными ногтями. Фи!
А как живет светский человек теперь? Он окружен комфортом и рос-
кошью, в его распоряжении изысканный стол, тонкие вина, шелк и парча, кар-
тины и мрамор. И вы называете это «проклятым веком»?
Так, смеясь, издеваясь, философствовал Вольтер во славу прогресса. Он
поделился поэтической новинкой со своими друзьями и многочисленными кор-
респондентами, а эти последние с широкой публикой. Словом, Париж загово-
рил о сатирической поэме Вольтера. «Я держу своих детей взаперти, — писал
он Фридриху, — но иногда они выбегают на улицу. «Светский человек» ока-
зался проворнее других».
Однако шутка грозила большими последствиями, и Вольтер бежал в Гол-
ландию. Маркиза дю Шатле, приятельница Вольтера, тем временем бомбила
своими письмами Париж. Герцогиню Ришелье она просила дать понять мини-
стру хранителю печати, что «стыдно преследовать человека, которого так
ценят иностранные принцы», она жаловалась на «придворных ханжей», оже-
сточающих, как ей казалось, первого министра кардинала Флери и канцлера
Дагесо. С этими последними говорил Даржанталь, и через него они сообщали
маркизе, что Вольтера нужно было бы арестовать и ранее, и если это не было
сделано, то только исключительно из уважения к дому маркиза дю Шатле, что
теперь, однако, правительство будет вынуждено просить маркиза не оказывать
гостеприимства автору кощунственных сочинений.
И Вольтер живет в Голландии под чужим именем тихо, ничем не выдавая
себя, не встречаясь ни с кем. Все, вероятно, обошлось бы, но на его беду он
повстречал там поэта и своего недруга Жан-Батиста Руссо. «А, мы скрываемся
от властей!» — и последовал фейерверк скверных острот на тему о том, что
Вольтер приехал в Голландию, чтобы учить ее жителей безбожию. Газеты
немедленно подняли шум, и вся Европа узнала, где скрывается великий возму-
титель спокойствия.
Страсти, однако, постепенно затихли. Осторожный и расчетливый Флери
70
почел за лучшее не трогать знаменитость. Дагесо, министр хранитель печати,
передал герцогу Ришелье, что никаких карательных санкций к поэту приме-
нено не будет. Маркиза подала сигнал отбоя. И Вольтер неохотно отправился
в обратный путь. «Писатель должен жить в свободной стране».
Вольтер, видя, что его шутка была воспринята серьезно (о ней заговорили
и философы), написал в том же 1736 г. две сатирико-философские поэмы:
«Светский человек» и «Об образе жизни. Критикам «Светского человека».
«Вчера, к моей досаде, мне пришлось оказаться за одним столом с неким
святошей.
— О, я вижу по вашему лицу, что вы скоро будете отапливать собой кухню
Люцифера, — заявил он мне.
— Это почему же?
— За ваши штучки. В одной рифмованной сказке вы говорите такое об
Адаме и Еве! К тому же хвалите роскошь и сообщаете (о, святотатство!), что
нашим блаженным праотцам в райских садах жилось не так уж сладко. Нет,
мой сын, вашу музу поджарят. Это уж обязательно.
Святой отец при этом блаженно щурился, потягивая из бокала тончайшее
вино.
— Позвольте, святой отец, что это вы пьете? Откуда это вино, этот
нектар?
— От Господа.
— Но над ним трудились люди. А этот кофе? Этот фарфор? Это высокой
чеканки серебро? Все прошло через руки людей. Мой отец, не будьте простач-
ком и не называйте нищету добродетелью».
Далее Вольтер заговорил уже серьезно о том, как нужно относиться к рос-
коши.
Со времени христианства роскошь официально предавалась осуждению.
Было немало правительственных распоряжений против роскоши.
Полагали, что стремление к роскоши развращает людей и ведет государ-
ство к гибели.
Историки этим объясняли падение могущественной Римской империи.
Вольтер опровергал это. Вот прозаический перевод его стихотворных рассу-
ждений:
«В Англии, во Франции по сотням каналов течет богатство. Вкус к роскоши
проник во все слои общества: бедняк живет за счет тщеславия богачей, и труд,
оплаченный праздностью, открывает постепенно дорогу к изобилию».
Кельнские издатели полного собрания сочинений Вольтера (Бомарше, Кон-
дорсе) снабдили «Светского человека» нижеследующей ремаркой:
«Всякое большое общество основано на праве собственности, оно не может
процветать без того, чтобы отдельные личности, его составляющие, не увели-
чивали продукцию земли и ремесел, в равной мере и без того, чтобы они не
рассчитывали на свободное пользование тем, что они приобрели. Без этого
права люди могут обойтись лишь в том случае, если будут сведены к пользова-
нию только предметами первой необходимости».
Этот взгляд на вещи сохранился и в современной мысли, полагающей, что
залог прогресса — в праве собственности.
71
ЖАН-ЖАК РУССО
Что за огромное здание воздвигла философия XVIII века: у одной
двери которой блестящий, язвительный Вольтер, как переход от
двора Людовика XIV к царству разума, а с другой —мрачный Руссо,
полубезумный, наконец, полный любви...
А. И. Г е р ц е н
В феврале 1745 г. в Версале была поставлена «Принцесса Наварская» —
опера-балет, которую поэт писал с некоторой долей иронии, как некое эфир-
ное создание для развлечения людей, не утруждающих свой мозг мыслью.
Комедия развлекла двор, а на голову ошеломленного автора посыпались
неожиданные щедроты.
— Что значила для Вольтера опера-балет, написанная к придворному праз-
днеству? Безделка. Изящный пустячок, не более. Но в это время в Париже, на
чердаке Латинского квартала, где жили бедняки, человек по имени Жан-Жак
Руссо возлагал на нее самые большие свои надежды.
Он был уже не так юн (33 года), прожил жизнь, полную лишений, страда-
ний, нравственных падений и высоких взлетов мысли и чувства. Этот человек
с изящно очерченным профилем, лихорадочно горящими глазами, бледным
лбом был еще никому не известен. Скоро он станет властителем дум целого
поколения. Его бюст будет украшать тенистые аллеи парков, его имя будут
произносить мечтательные девушки, среди них какая-нибудь Татьяна Ларина в
«глуши забытого селенья» России. Его гневные строки, его терзающее сердце
красноречие разбудит дремлющие умы. Он станет вровень с Вольтером, а
может быть, и поднимется над ним, но пока он безвестный музыкант и поэт,
прибывший недавно в Париж, без систематического образования, без дипло-
мов, без знания обязательного тогда латинского языка, сын женевского часов-
щика, недавний бродяга, нищий, а теперь смутно ощущавший в себе тот беспо-
койный недуг, который именуется талантом.
Герцог Ришелье порекомендовал Вольтеру Жан-Жака Руссо в качестве
соавтора. Какими судьбами это имя дошло до ушей герцога, никто не знает. И
вот Жан-Жак Руссо получает письмо, написанное рукой самого Вольтера:
«Вы соединяете в себе, сударь, два таланта, которые до сих пор никогда не
принадлежали одному лицу. Это заставляет меня особенно ценить вас. Мне
жаль только, что предмет, ради которого должны быть использованы оба
ваши таланта, не заслуживает того». Руссо читает это письмо как послание
самой судьбы. Вот оно наконец-то вожделенное нечто, широкое, безбрежное и
ослепительное, что называется «славой»! Вольтер, Рамо и рядом с ним он,
Жан-Жак Руссо! Бессонные ночи отданы труду. Руссо отдавал себя всего. Это
была его «пробная работа», тот «Шедевр», с какими выходили в люди средне-
вековые мастера.
Он просит у Вольтера разрешение несколько изменить либретто — при
этом высказывает в письме самые нежные, самые восторженные свои чувства
к великому человеку: «Вот уже пятнадцать лет я работаю, чтобы быть достой-
ным одного вашего взгляда».
Вольтер тронут, но пишет о своем сочинении со всей искренностью:
72
«Я знаю, что все это очень ничтожно,
что это недостойно мыслящего человека,
желающего сделать что-то серьезное из
такой безделицы».
Руссо объят пламенем вдохновения. В
своем увлечении он не замечает, как прав
Вольтер, — тем более ужасным оказался
для него финал его сотрудничества с про-
славленными людьми.
Наступил день представления. Руссо
развернул Программу. В ней значилось
только два имени — Вольтера и Рамо! О
Руссо забыли. Устроители празднества не
знали, кто он такой. Рамо и Вольтер не
придали этому значения, как не придали
значения они самому произведению.
Человек, живший в маленькой каморке
на одном из бесчисленных чердаков Латин-
ского квартала Парижа, взлетевший было
мечтой до небес счастья, рвал Программу
КОрОЛевСКОГО Празднества. Жан-Жак Руссо.
Потом в «Исповеди», самой правди-
вой книге мира, он расскажет о своих чув-
ствах в эту минуту. Огорчение было настолько сильное, что он заболел.
Вольтер же в это время, не зная, не предполагая, каких страданий стоила
его молодому соавтору забывчивость устроителей празднества, не внесших его
имя в Программу, улыбался, благодарил, кланялся придворной толпе и, коне-
чно, не удержался от колкой эпиграммы по поводу того, что «балаганный
фарс» снискал ему благосклонность двора, почести и всякие блага, между тем
как вещи по-настоящему дельные не были замечены королем и породили сонм
врагов.
1 ноября 1755 г. в одном из уголков земного шара произошло событие, став-
шее трагедией для многих тысяч людей, — землетрясение в Португалии.
Подземные толчки огромной силы разрушили массивные стены дворцов,
общественных зданий; хижины бедняков рассыпались, подобно карточным
домикам. Приливная волна высотою в многоэтажный дом, обрушившись со
всей своей яростью на берег, довершила трагедию. Одно мгновение унесло
тридцать тысяч жизней и труд нескольких поколений.
Весть из Португалии летела в соседнюю Испанию, в Рим, Францию, в Лон-
дон, немецкие княжества, в Россию, Швецию, охватывая страхом и ужасом
суеверные головы. Колокольный звон, молитвы и проповеди с церковных
амвонов мрачным аккомпанементом сопровождали эту весть. Фанатики иссту-
пленно скандировали полубезумные строки из Апокалипсиса: «И посыпали
пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий...
ибо опустел в один час!»
73
Из того же Апокалипсиса черпали и мрачное утешение:
«Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд
ваш над ним». И гармония как бы снова восстанавливалась в мире: пал Лисса-
бон, подобно Вавилону, пал грешный город, пал во имя справедливости.
Вольтер негодовал на своих собратьев-философов, что создали хорошо сла-
женные теории о мировой гармонии и до сих пор держали в плену и его, Воль-
тера. Лиссабонская катастрофа заставила призадуматься над причинами зем-
ных бед. Не все идеально в природе, а в сфере человеческих отношений и тем
более. И Вольтер написал поэму «О гибели Лиссабона», отвергнув теорию
Кеплера, Лейбница, Попа, Шефтсбери о мировой гармонии и принцип «все
хорошо в этом лучшем из миров, ибо зло уравновешивается добром», теорию,
которую разделял до того и сам.
Вскоре Вольтер узнал с огорчением, удивлением, а потом и гневом о том,
что знаменитый и гениальный Жан-Жак Руссо не согласен с ним.
Руссо и Вольтер — два разных полюса французского Просвещения, две раз-
ные натуры, поистине два антипода. Один насмешлив и лукав, второй трагичен
и всегда искренен. Оружие одного — смех, другого — слезы. Руссо не понял
Вольтера. В справедливой вольтеровской критике пороков мира он увидел
лишь капризы обеспеченного и пресыщенного богача, который, «наделенный
благами всех видов, благоденствуя в счастье, пытается внушить отчаяние
людям страшными картинами бедствий, которых сам не испытал».
Вольтер не остался в долгу и в письмах своих поносил Руссо, называя его
сумасшедшим. Письма Вольтера читались вслух в гостиных Парижа.
Насмешки и горькие эпитеты, конечно, доходили до ушей болезненно впечат-
лительного Руссо.
В июне 1760 г. он проклял своего бога:
«Я не люблю вас больше, сударь, вы причинили мне, вашему ученику и
вашему энтузиасту, самые острые страдания... Из всех чувств, которыми сер-
дце мое было наполнено по отношению к вам, осталось только восхищение
вашим прекрасным талантом. Не моя вина, если я не смогу чтить в вас ничего,
кроме ваших дарований».
Зачем бы, кажется, Вольтеру не остановиться, не замолчать, не протянуть
первым руку примирения человеку, старше которого он был на добрых пол-
тора десятка лет, порывистому, искреннему, восторженному? Но Вольтером
овладел бес мести, лукавый, изощренный, жестоко изобретательный. Прочи-
тав роман Руссо «Новая Элоиза», он не поскупился на самые резкие, самые
очернительные отзывы в письмах, и это тогда, когда Франция — самая просве-
щенная, самая лучшая ее часть — с благоговейным трепетом принимала
каждую страницу нового произведения Руссо. Так же он встретил и «Эмиля»,
выискивая острым взглядом «смехотворные нелепости», и только дойдя до
главы «Исповедание веры Савойского викария», где Руссо провозглашал «ре-
лигию сердца», потеплел и умилился: «Пятьдесят страниц, которые бы я хотел
переплести в сафьян».
Ссора вскоре разгорелась с новой силой. Руссо бросал обвинения Вольтеру
в «Письмах с горы». Вольтер ответил памфлетом «Чувства граждан». Руссо
волновался, негодовал, но действовал открыто. Вольтер лукавил, прятал свое
авторство. (Памфлет его был написан якобы гражданином Женевы.) Этот сми-
ренномудрый мещанин был якобы объят священным ужасом перед кощун-
74
ствами автора «Писем с горы». Смиренномудрые речи, елейные воздыхания и
молитвы, мастерски подделанные великим пересмешником, ввели в заблужде-
ние даже самого Руссо. Он не мог вообразить, что злая шутка, которая стоила
ему чуть ли не жизни (городская толпа в Мотье-Труве, где жил в то время Рус-
со, подогретая памфлетом, забросала камнями окна его дома), исходит от
Вольтера.
Вольтер оправдывал себя тем, что считал Руссо предателем: «Отврати-
тельно предавать своего собрата». Руссо никогда не мог забыть того, что без
Вольтера он остался бы недорослем. Только Вольтер открыл ему глаза на мир,
заставил задуматься о себе, о людях, об окружающем, о вселенной. Только
Вольтер! В Шамбери, живя у г-жи де Варане в сомнительной роли слуги, двад-
цатилетний Руссо впервые прочитал Вольтера. Это были «Философские пись-
ма». Они, как мощный импульс, заставили неожиданно и ощутимо работать
его мысль, они дали ей пищу, направление. Потом Руссо уже не мог пропустить
ни одной строки, исходящей из-под пера философа и поэта.
«Ничто из того, что писал Вольтер, не ускользало от нас. Удовольствие,
которое я испытывал от чтения, внушило мне желание писать так же изящно,
стараться подражать прекрасному слогу автора, которого я обожал».
И это обожание осталось навсегда, и тем больнее воспринимались малей-
шие знаки невнимания, пренебрежения или недоброжелательства Вольтера,
какие впечатлительный Руссо видел даже там, где их подчас не было.
Руссо и Вольтер никогда не встречались, никогда не видели друг друга. Пер-
вое их сотрудничество (заочное), как мы уже знаем, окончилось для Руссо
печально. Но вот на всю Европу прогремело имя человека, который осмелился
с покоряющим красноречием разоблачить мнимые дары цивилизации. Это
было имя Жан-Жака Руссо, написавшего первый свой трактат «Рассуждение о
науках и искусствах».
Сколько страсти, сколько желчи было в этом первом сочинении Руссо!
Здесь предавались проклятию цивилизация, культура, труды гения и даже
мысль человеческая. Все это, по мнению автора, развращало человека, ибо
служило на потребу богачей, и как идеал моральной красоты и в противовес
культуре и цивилизации автор прославлял первобытную дикость человека.
Тогда было счастье, тогда была радость бытия, тогда человек был красив и
добр.
Руссо послал свою первую книгу самому дорогому для него человеку —
Вольтеру. Вольтер ответил разумно, но обидно: «Ваша книга учит ползать на
четвереньках, между тем за шестьдесят лет я уже разучился от этого способа
передвижения».
В неприязни Руссо к Вольтеру была, в сущности, одна причина. Он, убе-
жденный плебей, с гордостью носивший знамя бедности, печальник всех бедня-
ков мира, не мог примириться с тем, что Вольтер в быту подражал вельможам,
что был богат, что держал целый штат слуг. Он не мог простить ему ни одной
слабости и главную из них — подобострастие перед королями, которых сам он
презирал.
В сущности, расхождения между Руссо и Вольтером имели глубоко социаль-
ные истоки. За плечами Руссо стояла многомиллионная обездоленная масса
бедняков, которые требовали радикальных изменений в общественной систе-
ме. Вольтер же представлял буржуазию, и, пожалуй, даже крупную буржуа-
75
зию, готовую сохранить существующий порядок вещей, но без сословных при-
вилегий. Деление общества на дворян (привилегированных по праву рождения)
и простолюдинов — порочно, безнравственно. Деление же общества на бога-
тых и бедных неизбежно. Вот его мысль.
«Люди не могут на нашей несчастной планете, живя в обществе, не делиться
на два класса — богатых, которые командуют, и бедных, которые служат...
Равенство, следовательно, одновременно и вещь самая естественная и самая
химерическая».
Именно этого не мог, не хотел принять Руссо. Он выдвинул идею «естест-
венного человека», живущего на лоне природы, без частной собственности, без
развращающей роскоши, без пороков цивилизации. Его проповедь возымела
огромное общественное звучание, лучшие умы если и не соглашались с ним, то
размышляли над странными, но притягательными его идеями. О них писал
Пушкин, не разделяя их, их принял целиком Лев Толстой и всю жизнь следо-
вал им.
Об этом пойдет речь впереди.
БОМАРШЕ (1732—1799)
Много превозносили, и справедливо, силу воздействия сочинений
Вольтера, Руссо и энциклопедистов, но их мало читал народ,
между тем одно представление «Женитьбы Фигаро» и «Цирюльни-
ка» повергало правителей, магистратуру, дворянства и финансы
на суд всего населения больших и малых городов Франции.
Мельхиор Гримм
Бомарше не был профессиональным писателем. К перу он обращался пону-
ждаемый обстоятельствами, когда необходимо было апеллировать к широкой
публике («Мемуары»), или же в часы досуга, когда он мог свободно отдаваться
влечению сердца, а оно всегда тяготело к искусству.
«Когда моя голова полна дел — к черту занятия литературой, но, если дела
кончены, рука тянется к перу и бумаге и я охотно болтаю чепуху».
Жизнь Бомарше — причудливое сплетение самых удивительных событий,
приключений, взлетов, падений.
Сын часовщика, сам искусный часовщик, он делает важное усовершенство-
вание часового механизма. У него пытаются оспорить его изобретение. Юноша
отважно вступает в борьбу и блестяще доказывает свое авторство. Замечен-
ный двором, он становится модным часовщиком Парижа, но бросает ремесло,
покупает придворную должность, меняя свое имя Карон на дворянское
де Бомарше. Все как будто удается ему. Он становится влиятельным челове-
ком. Дочери короля учатся у него игре на арфе. Людовик XV не может отка-
зать себе в удовольствии послушать иногда весельчака Бомарше. Дофин (на-
следный принц) с удивлением замечает, что во всем государстве есть, пожалуй,
один человек, который не боится сказать ему правду в глаза. С ним, плебеем,
раскланиваются важные персоны в аллеях Версальского парка, но вот ссора с
76
одним из них приводит его в тюрьму. Смерть миллионера Пари Дювернэ, с
которым остались нерешенными денежные расчеты, ставит его перед угрозой
разорения. Тяжба. Суд на стороне наследников миллионера. Бомарше пишет
знаменитые «Мемуары». Вся Европа с увлечением следит за тем, как плебей
Карон-Бомарше единоборствует со всем юридическим корпусом Парижа. И
плебей побеждает, завоевав общественное мнение Франции. Ему завидуют,
бранят, опутывают его клеветой, но он несгибаем.
Иногда очертя голову он бросается в самые опасные приключения (поездка
в Испанию — поистине эпизод из рыцарского романа. См. драму Гете «Клави-
хо»). Таинственные визиты в Лондон по поручению Людовика XV и его преем-
ника Людовика XVI. Нападение разбойников в Нюрнбергском лесу, аудиенция
у австрийской императрицы Марии-Терезии и вслед за тем арест по приказу
австрийского министра Кауница и т. д.
Бомарше талантлив. Талантлив щедро, обильно, талантлив во всем. Он —
механик и изобретатель, музыкант и поэт. Он — коммерсант и дипломат.
Бомарше задумывает и осуществляет грандиозные коммерческие сделки,
ловко выходит из лабиринта интриг и хитросплетений; если надо, он покорит,
очарует нужных людей и обойдет корабль в неведомых водах.
Едва перо в его руке — и страница за страницей заполняются искрометной,
разящей, насмешливой прозой. Драматург — он дивит мир гениальными коме-
диями. Он спешит поддержать театральную реформу Дидро, музыкальную
реформу Глюка. Он торопится помочь американским повстанцам, снаряжает
корабли с оружием, ни на минуту не забывая при этом о своих личных интере-
сах. Он — буржуа. В дни революции он закупает за границей десятки тысяч
ружей, предвидя интервенцию монархических коалиций. Он издает собрание
сочинений Вольтера. Он делает все широко, с размахом, не зная, как исчерпать
бьющую через край энергию.
Бомарше — оптимист. Он жизнелюбив и энергичен. Задорная, по-мальчи-
шески озорная шутливость — отличительная черта его таланта. В царство
смеха звал его талант.
Самым крупным предшественником Бомарше в истории французской коме-
дии был Мольер. Бомарше не уступает своему великому соотечественнику в
комедийном искусстве. Но комедия его уже иная. Это и понятно. И время иное,
да и в самом театральном мире произошли изменения. Уже в начале XVIII в.
было заметно, что французская комедия уклонилась от того пути, по которому
шел создатель «Тартюфа».
Комедия Мольера философична. Она ставит на обсуждение серьезные
проблемы жизни общества, она разоблачает «пороки века». Мольер поднимает
своего зрителя на высоту государственного мышления. В первой половине
XVIII столетия Мариво, интересный и своеобразный автор, уводит комедию в
интимный мир сердца. Его мало интересуют философские или политические
вопросы. Любовь — вот главная его тема. Тема любви намечена у Мольера, но
там она на втором плане. Здесь же, у Мариво, она доминирует над всем. Пери-
петии любви, размолвки и примирения, препятствия и преодоление их —
сколько здесь возможностей для лукавого драматурга, веселого и благосклон-
ного к своим влюбленным! Мариво ушел в непритязательный театр «Итальян-
ской комедии». Там ему вольготнее работалось.
Бомарше вернулся к Мольеру, но обогащенный открытиями Мариво. В
77
театре снова зазвучала политическая и философская тема, однако комедия уже
освободилась от рационалистической строгости, прямолинейности. Под пером
Бомарше она, пожалуй, стала несколько беспорядочной, хаотичной, но вместе
с тем феерической, праздничной.
Влюбленные — на первом плане, но живут они в атмосфере политики.
Каждое слово, каждый их жест — все знак времени, и зритель, следя за ними,
сам того не сознавая, все время прикован к политическим идеалам автора, а эти
идеалы — свобода и равенство, т. е. как раз то, за что ратовали все просветите-
ли.
Еще в 1772 г. Бомарше написал комическую оперу с куплетами. Это был
первый вариант «Севильского цирюльника». Театр «Итальянской комедии»
отверг пьесу. Друзья утешали автора: «Севильский цирюльник» будет иметь
больший успех в театре Мольера, чем в театре Арлекина». Новый вариант
пьесы был поставлен 23 февраля 1775 г. на сцене «Комеди Франсез».
Сюжет комедии, ее драматический конфликт не показались французскому
зрителю новыми. Глупые старики, которых при помощи слуг ловко одурачи-
вает молодежь, насмехающаяся над ними, — давние комические герои театра.
Запутанная интрига, ошибки и узнавания, переодевания героев — все это тоже
было известно со времен Менандра и Плавта. Однако, используя традицион-
ные приемы комедии, Бомарше служит самой животрепещущей современно-
сти, он устремлен вперед, навстречу новому: новым идеям, новой философии.
Уже с первых слов актера мы в сфере просветительской мысли, которая дохо-
дит до нас легко и свободно, не утомляя назиданием.
Вот открывается занавес. Юный граф в темном плаще студента под окнами
Розины. На сцене появляется новый персонаж комедии. Это Фигаро. Граф и
слуга узнали друг друга. Фигаро повествует о злоключениях своей жизни, и
каждое искрометное слово севильского цирюльника несет политический заряд.
«Помилосердствуй, помилосердствуй, друг мой. Неужели и ты сочиняешь
стихи?» — весело спрашивает Альмавива. «В этом-то вся моя и беда, ваше
сиятельство, — отвечает Фигаро, — ...когда министр узнал, что мои сочинения
с пылу, с жару попадают в печать, он взглянул на дело серьезно и распорядился
отрешить меня от должности под тем предлогом, что любовь к изящной сло-
весности несовместима с усердием в делах службы». — «И ты не возразил ему
на это?..» — спрашивает граф. «Я был счастлив тем, что обо мне забыли: по
моему разумению, если начальник не делает нам зла, то это уже не малое бла-
го».
Как отвечает Фигаро на бранное словечко графа «сорванец»? «Ах, Боже
мой, ваше сиятельство, у бедняка не должно быть ни единого недостатка — это
общее мнение!»
«Ежели принять в рассуждение все добродетели, которых требуют от слуги,
то много ли, ваше сиятельство, найдется господ, достойных быть слугами?» —
«Неглупо сказано», — замечает граф. «Неглупо сказано», — повторяет вслух
или про себя весь зал, и завтра уже остроты Фигаро гуляют по улицам Парижа.
Бедняк в комедии противопоставлен аристократу, и симпатии автора на сто-
роне бедняка. Это противопоставление заключено в самом построении пьесы.
Главный герой не Альмавива или Розина, а Фигаро. Умнее всех в пьесе Фига-
ро. Он всех жизнедеятельнее, смелее, расторопнее.
Он лучше графа понимает характер и нравственное состояние Розины. «Ох,
78
уж эти женщины! Если вам нужно, чтобы самая из них простодушная научи-
лась лукавить, — заприте ее». И этой репликой он объясняет зрителю поведе-
ние девушки.
Он человечен. «Фигаро — малый славный, он несколько раз выражал мне
сочувствие», — говорит о нем Розина. Фигаро проницателен. Он знает людей,
он прекрасно сумел охарактеризовать и Бартоло, и его сообщника Базиля. Он
нисколько не обольщается дружеским расположением к нему графа. «Выгода
заставила нас перешагнуть разделяющую нас границу». Фигаро — плут. Он
сознается, что «брил всех подряд», — иначе говоря, лукавил со всеми, когда
ему было нужно. Но убеждение и совесть для него отнюдь не пустые слова; он
говорит, что помогает графу ради выгоды, однако это верно лишь отчасти:
вряд ли он стал бы помогать Бартоло, если бы тот даже предложил ему больше
выгод; справедливость на стороне влюбленных, и потому Фигаро сочувствует
последним.
Он весь — активность и энергия: «Я войду в этот дом и с помощью моего
искусства одним взмахом волшебной палочки усыплю бдительность, пробужу
любовь, собью с толку ревность, вверх дном переверну все козни и опрокину
все преграды». Словом, Фигаро вызывает к себе самые искренние наши симпа-
тии, мы все на его стороне, его ум и энергия, подвижность нас покоряют.
Таким предстал перед зрителем предреволюционной Франции представи-
тель третьего сословия. Фигаро, его характер, его смелость и оптимизм — все
знак времени. Он человек предреволюционной поры. Недаром Бартоло
угрюмо заявляет: «Кругом все народ предприимчивый, дерзкий». Фигаро не
один, за ним тысячи других, которые перестали «трепетать». Замысловатая
реплика Фигаро: «Трепетать — это последнее дело. Когда поддаешься страху
перед злом, то уже начинаешь чувствовать зло страха» — звучала чрезвычайно
многозначительно в те накаленные годы. До революции оставалось 14 лет.
В комедии нет ни одного слова, брошенного на ветер. Все весело и вместе
с тем серьезно, остроумно и глубокомысленно. В непритязательной словесной
пикировке — важные политические, философские или эстетические темы дня.
Через 9 лет после «Севильского цирюльника» состоялась премьера комедии
«Женитьба Фигаро» (27 апреля 1784 г.). За это время французское общество
стояло уже на пороге революции. Наполеон заявит потом, что «Женитьба
Фигаро» — это уже революция в действии.
Успех комедии был необычайный. Зрители разбились на два лагеря: блю-
стители старого порядка приходили в негодование, обвиняли автора в безнрав-
ственности, утверждали (и не без основания), что он ниспровергает устои;
демократический зритель с восторгом рукоплескал политическим выпадам
Фигаро, от души смеялся над комическими фигурами придурковатого судьи
Бридуазона, секретаря суда взяточника Дубльмена, Базиля, Бартоло и самого
Альмавивы, пытавшегося безуспешно тягаться умом с Фигаро.
Не везде пьесе удавалось пробиться на сцену.
В Австрии она была запрещена, и Моцарту пришлось отказаться от многих
политически острых моментов ради того, чтобы разрешили его оперу к поста-
новке (премьера ее состоялась в Вене 1 мая 1786 г.).
79
В предисловии к пьесе Бомарше сообщает о своих взглядах на комедию:
«Без острых положений в драматическом действии, положений, беспре-
станно рождаемых социальной рознью, нельзя достигнуть на сцене ни высокой
патетики, ни глубокой нравоучительности, ни истинного и благодетельного
комизма».
Это уже целая программа нового искусства. Живописать борьбу сословий,
черпать в ней драматические конфликты — такова задача сцены. Более того,
вне сферы этой борьбы нет подлинного искусства. Политический характер
пьесы Бомарше согласуется с его эстетической системой.
«Женитьба Фигаро» значительнее, серьезнее, смелее ставит социальные
проблемы, затронутые еще в «Севильском цирюльнике». «Театр — это испо-
лин, который смертельно ранит тех, на кого направляет свои удары», — пишет
Бомарше в предисловии к пьесе.
Вельможе Альмавиве противопоставлен простолюдин Фигаро, «наиболее
смышленый человек нации». Однако здесь не простое противопоставление,
как в «Севильском цирюльнике», где плебей своим умом и жизнедеятельно-
стью лишь выгодно отличался от аристократа, здесь плебей и аристократ —
враги. Между ними ожесточенная война. В их противопоставлении, в их борь-
бе — сценический нерв пьесы. Фигаро гневен, Фигаро готовится к бою. Но это
не будет открытый бой: ведь силы неравны, в руках Альмавивы — власть.
Фигаро прошел суровую школу жизни и рано познал нравственные законы
общества, разделенного на господ и рабов:
«Каждому хочется добежать первому, все теснятся, толкаются, оттирают,
опрокидывают друг друга, — кто половчей, тот свое возьмет, остальных пере-
давят».
Перед нами не просто весельчак, неунывающий мастер хитрой интриги, но
человек, наделенный огромными силами ума и характера. На что тратятся эти
силы? «Ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осве-
домленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для
управления Испанией», — говорит он. Жизнь Фигаро — постоянная, незатиха-
ющая, напряженная и ожесточенная борьба простолюдина за свое существова-
ние. Ни минуты покоя, ни дня отдыха — всегда и везде дамоклов меч нужды,
угроза остаться на улице без крова. Он перепробовал все профессии: был
парикмахером и драматургом, занимался медициной и политической экономи-
ей, сталкивался с судебными властями. За критические выступления в печати
подвергался правительственным репрессиям, сидел в тюрьме. Он «все видел,
всем занимался, все испытал». И этот тернистый путь Фигаро проходит, не
теряя ни своей жизнерадостности, ни оптимизма.
* * *
О политике ограничений свободы мысли, свободы печати, которую прово-
дило королевское правительство, Фигаро бросает в зрительный зал крылатую
фразу: «Где нет свободы критики, там никакая похвала не может быть прият-
на».
Людовик XVI, вступив на престол, порадовал французов широким либера-
лизмом своих планов; он вручил одному из передовых мыслителей времени,
Тюрго, министерский портфель, он говорил, правда довольно туманно, о
80
каких-то реформах. Французы ликовали, они встречали его карету на улицах
Парижа кликами восторга. Но иллюзии быстро рассеялись. Тюрго получил
отставку. Ни одна реформа не была проведена, и французы увидели в своем
короле жалкую личность, игрушку в руках ненавистной «австриячки» Марии-
Антуанетты.
Бомарше хорошо знал придворную жизнь. И то, что знал драматург, ино-
сказательно, с веселой шуткой поведал народу его герой, о том, как делается
«политика», показал ее закулисную сторону: «...плодить наушников и при-
кармливать изменников, растапливать сургучные печати, перехватывать
письма и стараться важностью цели оправдать убожество средств».
Политический накал пьесы достигает своей высшей точки в монологе
Фигаро (действие V, сцена III). Людовик XVI, прослушав его в чтении госпо-
жи Кампан (эта придворная дама читала рукопись пьесы королевской семье),
воскликнул: «Нужно разрушить Бастилию, чтобы допустить это на
сцену!»
«Знатное происхождение, состояние, положение в свете, видные должно-
сти — от всего этого не мудрено возгордиться! А много ли вы приложили уси-
лия для того, чтобы достигнуть подобного благополучия? Вы дали себе труд
родиться, только и всего».
Это был прямой выпад против всего дворянства. Дантон в годы революции
заявил: «Фигаро убил аристократию».
Итак: «Главный интерес этой пьесы политический: она была злою сатирой
на аристократию XVIII века» (Белинский). Современники Бомарше искали в
ней «то, что хотели осуществить в ходе революции: идеи равенства, свободы и
все ребяческие химеры санкюлотского бреда», — писал анонимный автор кни-
жечки о Бомарше, вышедшей в свет вскоре после смерти драматурга (Частная
жизнь Бомарше. — Париж, 1802).
Нигилистически окрашенные словечки: «ребяческие химеры», «санкюлот-
ский бред» — так стали оценивать главный нерв пьесы французы, очнувшиеся
после чада революционных смятений.
* * *
Однако если политическая тема — главная тема комедии, то она не един-
ственная. Вторая, органически сливающаяся с первой, придающая всей пьесе
особый колорит, — это тема любви. У всех героев комедии на устах слова люб-
ви. Любят Фигаро и Сюзанна, любят граф и его юная супруга, влюблен даже
Базиль, любовь как что-то прекрасное, но и загадочное предстает детскому
воображению Керубино и Фаншетты. Жизнерадостный Бомарше изобразил
чувство любви с изяществом и оптимизмом. Все искрится радостью. Керубино
придает всему многоголосому хору любви, который мы слышим в пьесе, что-то
детски чистое, возвышенное, эстетически просветленное.
Хорошо пишет об этом Герцен, вспоминая свою юность:
«Я был влюблен в Херубима и в графиню, и сверх того, я сам был Херубим;
у меня замирало сердце при чтении, и, не давая себе никакого отчета, я чув-
ствовал какое-то новое ощущение. Как упоительна казалась мне сцена, где
пажа одевают в женское платье, мне страшно хотелось спрятать на груди чью-
нибудь ленту и тайком целовать ее».
81
У Пушкина есть прелестное стихотворение, навеянное образом Керубино,
«Паж, или Пятнадцатый год»:
Хотите знать мою богиню,
Мою севильскую графиню?..
Нет! ни за что не назову!
И мальчишеский задор, и первые чувства, и детская восторженность пуш-
кинского пажа так сходны с чувствами и восторгами Керубино.
Комедии Бомарше веселы, пленительны своей умной веселостью. Драма-
тург творит в духе «старого французского гения». Лукавая улыбка, острое сло-
во, бойкая песенка — давние друзья французов... «...Я попытался в «Севиль-
ском цирюльнике» вернуть театру его былую неподдельную веселость, сочетав
ее с легкостью нашей современной шутки», — писал он.
* * *
Мы можем на минутку заглянуть в творческую лабораторию драматурга.
Он сам вводит нас в нее. Откроем первую страницу «Севильского цирюльни-
ка». Фигаро — поэт. Он пишет стихи, читает их вслух, перечеркивает, выносит
им приговор, решает, как нужно сделать лучше. «Э, нет, это плоско. Не то...
Здесь требуется противопоставление, антитеза». Противопоставление! Анти-
теза! Вот ключ к стилю Бомарше. Фраза должна будоражить ум читателя.
Плавное течение речи баюкает ухо, оно способно усыпить. Жизнь — это борь-
ба. Мышление есть тоже борьба, борьба аргументов «за» и «против». Процесс
мышления как бы повторяет процесс жизни, основанный на постоянной борь-
бе.
По принципу антитезы построены все диалоги. Мы постоянно в гуще сло-
весной перепалки. Собеседники будто сражаются на шпагах — один наносит
удары, другой парирует, и наоборот.
Язык Бомарше энергичен и выразителен чрезвычайно.
В годы революции он поставил в театре последнюю часть трилогии о Фига-
ро, «Преступную мать» (26 июня 1792 г.).
Фигаро здесь не смеется, как прежде. Он удручен, его гнетут заботы. На его
глазах рушится семейное счастье графа, а он теперь так ему предан. Куда
делось политическое бунтарство, чувство сословной неприязни плебея к ари-
стократу? Ничего этого уже нет. Фигаро преобразился. И весь строй пьесы, ее
внутреннее содержание, ее общий колорит совсем не те, что были в первых
пьесах трилогии.
Бомарше объяснял свое новое мироощущение старостью: «С возрастом
расположение духа становится все более мрачным, характер портится. Несмо-
тря на все усилия, я уже не смеюсь».
Однако здесь были другие причины, более важные, о чем он умалчивал: он
был встревожен размахом революции. Его пугала гигантская ломка, которая
происходила у него на глазах. Он хотел бы теперь остановить революцию. Раз
сословные привилегии упразднены, гражданские свободы установлены, чего
же больше? Довольно!
82
«ПРОРОЧЕСТВО КАЗОТА»
На буйном пиршестве задумчив он сидел
Один, покинутый безумными друзьями,
И в даль грядущую, закрытую пред нами,
Духовный взор его смотрел.
И помню я, исполнены печали
Средь звона чаш, и криков, и речей,
И песен праздничных, и хохота гостей
Его слова пророчески звучали.
Он говорил: ликуйте, о друзья,
Что вам судьба дряхлеющего мира?..
Над вашей головой колеблется секира,
Но что ж!., из вас один ее увижу я...
М. Ю. Лермонтов
В 1806 г. после смерти Лагарпа были опубликованы некоторые бумаги из
его архива. Лагарп, один из деятелей французского Просвещения, автор
известного учебника для учащихся «Лицей», по которому, кстати сказать,
учился и Пушкин в Царскосельском лицее.
Европейская читающая публика была потрясена запиской Лагарпа, которая
вошла в историю под наименованием «Пророчество Казота».
Напомню, что в XVIII столетии наряду с материалистической, строго
реалистической философией возникли и различные теосовские, мистические
течения. В одном таком тайном обществе был и названный Казот, автор
романа «Влюбленный дьявол», полного мистики и таинственных превращений
и пользовавшегося тогда большой известностью. Иллюминаты — так назы-
вали себя члены этой секты (буквально «озаренные»).
Судьба Казота была трагична. В годы революции он как монархист (он
пытался даже устроить побег короля Людовика XVI) был арестован и 24 сентя-
бря 1792 г. казнен.
Лагарп, видимо, уже после трагических событий революции, вспомнил об
одном собрании аристократической знати накануне революции, с восторгом
предававшейся антиправительственным разговорам, «не ведая, к чему судьбой
обречена» (Пушкин).
Лермонтова привлекла к себе как таинственная, загадочная сторона «про-
рочества», так и ее трагедийная часть (вспомните его рассказ «Фаталист»).
Однако обратимся к самому «Пророчеству». Оно немногословно и в контек-
сте моей книги очень важно, потому, не мудрствуя лукаво, приведу его полно-
стью.
«Мне кажется, это было вчера, а между тем случилось это еще в начале
1788 года1. Мы сидели за столом у одного вельможи, нашего товарища по Ака-
демии, весьма умного человека, у которого собралось в тот день многочислен-
То есть за год до революции, начало которой датируется 14 июля 1789 г., со дня взятия Басти-
лии. Король Людовик XVI, разбуженный ночью, воскликнул: «Так это же бунт!» — «Нет,
государь, — ответили ему, — это революция».
83
ное общество. Среди нас были люди разных чинов и званий — придворные,
судейские, литераторы, академики и т. п. Мы превосходно пообедали; мальва-
зия и капские вина постепенно развязали все языки, и к десерту наша веселая
застольная беседа приняла такой вольный характер, что временами начинала
переходить границы благовоспитанности. В ту пору в свете ради острого
словца позволяли себе говорить все. Шамфор1 прочитал нам свои нечестивые,
малопристойные анекдоты, и дамы слушали их безо всякого смущения, даже не
считая нужным закрыться веером. Один привел строфу из Вольтеровой «Дев-
ственницы», другой — философские стихи Дидро:
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.
И это встречало шумное одобрение. Третий встал и, подняв стакан, громо-
гласно заявил: «Да, да, господа, я так же твердо убежден в том, что Бога нет,
как и в том, что Гомер был Глупцом». И в самом деле был убежден в этом. Тут
все принялись толковать о Боге и Гомере; впрочем, нашлись среди присутству-
ющих и такие, которые сказали доброе слово о том и другом. Постепенно
беседа приняла более серьезный характер. Кто-то выразил восхищение той
революцией, которую произвел в умах Вольтер, и все согласились, что это пре-
жде всего и делает его достойным своей славы. Он явил собой пример своему
веку, заставив читать себя в «лакейской, равно как и в гостиной». Один из
гостей, покатываясь со смеху, рассказал о своем парикмахере, который, пудря
его парик, заявил: «Я, видите ли, сударь, всего лишь жалкий недоучка, однако
верю в Бога не более чем другие». И все сошлись на том, что суеверию и фана-
тизму неизбежно придет конец, что место их заступит философия, что револю-
ция не за горами, и уже принялись высчитывать, как скоро она наступит и кому
из присутствующих доведется увидеть царство разума собственными глазами.
Люди более преклонных лет сетовали, что им не дожить до этого, молодые
радовались тому, что у них на это больше надежд2. А больше всего превозноси-
лась Академия за то, что она подготовила великое дело освобождения умов,
являясь средоточием свободомыслия и вдохновительницей его.
Один только гость не разделял пламенных его восторгов и даже проронил
несколько насмешливых слов по поводу горячности наших речей... Это был
Казот, человек весьма обходительный, но слывший чудаком, который на свою
беду пристрастился к бредням иллюминаторов. Он прославил свое имя впо-
следствии стойким и достойным поведением.
— Можете радоваться, господа, — сказал он, наконец, как нельзя более
серьезным тоном, — вы все увидите ее, эту великую и прекрасную революцию,
о которой так мечтаете. Я ведь немного предсказатель, как вы, вероятно, слы-
шали, и вот я вам говорю: вы увидите ее.
Мы ответили ему задорным припевом из известной тогда песенки:
Чтоб это знать, чтоб это знать,
Пророком быть не надо!
Острослов и красавец, автор блестящих афоризмов, выдержанных в духе просветительской
философии, автор книги «Максимы и мысли. Характеры и анекдоты».
Как люди подвержены иллюзиям! Это было, видимо, всегда. Все ждут от будущего великих
свершений, великих преобразований, не подозревая коварства грядущих дней. — С. А.
84
— Пусть так, — отвечал он, — но все же, может быть, и надо быть им,
чтобы сказать вам то, что вы сейчас услышите. Знаете ли вы, что произойдет
после революции со всеми вами, здесь сидящими, и будет непосредственным ее
итогом, логическим следствием, естественным выводом?
— Гм, любопытно! — произнес Кондорсе со своим обычным глуповатым и
недобрым смешком. — Почему бы философу не побеседовать с прорицателем?
— Вы, господин Кондорсе, кончите свою жизнь на каменном полу темни-
цы. Вы умрете от яда, который, как и многие в эти счастливые времена, выну-
ждены будете постоянно носить с собой и который примете, дабы избежать
руки палача1.
В первую минуту мы все онемели от изумления, но тотчас же вспомнили,
что добрейший Казот славится своими странными выходками, и стали смеяться
еще пуще.
— Господин Казот, то, что вы нам здесь рассказываете, право же куда
менее забавно, чем ваш «Влюбленный дьявол». Но какой дьявол, спрашивает-
ся, мог подсказать вам подобную чепуху? Темница, яд, палач... Что общего
может это иметь с философией, с царством разума?..
— Об этом я и говорю. Все это случится с вами именно в царстве разума и
1 Кондорсе — крупнейший деятель французского Просвещения. Восторженно веря в прогресс
и в человеческий разум, он написал книгу «Эскиз исторической картины прогресса челове-
ческого разума». В дни революции одно время скрывался у друзей, но потом, боясь их подве-
сти, покинул убежище, был арестован и покончил с собой в тюрьме.
Королева Франции Мария-Антуанетта. Такой
ее увидел и зарисовал художник Давид из окна
дома на улице Сент-Оноре в Париже, когда ее
везли на казнь 16 октября 1793 года, —унижен-
ной и гордой.
85
во имя философии, человечности и свобо-
ды. И это действительно будет царство
разума, ибо разуму в то время будет даже
воздвигнут храм, во всей Франции не бу-
дет никаких других храмов, кроме храмов
разума1.
— Ну, — сказал Шамфор с язвительной
улыбкой, — уж вам-то никогда не бывать
жрецом подобного храма.
— Надеюсь. Но вот вы, господин Шам-
фор, вполне этого достойны, вы им будете
и, будучи им, бритвой перережете себе
жилы в двадцати двух местах, но умрете вы
только несколько месяцев спустя.
Все молча переглянулись. Затем снова
раздался смех.
Людовик XVI во фригийском колпаке. _ Вы ГОСПОДИН Николаи, КОНЧИТе
Такой носили якобинцы в дни револю- свою ЖИзнь на эшафоте; вы, господин де
ции. На короле он выглядел карикатур- Байи> _ на эшафоте; ВЫ, ГОСПОДИН де
но- Мальзерб, — на эшафоте... Ведь я уже ска-
зал: то будет царство разума. И люди, кото-
рые поступят с вами так, будут фило-
софы, и они будут произносить те самые слова, которые произносите вы вот
уже добрый час. И они будут повторять те же мысли, они, как и вы, будут при-
водить стихи из «Девственницы», из Дидро... Не пройдет и шести лет и все, что
я сказал, свершится.
— Да, уж чудеса, нечего сказать (это заговорил я). Ну а мне, господин
Казот, вы ничего не предскажете? Какое чудо произойдет со мной?
— С вами? С вами действительно произойдет чудо. Вы будете тогда веру-
ющим христианином.
В ответ раздались громкие восклицания.
— Ну, — воскликнул Шамфор, — теперь я спокоен. Если нам суждено
погибнуть лишь после того, как Лагарп уверует в Бога, мы можем считать себя
бессмертными.
— А вот мы, — сказала герцогиня де Грамон, — мы, женщины, счастливее
вас, к революции мы не причастны, это не наше дело; то есть немножко, коне-
чно, и мы причастны, но только я хочу сказать, что так уж повелось, мы ведь
ни за что не отвечаем, потому что наш пол...
— Ваш пол, сударыня, не может на этот раз служить вам защитой. И как
бы мало ни были вы причастны ко всему этому, вас постигнет та же участь, что
и мужчин...
Робеспьер говорил, что «атеизм аристократичен», но вместо христианской религии предло-
жил религию высшего разума, этому высшему разуму были посвящены новые алтари. Напо-
леон, придя к власти, заключил конкордат с римским папой и восстановил католическую цер-
ковь во Франции.
86
— Да послушайте, господин Казот, что это вы такое проповедуете, что же
это будет — конец света, что ли?
— Этого я не знаю. Знаю одно: вас, герцогиня, со связанными за спиной
руками, повезут на эшафот в простой тюремной повозке, так же как и других
дам вашего круга.
— Ну уж надеюсь, ради такого торжественного случая у меня по крайней
мере будет карета, обитая черным в знак траура...
— Нет, сударыня, и более высокопоставленные дамы поедут в простой
тюремной повозке, с руками, связанными за спиной...
— Более высокопоставленные?., уж не принцессы ли крови?
— И еще более высокопоставленные...
Это было уже слишком. Среди гостей произошло замешательство, лицо
хозяина помрачнело. Госпожа де Грамон, желая рассеять тягостное впечатле-
ние, не стала продолжать своих расспросов, а только шутливо заметила, впол-
голоса обращаясь к сидящим рядом:
— Того и гляди, он не оставит мне даже духовника...
— Вы правы, сударыня, у вас не будет духовника, ни у вас, ни у других.
— Последний казненный, которому в виде величайшей милости даровано
будет право исповеди...
Он остановился.
— Ну же, договаривайте, кто же это будет счастливый смертный, который
будет пользоваться подобной прерогативой?
— И она будет последней в его жизни. Это будет король Франции.
Хозяин дома резко встал, за ним поднялись с места все остальные. Он подо-
шел к Казоту и взволнованно сказал ему:
— Дорогой господин Казот, довольно, прошу вас. Вы слишком далеко
зашли в этой мрачной шутке и рискуете поставить в весьма неприятное поло-
жение и общество, в котором находитесь, и самого себя.
Казот ничего не ответил и, в свою очередь, поднялся, чтобы уйти, когда его
остановила госпожа де Грамон, которой, как ей это было свойственно, хоте-
лось обратить все в шутку и вернуть всем хорошее настроение.
— Господин пророк, — сказала она, — вы вот тут нам всем предсказывали
будущее, что же вы не сказали ничего о себе? А что ждет вас?
Некоторое время он молчал, потупив глаза.
— Сударыня, — произнес он наконец, — приходилось ли вам когда-нибудь
читать описание осады Иерусалима у Иосифа Флавия?
— Кто ж этого не читал? Но все равно, расскажите, я уже плохо помню...
— Во время осады, сударыня, свидетельствует Иосиф Флавий, на крепо-
стной стене города шесть дней кряду появлялся некий человек, который, мед-
ленно обходя крепостную стену, восклицал громким, протяжным и скорбным
голосом: «Горе Сиону! Горе Сиону!»
«Горе и мне», — возгласил он на седьмой день, и в ту же минуту тяжелый
камень, пущенный из вражеской катапульты, настиг его и убил наповал.
Сказав это, Казот учтиво поклонился и вышел из комнаты».
Так кончается рукопись Лагарпа. Все, что предсказывал Казот, сбылось с
ужасающей жестокостью. Таковы, видно, итоги всех революций. Однако про-
ведем перекличку веков. Казот вспоминает здесь «Иудейскую войну» Иосифа
Флавия, жившего в I в. н. э., очевидца и историка событий.
87
Вот что он писал:
«Некий Йехошуа, сын Ханана, простой деревенский житель, за четыре года
до войны, когда в Иерусалиме царили мир и благополучие, явился на праздник,
в который все евреи строят для Бога кущи, и посреди храма вдруг начал выкри-
кивать: «Глас от востока, глас от запада, глас от четырех ветров, глас над
Иерусалимом и над Храмом, глас над женихами и над невестами, глас надо всем
народом!» День и ночь он ходил по улицам, повторяя этот крик. Несколько
знатных горожан, разгневавшись на зловещие слова, схватили его и жестоко
избили. Он же не издал ни звука, даже когда был один на один со своими истя-
зателями, но продолжал выкрикивать те же самые слова. Тогда власти сочли,
что, как оно и было на самом деле, этот человек движим некоей божественной
силой, и привели его к римскому прокуратору. Но там, будучи истерзан
плетьми до костей, он не проронил ни просьбы о пощаде, ни слезы, но лишь
как нельзя более жалостным голосом откликался на каждый удар: «Горе тебе,
Иерусалим!» И когда Альбин, бывший в то время прокуратором, допрашивал
его, кто он такой и откуда и почему произносит такие слова, он не давал ника-
кого ответа и лишь продолжал оплакивать город. В конце концов Альбин при-
знал его одержимым и отпустил восвояси. За все время до начала войны он не
приблизился ни к кому из жителей города и никто не видел, чтобы он говорил,
но изо дня в день, как молитву, он твердил свой плач: «Горе тебе, Иерусалим!»
Никогда он не проклинал тех, кто его бил, а это случалось каждый день,
никогда не благословлял тех, кто давал ему есть, и единственным его ответом
всякому было все то же зловещее предсказание. Чаще же всего он издавал этот
вопль во время праздников. И хотя он произносил эти слова в течение семи лет
и пяти месяцев, голос его не ослабел и силы не иссякли. Он умолк лишь во
время осады, после того как собственными глазами увидел свершение своих
пророчеств. Именно тогда, когда он по своему обыкновению обходил стену с
пронзительным криком «Горе городу, горе народу, горе Храму!» и в конце
добавил «Горе и мне!», посланный из камнемета камень ударил его и убил на
месте. Так, все с теми же прорицаниями на устах, он испустил дух».
В сущности, все достаточно проницательные люди во Франции XVIII в.
«предвкушали» события революции, мало представляя себе их жестокую
реальность. За несколько десятилетий до нее герцог Сен-Симон в своих знаме-
нитых «Мемуарах» наметил политические тенденции развития общества. Ари-
стократ, вельможа, он прозревал в тумане грядущего великие беды: «В ту эпо-
ху, когда я писал, особенно в конце ее, все клонилось к упадку, готовилось
превратиться в хаос». Его сословные братья, увлеченные Вольтером (потом
они будут его проклинать, приписывая ему ответственность за революцию),
мечтали о том, чтобы дожить до нее. (Очень, должно быть, любопытное собы-
тие!) И Вольтер, властитель умов, с восторгом предрекал ее пришествие:
«Все что происходит вокруг меня, бросает зерна революции, которая насту-
пит неминуемо; хотя я сам едва ли буду ее свидетелем. Французы почти всегда
поздно достигают своей цели, но, в конце концов, они все же достигают ее.
Свет распространяется все больше и больше, вспышка произойдет при первом
случае, и тогда поднимется страшная сумятица. Счастлив тот, кто молод: он
еще увидит прекрасные вещи».
88
Там было все: предательство•, арест,
Нож гильотины, гибель королевства,
И козьей ножкой затянулся бес:
Ему иначе жить неинтересно.
Маргарита Н о г т е в а
Маркс установил, что революции происходят по строго определенным
политическим, социальным, а больше экономическим причинам; наша
поэтесса с женской логикой полагает, что они случаются по наущенью дьяво-
ла, втайне она сказала бы — по извечной воинственности мужчин.
Наполеон пассивно наблюдает штурм королевского дворца Тюилъри в дни
революции. Увидев выводимого Людовика XVI, воскликнул: «Какое ничто-
жество!»
Так или иначе, но революция во Франции свершилась. Она готовилась дав-
но, пожалуй, весь восемнадцатый век. Уже тогда, когда партер аплодировал в
1718 году вольтеровскому «Эдипу», когда французы вырывали из рук книго-
торговцев в 1721 году «Персидские письма» Монтескье.
В замке Ла-Бред, недалеко от города Бордо кропотливо и усидчиво Монте-
скье разрабатывал законодательную систему буржуазного строя, грядущего на
смену сословно-монархического государства. «Энциклопедия», сплотившая
революционные силы Франции, разрушала феодализм в человеческих умах —
взгляды, привычки, укоренившиеся предрассудки, философию, мораль. Все
стороны жизни дворянской Франции были подвергнуты анализу, критике и
осуждению.
Вольтер, неутомимый и насмешливый, внушал веру в будущее. Неотрази-
мый и увлекательный автор, он был всесилен. Его шутка облетала мир, легко-
крылая и разящая. И в его смехе таилась революция. Европейская аристокра-
тия вкушала мед его речей, не ощущая в них привкуса яда.
К Парижу, к Франции было приковано всеобщее внимание. Там происхо-
дили события всемирно-исторического значения, и сбывались «пророчества»
Казота.
Заканчивая обзор литературы XVIII в., нельзя не обозначить два художе-
ственных направления: которому отдали дань почти все мастера этого века, —
это Рококо и Сентиментализм.
РОКОКО
Признаюсь в рококо моего вкуса.
А. С. Пушкин
Просветительская культура, включая философию, литературу, искусство,
составляла главную часть всей культуры XVIII столетия. Люди пера (Вольтер,
Руссо, Дидро и др.), люди резца и кисти (Гудон, Грёз, Шарден), музыканты (Ра-
мо, Глюк) составляли основную культурную силу страны, устремленную к про-
грессу, насыщенную общественными просветительскими идеями. Однако,
кроме этой силы, действовали другие, а именно — писатели, поэты, художни-
ки, создававшие так называемое искусство рококо (от фр. rocaille — ракушка).
Уже в XIX в. это слово применялось в качестве синонима всего устарелого и
старомодного.
Словечко пошло от моды, возникшей во времена Людовика XV, орнамен-
тировать предметы убранства помещений и сервировки затейливыми узорами,
напоминающими завитушки раковин. Легкость, зыбкость, изящество, прису-
щие этим формам, пришли на смену монументальности и пышности класси-
цизма и барокко. Искусство как бы отказывалось от всего серьезного и увле-
ченно устремлялось к безделушкам. Живописцы полюбили нежные тона.
Бледно-розовые и бледно-голубые краски легли на их полотна. Люди обрели
порхающие жесты и движения. Поэты начали орнаментировать изящными
поэтическими завитушками свои стихи. Любовь стала легким развлечением,
мимолетным капризом (супружеская любовь, как тяжеловесная и обязатель-
90
ная, конечно, отвергалась). Колоритно выразил нравственную программу
рококо поэт Парни:
Давайте петь и веселиться,
Давайте жизнию играть,
Пусть чернь слепая суетится:
Не нам безумной подражать1.
Само собой разумеется, что нравы и вкусы рококо связаны были с господству-
ющим классом, дворянством. Легкие, фривольные стихи, эротические поэмы,
картины Буше, затейливые узоры архитектурных украшений тешили сердца
аристократов. Просветители отвергали такое искусство, как искусство развле-
кательное и даже более того — как искусство порока. Дидро в «Салонах»
сурово осуждал модного в те дни художника Буше, писавшего эротические
картины («Туалет Венеры», «Купанье Дианы» и др.). Руссо восклицал в своем
знаменитом письме к д'Аламберу: «То, что дурно в морали, дурно и в поли-
тике».
Однако сами просветители не избежали влияния искусства рококо. Фри-
вольность и эротизм — частые гости в их сочинениях. Не без модного (в стиле
рококо) эротизма — знаменитая поэма Вольтера «Орлеанская девственница»,
не без того же эротизма — роман Дидро «Нескромные сокровища».
Мотивы гедонизма и религиозного свободомыслия поэтов и писателей
рококо в какой-то степени роднили их с просветителями, но и только. Искус-
ство рококо обрело в XVIII столетии международное распространение в
поэзии, живописи, архитектуре, музыке. Грациозный, изящный, шаловливый
Моцарт — гениальное дитя рококо.
Изящная, шаловливая поэма Пушкина «Гавриилиада» навеяна легкокрылой
музой рококо.
СЕНТИМЕНТАЛИЗМ
... сентиментальность именно характеризуется избытком чувства
и слов при совершенном недостатке деятельной любви.
Н. Добролюбов
Суждения Добролюбова о сентиментальности весьма примечательны:
Белинский, Добролюбов, Чернышевский не терпели пассивного сочувствия к
угнетенным, как это было модно в их времена. Они призывали к действию.
Белинский резко осудил роман английского писателя Голдсмита «Векфильд-
ский священник» за то, что изображенный в нем гонимый, несправедливо обес-
чещенный человек проповедует всепрощение. «Люди, воспитанные в школе
векфильдского священника, принадлежат или к ничтожным существам, или к
существам, вредным своим учением».
Перевод А. С. Пушкина. Русский поэт писал в «Евгении Онегине»: «Я знаю: нежного Парни
перо не в моде в наши дни».
91
В наш суровый, кровавый век чувстви-
тельность приобрела, прямо надо сказать,
характер какого-то несносного, чуть ли не
позорного качества. Назовите писателя или
поэта сентиментальным — ведь обидится
самым серьезным образом.
Однако сентиментальность в XVIII в.
поощрялась общественным мнением, счи-
талась признаком доброго сердца и благо-
родства. Такое значение слову придали
писатели-сентименталисты и в Англии,
родине сентиментализма, и во Франции, и в
Германии, и в России. Сентиментализм
вылился в мощное литературное движение,
охватившее тогда все европейские страны.
Название ему дал Лоренс Стерн своим
романом «Сентиментальное путешествие».
К сентиментализму приложили свое
Бедная Лиза. Картина Ореста Кипрен- перо всемирно известные писатели: Гете И
ского. Очарование русского сентимен- Шиллер, Жан-Жак РусСО, Дени Дидро, у
тализма. нас — Карамзин, Жуковский, в живописи
Шарден, Грёз, у нас — Венецианов.
Однако в истории сентиментализма пер-
вым, пожалуй, нужно назвать английского писателя Ричардсона, того самого,
романами которого зачитывались сверстницы матери Татьяны Лариной, да и
сама Татьяна:
Ей рано нравились романы,
Они ей заменяли все,
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона и Руссо.
Ныне этот писатель забыт. Его имя знают разве что студенты филологических
факультетов, и то потому, что о нем говорят седовласые профессора.
Ричардсон возвел чувствительность в эстетический принцип. Он открыл
изумленному взору читателей-современников, что основным содержанием
повествования могут быть не события, как утверждала стародавняя традиция,
а чувства и перипетии чувств. Писатели и поэты, увлеченные успехом Ричард-
сона и требованием читателей, ощутивших сладость умилительных слез,
пошли по его стопам.
Сентиментализм приобрел социальную окраску, в нем зазвучали политичес-
кие нотки. Сострадание не вообще к человеку, а к бедняку. И нравственный
принцип сострадания стал принципом политическим. Бедняк, социально уни-
женный и обездоленный человек, стал предметом общественного внимания.
То презрение, которое раньше окружало его1, сменилось чувством жалости к
нему, и этот переворот в нравственном сознании общества сделала литература.
1 Вспомним, с каким презрением относился к беднякам Кромвель.
92
Стерн придал сентиментализму философское обоснование.
Для него чувствительность превыше всего, он называл ее «великим Сенсо-
риумом мира». «Милая чувствительность! Неисчерпаемый источник всего дра-
гоценного в наших радостях и всего возвышенного в наших горестях! Ты при-
ковываешь своего мученика к соломенному ложу — и ты возносишь его на
небеса — вечный родник наших чувств! — Я теперь иду по следам твоим — ты
и есть то «божество», что движется во мне».
У других поэтов и писателей-сентименталистов мы найдем те же мотивы
печали об утраченной патриархальной старине, идеализацию деревни, состра-
дание к бедняку, меланхолию как общее настроение, поэтизацию чувствитель-
ности.
Оливер Голдсмит (1728—1774) в поэме «Покинутая деревня» в горе воскли-
цал:
Где игры поселян, весельем оживленных?
Где пышность и краса полей одушевленных?
...Все тихо! Все мертво! Замолкли песней клики.
(Перевод В. А. Жуковского)
Эти мотивы найдем мы в поэмах Джеймса Томсона (1700—1748) «Времена
года» и «Замок безделья».
В легкой дымке меланхолии рисуются мирные пейзажи. Природа предстает
во всей своей красе во все времена года. На лоне природы живут мирные незло-
бивые люди, крестьяне. Они мирно трудятся и счастливы. Это идиллическое
счастье, как греза поэта, зовет читателя в уединение, подальше от хитроспле-
тений города, от «грязной жизненной борьбы».
Другой поэт, уже престарелый Эдуард Юнг (1683—1765), отказавшись от
рационалистического классицизма, увлечения своей юности, создает огром-
ную, в 10 тысяч стихов поэму «Жалоба, или Ночные думы о жизни, смерти
и бессмертии». Это философское сочинение, о чем говорит само его назва-
ние.
В той же дымке меланхолии предстают читателю картины ночи, кладби-
щенские видения и размышления автора о тщете и ничтожестве человеческих
дерзаний, человеческой мысли. Юнг решительно отвергает просветительский
«разум», клянет Пьера Бейля и Вольтера и противопоставляет им апостола
Павла1.
Знаменитая «Элегия, написанная на сельском кладбище» (1751), принадле-
жащая перу Томаса Грея (1716—1771), выдержана в тех же кладбищенских
мотивах, излюбленных в поэзии сентименталистов. Ее перевел на русский
язык В. А. Жуковский («Сельское кладбище»).
Удивительный парадокс! Деловая, практичная, буржуазная Англия XVIII в.
породила целую фалангу прелестных чудаков, прекраснодушных донкихо-
тов.
Поэма вызвала огромный интерес в Европе. Немецкий прозаический перевод И. А. Эберта и
французская прозаическая переделка П. Летурнера сделали ее известной в Германии и Фран-
ции. В России она переводилась А. М. Кутузовым (Плач, или Ночные размышления о жиз-
ни, смерти и бессмертии. — 3-е изд. — Спб., 1812. — ч. 1—2).
93
Культ чувствительности, культ природы, антиурбанизм — все эти отличи-
тельные черты английского сентиментализма четко выявляются и во француз-
ской литературе. В ряде случаев можно говорить о прямом заимствовании.
«Времена года» Томсона были переведены на французский язык в 1760 г., а
через 4 года появились уже французские «Времена года» поэта Сен-Ламбера.
Жак Делиль, один из авторов «описательной школы», издает в 1782 г. «Сады».
Сами названия его поэтических сборников говорят о сентиментальном направ-
лении его поэзии: «Человек полей», «Три царства природы», «Жалость» и т.д.
Социальные мотивы (сострадание к бедняку), так ярко проявившиеся в анг-
лийском сентиментализме, весьма заметны и здесь, и, пожалуй, даже в более
резкой форме. Писатель Ретиф де ля Бретонн, поклонник и последователь Рус-
со, в 1775 г. печатает свой знаменитый роман «Развращенный крестьянин, или
Опасности города», иллюстрируя идеи руссоизма (нравственно безупречный
крестьянин, «естественный человек», попав в город, «вертеп цивилизации»,
превращается в нравственное чудовище). Подражая Руссо, Ретиф де ля Бре-
тонн, написал собственную «Исповедь» — огромную, в 16 томов, панораму нра-
вов французского общества XVIII в.
Культ природы затронул и науку. Здесь следует назвать имя Бюффона
(1707—1788). Наши литературные энциклопедии не включают это имя в свои
словники, между тем французы считают Бюффона писателем и в курсах лите-
ратур отводят ему немало страниц.
Бюффон, конечно, прежде всего ученый-естествоиспытатель, как и его
современник Линней. Академик, директор ботанического сада, он в течение 40
лет писал свою 36-томную «Естественную историю» — огромный свод сведе-
ний о природе. Он высказал много верных и для своего времени смелых идей
относительно истории Земли и всей живой природы, но свой ученый труд он
писал как восторженный поэт. Ему принадлежит знаменитая фраза: «Стиль —
это человек». Он преклонялся перед природой и свои чувства вложил в гран-
диозное обозрение ее царства. Не все в его дни приняли такое переплетение
«физики и лирики». Д'Аламбер, ученый-математик, сам обладавший недюжин-
ным литературным талантом, резко осудил его. Поехидничал и Вольтер, но
Руссо, явившись к Бюффону, преклонил колена у порога его дома. Чтобы
представить его манеру, приведем несколько строк из его описания колибри:
«Камни и металлы, отполированные нашими руками, не сравнятся с этой
ювелирной драгоценностью природы, ее шедевром — маленькой колибри. Ее
крылышки так часто двигаются, что если в воздухе она остановится, то кажет-
ся, что не только не летит, но и не двигается вовсе. Она не опускается на пыль-
ную землю, а, летя над травой, чуть касается ее, облетая цветы, подобно им
свежа и ослепительно прекрасна. Возлюбленная цветов, она живет за их счет,
но не приносит им вреда. Она раздражительна и нетерпелива. Если, приблизив-
шись к цветку, она замечает, что он завял, то начинает быстро, быстро обры-
вать его лепестки с видимым раздражением и досадой». И так далее на несколь-
ких страницах.
Поклонник Руссо Бернарден де Сен-Пьер писал тоже восторженные
«Этюды о природе». Но он не был ученым и называл себя «ручейком, бегущим
по лесным чащам и любующимся ими». Он искал девственную природу, не
испорченную руками человека. В 1787 г. он опубликовал роман «Поль и Вирги-
ния», поэтическую сказку о двух влюбленных, укрывшихся от цивилизации на
прекрасном острове.
94
Руссо был очень дружен с ним. Вдвоем они часто совершали прогулки по
окрестностям Парижа.
Те же мотивы меланхолии, кладбищенской печали находим мы и в творче-
стве немецких поэтов. Поэма Бюргера «Ленора» очаровала немцев своей
безыскусственной простотой и меланхоличной лиричностью. Эта поэма
известна русскому читателю по великолепному переводу Жуковского.
Сюжет ее трогательно прост. Началась война. Почему? Неизвестно. Про-
сто потому, что
С императрицею король
За что-то раздружились —
И кровь лилась, лилась, доколь
Они не помирились.
На войну ушел милый Леноры, ушел и как в воду канул. Ни вестей, ни при-
вета. Печалится Ленора, томится. Кончилась война, и вернулись воины:
Идут, идут — за строем строй.
Пылят, гремят, сверкают.
Родные, ближние толпой
Встречать их выбегают.
Не вернулся милый Леноры. Плачет девушка, тоскует и в душе дерзко
сетует на Бога. Что ей рай? С милым она готова идти и в ад. Но чу!..
И вот как будто легкий скок
Коня в тиши раздался:
Несется по полю ездок,
Гремя к крыльцу примчался...
— Скорей сойди ко мне, мой свет!
Ты ждешь ли друга, спишь ли?
Меня забыла ты иль нет?
Смеешься ли, грустишь ли?
— Ах! милый! Бог тебя принес!
А я? — от горьких, горьких слез
И свет в очах затмился. —
Ты как здесь очутился?
Юноша увлекает с собой Ленору. Они мчатся на борзом коне. Мимо про-
плывают поля и леса, холмы и реки, кусты; месяц бледный светит. Вот кладби-
ще. Кресты, могилы и толпа мрачных теней.
И нет уж кожи на костях,
Безглазый череп на плечах,
Нет каски, нет колета,
Она в руках скелета.
— И что ж, Леонора, что потом?
— О, страх! В одно мгновенье
Кусок одежды за куском
Слетел с него, как тленье.
Такова поэма Бюргера.
к{ШУ1
ГЕРМАНИЯ
Дайте мне несколько таких смелых
голов, как я, и Германия станет республикой, перед которой Рим и
Спарта покажутся женскими монастырями.
Шиллер. «Разбойники»
Такие настроения охватили немецкую молодежь в 70—80-е гг. XVIII столе-
тия. Это был бунт молодых умов. Германия, разделенная на множество мелких
княжеств, влачила жалкое существование. Князьки амбициозно подражали в
роскоши пышному Версалю. Чтобы добыть денег, формировали наемные
полки и отправляли немецких юношей за границу для нужд воюющих держав.
Франция и Англия платили им за их полки. Таможенные барьеры стесняли тор-
говлю, осложняли жизнь и быт населения. «Суверенность» крохотных госу-
дарств, постоянно враждовавших друг с другом, буквально душила Германию.
За единую Германию и против тирании мелких князьков выступала тогда
немецкая интеллигенция.
«Да будет Германия настолько едина, чтобы немецкие талеры и гроши
имели одну и ту же цену во всем государстве; настолько едина, чтобы я мог
96
провезти свой дорожный чемодан через все тридцать шесть государств, ни разу
не раскрыв его для осмотра», — писал Гете.
Бунт молодежи — студентов, поэтов — походил больше на мальчишеское
озорство, чем на серьезное политическое движение. «Давайте бесноваться и
шуметь, чтобы чувства закружились, как кровельные флюгера в бурю. В
диком грохоте находил я не раз наслаждение...», «найти забвение в буре», «на-
слаждение в смятении» и т. д. и т. п. — вот их заявления.
Они метались, бушевали, грозили потрясти небо, но в конце концов надлом-
ленные преждевременно уходили из жизни, как Якоб Ленц, или смирялись,
превращаясь с розрастом из безусых дерзких ниспровергателей в почтенных,
добропорядочных и благонравных блюстителей тишины и порядка под вла-
стью прусского короля или другого столь же самодержавного владыки.
Клингер, ставший впоследствии генералом русской армии, в 1814 г. в письме
Гете называет «безголовыми» всех тех, кто когда-то восхищался названием его
пьесы «Буря и натиск», давшей имя всему литературному движению.
Этот бунт молодежи не остался, однако, без следа. Идеи национального
единства и свободолюбия глубоко проникли в общество.
Немецкая культура в XVIII в. вышла на мировую арену: Германия дала
человечеству Гете и Шиллера, великих композиторов — Моцарта и Бетховена,
крупнейших мыслителей — Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля.
ФРИДРИХ ШИЛЛЕР (1759—1805)
Шиллер! Благословляю тебя, тебе обязан я свя-
тыми минутами начальной юности!
Герцен
В Веймаре перед зданием городского театра стоит ныне памятник двум
великим поэтам Германии — Гете и Шиллеру. Они были дружны при жизни и
вместе, держа друг друга за руку, вошли в мировую литературу.
Кто-то спросил однажды у Гете, кто из них выше, значительнее. Поэт отве-
тил: «Зачем такой вопрос, разве вам недостаточно того, что у вас есть два
таких парня».
Первая их встреча состоялась в 1779 г., но познакомились они только в
1788 г. в Рудольштадте.
В 1779 г., проездом в Швейцарию, Гете посетил Вюртемберг. Можно пред-
ставить себе чувства молодого Шиллера и его товарищей, слушателей Акаде-
мии (медицинской школы), когда они увидели своего кумира, Гете, уже извест-
ного всей Германии и в расцвете его физических и творческих сил. Гете, коне-
чно, не приметил тогда среди юных слушателей Академии восторженно взи-
равшего на него голубоглазого и светловолосого юноши, с которым потом свя-
жет его творческая дружба. Через девять лет после того они впервые загово-
рят друг с другом. «Могу тебе, наконец, рассказать о Гете, — писал Шиллер
Кернеру 12 сентября. — Я провел с ним весь прошлый воскресный день... В
общем, то высокое представление, какое я о нем имел, не уменьшилось, но
97
сомневаюсь, что мы когда-нибудь сблизим-
ся. Многое из того, что интересно мне, что
является предметом моих желаний и моих
надежд, для него уже ушло в прошлое. Он
так опередил меня (не годами только, но и
опытом, и личным развитием), что мы не
можем когда-нибудь сойтись. Весь он сло-
жен не так, как я, он смотрит на мир иными
глазами, все наши взгляды различны.
Впрочем, нельзя делать заключения из
одной такой встречи, время покажет».
Гете тогда только что вернулся из Ита-
лии, успокоенный, умиротворенный,
чтобы начать тот период своего творче-
ства, который называют веймарским клас-
сицизмом. То молодое бунтарство, которое
обуревало его раньше, казалось ему теперь
ребячеством. А Шиллер еще горел чув-
ствами и идеями «Бури и натиска». Потому
поначалу они не нашли общего языка.
Будучи еще в военной школе, Шиллер
увлекся поэзией. Некоторые его лиричес-
кие стихи уже тогда были напечатаны.
Поэт читал в школе украдкой Руссо, Лессинга, Шекспира, Плутарха. Украдкой
по ночам писал он и драму «Разбойники», которую потом днем, также украд-
кой читал своим школьным товарищам. Закончена драма была в 1781 г., когда
Шиллер уже вышел из школы. Пьесу приняли к постановке в театр Мангейма.
Однако Карл Евгений, возмущенный тем обстоятельством, что его солдат
пишет «преступные» сочинения, заявил: «Не смей больше писать ничего,
кроме как о медицине. Ослушаешься — в крепость». Поэту не оставалось
ничего иного, как бежать из пределов Вюртембергского герцогства, что он
сделал 17 сентября 1782 г. В глухую ночь, собрав свои рукописи, он бежал из
Штутгарта, скитался по Германии, не находя пристанища, потом остановился в
Бауэрбахе у матери своих школьных товарищей. В 1783 г. он окончил вторую
драму, «Заговор Фиеско», а в 1784 г. — «Коварство и любовь» (первоначально
называвшуюся «Луиза Миллер»).
Скитания его продолжаются. Он живет в Мангейме, потом едет в Лейпциг,
откуда переселяется в Дрезден. В эти годы он усиленно занимается историей,
пишет «Историю отпадения соединенных Нидерландов», «Историю Тридцати-
летней войны». Исторические работы Шиллера привлекают к нему внимание
ученого мира. В 1788 г. его приглашают в качестве профессора в Иенский уни-
верситет.
Последние годы своей жизни Шиллер, как и Гете, провел в Веймаре. Мате-
риальное положение поэта несколько улучшилось (он стал получать неболь-
шие пенсии от именитых поклонников его таланта). В 1790 г. женился.
Соревнуясь с Гете, Шиллер пишет свои баллады: «Поликратов перстень»,
«Ивиковы журавли», «Кубок», «Порука» и др. В 1791 — 1799 гг. он создает три-
логию «Валленштейн» («Лагерь Валленштейна», «Пикколомини», «Смерть
98
Валленштейна»). Обстановка в Веймаре благоприятствует росту драматурги-
ческого мастерства Шиллера. В Веймаре театр был в распоряжении Гете и
Шиллера, и оба они писали для сцены.
Первая и самая известная пьеса Шиллера — драма «Разбойники». Ее ге-
рой — сначала студент, потом разбойник — Карл Моор типичный герой «Бури
и натиска». Он читает Руссо, Плутарха, мечтает о подвигах, отвергает мещан-
скую упорядоченность, рассудочную уравновешенность, протестует против
тирании во имя свободы личности. Но понимает он эту свободу как полную
раскованность, независимость от каких-либо общественных норм.
«Людишки мудрят, точно крысы, скребущие по палице Геркулеса... Фран-
цузский аббатик пресерьезно доказывает, что Александр был трусом, чахоточ-
ный профессор, при каждом слове нюхающий нашатырный спирт, читает лек-
ции о силе. Господа, от каждого пустяка падающие в обморок, критикуют так-
тику Ганнибала. Пропади же пропадом, хилый век кастратов, который спосо-
бен только пережевывать деяния отдельных времен и искажать в трагедиях и
калечить комментариями героев древности!»
Пока он еще безобиден, ведет жизнь бесшабашного гуляки, подчеркивая
свое презрение к морали «благомыслящих людей». Словом, вариант библей-
ского блудного сына. Карл в конце концов одумался, пишет покаянное письмо
отцу, но младший его брат, хитрый и бесчестный Франц, опутал отца интригой
и клеветой. Карл отвергнут. Карл уходит в богемские леса, набирает шайку
удальцов и становится разбойником. Он благороден и чист в своих побуждени-
ях, мечтает о том, чтобы перестроить общество, мстит тиранам:
«Этот алмаз я снял с одного советника, который продавал почетные чины и
должности тому, кто больше даст, и прогонял от своих дверей скорбящего о
родине патриота. Этот агат я ношу в память гнусного попа, которого я приду-
шил собственными руками за то, что он в своей проповеди плакался на упадок
инквизиции». Как видим, это не простой разбойник; это бунтарь, политический
мятежник.
Однако его подчиненные и товарищи не хотят считаться с гуманными и бла-
городными идеалами. Они грабят, убивают детей, женщин, и Карл в конце
концов в ужасе отшатнулся от них: «Подло убивать детей! Подло убивать жен-
щин! Подло убивать больных!» И, убедившись в своем бессилии, отрекается от
бунта.
«О, я глупец, мечтавший исправить свет своими преступлениями и поддер-
жать законы беззаконием. Я называл это местью и правом. Прости, творец,
ребенка, вздумавшего предварять тебя. Тебе одному принадлежит право мести.
Ты не нуждаешься в руке человека».
Пьеса заканчивается грандиозной и страшной по своему смыслу картиной:
горит и рушится замок Мооров, умирает старый Моор, кончает с собой Франц,
неистовствующий Карл убивает свою бывшую невесту Амалию.
Столкнулись два зла — тирания (Франц) и насилие (Карл). Карл олицетво-
ряет собой стихию народного гнева, энергию бунта, но бунта слепого, анархи-
ческого.
Драма была написана за восемь лет до французской революции, но в ней,
особенно в последней сцене крушения и пожара, позднее некоторые француз-
ские авторы увидели пророческую картину французской революции во всех ее
контрастах, «союз ума и фурий» (Пушкин).
99
* * *
Стилю Шиллера свойственна риторическая приподнятость. Он любит рез-
кие контрасты. У него нет полутонов. Он кладет на свое полотно густые крас-
ки. Метафоры, сравнения бросают нас от одной крайней черты к другой, от
ослепительного света к кромешной тьме.
«Наши души... чисты, как радостная лазурь»; «Смерть будет сиять, как
невеста»; «Посули мне в награду все короны на этой планете, посули в наказа-
ние все ее пытки»; «Он запрет за мною темницу жизни и откроет обиталище
венной ночи»; «Клянусь не встретить дневного света, прежде нем кровь
отцеубийцы, пролитая у этого камня, не вздыбится к солнцу» и пр. Такие же
контрасты и в характерах: резкий, гордый Карл Моор и кроткая Амалия, тот
же Карл — открытый, эмоционально неуправляемый, внутренне благородный,
и скрытный, сдержанно-рассудочный и беспросветно безнравственный,
подлый Франц. Нравственные контрасты в социальных мирах: подлость,
корысть, эгоизм, аморальность в мире придворных, аристократов, высокая
моральная стойкость и неподкупность в мире бедняков («Коварство и
любовь»).
Пожалуй, Шиллера нужно играть на сцене, как играли актеры во время
Шекспира, «рвать страсть в клочья». Гамлет осудил эту манеру, но Шекспир
все-таки отдал ей дань: трудно представить камерную сдержанность на шекспи-
ровской сцене. Рассерженный тигр будет метаться и рычать, ибо ему это свой-
ственно, и вряд ли душевное смятение Отелло можно передать только движе-
нием мускулов его лица. Наш современный зритель должен принять стиль
Шиллера как историческую театральную условность и ощутить за непривыч-
ной нам риторической эмфазой искреннюю страстность поэта.
* * *
В дни французской революции Шиллер пережил глубокий духовный кризис.
Вначале он принял с восторгом известие о революционных событиях в Париже
и горячо приветствовал восставших. Однако, когда король Людовик XVI пред-
стал перед судом и зашла речь о его казни, Шиллер вызвался быть его «адвока-
том». Террор, объявленный Робеспьером, еще более смутил Шиллера. В 1798 г.
он написал стихотворение «Песнь о колоколе», в котором осудил идею револю-
ционного восстания, насильственного низвержения монархов:
Самоуправствуя, народ
Великих благ не обретет...
Панический ужас, смятение обуяли немецкого поэта. Революция теперь
представляется ему всесокрушающей, разбушевавшейся народной стихией:
Нам страшно львицы пробужденье,
Ужасен тигра злой разбег,
Но всех ужасней — в исступленье,
В своем безумье человек.
100
ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ
ГЕТЕ (1749—1832)
«Я не смогу забыть впечатления изуми-
тельного уюта, которое я получил при
посещении дома Гете во Франкфурте. Еще
до сих пор от этих комнат, окон, обста-
новки веет довольством, какой-то закру-
гленной законченностью, где ничто не
говорит об избытке и роскоши, но нет
никаких следов или намеков на бедность,
где перед нами предстает именно буржуаз-
ная домовитость крепкого среднего бур-
жуа, патриция по месту, которое он зани-
мает в городе, но ничем не напоминающая
алчного беспокойства крупного капитала и
его безвкусную роскошь парвеню», —
писал Луначарский.
Гете прожил в этом доме с рождения до
16 лет. Затем — университет в Лейпциге.
«Это премилый, преталантливый моло-
дой человек, но слишком легкомыслен-
ный» — таким его знал в те годы его стар-
ший друг Гердер.
Гете уже поэт. Стихи выдержаны в духе
затейливого рококо:
За милой я пустился вслед
В лесную глубину
И обнял вдруг — и что ж в ответ?
«Смотри, — кричать начну!» —
«Так знай! — вскричал я. — Станет нем,
Кто преградит нам путь!»
Она ж: «Молчи! Кричать зачем?
Услышит кто-нибудь».
Увлекается философией Спинозы, и это уже навсегда. Бог — это все. Таков
глаъиый вывод философии голландского мудреца.
Философией пантеизма проникнуто знаменитое стихотворение Гете «Гани-
мед», написанное в 1774 г. Миф о Ганимеде, прекрасном мальчике, похищен-
ном Зевсом, осмысливается поэтом как слияние человека с богом-природой.
Гимн прекрасной природе, жизни и человеку, сыну природы, поет здесь
Гете:
Если б обнять тебя
Этой рукой!
Ах, к твоей груди я
Лег в истоме,
Гете.
модной тогда поэзии изящного и
101
Цветы твои, мурава,
В сердце теснятся мне.
И жажду жгучую
Мне утоляет
Ласковый ветер зари;
С дола туманного
Кличет в любви соловей меня.
Гете за свою жизнь написал около 1600 стихотворений. Многие из них были
подхвачены народом и превратились в народные песни; лучшие композиторы
мира слагали для них музыку. Поэт прислушивался к голосу народа, к его пес-
ням, его речи и сумел почерпнуть из родника народной поэзии восхитительную
прелесть формы: припевы, песенную гибкость и мелодичность, выразитель-
ную картинность; сравнения, параллелизмы, контрасты; он сумел найти,
понять и оценить красоту родного языка и довести ее до совершенства.
Русский читатель может иметь представление о красоте и богатстве лирики
Гете по некоторым классическим переводам, которые сделали русские поэты.
Таковы «Горные вершины» в переводе Лермонтова, «Лесной царь» в переводе
Жуковского, «Коринфская невеста» в переводе А. К. Толстого.
Стихи Гете являлись откликом на то или иное событие его жизни, поэтому
столько волнения и непосредственного чувства вложено в них. Гете полагал,
что лирические стихи вне зависимости от жизни поэта писать нельзя, иначе это
будут холодные и отвлеченные рассуждения в стихах:
«Свет велик и богат, а жизнь столь многообразна, что в поводах к стихотво-
рениям недостатка не будет. Но все стихотворения должны быть написаны по
поводу (на случай), т. е. действительность должна дать к тому повод и мате-
риал. Отдельный случай становится общим и поэтическим именно потому, что
он обрабатывается поэтом. Все мои стихи — стихотворения по поводу (на слу-
чай), они возбуждены действительностью и потому имеют под собой почву,
стихотворения с ветра я не ставлю ни во что».
* * *
Вторую половину жизни Гете провел в Веймаре. Послушаем его современ-
ника и нашего соотечественника Карамзина. Он побывал там как раз в те
годы, когда в нем жил Гете, и записал в дневнике:
«У городских ворот предложил я караульному сержанту свои вопросы: —
Здесь ли Виланд? Здесь ли Гердер? Здесь ли Гете? — Здесь, здесь, — отвечал
караульный. И я велел постильону вести меня в трактир «Слона». Наемный
слуга, — пишет далее Карамзин, — был немедленно отправлен мною к Вилан-
ду, спросить, дома ли он. — Нет, он во дворце. — Дома ли Гердер? — Нет, он
во дворце. — Дома ли Гете? — Нет, он во дворце. — Во дворце, во дворце, —
говорил я, передразнивая слугу, взял трость и пошел в сад». «Кроме герцог-
ского дворца, — записывает Карамзин свои впечатления, — не найдешь здесь
ни одного огромного дома».
Таков был Веймар времен Гете. Захудалое герцогство с армией, насчитыва-
ющей немногим более 300 человек. Герцог привлек Гете к государственной
службе. Он был назначен сначала советником, потом министром и даже пер-
102
вым министром, т. е. возглавил правительство. На плечи Гете легли внешняя
политика, финансы, лесоводство, армия, наблюдение за Иенским университе-
том, герцогской библиотекой и пр. Поэт взялся было горячо за дело, задумал
крупные реформы (изменить порядок налогообложения, чтобы несколько
облегчить положение крестьян и ремесленников). Ничего из этого, конечно,
не получилось. И Гете отступил, ведя дела, как говаривали о нем злые языки,
не компрометируя трон ни небрежением к государственным делам, ни чрезмер-
ным усердием.
Несмотря на внешнее спокойствие, поэт не мог ограничиться окружением
двора герцога. Он смутно чувствовал неудовлетворенность. И однажды, в
1786 г., тайно покинув Веймар, уехал в Италию и прожил там два года. Анти-
чность, живопись, созерцание памятников старины — вот чем он жил эти годы.
Отныне дух античности, идеал гармонии, умиротворенности будет ощущаться
во всех его сочинениях. Вернулся в Германию он уже совсем иным человеком.
Настроения отрицания и протеста, которые так сильны были в его ранних
произведениях, теперь сменяются стремлением осмыслить логику развития
общества, норм и законов человеческого общежития.
В мире царствует необходимость, полагает поэт, и с ней нужно считаться.
Однако перед самим собой человек должен ставить задачи нравственного
совершенствования и стремиться к ясному, спокойному, гармоническому миро-
созерцанию:
Будь, человек,
Чист, милостив, добр!
Неустанно делай
И пользу, и право...
В личной жизни поэта произошло важное событие. Однажды, гуляя в вей-
марском парке, он встретил Христину Вульпиус, молодую девушку из народа.
Она просила его прочитать стихи брата. Стихи, конечно, были слабы, но сама
она прекрасна, и она стала подругой его жизни. В ней, юной, необразованной,
он увидел идеал женственности, ей посвятил он свои великолепные «Римские
элегии». Еще до отъезда в Италию Гете начал работать над своими знамени-
тыми произведениями: «Ифигения в Тавриде», «Торквато Тассо», «Эгмонт».
По возвращении он их закончил.
И прозаическое наследие Гете достаточно велико: «Поэзия и правда», «Вер-
тер», «Избирательное сродство», «Вильгельм Мейстер», «Итальянское путе-
шествие», «Письма из Швейцарии», дневники, очерки, многочисленные статьи
о литературе, искусстве, по различным вопросам науки. Сохранилось 15 тысяч
писем поэта.
Проза Гете — ясная, точная, живописная и мелодичная. Генрих Гейне с при-
сущим ему красноречием и образностью отзывается о ней: «Эта проза прозрач-
на, как зеленое море, когда ясный полдень и тишина и можно ясно увидеть
лежащие в его глубине утонувшие города с их исчезнувшими сокровищами, а
иногда эта проза полна такой магической силы, такого прозрения, что подобна
небу в вечерний час сумерек, и большие гетевские мысли выступают на нем
чистые и золотые, как звезды».
Романтик Гейне некоторые свои суждения преображал в чудесную сказку.
Такую сказку он создал о прозе Гете. Для полноты картины приведу, однако,
103
другие суждения: французский писатель, мастер блестящих чеканных новелл
Проспер Мериме писал в ноябре 1868 г. Тургеневу: «Я в восторге от того, что
Вильгельм Мейстер кажется вам таким же фальшивым как и мне»; «Во всем
повествовании есть какая-то претенциозная расхлябанность, старающаяся
подражать естественности, но весьма от нее далекая»; «Он неисправимый бол-
тун, но полный ума»; «Вообразите, что он имел бы дело не с немцами, которые
всегда обожали загадки без разгадок»; «Вывод: мне кажется, что Гете великий
Humbug (мыльный пузырь)».
Мериме разрушает привычную нам картину гениальности немецкого поэта.
Резкость его оценок удивляет и вряд ли справедлива, но, что греха таить, мы
часто слепо подчиняемся авторитету сложившейся в нашем кругу или в мире
репутации и повторяем за другими гиперболические похвалы тем, кого душой
никак не принимаем.
Тем не менее современники боготворили Гете, да и сам Мериме в молодые
годы восхищался им.
«СТРАДАНИЯ МОЛОДОГО ВЕРТЕРА»
Книга произвела впечатление сенсации. Она приобрела сразу же мировое
звучание. Переведенная на все европейские языки, она облетела мир. Два
поколения жили ею. Молодой Наполеон прочитал ее семь раз и брал с собой
как Библию в Египетский поход. Она вызвала моду на любовные страдания,
даже на самоубийства из-за любви (чего только не делают люди из-за моды!).
Перед нами — история любви, старая как мир и всегда новая. Вечная и неис-
черпаемая тема. Молодой человек встретил молодую девушку и полюбил ее.
Но у нее есть жених. Молодой человек отстраняется, не считая себя вправе
претендовать на ее любовь. Она выходит замуж, а молодой человек никак не
может забыть ее. Происходит объяснение: мир полон невестами, «полюбите
другую». Финал — самоубийство.
Вот, в сущности, вся история, как ее изложил бы следователь.
В 1774 г., находясь в Вецларе, Гете познакомился с Шарлоттой Буф, неве-
стой своего друга Кестнера. Поэт чувствовал влечение к девушке, но удалился,
не желая разбивать союз молодых людей. Шарлотта вышла замуж за Кестне-
ра. Там же, в Вецларе, покончил жизнь самоубийством от несчастной любви
секретарь посольства. Все это натолкнуло Гете на мысль написать роман.
Таков был повод к созданию «Вертера».
Роман изложен в форме писем, что весьма соответствует содержанию его,
раскрытию жизни сердца, логики чувств и переживаний. Лирика в прозе,
лирика в виде большого романа. Вертер — молодой, талантливый и образован-
ный человек, сын, очевидно, состоятельных родителей, но не принадлежащих
к дворянству. Автор не сообщает ничего о его родителях, кроме некоторых
упоминаний о матери. Молодого человека недолюбливает местная знать, зави-
дуя его талантам, которые, как думается ей, даны ему не по праву. Местную
знать бесят также независимые взгляды Вертера, его равнодушие и подчас пре-
небрежительное отношение к титулам аристократов. Вертер в своих письмах
сопровождает имена титулованных особ нелестной характеристикой: «Эта
порода людей мне от всей души противна».
104
Гете в Италии.
Гете очень скупо говорит о внешней обстановке, окружающей Вертера. Все
его внимание обращено на духовный мир молодого героя. Вначале в письмах
Вертера раскрываются его вкусы, привычки, взгляды. Вертер чувствителен,
несколько сентиментален. Первые письма юноши раскрывают светлую гармо-
нию, которая царит в его сердце. Он счастлив, он любит жизнь. «Душа моя оза-
рена неземной радостью, как эти чудесные утра, которыми я любуюсь от всего
сердца», — пишет он своему другу. Вертер любит природу до само-
забвения:
«Когда вокруг от милой моей долины поднимается пар, и полдневное солнце
стоит над непроницаемой чащей темного леса, и лишь редкий луч проскальзы-
вает в его святая святых, а я лежу в высокой траве у быстрого ручья и, приль-
нув к земле, вижу тысячи всевозможных былинок и чувствую, что близок
моему сердцу крошечный мирок, что снует между стебельками... когда взор
мой туманится в вечном блаженстве, и все вокруг меня и небо надо мной запе-
чатлены в моей душе, точно образ возлюбленной, —тогда, дорогой друг, меня
часто томит мысль! Ох! Как бы выразить, как бы вдохнуть в рисунок то, что
так полно, так трепетно живет во мне».
Вертер носит с собой томик поэм Гомера и на лоне природы читает и пере-
читывает их. Он восхищается наивным миросозерцанием, безыскусственной
простотой и непосредственностью чувств великого поэта. В последних письмах
105
Вертер мрачен, уныние и мысли о смерти приходят ему на ум, и от Гомера он
переходит к Оссиану. Трагический пафос песен Оссиана импонирует его болез-
ненному настроению.
Наблюдения влекут за собой печальные размышления:
«Удел рода человеческого повсюду один! В большинстве своем люди тру-
дятся почти без устали, лишь бы прожить, а если остается у них немножко сво-
боды, они до того пугаются ее, что ищут, каким бы способом от нее избавить-
ся. Вот оно — назначение человека!»
Верный последователь Руссо, Вертер любит простых людей, живущих на
лоне природы, любит он также и детей, простодушно следующих велению
своего сердца. Он общается с крестьянами, с крестьянскими детьми и находит
в этом большую радость для себя. Протестует против приземленного обыва-
тельского понимания жизни, против строго регламентированного уклада быта:
«Ах вы, разумники! — с улыбкой произнес я. — Страсть! Опьянение! Поме-
шательство! А вы, благородные люди, стоите невозмутимо и безучастно в сто-
роне и хулите пьяниц, презираете безумцев и проходите мимо, подобно священ-
нику, и, подобно фарисею, благодарите Бога, что он не создал вас подобными
одному из них. Я не раз бывал пьян, страсти мои всегда были на грани безумия,
и я не раскаиваюсь ни в том, ни в другом, ибо в меру своего разумения я постиг
то, почему всех выдающихся людей, совершивших нечто великое, нечто с виду
непостижимое, издавна объявляют пьяными и помешанными. Но и в обы-
денной жизни несносно слышать, как вслед всякому, кто отважился на мало-
мальски смелый, честный, непредусмотренный поступок, непременно кричат:
«Да он пьян! Да он рехнулся!» Стыдитесь вы, трезвые люди, стыдитесь, мудре-
цы!»
Вертер — противник рационализма и противопоставляет рассудку чувство и
страсть:
«Человек всегда остается человеком, и та крупица разума, которой он,
быть может, владеет, почти или вовсе не имеет значения, когда свирепствует
страсть и ему становится тесно в рамках человеческой природы».
Вертер страдал, но, в сущности, сам не знал, чего он хотел, чего добивался.
Он уезжает, поступает на дипломатическую службу. Лотта выходит замуж.
Недолго Вертер был дипломатом. Однажды он задержался в доме знакомого
аристократа графа Б. Собрались титулованные гости, их шокировало, что
человек иного круга находится в их среде. Кончилось тем, что граф отозвал его
в сторону и, извиняясь, указал на это обстоятельство. Вертер вынужден был
удалиться. На другой день весь город говорил об изгнании молодого «гордеца»
из аристократического дома. Слухи дошли до Вертера. Возмущенный, он
подал в отставку и уехал из города.
Теперь он снова встречается с Лоттой, часто бывает у нее, не в силах дня
прожить, не повидав ее. Его поведение уже начинало обращать на себя внима-
ние. Альберт высказал Шарлотте свое неудовольствие и предложил дать
понять Вертеру, что нужно прекратить компрометирующие их посещения.
Шарлотта ничего не ответила и этим вселила некоторые подозрения. Вертер
понимал недопустимость своего поведения, но ничего не мог поделать с собой.
Настроение его становится все более подавленным. Если первые страницы
романа полны солнца и радости, то в последних сгущаются тени, уныние и
тоска овладевают героем, развертываются трагические события.
106
Однажды Вертер застал Лотту одну. Он прочитал ей песни Оссиана, овеян-
ные скорбными и мистическими настроениями. Впервые состоялось признание
в любви. Лотта уговаривает юношу уйти, найти другую женщину, забыть ее,
стать мужчиной, взять себя в руки. (В глубине души она хотела бы, чтобы он
остался около нее.) На другой день Вертер присылает слугу с запиской к Аль-
берту, просит одолжить ему пистолеты. Шарлотта подала их слуге, отряхнув с
них пыль. Вертер, узнав, что пистолеты были даны самой Лоттой, видит в этом
предначертание судьбы, он целует пистолеты. Ночью он застрелился. «Бу-
тылка вина была едва начата, на столе лежала раскрытой «Эмилия Галотти».
Лессинг, автор этой книги, осудил характер Вертера и условия, породившие
такой характер. «Производить таких мелко-великих, презренно-милых ориги-
налов было предоставлено только нашему новоевропейскому воспитанию», —
писал он. С еще большей нетерпимостью отозвался о герое Гете Генрих Гейне.
В цикле «Современные стихотворения» есть такие строки:
Не хнычь, как этот Вертер, в жизни
Любивший лишь одних Шарлотт,
Ударь, как колокол набатный,
Пой про кинжал, про меч булатный
И не давай дремать отчизне.
Не будь ты флейтой, мягкой, нежной
И идиллической душой,
Но будь трубой и барабаном...
Генрих Гейне жил и писал в иные времена. Для той поры, когда появился
роман Гете, образ юноши, не ужившегося со своим веком, был укором всей
Германии и так же не давал «дремать отчизне», как и поэзия самого Генриха
Гейне в XIX столетии.
Отойдем от традиционных взглядов на Вертера как на апостола безволия.
Взглянем несколько по-иному на его поведение, его поступки и на его финаль-
ный акт — самоубийство. Не так-то здесь все просто. Вертер понимал, что его
любовь к Шарлотте — безумие. Это безумие заключалось не в том, что нельзя
было любить чужую невесту, а потом чужую жену, что нельзя было настоять
на разрыве ее с женихом или потом с мужем. На это у Вертера хватило бы и
воли и характера. Безумие заключалось в том, что он посягал на ту гармонию,
в которой жила Шарлотта. Она пребывала в мире рассудка, где все было регла-
ментировано, упорядочено, и сама была частью этого мира, т. е. такая же упо-
рядоченная и рассудочная. Увести Шарлотту из этого мира — значило бы погу-
бить ее. На это Вертер не имел нравственного права. Он сам жил в мире чув-
ства, он принимал только его, не желал, не терпел никакой опеки над собой, он
хотел бы полной раскованности, полной свободы и независимости в чувствах.
Жить и действовать не по долгу, а по чувству. Вертер понимал, что в том обще-
стве, в котором он жил, это само по себе — безумие. Мог ли он склонять на
безумие и любимую женщину? Он знал, что Альберт, рассудочный, практич-
ный, плоть от плоти рассудочного, практичного мира, составит счастье Шар-
лотты, даст ей ту уютную согласованность с обществом, какую ей не может
дать он, Вертер. И он ушел, устранился полностью. Он бы это сделал еще ско-
рее, если бы Шарлотта откликнулась на его чувства. Вертер поступил так, как
поступил бы всякий порядочный человек, страдающий, к примеру, неизлечи-
107
мой болезнью. Это было не поражение, а нравственная победа, в конце концов
победа долга над чувством.
В чем же состоял протестующий, бунтарский дух книги Гете? В самом
неприятии той атмосферы, в которой жила тогда Германия, всего уклада
жизни общества.
Интересные размышления вызвала книга Гете у Достоевского. Он писал в
1876 г.:
«Самоубийца Вертер, кончая с жизнью, в последних строках, им оставлен-
ных, жалеет, что не увидит более «прекрасного созвездия Большой Медведи-
цы», и прощается с ним. О, как сказался в этой черточке начинающий Гете.
Чем же так дороги были Вертеру эти созвездия? Тем, что он, созерцая, каждый
раз сознавал, что он вовсе не атом и не ничто пред ними, что вся эта бездна
таинственных чудес Божиих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания,
не выше идеала красоты... а, стало быть, равна ему и роднит его бесконечно-
стью бытия... и что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открыва-
ющую ему, кто он, — он обязан лишь своему лику человеческому» («Дневник
писателя»).
«ФАУСТ»
Фауст
Мне скучноу бес.
Мефистофель
Что делать, Фауст?
Таков вам положен предел,
Его ж никто не преступает.
Вся тварь разумная скучает:
Иной от лени, тот от дел;
Кто верит, кто утратил веру,
Тот насладиться не успел,
Тот насладился через меру.
И всяк зевает, да живет.
Зевай и ты.
А. С. Пушкин
Вариации на тему Фауста. Русский поэт представляет нам этого популяр-
ного персонажа в образе скучающего, пресыщенного денди, подобного Онеги-
ну. В трагедии Гете он выглядит иначе: часто почти философским символом,
олицетворяющим все человечество, со всеми возвышенными и низменными
качествами.
Пушкин назвал произведение немецкого поэта «величайшим созданием
поэтического духа». И это справедливо. На всех континентах его читают, и нет
на земле достаточно образованного человека, который бы вместе с автором не
размышлял над поставленными в нем вечными проблемами. А началось, в сущ-
ности, с кукольной комедии, которую мальчик Вольфганг Гете увидел в дет-
стве на одном ярмарочном представлении.
108
«Прославленная кукольная комедия звучала и звенела во мне. Я тоже стран-
ствовал по всем областям знания и уразумел всю тщету его. И я пускался во
всевозможные жизненные опыты; они изумили меня и оставляли в душе еще
большую неудовлетворенность. Теперь я вынашивал все эти темы, так же как
и многое другое, тешил себя ими в часы одиночества, но ничего не записывал»
(Гете. «Поэзия и правда»).
Легенда о докторе Фаусте, ученом-чернокнижнике, возникла еще в XVI
столетии. Из уст в уста переходили в народе рассказы о невероятных чудесах,
которые совершал доктор Фауст, сумевший даже вызвать из небытия прекрас-
ную Елену, воспетую Гомером.
Толки о Фаусте были настолько распространены, что в 1587 г. во Франк-
фурте вышла книга некоего Иоганна Шписа, в которой чернокнижник обви-
нялся в связях с сатаной. В 1599 г. была напечатана вторая книга о Фаусте, при-
надлежащая перу Видмана. Легенда о Фаусте перекочевала и в другие страны.
В 1592 г. в Англии предшественник Шекспира Кристофер Марло обработал ее
для сцены («Трагическая история доктора Фауста»). В XVII и XVIII вв. в Гер-
мании распространилось множество лубочных книжек о докторе Фаусте. Сред-
невековый чернокнижник был постоянным героем ярмарочных балаганов и
театра кукол.
Мечта о человеке, сумевшем разгадать тайны природы и подчинить ее себе,
жила в людях с незапамятных времен. Не удивительно, что легенда о докторе
Фаусте, неутомимом, умелом, удачливом мудреце, волновала воображение
народа. Гете взял эту народную легенду и превратил ее в грандиозную нацио-
нальную эпопею.
Начинается трагедия с «Пролога в театре». В беседе директора, поэта и
комического актера, в их различных толкованиях того, что должно быть пока-
зано на сцене, нет непримиримых противоречий; все трое как бы дополняют
друг друга, и в их суждениях о целях и сущности искусства читатель узнает эсте-
тические основоположения создателя «Фауста». Поэт отстаивает высокое
предназначение искусства. Не мишурный блеск, который может обмануть
неискушенные глаза лишь на мгновение, а красота совершенная, истинная,
явившаяся воплощением многолетних дум художника, — вот сущность искус-
ства. Такое искусство становится достоянием веков.
«Потомство! Вот о чем мне речи надоели!» — спорит комический актер. И
его возражение нельзя отвергнуть, ведь искусство, «мощь человечества, живу-
щая в поэте», умение «единичное искусно обобщить», не может, не должно
проходить мимо современников; к ним, к их сердцу и уму прежде всего обра-
щается оно и только через них — к потомкам, к векам. Идти в жизнь, смелей
черпать из нее события, конфликты, чувства. Пусть узнает зритель свое, пере-
житое в прекрасной фантазии поэта. Гете раскрывает тайну обаяния великих
произведений: они дают пищу каждому, удивительнейшим образом умея удов-
летворить всех.
В Прологе директор театра требует:
Весь мир на сцену поместите,
Людей и тварей пышный ряд —
И через землю с неба в ад
Вы мерной поступью пройдите!
109
Итак, гигантские философские проблемы, волновавшие людей в течение
веков, предстанут в трагедии в аллегорическом иносказании, в бытовой карти-
не, шутовской сцене.
Эпическая по тону, образам, широте охвата действительности, она вместе с
тем и вдохновенно-лирична. Здесь будут
...порывы и стремленья,
Блаженство скорби, мощь любви
И жгучей ненависти рвенье.
Во втором вступлении («Пролог на небесах») поэт обращается непосред-
ственно к избранной теме. В нем ключ ко всему произведению. Отсюда исхо-
дит основная идея. Чтобы узнать, как она разрешится, нам еще придется много
постранствовать вместе с Фаустом и Мефистофелем. Перед нами Бог, архан-
гелы и Мефистофель. В аллегорической картине Гете прославляет извечный
материальный мир, поет гимн великой матери-природе. В гармонии вселенной
нерушимы вечные законы бытия материи:
Златое солнце неизменно
Течет предписанным путем.
И ничто не находится в покое, все изменяется, движется («в беге сфер земля
и море проходят вечно»). От мироздания поэт обращает свой взор к Человеку.
Что есть Человек в этом величественном, гармоничном и совершенном
мироздании? Увы, он несчастен, он вечно страдает. Ему жилось бы лучше,
когда бы не его разум — искра Божья.
Разум! Искра Божья! Как много уже в этих словах преклонения немецкого
поэта перед интеллектом человека! Но поэт тут же спешит уведомить нас, что,
обладая этим чудодейственным инструментом, Человек не устроил свою
жизнь. Герой его трагедии, скептик и насмешник Мефистофель, нисколько не
искажает фактов, когда говорит, что мир человеческий устроен дурно: «Там
беспросветный мрак и Человеку бедному так худо». Человек мыслит, но,
пожалуй, от этого страдает еще больше, ибо понимает нелепость многих
социальных институтов, законов, обычаев, предрассудков, понимает, что в
социальных бедах повинна не природа, не вселенная, а он сам — Человек:
Я о планетах говорить стесняюсь,
Я расскажу, как люди бьются, маясь.
Божок вселенной, Человек таков,
Каким и был он испокон веков.
Он лучше б жил чуть-чуть, не озари
Его ты Божьей искрой изнутри.
Он эту искру разумом зовет
И с этой искрой скот скотом живет...
Гете бросает упрек всему Человечеству. Мы слышим этот грозный голос
обвинителя и не находим слов оправдания. Вся история человеческая, полная
войн, насилий, преступлений, угнетения одних другими, вопиющей несправед-
ливости в распределении богатств природы, -^ все говорит о его правоте.
Мефистофель уже не верит в способность Человека исправить свою «скот-
скую жизнь», в своем снисходительном презрении он даже жалеет его («И даже
ПО
я щажу его покуда»), но Бог, создатель мира, а для пантеиста Гете — это сама
благодетельная Природа, Бог смотрит на Человека с оптимизмом.
Он, конечно, не совершенство, этот Человек, но он ищет совершенства, и
в этом — залог его будущих побед:
Знай: чистая душа в своем исканье смутном
Сознаньем истины полна!
Он сделал и сделает, вероятно, еще много глупостей, но в конце концов он
все-таки выберется из лабиринта общественных и личных неурядиц:
Пока еще умом во мраке он блуждает,
Но истины лучом он будет озарен.
Между Богом и Мефистофелем заходит речь о Фаусте, беспокойном, мечу-
щемся, ищущем и неудовлетворенном гении. «Ты знаешь Фауста?» — спраши-
вает Бог. «Он доктор?» — просит уточнений Мефистофель. «Он мой раб», —
отвечает Бог.
Знаменательный разговор. Мефистофель называет Фауста доктором, уче-
ным, иначе говоря, некоей самодовлеющей силой. Для Бога он — раб. А так
как в символике трагедии Гете Бог олицетворяет Природу, то сразу же ста-
вится вопрос; кто же Человек — раб Природы или самостоятельная, в себе и
для себя сущая сила? Ответ содержится в дальнейшей репризе Бога:
Он служит мне, и это налицо,
И выбьется из мрака мне в угоду.
Да, Человек — раб Природы, ибо служит ей, т. е. разумно пользуется ее зако-
нами, ведь нельзя пренебречь ими, но служение Природе обращает в свою
пользу. Сама Природа предначертала Человеку путь к прогрессу («выбьется из
мрака мне в угоду»). В сущности, Гете решается здесь высказать свое суждение
по труднейшему вопросу, над которым ломали и ломают головы философы и
ученые: имеет ли цель природа?
Мефистофель характеризует Фауста, иначе говоря, Человека и Человече-
ство в лице Фауста. Думается, никто еще с такой исчерпывающей полнотой и
неоспоримой убедительностью не говорил о Человеке:
Он рвется в бой, он любит брать преграды,
Он видит цель, манящую вдали,
И требует у неба звезд в награду
И лучших наслаждений у земли.
И ввек ему с душой не будет сладу,
Куда бы поиски ни привели.
Здесь над каждым словом нужно поставить знак восклицания и к каждому
слову приставить тома исторических, социальных, психологических исследова-
ний, и все они в один голос скажут великому поэту, мыслителю, провидцу: «Да!
да! да!»
Человек рвется в бой! Всегда и везде. Без борьбы он не может существо-
вать. Борьба ему нужна как хлеб, как воздух, как сама жизнь. Отнимите от
него все побудительные причины к борьбе — он их изобретет. И в этом каче-
стве все люди одинаковы.
111
Человек любит брать преграды! Найдите человека, который бы не искал
преград, чтобы их преодолеть! Такого нет на земле. Он покоряет пустыни,
джунгли, космос, атом. Он изобрел игры на преграды: шахматы — для ума, бег
с препятствиями, самбо — для тела. Не имея возможности принять участие в
преодолении преград, он становится «болельщиком» и переживает те же страс-
ти, что и участники. И в этом качестве все люди одинаковы.
Человек видит цель, манящую вдали. Обязательно цель! Без цели борьба
теряет смысл. Только цель, осмысленность труда вдохновляет и приносит
радость. Поэтому боги Греции предписали своим оскорбителям как самое
страшное наказание бессмысленный труд (Данаиды, наполняющие бочку, у
которой нет дна, Сизиф, вечно таскающий камни на вершину горы, откуда они
должны обязательно скатиться обратно).
Наконец, Человек никогда не успокоится на достигнутом («с душой не будет
сладу, куда бы поиски ни привели»). Всегда и везде он будет идти и идти дальше
и дальше, бесконечно и неуспокоенно.
Со времен Сократа, провозгласившего призыв «Познай самого себя!», люди
искали ответы на вопросы, что есть Человек, зачем живет, каковы его глав-
нейшие качества. Древние греки даже на своих храмах писали терзающее воз-
звание своего великого философа. Христианские проповедники говорили о
греховности человека, испорченности и порочности его, но в то же время
видели в нем «свет божества», ведь он сотворен Богом по образу и подобию
своему. Гуманисты Ренессанса восславили человека, они пели ему восторжен-
ные гимны, его уму, его физической красоте. В движениях подобен ангелу, в
мыслях — Богу. «Венец природы!» — восклицал Шекспир устами Гамлета.
Монтень посвятил человеку свою книгу «Опыты», многое раскрыв в нем, в его
психологии для историка, политика и художника.
Проблемой человека заняты Макиавелли, Гоббс и свою политическую
доктрину строят, исходя из дурных свойств и качеств человека. Этой пробле-
мой заняты Мандевиль и Шефтсбери в Англии, Руссо во Франции. Одни видели
в человеке изначальное зло (Макиавелли, Гоббс), другие — добро (Шефтсбе-
ри, Руссо). Третьи считали его продуктом влияния среды и воспитания (Локк).
Гете отметил в нем вечные качества, благотворные и необходимые прогрессу.
Его вечная неуспокоенность, вечный поиск нового, вечная неудовлетворен-
ность достигнутым и неиссякаемая энергическая активность, влекущая в бой,
страсть преодолевать трудности, брать преграды — вот инстинкты, заложен-
ные в человеке природой! И да будут благословенны эти инстинкты, ибо они
ведут к совершенствованию и человека, и общества, и самой природы!
В сущности, Гете уже сказал все, что хотел сказать. «Пролог на небесах»
раскрыл его философию, его взгляды на человека, общество, природу.
Дальше пойдет развитие основной темы. Его поэма напоминает гигантскую
симфонию, через которую проходит, то варьируя, то затихая, то набирая силу,
по пути подхватывая новые мотивы, сливаясь с ними, затухая и возгораясь
снова и снова, единая тема — Человек, Общество, Природа.
Сама сцена «Пролога на небесах» напоминает знаменитую книгу Иова из
Ветхого завета Библии, древнейшую философскую (в сущности, богоборчес-
кую) повесть.
В беседе с Эккерманом, своим секретарем, 18 января 1825 г. Гете признался:
«Пролог» моего Фауста имеет много общего с экспозицией Иова». Внимание
112
Гете к Библии было привлечено еще в юности, и, пожалуй, не без влияния его
старшего друга Гердера.
Гердер впервые взглянул на Ветхий завет как на произведение художествен-
ное, увидев в нем собрание народных сказаний и песен («О духе гебраистской
поэзии»). «Книга Иова» — одна из лучших и отточенных книг Ветхого завета.
Молодых бунтарей периода «Бури и натиска», и в том числе молодого Гете, не
могла не привлечь стихия бунта, своеобразного богоборчества, которая насы-
щала эту древнюю легенду.
По жанру книга близка драме. В ней несколько действующих лиц. Среди
них Бог и Сатана, Иов и его друзья. С необыкновенной страстностью и огром-
ной силой аргументации ведется спор, спор на тему добра и зла, на тему косми-
ческой справедливости. Исходный пункт спора: за что нужно угождать Богу,
славить Бога и покоряться ему?
Бог полагает, что покорность человека, служение Богу должно быть беско-
рыстным, так сказать, по чистой любви. Сатана смотрит на вещи иначе, он
усматривает в покорности человека Богу определенный расчет: «Разве даром
богобоязнен Иов? — спрашивает он у Бога. — Не ты ли кругом оградил его и
дом его и все, что у него? Но простри руку твою и коснись всего, что у него, —
благословит ли он тебя?»
Недовольный Бог позволяет Сатане произвести испытание и наслать вся-
ческие беды на Иова. И тот довел несчастного человека до самых мучительных
физических и нравственных страданий, отнял у него детей его, имущество,
заразил его страшной болезнью. Лишенный имущества, детей, изуродованный
болезнью (проказой), Иов страшен всем, кто знал и уважал его прежде. Все
бегут от него:
Дыханье мое опротивело жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего...
Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей...
Лицо мое побагровело от плача, и на веждах моих тень смерти (гл. 16, 19).
И незлобивый Иов, всегда славивший Бога, всегда ему покорный, возроптал:
«Я ко Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом» (гл.
13). (См. об этом в книге «Литература Древнего мира»).
Перед нами бунт человека. Человек осмелился заявить Богу протест, отка-
заться от смирения! И это в «священной» книге, канонической книге двух церк-
вей, — иудейской и христианской. В философском плане — это бунт против
законов и установлений природы и общества. Иов громит вселенское зло. Он
обвиняет Бога, и, надо сказать, обвинения эти очень убедительны: «У сирот
уводят осла», «Бедных сталкивают с дороги», «Нагие ночуют без покрова и без
одеяния на стуже», «В городе люди стонут, и душа убиваемых вопиет, и Бог не
воспрещает того». Десятками страстных стихов Иов корит Бога, пока тот, раз-
гневанный, не «возгремел» ему «из бури»: «Ты хочешь ниспровергнуть суд
Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать себя?»
Как же, однако, защищается Бог? Какие доводы приводит он, чтобы отве-
сти от себя обвинения Иова? «Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь
ли возгреметь голосом, как он?» Как видим, аргумент не сильный. У «ветхоза-
ветных» авторов не нашлось красок, чтобы обелить своего Бога, правда, он
достаточно ярко говорит о красоте сотворенного им мира, о своем могуществе,
113
постоянно спрашивая Иова, мог ли бы он совершить подобное. Но почему он,
Бог, допустил вселенское зло, читатель «Книги Иова» так и не узнает. У Бога
не нашлось ответа на этот вопрос. В конце своей речи «из бури» он высоко-
мерно спрашивает у Иова: «Будет ли состязующийся со Вседержителем еще
учить? Обличающий Бога пусть отвечает Ему». Иов поник головой: «Что я
буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои». И удовлетворенный Бог
возвратил Иову все отнятое у него и даже удвоил его богатства, и умер Иов в
глубокой старости, «насыщенный днями».
Экспозиция «Книги Иова» сохранена в «Прологе на небесах» у Гете, но
проблематика здесь иная. Речь идет уже о нравственной стойкости человека, о
его способности противостоять низменным инстинктам.
Как и в книге об Иове, в гетевском «Прологе на небесах» Бог предлагает
испытание. Пусть попытается Мефистофель совратить Фауста, пусть убьет в
нем высокие порывы, низведет до уровня животного:
Вы торжество мое поймете,
Когда он, ползая в помете,
Жрать будет прах от башмака.
Бог не верит в победу Мефистофеля, но все же разрешает ему совращать Фау-
ста. Беды большой не будет. Пусть бес терзает, волнует, беспокоит человека,
не дает ему расслабиться в самодовольстве и лени. Наши страсти, увлечения, а
их и олицетворяет в данном случае бес Мефистофель, приносят нам страдания,
влекут порой в сторону от верного пути, но они же и поддерживают в нас веч-
ный огонь жизнедеятельности. И наконец, обращаясь к архангелам, а они в
этой сцене славят гармонию мира, Бог, как добрый отец (ведь он — сама При-
рода), называет их детьми мудрости и милосердия, назначает им в славный удел
созерцать и любоваться этой чудесной гармонией мира, видеть мир в вечном
движении, в борьбе, страданиях, мыслить и понимать его.
ФАУСТ И МЕФИСТОФЕЛЬ
В философии Гете идея диалектического единства противоположностей
является, пожалуй, одной из главных идей. В борьбе противоречий созидается
гармония мира, в столкновениях идей — истина. Поэт постоянно напоминает
нам об этом. (В дни Гете, как известно, создавалась диалектика Гегеля.) Два
героя произведения немецкого поэта — Фауст и Мефистофель — наглядно
демонстрируют это диалектическое родство положительного и отрицатель-
ного начал.
Рожденный суеверной народной фантазией, образ Мефистофеля в произве-
дении Гете воплощает в себе дух отрицания и разрушения.
Мефистофель многое разрушает и уничтожает, но он не может уничтожить
основное — жизнь:
Бороться иногда мне не хватает сил, —
Ведь скольких я уже сгубил,
А жизнь течет себе широкою рекою...
114
В сущности, он тоже созидает через отрицание:
...Частица силы я,
Желавшей вечно зла, творившей лишь благое.
Н. Г. Чернышевский оставил глубокомысленные суждения об этом персонаже:
«Отрицание, скептицизм необходимы Человеку, как возбуждение деятельно-
сти, которая без того заснула бы. И именно скептицизмом утверждаются
истинные убеждения». Поэтому в споре Фауста и Мефистофеля, а они посто-
янно спорят, нужно всегда видеть некое взаимное пополнение единой идеи.
Гете не всегда за Фауста и против Мефистофеля. Чаще всего он мудро при-
знает правоту и того и другого.
Вкладывая в свои образы высокие философские иносказания, Гете отнюдь
не забывает о художественной конкретности образа. В Фауста и Мефистофеля
вложены определенные человеческие черты; поэт обрисовал своеобразие их
характеров. Фауст — неудовлетворенный, мятущийся, «бурный гений», страс-
тный, готовый горячо любить и сильно ненавидеть, он способен заблуждаться
и совершать трагические ошибки. Натура горячая и энергичная, он очень чув-
ствителен, его сердце легко ранить, иногда он беспечно эгоистичен по неведе-
нию и всегда бескорыстен, отзывчив, человечен. Пушкин «В сцене из Фауста»
вложил в него черты романтической пресыщенности. Это — Онегин, скуча-
ющий, рано познавший наслаждения и рано ощутивший оскомину. Он уже
ничего не ищет, ничего не хочет, живет зевая. В нем есть что-то от гетевского
Мефистофеля. Фауст же Гете не скучает. Он ищет. Ум его в постоянных сом-
нениях и тревогах. Страдания Фауста суть пытливое, придирчивое, страстное
стремление к истине. Фауст — это жажда постижения, вулканическая энергия
познания. Фауст и Мефистофель — два антипода. Первый жаждет, второй
насыщен, первый алчет, второй сыт по горло. Мефистофель играет с Фаустом,
как с неразумным мальчиком, смотря на все его порывы как на капризы, и
весело им потакает — ведь у него, Мефистофеля, договор с самим Богом.
Мефистофель уравновешен, страсти и сомнения не волнуют его грудь. Он
глядит на мир без ненависти и любви, он презирает его. В его колких репликах
много печальной правды. Это отнюдь не тип злодея. Он издевается над гуман-
ным Фаустом, губящим Маргариту, но в его насмешках звучит правда, горькая
даже для него — духа тьмы и разрушения. Это тип человека, утомленного дол-
гим созерцанием зла и разуверившегося в хороших началах мира. Он не похож
на Сатану Мильтона. Тот страдает. В его груди — пламень. Он сожалеет о
потерянном Эдеме и ненавидит Бога. Он жаждет мести и непреклонен, горд и
свободолюбив. Свобода для него дороже Эдема. Мефистофель не похож на
лермонтовского Демона. Тот устал от вечности. Ему холодно в просторах все-
ленной. Он хочет любви простой, человеческой. Он готов положить к ногам
смертной девушки и вечность, и все свое могущество. Но оно бессильно перед
непритязательным сердцем смертной девушки. Вечность и бесконечность
ничтожны в сравнении с кратким, как миг, счастьем смертного. И он, лермон-
стовский Демон, печален. Неизбывную тоску в его прекрасных глазах
гениально изобразил Врубель, который, думается, как никто другой, проник в
идею поэта.
Мефистофель Гете подчас добрый малый. Он не страдает, ибо не верит ни
в добро, ни в зло, ни в счастье. Он видит несовершенство мира и знает, что
115
оно — вечно, что никакими потугами его не переделать. Ему смешон человек,
который при всем своем ничтожестве пытается что-то исправить в мире. Ему
забавны эти потуги человека, он смеется. Смех этот снисходительный. Так
смеемся мы, когда ребенок сердится на бурю. Мефистофель даже жалеет чело-
века, полагая, что источник всех его страданий — та самая искра Божья, кото-
рая влечет его, человека, к идеалу и совершенству, недостижимому, как это
ясно ему, Мефистофелю.
Мефистофель умен. Сколько иронии, издевательства над ложной учено-
стью, тщеславием людским в его разговоре со студентом, принявшим его за
Фауста!
Теория, мой друг, суха,
Но зеленеет жизни древо.
(Перевод Б. Пастернака.)
Он разоблачает потуги лжеучения («Спешит явленья обездушить»), ирони-
чески поучает юнца: «Держитесь слов», «Бессодержательную речь всегда
легко в слова облечь», «Спасительная голословность избавит вас от всех невз-
год», «В того невольно верят все, кто больше всех самонадеян» и т. д. Попутно
Гете устами Мефистофеля осуждает консерватизм юридических основ обще-
ства, когда законы — «как груз наследственной болезни»:
Иной закон из рода в род
От деда переходит к внуку.
Он благом был, но в свой черед,
Стал из благодеянья мукой.
Вся суть в естественных правах,
А их и втаптывают в прах.
(Перевод Б. Пастернака.)
* * *
Трагедия «Фауст» имеет две части. Первая делится на 25 сцен, вторая вклю-
чает в себя пять актов. Построенная по образцу шекспировских хроник с мно-
гочисленными эпизодическими персонажами, с множеством лаконичных,
самых разнообразных сцен, она переносит читателя из одной части света в дру-
гую, в фантастическую обстановку шабаша ведьм в горах Гарца («Вальпурги-
ева ночь») или в компанию гуляк в погребок Ауэрбаха в Лейпциге, в комнату
Маргариты или в мрачную тюрьму, где томится юная грешница. Смешение
реального с фантастическим, своеобразная двуплановость повествования
заставляет читателя постоянно подниматься над фактом, искать в единичном
обобщающую закономерность, за мелочью прозревать великое. Жизнь чело-
вечества в ее величии и вместе с тем в мелочно-хлопотливой суете является
здесь объектом поэтических раздумий, печали, восторга и возмущения автора.
Не судьба отдельного человека, а весь мир, огромный, еще не познанный до
конца, все человечество с его исторической судьбой волнует поэта.
Первая часть. Фауст многие годы отдал науке. Он мудр и учен. К нему
издалека стекаются ученики. Слава о его обширных познаниях разнеслась
повсеместно. Но Фауст тоскует. Он один знает цену своим знаниям — они
116
ничтожны в сравнении с огромным морем неразгаданных тайн природы: «На-
прасно истину ищу! Когда ж учу людей, их научить, улучшить не мечтаю».
Он раскрывает книгу и видит знак макрокосма. Все озаряется в нем. Новые
силы вливаются в его грудь. Он снова полон энергии. Пытливая мысль влечет
его вперед и вперед. Минутное уныние исчезает. Нет, он не раб природы, не
мелкий червь — он царь природы, он бог:
Не бог ли я? Светло и благодатно
Все вкруг меня! Здесь с дивной глубиной
Все творчество природы предо мной!
Фауст готов броситься в битву, ринуться на бесчисленных врагов человека,
мешающих ему наслаждаться жизнью, преграждающих ему путь к счастью:
«Мне хочется борьбы, готов я с бурей биться!»
* * *
Гете постоянно возвращается к теме природы. Человек дивится ею, восхи-
щается ее вечной красотой, но прежде всего он познает ее, и в этом познании
Природы — источник его господства над нею и, пожалуй, счастья. Фауст тор-
жественными белыми стихами говорит об этой великой своей миссии:
Ты дал мне в царство чудную природу,
Познать ее, вкусить мне силы дал:
Я в ней не гость, с холодным изумленьем
Дивящийся ее великолепью, —
Нет, мне дано в ее святую грудь,
Как в сердце друга бросить взгляд глубокий.
Герцен усмотрел в духовной истории Фауста нечто гамлетовское — «стра-
дание мысли». Фауст пережил сильнейшее внутреннее потрясение. Он усом-
нился в силе своего интеллекта. После долгих лет кропотливого труда он вдруг
ощутил крайнюю неполноту и даже призрачность своих знаний.
Натура сильная, горячая, он готов теперь все отвергнуть. Распалась уютная
гармония его души, рухнули привычные жизненные принципы, на которые он
опирался, в которые верил. В состоянии отчаяния он готов уже наложить на
себя руки, и только колокольный звон, напомнив ему о его безоблачном дет-
стве и красоте жизни, остановил руку, подносившую ко рту кубок с ядом.
Это случилось в пасхальные дни. Ликующий народ, песнопения во славу
воскресения Христа, весеннее небо — все это символизирует возрождение жиз-
ненных сил мятущегося героя Гете. Но он полон сарказма. Он обрушивает град
проклятий на все и вся. В обществе людей царят пороки; ложь, хитрость,
корысть опутывают их души. Золотой божок, Мамон, владеет ими. Да будет
проклят Мамон! Да будут прокляты мечты о семейном счастье иллюзии любви
с их хмелем страстей, надежды, высокие порывы — все, все, что пьянит и обо-
льщает человека!
И особенно будь проклят завет «терпенья» и та «вечная песенка», которой
с детства нам прожужжали уши: «Смиряй себя! Умей отказываться! Желай
достижимого! Умей лишать себя!» Мы слышим голос молодого Гете, штюрме-
ра, бурного гения, голос юного Вертера, не пожелавшего принять эту пропис-
117
ную мудрость обывателей. Он снова в неизбывной горечи и тоске возвра-
щается к мятежной своей юности. Видимо, не все ее огни угасли в нем. Впро-
чем, Гете предупреждает нас, что Фауст не уйдет в сферу безнадежного песси-
мизма, что на обломках разрушенной гармонии он построит новую. Хор духов,
а в нем отчетливо слышен голос самого автора, призывает Фауста одуматься:
«Чудесное зданье разбито в куски, ты градом проклятий его расшатал... но
справься с печалью. Воспрянь, полубог! Построй на обвале свой новый чер-
тог».
В минуту отчаяния Фауста подстерег Мефистофель. «А! Он отказался от
разума, он разуверился в силе знаний. Что ж, теперь он в моих руках, он
мой!» — потирает руки довольный бес.
Я жизнь изведать дам ему в избытке,
И в грязь втопчу, и тиной оплету.
Он у меня пройдет всю жуть, все пытки,
Всю грязь ничтожества, всю пустоту, —
ликует Мефистофель. Словом, речь идет о том, чтобы погрузить Фауста в тря-
сину страстей. Фауст идет на договор с Мефистофелем. Он не догадывается о
коварном замысле беса.
Особый философский смысл заложен Гете в формулу договора между
двумя героями трагедии. Фауст полагает, что человеческие желания безгра-
ничны, что вечная неудовлетворенность достигнутым будет сопровождать
людей. Мефистофель утверждает обратное: достаточно человеку дать самые
низменные наслаждения, и он забудет обо всем и предпочтет вечному движе-
нию вперед прозябание на месте ради минутных радостей.
Фауст. Когда на ложе сна, в довольстве и покое,
Я упаду, тогда настал мой срок!
Когда ты льстить мне лживо станешь
И буду я собой доволен сам,
Восторгом чувственным когда меня обманешь,
Тогда — конец! Довольно спорить нам!
Мефистофель. Идет!
Фауст. Ну, по рукам!
Когда воскликну я: «Мгновенье,
Прекрасно ты, продлись, постой!» —
Тогда готовь мне цепь плененья,
Земля, разверзнись предо мной!
Договор заключен. Мефистофель, презирая людей и их представителя Фау-
ста, не может понять его. Ему кажется, что Фауст слишком много философ-
ствует, тогда как нужно эгоистически брать от жизни щедро рассыпанные ею
радости:
Кто философствует, тот выбрал путь плохой,
Как скот голодный, что в степи сухой
Кружит себе, злым духом обойденный,
А вкруг цветет роскошный луг зеленый...
118
Фауст спорит с ним. Он не о себе печется. Его заботит судьба всего челове-
чества. Он хочет познать смысл жизни:
Не радостей я жду, — прошу тебя понять!
Я брошусь в вихрь мучительной отрады,
Влюбленной злобы, сладостной досады;
Мой дух, от жажды знанья исцелен,
Откроется всем горестям отныне;
Что человечеству дано в его судьбине,
Все испытать, изведать должен он!
Я обниму в своем духовном взоре
Всю высоту его, всю глубину;
Все соберу я в грудь свою одну,
До широты его свой кругозор раздвину,
И с ним, в конце концов, я разобьюсь и сгину!
В ПОГРЕБКЕ АУЭРБАХА
И Мефистофель исполняет желания Фауста, показывает ему «человеческий
мир». Они в погребке Ауэрбаха в Лейпциге1. Живописная реалистическая кар-
тинка пирушки захмелевших гуляк. Веселые, грубоватые шутки, смех, песни:
...Вот буйная ватага:
Взгляни, как жить возможно без забот!
Для них, — что день, то праздник настает.
С плохим умом, с большим весельем, в мире
Ребята скачут в танце круговом.
Этой сценой «скотства во всей красе» Мефистофель подкрепляет свой пес-
симистический взгляд на человека. Он лукаво поглядывает на Фауста, как бы
говоря ему: «Вот твое „человечество" и его „высокие" порывы».
Широкой популярностью пользуется песенка Мефистофеля, исполненная
им перед компанией пьяных гуляк в погребке Ауэрбаха. В ней заложен полити-
ческий смысл. Блоха, ставшая министром, окруженная почетом и роскошью по
прихоти короля! Немало лиц, стоявших у государственного руля, узнавало себя
в знаменитой мефистофельской блохе.
«КУХНЯ ВЕДЬМЫ»
Мефистофель привел Фауста в пещеру колдуньи, чтобы вернуть ему моло-
дость. Вековечная мечта человечества о неувядаемой юности предстает здесь
перед духовным взором Фауста как заветное стремление поколений, как
далеко зовущая цель деятельной жизни человеческого разума:
1 Его показывают и ныне туристам. У входа их встречают две бронзовые фигуры — Фауста и
Мефистофеля.
119
Ужель природа и могучий дух
Нам не дадут бальзама возрожденья?
Колдунья и прислуживающие ей мартышки олицетворяют собой силы, вра-
ждебные разуму. Недаром ведьма в колдовском причитании высказывает
толки о недоступности истинного знания мыслящим людям, о мистическом
откровении, ниспосылаемом якобы лишь существам, лишенным рассудка:
Познанья свет
Для всех секрет,
Для всех без исключенья!
Порою он,
Как дар, сужден
И тем, в ком нет мышленья.
Ведьма, открыв книгу, читает по ней бессмысленные заклинания, Фауст
возмущен этим набором вздора.
Маргарита
Лучшие страницы первой части «Фауста» посвящены описанию встречи
доктора и Маргариты, их любви и трагической гибели девушки. Стихи Гете
были потом положены на музыку в знаменитой лирической опере француз-
ского композитора Гуно «Фауст» (1859).
В Маргарите1 мы узнаем черты Лотты из романа «Страдания молодого Верте-
ра». В ней те же милые сердцу поэта душевная чистота, простосердечие, чут-
кость. Она всецело доверилась Фаусту — прекрасному незнакомцу, встречен-
ному ею случайно на деревенском празднике. Он завладел ее сердцем, умом. В
нем сконцентрировались все ее помыслы, мечты, надежды. Мир Маргариты
неширок. Бедная утварь дома, деревенская улица, поле, березовая роща да цер-
ковь с колокольным звоном — вот к чему привыкла она с детства. Религиозная
мать и деревенский священник внушили ей несколько строгих правил морали,
которые стали для нее священным законом жизни. Она трудится от зари до
зари, нисколько не тяготясь бременем бедности, и принимает мир таким, какой
он есть, не задумываясь, не мудрствуя лукаво. Если что-нибудь ей кажется дур-
ным, она лишь молится Богу, полагая, что только ему принадлежит право
искоренять зло.
Фауст покорил ее своим умом. Она смутно почувствовала из его речей, что,
кроме ее круга привычных понятий и представлений, есть другой, широкий
мир, неведомый ей, мир мысли, богатой жизни интеллекта:
Ах, Боже мой, как он учен!
Чего не передумал он!
А я — краснею от стыда,
Молчу иль отвечаю: да...
1 По-немецки сокращенно, ласкательно — Гретхен.
120
Девушка по натуре своей склонна любить, снисходительно прощать недо-
статки, смиряться. Ей чужд дух сомнения, отрицания, борьбы. Поэтому она
теряется перед Мефистофелем. Его насмешливый взгляд, его язвительные
речи внушают ей страх. Она пугается его, инстинктивно чувствуя в нем проти-
воположные своей незлобивой натуре черты:
Нет, жить с таким я не могла бы дружно!
Он всякий раз, как явится сюда,
Глядит вокруг насмешливо всегда,
В глазах его таится что-то злое,
Как будто в мире все ему чужое;
Лежит печать на злом его челе,
Что никого-то он не любит на земле!
Фауст покорен душевной чистотой Гретхен. Однако, едва добившись любви
девушки, он покидает ее. Наслаждения чувственные не могут удовлетворить
всех потребностей Фауста. Последние страницы первой части «Фауста» мрач-
ны. Страшные, уродливые лики Вальпургиевой ночи как символы всех темных
сил общества проносятся перед доктором и Мефистофелем. В тюрьме ждет
казни Маргарита. Ночью на вороных конях мчатся к ней Фауст и бес. Романти-
ческую картину этого запечатлел в своей гравюре французский художник
Делакруа. Гете потом с большой похвалой отозвался о ней. Маргарита лиши-
лась рассудка. Она сознает страшную свою вину, но по-прежнему всем сердцем
стремится к Фаусту, и последние ее слова обращены к нему.
* * *
Гете, ум глубокий и творческий, с величайшим презрением относился к дог-
матическому педантизму того сорта ученых, которые во все времена, цепляясь
за авторитеты и «аксиомы», тормозили развитие наук. Он противопоставляет
два типа ученых — Фауста и Вагнера. Беспокойная творческая неудовлетво-
ренность достигнутым — отличительная черта первого. Ученость, не знающая
сомнений, пошлое, тупое самодовольство, оторванность от народа и реальной
жизни — вот качества второго.
Фауст говорит своему коллеге:
Что значит знать? Вот, друг мой, в чем вопрос.
На этот счет у нас не все в порядке.
Немногих, проникавших в суть вещей
И раскрывавших всем души скрижали,
Сжигали на кострах и распинали.
Вагнера нисколько не волнуют такие мысли, он далек от них. Его ученость
книжная. Он закрывается в своем темном кабинете, как улитка в раковине:
Ах, то ли дело поглощать
За томом том, страницу за страницей,
И ночи зимние так весело летят,
И сердце так приятно бьется.
А если редкий мне пергамент попадется,
Я просто в небесах и бесконечно рад.
121
Беседа с Вагнером, с «ничтожнейшим из всех сынов земли», глубоко взвол-
новала Фауста. Мысль невольно обратилась к слабостям и недостаткам людей.
Как много желаний и стремлений заложено в человеке, благородных побужде-
ний, благих порывов, и все они разбиваются о житейские мелочи, тонут в тине
повседневных дрязг:
К высокому, прекрасному стремиться
Житейские дела мешают нам.
Нам страшно за семью, нам жаль детей, жены;
Пожара, яда мы страшимся в высшей мере,
Пред тем, что не грозит, дрожать обречены,
Еще не потеряв, уж плачем о потере.
Знаменателен в трагедии эпизод с Библией. Фауст хочет перевести древний
иноязычный текст книги на «наречье милое Германии родной». Сразу же воз-
никает затруднение. Как понять первые слова Библии (Евангелие от Иоанна):
«Вначале было слово» (по-гречески Logos). «Слово ли?» — усомнился Фауст.
Так что же, мысль? Вначале была мысль (давнее утверждение идеалистов: со-
знание первично). Но Гете интересует другая сторона вопроса: что главное в
бытии — слово, мысль, сила или что-то другое? И Фауст переводит греческое
слово Logos как дело, деяние (Die Tat). Эти мысли поэт разовьет во второй
части своей трагедии.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ «ФАУСТА»
Написана эта часть уже в XIX столетии. Великие события произошли за это
время в мире: французская революция, наполеоновские войны, Реставрация во
Франции и в Италии после 1815 г.
Время принесло новые взгляды, новые понятия. Дух капиталистической
наживы обуял правящие классы. Много нового предстало духовному зрению
великого Гете и отразилось в его произведении. Фауст пережил глубокий нрав-
ственный кризис, потеряв трагически погибшую Гретхен. Он познал «жесто-
кую боль упрека», тяжелую внутреннюю борьбу. Он много страдал. Утомлен-
ный, в беспокойном сне он лежит теперь на цветущем лугу. Над ним летают
светлые духи, эльфы как символ вечной радости жизни. «Кто он — святой или
страшный грешник?» — спрашивают они. Ясно одно: он несчастен, и да забу-
дутся его печали. Пусть Лета, река забвения, окропит своей росой его нрав-
ственные раны, и возвратится он к жизни, бодрый и укрепленный.
Достижимы все стремленья;
Посмотри: заря ясна! —
нашептывает на ухо спящему Фаусту дух пробуждения и зовет его к свершению
великих дел, к нравственному совершенствованию. «Всемогущ, кто чист
душою». И Фауст пробуждается от сна к деятельной жизни и славит жизнь, мир
и всю природу:
Земля, ты вечно дивной остаешься!
122
Далее сцена меняется. Фауст при дворе императора. В аллегорической форме
обсуждаются здесь важнейшие социальные и политические проблемы времен
Гете. Грозным предостережением венценосным тиранам звучат слова одного
из чиновников императора:
Средь этой бездны зла и разрушенья
И самый сон не безопасен твой.
Другой чиновник вторит ему:
Хоть короли кой-где еще и правят,
Но им опасность не ясна.
Фауст и Мефистофель устраивают маскарад и грандиозное театральное
представление. В маскарадных костюмах предстают здесь аллегорические
фигуры. Скряга с куском золота, бог подземного мира Плутон, богини судьбы
Парки, ткущие нить человеческой жизни, богини-мстительницы Фурии.
Пожар, происшедший во время маскарада, символизирует революцию. «Сам
император наш в огне!.. Он гибнет! Двор с ним гибнет весь!» — раздаются
крики толпы.
Намек Гете ясен. Он не сочувствует революции, он считает ее неизбежным
следствием чрезмерных злоупотреблений деспотизма, учреждающего царство
зла и порока:
О власть, о власть, — избыток сил
Когда с рассудком совместишь?
Французская революция открыла царство денег. Деньги стали сокровенней-
шим жизненным принципом общества. Мефистофель в трагедии Гете создает
призрак богатства. Бумажные деньги, введенные им, возбуждают хищничес-
кие инстинкты приближенных императора. Каждый мечтает о роскоши, о
наслаждениях, о праздности, и никому не приходит в голову мысль о том, что
истинное благосостояние создается трудом. Тщетно символическая фигура
Мудрости во время маскарада напоминает о труде, говоря богине Победы:
Блеск и чудное сиянье
Ту богиню окружают;
Славой труд она венчает,
И Победа ей названье.
Царство денег, банка, биржи, захватнические войны, кровопролития, пора-
бощение целых народов — все это находит в Гете сурового судью:
...служит золото стократ
На воровство и на разврат,
Железо нужно гордецам,
Чтоб сеять смерть то здесь, то там.
* * *
Великое искусство профанируется в мире тунеядцев. Возрожденное анти-
чное искусство в лице Елены и Париса, представшее на сцене придворного
театра, вызывает лишь пошлые толки. Только Фауст, презревший мир льсте-
123
цов, окружавших трон императора, поражен красотой Елены. Пылкое и беспо-
койное сердце зовет его к новой цели. Цель эта — прекрасное. Елена — символ
непреходящей красоты, рожденной в Древней Греции. Фауст воспламенен; он,
кажется, понял теперь смысл жизни: он заключается в служении красоте:
О красоты роскошный идеал!
Тебе всю жизнь, все силы мощной воли,
Мольбу и страсть безумную мою,
Мою любовь и нежность отдаю.
Фауст снова в своем темном кабинете. После долгих странствий он встре-
чается с Вагнером. Доктор в жизни искал объяснения смысла бытия людей.
Вагнер, его ученый собрат, закрывшись в тени кабинета, отгородившись от
всего мира, создавал искусственного человека.
Может ли человек быть удовлетворенным до конца? Нет, отвечает Фауст,
ибо человеческим стремлениям нет предела, ибо всякий предел кладет конец
движению, а человек должен всегда идти вперед:
...Вперед, средь счастья и мученья,
Не проводя в довольстве ни мгновенья!
Фауст борется со стихией. Он отвоевывает у моря землю и на ней поселяет
целые народы. Он строит. Он хочет видеть народ счастливым, свободным,
живущим в материальном изобилии. Теперь он понял жизни цель: она в созида-
тельном труде на благо человечества, она в борьбе за лучшие идеалы челове-
чества. Истина, которую он так долго искал, страдая и заблуждаясь, найдена.
Она прекрасна, эта истина, и Фауст счастлив, он переживает самую светлую
минуту своей жизни:
...Жизни годы
Прошли не даром; ясен предо мной
Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой!
Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной
Дитя, и муж, и старец пусть ведет,
Чтоб я увидел в блеске силы дивной
Свободный край, свободный мой народ!
Тогда сказал бы я: мгновенье!
Прекрасно ты, продлись, постой!
И не смело б веков теченье
Следа, оставленного мной!
В предчувствии минуты дивной той
Я высший миг теперь вкушаю свой.
С этой мыслью Фауст умирает. Мефистофель и все темные призраки пыта-
ются опровергнуть жизнедеятельную сущность морали Фауста. «Все, все идет
к уничтоженью!» — заявляет Мефистофель, и ему вторит хор духов смерти —
лемуров.
Гете не хочет уходить и от сложностей вопроса. В той насмешливой речи,
которую произносит над трупом Фауста скептик Мефистофель, много смысла:
124
Конец! Нелепое словцо!
Чему конец? Что, собственно, случилось?
Раз нечто и ничто отождествилось,
То было ль вправду что-то налицо?
Поколения и народы уходили. След их затеривался в забвенье. Не все ли
равно, как если бы их и вовсе не существовало? («Нечто и ничто отождестви-
лось».)
Все кончено. А было ли начало?
Могло ли быть? Лишь видимость мелькала.
Все минувшее уходит безвозвратно. Прошлое рассеивается, как сон, прев-
ращается в небытие и в конце концов равносильно промелькнувшей иллюзии,
нереальности («лишь видимость мелькала»). Отсюда напрашивается вопрос:
Зачем же созидать? Один ответ:
Чтоб созданное все сводить на нет.
В этой мрачной философии Мефистофеля сконцентрированы все аргу-
менты пессимистов, от библейского Экклезиаста до современных экзистен-
циалистов. Что же отвечает на это сам Гете? Согласен ли он с мыслями
своего Мефистофеля? Прямого ответа нет. После дурачеств и шутовской
клоунады Черта на сцене появляются Патер Профундис (Бездна) и Патер
Серафикус (Небеса). Они говорят о любви, символизирующей гармонию ми-
ра. Любовь все объединяет, иначе говоря, всюду царит идеальная слаженность
вселенной:
И высящиеся обрывы
Над бездной страшной глубины,
И тысячи ручьев, шумливо
Несущиеся с крутизны,
И стройность дерева в дуброве,
И мощь древесного ствола
Одушевляются любовью,
Которая их создала.
Гете не спорит с Мефистофелем. Было бы нелепо отрицать его доводы в
пользу безрадостного пессимизма. Существует, конечно, смерть, существует
гибель и конец как дурного, так и самого прекрасного в мире, забвение покры-
вает прошлое и как бы уничтожает начисто все, что существовало, будто и не
было ничего, но... но... все же мир прекрасен и стоит жить, бороться, созидать.
Конечный ответ дает Хорус Мистикус (хор непостижимых истин). Он поет о
том, что цель счастья — существование в активной деятельности, в стремлении
к цели («Цель бесконечная здесь — в достижении»). К этой цели влечет нас
заложенный в нас вечный и неистребимый инстинкт созидания. Мы живем,
чтобы творить новую жизнь. В этом и заключена «заповеданность истины».
«Вечная женственность (женщина рождает жизнь, женственность — символ
созидания) тянет нас к ней». Этими стихами и заканчивается широкая, как мир,
и глубокая и неисчерпаемая трагедия великого Гете.
125
Гете создавал свою трагедию в течение 60 лет, и она стала его своеобраз-
ным дневником. В ней можно без труда отметить «наслоения» различных эпох
его духовной жизни. Мы обозрели очень немногое, лишь видимую часть этого
гигантского айсберга мысли. Исчерпывающее толкование трагедии-поэмы
вряд ли вообще возможно. Гете «весь мир на сцену поместил», а мир велик и
неисчерпаем. Гете заповедал человечеству любовь к природе и жизни, оптими-
стическое приятие законов вселенной и оптимистическую идею вечного,
никогда не удовлетворимого созидания.
* * *
Гете умер в 1832 г. в глубокой старости, на 83-м году жизни. 32 года он про-
жил в XIX столетии. Это была уже иная эра в жизни человечества.
Всеобъемлющий ум Гете четко уловил начало перемены, оценив всемирно-
историческое значение французской революции. Поэт был в лагере герцога
Брауншвейгского в битве при Вальми, когда армии интервентов были разгром-
лены революционными войсками. «Господа, мы присутствуем при рождении
новой эры, и вы вправе утверждать, что видели ее начало собственными глаза-
ми», — заявил тогда Гете. Убеленный сединами, всегда бодрый, живо интере-
сующийся событиями политической и культурной жизни, Гете в XIX столетии
был поистине главой всех поэтических сил мира. Уходя в могилу, он отечески
приветствовал молодые таланты. Он посылает Пушкину свое перо, он горюет
и сожалеет о рано погибшем Байроне, приветствует первые творческие шаги
Стендаля в то время, когда имя писателя было еще безвестным даже на его
родине.
К Гете, как в свое время к Вольтеру, тянулись все молодые, еще только
начинающие раскрываться поэтические таланты. Для них это был патриарх,
благословение которого служило славным напутствием в жизни, труде, борь-
бе. В 1824 г. состоялось свидание юного Гейне с престарелым Гете.
Байрон послал создателю «Фауста» своего «Сарданапала». Он писал:
«Великому Гете иностранец дерзает поднести дань уважения литературного
вассала своему ленному господину, первому из современных писателей, создав-
шему литературу в своем собственном отечестве и прославившему литературу
европейскую».
ДВА ВЕКА
Возвратясь из Арзрума, написал послание к князю... (Юсупову). В
свете оно тотчас же было замечено, и... (Юсуповы) были мною
недовольны.
А. С. Пушкин к П. А. Вяземскому
Н. Б. Юсупов — екатерининский вельможа. Потомок того самого Юсуфа,
который когда-то был взят Иваном Грозным в качестве заложника при взятии
Казани. Сказочно богат. Его имение Архангельское под Москвой с дворцом,
домашним театром, с великолепным парком до сих пор привлекает теперь уже
толпы туристов. Мимоходом замечу: по дороге в имение вы должны проехать
через два селения — одно называется Гольево; второе — Раздоры (!). Замечу,
тоже мимоходом, что это роскошное поместье избрал для своего жительства
после 1917 г. известный поборник «равенства и братства» Лев Троцкий.
Юсупов прожил пятьдесят лет в XVIII в. и примерно тридцать — в XIX.
Живой свидетель двух эпох. В бумагах Пушкина сохранился рисунок — порт-
рет князя, сделанный поэтом. Согбенный старичок небольшого роста с очень
добродушным лицом.
Пушкин побывал в Архангельском. Радушно был встречен хозяином. В
парке в честь этого посещения поставлен памятник великому гостю, как, впро-
чем, и другим именитым гостям — Екатерине Великой и Александру I Благо-
словенному.
Юсупов был прекрасный собеседник, и Пушкин слушал с интересом его вос-
поминания:
Я слушаю тебя: твой разговор свободный
Исполнен юности.
Каков же XVIII век, по воспоминаниям вельможи? Он расскажет, конечно,
о своем путешествии по Западной Европе, о встречах с знаменитыми людьми.
Пушкин воссоздал картину этого путешествия воображением поэта и умом
философа и историка.
Юсупов, «посланник молодой увенчанной жены» (Екатерины Великой),
являлся в Ферней, где в те дни пребывал великий старец, властитель умов,
Вольтер:
...и циник поседелый
Умов и моды вождь, пронырливый и смелый,
Свое владычество на Севере любя,
Могильным голосом приветствовал тебя.
С тобой веселости он расточал избыток,
Ты лесть его вкусил, земных богов напиток.
128
Паломничество к Вольтеру входило в обязательную программу путешествий
русской знати. Побывала у него и Екатерина Романовна Дашкова, президент
Российской Академии наук.
Далее путь молодого Юсупова лежал к Парижу, ко двору Людовика XV, в
Версаль.
Там веселилась аристократия, не думая, не гадая о том, что будет завтра,
повторяя вслед за маркизой Помпадур: «После нас хоть потоп!» В центре всех
празднеств была сама маркиза, а после нее, уже при следующем короле Людо-
вике XVI его супруга Мария-Антуанетта:
Пророческих очей не простирая вдаль,
Там ликовало все. Армида молодая (Мария-Антуанетта. — С. Л.)
К веселью, роскоши знак первый подавая,
Не ведая, к чему судьбой осуждена,
Резвилась, ветреным двором окружена.
А судьба была ужасна. Голова Людовика XVI была отрублена на одной из
площадей Парижа. Тело казненного долго пролежало не погребенное на клад-
бищенской земле с отрубленной головой между ног. Через некоторое время
состоялся суд над королевой с позорящими подробностями, после тяжких испы-
таний в тюрьме Консьержери, лишений и унижений. Художник Давид (а он
поставил свою подпись под приговором о смертной казни короля) набросал
карандашом портрет Марии-Антуанетты со связанными руками, в колпаке, в
рубище, на телеге, следующей на казнь.
«Покайтесь перед смертью, сударыня, иначе вас ждет ад», — сказал ей свя-
щенник, предлагая причастие и отпущение грехов. Экс-королева оттолкнула
руку с крестом: «Я испытала ад уже на земле». И тело этой гордой женщины
пролежало не погребенное на кладбище с отрубленной головой между ног в
течение двух недель. Потом тело бросили в яму и засыпали негашеной изве-
стью.
Тогда же пали головы под ножом гильотины, изобретенной в те же дни ради
облегчения труда палача, головы представителей самых знаменитых и знатных
фамилий, ведущих свой род от рыцарей крестовых походов и времен Карла
Великого (XV в.). 250 могил королевской усыпальницы в Сен-Дени были
вскрыты, кости выброшены на свалку. Голову герцогини де Л амбал ь, при-
ятельницы Марии-Антуанетты, несли на пике вместе с интимными органами ее
тела к Тамплю, где содержалась под стражей королевская семья. «Народ
бывает страшен...» — обмолвился однажды Наполеон.
Ничего этого не мог тогда предвидеть никто. Екатерина Великая вела весе-
лую игру ума в переписке с Вольтером, прусский король Фридрих II восхи-
щался сочинениями того же «возмутителя спокойствия», аристократы благово-
лили к Жан-Жаку Руссо, подрывавшему основы тех самых социальных устоев,
на которых покоилось их благополучие и безмятежная жизнь. Не знала, не
понимала тогда вся Европа, увлекшаяся острой и занимательной публицисти-
кой французских философов. Исторический горизонт казался чистым,
социальные основы твердыми и непоколебимыми. Оставалось только насла-
ждаться. И вот...
Все изменилось. Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий,
129
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом смененные забавы.
Так завершился век. Буря пронеслась над Францией и всколыхнула всю
Европу. Деятели Просвещения, властители умов XVIII в., свершив свое дело,
подготовив эти умы к революции, не дожив до нее и, конечно, не представляя
себе, какой она будет, сошли с исторической сцены. О них почти забыли или
даже прокляли:
Давно Ферней умолк. Приятель твой Вольтер,
Превратности судьбы разительный пример,
Не успокоившись и в гробовом жилище,
Доныне странствует с кладбища на кладбище.
Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни, Дидерот,
Энциклопедии скептический причет,
И колкий Бомарше, и твой безносый Касти,
Все, все уже прошли. Их мненья, толки, страсти
Забыты для других...
Кто же эти другие, затмившие кумиров XVIII столетия? «Преобразился мир
при громах новой славы». Какую «новую славу» имеет в виду русский поэт?
Конечно, Наполеона. А в литературе — Байрона, очаровавшего свое поколе-
ние.
Изменились интересы, нравы людей, сброшены путы сословных привиле-
гий и ограничений. Появились новые хозяева жизни, которые бросили лозунг:
«Обогащайтесь!» Утонченная культура аристократов уже не интересовала их.
Золотой телец — вот божок «новых людей». Бальзак в эпопее «Человеческая
комедия» в девяноста романах развернет панораму их жестоких схваток из-за
денег.
Смотри: вокруг тебя
Все новое кипит, былое истребя.
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколенья,
Жестоких опытов сбирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход,
Им некогда шутить, обедать у Темиры
Иль спорить о стихах. Звук новой чудной лиры,
Звук лиры Байрона развлечь едва их мог.
Люди искусства забеспокоились. Плодом их разочарований явился романтизм,
хаотичный, тоскующий, сменивший строгие и гармоничные формы класси-
цизма.
Поэты были недовольны. Они потеряли изысканных ценителей тонкостей
искусства. Только в среде праздных аристократов можно было найти гурманов
от искусства, а «младые поколенья», прагматики-буржуа забивали свои головы
холодными расчетами о доходах и приходах.
Искусство помпезного классицизма и затейливого и шаловливого рококо
ушло в прошлое. На смену пришел в ярких одеждах романтизм Байрона,
130
юноши-поэта Лермонтова или мистически устремленный в запредельный
(трансцендентный) мир романтизм Новалиса, Шатобриана, а позднее — в каче-
стве беспощадной правды — реализм Бальзака, Стендаля, Флобера и опередив-
ших их в мастерстве Пушкина, Льва Толстого, Достоевского.
ФЕНОМЕН НАПОЛЕОНА
Героев записных я не люблю отвагу,
В победных кликах их не вижу людям блага.
Они в сражениях блаженство видеть склонны
И не щадят себя и губят миллионы;
И нем блистательней лун славы их горит,
Тем ненавистней мне их горделивый вид.
Вольтер
Наполеону было девять лет, когда умер фернейский старец. Корсиканский
мальчик с итальянским именем тогда только поступил в офицерскую школу в
Бриенне (для бедных дворян). Мальчик, может быть, слышал уже из уст стар-
ших имя Вольтера, но сам кормчий французского Просвещения, конечно, не
знал, не мог знать имени будущего вершителя судеб Европы и тем не менее
пророчески верно нарисовал его исторический портрет.
Удивительный парадокс: человек, принесший миру столько бед (историки
подсчитали, что с 1804 по 1815 г. в наполеоновских войнах погибло 1700 тыс.
французов и 2 млн. противников и союзников), этот человек был и остается
окруженным самой блистательной славой великого сына Человечества. К
праху его, покоящемуся в саркофаге из красного уральского мрамора, каждо-
дневно спешат толпы паломников со всего света. Миллионы загубленных жиз-
ней, разбитых судеб, но ореол славы героя не гаснет.
Стендаль, знавший его, видевший его вблизи, начинает свою книгу о полко-
водце словами: «Я испытываю нечто вроде благоговения, начиная писать пер-
вую фразу истории Наполеона. Речь идет о самом великом человеке, которого
мир знал после Цезаря».
Официальные власти Парижа меняли свое отношение к Наполеону в зави-
симости от политической обстановки, свидетельство тому история Вандомской
колонны. Она была воздвигнута на Вандомской площади в 1810 г., на ней была
установлена гигантская статуя Наполеона из бронзы. Людовик XVIII приказал
снять статую и перелить ее для конной статуи Генриха IV. Бурбоны мстили за
революцию, за герцога Энгиенского, казненного по приказу Наполеона. В 1833 г.
статую восстановили и снова водрузили на Вандомскую колонну. Рабочие
Парижской коммуны, движимые благородными чувствами и ненавистью к вой-
нам, низвергли Вандомскую колонну, видя в ней символ милитаризма. В 1875 г.
она была восстановлена вновь. Так проявляются политические страсти.
В учебнике по географии рукой тринадцатилетнего Наполеона была начер-
тана фраза: «Св. Елена — маленький островок в Тихом океане». Почему маль-
чик записал это, трудно теперь объяснить, но людям, верящим в судьбу, это
лишнее доказательство силы провидения.
131
Наполеон на коне. Картина Давида. Так создавалась легенда о герое.
На маленьком островке, затерянном в Тихом океане, скончался Наполеон
5 мая 1821 г. Перед смертью он часто играл сам с собой в шахматы, передвигая
фигурки из слоновой кости и нефрита. Шахматы подарил ему один из друзей.
Наполеон не знал, что в одной из фигурок находилась записка с планом побега.
Ее обнаружил недавно совершенно случайно последний ее владелец. И здесь
снова встает призрак провидения. Кто-то срезал несколько волосков с головы
умершего императора. В наши дни их подвергли химическому анализу и обна-
ружили мышьяк. Был ли он отравлен пленившими его англичанами? Ученые
пытаются это разгадать.
Генрих Гейне писал: «Британия! Тебе принадлежит море. Но в этом море
мало воды для того, чтобы смыть позор, который завещал тебе, умирая, вели-
кий мертвец». Прозаики, поэты, скульпторы, живописцы создавали ослепи-
тельную легенду о Наполеоне. Тот же Гейне писал о нем: «Наполеон был не из
того дерева, из которого делают земных владык; он был из мрамора, из кото-
рого высекают богов».
Еще мальчиком Гейне наблюдал въезд Наполеона в Дюссельдорф. Он вспо-
минал: «Император со своей свитой ехал как раз посередине аллеи; деревья
вздрагивали, преклонялись при его приближении, солнечные лучи с боязливым
любопытством проглядывали сквозь зеленые ветви, а по голубому небу
явственно плыла золотая звезда». Так немецкий романтик славил своего куми-
ра. Восторг и насмешка причудливо сплетались в творчестве поэта, мечтатель-
ный и сатирический ум, подобно двуликому Янусу, поворачивался к читателю
то одной, то другой своей стороной на страницах его сочинений. Отдав долж-
ное восторгу, он вдруг спохватывался и заявлял: «Живи он, ведь мне пришлось
бы бороться против него». Приверженцы свободы творчества никогда бы не
смирились с той уздой, которую набросил на печать император Франции (из 50
газет оставил только 4, установил жесткую цензуру даже для продавцов буки-
нистической литературы).
Противники любого насилия и милитаризма осудили Наполеона, помните,
какую фразу вложил Лев Толстой в уста гувернера Карла Ивановича в своей
книге «Детство. Отрочество. Юность»: «Тогда было страшное время, Нико-
ленька. Тогда был Наполеон». Но это Лев Толстой, поборник идеи непротив-
ления злу насилием, пытавшийся развенчать Наполеона и не преуспевший в
этом, несмотря на громадный талант и авторитет у читателей мира.
Отечественная война 1812 г. всколыхнула национальное самосознание рос-
сиян, вызвала невиданный подъем патриотических чувств, но вот отгремели
бои, заново отстроилась сгоревшая Москва, и имя виновника недавних грозных
событий заблистало в поэзии русских авторов. Пушкин отозвался на его смерть
стихотворением «Наполеон», полным ума, исторической и политической глу-
бины и, как всегда у Пушкина, доброй гуманности:
Чудесный жребий совершился,
Угас великий человек.
В неволе мрачной закатился
Наполеона грозный век.
Исчез властитель осужденный,
Могучий баловень побед...
Давно ль орлы твои летали
Над обесславленной землей?
Давно ли царства упадали
При громах силы роковой;
Послушны воле своенравной
Бедой шумели знамена,
И налагал ярем державный
Ты на земные племена...
133
Стендаль писал, что Наполеон «украл свободу у Франции», у народа, ко-
торый только что обрел ее в годы Великой революции. Послушаем о том
Пушкина:
Когда надеждой озаренный И обновленного народа
От рабства пробудился мир, Ты буйность юную смирил,
И галл десницей разъяренной Новорожденная свобода,
Низвергнул ветхий свой кумир; Вдруг онемев, лишилась сил;
Когда на площади мятежной Среди рабов до упоенья
Во прахе царский труп лежал, Ты жажду власти утолил,
И день великий, неизбежный — Помчал к боям их ополченья,
Свободы яркий день настал... Их цепи лаврами обвил.
Блеск побед, неугасаемая слава от этих побед — вот лавры, которыми обви-
вал цепи рабства Наполеон. И наконец, благородный русский поэт призывает
к гуманности, к забвению уже минувших бед:
Да будет омрачен позором Хвала! Он русскому народу
Тот малодушный, кто в сей день Высокий жребий указал
Безумным возмутит укором И миру вечную свободу
Его развенчанную тень. Из мрака ссылки завещал.
Тень Наполеона легла и на многие стихи Лермонтова. Неистовый романтик,
ищущий бури, как и его одинокий белый парус, он видел во французском импе-
раторе воплощение своих мечтаний о героической личности, не понятой
людьми и непременно трагической. В балладе «Воздушный корабль» он рисует
трагический призрак:
Из гроба тогда император, Но спят усачи-гренадеры —
Очнувшись, является вдруг; В равнине, где Эльба шумит,
На нем треугольная шляпа Под снегом холодной России,
И серый походный сюртук... Под знойным песком пирамид.
На берег большими шагами И маршалы зова не слышат:
Он смело и прямо идет, Иные погибли в бою,
Соратников громко он кличет Другие ему изменили
И маршалов грозно зовет. И продали шпагу свою.
Заключим наш очерк суждениями немецкого философа Фридриха Гегеля о
феномене Наполеона. Он взглянул на французского императора с высоты все-
мирной истории или, по его терминологии, Мирового духа:
«...если мы бросим взгляд на судьбу всемирно-исторических личностей,
призвание которых заключалось в том, чтобы быть доверенными лицами все-
мирного духа, оказывается, что эта судьба не была счастлива. Они появлялись
не для спокойного наслаждения, вся их жизнь являлась тяжелым трудом, вся их
натура выражалась в их страсти. Когда цель достигнута, они отпадают, как
пустая оболочка зерна. Они рано умирают, как Александр, их убивают, как
Цезаря, или их высылают, как Наполеона на остров св. Елены».
АНГЛИЯ
Нигде нет такого чудовищного богатства, ни такой чудовищной
нищеты, как в Англии.
В. Г. Белинский
Это резкое суждение об Англии нашего критика было справедливо, если
судить не только по документам эпохи, но главным образом по ее литературе.
Бедняк и богач — вот две фигуры, которые постоянно противостоят в трид-
цати томах Чарлза Диккенса, в романах Теккерея, в политических филиппиках
Байрона. Подобное противостояние вряд ли было «привилегией» только Анг-
лии. Такое же размежевание увидим мы и во Франции, особенно резко в твор-
честве Виктора Гюго. Восстание парижских коммунаров — отнюдь не случай-
ный эпизод истории.
135
Небольшая историческая справка: XVIII век — век соперничества Англии
и Франции. Наполеоновские войны в начале XIX в. — кульминация явных и
скрытых сражений между этими двумя странами. Победа осталась за Англией.
Войска Наполеона, разбитые в России, уже не могли противостоять новым
наступлениям англичан. Наступила эра колониальных захватов в невиданных
еще масштабах. За десять лет (1839—1849 гг.) Англия присоединила к своим
владениям территории с населением 81 млн. человек. Захвачены Индия
(Синд — в 1843 г., Пенджаб — в 1849 г.), Новозеландия, Австралия, Южная
Африка. Англия простирает свои интересы к Ирану (1841 г.), Китаю (1839—
1842 гг.), вступает в конфликты с Россией, поддерживает Турцию. В 1841 г. по
Лондонской конвенции проливы Босфор и Дарданеллы закрыты для военных
судов России.
Англия поддерживает Шамиля, принимает тайное участие в дворцовых инт-
ригах Петербурга.
Любопытен разговор между Байроном и Стендалем в Италии. Стендаль
говорил ему, что убийство Павла I не обошлось без участия английского посла
в Петербурге. Байрон это отрицал.
Страна классического парламентаризма и прав человека жестоко расправ-
ляется с политическими противниками. Восстание сипаев в Индии в 1857—
1859 гг. было потоплено в крови.
Англия становится в XIX в. «фабрикой мира», преобразуя производство.
Наша «Дубинушка» устами народа выразила это: «Англичанин-мудрец, чтоб
работе помочь, изобрел за машиной машину...»
Это изобретение машин, позволившее избавиться от излишней рабочей
силы и выбросить толпы рабочих на улицу, породило луддитское движение
(борьбу рабочих против машин), а позднее чартизм (1831—1848 гг.) и обусло-
вило появление идей утопического социализма Роберта Оуэна (во Франции —
Сен-Симона и Фурье), а потом и Маркса.
Байрон, а он имел титул лорда и был членом Верхней палаты, лишь одна-
жды выступил с речью в парламенте, смутив и возмутив своих сословных
братьев защитой луддитов: «Я проехал через Пиренейский полуостров в дни,
когда там свирепствовала война, я побывал в самых угнетенных провинциях
Турции, но даже там, под властью деспотического и нехристианского прави-
тельства, я не видел такой ужасающей нищеты, какую по своем возвращении
нашел здесь, в самом сердце христианского государства».
ВАЛЬТЕР СКОТТ (1771—1832)
Всякое произведение искусства есть прекрасная ложь.
Стендаль
Французские писатели-реалисты Бальзак и Стендаль отказали Вальтеру
Скотту в праве считаться великим. Бальзак говорил, что шотландский писа-
тель не знал страсти, что ему мешали их выразить ханжество и лицемерие анг-
лийского общества. Стендаль не находил в нем описания психологии человека.
136
А между тем английский автор своими
романами буквально околдовал Европу.
Все бредили историей, все влюблялись в
Средневековье, в рыцарские замки, в
нравы рыцарских времен. Исторический
роман вошел в моду, появились толпы
подражателей.
Вальтер Скотт сам был влюблен в Сред-
невековье. Он собирал предметы быта
прошлых веков и жилище свое построил по
чертежам старинных замков.
Стендаль был прав, писателя не интере-
совали тонкости психологии героев его
романов. В центре их он обычно помещал
пару влюбленных, молодых, прекрасных,
конечно, беспредельно верных друг другу,
по дороге к счастью этих милых, идеаль-
ных (крайне идеализированных) молодых
людей ставил многочисленные препят-
ствия, которые они преодолевали и в конце
КОНЦОВ СОеДИНЯЛИСЬ И Обретали ПОКОЙ. Во Вальтер Скотт.
всех романах они красивы, честны, смелы
и, пожалуй, не так уж отчаянно сражаются
за себя. Благосклонный автор постоянно выручает их, организует для них
счастливые случайности к радости влюбленных в них читателей.
В качестве фона для приключений этой пары влюбленных автор разверты-
вает исторические события, показывает реально существовавших историчес-
ких лиц (Ричарда Львиное Сердце, Людовика XI французского и пр.).
Здесь он точен. Все должно соответствовать реальной исторической обста-
новке: язык персонажей, предметы обихода, обычаи, нравы.
Возник особый термин — «местный колорит». Все авторы исторических
романов, а их развелось огромное количество во всех странах континента,
стремились воссоздавать этот «местный колорит», иначе говоря, экзотику ста-
рины. Как известно, русский царь Николай I советовал Пушкину последовать
примеру Вальтера Скотта. Мы и ныне с великим удовольствием погружаемся
в незнакомый нам, таинственный, романтический мир Средневековья, в кото-
рый нас увлекает писатель. Мы знаем, что нас заставят поволноваться, но в
конце концов темные силы зла будут покорены и для милых нашему сердцу
героев заиграет солнце. Так во всех 25 романах, написанных Скоттом, кроме
«Ламермурской невесты», где молодые герои гибнут.
Начал Вальтер Скотт со стихов. Он писал в духе времени романтические
баллады о том, например, как рыцарь Мармион увозит из монастыря молодую,
красивую монахиню Констанцу, как следует она за ним, переодетая в костюм
пажа. Рыцарь недолго верен возлюбленной. Ревнивая Констанца пытается
даже убить его. Тогда Мармион возвращает ее в монастырь, где ее судят бес-
пощадным церковным судом и приговаривают к погребению заживо в подзе-
мелье.
Балладу перевел Жуковский. Вот несколько стихов из нее:
137
Там хоронить
Не мертвых стали, а живых;
О бедственной судьбине их
Молчал неведомый тайник;
И суд и,казнь, и жертвы крик,
Все жадно поглощалось им;
А если случаем каким
Невнятный стон из глубины
И доходил до вышины,
Никто из внемлющих не знал,
Кто, где и отчего стенал.
Шептали только меж собой,
Что там, глубоко под землей,
Во гробе мучится мертвец,
Свершивший дней своих конец
Без покаяния, во зле
И не прощенный на земле.
Сам Мармион изображен человеком сильным, с огромной волей, смелым до
дерзости. Прошлое его загадочно.
Особенно полюбилась современникам баллада Вальтера Скотта «Дева
озера». В ней дикая роскошная природа Шотландии, король Яков V, лорд
Дуглас, его дочь Элен. На охоте Король подвергается смертельной опасности.
Его спасает Элен и тем снимает опалу с отца. Король возвращает ему свою
милость.
Наивная сказка, но автор прекрасными стихами описал горные ландшафты,
водопады, скалы, озера. Читатели были очарованы. Началось буквально
паломничество в горную Шотландию.
В 1812 г. литературное небо Англии осветила новая звезда. Это был Бай-
рон. Вальтер Скотт заявил, что писать так, как Байрон, он не может, а писать
хуже не хочет. И перешел на прозу.
В 1814 г. появился первый его исторический роман «Веверлей», а за ним
целая серия прекрасных и увлекательных повествований: «Гюи Маннеринг»,
«Анткварий», «Роб-Рой», «Ламермурская невеста», «Айвенго», «Квентин
Дорвард» и др. Писал он много и, как замечали его критики, — словоохот-
ливо.
Бальзак отказывал английскому автору в умении изображать страсти (он
или не знал их, или ему запрещали изображать их пуританские нравы его роди-
ны1). Сам Вальтер Скотт признавался, сравнивая себя с Байроном: «Он побе-
дил меня в изображении сильных страстей и в глубоком знании человеческого
сердца».
Пушкин привел такой эпизод из жизни английского писателя: «Вальтеру
Скотту показали однажды стихи, будто бы им сочиненные. «Стихи, кажется,
мои, — отвечал он, смеясь: — я так много и так давно пишу, что не смею от-
речься и от этой бессмысленности».
Это, конечно, скромность большого мастера. Пушкин читал его с удоволь-
ствием. Находясь в Михайловском, он сообщал о том жене.
Современники обвиняли Вальтера Скотта в консерватизме: в его дни в пар-
ламенте бушевали страсти и буржуазная демократия торжествовала, а писа-
тель увлеченно с нескрываемой ностальгией рисовал далекое прошлое, феода-
лов, монархов. Стендаль не без иронии рассказал о нем колоритный анекдот:
1 Бальзак не допускал в изображении страсти каких-либо морализаторских откровений автора:
«Вальтер Скотт... не захотел принять страсть, эту божественную эманацию, стоящую выше
добродетели, созданной человеком для сохранения общественного строя, и принес ее в
жертву синим чулкам своей родины».
138
«Это тот самый человек, который, будучи допущен к столу Георга IV, посетив-
шего Эдинбург, с восторгом выпрашивает бокал, из которого король пил за
здоровье своего народа. Сэр Вальтер Скотт получает драгоценный кубок и
кладет его в карман своего сюртука. Но, возвращаясь, он забывает об этой
высокой милости: он бросает свой сюртук, стакан разбивается, и он приходит
в отчаяние».
БАЙРОН (1788—1824)
Однажды мы увидели, как в ложу Ла Скала вошел молодой человек
довольно маленького роста, с изумительными глазами; он напра-
вился к барьеру ложи, и мы заметили, что он слегка прихрамывает.
Монсиньор ди Бреме сказал нам: «Господа, лорд Байрон!»
Стендаль
Байрон — удивительное явление в мировой литературе. Он не вошел в нее,
а ворвался как стремительный вихрь, резко, самонадеянно, осмеяв все литера-
турные авторитеты современности, своих собратьев, соотечественников за то,
что они осмелились не узнать в его юношеских поэтических опытах (ему было
тогда 19 лет) талант и вдохновение. Позднее, остынув, он устыдился своей
мальчишеской бравады, тем более что среди «осмеянных» оказалось и такое
имя, как Вальтер Скотт.
Однако этот дерзкий порыв обиженного юноши принес ему неожиданную и
шумную славу. Прямо можно сказать: однажды он проснулся знаменитым.
Речь идет о вышедшем в 1807 г. сборнике его стихов «Часы досуга», о снисходи-
тельно насмешливой рецензии на него в журнале «Эдинбургское обозрение» и
последующей за ней публикации сатирической поэмы Байрона «Английские
барды и шотландские обозреватели».
Критики примолкли, поэты посторонились, и Байрон победоносно взошел
на поэтический Олимп своей страны. Знаменитый его соотечественник Валь-
тер Скотт сложил перо поэта, заявив, что писать так, как пишет Байрон, он не
может, а писать хуже его не хочет.
В славе поэта подчас бывает повинна не только его одаренность, но и сама
личность поэта. Байрон поразил мир, а слава его быстро вышла за пределы его
родины, своей личной судьбой, своим оригинальным физическим и духовным
обликом.
Здесь мы входим в противоречие с известным отзывом об английском поэте
нашего великого критика Виссариона Белинского, который писал:
«Ни один поэт не может быть велик от самого себя, ни через свои собствен-
ные страдания, ни через свое собственное блаженство: всякий великий поэт
потому велик, что корни его страдания и блаженства глубоко вросли в почву
общественности и истории, что он, следовательно, есть орган и представитель
общества, времени, человечества... Чтоб разгадать загадку мрачной поэзии
такого необъятно колоссального поэта, как Байрон, должно сперва разгадать
тайну эпохи, им выраженной».
139
Как часто мы видим в истории поэтов,
не признанных современниками. Стендаля
не заметили при жизни его соотечествен-
ники и признали только по прошествии
многих лет после смерти; великий порту-
гальский поэт Камоэнс был похоронен в
общей могиле вместе с телами бродяг и
бездомных, не замеченный, не оцененный
современниками. А потомки, разве они
любят, ценят поэта прошлых времен за
то, что он был выразителем какой-то эпо-
хи? Думаем ли мы сейчас, глядя на сцени-
ческое представление, к примеру, «Же-
нитьбы Фигаро» в театре, о том, какие
политические надежды французский зри-
тель связывал с остроумными репликами
Фигаро в 1785 г., когда впервые была
поставлена эта пьеса? Все это уже ушло и
нас нисколько не занимает, но вот веселая
Джордж Гордон Байрон. праздничная атмосфера пьесы, фейерверк
острот, смешные колоритные персонажи,
любовь и ревность, игра сценических поло-
жений — все это нас бесконечно веселит,
мы готовы еще и еще посещать театр ради этих мгновений радости и веселья.
Дело все-таки в талантливости произведения. В дни Бомарше в театре стави-
лись и пьесы Мари-Жозефа Шенье, и они выражали дух эпохи, но где они? Кто
ставит их сегодня?
Можно понять Белинского, он требовал от поэта активной общественной
позиции, и ее прежде всего он ценил в Байроне. Такое было время на Руси:
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» (Некрасов).
Слава приходит к человеку порою случайно и не всегда заслуженно, мы это
знаем по нашим дням и нашим поэтам. Славу великого поэта Байрон, конечно,
заслужил, но первоначально не обошлось без скандалов, привлекавших к нему
всеобщее внимание.
Известный английский историк, государственный деятель и литературный
критик Маколей в 1830 г. писал о нем: «привязчивый и извращенный, нищий
лорд, красавец-урод».
Так воспринимали его соотечественники, и отнюдь не рядовые. Если приба-
вить к этому скандальный уход от него его супруги с малолетней дочерью и
попытка ее объявить мужа сумасшедшим, судебные процессы, возбужденные
против его имущества, и прочие выходки английской аристократии, братьев по
сословию, то перед нами встанет образ чудовища. Надо сказать, Байрону нра-
вились, особенно в юности, демонические черты.
В Ньюстедском аббатстве нашли однажды череп человека. Байрон заказал
для него серебряную оправу, и молодые друзья поэта пили из него вино,
экзальтируя себя призраком смерти. Байрон написал стихотворение «Надпись
на кубке из черепа»:
140
Не пугайся, не думай о духе моем;
Я лишь череп — не страшное слово,
Мертвый череп, в котором, не так, как в живом,
Ничего не таится дурного...
Пей, покуда ты жив, а умрешь, может быть,
И тебя из могилы достанут,
И твой череп, как я, кубком будет служить,
Пировать с ним живущие станут...
Все это приводило в ужас добропорядочного английского пуританина и
оправдывало мнение о нем, подобное тому, что высказал о поэте Маколей.
* * *
Красота — это тот же талант.
Герцен
Тот имидж Байрона, который создали читатели и почитатели поэта, скла-
дывался из его личности как некоего загадочного существа с демоническими
чертами, несущего на себе печать Каина, бледного юноши с печальными глаза-
ми, страдающего, пресыщенного, разочарованного, гениального поэта и
необыкновенно красивого. Об этом последнем его качестве говорили и писали
все, кто его видел и слышал. Поэт Колридж писал: «Такое прекрасное лицо я
едва ли когда-либо видел; каждый из его зубов — это застывшая улыбка, его
глаза — отверстые врата солнца, созданные из света и для света». «Байрон пре-
красен как сновидение. Все имеющиеся его портреты не дают о нем никакого
представления». Все современники единодушно говорят о том, что у Байрона
был необыкновенной красоты голос. Графиня Гвичиоли, его возлюбленная,
говорила, что голос Байрона «очаровывал и привлекал, как прелестнейшая
музыка».
И наконец, воспоминания Стендаля о его встрече с Байроном в театре Ла
Скала в Милане в 1816 г., когда поэту было 28 лет.
«Однажды вечером, осенью 1816 г., возвратясь с прогулки на озеро Комо,
я вошел в ложу г-на ди Бреме; я почувствовал в обществе что-то торжествен-
ное и натянутое; все молчали; я слушал музыку, когда г-н ди Бреме сказал мне,
указывая на моего соседа: «Господин Бейль, вот лорд Байрон». Он повторил ту
же фразу в обратном порядке лорду Байрону. Я увидел молодого человека с
изумительными глазами, в которых было нечто великодушное; он был не
велик ростом. Я тогда сходил с ума от «Лары» (поэмы Байрона. — С. А.). Со
второго взгляда я уже видел лорда Байрона не таким, каким мне казалось, дол-
жен был быть автор «Лары». Так как беседа не клеилась, г-н ди Бреме старался
заставить меня говорить; но это было для меня невозможно: я был полон робо-
сти и нежности. Если бы я посмел, я поцеловал бы руку Байрону, заливаясь
слезами...» Добавим, что Стендалю было тогда тридцать три года и он еще не
написал свои шедевры «Красное и черное» и «Пармскую обитель».
Еще одну деталь вспоминает писатель, ярко характеризующую смелую и
гордую черту характера английского поэта:
«Лорд Байрон попросил меня, так как один только я знал английский язык,
141
указать улицы, по которым ему нужно было пройти, чтобы вернуться в свою
гостиницу; она находилась на другом конце города, неподалеку от крепости. Я
знал, что он непременно заблудится: в этой части Милана в полночь все лавки
уже закрыты; ему бы пришлось блуждать по пустынным, плохо освещенным
улицам, к тому же совершенно не зная языка. Из заботливости я имел глупость
посоветовать ему нанять фиакр. Тотчас же его лицо приняло несколько высо-
комерное выражение; он дал мне понять с должной вежливостью, что он про-
сил меня указать улицы, а не советовать, каким способом добраться до места».
Эти строки, видимо, не предназначались к печати, они писались другу. В
статье «Лорд Байрон в Италии», напечатанной в 1830 г., Стендаль был
несколько сдержаннее, с доброй иронией указав на слабости своего кумира.
Даже великий старец Гете, патриарх тогдашней европейской литературы,
поддался обаянию молодого поэта и сложил о нем стихи в своей трагедии
«Фауст». Это Эвфорион — по греческому мифу, он сын Елены и Ахиллеса, в
трагедии Гете — он сын Фауста и Елены. Если расшифровать философскую
символику поэта, то Эвфорион, или Байрон, олицетворяет ищущий Разум
(Фауст) и античный идеал красоты (Елена). Байрон как бы воплотил в себе два
этих начала. Он так прекрасен, что не может сохраниться в мрачной реально-
сти.
Он растворяется в воздухе. Одежды еще поддерживают его. Голова его
сияет. За ним тянется светящийся след. Все телесное вскоре исчезает. Ореол в
виде кометы возносится к небу, на земле остаются лишь лира, туника и плащ.
Счастья отпрыск настоящий,
Знаменитых дедов внук,
Вспышкой в миг неподходящий
Ты из жизни вырван вдруг.
Ты был зорок, ненасытен,
Женщин покорял сердца,
И безмерно самобытен
Был твой редкий дар певца.
Такую отходную спел Байрону великий Гете. Он говорил своему секретарю
Эккерману: «Я не мог взять в качестве представителя новейшей поэзии никого,
кроме него. Ведь он является бесспорно величайшим поэтом нашего столетия.
И потом Байрон не античен и не романтичен. Он как сама современность; мне
нужен был именно такой поэт».
В наши дни в Англии пишут много дурного о Байроне. В кинофильмах,
посвященных ему, он изображается, прямо надо сказать, плебеем, внешне
неряшливым, в каком-то сниженном, странном, грязновато замутненном анту-
раже. Зачем это делается, трудно понять.
Английская аристократия еще не простила своего блудного сына, этого «го-
нимого миром странника». Наполеон когда-то бросил саркастическую фразу:
«Народ бывает страшен, но у него есть сердце, аристократия холодна и никогда
не прощает».
Чопорное аристократическое общество не раз было шокировано экстрава-
гантными выходками своего блудного сына и в конце концов отказалось от
него, закрыв перед ним двери своих гостиных. Семейный скандал оконча-
тельно подорвал все возможности примирения с обществом (развод с женой).
142
Поэт покидает Англию навсегда. Активная натура влечет его к борьбе. Он
вкладывает все свои личные средства в борьбу за освобождение Греции от
турецкого ига, сам участвует в боях и гибнет в Греции.
В мировую литературу он вошел с первыми песнями своей поэмы «Чайльд
Гарольд». Бледный юноша с трагической и загадочной судьбой, красиво разо-
чарованный, красиво пресыщенный, возвестивший красивую мировую скорбь.
Таков его герой, и все тогда стали подражать ему. Пушкинский Онегин одел
«гарольдов плащ», не избежал влияния Байрона и Лермонтов. Помните:
Нет, я не Байрон, я другой
Еще неведомый избранник,
Как тот гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
* * *
Когда лорд Байрон забывал о своей красоте, он предавался мыслям
о своем происхождении.
Стендаль
Несколько слов о генетическом коде, как модно сейчас говорить, иначе
говоря — о предках поэта. Основатель рода Ральф де Бюрюн прибыл в Анг-
лию вместе с войсками Вильгельма Завоевателя в XI столетии. Надо полагать,
что последующие представители рода не пребывали в тени истории, во всяком
случае, в XVI столетии король Генрих VIII Тюдор пожаловал Байронам упраз-
дненный католический монастырь — Ньюстедское аббатство. Английский
король тогда, конфликтуя с папским Римом, прибег к конфискации церковных
земель и щедро раздавал их верным ему дворянам.
Англия — островная страна, окруженная довольно суровым морем. Самое
большое расстояние до моря не более 120 километров. Морские просторы тре-
бовали от мужчин отваги, силы, мужества. Формировались сильные характе-
ры, отчаянные головы, способные на безумные поступки, не всегда считавши-
еся с требованиями закона. Напомним имя Френсиса Дрейка, пирата и вице-
адмирала одновременно, грабившего испанские корабли, принесшего английс-
кой казне немало золота.
У Шекспира «укрощенная» Катарина говорит о тяготах жизни мужчин:
Муж — повелитель твой, защитник, жизнь,
Глава твоя. В заботах о тебе
Он трудится на суше и на море,
Не спит ночами в шторм, выносит стужу...
Такие характеры были и в роду Байронов. Дед поэта адмирал Джон Байрон
совершил кругосветное путешествие, немало повидав земель, пережив немало
испытаний. Его брат, отчаянная голова, проведя жизнь в драках и дуэлях, убив
на одной из них своего соседа, помещика Чаворта, усмирился лишь перед смер-
тью, проведя последние годы нелюдимо, в затворничестве и уединении в Нью-
стедеком аббатстве. От него поэт получил и титул лорда, и поместье в порядке
наследования.
Не менее оригинален был и отец поэта капитан Джон Байрон, кутила и про-
143
жигатель жизни. Первую жену (он был женат дважды) он буквально умыкнул
от мужа и потом, в полтора года промотав ее состояние, довел ее до преждевре-
менной смерти. Свою вторую жену, мать поэта, он также быстро обобрал,
наделал огромные долги и, спасаясь от кредиторов, бежал во Францию, где
кончил жизнь самоубийством. Байрон был тогда еще ребенком.
Мать поэта происходила из старинного шотландского аристократического
рода Гордонов. Гордоны были в родстве с королевским домом Стюартов. Ее
отец, человек неуравновешенный, покончил жизнь самоубийством, бросив-
шись в воду.
Таковы гены. В характере поэта тоже угадываются наследственные черты
неуравновешенности. Мать (весьма взбалмошная особа) сделала однажды ему
замечание, что он испортил свой новый костюм, мальчик в припадке бешен-
ства вцепился в свою одежду и разорвал ее в клочья. Такие припадки бешен-
ства случались с ним и позднее, когда он был уже взрослым. «Мне принесли
однажды для уплаты счет, который, как мне казалось, был уже мной оплачен
несколько месяцев назад; я почувствовал пароксизм бешенства, от которого
лишился чувств», — вспоминал Байрон.
Даже наслаждение воспринималось Байроном так сильно, что переходило в
свою противоположность. В 1814 г. он наблюдал игру знаменитого английс-
кого актера Кина. Игра так его потрясла, что у него начались конвульсии.
Байрон мог пламенно ненавидеть, очертя голову пойти на врага, он мог
жестоко мстить, если его оскорбляли, он мог высокомерно презирать. Вместе
с тем это был на редкость сердечный человек, отзывчивый, мягкий, которого
легко было растрогать до слез искренним словом.
Те, кто знали его, говорили часто о его аристократической спеси, честолю-
бии, эгоизме. Таким он был среди равных ему по положению или среди нетиту-
лованных, но важничающих богачей, которых он искренно презирал со всем
аристократическим высокомерием. Однако высокомерие к простым людям он
почел бы низостью души. Любопытны признания Байрона, какие он оставил о
себе в дневнике. Он пишет:
«Прежде чем мне исполнилось 20 лет, моя мать находила во мне сходство с
Руссо. То же самое говорила мне г-жа Сталь1 в 1813 г. Нечто подобное утверж-
дало и «Эдинбургское обозрение» в своей критике на четвертую песнь «Чайльд
Гарольда». Но я не вижу никакого сходства: он писал прозой — я стихами, он
был из народа, я — из аристократии, он был философ, а я нет, он издал свое
первое произведение сорока лет от роду, а я — восемнадцати, его первый опыт
принес ему всеобщее одобрение, со мной было совершенно наоборот, он
женился на своей экономке, — я не мог вести свое домашнее хозяйство со своей
женой; он думал, что весь мир в заговоре против него, — мой маленький мирок
думает, по-видимому, что я в заговоре против него; он любил ботанику, я
люблю цветы, но ничего не знаю из их родословной; он сочинял музыкальные
произведения, — мое знание музыки ограничивается тем, что я могу схватить
ухом; я никогда ничего не смог усвоить прилежным изучением, я все брал на
зубок, слухом или памятью; у него была плохая память, а у меня превосход-
ная... он писал медленно и старательно, а я быстро и редко с трудом; он не умел
Французская писательница (1766—1817). Ее перу принадлежит книга «Письма о произведе-
ниях и личности Ж.-Ж. Руссо».
144
Типичный образ романтического героя,
страдающего, меланхоличного и юного.
Гравюра Делоне по рисунку Стааль.
Иллюстрация к повести Шатобриана
«Рене».
ни ездить верхом, ни плавать, а я пловец1, приличный ездок, порядочный фех-
товальщик, недурный боксер, а также крикетист.
Кроме того, образ жизни Руссо, его родина, нрав, весь его характер были
так различны от моих, что я не могу понять, как могло явиться подобное срав-
нение. Я позабыл сказать, что он также был близоруким, мои же глаза дально-
зорки».
Он пел поблеклой жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет.
А. С. Пушкин
Пушкин мило иронизировал над своим литературным героем Ленским.
Даже в его внешнем облике мы едва ли не узнаем «ньюстедского романтика»:
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Байрон во время первого путешествия на Восток переплыл Геллеспонт при очень холодной
воде и быстром течении. Живя в Венеции, он плавал в Лидо и обратно (пароход идет 30 минут
в один конец). Итальянцы называли его «человек-рыба».
145
Вольнолюбивые мечты, Всегда восторженную речь
Дух пылкий и довольно странный, И кудри черные до плеч.
Байрон не учился в Германии, не слушал лекции в тамошних университетах.
Образование он получил в изысканнейшем Гарроу, лотом в Кембриджском
университете. Стихи начал писать еще в школе. О чем же пел тогда молодой
поэт? Конечно, об идеальной и мучительной любви. Предметом страданий
была Мери Чаворт, живущая по соседству:
Уж не шлю я привет Но помню тот сад,
Милой Мери, — о, нет Где ловил ее взгляд,
Милой Мери, кого так любил, Где... и т. д.
Все, все, что пишет Пушкин о Ленском, подходит к молодому Байрону: и
«поэта пылкий разговор, и ум, еще в сужденьях зыбкий, и вечно вдохновенный
взор». Уж не о Байроне ли писал русский поэт, поместив своего британского
кумира в глуши российских селений?
Негодованье, сожаленье,
Ко благу чистая любовь
И славы сладкое мученье
В нем рано волновали кровь.
Дальше мы поговорим о русском байронизме, охватившем тогда молодые
души наших соотечественников. Но, предваряя этот разговор, замечу, что уже
тогда наш поэт и, прямо надо сказать, великий мудрец, подобно своему Онеги-
ну, внимал «Ленскому (Байрону! — С. А.) с улыбкой»: «И охладительное слово
в устах старался удержать... Простим горячке юных лет и юный жар и юный
бред».
Послушаем и мы (с улыбкой!) стенанья юного Байрона, жалобы на несо-
вершенства людей, тоску, разочарование. Валерий Брюсов прекрасно перевел
его стихотворение «Хочу я быть ребенком вольным...». Оно очень колоритно
передает эти настроения:
О, я не стар! Но мир бесспорно Я изнемог от мук веселья,
Был сотворен не для меня! Мне ненавистен род людской,
Зачем же скрыты тенью черной И жаждет грудь моя ущелья,
Приметы рокового дня? Где мгла нависнет над душой!
Мне прежде снился сон прекрасный, Когда б я мог, расправив крылья,
Виденье дивной красоты... Как голубь к радостям гнезда
Действительность! Ты речью властной Умчаться в небо без усилья
Разогнала мои мечты... Прочь, прочь от жизни навсегда.
Откуда эта тоска? Откуда эти мотивы мировой скорби, красивой печалью
окрасившие культуру первых десятилетий XIX в. Была в этом, может быть, и
своя «космическая» причина. А может быть, все сводилось к юношескому мак-
симализму. Когда мы очень молоды и восторженно ждем от жизни всяких
чудес и, конечно, абсолютного совершенства, малейший недостаток нас ранит,
мы не прощаем солнцу его пятен. Русский физиолог Мечников в «Этюде о
человеке» утверждает, что пессимизм свойствен особенно молодому возрасту.
С годами мы начинаем понимать, что мир не безупречен и прекрасен даже в
146
своем несовершенстве. Но это с годами. Однако байронизм и тема Мировой
скорби — тема важная, и мы о ней поговорим особо.
Вернемся к Байрону. Есть в его юношеских стихах нечто, свойственное его
характеру, его личности, пришедшее к нему от воспитания и пристрастий века,
а от предков с генетическим кодом, — это горячность, повышенная возбуди-
мость, жизненная, не знающая покоя энергия. Это сказалось даже в его стихах
о природе. Натуры созерцательные, пассивные любят и в природе мирные пей-
зажи, тихо журчащие ручейки и пр. Байрона влекут грозные водопады, скалы,
мрачные ущелья:
Мне любы твои, Каледония, горы Люблю вознесенные к тучам громады,
И рощи на скатах стремнин! Где, вместо ручьев на скалах,
Пленительны рокоты грома и споры Клубятся в ущельях, ревут водопады,
Стихий вокруг белых вершин; Мечтаю о диких лесах.
Здесь вся натура Байрона, таким он остался до конца, таким и погиб.
Чайльд Гарольд
Равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, преждевременная ста-
рость души сделались отличительными нертами молодежи XIX
века.
А.С.Пушкин
Юноша из аристократической среды, с длинным рядом знатных предков,
предававшийся сатанинским чувственным утехам и пресытившийся; с огнен-
ным взором, готовым затуманиться слезами, но гордым и непреклонным, с
какой-то роковой загадкой, чуть ли не с тайным преступлением — таков герой
Байрона.
Конечно, он никак не походил на положительного героя, и добропорядоч-
ные пуритане могли только с гневом взирать на него. Замечу кстати, что и в
наши дни англичане никак не благоволят к своему гениальному поэту, изобра-
жая его в кинофильмах личностью ничтожной, что никак нельзя в них одоб-
рить.
Жил в Альбионе юноша когда-то;
В путях добра утех он не искал:
Наполнив дни причудами разврата,
Весельем ночи сонный слух терзал...
А назывался Чайльд Гарольдом он.
О родословной не скажу ни слова:
Хоть этот род, быть может, был почтен
В дни древности иль близкого былого...
От тридцати годов еще далек,
Уж Чайльд Гарольд изведал ужас пресыщенья...
Теперь Гарольд, один в своей печали,
Бежал друзей и пиршеств дорогих...
Хоть слез струи в очах его вскипали,
147
Но гордость замораживала их...
Порой, средь самых буйных ликований,
Ложилась тень на Чайльд Гарольда взор,
Как память о смертельной сердца ране
Иль как любви обманутый укор...
и т. д. и т. п.
Приведу одно любопытное письмо некоего Д. Рунича в журнал «Русский
инвалид» от 23 апреля 1820 г. в связи с публикацией в журнале статьи о Бай-
роне:
«Какая может заключаться польза для русских и вообще для человечества
в том сведении или уведомлении, что в Англии, или Америке, или в Австралии
есть чудовища, в ожесточенном неверии сплетающие нелепые системы и
поэмы, целью коих есть то, чтобы представить преступление страстью и необ-
ходимою потребностью великих душ?
Что тут великого, изящного, полезного?
Не философия ли это ада?
Кто заразится бреднями Байрона, тот погиб навеки; подобные впечатления
в юных сердцах с трудом изглаживаются».
Можно понять опасения автора письма более чем столетней давности, если
принимать «саморазоблачения» Чайльд Гарольда всерьез.
Но перед нами игра, красивая поза в красивую тоску, пресыщенность при-
влекательного молодого человека, который, еще не зная жизни, едва вступив
в нее, уже, видите ли, разочаровался в ней, и
Пал поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет.
Стихи Пушкина относятся к Ленскому, но они в какой-то степени характе-
ризуют всю компанию молодых героев романтической поэзии XIX в., одним из
зачинателей которой был Байрон.
Можно пушкинскими же стихами выразить и наше нынешнее отношение к
этим молодым героям минувшего столетия:
Простим горячке юных лет
И юный жар, и юный бред.
Современники (конечно, прежде всего молодежь) тотчас же влюбились в
героя поэмы Байрона. Девы бредили им, молодые люди подражали ему, изоб-
ражая из себя мучеников, тоскующих, загадочных страдальцев.
«Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в
кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарован-
ным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности;
сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это
было чрезвычайно ново в той губернии.
Барышни сходили по нем с ума», — писал Пушкин в чудесной новелле «Ба-
рышня-крестьянка» .
148
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть...
М. Ю. Лермонтов
Пушкин заподозрил в своем Онегине «чужих причуд истолкованье». Чьих
причуд? Конечно, Байрона. И это о человеке, которого поистине он боготво-
рил. И все-таки... — «причуды». Пушкин не верил в истинность страданий бай-
роновского героя, странного, мятущегося и тоскующего, к тому же с какой-то
сатанинской тайной. Потому у Онегина «гарольдов плащ». Не сущность, а
нечто постороннее, привнесенное. Его накинул на плечи своих героев англий-
ский поэт, играя в красивую тоску, в красивое разочарование. Понимали ли это
современники? В большинстве своем — вряд ли. Но они были очарованы.
(Пусть неправдоподобно, но так красиво!)
Пушкин это понимал, но он был мудрец, к тому же прошел скептическую
школу Вольтера. Понимал это и обожавший Байрона Стендаль («Лорд Байрон
страдал болезнью, нередко встречающейся у людей, с которыми судьба обра-
щается как с балованными детьми»). Вряд ли понимал это Лермонтов, всей
душой воспринявший тоску Байрона. Для него он — «гонимый миром стран-
ник».
Откроем первую поэму, принесшую Байрону мировую славу, «Странство-
вания Чайльд Гарольда»:
Пресыщен всем, утратив счастья грезы, Объят тоской, бродил он одиноко,
Он видеться с друзьями перестал, и вот решился он свой край родной
В его глазах порой сверкали слезы, Покинуть.
Но гордый Чайльд им воли не давал.
Тоскующий юноша, полуребенок, на что указывает его имя Чайльд, по-анг-
лийски «мальчик», отправляется в путешествие. Он посещает Португалию,
Албанию, Грецию. Поэт рисует великолепные картины природы. Она пре-
красна, но всюду тираны, порабощение, стоны обездоленных людей. Байрон
позабывает о своем герое, поэма превращается в путевой дневник самого авто-
ра. Сюжета никакого. Так тогда не писали, но английский поэт отбрасывал все
каноны.
Лирические ламентации сменяются гневными выпадами против Англии —
декларируемая ненависть к ней и бесконечная угадываемая любовь. Так, види-
мо, ненавидят любовники своих неверных подруг.
Два года путешествует Байрон, две песни поэмы об этом путешествии печа-
тает по возвращении. Имя Чайльд Гарольда вошло в мировую литературу как
символ байронизма и Мировой скорби (1812 г.).
Две последующие песни появятся через четыре года, трагических для поэта.
(Скандальный развод с женой, травля в печати, отлучение от света.) «Высшее
общество воспользовалось удобным случаем, чтобы отлучить от себя великого
человека, и жизнь его была навсегда отравлена», — писал о том Стендаль.
Байрон начинает вторую часть своей поэмы с обращения к дочери (она еще
в пеленках):
149
Последний отпрыск рода, плод единый
Моей любви, о Ада, дочь моя...
Поэт ее уже никогда не увидит, как никогда не увидит и родины своей. Дочь
Байрона Августа-Ада станет потом крупным математиком, от нее тщательно
скроют имя ее отца, когда уже взрослой она узнает, кто ее отец, то будет так
потрясена, что потеряет сознание.
До того как Байрон покинул свою страну, он написал несколько лирических
поэм, их назвали «Восточными»: «Абидосекая невеста», «Корсар», «Гяур»,
«Лара». Созданные на одном дыхании, иногда за несколько ночей, они дышат
страстью, вдохновением. Их герой — конечно, сам поэт в разных театральных
костюмах. Он молод, красив, изгнан из общества, не терпит никакой тирании,
и даже тирании общественных установлений, несет в себе какую-то роковую
тайну, чуть ли не преступление, — загадочен, странен и неотразим.
Вот кратко изложенная фабула поэмы «Гяур»: Греция, ущелье Парнаса.
Гяур влюблен в невольницу турецкого паши Гассана Лейлу. Она тоже любит
его, и влюбленные должны уже бежать, но подозрительный и жестокий Гассан
узнает об этом, казнит свою невольницу (ее зашили в мешок и утопили). Казнь
любимой невольницы не избавляет пашу от страданий. Он тоскует по разру-
шенной любви, покидает свой дворец. Гяур тем временем готовит месть и уби-
вает Гассана. Лейла отомщена. Но — тоска, тоска!
Он страшно мрачен и угрюм: Что дух надменный в нем царит...
В его лице тревожных дум Незоркий взгляд найти бы мог
И прежних мук и тяжких бед В нем мрак скорбей и след тревог,
Доныне виден страшный след, Но тот, кто видит глубоко,
И что-то есть в его очах, В душе заметить мог легко
Что тяготит, вселяет страх; И чувств возвышенных черты
Мятежный блеск их говорит, И отблеск прежней красоты...
Композиция поэмы выдержана тоже в особом стиле — загадочности происхо-
дящего. Сначала рыбак рассказывает, как топили в море Лейлу слуги Гассана.
Читатель заинтригован, ему видится таинственная трагедия. Затем старый
монах говорит о каком-то странном молодом монахе, поселившемся в их мона-
стыре. Наконец — исповедь Гяура, но и теперь мы до конца не узнаем, что же
это за человек — Гяур.
Ныне, в наш страшный, кровавый век с его космическими бедами, поэмы
Байрона кажутся прелестными безделками, милыми детскими сказками, их
конфликты и надуманными и несерьезными. Остается лишь очарование талан-
та, ощущение присутствия сильной, благородной человеческой личности в
лице самого поэта.
В сущности, его герои — это бушующее море, это человеческая энергия,
это свобода личности от каких бы то ни было притеснений. Пушкин востор-
женно и справедливо описал его духовный облик:
Он был, о море, твой певец! Как ты, могуч, глубок и странен,
Твой образ был на нем означен, Как ты, ничем не укротим.
Он духом создан был твоим:
150
ЧАРЛЗ ДИККЕНС
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.
Н. Некрасов
В XIX в. писатели и поэты подхватили социальную тему, завещанную им
сентименталистами предшествующего столетия, — тему «маленького челове-
ка», его страданий, его бед. На страницах поэм, романов появились несчаст-
ные, обездоленные бедняки. Эта тема захватила всю европейскую литературу.
Справедливо писал Энгельс: «Характер новейшей литературы претерпел пол-
ную революцию... место королей и принцев... в настоящее время начинает
занимать бедняк, презренный класс, чья жизнь и судьба, нужда и страдания
составляют содержание романов».
(В Англии — Диккенс, во Франции — Жорж Санд, Эжен Сю, Виктор Гюго,
отчасти Флобер («Простая душа»), в России — Некрасов, Достоевский («Бед-
ные люди», «Униженные и оскорбленные»).)
Противопоставление богача и бедняка, как величайшее социальное зло
века, стало предметом особой заботы интеллигенции. Разительный контраст
роскоши и нищеты бил в глаза и не давал покоя печальникам человечества.
Уже в ранних очерках Чарлза Диккенса можно прочитать такие строки:
«Лохмотья убогого певца баллад развевались в ярком свете, озаряющем
сокровища ювелира; бледные, изможденные лица мелькали у витрин, где
выставлялись аппетитные блюда, голодные глаза скользили по изобилию,
охраняемому тонким хрупким стеклом — железной стеной для них; полунагие
дрожащие люди останавливались поглазеть на китайские шали и золотистые
ткани Индии».
В сущности, все тридцать томов сочинений Диккенса посвящены описанию
этого раздирающего общество контраста.
Сама жизнь писателя, его детство предопределили эту тему. Умный, много
читавший и гордый мальчик, сын бедного клерка, оказавшегося в долговой
тюрьме, вынужден был бросить школу и наняться на фабрику, изготовлявшую
ваксу. Унизительное и гнетущее чувство как бы собственной неполноценности
в общественной иерархии.
Воспоминания об этом чувстве ущемленности не оставляли его всю жизнь и
заставляли снова и снова описывать судьбы бедняков и особенно судьбы обез-
доленных детей.
В романе «Оливер Твист» показана история мальчика из «работного до-
ма» — страшная жизнь ребенка в жестоком мире зла и корысти. Мальчик,
наделенный добрыми качествами, попадает в шайку воров.
Мир социальный устроен дурно: убивается красота, добрые чувства, доб-
рые побуждения. Побывав в Америке уже признанным и знаменитым писате-
лем, принятый там, кстати сказать, с особой помпой, он потом писал о тамош-
них нравах: «Ум и благородство чувств задавлены здесь погоней за наживой и
прибылью».
151
В Англии тогда, при жизни Диккенса, происходили волнения. Часты были
выступления рабочих, не всегда кончавшиеся миром. В романе Диккенса
«Лавка древностей» читаем:
«Толпы безработных маршировали по дорогам или при свете факелов тес-
нились вокруг своих главарей, которые вели суровый рассказ о всех несправед-
ливостях, причиненных трудовому народу, и исторгали из уст своих слушателей
яростные крики и угрозы... доведенные до отчаяния люди, вооружившись
дубинами и горящими головнями и не внимая слезам и мольбам женщин, ста-
равшихся удержать их, шли на месть и разрушение, неся гибель прежде всего
самим себе».
Страшное противоречие заложено в частной собственности как принципе
жизни общества: без нее чахнет производство и беднеет все общество, с нею
общество в целом богатеет, но приходит к размежеванию людей на богатых и
бедных, к великим нравственным и физическим бедам.
Жажда наживы никогда не утоляется. Приходят на память высказывания по
этому поводу Томаса Карлейля, соотечественника Диккенса: «Попробуйте
подарить человеку полмира, и вы увидите, что он затеет ссору с владельцем
второй пс?л овины и будет утверждать, что его обидели».
Желания и претензии человека безграничны. Плохо ли это? Однозначного
ответа нет. Вечная неуспокоенность, вечная неудовлетворенность достигну-
тым толкает человека к новым открытиям, к новым достижениям. Так уж нас
устроил Господь Бог.
* * *
В соседнем доме окна желты
По вечерам, по вечерам.
Гремят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.
А. Блок
Гнетущее чувство вызывает облик индустриального города. Дым и копоть,
людская стесненность, мрачные толпы озабоченных людей, спешащих на
завод под унылый и тревожащий гудок, возвещающий начало трудового дня.
Это мы наблюдаем и в наши дни в небольших городах, обслуживающих
один какой-нибудь завод, без которого город уже не может и существовать. В
дни Диккенса, на заре промышленного бума это чувство было особенно силь-
но.
В романе «Холодный дом» Диккенс описал такой город. У него вымышлен-
ное название Коктаун. Такого города нет в Англии, но таких городов много на
нашей матушке-земле.
«То был город из красного кирпича или из кирпича, который был бы крас-
ным, если бы не дым и пепел, но при данных обстоятельствах то был город
неестественно красного и черного цвета, как раскрашенное лицо дикаря. То
был город машин и высоких труб, из которых бесконечные дымовые змеи
туманились и тянулись и никогда не свертывались на покой. В нем был черный
канал, река — красно-фиолетовая от стекавшей в нее вонючей краски, и про-
152
странные груды строений, изобиловавших окнами, где что-то грохотало и дро-
жало круглые сутки и где поршень паровой машины однообразно поднимался
и опускался, словно голова слона, находившегося в состоянии меланхоличес-
кого помешательства. Он состоял из нескольких больших улиц, очень похожих
одна на другую, населенных людьми, которые точно так же были похожи один
на другого, входили и выходили в одни и те же часы, с одним и тем же шумом,
по одним и тем же мостовым, для одной и той же работы и для которых
каждый день был таким же, как вчера и завтра, а каждый год был двойником
прошлого и следующего».
Такова трагедия нашей цивилизации. Экономическая зависимость даже при
политической свободе вряд ли лучше античного рабства или средневекового
крепостничества.
Диккенс, как все тенденциозные писатели, а он был таковым, любил кон-
трасты. В его романах две категории людей — злодеи и добрые люди. К пер-
вым, как правило, принадлежат богачи, ко вторым — бедняки.
Контрасты разительнее выявляют главную идею автора. Писатель прямо и
открыто заявлял о своей позиции. Он прекрасно видел беды человеческие,
беды, исходящие из социальных контрастов, но он был добр, он не мог выно-
сить победу зла, и, хоть в жизни чаще побеждало все-таки зло, он вопреки этой
очевидности приносил своим беднякам счастье. Его всем известный хеппи энд
(счастливый конец) приносит душевное успокоение читателям.
* * *
Только человек может смеяться.
Аристотель
Первое произведение, которое принесло Диккенсу славу, был его роман
«Посмертные записки Пиквикского клуба». Здесь — царство смеха. Диккенс
обладал редчайшим талантом видеть смешное в людях и заставлять смеяться
своих читателей.
Некое любительское общество, называвшее себя клубом, заслушало на
одном своем собрании доклад своего председателя об истоках Хемстедских пру-
дов и его теории колюшки, постановило командировать его и трех его друзей
в путешествие по стране для дальнейших изысканий. Оно взяло на себя все
издержки этой командировки.
Мистер Пиквик — провинциальный светила науки. Маленький пузатенький
человечек лет пятидесяти, с лысым черепом, в котором содержался «гигант-
ский мозг», в очках, за стеклами которых горели огнем научного энтузиазма
глаза, в туго обтянутых белых рейтузах и гетрах, по моде тех дней. Таков его
внешний вид.
Его три друга — это поэт Снодграс с меланхолическим взглядом, витающим
в поэтических эмпиреях, как надлежало быть истинным поэтам-романтикам.
Это мистер Тампен, уже немолодой, но пылкий и всегда влюбленный в какую-
нибудь из дам. Жирок и подбородок, неумолимо «переползавший через край
его белоснежного галстука», выдавали его возраст, но душа его, как сообщает
автор, «не ведала перемен, и преклонение перед прекрасным полом было глав-
ной страстью». Наконец, третий герой романа — спортсмен Уинкль в зеленой
153
охотничьей куртке, клетчатом галстуке и мышиного цвета панталонах в
обтяжку.
Такова компания, которая отправляется на поиски истоков Хемстедских
прудов, в которых, надо полагать, местные жители ловили мелких рыбешек,
никак не подозревая того, что истоки этих лужиц требуют научных исследова-
ний.
Позднее к этой компании присоединится актер Джингл, в зеленом фраке,
вечно голодный, без гроша в кармане, бесцеремонный, в постоянной заботе о
собственном пропитании, а потом Сэм Уэлер, слуга мистера Пиквика, разбит-
ной парень, с острым языком, всегда веселый, никогда не унывающий.
Эта колоритная группа путешествует по старой Англии. Перед читателем,
как в калейдоскопе, мелькают люди, гостиницы, помещичьи усадьбы, гротеск-
ные фигуры. Все освещено доброй улыбкой автора.
Читатель, конечно, сразу же понял, что провинциальный светила учености
мистер Пиквик очень далек от науки, его друг Уинкль — от спорта, Снодграс —
от поэзии и мистер Тапмен — от любовных лавров. Их амбиции нелепы и
смешны, но в общем они никому не приносят вреда, все порядочны, честны, и
если мистер Уинкль проявляет иногда трусость, недопустимую для спортсмена,
а мистер Тапмен — мелочную скупость, то кто же без недостатков?
Пиквикисты попадают в самые нелепые приключения, которые бесконечно
смешат читателей. Так, в гостинице почтенный мистер Пиквик перепутал
номер и попал в спальню одной старой леди. Раздевшись и расположившись
спать в ее кровати, нисколько не подозревая о своей ошибке, он к своему ужасу
услыхал, что кто-то посторонний вошел в его номер. Это пришла леди. «Нет
надобности упоминать о том, что мистер Пиквик был одним из скромнейших и
деликатнейших людей на свете», — уведомляет автор читателя, и далее рису-
ется сцена, как почтенный эсквайр в ночном колпаке, с верхней одеждой в
одной руке и башмаками в другой, с позором удаляется из спальни разгневан-
ной старухи.
Мистер Пиквик, наивнейшее и добрейшее существо, постоянно попадает в
самые неприятные ситуации, как и его приятели.
Немалую роль в комедийном искусстве Диккенса играет само повествова-
ние, юмор, заключенный в слове, фразе.
Например: маленькие черные глазки «все время подмигивали и поблески-
вали по обеим сторонам пытливого носика, словно вели с этим органом вечную
игру в прятки» или: «слеза затрепетала на его чувствительных веках, как
дождевая капля на оконной раме».
Приведу уморительную сцену ссоры мистера Пиквика и его друга Тапмена:
«— Неужели вы хотите сказать, мистер Тапмен, что намерены нарядиться
в зеленую бархатную куртку с короткими фалдочками?
— Да, намерен, сэр, — с жаром ответил мистер Тапмен. — А почему бы и
нет?
— Потому, сэр, — сказал мистер Пиквик, заметно разгорячившись, —
потому что вы слишком стары!
— Слишком стар! — воскликнул мистер Тапмен.
— А если вам этого мало, — продолжал мистер Пиквик, — слишком тол-
сты, сэр.
— Сэр! — побагровев, сказал мистер Тапмен. — Это оскорбление.
154
— Сэр, — отвечал в тон ему мистер Пиквик. — Если вы появитесь передо
мной в зеленой бархатной куртке с короткими фалдочками, это будет еще
большее оскорбление.
— Сэр, — сказал мистер Тапмен, — вы грубиян!
— Сэр, — сказал мистер Пиквик, — сами вы грубиян... Зловещая пауза».
Так, с веселым юмором повествуется эпопея пиквикистов. Мы смеемся, но,
обозрев всю картину, задумываемся: как все-таки нелеп и уродливо карикату-
рен наш мир — мир тщеславия, лицемерия, ложной патетики, корыстных побу-
ждений и вместе с тем и вопреки всему непритязательной доброты, смягча-
ющей наши души.
Юмор всегда добр. Мы смеемся над Дон Кихотом, но ведь и любим его. Так
же полюбили мы и мистера Пиквика со всеми его слабостями за его душевную
доброту, незлобивость и полнейшую непрактичность в житейских делах.
Книга Диккенса вошла в мировую литературу, как вошли в нее и «Дон
Кихот», и «Мертвые души», и «Тартарен из Тараскона», и «Бравый солдат
Швейк».
Однако в России Диккенса оценили прежде всего за его сочувствие к уни-
женным и оскорбленным, ибо это, как полагал философ и критик В. В. Роза-
нов, соответствовало настроениям русского общества XIX века, духу русского
народа. «Русская литература есть сплошной гимн «униженному и оскорбленно-
му». Даже идеи социализма в России имели особую окраску. Они, — рассуждал
Розанов, исходили из «русской жалости», «сострадания к несчастным, бедным,
неимущим», в то время как на Западе — «социализм — европейская и притом
очень жесткая, денежная и расчетливая идея (марксизм). Потому Диккенс был
«почти русским писателем»<...>. Оттого его на Руси и полюбили».
ФРАНЦИЯ
Англия к XIX в., после бурь и смятений предшествующего столетия, выз-
ванных революцией, сформировала и укрепила свою политическую и социаль-
ную систему. Внутренняя ее жизнь в XIX в. уже была достаточно стабильна.
Не то во Франции. Ей предстояло в XIX в. утвердить то, что программировала
французская революция. Внутренняя ее жизнь за этот период была полна бурь
и смятений, от которых уже ушла ее соседка, островная страна. Наметим ее
исторические вехи.
Выдвижение Наполеона, сначала революционного генерала, потом консула
и, наконец, императора. Походы в Египет, Италию, Испанию, Россию. Низло-
жение его, остров Эльба, триумфальное возвращение на трон, сто дней правле-
ния, поражение в Ватерлоо, Святая Елена и — смерть, как ныне предполага-
ют, от медленного яда.
Реставрация Бурбонов. Людовик XVIII, Карл X, снова революция — воз-
вращение к тому, что было объявлено революцией конца XVIII в., Филипп
Орлеанский, король-буржуа, король-мещанин, как презрительно его имено-
вала европейская аристократия. Его клич: «Обогащайтесь!»
Революция 1848 г., выход на политическую арену племянника Наполеона —
Бонапарта под именем Наполеона III. Война с Германией, поражение, восста-
ние рабочих — Парижская коммуна. Чудовищный ее разгром.
156
Все это было на крови, в жестокой борьбе интересов.
Такова политическая история Франции XIX в.
В этой обстановке творили мастера искусства. Здесь своя история, и необ-
ходимо в общих чертах о ней поговорить.
* * *
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколенья,
Жестоких опытов сбирая поздний плод.
А. С. Пушкин
«Жестокий опыт»! Что легло на душу новому поколению, пережившему
революцию. Заглянем в пожелтевшие листы писем той поры, писем частных
лиц. В них приметы времени:
«Мы собрались в десять часов вечера у Пенье. Нас было пятеро: Пенье,
Морис Кё, Александр Гу, Гро и я. Была и Дженни, но она захотела спать и
ушла.
Мы сели в кружок на ковре и курили восточный табак из бамбуковых тру-
бок, потом ели апельсины и сухие фиги и читали Экклезиаста и Апокалипсис.
Я не знаю, перечитывал ли ты эти возвышенные создания прекраснейшей
поэзии, которая когда-либо существовала под солнцем. Морис встал и начал
говорить с таким красноречием и великолепием, что мне казалось, что я еще
читаю Библию».
Бенжамен Констан, автор известного тогда романа «Адольф», писал своему
другу, тоже литератору и историку Просперу де Баранту: «Я вам клянусь, доро-
гой Проспер, я совсем не знаю, как можно жить на земле, по крайней мере, как
мог бы я жить на земле без поддержки неба»1.
XVIII век был веком атеизма, насмешек над Библией. Теперь настроения и
пристрастия изменились. Молодежь увлеклась религией и, как всегда у моло-
дых, с особой страстью.
Вернулись из эмиграции аристократы. Писатель Шатобриан, который до
революции весьма скептически относился к христианским легендам, теперь
после голодных скитаний по заграницам, возвратившись в родное аристократи-
ческое гнездо с полуразрушенным замком, возглавил новую французскую
литературу, и первым его девизом стало — возвращение к религии. Он издает
обширное сочинение «Гений христианства» и затем «Мучеников», пытаясь при-
дать христианской идее эстетическое обаяние.
Шатобриан придал французскому языку, четкому и логически ясному, осо-
бую эмоциональную окраску. Проза стала походить на поэзию, что очень
понравилось французам.
1 Барон де Барант был послом Франции в России с 1835 г., встречался с Пушкиным, а сын его
стрелялся с Лермонтовым на дуэли в 1839 г.
157
Виктор Гюго в порыве честолюбивых мечтаний говорил себе: «Я буду или
Шатобрианом, или никем»1.
В повести «Рене» (она одна задержалась в памяти народа) изображен мелан-
холический юноша, живущий в родовом замке, первый в ряду бледных роман-
тических молодых людей, страдающих, этаких оранжерейных цветов, которые
никнут в непогоду и которые тогда заполонили литературу.
Мрачную тайну носит Рене в своей душе: он случайно подслушал признание
на исповеди его сестры — она его любит, но не христианской, а плотской
любовью.
Кровосмешение! Рене готов бежать от ужаса на край света. Только Бог,
только религия способна очистить души человеческие от скверны.
В средние века человеческие пороки относили к проискам дьявола, в новое
время заговорили о физиологии, о диктате тела. Стендаль заявил: «В полити-
ке, как и в искусстве, нельзя достигнуть высокого, не изучив человека, и необ-
ходимо мужественно начать с самых основ, с физиологии».
Ночная сторона души! Эту тему впервые затронул испанский драматург
Кальдерон («Поклонение кресту»), теперь Шатобриан стыдливо полунамекал,
а в XX в. известный Захер Мазох («Венера в мехах»), теоретически же это
изложил Зигмунд Фрейд.
Ей же посвятил все свои творческие искания в последние десятилетия
XIX в. писатель Эмиль Золя. Его многотомная серия романов «Ругон-Макка-
ры» в красках и лицах иллюстрирует теорию наследственности, раскрывает
перед читателем удручающие картины власти инстинкта над человеческими
душами. Криминальные сцены подтверждают ее с холодной документальной
достоверностью (романы «Земля», «Человек-зверь», «Чрево Парижа» и др.).
Анатоль Франс, современник Золя, прочитав его романы, с горечью, пожалуй,
даже с омерзением заявил: «Лучше бы он не родился».
Ночная сторона души? Научные изыскания в этой области, может быть, и
нужны, но пусть они останутся в ведении медицины и не касаются сферы искус-
ства, ибо унижают человека, а искусство должно его возвышать.
Но вернемся к началу XIX века.
Настроения нового поколения, рожденного после революции, выразил
Альфред де Мюссе. Это поколение, в основном из дворянских кругов, испы-
тало расслабляющее чувство растерянности, которое всегда приходит после
бурных социальных потрясений («Куда пойти мне, с кем мне поделиться той
грустной радостью, что я остался жив». — Сергей Есенин).
Скептический безбожный век Вольтера привел к революции. Аристокра-
тия выброшена за борт, от ее сословных привилегий не осталось и следа.
Пушкин о Шатобриане: «Первый из современных французских писателей, учитель всего
пишущего поколения, бывший некогда первым министром, несколько раз посланником,
Шатобриан на старости лет перевел Мильтона ради куска хлеба» (подчеркнуто Пушкиным).
Шатобриан в старости написал «Опыт об английской литературе», тоже, видимо, ради
куска хлеба. «В ученой критике Шатобриан не тверд, робок и сам не свой; он говорит о писа-
телях, которых не читал; судит о них вскользь и понаслышке и кое-как отделывается от скуч-
ной должности библиографа; но поминутно из-под пера его вылетают вдохновенные страни-
цы; он поминутно забывает критические изыскания и на свободе развивает свои мысли о
великих исторических эпохах, которые сближает с теми, коим сам он был свидетель. Много
искренности, много сердечного простодушия (иногда детского, но всегда привлекательно-
го)...»
158
Замок Сен-Пуан, подаренный поэту-романтику Ламартину отцом в день свадьбы
поэта. Стендаль иронизировал: «упитанные и обеспеченные не перестают петь
людские скорби и радость смерти».
Новые хозяева жизни поклоняются золотому тельцу. «Им некогда шутить,
обедать у Темиры иль спорить о стихах», и молодые отпрыски старых дворян-
ских родов, без воли, без энергии, тоскуют и обращают свои взоры к небу, к
Богу, вера в которого подорвана XVIII в.
«О, Христос, я не принадлежу к числу тех, кого молитва заставляет дрожа-
щими шагами направляться в твои немые храмы. Я не верю, о, Христос, в твое
святое слово, я слишком поздно явился в слишком старый мир. Но позволь
самому неверующему сыну этого неверующего века поцеловать этот прах и
заплакать, о, Христос, над этой холодной землей, которая жила смертью и
умрет без тебя» — так взывал и плакал поэт Альфред де Мюссе (поэма «Рол-
ла»).
С той же ностальгией об утраченном прошлом пишет и другой поэт, доста-
точно знаменитый в свое время Альфонс де Ламартин. Его «Думы» полны уны-
ния и тоски, его сборник «Поэтические и религиозные созвучия» выражает
тему уже одним своим названием.
Но жизнь шла вперед. Появились иные силы в литературе, которые осме-
яли тоскующих романтиков. Анри Бейль, еще не написавший ни одного романа
из тех, которые потом (только к концу века и после смерти писателя!) просла-
вят его имя (его псевдоним — Стендаль), с насмешкой и осуждением писал о
«...фальшивой чувствительности, претенциозном изяществе, принудительном
пафосе этого роя молодых людей, которые разрабатывают „мечтательный
жанр", „тайны души" и, упитанные и обеспеченные, не перестают петь люд-
159
ские скорби и радость смерти. Все эти
произведения вызвали шум при своем появ-
лении, все они названы образцами „нового
жанра", все они теперь кажутся смешны-
ми».
Замечу, Стендаль воспитывался в сфере
идей скептического XVIII в. и остался им
верен. Современники не поняли и не при-
няли его.
В 30-е гг. XIX столетия на обществен-
ную арену вышла талантливая писатель-
ница под мужским псевдонимом Жорж
Санд.
Легко и словоохотливо она изложила
историю женщины в целой серии романов
(«Индиана», «Валентина», «Л ел ия»,
«Жак»).
Брак и положение женщины в семье —
основная тема романов.
Муж — деспот, жена, презирающая,
ненавидящая мужа, — вот семья.
Женщина - - рабыня общественной морали, вынужденная подчиняться
тираническим законам общества, лишенная каких-либо прав, бунтует, как бун-
товала сама писательница, бросившая мужа, демонстративно щеголявшая в
мужской одежде, открыто пользовавшаяся любовью своих молодых поклонни-
ков (поэт Жюль Сандо, поэт Альфред де Мюссе, композитор Шопен).
Трагические судьбы героинь ее романов вызвали немало слез у читателей,
особенно у читательниц. Женский вопрос был поставлен перед обществом не
только Франции, но и других стран.
В России идеи Жорж Санд подхватили Белинский, Чернышевский, Добро-
любов.
Голос французской писательницы зазвучал со страниц романа Чернышев-
ского «Что делать?», в статьях Добролюбова о «Грозе» Островского. Думает-
ся, и на пьесу Льва Толстого «Живой труп» легла тень французской писатель-
ницы.
Белинский с обычной его страстностью выражал свой восторг:
«Рассказ Жоржа Санд а — это сама простота, сама красота, сама жизнь, сам
ум, сама поэзия. Сколько глубоких, практических идей о лишнем человеке,
сколько светлых откровений благородной, нежной, женственной души! И
какая человечность дышит в каждой строке, в каждом слове этой гениальной
женщины!»
Белинский требовал от писателя четко выраженной общественной позиции.
Жорж Санд отвечала этим требованиям, и — хвала ей! Прочитав Жорж Санд,
он утвердился в мнении, что «роман окончательно сделался общественным или
социальным».
160
ВИКТОР ГЮГО (1802 —1885)
Проснитесь, человек бедствует, народ раздавлен несправедливос-
тью.
Виктор Гюго
Это было хорошо и грандиозно — будить человечество.
А. Н. Толстой
Вместе с поколением новых романтических поэтов в литературу вошел и Вик-
тор Гюго. Он прожил почти целый век (1802—1885), заполнив его своими произ-
ведениями. Писал легко, много и хорошо, правда, эстетам второй половины века
казался слишком патетичным. Тонкие вина смакуют гурманы, простые люди
любят грубую пищу и предпочитают вина покрепче. Массовый читатель находил
в произведениях Гюго ясные и доступные ему истины, трогательные страницы о
гонимых и честных бедняках, о владетельных негодяях, и яркую, с пышными цве-
тами красноречия проповедь милосердия, добра, гуманности.
Виктор Гюго любил яркие, контрастирующие краски. У него нет полуто-
нов, сам речевой стиль его ярок, часто афористичен, рассчитан на эффект.
Фраза поражала неожиданным оборотом, сравнением, метафорой.
«Богач! делись своим состоянием; бедняк! делись своим сердцем».
«Величие лучше всего проявляется в кротости».
«Мысль — труд ума, мечтательность — его наслаждение. Заменить мысль
мечтой — значит принять яд за пищу».
«Я люблю смех, но не злой, иронический, насмешливый, а честный, весе-
лый, открывающий одновременно и уста и сердце и показывающий разом и
душу и жемчуг».
«Кто спасает волка, тот убивает овец, кто залечивает крыло коршуна, дол-
жен отвечать за его когти».
«Английское законодательство — прирученный тигр, он протягивает бар-
хатную лапу, сохраняя свои когти».
«Улыбка любимой сияет даже ночью».
«Дорога прогресса — путь среди могил».
«Великий художник — это великий человек в большом ребенке». И так
далее и тому подобное.
Так же контрастны герои его романов, поражающие наше воображение
своей исключительностью. То перед нами жертва компрачикосов (люди, уро-
дующие детей) оказывается лордом с чудовищной маской смеха на лице, то
девушка необыкновенной красоты, но слепая («Человек, который смеется»).
То урод Квазимодо, обладающий душой необыкновенной красоты, то краса-
вец — с душой подлеца («Собор Парижской богоматери»). Всюду контрасты.
«Собор Парижской богоматери» таит в себе тайну и музыку веков. Его зага-
дочные химеры олицетворяют ужасы Средневековья, и автор покажет нам
фигуру Клода Фроло, монаха-фанатика, ставшего чудовищем из-за своей
грешной и неутолимой любви к цыганке.
Гюго зовет к милосердию, к отверженным: «Проснитесь, человек бедству-
ет» (роман «Отверженные»).
161
Писатель прожил долгую жизнь, снис-
кав большую любовь читателей как неуто-
мимый борец за справедливость. Когда он
умер, скорбела вся Франция, его гроб про-
вожала миллионная толпа.
Гюго был не только писателем, поэтом,
драматургом, он был политическим деяте-
лем. Король Луи Филипп наградил его зва-
нием пэра. «Титул пэра Франции — самый
высокий в нашей политической иерархии —
это награда вашему гению», — говорил ему
король. Но когда на трон взошел племян-
ник Наполеона I Наполеон III, писатель
покинул Францию и пробыл в эмиграции
более 20 лет. Гюго писал о Наполеоне I:
Вы царь царей — Наполеон.
А завтра что? Осколки, щепки
И куча дров — ваш славный трон.
Сегодня Австерлиц, огонь Ваграма, Иена,
А завтра дымный столб пылающей Москвы,
А завтра Ватерлоо, скала святой Елены,
А завтра?.. А завтра — в гробе вы.
Писатель был самым убежденным демократом и бросался в бой с любой
формой ущемления прав человека:
«Я ненавижу всякое притеснение, а на земле стонут народы под тяжким
игом. Когда я вижу, как мучается Греция под пятой Турции, как умирает окро-
вавленная Ирландия, как Австрия своею палкой, постыдным и тяжелым скипе-
тром ломает крыло венецианского льва, как Вена держит в своих когтях Ми-
лан — о, тогда я проклинаю всех тиранов, я чувствую, что поэт — их судья.
Тогда я бросаю нежные песни и привязываю к своей лире медную струну».
СТЕНДАЛЬ (1783—1842)
Современники не признали Стендаля. Он умер человеком безвестным.
Несколько друзей проводили его останки до кладбища Монмартр, да печать
отметила петитом смерть «Фредерика Стиндаля», спутав псевдоним А. Бейля с
именем героя романа ныне забытого писателя Огюста Кератри.
Злые языки заявляли, что он опоздал родиться. На фоне идейных течений
эпохи Стендаль являл для современников печальное зрелище анахронизма. В
его дни философ Кузен пленял воображение своих соотечественников воль-
ными переложениями философских систем немецких идеалистов. Входили в
моду мистика, спиритизм. Раздавались туманные фразы о «конечном» и «бес-
конечном». А Стендаль, по мнению его критиков, не переступил еще порога
1789 г. и почтительно воскрешает тени отверженных просветителей.
По Европе триумфальным маршем проходит романтизм, и его пестрые
экзотические одежды влекут толпы любопытных. Стендаль же в это время
162
зовет читателя в научную лабораторию для
трезвого и точного анализа глубочайших
социальных проблем современной эпохи,
для кропотливых исследований человечес-
кой психологии.
Наконец, французы в плену мелодич-
ных периодов Шатобриана, Стендаль же
презрительно попирает красоту и симме-
трию речи ради грубоватой обнаженности
смысла.
И читатели мстят самым страшным и
самым жестоким способом — они его не
читают1.
Для них Стендаль был непонятен. «Есть
в его идеях столько странности, смелости и
почти бесстыдства, его манера имеет нечто
столь резкое, столь жесткое, столь трудное
для чтения...» — выражал в 1829 г. «Globe»
жалобы этого читателя.
В 1859 г. в статье «Нынешняя любовь во
Франции», напечатанной в «Отечественных
записках» за подписью «Н. Н.», помещены
такие строки о Стендале: «Никто еще так
резко и прямо не говорил всей правды о французах, как Генрих Бэль (де Стен-
даль). Горькая правда его речей пришлась не по вкусу читателям, и сочинения
его расходились и расходятся довольно туго».
О Стендале при жизни его было написано несколько статей, среди которых
выделяются рецензия журналиста Жюля Жанена на роман «Красное и черное»
и статья Бальзака о «Пармском монастыре».
После смерти писателя журнал опубликовал в 1843 г. статью Огюста
Бюссьера о жизни и творчестве Стендаля. Это была первая попытка изложить
более или менее систематизированно творчество и биографию писателя.
Забвение вот-вот, казалось, должно было навсегда стереть имя Стендаля со
страниц истории, но живы были его пламенные поклонники — Коломб, Мери-
ме2, да университетская молодежь с юным задором приступила к изучению тво-
рений непризнанного мастера.
Преподаватель Гренобльского лицея Стрыенский извлек из гренобльских
архивов неизданные произведения Стендаля и опубликовал их.
Автобиографические работы Стендаля привлекли к нему еще большее вни-
мание и интерес. Поэт Поль Валери вспоминает о последних годах прошлого
«Можно думать, что ваши книги священны, к ним никто не прикасается», — шутили друзья
Стендаля.
Коломб в 1846 г. издал «Пармский монастырь» Стендаля. В начале книги он поместил свою
статью о жизни писателя и его произведениях (один из основных источников биографии
Стендаля), а в конце книги статью Бальзака и письмо Стендаля к последнему. Мериме
в 1880 г. издал анонимную книгу о Стендале «Par un de quarante». А. Виноградов перевел
ее на русский язык под названием «Разоблаченный Стендаль» (1924).
163
Госпожа де Реналь и Жюльен Сорель. Первая встреча. Иллюстрация к роману Стендаля
«Красное и черное».
столетия: «В это время я страстно зачитывался „Жизнью Анри Брюлляра" и
„Воспоминаниями эготиста", которые предпочитал знаменитым романам
„Красное" и даже „Обители"».
«Я ненасытен лишь в области тех познаний, которые могут
помочь мне стать великим. Я вспоминаю (и внутренне, по соб-
ственному побуждению, совершенно согласен с этим) то, что
писал мне Бейль: «Не пренебрегайте ничем, что может сделать вас
великим».
Делакруа. «Дневник», 1855 г.
Жизнь Анри Бейля — Стендаля интересна с исторической точки зрения: он
не был значительной фигурой в череде важных событий Европы, но был на
гребне этих событий, связанный с ними и как свидетель и как участник.
Жизнь его интересна и с точки зрения формирования творческой личности.
Мечтать о писательской карьере он начал очень рано, чуть ли не с отрочества,
164
а первый его «зрелый» роман «Красное и черное» вышел, когда ему было уже
сорок семь лет.
Пятнадцати лет от роду он уже строил планы создания комедии в духе
Мольера. Ни искры комедийного таланта у него не было, но он уже рассуждал
о том, сколько времени проживут его творения, и полагал им срок не менее
двухсот лет.
Эти честолюбивые мечты и вера в себя заставляли его каждодневно тру-
диться. Полистайте его дневники — он читает, судит о прочитанном, посещает
театр и судит о виденном, посещает картинные галереи, музеи, зачарованно
глядит на архитектурные памятники, влюбленно слушает музыку и записывает
свои впечатления, свои мысли по поводу виденного. В поле его зрения попа-
дают колоритные сцены из жизни, он заносит их в свою память и рассуждает
самостоятельно, не подчиняясь магии авторитетов.
История его духовной жизни примечательна именно как история форми-
рования писателя. Он изобрел словечко «эготист». Это никак не эгоист.
Эгоист — для себя. Эготист — о себе. В биографических сочинениях «Записки
эготиста», «Жизнь Анри Брюлляра» он поведал историю своей души.
Почти все писатели писали о себе. Стефан Цвейг рассказал о Льве Толстом,
Стендале и Казанове, объединив свои очерки под общим названием: «Певцы
своей жизни». Все они были эготистами, а уж если взглянуть на вещи в гло-
бальном масштабе, то, пожалуй, главным образцом «эготиста» был Мишель
Монтень, описавший себя со всеми подробностями в «Опытах».
* * *
Несколько биографических дат: Гренобль, город на юге Франции, старин-
ный, еще со времен Римской империи, первоначально — Грацианполь по имени
императора Грациана (IV в.). Времена и удобства произношения превратили
Грацианполь в Гренобль. Много памятников античности и Средневековья.
23 января 1783 г. — день рождения в семье богобоязненного и консерва-
тивно настроенного горожанина, опасливо сторонившегося новых идей и
неприязненно принявшего революцию.
Мальчик признает лишь авторитет деда по материнской линии, поклонника
Вольтера, совершившего даже паломничество к нему в Ферней («В сущности,
я был всецело воспитан моим славным дедом, Анри Ганьоном»).
Дед наблюдает за развитием мальчика, воспитывает его вкус, приучает к
чтению классиков древности, рассказывает о героических подвигах героев
античности, о мужественных римских республиканцах — братьях Гракхах,
Бруте, Катоне. В детстве мальчик читает Руссо: «Чтение „Новой Элоизы" и
совестливость Сен-Пре (герой романа) воспитали во мне глубоко честного
человека».
Детские годы окрашены впечатлениями революционных событий. Он вос-
торженно провожает глазами солдат республиканской армии, проходивших
мимо их дома по площади Гренетт.
В 1796 г. поступает в Гренобльскую центральную школу. Такие школы
были созданы в годы революции и просуществовали недолго (с 1795 по 1802 г.).
Они значительно отличались от старых аристократических коллежей дорево-
люционного времени, из которых, по отзывам Вольтера, выходили только со
знанием «латыни и глупостей».
165
Центральные школы ставили своей целью воспитание честных патриотов,
мыслящих людей, дельных специалистов. Точные науки: математика, механи-
ка, физика, — а также логика, право, история стали в них основными предме-
тами изучения. Преподаватели, восторженные сторонники идей Просвещения,
в соответствующем духе воспитывали и своих учеников. Позднее Стендаль
писал, что его ученические годы проходили «в самую лучшую пору народного
просвещения».
С увлечением занимается математикой под руководством учителя Гро,
который был убежденным якобинцем и часто беседовал со своим учеником о
важнейших вопросах политики. Стендаль полюбил математику за неоспори-
мую точность и достоверность ее доказательств, за то, что она, как писал он
позднее, «не допускает лицемерия».
Эта любовь к точности и достоверности, проявившаяся в нем еще с детства,
стала одним из основных принципов его реалистического метода творчества.
В 1799 г., успешно закончив Центральную школу, едет в Париж учиться в
Политехнической школе. Его родственник Пьер Дарю, видный военный
чиновник, а в будущем маршал Наполеона, привлекает его к военной службе.
В 1800 г. семнадцатилетний Стендаль вместе с армией Наполеона находится
уже в Северной Италии, в Милане. В январе 1801 г. он принял участие в боях
при Кастель-Франко и, отличившись в бою, был произведен в офицеры.
«15 мая 1796 года генерал Бонапарт вступил в Милан во главе молодой
армии, которая перешла через мост у Лоди, показав всему миру, что спустя
много столетий у Цезаря и Александра появился преемник. Чудеса отваги и
гениальности, свидетельницей которых стала Италия, в несколько месяцев
пробудили ото сна весь ее народ» — так начинает свой роман «Пармская оби-
тель» Стендаль.
Это был первый поход Наполеона в Италию. Итальянцы действительно
воспряли духом: ведь их освобождали от австрийского гнета.
«Вместе с оборванными бедняками французами в Ломбардию хлынула
могучая волна счастья и радости... Ведь французские солдаты с утра до вечера
смеялись и пели, все были моложе двадцати пяти лет, а их главнокоманду-
ющему (Наполеону. — С. Л.) недавно исполнилось двадцать семь, и он счи-
тался в армии самым старым человеком».
Стендаль находился в армии Наполеона несколько позднее, но чувства
молодого офицера, а ему было тогда восемнадцать лет, были те же: молодой
восторг перед главнокомандующим, радость жизни, прекрасная Италия, пре-
красные женщины Италии и гордость за Францию. Полистаем его дневники.
Первая запись — Милан, 28 жерминаля IX г. Действует еще революционный
календарь (18 апреля 1801 г.): «Я решил записывать события моей жизни, день
за днем. Не знаю, хватит ли у меня сил осуществить это намерение».
Вторая запись (на другой день):
«Министр Петье принял нарочного из Парижа, и тот сообщил ему, что 20
марта Павел I был найден мертвым в постели. Полагают, что эта смерть
повлечет за собой большие перемены». Вести тогда доходили не скоро и не
всегда точно, Павел I был убит, как известно, 11 марта 1801 г. Однако любо-
пытна эта запись молодого наполеоновского офицера. Большие перемены дей-
ствительно произошли. Ориентация внешней политики Павла на Францию
сменилась симпатиями России к Австрии.
166
Еще несколько записей:
«Самой хорошенькой женщиной в городе считается г-жа Нота... но она
неприступна. Мы могли бы поухаживать за двумя графинями, которые живут
рядом с нами, но им уже за тридцать, и, кроме того, их неряшливый вид вну-
шает отвращенье».
Таковы записи молодого ловеласа. Он поклялся все записывать, ничего не
исправляя, даже орфографические ошибки. Этих записей за всю жизнь собра-
лось до 60 печатных листов.
Вместе с тем — самая напряженная работа ума: «Принес... первые три тома
„Истории русских" Левека». «Читаю походы Цезаря». «Сегодня давали „Зе-
линду и Линдора", превосходную комедию Гольдони». «В час ночи закончил
перевод „Зелинды и Линдора"...» «Совершил с генералом Мишо несколько
длинных прогулок верхом. Бергамо — красивейшая местность, какую я когда-
либо видел. Леса на холмах за Бергамо — самое восхитительное, что только
можно себе представить» и т. д.
В декабре 1801 г. Стендаль вышел в отставку и поселился в Париже. Здесь
усиленно изучает философию, читает Гельвеция, Монтеня, изучает древнегре-
ческий и английский языки.
«Приехав в Париж, я по полгода не делал визитов моим родственникам...
все время говоря себе: „завтра"; так я провел два года на шестом этаже улицы
д'Анживилье с прекрасным видом на колоннаду Лувра, читая Лабрюйера, Мон-
теня и Ж.-Ж. Руссо, напыщенность которого вскоре стала меня раздражать.
Там сложился мой характер. Я усиленно читал Альфиери, заставляя себя нахо-
дить в этом удовольствие, благоговел перед Кабанисом, Траси и Ж.-Б. Сеем...
я был без ума от „Гамлета"», — вспоминал впоследствии писатель.
СТЕНДАЛЬ В РОССИИ
Решусь ли сказать? Патриотизма и настоящего величия я больше
нашел в деревянных домишках России.
Стендаль
В наших архивах хранятся восемь писем офицера французской армии Анри
Бейля, посланных из России осенью 1812 г. и не дошедших до адресата. Их с
почтой, отправляемой в Париж, захватили тогда русские партизаны. В них не
нашли ничего важного и интересного для командования, и, сданные в архив,
они пролежали среди неразобранных документов более столетия.
Когда же Анри Бейль превратился в писателя Стендаля, а после смерти и в
знаменитого писателя, а потом, по общему признанию, и в классика мировой
литературы, письма эти внимательно изучили и включили в список особо цен-
ных архивных документов.
Надо сказать, что всего в эпистолярном наследии писателя насчитывается
более тысячи писем. Они были изданы впервые в 1855 г. его другом Роменом
Коломбом и позднее уже в нашем веке Пьером Мартино в десяти томах.
Писем, относящихся к московскому походу, сохранилось не более полутора
десятка.
167
Когда писались эти письма, автору было около тридцати лет, он еще не
опубликовал ни одной строчки своих сочинений, но уже носил в своем поход-
ном ранце рукопись «Истории живописи в Италии» и помышлял о славе писате-
ля. Это был умный, многообещающий молодой офицер, много читавший,
влюбленный в Италию, в итальянскую живопись, архитектуру, музыку и в
самих итальянцев, любивший, кроме того, математику, аккуратно брившийся и
сохранявший подтянутый вид, несмотря на все тяготы и неудобства походной
жизни, и скрывавший, по моде тех лет, под маской холодного мыслителя и
скептика восторженную душу мечтателя и романтика. Никто не принуждал его
ехать в Россию. Его родственник Пьер Дарю, граф и маршал, близко стоящий
к Наполеону, всегда мог предоставить ему любое место вне действующей
армии, но Анри Бейль сам пожелал участвовать в походе или, как он выражал-
ся, «совершить путешествие», его гнала, по его же собственному выражению,
«жажда все видеть».
Легко можно себе представить, какова была вера в звезду Наполеона, если
тягчайший военный поход молодому и достаточно образованному офицеру
воображался веселым и увлекательным путешествием, своеобразным туристи-
ческим круизом ради «жажды все видеть».
Конечно, суровая реальность не преминула заявить о себе, но Анри Бейль
старался не замечать ее и пока предавался мечтам и воспоминаниям об Италии,
о тех днях, когда он «сочинял литературные произведения, слушал Чимарозу и
под прекрасным небом предавался любви к Анджеле» (это из его письма).
Ничего подобного не было ни в Смоленске, ни в Москве, где он провел 15 дней.
2 октября он еще не понимает, в какую гибельную ловушку попал и он и вся
армия «его величества» (пока он только так позволяет себе называть Наполео-
на). Он еще считает возможным не замечать реальности и занимать свой ум
страницами Жан-Жака Руссо, а свои письма заполнять пространными рассу-
ждениями о стиле этого автора: «По-моему, лучшие вещи Руссо издают терп-
кий запах и не обладают корреджиевской прелестью, которая гибнет от малей-
шей тени педантизма».
У него еще нет и тени сомнения в победе Наполеона. Он только кокетливо
досадует, что придется провести зиму в Москве. Правда: «...надеюсь, у нас
будут концерты. Конечно, при дворе будут спектакли, но какие актеры?.. Зато
у нас здесь Тарквинини, один из лучших теноров». Действительно, в обозе
Наполеона были и Тарквинини и г-жа Берсе, и другие актеры. Наполеон хотел
порадовать московскую публику чудесами европейской цивилизации. Он не
предполагал, что Москва его встретит пожаром.
Письма Анри Бейля еще заканчиваются воспоминаниями о «Тайном браке»
и «Безумием от музыки». И это у Кремлевских стен, о которых, конечно, ни
слова! И под письмами беззаботно веселые, кокетливо-мальчишеские псевдо-
нимы вроде «капитан Фавье» и пр.
Но уже через два дня... стиль Жан-Жака Руссо и музыка Чимарозы отошли
в сторону. Заявила о себе холодная, грубая, наглая реальность («Конный
артиллерист, пьяный, бьет саблей плашмя гвардейского офицера и ругает его
ни за что ни про что», «Маленький г-н Ж., служащий у главного интенданта,
который пришел, чтобы маленько пограбить вместе с нами...»).
Москва горит, «победители» в панике, квартира «его величества» уже за
пределами Москвы — во дворце, «называемом Петровским».
168
У Проспера Мериме, друга Стендаля и прекрасного писателя, имеется рас-
сказ «Взятие редута», посвященный Бородинскому сражению. Маленький эпи-
зод великого события и редкостный шедевр литературного мастерства.
Дружба этих двух умнейших людей Франции и ее крупнейших писателей
удивительна. Их разделяло целое поколение: Мериме был моложе Стендаля на
целых двадцать лет. Между тем молодой Мериме уже заявил о своем таланте,
а его старший товарищ пребывал в безвестности. Он опубликовал свой пер-
вый, еще ученический роман «Арманс», будучи уже сорока четырех лет.
Их переписка не сохранилась. Мериме сжег письма, но в 50-х гг. XIX столе-
тия напечатал книжечку о нем в пятнадцати экземплярах (для друзей).
Рассказывают, что между друзьями (Стендалем и Мериме) состоялся однаж-
ды такой разговор:
«Мне нравится, что ты сделал из моих воспоминаний о Московском походе.
Твой рассказ «Взятие редута» удивителен. Поздравляю. Тебе свойствен пре-
дельный лаконизм, строгость и выразительность картин. Жалею, что не рас-
сказал тебе об одном эпизоде. Это в твоем духе. Ты мог бы сделать прекрасную
вещь.
Однажды вместе с генералом Матье Дюма, генеральным интендантом и
моим начальником, я присутствовал в зале Кремлевского дворца, когда там был
Наполеон. У письменного стола толпились генералы. Он отдавал какие-то
распоряжения, чувствовалось всеобщее напряжение. Окно было открыто. По-
слышался с улицы какой-то шум. Кричали солдаты, слышались возгласы:
«Бей ее!»
— Что там такое? — спросил Наполеон.
Доложили, что поймали поджигательницу (тогда только начинались по-
жары).
— Приведите ее сюда, — сказал император.
Воцарилась тишина ожидания. Ввели молодую девушку, совсем еще юную.
Платье ее было порвано в нескольких местах, волосы — прекрасные девичес-
кие косы — растрепаны. Она выглядела еще подростком, как святая Цецилия
у Мурильо, только славянского типа, с большими голубыми глазами, горев-
шими гневом и ненавистью.
— Где переводчик? — спросил Наполеон.
— Сир, она понимает по-французски, — сказал офицер, введший девушку.
— Вы француженка? — обратился к ней император.
Девушка ответила молчанием, дерзко глядя на него.
— Вы дворянка?
-Да.
— Вы здесь одна, ваши родители выехали?
-Да.
— А вы?
— Осталась.
— Чтобы поджигать?
-Да.
— Зачем? Разве мы варвары? Вы читали наших писателей?
— Читала.
— Кого и что?
— «Новую Элоизу» Руссо, «Поля и Виргинию».
169
— Ну вот видите, мы же не злые люди. У нас хорошие, добрые писатели.
— Кто вас сюда звал?
Император нахмурился, он не нашел ответа.
— Если мы вас отпустим, вы не станете больше поджигать?
— Стану.
— Сожалею, но по законам войны...
Он махнул рукой и отвернулся к окну».
Неизвестно, был ли такой разговор, но образ русской девушки глубоко
запечатлелся в памяти писателя и нашел отражение в его первом романе «Ар-
манс».
Арманс Зоилова с чертами «замечательной славянской красоты». «Беско-
нечно кроткая и нежная по внешности, она обладала твердой волей, достойной
той суровой страны, где она провела свое детство».
Примечательно, что Стендаль узами родства связал героиню своего романа
с декабристами. Его русские друзья Сергей Соболевский и Александр Турге-
нев, конечно, сообщили ему все подробности событий на Сенатской площади и
их последствия.
Военная карьера Стендаля кончилась вместе с падением Наполеона.
«Я пал вместе с Наполеоном в апреле 1814 года». «Лично мне это падение
доставило только удовольствие...» «Со своими камергерами, с пышностью и с
приемами в Тюильри он просто выпустил новое издание всех монархических
глупостей».
Однако тень Наполеона постоянно присутствует в его сочинениях. Две
книги он посвятил только ему: «Жизнь Наполеона» и «Воспоминания о Напо-
леоне».
В романе «Пармская обитель» он описывает битву при Ватерлоо. Картина,
нарисованная им, восхитила Льва Толстого. Французский и русский писатели,
два офицера, сами принимавшие участие в боях, хорошо понимали, что такое
война, с высочайшей реалистической точностью воссоздали героические и
мрачные будни ее.
Дальнейшая жизнь Стендаля: писательство — для души, дипломатическая
служба — для хлеба насущного.
22 марта 1842 г. на одной из улиц Парижа, у дверей Министерства иностран-
ных дел он потерял сознание от апоплексического удара и ночью скончался.
Соболевский, который жил тогда в Париже, записал в дневнике: «Вчера Анри
Бейль — на улице — в грехах и насмешках...»
Приверженец идей XVIII в., Стендаль был убежденным атеистом. Ему при-
надлежит знаменитая фраза: «Бога извиняет то, что он не существует».
Мериме назвал его «личным врагом Господа Бога».
Останки писателя похоронили несколько его друзей: Коломб, Мериме и
Александр Тургенев. Последний за несколько лет до того сопровождал прах
Пушкина в Святогорский монастырь.
170
НРАВСТВЕННОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО ПИСАТЕЛЯ
Опорой для меня был здравый смысл и вера в «дух» Гельвеция.
Стендаль
Здравый смысл! Иначе говоря, никаких измышлений, никаких порываний в
запредельное, никакой мистики, никакой патетики, иллюзий! Истинно лишь
то, что можно увидеть, потрогать, услышать, познать органами своих чувств.
Все остальное — от лукавого.
— Зачем живет человек? — Для счастья, дорогие мои, для счастья. Не упо-
вайте на небо — там пусто. Добивайтесь счастья, пользуйтесь радостями жиз-
ни — для вас она уникальна, неповторима, гоните от себя тех, кто требует от
вас самоотречения, жертв во имя вздорных иллюзий. Но помните, что ваше
личное счастье возможно только в атмосфере общественного блага. Человек
порочен в порочном обществе, потому стройте общество добра и справедли-
вости.
Такова «философия счастья», преподанная миру Гельвецием, французским
просветителем, в книгах «Об уме», «О человеке» и в поэме «Счастье». Для
Стендаля они были как «Отче наш».
Лев Толстой говорил Горькому о Стендале: «...вы читайте его романы, он
романист, не философ». Это, конечно, справедливо. Но долог был путь к рома-
нам. Стендаль читал, размышлял, наблюдал жизнь, писал об искусстве.
«Из числа Ваших произведений я имел возможность узнавать Вас лишь в
книгах „Рим, Неаполь, Флоренция", „Жизнь Моцарта и Гайдна" и в маленькой
книжке о Расине и Шекспире. Мне еще не удалось познакомиться с Вашей «Ис-
торией живописи», — писал ему незадолго до смерти Байрон. Он не дожил до
его шедевров.
Книги, названные Байроном, были известны лишь узкому кругу читателей,
но среди них были значительные лица. Гете, следивший за всем, что происхо-
дило в мировой литературе, писал Цельтеру в марте 1818 г. о только что
появившейся тогда в печати книге Стендаля «Рим, Неаполь, Флоренция». Он
посылал ему и отрывки из нее. «Это детали редкой книги, которую ты обяза-
тельно должен себе достать. Имя заимствовано: этот путешественник — фран-
цуз, живой, страстно влюбленный в музыку, танец, театр. Эти два отрывка
покажут тебе его свободную и смелую манеру письма. Он привлекает, отталки-
вает, интересует, выводит из себя и, наконец, с ним становится невозможно
расстаться. Перечитываешь книгу, снова очаровываясь, и хочется запомнить
некоторые отрывки наизусть. Он многое видел сам; он умеет очень хорошо
использовать то, что ему попадается, одним словом, эту книгу недостаточно
прочитать, ее нужно иметь».
Читая Стендаля, мы постоянно ощущаем его влюбленность в красоту,
молодость, в энергию человека. Он создает поистине культ энергии. Этому
культу поклонялся и его приятель, блестящий новеллист Проспер Мериме
(«Кармен», «Коломба»).
Что касается искусства, или, как говорят литературоведы, эстетических
позиций, то он за реализм, т. е. за неприкрашенное воспроизведение реальных
фактов жизни.
171
Все должно быть подчинено правде. «Эх, сударь, роман — это зеркало,
которое наводишь на большую дорогу. Оно отражает то небесную лазурь, то
грязь дорожных луж».
В молодых героях романов Стендаля больше все-таки «лазури». Их заблу-
ждения, их порывы, даже их трагедии — прекрасны, как прекрасна сказка о
Ромео и Джульетте.
«КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
... Покорнейше прошу прислать мне второй том Красного и черно-
го. Я от него в восторге.
А. С. Пушкин — Е. М. Хитрово,
1831 г. Петербург
Писателям иногда достаточно ничтожного случая, чтобы воспламениться и
создать произведение высочайшего класса. Так случилось и с романом Стенда-
ля. Судебная хроника Гренобля сообщила о некоем юноше, который, попав в
богатый дом в качестве воспитателя детей, стал любовником хозяйки дома, а
потом покушался на ее жизнь в порыве ревности и отчаяния.
Этого было достаточно, чтобы создать огромного диапазона полотно со-
временной жизни. Подзаголовок романа — «Хроника 1830 года». Стендаль
полагал, что когда-нибудь его сочинение будут воспринимать как исторический
роман со всеми историческими реалиями времен многолетней давности. Так и
случилось: сейчас мы с любопытством вглядываемся в эти детали. Правда,
судьба героев рассказанной истории для нас важнее, ибо в ней вневременная,
вечная тема судьбы человеческой личности.
Сначала об исторических реалиях. Эпоха Реставрации во Франции. Это
годы правления Людовика XVIII и затем Карла X (1815—1830). В сущности,
это переходный период. Революция подавлена, вернулись аристократы, на
троне те же Бурбоны, что и до революции. Но подспудно идет война: аристо-
краты чувствуют, что почва под ними шатка, хотя власть и в их руках. Недо-
вольные собираются в партию либералов и пытаются сбросить роялистов (сто-
ронников короля), что им и удается в 1830 г.
И те и другие одинаково не симпатичны Стендалю.
Мэр города Верьера, роялист г-н де Реналь, говорит: «В этом злополучном
городе фабрики процветают, либеральная партия начинает ворочать миллио-
нами, она стремится к власти, она сумеет выковать себе оружие из всего». А в
Париже роялисты мечтают на конспиративном совещании об иностранной
интервенции для возрождения абсолютизма. Вот какую речь произносит мар-
киз де ля Моль:
«Трон, алтарь, дворянство могут пасть в любой день, господа, если вы не
создадите в каждом департаменте вооруженной силы в составе пятисот предан-
ных людей. Это войско должно состоять из наших сыновей, из наших племян-
ников, словом, из настоящих дворян. Иностранные короли не захотят вас слу-
шать, пока вы не заявите им, что двадцать тысяч дворян готовы взяться за ору-
жие, чтобы распахнуть перед ними ворота Франции».
172
Об этом совещании осведомлен король. В лице г-на де Нерваля, присутству-
ющего на совещании, Стендаль изобразил первого министра Жюля Пол инь-
яка, друга и любимца Карла X. Г-н де Нерваль с дубоватой прямолинейностью,
свойственной Полиньяку, заявляет о своих намерениях: «Либо ты сложишь
голову на плахе, либо восстановишь во Франции монархию и сведешь палаты
к тому, чем был парламент при Людовике XV, и я это сделаю, господа».
Держа в своих руках государственную власть, дворянство отдавало себе
отчет в том, что фактическое господство в стране принадлежит буржуазии.
С добросовестностью ученого-историка заносит Стендаль на страницы
своей книги все коллизии этой политической борьбы. Он показывает и реак-
ционную роль католического духовенства. «Идея, наиболее полезная для тира-
нов, это — идея Бога», — говорит один из персонажей романа. Епископ, при-
сутствующий на конспиративном совещании роялистов, цинично заявляет:
«Невозможно образовать во Франции вооруженную партию без помощи духо-
венства. Пятьдесят тысяч священников в установленные начальством дни
повторяют одни и те же слова, и на народ, который как-никак поставляет сол-
дат, голос священника подействует больше, чем всякие стишки».
* * *
Раскрывая перед читателем историю интимных отношений г-жи де Реналь
и Жюльена, Стендаль использует теорию любви, изложенную им в трактате
«О любви». «Не любить, когда небо дало душу, созданную для любви, значит
лишать себя и другого человека большого счастья. Это все равно, как если бы
апельсиновое дерево не захотело цвести, боясь согрешить», — писал он в этом
трактате. Свою теорию о различных категориях любви, о перипетиях любви,
изложенную в трактате, писатель последовательно проводит в романе.
Г-жа де Реналь жила в маленьком городке Франции, погруженная в заботы
о детях, которых она очень любила, о хозяйстве, о Боге, в которого она верила
без единой тени сомнения и которого страшилась; добродетельная мать, верная
жена, сострадательная, чуткая к людям, любящая тихие радости уединенной
жизни.
Однажды ранним утром она увидала у своего дома юношу с заплаканным
лицом и детской доверчивостью взгляда. Чудесные глаза, полные юношеского
огня и мысли, покорили ее. К очарованию внешнего облика прибавилось вос-
хищение красотой духовного мира юноши. Привыкшая видеть в людях своего
круга грубые инстинкты, корысть и подлость, она заметила его умственное и
нравственное превосходство над ними и оценила нравственную чистоту Жюль-
ена. Особенно поразило и восхитило ее совершенное равнодушие Жюльена к
деньгам, в отличие от ее мужа и всех известных ей буржуа.
Так родилась в ней любовь. Это была «любовь-страсть, самая возвышенная
и благородная форма любви, доступная лишь тем, кому чужды корысть и тще-
славие, лицемерие и эгоизм».
Вторая женщина, встреченная Жюльеном на пути к большой карьере, была
Матильда де ля Моль, столичная аристократка, дочь вельможи. Она полюбила
его, как это ни парадоксально, из чувства тщеславия.
Дворяне-аристократы, вернувшиеся из эмиграции, потрясенные и выбитые
из колеи событиями революции, обедневшие и утратившие былые свои приви-
173
легии, находят радость в несбыточных и сладких мечтах о далеких временах
феодализма, о былой славе их предков, в истлевших страницах истории, в кар-
тинах турниров, рыцарской доблести, средневековой любви.
Матильда очень романтична. Она носит траур в день годовщины казни
своего далекого предка — событие чуть ли не трехсотлетней давности. В этот
день она называет своего брата Норбера именем Аннибале в честь Аннибале
ди Коконассо, пьемонтского дворянина и друга Бонифаса де ля Моля, каз-
ненного вместе с ним.
«Какое для меня несчастье, — думает она, — что нет больше настоящего
двора, подобного двору Екатерины Медичи или Людовика XIII! Я чувствую
себя на уровне со всем, что только есть самого отважного и великолепного.
Чего бы только ни сделала я с таким благородным королем, как Людовик XIII,
вздыхающим у моих ног! Я повела бы его в Вандею, как любит говорить ста-
рый барон де Толли, и оттуда он отвоевал бы свое королевство, и тогда не
было бы хартии...».
Матильда умна, холодна и насмешлива. Ее боятся все в доме и особенно
незадачливые гости. Попасть под обстрел ее острого языка опасно, так как она
умеет язвить, не впадая в запальчивость. Ответить на ее насмешки подчас
бывает затруднительно, как ни больно они терзают самолюбие.
И Матильда скучает. Скучает от пресыщения и праздности. Ум, красота,
богатство, знатность — все у нее есть. Чего же недостает? Значительности
жизненных интересов. Отсюда все ее чудачества.
Надменная аристократка, с «холодным и презрительным взглядом фамиль-
ного портрета», ярая монархистка, откровенно в саду пожимает руку Жюль-
ену, сыну плотника, «плебею», пишет ему письмо и, наконец, отдается ему,
разбивая сокровенную мечту своего отца видеть ее герцогиней.
Безумства Матильды проистекают не столько из праздности, сколько из
тщеславия. Если мы проследим мысли девушки, то всюду увидим на первом
плане ее себялюбивое и кичливое «я». Поэтому и любовь ее — «головная», по
выражению Стендаля, надуманная, вымученная, поэтому и мучается Матиль-
да, впадая из одной крайности в другую, переходя от пылких признаний любов-
нику, от осуждения себя на рабство ему как «повелителю» к открытой злобе,
к ненависти, — к нему, к «первому встречному», которому она так неосто-
рожно отдалась.
Ее любовь к Жюльену была в сущности только позой. Ей нравилось, что
она, такая необыкновенная, такая смелая, решилась отдаться плебею, тогда
как другая девушка ее круга не отважилась бы на это. Она мучается, когда ей
вдруг кажется, что она ошиблась, что в Жюльене нет ничего выдающегося,
что ее связь с ним не более как банальный мезальянс; она мучается потому,
что в эту минуту сомневается в себе, а сомнение в собственных достоинствах
для такой себялюбивой натуры страшнее всякого наказания.
Матильда никогда бы не призналась в той страшной истине, что она отчасти
желает казни Жюльена, как это было на самом деле, ибо казнь ставит его, по
ее мнению, выше всех остальных людей и, следовательно, возвышает и ее,
полюбившую такого человека. Она наслаждается и гордится в последние дни
перед казнью своего возлюбленного той героической и, как ей кажется, само-
отверженной борьбой, какую она ведет за то, чтобы спасти его. «...Она рада
была бы каждое мгновенье своей жизни наполнить какими-нибудь необыкно-
174
венными подвигами», — пишет Стендаль. Опасность потерять Жюльена
наполнила новым содержанием ее жизнь. Она строит героические и безумные
планы его спасения, ей хочется задержать мчавшихся на всем скаку королев-
ских коней и, с риском быть раздавленной колесами кареты, упасть к ногам
короля, чтобы молить о помиловании своего возлюбленного. Однако герои-
ческие поступки должны были происходить при одном непременном условии —
в присутствии зрителей, которые будут видеть их и восхищаться ими. «Надмен-
ной Матильде... все время нужна была оглядка на публику, на других», —
пишет Стендаль.
Еще будучи двенадцатилетней девочкой, Матильда была потрясена расска-
зом о том, как некогда королева Маргарита Наваррская, добыв голову своего
возлюбленного, казненного Бонифаса де ля Моля, предка Матильды, увезла ее
с собой в карете и схоронила сама в полночь у подножия Монмартрского хол-
ма. Часто представлялась Матильде эта мрачная сцена погребения, всю жизнь
мечтала она о том, чтобы совершить нечто подобное. И случай доставил ей эту
возможность.
«Матильда проводила любовника до выбранной им для себя могилы. За гро-
бом шло много священников, она же тайно от всех, одна в траурной карете
везла на коленях голову человека, которого так любила».
Стендаль осуждает Матильду. Он постоянно вскрывает внутреннюю
фальшь чувств и поступков своей героини. И тем не менее есть нечто в натуре
девушки, что привлекает к ней сердце писателя. Он любуется кипучей и
деятельной энергией Матильды, ее тяготением ко всему героическому, и чита-
тель верит, что, случись этой девушке оказаться перед возможностью совер-
шить акт подлинного героизма во имя высокой цели, она бы его совершила и,
может быть, впервые почувствовала бы себя по-настоящему счастливой.
Стендаль восторженно отзывался о женщинах эпохи революции, он восхи-
щался героическим характером г-жи Ролан, противопоставляя ее женщинам
эпохи империи, которые плакали, узнав о том, что императору не понравился
покрой их платья, или женщинам эпохи Реставрации, которые простаивали
долгие обедни, вымаливая у Бога должность префекта для своих мужей.
Матильда не стала бы делать ни того ни другого. Ее натура иного склада. Она
активна. В ней, как и в похожей на нее Ванине Ванини, много жизненной энер-
гии, столь ценимой Стендалем. Однако дворянско-аристократическая среда
Реставрации извратила весь круг понятий девушки и ее ум.
Писатель закончил свою книгу противопоставлением двух женщин: одна
украшает могилу возлюбленного мраморными изваяниями, другая через три
дня после его казни умирает, обнимая детей, ибо иссяк источник, питавший ее
жизнь.
Жюльена в конце его недолгого жизненного пути «потянуло к незлобивости
и простоте», и угасшая страсть к г-же Реналь «воскресла из пепла». Возвраще-
ние Жюльена к г-же Реналь имеет глубокое принципиальное значение для всей
философии романа. Стендаль вложил в любимый им образ г-жи Реналь свое
представление об идеальном человеке, «незлобивом и простом», живущем так,
как подсказывает ему сердце, действующем по первому побуждению, а оно, по
его мысли, всегда справедливо. Стендаль любил повторять с иронией фразу
Талейрана: «Бойтесь первого движения души: оно всегда благородно». Именно
благородства поступков и искал Стендаль в человеке.
175
Жюльен Соре ль
Начиная с 30-х гг. XIX в. во французской литературе молодой герой при-
обретает, я бы сказал, хищные черты. Молодые люди — обычно бедняки —
рвутся к деньгам, богатству. Быстро отбросив юношеские мечты, благородные
порывы, они усваивают эгоистические принципы. Бальзак показал эту нрав-
ственную эволюцию, рисуя карьеру Растиньяка, ставшего министром, Шарля
Гранде и др. Они, эти молодые люди, нисколько не фрондируют с обществом,
они приспосабливаются, усваивают неписаные нравственные его законы.
Показательна судьба героя Стендаля Жюлъена Сореля («Красное и чер-
ное»). Он, бедняк, крестьянский сын, вознамерился проникнуть в высшие слои
общества. И конфликт здесь не между тупой толпой обывателей и непонятой
личностью, а «вечная схватка роскоши с нищетой».
Жюльен презирает богачей и аристократов. Они постоянно ущемляют его
самолюбие и дают чувствовать свое сословное или имущественное превосход-
ство над ним. Его сознание собственного достоинства, естественное и, в сущно-
сти, благородное, постоянно протестует против этого.
Маркиз де ля Моль привязался к Жюльену. В глубине души он признавался
себе, что не смог бы найти в своей среде такого умного, наделенного редкими
и разносторонними талантами человека, такого интересного и остроумного
собеседника. Но сколько презрения, сколько барства в его отношении к этому
человеку из народа. «Привязываются же другие к красивой собачонке, — рас-
суждал маркиз, — почему же мне стыдиться особенно своей привязанности к
этому аббату? Он забавен. Я обращаюсь с ним, как с сыном; что в этом непри-
личного? Если эта прихоть затянется, она будет стоить мне брильянта в пять-
сот луидоров, который я оставлю ему по завещанию». И проницательный
Жюльен это понимал. Сама жизнь давала ему уроки. Общество, эта суровая и
враждебная стихия, в которой он чувствовал себя одиноким, учило его безра-
достным и мизантропическим принципам эгоистической философии.
Итак, раз «злая мачеха-судьба», «дав ему благородное сердце, не дала и
тысячи франков годового дохода», надо собственными силами достичь богат-
ства и почета, преуспевания и всеобщего уважения, ибо только богатство и
власть дают человеку уважение других. Для этого он берет себе в учителя Тар-
тюфа. Он называет его «человеком незаурядным» и роль его «знает наизусть».
Однажды он с восхищением восклицает: «Чего только можно достигнуть с
помощью ловкости!» Матильда, наблюдавшая за ним, была «поражена его
маккиавелизмом». Роль ловкого пикарро удается Жюльену. Придя в дом де
Реналей мальчиком с заплаканным лицом, он через какой-нибудь час, переоде-
тый во все черное и представленный детям в качестве воспитателя, был уже
«воплощенной степенностью». Не прожив и месяца, он сумел так себя поста-
вить, что «сам г-н де Реналь проникся к нему уважением». Он всюду с искрен-
ностью, не вызывающей подозрений, говорит о своем отвращении к Наполео-
ну, своему кумиру, человеку, портрет которого хранит с гибельным для себя
упорством. На обеде у Валено он с возмущением отзывается о Лафонтене,
когда ему пришлось прослушать одну из его басен, и называет его «безнрав-
ственным автором». Он привел в такой восторг всех собравшихся буржуа, что
оставил по своем уходе единодушное заключение присутствующих: «Этот
юноша делает честь нашему департаменту».
176
Оказавшись в семинарии и убедившись в духе лицемерия, царившем в этом
духовном училище, Жюльен понял, что его умственные способности могут
только повредить ему, и стал упражняться «в области аскетического благоче-
стия». Это была пытка, чудовищная, умопомрачающая, но он ее выдержал.
Жюльен не отчаивался в стремлении вытравить в своем облике черты «че-
ловека мыслящего», выработать в себе «лицо узколобого ханжи». И в этой
душной атмосфере лицемерного аскетизма, где всякое здравое рассуждение
звучит «оскорбительно», Жюльен побеждает, его назначают репетитором по
Ветхому и Новому завету.
На службе у маркиза де ля Моль он постигает с подлинным совершенством
мастерство ведения хозяйственных дел. Маркиз поручает ему управление
всеми своими поместьями... «Маркизу нужен был начальник штаба, который
привел бы в ясный и удобообозримый порядок денежные дела». И эту задачу
Жюльен выполнил блестяще, недаром потом маркиз, защищая его от порица-
ний салонных дам, говорил: «Если в вашем салоне он смешон, то у себя в кон-
торе он великолепен».
Решив действовать в «духе века», Жюльен развертывает богатые возмож-
ности своей натуры и не безуспешно проявляет ловкость плута — истинного
героя буржуазного предпринимательства.
Трагический финал карьеры Жюльена Сореля — лишь суд автора над самой
системой эгоистического преуспевания. Его герой оказался слишком честен
для роли дельца.
«ПАРМСКАЯ ОБИТЕЛЬ»
Это сама жизнь и жизнь придворная, нарисованная не карикатурно,
как пытался это сделать Гофман, а серьезно и зло.
Бальзак
Бальзак полагал, что у Стендаля в мире не более одной тысячи читателей,
но это политические деятели, дипломаты, люди ума и проницательности.
Только эта элита способна понять и оценить писателя. Когда вышел из печати
роман «Пармская обитель» (март 1839 г.), он опубликовал восторженный от-
клик — «Этюд о Бейле». Еще в 1832 г. в одной из частных библиотек Италии
Стендаль нашел рукописный том, составленный из биографий римских пап и
кардиналов XVI—XVII вв. Прочитав жизнеописание Павла III Фарнезе, он
записал: «Сделать из этого наброска небольшой роман». И шесть лет спустя, в
1838 г., в молниеносно короткий срок (53 дня) продиктовал «Пармскую оби-
тель».
«Я импровизировал диктуя. Диктуя одну главу, я не знал, что будет в следу-
ющей», — вспоминал он впоследствии.
Эпоха, обрисованная в романе, хронологически охватывает период с 1796 до
1830 г. Место действия — Северная Италия.
До 1796 г. Северная Италия находилась в руках Австрии. Французская рево-
люция XVIII в. способствовала значительному оживлению национально-особо-
177
дительного движения в Северной Италии. Ненависть итальянского народа к
австрийскому игу, особенно усилившаяся с 1789 г., в известной мере помогла
французским республиканским войскам, которыми командовал молодой гене-
рал Наполеон Бонапарт, изгнать в 1796 г. австрийские армии и австрийских
чиновников из пределов страны. Северная Италия была преобразована в Ци-
зальпинскую республику.
Когда Наполеон отправился в Египегг, австрийская армия оттеснила войска
французов и уничтожила Цизальпинскую республику. Но Наполеон восстано-
вил ее в 1800 г., после битвы при Маренго, где он вновь разбил австрийские
войска.
Наполеон шел в Италию с многообещающей политической программой: «Я
не хочу ваших попов, не хочу вашей инквизиции, не хочу вашего развратного
сената. Я буду Аттилой для Венеции. Все правительства Италии устарели, и им
пора рухнуть», — писал он венецианскому дожу. Однако несколько лет спустя
Цизальпинская республика была преобразована в королевство. Наполеон объ-
явил себя королем, а в качестве наместника (вице-короля) назначил своего
пасынка Евгения Богарнэ, имя которого Стендаль не раз упоминает в романе.
Итальянские патриоты, с восторгом внимавшие освободительным деклара-
циям Наполеона, вскоре охладели к нему, увидев, что он вовсе не собирается
дать стране независимость. Именно в это время возникли первые организации
карбонариев. Но их деятельность особенно активизировалась после того, как в
1814 г. Северная Италия вновь подпала под еще более тяжелый гнет владыче-
ства Австрии.
Италия теперь была разбита на восемь мелких государств, в которых деспо-
тизм правителей и проводимая ими реакционная политика сочетались с захо-
лустными нравами и культурным застоем. Местом действия своего романа
Стендаль избрал одно из таких государств — Парму.
Князь Эрнест Рануций III1 когда-то был храбрым воином, но, став правите-
лем Пармы, совершенно переменился. Он приказывает повесить нескольких
либералов и не знает теперь покоя, ему мерещатся всюду заговоры, покуше-
ния, террористические акты.
Будучи в сущности неглупым человеком, он превратился в комическую
фигуру. Вскакивает по ночам, поднимает на ноги весь дворец в поисках «спря-
тавшихся убийц». Умнейший граф Моска, его первый министр, потому так и
мил сердцу князя, что терпеливо, без тени улыбки, с полной серьезностью
заглядывает вместе с ним под столы и диваны и даже в футляры музыкальных
инструментов, ища террористов.
Эрнест Рануций крайне тщеславен и, управляя крохотным государством,
стремится подражать Людовику XIV. В его приемной висит огромный портрет
французского короля. Эрнест Рануций подражает даже его манере говорить.
По первому подозрению правитель Пармы бросает в тюрьмы десятки
людей, произнося страшное слово «навсегда». Жестокость — один из принци-
пов его внутренней политики; он находит, что жестокость вселяет в народ ува-
жение к монархической власти.
1 Вымышленное лицо. В описываемое в романе время Пармой управляла Мария-Луиза, жена
Наполеона I.
178
Деспота-князя окружают льстецы-придворные. Особенно колоритна среди
них фигура министра юстиции Расси, способного на самый подлый поступок
ради личной карьеры. Его грязными руками расправляется Эрнест Рануций со
всякой мало-мальски независимой мыслью в Парме. Под стать министру юсти-
ции и комендант тюрьмы — глупый и тщеславный генерал Конти.
В Парме действует партия либералов, имеющая некоторую силу. Князь
заигрывает с ее лидерами. Возглавляет партию маркиза Раверси. Стендаль
останавливает внимание читателя на этой придворной интриганке, чтобы пока-
зать всю лживость, все лицемерие политической программы и тактики так
называемых либералов, которых он изобразил в столь же непривлекательном
виде и на страницах «Красного и черного».
Презирая либералов, Стендаль, пожалуй, с еще большей силой презрения
относится к сторонникам феодального режима. Таковы маркиз дель Донго и
его сын Асканио. Неумные, застывшие в сословной спеси, они заживо схоро-
нили себя в старом замке и при Наполеоне заняты шпионажем в пользу
Австрии. Принимаясь писать очередное донесение в Вену, старый маркиз обла-
чается в парадный мундир, украшенный всеми пожалованными ему австрийс-
ким двором орденами. После падения Наполеона маркиз получает государ-
ственную должность, но, не справившись с обязанностями, снова удаляется в
свой родовой замок. Асканио и старый маркиз холодны, жестоки, равнодушны
ко всему, что не затрагивает их личных интересов, и ненавидят друг друга: отец —
потому, что должен передать сыну миллионное наследство, сын — потому, что
отец слишком долго задерживается на этом свете. Даже внешний облик их отв-
ратителен: у них плоские бледные лица с круглыми светлыми, как у рыб, глаза-
ми. Они пудрят волосы, подчеркивая этим свою приверженность к аристокра-
тическому режиму.
В лице графа Моска Стендаль показал политического деятеля. Этот образ
особенно привлекал Бальзака, находившего в нем черты Потемкина, Меттер-
ниха, Шуазеля. Стендаль с симпатией и грустью рисует портрет первого мини-
стра пармского правительства. У графа Моска когда-то были возвышенные,
демократические взгляды, он верил в принципы свободы личности и равенства.
Втайне он сочувствует им и теперь, но, потеряв надежду на их осуществление
в годы разгула реакции, граф Моска стал служить деспотизму.
Изверившись в возможности осуществления возвышенных идеалов, Моска
употребляет все свои блестящие способности на служение реакционно-монар-
хическому режиму, которому в душе нисколько не сочувствует. Его дружба с
герцогиней Сансевериной потому так и крепка, что только в беседах с этой
умной женщиной он может быть самим собой, высказывать подлинные свои
воззрения и чувства.
Стендаль создает реалистические, тонко разработанные психологические
портреты итальянцев первых десятилетий XIX в.
Несколько романтична лишь фигура Клелии Конти, как бы окутанная дым-
кой. Романтичен и Ферранте Палла, карбонарий. Бальзак был восхищен обра-
зом Ферранте Палла. Он сравнивал его с поэтом-революционером Сильвио
Пеллико, называл карбонария «мучеником молодой Италии», «Святым Пав-
лом республики». Бальзака привлекала к себе самоотверженная любовь рево-
люционера к родине и народу, страстная, доходящая до одержимости, увлечен-
ность идеей свободы. «Все, что он делает, что говорит, все божественно. У
179
него убежденность, величие, страстность верующего», — восторженно воскли-
цал Бальзак.
Бальзак, как и Стендаль, любил грандиозное в человеческих характерах и
страстях. Неслучайно, полный воодушевления и восторга, он писал об образе
итальянского революционера, пламеневшем, по его словам, горячими крас-
ками Тициана: «Пал л а Ферранте — это целая поэма, поэма, превосходящая
«Корсара» лорда Байрона!»
Основное внимание автор обратил на детальную обрисовку характеров и
судьбы двух центральных героев романа. Это Джина Пьетранера, впослед-
ствии герцогиня Сансеверина, и Фабрицио дель Донго, ее юный племянник.
Джина умна и красива. Она обладает пылкостью характера и энергией, при-
сущей, по мнению Стендаля, лучшим итальянским натурам. Брат ее, угрюмый
маркиз дель Донго, хотел выдать ее замуж за старого богатого аристократа, но
Джина сама избрала себе спутника жизни — молодого храброго офицера, пре-
клонявшегося перед Наполеоном. Так как она настояла на своем выборе, то
брат лишил ее принадлежавшей ей части наследства. Но Джина счастлива, ски-
таясь с мужем по дорогам войны в полковой повозке. После того как муж был
убит на дуэли, Джина поселилась в маленькой квартирке в Милане, и тогда
брат, боясь пересудов, приглашает ее к себе. Жизнерадостная Джина переез-
жает к брату в его мрачный замок, где многое ей не мило. Но она очарована
своим племянником Фабрицио, присутствие которого и удерживает ее там.
Джине присущи передовые гуманные взгляды. Она сочувствует карбонари-
ям, нанавидит реакционеров. К Наполеону у нее восторженное чувство,
усвоенное еще от погибшего мужа. Когда пылкий Фабрицио, узнав о возвраще-
нии Наполеона с острова Эльбы, с юношеской решимостью заявил ей о своем
желании бежать к нему, Джина не препятствует, хотя и страшится за судьбу
племянника. «Позволяя тебе бежать к нему, я жертвую для него всем, что у
меня есть дорогого в жизни», — говорит она. И действительно, вся жизнь этой
энергичной, волевой, переживающей глубокую нравственную трагедию жен-
щины посвящена ему. Когда умер Фабрицио, удалившийся в монастырь,
умерла и Джина, ибо она не могла жить с сознанием, что в мире уже нет беско-
нечно дорогого ей существа.
Внешне Джина вступает в компромисс с действительностью. Она встречает
графа Моска, находит его умным, порядочным, искренним. Он становится ее
другом, ее возлюбленным. Граф Моска уже был женат, и, хотя разведен с
женой, однако, по существующим законам, мужем Джины он быть не может.
В Парме живет старый герцог Сансеверина, богач, миллионер. Он мечтает
получить орденскую ленту. Граф Моска обещает ему ленту, если он фиктивно
женится на Джине. Старый герцог в восторге. После свадьбы он оставляет
свой роскошный дворец в Парме молодой супруге и уезжает исполнять дипло-
матическую миссию. Джина становится любовницей Моска — такова печаль-
ная сделка с совестью.
Второй основной герой романа — Фабрицио дель Донго. Некоторые кри-
тики сближают его с Жюльеном Сорелем. Однако известное сходство в их
судьбе обусловлено лишь временем: оба они живут в тяжелую и мрачную пору
Реставрации, которая, как во Франции, так и в Северной Италии, душит все
живое. Фабрицио, как и Жюльен, мечтает о военной карьере; подобно Жюль-
ену, он идеализирует Наполеона. Как и Жюльен, он учится в духовной школе.
180
Однако на этом и заканчивается сходство. В остальном они — совершенно раз-
личные по характеру, по взглядам на жизнь, по воспитанию натуры. Жюль-
ен — плебей, Фабрицио — аристократ. Жюльен один, без чьей-либо помощи
бьется с противоборствующими ему силами общества. Он умен, энергичен, у
него огромная сила воли. Фабрицио, несмотря на свою пылкую храбрость, —
натура мягкая, женственная. Им постоянно руководят женщины. «Говорите с
большим уважением о представительницах того пола, от которых зависит вся
ваша удача в жизни; мужчинам вы никогда не будете нравиться: вы слишком
пылки для прозаических душ», — наставляла его Джина.
В битве при Ватерлоо, в которой случайно участвует Фабрицио, попав на
поле брани неопытным мальчиком, его наставницей и спасительницей стала
добрая маркитантка. А потом всю жизнь им руководила Джина. Он, не задумы-
ваясь, исполнял ее волю, усваивал ее уроки, стал духовным лицом по ее реше-
нию. Эрнест Рануций, разговаривая с ним, сразу же заметил, что устами
юноши говорит Джина.
Фабрицио полюбил Клелию Конти. Любовь эта возвышенна, романтична.
Фабрицио и Клелия — сходные натуры; они нежизнеспособны и рано гибнут,
не обретя счастья. Аристократическая среда наложила на них глубокий отпе-
чаток. Фабрицио и Клелия религиозны, они искренно верят в святость церкви.
Роман «Пармская обитель» открывается широкой панорамой Северной
Италии. Это как бы пролог. Стендаль дает здесь свободу своим юношеским
воспоминаниям о той поре, когда вместе с армией Наполеона вступил он на
прекрасную землю, пораженный и восхищенный памятниками ее старины и
произведениями искусства мастеров Ренессанса. Бальзак упрекал Стендаля за
это вступление, находя его излишним в романе, и Стендаль хотел было уже
уступить своему прославленному собрату, но вовремя отказался от опрометчи-
вого решения. Лев Толстой высоко оценил описание битвы при Ватерлоо.
Здесь нет фальшивой, декоративной героизации войны, к которой издавна при-
бегали поэты и живописцы, здесь нет и того надрывного чувства ужаса и обре-
ченности, которое можно отметить в некоторых позднейших романах о войне.
Бальзак писал:
«...При первом чтении романа, который меня совершенно поразил, — я все
же нашел в нем недостатки. Но когда я стал его перечитывать, то с удивлением
чувствовал, что куда-то исчезли все длинноты, и сам увидел полную необходи-
мость тех подробностей. Сейчас для того, чтобы хорошо написать об этом
романе, я заново его прочитал. И вот, занявшись этим дольше, чем хотел пер-
воначально, я задержался, любуясь каждой страницей поистине прекрасного
произведения, и все в нем показалось мне в высшей степени гармоничным, вза-
имно связанным и согласованным как в силу искусства писателя, так и в силу
объективной действительности излагаемого хода событий».
Стендаль был поражен: он так привык к тому, что его сочинения встречали
лишь холодное равнодушие. Восторг Бальзака, «лучшего знатока дела», каким
он его считал, тронул и глубоко взволновал его.
Тонкий ценитель стиля, знаток и великолепный мастер-стилист Флобер
записал однажды: «Вчера вечером я прочел в постели первый том «Красного и
черного» Стендаля. Эта вещь отличается изысканным умом и большой тонко-
стью. Стиль — французский; но разве это просто стиль? Это подлинно стиль!
Тот старый стиль, которым теперь не владеют вовсе».
181
Современники считали Стендаля «беззаботным» в вопросах формы. В моде
был «романтический» язык с различными ораторскими украшениями, даже с
музыкальной интонацией. Стендаль смеялся над этой модой. Его стиль связан
с традициями лучших французских мастеров прозы XVII и XVIII вв., главными
достоинствами которой являются логическая ясность, последовательность и
точность изложения мысли, чеканная простота фразы.
Правда, известной рационалистической суховатости стиля писателей пред-
шествующего столетия Стендаль придал эмоциональную взволнованность,
энергичную напряженность повествования.
Проза Стендаля менее всего описательна. Перед глазами читателя пред-
стают движущиеся, яркие, захватывающие все его внимание картины, развер-
тывается жизнь в ее движении, борьбе и изменениях.
Особую напряженность письму Стендаля придают эпитеты, а также часто
применяемая им превосходная степень.
Повествование его динамично. Сравнения, метафоры, взятые из мира
необычных, редких явлений, полны внутренней энергии, движения, потен-
циальной силы. Иногда писатель невольно подражает романтическим образам.
Говоря о языке Стендаля, нельзя не остановиться на полемике писателя с
его прославленным собратом по перу Бальзаком. Автор «Человеческой коме-
дии», справедливо связывая стиль Стендаля с литературными традициями про-
светителей, порицает его за суровую простоту речи, напоминающую прозу
Дидро. С последним нельзя согласиться: фраза его напряжена, полна страсти.
«От сильного удара книга Жюльена полетела в ручей, другой, не менее
сильный удар в голову заставил его потерять равновесие. Он бы свалился на
двенадцать или пятнадцать футов вниз, на работавшую полным ходом машину,
рычаги которой раздавили бы его, но тут отец на лету схватил его левой
рукой».
«Он готов был, раздавленный любовью и горем, кинуться к ее ногам с кри-
ком: «Сжалься!».
«При виде святого молодая девушка, стоящая рядом с Жюльеном, горько
заплакала; одна из ее слезинок упала на руку Жюльена» и т. д.
«В этом странном существе почти ежедневно бушевала буря».
«Как Геркулес, он очутился на распутье».
«Один раз его выдал взрыв пламени, которое пожирало его душу».
«Он был похож на тигра, который предвкушал удовольствие растерзать
свою жертву».
«Она находила, что он со своими черными глазами напоминает отдыха-
ющего льва».
«Спрятанный, как хищная птица, среди голых утесов... он мог видеть».
«Если бы грудь Жюльена залили расплавленным оловом, он страдал бы
меньше» и т. д.
В данном случае два великих мастера разошлись во мнениях. Стендаль в
письме к Бальзаку изложил свой взгляд на мастерство художественной прозы,
которое, по его убеждению, сводилось к абсолютной ясности речи и предель-
ной краткости. «Если бы модный тогда университетский оратор Вильмен
взялся переводить «Пармскую обитель» на французский язык, ему понадоби-
лось бы три тома, чтобы изложить то, что содержится в двух», — заявляет
Стендаль. И далее он говорит: «Я не в восхищении от модного стиля: он меня
182
заставляет беситься от нетерпенья. «Обитель» написана как гражданский
кодекс».
Стендаль был здесь более прав, чем его прославленный современник. Баль-
зак, однако, так и не переменил своего мнения, что Стендаль проявил непро-
стительное для писателя беззаботное отношение к литературному языку. Уже
после смерти Стендаля, в письме к Коломбу в январе 1846 г., он писал о нем:
«Это один из замечательнейших умов нашего времени, но он недостаточно
заботился о форме, он писал подобно тому, как птицы поют свои песни».
Стендаль не терпел напыщенной витиеватости, чрезмерной изысканности
выражений, вроде «ветер, с корнем вырывающий волны». Еще в юности он
чуть не подрался на дуэли с одним ревностным поклонником Шатобриана из-за
фразы: «Неопределенная вершина лесов». «Благодаря тому, что плуты по
большей своей части бывают напыщены и красноречивы, декламаторский тон
вызывает во мне ненависть».
Стендаля поняли и оценили немногие и лишь выдающиеся люди его време-
ни. Об этом духовном одиночестве писателя говорит печальная английская
фраза «То the happy few» (немногим счастливцам), которой он заключил свой
роман «Пармская обитель». О том же говорит и признание писателем своего
положения в тогдашней литературе, выраженное им с такой горечью в письме
к Бальзаку: «Вы сжалились над сиротой, покинутым среди улицы».
Восьмидесятилетний Гете незадолго до смерти ознакомился с тем же произ-
ведением и одобрил его, упрекнув автора лишь за «романтизм женских харак-
теров», в чем нельзя не согласиться с ним.
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК (1799—1850)
Историк — французское общество.
Я — его секретарь.
Бальзак
Удивительный, несравненный автор, оставивший векам портрет Франции,
ее общественной жизни, ее колоритных представителей.
Несколько анкетных данных: родился в Туре, во Франции в 1799 г. Сын раз-
богатевшего крестьянина по имени Бальса, что крайне его огорчало. Переде-
лал имя на Бальзак и прибавил впереди частичку «де» — знак дворянского
происхождения. Учился в коллеже, потом в школе прав. Вялый мальчик с рас-
сеянным взглядом, устремленным в Эмпиреи.
Работал писцом в нотариальной конторе без интереса и прилежания.
Испросил у отца двухгодичный срок, для того чтобы стать писателем. Получил
скудное содержание. Написал стихотворную трагедию «Кромвель». Читал ее
на семейном совете — провалился. Был предоставлен самому себе без роди-
тельского попечения и денег. Решил разбогатеть, дабы свободно заниматься
писательством. Вошел в крупные долги. Предпринял издание классиков —
Мольера, Лафонтена. Провалился, книги не имели сбыта. Предпринял опера-
цию по изготовлению дешевой бумаги, воспользовавшись изобретением
одного лица. Провалился.
183
Результат — огромные долги, кото-
рые выплачивал всю жизнь. До тридцати
лет писал и печатал ради денег романы и
повести, от которых потом отказался. Пер-
вый роман, с которого можно считать его
состоявшимся писателем, — «Шуаны»
(1829) — о восстании роялистов в годы
революции.
Огромная начитанность, феноменаль-
ная память, исключительная целеустрем-
ленность и работоспособность. Двадцать
лет каторжного труда, по ночам, подбадри-
ваемого крепким кофе. С утра — сон, вече-
ром — великосветские салоны, встречи с
дипломатами, банкирами, с братьями по
перу. Ночью — опять труд за письменным
столом. Результат — отказывает натружен-
ное сердце, водянка и смерть на 51-м году
от роду. Скульптор Роден изобразил его
больным, в халате, накинутым наспех, в
Опоре Бальзак. Художник Луи Буланже. КОТОрЫЙ ОН кутается, СТОЯ, будто ОТ Стужи.
Современники дивились его чудаче-
ствам. Любил аристократок и достаточно
пожилых, но обязательно с титулом. Первая любовь — госпожа де Берни. Ему
чуть больше двадцати, ей — за сорок. В списках любовниц — герцогиня
д'Абрантес, дама, перешагнувшая допустимый возраст. Но ведь герцогине
никогда не может быть больше сорока лет.
Пятнадцатилетняя переписка с польской аристократкой г-жой Ганской,
поздняя встреча, венчание безнадежно больным и через несколько месяцев —
смерть.
В 1841 г. Бальзак составляет план «Человеческой комедии». За образец
взята «Божественная комедия» Данте. Итальянец живописал человеческие
пороки грешников и Ад, он, Бальзак, покажет этих грешников в многотомном
полотне романов в современности. Страсти, страсти, страсти!
Он покажет каторжника Вотрена, умного, почти философа, «Наполеона
каторги», влюбленного любовью, не принятой обществом. Бальзак любуется
им. Ему нет дела до предмета страсти Вотрена, но сама страсть этого человека
ему кажется великолепной. «Разве этот человек, в котором выразились жизнь,
силы, дух, страсти каторги и который являет вам их высшее выражение, не
чудовищно прекрасен?»
Он покажет хищника-ростовщика Гобсека, страсть к накопительству кото-
рого маниакальна. Она заставляет ростовщика внимательно присматриваться к
людям, проникать в их тайное тайных и умно, беспощадно грабить их.
Он покажет отца, безоглядно влюбленного в своих дочерей. Страсть отцов-
ской любви полностью поглощает его, он все отдает им, живет в нищете и не
способен видеть реальность, их равнодушие к нему, их холодный эгоизм. О,
как прекрасны эти страсти, как они украшают человека: «сильные страсти так
же редки, как и великие произведения искусства».
184
Задача ставилась грандиозная: написать 143 романа (написано 95). «Дать
всю социальную действительность, не обойдя ни одного положения человечес-
кой жизни, ни одного типа, ни одного мужского или женского характера, ни
одной профессии, ни одной житейской формы, ни одной социальной группы,
ни одной французской области, ни детства, ни старости, ни зрелого возраста,
ни политики, ни права, ни военной жизни».
Три цикла: этюды нравов, философские этюды, аналитические этюды. Все
это украсить причудливыми арабесками. «Забавные сказки» («Тысяча и одна
ночь Запада»). И конечно, должна быть только правда. Никаких умолчаний,
как бы ни жестока и ни страшна она была.
И Бальзак писал смело, горячо, обрушивая на читателя факты, судьбы
человеческие, порой в их исключительной, потрясающей нас наготе. Здесь он
«хватал через край». Он писал для толпы, а ей некогда разбираться в тонко-
стях, ее нужно поразить, а для этого у художника есть лишь одно средство:
«перешагнуть за предел, как это делали Микеланджело, Бетховен, Паганини».
«Великие художники, совершенные поэты не ожидают ни заказов, ни поку-
пателей — они творят сегодня, завтра, всегда... Канова проводил жизнь в мас-
терской, как Вольтер — в своем кабинете, Гомер и Фидий, должно быть, жили
так же».
Я говорил о каторжном труде Бальзака, но это если глядеть со стороны.
Для него его ночные бдения были радостны и желанны.
«Думать, мечтать, замышлять прекрасные произведения — пленительное
занятие. Это все равно, что курить чарующие сигары, что вести жизнь куртиза-
нтки, занятой своими фантазиями. Творение является тогда во всей прелести
детства, во всей безумной радости рождения, с благоухающими красками
цветка и с живыми соками плода. Таков творческий замысел и его удоволь-
ствие. Тот, кто может словом обрисовать свой план, считается уже человеком
незаурядным. Этой способностью обладают все художники и писатели. Но соз-
дать, но родить на свет, но старательно выходить ребенка, всякий вечер укла-
дывать его, напоив молоком, обмывать его грязненького, по сто раз переоде-
вать его в самые красивые платьица, которые он непрерывно рвет, но не от-
вращаться от судорог этой шальной жизни, а уметь претйЬрить ее в живой
шедевр, который говорит всем взорам — в скульптуре, всем умам — в литера-
туре, всем воспоминаниям — в живописи, всем сердцам — в музыке, — вот в
чем заключается выполнение и труд, связанный с ним. Рука должна быть
всегда в движении, готовая всегда повиноваться голове. И голова располагает
творческими способностями лишь в той мере, в какой любовь хранит свое
постоянство.
...Вдохновение — счастливая случайность для гения. Его не поймать
голыми руками... Поэтому творческая работа — утомительная борьба, кото-
рой боятся и которую нежно любят прекрасные и могучие натуры, чаете над-
ламывающие в ней силы». Что и случилось с великим Бальзаком.
Молодой, рано умерший критик Владимир Гриб прекрасно писал о фран-
цузском авторе:
«В героях Бальзака бьет через край избыток сил. Их желания безмерны, их
страсти вулканичны, их радости и печали убийственны, они действуют как
одержимые, живут как в лихорадке, совершают чудеса воли, ума и выносли-
вости, доходят до последнего во всем: в низости и благородстве, в подвигах и в
185
преступлениях. Если они порочны — они чудовища, если добродетельны —
они святые. В «Человеческой комедии» исчезает все бесцветное, тусклое — все
краски раскалены, сама темнота ослепительна; сумерки, полутона поглоща-
ются светотенью, резкой до боли; нет мертвой вещественности — все пламя,
порыв. Мир Бальзака заряжен небывалой энергией. Здесь каждое прикоснове-
ние — удар, каждая царапина — рана».
Ипостаси Бальзака
Наше знакомство с книгой обычно начинается с ее внешнего лика. Не
всегда отдавая себе в том отчет, мы и книгу встречаем «по одежде». Люди,
которые создают эту «одежду», становятся, по сути дела, первыми истолкова-
телями авторских замыслов. Иногда они полемизируют с автором, но чаще
вступают с ним в соавторство, шумно заявляя о своем вкладе красками и лини-
ями суперобложек, обложек, титульных листов, замысловатых вставок и,
конечно, иллюстраций.
Передо мной две книги. Два автора и один герой: великий и несравненный
Бальзак1. На черном поле суперобложки выполненное крупным планом почти
гротескно роденовское, страждущее и бесконечно милое лицо Бальзака. Так
художник В. Добер открывает нам «Бесчеловечную комедию» Вюрмсера. То
же лицо, но несколько удаленное, строго и свысока смотрит на мир с обложки
книги Андре Моруа. И здесь Роден. Его мысль оставила легкие, но зримые сле-
ды. Художник Т. Толстая положила на лицо Бальзака мертвенную бледность и
заполнила все поле картины огненными и иссиня-черными красками. Они
будоражат душу, терзают. Такие краски любили художники барокко.
Сказать по правде, Бальзаку повезло. Ни один писатель не позировал столь-
ким знаменитым и талантливым собратьям по перу. Три крупных мастера соз-
дали его литературный портрет. Читатель помнит, конечно, и книгу Стефана
Цвейга2.
Стефан Цвейг, всегда сочетающий какую-то неуловимую лиричность с тон-
кой иронией, в сущности добрым смехом посмеялся над своим героем, над его
притязаниями на аристократизм, над его «ненасытным и неутолимым снобиз-
мом», посмеялся тому, что «титулы и аристократические фамилии оказыва-
ли... комически неотразимое впечатление» на этого «врожденного плебея». Он
осмеял женщин, которых любил Бальзак: герцогиню д'Абрантес («обветша-
лый монумент»), госпожу де Берни и др. Он посмеялся над его нелепой мане-
рой одеваться, всевозможными причудами, страстью к вещам, ненасытным
прожектерством. Он рассказал о его ночных бдениях за письменным столом, о
его трагикомической тяжбе с кредиторами и наконец: «Ни один из его героев
не умирал такой ужасной смертью».
Но Бальзак — творец, создатель грандиозного и потрясающего своим вели-
чием памятника XIX в. — как-то растворился, исчез за этими верными и свой-
ственными Бальзаку деталями характера.
1 Вюрмсер А. Бесчеловечная комедия. — М., 1967; Моруа А. Прометей, или Жизнь
Бальзака. — М., 1967.
2 Ц в е й г С. Бальзак. — М., 1962.
186
Типы Бальзака. Отец Горио.
Книга Андре Моруа также полна доброй улыбки над причудами Бальзака.
Но что-то новое и значительное предстает нам в этом другом портрете. При-
чуды остаются причудами, но за ними Бальзак. Мы постоянно ощущаем дыха-
ние гения. Стефан Цвейг глядел на Бальзака со стороны, Моруа попытался
взглянуть на вещи глазами Бальзака, и «обветшалый монумент» вдруг превра-
тился в женщину — умную, обаятельную. Бальзак перестал быть смешным. В
элегической истории любви стареющей г-жи де Берни к молодому Бальзаку, в
трогательном ее самоотречении молодая и пылкая страсть Бальзака перестала
казаться странной. Моруа снял порочащие комья грязи с облика эвелины Ган-
ской, брошенные в нее недобросовестными людьми, дабы испачкать самого
Бальзака.
Моруа смотрит на Бальзака добрыми, чуть-чуть насмешливыми глазами,
как смотрят умудренные жизнью старцы на порывистую юность. Он назвал его
Прометеем. Прометей — символ бунта. Против чего же бунтует Бальзак?
«Бальзак никого не судил; он только описывал». «Был ли Бальзак революцио-
нером? Он не желал коренных перемен. Он осуждал крайние взгляды и правой
и левой партий». Бальзак — носитель «сверхчеловеческой энергии», как Про-
метей — огня. Такова общая концепция Моруа.
187
Однако и Андре Моруа и Стефан Цвейг меньше всего занимались выясне-
нием политических и философских позиций писателя. Их интересовал Бальзак-
человек, тот своеобразный сплав таланта и энергии, который дал миру созда-
теля «Человеческой комедии».
Андре Вюрмсер искал в Бальзаке общественного деятеля и судил строже.
Цвейг и Моруа пишут с мягким юмором, Вюрмсер саркастичен. Он обожает
Бальзака, но вместе с тем и негодует, досадует, стыдится за него, как стыдимся
мы за дорогих людей, когда они делают, как нам представляется, что-нибудь не
так. Всякое их даже малейшее отклонение от совершенства ранит нас. Иногда
Вюрмсер впадает в крайности («Мы обязаны своим величайшим реалистом
дюжине желтых перчаток»). Иногда его отзывы резки, как пощечина, и
достается от него не только романтикам Виньи, Ламартину, но и Флоберу, и
Марселю Прусту.
Обратимся к эпохе, к тому двадцатилетию (1830—1850), когда были напи-
саны его главные сочинения. Психологический ее тонус обозначил друг Баль-
зака Филарет Шаль: «То была неповторимая эпоха... Эту эпоху отличали сила,
задор, порыв».
Буржуазия только что добилась окончательной победы над силами феода-
лизма. Ее кумир король-мещанин Луи-Филипп бросил клич «Обогащайтесь!».
И она с восторгом, с упоением, отбросив все моральные преграды, стала обога-
щаться. Одни стремительно возвышались, другие гибли. Душераздирающие
крики неудачников никого не трогали и тонули в гуле свалки вокруг золотого
тельца. История стала походить на комедию: мрачно-веселую для тех, кто смо-
трел на нее глазами Мефистофеля, «Человеческую комедию», как снисходи-
тельно назвал ее Бальзак, «Бесчеловечную комедию», как сурово именовал ее
Вюрмсер.
Общий ажиотаж не мог не захватить Бальзака, он тоже оказался в
свалке, но, отделавшись синяками, отошел в сторону, чтобы лукаво запечат-
леть ее на картине. Да он, пожалуй, полагал, как и его портретист Андре
Моруа, что «дело художественного произведения не осуждать, а верно изо-
бразить».
Он не возмущается, слушая Вотрена, его циничную проповедь силы как
права, он не впадает в меланхолию по поводу язвительных истин, которые вы-
сказывает его Гобсек. Он, пожалуй, даже восхищается своими героями. Поду-
мать только, какие великолепные экземпляры человеческой породы! А если
бы им да благородные цели. Да этот ум, эта сила, воля, целеустремленность
могли бы создать чудеса!
Бальзак — певец духовных и физических сил человека. Потому никогда
самая потрясающая трагедия, рассказанная им, воссозданная им вживе, нас не
подавляет, не угнетает, а, наоборот, по непонятному нам обороту чувств несет
какую-то укрепляющую встряску. В этом великий нравственный эффект его
«безнравственных» историй.
Бальзак совершал великий писательский, да и гражданский подвиг, срывая
все и всяческие маски. Его обвиняли в аморализме. Даже Вюрмсер бросил
упрек: «Бальзак заботится о добре и зле не больше, чем Гарвей».
Бальзаковский Вотрен великолепно рассуждает: «Есть две истории: офи-
циальная, лживая история, которую преподают в школе, история ad usum Del-
phini, и история тайная, раскрывающая истинные причины события, история
188
Типы Бальзака. Госпожа Боке.
постыдная». Вот эту «постыдную» историю своих дней писатель и раскрыл на
страницах «Человеческой комедии»1.
Что касается до морализирования, то писатель слишком уважал своего
читателя, чтобы вступать с ним в недостойную игру. Аморальна не констата-
ция факта, аморально умолчание, сокрытие его или жеманный эвфемизм.
«Золото... было его главной страстью, более сильной, чем любовь к лите-
ратуре...» — пишет о Бальзаке Вюрмсер. Так ли это? Не много ли мы придаем
внимания внешним проявлениям натуры и словесным заверениям. Юристы в
подобных случаях действуют более осторожно.
Любил ли в самом деле Бальзак деньги? Он много о них писал, его письма
полны всевозможных денежных выкладок. Его биографы целые страницы
По поводу латинского выражения ad usum Delphini (для пользования дофину) Ларусс дает сле-
дующее небезынтересное для русского читателя разъяснение: «Название дано роскошным
изданиям латинских классиков, специально подготовленным для сына Людовика XIV, из
которых были удалены слишком откровенные места. Эту формулу стали использовать в иро-
ническом смысле ко всем публикациям, подвергнутым чистке и препарированным в зависи-
мости от поставленных задач».
189
заполняют цифрами, взятыми из этих писем. Читатели, конечно, мудро про-
пускают эти страницы, не читая. Разве хоть в чем-то Бальзак похож на Гобсе-
ка, папашу Гранде, для которых деньги сами по себе — божество? Овладев
деньгами, они не способны были выпустить их из рук. Бальзак никогда не дер-
жал денег. Он бросал их небрежно, расточительно — за желтые перчатки, за
корзину цветов, за диковинную палку, так и оставаясь бедняком. Дайте Баль-
заку миллионы Ротшильда, он разметает их щедро, без сожаления, чтобы снова
засесть за свой каторжный труд, который один только и был мил его пламен-
ной творческой душе.
Не меньшую трудность представляет собой уяснение подлинных политичес-
ких и философских убеждений писателя. Бальзак философичен, но он не фило-
соф. Напрасно пытаются скомпоновать из его отдельных мыслей (а их легион)
какую-то единую систему. Он высказывал много парадоксального, странного,
но не относите это к области чудачества. Его интересовало все. Во всем он
хотел докопаться до какой-то закономерности. Он вполне серьезно писал трак-
тат о походке, рассуждал о тазобедренных костях королей или устами франта
читал лекцию о дендизме.
Как бы ни были парадоксальны его суждения, в них всегда содержалась
какая-то очень важная, далеко идущая мысль.
Вюрмсер порицает Бальзака за измену реализму в тех случаях, когда он,
Бальзак, «с изяществом летающего слона» «кичливо возносится в заоблачные
выси». Имеется в виду «Герцогиня де Ланже» и некоторые другие произведения
писателя. Может быть, я ошибаюсь, но нижеследующее рассуждение Бальзака
в названной повести меня приводит в восторг: «Для сердца нет малых событий.
Оно укрупняет все. Одними весами оно взвешивает падение империи... и обро-
ненную женскую перчатку, причем почти всегда перчатка перевешивает импе-
рию. Таковы факты в их непреложной простоте. За событиями идут чувства».
Если говорить честно, то для Отелло, этого мужественного человека, побе-
доносного генерала, блистательного мавра, важнее всех его выигранных сра-
жений утерянный платок Дездемоны. А что такое платок в цепи мировых
событий?
Мопассан вспоминал, как в его присутствии стареющий Флобер уничтожал
свой архив. Пачки писем летели в камин. Туда же бросил Флобер и туфельку
вместе с засохшей розой. И тут этот гигант, этот могучий голубоглазый галл
пролил слезу.
Не хлебом единым жив человек. Бальзак показал с громадной силой талан-
та, как жернова чудовищной буржуазной мельницы размалывают судьбы люд-
ские, измельчают души. Но он же заставил нас увидеть и нравственную победу
отдельных личностей, сумевших остаться людьми среди хаоса эгоистических
расчетов, политического честолюбия, корысти, стяжательства, и подняться в
сферы чистого чувства. Разве не такова его Евгения Гранде, взращенная в
обстановке мелочного, умопомрачающего скопидомства?
Сфера чистого чувства! Я назвал бы так идеальный элемент нашей жизни.
Данте — а его «Божественная комедия» послужила своеобразным прообразом
«Человеческой комедии» Бальзака — воздвиг вечный памятник этому идеаль-
ному элементу. Его Беатриче олицетворяет постоянное стремление человека к
прекрасному.
190
ГЮСТАВ ФЛОБЕР (1821—1880)
Племя гладиаторов еще не исчезло... Каждый художник — один из
них. Он развлекает публику зрелищем своей агонии.
Г. Флобер
Мог ли писатель, холодный и равнодушный, сравнивать себя с гладиатором,
на потеху публики раскрывающим свое истерзанное сердце? А между тем его
современники, когда в 1856 г. появился его роман «Госпожа Бовари», ошелом-
ленные жестокой правдой изображенной им трагедии, увидели в авторе скан-
дально равнодушного бытописателя, равнодушного к своим героям, равнодуш-
ного вообще к людям.
Судебные власти были возмущены, и писатель был привлечен к суду за
оскорбление морали (героиня его романа Эмма Бовари обманывала своего
супруга, изменяла ему). Авторитетный тогда журнал «Ревю де де Монд» писал:
«Аморальность «Госпожи Бовари» не в отдельных сценах... а скорее в самой
системе писателя, в его высокомерно афишируемом безразличии, в этом эгои-
стическом искусстве отрешаться от всякого человеческого чувства». В карика-
туре писателя изобразили за хирургическим столом, вооруженным пилой, нож-
ницами и лупой. В левой руке он держит пронзенное скальпелем сердце Эммы
Бовари. Крупные капли крови падают из сердца в стоящую на полу чернильни-
цу-
Писатель-«хирург» с любопытством и без трепета душевного рассматривает
сердце пациентки. Таким предстал современникам Гюстав Флобер.
Разберемся, однако, так ли уж правы были критики Флобера?
«Мыслить — это страдать», — сказал однажды писатель. Мыслить — зна-
чит понимать несовершенство мира, и он понимал и ненавидел этот мир, мир
обывателей, приземленность их интересов и пытался уйти в «башню из слоно-
вой кости». Там холодно, но там «сверкающие звезды и не слышишь индюков».
Флобер трагичен и в жизни и в творчестве. Высокий, красивый, «голубогла-
зый галл», как его называли, был поражен неизлечимым недугом — эпилепси-
ей. Оказаться застигнутым в самое неподходящее время и в самой неподходя-
щей обстановке непредсказуемым и неожиданным припадком, одно сознание,
что такое может произойти, удаляло его от общества, делало «нелюдимым».
Почти всю свою жизнь он провел в небольшом имении Круассе близ Руана. «Я,
как говорится, медведь, — живу монахом, иногда (даже в Париже) по неделям
не выхожу из дома». Флобер так и остался холостяком. В его «донжуанском
списке» мало женских имен. Была длительная дружба с Луизой Коле, но без
страсти. Интересна их переписка, как всякая переписка умных людей, но, что
касается любви, то вот строка из письма Флобера: «Ты говоришь, что сладо-
страстные мысли тебя нисколько не мучат. Могу сделать такое же признание;
ибо, сознаюсь, у меня, слава Богу, нет больше пола». Письмо от апреля 1854 г.
Флоберу тогда было тридцать три года.
Писать начал очень рано, писал много, трудился без устали, но в печать
выходить опасался. С 1851 по 1856 г. работал над романом «Госпожа Бовари»,
показал рукопись своему приятелю Дюкану, который уже широко печатался и
считал себя мэтром в литературе. Тот предложил поправки, самые нелепые,
191
Флобер, ознакомившись с ними и начертав
на листе слово «чудовищно», оставил все
как было и отдал в печать.
Творческая трагедия писателя заключа-
лась в том, что сочинения, над которыми он
больше всего работал, менее всего ему уда-
вались. «Искушение святого Антония»,
своеобразное философское обозрение
духовной истории человечества, которое он
без конца переделывал, не нашло широ-
кого читателя. Роман «Бувар и Пекуше» —
история двух старичков, чудачествующих
над научными экспериментами, потребовал
от автора огромного труда (ему пришлось
перепахать груду книг по самым разно-
образным областям знания, чуть ли не пол-
торы тысячи томов). Роман остался неза-
конченным.
С детства устремленный в мечту, он
упорно убивал в себе романтика и, насилуя
Флобер. себя, занимался скрупулезным описатель-
ством самых прозаических вещей, ненавидя
все то, что описывал, ненавидя персонажей
своих романов: бескрылых, приземленных обывателей с узким кругом житейс-
ких интересов.
Вот письмо шестнадцатилетнего Флобера:
«О, насколько больше мне нравится чистая поэзия, вопли души, внезапные
порывы, а потом глубокие вздохи, душевные голоса, сердечные мысли! Иной
раз я готов отдать всю науку болтунов настоящего, прошедшего и будущего...
за два стиха Ламартина или Виктора Гюго». Но именно это в себе и подавлял.
Тут же, в том же письме мальчика найдем мы страшные строки о жестокой
реальности:
«.. .самая прекрасная женщина вовсе не прекрасна, когда она лежит на столе
в анатомическом театре, с резиновой трубкой на носу, с ободранной ляжкой, и
когда на ступне ее покоится погасший окурок сигары». Флобер был сыном
хирурга и подобные картины наблюдал, конечно, не однажды.
Через два года в письме к тому же адресату он повторяет: «Я буду говорить
только истину, но истина эта будет ужасной, жестокой и обнаженной». Песси-
мизм безграничный! И это у совсем еще юного существа: «...я не верю, чтобы
в нашем теле, состоящем из грязи, инстинкты которого низменнее, чем у
свиньи, включено было нечто чистое и нематериальное, — раз все, что его
окружает, столь нечисто и гнусно».
Мысли эти остались на всю жизнь, и, мечтая о прекрасном, не веря в сча-
стье, Флобер с жестоким упорством заставлял себя описывать пошлость, грязь,
все презираемое и ненавидимое им.
Последовал шумный скандал и суд: история семейного разлада показалась
слишком откровенно рассказанной.
Тогда на это смотрели строже, чем в наши дни.
192
«ГОСПОЖА БОВАРИ»
Роман «Госпожа Бовари» сразу же ввел его в круг самых известных и попу-
лярных писателей Франции. Немало способствовал этому скандал с судом над
романом. Однако читающая и мыслящая Франция по достоинству оценила
дарования автора и возвела его в ранг живого классика.
Полистаем роман. Маленький провинциальный городок. Приземленная
жизнь его обитателей. Ни одного героического характера. Все мелко, ничтож-
но, пошло. Молодая, красивая Эмма Бовари, дочь богатого мельника. Воспи-
тывалась в пансионе. Начиталась романов о рыцарях, великосветских салонах,
рыцарской любви. Жизнь в доме отца, в окружении заурядных людей показа-
лась беспросветно унылой. Вышла замуж за местного врача, переехала в
город. Муж оказался по-телячьи добрым, любящим, но без всякого честолю-
бия, без всяких признаков дарований.
Тоска. Ожидание чего-то необыкновенного. Вот, вот покажется полоска
белого паруса. Кто-то придет, принесет ей счастье, вырвет ее из унылого и бес-
просветно пошлого быта. Но никто не приходил, ничего необычного не случа-
лось.
Однажды пришло приглашение на бал к местному вельможе. Сколько
надежд, сколько мечтаний сопряжено с этим балом! Но бал прошел, и ничего
не изменилось. Правда, один светский лев обратил на нее внимание. Предпри-
няты все средства обольщения. «Лев» понял, с кем имеет дело (кругозор и
вкусы «мещаночки»), и обставил дело ухаживания всеми атрибутами романти-
ческой влюбленности.
Вступив на скользкую стезю адюльтера, Эмма все больше погружается в
болото лжи, постоянных обманов. Тайно от мужа для своих похождений берет
деньги в кредит, подписывает долговые обязательства, не задумываясь над
тем, к чему это может привести. Смутно чувствует, что вся эта любовь, о кото-
рой ей твердят любовники, — сомнительная, ненастоящая любовь, что все это
что-то грязное и недостойное, но уже остановиться не может и все больше и
больше погружается в нравственную трясину.
Как финал — требование заимодавца о немедленной уплате долгов. Мета-
ния обезумевшей женщины. Отказ любовников от помощи. Стыд разоблаче-
ния перед мужем, которого долго и подло обманывала; наконец — мышьяк и
мучительная смерть.
Шарль Бовари, муж этой женщины, — самый заурядный человек, простой,
доверчивый, любящий, всем всегда довольный. Он не знал духовных притяза-
ний своей супруги, вряд ли их мог бы и понять. Он был крайне потрясен всем
случившимся. И даже теперь он не мог понять своей жены. Ее внутренний мир
ему так и остался недоступным. Встретив Рудольфа (светского льва любовника
Эммы), он мучительно всматривается в него, чтобы понять, чем тот очаровал
его жену, каким должен был бы быть он, Шарль, чтобы нравиться жене. Из
всех пошлых людей, заполнивших роман Флобера, единственным «героичес-
ким» лицом оказался Шарль Бовари — «негероическим героем».
«Шарль, обхватив голову руками, повторял погасшим голосом с покорным
выражением бесконечного горя:
— Нет я на вас больше не сержусь, — и даже прибавил первое и последнее
в своей жизни высокопарное слово: — Во всем виноват рок».
193
САЛАМБО
Это было в Мегаре, предместье Карфагена, в садах Гамилькара.
Флобер. «Саламбо»
Напомню читателю: Гамилькар — отец великого полководца древности
Ганнибала, герой 1-й Пунической войны с Римской республикой, подавивший
восстание рабов и расширивший владения Карфагена. Эту эпоху (III в. до н. э.)
решил воссоздать Флобер. Он совершил путешествие в Тунис, где когда-то рас-
полагался Карфаген. Прочитал огромное количество книг, посвященных той
эпохе, и прежде всего, конечно, древних: Полибия — «Всеобщую историю»,
Корнелия Непота — «Жизнь Гамилькара», Страбона, Тита Ливия и др.
Со всей тщательностью и научной достоверностью он воссоздал экзотику
древности. Пошел, пожалуй, дальше Вальтера Скотта. И тем не менее трудно
назвать роман «Саламбо» историческим романом. Это скорее романтическая
поэма. Флобер наконец-то ступил на свою стезю. Он — романтик по складу
своего ума, склонностей. Его отличает и всегда отличала, говоря словами
Пушкина, «мечтам невольная преданность».
Сильные, страстные люди, дикие нравы, чувства, выходящие за пределы
возможного, — все отличало картину древности от мягкотелой, унылой,
пошлой обывательской современности.
Первые страницы: наемники пируют во дворце Гамилькара. Он богат, ска-
зочно богат, и пир поражает роскошью яств. Впрочем, пир давал не сам
Гамилькар, а власти Республики. Флобер с наслаждением живописует этот
пир, его участников (все так не похоже на современность!).
«Наступила ночь... Дрожащее пламя нефти, горевшей в порфировых вазах,
испугало на вершинах кипарисов обезьян, посвященных луне. Их резкие крики
очень смешили солдат.
Продолговатые отсветы пламени дрожали на медных панцирях. Блюда с
инкрустацией из драгоценных камней искрились разноцветными огнями... Они
пили залпом греческие вина, которые хранят в бурдюках, вина Кампаньи,
заключенные в амфоры, кантабрийское вино, которое привозят в бочках...
Слышны были одновременно громкое чавканье, шум речей, песни, дребезг
чаш и кампанских ваз, которые, падая, разбивались на тысячи кусков, или
чистый звон больших серебряных блюд».
Чтобы обо всем этом рассказать, писатель перерыл сотни источников,
дотошно выискивая в них указания на исторические реалии.
Главное событие, на котором построен весь сюжет романа, — это восста-
ние наемных войск в Карфагене (с ними не расплатились городские власти).
Главные действующие лица: Гамилькар, его дочь Саламбо. (Десятилетний
сын, будущий полководец Ганнибал едва намечен автором.) Два воина: один —
молодой нумидийский вождь Нар Гавас, другой — молодой ливиец Мато —
соперники в борьбе за Саламбо, греческий раб Спендий, добровольный слуга
Мато, жрец Шагабарим, священные крокодилы, черный змей, дух-покрови-
тель дома Гамилькара, и таинственная, непостижимая богиня Танит, богиня
луны.
194
На террасе своего дворца ночью Саламбо совершает ритуал молебствия при
холодном свете луны:
«— О Раабет!.. Ваалет!.. Танит!.. Властительница темного моря, царица
всей влаги мира, приветствую тебя!.. Она подняла голову, созерцая луну, и,
примешивая к словам обрывки гимнов, шептала: — Как легко ты кружишься,
поддерживаемая невесомым эфиром... Когда ты появляешься, на земле разли-
вается покой, чашечки цветов закрываются, волны утихают, усталые люди
ложатся, обращая к тебе грудь, и мир со своими океанами и горами глядится,
точно в зеркало, тебе в лицо. Ты чистая, нежная, лучезарная, непорочная,
помогающая, очищающая, безмятежная!..»
Мир древнего человека был окружен таинствами, он таил в себе что-то
непостижимое, страшное, пугающее и прекрасное, далекое от мелких забот
быта. Флобер внутренне благоговел перед этим миром сказки и бури челове-
ческих страстей и ослепительной мечты человеческой.
Воин Мато зовет Саламбо уйти с ним:
«За Гадесом, в двадцати днях пути по морю, есть остров, покрытый золотой
пылью и зеленью, населенный птицами. На горах цветут большие цветы, куря-
щиеся благовониями; они качаются, точно вечные кадильницы. В лимонных
деревьях, более высоких, чем кедры, змеи молочного цвета алмазами своей
пасти стряхивают на траву плоды. Воздух там такой, что не дает умереть. Я
найду этот остров, ты увидишь! Мы будем жить в хрустальных гротах, высе-
ченных у подножия холмов». Так мечтает воин, бесстрашный, жестокий в бою,
непреклонный в своих желаниях, охваченный огнем любви.
Мато похищает священный заимф, покрывало богини Танит, которой
поклоняются все карфагеняне. Касаться этого покрывала запрещено, и, когда
Мато уходит из города, открыто, завернутый в этот заимф, возмущенная тол-
па, с криками и воплями провожая его, не может подступиться к нему, ибо на
нем священное покрывало.
Восставшие наемники, окружавшие город, завладев через дерзкую вылазку
Мато заимфом, рассчитывают на успех. Тогда жрец Шагабарим посылает кра-
савицу Саламбо в лагерь восставших, чтобы выкрасть его. И дочь Гамилькара
выполняет его волю.
В палатке Мато она отдается ему: страсть, охватившая ее, была непод-
властна ее воле:
«Он опустился перед ней на колени, схватив ее стан обеими руками, откинув
голову; руки его блуждали по ее телу. Золотые кольца, продетые в уши, свер-
кали на его бронзовой шее. Крупные слезы стояли у него на глазах, точно сере-
бряные шары. Он нежно вздыхал и бормотал неясные слова, более легкие, чем
ветерок, и сладостные, как поцелуй.
Саламбо была охвачена истомой, в которой терялось ее сознание. Что-то
нежное и вместе с тем властное, казавшееся волей богов, принуждало ее
отдаться этой истоме: облака поднимали ее; обессиленная, она упала на льви-
ную шкуру ложа. Мато рванул ее за ступни, золотая цепочка порвалась, и оба
конца ее, отскочившие, точно две змейки, ударились о холст палатки. Заимф
упал и окутал ее; она увидела лицо Мато, склонившееся к ее груди.
— Молох, ты сжигаешь меня! — крикнула она.
По телу пробегали поцелуи солдата, пожиравшие ее сильнее пламени;
точно вихрь поднял ее на воздух; ее покорила сила солнца».
195
Флобер рисует страшные сцены войны. Иногда дикая жестокость, бесстыд-
ство нравов показаны с натуралистическими подробностями, на которые бы не
решились младшие его братья по перу — Бальзак и Стендаль. Реализм раздви-
гал свои позиции. Стендаль только провозглашал, что познание сущности
человека нужно начинать с его физиологии, но не осмелился применить его в
творчестве. Флобер приступил к выполнению программы своих предшествен-
ников, Золя довел ее до абсурда, возведя единичные случаи патологии в ранг
всеобщности, и, в сущности, исказил облик человека. Реализм перешел в нату-
рализм.
Третий роман Флобера «Сентиментальное воспитание» («L'Education senti-
mentale») почему-то назван нашими переводчиками «Воспитанием чувств», что
искажает смысл всего произведения. Именно сентиментальное воспитание
берется под обстрел автором.
Молодой человек по имени Фредерик Моро, мечтательный, высокочув-
ствительный, случайно знакомится с некоей г-жой Арно, влюбляется в нее и в
течение многих лет носит в своей груди нежный цветок этой любви, без всяких
посягательств на интимную связь, обоготворяя возлюбленную. Между тем это
была обыкновенная женщина, жена заурядного торговца, мать, обремененная
детьми, домашними заботами. Годами длится эта история. Происходят и опи-
сываются какие-то события в политической жизни Франции, которые мало нас
интересуют за дальностью времен.
Скучая, доходим мы до развязки этой любви. Госпожа Арно уже готова
отдаться человеку, духовно далекому ей, но так нежно преданному, так долго
сохраняющему свое чувство к ней. Моро видит поседевшую косу г-жи Арно и
разочарованно отступает. Время ушло, годы сделали неуместной любовь.
Откуда переводчики увидели «воспитание чувств»? Насмешка и только
насмешка над сентиментальностью своего героя идет со стороны автора.
Как мало этот великий сердцеед знал самого себя: он был всегда мечтате-
лем, всегда романтиком, но упорно и беспощадно подавлял себя. Он упорно
доказывал, что нужно писать «объективно», холодно, ни в коем случае не
напоминать о себе читателю, не понимая, что это невозможно, что поэт, писа-
тель не могут быть равнодушными регистраторами событий и судеб людских.
Да и жизнь свою писатель трагически обеднил.
Однажды он писал Жорж Санд: «Надо смеяться и плакать, любить, рабо-
тать, наслаждаться, страдать — словом, всем существом отзываться, елико
возможно, на все». Так ли вы жили, великий маэстро, отшельник из Круассе?
ГЕРМАНИЯ
«ТАНЦУЮЩИЙ КОНГРЕСС»
1814—1815 годы. Вена, столица Австрии. Впервые главы европейских госу-
дарств собрались вместе, чтобы выработать новые условия существования
перекроенных великих и малых держав этой части континента. «Черный
ангел» (Наполеон I) был повержен, «Белый ангел» (Александр I) торжество-
вал победу.
Вена ликовала. Вечером — великосветские балы. Роскошные туалеты дам
и — входивший тогда в моду вальс. Самым ярким из танцоров был, конечно,
русский царь. В свое время им восхищался Наполеон («Смотрите, как танцует
Александр I»).
Насмешливые люди окрестили это собрание самых значительных полити-
ческих фигур той поры «танцующим конгрессом» (Александр I, прусский
король Фридрих-Вильгельм III, австрийский император Франц I).
197
Но это была лишь парадная его сторона. Днем происходили важные перего-
воры, споры дипломатов, а за кулисами интриги, тайные соглашения, сделки.
Лихорадочно суетился прожженный интриган Талейран. Как и всегда,
верой и правдой служа Франции, он не забывал и свои личные интересы,
последнее вызывало вспышки гнева у Наполеона: «Грязь в шелковых чулках!»
На что, как известно, министр ответил: «Жаль, что такой великий человек
дурно воспитан».
Теперь задача Талейрана состояла в том, чтобы не допустить расчленения
Франции. И он в этом преуспел, ведя закулисную игру и играя на противоре-
чиях стран-победительниц.
Пугая Англию и Австрию усилением России, он сумел организовать за спи-
ной Александра тайный военный союз этих государств и Франции против Рос-
сии. Каслри (Англия) и Меттерних (Австрия), расточая улыбки русскому
царю, подкладывали ему изрядную свинью. Не будем здесь рассматривать
карту Западной Европы, скроенную тогда Венским конгрессом. Отметим
лишь, что был создан «Германский союз» из 35 монархий и 4 вольных городов.
До того этих монархий было бесчисленное количество.
В политической истории Германии второй половины века огромную роль
сыграл «железный канцлер» Бисмарк. Политику Пруссии, а под ее верховен-
ством шла борьба за объединение Германии, формировал этот непреклонной
воли человек. Главными противниками объединения Германии он считал
Австрию и Францию и сумел организовать две войны: австро-прусскую в
1866 г. и франко-прусскую в 1870—1871 гг.
Франция тогда подверглась разгрому, немцы вошли в Париж, Наполеон III
был низложен. Тогда же произошли события Парижской коммуны. Подавить
коммунаров помог тот же Бисмарк.
Такова конспективно история Германии за прошедшее столетие. Из ее
литературной истории возьмем лишь два имени: Гофмана и Генриха Гейне.
ГЕНРИХ ГЕЙНЕ (1797—1856)
Летней ночи сон! Бесцельна Мчится в сказочное царство
Эта песнь и фантастична — Мой возлюбленный пегас...
Как любовь, как жизнь бесцельна,
Как творец и мирозданье. Конъ мой белый, конь крылатый,
Чистым золотом подкован,
Повинуясь лишь капризу, Нити жемчуга — поводья,
То галопом, то на крыльях Мчись, куда захочешь, конъ!
Г. Гейне
Перед нами творческая программа немецкого поэта, занявшего после Гете
первое место на поэтическом Олимпе Германии. Полная свобода художествен-
ного творчества. Поэт — творец, песнь его причудлива, фантазия его каприз-
на, как очертания облачка, плывущего по ясному небу. Впрочем, она может
заглянуть и в самые кошмарные бездны, где обитают чудовища. Словом,
198
никто не властен над поэтом, никому не
дано право предписывать поэту форму и
содержание его сновидений. Программа
всех поэтов мира первой половины XIX в.
«Ты — царь, живи один, дорогою свобод-
ной иди туда, куда тебя влечет свободный
ум!» (А. С. Пушкин).
Итак, прежде всего — личность поэта и
его свобода, ну и, конечно, свобода вообще
всякой личности. Такие идеи в политичес-
кой сфере стали возможны после Великой
французской революции. Просветители,
готовившие эту революцию, на своих зна-
менах писали слово «Свобода!», но от
художника они требовали гражданственно-
сти, поэт и живописец должны были, по их
мнению, отдавать себя идее. Напомню
категоричное требование Дидро: «Мы на
жалованьи у общества, мы должны давать
отчет о своих талантах». Эпоха, наступив-
шая ПОСЛе ревОЛЮЦИИ, ЭПОХа романтиков Генрих Гейне.
отвергла это обязательство.
В приведенном стихотворении Гейне
содержатся и его философские воззрения. Пожалуй, они печальны: бесцельна
жизнь, бесцельна любовь, бесцельна песня (поэзия, искусство).
Сын состоятельного буржуа («Мой отец был негоциант, и довольно
богат»), с детства слушавший разговоры о финансах, прибыли, доходах и пр.,
он оказался самым неспособным в мире праведных и неправедных добыт-
чиков денег («...кажется, начни талеры падать с неба, у меня оказались бы
только дырки в голове, а дети Израиля весело подбирали бы эту серебряную
монету»).
Первая и, пожалуй, самая значительная его книга — собрание лирических
стихотворений («Книга песен»). Любовь, восторги, страдания, и все это в
романтической дымке сновидений, призраков и самой владычицы всех кошма-
ров — Смерти.
Зловещий грезился мне сон...
И люб и страшен был мне он;
И долго образами сна
Душа, смутясь, была полна...
Одетый зеленью кругом,
В саду был светлый водоем,
Склонилась девушка над ним
И что-то мыла. Неземным
В ней было все: и стан, и взгляд,
И рост, и поступь, и наряд.
Мне показалася она
И незнакома и родна.
199
Она и моет и поет —
И песней за сердце берет:
«Ты плещи, волна, плещи!
Холст мой белый полощи!»
К ней подошел и молвил я:
«Скажи, красавица моя,
Скажи, откуда ты и кто,
И здесь зачем, и моешь что?»
Она в ответ мне: «Будь готов!
Я мою смертный твой покров».
И только молвила — как дым
Исчезло все... Я недвижим...
Стихотворение написано в 1816 г., когда поэту было 19 лет. Мотивы
типичны для романтической поэзии. Но Генрих Гейне, верный своей насмеш-
ливой натуре, вскоре сам начинает потешаться и над собой и вообще над
романтической тягой к кладбищенским мотивам.
Гейне не только великий поэт, но и прекрасный прозаик. Правда, проза его
не беллетристична, он не писал ни рассказов, ни повестей, ни романов, а лишь
слагал блестящие лиро-сатирические эссе, где смешались игра свободного иро-
нического ума, душевные порывы и широкая образованность.
Его книга «Путевые картины» поражает еще юношеской, а я бы сказал,
максималистской ненавистью к обывателю и трепетной, тоже еще юношеской
(книга написана в 1826 г.) восторженной любовью к природе. Он описал свое
путешествие на Гарц. Немцы сложили легенды об этом крае гор и лесов, насе-
ленном призраками, ведьмами. В духе этих легенд поэт ведет свое повествова-
ние: «Туманы исчезли, как призраки», «Ночь мчалась на своем черном скаку-
не, и его длинная грива развевалась по ветру», «Ледяной озноб пронизал меня
до мозга костей, я задрожал, как осиновый лист, и едва решился взглянуть на
привидение».
Ирония, однако, никак не хочет покинуть поэта: оказывается, у привидения
«трансцендентально-серый сюртук» (у немецких философов той поры сло-
вечко «трансцендентальный» было в большом ходу), «абстрактные ноги» и
«математическое лицо».
И тут же чудесная страница о красоте природы: ночь минула, призраки рас-
таяли, и утро всеми красками весны расцветило горы, луга, лес. «Я снова шел
с горы на гору, а передо мной парило прекрасное солнце, озаряя все новые
красоты. Горный дух явно был ко мне благосклонен. Он ведь знал, что такое
существо, как поэт, может пересказать немало чудесного, и он показал мне в
это утро свой Гарц таким, каким его дано не каждому увидеть. Но и меня Гарц
увидел таким, каким меня лишь немногие видели, на моих ресницах дрожали
жемчужины, столь же драгоценные, как и те, что висели на травинках лугов».
Паломничество к Гете
В 1824 г. состоялось свидание юного Гейне с престарелым Гете. «Прошу
ваше превосходительство доставить мне счастье постоять несколько минут
перед вами. Не хочу обременять вас своим присутствием, желаю только поце-
ловать вашу руку и затем уйти. Меня зовут Генрих Гейне, я рейнский уроже-
нец, недавно поселился в Геттингене, а до того жил несколько лет в Берлине,
где был знаком со многими из ваших старых знакомых и почитателей и на-
учился с каждым днем все больше любить вас. Я тоже поэт и имел смелость три
года назад послать вам мои «Стихи», а полтора года назад — «Трагедии» с
добавлением «Лирические интермеццо». Кроме того, я болен, для исправления
здоровья совершил путешествия на Гарц, и там, на Брокене, охватило меня
желание — сходить в Веймар на поклонение Гете. Я явился сюда, как пили-
грим, в полном смысле этого слова — именно пешком и в изношенной одежде,
и ожидаю исполнения моей просьбы. Остаюсь с пламенным сочувствием и пре-
данностью — Генрих Гейне».
Гете принял молодого поэта, имя которого вскоре стало известно всему
200
миру. Восемь лет спустя, когда создателя «Фауста» не было уже в живых,
Гейне вспоминал об этой встрече в Веймаре: «Его наружность была так же зна-
чительна, как слово, живущее в его произведениях, и фигура его была так же
гармонична, светла, радостна, благородна, пропорциональна, и на нем, как на
античной статуе, можно было изучать греческое искусство. Глаза его были
спокойны, как глаза божества... Время покрыло, правда, и его голову снегом,
но не могло склонить ее. Он продолжал носить ее гордо и высоко, и когда гово-
рил, то казалось, что ему дана возможность пальцем указывать звездам на небе
путь, которым они должны следовать».
Позднее, когда имя Генриха Гейне приобрело широкую известность, Гете
говорил о нем своему секретарю: «Нельзя отрицать, что Гейне обладает мно-
гими блистательными качествами, но ему недостает любви. Он так же мало
любит своих читателей, как своих сопоэтов, и больше любит себя, таким обра-
зом к нему можно применить слова апостола: «И если бы я говорил человечес-
ким и ангельским языком и не имел их любви, то я был бы металлом звеня-
щим».
Еще на этих днях читал я его стихотворения, — и богатое дарование его
несомненно, но, повторяю, ему недостает любви и поэтому никогда он не будет
влиять так, как должен бы влиять. Его будут бояться, и он будет Богом тех,
которые охотно явились бы такими отрицателями, но не имеют на то дарова-
ний».
* * *
Когда богам становится скучно на небе, они открывают окошечко
и смотрят на парижские бульвары.
Генрих Гейне
В 1831 г. поэт покинул Германию, и навсегда. До конца своих дней живет во
Франции. Он так много дурного наговорил о немецких провинциях, что оста-
ваться в стране было уже нельзя. Ему запретили даже въезд в Германию. «Про-
тивна, глубоко противна была мне эта Пруссия, эта чопорная, лицемерная,
ханжествующая Пруссия, этот Тартюф между государствами».
Немцы ему этого не простили и, кажется, до сих пор. Несколько раз в
немецком обществе возникал вопрос о создании памятника великому поэту, и
каждый раз возникал и мощный протест против этого.
Во Франции Гейне заинтересовался социалистическими идеями, повстре-
чался с молодым еще тогда Марксом, познакомился с идеями Сен-Симона.
Этот последний, создатель социальных утопий, был уже в могиле, но действо-
вали его последователи. Человек, задумавший перевернуть весь уклад жизни
человечества, был наивнейшим, добрейшим и совершенно беспомощным в
быту существом. В молодости он приказывал своему камердинеру будить его
словами: «Вставайте, граф, человечество ждет ваших деяний!», в старости он
впал в такую нищету, что преданный ему камердинер содержал старика на соб-
ственные средства.
Как много бед могли бы принести людям подобные донкихоты, обладай они
властью!
201
Гейне вскоре разочаровался в новых тогда социалистических идеях. Идеи
демократии, всеобщего равенства показались ему опасными своими послед-
ствиями. С мрачным сарказмом он писал об этом в поэме «Атта Троль» (Атта
Троль — пещерный житель, медведь и проповедник):
Единенье! Единенье! Лев на мельницу с мешками
Свергнем власть монополиста, Скромно затрусит в упряжке.
Установим в мире царство
Справедливости звериной. Что касается собаки
Чем в ней вызвано лакейство?
Основным его законом Тем, что люди с ней веками
Будет равенство и братство Обращались как с собакой.
Божьих тварей, без различья
Веры, запаха и шкуры. Но она в свободном царстве,
Где вернут ей все былые,
Равенство во всем! Министром Все законные права,
Может быть любой осел. Снова станет благородной.
«Высохший образ скорби»
Гейне умирал в страшных мучениях. Восемь лет он не покидал постели, ее
он называл «матрасной могилой». И при этом был полон духовных сил, с
ясным умом и творческой волей. «Я терплю такие муки, каких не могла выду-
мать даже испанская инквизиция». Посетивший его один из друзей писал о вне-
шнем облике: «...то была голова бесконечной красоты, настоящая голова Хри-
ста, с улыбкой Мефистофеля, по временам пробегавшей по его бледным
высохшим губам». Еще в юности в письме к другу он обронил фразу, тогда,
пожалуй, не без романтической позы: «Когда все потеряно и нет больше надежды,
Тогда жизнь становится позором, а смерть — долгом».
Теперь он говорил иное: «Жизнь для меня навеки потеряна, а я ведь люблю
жизнь так горячо, так страстно».
В одно холодное сырое утро его похоронили на Монмартрском кладбище
немногие парижские друзья — Теофиль Готье, Дюма, историк Минье, писа-
тель Поль Сен-Виктор. Это было 17 февраля 1856 г.
ГОФМАН (1776—1822)
Его сочинения суть не что иное, как страшный вопль тоски в два-
дцати томах.
Генрих Гейне
У французского поэта Бодлера есть одно чудесное стихотворение — «Аль-
батрос». Гордая и прекрасная птица, когда она, расправив крылья, парит в
небесах, оказавшись на земле, становится неуклюжей, тяжеловесной. Таков
поэт, художник, всякая артистическая натура.
202
Гофман.
Бодлер писал о себе, но поэтическая
аллегория подходит ко многим очень и
очень интеллектуально и художественно
одаренным людям, которых часто ждет
трагическая судьба из-за неустроенности
быта и пр.
Тема противопоставления художника-
идеалиста и обывателя-прагматика стала
главной в творчестве Гофмана. Судьба его
самого трагична.
Еще с детства он обнаружил талант и
музыканта и живописца, но готовили его к
карьере юриста. Окончив университет, он
получил место чиновника в Познани, но
начальство, недовольное карикатурами,
которые он с блеском на них писал, отпра-
вило его подальше, в захолустный городок
Плоцк. Вскоре, однако, ему удалось пере-
браться на жительство в Варшаву. Здесь он
основал музыкальное общество, сам распи-
сывал концертный зал, сам был капельмей-
стером. Время было бурное (наполеонов-
ские войны, но писатель их не хочет видеть,
он вне политики, он живет в мире своих романтических грез). Гофман, как
писал о нем Герцен, «нисколько не замечает, что вся Европа в крови и огне.
Между тем война, видя его невнимательность, решается сама посетить его в
Варшаве; он бы и тут ее не заметил, но надо было на время прекратить концер-
ты».
Наполеон, введя войска в Польшу, распорядился уволить всех прусских
чиновников. Отставку получил и Гофман. Он страшно бедствует. В 1812 г.
пишет в дневнике: «продал сюртук, чтобы пообедать».
Только получив место чиновника в Берлине, он обретает некоторое мате-
риальное благополучие и пишет свои безумные фантасмагорические произве-
дения. Как он их писал, рассказывает Герцен («Телескоп», т. XXXIII): «Всякий
божий день являлся поздно вечером какой-то человек в винный погреб в Бер-
лине, пил одну бутылку за другой и сидел до рассвета... Тут-то странные, урод-
ливые, мрачные, смешные, ужасные тени наполняли Гофмана, и он в состо-
янии сильнейшего раздражения схватывал перо и писал свои судорожные,
сумасшедшие повести».
Иногда он сам пугался своих фантастических героев. Тогда он будил жену,
и она покорно усаживалась рядом, вязала чулок, храня его покой.
Так написал он 12 томов («Серапионовы братья», «Фантастические рас-
сказы в духе Калло», «Записки кота Мурра», «Крошка Цахес», «Принцесса
Брамбилла», прелестный «Щелкунчик», которого гениально оживил Чайков-
ский в балете, и др.).
Умирает Гофман довольно рано, сраженный тяжелой болезнью — сухоткой
спинного мозга, как и его собрат по перу Генрих Гейне.
203
Два мира
Реальный мир жесток, суров и труден,
В нем каждый день ведем мы смертный бой
И часто, уходя от тяжких буден,
В воображении творим себе иной.
Неосязаем, невесом, прозрачен,
Он соткан весь из жемчуга мечты,
И часто он для нас гораздо больше значит,
Чем все дела житейской суеты.
Гофман не принимал интересов обывателя, маленького приземленного
филистера, робкого, непритязательного, довольного собой, никогда не подни-
мающего своего взора к небесам, где парят высшие идеалы человеческого
существования. О как они жалки эти маленькие приземленные люди, как
жалок сам этот реальный мир!
Нужно отрешиться от всего земного, нужно научиться не замечать уродства
материальной жизни и «грезить с открытыми глазами», — рассуждал он. Если
сумеешь так предаться мечте, тогда ты истинно счастливый человек. Ты беден,
некрасив, у тебя сюртук с продранными локтями. Но будь выше этого. Воз-
люби мечту свою, и она принесет тебе все: и богатство, и красоту, и радость.
Возлюби поэзию, ибо в ней высшее знание.
По быту, по бедности и скудости жизненных благ он, пожалуй, не намного
отличался от нашего милейшего и незабвенного Акакия Акакиевича Башмач-
кина, но в нем жили титанические силы ума и таланта.
«Один из величайших немецких поэтов, живописец невидимого внутреннего
мира, ясновидец таинственных сил природы и духа, воспитатель юношества,
высший идеал писателя для детей», — писал о нем Белинский.
Читая Гофмана, мы постоянно ощущаем как бы сосуществование двух
миров: и (удивительный парадокс!) по всем критериям реализма описанный
реальный мир и мир иной — невидимый, ирреальный, созданный почти безум-
ным воображением человека, прекрасный мир прекрасной мечты.
Описанию двух этих миров посвящен роман «Записки кота Мурра». Кот
Мурр пишет на обратной стороне бумаг гениального скрипача Крейслера дне-
вник о своих похождениях, о своей влюбленности в кошечку Мисмис. Прочи-
тав на одной странице восторженные хвалы прекрасному миру мечты, мы,
перевертывая ее, попадаем в крохотное счастье кота Мурра, мурлыкающего
от радости чревоугодия и ласк своей милочки.
Очень любопытен в этой теме противопоставления двух миров роман Гоф-
мана «Серапионовы братья». Это, в сущности, и не роман, а серия новелл, рас-
сказов, изложенных в форме диалогов, бесед друзей, о различных слышанных
или известных им историях.
Несколько друзей образовали Братство святого Серапиона, своеобразный
клуб, в котором проходили эти любопытные серапионовы беседы.
Основанием Братству послужила нижеследующая история.
В южной Германии недалеко от маленького провинциального городка, в
небольшом лесочке, рассказчик встретил странного человека «в корич-
204
невой пустыннической рясе, с соломенной шляпой на голове и с черной вскло-
коченной бородой. Он сидел на обломке свесившейся над оврагом скалы и
задумчиво глядел вдаль, сложив на груди руки.
Передо мной, казалось, сидел анахорет первых веков христианства. Это
был когда-то весьма образованный и умный человек из состоятельной семьи.
По окончании образования он получил высокую дипломатическую должность,
и ему прочили блестящую карьеру. И вот однажды он исчез. Поиски ни к чему
не привели, и только через несколько лет пронесся слух, что в горах Тироля
появился странный монах, живущий в полном одиночестве, называвший себя
пустынником Серапионом. Некий граф П. однажды увидел его и признал в нем
своего исчезнувшего племянника. Его силой возвратили домой, но сколько ни
бились, ему не удалось возвратить рассудок. Он снова убежал, и его оставили
в покое.
Серапион построил себе в лесу жилище и жил один, воображая себя Сера-
пионом, который в 251 году в Египте был замучен императором Децием».
Человек, поведавший эту историю, беседовал с «Серапионом». Тот обнару-
жил замечательный дар речи, силу логического мышления. Он был спокоен и
счастлив в своем ослеплении. «Признаюсь, меня мороз подрал по коже! Да и
было, правду сказать, отчего. Передо мной стоял сумасшедший, считавший
свое состояние драгоценнейшим даром неба, находивший в нем одном покой и
счастье и от всей души желавший мне подобной же судьбы.
Я хотел удалиться, но Серапион заговорил снова, переменив тон.
— Ты не должен думать, что уединение этой дикой пустыни для меня никем
не прерывается. Каждый день меня посещают замечательнейшие люди по все-
возможным отраслям наук и искусств. Вчера у меня был Ариосто, а после него
Данте и Петрарка. Сегодня вечером жду известного учителя церкви Евагриуса
и думаю поговорить с ним о церковных делах, как вчера беседовал о поэзии.
Иногда поднимаюсь я на вершину той горы, с которой при хорошей погоде
можно видеть башни Александрии, и тогда перед моими глазами проносятся
замечательные дела и события...»
Итак, фантастический мир грез, отрешенность от материальной жизни.
Высокое парение мечты! Высшая духовность!
* * *
Суровый Бог изгнал людей из рая,
Приговорив к трудам и нищете,
А бес лукавый, местию играя,
Вернул им рай, но в странной пустоте:
Обманчивый, туманный и нездешний,
С непостижимой тонкой красотой,
Край небывалый, дальний и безгрешный,
Весь озаренный светлою мечтой.
Неисповедимы пути Господни, и через сто лет после смерти Гофмана его
«Серапионовы братья» появились в мятущейся пооктябрьской России. В дни
ожесточенных классовых битв (а они, увы, существуют, и французские исто-
рики XIX в., открывшие этот феномен общественной жизни, не ошибались)
205
несколько молодых литераторов, талантливых и самонадеянных (среди них
будущие известные писатели М. Зощенко, Н. Тихонов, К. Федин, В. Каверин
и др. Вдохновителем был, пожалуй, В. Шкловский, а наиболее рьяным
Л. Лунц, умерший в двадцатичетырехлетнем возрасте в Берлине), создали так
называемую литературную группу «Серапионовы братья», воспользовавшись
идеей Гофмана. Они искали новых литературных форм, а ниспровергатель-
ством «старого» тогда увлечена была вся молодежь, и, главное, требовали сво-
боды художника от тенденциозности («Всякую тенденцию «Серапионовы
братья» отвергают в принципе», — говорилось в их манифесте).
Издав в 1922 г. коллективный сборник «Серапионовы братья», писатели
разбрелись, но память о них осталась, их вспомнили в 1946 г.
Вспомнили резкие и задиристые строки Льва Лунца: «Мы собрались в дни
революционного, в дни мощного политического напряжения.
«Кто не с нами, тот против нас!» — говорили нам справа и слева, — с кем же
вы, Серапионовы братья, — с коммунистами или против коммунистов, за рево-
люцию или против революции?» «С кем же мы, Серапионовы братья? Мы с
пустынником Серапионом»... «Слишком долго и мучительно правила русской
литературой общественность... Мы не хотим утилитаризма. Мы пришли не для
пропаганды. Искусство реально, как сама жизнь, и, как сама жизнь, оно без
цели и без смысла, существует потому, что не может не существовать».
Один из лидеров правящей коммунистической партии А. А. Жданов в
1946 г. подвел итог: такова роль, которую «серапионовы братья отводят искус-
ству, отнимая у него идейность, общественное значение, провозглашая
безыдейность искусства, искусство без цели, искусство ради искусства, искус-
ство без цели и без смысла. Это и есть проповедь гнилого аполитизма, мещан-
ства и пошлости».
А. А. Жданов сгущал краски, «Серапионы» не угрожали государству ни в
начале 20-х гг., ни тем более после победоносной войны Великой Отечествен-
ной. «Серапион» Михаил Зощенко писал в 1922 г.: «...мне ближе всего больше-
вики. И большевичить я с ними согласен... Россию люблю мужицкую, и в этом
мне с большевиками по пути».
ПОЛЬША
...Любовь к отечеству в душе поляков всегда была чувством безна-
дежно-мрачным. Вспомните их поэта Мицкевича.
А. С. П у ш к и н — Е. М. Хитрово, 1830 г.
История не стоит на месте: меняются очертания государств, перекраива-
ются границы, возникают и рассыпаются политические теории — остается
поэзия, живой источник духовной жизни человечества.
Однако исторические события, как бы далеко они ни отстояли от современ-
ности, накладывают свою печать на духовную жизнь народа, на мысли и чув-
ства его интеллектуальных лидеров.
Бросим взгляд на историю Польши. Откуда есть и пошла она?
Издавна на ее территории проживало славянское племя полян (отсюда —
Польша), или, как писала в 944 г. летопись, — «поляне, яже ныне зовомая
Русь». Польша приняла христианство, но в католическом варианте, что
духовно сближало ее с государствами Западной Европы.
Испытав в 1241, 1259 и 1287 гг. нашествия монголо-татар, она потом была
избавлена «русским щитом» от их обременительного ига. Исторически Польша
служила своеобразным барьером между Россией и странами Западной Европы.
207
Такие государства политики называют буферными, смягчающими удары с
обеих сторон. Но Польша, образовав в 1569 г. Речь Посполитую, объединив-
шись с Великим княжеством Литовским, стала замышлять создание единого
Польско-Литовско-Русского государства, что никак не входило в планы Рос-
сии.
Польские магнаты организовали в России смуту, поддержав в начале
XVII в. Лжедмитрия I, а затем и Лжедмитрия И. Честолюбивая Марина Мни-
шек без зазрения совести перешла из объятий одного в объятия другого.
Настоящим несчастьем для Польши стало ее внутреннее государственное
устройство, беспредельный демократизм, право вето — «либерум вето», когда
любой шляхтич мог одним своим голосом на Сейме утвердить или отвергнуть
любое решение. Все разумное подчас захлестывалось в борьбе, интригах про-
тивоборствующих частных интересов.
В результате в XVIII в. трижды страна подвергалась перекройке между
тремя соседними государствами — Австрией, Пруссией и Россией.
Наполеон создал Варшавское герцогство, а после его падения Венский кон-
гресс в 1815 г. основал Царство Польское. К титулу русского императора при-
бавилась новая приставка «царь польский», а позднее и «великий князь фин-
ляндский». Национальное сознание поляков было ущемлено. Патриотизм их
окрашивался в мрачные тона, что чутко уловил Пушкин в поэзии Мицкевича.
Русский царь Александр I, мечтая о либеральных преобразованиях, серь-
езно задумывался над тем, чтобы дать Польше некоторые политические свобо-
ды, но, устав бороться с недовольством своего окружения, махнул на все рукой
и предоставил ему действовать как заблагорассудится. В Вильнюс приезжает
Новосильцев с важной миссией пресечь вольнодумие студенческой молодежи,
выявить организаторов и участников тайных обществ. Один из студентов на-
звал их имена, в том числе и имя Адама Мицкевича. Последовал арест и тюрем-
ное заключение в Базилианском монастыре.
Никаких серьезных грехов, угрожавших устоям государства, за молодыми
людьми не водилось, и наказание было минимальным. Мицкевич был выслан в
Россию.
АДАМ МИЦКЕВИЧ (1798—1855)
Там пел Мицкевич вдохновенный
И на краю прибрежных скал
Свою Литву воспоминал.
А. П у ш к и н
Мицкевич родился на хуторе Заосье близ города Новогрудка. Древности
города, руины старинного замка, которые и ныне волнуют воображение,
питали первые патриотические чувства. Когда-то здесь была столица Великого
княжества Литовского. С 1795 г., после третьего раздела Польши, он оказался
в пределах России. Ныне он входит в состав Белорусской республики.
Сын мелкопоместного шляхтича, он был государственным стипендиатом
208
Виленского университета, за что должен был отработать в течение нескольких
лет учителем.
Конечно, он читал Вольтера, Руссо, конечно, он воспламенялся идеями сво-
бодолюбия и патриотизма, участвуя в молодежных патриотических кружках,
тайных студенческих обществах. Писал восторженные юношеские стихи:
...над руинами встает заря свободы,
Свет правды и наук увидят в ней народы,
Тиранов рухнет власть...
В Петербурге молодой польский поэт, сделавший первые шаги в творчестве
и еще не оцененный на родине, оказался в самой благоприятной обстановке.
Его встретили и окружили вниманием и сочувствием самые выдающиеся
деятели русской культуры. Весной 1828 г. Мицкевич писал своему другу, поэту
Одынцу:
«Хотел бы послать тебе русские переводы моих стихов. Пришлось бы сде-
лать большую пачку. Почти во всех альманахах (а их выходит здесь множе-
ство) фигурируют мои сонеты; они имеются уже в нескольких переводах. Один
как будто лучший, это Козлова (того, что написал «Венецианскую ночь» и «Ве-
черний звон». — С. Л.), печатается частями, скоро должен выйти книжкой.
Жуковский, с которым я познакомился и который очень расположен ко мне,
писал, что если он возьмется за перо, то посвятит его переводу моих стихов...
Вот какая слава, пожалуй, ее достаточно, чтобы возбудить зависть».
Правительство предложило Мицкевичу место учителя в Ришельевском
лицее в Одессе, а потом место в канцелярии генерал-губернатора Москвы
князя Голицына. Тот, не обременяя поэта служебными делами, предоставил
ему полную свободу.
Особенно радушно приняли польского поэта декабристы. Рылеев писал
тогда Туманскому (помните пушкинское: «Одессу чудными стихами мой друг
Туманский описал...»):
«Полюби Мицкевича и друзей его... добрые и славные ребята... Мицкевич
к тому же поэт — любимец нации своей...» На обороте листка сделал приписку
Бестужев: «Рекомендую тебе Мицкевича, Малевского, Ежовского. Первого
ты знаешь по имени, а я ручаюсь за его душу и талант. Познакомь их и наставь,
да приласкай их, бедных».
Сблизился Мицкевич и с Пушкиным. Тот внимательно отнесся к собрату по
перу. В марте 1827 г. Мицкевич писал Одынцу: «Как-нибудь напишу о нем
подробнее; теперь только добавлю, что я знаком с ним и мы часто встречаемся.
Пушкин почти одного возраста со мной (на два месяца моложе), в разговоре
очень остроумный и увлекательный, читал много и хорошо знает новейшую
литературу, о поэзии у него чистые и возвышенные понятия. Написал теперь
трагедию «Борис Годунов», я знаю несколько сцен исторического характера,
хорошо задумана и детали прекрасны».
Любопытны отзывы о Мицкевиче его товарищей. Николай Малиновский
сообщал в Польшу своим друзьям:
«Наружность его несколько изменилась — он отпустил бакенбарды, что
придает ему более степенный вид. Цвет лица его более здоровый, чем раньше,
он несколько возмужал, переменился к лучшему. В обществе он не проявляет
прежней эксцентричности, напротив, он держит себя свободно и предупреди-
209
тельно... Талант его созрел, его речь, обогащенная тем, что он видел и читал,
носит отпечаток его богатой фантазии. Он любит теперь много говорить, его
голос один только раздается в обществе, и всякий смолкает, чтобы слышать
его».
Наконец, письмо Вяземского жене от мая 1826 г. (Ах, эти письма, коротень-
кие записочки с далекими и точно обозначенными датами, такими значитель-
ными для нас по прошествии столетий! Здесь мы на встрече великих людей
прошлого):
«Третьего дня провели мы вечер и ночь у Пушкина с Жуковским, Крыло-
вым, Хомяковым, Мицкевичем, Плетневым и Николаем Мухановым. Мицке-
вич импровизировал на французской прозе и поразил нас, разумеется, не скла-
дом фраз своих, но силою, богатством и поэзией своих мыслей. Удивительное
действие производит эта импровизация. Сам он был весь растревожен, и все мы
слушали его с трепетом и слезами».
Из сонетов Мицкевича, о которых упоминает Пушкин, приведу один:
Алушта ночью
Свежеет ветерок, слабеет жар дневной;
Светильник дня упал на Чатырдаг высокий,
Разбился весь, разлил багряные потоки
И гаснет... Путник вверх глядит, смущен душой.
Чернеют склоны гор, полны долины мглой,
Лепечут родники как бы сквозь сон глубокий,
Весть сердцу подают цветов живые соки
Благоухающей мелодией немой.
Под сенью тишины и мрака засыпаю.
Вдруг будит блеск меня: от края и до края
Все небо золотом прорезал метеор.
О ночь восточная! Ты с одалиской схожа:
Твоими ласками я усыплен и — что же?
Для новых будит ласк твой огнеметный взор.
Благоволение современников — вот самое надежное счастье.
Гете
Так приветствовал великий немецкий поэт Мицкевича, даря ему свое перо
в Веймаре во время чествования своего восьмидесятилетия. Благоволение со-
временников! Мы знаем немало примеров, когда слава приходит к писателям
после их смерти, и эта слава оказывается более прочной, чем восторженные
поклонения современников. Гете был баловнем славы. Его «Вертер», так
ценимый читателями мира в его дни, ныне почти забыт.
Однако слава Мицкевича не потускнела со временем. Современники-поля-
ки, пожалуй, больше ценили в нем политического деятеля, страстного побор-
210
ника независимости Польши. Но Польша давно уже свободна и независима,
иные проблемы волнуют ныне поляков, и читатель обращается теперь к поэту
как задушевному другу, рассказывающему ему романтические легенды, траги-
ческие, мистические, о родной старине.
Трудно оценить поэта по переводам. Это всегда бледная копия, почти всегда
лишенная свежести и обаяния подлинника. Исключения чрезвычайно редки. О
Мицкевиче-поэте нам дадут верное представление разве что два пушкинских
перевода баллад польского автора — «Будрыс и его сыновья» и «Воевода». В
них переданы и романтическая трагедийность и веселое лукавство, так свой-
ственные Мицкевичу-поэту.
В 1822 г. были опубликованы его «Баллады и романсы». Видения, загроб-
ные тени, пугающие и манящие, весь реквизит кладбищенских мотивов, очень
модных в начале XIX в., найдем мы в этом юношеском сборнике стихов.
Мы слышим взволнованный разговор безумной девушки с умершим воз-
любленным:
Ясь? Ночью? С прежней силой Тебя уже похоронили.
Любить и по смерти будешь? Ты умер? Ах, страшно! Боюсь, нет мочи!
Сюда, сюда, но потише, милый, — Но что ж я оробела пред Ясем?
Мачеху ты разбудишь! Ах, это он! Лицо его! Очи!
А впрочем, пусть. Ты же в могиле. И в той же одежде белой.
Мицкевич отстаивает свои эстетические принципы: надо видеть и верить в
чудо, новая поэзия, поэзия романтизма, — поэзия сердца. Прочь холодный
разум!
Наиболее известна его поэма «Дзяды» («Деды»). Тоскующая тень Густава,
умершего юноши, бродит по земле. Покинутый любимой девушкой, он сам
убил себя. Мицкевич поэтически рассказал о своих чувствах, первой любви к
Марыле Верещак, которая оставила его ради графа Путткамера:
О женщина! Создание пустое!
Пушинка на ветру! Ты внешней красотой
Внушаешь зависть ангелам крылатым,
Но как бездушна ты! Ослеплена ты златом...
Меня, собственно, интересовало одно лицо — Адам Мицкевич; я
его никогда прежде не видел. Он стоял у камина, опершись локтем
о мраморную доску... Много дум и страданий сквозило в его лице,
скорее литовском, чем польском. Общее впечатление его фигуры,
головы с пышными седыми волосами и усталым взглядом выражало
пережитое несчастье... Он угас в Турции.
А. Г е р ц е н
Таков Мицкевич в старости. Он выехал из России в мае 1829 г. Вступая на
палубу корабля «Георг IV», чтобы навсегда расстаться с русскими друзьями, он
вряд ли думал о том, что прожитые в России годы станут самыми светлыми в
его жизни. Поляк Бой-Желенский (его расстреляли гитлеровцы во время вто-
211
рой мировой войны) писал об этой поре в жизни поэта: «Здесь он был принят
как равный в среду великих, венчаемый, чествуемый. Не думаю, чтобы так
приняли Мицкевича, если бы он приехал в Варшаву. Это были самые полные,
самые счастливые годы его жизни. Там он обрел осознание своего гения».
Годы скитаний. Лекции в университетах Франции, Италии. Крушение
надежд. Душевная болезнь жены. Роковая встреча с мистиком Товианским (он
лечил гипнотическими сеансами жену поэта). Влияние этого человека на пси-
хику. (Второй гений Польши композитор Шопен, встревоженный состоянием
душевных сил своего соотечественника, писал тогда Дельфине Потоцкой:
«Мицкевич как адепт Товианского очень меня тревожит. То, что Товианский,
как ловкий мошенник, одурманив дураков, тянет их за собой, может вызвать
только смех, но Мицкевич — возвышенная душа и мудрая голова — как он
этого мошенника не разгадал и не высмеял».)
В своих лекциях Мицкевич обрушивал на Россию град упреков, понятных
при той политической ситуации, в которой пребывала его родина, но они печа-
лили его русских друзей. Пушкин отозвался чудесными стихами с упреками и
сожалением:
Он между нами жил,
Средь племени ему чужого, злобы
В душе своей к нам не питал, и мы
Его любили. Мирный, благосклонный,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами,
И песнями (он вдохновлен был свыше
И свысока взирал на жизнь). Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта. Он
Ушел на Запад — и благословеньем
Его мы проводили. Но теперь
Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной,
Он наполняет. Издали до нас
Доходит голос злобного поэта,
Знакомый голос!.. Боже! освяти
В нем сердце правдою твоей и миром
И возврати ему...
Умер Мицкевич в Константинополе в ноябре 1855 г. от холеры. Прах его
был перевезен в Париж и погребен на кладбище Монморанси, потом в 1890 г.
перевезен в Краков, где покоится в нише собора в замке Вавель.
РОССИЯ
Мы оставили Россию в XII столетии1. Тогда она была на гребне мировой
культуры. О мировых ее связях и месте ее в политических делах Европы свиде-
тельствует уже тот факт, что дочь великого киевского князя Ярослава
Мудрого Анна стала женой французского короля Генриха I и одно время пра-
вила Францией при малолетстве сына своего — Филиппа I (XI в.). Киевская
Русь далеко раздвинула свои пределы, и культура ее (увы, погибшая) была на
уровне самых высоких достижений мира, о чем говорит несравненное эстети-
ческое совершенство «Слова о полку Игореве».
История распорядилась так, что полчища монголов, опустошавшие ее про-
сторы, надолго задержали ее развитие. Она стала «щитом Европы», поглощая
воинскую энергию завоевателей и тем предохраняя ее народы.
Нельзя сказать, что и до монгольского нашествия все в ней было спокойно.
Дрались князья, зарясь на земли своих соседей, на право княжить в Киеве.
«А погани со всех стран прихождаху с победами на землю Русскую» — как
горестно сообщал автор «Слова о полку Игореве».
Но нашествие в XIII столетии стало поистине катастрофой для русских
городов. Для россиян это было полной неожиданностью. Кто они? Откуда
пришли? — никто этого не знал. «Прииде неслыханная рать», — писала
Волынская летопись. «Языци незнаеми, их же добре никто же не весть, кто
суть, и отколе изыдоша, и которого племене суть, и что Вера их, а зовутся
Татары», — записала Новгородская летопись. Битва на Калке (1223 г.) и взятие
и разрушение Киева (1240 г.) — вот главные трагические даты нашествия орд
Чингисхана и Батыя. Великая Русь лежала в развалинах, и только Великий
Новгород нежданно избежал общей участи (Батый, не дойдя до него, повернул
обратно, видимо, устрашенный лесными зарослями и непроходимыми болота-
ми). Карамзин в своей «Истории государства Российского» писал: «Древний
Киев исчез, и навеки; ибо сия, некогда знаменитая столица, мать градов Рос-
сийских, в XIV и в XV веках представляла еще развалины; в самое наше время
существует единственно тень ее прежнего величия».
На долгие века Россия была подавлена, угнетена и унижена. Русские князья
являлись к татарским ханам, привозя дань, и вели себя подчас как жалкие
рабы. Польский король Стефан Баторий в своем послании к Ивану Грозному
язвительно писал: «...твои предки, как конюхи, служили подножками царям
татарским, когда те садились на коней, — лизали кобылье молоко, капавшее
на гривы татарских кляч!»
1 Артамонов С. Д. Литература средних веков. — М., 1982.
213
О том же писал и французский писатель Монтень в своих знаменитых
«Опытах».
Россия была, в сущности, изолирована от стран Западной Европы и, как
следствие, отставала от них. Это понимали некоторые политики Москвы.
В 1547 г. саксонец по имени Шлитт получил от русского правительства заказ
набрать в немецких городах искусных мастеров и знатоков — типографов,
аптекарей, художников, ремесленников и пр. Шлитт набрал что-то более
120 человек, но их не пустили в Россию власти Любека, а самого Шлитта даже
посадили в тюрьму. Рыцари Ливонского ордена опасались, что просвещенная
Россия станет опасной для Европы.
Это не спасло самих рыцарей: в 1560 г. орден их был разгромлен войсками
Ивана IV и ликвидирован.
Успехи польского короля Стефана Батория вынудили Ивана Грозного
обратиться за посредничеством к папе римскому Григорию XIII. В Рим был
послан Истома Шевригин. Григорий XIII загорелся мыслью присоединить рус-
скую православную церковь к церкви католической, которую возглавлял.
Лукавый русский царь намекал на такую возможность. В Россию прибыл
иезуит Антоний Поссевин с миротворческой миссией. (Записки его, наблюде-
ния, сделанные им, любопытны как взгляд на тогдашнюю нашу страну со сто-
роны.)
В Риме, когда там был царский гонец Шевригин, находился Мишель Мон-
тень. Он с любопытством глядел на человека из далекой и неведомой тогда
страны и записал свои впечатления в путевом дневнике. «Он, — писал Мон-
тень, — проявил большую настойчивость, отказываясь поцеловать ноги папы,
соглашаясь только на правую руку; он хотел знать, подвергается ли подобной
церемонии император, ибо примера королей ему было недостаточно». Кстати
сказать, Монтень подробно и не без иронии описал этот странный обряд. Вот
как происходила аудиенция у папы: вошедшие (Монтень и его спутники) сде-
лали несколько шагов и встали на колени, ожидая благословения папы. Тот из
своего угла послал им это благословение. Еще несколько шагов, и опять на
колени, и снова — благословение. Наконец, они у ковра, на котором восседает
папа. Посол французский, сидя по левую руку папы, поднимает край его оде-
жды и открывает его правую ногу, поверх которой белый крест. Алчущие пап-
ского благословения подползают к туфле и целуют ее. Насмешливый писатель
заметил, что папа поднял кончик ноги навстречу его губам в виде, очевидно,
особого благоволения. Обратное шествие было такое же: пятились назад, вста-
вали на колени, получали благословение, и так до двери.
Неизвестно, подвергся ли Шевригин этой участи, но, видимо, подробно рас-
сказал о странном ритуале русскому царю. Позднее в разговоре с Поссевином
Иван Грозный говорил: «Сказывал нам наш паробок Шевригин, что папа Гри-
горий сидит на престоле, и носят его и целуют ногу; а на сапоге крест, а на кре-
сте распятие. Прилично ли это?»
214
ПУШКИН О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, — при стуке
топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Вели-
ким, были благодетельны и плодотворны. Успех народного пре-
образования был следствием Полтавской битвы, и европейское
просвещение причалило к берегам завоеванной Невы.
А. С. П у ш к и н
Пушкин взглянул на русскую литературу с высоты всемирной цивилизации.
Какое место заняла русская литература в мировой культуре? Естественно, речь
шла о временах, уже пройденных Россией, т. е. от древности до начала XIX в.
После «Слова о полку Игореве», когда Россия еще не уступала Европе в обра-
зованности и эстетической культуре, по ряду исторических причин развитие
художественной культуры в ней как бы прервалось, и это надо признать.
«Долго Россия оставалась чуждою Европе. Приняв свет христианства от
Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной
деятельности римско-католического мира».
События, происходившие в Западной Европе, никак не затронули России,
что справедливо отметил Пушкин. Встреча Европы с культурой арабского
Востока во время крестовых походов и огромное влияние, какое она оказала на
европейцев, были не замечены в России. Мощное умственное движение, охва-
тившее страны Западной Европы и получившее наименование Возрождение,
прошло мимо России:
«Великая эпоха Возрождения не имела на нее никакого влияния; рыцарство
не одушевило предков наших чистыми восторгами, и благодетельное потрясе-
ние, произведенное крестовыми походами, не отозвалось в краях оцепенев-
шего севера...» «России определено было высокое предназначение: ее необоз-
римые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом
краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную
Русь и возвратились в степи своего Востока. Образующееся просвещение было
спасено растерзанной и издыхающей Россией...» Пушкин в сноске поместил
нижеследующее замечание: «А не Польшею, как еще недавно утверждали
европейские журналы, но Европа в отношении к России всегда была столь же
невежественна, как и неблагодарна».
Далее Пушкин обращается к внутренней, духовной жизни россиян в усло-
виях монголо-татарского ига:
«Духовенство, пощаженное удивительной сметливостью татар, одно — в
течение двух мрачных столетий — питало бледные искры византийской обра-
зованности. В безмолвии монастырей иноки вели свою беспрерывную лето-
пись. Архиереи в посланиях своих беседовали с князьями и боярами, утешая
сердца в тяжкие времена искушений и безнадежности. Но внутренняя жизнь
порабощенного народа не развивалась. Татары не походили на мавров. Они,
завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля. Свержение ига,
споры великокняжества с уделами, единовластия с вольностями городов, само-
державия с боярством и завоевания с народной самобытностью не благоприят-
ствовали свободному развитию просвещения».
215
Таково было положение в России. А как обстояли дела в странах Западной
Европы? Там духовная жизнь била ключом. Сравнение, увы, было не в пользу
России. Пушкин пишет:
«Европа была наводнена неимоверным множеством поэм, сатир, романсов,
мистерий и проч.; но старинные наши архивы и вифлиотеки не представляют
почти никакой пищи любопытству изыскателей. Несколько сказок и песен,
беспрестанно подновляемых изустным преданием, сохранили пол у изглажен-
ные черты народности, и Слово о полку Игореве возвышается уединенным
памятником в пустыне нашей древней словесности».
МАКСИМ ГРЕК (1475—1556)
Западноевропейский Ренессанс Россию обошел, как было уже сказано.
Истощив свои силы в междоусобных княжеских распрях, борьбе удельных кня-
жеств, а потом в угнетении монголо-татарском, вынужденная выплачивать
значительную дань завоевателям, она далеко отстала от западных своих сосе-
дей и в материальной, и в духовной культуре. Построенные когда-то велико-
лепные киевские, черниговские, новгородские храмы не уступали по совершен-
ству строительной техники от тех, что строили себе Франция, Италия, Герма-
ния. А в XV в. Иван III, объединивший в какой-то степени русские земли,
вынужден был для строительства Успенского собора в Московском Кремле
пригласить итальянца Аристотеля Фиорованти, ибо русские мастера уже уте-
ряли требуемые для того знания. Были утеряны торговые и культурные связи
со странами Западной Европы, и лишь при Иване IV английские купцы отк-
рыли для себя Россию. При нем же открылась и первая типография, в то время
как в Италии Альдо Мануций печатал уже в подлиннике древнегреческих авто-
ров. Народы Западной Европы уже знали имена Данте, Петрарки, Боккаччо,
Рабле, Монтеня и других великих деятелей культуры. Россия еще молчала.
Тем значительнее выглядит в культурно-просветительском отношении тра-
гическая фигура Максима Грека (Михаила Триволиса).
Приглашенный в 1518 г. в Москву из Афона для исправления церковных
книг, он так и остался в России, больше уже как узник (26 лет провел в мона-
стырских тюрьмах).
Максим Грек — примечательная личность, вобравшая в свой духовный мир
идеи и чувства переломной эпохи. Блестяще образованный, хорошо знавший
древнегреческий и латинский языки, довольно быстро овладевший и русским
языком, он мог бы быть очень полезен русской культуре, но на его судьбе ска-
зались противоречия той переломной эпохи, которая его воспитала. Рожден-
ный в Греции, он много лет провел в Италии, общаясь с корифеями итальян-
ского Возрождения, с Пико делла Миранд ол а, издателем Альдо Мануцием, от
которых он не мог не воспринять уважения к науке, образованности. С другой
стороны, его увлекла страстная критика идей Ренессанса Иеронимом (Джиро-
ламо) Савонаролой, погибшим на костре во Флоренции в 1498 г. (Максиму
Греку было в то время 23 года). Пылкий юноша, конечно, был восхищен муже-
ством этого человека, глубоко тронут его трагической судьбой и загорелся его
идеями, излагаемыми с необыкновенным ораторским вдохновением.
216
Ренессанс отвергал религиозный фанатизм, христианскую аскезу, противо-
поставляя ей гедонистический принцип жизни. Как всегда и во всем, к здравым
идеям корифеев Ренессанса приплетались крайности, своеобразный экстре-
мизм (безудержная погоня за наслаждениями, индивидуализм), особенно
наглядно проявившийся при княжеских дворах Италии и папском дворе. Саво-
нарола олицетворял собой «горячую точку» в борьбе двух мировоззрений —
Средневековья и Ренессанса.
Максим Грек вобрал в себя оба эти мировоззрения. Он приехал в Россию
как представитель образованности Ренессанса и одновременно носитель его
критики. Он скоро закончил свой труд (перевод «Псалтиря»), но из России его
не отпустили, оценив его познания. Однако через некоторое время он стал
неудобен властям своими постоянными (в духе Савонаролы) нападками на вла-
стей и высшее духовенство. Теперь его уже не отпускали, не желая «выносить
сор из избы».
Максим Грек в своих посланиях к христианам резко осуждал суеверие, веру
в астрологию, вымыслы о новом потопе, нелепые предсказания. При тогдаш-
ней дикости и невежестве отрезвляющий голос греческого проповедника был и
важен и необходим, но казался еретическим. Поправки Максима Грека в тек-
сте Священного писания никак не принимались русским духовенством. Ссыла-
лись на традиции: «Так славили Бога наши иерархи». Греческий проповедник
осуждал веру в сновидения и многие дикие нелепости, совершаемые невеже-
ственными людьми, а верили тогда в то, что погребение утопленников якобы
вызывает неурожаи. Были случаи, когда таких утопленников выбрасывали из
могил. Но больше всего, конечно, досаждали властям его непримиримые
инвективы против богачей в защиту угнетенных, обиженных, бедных. Жизнь
правдолюбца сложилась печально: проведя многие годы в монастырских казе-
матах в холоде и голоде, он скончался в относительном покое в Троице-Серги-
евском монастыре в 1556 г., где и был погребен.
Представитель ослепительного, бурного, противоречивого века Возрожде-
ния, случайно занесенный в просторы России, он не сделал и вряд ли мог сде-
лать большой вклад в ее культуру.
«Бледные искры византийской образованности»
Так Пушкин обозначил влияние византийской культуры на становление
славянской цивилизации. «Бледные искры!» В те годы, когда к нам пришло
христианство, а оно, как известно, пришло из Константинополя, привезенное
княгиней Ольгой, очарованной богатством и пышностью христианских обря-
дов, утвержденное ее внуком Владимиром Святым и закрепленное Кириллом и
Мефодием, — в те годы сама культура Византии находилась в глубоком кризи-
се. Правопреемница греческой культуры, сохранив греческий язык в качестве
государственного и называя себя Ромеей, Византия была странным этничес-
ким образованием и постепенно теряла все то, что осталось ей в наследство от
духовных и материальных богатств родины Гомера, Аристотеля, Фидия.
Между тем как Рим, претерпевший страшные потрясения, разрушаемый
неоднократными нашествиями варваров, утративший духовные связи с анти-
чным наследием, начинавший как бы с нуля, уже к XII в. создал оригинальные
шедевры нового искусства — готику и новую литературу.
РОССИЯ И ЕВРОПА
Официальные круги России XVIII в. следили за духовной жизнью Западной
Европы. В Коллегии иностранных дел содержался целый штат переводчиков,
которым предписывалось составлять краткие справки о новых политических
идеях в сочинениях иностранных авторов. В этом отделе служил молодой Фон-
визин. В те времена Франция вызывала особый интерес. Русское дворянство,
утомленное мелочной и подчас вздорной и всегда жестокой тиранией двора
(Анна Иоанновна с ее алчным фаворитом Бироном, Петр III), охотно внимало
французским просветителям, критиковавшим абсолютизм. Екатерина Вели-
кая, вступившая на престол 28 июня 1762 г., чутко уловила эти настроения и
обещала в своих обращениях к народу покончить с «необузданным самовласти-
ем»1. Пушкин увидел в этом лицемерие, но вряд ли можно согласиться с
1 «Самовластие, не обузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в государе, владе-
ющем самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным следствиям непосредственно
бывает причиной» (Екатерина II).
218
поэтом. Екатерина иногда говаривала: «В душе я республиканка, но моя про-
фессия обязывает меня быть монархисткой».
Французский автор Гольбах писал в те годы: «...на троне могут оказаться
просвещенные, справедливые, мужественные, добродетельные монархи, кото-
рые, познав истинную причину человеческих бедствий, попытаются исцелить
их по указаниям мудрости». Екатерина много читала, и подобные мысли увле-
кали ее, умную и от природы снисходительную и гуманную. Она даже, руко-
водствуясь идеями Монтескье, серьезно намеревалась провести радикальные
социальные реформы в России, но, убедившись, что Россия не созрела для это-
го, отказалась от них. Дальнейшие события во Франции (революция) напугали
ее. Интерес Екатерины к французским просветителям (с Вольтером она была
в переписке, Дидро пригласила в Петербург и потом материально поддержи-
вала его, Мельхиора Гримма содержала в качестве своего эмиссара в Западной
Европе) передался русским вельможам, спешившим подражать ей льстиво и
небескорыстно. Мода в России на Францию и французский язык вызвала даже
обратную реакцию и насмешки Фонвизина (комедия «Бригадир»).
Дворянская молодежь, близкая ко двору, уже довольно хорошо владела
французским языком и французской культурой. Многие считали весьма для
себя престижным побывать в поместье Вольтера, в Фернее. Пушкин в стихо-
творении «К вельможе» описал такое путешествие молодого Николая Юсупо-
ва, «посланника молодой увенчанной жены» (Екатерины Великой):
Явился ты в Ферней, и циник поседелый,
Умов и моды вождь, пронырливый и смелый,
Свое владычество на севере любя,
Могильным голосом приветствовал тебя.
У Вольтера побывала самая образованная тогда дама, президент Россий-
ской Академии наук, приятельница императрицы княгиня Дашкова.
Повысился интерес к России и во Франции. Совершили заграничные путеше-
ствия Фонвизин, Карамзин. Письма первого из Франции колоритны и интерес-
ны. Второй выпустит книгу «Письма русского путешественника». Прославляя
Екатерину как просвещенную государыню («Дидерот, Даламбер и я воздаем
Вам алтари»), философы вводили в круг внимания западноевропейского чита-
теля русскую тему.
Возникает в России и постоянный театр. Основатель его Сумароков создает
классицистическую трагедию из русской истории («Хорев», «Синав и Трувор»)
и знакомит русского зрителя с именем Шекспира, не известным тогда на конти-
ненте, переводит вольтеровскую пьесу «Гамлет» на русский язык.
Однако приобщение русского среднего дворянства к мировой культуре
делает еще первые робкие шаги. Сатирическое изображение этого процесса с
блеском представлено в бессмертной комедии Фонвизина «Недоросль» (1781).
В 60-е гг. стали открываться театры вслед за Петербургом и Москвой в
Харькове, Воронеже, Твери, Нижнем Новгороде, открывались типографии,
расширялась книготорговля. В основном все держится на переводах. Рази-
тельно несхожи вкусы так называемой образованной публики и простонародья.
Одни считают, что высокая патетика классицистического театра достойна вни-
мания, другие на них зевают и ждут близких, понятных, житейских сцен. Кры-
лов в журнале «Санкт-Петербургский Меркурий» за 1793 г. писал:
219
«Какое приятное удивление! — на сцене появляется целый народ в лаптях,
в зипунах и в шапках. Сапожники, разносчики, каменщики — все узнавали на
сцене своих земляков... На сцене заплясали... Тогда-то гордый партер (образо-
ванная публика. — С. А.) в первый раз почувствовал, что он в сей беседе лиш-
ний...»
Любопытен язык XVIII в. Колоритно изъяснялись официальные источни-
ки. Так, Камер-Фурьерский журнал отмечал, что государыня императрица
7 февраля 1767 г. «соизволила предпринять отсутствие из Санкт-Петербурга к
Москве». Речь образованных людей перемешана словами просторечными и
взятыми из иностранных языков. Молодой Фонвизин писал сестре: «Я человек,
не хвастая могу сказать, резона бел ьный. Ты меня привела в резон, и я сделал
приношение Аполлону... Стихотворец подобен попу, которому, живучи на
погосте, не всех оплакать».
Переводили только что входившие в моду мещанские драмы (слезливые
комедии) Дидро, Бомарше («Побочный сын», «Евгения»), «простою речью
писанные». Неизвестный переводчик в предисловии к пьесе Дидро писал: «Го-
сподин Дидерот, как древле Аристотель, взирал философическими очами на
драматическое стихотворство, рассматривал свойство оного и предписывал
правила и научил» (СПб., 1767).
Потешная сцена из «Бригадира» Фонвизина. Советник пытается соблазнить
бригадиршу, но она простодушно не понимает, куда он клонит.
Советник. Я хочу, чтоб твои грехи и мои были одни и те же и чтоб
ничто не могло разрушить совокупления душ и телес наших.
Бригадирша. А что это, батюшка, совокупление? Я церковного-то
языка столько же мало смышлю как и французского. Вить кого как Господь
миловать захочет. Иному откроет он и французскую, и немецкую, и всякую
грамоту; а я, грешная, и по русски-то худо смышлю.
Д. И. ФОНВИЗИН (1744—1792)
До Екатерины Великой литературы в ее подлинном значении у нас не было.
При ней развернулась активная журнальная жизнь во главе с Новиковым,
который, взяв в аренду московскую типографию при университете, простаи-
вавшую без дела, быстро наладил издание и продажу книг. Но это было «без-
грамотное время», по выражению Ключевского. Мы сейчас за давностью вре-
мен даже представить себе не можем, как бедна была наша культура в те дни.
В Москве на весь город было только две книжные лавки (Новиков довел их
до 20). В университете, недавно открытом стараниями Ломоносова и его покро-
вителя Ивана Шувалова, студенческая братия была малочисленна, иногда
доходило до того, что на факультетах оставалось по одному студенту и по
одному профессору.
Знакомство с европейской культурой показало, как мы отстали. Престиж
европейской образованности к тому времени повысился в глазах общества.
Правда, возникли две крайности: одни начали стыдиться своей «русскости» и
всячески подражать всему, что исходило тогда главным образом из Франции,
другие крепко уцепились за самобытность, за национальные традиции.
Достаточно сейчас прочитать комедию Фонвизина «Бригадир», чтобы пред-
220
ставить себе картину этого противостояния сторон. Мы найдем те же мотивы
в «Горе от ума» Грибоедова1.
Главным произведением русского XVIII в. стала комедия Фонвизина «Недо-
росль». Она оставила нам нарицательные имена Митрофанушки, Скотининых,
Тришки с его кафтаном и даже потемкинское: «Умри, Денис, лучшего не напи-
шешь!»
«Эта комедия — бесподобное зеркало». «Фонвизину в ней как-то удалось
стать прямо перед русской действительностью, взглянуть на нее просто, непо-
средственно, в упор...» — пишет историк Ключевский. Комедия в самом деле,
как зеркало, отразила русское общество времен крепостного права. И первое,
что бросается нам в глаза, — это зло крепостничества. Госпожа Простакова —
чудовищное порождение крепостничества. Мы смеемся над нею в театре, но
надо помнить, что в те годы жила и терзала людей реальная Простакова, зна-
менитая Салтычиха.
Зритель XVIII в. видел в комедии Фонвизина осмеяние дикости нравов, вар-
варства, дремучего невежества.
Но не всякий тогда, в дни Фонвизина, обращал внимание на антикрепостни-
ческую направленность комедии, а она била в глаза. Для госпожи Простаковой
мир делится на две категории — на «благородных», к которой она причисляет
и себя, и на слуг, крепостных.
«А ты разве девка, собачья ты дочь? Разве у меня в доме, кроме твоей
скверной рожи, и служанок нет? Палашка где?
— Захворала, матушка. Лежит с утра.
— Лежит! Ах, она бестия! Лежит! Как будто благородная!
— Такой жар рознял, матушка, без умолку бредит...
— Бредит, бестия! Как будто благородная!»
Комедия впервые поставлена в 1782 г., до Великой французской революции
еще было семь лет, потому, думается, и Екатерина благосклонно восприни-
мала антикрепостническую критику драматурга. С теми же идеями, правда
более резко и открыто, выступил Николай Радищев («Путешествие из Петер-
бурга в Москву»), но это был уже 1791 г., во Франции пылали дворянские
замки, готовилась казнь короля.
* * *
Общепринятое образование дворянских детей в те дни формировалось на
французской основе. Предпочтение отдавалось французскому языку, а свой
отеческий почти не знали. Пушкин однажды спросил у девочки, читающей
учебники по географии, как называется одна из рек в Сибири, девочка смуща-
ясь ответила: «Женисэ» (Енисей). В бумагах поэта сохранилась неоконченная
повесть «Рославлев». Вот что он сообщает о героине этой повести:
«Полина чрезвычайно много читала... Ключ от библиотеки отца ее
был у ней. Библиотека большею частию состояла из сочинений писателей
Непостижимо, но через двести лет после Екатерины и Петра мы снова подражаем и снова
приходим в ужас (к сожалению, справедливо) от тамошних нравов и готовы повторять за
Сумароковым: «...погибла естественная простота, а с нею чистота сердца». Теперь Запад
предлагает нам более страшные примеры.
221
XVIII века. Французская словесность, от Монтескье до романов Кребильона,
была ей знакома. Руссо знала она наизусть. В библиотеке не было ни одной
русской книги, кроме сочинений Сумарокова, которых Полина никогда не рас-
крывала... Вот уже, слава богу, лет тридцать, как бранят нас бедных за то, что
мы по-русски не читаем и не умеем (будто бы) изъясйяться на отечественном
языке... Дело в том, что мы и рады бы читать по-русски; но словесность наша,
кажется, не старее Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена... В прозе
имеем мы только «Историю Карамзина»; первые два или три романа появились
два или три года назад, между тем как во Франции, Англии и Германии книги
одна другой замечательнее следуют одна за другой».
Конечно, это говорит не Полина, героиня повести, а сам Пушкин. Русская
литература в ее мировом значении появилась у нас только с именем Пушкина.
Он сформировал ее, сформулировал и утончил вкус, придал ей силу, глубину,
изысканность и, я бы сказал, нравственную целомудренность.
Петр Великий посылал русских недорослей на Запад в науку, Екатерина
Великая продолжала эту традицию, а во времена Пушкина появилась уже
довольно многочисленная когорта европейски образованных молодых людей
(«архивных юношей», как с доброй усмешкой называл он их). «Эти люди ода-
рены убийственной памятью, все знают и все читали, и стоит их только тронуть
пальцем, чтобы из них полилась их всемирная ученость».
Но это было уже при Пушкине, в XIX в., а до того? Увы, немало скорбных
заметок найдем мы в бумагах поэта: «Словесность наша явилась вдруг в XVIII
столетии, подобно русскому дворянству, без предков и родословной». В связи с
этим и несколько забегая вперед, мы должны коснуться одного нашедшего
место только в России явления — западничества и славянофильства.
В. А. ЖУКОВСКИЙ (1783—1852)
Русский сентиментализм надо начинать с Карамзина («Бедная Лиза» —
печальная история девушки из народа, обманутой аристократом и утонувшей в
Патриарших прудах) и Жуковского. Его светлые, овеянные легкой грустью
поэмы «Людмила», «Кассандра», «Светлана» чаруют нас прелестью нежных
красок.
Жуковский больше, чем кто-либо из поэтов, приобщил русского читателя к
мировой культуре. В этой области он проделал гигантскую работу. Его класси-
ческие переводы из Байрона («Шильонский узник»), Шиллера, Гете до сих пор
никем не превзойдены.
Мы с детства помним чудесную романтическую сказку «Лесной царь» (пере-
вод стихотворения Гете):
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
Лирический сказовый повтор («Кто скачет, кто мчится...») переносит нас на
русскую почву, в стихию нашей былинной поэзии, и стихотворение иностран-
ного автора становится национально русским под вдохновенной рукой Жуков-
ского. Александр Блок писал: «Жуковский подарил нас мечтой... Оттого он
наш — родной, близкий».
222
Мы до сих пор восхищаемся «Одиссеей» Гомера в русском ее варианте, соз-
данном Жуковским, пусть не так точно передающем дух оригинала, как «Илиа-
да» Гнедича, но волнующем нас русской интонацией.
Жуковский расширил пространство нашей поэзии не только за счет запад-
ноевропейских произведений, он открыл русскому читателю мир Востока.
Личная судьба Жуковского была непосредственно связана с этими контрас-
тами: сын богатого помещика и рабыни турчанки, не осмеливавшейся сидеть в
присутствии господ, он, конечно, болезненно ощущал двойственность своего
положения. Его усыновил живший при доме Бунина дворянин, давший ему
свою фамилию. Не будь этого, он мог бы остаться на положении крепостного.
Униженное положение матери, для которой и он становился барином, господи-
ном, терзало его.
Мягкий, добрый, несколько созерцательный, он принес в русскую поэзию
элегическую грусть. У поэтов XVIII в. она звучала модной игрой в меланхо-
лию, у Жуковского она была искренней и потому задушевной.
Пушкин писал о нем: «Что за прелесть чертовская — его небесная душа».
«Он святой, хотя родился романтиком» (письмо к брату). «Он гений перевода»
(письмо к П. А. Вяземскому).
Пушкин любил Жуковского, всюду возил с собой его портрет, подаренный
ему с известной надписью («Победителю ученику от побежденного учителя»).
Приближенный ко двору, он много помогал поэтам, отеческой заботой он
окружал Пушкина. Поэт по достоинству оценил своего старшего собрата:
Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль...
И. А. КРЫЛОВ (1769—1844)
...книга мудрости самого народа.
Н. В. Гоголь
Книга басен Крылова первым изданием вышла в 1808 г. Ему было в то
время около сорока лет. Современники сразу ощутили обаяние подлинного
таланта. Авторитет Дмитриева, подвизавшегося в этом жанре, явно померк.
Сюжеты басен интернациональны, как и их «мораль». В этом отношении
какой-либо оригинальности от Крылова нельзя было и ожидать. Европейскому
читателю, и русскому в том числе, были тогда известны и почитаемы им басни
французского поэта Лафонтена. Их сопоставляли с французским «оригина-
лом». По этому поводу современник Крылова и внимательный его читатель
писал: «Лафонтен, который не выдумал ни одной собственной басни, почитает-
ся, не взирая на то, поэтом оригинальным». Таким же оригинальным считает
Жуковский и Крылова: «Он рассказывает свободно и нередко с тем милым
простодушием, которое так пленительно в Лафонтене».
С Лафонтеном сравнивает Крылова и А. С. Пушкин:
«Конечно, ни один француз не осмелится кого бы то ни было поставить
выше Лафонтена, но мы, кажется, можем предпочитать ему Крылова. Оба они
223
вечно останутся любимцами своих единоземцев. Некто справедливо заметил,
что простодушие (bonhomie) есть врожденное свойство французского народа;
напротив того, отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое
лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться: Лафонтен и
Крылов представители духа обоих народов».
Несколько слов о «живописном способе выражаться», что так проница-
тельно заметил в Крылове Пушкин.
Басни Крылова в сущности принадлежат еще XVIII в. Там складывался ум
и талант баснописца, там формировался его язык.
Литературный язык XVIII в. значительно отличается от языка XIX в., соз-
данного, прямо надо сказать, Пушкиным. Лексикон наполнился новыми слова-
ми, в нем зазвучала особая элегантность выражений, особое изящество, тон-
кость и гибкость, какие ему придал гений нашего великого поэта. Но что-то
этот язык и утратил (недаром Пушкин жаловался на свое европейское образо-
вание). Язык избавился от известной грубоватости и прямолинейности, но вме-
сте с тем утратил и чрезвычайную меткость и выразительность слова.
Язык Крылова — язык простонародья, каким в XVIII в. говорили и князья.
Пушкина восхищал стих Крылова о муравье: «Он даже хаживал один на пау-
ка». И в наши дни где-нибудь в глубинке мы слышим иногда от какой-нибудь
словоохотливой старушки эту старинную русскую речь. «И, батюшка, да у них
и лен не делен», — скажет она о каких-нибудь подружках. Язык басен Крылова
живописен необыкновенно. Сколько чудесных усечений, дабы не засорять
речь излишними словами:
Любви в помине больше нет,
А без любви какое уж веселье.
Так ведет свой простонародный сказ «дедушка Крылов», как его ласково назы-
вали молодые собратья по перу, да и многоликий тогдашний читатель. Или:
«Мартышка в старости слаба глазами стала», или: «Вороне где-то бог послал
кусочек сыру», или: «Сыр выпал, с ним была плутовка такова», «как говорят,
и петь ты мастерица» и т. д. Мягкий, лукавый, добродушный и выразительный,
я бы даже сказал, картинный русский язык XVIII в. Его мы явно ощутим и в
комедии «Горе от ума».
А. С. ГРИБОЕДОВ (1795—1829)
Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический
характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и
порывы, неизбежные спутники человечества, все в нем было
необыкновенно привлекательно.
А. С. Пушкин
Грибоедов родился в 1795 г., значит, в 1817 г. ему было двадцать два года —
и... меланхолический характер, озлобленный ум? Откуда бы это в молодые
годы? Кажется, причин для тоски не было. По рождению он принадлежал к
старинному дворянскому роду, получил блестящее образование, знал француз-
224
ский, немецкий, английский и итальянский языки, позднее изучал персидский,
арабский, турецкий. Был окружен знатными, богатыми, образованными людь-
ми. Многие из декабристов были его друзьями. Одно время служил под нача-
лом прославленного героя Отечественной войны 1812 г. генерала Ермолова.
Служил в Коллегии иностранных дел. Там с ним познакомился Пушкин после
окончания Лицея.
Однако портрет, нарисованный им, верен: в письмах Грибоедова к при-
ятелю С. Н. Бегичеву не раз мелькали слова: скука, тоска, душевная пустота,
«веселость утрачена» (1820 г.), «налегла на меня необъяснимая мрачность»
(1823 г.), «Мне невесело, скучно, отвратительно, несносно» (1825 г.) и т. д.
Русский физиолог объяснил бы подобные настроения у молодых душ юно-
шеским максимализмом, когда мы нашу любовь, наше увлечение доводим до
обожания, до благоговения, а уж если, не дай бог, заметим хоть маленький
изъян в нашем кумире, легкое отклонение от нашего идеала, как тут же пере-
ходим к неприязни и ненависти.
В немалой степени в настроениях русской молодежи пушкинской поры ска-
зывались и мотивы «мировой скорби», поэтически окрашенные Байроном. К
ним примешивались политические идеи будущих декабристов. Недавний поход
русских войск в Париж, сравнение нравов крепостнической России с либераль-
ными нравами Франции больно ранили патриотические сердца молодых офице-
ров.
Выражением этих чувств стала антикрепостническая тирада Чацкого:
Тот Нестор негодяев знатных,
Толпою окруженный слуг;
Усердствуя, они в часы вина и драки
И честь и жизнь его не раз спасали: вдруг
На них он выменил борзые три собаки!!!
Или вон тот еще, который для затей
На крепостной балет согнал на многих фурах
От матерей, отцов отторженных детей?!
Сам погружен умом в Зефирах и Амурах,
Заставил всю Москву дивиться их красе!
Но должников не согласил к отсрочке:
Амуры и Зефиры все
Распроданы поодиночке!!!
Такое уже давно было немыслимо во Франции, но в России еще почиталось
нормой. В Архангельском, под Москвой, доныне стоит театр вельможи
Н. Б. Юсупова, где актерами были крепостные князя. Все это было живо в дни
Грибоедова. Нам сейчас смешны страхи Фамусова от речей Чацкого, но они
вряд ли смешили тогда читателей комедии: «Уж втянет он меня в беду», «Он
вольность хочет проповедать!» Страхи эти были оправданы: власти пресекали
всякие разговоры об освобождении крестьян, тем более что в отдельных
местах уже возникали восстания и бунты.
Судьба Грибоедова трагична, он погиб в Персии при нападении фанатиков
на русское посольство в 1829 г. в возрасте 34 лет. «Самая смерть, постигшая его
посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного,
ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна» (А. С. Пушкин).
225
Ay, медамы, кавалеры,
И звоны шпор, и веера,
Домов дворянских интерьеры,
И у каминов вечера;
Свечами убранные залы
И разорительные балы,
Кареты, брички, кучера!
Москва фамусовская. Как давно это было! Кроме Мясницкой, Покровки да
нескольких старых особняков и когда-то пышных дворцов, все уже ушло, поза-
былось. Нас волнуют иные мысли, иные страсти, но, придя в театр, в Малый
или Художественный, мы в который раз наблюдаем диковинную для нас, живо
запечатленную в сценических образах эту фамусовскую Москву.
Многое из того, что волновало и бесило одного из ее тогдашних жителей,
красноречивого и запальчивого Чацкого, нас уже не волнует. С крепостниче-
ством давно покончено, молчалины и скалозубы, правда, еще живут, но они
переоделись в наши современные костюмы или в нынешние генеральские мун-
диры, живет и плутоватый Загорецкий и шумный Репетилов, теперь он по
большей части говорит о гласности и демократии и по-прежнему шумит («Шу-
мим, братцы, шумим!»).
Комедия Грибоедова «Горе от ума» бессмертна. В чем же секрет ее вечного
обаяния?
В правде ее сценических героев, не главных (Чацкого и Софьи — о них осо-
бый разговор), а тех, кто их окружает: и Фамусова (типичный портрет москов-
ского чиновника, барина-крепостника с его простодушным эгоизмом), и беспо-
добной Хлестовой, типичный образец московских барынь, и несравненного
Репетилова.
Надо полагать, что в жизни репетиловы несносны, их несуразная болтовня
и бесит и утомляет. Недаром бегут от Репетилова и Чацкий, и Скалозуб, и
Хлестова, но на сцене он великолепен, болтовня его гениальна, мы готовы слу-
шать его без конца. Словом, уж если, дорогой автор, вы хотите изобразить
дурака, поставить его на пьедестал для всеобщего обозрения, так пусть он
будет гениальным дураком, иначе мы не станет на него смотреть: мало ли на
свете дураков. Такова загадка художественного образа.
Изобразительные средства сценического персонажа заключены в его речи.
Язык персонажей «Горе от ума» — язык русского человека XVIII в. В XIX в.
он приобрел гибкость, литературную правильность, но что-то утратил, как
было уже сказано. Не стало уже грубоватой, но колоритной выразительности.
В XIX в. она сохранилась в баснях Крылова. Послушаем Хлестову:
Ух! я точнехонько избавилась от петли;
Ведь полоумный твой отец;
Дался ему трех сажень удалец,
Знакомит не спросясь, приятно ли нам, нет ли?
или: «Не мастерица я полки-то различать». Сравним у Крылова речь лисицы:
«Ежели при красоте такой и петь ты мастерица...» Хлестова: «Я за уши его
дирала...», у Крылова: «И даже хаживал один на паука...».
226
Речь Фамусова так же колоритна. Вот о московских барышнях:
Умеют же себя принарядить
Тафтицей, бархатцем и дымкой,
Словечка в простоте не скажут, все с ужимкой.
Каждый стих гениальной комедии просится в пословицу: «Избавь нас пуще всех
печалей и барский гнев, и барская любовь», «Дома новы, но предрассудки ста-
ры», «Служить бы рад, прислуживаться тошно» и т. д.
* * *
Комедия «Горе от ума» — единственное произведение Грибоедова. Он умер
рано, может быть, проживи он дольше, создал бы еще не один шедевр. А
может быть, и нет. Все, что осталось в его творческом портфеле, вяло-посред-
ственно и недостойно его имени. Он велик одним, но бессмертным произведе-
нием и заслужил памятник, ныне гордо возвышающийся в Москве на Турге-
невской площади.
В оценке пьесы современники резко разбились на два противоположных
лагеря: одни осуждали героя «Горя от ума», другие с восторгом его приняли.
Белинский при всем его таланте часто менял свои взгляды. Его отношение
к пьесе Грибоедова? В знаменитой статье «Литературные мечтания», замечен-
ной Пушкиным, его отзыв восторжен. Но через несколько лет, приняв филосо-
фию примирения с действительностью, провозглашенную Гегелем, он резко
осудил главного героя комедии:
«Это просто крикун, фразер, идеальный шут... неужели войти в общество и
начать ругать в глаза дураками и скотами значит быть глубоким человеком?»
И далее рушилась в глазах критика вся комедия. Это сатира, а сатира — не
искусство. «Горе от ума», в целом, есть какое-то уродливое здание, ничтожное
по своему назначению...»
Словом, бесполезное, хотя и прекрасное в отделке. Таков вывод и, если
хотите, порок тенденциозной критики.
Еще через несколько лет Белинский спохватился:
«...Всего тяжелее мне вспомнить о «Горе от ума», которое я осудил... гово-
рил свысока, с пренебреженьем, не догадываясь, что — это благороднейшее,
гуманическое произведение, энергический (при этом еще первый) протест про-
тив гнусной расейской действительности, против чиновников, взяточников,
бар-развратников... против невежества, добровольного холопства...»
Герцен, Огарев писали о комедии с восторгом, хвалили ее главным образом
за «гражданский образ мыслей». По той же причине ругали ее те, которых
касалась критика Чацкого: князь Голицын, московский генерал-губернатор,
увидел в комедии «пасквиль на всю Москву».
И сторонники Грибоедова и его противники видели в комедии лишь полити-
ческую сторону, гражданскую тему. Противники даже патриотизм Чацкого
назвали «бранчливым».
Комедия ходила в списках, и многими помнилась почти наизусть. Вышла из
печати полностью она значительно позднее, впервые поставлена на сцене в
1831 г. На то дал свое согласие Николай I.
227
Чацкий
Л знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый
малый, проведший несколько времени с очень умным человеком
(именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами
и сатирическими замечаниями.
А.С.Пушкин
Пылкий, благородный, добрый... но умный ли герой комедии Грибоедова?
В последнем качестве Пушкин ему отказывает. Почему? Ведь признает же
Пушкин, что Чацкий говорит «очень умно»? Умно! «Но кому он говорит?
Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это
непростительно».
Значит, Чацкий не сам по себе, он рупор мыслей автора, автора мы видим
и слышим в пьесе. Потому правомочен вопрос Пушкина: «...в комедии «Горе
от ума» кто умное действующее лицо? Ответ: Грибоедов».
Конечно, Грибоедов не стал бы говорить с Фамусовыми, скалозубами и
мол чал иными так, как говорит с ними в его комедии Чацкий. Но то в жизни, на
сцене же — совсем другое. Правда жизни и правда искусства — не одно и то же.
Здесь мир условностей, и все столкновения молодого героя с выразительными
персонажами пьесы — повод для сатирических инвектив автора. Главное в них,
в этих горячих, красноречивых выпадах против царящих нравов. Чацкий вос-
стал против «образа жизни». В этом весь смысл его поведения.
Однако почему Пушкин заговорил прежде всего об уме Чацкого? Потому,
что пьеса-то называется «Горе от ума». Будь Чацкий поглупей, никаких траге-
дий, видимо, с ним не произошло бы. Но в уме ли все дело? К тому же кто в ней
глуп? Фамусов? Нисколько. Он умен и даже очень. Он знает, к примеру, что
говорить со Скалозубом столь откровенно, как это делает Чацкий, нельзя. Не
поймет, бог знает что подумает. Он наделен житейской мудростью, способной
в его дни и в его мире обеспечить жизненные блага.
Глупа ли Хлестова? Нисколько. Она прекрасно понимает подлую душу
Подгорецкого, видит всю его подноготную, да и фигура Молчалина ей вряд ли
непонятна. Она принимает лесть Молчалина благосклонно, но и с известным
презрением. Он для нее так же ничтожен, как и уродливая арапка. Хлестова
умна и со строгой волей. Скалозуб ей сразу ясен со всей его фанфаронской
трескотней. («Дался ему трех сажень удалец».) Умна хорошим, природным
умом служанка Лиза, умна и проницательна («избавь нас пуще всех печалей...»).
Совсем не глуп Молчалин. Он подл, скорее жалок, низок. Он помнит, знает
свое место в том самом обществе, к которому по рождению принадлежит Чац-
кий («в чинах мы небольших»), а это очень важно в той обстановке, в которой
он жил, и не позволяет себе ни на минуту забыться.
Молчалина мы увидим на русской сцене через несколько десятков лет,
столь же услужливого, столь же подлого, но наделенного саркастическим умом
Чацкого. Драматург Александр Островский слил эти два образа воедино в
комедии «На всякого мудреца довольно простоты». Это небезызвестный Глу-
мов.
Словом, дело не в уме Чацкого, не от него он страдает, не в нем его горе.
228
Все эти жалкие персонажи, что окружают в комедии главного героя, ценят
его ум.
...захоти, так был бы деловой.
Жаль, очень жаль, он малый с головой,
И славно пишет, переводит.
Нельзя не пожалеть, что с эдаким умом...
Это говорит о нем Фамусов, и вряд ли кто-нибудь из присутствующих в его
доме лиц стал бы оспаривать это суждение.
Не ум, а нравственные принципы глухой стеной отделяют от Чацкого мир
Фамусова, те его качества, на которые указал Пушкин: он «пылкий, благород-
ный, добрый малый». Послушав лакейские рассуждения Молчалина, Чацкий
потрясен, как может Софья не видеть нравственного уродства этого человека:
С такими чувствами, с такой душою
Любим!
Не будем обвинять Софью. Ослепленная любовью, которая преображает
все, она видит в любимом человеке только скромность, только добрую душу,
застенчивую и отзывчивую, в Чацком же после долгой разлуки отметила высо-
комерную гордость и злобу, недоброжелательность к людям вообще.
Итак, что же такое Чацкий, русский молодой человек первой четверти
XIX в. Чтобы понять его, понять самого автора и вообще весь сложный клубок
конфликтов театрального представления, необходимо оглянуться назад, на
историческую действительность той поры и предшествующей ей эпохи, и не
только России, но всего тогдашнего мира.
Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим.
И. А. Гончаров
Пожалуй, лучшую критическую статью о комедии Грибоедова написал в
70-х гг. прошлого столетия писатель И. А. Гончаров («Мильон терзаний»). Он
увидел в Чацком провозвестника нового века, отважного борца с отжившим и
отживающим, обличителя пороков ушедшего, «прошедшего житья подлейшие
черты», но еще цепляющегося за жизнь старого века.
Я сказал, что А. Островский в Глумове соединил черты Молчал ина и Чац-
кого — лакейство, приспособленчество первого и наблюдательный, острый и
беспощадный в оценках ум второго. Однако у грибоед овского героя было одно
бесценное качество, которого не было ни у Молчалина, ни у его смелого и без-
гранично циничного последователя Глумова, — честность, глубокая порядоч-
ность и широта зрения, позволяющая ему отвлекаться от собственных бед и
болеть душой за общие, народные, человеческие дела.
Конфликт между Чацким и Фамусовым (будем считать их главными антаго-
нистами) состоит вовсе не в споре ума и глупости, а в коренном различии их
политических, социальных и нравственных позиций.
Те, кто знакомы с французской литературой XVII столетия, вспомнят,
229
глядя на Чацкого, пьесу Мольера «Мизантроп» и ее героя, смешного и несчаст-
ного Альцеста, вздумавшего переделать мир и человека. Сходство большое.
Чацкий недоволен всем и вся и так же, как и мольеровский герой, хочет бежать
от людей:
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок.
Мольер осмеял пороки века, но без ожесточения и запальчивости, сослав-
шись на вековечные слабости человеческой натуры.
Прошу вас, пощадим природу человека,
Не должен быть наш суд над ближними суров,
Отпустим людям часть их маленьких грехов, —
говорит оппонент Альцеста Филинт. Альцест не принял философию примире-
ния с несовершенством мира. Не принял эту философию и Чацкий— Мольер
никак не хотел ссориться со своим веком, и мы видим в его пьесе определенную
симпатию к незлобивому снисходительному Филинту. Свою симпатию к нему он
зашифровал в самом имени его: филинт — греч. любящий. Он полон симпатии
и к Альцесту (ведь он честен, благороден, но слишком нетерпим к недостаткам
людей, и с этим не согласен драматург). В те времена драматурги давали своим
сценическим персонажам имена с подтекстом, и имя мизантропа Альцест
можно перевести с греческого как «язвительный», «желчный».
Не обошел эту традицию и Грибоедов и дал своему герою имя Чацкий (чад,
чадящий). Есть ли в наименовании частичка осуждения, трудно сказать. Ско-
рее, нет.
А. С. ПУШКИН
Пушкин — это наше все.
Ап. Григорьев
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья.
А. С. П у ш к и н
Эта строка многое объясняет в личности великого поэта. Он не отрекся от
дел житейских, он не посвятил свои дни искусству, он не отдал себя до конца
своему творчеству в угоду нам, наслаждающимся плодами его фантазии и
музыкой его стиха, — он жил обычной жизнью человека, и в этом заключалась
мудрость. У его друзей-декабристов, когда до их «каторжных нор» дошла
страшная весть о его трагической кончине, возник спор о том, правильно ли
они сделали, что не вовлекли его в свое общество.
«Он бы остался жить, он был бы сохранен для России», — говорили одни;
другие возражали, как его друг Иван Иванович Пущин. «Размышляя тогда и
теперь очень часто о ранней смерти друга, не раз я задавал себе вопрос: «Что
230
было бы с Пушкиным, если бы я привлек
его в наш союз и если бы ему пришлось
испытать жизнь, совершенно иную от той,
которая пала на его долю?»
Вопрос дерзкий, но мне, может быть,
простительный... Положительно, сибир-
ская жизнь, та, на которую впоследствии
мы были обречены в течение тридцати лет,
если бы и не вовсе иссушила его могучий
талант, то далеко не дала бы ему возмож-
ности достичь того развития, которое, к
несчастью, и в другой сфере жизни несвое-
временно было прервано.
Характерная черта гения Пушкина —
разнообразие; не было почти явления в
природе, события в обыденной и обще-
ственной жизни, которые бы прошли мимо
его, не вызвав дивных и неподражаемых
ЗВУКОВ его ЛИры; И ПОЭТОМУ ПрОСТОр И СВО- А с Пушкин. Портрет работы Оре-
бода, ДЛЯ ВСЯКОГО Человека бесценные, ДЛЯ ста Кипренского.
него были сверх того могущественнейшими
вдохновителями. В нашем тесном и душном
заточении природу можно было видеть
только через железные решетки, а о живых людях разве только слышать».
Пушкин жил часто очень беспечно и, жизнь «тратя без внимания», всем
своим существом отдавался ее зовам и так же пылко откликался на них своей
изумительной поэтической душой.
Прощание с XVIII веком
Старик Державин нас заметил...
А.С.Пушкин
В то знаменитое утро, когда пятнадцатилетний поэт прочитал свои «Воспо-
минания в Царском Селе», ушел в прошлое XVIII век и наступил век XIX —
блистательный, открывший перед Россией двери в мировую культуру, заста-
вивший мастеров мирового искусства посторониться, уступая место русским.
Пушкин и его поколение прощались с XVIII веком. Пушкин тихо и благого-
вейно закрывал за ним дверь. В его стихотворении еще живет этот век. Русский
классицизм — пышный, помпезный, важный. Перед нами парадные портреты
Екатерины Великой и лиц ее окружения: «Когда под скипетром великия жены
венчались славою счастливая Россия», «Бессмертны вы вовек, о росски исполи-
ны!» «Орлов, Румянцев и Суворов!» и, конечно, Державин, «скальд России
вдохновенный».
В стихотворении — торжественная лексика XVIII в., слова «выя», «нощь»,
231
«росс», «зрак», «воззри». Они в последний раз прозвучат в поэзии Пушкина и
никогда уже не вернутся в нее.
Пушкин использовал жанр торжественной оды. Так писали в России Ломо-
носов и Державин. Во Франции в век абсолютизма — Малерб и Корнель.
Но в той же оде, в которой еще живет XVIII век, эстетически облагорожен-
ный несравненным талантом Пушкина, уже обозначил свои черты новый,
XIX век: поистине волшебное описание царскосельских парков (такой кистью
не обладал никто в XVIII в.), и страстный отклик на события 1812 г., и роскошь
и богатство уже нового лексикона, нового литературного языка России, кото-
рый дошел до нас, живет и ныне в первозданной свежести, подхваченный Лер-
монтовым, Толстым, Тургеневым; язык, который мы ныне портим, перемеши-
вая его с иностранными речениями и грубыми нравами наших дней.
Не пропускайте ничего, что может сделать вас великим.
Стендаль. (Из дневника Делакруа)
Интереснейшее занятие для историка — это изучение того, как формирова-
лась выдающаяся личность. Нас формирует среда (семья, школа, друзья, боль-
шие и мелкие события нашей жизни как общества, в котором мы живем, так и
ближайшего окружения), но с тех пор как появилась письменность, наш духов-
ный облик формируют книги.
Умирая в своей последней квартире на Мойке в Петербурге, на диване у
полок с книгами, Пушкин прощался с книгами как со своими друзьями. От него
осталась большая библиотека, она сохранилась,.может быть не полностью (не
осталось ни одного экземпляра собственных его произведений). Ученые-пуш-
кинисты тщательно изучают читательские интересы великого поэта, делают
верные, а то и вздорные выводы. Нам, пожалуй, важнее другое: круг чтения
поэта, то, что формировало его эстетический вкус, его духовный мир.
Скажу прямо, мы входим в мировую литературу.
ГОМЕР
Для Пушкина, для его современника и для всей России перевод Гнедичем
«Илиады» Гомера имел поистине общенациональное культурно-познаватель-
ное и художественное значение. За работой Гнедича следили друзья. В письмах
Пушкина часто встречаем мы имя великого старца Древней Греции.
«...Что вы делаете, что делает Гомер? Давно не читал я ничего прекрасно-
го», — пишет он знаменитому переводчику из Кишинева в мае 1823 г. Придя в
восторг от одной стихотворной строки самого Гнедича, он жалуется брату:
«...Гнедич перебивает у меня лавочку — Увы, напрасно ждал тебя жених
печальный... — и пр. — непростительно прелестно. Знал бы своего Гомера, а
то и нам не будет места на Парнасе».
«Брат говорил мне о скором совершении вашего Гомера. Это будет первый
классический, европейский подвиг в нашем отечестве... Но, отдохнув после
Илиады, что предпримете вы, возмужав во храме Гомеровом, как Ахилл в вер-
232
тепе Кентавра? Я жду от вас эпической поэмы. Тень Святослава скитается не
воспетая, писали вы мне когда-то. А Владимир? а Мстислав? а Донской? а
Ермак? а Пожарский? История народа принадлежит поэту», — пишет Пушкин
Гнедичу из Михайловского.
Его волнуют образы русской истории. Он читает Карамзина, занят Годуно-
вым. Пример Гомера зовет воспеть героическую русскую древность. «История
народа принадлежит поэту!» — заявляет он.
Пушкин снова и снова в своих письмах возвращается к Гомеру и Гнедичу,
понимая историческое значение его труда: «Гнедич в тиши кабинета свершает
свой подвиг» (из Михайловского Бестужеву, 1825 г.).
Наконец «Илиада» вышла в свет. В 1830 г. Пушкин ее приветствовал:
«...Вышел в свет так давно и так нетерпеливо ожиданный перевод Илиа-
ды... с чувством глубоким уважения и благодарности взираем на поэта, посвя-
тившего гордо лучшие годы жизни исключительному труду, бескорыстным
вдохновениям и совершению единого, высокого подвига. Русская Илиада перед
нами».
Как благородно, как возвышенно и поэтично звучит приветствие Пушкина
в стихах:
С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали,
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.
Пушкин не знал древнегреческого языка и не мог читать греческих поэтов
в оригинале, но интуитивно проникал в самую сущность духа этой поэзии, не
доступной подчас и специалистам. И главное, что постиг, принял и, если можно
так сказать, приобщил к себе, — это чувство меры, дух гармонии и высших
принципов красоты, столь характерных вообще греческой культуре. Пре-
красен перевод Гнедичем «Илиады» Гомера, но мы явно ощущаем все-таки
налет стилизации. Пушкин льстил переводчику, когда восторженно писал:
Слышу умолкнувший глас божественной эллинской речи,
Старца великого тень чую смущенной душой.
Первозданная гомеровская Греция предстает нам в этих несравненных пуш-
кинских гекзаметрах, а между тем это и пушкинский лексикон («божествен-
ный», «смущенной душой», «умолкнувший»).
Поэтическое воображение Пушкина рисовало ему прекрасные и верные
картины классической древности. Дух красоты! Неувядаемый цветок античной
цивилизации!
Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила,
К ней наклонясь на плечо, юноша вдруг задремал,
Дева тотчас умолкла, сон его легкий лелея,
И улыбалась ему, тихие слезы лия.
Не Гомер ли это написал, не его ли чуткая душа все поняла, все возвысила и нас
приобщила к этой нравственной чистоте? Картина вечная, вечные чувства!
Вечная красота юности и любви! Но создал ее собрат великого грека, столь же
одаренный русский поэт Александр Пушкин!
233
ДАНТЕ
Зорю бьют, из рук моих
Ветхий Данте выпадает,
На устах начатый стих
Недочитанный затих —
Дух далече улетает.
А.С. Пушкин
Пушкин понимал великое значение Данте для итальянского народа, пони-
мал, что он стоит в одном ряду с Шекспиром и Сервантесом, писателей в «на-
родной одежде». Он перевел несколько терцин из «Ада» («И дале мы пошли —
и страх обнял меня»), передав простонародную, грубоватую речь итальянской
улицы XIV в., так колоритно, выразительно звучавшую в стихах Данте. Он
выразил восхищение «Божественной комедией», оценив в ней план, саму кон-
струкцию поэмы. Вызывала сочувствие русского поэта трагическая судьба
великого флорентийца (изгнанник, печальный странник, тоскующий по роди-
не). Невольно примешивались к этому и мысли о собственной судьбе (ссылка
в Кишинев, Михаиловское).
В его воображении Данте рисовался как фанатичный, угрюмый, «суровый»
поэт. Сам же Пушкин был чаще всего весел, беспечен, легко и щедро рассыпал
дары своего таланта.
В интеллектуальном и эстетическом своем формировании Пушкин пользо-
вался «уроками» сурового поэта.
ШЕКСПИР
У меня кружится голова после чтения Шекспира. Я как будто смо-
трю в бездну.
А.С. Пушкин
В лицее Пушкин вряд ли мог оценить Шекспира. Образование лицеистов
строилось в основном на французских литературных образцах. Шекспира
могли читать в прозаических переводах Летурнера, уже устаревших, изданных
во Франции еще в 70-х гг. XVIII в. Автор учебника, которым пользовались
лицеисты, Лагарп отзывался об английском драматурге самым уничижитель-
ным образом:
«Народу, имеющему Корнеля, Расина и Вольтера, в качестве образца дра-
матического искусства предлагают писателя-варвара, жившего в варварский
век, в чудовищных пьесах которого можно найти лишь несколько талантливых
черт, рассеянных в целом, лишенного здравого смысла и правдоподобия».
Настоящее знакомство Пушкина с Шекспиром состоялось позднее, уже в
Кишиневе и потом в Михайловском. Теперь восторгам не было конца: «...но
что за человек этот Шекспир! — Не могу прийти в себя. Как мелок по сравне-
нию с ним Байрон-трагик! (Напомню, сам Байрон полагал, что Шекспир погу-
234
бил английский театр.) «Читайте Шекспира (это мой припев)», — настаивал
Пушкин в письмах к друзьям.
В работе над «Борисом Годуновым» в какой-то степени использован опыт
Шекспира (вопросы ремесла занимают и великих мастеров).
Пушкин признавался: «...я расположил свою трагедию по системе отца
нашего Шекспира...» и далее: «Шекспиру я подражал в его вольном и широком
изображении характеров, в небрежном и простом сопоставлении типов».
Однако никаких следов шекспировских «хроник» в «Борисе Годунове» мы
не найдем. Здесь всюду, в каждой реплике, в каждом типе, в самой речи персо-
нажей царит русский дух.
Особенно восхитила Пушкина смелость Шекспира: он не боялся скомпроме-
тировать своих героев, т. е. широкими мазками рисовал как положительные их
черты, так и отталкивающие. Вспомним «Ричарда III» — злодея, сила харак-
тера и ум которого нас невольно покоряют.
Читать Шекспира в оригинале Пушкин мог уже в 1828 г., когда достаточно
изучил английский язык. Поэт к этому времени отверг французские образцы,
принятые в школьные годы. И Корнель, и Расин, и даже Мольер кажутся ему
теперь чопорными, натянутыми, припомаженными и одномерными. Он писал:
«У Мольера Скупой скуп — и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив,
мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера Лицемер волочится за женой
своего благодетеля — лицемеря; принимает имение под сохранение, лицемеря;
спрашивает стакан воды, лицемеря. У Шекспира Лицемер произносит судебный
приговор с тщеславною строгостью, но справедливо; он оправдывает свою
жестокость глубокомысленным суждением государственного человека; он обо-
льщает невинность сильными, увлекательными софизмами, не смешною
смесью набожности и волокитства».
Пушкин нашел в Шекспире глубину мысли и яркую выразительность.
Школа Вольтера
С сочинениями Вольтера Пушкин познакомился еще в детстве в библиотеке
отца и потом всю жизнь читал его. Говорить о власти Вольтера над молодым
умом поэта вряд ли возможно. Он рано заметил слабости своего кумира, но
обожал его бесконечно. Перо Вольтера любила Екатерина Великая, как она
сама признавалась даже в годы великого потрясения во Франции. Она писала
тогда, что Вольтер осудил бы ту сумятицу и те жестокости, которые соверша-
лись тогда в Париже. Перо Вольтера любил король прусский Фридрих П. Не
думаю, что эти коронованные особы лицемерили. Симпатии к Вольтеру были
искренние. Вольтер был одним из самых трезвых умов в стане просветителей
и к тому же весел, остроумен и обладал необыкновенным даром самые слож-
ные вещи разъяснять с покоряющей простотой и ясностью, доступной всем и
каждому.
Пушкин прошел школу Вольтера. Эта школа прежде всего научила его
трезво мыслить, подвергать все критическому анализу. Нотка скепсиса звучит
в самых пылких, самых интимных стихах Пушкина, и это от Вольтера. Скепсис
Вольтера уберег русского поэта от аффектации, которой грешили и грешат
многие поэты.
235
К Вольтеру Пушкин возвращается постоянно. Он перевел его стансы («Ты
мне велишь пылать душою»), первые строфы «Орлеанской девственницы»,
сопровождая его имя не всегда лестными эпитетами: «фернейский злой кри-
кун», «циник поседелый, умов и моды вождь, пронырливый и смелый», «еще в
ребячестве бессмысленно лукавом я встретил старика с плешивой головой». И
всегда ко всем критическим отзывам о Вольтере можно прибавить его же, пуш-
кинское признание: «хоть я его и очень люблю».
* * *
В стихотворении «Городок» Пушкин описывает свою книжную полку. Она
обширна и очень насыщена для шестнадцатилетнего поэта, каким был он,
когда писал это стихотворение. Здесь русские и иностранные авторы. Из рус-
ских — Карамзин, Крылов, Державин, а больше все иностранцы: Вергилий,
Овидий, преимущественно французы и первый из них Вольтер.
Так формировался ум нашего великого поэта.
Мы постарели со времен Пушкина. Многое из того, что волновало его
поколение, позабыто или утратило интерес для нас. Забылись имена, события.
Время идет, меняется облик вещей, у нас свои заботы. Но Пушкина мы читаем,
пожалуй, больше, чем его современники. Фактор времени действует в обрат-
ном направлении, оно возвеличивает Пушкина («Большое видится на рассто-
янии!»). И все, что связано с ним, с Пушкиным, приобретает для нас неожидан-
ный интерес. Имена, забытые или еще живые в исторической памяти, собы-
тия, не оставившие следа или круто изменившие мир, даль веков, прошедшая
через воображение поэта, — все становится важным, достойным нашего вни-
мания, и подчас только потому, что отразилось в емкой строке Пушкина. Ино-
гда это только меткое слово, занесенное его рукой на бумагу, иногда лишь еди-
ножды упомянутое имя человека, какими-то судьбами дошедшее до Пушкина,
но все, все вводится в степень от одного лишь этого упоминания, от одного при-
косновения его пера.
Раскрывать значение намека, случайно оброненного слова или строго про-
думанного эпитета — значит раздвигать границы нашего постижения поэзии и
личности Пушкина. Обычный комментарий здесь уже полон художественного
значения, ибо это комментарий к самой прекрасной, самой изысканной и утон-
ченной и вместе с тем самой общедоступной поэзии, когда-либо звучавшей на
русском языке.
Эстетическое и жизненное кредо
Еще в юности Пушкин установил для себя четкие принципы поэтического
мастерства и придерживался их всю жизнь. Читаем его письмо из Кишинева к
П. А. Плетневу. Он с обычной для него доброжелательностью хвалит своего
собрата по перу, но в его комплиментах явно намечена собственная эстетичес-
кая программа.
«Чувство изящного» — пожалуй, для Пушкина это одно из главных
достоинств всякой творческой личности. В его стихах мы не найдем ничего гру-
бого, беспардонного. Все отмечено тонким вкусом, особым тактом, не допус-
236
кающим пошлости, грязных намеков, шокирующих ассоциаций даже в самых
откровенных картинах и сюжетах. (Сколько изящества в его «Гаврилиаде»!)
«Поэтическая точность, благородство выражений, стройность, чистота в
отделке стихов». — Именно этого добивался поэт, работая над стихом.
И в целом — «гармония». — Мы знаем Пушкина как самого гармоничного
поэта. Гармония, иначе говоря уравновешенность, не допускающая экстре-
мизма чувств.
Ну а если говорить о нравственной стороне литературы, то — «чувства доб-
рые». Это он поставит себе в заслугу в конце жизни в своем «Памятнике». Это
святая святых. Искусство не может, не должно вызывать дурных инстинктов и
покровительствовать злу. («Гений и злодейство — две вещи несовместные».)
* * *
Тогда же двадцатитрехлетний Пушкин сложил и свою программу взаимоот-
ношений с обществом. В ней явно проглядывает и мизантропия Ларшфуко, и
скептицизм Вольтера, и житейская мудрость Шекспира. (Наставления Поло-
ния сыну Лаэрту.)
Пушкин по праву старшинства поучает брата:
1. В малознакомых людях подозревать дурное и вряд ли ошибешься.
2. Не поддаваться добрым порывам своего сердца — можно оказаться обма-
нутым и одураченным.
3. Презирать окружающих, сохраняя вежливость.
4. Держаться несколько отстраненно от всех, не позволять себе фамильяр-
ности, особенно с вышестоящими, они этого никогда не простят и постараются
рано или поздно тебя унизить.
5. Не принимать благодеяний и одолжений — это ведет к зависимости и уни-
жает.
6. Не быть слишком услужливым, это примут за низость души и станут пре-
зирать. Людям свойственно судить о других по себе.
7. Не слишком полагаться на дружбу, всегда возможно разочарование.
8. О женщинах. Чем меньше их любишь, тем больше шансов на их любовь.
9. Не прощать оскорблений, но и не отвечать оскорблениями на оскорбле-
ние.
10. Не говорить много. Молчание более весомо.
11. Не стараться скрыть свои недостатки, когда они очевидны, иначе
будешь выглядеть смешным. Лучше открыто говорить о них. Ценят больше
цинизм, чем притворство.
12. Не делать долгов. Лучше как-то перебиться.
Пушкин прибавляет, что правила эти приобретены им «ценой горького
опыта». Так ли? Напомним: ему было только 23 года.
237
...Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель!
Пушкин всегда рядом с читателем. Он доверительно с ним беседует, «вы-
балтывает» свои тайные и нетайные мысли, иногда подшучивая над собой или
над кем-нибудь из своих приятелей или известных в обществе лиц, но всегда
полон уважения к нам, к его читателям, всегда готовый тонко нам польстить.
Ведь смотрите, как сказал он: «Или блистали...» Мы блистали... Кому же не
приятно «блистать»?
Без читателей нет поэта. Литературе нужен ее ценитель. Образованному
автору нужен образованный читатель. Пушкин поэт народный, т. е. он досту-
пен всем, владеющим элементарной грамотой, но не каждый может с ним гово-
рить на равных, не каждый может быть для Пушкина интересным собеседни-
ком, с которым он говорил бы, не поясняя каждое свое слово. Он мог сказать:
«переимчивый Княжнин». Образованному читателю не нужно было разъяс-
нять, почему Княжнин «переимчивый». Он мог сказать: «летит как пух из уст
Эола». Кто такой Эол? Современник понимал его с полуслова, но современник
образованный.
Потому, говоря о Пушкине, следует сказать и о его читателях, без них бы
Пушкин не состоялся, его талант просто не был бы востребован. Мы знаем
друзей Пушкина. Их немного. Они понимали каждый его намек, могли с ним
спорить и восхищаться, поощряя его, «подпитывая» его талант. Но кроме них
был еще «большой свет», не только социальная, но и культурная элита. Пуш-
кин иронизирует, говоря об образовании Онегина, но ведь очень образован его
герой: «бранил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита», он мог «потолко-
вать о Ювенале».
Прочел он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора...
Прочел скептического Беля,
Прочел творенья Фонтенеля,
Прочел из наших кой-кого.
Читал он от горя и от скуки, но читал серьезных авторов, которых читал
сам Пушкин, которых читали посетители дворянских салонов «большого све-
та».
Пушкин посещает салоны дочери полководца Кутузова Елизаветы Михай-
ловны Хитрово и ее дочери Фикельмон, где находила отклик «вся животрепе-
щущая жизнь, европейская и русская, политическая, литературная и обще-
ственная», как писал о том поэт и друг Пушкина П. А. Вяземский.
Словом, Пушкина окружала высокообразованная, тонко чувствующая
поэзию среда. Ни один гениальный мастер не может появиться там, где нет
настоящих ценителей его таланта. Пушкин был гениален, но у него была и
достойная его аудитория. Как известно, Пушкин был сослан в Бессарабию за
оду «Вольность». Примечательно, что в письме министра иностранных дел
графа Каподистрия к генералу Инзову содержалась такая характеристика его
поэзии: «...Несколько стихотворений и особенно ода к свободе обратили вни-
238
мание правительства на г-на Пушкина. Это последнее обнаруживает, наряду с
величайшими красотами содержания и стиля (подчеркнуто мною. — С. Л.),
опасные принципы, почерпнутые из современных учений или, лучше сказать,
из той системы анархии, которую недобросовестность называет системой прав
человека, свободы и независимости народов».
Друзья Пушкина Вяземские рассказали П. И. Бартеневу, первому биографу
поэта, нижеследующий эпизод: И. В. Васильчиков в 1818 г. сказал Петру
Чаадаеву (последний был его адъютантом. — С. А.): «Вы любите словесность.
Не знаете ли вы молодого Пушкина? Государь желает прочесть его стихи,
ненапечатанные». Чаадаев передал о том Пушкину и с его согласия отдал
Васильчикову «Деревню», которая отменно полюбилась государю (была пере-
писана самим Пушкиным, разумеется, с его последними стихами, которые
долго не разрешались к печати).
Много писали о слежке за Пушкиным со стороны властей, но будем все-
таки справедливы; даже в донесениях агентов III Отделения проглядывает
своеобразная забота о великом поэте.
«Известный Соболевский (молодой человек из московской либеральной
шайки) едет в деревню к поэту Пушкину и хочет уговорить его ехать с ним за
границу. Было бы жаль. Пушкина надобно беречь как дитя. Он поэт, живет
воображением, и его легко увлечь. Партия, к которой принадлежит Соболев-
ский, проникнута дурным духом...»
(Донесение от 23 августа 1827 г.)
Современники Пушкина восхищались его талантом, несравненной пре-
лестью его легкого подвижного стиха. Широкая молодежь — романтическими
картинами его ранних поэм.
Жуковский первый признал гениальность Пушкина, угадав еще в мальчике
признаки великого дарования. «Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь
вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет», — писал он в
1815 г. Вяземскому, когда юному поэту едва минуло пятнадцать лет. «Чудный
талант! Какие стихи! Он мучит меня своим даром, как привидение!» — писал он
через два года.
В те же годы П. А. Вяземский писал К. Н. Батюшкову: «Что скажешь о
сыне Сергея Львовича? Чудо и все тут... Какая сила и точность в выражении,
какая твердая и мастерская кисть в картинах. Дай Бог ему здоровья и умения,
и в нем урок и горе нам. Задавит, каналья!»
Жуковский, который чуткой душой понимал характер Пушкина, писал ему:
«Ты сам себя не понимаешь; ты только бунтуешь, как ребенок, против не-
счастья, которое само не что иное, как плод твоего ребячества» (сентябрь
1825 г.).
Какова же эта среда, в которой расцветал талант Пушкина? Кто был его
слушателем и ценителем? Прежде всего это друзья лицеисты, и уже известные
тогда литераторы Жуковский, Гнедич, Крылов, и московские и петербургские
гостиные, где охотно его слушали и похвалами питали его духовные силы.
Когда мы что-нибудь творим, мы нуждаемся в поощрении. Вот семья графа
Ивана Степановича Л аваля. Французский эмигрант, он поступил на русскую
службу, женился на русской, стал отцом четырех дочерей и одного сына. Его
дом на Английской набережной был гостеприимен. В 1819 г. Пушкин читал
239
там свою оду «Вольность». Это было рискованно и для поэта и для хозяина
салона, всем было ясно, что речь в ней идет об убийстве Павла I, что «грозно
спящий средь тумана, пустынный памятник тирана, забвенью брошенный дво-
рец» — это опустевший дом, ныне Инженерный замок, в котором был убит
Павел, что
в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх...
Это — братья Зубовы и с ними тень самого Александра I, невольного соучаст-
ника кровавой акции. Вряд ли это могло нравиться царствовавшей тогда особе,
и только снисходительным либерализмом царя можно объяснить довольно мяг-
кую меру наказания, какую тогда применили к поэту (ссылка на юг). В наш век
такие вольности стихотворцам не прощались и карались жестоко.
Пушкин — частый гость дома Карамзиных. С Николаем Михайловичем
историком он не всегда дружил, хоть и ценил его бесконечно, зато обожал дру-
жески и целомудренно его супругу, Екатерину Андреевну. Ей он поверял мно-
гие свои печали и беды. Это был умный и верный друг. О гибели Пушкина она
сообщала сыну своему Андрею: «Пишу к тебе с глазами, наполненными слез,
а сердце и душа тоскою и горестью; закатилась звезда светлая, Россия потеряла
Пушкина».
Она выразила мнение о Пушкине его современников, его читателей.
«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
Прелесть поэмы Пушкина, неувядаемая ее свежесть заключалась в лукав-
стве, детской веселости рассказа о чудесах, которые мы воспринимаем как
увлекательную игру воображения, нисколько не требуя от рассказчика правдо-
подобия, с наслаждением вникаем в веселую, умную и непритязательную бол-
товню его. Никакого, конечно, исторического колорита времен Древней Руси
нет, да его и не должно было бы быть, иначе нарушился бы весь строй поэмы.
Людмила отнюдь не похожа на княжну времен Владимира, это скорее
барышня пушкинской поры, ну а если обращаться к мировым литературным
образам, то это Розина из «Севильского цирюльника» Бомарше — Россини.
Чего стоят стихи, рассказывающие о всем известной и милой слабости женщин
постоянно видеть себя и любоваться собой:
Что если женщина в печали
Сквозь слез, украдкой, как-нибудь,
Назло привычке и рассудку,
Забудет в зеркало взглянуть, —
То грустно ей уж не на шутку.
Сколько прелести и очарования в картине садов Черномора! Перед нами
сказочный юг с роскошной растительностью, фонтанами, солнцем, с пением
птиц.
240
В саду. Пленительный предел:
Прекраснее садов Армиды
И тех, которыми владел
Царь Соломон иль князь Тавриды...
Читатель, конечно, должен знать, кто такая Армида, ведь он читал поэму
итальянца Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» и запомнил волшеб-
ницу Армиду, ее роскошные сады, где христианский рыцарь Ринальдо заснул и,
разбуженный волшебницей, влюбился в нее. Пушкин играет этими литератур-
ными реминисценциями, обращаясь к людям своего круга, образованными
начитанным. Его поэма пестрит именами персонажей мировой литературы,
мировой культуры. И вместе с тем никакой учености, книжного педантизма:
...зыблются, шумят
Великолепные дубровы;
Аллеи пальм, и лес лавровый,
И благовонных миртов ряд,
И кедров гордые вершины,
И золотые апельсины
Зерцалом вод отражены...
Пушкин не может остановиться, он любуется миром: как прекрасен этот
мир! И герои его поэмы будут счастливы, мы это знаем, ну а пока поэт нам
предлагает понаблюдать за их сказочной судьбой, перипетиями событий. Вот
юная княжна одна в саду; похищенная бородатым Черномором, что поделы-
вает она?
Высокий мостик над потоком
Пред ней висит на двух скалах;
В уныньи тяжком и глубоком
Она подходит — ив слезах
На воды шумные взглянула,
Ударила, рыдая, грудь,
В волнах решилась утонуть...
Ну-ну, прелестная княжна, неужели бросишься в воду, неужели решишься?
Улыбается Пушкин, улыбаемся мы, предвидя отнюдь не трагическую развяз-
ку:
Однако в воды не прыгнула
И дале продолжала путь.
Но как бы ни было горько и печально, жизнь требует пищи не только
духовной, но и материальной:
Обед роскошный перед ней...
Но втайне думает она:
«Вдали от милого, в неволе,
Зачем мне жить на свете боле?
Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов!»
Подумала и стала кушать.
241
Господи, как же прелестна эта милая непоследовательность, эта естествен-
ная слабость в женской натуре!
Черты французского рококо XVIII в. со стихами Парни, с картинами Буше,
с эротическими сценами из «Орлеанской девственницы» Вольтера угадыва-
ются в стихах поэмы.
Пушкин с шаловливой витиеватостью объясняет читателю, почему он
обвенчанную с Русланом Людмилу называет еще княжной и девой, когда надо
было бы уже назвать ее княгиней и женщиной:
• Я вижу: тайная слеза
Падет на стих мой, сердцу внятный,
Ты покраснела, взор погас;
Вздохнула молча... вздох понятный!
Эротические намеки: мы помним, что Людмила была вырвана их рук Русла-
на, едва он коснулся ее, так и не став ее супругом. Пушкин смеясь (да-да, сме-
ясь) рисует и комментирует трагикомическую сцену, когда, казалось, долго-
жданное счастье наступило, когда... вот-вот мгновенье, и он насладится своим
счастьем:
Но после долгих, долгих лет
Обнять влюбленную подругу,
Желаний, слез, тоски предмет,
И вдруг минутную супругу
Навек утратить... о друзья,
Конечно, лучше б умер я.
Современные критики обвиняли поэта в книжности. Да, Пушкин внес в свое
произведение дух европейской образованности, он читал и Ариосто с его
поэмой «Неистовый Роланд», он читал и «Орлеанскую девственницу» Вольте-
ра, которая как бы благословляла его на вольный стиль повествования, позво-
ляла отбросить литературный педантизм.
Политическая тенденциозность подчас ослепляет критиков. Нельзя не удив-
ляться тому, что наш великий критик Белинский, эстетически очень чуткий,
мог с известным пренебрежением писать:
«Руслана и Людмилу» можно только перелистывать от нечего делать, но уж
нельзя читать как что-нибудь дельное».
Простой читатель конечно полностью читал и перечитывал поэму. Он не
был искушен в литературных баталиях и, следовательно, не омрачен предубе-
ждениями, теориями, концепциями, но критики, отягченные этим грузом, впа-
дали часто в странную слепоту.
Это, видимо, всегда было, есть и будет.
Чопорные критики приходили в ужас от «вольностей» поэмы. Поэт Дми-
триев, известный в свое время и ныне начисто забытый, недоброжелательно и
завистливо порицал ее, полагая, что «добрая мать» не позволит своей дочери
читать ее.
242
«ГАВРИИЛ И АДА»
У меня должен быть в старых бумагах полный собственноручный
Пушкина список «Гавриилиады», им мне присланный. Должно сжечь
его, что и завещаю сделать моему сыну.
Князь П. А. Вяземский
Одно из прекраснейших произведений Пушкина, шутливое, озорное, напи-
санное в годы, когда юношеская кровь бурлит и эротические сны будоражат
человека, — его несравненная «Гавриилиада» почти столетие пролежала под
запретом. Автор открещивался от него, называя его «произведением жалким и
постыдным», говорил о том, что никогда он не писал ничего подобного, и пр.
Поэма, а она ходила в списках, казалась очень опасной. Дошло до того, что у
Пушкина потребовали признания в авторстве от имени самого царя, Николая I.
Пушкин не стал врать царю и в пакете, предназначенном только для него,
сообщил правду: да, как это ни прискорбно, по неопытности, по молодости лет
поэму написал он. Царь прочитал письмо, оценил искренность его и не придал
гласности признание поэта.
Пушкин работал над поэмой в Кишиневе в 1821—1822 гг., работал вдохно-
венно и серьезно. Друзья смеялись. Вяземский называл ее «прекрасной шало-
стью». Так же отнеслись к ней и Александр Тургенев и Сергей Соболевский.
Главной опасностью для автора было вольное толкование библейского
сюжета. Пушкин всячески отводил от себя гнев церкви и правительства: «...ни
в одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет ни
следов духа безверия или кощунства над религией».
И тем не менее он написал такое сочинение. Бартенев, первый биограф
поэта, ссылаясь на мнение друзей Пушкина, писал: «Уверяют, что он позволил
себе сочинить ее просто из молодого литературного щегольства. Ему захоте-
лось показать своим приятелям, что он может в этом роде написать — что-
нибудь лучше стихов Вольтера и Парни».
Думается, что так оно и было и Пушкин, читатель вольтеровской «Орлеан-
ской девственницы» и пародийных поэм Парни (поэм «Потерянный рай»,
«Война богов», «Галантные похождения в Библии»), не смог не поддаться моде
на безверие французского XVIII в. по молодости, мало думая о последствиях.
Впервые поэма была опубликована в Лондоне П. Огаревым. Поэт и поли-
тический эмигрант увидел в произведении Пушкина «религиозное и политичес-
кое вольномыслие», что вряд ли было справедливо. Пушкин, конечно, не ста-
вил себе задач ниспровергать церковь и монархические устои и поддался лишь
поэтическому озорству. Вместе с тем Огарев, и здесь он был совершенно прав,
признал высокие поэтические достоинства поэмы: «Пушкин довел стихотворе-
ния эротического содержания до высокой художественности, где уже ни одна
грубая черта не высказывается угловато и все облечено в поэтическую проз-
рачность».
Это в высшей степени верно. Пушкин обошел и Вольтера, поэма которого
подчас скабрезно грубовата, да и стихи Парни, служившие ему образцом,
довольно вялы и скучноваты. Свойство таланта Пушкина преображать все, к
чему прикасалось его чудодейственное перо.
243
Впервые полностью в России поэма Пушкина была опубликована в 1918 г.
поэтом Валерием Брюсовым.
Стих Пушкина изысканно изящен, эротика, в сущности, становится пре-
красным гимном чувственной, телесной любви, молодости и красоты:
Воистину еврейки молодой
Мне дорого душевное спасенье.
Приди ко мне, прелестный ангел мой,
И мирное прими благословенье.
Спасти хочу земную красоту!
Любезных уст улыбкою довольный,
Царю небес и господу Христу
Пою стихи на лире богомольной...
Шестнадцать лет, невинное смиренье,
Бровь темная, двух девственных холмов
Под полотном упругое движенье,
Нога любви, жемчужный ряд зубов...
Зачем же ты, еврейка, улыбнулась,
И по лицу румянец пробежал?
Нет, милая, ты, право, обманулась:
Я не тебя, — Марию описал.
Вспоминаются прекрасные образы мадонн эпохи Возрождения и наиболее
прекрасная их них Мадонна Рафаэля, в цветении девической застенчивой кра-
соты.
Романтические поэмы
Это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали.
Ф. М. Достоевский
Так отозвался о романтизме Байрона русский писатель. В дни юности Пуш-
кина английский поэт пользовался в России наибольшей славой. Но до него
царил сентиментализм, принесенный к нам из Англии и Германии Жуковским
и Карамзиным («Бедная Лиза»).
Элегическая настроенность, картины природы в меланхолической оправе,
кладбищенские мотивы, призраки, видения и пр. — вот характерные признаки
сентиментализма как литературного направления («Сельское кладбище» анг-
личанина Грея, «Ленора» немца Бюргера в переводах Жуковского и др.).
Поэзии чудесный гений,
Певец таинственных видений,
Любви, мечтаний и чертей,
Могил и рая вечный житель... —
писал о Жуковском Пушкин в поэме «Руслан и Людмила», характеризуя и
общий тонус тогдашней поэзии.
Литературные консерваторы ворчали: «Посмотрите на наш Парнас: это
244
кладбище, где валяются черепа, кости, полуразвалившиеся гробницы и кресты
могильные; где бродят духи, привидения, мертвецы в саванах; где слышны
крики врагов, шипение змей, вой волков...» — писал некто под псевдонимом
«Бутырский старец» в журнале «Вестник Европы» в 1820 г.
Старики, проведшие большую часть жизни в XVIII столетии, никак не
хотели изменять свои вкусы, отойти от привычных канонов, от строгого пате-
тического слога, важности, «высокости» поэзии, торжественной и чуждой
мистике.
Молодежь же увлеклась новшеством. Журнал «Полярная звезда» в 1823 г.
предлагал читателям нижеследующие строки одного из своих авторов (А. А.
Бестужева):
«С Жуковского и Батюшкова начинается новая школа нашей поэзии. Оба
они постигли тайну величественного, гармонического языка русского; оба
покинули старинное право ломать смысл, рубить слова для меры и низать полу-
богатые рифмы. Кто не увлекался мечтательною поэзией Жуковского, чару-
ющего столь сладостными звуками? Есть время в жизни, в которое избыток
неизъяснимых чувств волнует грудь нашу; душа жаждет излиться и не находит
вещественных знаков для выражения: в стихах Жуковского, будто сквозь сон,
мы как знакомцев встречаем олицетворенными свои призраки, воскресавшие
былое».
Романтизм Байрона с его мрачными, таинственными, «роковыми» героями-
бунтарями «вписался» в эти настроения. Но это была литературная игра. О
какой «мести и печали» могла быть тогда речь?
Пушкин написал несколько элегий в духе тогдашней моды (сентименталь-
ной, заупокойной):
Я видел смерть, она в молчаньи села
У мирного порога моего;
Я видел гроб; открылась дверь его;
Душа, померкну в, охладела.
По складу своего ума, мировосприятию Пушкин всегда был и оставался
реалистом, т. е. трезво смотрел на вещи, недаром так дружен он был с миром
Вольтера. Взгляните на портрет одной старушки, который он нарисовал пят-
надцатилетним мальчиком. Она жива, зрима, будто описал ее зрелый и масти-
тый мастер-реалист типа Льва Толстого:
В досужный мне часок Кого жена по моде
У добренькой старушки Рогами убрала,
Душистый пью чаек; В котором огороде
Не подхожу я к ручке, Капуста цвет дала,
Не шаркаю пред ней; Фома свою хозяйку
Она не приседает, Не за* что наказал,
Но тотчас и вестей Антошка балалайку,
Мне пропасть наболтает. Играя, разломал, —
Газеты собирает Старушка все расскажет;
Со всех она сторон, Меж тем как юбку вяжет,
Все сведает, узнает: Болтает все свое...
Кто умер, кто влюблен,
(«Городок»)
245
Как жива в бытовом своем реализме эта картина! Само просторечье («не зй
что» и пр.), приземленность привязывают нас к живой жизни и матушке-земле.
Пушкин нисколько не изменился с годами; вспомните признания его в зрелую
пору творчества: «Теперь мила мне балалайка да пьяный топот гопака...»
Но царит в мире романтизм... Что ж, поиграем в романтизм...
* * *
В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безымянные страданья...
А. С. Пушкин
Поэт, как видим, сам охарактеризовал свои романтические поэмы. Их
четыре — «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский
фонтан», «Цыганы». Все они написаны в начале 20-х гг. (1821—1824).
Романтизм требовал необычного: исключительного, не похожего на
каждодневную жизнь (как в романе! — отсюда романтизм).
Небольшая поэма Пушкина «Братья разбойники» отвечала этим требовани-
ям. Мир отщепенцев, людей, переступивших законы общества, и пугал и возбу-
ждал любопытство.
Поэма открывается с мрачного зачина разбойной песни:
Не стая воронов слеталась
На груды тлеющих костей,
За Волгой, ночью, вкруг огней
Удалых шайка собиралась.
Народ с двойственным чувством относился к разбойникам: они и разбой
творят, но ведь не хотят мириться с произволом властей, объявляют бунт. Они
отличаются от простых людей, потому что горды, смелы. Потому это слово с
оттенком уважения: «удалые». Оно не от Пушкина, от себя он не так бы назвал
этих людей. В данном случае — это слово народное.
В основе поэмы — этические проблемы — бесшабашное, безоглядное зло-
действо и щемящее чувство дружбы и братской любви. Разбойник в бреду, в
горячке, видя какую-то страшную сцену убийства, умоляет: «Брат! сжалься над
его слезами!»
Смерть брата, тоска и неизбывное чувство одиночества! И уж не может
оставшийся в живых брат, как прежде, жестоко, без оглядки убивать и гра-
бить: «На беззащитные седины не подымается рука».
* * *
После того как в 1704 г. Галан перевел «Тысячу и одну ночь», в Европе
началось повсеместное увлечение Востоком. Он, как что-то экзотическое, вол-
новал воображение роскошью красок, буйством страстей, сильными характе-
рами.
246
Екатерина Великая выстроила в Царском Селе китайскую деревню.
Ярко расписанные домики с характерной архитектурой вызывали улыбку
своей игрушечной красотой на фоне барочного стиля главного дворца. Забавы
не знающего забот барства!
Поэма Пушкина «Бахчисарайский фонтан» полна этой восточной экзотики.
Хан Гирей, Зарема — красавица Востока, страстная, волевая, не знающая
страха женщина, кинжалом завершившая ревнивые чувства, и нежная, хрупкая
Мария Потоцкая — женщина Запада, никнущая, подобно цветку в непогоду. И —
фонтан! Фонтан слез!
Скажи, фонтан Бахчисарая!
Такие ль мысли мне на ум
Навел твой бесконечный шум...
Не было никакого шума. Фонтан безмолвствовал. Это все воображение поэта.
Перед ним была плоская плита из мрамора, на ней вырезанный глаз с истека-
ющей из него каплей — одна, другая, третья. Капли стекались по небольшим
раковинкам вниз, образуя «море слез». Эстетически не так уж ярко, но какова
символика! Она, право, гениальна! Кому принадлежала идея, самому Керим-
Гирею или его архитектору? Она поразила Пушкина. Взволнованный и восхи-
щенный, он положил на мрамор две розы...
Фонтан любви, фонтан живой,
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.
Не было «немолчного говора», но была гениальная символика, были поэти-
ческие слезы. Все остальное — роскошное воображение гениального поэта
(«Когда безмолвно пред тобой Зарему я воображал»).
* * *
Пушкин в Бессарабии однажды, как говорят, примкнул к цыганскому
табору и неделю провел среди этих «вольных сынов природы». В поэме «Цыга-
ны» он поместил в табор «сына цивилизации» Алеко. Типичный романтиче-
ский герой. Французский автор Шатобриан отправил своего романтического
героя Рене к американским индейцам, где тот нашел успокоение своей мечу-
щейся душе, отягченной пороками цивилизации, умиротворение среди перво-
зданной природы и первозданных, чистых душ дикарей.
Шатобриан вторил Руссо, так же удалившему своего Сен-Пре в среду амери-
канских индейцев.
Пушкин в духе этих своих предшественников построил сюжет поэмы на
противопоставлении цивилизации и дикости, «девственной и первозданной»,
причем клеймя и проклиная искусственность и порочность цивилизации. Но
Пушкин отнесся к вопросу все-таки по-иному. Да, конечно, нравы городов
дурны и много недоброго привнесли в свою жизнь цивилизованные люди («не-
воля душных городов», «любви стыдятся, мысли гонят, торгуют волею своей,
главы пред идолами клонят и просят денег и цепей»).
В духе своих предшественников Пушкин идеализирует дикарей («мы дики;
нет у нас законов, мы не терзаем, не казним, не нужно крови нам и стонов...»).
247
Но конечный вывод поэмы — отрицание идей Руссо и Шатобриана:
Но счастья нет и между вами,
Природы вольные сыны!..
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны.
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.
Трезвый, скептический ум Пушкина отверг наивные, детски-романтические
идеи женевского философа, «красноречивого сумасброда».
Забегая вперед, замечу: идеи Руссо позднее полностью овладели мыслями
другого нашего соотечественника, Льва Толстого, и так не оставили его до
конца его дней. Но об этом потом.
Современники не всегда верно оценивают своих поэтов, ученых, первоотк-
рывателей. Иногда они изгоняют или казнят их (Джордано Бруно, Галилей),
иногда проходят мимо, не заметив, не оценив их достоинств (умерший в нищете
португальский поэт Камоэнс).
Талант Пушкина заметили сразу. Поэты уступили ему место первенства с
удивлением и восторгом (Жуковский, Батюшков), некоторые из них не без
зависти (Дмитриев, Катенин). Староверы отнеслись недоуменно, с опаской (уж
очень прыток, не чтит привычные литературные каноны!), но никто не мог
отказать ему в признании его несравненного таланта, и даже какой-нибудь
вельможа, редко читывавший «новых» поэтов, говорит о нем как о «гениаль-
ном таланте».
Зенит славы Пушкина приходился на время выхода в свет его романтичес-
ких поэм. Роскошь пушкинского стиха восхищала, но, пожалуй, больше
тешило национальное самолюбие то, что и в России появился свой Шатобриан,
свой Байрон. (Мы тоже не лыком шиты! И у нас есть свои Байроны, свои
Шатобрианы.)
Когда же появились реалистические произведения поэта, вполне самобыт-
ные, вполне русские — о русской жизни, об истории России («Евгений Оне-
гин», «Борис Годунов»), то заговорили об «упадке таланта» даже некоторые
друзья (Кюхельбекеру пьесы Кукольника показались предпочтительнее «Бо-
риса Годунова»). В «Северном Меркурии» появилась даже злая эпиграмма:
И Пушкин стал нам скучен,
И Пушкин надоел,
И стих его не звучен,
И гений охладел...
Пушкин понимал заблуждение подобных критиков, видимо, огорчался, но
шел своей дорогой, не желая потакать слабостям читателей: «Пускай толпа его
бранит и плюет на алтарь, где твой огонь горит!», «Поэт, не дорожи любовию
народной», «дорогою свободной иди туда, куда влечет тебя свободный ум!»
248
В наши дни как мы оценим романтическое и реалистическое перо поэта, по
какой шкале ценностей? Ответ однозначен: оно всегда и во всех строках Пуш-
кина одинаково, т. е. прекрасно. «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!»
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
Онегин, добрый мой приятель...
А. С. Пушкин
Онегина много и долго порицали. Тому дал повод и сам Пушкин:
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга
Без службы, без жены, без дел,
Ничем заняться не умел.
Позднее Онегина причислили к «лишним людям». Не имея возможности
отрицать бесспорные интеллектуальные силы Онегина, называли его «умной
ненужностью». Особенно досталось пушкинскому герою от русского историка
В. О. Ключевского в 80-х гг. прошлого столетия. В статье «Евгений Онегин и
его предки» он писал:
«У него есть и черты подражания, и Гарольдов плащ на плечах, и полный
лексикон модных слов на языке; но все это не существенные черты, а наклад-
ные прикрасы, белила и румяна, которыми прикрывались и замазывались
знаки беспотомственной смерти... Это не столько тип, сколько гримаса, не
столько характер, сколько поза, и притом чрезвычайно неловкая и фальшивая,
созданная целым рядом предшествовавших поз, все таких же неловких и фаль-
шивых».
Все критики: и Герцен, и Добролюбов, и Писарев, и Чернышевский — тре-
бовали от Онегина гражданственности. Почему он не стал издавать «Колокол»
или «Северную звезду», почему не стал декабристом и пр. и пр.? Историк Клю-
чевский не понял ни замыслов Пушкина, ни природы художественного образа.
Да, Онегин не пополнил собой ряды активных диссидентов XIX в., не пошел на
каторгу вслед за Пестелем, а позднее за Чернышевским, не стал «граждани-
ном» в том смысле, какой придавал этому слову Некрасов. Не стал, и все тут.
Но он же приятель Пушкина. В этом признался сам поэт, и вполне серьезно.
Пушкин любил своего героя. В нем найдем мы и черты Чаадаева («Второй
Чадаев, мой Евгений»), и Соболевского, скептика и острослова (огонь «не-
жданных эпиграмм» был не чужд Онегину), и Александра Раевского с его
холодным умом, скептическим и язвительным, поразившим когда-то Пушкина:
С его печальными речами
Мои слова звучали в лад.
Это были современники поэта, его собеседники, с кем он мог говорить на
равных, читать им свои стихи, находить в них умных и образованных слушате-
лей. Онегин не поэт, не общественный деятель, он, если хотите, обыкновен-
249
Портрет С. С. Уварова (фрагмент)
работы Ореста Кипренского. Таким
современники представляли себе внеш-
ний облик Онегина.
ный молодой человек дворянского происхо-
ждения, состояние которого давало ему
возможность жить независимо. Как обык-
новенный человек, он увлекался и модой
своих дней, и дендизмом. Применять к
поведению Онегина слова «поза», «гри-
маса» и пр., как это делал уважаемый исто-
рик, нелепо и смешно.
Пушкин любил своего героя, как любим
его и мы. За что же? Да за его порядоч-
ность, бесспорную честность, за умение
быть самим собой, независимым в своих
оценках, суждениях, за его светскость.
Пушкин иронически отзывается об образо-
вании Онегина, но ведь его герой начитан.
Он читает, и читает критически, часто
поднимаясь над интеллектом авторов
читаемых книг:
Томясь душевной пустотой,
Уселся он — с похвальной целью
Себе присвоить ум чужой;
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал...
Там скука, там обман иль бред.
И что же он нашел интересного и полезного в этих книгах? Он оказался
умным, взыскательным читателем и проницательно разобрался в них:
В том совести, в том смысла нет;
На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна.
Сверстник Онегина в XVI столетии англичанин Гамлет, как помнится, скепти-
чески и умно назвал большую часть написанного и напечатанного суесловием
(«Слова, слова, слова»). Именно этот трезвый, не замутненный ничьим автори-
тетом взгляд Онегина на вещи привлек к нему Пушкина:
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражаемая странность
И резкий, охлажденный ум.
Что бы ни говорили критики, как бы ни корили они «красивую ненужность»
пушкинского Онегина, все читатели поэмы и особенно читательницы душой вле-
кутся к этому молодому литературному герою XIX в. Замечу кстати, что физиче-
ский облик Онегина современники ассоциировали с портретом красавца и врага
Пушкина С. С. Уварова. Может быть, таким его сделала кисть художника Кипрен-
ского? Во всяком случае умом и нравственными принципами он никак не походил
на пушкинского героя. Но внешне... Взгляните на портрет работы Кипренского.
250
Сомненья нет: увы! Евгений
В Татьяну как дитя влюблен...
Куда ушел и английский сплин и русская хандра? Как изменился этот моло-
дой человек, который совсем недавно, как Чайльд Гарольд, «угрюмый, том-
ный», появлялся в гостиных? Онегин полюбил впервые и серьезно, и вся энер-
гия молодого организма забурлила. Сколько же ее было в нем! Он живет, в
жизни появилась цель. Он страдает, но это страдание от молодости, от нерас-
траченных жизненных сил. Он трепетно ждет встречи с Татьяной — хоть на
мгновенье. Он ждет ее взгляда, брошенного пусть мимоходом, пусть случайно.
Отчаявшись, пишет ей письмо, горячее, страстное, без тени притворства, без
лукавой аффектации, полное сильного, искреннего мужественного чувства.
Перед нами сильный человек, мужчина, готовый не молить о счастье, а
бороться за него.
Пушкин оставил своего героя в роковую минуту. Татьяна оказалась такой
же сильной. Победила мораль, воспринятая с детства, принятая во всех домах
России, принятая и самим Пушкиным.
Кто же такой Онегин как литературный герой, обязанный, по мнению исто-
риков, гражданских критиков, выражать какую-нибудь идею, быть глашатаем
политических или социальных откровений?
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой...
Он обыкновенный, простой, отнюдь не выдающийся, средний, ничем осо-
бенно не примечательный, подобный многим своим сверстникам, здоровый
физически и нравственно молодой человек, русский дворянин пушкинской
поры.
Он просто будет добрый малый,
Как вы да я, как целый свет...
И слава Богу!
Светскость
Нам Пушкин был закон и мода.
Пленясь онегинской строфой,
Мы для себя, не для народа
Себе вменили в вечный кодекс,
Как непременный, да! sans faute
Дворянский принцип Сотте ilfaut.
Мы после 1985 г. отказались усматривать в обществе деление на классы,
сословия и вообще какие-либо социальные группы. Еще раньше мы отказались
от вульгарного деления наших великих деятелей культуры на дворянских и
недворянских, как это было в 20-е гг., после Октября 1917 г. Но история нам
251
показывает, что такое размежевание в русском обществе все-таки существова-
ло. Пушкин принадлежал к своему сословию, хоть иногда с горечью называл
себя «мещанином во дворянстве», но, подчеркиваю, говорил с горечью.
Думаю, что он гордился близостью своих предков к царскому дому и своим
происхождением.
Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Тургенев по рождению, по воспитанию
принадлежали к своей среде. Это нисколько не предопределяло их политичес-
ких взглядов. Они были полны уважения к народу, болели за него, но по вку-
сам, привычкам, поведению в быту или, как бы они сказали, манерам принад-
лежали к тому кругу людей, у которых в детстве был в качестве гувернера
какой-нибудь месье л'Аббё, «француз убогой», как это было у Евгения Онеги-
на.
Здесь я коснусь одного особого этического элемента, очень важного в вос-
питании того круга людей, к которому принадлежал Пушкин. Этот элемент
они называли «светскостью». Надо полагать, он перешел в дворянскую среду
по наследству, из рыцарских времен — служение даме, принцип чести и пр.
Светскость! Для нас, после нивелировки всех и вся, это слово непонятно,
оно взято из какой-то иной жизни. А между тем, читая Пушкина, Лермонтова,
Льва Толстого, Тургенева, мы постоянно встречаем это слово. Раскройте «Ев-
гения Онегина», сколько иронии и внутреннего притяжения к этому порицае-
мому «свету», «высшему свету» найдем мы в прелестных стихах поэта: «При-
чудницы большого света!», «Условий света свергнув бремя...», «Свет решил,
что он умен и очень мил», «От хладного разврата света», «Я модный свет ваш
ненавижу» и пр. и пр. Что же это все-таки такое, «свет»? Сразу же напраши-
вается ответ: социальная элита высокого ранга, дворянство, достаточно бога-
тое, чтобы дать детям хорошее воспитание и образование. Эта социальная
элита выработала для своего круга особый нравственный кодекс, особую
форму поведения, и, говоря о Пушкине, о его поэзии, нельзя уйти от того, что
поэт называл «бременем условий света». Пушкин сам нарисовал идеальный тип
«светской дамы» — это его Татьяна, не та, что жила «в глуши забытого
селенья», а другая — жена важного генерала, звезда петербургских аристокра-
тических салонов:
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без притязательных затей...
Все тихо, просто было в ней,
Она казалась верный снимок
Du comme il faut Шишков, прости:
Не знаю, как перевести.
Перевода, пожалуй, не требовалось: французская фраза «Du comme il faut»
вполне вписывалась в слово «светскость».
В Татьяне счастливо сочеталось все то, что требовал этот так от нас далекий
«свет», т. е. полная естественность, свободная непринужденность, умный такт,
внутреннее уважение к окружающим. Пушкин развивает эту тему «светскости»:
252
...с головы до ног Зовется vulgar. (He могу...
Никто бы в ней найти не мог Люблю я очень это слово,
Того, что модой самовластной Но не могу перевести:
В высоком, лондонском кругу Оно у нас покамест ново...)
Слово вошло в наш русский лексикон — «вульгарный». Увы, оно прижи-
лось и к нашим нравам вместе с исчезновением из нашей речи и наших нравов
понятия светскости.
Тургенев в романе «Накануне» писал: «В русском языке нет слова, которое
имеет смысл при оценке людей; это французское слово: СОММЕ IL FAUT».
Не раз в своих сочинениях употребляет это выражение Лев Толстой: «Лю-
дей СОММЕ IL FAUT я уважал и считал их достойными иметь со мной равные
отношения» («Юность»).
Пушкин придавал тому, что называл он СОММЕ IL FAUT и VULGAR,
большое значение. Однажды, упрекая жену в кокетстве перед многочисленной
толпой поклонников, он писал ей: «Я не ревнив (как ошибаются даже великие
люди, рассуждая о себе: Пушкин был очень ревнив. — С. Л.), да и знаю, что
ты во все тяжкие не пустишься; но ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет
московской барышнею, все, что не СОММЕ IL FAUT, все, что VULGAR».
Понятие светскости имело международное значение. Культ светскости
исповедовался тогда во всех странах континента, конечно, в аристократичес-
кой среде.
Бальзак в романе «Герцогиня де Ланже» немало страниц посвящает этой
теме. Он пишет: «Члены родовитых семейств, в соответствии с их образом
жизни, блюли высокие традиции изысканной вежливости, изящного вкуса,
красивого слога, аристократической сдержанности и гордости...»
Аристократическая молодежь создала для себя культ особой изысканности
в одежде, в манере поведения. Здесь каждая мелочь имела значение — ничего
кричащего, но в сдержанной скромности должна явно проглядывать несдер-
жанная расточительность. В одном из своих романов Бальзак, а он описал все
причуды своего века, есть такая сцена:
«— Ты не рассердишься, если я буду одеваться при тебе?
— Что за странный вопрос!
Да ведь мы нынче все перенимаем у англичан. Лоран принес своему барину
столько различных туалетных принадлежностей и приборов и столько разных
прелестных вещиц, что Поль не удержался, чтобы не сказать:
— Да ты провозишься добрых два часа!
— Нет, — поправил его Анри, — два с половиной».
Дендизм — явление тогда всеевропейское.
Посмотрим, как готовится к выходу пушкинский Онегин:
Духи в граненом хрустале; Второй Чадаев, мой Евгений,
Гребенки, пилочки стальные, Боясь ревнивых осуждений,
Прямые ножницы, кривые В своей одежде был педант;
И щетки тридцати родов И то, что мы назвали франт,
И для ногтей, и для зубов... Он три часа по крайней мере
К чему бесплодно спорить с веком? Пред зеркалами проводил...
Обычай — деспот меж людей.
253
РОССИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА
Как я люблю его спокойный вид,
Когда, душой в минувшем погруженный,
Он летопись свою ведет; и часто
Я угадать хотел, о нем он пишет?
О темном ли владычестве татар?
О казнях ли свирепых Иоанна?
О бурном ли новогородском вече?
О славе ли отечества?
А. С. Пушкин. «Борис Годунов»
Гоголь назвал Пушкина национальным поэтом. Это было сказано еще при
жизни поэта. Пушкин, конечно, знал, какое место он занимает в русской куль-
туре и в жизни русского человека, и это заставляло его ответственно отно-
ситься к себе.
С веселой беспечностью в иные минуты он мог, конечно, своим легкокры-
лым стихом описать современность, смешивая серьезную строку с шуткой и
каламбуром («Граф Нулин», «Домик в Коломне»), — зачем же всегда быть
важным? Вместе с тем он понимал, что его долг, долг первого поэта России,
возвеличить национальную тему. «Дела поэта — это его слова», — сказал он
однажды и выразил эту мысль в стихотворении «Пророк» («Глаголом жги сер-
дца людей!»).
Мы помним жестокую фразу Маяковского — «перо приравнять к штыку».
Пушкин имел в виду иное, а именно нравственную сторону поэзии — возбу-
ждать в народе «чувства добрые», «милость к падшим», любовь к родине и
народу, гордость за ее прошлое.
Он приветствовал появление в печати труда Карамзина «История государ-
ства Российского», расценил его как великий вклад в дело нации, а не только
исторической науки.
Большую часть своего творчества поэт посвятил историческим событиям
России, начиная с древности («Песнь о вещем Олеге»), со времен княжеской
Руси, и до Петра Великого.
Его привлекали эпохи трудные, тревожные, опасные для народа (смута
1613 г., шведская война и деятельность Петра, восстание Пугачева).
Петр больше всего привлекал к себе внимание поэта. В бумагах его оста-
лась примечательная фраза: «Петр соединил в себе Робеспьера и Наполеона».
Он вряд ли пустил бы эту фразу в печать, но именно так охарактеризовал эту
грандиозную историческую фигуру — соединившую в себе государственность
Наполеона и жестокую непреклонность Робеспьера. Петр занял собою две
поэмы Пушкина — «Полтава» и «Медный всадник». Несколько слов о них.
«ПОЛТАВА»
Как было уже сказано, историческим лицам, которых изобразил Пушкин,
были посвящены сочинения Вольтера «История Карла XII» и поэма Байрона
«Мазепа». Вольтер дал политическую оценку воинственной нетерпимости
254
шведского короля. Байрона привлекла романтическая сторона в жизни
Мазепы (любовь к прекрасной шляхтичке и месть ревнивого мужа).
Пушкин тоже использовал романтические эпизоды биографии украинского
гетмана — любовь к нему, уже старику, молодой дочери Кочубея. Роскошным
стихом он описал красоту Марии, пожалуй, даже несколько пародийно («Как
тополь киевских высот, она стройна...»), драматические коллизии — преда-
тельство Мазепы, казнь Кочубея, помешательство Марии.
Кроме этой романтической стороны, в поэме присутствует важная истори-
ческая тема, занимающая в ней главное место. Это Полтавская битва, это
политические портреты Петра, Карла, Мазепы. Но об этом уже шла речь
ранее.
Поэзия требует особых красок. В поэме Пушкина Карл XII обретает
романтические черты, подобно меланхолическим героям Альфреда де Мюссе
или Ламартина.
Несомый верными слугами, Необычайное волненье.
В качалке бледен, недвижим, Казалось, Карла приводил
Страдая раной, Карл явился. Желанный бой в недоуменье...
Вожди героя шли за ним, Вдруг слабым манием руки
Он в думу тихо погрузился. На русских двинул он полки.
Смущенный взор изобразил
Пушкина как художника интересовали характеры, и этот человек с его
маниакальной погоней за воинской славой не мог не волновать воображение
поэта.
Но все заслонил Петр («Он прекрасен. Он весь как божия гроза»). Это
парадный портрет. Его можно поместить в тронный зал. Здесь слава России.
Ныне на поле Полтавской битвы памятники, в том числе и шведским вои-
нам (Петр отдал дань уважения и их храбрости). Там же воздвигнут храм, на
фронтоне которого начертаны строки из приказа Петра к войскам перед
битвой: «Не за меня идете в бой, а за Россию, мне врученную!»
Как непритязателен и патриотичен был в тот день Петр, как самоотвержен
и благороден был этот его приказ по войскам!
«МЕДНЫЙ ВСАДНИК»
Как и в «Полтаве», в этой второй своей поэме о Петре Пушкин описал и
романтическую историю — бедный чиновник, его любовь, его и ее трагическая
судьба. Сокрушительное наводнение, затопившее город, возникший по манию
великого самодержца. «Маленькие люди» с их микроскопическими заботами,
надеждами — Евгений и где-то на окраине города в крохотном домишке Пара-
ша.
Пройдет, быть может, год, другой —
Местечко получу, Параше
Препоручу хозяйство наше
И воспитание ребят...
И станем жить — и так до гроба...
255
Не состоялось это маленькое счастье «маленьких людей»: они погибли, а
город:
В порядок прежний все вошло,
Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ. Чиновный люд...
Никто не вспоминал безвестного юношу, ничье сердце не отозвалось на робкий
его укор, и только великий печальник рода человеческого увидел и возвел
судьбу «маленького человечка» на пьедестал всемирно-исторического значе-
ния. «Бедный, бедный мой Евгений!» — печалился Пушкин. В то время как
другой поэт, граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов.
Недосуг, да и зазорно было графу Хвостову оторвать свой важный взор от
всеобщих, всечеловеческих и всемирных судеб и направить его на судьбу
ничтожнейшего существа.
Граф Хвостов пел «несчастье невских берегов». Это, конечно, было возвы-
шенно. Это было куда важнее несчастья маленького петербургского чиновни-
ка, которому посвятил свои строки Пушкин. У Пушкина трепетала живая,
ранимая, человеческая плоть. Это была одна многомиллионная часть Челове-
чества, но она была живая. Она источала кровь. У нее билось сердце. У нее
действовал мозг. А этот мозг мог устремиться мыслью в бесконечность, охва-
тить всю вселенную. У нее была мечта, способная расцветить мир красками
счастья.
Гегель писал: «Когда речь идет о такой цели, которая была бы целью в себе
и для себя, нельзя считать так называемое неблагополучие тех или иных
отдельных личностей моментом разумного порядка в Мире!»
Человек! Человек! Век его краток, как мгновение, и сам он подобен зыб-
кому облачку. Подул ветерок, и облачко расплылось, рассеялось, будто и не
бывало его вовсе. Но только он, личность, индивидуум, живет и созидает. Не
Мировой дух создал Сикстинскую мадонну, а Рафаэль, единственная и неповто-
римая личность, индивидуум, умерший в экстазе любви. Не Мировой дух соз-
дал то бессмертное сокровище, которое составило литературное наследие
Пушкина, а личность, индивидуум, погибший в расцвете сил. И ничто, никакая
всемирная история не вписала в рукописи Пушкина ни одной новой строки и не
прибавила к картине Рафаэля ни одного нового штриха.
«Всемирная история совершается в более высокой сфере, чем та сфера,
которую составляют образ мыслей частных лиц, совесть индивидуумов, их соб-
ственная воля и их образ действий».
Но это маленькое счастье, мечтавшееся бедному молодому человеку, не
свершилось. Все поглотил затопленный город, построенный по воле человека,
чья бронзовая фигура на вздыбленном коне возвышается на площади, осве-
щенная бледной луной.
Пушкин и здесь, в этой своей поэме, возвеличивает Петра и город, построен-
ный им, — «Петра творенье». Фигура Петра, воплощенная в бронзе, возвы-
256
шается надо всем. Но Пушкина волнует уже другая тема: противоречие между
отдельной личностью и государством, олицетворенным в данном случае
Петром.
Нет сведений о том, что поэт читал Гегеля и его «Философию истории», но
он, Пушкин, в своей поэме поставил ту же проблему, что и немецкий автор.
Гегель решил вопрос в пользу государства, Пушкин не дал ответа, но весь гума-
нистический строй его поэмы внушает нам большие сомнения в правоте немец-
кого автора.
Если верить Гегелю, великие исторические личности осуществляют про-
гресс, веления Мирового духа, иначе говоря — всемирной истории. По логике
Гегеля, и Петр был таким.
Великая личность! Это он «уздой железной» Россию поднял на дыбы. Но он
же разрушил счастье многих «маленьких людей», подобных бедному Евгению.
И этот «маленький человек» осмелился протестовать:
Кругом подножия кумира Вскипела кровь. Он мрачен стал
Безумец бедный обошел Пред горделивым истуканом
И взоры дикие навел И, зубы стиснув, пальцы сжав,
На лик державца полумира. Как обуянный силой черной,
Стеснилась грудь его. Чело «Добро, строитель чудотворный! —
К решетке хладной прилегло, Шепнул он, злобно задрожав, —
Глаза подернулись туманом, Ужо тебе!..»
По сердцу пламень пробежал,
Что же стало с безумным бунтарем и теми, кого он знал, любил? «Хладный
труп» похоронили «ради бога». «Домишко ветхий», в котором жила невеста
его, занесенный наводнением на пустынный остров, «свезли на барке». «Был
он пуст и весь разрушен».
Микроскопическую трагедию не заметил Мировой дух.
Может быть, Пушкин умом, холодным рассудком, глядя на исторический
опыт народов, и соглашался с этой философией, но сердцем не принимал ее и
завещал нам заботу о каждой «маленькой» личности, делая ее равновеликой
государству.
«БОРИС ГОДУНОВ»
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу.
Л. С. Пушкин
В тиши Михайловских сосен, на лоне прекрасной природы («Деревня, где
скучал Евгений, была прелестный уголок») Пушкин приступил к созданию
своей драмы, памятника национальной истории. «Изучение Шекспира, Карам-
зина и старых наших летописей дало мне мысль облечь в драматические
формы одну из самых драматических эпох новейшей истории».
Итак, русская национальная история, одна из самых важных и трагедийных
ее эпох. Три источника: труд Карамзина (события, люди), старые летописи (ис-
257
Герои Пушкина в театре. Федор Шаляпин в роли Бориса Годунова. 1928 г.
Театр «Ковен-Гарден».
торический колорит, язык тех времен), пример Шекспира (его исторические
хроники и беспощадный реализм в обрисовке характеров).
Так формировался замысел «Бориса Годунова». Карамзин описал события
холодным пером ученого-историка, необходимо внести в них дыхание жизни,
оживить лица, дополнив историка воображением художника, в скупой летопис-
ной записи услышать голос современника событий, голос и суд народа.
Возникает образ старца Пимена, монаха-летописца, умиротворенного и
беспристрастного, — дань признательности поэта безымянным наблюдателям
творимых в мире злых и добрых деяний и заносившим записи о них на вечные
скрижали истории.
Пушкин ставил своей задачей не просто воссоздать эпоху, для этого было
достаточно пера историка, и Карамзин справился с ней блестяще. Необходимо
было поставить важную, общественно значимую проблему. И эта проблема —
власть и преступление. Борис совершил такое преступление: по его наущению
был убит младенец, сын царя Иоанна Димитрий. Никакой государственной
необходимости в этом не было. Если бы такая необходимость была, может
быть, в том случае народ и простил бы ему неизбежное злодеяние. Но он совер-
шил его ради собственной выгоды, ради власти, и власть перестала быть леги-
тимной. И сколько бед принесло это народу!
Борис — умный и добрый царь: в дни народных бедствий и голода он отворил
житницы, он оказывал помощь беднякам и страждущим, он много строил, но в
глазах народа все же был нелигитимен и все шло ему во зло. У Пимена не наш-
лось слов осуждения царю Иоанну, несмотря на все его жестокости, ибо он был
царь по праву, но ничто не прощалось Борису, ибо власть его была незаконной:
О страшное, невиданное горе!
* Прогневали мы бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли.
Трагедия Бориса отягчалась и страшными угрызениями совести. Напомним
потрясающее признание пушкинского Бориса:
Ах! чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою...
Но если в ней единое пятно,
Единое случайно завелося,
Тогда — беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.
Эту тему развил позднее с особенной силой Достоевский («Преступление и
наказание»).
259
Пушкин щедро дарил своим собратьям по перу, и современникам, и потом-
кам, темы, сюжеты, творческие прозрения (от Гоголя и до наших дней). Впро-
чем, не только литераторам, но и композиторам (Глинке — опера «Руслан и
Людмила», Чайковскому — оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама»,
Мусоргскому — опера «Борис Годунов», Даргомыжскому — опера «Русалка»,
Асафьеву — балет «Бахчисарайский фонтан» и др.).
Пьеса Пушкина разделена на множество чрезвычайно выразительных, но
коротких сцен (их 23), что затрудняет ее постановку в театре. Было несколько
неудачных попыток, и, кажется, режиссеры окончательно отказались от сце-
нического воплощения драмы. В опере это удалось сделать. Особенно хороши
сцены у фонтана (диалог между Мариной Мнишек и самозванцем), в корчме
(колоритные фигуры бродячих монахов Мисаила и Варлаама), ария Бориса.
Мир запомнил в этой роли Федора Шаляпина.
Особую роль в пьесе играет народ. Суд народный над Борисом свершает
юродивый: «Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит».
Богородица! Олицетворение гуманности и добра в глазах народа. Бог мог
гневаться, казнить. Богородица — сожалеть и прощать. Но здесь даже она не
велит прощать, так велико злодеяние.
И надо всем витает тень Иоанна, как возмездие за убиенного сына: не осо-
бые качества самозванца, не заговоры бояр, не помощь поляков вознесли без-
т *
i
1941 год. Москва прифронтовая. Войска проходили мимо памятника Пушкину. Поэт писал
в эти дни: «Пушкин провожает нас на бой, молча, с непокрытой головой».
260
вестного авантюриста на русский престол, а карающая рука высшей справедли-
вости.
Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла.
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла.
Ведь здесь и признание в обмане со стороны самозванца — он не сын, но его
усыновила тень, она же его нарекла Димитрием из гроба, она возмутила
народы и бросила к ногам самозванца царя-убийцу, царя-узурпатора. Пяти-
стопный нерифмованный ямб здесь обретает торжественный тон и скандиру-
ющую рифму, подчеркивающую важность сказанного.
«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
Осенью 1830 г. в Болдино на едином дыхании были написаны четыре траге-
дии: 23 октября — «Скупой рыцарь», 26-го — «Моцарт и Сальери», 4 ноября —
«Каменный гость», 6-го — «Пир во время чумы». Четыре жемчужины русской
поэзии1.
О первой мы уже говорили в начале книги. Не будем возвращаться. «Мо-
царт и Сальери», как и первая, касается вечных общечеловеческих проблем.
Там — собственность и скупость, власть золота и маниакальная страсть стяжа-
тельства. Здесь — гений и злодейство. Возможно ли их соединить? Может ли
художник, создающий подлинные произведения искусства, а таковые всегда
проникнуты гуманными чувствами, совершить сознательно преступление?
Пушкин размышлял над этим вопросом: говорили что-то о Микеланджело...
«Неправда... это сказка тупой, бессмысленной толпы — и не был убийцею соз-
датель Ватикана».
Что-то подобное говорили и о Бомарше, ходили слухи, будто он отравил
кого-то из своих жен. «Правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?» —
«Не думаю, он слишком был смешон для ремесла такого». Пушкин использо-
вал здесь ответ Вольтера на этот вопрос: «Веселые люди не могут быть из
семьи Локусты» (известной римской отравительницы).
Пушкин оставил Сальери в сомнении. Сальери мучается: прав ли Моцарт,
сказавший, что гений и злодейство не совместимы? Именно после этих слов он
бросил яд в кубок Моцарта. Они прозвучали как вызов, и рука преступника не
дрогнула. Но он мучается, повторяет эти слова: он не гений.
Преступление и наказание! Мы видели это в судьбе Годунова. Там — «инк-
визиция совести», там — неизбывные страдания. Пушкинский Сальери — на
пороге их. Мы их не знаем, но они будут, поэт не рассказал нам о них, но они
будут, будут.
Моцарт, как говорят о нем современники, был добр, беспечен и проказлив,
писал легко и щедро. Таким он представлен и в трагедии Пушкина. Но ведь это
сам Пушкин. Его автопортрет мы видим. Милый, беспечный, простодушный и
Устюжанин Д. «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина. — М., 1974.
261
мудрый, бесконечно талантливый. Еще Дельвиг писал ему: «Великий Пушкин,
маленькое дитя!.. Никто из писателей русских не поворачивал так каменными
сердцами нашими, как ты». И это писал Дельвиг поэту в сентябре 1824 г., сов-
сем еще молодому поэту. Да, и «великий» и «малое дитя»!
«КАМЕННЫЙ ГОСТЬ»
Говорят, что по свету бродят сто литературных Дон Жуанов. Вряд ли испан-
ский автор Тирсо де Молина, породивший этого героя в XVII в., предполагал
такую счастливую его судьбу. Именитые литературные мэтры посвящали ему
свое вдохновение: Мольер, Байрон и теперь вот Пушкин. По свидетельству
Мопассана, роман о нем задумывал Флобер. Стендаль полагал, что такой
образ мог появиться только в годы средневекового аскетизма как протест про-
тив вето на наслаждения.
В трагедии Пушкина — тема наслаждения как высшее благо. Наслаждение
и плата за него, наслаждение и смерть!
Пушкина эта тема волновала. Он посвятил ей «Египетские ночи».
Клянусь... — о матерь наслаждений,
Тебе неслыханно служу,
На ложе страстных искушений
Простой наемницей всхожу.
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари,
О боги грозного Аида,
Клянусь — до утренней зари
Моих властителей желанья
Я сладострастно утомлю
И всеми тайнами лобзанья
И дивной негой утолю.
Но только утренней порфирой
Аврора вечная блеснет,
Клянусь — под смертною секирой
Глава счастливцев отпадет.
Пушкинский Дон Гуан — беспечный искатель наслаждений. Он смел до дер-
зости, абсолютно искренен, и не по принципу, а просто по природе своей. Он
искренен с Лаурой, и, когда говорит ей о любви, он действительно любит ее.
Отвернулся, и уже другая влечет его сердце. Он не зол, но если на него замахи-
ваются, он отвечает быстро и удачливо. Он талантлив — песнь, сочиненную
им, поет Лаура. Его любят женщины, пожалуй, больше за искренность, да и за
смелость, мужскую силу, молодость и беспечность. Его противник Дон Карл ос
отличен от него тем, что и уныл, и бестактен. Вздумалось же ему семнадцати-
летней красавице говорить о старости: «...и будут называть тебя старухой. Тог-
да, что скажешь ты?» И ответ Лауры прекрасен: «Тогда? Зачем об этом
думать? Что за разговор?»
Таков же и Дон Гуан. Он не думает о том, что последует за наслаждением.
Дон Гуан обольщает Дону Анну, а ведь ее мужа он убил на поединке. Но
262
можно ли поведение Дон Гуана назвать обольщением? Он говорит ей о любви,
но ведь в эту минуту он действительно ее любит и слова его искренни. На
вопрос этой печальной красавицы: «Ну? что? чего вы требуете?» — он отве-
чает со всем красноречием любви:
Смерти.
О, пусть умру сейчас у ваших ног,
Пусть бедный прах мой здесь же похоронят...
Там, у дверей — у самого порога,
Чтоб камня моего могли коснуться
Вы легкою ногой или одеждой.
И это не слова. В том-то и сила Дон Гуана, что он искренен. Он не лжет: за
наслаждение он готов отдать жизнь. И он ее отдает:
Вот она... о тяжело
Пожатье каменной десницы!..
Я гибну — кончено, — о Дона Анна!
Как видим, гибнет он с именем Доны Анны.
Пушкин писал эту трагедию перед женитьбой, получив согласие невесты,
безумно влюбленный, душой художника оценивший, как ему кажется, незем-
ную ее красоту: «...тебя, мой ангел, люблю так, что выразить не могу».
Перед свадьбой мучился. Он был суеверен, и всякие предчувствия пугали
его. Но наслаждение красотой влекло неотразимо, и перед ними блекли и гасли
все страхи, опасения, предчувствия. Отступала даже смерть. Условие Клеопа-
тры манило и обещало ослепительное счастье, но и расплату: «...под смертною
секирой глава счастливцев отпадет», и она упала на Черной речке в январе
1837 г.
* * *
Положение Пушкина в последние годы его жизни было удручающе тяже-
лым. Это свидетельствует письмо Жуковского к графу Бенкендорфу:
«Ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишен был наслаждения
видеть Европу, ему нельзя было произвольно ездить и по России, ему нельзя
было своим друзьям и своему избранному обществу читать свои сочинения, в
каждых стихах его, напечатанных не им, а издателем альманаха с дозволения
цензуры, было видно возмущение...»
Жуковский был в курсе всех событий, предшествовавших дуэли Пушкина с
Дантесом, и даже вел переговоры с его приемным отцом Геккерном и с самим
Дантесом. Жаль, что он не воспрепятствовал дуэли всеми дозволенными и
недозволенными средствами.
Постоим вместе с ним у гроба Пушкина:
Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустив. Голову тихо склоня.
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза,
263
Было лицо его так мне знакомо, и было заметно,
Что выражалося в нем, — в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслью, глубокою, высокою мыслью
Было объято оно: мнилось мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось.
Что видишь?
«ЕЕ ТРЕВОЖИЛИ ПРИМЕТЫ...»
Суеверие — это поэзия жизни, а потому не беда, если поэт суеве-
рен.
И. В. Гете
Милая слабость Пушкина: он был до крайности суеверен. Ею страдали не
только поэты. Был страшно суеверен Наполеон. Приведу здесь несколько
цитат.
Свидетельство В. И. Даля, приятеля Пушкина:
«Пушкин говаривал о приметах, которые никогда его не обманывали, и,
угадывая глубоким чувством какую-то таинственную, непостижимую для ума
связь между разнородными предметами и явлениями, в коих нет, по-видимому,
ничего общего, уважал тысячелетнее предание народа, доискивался в нем смы-
слу, будучи убежден, что смысл в нем есть и быть должен, если не всегда легко
его разгадать».
Свидетельство жены П. В. Нащокина:
«У Пушкина существовало великое множество всяких примет. Часто,
собравшись ехать по какому-нибудь неотложному делу, он приказывал отпря-
гать тройку, уже поданную к подъезду, откладывал необходимую поездку из-за
того только, что кто-нибудь из домашних или прислуги вручал ему какую-
нибудь забытую вещь вроде носового платка, часов и т. п. В этих случаях он ни
шагу не делал из дома до тех пор, пока, по его мнению, не пройдет определен-
ный срок, за пределами которого зловещая примета теряла силу... Помню, в
последнее пребывание у нас в Москве Пушкин читал черновую «Русалки», а в
тот вечер, когда он собирался уехать в Петербург, за прощальным столом про-
лил на скатерть масло. Увидя это, Павел Воинович с досадой заметил: «Эдакий
неловкий! За что ни возьмешься, все роняешь!»
— Ну я на свою голову. Ничего... — ответил Пушкин, которого, видимо,
взволновала примета.
Последний ужин у нас действительно оказался прощальным».
Свидетельство Е. В. Новосильцевой:
«Г-жа Новосильцева праздновала свои именины, и Пушкин обещал при-
ехать к обеду, но его долго ждали напрасно и решились наконец сесть за стол
без него. Подавали уже шампанское, когда он явился, подошел к имениннице
и стал пред ней на колени. «Наталья Алексеевна, — сказал он, — не сердитесь
264
Пушкинские герои в театре.
Артист Н. К. Печковский в роли
Германна из «Пиковой дамы».
на меня: я выехал из дома и был уже недалеко отсюда, когда проклятый заяц
пробежал поперек дороги. Ведь вы знаете, что я юродивый: вернулся домой,
вышел из коляски, а потом сел в нее опять и приехал, чтобы вы меня выдрали
за уши».
Из писем Пушкина к жене:
«Опять в Симбирске. Третьего дня, выехав ночью, отправился я к Оренбур-
гу. Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Черт его побе-
ри, дорого бы я дал, чтобы его затравить. На третьей станции стали заклады-
вать мне лошадей — гляжу, нет ямщиков: один слеп, другой пьян и спрятался.
Пошумев изо всей мочи, решился я возвратиться и ехать другой дорогой; на
этой на станциях везде по шесть лошадей, а почта ходит четыре раза в неделю.
Повезли меня обратно — я заснул — просыпаюсь утром — что же? Не отъехал
я и пяти верст. Гора — лошади не везут, около меня человек 20 мужиков. Черт
знает как Бог помог — наконец взъехали мы, и я воротился в Симбирск.
Дорого бы дал я, чтобы быть борзой собакой: уж этого зайца я бы отыскал.
Теперь еду опять другим трактом. Авось без приключений».
265
Пушкин в Михайловском, узнав о смерти Александра I, решил поехать в
Петербург, надеясь, что при данных обстоятельствах не заметят нарушение им
запрета на выезд из имения. И уже выехал, но перебежал дорогу заяц, и поэт
вернулся. Это было накануне Декабрьского восстания.
«А вот каковы были бы последствия моей поездки, — вспоминал Пушкин. —
Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтобы не огласился
слишком скоро мой приезд, и, следовательно, попал бы к Рылееву прямо на
совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом; вероятно, я попал бы с
прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, милые».
«Раз пошел я с Н. В. Всеволожским ходить по Невскому проспекту, и из
проказ зашли к кофейной гадальщице...» — рассказывал Пушкин. Это была
немка Кирхгоф. Она предсказала ему гибель от белого человека (Дантес был
блондином).
Еще одно воспоминание жены Нащокина: «Вечером в этот день у меня
внизу сидели гости. Павел Воинович был у себя наверху в кабинете. Вдруг он
входит ко мне в гостиную, и вижу, на нем, что называется, лица нет.
«Я сейчас слышал голос Пушкина. Я слегка задремал на диване у себя в
кабинете и вдруг явственно слышу шаги и голос: «Нащокин дома?» Я вскочил
и бросился к нему навстречу. Но передо мной никого не оказалось. Я вышел в
переднюю и спрашиваю камердинера: «Модест, меня Пушкин спрашивал?»
Тот, удивленный, отвечает, что, кроме него, никого не было в передней и
никто не приходил. Я уж опросил всю прислугу. Все отвечают, что не видели
Пушкина. Это не к добру, — заключил Павел Воинович. — С Пушкиным при-
ключилось что-то дурное!»
Мы помним пушкинские стихи:
Татьяна верила преданьям Когда случалось где-нибудь
Простонародной старины, Ей встретить черного монаха
И снам, и карточным гаданьям, Иль быстрый заяц меж полей
И предсказаниям луны. Перебегал дорогу ей...
Ее тревожили приметы...
Поистине «суеверие — это поэзия жизни».
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
Надо было уметь ненавидеть из любви, презирать из гуманности,
надо было обладать безграничной гордостью, чтобы с кандалами
на руках и ногах высоко держать голову.
А. И. Герцен
Литературная критика много спорила о Лермонтове. Некоторые ожесто-
ченно порицали его, и это были умные и образованные люди, но омраченные
партийными пристрастиями. Подумать только, журнал «Москвитянин» (орган
славянофилов) в 1841 г. пером своего сотрудника С. Шевырева предлагал сжи-
гать некоторые стихотворения Лермонтова, в особенности эту черную, траур-
ную, эту роковую «Думу».
266
Лишить нас такого чудесного стихотво-
рения!
Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
Уж одно то, что поэт передал нам тоску по
великим замыслам, по великим свершени-
ям, по мысли плодовитой, по труду гения —
уж одно это звучит жизнеутверждающе. И
как прекрасна эта тоска!
Восторженно приветствовал появление
на литературной арене Лермонтова Белин-
ский: «Глубокий и могучий дух!.. О, это
будет русский поэт с Ивана Великого! Чуд-
ная натура!»
Но и Белинский, и Герцен, и Чернышев-
ский ценили в Лермонтове прежде всего
поэта-бунтаря, они искали в нем идейного
соратника.
И позднее в его поэзии слышали эхо
декабрьского восстания 1825 г. Критик
Н. И. Коробка в начале нашего века писал: «В лице Лермонтова гордо умирала
аристократическая культура Руси конца XVIII — начала XIX века, обреченная
на гибель катастрофой 14 декабря».
А. В. Луначарский опубликовал в «Комсомольской правде» статью под на-
званием «Лермонтов как революционер» (1929).
Никаким революционером поэт, конечно, не был, хоть и ссорился с двором,
презирал высший свет, вызвал к себе ненависть вельмож и самого царя и осу-
ждал крепостничество, как осуждали его тогда многие честные люди, далекие
от бунтарских настроений.
А между тем, если признаться, нас влекут к поэту не ссоры его со своим
веком. Этот век для нас давно минул, мы забыли о нем, и злободневные когда-
то проблемы нас уже нисколько не интересуют, но мы тянемся к книжечке ста-
родавнего поэта, потому что в чудных звуках его стихов трепещет наша соб-
ственная душа. Они уносят нас в мир прекрасных чувств, очищают, возвышают
нас. Как говаривала одна старушка о Пушкине:
Ах, Пушкин! Речь его простая...
Когда я вечером читаю
Его прелестные стихи,
Они мне душу очищают,
И, кажется, бледнеют, тают
Все днем свершенные грехи.
Историк В. О. Ключевский определил как основной тонус всей поэзии Лер-
монтова чувство грусти: «Грусть стала звучать в песне Лермонтова, как только
он начал петь. Она проходит непрерывным мотивом по всей его поэзии...»
М. Ю. Лермонтов.
267
Ключевский дает несколько любопытных толкований этого чувства:
«грусть всегда индивидуальна», «в грусти, как и в слезах, есть что-то примиря-
ющее и утешающее», «Всмотритесь в какой угодно пейзаж русской природы:
весел он или печален? Ни то ни другое: он грустен» и т. д.
Прав ли историк? Одно можно сказать: грусть далека от отчаяния («В твоем
холодном неуюте мне и грустить невмоготу!»). Такого у Лермонтова нет, даже
в самых безнадежных его стихах, как «И скучно, и грустно»: «Мы пьем из чаши
бытия» и др. Грусть поэтична, одухотворенна, в ней всегда присутствует нечто,
возвышающее и нас и предмет нашей грусти.
Симптоматично, в XX в. из поэзии как-то улетучилась грусть. Нас оглу-
шают крики и брань, назойливая риторика на политические, общественные
темы, грубая сатира, и нет в ней той «эстетической культуры сердца», которую
увидел и оценил историк Ключевский в поэзии Лермонтова. Позволю себе при-
вести нижеследующие строки, посвященные поэту:
Вы в эту жизнь придя недолгим гостем,
С душой застенчивой, «открытой для добра»,
«Железный стих, облитый горечью и злостью»,
Бросали в мир, как горсти серебра.
Но смел и горд, обидчив и запальчив,
Не отойдя еще от детских снов,
Вы были, в сущности, российский добрый мальчик
С шотландским предком в глубине веков1.
Читая сейчас сочинения Лермонтова, принимая всерьез его ламентации по
поводу «глупой шутки», именуемой жизнью, мы забываем о том, что перед
нами совсем еще молодой человек, пожалуй, и капризный и избалованный, с
необыкновенным поэтическим дарованием, незаурядным умом и, конечно,
добрым и чистым сердцем.
Возраст имеет свои особые черты. Для Лермонтова, как и для многих его
сверстников, — это максимализм. (Или все, или ничего!) Все несовершенства
жизнеустройства воспринимаются в юные годы в космических масштабах. Лер-
монтову-подростку известно было, что его мать, из богатой аристократичес-
кой семьи, вышла замуж без согласия родителей за дворянина небогатого,
незнатного, что мать умерла рано. Вряд ли он ее и помнил. Что богатая бабуш-
ка, презирая его отца, буквально выкупила у него внука за 25 тысяч рублей с
условием никогда с ним не встречаться. И все это, конечно, омрачало чувства
«Вечерняя Москва» опубликовала однажды некоторые сведения о родословной поэта по
отцовской линии: «...предки Михаила Юрьевича — коренные костромичи... родоначальни-
ком русской ветви Лермонтовых был Георг (Юрья) Лермонт, выходец из Шотландии. С 1613
года он служил в рядах московских войск. Умер Лермонт за 180 лет до рождения великого
потомка... Историк С. А. Панфилова и костромской краевед А. А. Григорьев составили
родословную Лермонтовых с 1613 по 1976 год. В ней названы 234 потомка Лермонта. Ветвь
не пресеклась и поныне... у Михаила Юрьевича детей не было.
Около 20 Лермонтовых живут в СССР... По родовой традиции сына непременно назы-
вали именем деда (Георга — Юрия). На протяжении семи поколений у Юрия был сын Петр,
у Петра Юрий. Юрием Петровичем звали отца поэта. Значит, гений нашей литературы дол-
жен был носить имя Петр. Но этого не случилось. Ему дали имя деда по материнской линии,
назвав Михаилом. Чувствительный удар для обедневших.дворян».
268
Лермонтова с детства. При редких встречах с отцом он, конечно, слышал
жалобы отца. О последнем нет никаких сведений, что осталось на совести
бабушки Лермонтова Арсеньевой, которая приложила все силы, чтобы вытра-
вить всякую память о нем. Отец умер в 1831 г., когда поэту было 14 лет. Как
отнесся к этому поэт?
Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть,
И жребий чуждого изгнанника иметь
На родине с названьем гражданина...
Но ты простишь мне! Я ль виновен в том,
Что люди угасить в душе моей хотели
Огонь божественный от самой колыбели...
Бабушка бесконечно любила внука. Она убирала все преграды на жиз-
ненном его пути. Он постоянно чувствовал эту спасительную ее заботу, отзы-
вался внутренне чутким и добрым сердцем своим, но и своевольничал, и кап-
ризничал, и бунтовал. Так воспитывалось его сердце, нежное и гордое. Ко
всему этому примешалось чтение Байрона. Скорбь английского поэта, сход-
ные биографические черты (бедность в сочетании со знатностью, трагическая
судьба отца поэта) — все это кружило голову, питало мечты о высоком своем
предназначении и влекло к поэзии.
Так формировался его ум, так вызревал поэт.
Молодость звала к действию, энергия переполняла душу. Все бушевало в
груди:
Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал, как тень
Великого героя, и понять
Я не могу, что значит отдыхать.
В поэзии Лермонтова постоянно звучит мотив одиночества. Невольно
напрашивается сопоставление его с Пушкиным. Тема одиночества не волно-
вала Пушкина, потому что детство его проходило в шумной среде сверстников,
товарищей, равных ему по социальному положению. Между ними возникала
дружба на всю жизнь, а до нас, его читателей, дошли великолепные стихи «19
октября» — воспоминания о Лицее.
Иначе складывалось детство Лермонтова. У него не было друзей. Он жил в
помещичьей усадьбе, в окружении крестьянских мальчишек, к тому же крепо-
стных, которые видели в нем прежде всего барина, барчука. Они не могли
быть ему товарищами и интеллектуально — неграмотные или полуграмотные,
тогда как он мог читать не только русских авторов, но и французов и англичан
на их родном языке.
И он вынужден был замыкаться в себе даже в раннем детстве. Это имело и
свои положительные стороны — оттачивало, тренировало ум, заставляло
больше общаться с карандашом и бумагой. Поэзия стала пристанищем души,
но чувство одиночества, неразделенности сомнений, надежд все-таки угнетало.
Первое столкновение с миром (Благородный университетский пансион в
Москве, потом Московский университет) только укрепило одиночество и отре-
шенность. К тому же уязвленное самолюбие. Над ним могли и смеяться и
269
насмешничать. Оказывается, у него, как и у его кумира Байрона, есть физичес-
кие недостатки, он не так красив, как хотелось бы1. И при этом он ясно созна-
вал свое умственное превосходство, большую начитанность, когда даже уни-
верситетские профессора за неимением средств не могли себе позволить выпи-
сывать заграничные издания, а он, богатый студент, свободно их получал.
Все это и здесь, в университете, питало его отрешенность от всех, ожесто-
чало характер, отталкивало от него и тех, кто хотел бы с ним сблизиться.
Армейская среда (Школа гвардейских подпрапорщиков в Петергофе, потом
лейб-гвардии гусарский полк), веселые попойки, крутые нравы молодежных
кутежей принесли и дружеские связи, и товарищеское восхищение его стихами,
что как-то тешило самолюбие и привело к созданию «Тамбовской казначей-
ши» — веселой озорной поэмы.
Но и армейская среда не избавила Лермонтова от чувства одиночества:
редко он встречал в ней людей, которые могли бы разделить с ним его мысли,
его чувства.
Так формировался его характер — гордый, нетерпимый, неуживчивый,
насмешливый, высокомерный. Только немногие допускались в прекрасный
мир его души. Когда после дуэли с де Барантом, сыном французского посла,
поэт отбывал наказание в петербургском ордонансгаузе, его посетил там
Белинский. Поэт неожиданно сбросил с себя маску гордой неприступности и
открылся ему со всей чистотой своей натуры. Белинский был восхищен: «В
словах его было столько истины и простоты. Я в первый раз видел настоящего
Лермонтова, каким я всегда желал его видеть... Я с ним спорил, и мне отрадно
было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь
и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого».
Поэт никак не претендовал на роль политического противника монархичес-
кого режима, хотя правительственная реакция на его стихотворение о Пуш-
кине («Смерть поэта») подняла против него все силы власти. Вельможи не про-
стили ему дерзких намеков на их недавнее холопское прошлое («надменное
потомство известной подлостью прославленных отцов») — вчерашних брадо-
бреев, церковных певчих, денщиков. Они возненавидели его, как возненавидел
его и Николай I.
Анонимный доноситель прислал царю стихи Лермонтова с припиской: «Воз-
звание к революции!» Перед царем предстал призрак осажденной Бастилии и
Декабрьского восстания на Сенатской площади. После дуэли с де Барантом
Николай распорядился отправить поэта в Тенгинский полк. Резолюция царя
была коротка и безапелляционна: «исполнить сигодниже». (Так писал по-рус-
ски русский человек. Можно было в те времена хорошо знать иностранные
языки и не знать своего, о чем свидетельствует, как видим, орфография цар-
ской резолюции.)
«Послушай, что если душа моя хуже моей наружности? но разве я виноват... я ничего не про-
сил у людей, кроме хлеба — они прибавили к нему презренье и насмешки ... я имел небо,
землю и себя, я был богат всеми чувствами... видел солнце и был доволен... но постепенно
все исчезло: одна мысль, одно открытие, одна капля яда...
Безобразные черты Вадима чудесно оживились, гений блистал на челе его...»
Этот образ, эти строки появились у Лермонтова не случайно.
270
Лермонтов знал о неприязни к нему лично Николая. Однажды о*{ пред-
ставлен к награде за проявленную храбрость, но награда была отклОн ' ^шчно
царем со всей резкостью. Поэт был на примете у органов политик ь над-
зора и не мог не отвечать на подобное внимание к своей особе. И ° вечал
резкими стихами:
Быть может, за хребтом Кавказа От их всевидящего глаза,
Укроюсь от твоих пашей, От их всеслышащих ушей.
Последняя поездка на Кавказ. Настроение подавленное. Зае*а /дПяти-
горск по пути к месту службы. В доме Верзилиных безобидная шут*а ^(еркес
с большим кинжалом» — по поводу наряда Мартынова). Ссора и ДУ • Пуля
обиженного армейского фата сразила поэта. Это произошло 15 i^10 gH*841 г.
Можно представить себе дальнейшую жизнь человека с клеймоМ У чцы, а
умер он в 1875 г. Неоднократно брался за перо, чтобы опРавДатьСпра^ перо
останавливалось на полуслове. Ему нечего было сказать в свое ° £ тщание.
Великий поэт, слава и надежда России погиб на двадцать седьмом r° y \изни.
Кавказа полюбивший каменные кручи,
С царями говоривший свысока,
Таким вы были, молодой поручик,
Погибший у подножья Машука.
* * *
Историк Ключевский, как было уже сказано, нашел в поэзии
качестве главного мотива — грусть. Однако большая часть лиРиЧ^Смы выска-
зываний поэта наполнена бьющей чарез край энергией. Даже в са элеги-
ческих стихах, раздумчивых и грустных, мы слышим биение моло^та' Жажду-
щего действий сердца: «Когда огонь кипит в крови» («Дума»). истСергия
ищет выхода, ей нужна борьба. «Так жизнь скучна, когда боренье лю*» «для
сердца вольного и пламенных страстей». «Нет, не тебя так пылко # ^ю>> ц
в природе он любит как бы проявление бушующих страстей:
Терек воет, дик и злобен, Буре плач его подобен,
Меж утесистых громад, Слезы брызгами летят.
Читая Лермонтова, мы ощущаем постоянно присутствие сильн° Wth,
мощи природы, исходящей от них энергии: «На буйном пиршест**^ тЛ*1™ я
сидел», «Под бурей тягостных сомнений и страстей». И если покО ' i он не
расслаблен, не мирно безмятежен, а внутренне напряжен, полой г Аналь-
ных сил, «гордый покой». Лермонтов задавал себе вопрос:
...Жалкий человек. Но беспрестанно и напрасно
Чего он хочет?.. Небо ясно, Один враждует он — зачем?
Под небом места много всем,
Человеку свойственна вечная неудовлетворенность, он ии*£ 'чствия,
борьбы, и, если не будет поводов для борьбы, он их изобретет. 1 ''ужего
нрав, его счастье или несчастье. у
Гете на этот вопрос (что есть человек?) ответил устами своег<? ^йшего
Мефистофеля:
271
Он рвется в бой, он любит брать преграды,
И видит цель, манящую вдали,
И требует у неба звезд в награду,
И лучших наслаждений у земли.
И век ему с душой не будет сладу,
Куда бы поиски ни привели.
Потому и тоскует человек, что не находит применения своим гигантским
силам.
Так родился чудесный символический образ прекрасного одиночества —
белый парус в лазурном море. Мир прекрасен, живи, наслаждайся безбрежным
покоем! Но не хочет покоя этот парус. Он ищет бури, смятения, борьбы.
Лермонтов и как личность очень похож на Байрона. Это сходные натуры. В
их поэзии бушует буря страстей, энергии, нерастраченных сил. Байрон нашел
для них применение, он бросился в борьбу за освобождение Греции от турец-
кого владычества. Лермонтов сражался на Кавказе, но вряд ли сочувствовал
этой войне.
Печорин
Вам этот мир стал тягостен и черен,
И в мрачных поэтических мечтах
Скучающий вам виделся Печорин
С тоскою Каина в агатовых очах.
Сколько загадок дал Лермонтов литературным критикам, представив на суд
их своего Печорина! Рассудок отвергал этого странного героя, а сердце никак
не хотело с ним расставаться, что-то влекло к нему, а что?
Славянофил Шевырев немедленно провозгласил Печорина эгоистом, приз-
раком, пришедшим к нам с Запада. Белинский (западник) почуял в нем могучие
силы: «В самых пороках его проблескивает что-то великое». Но все-таки... «в
пороках».
А так уж велики эти пороки, да и можно ли назвать поведение Печорина
порочным? На первый взгляд кажется предосудительным «умыкание Беллы».
Но разве Печорин насиловал ее? Он добивался ее свободной любви, чувство-
вал, что она любит его, и стоило бы ей проявить к нему искреннюю неприязнь,
а это он бы сразу понял, и он немедленно отпустил бы ее.
Ничего этого автор не говорит нам, но мы безошибочно угадываем такую
развязку, зная натуру Печорина, бесспорно глубоко честного человека.
Белла полюбила, а раз так — получай и все страдания любви! Его отноше-
ния к княжне Мери? Здесь он играет опасную игру. У девушки есть поклонник,
и не будь Печорина, она увлеклась бы им. А поклонник этот — пустое,
ничтожное существо, заносчивое и самолюбивое. И как не посмеяться над тем
и другим, т. е. над княжной, неспособной рассмотреть ничтожество Грушниц-
кого, и над ней самой.
Вспоминается эпизод с Ольгой и Онегиным, когда он (Онегин), кокетствуя,
шалил.
272
Сколько трагедий совершается из-за, казалось бы, безобидных шуток!
Дуэлей, гибели лучших людей!
Кокетствуя шалил и Печорин, но в его поведении с княжной Мери не было
ничего порочного: он не воспользовался влюбленностью девушки, честно
признался ей, что не любит ее. И сказал ей самой открыто, моясет быть, жесто-
ко. Но опять — любите, так принимайте страдания любви!
Между тем, когда вокруг девушки стала виться оскорбительная клевета,
Печорин отважно встал на защиту ее чести.
Наконец, его дуэль? Ведь его хотели подло убить, решили это тайно, заку-
лисно, и это узнал Печорин. Что же сделал этот «эгоист»? Он не стал изобли-
чать в заговоре потенциальных убийц, он предложил самые жесткие условия
дуэли. Кто-то из дуэлянтов должен был обязательно погибнуть. Стоит только
покачнуться, отступиться от малейшей раны и... Ведь оба стояли на краю про-
пасти. Печорин здесь зол, внутренне негодует, но он и в гневе благороден.
А дружеская, отеческая любовь к Печорину милейшего, честнейшего Мак-
сима Максимыча. Разве мог бы этот бравый солдат привязаться к холодному и
жестокому эгоисту?
Говорят, образ Максима Максимыча очень понравился Николаю I и очень
не понравился ему Печорин.
Можно понять царя, он считал своим долгом не только заботиться о без-
опасности и благосостоянии государства, но и о нравственности народа. С педа-
гогической точки зрения, может быть, он был прав. Николай (пожалуй, непло-
хой вояка, но по складу ума и образу мышления рядовой офицер тогдашней
армии) и не обязательно должен был разбираться в тонкостях человеческих
отношений.
Белинский же, знаток сердца человеческого, усмотрел в «заблуждениях»
Печорина «острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здо-
ровую жизнь».
От чего же происходила вся трагедия Печорина? Опять по все той же тоске
по достойному действию. Он жил в «действии пустом», не видел, не находил
достойных предметов, за которые бы мог отдать жизнь, отдать себя целиком:
«Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем
я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было
мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъят-
ные».
Проза Лермонтова прозрачна. Ни одно лишнее слово не затуманивает ее.
Никаких сторонних описаний. Фраза коротка, энергична, напряжена.
«Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать писто-
лет. Колена его дрожали. Он целил мне прямо в лоб...
Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей. Вдруг он опустил писто-
лет и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту.
— Не могу, — сказал он глухим голосом.
— Трус! — отвечал капитан.
Выстрел раздался...»
Описывая душевное состояние, Лермонтов также предельно краток и чрез-
вычайно выразителен:
«Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень.
Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели».
273
* * *
Как бы внимательно ни изучали мы эпоху великого художника, как бы ни
проникали мы академическим взором во все детали ушедших времен, мы смо-
трим на произведение искусства глазами своего поколения и невольно иногда
сопоставляем «век нынешний и век минувший».
Мы часто слышим чудный романс на стихи Лермонтова «Выхожу один я на
дорогу», где так жива душа великого поэта и так созвучна нам. Мы видим этот
темный дуб, под которым ему хотелось бы заснуть вечным и прекрасным сном.
Ныне святые его останки покоятся в Тарханах, недалеко от того дерева, кото-
рое было посажено его рукой. Мы с благоговением осматриваем эти места,
взрастившие поэта, и не можем не думать о нем, о его поколении, о его веке.
Зачем ссорился он с ним? А если бы он, с его сердцем, с его умом, жил в наши
дни?..
Нам не понять, какое заблужденье
Могло так странно затуманить вас:
Прекрасным, чистым ваше поколенье
Сквозь призму лет нам видится сейчас.
Когда бы вы теперь на нас взглянули,
Стряхнув с себя холодный смертный сон,
В каком бы ужасе в вас чувства потонули,
С каким отчаяньем раздался бы ваш стон!
Но спите мирно! Пусть над вами ветви
Раскинет старый, вам знакомый дуб,
И ночью благостной вам тихий месяц светит,
И ветер свежестью коснется ваших губ.
н. в. гоголь
Да не подумают читатели, чтоб мы в чем-нибудь обвиняли Гоголя!
Избави нас боже от такой мысли или, лучше, от такого чувства!
Гоголь любит Россию, знает и отгадывает ее творческим чув-
ством лучше многих: на всяком шагу мы это видим.
С. П. Шевырев
Любить Россию — это святая святых для славянофилов XIX в. Они полага-
ли, что у России особый исторический путь. Любить Россию, сохранять ее тра-
диции — главная задача искусства, политики, науки. И Гоголя они почитали
безраздельно именно за это.
Западники с той же страстностью ценили Гоголя, но за критическую
направленность его творчества. Те и другие цеплялись за него, каждая партия
называла его «своим», тянула его к себе. Вокруг писателя шла ожесточенная
борьба.
Гоголя еще при жизни Пушкина признала читающая Россия. Пушкин отме-
274
тил его талант, по-отечески отнесся к нему,
направляя его первые шаги. «Сейчас про-
чел вечера близ Диканьки. Они изумили
меня. Вот настоящая веселость, искренняя,
непринужденная без жеманства, без чопор-
ности. А местами какая поэзия! какая чув-
ствительность! Все это так необыкновенно
в нашей нынешней литературе, что я
доселе не образумился».
Начинающий Гоголь благоговел перед
Пушкиным, ловил каждое его слово, про-
сил у него сюжетов (сюжеты «Ревизора» и
«Мертвых душ» подсказаны ему Пушки-
ным), посылал ему свои рукописи и полно-
стью полагался на его вкус.
После гибели Пушкина литературная
общественность признала его преемником
Гоголя: «...в настоящее время он является
главой литературы, главой поэтов; он ста-
новится на место, оставленное Пушкиным»
(Белинский).
Гоголь принял эстафету. Почувствовав
себя лидером русской литературы, он
исполнился сознанием великой своей ответственности перед народом. Тя-
жесть была непосильна, и он в конце концов надломился. Критика, сначала с
восторгом принявшая его, навязавшая ему роль пророка, требовавшая от него
разоблачения «гнусной действительности», сама же отвергла его, когда он
отказался быть им. «Да, я любил Вас со всей страстью, с какою человек,
кровно связанный со своей страной, может любить ее надежду, честь, славу,
одного из великих ее вождей на пути сознания, развития, прогресса», — писал
Белинский в своем знаменитом письме к нему. Но сколько негодования обра-
щает тот же критик к позднему Гоголю, к тому, кто написал и опубликовал
«выбранные места из переписки с друзьями»: «Проповедник кнута, апостол
невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нра-
вов — что Вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите над без-
дною...»
Можно понять Белинского. Проповедь смирения и всепрощения, с какой
обратился к народу Гоголь в этой своей последней книге, звучала в те дни
кощунством. Напомним, что тогда в России существовало еще крепостниче-
ство со всеми его чудовищными злоупотреблениями...
«Она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют
людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американ-
ские плантаторы, утверждая, что негр — не человек... страны, где нет никаких
гарантий для личности, чести и собственности... Самые живые, современные
национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права,
отменение телесного наказания... Вот вопросы, которыми тревожно занята
Россия в ее апатическом полусне! И в это время великий писатель...»
275
* * *
Писательская деятельность Гоголя продолжалась примерно двадцать лет.
Он, совсем еще молодой, едва перешагнув двадцатилетний возраст, выступил в
печати с чудесными сказками, которые он подслушал, подсмотрел на прекрас-
ной своей Украине.
Признаемся, приезжая сейчас в гоголевские места, мы ищем белоснежные
хаты с маленькими оконцами под соломенной крышей. Вот-вот, кажется, вый-
дет к нам навстречу дебелая Солоха, бойкая Оксана, какой-нибудь парубок в
шапке набекрень, и, хоть ничего этого мы теперь не найдем там, нас не оставит
чувство любви к этой стране, так чудно опоэтизированной прозой Гоголя.
В ранних произведениях Гоголя юмор, мягкий, добрый, простодушный,
как-то нерасторжимо соседствует с лирической поэзией.
Особенно хороши страницы, посвященные природе. Яркие разноцветные
эпитеты, эмоциональные сравнения и ритмически слаженная фраза — все это
качества поэзии. Это — стихи, но особые, которым не дано еще названия.
Истоки такой ритмизованной прозы мы найдем в «Слове о полку Игореве».
Вот начало «Сорочинской ярмарки»:
«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно-
жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой неизмеримый
океан, сладострастным куполом раскинувшийся над землею, кажется заснул,
весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятьях
своих. На нем ни облачка. В поле ни речи. Все как будто умерло, сверху толь-
ко, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воз-
душным ступеням на влюбленную землю...»
Сравним: «Долго ночь меркнет. Заря-свет запала. Мгла поля покрыла.
Щекот славий успе; говор галичь у буди. Русичи великая поля чрьленые щиты
прегородиша, ищучи себе чти, а князю славы» («Слово о полку Игореве»).
Или еще — из «Страшной мести» — описание Днепра. Это — гимн. Будто
голоса могучего мужского хора воспевают величие природы:
«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и
горы полные воды свои. Ни зашел охнет; ни прогремит. Глядишь и не знаешь,
идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из сте-
кла, и голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет
и вьется по зеленому миру... Когда же пойдут горами по небу синие тучи, чер-
ный лес зашатается до корня, дубы трещат, и молния, изламываясь между туч,
разом осветит целый мир — страшен тогда Днепр...»
Сравним: «...рано кровавые зори свет поведают, черные тучи с моря идут,
хотят прикрыть четыре солнца, а в них трепещут синие молнии. Быть грому
великому! Итти дождю стрелами с Дону великого!»
Или: «Дремлет в поле Ольгово хороброе гнездо. Далече залетело! Не было
оно обиде порождено, ни соколу, ни кречету, ни тебе, черный ворон».
Молодой Гоголь восхищается миром, природой, человеком, улавливает
смешные черточки в людях, добродушно посмеиваясь над ними и как-то безот-
четно любя их.
Кажется, мир его героев мал и узок, а подумаешь — он как Днепр, могучий
в грозу и прекрасный в тихую погоду. В нем живут и пасечники, и чумаки, и
какой-нибудь Шпонька со своей незабвенной тетушкой.
276
Мы уже иначе смотрим на Гоголя, а тогда русскому читателю XIX в., обра-
зованному, воспитанному на французской литературе, открывался вдруг
необычный мир народной жизни, открылась душа простолюдина, и освежа-
ющий ветер повеял на него со страниц сочинений молодого автора, прибыв-
шего откуда-то из глухой провинции, из какого-то хутора Диканьки. «Гоголь
полностью свободен от иностранного влияния; он не знал никакой литературы,
когда сделал себе имя. Он больше сочувствовал народной жизни, нежели при-
дворной...» — писал Герцен. И это особенно оценили тогда в молодом авторе.
Сами сравнения относят нас к быту малых людей, далеких от высоких сфер
социальной жизни: «Григорий Григорьевич повалился на постель, и казалось —
огромная перина легла на другую», «Вошла старушка, низенькая — совершен-
ный кофейник в чепчике».
Мал духовный мир мелкопоместных дворян, уж так мал, что какой-нибудь
отвлеченной идее невозможно в нем найти себе места:
«Молчанье продолжалось около четверти часа. Барышня все так же сидела.
Наконец Иван Федорович собрался с духом:
— Летом очень много мух, сударыня! — произнес он полудрожащим голо-
сом.
— Чрезвычайно много! — ответила барышня. — Братец нарочно сделал
хлопушку из старого маменькина башмака; но все еще очень много.
Тут разговор опять прекратился. И Иван Федорович никаким образом уже
не находил речи».
Но удивительное дело, чем-то привлекателен этот мир. Есть в нем какая-то
своя прелесть. Ни гнева, ни возмущения не возбуждает он в нас. Нам не
хочется ни уйти от него, ни разрушить. Тут есть какая-то своя гармония.
Кажется, никакой трагедии здесь не может произойти, никакой большой беды.
Люди смешны, но безобидны и добры. Мы любуемся Афанасием Ивановичем
и Пульхерией Ивановной, и, когда их мир (малый и непритязательный мир)
рушится, нас охватывает грусть.
И даже когда ссорятся два провинциальных чудака — Иван Иванович и
Иван Никифорович, то ведь и в этой их чудаческой ссоре не обнаружим мы ни
злобы, ни ожесточения. Они ссорятся, как дети из-за игрушки, и вот-вот поми-
рятся, достаточно какого-нибудь маленького пустячка, и все пойдет как пре-
жде. Этого не случается, и нам опять грустно.
«ТАРАС БУЛЬБА»
Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть
только в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы...
Н. В. Гоголь
Далекая история. Запорожская Сечь. Войны и раздоры между Польшей и
Россией, Польшей и Турцией, Россией и Турцией, а за порогами Днепра — осо-
бое «государство» — вольное казачество, воинственная голытьба, живущая по
самым широким демократическим правам. Далекая история, но отголоски ее
277
Тарас Булъба. Художник А. М. Герасимов.
нет-нет да и зазвучат в наши дни и омрачат трехсотлетнее единство русского и
украинского народов, так счастливо и мудро заключенное Богданом Хмель-
ницким.
Гоголь любил исторические изыскания и намеревался даже занять профес-
сорскую кафедру в университете, но вряд ли ради исторического интереса
написал он свою книгу о Запорожской Сечи. Современная критика по выходе
его романа объявила автора «русским Вальтером Скоттом».
Гоголя интересовали характеры — сильные, мужественные люди, их гордая
принципиальность и бесшабашная удаль.
Несравненные таланты соединяет в себе писатель: юмор, лирическую
мечтательность и высокую патетику. Он редко обращался к героическим лич-
ностям, больше занимаясь людьми маленькими, незаметным и добрым своим
сердцем проникая в их печали.
Но однажды он обратился к незаурядной личности. Это был его Тарас Буль-
ба.
Как прекрасен этот самобытный характер! Самая главная черта его лично-
сти — гордость, не та, что называется надменностью, ее бы не потерпел он ни
в себе, ни в других, но гордость прежде всего мужская. Мужчина должен быть
278
физически крепок, отважен, справедлив и честен. И гордость Тараса проявля-
ется в поддержании в себе этих качеств.
Беззаветная преданность моральным принципам, т. е. родине, религии.
Здесь он бескомпромиссен и не колеблясь казнит собственного сына: «Я тебя
породил, я тебя и убью».
Натура широкая, раздольная, не знающая удержу в бою. И при всем том он
насмешлив, готов осмеять книжную ученость, прикидываясь совсем уж неве-
ждой: «Как, бишь, того звали, что латинские вирши писал? Я грамоту разумею
не сильно, а потому и не знаю. Гораций, что ли?»
«Вишь, какой батько! — подумал про себя старший сын, Остап: — все ста-
рый, собака, знает, а еще и прикидывается».
Очень скупо, буквально несколькими штрихами очерчены сыновья Тараса —
немногословный, сдержанно суховатый Остап и женственный, влюбчивый
Андрий, ставший предателем и казненный потом отцом.
Хороши и проникновенны страницы, посвященные матери этих двух молод-
цов, ее неизбывной любви к сыновьям и вообще положению женщины в укладе
казачьей жизни: краткий миг счастья в первые дни замужества и потом долгие
годы подчиненного, без единого просвета существования.
«Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие
щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщина-
ми. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, —
все обратилось в ней в одно материнское чувство».
Сцена прощания матери с отъезжающими на бранные подвиги сыновьями
вызывает щемящее чувство участия и сострадания.
Яркие колоритные картины Запорожской Сечи, пестрые краски казацкой
вольницы — разгульной, бесшабашной и по-своему гордой — набросаны Гого-
лем с удивительным мастерством. Нет сомнения, что полотно Ильи Репина
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану» создано по описаниям Гоголя и
центральная фигура картины — хохочущий казак — и есть портрет Тараса
Бульбы.
«РЕВИЗОР»
Горе гореваныщо, лыком подпоясано, мочалами испутано.
Газета «Молва», 1836 г.
Так писала газета о первой постановке «Ревизора». Смешно, очень смешно,
но, но... как же печально, и такое у нас имеется, такие города, такие городни-
чие, такие тяпкины-ляпкины, земляники, такие Хлестаковы (а это уже и
Петербург затронут). Как же все это, право, жалко и нелепо!
Но вот прошло полтора века. Все переменилось, нет ни городничих, ни тяп-
киных-ляпкиных. Но, читая ныне повести Гоголя или наблюдая в театре смеш-
ные ужимки чиновников из русского захолустья, мы испытываем странное чув-
ство ностальгии по чему-то утраченному, навсегда ушедшему. Да, смешно, да,
нелепо, но как удивительно спокойна эта жизнь. Кажется, никакие бури, ника-
кие потрясения не потревожат ее размеренный ход.
279
В казенное помещение могла вбежать свинья и утащить какую-нибудь важ-
ную государственную бумагу, два приятеля могли ссориться и судиться из-за
слова «гусак», можно три года скакать и ни до какого государства не доска-
кать. .. — так велики просторы нашей страны, и, следовательно, так далеки мы
от бед.
Не было тогда ни Освенцима, ни Дахау, не было ужасающей индустрии
убийств, и те трагедии, какие переживали наши предки в XIX в., нам теперь
кажутся мизерными и безобидными.
Некоторые режиссеры забывают о том, что комедия Гоголя — это стихия
смеха, что здесь элементы гиперболы и гротеска, они перегружают спектакль
трибу иной критикой, сарказмом, вытравляя из пьесы главный элемент гого-
левского юмора, подчеркиваем — юмора, мягкого, веселого, незлобивого, и
тем разрушают пьесу, делают ее ненатуральной и скучной.
Николай I смеялся во время представления и говорил потом, что больше
всего досталось в пьесе ему, правителю России. Он не усмотрел в ней ничего
опасного для «устоев», ничего разрушительного. Этого он, конечно бы, не
потерпел.
Герцен же увидел в пьесе «страшную исповедь современной России».
«МЕРТВЫЕ ДУШИ»
Боже, как грустна наша Россия!
А. С. Пушкин
Вздох Пушкина. Он вырвался из груди поэта, когда Гоголь читал ему пер-
вые главы своей поэмы «Мертвые души». Маниловы, ноздревы, собакевичи,
коробочки, Плюшкины! Ба, знакомые все лица! Каждый тогда мог восклик-
нуть так, читая бессмертные страницы книги. Они были в жизни, но их не было
в литературе.
Воспроизведем здесь их портреты:
Манилов.
«На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены прият-
ности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару: в при-
емах его было что-то заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался
заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с
ним не можешь не сказать: «Какой приятный и добрый человек!» В следу-
ющую затем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: «черт знает что
такое!» и отойдешь подальше; если же не отойдешь, почувствуешь скуку смер-
тельную».
Коробочка.
«...вошла хозяйка, женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце,
надетом наскоро, с фланелью на шее, одна из тех матушек, небольших поме-
щиц, которые плачутся на неурожаи, на убытки и держат голову несколько
набок, а между тем понемногу набирают деньжонок в пестрядевые мешочки,
размещенные по ящикам комодов. В один мешочек отбирают все целковики, в
другой полтиннички, в третий четвертачки...»
280
Гоголевские типы. Ноздрев. Иллю-
страция художников Кукрыниксов.
«Ноздрев
был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании,
где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно
происходила: или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены
бывают вытолкать свои же приятели. Если же этого не случится, то все-таки
что-нибудь да будет такое, чего с другим никак не будет: или нарежется в
буфете таким образом, что только смеется, или проврется самым жестоким
образом, так, что, наконец, самому сделается совестно. И наврет без всякой
нужды».
Плюшкин.
«Лицо его не представляло ничего особенного; оно было почти такое же,
как у многих худощавых стариков, один подбородок только выступал очень
далеко вперед, так что он должен был всякий раз закрывать его платком,
чтобы не заплевать; маленькие глазки еще не потухнули и бегали из-под
высоко выросших бровей, как мыши, когда, высунувши из темных нор
остренькие морды, насторожа уши и моргая усом, они высматривают, не
затаился ли где кот или шалун мальчишка, и нюхают подозрительно самый
281
Гоголевские типы. Плюшкин. Иллю-
страция художников Кукрыниксов.
воздух. Гораздо замечательнее был наряд его: никакими средствами и старань-
ями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат: рукава и верхние
полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть... перед ним
стоял не нищий, перед ним стоял помещик. У этого помещика была тысяча с
лишним душ».
Собакевич.
«Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показал-
ся весьма похожим на средней величины медведя. Для довершения сходства
фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, панталоны
длинны, ступнями ступал он и вкривь и вкось и наступал беспрепятственно на
чужие ноги. Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на медном пята-
ке. Известно, что есть много на свете лиц, над отделкою которых натура не
долго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как то: напиль-
ников, буравчиков и прочего, но просто рубила со всего плеча: хватила топо-
ром раз — вышел нос, хватила в другой — вышли губы, большим сверлом
ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши: «живет».
282
Чичиков и Коробочка. Иллюстрация
художников Кукрыниксов.
Такие лики предстали перед потрясенным читателем в 1842 г., лики поме-
щичьей Руси. Герцен, Белинский усмотрели в книге антикрепостнический
характер. Роман приобретал политический смысл. «Комедия Гоголя «Реви-
зор», его роман «Мертвые души» — это страшная исповедь современной Рос-
сии», — писал Герцен.
Белинский оценил произведения Гоголя «глубоко истинными». Писал, что
они «так могущественно содействовали самосознанию России, давши ей воз-
можность взглянуть на самое себя как будто в зеркале...».
Славянофилы были смущены, интуитивно они считали писателя своим
собратом, глубоко преданным традициям русской старины. Некоторые же кри-
тики усмотрели в писателе ненавистника России, клевещущего на нее.
Вся беда заключалась в том, что в картинах, нарисованных Гоголем, нахо-
дили тогда приметы только России, только ей присущие черты. Пожалуй, так
относился к этим картинам и сам автор. «Мне хочется в этом романе показать
хотя бы с одного боку всю Русь», — писал он Пушкину.
А между тем не только Россия порождала такие типы, которые оказались
283
Манилов. Иллюстрация художников
Кукрыниксов.
на страницах «Мертвых душ». Да, конечно, они окружены русским колоритом,
они говорят по-русски, у них русские имена и нравы их привязаны к дорефор-
менным временам, к крепостничеству, от чего уже давно отказалась Западная
Европа. Но снимите с них национальные одежды, сшитые по моде времени, и
перед вами будут знакомые нам общечеловеческие характеры. Рядом с Плюш-
киным окажутся и шекспировский Шейлок, и бальзаковский Гобсек. Послед-
ний, правда, умнее, образованнее, но сущность того и другого одна и та же.
Найдем мы пару и для Коробочки. Вспомните роман Бальзака «Отец Горио»,
вспомните содержательницу пансиона г-жу Воке. Посмотрим на нее:
«Вскоре появляется сама хозяйка, нарядившись в тюлевый чепец, откуда
выбилась прядь накладных, неряшливо приколотых волос; вдова идет, пошмы-
гивая разношенными туфлями. На жирном потрепанном ее лице нос торчит,
как клюв у попугая; пухлые ручки, раздобревшее, словно у церковной крысы,
тело, чересчур объемистая, колыхающаяся грудь — все гармонирует с залой,
где все сочится горе, где притаилась алчность...»
Наша русская Коробочка выглядит как-то даже симпатичнее, она, конечно,
284
глупа, ограниченна, скопидомна, но все-таки не так уж зла, а скорее даже вну-
тренне добра, как христианка, в отличие от своей парижской товарки. Мы
потешаемся над ней, но вряд ли найдется человек, который так уж возненави-
дел бы ее.
Не так мы отнесемся к г-же Воке. Тут нас охватит презрение и ненависть,
здесь настоящее зло, тут ужас.
Двойников Манилова, Ноздрева, Собакевича найдем мы и во Франции, и в
Англии, и везде, где жили и живут люди. Живали они и при Гомере, только
поэты не замечали их, все свои взоры устремляя на героев и героическое.
Живали они и при Данте, недаром в его Аду было место для корыстолюбцев.
Да и в наши дни и в наших городах и весях живут и Плюшкины и коробочки,
каждодневно пересчитывающие целковые и полтиннички, и наглые ноздревы,
которых мы каждодневно встречаем на улицах, разухабистых, полупьяных и
пьяных, с бранной речью, с холодным и опасным взглядом, в сравнении с кото-
рыми гоголевский герой выглядит куда безобидней.
Словом, не нужно привязывать типы «Мертвых душ» только к России и
приходить от этого в ужас и бичевать себя, как это делали современники писа-
теля. «Что же, наконец, за чудовище, называемое Россией, которому нужно
столько жертв и которое предоставляет детям своим лишь печальный выбор
погибнуть нравственно в среде, враждебной всему человечеству, или умереть
на заре своей жизни?» (Герцен).
* * *
Гоголь не сам взял на себя роль пророка. Ему ее, как было уже сказано,
навязали. Он начал предаваться мучительным думам о России, о ее судьбе, о ее
великой исторической миссии. «Я писатель, а долг писателя не одно доставле-
ние приятного занятия уму и вкусу: строго взыщется с него...»
Молодые умы обращались к нему, торопили его, кричали: «Когда же, когда
же придет «настоящий день»? Когда же вы скажете, что и как нам делать?»
Но что же он мог ответить на эти призывы и эти вопросы? Разве что эмо-
циональным гимном в честь России: «...неестественной властью осветились
мои очи: ух, какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!»
Спасительной идеи не приходило в голову. В России, которую он видел из
«прекрасного далека», из Италии, где он провел многие годы, бушевали страс-
ти. Схлестнулись западники и славянофилы, и каждая из этих партий обраща-
лась к его авторитету за одобрением и поддержкой. Писатель же с ужасом соз-
навал, что ни одной из этих партий он такой поддержки оказать не может, что
вообще путь борьбы претит ему.
И мрачнее и мрачнее становится взгляд его, и вот уже отчаяние охватило
душу: «Все глухо. Могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в твоем
мире».
Эти строки найдем мы в его последней книге «Выбранные места из пере-
писки с друзьями», потрясшей его современников и вызвавшей такую горячую
отповедь со стороны Белинского. «Не может быть! Или Вы больны, и Вам
надо спешить лечиться, или — не смею досказать моей мысли...»
Гоголь был болен, в смятенном состоянии он сжег вторую часть «Мертвых
душ», и не возмущаться надо было, а печалиться о его участи.
285
Гоголевские типы. Иван Иванович и
Иван Никифорович. Иллюстрация
художников Кукрыниксов.
Депрессия охватила некогда веселого, влюбленного в жизнь писателя, к
этому примешалась дружба с фанатиком-монахом, увлекшим его в дебри
мистики. И недосказанное Белинским случилось... Николай Васильевич
Гоголь скончался 4 марта 1852 г. на сорок третьем году жизни. Ныне у дома,
где это произошло, стоит памятник работы скульптора Андреева. Мрачная,
согбенная фигура страждущего человека.
Чтобы понять своеобразие русской литературы XIX века, необходимо
отчетливо видеть коллективные усилия ее интеллигенции как-то решить обще-
национальные проблемы. В спорах, дискуссиях западников и славянофилов, в
галерее так называемых «лишних людей», изображенных с насмешкой или с
горечью в произведениях русских авторов, в сатирических нападках на Россию
(Салтыков-Щедрин, «Город Глупов»), в патриотических и гражданских чув-
ствах, подчеркнуто отраженных в поэзии и прозе, ощущался в сущности
один вопрос, — как изменить общественную жизнь в России? — Первую поло-
вину XIX века ее омрачало крепостничество, вторую — нерешенные земель-
ные отношения после реформы 1861 года.
286
«ЗАПАДНИКИ И СЛАВЯНОФИЛЫ»
Уж Русью только бредит он,
Уж он Европу ненавидит
С ее политикой сухой,
С ее развратной суетой.
А. С. Пушкин
Вековечное противопоставление Европы (Запада) и России началось еще
во времена Петра, когда консервативная и богобоязненная часть русского
общества со страхом, а подчас и с ненавистью глядела на реформы царя и ког-
да, с другой стороны, сподвижники Петра увлеченно потянулись к европейской
культуре, европейским нравам. Петр с его энергичным и не терпящим возра-
жений характером хотел резко повернуть страну к иной цивилизации. Любя
Россию, готовый отдать за нее жизнь, стыдясь за ее отсталость, а она была
очевидна в сравнении с материальными и духовными достижениями народов
Западной Европы, он всеми силами хотел поднять ее до их уровня, возвеличить
и возвысить ее, нисколько не думая при этом о себе. Вспомним слова из его
обращения к солдатам перед Полтавским боем: «Не за меня, а за Россию, мне
врученную, идете в бой». И даже жестокость, с какою он обошелся со своим
сыном, была вызвана его великой любовью к России: «Я за мое отечество и
людей живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя, непотребного,
пожалеть?»
Екатерина Великая продолжила дело Петра. Как и он, она посылала моло-
дых дворян на учебу за границу. Александр Радищев был одним из них. Его
«Путешествие из Петербурга в Москву», так напугавшее Екатерину, совпало с
ужасом, какой охватил весь тогдашний мир от террора, развязанного Робеспье-
ром во Франции, как и от всех событий французской революции. Не случись
этого, вряд ли дело Радищева обернулось бы так трагично для него.
Уже при Екатерине стали раздаваться голоса об излишней «европеизации»
россиян. Осмеивалась неумеренная галломания (комедия Фонвизина «Брига-
дир»).
Грибоедов тоже коснулся этой темы. Напомню страстный монолог Чацко-
го:
Пускай меня объявят старовером,
Но хуже для меня наш Север во сто крат
С тех пор, как отдал все в обмен, на новый лад,
И нравы, и язык, и старину святую,
И величавую одежду на другую.
Здесь затронут и Петр, ведь это он совершил «по шутовскому образцу об-
мен на новый лад», он подавил «старину святую», нравы боярской Руси, он
поменял «величавую одежду» (мы знаем их по сохранившимся в музеях оде-
ждам прошлых лет — длиннополые кафтаны с удлиненными рукавами на
мехах, с золотыми пуговицами, а иногда из драгоценных камней. А «шутовской
образец» — это европейские фраки: «...хвост сзади, спереди какой-то чудный
выем»).
287
Чацкий здесь, пожалуй, недалек от Фамусова. Московский барин ворчит на
новые моды, идущие с Запада:
А все Кузнецкий мост, и вечные французы,
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы...
В 40—60-е гг. в России, в ее двух столицах, в Петербурге и Москве, прохо-
дила журнальная схватка западников и славянофилов. В первую входили
Белинский, Герцен, Тургенев; во вторую — братья Киреевские, братья Акса-
ковы, С. П. Шевырев, А. С. Хомяков и др. Первые группировались вокруг
журналов «Современник», «Отечественные записки», вторые — «Москвитя-
нин».
Салтыков-Щедрин вспоминал:
«Как известно, в сороковых годах русская литература (а за нею, конечно, и
молодая читающая публика) поделилась на два лагеря: западников и славяно-
филов... Я тогда только оставил школьную скамью...»
Славянофилы обвиняли западников в клевете на русский народ, на его
прошлое, в отказе от традиций старины. Западники отбивались:
«Мы не боимся высказывать самые жестокие истины, но мы их говорим,
потому что любим... У нас перед глазами крепостничество, а нас обвиняют в
клевете и хотят, чтобы печальное зрелище крестьянина, ограбленного дворян-
ством и правительством, продаваемого чуть ли не на вес, опозоренного розга-
ми, поставленного вне закона, не преследовало нас днем и ночью, как угрызе-
ние совести, как обвинение» (А. И. Герцен).
Трудно сказать, кто из них был более прав, но побуждения и тех и других
были благородны: и те и другие любили Россию и ее народы.
Слова «западники», «славянофилы» попали и на страницы романов. Турге-
нев в «Отцах и детях» о Павле Петровиче Кирсанове, богатом помещике,
писал: «Он придерживается славянофильских воззрений: известно, что в выс-
шем свете это считается tres distinghe (изысканной чертой)».
Славянофилов называли консерваторами. Против них ожесточенно высту-
пали Белинский, Добролюбов, Чернышевский, обвиняя их в махровом монар-
хизме.
Славянофилы не хотели ограничения самодержавной власти царя, но вме-
сте с тем полагали, что в обществе должна быть свобода мнений, гласность и
гласный суд с присяжными. Как и западники, они требовали отмены крепо-
стного права.
Западничество было чисто русским явлением. А вот славянофильство в
культурной традиции связано с общеевропейским духовным движением, истоки
которого идут из XVIII в. и связаны с именем немецкого философа Гердера
(1744—1803), с его призывом к людям искусства прислушаться к голосам
необразованной части народа, понять душу народа, услышать его живые голо-
са.
Возникло понятие народности искусства. От презрения к «некультурной»
поэзии простого народа перешли к прославлению ее, к собиранию ее образцов.
Ностальгия по допетровской Руси органически сливалась в идейной про-
грамме славянофилов с прославлением народа, его нравственного и духовного
богатства. П. Киреевский увлекся собиранием народных песен, собрал их что-
то порядка 10 тысяч. Изданные уже после его смерти, они составили 11 томов.
288
Надо сказать, что интерес к народному творчеству охватил тогда самые элит-
ные слои культурной части общества. В 1861—1867 гг. вышли четыре тома
«Толкового словаря живого великорусского языка» Даля. Позднее вышло его
же собрание «Пословиц русского народа».
Нельзя не признать: полемика между двумя группами литераторов, иногда
довольно резкая, принесла немало доброго России, духовному развитию обще-
ства.
Патриотические чувства в русской литературе
Родину нужно любить даже тогда, когда она к тебе несправедлива.
Вольтер
Французские просветители называли себя космополитами, т. е. склонялись
к мысли о всеземном гражданстве каждой личности, но все-таки родина, то
общество, в котором они родились и воспитывались, была предпочтительнее
всех остальных пространств мира. Вольтер, изгнанный из Франции, прожив
около трех лет в Англии, где ему совсем неплохо жилось, так стосковался по
родине, что тайком перебрался к своим соотечественникам и слезно просил у
министра Морепа разрешения «носить свои цепи в Париже».
В России, в дни войны с Наполеоном слова, «отечество» и «патриот» бли-
стали нравственной чистотой не только в народе, но и в правительственных
кругах. Патриотизм был понятен и оправдан. Но десятилетием раньше слова
эти ассоциировались с идеями французской революции. Робеспьер антипатрио-
тами называл аристократов, поэтому слова «патриот», «отечество» восприни-
мались как символы революционности и враждебности к аристократам. Па-
вел I запретил употреблять слово «патриот». Оно пахло революцией. Но либе-
ральная молодежь с увлечением высказывала патриотические чувства. В бума-
гах Бенкендорфа сохранилось донесение одного чиновника его канцелярии
1827—1830 гг.: «...банкротство дворянства, продажность правосудия и крепо-
стное право — вот элементы, которые русские патриоты считают возможным
использовать в подходящий момент, чтобы возбудить волнения в пользу кон-
ституции», — сообщалось в этом донесении.
Николай I с подозрением относился к патриотам и больше доверял инород-
цам, окружавшим его двор («наши служат отечеству, а немцы — мне»).
Патриотические чувства у русских литераторов были поистине святыми.
«Москва, Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось», — вос-
клицал Пушкин. «Москва! люблю тебя как сын, как русский, — сильно, пла-
менно и нежно» (М. Ю. Лермонтов).
Подчас с доброй улыбкой они писали о неброской красоте ее природы: «по-
рой дождливою намедни я завернул на скотный двор», о простом народе: «те-
перь мила мне балалайка да пьяный топот трепака перед порогом кабака»
(Пушкин). Ему вторит Лермонтов:
Но я люблю — за что, не знаю сам? —
Ее степей холодное молчанье,
289
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее подобные морям...
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И взором медленным, пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Белинский пришел в восторг от этого стихотворения: «что за вещь — пуш-
кинская, то есть одна из лучших пушкинских» (т. е. в пушкинском стиле. —
С. А).
Пушкину и Лермонтову вторит Гоголь. В его прозе она такая же раздольная
и убогая и бесконечно милая сердцу: «.. .И опять по обеим сторонам столбового
пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы,
серые деревни с самоварами, бабами...»
Унылую картину, которую не раз видывал писатель в своих поездках по
Руси, он заканчивает мыслями о ее грядущем величии:
«Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться
беспредельной мысли, когда ты сама без конца? здесь ли не быть богатырю,
когда есть место развернуться и пройтись ему? и грозно объемлет меня могу-
чее пространство, страшною силой отразясь во глубине моей; неестественной
властью осветились мои очи: ух, какая сверкающая, чудная, незнакомая земле
даль! Русь!»
Сердца современников отозвались. Читая ныне старые журналы, дивишься
тому всеобщему, всеохватному патриотическому чувству, искреннему, не
заказному, которое оставило глубокий след в литературе. Критик Шевырев в
рецензии на книгу Гоголя не может не поддаться лирическому восторгу:
«...при имени Русь... крепко забилось сердце... из очей выступили слезы, и
каким-то непонятным желанием вся душа повлеклась в родимую даль, а затем
и высокие лирические движения стеснили грудь и вылились из нее полнозвуч-
ными, восторженными, вещими словами». Раскройте последнюю страницу
романа Гончарова «Обрыв», и там все венчает славица родине: «...за ним сто-
яла и влекла его к себе — исполинская Россия».
Гражданская тема в русской литературе
Русские писатели-гуманисты второй половины XIX века несут на
душе великий грех человеческой крови под их знаменем в XX веке.
Шаламов, 1972 г.
Странное заявление. Мы привыкли с уважением относиться к святым для
нас именам Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Тургенева, Льва Тол-
стого, Достоевского, к художникам-передвижникам, к композиторам «Могу-
чей кучки» — ко всей великой русской культуре второй половины XIX в., кото-
рая болела великой болью за угнетенного, обездоленного, униженного челове-
ка. Оказывается, она, эта культура, повинна в «великом грехе человеческой
крови», что обильно пролилась в XX в., в котором мы живем.
290
Шаламов — несчастный человек, пострадавший в годы политических
репрессий, много передумавший. Мрачный вывод его заставляет задуматься и
нас.
Русская культура XIX в. была с ярко выраженной гражданской направлен-
ностью. Так, во Франции вся культура XVIII столетия готовила умы к страш-
ным дням Великой революции 1789—1794 гг.
Эта революция подтолкнула Радищева на отчаянную попытку совершить то
же самое и в России. Страшную картину крепостничества он завершает призы-
вом к свержению самодержавия. Умная Екатерина Великая немедленно отре-
агировала, заявив, что это опаснее Пугачева.
Радищев, пройдя следствие в Петропавловской крепости, тюрьму и ссылку,
освобожденный Павлом, отменявшим все репрессивные меры матери, в конце
концов покончил с собой, но идеи его оставались жить, и мальчик Пушкин,
вторя Радищеву, пишет в стихотворении «Деревня»:
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца...
Пушкин уже тогда понимал, что насильственные методы борьбы с социаль-
ным злом неприемлемы: все должно решиться сверху, «по манию царя», что и
произошло в 1861 г.
Позднее, уже в зрелом возрасте, он писал: «...должны еще произойти вели-
кие перемены, но не должно торопить времени, и без того довольно деятельно-
го. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного
улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных
для человечества».
После Радищева свершаются события Декабрьского восстания, убийство
Милорадовича и жестокая расправа с восставшими: пятеро повешены и сто
двадцать отправлены на каторгу. Среди повешенных — поэт Рылеев.
Кто же поднял этот бунт? Самые богатые, наделенные почестями и имени-
ями люди, представители социальной элиты: Трубецкие, Волконские, Муравь-
евы, Лунины, Одоевские — отпрыски знаменитых и славных в русской истории
дворянских родов.
Трагическая смерть Пушкина потрясла Россию и вызвала бурю граждан-
ских чувств. В гибели поэта увидели происки двора и придворной челяди. Сти-
хотворение Лермонтова трубным гласом прозвучало по стране и отозвалось в
сердцах, напугав власти.
Лермонтов в 1840 г., отправляясь в ссылку, пишет резко оппозиционное по
отношению к правительству Николая I стихотворение. Оно было напечатано
только в 1887 г. Здесь, конечно, сказалась и личная неприязнь поэта к царю.
Ему было известно отношение к нему самодержца российского:
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ.
291
Гражданская тема у русских писателей-дворян возникала не по личным при-
чинам. Им не на что было жаловаться, они принадлежали к привилегирован-
ному сословию. Но, подобно Чацкому, часто уклонялись от службы по мораль-
ным принципам («служить бы рад, прислуживаться тошно»).
В обществе бродили смутные идеи протеста против общественного
неустройства, недовольство социальной несправедливостью, причем не в тех
кругах, которые были жертвами этих несправедливостей, но в привилегиро-
ванных сословиях.
Раскройте роман Гончарова «Обрыв». Разговор, состоявшийся в одной из
гостиных дворянского дома более ста лет тому назад:
«— А спросили ли вы себя хоть о том: сколько есть на свете людей, у кото-
рых ничего нет и которым все надо? Осмотритесь около себя: около вас шелк,
бархат, бронза, фарфор. Вы не знаете, как, откуда является готовый обед, у
крыльца ждет экипаж и везет вас на бал, в оперу. Десять слуг не дадут вам
пожелать и исполняют почти все ваши мысли... А думаете ли вы иногда,
откуда все это берется и кем доставляется вам? Конечно, не думаете. Из
деревни приходят от управляющего в контору деньги, и вам приносят на сере-
бряном подносе... А если бы вы знали, что там, в зной жнет беременная баба...
Да и ребятишек бросила дома — они ползают с курами, поросятами, и если нет
какой-нибудь дряхлой бабушки дома, то жизнь их каждую минуту висит на
волоске: от злой собаки, от проезжей телеги, от дождевой лужи... А муж ее
бьется тут же, в бороздах на пашне или тянется с обозом в трескучий мороз,
чтобы добыть хлеба, буквально хлеба — утолить голод с семьей и между про-
чим внести в контору десять рублей, которые потом вам приносят на подносе...
Вы этого не знаете, «вам дела нет», — говорите вы.
На ее лицо легла тень непривычного беспокойства, недоумения.
— Чем же я тут виновата и что я могу сделать?-тихо сказала она смиренно
и без иронии».
И это пишет один из самых законопослушных писателей XIX в. Каких-либо
революционных порывов от него было ждать нельзя.
Он верно служил монархии, будучи литературным цензором, и достаточно
зорко следил за тем, чтобы литературная братия не переходила грани дозво-
ленного. Но таковы были общественные настроения, и писатель-реалист
обойти их не мог.
Наиболее резко двойственную оценку русской действительности выразил
поэт Некрасов в знаменитом стихотворении «Русь»:
Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка-Русь!
Неожиданно бравурный тон прозвучал и здесь, упование на будущее:
Рать подымается —
Неисчислимая,
Сила в ней скажется
Несокрушимая!
292
Откуда возьмутся эти «несокрушимые силы», никто путно не говорит, но
думы о родине не оставляют русских литераторов. В стихотворном послании к
Салтыкову-Щедрину Некрасов не преминул предупредить: «О нашей родине
унылой в чужом краю не позабудь». Родина, родина, но, увы, — «унылая»!
Патриотические идеи сливаются с темой гражданской, а последняя — с критикой
социальных условий на Руси и призывом к насильственному преобразованию
ее. Призыв, исторгнутый из исстрадавшейся души, нетерпеливый, непримири-
мый:
Душно! без счастья и воли,
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!
В рукописном списке стихотворения Некрасова «Песня Еремушке» кто-то
неизвестный сделал приписку:
И тогда усадьбы барские
Запылают, как костер,
И на головы боярские
Мы наточим свой топор.
Слова, поистине пророческие. Пылали усадьбы барские в 1917 г., 250 тысяч
их сгорело, разграблено, бессмысленно, хищнически. Несметные богатства
были обращены в ничто, пущены по ветру, без всякой пользы для народа, о
котором горевали и Некрасов, и Белинский, и Чернышевский.
Добролюбов послал «Песню Еремушке» одному из своих друзей. Он писал
ему: «Выучи наизусть и вели всем, кого знаешь, выучить «Песню Еремушке»
Некрасова... Боже мой, сколько великолепнейших вещей мог бы написать
Некрасов, если бы его не давила цензура».
* * *
Удивительное единство наблюдалось в творческих поисках русских писате-
лей XIX в., особенно у тех, которых недавно историки называли революцион-
ными демократами. Капризом настроений это объяснить нельзя. Значит, суще-
ствовала определенная причина, и она гнездилась в экономической и социаль-
ной сфере жизни русского общества. В первой половине века — задержавше-
еся у нас слишком надолго крепостничество, в то время как в Западной Европе
с этим давно уже покончили, а во второй половине века, после освобождения
крестьян — нерешенный земельный вопрос, доживший до Столыпина и опять
до конца нерешенный. Не решен он и в наши дни.
Когда читаешь и перечитываешь произведения наших литераторов минув-
шего столетия, не можешь не заметить в них преобладание гражданской темы.
Сколько революционной страсти бушевало в их душах и сколько наивного пре-
краснодушия! Если бы они знали, чем завершится их деятельность, сколько
крови прольется, крови того самого народа, о котором радели. «И на головы
боярские мы наточим свой топор». И падали эти боярские головы, и дикие
зверства совершались и с той и с другой враждующей стороны. Страшно поду-
мать, что часто самые чистые души становились виновниками великих бед
293
народных, самые благородные начинания завершались злобой, насилием,
кровью!
Не могу не отметить здесь уникального документа эпохи, касающегося
роли интеллигенции в истории революционных событий в России XX в. В
1909 г. вышел из печати и поныне не забыт сборник статей ряда русских интел-
лигентов (Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, М. О. Гершензона и др.) под назва-
нием «Вехи». Авторы сборника возлагали вину за революцию 1905 г. и полити-
ческую смуту на интеллигенцию и призывали ее покаяться перед народом.
Они нисколько не отрицали нравственного благородства этой интеллиген-
ции и все-таки решительно ее осуждали: «...русская интеллигенция развивалась
и росла в атмосфере непрерывного мученичества, и нельзя не преклониться
пред святыней страданий русской интеллигенции», но «героическому интелли-
генту» обязательно надо было быть «спасителем человечества или, по крайней
мере, русского народа», такой интеллигент впадает в «фанатизм, глухой к
голосу жизни», доходит до крайностей, «ибо герой вообще не мирится на
малом» (С. Н. Булгаков).
Другой автор обвинил интеллигенцию даже в «духовном родстве с грабите-
лями, корыстными убийцами, хулиганами и разнузданными любителями поло-
вого разврата» (С. Л. Франк).
Сборник «Вехи» вызвал бурную реакцию. Против него выступил с двумя
резкими статьями В. И. Ленин.
В семейном кругу Николая II, как пишет в своих воспоминаниях воспита-
тель царских детей Пьер Жилляр, часто говорили о роли интеллигенции в рево-
люционном движении в России.
В наши дни интерес к сборнику «Вехи» снова возник, его переиздало в
1991 г. издательство «Молодая гвардия».
«ЛИШНИЕ ЛЮДИ»
Кто там меж ними в отдаленьи
Как нечто лишнее стоит?
А. С. Пушкин
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
М. Ю. Лермонтов
Удивительный, непостижимый, необъяснимый парадокс: самый блестя-
щий, поистине ослепительный, самый деятельный, самый плодотворный
XIX в. России породил в ее литературе образы странных, страдающих, безде-
ятельных людей. Тургенев назвал их «лишними». И эту кличку подхватили. Да,
да, они лишние, они никчемные. Их так воспитали, потому что они помещичьи
дети, потому что они дворяне, потому что Ваньки, Захарки обслуживали их.
294
«В самом деле, — раскройте, например, «Онегина», «Героя нашего време-
ни», «Кто виноват?», «Рудина» или «Лишнего человека», или «Гамлета
Шигровского уезда» — в каждом из них вы найдете черты, почти буквально
сходные с чертами Обломова», — писал Добролюбов в 1859 г. Далее следует
обстоятельный, с пристрастием разнос Онегина, Печорина, Обломова: «Кто
же, наконец, сдвинет их с места этим всемогущим словом «вперед!», о котором
так мечтал Гоголь и которого так ожидает Русь?»
Гончаров, так беспощадно развенчавший Обломова, вместе с тем полон
уважения к нравственным качествам своего героя. Он говорит о нем устами
Штольца: «...таких людей мало; они редки, это перлы в толпе!»
Чернышевский противопоставил Обломову (роман он не дочитал) иного
героя, деятельного и фанатичного Рахметова, который тренировал свою волю
на матрасе с гвоздями: «...это цвет лучших людей, это двигатели двигателей,
это соль земли».
Сейчас, в конце XX в., бросая взгляд на прошлое столетие, мы не можем не
дивиться тому странному скоплению «лишних» людей. На смену Онегиным,
печориным пришли бельтовы (Герцен. «Кто виноват?»), рудины (Тургенев.
«Рудин»), лаврецкие (Тургенев. «Дворянское гнездо»), райские (Гончаров.
«Обрыв») и, наконец, как наиболее яркое олицетворение ненужности, никчем-
ности — Обломов.
Невольно задаешься вопросом, могло ли быть такое в эпоху Петра Велико-
го, в годы Екатерины Великой? Могли ли тогда появиться в литературе празд-
ные скучающие люди, даже такие красиво скучающие люди, как Онегин и
Печорин? Отрицательный ответ на этот вопрос очевиден. Почему? Обратимся
к Пушкину: «тогда Россия молодая мужала с гением Петра». Тогда не было
времени скучать, тосковать, предаваться рефлексии, самобичеванию. Вся
страна, весь народ был подвигнут к действию, к реформе, к созиданию. Дело
Петра продолжала Екатерина. Россия выходила на передовые рубежи истории,
но... но... никак не умела решить свои внутренние экономические и социаль-
ные проблемы. Она застряла в крепостничестве, в то время как Западная
Европа давным-давно сбросила с себя эти путы, мешавшие и экономическому
развитию, и нравственному самосознанию.
Многие русские побывали за рубежами России. Русская армия — в Париже,
и тамошние нравы невольно сравнивались с нравами России. Так была подго-
товлена почва для движения декабристов. Александр I не отреагировал на
доносы о возникшем движении дворянского либерализма, опасного для само-
державного режима. «Не мне их судить», — как говорят, ответил он. Историки
связывают этот ответ с нравственными терзаниями царя, не могшего себе про-
стить участие в трагическом низложении отца, Павла I. Вряд ли это было так.
Александр, воспитанный на либеральных идеях швейцарца Лагарпа, пристав-
ленного к нему Екатериной (что резко порицалось баснописцем Крыловым),
понимал, как отстала Россия от Западной Европы в крестьянском вопросе, но,
не имея должного характера, чтобы пойти на решительные меры, он отступил-
ся, махнул на все рукой, предоставив страну в полное распоряжение волевого и
узколобого Аракчеева. Тайно сочувствуя будущим декабристам, он самоустра-
нился. Как бы ни судили новейшие историки Александра Благословенного (так
назвал его народ), он был благороден, чист душой и трагически тяготился
доставшимся ему жребием быть царем и вершителем людских судеб.
295
Николай I обладал характером солдата и круто расправился с дворянской
оппозицией.
Для полноты картины приведу письмо декабриста А. Бестужева из крепо-
сти Николаю I:
«Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то народ русский впервые ощутил
свою силу; тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости,
сперва политической, впоследствии народной. Вот начало свободомыслия в
России. Правительство само произнесло слова «свобода, освобождение!». Само
рассеивало сочинения о злоупотреблении власти Наполеона, и клик русского
монарха огласил берега Рейна и Сены. Еще война длилась, когда ратники, воз-
вратясь в дома, первые разнесли ропот в классе народа. «Войска от генералов
до солдат, пришедши назад, только и толковали, как хорошо в чужих землях.
Сравнение со своим естественно произвело вопрос, почему же не так у нас?»
Вряд ли, пожалуй, такие вопросы возникали у солдат, крепостническое соз-
нание еще крепко держалось в головах, но у честнейшей части русского офи-
церства такие вопросы после Парижа возникали и крепли, и они-то привели их
на Сенатскую площадь в декабре 1825 г.
Мы знаем, что из этого получилось: пять повешенных, сто двадцать
каторжников и... «Ваш скорбный труд не пропадет...», но не верилось... И
появились эти красиво тоскующие люди.
Дворянство оскудевало. Эволюция шла по схеме, начертанной еще Пушки-
ным: «дед богат, отец нуждается, внук просит подаяние». На смену идут «раз-
ночинцы», так окрестили тогда новый служилый класс, а также журналистов,
литераторов, людей искусства, выходцев из духовенства, мещан, купеческих
семей. Дворянство, оставив сферы культуры, где оно ранее занимало главен-
ствующее место, сохранило за собой командные посты в армии и в аппарате
высших государственных чиновников.
Тема «лишнего человека» возникла в России. Теоретически она оформи-
лась в 50-х гг. XIX в., после выхода в свет сочинения Тургенева «Дневник лиш-
него человека». Сама же художественная практика уже создала типические
черты этого, так называемого «лишнего человека» (Чацкий, Онегин, Печо-
рин).
Добролюбов, Чернышевский подхватили термин, и надолго в русской кри-
тике, вплоть до последних, уже наших дней литературоведение и наша средняя
и высшая школа увлеченно «казнили» за бездеятельность и ненужность этих
людей. Школьники, порой и студенты, с еще не замутненным сознанием здра-
вого ума, недоумевали, почему же этих людей, таких обаятельных, таких
поистине притягательных, нужно относить к отрицательным персонажам и
осуждать их.
Герцен красноречиво описал душевное состояние интеллигенции своего
поколения.
«Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону
нашего существования... Поймут ли они, отчего мы лентяи, отчего ищем вся-
ких наслаждений, пьем вино и пр. Отчего руки не поднимаются на большой
труд? Отчего в минуты восторга не забываем тоски?» (Дневник, 1842 г.).
Белинский, Герцен, Добролюбов, Чернышевский, Некрасов рвались в бой.
Они требовали активных действий, решительных мер, борьбы, если говорить
о конечных целях, то революции. Это были своеобразные экстремисты про-
296
гресса, родоначальники той когорты протестантов, которые привели к Октяб-
рю 19П г-
В 60—70-х годах нашего, XX столетия некоторая часть (очень тогда незна-
чительная) русской интеллигенции (советской, ибо тогда мы еще жили в
Советском Союзе), потрясенной картиной репрессий сталинского времени,
обнародованной XX съездом КПСС, обратила критический взор к прошлому
России, к именам Белинского, Герцена, Добролюбова, Чернышевского с еще
робким сомнением в нужности и исторической полезности их революционного
энтузиазма.
Волны осуждения «революционных демократов» XIX в. поднимались и
ширились, и ныне грубая брань несется в их сторону.
Полный уважения к их именам, я не брошу в них камень, они не прозревали
грядущих последствий. В их нетерпеливом ожидании перемен они не сумели
подняться до глубокой мудрости нашего великого поэта и мыслителя. Еще раз
процитирую пророческие строки Пушкина:
«...должны еще произойти великие перемены, но не должно торопить вре-
мени, и без того довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть
те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных
потрясений политических, страшных для человечества».
Обломов
Гончаров дал нам бессмертный образ Обломова.
И. Ф. Анненский
Удивительный, гротескный, почти неправдоподобный образ создал Гонча-
ров. Имя Обломова стало нарицательным. Сказать по правде, нарицатель-
ными становятся именно гротескные фигуры, в которых подчеркнуты, выве-
дены за пределы натуральности определенные черты. От них происходят наи-
менования самих этих черт, особенностей: гамлетизм, донкихотство, обломов-
щина и пр.
Жизнь Обломова в сущности несложна. Как подметил Добролюбов, в
начале романа мы видим его лежащим на диване, лежащим на диване остав-
ляем его в конце романа. Печальная и, пожалуй, трагическая судьба: барин,
воспитанный и взращенный на даровых хлебах заботами и тревогами многочи-
сленной дворни. Он оказался не подготовленным к самостоятельной жизни,
требующей активной деятельности.
Автор сразу же предупреждает нас, что «лежанье Ильи Ильича не было ни
необходимостью, ни случайностью... это было его нормальным состоянием»,
иначе говоря, состоянием обычным, повседневным, постоянным.
Привыкший к тому, что за него сделают все другие, он постепенно вообще
перестал даже пытаться сделать что-либо сам. Правда, однажды в его жизнь
ворвалась любовь, сильная, красивая, но она требовала самостоятельных дей-
ствий, тревог, усилий, труда, энергии, и добрейший Обломов отступил, и
любимая женщина стала женой его приятеля, энергичного деятельного Штоль-
297
ца. Зачем далеко ходить, когда рядом еще молодая вдова, хозяйка квартиры,
правда «из низов», добрая, малообразованная, преданная ему мещанка Агафья
Матвеевна. Финал — тихая смерть от инсульта на том же диване и: «Ветки
сирени, посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой да безмятежно
пахнет полынь. Кажется, сам ангел тишины охраняет сон его».
Что же вплелось в судьбу Обломова, почему же изображен он «милым
лежебокой», изображен утрированно, почти гротескно? Опустившийся после
смерти барина слуга его Захар бросает ключевую фразу: «Пропадает барство».
Дворянство уходит и поет себе отходную. Идут новые люди, ловкие, таро-
ватые. Они скупают оскудевшие поместья. Они перестраивают Русь. Чуткие
ко всему, что происходит в общественной жизни, писатели не могут не отра-
зить это в своих сочинениях, не всегда сочувствуя этому обновлению, иногда с
грустью, с горечью занося в скрижали истории реалии своих дней.
Этих новых людей в романе олицетворяет Андрей Штольц. «Сколько
Штольцев должны явиться под русскими именами!» — восклицает автор. Кто
же такой Штольц? Полная противоположность Обломова: «Он служил, вышел
в отставку, занялся своими делами и в самом деле нажил дом и деньги... Он бес-
престанно в движении... Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как
кровная английская лошадь, но ни признака жирной округлости: цвет лица ров-
ный, смугловатый и никакого румянца; глаза хотя зеленые, но выразитель-
ные». Так описывает его Гончаров.
Штольц порядочный человек, он искренно любит своего товарища,
искренно хочет вытащить его из ямы безделья и сибаритской лени, но они при-
надлежат к разным слоям общества, и ему это не удается.
Писатель нисколько не хочет как-то снизить в глазах читателя своего героя,
но сердце его все-таки принадлежит Обломову, хотя он напрямую критикует
его. Обломов благороден, умен. Мысли его о людях, об искусстве, об обще-
ственных делах глубоки и интересны.
Любопытно, как отнеслась тогдашняя критика к роману Гончарова, точнее,
к ее герою, Обломову?
Неоднозначно, как принято сейчас говорить: одни резко отрицательно, дру-
гие с великой симпатией. К первой относилась группа тех, кого мы недавно
называли революционными демократами. Это Белинский, Добролюбов, Чер-
нышевский. Они немедленно отнесли Обломова к «лишним людям», присоеди-
нив к нему Онегина и Печорина. Добролюбов в статье «Что такое обломовщи-
на?» указал на «общественное значение» романа и потом с молодой горячно-
стью ополчился на Обломова: «...гнусная привычка получать удовлетворение
своих желаний не от собственных усилий, а от других, — развила в нем апатич-
ную неподвижность...» И причину Добролюбов видит в рабстве, в крепостни-
честве. (Напомним, что это был 1859 г., незадолго до реформы 1861 г., когда
всем было ясно, что вот-вот произойдет освобождение крестьян.)
Так полагал и сам Гончаров. Разница состояла лишь в том, что писатель
душой любил и жалел своего героя, а критик запальчиво его презирал. Наобо-
рот, критик восторженно приветствует Штольца и жалеет лишь о том, что их
мало в России: «Штольцев, людей с цельным характером, при которых всякая
мысль тотчас же является стремлением и переходит в дело...»
К другой группе критиков относится А. В. Дружинин, популярный тогда
беллетрист, ныне почти забытый. Литературоведение советской поры отно-
298
сило его к критикам-эстетам, сторонникам «чистого искусства» и, конечно,
осуждало. Он полностью приемлет Обломова:
«Он дорог нам по истине, какою проникнуто все его сознание, по тысяче
корней, которыми поэт-художник связал его с нашей родной почвой. И, нако-
нец, он любезен нам как чудак, который в нашу эпоху себялюбия, ухищрений
и неправды мирно покончил свой век, не обидевши ни одного человека, не
обманувши ни одного человека и не научивши ни одного человека чему-нибудь
скверному».
Литературная критика в России в XIX в. была мощным рупором идей. Вли-
яние ее на писателей было огромным. Ни в одной стране мира не было у крити-
ков такой власти над умами, как в России, в лице таких людей, как Белинский,
Добролюбов, Чернышевский.
И. С. ТУРГЕНЕВ
«ЗАПИСКИ ОХОТНИКА»
Я хотел уже совсем покончить с литературой, как в конце
1846 г. — по просьбе моего друга, Белинского, для его только что
основанного журнала — написал первый очерк «Записок охотника».
Он понравился — за ним последовали многие другие — и так я сде-
лался новеллистом и романистом.
И. С. Тургенев
Первый рассказ, напечатанный в «Современнике», назывался «Хорь и
Калиныч». Он писался с натуры. Герои его действительно существовали. Хорь
(Родион Григорьевич) и его приятель Калиныч проживали в Калужской губер-
нии. Сейчас на том месте — деревня Хорево и, говорят, есть несколько семей
с фамилией Хоревы.
А. А. Фет в 1860 г. побывал в тех местах: «Я ночевал у самого Хоря... я с
большим вниманием всматривался в личность и домашний быт моего хозяина.
Хорю теперь за восемьдесят лет, но его колоссальной фигуре и геркулесов-
скому сложению лета нипочем».
Рассказы, собранные под общим названием «Записки охотника» (их — 25),
принесли Тургеневу мировую славу. Они были переведены на все европейские
языки и остались, кажется, его главным сочинением, как полагал он и сам. Он
был избран почетным доктором'Оксфордского университета за то, что «про-
никся живым чувством к угнетенному народу».
Но на родине они принесли писателю немало огорчений. Цензор, разрешив-
ший их издание отдельной книгой, был уволен, «отставлен за небрежное испол-
нение должности» (князь В. В. Львов). «Его императорское величество (а это
был Николай I. — А. С.) изволил признать предосудительным» содержание
изданной книги.
Напомню, что это было еще при крепостном праве. В правительственных
кругах уже возникал вопрос об освобождении крестьян, но держался он в стро-
жайшем секрете. Страшно боялись, что слух о том дойдет до крестьян. Тень
Пугачева еще витала над головами помещиков.
299
Это был больной вопрос для России
XIX в. — Пушкин, декабристы, Белинский,
Чернышевский, Добролюбов, Некрасов,
Салтыков-Щедрин так или иначе коснулись
его, а далее народники...
Тургенев с большой силой таланта пока-
зал трагическую судьбу крепостного подне-
вольного человека. За ним пошли другие
авторы (Лесков. «Тупейный художник»,
«Левша»). Литература не могла не отразить
того, что волновало общество.
Незадолго до смерти Тургенев на юби-
лейном чествовании слышал речь одного
революционера-народника. Тот с некото-
рой критической ноткой выговаривал ему
«отступление» от прежних, боевых пози-
ций, но и благодарил за прежнее:
«Не вам, Иван Сергеевич, написать
новые «Записки охотника», но за старые
все молодое поколение искреннейше благо-
и. С. Тургенев. дарит вас, перечитывая их с восхищением,
как великое и благородное творение, пол-
ное любовью к великому народу-страдаль-
цу».
В наши дни, когда политическая злободневность рассказов Тургенева ушла
в прошлое, запечатленные им типы нисколько не потускнели. В них находим
мы нечто, что волнует и, думается, всегда будет волновать читателей. И это
нечто — нравственное чувство автора, его гуманный, добрый взгляд на челове-
ка, его восхищение красотой природы, которую он так вдохновенно живопи-
сал.
Простые люди, простонародье, «чернь», как тогда выражались богатые и
титулованные особы, показаны на страницах знаменитых очерков, и какие
яркие, самобытные характеры в этом простонародье («Хорь и Калиныч»),
потрясающие душу жизненные трагедии («Бирюк», «Живые мощи») и величие
духа человеческого! Это уже не для злобы дня, это для вечности.
Тургенев — великолепный мастер живописать природу. Пейзаж его, не
яркий, я бы даже сказал, унылый, — лиричен. В нем нет буйных красок гого-
левского пейзажа, роскошной природы Украины. Печальные равнины, осен-
ний лес без багрянца и золота, как у Пушкина («очей очарованье»). В нем пах-
нет прелью, моросит дождик. В нем грустно и как-то по-родному мило.
Вторую половину своей жизни писатель провел за границей, во Франции,
где жила семья певицы Полины Виардо, которую любил он странной, траги-
ческой любовью. Изредка наезжал в свое Спасское-Лутовиново, проводил в
одиночестве несколько дней и опять удалялся на чужбину. Там он и умер, лишь
прах его был привезен в Россию и погребен в родной земле.
Дом его ныне восстановлен. Дерево, посаженное им, давно возмужало под
неусыпной заботой музейных работников. Жив и парк в Спасском-Лутовинове,
но дух печального одиночества витает в нем. Грустно бродить по его аллеям.
300
Базаров
15 февраля 1856 г. в Петербурге собрались сотрудники редакции журнала
«Современник» и сфотографировались. Это была «могучая кучка» русских
писателей, цвет нации. Среди них Гончаров, Лев Толстой, еще молодой, начи-
нающий, Тургенев, Островский, Григорович, Дружинин.
Тогда они были единомышленниками. Их волновали общественные идеи.
Все, что происходило тогда в России, трогало их сердца, молодые, полные сил
и великого художественного дарования.
Неудивительно, что в романе Тургенева мы находим те же мысли, что в
романе Гончарова «Обломов». Правда, здесь противостояние идей и положе-
ний выражено резче, нагляднее. Тургенев назвал свой роман «Отцы и дети»,
обозначив конфликт двух поколений.
Если внимательно присмотреться к происходящему в романе, то вряд ли
можно согласиться с автором: спор шел не между поколениями, а сословиями.
В романе Гончарова противостояли две силы — уходящего с исторической
сцены дворянства и нового, делового, активного сословия предпринимателей
Обломовых и Штольцев. Здесь, в романе Тургенева, такое же противостояние
между дворянством и новой, деловой, прагматичной разночинной интеллиген-
цией.
Выразителем взглядов этой группы является Базаров.
Послушаем голоса спорящих: старый аристократ — светский лев и поме-
щик Павел Петрович Кирсанов и сын провинциального лекаря — молодой
самонадеянный и смелый Базаров.
,«— Позвольте вас спросить, — начал Павел Петрович, и губы его задрожа-
ли, — по вашим понятиям слова „дрянь" и „аристократ" одно и то же означа-
ют?
— Я сказал „аристократишко", — проговорил Базаров, лениво отхлебы-
вая глоток чая».
Конфликт, как видим, намечен. Он приведет в конце концов к дуэли, на
которую Базаров согласился неохотно, с великим презрением относясь к амби-
циям дворянина.
Кирсановы-братья идеалисты, романтики, какими их считает Базаров. Они
толкуют о красоте, об идеалах. Все это отрицает Базаров:
«— Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, — говорил между
тем Базаров, — подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов. Рус-
скому человеку они даром не нужны...
—... Вы оскорбляете русский народ. Я не понимаю, как можно не призна-
вать принципов (Кирсанов произносит „принсипов"), правил! В силу чего же
вы действуете...
— Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным, — промолвил
Базаров. — В теперешнее время полезнее всего отрицание — мы отрицаем.
— Все?
— Все.
— Как? Не только искусство, поэзию... но и... страшно вымолвить...
— Все, — с невыразимым спокойствием повторил Базаров».
Так родилось словечко «нигилизм» (от лат. nihil — ничего). Выйдя из-под
пера Тургенева, оно пошло потом гулять по свету, а в России стало кличкой для
301
молодых протестантов, эмансипированных девиц с папиросой во рту, молодых
нечесаных парней из студенческой среды.
Базаров отвергает поэзию Пушкина, называя ее ерундой. Все вообще
искусство («Рафаэль гроша медного не стоит»). Аркадий Кирсанов, вторя
своему другу, с детской решительностью и к ужасу своего отца заявляет: «Мы
ломаем, потому что мы сила». Он, конечно, отойдет от радикализма Базарова,
ведь он тоже от дворянского древа.
Между тем в споре Павла Петровича Кирсанова и Базарова наметятся опас-
ные черты. Нас, читателей XX в., переживших столько социальных потрясе-
ний, приводят в содрогание некоторые бравады нигилиста Базарова. П. П.
Кирсанов ему возражает:
«Сила! Да вспомните, наконец, господа сильные, что вас всего четыре чело-
века с половиною, а тех — миллионы, которые не позволят вам попирать
ногами свои священнейшие верования, которые раздавят вас!
— Коли раздавят, туда и дорога, — промолвил Базаров. —Только бабушка
надвое сказала. Нас не так мало, как вы полагаете.
— Как? Вы не шутя думаете сладить, сладить с целым народом?
— От копеечной свечки, вы знаете, Москва сгорела, — ответил Базаров».
Таков этот исторический спор. Зная дальнейшую судьбу России, невольно
задаешься вопросом, не был ли Базаров такой «свечкой».
* * *
Тургенев — великий мастер. Чутко уловив новые веяния в жизни общества,
он, изображая носителей их, нисколько не хотел утрировать. Он добрыми гла-
зами смотрит на своего Базарова. Пытаясь понять его, он даже одно время вел
дневник, как если бы вел его сам герой романа. Мы, не соглашаясь с нигилиз-
мом Базарова, никак не можем отказать ему в нашей симпатии. Глядя на него,
мы думаем: не максимализм ли это молодости, когда хочется все переделать,
сломать, построить заново.
Базаров подозревает в себе бунтующие силы. Есть ли они у него? Влюбив-
шись в Одинцову, он так и не сумел подчинить себе ее практический, холодный
ум. Да и смерть его произошла как-то нелепо. Он никому не вредит, увлеченно
занят практическими науками, возится с лягушками, экспериментирует. Если
бы не случайная и роковая ошибка при анатомировании трупа, он, может быть,
стал бы крупным ученым, новым Менделеевым, Пироговым, Сеченовым,
Мечниковым и вернулся бы к Пушкину, Рафаэлю, которых теперь отвергает с
мальчишеским задором. Он добр, полон уважения к простым людям. Его
любят окружающие. В сравнении с ним его аристократический оппонент
выглядит холодным себялюбивым резонером, ведущим праздную жизнь на
средства, поставляемые ему крестьянами, и демагогически рассуждающим о
справедливости, добре, красоте.
Как хороши, трогательно-щемящи страницы, посвященные его престаре-
лым родителям! Художник В. Г. Перов изобразил на полотне супружескую
пару с неизбывной печалью на могиле сына. Так отозвалась русская обще-
ственность на роман несравненного классика русской литературы.
302
«Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая пре-
данная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее
сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на
нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам
они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о
вечном примирении и о жизни бесконечной».
ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Лев Николаевич Толстой вошел в литературу спокойно, без особых волне-
ний, какие обычно сопутствуют первым шагам начинающих писателей: послал
рукопись «Детства» в самый престижный тогда журнал — «Современник», и
деньги на обратную пересылку, если редакция не сочтет возможным напеча-
тать сочинение. Он писал: «...я с нетерпением ожидаю вашего приговора. Он
или поощрит меня к продолжению любимых занятий, или заставит сжечь все
начатое». Ему было тогда 24 года, и он был офицером русской армии.
Ответ последовал самый положительный. Некрасов, Чернышевский, Тур-
генев хвалили. Рукопись пошла тотчас же в печать, а за ней последовали
«Отрочество» и «Юность». Ему прочили место преемника Гоголя, т. е. главы
русской литературы. Так стал он с первых же публикаций живым классиком.
Мы со школьной скамьи помним ставшие хрестоматийными строки из пер-
вой книги Толстого: «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства!
Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают,
возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений».
Благоуханная пора жизни! Человек, только-только вошедший в этот мир, с
восхищенным любопытством вглядывается во все, что его окружает. Когда-то
отец Монтеня под влиянием модных в XVI в. идей Ренессанса о том, что чело-
век рождается для счастья, будил своего сына по утрам тихой мелодичной
музыкой.
Родители Толстого этого не делали, но жизнь их маленького сына была
окружена счастьем.
Толстой подробно описывает, как расцветает жизнь в маленьком существе,
как откликается его сердце на все события его каждодневного бытия, как раз-
вивается его ум пытливым анализом всех звуков внешнего мира.
В этом вся непреходящая прелесть книги.
Однако можно ли назвать трилогию писателя мемуарами, подлинной
записью действительных событий его детства и юности. Скорее, это все-таки
роман о детстве Николеньки Иртеньева из богатой и знатной семьи, окружен-
ного атмосферой благополучия, любви, мальчика нежного, доброго, с отзыв-
чивым сердцем и размышляющим умом. Все события, описанные Толстым,
конечно, происходили с ним, и размышления и чувства мальчика суть Тол-
стого чувства и мысли.
Коленьку Иртеньева мы найдем потом на страницах романа «Война и мир»
под именем Пети Ростова.
Толстой был богат. Его имение Ясная Поляна, в котором он провел боль-
шую часть своей жизни, предоставляло ему спокойное место для творческой
работы, не обремененной заботами о хлебе насущном.
303
В Он принадлежал к самому верхнему
слою дворянства, к древнейшим родам гра-
фов Толстых по линии отца и князей Бол-
конских — по материнской.
Предок Толстого находился среди пер-
вых лиц «гнезда Петрова», был одним из
сподвижников Петра Великого. Дед, князь
Болконский — генерал-аншеф при Екате-
рине Великой.
В руки пятнадцатилетнего Толстого
попали сочинения женевского философа
Жан-Жака Руссо. Идеи его захватили маль-
чика. Он заказал себе медальон с его порт-
ретом и восторженно носил на груди. Про-
читал буквально все сочинения этого чело-
века и до конца жизни был верным его
последователем. Уважение к природе,
стремление сообразовывать свою жизнь,
Л. Н. Толстой. Портрет работы вс^ СВОИ ПОСТУПКИ С Законами природы,
художника И. н. Крамского. скептическое отношение к дарам цивилиза-
ции, воспринятое от Руссо, наложили свою
печать на все произведения Толстого, на
его размышления и на самое его жизнь.
Чтение Евангелий, образ Иисуса Христа, призвавшего людей отказаться от
насилия, увлекли писателя к идеям и чувствам человеколюбия. Эти идеи писа-
теля подхватил позднее Махатма Ганди. Теория непротивления злу насилием
обрела конкретные очертания.
Зрелый Толстой как личность представляется физически здоровым и креп-
ким человеком, с сильными мышцами, с развитой мускулатурой. Он уверенно
шагает по земле, пожалуй, даже походкой хозяина. Самонадеян, смел и абсо-
лютно самостоятелен в своих суждениях, не считаясь с господствующими в
обществе мнениями, чем крайне поражал знавших его людей. Все восхищались
тогда Шекспиром. Авторитет английского автора был непререкаем, а Толстой
начисто отвергал его, никак не соглашаясь признать его гениальным. Сотруд-
ники «Современника», когда он бывал в редакции, перешептывались: «Посмо-
трите на этого человека — он не признает Шекспира!»
Все с благоговением произносили имя Бетховена. Толстой же и его решался
отвергать. К Пушкину, несмотря на несколько хвалебных фраз в адрес поэта,
относился довольно прохладно и чуть ли не более ценил Фета. В этом он напо-
минал Микеланджело, отталкивавшего всех великанов своего времени и окру-
жавшего себя талантами средней величины. Толстой иным казался человеком
с холодным аналитическим умом. Он глядел на собеседника и своими колю-
чими глазами проникал в самые потаенные его глубины, как бы вывертывая
человека наизнанку. Умные люди это чувствовали и смущались. Чайковский
страшно волновался накануне встречи с Толстым, он боялся его проницатель-
ного взгляда. (Опасения были напрасны, Толстой плакал, слушая его музыку.)
Когда-то французский автор XVII в. Ларошфуко, беспощадный обличитель
человеческих слабостей, писал: «...часто наши самые благородные поступки
304
исходят из нашего тщеславия». Толстой любил этого автора, ценил его афо-
ризмы (он перевел из них 98). Они «более всего содействовали образованию
вкуса во французском народе и развитию в нем ясности ума и точности его
выражений», — писал он о нем. Но не только это привлекало его к француз-
скому автору.
Холодный, скептический ум Ларошфуко, прямо надо сказать, был родствен
Толстому. Даже самые дорогие сердцу писателя персонажи его романа не избе-
гли психологического его скальпеля. Николай Ростов, милый, честный, доб-
рый человек, оказавшись на поле боя, жаждет подвига, рвется проявить себя,
и ради чего же? Ради славы, честолюбия, иначе говоря, — движимый тщесла-
вием. Он признается себе в том, что ради этого он может отказаться от матери,
отца, всех дорогих и близких людей.
Толстой не терпел никакой фальши, лицемерия, сентиментальности. Приз-
наки излишней чувствительности он наблюдал в Тургеневе и относился к нему
сдержанно, а иногда и насмешливо. Даже когда Тургенев из своего далека
обратился к нему со знаменитым письмом («Великий писатель земли рус-
ской!..»), он не удержался от насмешки над этим патетическим воззванием.
Все это сделало из него писателя строгого, беспощадного к правде. Если
говорить о реализме, то он был чистейшим реалистом. Правда и только прав-
да! — вот его творческий принцип. Не выносил никакого украшательства писа-
тельской речи. Литературным пуристам стиль его казался неуклюжим, пере-
груженным словами «что», «как» и пр.
И при всем этом он был поистине великан. Что-то могучее шло от него.
Читая его, не видишь ни книги, ни эпитетов, ни сравнений, ни образных выра-
жений, не видишь напечатанного слова. Все то, что называется литературой,
куда-то уходит, и перед нами сама жизнь.
Писательский стиль? Мы его просто не замечаем, как не замечаем прозрач-
ное стекло, сквозь которое смотрим из окна на лежащий за ним мир.
Толстой правдив, как сама жизнь. Все герои его произведений, будь то
подлинные исторические персонажи или изобретенные его фантазией,
настолько реальны, живы, многомерны, что, кажется, они с нами рядом, мы
слышим их голоса, их дыхание, видим их неповторимую индивидуальность.
Невольно говорим себе: «Что за чародейство!» И это относится не только к
людям, но и к природе, к кусту сирени, дубу, весеннему лесу, конной упряжке.
Все особенности писательского мастерства Толстого проявились уже в пер-
вой его книге «Детство».
Но куда же делся тот изнеженный чувствительный мальчик и юноша, кото-
рого мы знали под именем Коленька Иртеньев? Он растворился в суровой
прозе жизни — от него остались на всю жизнь творческой личности уже зре-
лого Николая Иртеньева (Льва Толстого): любовь к красоте, больше нрав-
ственной, чем физической, ненависть к уродству, жестокости, несправедли-
вости.
Поздний Толстой стал больше проповедником, чем писателем. Увлеченный
странными, неосуществимыми идеями непротивления злу насилием, он создаст
своеобразный кодекс поведения, соберет вокруг себя чуть ли не секту, к сму-
щению всех знавших его трезвомыслящих людей. Удивительный парадокс —
эти идеи шли от Евангелия, а духовенство отлучило его от церкви.
Лев Толстой — классик мирового масштаба. Его изучают в университетах
305
Франции, Германии, Соединенных Штатов Америки, но, сказать по правде, их
привлекают те произведения русского писателя, в которых он раскрывает глу-
бинные, теневые стороны души человека («Крейцерова соната», «Смерть
Ивана Ильича») и делает это, надо сказать, с удивительным, неподражаемым
мастерством.
Массовый русский читатель с его здоровой психикой отдает предпочтение
жизнеутверждающим произведениям Толстого, жизнеутверждающим при всей
трагедийности событий и судеб людских, показанных в них: его эпопее «Война
и мир», роману «Анна Каренина», повестям «Хаджи-Мурат», «Казаки» и др.
Толстой жил долго, писал много, и к концу жизни написанного им накопи-
лось столько, что едва вошло в 90 томов его сочинений.
«ВОЙНА И МИР»
Это великое произведение великого писателя — и это подлинная
Россия.
И. С. Тургенев
Из всех художественных созданий Льва Толстого, а они все прекрасны,
самое значительное, возвышенное, нравственно чистое и жизнеутверждаю-
щее — это его роман «Война и мир».
Он взял для него эпохальное событие, потрясшее в XIX в. мир, — Отече-
ственную войну России с Наполеоном и его войсками, собранными почти со
всех стран Западной Европы. И его роман стал национальной эпопеей, подоб-
ной «Махабхарате» Индии, «Илиаде» Гомера, «Энеиде» Вергилия, «Боже-
ственной комедии» Данте, «Человеческой комедии» Бальзака.
Это была самая лучшая пора его жизни. Шестидесятые годы прошлого
века. Он был в том возрасте, который древние греки называли «акмэ», — воз-
раст полного созревания всех физических и духовных сил человека.
Семь лет работал он над романом как художник и как историк. Наука и
искусство слились в нерасторжимое единство. Справедливо писал об этом
Достоевский: «Я вывел неотразимое заключение, что писатель — художе-
ственный, кроме поэмы, должен знать до мельчайшей точности (исторической
и текущей) изображаемую действительность. У нас, по-моему, один только
блистает этим — граф Лев Толстой».
Современники были очарованы, восхищены и, конечно, немедленно при-
ступили к острым и долгим спорам. Славянофилы признали в Толстом своего
единомышленника. Д. И. Писарев, злой и непримиримый критик дворянства, в
статье «Старое барство» (она осталась незаконченной) снисходительно корил
автора романа за идеализацию дворянства, за его «невольную и естественную
нежность» к своим героям-дворянам.
Дворяне составляли правящую и культурную часть русского общества, и
это были, в лучшей своей части, благородные, нравственно здоровые, высоко-
образованные люди — цвет нации. Это они выделили из своей среды декабри-
стов, пожелавших отказаться от своих привилегий и возвысить простой народ.
Не случайно первоначально Толстой хотел написать роман о декабристах.
Писарев был прав, отметив эту «невольную и естественную нежность» Тол-
306
Герои 1812 года. Генерал Н. Н. Раевский и два его сына. Картина художника Н. С. Самокиша.
стого к дворянам. Толстой и писал, в сущности, для них, говоривших свободнее
по-французски, чем по-русски. Иначе зачем бы он стал заполнять целые стра-
ницы романа французским текстом?
Толстой оставил нам вечные образы литературных героев «прекрасных
дворян». Как хороши Болконский и Борис Трубецкой, сыновья графа Ростова
да и вся его семья, и сама графиня, и любимое дитя автора — Наташа. Как
хороши старики патриоты, верой и правдой служившие родине, суровые и
непреклонные в вопросах чести, — и Кутузов и Болконский-отец.
Но Толстой нисколько не идеализировал своих героев, они были такими в
жизни. Свидетельством тому могут служить реальные судьбы реальных людей
в истории России.
Глаз его абсолютно верен, реалии действительности ему ярко зримы, и —
это уже свойство его несравненного таланта — он заставляет и нас, его читате-
лей, так же ярко видеть вещи. Исторических лиц эпохи он рисует смело, и мы
узнаем их со всеми их живыми чертами.
Царя Александра I он показывает нам через восторженное восприятие двад-
307
цатилетнего Николая Ростова. Над пылкостью его чувств подшучивает быва-
лый вояка Денисов:
«— Вот на походе не в кого влюбиться, так он в ца'я влюбился, — сказал он.
— Денисов, ты этим не шути, — крикнул Ростов, — это такое прекрасное
чувство, такое...
— Ве'ю, дг'жок и г'азделяю и одоб'яю».
По всему видно, что этой «влюбленностью» заражен был и сам автор, часто
весьма скептичный, лишенный прекраснодушных иллюзий Толстой. Алек-
сандр I (народ его назвал «благословенным») на страницах его романа поистине
прекрасен.
«Лицо Александра было еще прекраснее, чем на смотру три дня тому назад.
Оно сияло такою веселостью и молодостью, такою невинною молодостью, что
напоминало ребяческую четырнадцатилетнюю резвость, и вместе с тем это
было лицо величественного императора. Случайно оглядывая эскадрон, глаза
государя встретились с глазами Ростова и не более как на две секунды остано-
вились на них. Понял ли государь все, что делалось в душе Ростова (Ростову
казалось, что он все понял), но он посмотрел секунды две своими голубыми
глазами в лицо Ростова. (Мягко и кротко лился из них свет.) Потом вдруг он
приподнял брови, резким движением ударил левой ногой лошадь и галопом
поехал вперед».
Дальше, как пишет Толстой, Александр увидел раненого умирающего сол-
дата. Адъютанты царя, спешившись, подняли солдата и стали укладывать его
на носилки. Солдат слабо застонал.
«— Тише, тише, разве нельзя тише? — видимо, более страдая, чем умира-
ющий солдат, проговорил государь и отъехал прочь.
Ростов видел слезы, наполнившие глаза государя, и слышал, как он, отъез-
жая, по-французски сказал Чарторижскому:
— Какая ужасная вещь война».
Толстой пишет об Александре перед началом сражения русских и австрийс-
ких войск под Аустерлицем. Он любуется царем. Это не верноподданническое
любование чисто человеческими чертами, не подобострастие, что было бы нам
странно и неприятно заметить в писателе, он любуется тем ликованием жизни,
которое означалось в лице царя, счастьем молодости:
«Неприятное впечатление, только как остатки тумана на ясном небе, пробе-
жало по молодому и счастливому лицу императора и исчезло. Он был, после
нездоровья, несколько худее в этот день, чем на Ольмюцком поле, где его пер-
вый раз за границей видел Болконский; но то же обворожительное соединение
величавости и кротости было в его прекрасных серых глазах, и на тонких губах
та же возможность разнообразных выражений и преобладающее выражение
благодушной невинной молодости».
Счастье молодости! Оно как бы олицетворяет молодость и силы России.
Толстой покажет нам и противоположный лагерь. Вот-вот начнется бой, рус-
ско-австрийские войска и французские полки смешаются в человекоубийствен-
ной, кровавой схватке. Каков же в эту минуту Наполеон?
«Нынче был для него торжественный день — годовщина его коронации.
Перед утром он задремал на несколько часов и, здоровый, веселый, свежий, в
том счастливом расположении духа, в котором все кажется возможным и все
удается, сел на лошадь и выехал в поле. Он стоял неподвижно, глядя на видне-
308
ющиеся из-за тумана высоты, и на холодном его лице был тот особый оттенок
самоуверенного, заслуженного счастья, который бывает на лице влюбленного
и счастливого мальчика... он снял перчатку с красивой белой руки, сделал ею
знак маршалам и отдал приказание начинать дело».
Оба молоды, оба счастливы, казалось бы: почему бы не остановиться,
остаться в этом приятном состоянии радостного здоровья и не сберечь жизни
тысячи подчиненных им людей? Но битва вот-вот начнется, и она началась.
Неожиданное нападение французов, паника в русских войсках. Все смешалось.
Князь Андрей видит, как убит знаменосец, поднимает знамя, и тяжелая рана
скашивает его.
Уже в старости Толстой начал изучать древнегреческий язык. Читая «Илиа-
ду» Гомера в подлиннике, он невольно сравнивал ее со своей эпопеей и находил
сходные черты.
Как и Гомер, он описал общенациональное событие. Как и у Гомера, это
была война, втянувшая в себя огромные людские массы. Героизм и жесто-
кость, проявляемые в войне, и в том и в другом произведении показаны с
печальной объективностью, и тут же судьбы людские и страсти людские.
Гомер не осуждал сражавшихся — не они были виновны: всеми их действи-
ями руководили боги. Толстой полагал, что противоборствующие персоны в
войне 1812 г. только думали, что они управляют событиями, на самом же деле
они только подчинялись обстоятельствам.
О фатальности истории писал в свое время и немецкий философ Гегель,
считавший, что Александр Македонский, Цезарь и Наполеон были всего лишь
«доверенными лицами Мирового духа».
Толстой писал:
«...Вследствие своих личных свойств, привычек, условий и целей действо-
вали все те неперечисленные лица, участники этой войны. Они боялись, тще-
славились, радовались, негодовали, рассуждали, полагая, что они знают то,
что они делают, и что делают для себя, а все были непроизвольными орудиями
истории (подчеркнуто мною. — С. А.) и производили скрытую от них, но
понятную для нас работу. Такова неизменная судьба всех практических деяте-
лей, и тем не свободнее, чем выше стоят они в людской иерархии».
* * *
Под каждой могильной плитой погребена вселенная.
Иммануил Кант
Да, да, человек, уходя в небытие, уносит с собой эту вселенную — свою все-
ленную: и король, и нищий, и мудрец, и пьянчужка, умерший в подворотне.
Иначе говоря, в основе всего лежит наша собственная жизнь, жизнь лично-
сти. Взгляните с высоты трибуны на огромную площадь, заполненную тыся-
чами людей, как бы ни были они охвачены в данный момент какой-то общей
радостью или общей бедой, у каждой стоящей в многоликой толпе личности
своя жизнь, свой особый мир.
309
Толстой, рисуя страшные, кровавые
картины войны, столкновения политичес-
ких интересов, события, захватывающие в
свой водоворот судьбы людские, постоянно
подчеркивает, что каждый человек держит
в самом себе свою «вселенную», и в конце
концов эта «вселенная» превыше всего
остального.
«Жизнь... настоящая жизнь людей со
своими существенными интересами здо-
ровья, болезни, труда, отдыха, со своими
интересами мысли, науки, поэзии, музыки,
любви, дружбы, ненависти, страстей шла,
как всегда, независимо и вне политической
близости или вражды... и всех возможных
преобразований».
Взявшись за создание национальной
Герои 1812 года. Генерал Н. Н. Раевский. ЭПОПеи, создавая ее, наполняя ее гулом ВОЙ-
Художник Д. Доу. ны, громом пушек, разрывом снарядов,
вовлекая в события сотни лиц, писатель
иногда бросает как бы луч прожектора на
отдельных людей, их частную жизнь, давая нам понять, что в жизни, волнени-
ях, заботах и чувствах этих частных лиц и есть главный интерес и главная суть
повествования. На первом плане, конечно, дворянская среда, к которой по
рождению и образу жизни принадлежал он сам, которую он знал и, пожалуй,
тогда любил.
Его братья по классу, дворяне, особенно верхушка, придворные круги,
посчитали его отступником от сословных интересов, предателем. Среди них
был и старый друг Пушкина, когда-то грешивший либерализмом П. А. Вязем-
ский. Они увидели в романе недостойную критику высшей знати, однако не
могли не ценить родные их сердцу картины дворянских гостиных, светских
салонов, блеск балов, светские разговоры, описание привычного и так доро-
гого им быта.
Противоположный лагерь осуждал роман за отсутствие в нем разоблачения
крепостничества и всех социальных язв.
Что касается специалистов-военных, то они были в восторге от батальных
сцен.
Недавние друзья из демократического лагеря, почувствовав в нем человека
из другой, чуждой им среды, отстранились. Толстой уже отошел от «Современ-
ника», открывшего ему дорогу на Парнас. Первые части романа печатались в
журнале «Русский вестник». Журнале умеренных политических взглядов, дале-
ком от радикализма «Современника».
Словом, общее признание художественных достоинств романа и разноречи-
вая сумятица мнений по поводу идейного его содержания.
Читая и перечитывая в наши дни роман Толстого, мы не можем не признать
того, что Толстой создал гимн России, ее народу и сословию дворян, к кото-
рому принадлежал по рождению, по воспитанию, вкусам, привычкам, осо-
бенно в молодые годы.
310
Толстой заполняет роман обширными многостраничными рассуждениями о
военных действиях Кутузова и Наполеона. Здесь он выступает уже как ученый-
историк, спорит с военными стратегами, так или иначе размышлявшими о
войне 1812 г. Он развенчивает окончательно Наполеона, находя в его распоря-
жениях по армии самую примитивную некомпетентность, смеясь над титулом
гения, который ему присвоили льстецы и французские историки. Он возму-
щается, что не только французы, но и русские поддаются обаянию его лично-
сти.
«Для русских историков — странно и страшно сказать — Наполеон — это
ничтожнейшее орудие истории — никогда и нигде, даже в изгнании, не выказа-
вший человеческого достоинства, — Наполеон есть предмет восхищения и вос-
торга; он гранд (великий. — С. Л.)».
Как историк он осмеивает и русских генералов, окружавших Кутузова и
подталкивающих его на ненужные сражения с «раненым зверем». Они хваста-
лись тем, что в боях под Красным захватили у Наполеона столько-то пушек и
«какую-то палку, которую называли маршальским жезлом».
Только один Кутузов понимал ненужность этих сражений, приносивших
большие потери русским войскам, когда всем было ясно, что враг повержен,
бежит и нужно было только одно — не мешать ему бежать из России.
Толстой всегда ценил превыше всех качеств человека естественность,
непредвзятость. Этими качествами обладал его Кутузов, в чем был полной
противоположностью Наполеона, который, по мнению Толстого, постоянно
театрально рисовался.
«Кутузов никогда не говорил о сорока веках, которые смотрят с пирамид
(как это сделал Наполеон в Египте, бросивший патетическую фразу: «Солда-
ты, на вас смотрят сорок веков!» — С. А), о жертвах, которые он приносит
отечеству (как это делал Наполеон. — С. Л.), о том, что он намерен совершить
или совершил (как это делал Наполеон, постоянно «ячествуя». — С. А.): он
вообще ничего не говорил о себе, не играл никакой роли, казался всегда самым
простым и обыкновенным человеком и говорил самые простые и обыкновен-
ные вещи».
Кутузов Толстого — это мудрец, не любующийся своей мудростью, не соз-
нающий в себе этого качества, понимающий какой-то внутренней интуицией,
что и как надо делать в той или иной ситуации. В этом отношении он был
похож на простых солдат, на народ, который в массе своей интуитивно пости-
гает истину.
Когда после победы под Красным Кутузов обратился с краткой речью к
солдатам, простой, по-стариковски просторечной, как бы житейски «домаш-
ней» речью, с нецензурными словечками, он был понят и сердечно принят пре-
жде всего солдатами: «...то самое чувство величественного торжества в соеди-
нении с жалостью к врагам и сознанием своей правоты, выраженное этим,
именно этим стариковским, добродушным ругательством, — это самое чувство
лежало в душе каждого солдата и выразилось радостным, долго не умолкав-
шим криком».
Непосредственность чувств идет от самой природы, и чем естественнее
человек, тем непосредственнее выражаются его чувства, тем благороднее его
311
F,
Наполеон в Москве в ожидании мира.
Картина художника В. В. Верещагина.
поступки. В таком взгляде на человека ска-
зались и давние увлечения Толстого рус-
соизмом. Фальшь, лицемерие, тщеславие
воспитаны цивилизацией. Дикарь, близко
стоящий к природе («естественный чело-
век», по теории Руссо), не знал этих
качеств.
Все герои Толстого, которых он любил:
Наташа, княжна Марья, Пьер Безухов,
Андрей Болконский, вся семья Ростовых,
Платон Каратаев, человек из народа, —
обладают этой непосредственностью
чувств, и не обладают ею люди фальши-
вые, лицемерные, эгоистичные и просто
подлые. Таковы князь Василий Курагин,
его сын Филипп, дочь Элен.
В нашей памяти навсегда запечатлева-
ются картины и образы, с жизненной убе-
дительностью нарисованные поистине вол-
шебным пером Толстого. Спросите каждо-
го, кто прочитал роман «Война и мир», что
он помнит и ясно видит в памяти своей0
Он ответит: Наташу в лунную ночь и Андрея Болконского, невольно под-
слушавшего восторженные чувства девочки. Встречу и знакомство Наташи и
Болконского на балу. Русский танец Наташи, которому она научилась бог
знает где, уважительно подсмотренный ею в плясках крестьян. Умирающий
Андрей Болконский. Потрясающий и священный акт смерти как что-то таин-
ственное.
Издавна в войнах вершились грандиозные повороты истории народов. В
войнах гибли или жизнеутверждались государства, нации, народы. Безжа-
лостно разрушались сотворенные великим трудом города, дворцы и храмы,
возвеличивались славой отдельные личности, герои, уходили из жизни бесчи-
сленные безымянные воины — самая здоровая и активная часть населения.
Безумие человечества! Толстой противопоставил всем амбициям воинственных
героев то вечное, прекрасное и умиротворяющее небо, которое видел князь
Андрей.
Картины боев выписаны Толстым с неотразимой достоверностью. Мы как
бы сами участвуем в нем, и слух и зрение наше там, на поле сражения, мы слы-
шим горячее дыхание разгоряченных людей, крики и стоны и отчаянную
стрельбу.
Князь Болконский, раненый, теряющий сознание, ощутил странное спокой-
ствие. Глаза устремлены в небо. Все людские страсти, честолюбивые мечты, а
ими так недавно был обуреваем он, вдруг предстали во всем своем ничтожестве
перед этим великим и вечным спокойствием неба. Здесь уже философия Тол-
стого, философия жизни. Она сказывается, как бы отпечатывается на всем,
что он описывает, на его симпатиях и антипатиях. Все естественное в людях,
все непосредственное в них, не отягченное лицемерием, прекрасно. Потому так
хороши характеры и Наташи Ростовой, и Андрея Болконского, и Пьера Без-
312
ухова, и некрасивой Марьи Болконской с ее прекрасными в иные минуты гла-
зами.
«Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, — поду-
мал князь Андрей, — не так, как мы бежали, кричали и дрались... — совсем не
так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видел
прежде этого высокого неба? И как счастлив я, что узнал его наконец. Да! все
пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме
его. Но и этого даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава
Богу!..»
Толстой снова и снова возвращается к этой идее. Она его волнует, тщета
человеческих страстей, давняя, со времен Экклезиаста: «Суета сует и всяческая
суета!» Князь Андрей это понял, когда лежал раненый на поле боя, держа в
руке полковое знамя. «EN VOILA LA BELLE MORT», — произнес над ним его
кумир Наполеон, полагая его мертвым. Наполеон возглавлял вражеское войс-
ко, но он был гений воинского искусства, великий полководец. Это признавали
все, и не мог скрывать своего восхищения им и князь Андрей. Но теперь, когда
он понял ценность самой жизни и тщету всего, что вне жизни, он увидел в
гениальном полководце маленького человека, и только: «Он знал, что это был
Наполеон — его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь малень-
ким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между
его душой и этим высоким бесконечным небом с бегущими по нем облаками».
Люди сражаются, убивают друг друга, не думая о том, что они — люди, что
сражаются они из-за ничтожных вещей, что отдают жизни за призраки, за фан-
томы, и только иногда, как по наитию, приходит к ним смутное постижение
истины.
Вспомним сцену, когда Пьер Безухов, оказавшийся в лагере французов и
заподозренный в организации пожаров в Москве и шпионаже, предстал перед
наполеоновским генералом Даву. Дело шло тогда о жизни и смерти Пьера.
«Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд
они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо
всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились челове-
ческие отношения. Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчи-
сленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они
братья».
Толстой постоянно напоминает читателю о значительности каких-то выс-
ших предназначений жизни, что над тщетой и суетой его каждодневных забот
и хлопот возвышается не постигаемое им нечто вечное, вселенское. Понима-
ние этого вечного и вселенского пришло к Андрею Болконскому в момент
смерти:
«...завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его
душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной с
ним силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его...», «Оно
вошло и оно есть смерть. И князь Андрей умер».
Весь роман овеян гуманным чувством доброты к людям. Она в Пете Росто-
ве, она в графине, его матери, помогающей своей обедневшей подруге, она в
простодушном незнании корысти графе Ростове, в доброте Наташи, настояв-
шей на том, чтобы освободить подводы и отдать их раненым. Она в доброте
Пьера Безухова, всегда готового кому-то помочь. Она в доброте княжны
313
Марьи. Она в доброте Платона Каратаева, в доброте русских солдат и в этом
выразительном жесте Кутузова, в его речи перед солдатами:
«Вам трудно, да все же вы дома; а они — видите, до чего они дошли, — ска-
зал он, указывая на пленных. — Хуже нищих последних. Пока они были силь-
ны, мы себя не жалели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так,
ребята?»
Жан-Жак Руссо утверждал, что человек рождается добрым, но портят его
среда, общество, порочная цивилизация. Эту мысль женевского философа
оспаривали многие, заявляя, наоборот, об изначальной испорченности челове-
ческой натуры.
Толстой был согласен со своим кумиром. Он показывал чистые души детей.
В «Детстве» — это Николенька Иртеньев, здесь — Петя Ростов с его детской
восторженностью, страстным желанием что-то сделать в этом мире, отличить-
ся, а в сущности отдать свою жизнь, пожертвовать собою, отдать ее щедро, как
щедро он отдавал все, что имел, в отряде Денисова.
В поведении Пети Ростова, в его мировосприятии все окрашено чувством
какой-то просветленной и всеобъемлющей любви ко всем и ко всему. Его дет-
ское, не знающее корысти сердце как бы откликается на всеобщую любовь к
нему.
Такова же любовь и нежность девочки Наташи ко всем вообще людям, ее
непосредственность, чистота ее помыслов.
Дружба — товарищество, — это благостное чувство так же проникновенно
описано Толстым — дружеское расположение Денисова к Николаю Ростову,
ответное чувство Ростова к нему. Денисов, воин, храбрец, по-солдатски грубо-
ватый, но внутренне добрый, честный и справедливый человек, буквально пре-
дан семье Ростовых, душой постигая ее благородные нравственные основы.
Любовь родительская никогда еще в литературе не была показана в ее
щемящей силе. Бальзак посвятил ей свой роман «Отец Горио», но она прозву-
чала как теоретический тезис, долженствующий показать неблагодарность
детей к родителям и слепоту родителей в их неуемной привязанности к детям.
Сама же любовь так и осталась нераскрытой за рамкой этого тезиса.
Достаточно прочитать страницы романа «Война и мир» о тех минутах, когда
графиня Ростова узнала о гибели Пети, чтобы почувствовать пронзительную
силу этой материнской любви и великого горя утраты любимого существа.
Мы не найдем этой темы ни у Стендаля, ни у Флобера. Французские, анг-
лийские, немецкие авторы не коснулись этой темы. Тогда как Толстой нашел
для нее неотразимые краски.
Роман Толстого овеян светлым и благостным чувством любви человечес-
кой. Мы проникаемся гордостью за человека, способного любить. Как далеко
это от наших дней, когда деятели искусства — писатели, поэты, художники,
артисты спешат раскрыть перед нами картины кошмаров и ужаса, темные сто-
роны души человеческой и убедить нас, что таков весь мир и таковы все мы!
Невольно вспоминаются предсмертные слова больного Гоголя: «О Боже!
жутко стало в твоем мире!»
314
Если допустить, что жизнь человеческая управляется разумом, —
то уничтожается возможность жизни.
Лев Толстой
Сложилось довольно распространенное мнение, что Толстой — слабый
мыслитель. Попробуем разобраться в его философии с позиции наших дней и
на основе того исторического опыта, который приобрело человечество после
смерти писателя.
Ряд народов, и прежде всего народы России, попытались после Октября
1917 г. подчинить свою жизнь «разуму», т. е. последовать за теориями кабине-
тных ученых, а именно, говоря словами Толстого, «тех воззрений на благо
человечества, которые имеет теперь профессор, смолоду занимающийся нау-
кой, то есть читанием книжек, лекций и списыванием этих книжек и лекций в
одну тетрадь».
Герои Льва Толстого в театре.
Наташа Ростова в исполнении
артистки Л. А. Шевченко (опера
«Война и мир»).
315
Что из этого получилось, нам известно. Миллионы человеческих жизней
брошено на осуществление «профессорских» идей, море крови, человеческих
страданий, мук, страшных жестокостей (достаточно вспомнить недавние собы-
тия в Камбодже), утраченных надежд, радужных иллюзий стали результатом
желания управлять «разумом».
Что же предлагает писатель? Естественный ход событий. Теоретики, полу-
чив власть, спешат, подгоняют события, прибегают к насилию ради быстрей-
шего осуществления «благих» целей. «Если цель — прогресс цивилизации, то
весьма легко предположить, что, кроме истребления людей и их богатств, есть
другие, более целесообразные пути для распространения цивилизации», —
пишет Толстой и указывает на природу, где совершаются эволюционные про-
цессы и все происходит по законам жизнедеятельности видов: «...ни к одному
растению нельзя придумать других, более соответственных ему, цвета и семе-
ни, чем те, которые оно производит...» — рассуждал писатель.
Не насиловать природу! — вот его призыв.
Он привел своих героев к счастью. Его Наташа, с ее красотой, с ее пылким
сердцем, пережившая трагедии любви, стала верной женой человека, которого
никогда не предполагала любить, — Пьера Безухова, доброго, милого, но
странного, неуклюжего, никак не похожего на красавца и покорителя женских
сердец.
Выйдя замуж, Наташа переменилась: перестала думать о себе и полностью
погрузилась в интересы семьи, в заботы о муже, детях. «Все, знавшие Наташу
до замужества, удивлялись происшедшей в ней перемене, как чему-то необык-
новенному». Одна старая графиня «материнским чутьем поняла, что все
порывы Наташи имели началом только потребность иметь семью, иметь
детей, иметь мужа...»
Наташа — дитя природы — выполняла все священные ее законы: давать
потомство, воспитывать это потомство, давать новую жизнь и тем продолжать
ее в бесконечности.
Андрей Болконский
У Болконского есть то, чего не имелось в характерах дворян романов Тур-
генева, Гончарова, — энергия и воля. Он много читает, бесспорно умен, но
терпеть не может пустоты и ничтожества интересов обывательских кругов, к
которым можно отнести и светские салоны. Толстой дает характеристику
своему герою через восприятие Пьера Безухова, самого искреннего и непо-
средственного, чуть-чуть восторженного молодого человека.
«Пьер считал князя Андрея образцом всех совершенств именно оттого, что
князь Андрей в высшей степени соединял все те качества, которых не было у
Пьера и которые ближе всего можно выразить понятием — силы воли. Пьер
всегда удивлялся способности князя Андрея спокойного обращения со всякого
рода людьми, его необыкновенной памяти, начитанности (он все читал, все
знал, обо всем имел понятие) и больше всего его способности работать и учить-
ся. Ежели часто Пьера поражало в Андрее отсутствие способности мечтатель-
ного философствования (к чему особенно был склонен Пьер), то и в этом он
видел не недостаток, а силу».
316
Как видим, у Андрея Болконского нет
того, что в крайнем изобилии имеется у
героев Гончарова (Райский) и Тургенева
(Рудин), склонности пофилософствовать,
отвлеченно порассуждать о «высоких мате-
риях», того расслабленного умствования,
которое кончается ничем.
Болконский — человек действия. Став
адъютантом Кутузова, он быстро завоевал
его доверие. Кутузов писал отцу его,
своему старому боевому товарищу: «Ваш
сын надежду подает быть офицером, из
ряду выходящим по своим знаниям, твердо-
сти и исполнительности. Я считаю себя
счастливым, имея под рукой такого помощ-
ника».
Позволю себе предположение: окажись
Онегин и Печорин в положении Андрея
Болконского, они проявили бы себя так же —
выказали бы столько же «знания, твер-
дости и исполнительности».
Болконский внешне привлекателен.
Толстой часто это подчеркивает, как бы
любуясь им. Став офицером, понимая всю
важность своего служебного положения,
Болконский преобразился:
«В выражении его лица, в движениях, в походке не было заметно прежнего
притворства, усталости и лени; он имел вид человека, не имеющего времени
думать о впечатлении, какое он производит на других, и занятого делом, прият-
ным и интересным. Лицо его выражало большое довольство собой и окружа-
ющими; улыбка и взгляд его были веселее и привлекательнее».
Здесь, кстати сказать, находим мы ключ к расшифровке характеров и пове-
дения Онегина, Чацкого, Печорина, их недовольства собой и окружающим, их
метания «в действии пустом» (А. С. Пушкин).
Перед ним была ясная цель, и жизнь полна содержания. Вопросы чести для
Андрея Болконского были вне всяких сомнений.
Так его воспитала среда, в которой он жил, так его воспитал отец. Служе-
ние родине было главным элементом этой чести. Напомним сцену прощания
отца и сына перед отъездом Андрея в армию.
«— Ну, теперь прощай! — Он дал поцеловать сыну свою руку и обнял
его. — Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно
будет... — Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: —
А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне
будет... стыдно!
— Этого вы могли бы не говорить мне, батюшка, — улыбаясь, сказал
сын».
Многозначительно само обращение отца к сыну. Оно торжественно. Он не
называет его ласково «Андрюша», как назвала его в минуту прощания сестра,
Герой войны 1812 года А. А. Тучков. Со
знаменем в руках повел свой полк в шты-
ковую атаку и был убит. На месте его
гибели его вдова М. М. Тучкова
построила церковь Спаса Нерукотвор-
ного.
317
он обратился к нему официально: «князь Андрей!», что означало: «Неси гордо
свое имя!» Он посылал его с письмом к Кутузову и при этом наставлял: «Напи-
ши, как тебя он примет. Коли хорош будет, служи. Николая Андреевича сын
из милости ни у кого не будет».
Береги честь, храни собственное достоинство, не унижайся, служи, но не
прислуживайся — таков кодекс воспитания детей. Вспомним наставления,
какие давал сыну Гринев-отец в романе Пушкина «Капитанская дочка»:
«Прощай, Петр, служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не го-
няйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье
снову, а честь смолоду».
А. Н. ОСТРОВСКИЙ
Ау, семейственные узы,
Купцов суровый домострой,
Поддевки, сапоги, картузы,
Салопы, чепчики и блузы
И с богомольной стариной
В углу с лампадою налой!
Замоскворечье. Купеческий район старой Москвы. Когда-то здесь селились
стрельцы. Петр Великий ликвидировал стрелецкое войско, и сюда потянулись
купцы. Разбогатевшие из них строили настоящие хоромы. Сохранился деревян-
ный двухэтажный дом, где родился Островский. Ныне в нем музей писателя.
Здесь драматург с детства видел то самое «темное царство», быт и нравы купе-
ческого домостроя, которое он живо представил в своих пьесах.
Около пятидесяти пьес написал драматург, пьес ярких, колоритных, неувя-
дающих, с великолепным знанием сценических законов. Творческой деятель-
ности его подвел справедливый итог Гончаров. Он говорил ему:
«Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные
камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, русские, можем
с гордостью сказать: у нас есть свой русский, национальный театр. Он, по спра-
ведливости, должен называться «Театр Островского».
Малый театр, в котором преимущественно шли его пьесы, так и называется
«Дом Островского». У входа нас встречает на высоком постаменте сидящий
драматург, в мудром молчании и спокойном величии фигуры, — памятник
работы скульптора Н. А. Андреева, поставленный здесь в 1929 г.
Сопоставляя пьесы Островского с комедиями «Недоросль», «Горе от ума»,
«Ревизор», нельзя не отметить, что эти названные несут в себе явно сатиричес-
кие черты, потому их сценические персонажи гротескны. Режиссеры, пыта-
ющиеся поставить их в серьезном реалистическом ключе, совершают ошибку,
лишают их выразительности и, пожалуй, свойственной им веселости. Совре-
менники такую же сатиру увидели и в комедиях Островского, хвалили его за
это как обличителя и борца чуть ли не"с властями, чем, кстати, очень вредили
ему, ибо власти принимали это за чистую монету и часто при помощи цензуры
преграждали его комедиям путь на театральные подмостки. Кажется, убедили
318
Москва купеческая.
В. Семенов.
Художник
111 II
■ - • „u ill
они в том и самого автора. Начав печататься в «Москвитянине», органе славя-
нофилов, признанный ими за своего, он перешел в «Современник», а позднее,
после закрытия журнала, в «Отечественные записки».
Однако вряд ли можно отнести Островского к сатирикам, а его комедии к
разряду литературы, которую тогда называли «дидактической». «Исправители
найдутся и без нас, — писал он в 1853 г. историку Погодину. — Чтобы иметь
право исправлять народ, не обижая его, надо ему показать, что знаешь за ним
и хорошее». Его пьесы нисколько не претендуют на ниспровержение основ, но
его зоркий и честный взгляд замечал пороки и конфликты, присущие как Рос-
сии 50-х, 60-х гг. прошлого столетия, его современности, так и другим време-
нам. Недаром не так давно, чтобы заклеймить советское чиновничество, наши
театры обратились к комедиям Островского «На всякого мудреца довольно
простоты» и «Доходное место».
Островский нисколько не утрировал, он создавал реальные характеры во
всей их реальной многомерности. Он создавал многомерный реальный мир и
отнюдь не выставлял к позорному столбу своих тит титычей или кабаних, а
319
просто выводил их во всей их реальной сущности, не затеняя и их положитель-
ных качеств. Его программа — дать в своих пьесах «сильный драматизм, круп-
ный комизм, горячие искренние чувства, живые и сильные характеры».
Островский не берет на себя роль судьи происходящего в жизни, не под-
крепляет себя доводами принятой идеологии, он показывает жизнь, как ее
видит, чему-то сочувствует, что-то отвергает.
Сочувствует он робким, угнетенным и честным людям, любуется подчас
бесшабашностью и размахом сильной натуры, а это чаще всего купцы; отвер-
гает зло, прямое насилие, подлость и бессердечие.
Но главное всё-таки для писателя — показать жизнь, показать без фальши
и лжи.
«Бедность не порок». Перед нами быт купеческого дома. Суровый домо-
строй. Хозяин дома — Гордей Торцов. Богат. Сильный волевой человек. В
сущности, не злой и, конечно, по-своему честный и порядочный, но в доме
своем деспот. Жена, дочь, домашние, служащие — все должны беспрекословно
подчиняться его воле. Все трепещут перед ним. Он грозен.
Россия менялась. Дворянство оскудевало. «Было большое село, да от жару
в кучу свело. Все-то разорено, все-то промотано» («Не в свои сани не садись»).
Силу набирало купечество, ловко приобретая промотанные хозяйства. Вме-
сте с богатством появлялись новые амбиции. «Ох, если бы мне жить в Москве
али бы в Петербурге, я бы, кажется, всякую моду подражал», — говорил раз-
богатевший купец Гордей Торцов. Подобно мольеровскому Журдену («Меща-
нин во дворянстве»), он хочет приобщиться к «вежеству» господ во фраках,
готов презирать весь тот уклад, которым жил: «...на каждом шагу здесь
можешь ты видеть, как есть одно невежество и необразование».
Все это приметы времени. В пьесах Островского увидим мы целую галерею
промотавшихся, праздных, беспутных красавчиков дворян, охотившихся за
богатыми невестами.
Формировался средний класс, то самое третье сословие, создать которое
царским указом в свое время рекомендовал французский философ Дени Дидро
Екатерине Великой. Русская императрица понимала тогда, что это было не ко
времени и что подобные изменения в обществе не происходят по велению вла-
стей. Теперь, накануне реформы 1861 г., сама жизнь создала предпосылки к
возникновению такого класса.
По пьесам Островского мы можем представить себе и комическую, и траги-
ческую картину его рождения и укрепления. Ложь и обман, жестокость и
коварство сопутствовали этому процессу. Спился брат Гордея Торцова Любим.
Фиктивное банкротство, иначе говоря — прямой обман кредиторов, привело к
нравственному и жизненному краху купца Самсона Большого («Свои люди —
сочтемся!»). Его обобрали, посадили в долговую тюрьму, и сделала это его
родная дочь.
Особенно большой резонанс вызвала в обществе пьеса Островского «Гро-
за». Широко читаемый тогда критик Добролюбов в своих знаменитых статьях
«Темное царство» и «Луч света в темном царстве» придал ей яркую критичес-
кую окраску, на которую вряд ли рассчитывал сам драматург.
Семейный быт, предстающий перед нами в пьесе Островского, имеет свои
теоретические основы, а теория эта создавалась по писаным и неписаным зако-
нам российской действительности. Семья — это святая святых общественного,
320
государственного устройства. Она издревле замкнута, закрыта от других креп-
кими стенами, подворьем. За этими стенами подчас вершились страшные дела.
Во главе ее стоял хозяин дома, деспотически правящий домочадцами. Во вре-
мена Ивана Грозного протопоп Сильвестр обработал в качестве единого доку-
мента свод правил, по которым надлежало жить россиянам в их связях с госу-
дарством, церковью и с членами семьи: «како веровати, како царя чтити, како
жити с женами, и с детьми, и с домочадцами».
«Книга, глаголемая Домострой» протопопа Сильвестра утверждала нрав-
ственные основы общества.
Полагают, что по законам домостроя жили лишь купеческие семьи.
Думается, однако, что по ним жили и крестьянские, и мещанские (купеческие),
и знатные дворянские семьи. Вспомним отца Андрея Болконского, старого
генерала. Разве не деспотическое правление установил он в своем доме-двор-
це? С какой жестокой грубостью обошелся он со своей дочерью Марьей в при-
сутствии посторонних, в присутствии сватавшегося за нее Анатоля Курагина!
«— Это ты для гостей так убралась, а? — сказал он. — Хороша, очень хороша.
Ты при гостях причесана по-новому, а я при гостях тебе говорю, что вперед не
смей ты переодеваться без моего спроса» и далее: «...ей уродовать себя нечего —
и так дурна».
И ведь любил старый князь свою безответную дочь и все-таки тиранил
каждодневно, пожалуй, сильнее и жестче, чем тит титычи комедий Остров-
ского.
Нравы домостроя отнюдь не российское изобретение. Достаточно вспо-
мнить историю итальянской семьи Ченчи, когда даже сам папа вынужден был
применить к ней свои санкции. Лукреция, дочь Франциска Ченчи, доведенная
тиранией отца до отчаяния, организовала его убийство. Английский поэт
Шелли в драме «Ченчи» и французский писатель Стендаль в одноименной
новелле рассказали об этом трагическом эпизоде истории.
Как часто мы, вникая в произведение писателя, видим лишь то, что хотели
бы видеть. Критик Добролюбов, ратуя за литературу, зовущую вперед, к
социальным преобразованиям, ратуя за литературу протеста, социальной
борьбы («нам нужна теперь энергия и страсть»), в своих статьях о «Грозе»
Островского объявил Катерину чуть ли не сокрушителем «царства тьмы», а
под «тьмой» подразумевалась вся царская, дворянская, помещичья Россия. По
его мнению, этот образ «...составляет шаг вперед не только в драматической
деятельности Островского, но и всей нашей литературы, предвещает взрыв
народного возмущения».
Робкая, запуганная страхами загробной кары за совершенный грех, Кате-
рина бросается в реку и гибнет, потому что считает себя недостойной жить на
земле. А критика придала ей героические черты борца. Добролюбов приписы-
вает Катерине решение: «лучше гибель, нежели жизнь при тех началах, кото-
рые противны».
Трагедия Катерины не в том, что ее притесняет Кабаниха. Свекрови всегда
или почти всегда недовольны снохами, ревнуя к ним своих сыновей; трагедия ее
в том, что она с ужасом ощутила противоречие между влечением и долгом.
Перед ней встал страшный для нее призрак греха. Несколько позднее в литера-
туре появится новая трагическая фигура с тем же нравственным разладом —
Анна Каренина Льва Толстого. Только теперь в иное время и в иной среде.
321
Грех был совершен не перед Богом, а перед светским обществом, его установ-
лениями. «Мне отмщенье и аз воздам!» И она воздала. Но и здесь никакого про-
теста не было. Возмездие пришло изнутри, от нее самой.
Островский ставит тему Греха настойчиво и резко, как великую беду чело-
веческую. Катерина полюбила, будучи мужниной женой. Ей не простила этого
не только властная и жестокая Кабаниха, но всякая добрая, вполне гуманная
мужнина мать. Короткая сцена с явлением сумасшедшей барыни: «Вам весело?
Весело? Красота-то ваша вас радует? Вот красота-то куда ведет (показывает
на Волгу — ремарка автора. — С. А). Вон, вон, в самый омут».
И Катерина напугана. «Я дрожу вся, точно она пророчит мне что-нибудь».
У Варвары, молодой девушки, дочери Кабанихи, нет никаких нравственных
проблем, она не видит никакого греха в своих отношениях с Кудряшом. Для
Катерины же ее любовь к Борису — величайшее преступление. При свидании
с ним она с ужасом отталкивает его: «Поди от меня! Поди прочь, окаянный
человек! Ты знаешь ли: ведь мне не замолить этого греха, не замолить никог-
да! Ведь он камнем ляжет на душу, камнем». Но любовь ломает ее волю: «Нет
у меня воли». И — финал: «Жить нельзя. Грех!»
Темное царство. Сколько трагедий совершается за высокими заборами, за
стенами домов и квартир! «У всех давно ворота, сударь, заперты и собаки спу-
щены... и не от воров они запираются, а чтобы люди не видали, как они своих
домашних едят поедом да семью тиранят. И что слез льется за этими запорами,
невидимых и неслышимых!»
Островский рисовал быт определенной социальной группы, ее житейские
проблемы, сохраняя все сословные и исторические реалии. Он был близок к
актерской среде и несколько пьес посвятил ей («Таланты и поклонники»,
«Лес», «Без вины виноватые»). Коснулся он и чиновников («Доходное место»),
и дворян, чаще всего жалких и подлых, как Гурмыжская, Мурзовецкая.
Дворянство теряло свой престиж в обществе. Приходил новый хозяин —
уже «человек во фраке», хищник-нувориш с аристократическими манерами —
Паратов («Бесприданница»), Беркутов («Волки и овцы»). Этот из помещиков,
но уже с предпринимательской жилкой.
Прекрасно зная натуру человеческую, Островский, в сущности, касался
проблем, свойственных людям разных поколений, разных эпох да и разных
народов. Потому пьесы его в постоянном репертуаре театров и собирают мно-
гочисленных зрителей как в былые времена, так и ныне.
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
Болезненному гению Достоевского я предпочитаю вполне здоровый
гений Толстого.
Ромен Роллан
На Западе постоянно сравнивали Достоевского с Толстым, первый выра-
жал, по мнению критиков, «трагедию славян», второй — «славянский покой,
тихий, молчаливый, только еще пробуждающейся страны».
Достоевский умер за тридцать лет до смерти Толстого. Между тем кажется,
когда читаешь их сочинения, что «молодость» XIX в. запечатлена в Толстом, а
322
«старость» его — в Достоевском, что мрачные проблемы XX в. и чудовищные
злодеяния, совершенные этим веком, предугаданы Достоевским, а не Толстым,
который по времени был ближе к этому XX в. (умер в 1910 г.).
Запад открыл в русском искусстве XIX в. «славянское очарование». Турге-
нева называли «самым приятным» русским писателем, Достоевского — «по-
этом скорби», и это последнее нравилось больше.
В Италии, где в конце XIX в. возникло в искусстве своеобразное эстетичес-
кое направление веризм (верность правде, реализм), Достоевского назвали «са-
мым ужасным русским веристом». Его избрали своим учителем многие извест-
нейшие писатели Запада (парадоксально, противником именно Запада считал
себя сам Достоевский). Ему подражали, писали романы, где героем был увле-
ченный им человек.
Вряд ли правильно понимали Достоевского, воспринимая его сквозь призму
собственных идей. Философ Ницше, апологет сильной личности, нашел в
Жюльене Сореле Стендаля и Родионе Раскольникове («Преступление и наказа-
ние» Достоевского) своих героев, т. е. сильных людей. В 1887 г. он писал
одному своему корреспонденту: «Вы знаете Достоевского? Кроме Стендаля,
никто не был для меня такой приятной неожиданностью и не доставил столь
много удовольствия. Это психолог, с которым я нахожу «общий язык».
В Достоевском ценили величайшего психолога. Это в нем отметил и Ниц-
ше. Причем философ сделал самое неожиданное заключение: «Изображать
самые ужасные и сомнительные вещи — это уже проявление инстинкта власти
и величие художника: он их не боится». Поэтому: «Достоевский принадлежит
к самым счастливым открытиям в моей жизни» («Сумерки кумиров»).
Французский критик Вогюе, горячий пропагандист русской литературы,
отозвался о Достоевском самым отрицательным образом: признавая его огром-
ный талант, он приходил в ужас от его книг (это «ужасный реализм», чтение
его подобно «добровольной пытке»).
Так или иначе, но Толстой и Достоевский разбудили Запад, заставили отре-
шиться от невежественного равнодушия к русской культуре. Заговорили даже
об «очищении Европы через русский народ».
Немецкий поэт Рильке сравнил писателя даже с Христом:
«Незабываемые явления и великие примеры Иисус и Достоевский. Однако
именно слово последнего, человеческое, не превращенное в догму слово, будет
для России более существенным, чем для Европы слово Иисуса Назарейского»,
и еще: «Если бы я пришел в этот мир как пророк, я бы всю жизнь проповедовал
Россию как избранную страну».
Однако все это произошло уже после смерти Достоевского. Русскому писа-
телю при жизни не удалось погреться у костра своей мировой славы, а эта
слава его росла из года в год.
Первая мировая война, породившая в литературе нервозных, опустошен-
ных молодых людей, переживших ужасы войны, получивших в критике наиме-
нование «потерянного поколения», привлекла к Достоевскому новых адептов.
Мучимый кошмарами Кафка находит в русском писателе своего собрата. К
Достоевскому привлечено внимание врачей-патологов, в частности Фрейда
(статья «Достоевский и отцеубийство», 1928).
Увы, слава, всеобщее внимание нередко порождают и нездоровое любо-
пытство к знаменитым людям, и нездоровые измышления.
323
Думается, однако, что основная масса зарубежных читателей угадала в рус-
ской литературе главный ее нравственный элемент — человеколюбие, гуман-
ность и целомудренное отношение к интимной стороне жизни человека.
* * *
Жизнь Достоевского? Тяжелое детство. Бедность, нужда, тиранический
характер отца. Затем неожиданный взлет славы, после опубликования первого
романа «Бедные люди». Осознание своих высоких возможностей и болез-
ненная ранимость самолюбия, чувство униженности в условиях сословной рас-
члененности общества. В те годы литераторы в основном выходили из богатых
и знатных людей.
Однажды в скромную квартиру Достоевского явился с визитом писатель и
барин граф В. А. Соллогуб. Достоевский был страшно смущен — ему некуда
было посадить гостя: кроме письменного стола и одного кресла, у него не было
в комнате никакой мебели.
Соллогуб — литератор средней руки, разговаривал с одареннейшим
Достоевским с барской снисходительностью, что, конечно, чувствовал послед-
ний.
* * *
Однажды, точнее, 15 апреля 1849 г., на квартире у Батушевича-Петрашев-
ского Достоевский прочитал «Письмо Белинского к Гоголю», оно уже было
известно в литературных кругах, но держалось под строжайшим секретом.
Это чтение стало роковым для молодого писателя. Полиция разгромила
петрашевцев (в сущности, безобидный кружок литераторов, увлекшихся иде-
ями социалиста-утописта Фурье об «общем благе для всего человечества»).
Петрашевцы критиковали крепостничество в России. Полиция приняла свои
меры. Многие из них были арестованы и судимы.
Достоевский был приговорен к смертной казни, стоял с петлей на шее,
познав все чувства приговоренного к смерти. Казнить, однако, не стали, а от-
правили на каторгу.
Девять лет провел писатель на каторжных работах среди сброда самых
отчаянных уголовников. Это было страшное испытание и вместе с тем давало
огромный материал для наблюдений психолога.
Вернувшись к нормальной жизни, Достоевский был уже другим человеком —
с крайне обостренной психикой, с подозрительным отношением к различ-
ным политическим теориям, к интеллигентским поискам всеобщего блага, за
которыми он видел лишь маниловское прожектерство, беспочвенное и, в сущ-
ности, приносящее обществу вред.
Снова бедствия, постоянная нужда и каждодневный труд. Прибавим к этому
припадки эпилепсии, омрачавшие дни писателя.
Все это предопределяло сам тонус творчества Достоевского. Талант его соз-
рел, из-под пера его вышли романы высочайшего мастерства: «Преступление
и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот», «Подросток» и др., но общий
колорит их был чрезвычайно и, сказать по правде, угнетающе мрачен.
324
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
— Как? Что такое? Право на преступление?..
— Все дело в том, что в ихней статье все люди как-то разделя-
ются на «обыкновенных» и «необыкновенных». Обыкновенные
должны жить в послушании и не имеют права переступать закон,
потому, видите ли, что они обыкновенные. А необыкновенные
имеют право делать всякие преступления и всячески преступать
закон, собственно потому, что они необыкновенные.
Ф. М. Достоевский.
«Преступление и наказание»
В этом диалоге, помещенном где-то в середине романа, — ключ ко всем
событиям, которые с потрясающей нас резкостью развертываются в повество-
вании Достоевского. На первый взгляд история проста: бедный студент, жив-
ший в крайней нищете, в отчаянии решается убить старуху-ростовщицу, завла-
деть ее деньгами и сразу решить все свои проблемы. Как это происходит и все,
что за этим последовало, подробно, со всеми деталями изложено в книге на,
примерно, шестистах страницах убористого текста.
Обыкновенная и довольно неприятная криминальная история, но она насы-
щена жгучими социальными проблемами и пронзительной болью за стражду-
щего человека.
Статью, о которой идет речь в эпиграфе, написал и напечатал студент по
имени Родион Раскольников — главный персонаж романа. Он долго размыш-
лял над темой сверхчеловека, примеряя ее к себе. Сверхчеловеком был, по его
мнению, Наполеон: «...настоящий властелин, кому все разрешается, громит
Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона
людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне; и ему же, по
смерти, ставят кумиры, — а стало быть, и все разрешается».
Кто же он, Родион Раскольников? Наполеон или тварь дрожащая, вошь?
Мучительный вопрос, терзающий личное самолюбие гордой личности.
Достоевский ставит своего «маленького человека» (а он именно таков по
социальному положению, униженный до последней степени бедностью Рас-
кольников) на одну театральную площадку вместе с Наполеоном, Цезарем и
другими деятелями всемирной истории.
Невольно вспоминается гоголевский чиновник Акакий Акакиевич Башмач-
кин. И он, поистине возвышенный в ничтожестве, в бреду осмелился поднять
свой кулачок на некое начальственное лицо, так что сидевшая у его изголовья
старушка, никогда не слышавшая от него слов протеста, в испуге забеспокои-
лась и закрестилась.
Те теории, которые вскружили голову Родиону Раскольникову, пришли к
нему извне. Они широко обсуждались на мировой арене. К этому подталкивал
феномен Наполеона.
Достоевский, описывая злоключения своего героя, выносил его «теорию»
на мировую арену. Отклик последовал незамедлительно.
Немецкий философ Ницше, поразивший умы современников критикой хри-
стианства, нашел в Раскольникове «своего» героя.
325
Достоевский вряд ли читал Ницше, все наиболее известные сочинения этого
автора вышли уже после смерти писателя Достоевского («Так говорил Зарату-
стра», «По ту сторону добра и зла»). Весь строй мыслей русского писателя про-
тиворечит идеям немецкого философа. И того и другого, однако, интересует
одна и та же проблема: страдание и сострадание. Для русского писателя она
решается положительно, т. е. сострадание как чувство, как этическая катего-
рия — прекрасно. Иную оценку дает немецкий философ.
Для него оно (сострадание) только увеличивает, умножает беды человечес-
кие, и без того тяжелые. Нужно поддерживать жизнь, утверждать ее в силь-
ных, а не в слабых. Христианская религия установила эту странную, противо-
естественную любовь к слабому, болезненному, уродливому.
Ницше ниспровергает философию страдания и искупления, отвергает
философию Канта с его принципом всевластия совести, отвергает христиан-
ские принципы морали, аскетизм, издевается над легендой о непорочном зача-
тии. Он рассуждает: сострадание противопоказано человечеству, оно расслаб-
ляет, оно утверждает слабых в ущерб сильным. «Христианство называют рели-
гией сострадания... В целом сострадание парализует закон развития — закон
селекции (теория Раскольникова об «обыкновенных» и «необыкновенных». —
С. А.). Оно поддерживает жизнь в том, что созрело для гибели, оно борется с
жизнью в пользу обездоленных и осужденных ею, а множество всевозможных
уродств, в каких длит оно жизнь, придает мрачную двусмысленность самой
жизни».
Достоевский утверждает прямо противоположное. Все его творчество,
начиная с романа «Бедные люди», посвящено страждущим, обездоленным.
Ницше бросает страшную фразу: «Падающего подтолкни!» Достоевский отдал
бы все, чтобы поддержать, спасти падающего.
И тем не менее оба они привлечены к одному и тому же: как относиться к
христианству? К нравственному элементу этой религии. Ницше полностью
отвергает христианство. Достоевский мучительно ищет ответа на вопрос: есть
или нет Бога? Если нет, то мир рушится, ибо тогда все дозволено: и Мерзляков
убивает отца («Братья Карамазовы»), Раскольников — старуху.
Правда, потом они постигают, что даже если отречься от Бога, то не все
будет дозволено, что есть в человеке неодолимое чувство. Имя этому чувству —
совесть. Кант называл это чувство «нравственным императивом». Ницше не
исключал этого чувства, но считал, что оно идет от христианства («Казуистика
греха, самокритика, инквизиция совести»).
Наказание Раскол ьникова состоит не в том, что его отправляют на каторгу,
а в его собственном суде над собой. Раскольников спрашивал себя, можно ли
«разрешить своей совести перешагнуть». Оказывается, нельзя. Все страдания
Раскольникова после совершения преступления с мучительной остротой убе-
ждают его в этом. Здесь уже беспощадно действует «инквизиция совести».
* * *
Несколько слов о романе Достоевского «Братья Карамазовы». Там — тоже
преступление, и страдания, и любовь, и судебная ошибка, и страшные нервоз-
ные, истеричные люди, и страшные их судьбы, и над всем этим мрачным отсве-
том — проблема евангельского Бога.
326
«Главный вопрос, проходящий сквозь все части книги, тот же, что был
мною сознательно или бессознательно выстрадан: вопрос о существовании
Бога», — подтверждает Достоевский.
Там встанут и озадачат читателя вопросы, волновавшие народы Западной
Европы в эпоху Средневековья, вопросы «свободы» и «несвободы» воли чело-
века. В романе они примут социальную и политическую окраску («Великий
инквизитор»). Но это такая бездна, куда и заглядывать страшно.
Великий пророк Достоевский забросил этот вопрос к нам, в XX в. Им заня-
лись писатели-экзистенциалисты — Камю, Сартр и др. Они пришли к выводу:
мир, вселенная, человек, все и вся — абсурд.
Но это уже выходит за рамки нашей книги.
«БЕСЫ»
Наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разру-
шение.
М. А. Бакунин. «Катехизис»
21 ноября 1869 г. под Москвой был убит член тайного революционного
общества, студент Петровской земледельческой академии И. Иванов. Труп его
нашли на территории Академии.
Убили Иванова его товарищи по тайному обществу, которым он признался,
что хочет отойти и не участвовать больше в его работе. Боялись предатель-
ства, разоблачения. Возглавил убийство С. Г. Нечаев, вольнослушатель
Петербургского университета. Участвовали в убийстве, кроме него, еще
четыре человека. Как это происходило, описал Достоевский: «Шатов (под
этим именем выведен жертва убийства И. Иванов) вдруг прокричал кратким и
отчаянным криком; но ему кричать не дали: Петр Степанович аккуратно и
твердо наставил ему пистолет прямо в лоб, крепко в упор и — спустил курок...
Смерть произошла почти мгновенно».
Событие это стало предметом особого расследования и широкого внимания
тогдашней прессы.
Эту историю взял за основу своего романа Достоевский. Нечаеву в романе
дано имя Петра Верховенского, двадцатилетнего фанатичного заговорщика.
«Фантастические призраки»
Вы сосредоточиваете свое внимание на ничтожной горсти безум-
цев и негодяев.
Отечественные записки. — 1873. — № 2.
Революционно настроенная критика была недовольна романом. Писали,
что автор преувеличивает, что нельзя было обращаться к нечаевскому делу,
что это лишь «печальное, ошибочное и преступное исключение», что свободо-
мыслящая молодежь не такова.
327
Достоевский настаивал на необходимости придать особое значение нечаев-
скому делу. В тайные общества шли не одни негодяи и монстры, писал он. В
них шли «жертвы идей». Такие пойдут и на плаху и на величайшие преступле-
ния ради свершения благородных целей: «Один гимназист, очень горячий и
взъерошенный мальчик лет восемнадцати... этот крошка был уже начальни-
ком самостоятельной кучки заговорщиков, образовавшейся в высшем классе
гимназии», — пишет Достоевский.
Фанатики были особенно страшны. В своем увлечении они не знали границ.
Воспитанные на принципах высокой морали доброты, гуманности, с душами
чистыми, подпав под влияние взрывных идей, они совершенно преображались:
«...чувствительный, ласковый и добрый Эркель, быть может, был самым бес-
чувственным из убийц».
Среди заговорщиков были люди бесспорно порядочные, честные, образо-
ванные. В этом заключался особый трагизм положения.
«Да неужели же вы вправду думаете, что прозелиты, которых мог бы на-
брать у нас какой-нибудь Нечаев, должны быть непременно лишь одни шало-
паи? Не верю, не все; я сам старый «нечаевец», я тоже стоял на эшафоте, при-
говоренный к смертной казни, и уверяю вас, что стоял в компании людей обра-
зованных. Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем,
не ручаюсь, может быть и мог бы... во дни моей юности... Почему вы думаете,
что даже убийство а 1а Нечаев остановило бы, если бы не всех, конечно, то, по
крайней мере, некоторых из нас в то горячее время среди захватывающих душу
учений... Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор
без малейшего раскаяния... то дело, за которое нас осудили, те мысли, те поня-
тия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требу-
ющими раскаяния, но даже чем-то нас очищающими, мученичеством, за кото-
рое многое нам простится», — признавался писатель.
Роман Достоевского стал, в сущности, раскаянием, горькой насмешкой над
своими юношескими благородными, но опасными для общества идеями, и
теперь, как бы предвидя грозные последствия этого молодого бунтарства,
писатель сознательно шел на гротескные ситуации, изображая своих героев в
карикатурном виде.
Благодушные современники писателя склонны были видеть в революцион-
ном брожении молодежи безобидную мальчишескую браваду. Достоевский же
предугадывал великие смятения и бил в набат.
«Захватывающие душу учения»
Что же это за учения, которые, по признанию Достоевского, захватывали
души молодежи 60-х гг. XIX в.? В романе мелькают имена Фурье, Кабе, Леру,
Прудона, древнегреческого философа Платона, создавшего первый проект
идеального государства, Руссо, автора трактата «Об общественном договоре».
Сочинения этих авторов жадно читались молодыми бунтарями России.
Идеи утопического социализма шли к нам с Запада и овладевали умами. Роман
Кабе «Путешествие в Икарию», об обществе будущего, читался и перечиты-
вался. Смеясь над этими «спасителями человечества», Достоевский устами
одного из персонажей романа назвал их «социальными букашками».
328
Отвлекаясь от романа, замечу, что в России тогда объявлялись чудаки,
которые хотели немедленно приступить к воплощению идей своих кумиров.
Герцен в «Былом и думах» описал такого человека по имени Павел Александ-
рович Бахметов, с которым встречался в Лондоне. Этот человек, взяв с собой
30 тыс. франков, отправился в Новую Зеландию создавать колонию в духе идей
социализма, да там и пропал без вести.
Проблема, обсуждавшаяся в заговорщицких кругах, в том числе и в нечаев-
ском, сводилась к переустройству общества.
Что же предлагали тогда отчаянные головы? В романе описано одно такое
собрание. Разговор шел о том, какое должно быть новое общество и как к нему
подойти. Мнения высказывались самые нелепые. Достоевский, конечно, утри-
ровал. Это казалось злым пасквилем на свободолюбивые идеи. Немецкая рево-
люционерка Роза Люксембург так и писала: «Его образы русских революцио-
неров являются злобными карикатурами».
Однако послушаем, о чем говорили на тайном собрании заговорщиков:
«Разговоры и суждения о будущем социальном устройстве — почти насто-
ятельная необходимость всех мыслящих современных людей. Герцен всю
жизнь только о том и заботился. Белинский, как мне достоверно известно, про-
водил целые вечера со своими друзьями, дебатируя и предрешая заранее даже
самые мелкие, так сказать, кухонные подробности в будущем социальном
устройстве» и — всеобщий вывод: хватит разговоров, теоретических пропаган-
дистских выступлений! Эдак пройдет тысячу лет, и мир деспотизма не изменит-
ся, надо действовать! Пусть в революционных перетрясках погибнет сто мил-
лионов голов, но установится наконец рай на земле, «срезав радикально сто
миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канав-
ку». «Решение скорое, в чем бы оно ни состояло, но которое наконец развяжет
руки и даст человечеству на просторе самому социально устроиться, и уже на
деле, а не на бумаге».
Заявления, как видим, чудовищны. Кто же мог тогда этому поверить? И
Достоевского записывали в самые крайние ряды консерваторов. Он был тогда
Кассандрой, которой никто не верил.
Отец и сын
В романе два главных персонажа — отец и сын Верховенские. Первый из
них — Степан Трофимович. Он представляет собой поколение 40-х гг. К нему
принадлежали Белинский и Тургенев, весь кружок Грановского, Герцен, Ога-
рев. Это были, как это представлялось автору романа, мечтатели-идеалисты, с
уст которых сходили высокопарные философские тезы — «конечное», «беско-
нечное», «относительное» и «абсолютное». Они мечтали об идеальных обще-
ственных отношениях, основанных на братстве и любви. Как это можно было
осуществить, они не знали, но верили, что это возможно, и страстно этого
хотели.
Это романтическое поколение со злой иронией предстало в образе Степана
Трофимовича Верховенского. Современники узнали в нем профессора-исто-
рика Грановского, кумира тогдашних студентов. Степан Трофимович был бес-
конечно добр, наивен как ребенок и по-детски эгоистичен. Рассуждая о всеоб-
329
щей любви, он, не задумываясь, отдает своего крепостного в рекруты в оплату
за карточный долг.
«— Степан Трофимович! — радостно проревел семинарист. — Здесь в
городе и в окрестностях бродит теперь Федька-каторжный. Он грабит и
недавно еще совершил новое убийство. Позвольте спросить: если бы вы его
пятнадцать лет назад не отдали в рекруты в уплату за карточный долг, то есть
попросту не проиграли в картишки, скажите, попал бы он на каторгу? Резал бы
людей, как теперь в борьбе за существование? Что скажете, господин эсте-
тик?»
Вся история этого идеалиста 40-х гг., конечно, гротескна. Досталось тут от
Достоевского и Тургеневу. Он изображен в образе «великого писателя» Карма-
занова с его «жеманной и бесполезной болтовней», с «настоящим благородным
дворянским присюсюканьем».
Карикатура на писателя настолько зла, жестока и несправедлива, что не
хочется ее и касаться. Для нас имя Тургенева священно, как в данном случае и
имя его хулителя. Не будем вмешиваться в распри великих людей.
Сын Степана Трофимовича Петр Верховенский — представитель уже сле-
дующего поколения — шестидесятников. Он-то и становится организатором
убийства Шатова. Скользкий, наглый тип. Достоевский рисует его портрет с
явной брезгливостью. Он был в детстве брошен отцом, «человеколюбивым»
представителем поколения 40-х гг., и вырос подлецом.
Роман обширен, населен множеством персонажей. Каждый из них колори-
тен. Много трагедий, истерических сцен и странных психологических колли-
зий, как и во всех произведениях Достоевского. Но об одном из героев, пожа-
луй, следует поговорить особо, ибо в нем угадывается Лермонтов.
В романе это Николай Ставрогин. Красивый, смелый до дерзости и —
странен, «решительный и неоспоримый красавец», «изящен», «важен», «взгляд
вдумчив и как бы рассеян», «это преждевременно уставший человек», «новый
этюд пресыщенного человека», «это было нечто высшее чудачество и, уверяю
вас, нечто даже святое! Человек гордый и рано оскорбленный». «На дуэли он
мог стоять под выстрелом противника хладнокровно, сам целить и убивать до
зверства спокойно».
Ставрогин трагичен, непонятен. Непонятен он остался и Достоевскому,
который, видимо, хотел разобраться в характере Печорина. «Нервозная, изму-
ченная и раздвоившаяся природа людей нашего поколения» — таков вывод.
* * *
Мы знаем и любим Петербург по Пушкину: «строгий, стройный вид, Невы
державное теченье, береговой ее гранит»... «оград узор чугунный», и «адми-
ралтейская игла», и «зимы жестокой недвижный воздух и мороз», и «девичьи
лица ярче роз», и «блеск и шум и говор балов» — все, все, что с таким очарова-
нием живописал поэт. Это был Петербург аристократический.
Достоевский показал нам другой Петербург — грязный, душный, с узкими
переулками, с дворами-колодцами, с заплеванными лестницами. Ни дворцов,
ни марсовых полей там нет, ни гарцующих коней, ни балов.
И люди в этом Петербурге другие — нищие, проститутки, полуголодные
студенты, бедствующие мелкие чиновники.
330
«На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду извест-
ка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому
петербуржцу... Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части
города особенно множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на
буднее время, довершили отвратительный и грустный колормт картины».
Такова обстановка, в которой живут, страдают и сострадают герои романа.
Здесь совершаются преступления, но и расцветают великие чувства любви к
ближнему. Бедный студент Раскольников на свои скудные средства содержит
больного товарища, а после смерти молодого человека и его обнищавшего
отца. Этот Раскольников, который потом убьет двух человек, вытаскивает из
пожарища детей с опасностью для себя.
Здесь живет в нищете и горе прелестная девушка Соня Мармеладова как
олицетворение милосердия, сострадания и христианской любви. И страницы
романа, странного, несобранного, порой кричащего криком истязуемого,
несчастного, страждущего человека, — овеяны духом Евангелия.
Ницше, читая Новый завет, видит в нем картины, нарисованные Достоев-
ским.
«В странный нездоровый мир вводят нас Евангелия — мир как в русском
романе, где, будто сговорившись, встречаются отбросы общества, неврозы и
«наивно-ребяческое» идиотство».
* * *
А знаете, ведь все это помещичья литература, она сказала все, что
имела сказать, великолепно у Льва Толстого, но это в высшей сте-
пени помещичье слово было последним. Нового слова, заменяющего
помещичье, еще не было...
Ф. М. Достоевский
Так случилось, что в России культуру возглавило дворянство. Об этом
писал и Пушкин. Особенно в первой половине XIX в. Не так было во Франции,
в Германии, где поэты зависели от двора и вельмож, печатали свои сочинения
с посвящениями этим вельможам.
В России дворянство выдвинуло из своей среды высокие таланты. Знамена-
тельна реплика Чарского в «Египетских ночах» Пушкина: «Наши поэты не
пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа...»
Так что Достоевский имел все основания назвать русскую литературу пред-
шествующей эпохи «помещичьей». Нельзя не заметить в этом его заявлении
какой-то невысказанной обиды.
Раскройте роман Гончарова «Обрыв», вы увидите патриархальный быт дво-
рянской усадьбы. Царит всеобщая гармония природы и человеческих душ.
Строгая и добрая бабушка — Бережкова. Беззаботно порхающая, ее внучка
Марфенька, расцветший цветок. Вторая ее внучка, блещущая красотой, зага-
дочная, затаенная в себе, дикая Вера. Романтик, вечно ищущий красоту внук
Райский. Старый дом, барский дом, хранящий давние традиции в молчаливом
покое старинной мебели. Слуги, веселые, добрые, мелькавшие в этом благо-
устроенном и гармоничном раю.
Где-то, за пределами этого рая, что-то уже звучит тревожное, новое. Там,
на краю усадьбы, овраг. У обрыва беседка. Какие-то страшные легенды свя-
331
заны с обрывом. Туда ушла Вера. Ее увлек новый человек, чужой этому мир-
ному согласованному укладу жизни. Нигилист и циник Марк Волохов. Он вор-
вался в этот мир на мгновение, как молния, ожег одну из обитательниц этого
рая и ушел навсегда, оставив жгучую, незаживающую боль в ее душе.
Остается прекрасная, как мечта, родная Малиновка, отеческая усадьба.
Скитается по свету романтик и вожделеющий красоты Райский, посещает
дворцы и музеи Европы, дивится и наслаждается и носит в душе своей родную
и манящую к себе Малиновку. «Ему хотелось бы набраться этой вечной кра-
соты природы и искусства, пропитаться насквозь духом окаменелых преданий
и унести все с собой туда, в свою Малиновку».
Это была милая сердцу писателя Россия дворянских усадеб, дворянских
гнезд. Мы слышим его печальный голос, что-то тревожное звучит в этом голо-
се.
Уходит она, эта Россия. «За ним стояли и горячо звали к себе — его три
фигуры: его Вера, его Марфенька, бабушка. А за ними стояла и сильнее их
влекла к себе — еще другая, исполинская фигура, другая великая «бабушка» —
Россия».
Так же дорога была и Льву Толстому, сказавшему последнее «помещичье
слово», его Ясная Поляна, без которой он не мыслил себе России.
И здесь была патриархальная дворянская усадьба, и жизнь Толстого прошла
благополучно, если не сказать счастливо. Никаких потрясений, никаких стрес-
сов за все 82 года, проведенных им на земле. С детства он был окружен любя-
щими людьми, жил без каких-либо материальных забот, в обстановке богатого
помещичьего быта, в Ясной Поляне, на лоне благоуханной природы. Так же
безмятежно он прожил и все последующие годы — зрелость и старость.
«Новое слово», «заменяющее помещичье», сказал Федор Достоевский. К
этому его предопределила сама его злосчастная жизнь.
А. П. ЧЕХОВ
Антон Павлович Чехов завершает русский XIX век. Он ушел из жизни в
июле 1904 г. в немецком городке Баденвейлере, спокойно, попрощавшись с
женой, актрисой Московского Художественного театра Книппер-Чеховой, и
немецким врачом, лечащим его, выпив бокал шампанского и сказав по-немец-
ки: «ich sterbe» («умираю»).
Ушел, тихо закрыв за собой дверь. Вместе с ним ушел и XIX век, роскош-
ный, блиставший талантами, и если соотносить его с мировой культурой этого
времени, то преимущественно русский век.
Милый, застенчивый, интеллигентный человек. «Как барышня», — заме-
тил, любуясь им, Лев Толстой.
Сын владельца бакалейной лавки, внук крепостного, он сам пробивал себе
дорогу (отец скоро разорился), добывал пропитание уроками, учился в гимна-
зии, потом на медицинском факультете Московского университета. Под псев-
донимом «Антоша Чехонте» печатал в журналах незатейливые веселые юмо-
рески, подмечая в жизни и в людях смешные черточки и талантливо их обы-
грывая.
332
Талант был замечен. Маститый писатель Григорович обратился с письмом
к молодому автору, предсказывая ему большую писательскую судьбу и предла-
гая перестать заниматься безделием и отнестись серьезно к своему дарованию.
Растроганный Чехов отвечал ему: «Если у меня есть дар, то, каюсь чистотою
Вашего сердца, я доселе не уважал его» (1886). Но письмо заставило его приза-
думаться и взяться за большое искусство.
Он стал мастером короткого рассказа, предельно лаконичного, сжатого,
навсегда оставляющего след в памяти читателя. Наблюдает жизнь. Она не
всегда предлагает взору сверхординарные события. Но вглядитесь в обыкно-
венный быт людей, сколько значения в каждой мелочи!
На базарной площади что-то жарко обсуждает толпа. Подойдите поближе,
посмотрите, послушайте! Собачонка укусила за палец человека. Тот плачет,
просит найти управу на держателей собак. В толпе спорят «за» и «против». Тре-
тейским судьей выступает постовой. Чья собака? От решения вопроса зависит
решение жандарма. Принадлежит генералу — тогда явно виноват пострадав-
ший. Принадлежит обыкновенному обывателю — тогда, значит, надо посочув-
ствовать пострадавшему и разыскать и наказать хозяина собаки.
Многозначительная, любопытная сценка, маленький эпизод, но сколько в
нем смысла для проницательного и мыслящего наблюдателя!
Жандарм переходит от одного решения к другому, его и в пот бросает и в
дрожь, страшно попасть впросак перед начальством и неудобно выглядеть
хамелеоном. А за всем этим — социальные расслоения в обществе и непоря-
дочность человеческая, олицетворенная в блюстителе порядка.
Старый извозчик. Кому он нужен! Нанял экипаж, доехал до нужного места,
расплатился и — прощай! А у него, извозчика, — горе, умер сын. И хочет ста-
рик поделиться своей бедой, душу отвести, да никому нет дела до него и его
горя. В конце рабочего дня, отведя лошадь в конюшню, обнимает ее за шею и
рассказывает ей, лошади, как тяжело ему хоронить-то сына.
Какая щемящая сердце боль! И писатель предваряет свой рассказ эпигра-
фом из Евангелия: «Кому повем печали моя?»
Мальчик пишет письмо «на деревню, дедушке». Обливаясь слезами, расска-
зывает о своей жизни, непосильном труде, побоях, просит, чтобы взяли его
обратно в деревню. И здесь щемящее сердце горе!
Великий печальник Чехов! Он совершает далекое путешествие на остров
Сахалин, куда ссылали тогда преступников. Кто они, эти несчастные люди, что
заставило их перейти порог дозволенного?
К концу жизни взгляд писателя мрачнеет. Физическое состояние (болезнь,
туберкулез) не может не проявиться в общем тонусе творчества («Скучная
история», «Цветы запоздалые»).
Чехов-драматург
Драматургия Чехова родилась вместе с рождением Московского Художе-
ственного театра. «Чайка» на сцене Александрийского театра в Петербурге не
удалась. В Москве же прошла триумфально. Здесь нашлись актеры, режиссе-
ры, понявшие пьесу, оценившие ее.
Чехов открывал новую страницу в истории театрального искусства.
333
Обычно драматурги искали для своих пьес конфликт, резкое противостояние
сил. Все завязывалось в единый узел этого конфликта. Зритель трепетал, его
захватывала интрига, волновали резко очерченные характеры.
Чехов все свел к полутонам. Меланхолическая лиричность, как дымка, оку-
тывает все происходящее на сцене. Будто вечерние сумерки спустились на зем-
лю. Нет кричащих диссонансов, терзающих душу трагедий, но трагедийность
ощущается в каждой реплике действующих лиц, в каждом их жесте. «Трагедии
в каждой фигуре пьесы», — как писал Немирович-Данченко.
«Вишневый сад» завершает тему дворянских гнезд и их обитателей. Они
уходят, эти не приспособленные к стуже жизни люди. Без воли к борьбе, без-
оружные перед злом, они обречены. Под топором нового хозяина падает виш-
невый сад, а с ним и вся дворянская Русь.
Мировая слава Чехова беспримерна. Особенно его театр. Его ставят почти
повсеместно. Удивительно, но он вписался в культуры народов с особым
национальным своеобразием. В Японии его ценят, пожалуй, больше, чем у нас.
Мягкий лиризм его пьес, сумеречную грусть, как тонкий аромат нектара, вку-
шают зрители Страны восходящего солнца.
Заключение
Ведь не всегда нужна нам
безупречность,
В несовершенстве есть какой-то
свой резон.
Автор обращает эти строки к тем строгим критикам, которые непременно
найдут в его труде разительные изъяны. Многого не сказано, что-то недосказа-
но, что-то сказано не так. Увы! Не спорю, соглашаюсь и сожалею. Но все-таки
надеюсь, что мой труд покажется кому-то и нужным и полезным.
Здесь мы заканчиваем свой обзор мировой литературы. Сорок веков жизни
человечества! Сколько прекрасных лиц прошло перед нами, сколько чудесных
творений человеческого гения — и благородства, ума, человеколюбия!
Где-то в тумане веков юный Гильгамеш идет на поиски цветка бессмертия
для своего народа. Давид сражается со злым великаном Голиафом и побеждает
его, спасая свой народ, а его сын Соломон дарит народу мудрость и поэтиче-
ский дар. С чудовищами сражаются греческие герои Геракл, Тесей, Эдип,
Ясон, индийский Рама. Китайские мудрецы Конфуций и Лао-Цзы проповедуют
добро и человеколюбие. К добру и человеколюбию зовет иранский проповед-
ник 3аратустра. В песках Палестины, где-то у Тивериадского озера, молодой
Иисус обращается к людям с самыми благородными идеями гуманности, терпи-
мости, внимания к обездоленным и падшим, и его проповедь и личный пример
тысячелетия волнуют людей.
Поэмы Гомера с их неувядаемым художественным обаянием воспитывают
целые поколения древнего мира — Греции и Рима.
Средние века, эпоха Возрождения подарят человечеству и роскошную поэ-
зию Востока, и глубинную мудрость динамичного Запада — Данте, Шекспира.
XVIII — XIX века утончат вкусы народов. Ироническая проза Вольтера,
всеобъемлющая поэзия Гете, гармоничный поэтический гений Пушкина,
ясная, нравственно чистая проза Льва Толстого, беспокойная, тревожная муза
Достоевского — все это составляет духовное богатство Нового времени.
XIX век завершает классический период мировой культуры. Здесь останав-
ливаемся и мы, с восхищением оглядываясь назад, на наших гениальных пред-
ков, оставивших нам такие духовные богатства.
Содержание
К читателю
Человек и собственность
ВЕК ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
Европа и просвещение . .
Как воспитывались монархи . .
Политические деятели XVIII века
Карл XII
Петр Великий .
Петр во Франции .
Екатерина Великая
Фридрих Великий
Англия
Даниэль Дефо .
«Робинзон Крузо» .
Джонатан Свифт . . .
«Путешествие Гулливера» .
Генри Филдинг ....
«Том Джонс Найденыш»
Английская драма .
Шеридан . .
Роберт Берне
Франция
«Энциклопедия»
Вольтер
«Кандид, или Оптимизм»
«Светский человек»
Жан-Жак Руссо
Бомарше
«Пророчество» Казота
Революция
Рококо . . .
Сентиментализм
Германия . .
Шиллер
Гете
«Страдания молодого Вертера»
«Фауст» ....
ВЕК ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
Два века ....
Феномен Наполеона
Англия
Вальтер Скотт
Байрон . . .
Чайльд Гарольд
Чарлз Диккенс
Франция ....
Виктор Гюго
Стендаль ....
«Красное и черное»
Жюльен Соре ль
«Пармская обитель»
3
4
8
11
13
—
20
26
31
36
39
41
42
46
48
52
53
56
—
58
61
63
64
66
69
72
76
83
89
90
91
96
97
101
104
108
128
131
135
136
139
147
151
156
161
162
172
176
177
Бальзак
Флобер
«Саламбо»
Германия ....
Генрих Гейне
Гофман
Польша ....
Адам Мицкевич
Россия
Пушкин о русской литературе
Максим Грек . .
Россия и Европа
Д. И. Фонвизин
В. А. Жуковский
И. А. Крылов .
А. С. Грибоедов
Чацкий . .
А. С. Пушкин ....
Прощание с XVIII веком
«Руслан и Людмила»
«Гавриилиада» . . .
Романтические поэмы
«Евгений Онегин»
«Полтава» . . .
«Медный всадник»
«Борис Годунов» . .
«Маленькие трагедии»
М. Ю. Лермонтов
Печорин . .
Н. В. Гоголь .
«Тарас Бульба»
«Мертвые души» . . .
Западники и славянофилы . . .
Патриотические чувства в русской
литературе
Гражданская тема в русской ли-
тературе ...
«Лишние люди»
«Обломов»
И. С. Тургенев. «Записки охот-
ника»
Базаров . .
Л. Н. Толстой
«Война и мир» .
А. Н. Островский .
Ф. М. Достоевский . . .
«Преступление и наказание»
«Бесы»
А. П. Чехов
Заключение
1
1
1
Г
1
г
ъ
21
2
2
2
2
2:
z
2:
2:
z
2:
2:
ъ
ъ
ъ
ъ
2i
2i
2i
2(
2(
т
2:
2:
2\
2i
2*
2<
2<
2<
3(
3(
3(
31
з:
з:
31
32
32
336