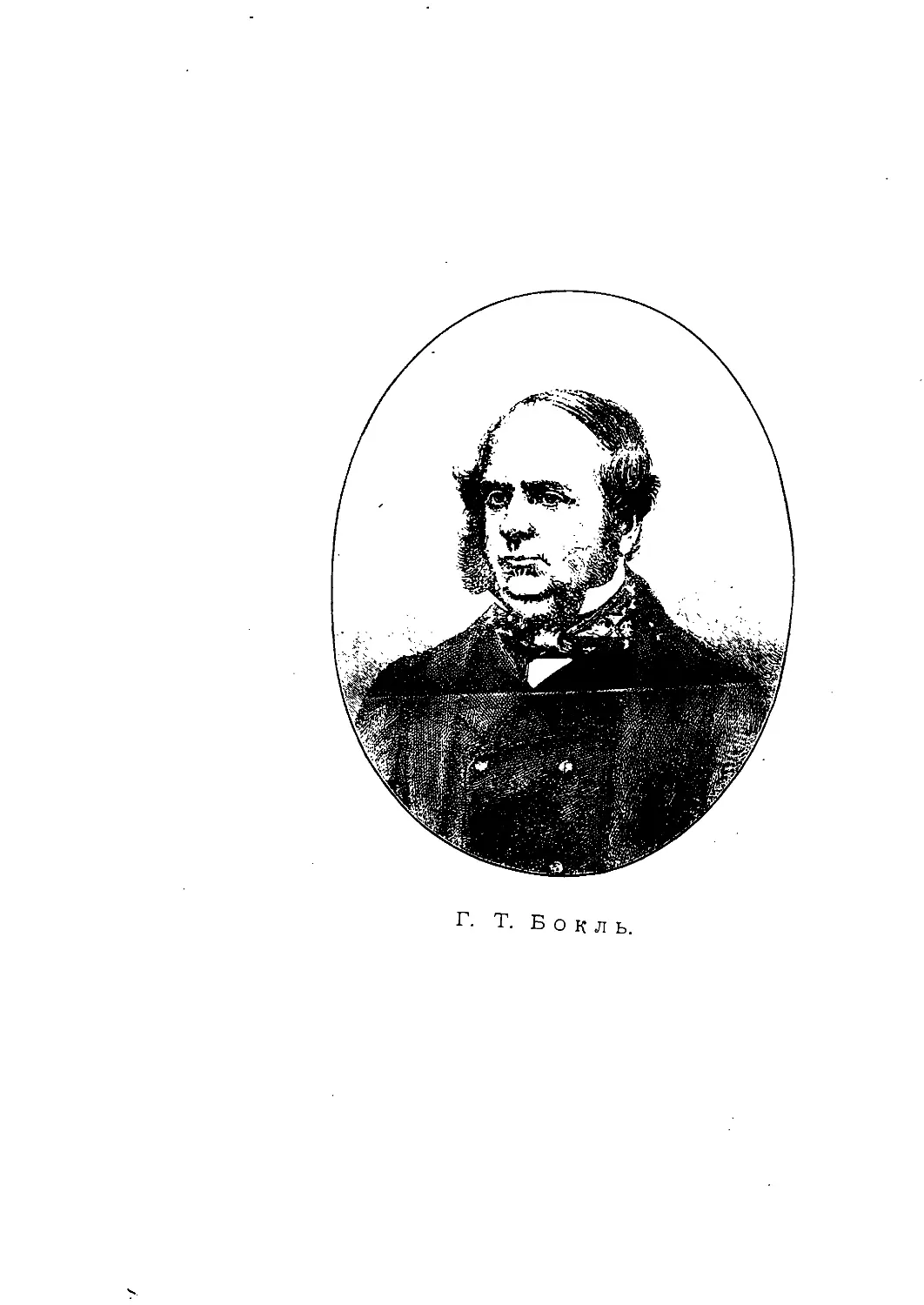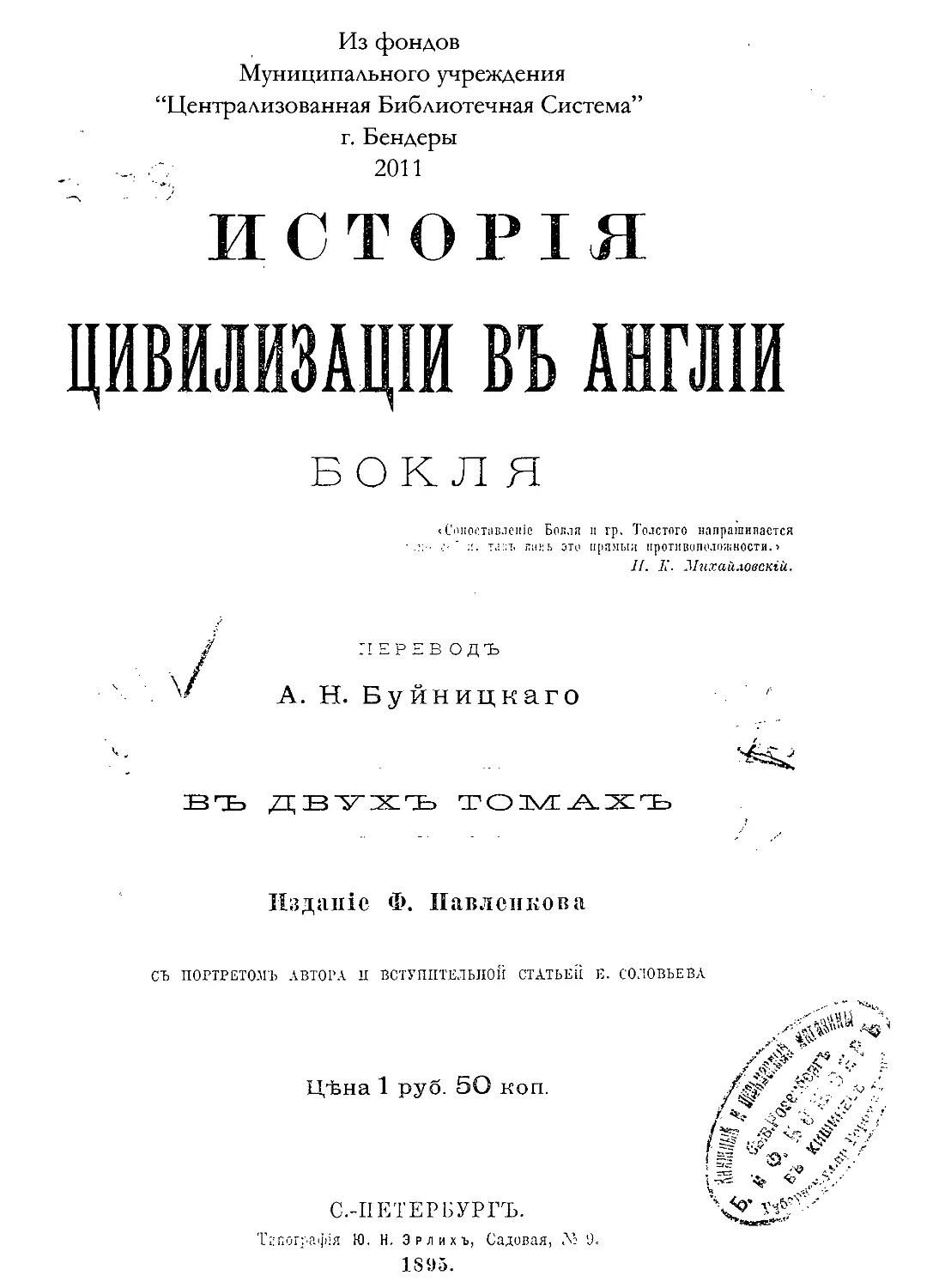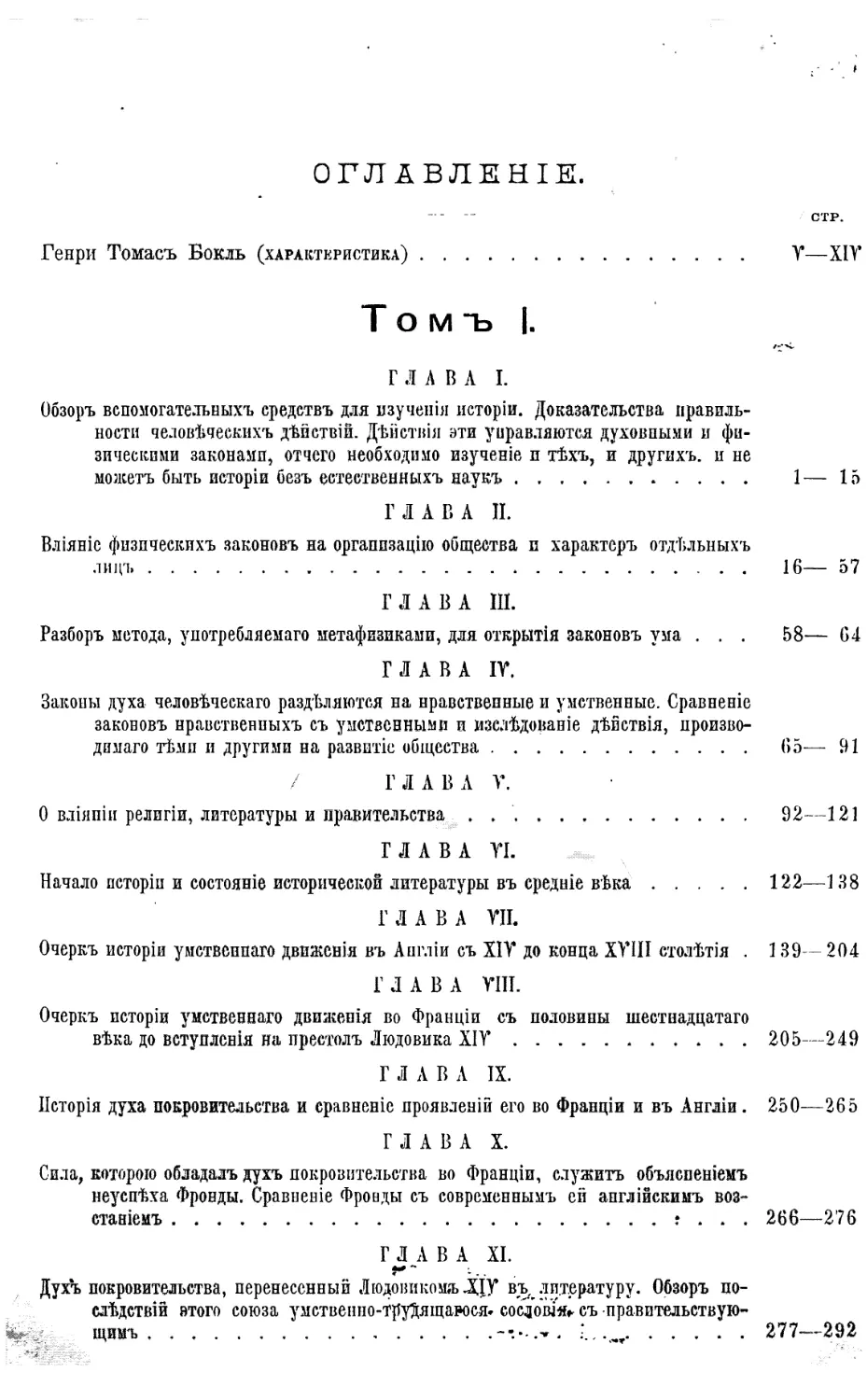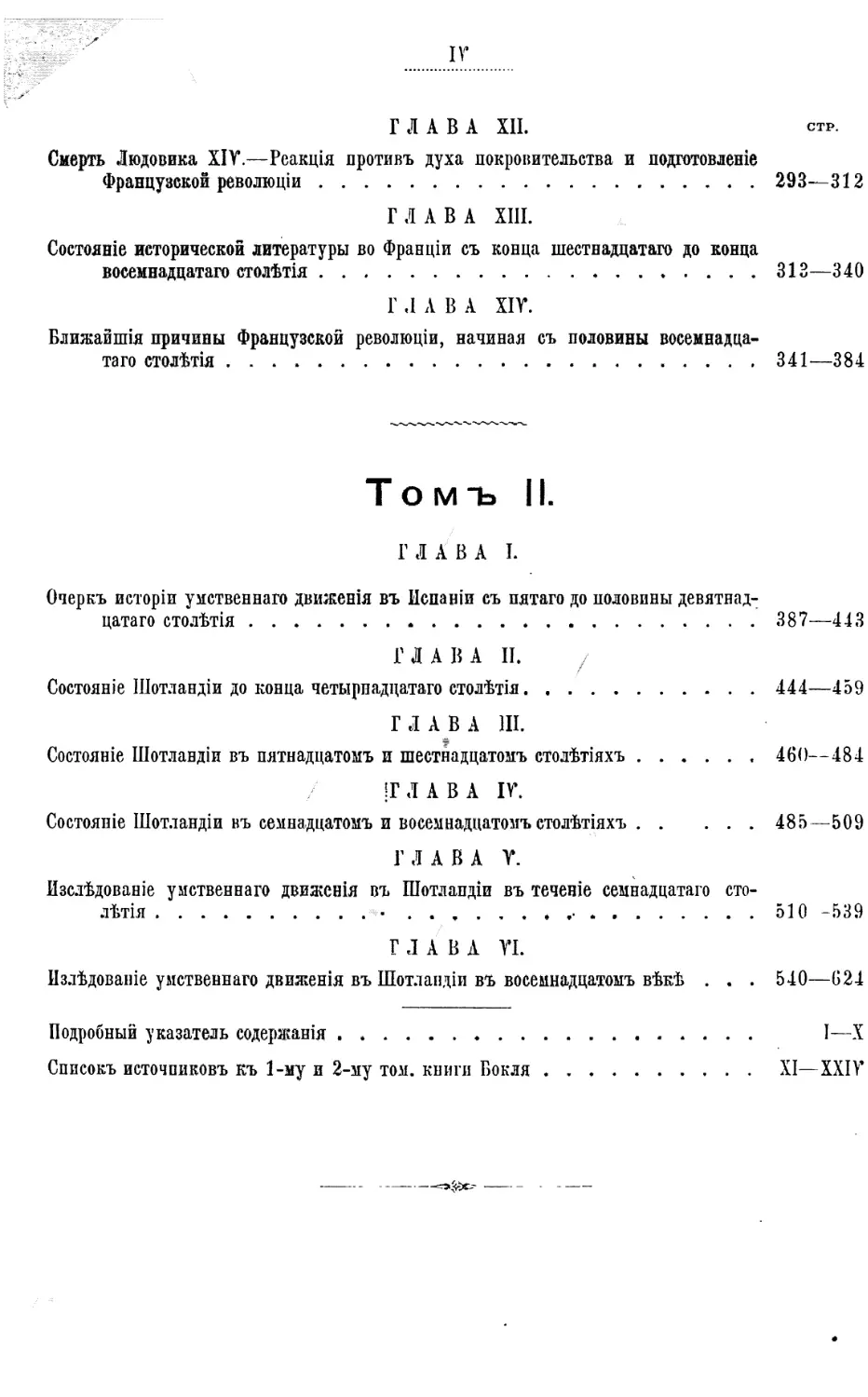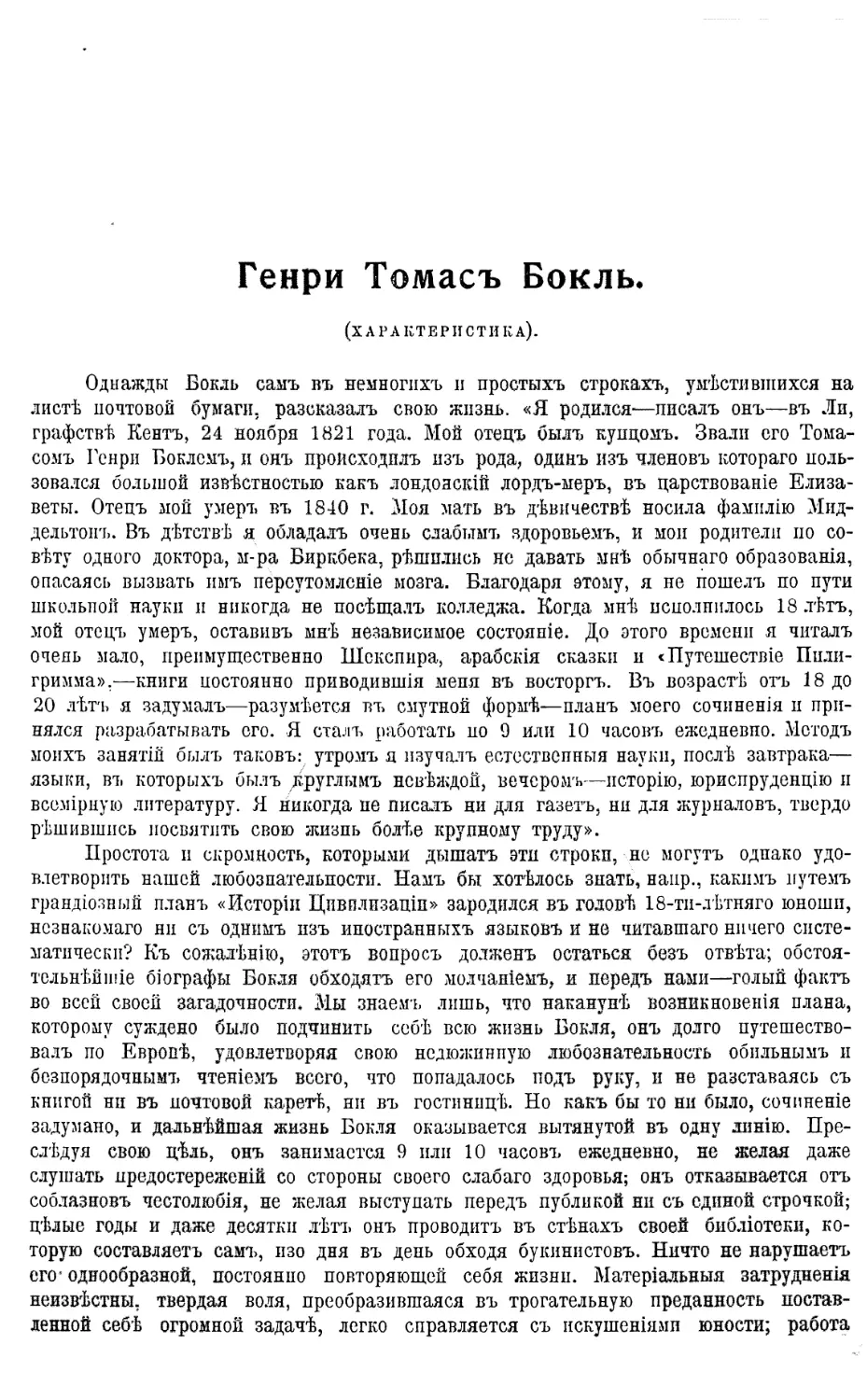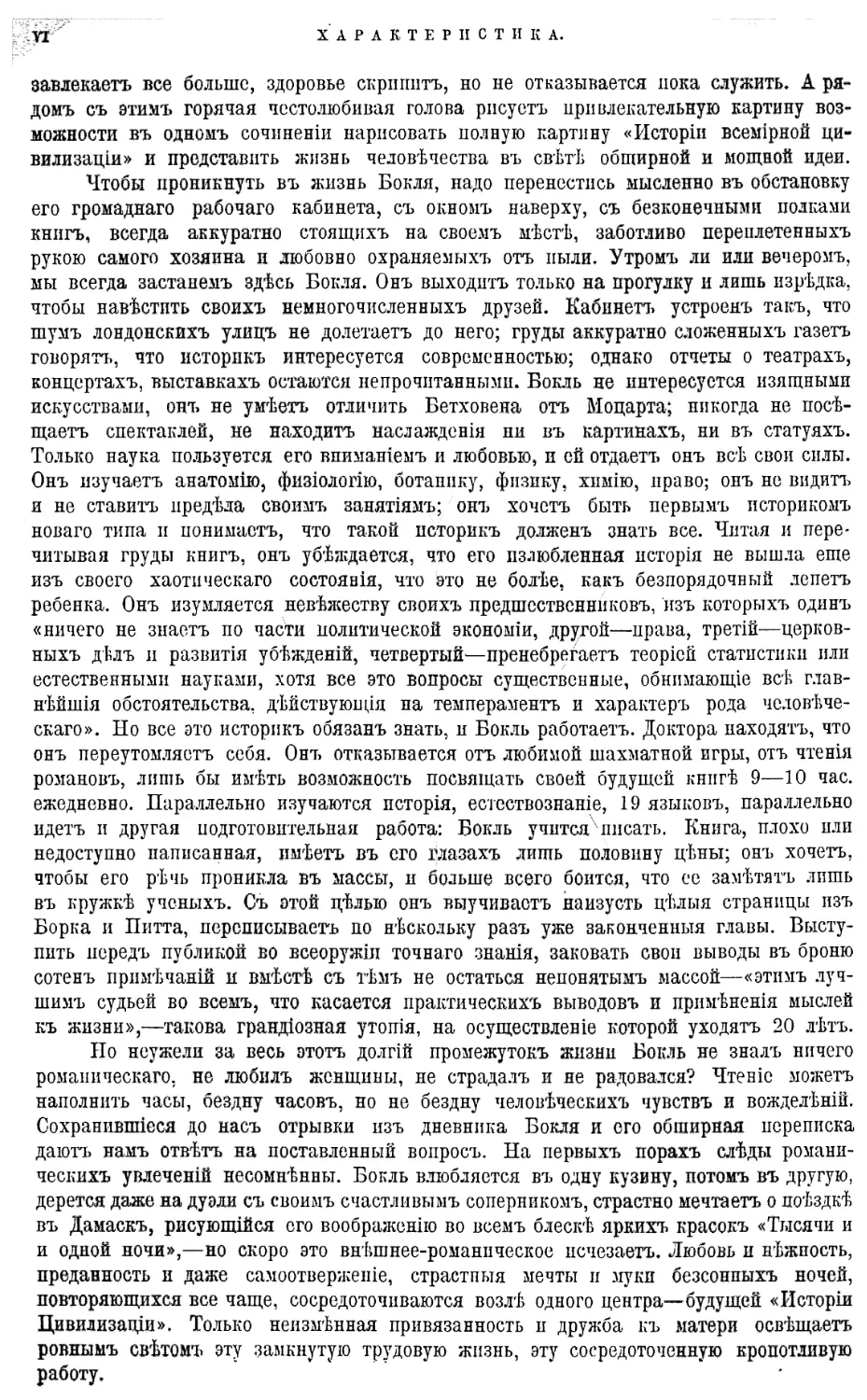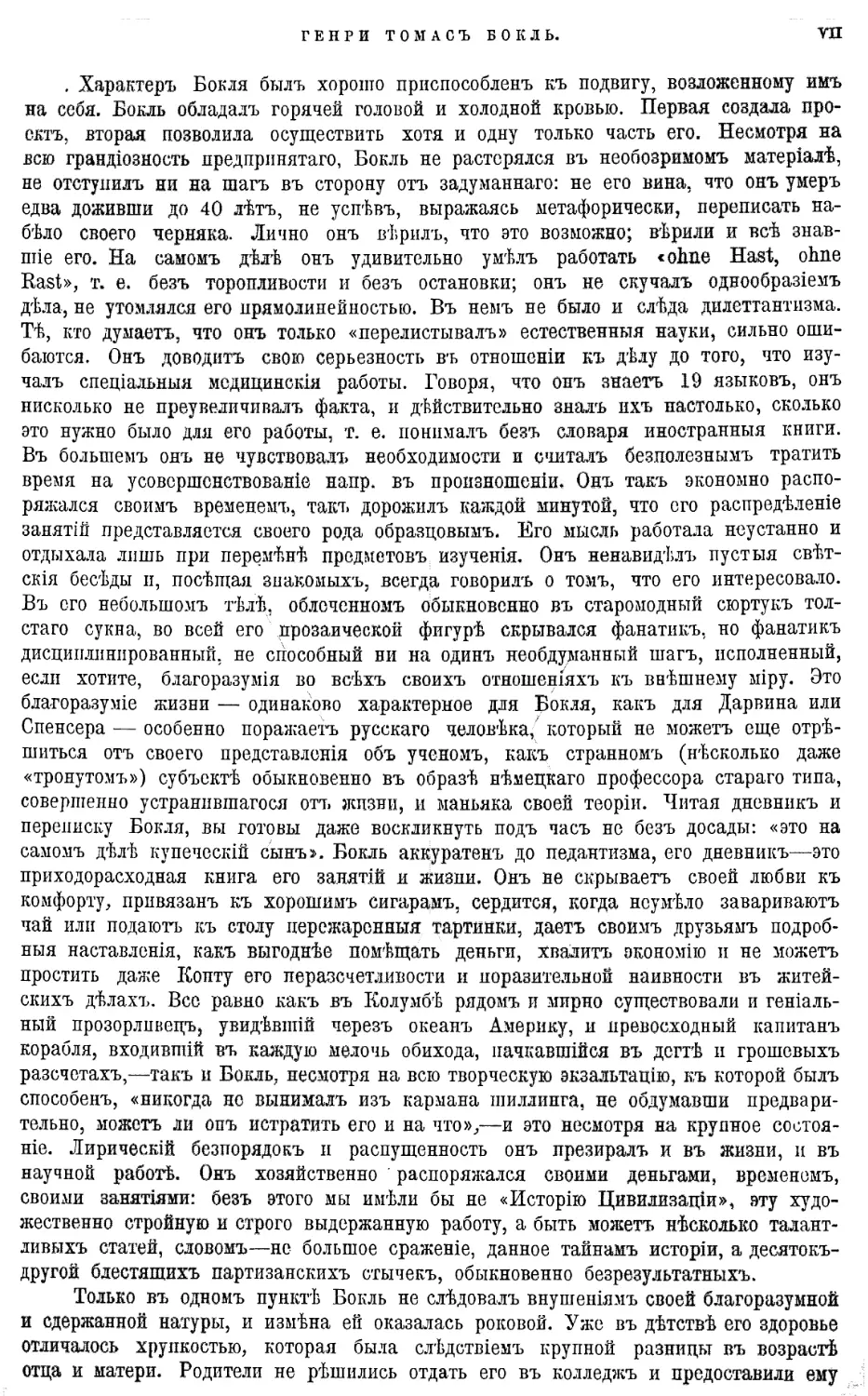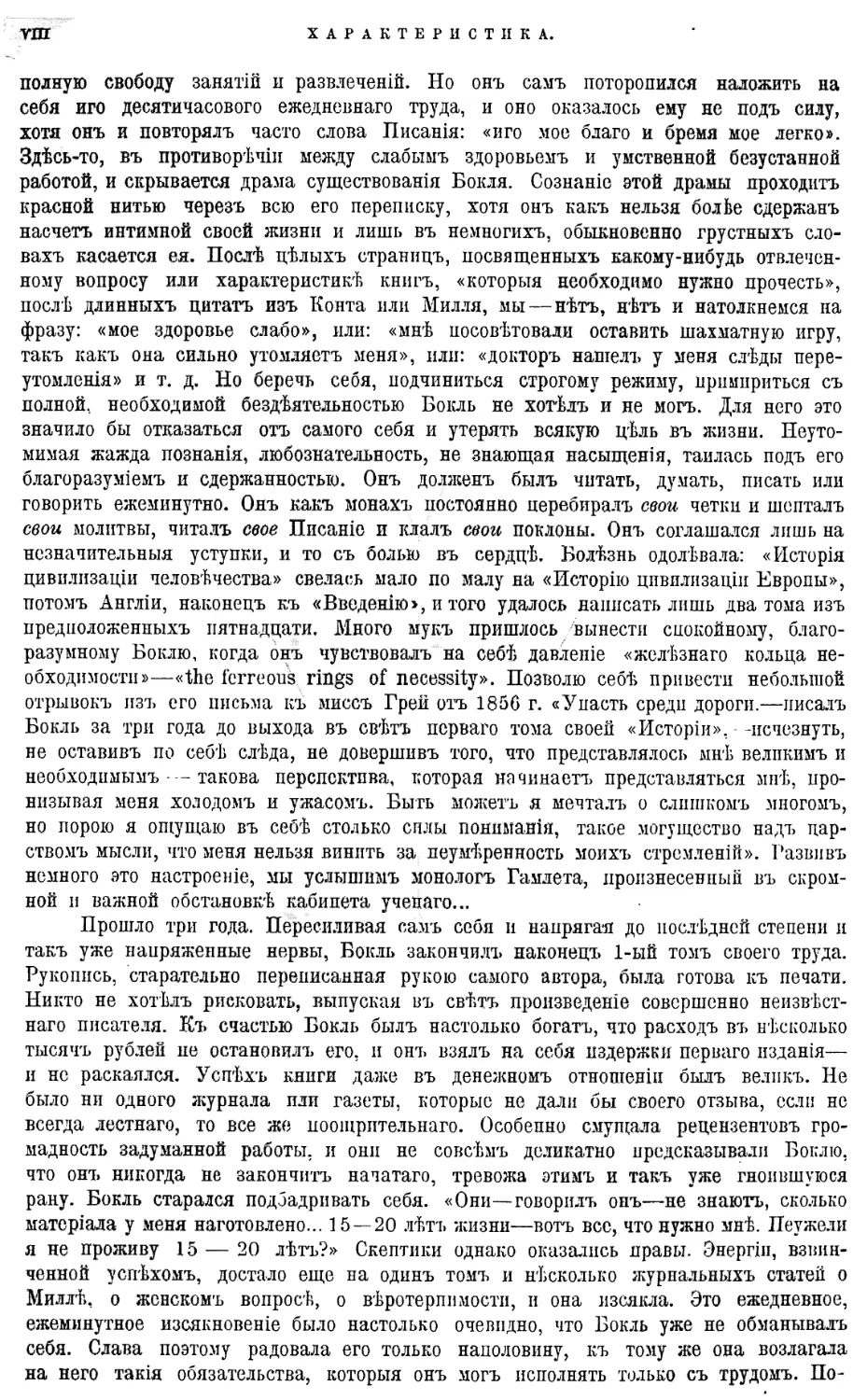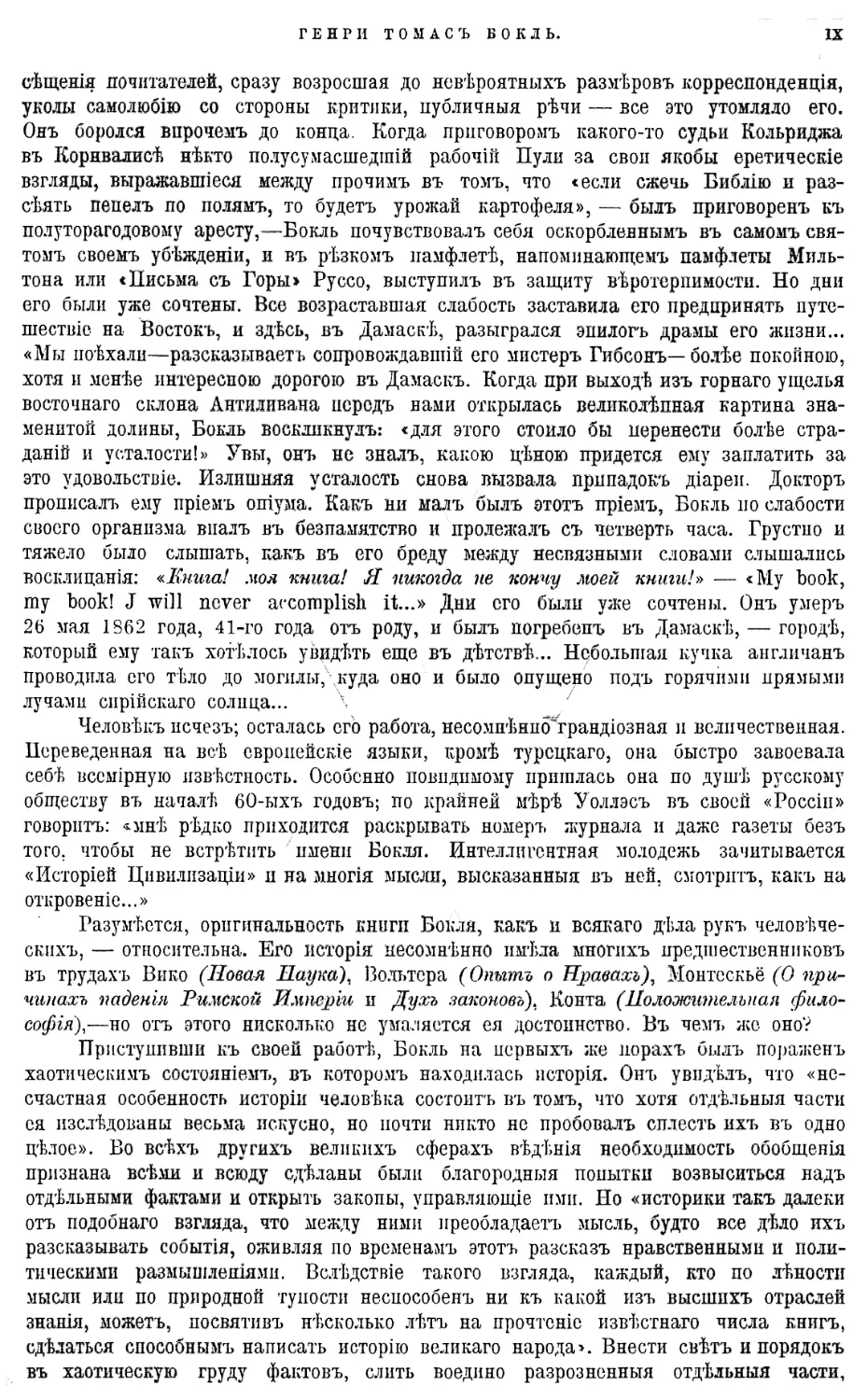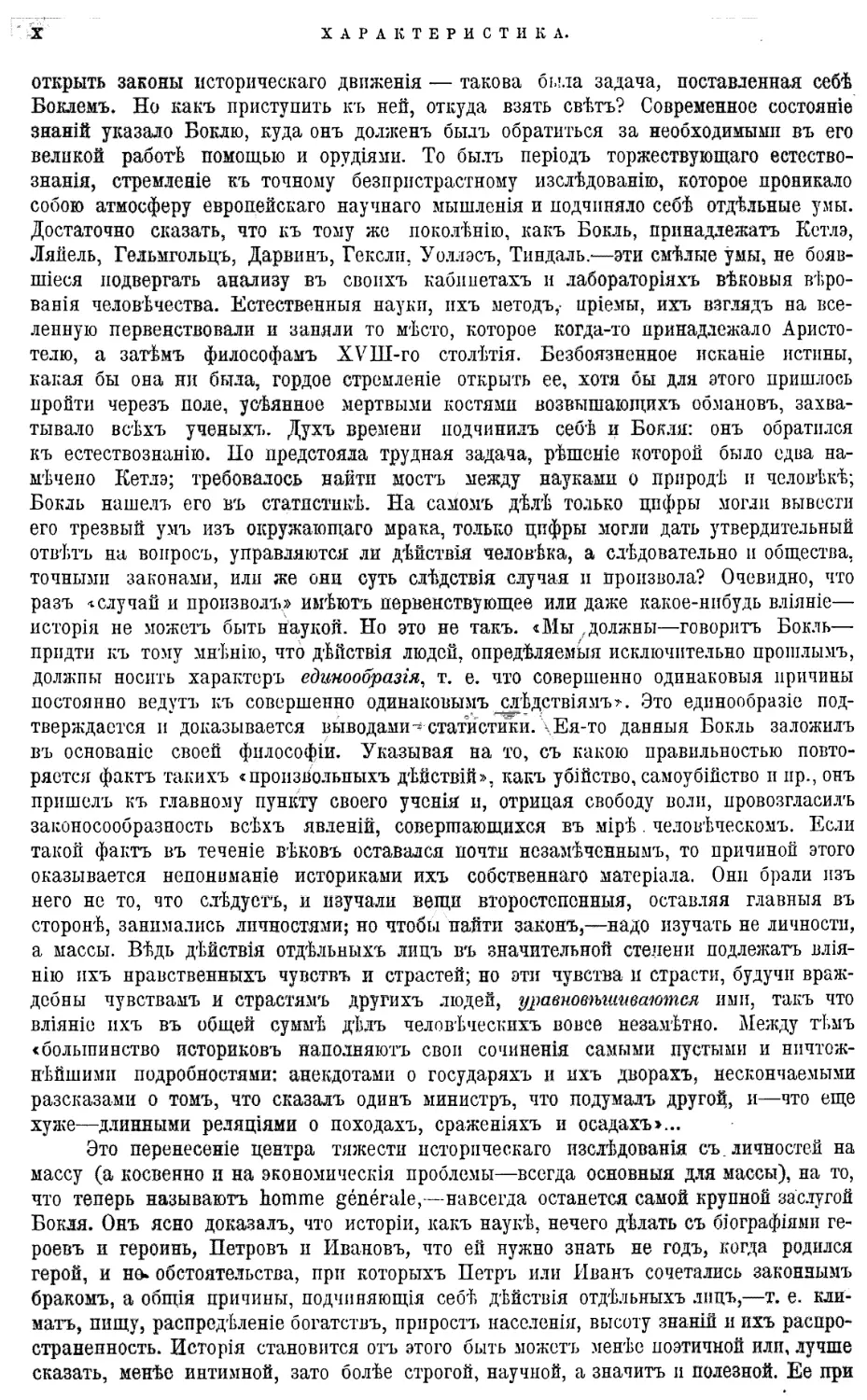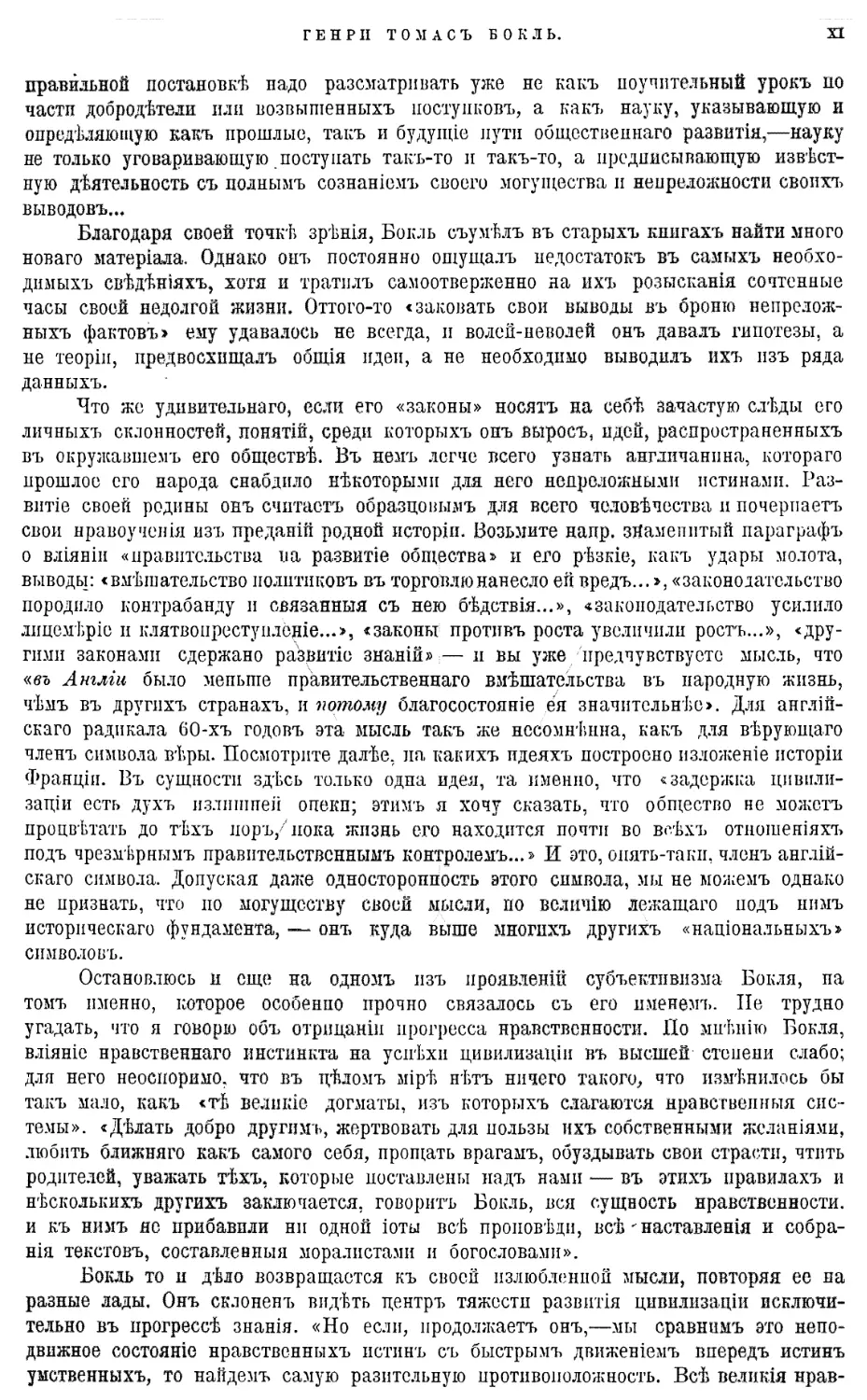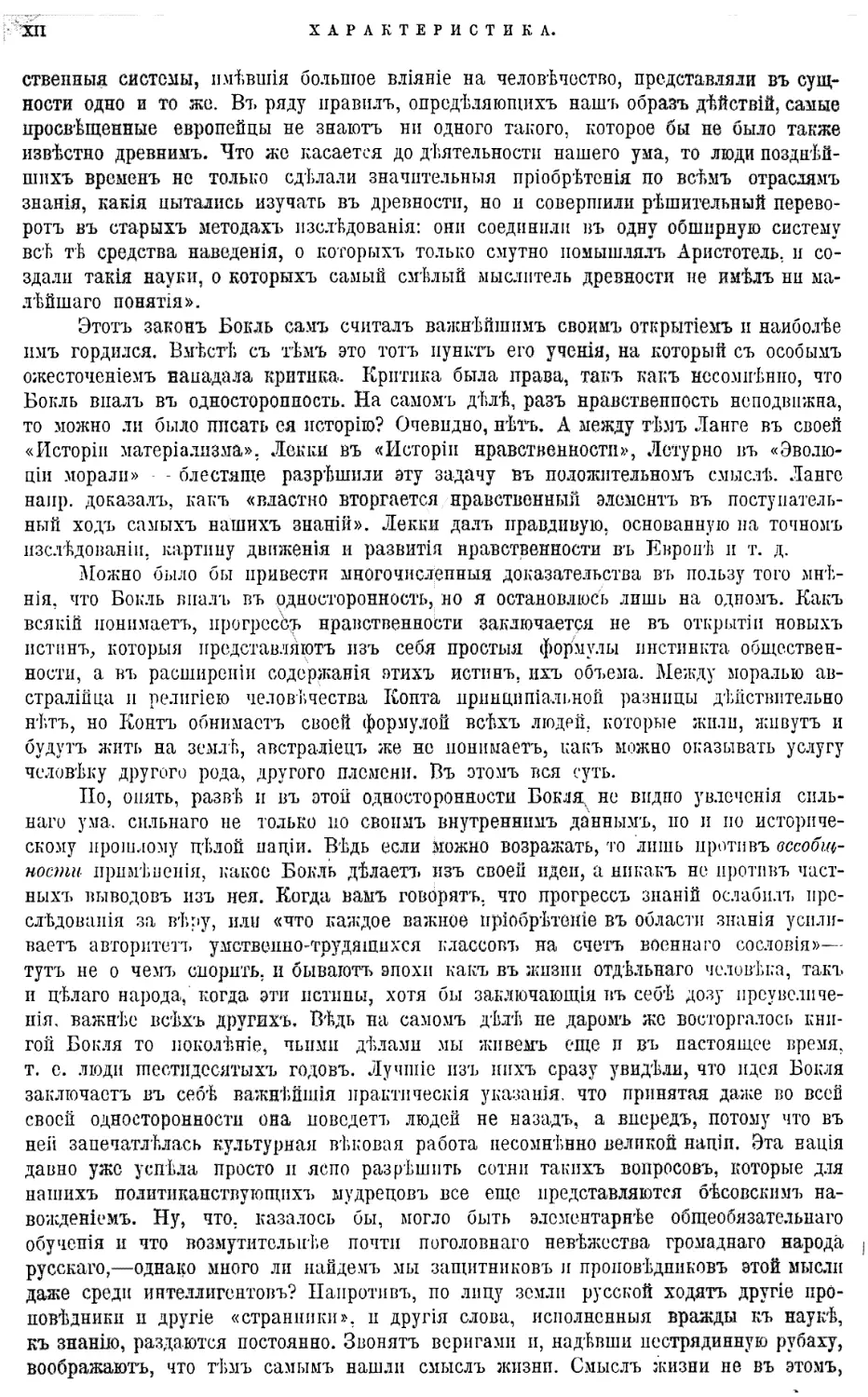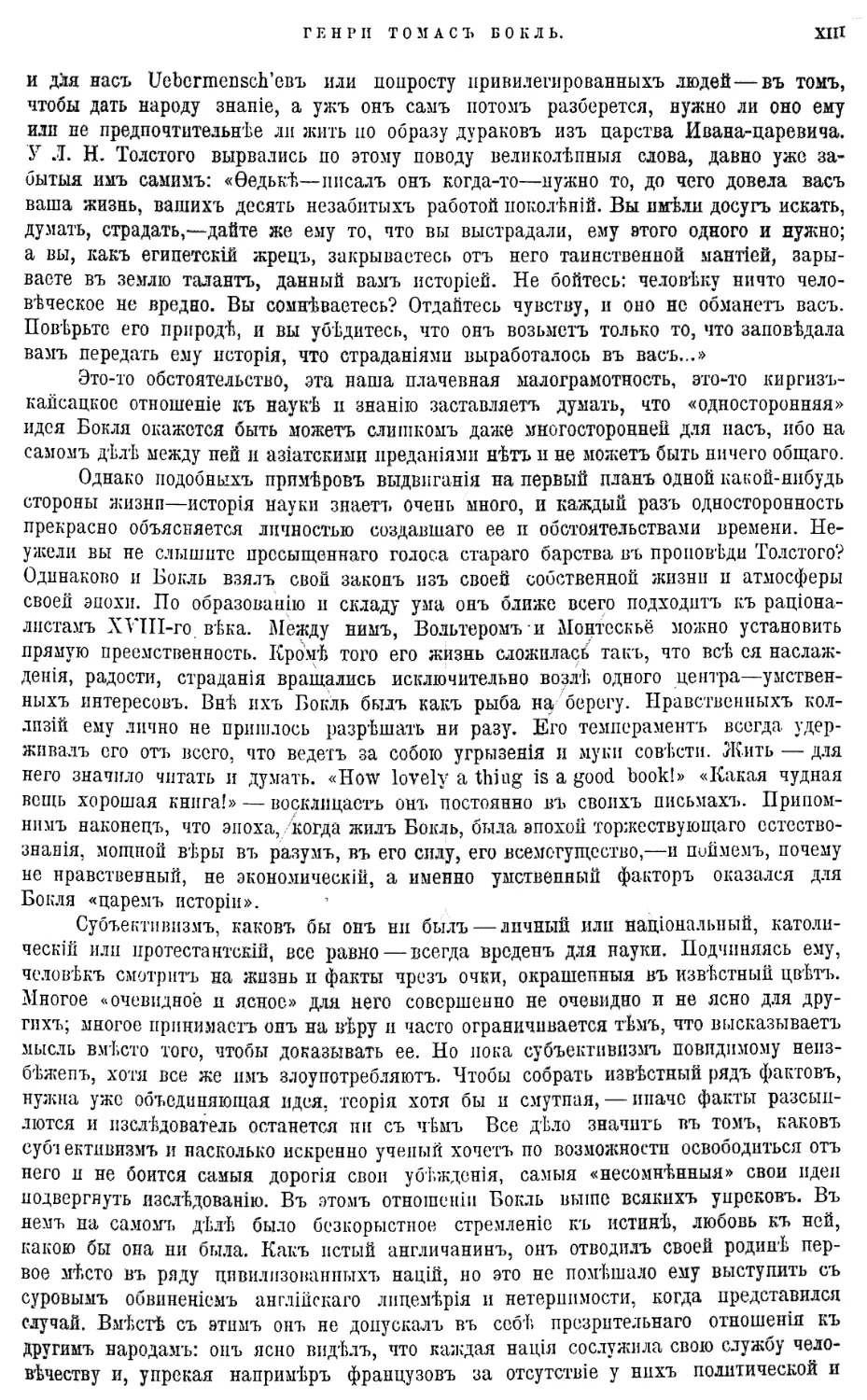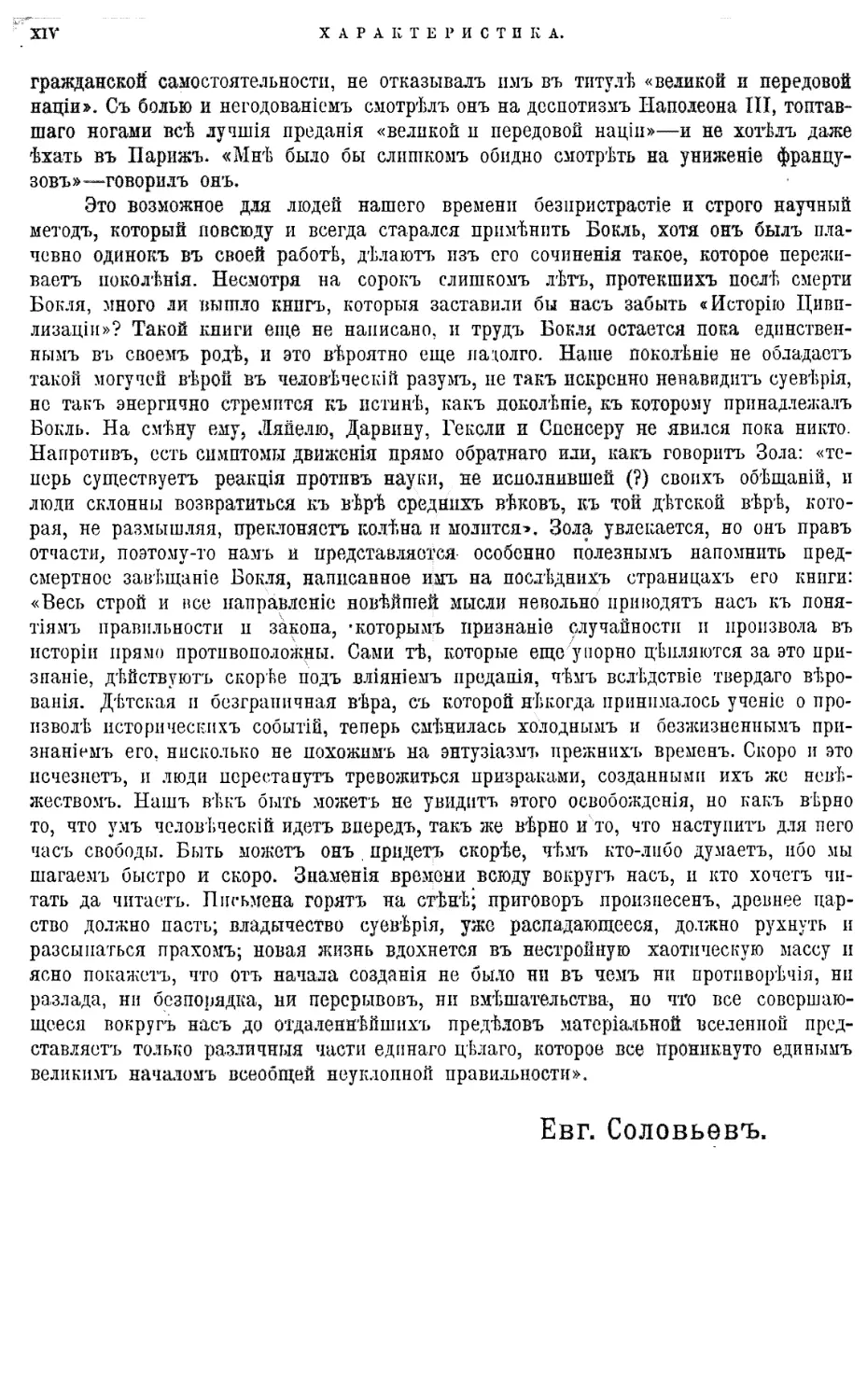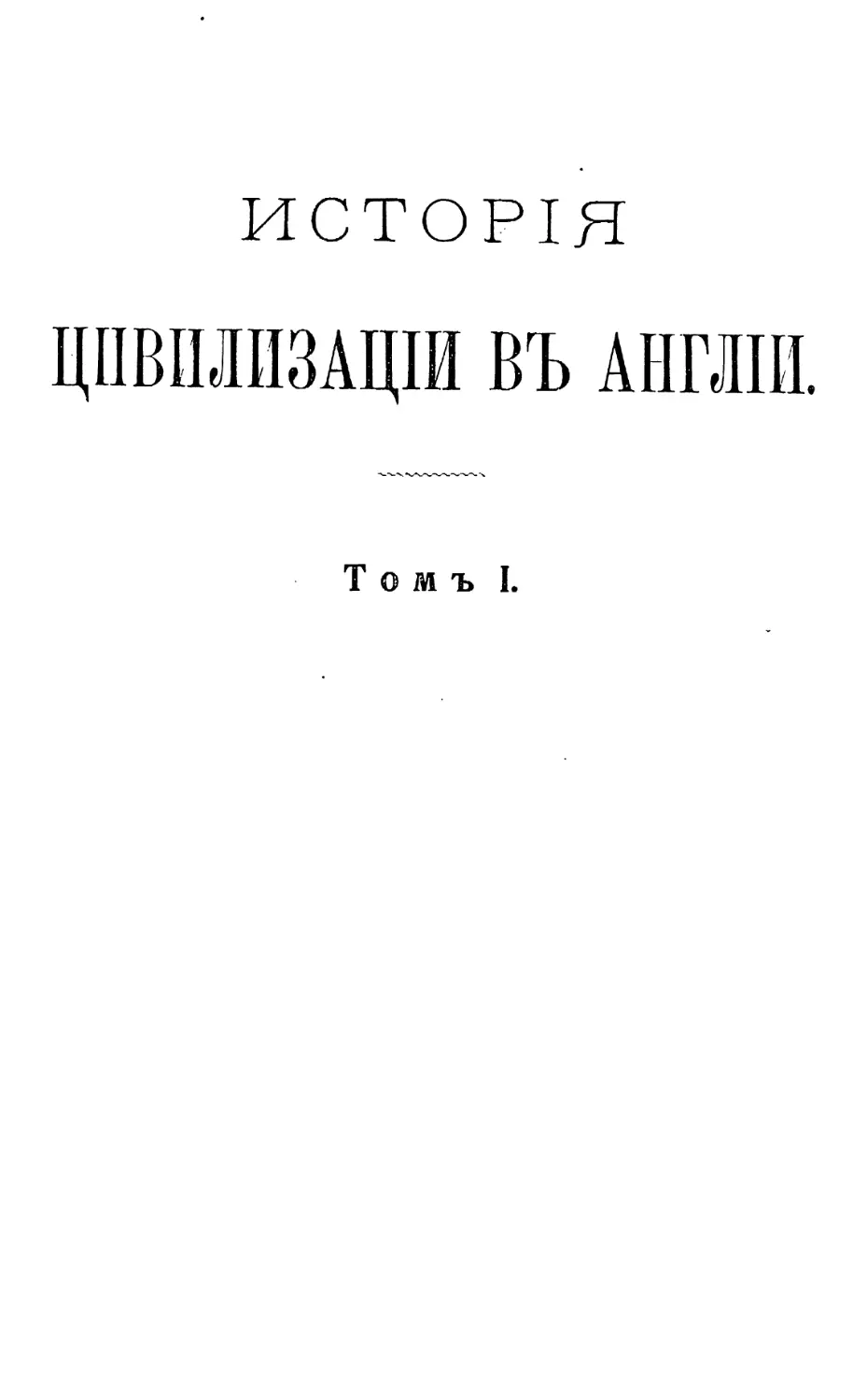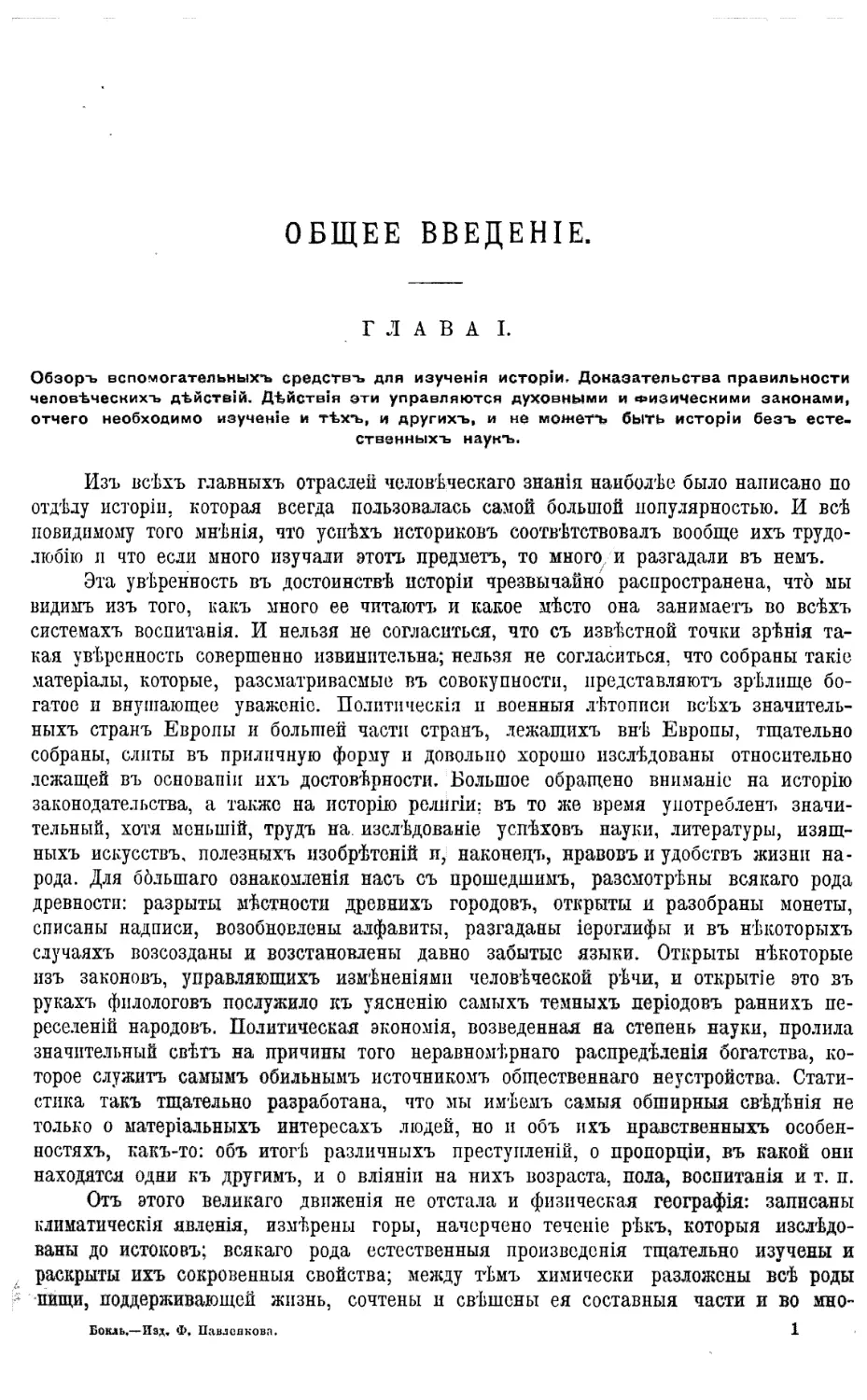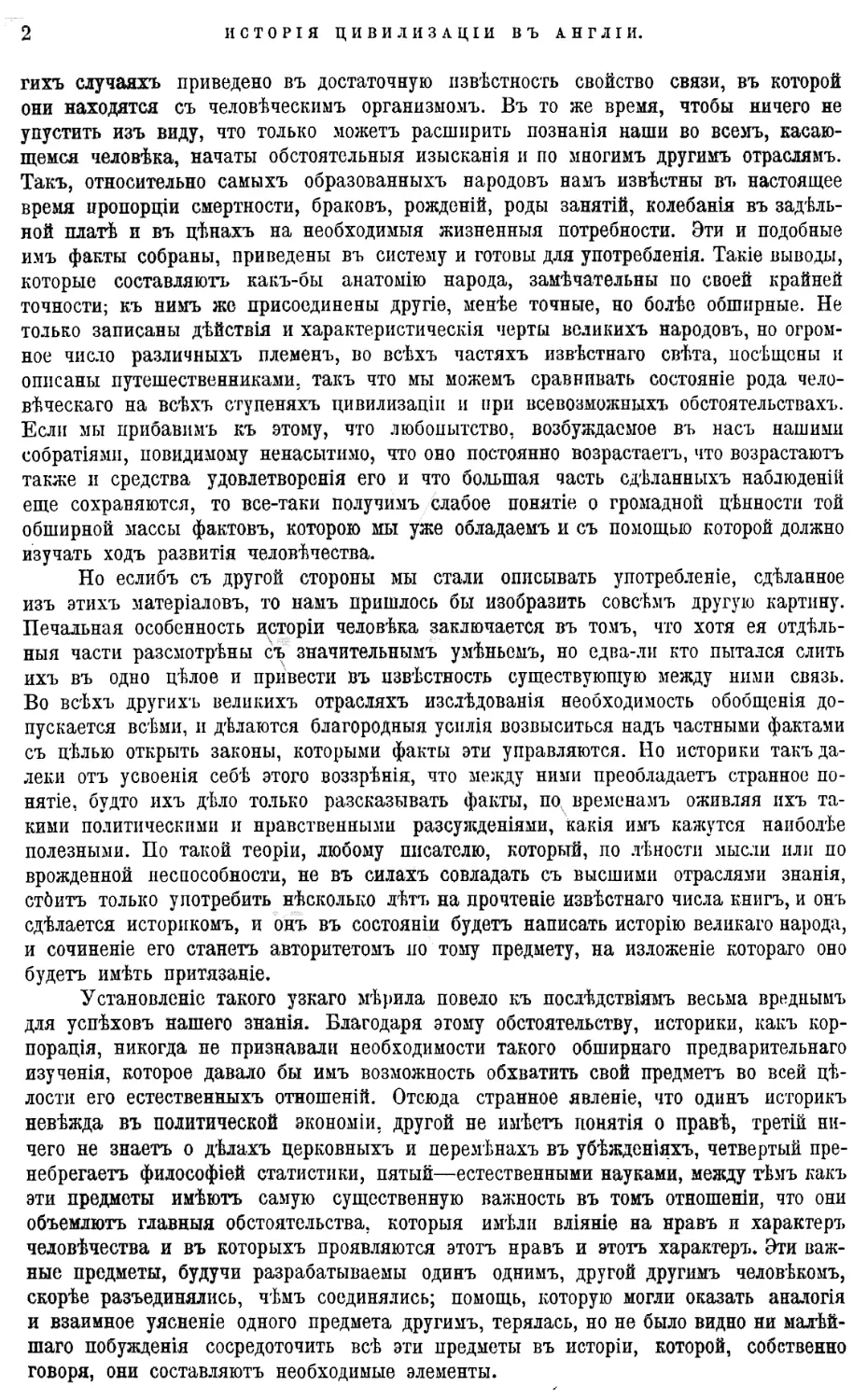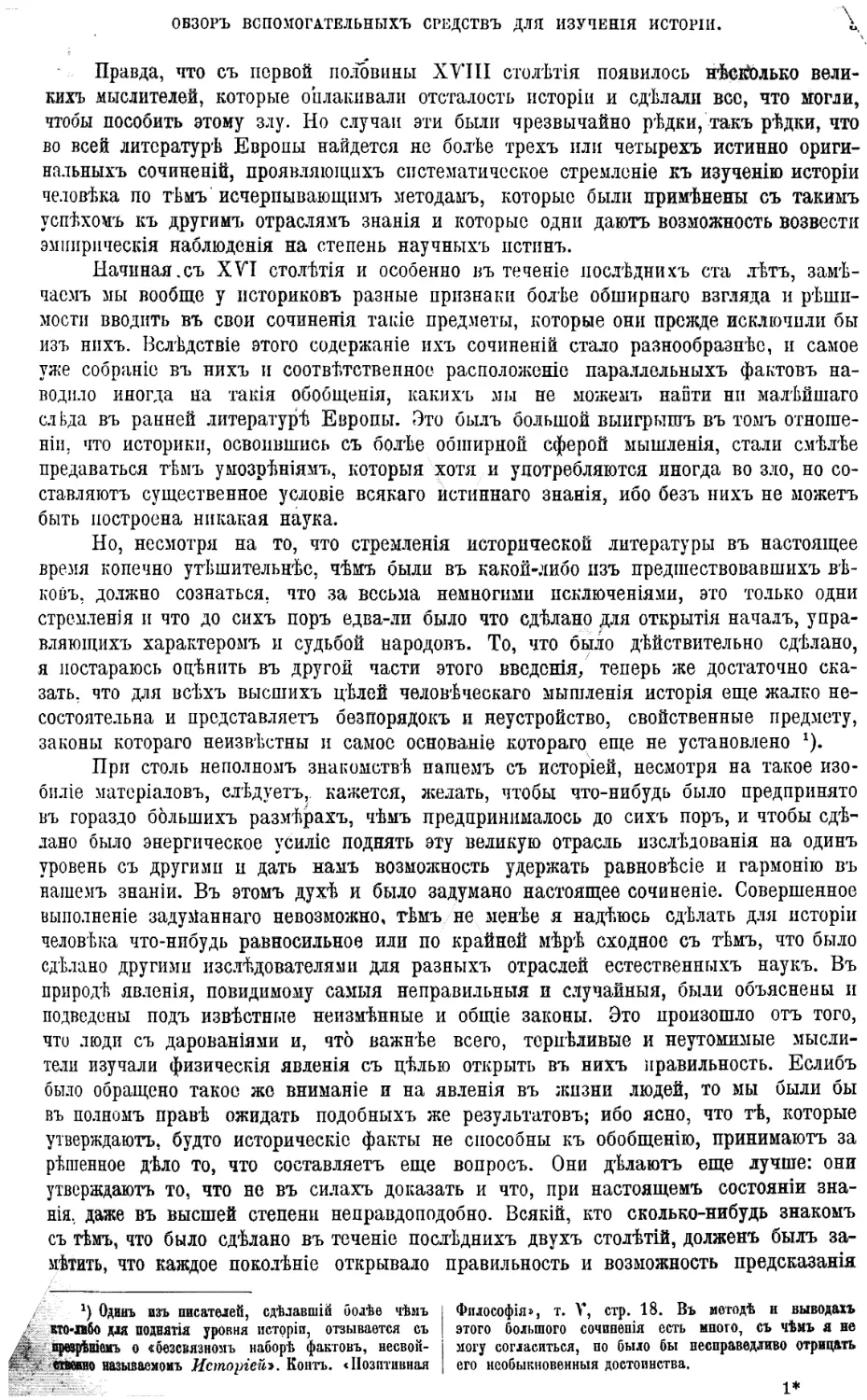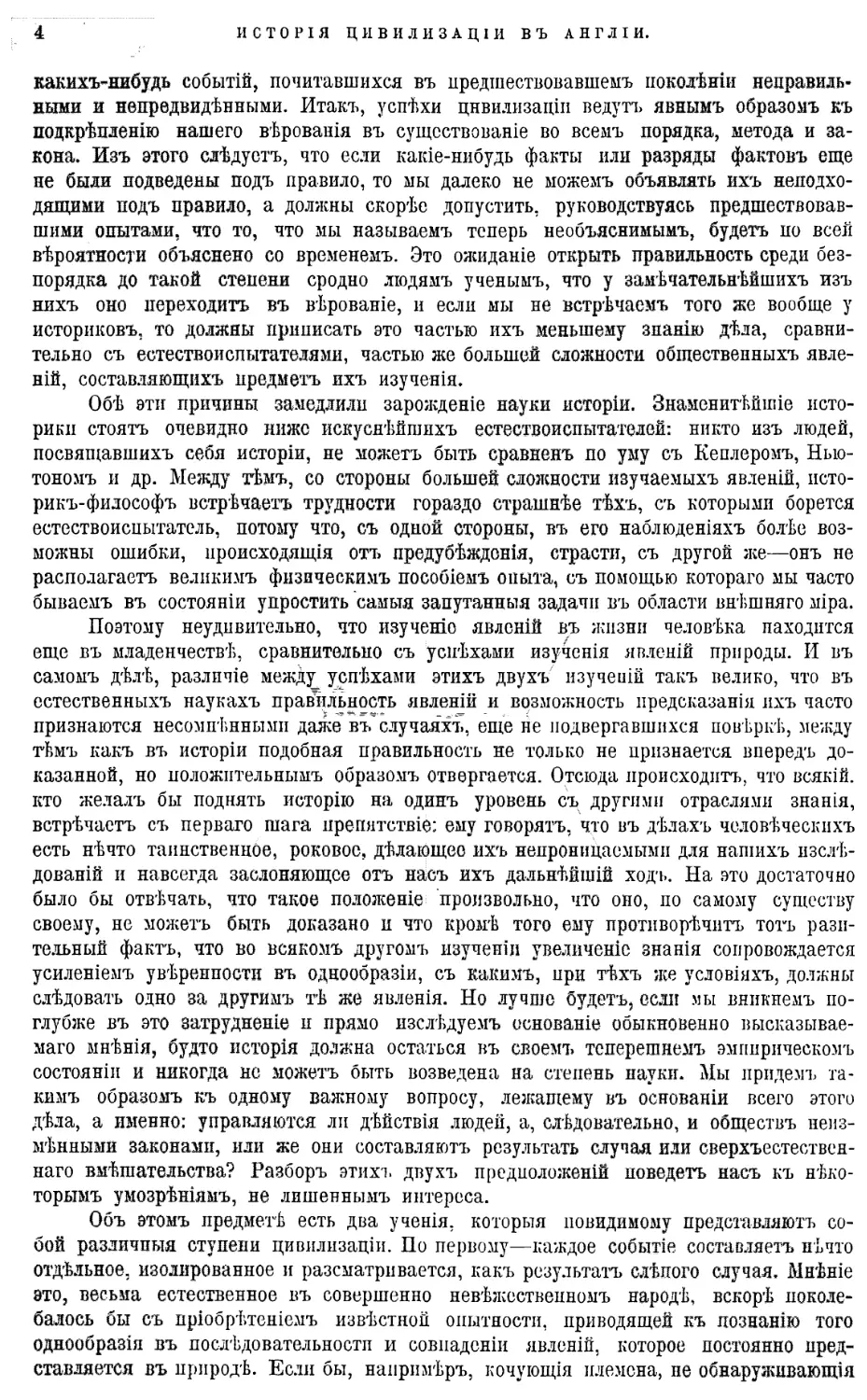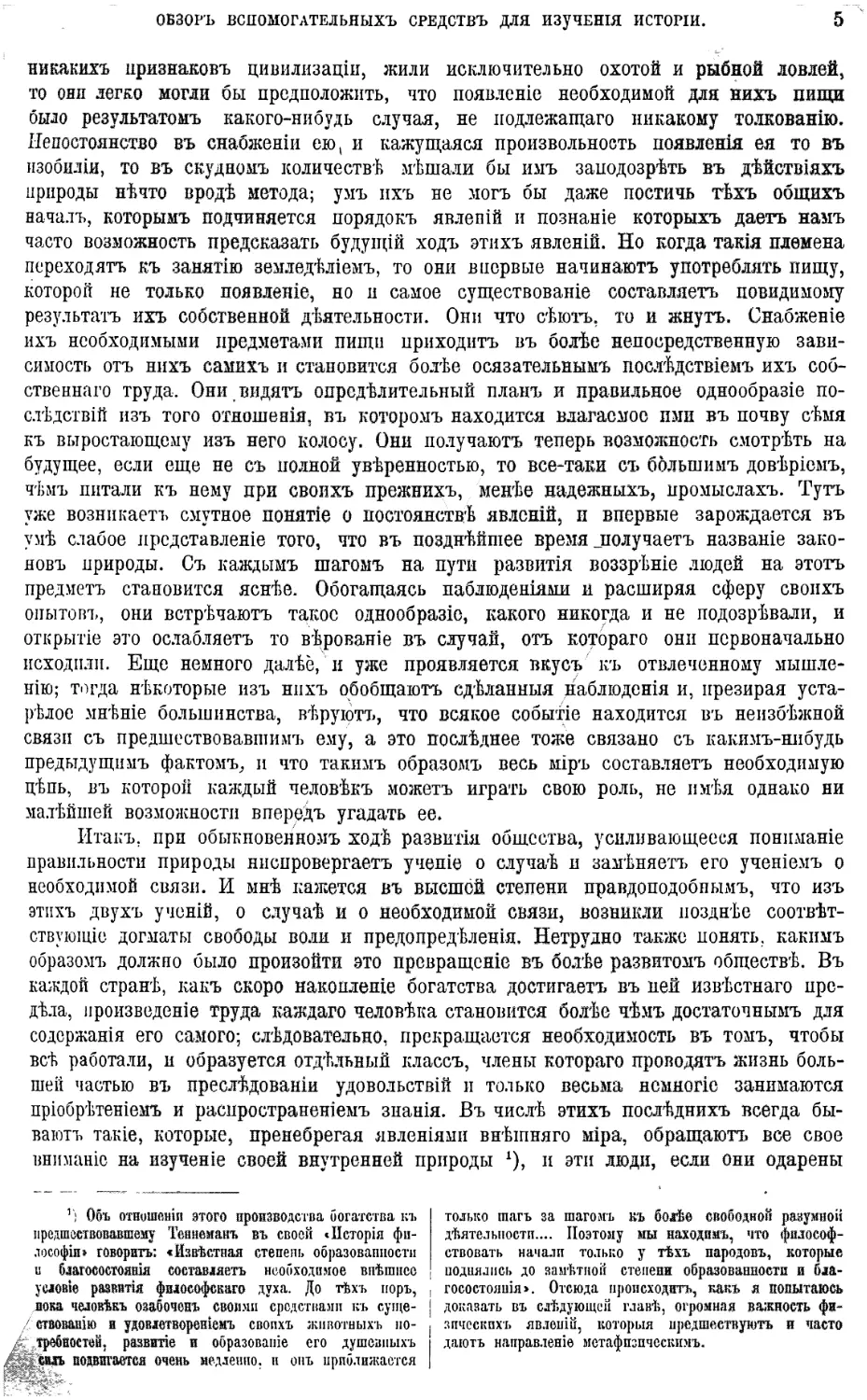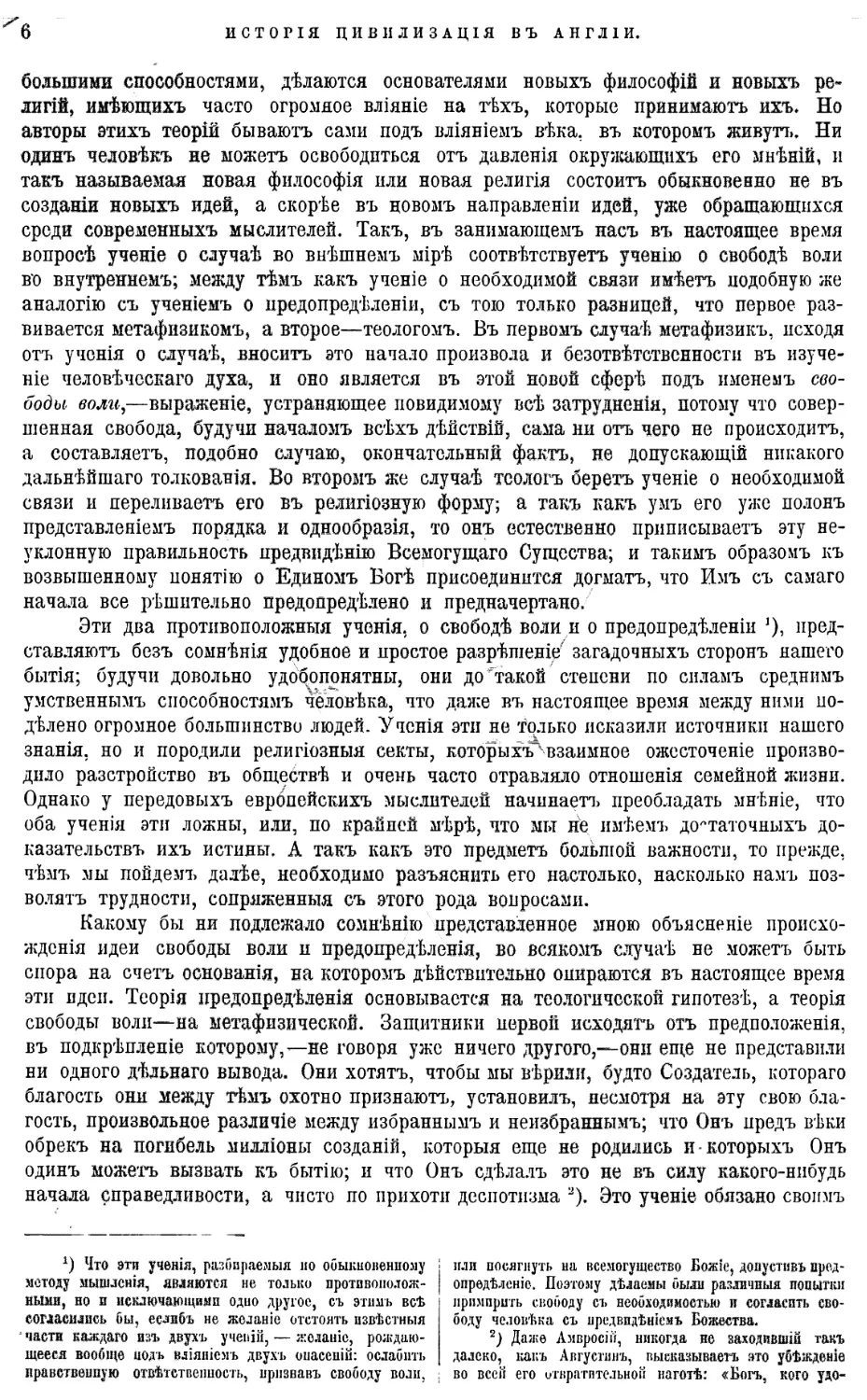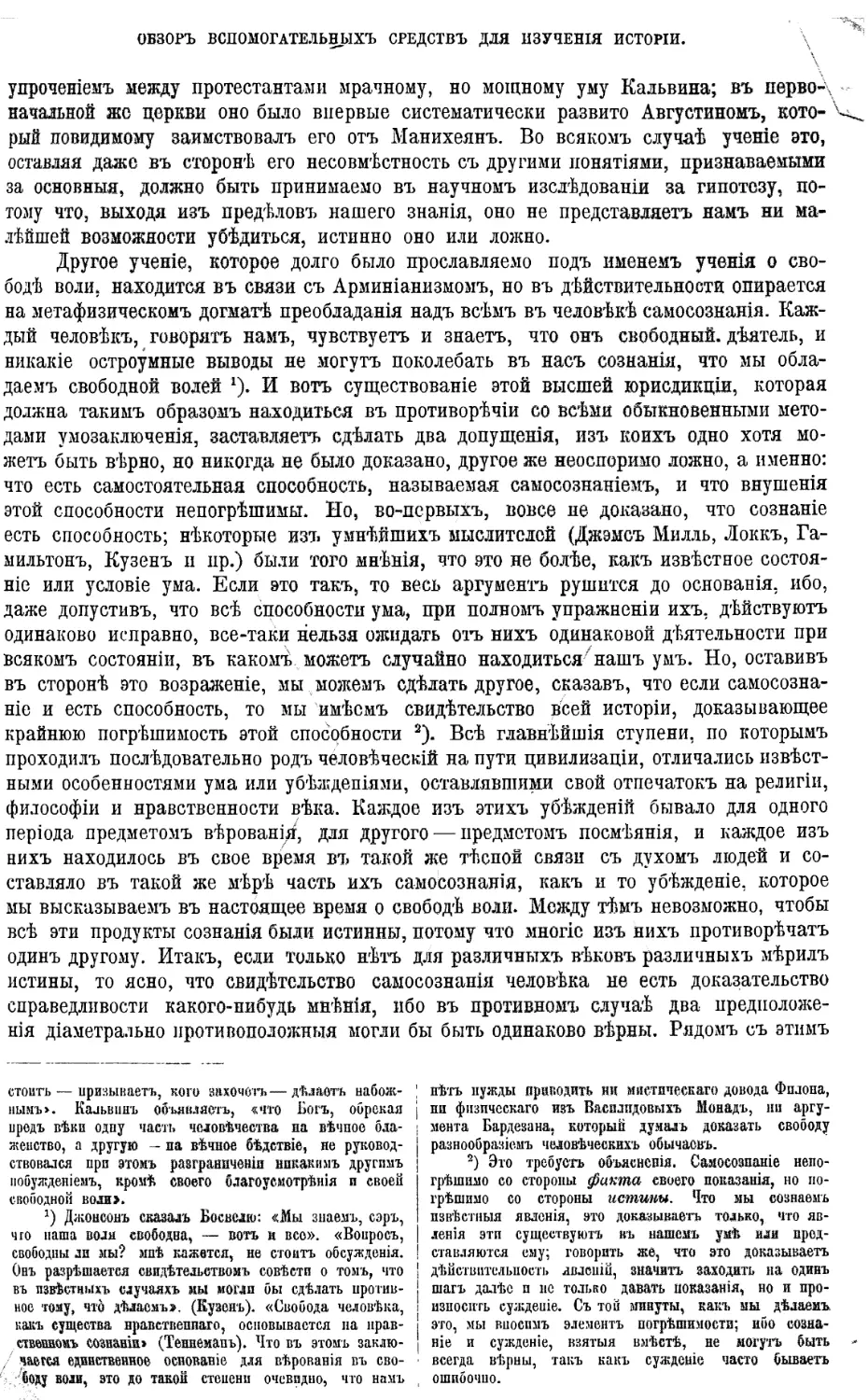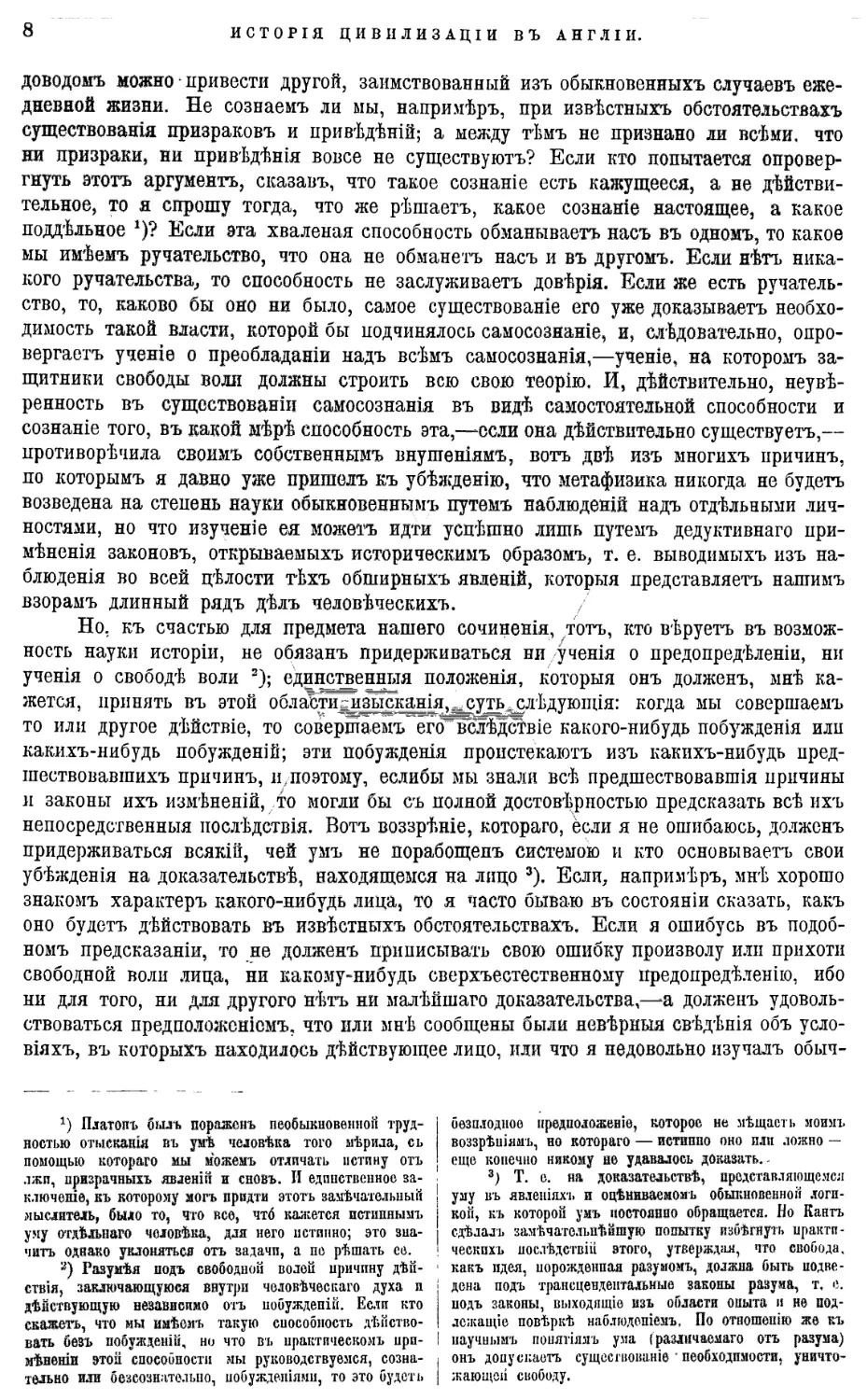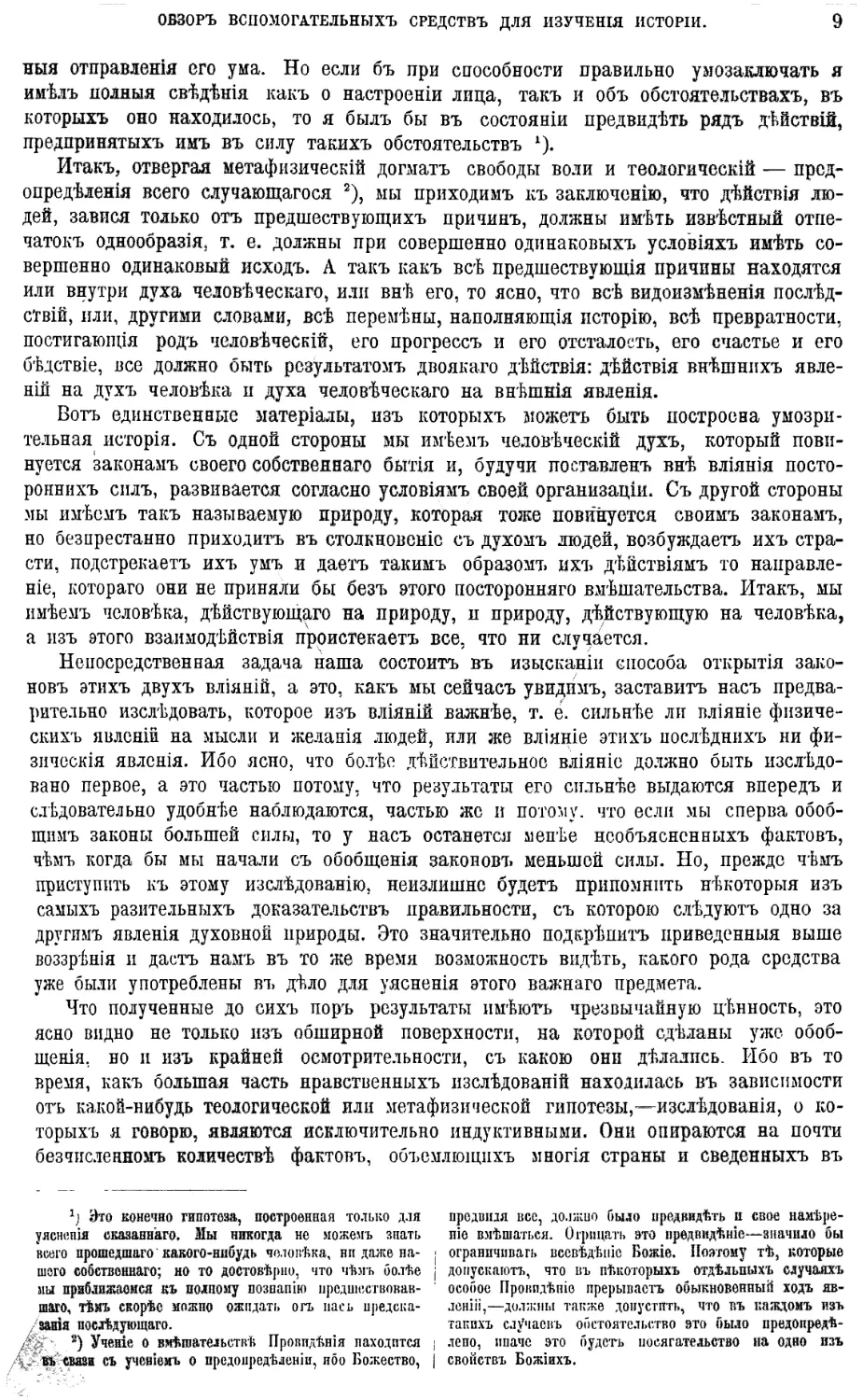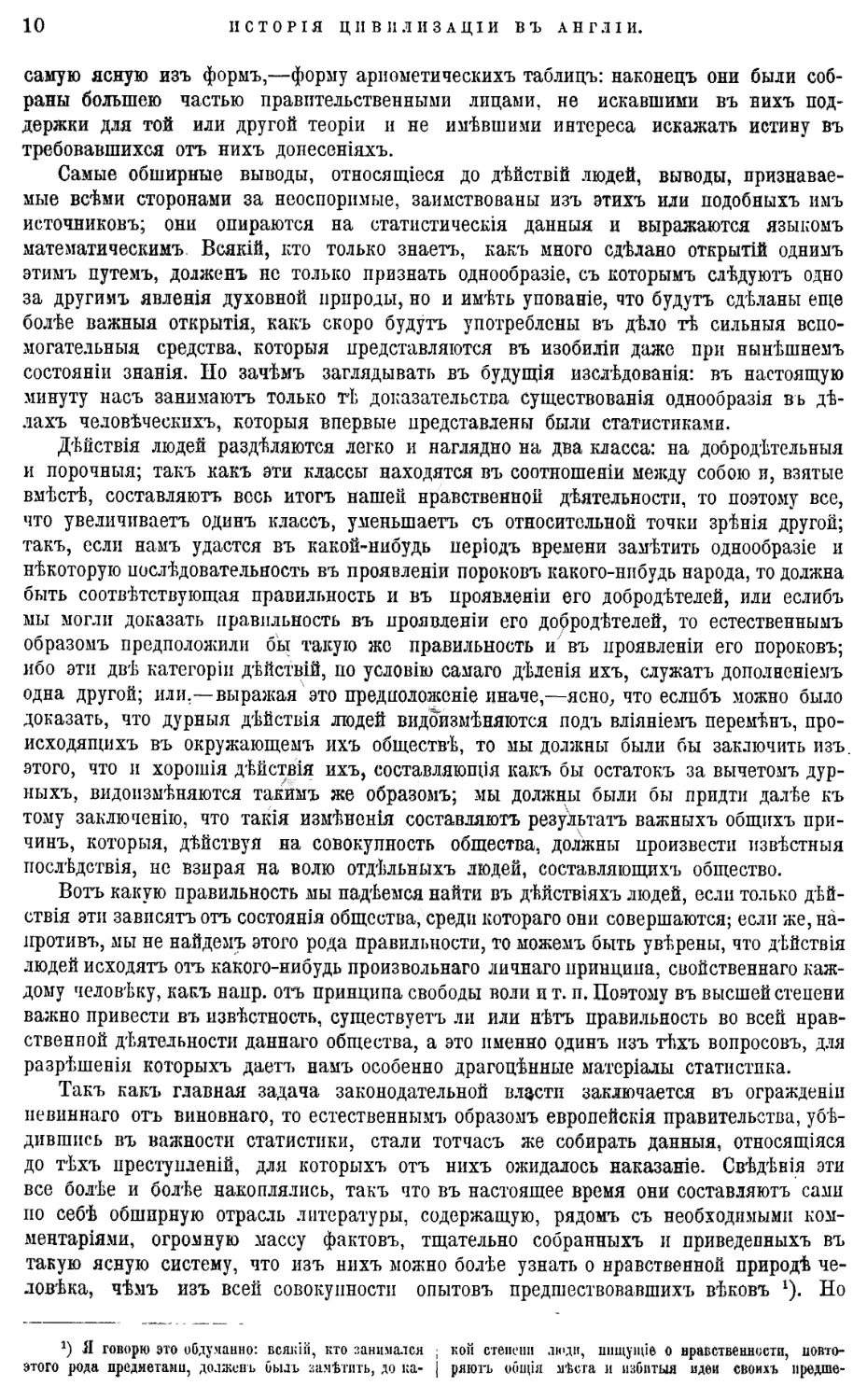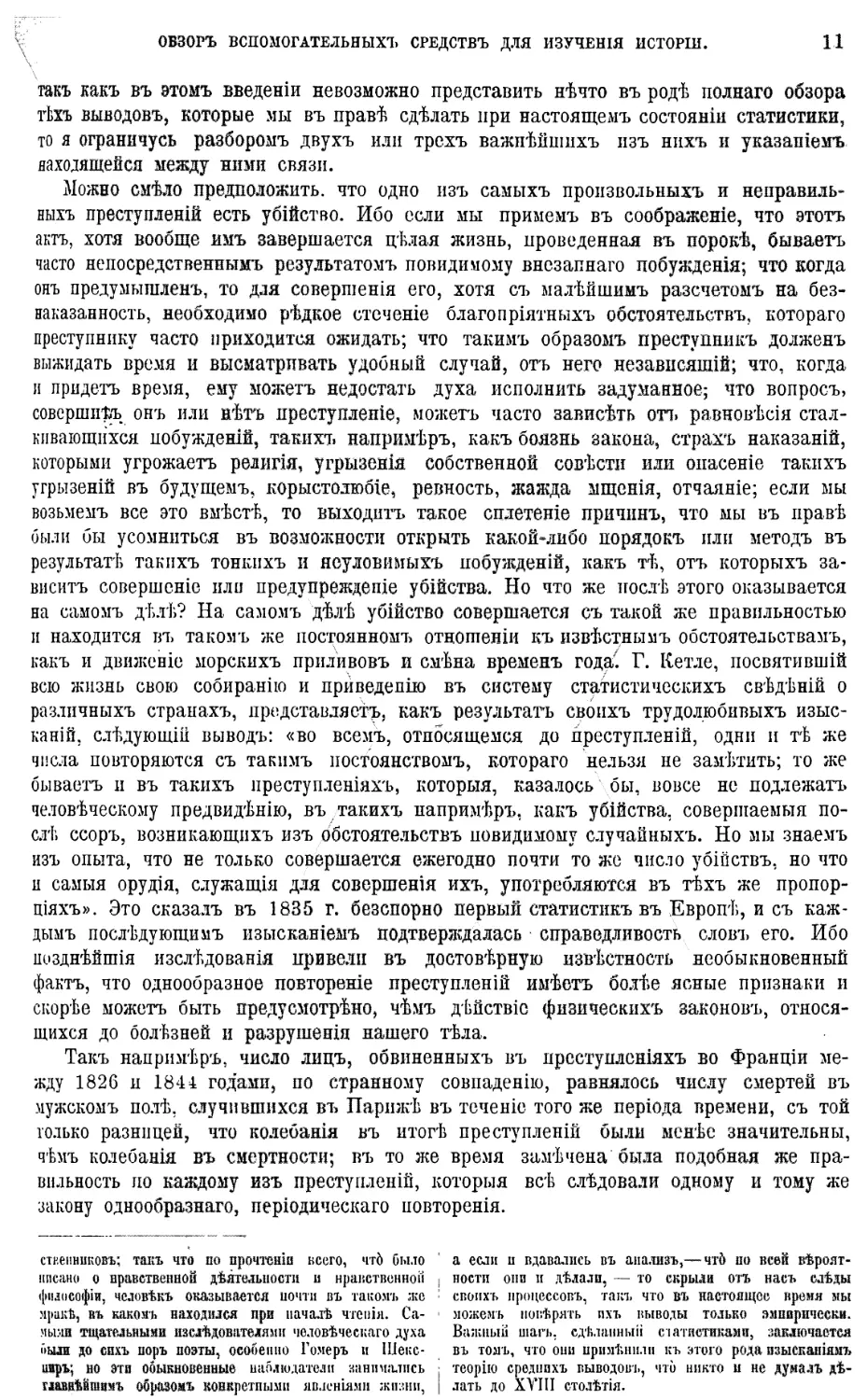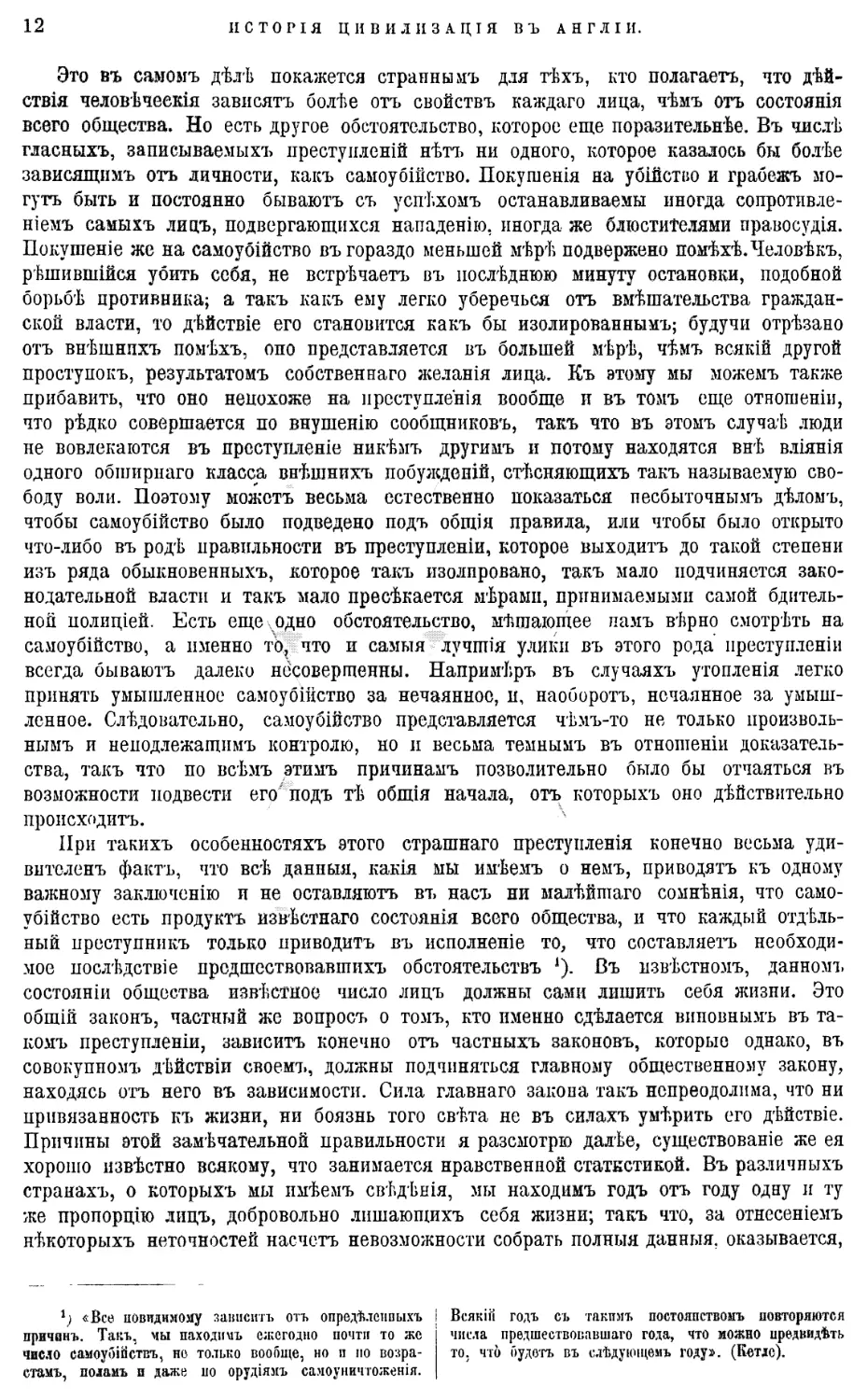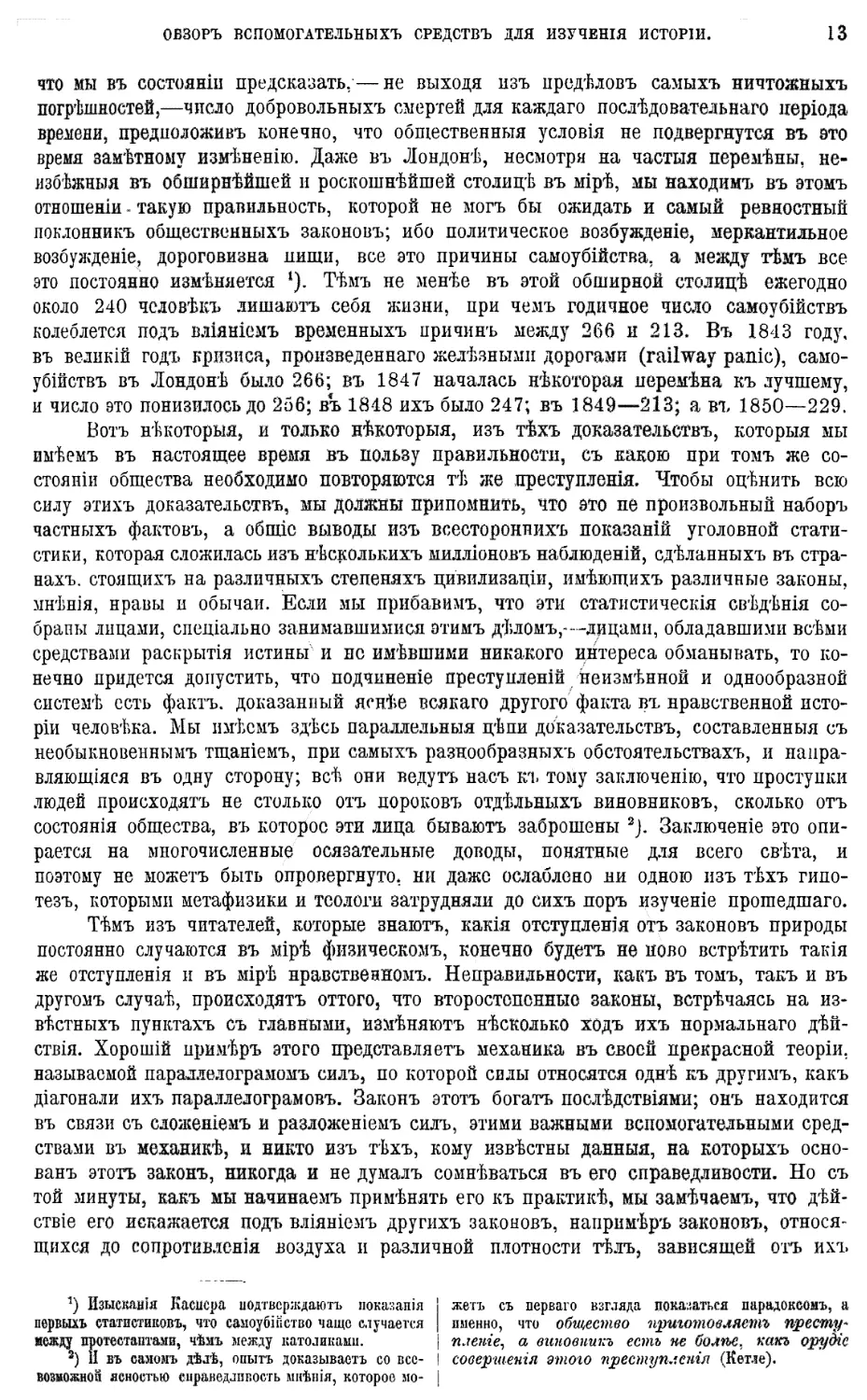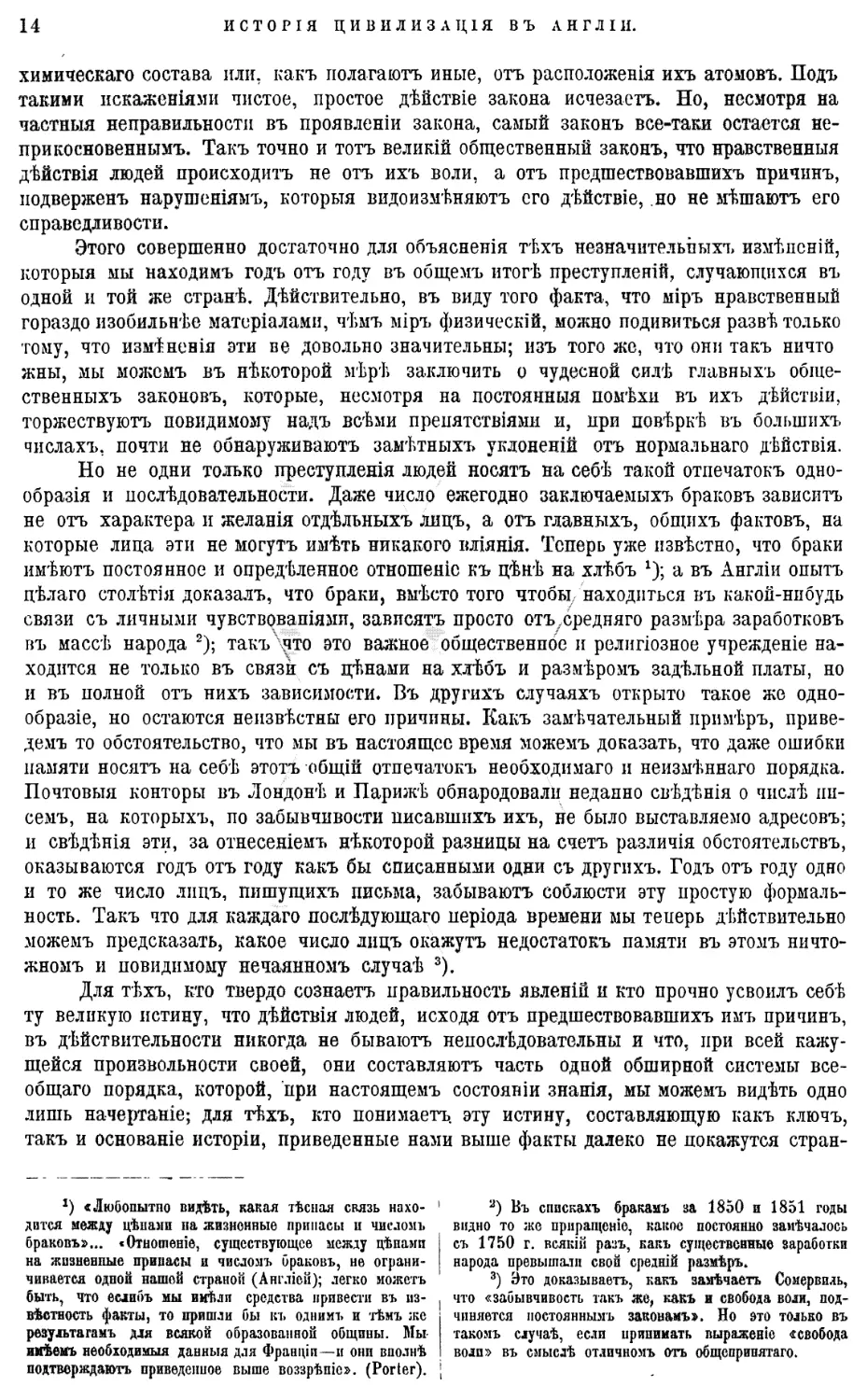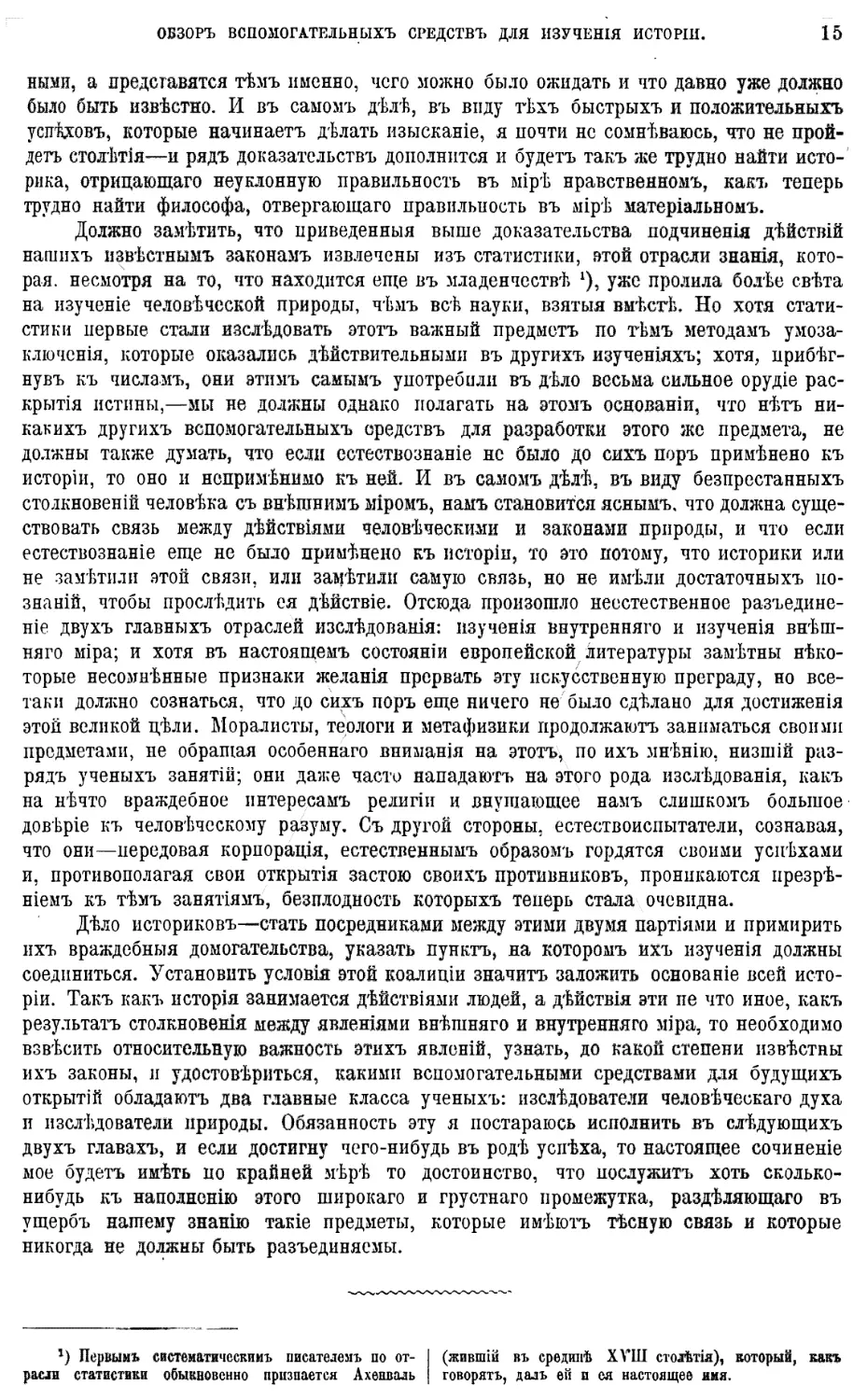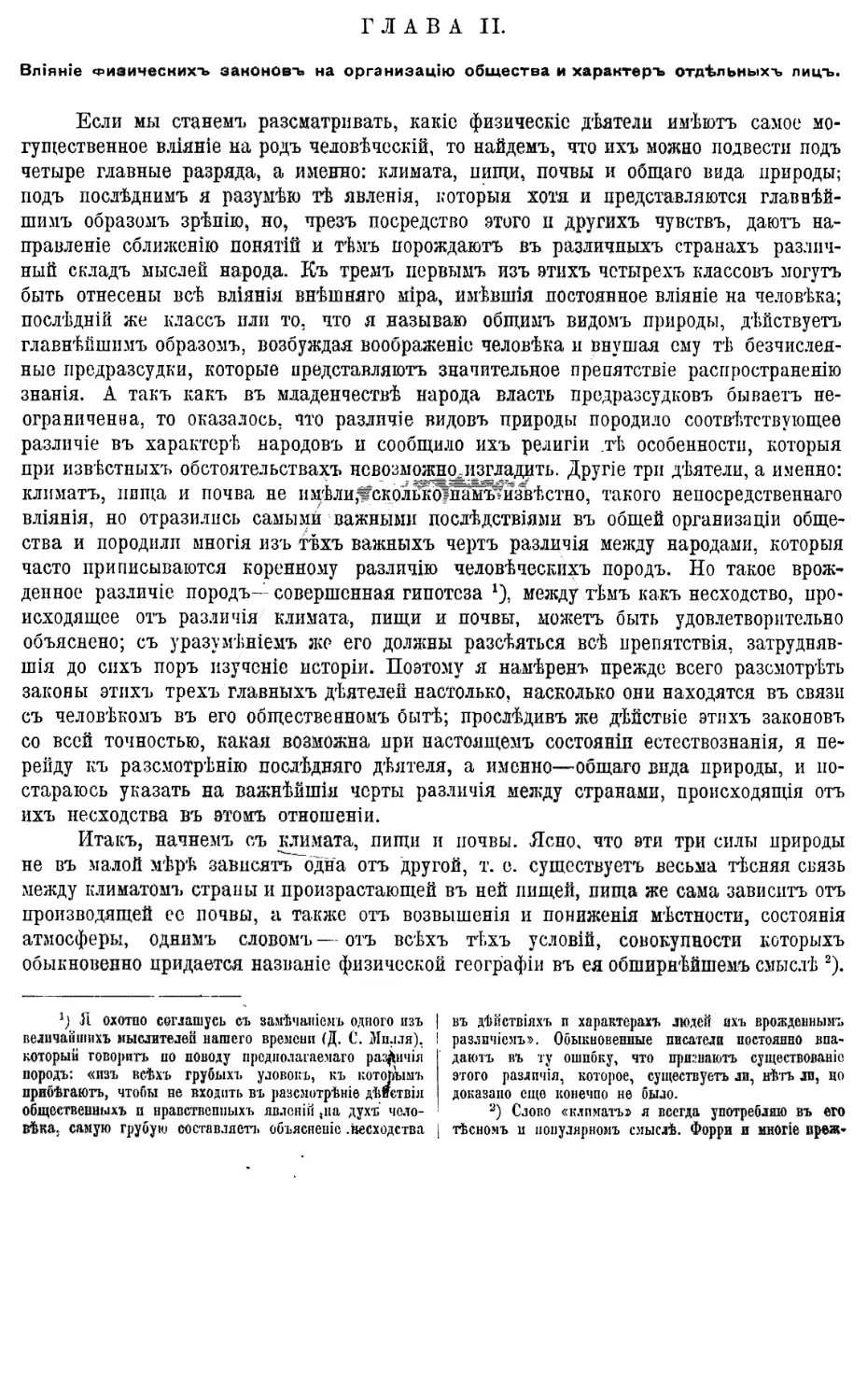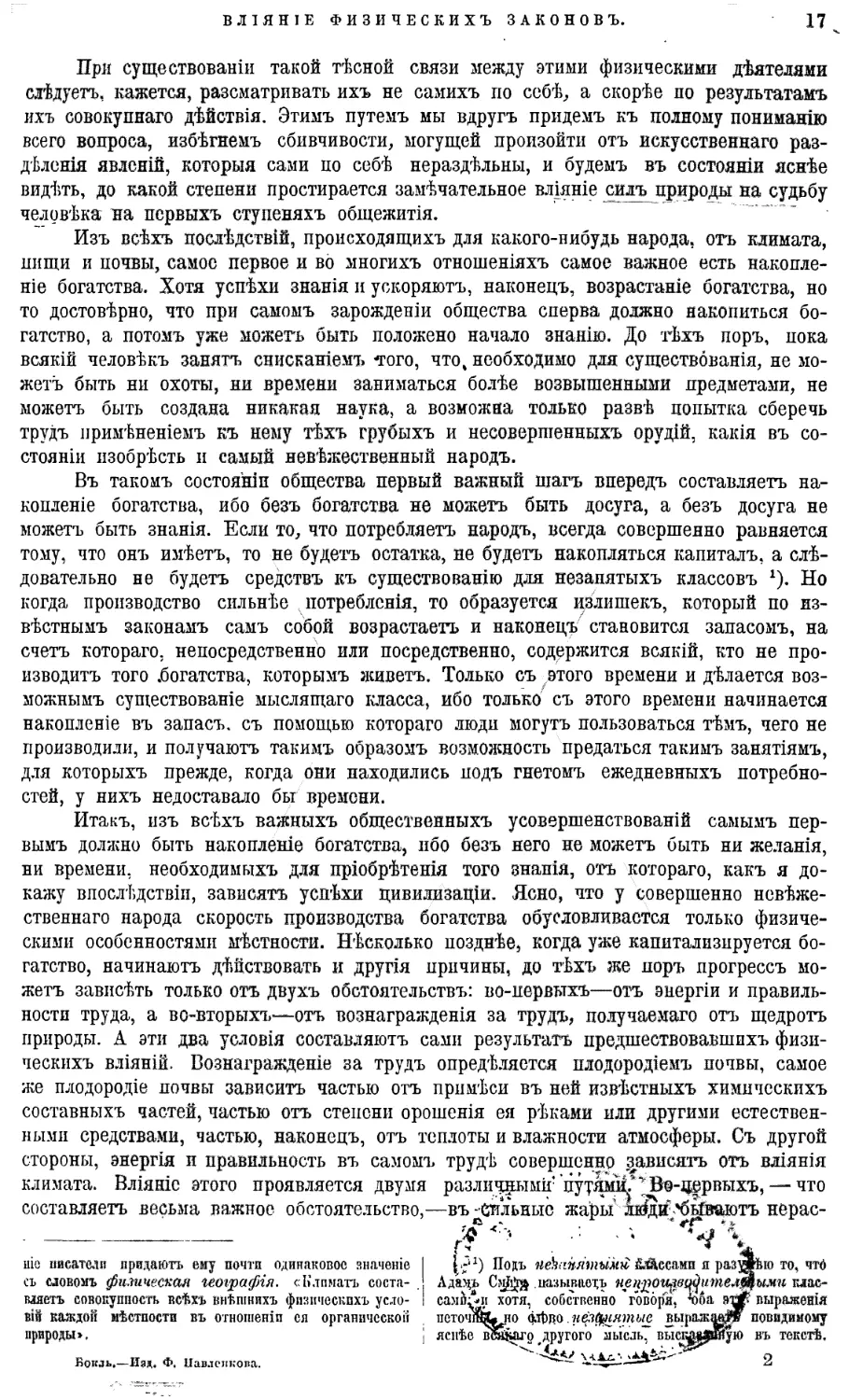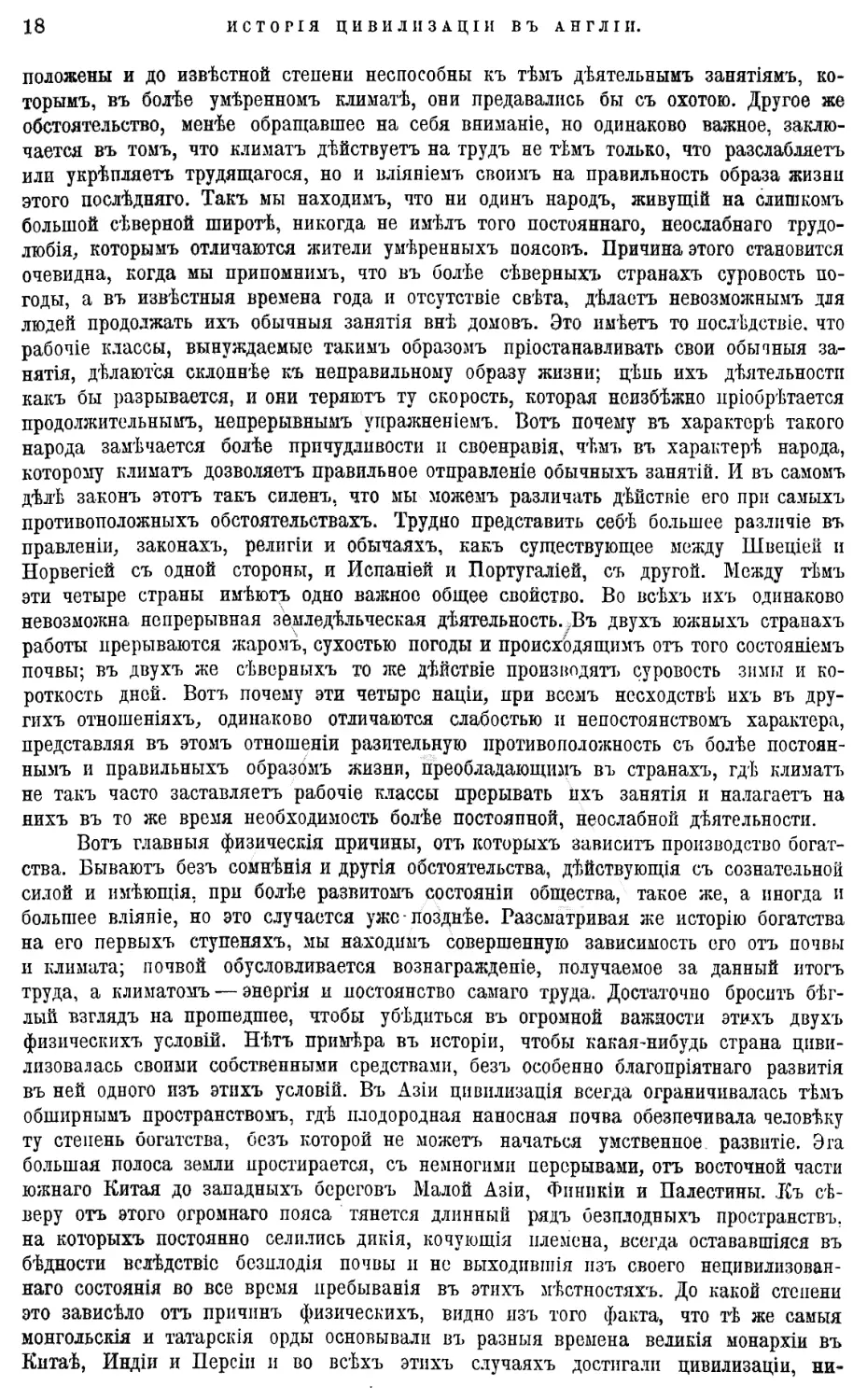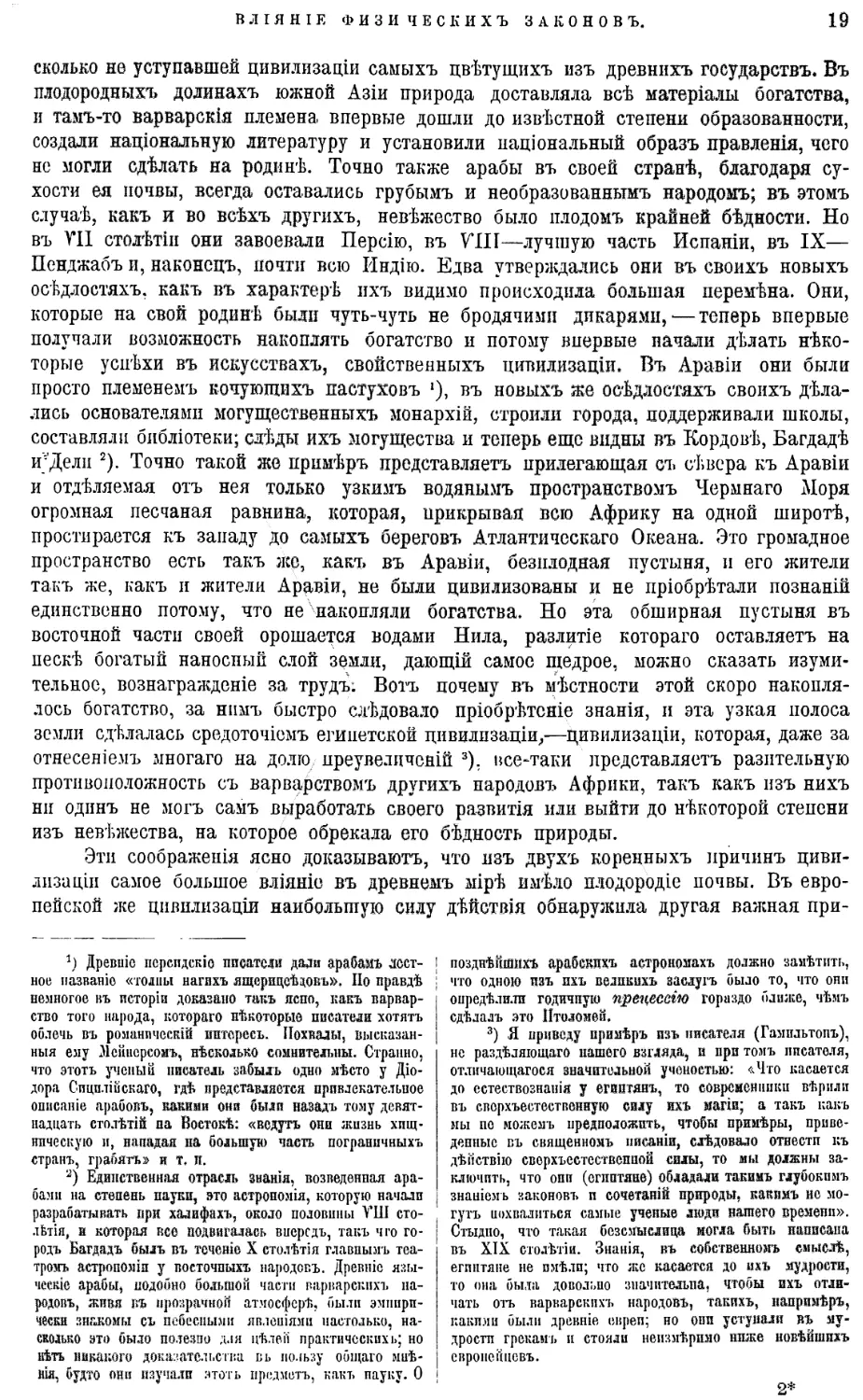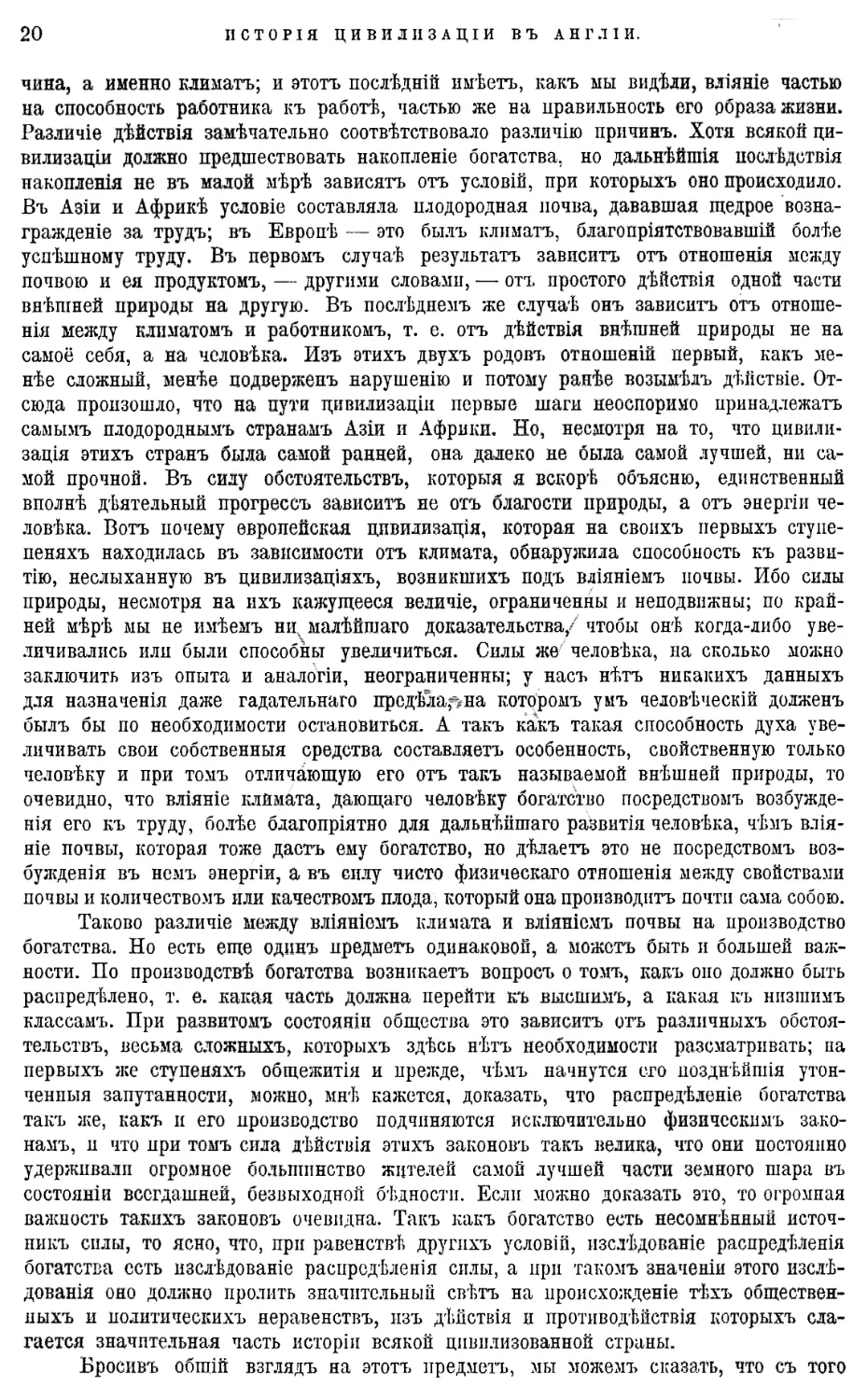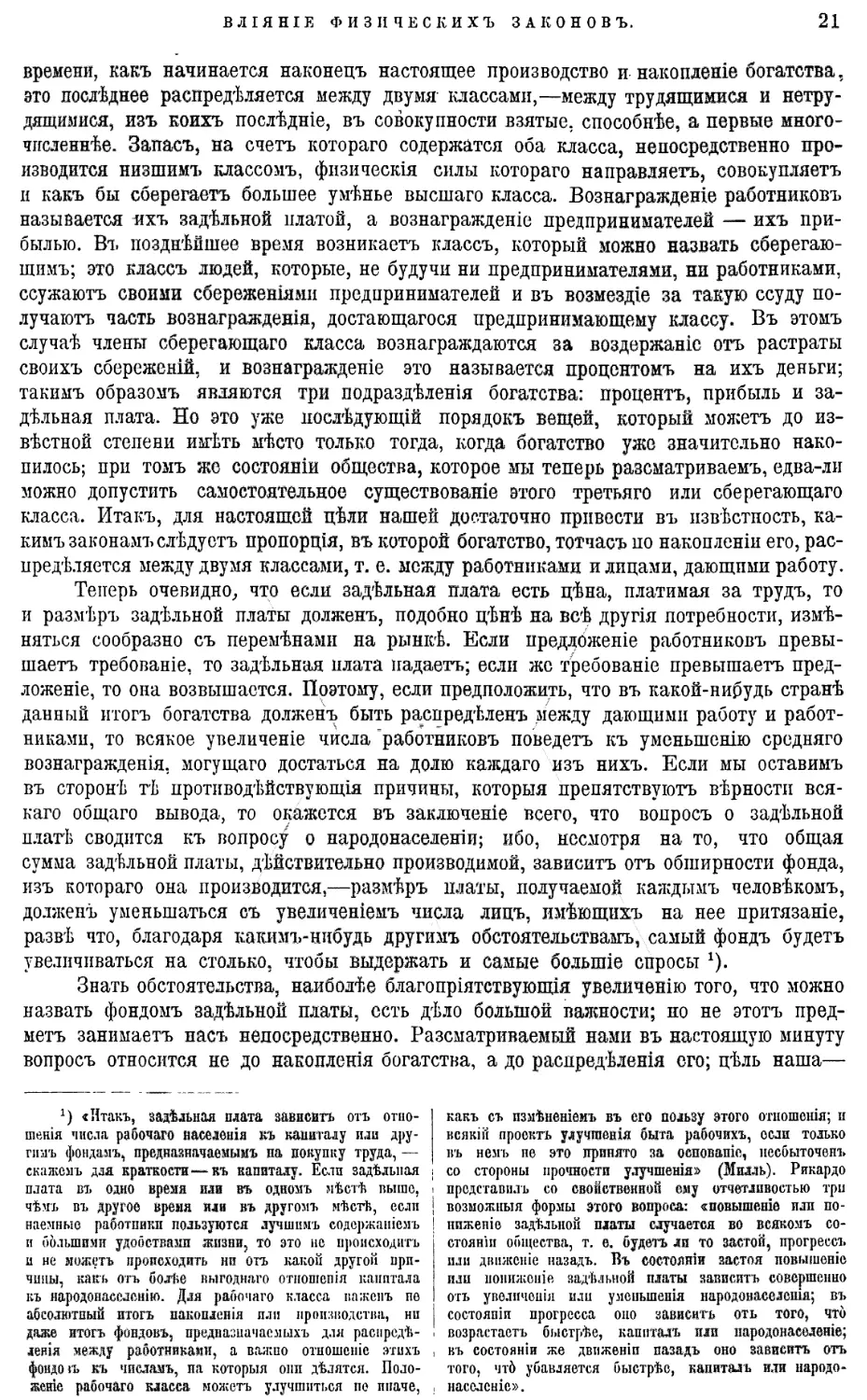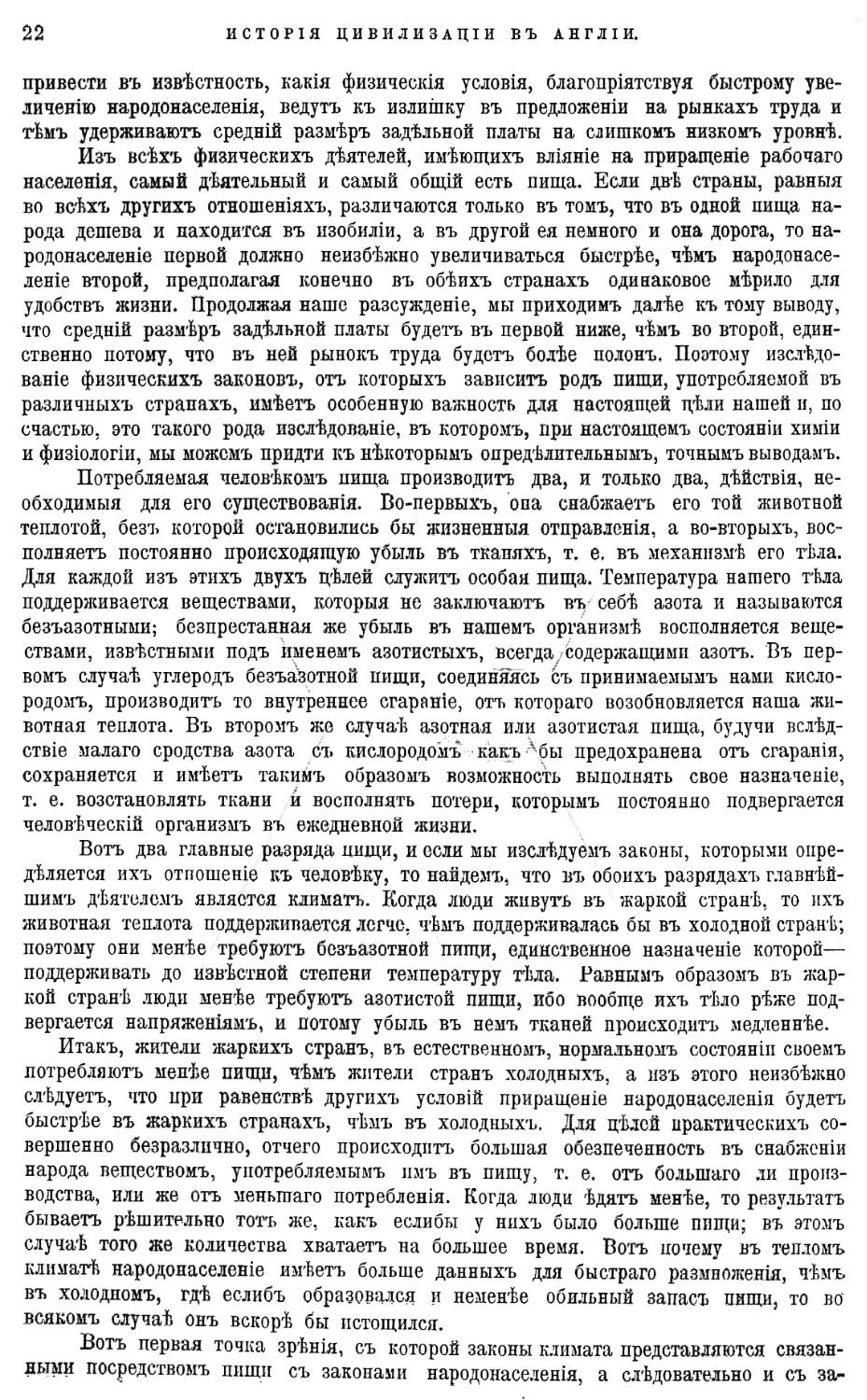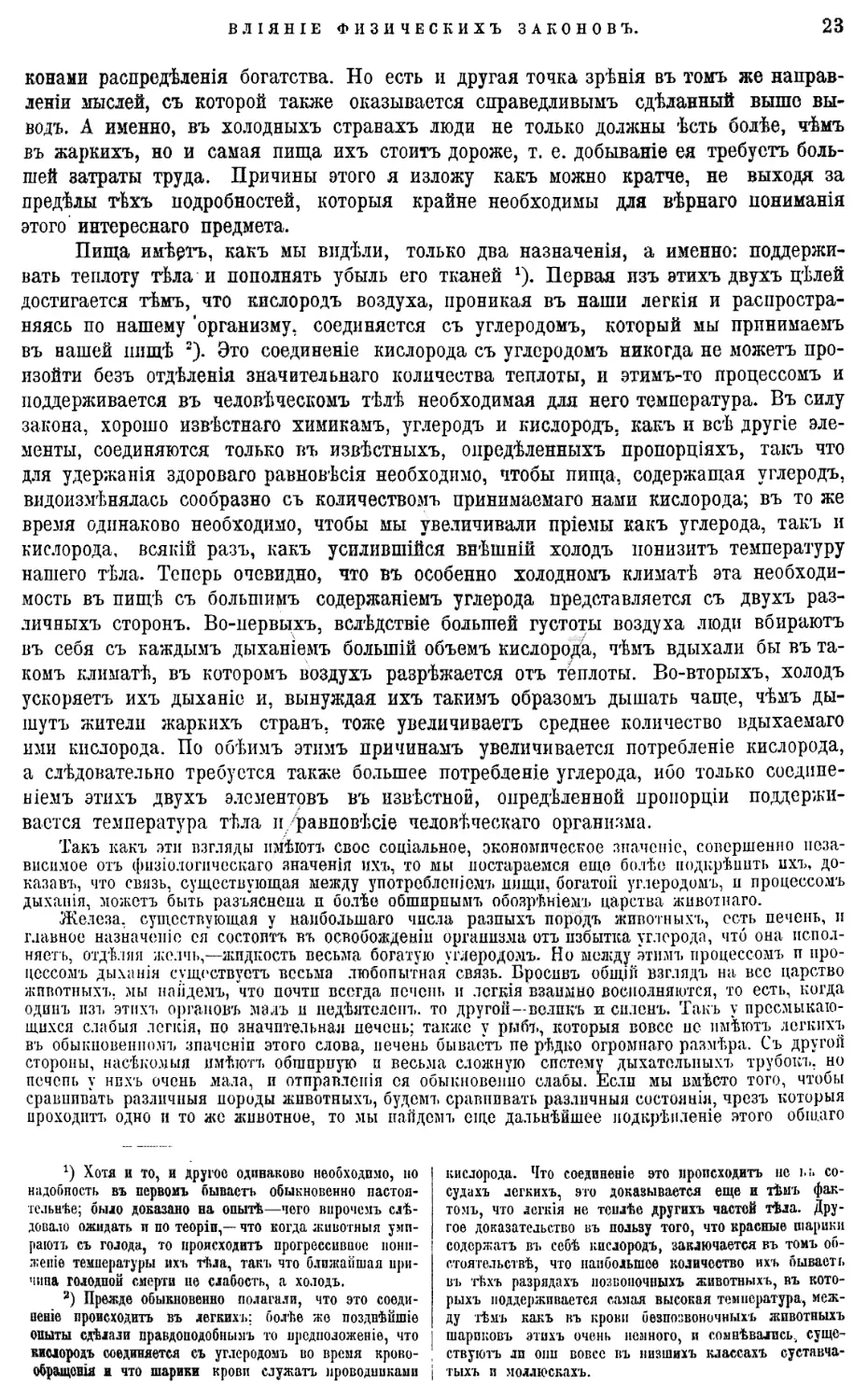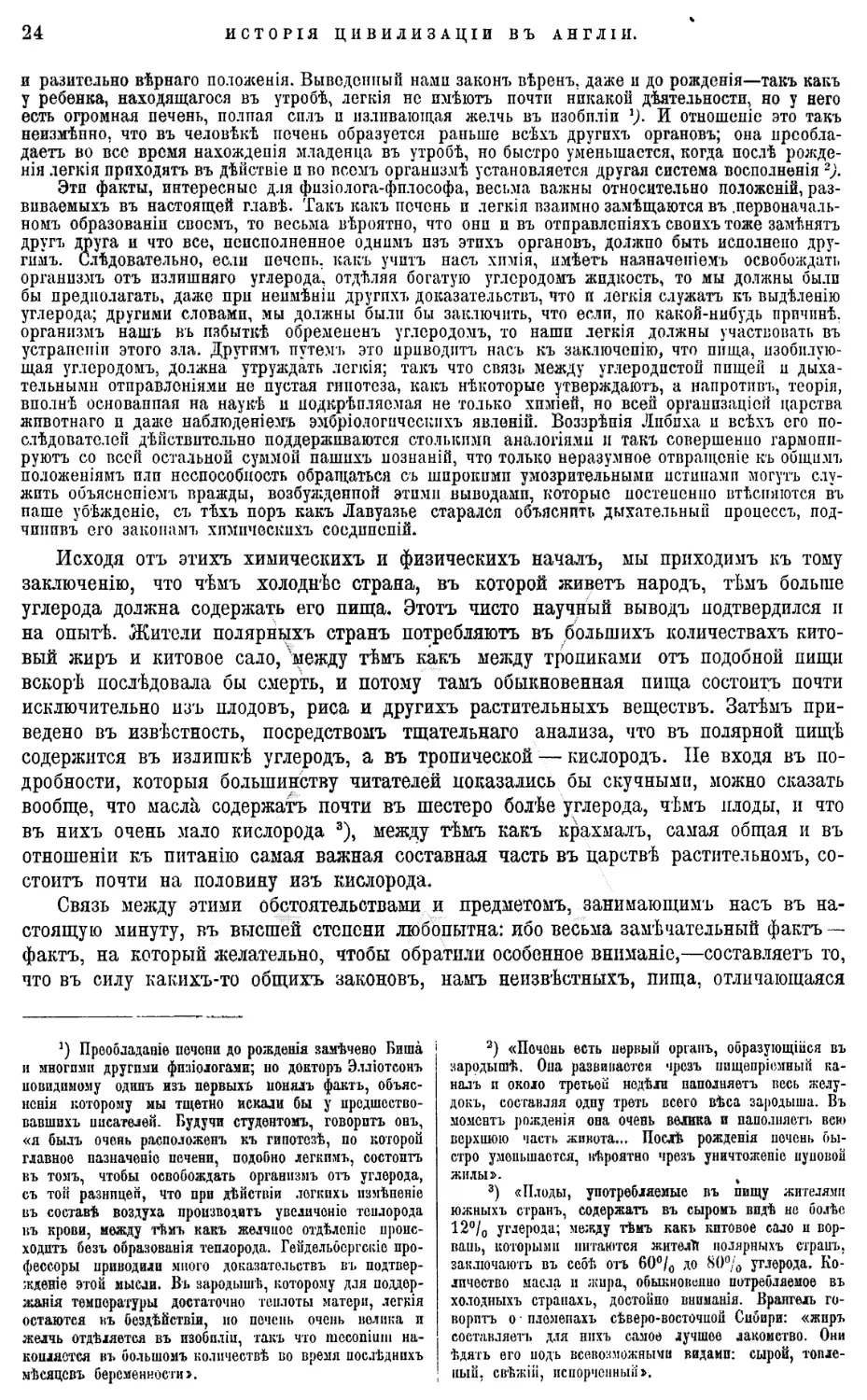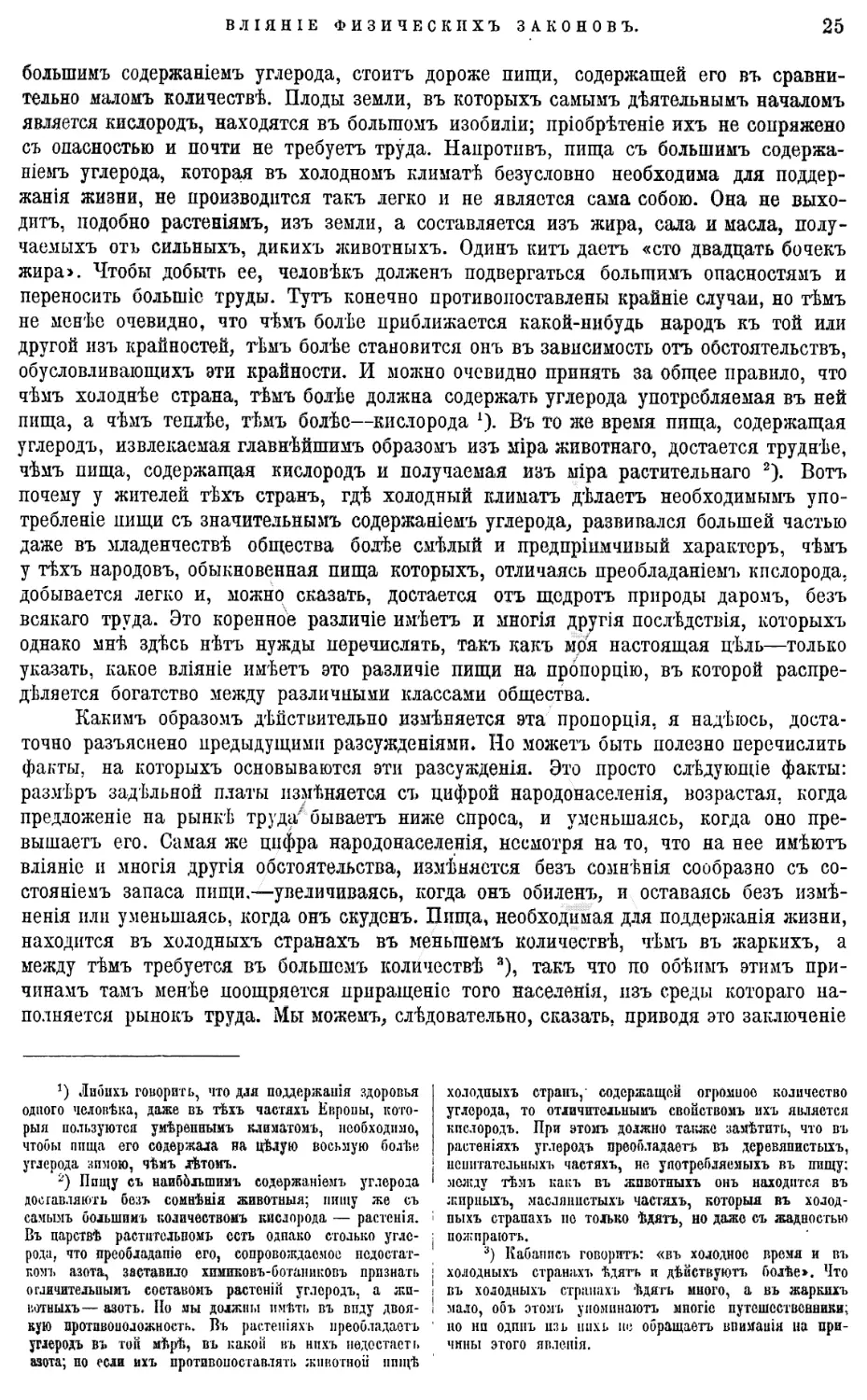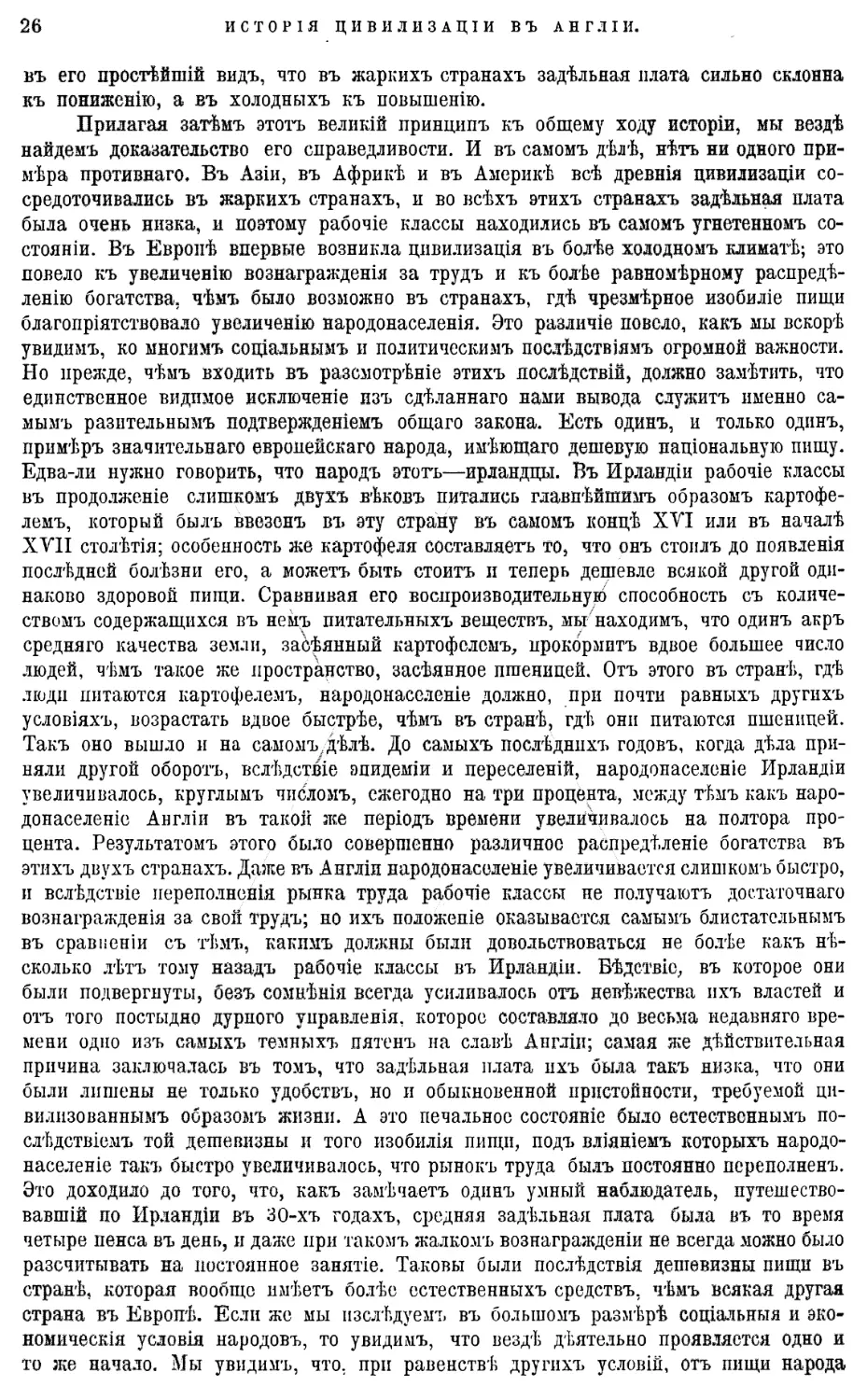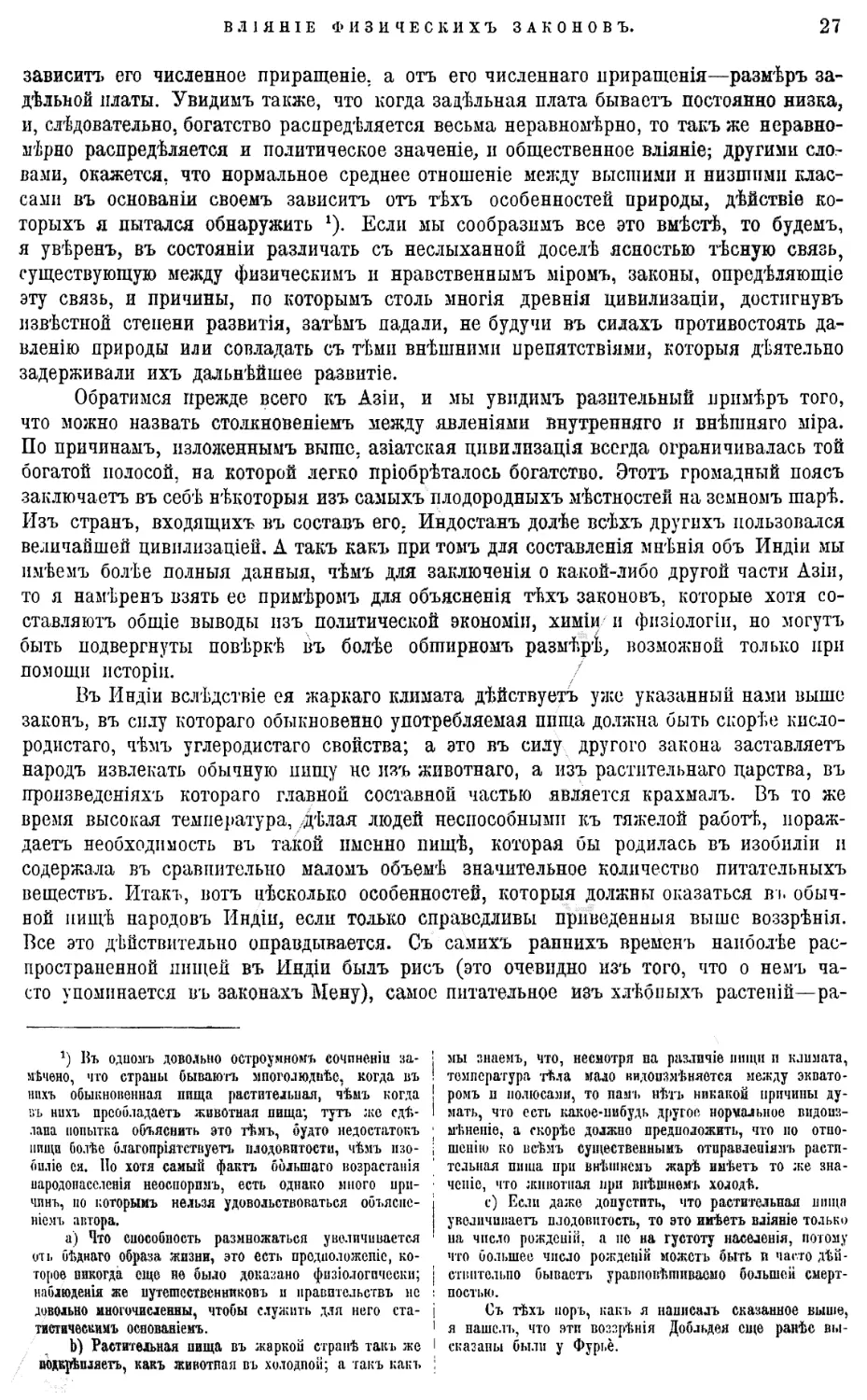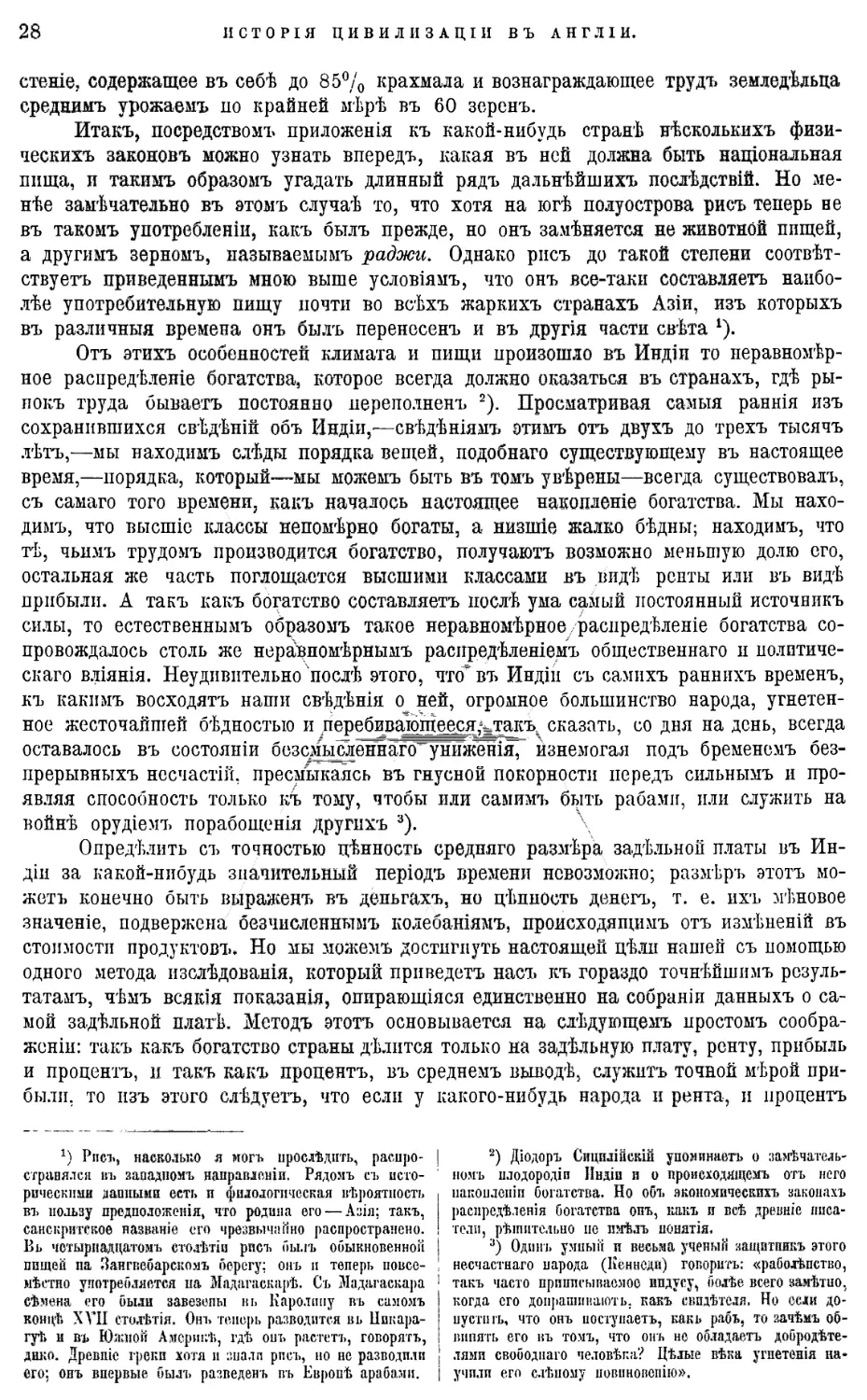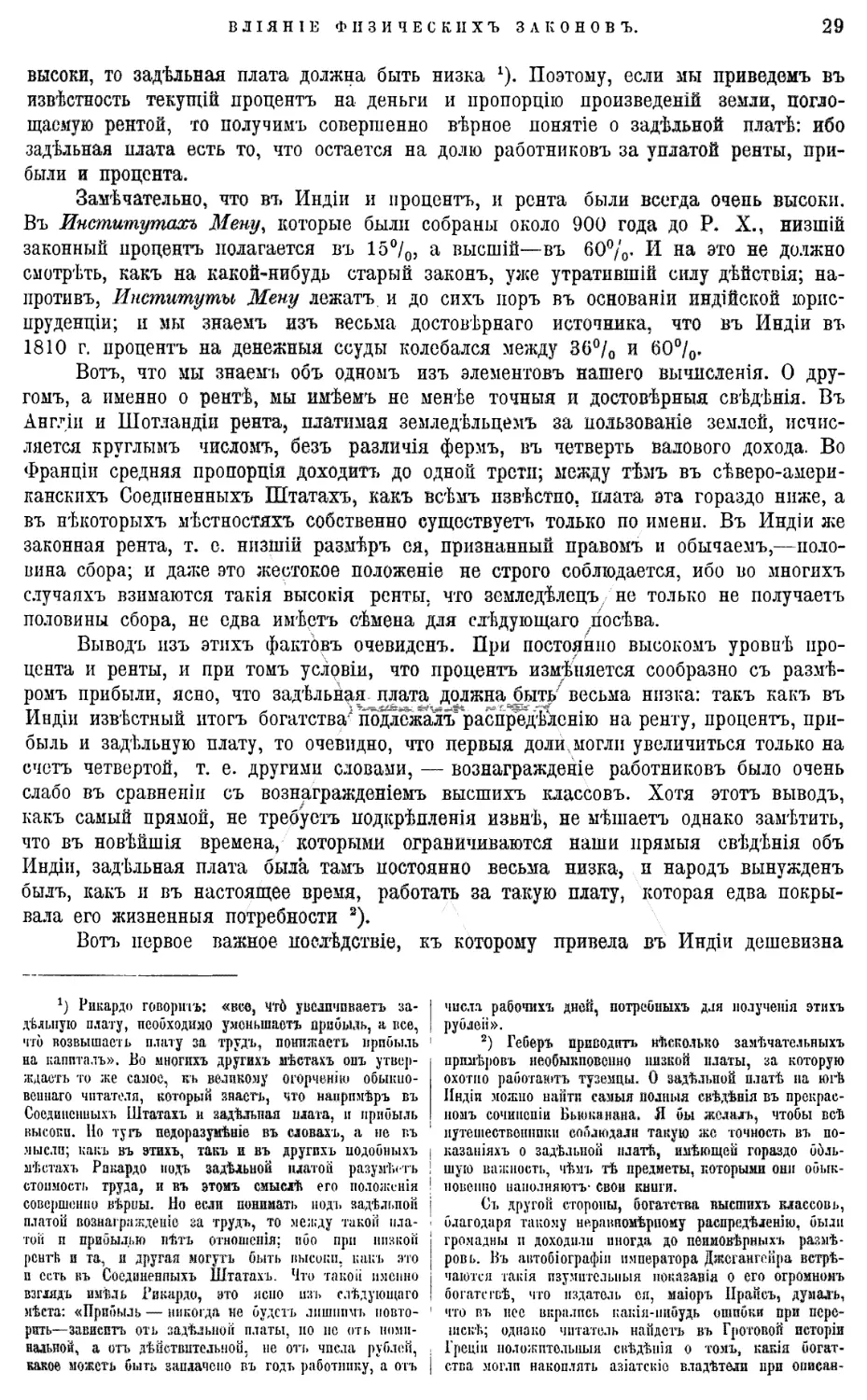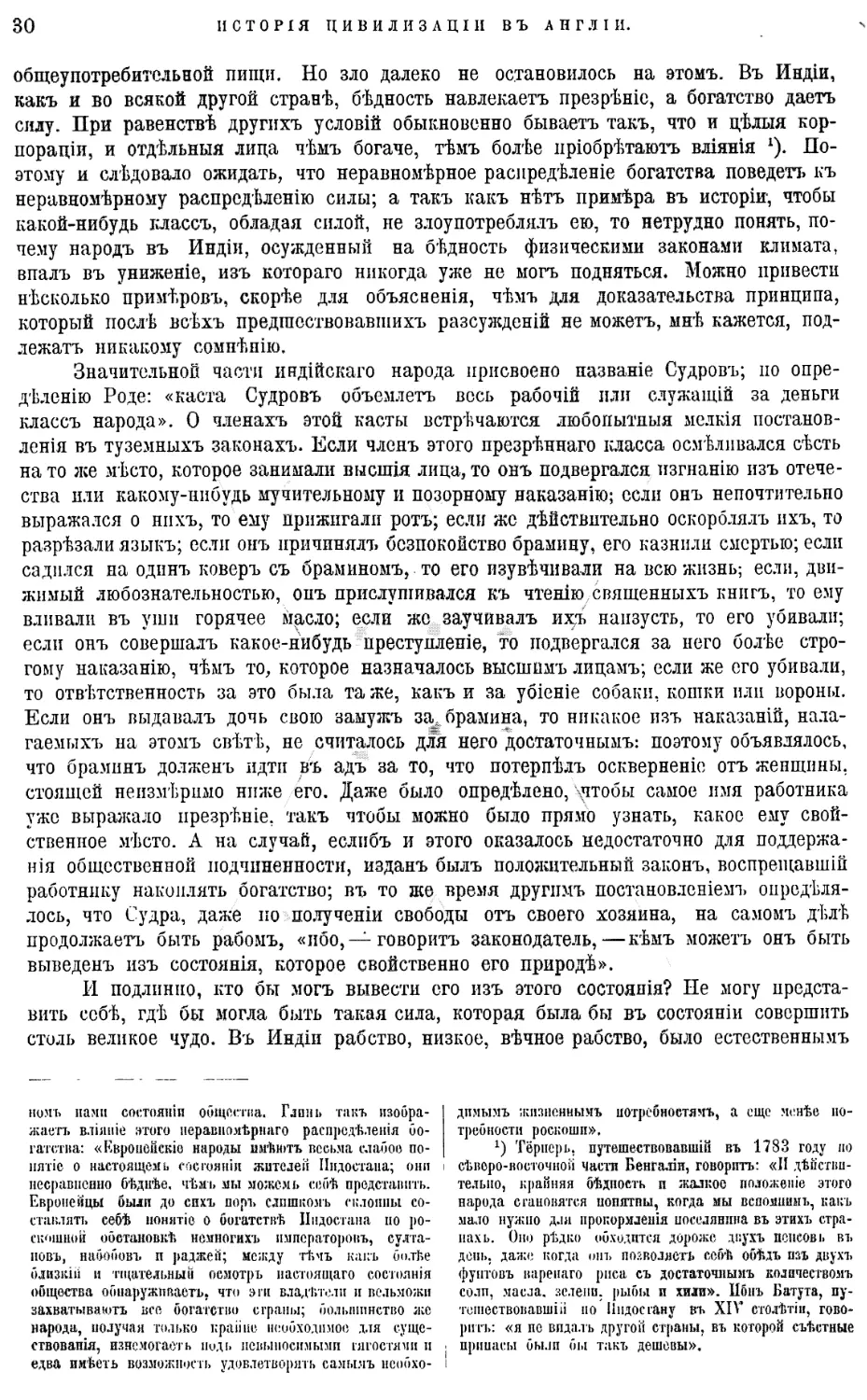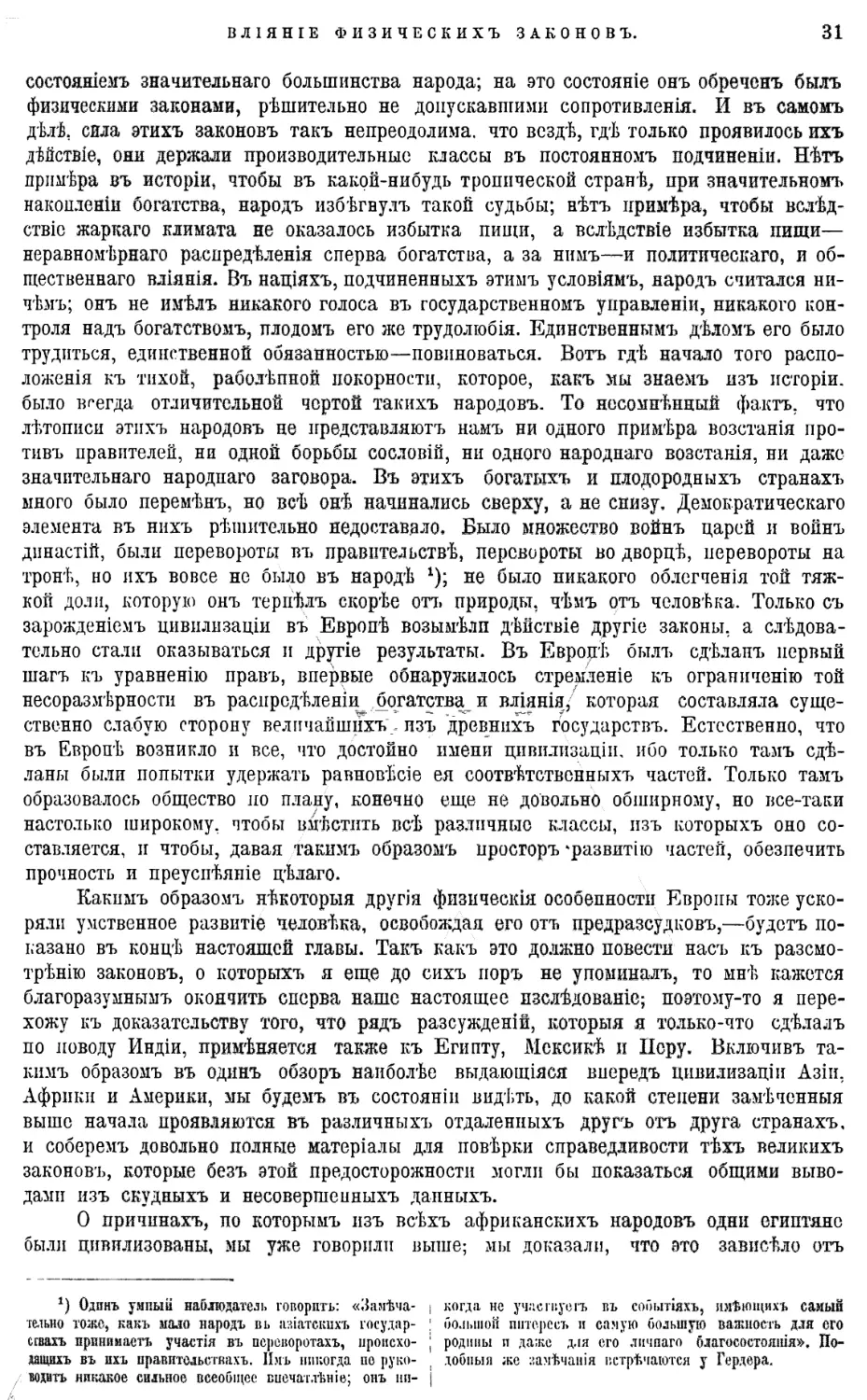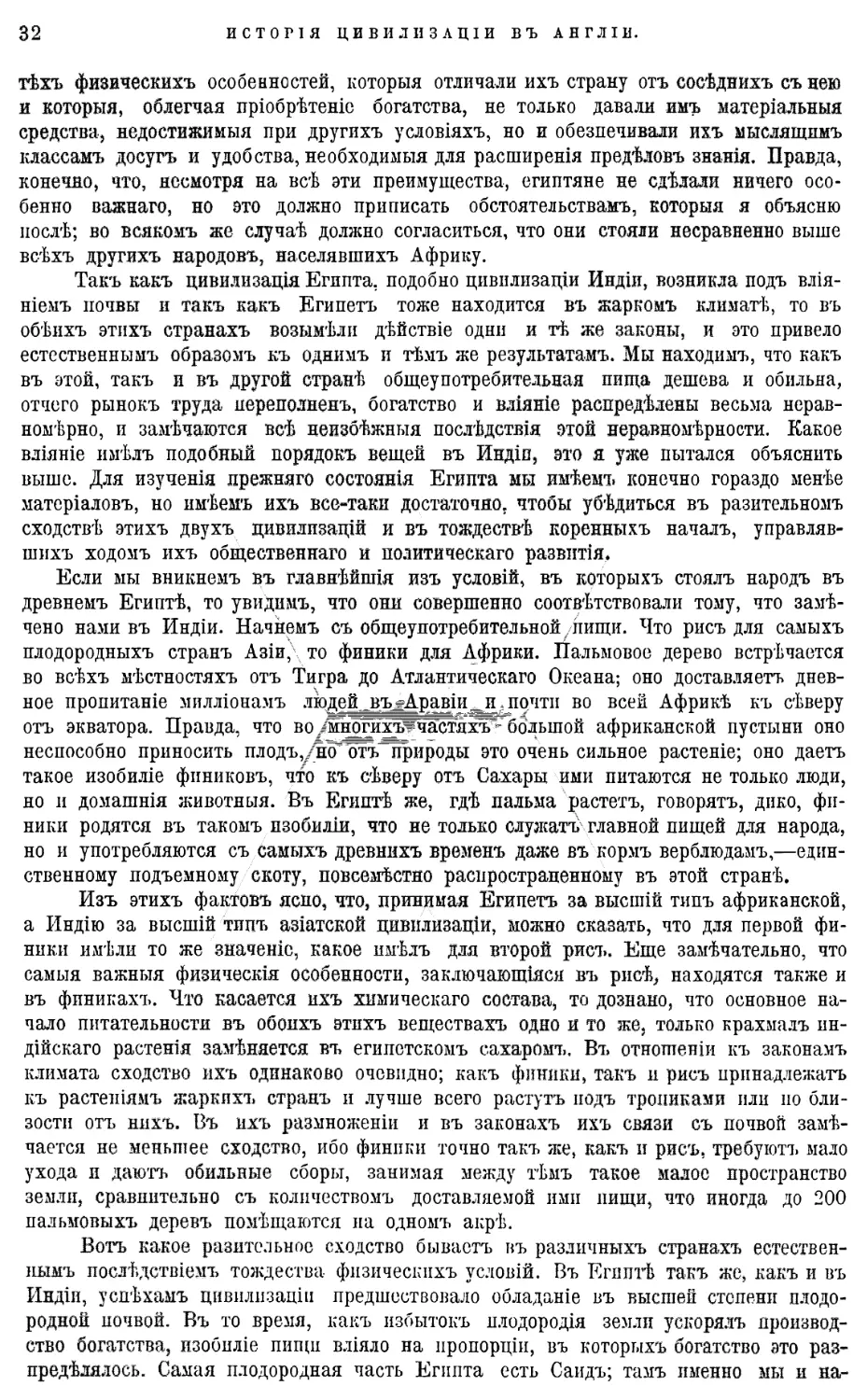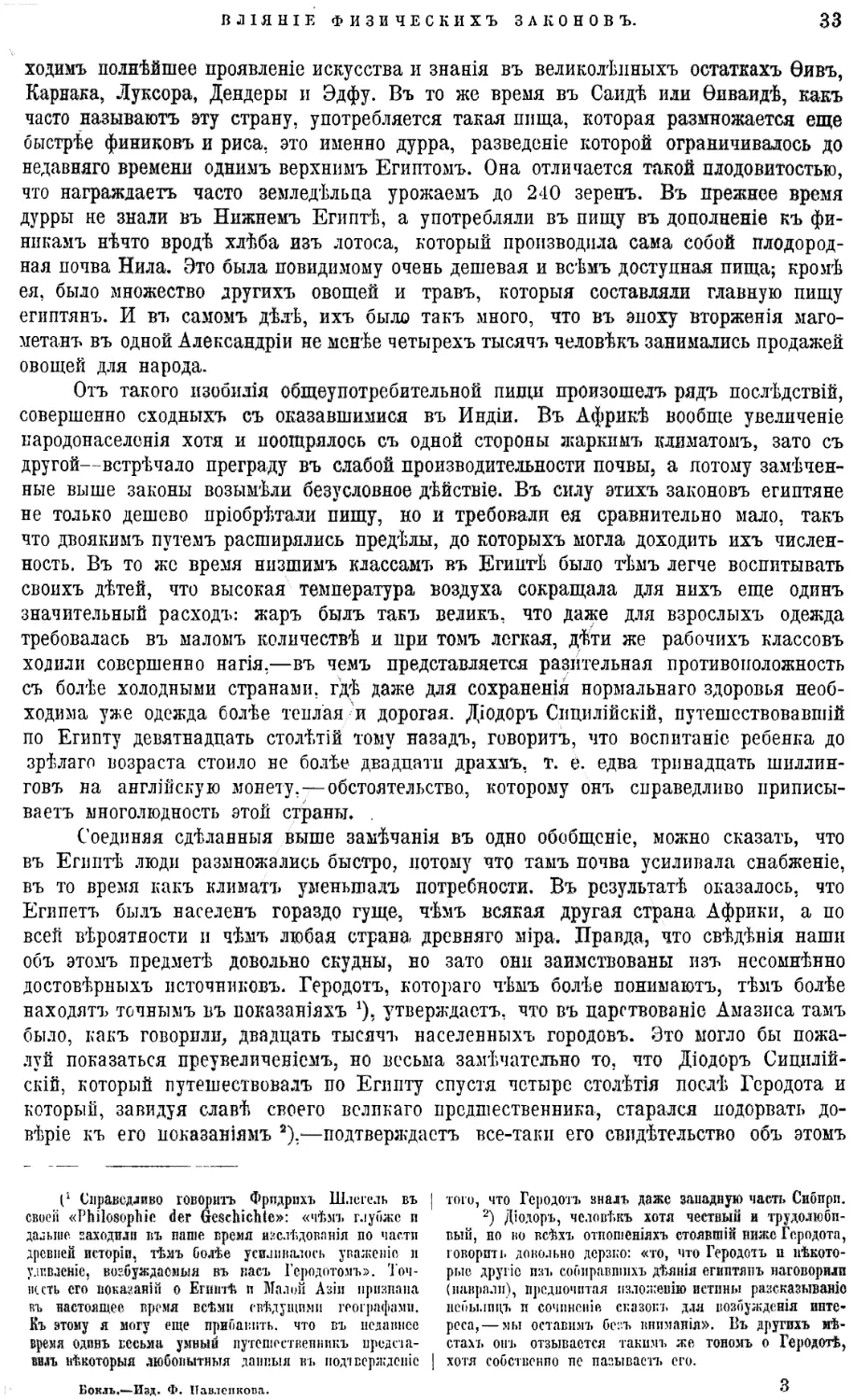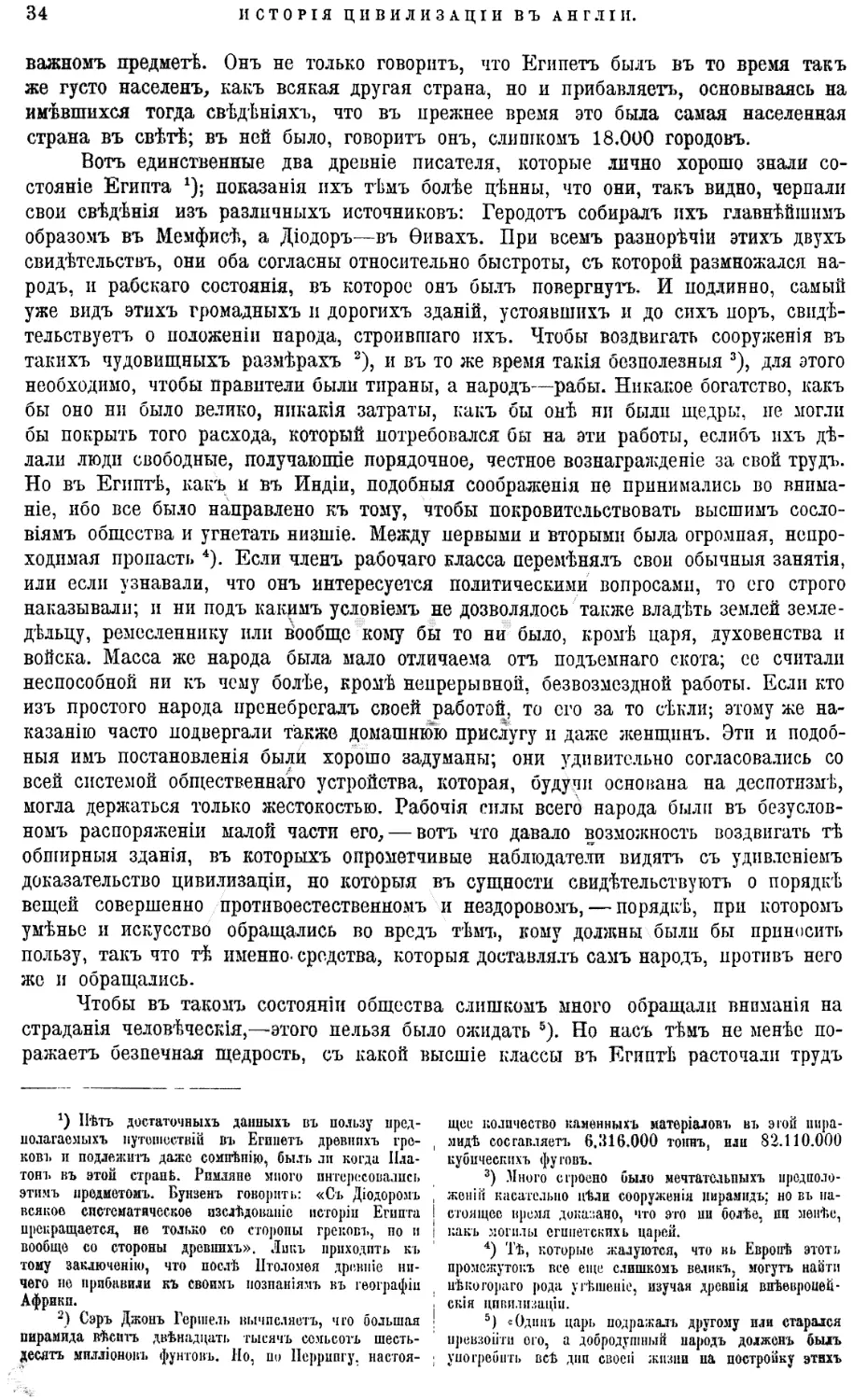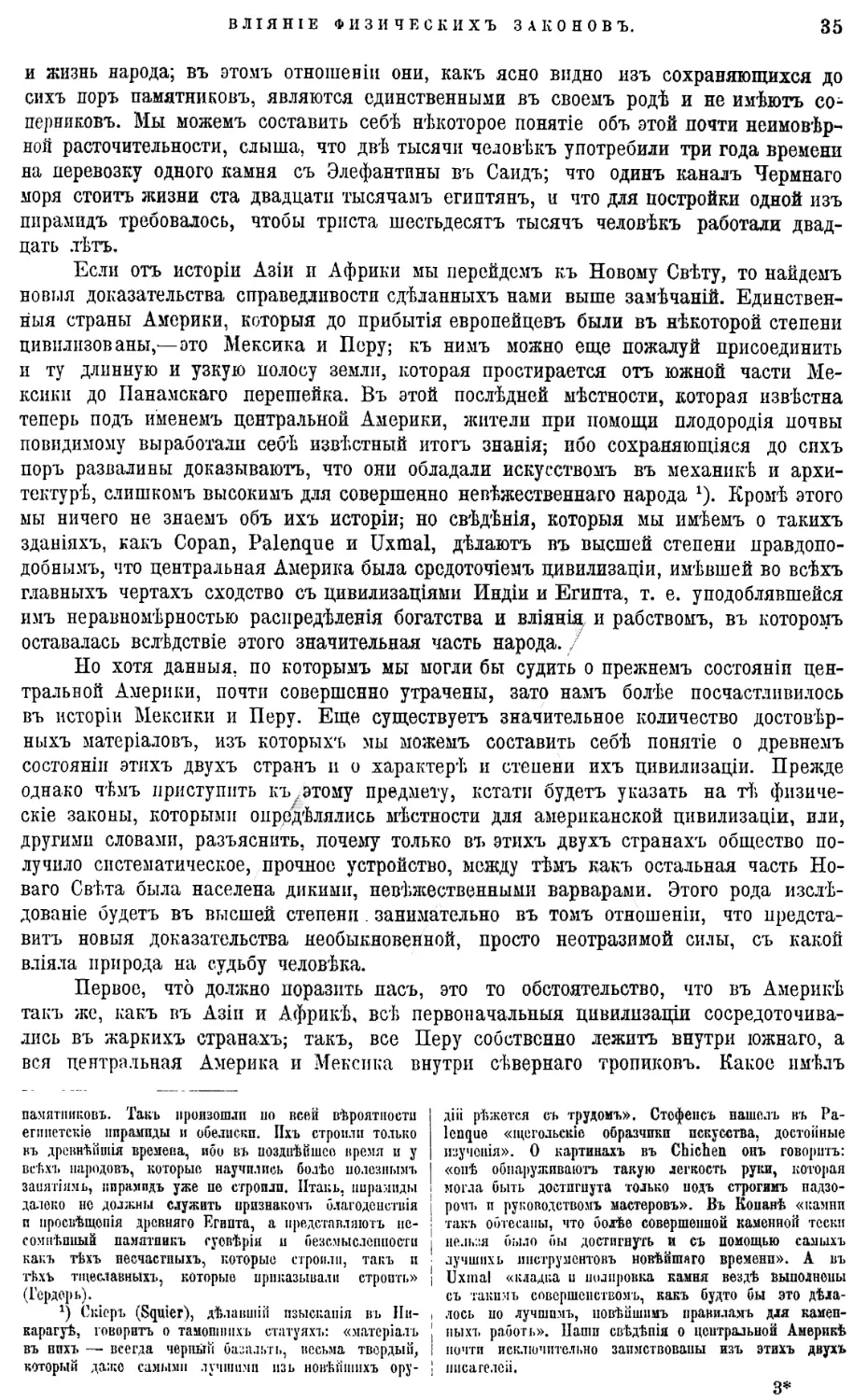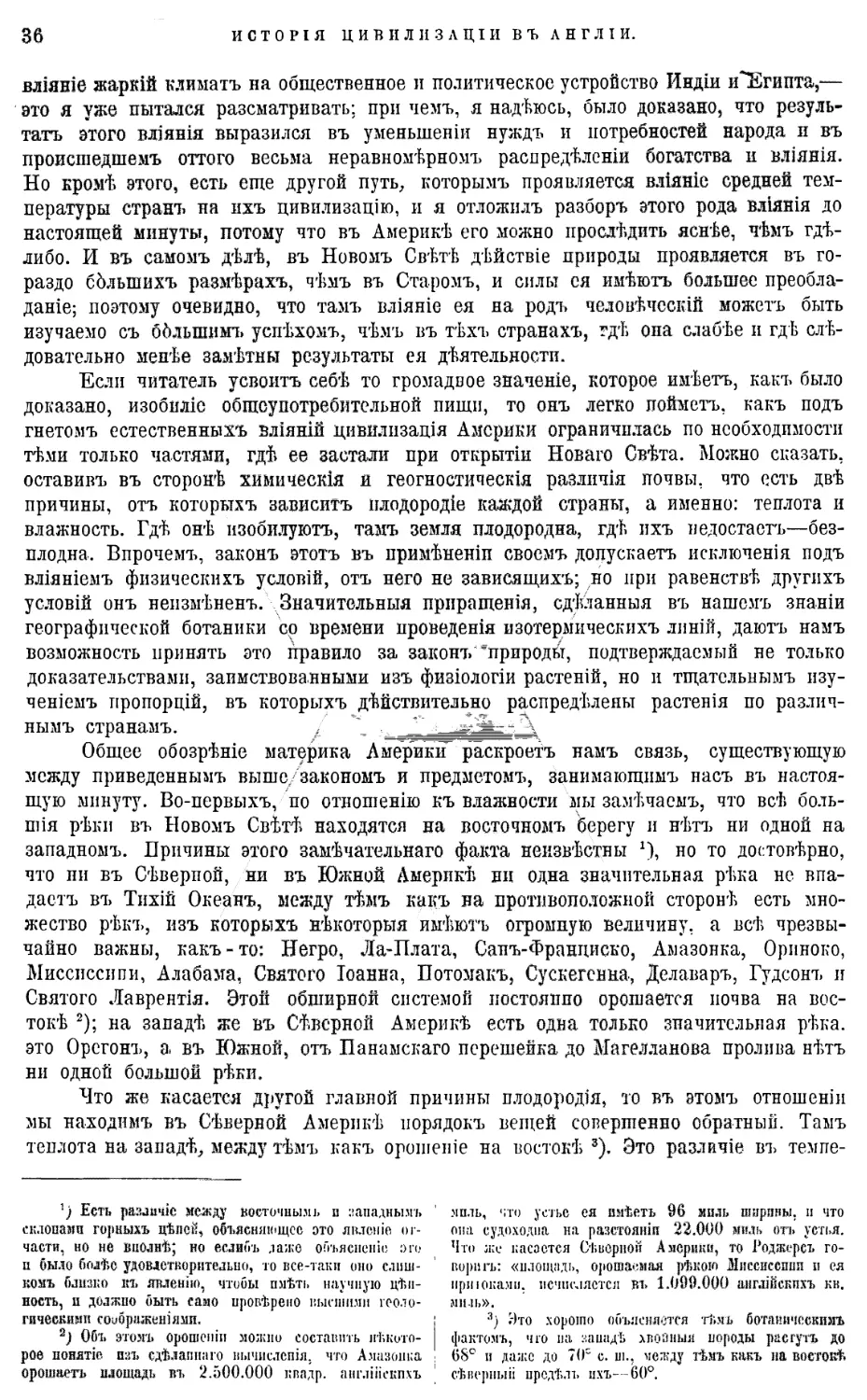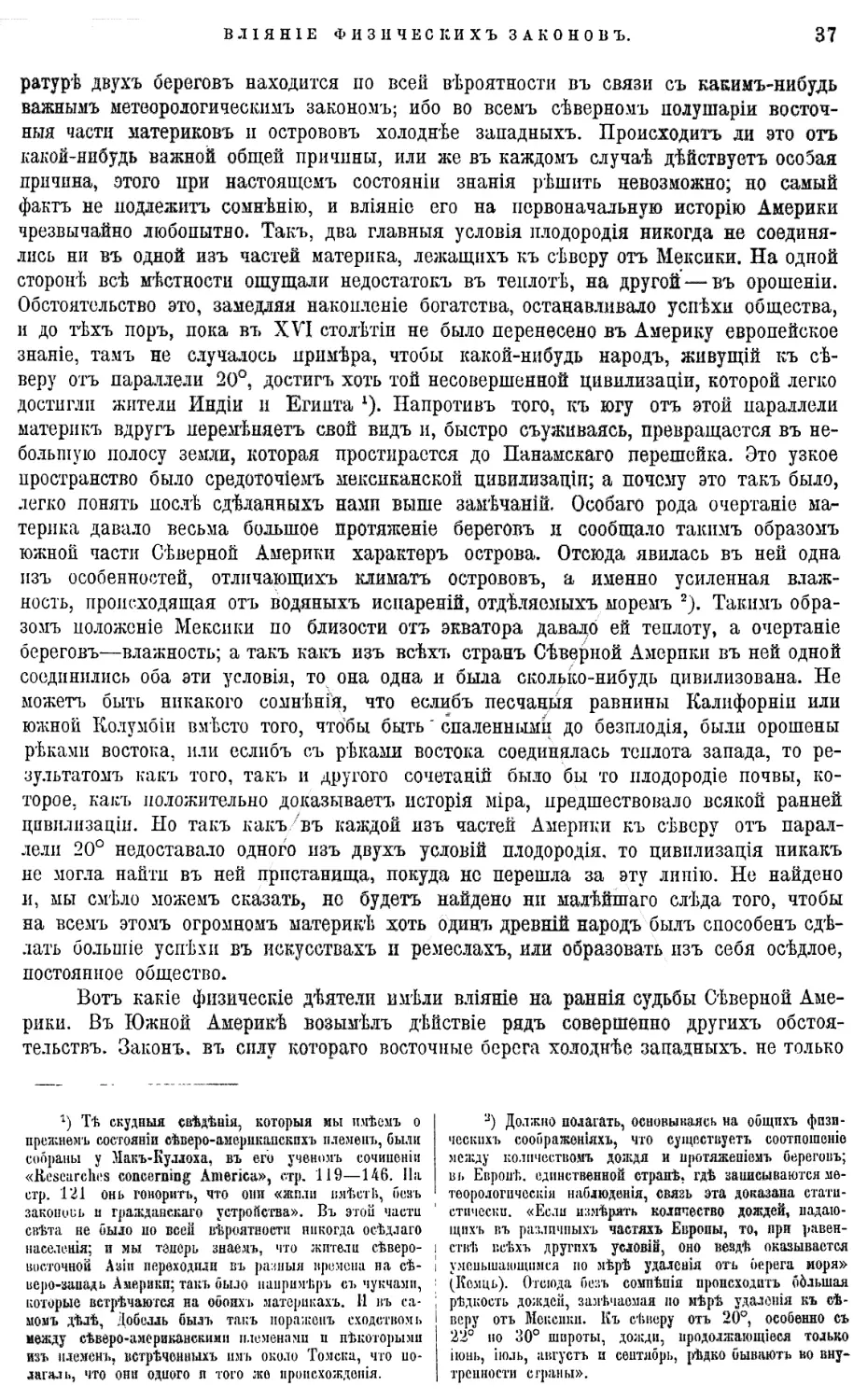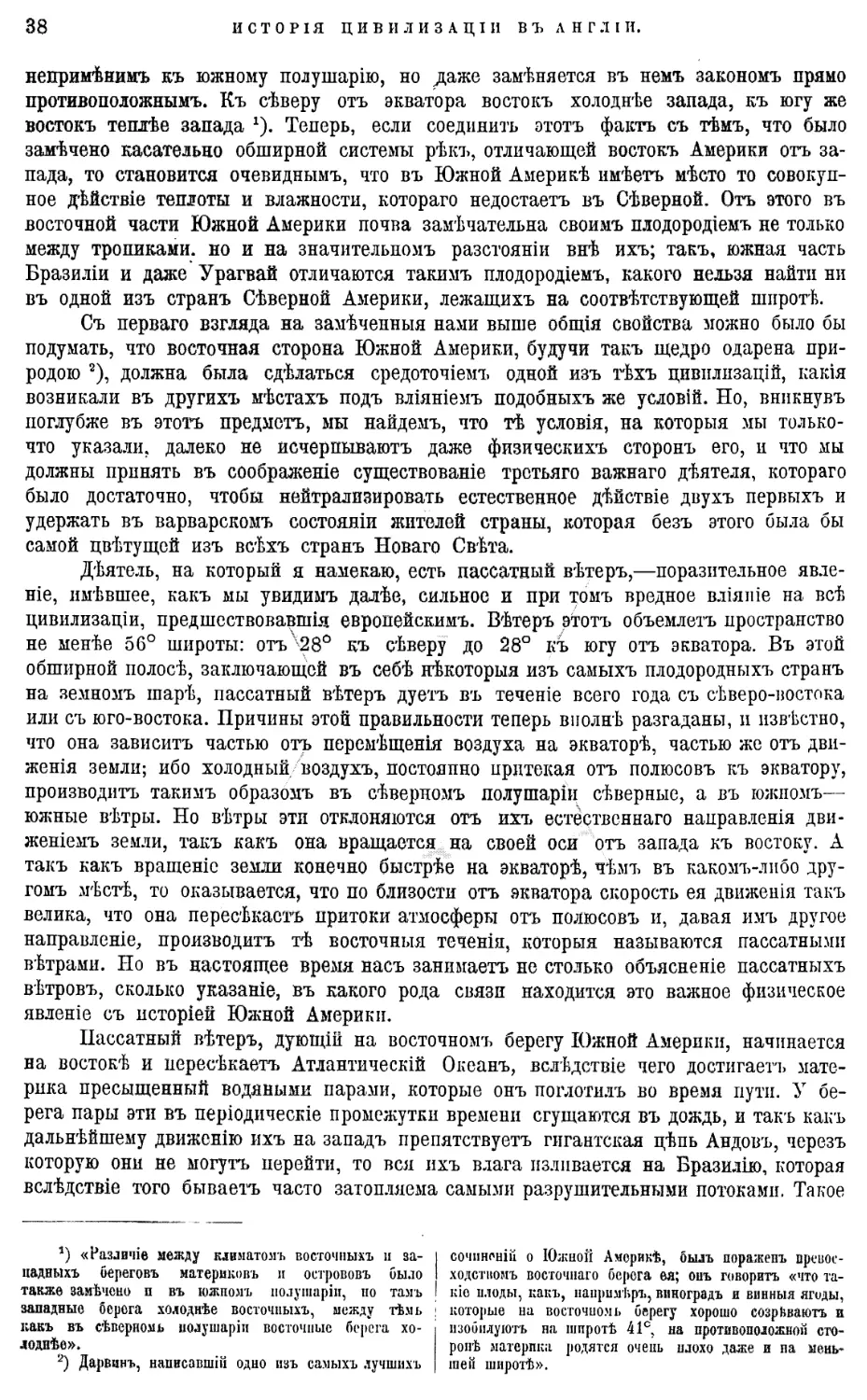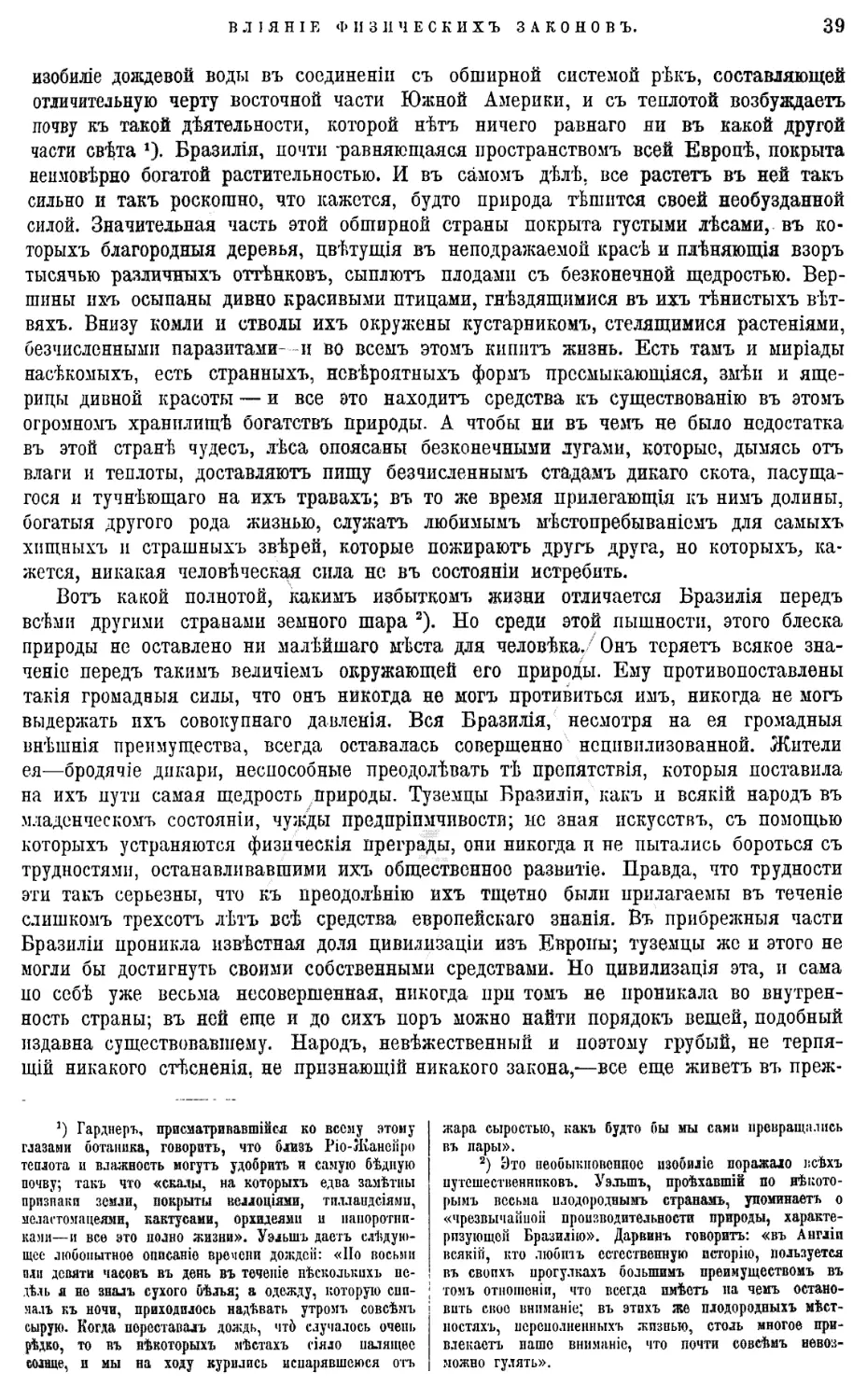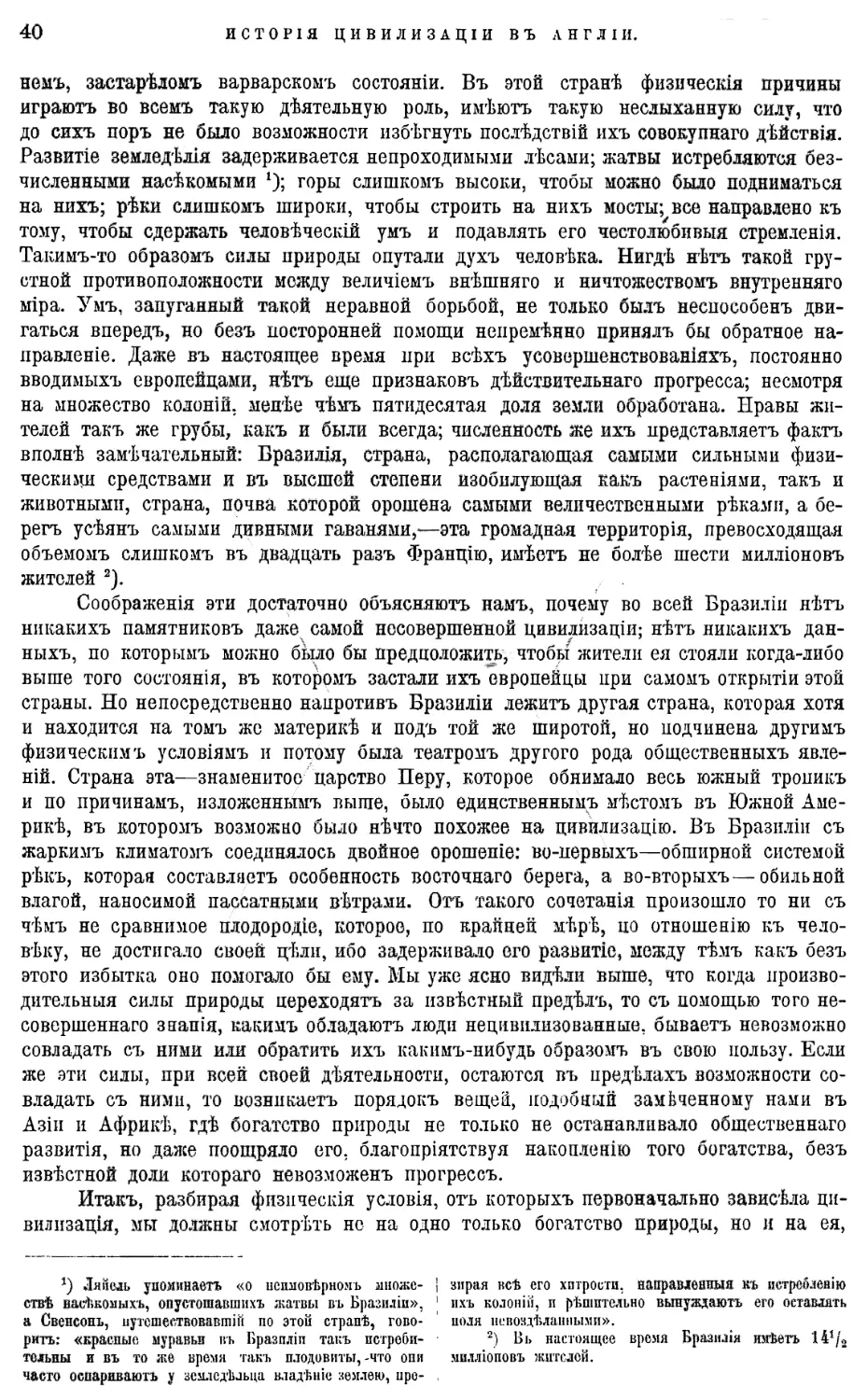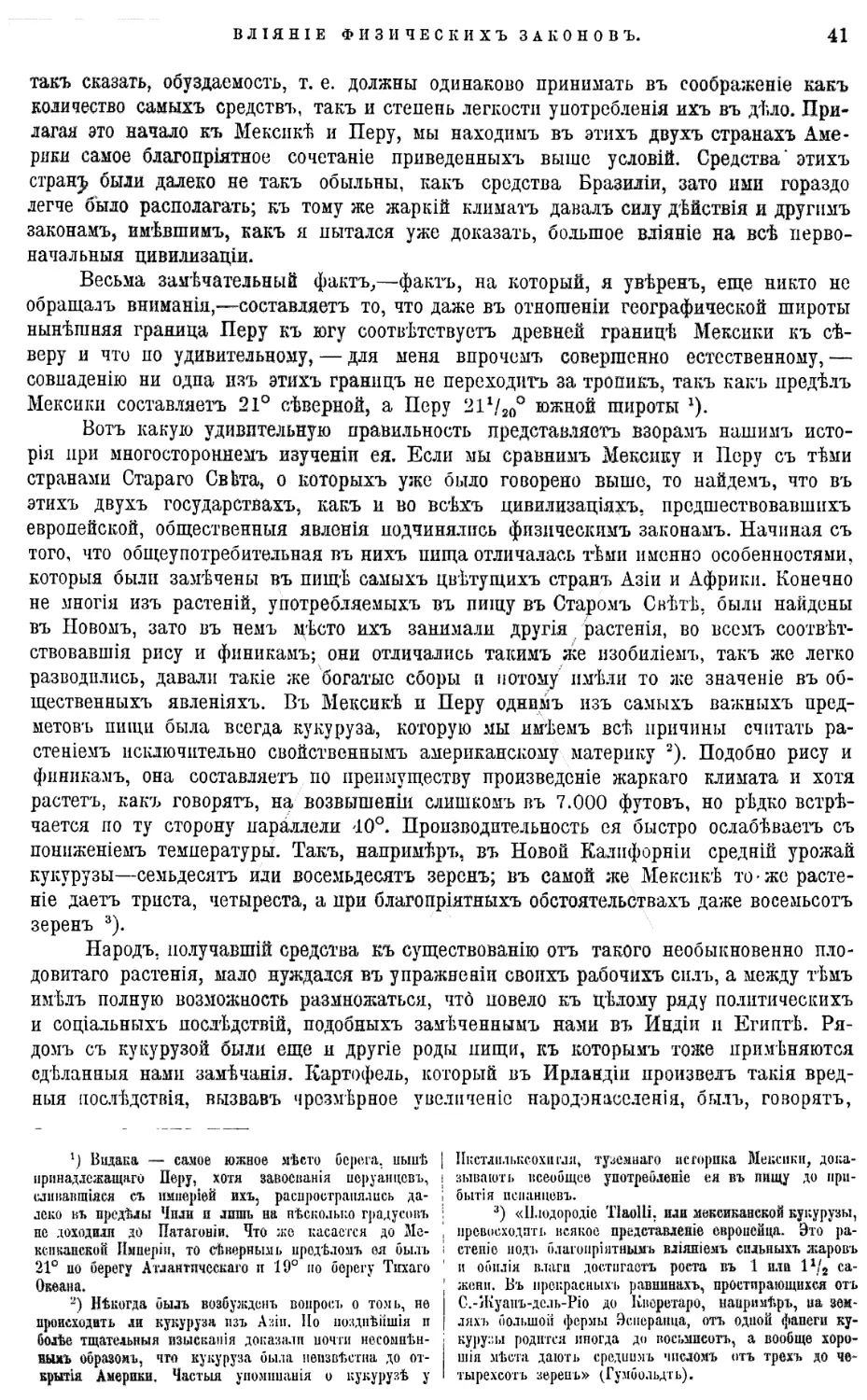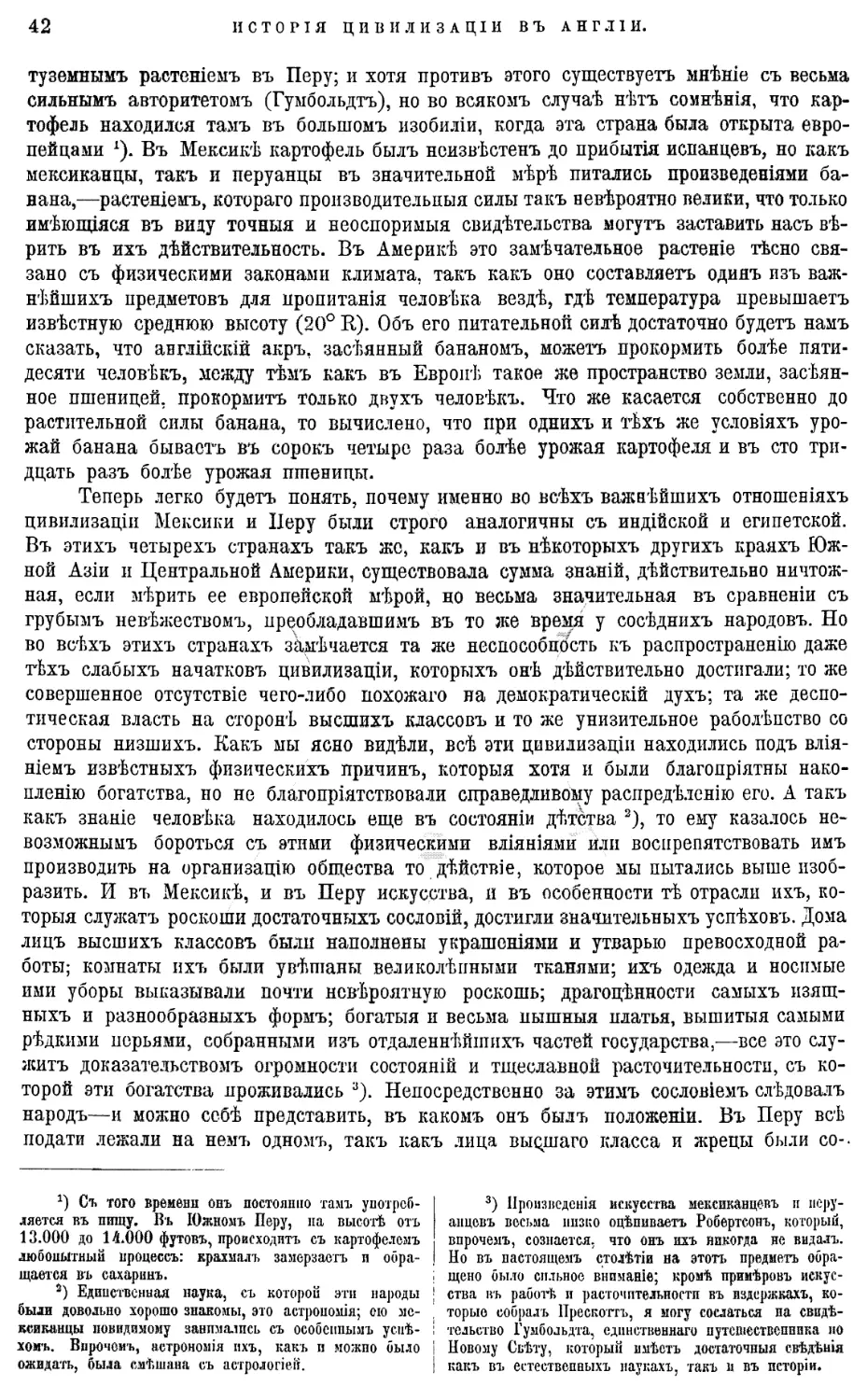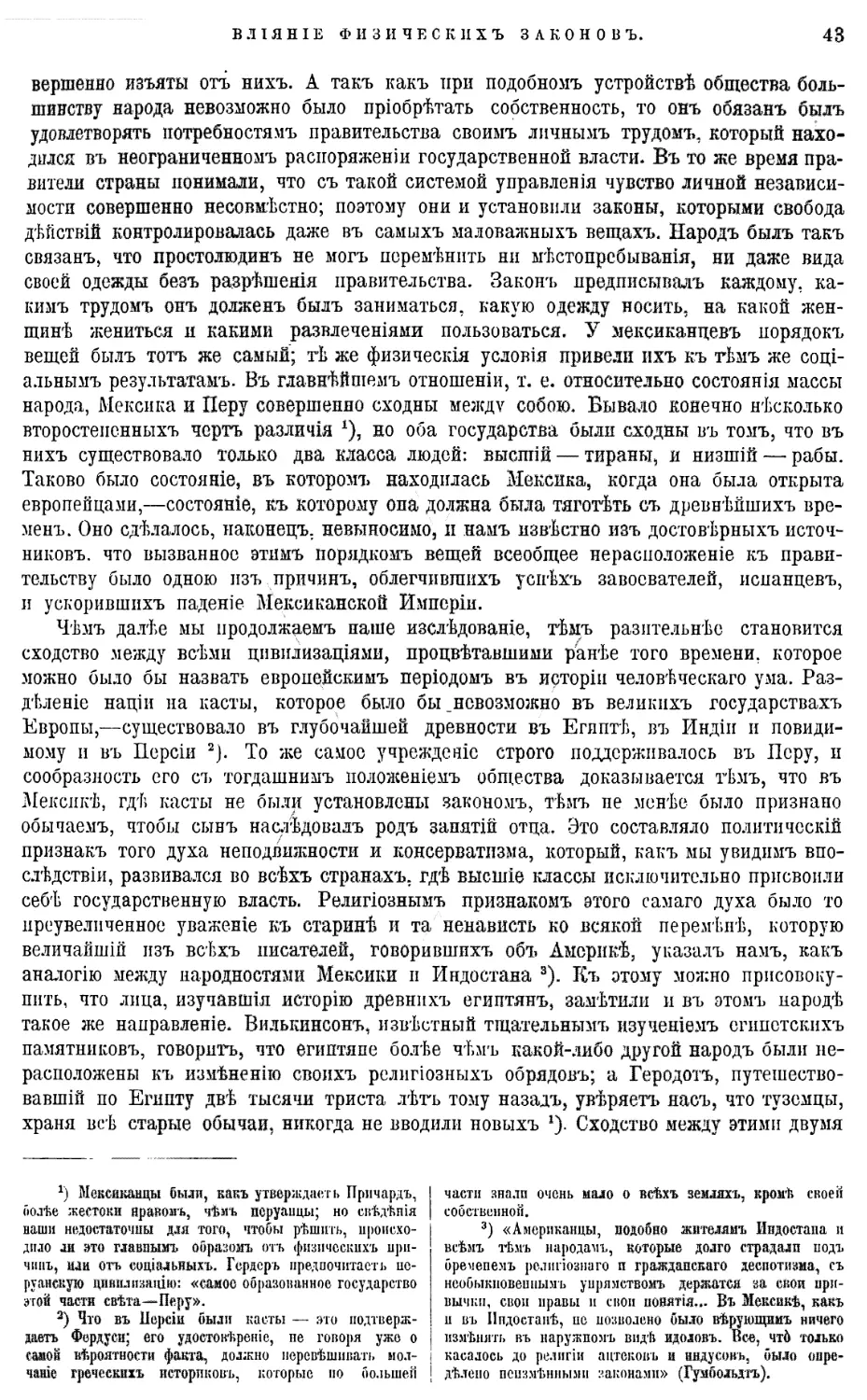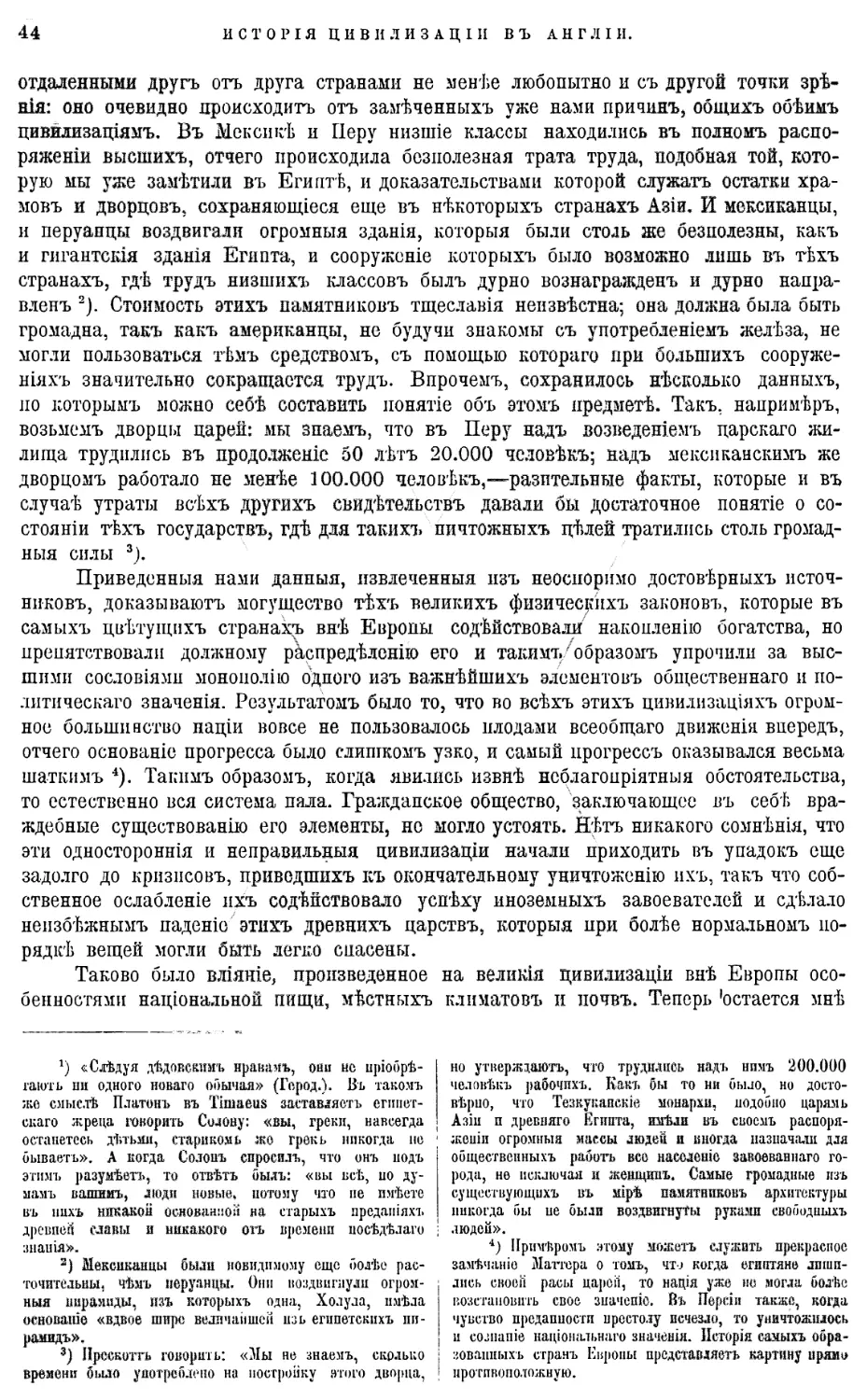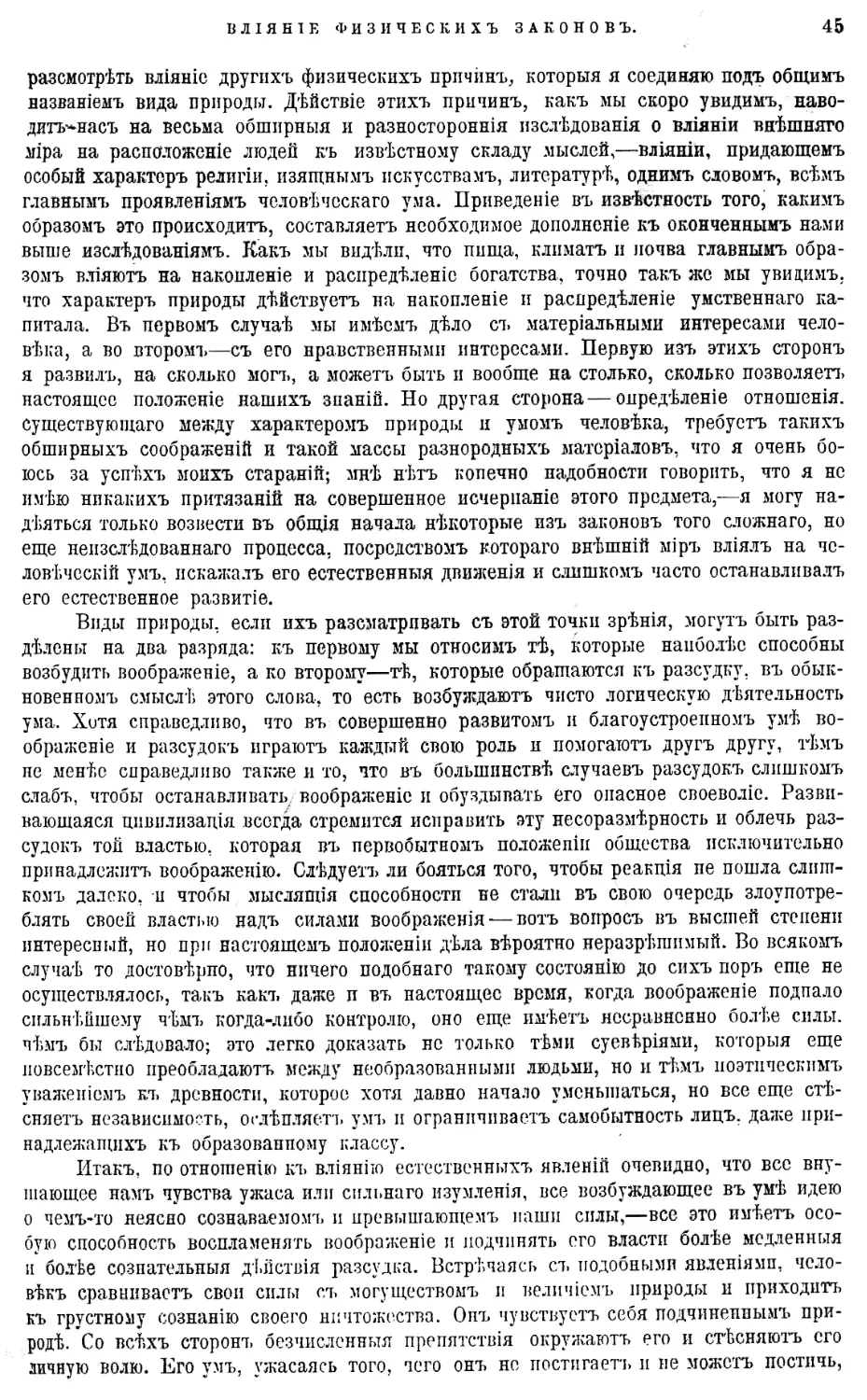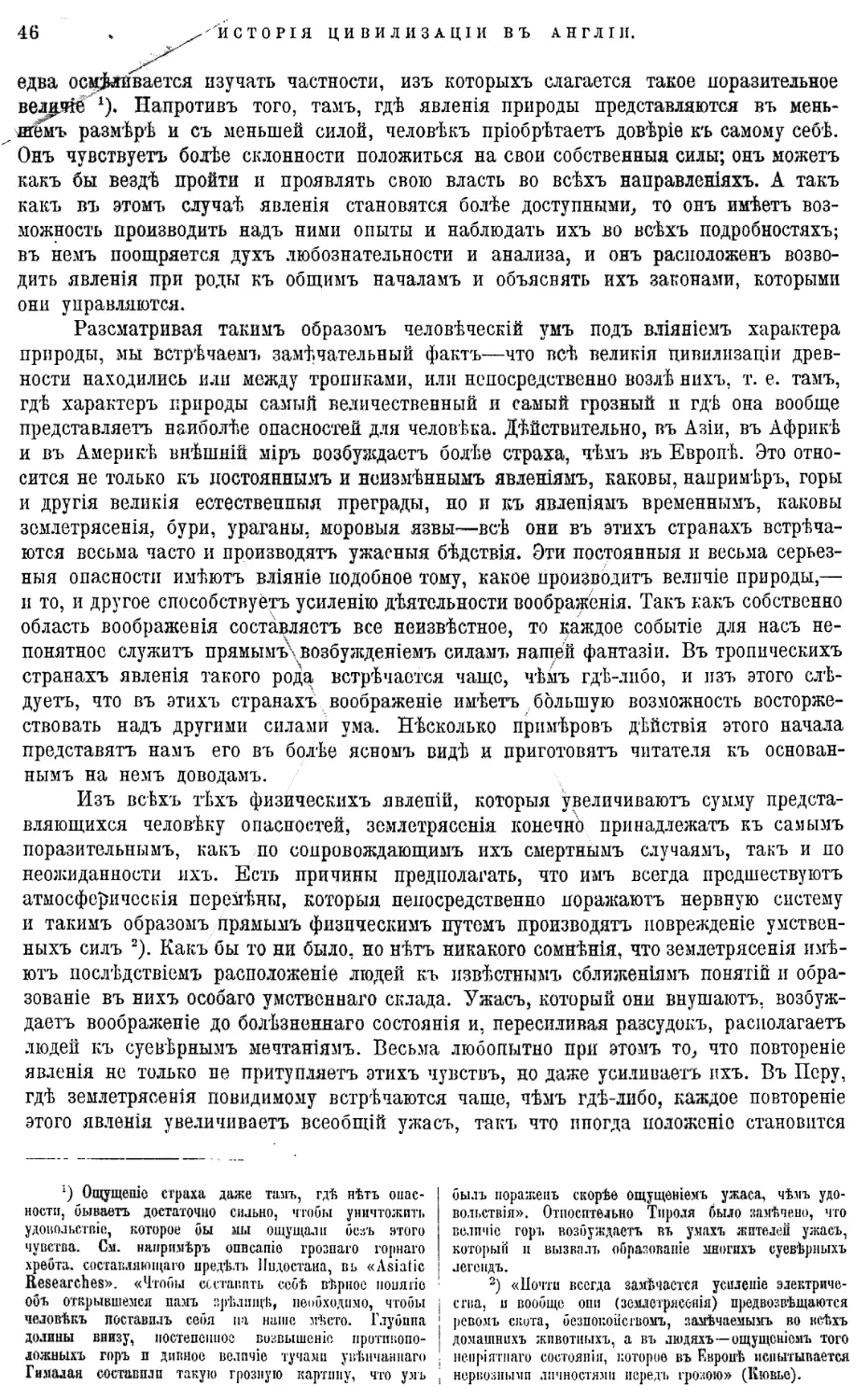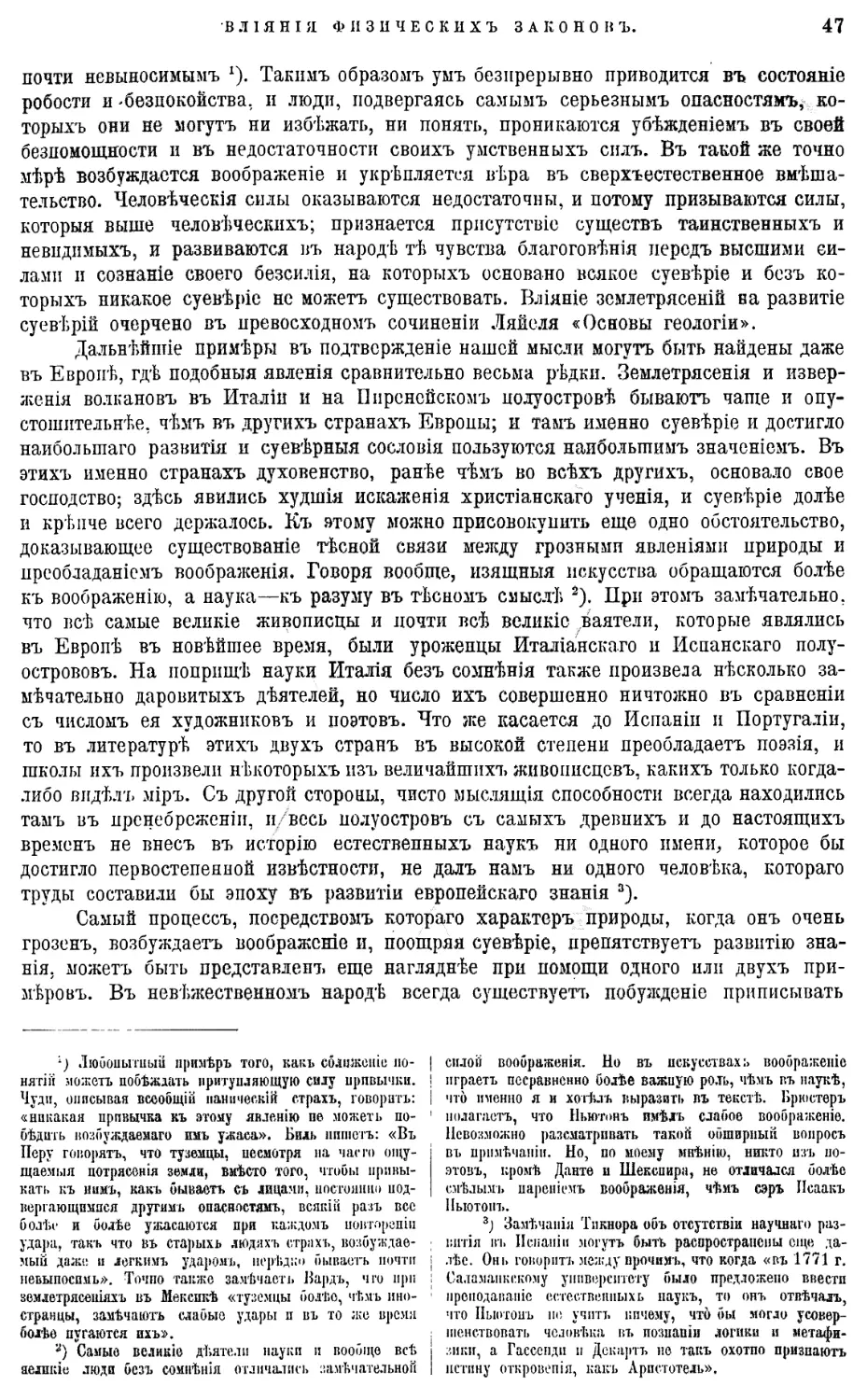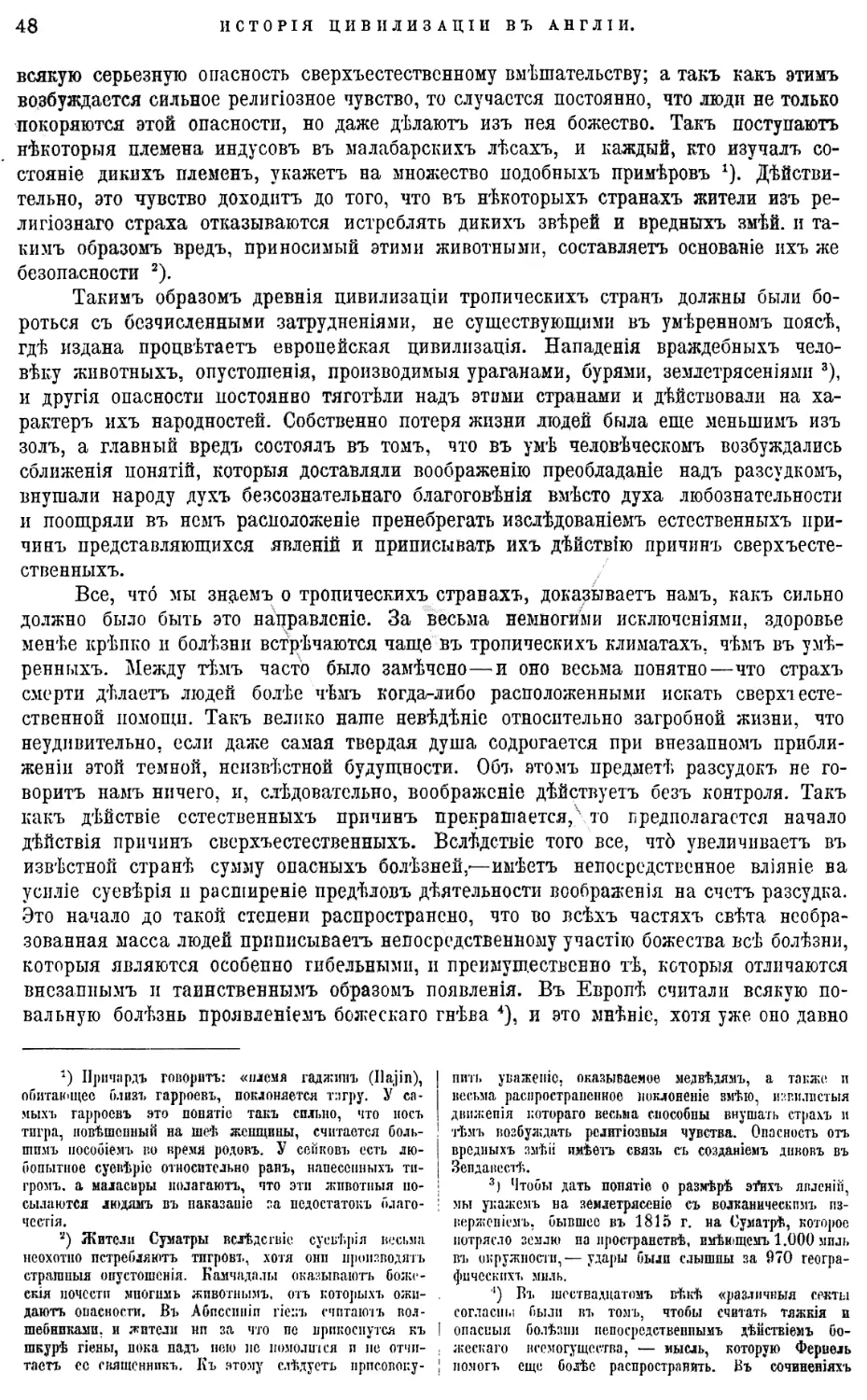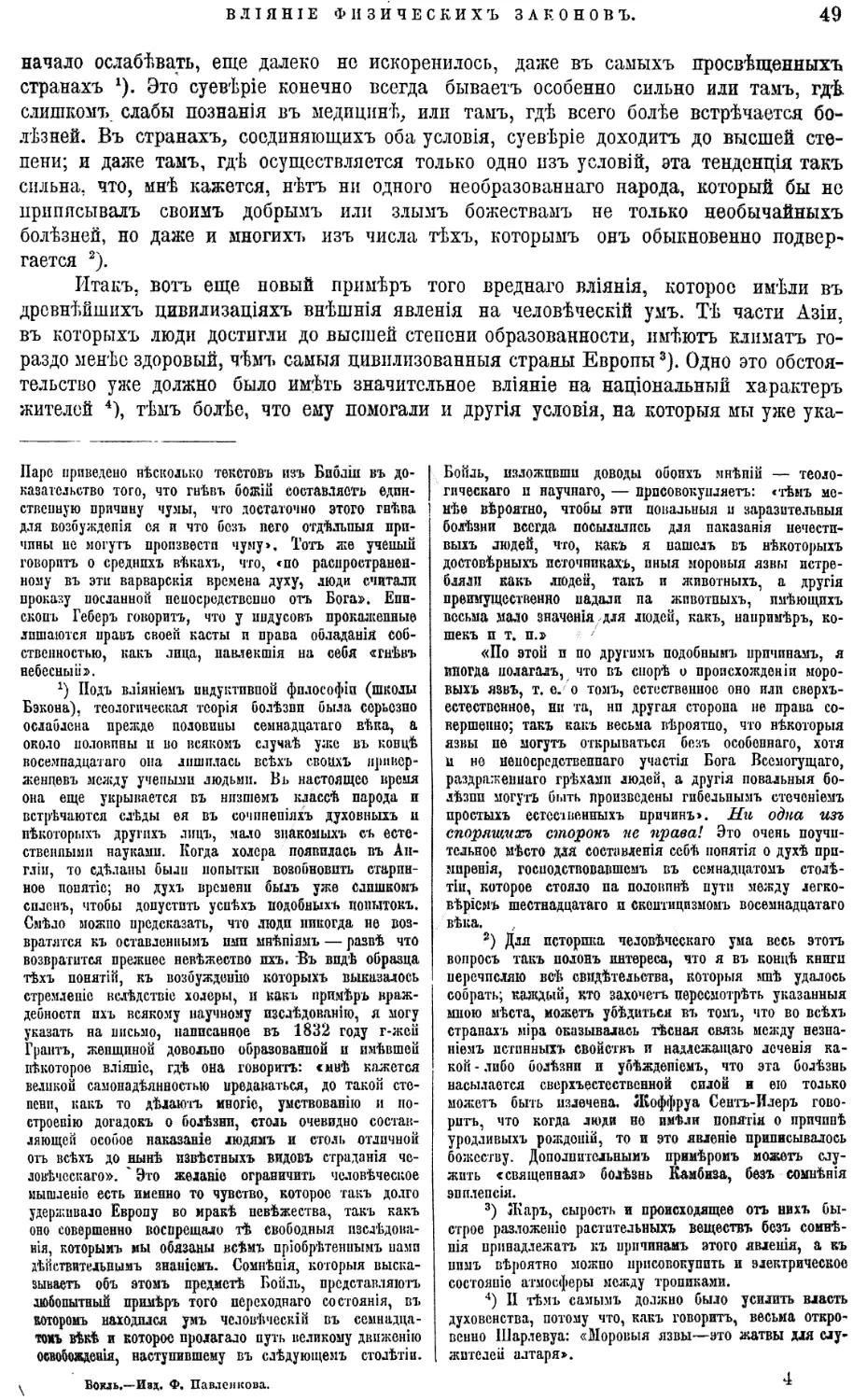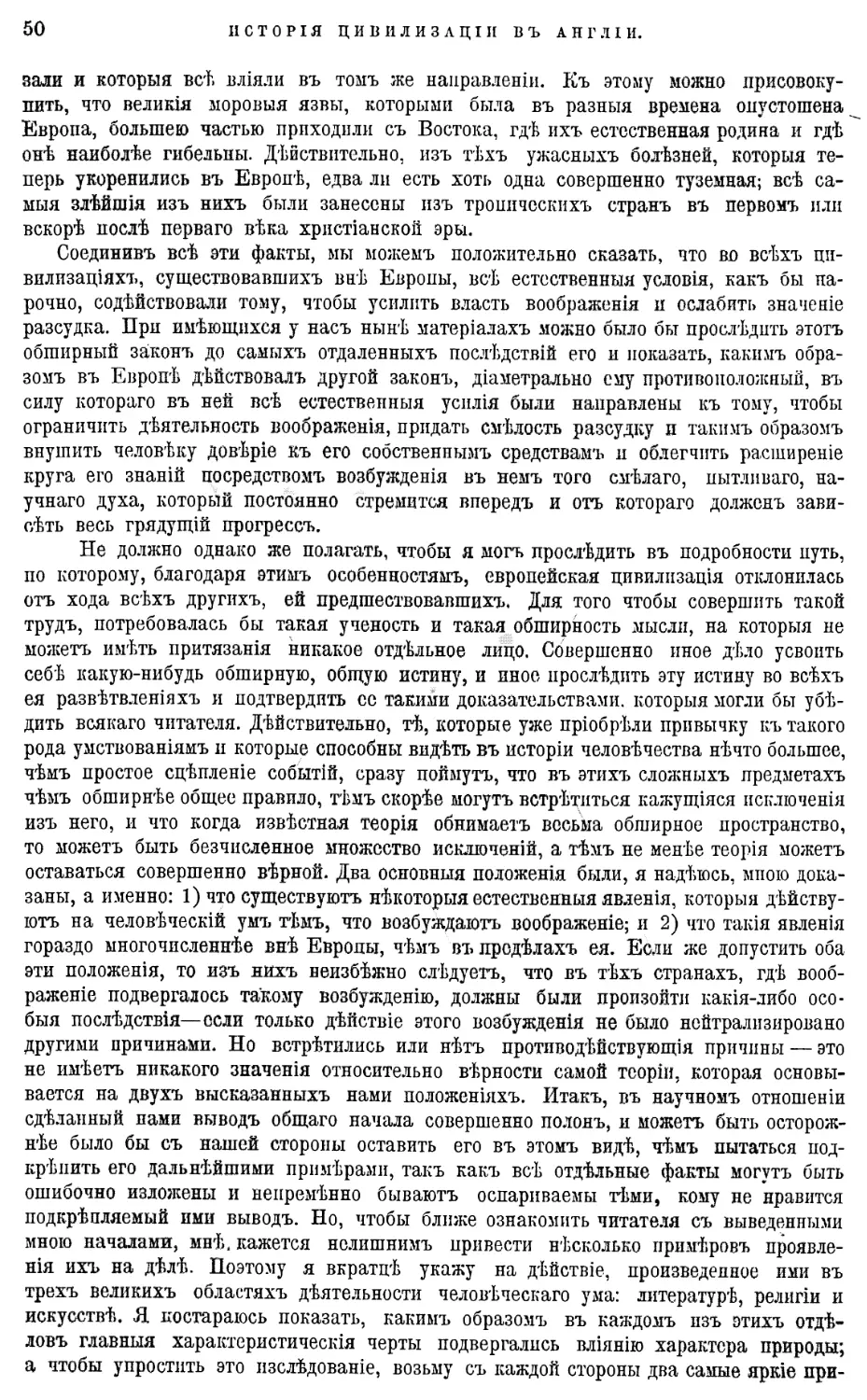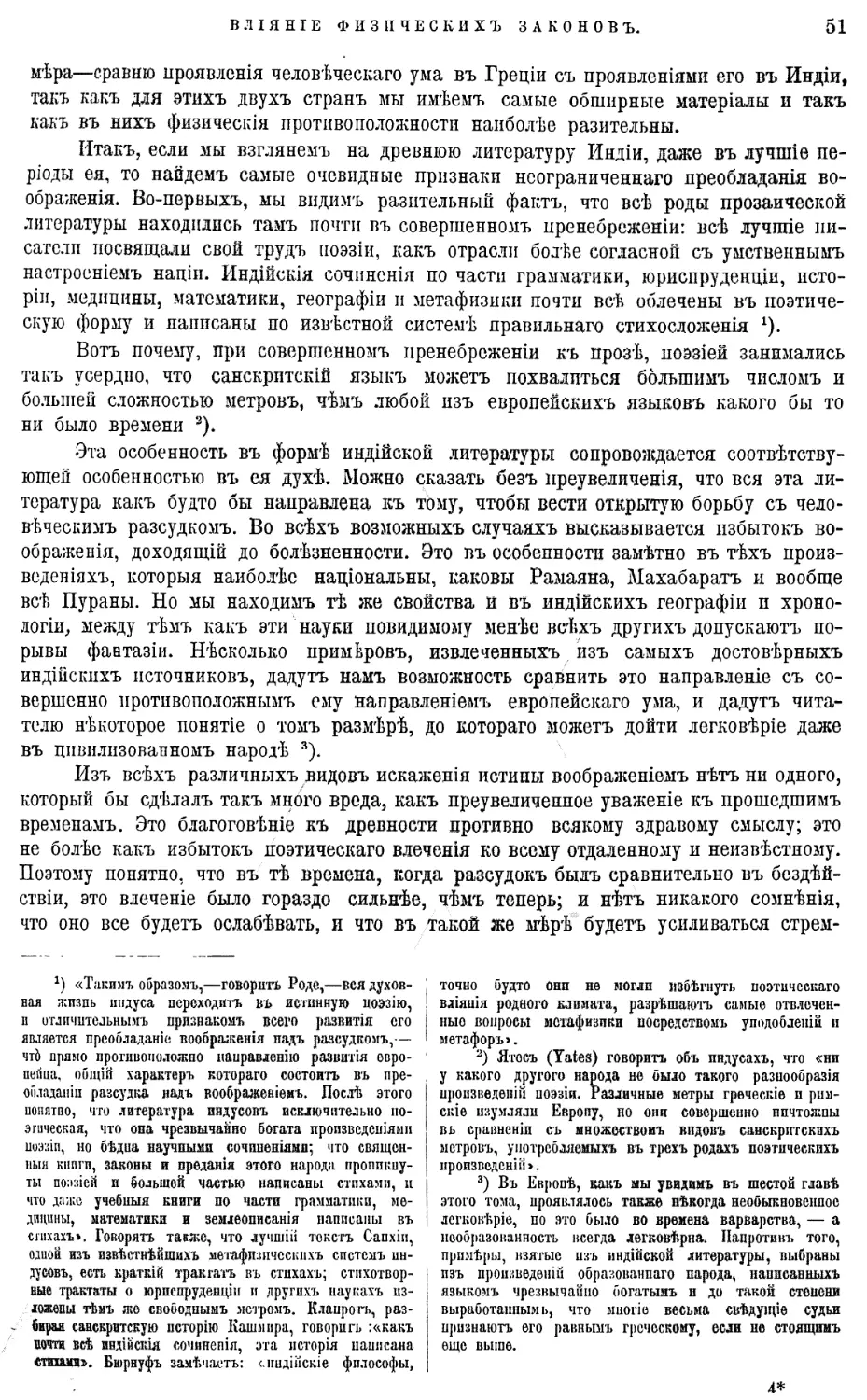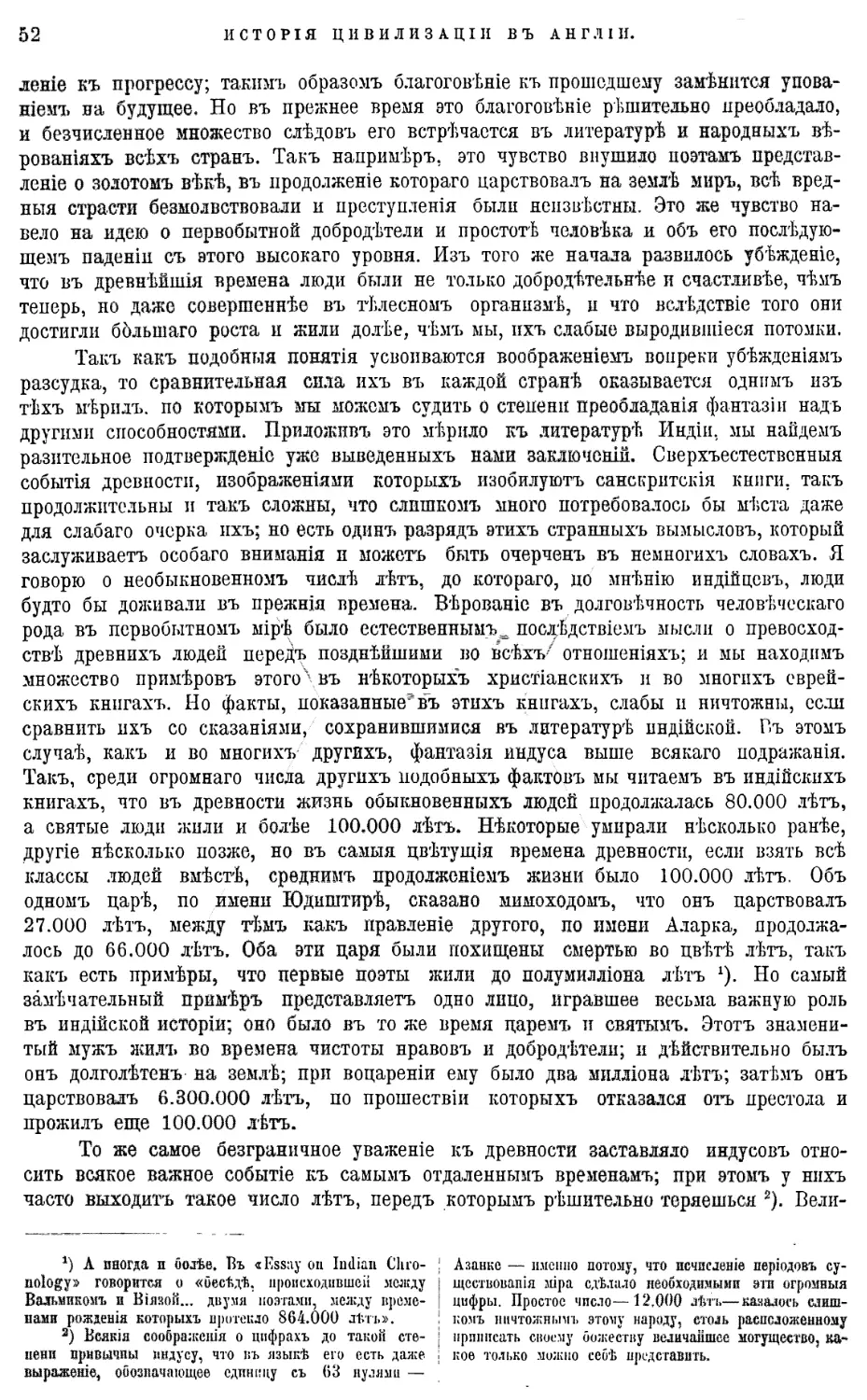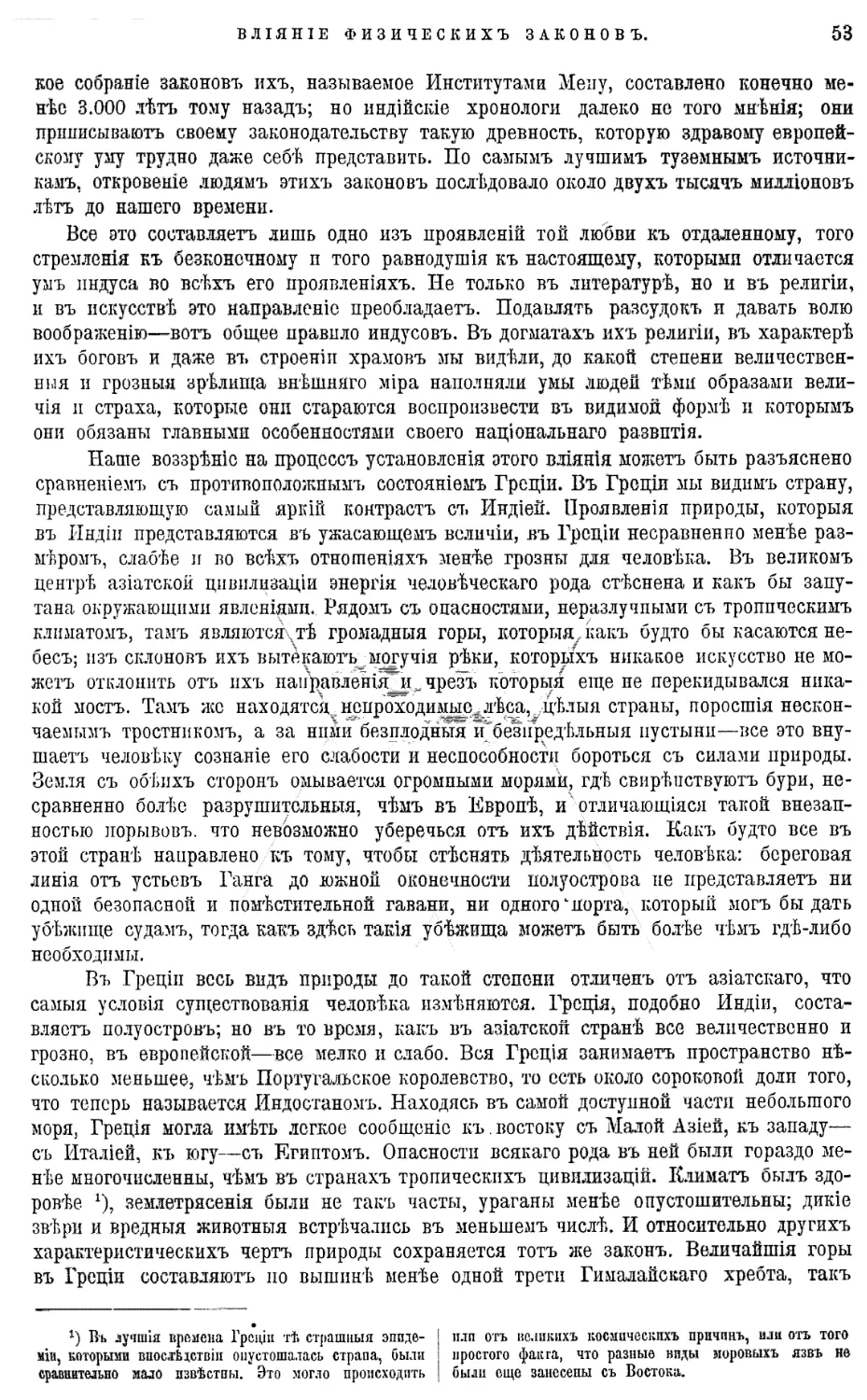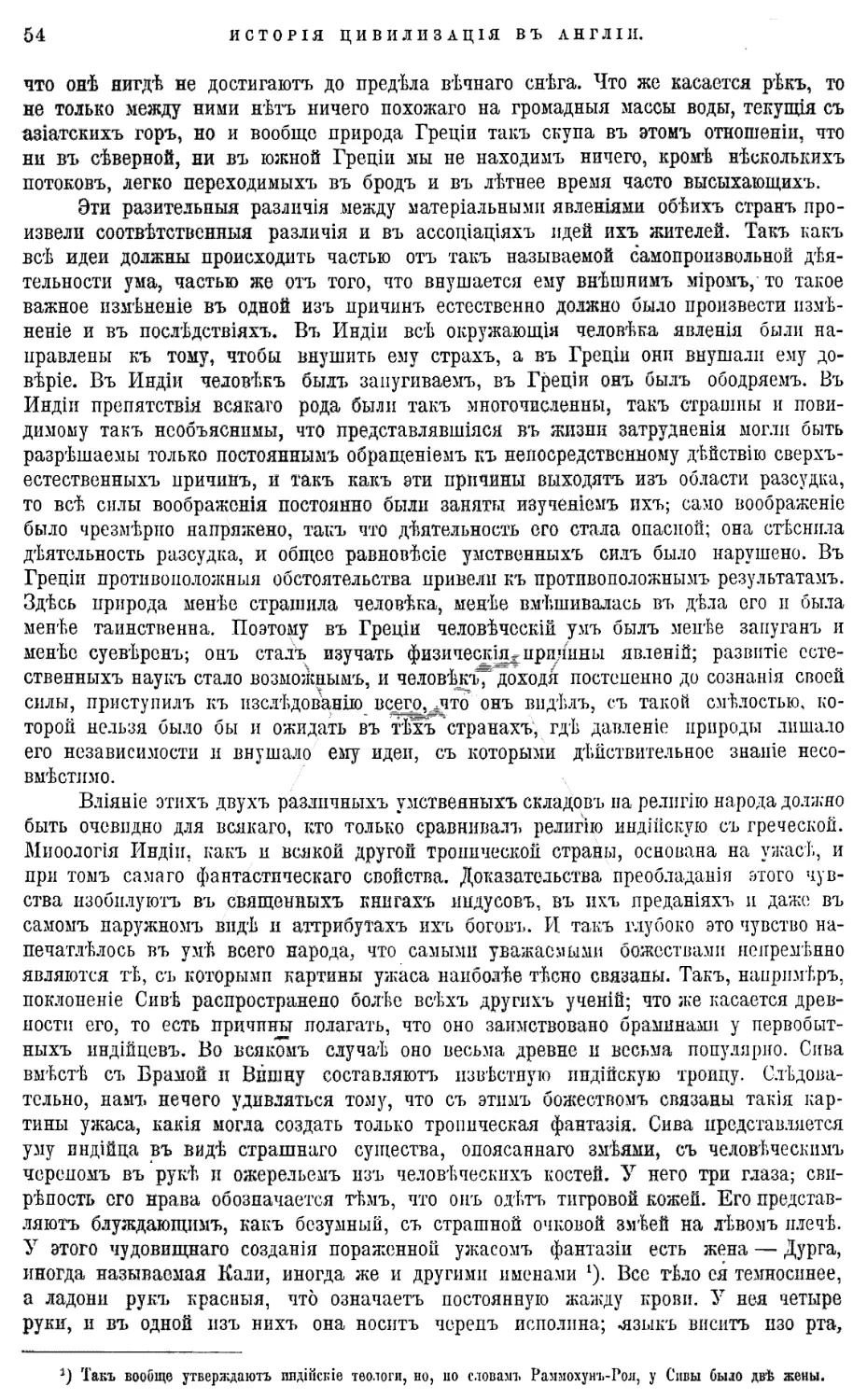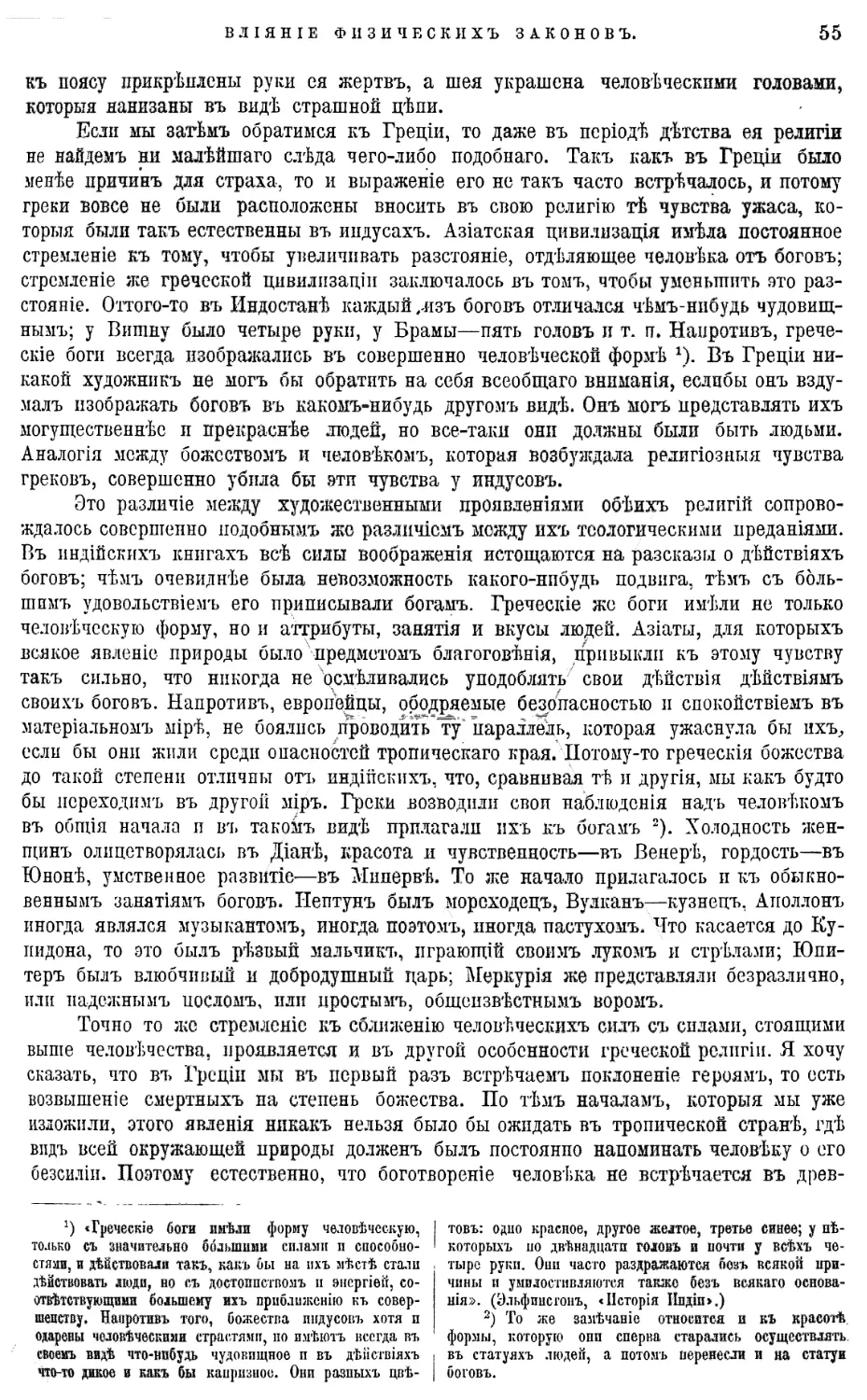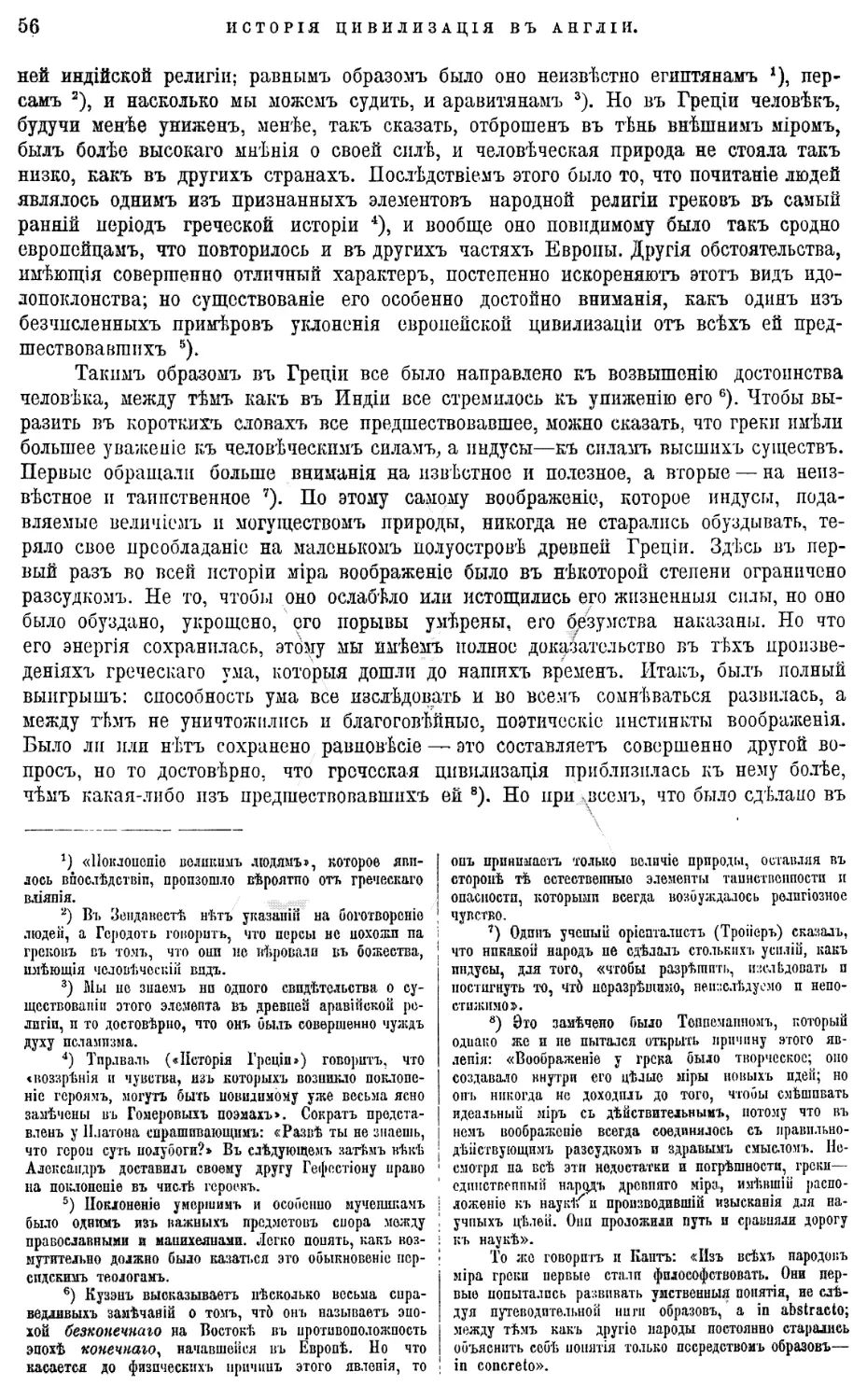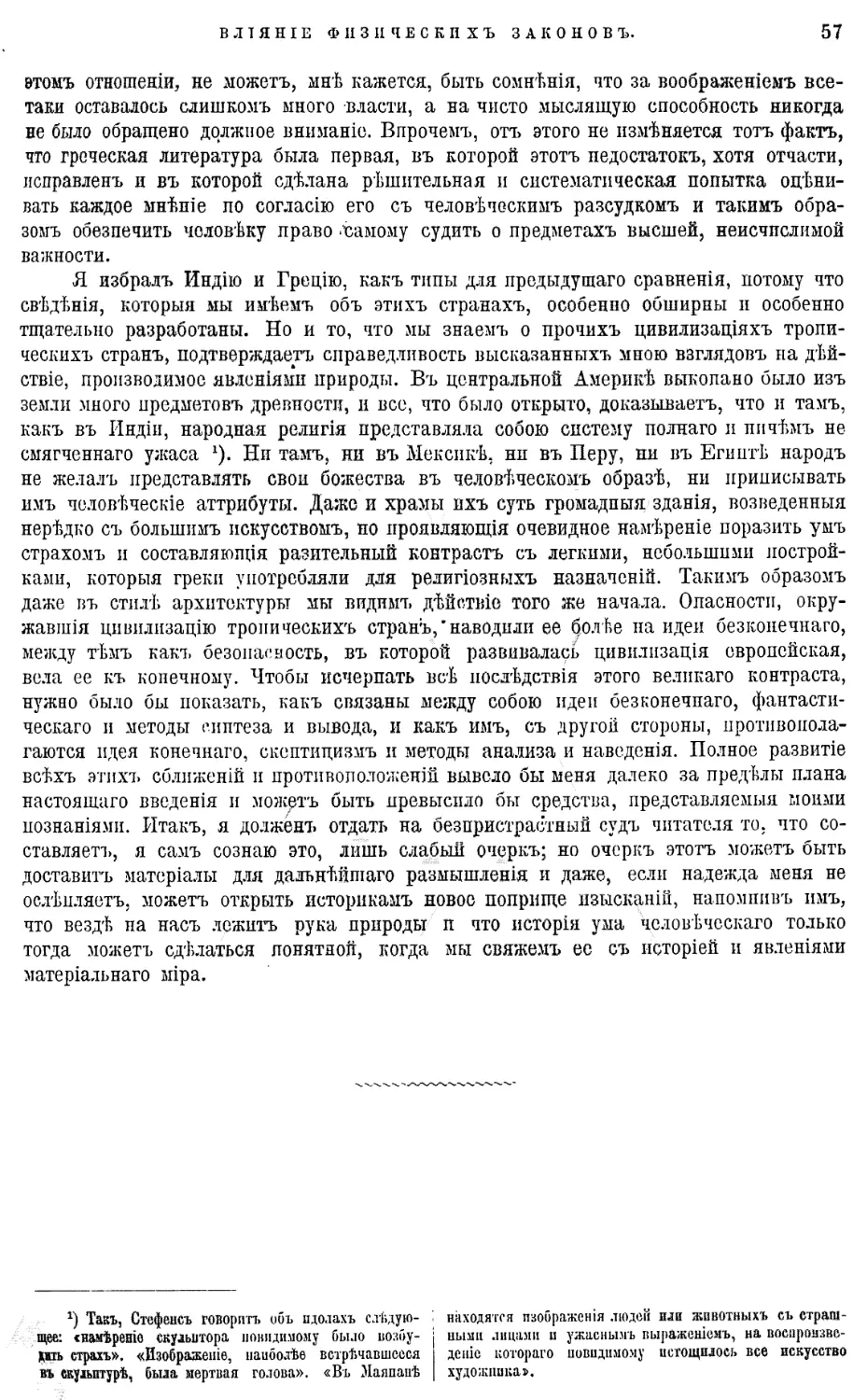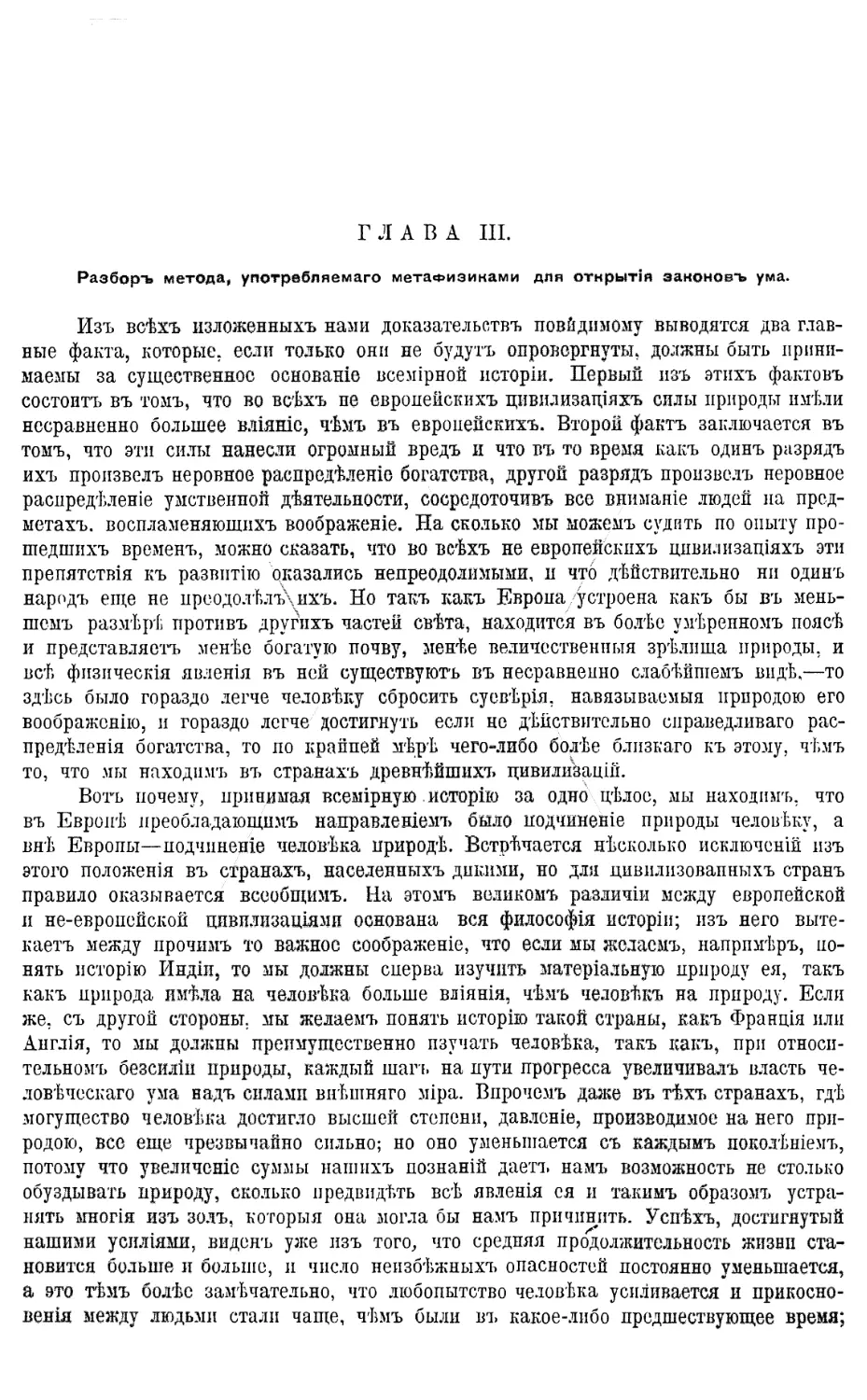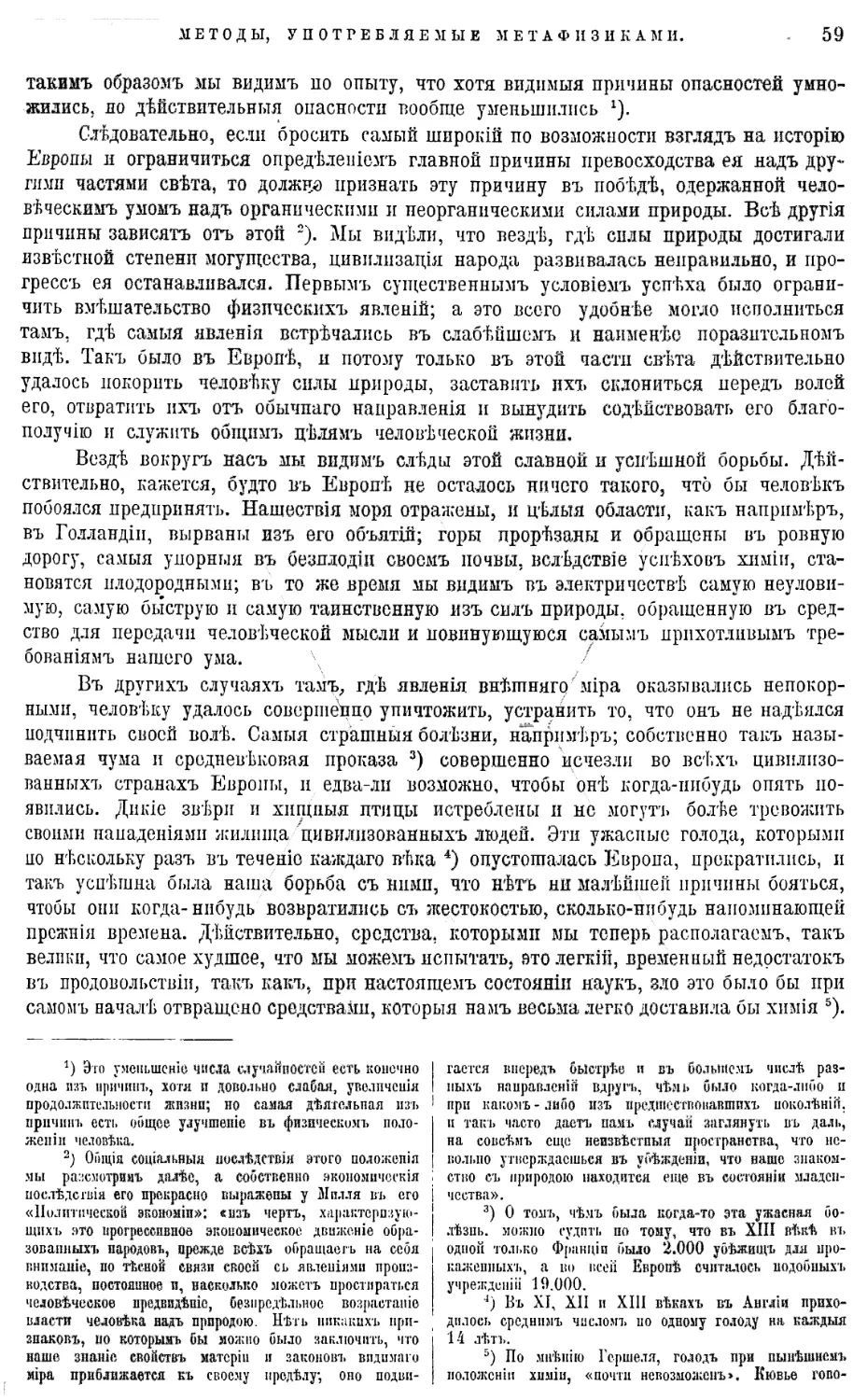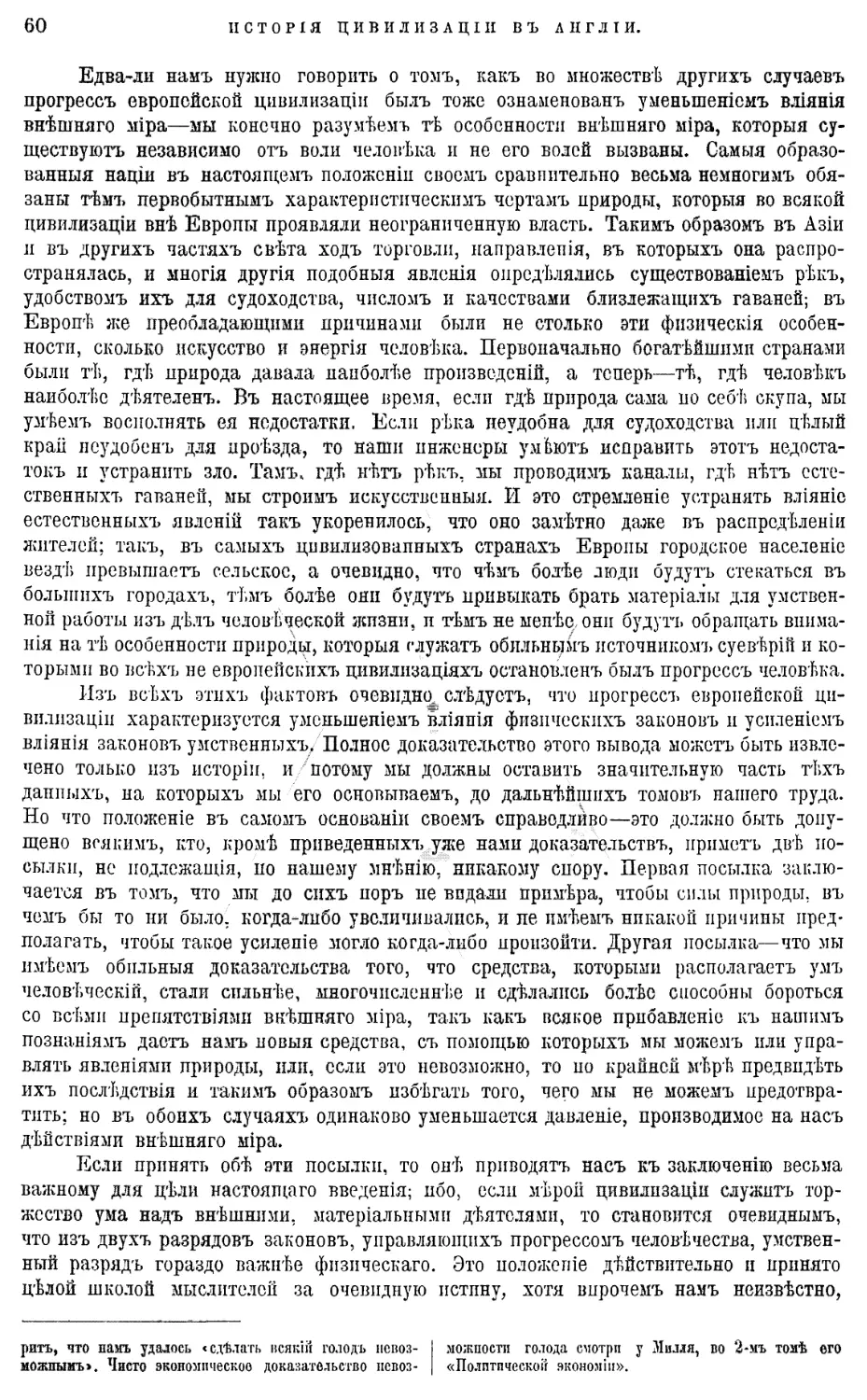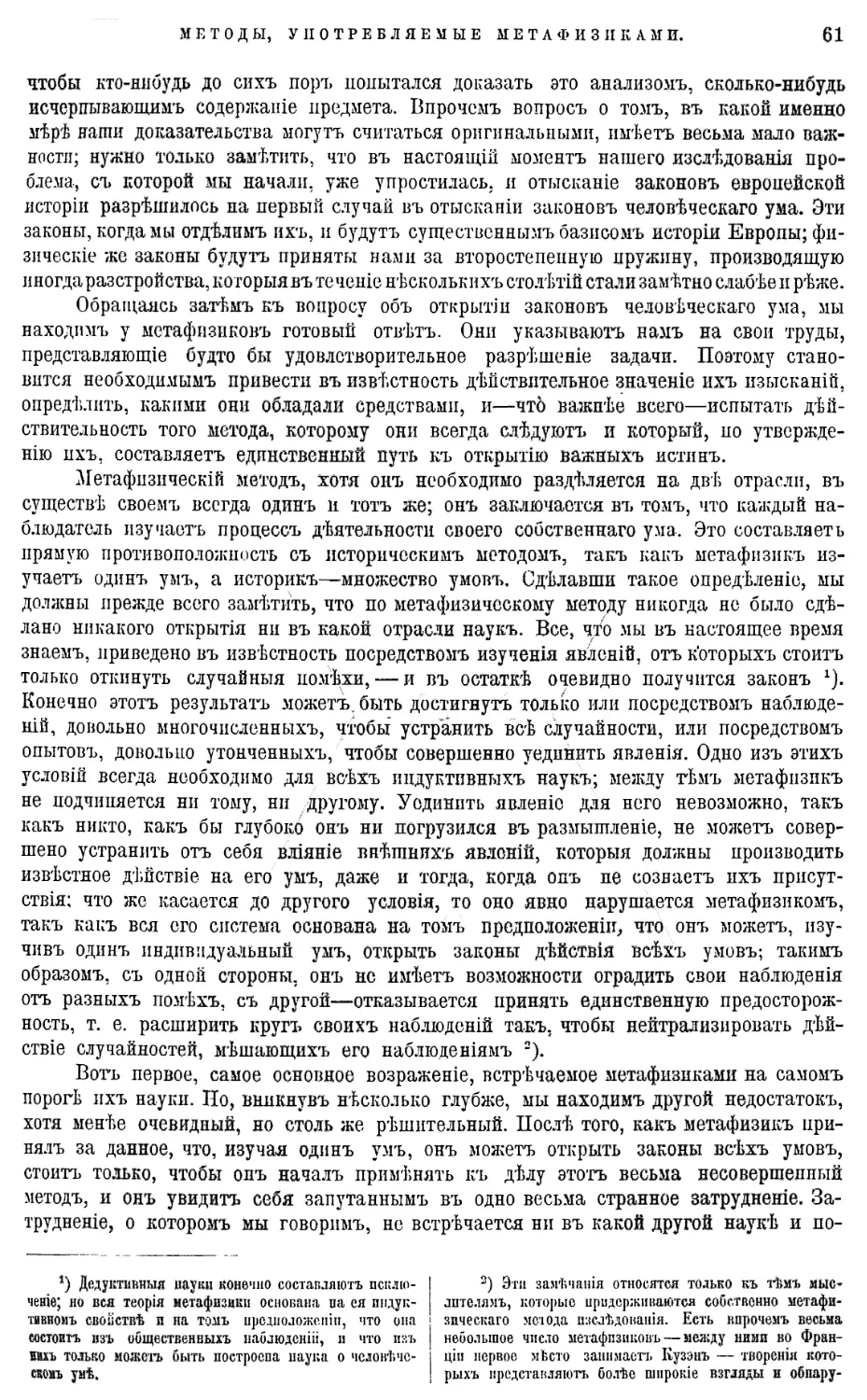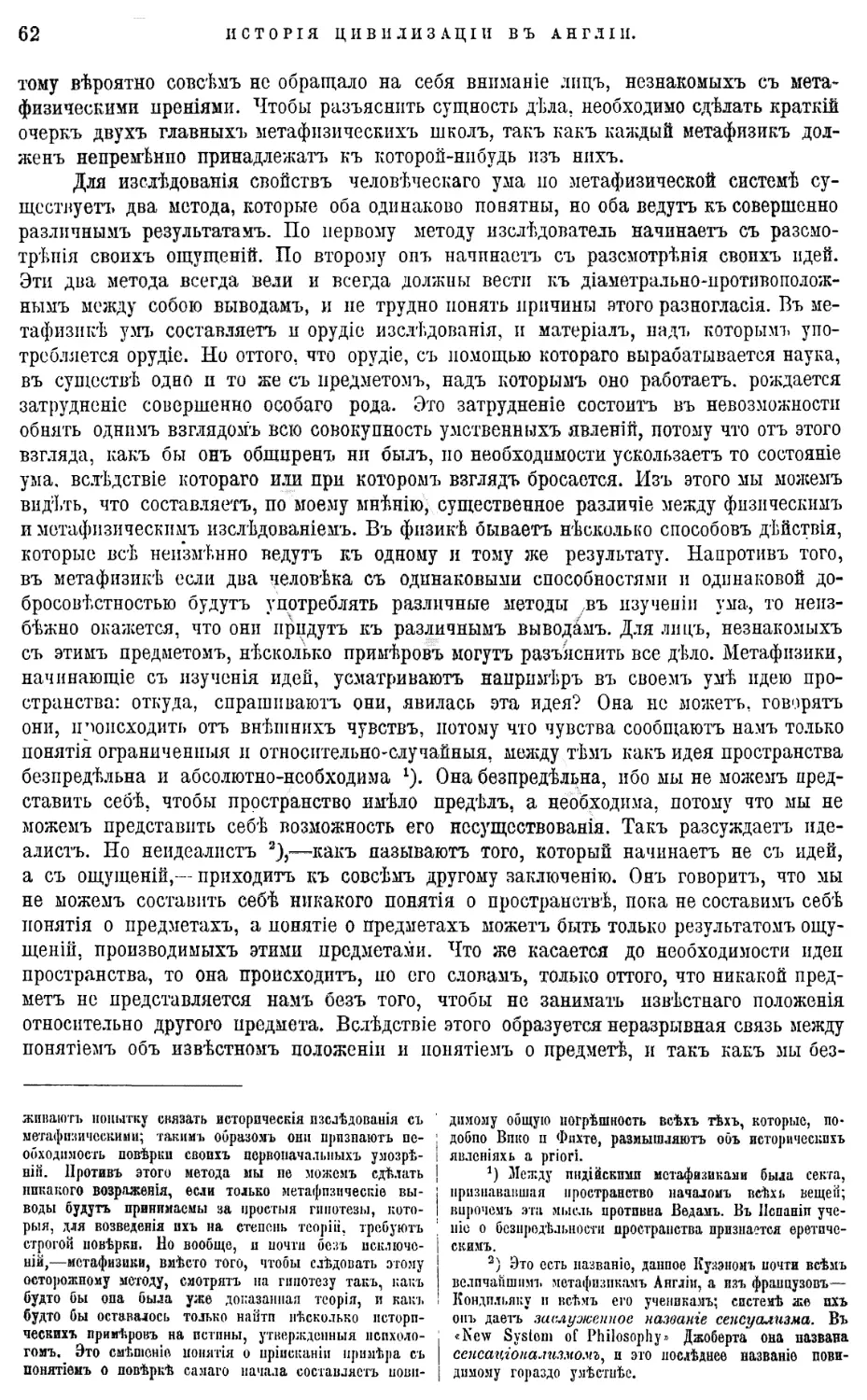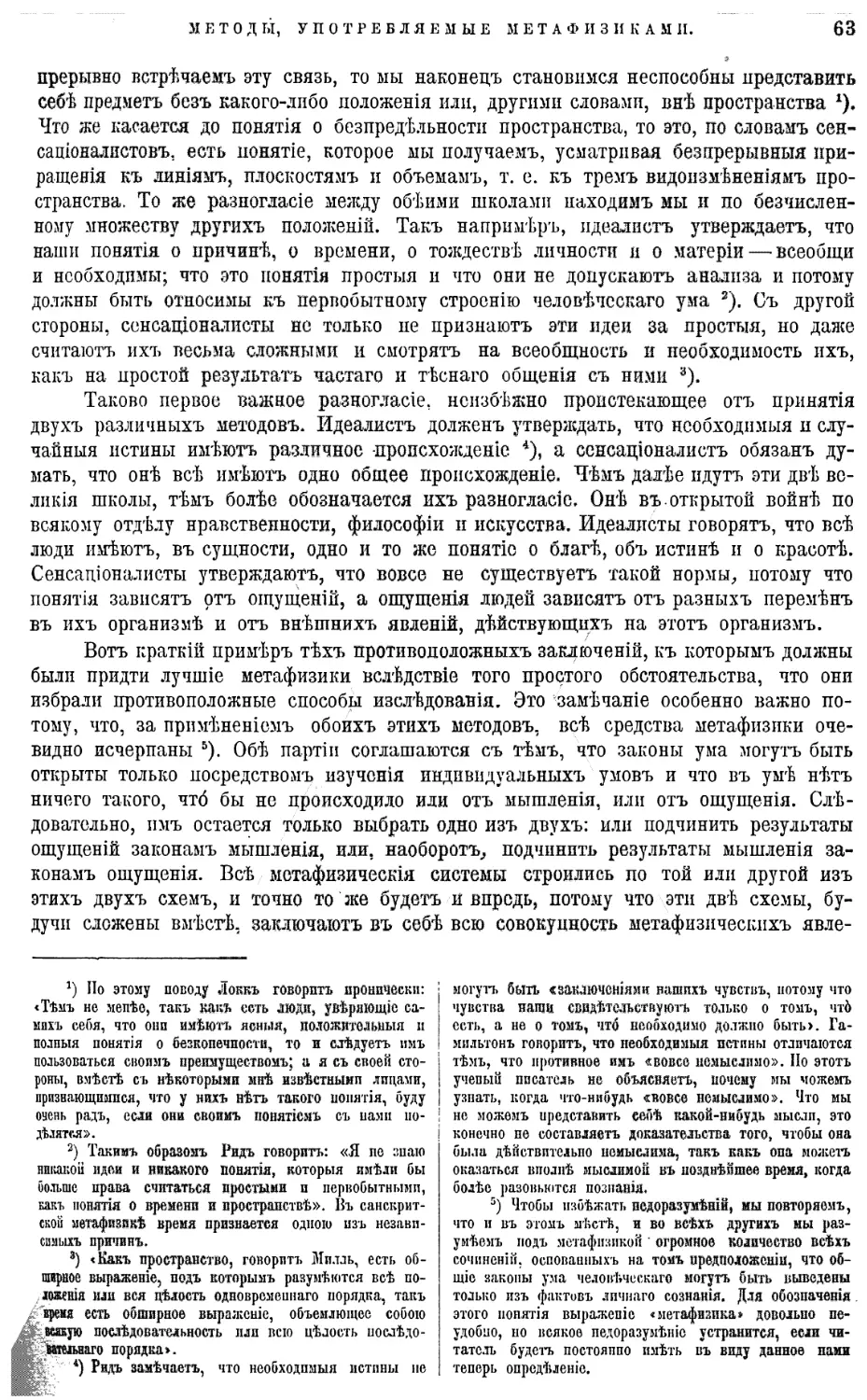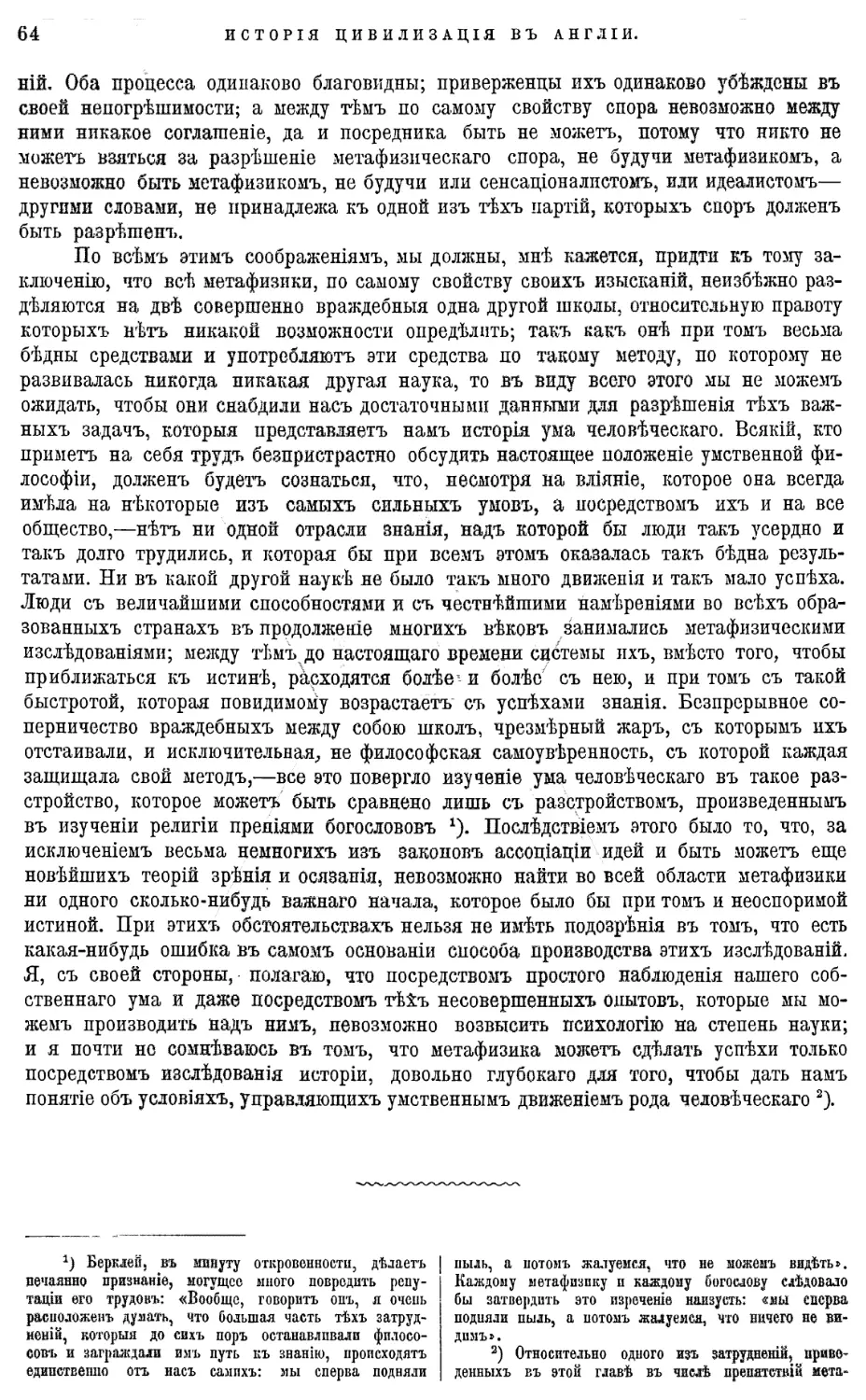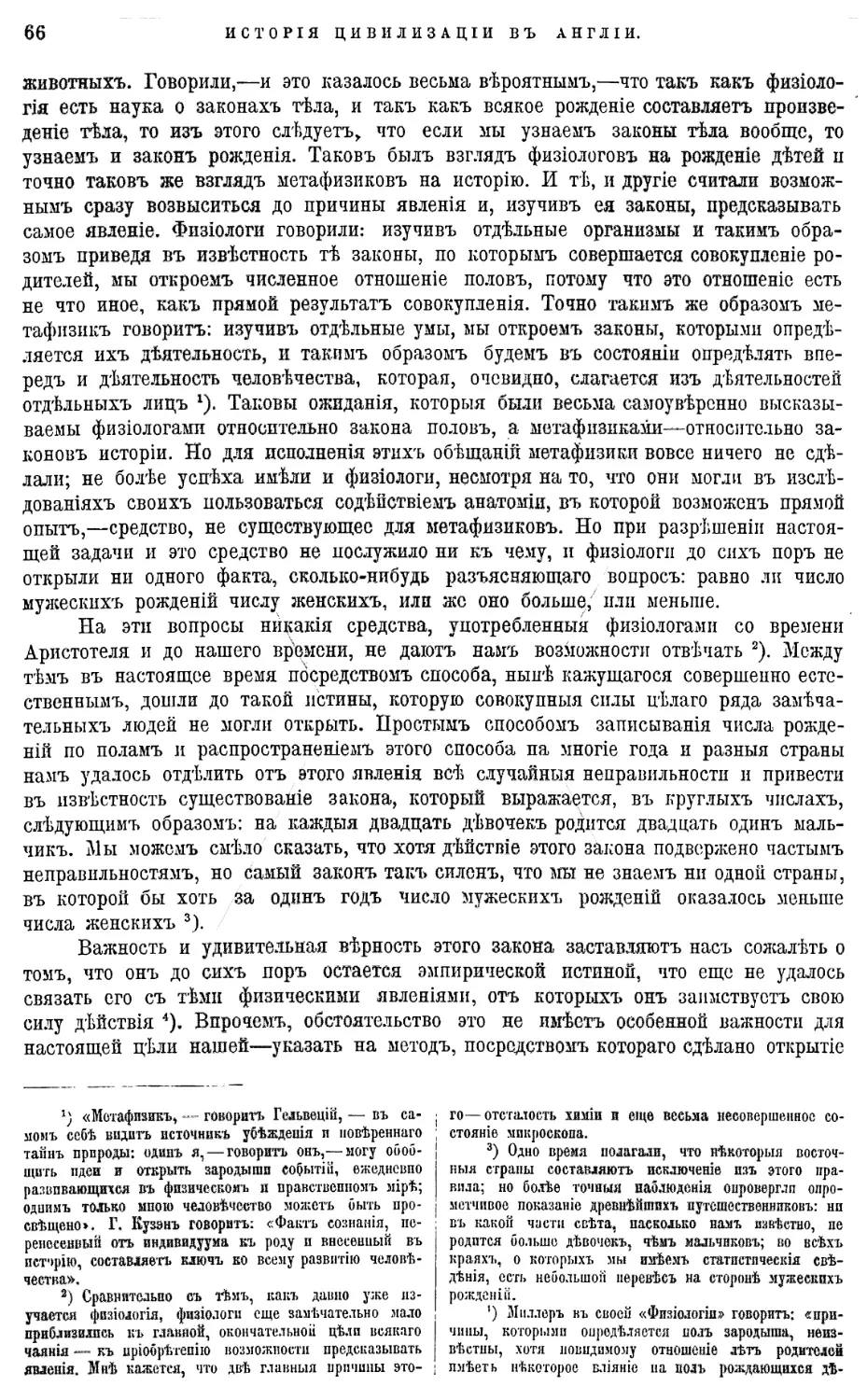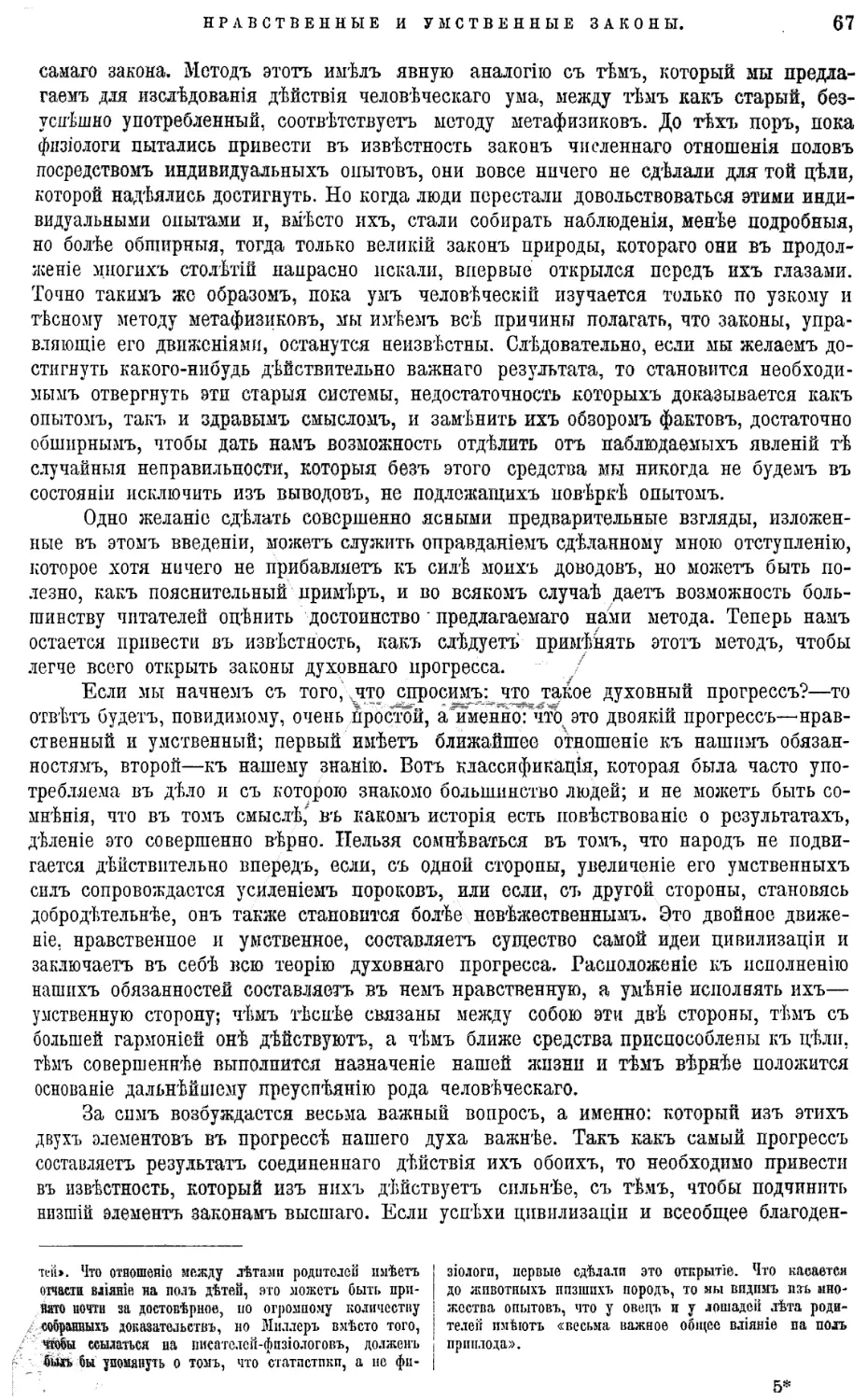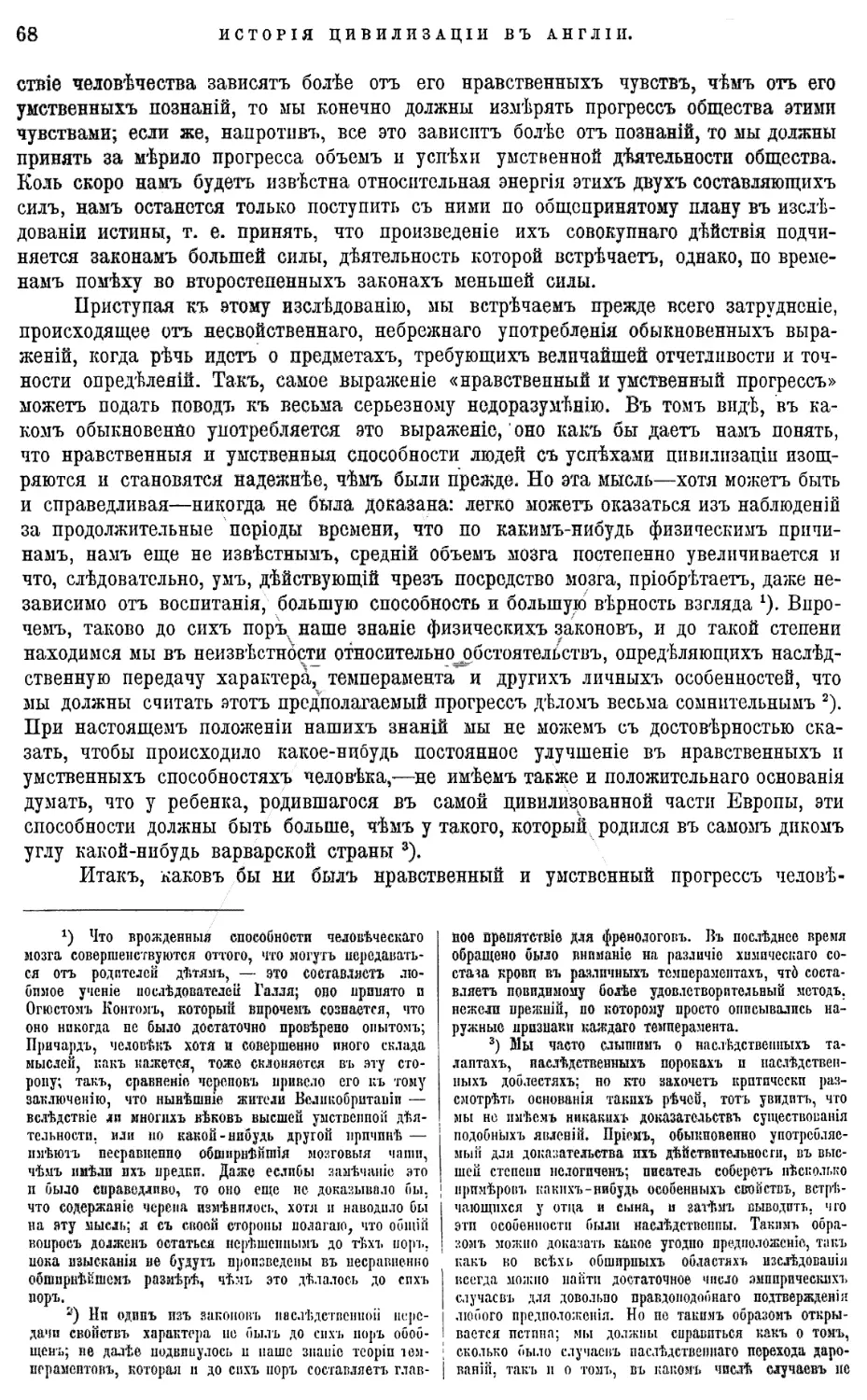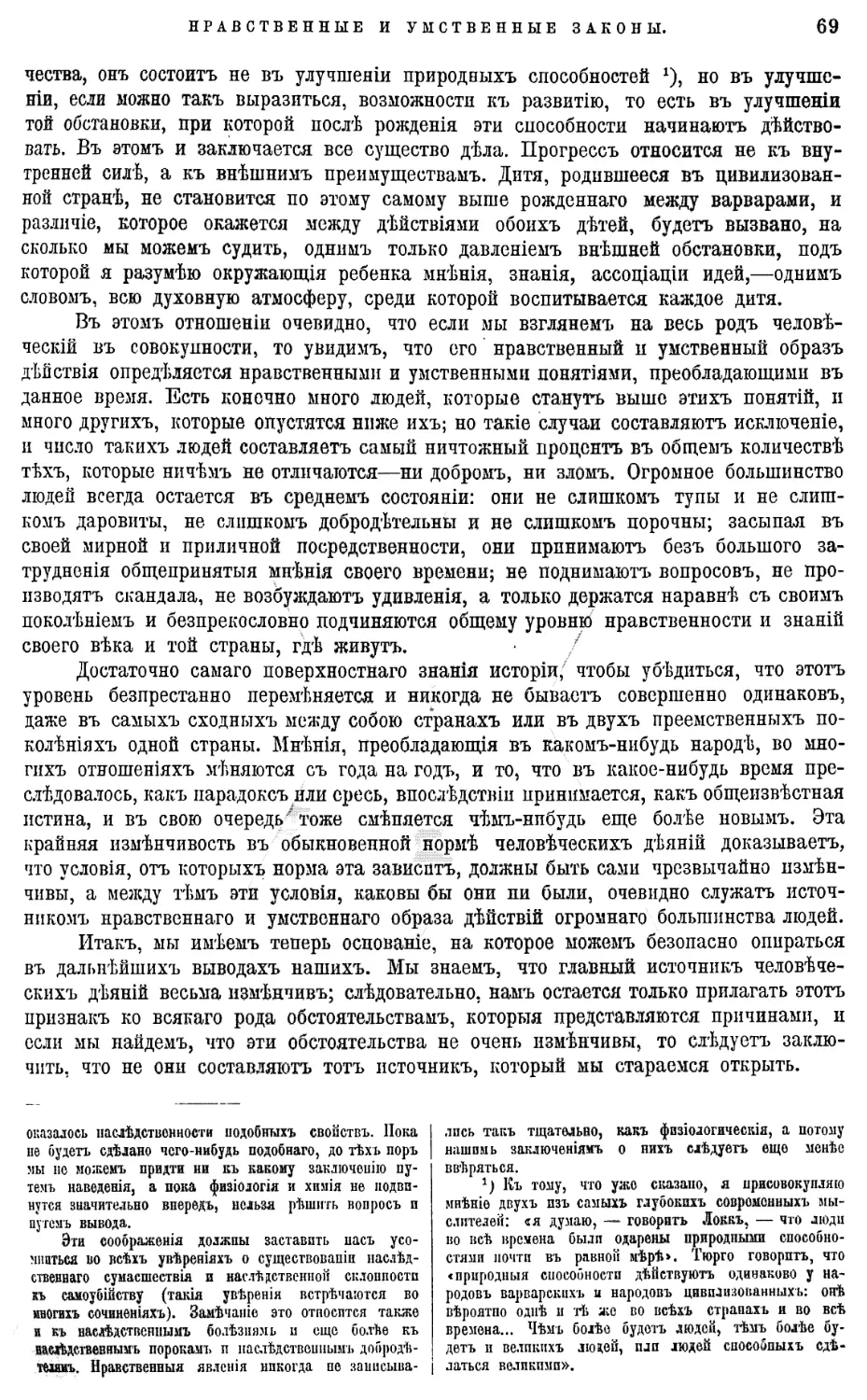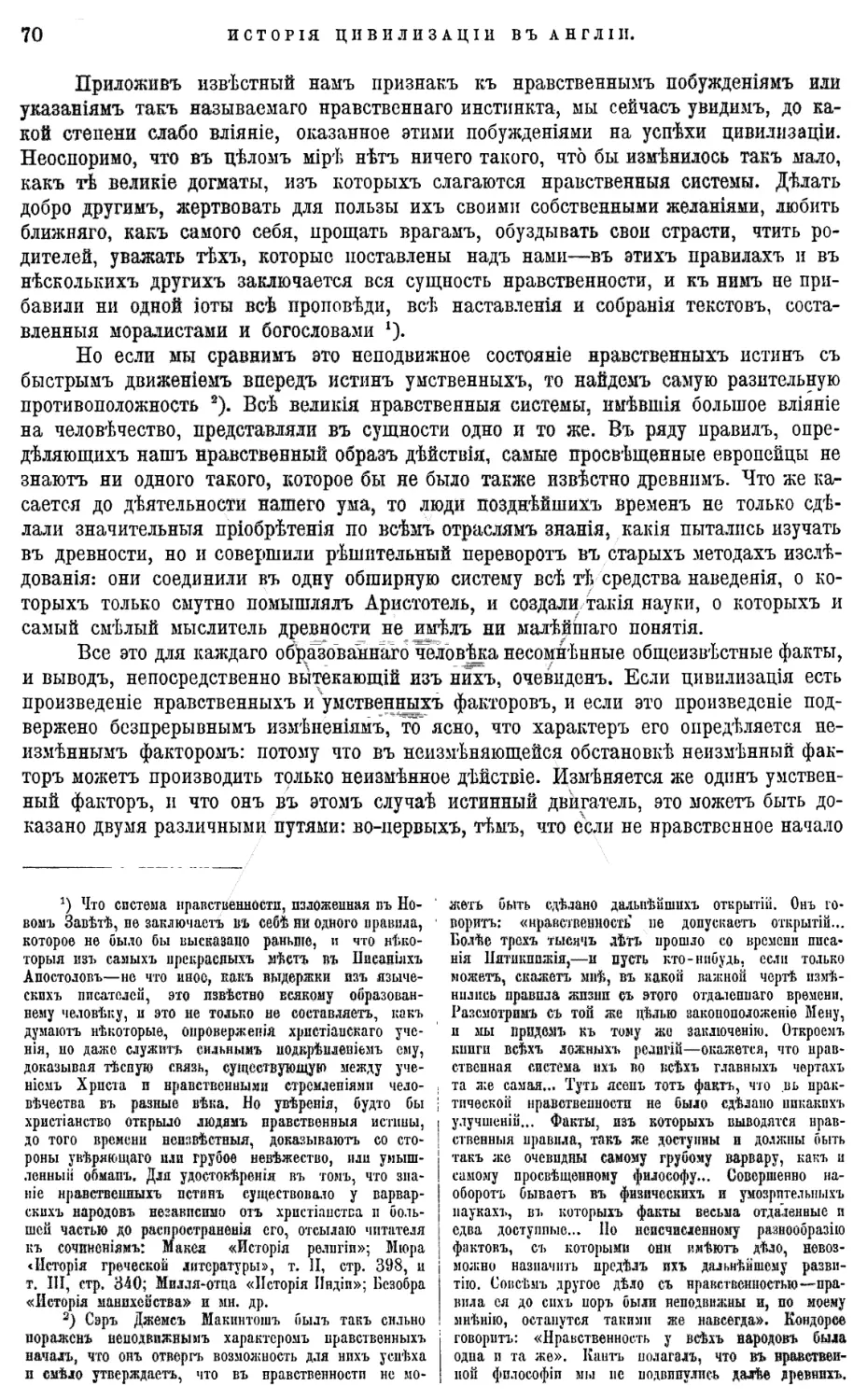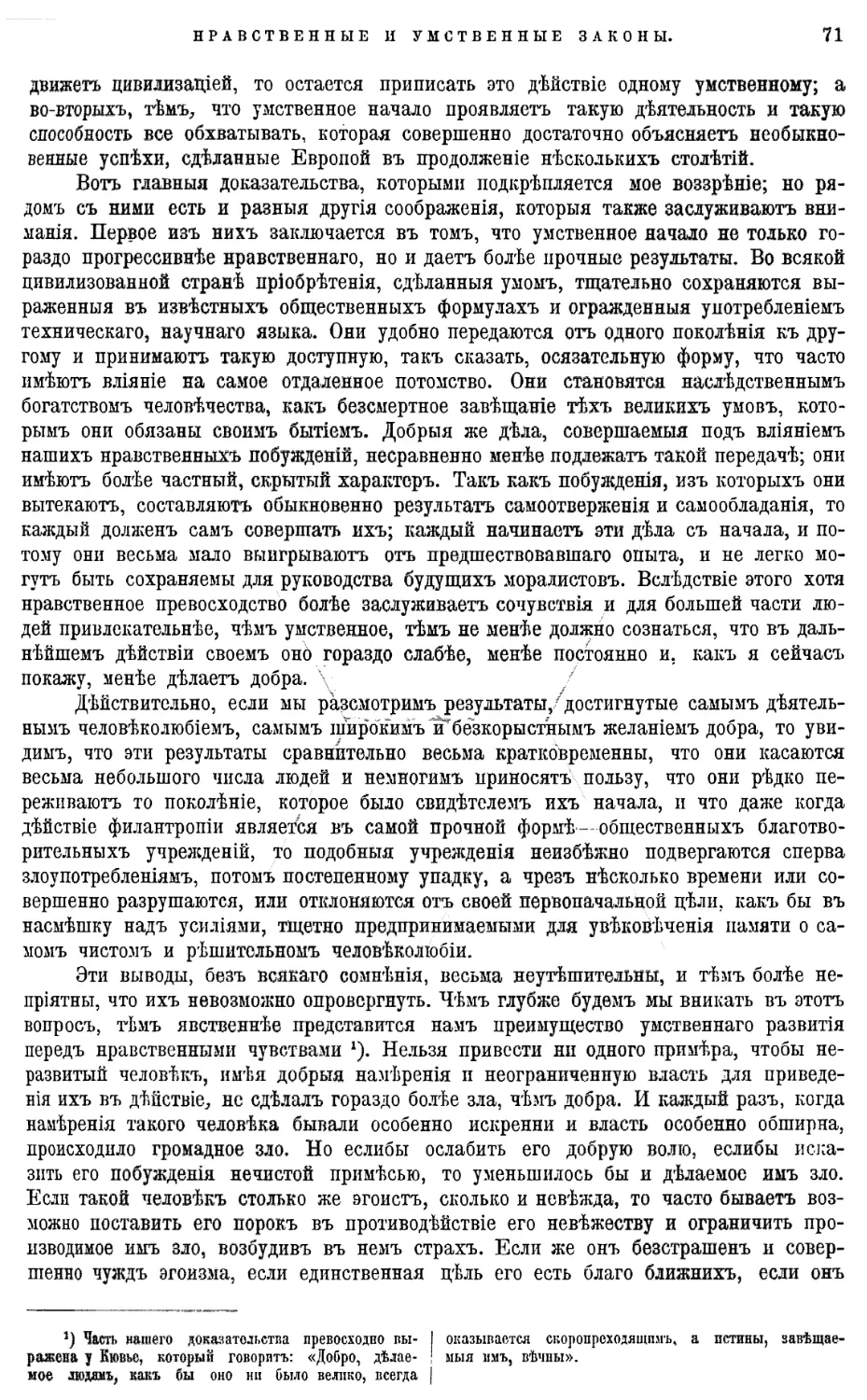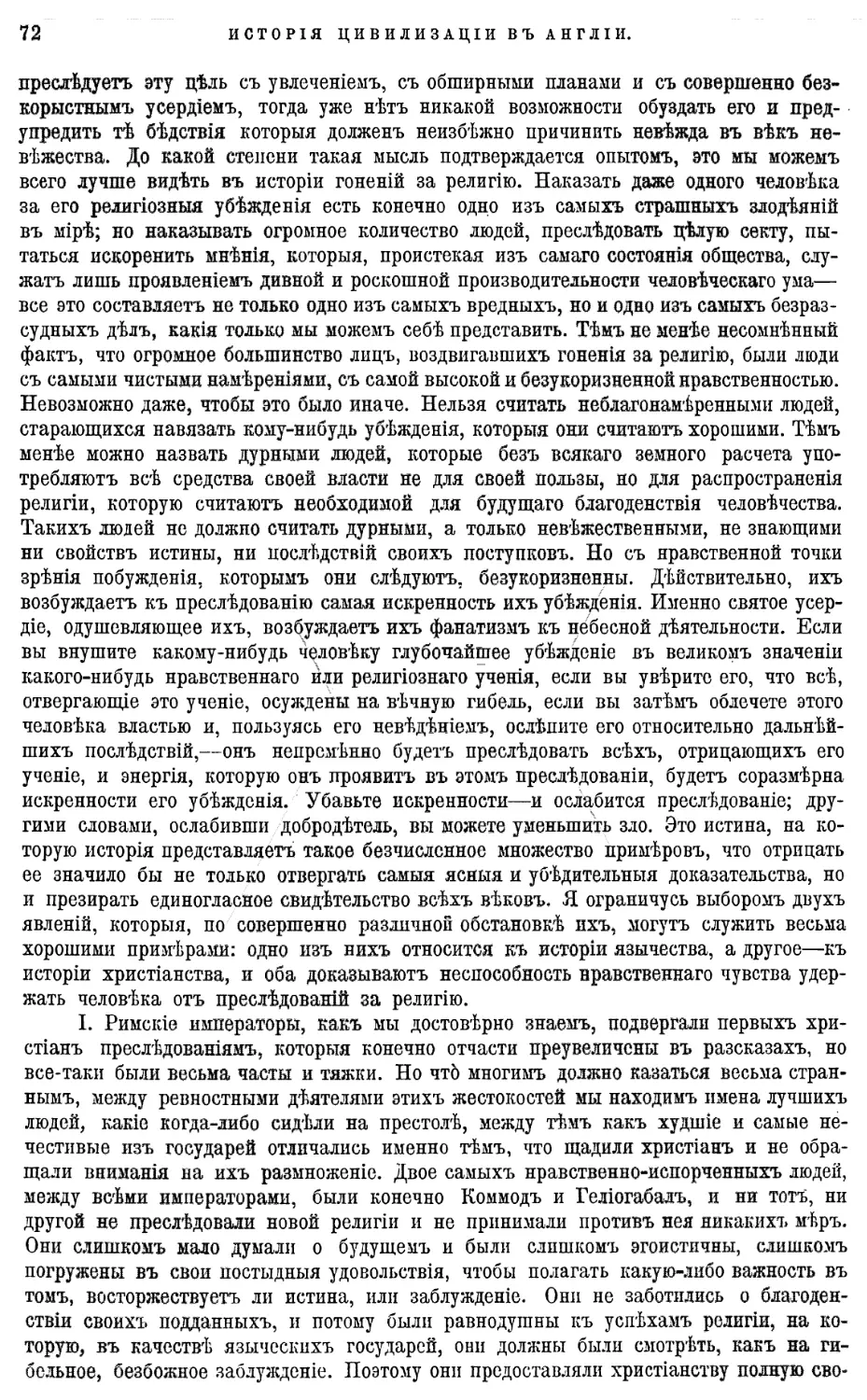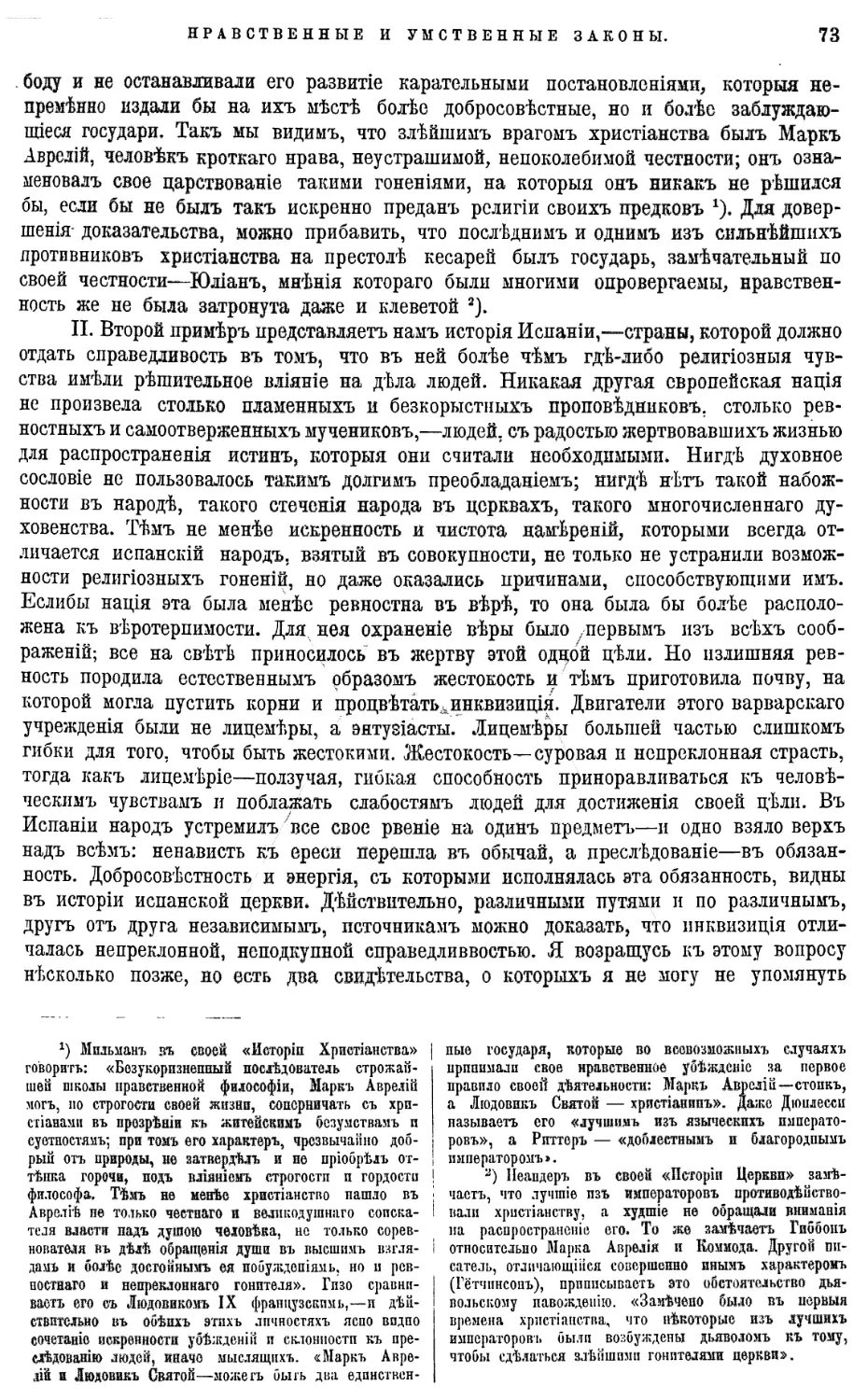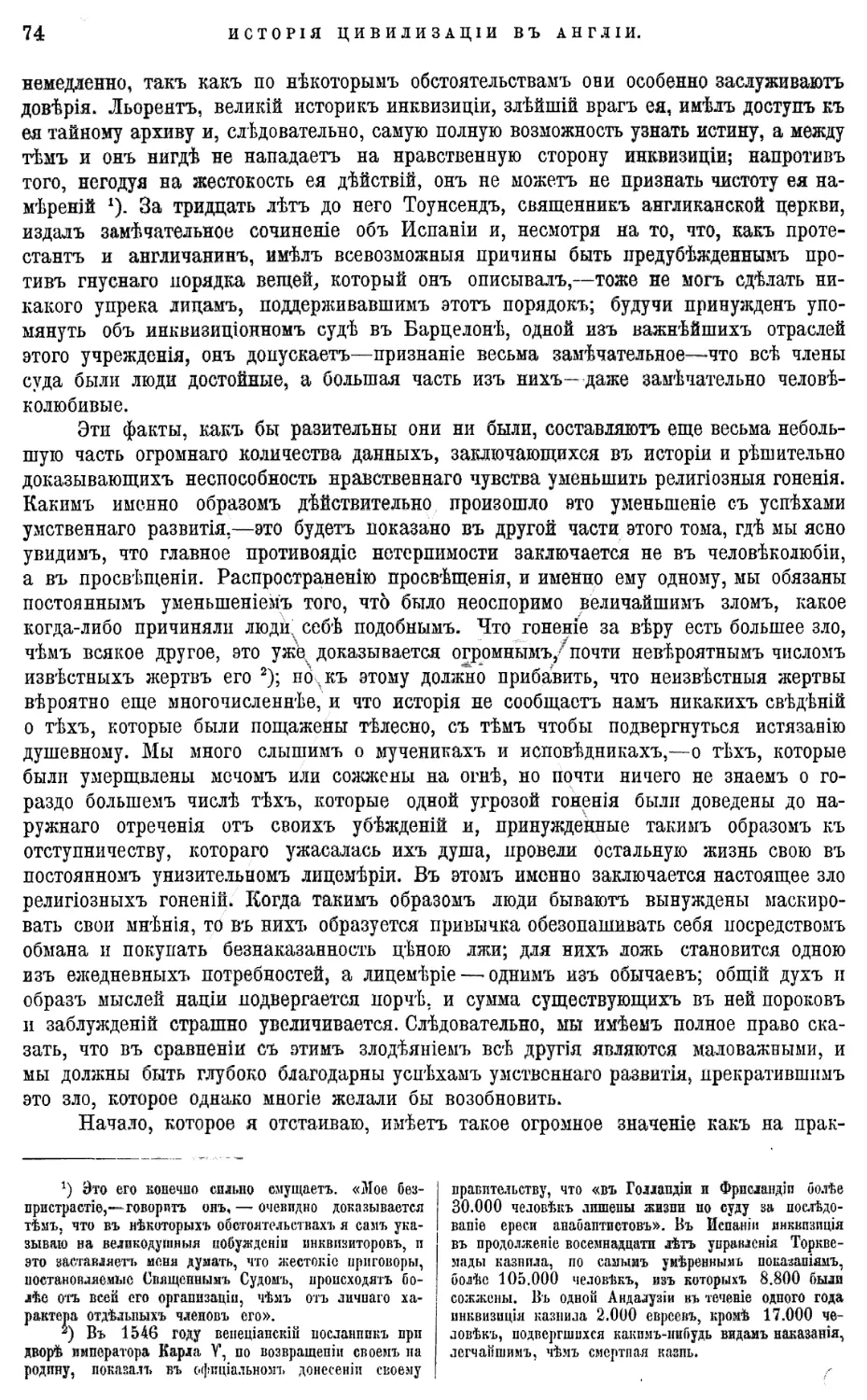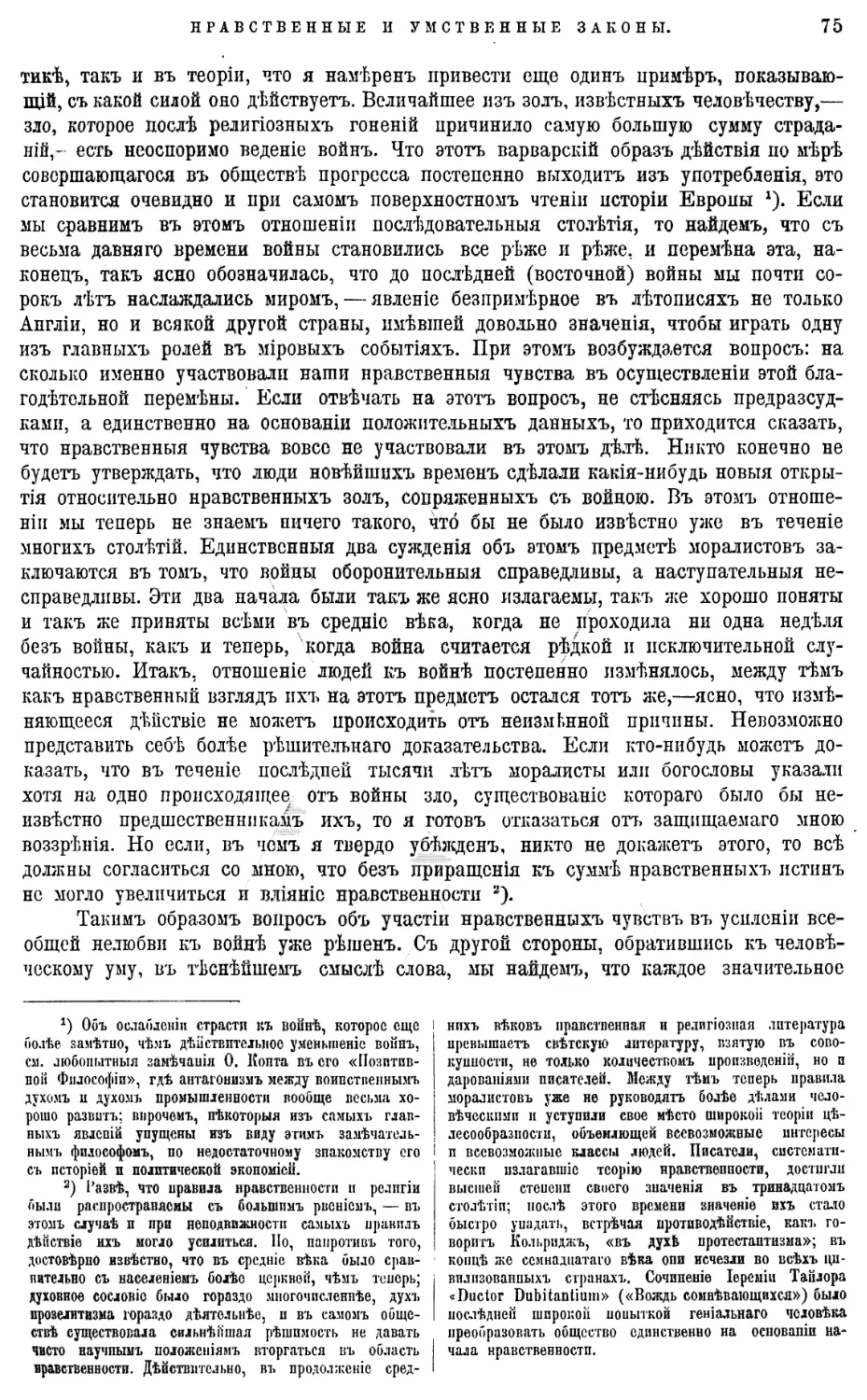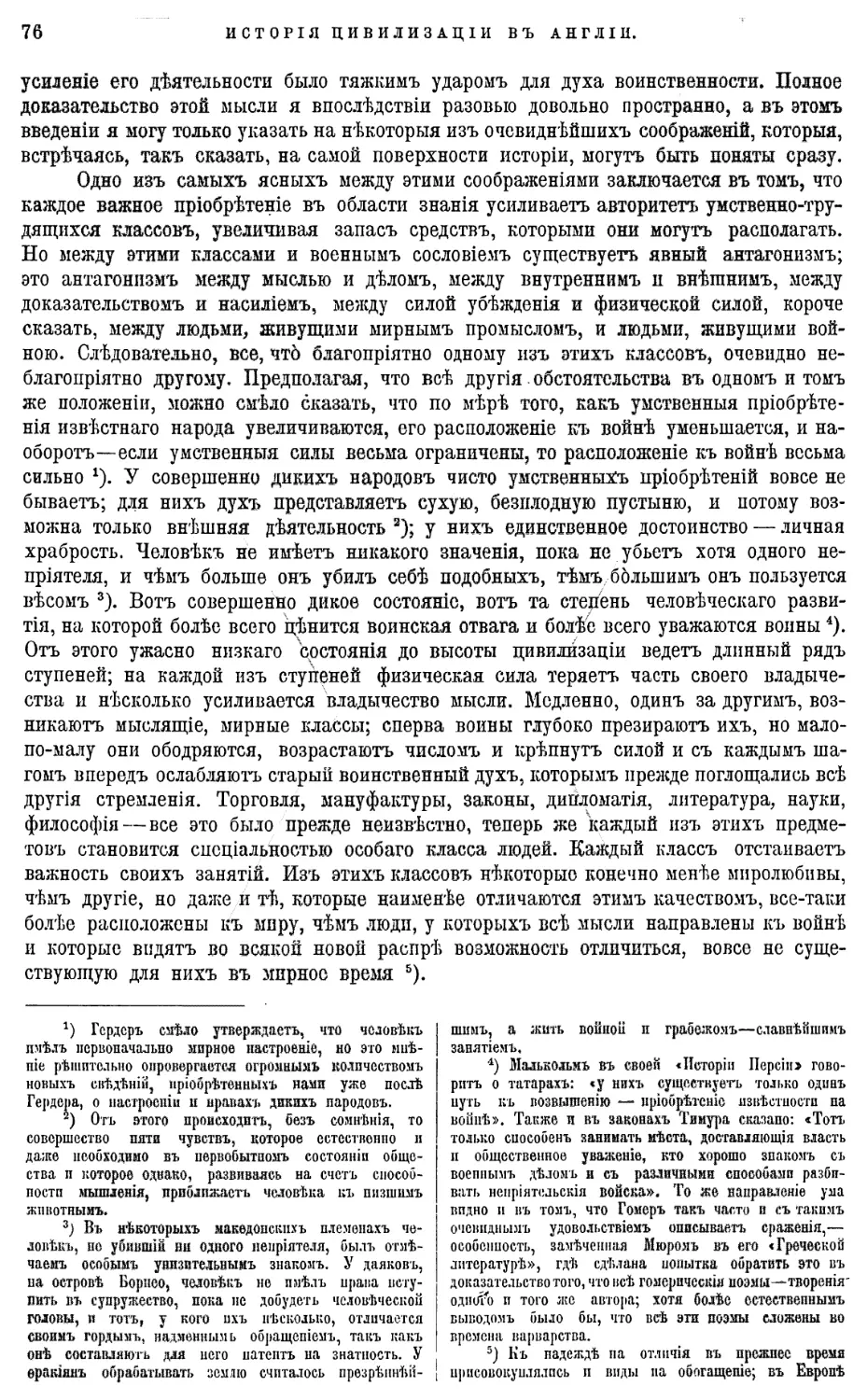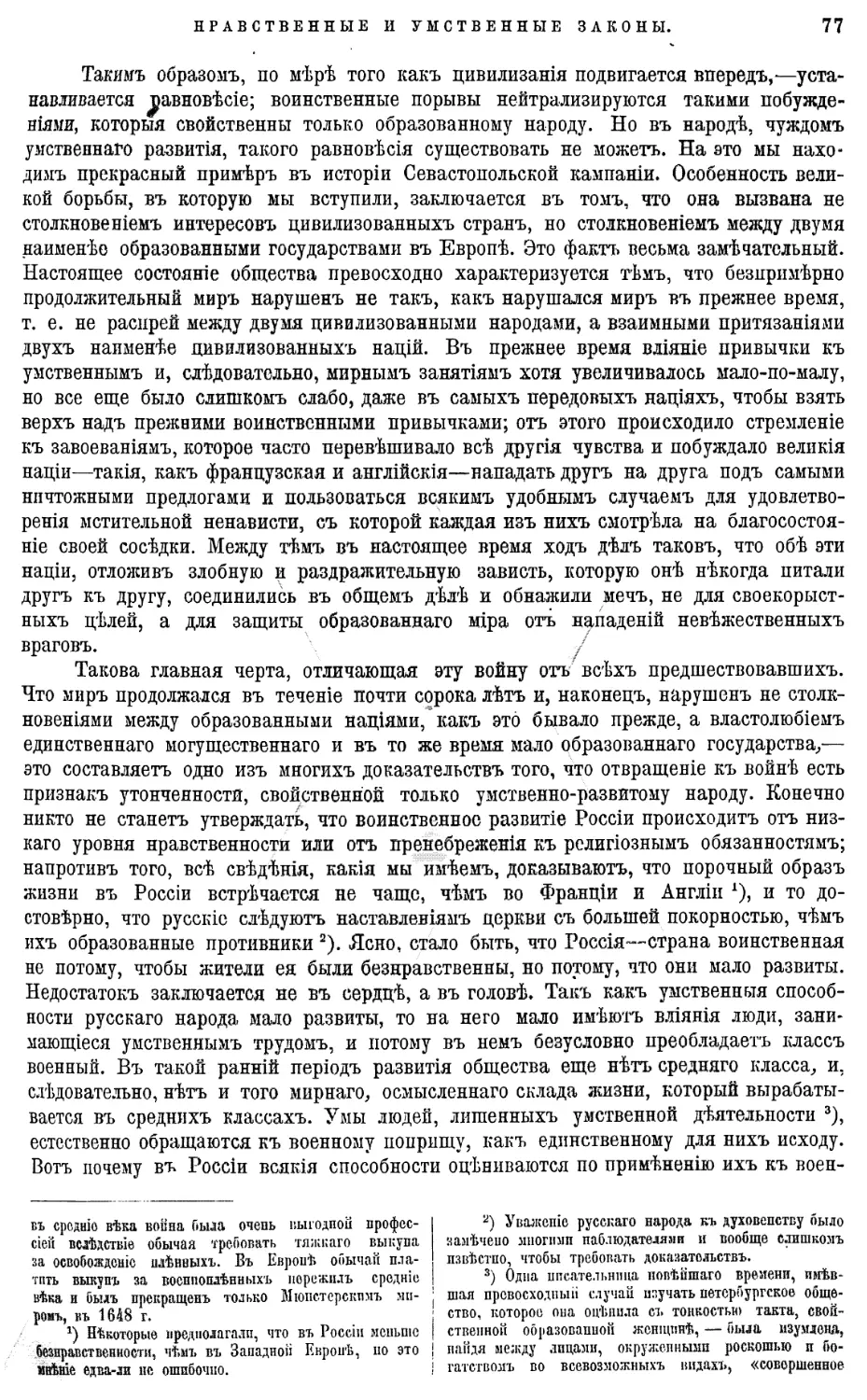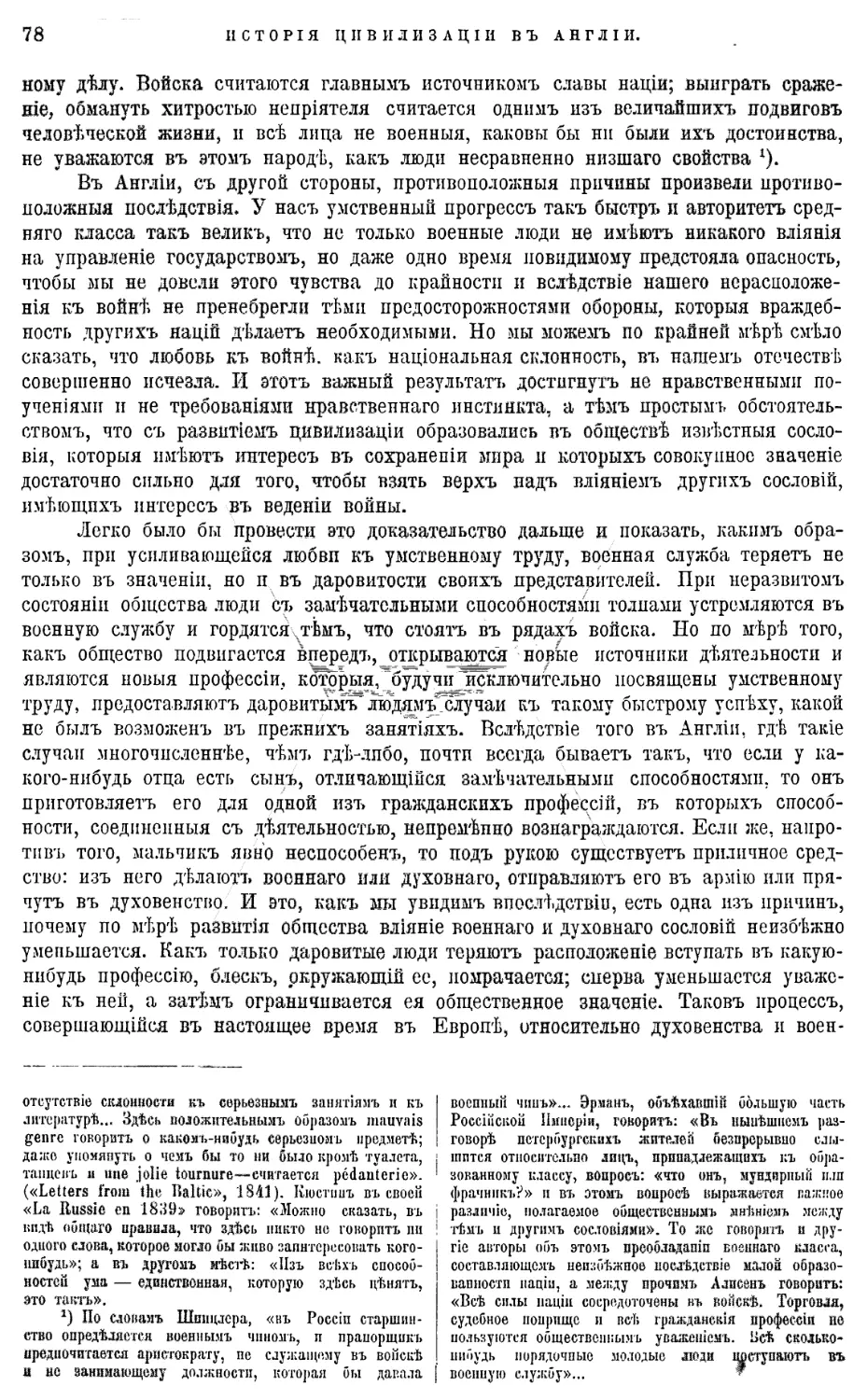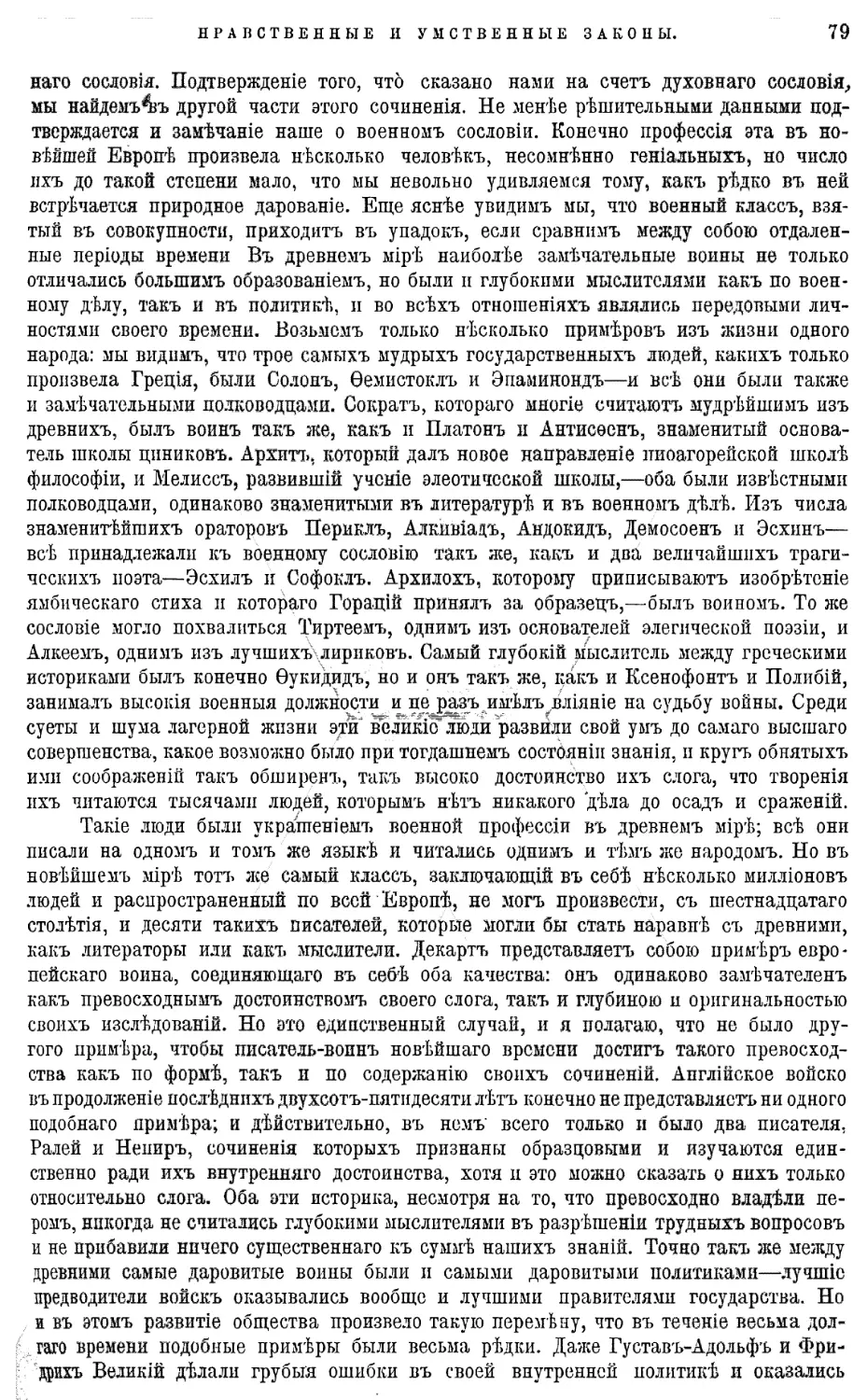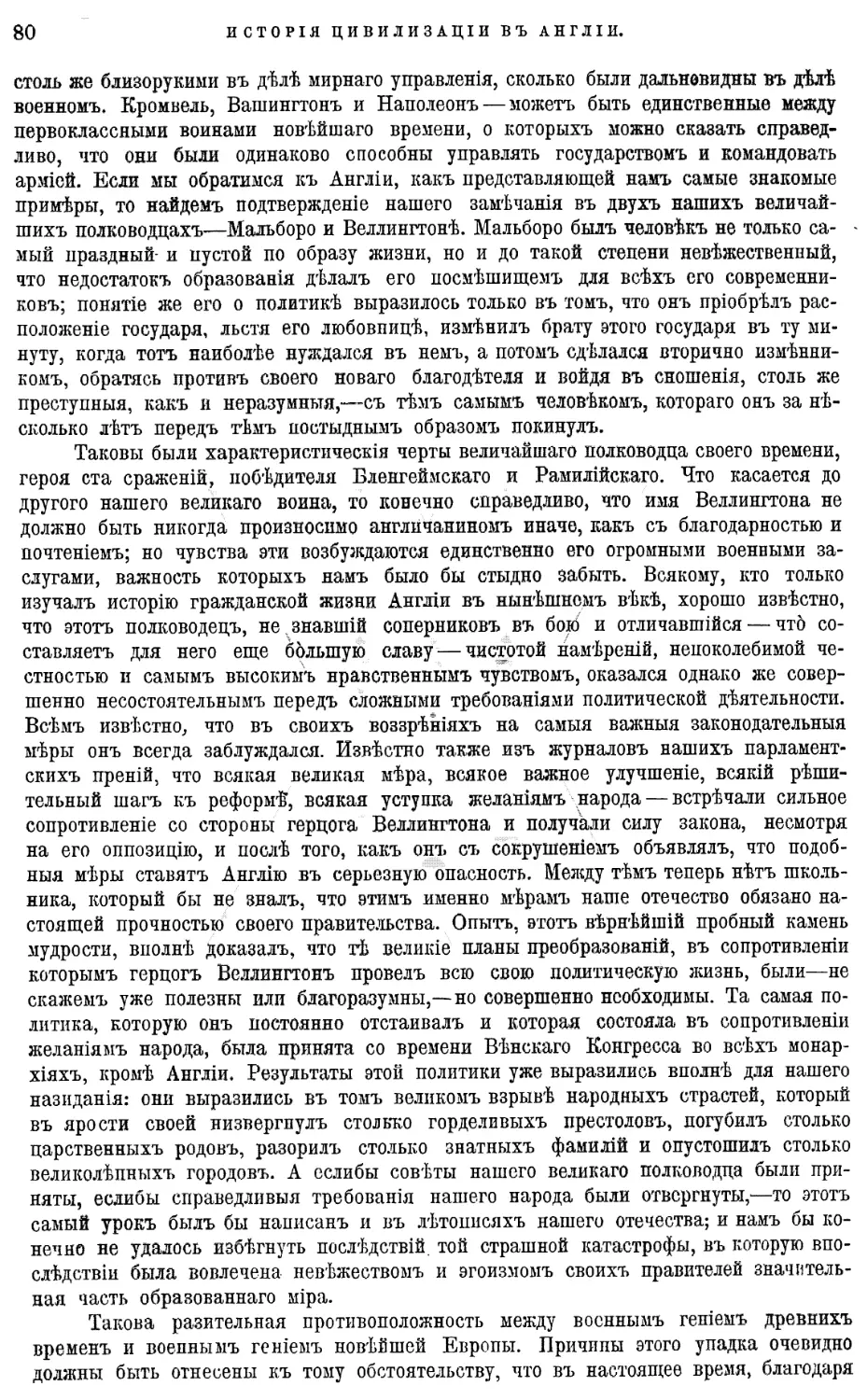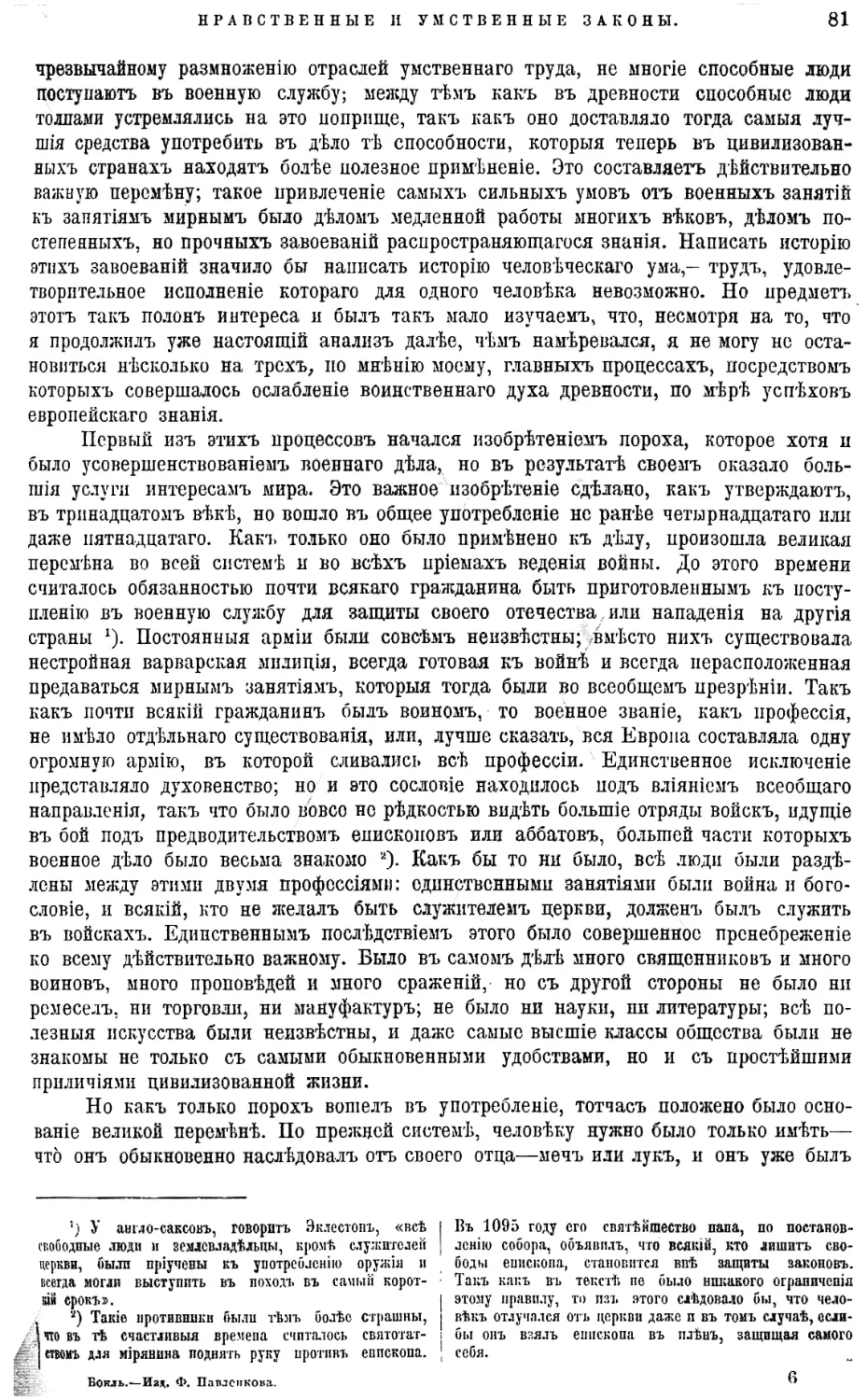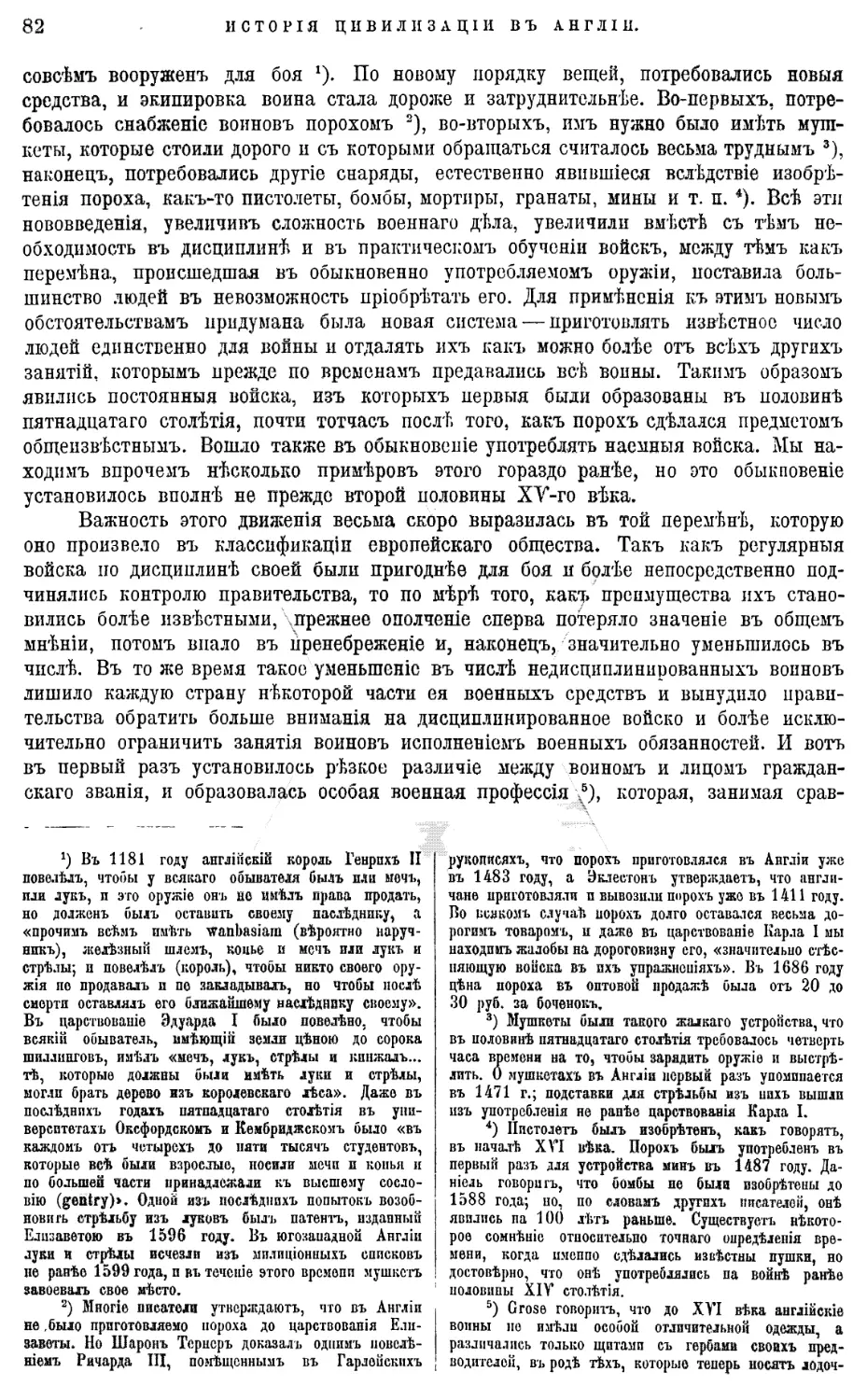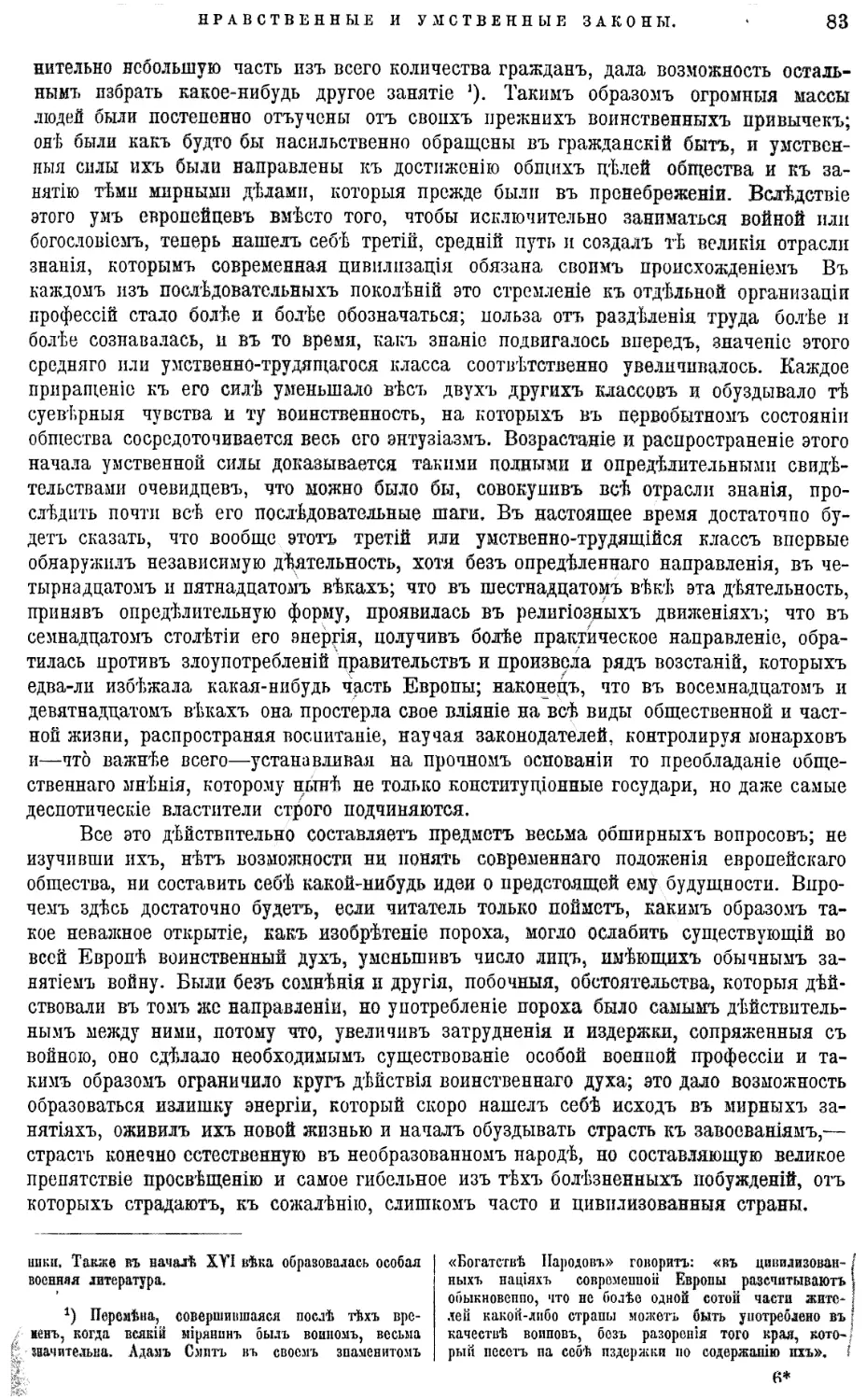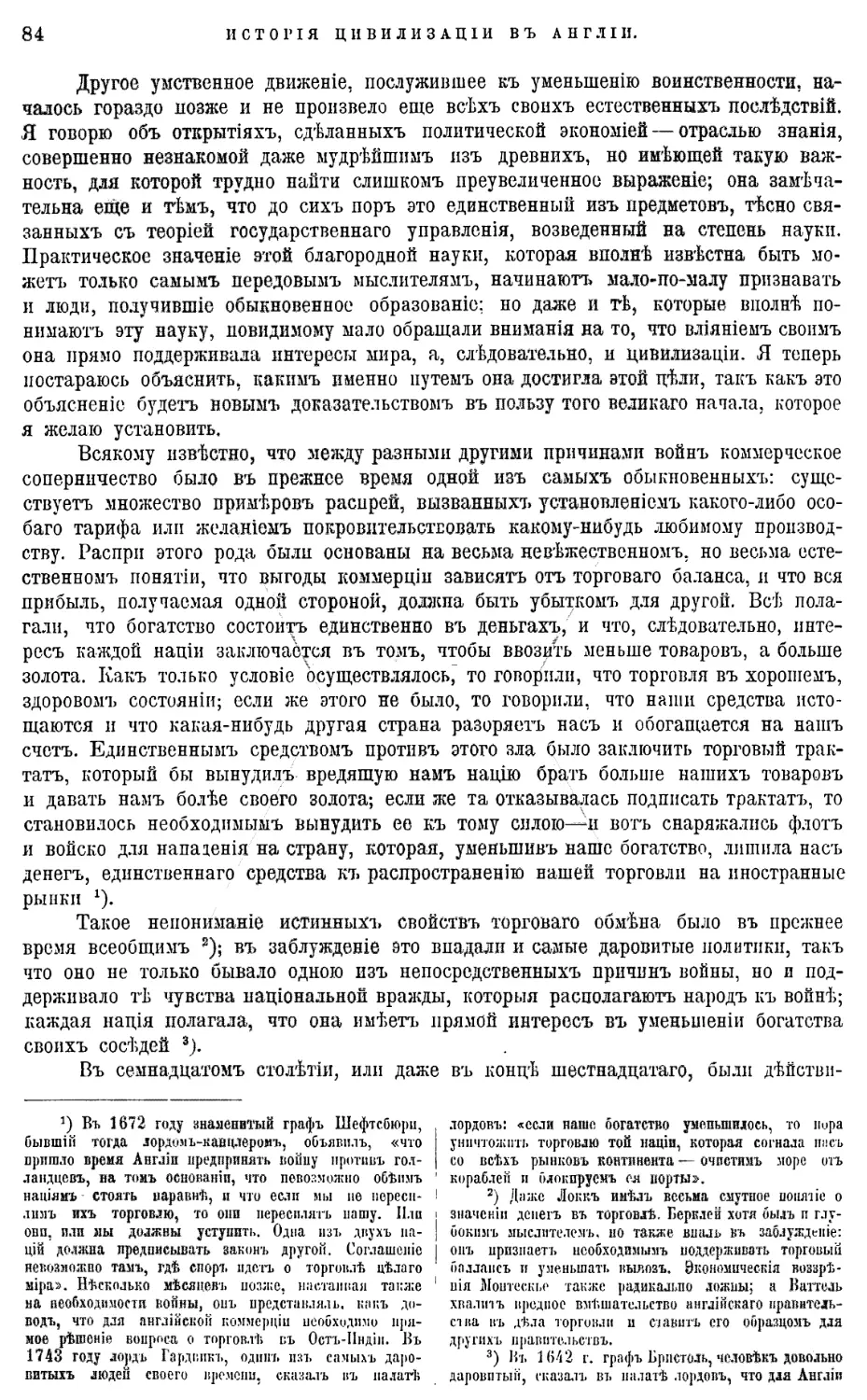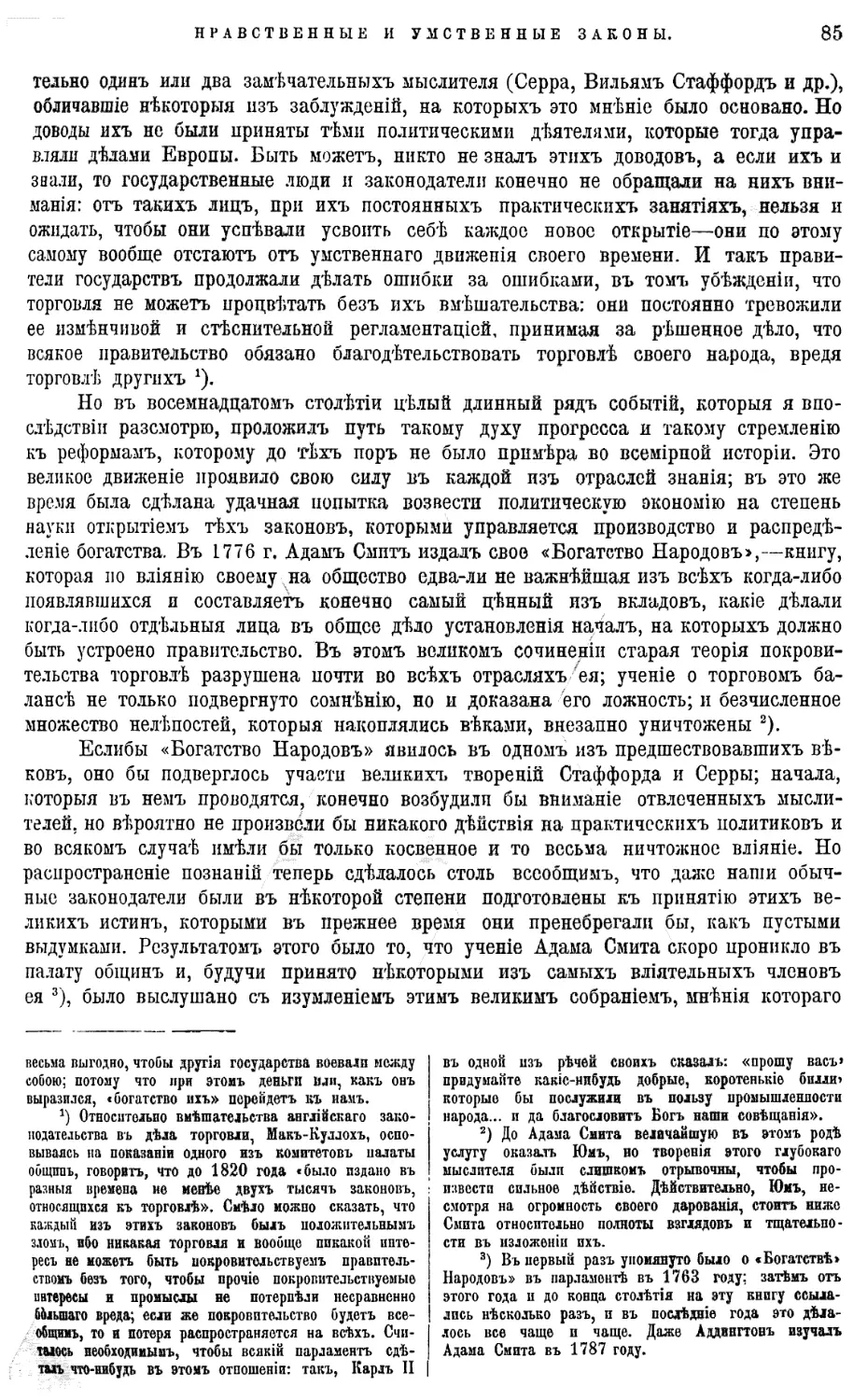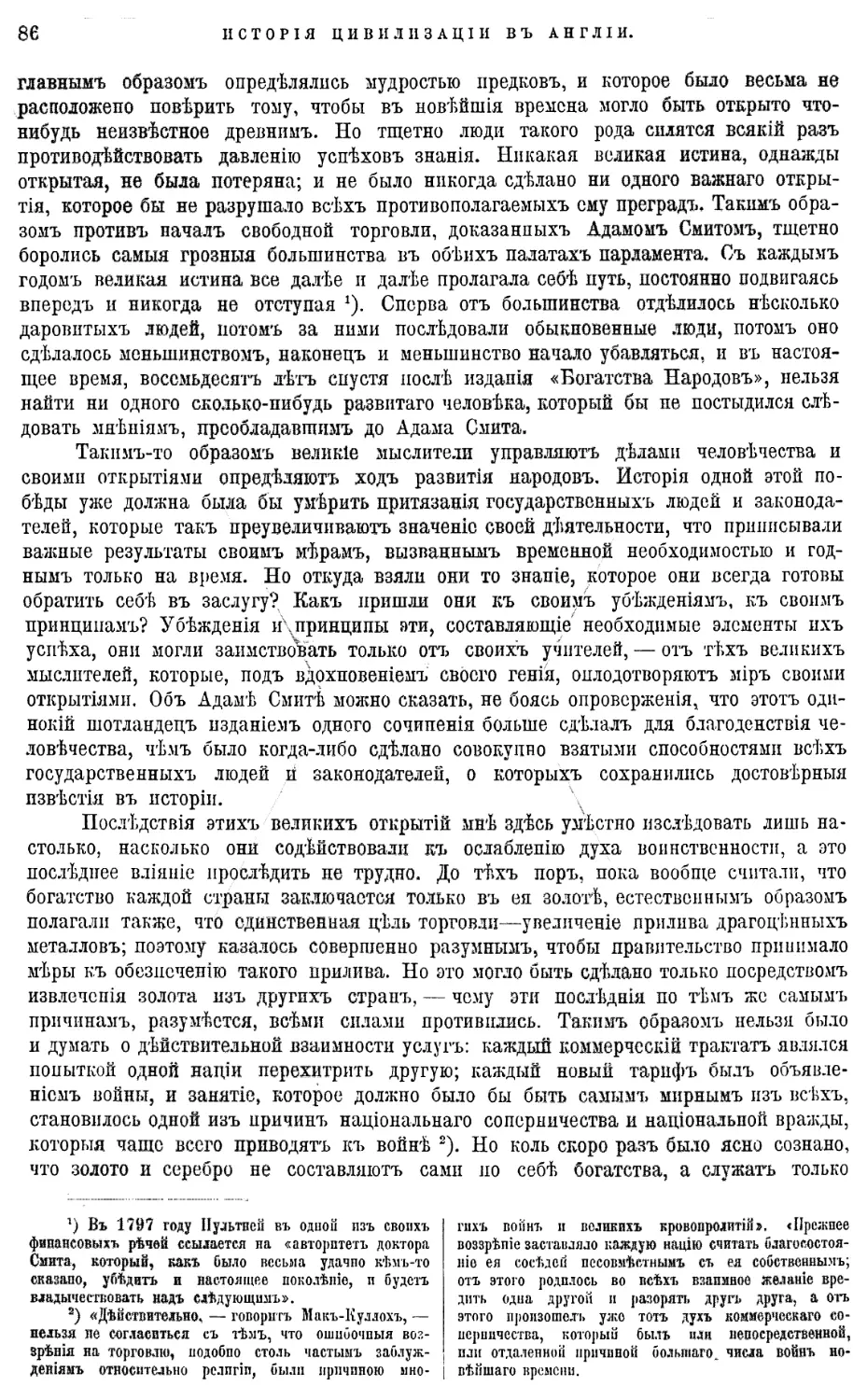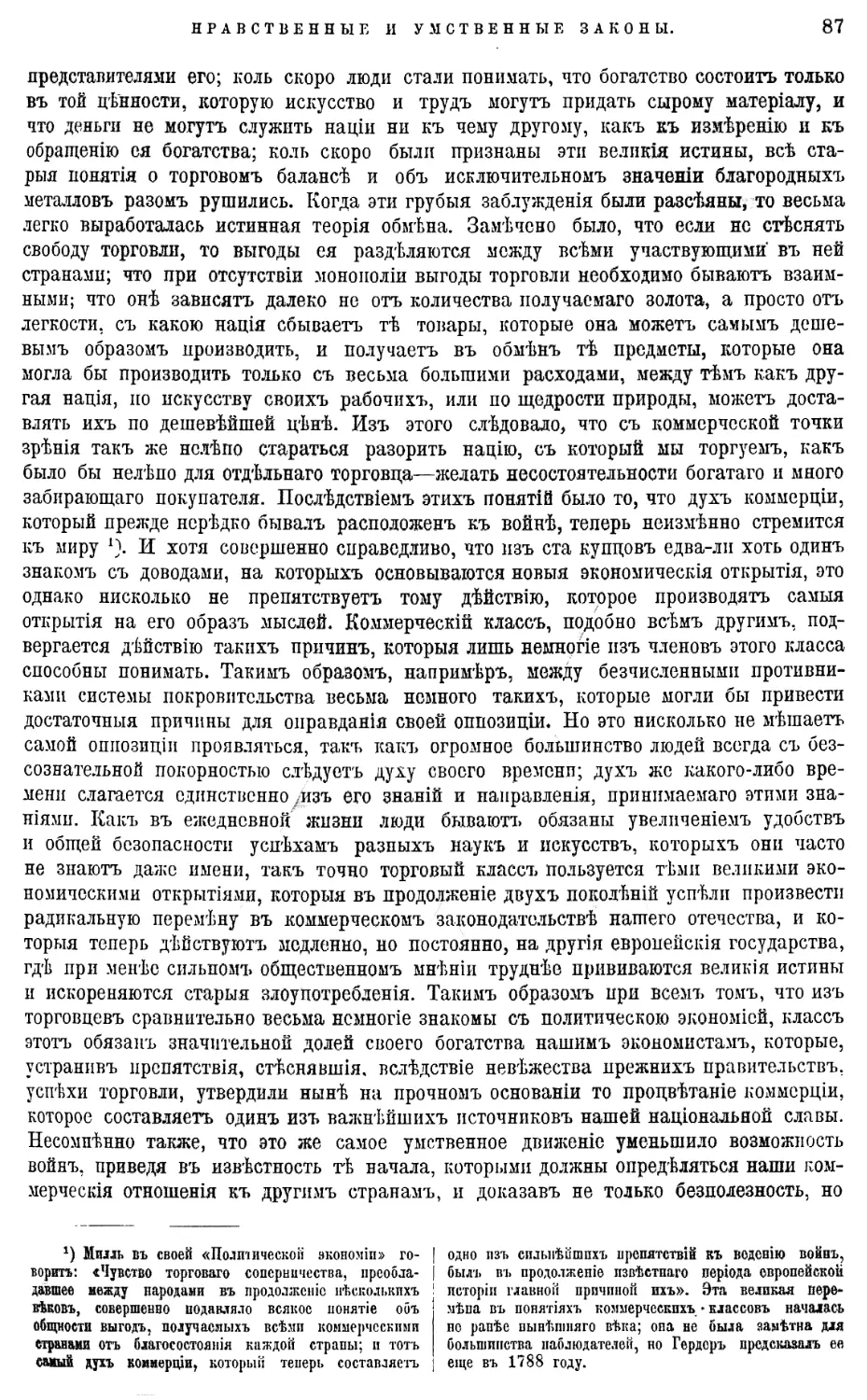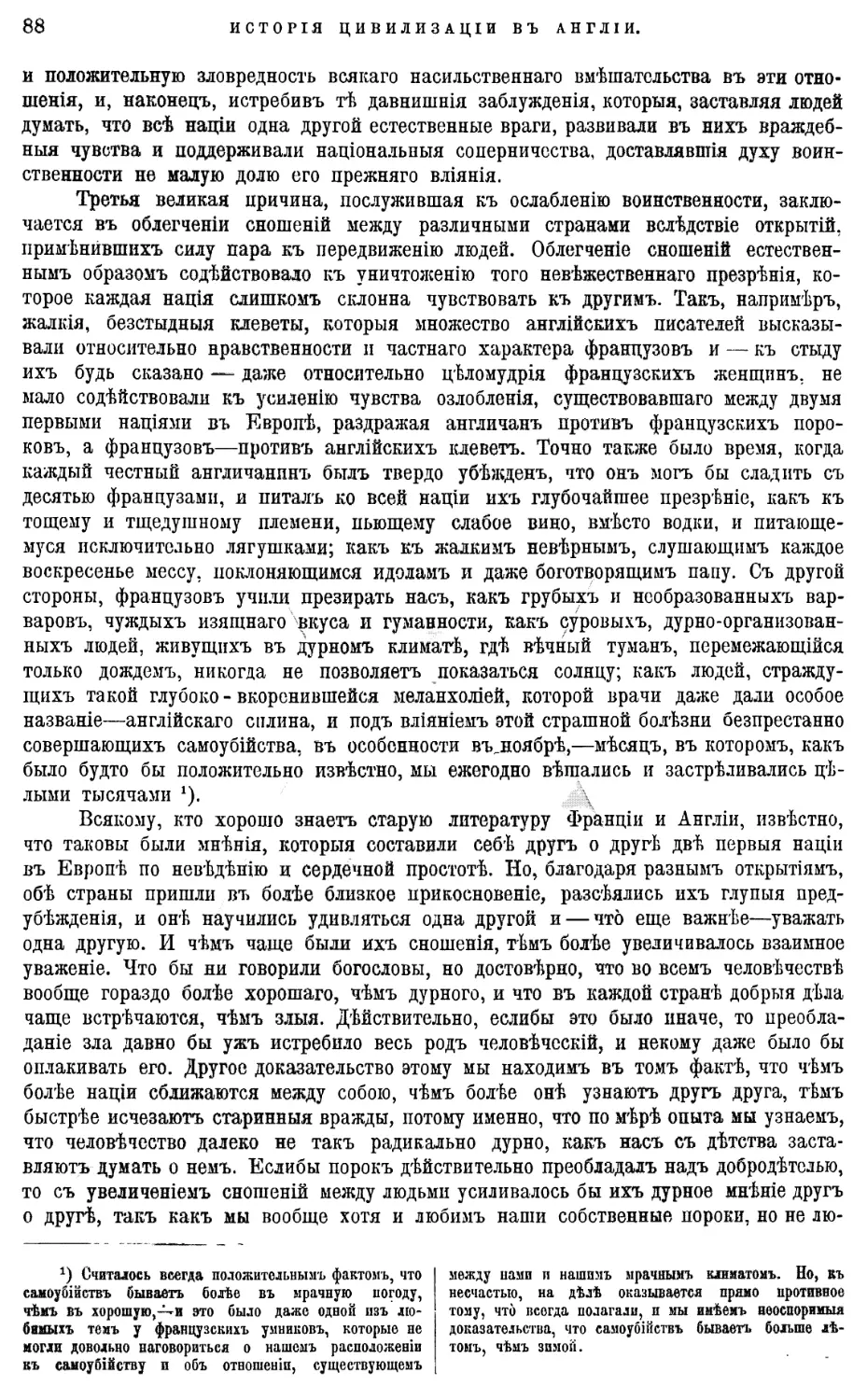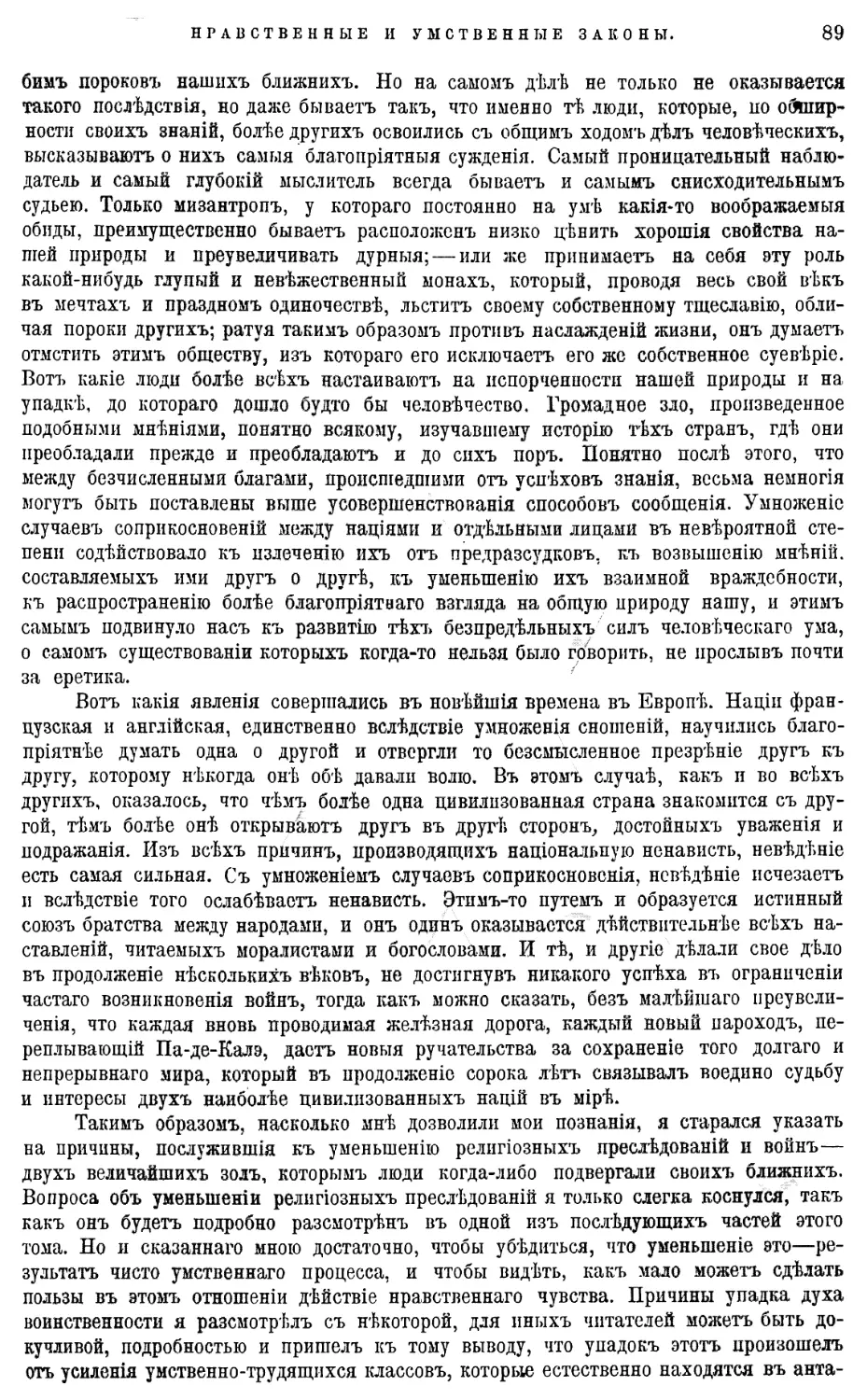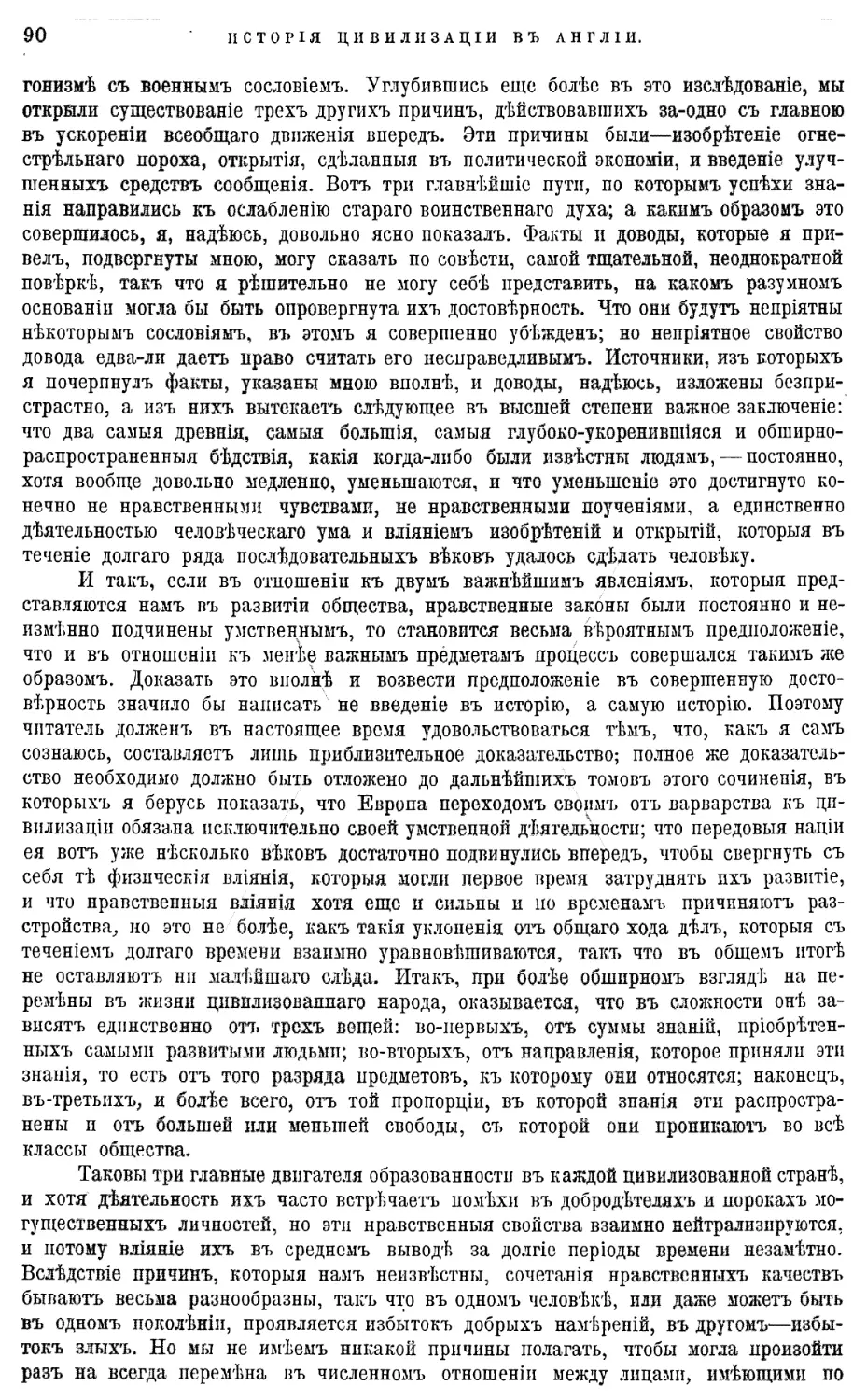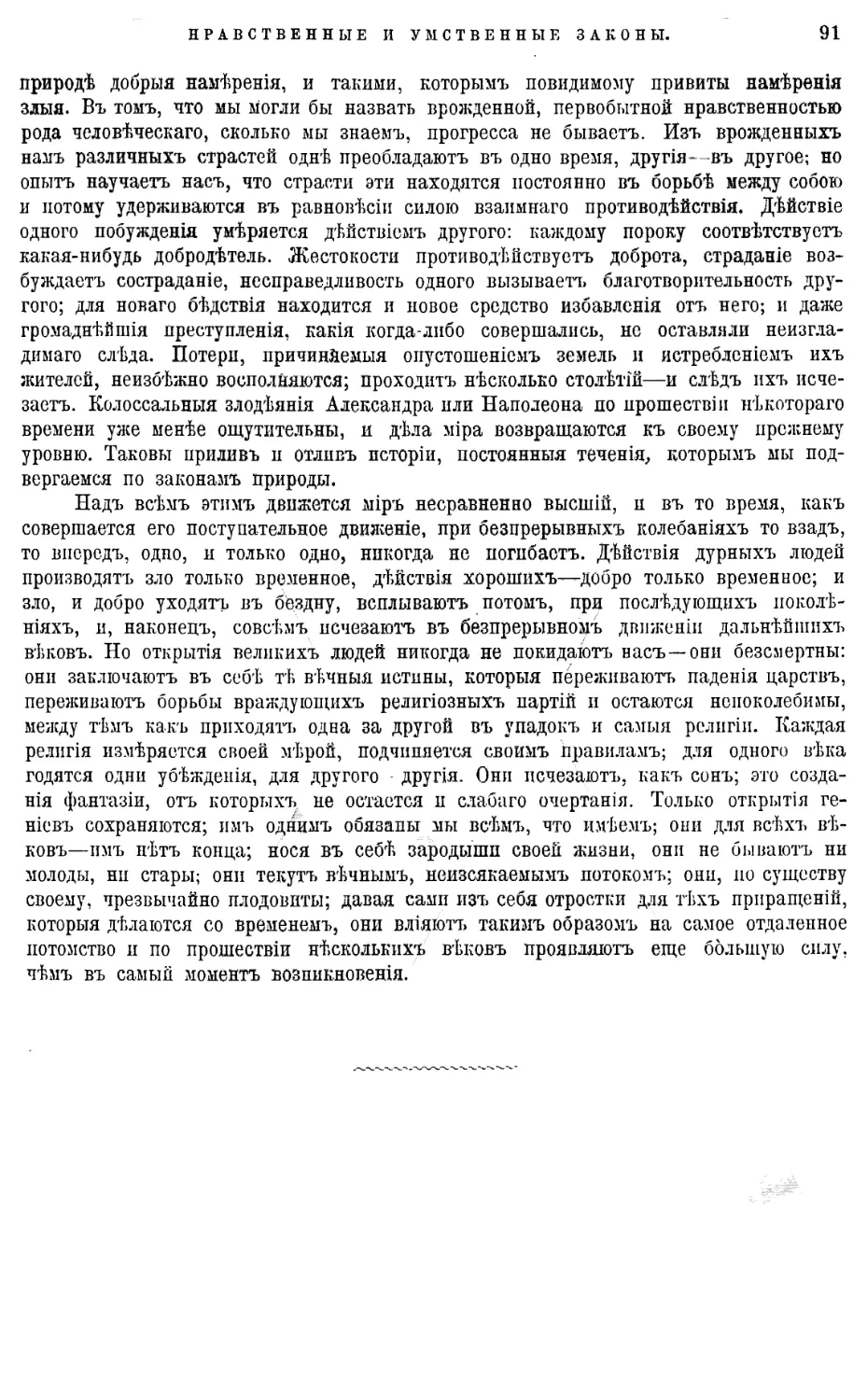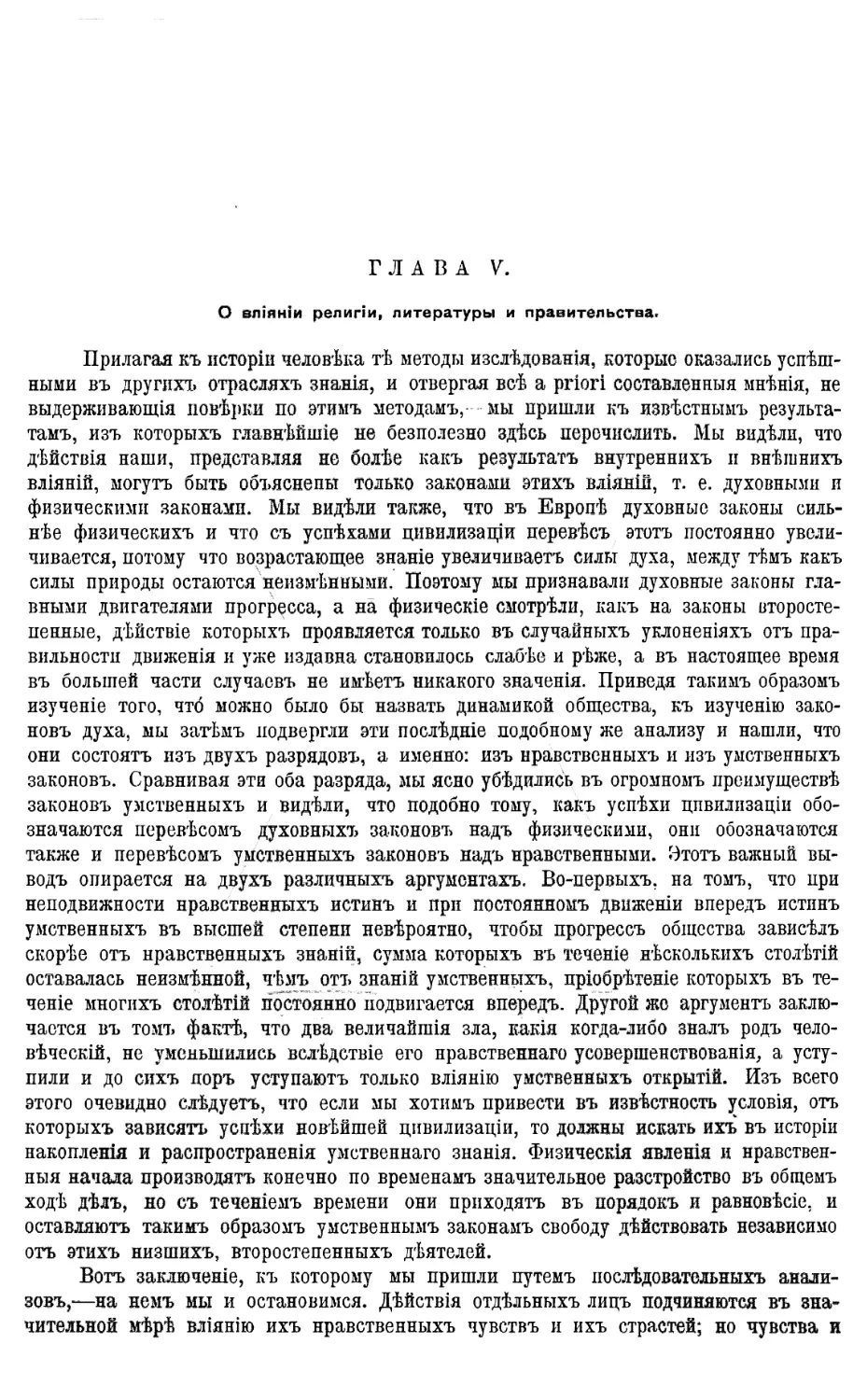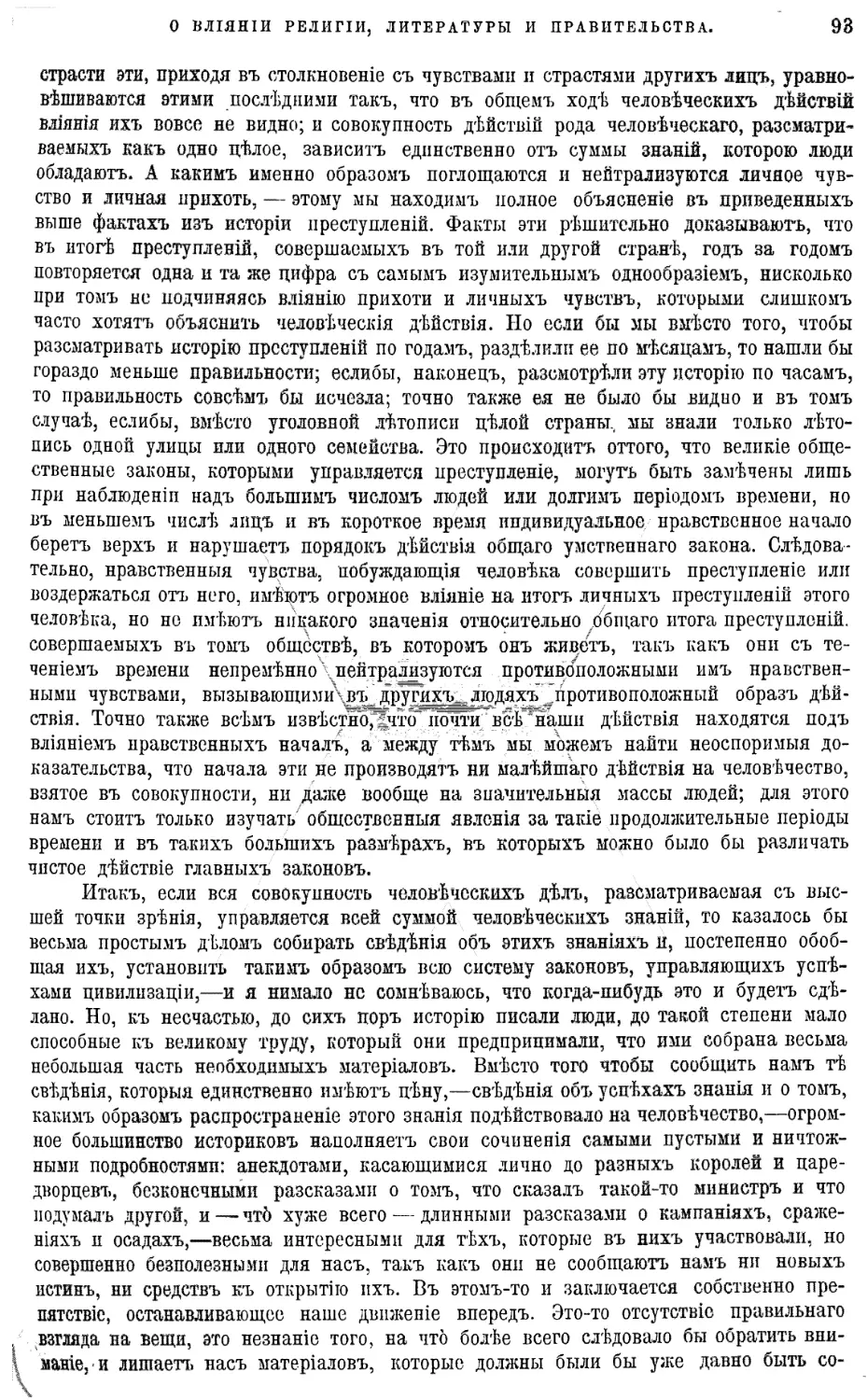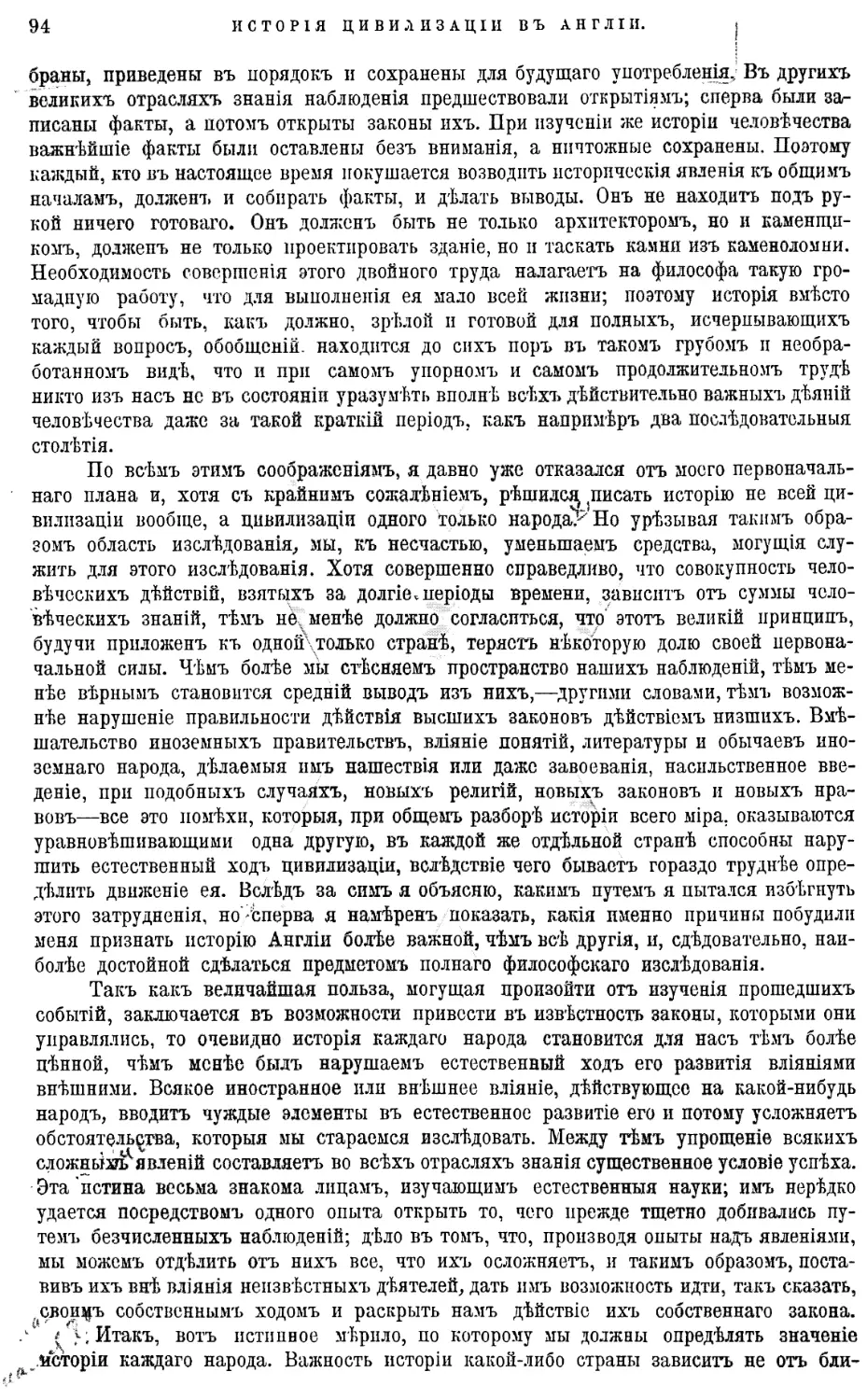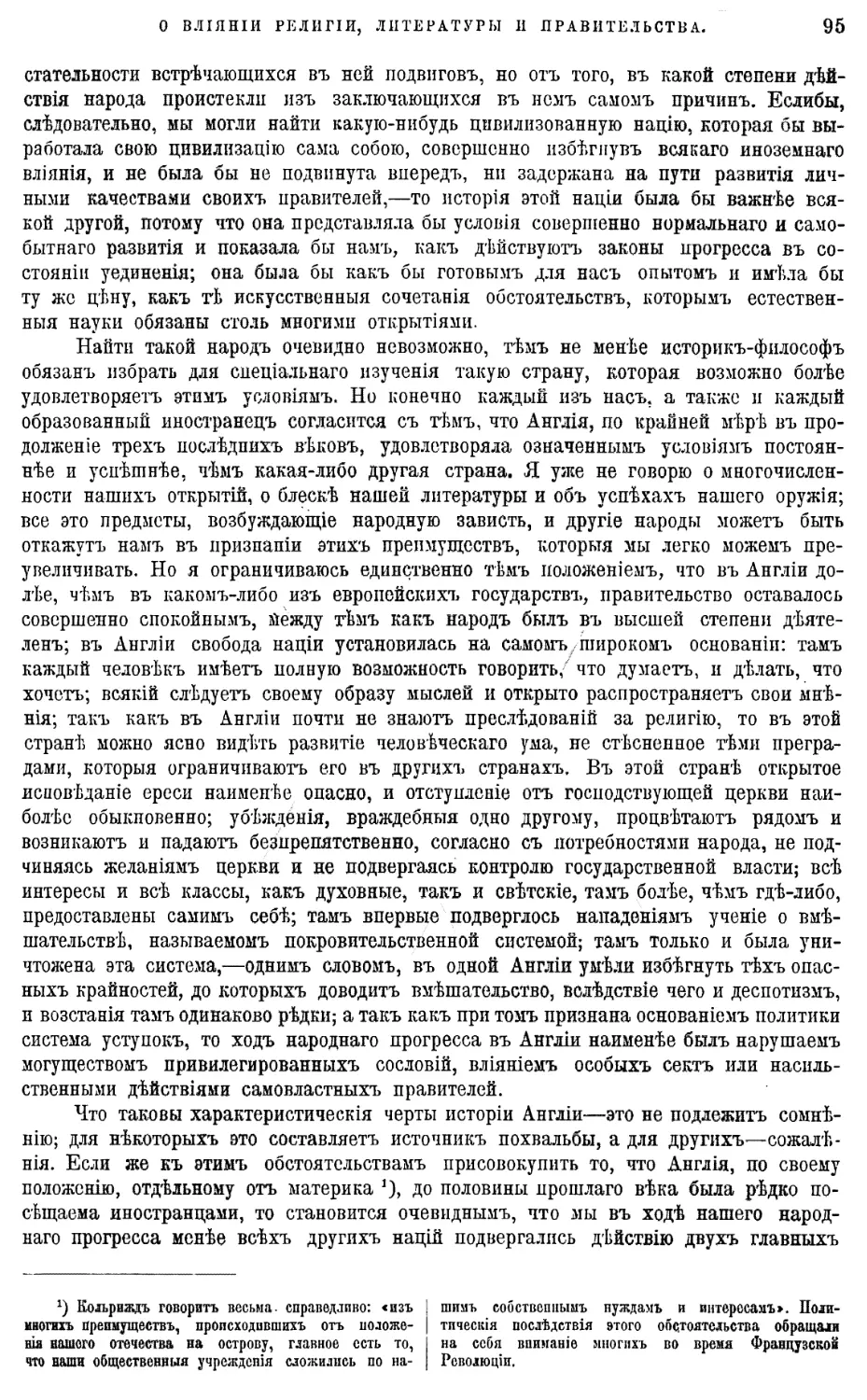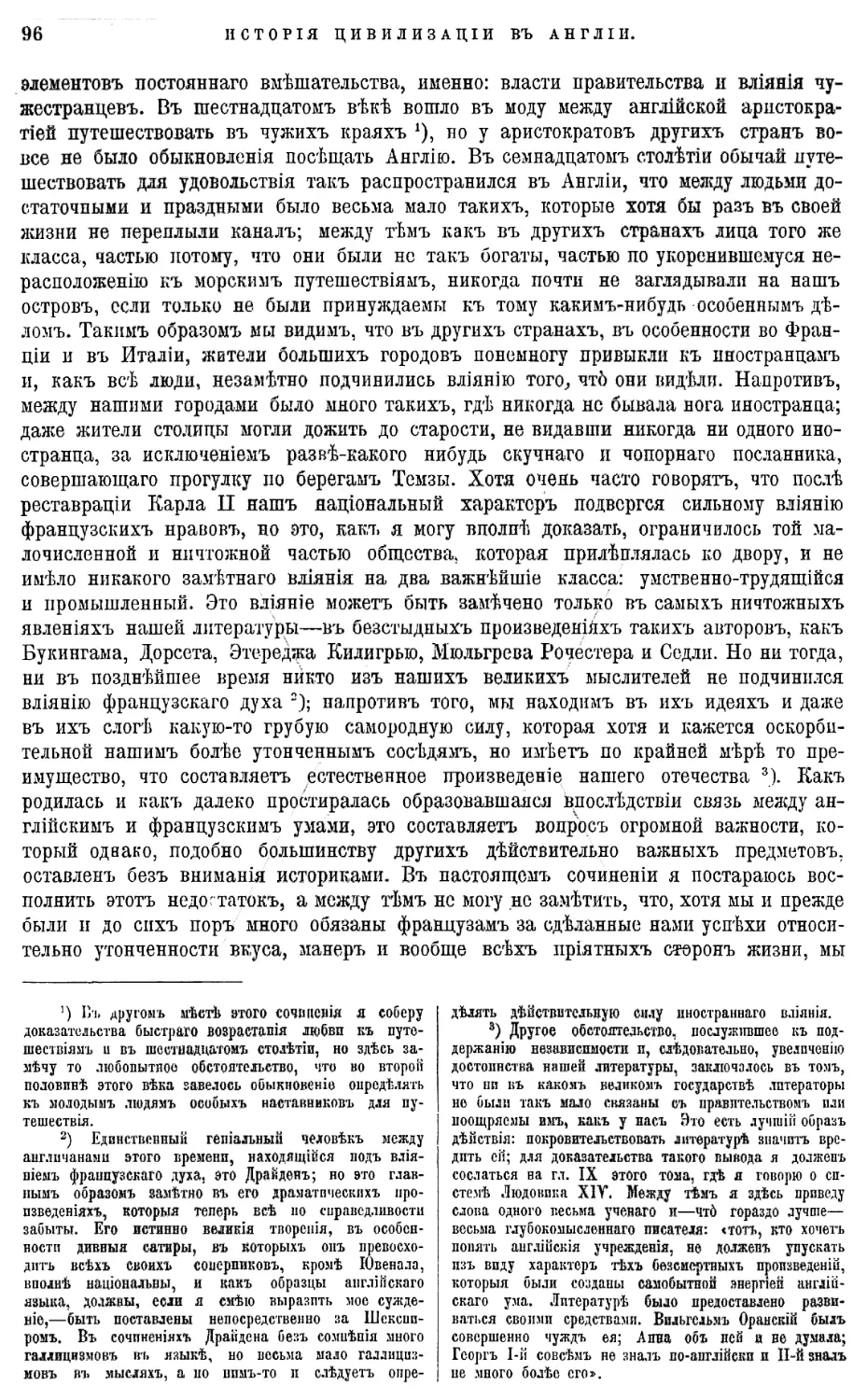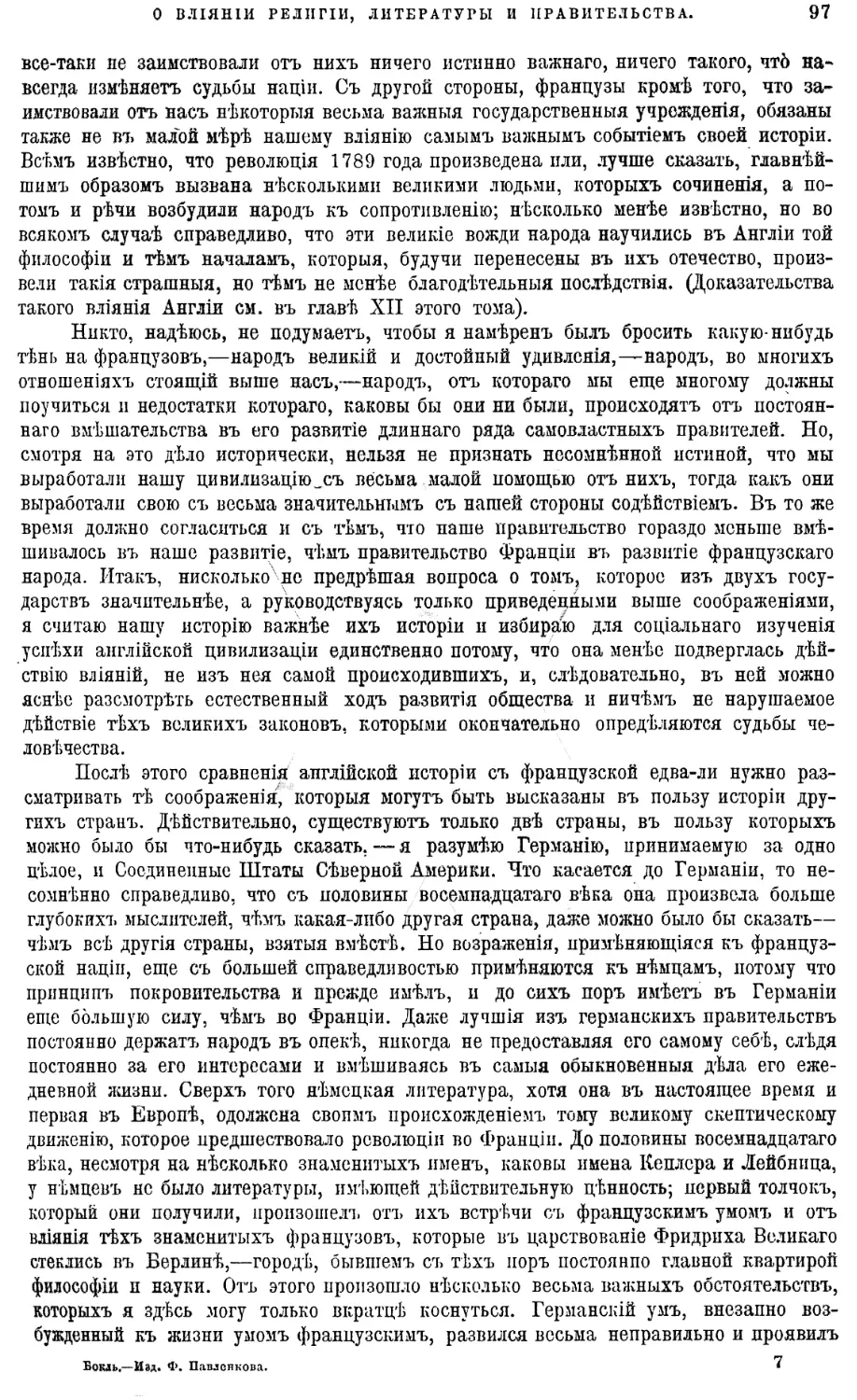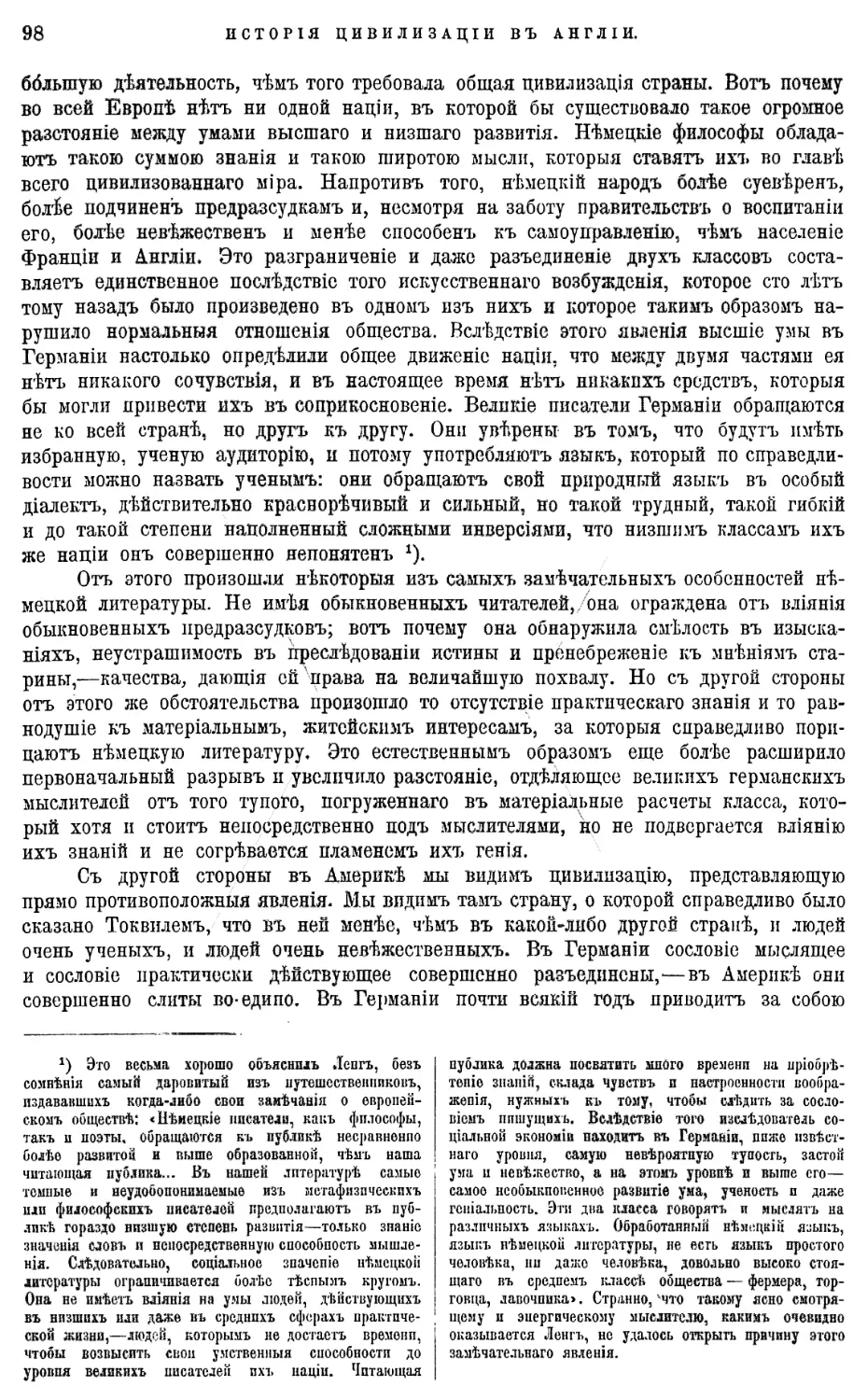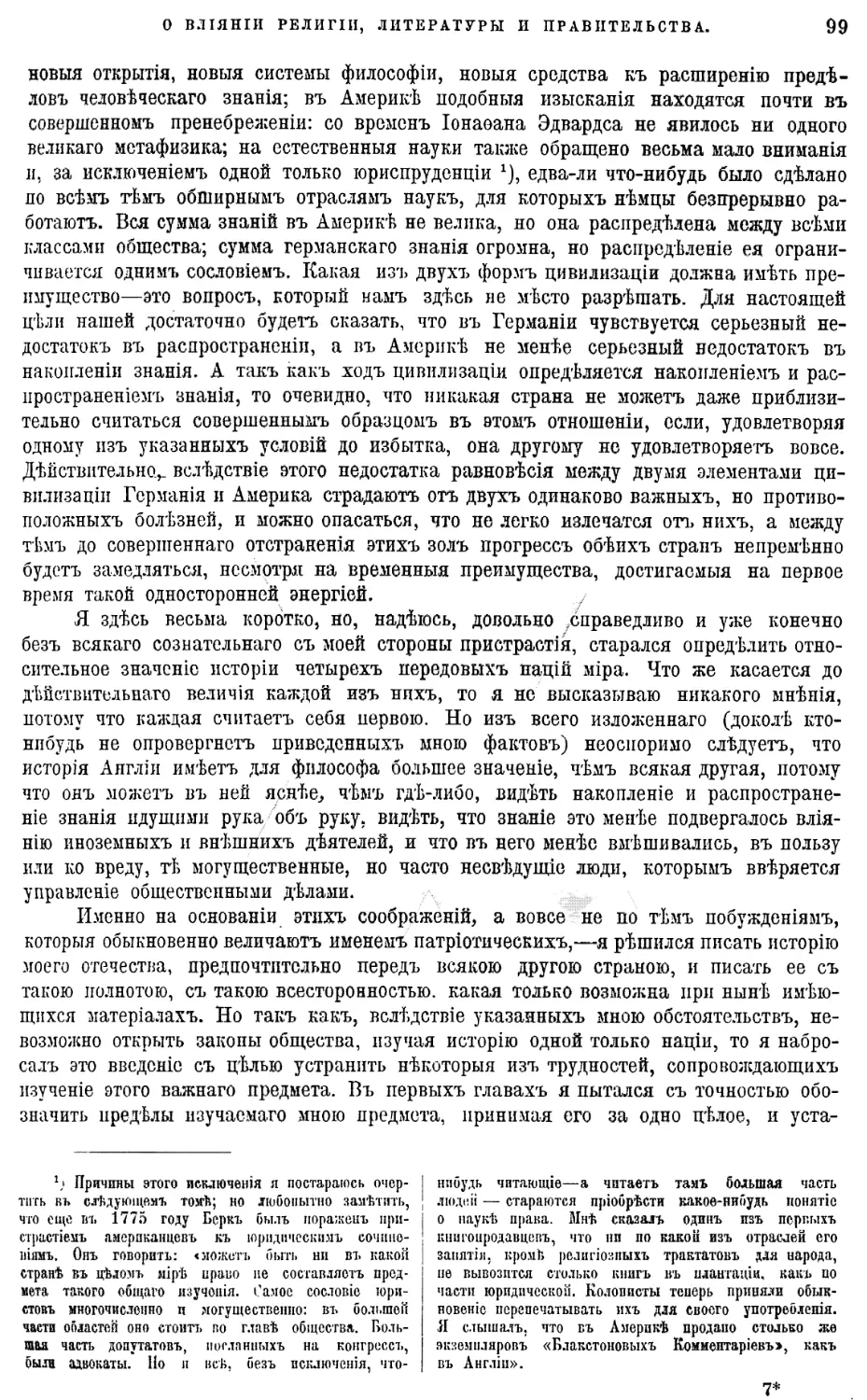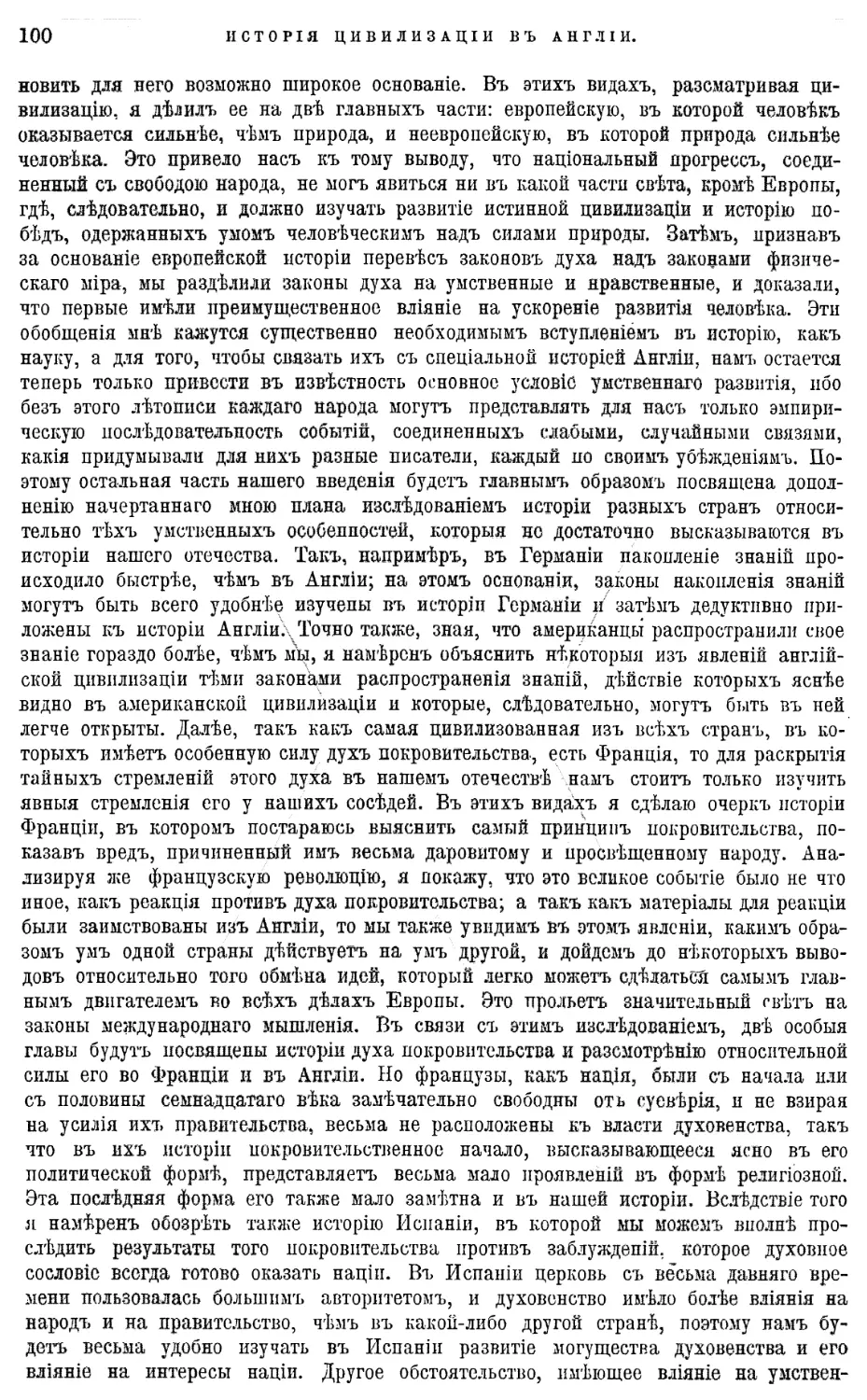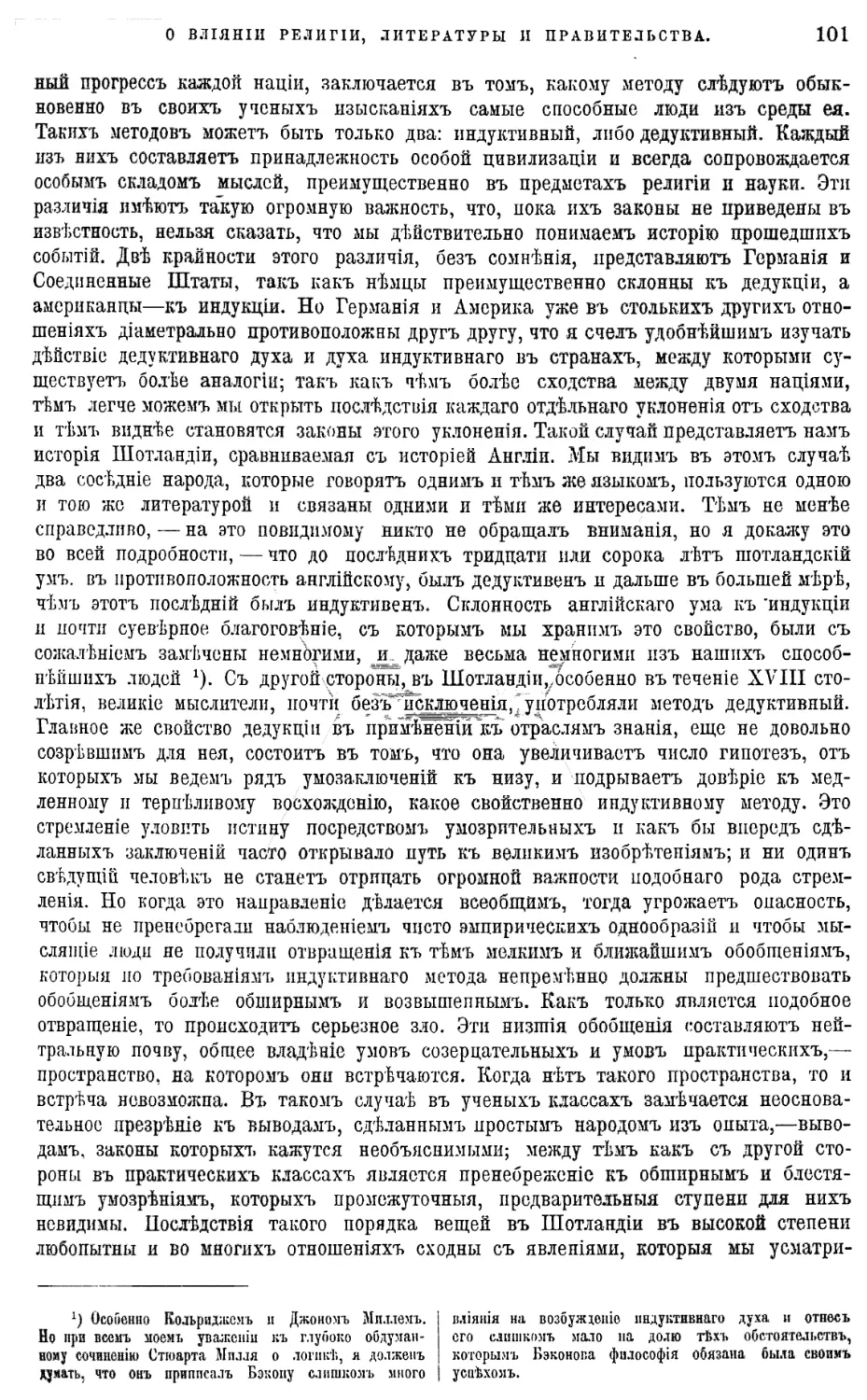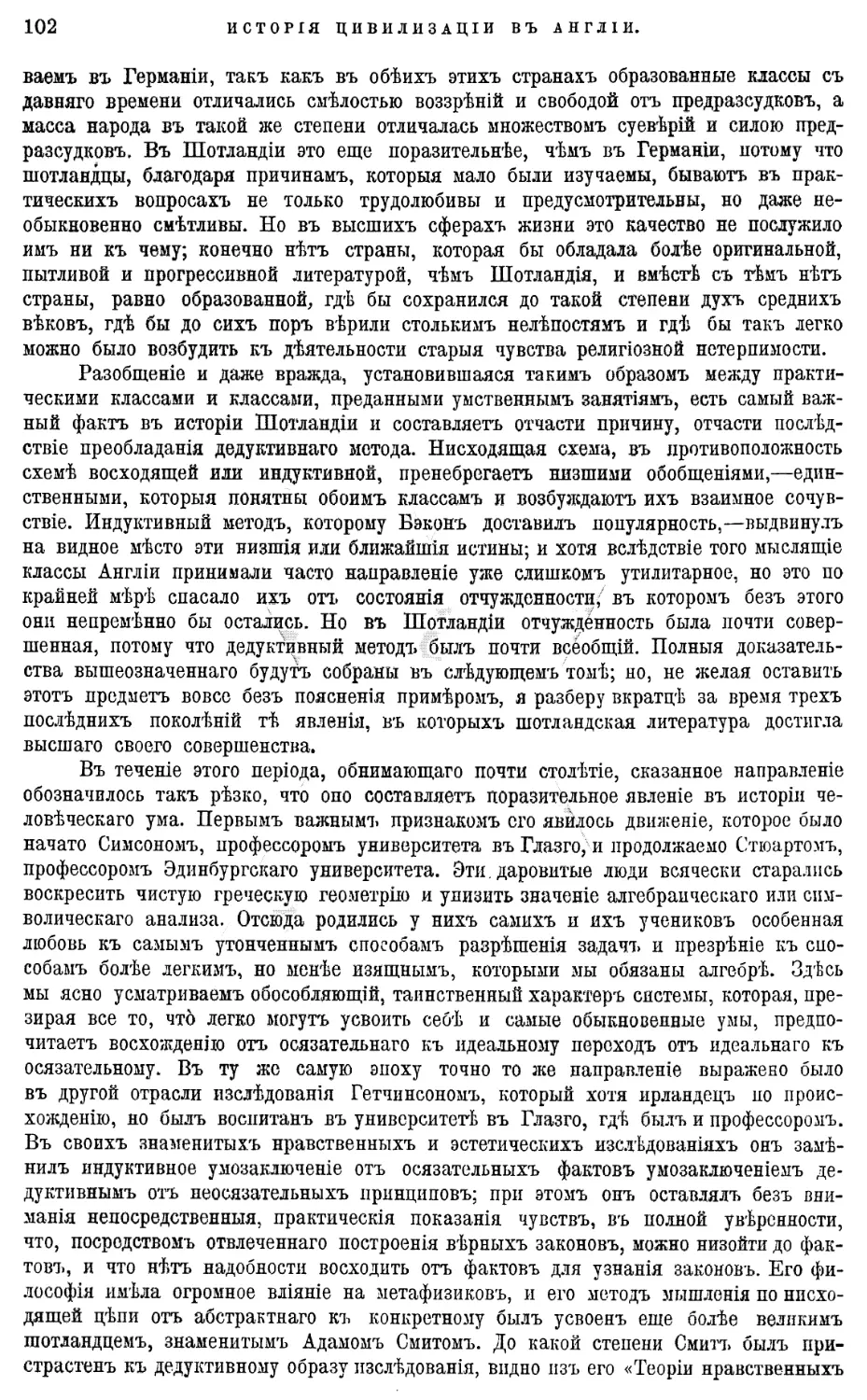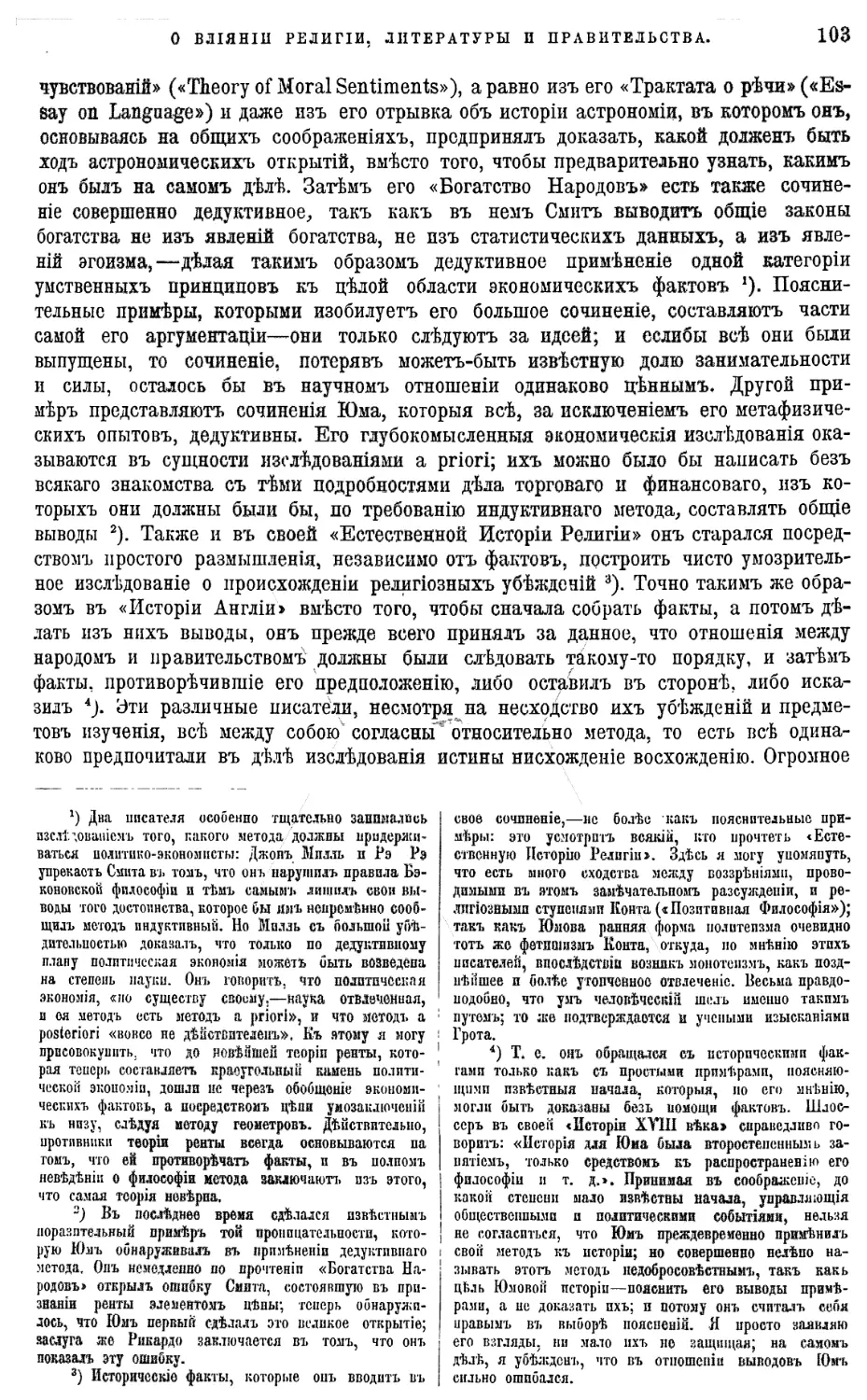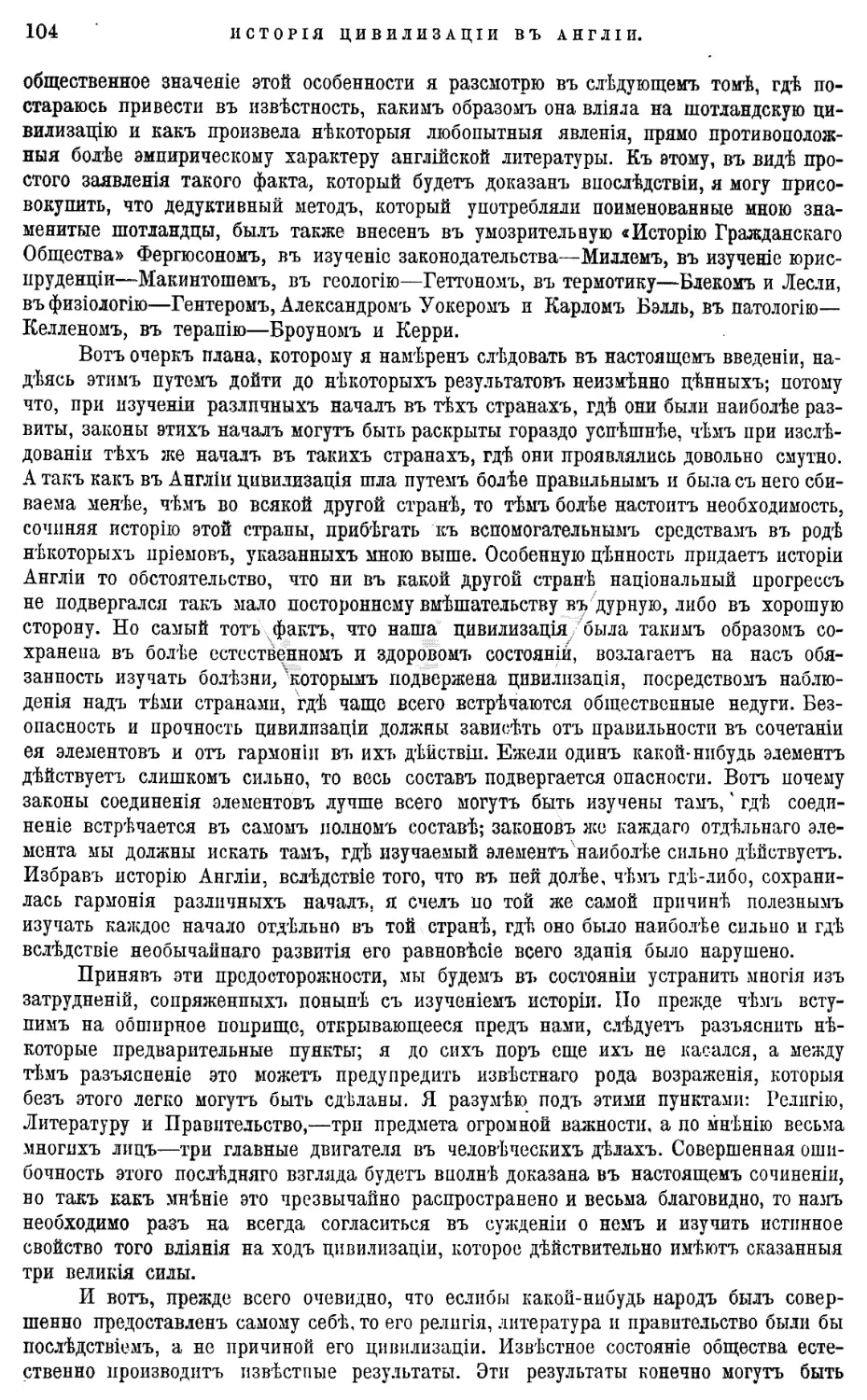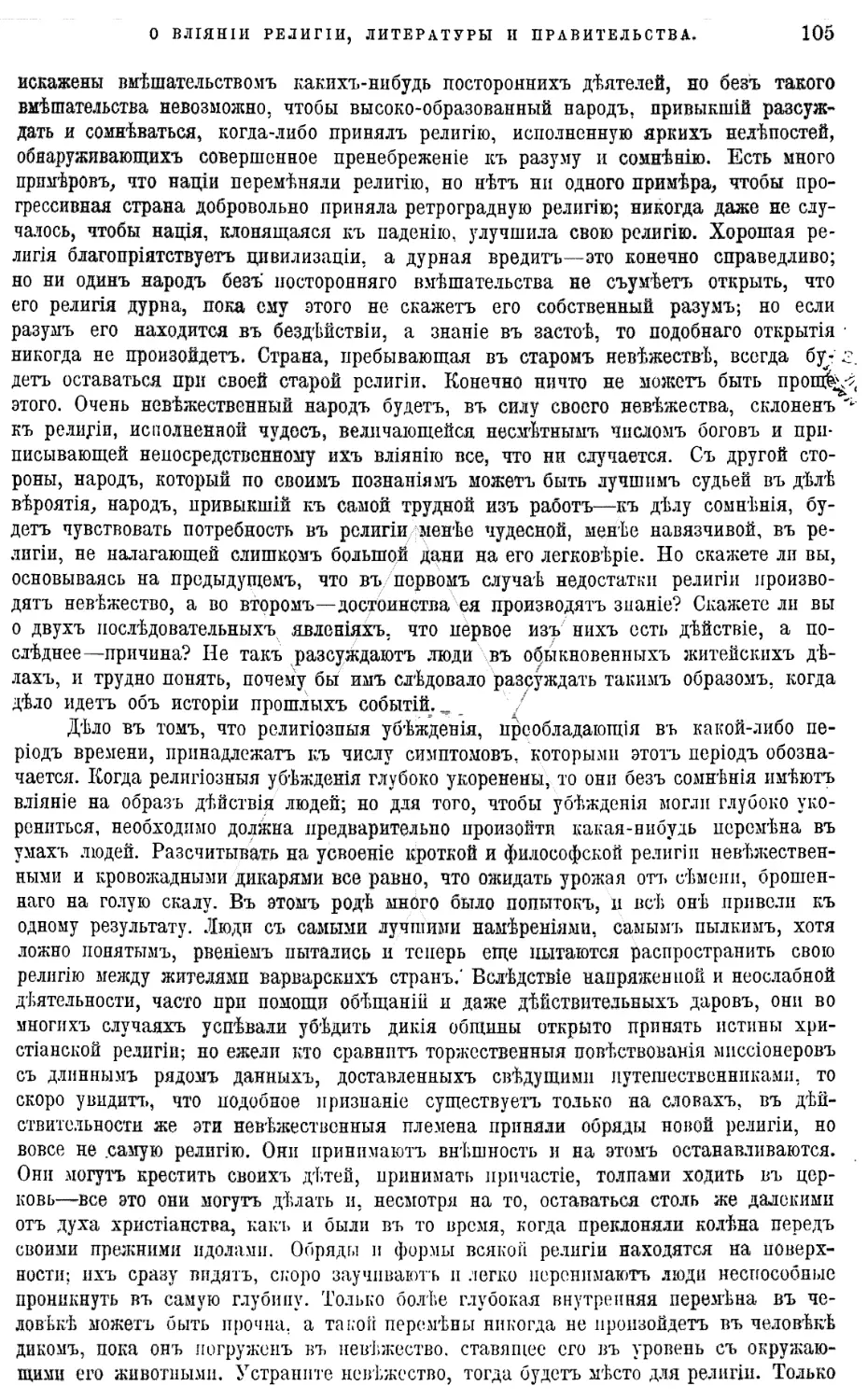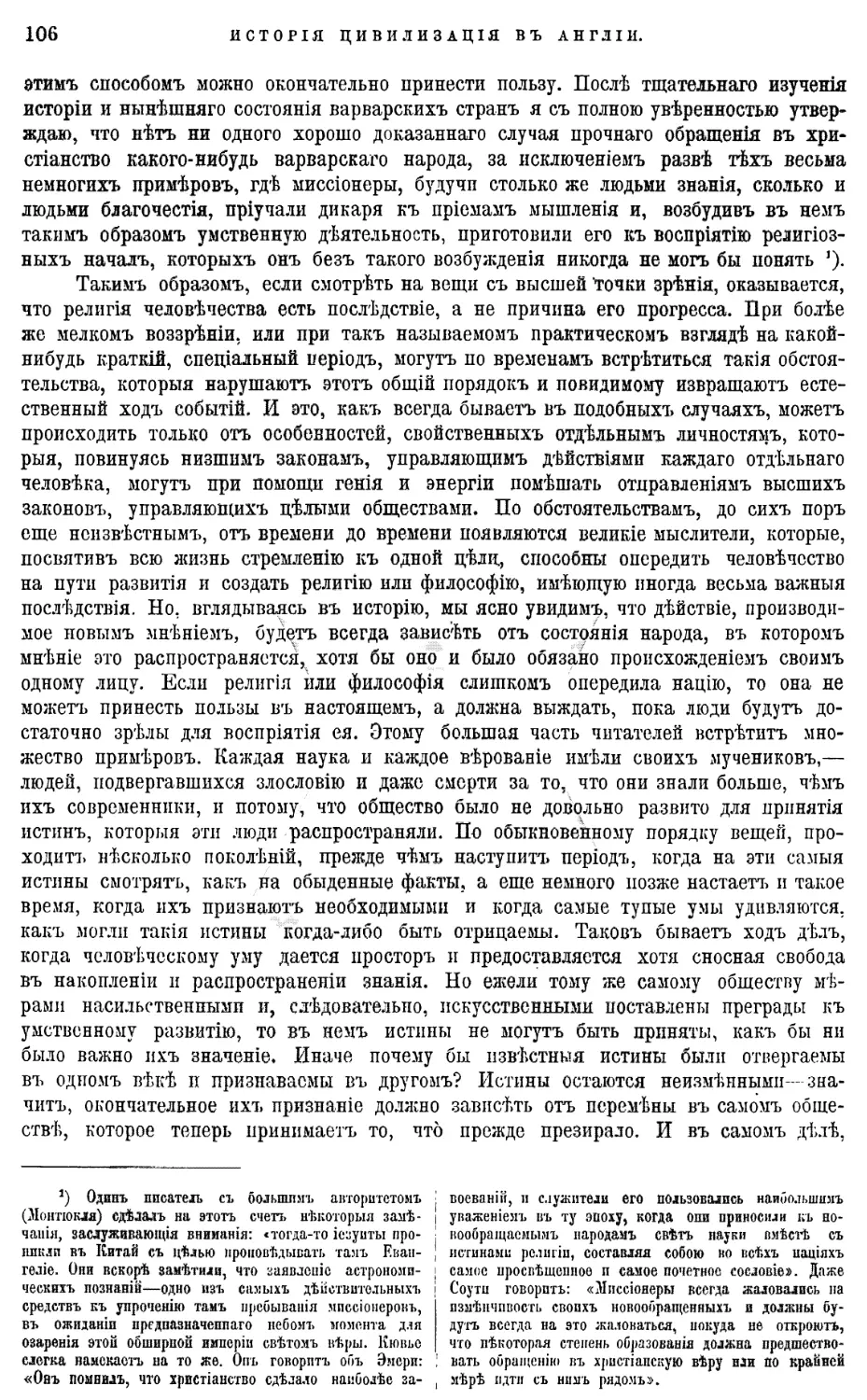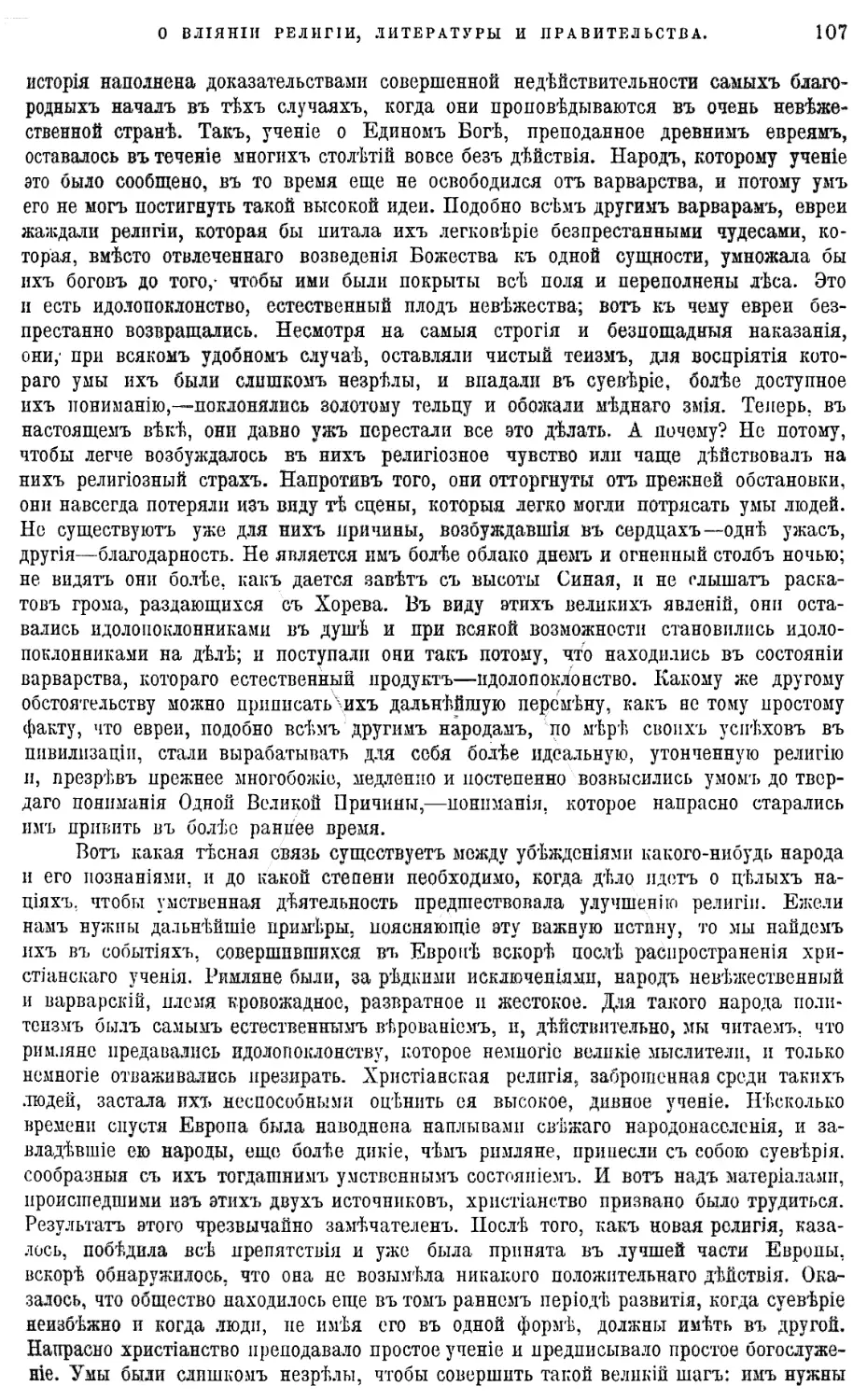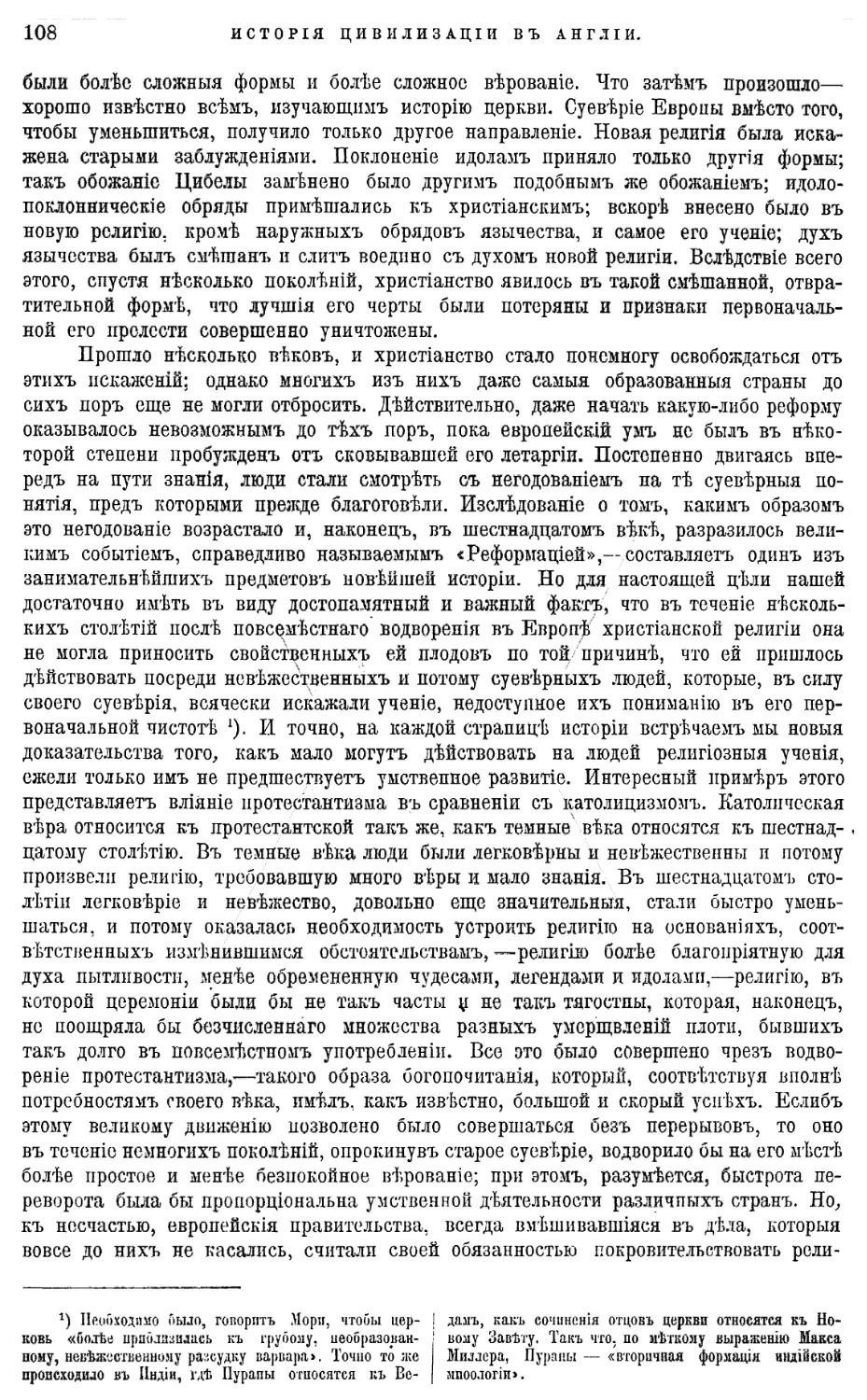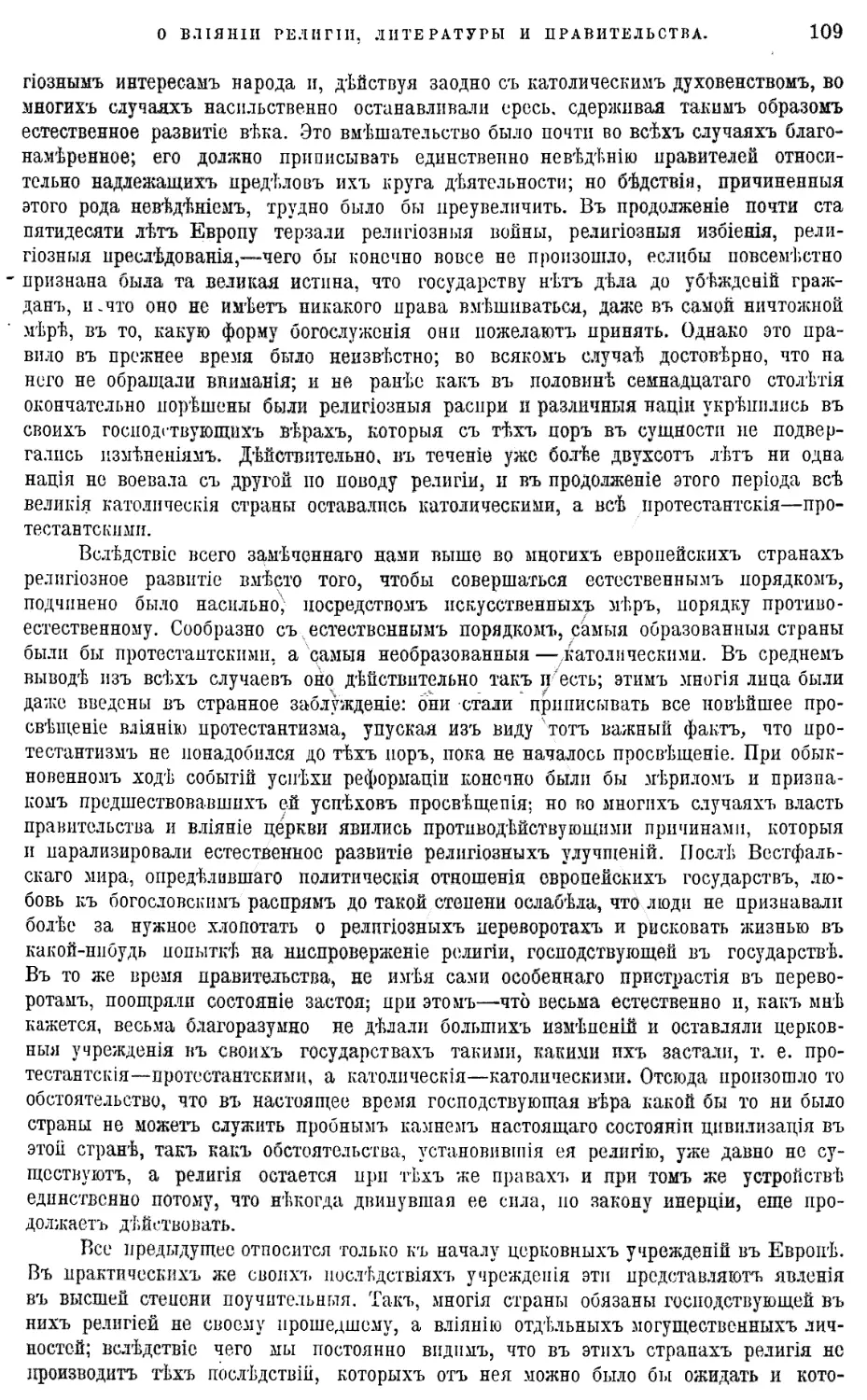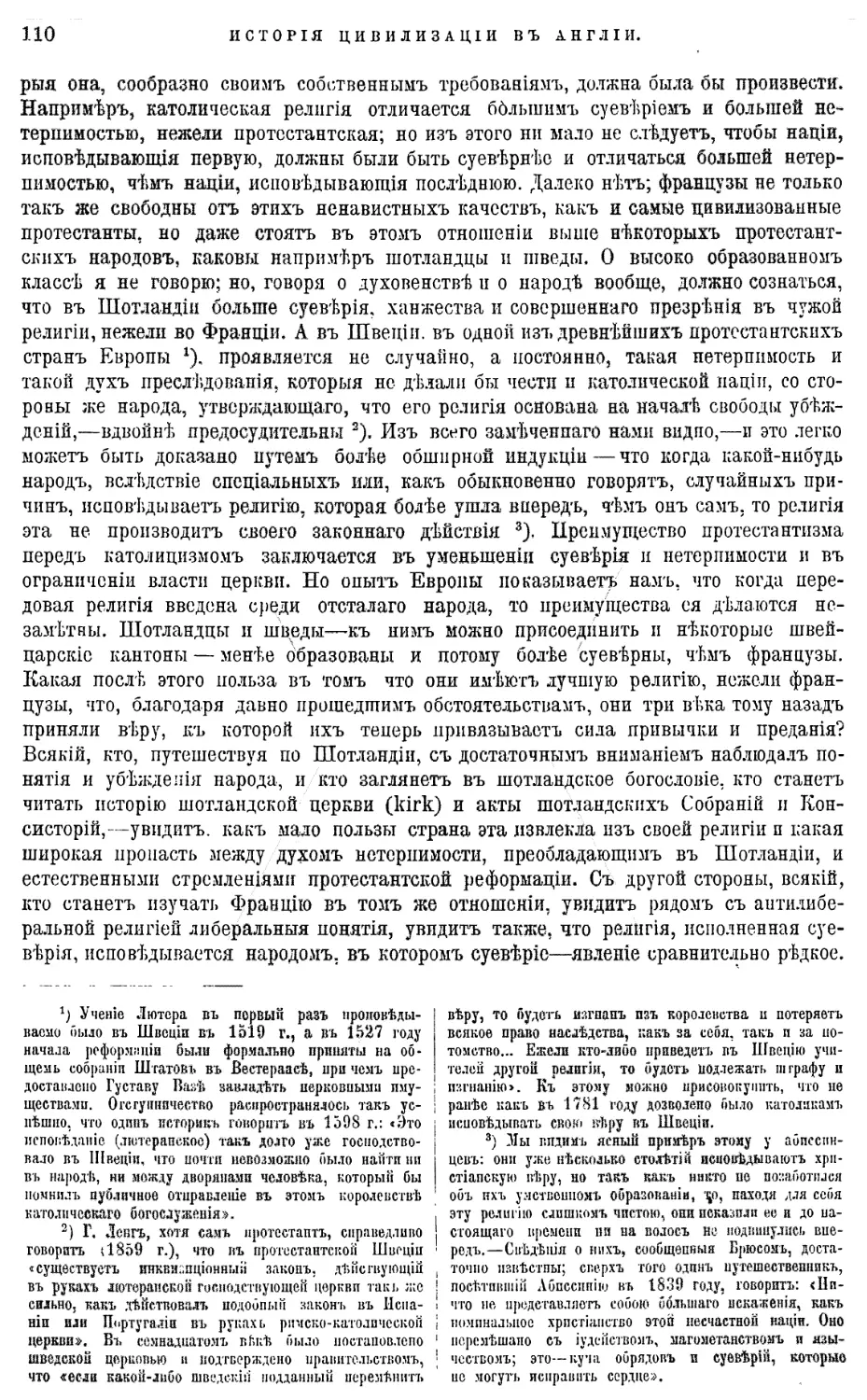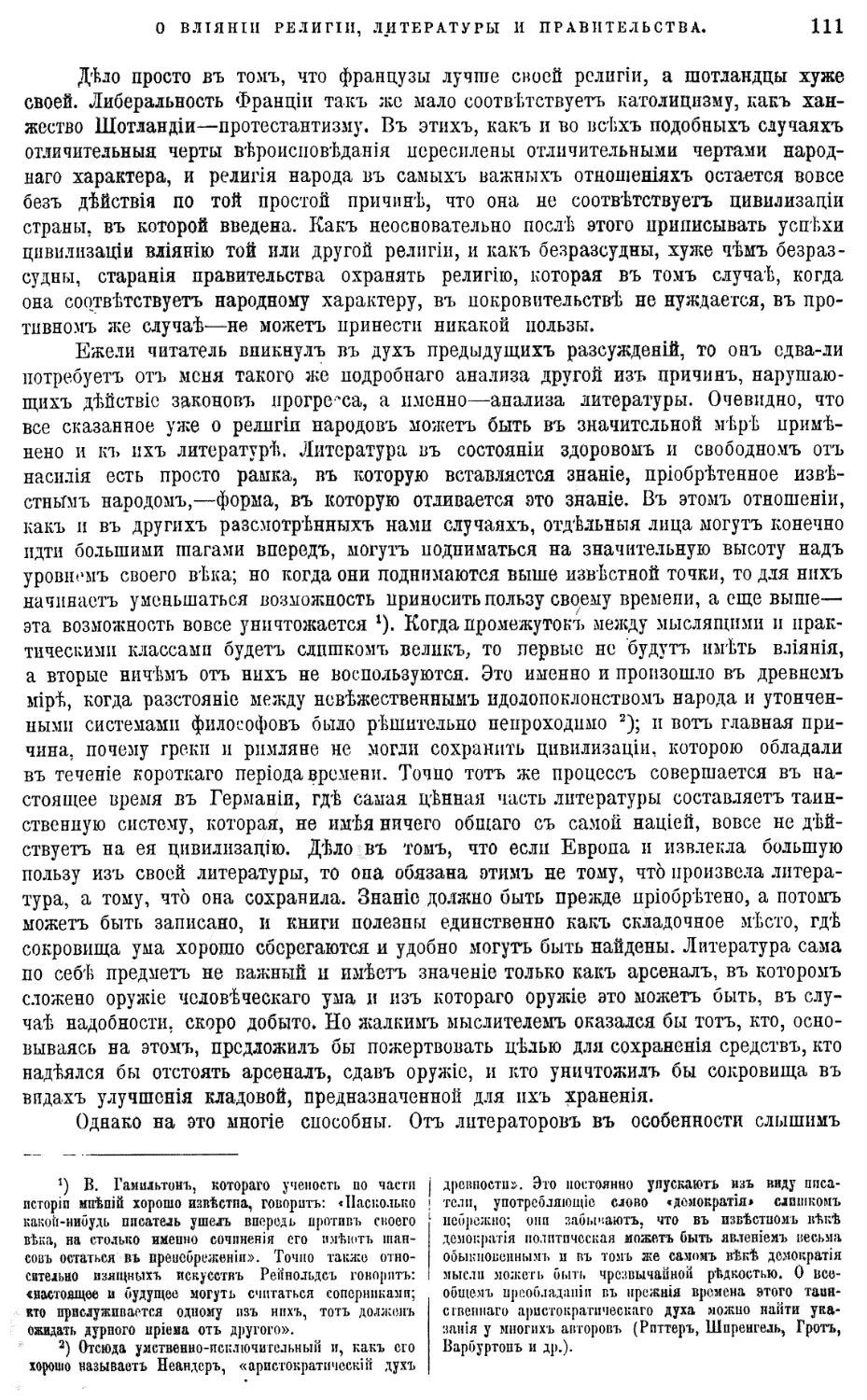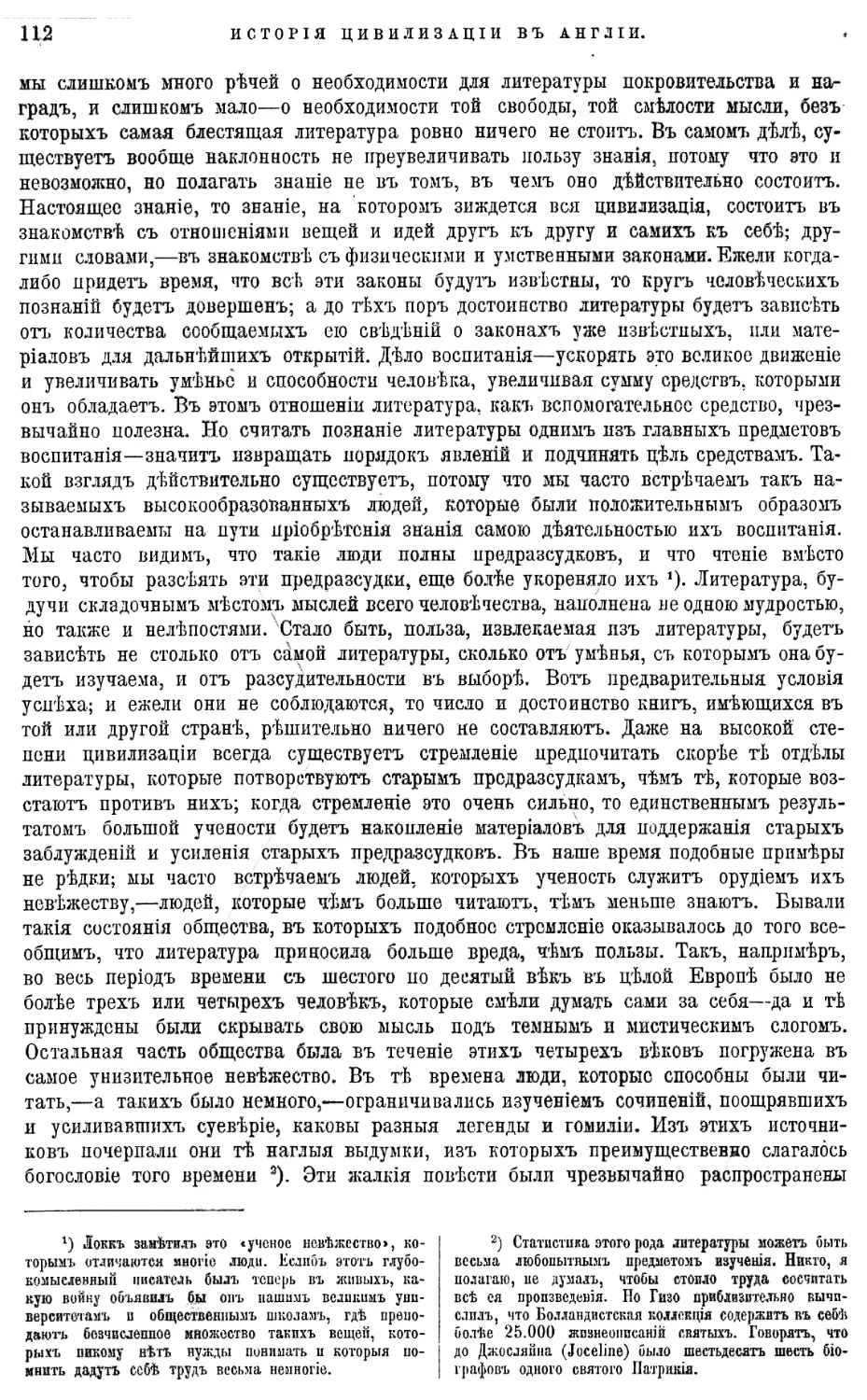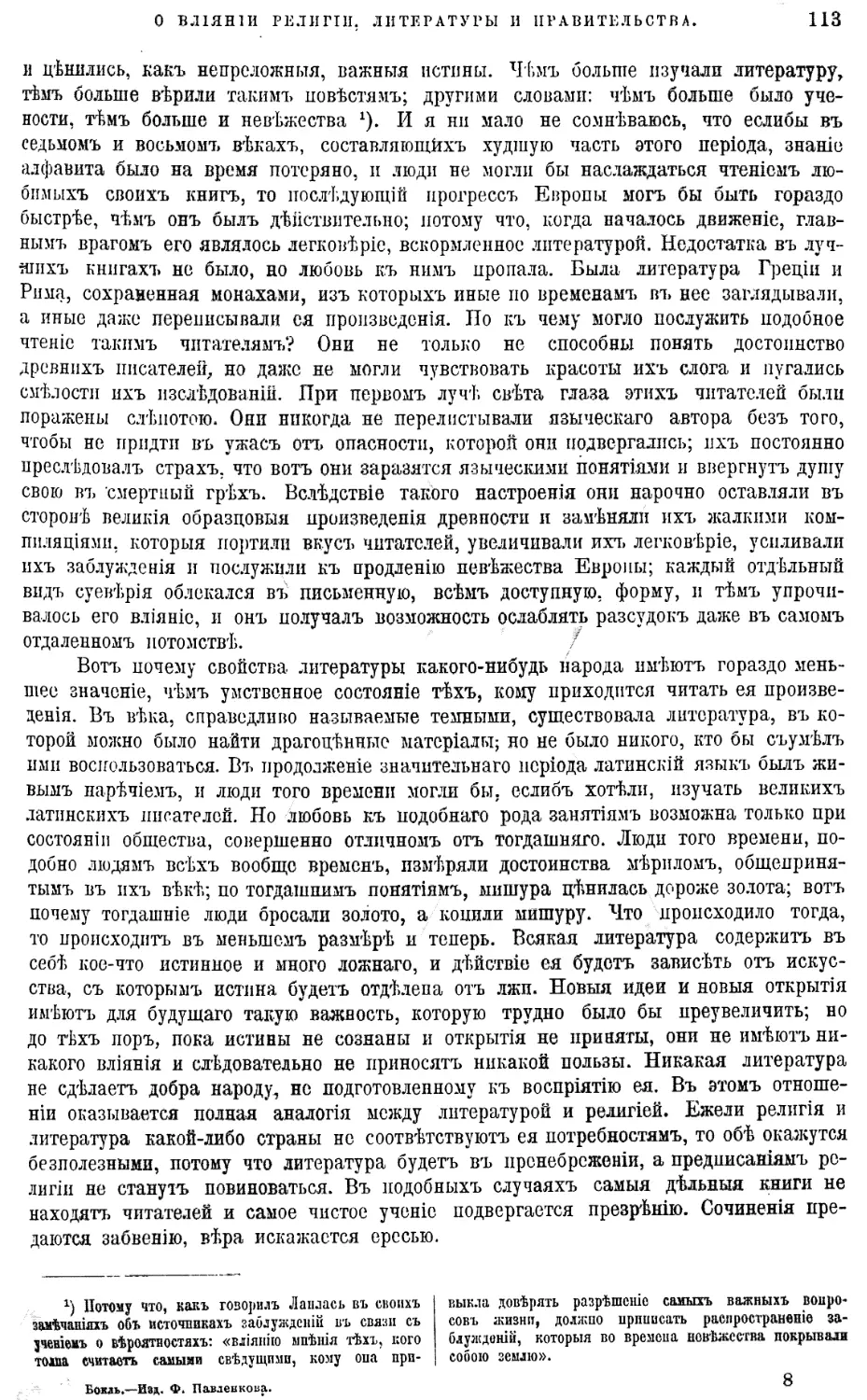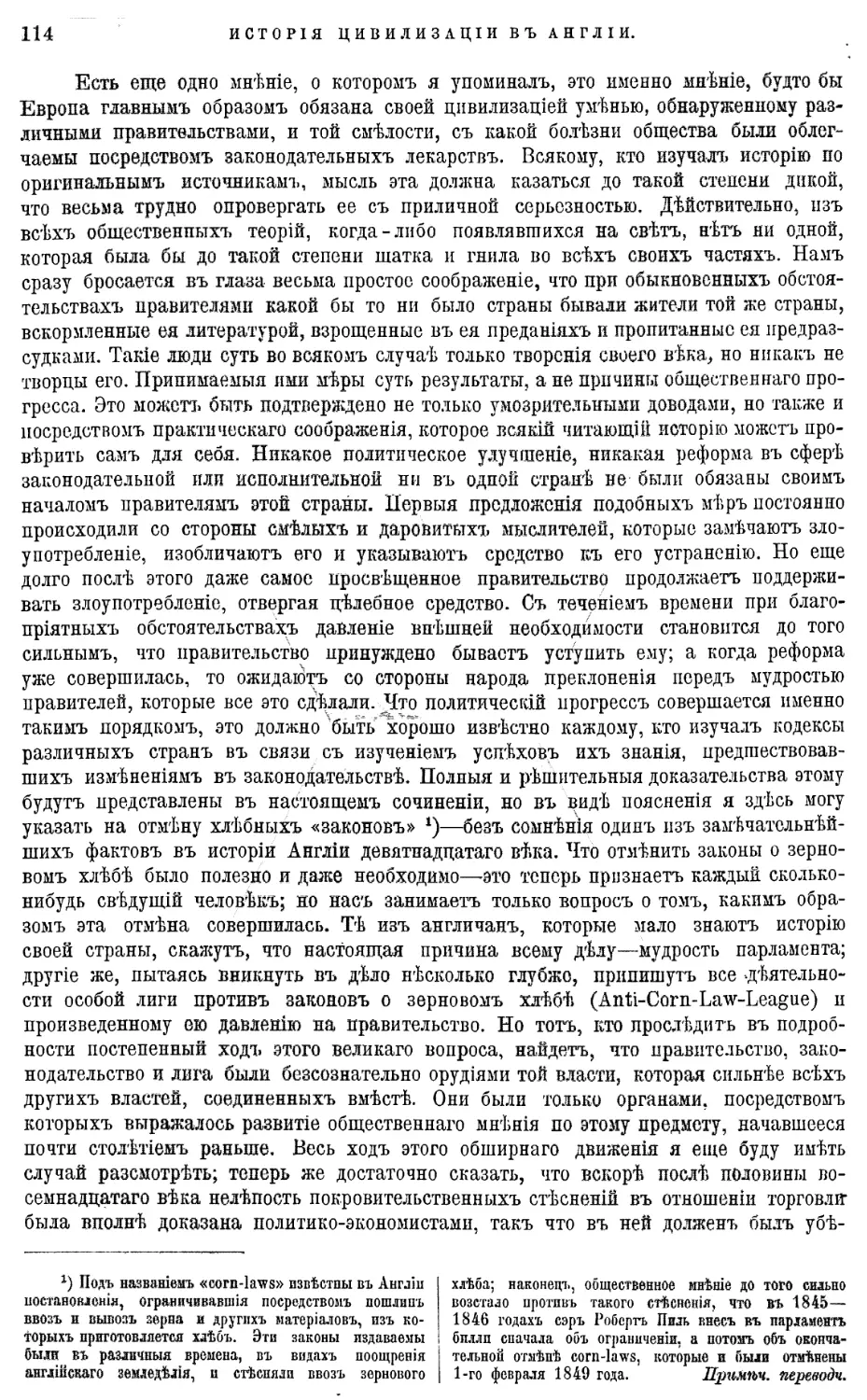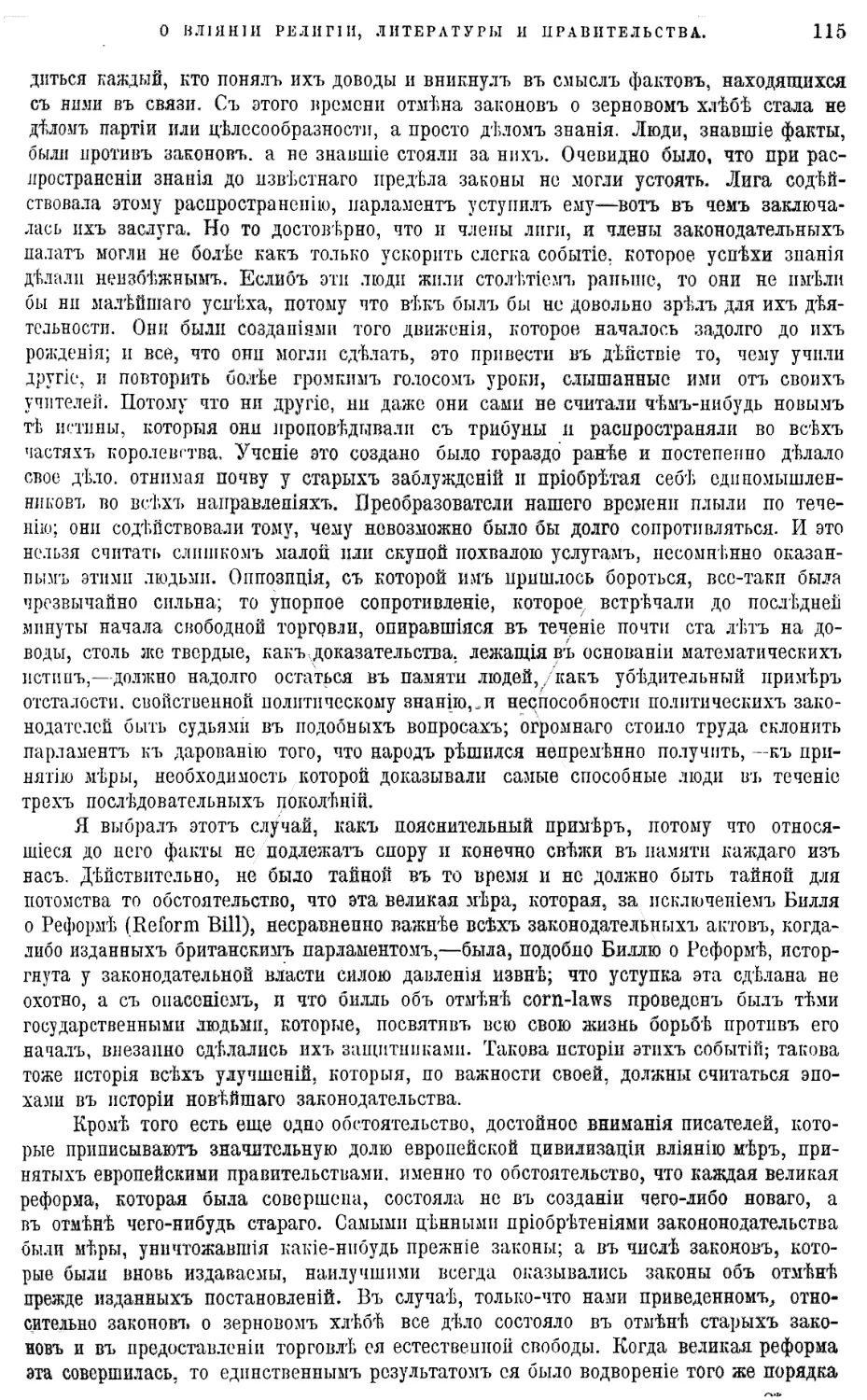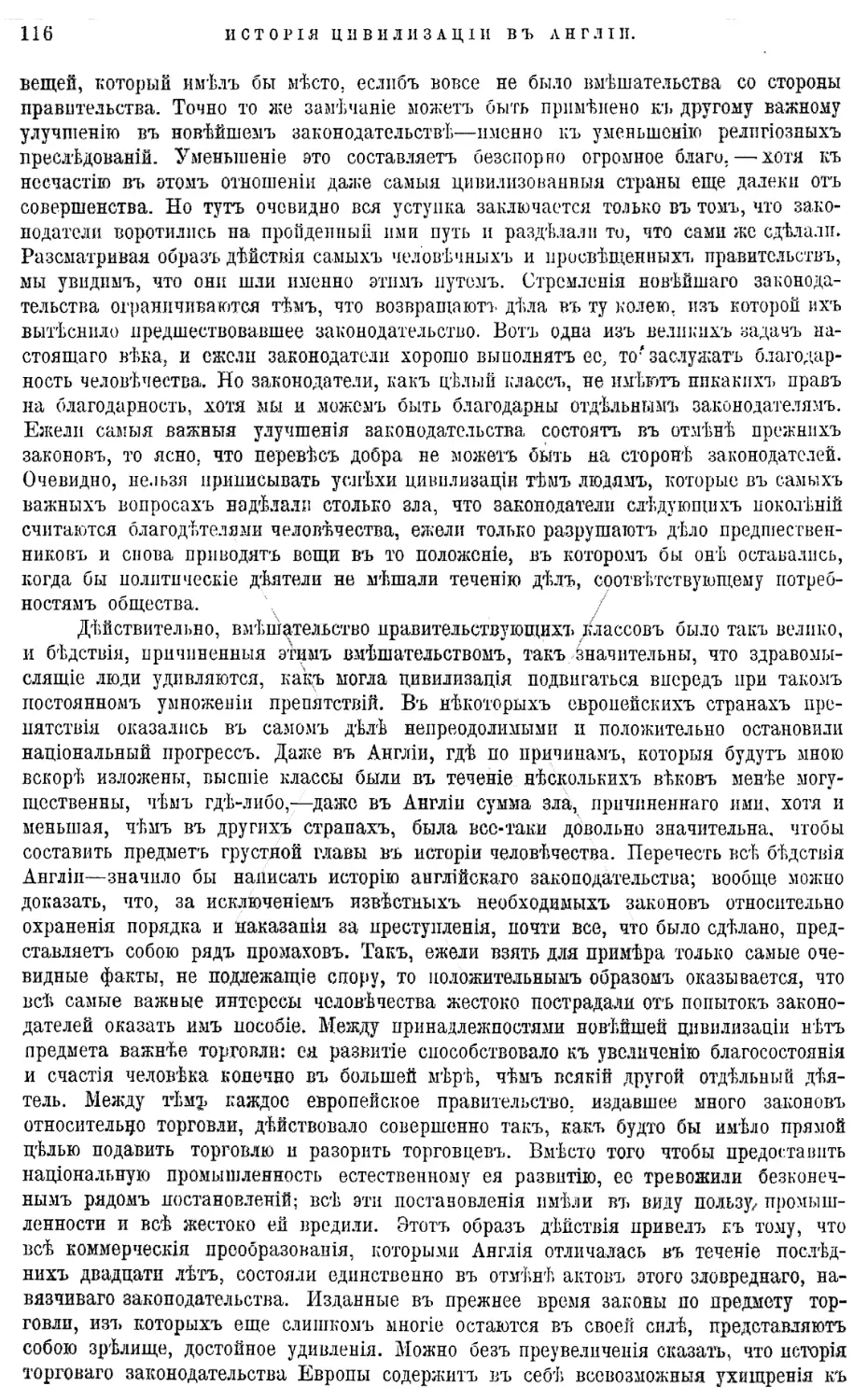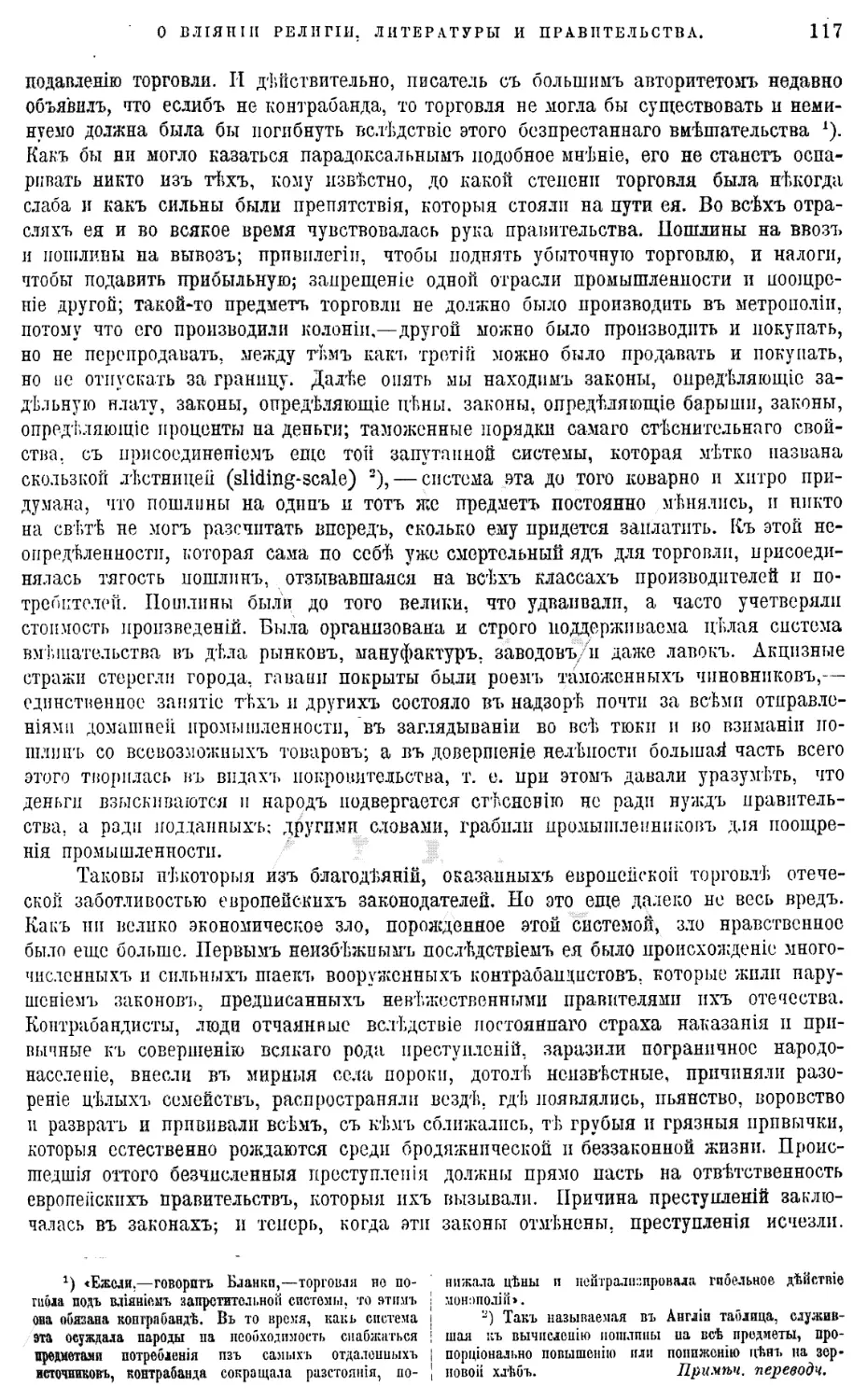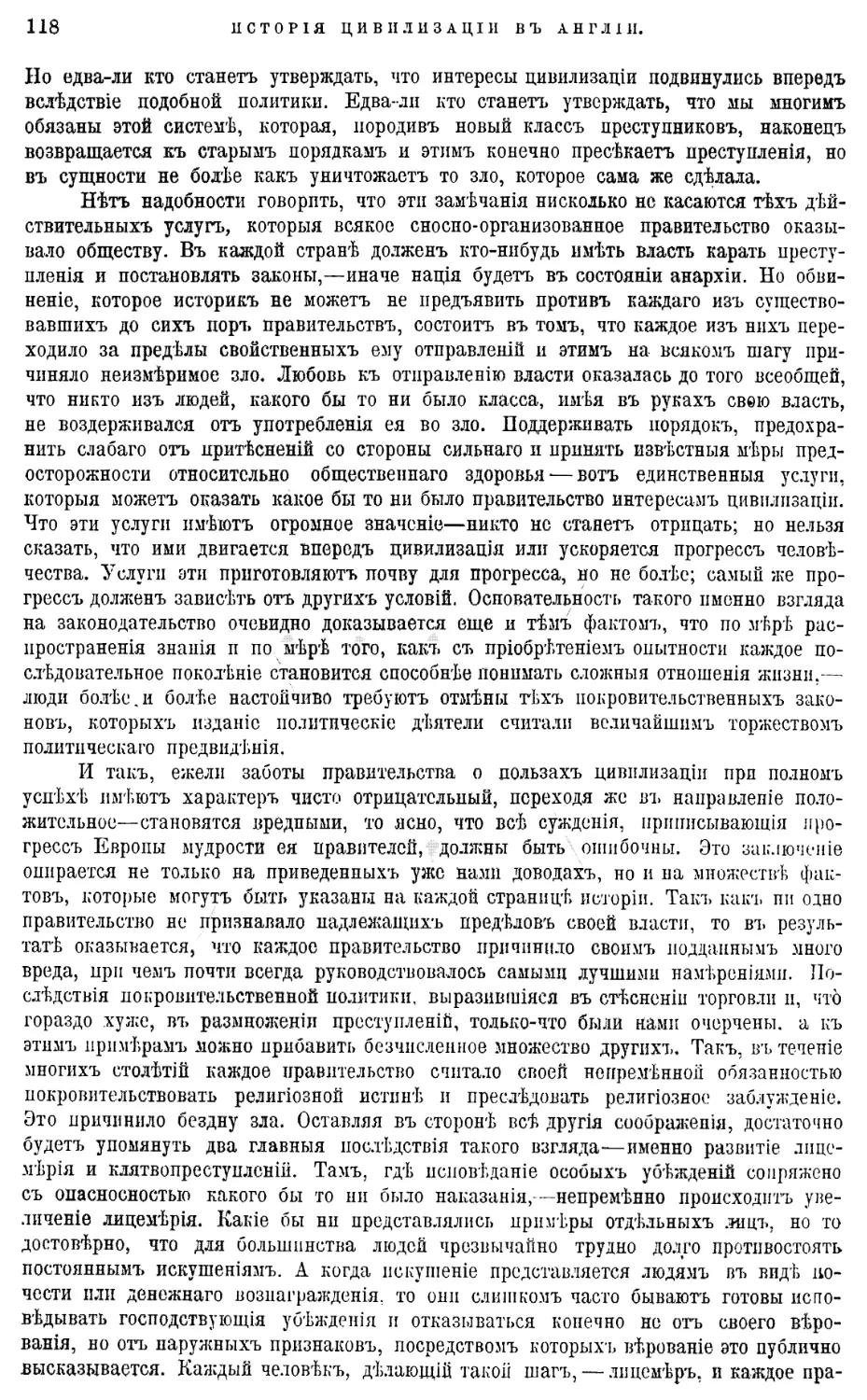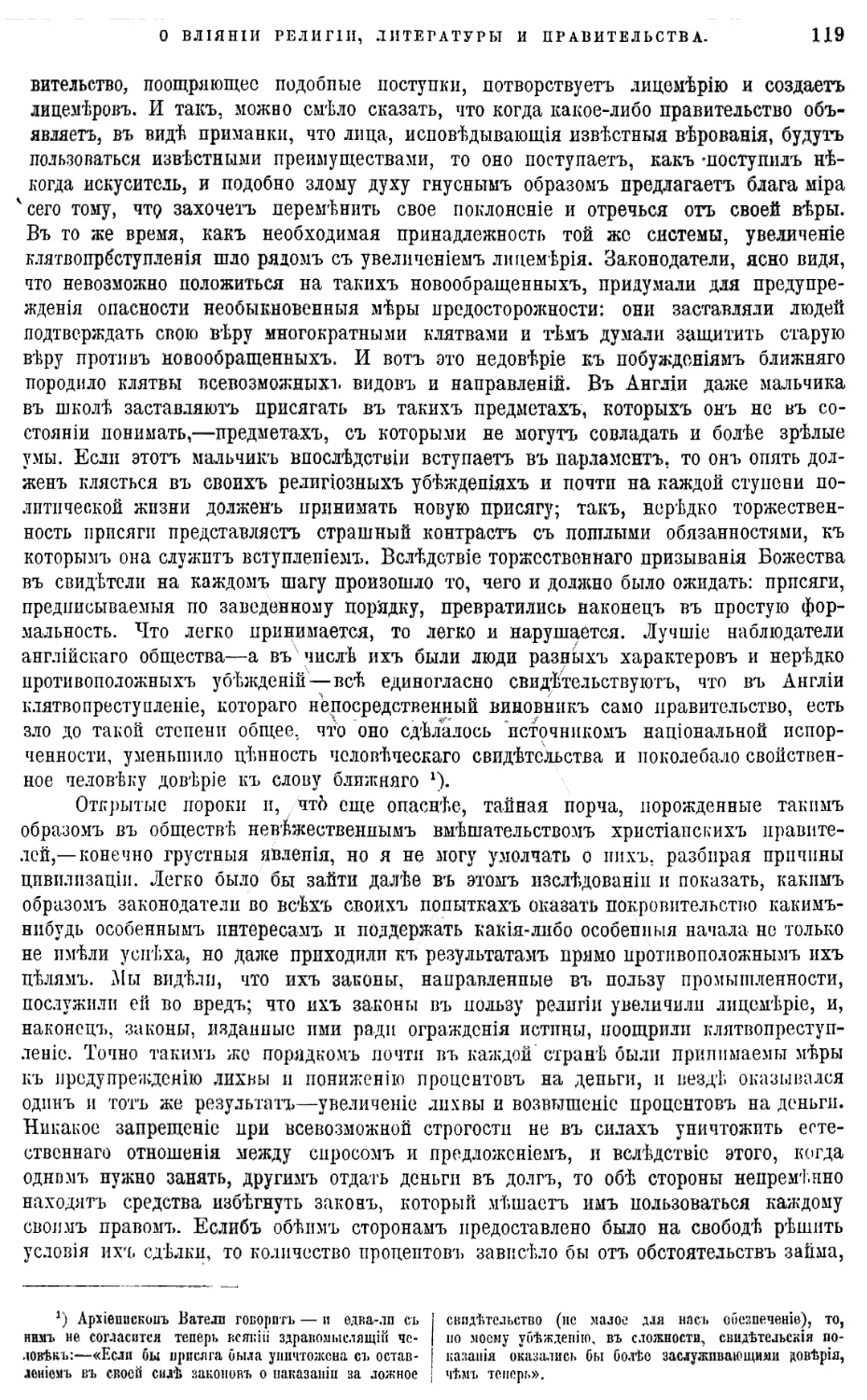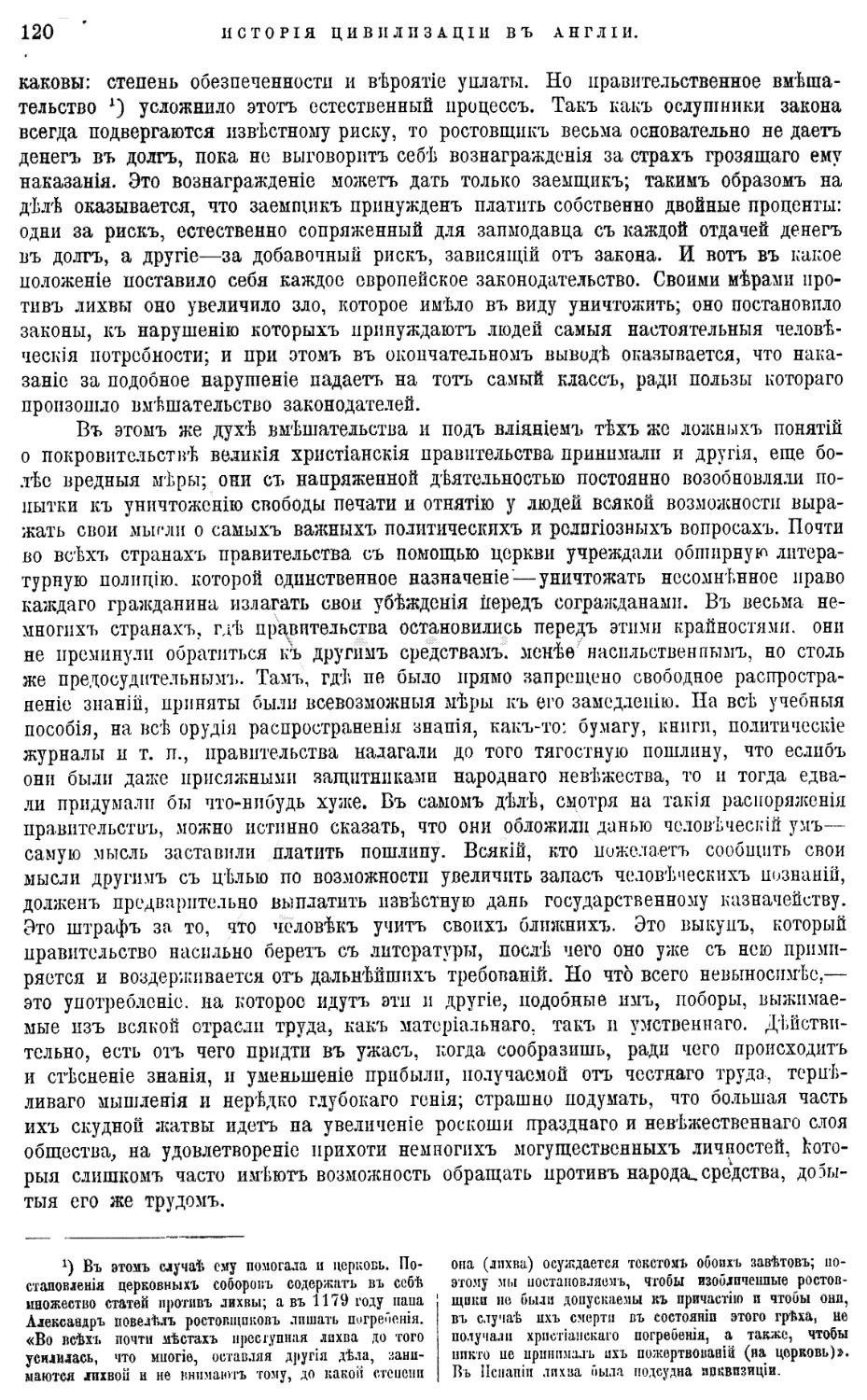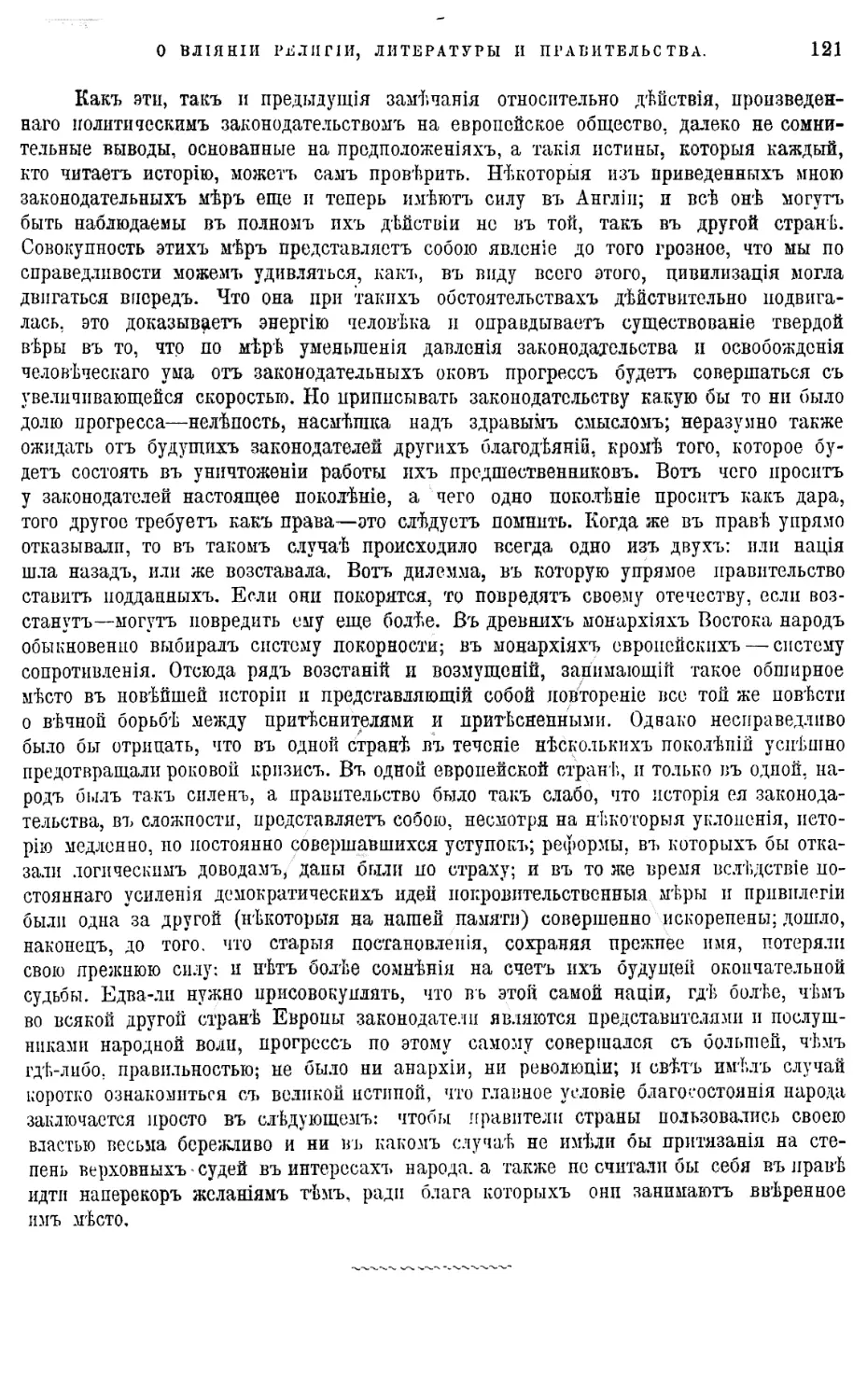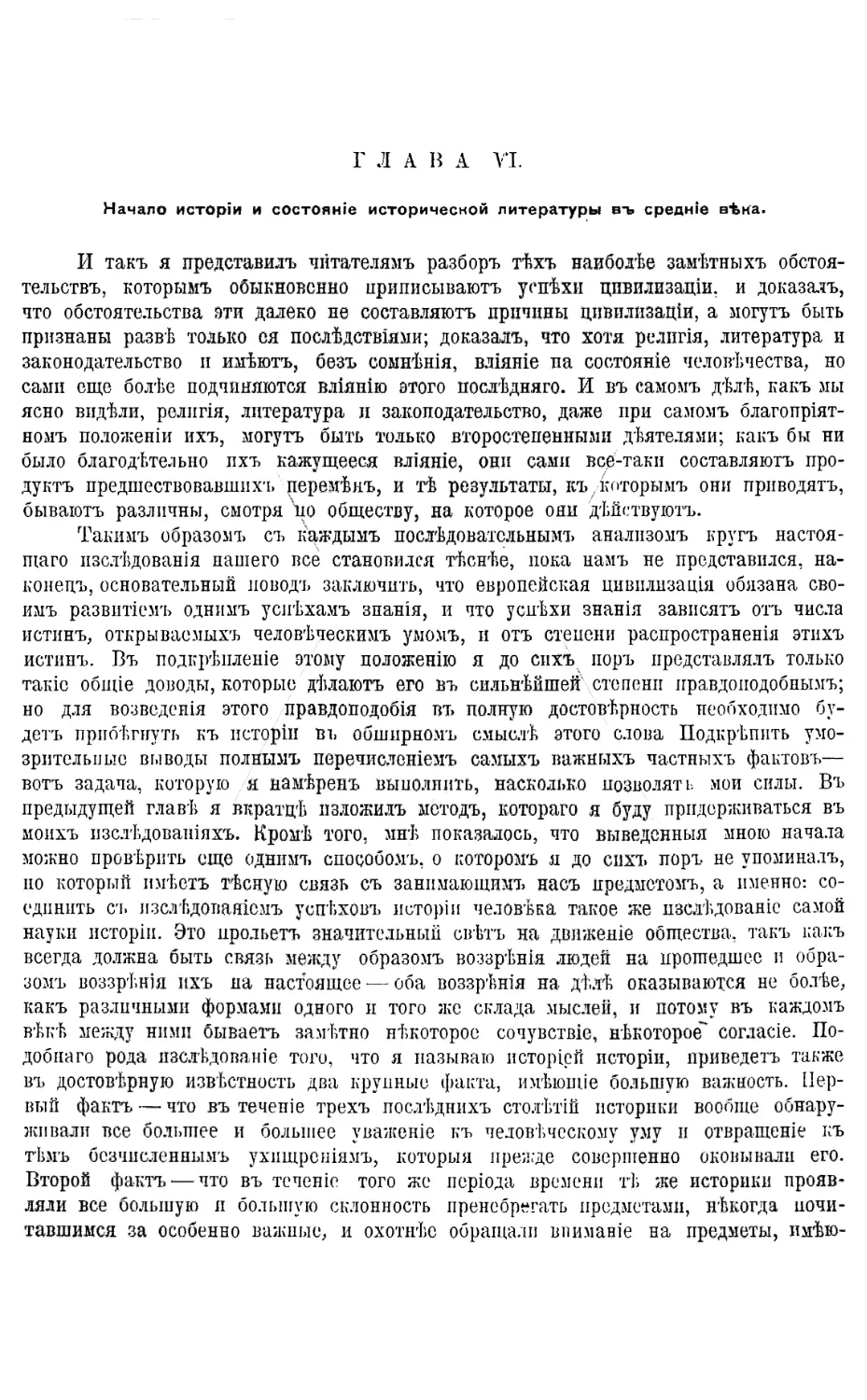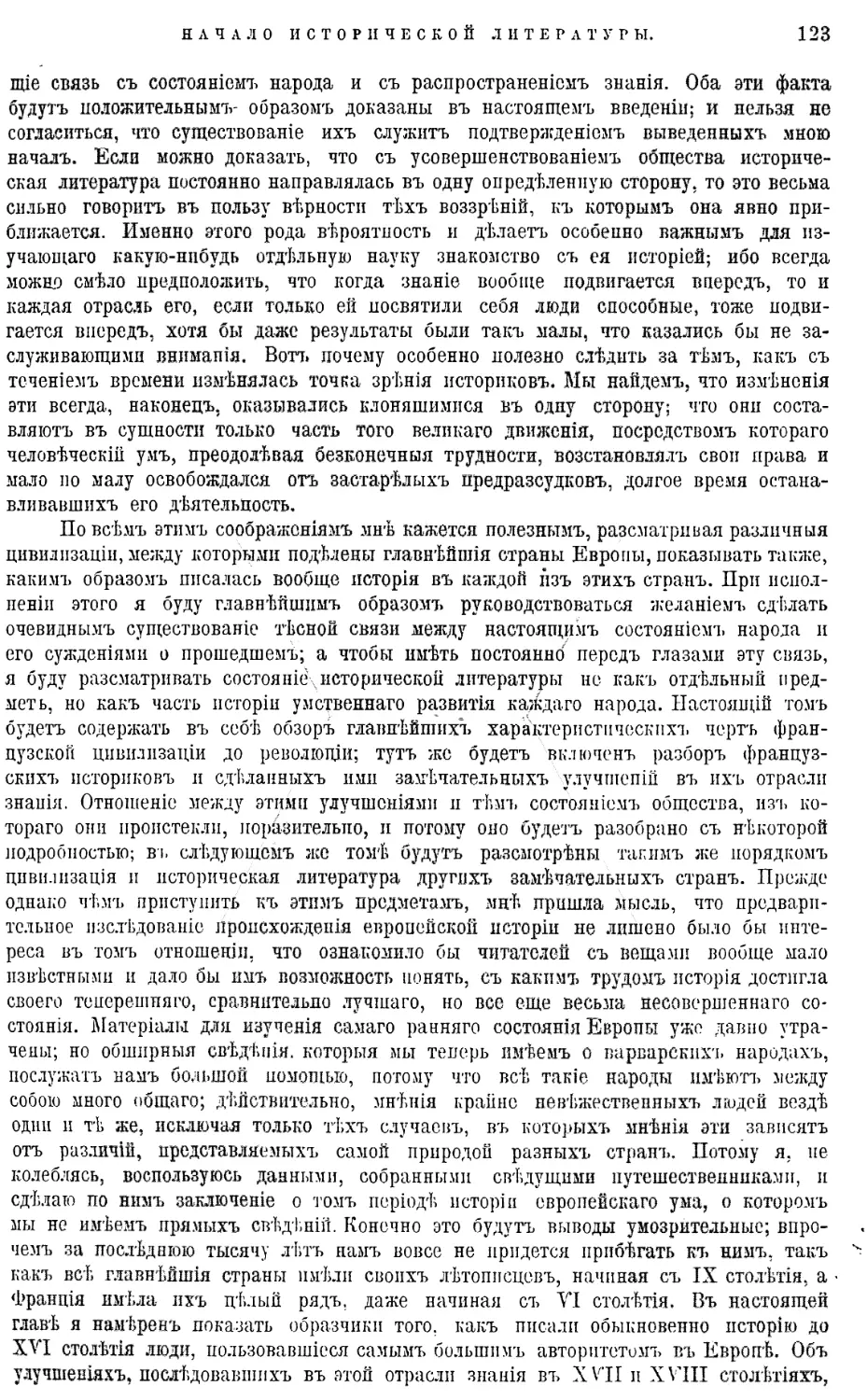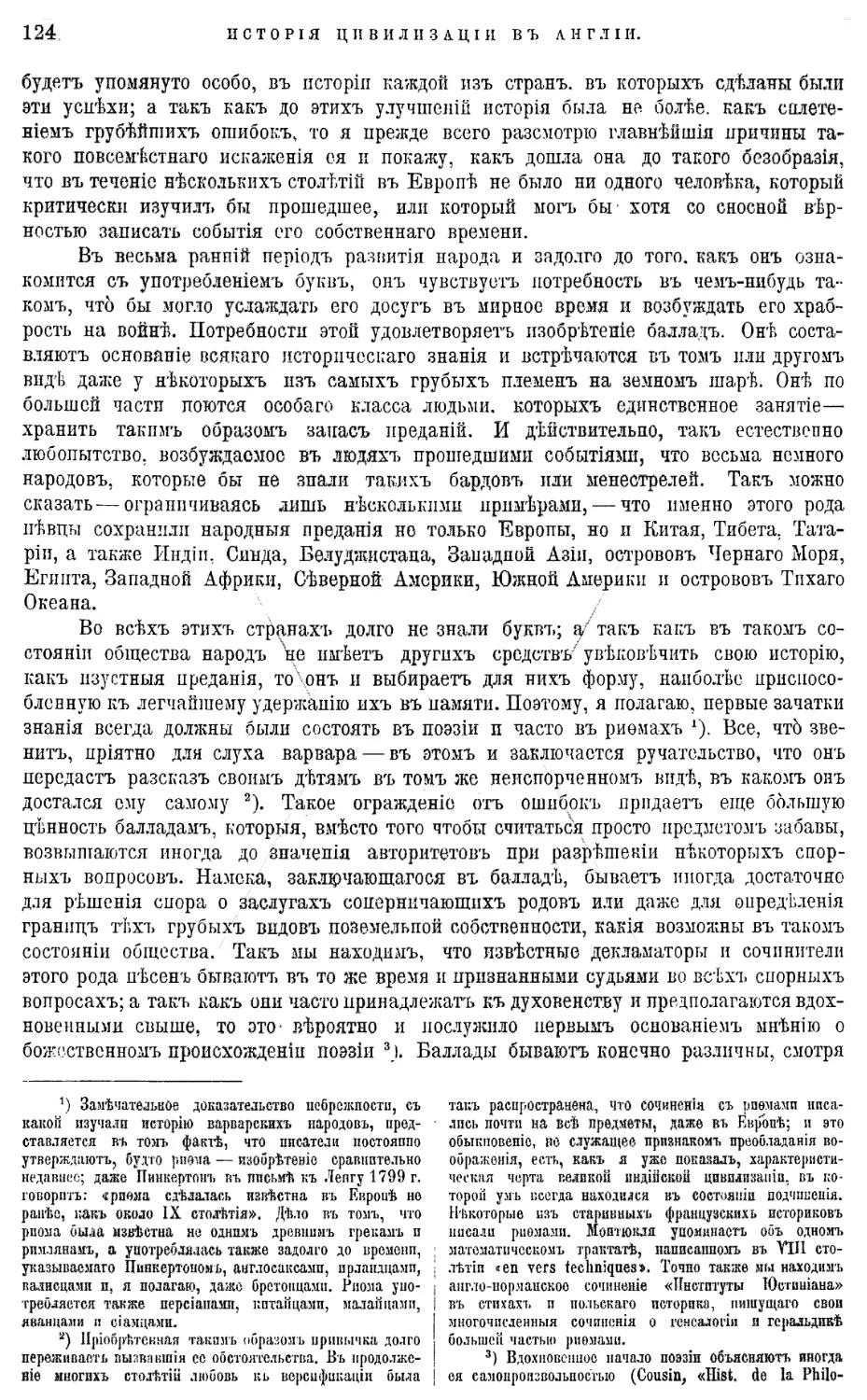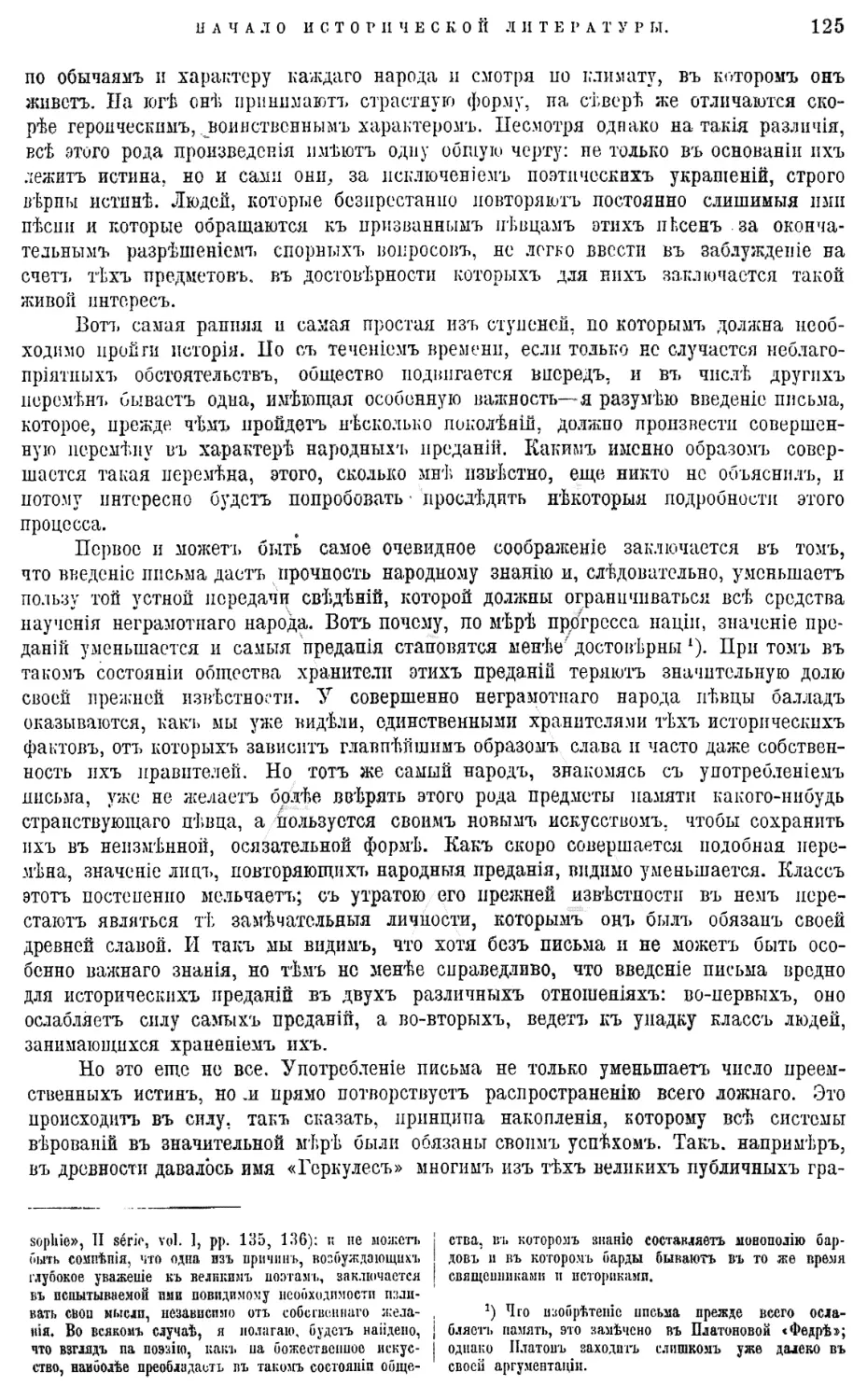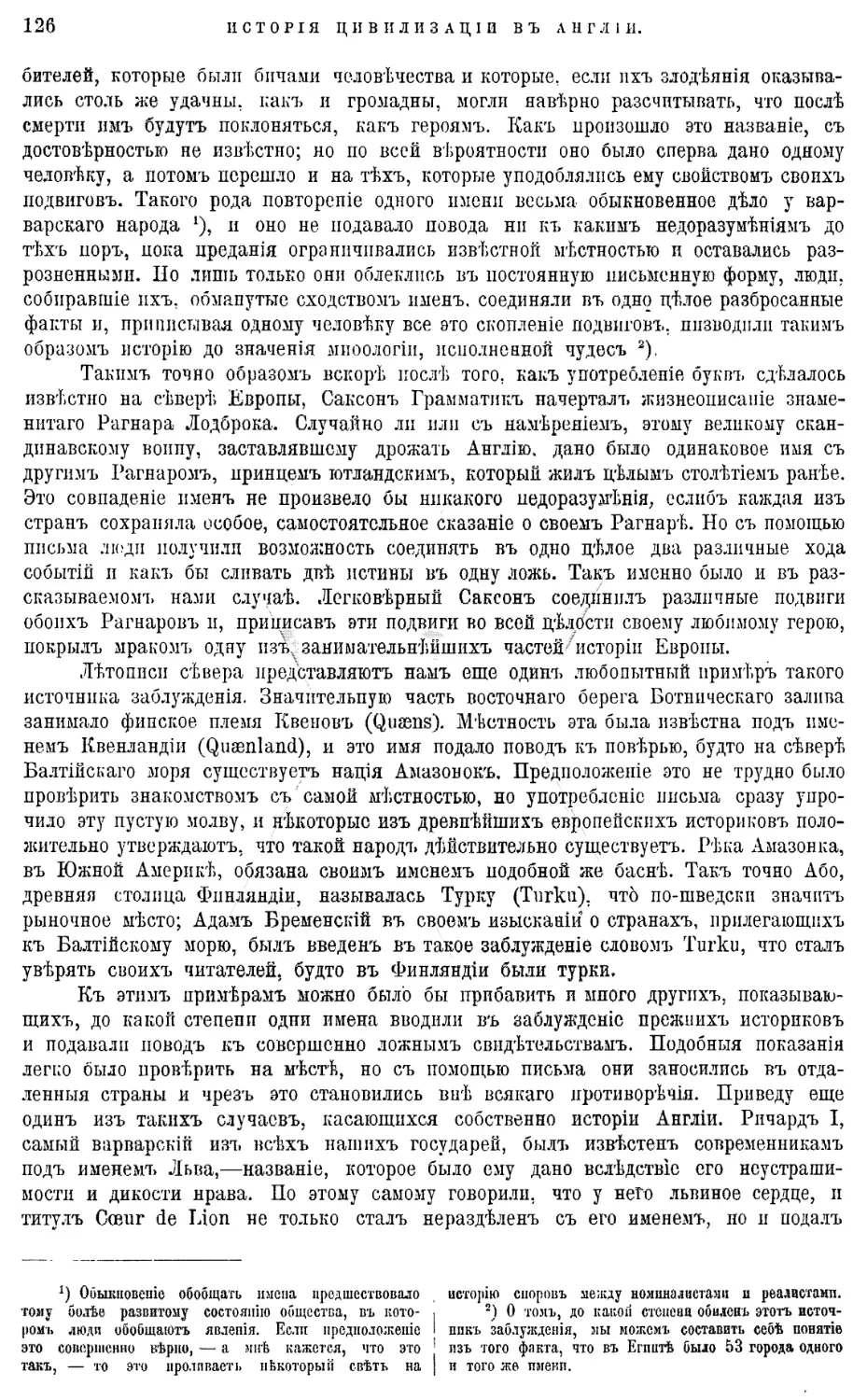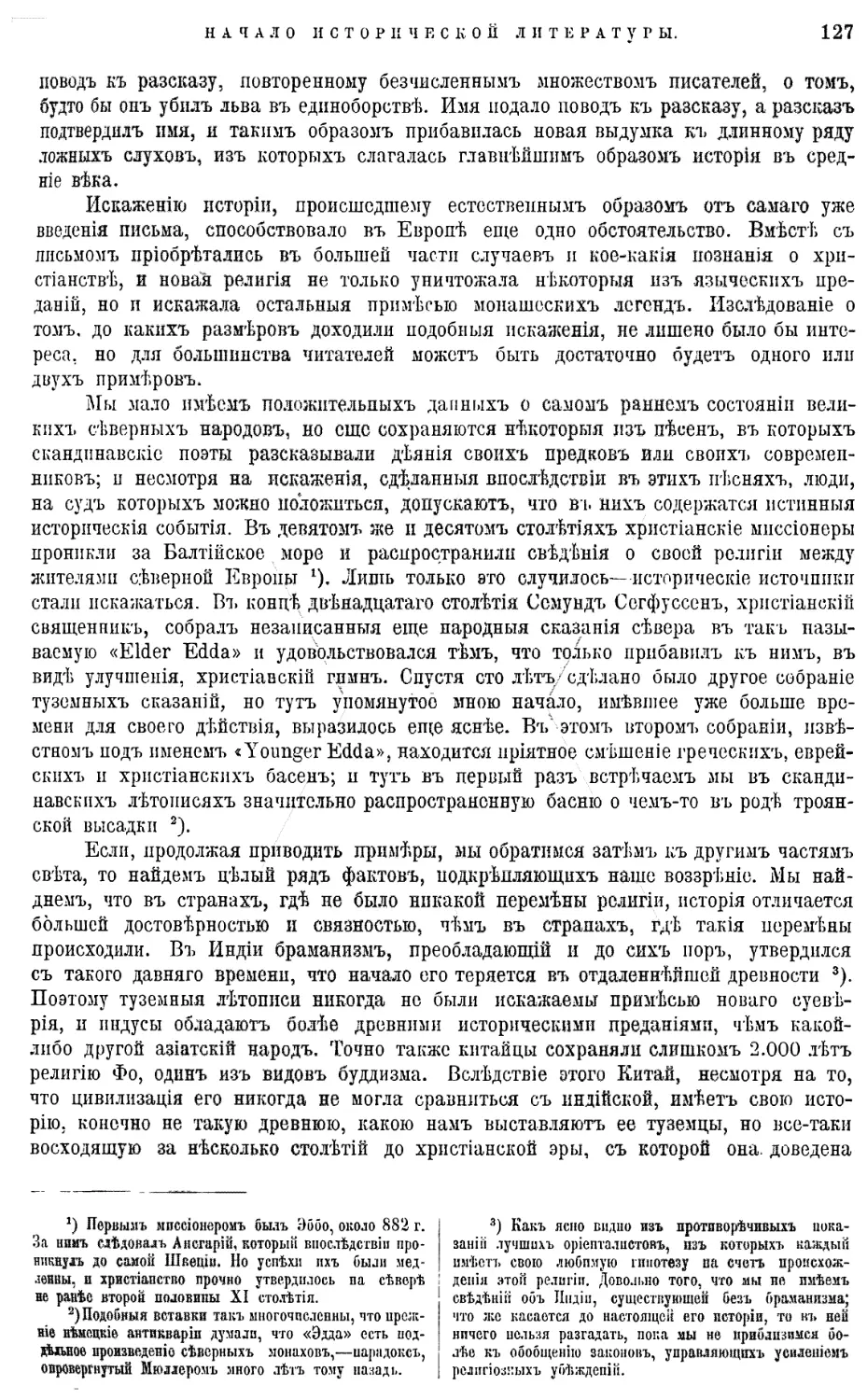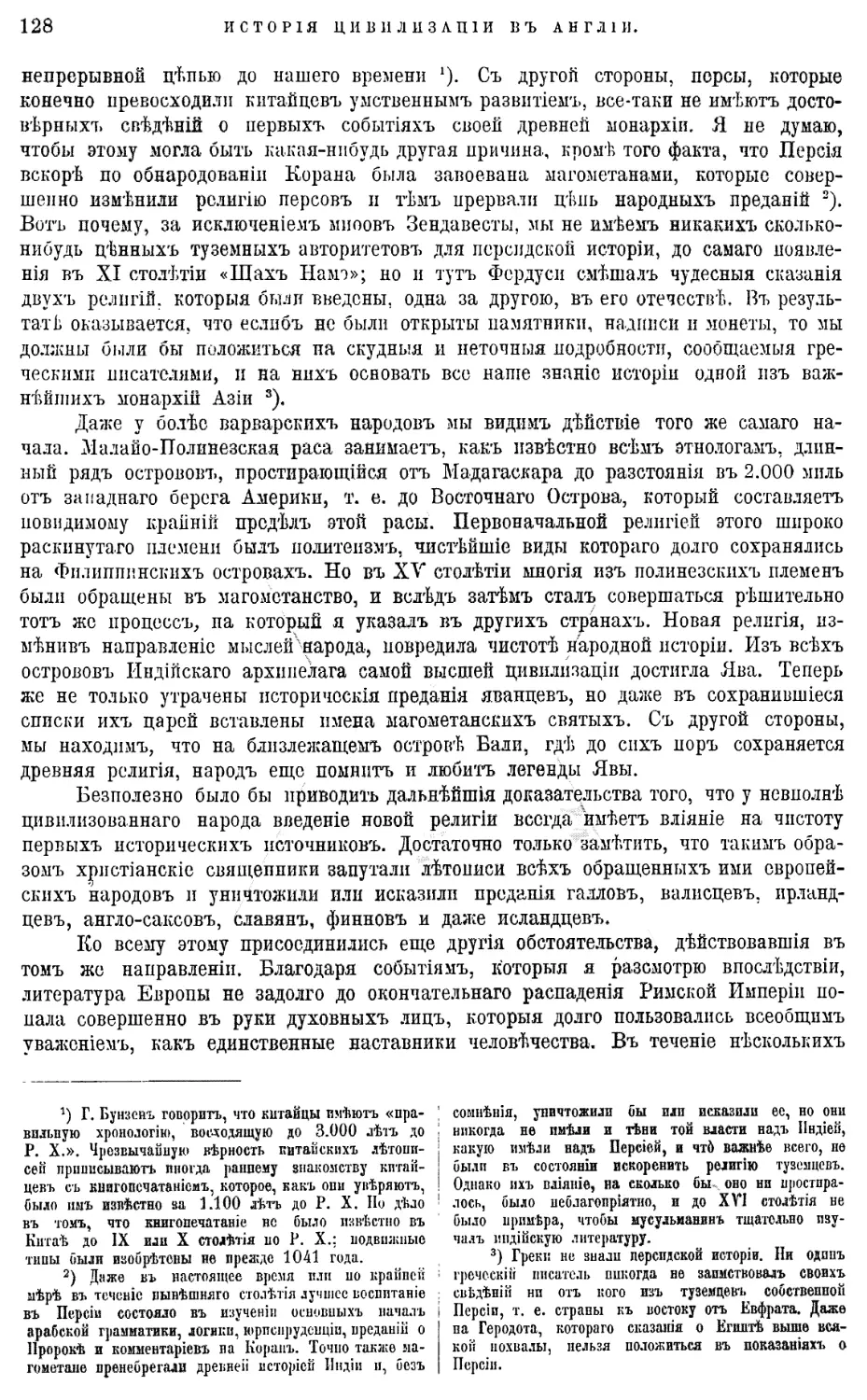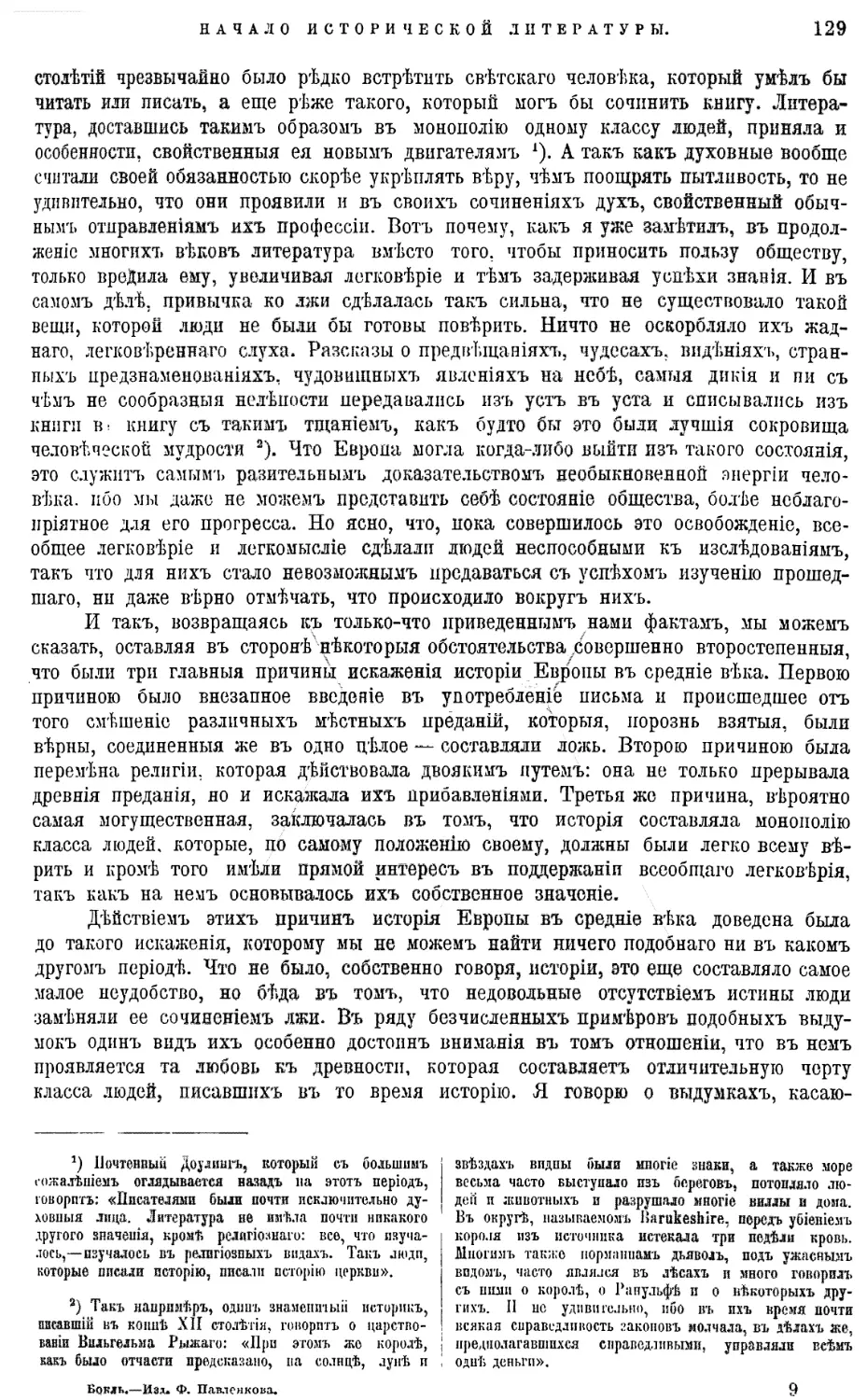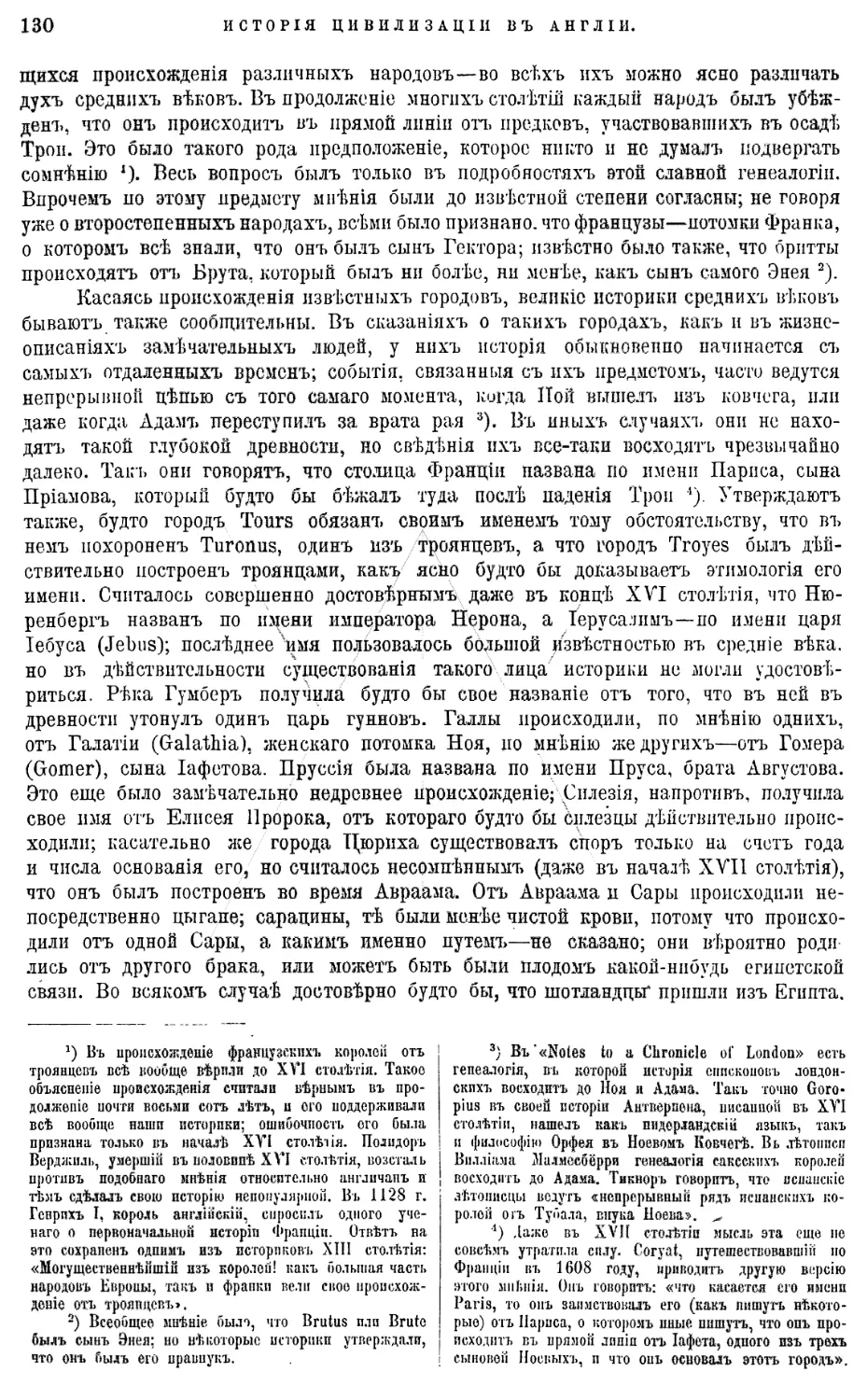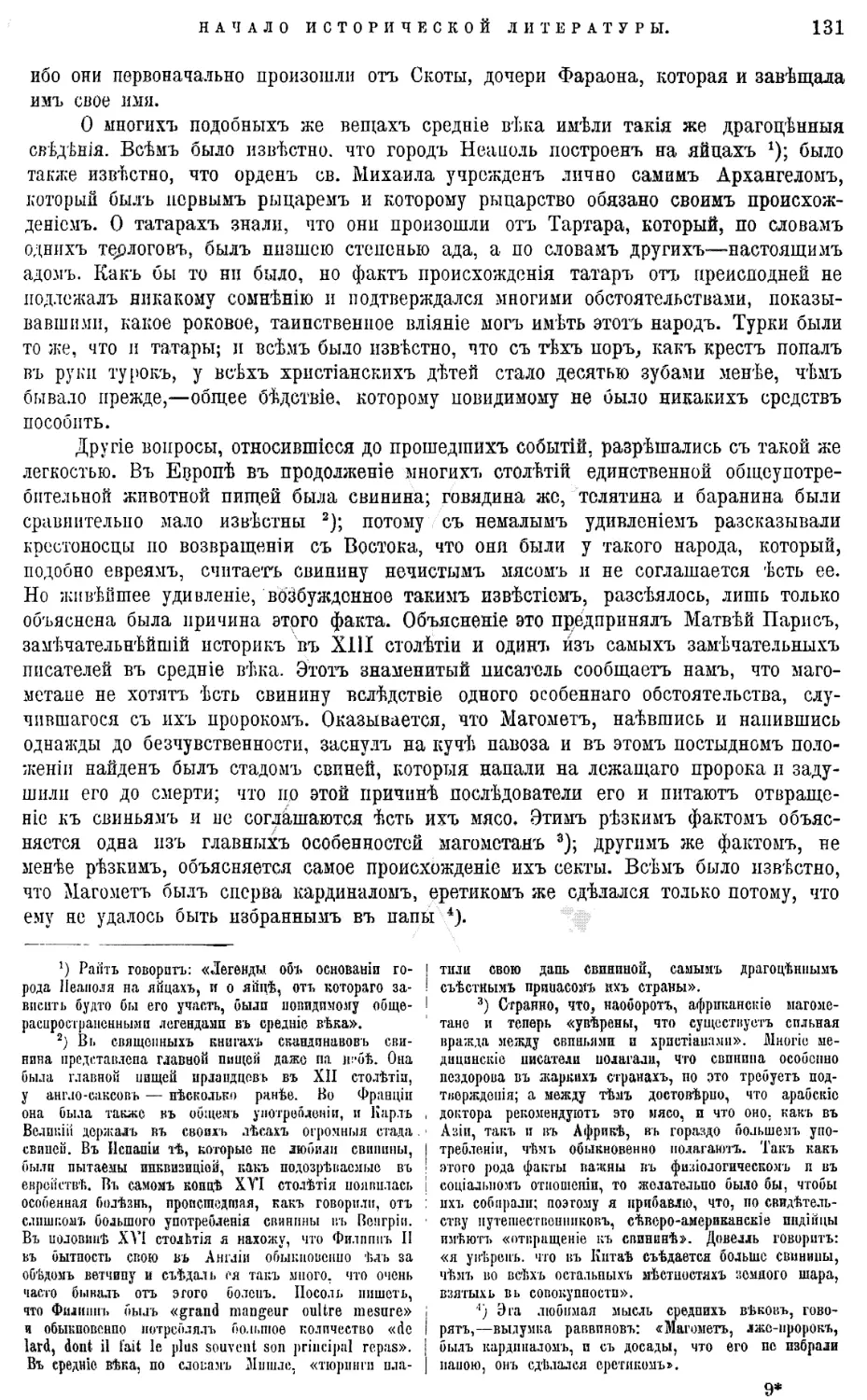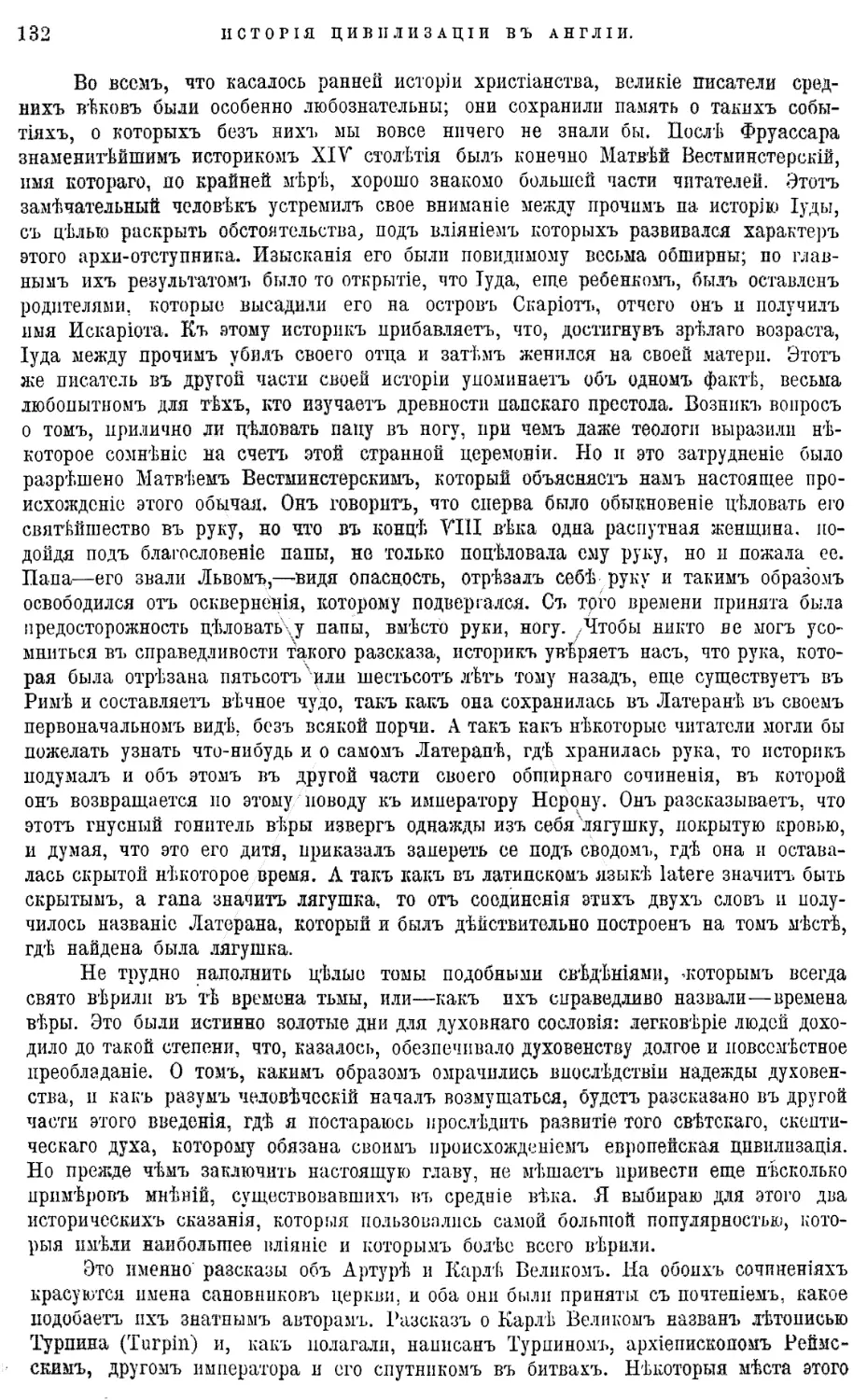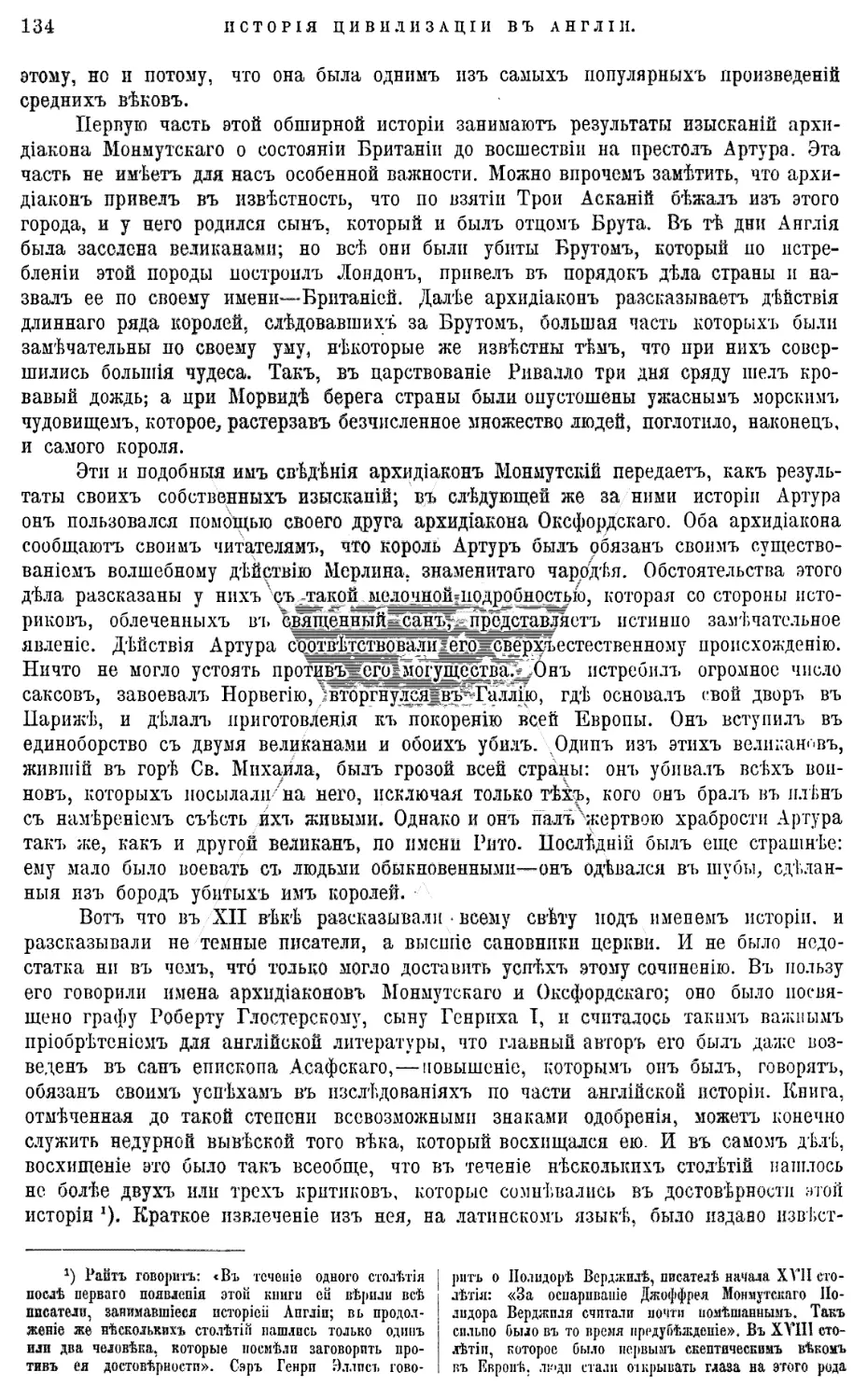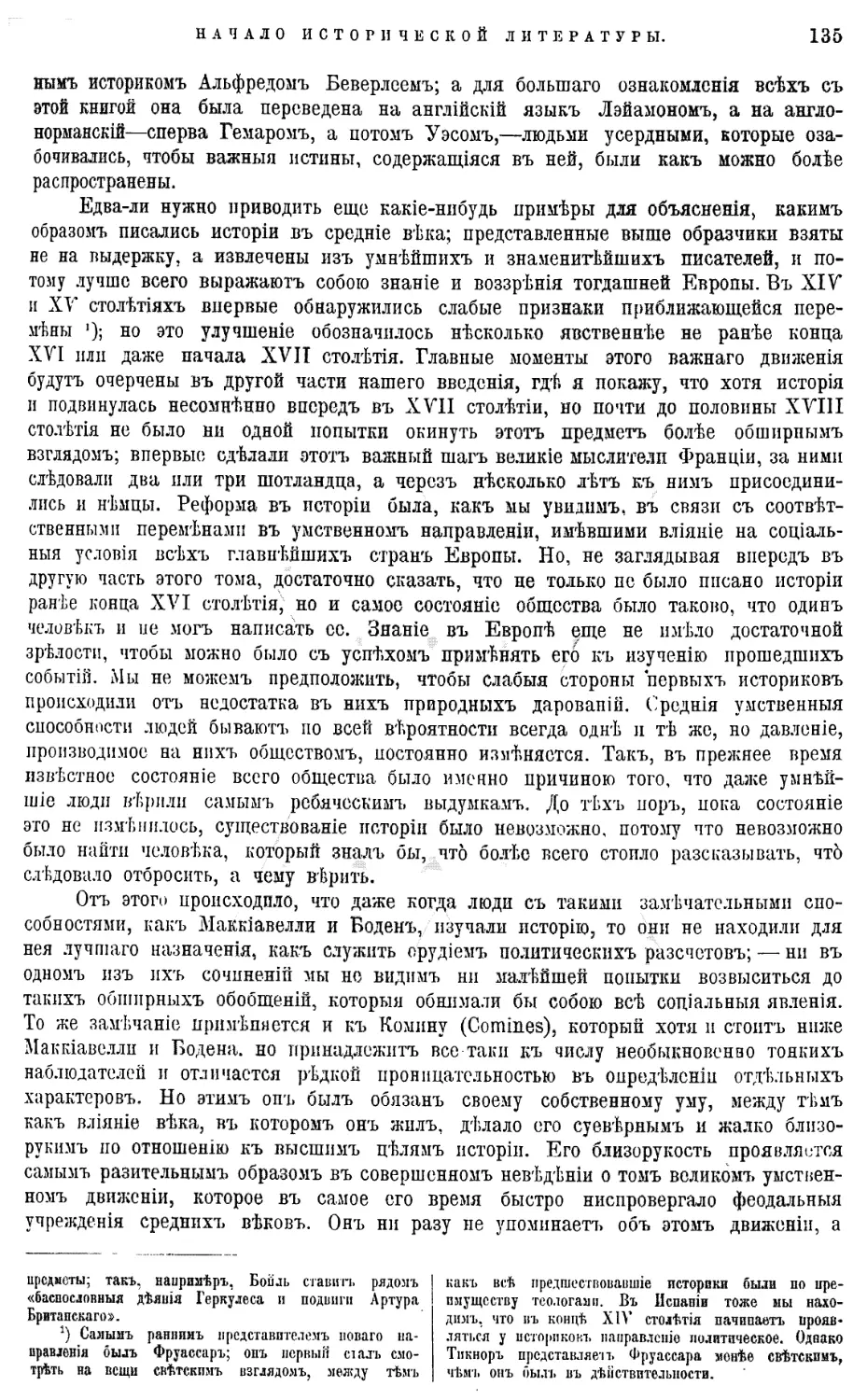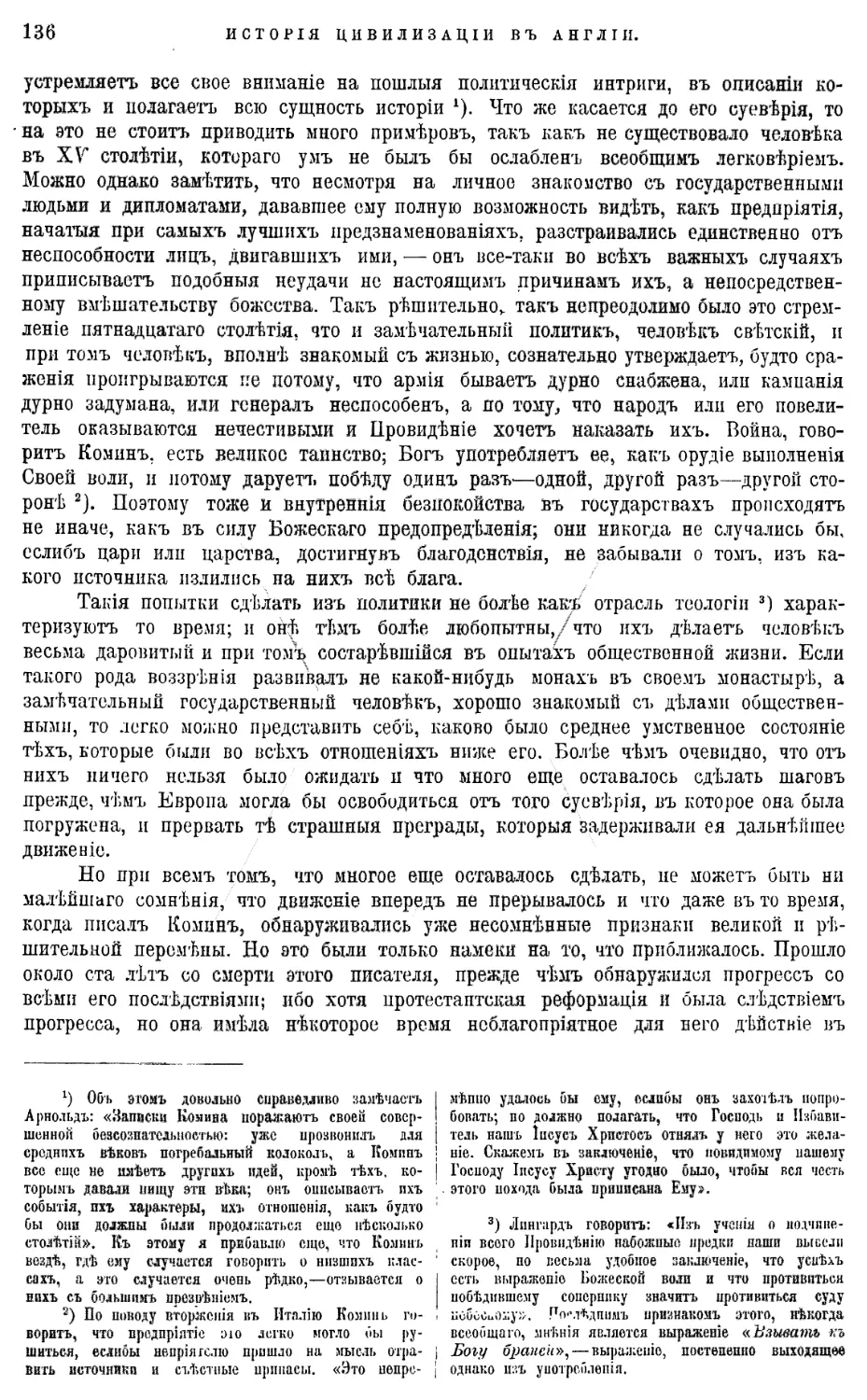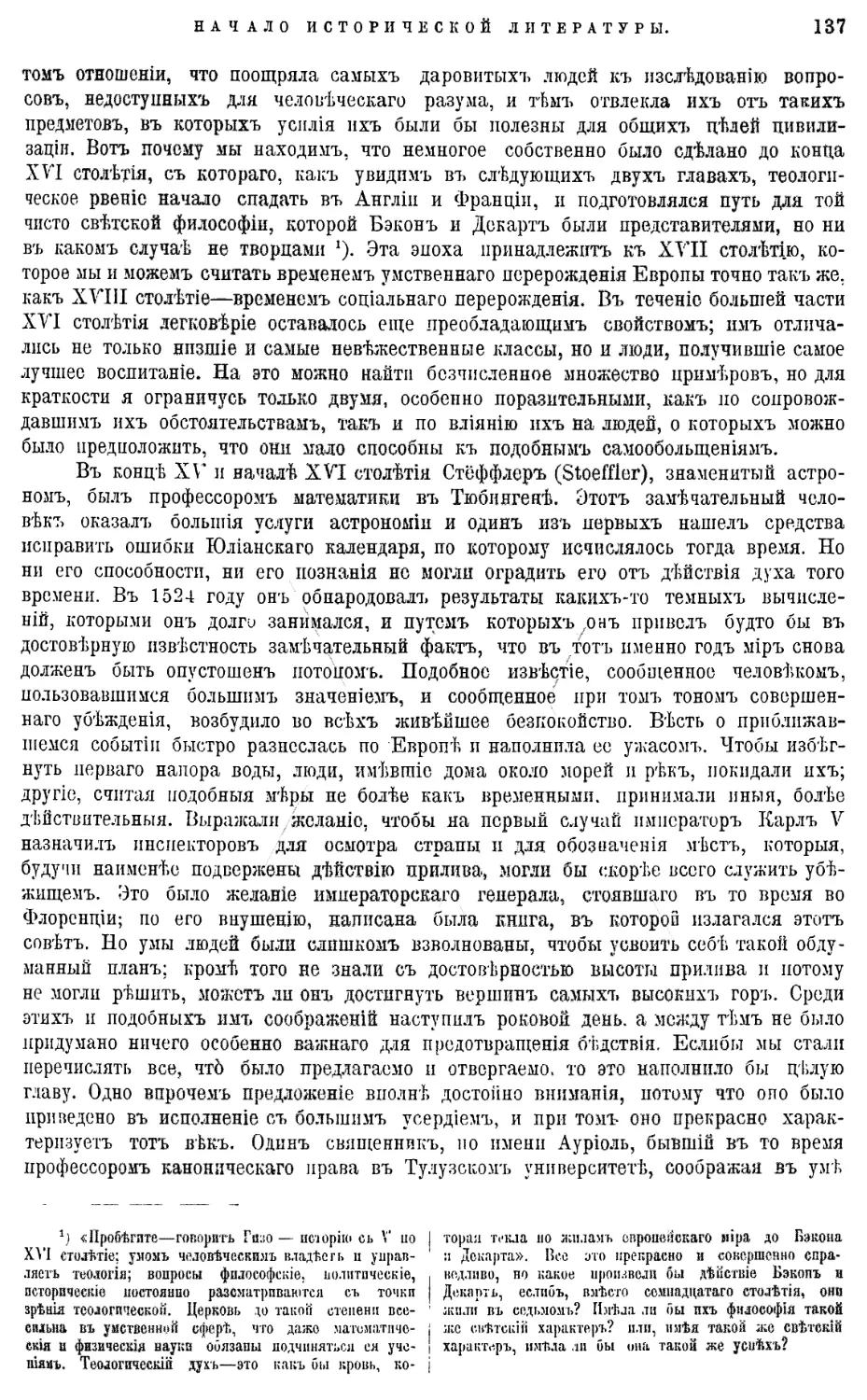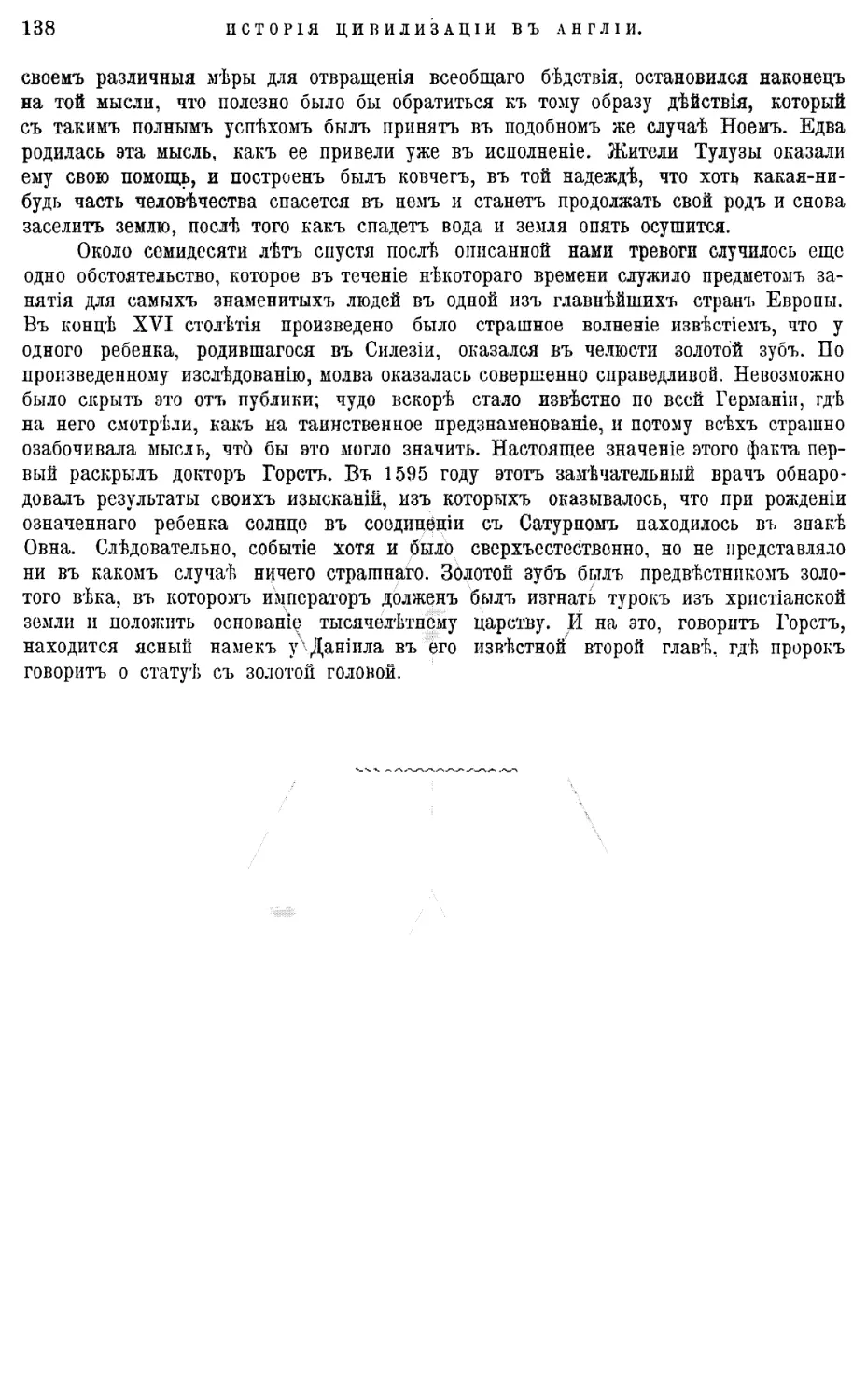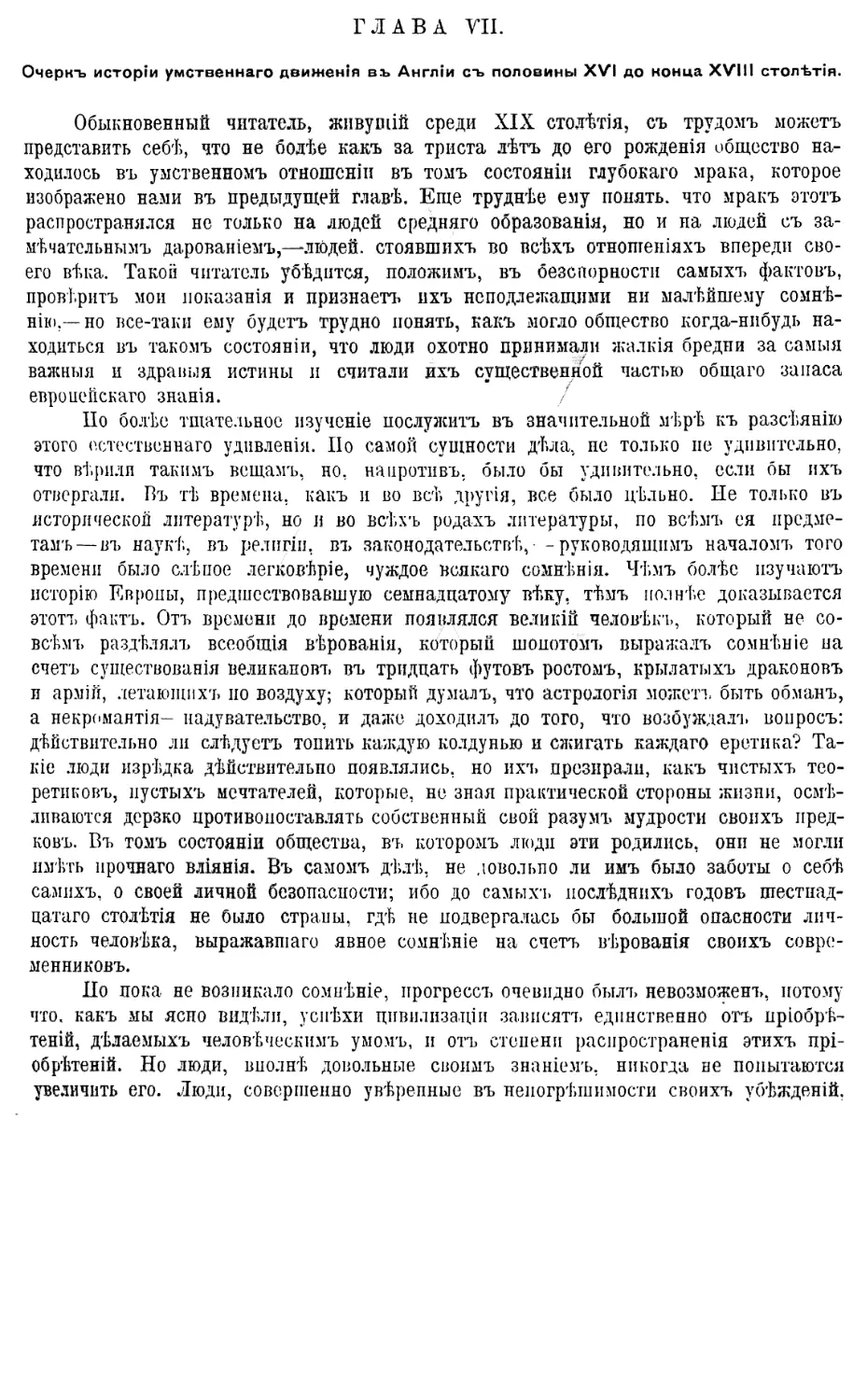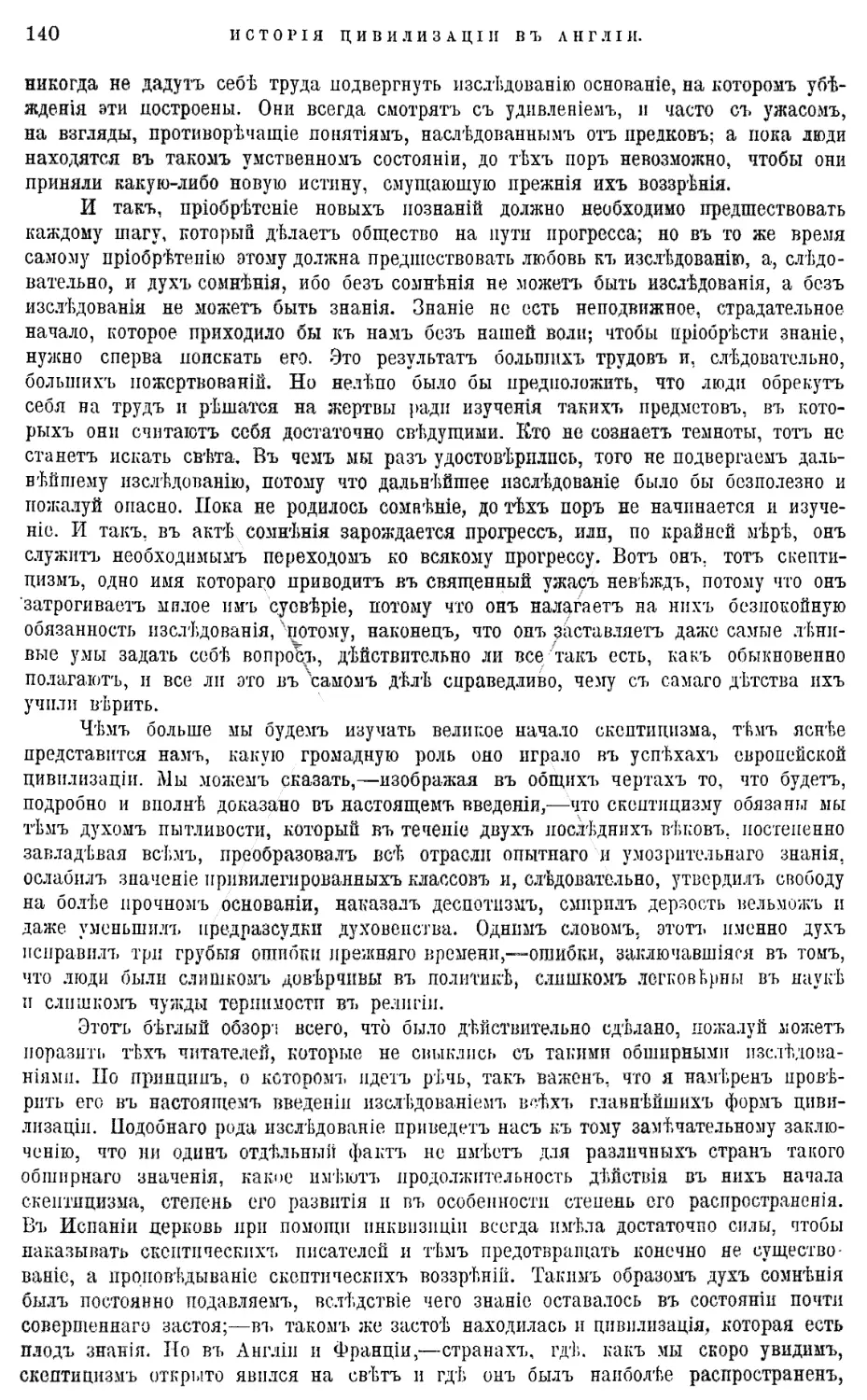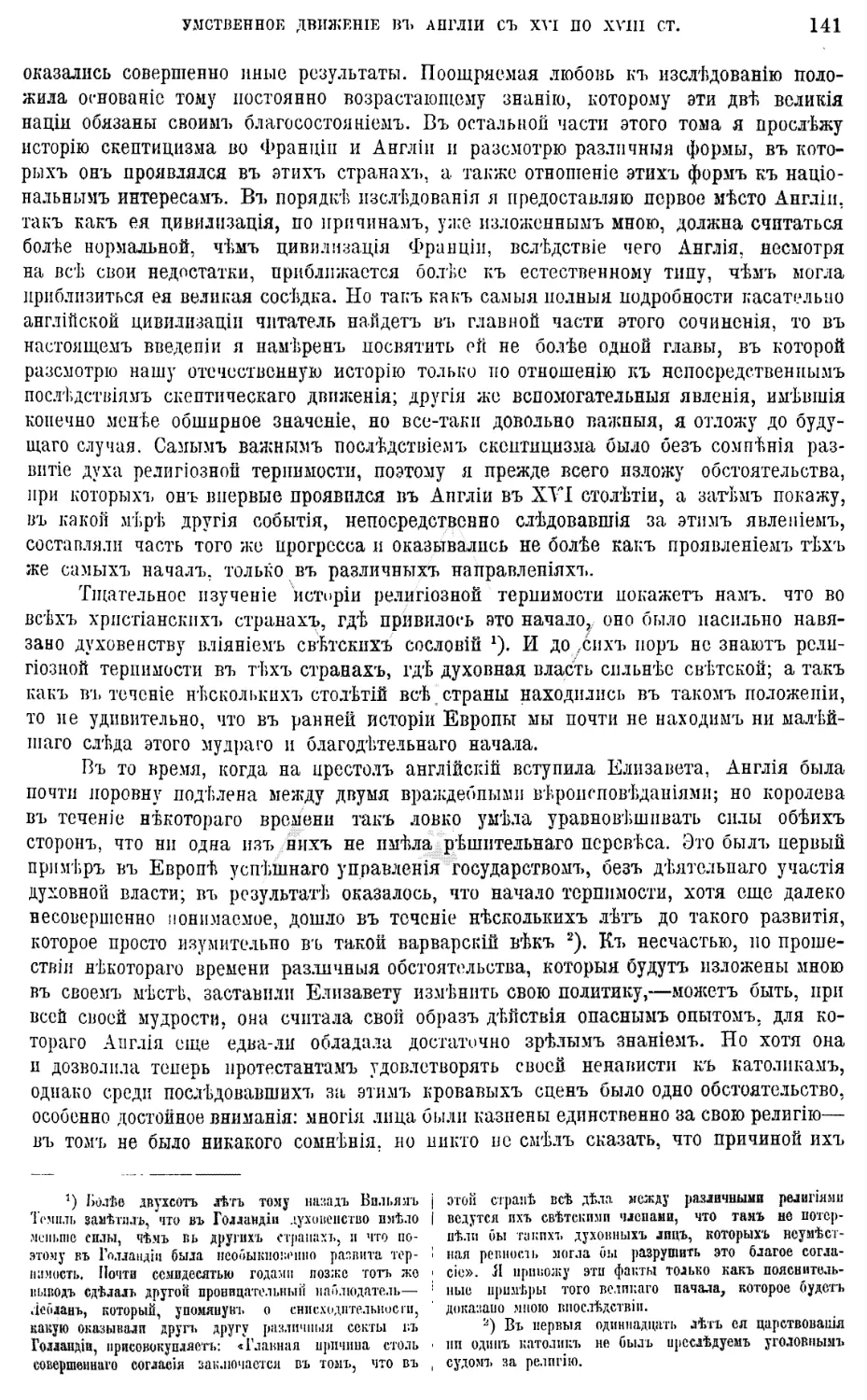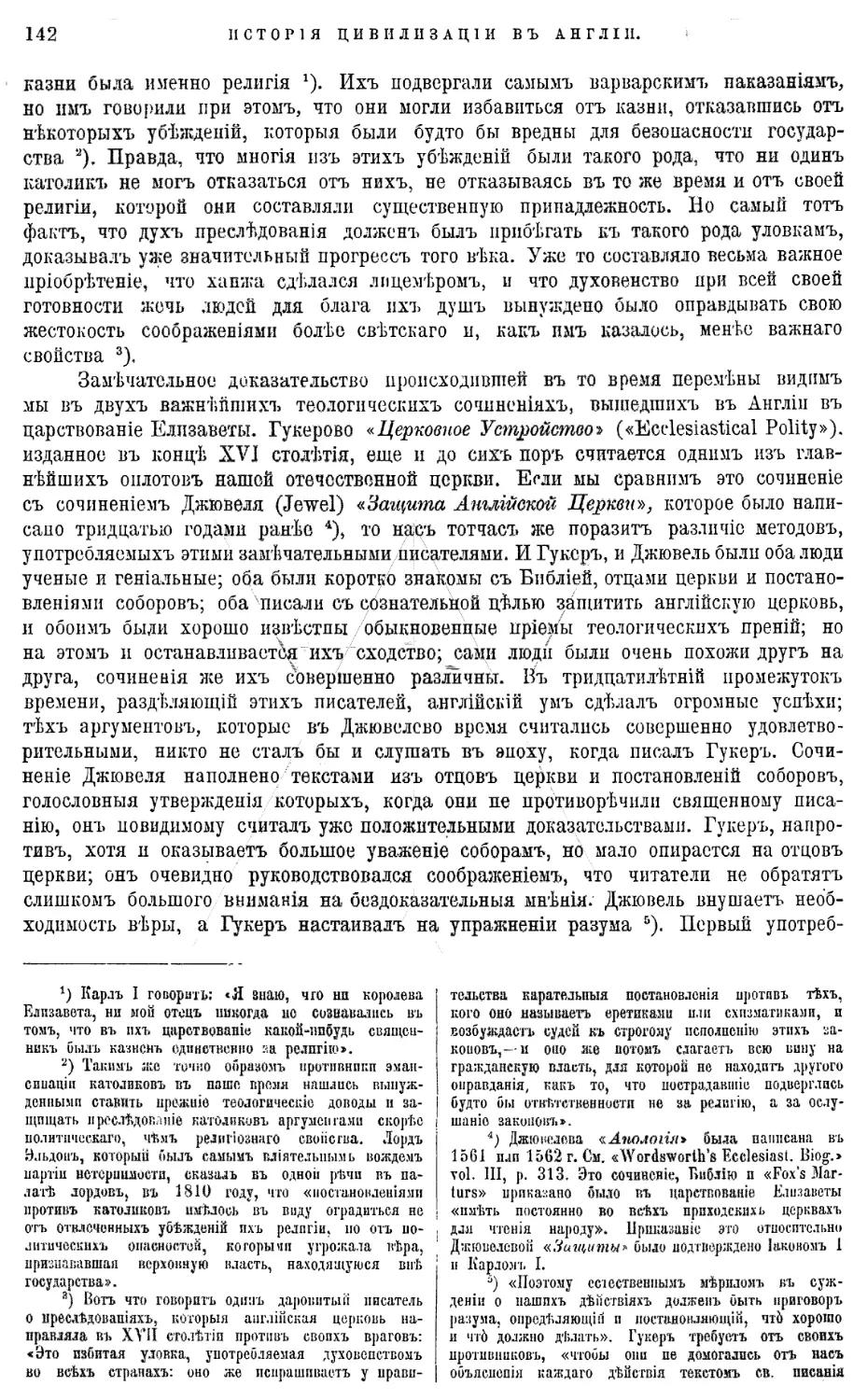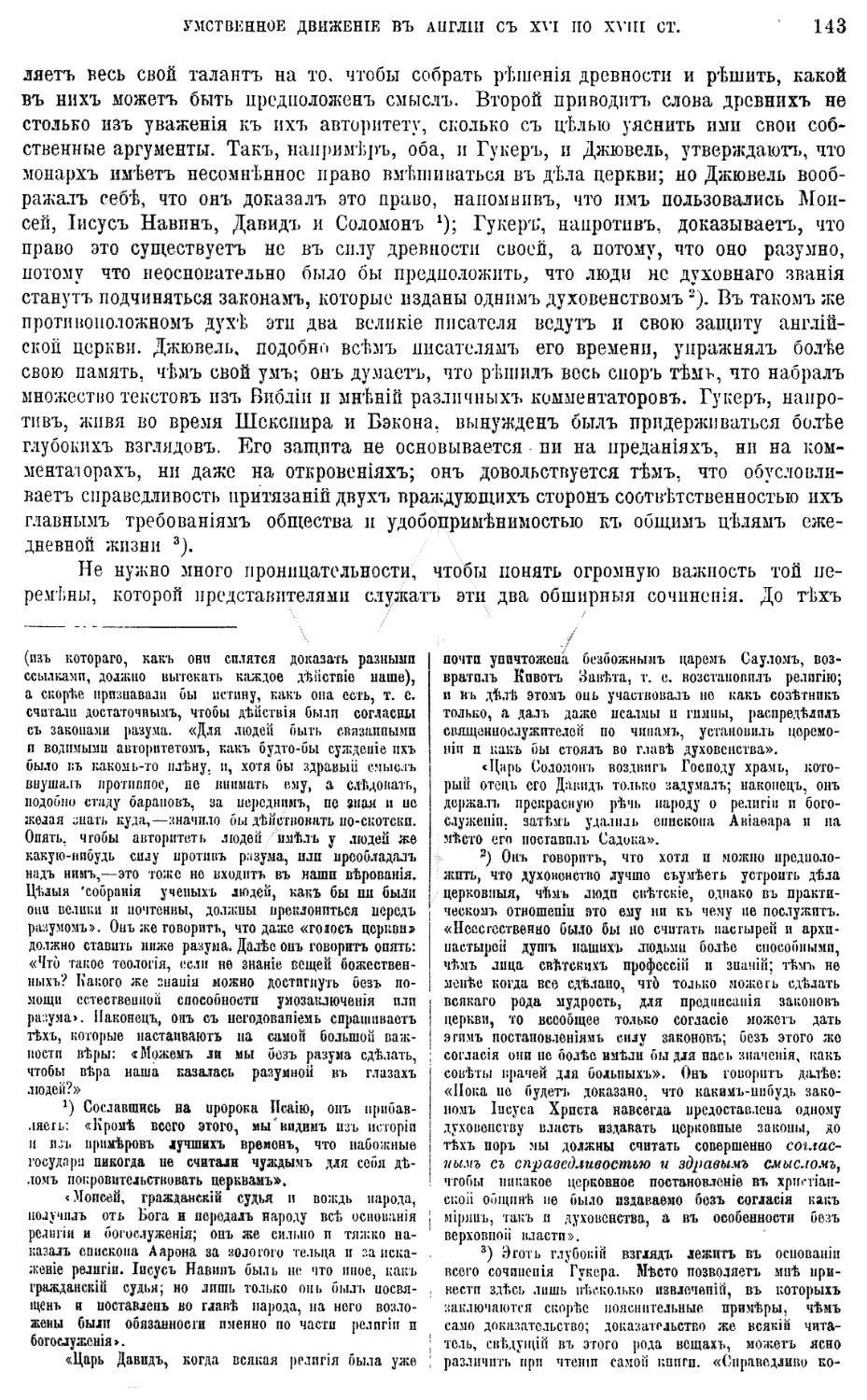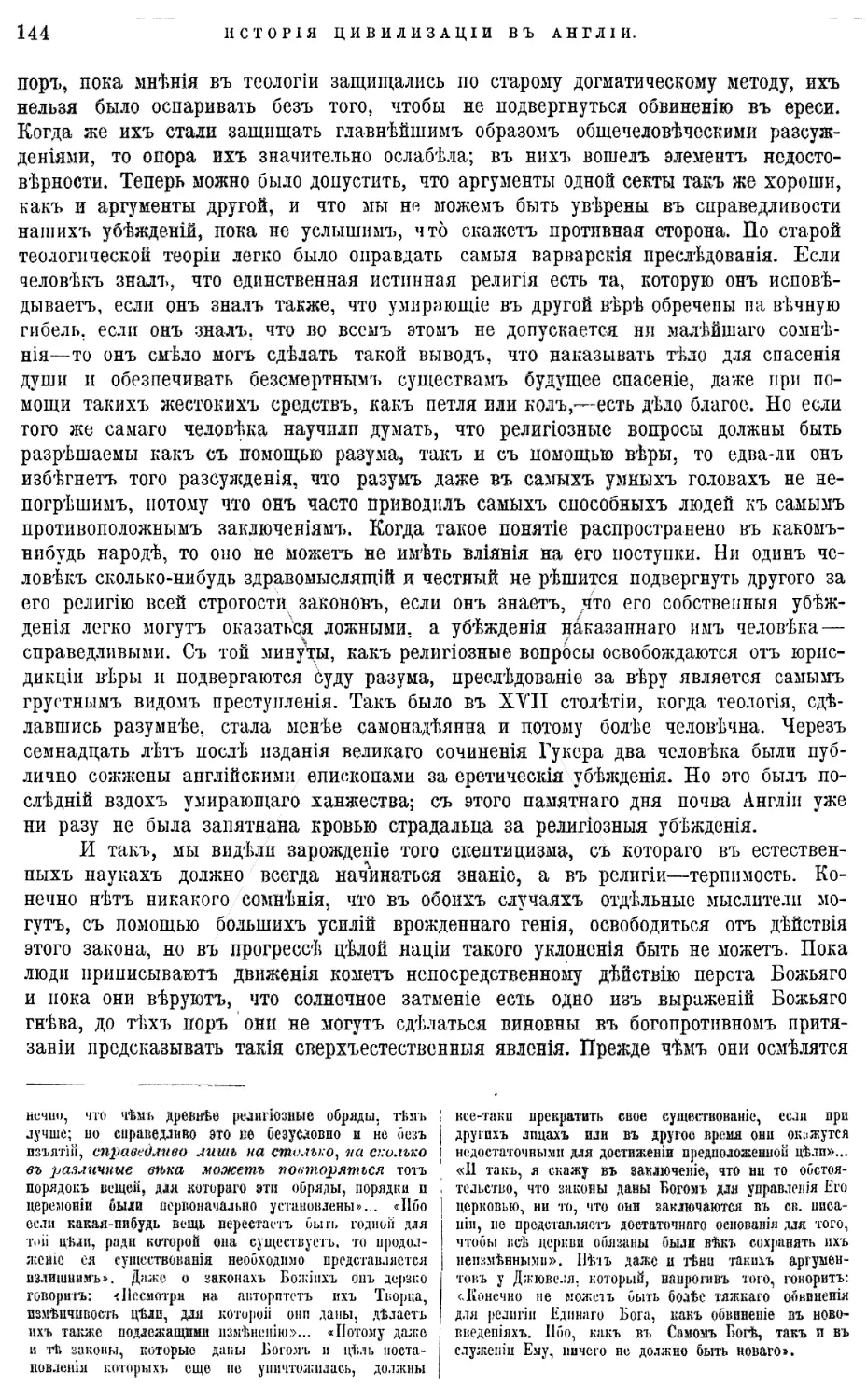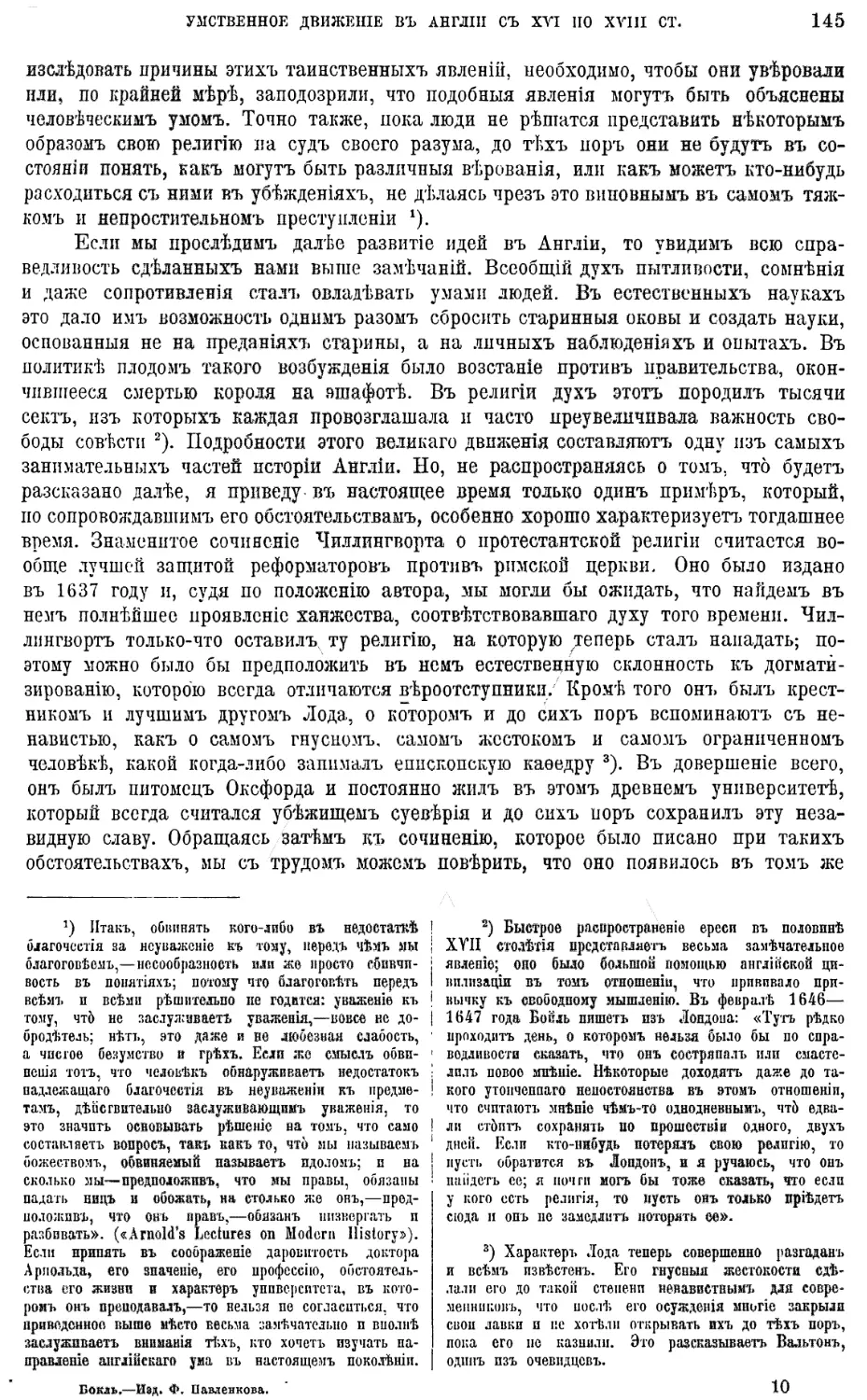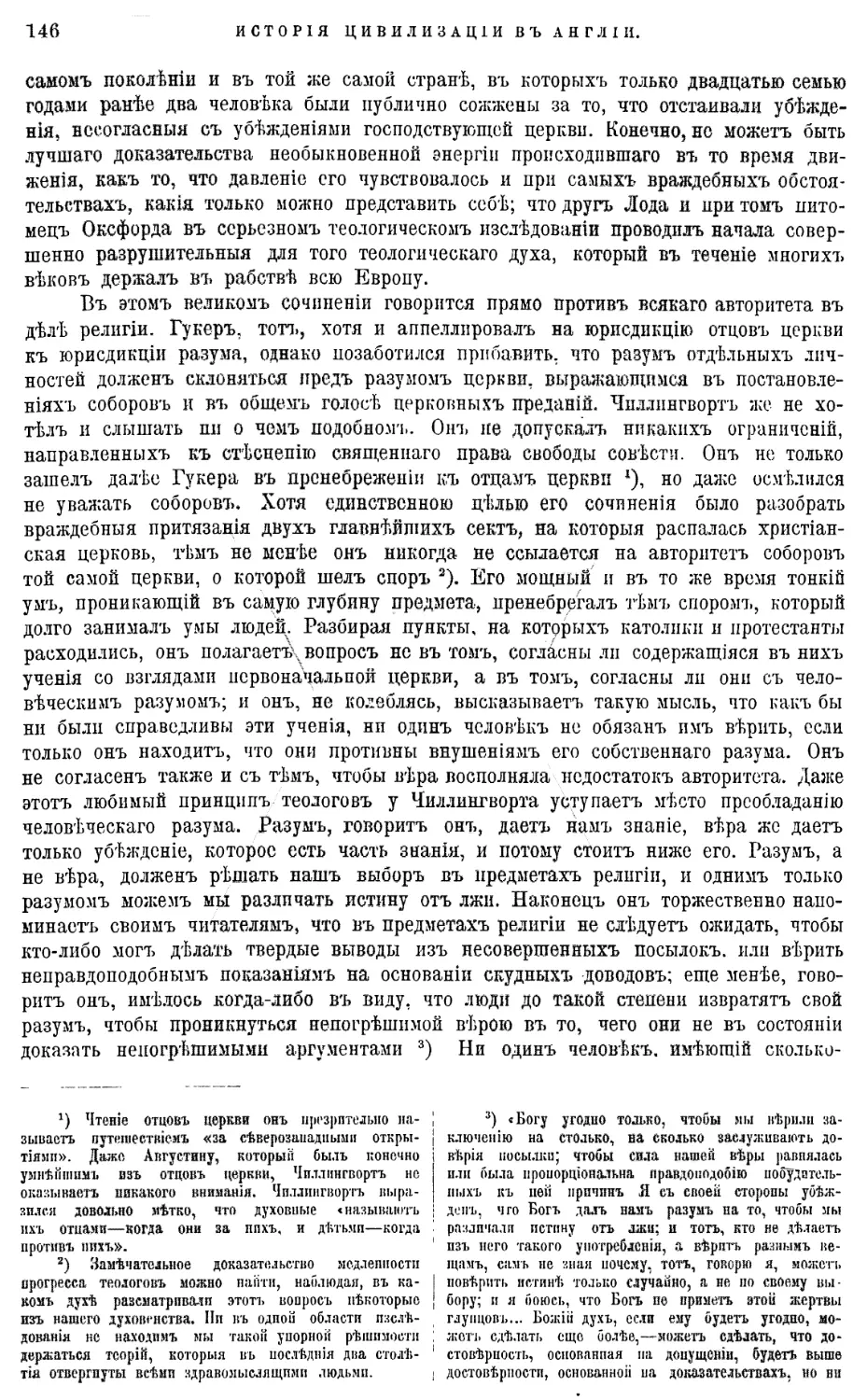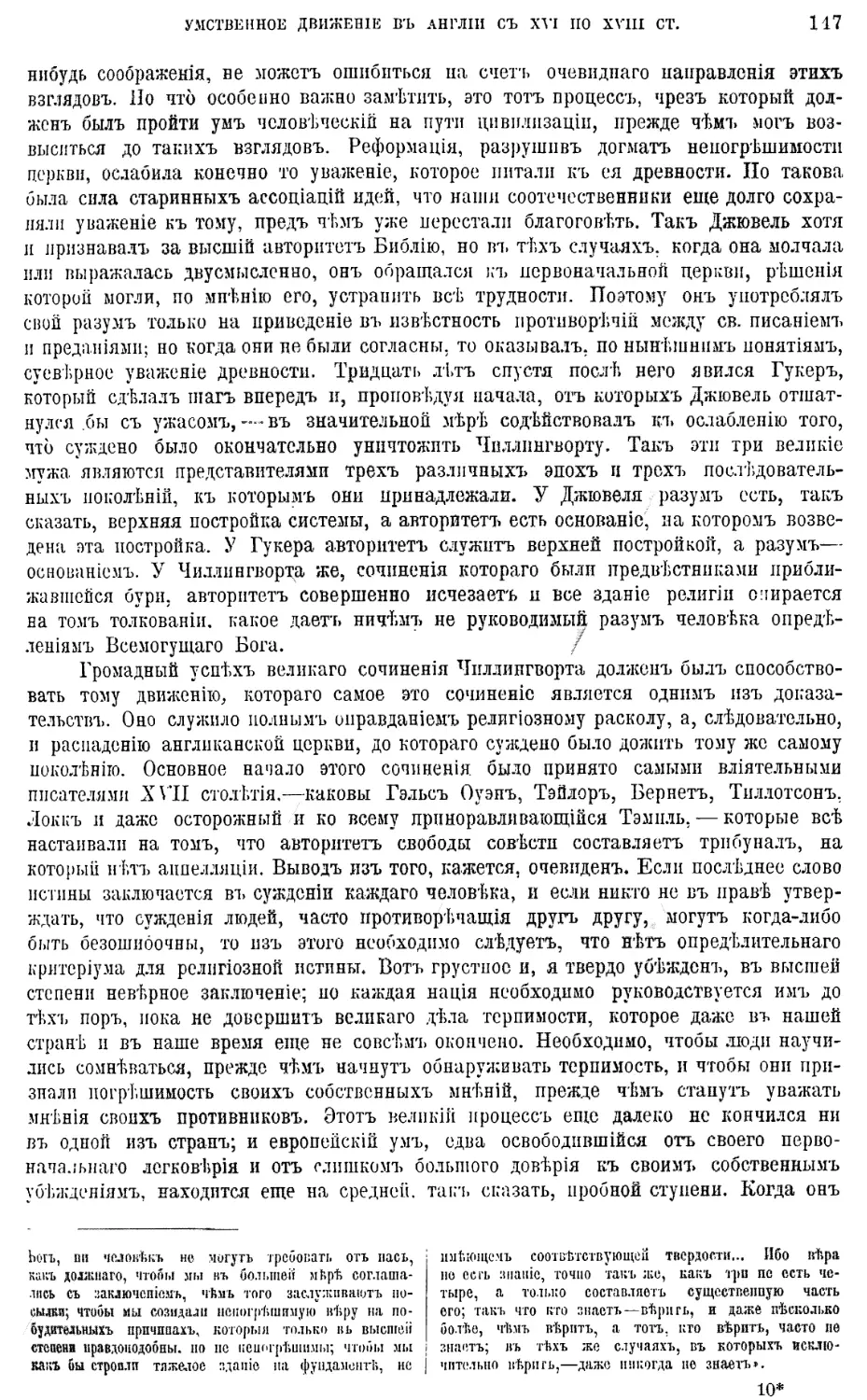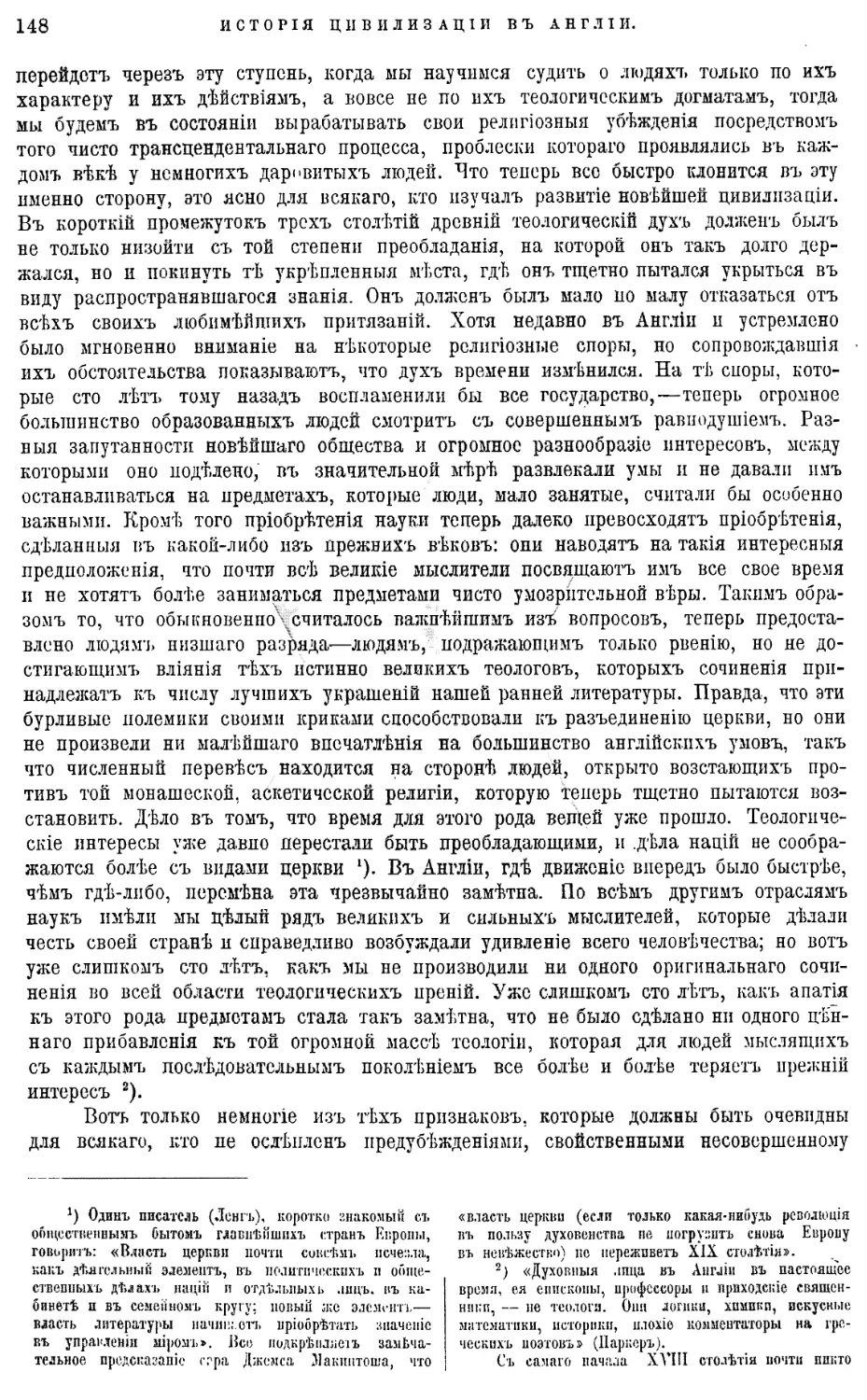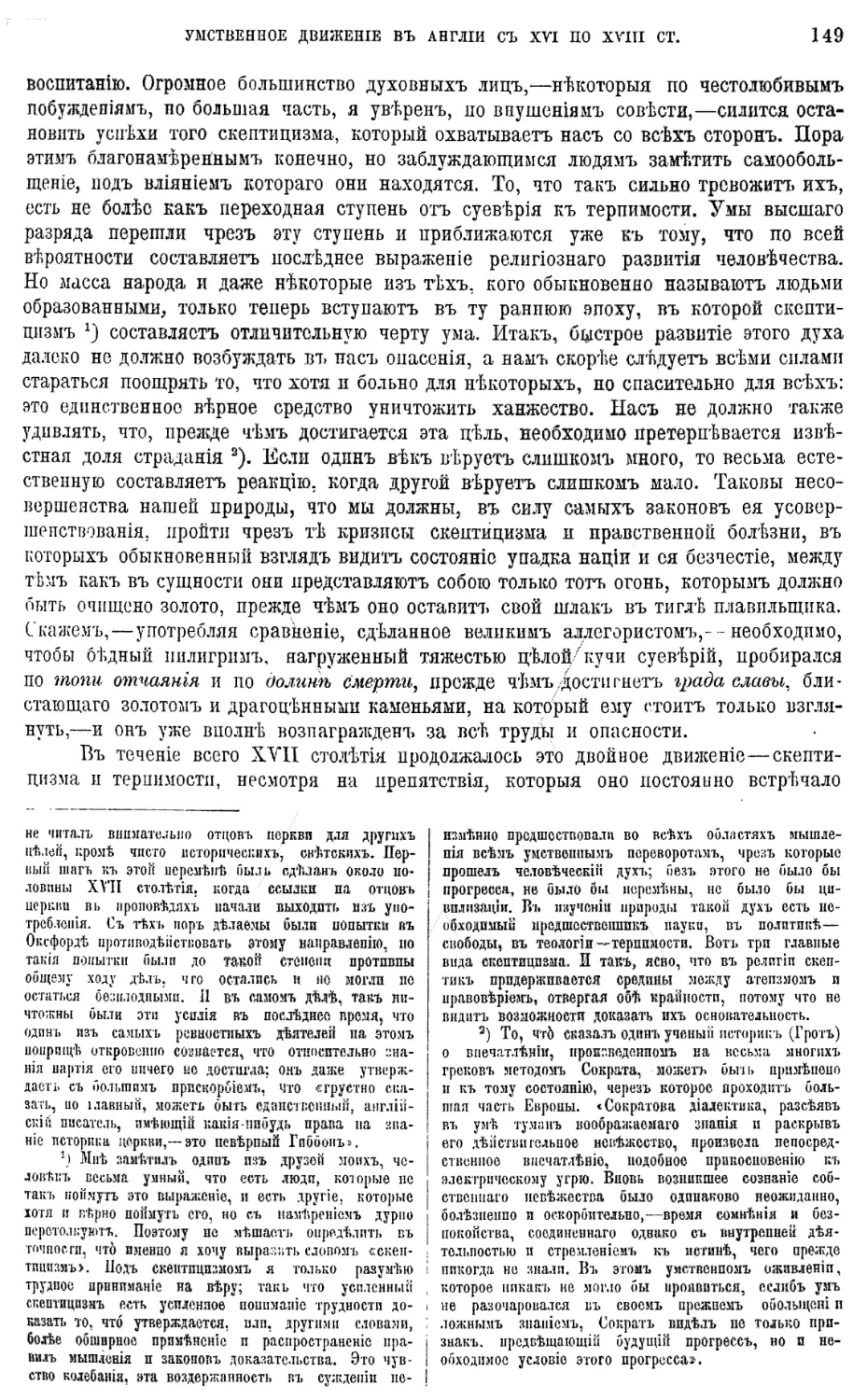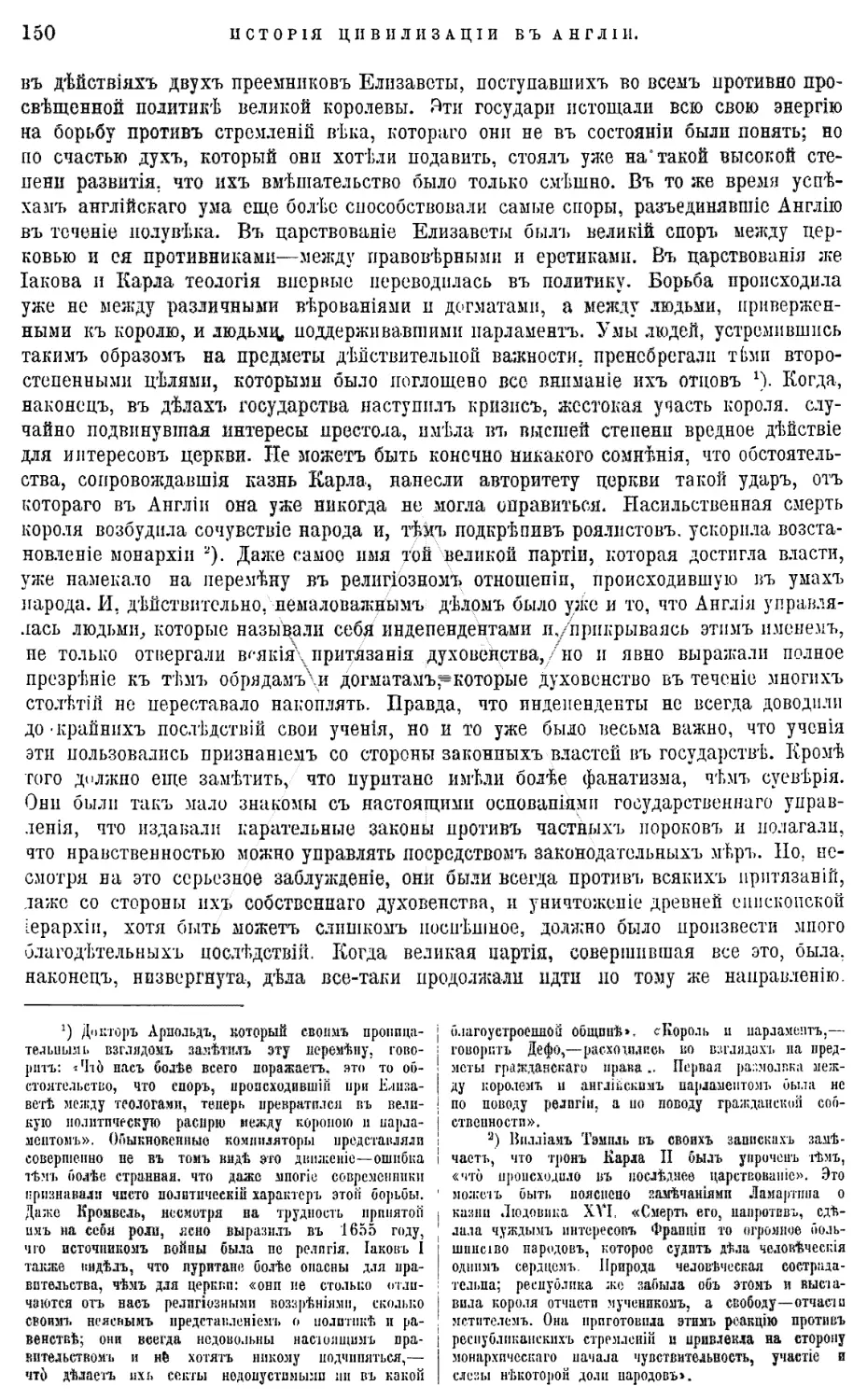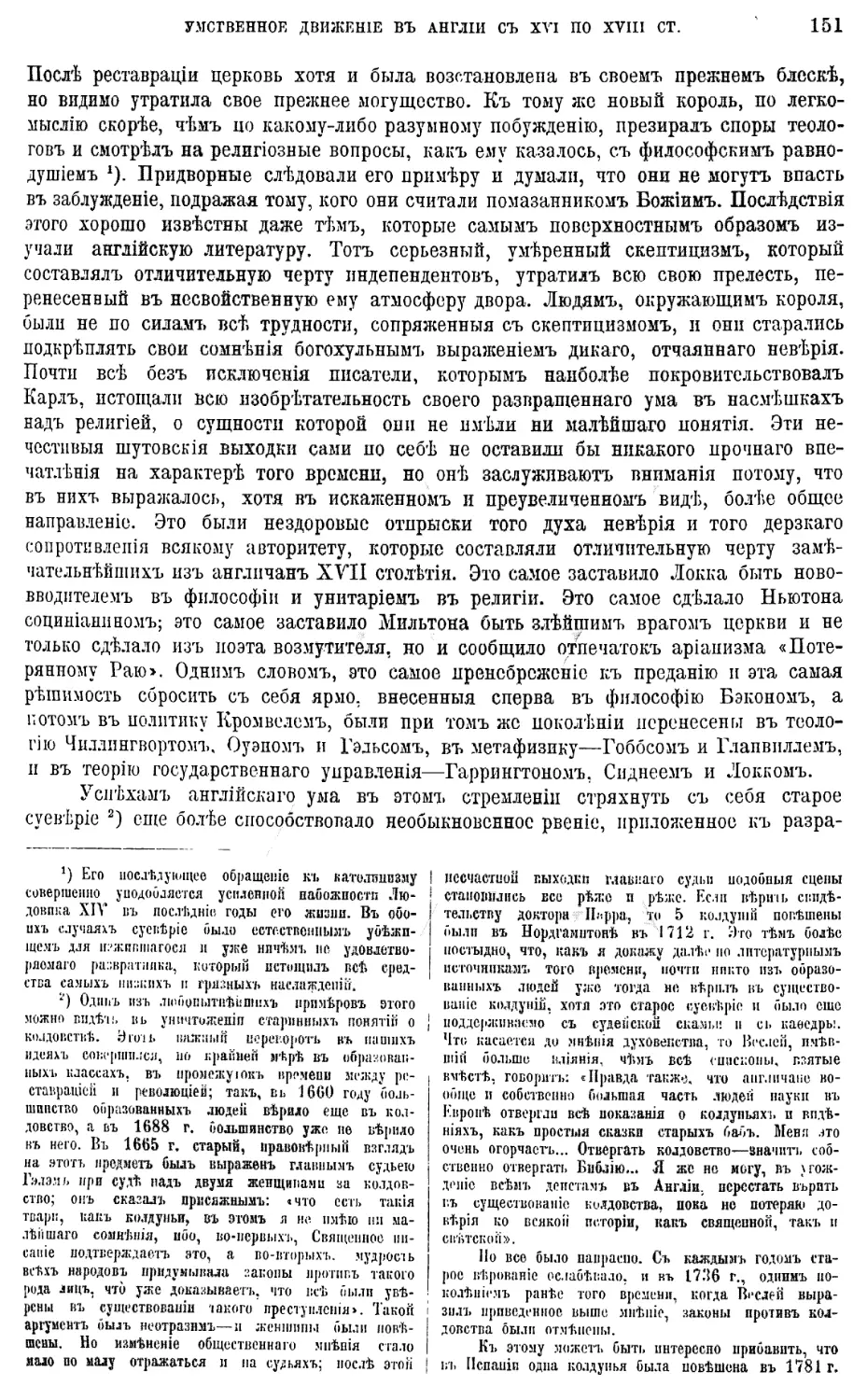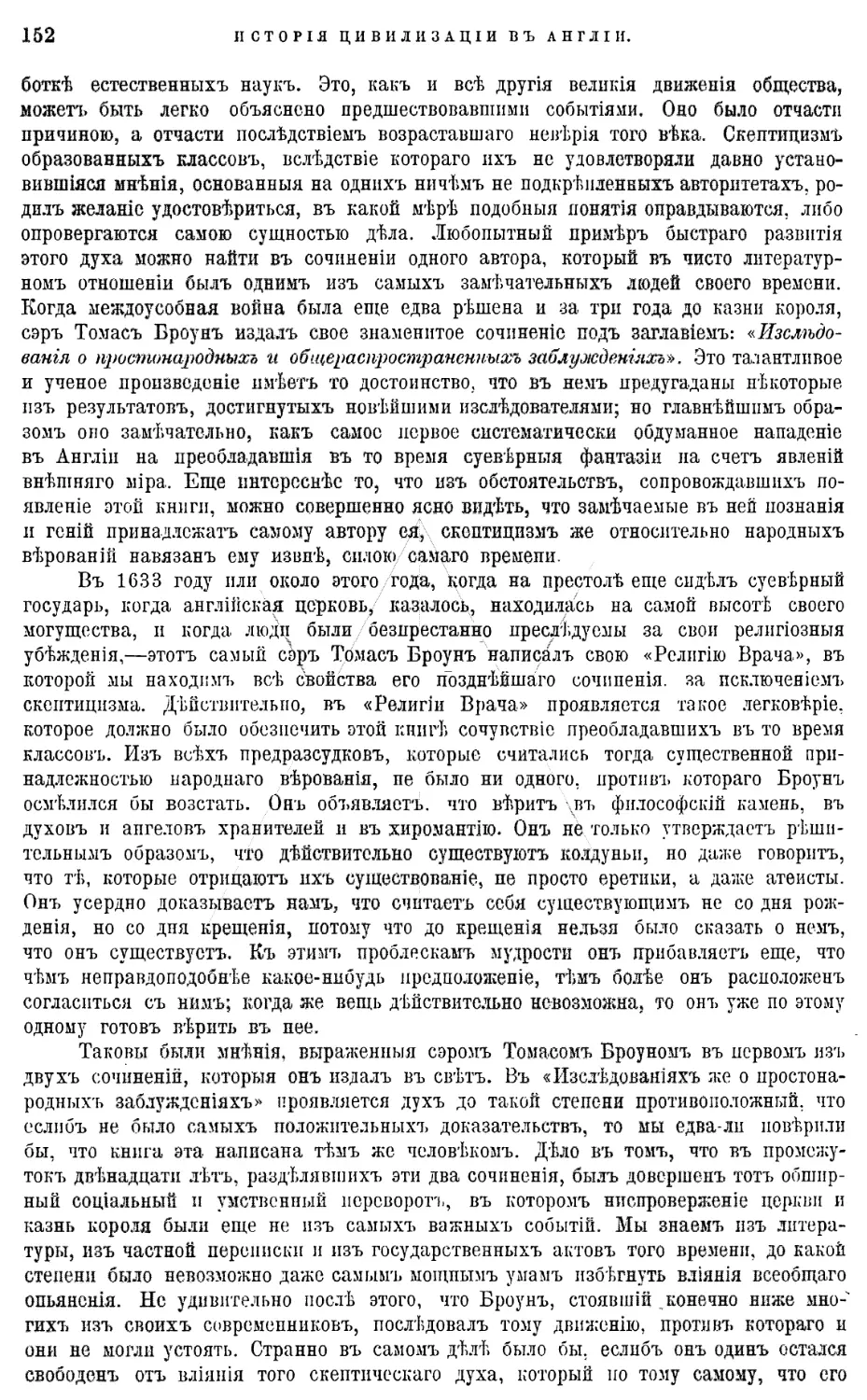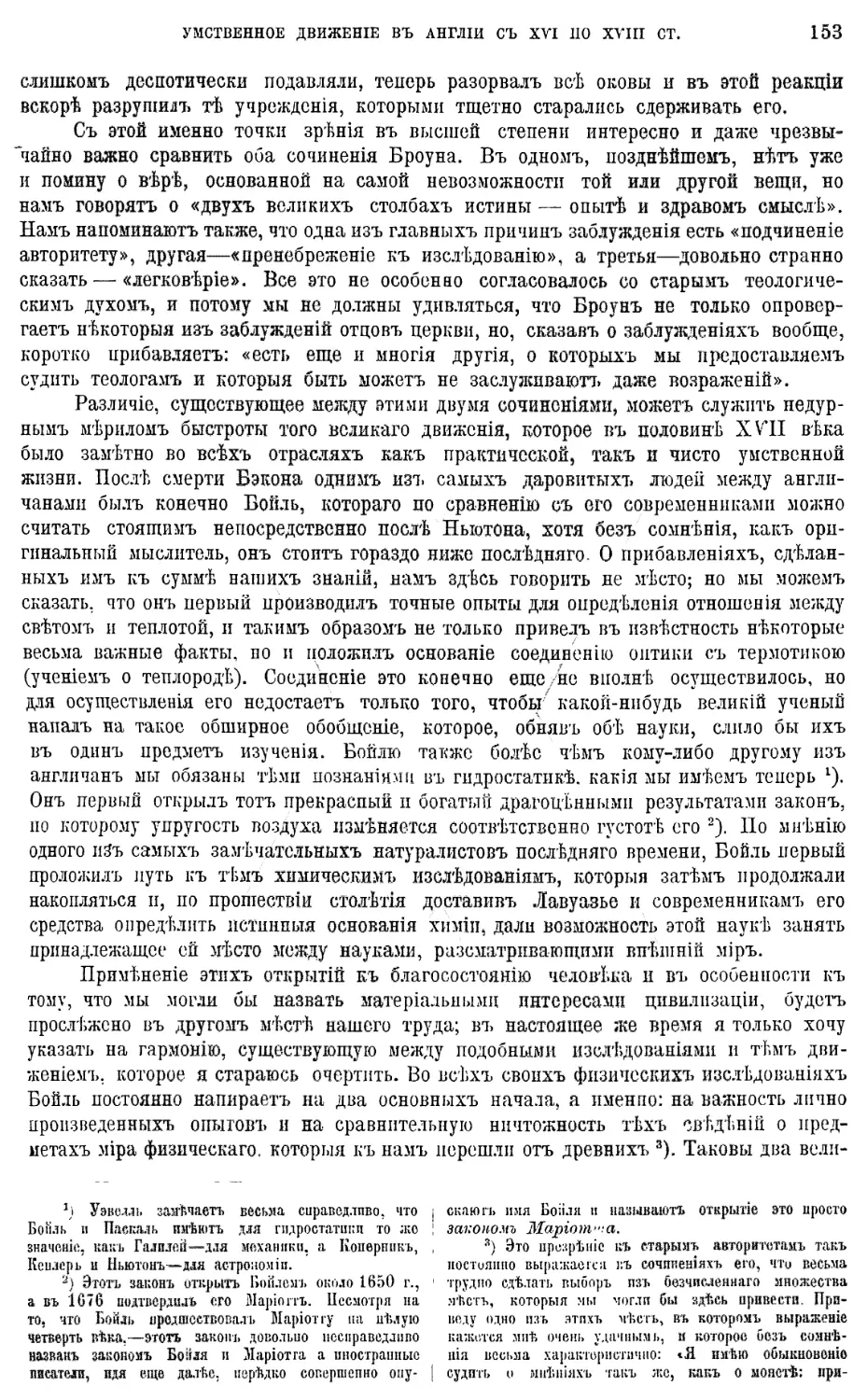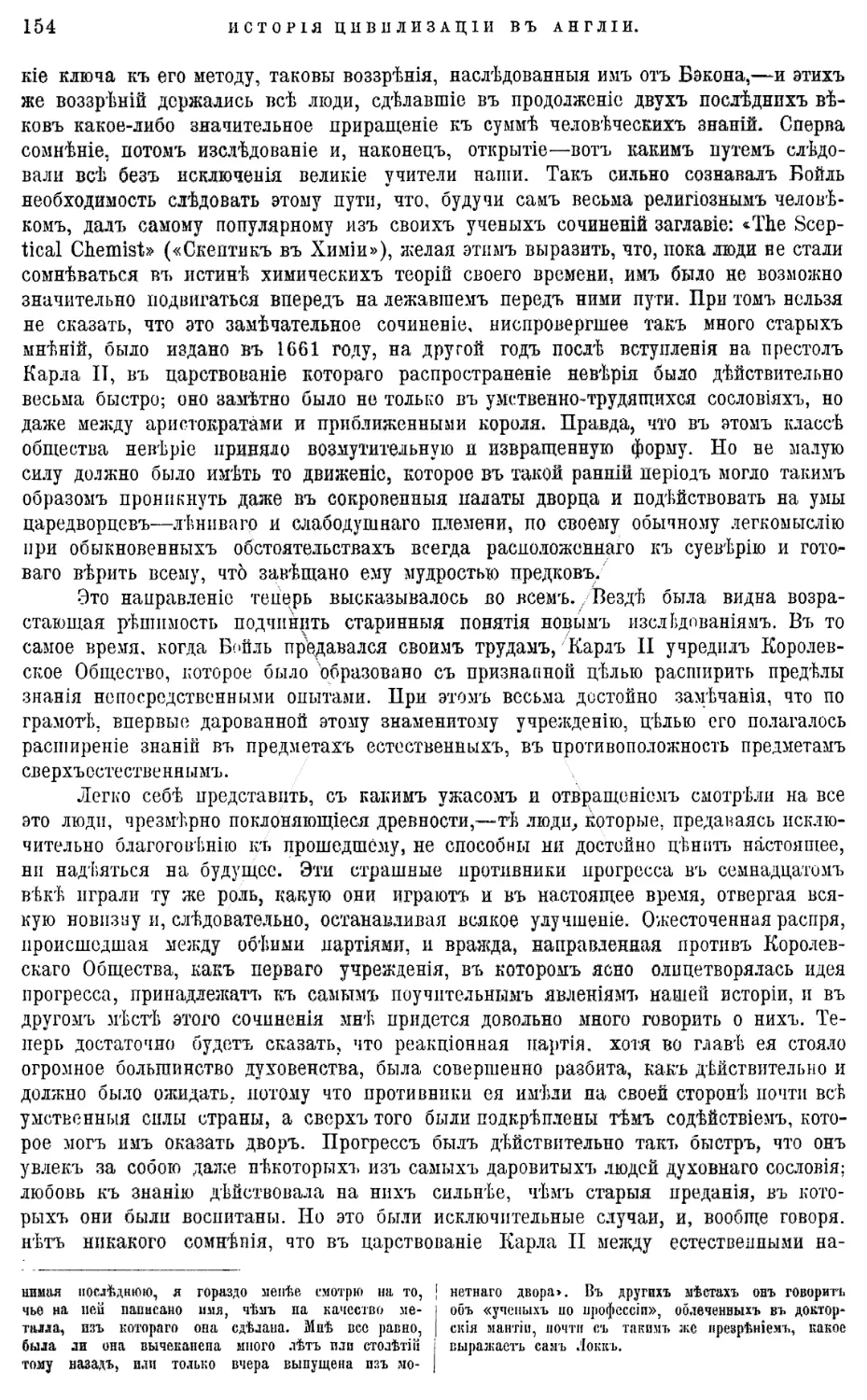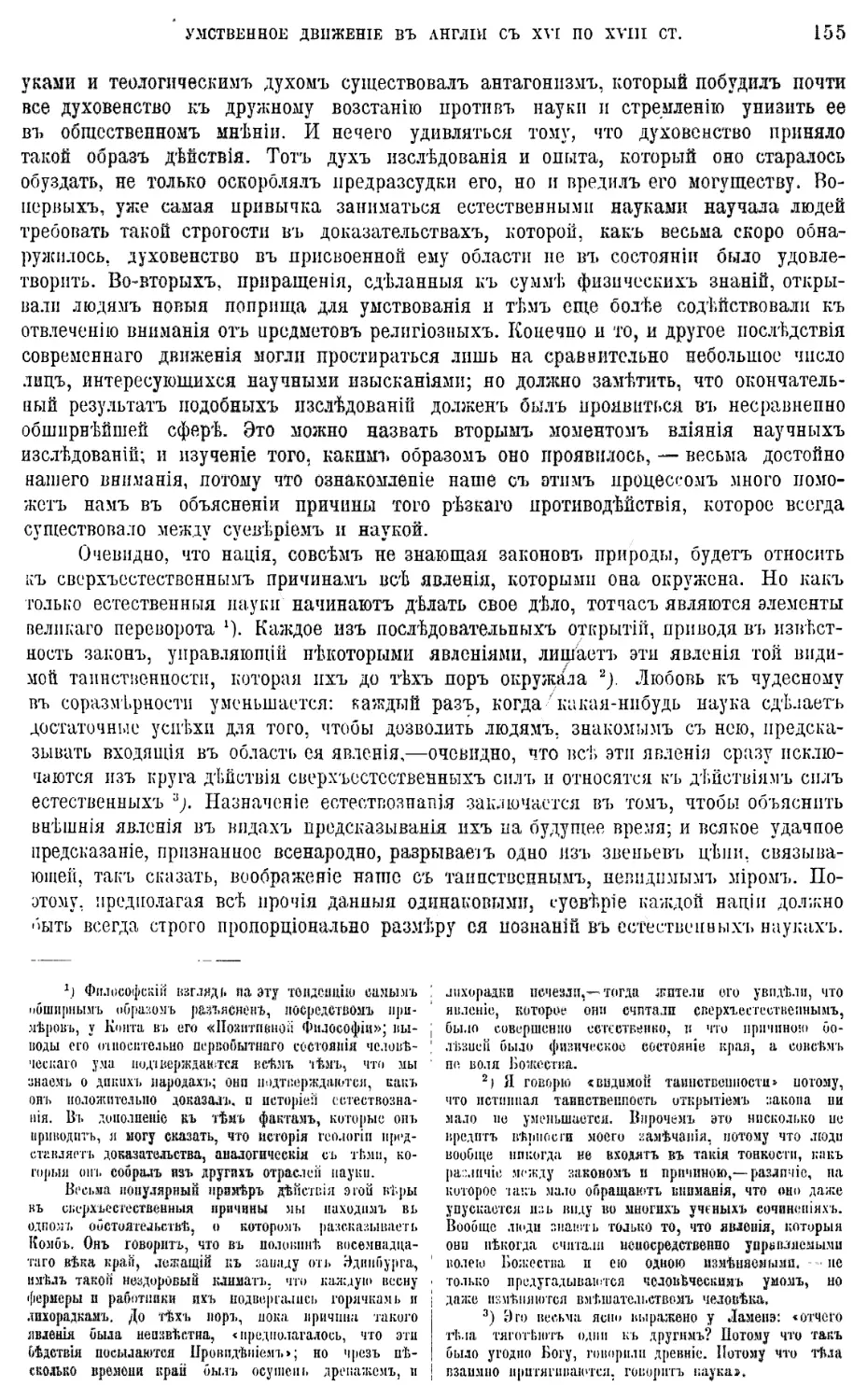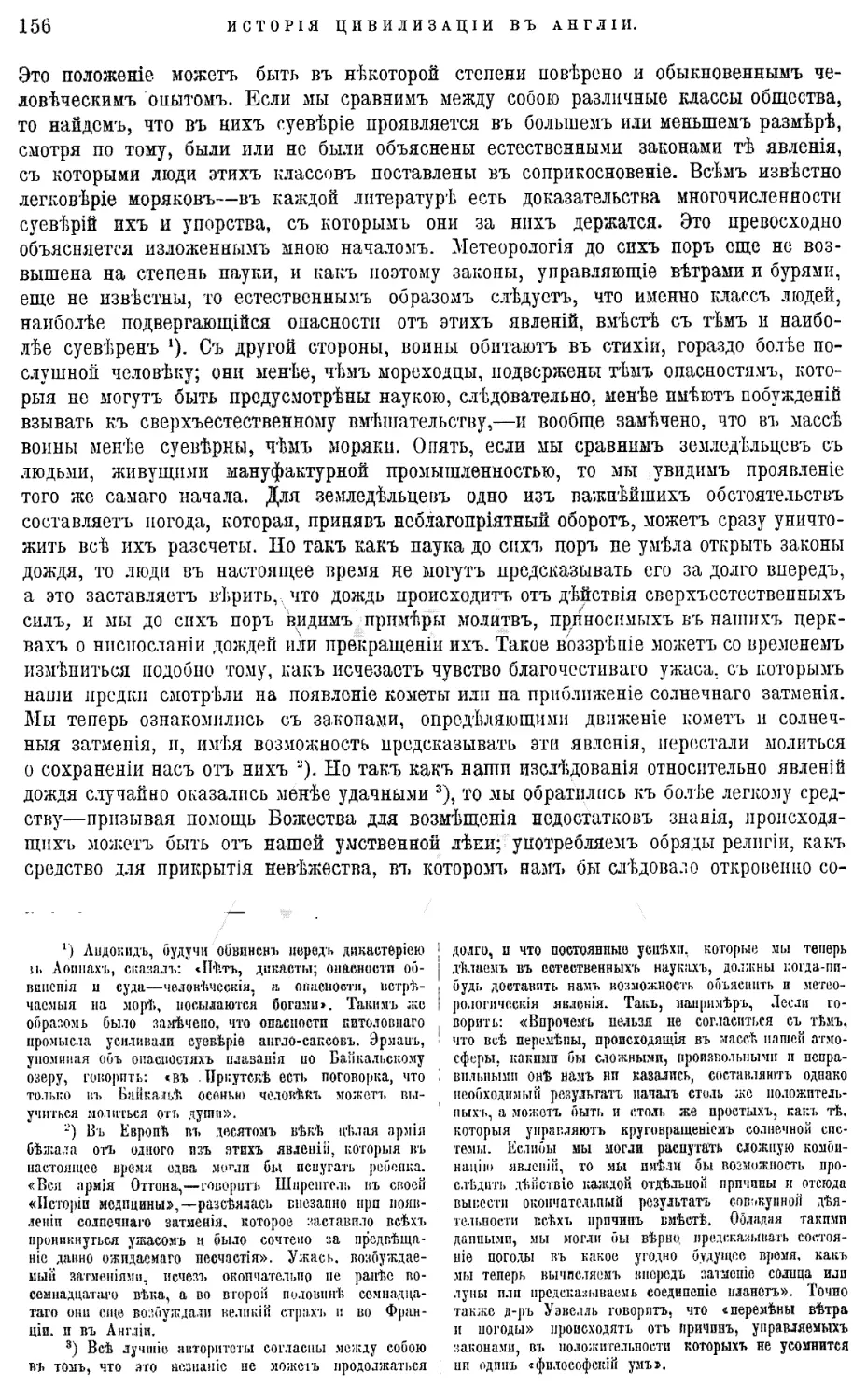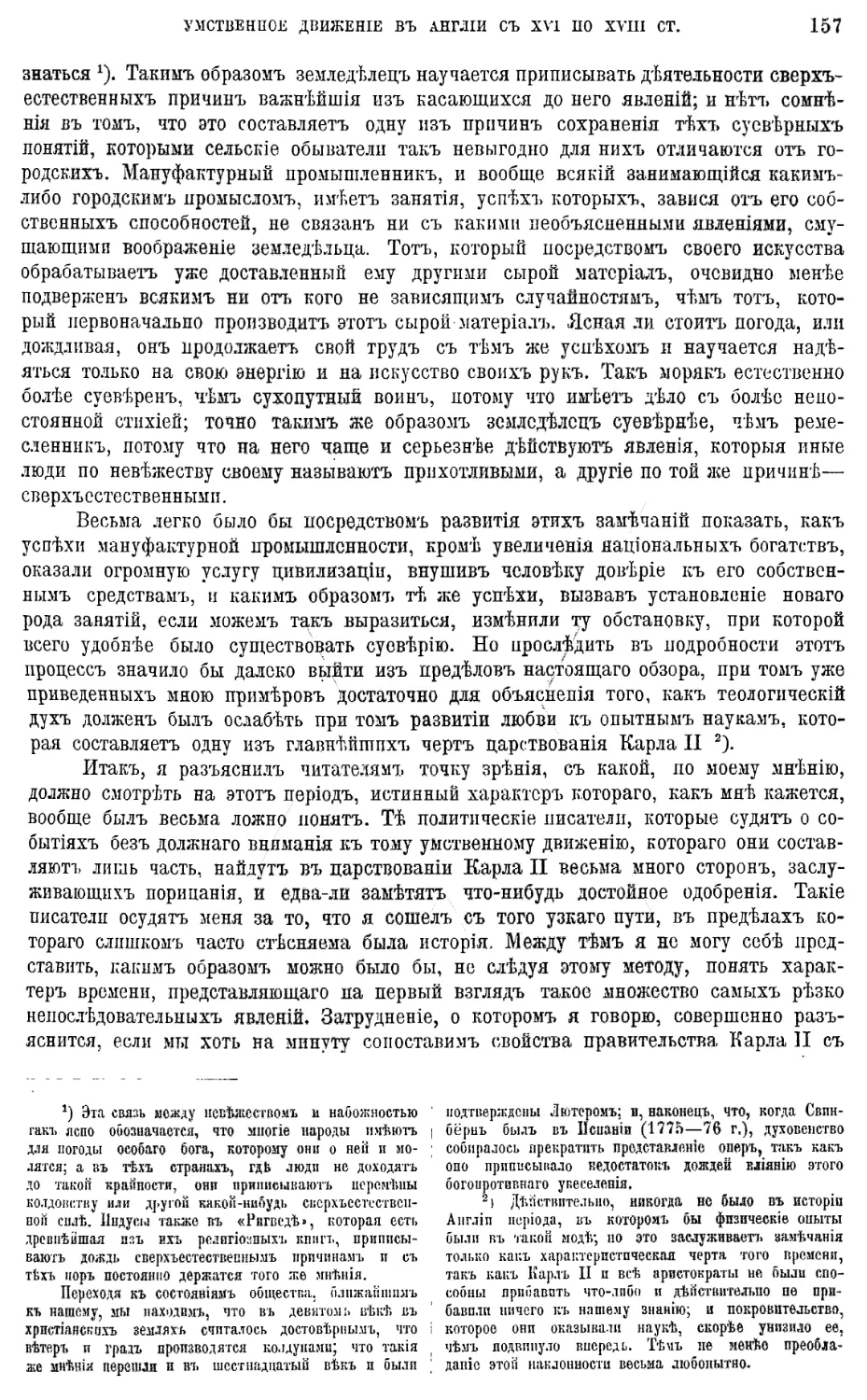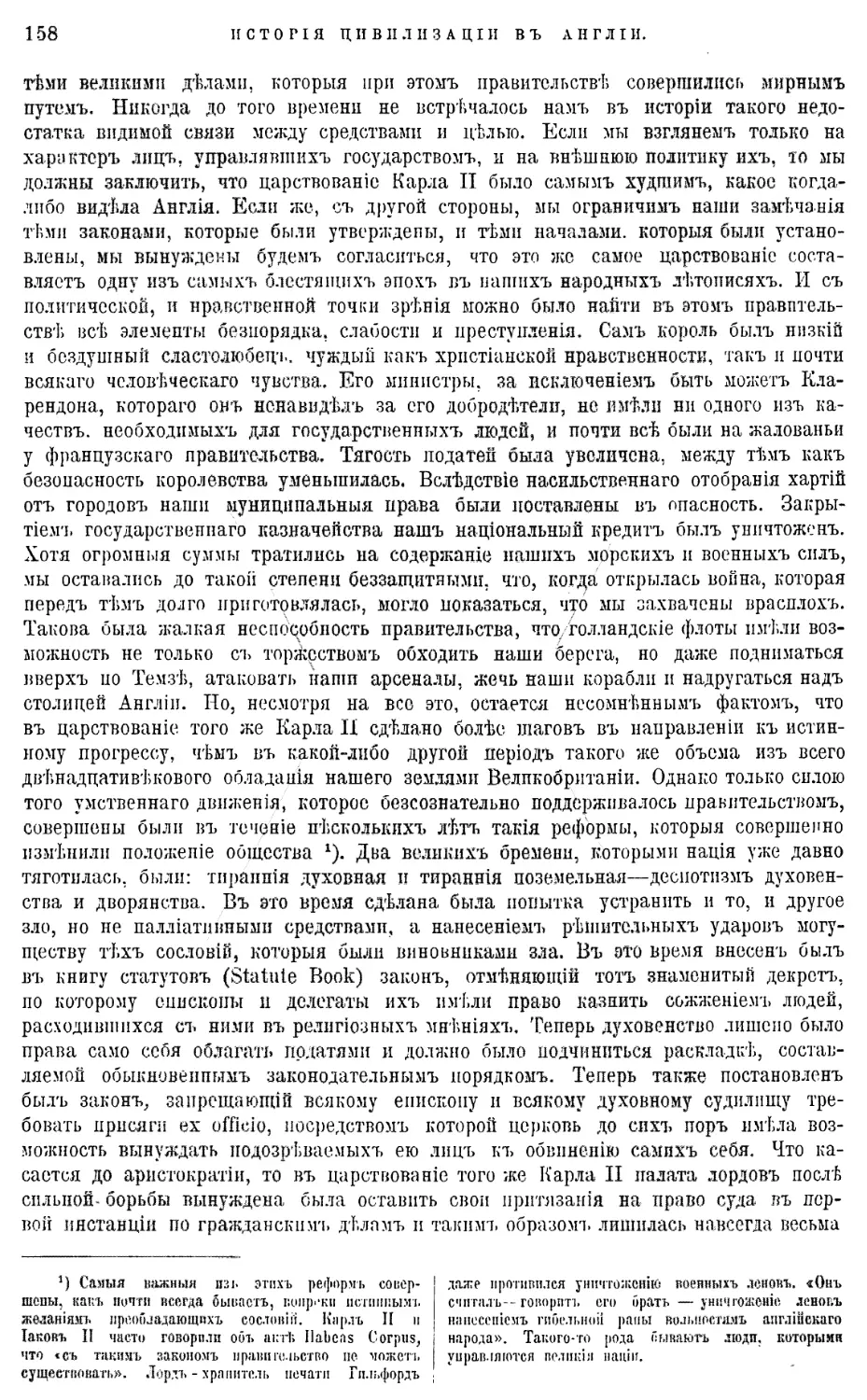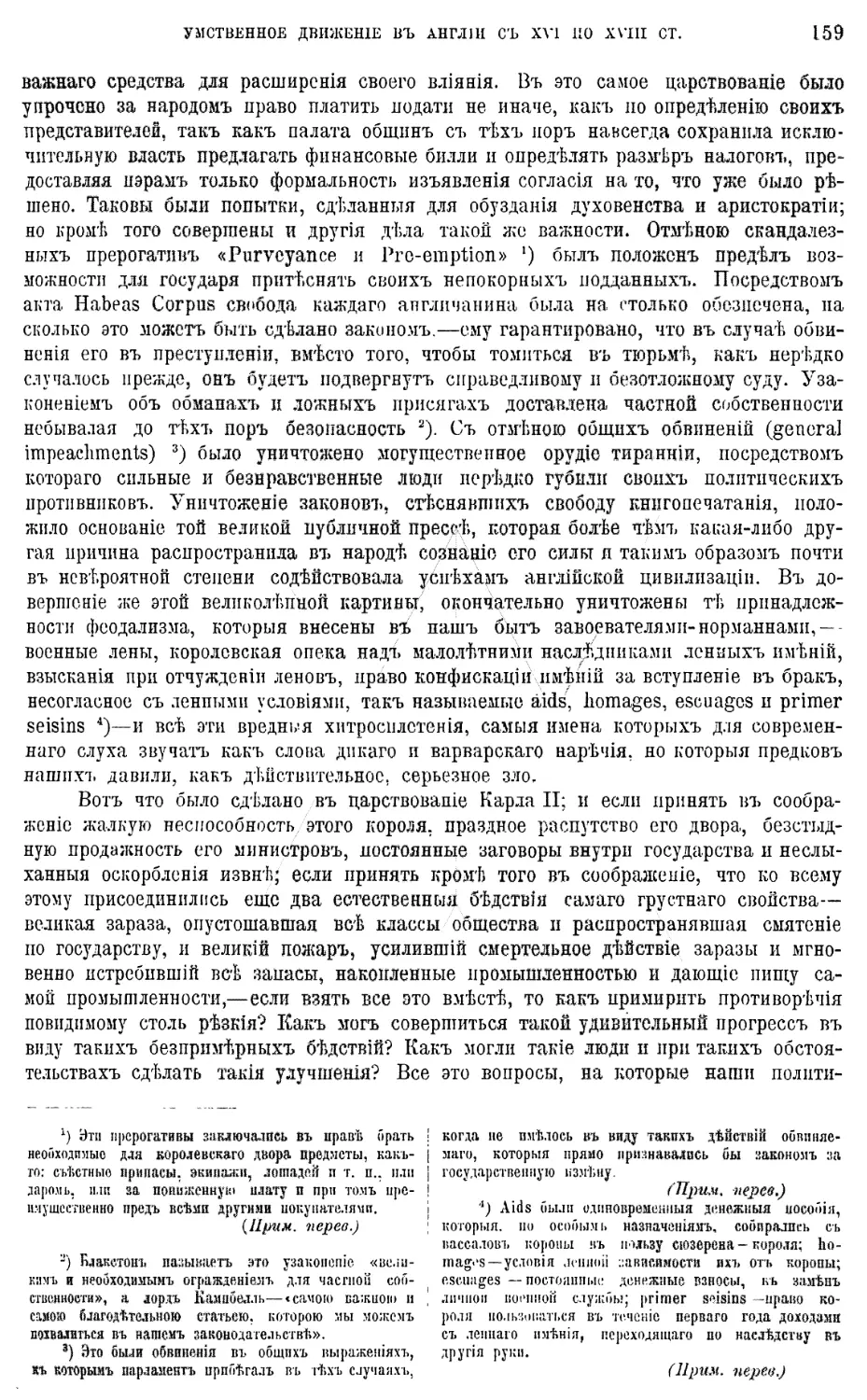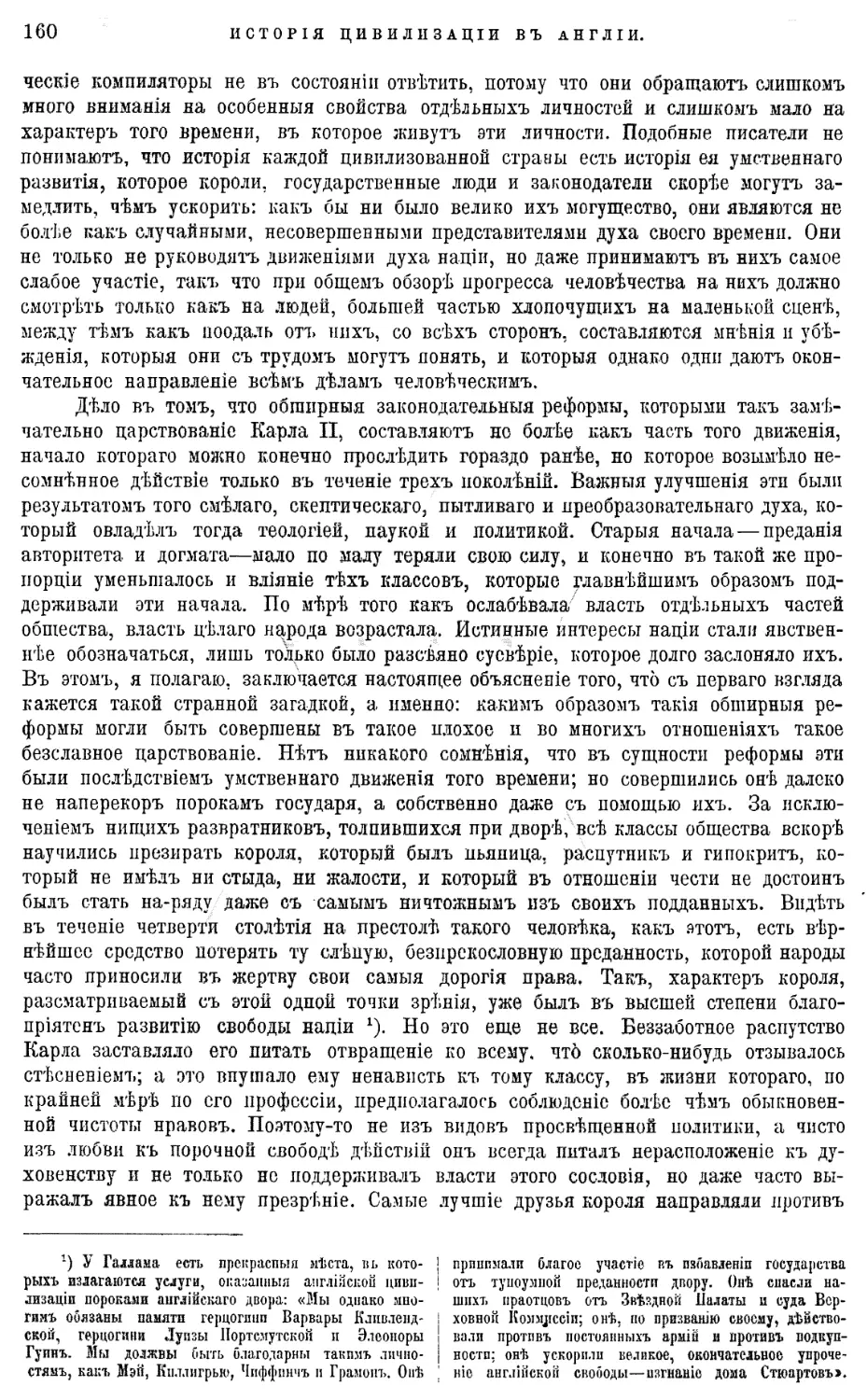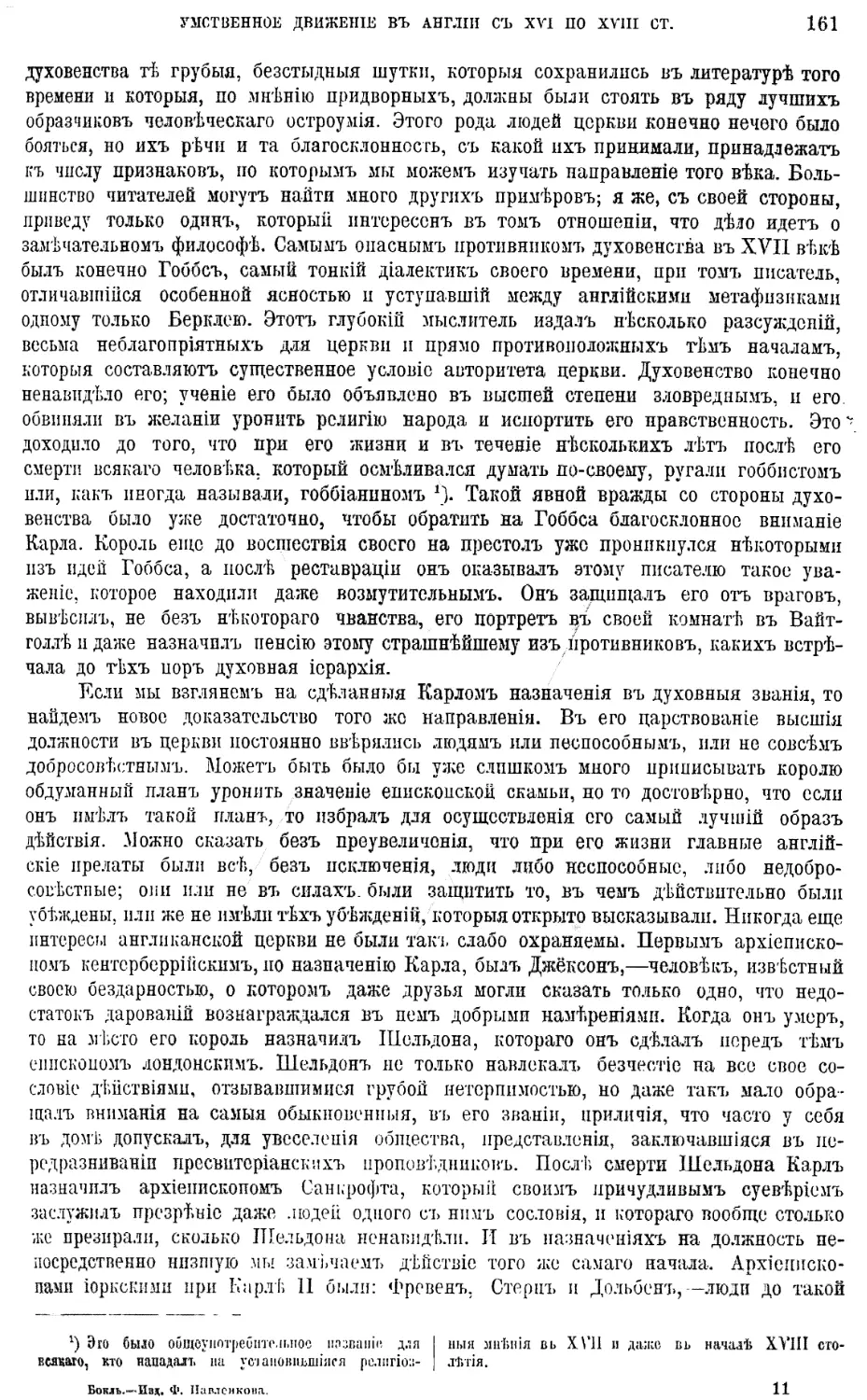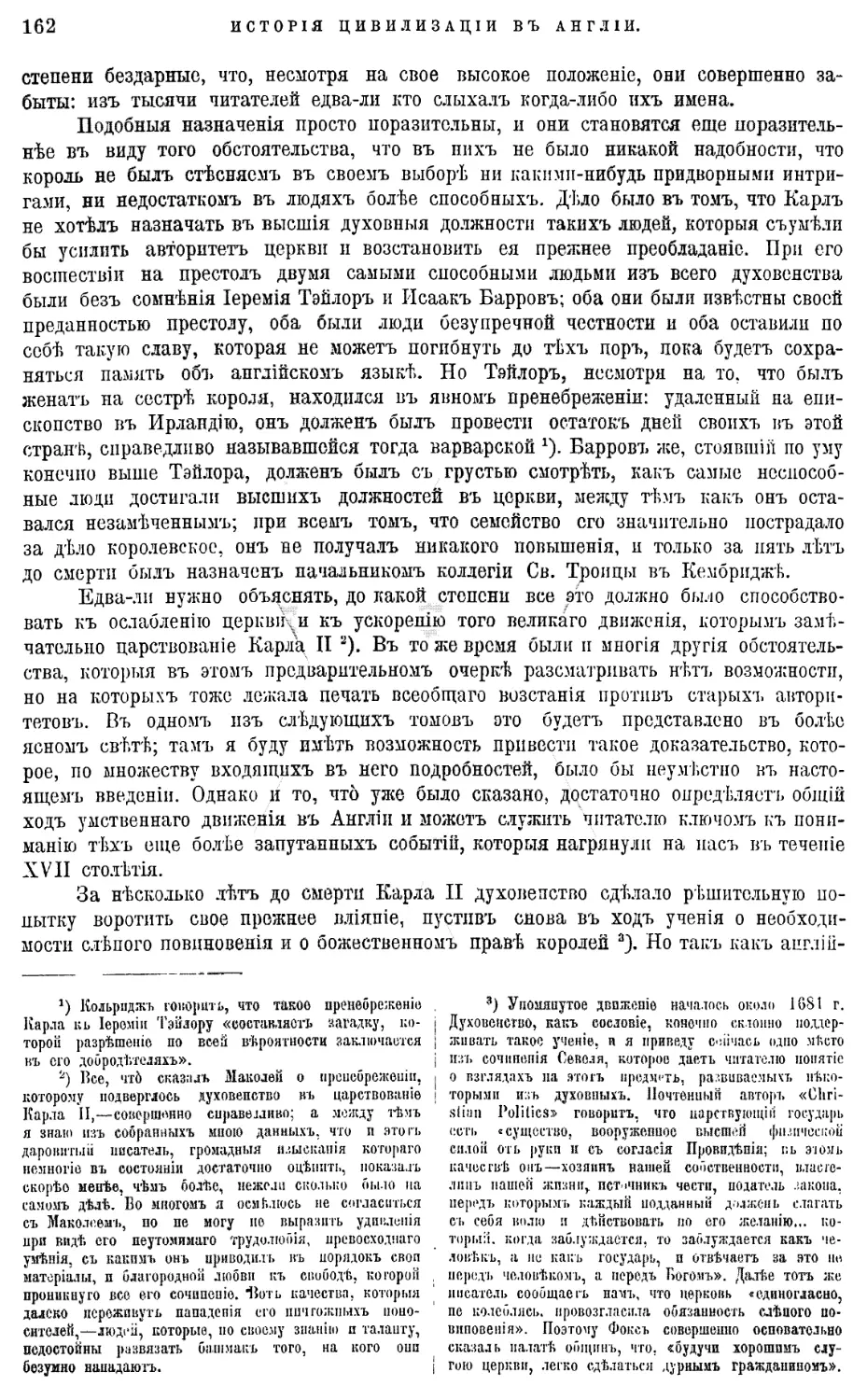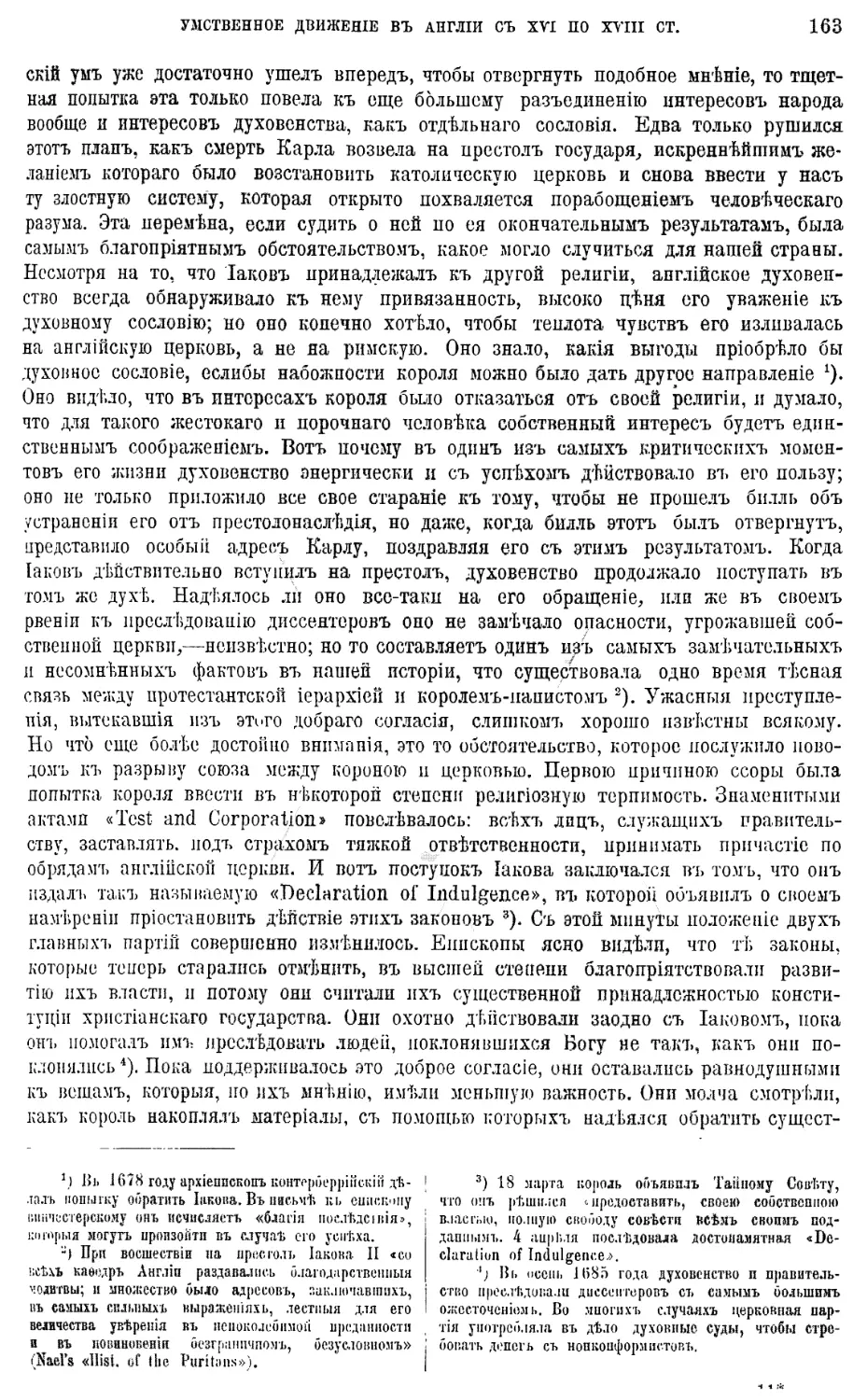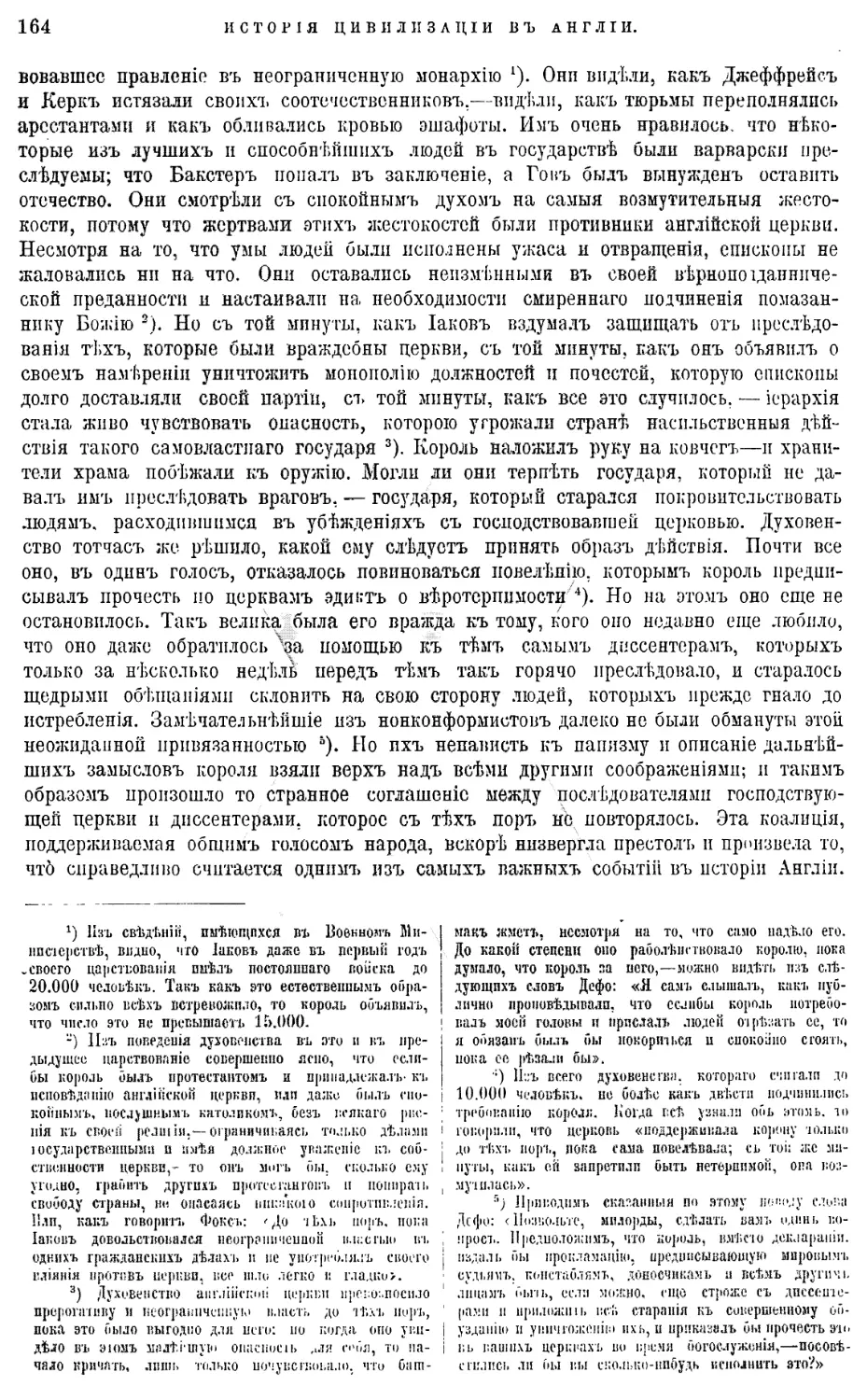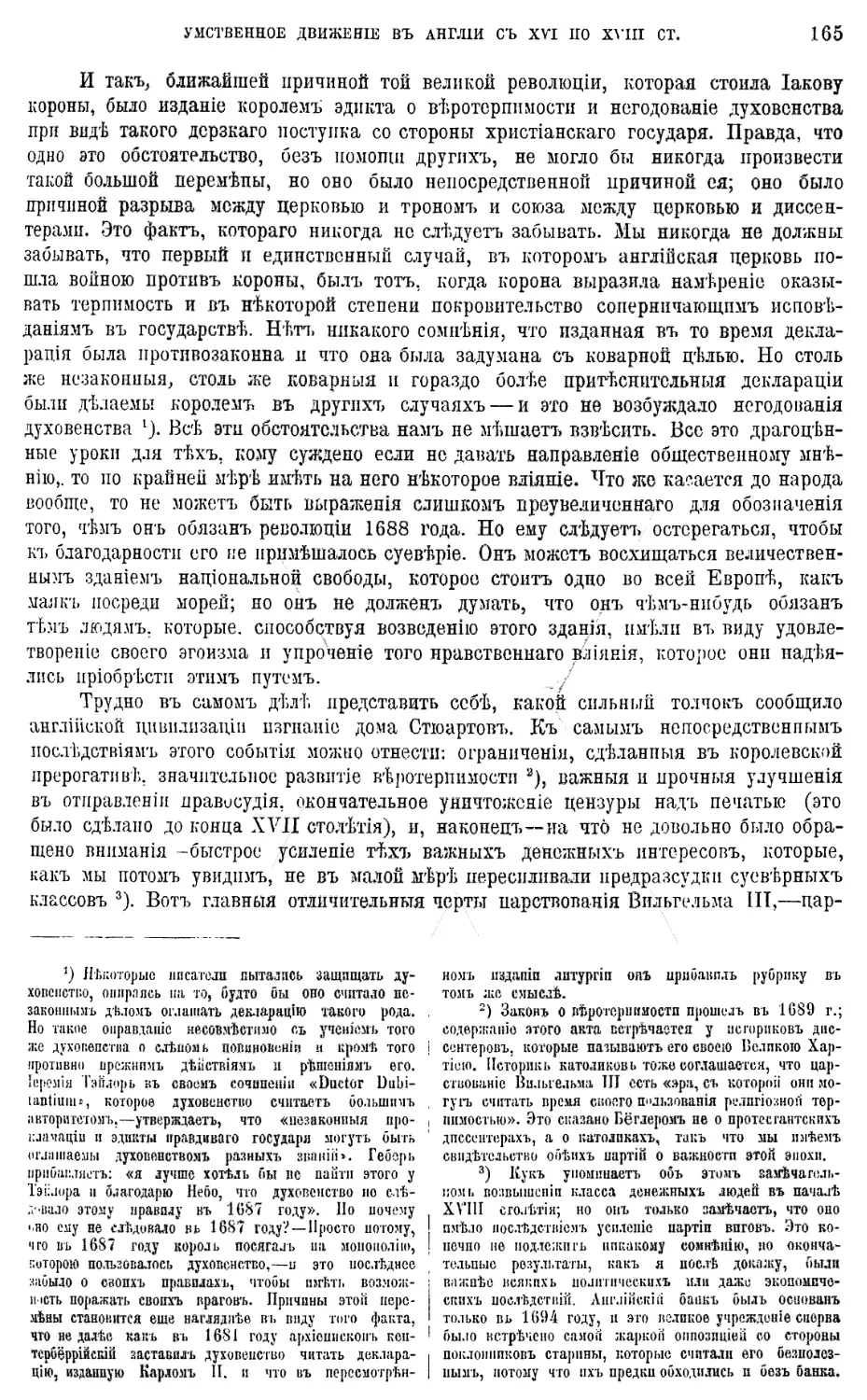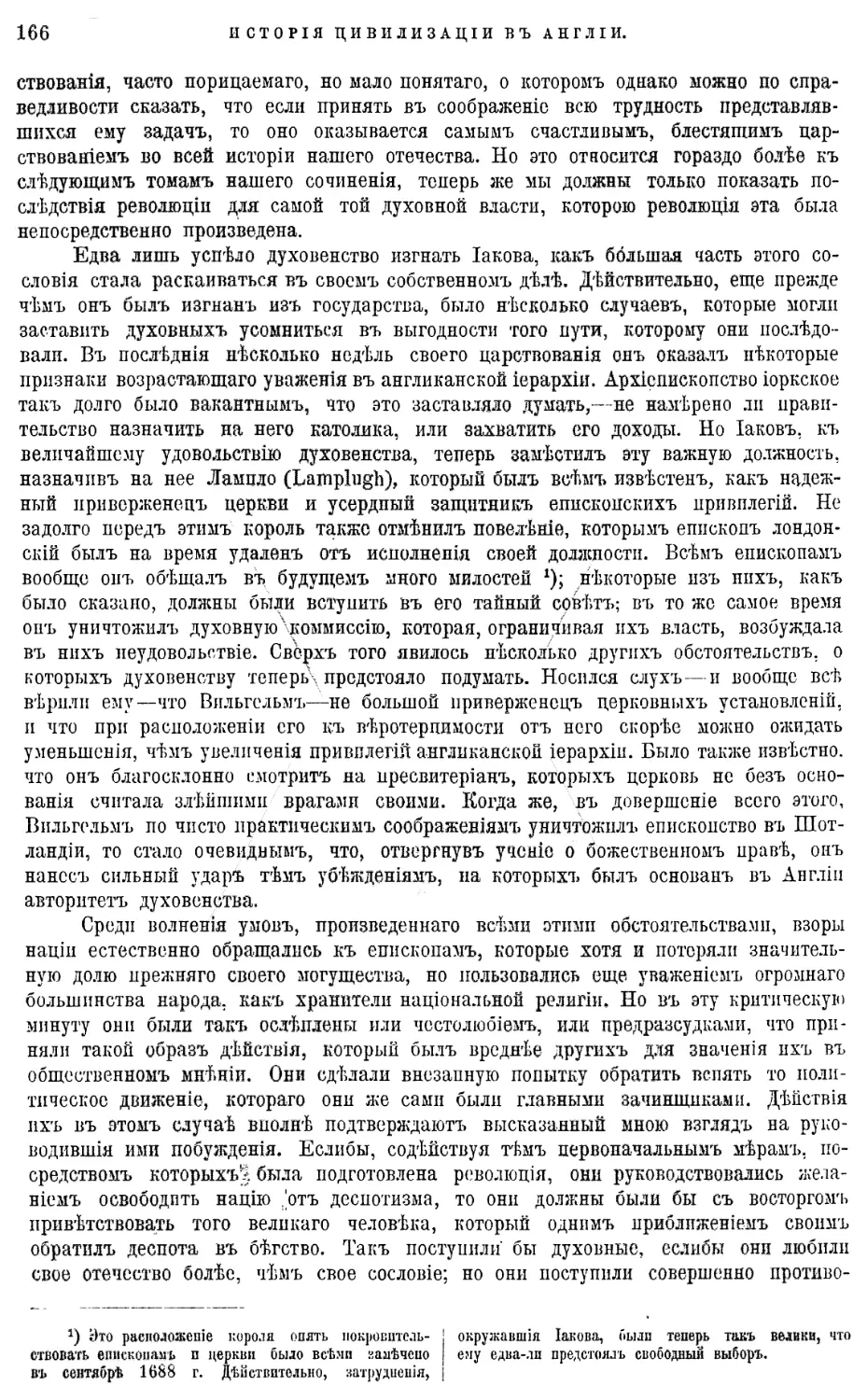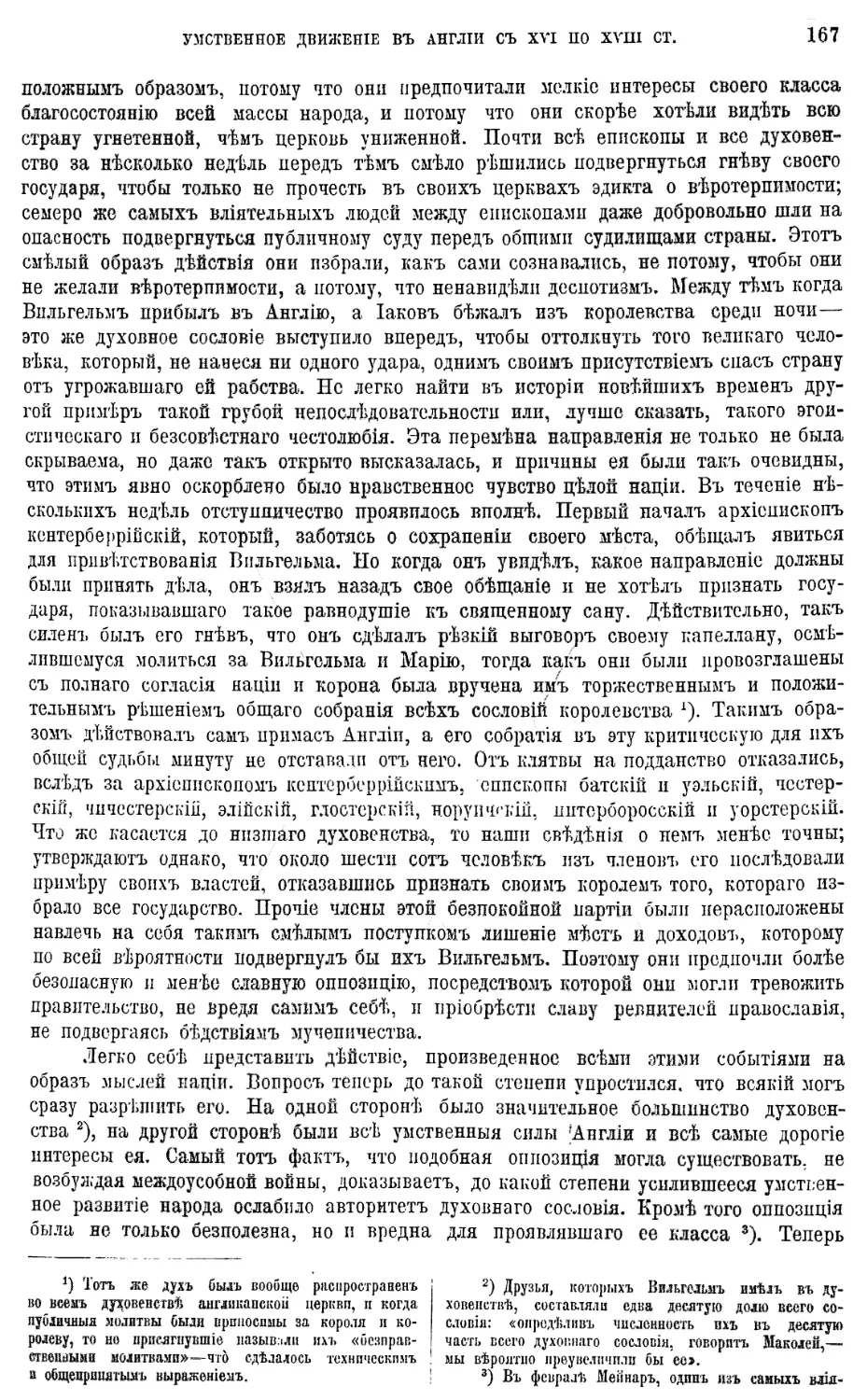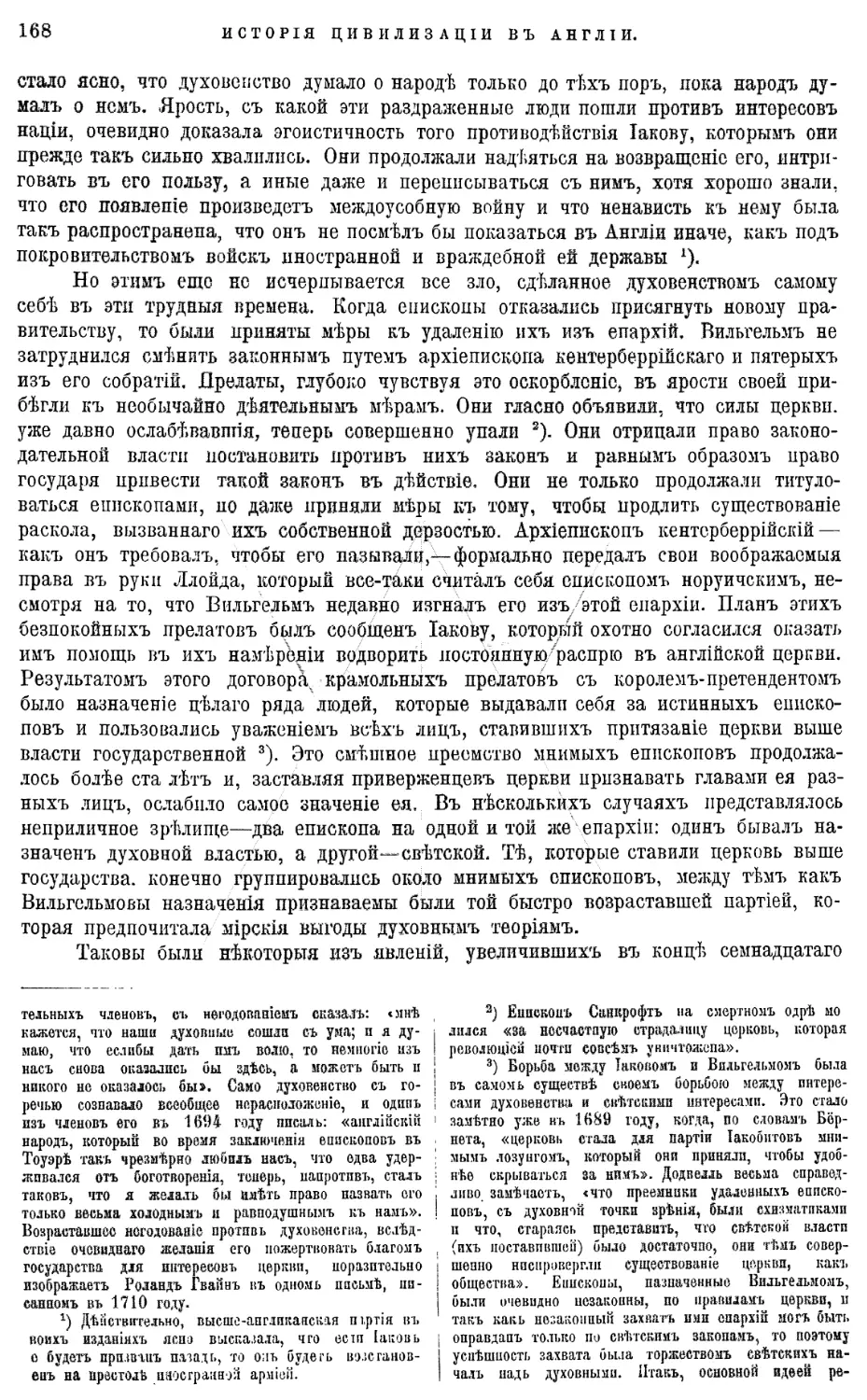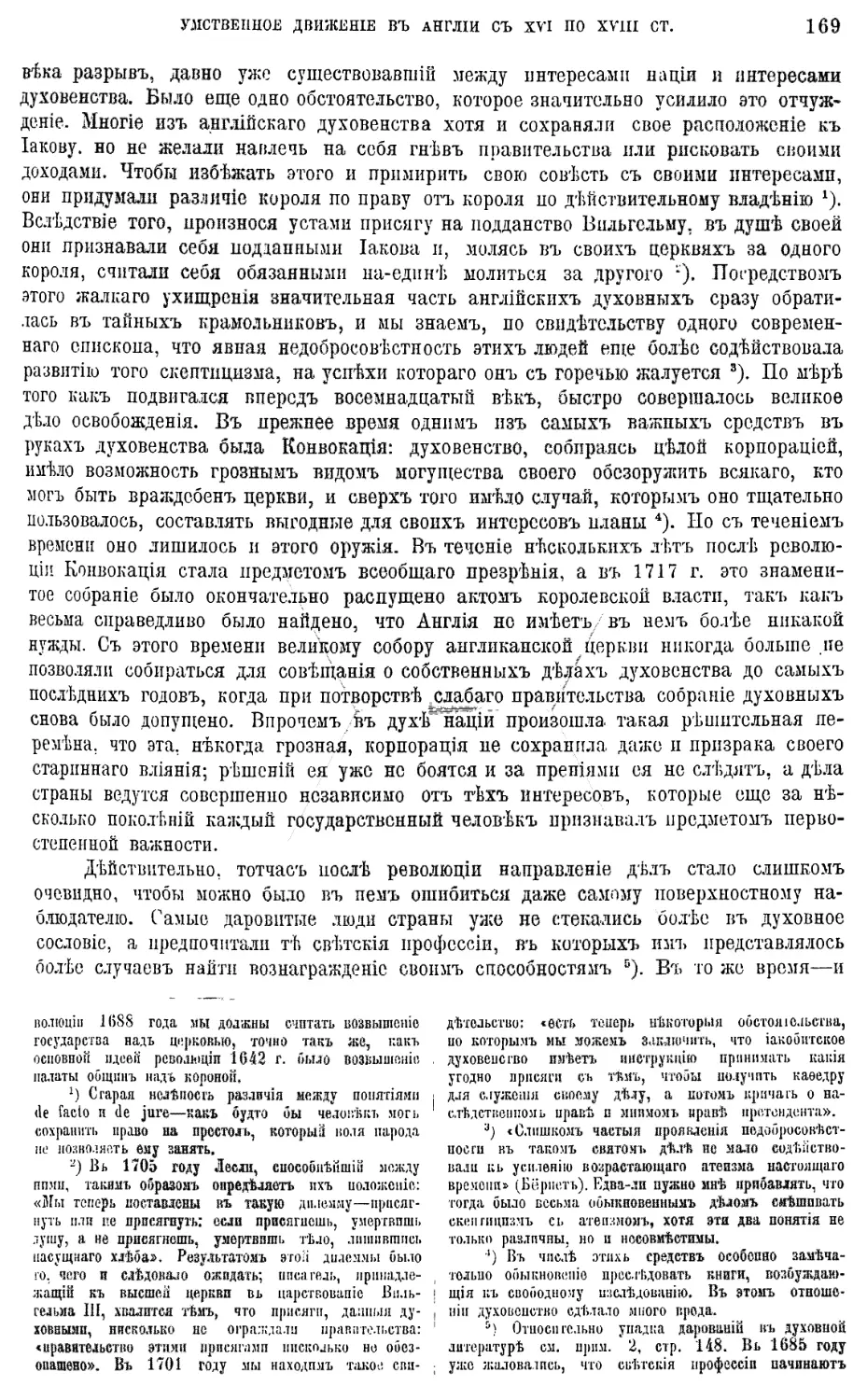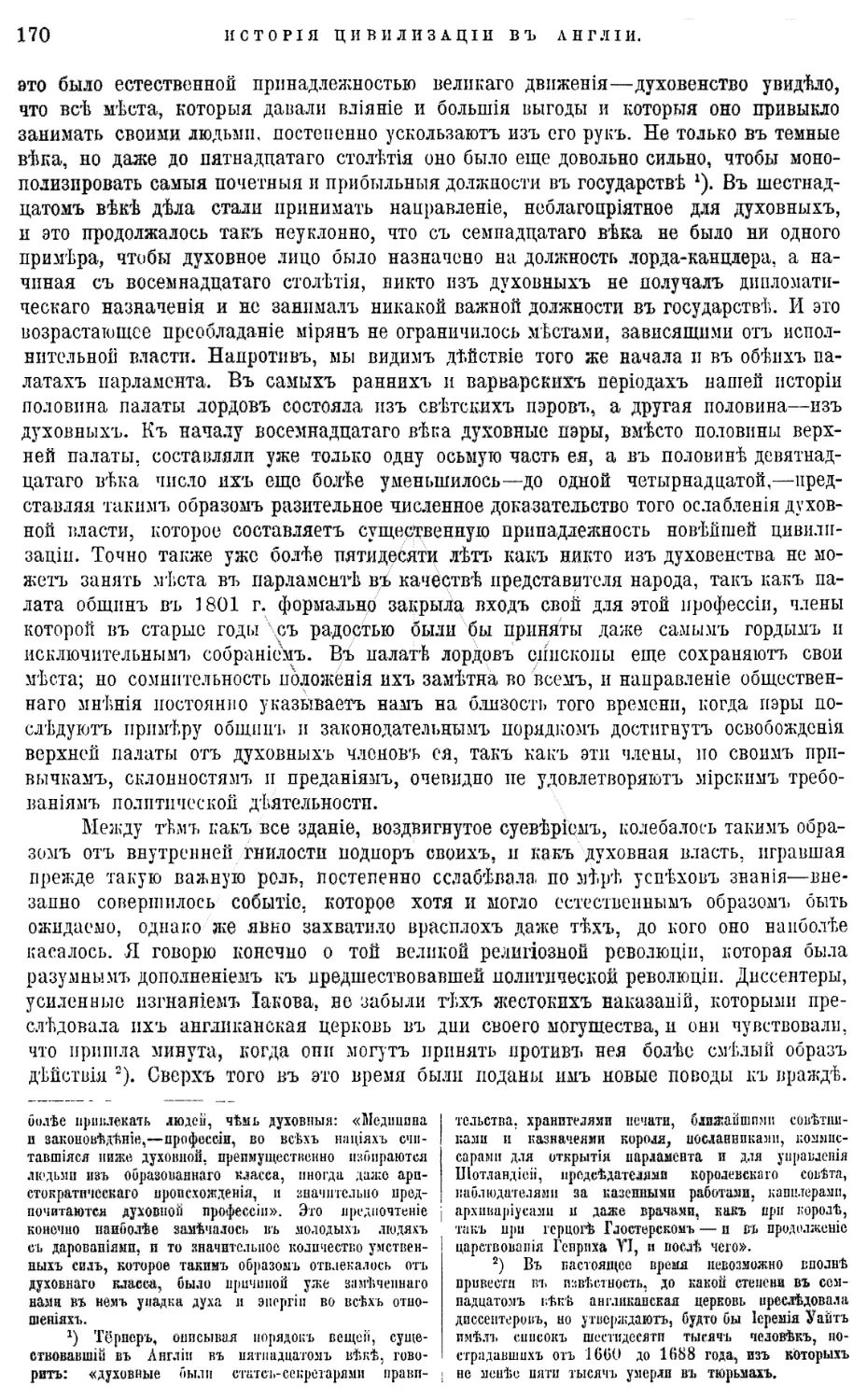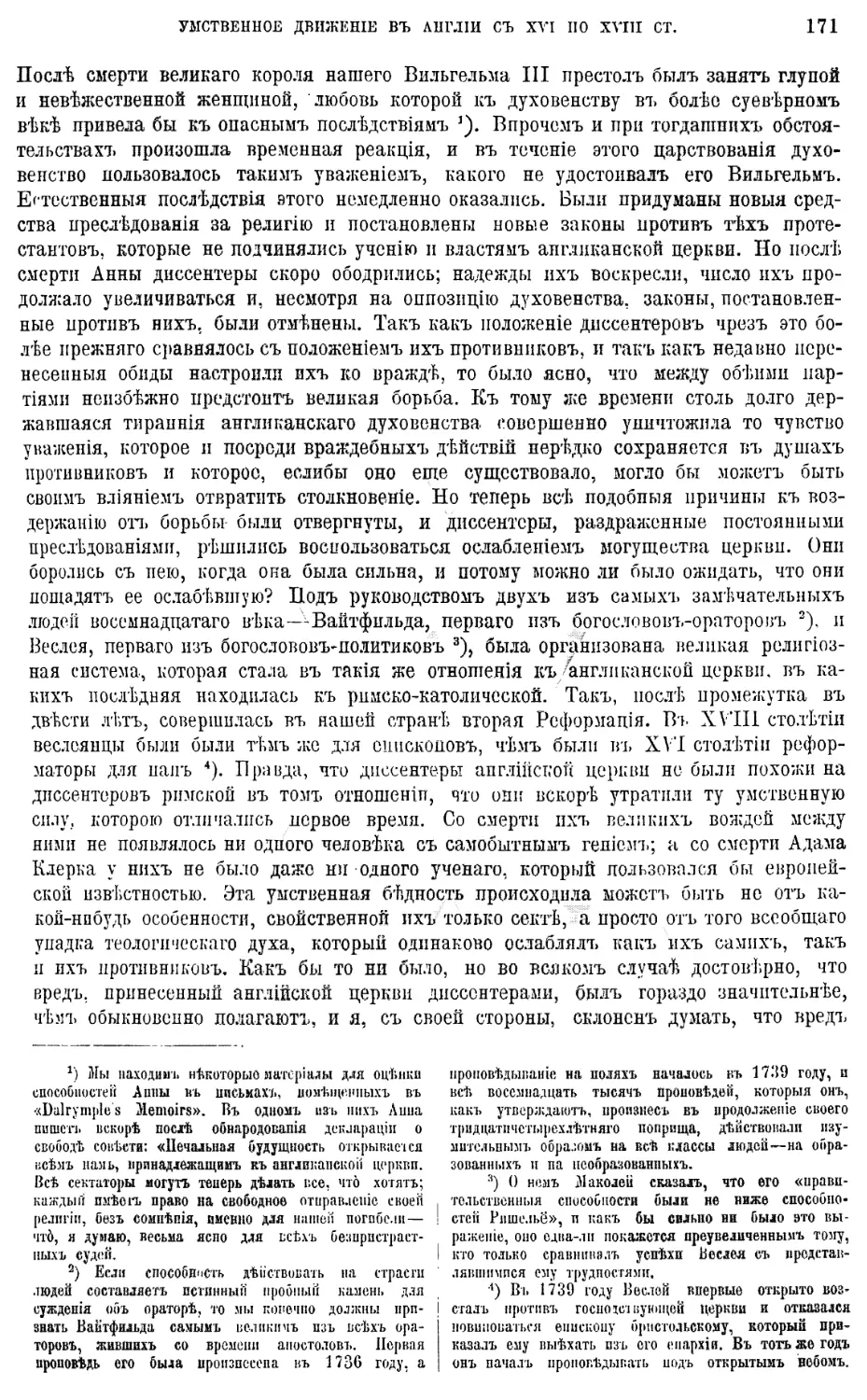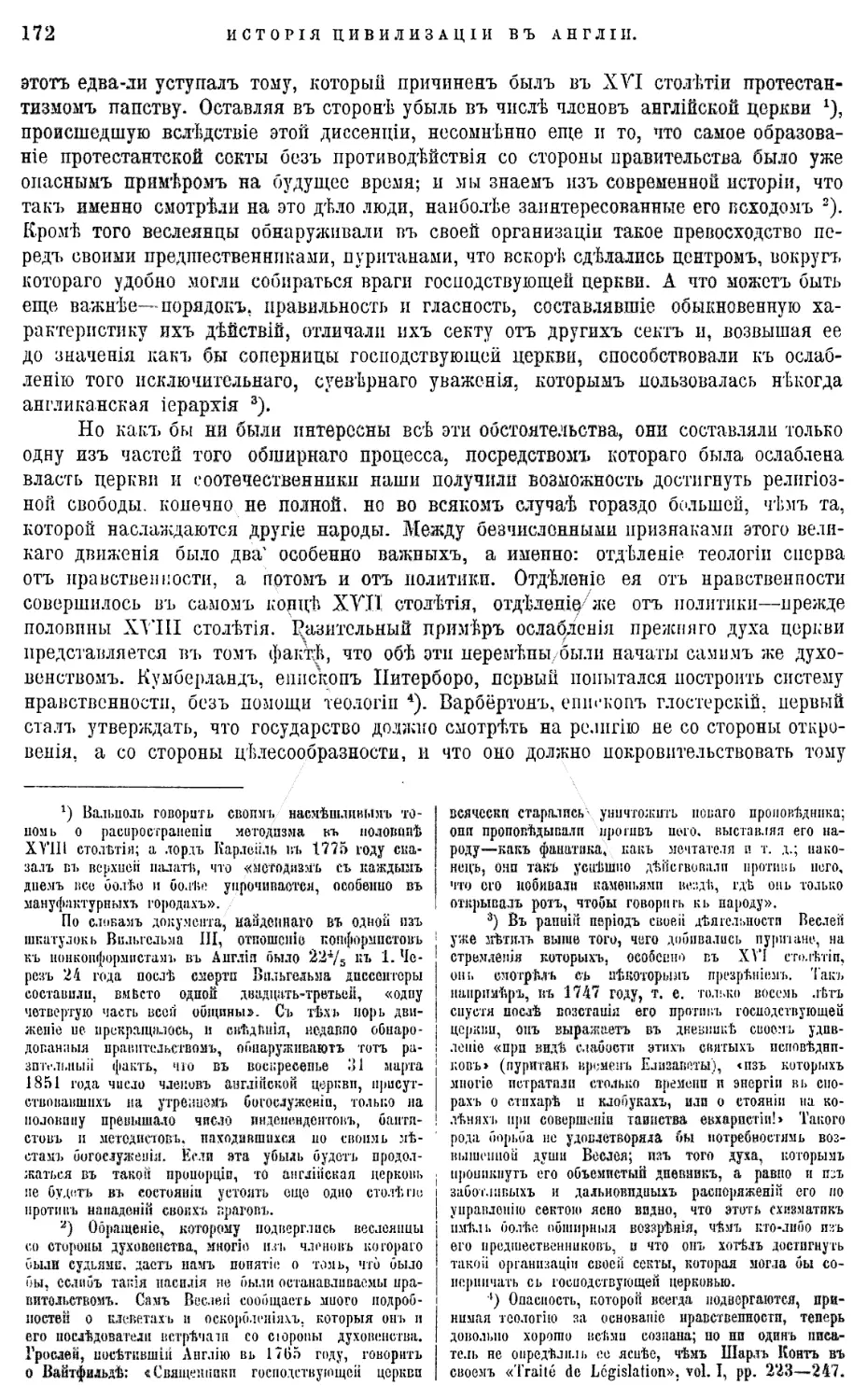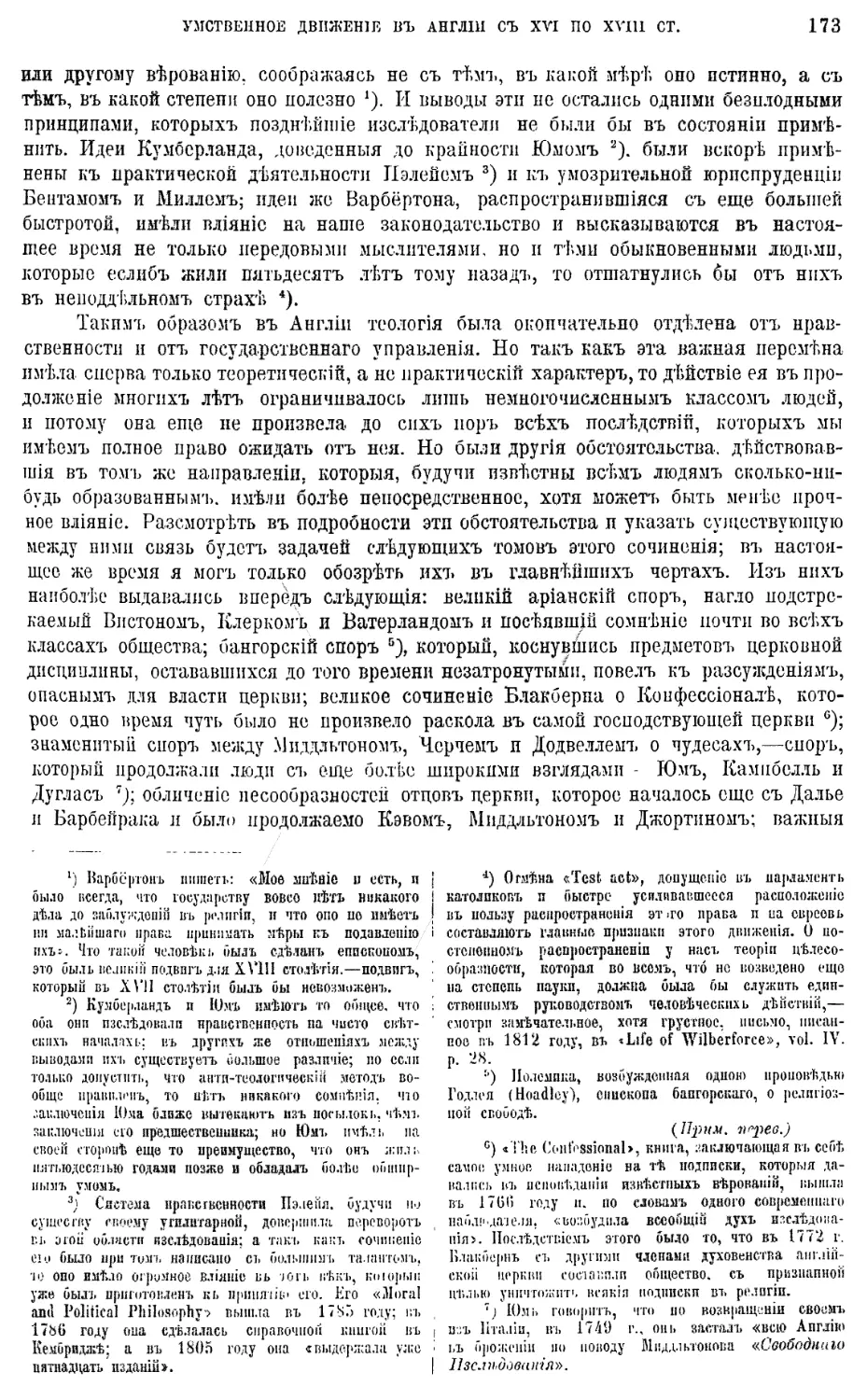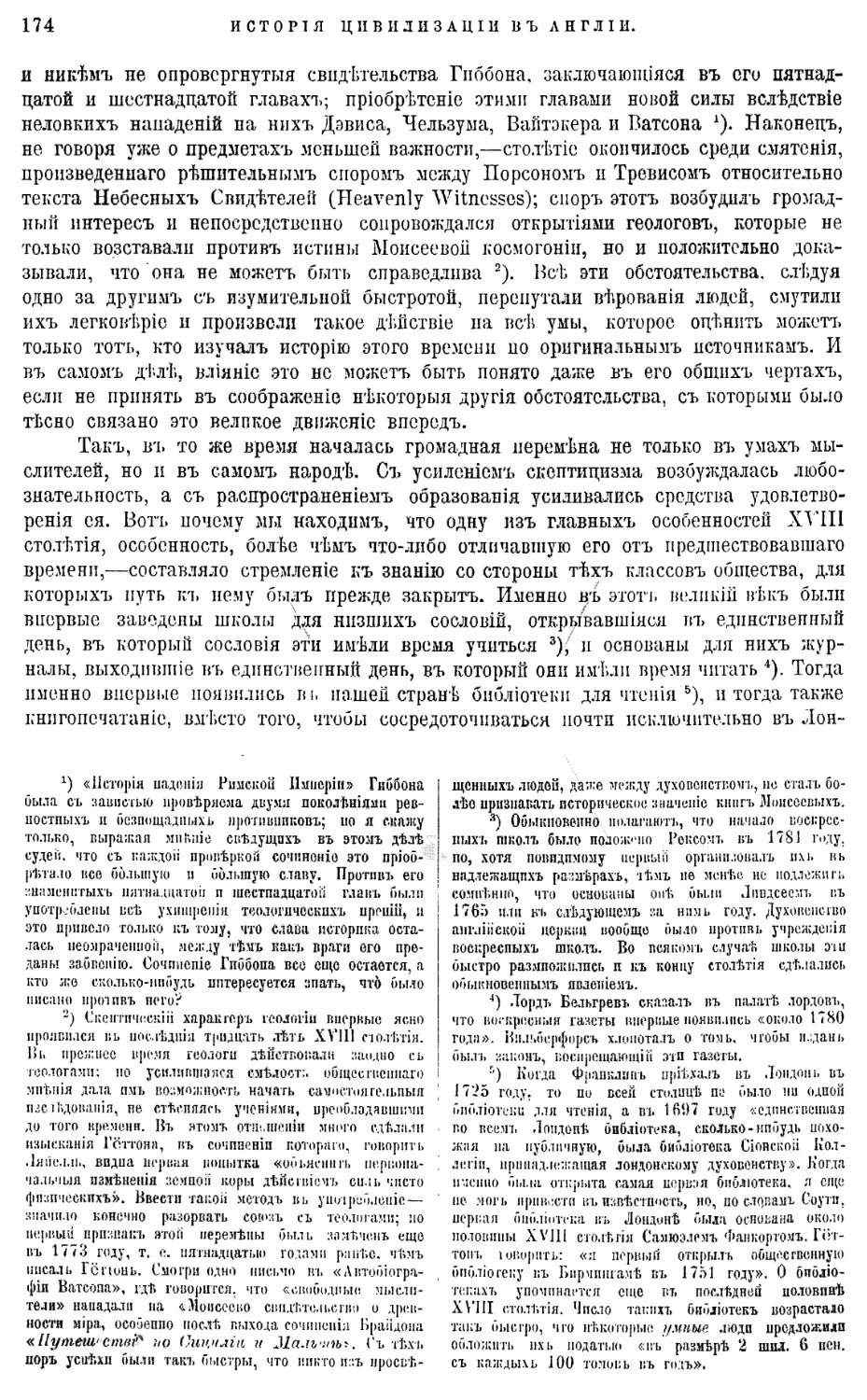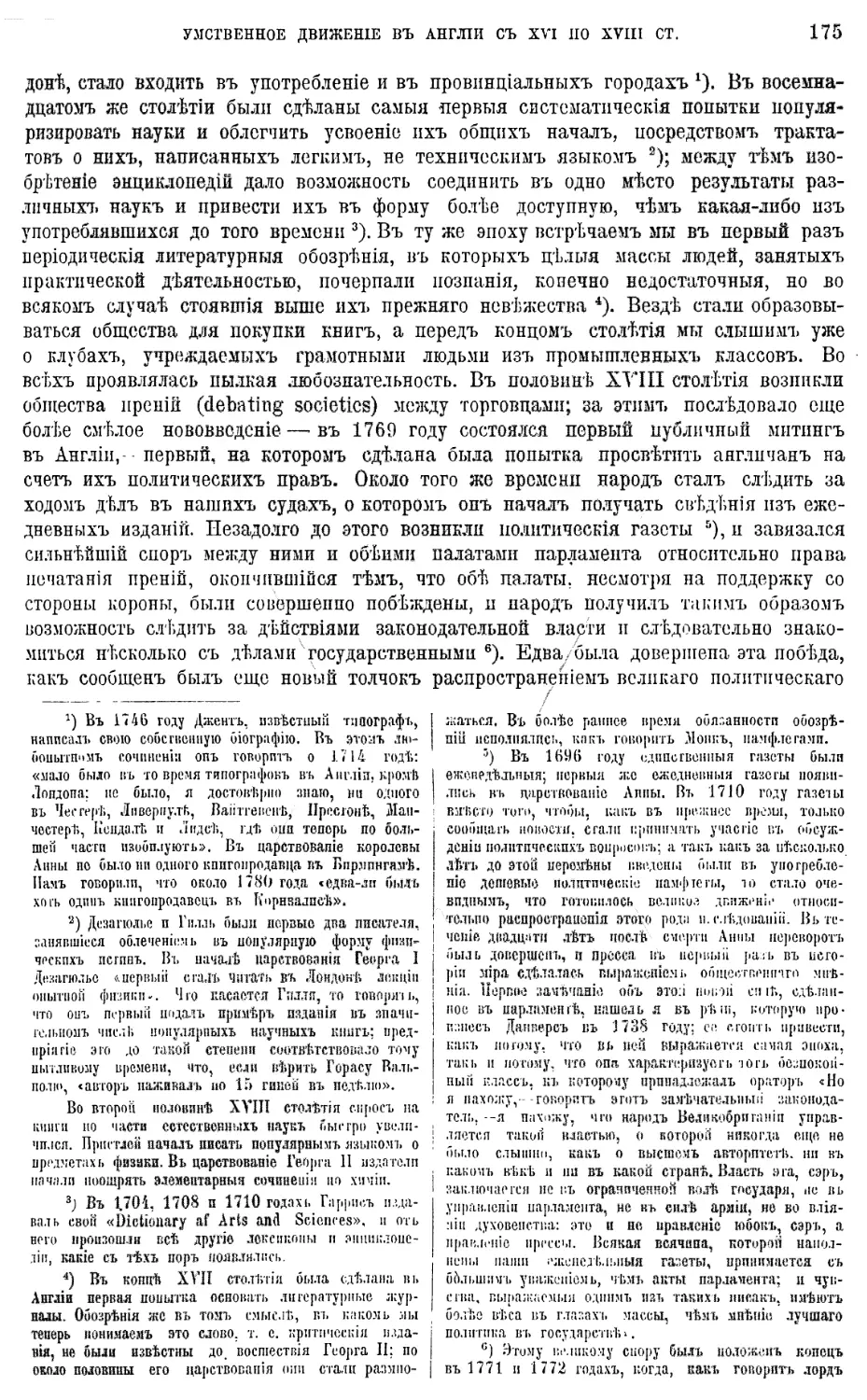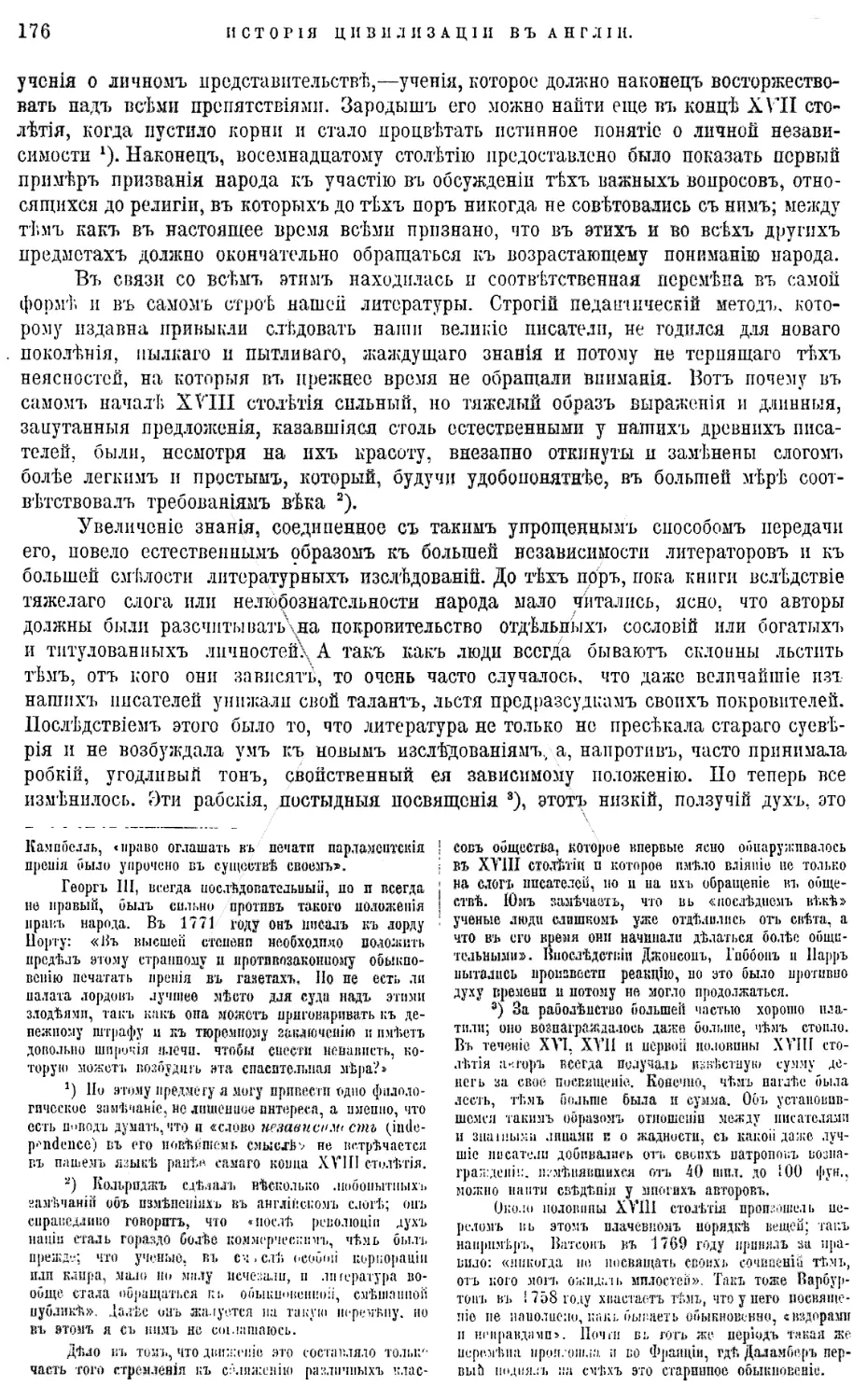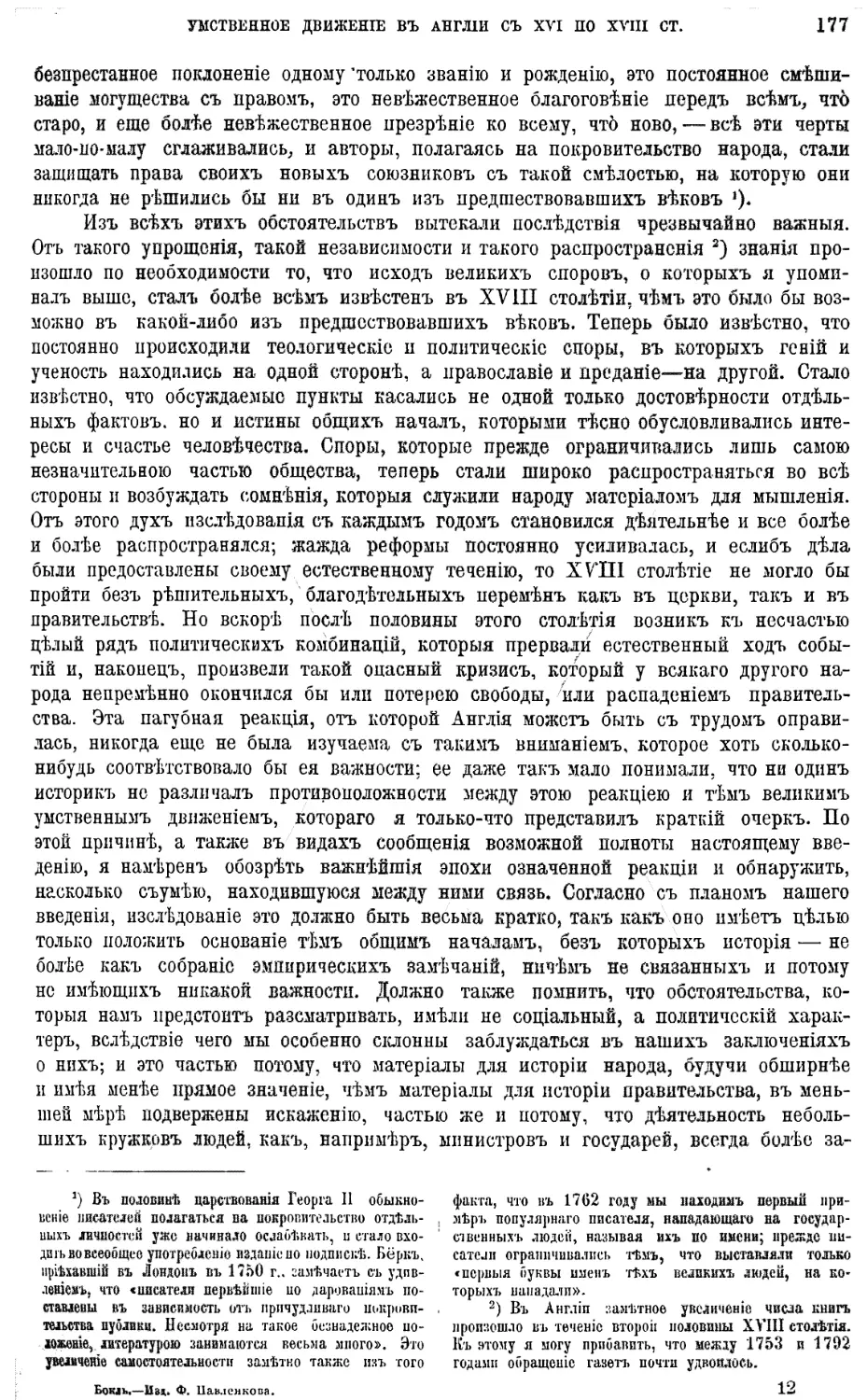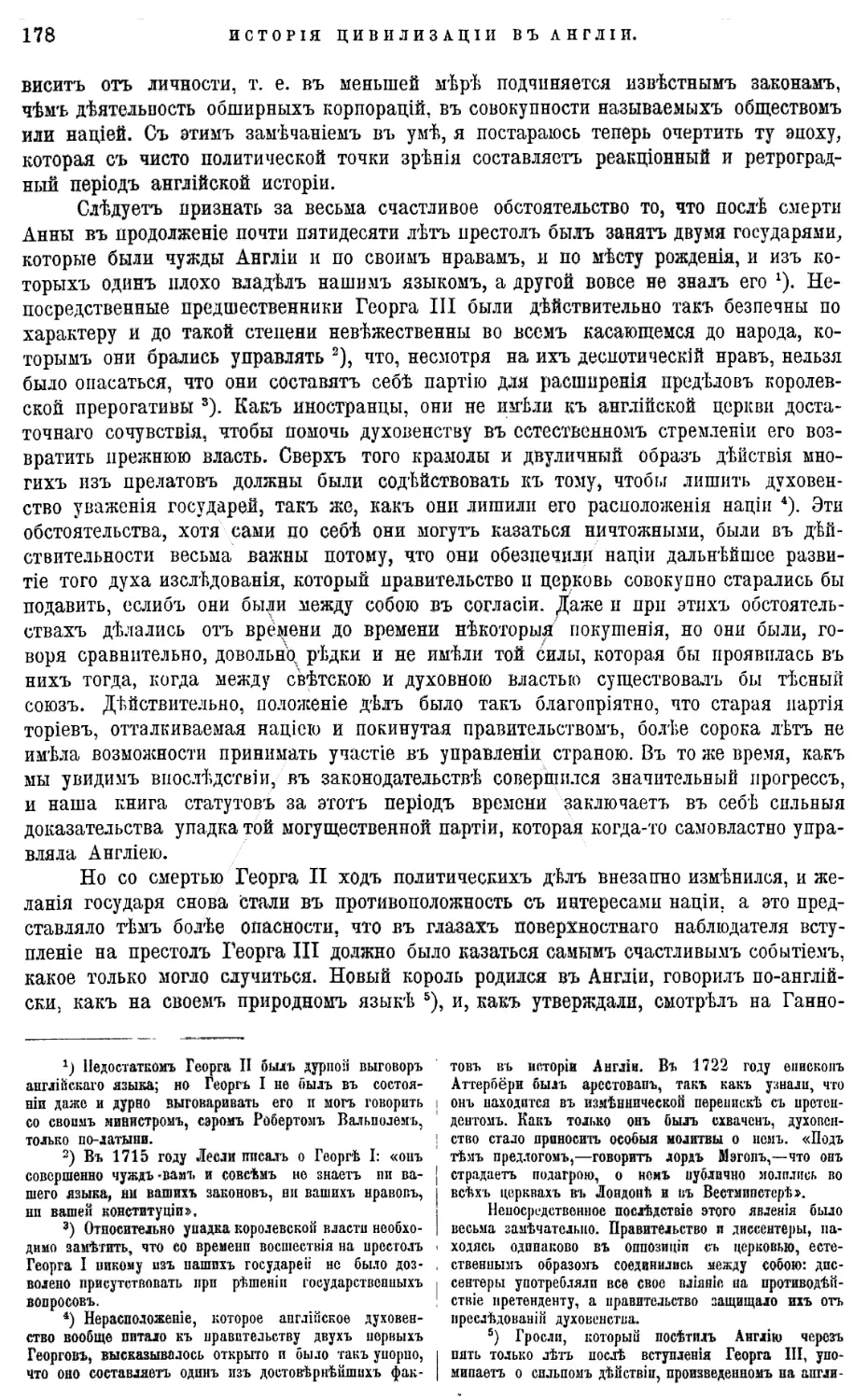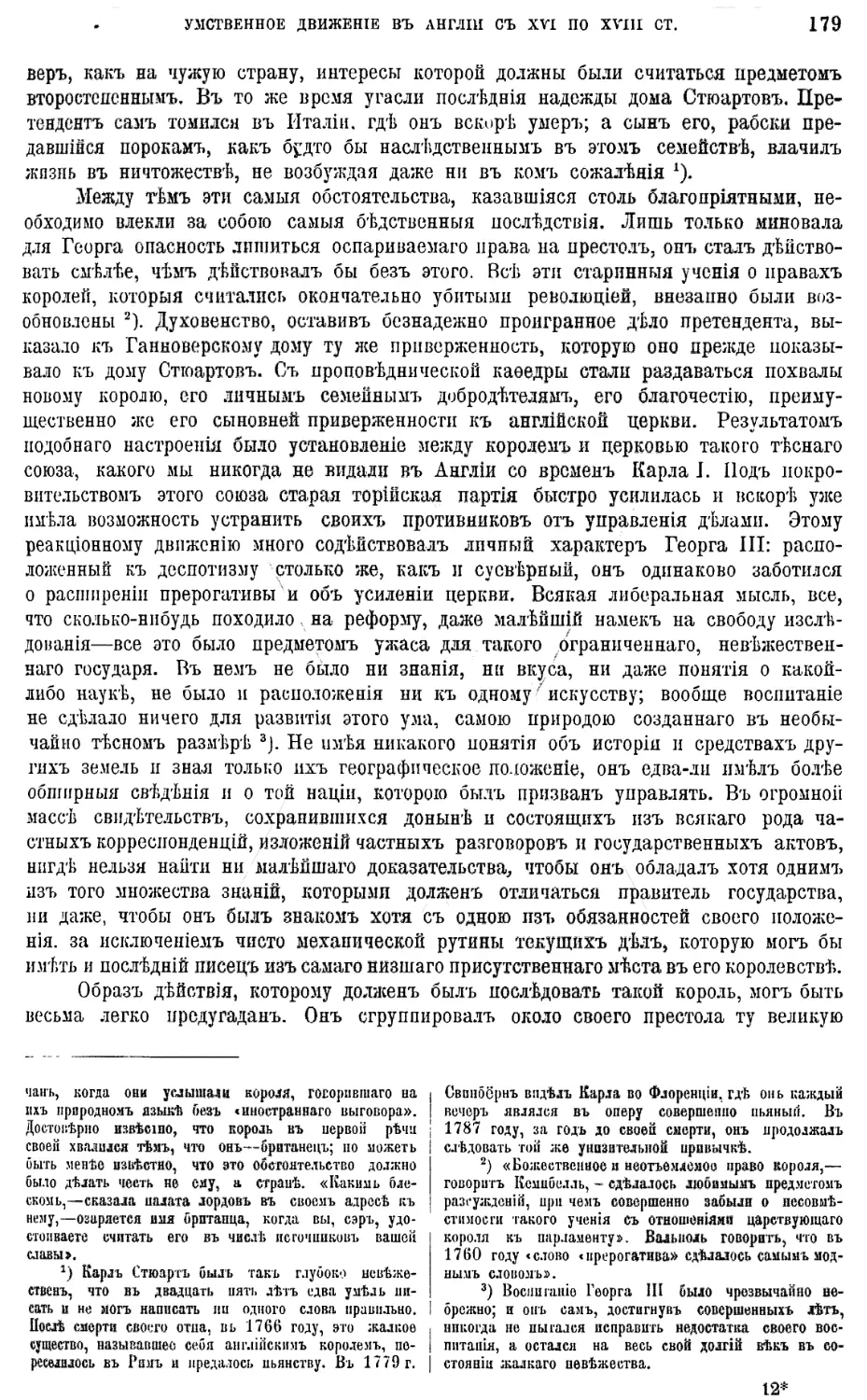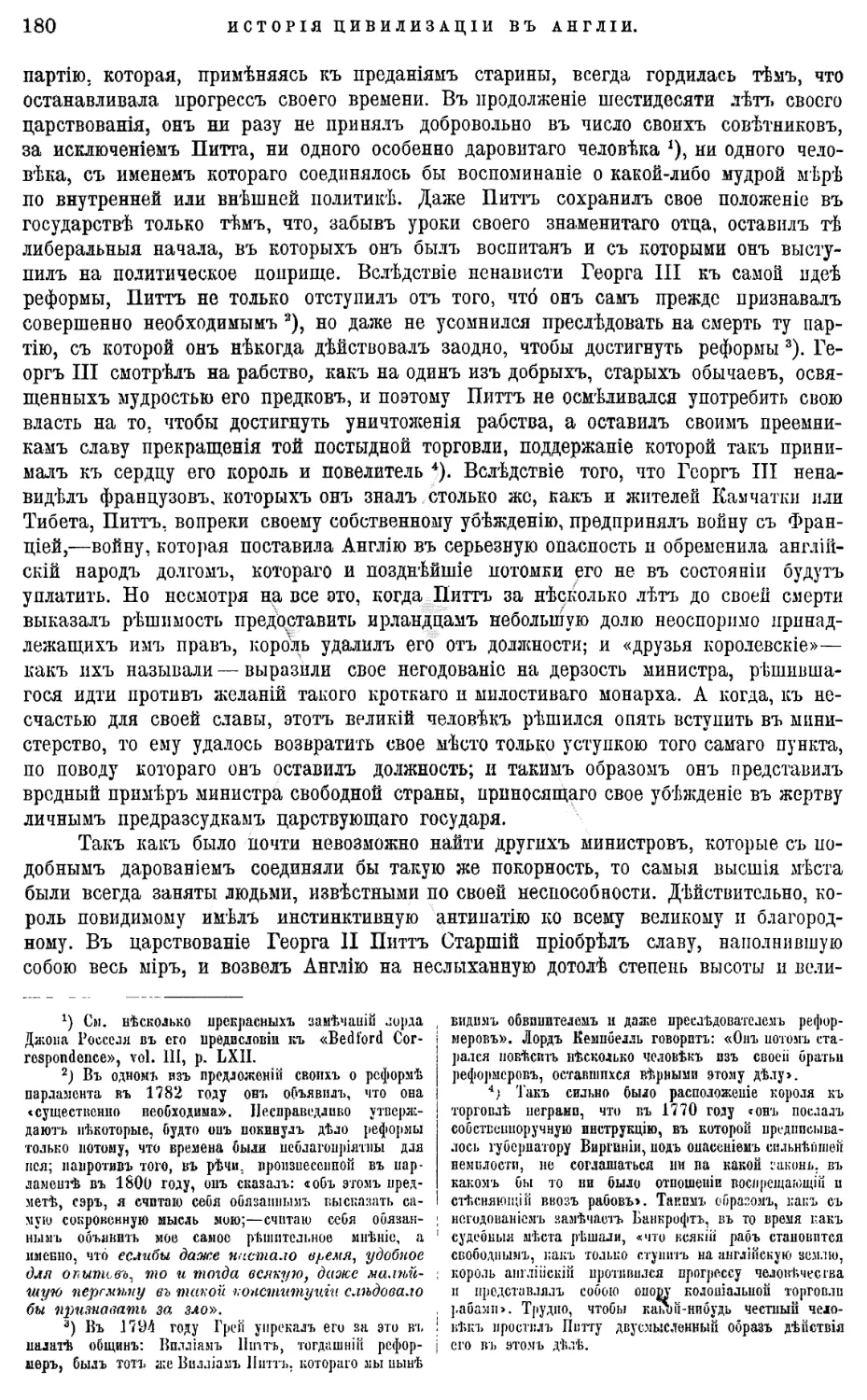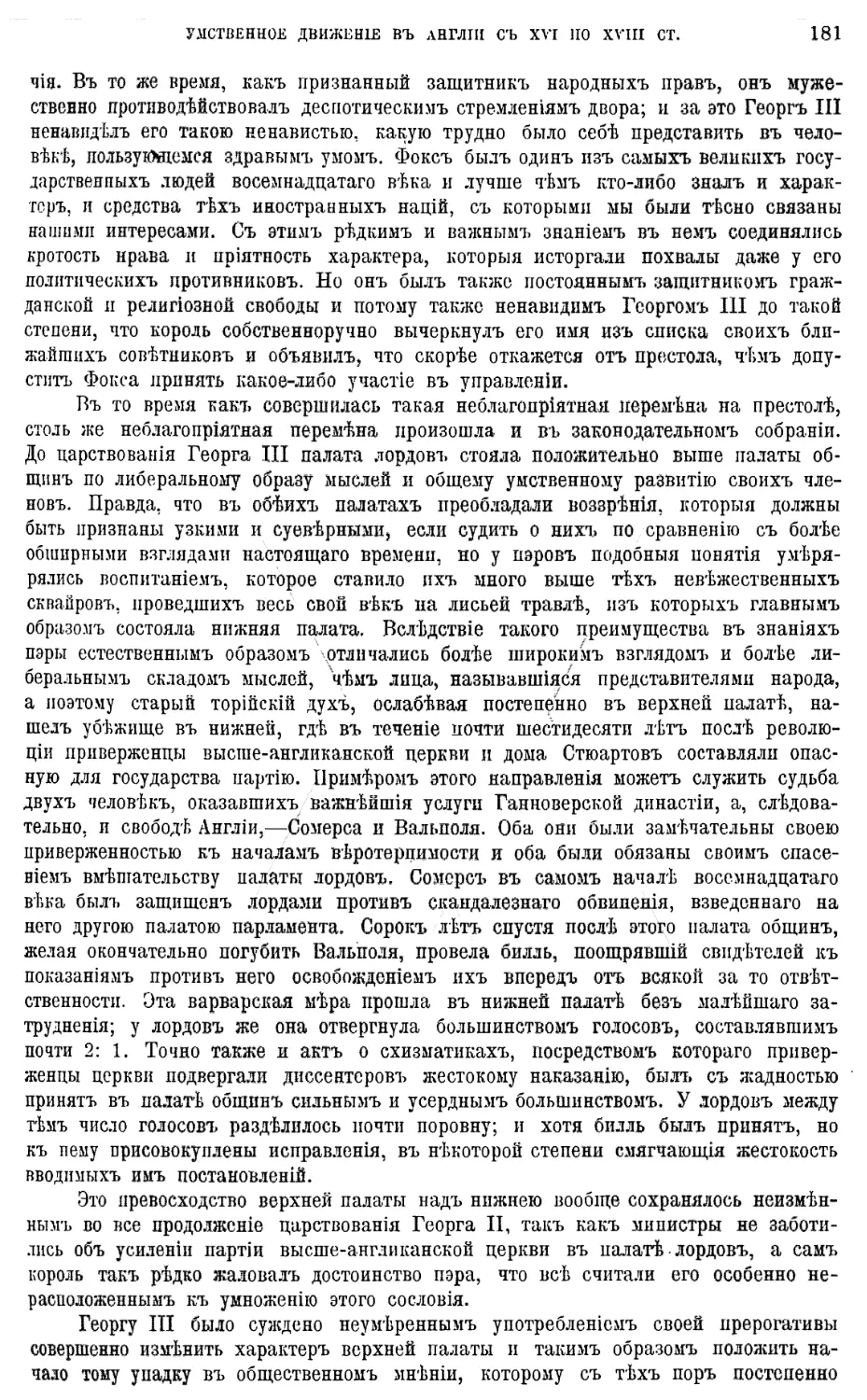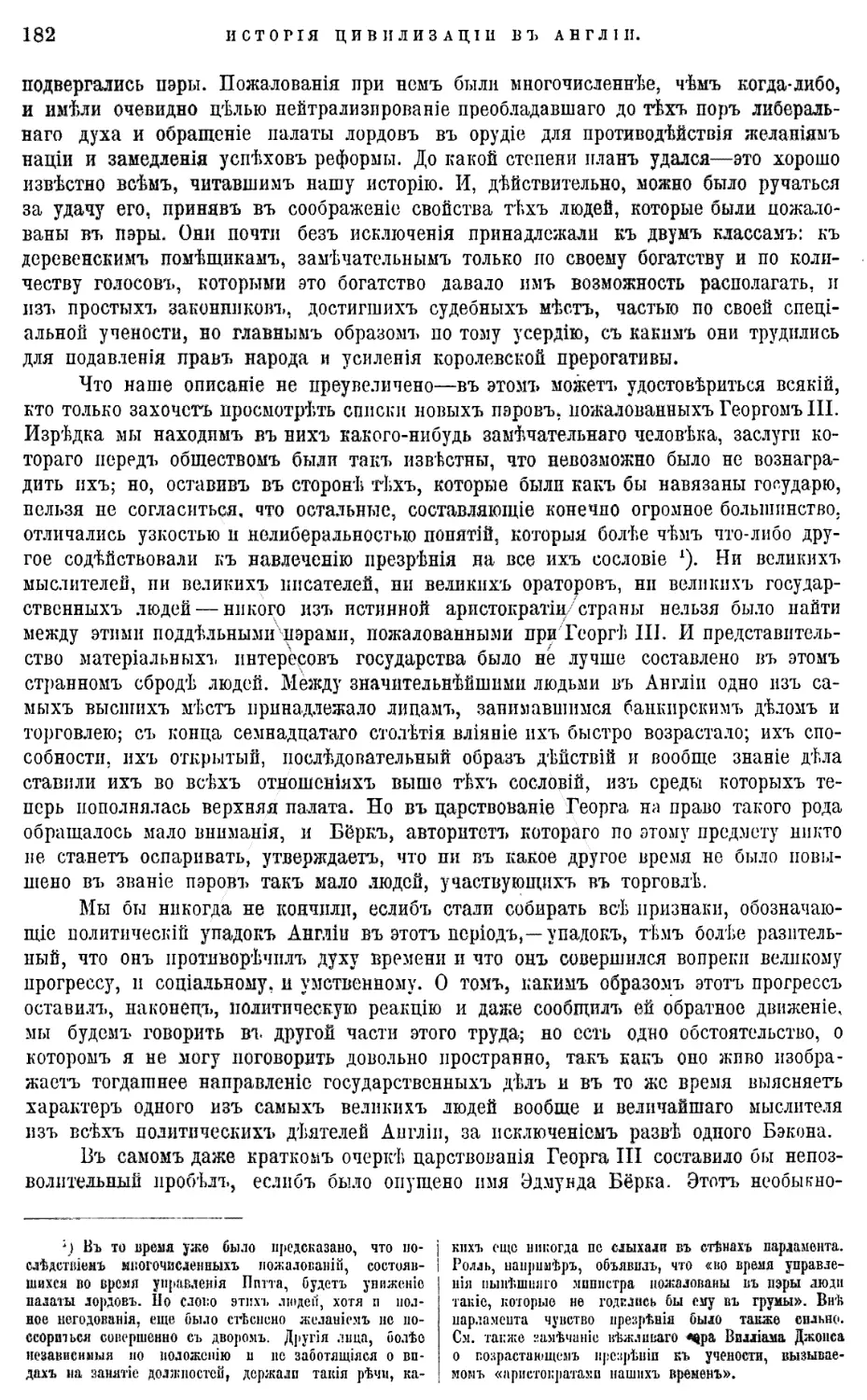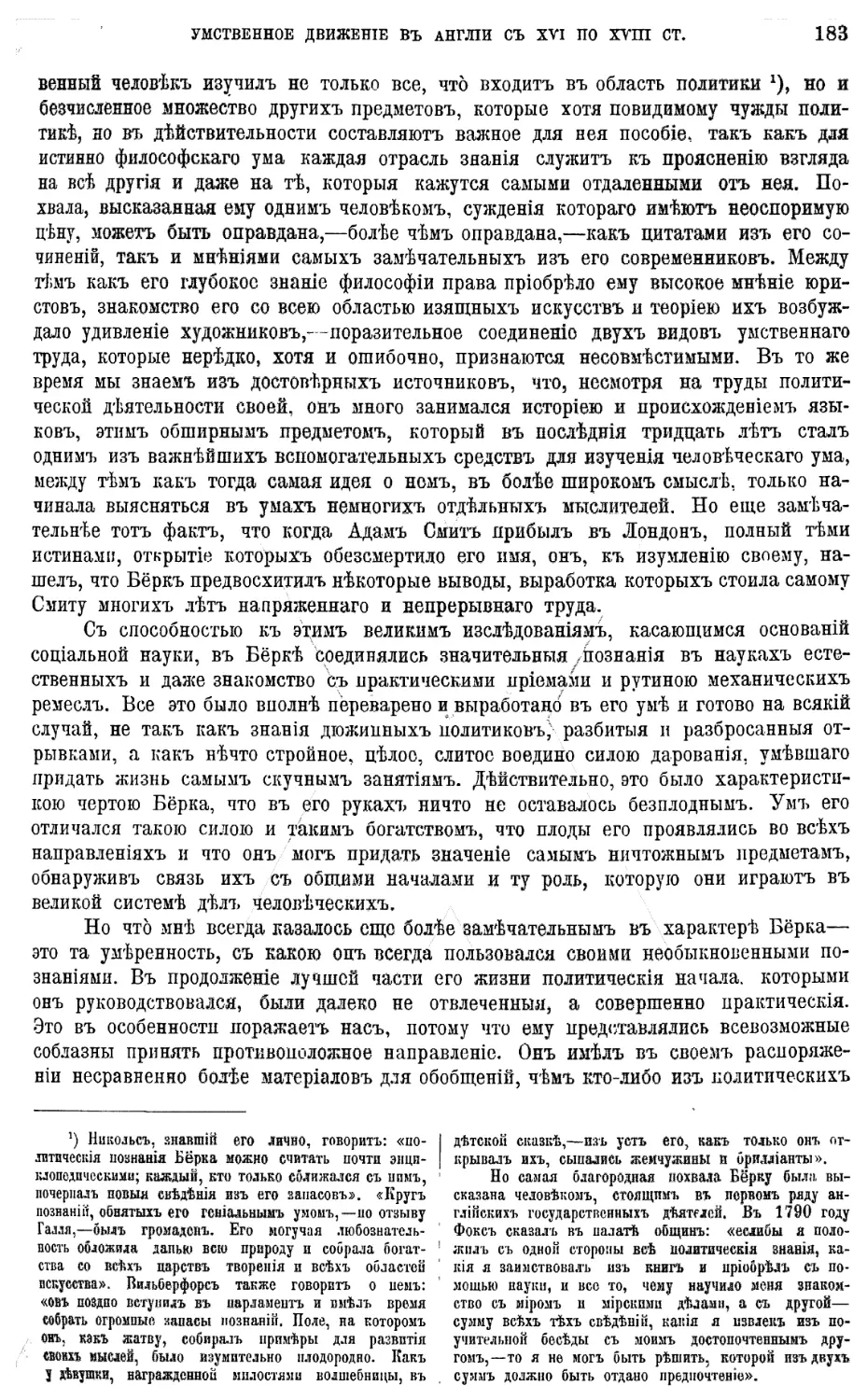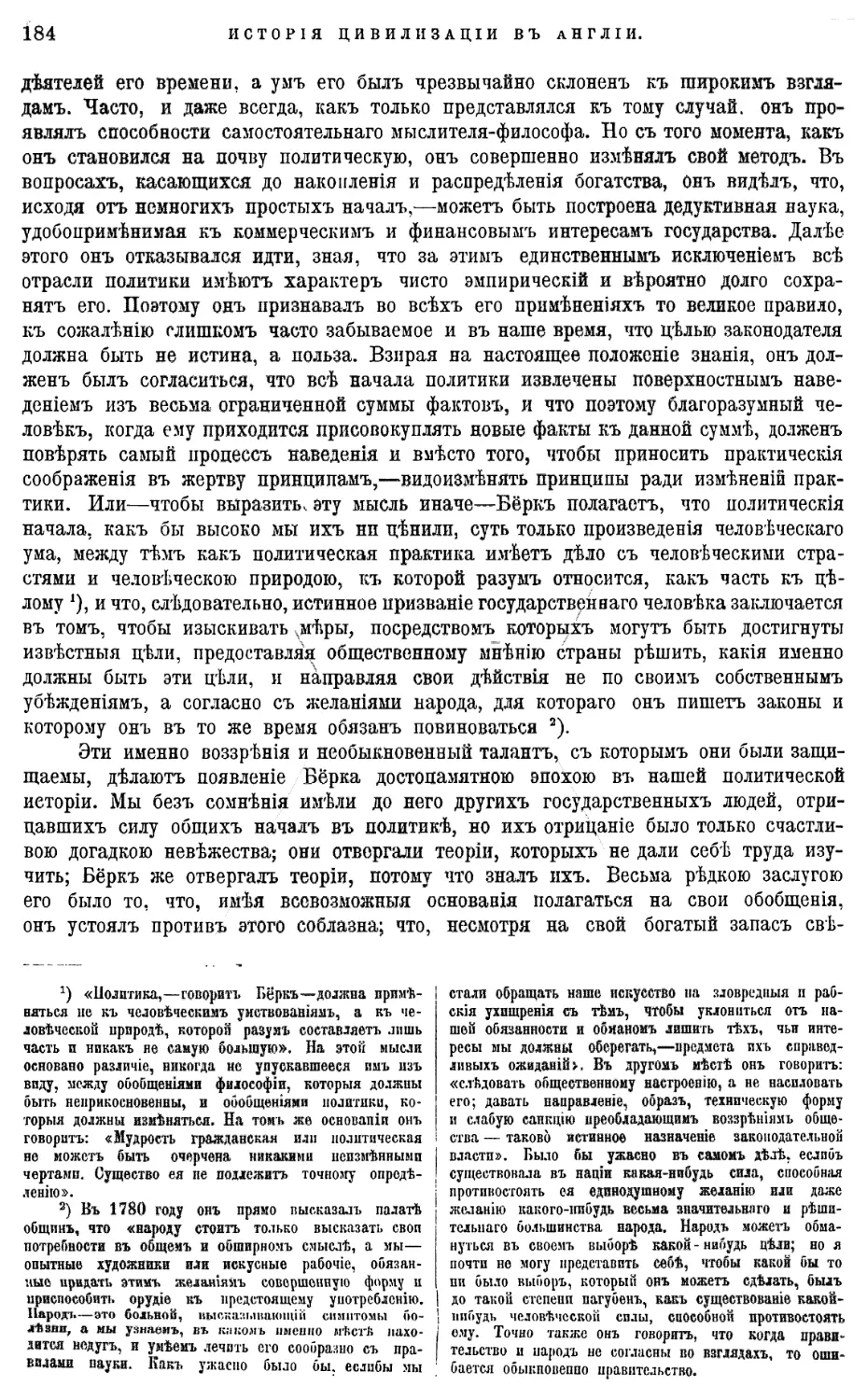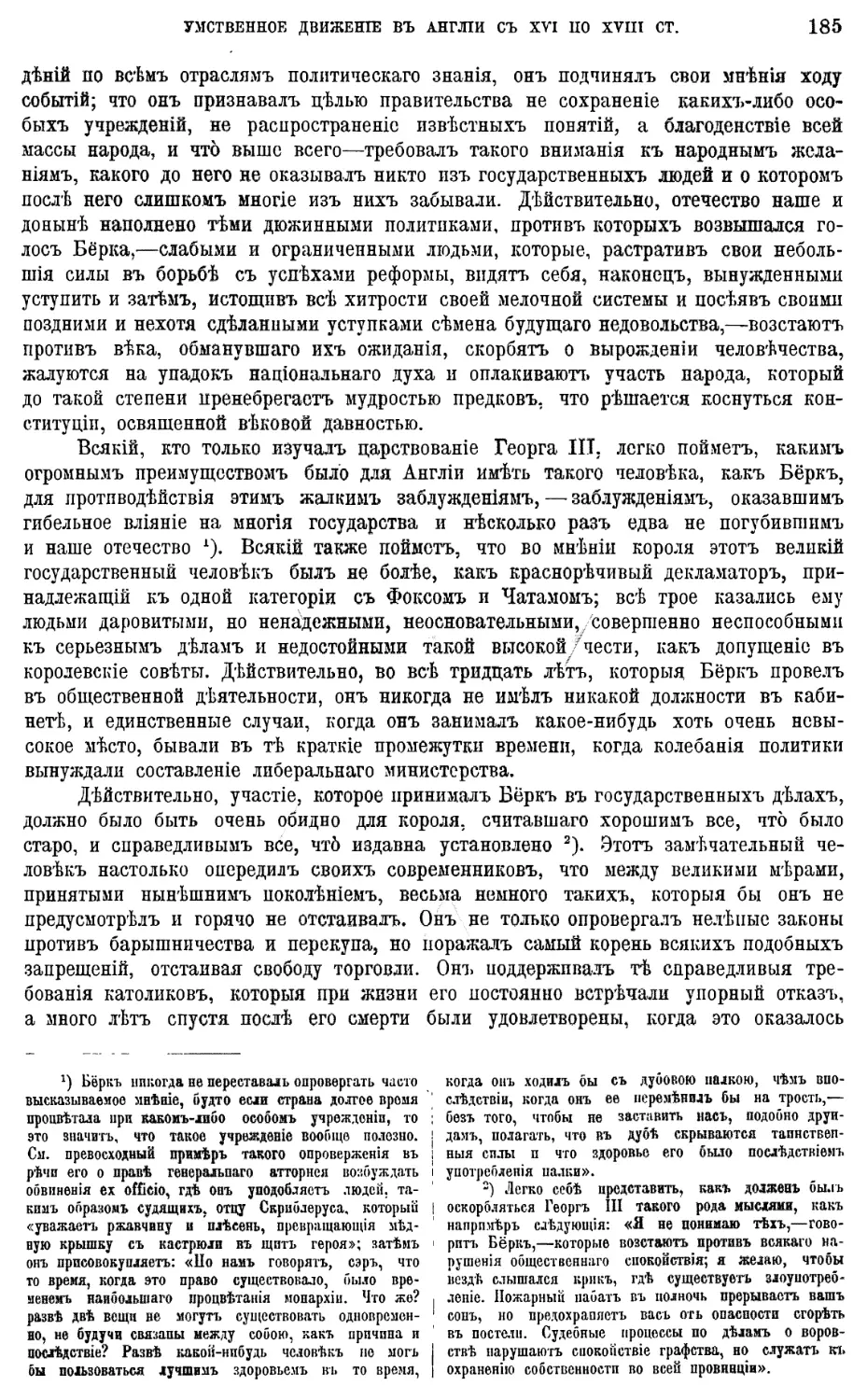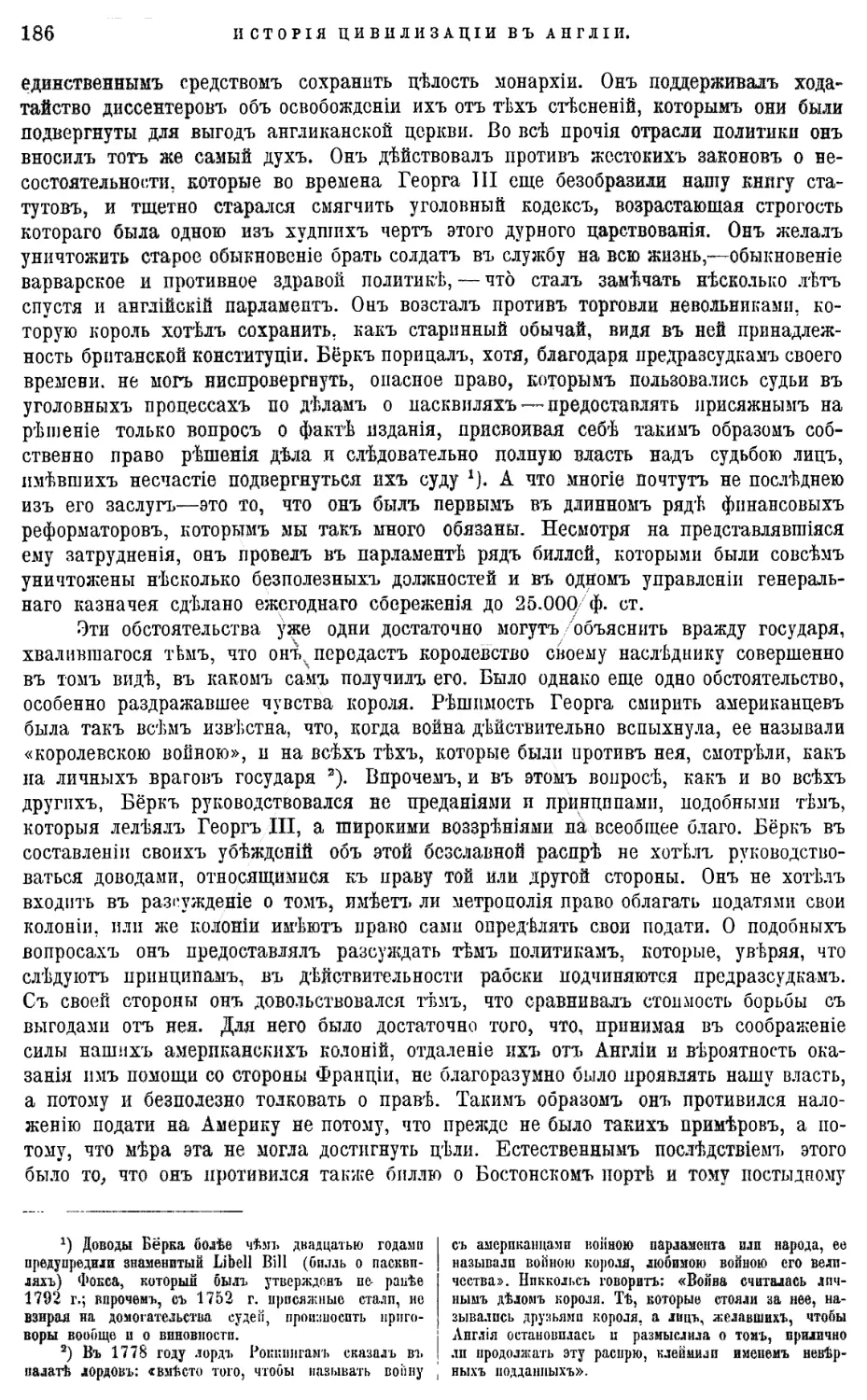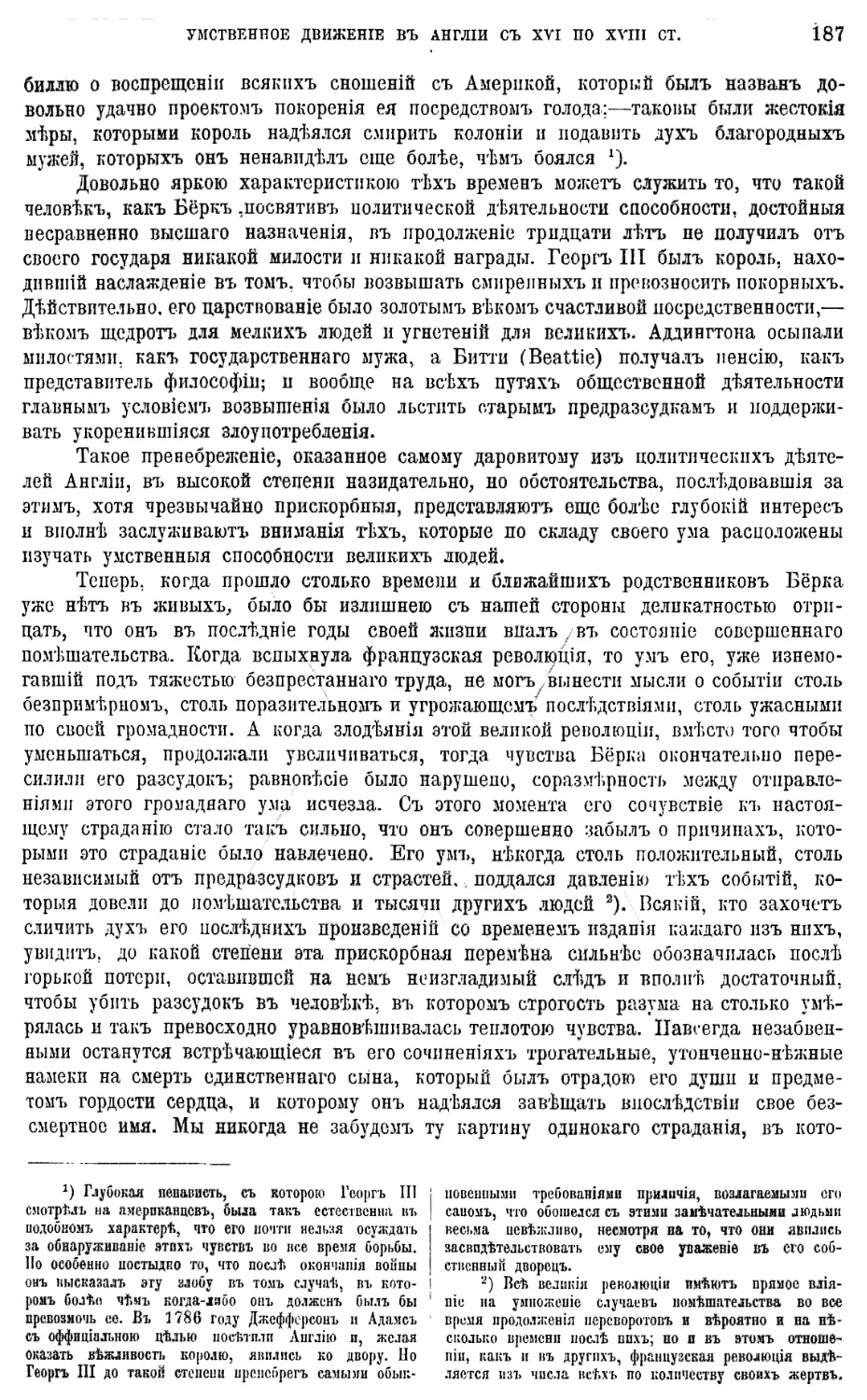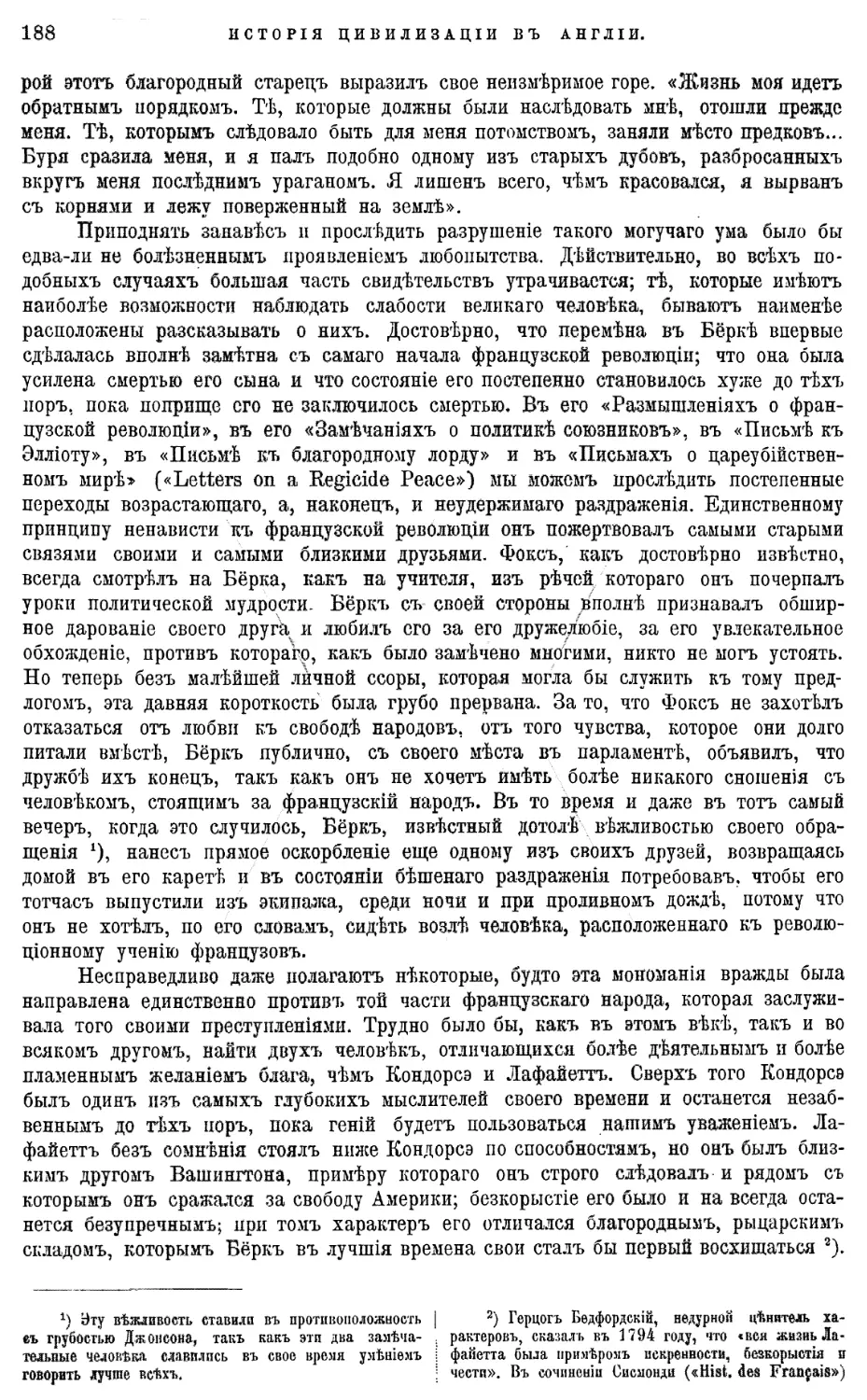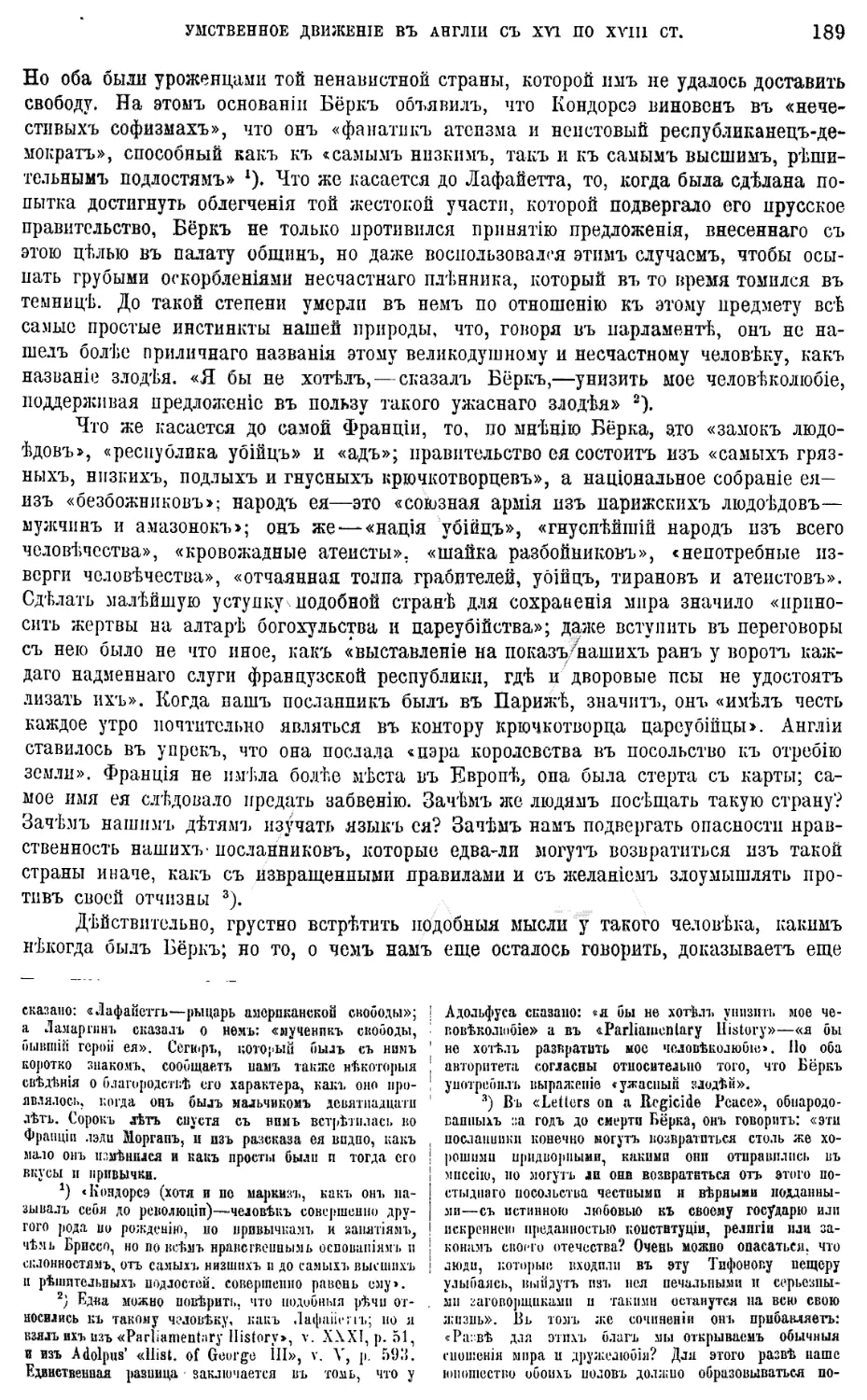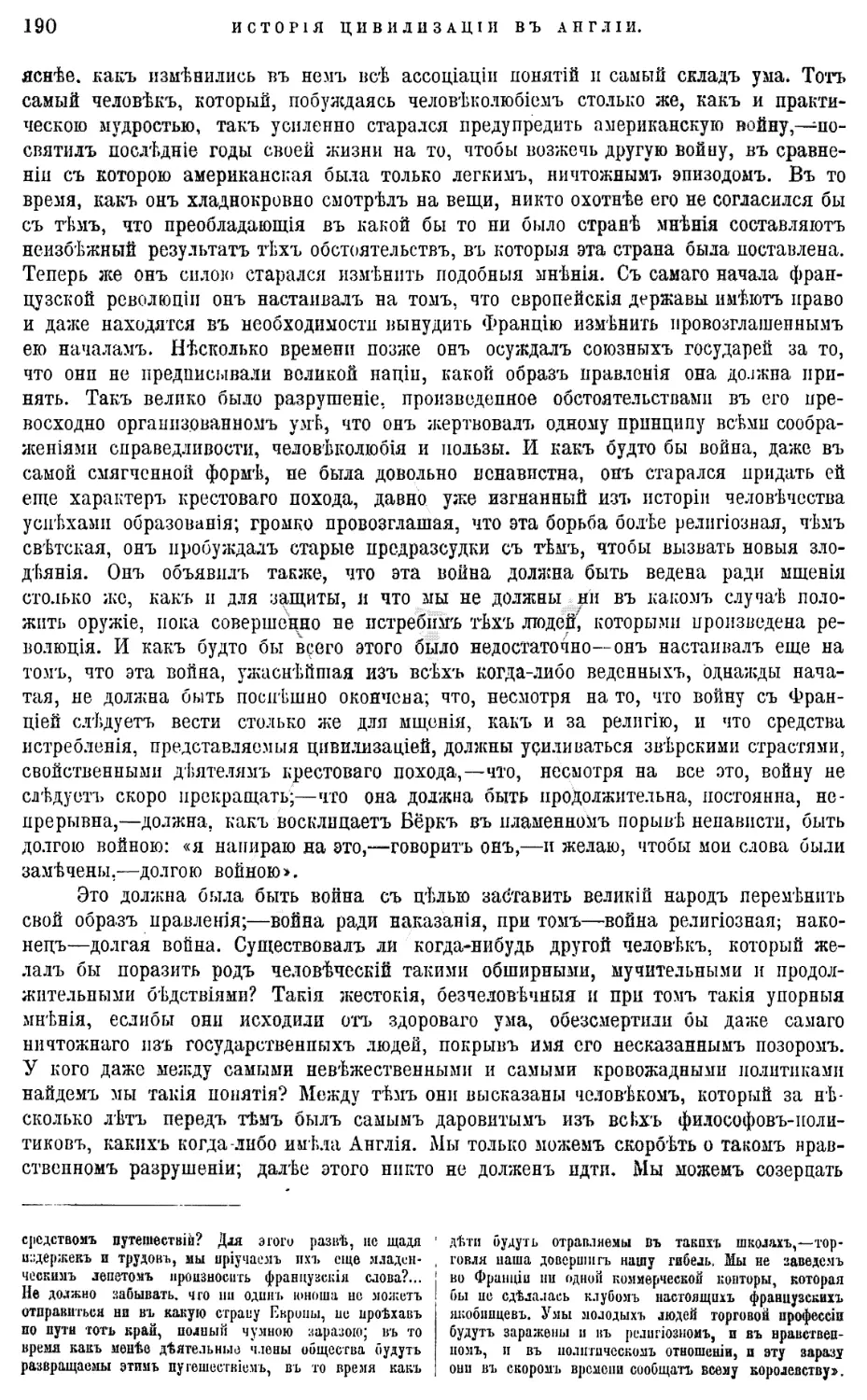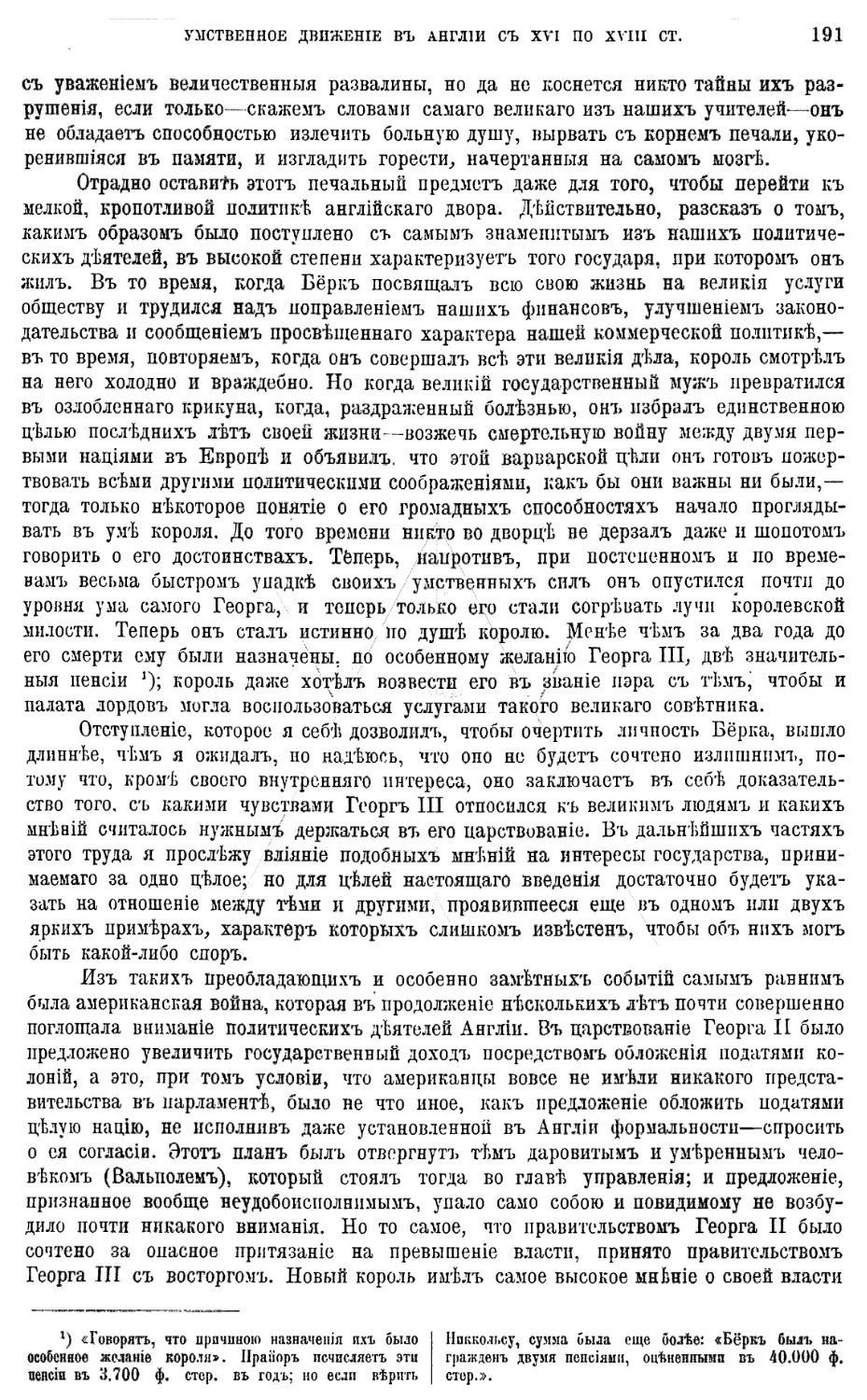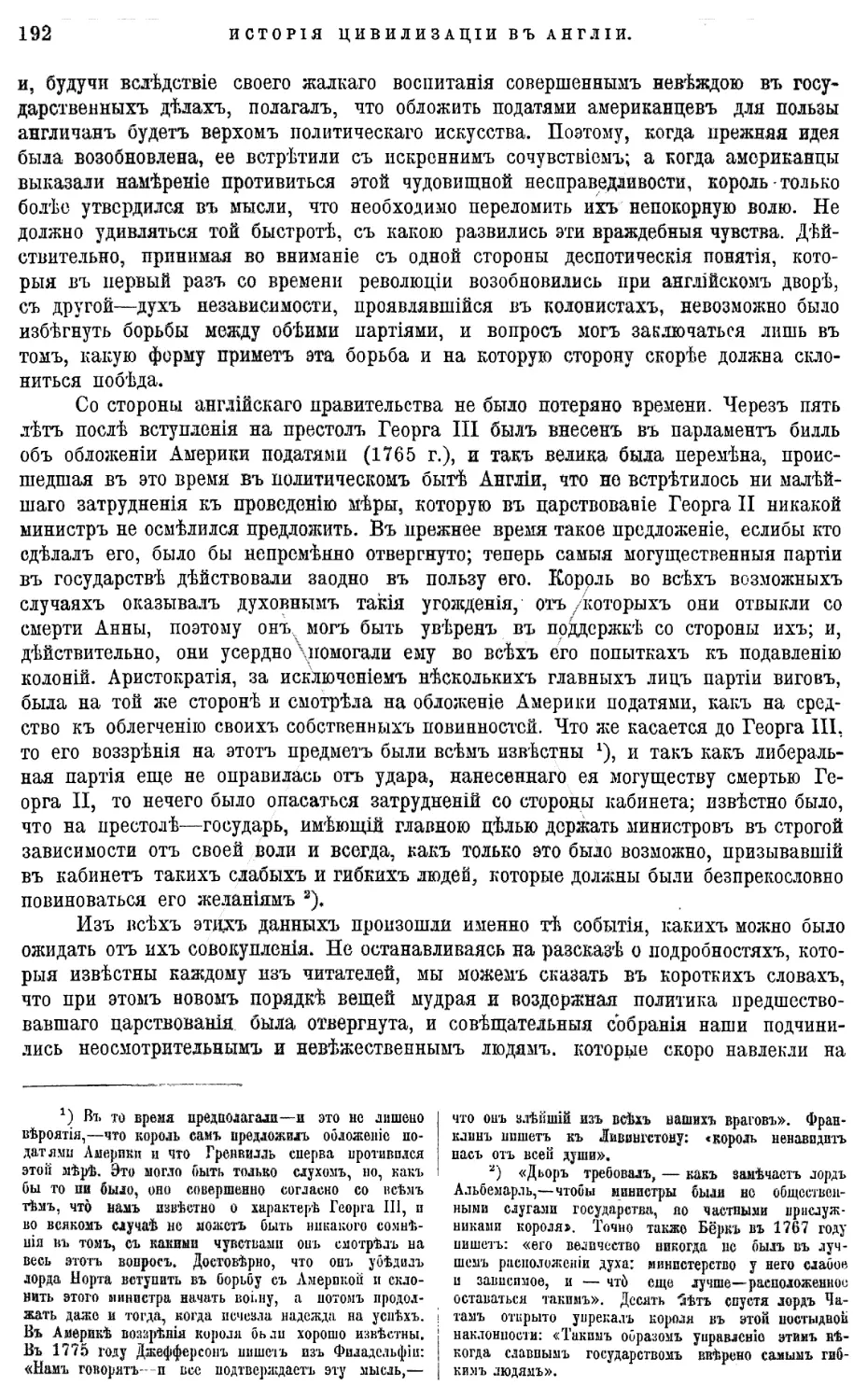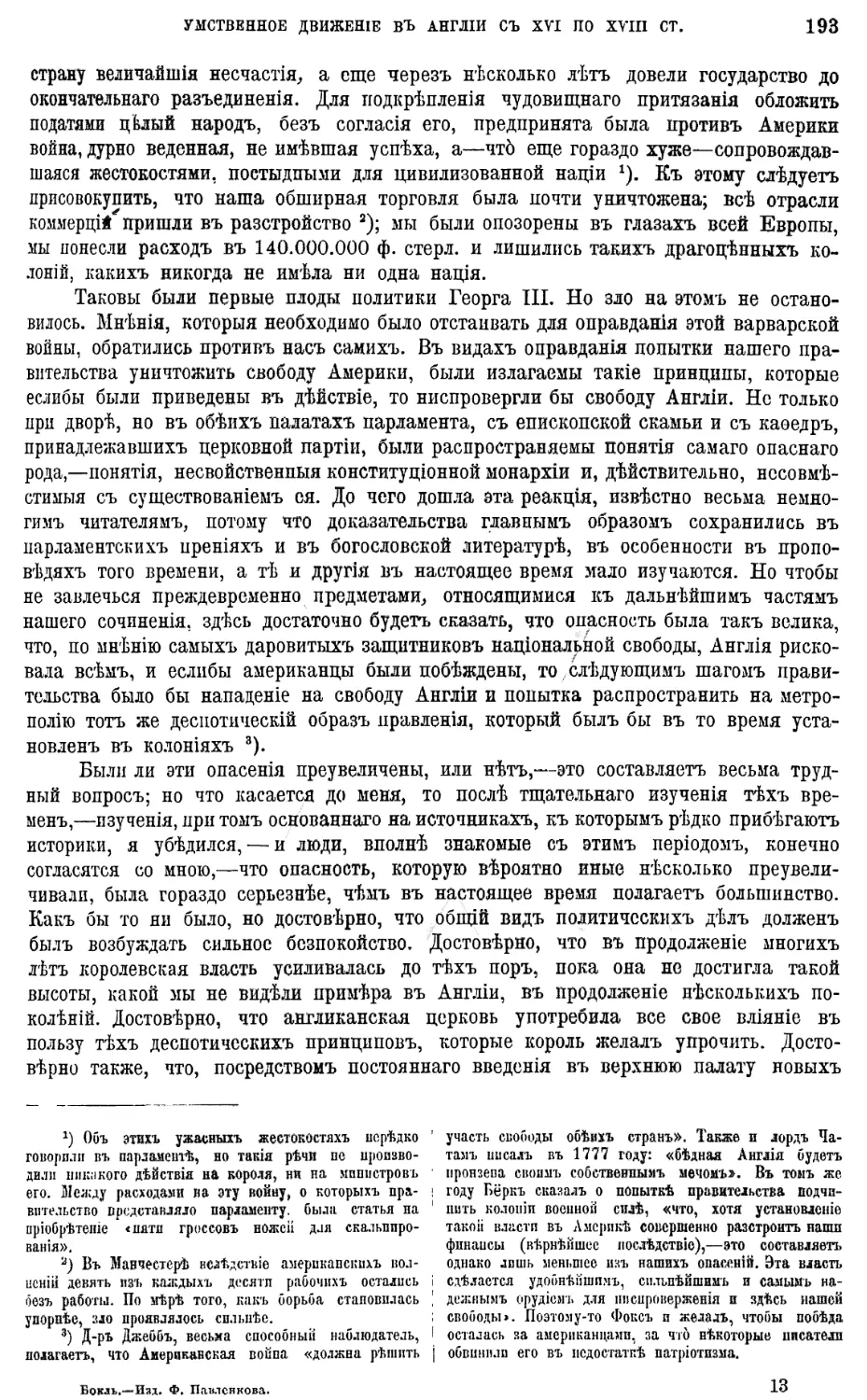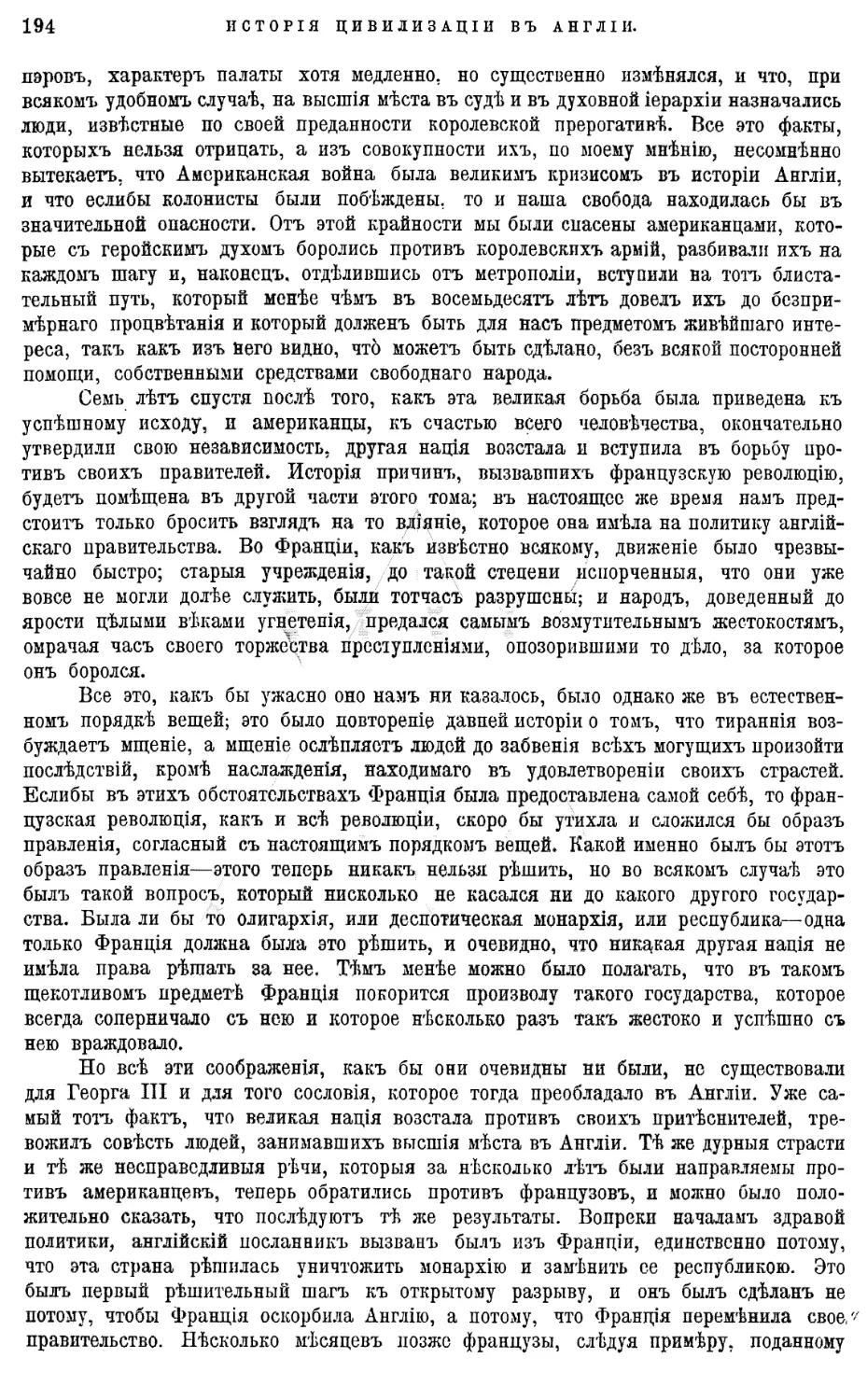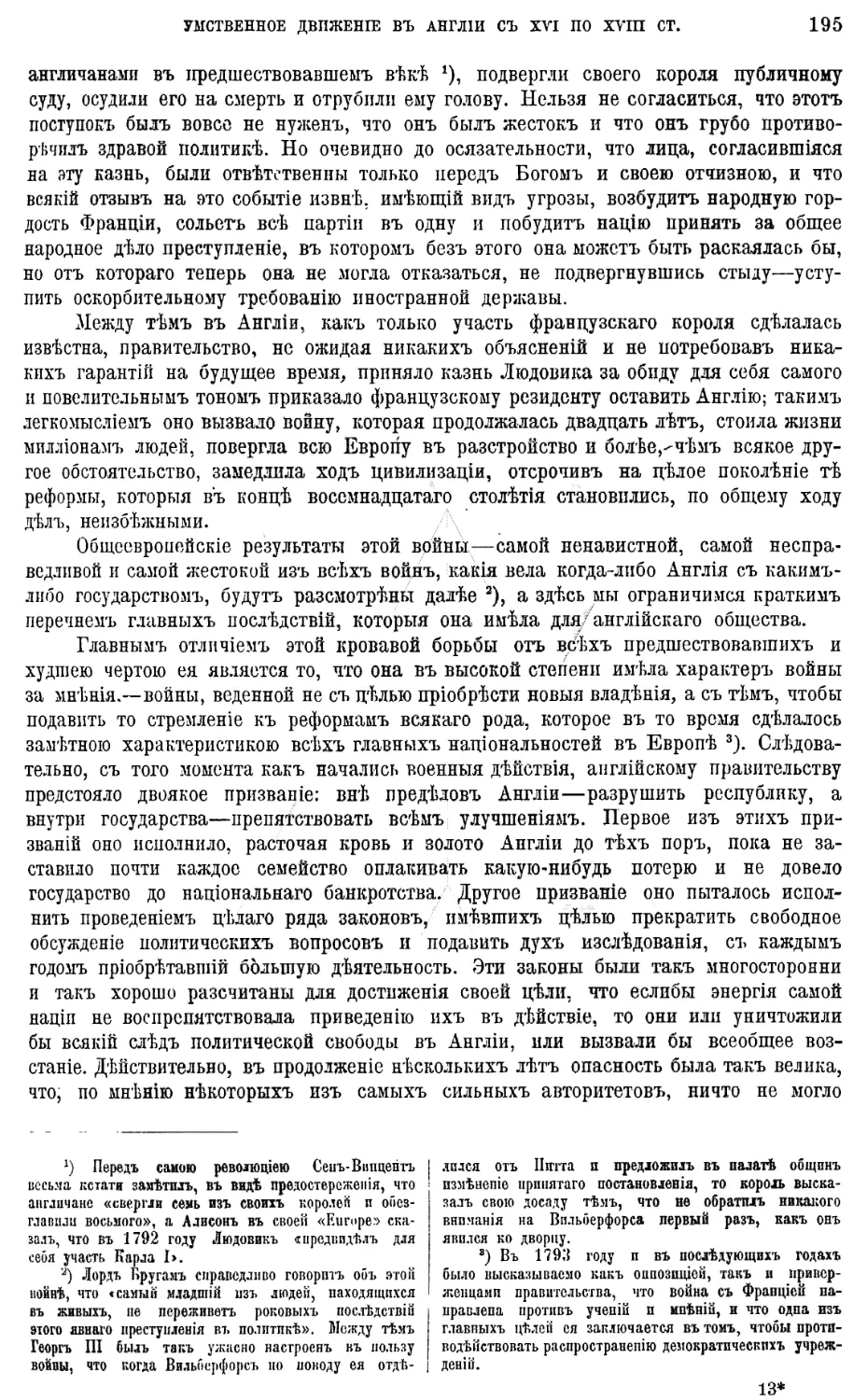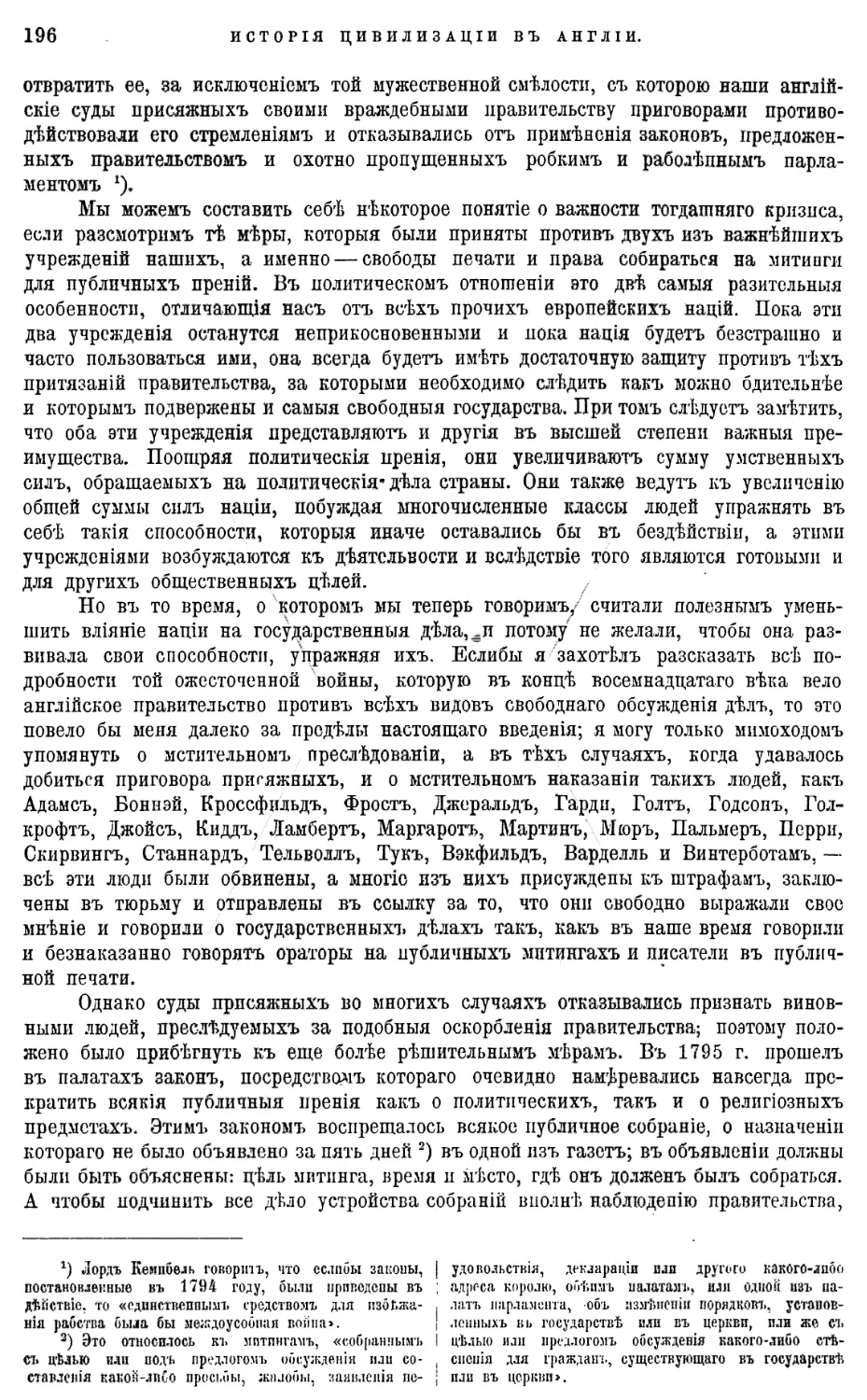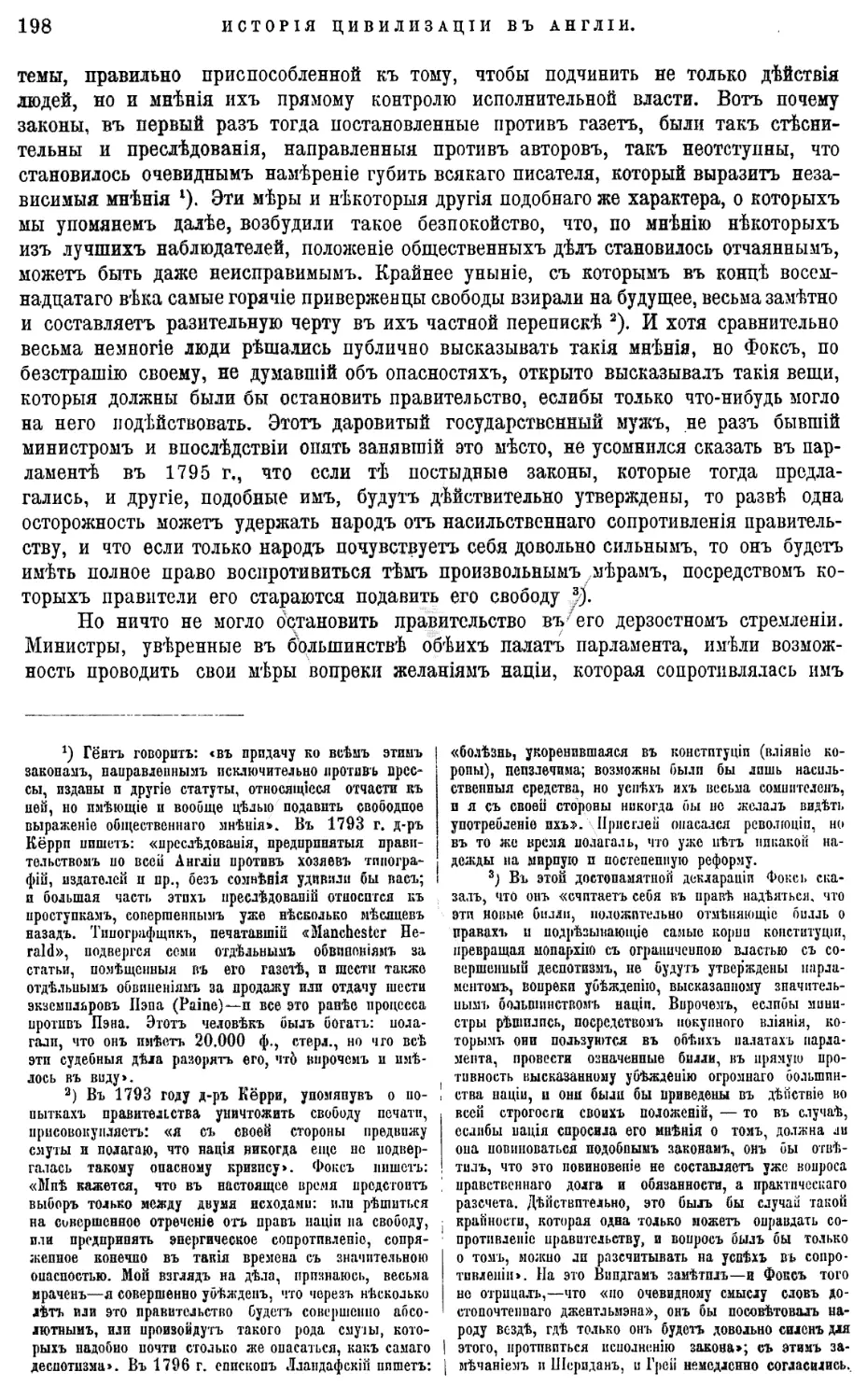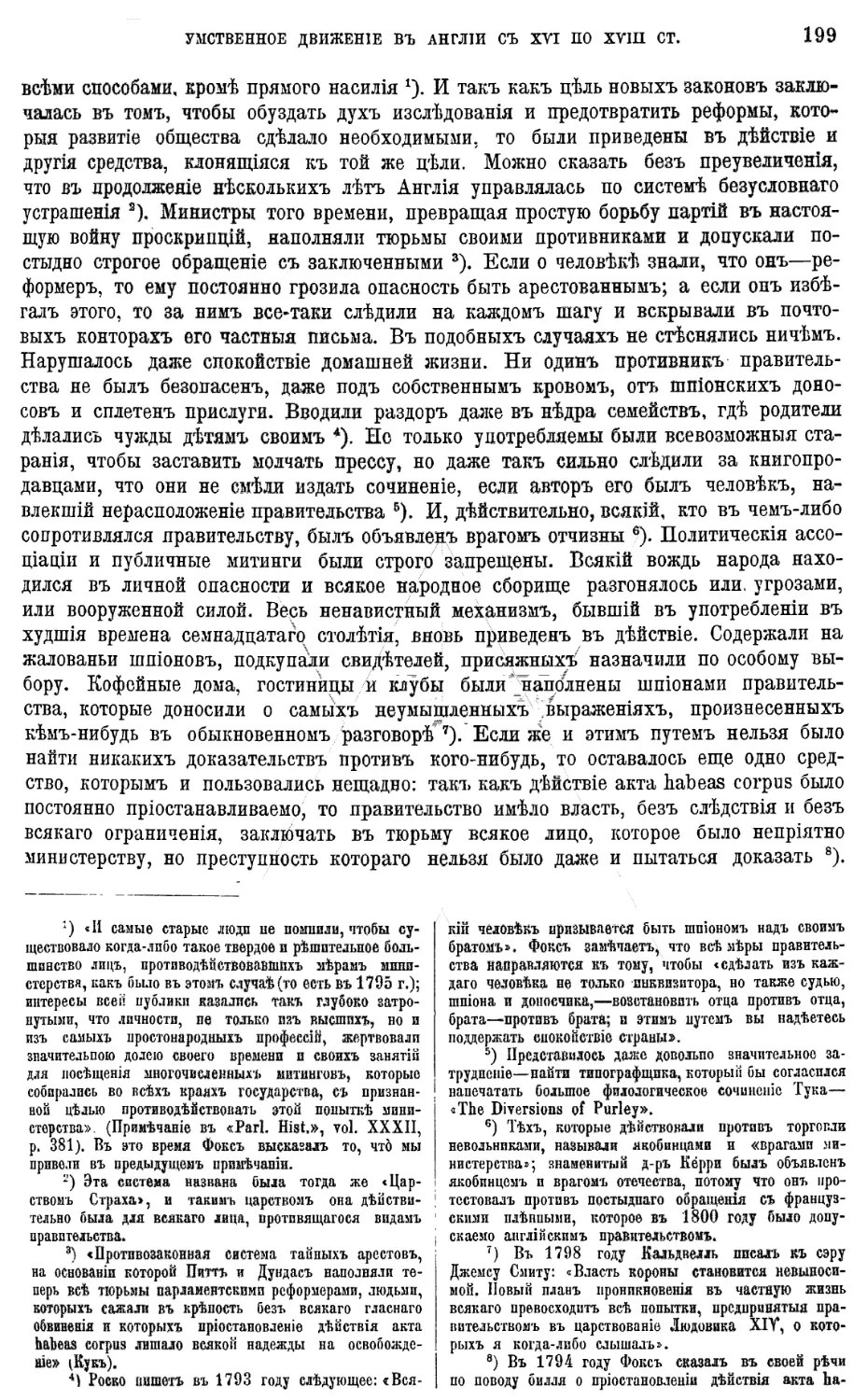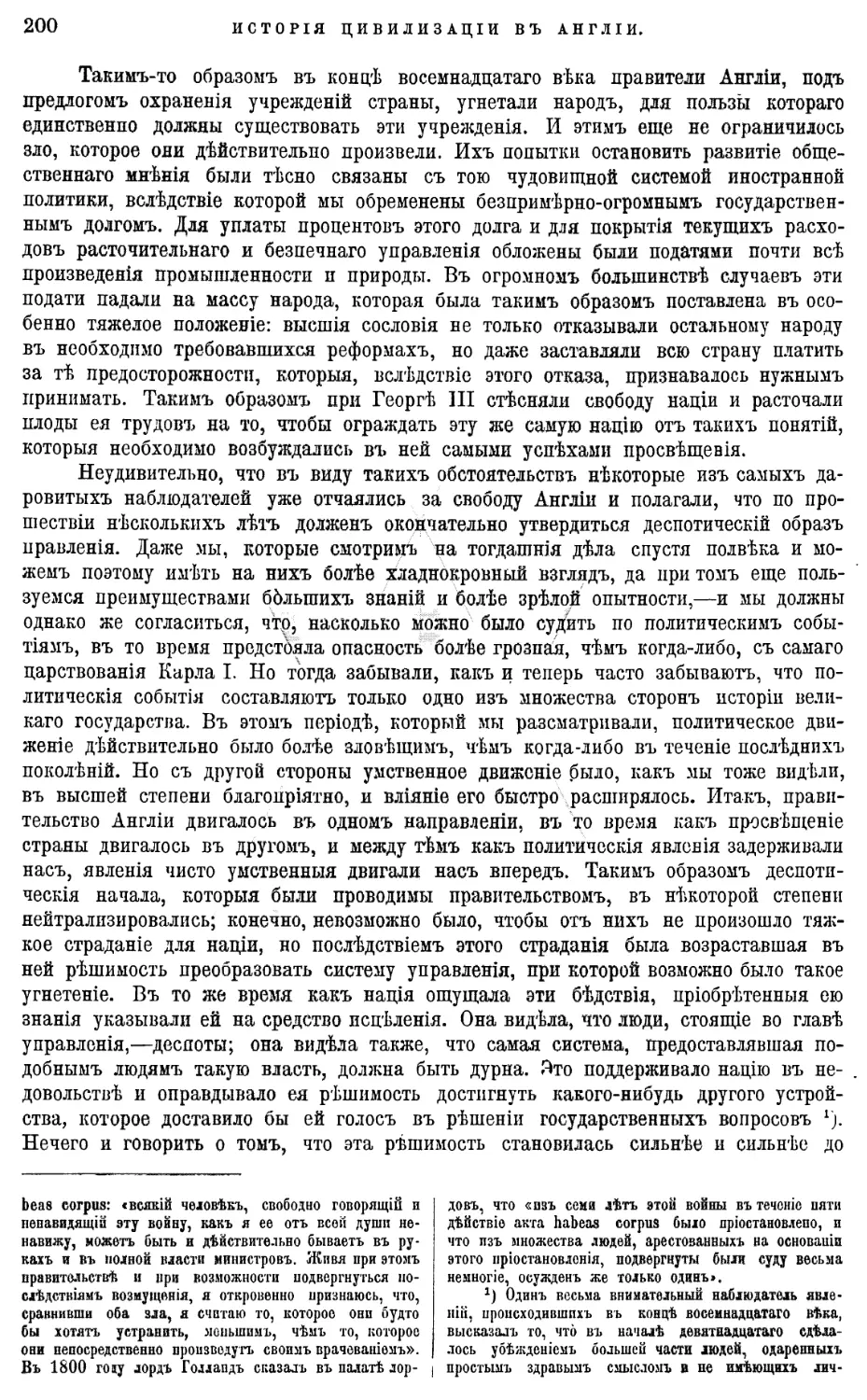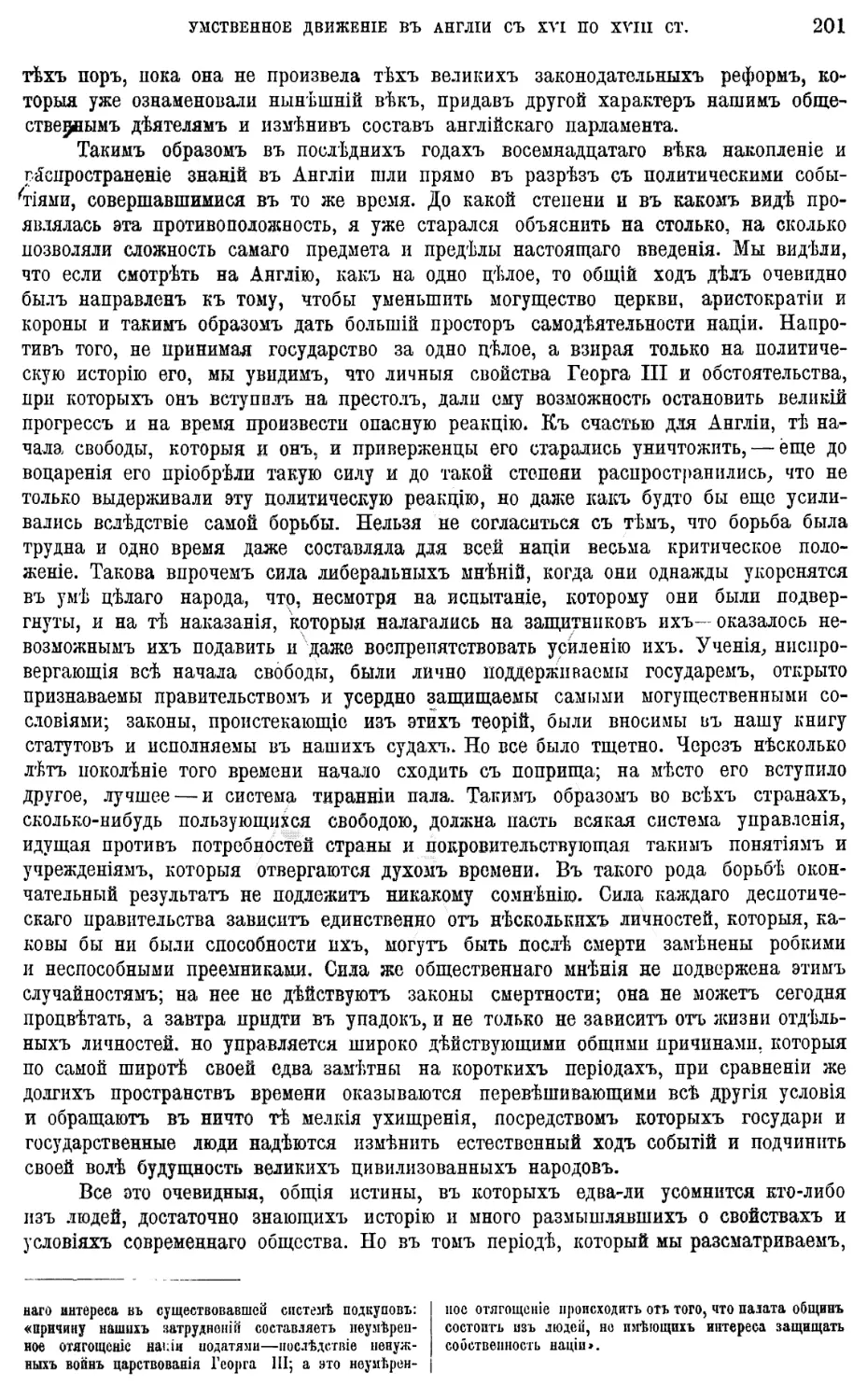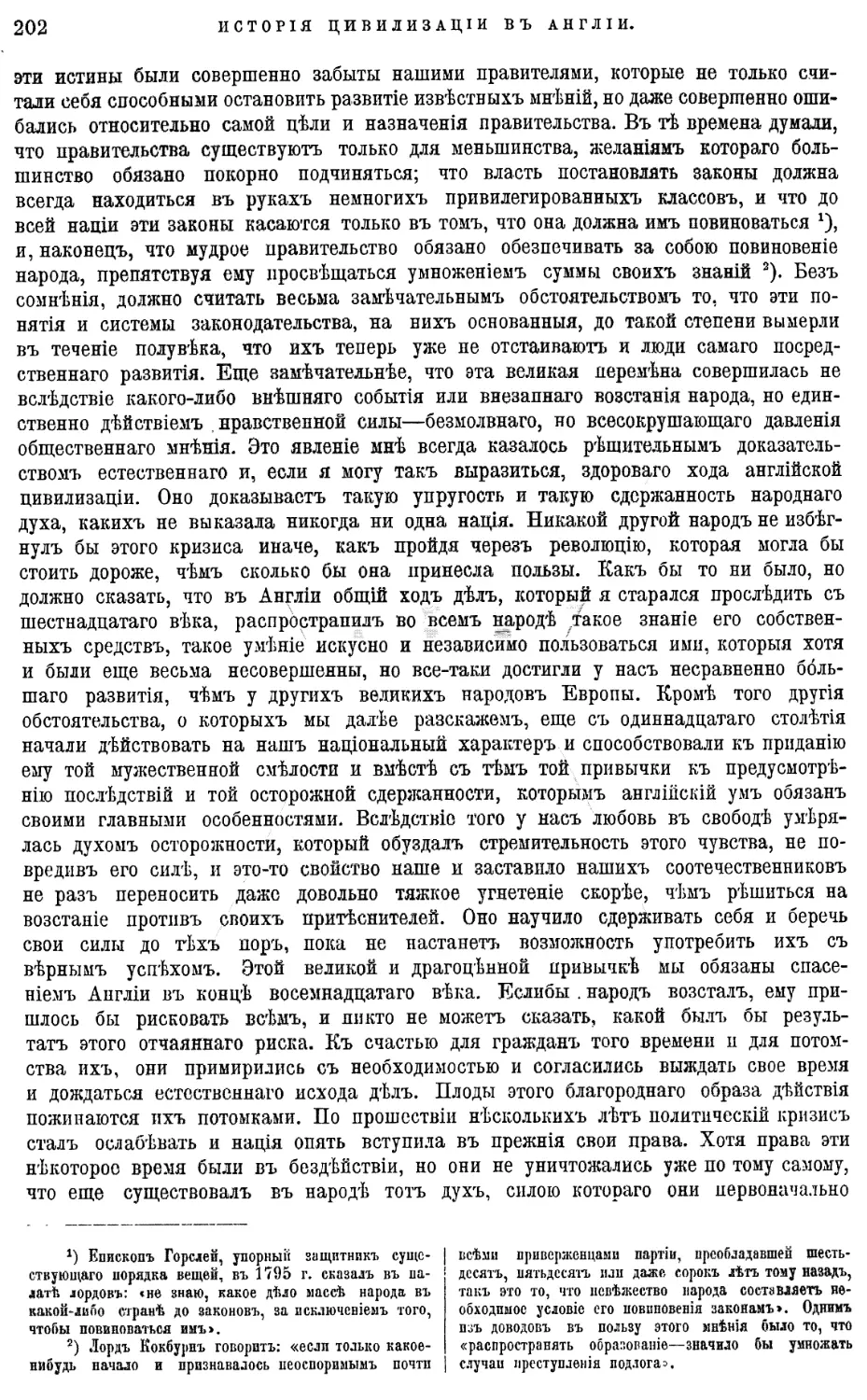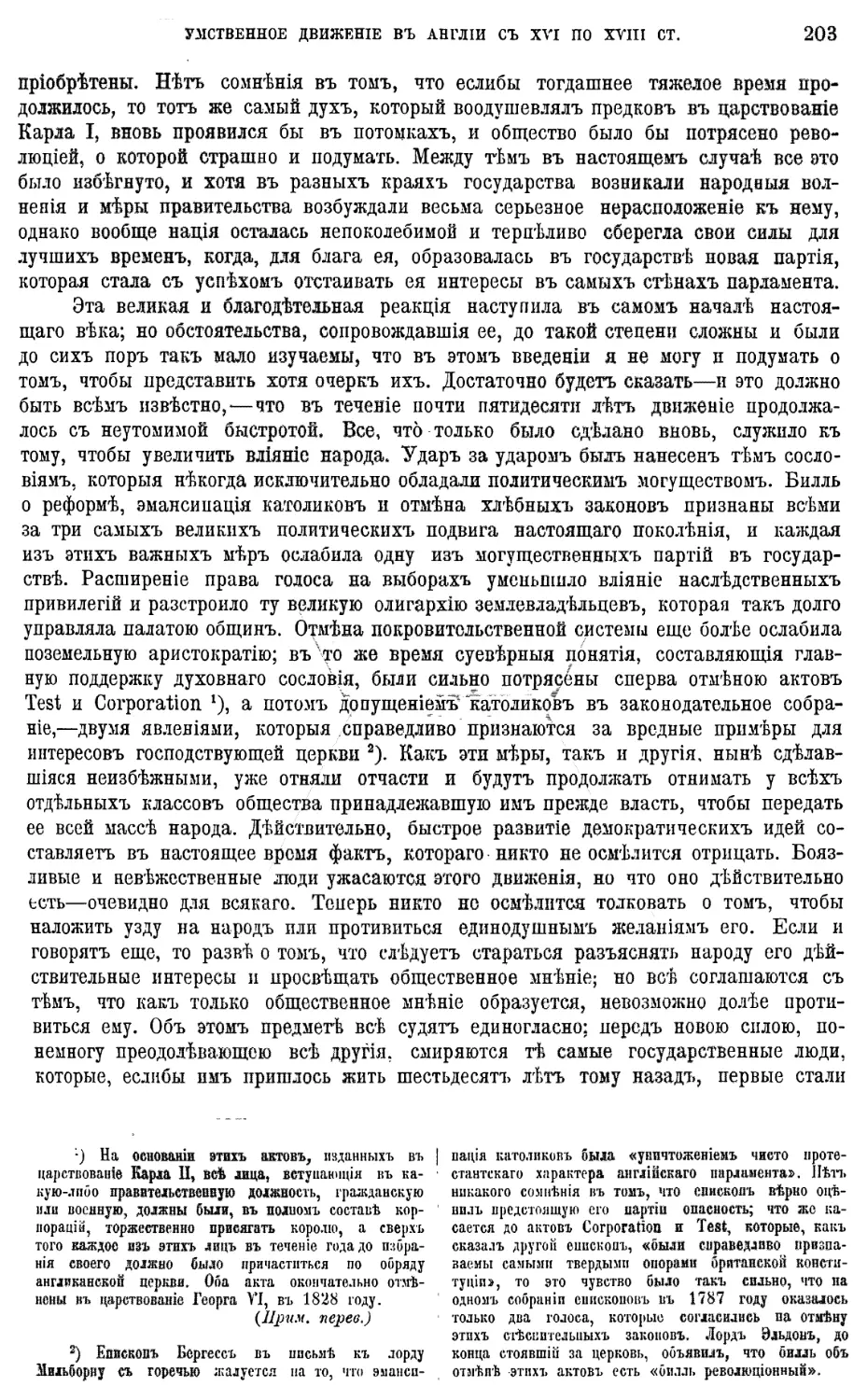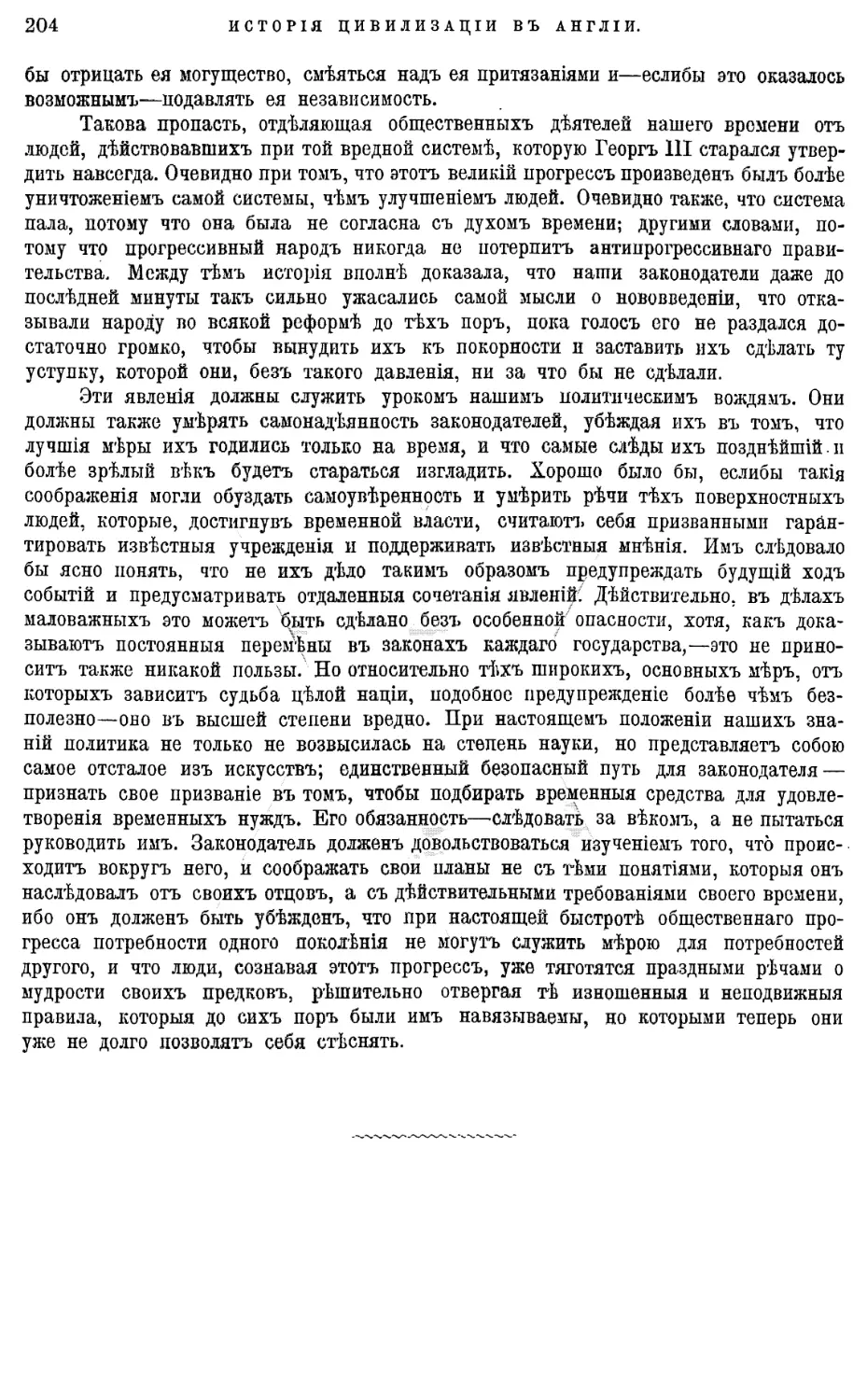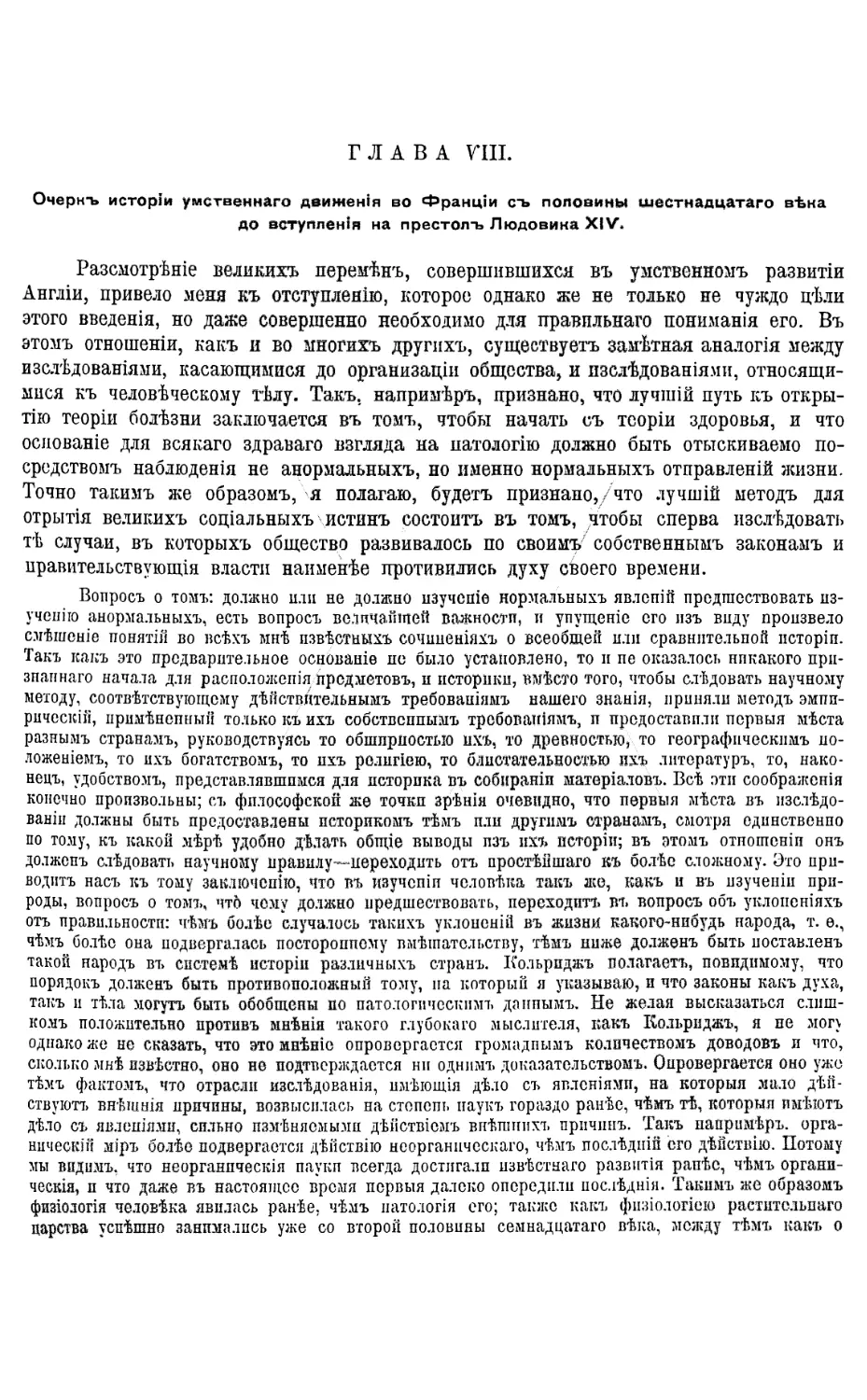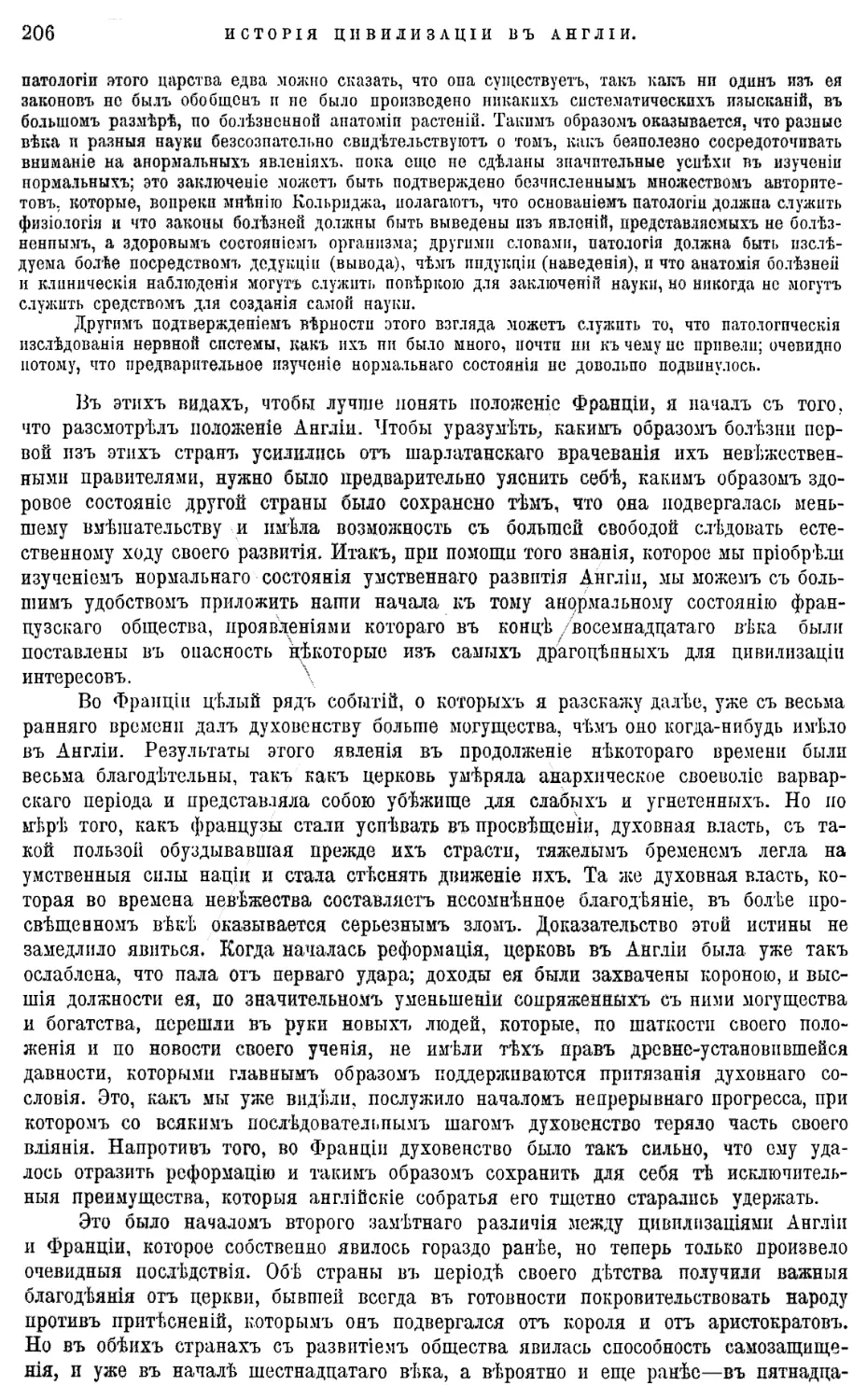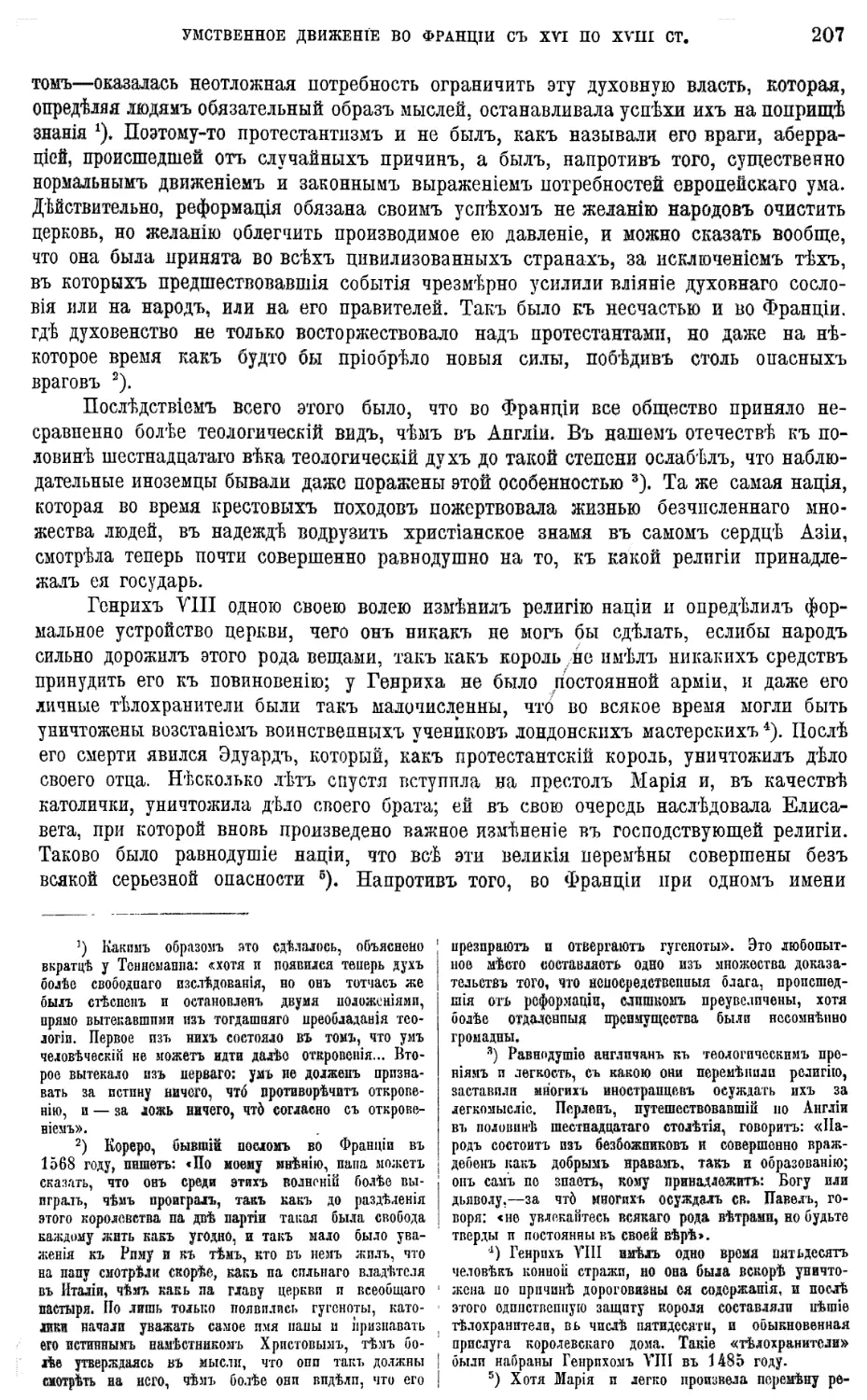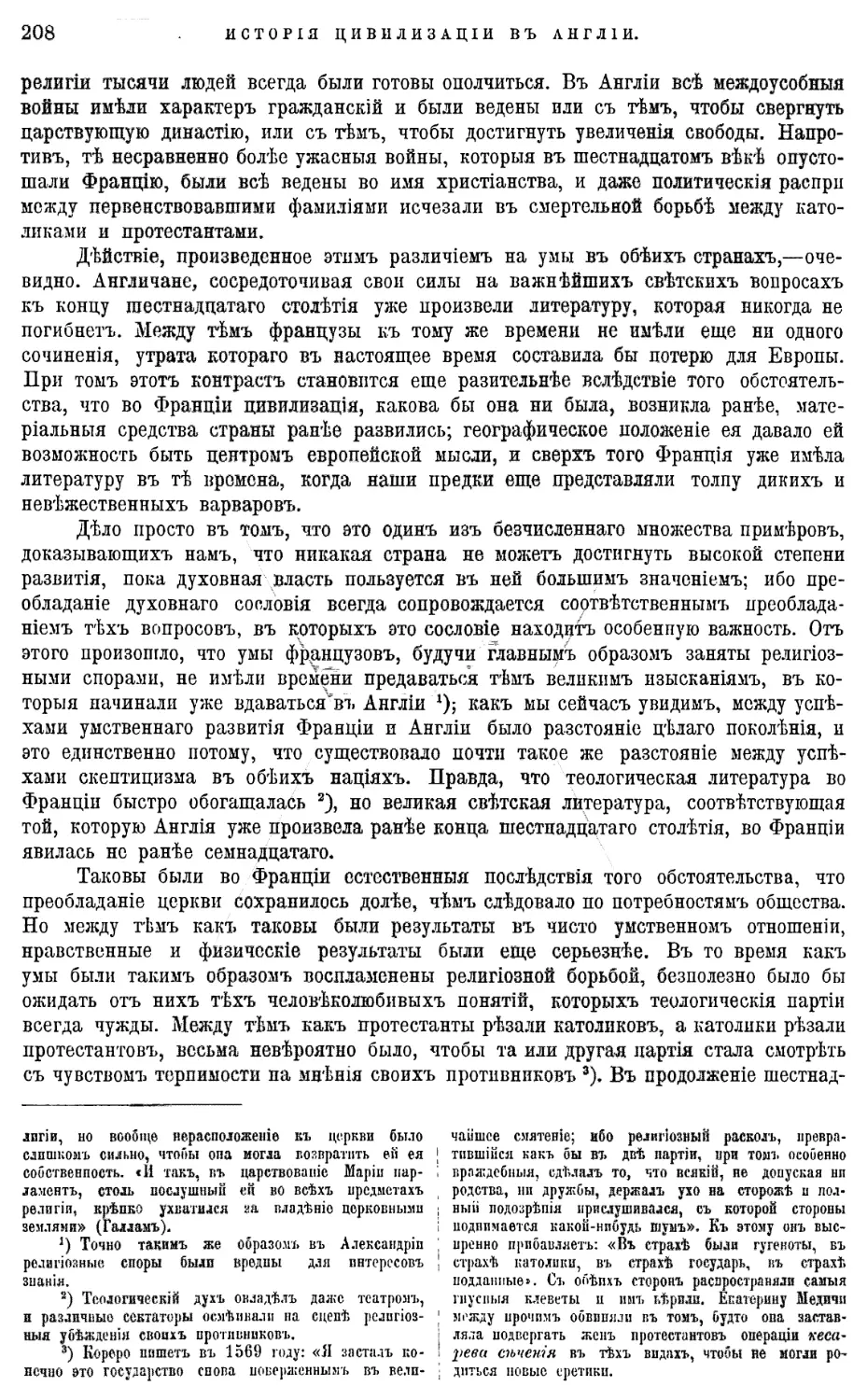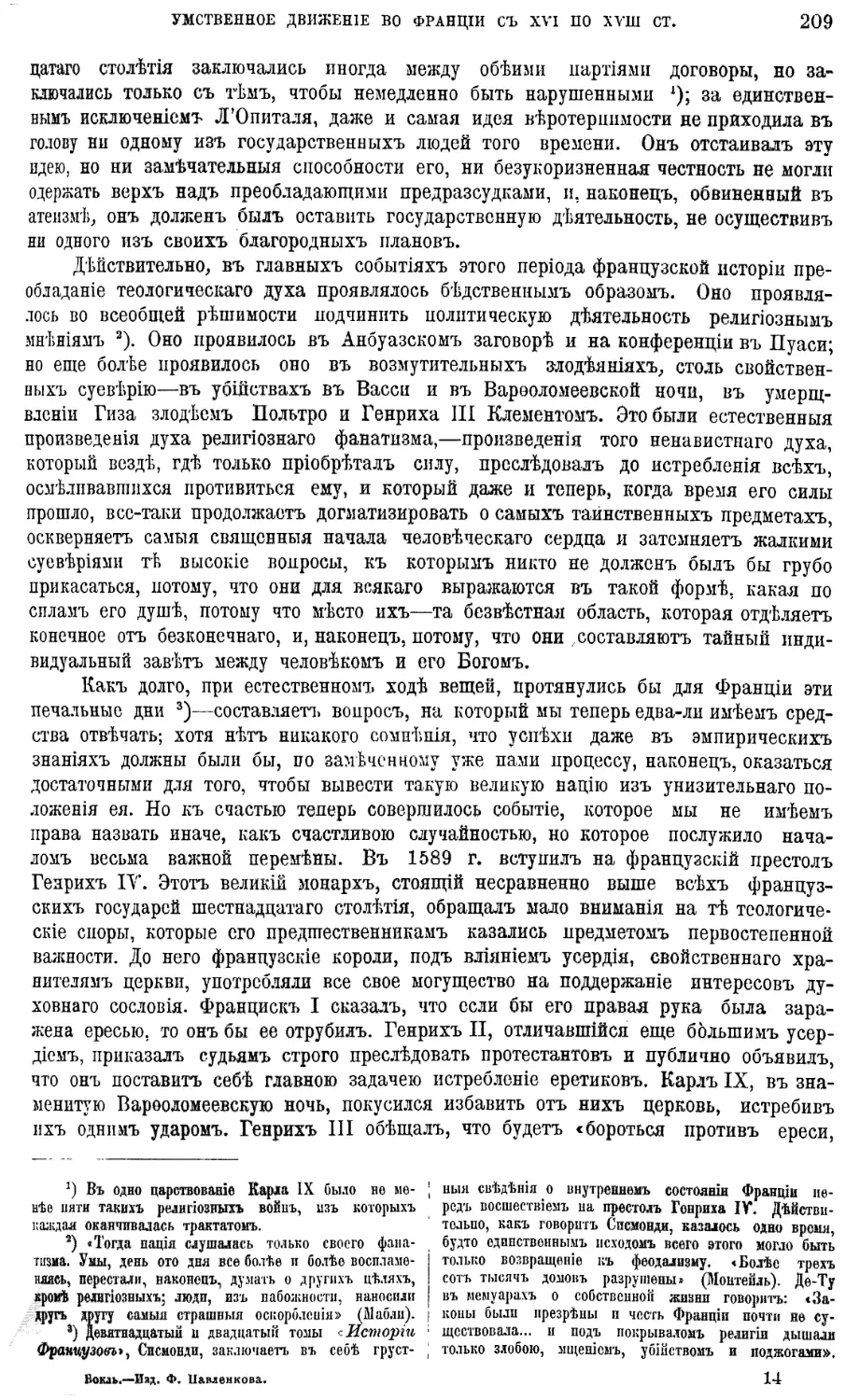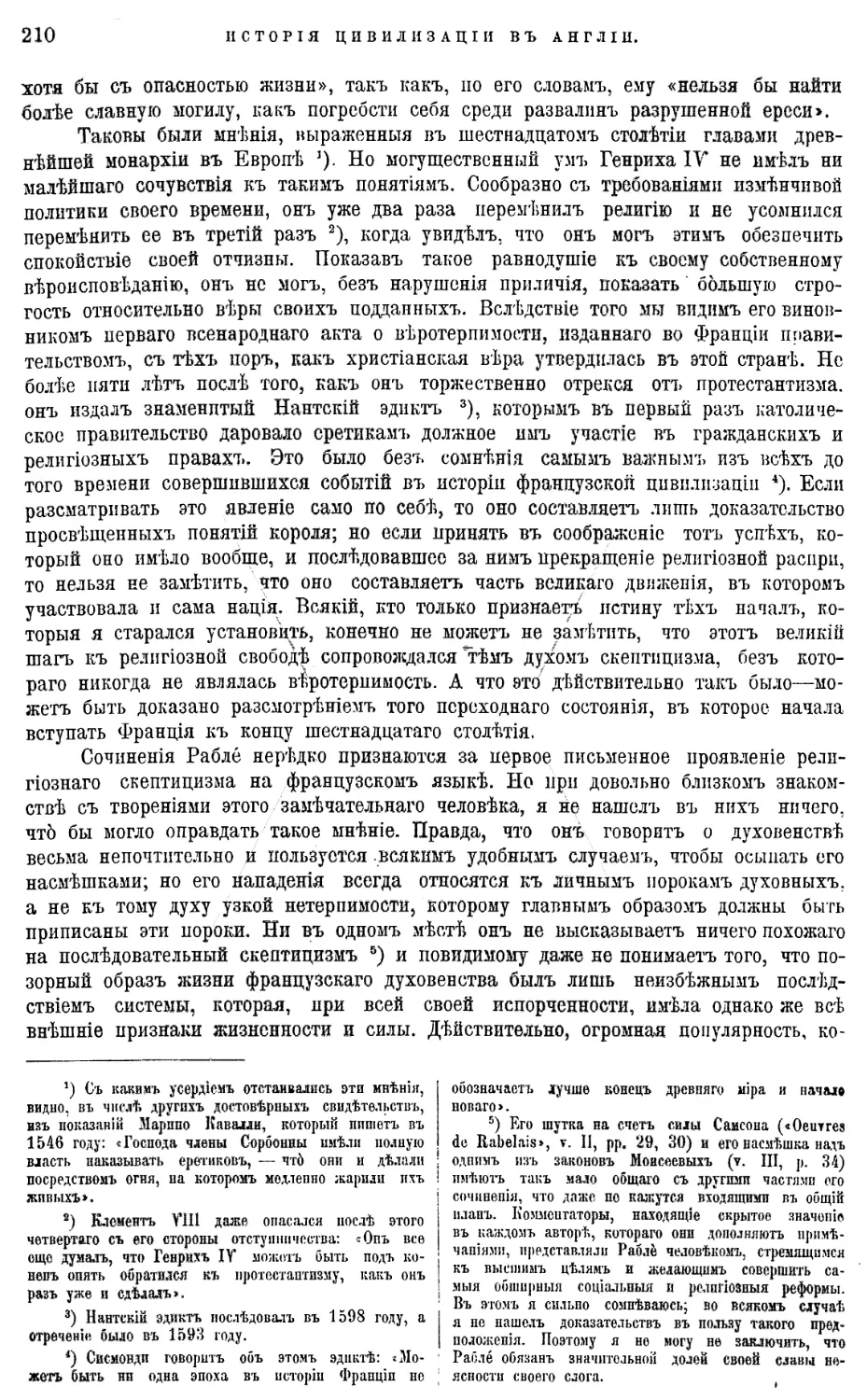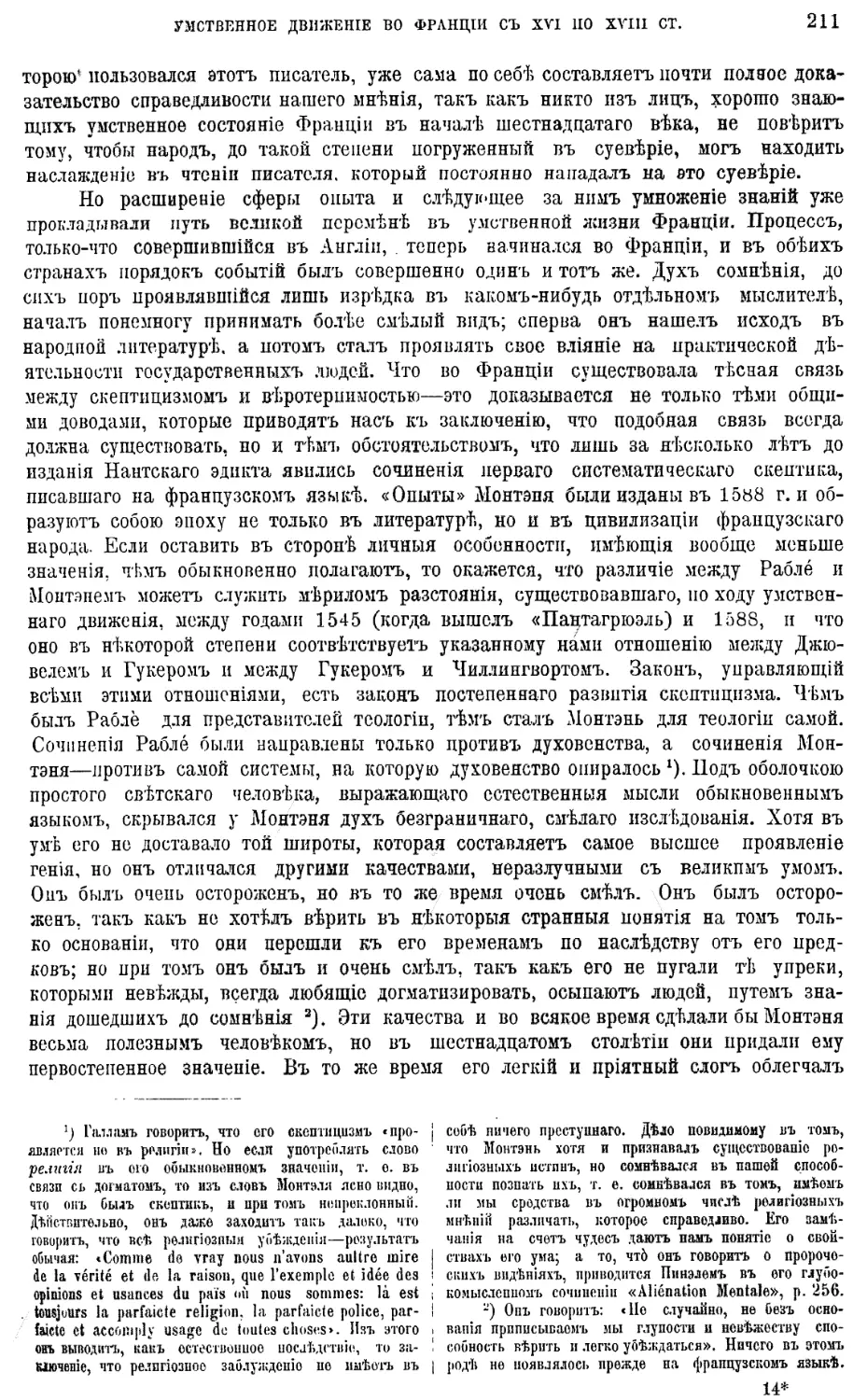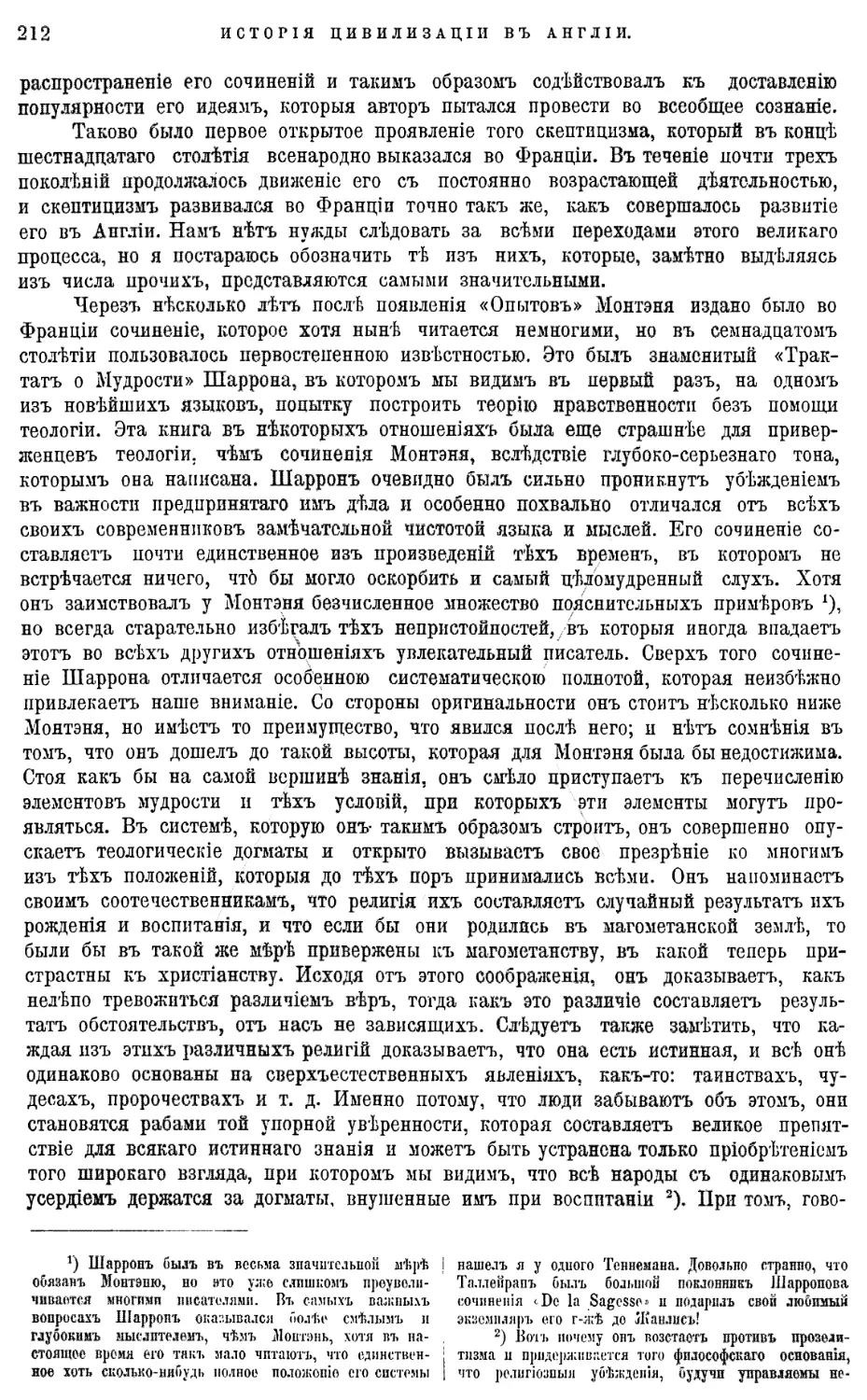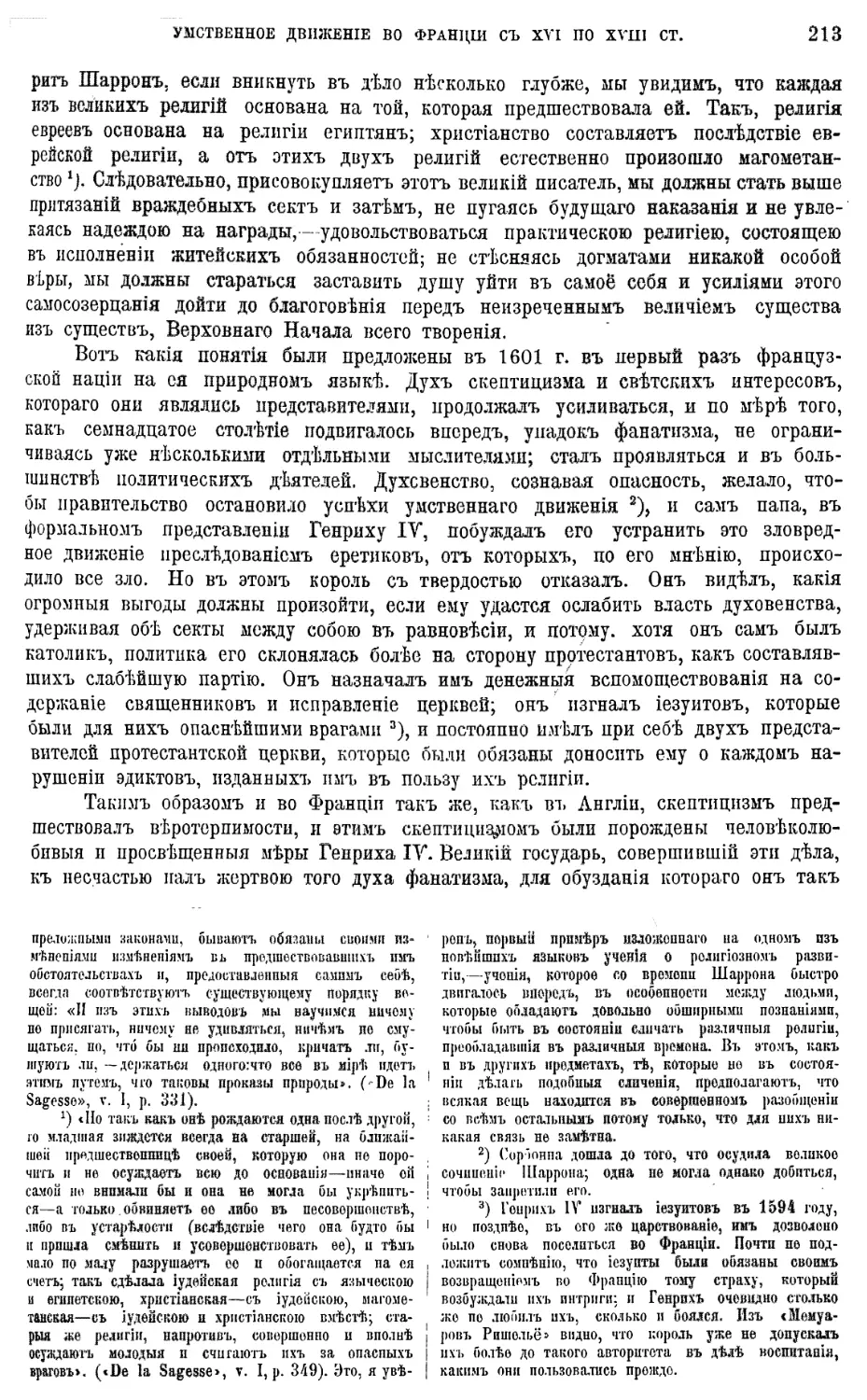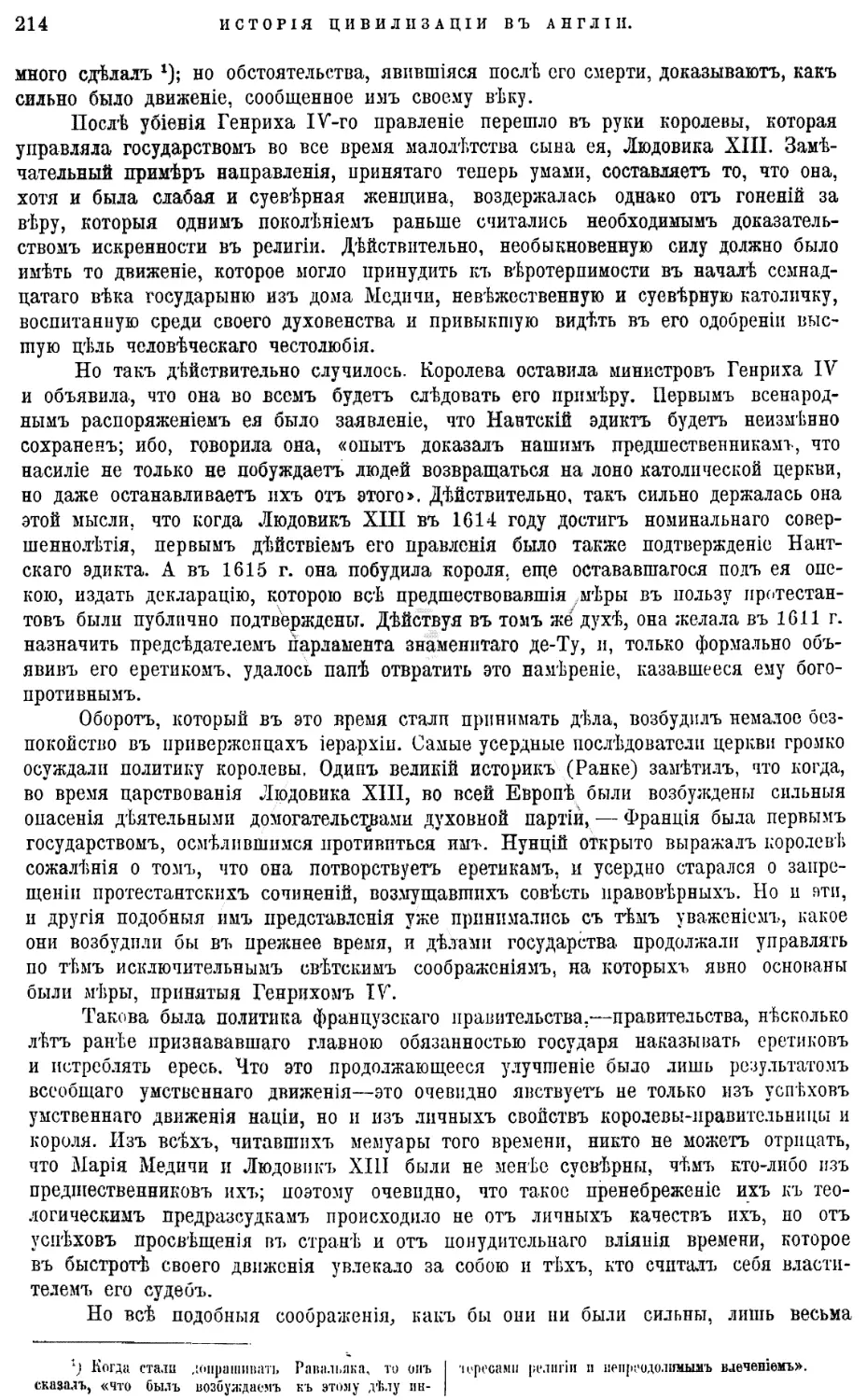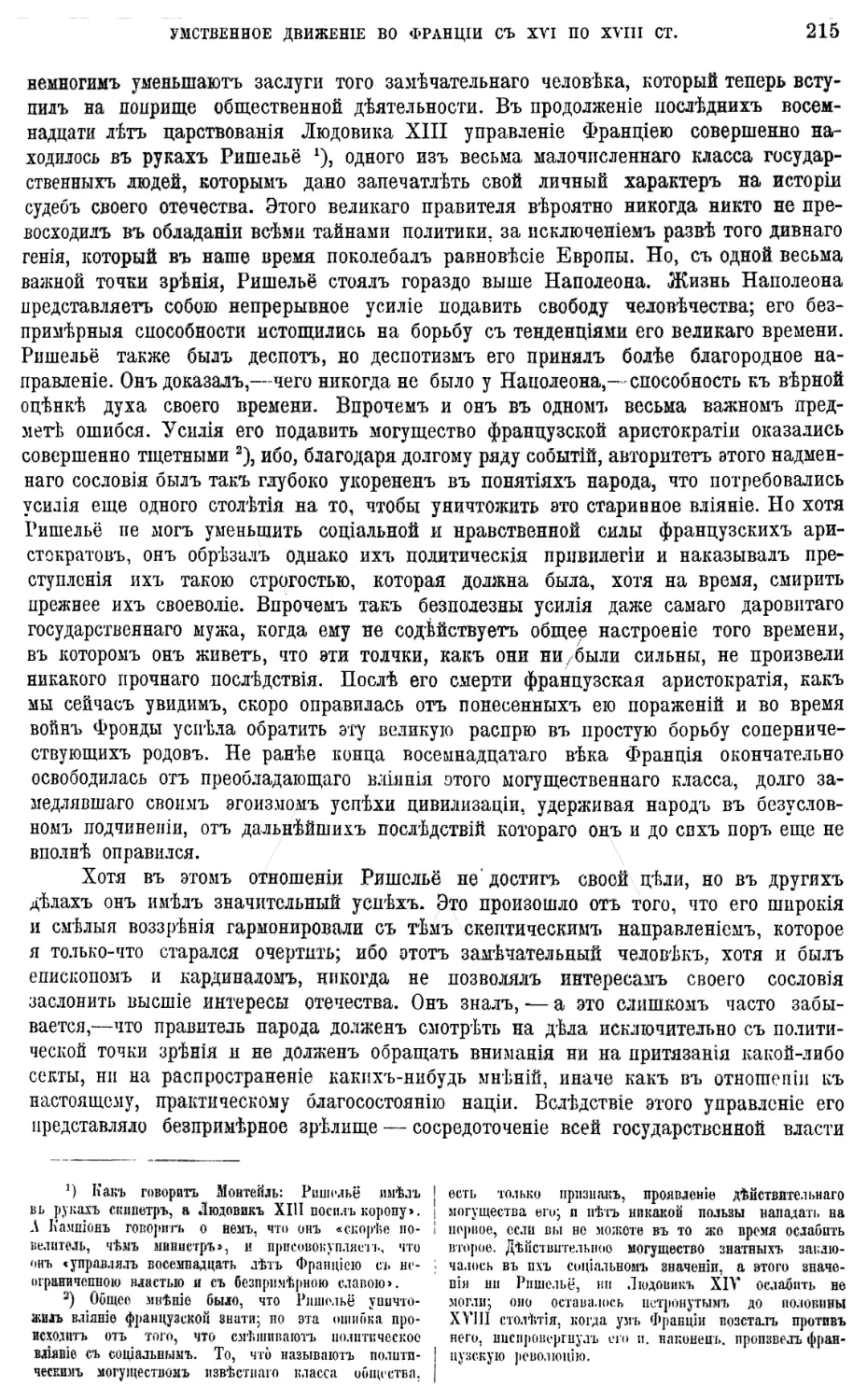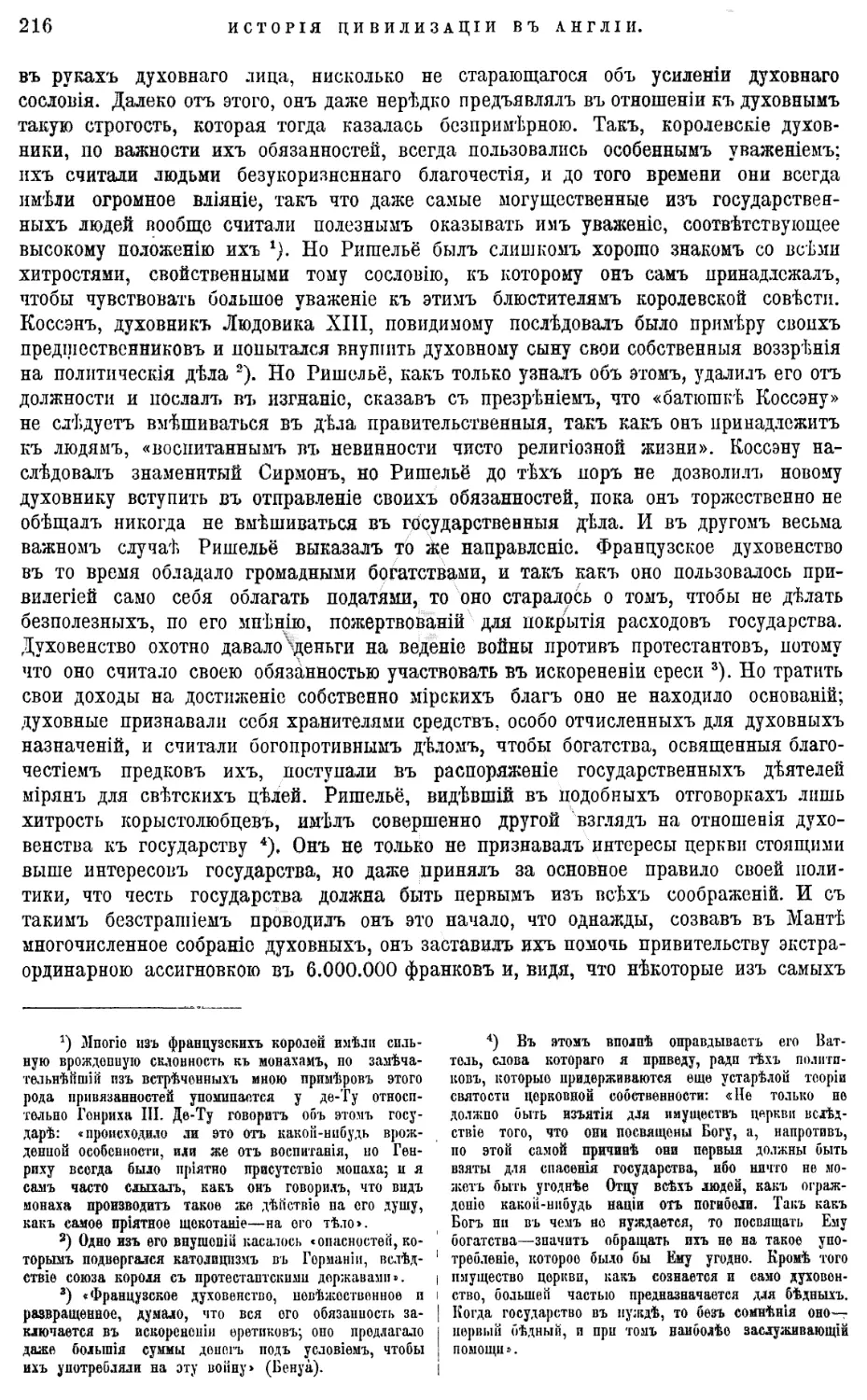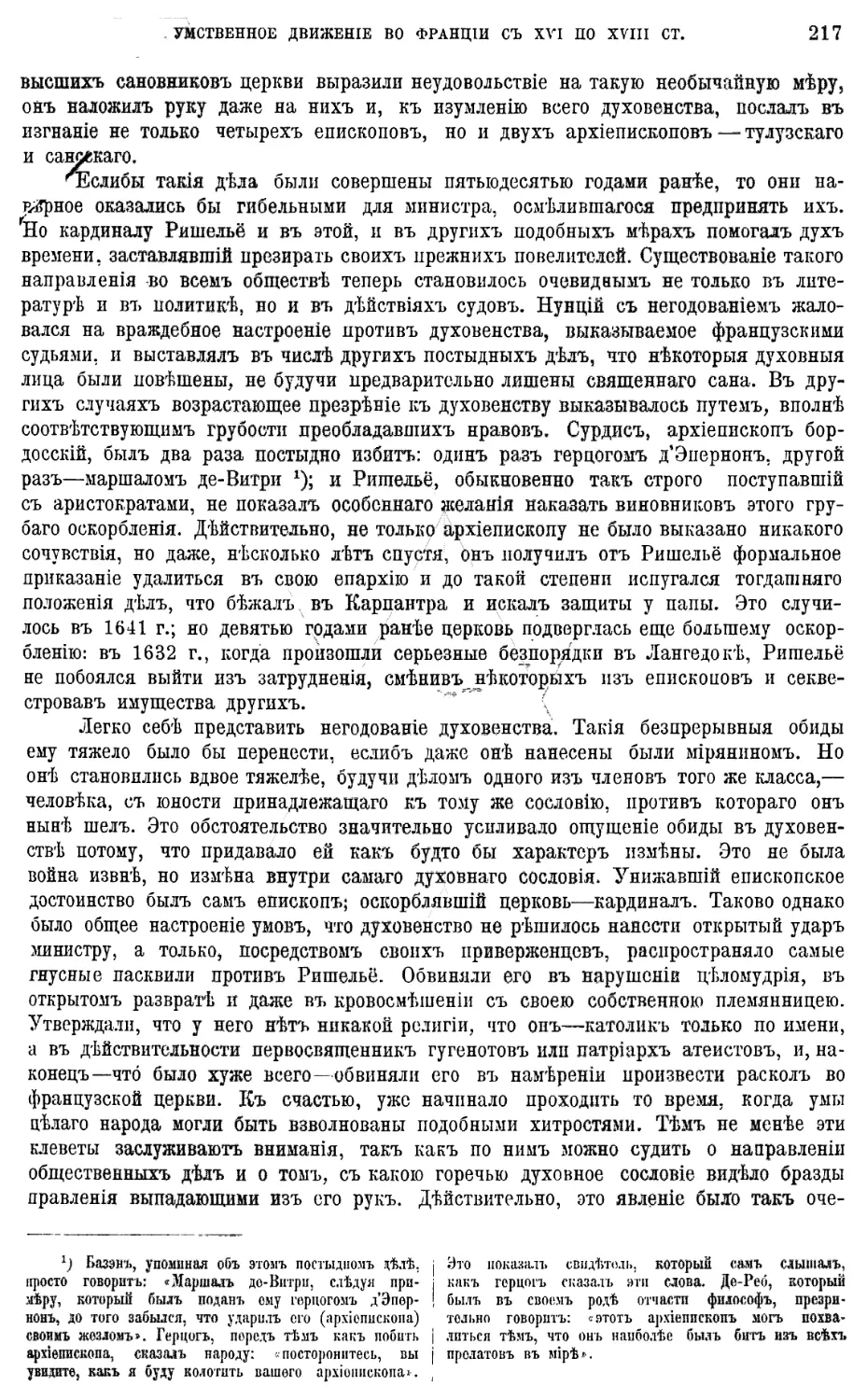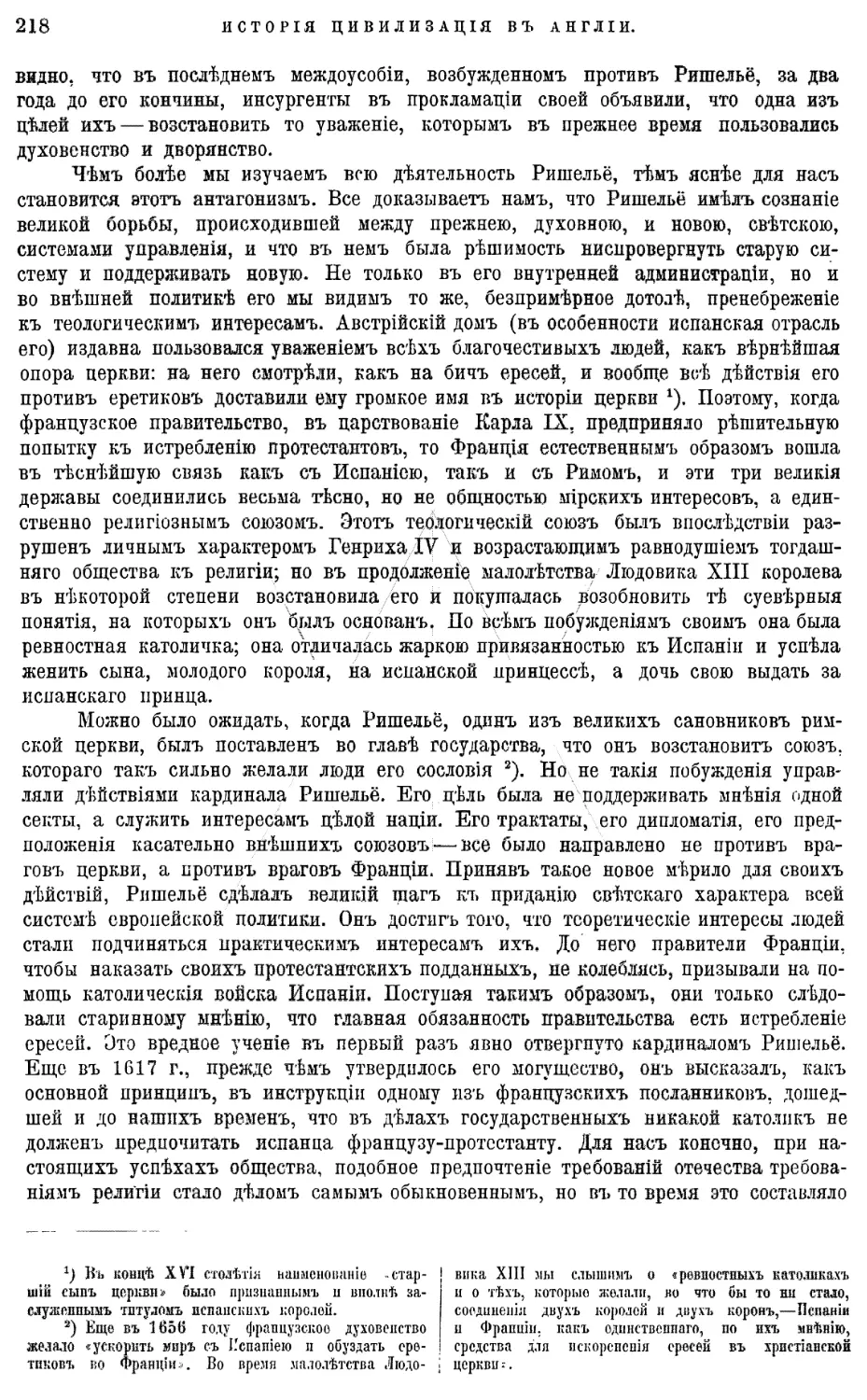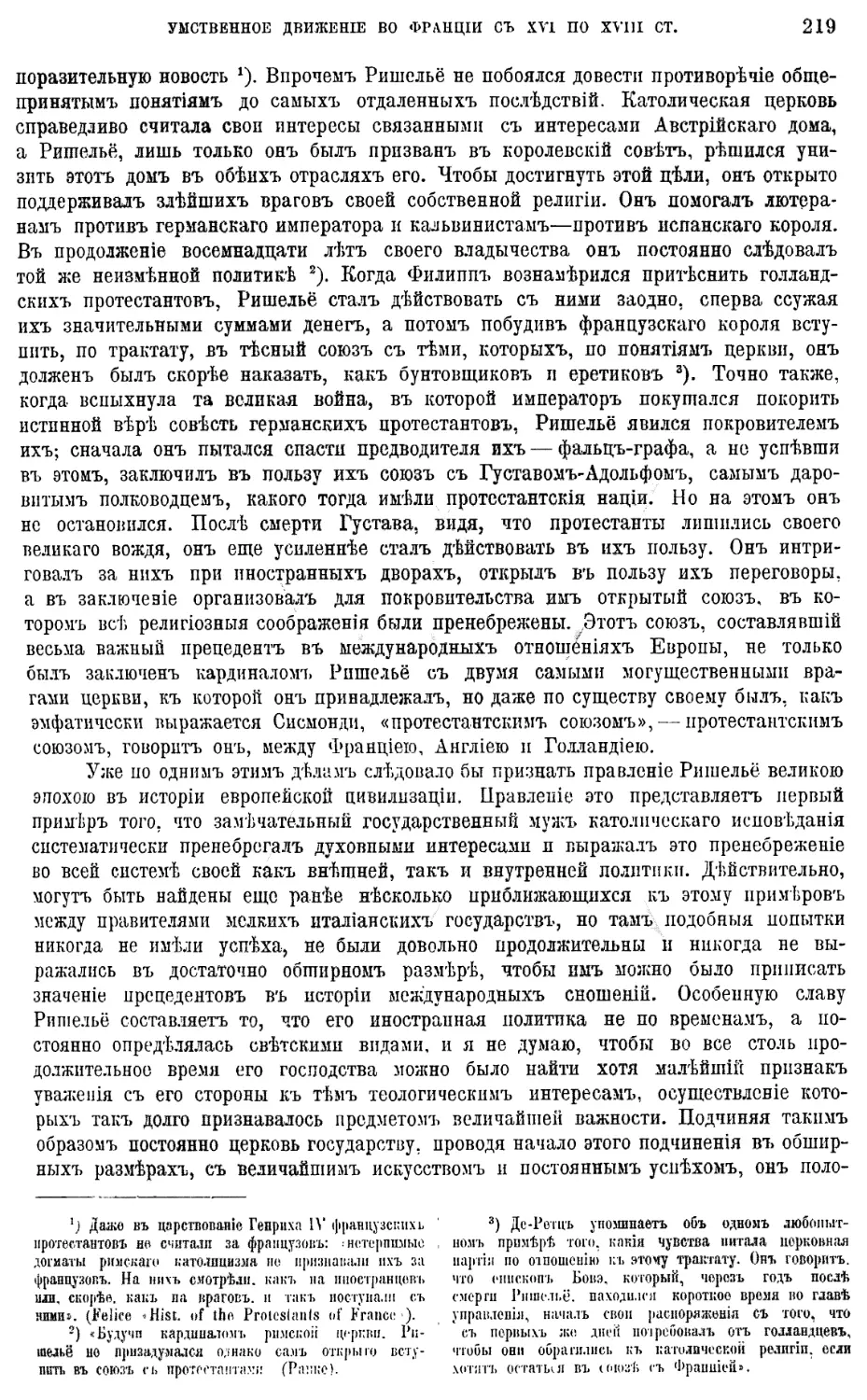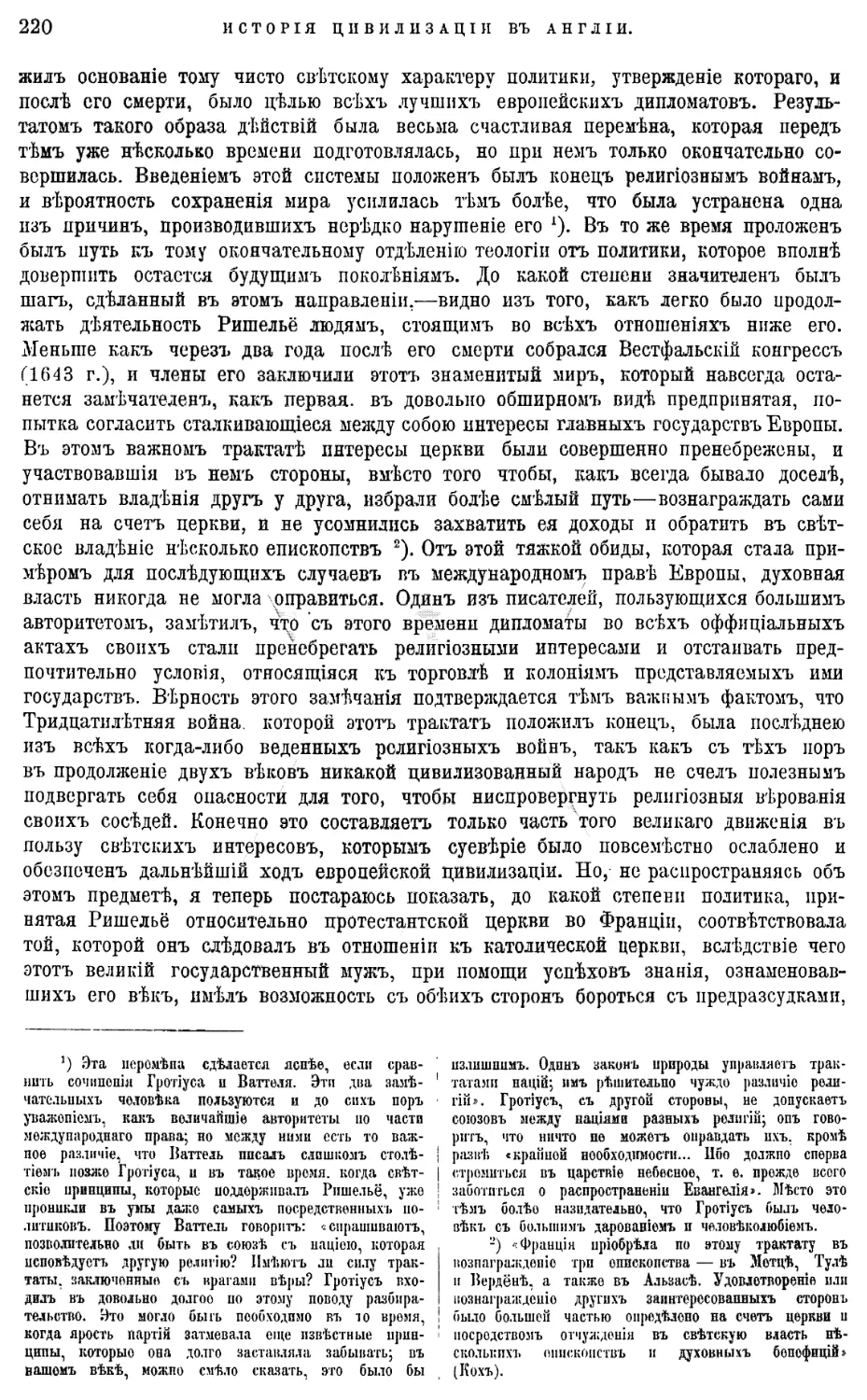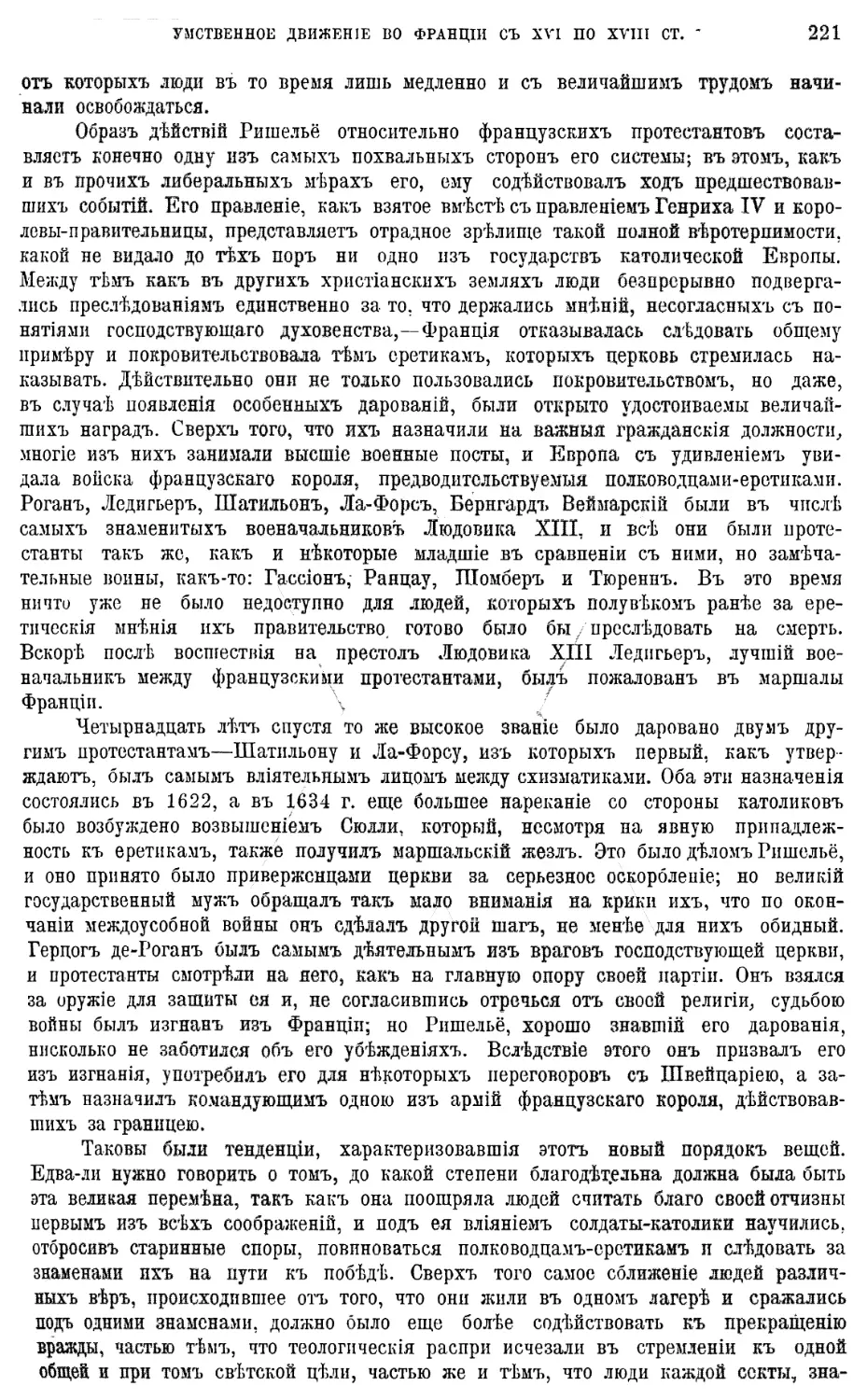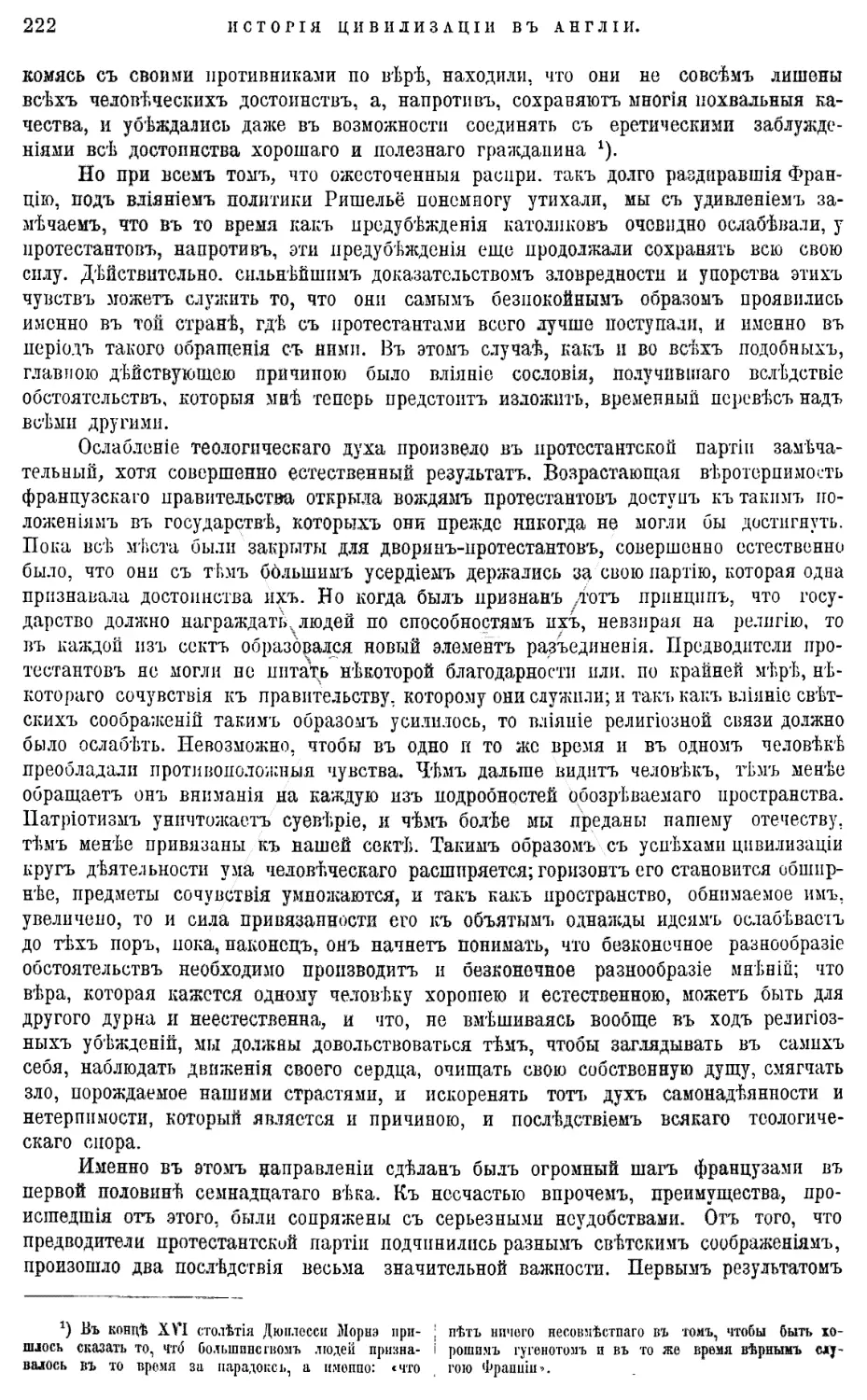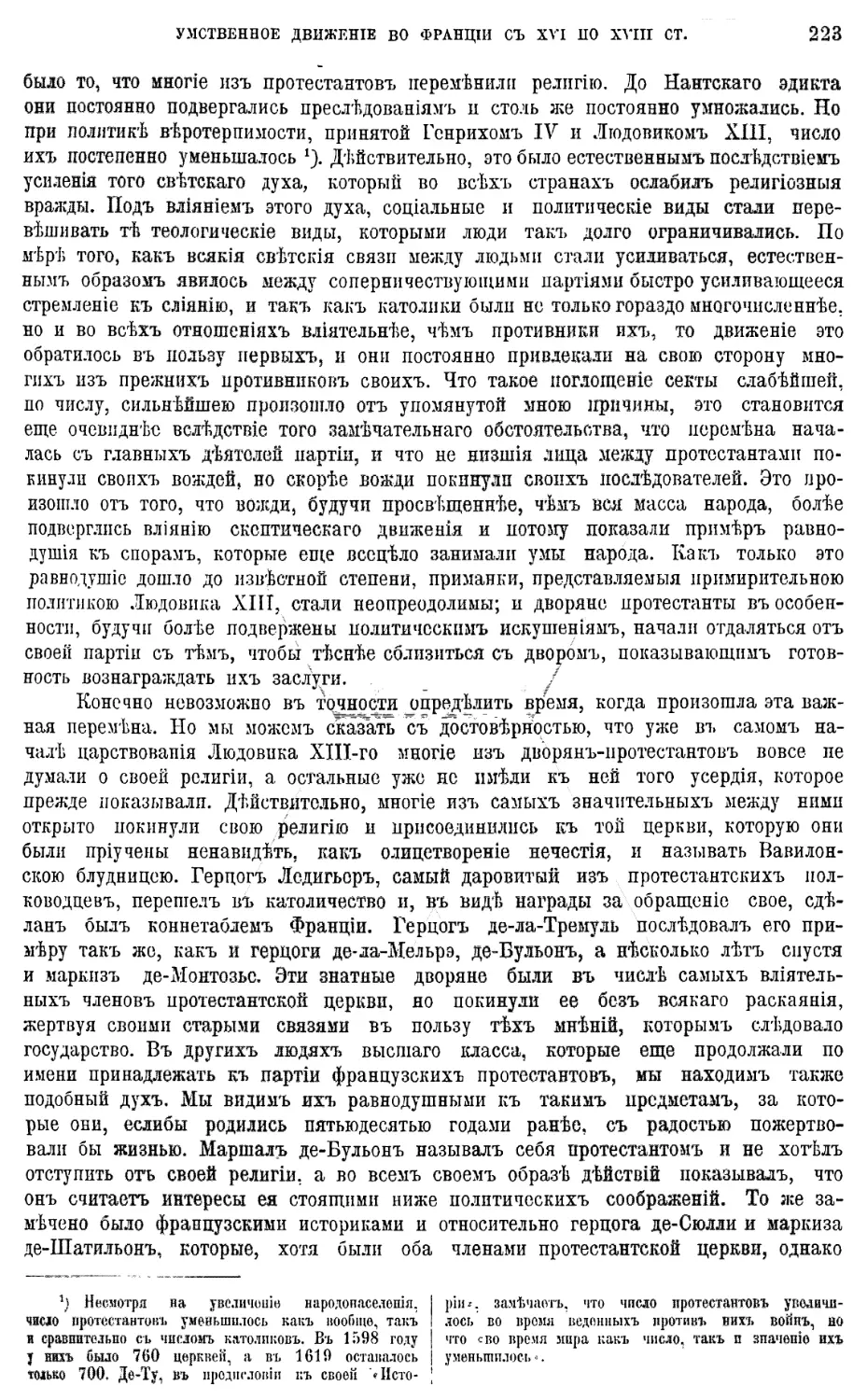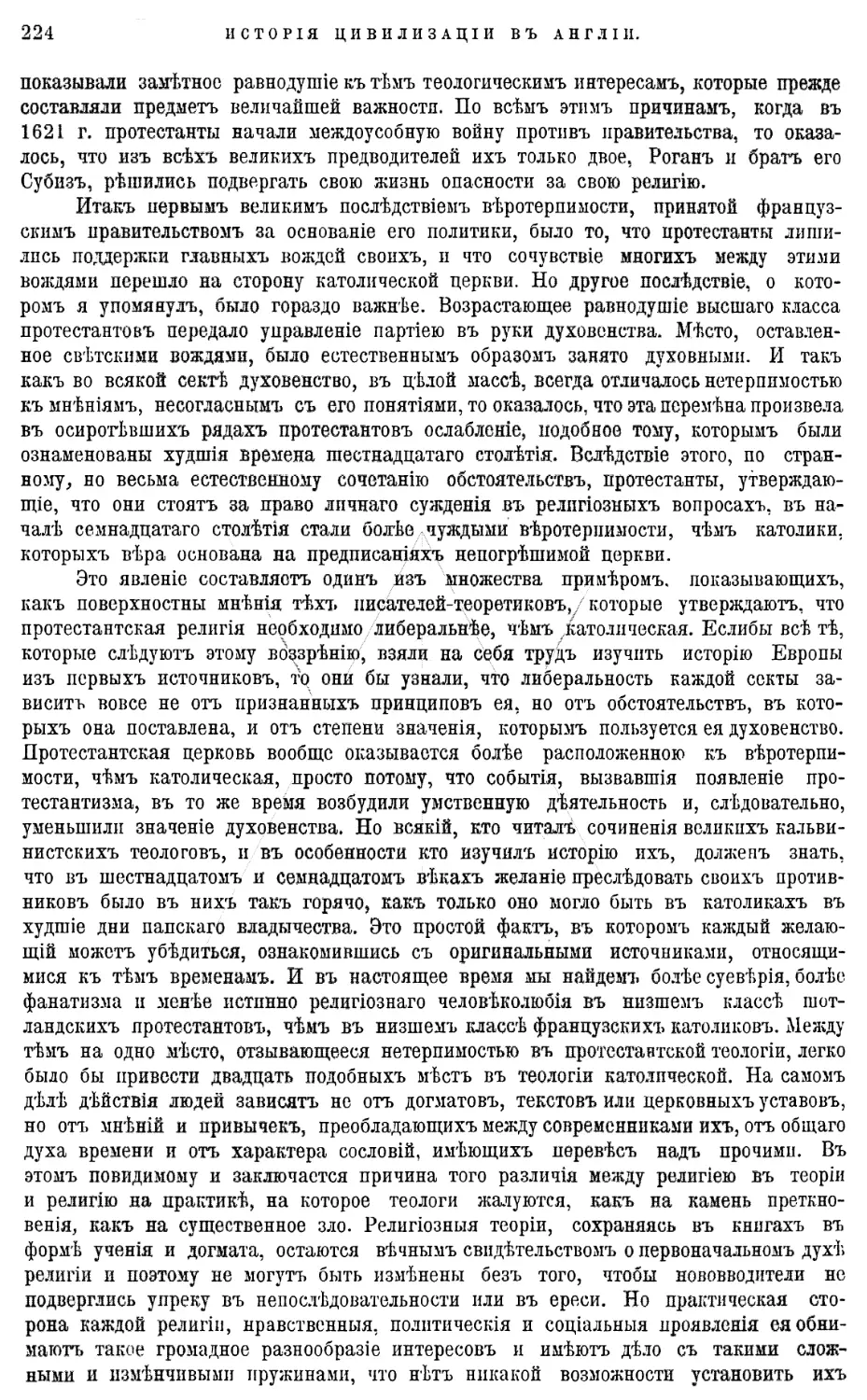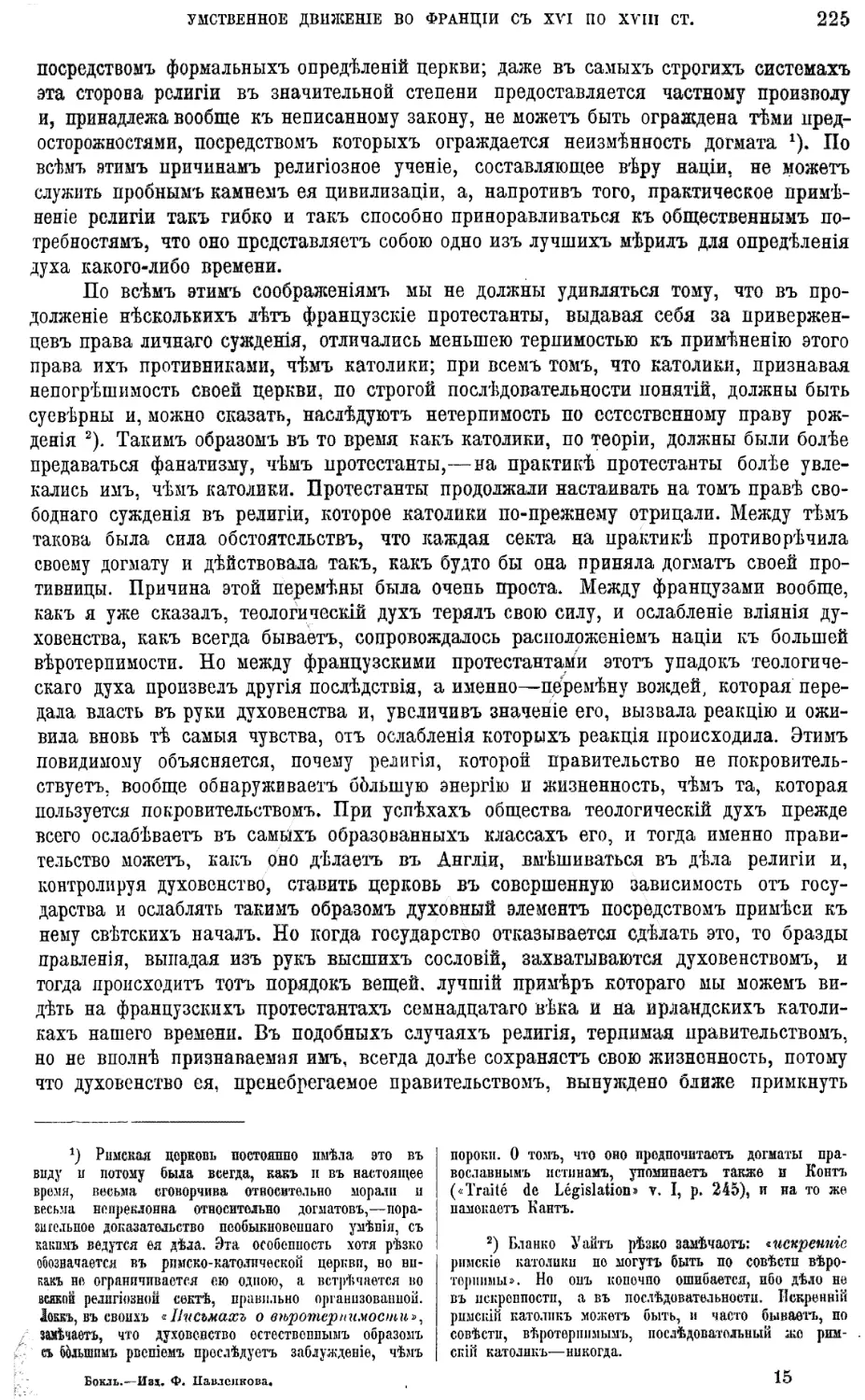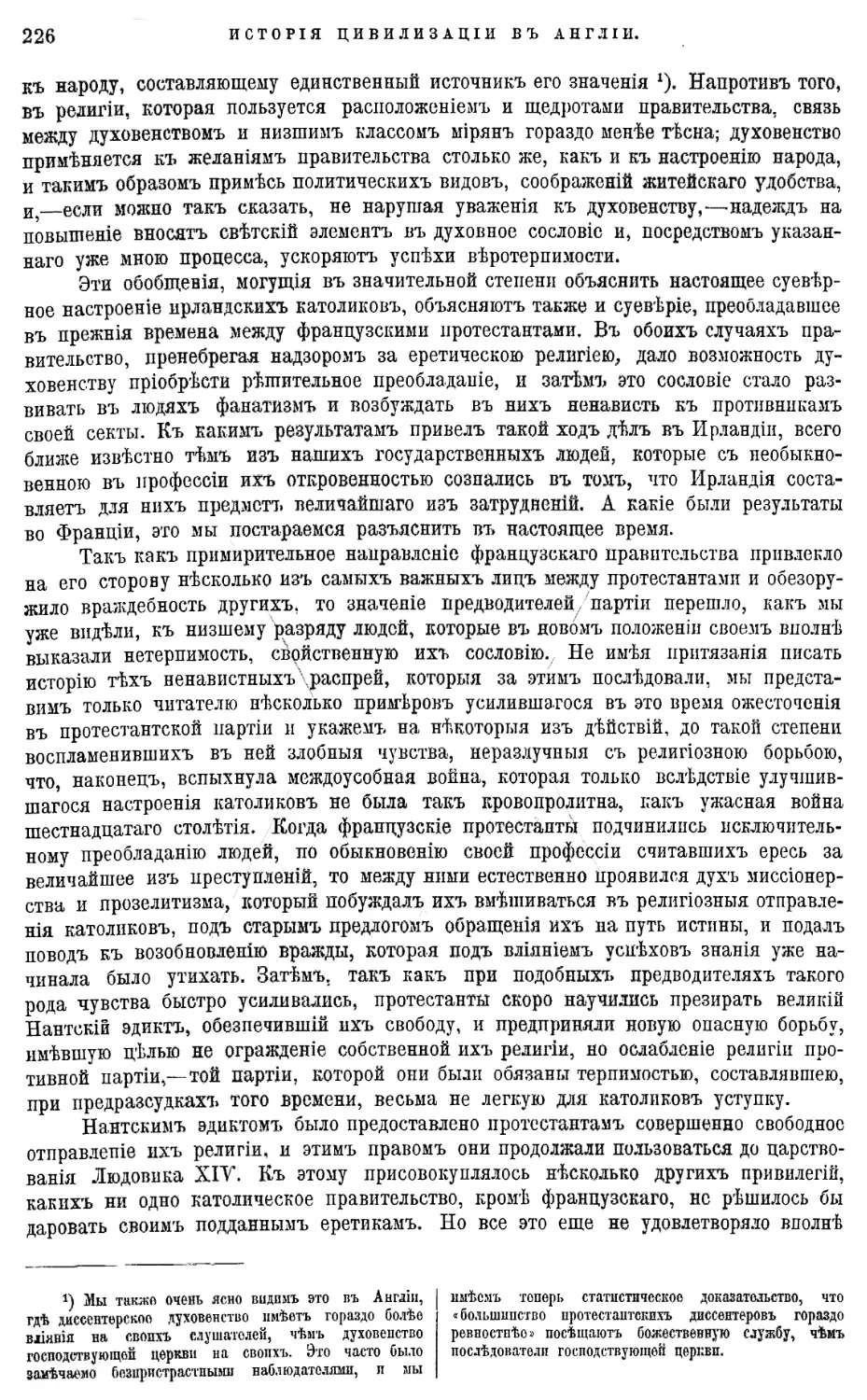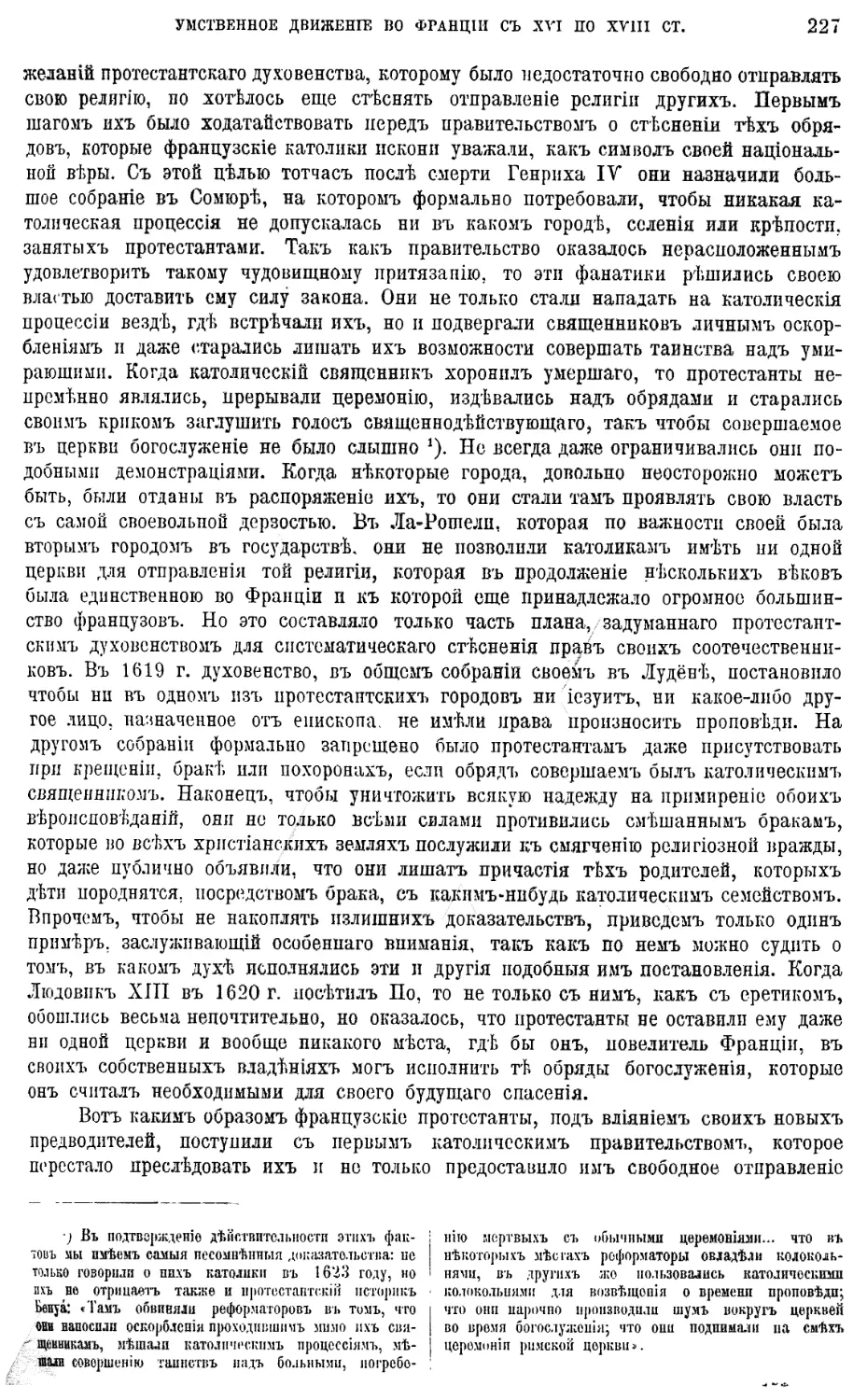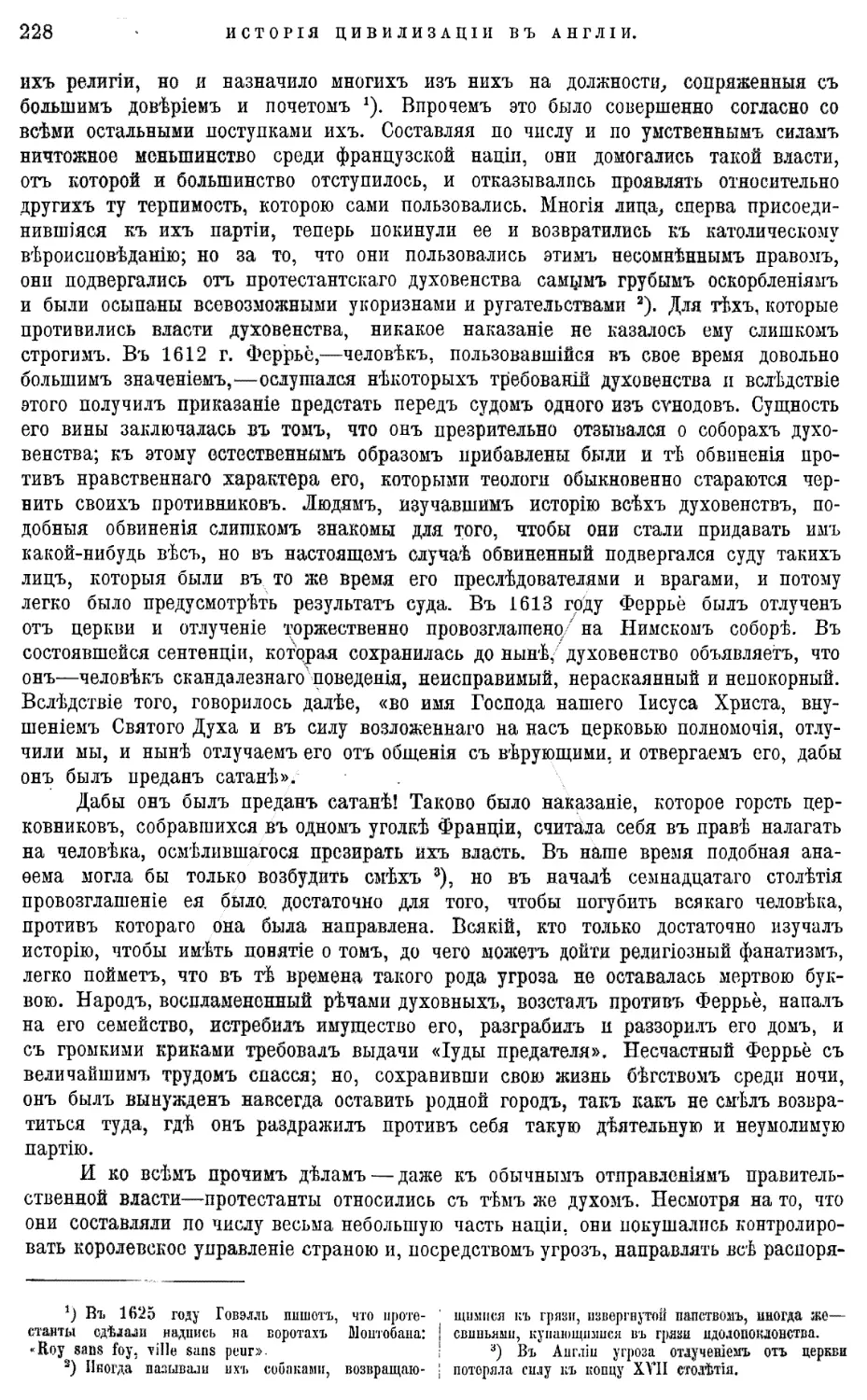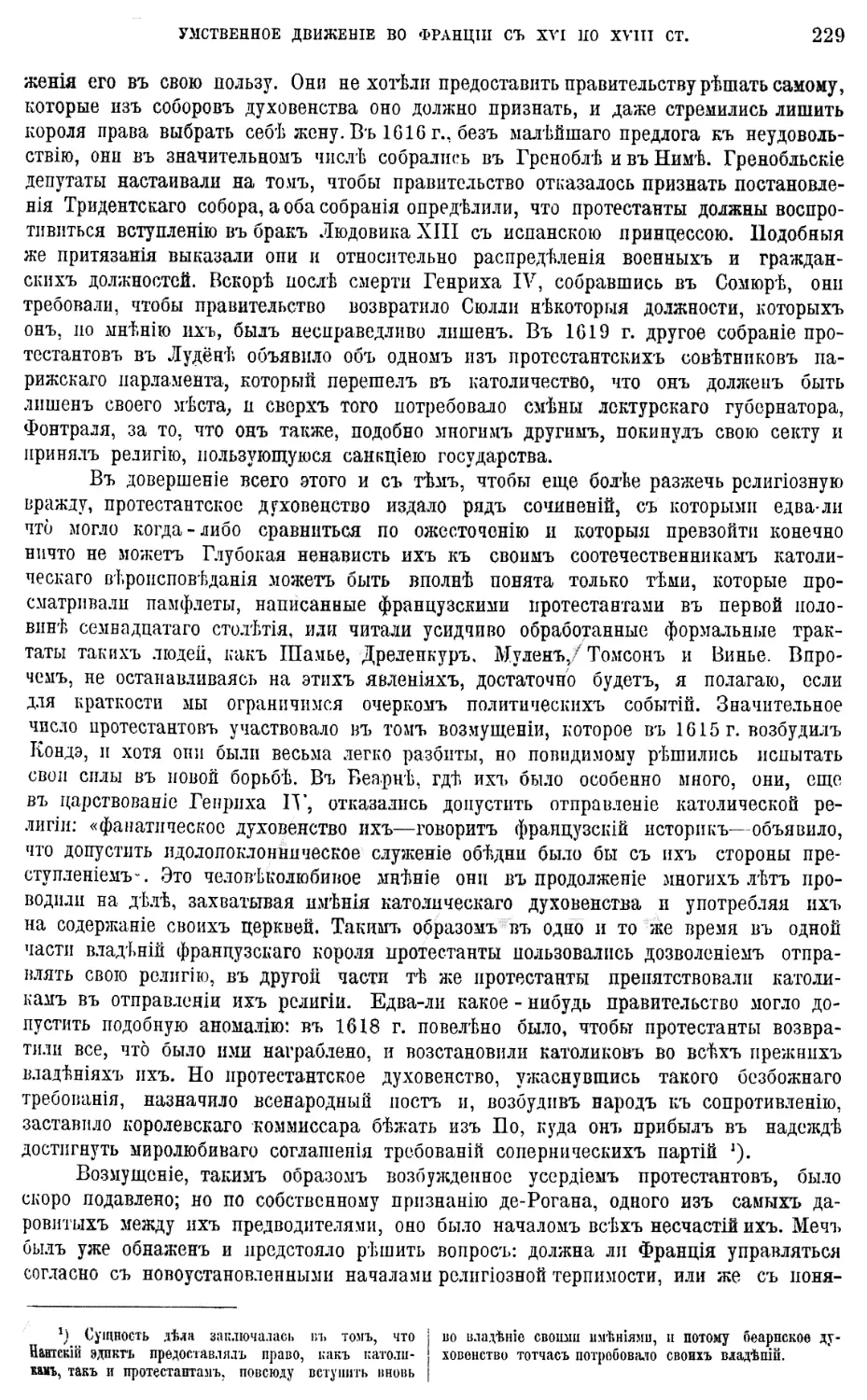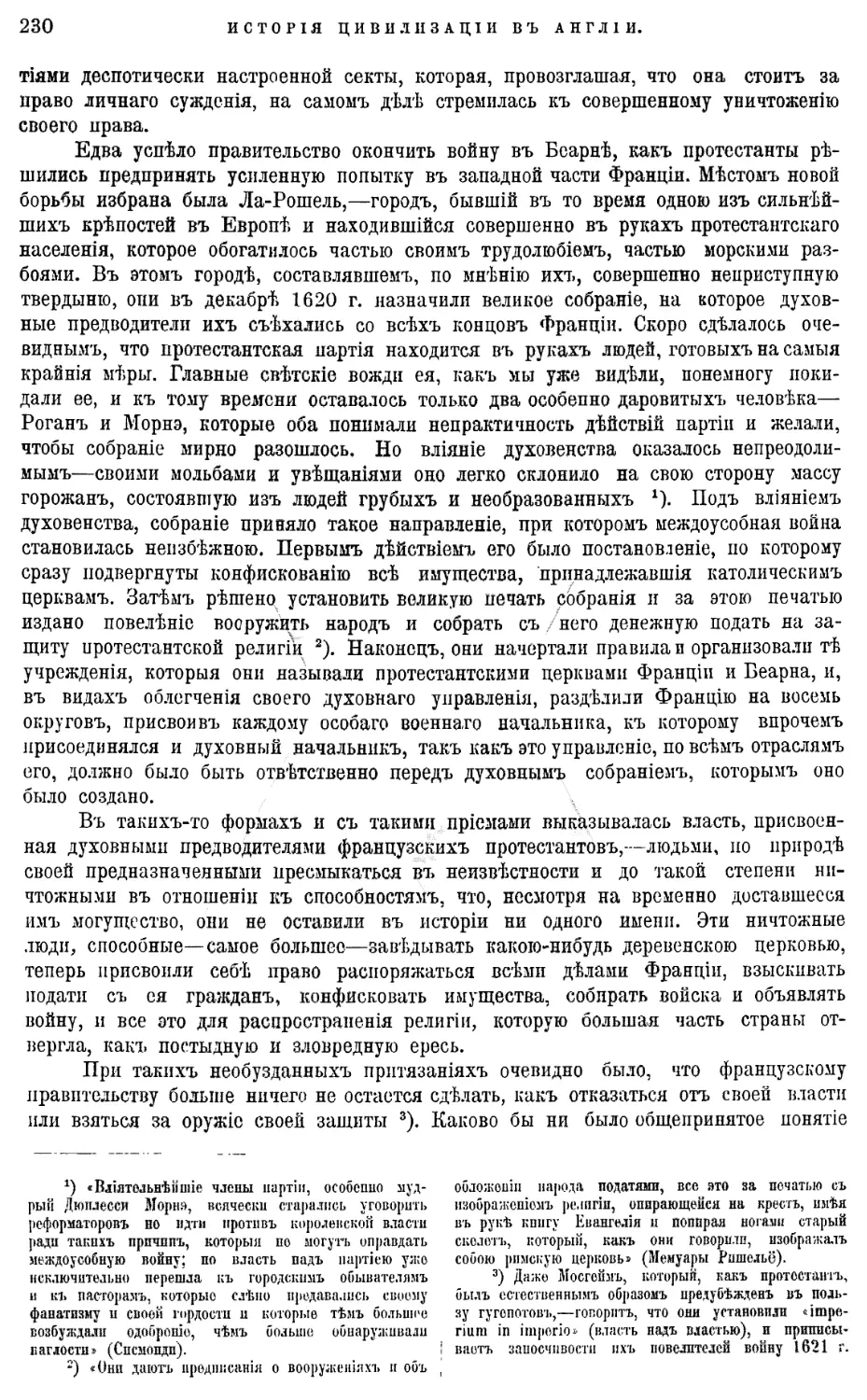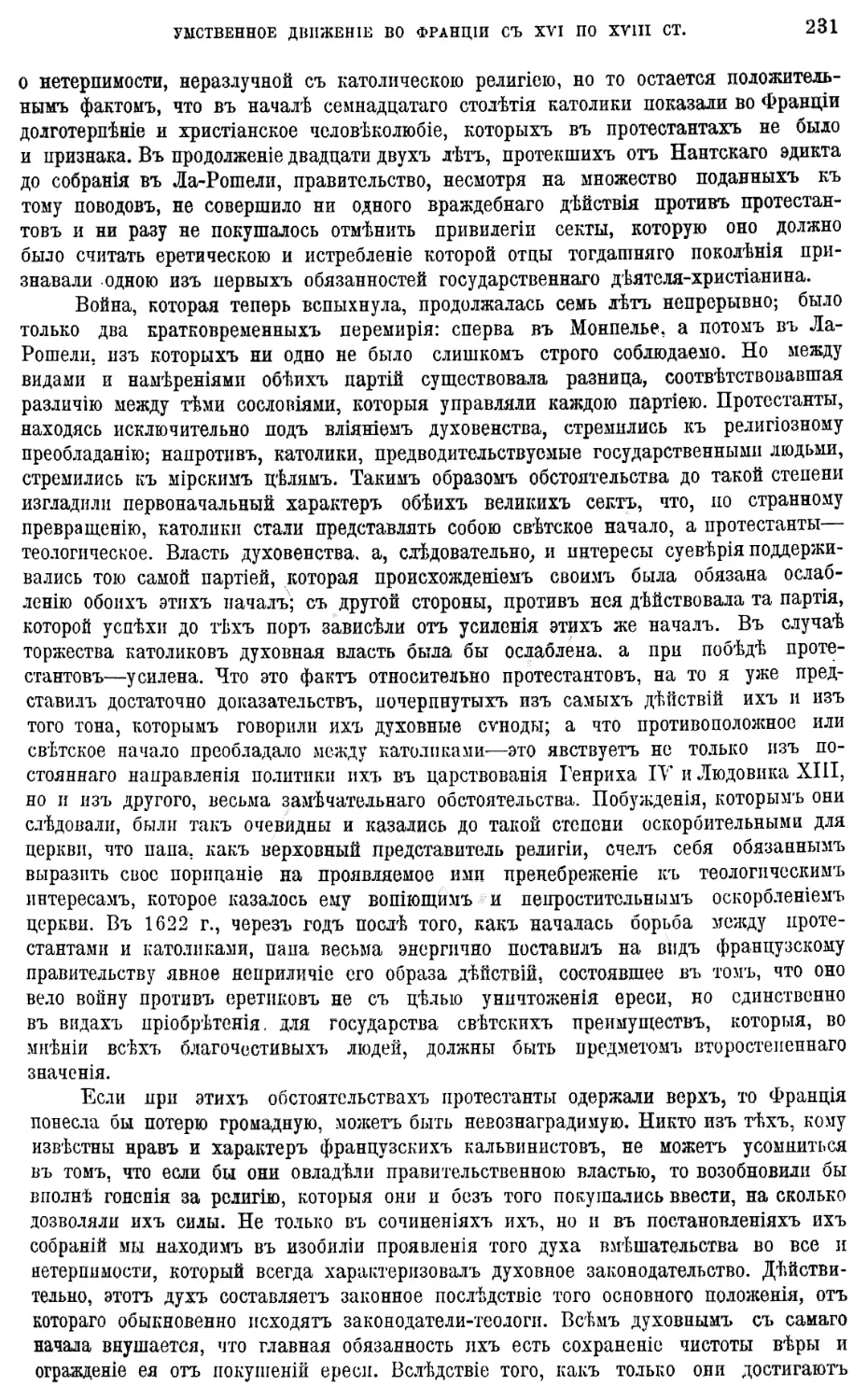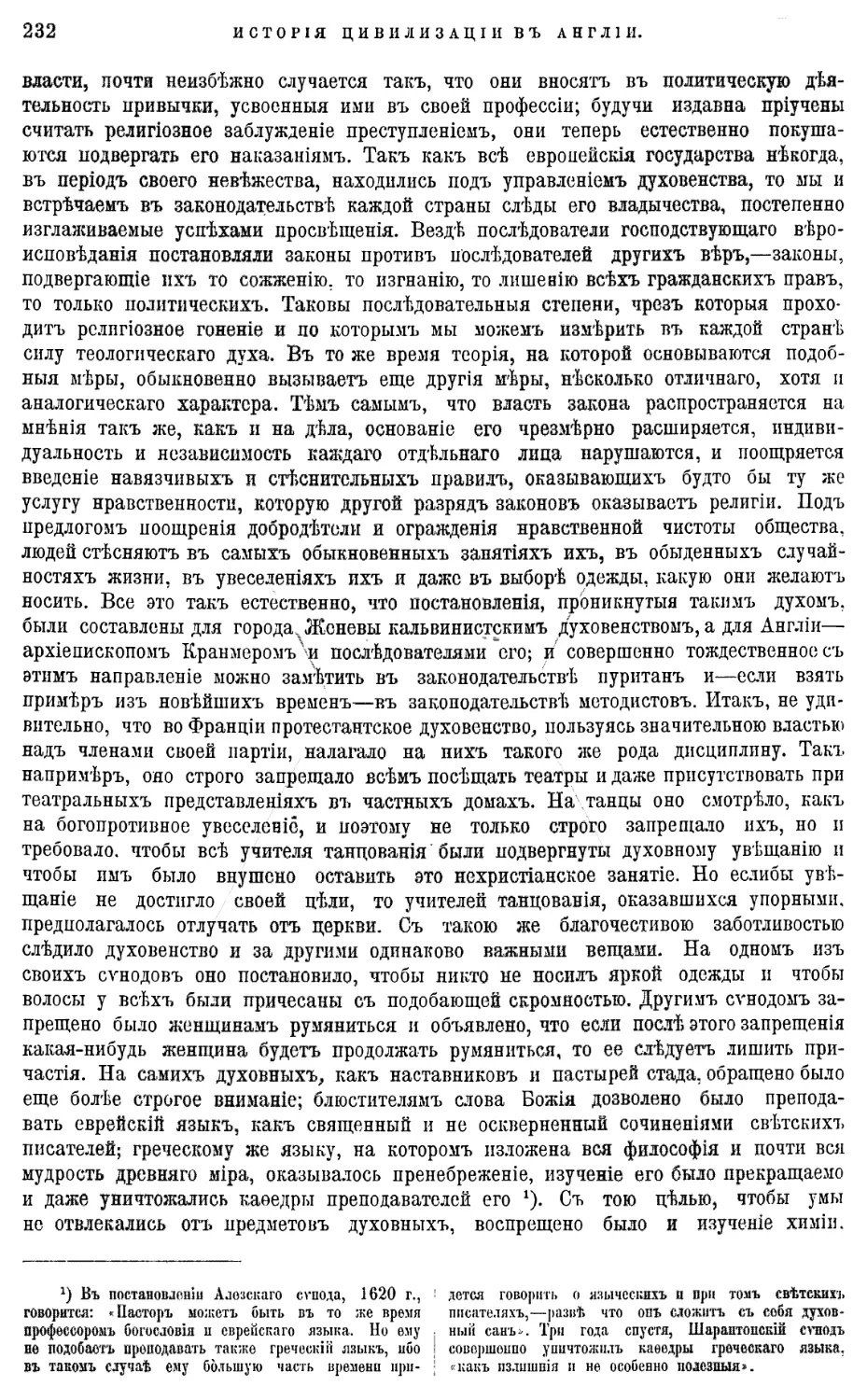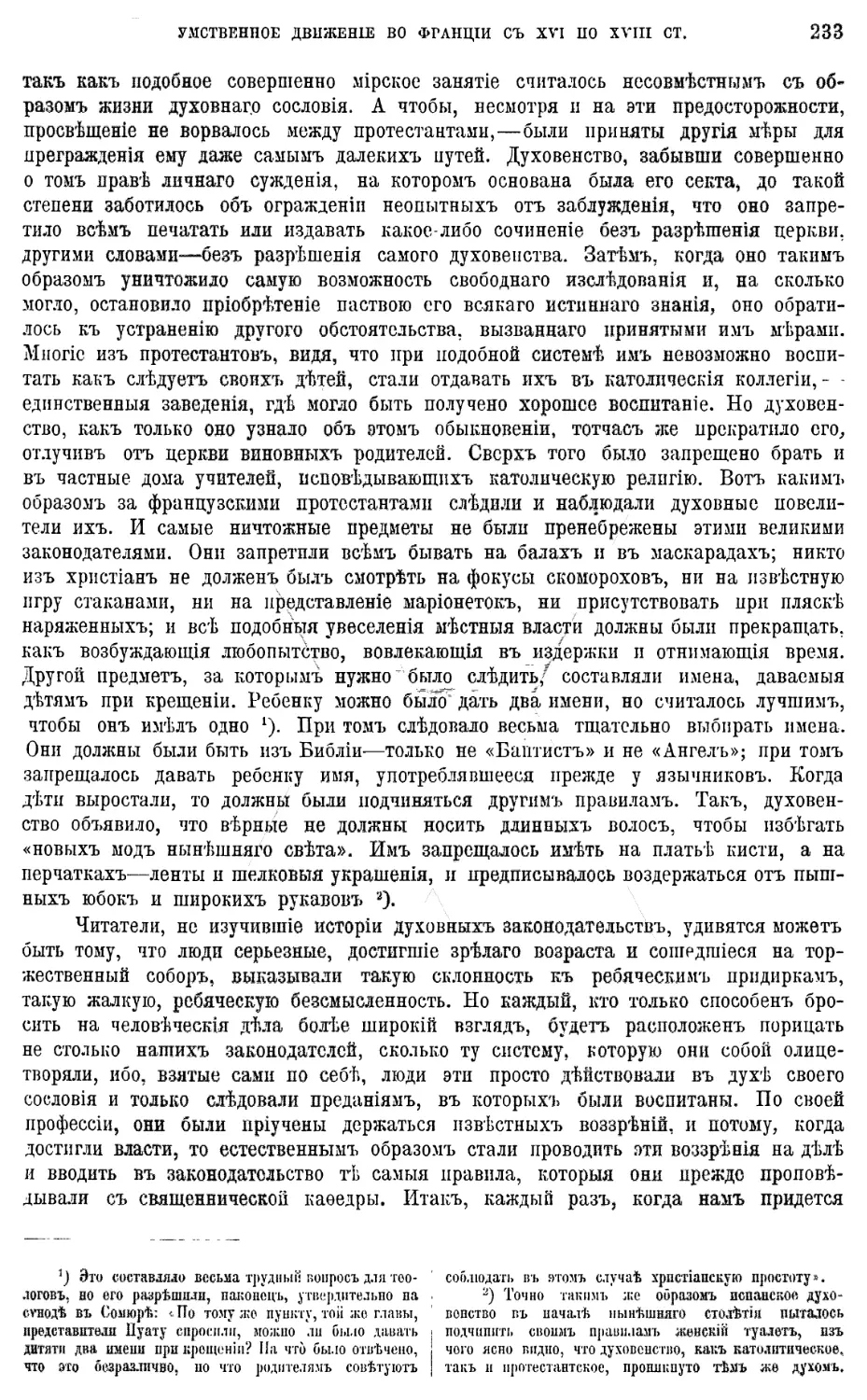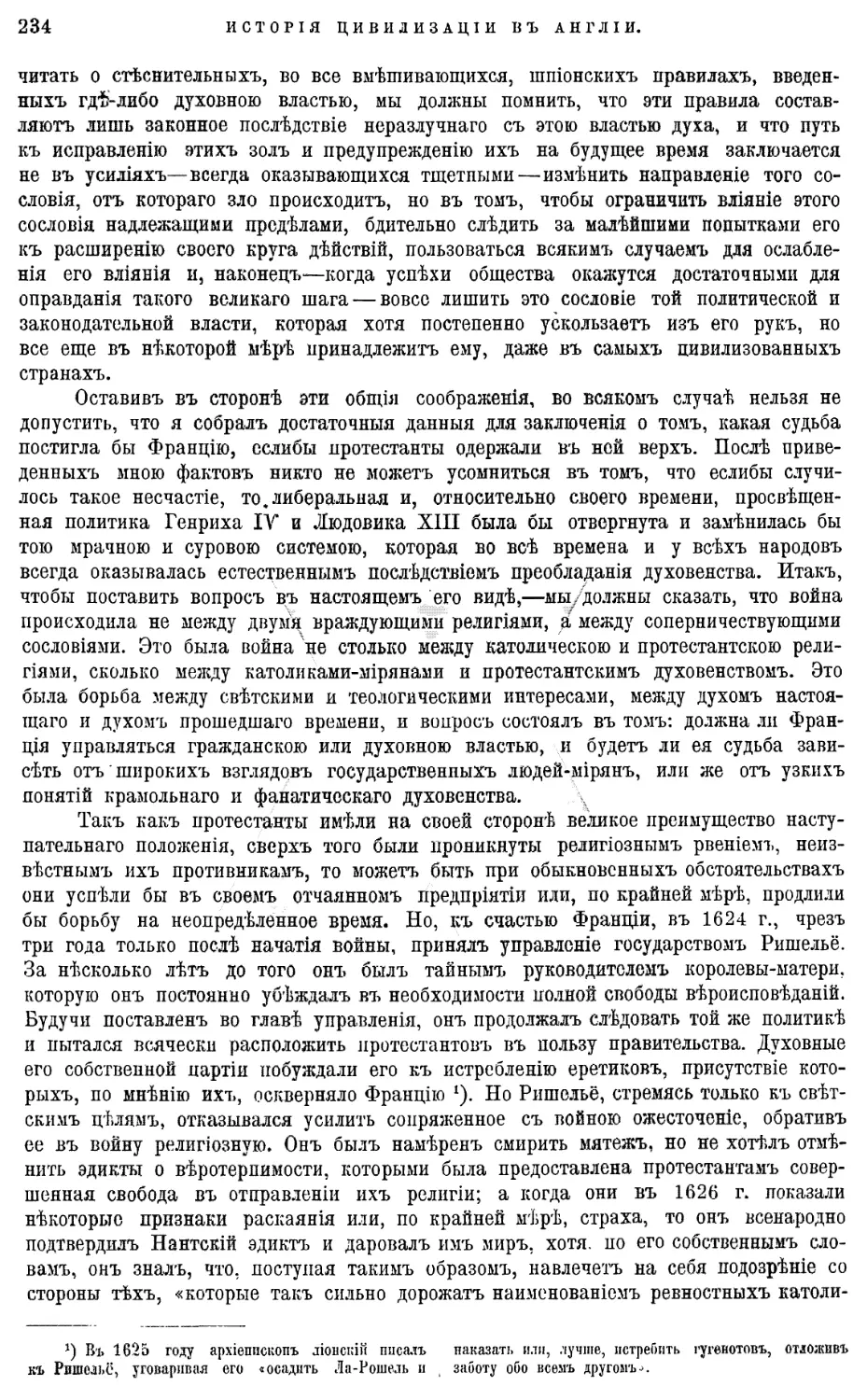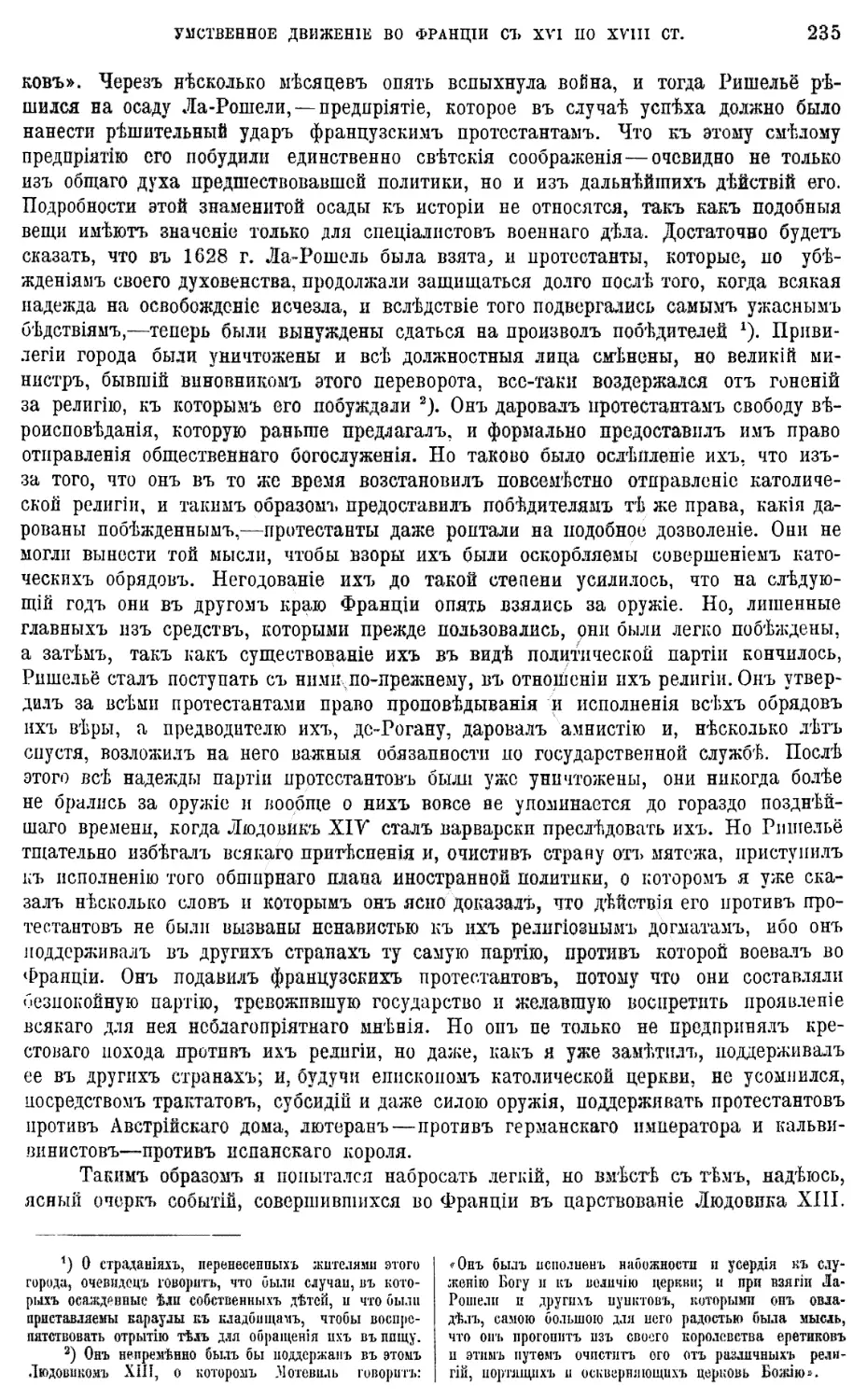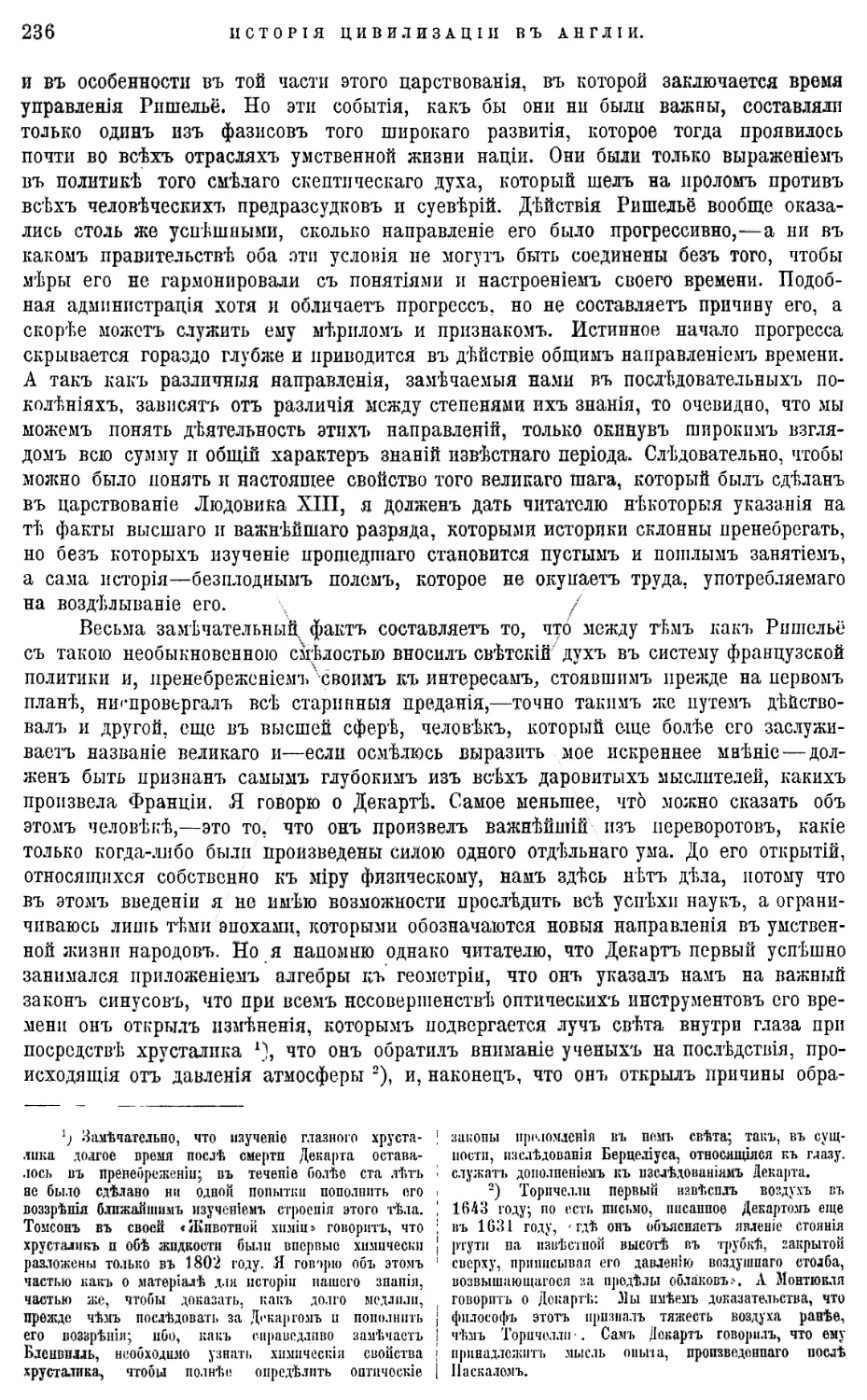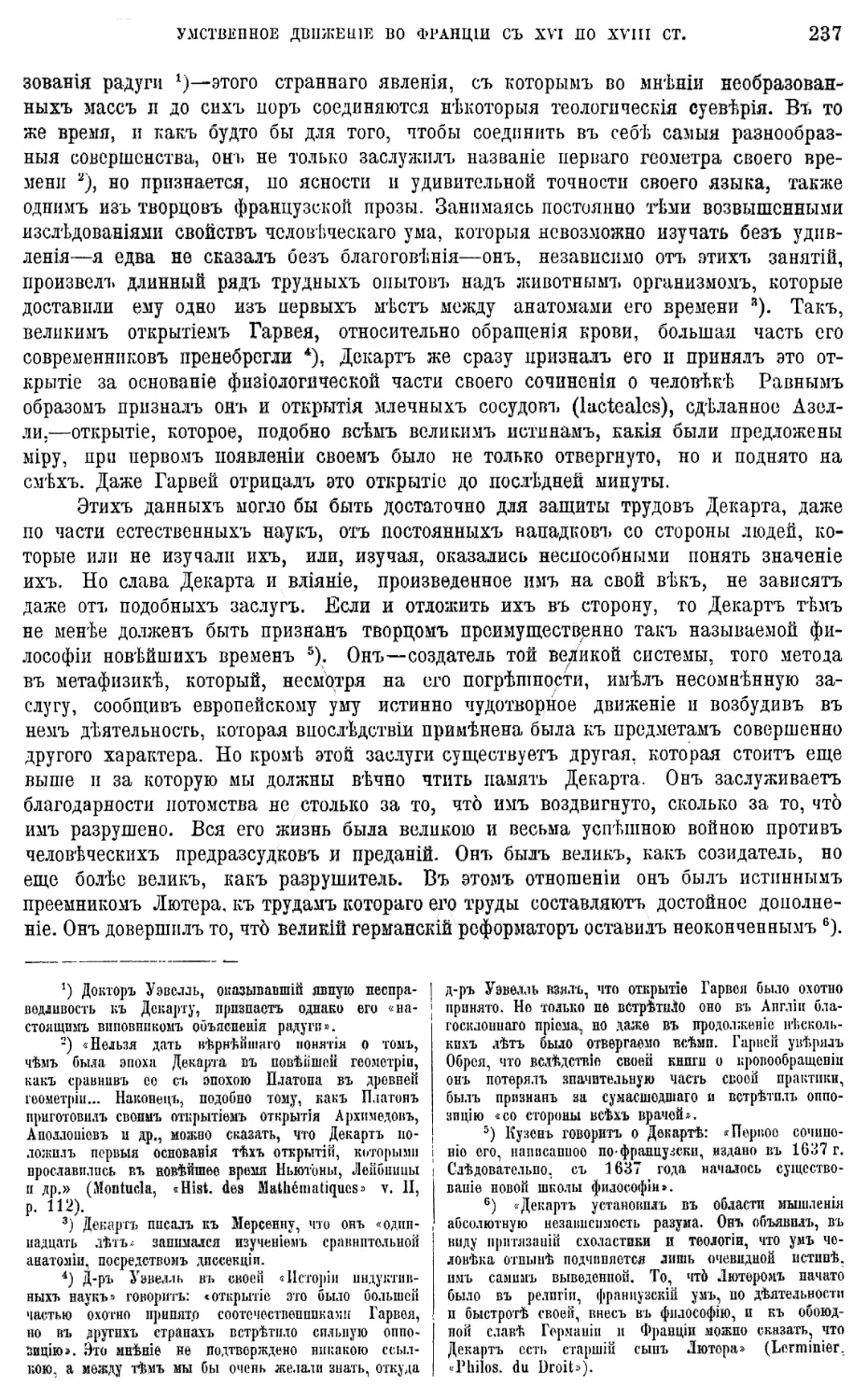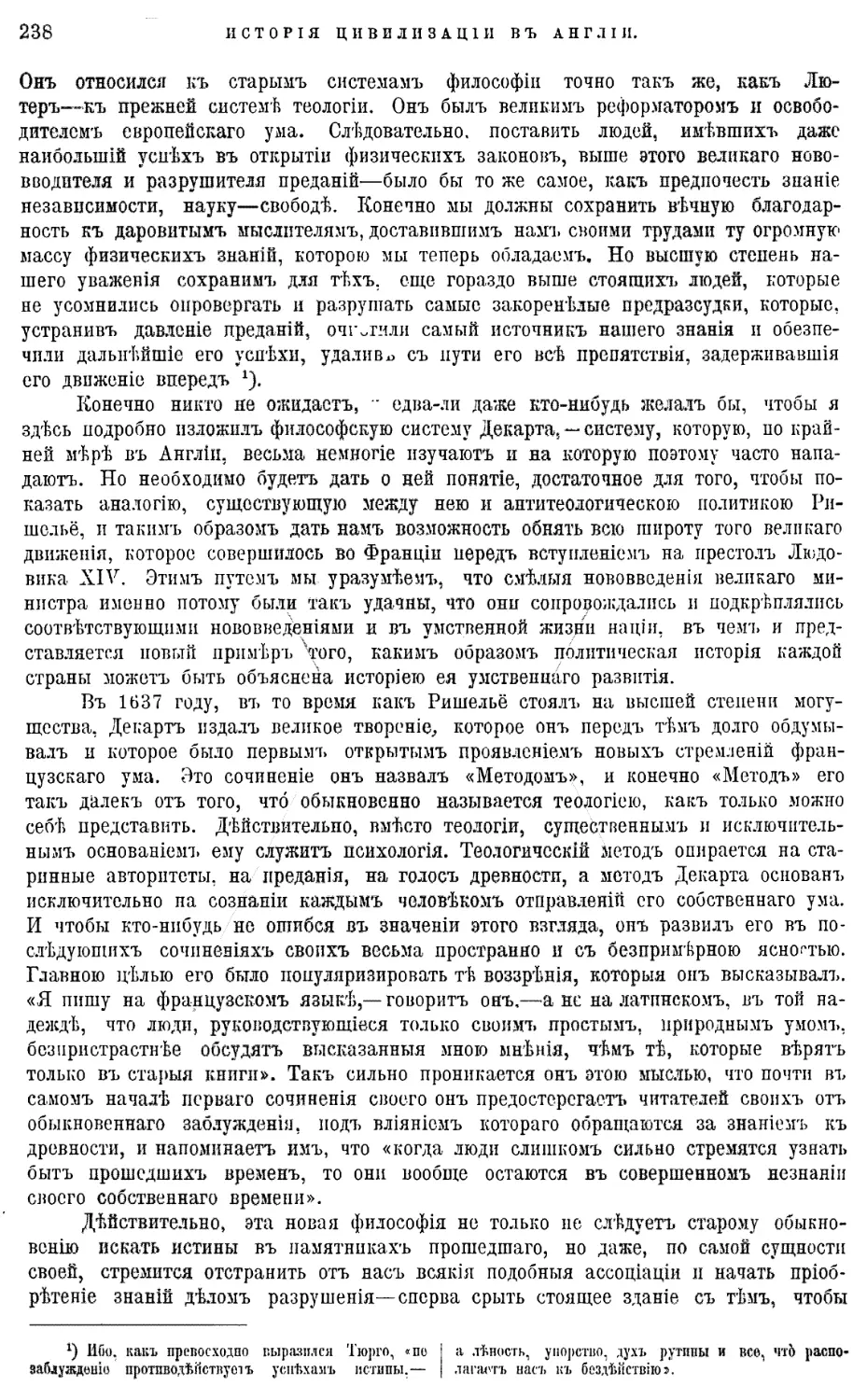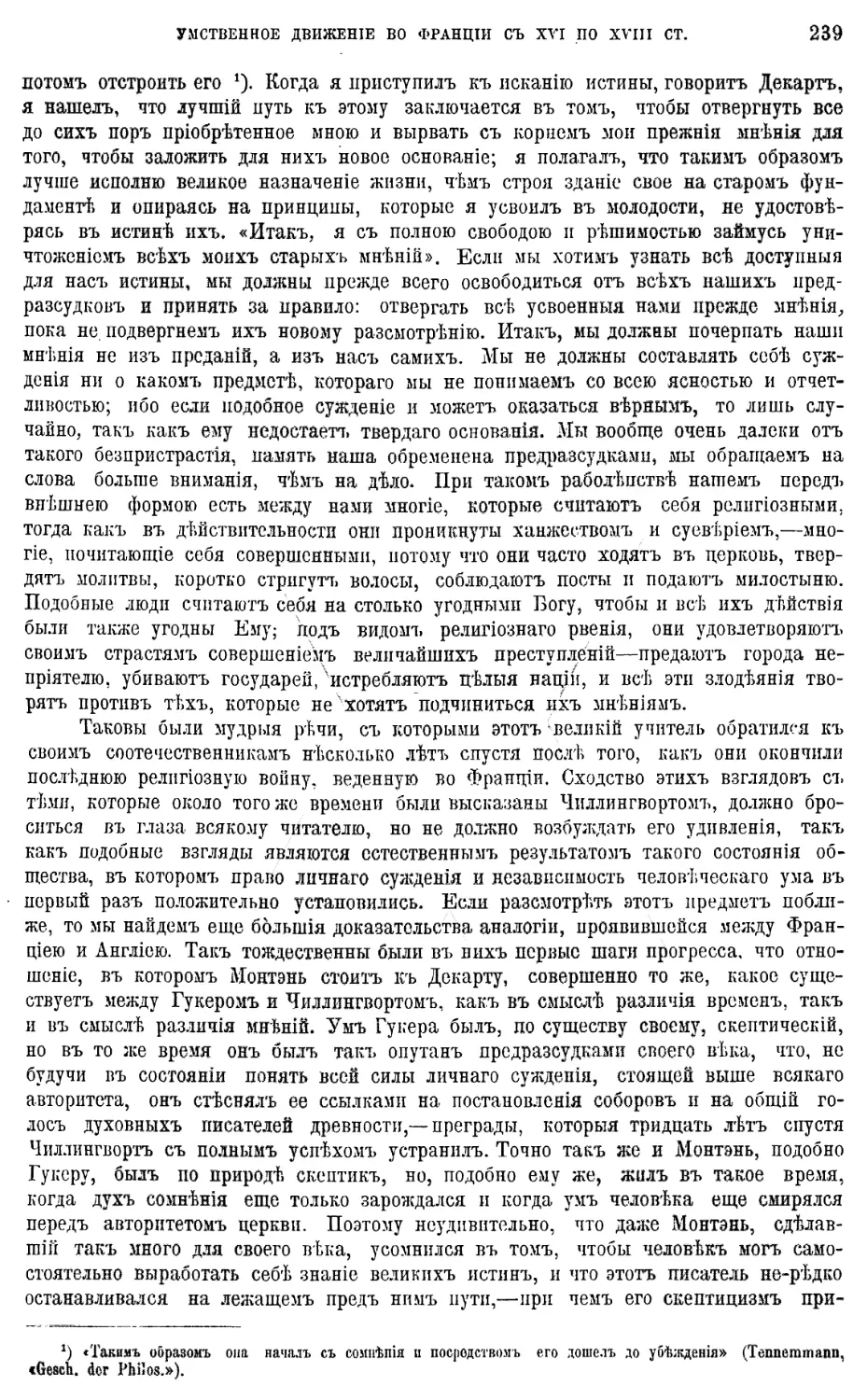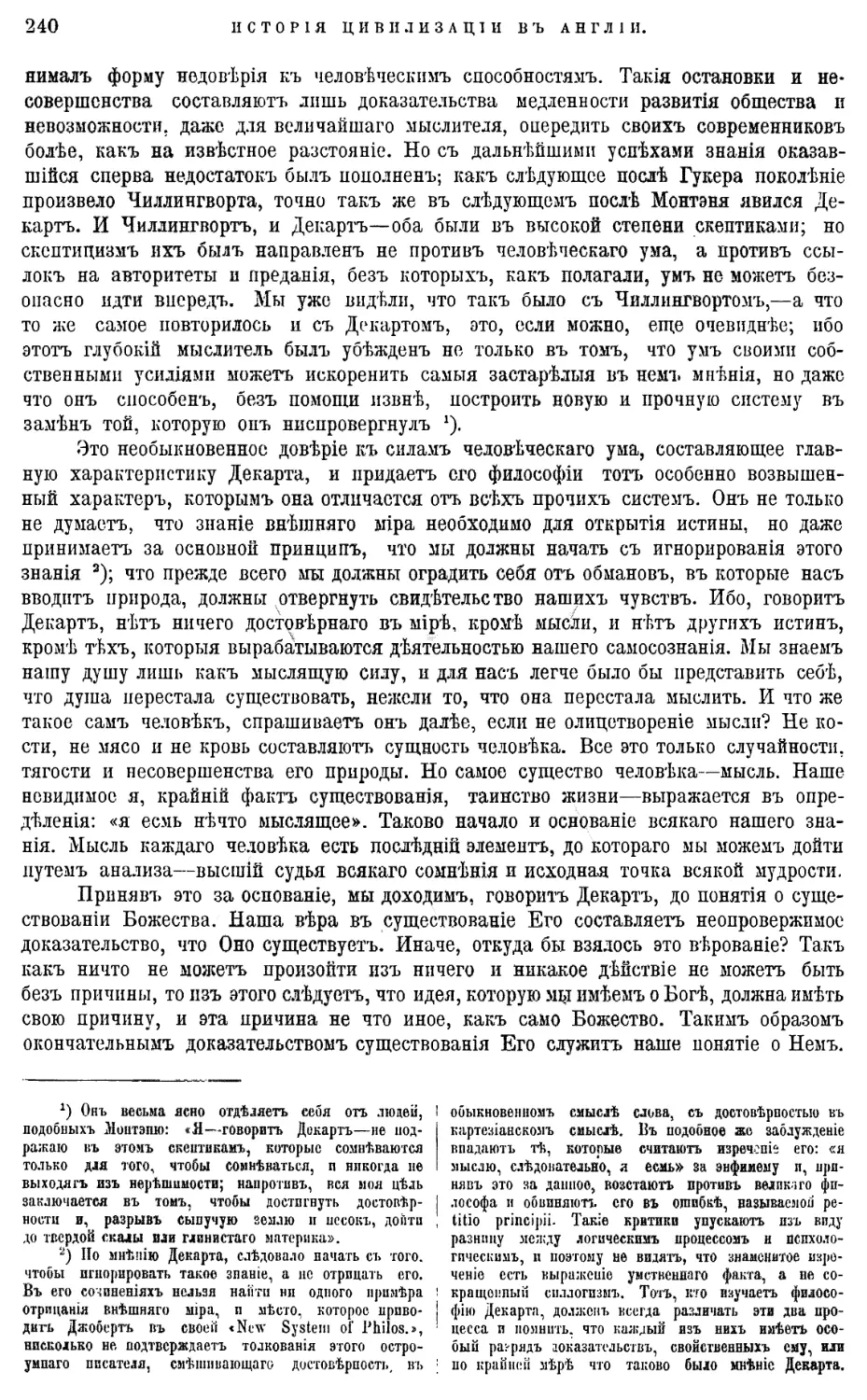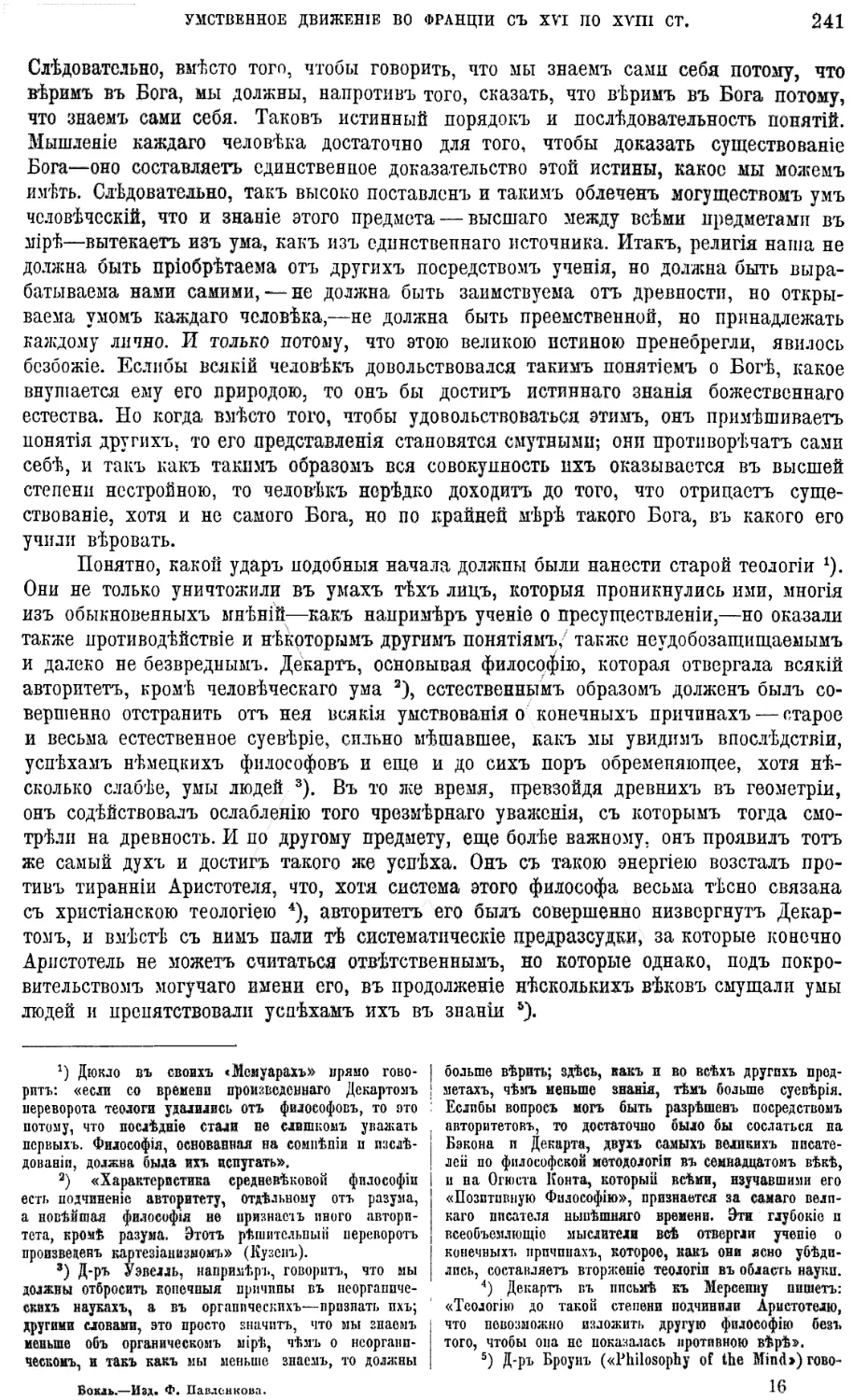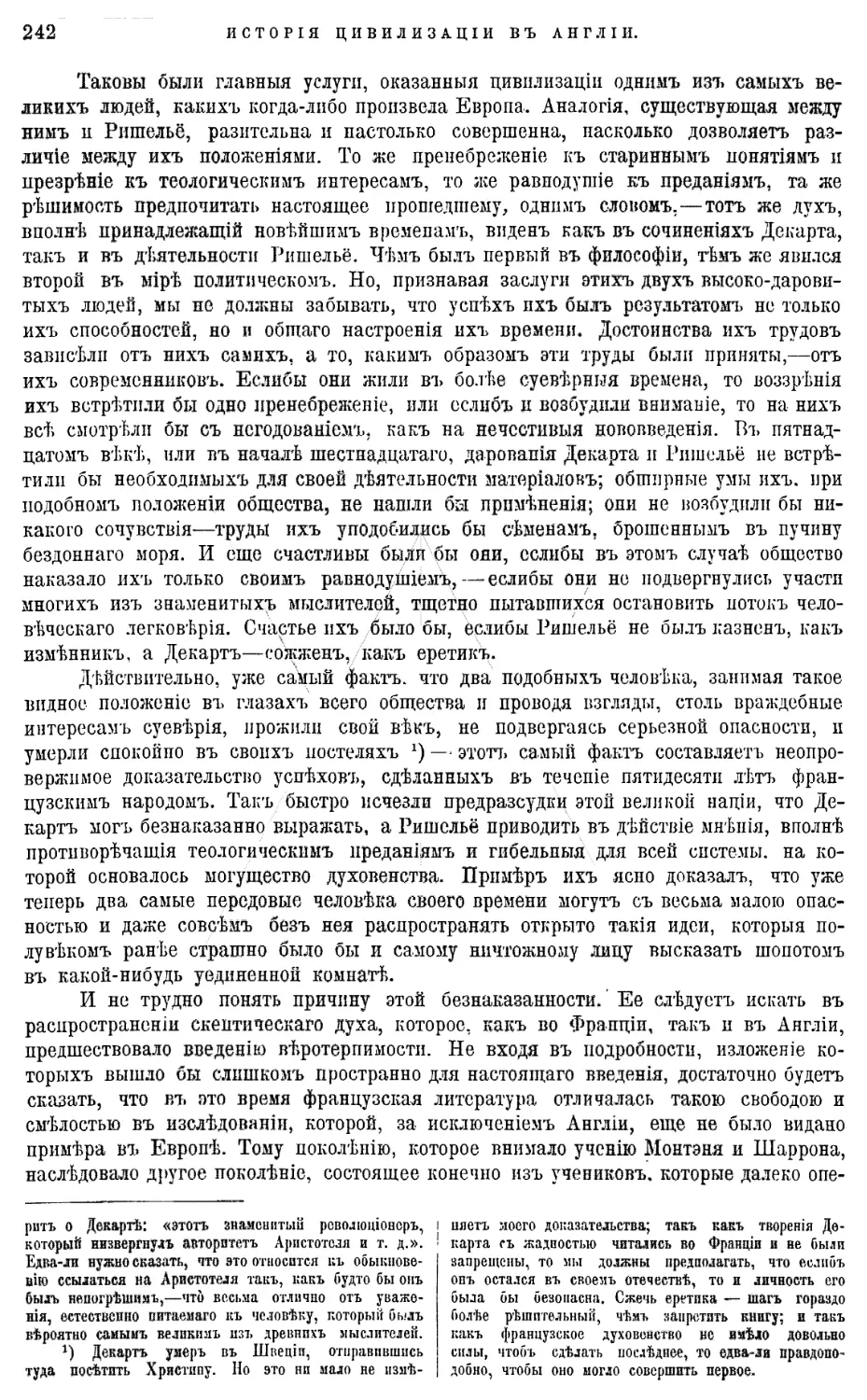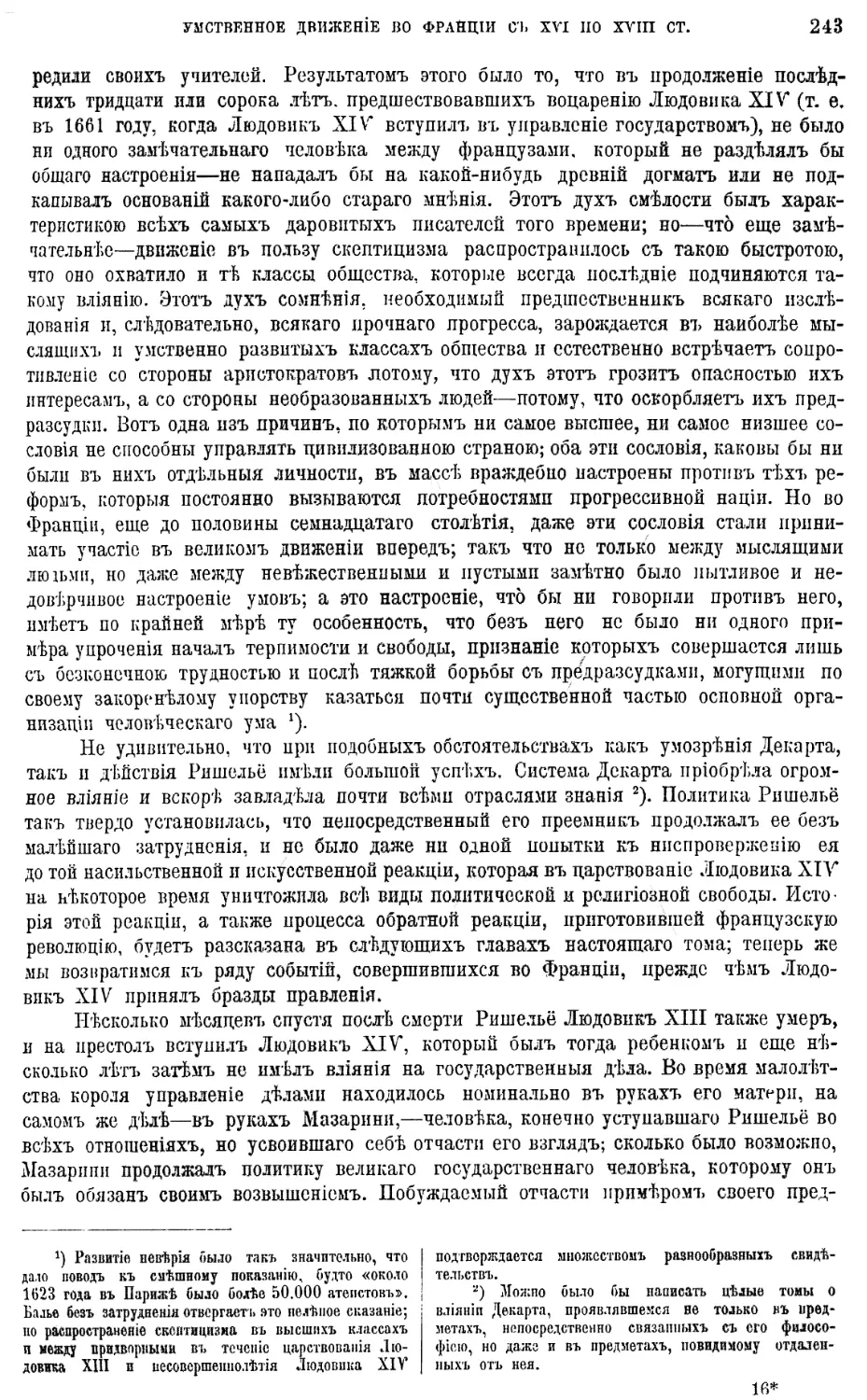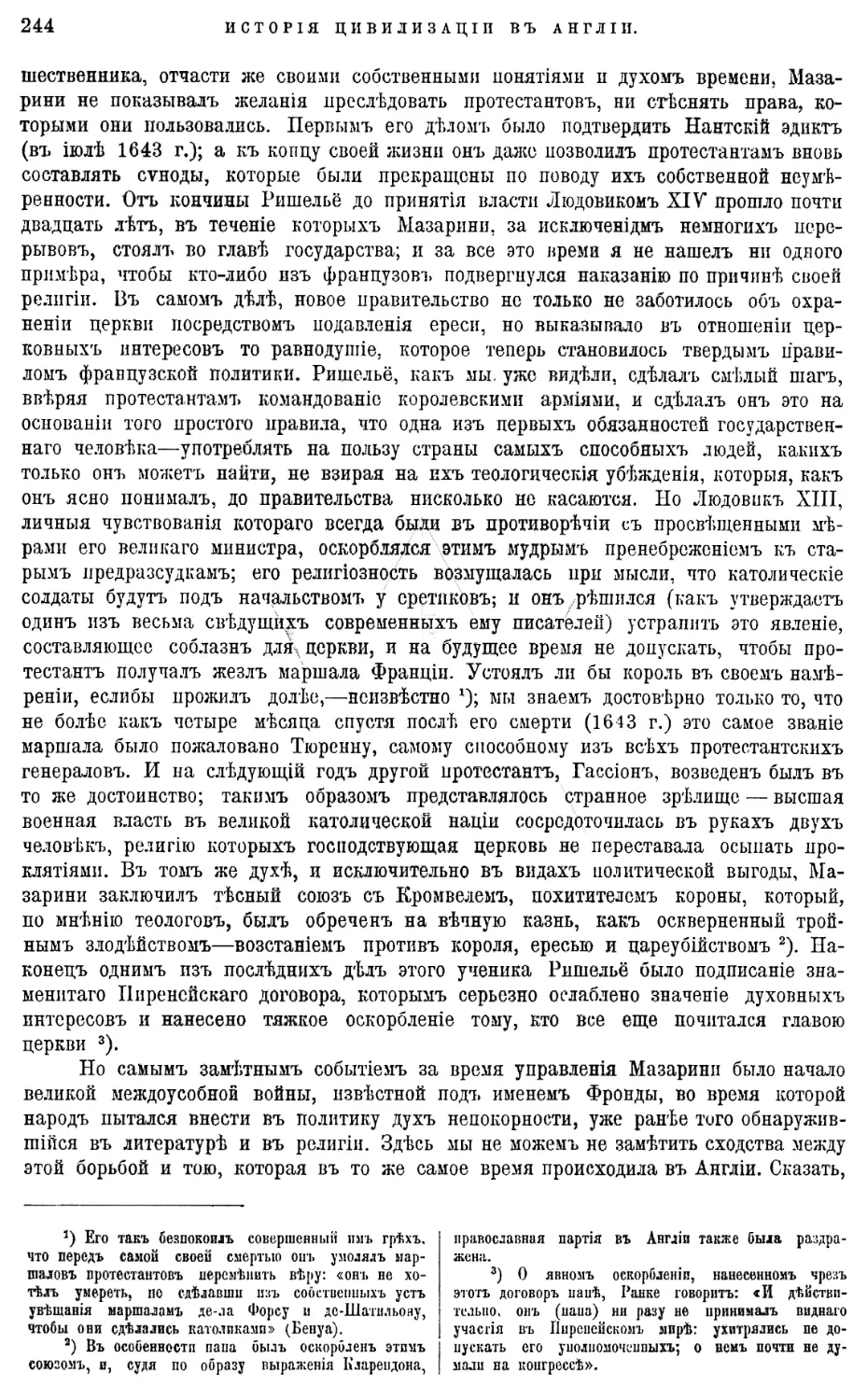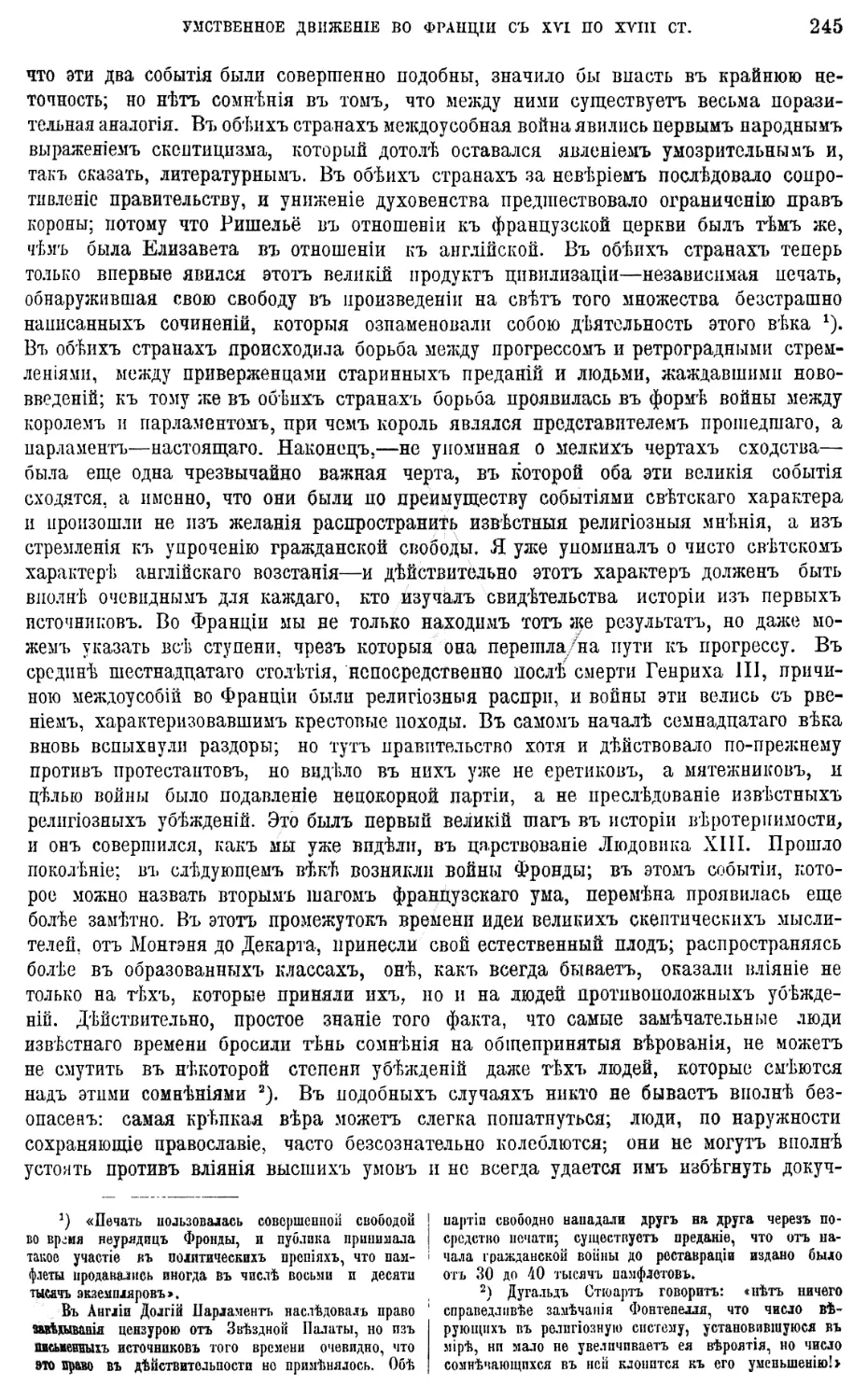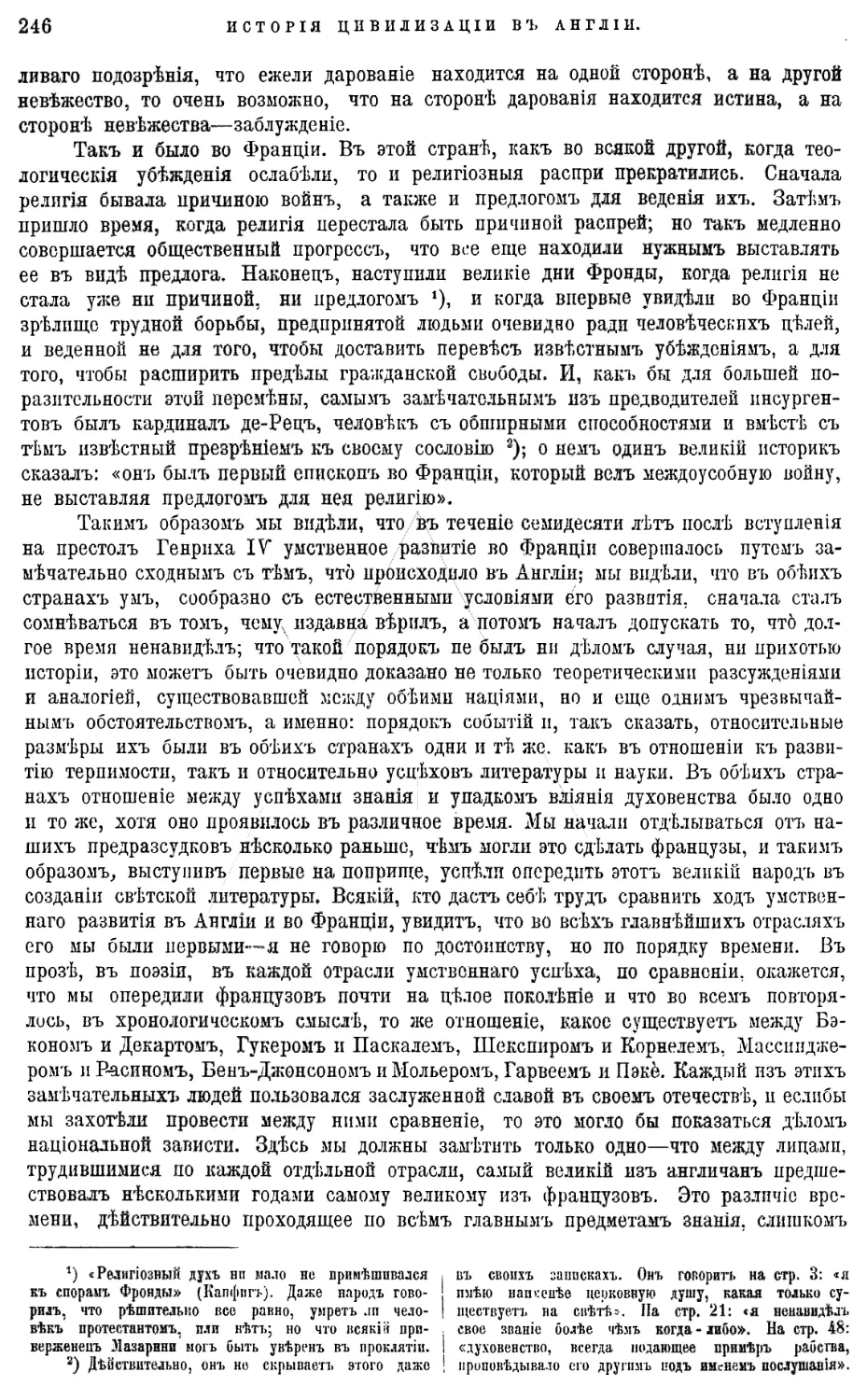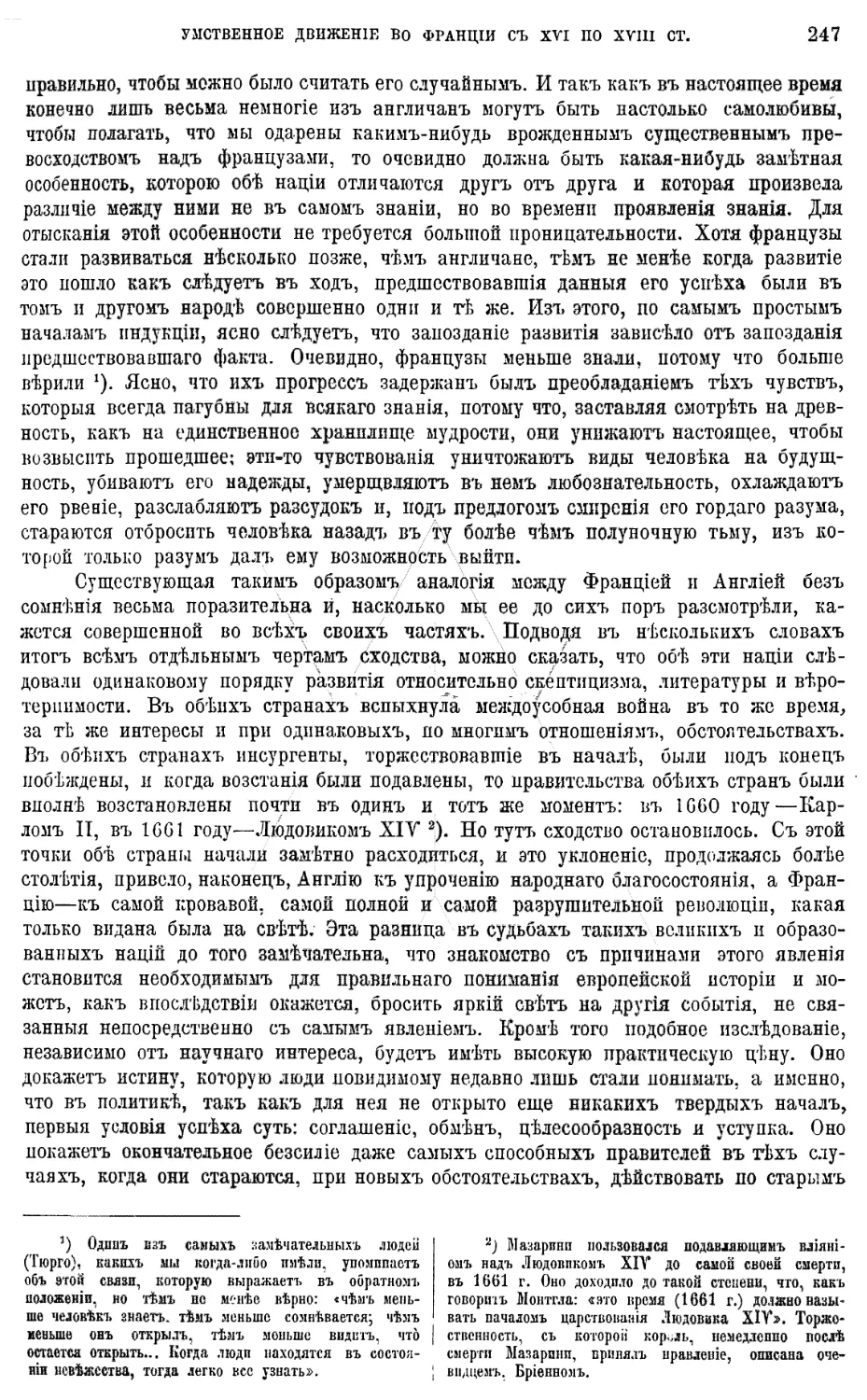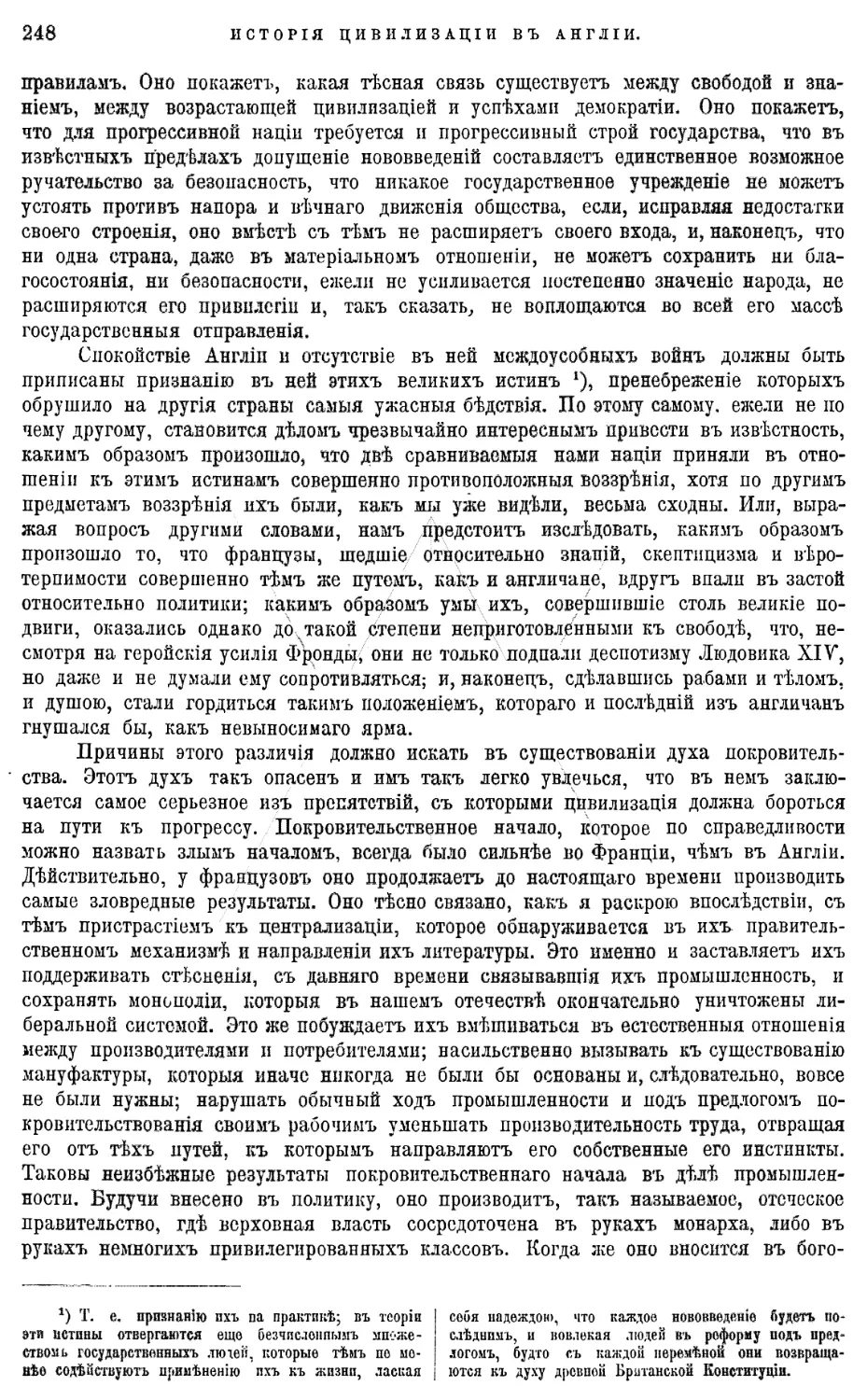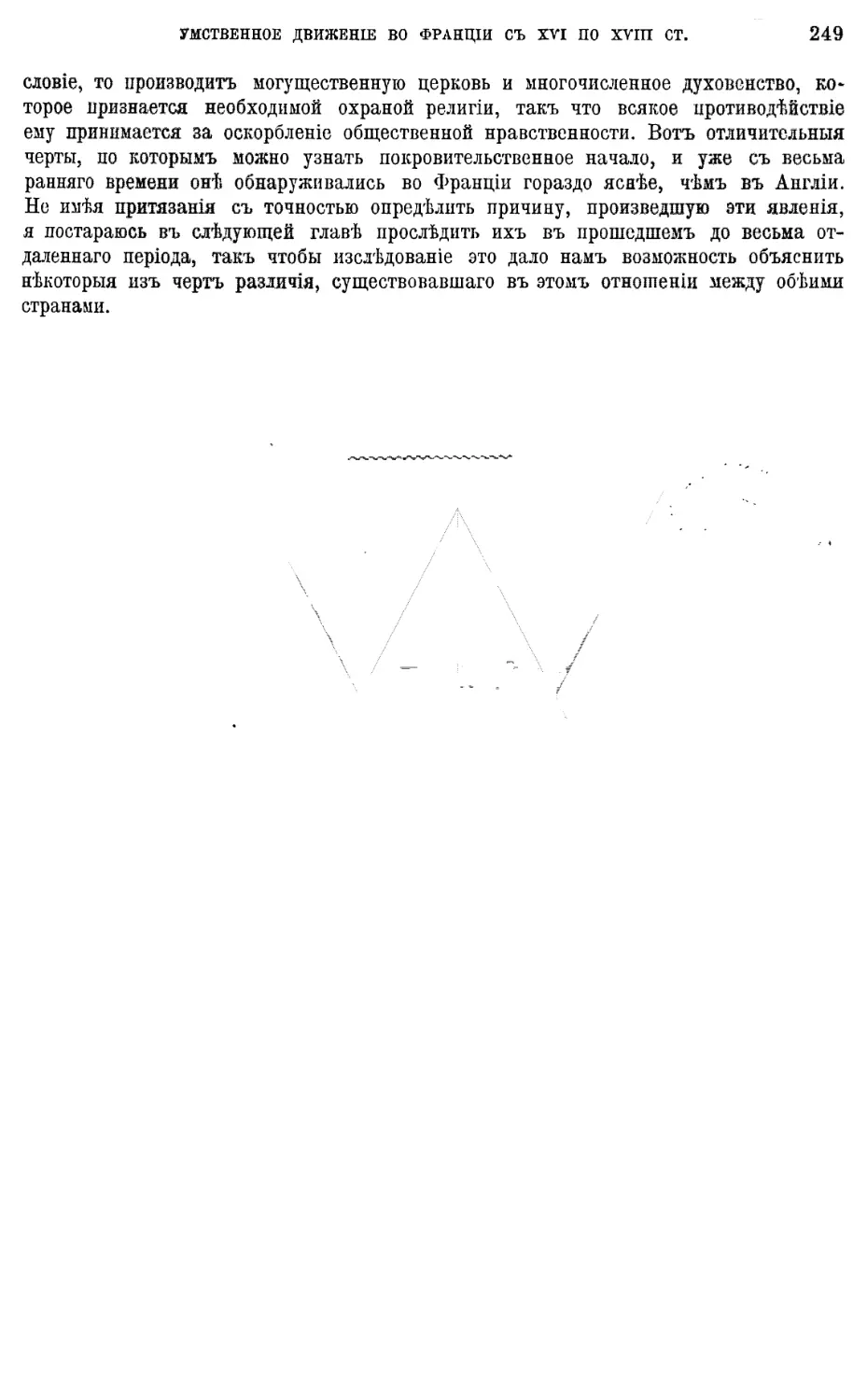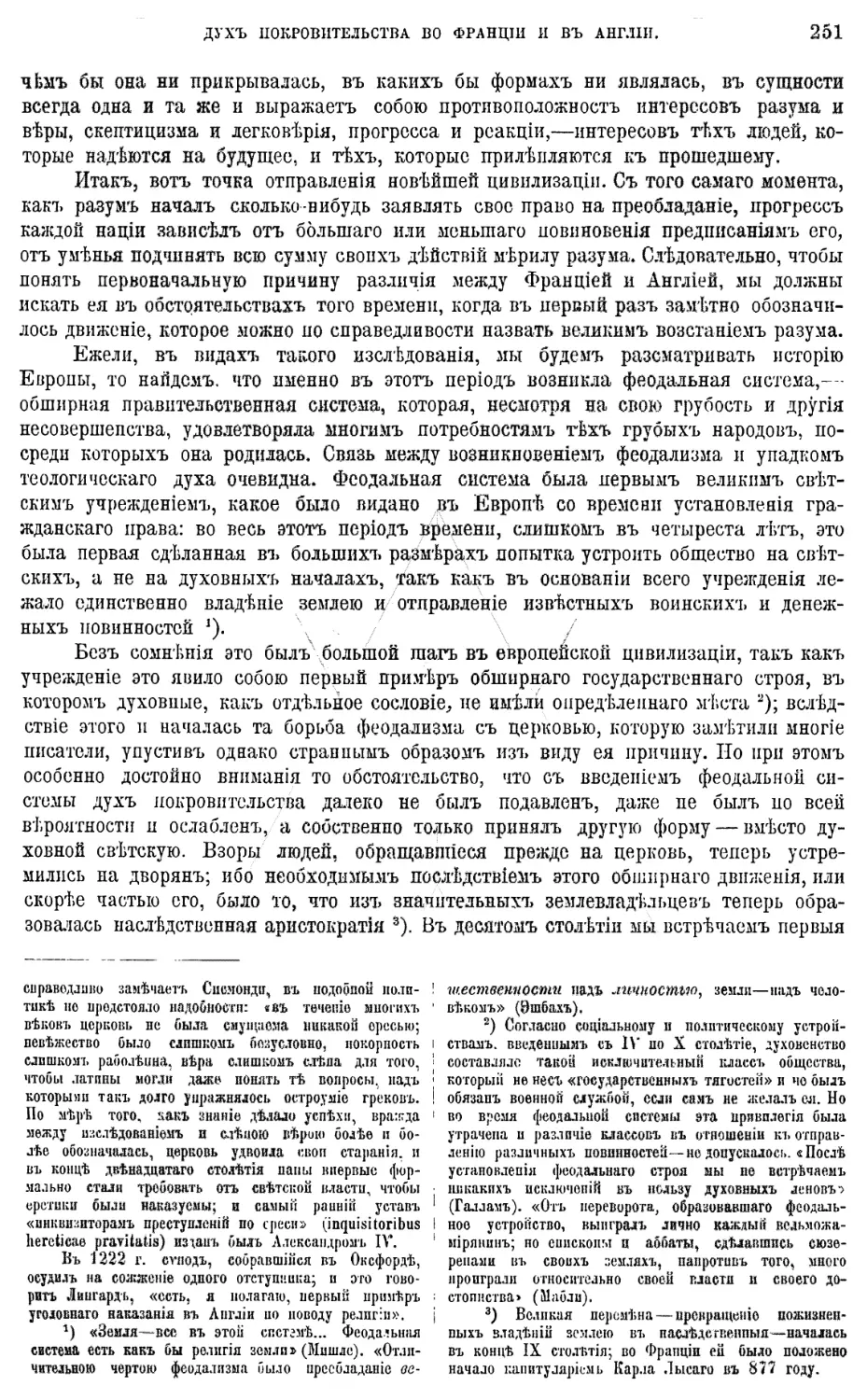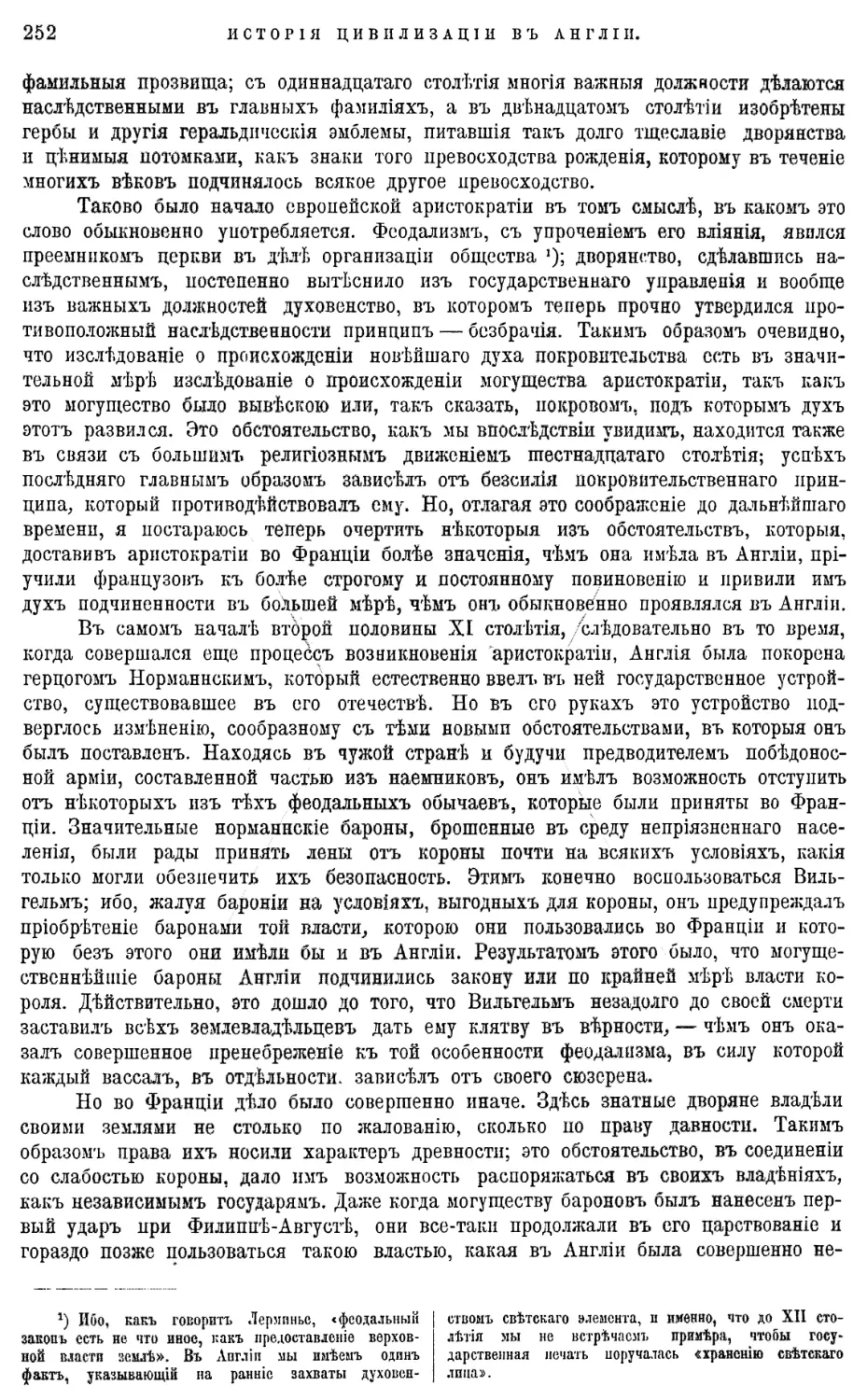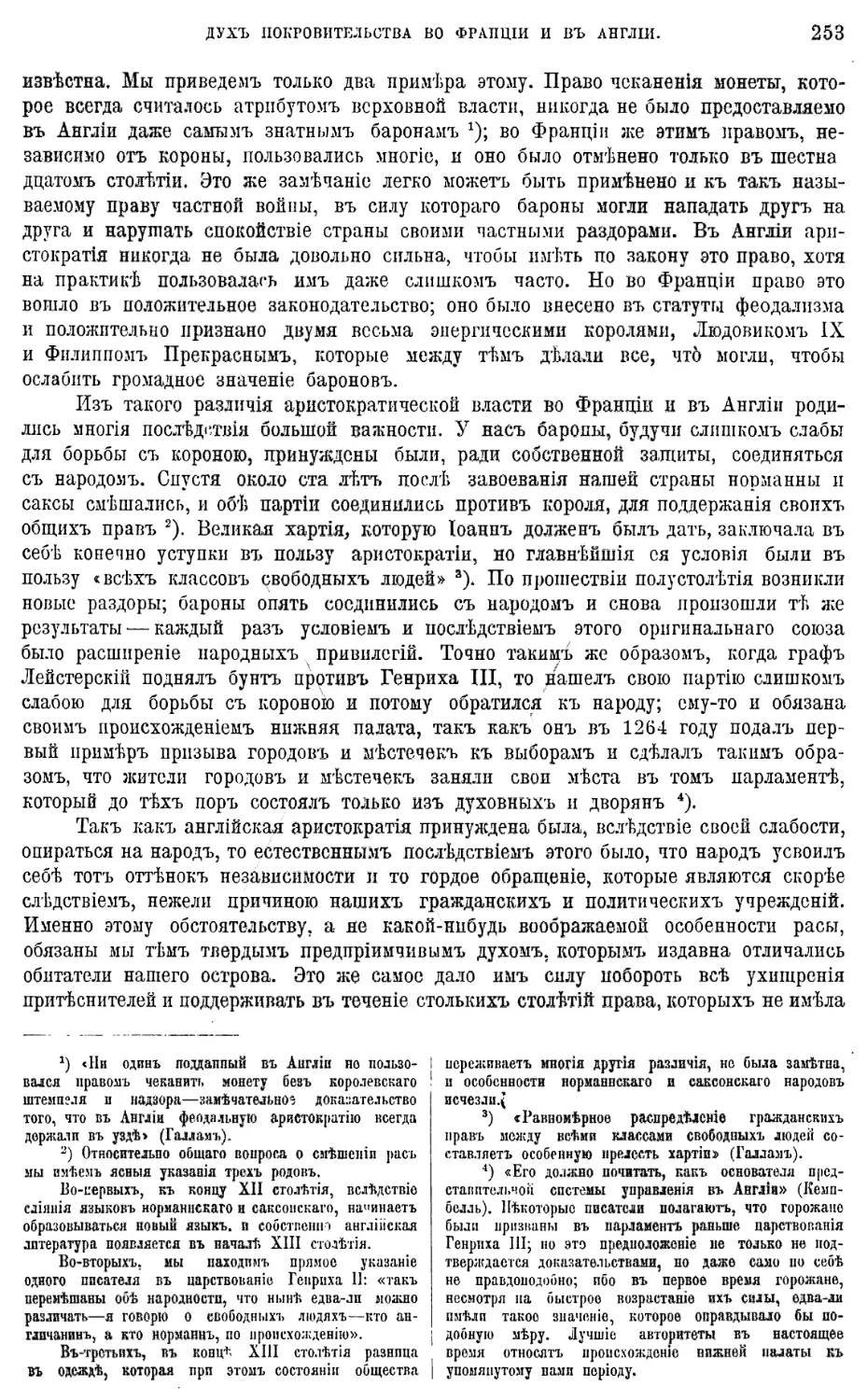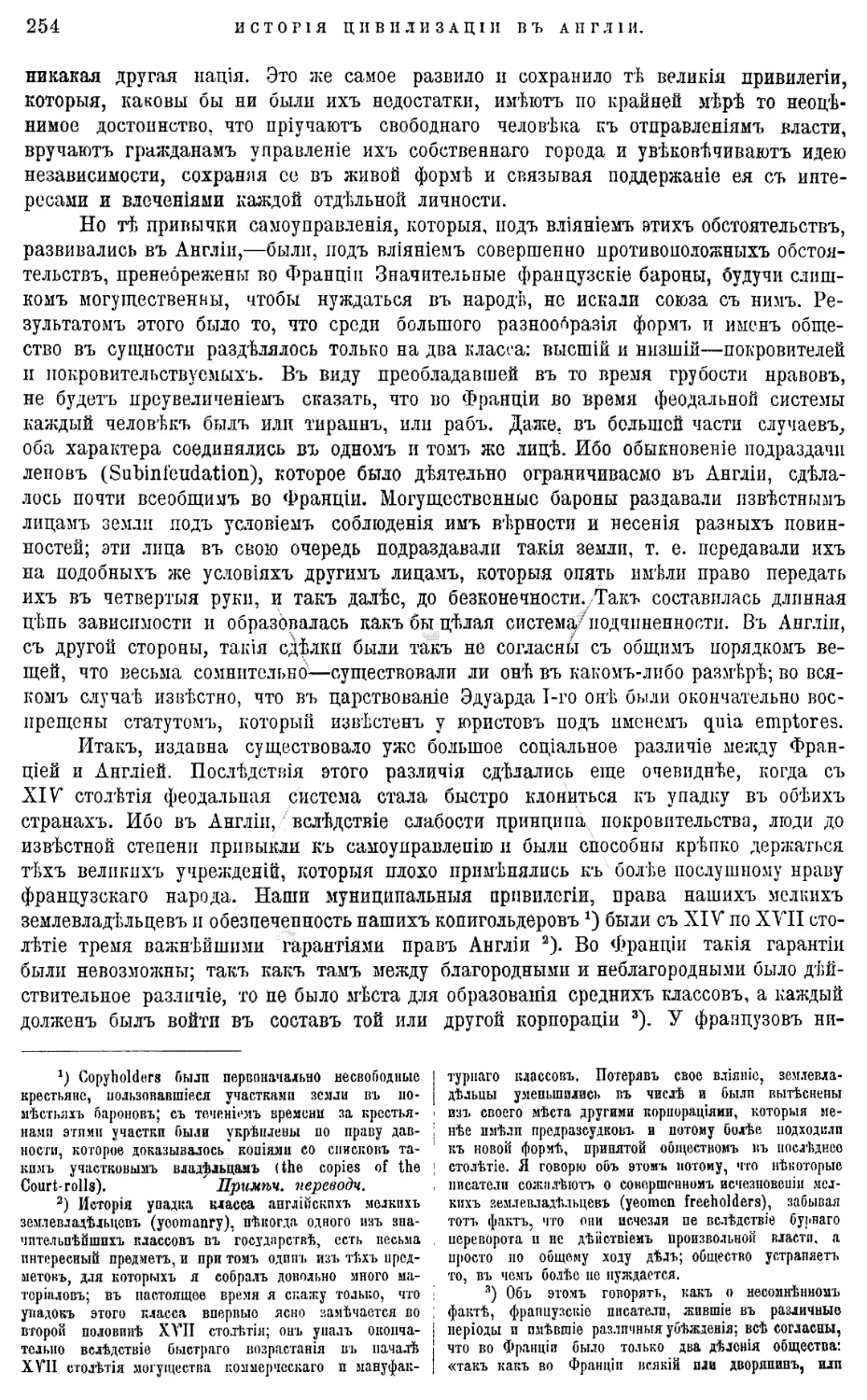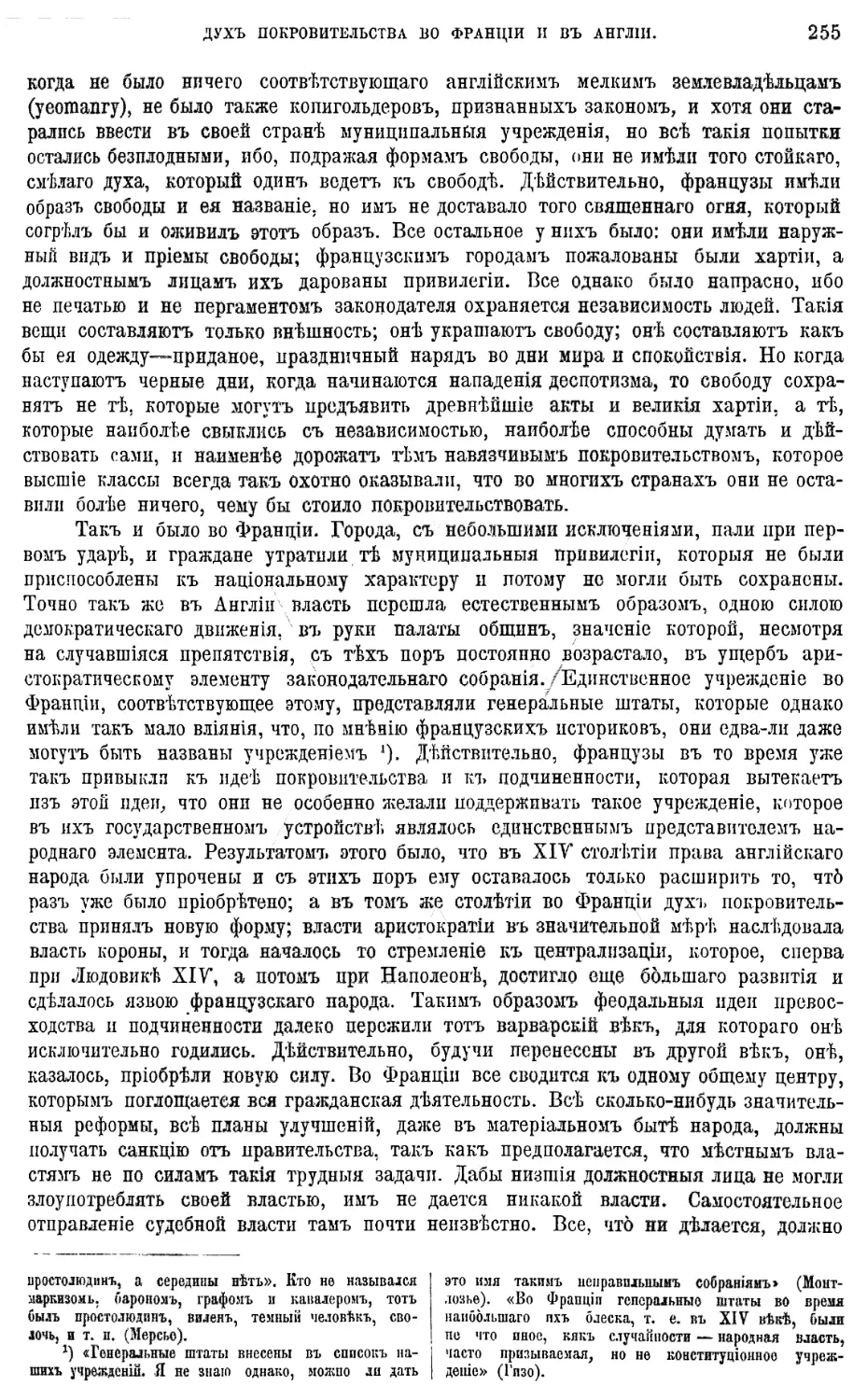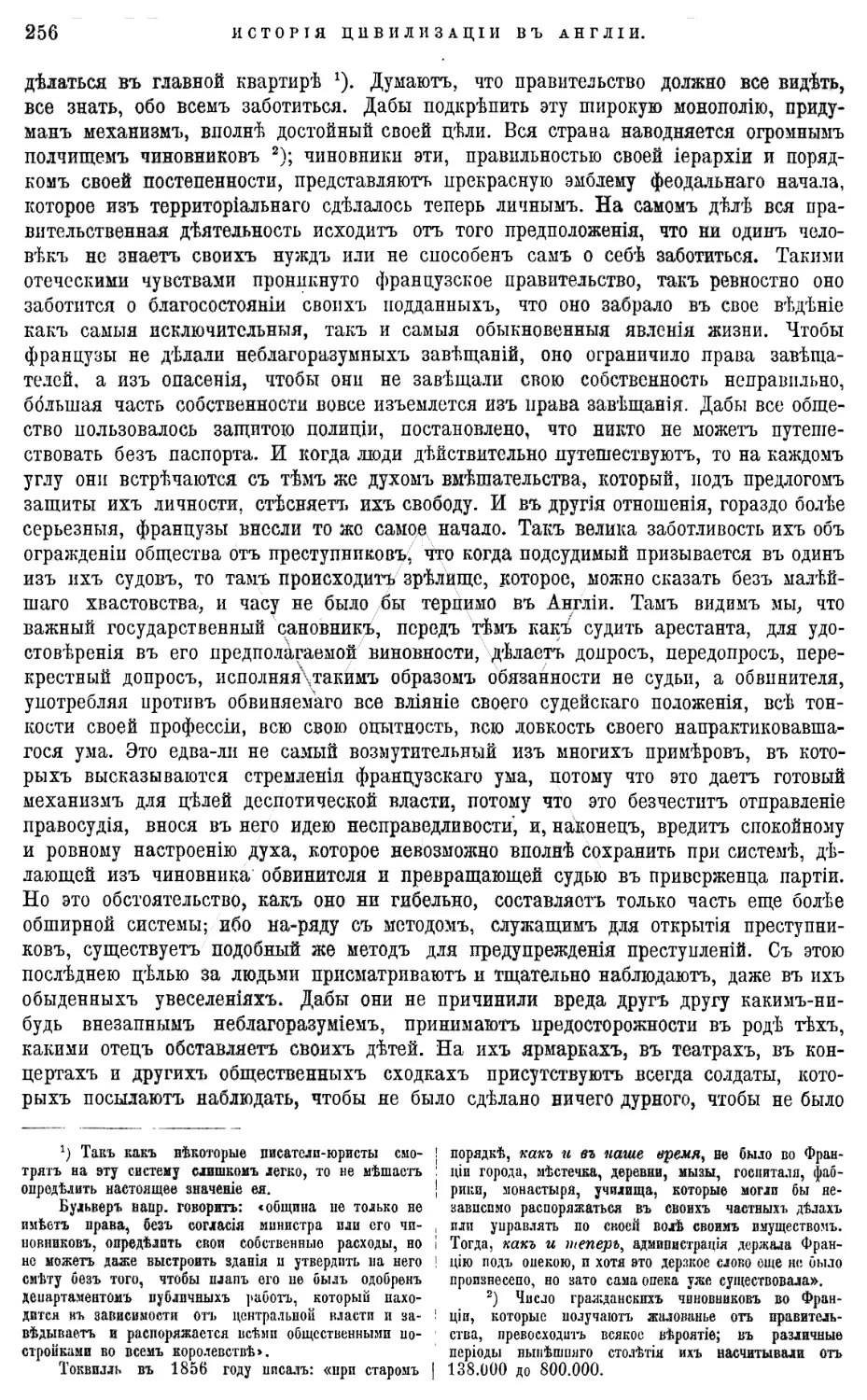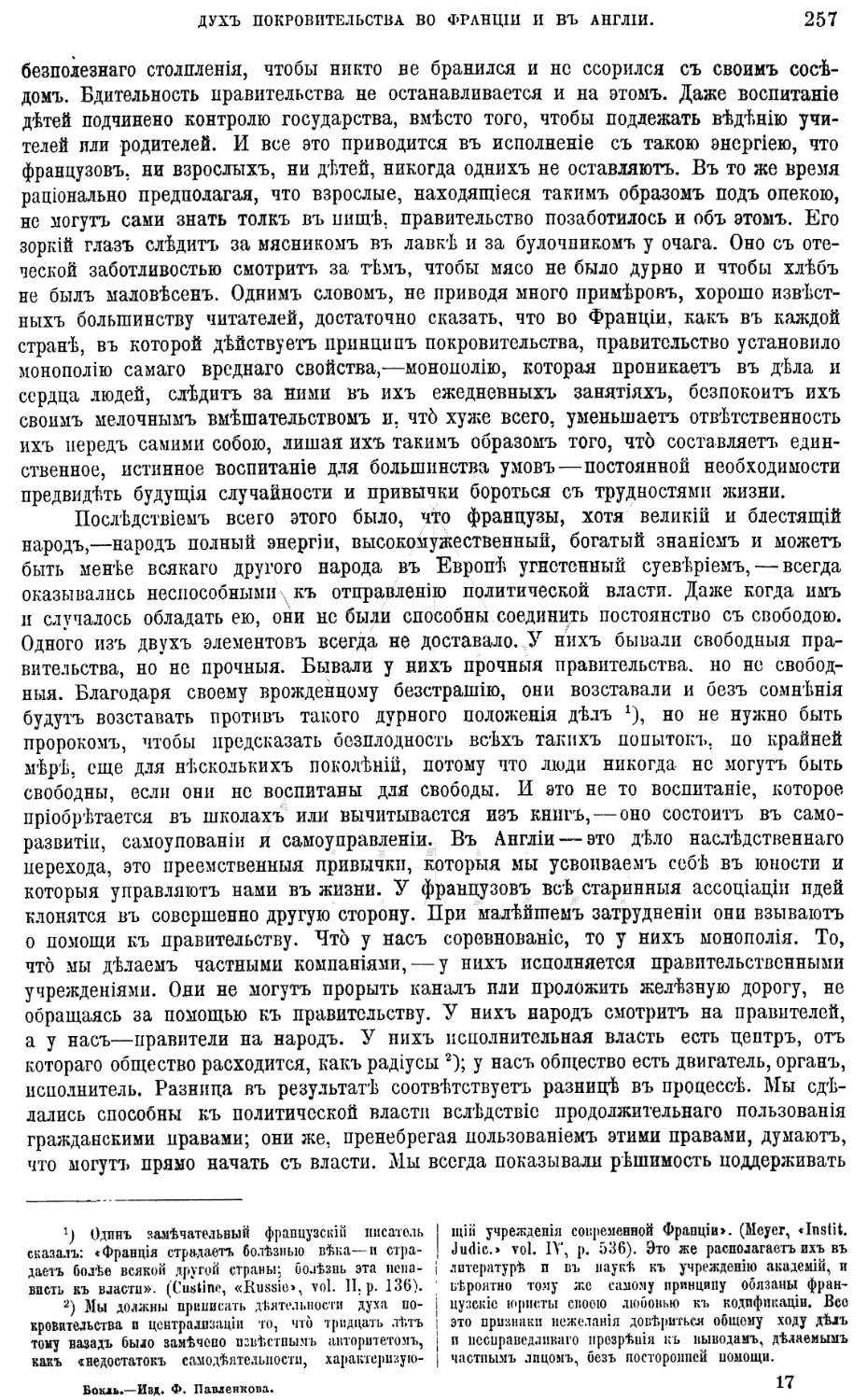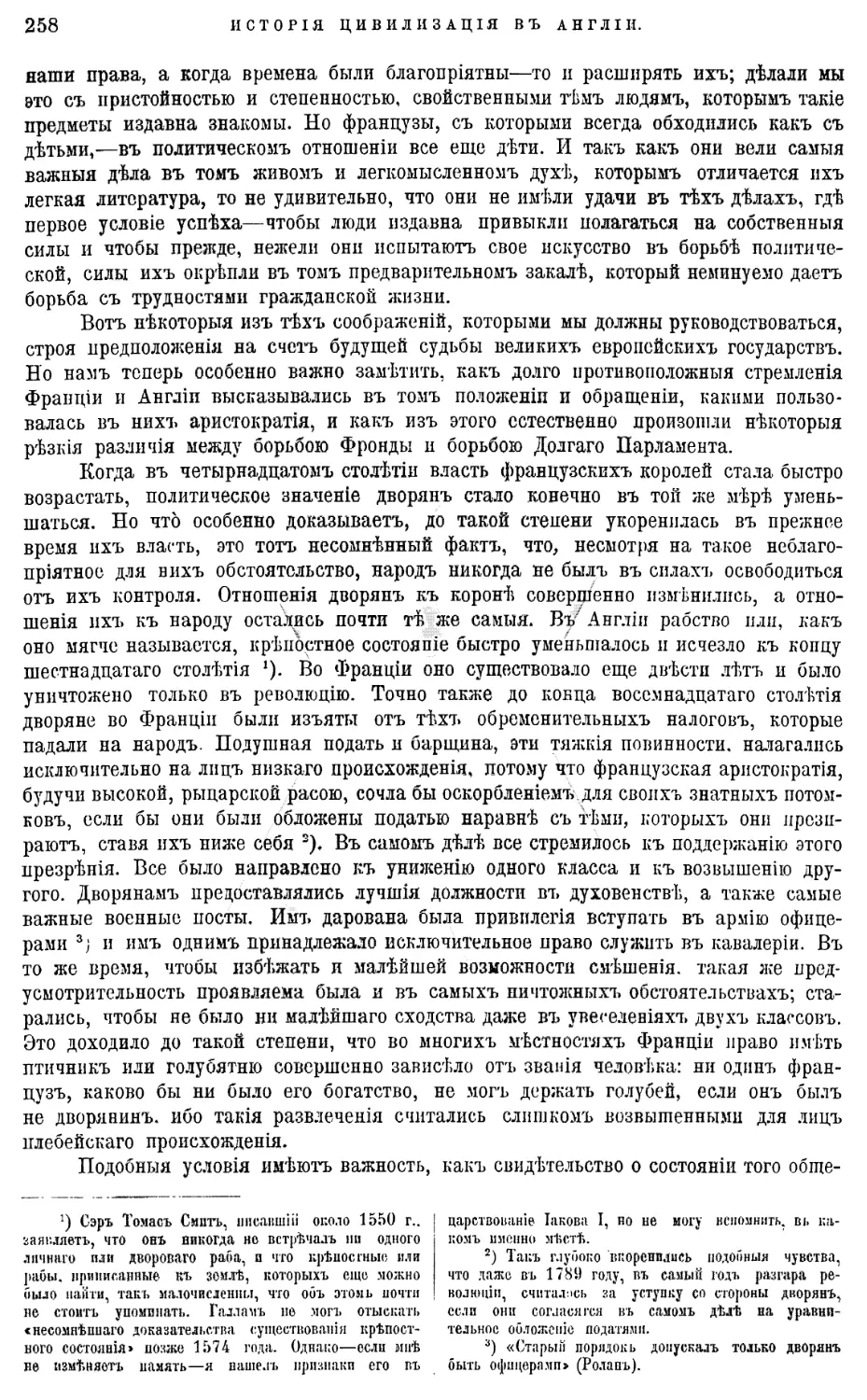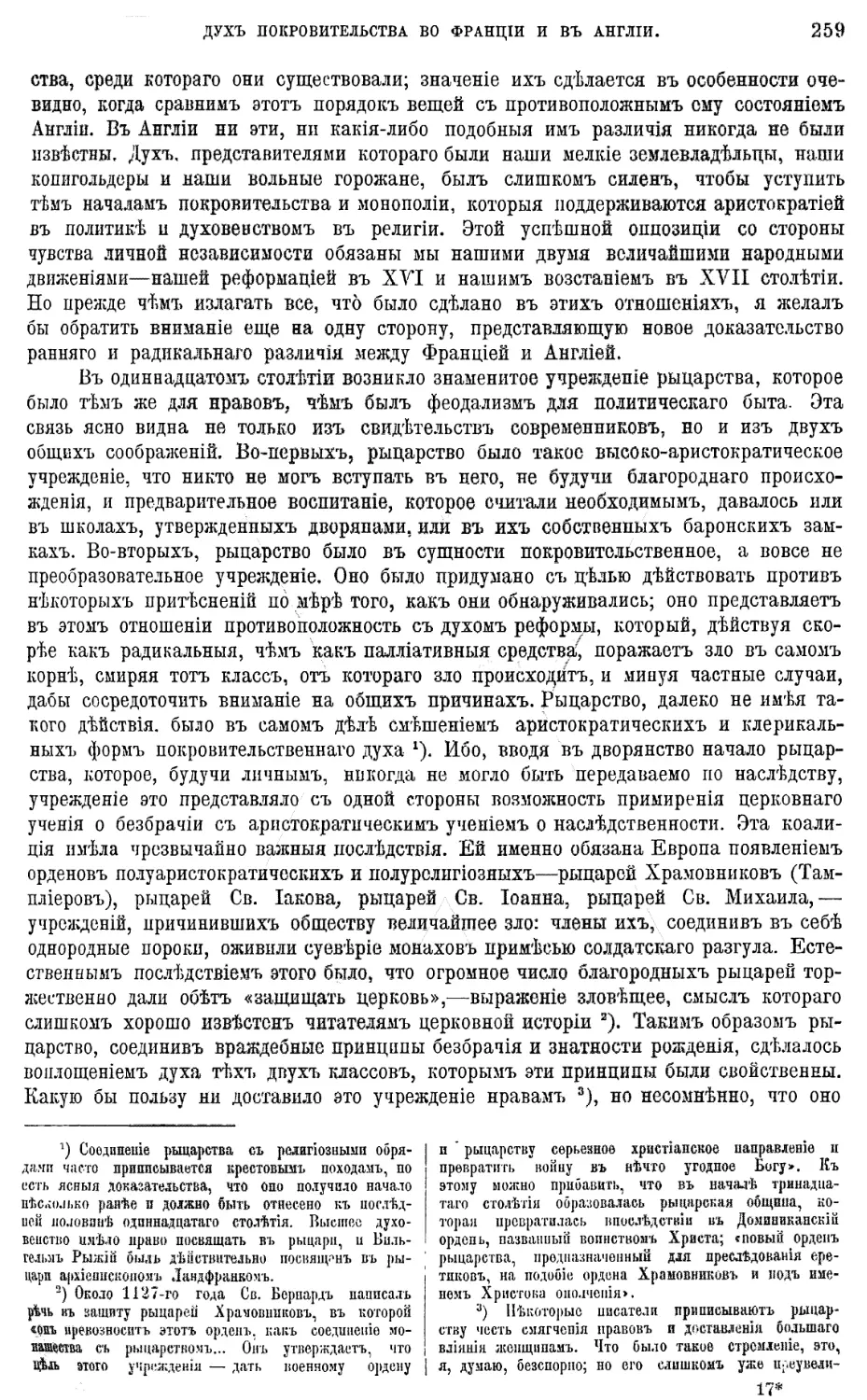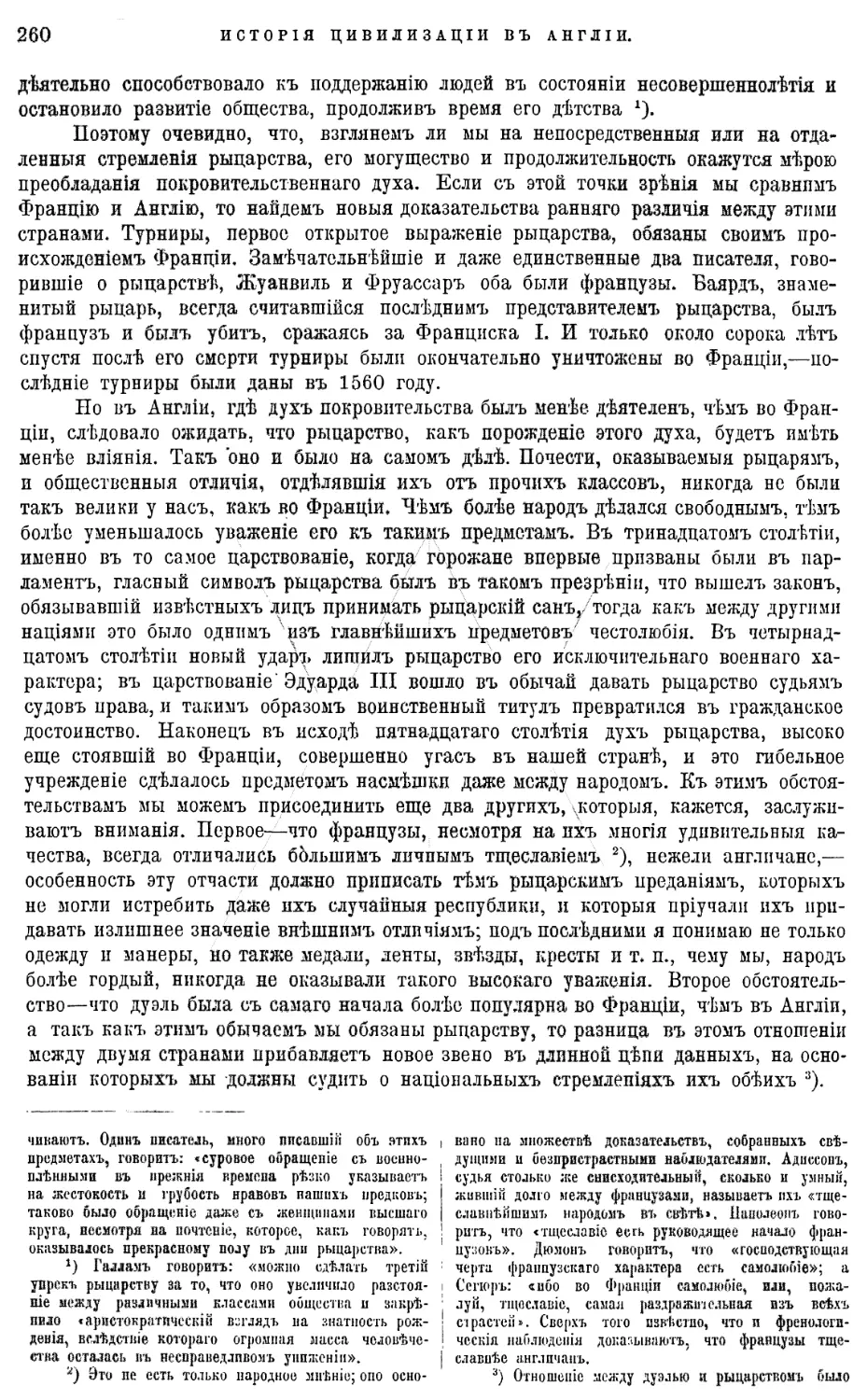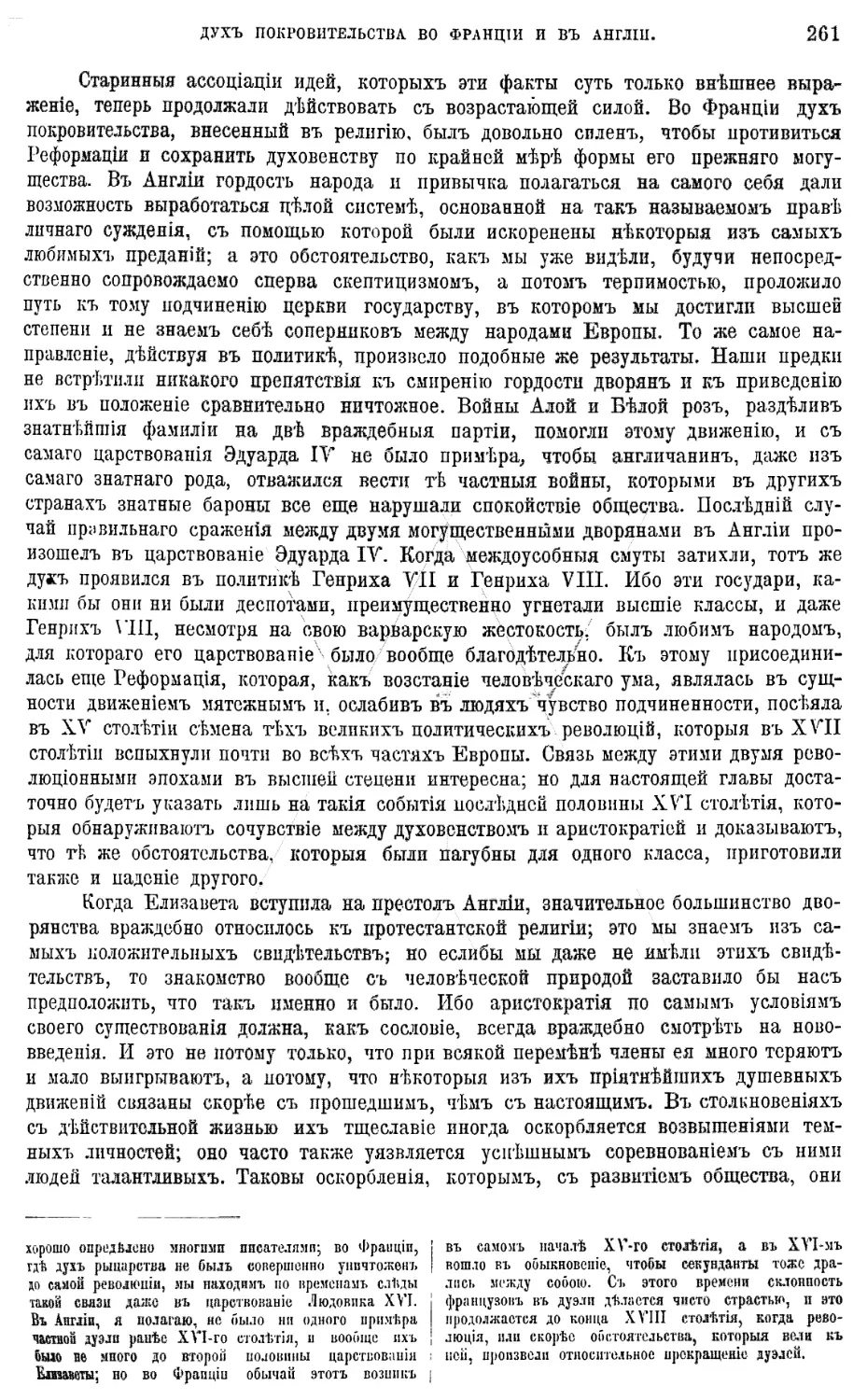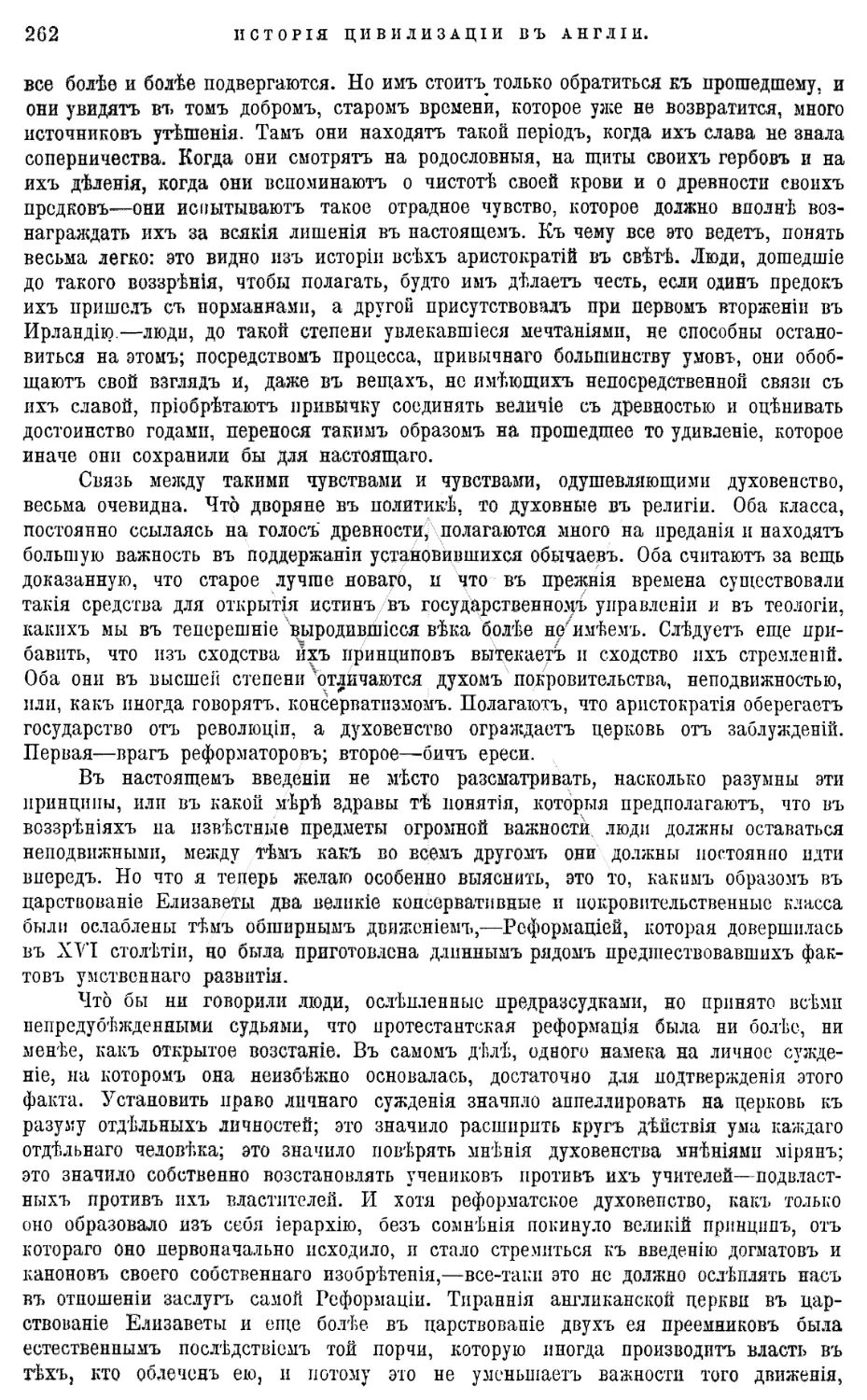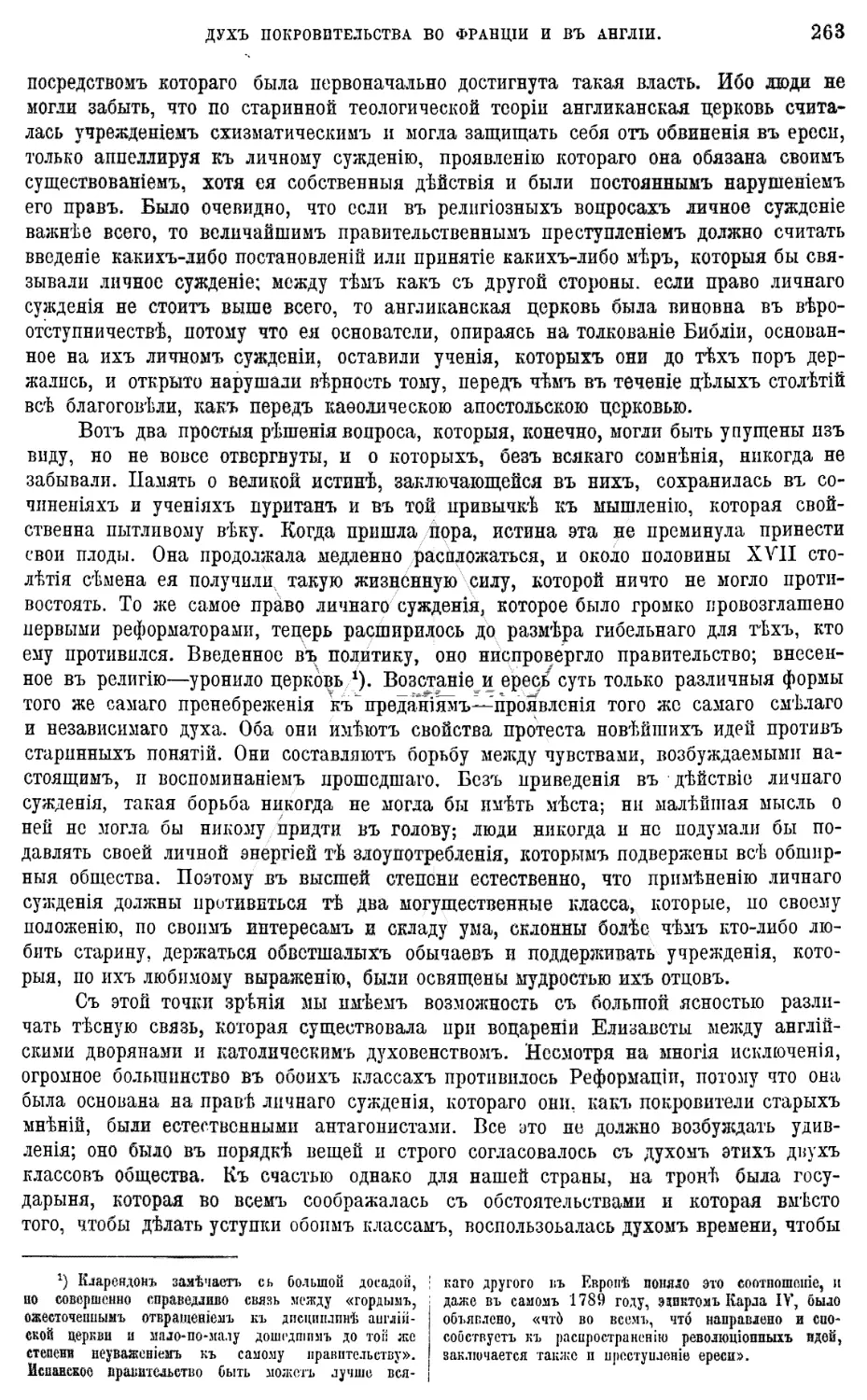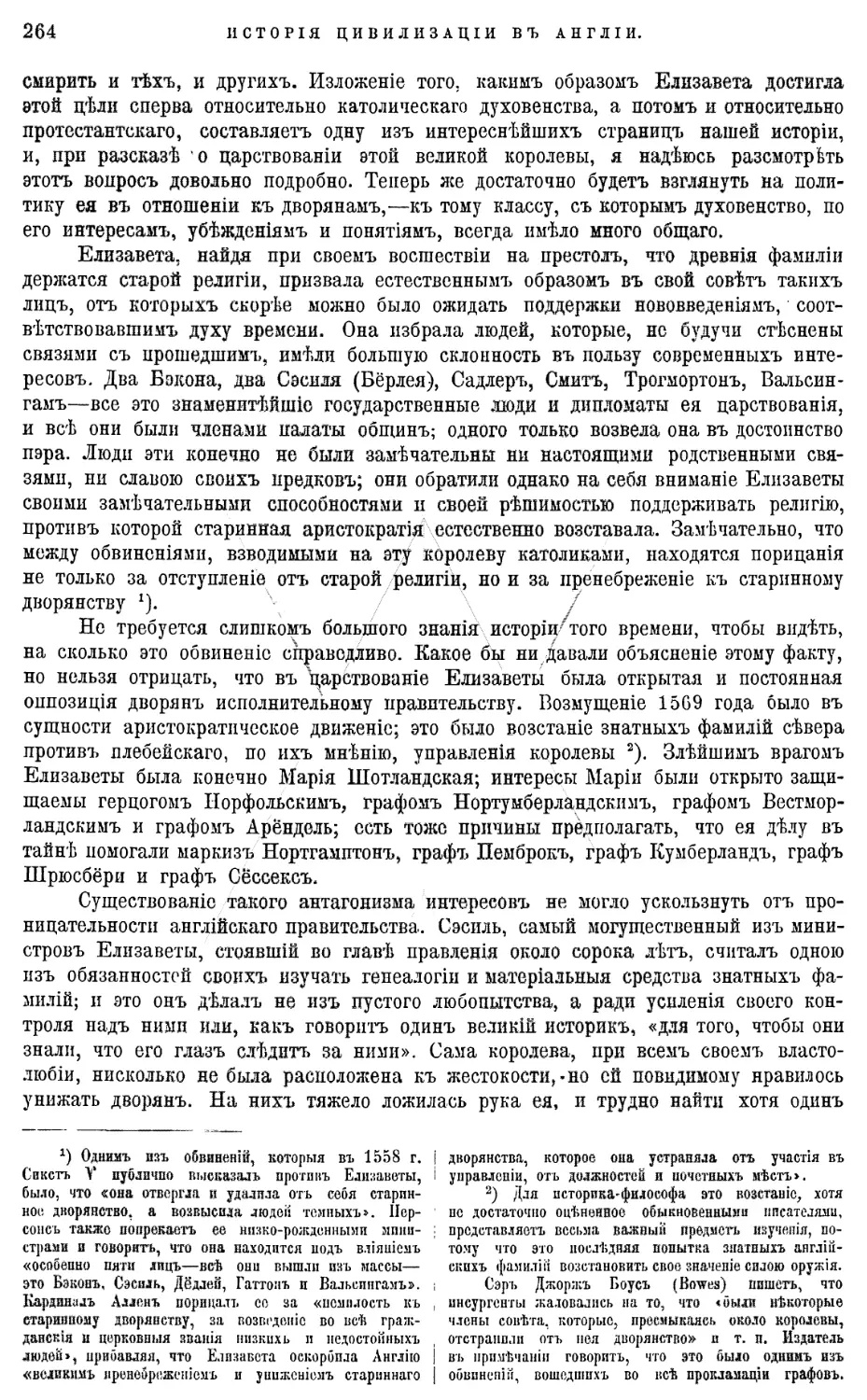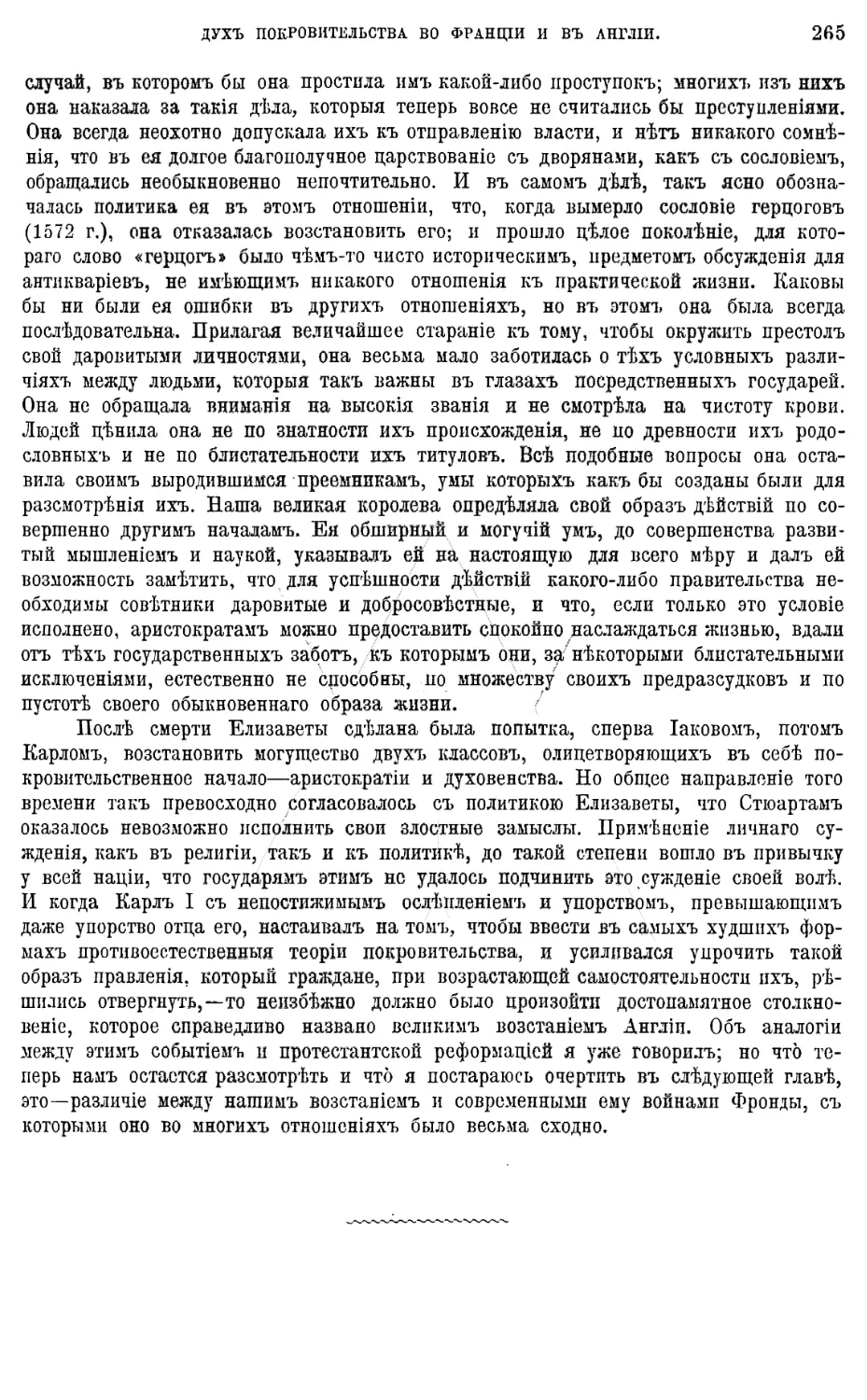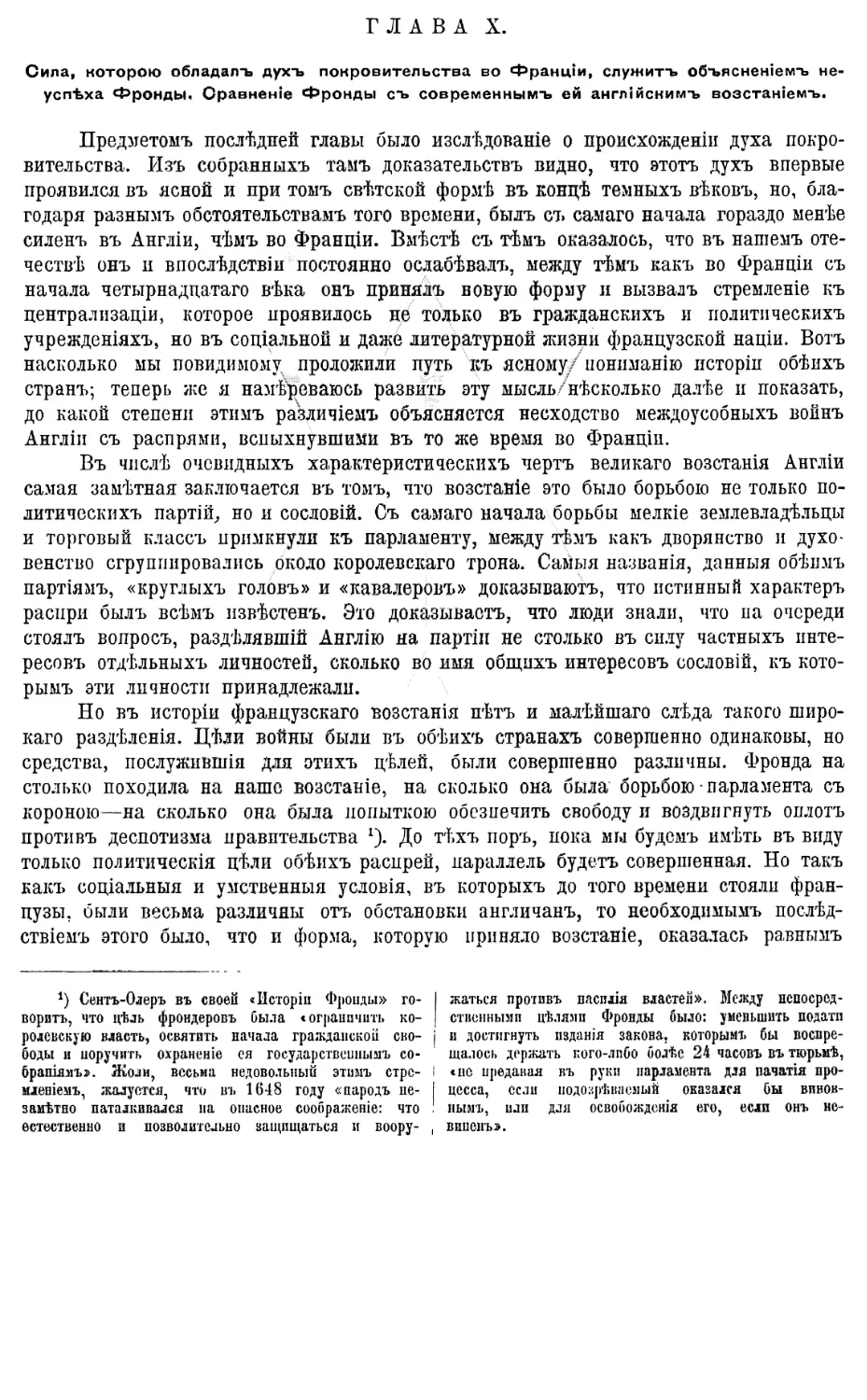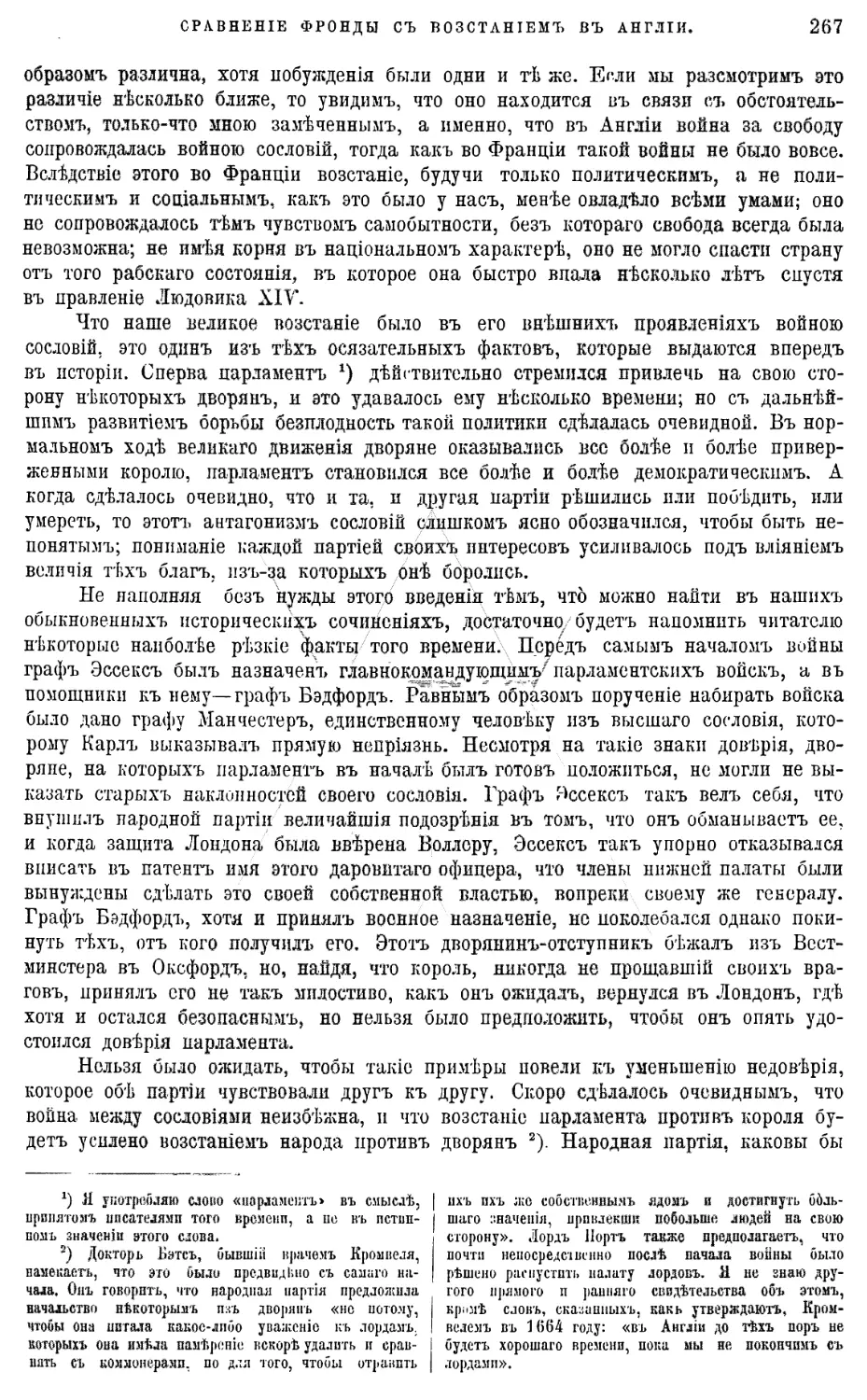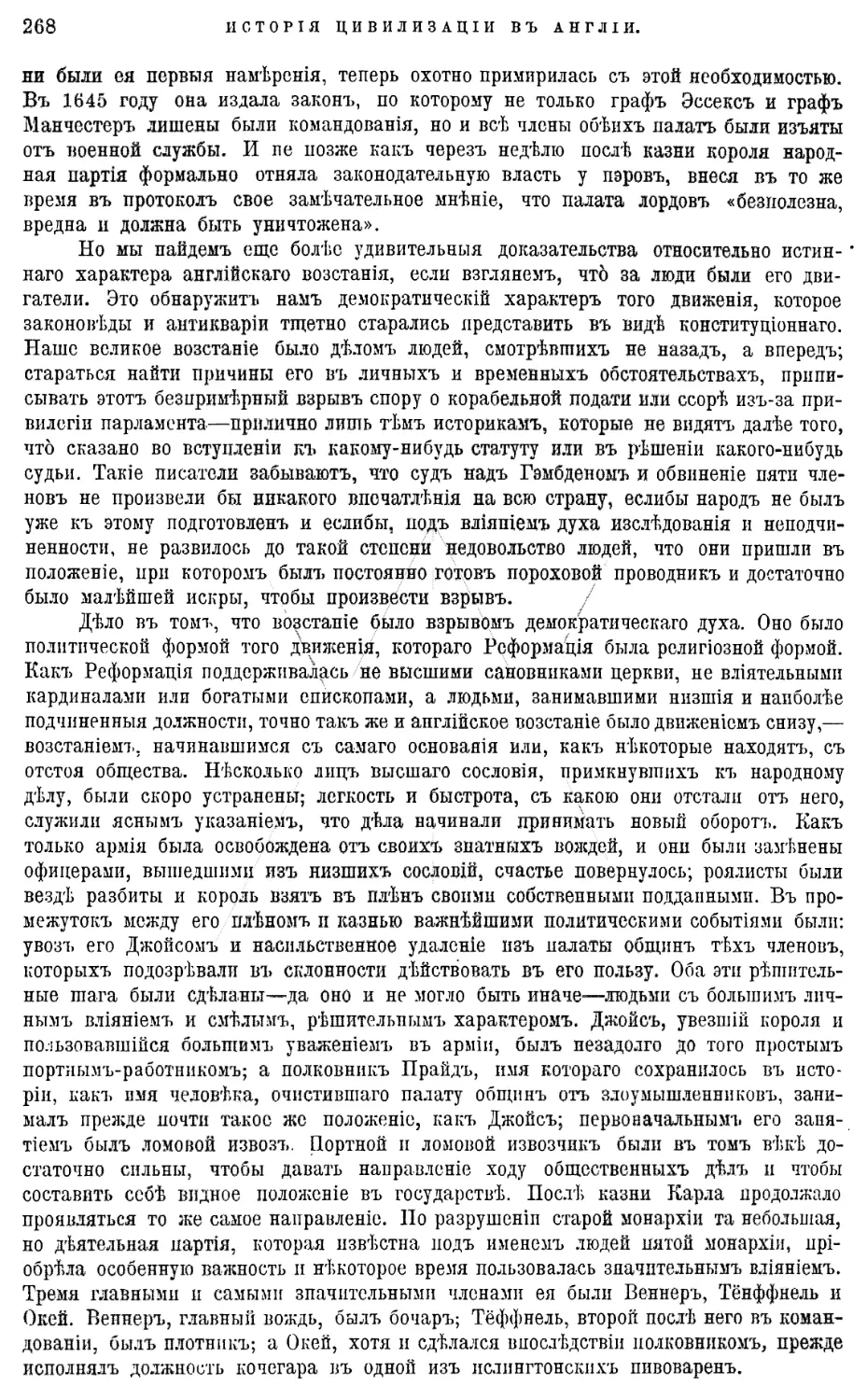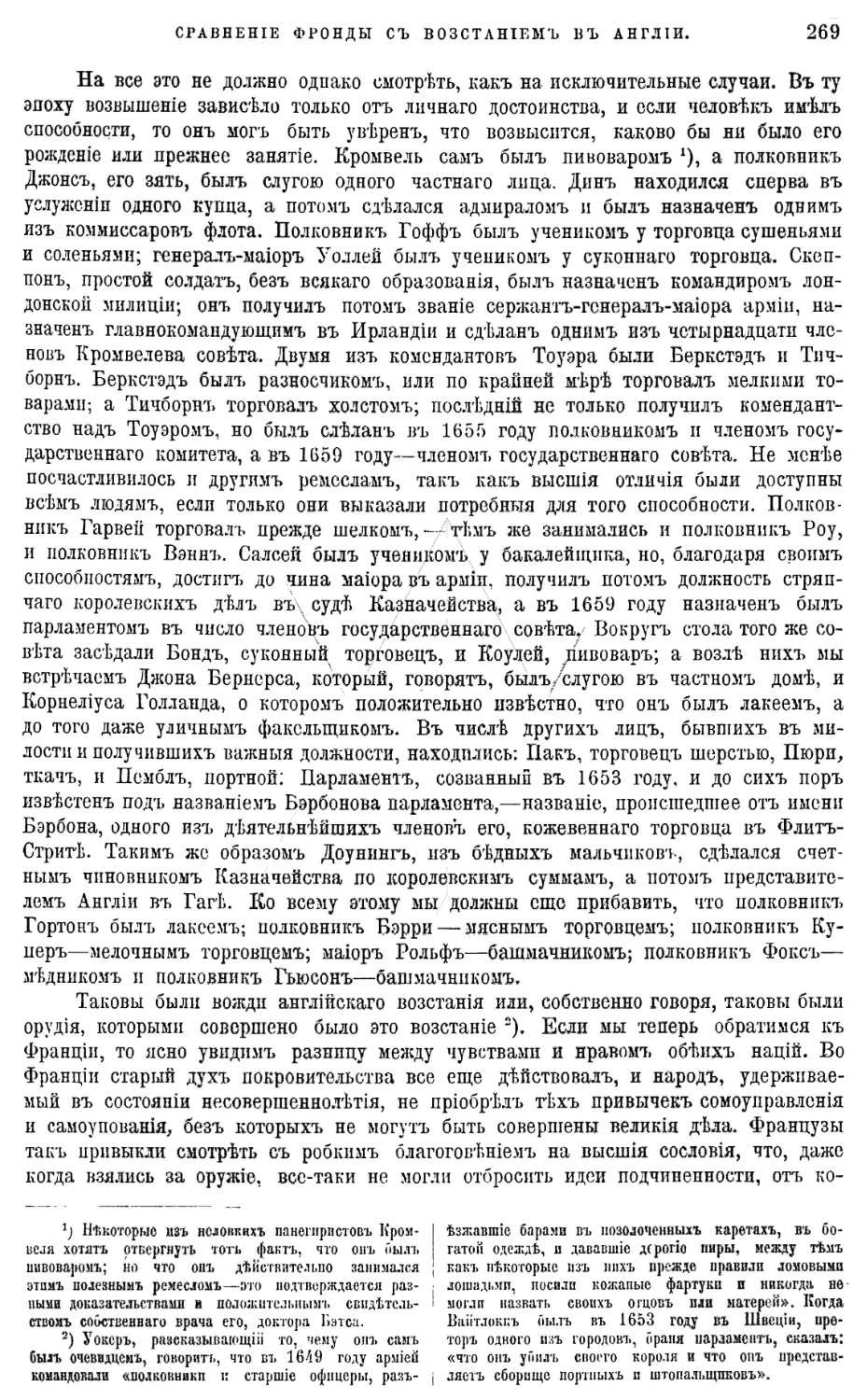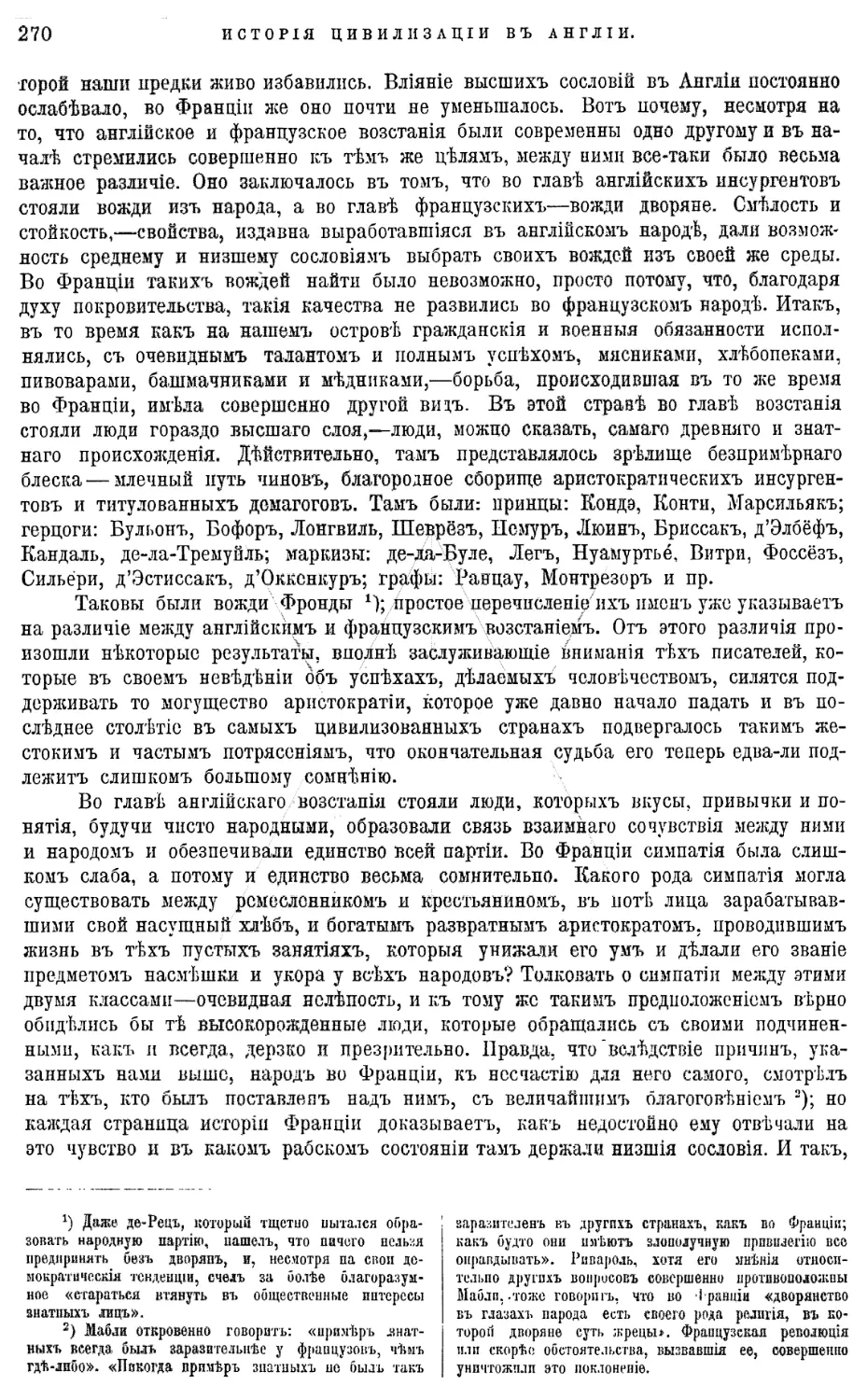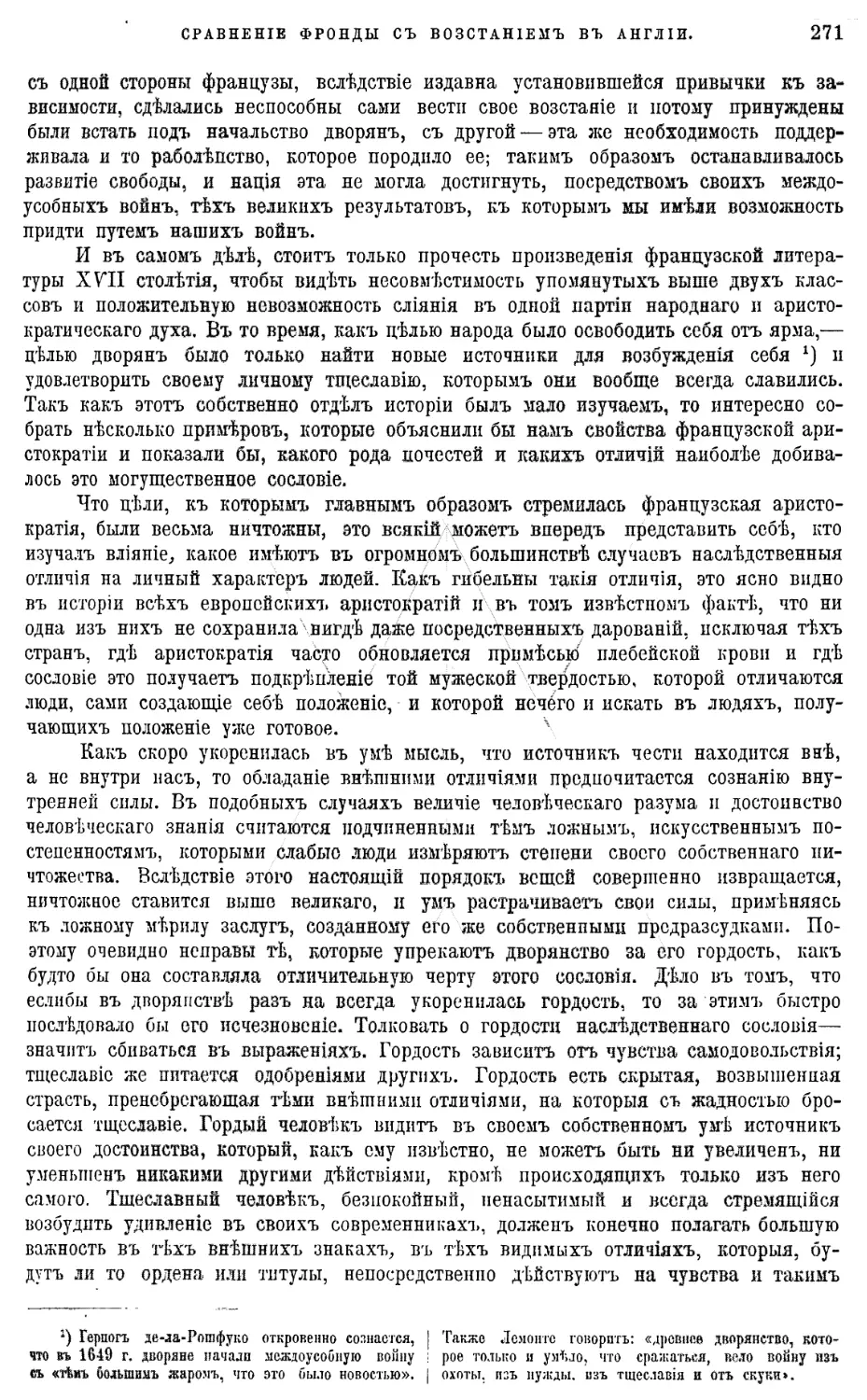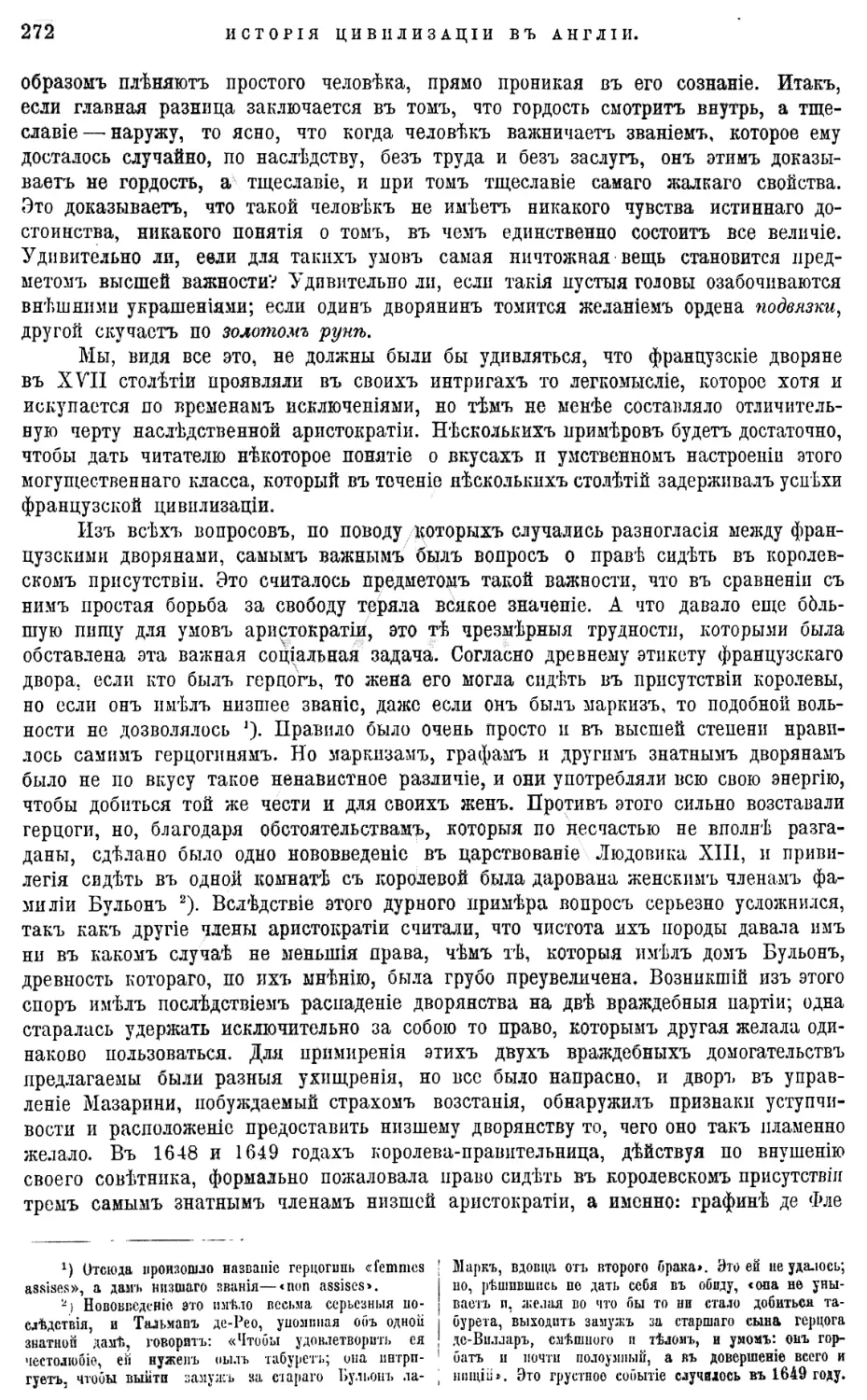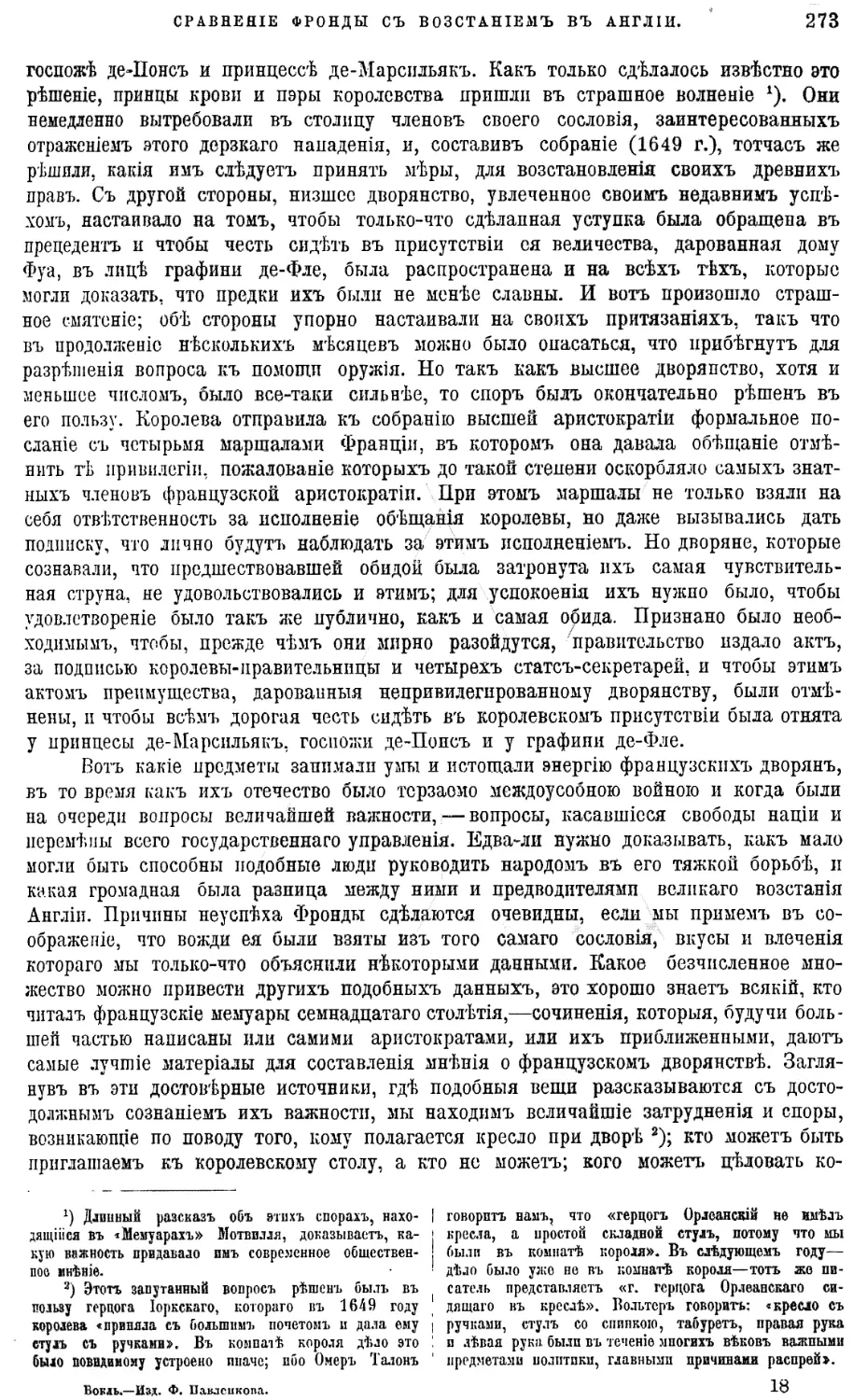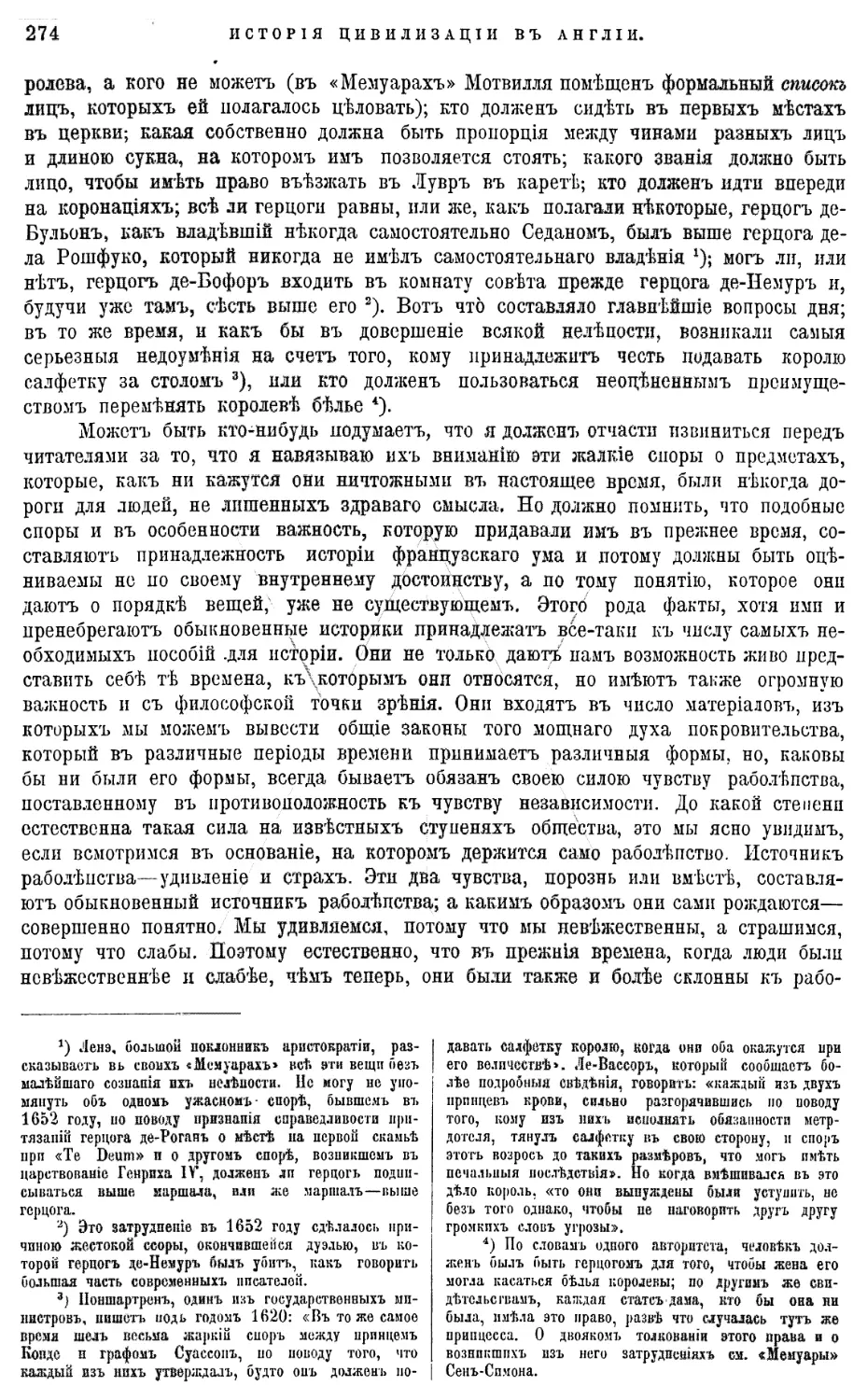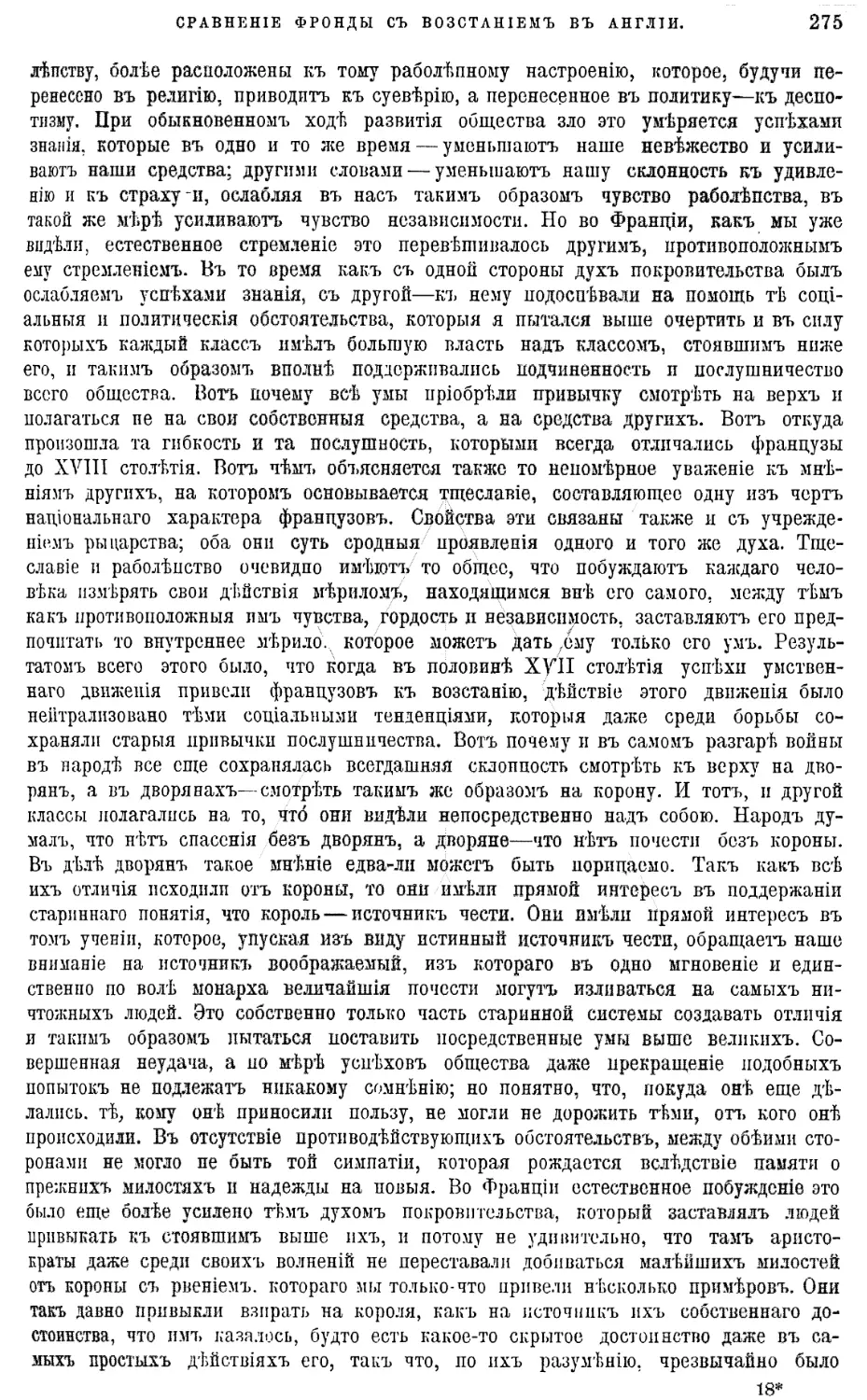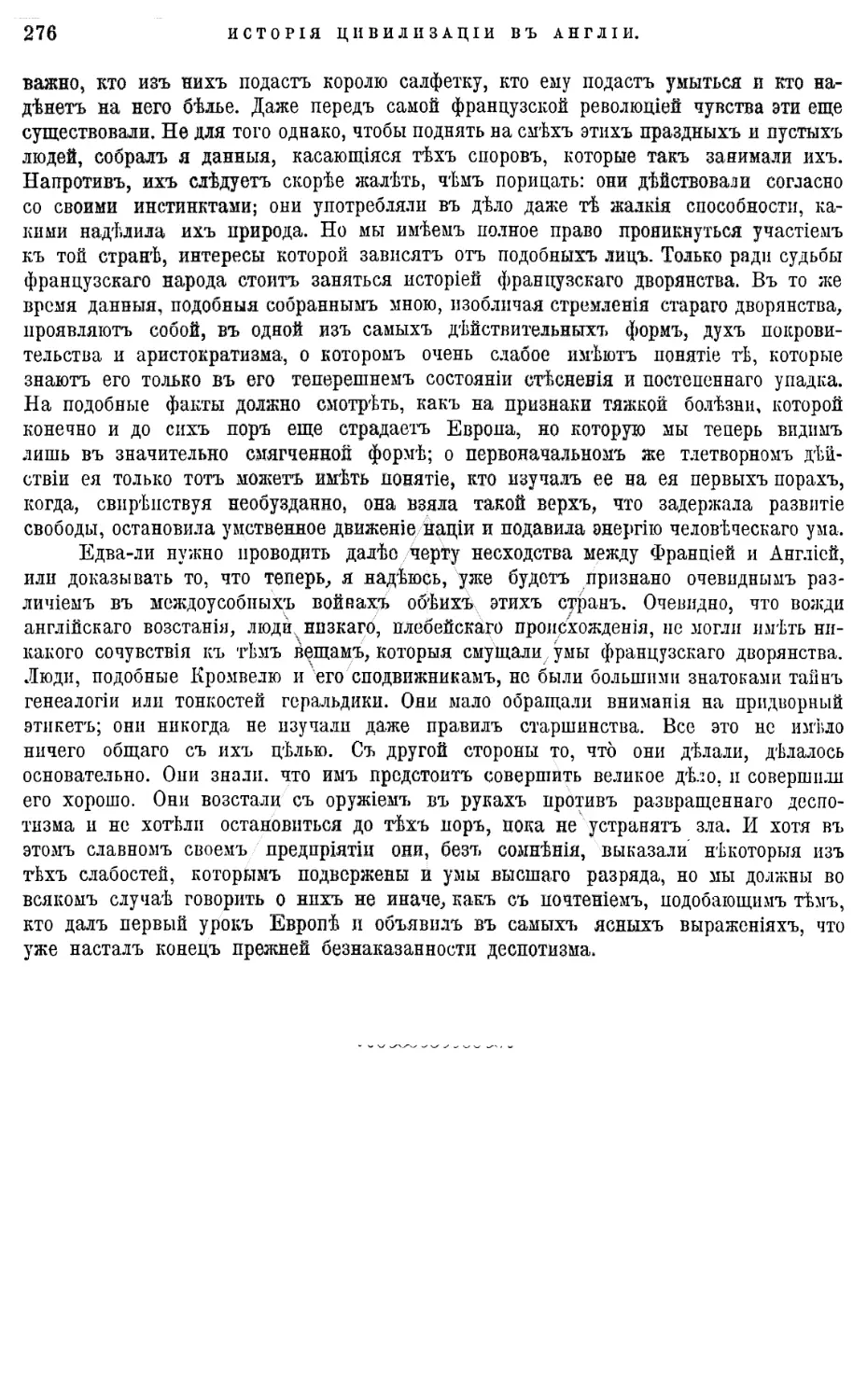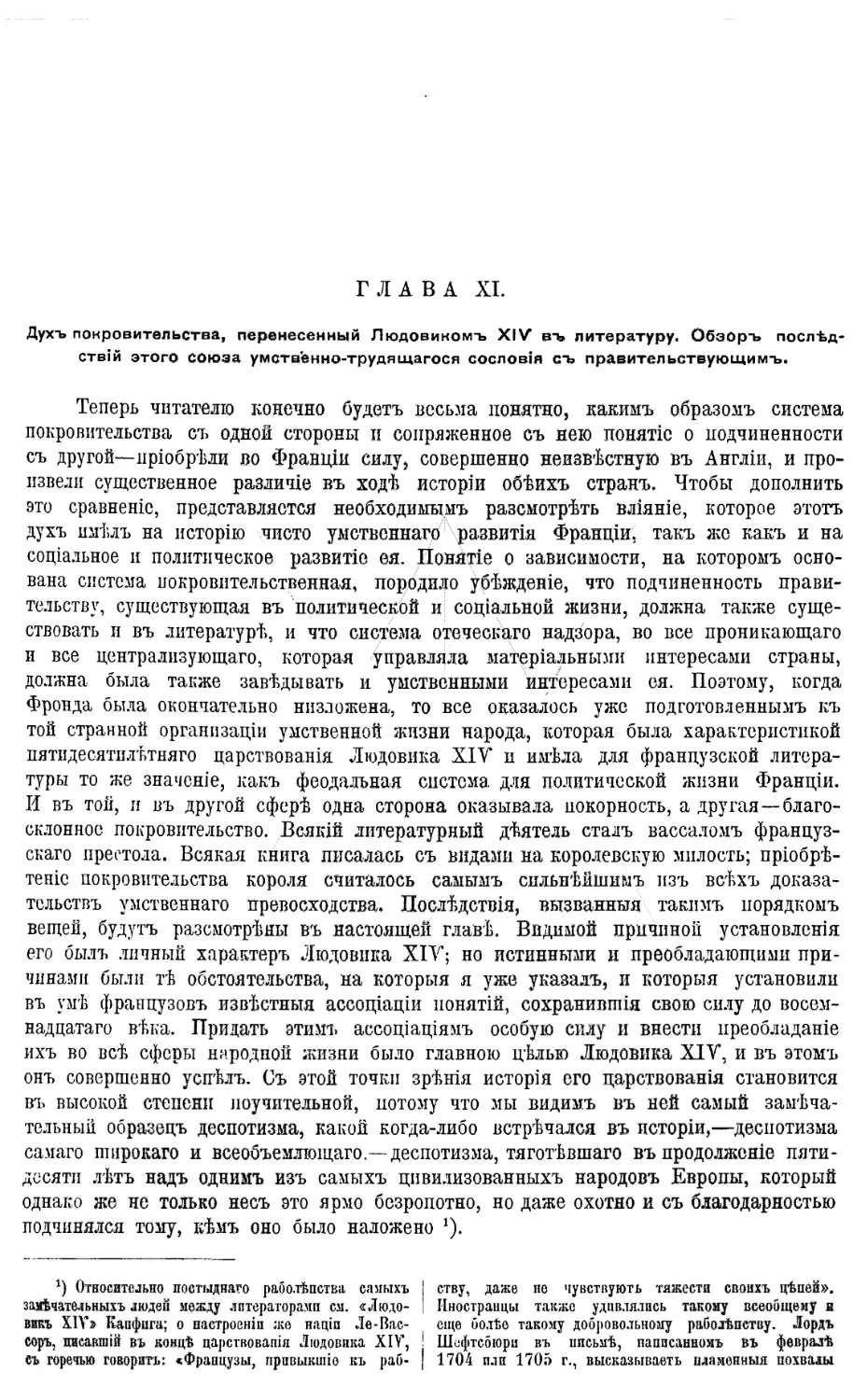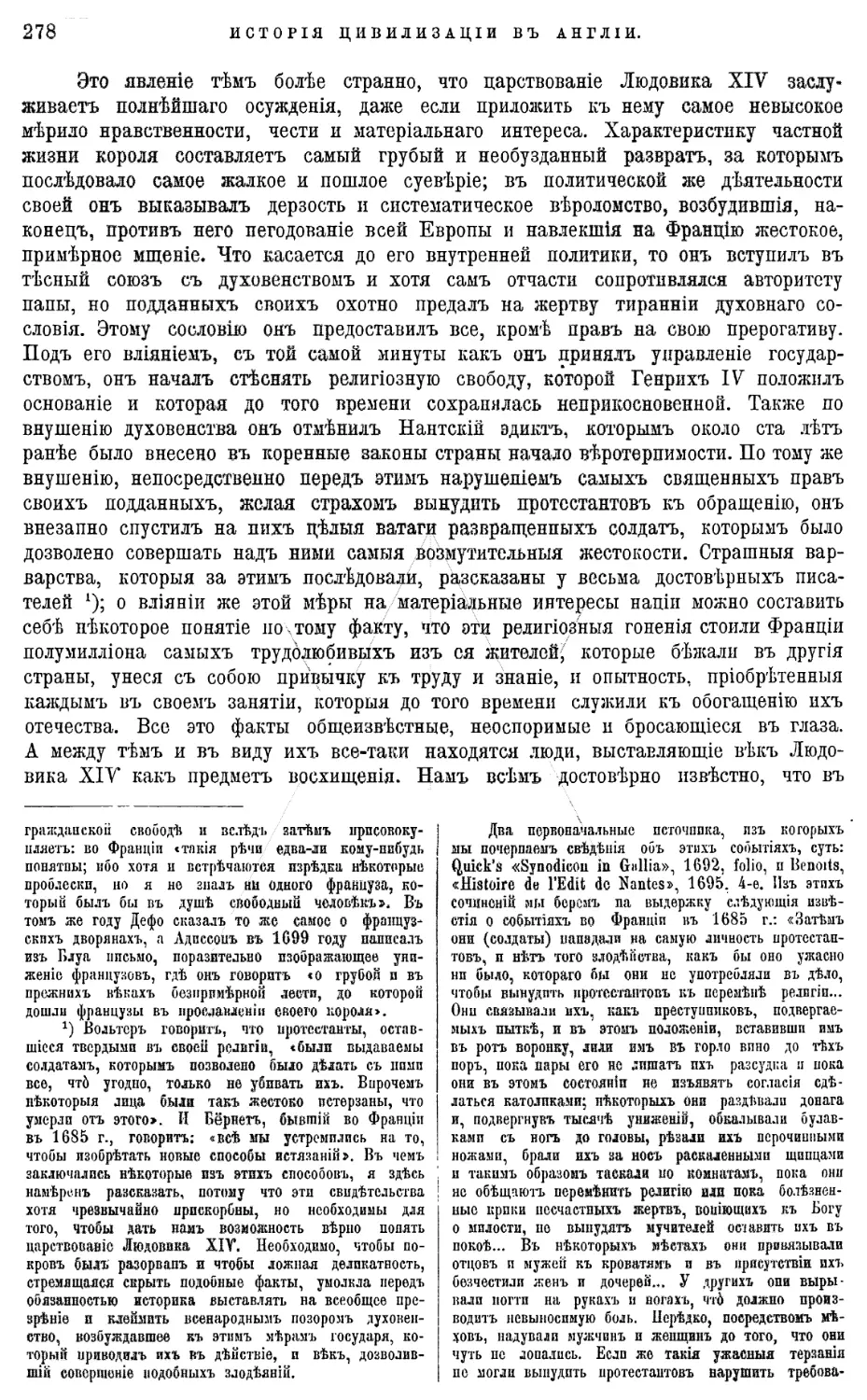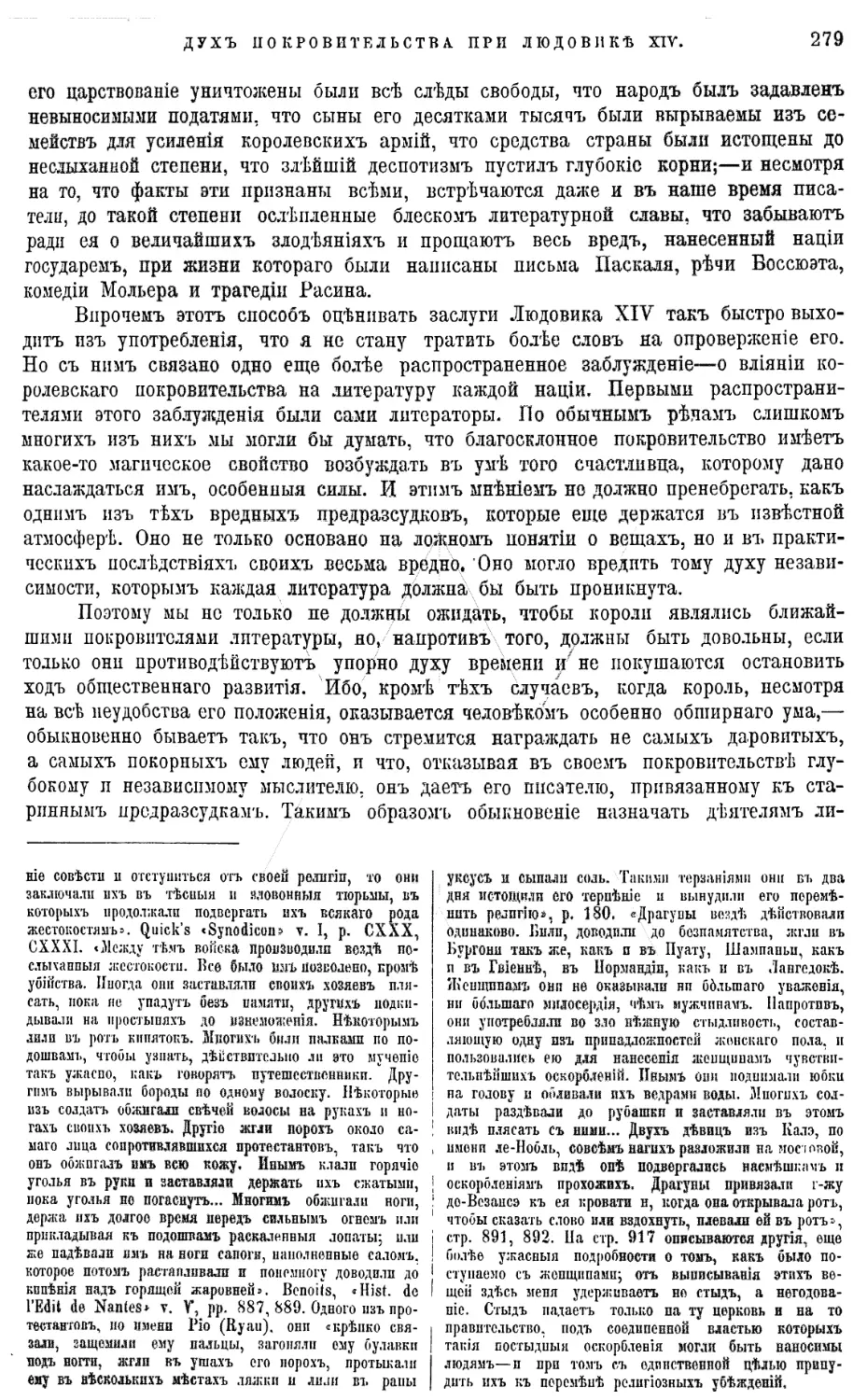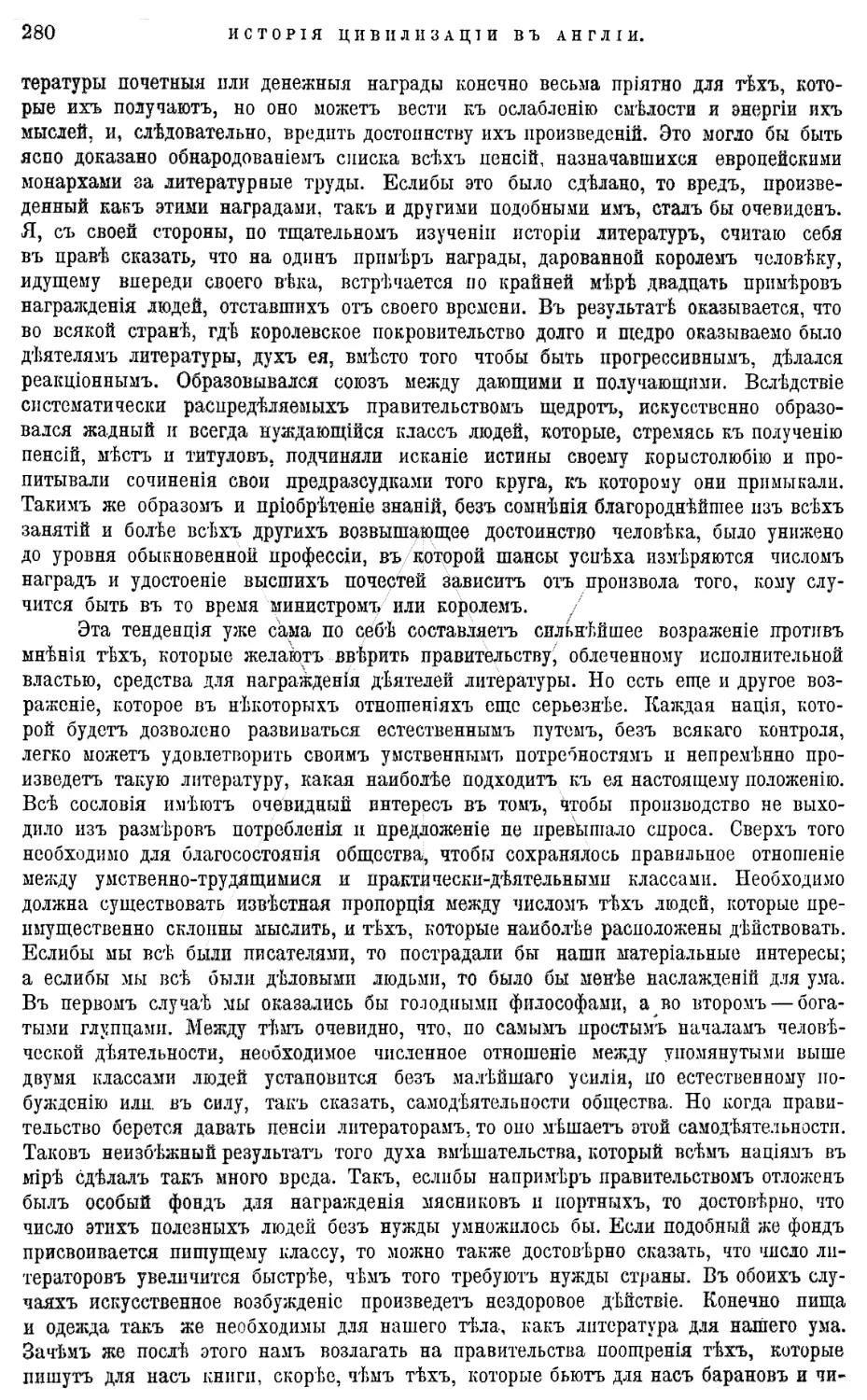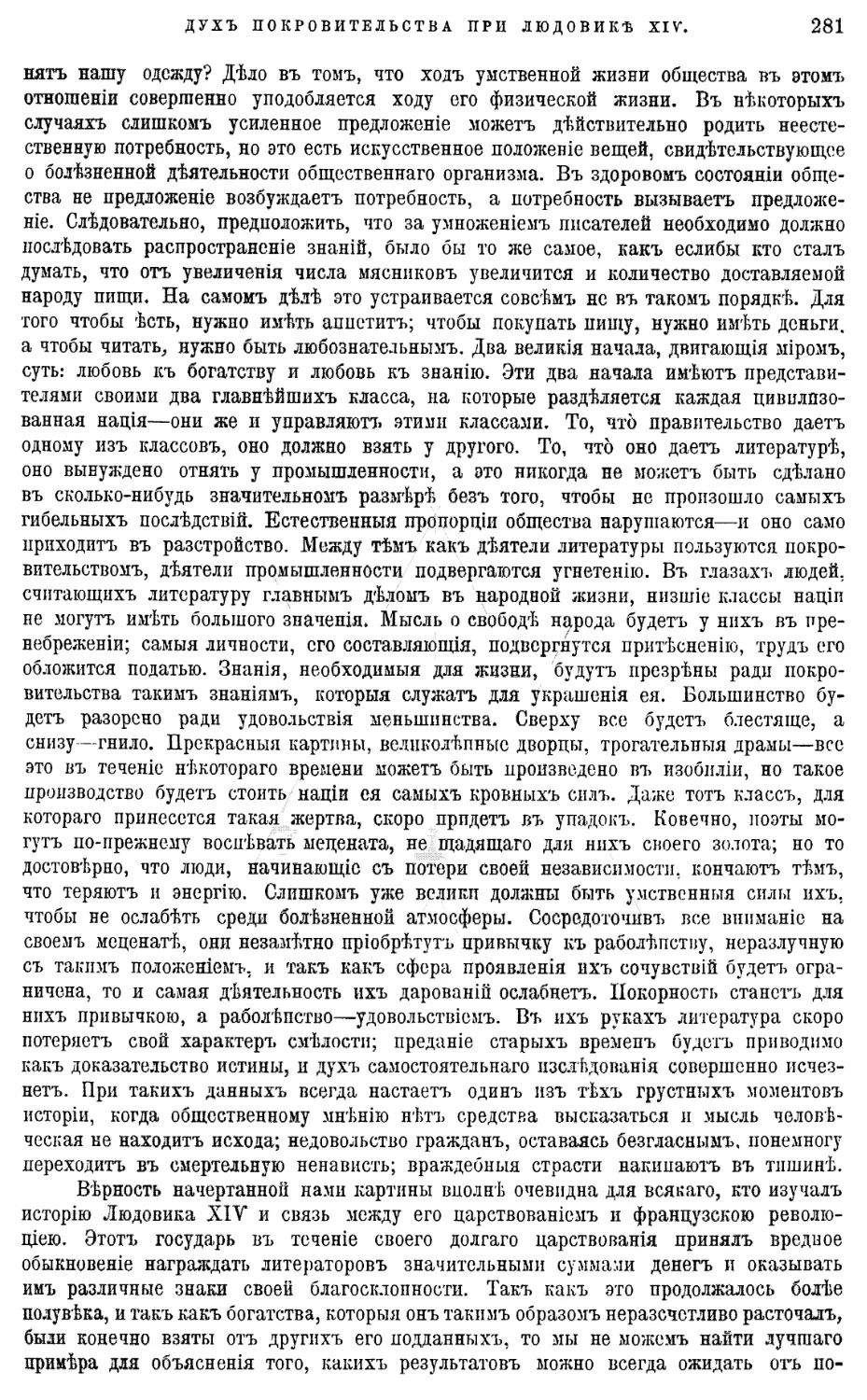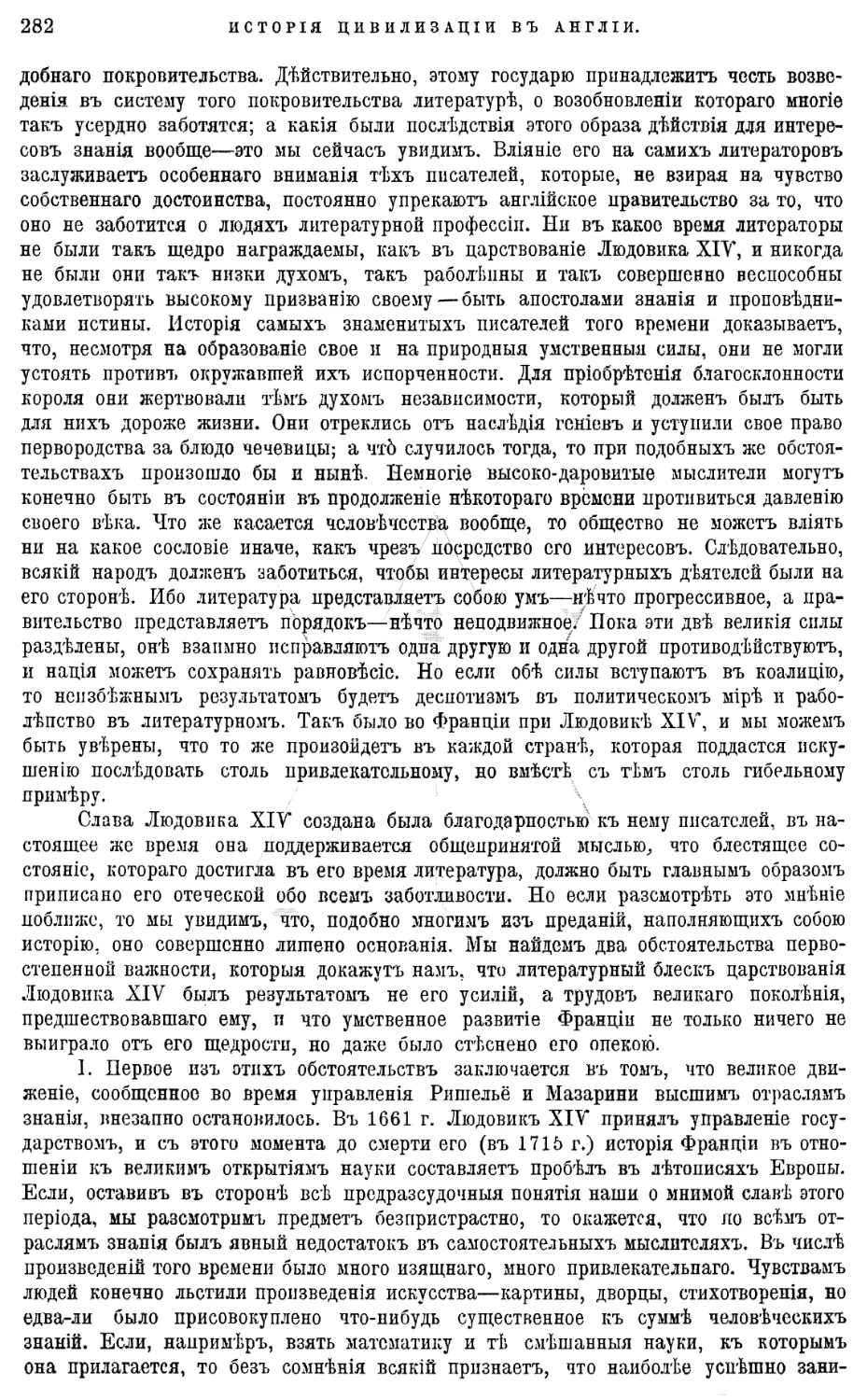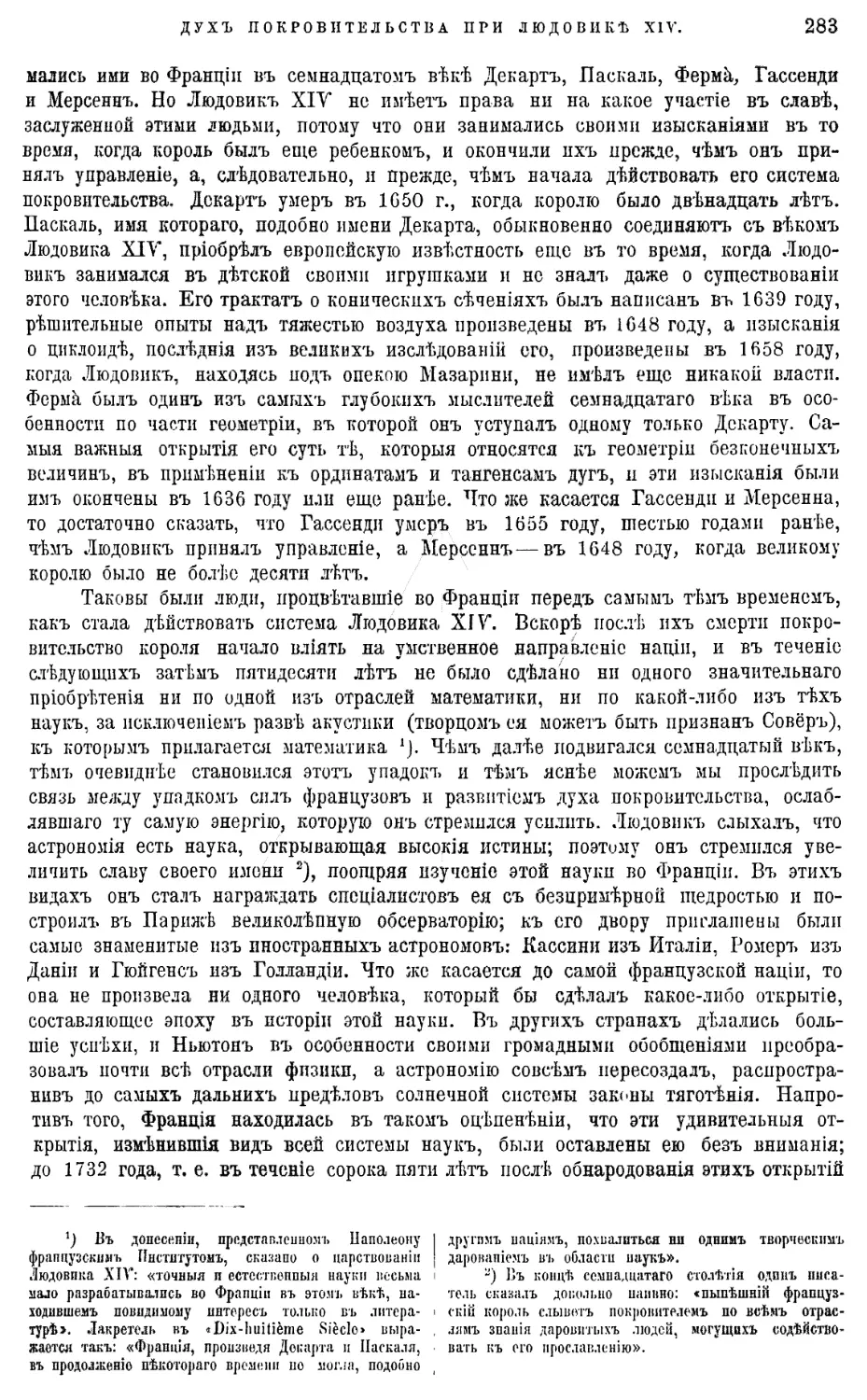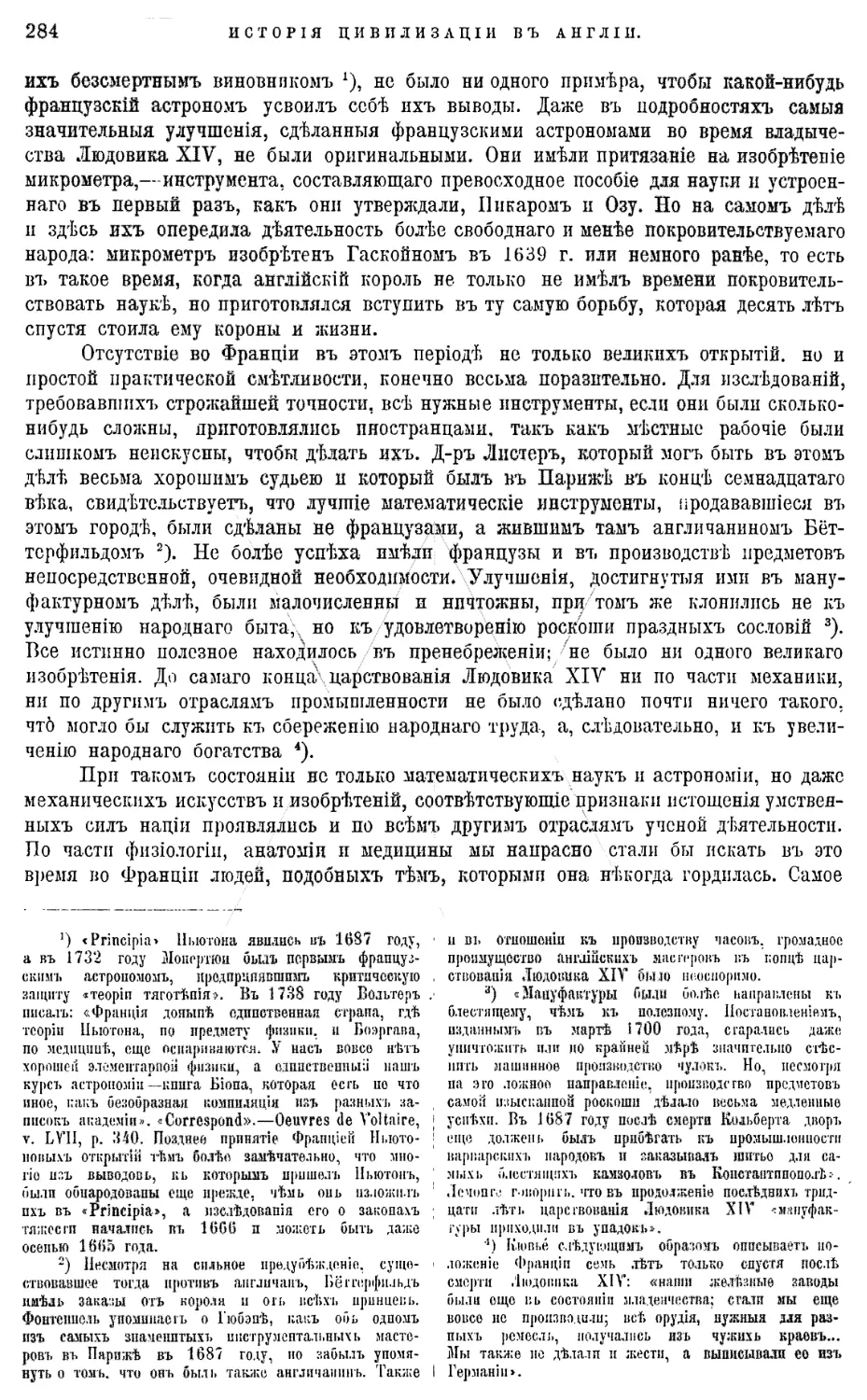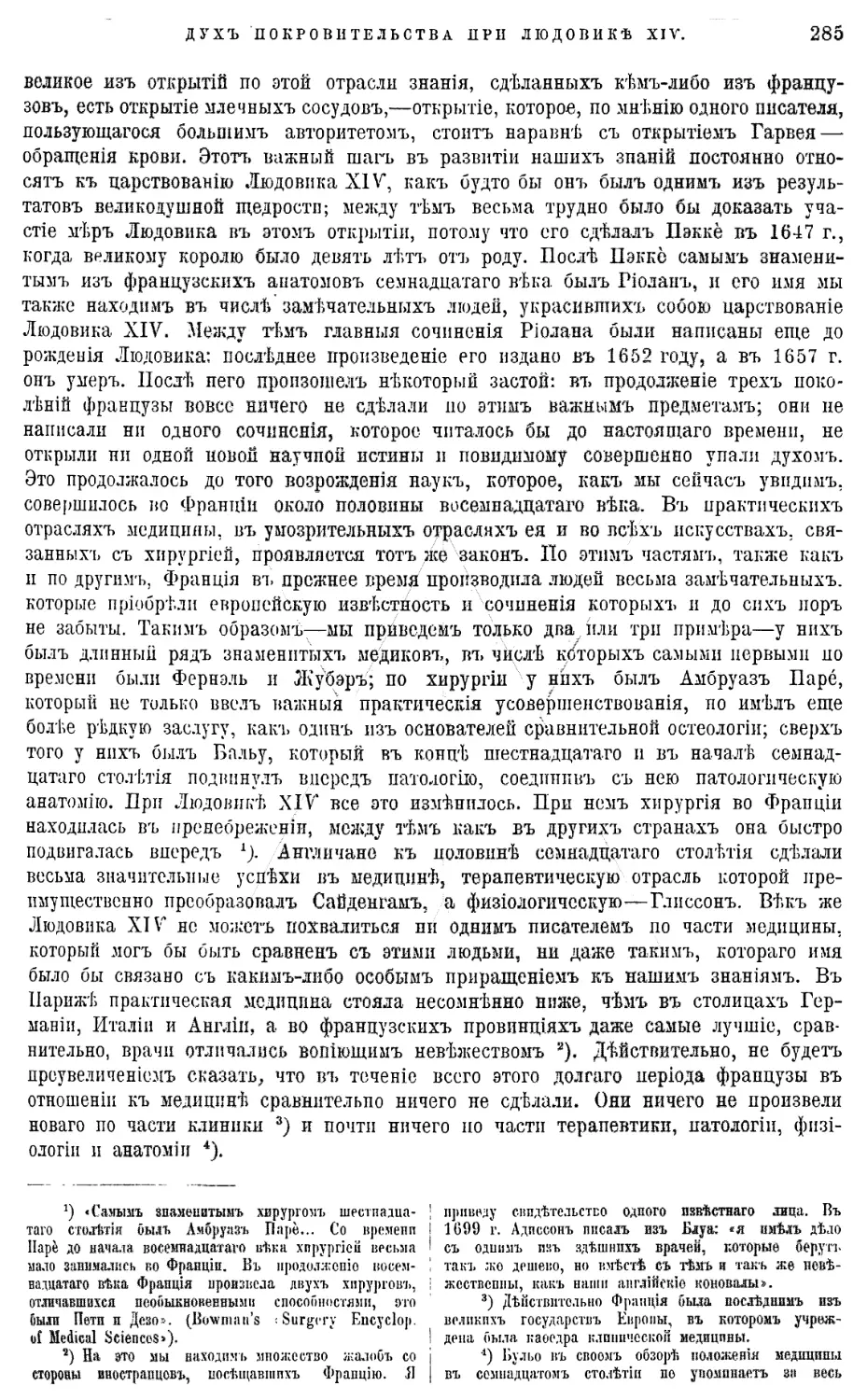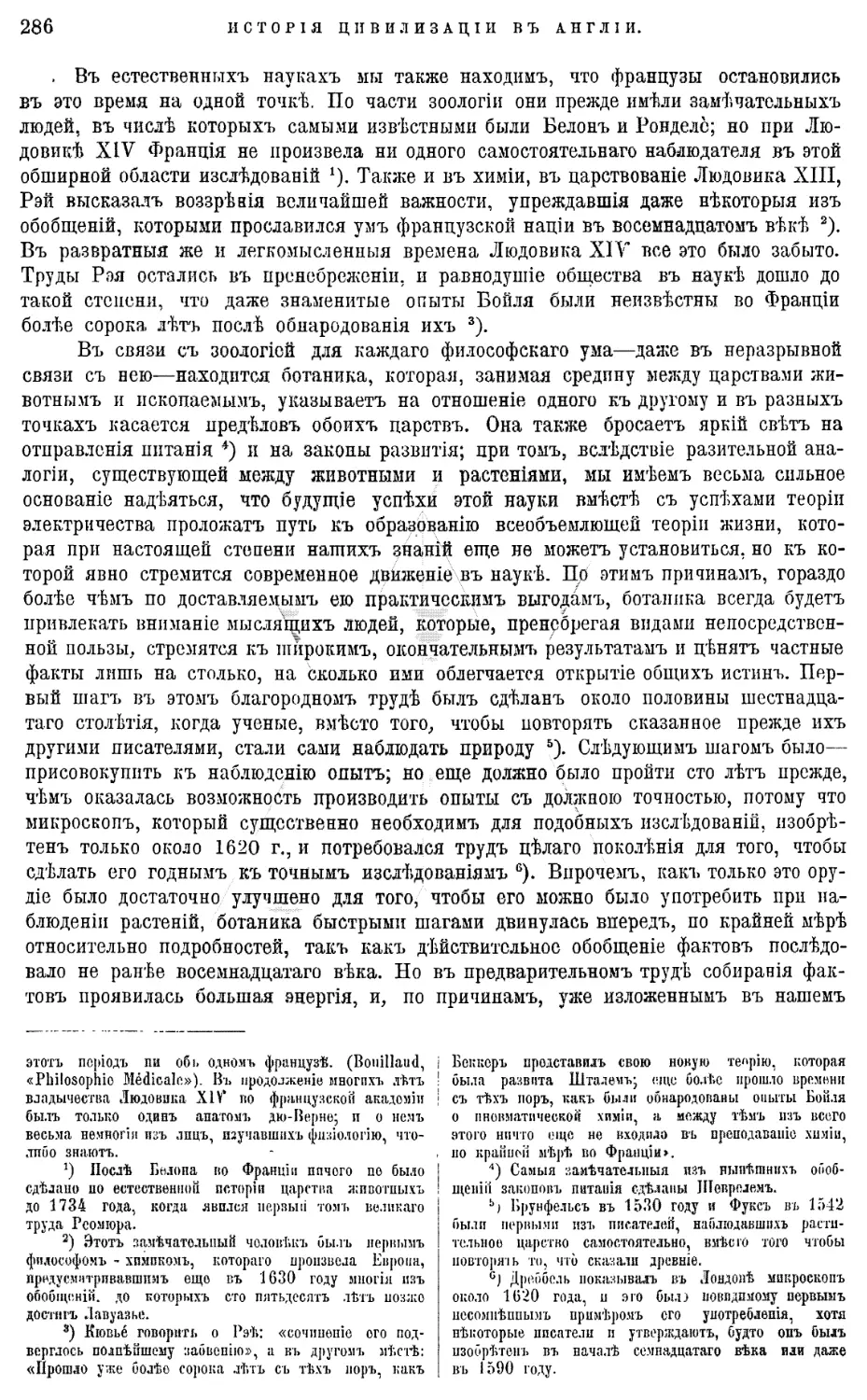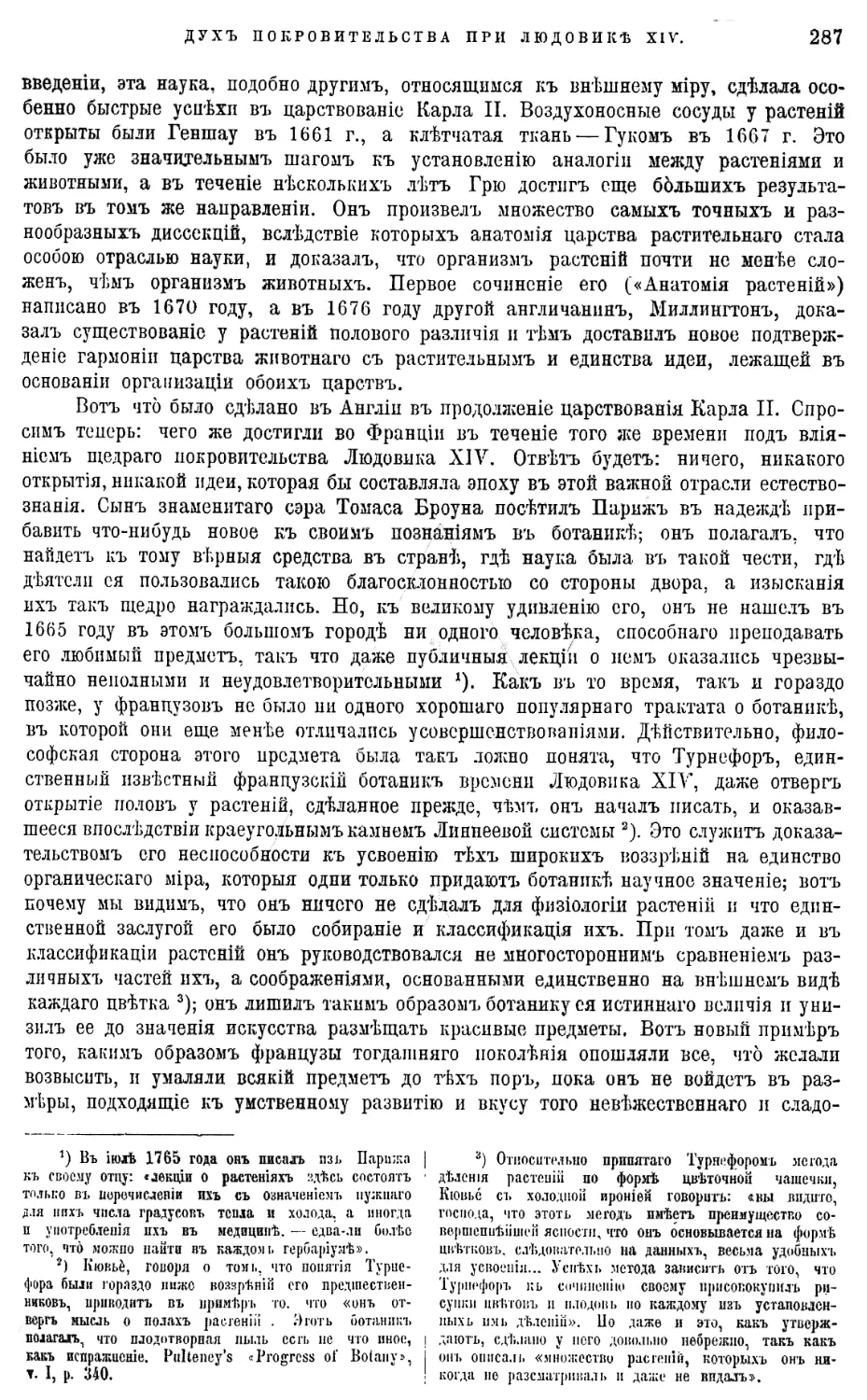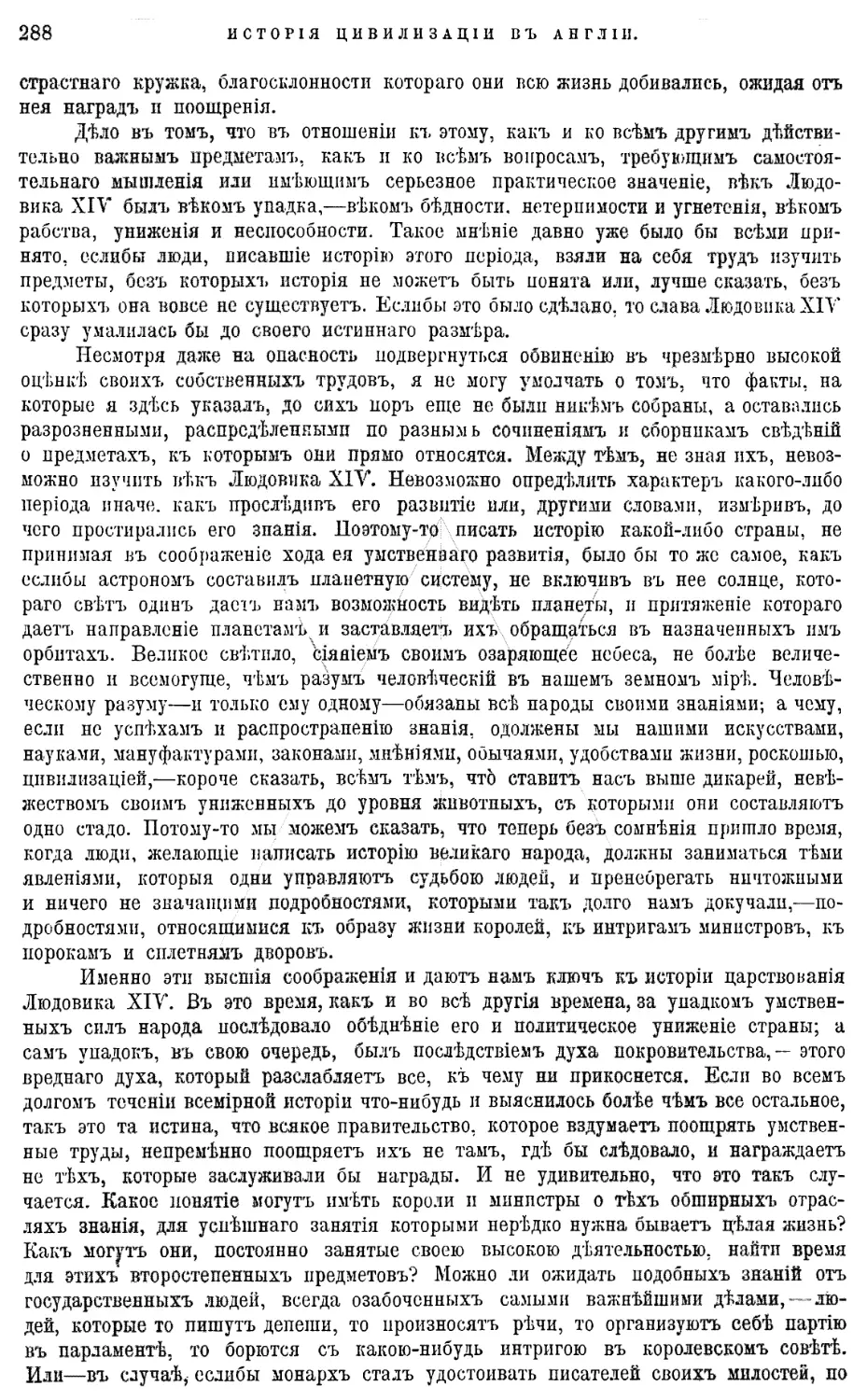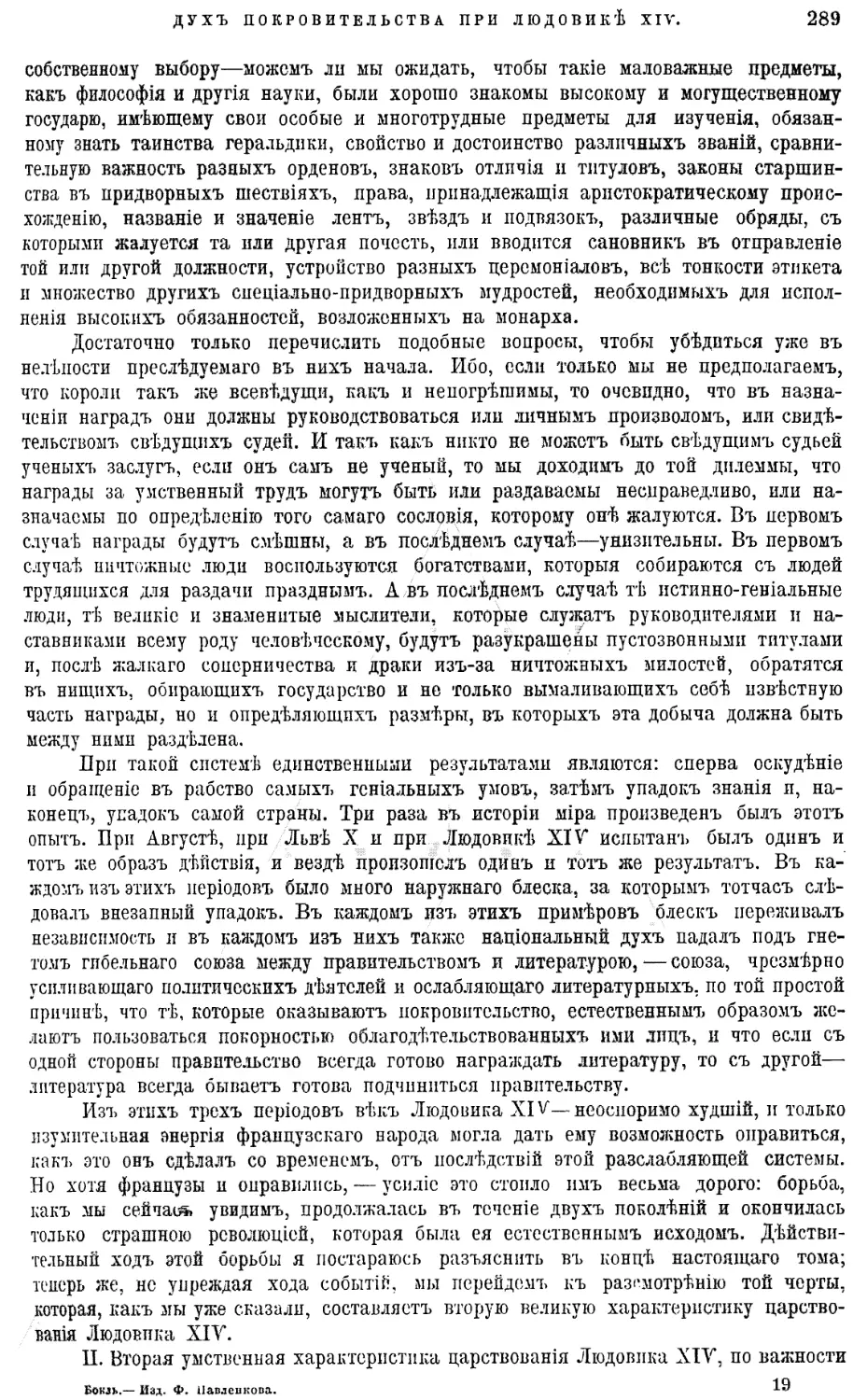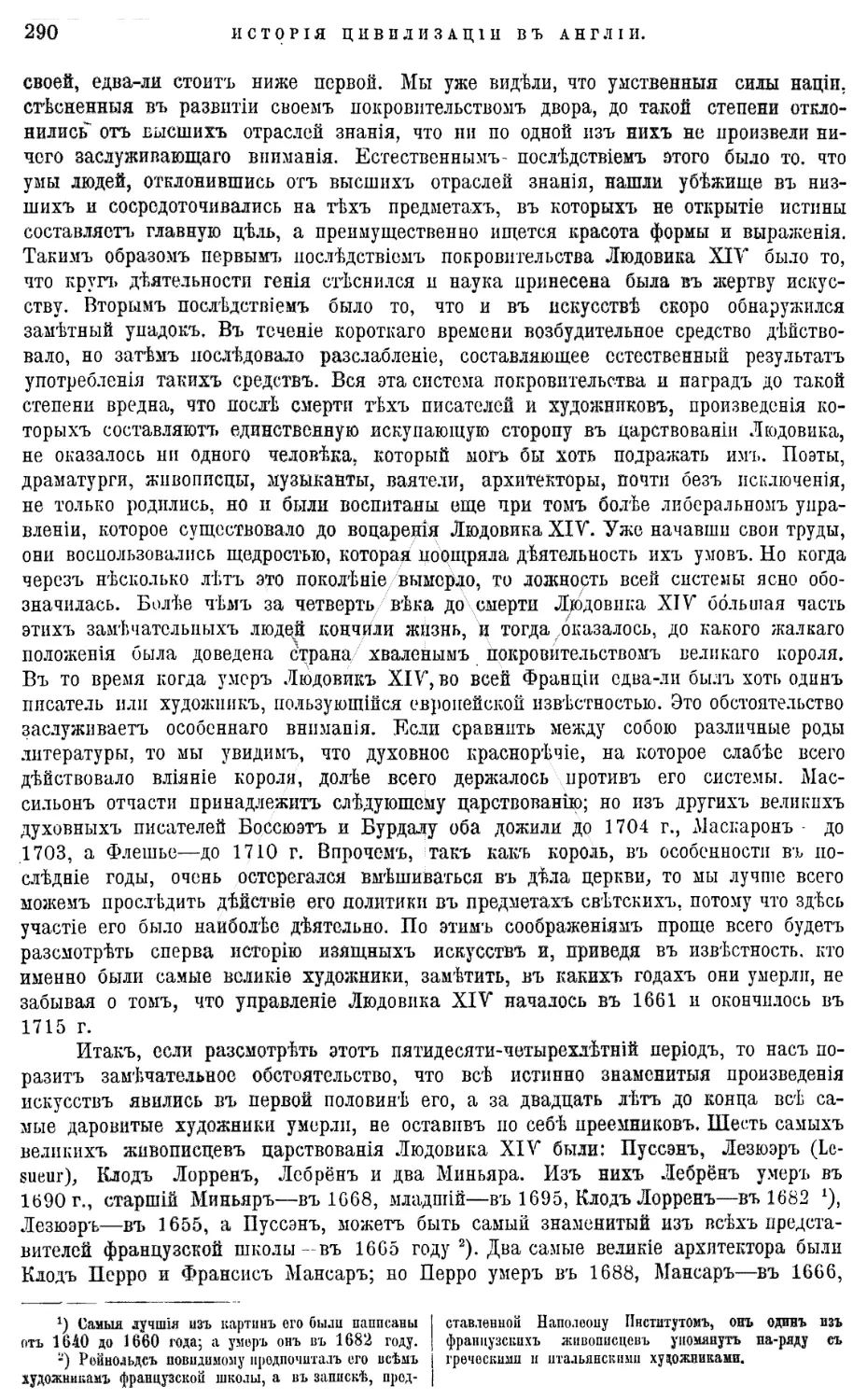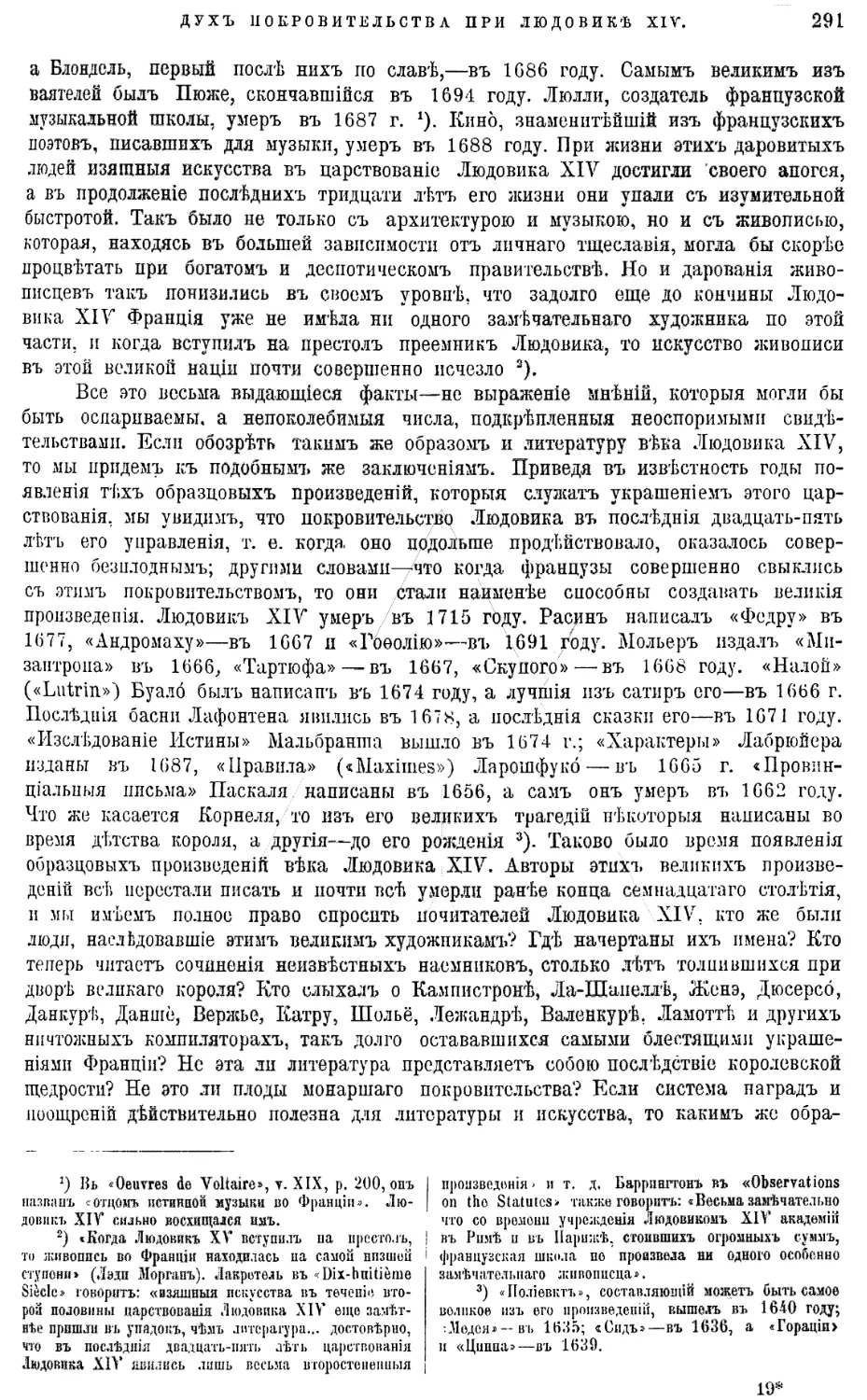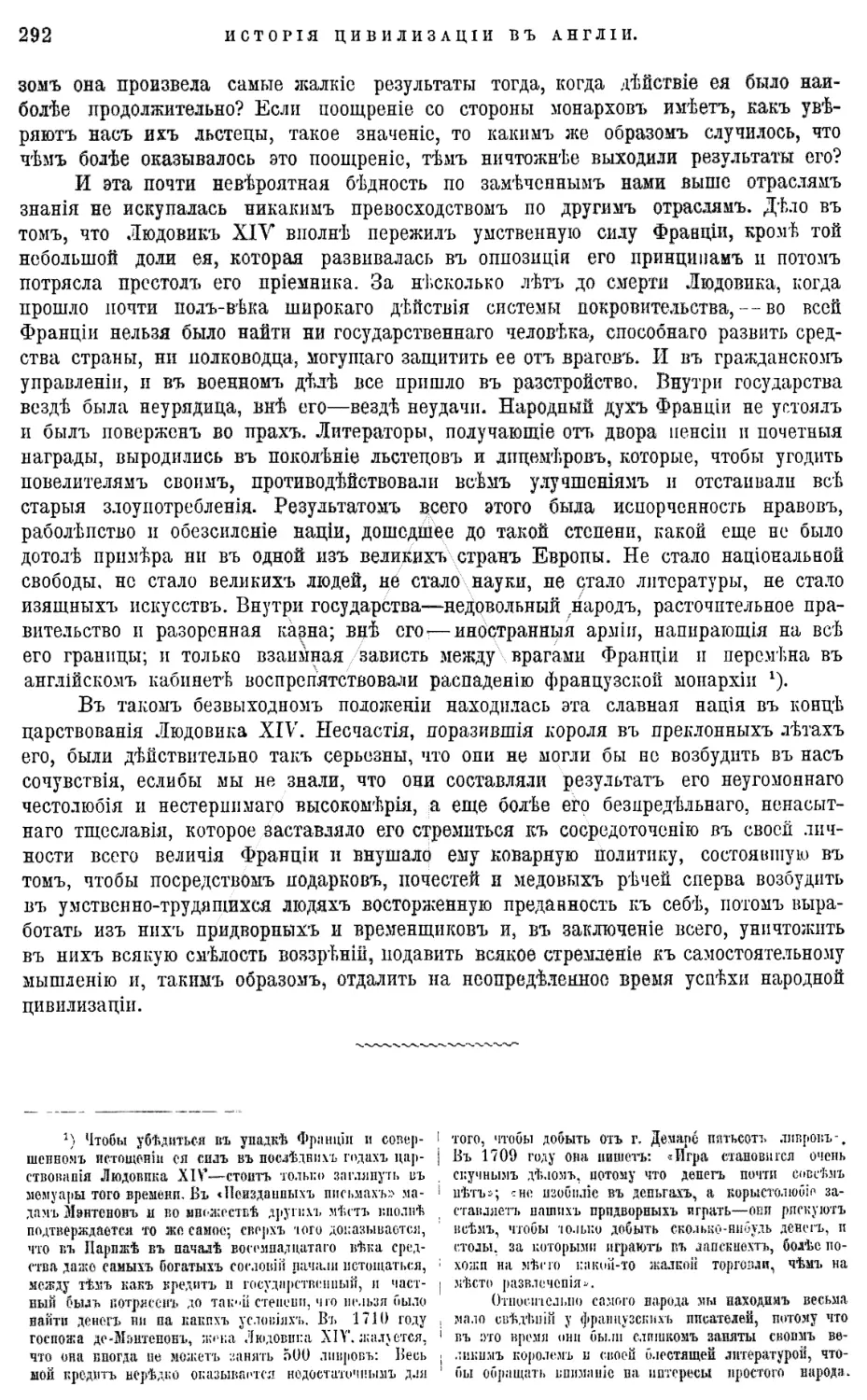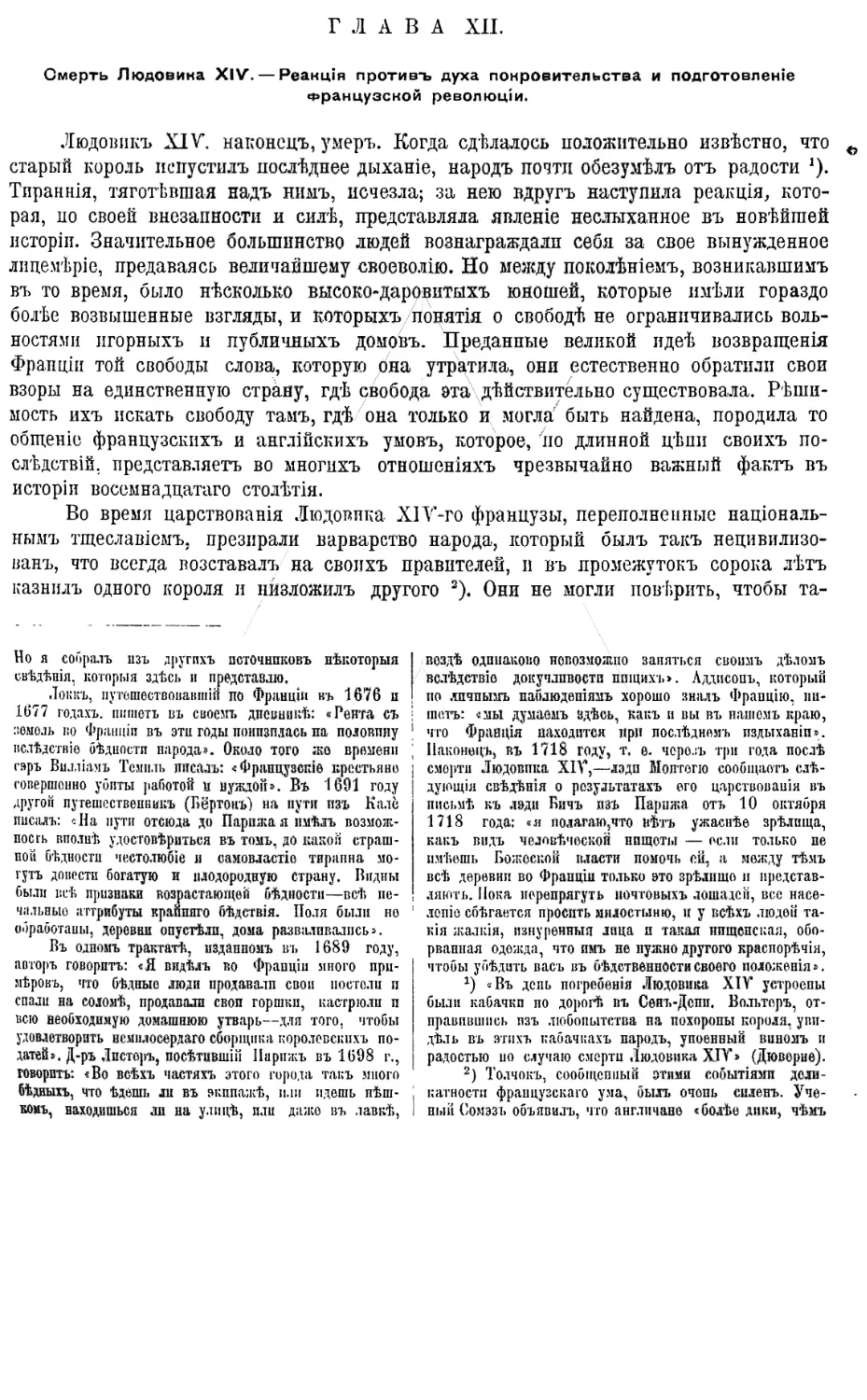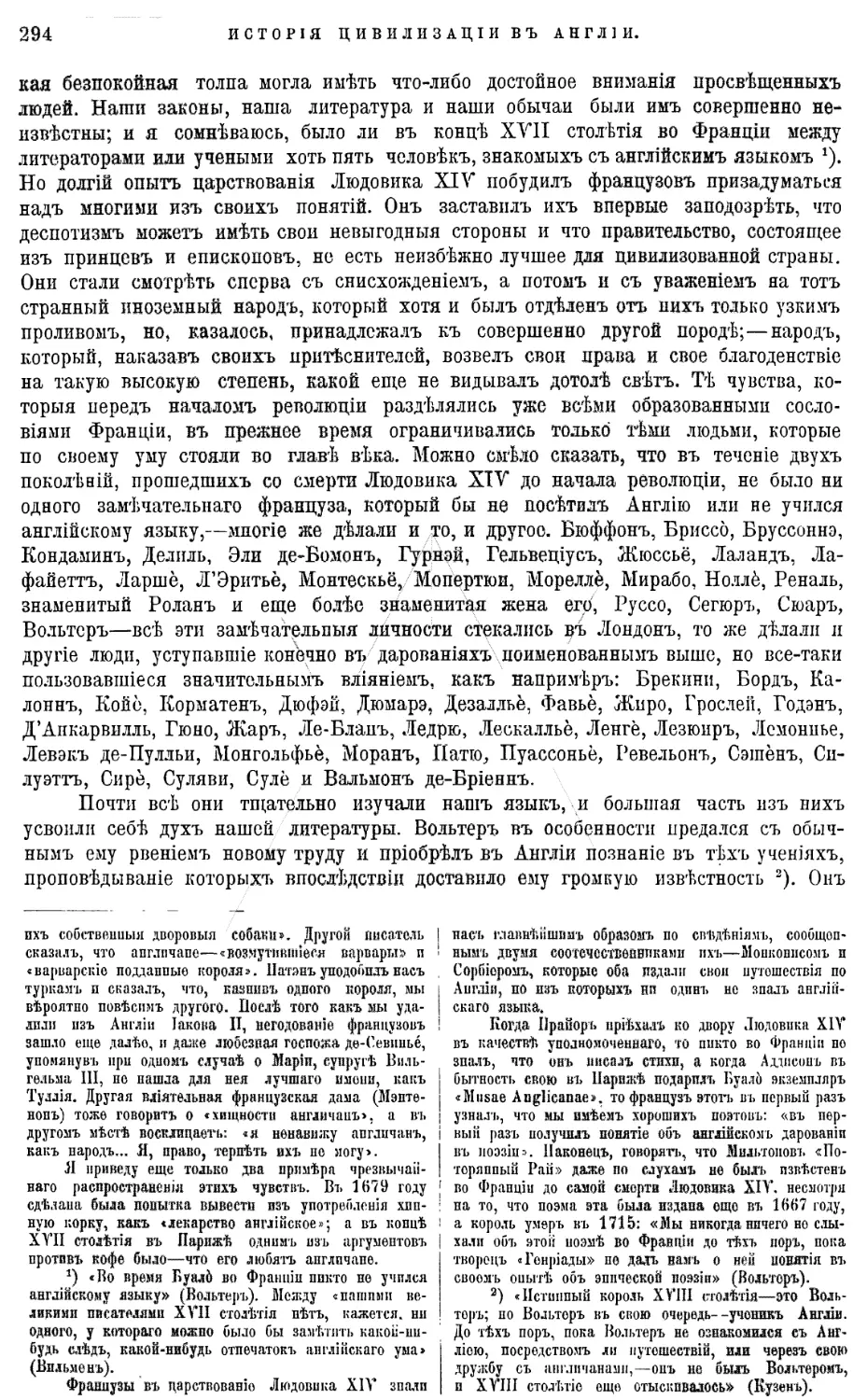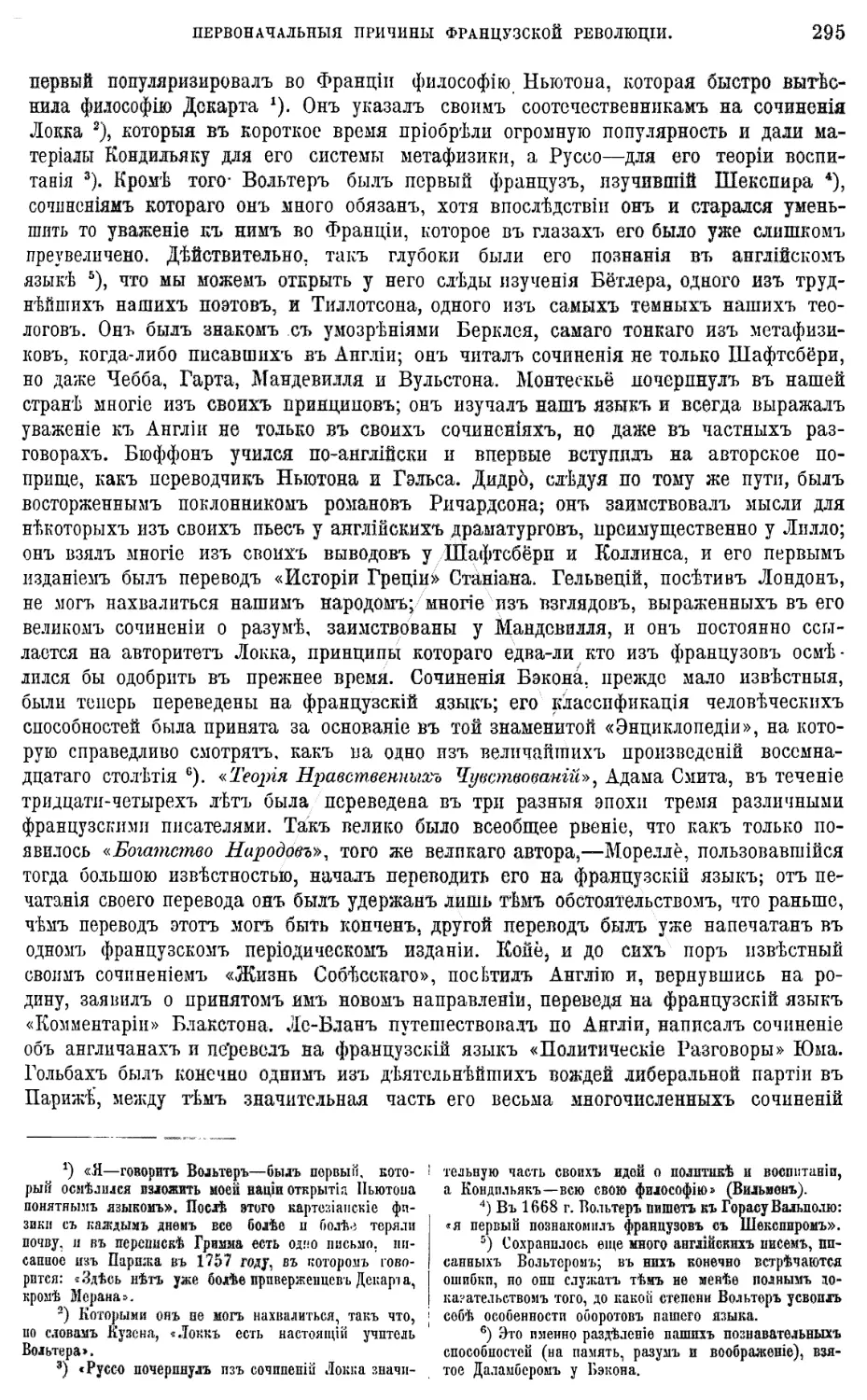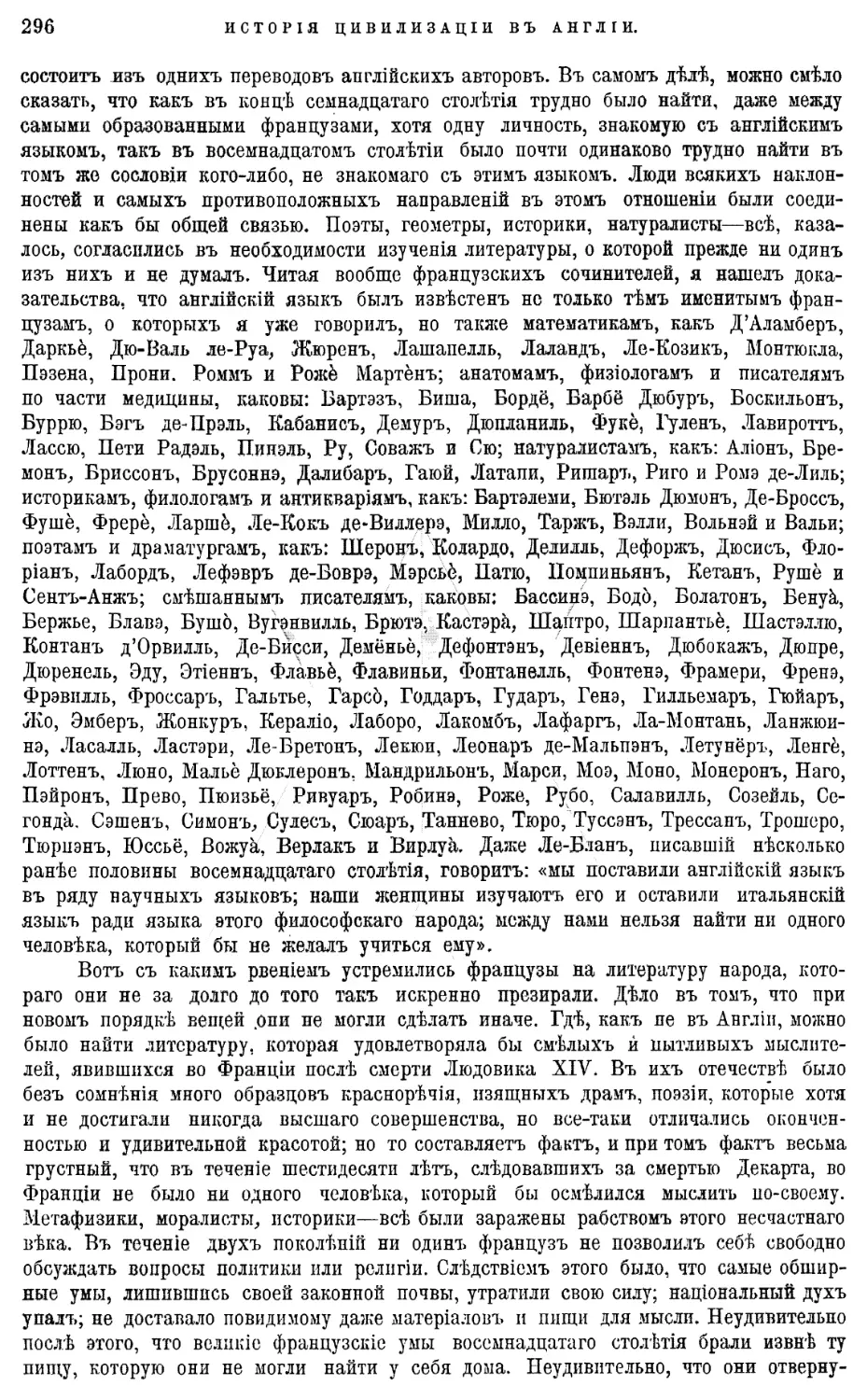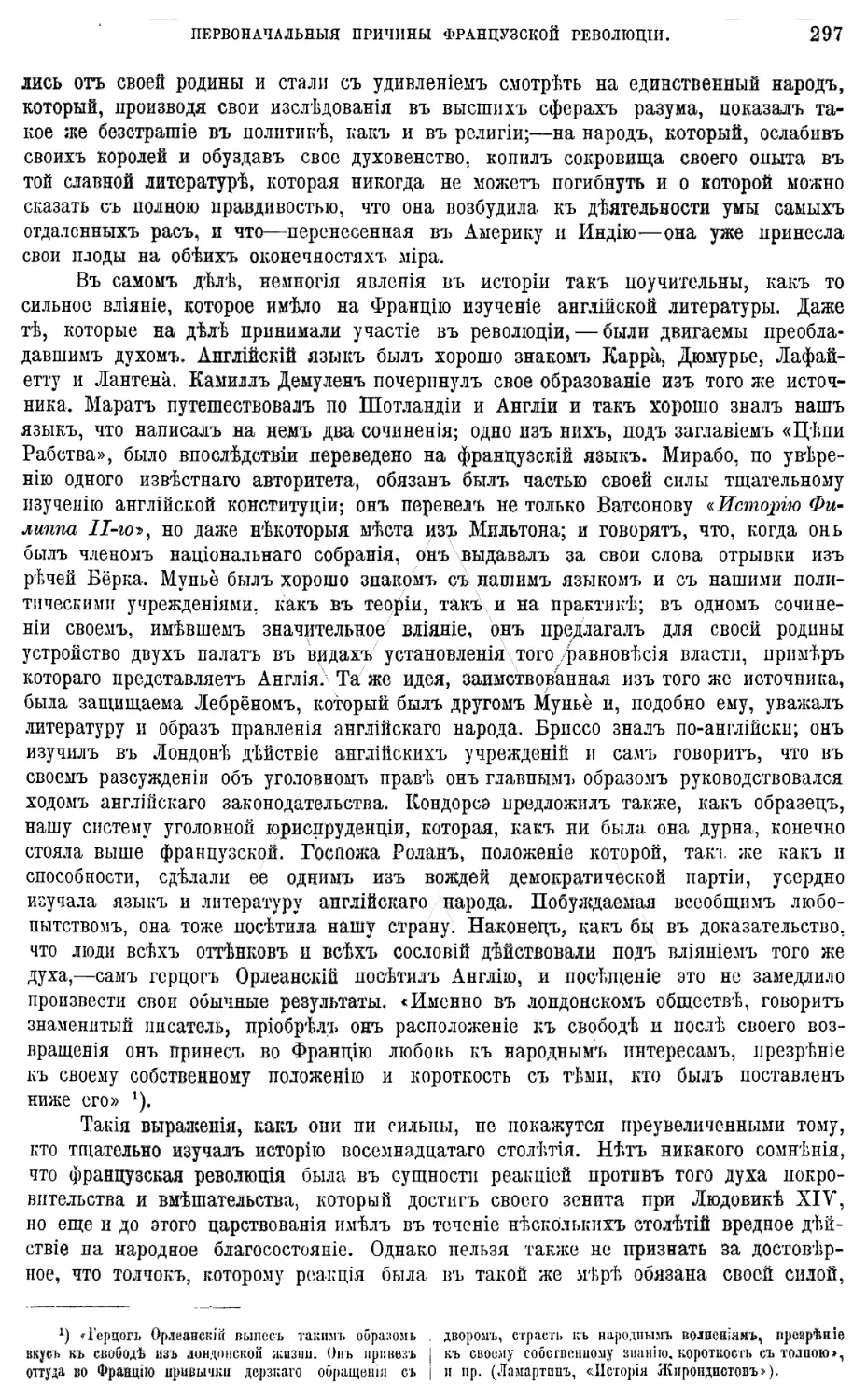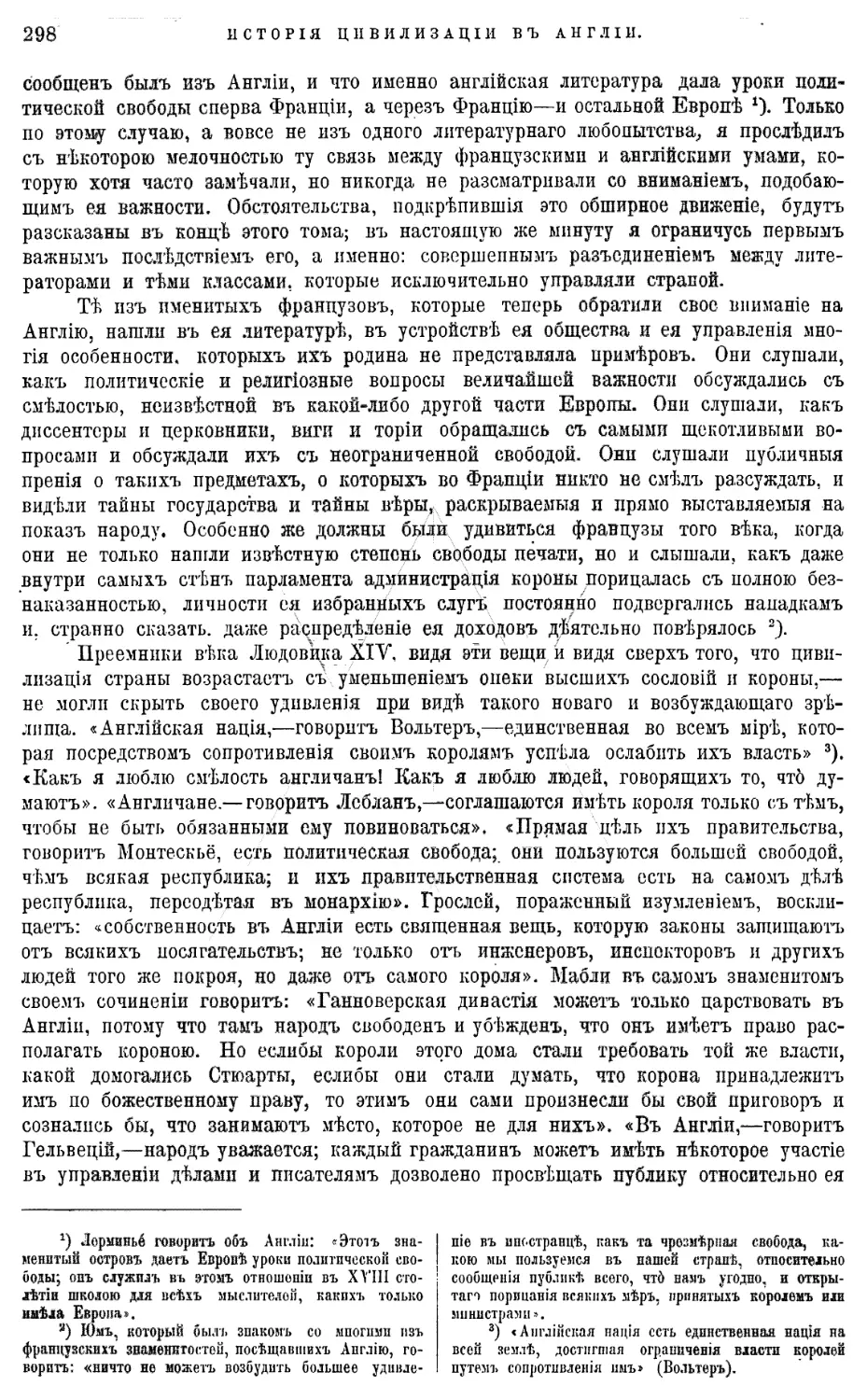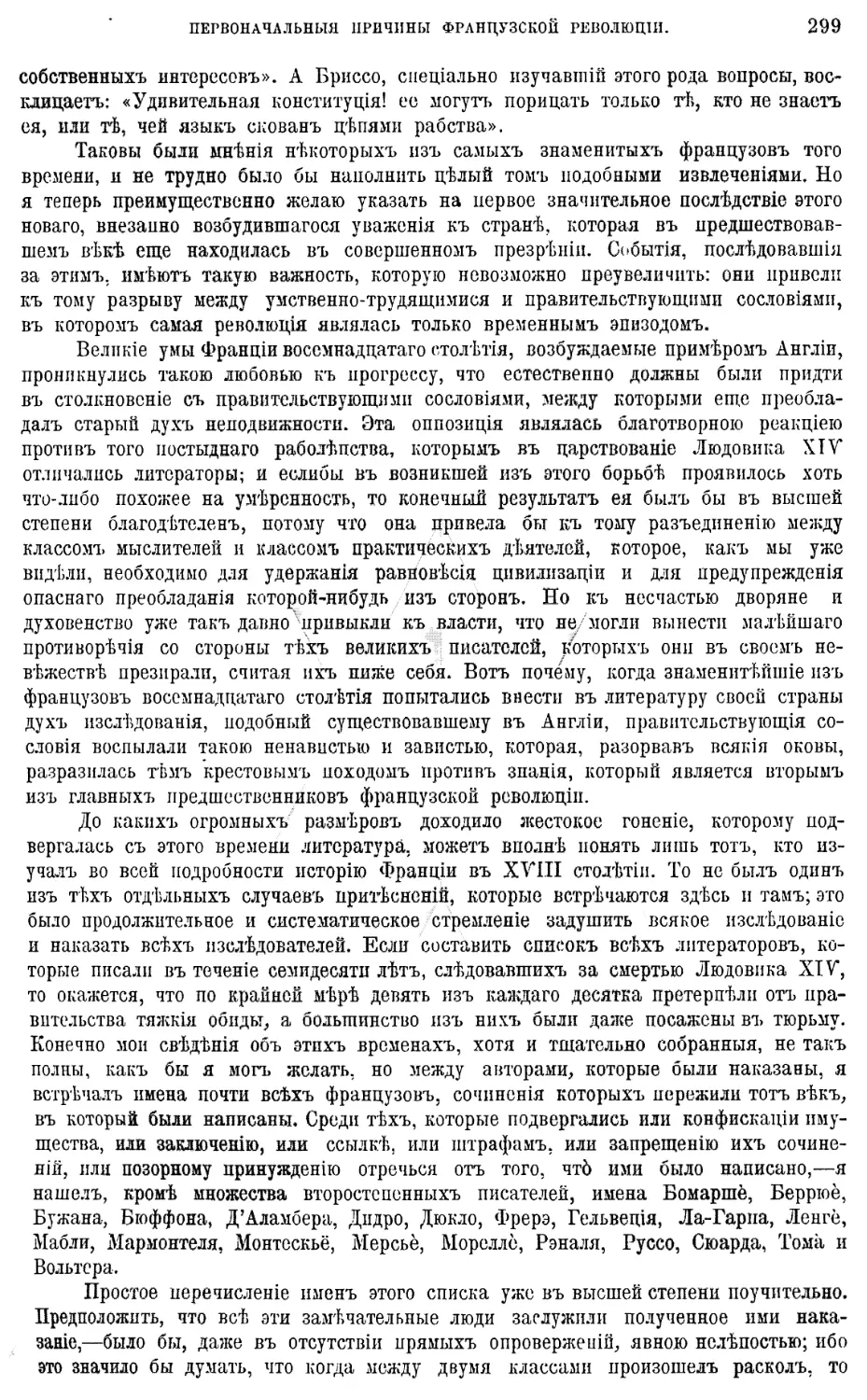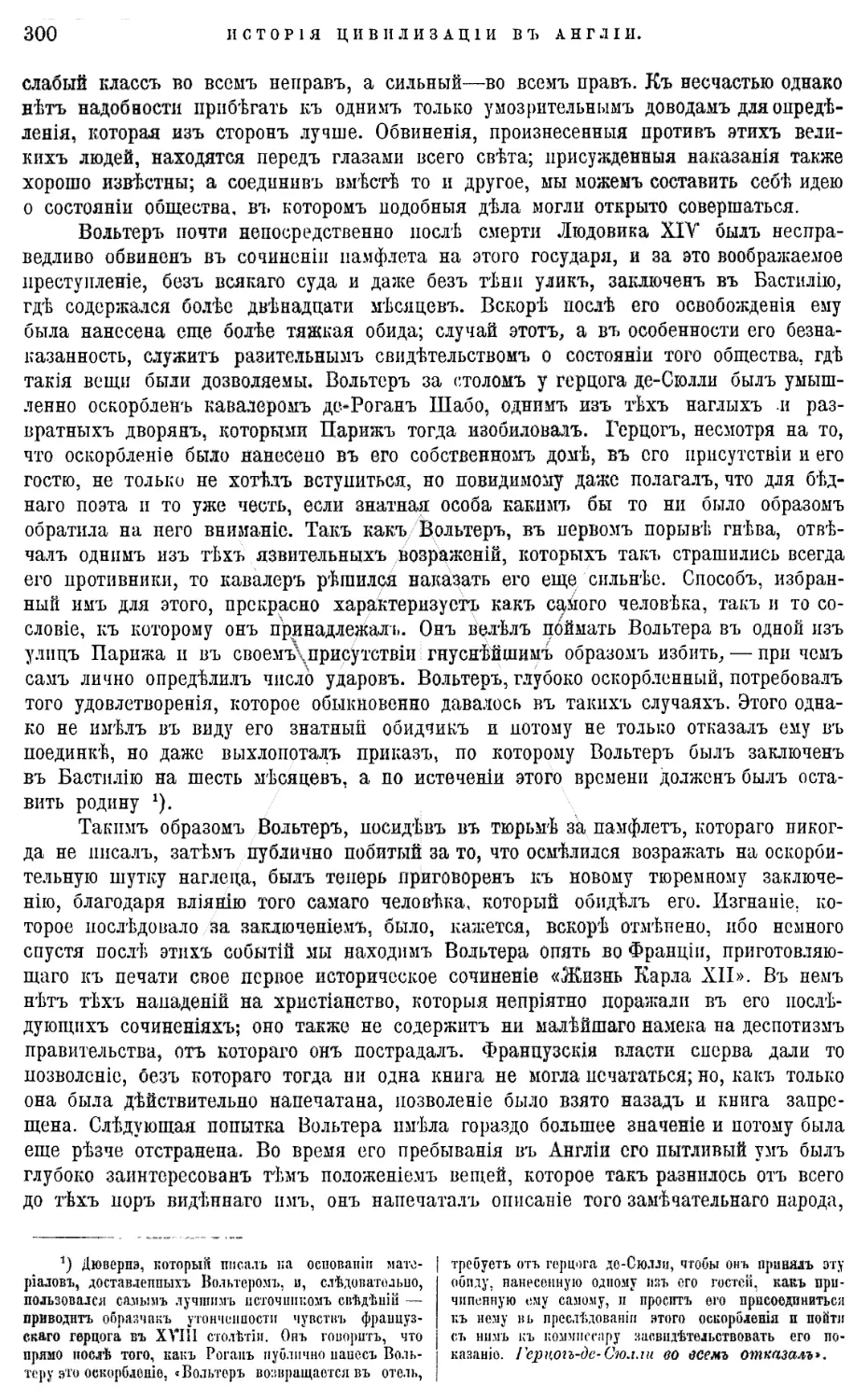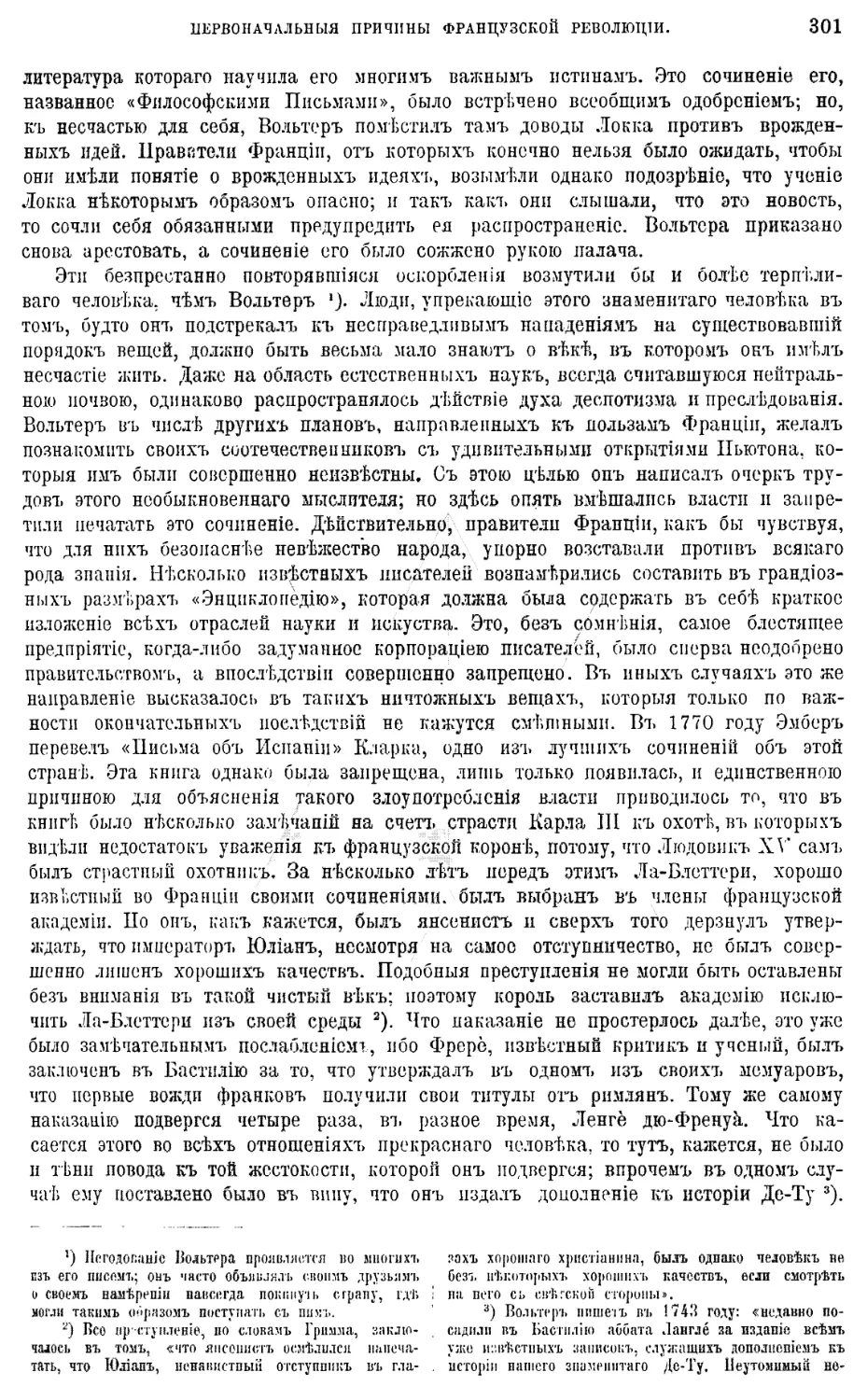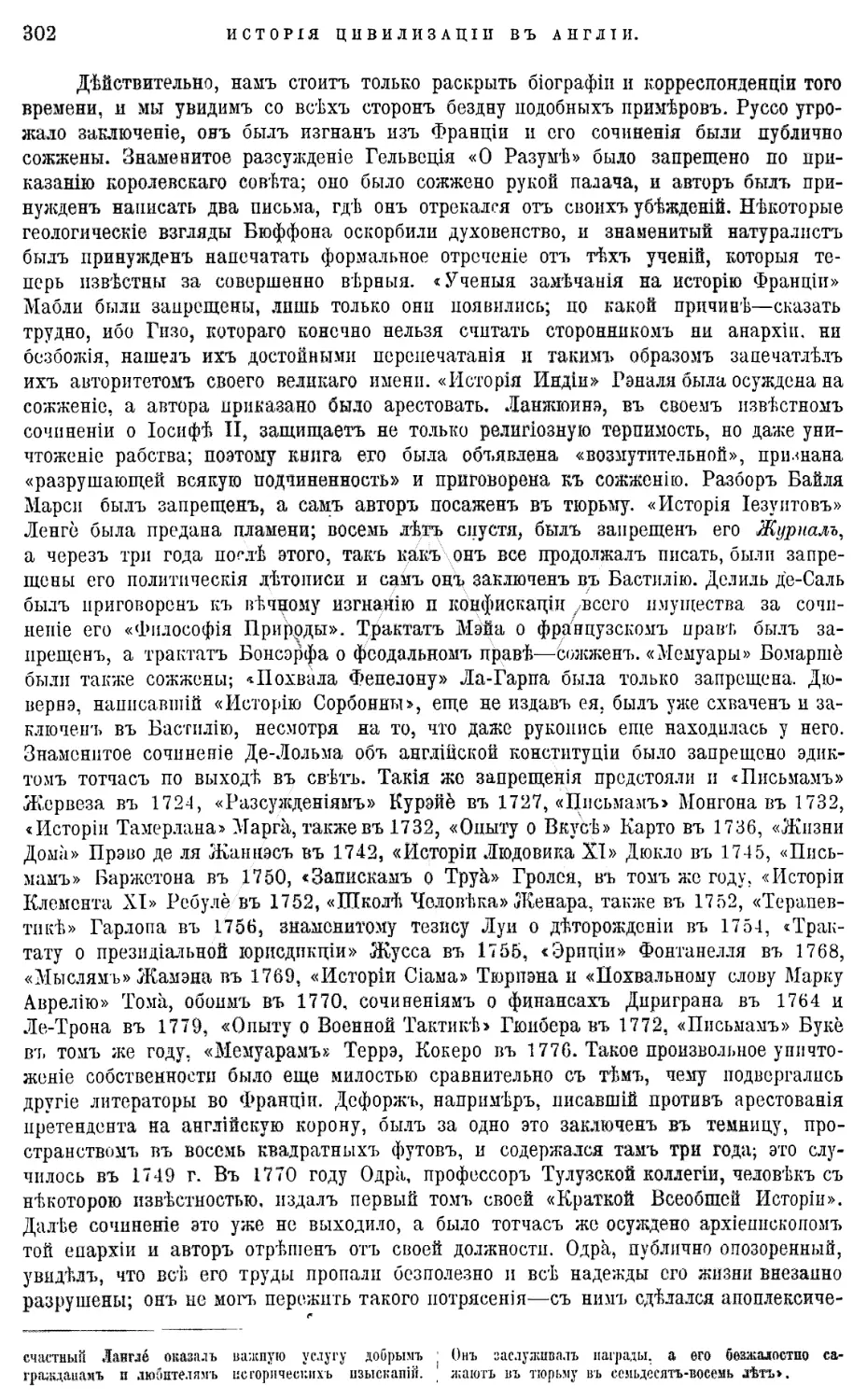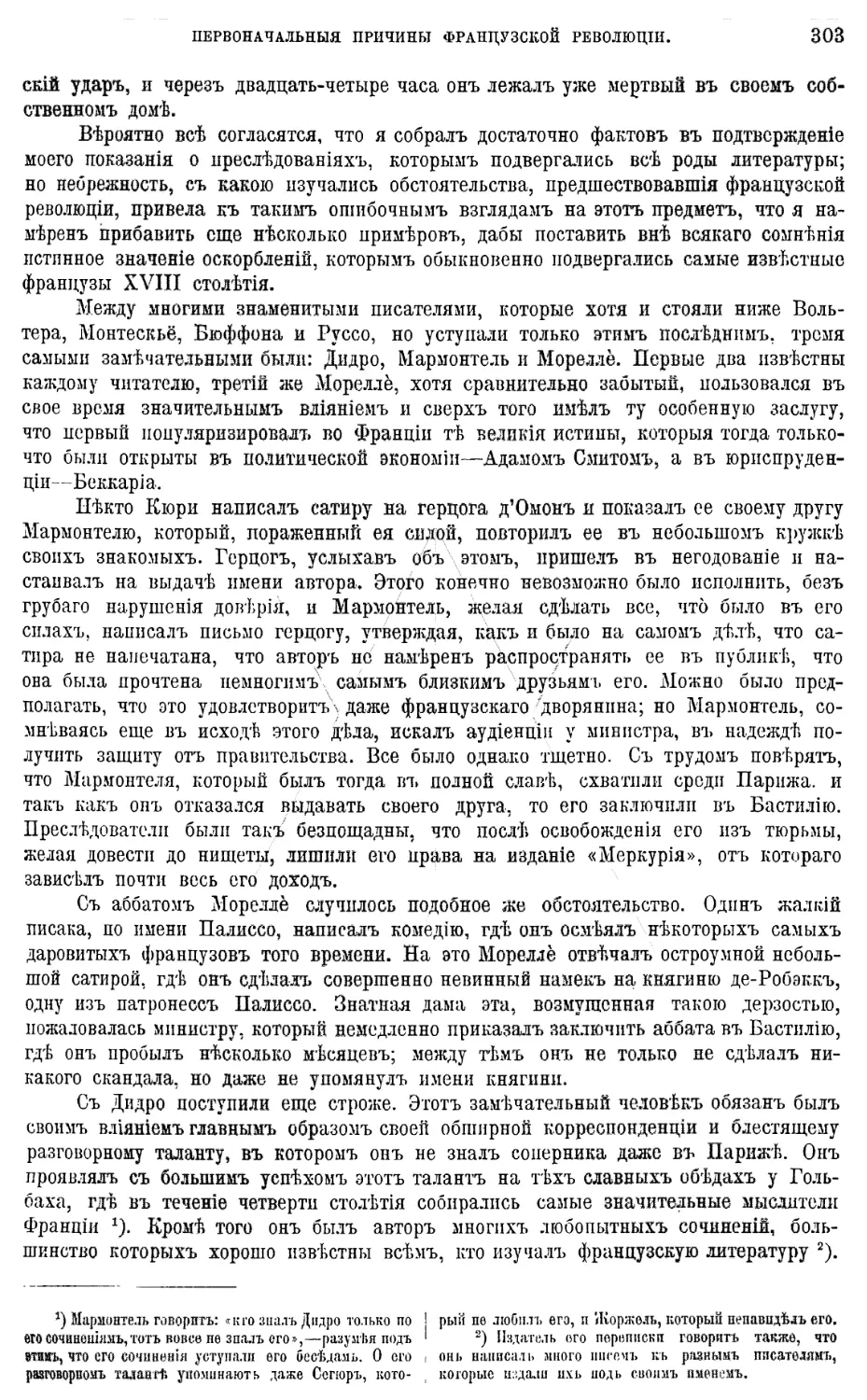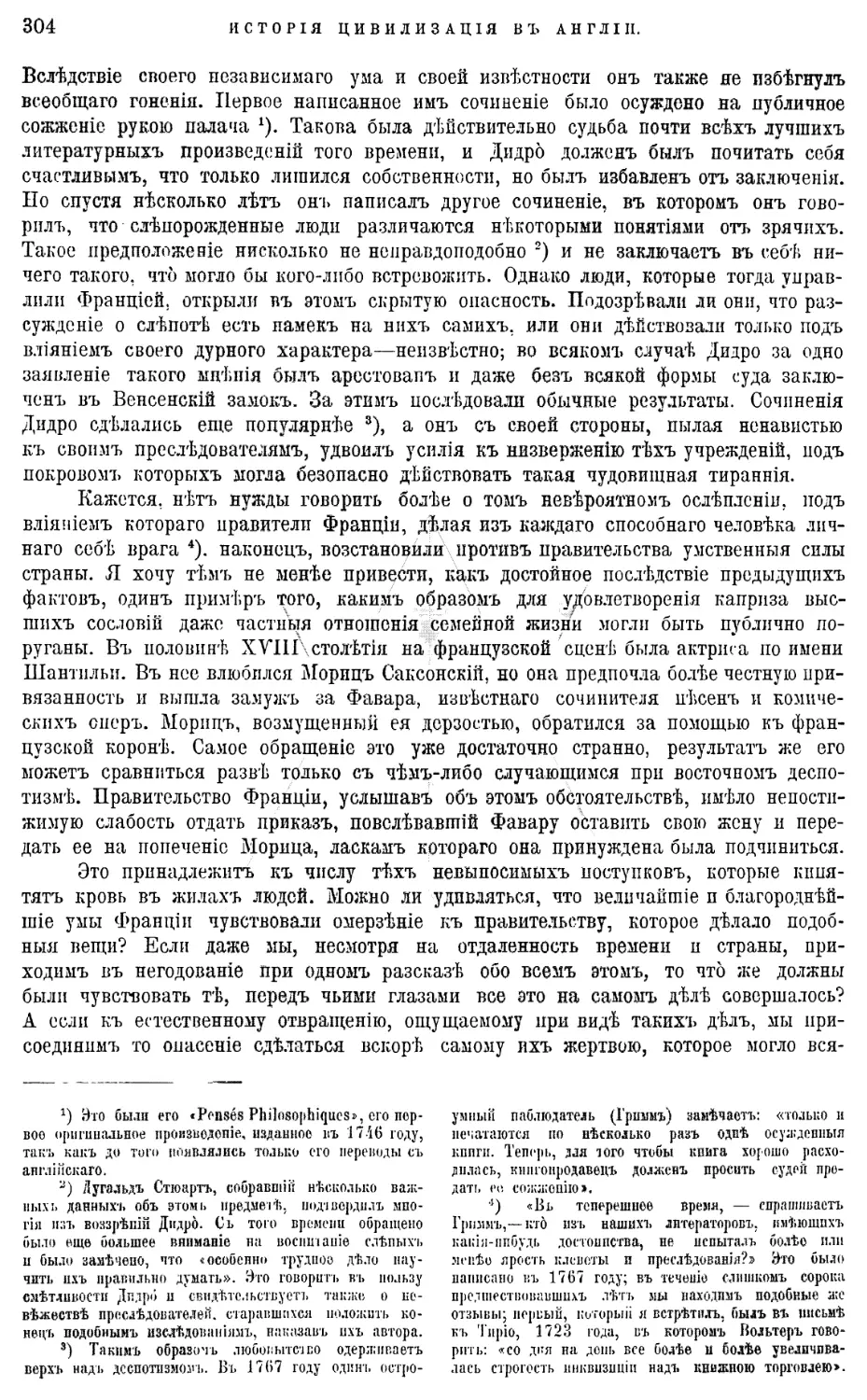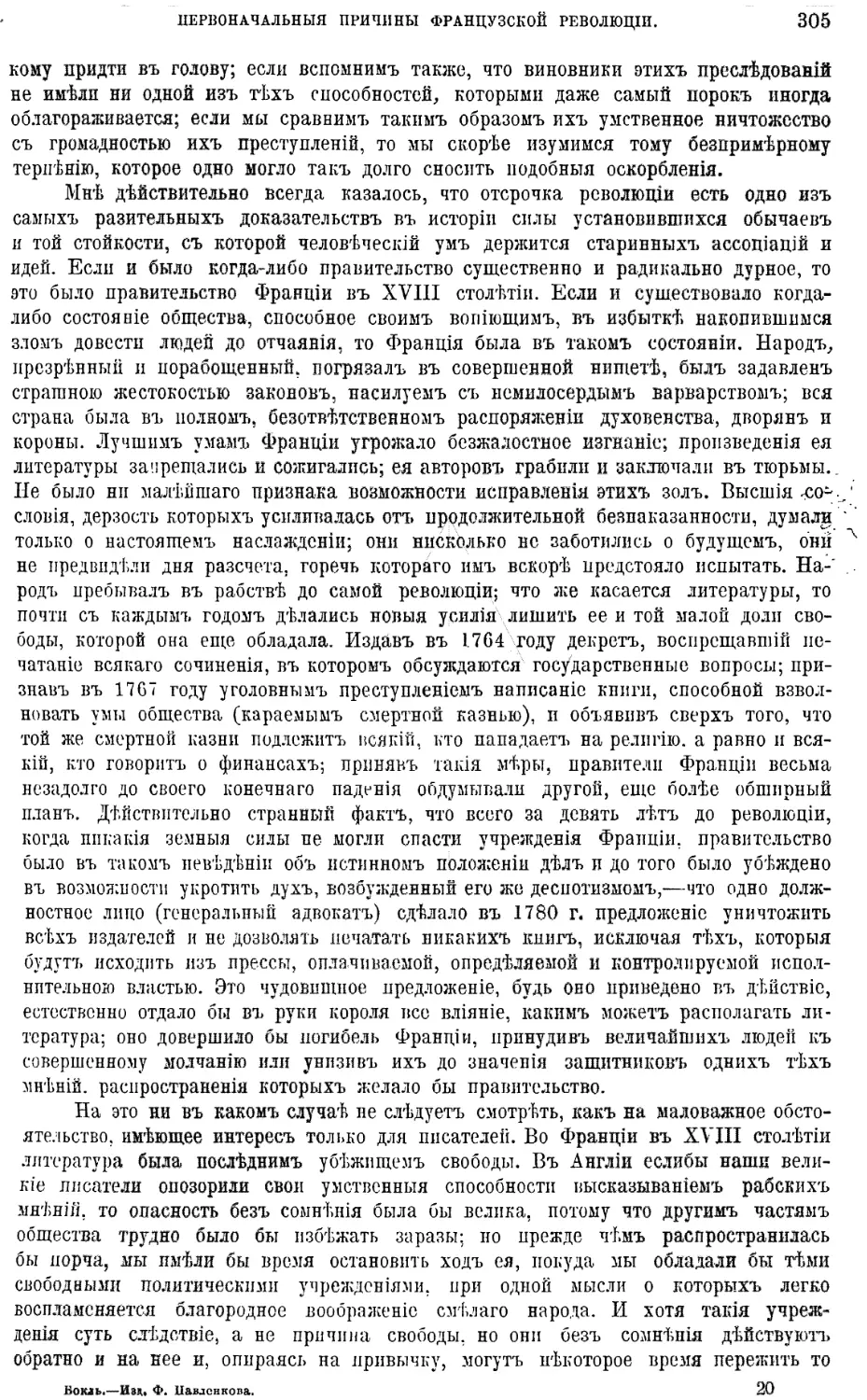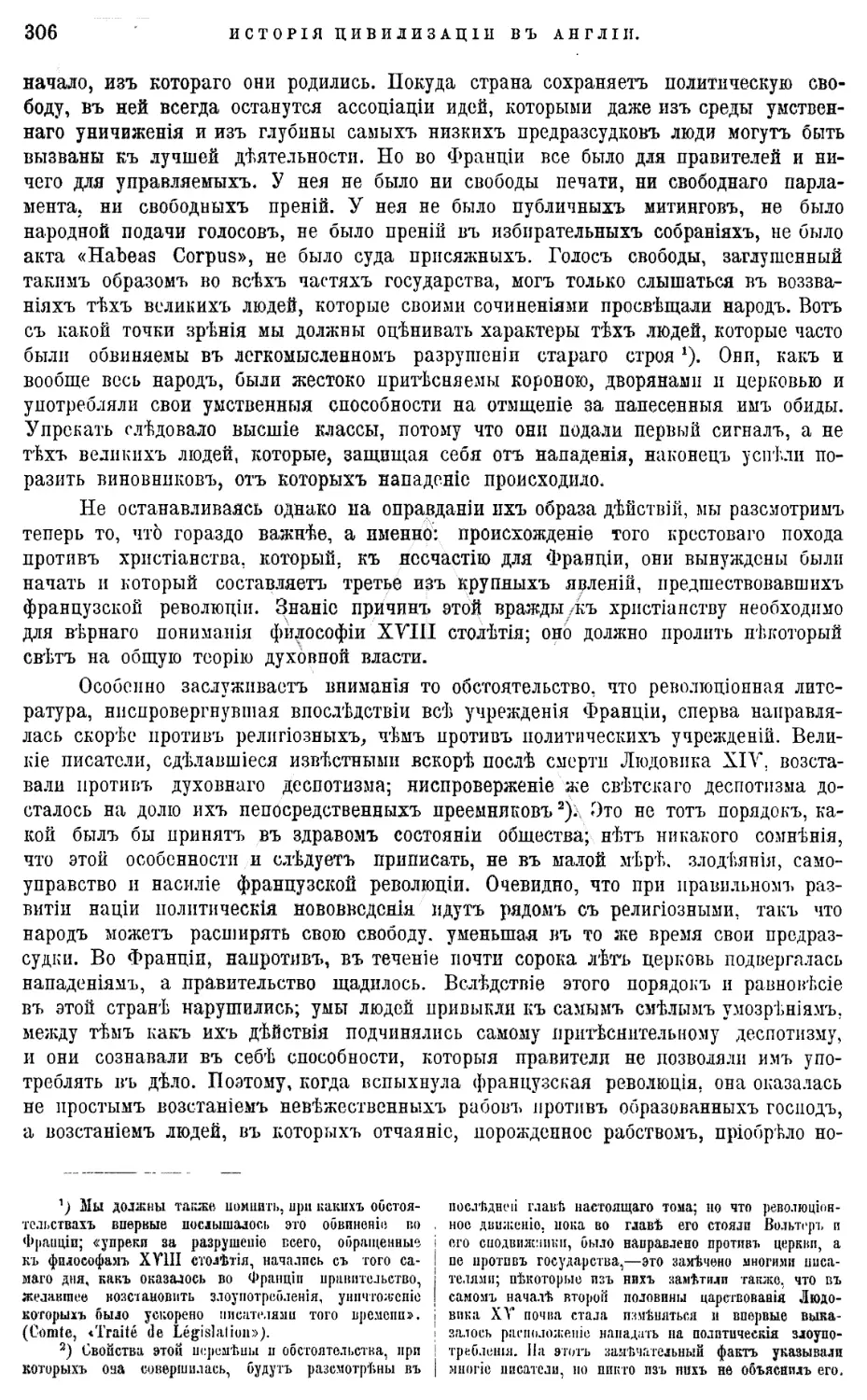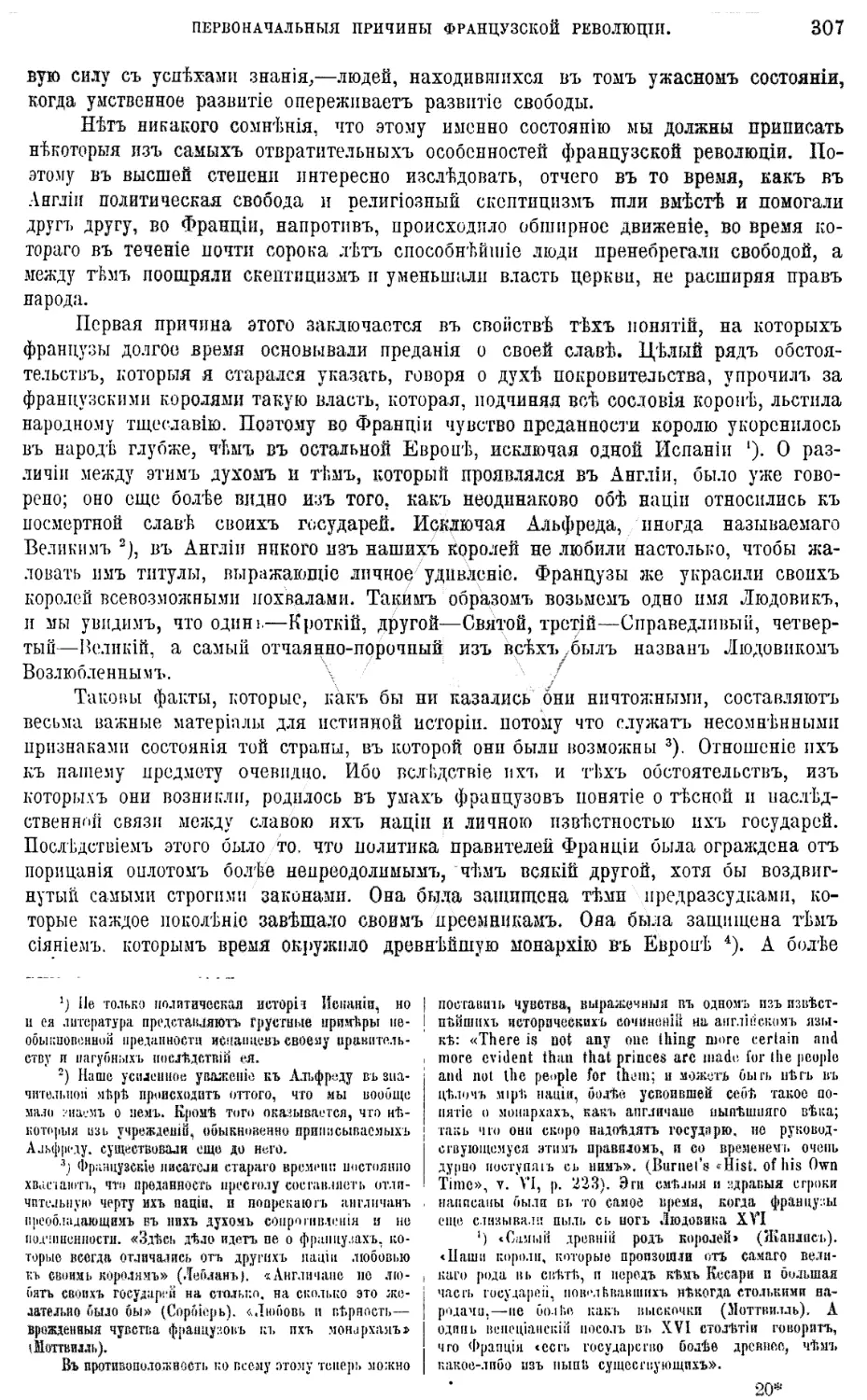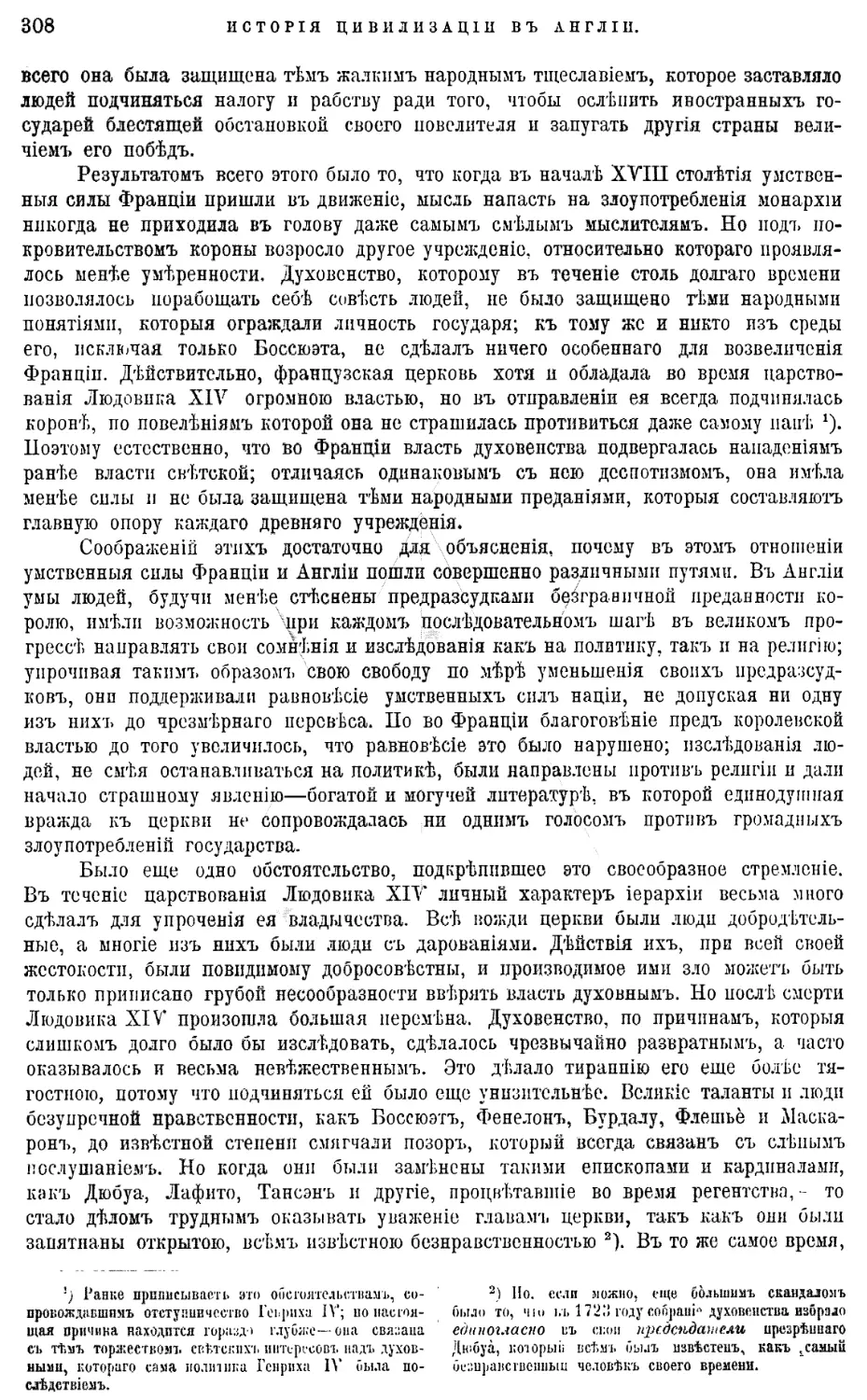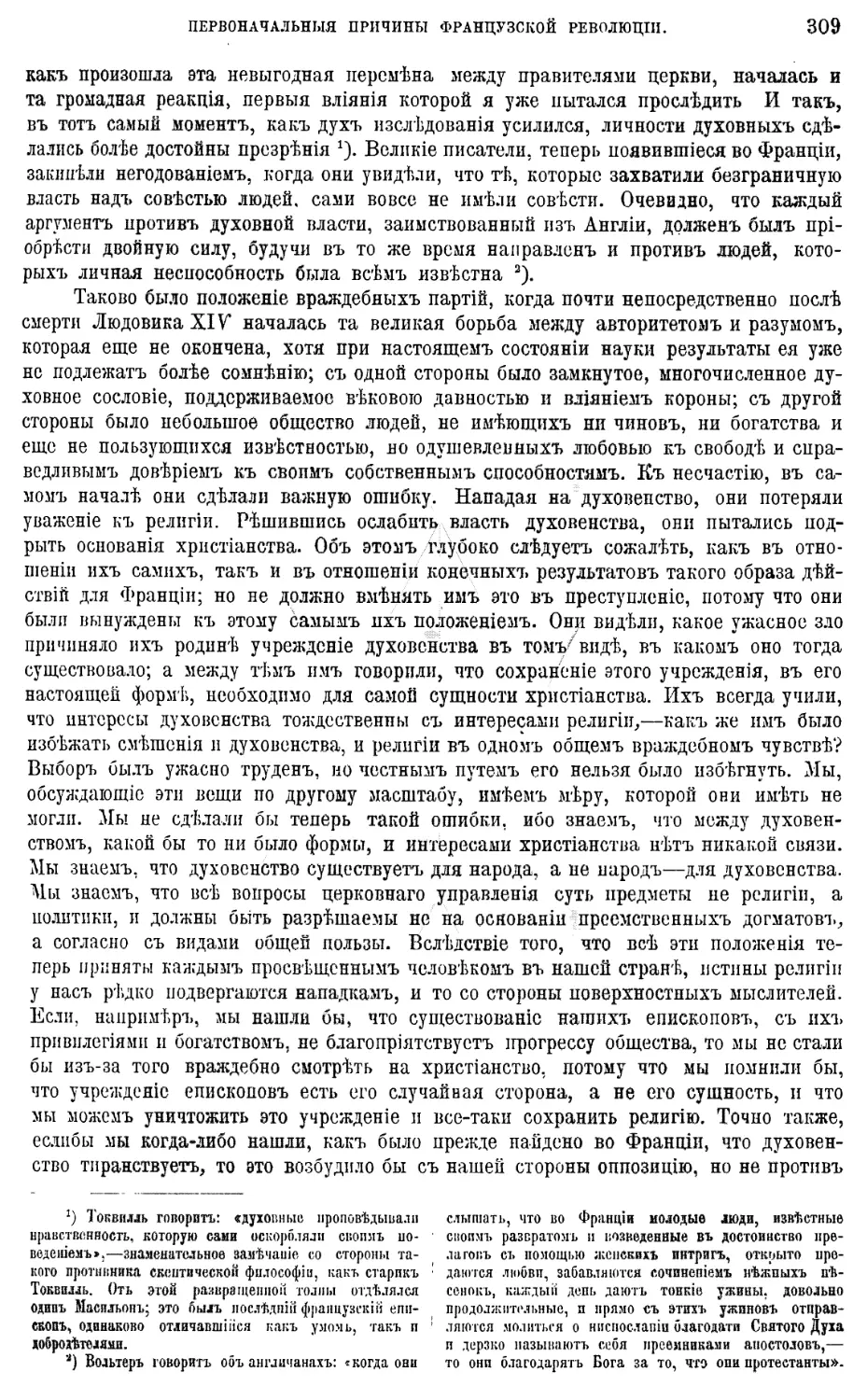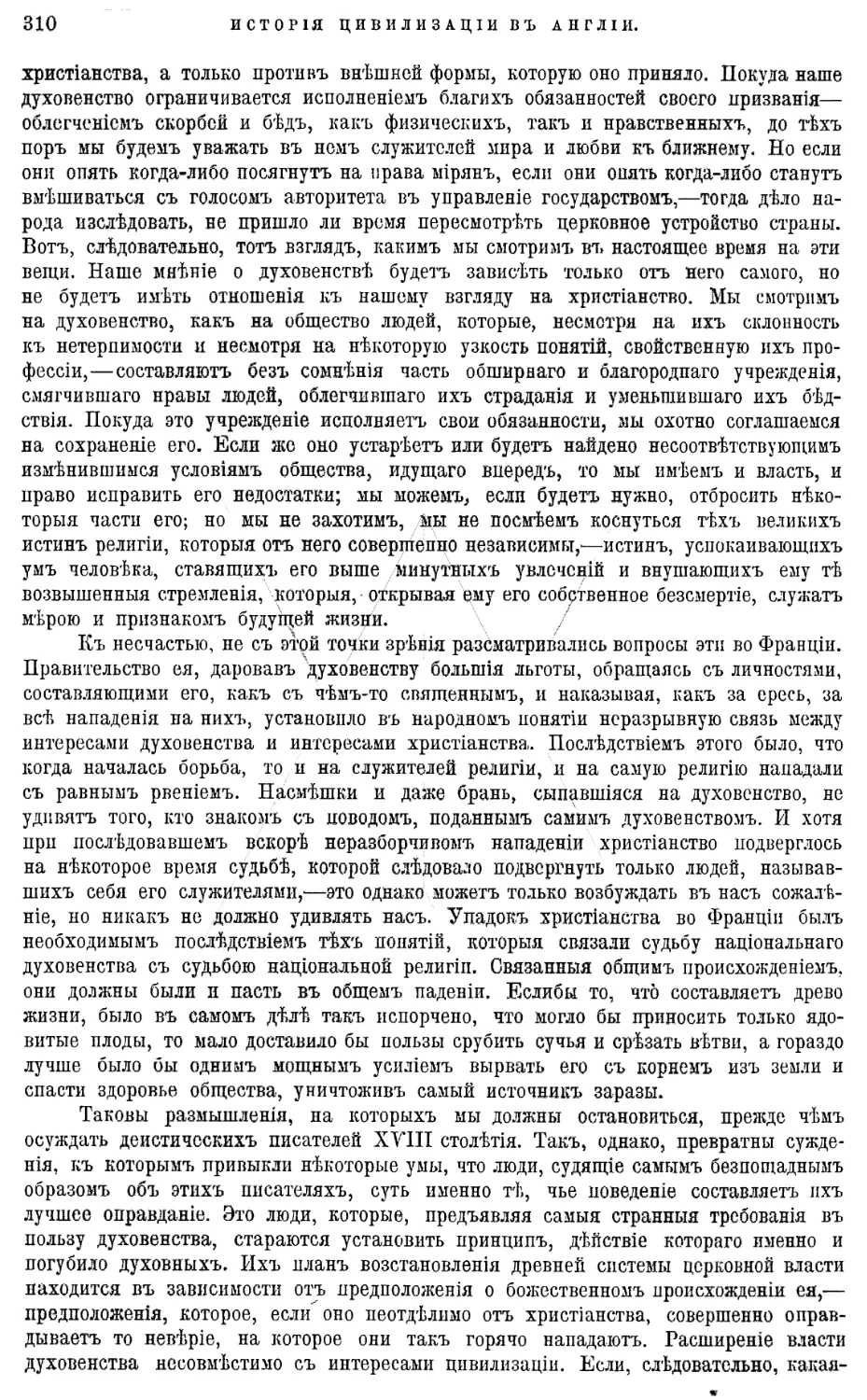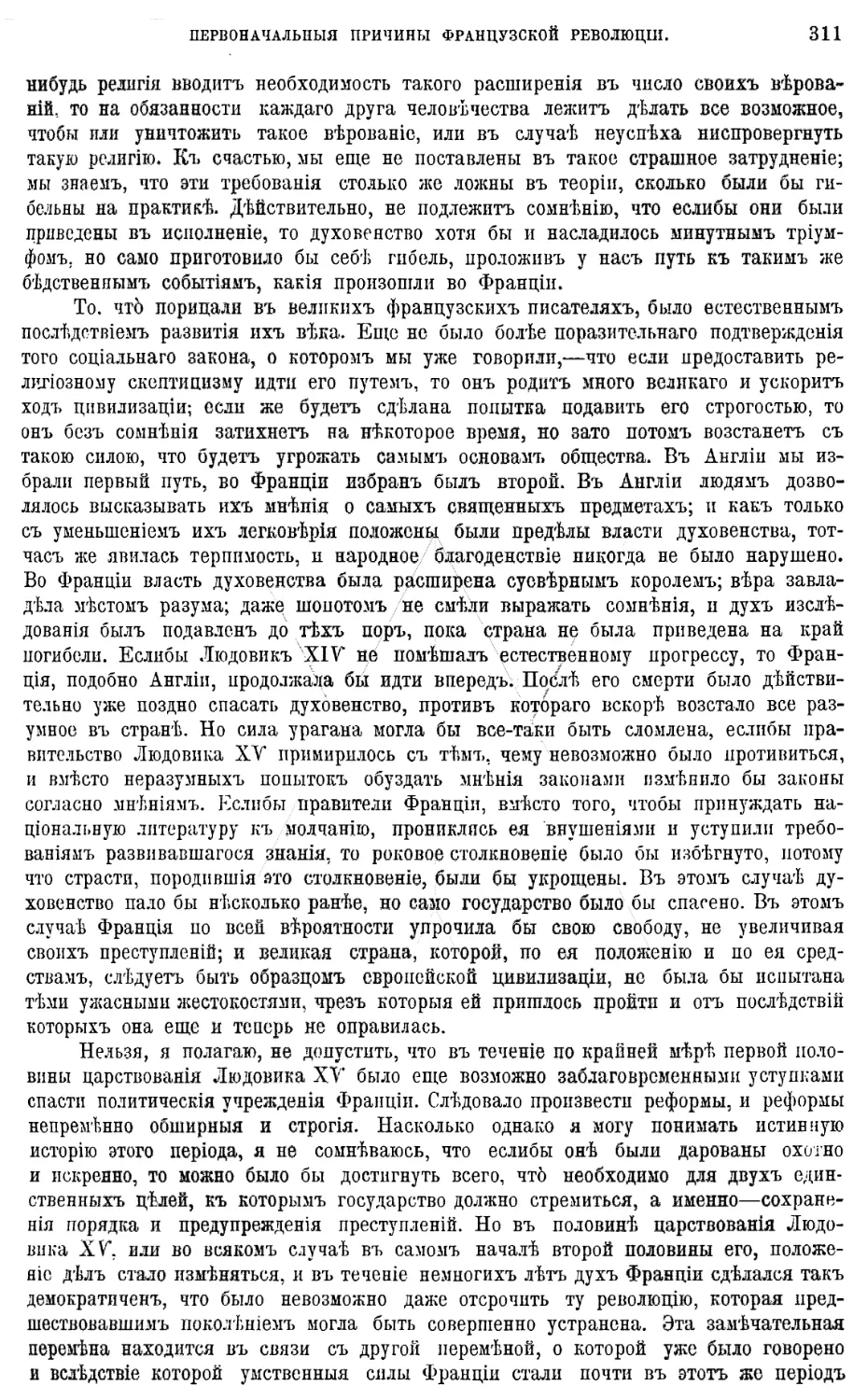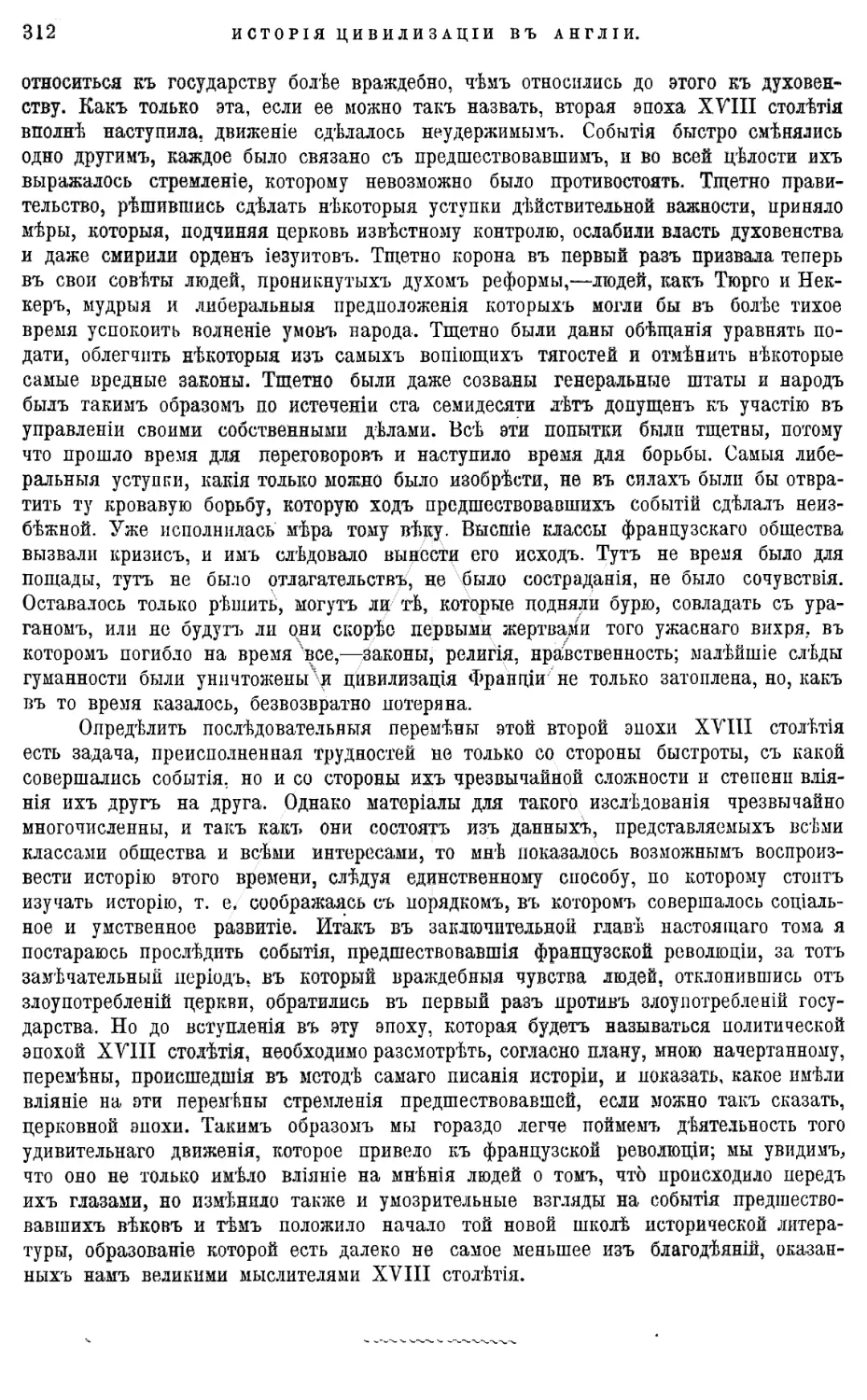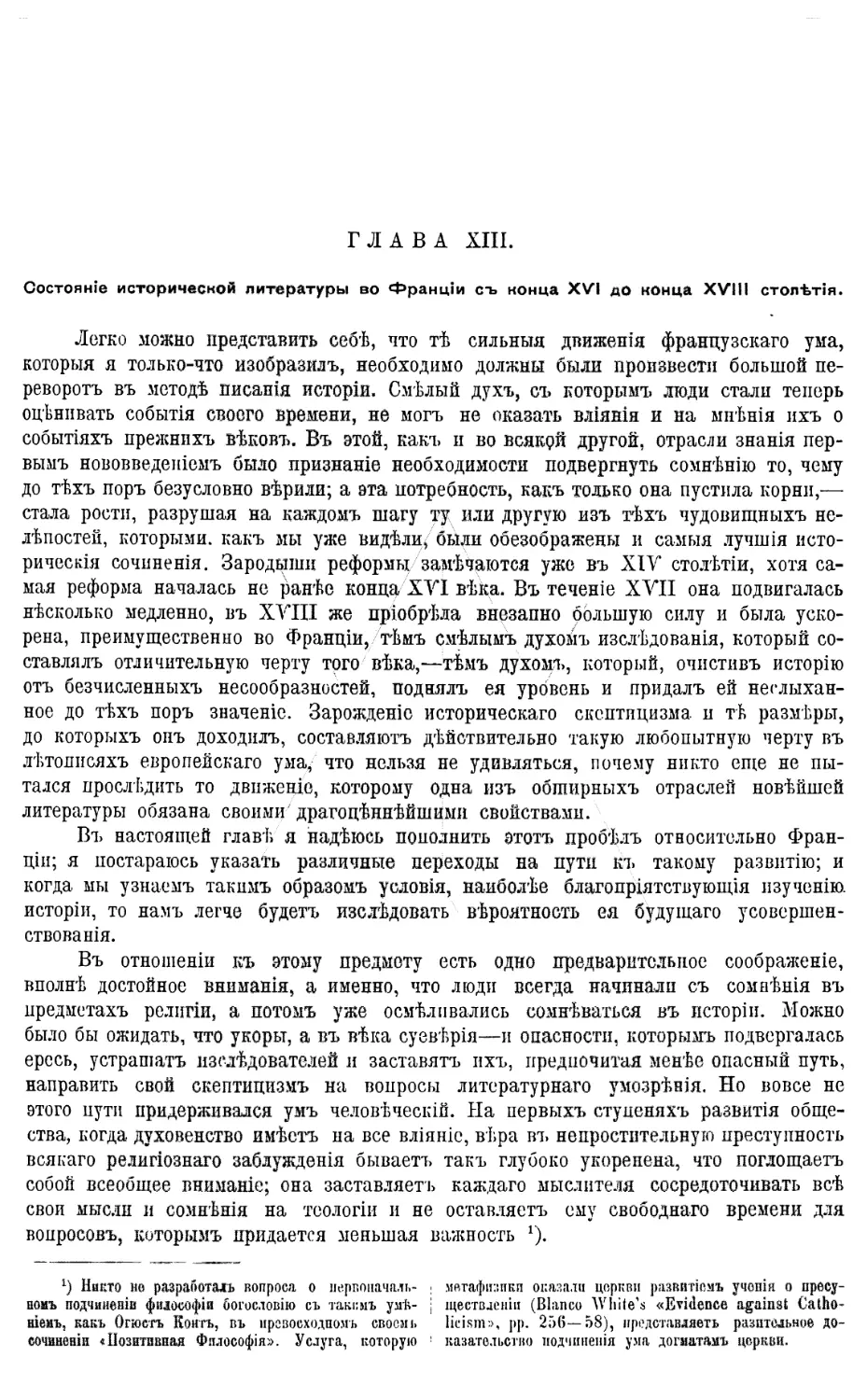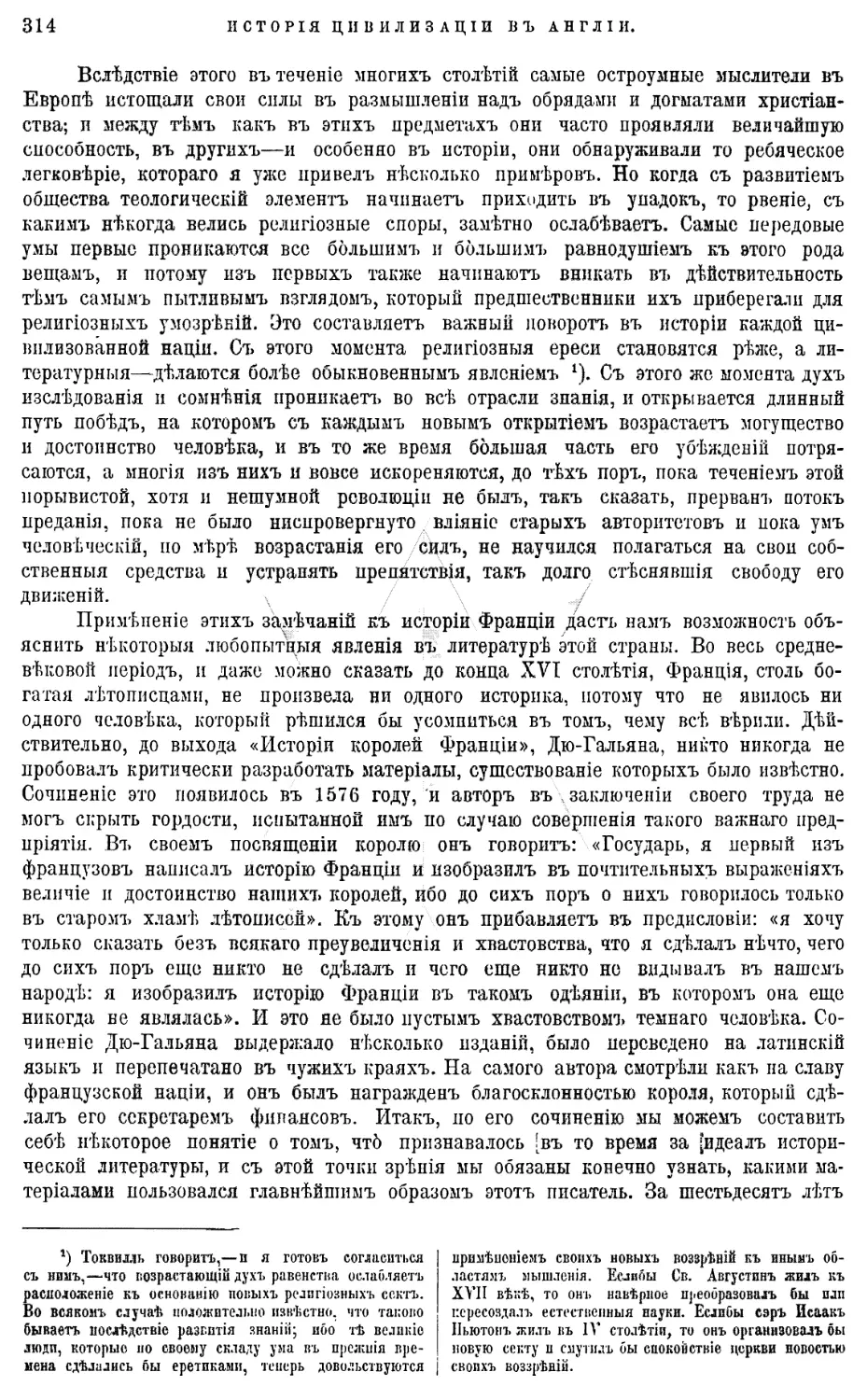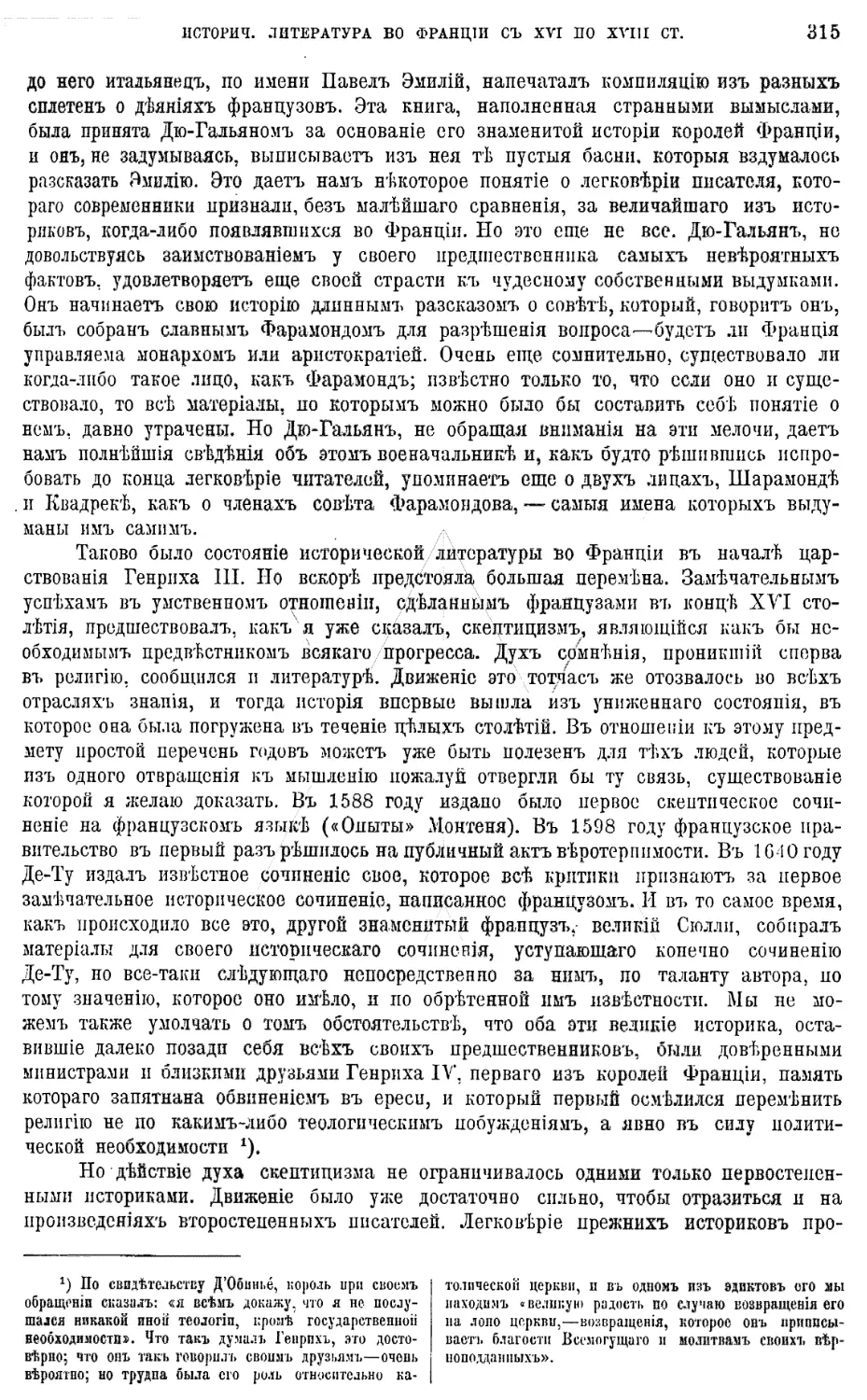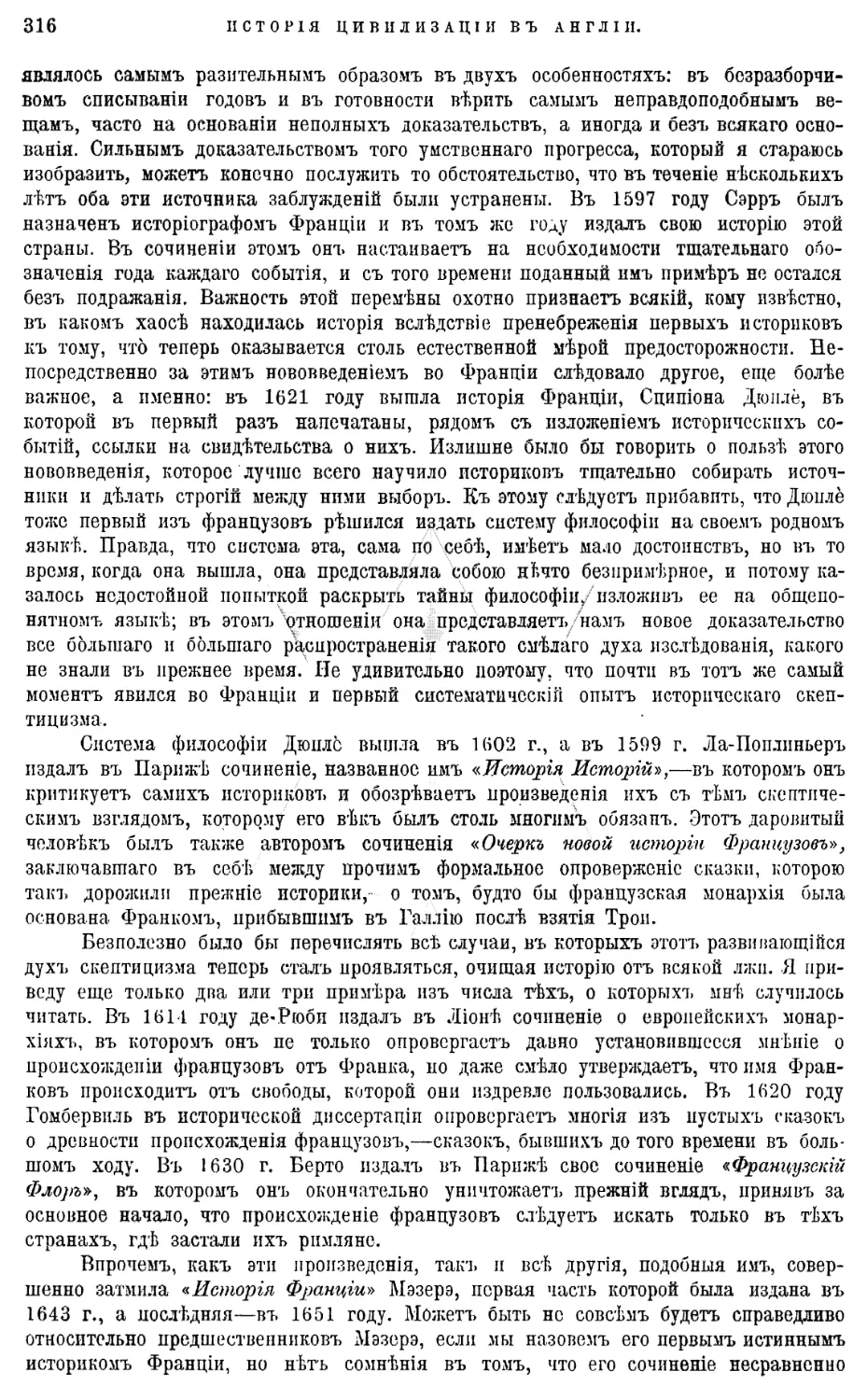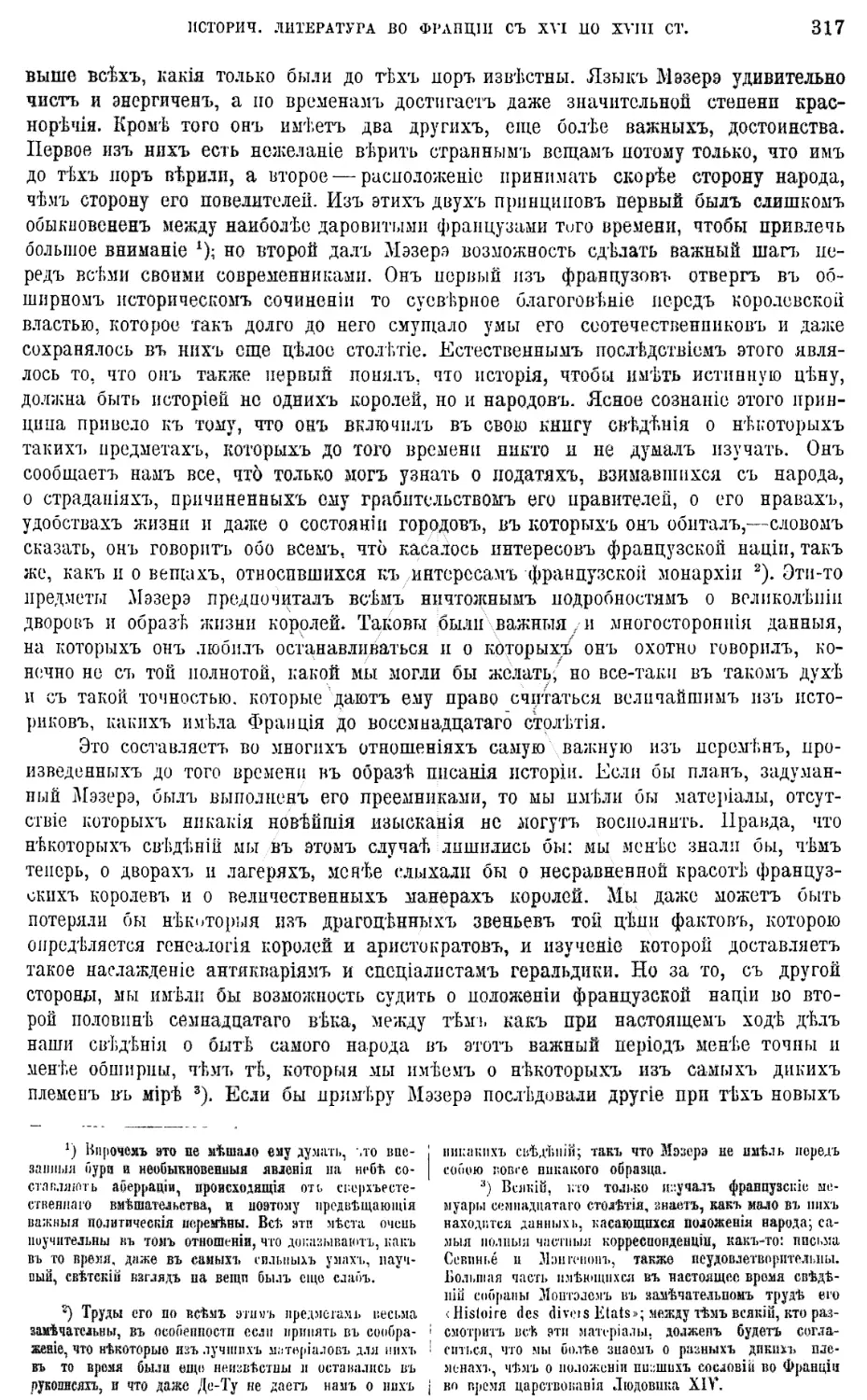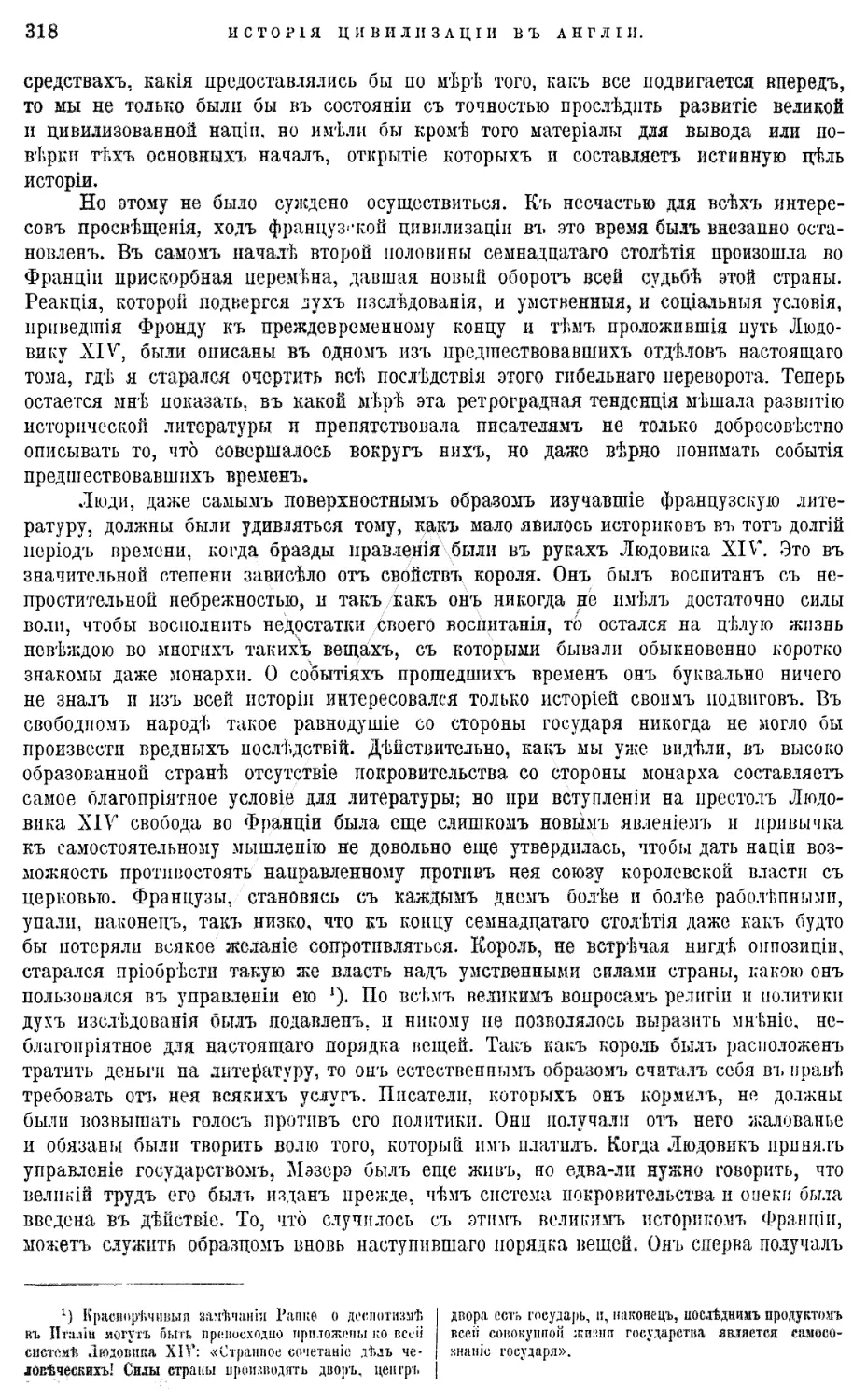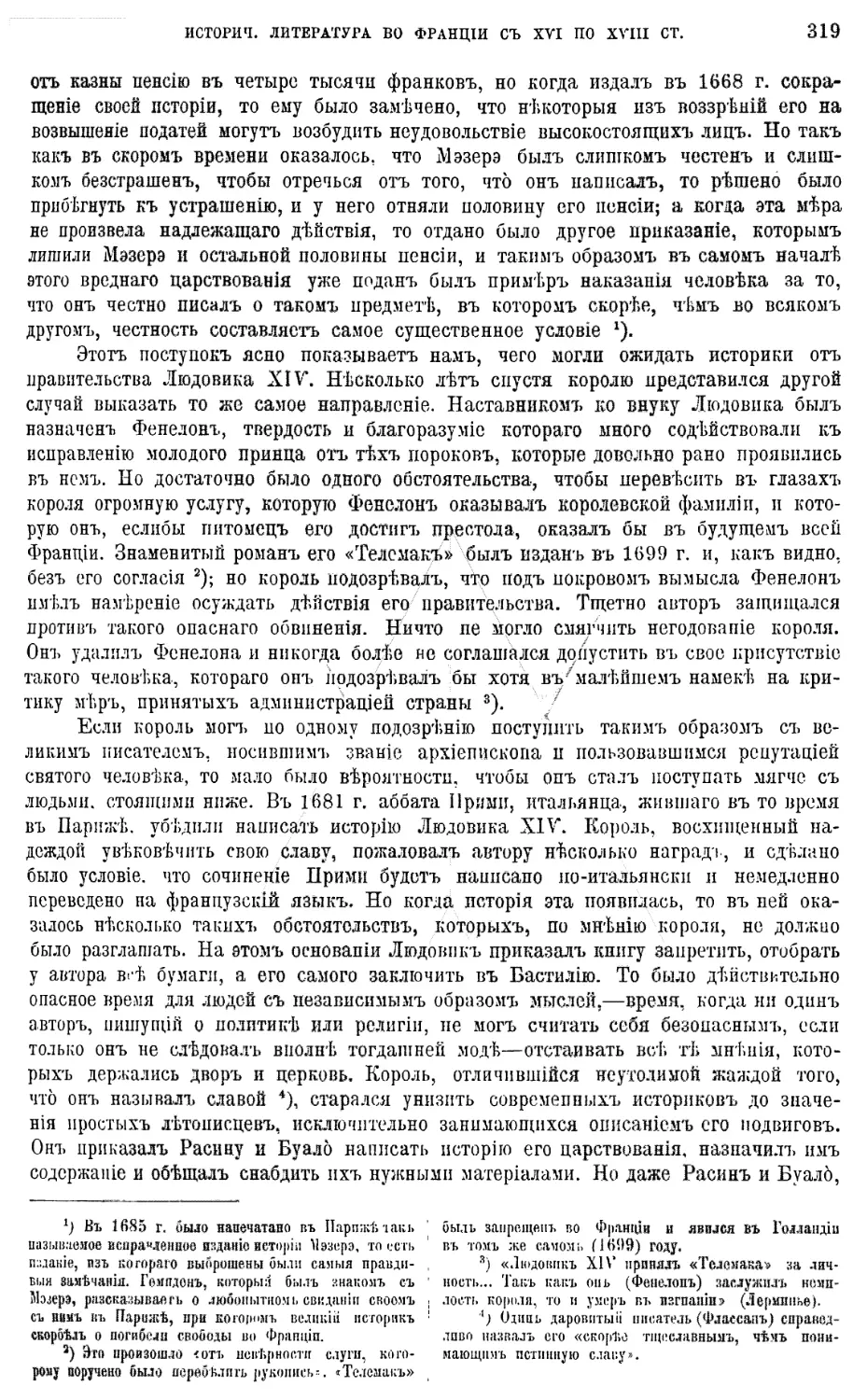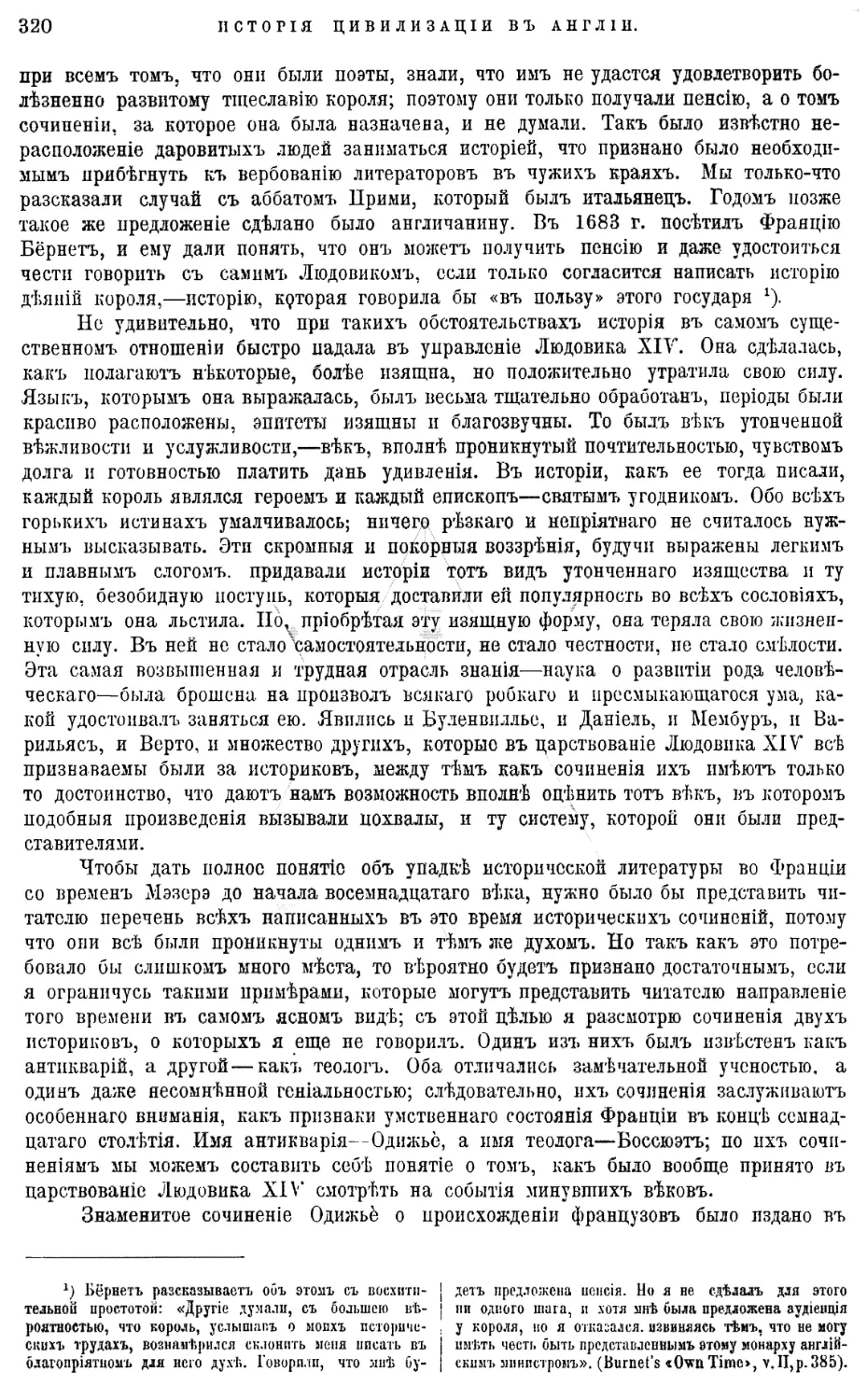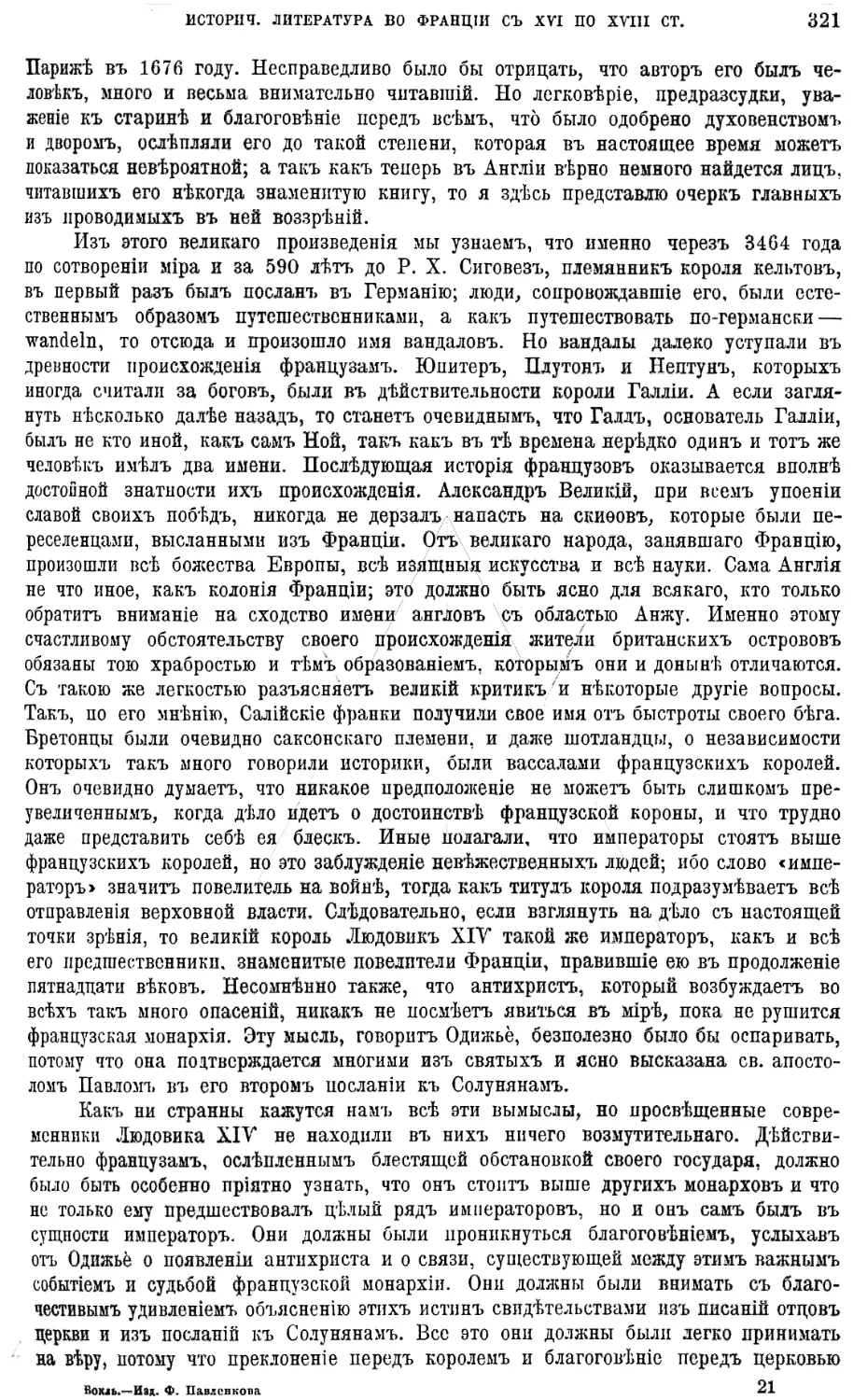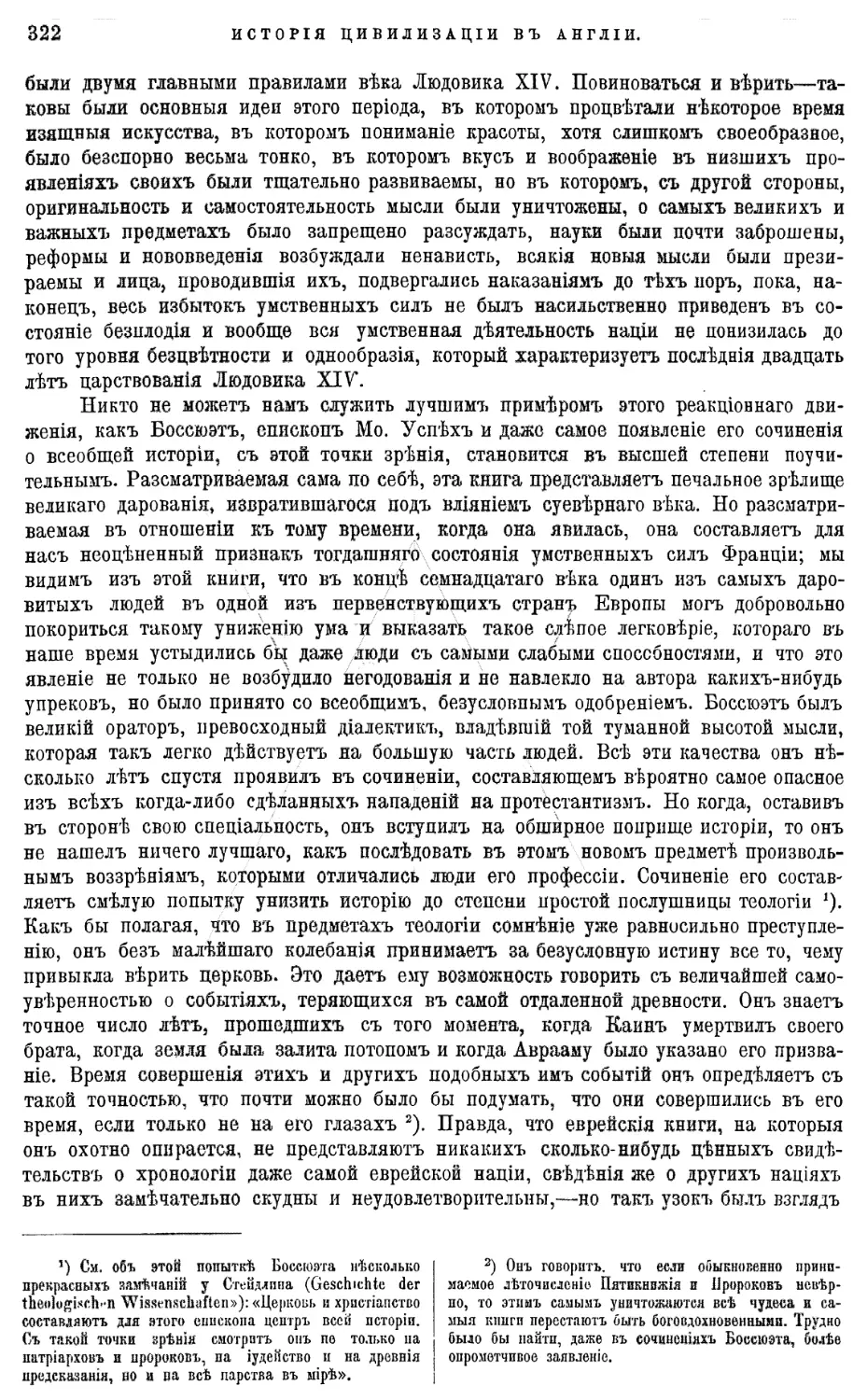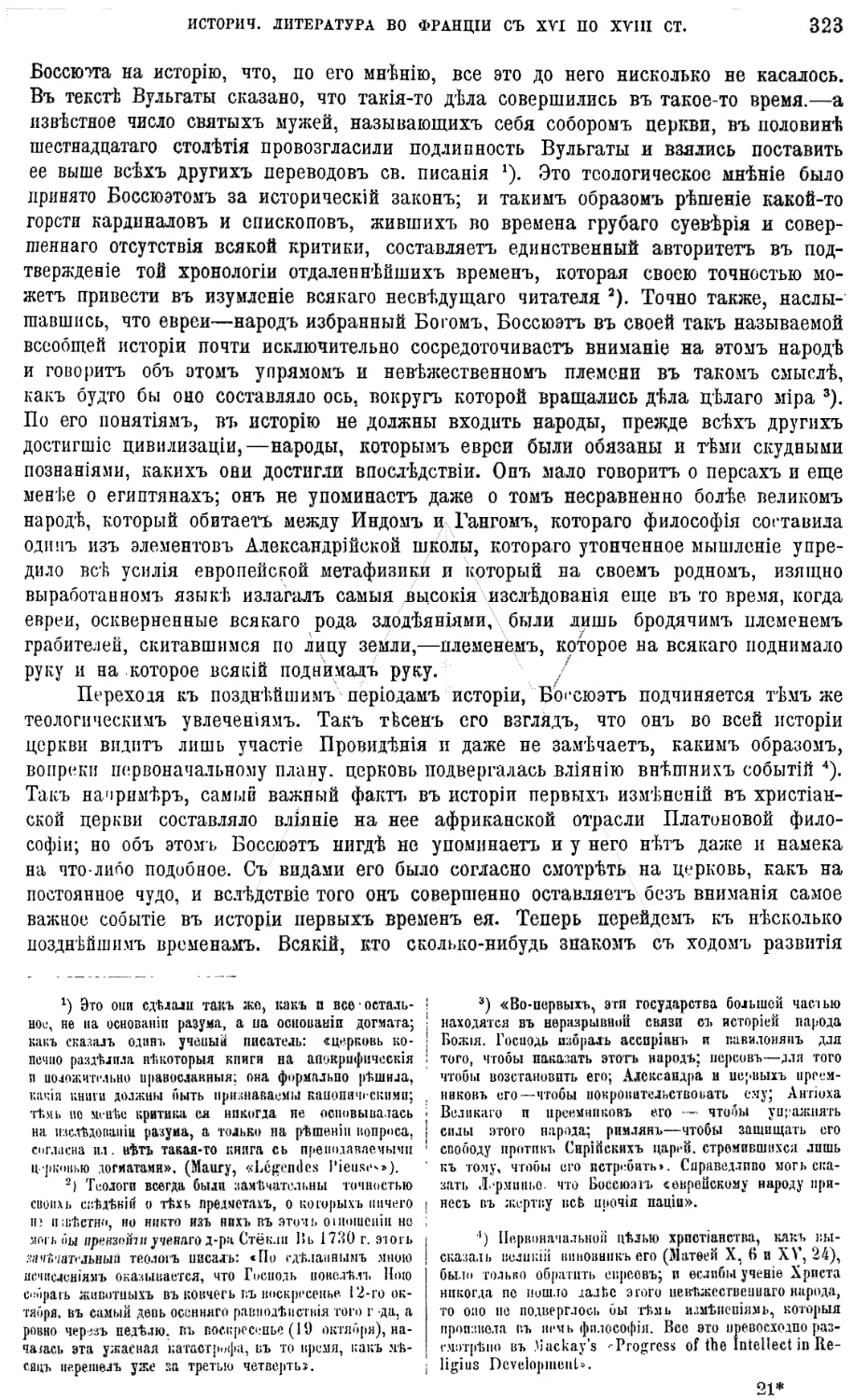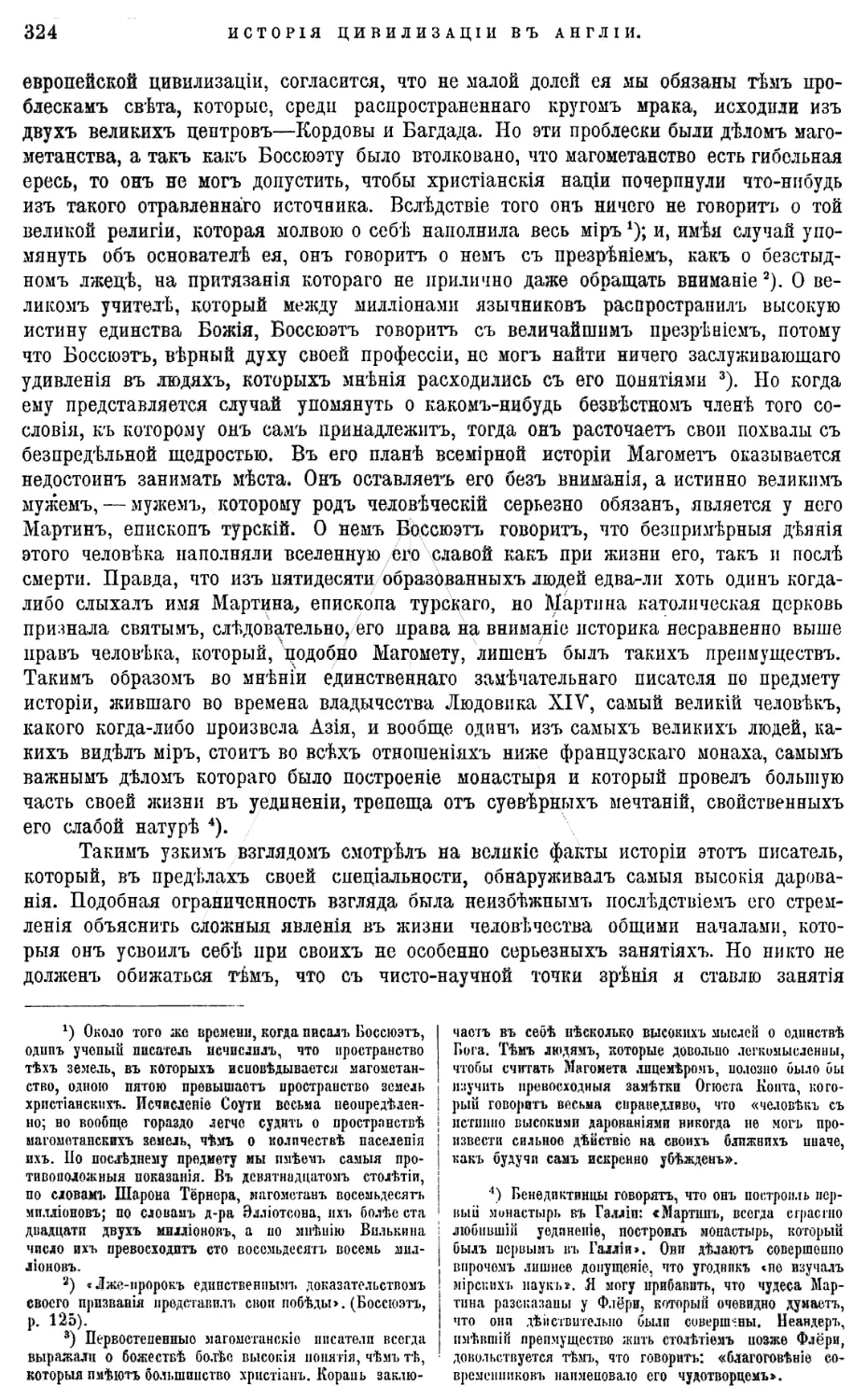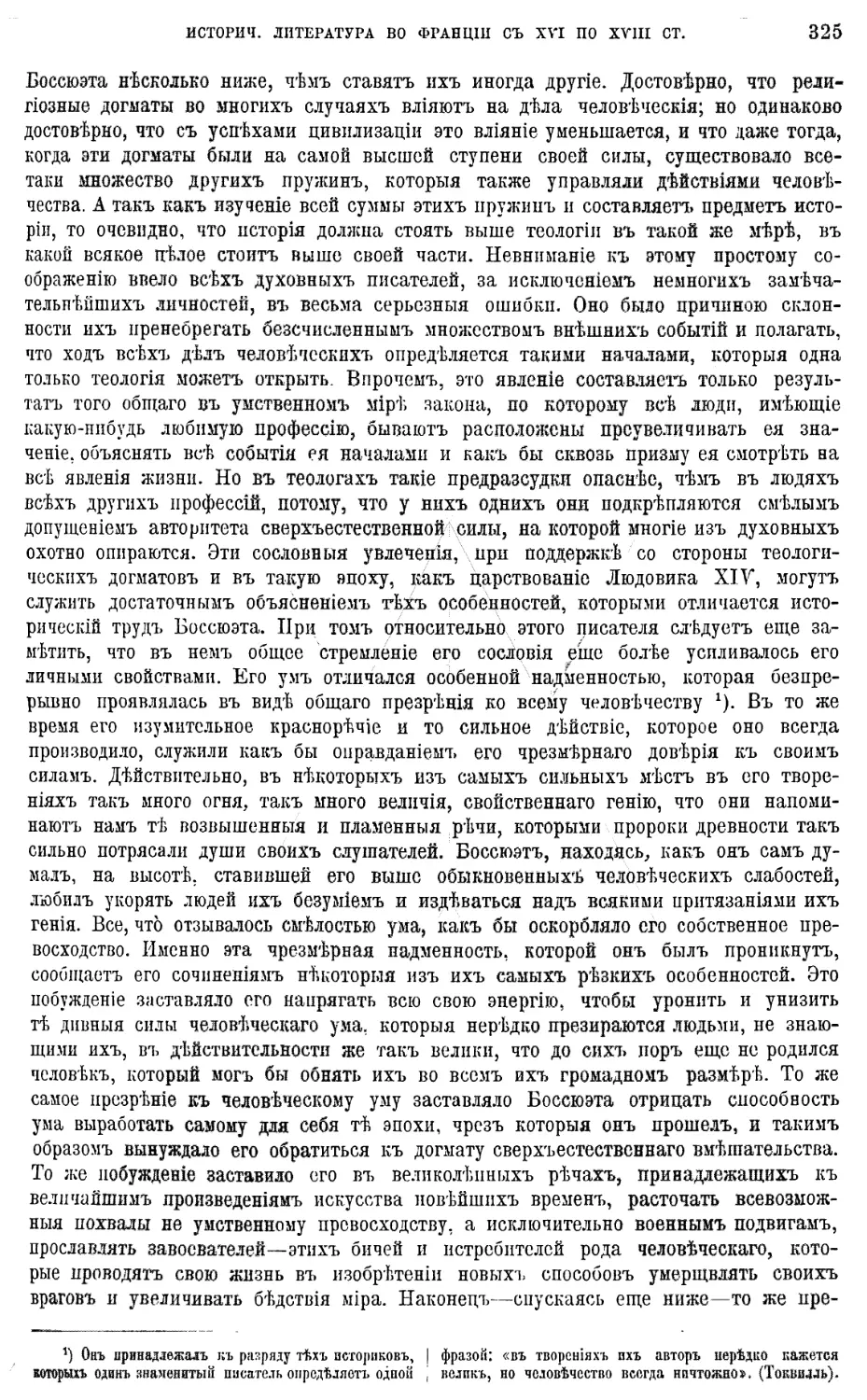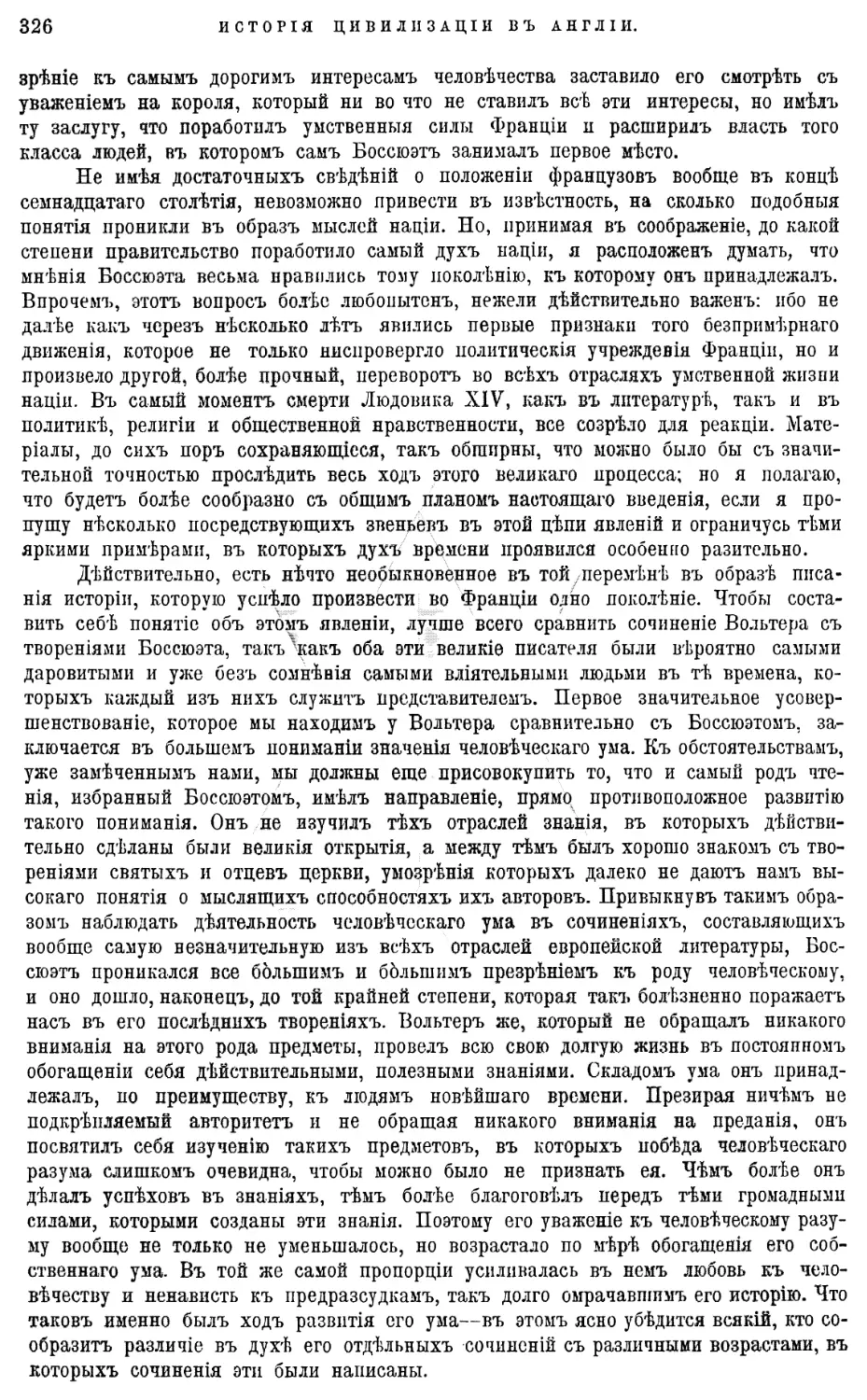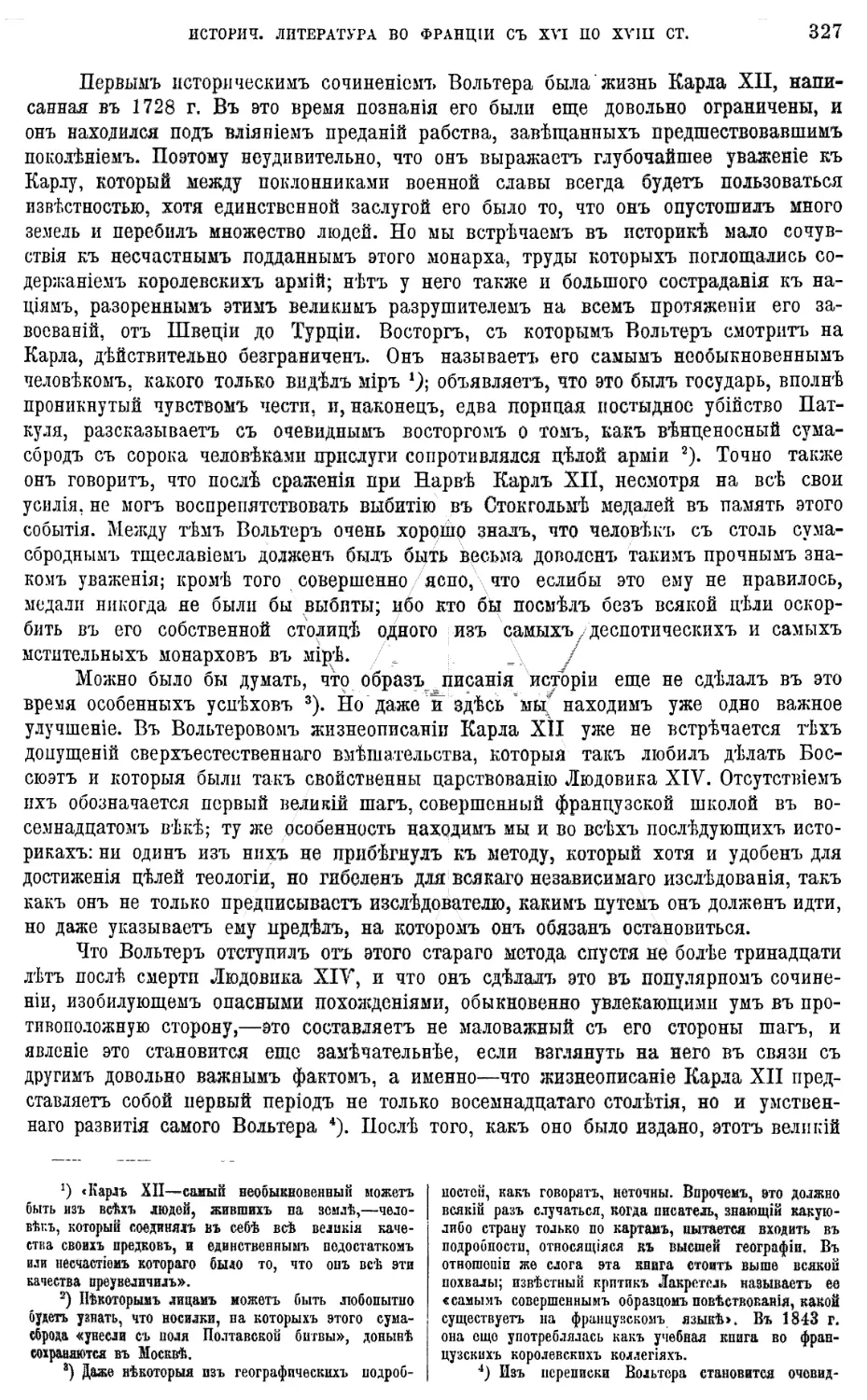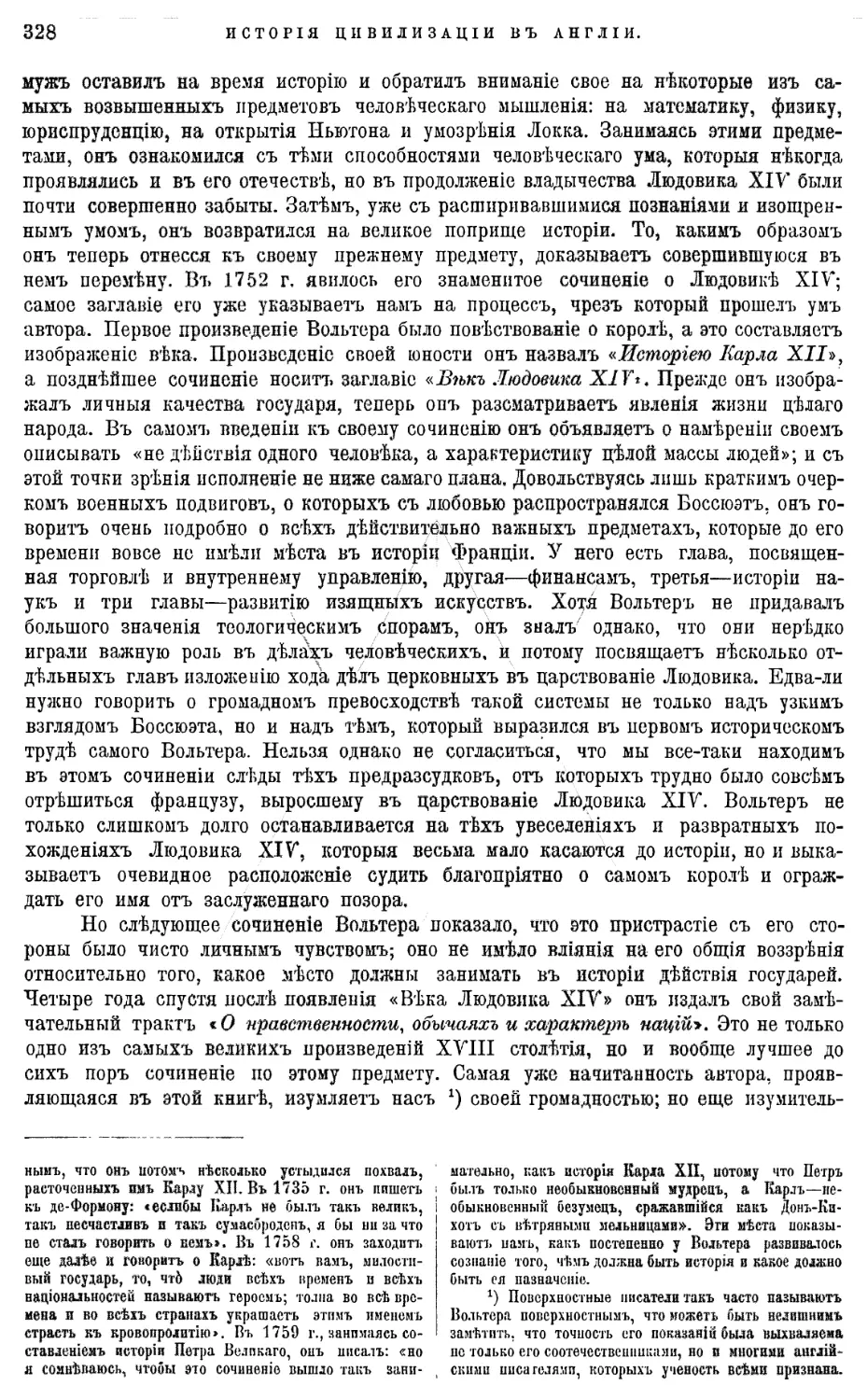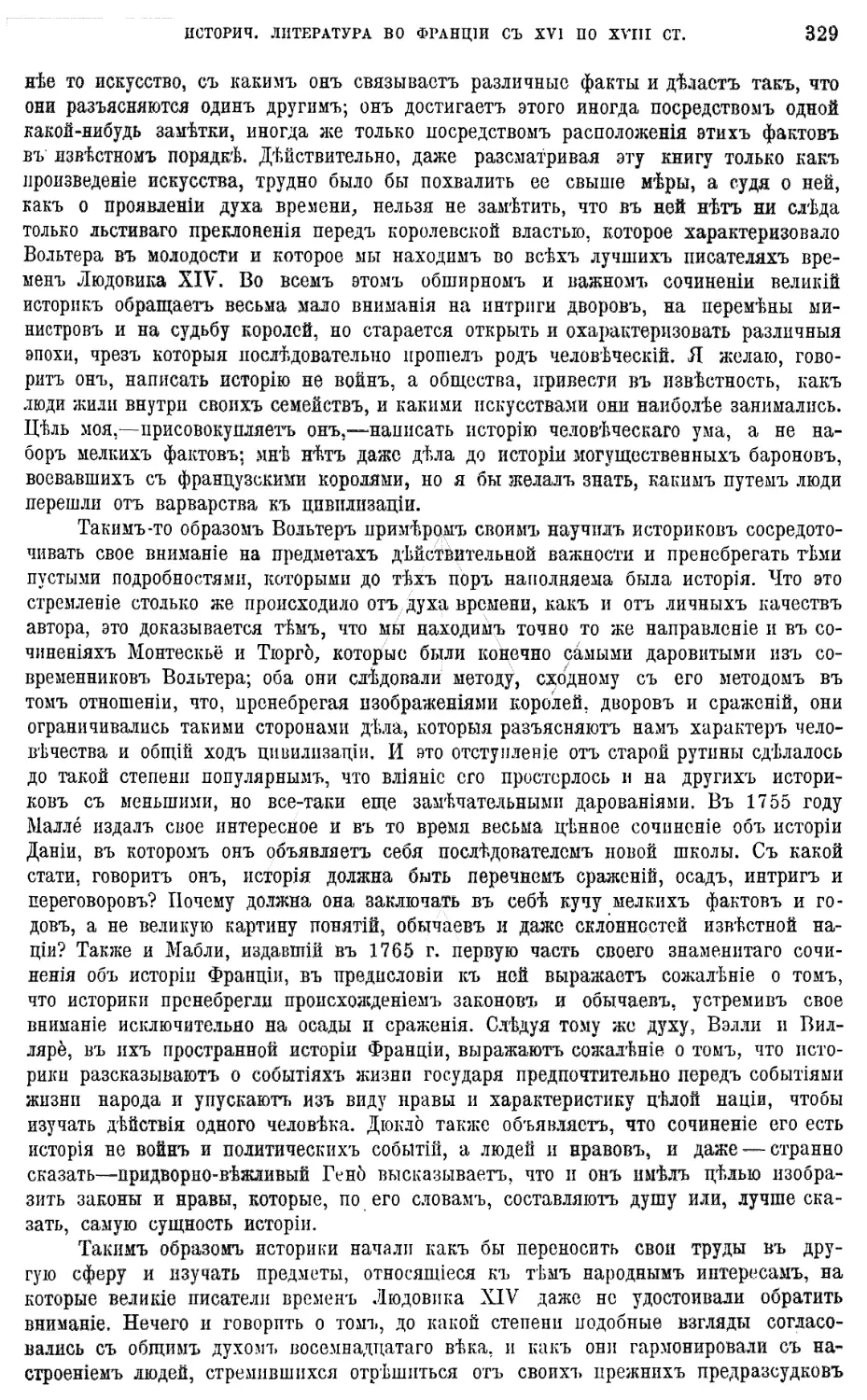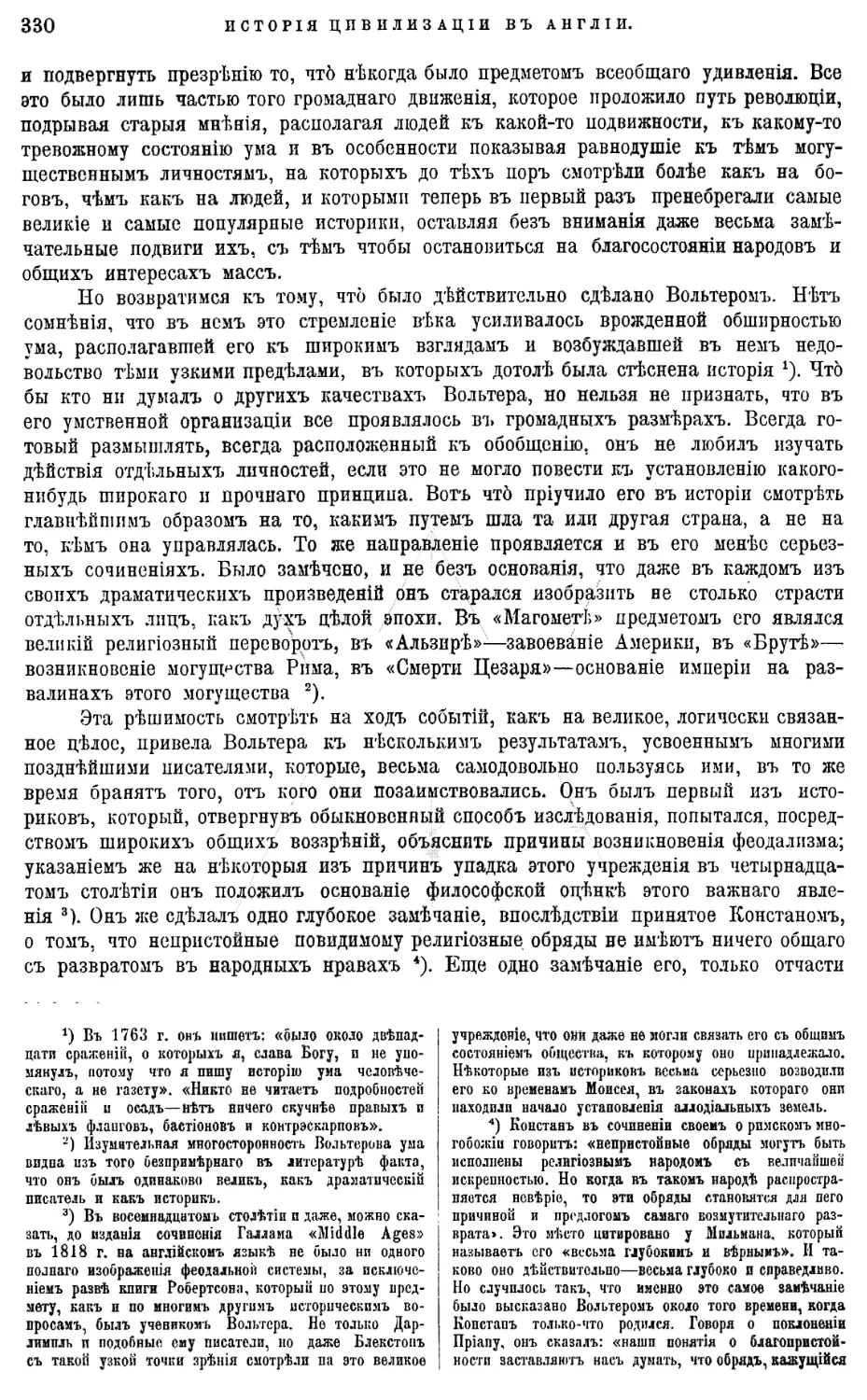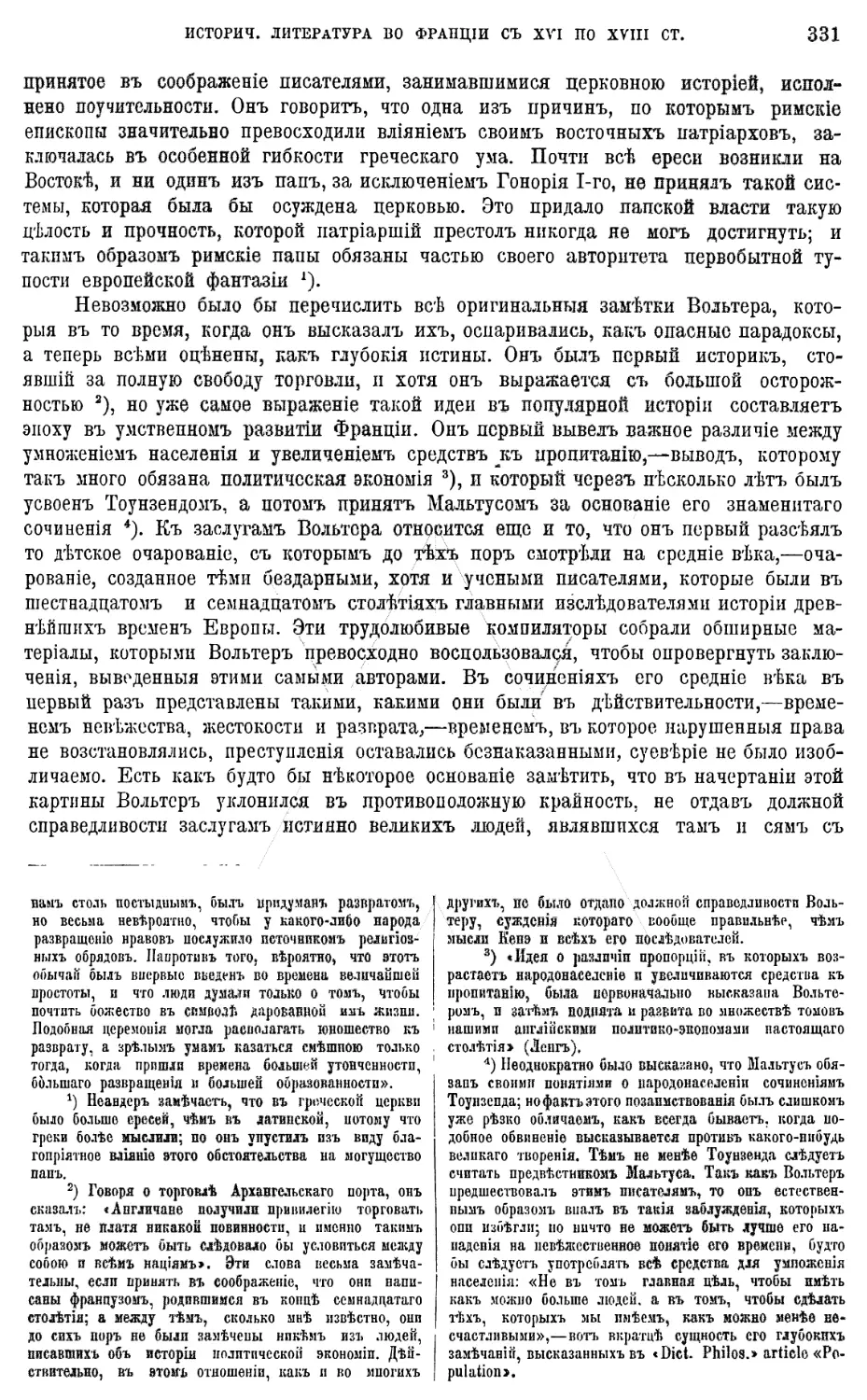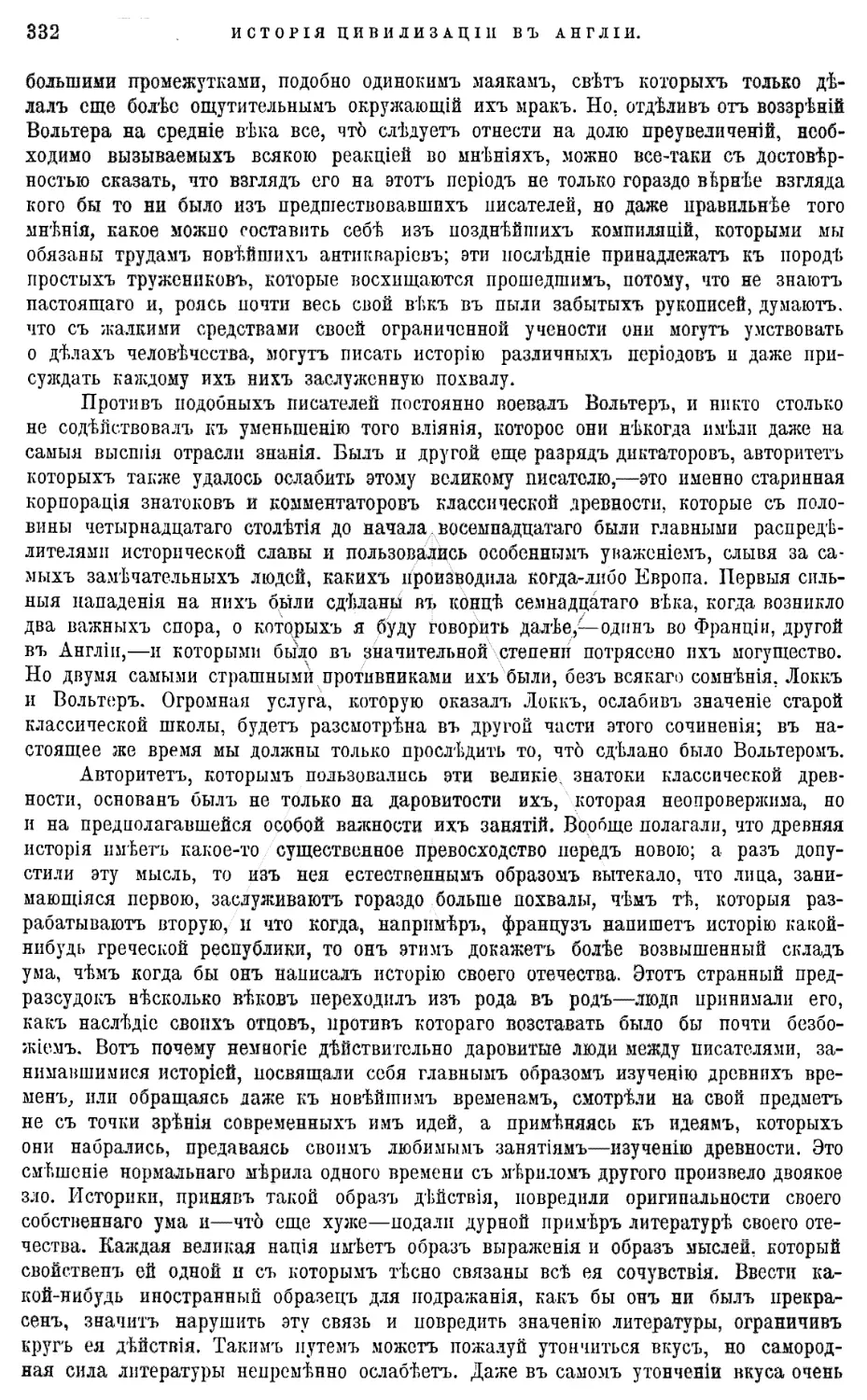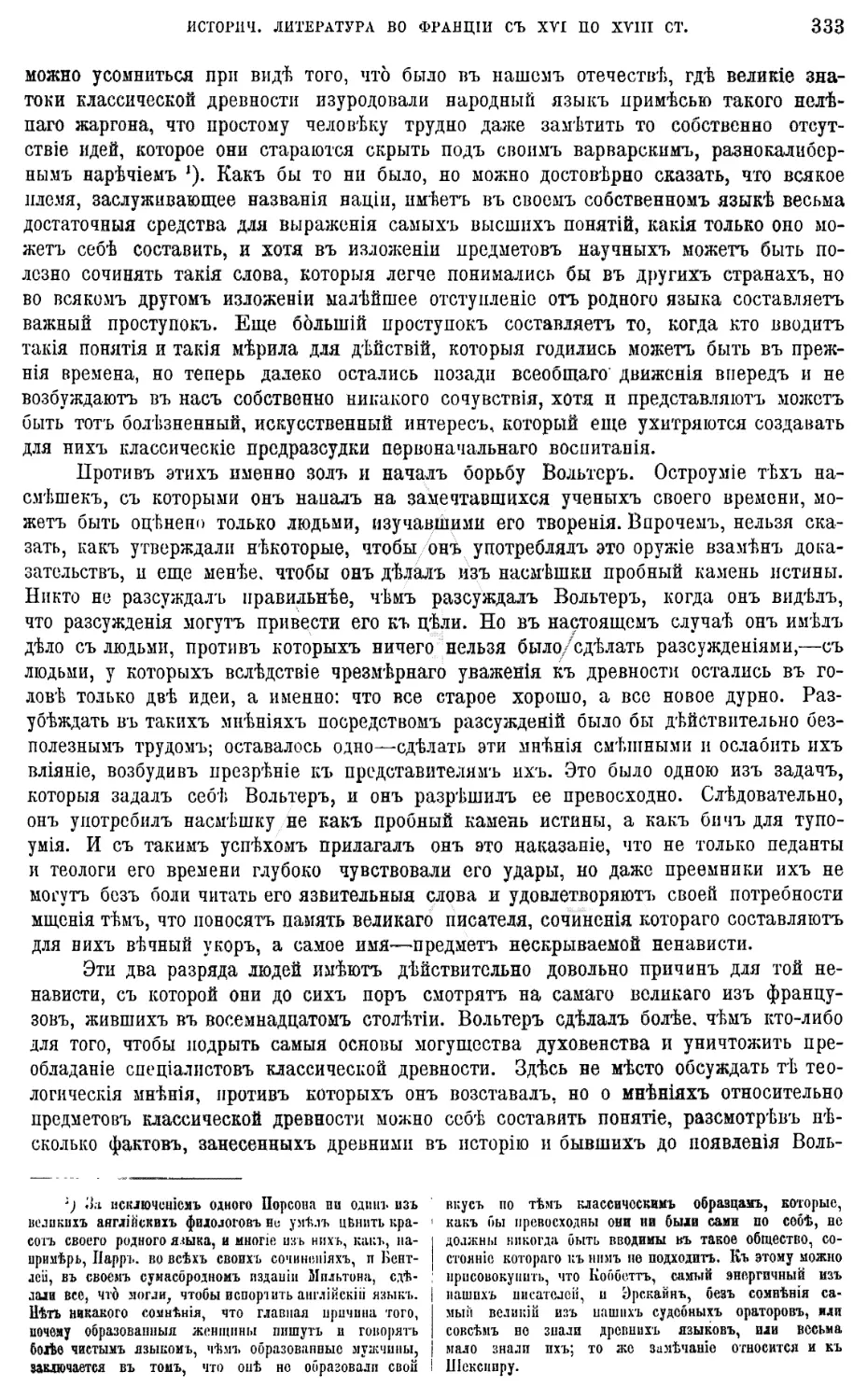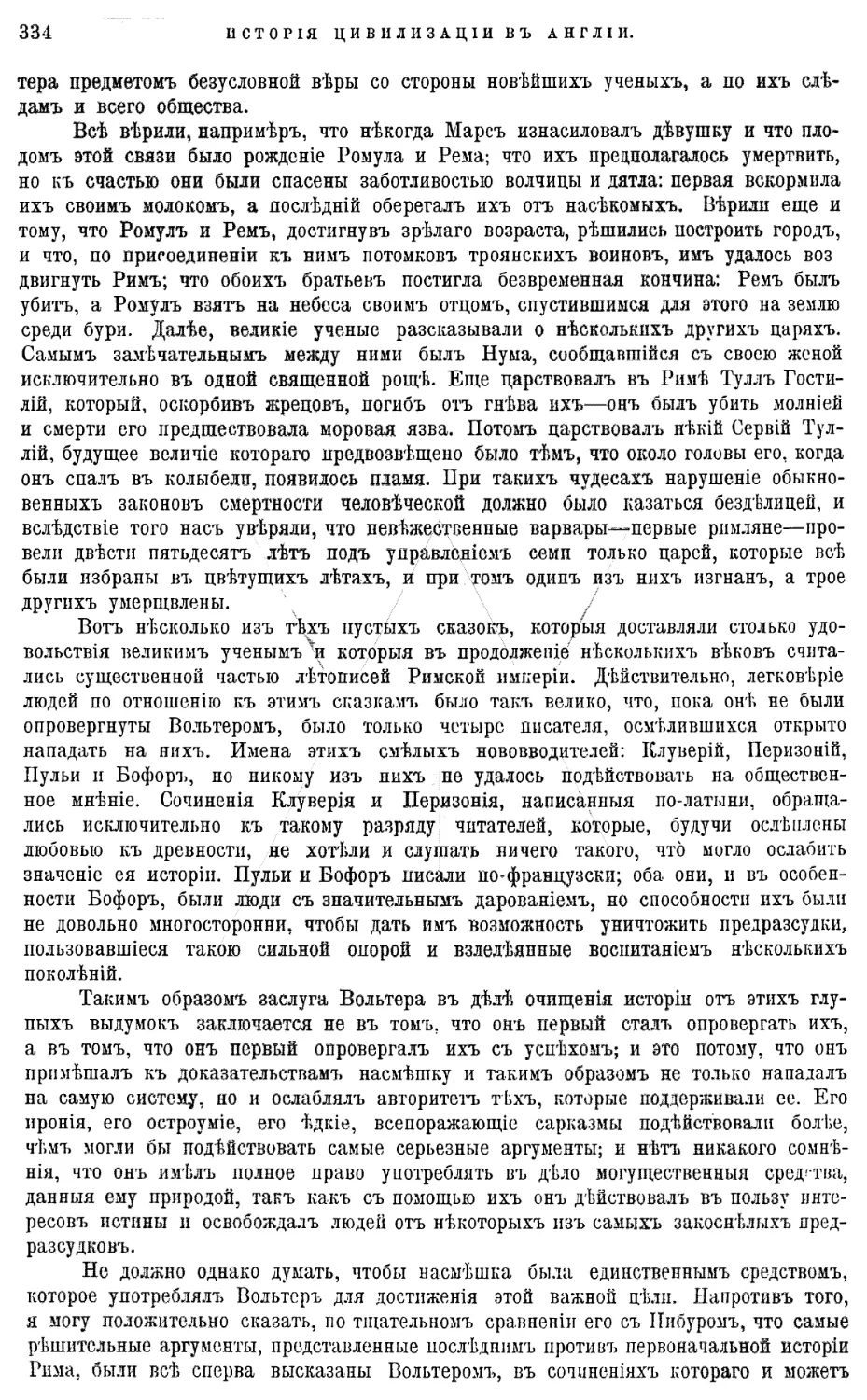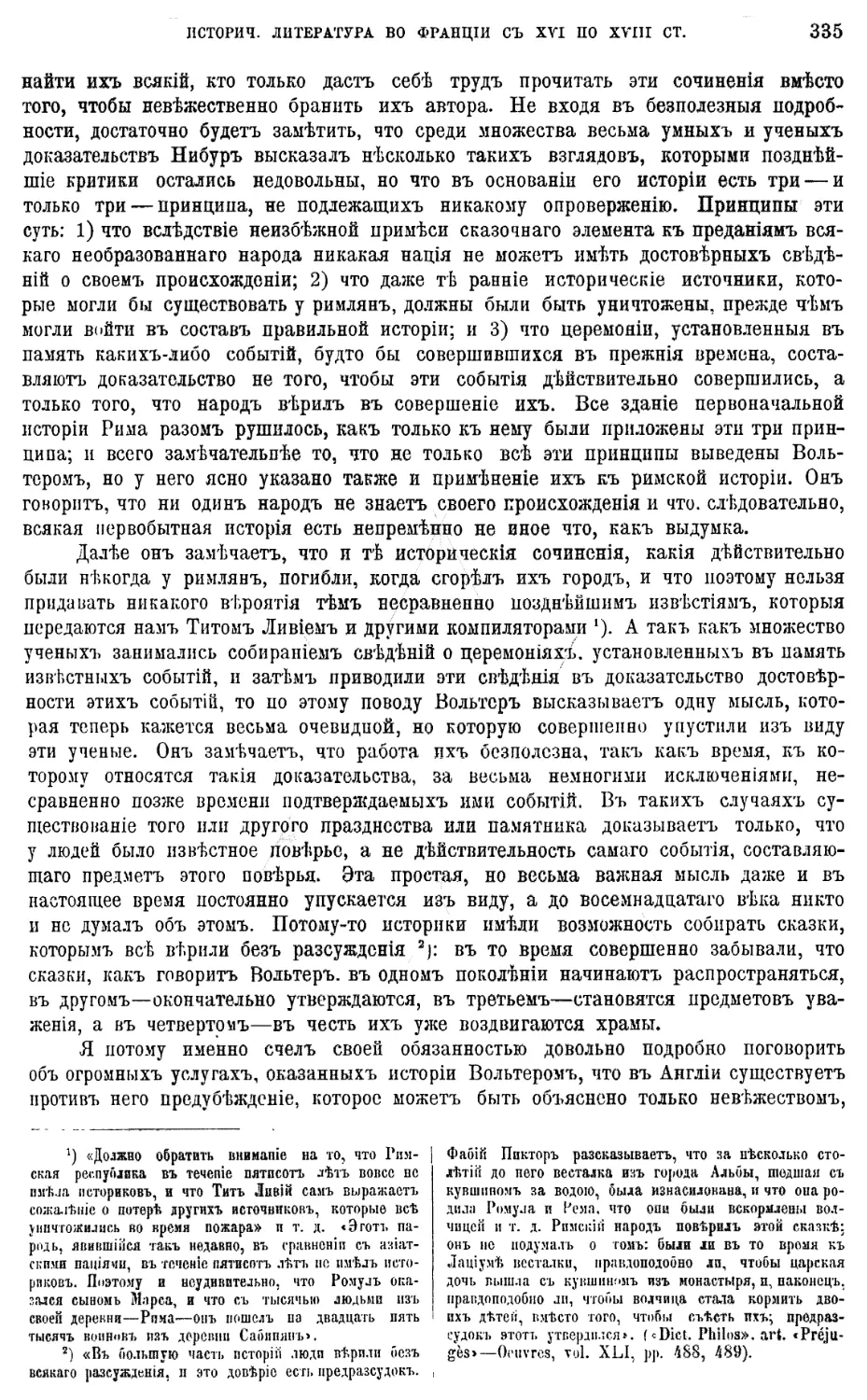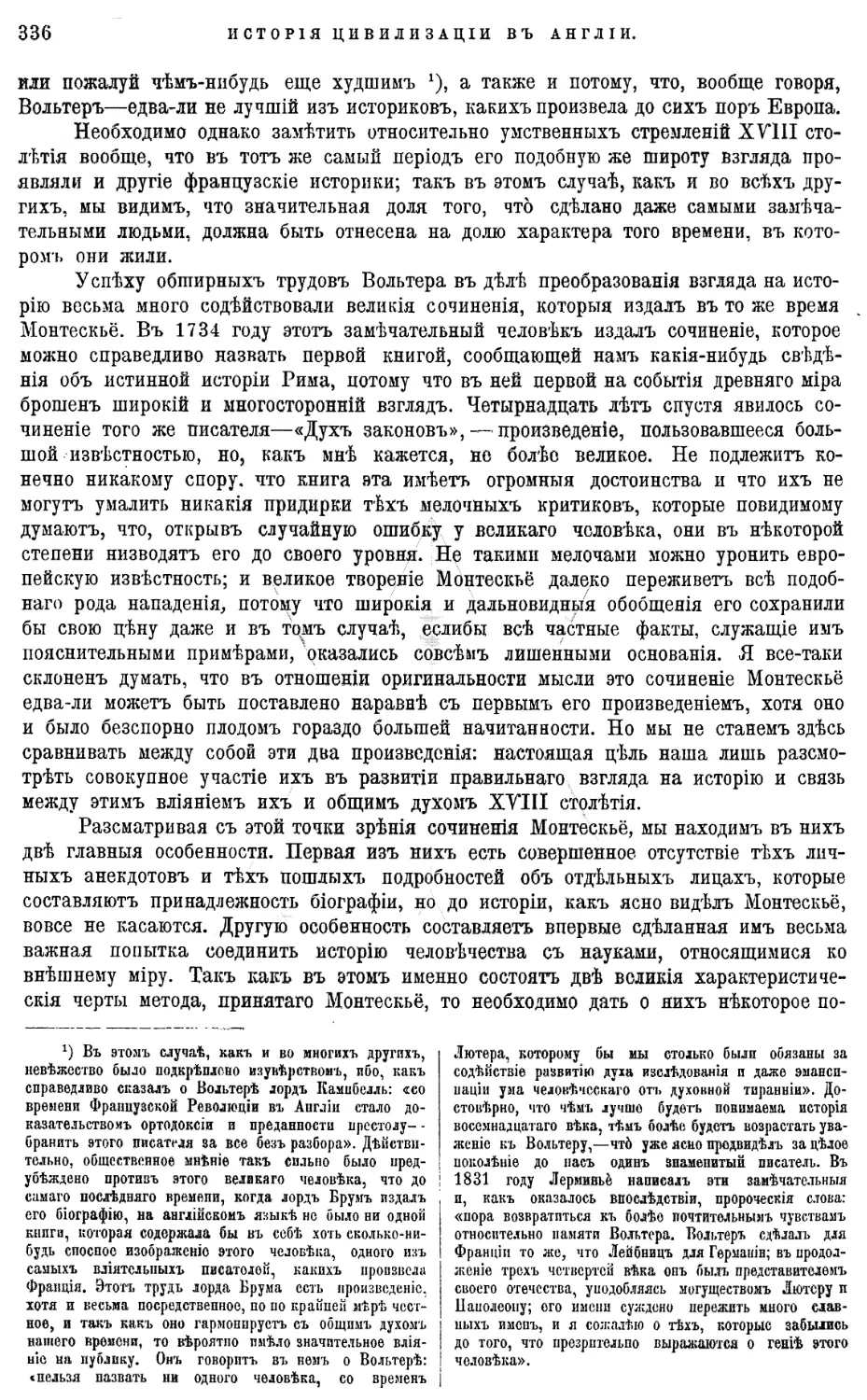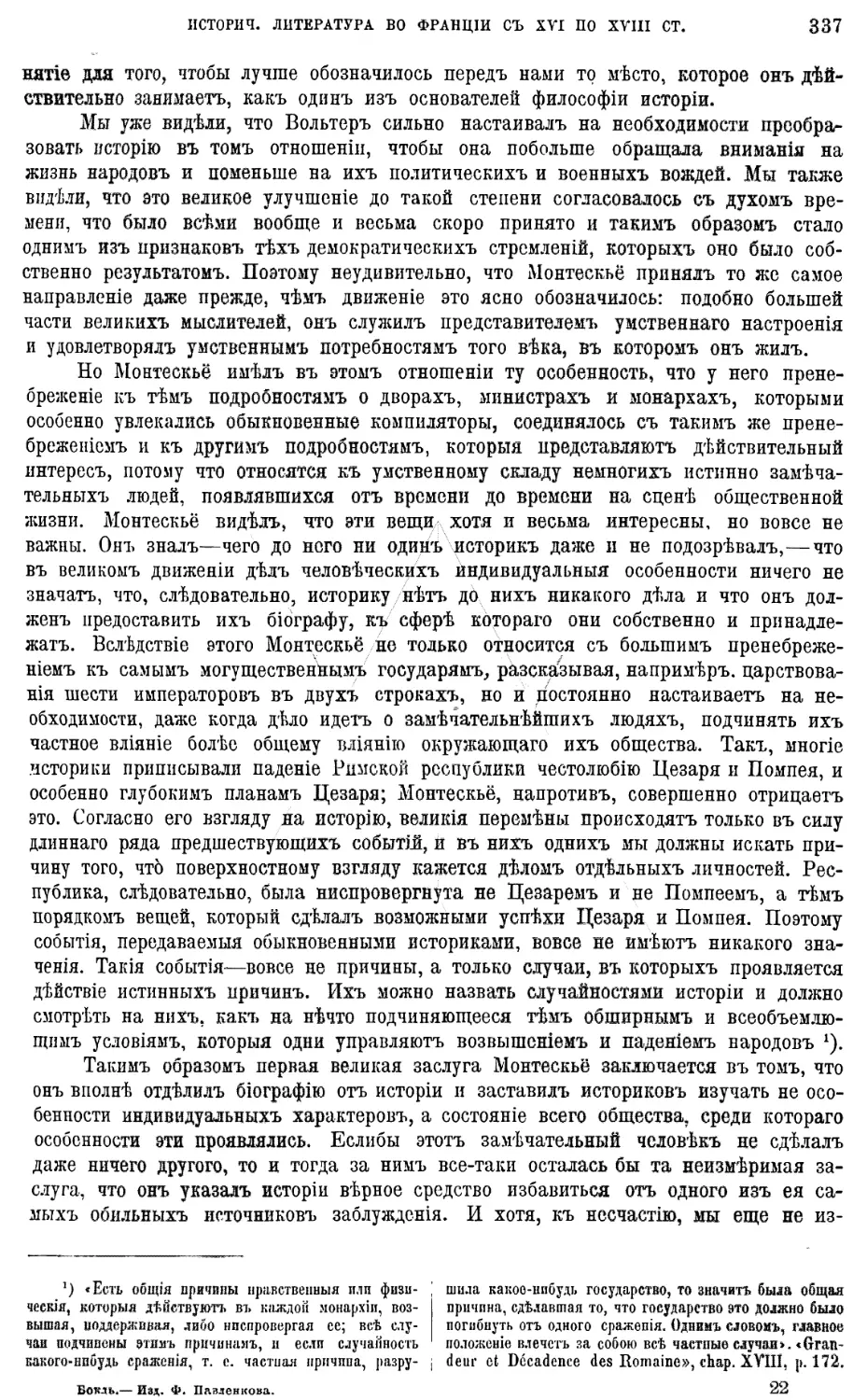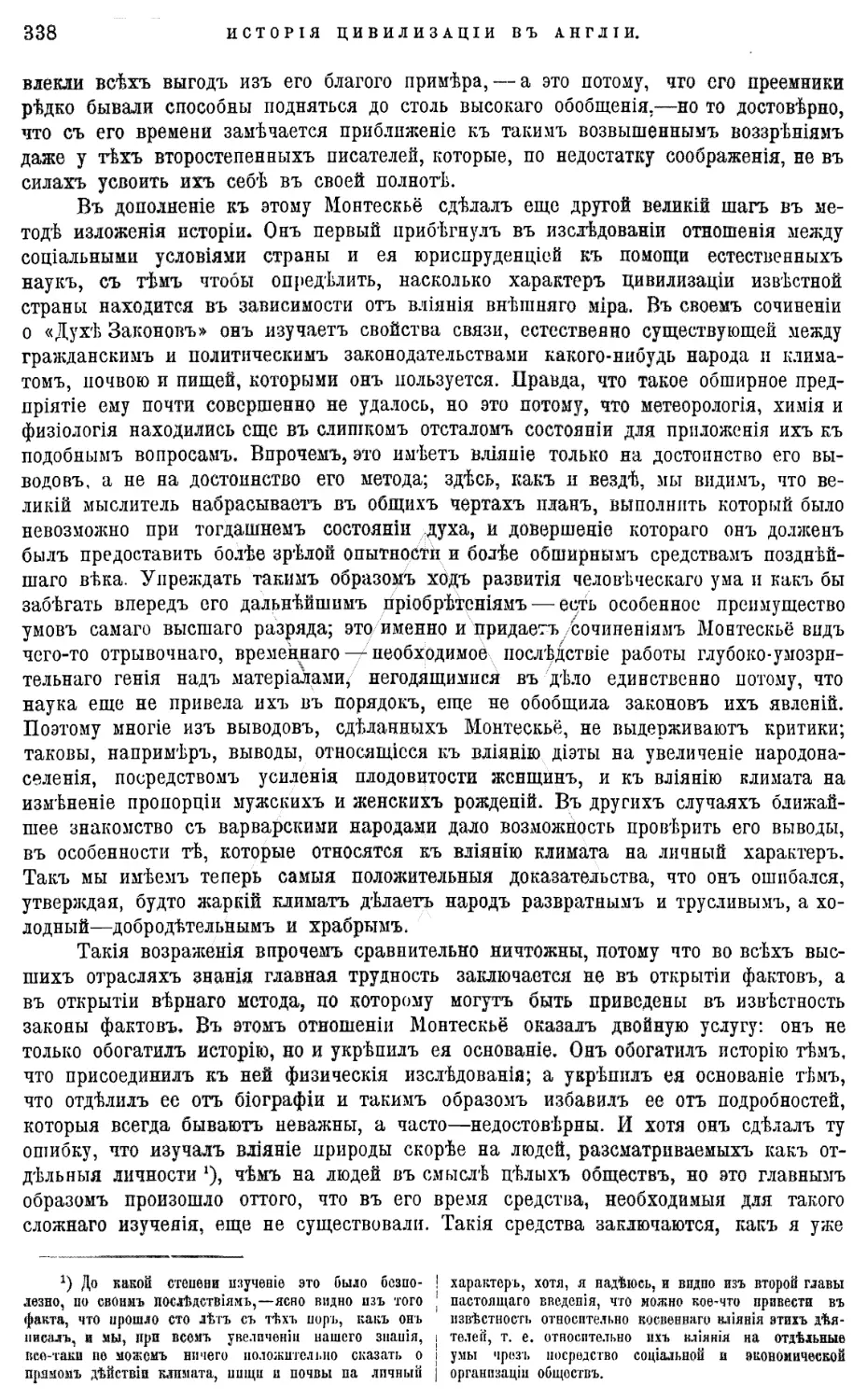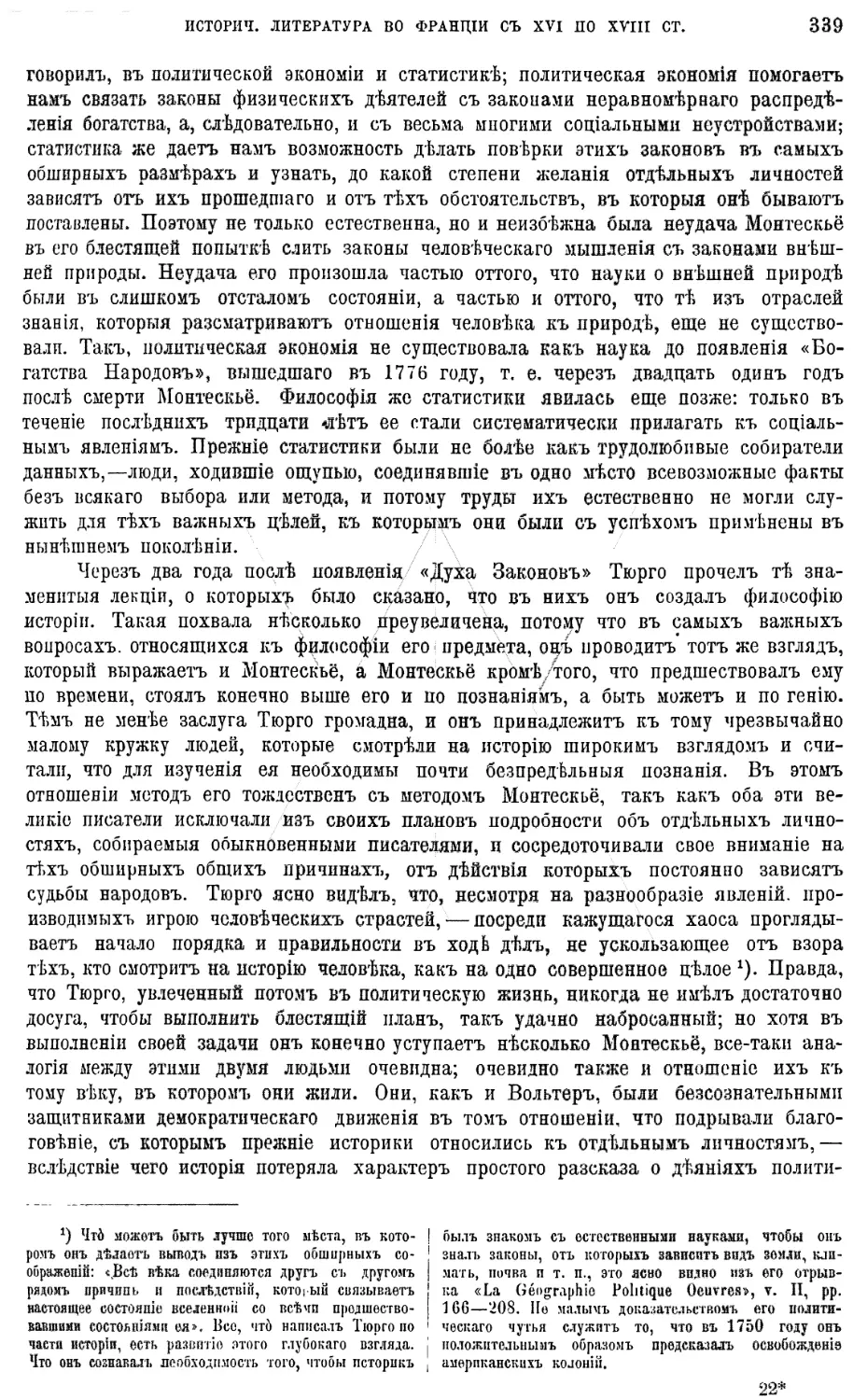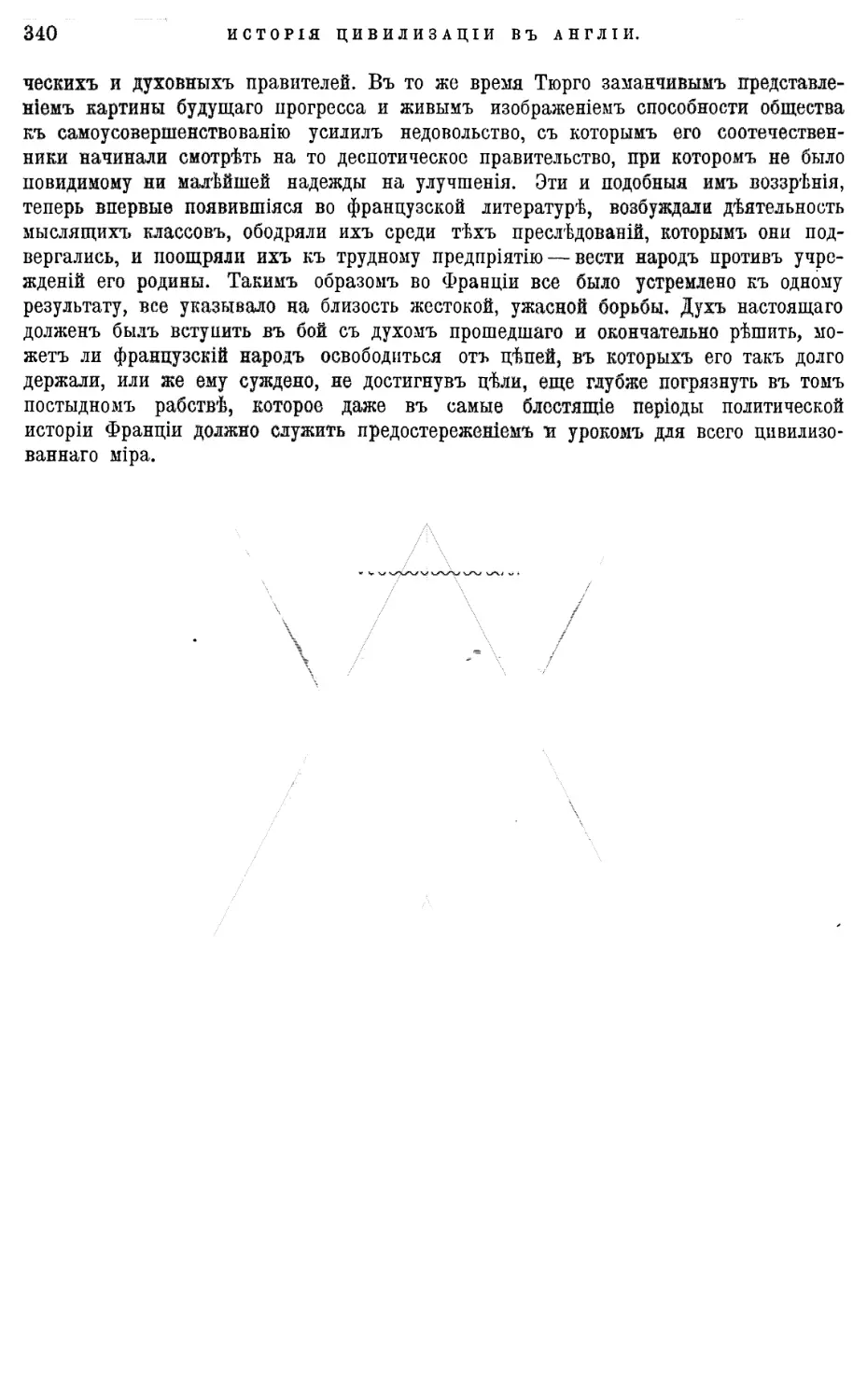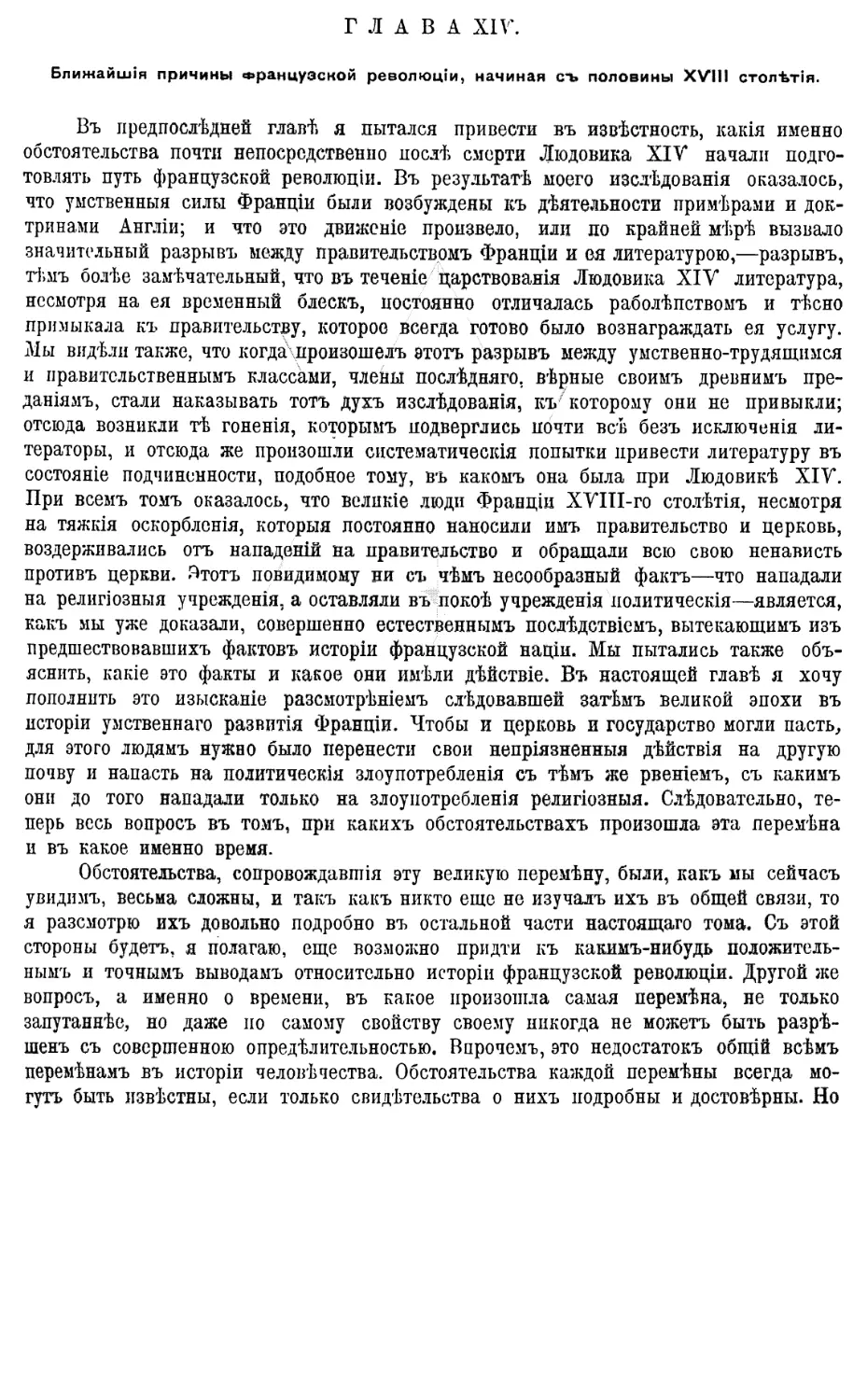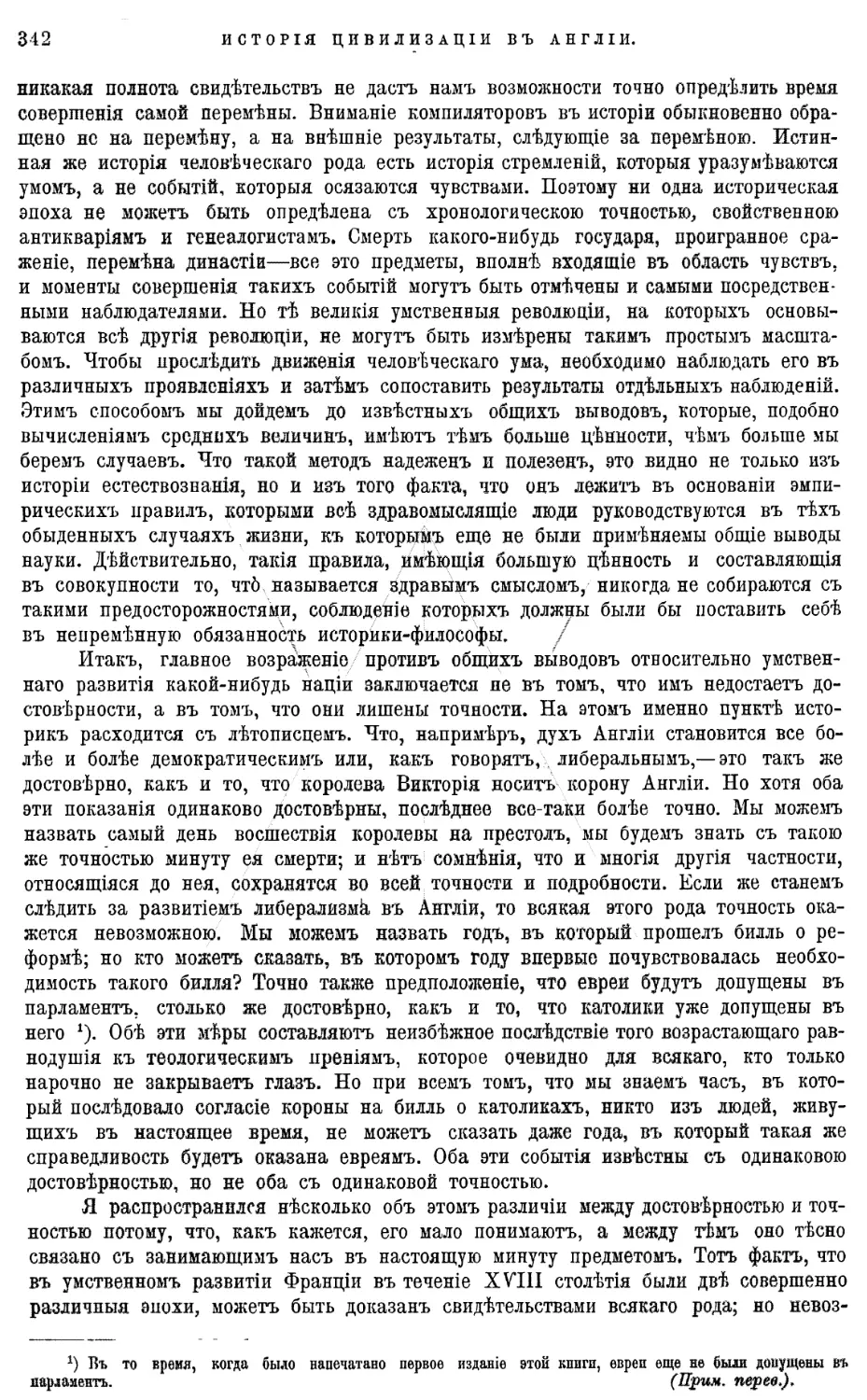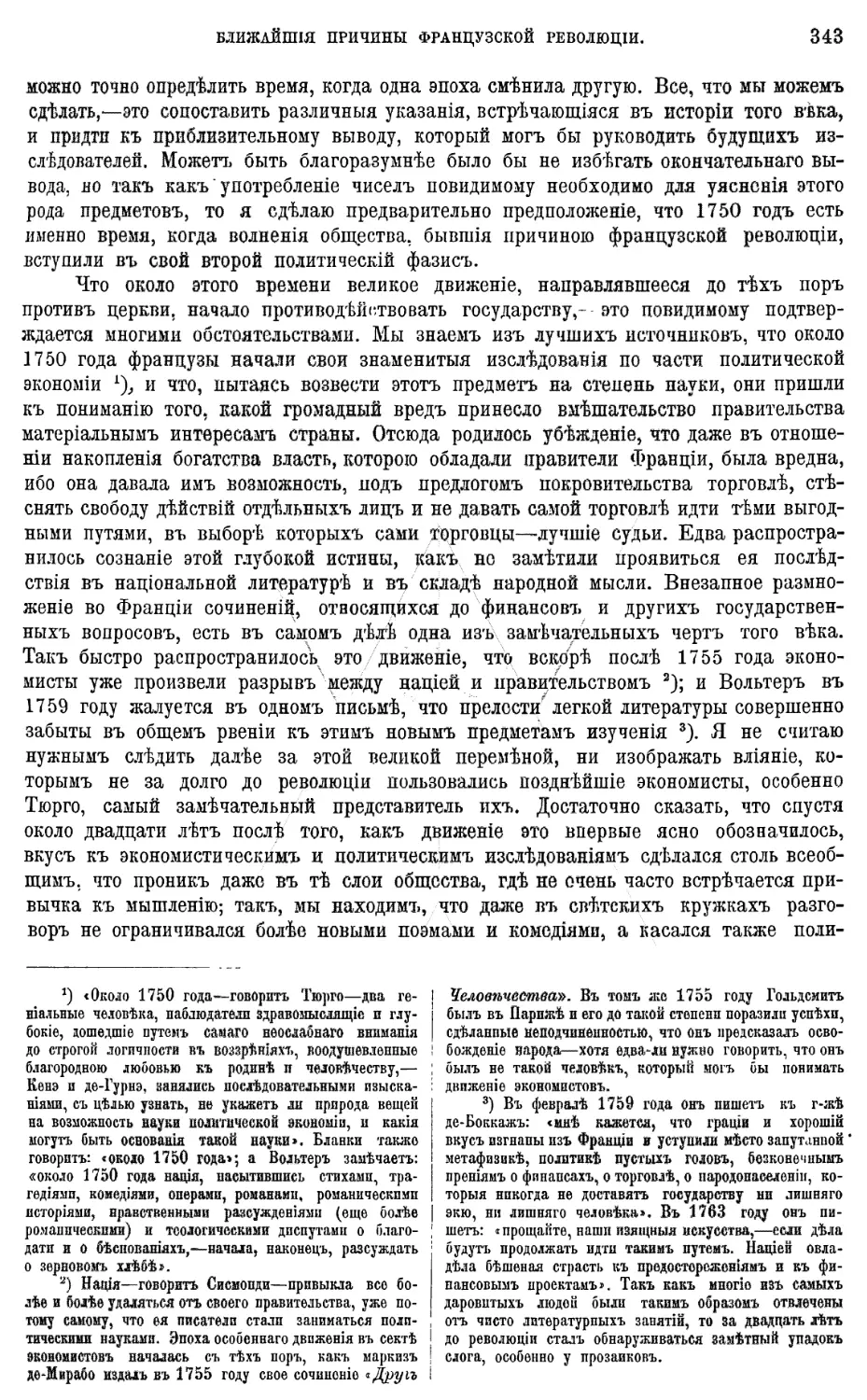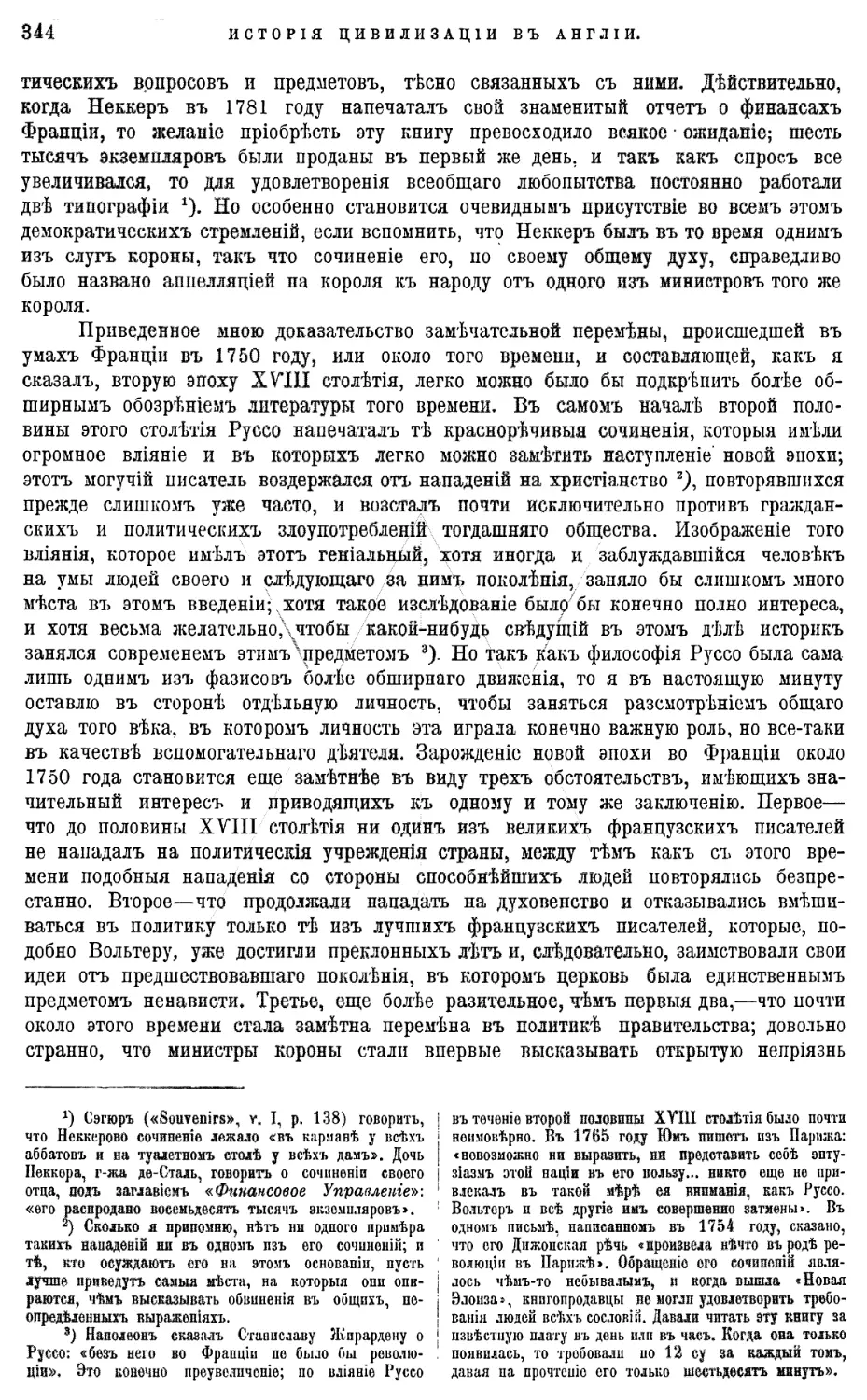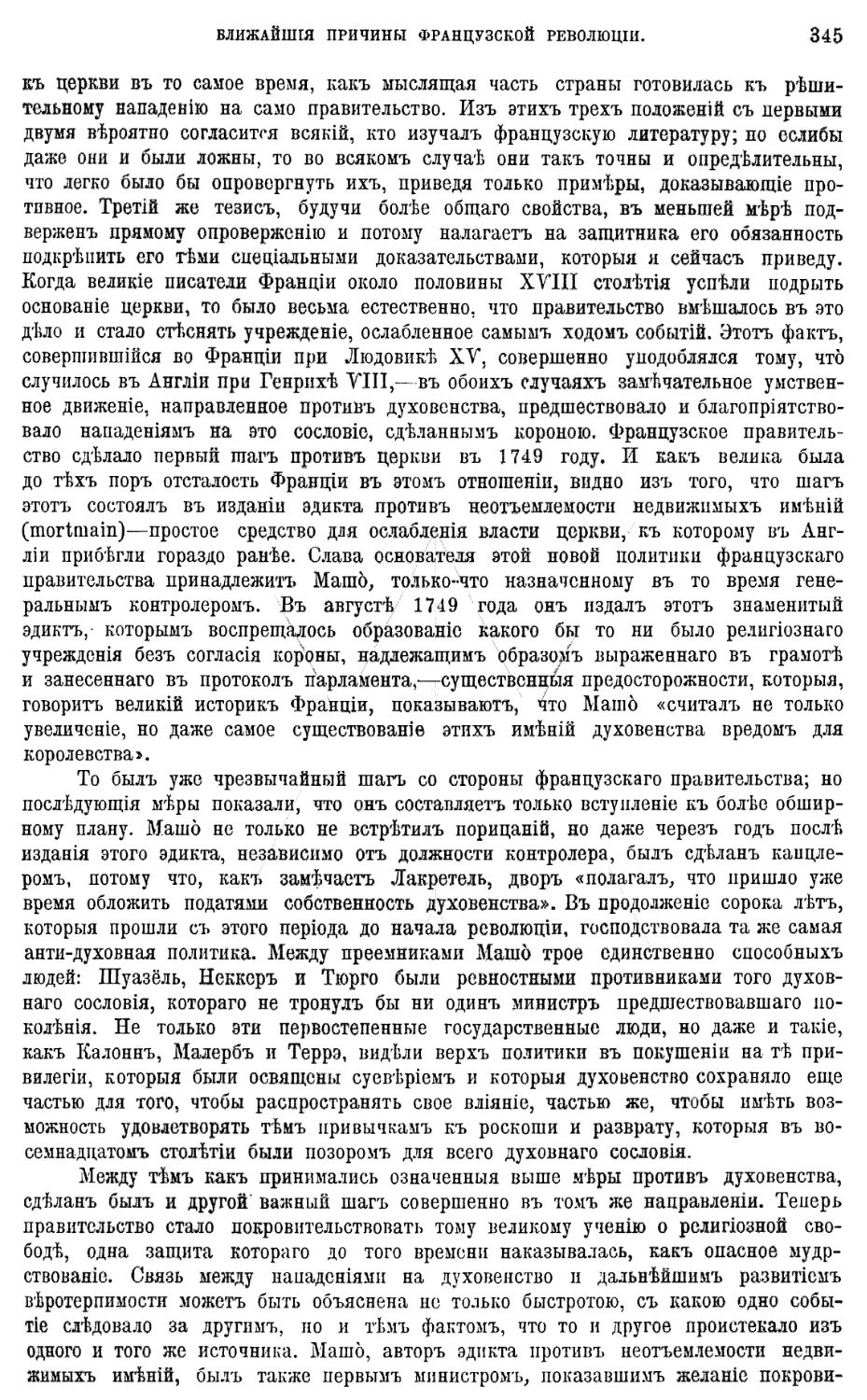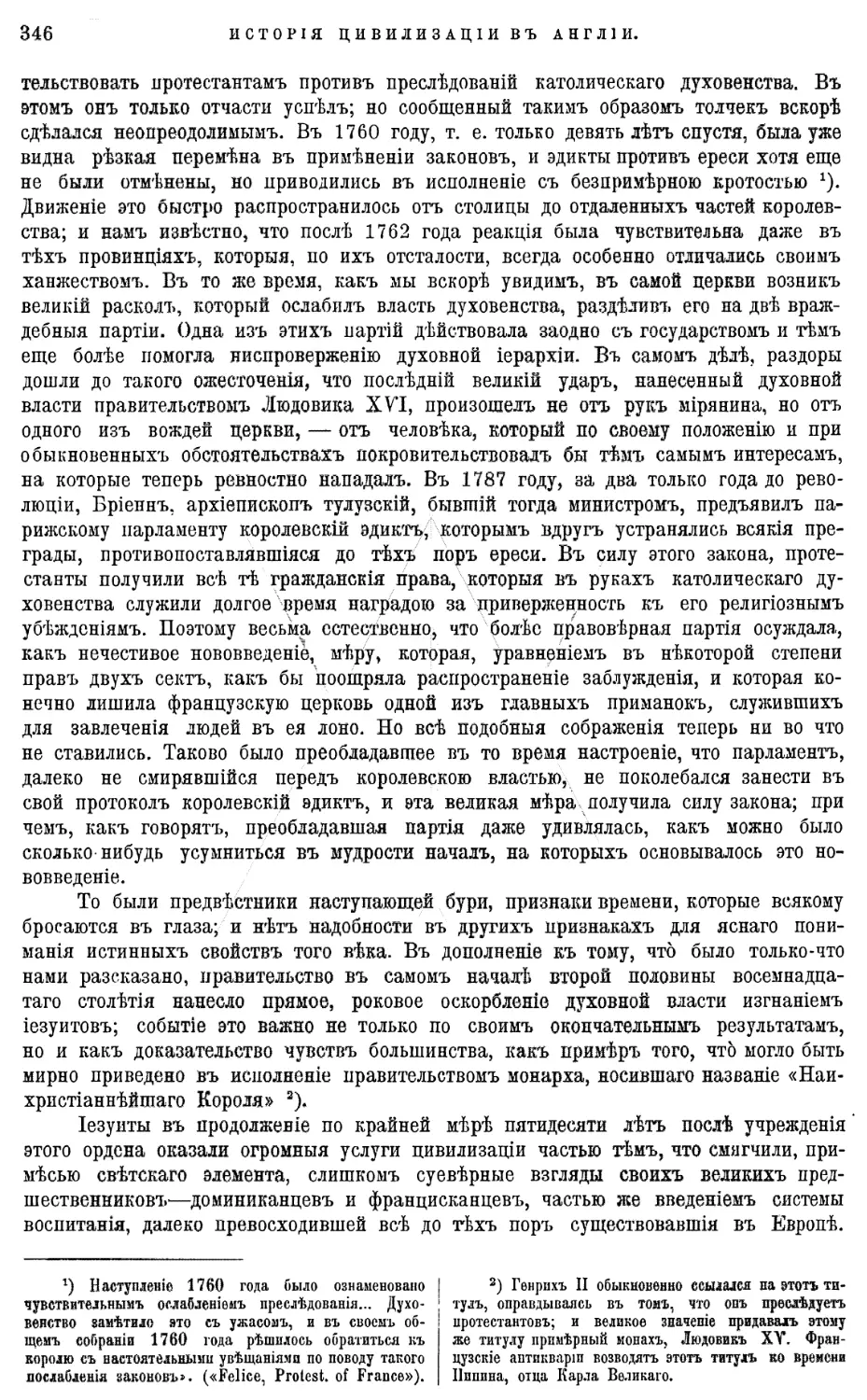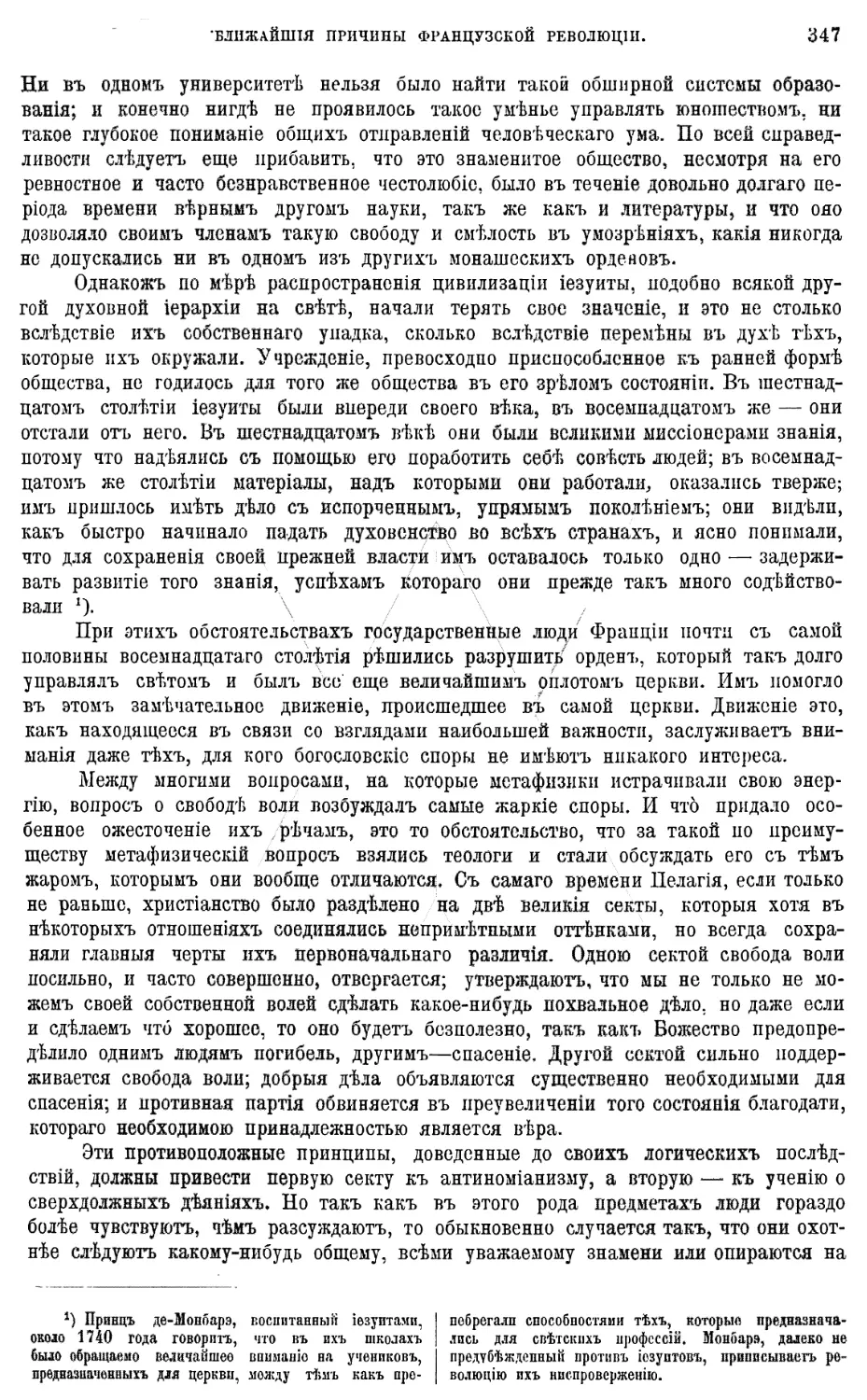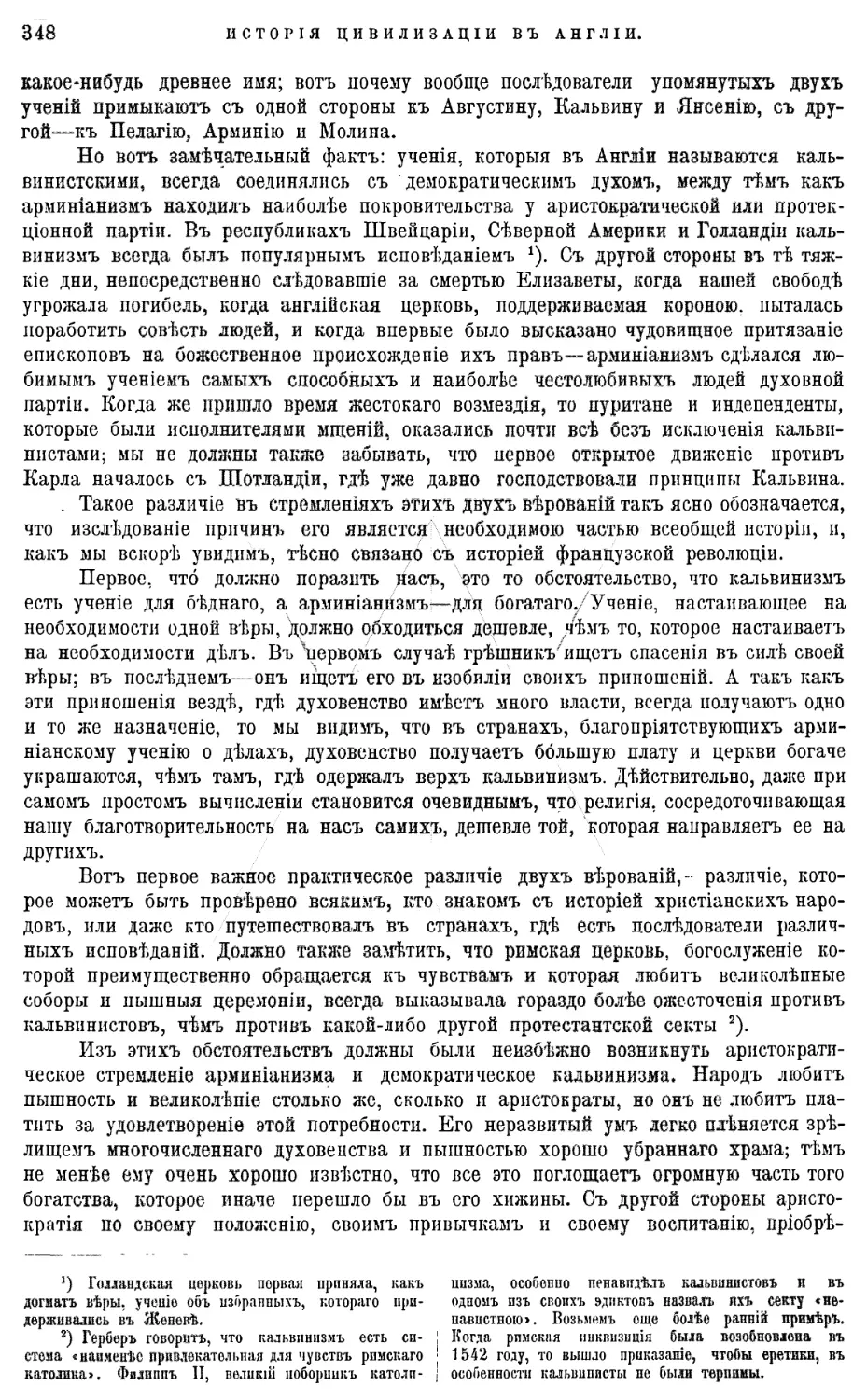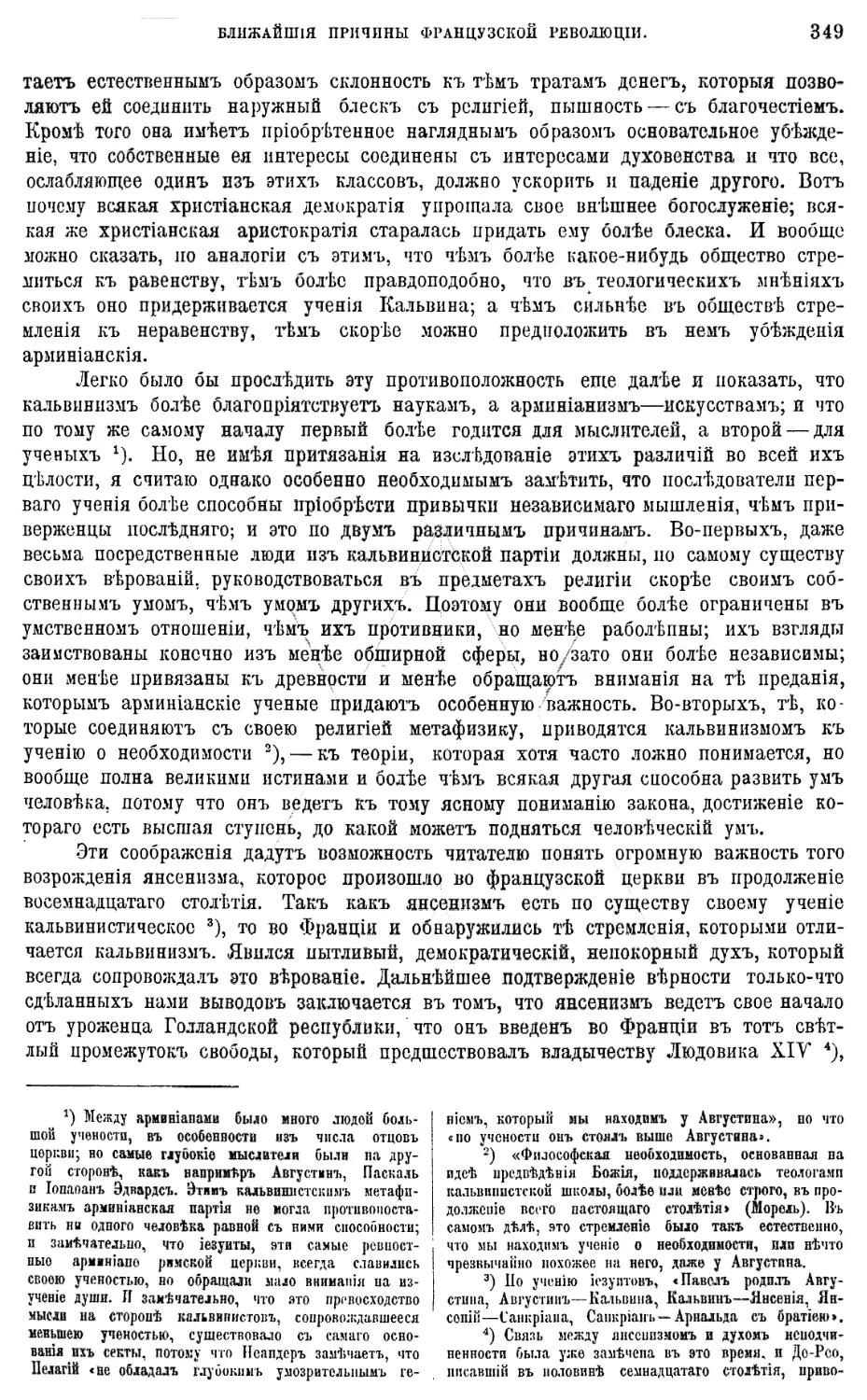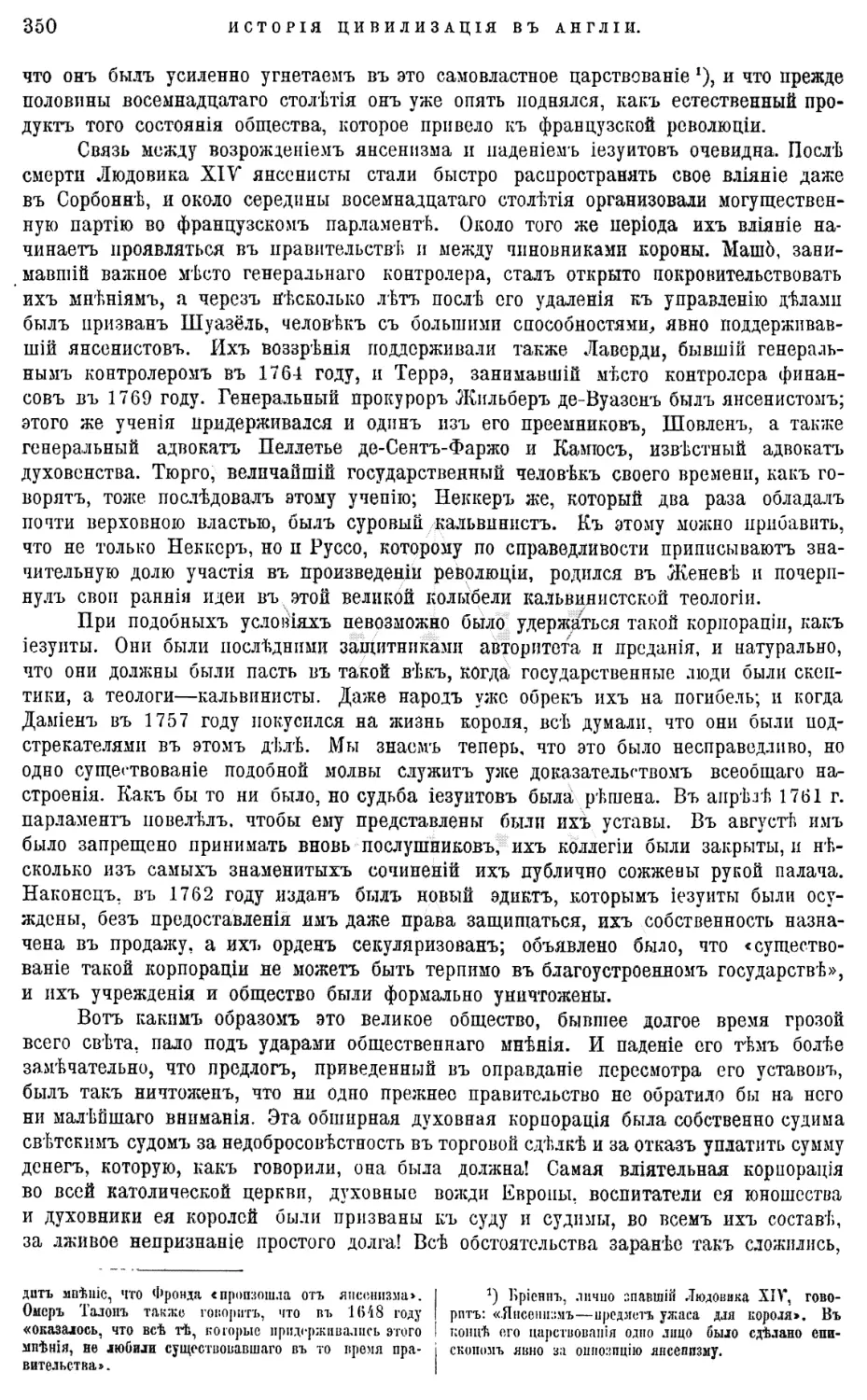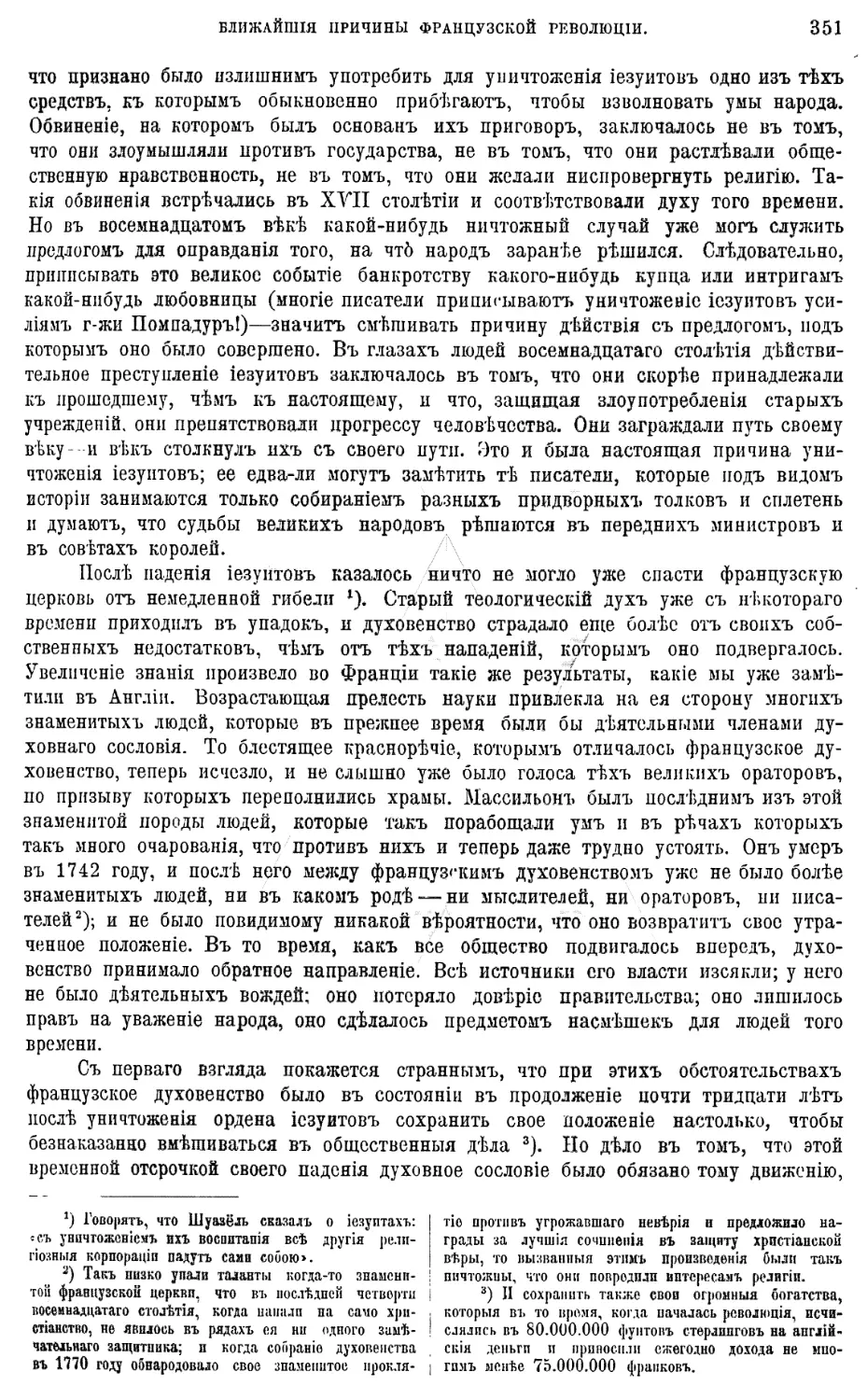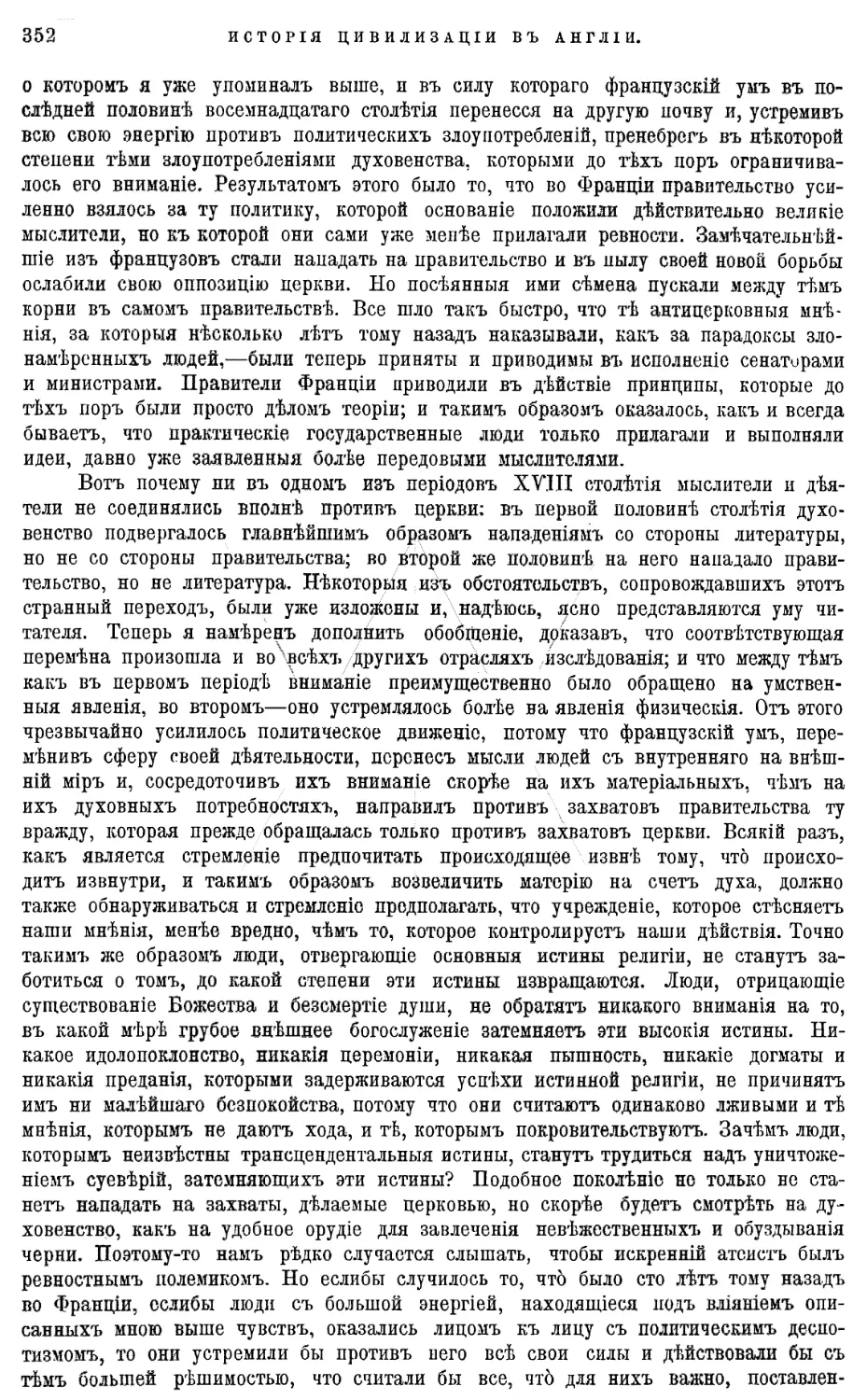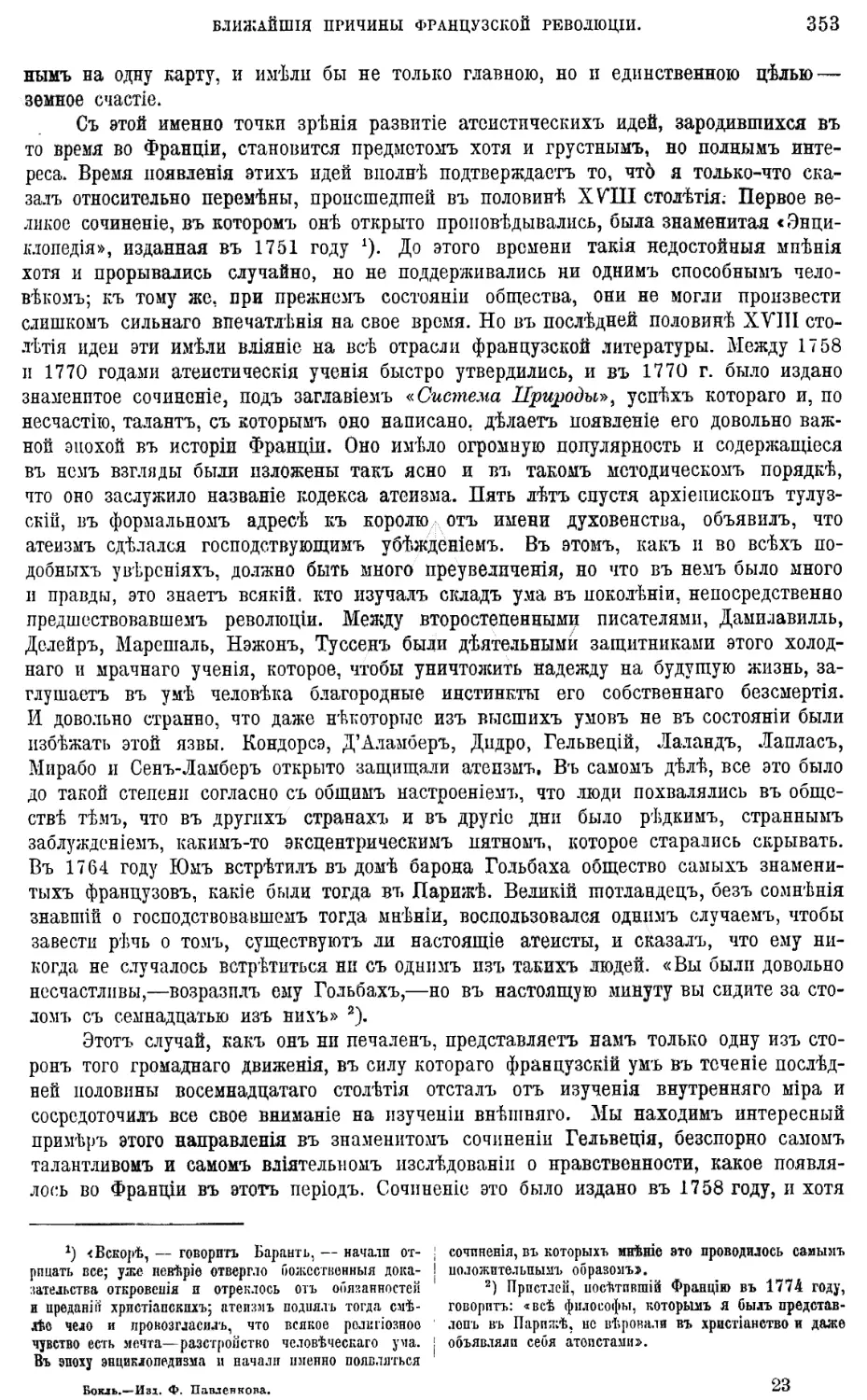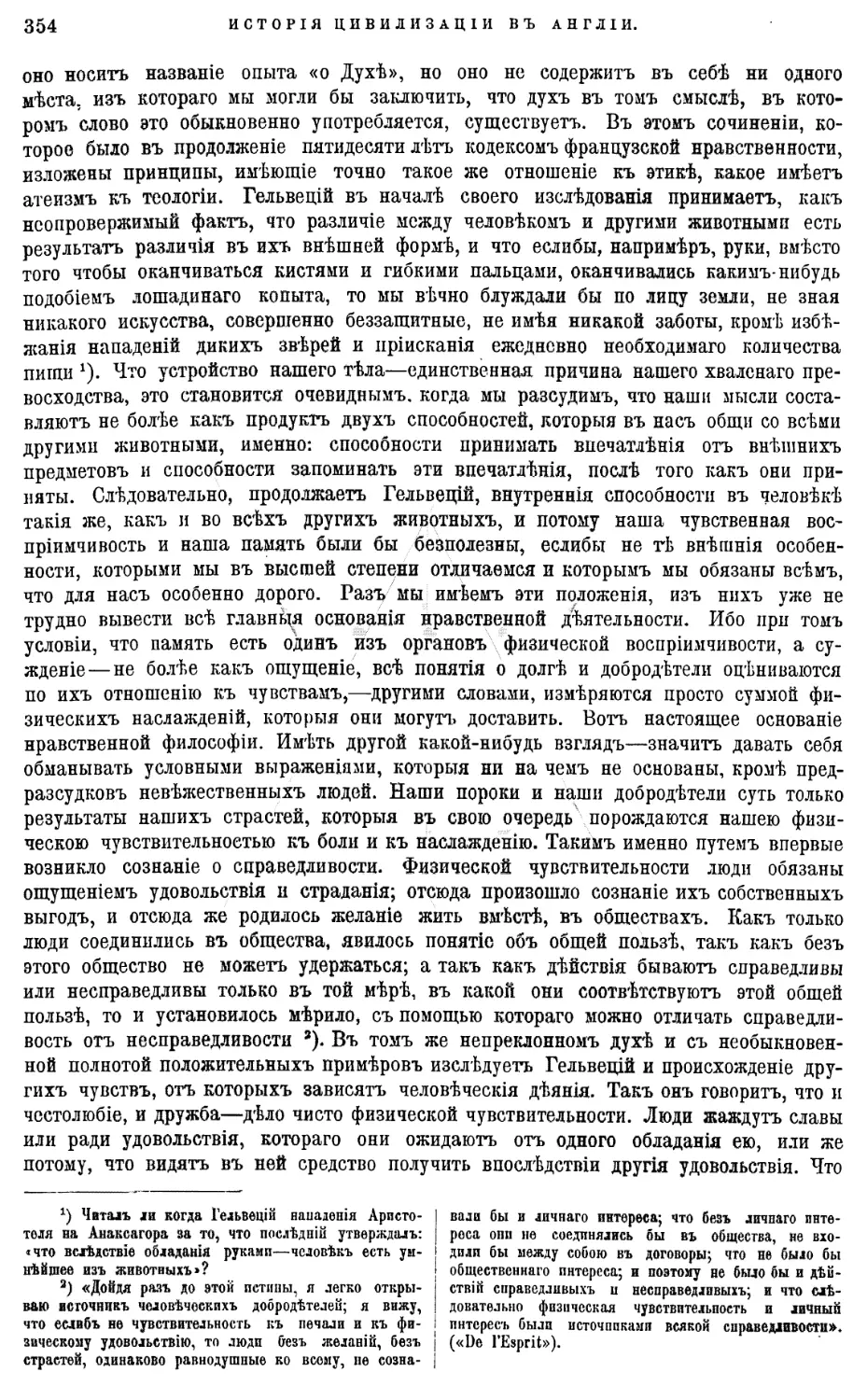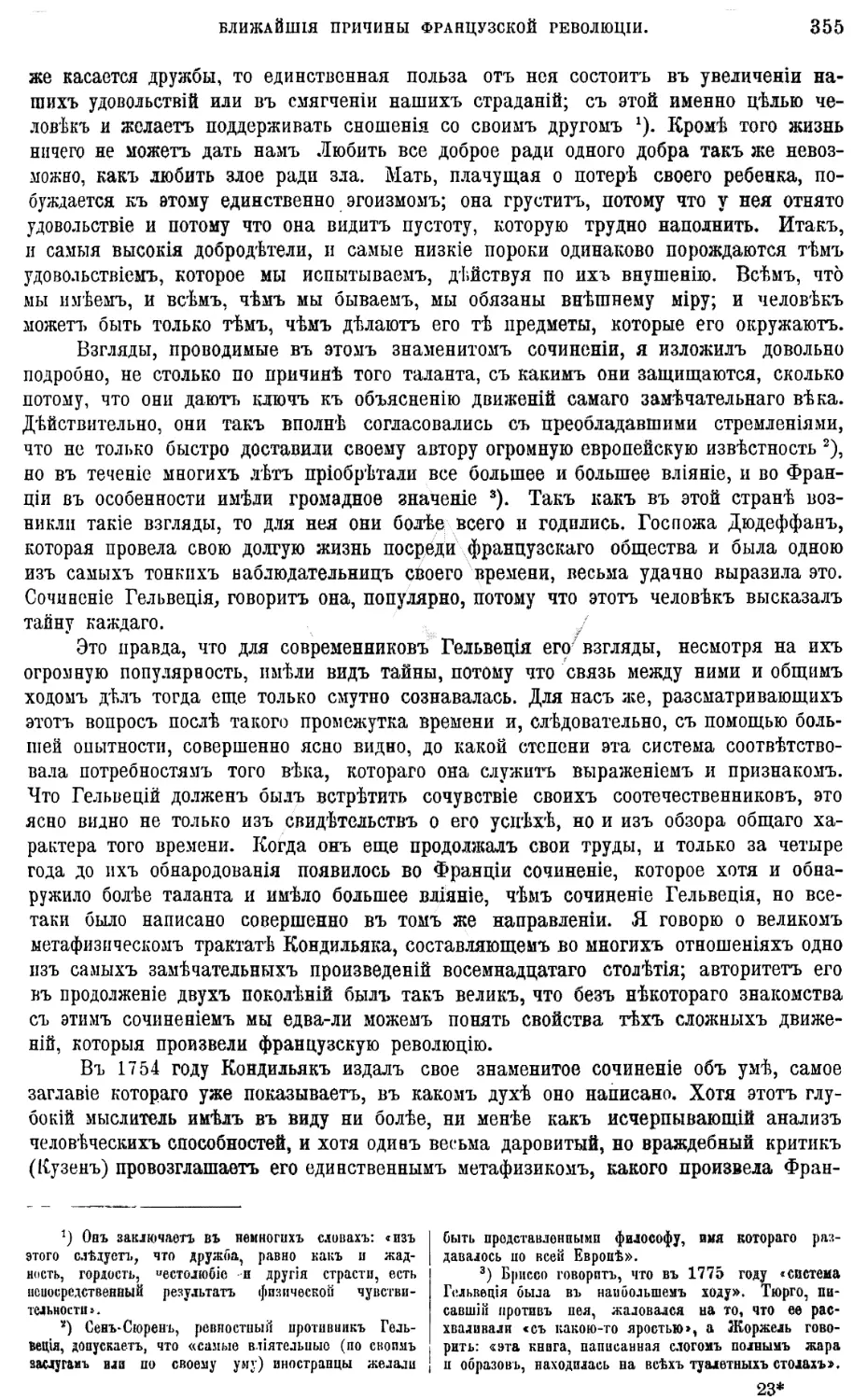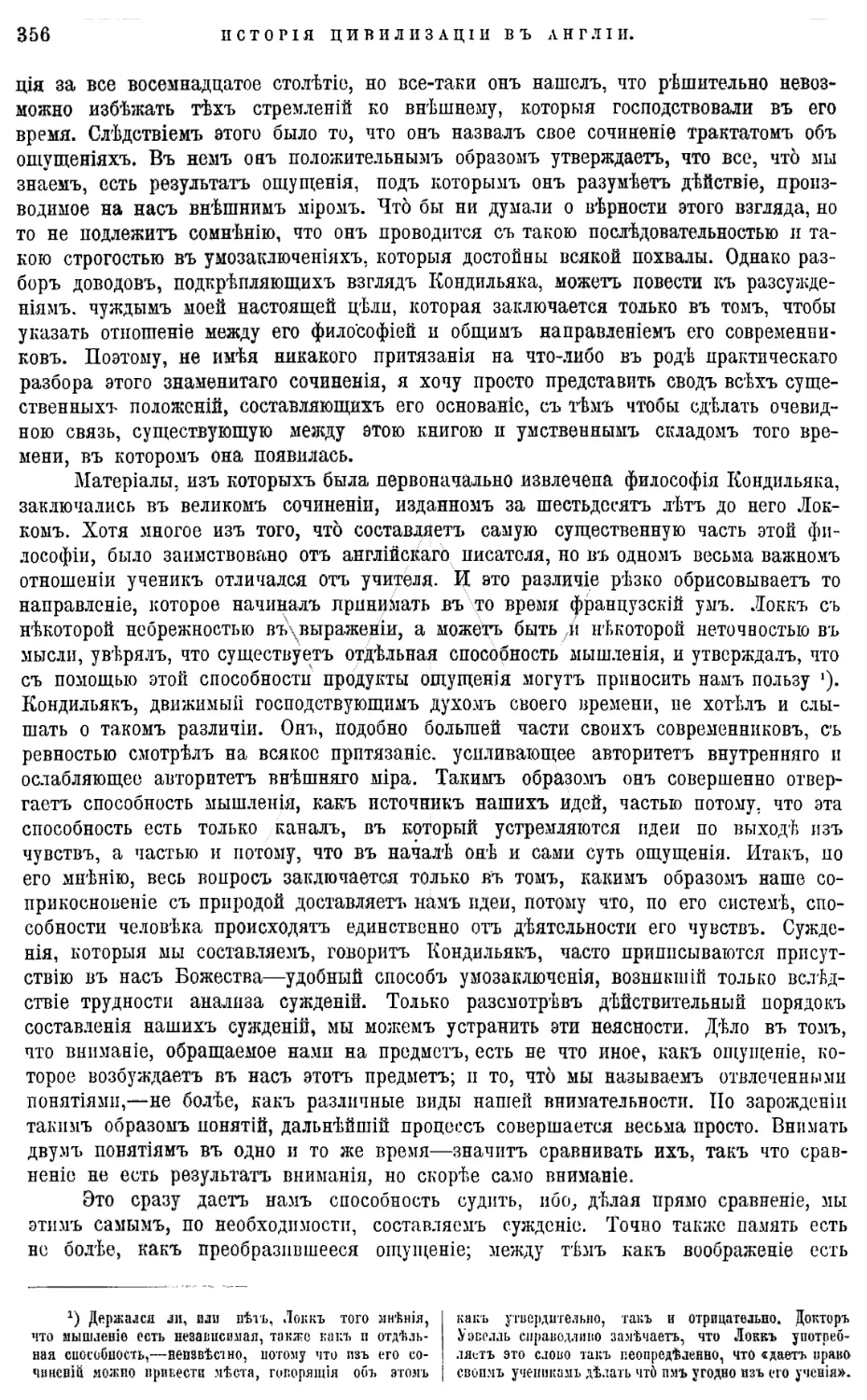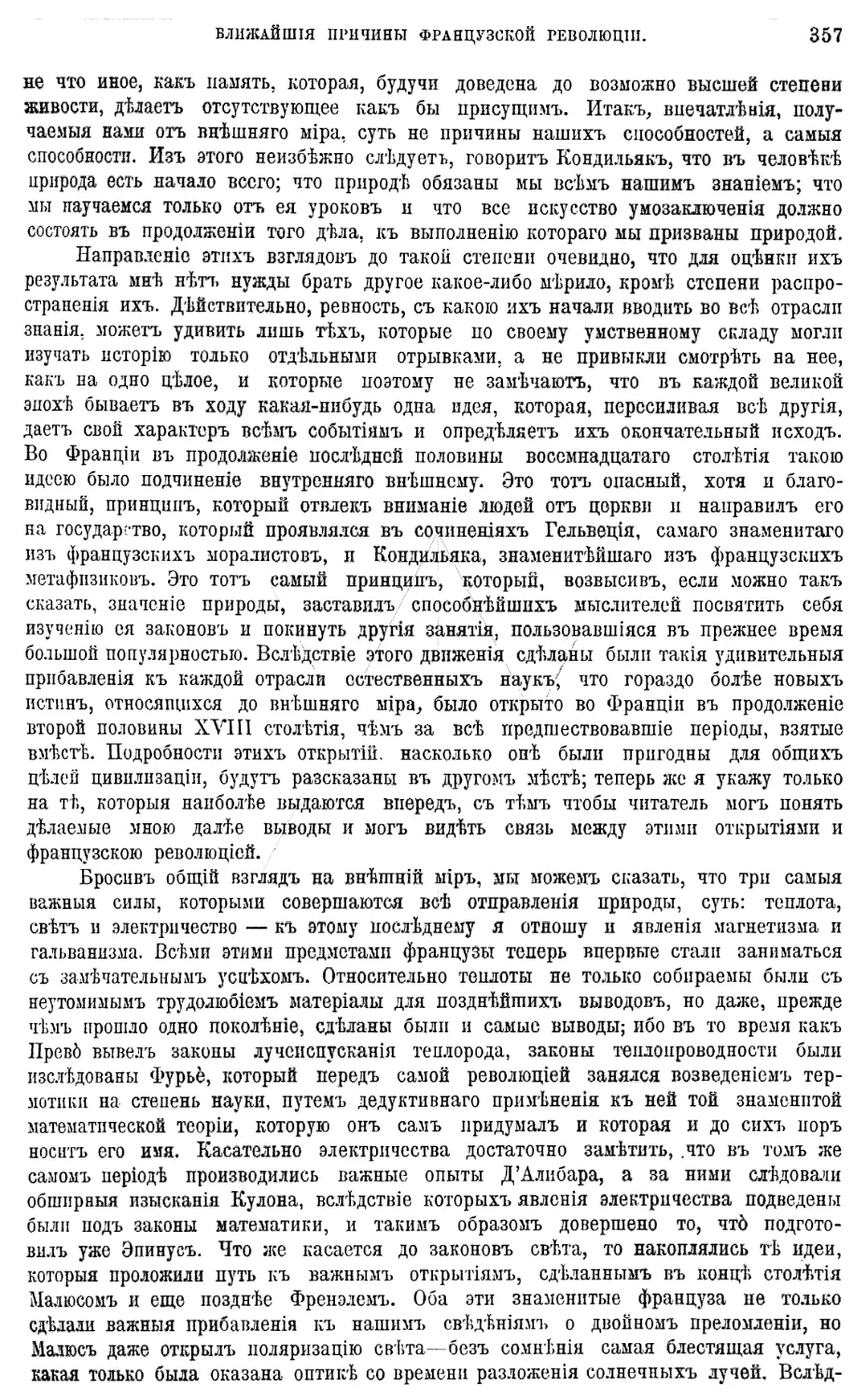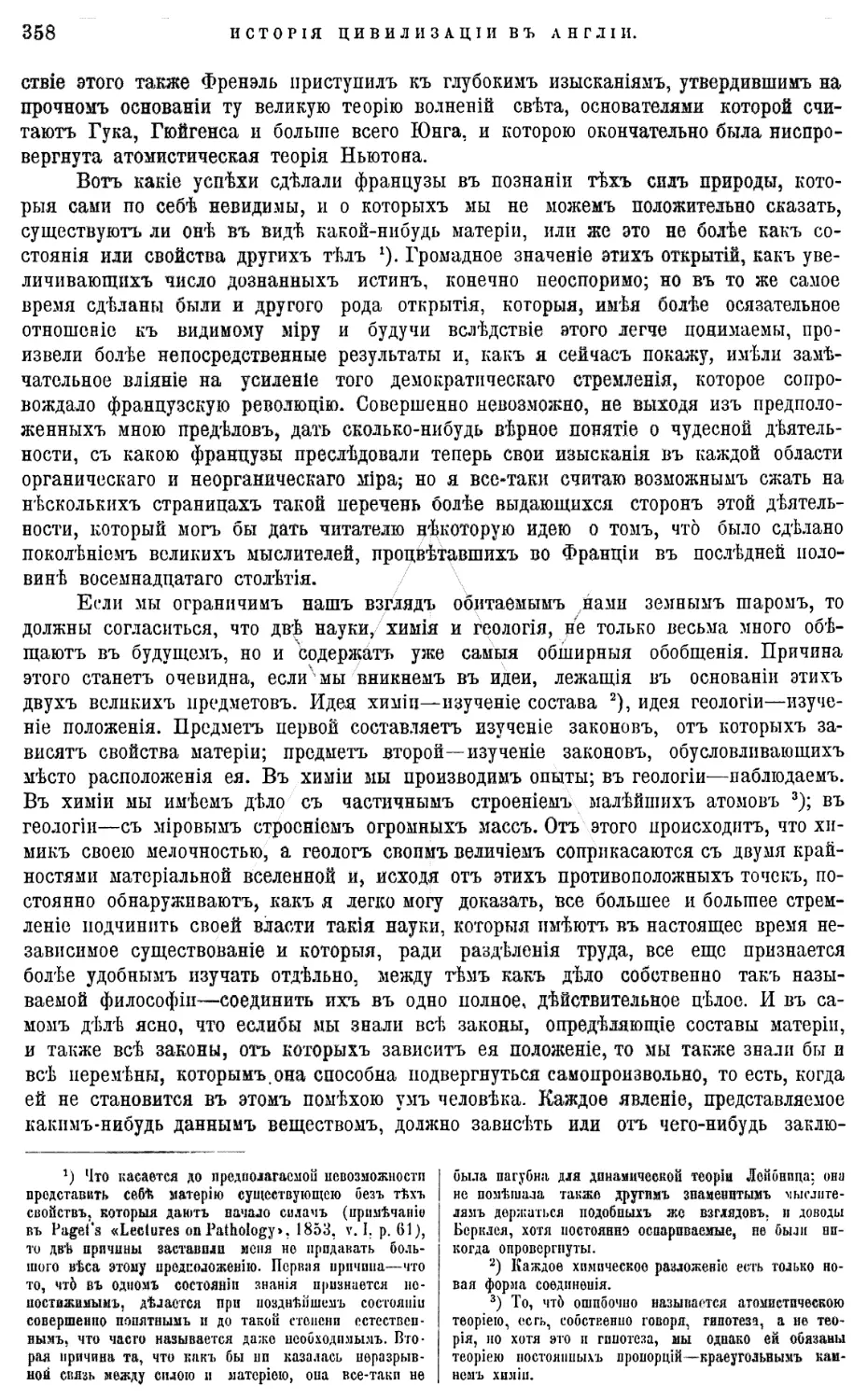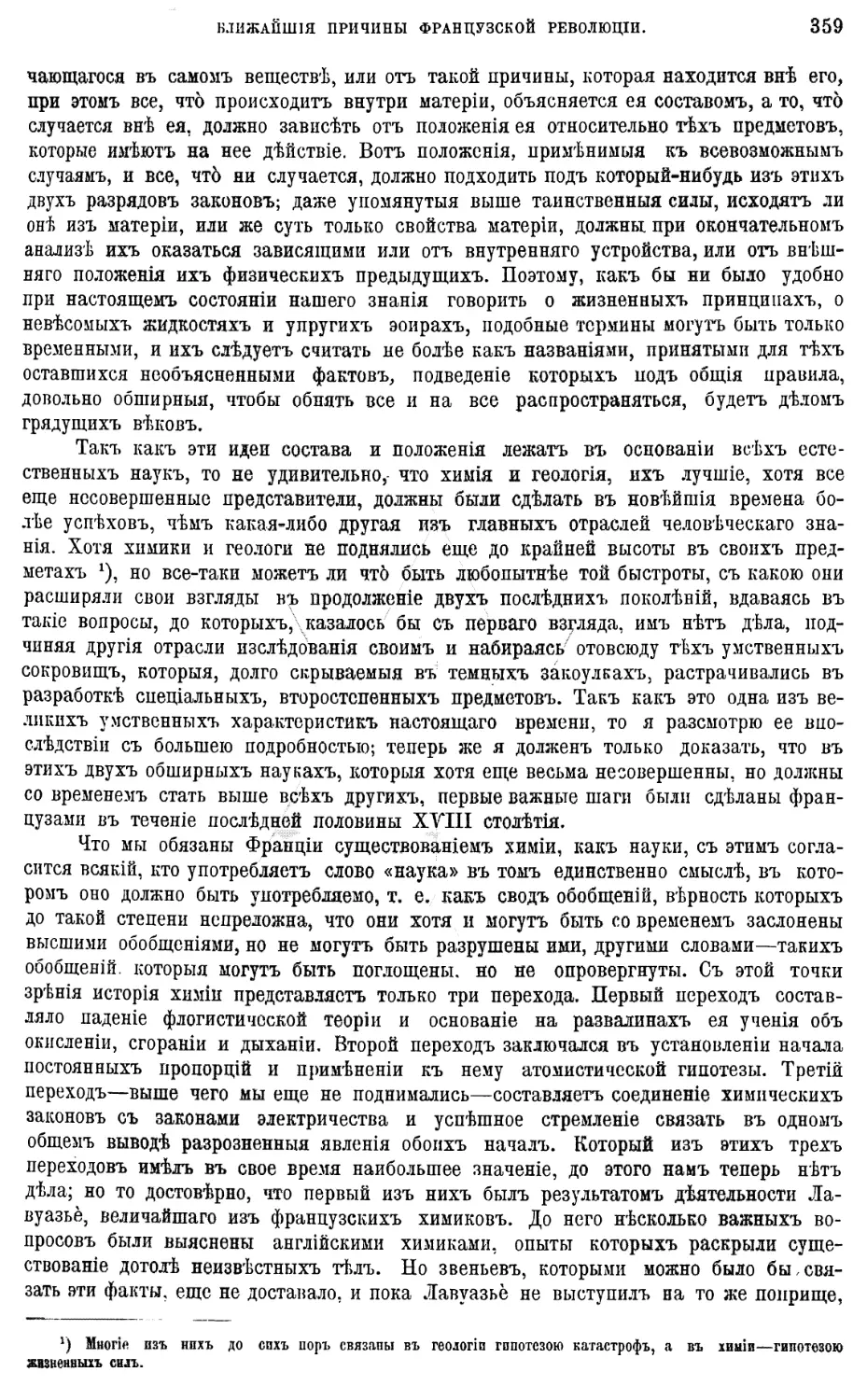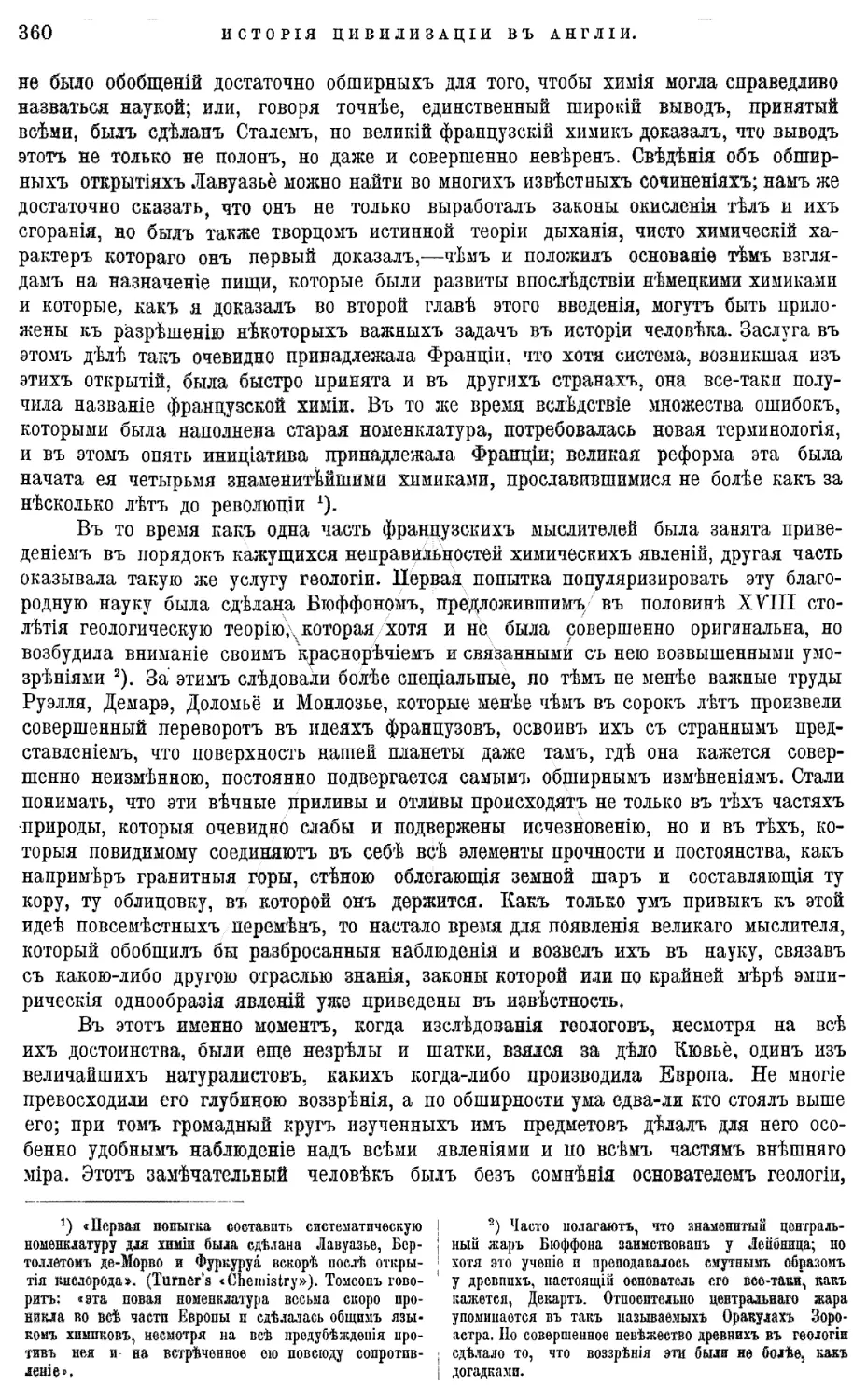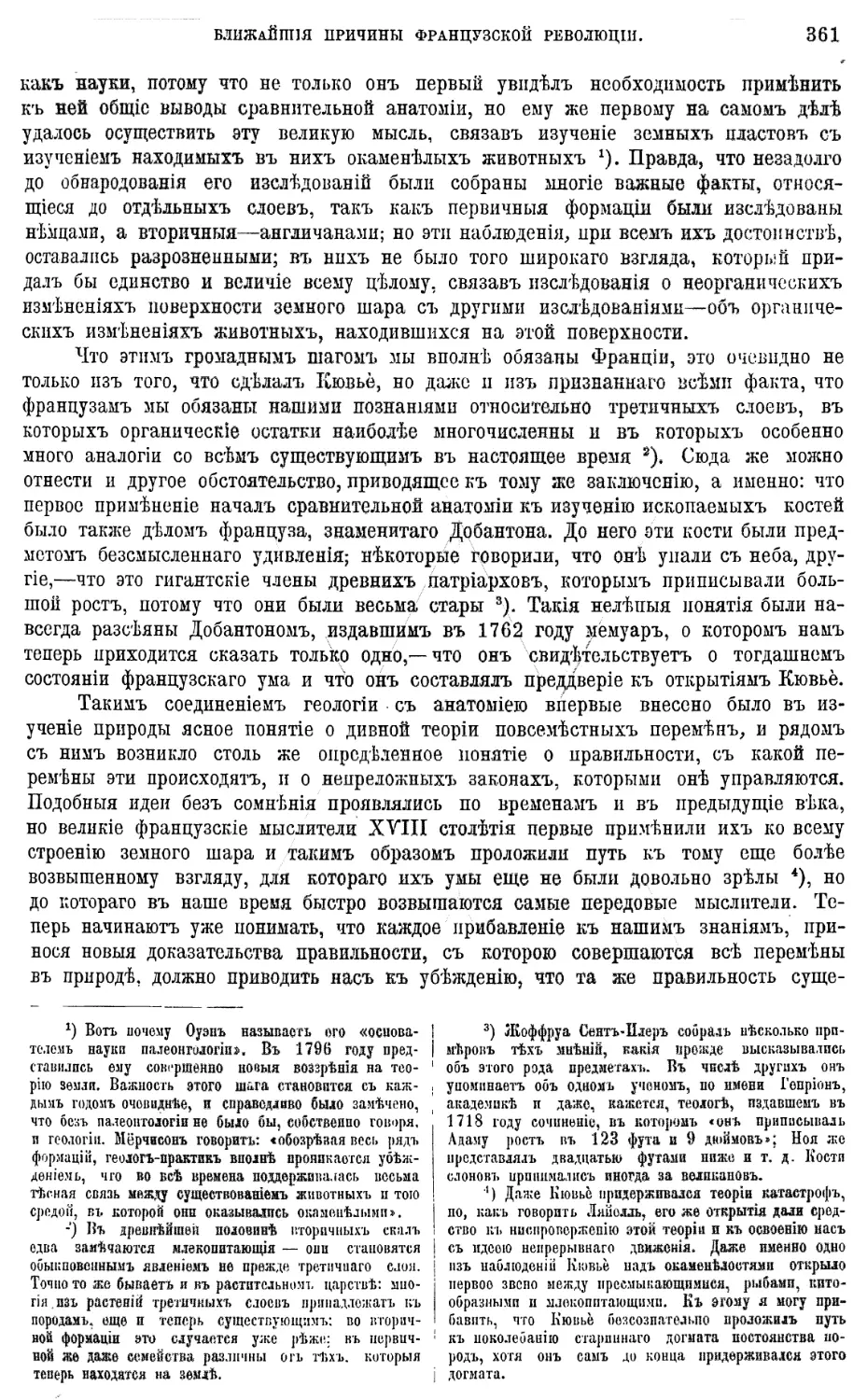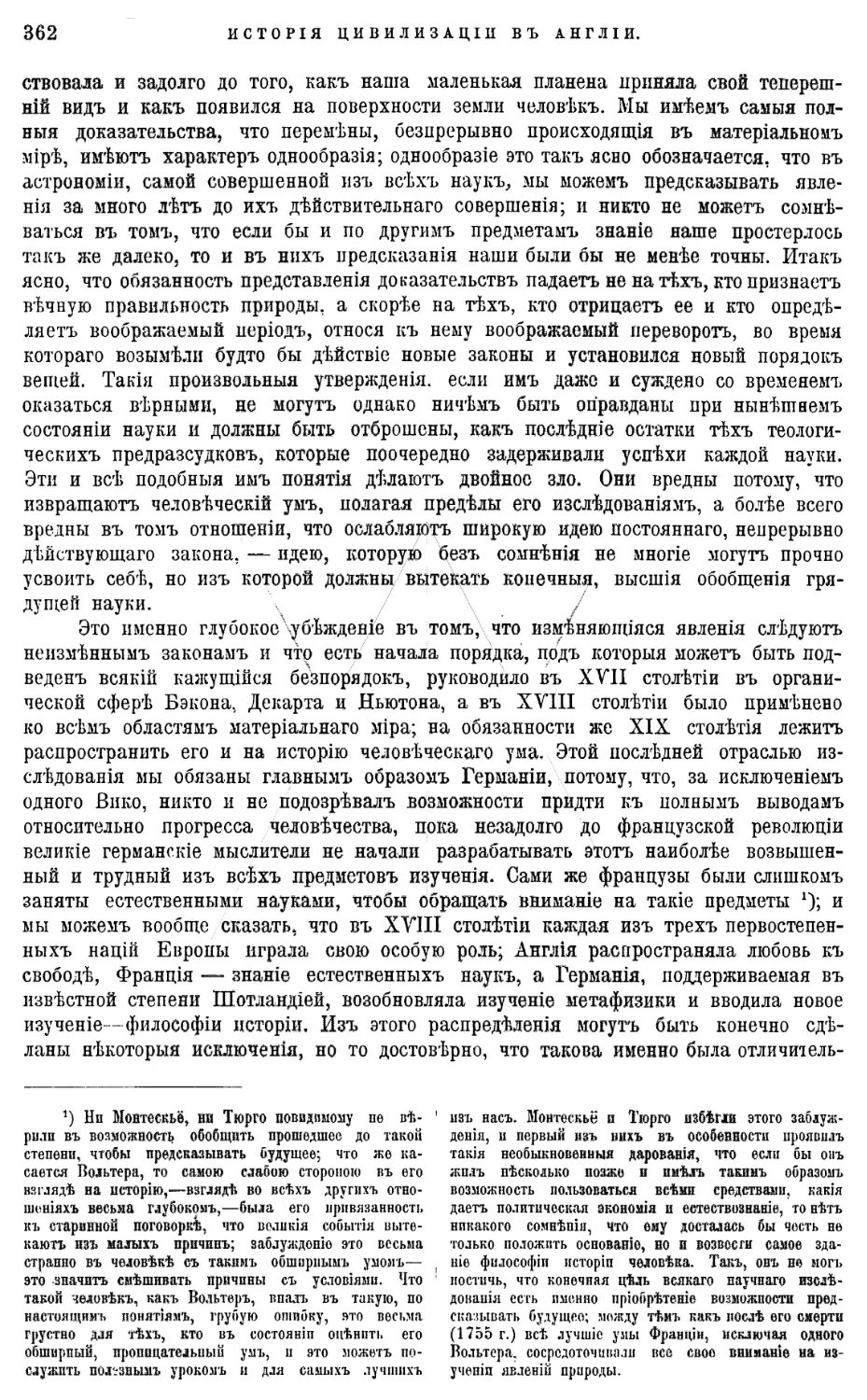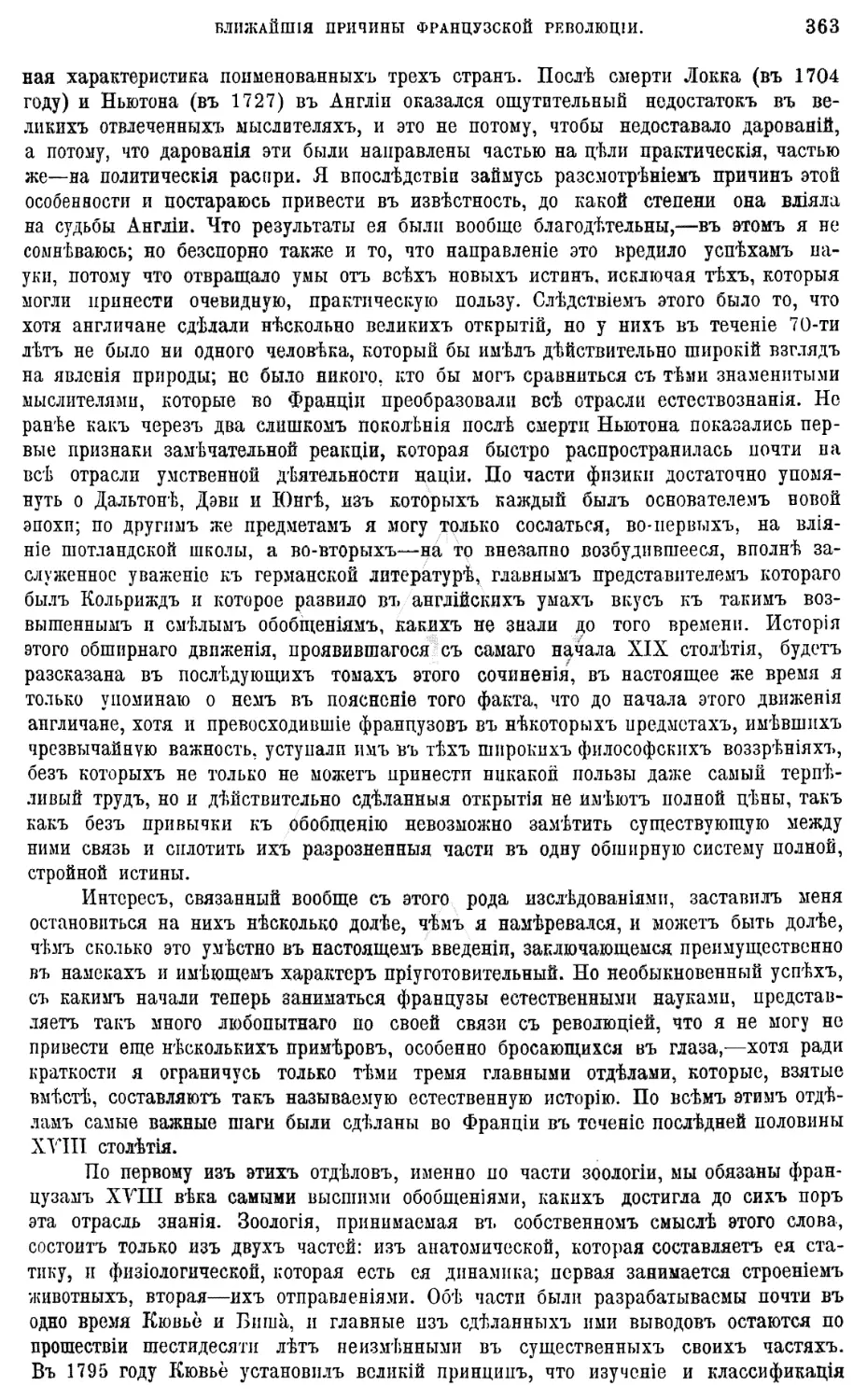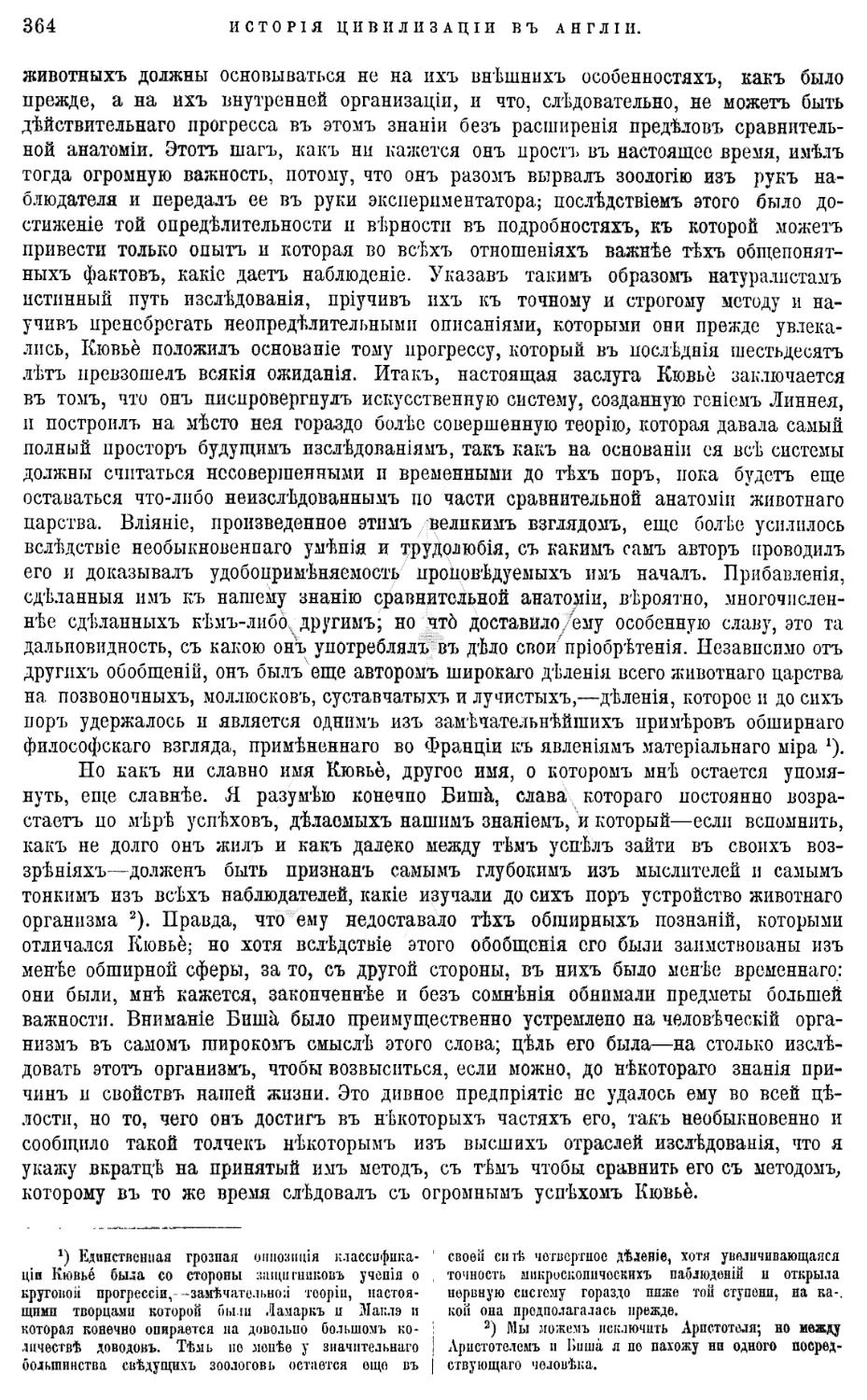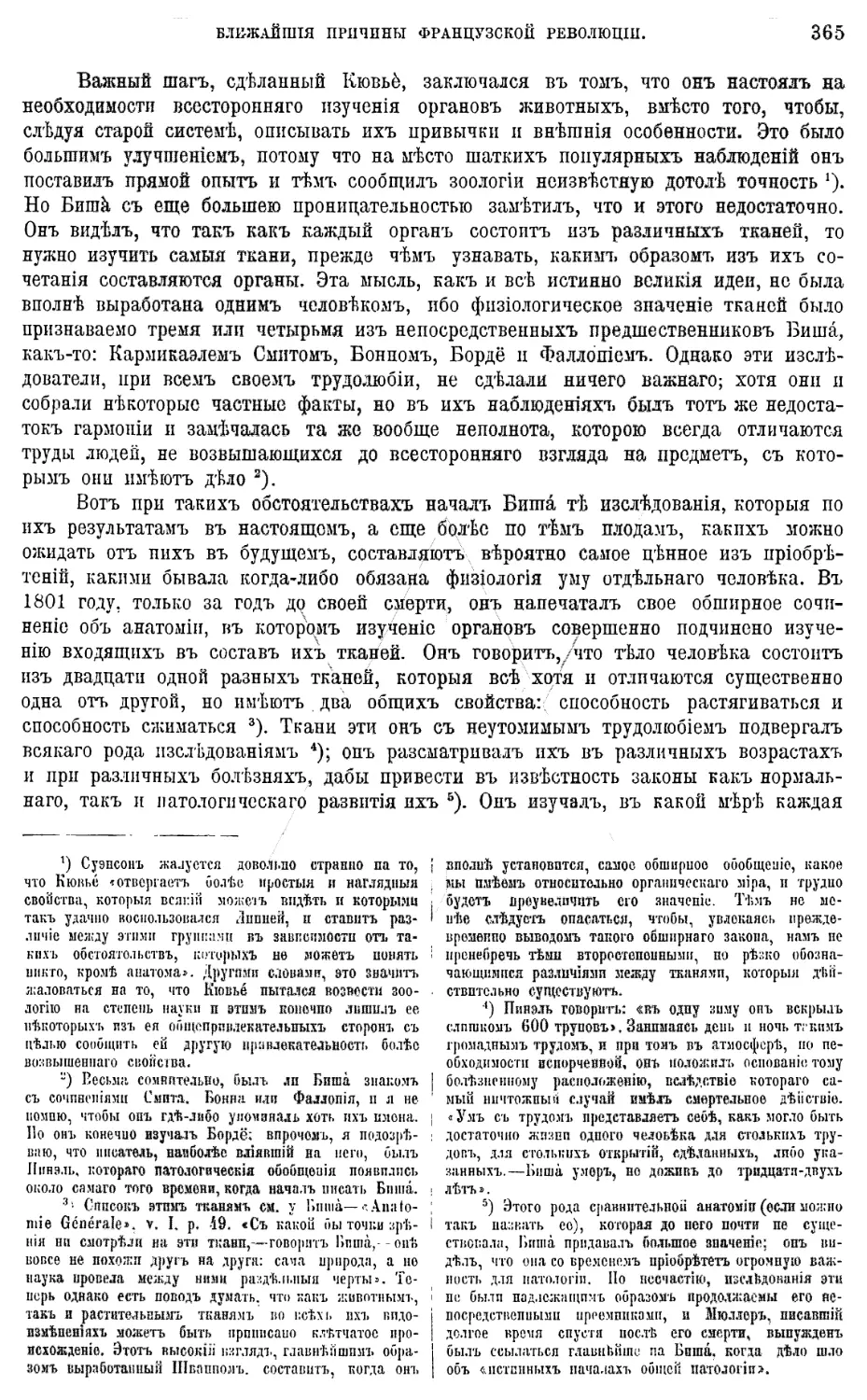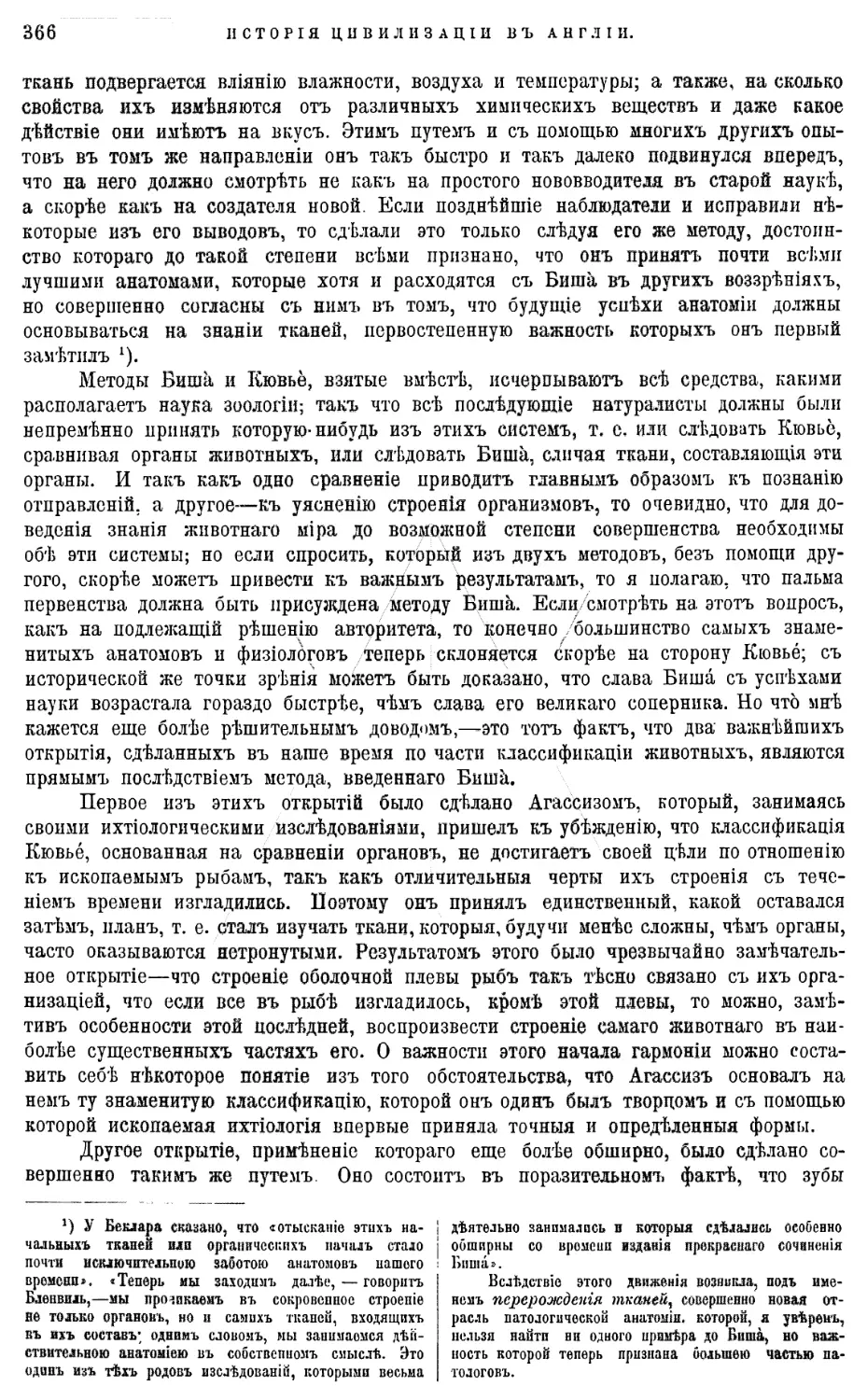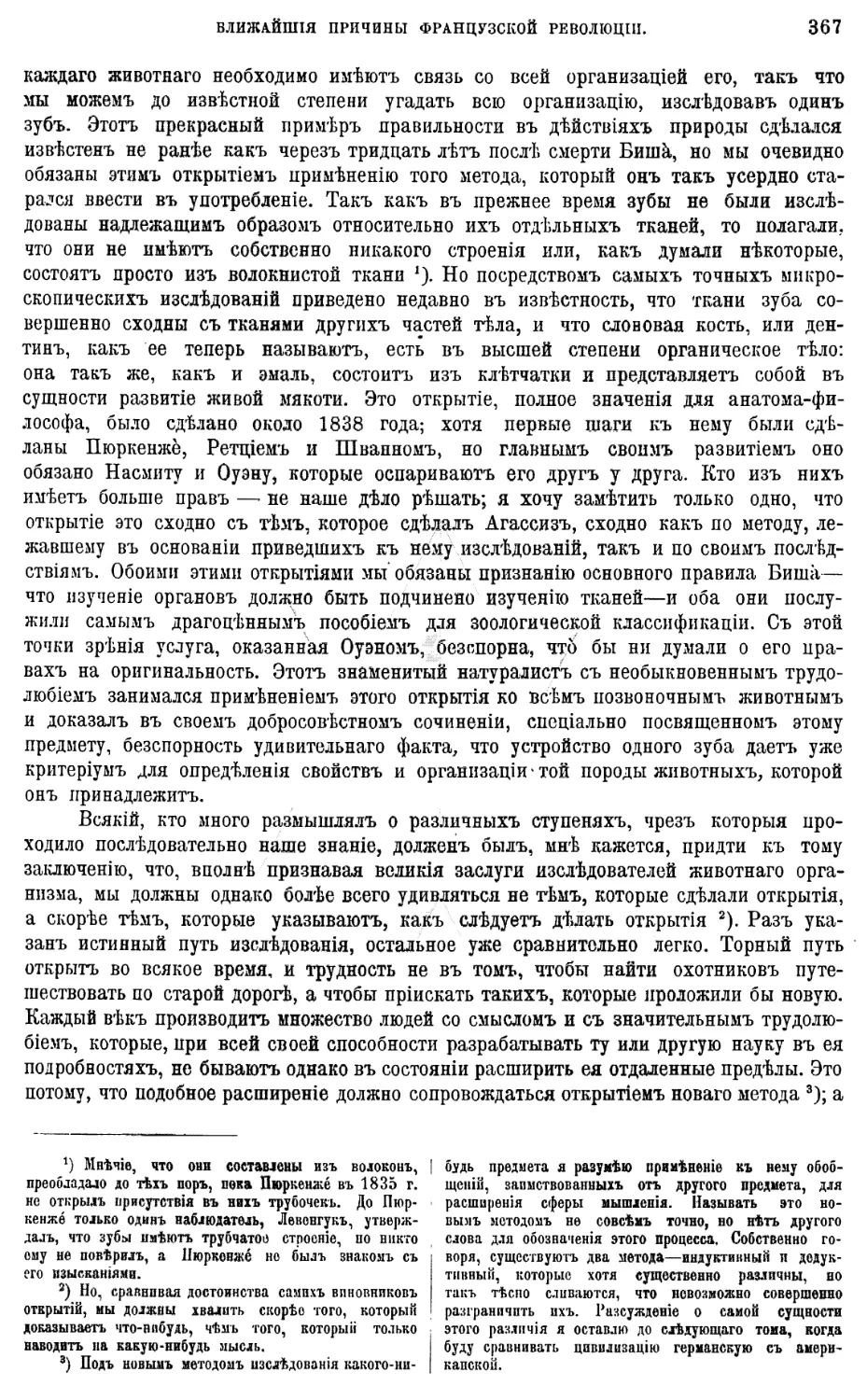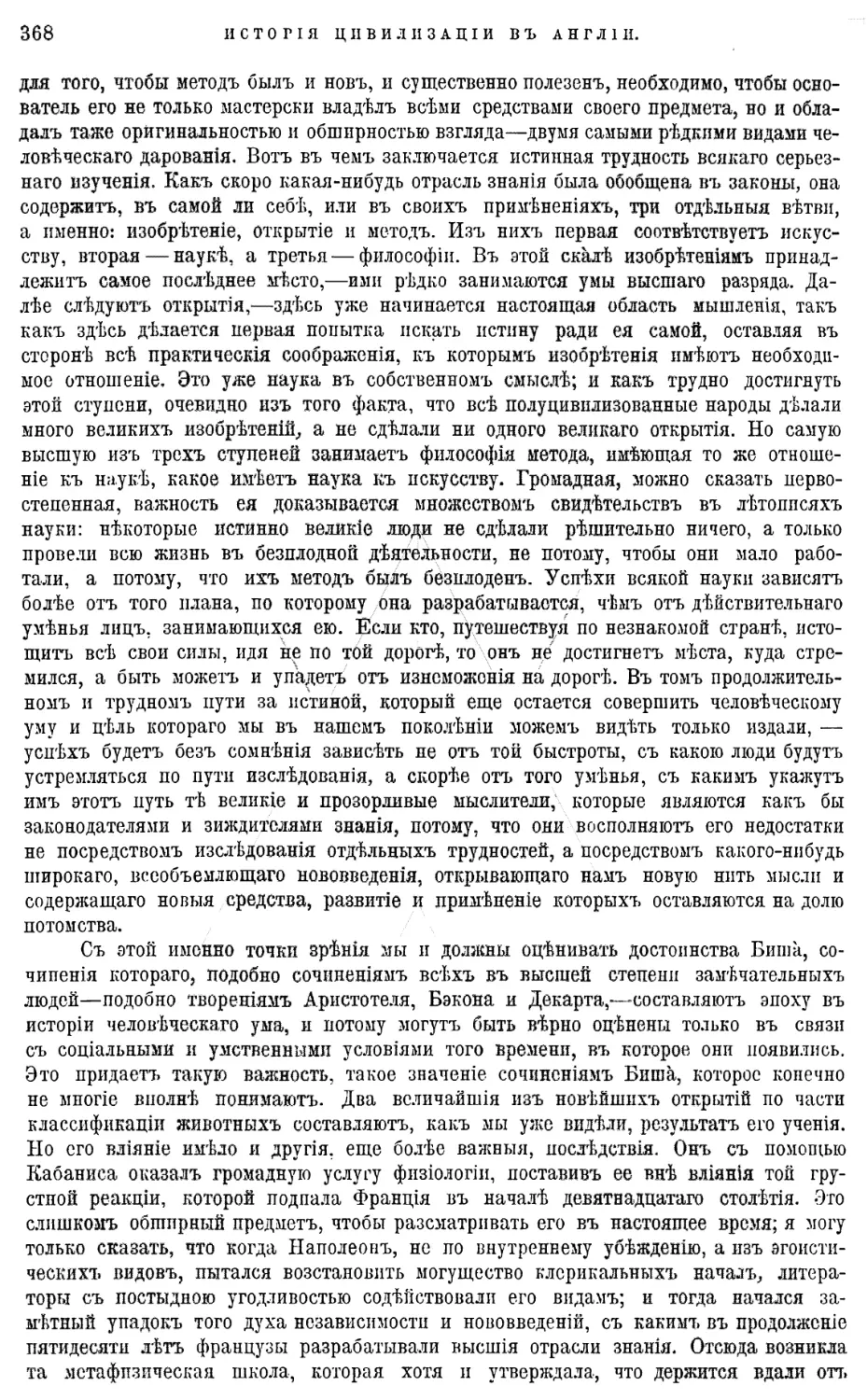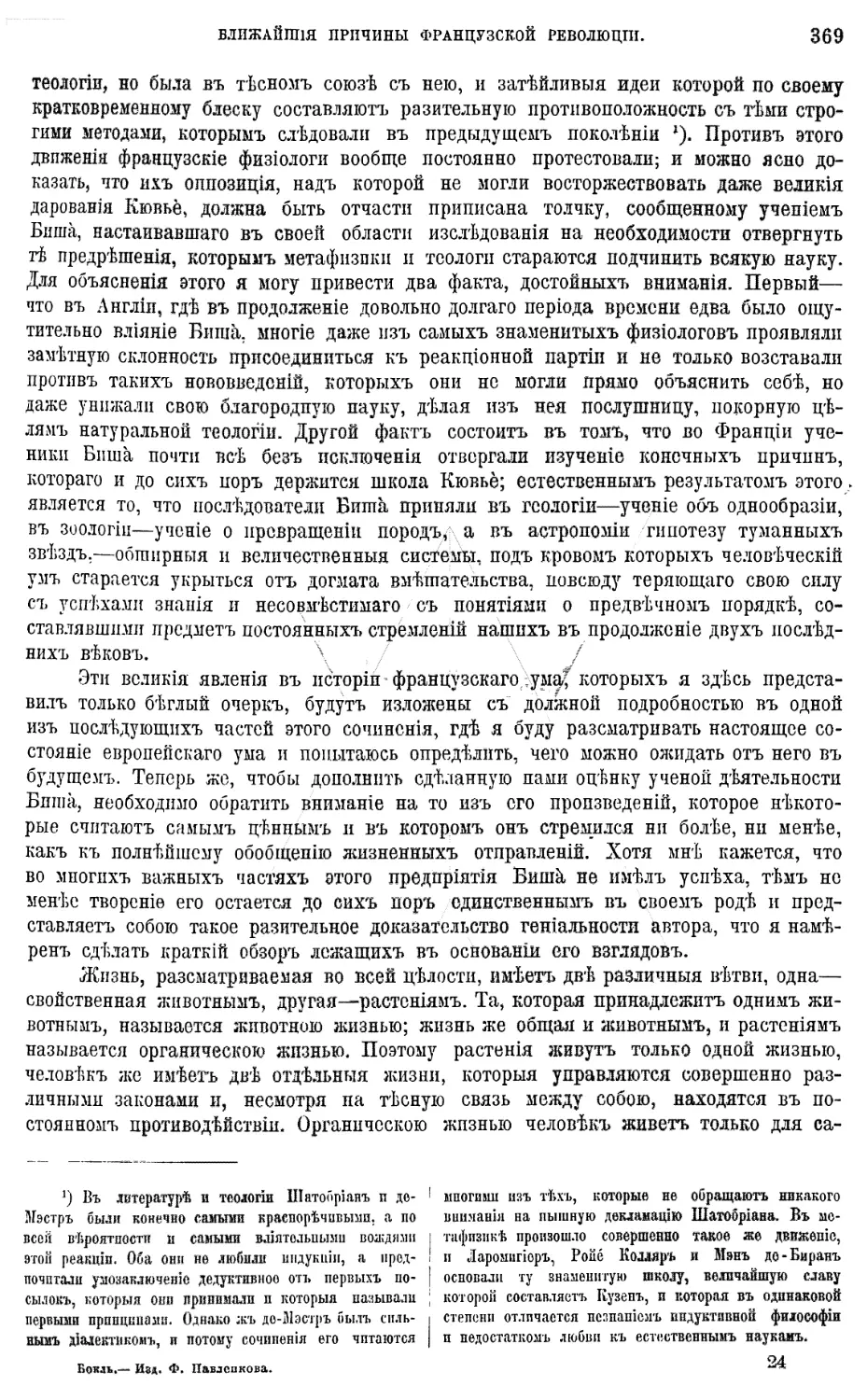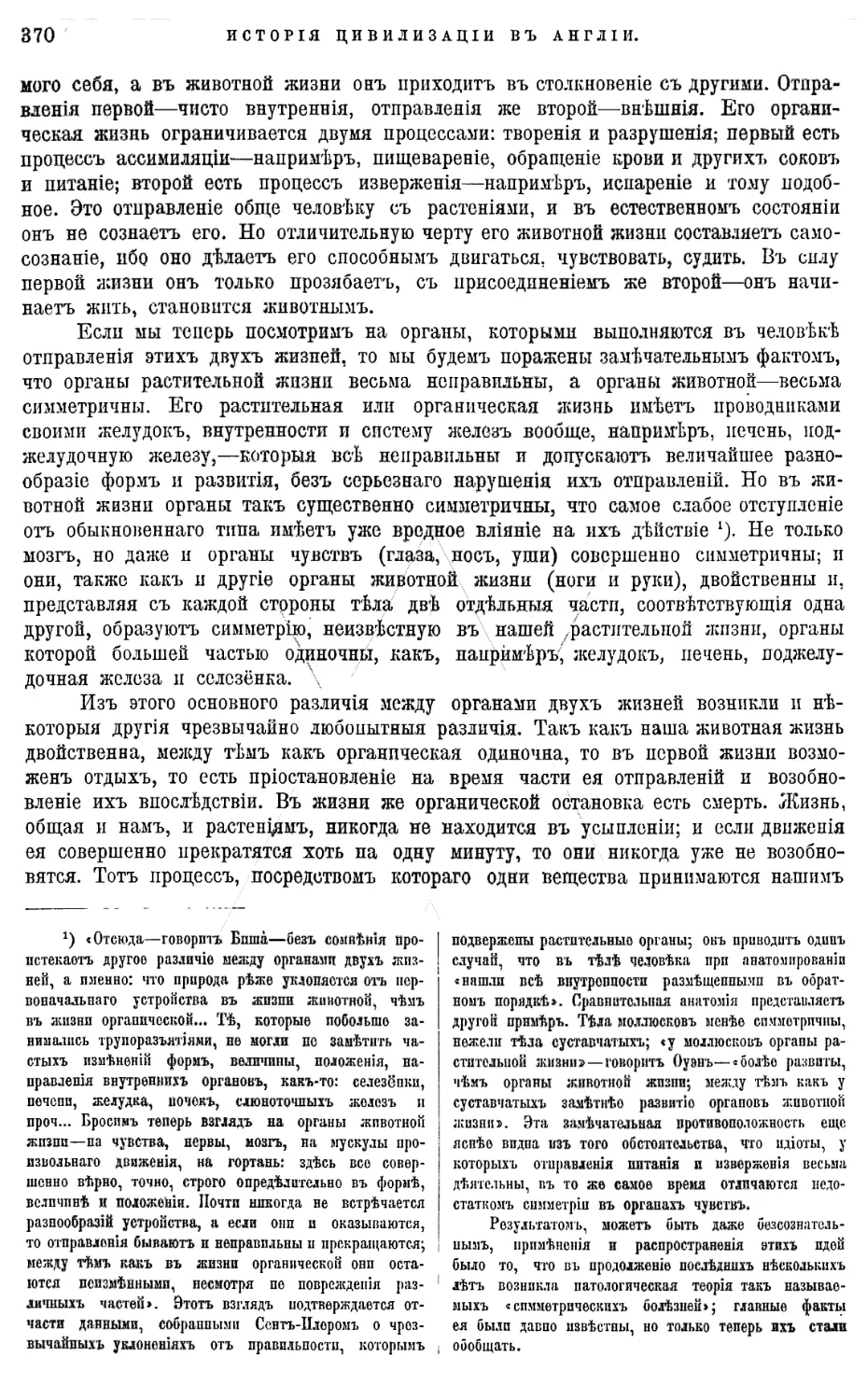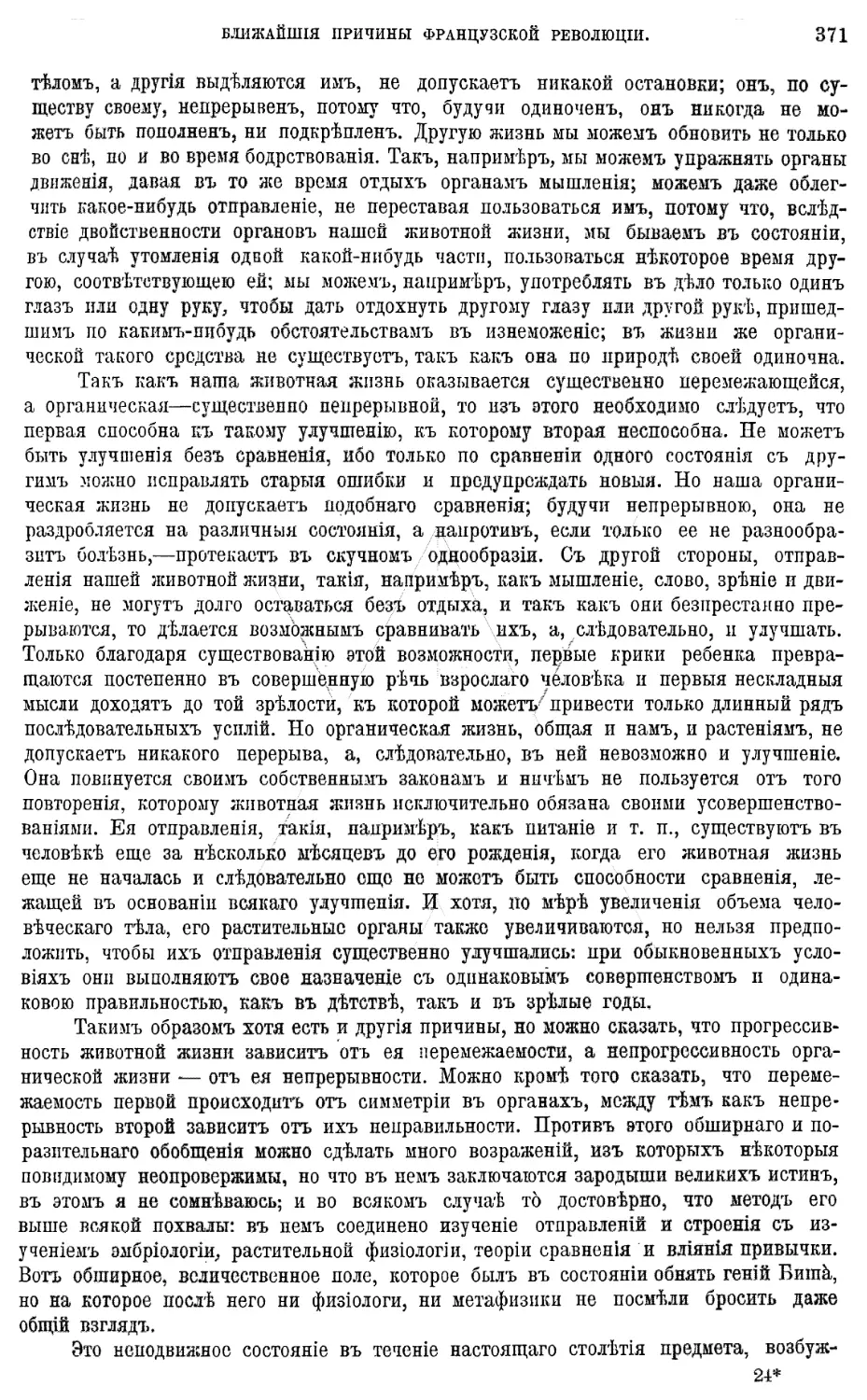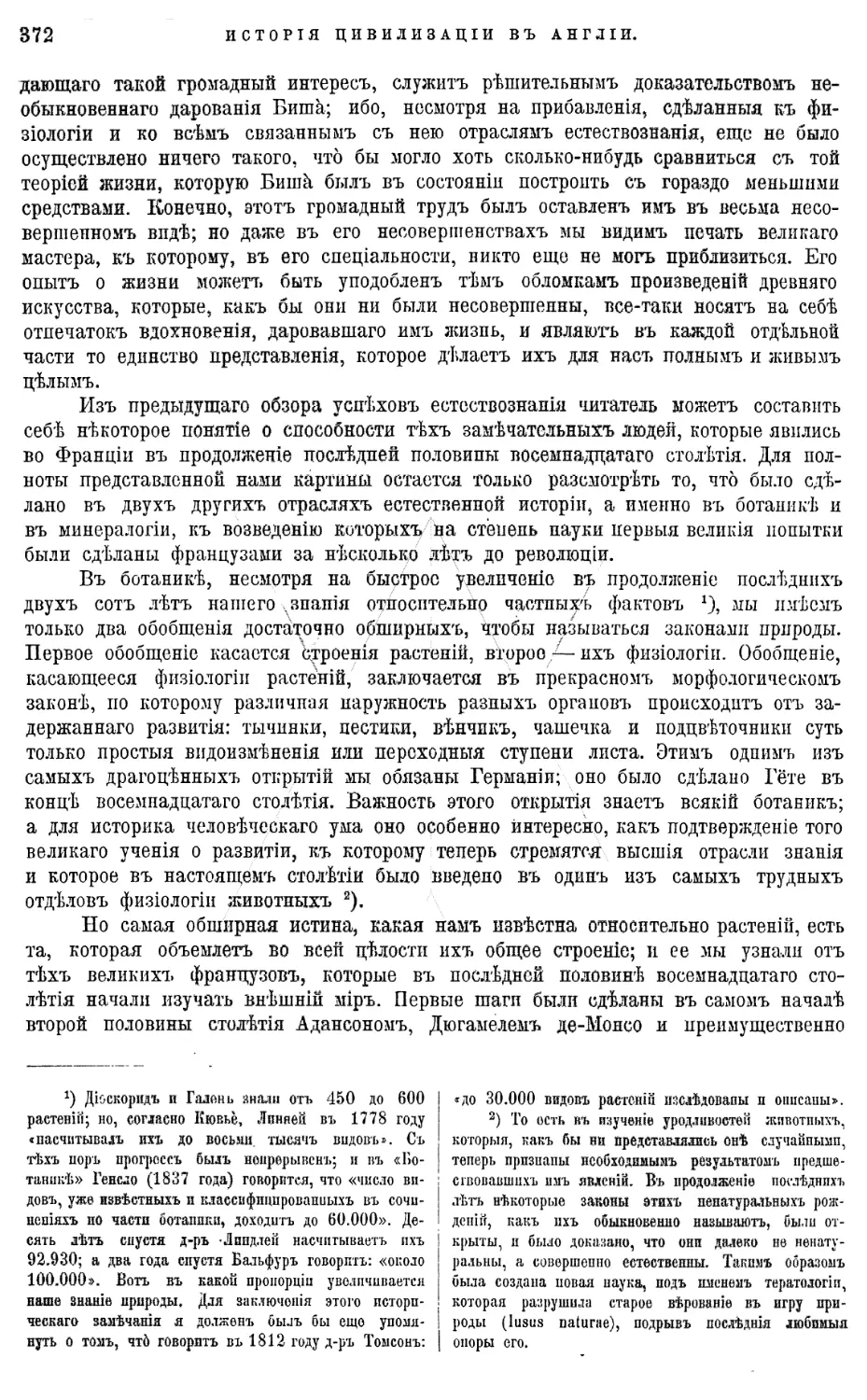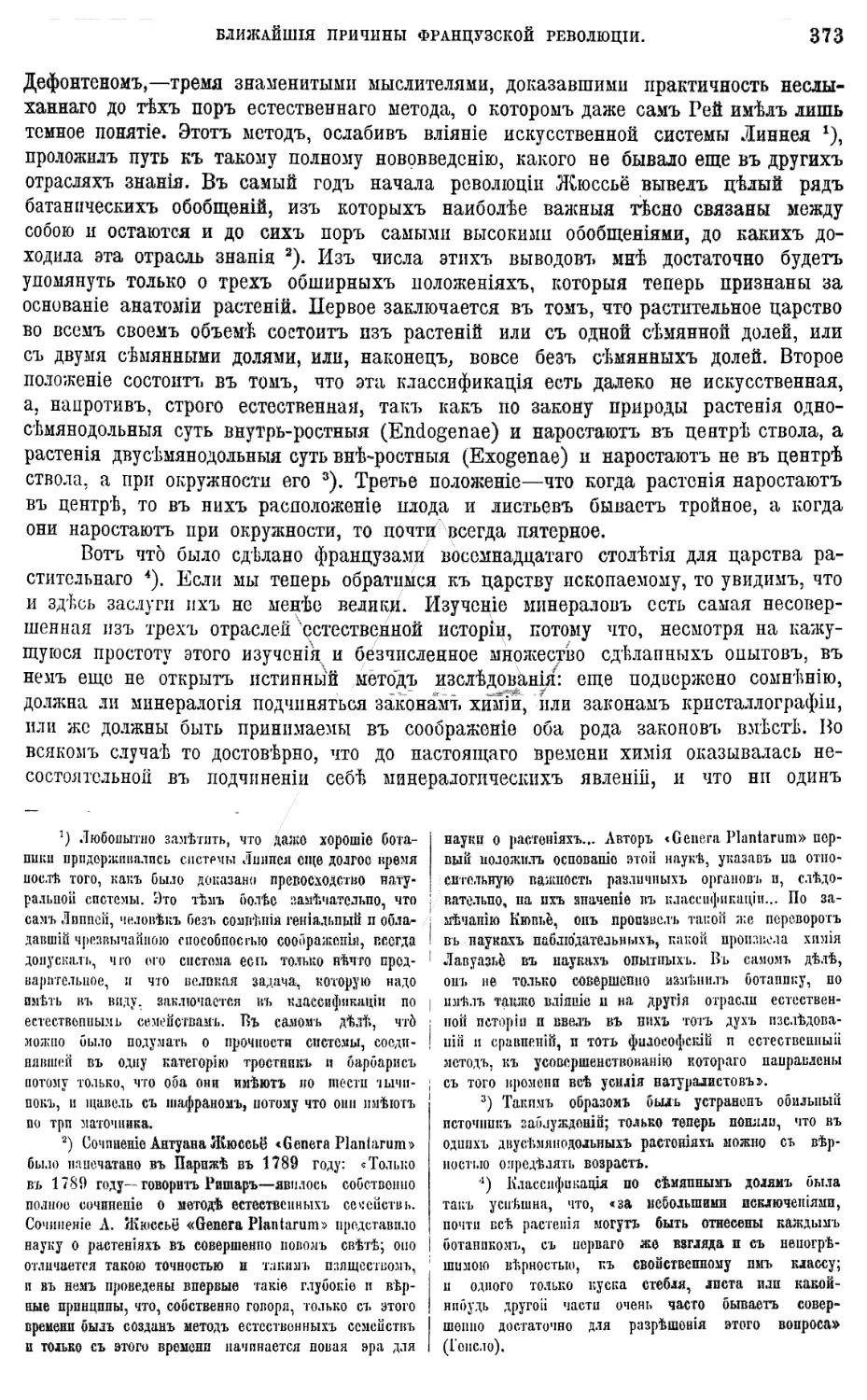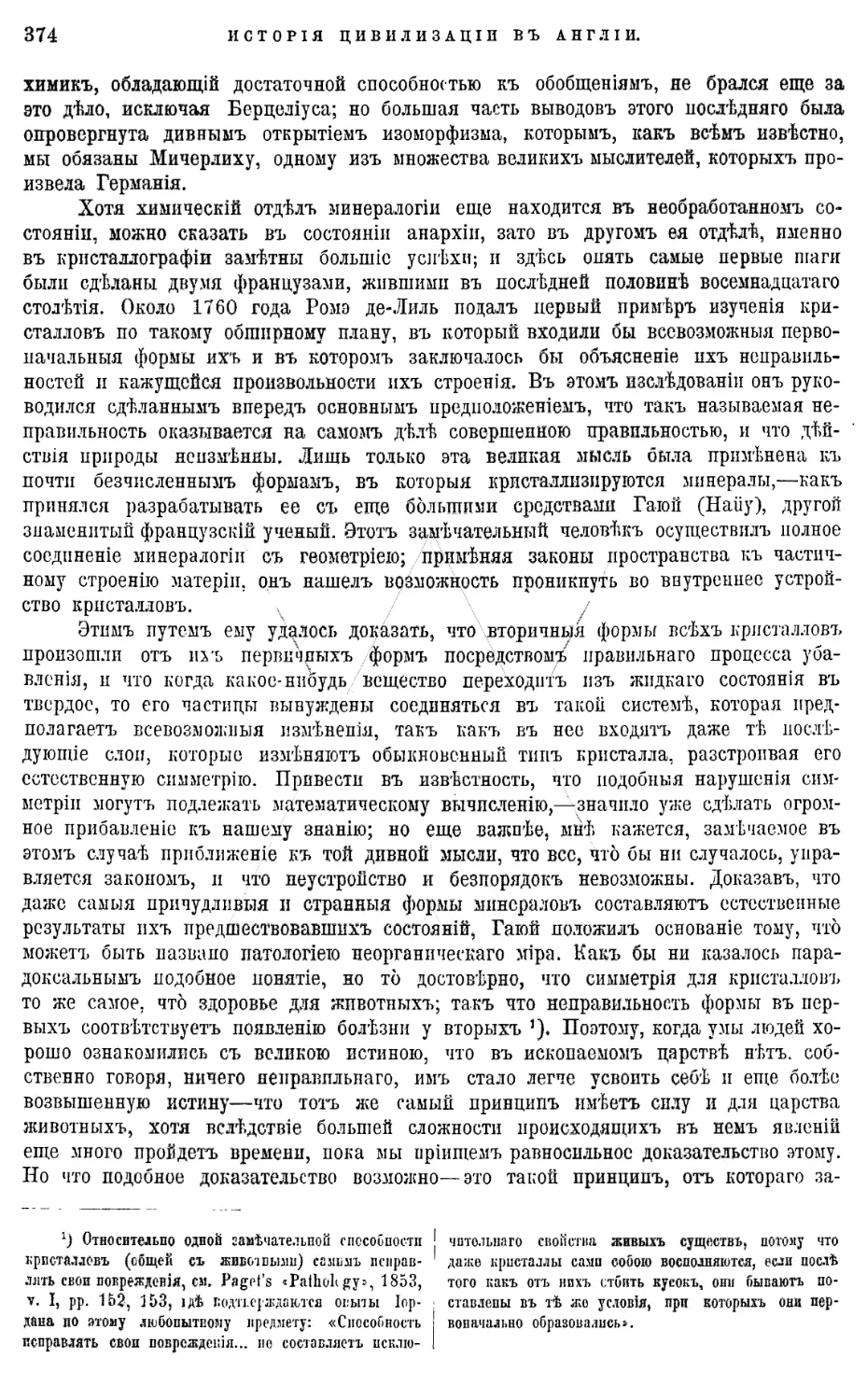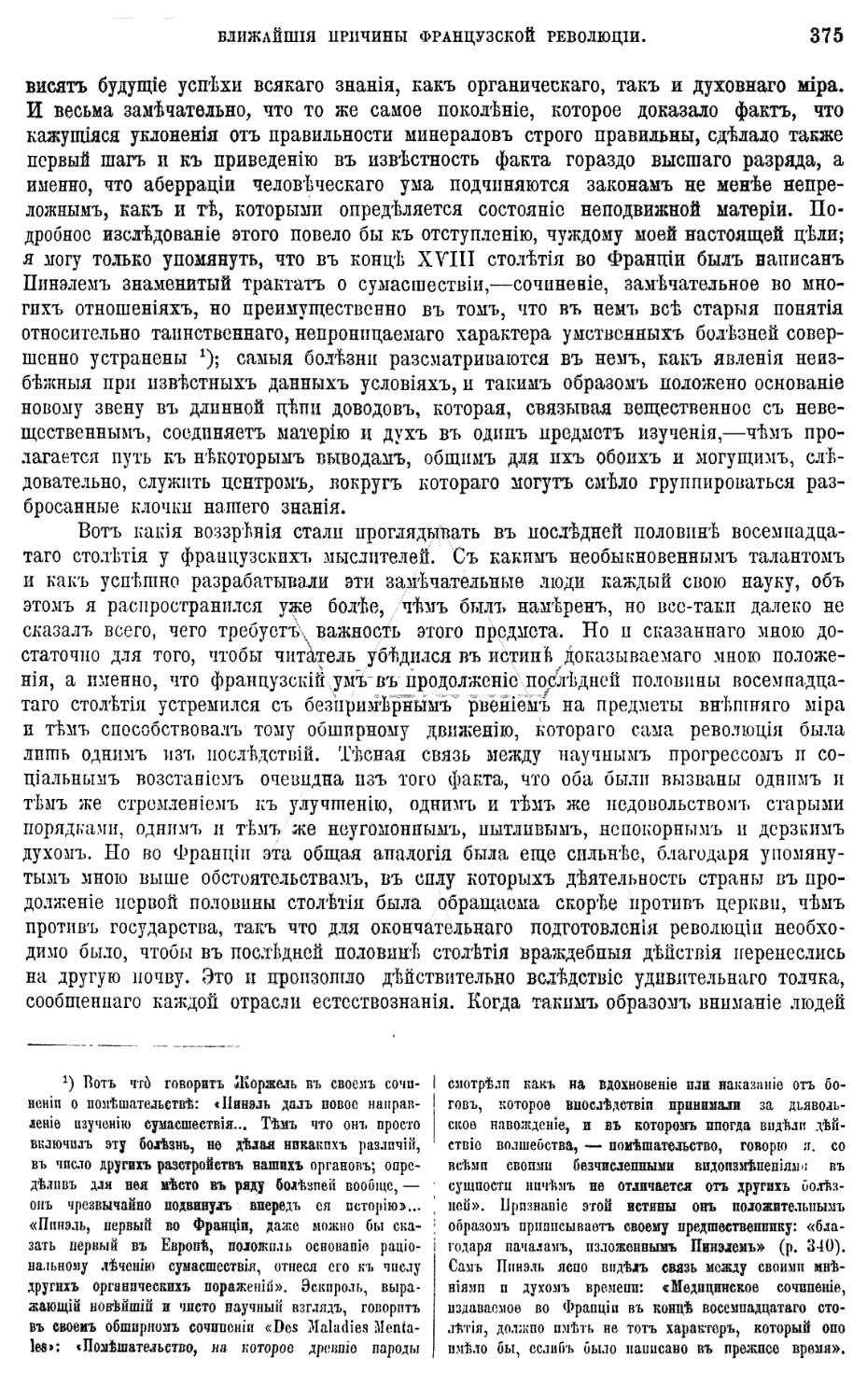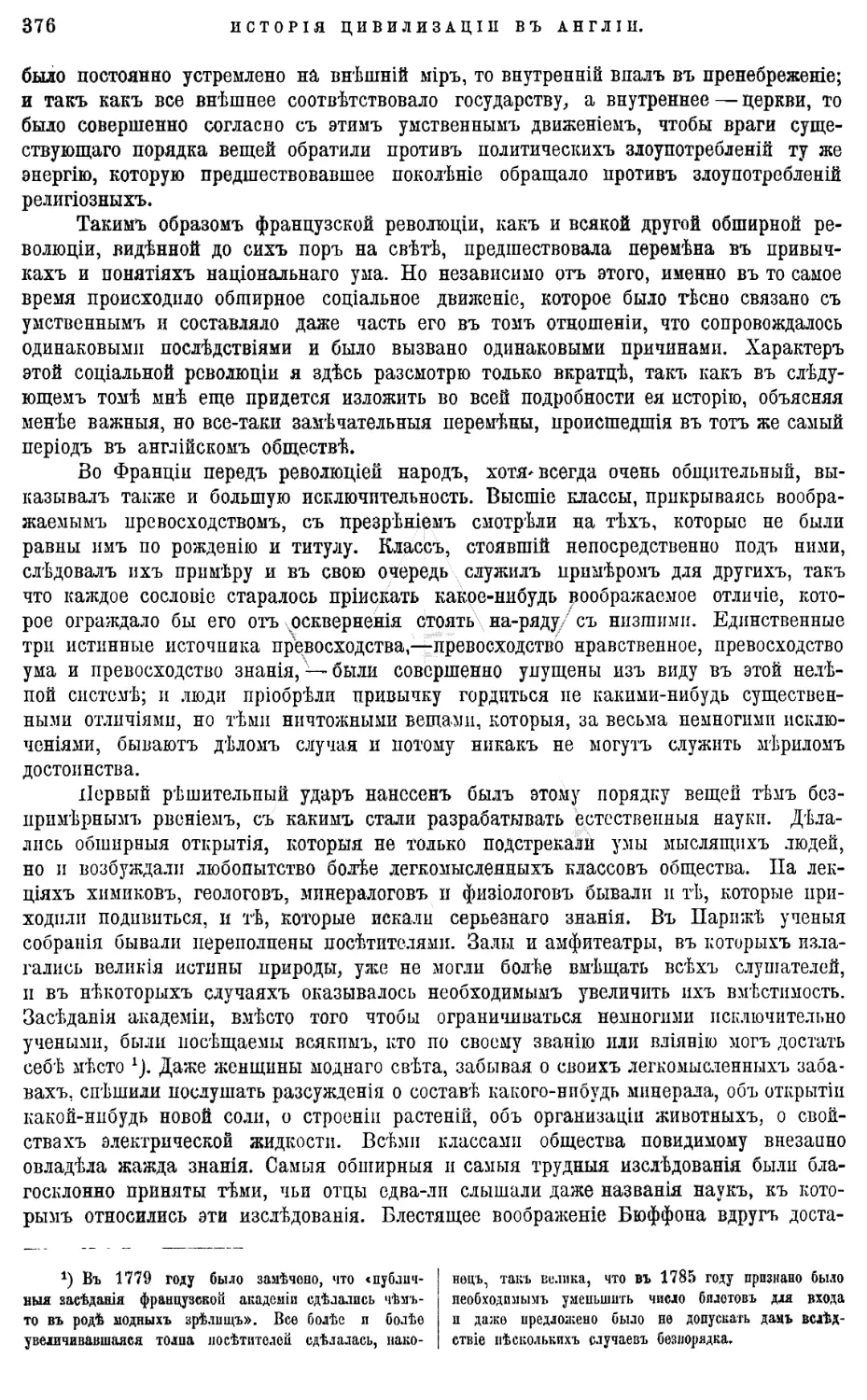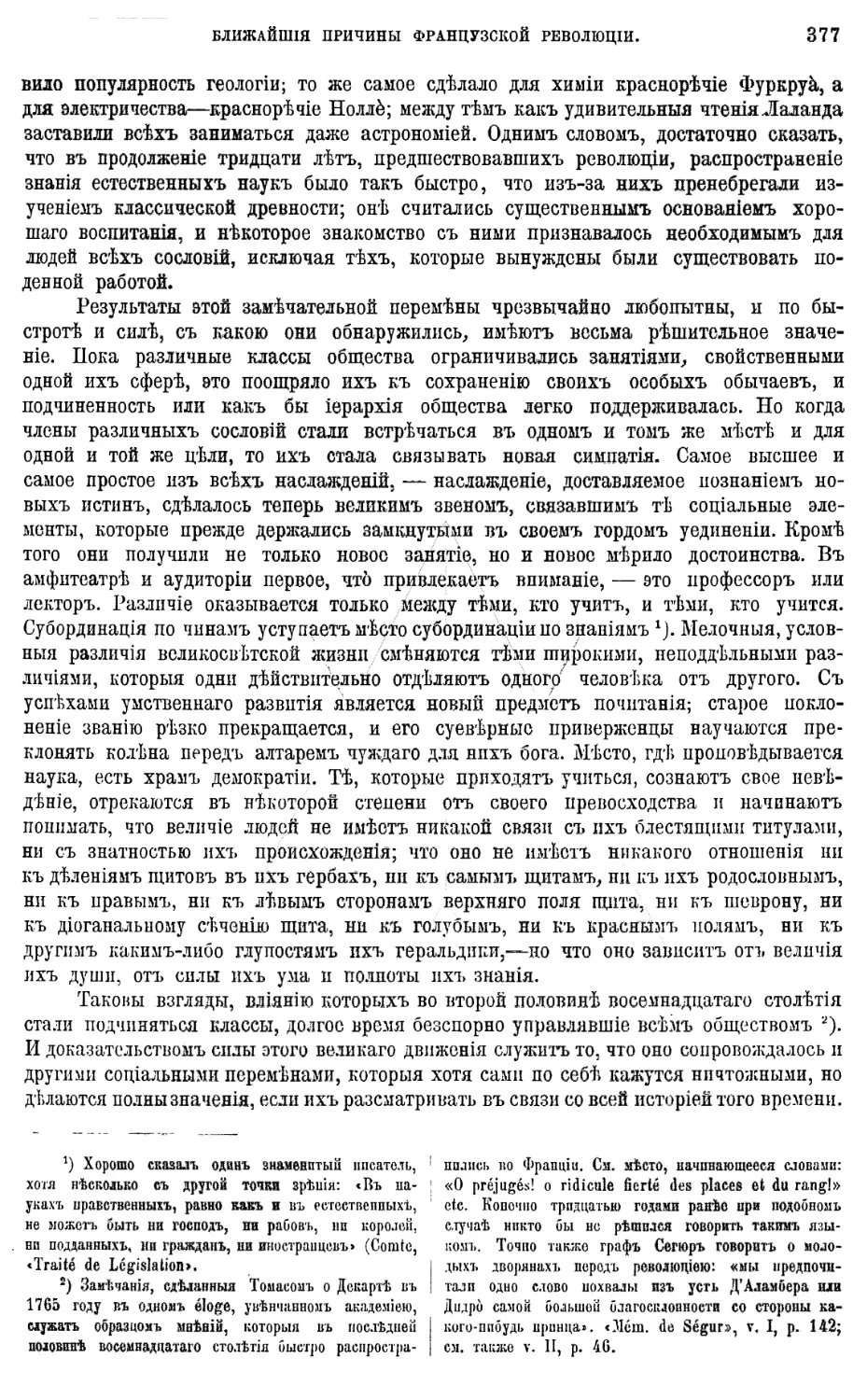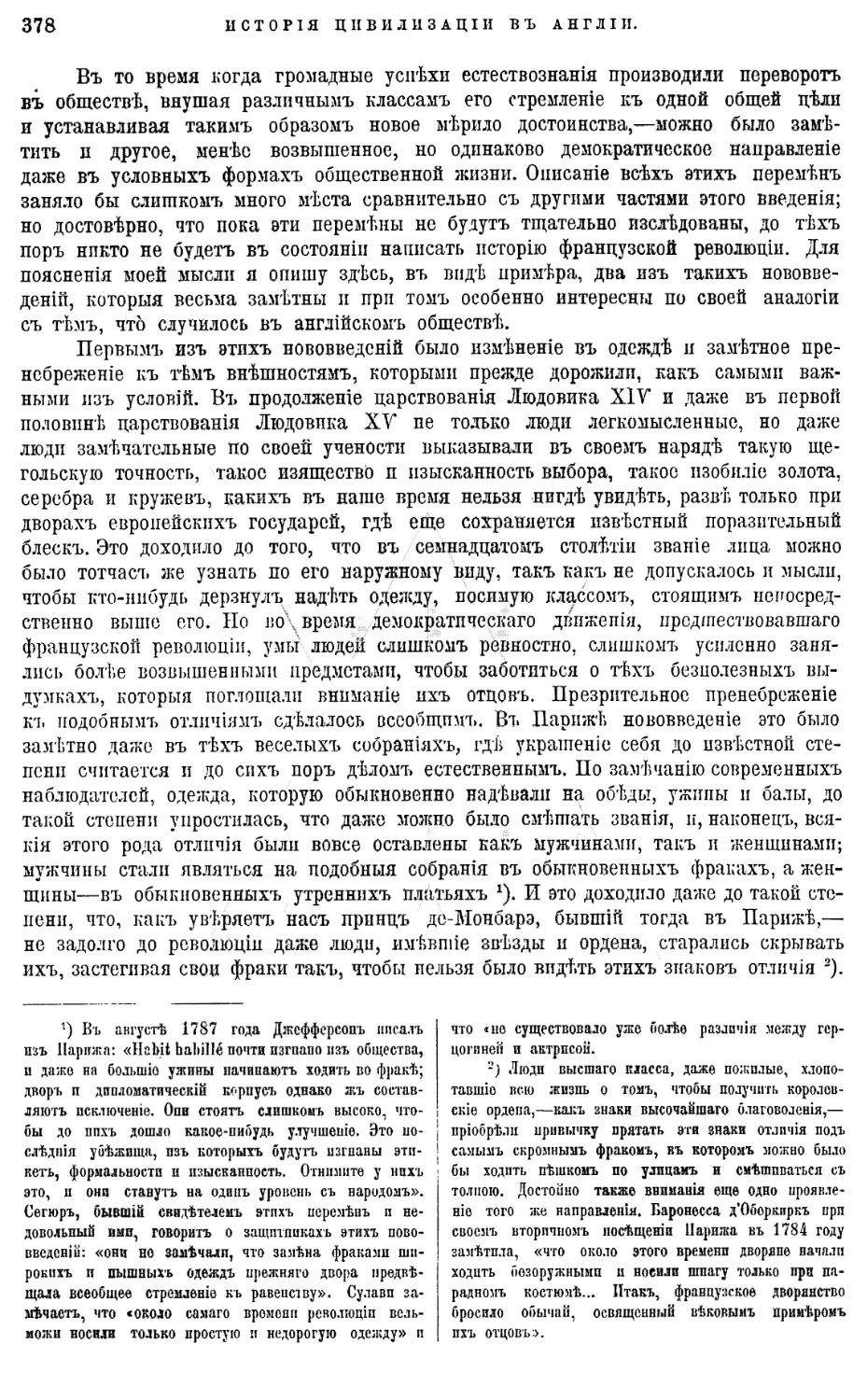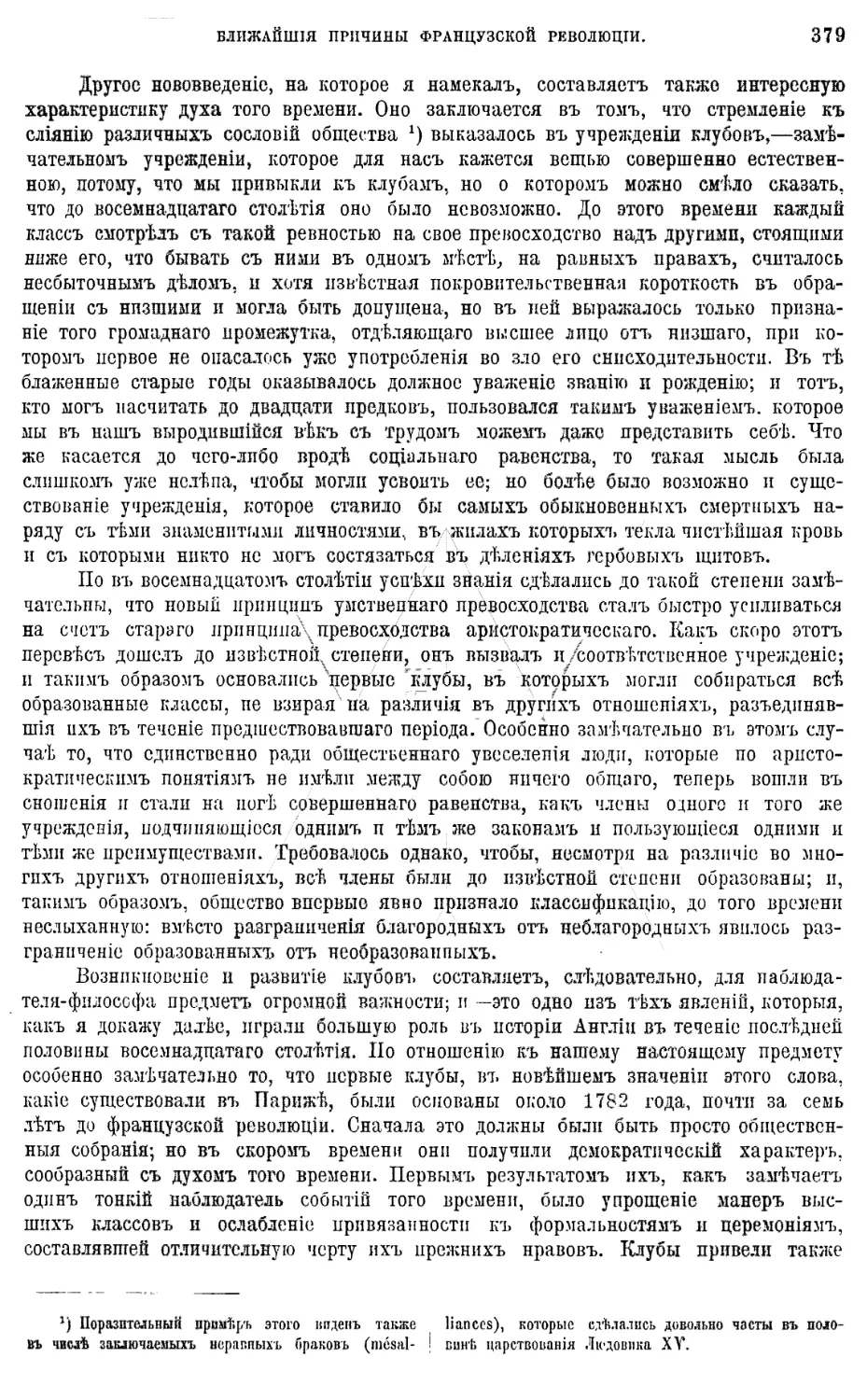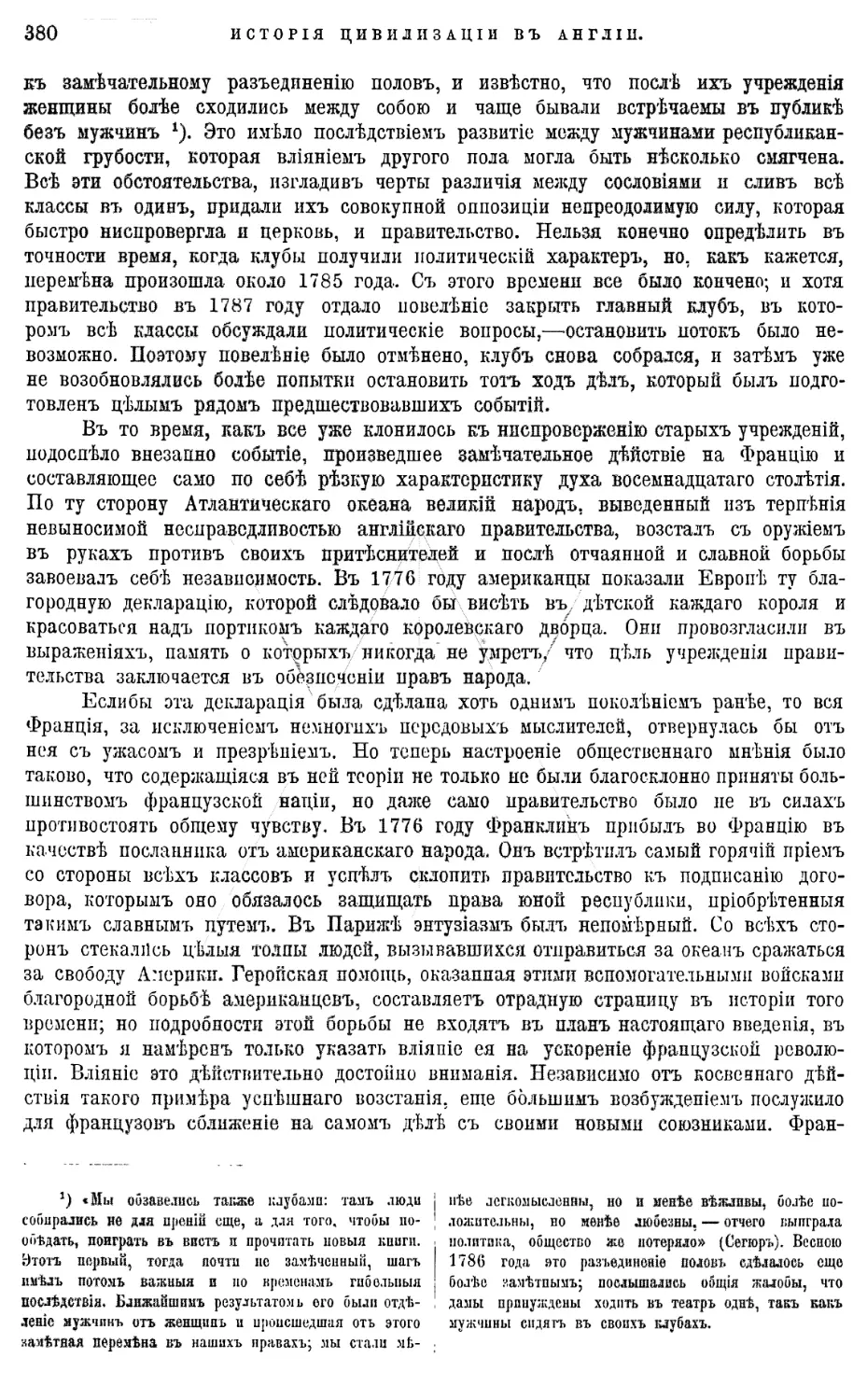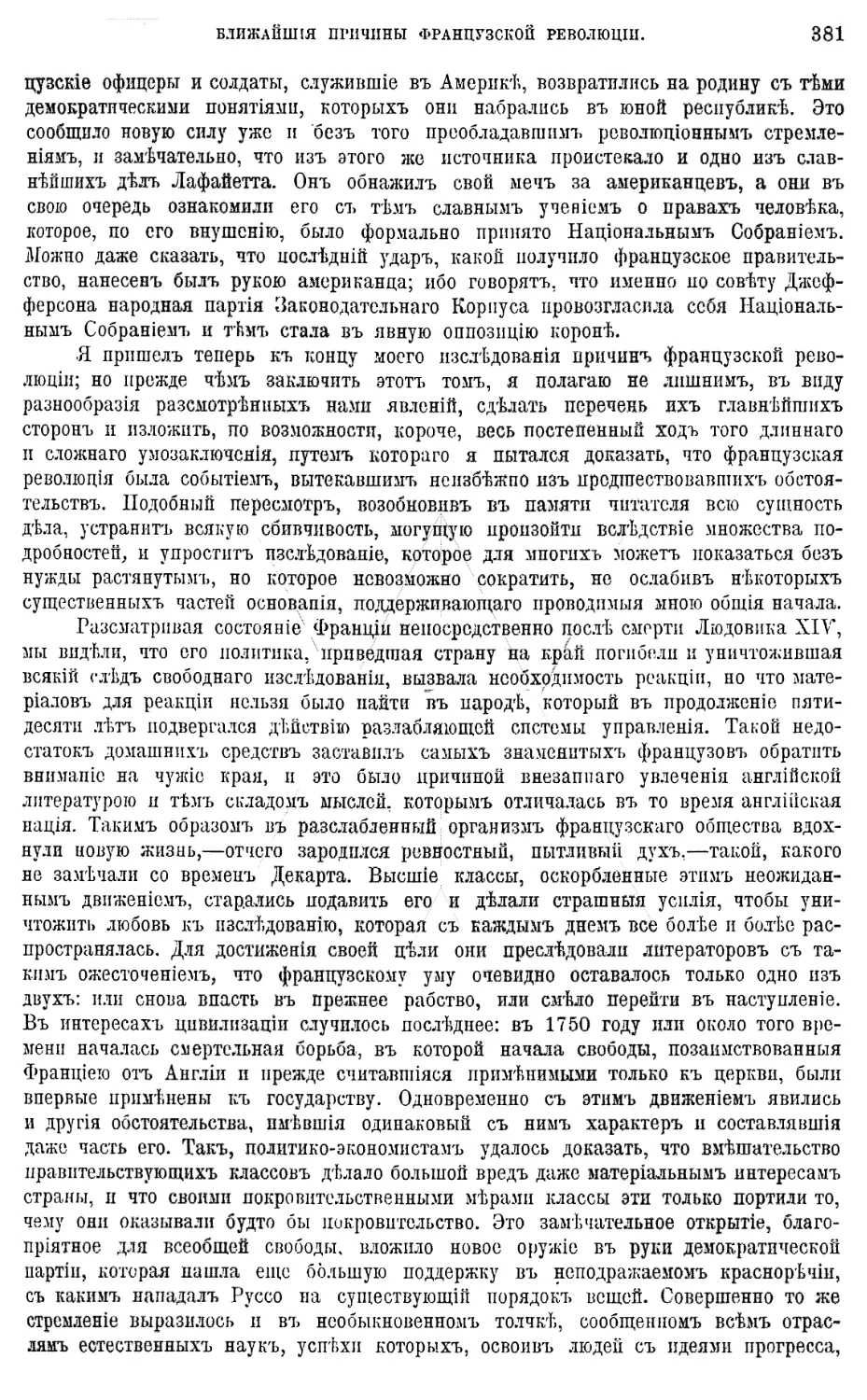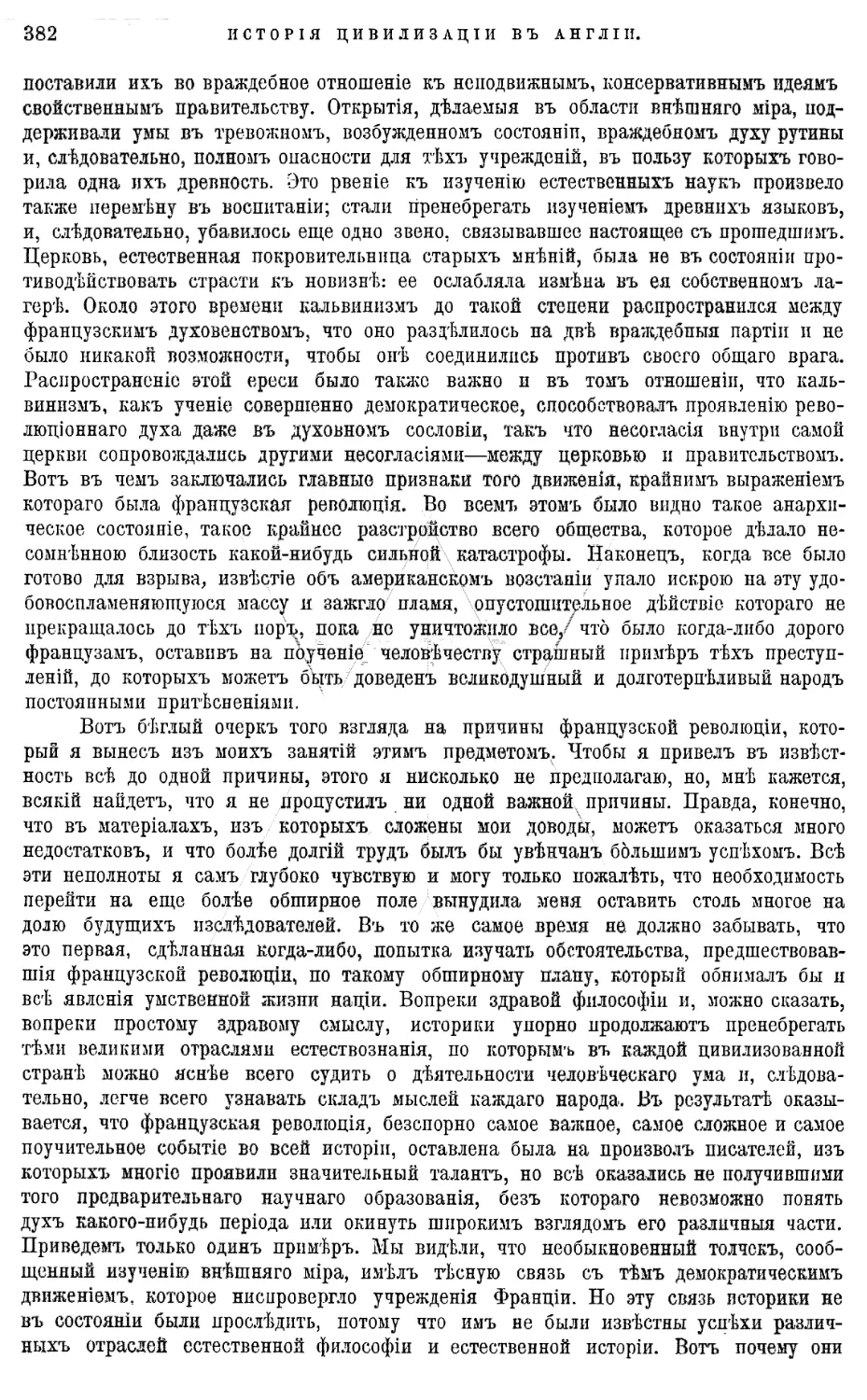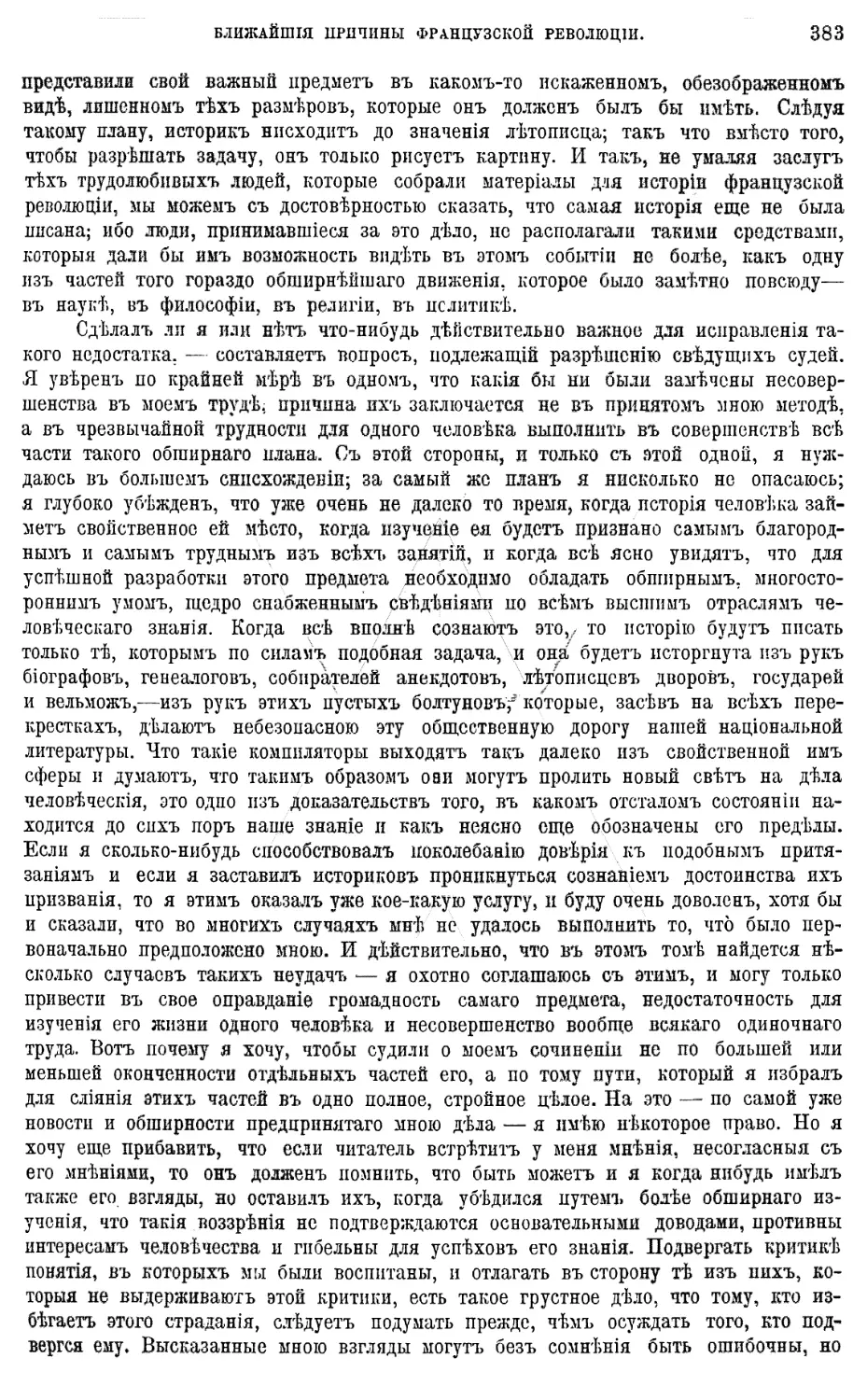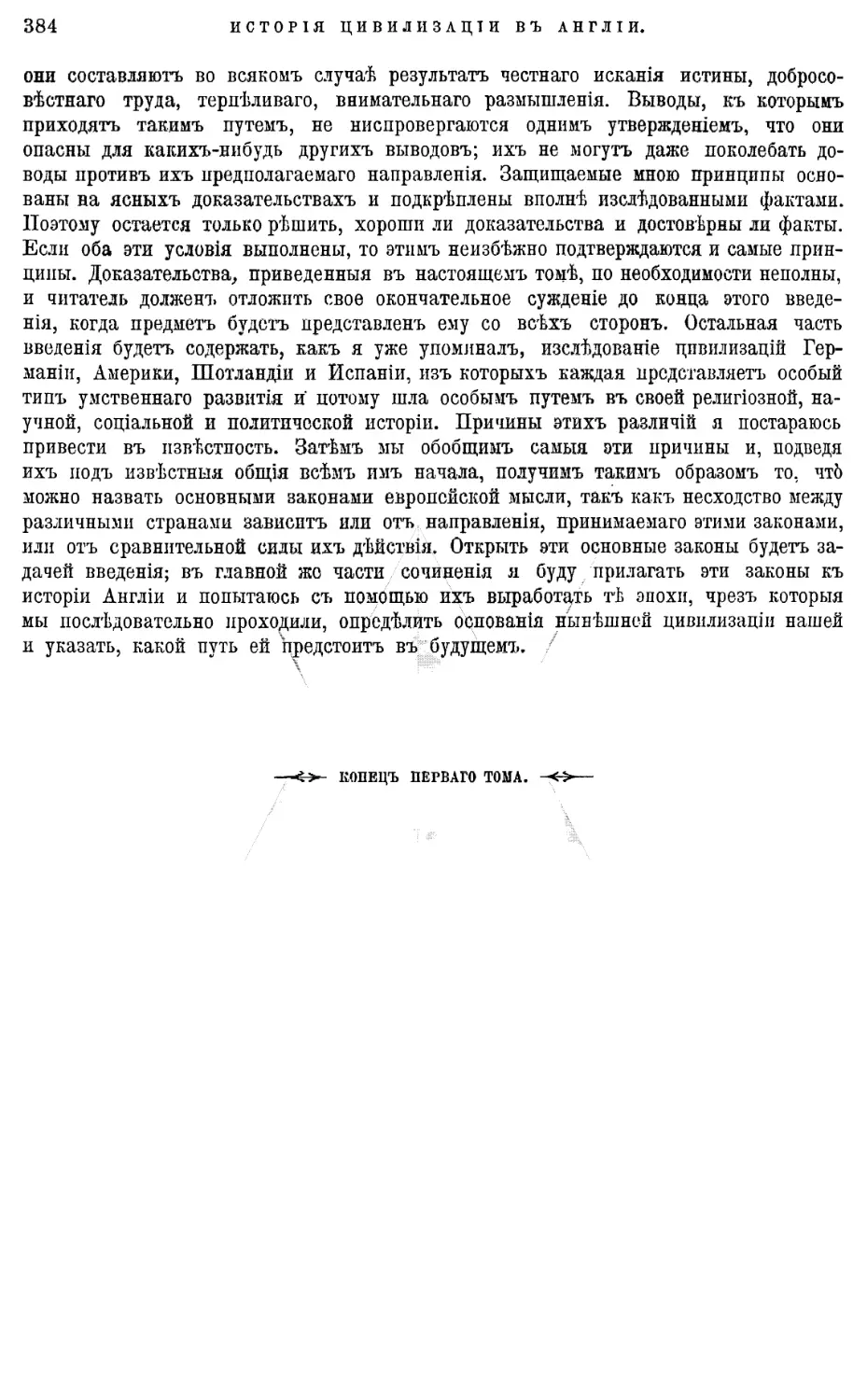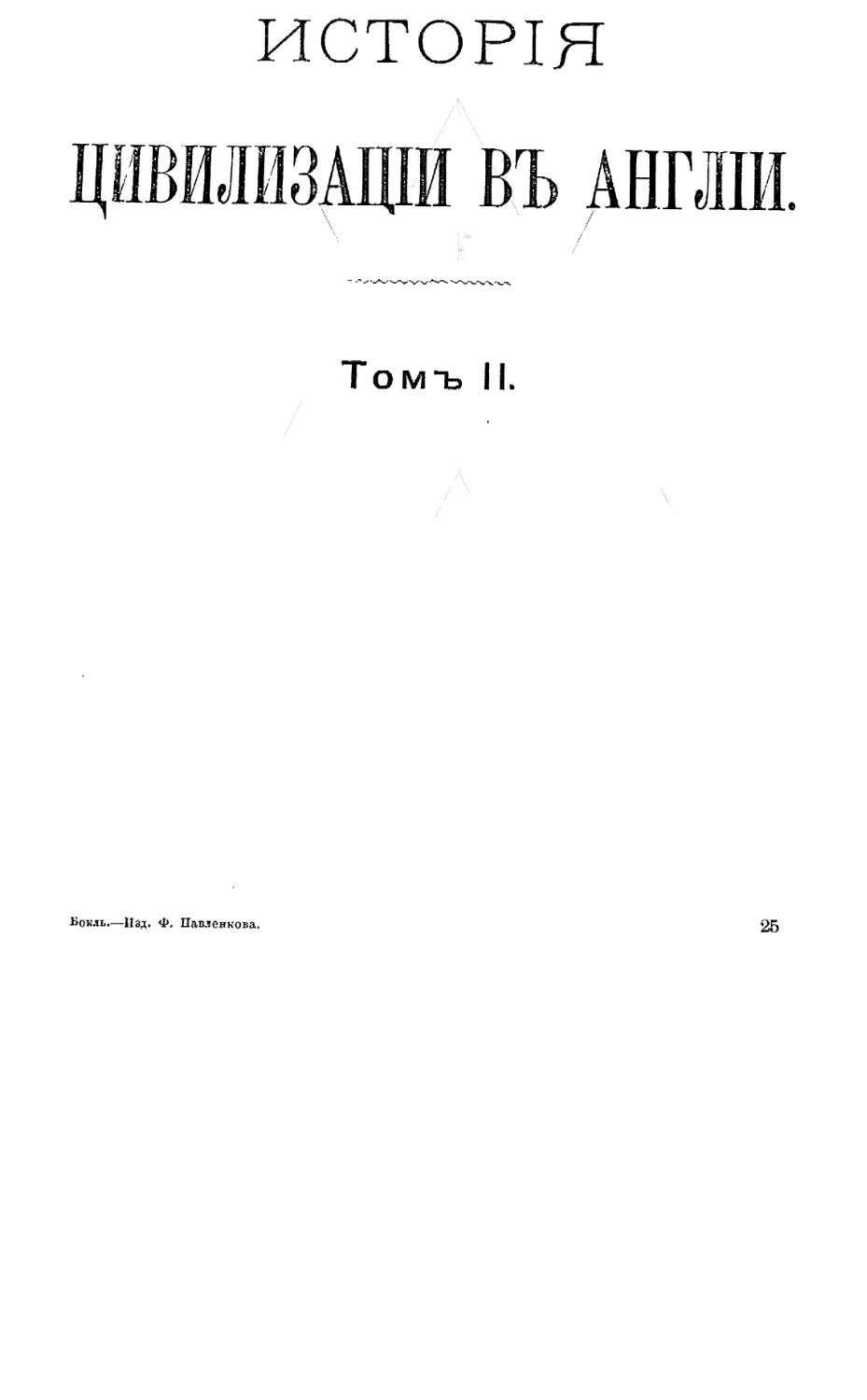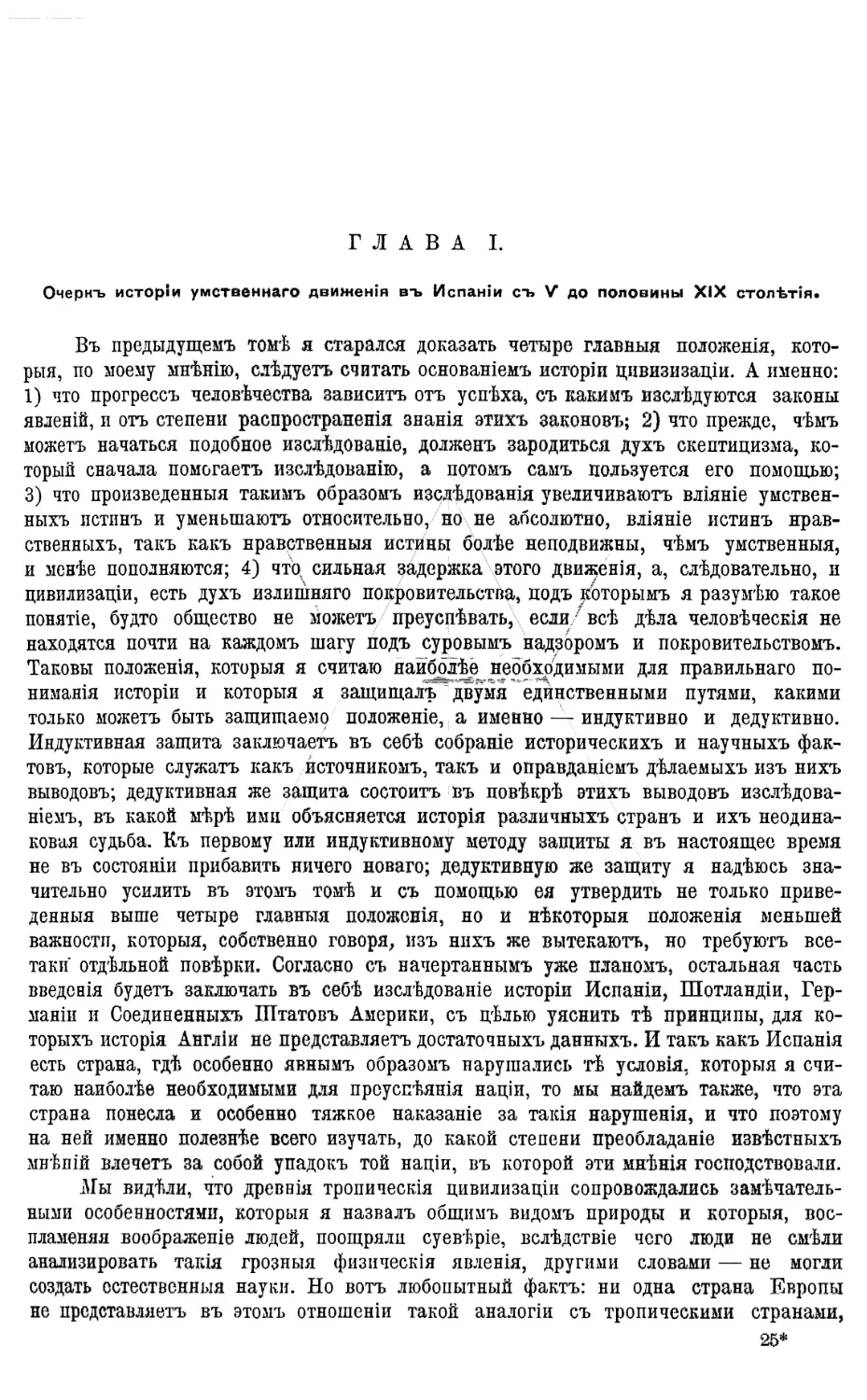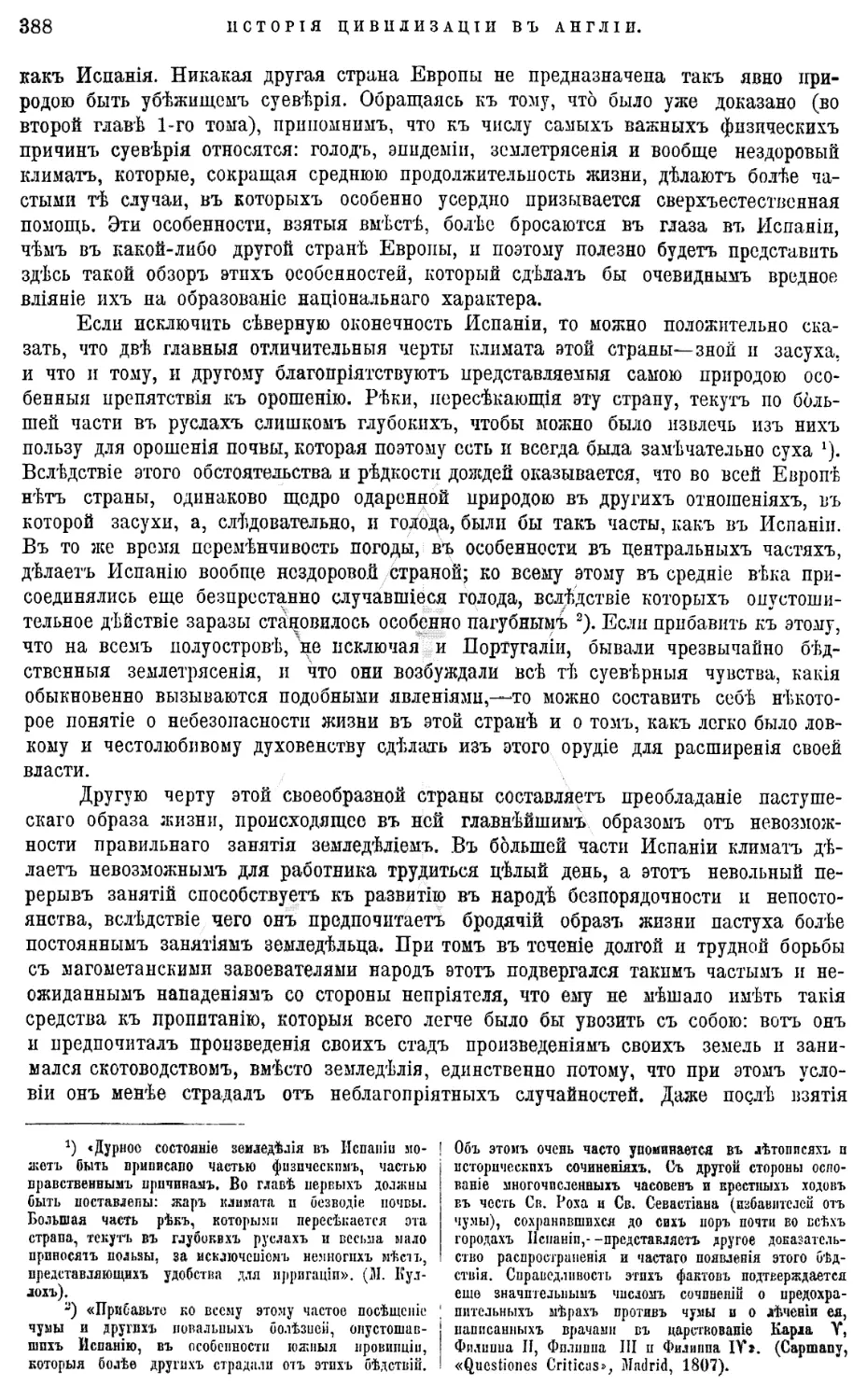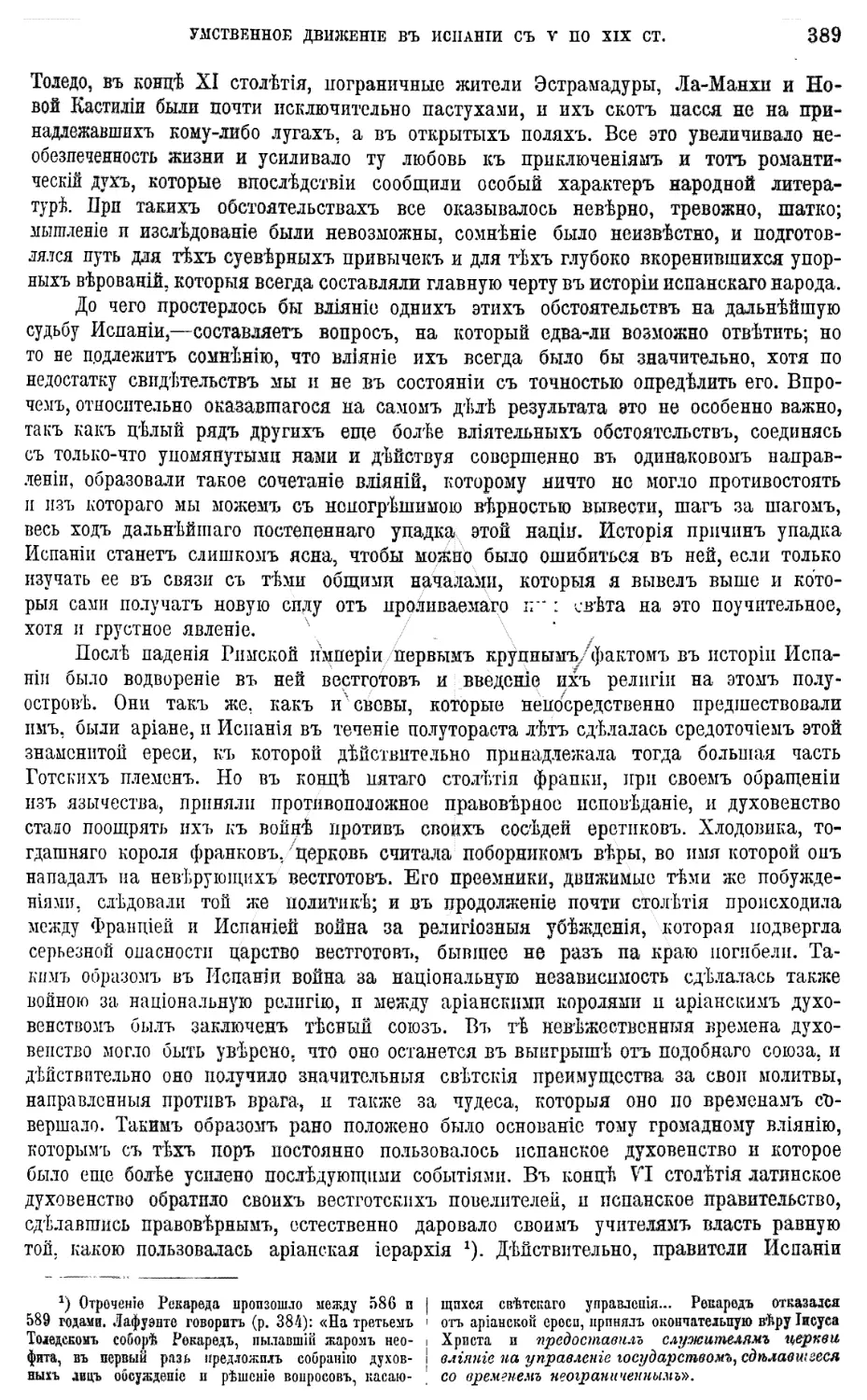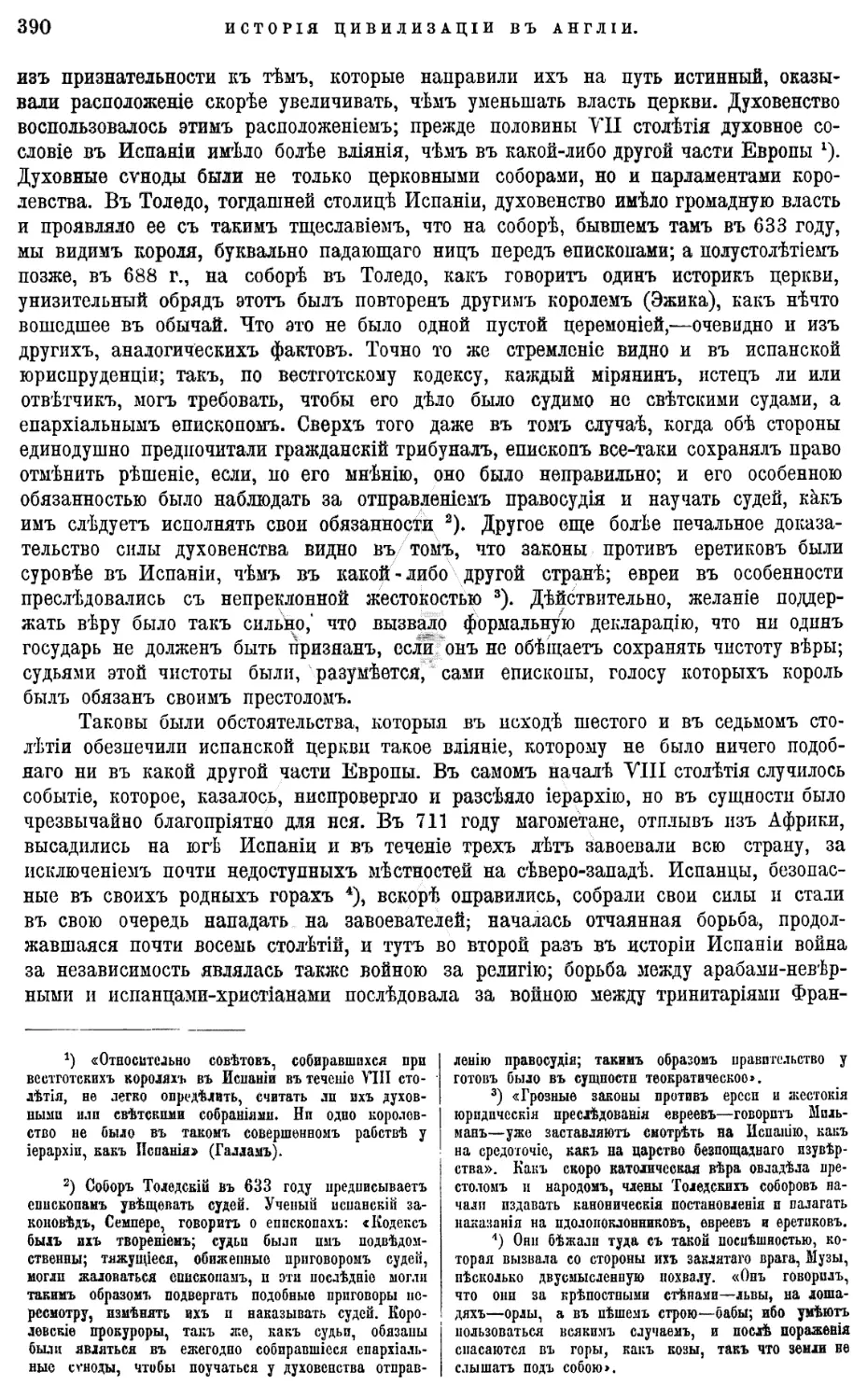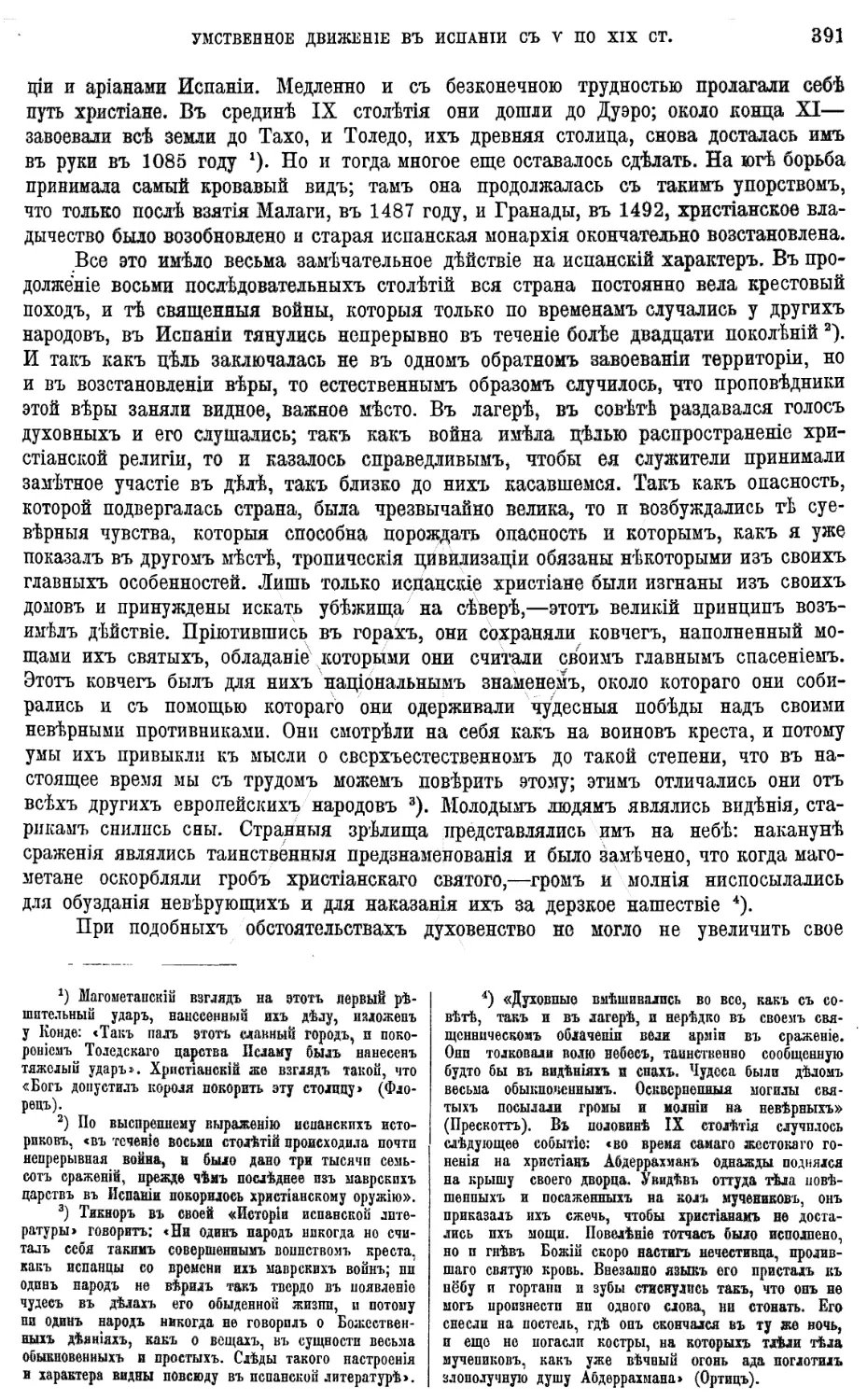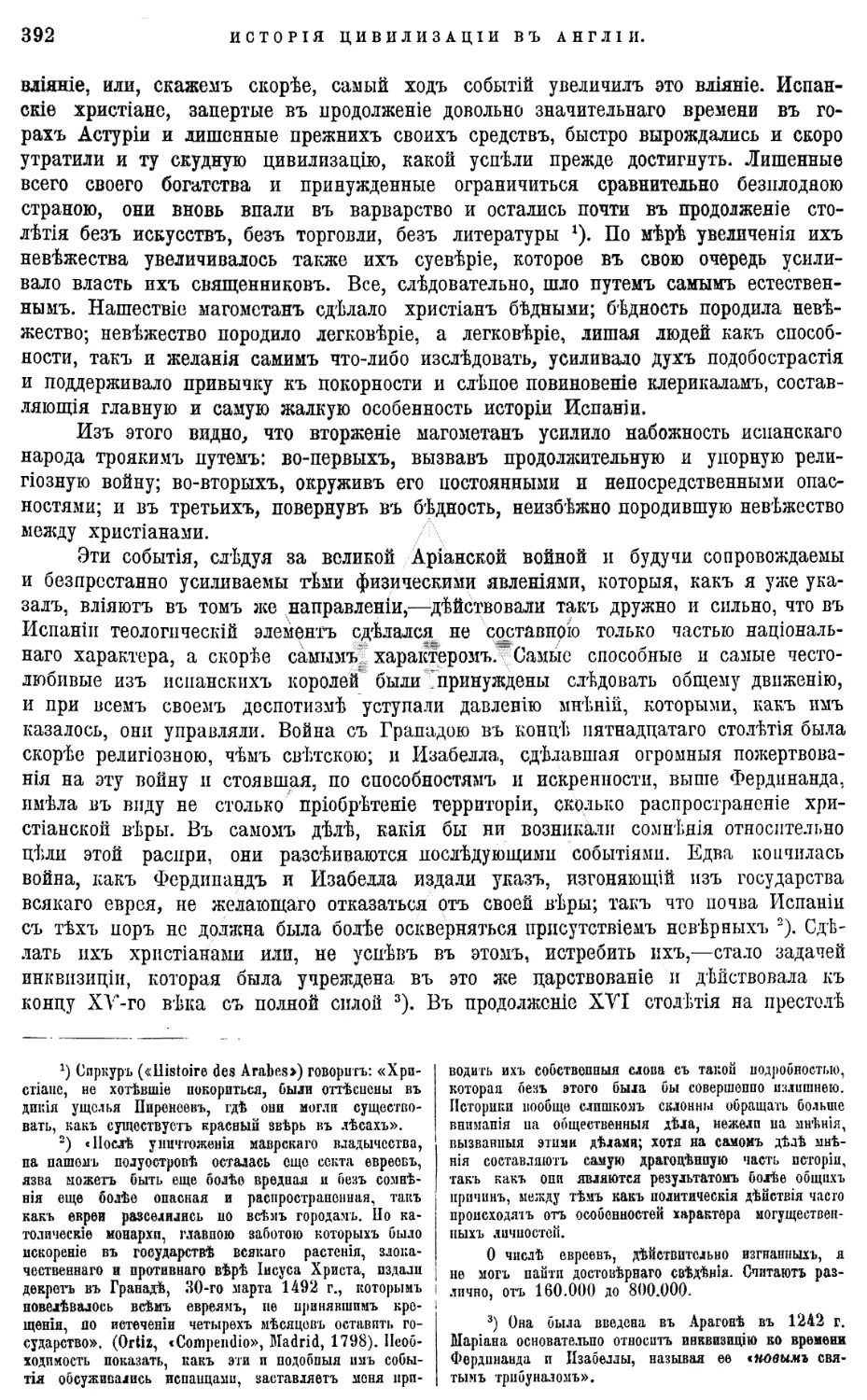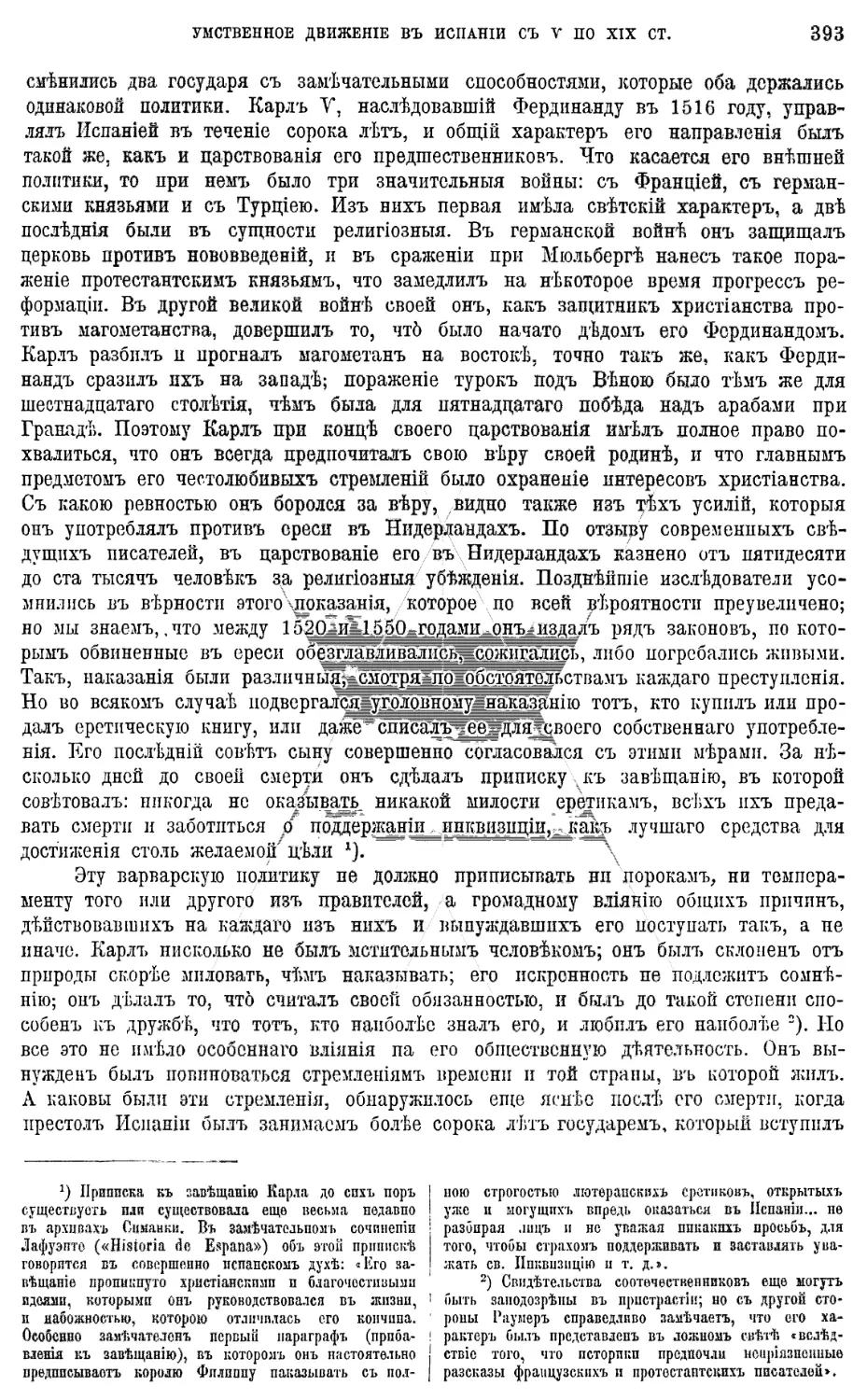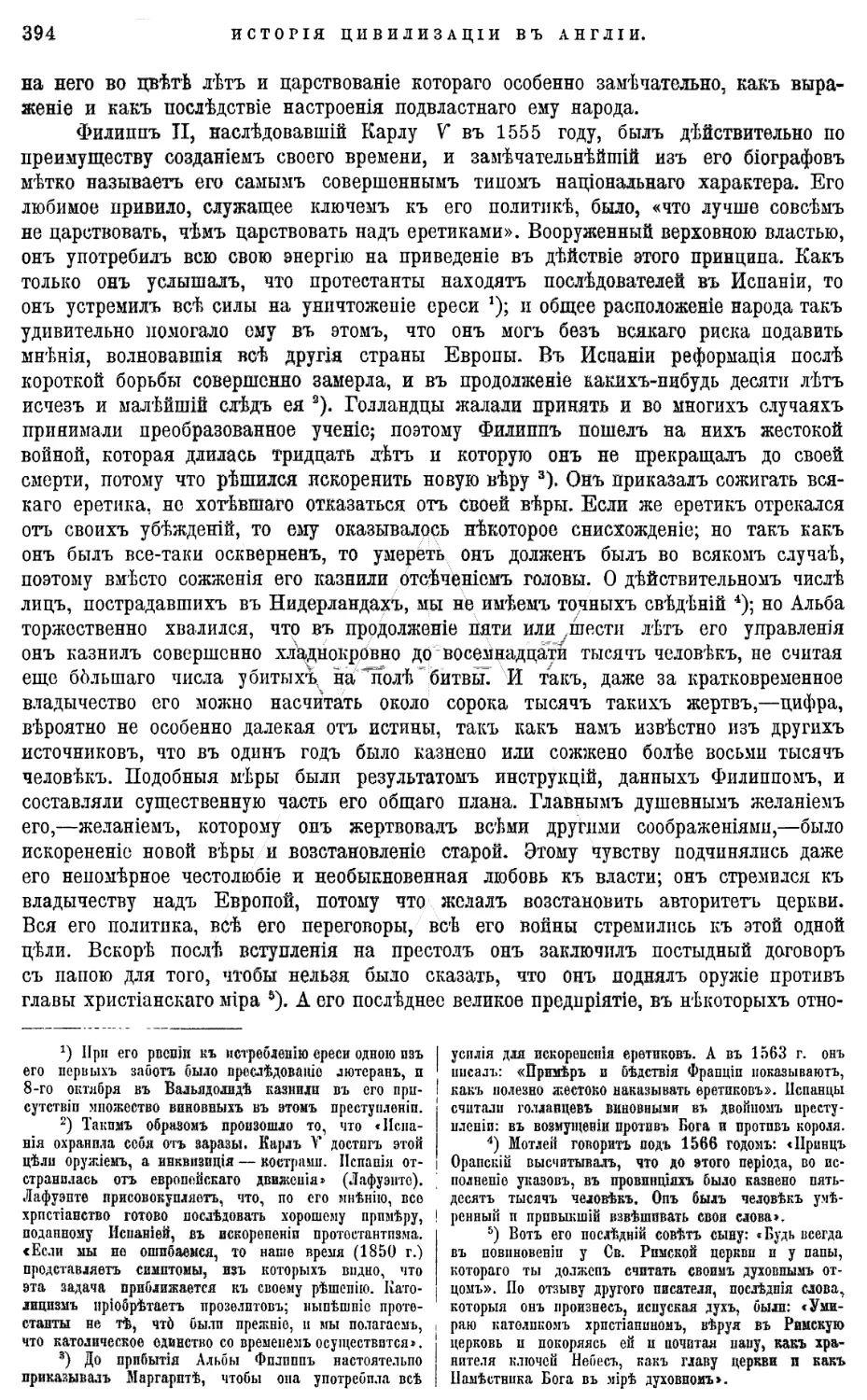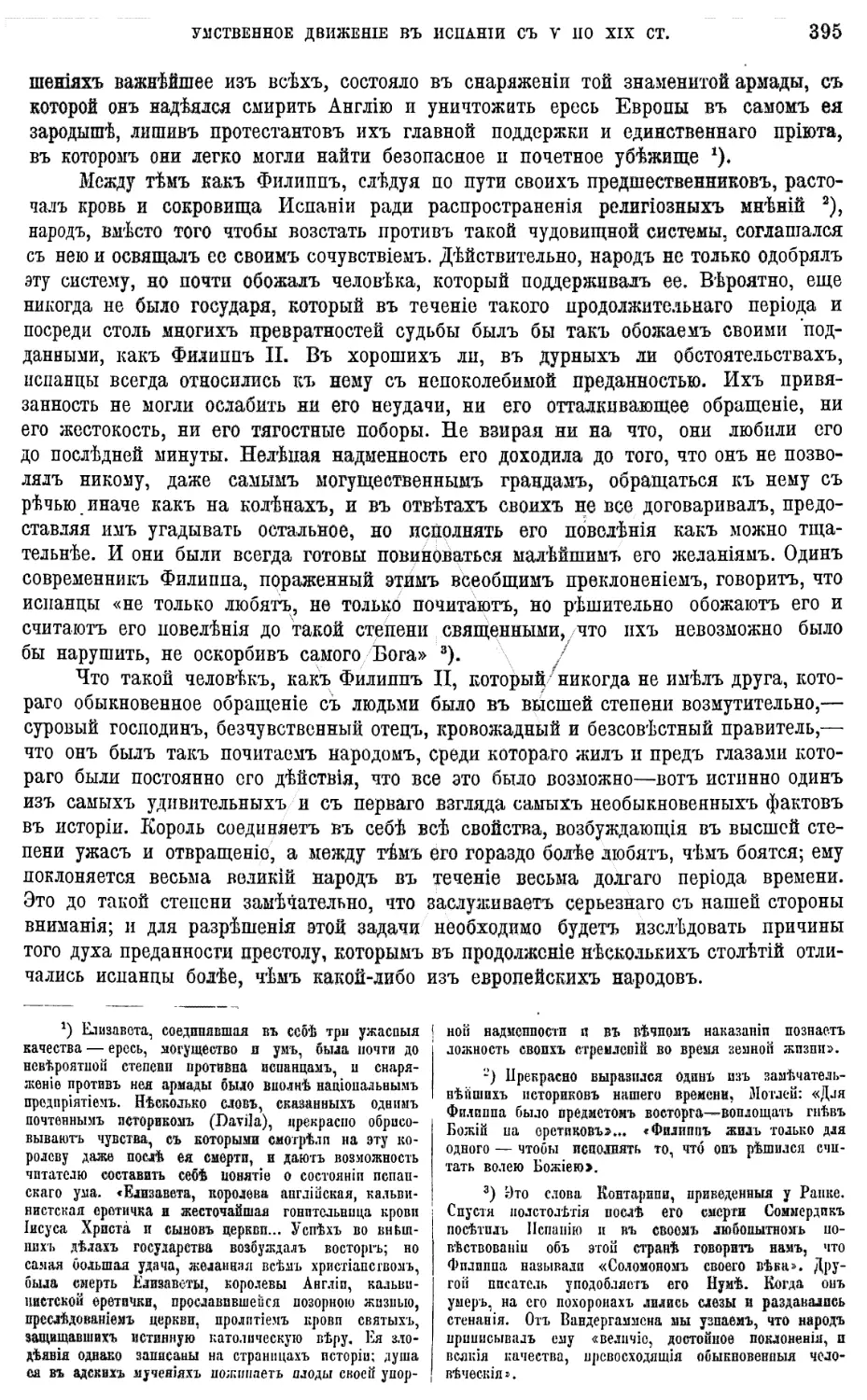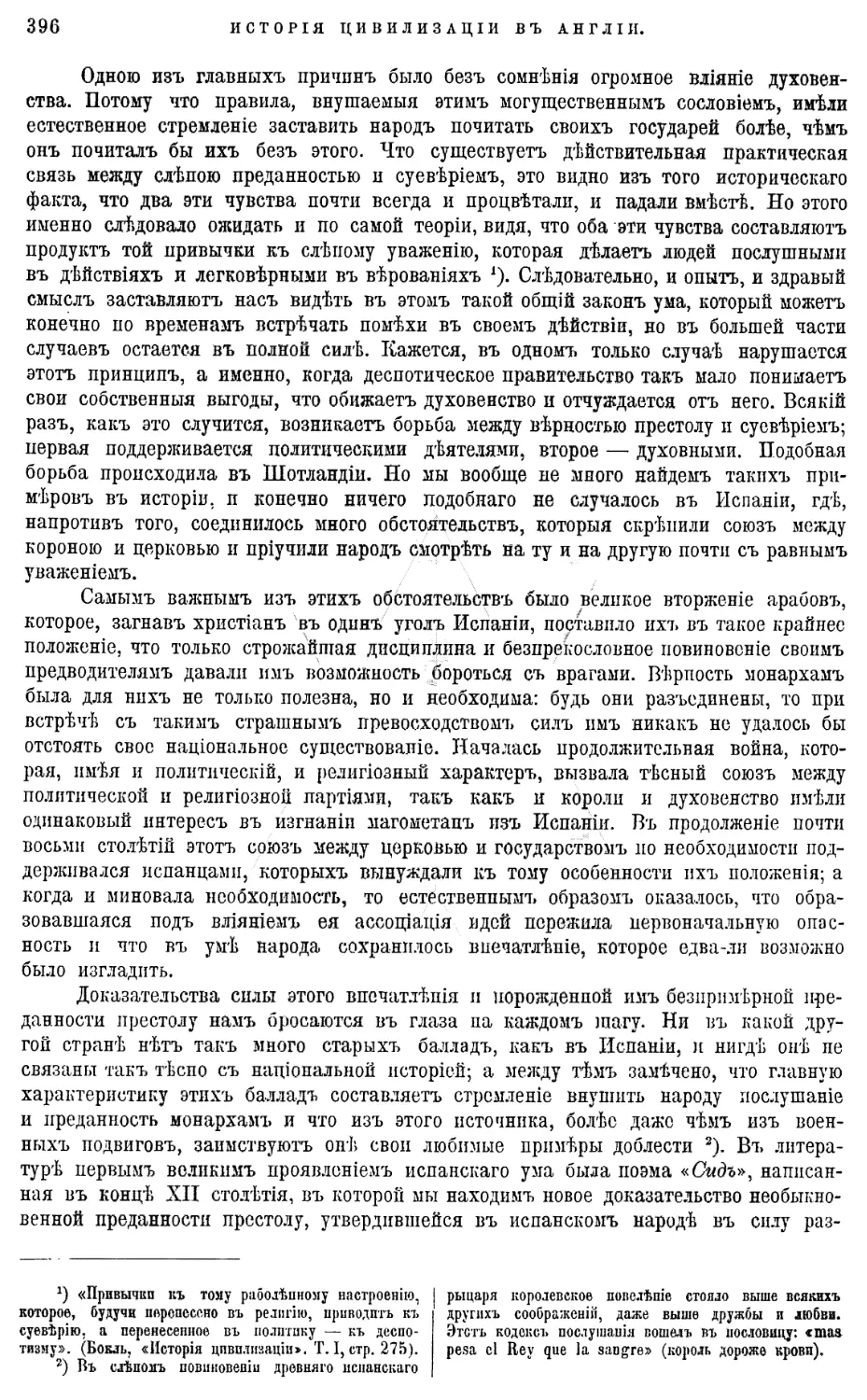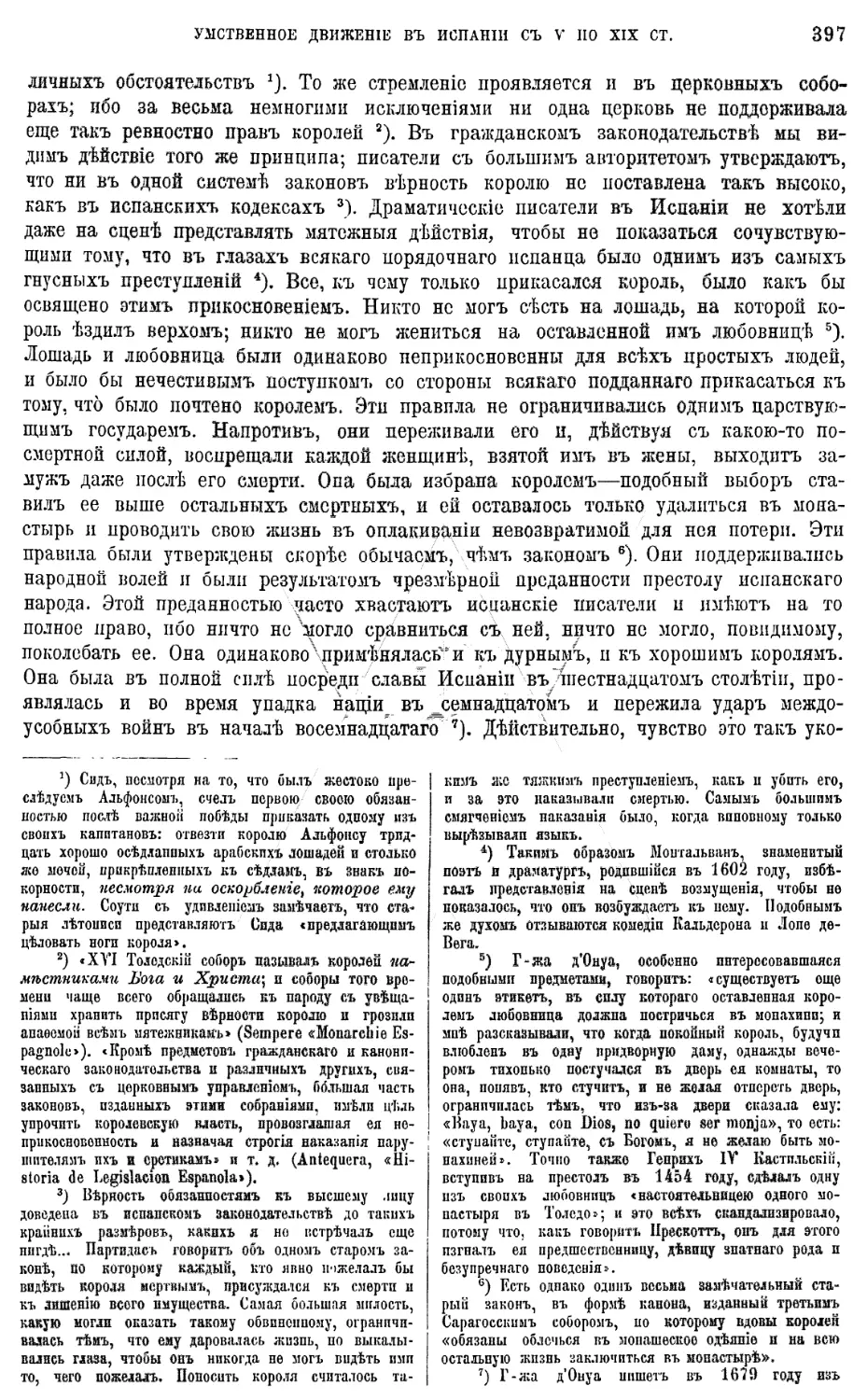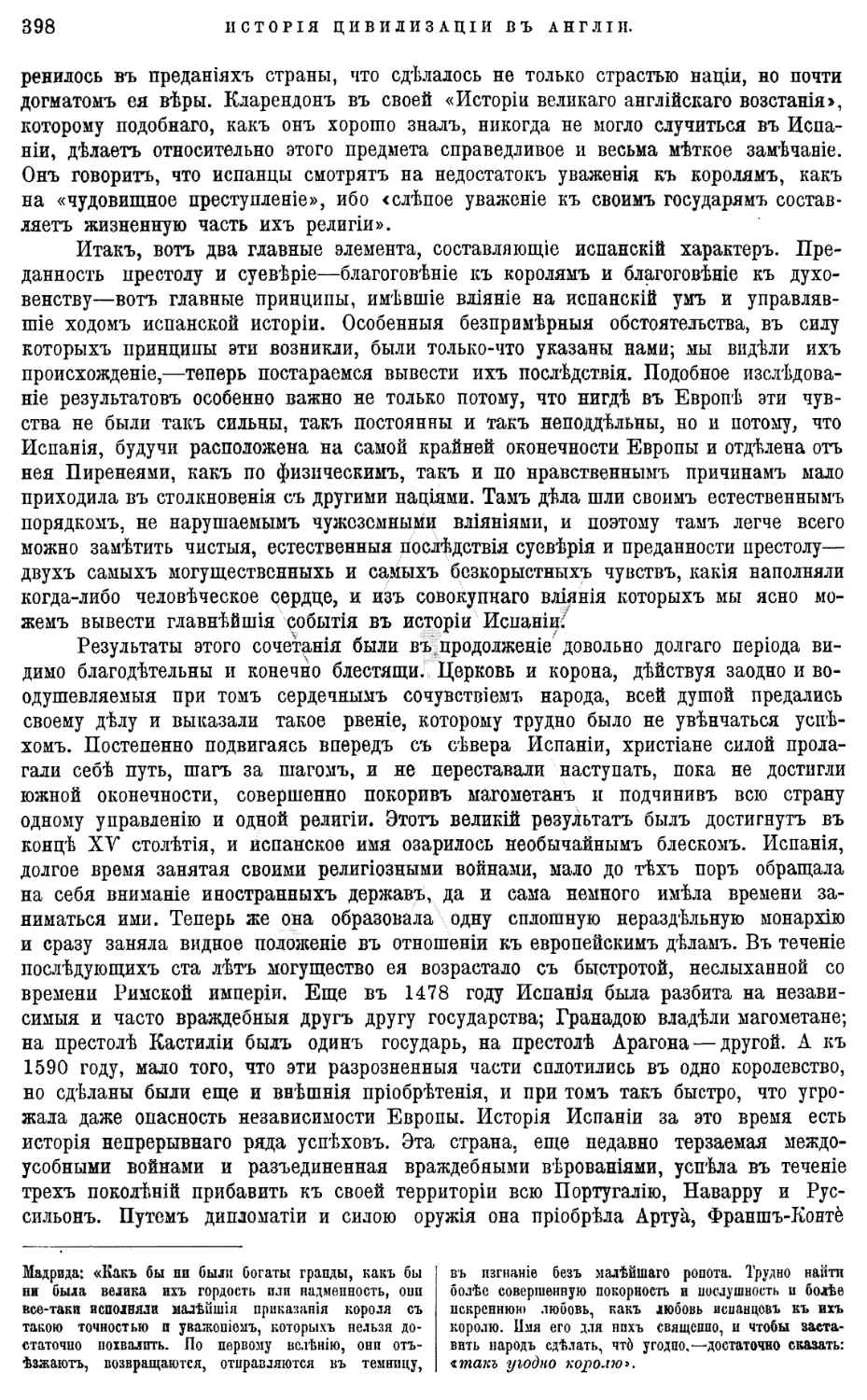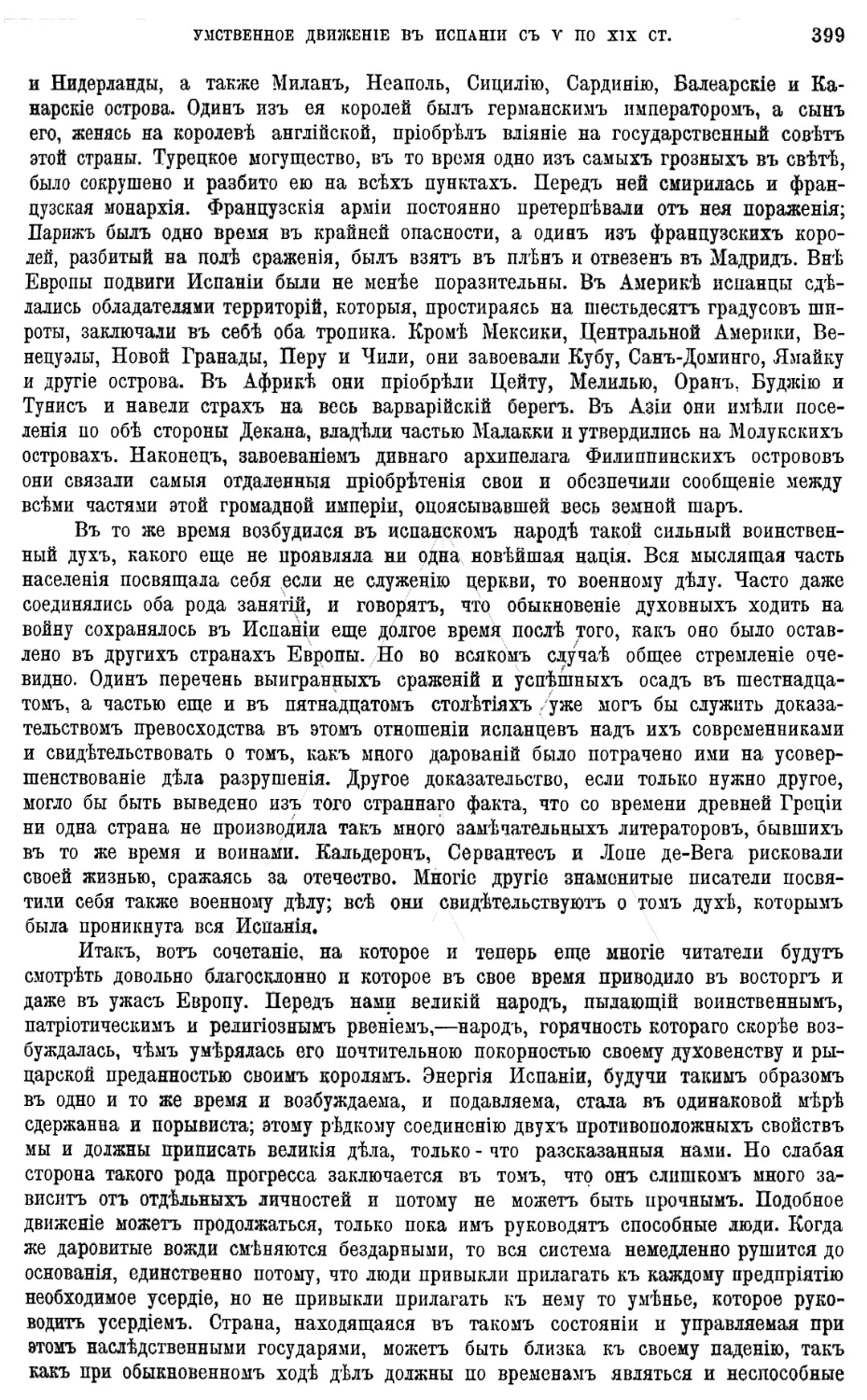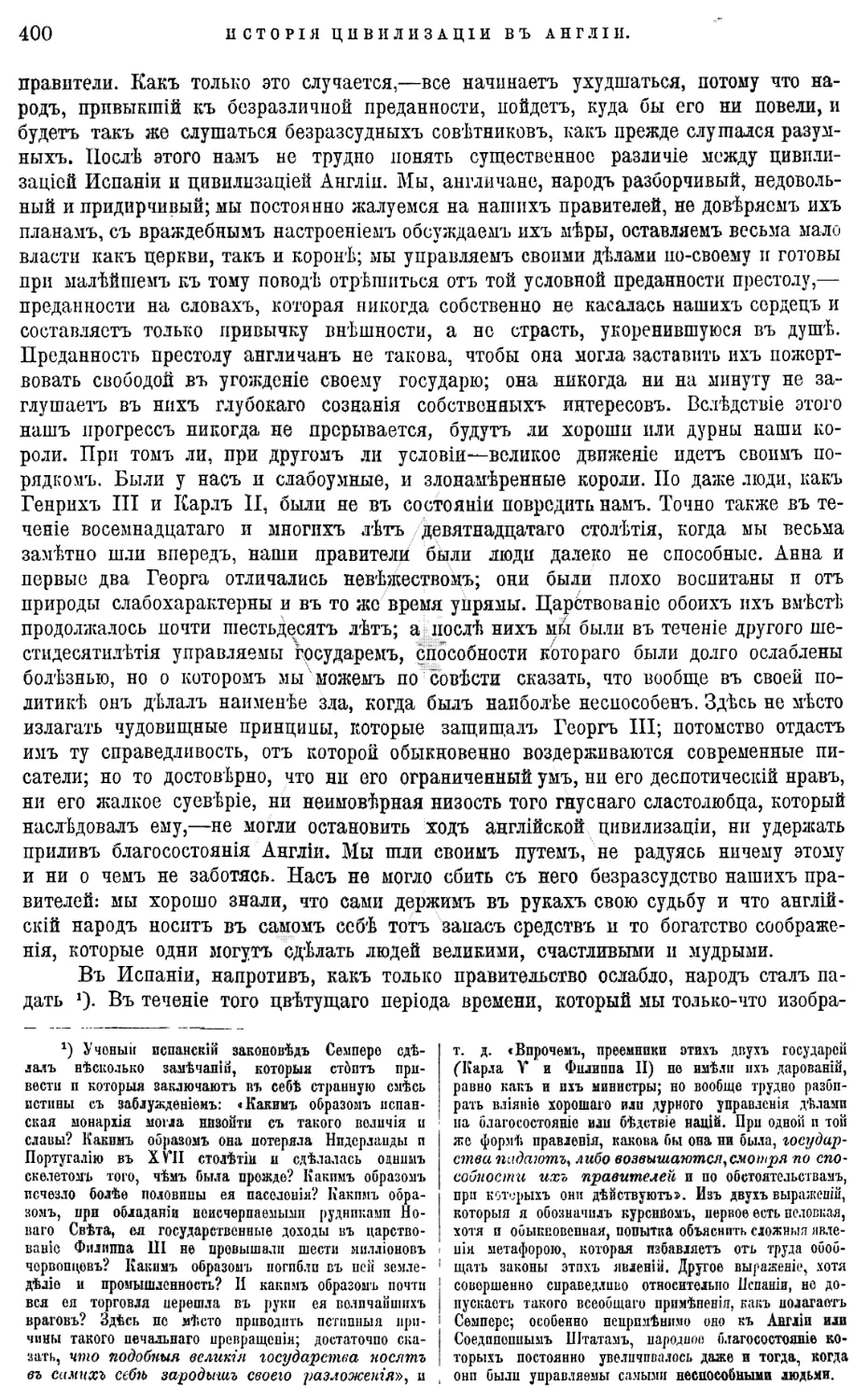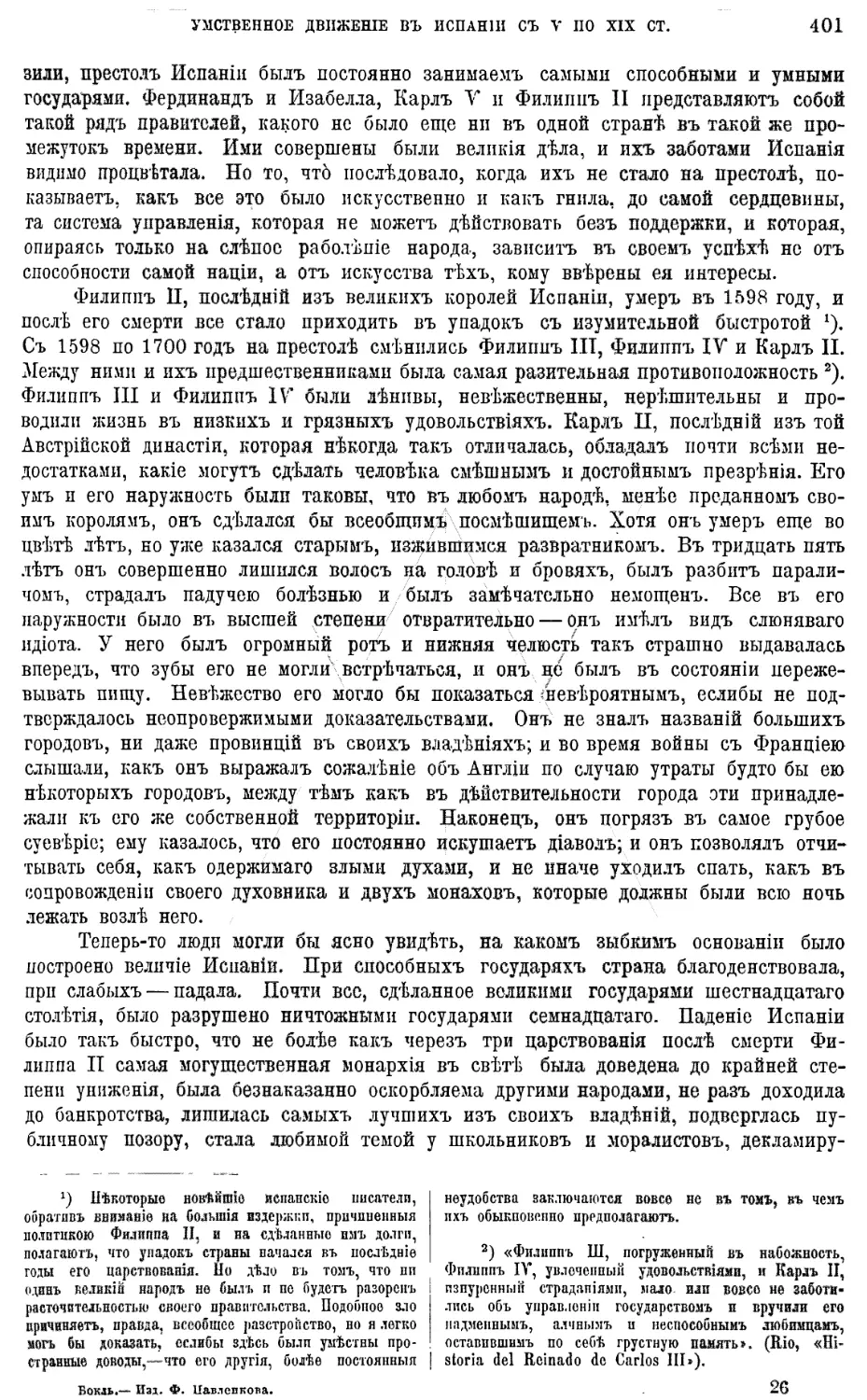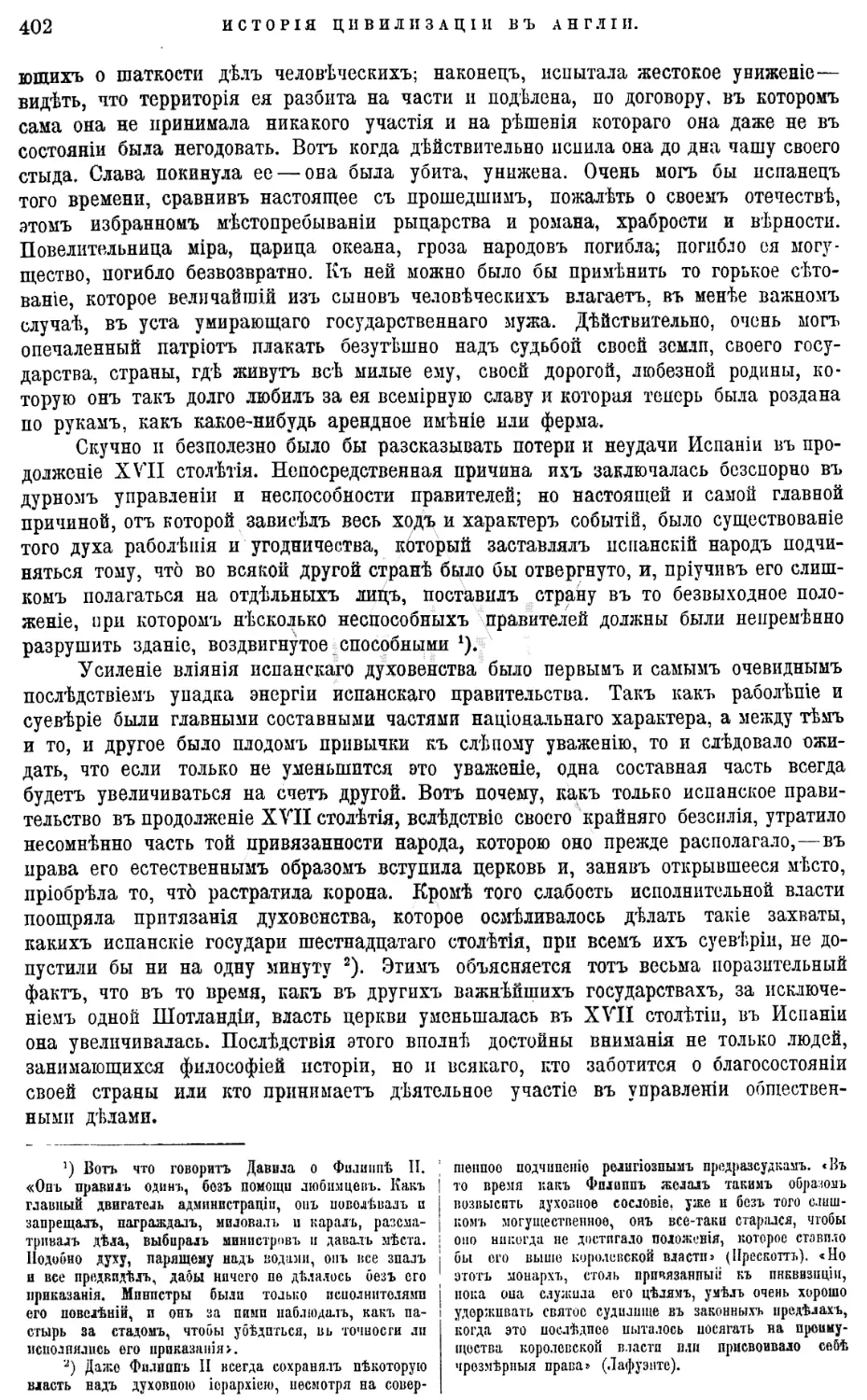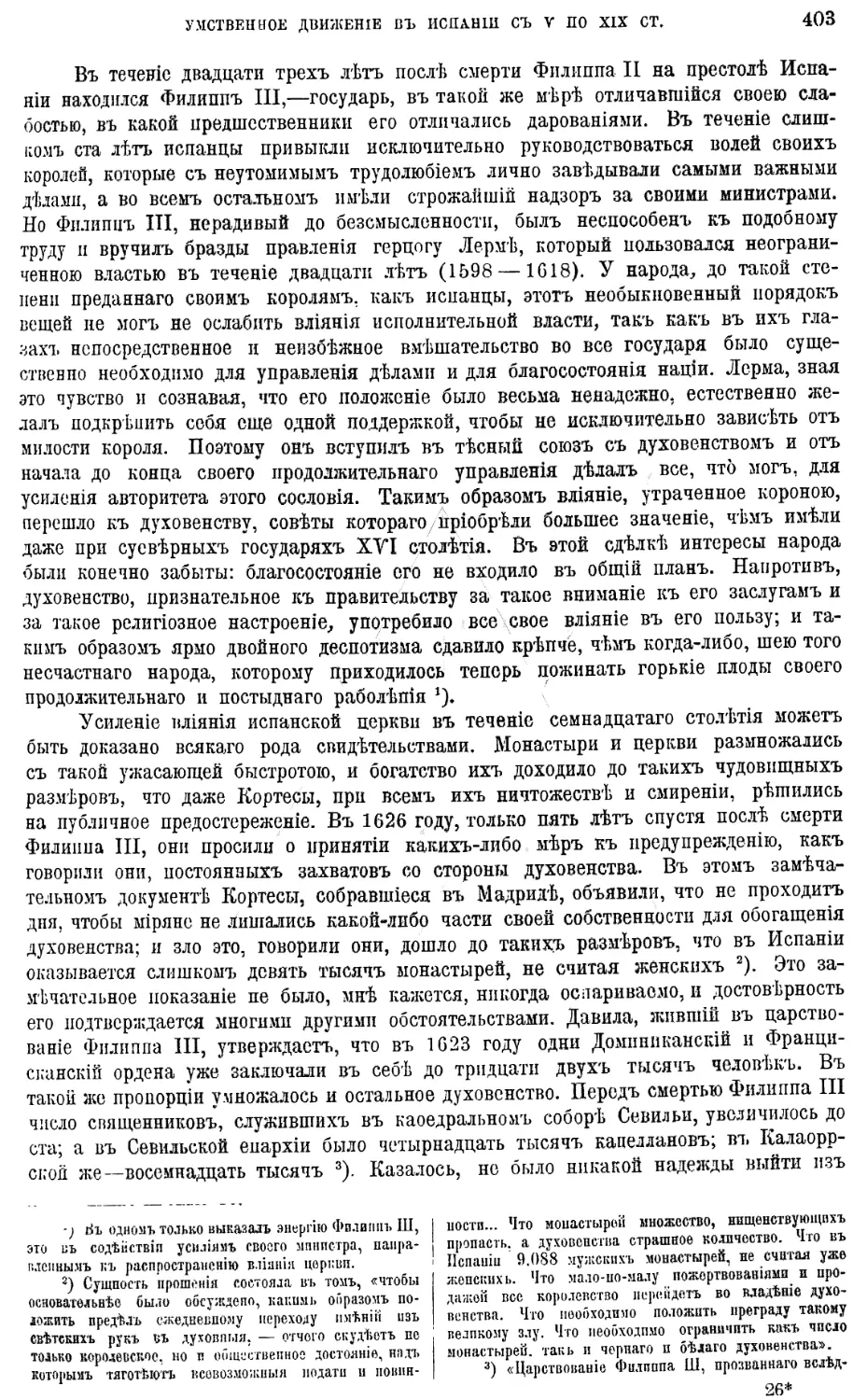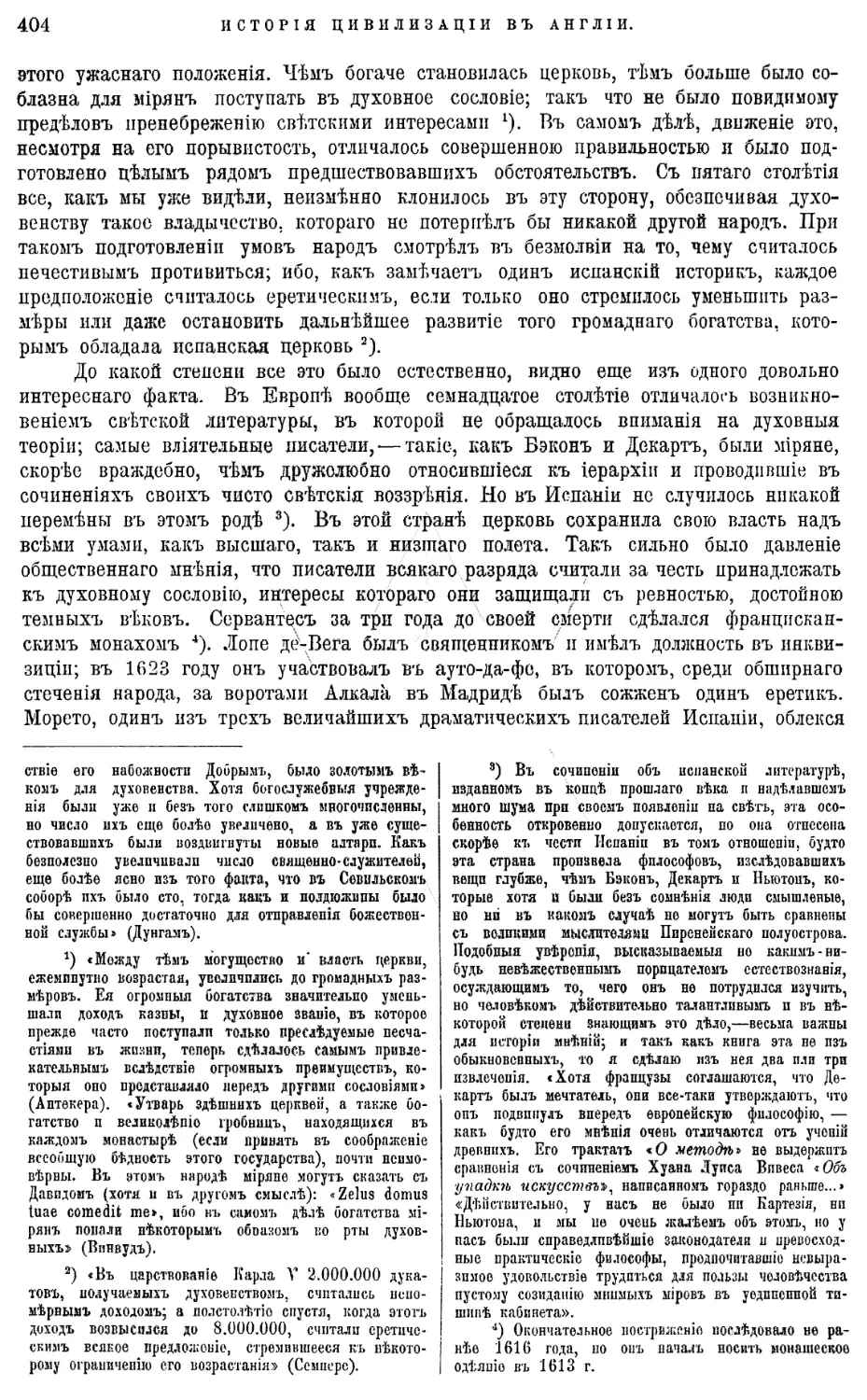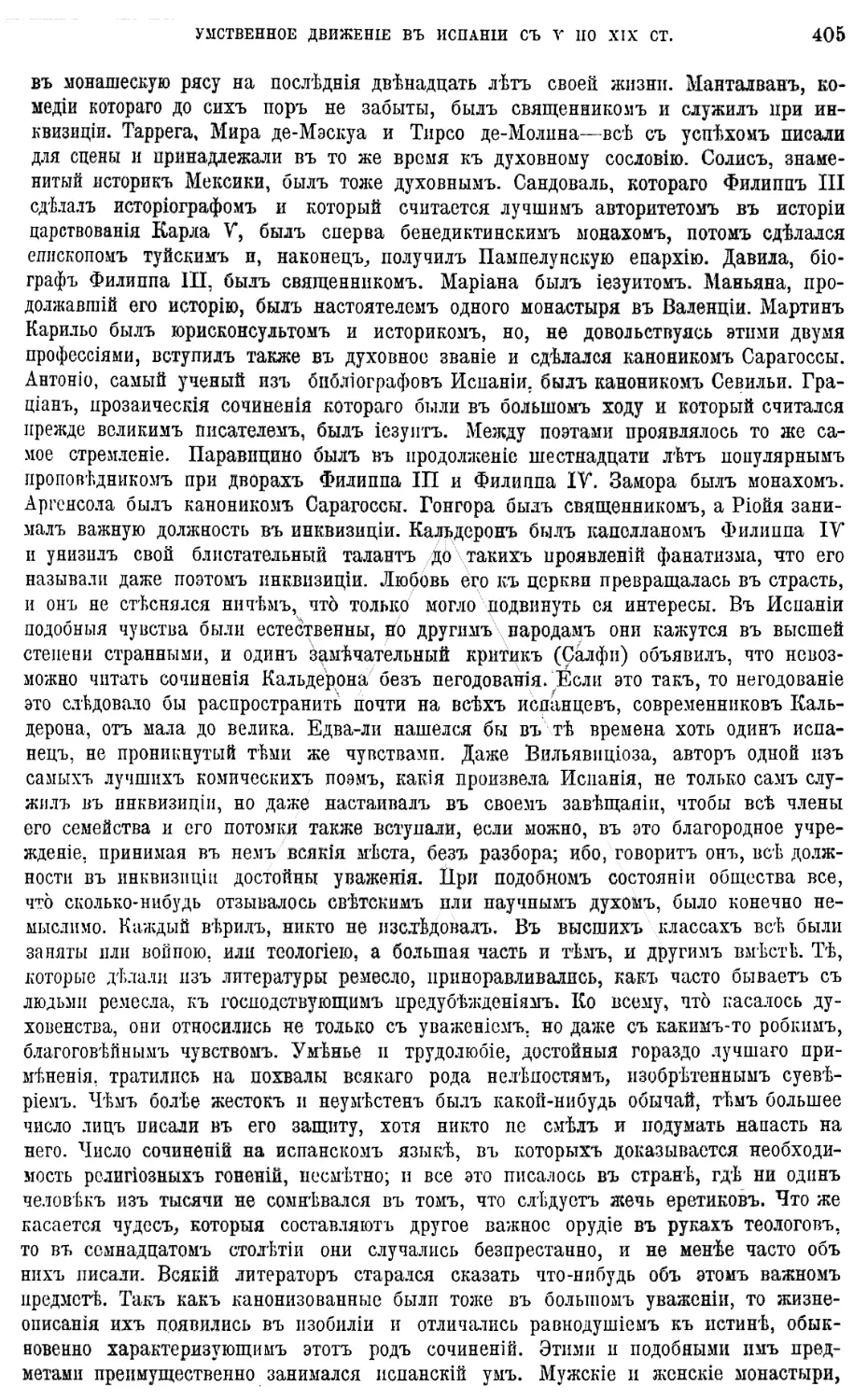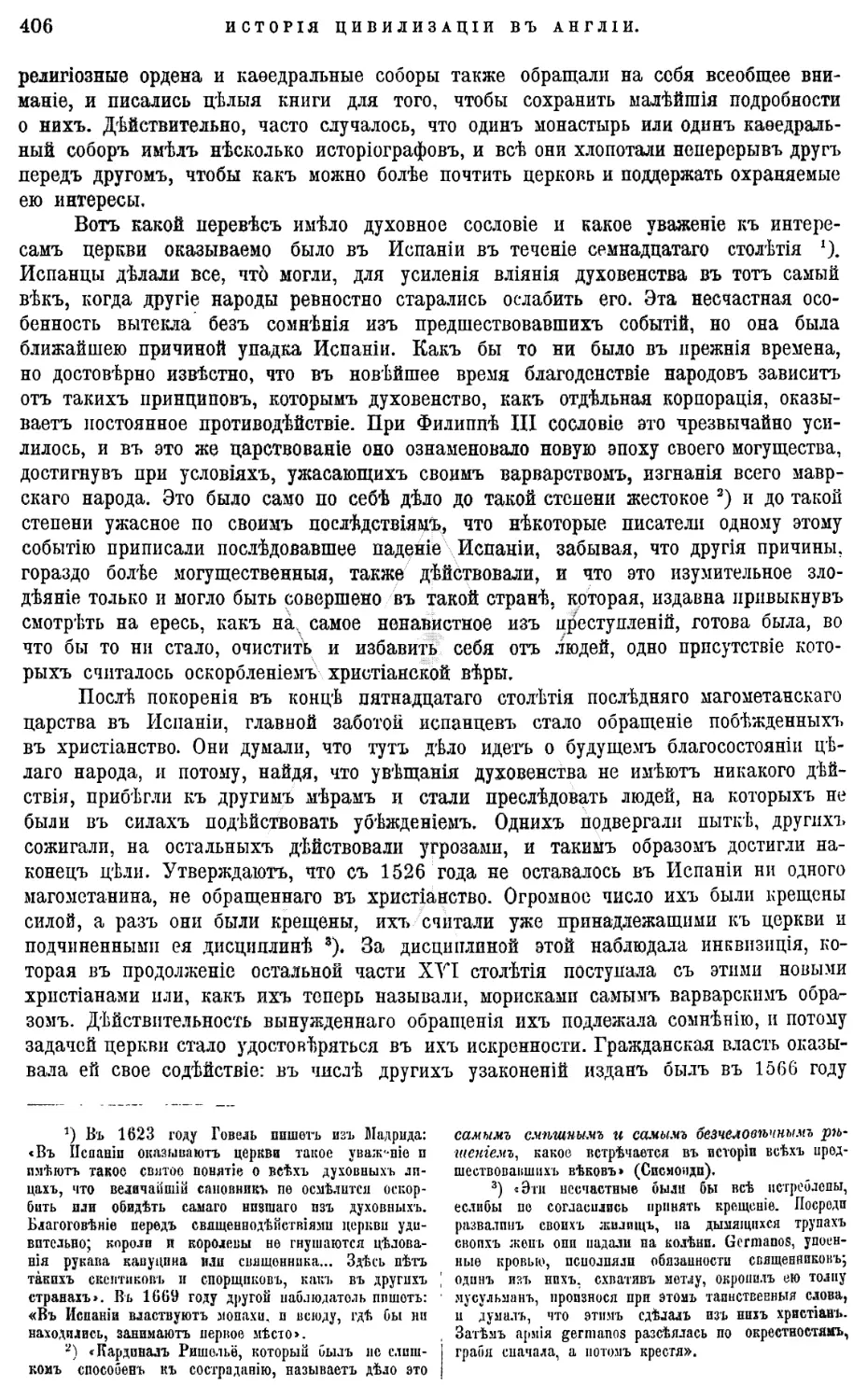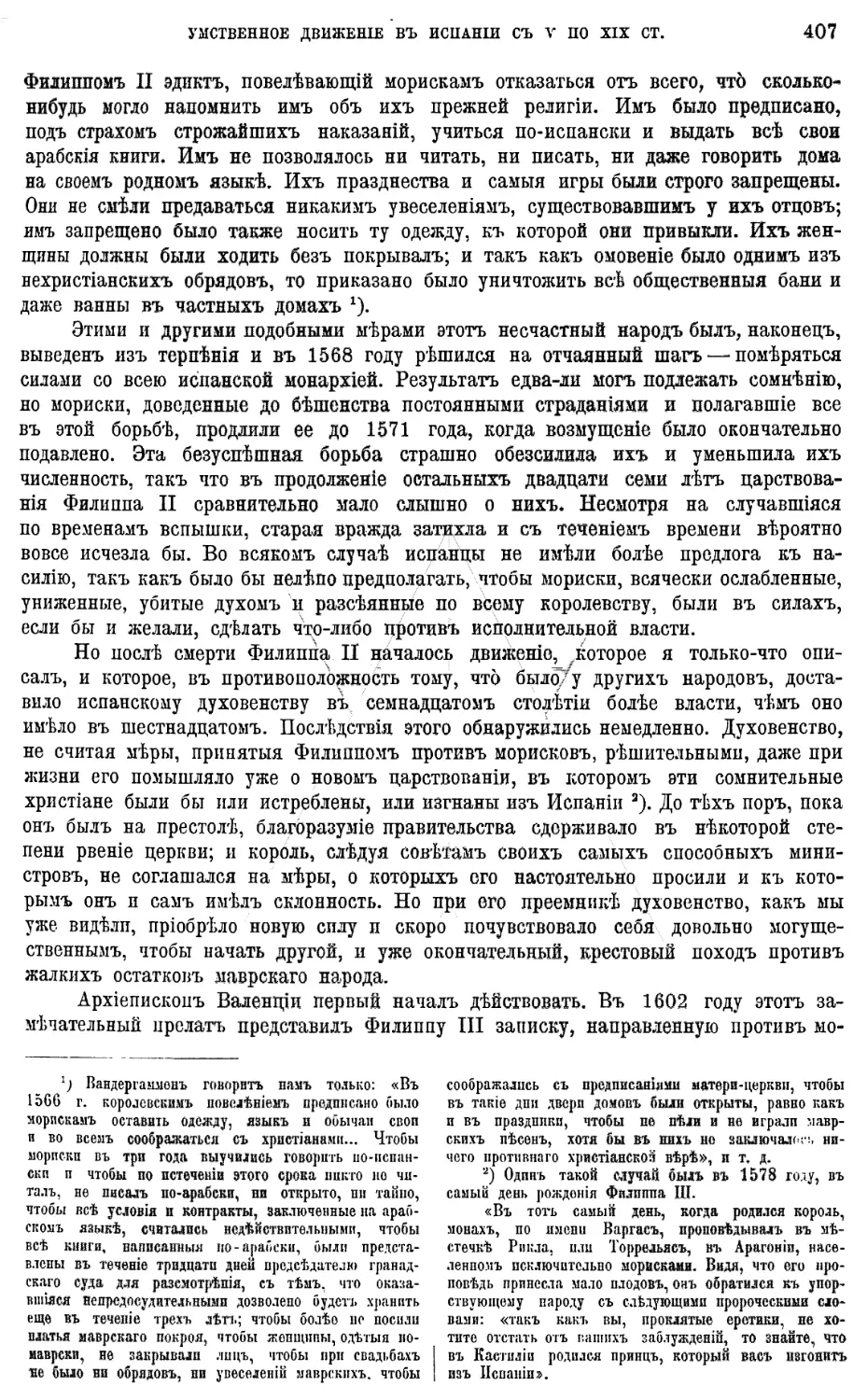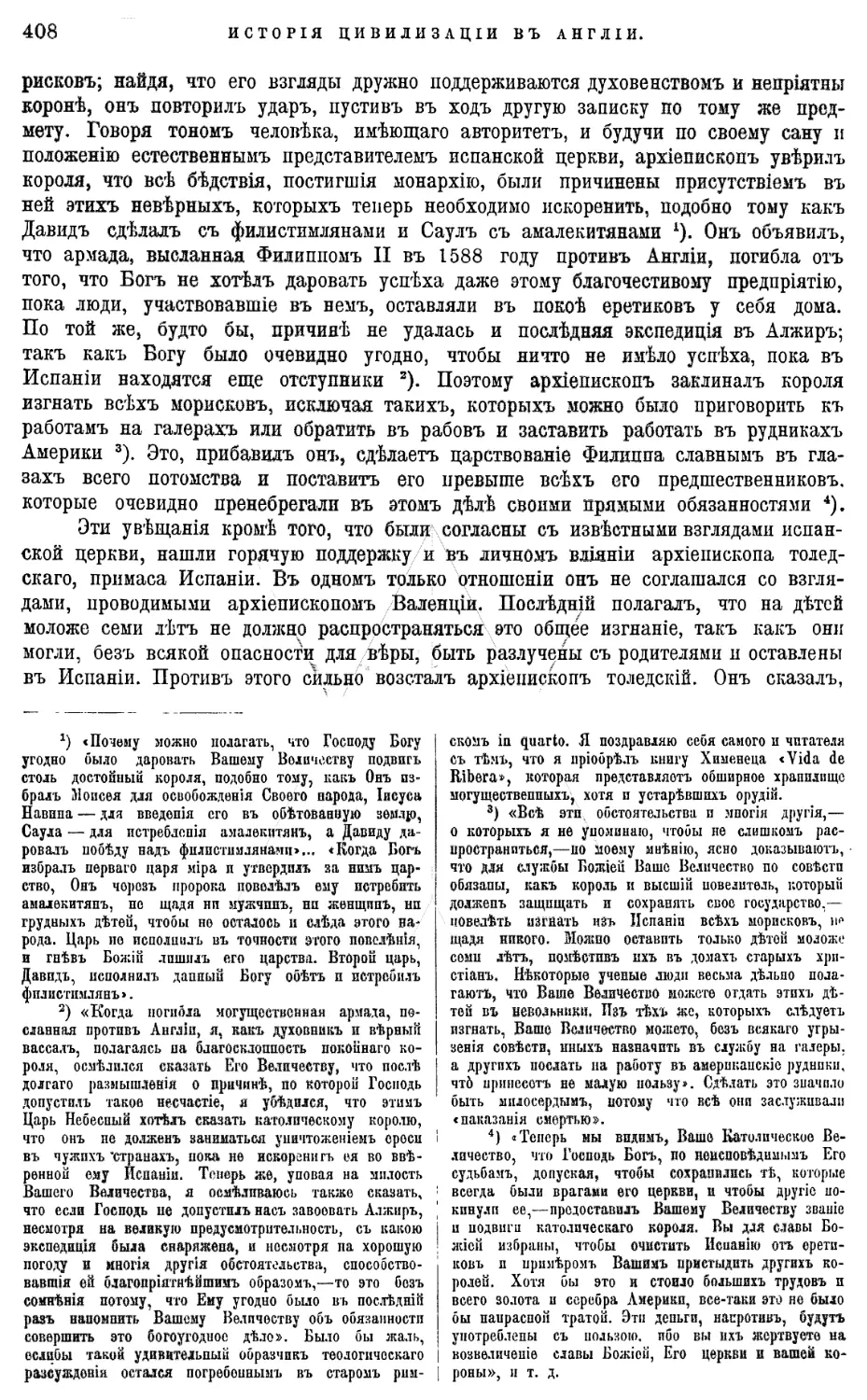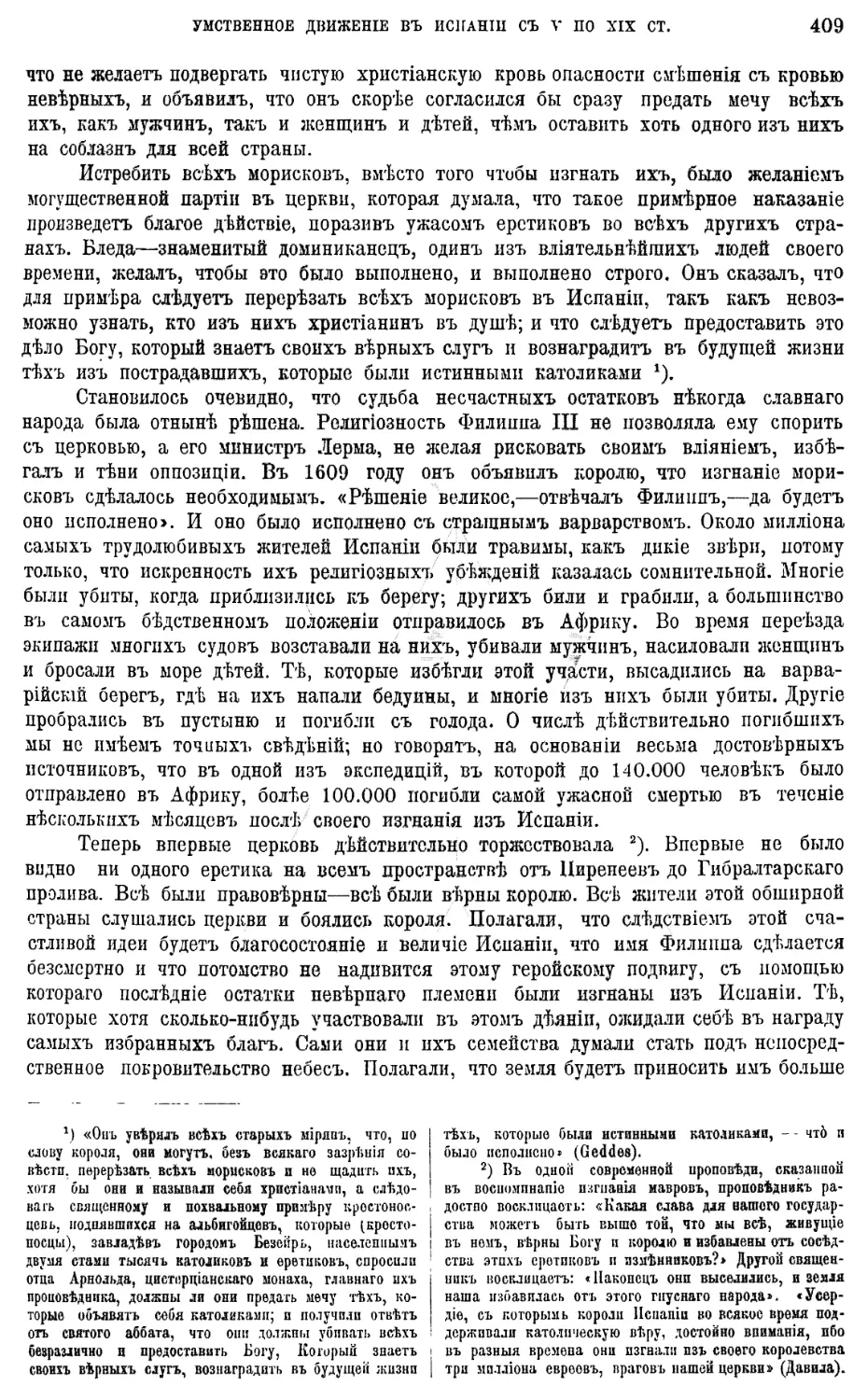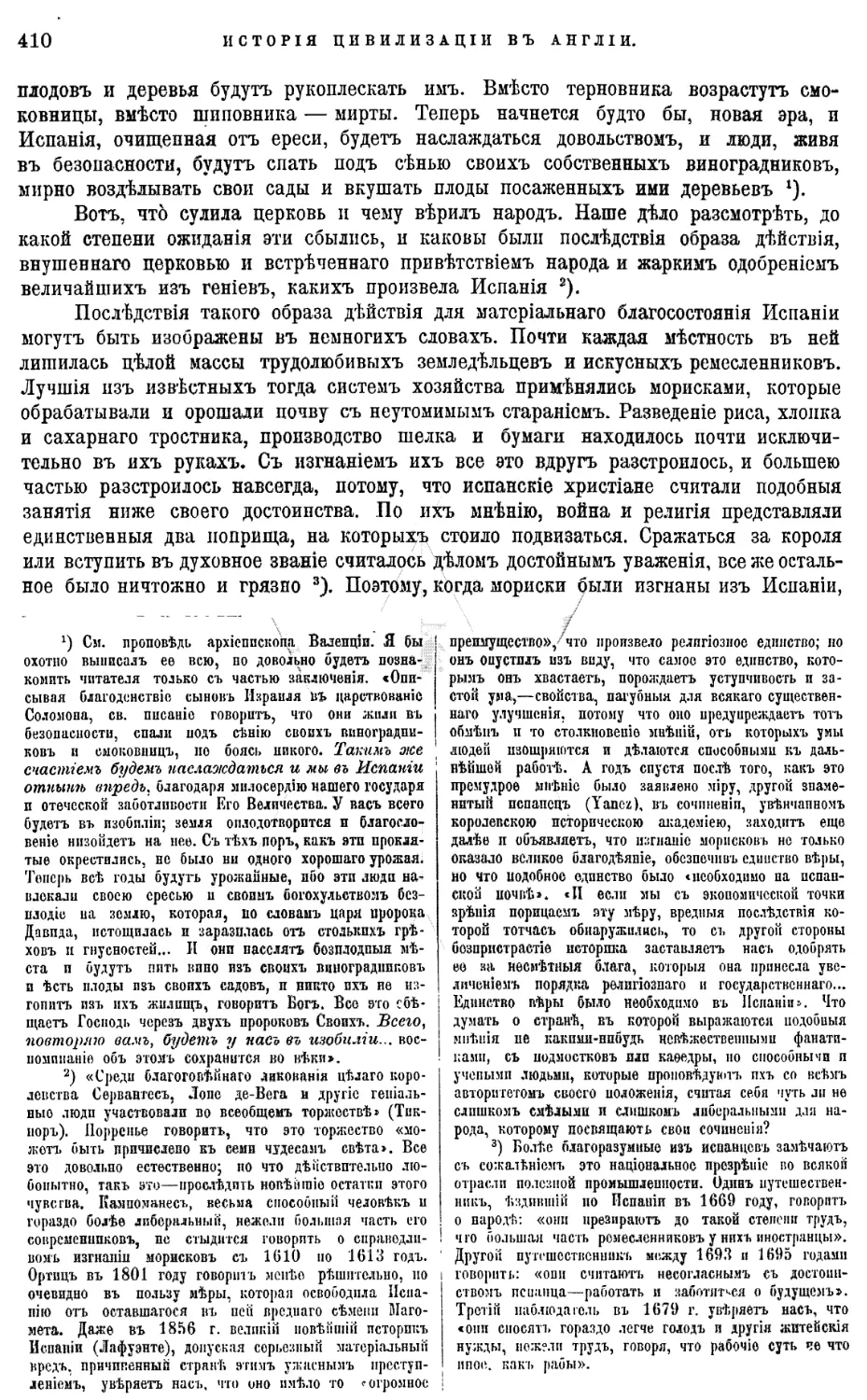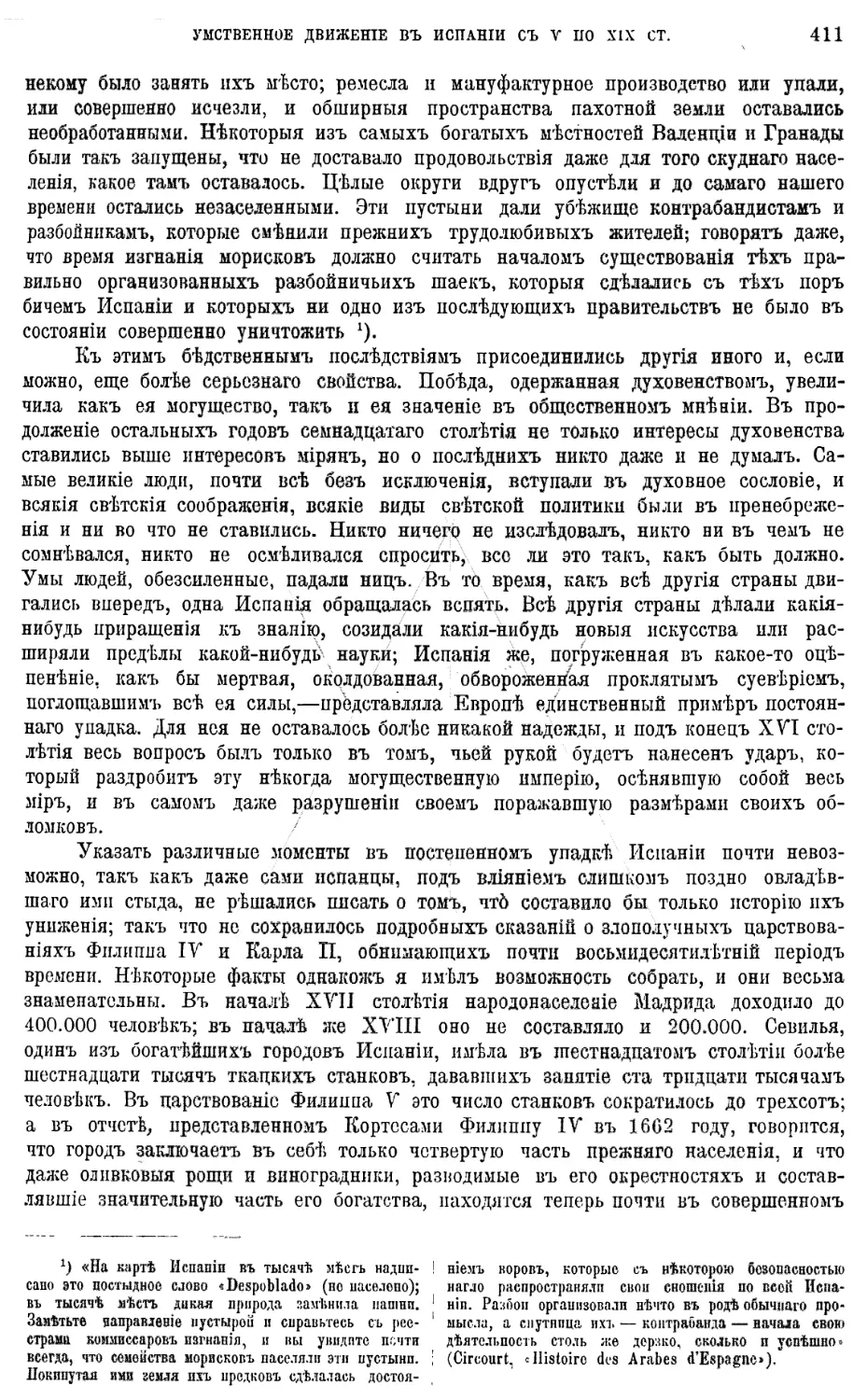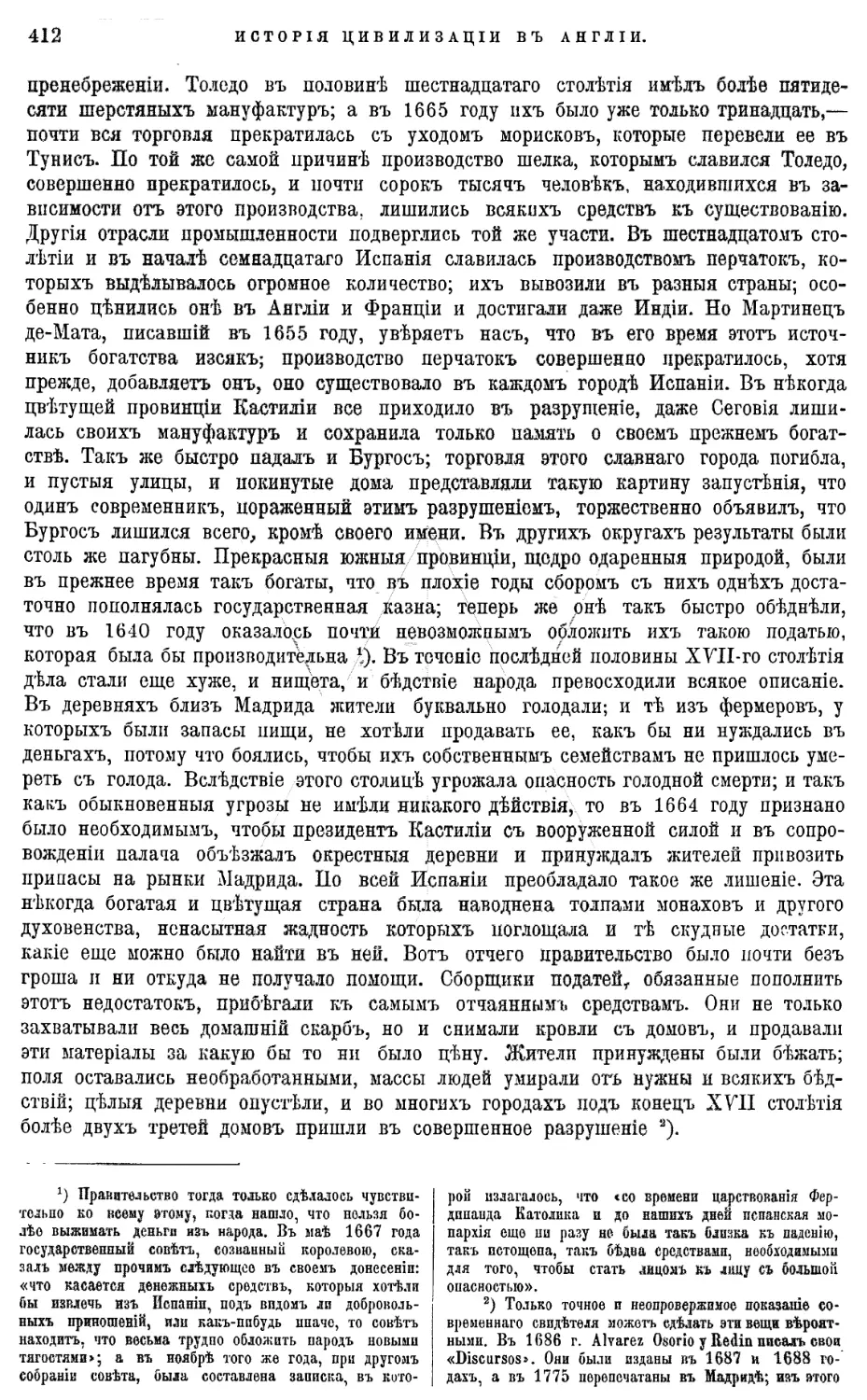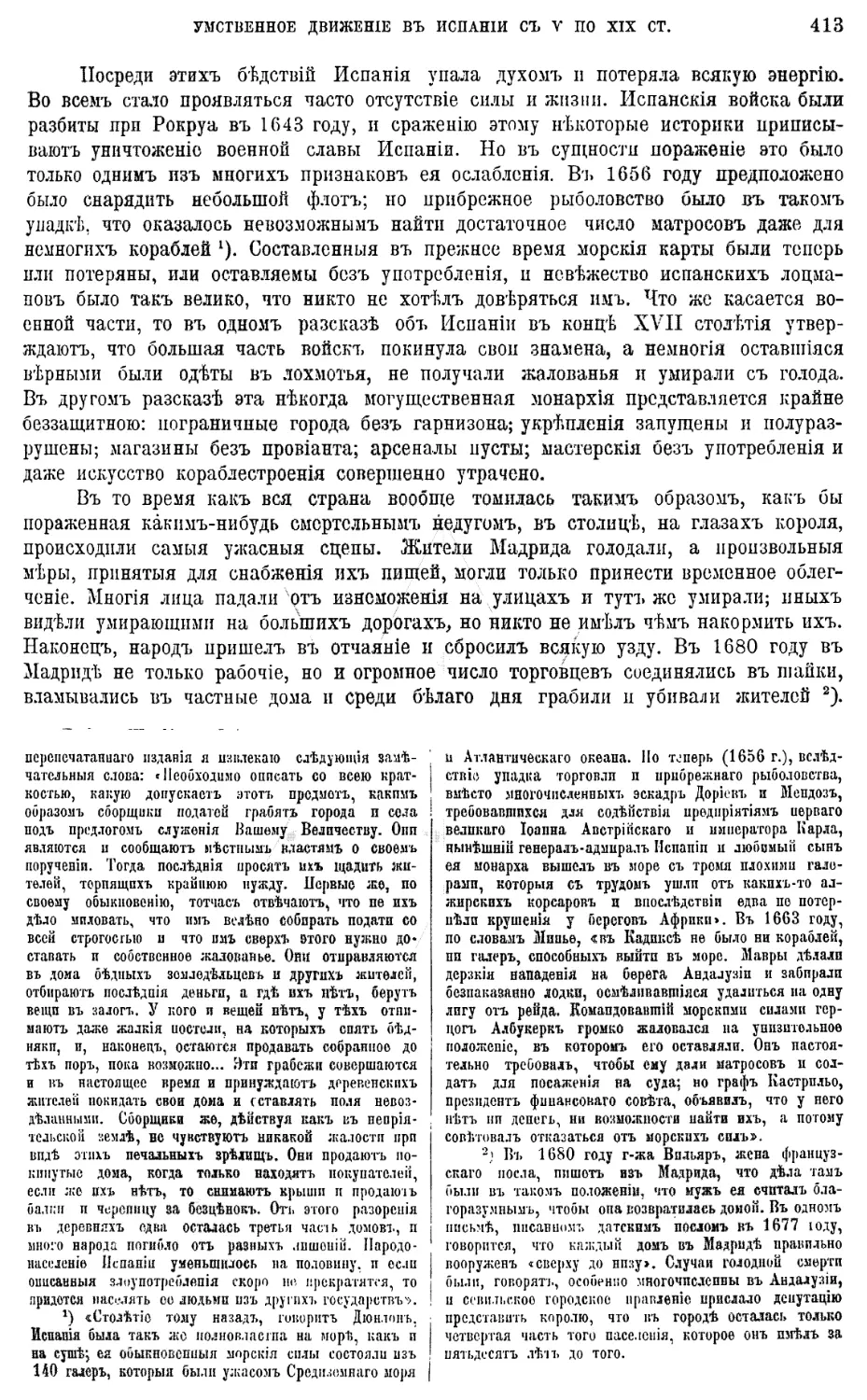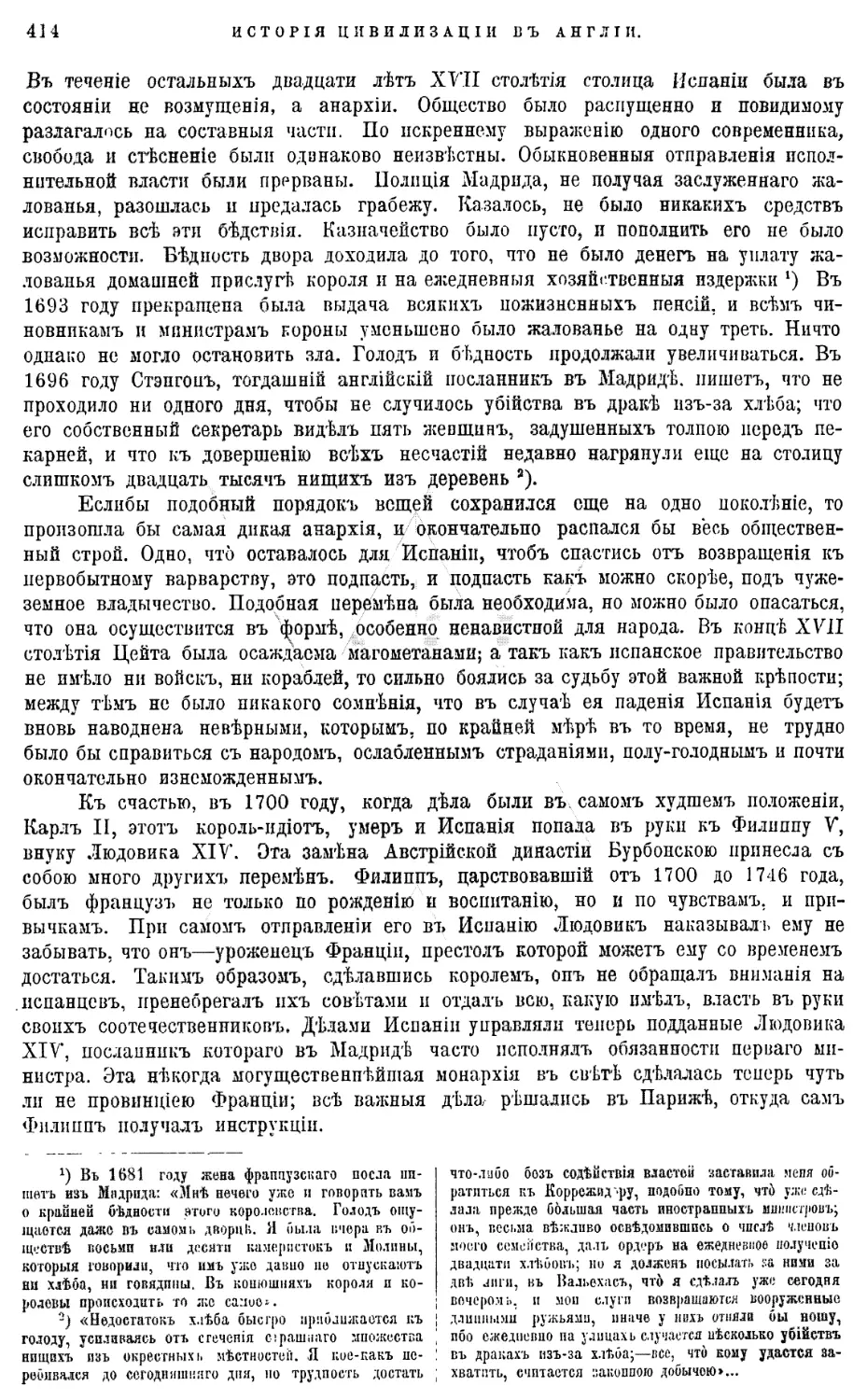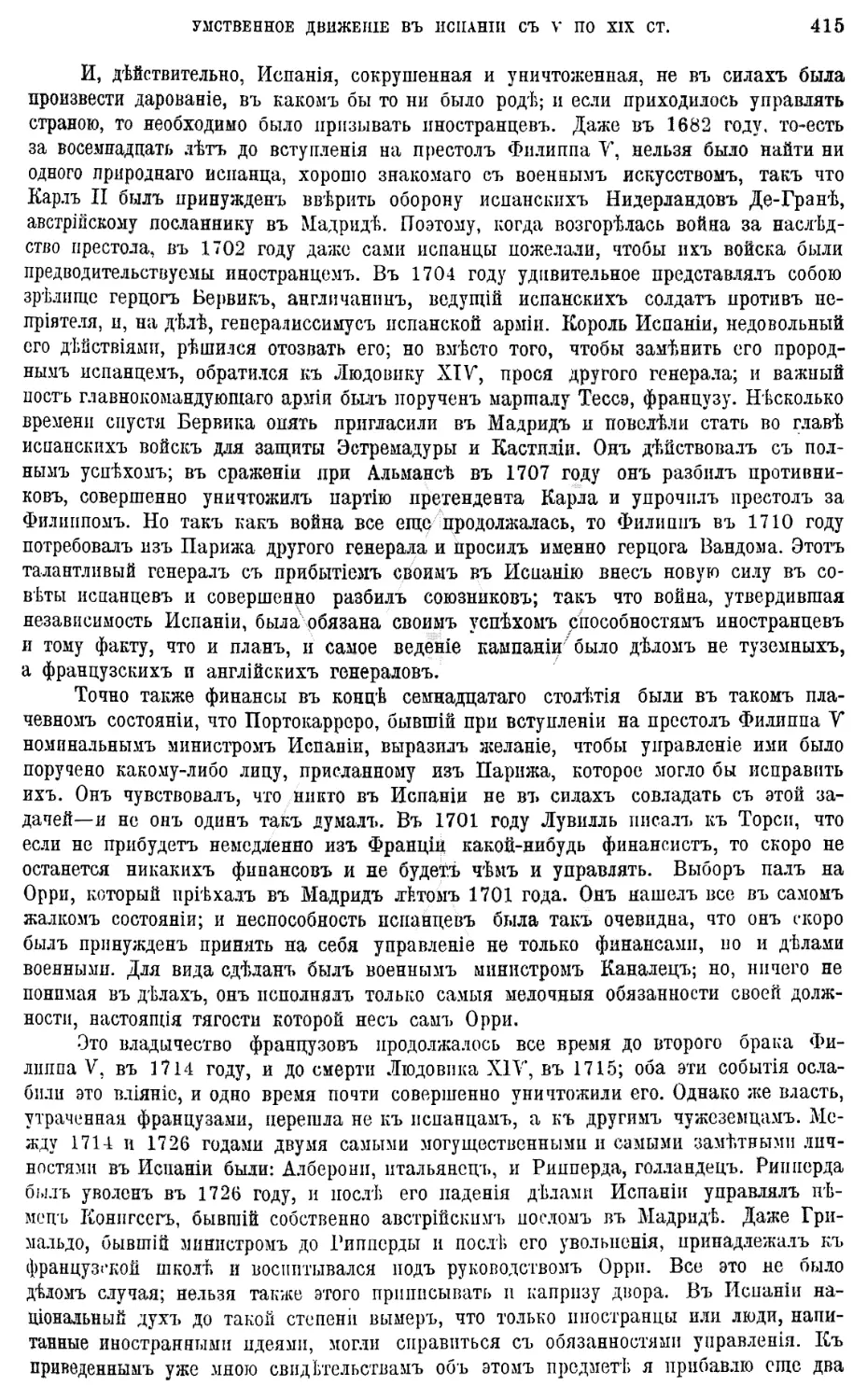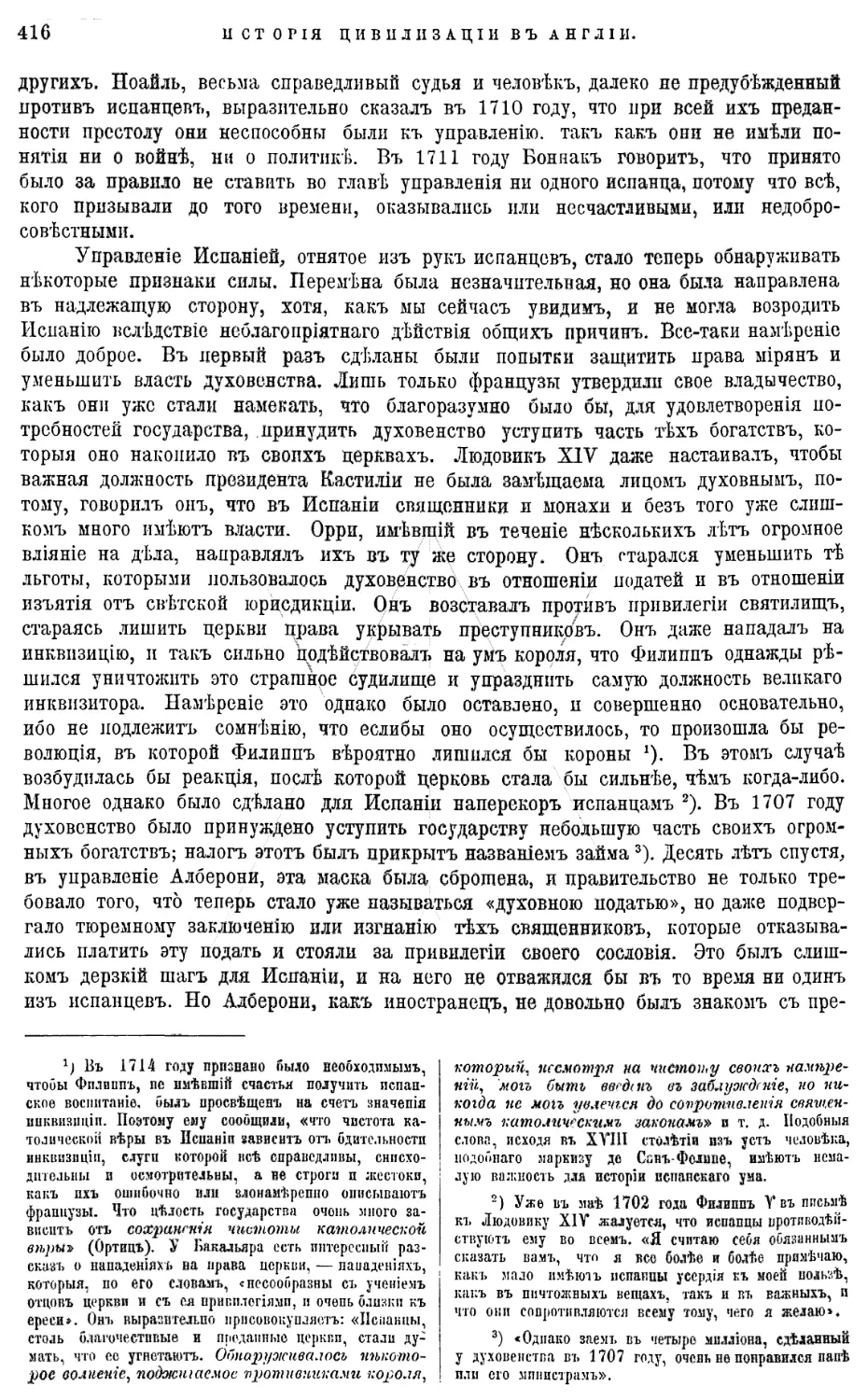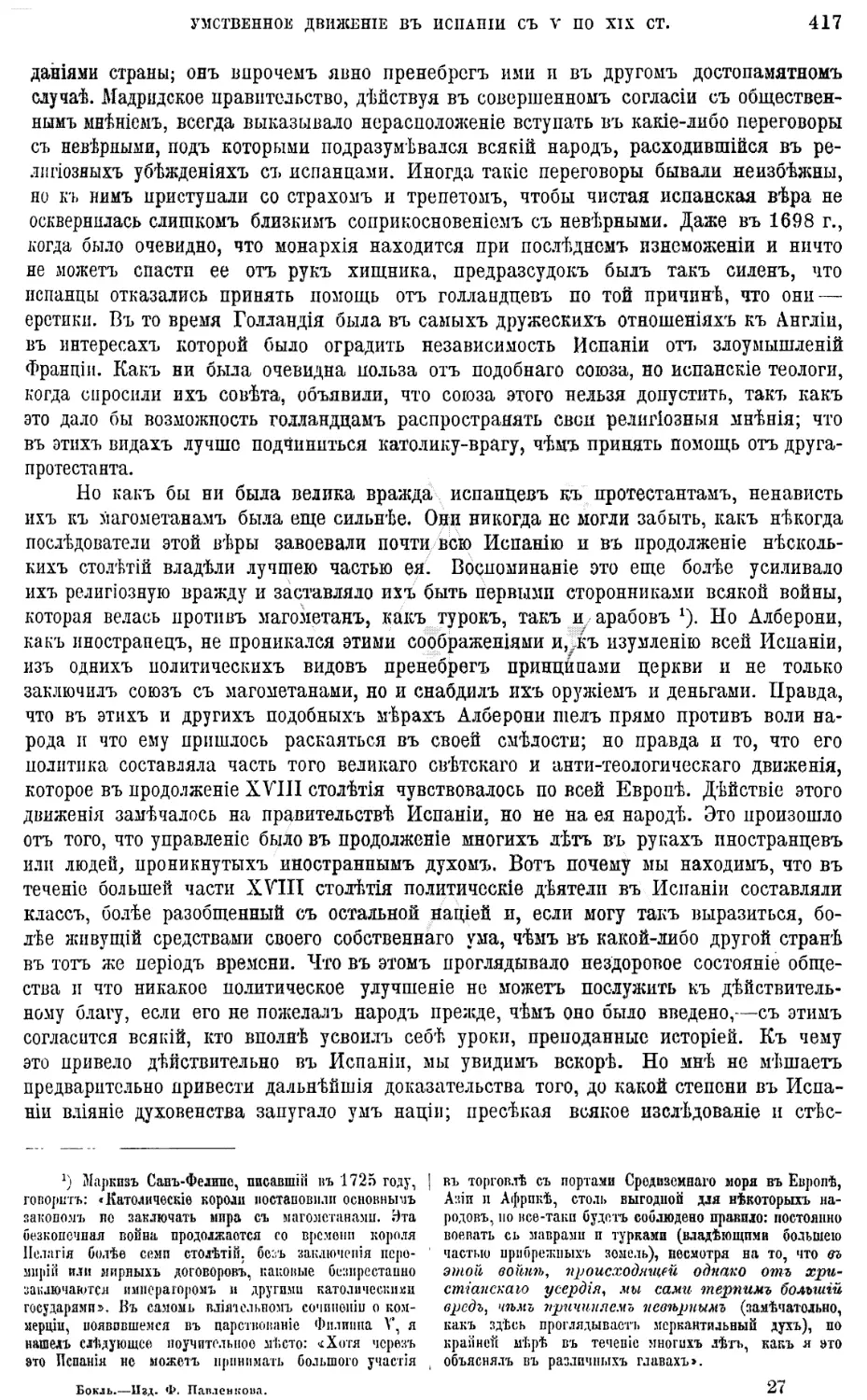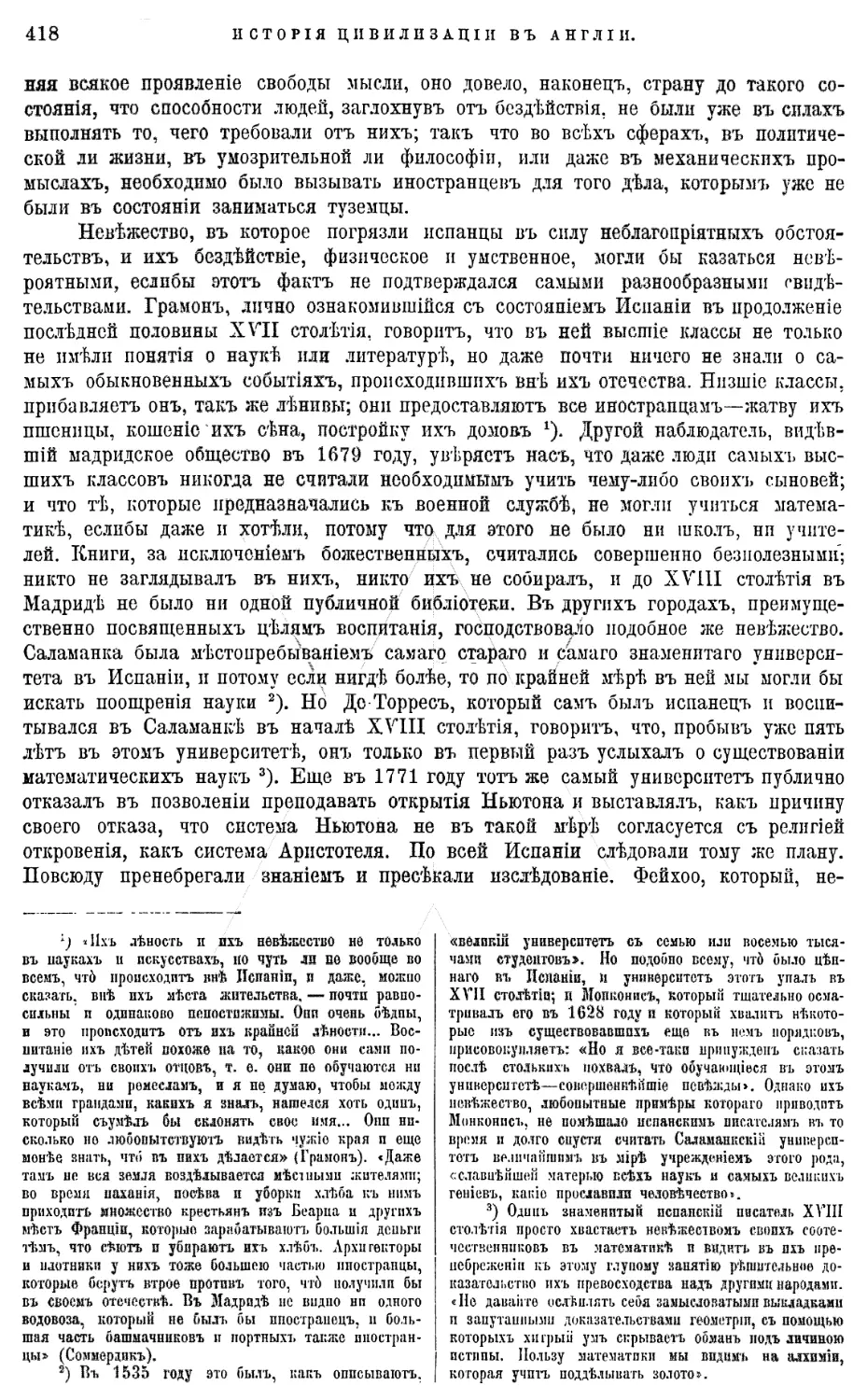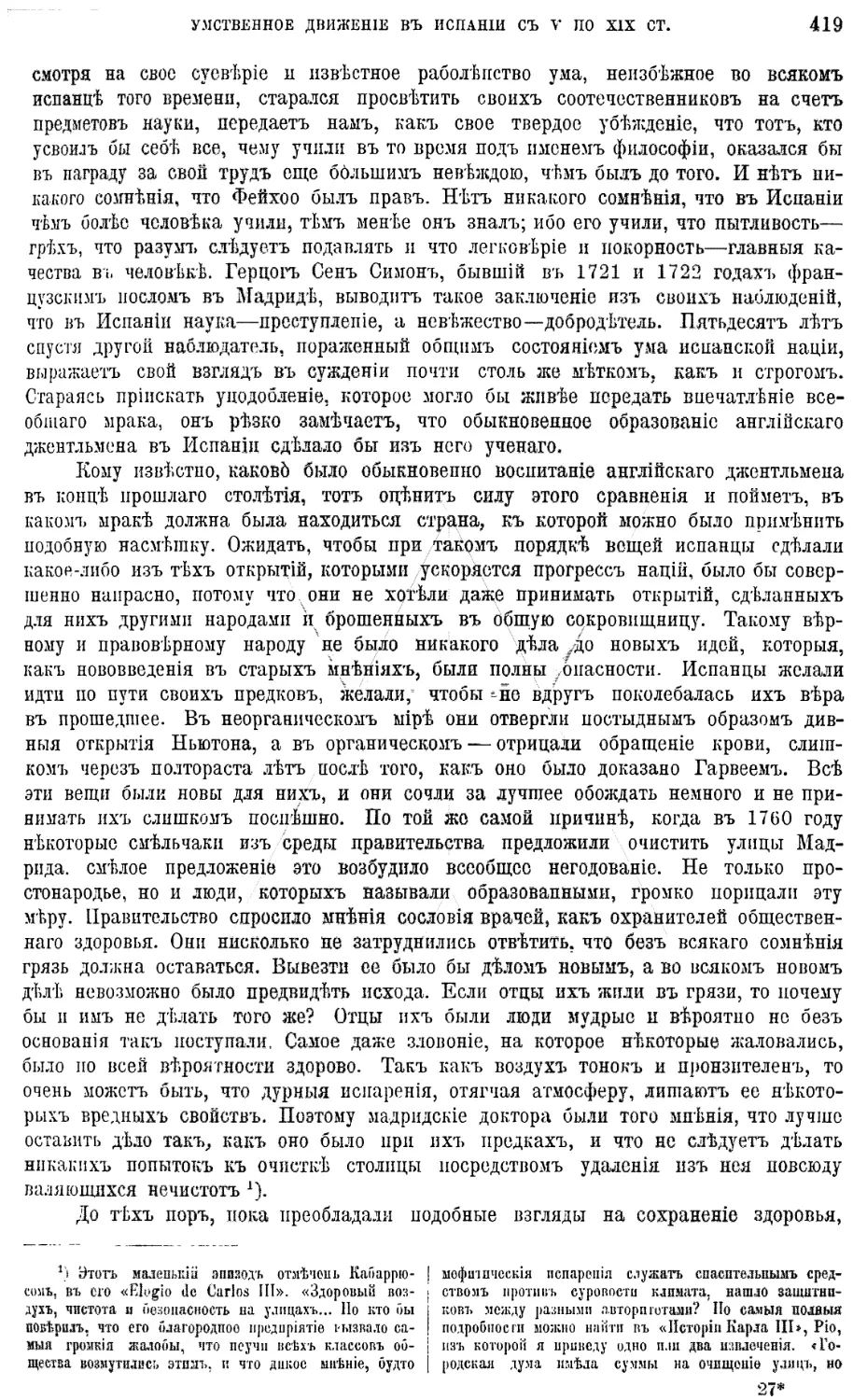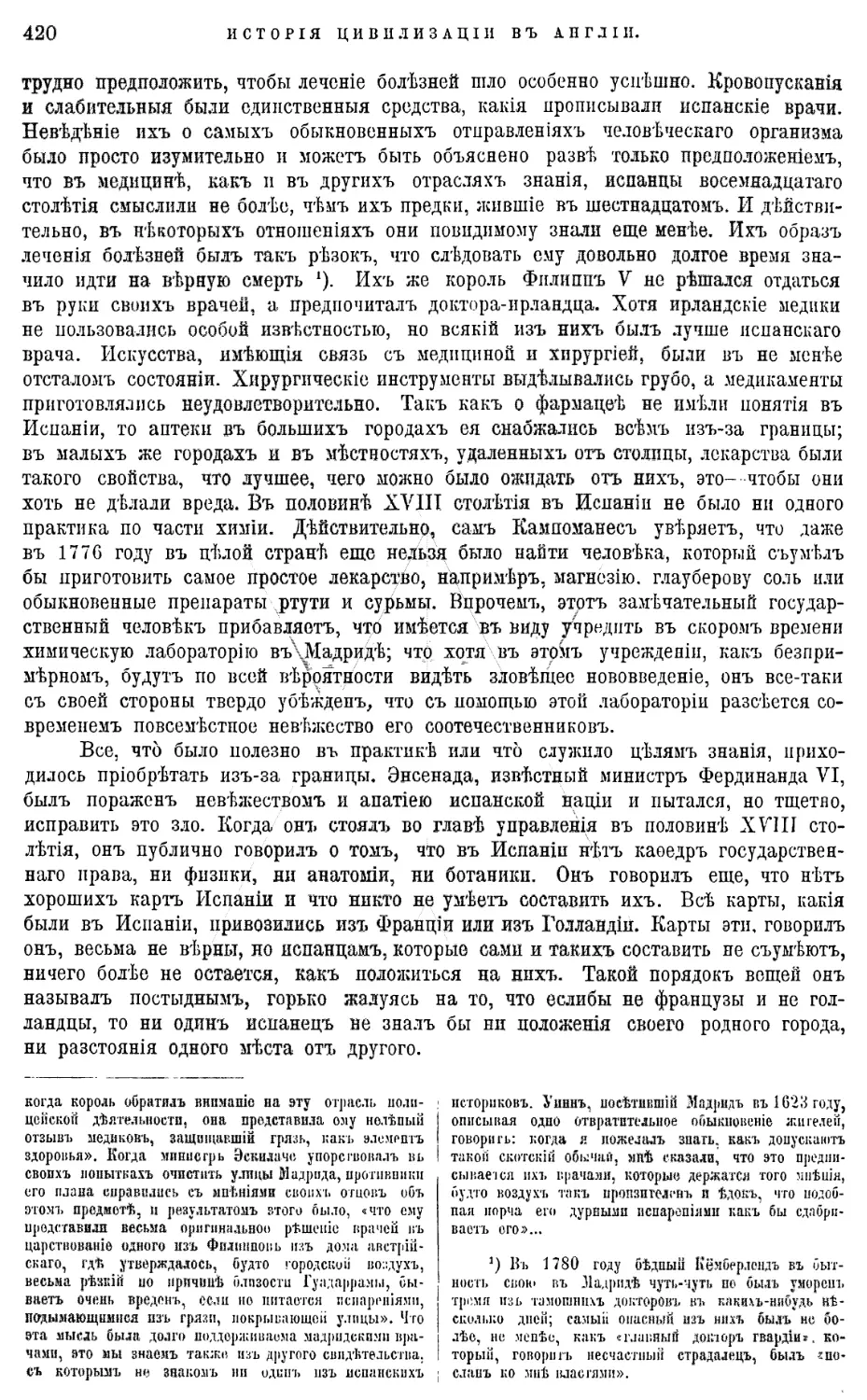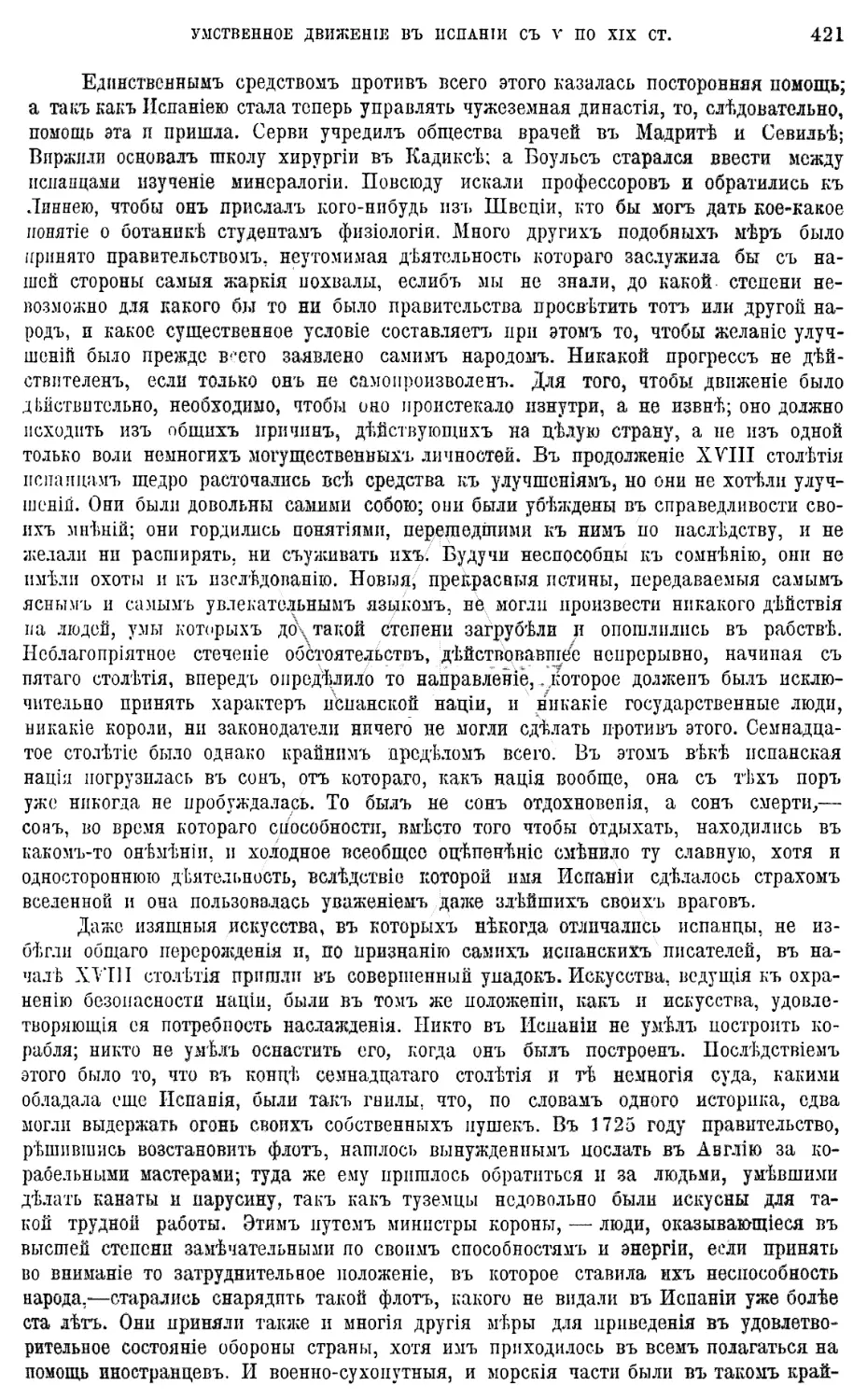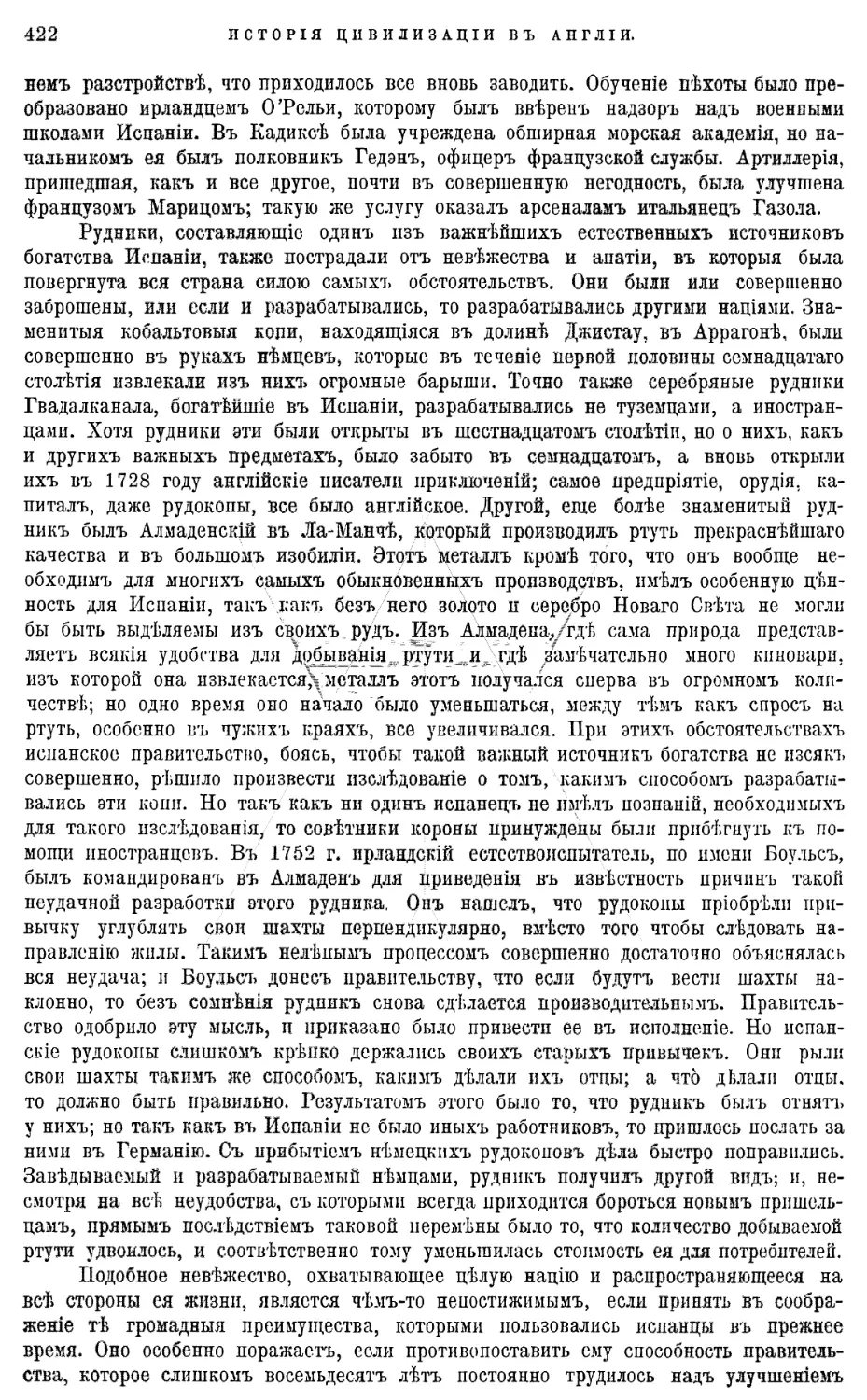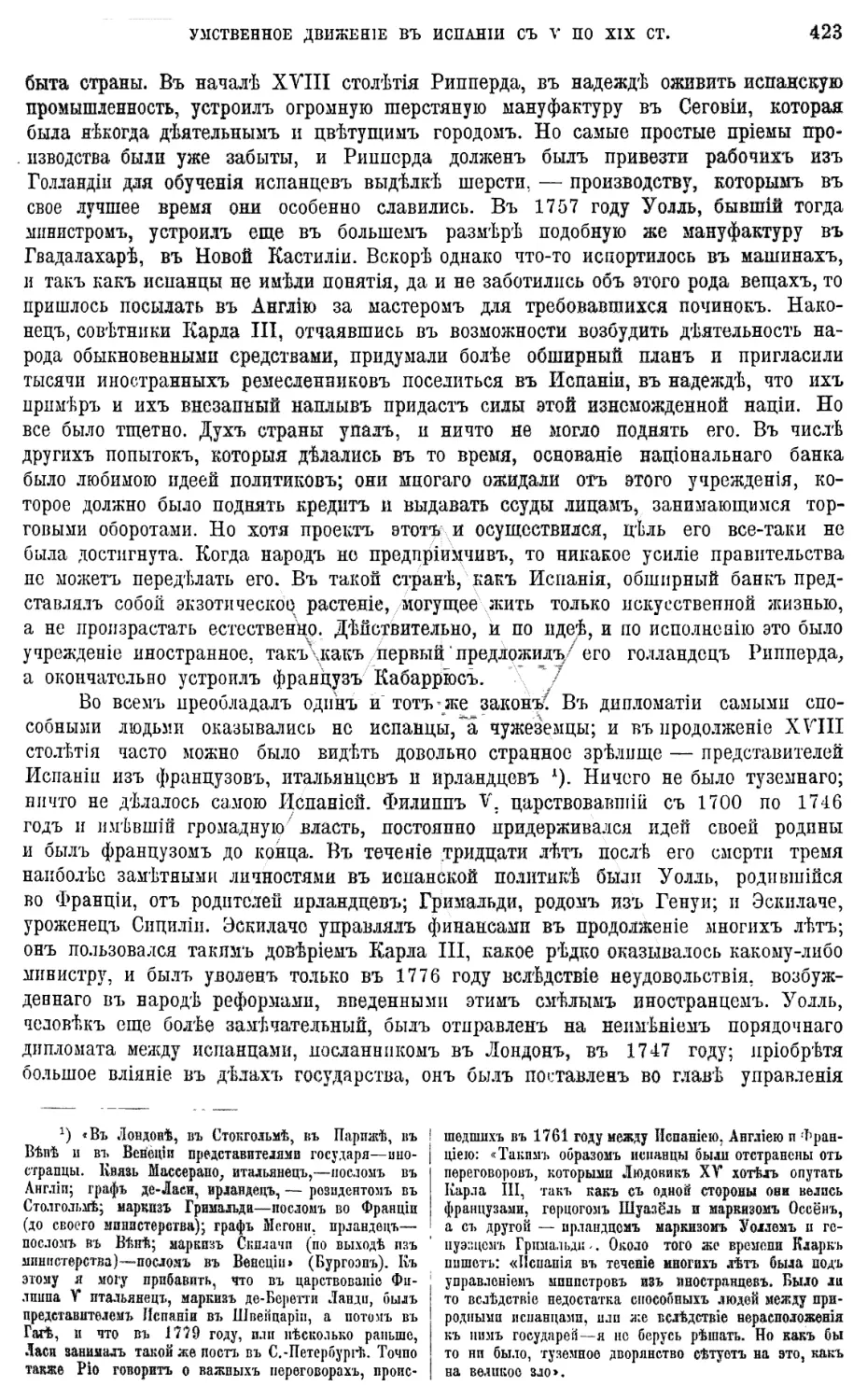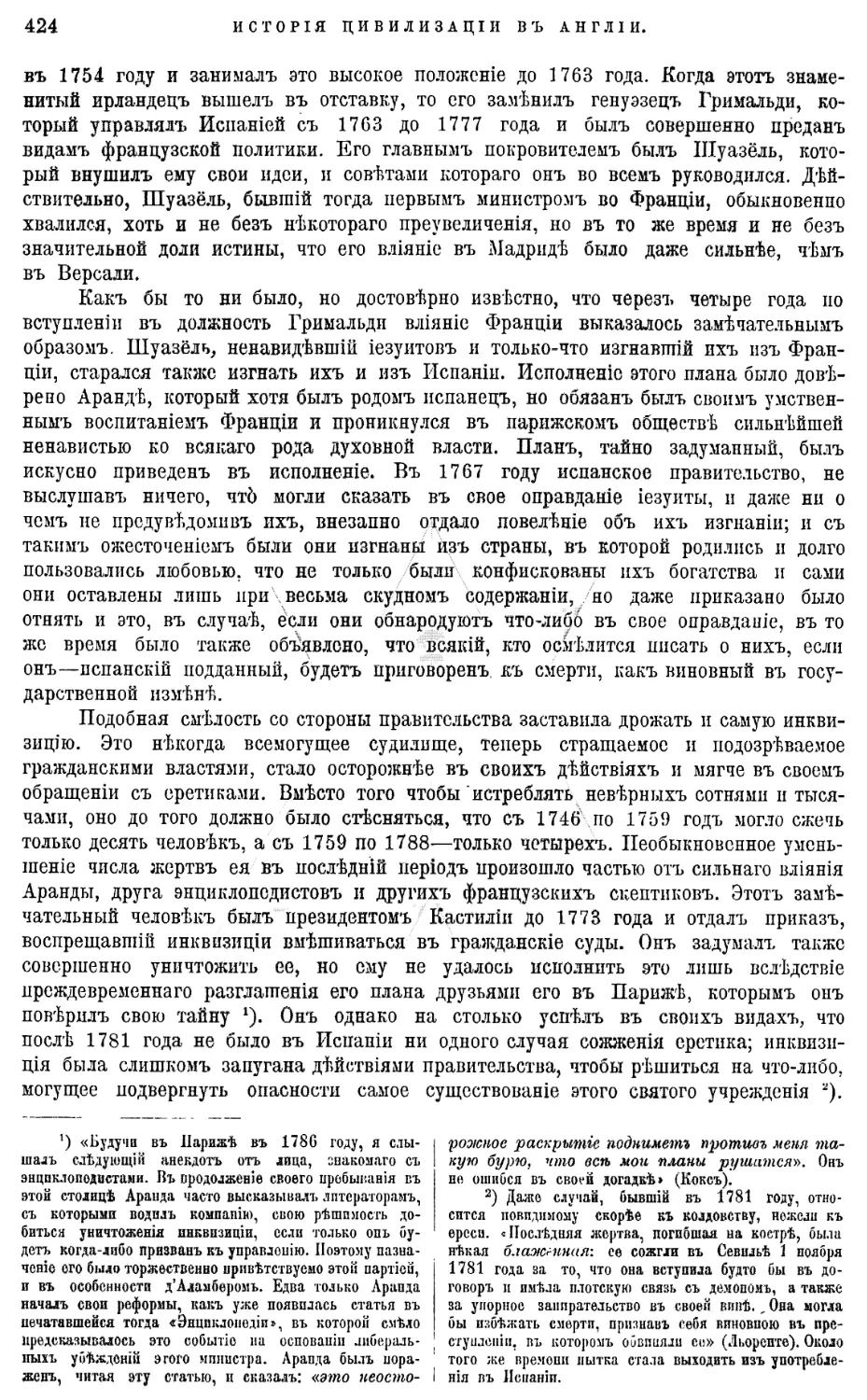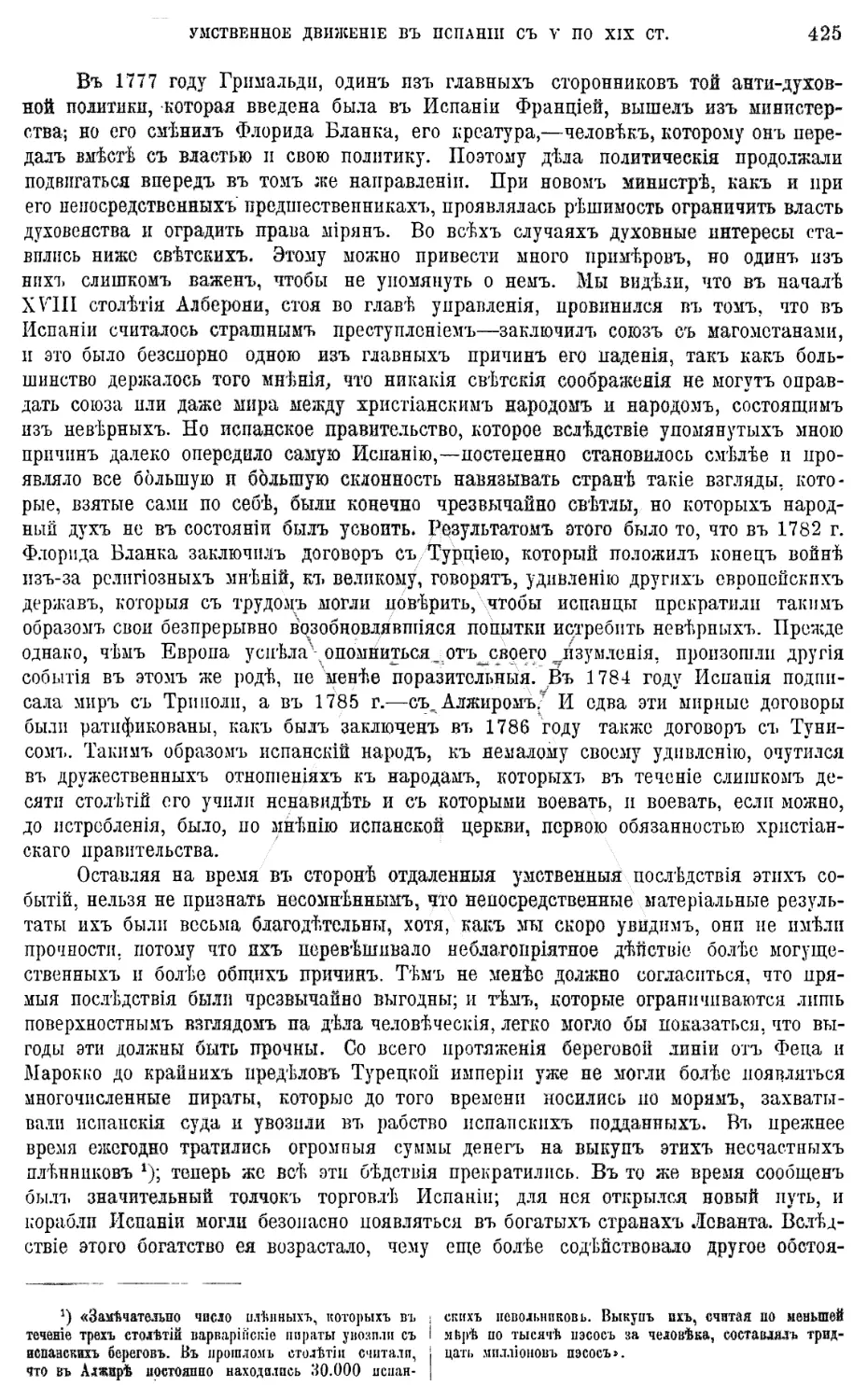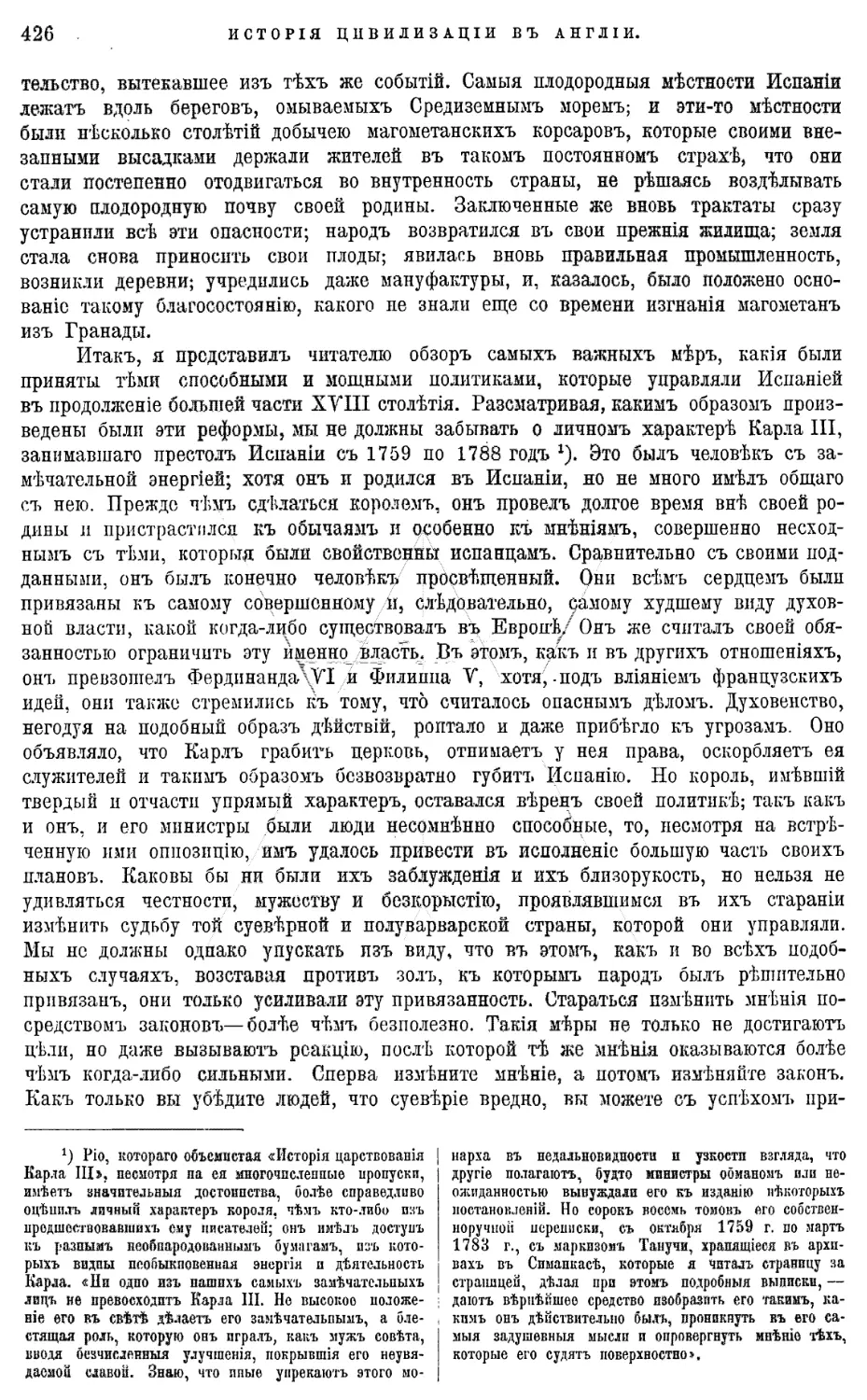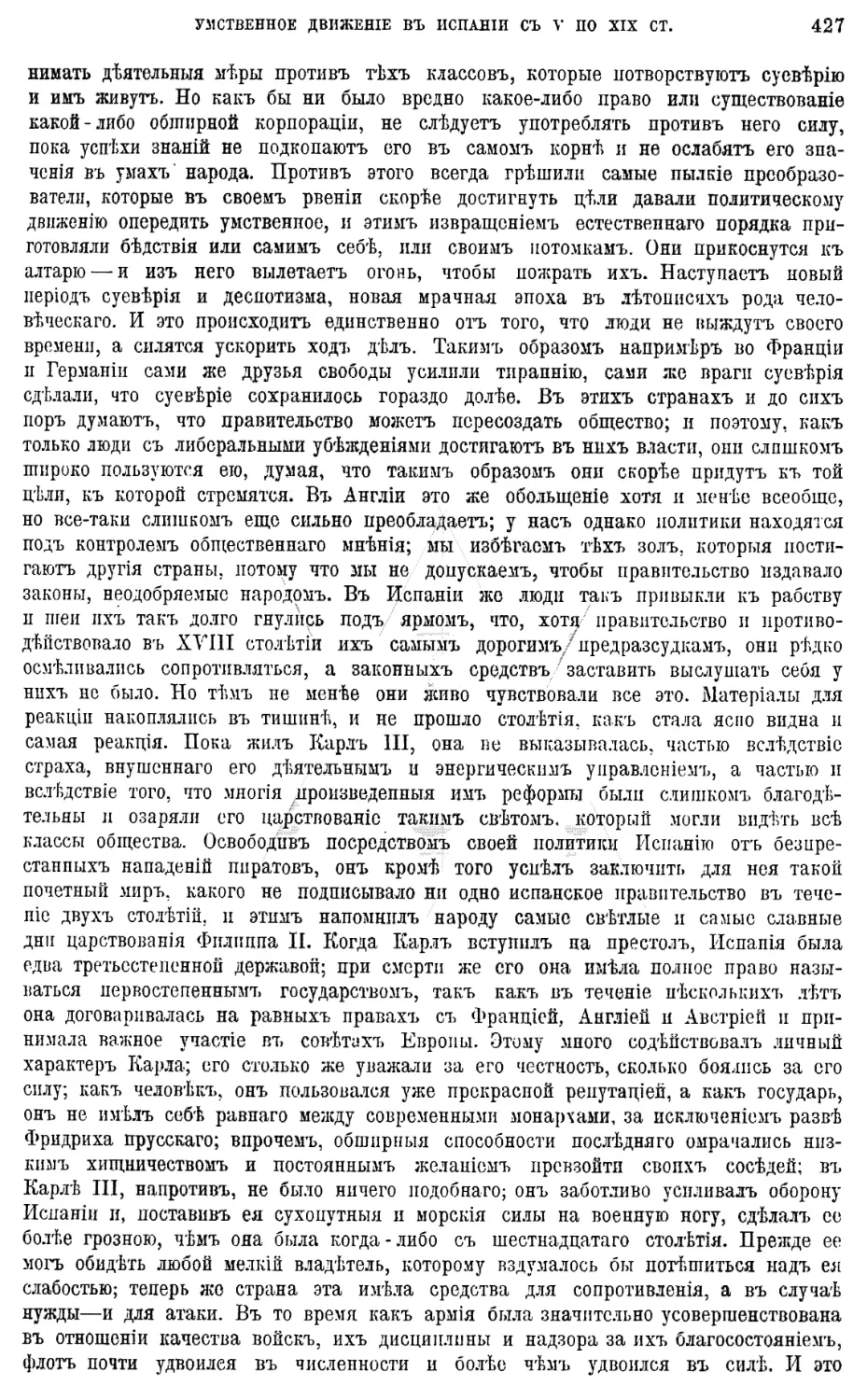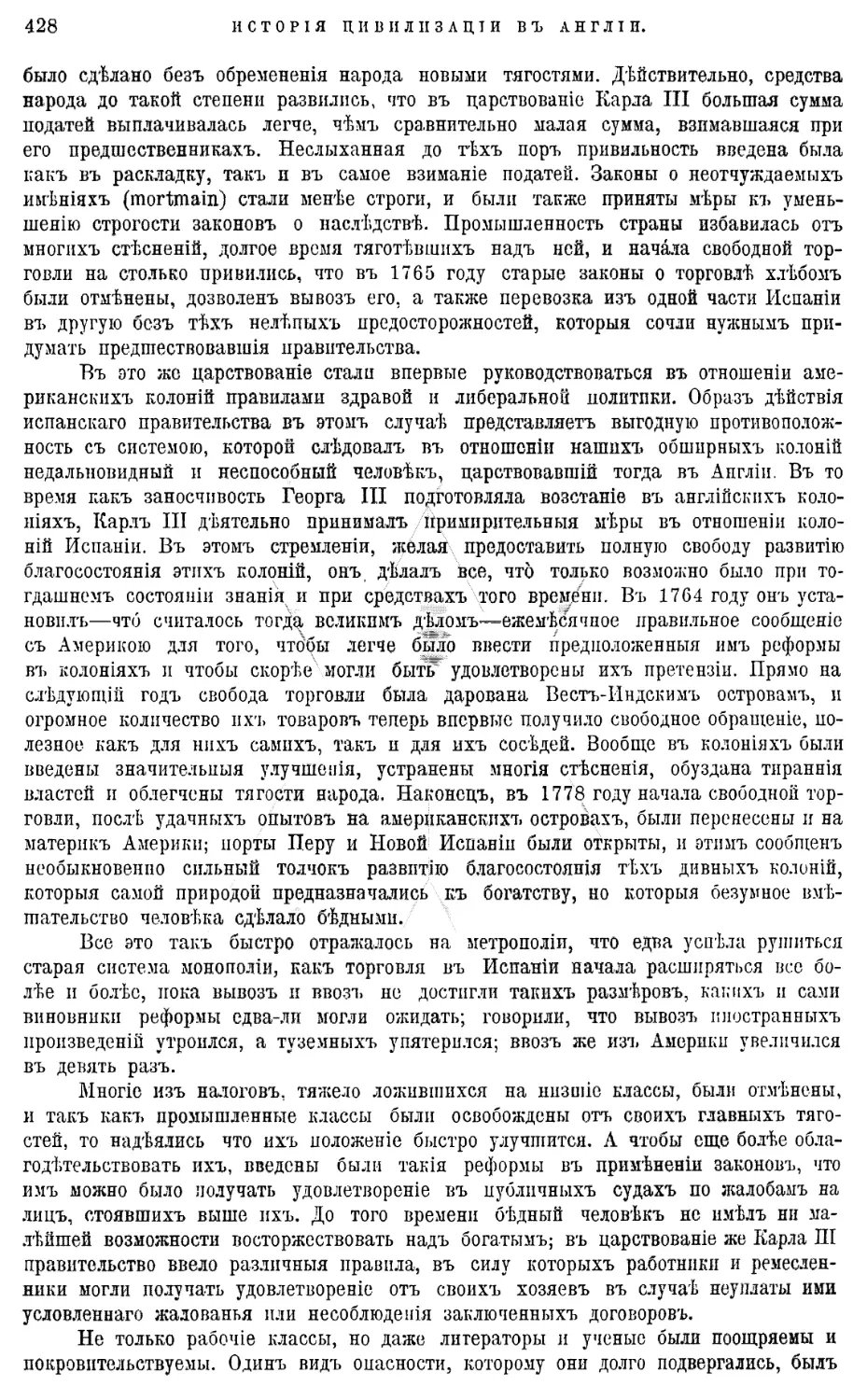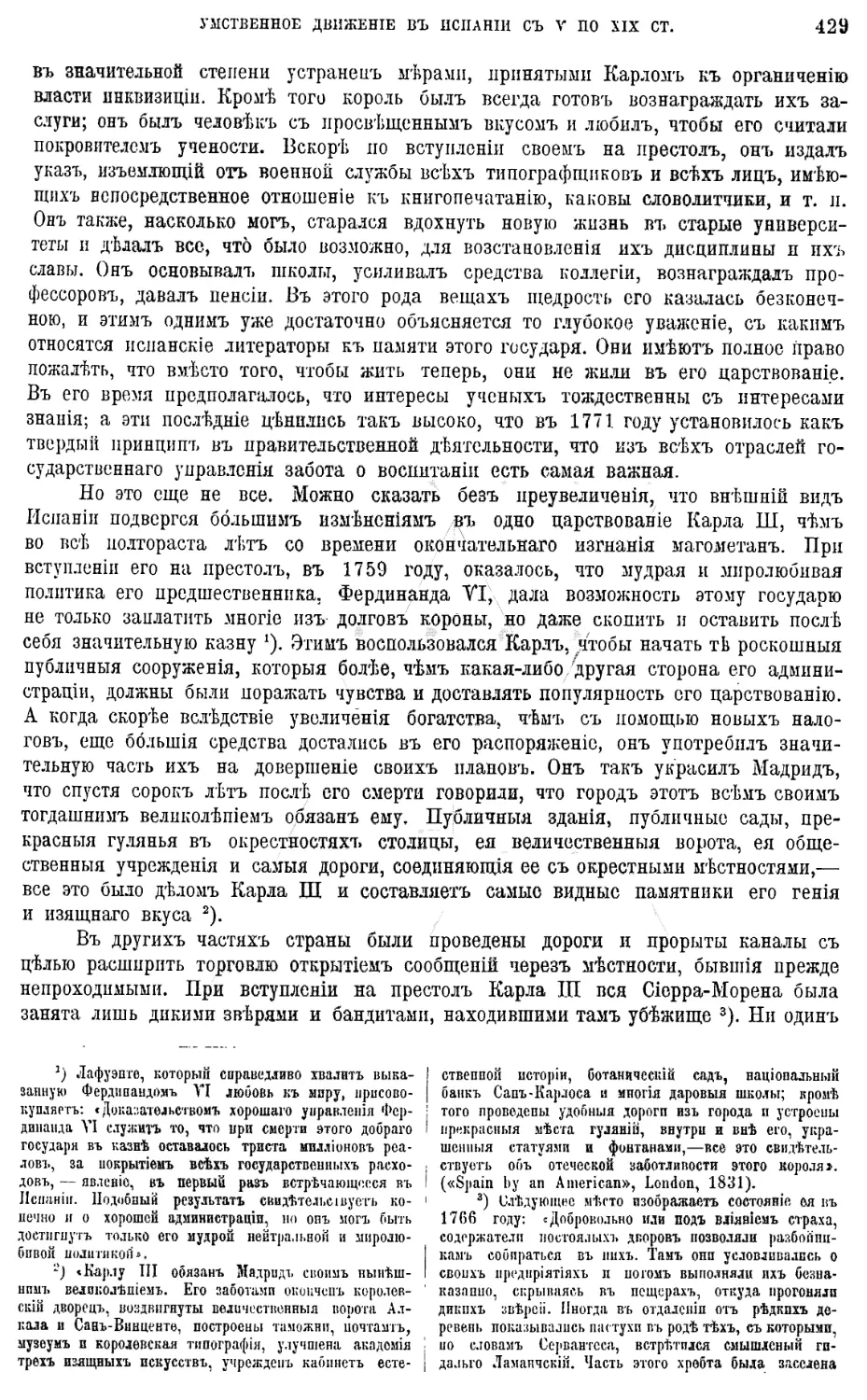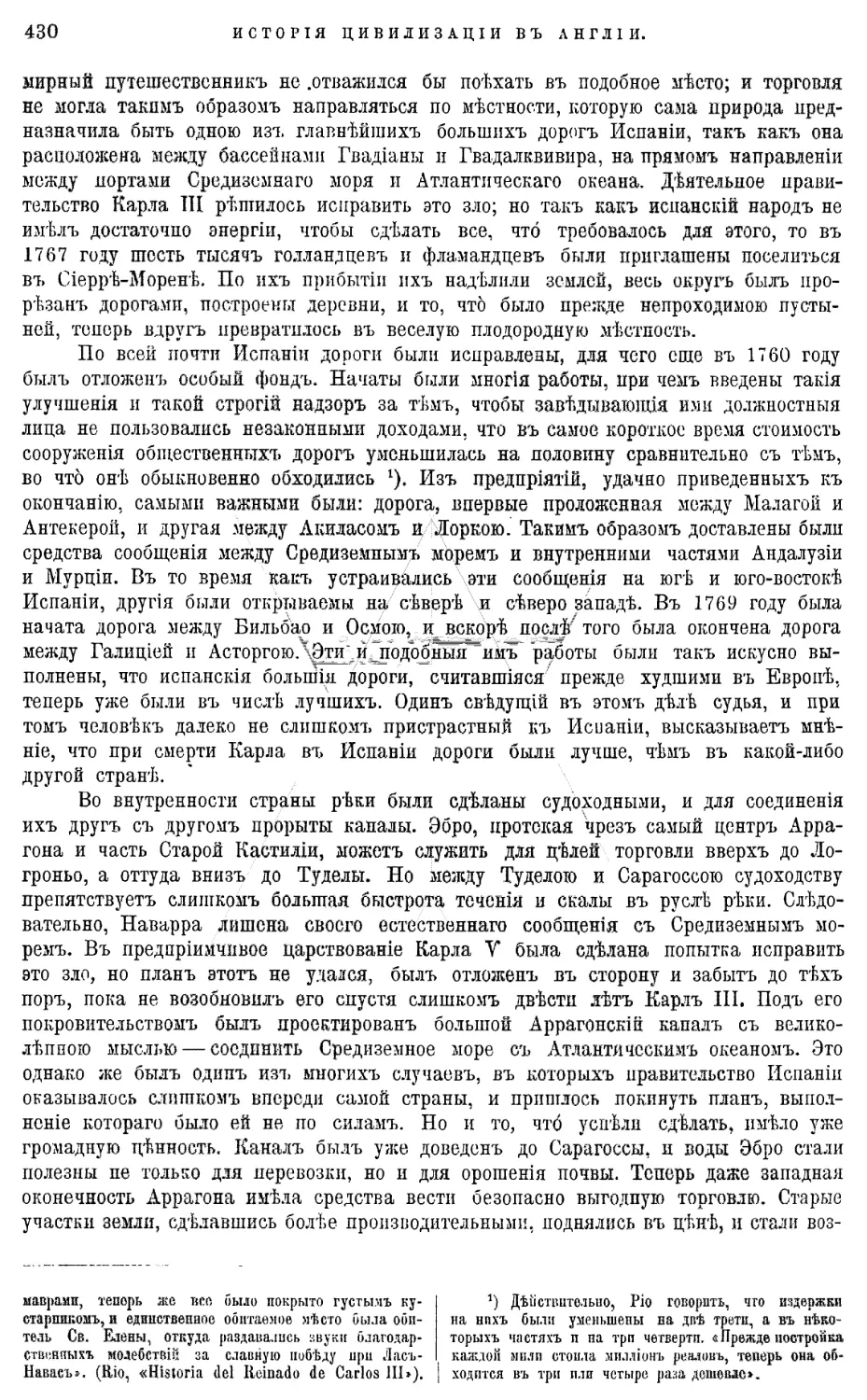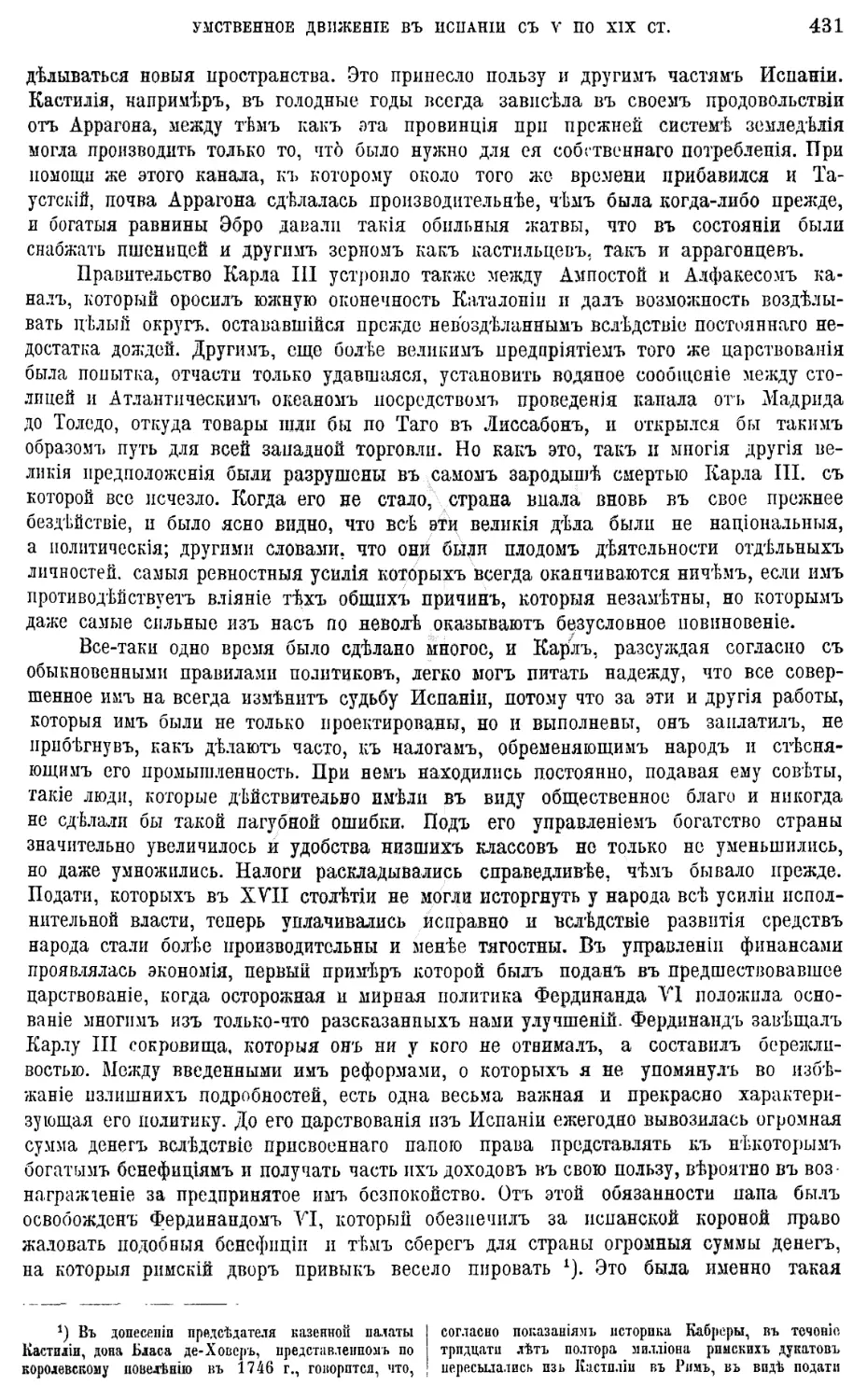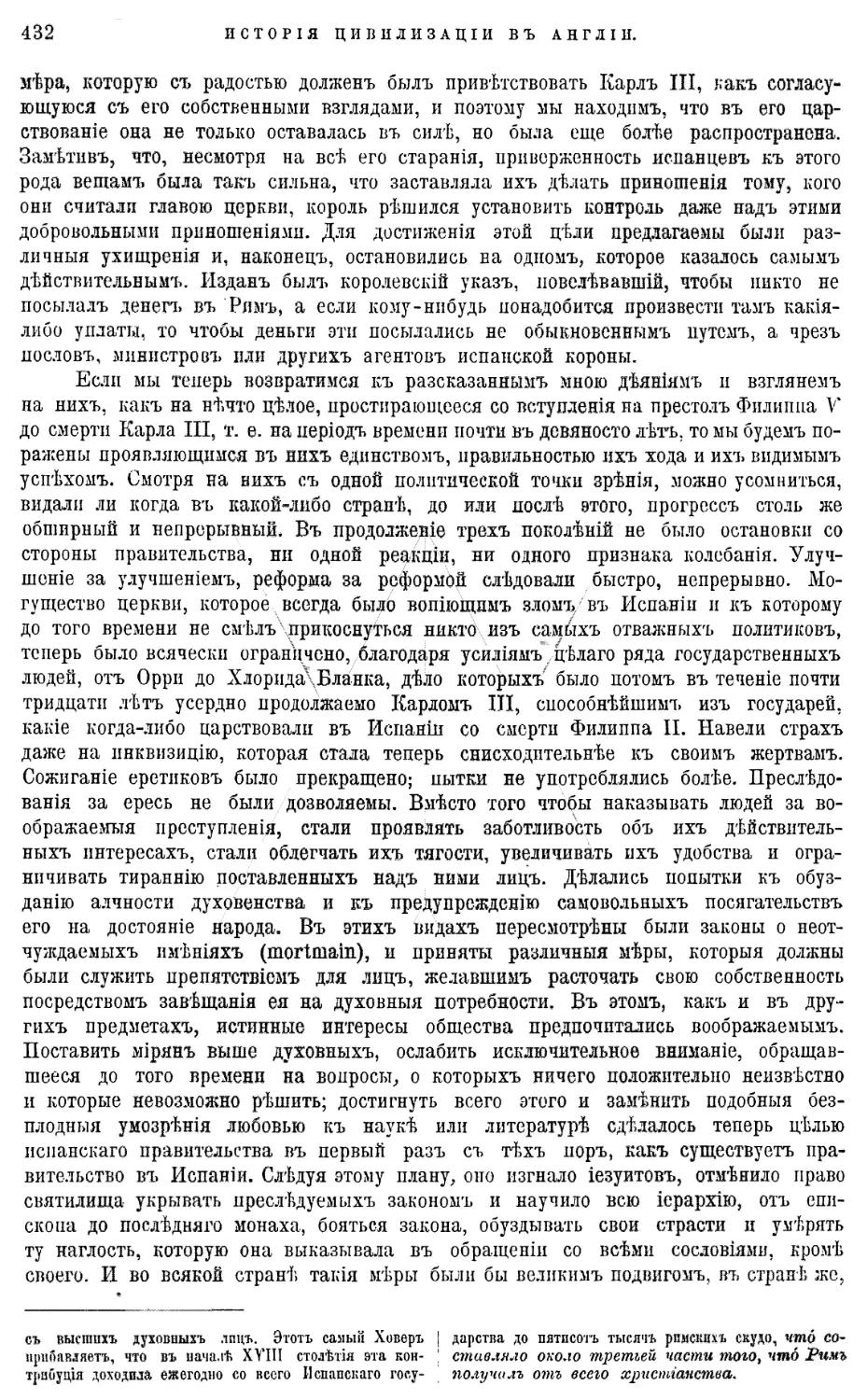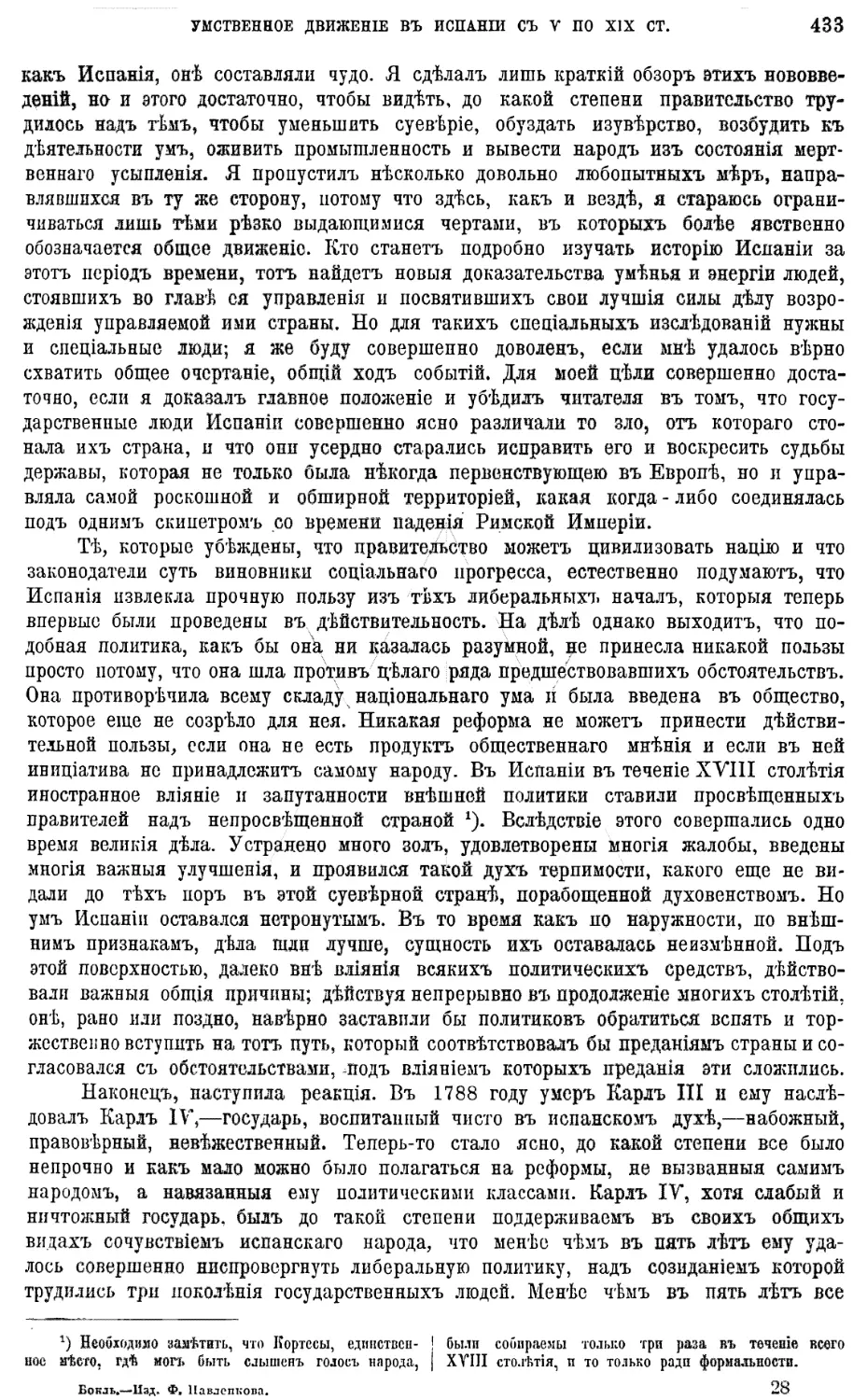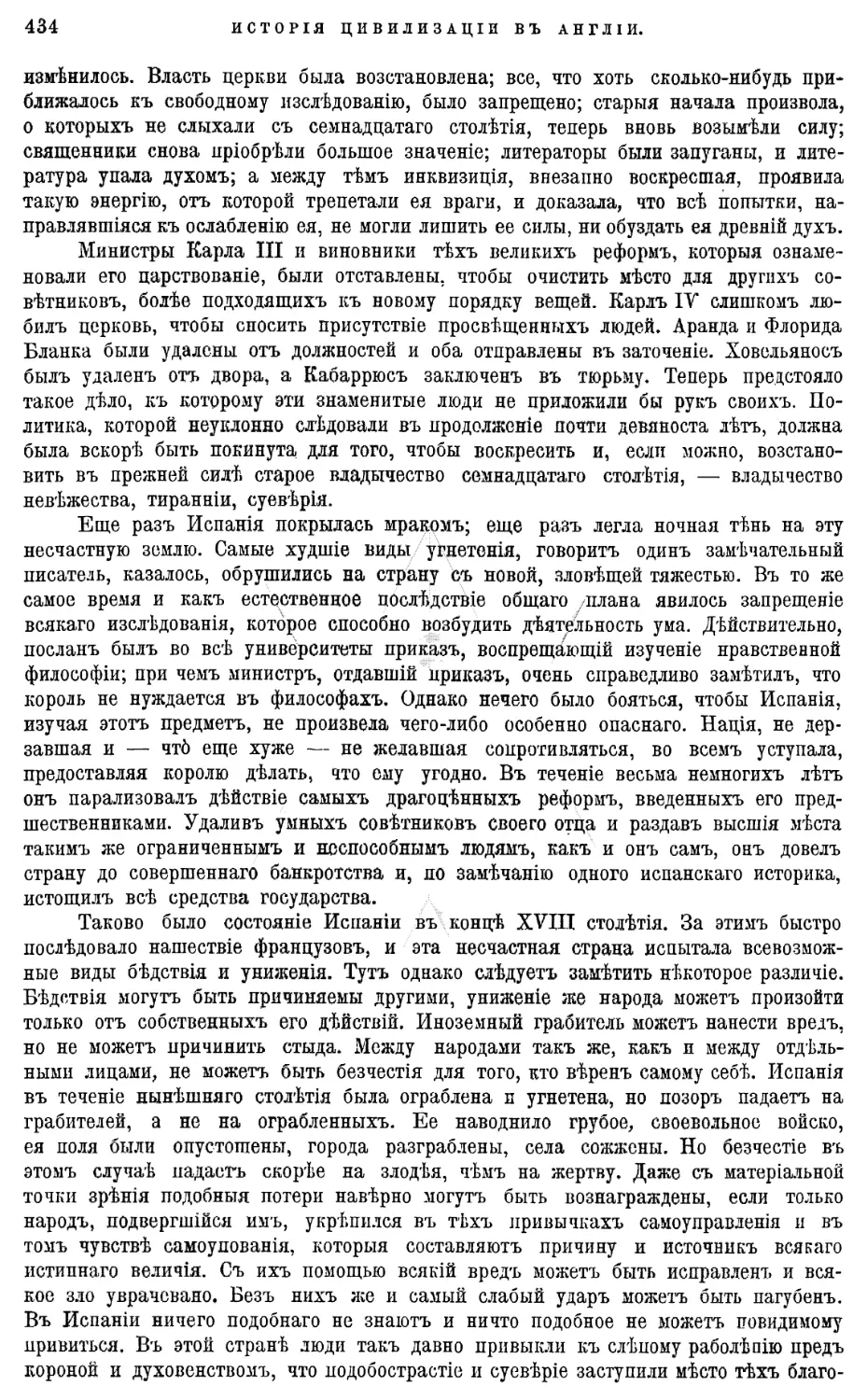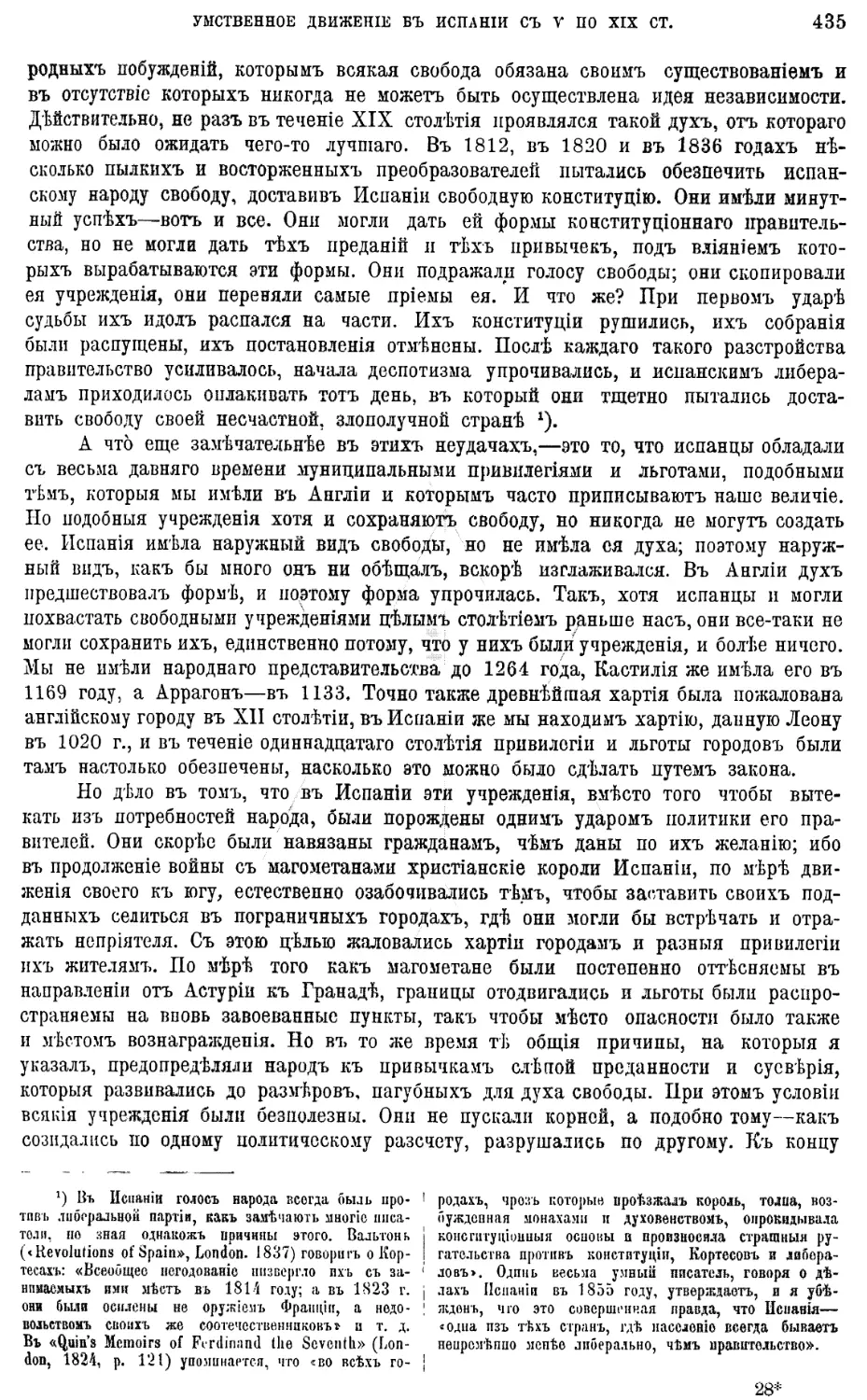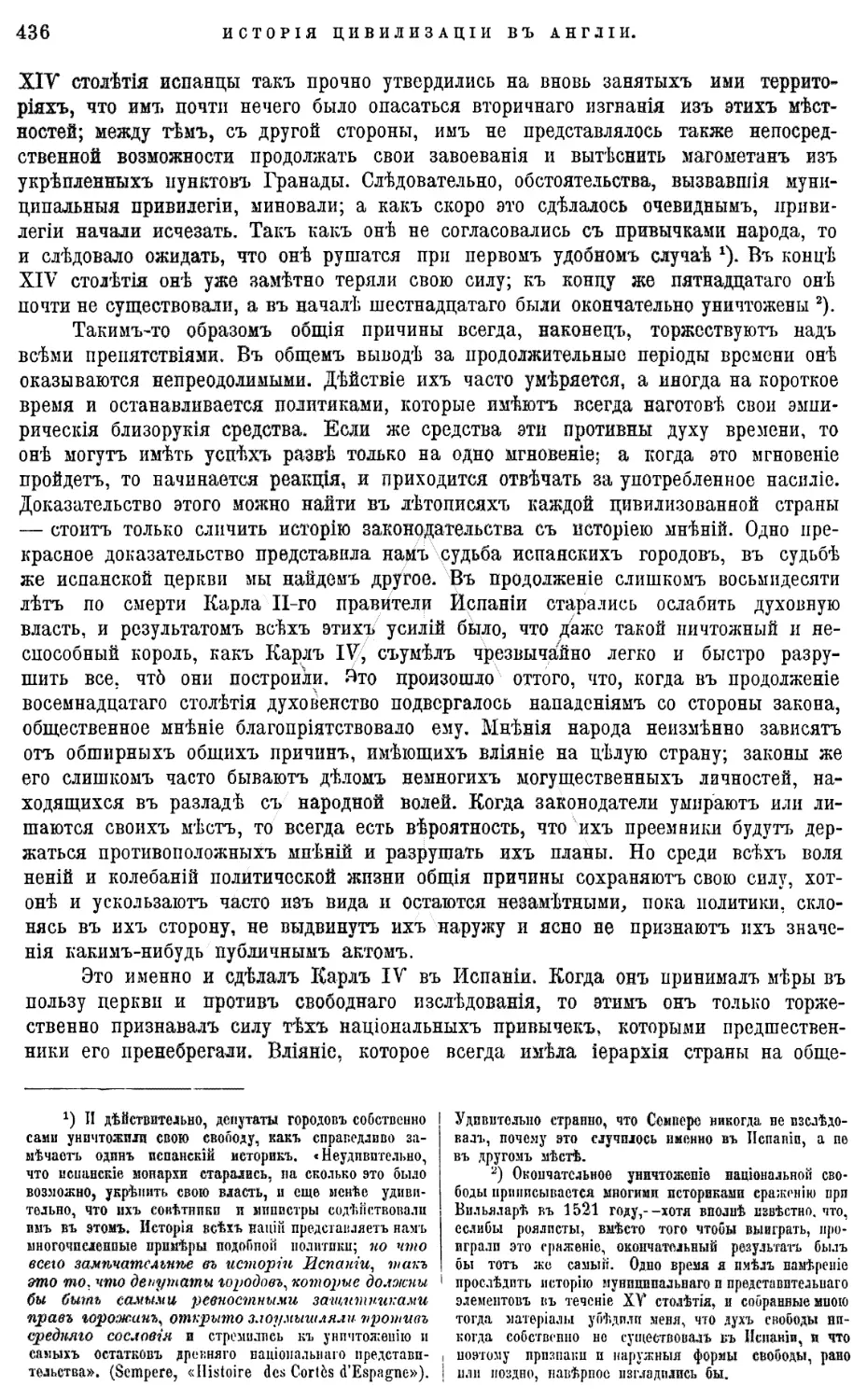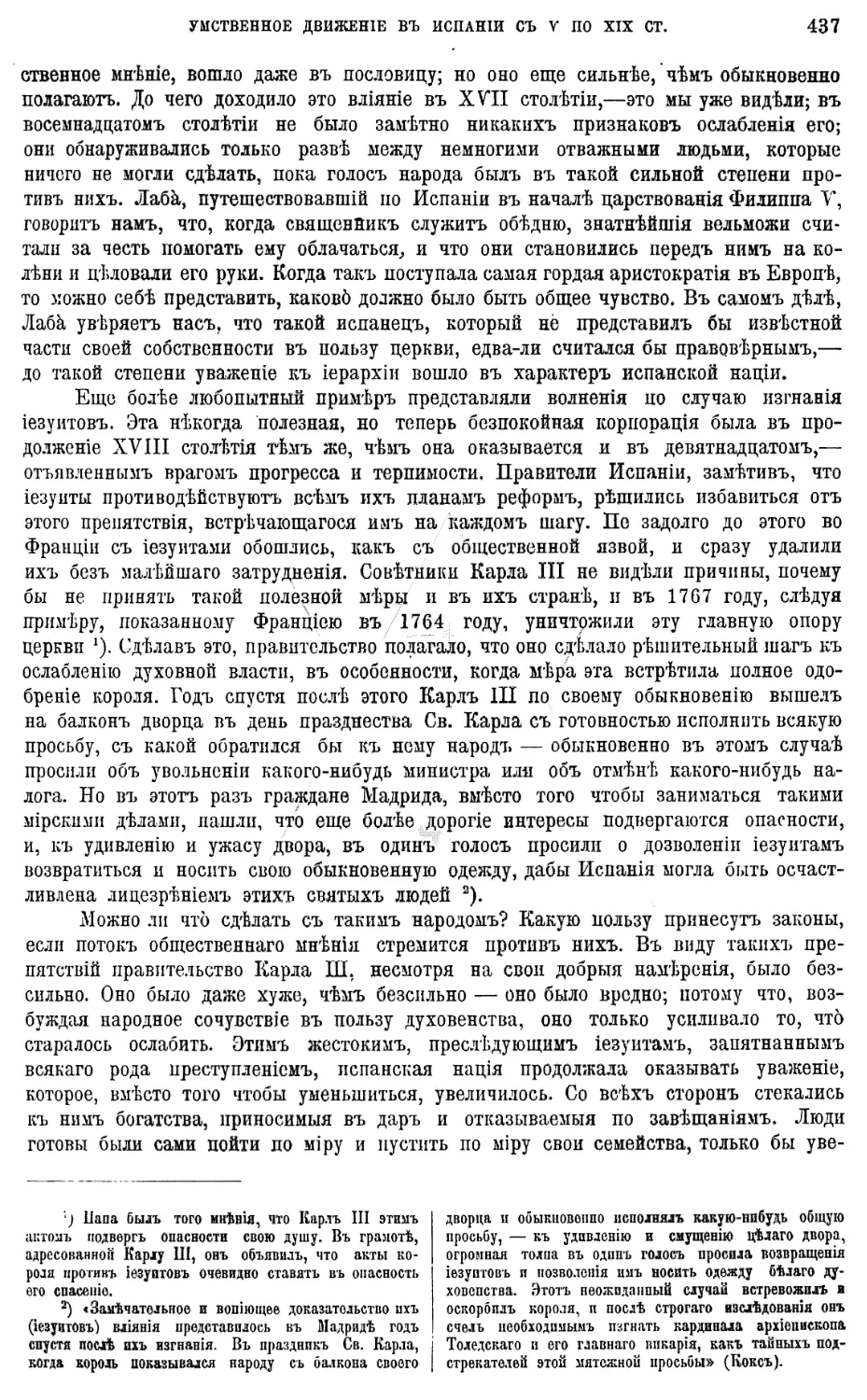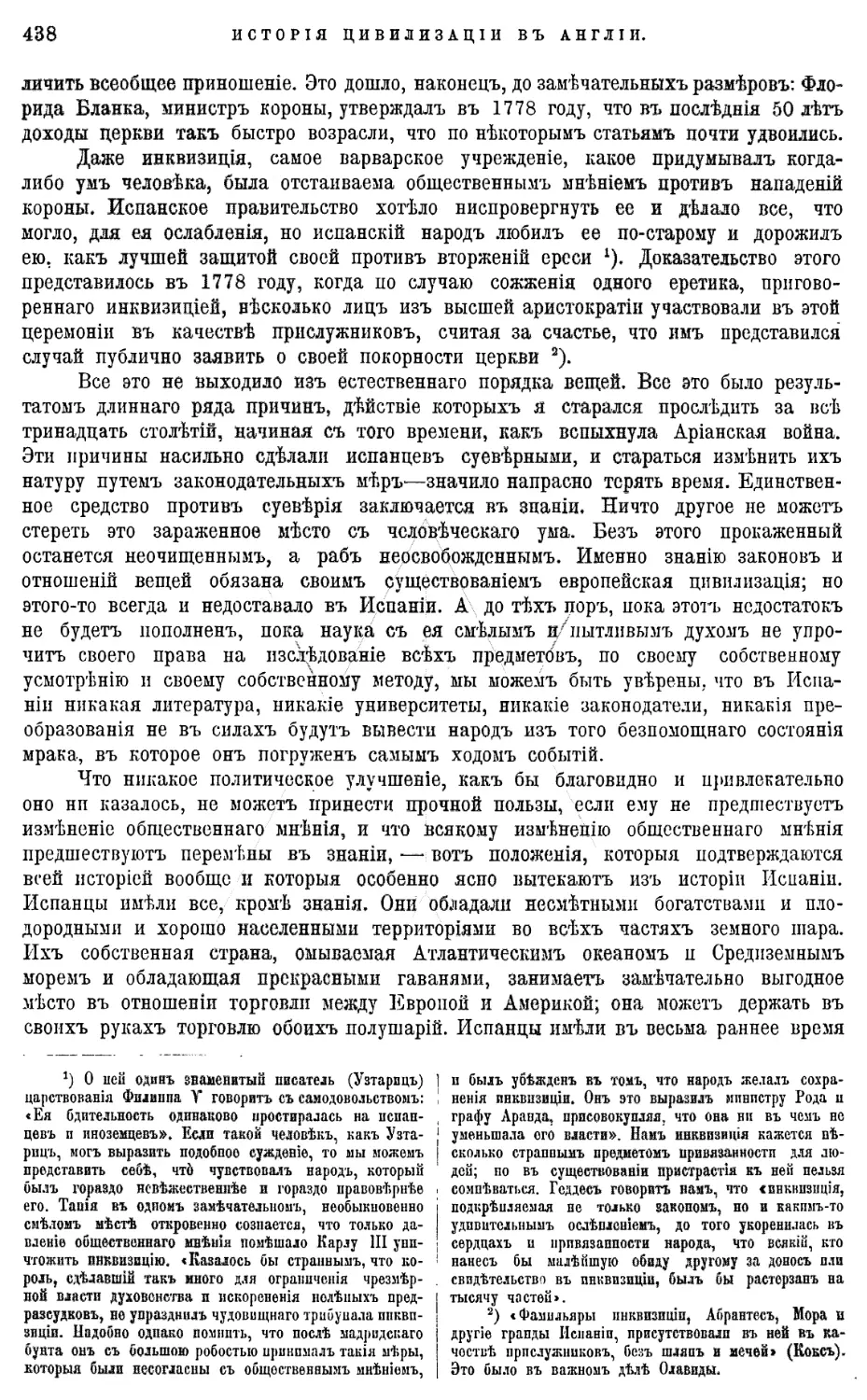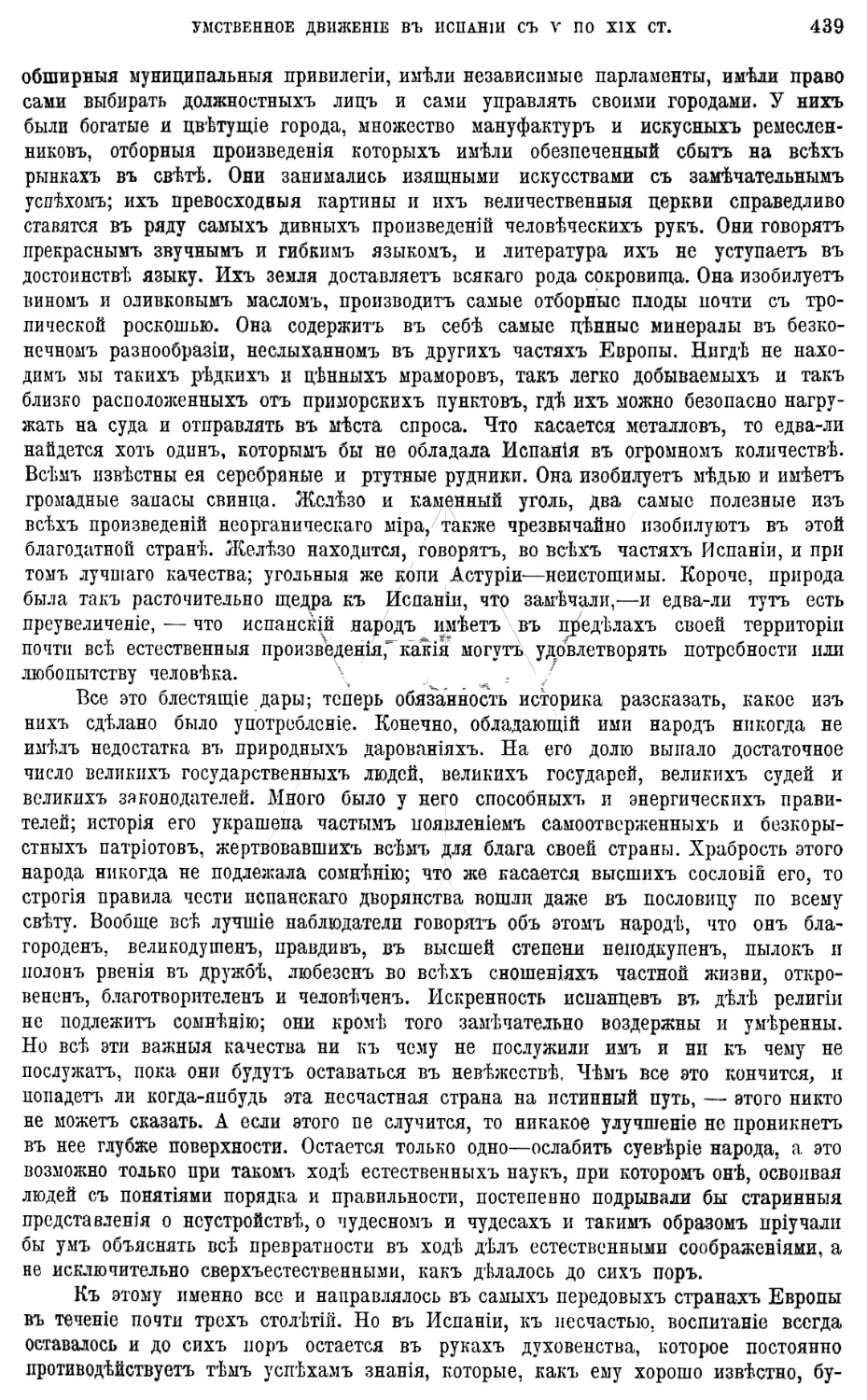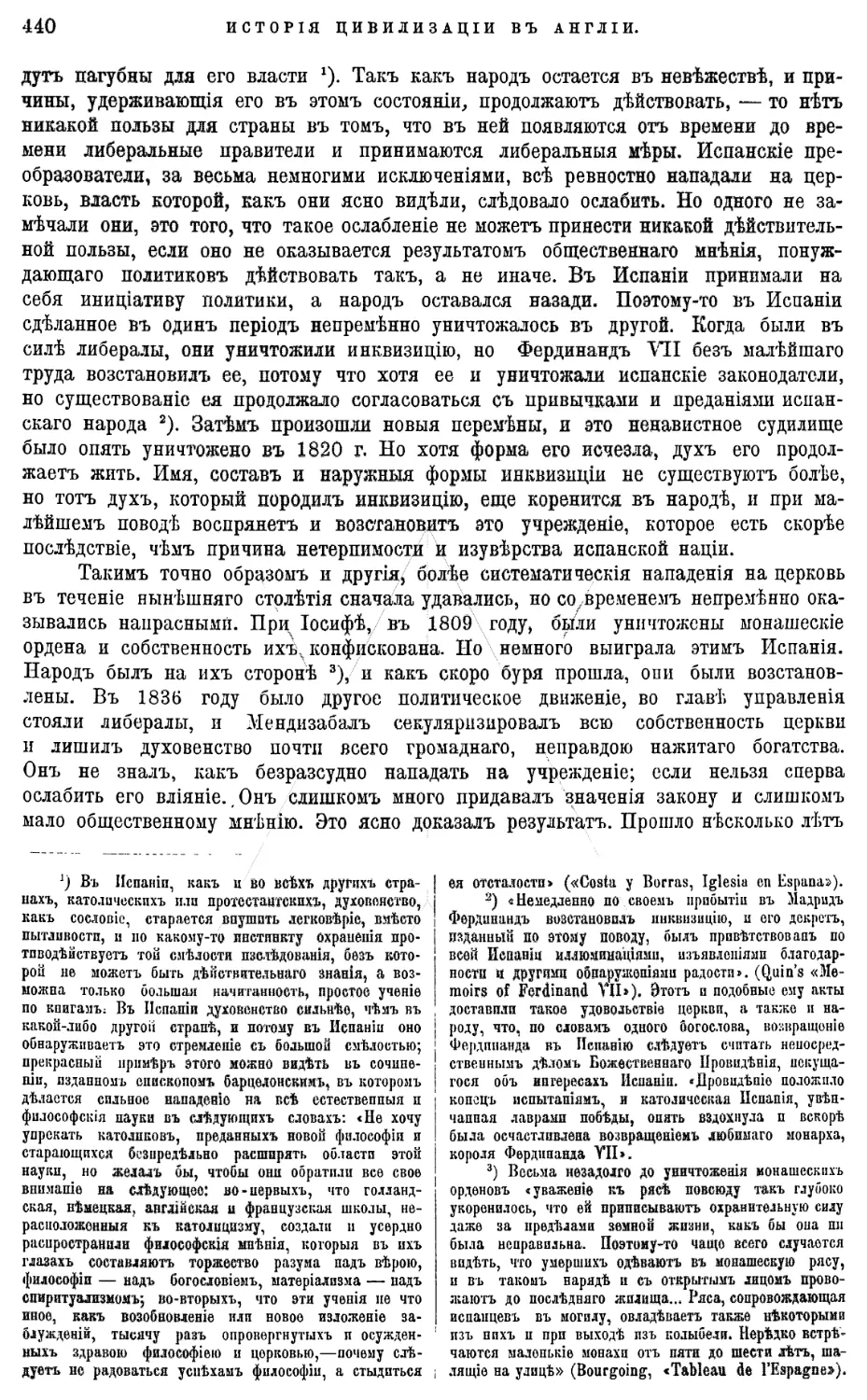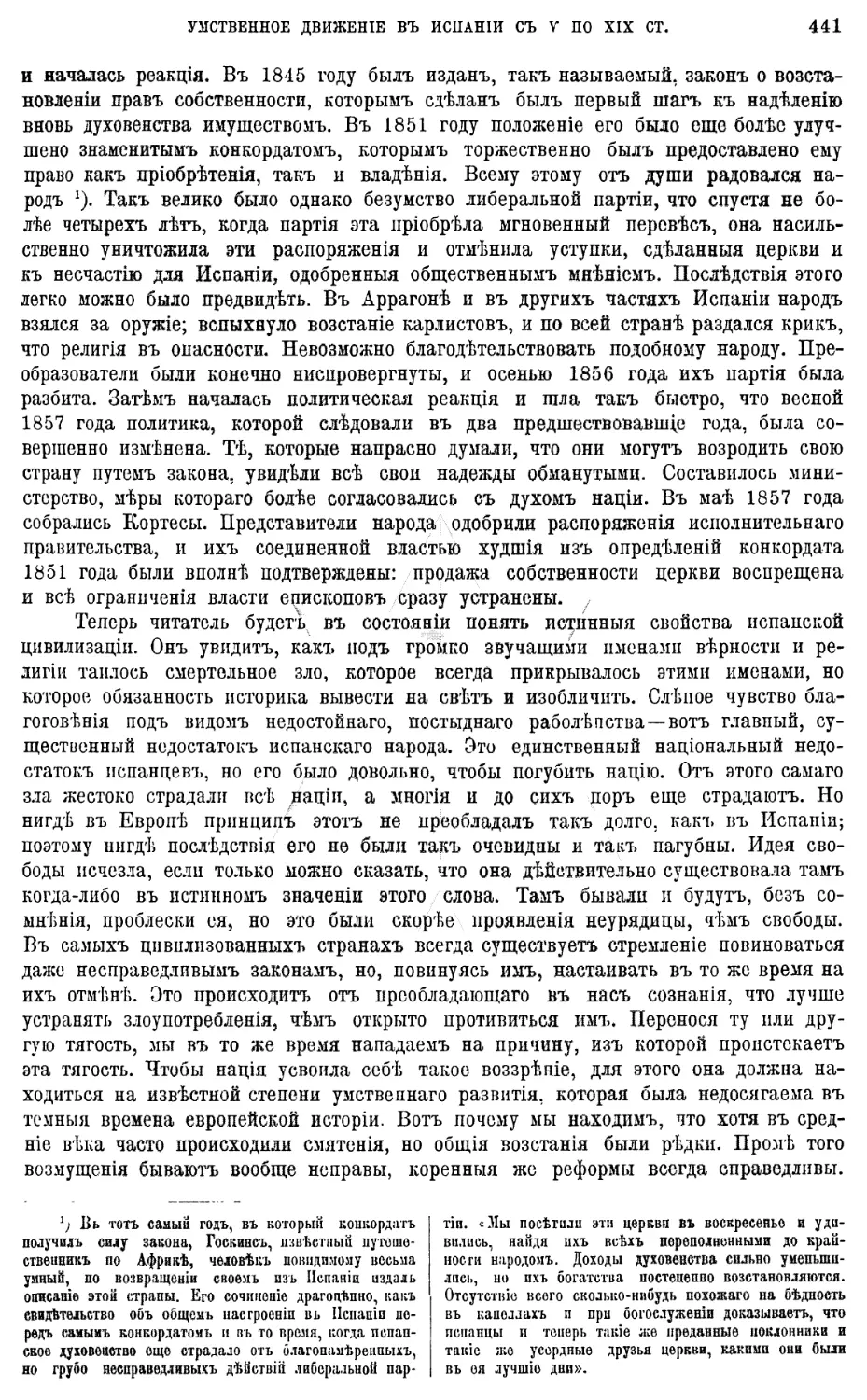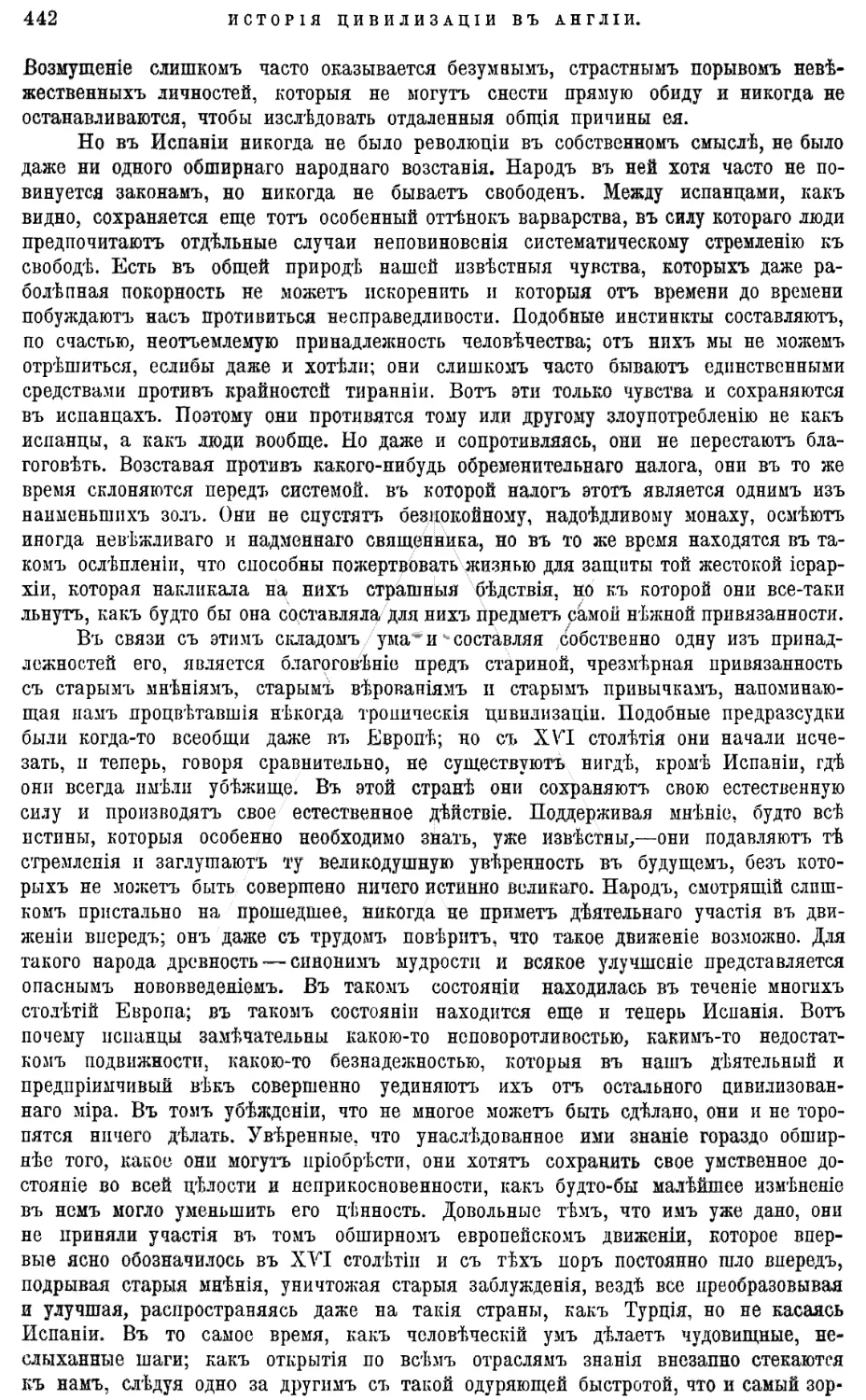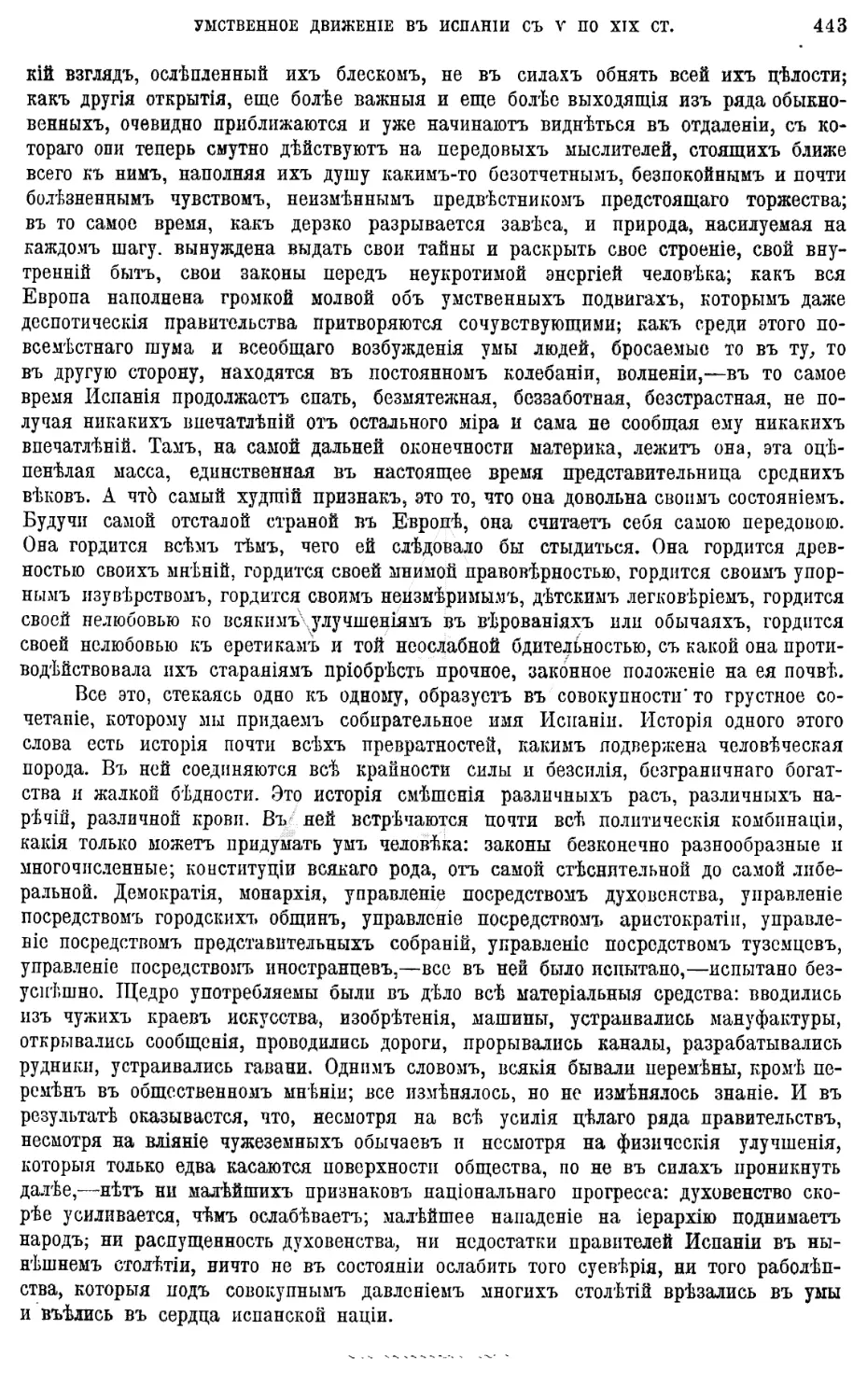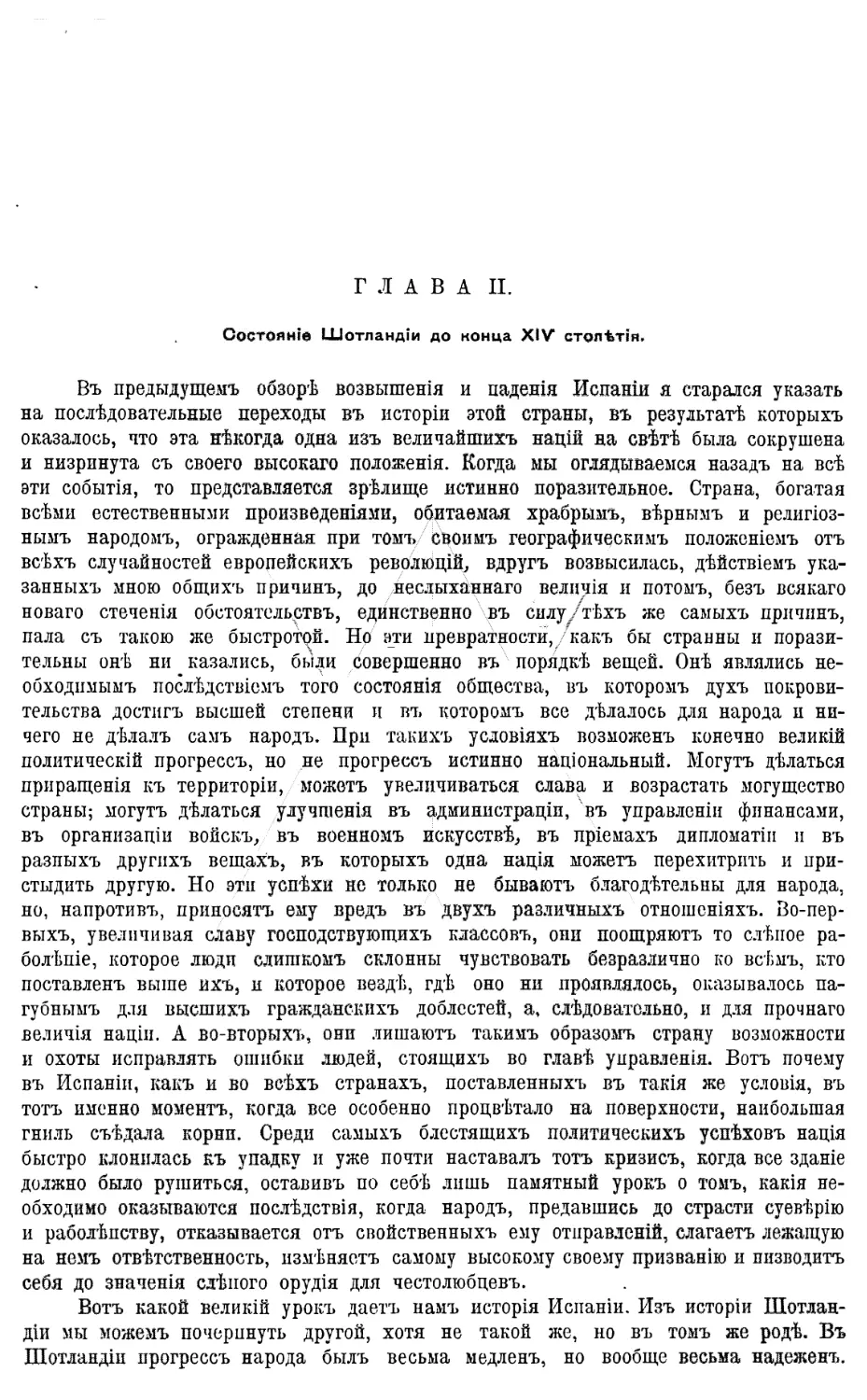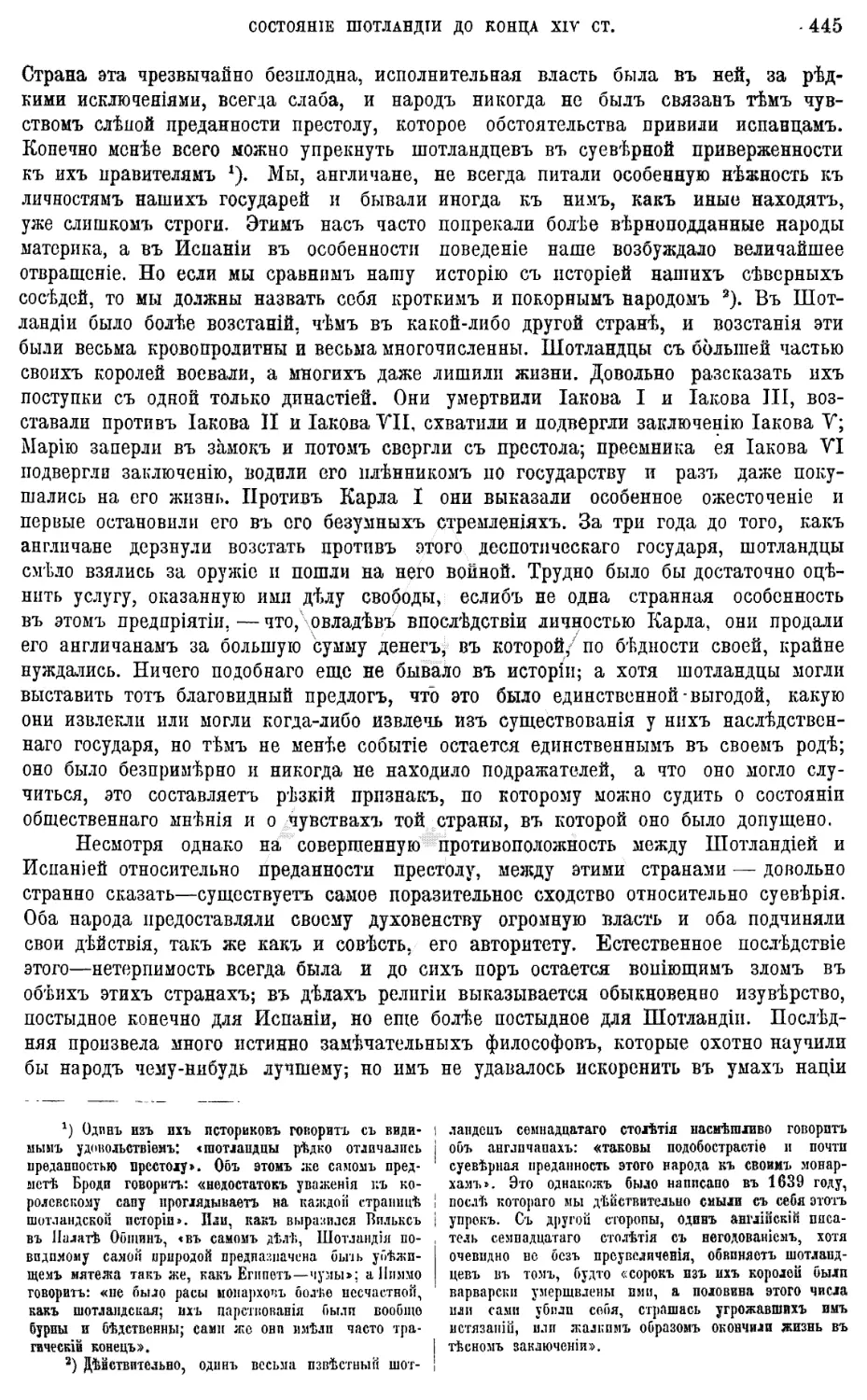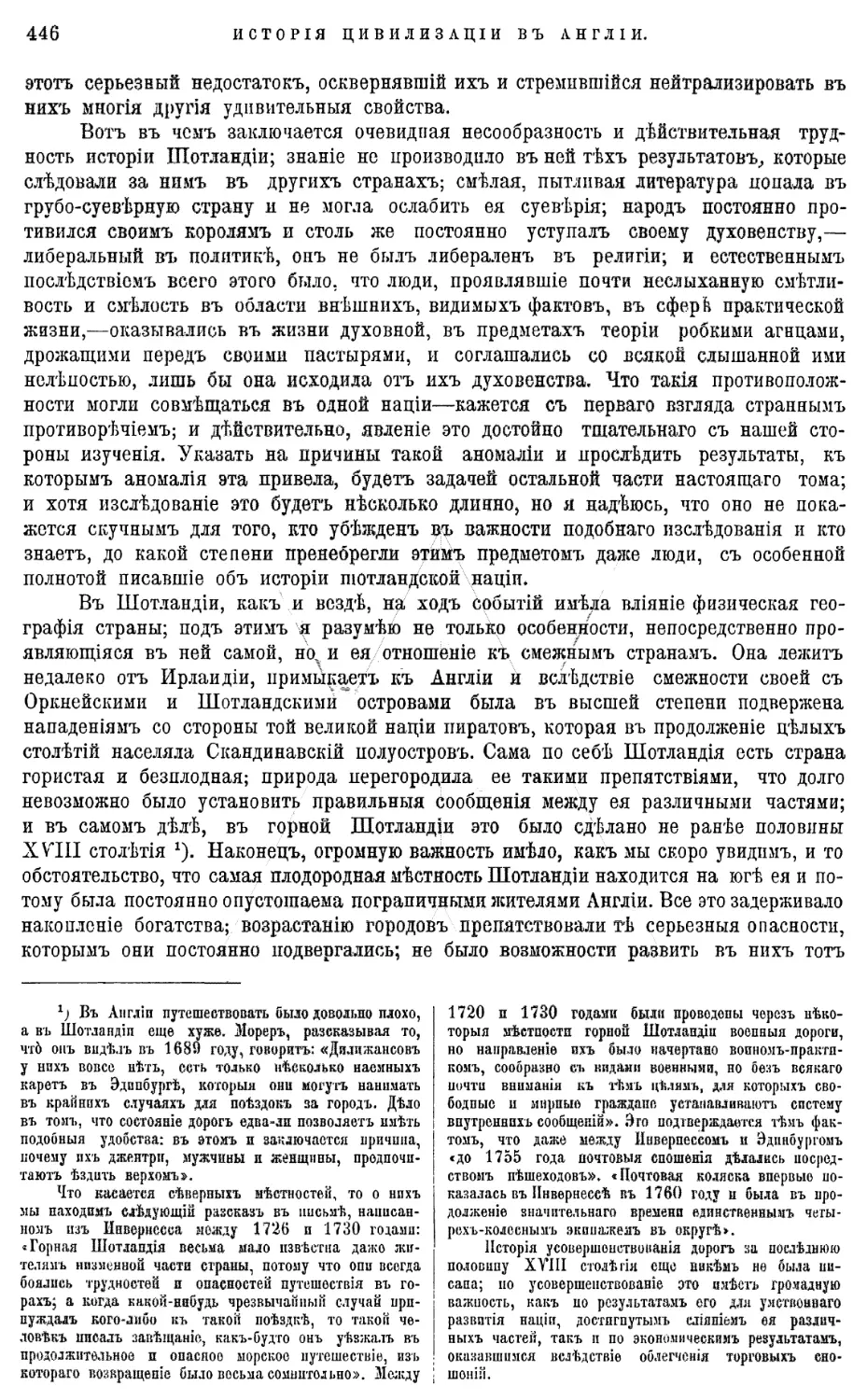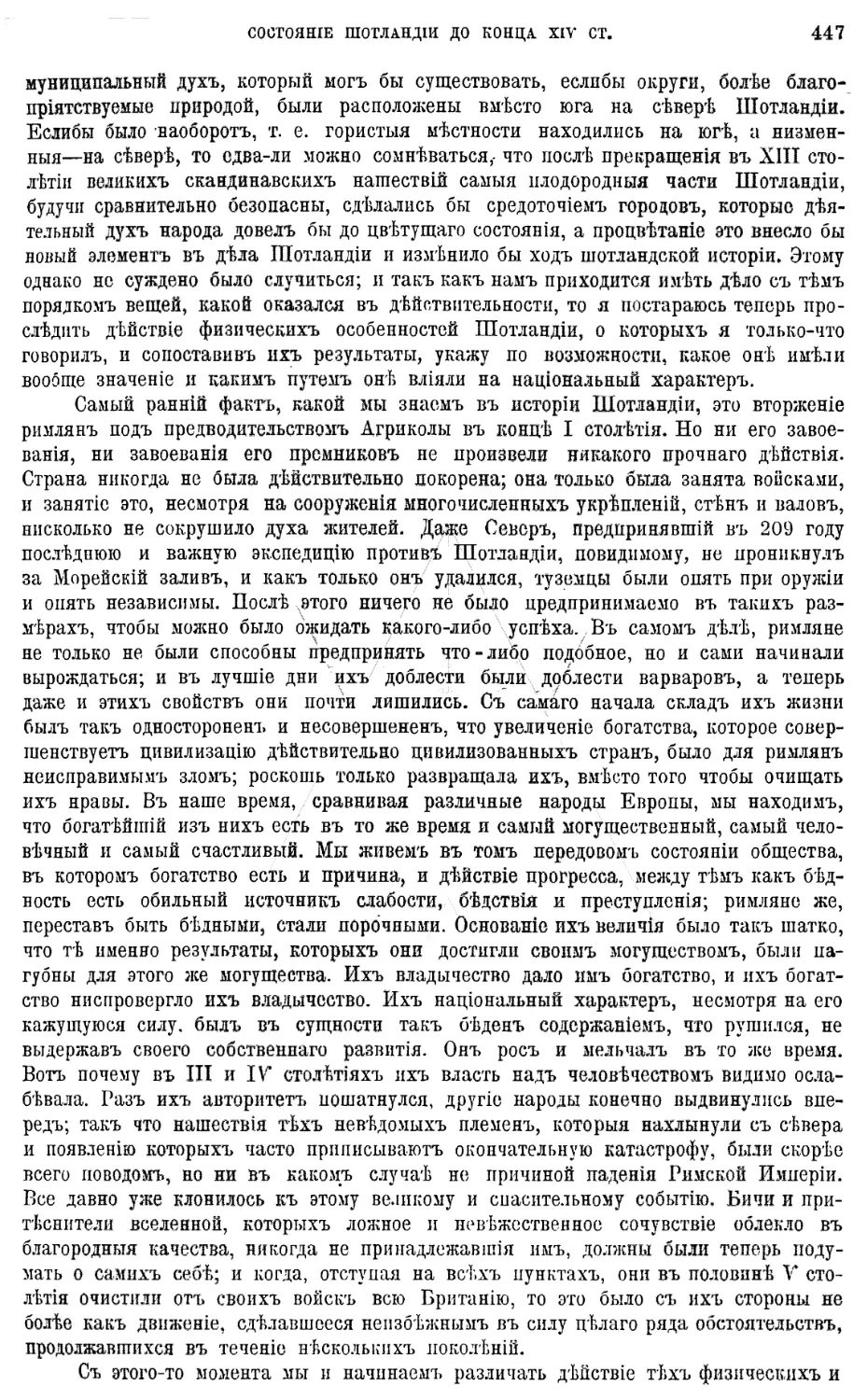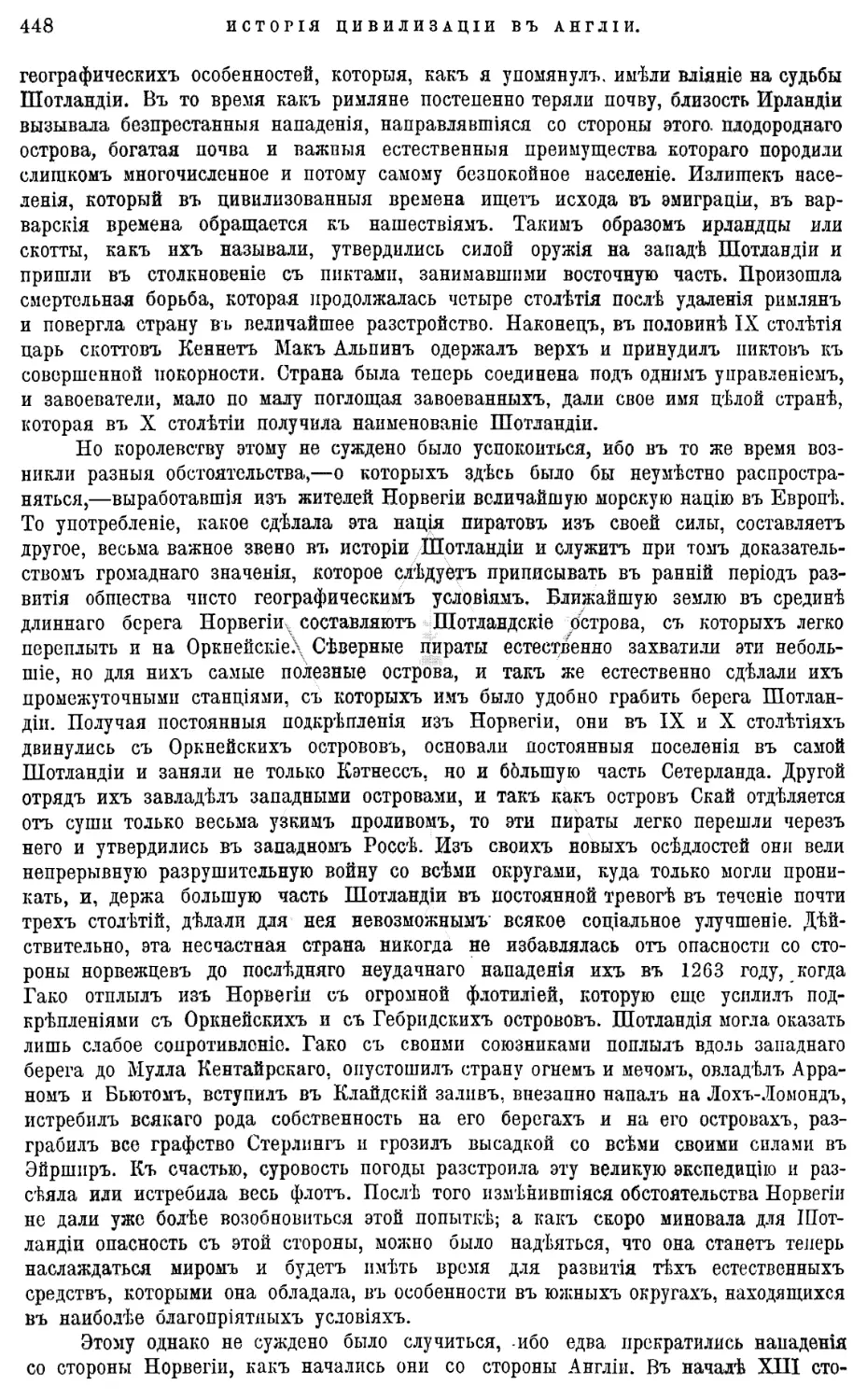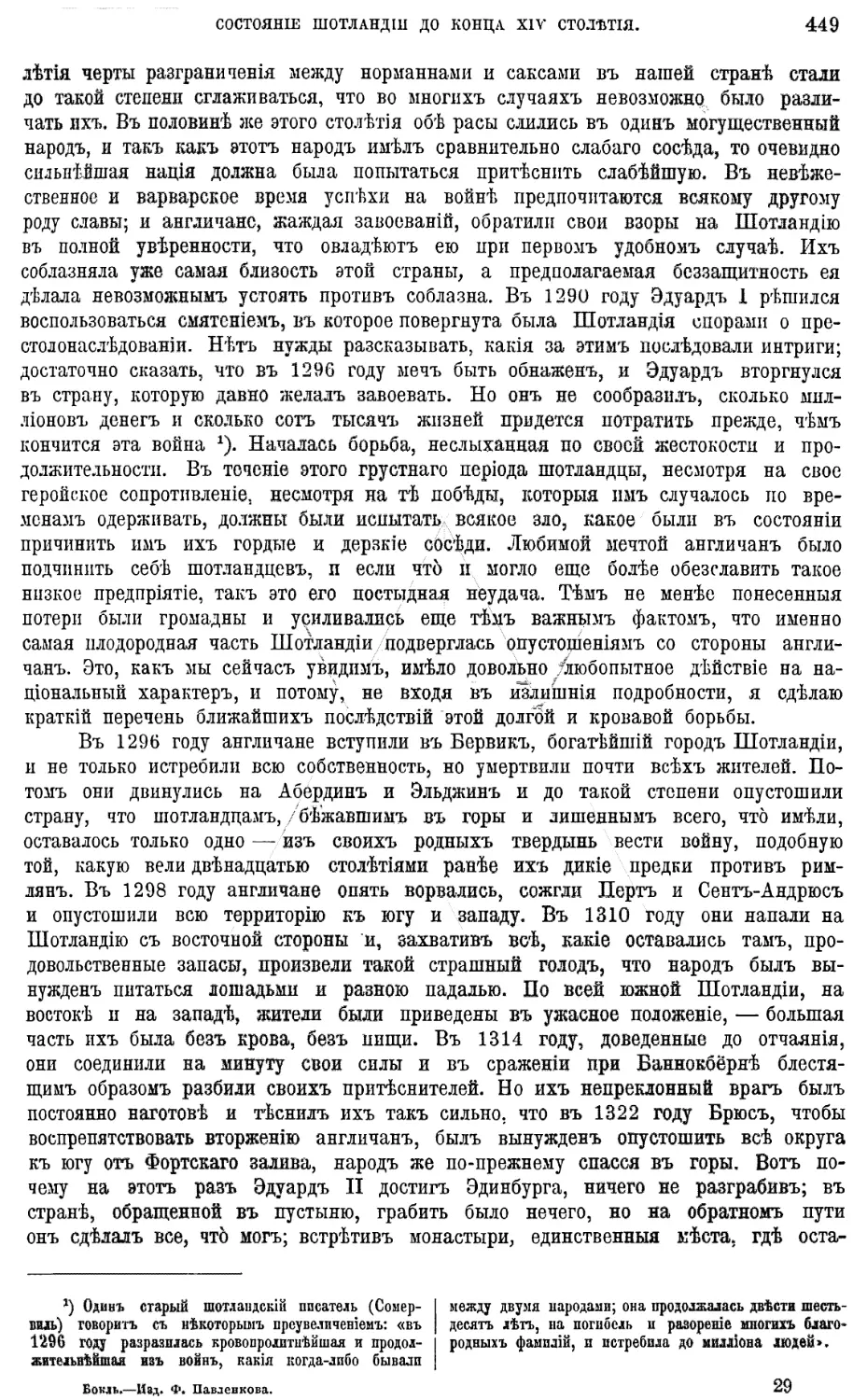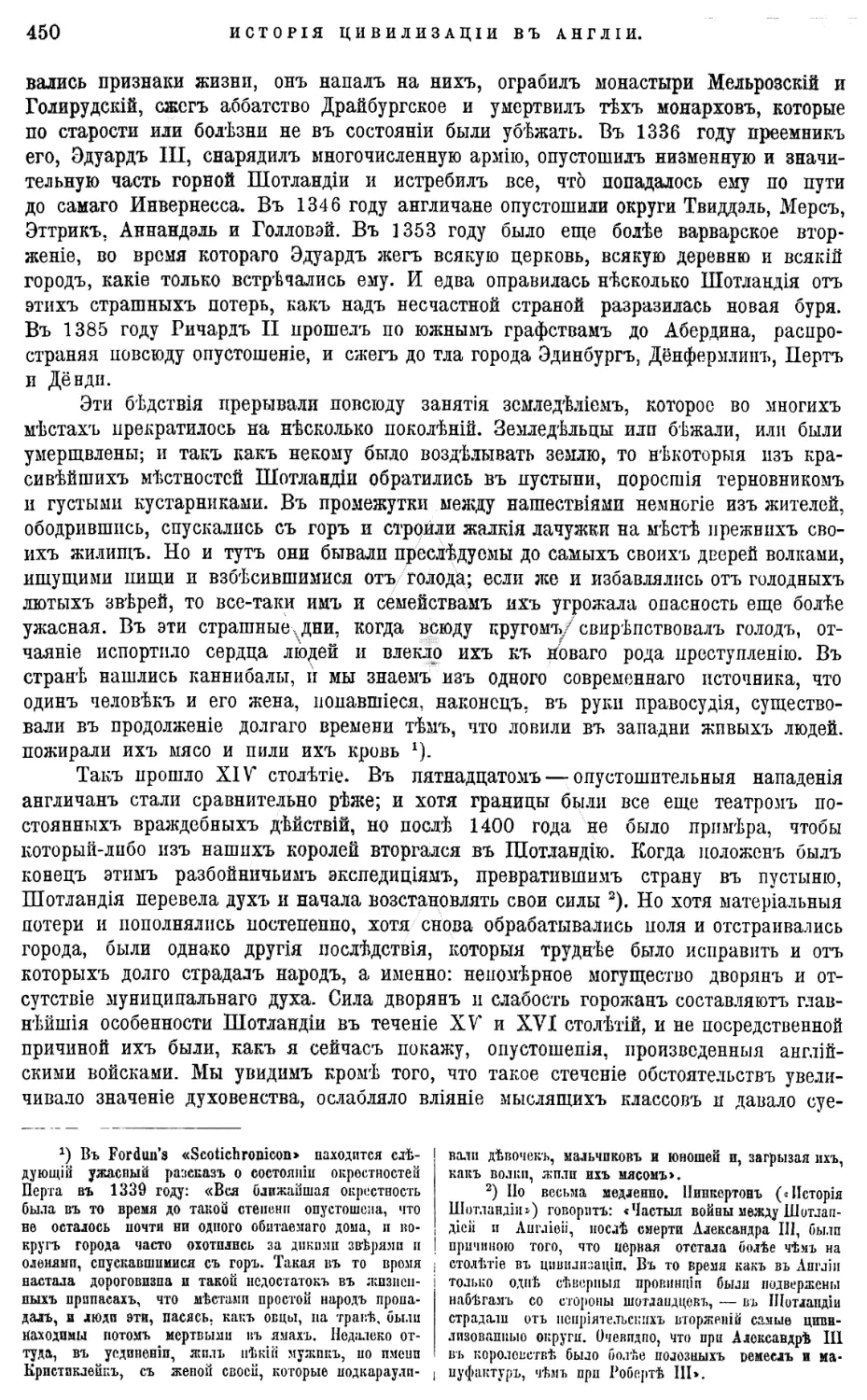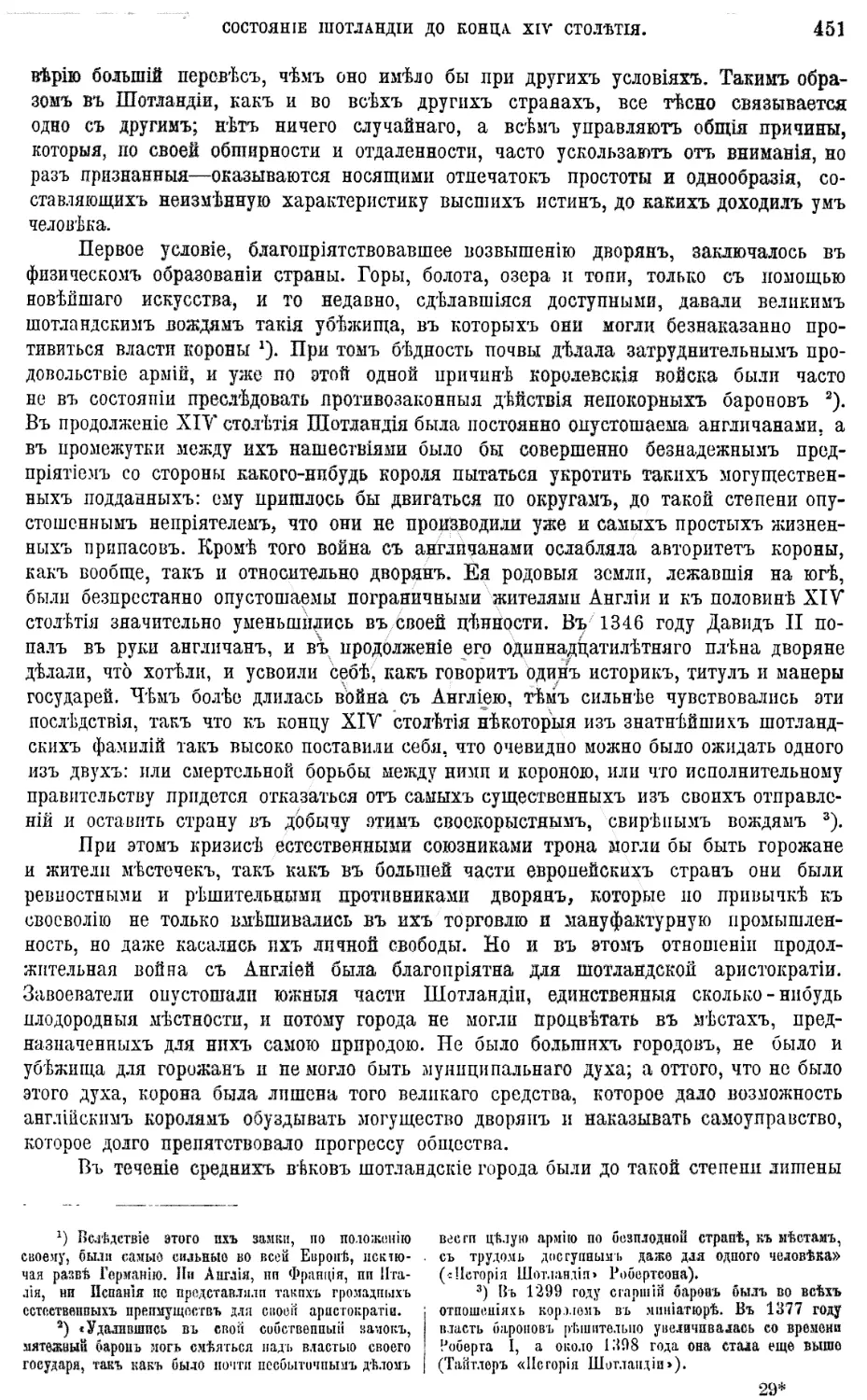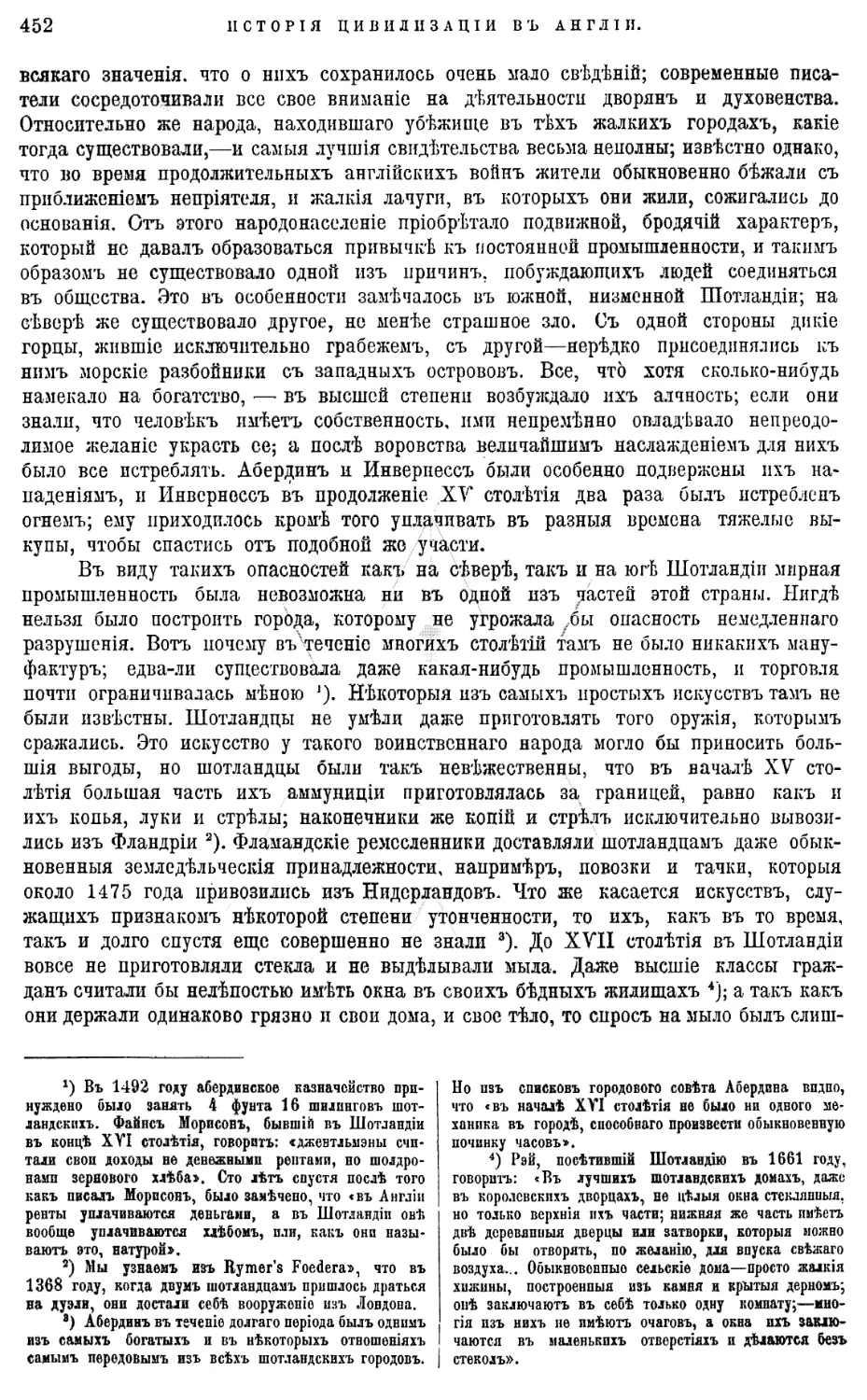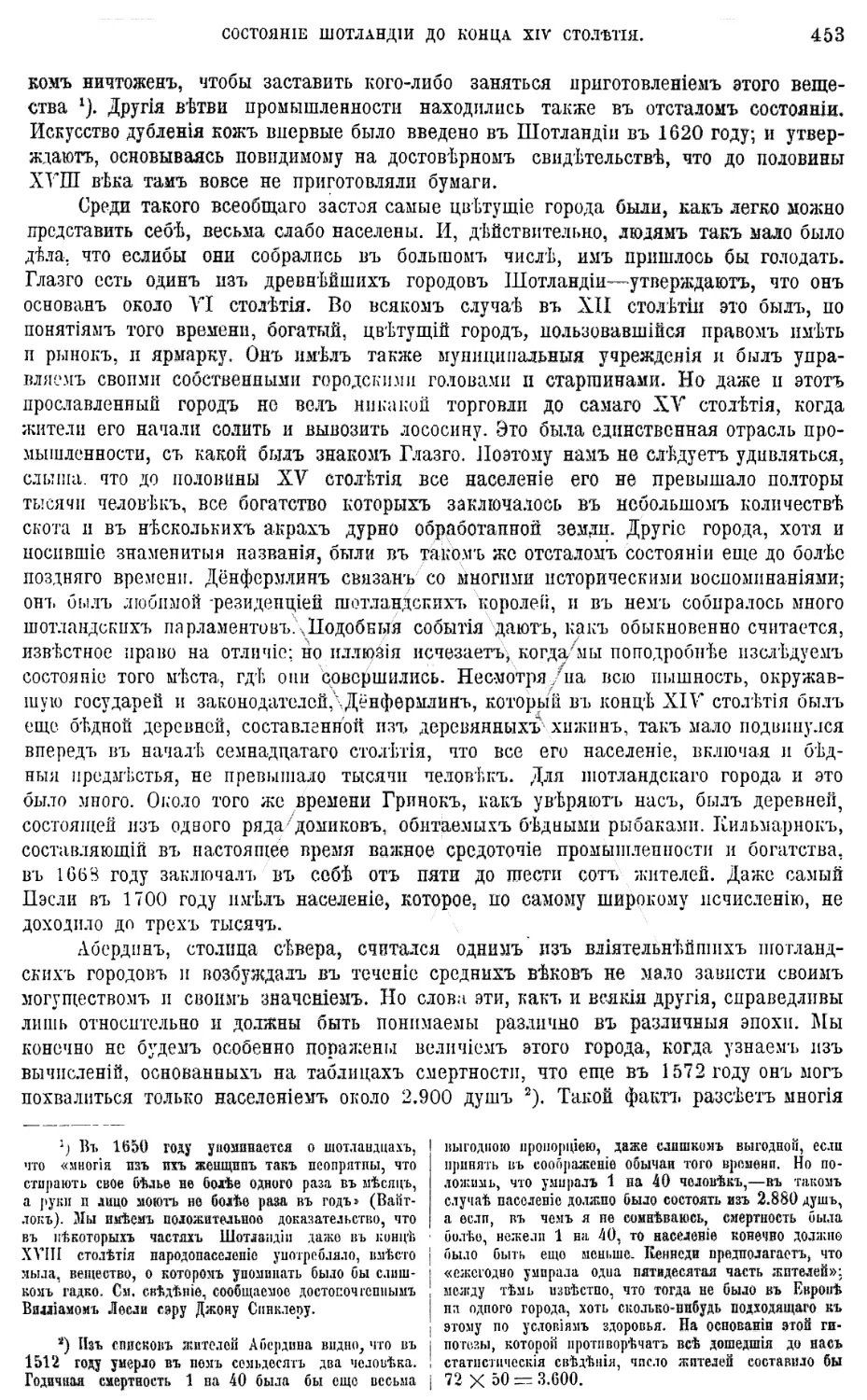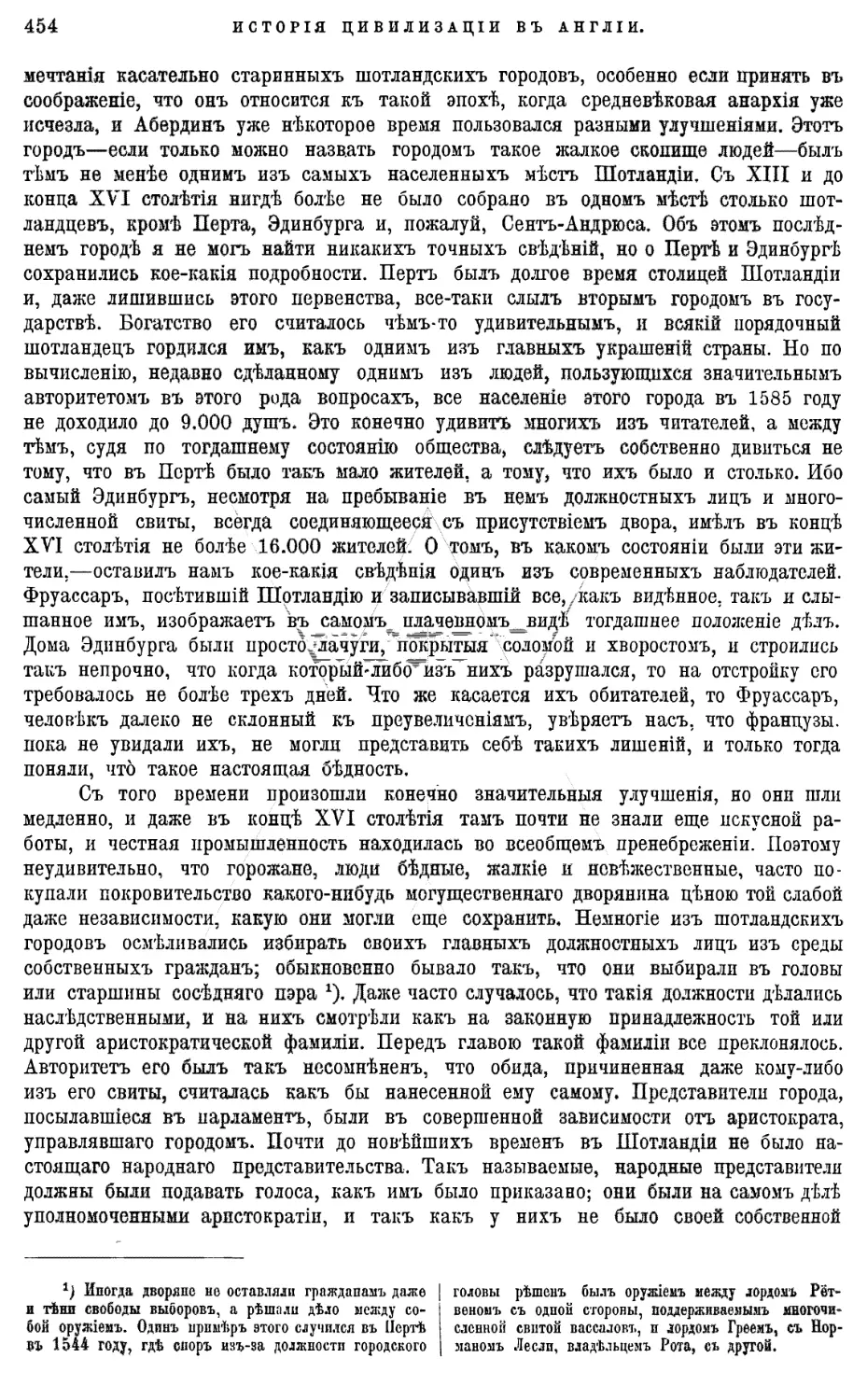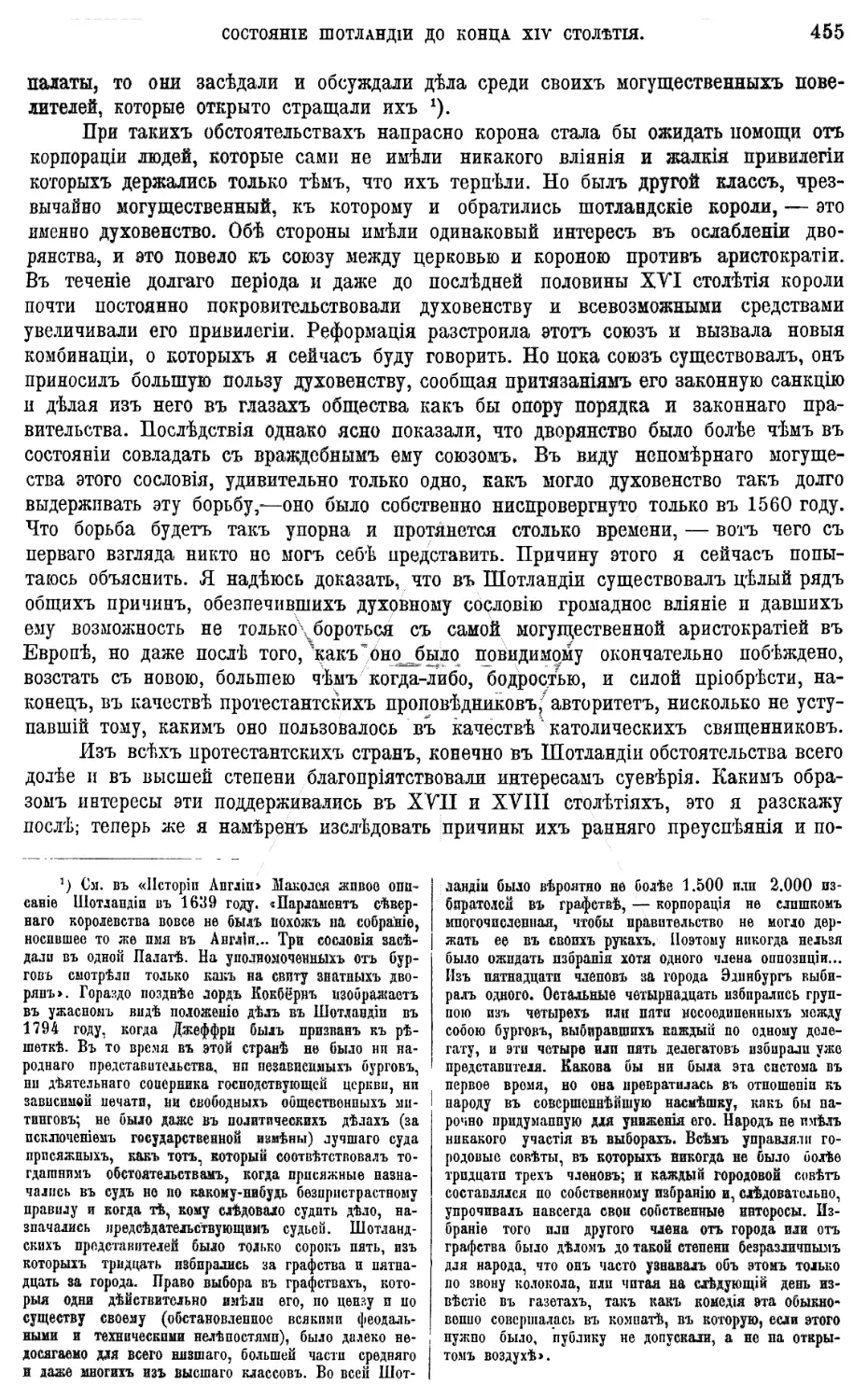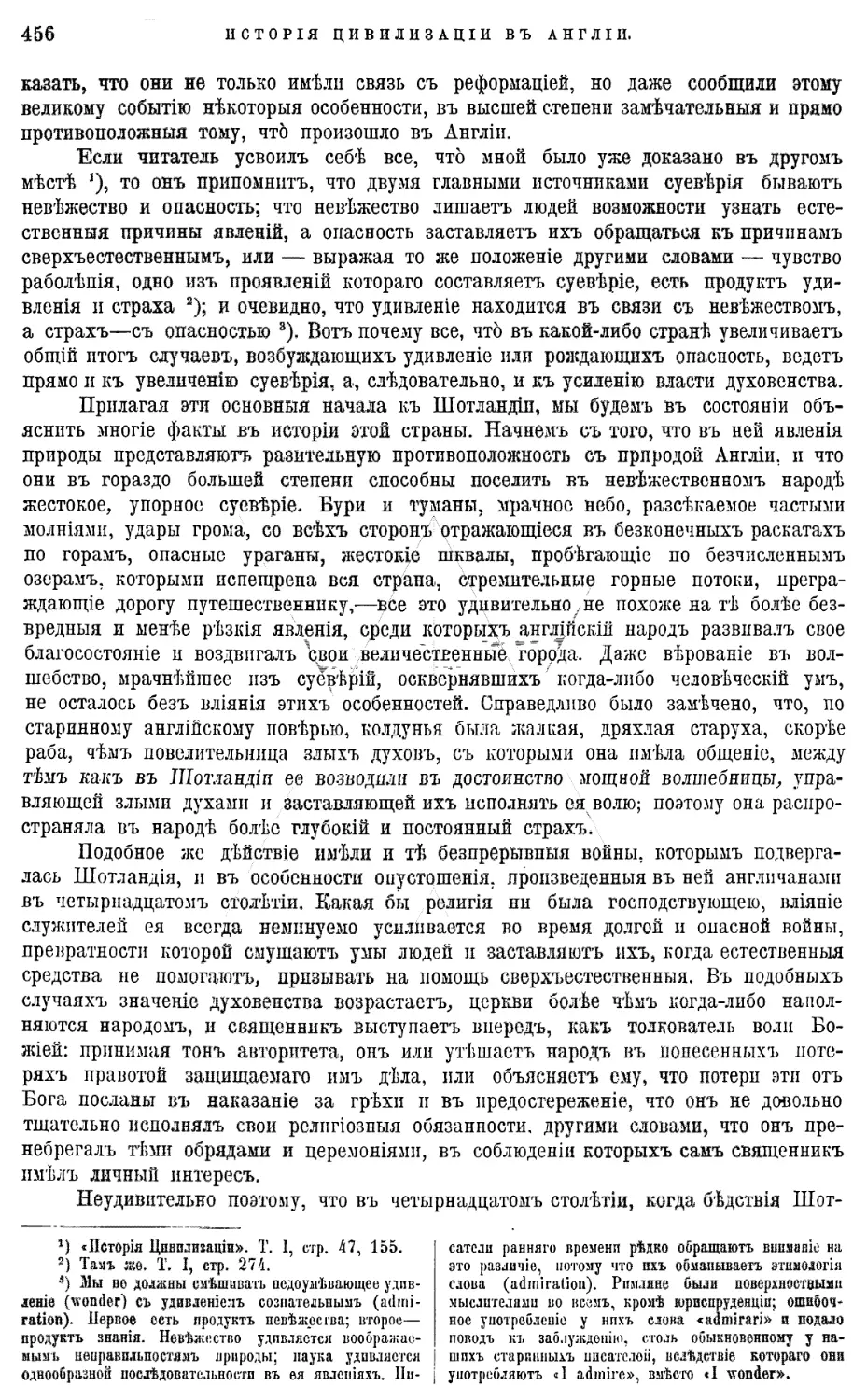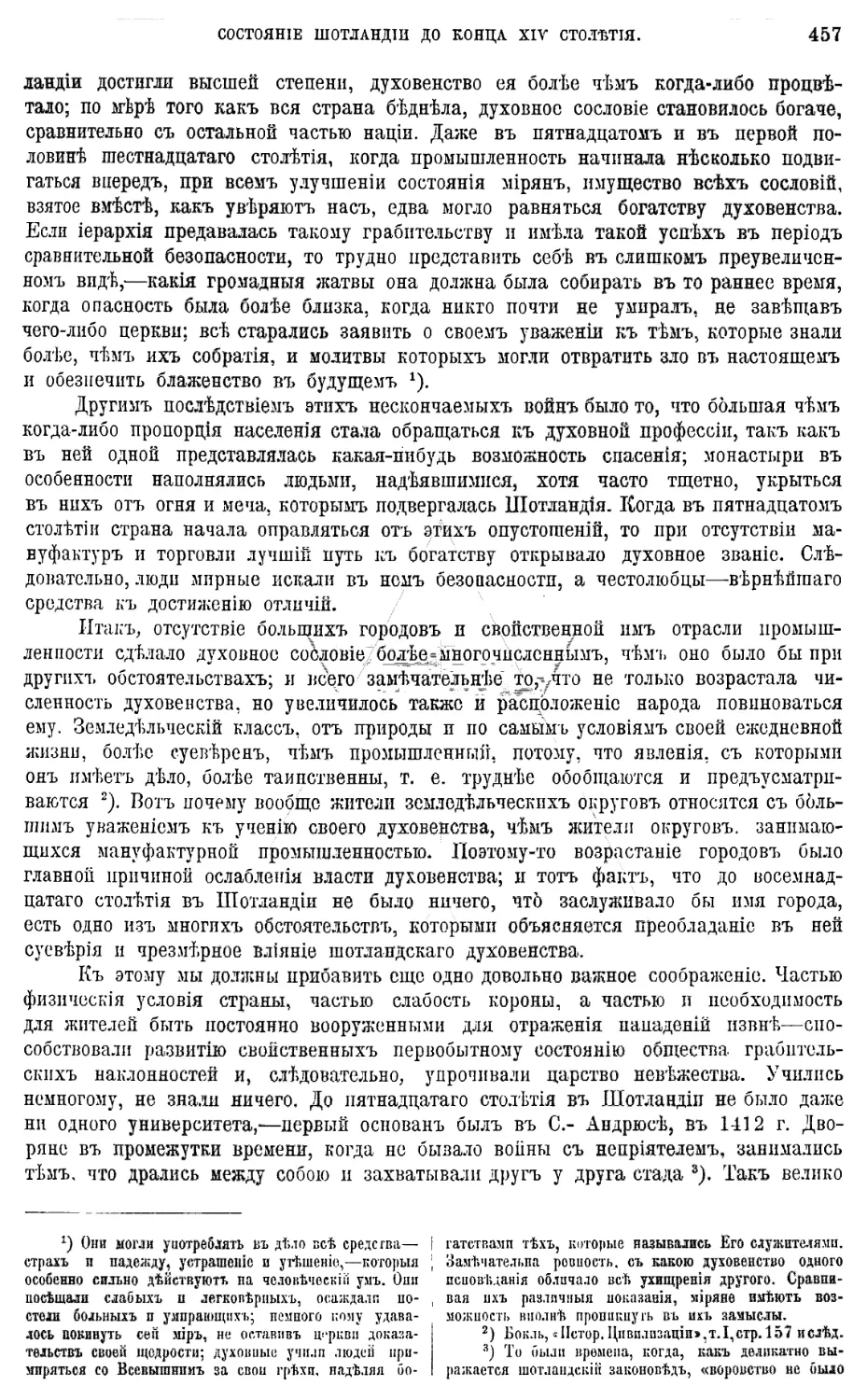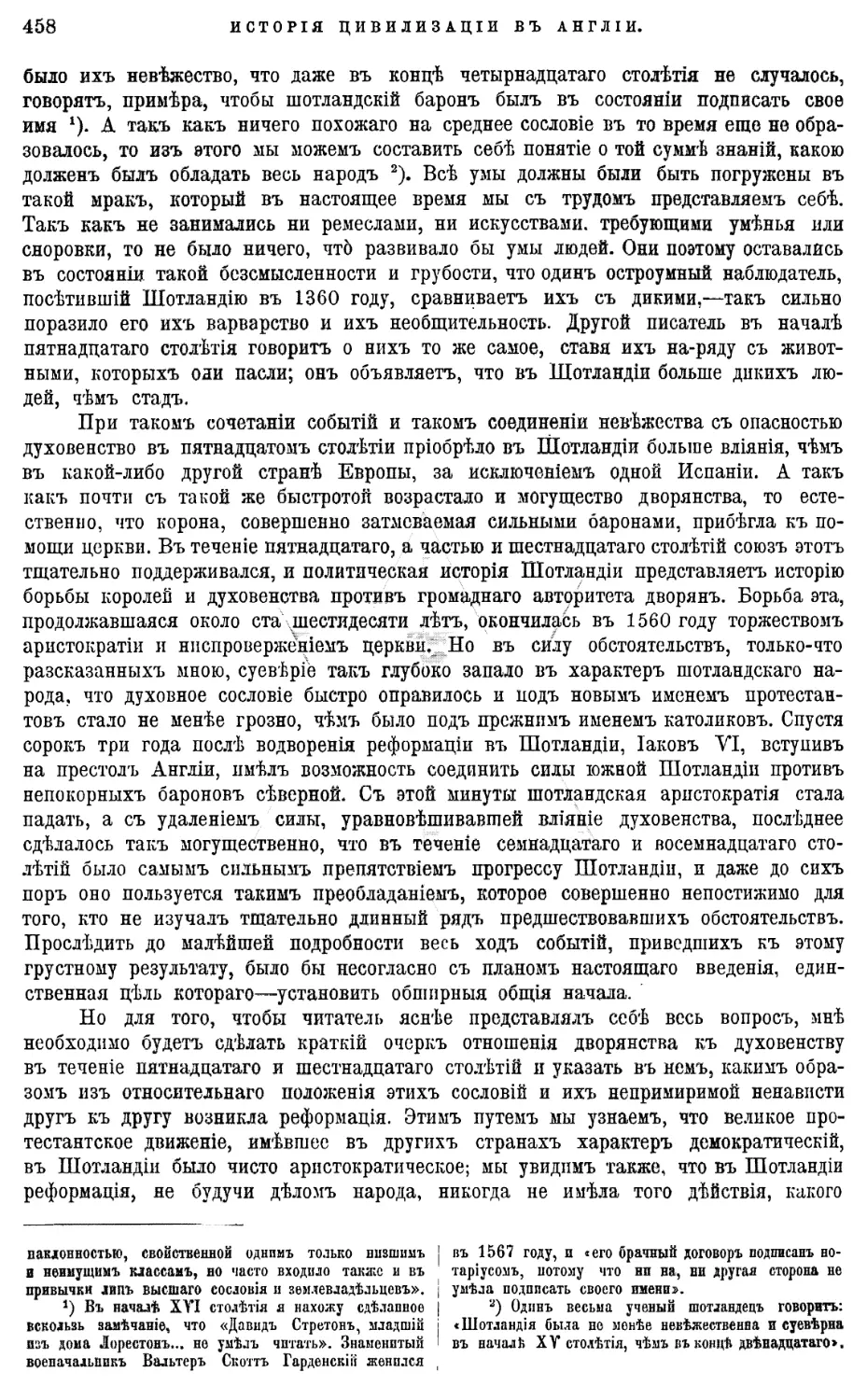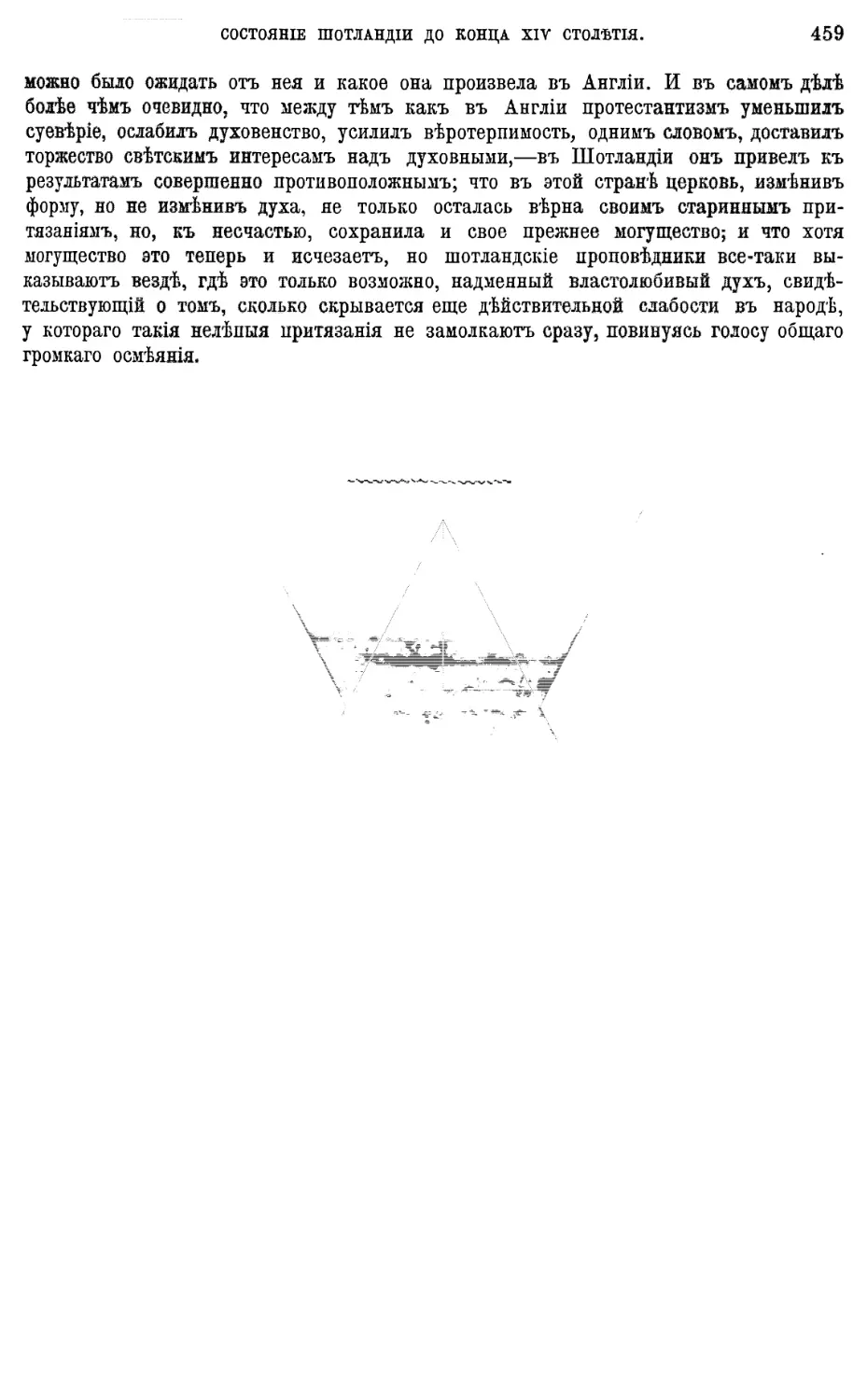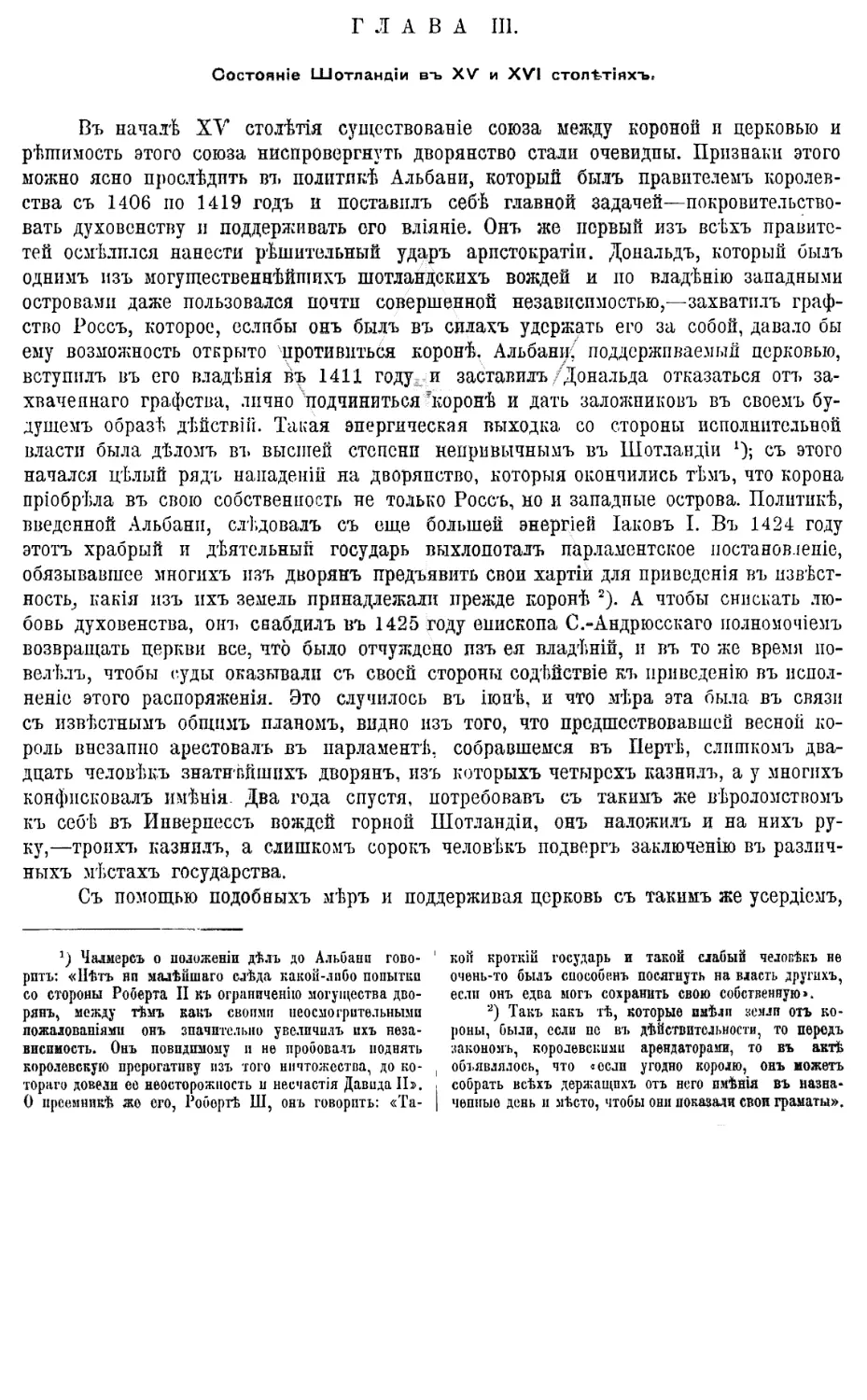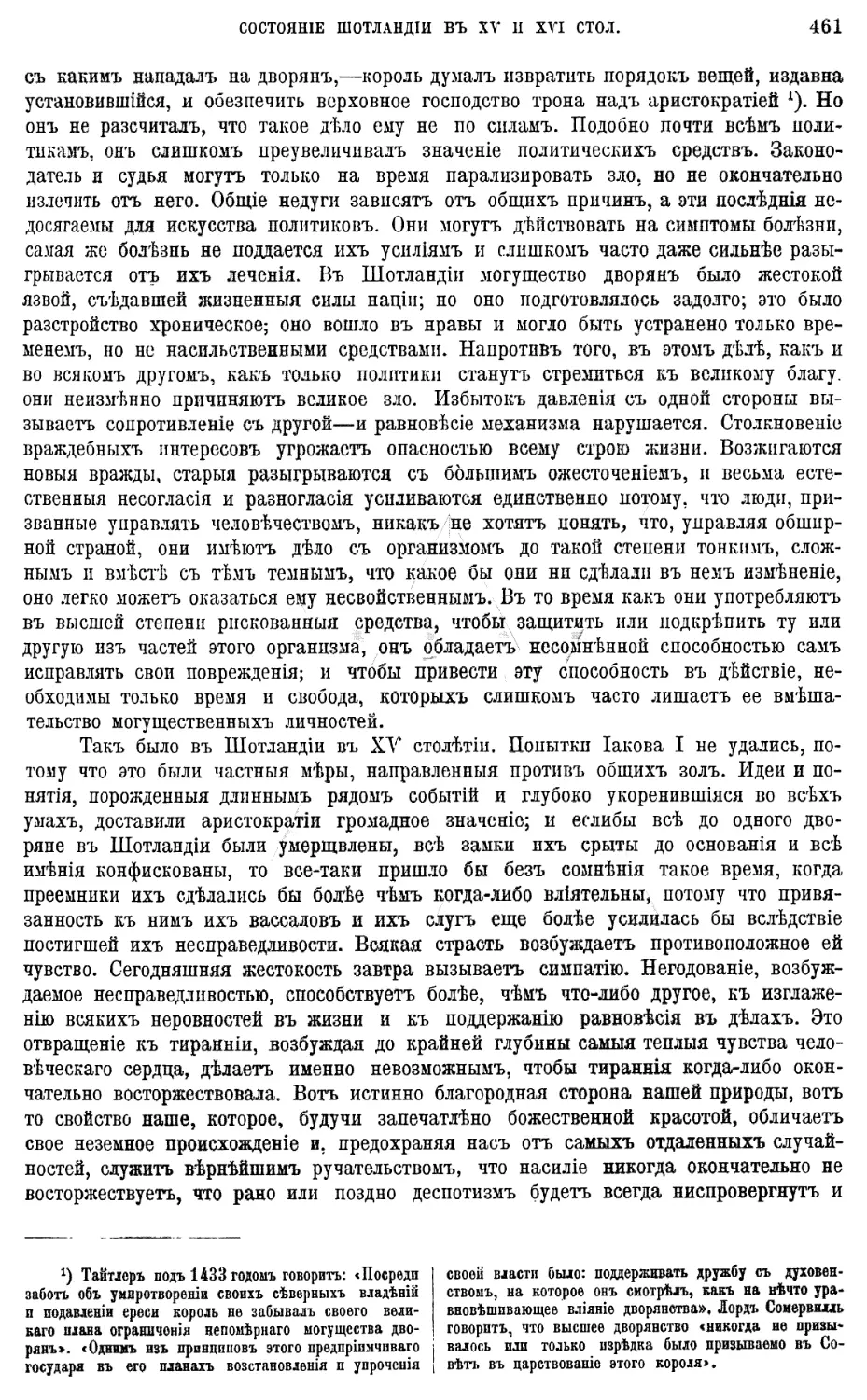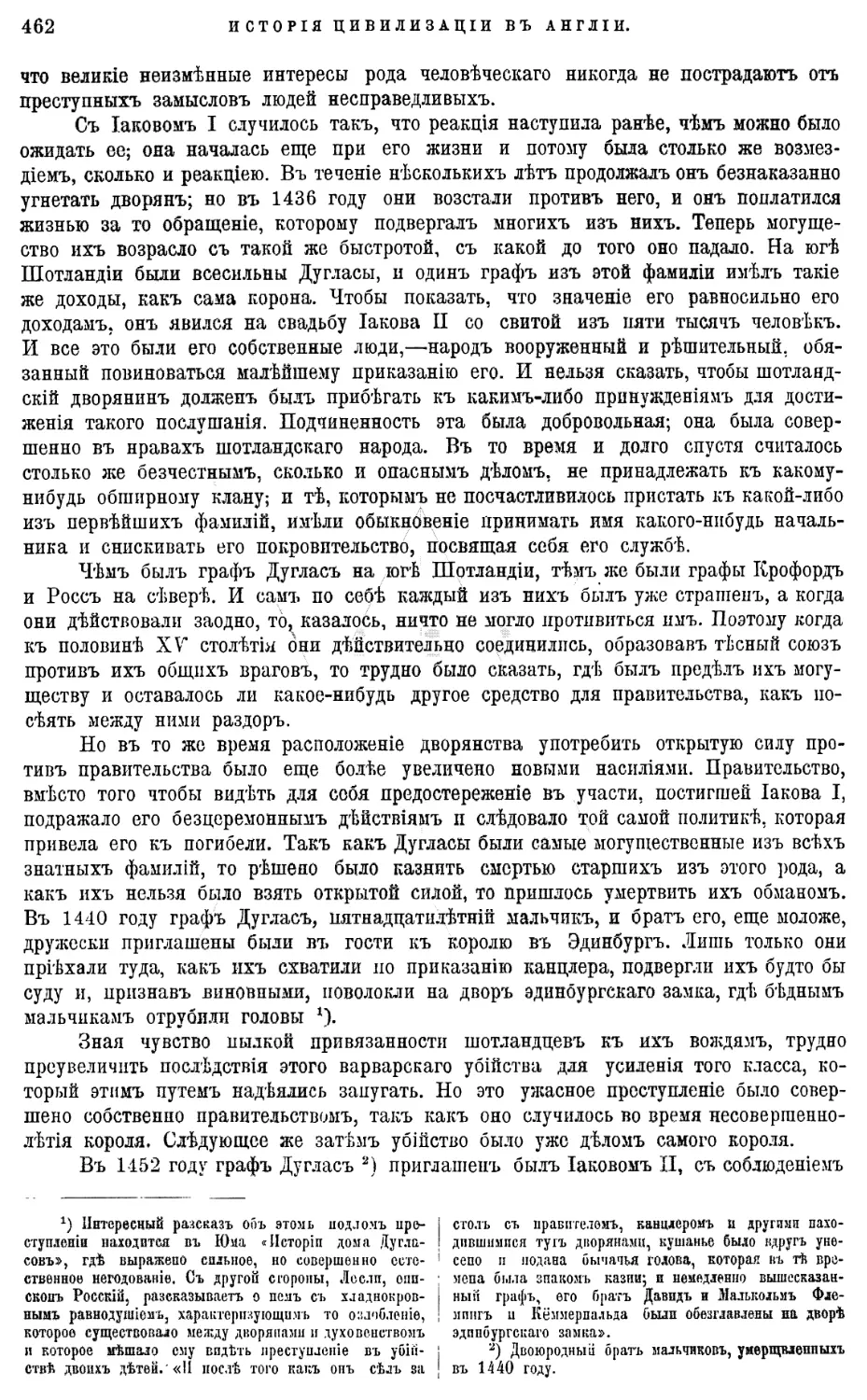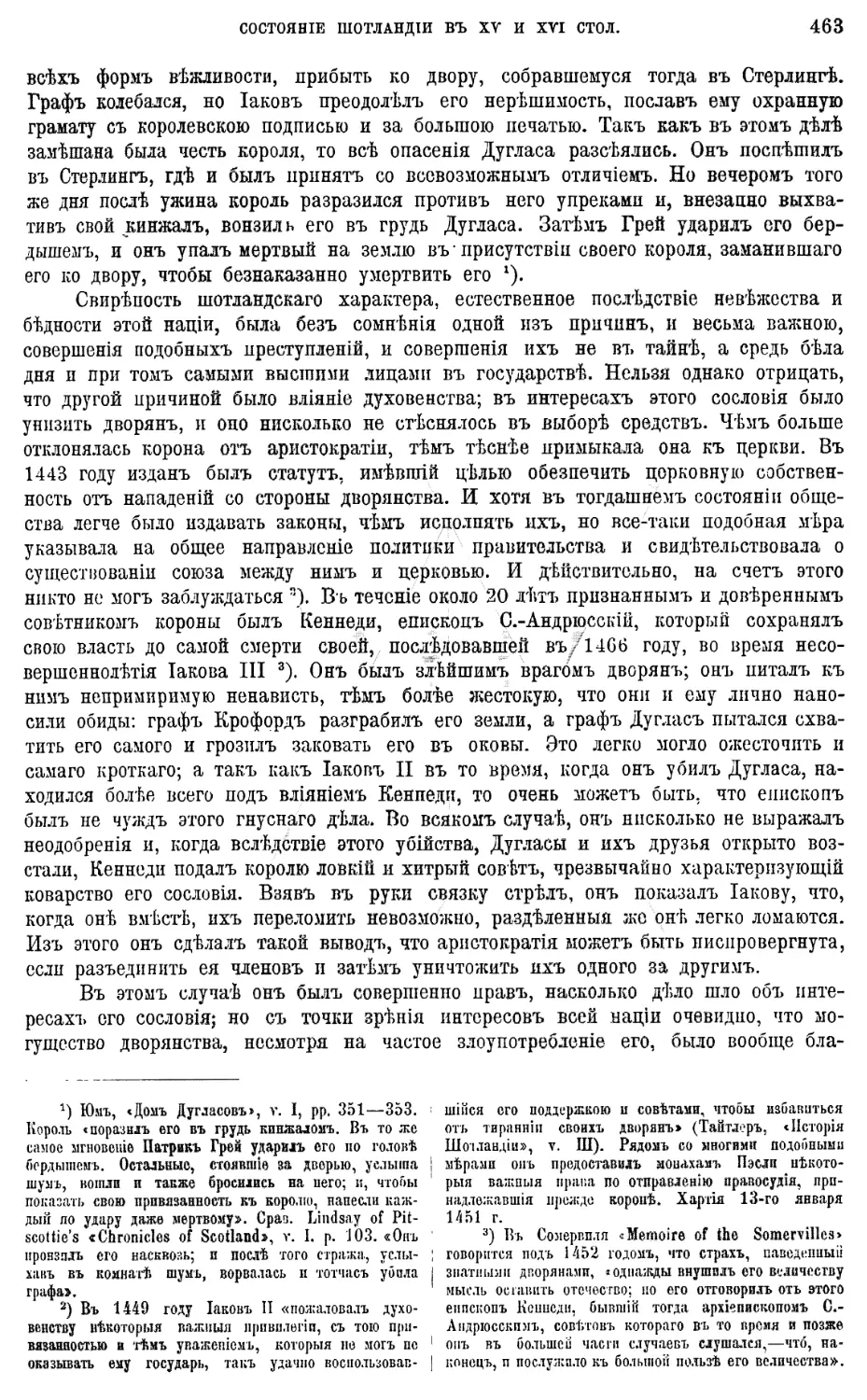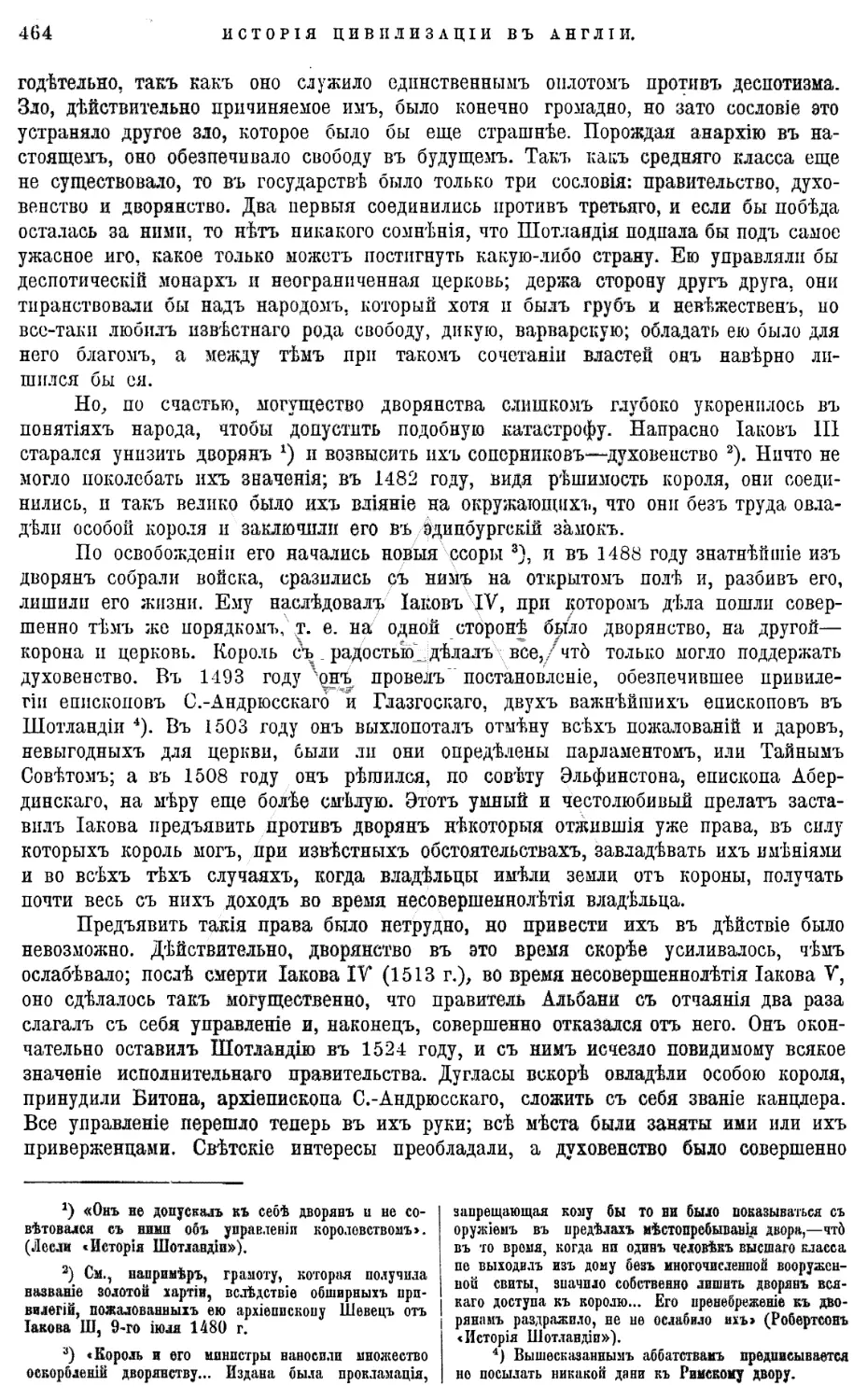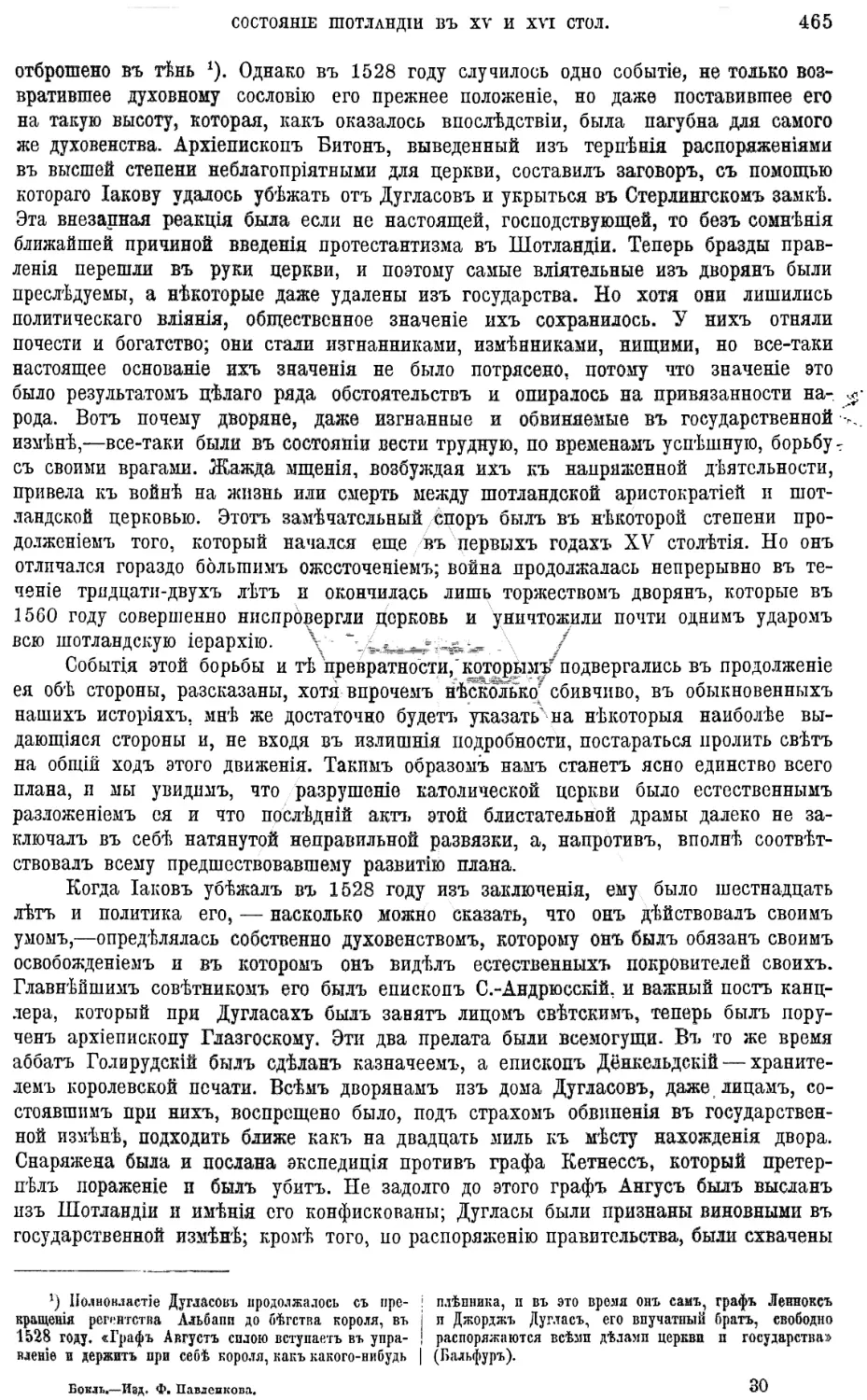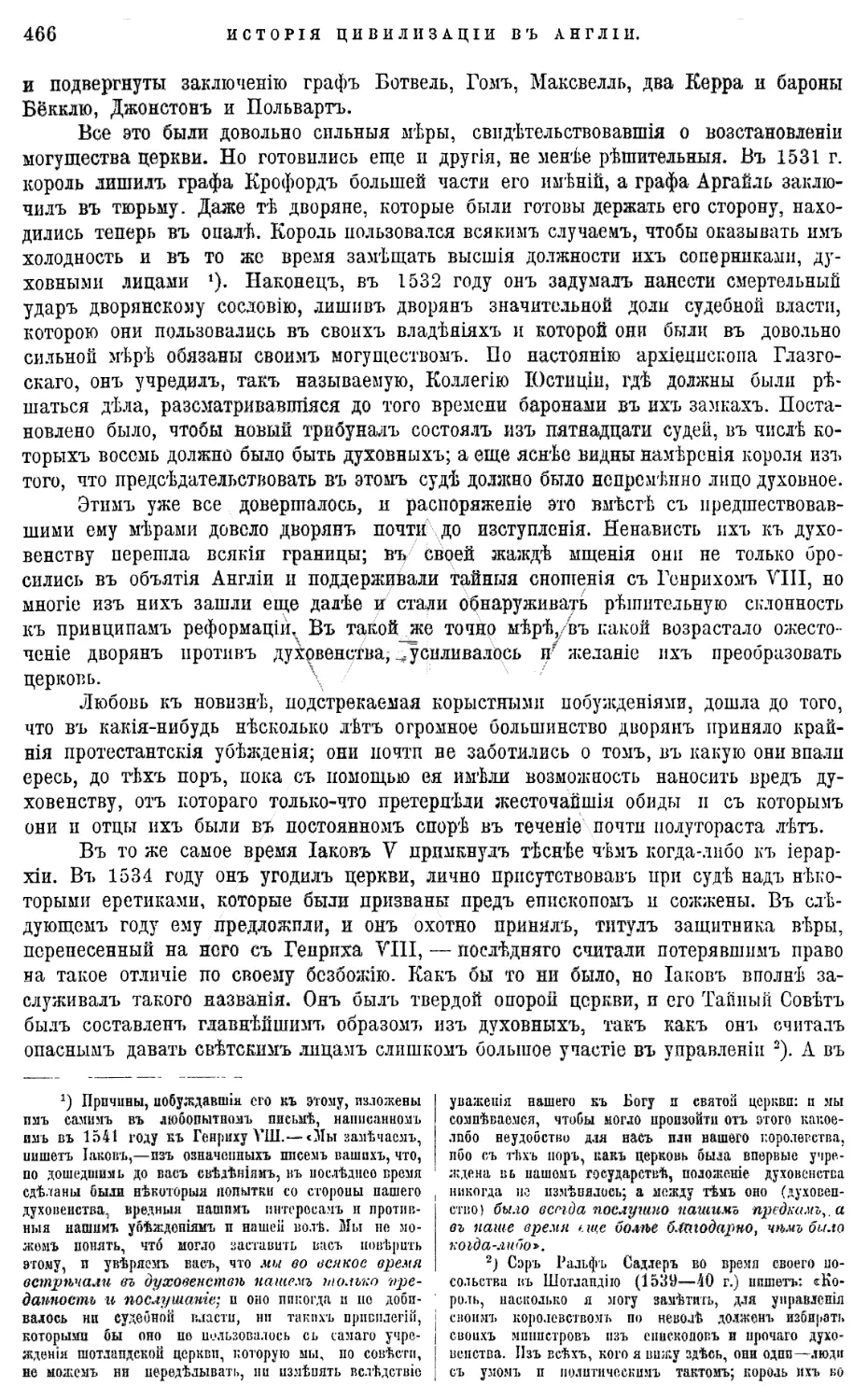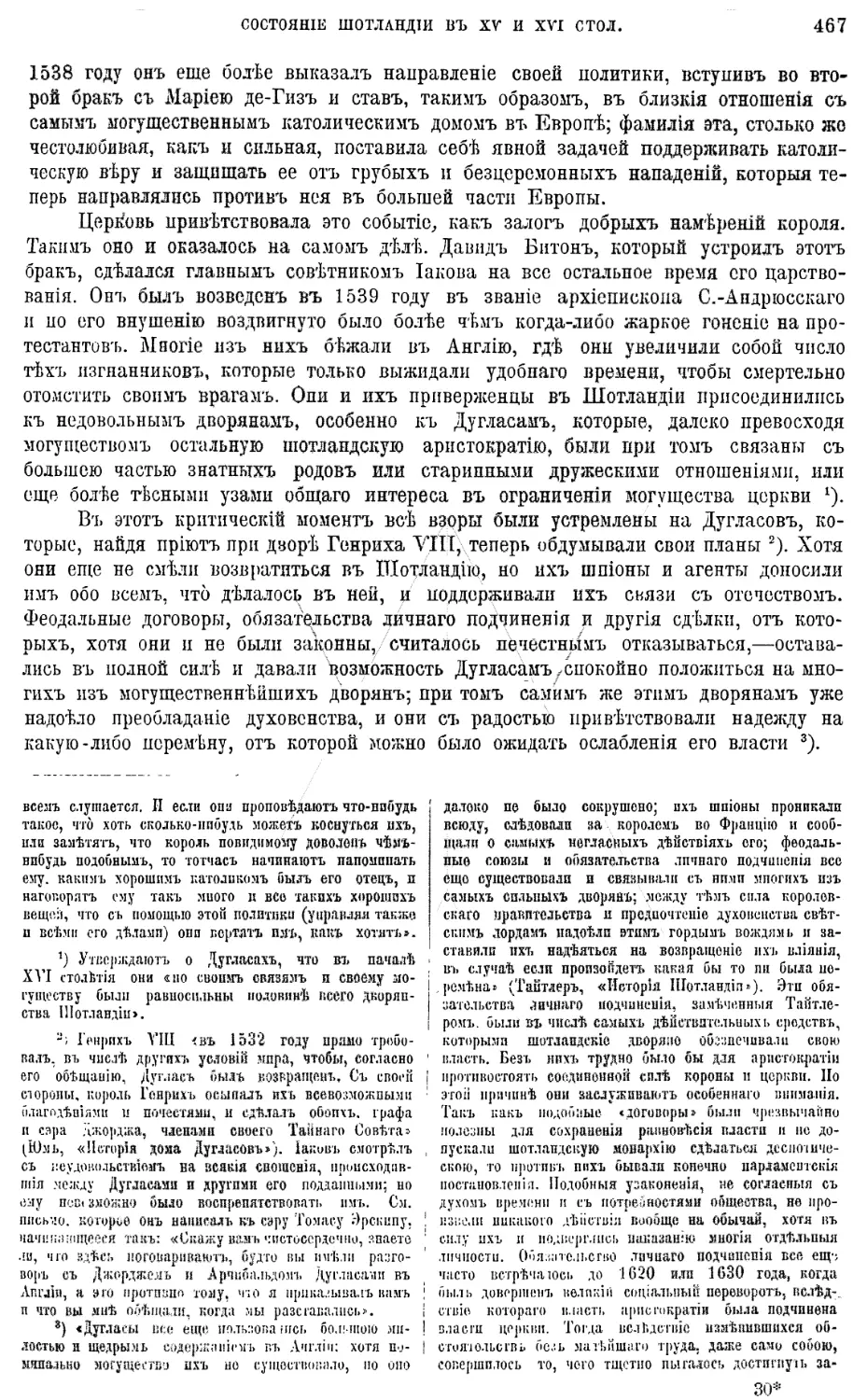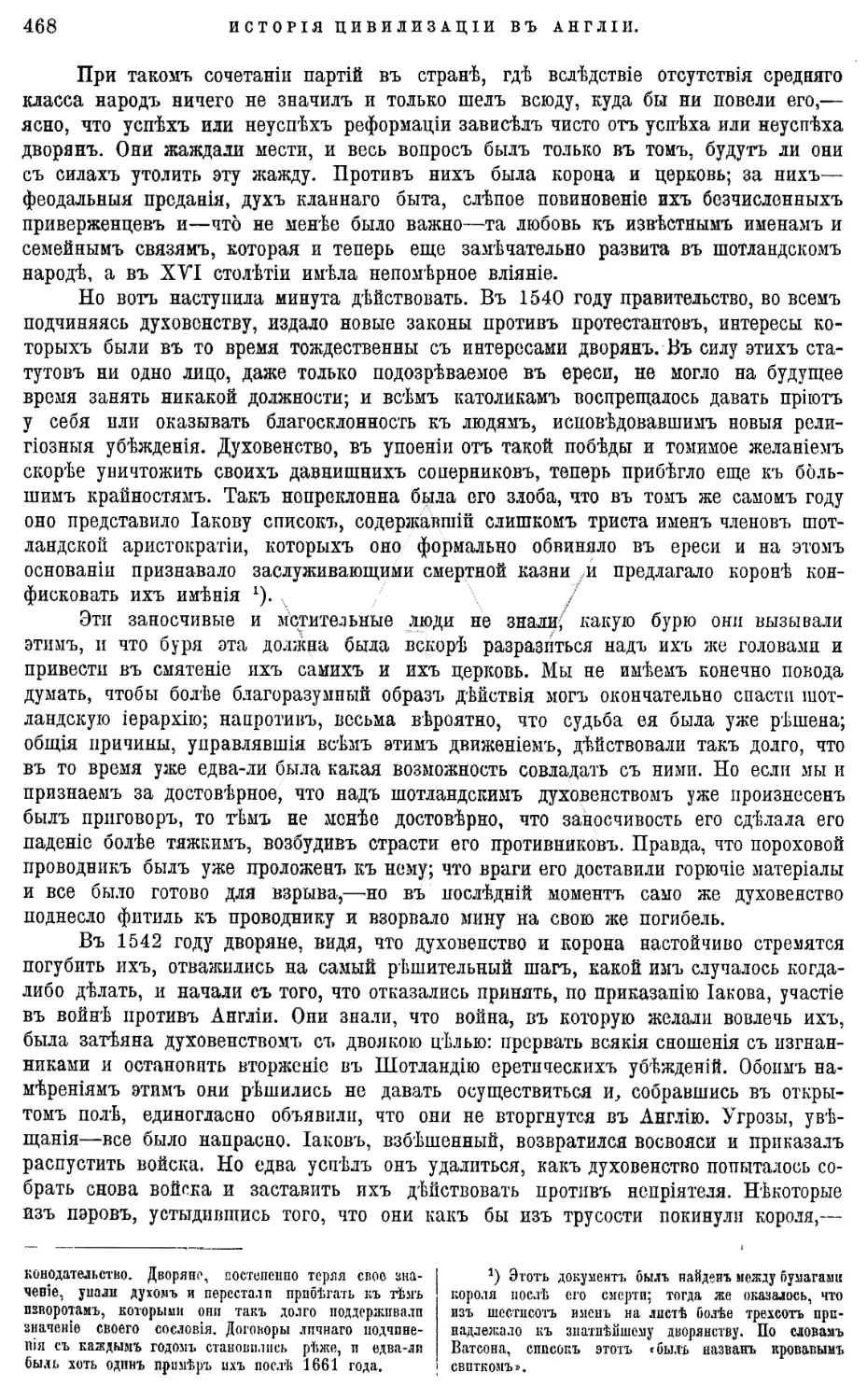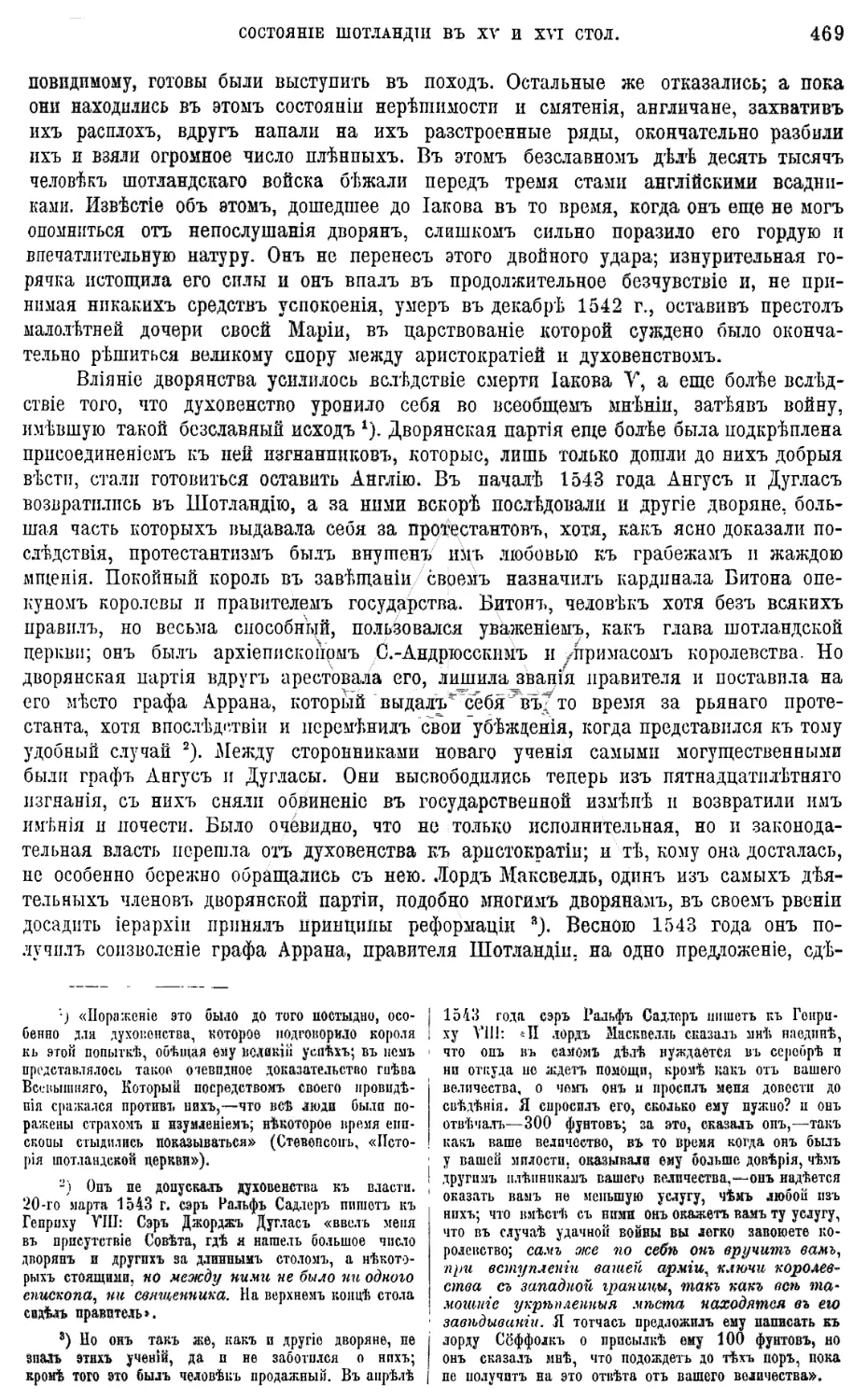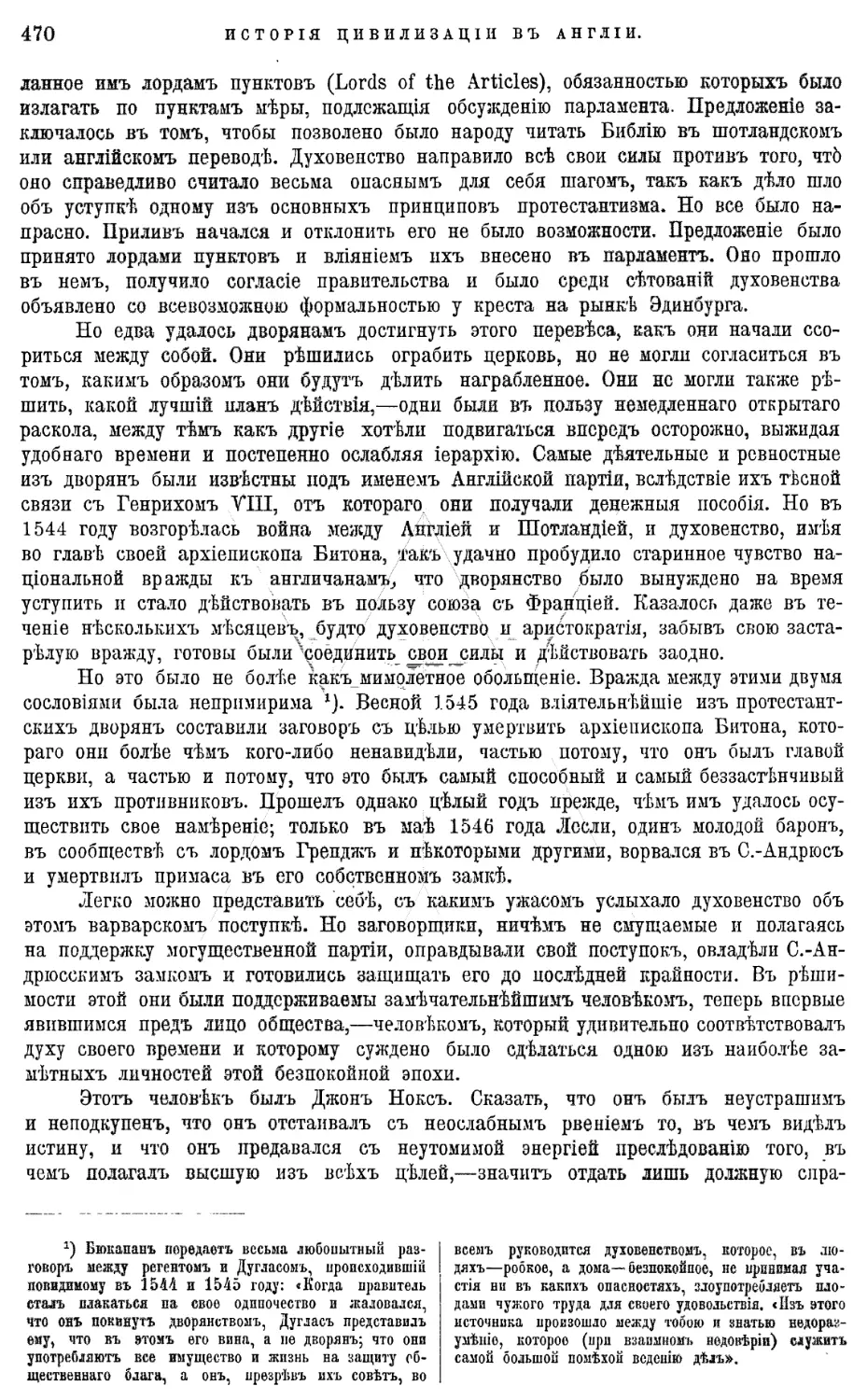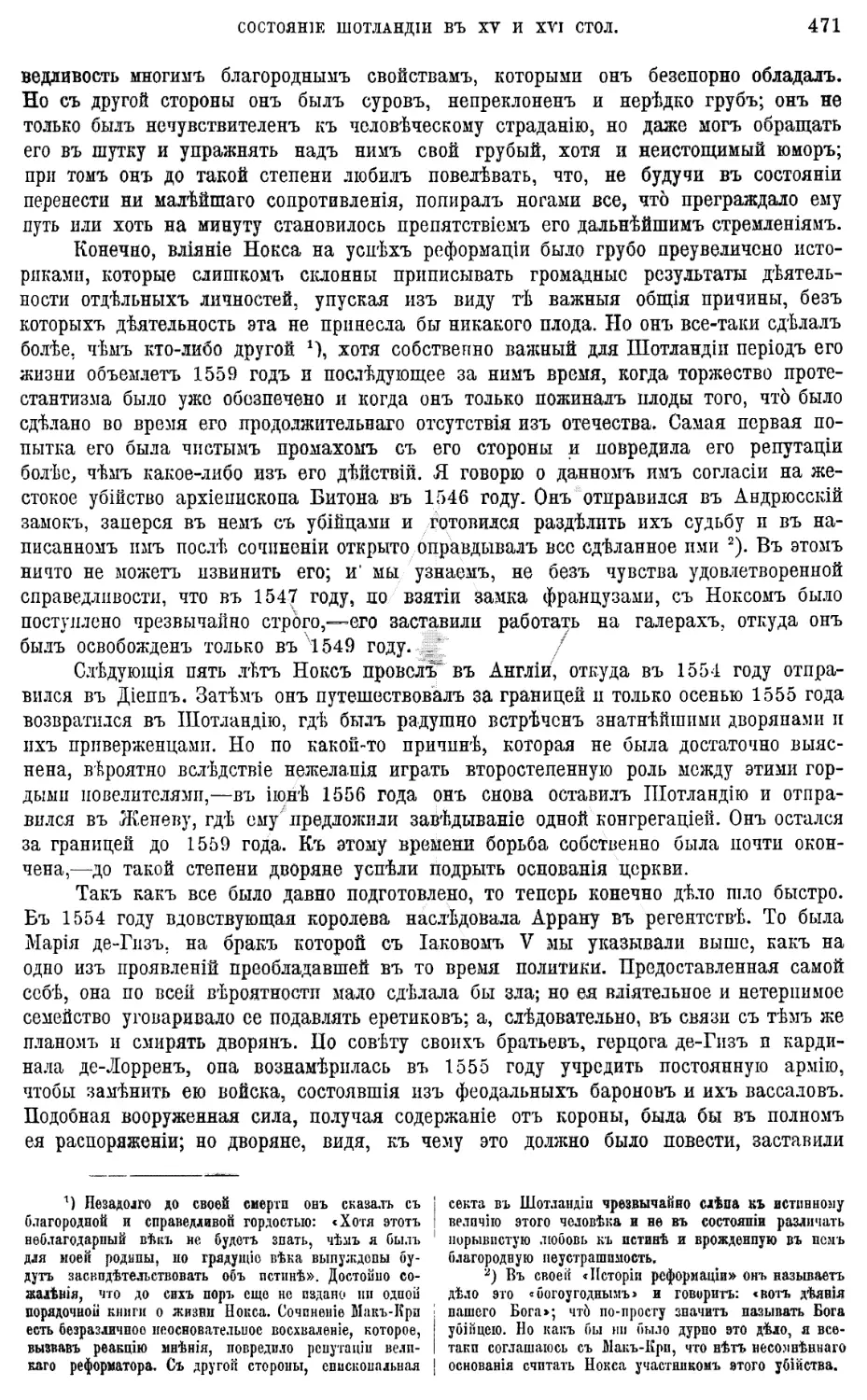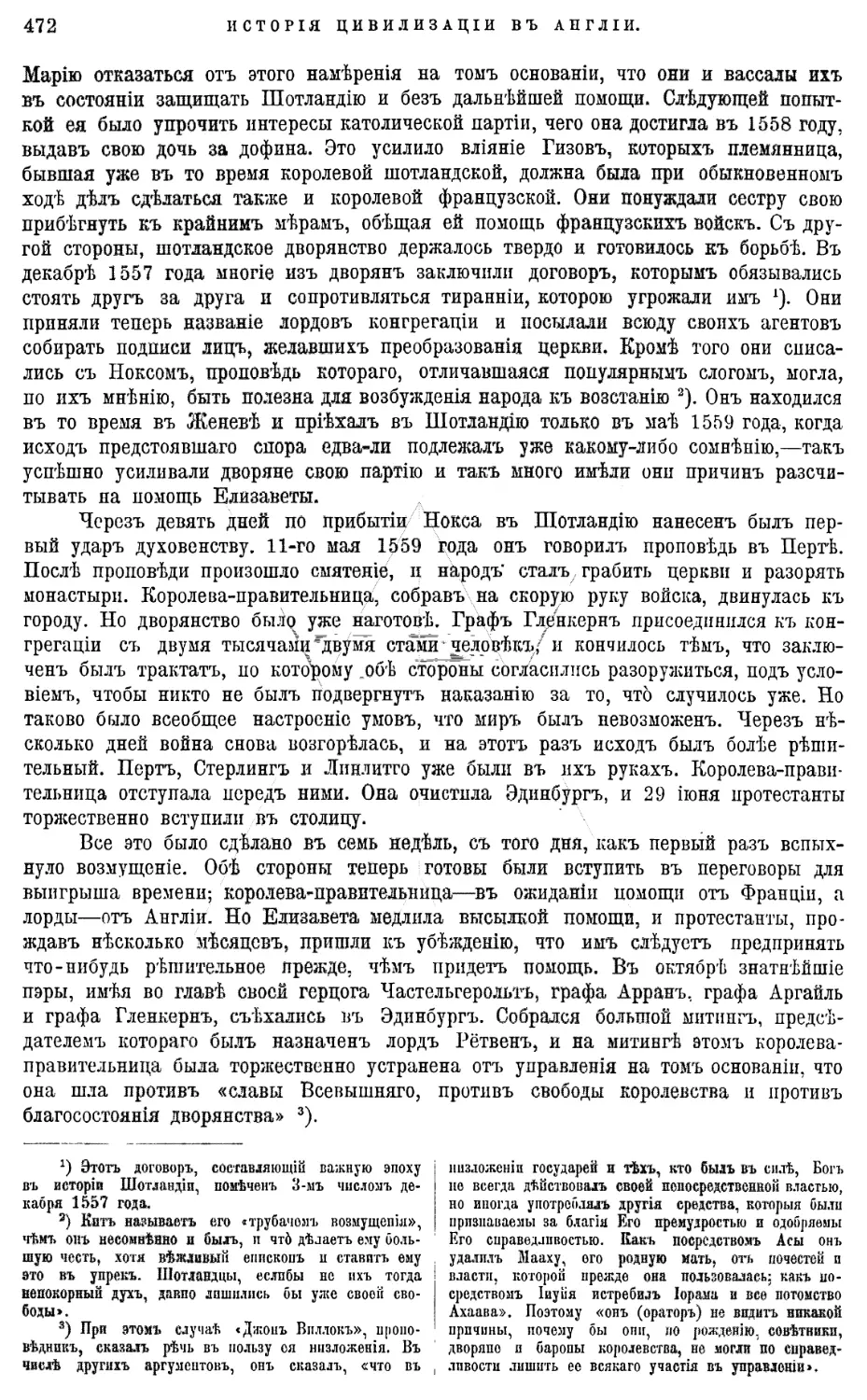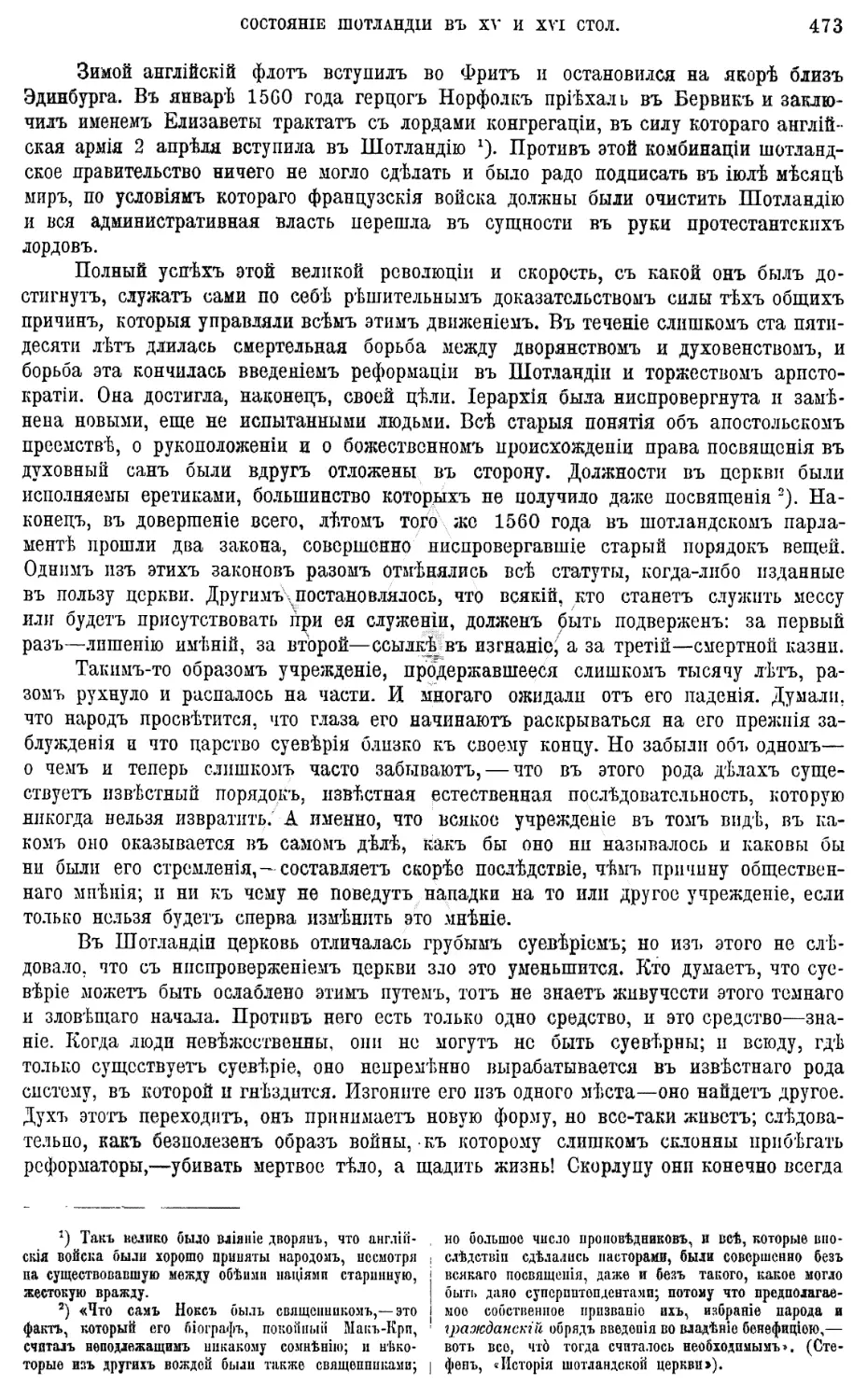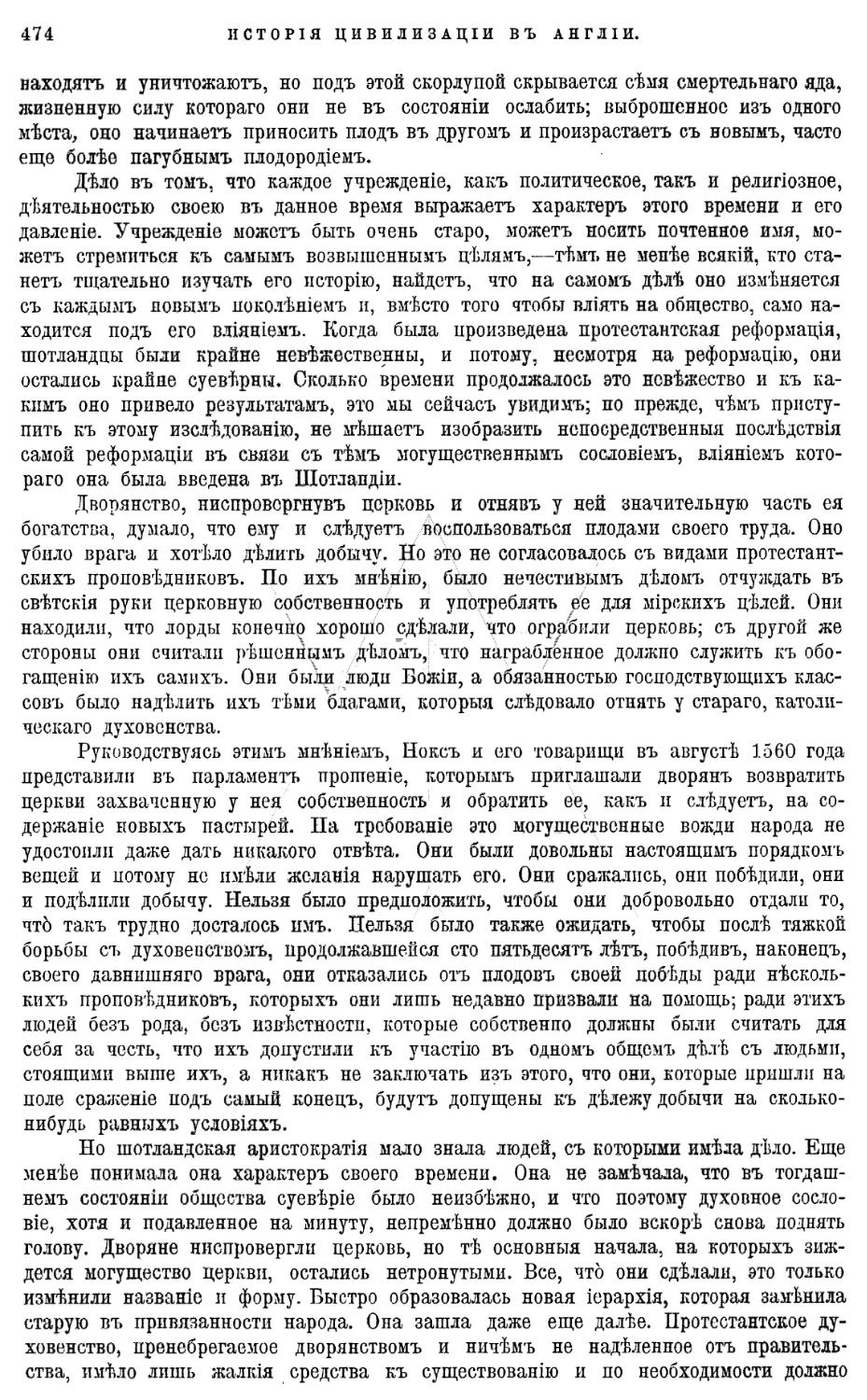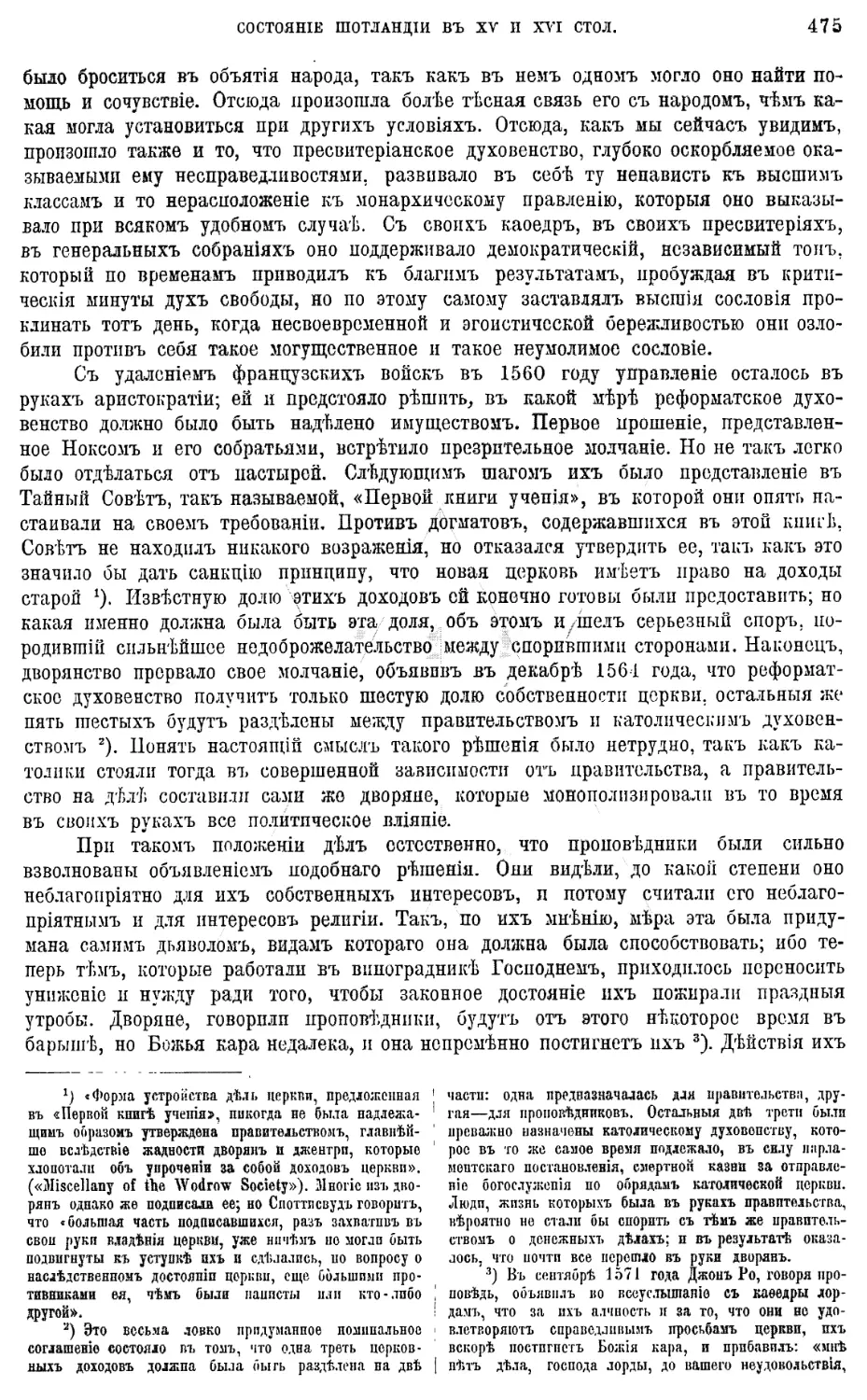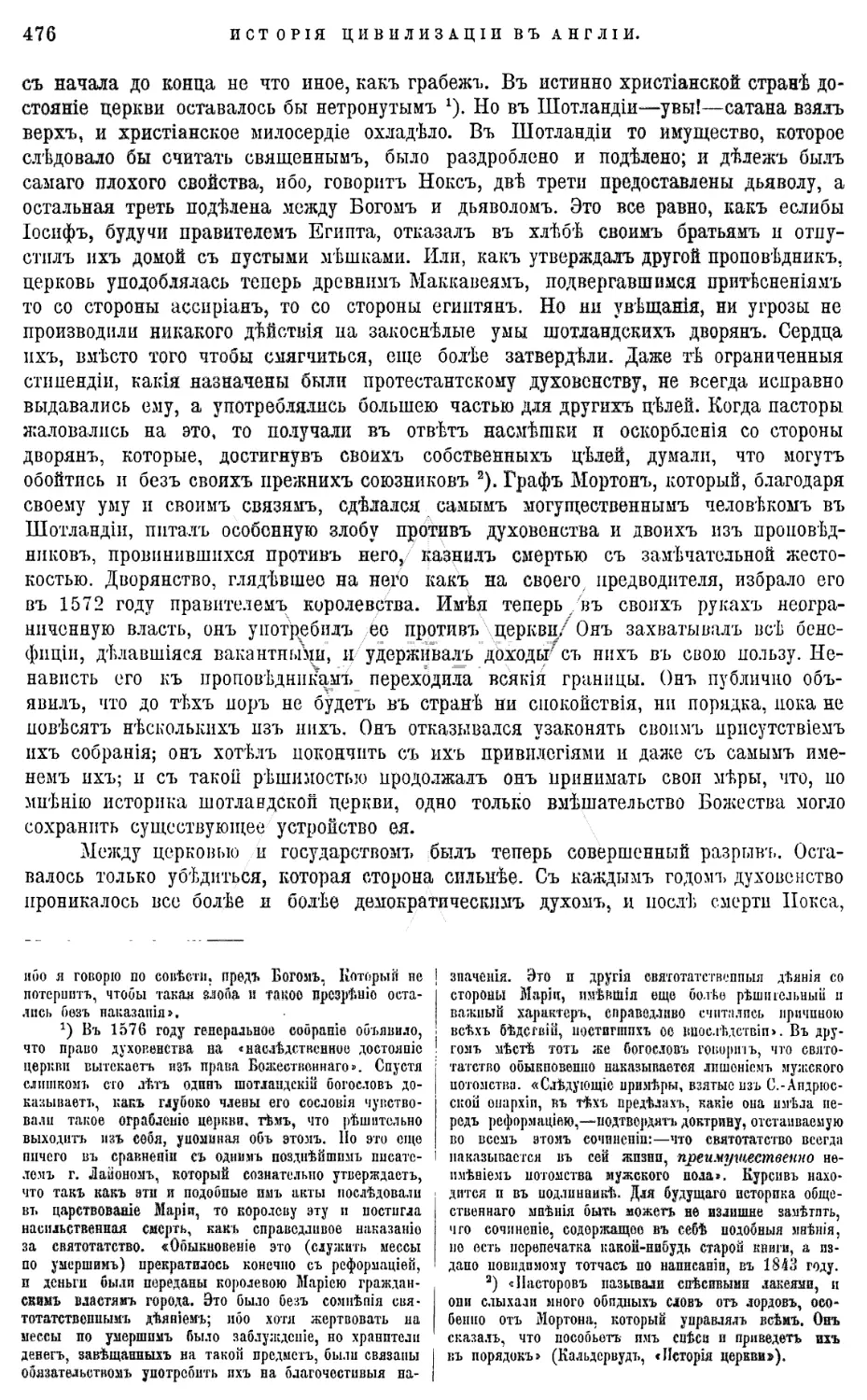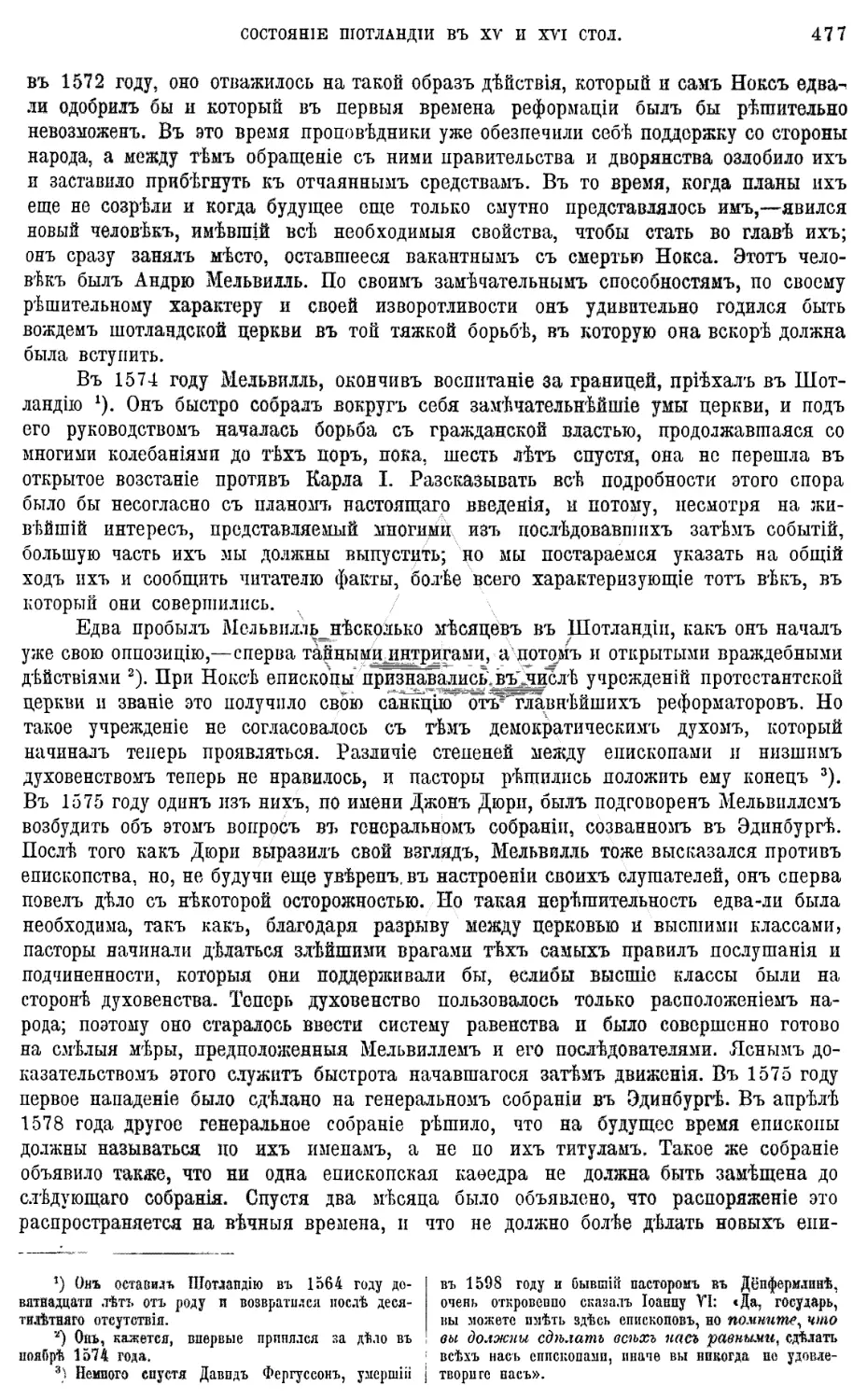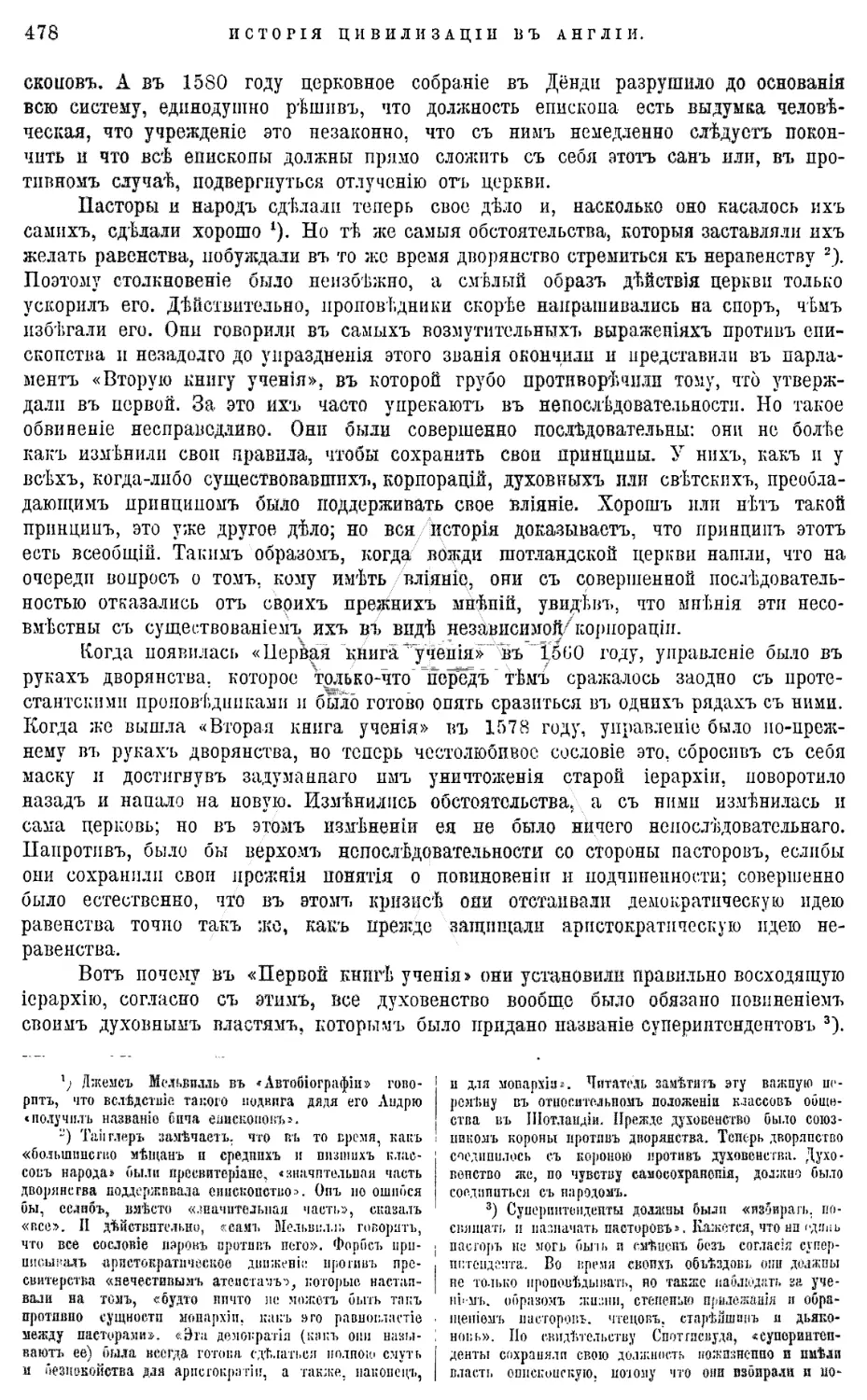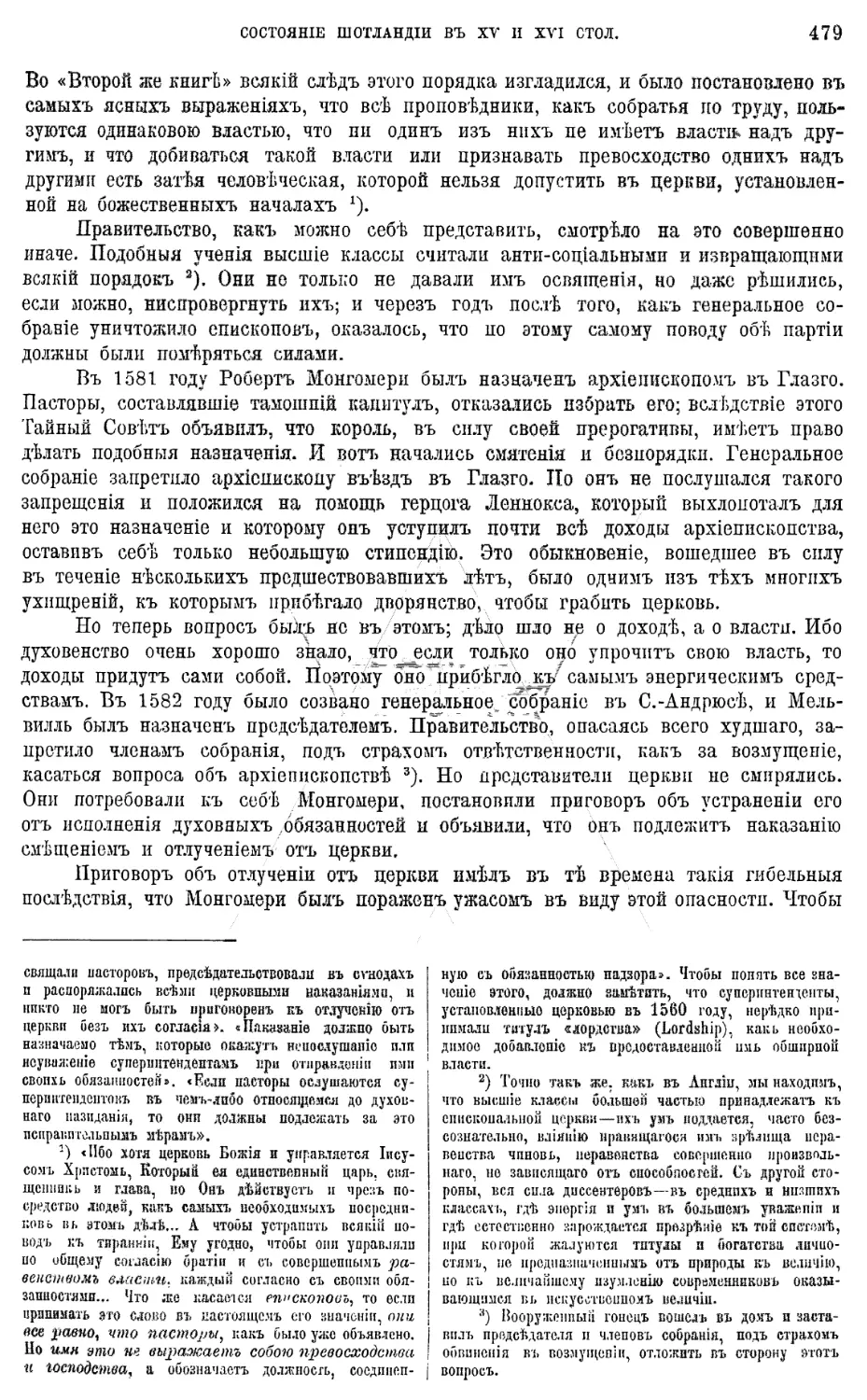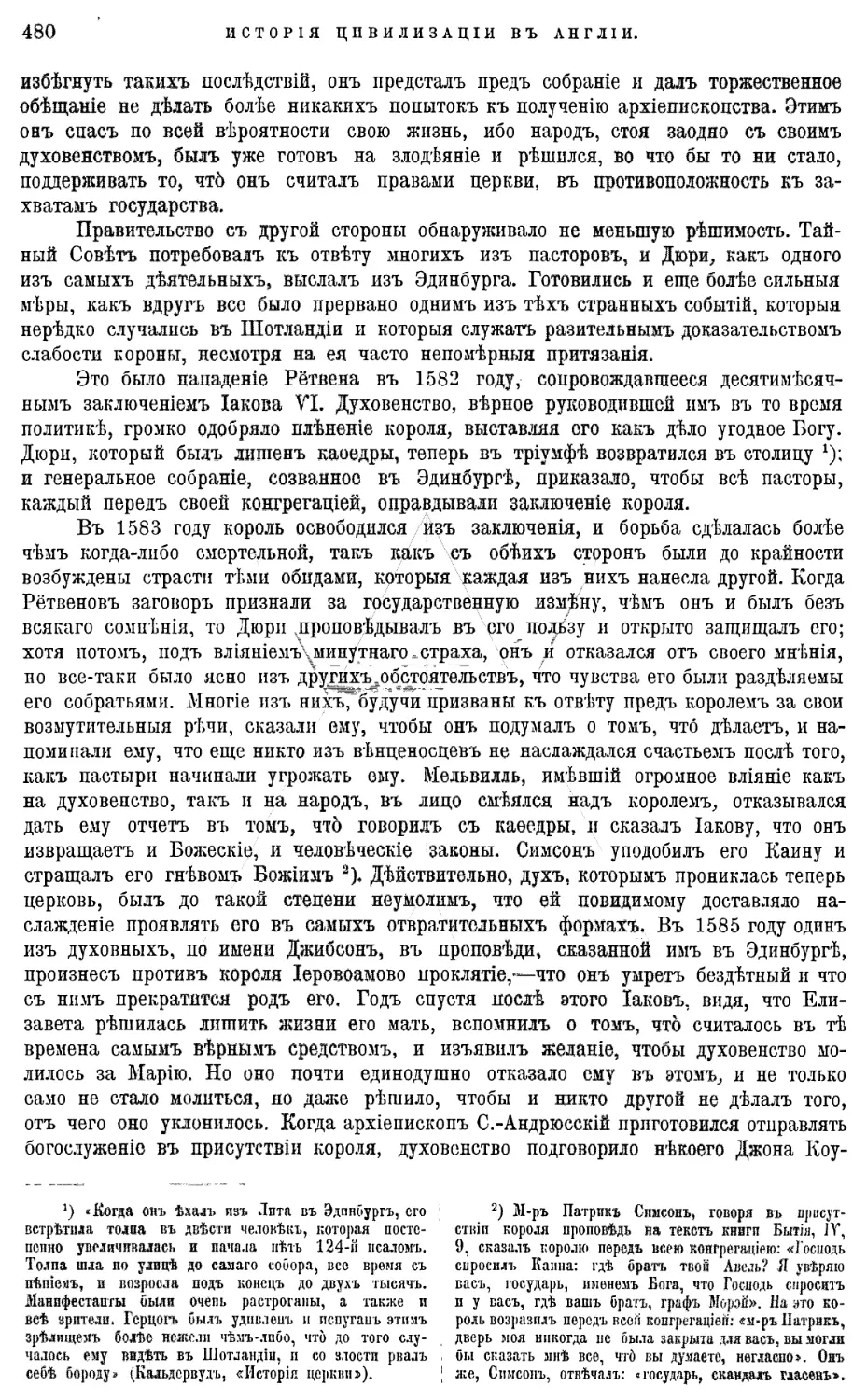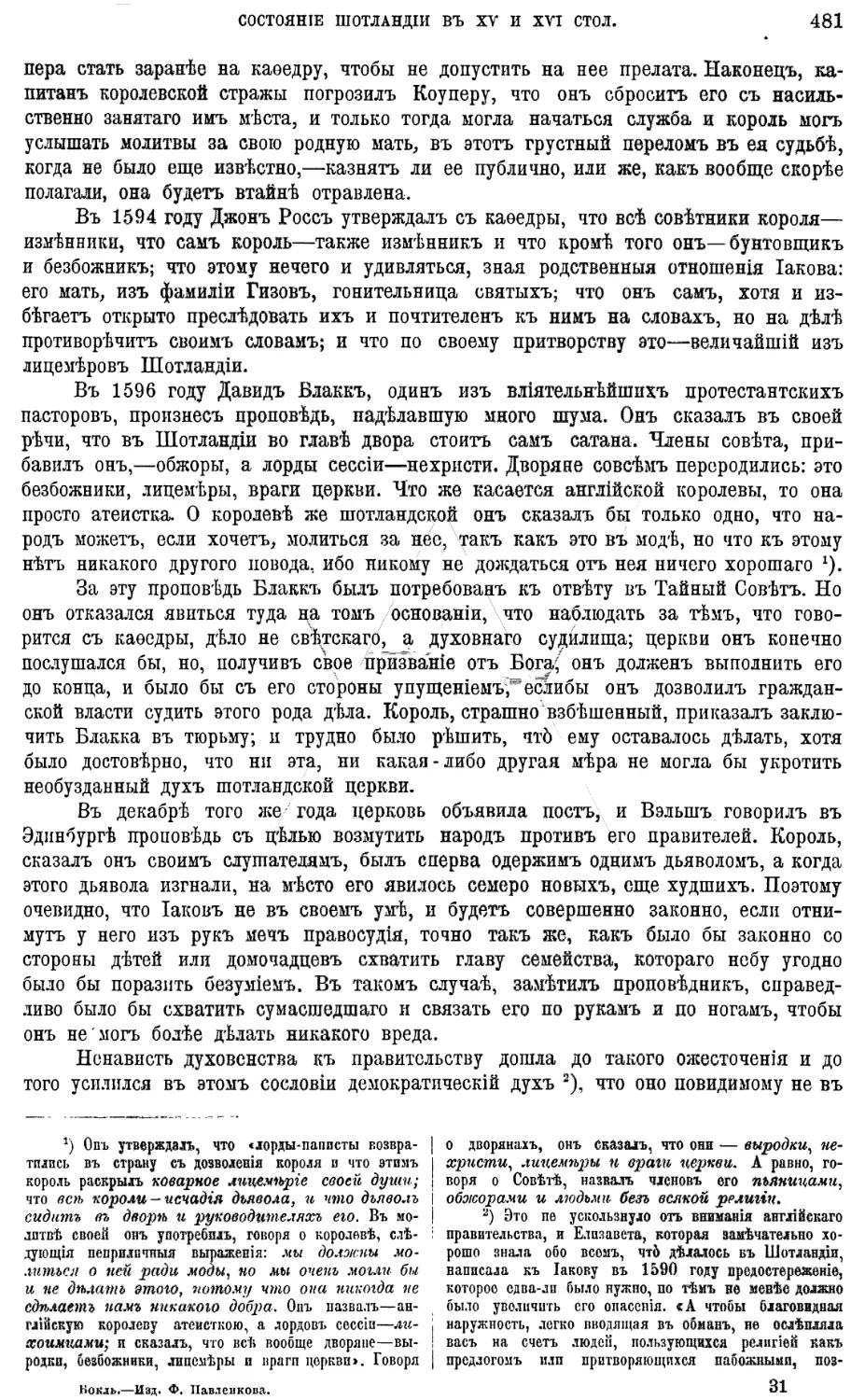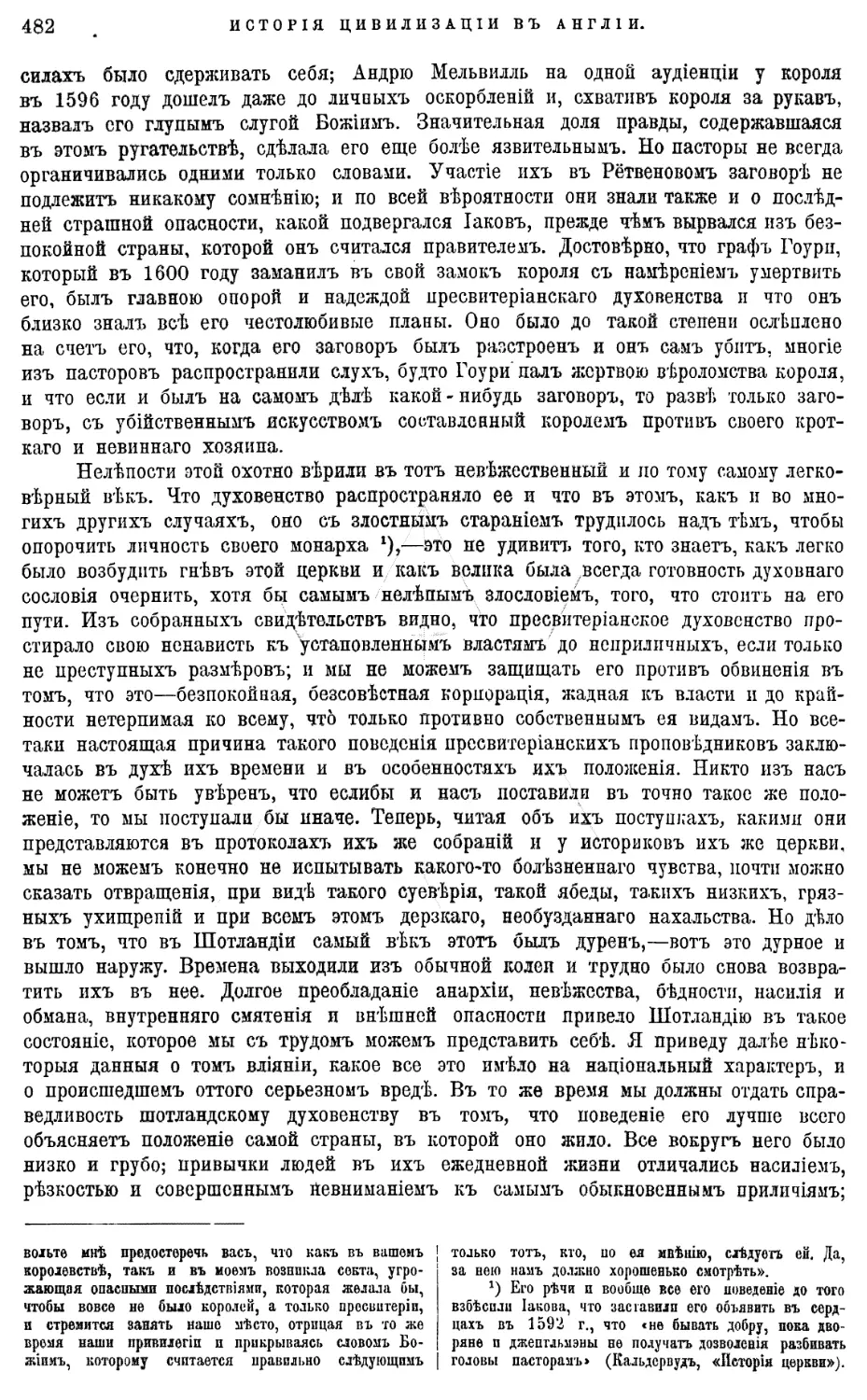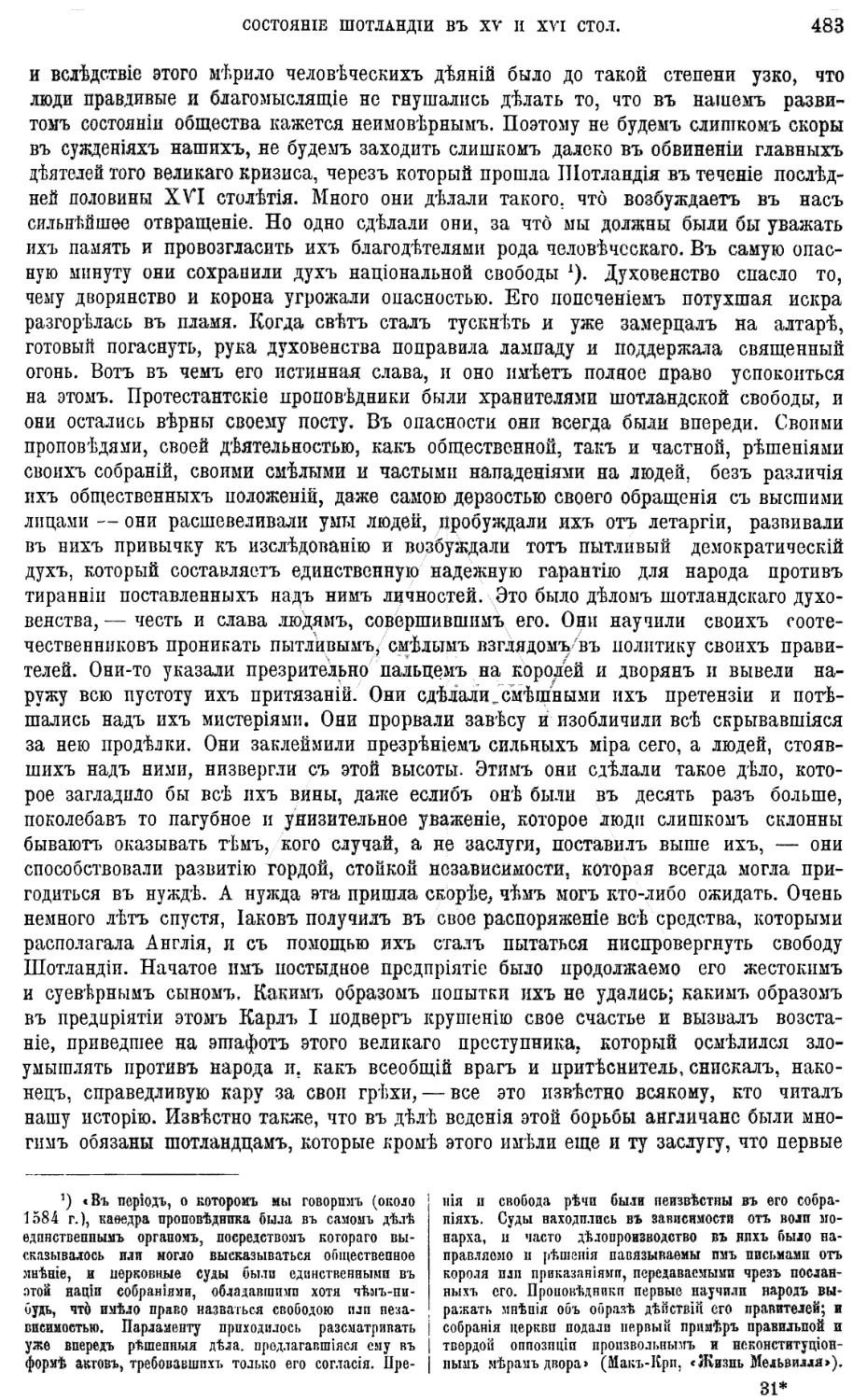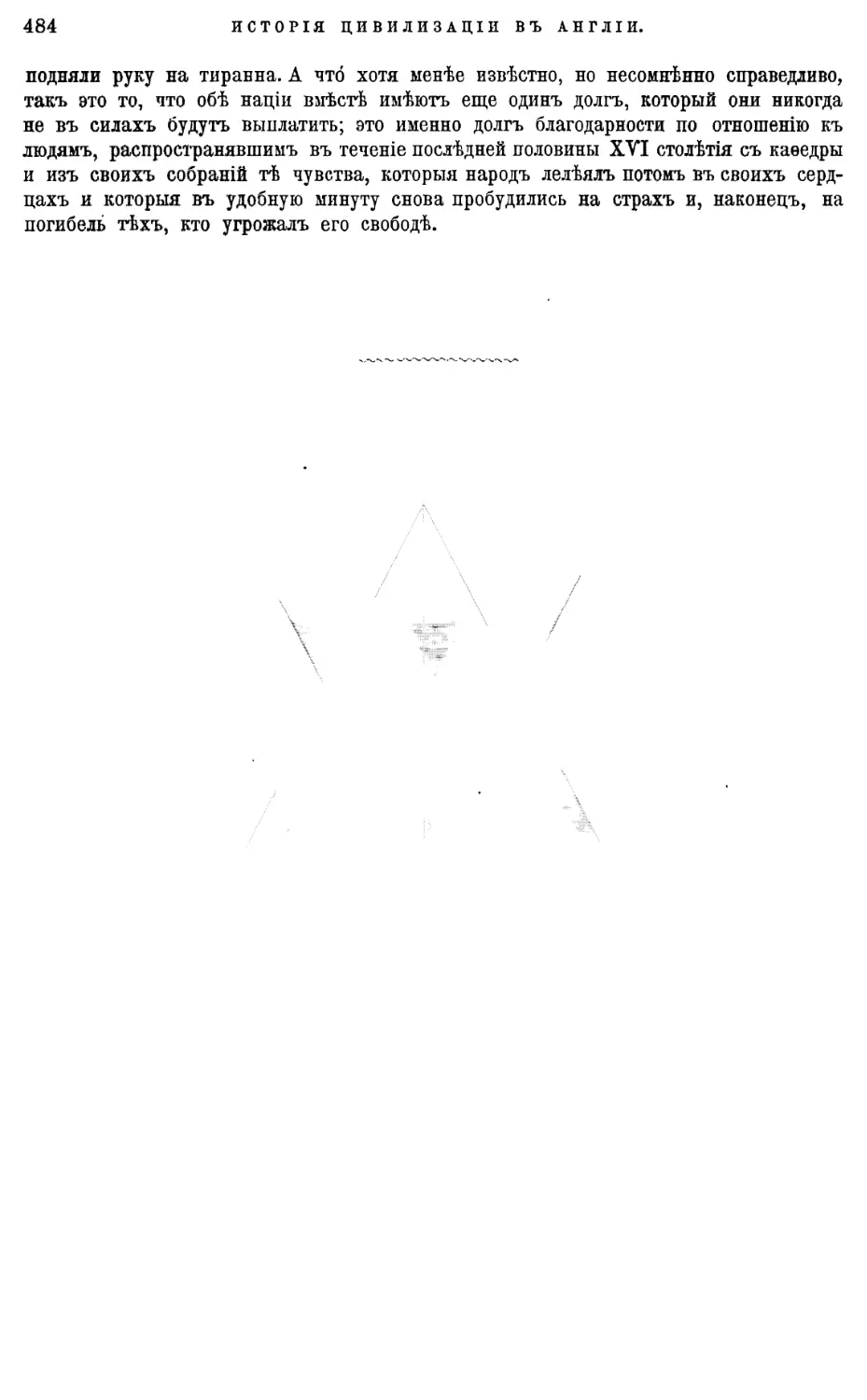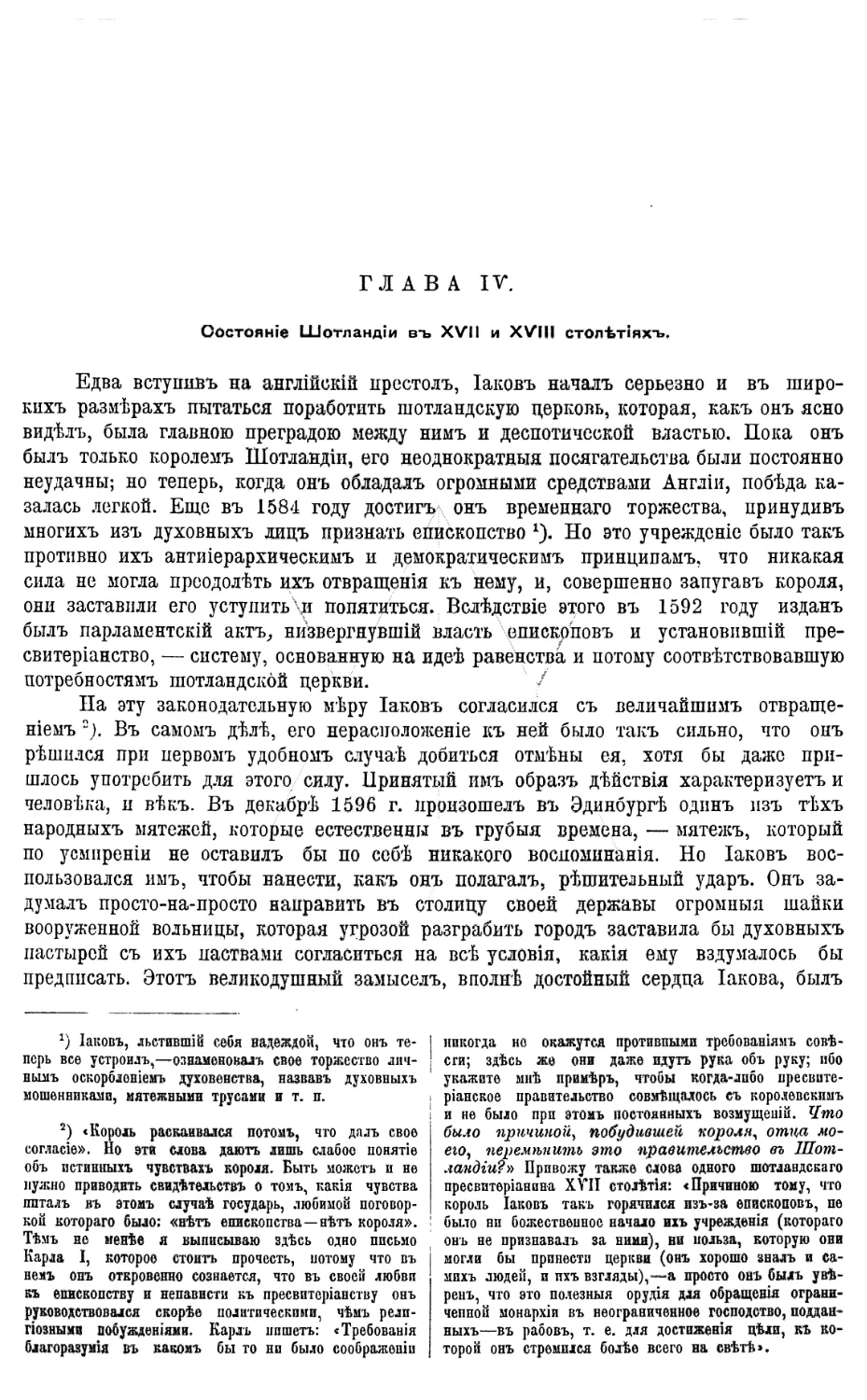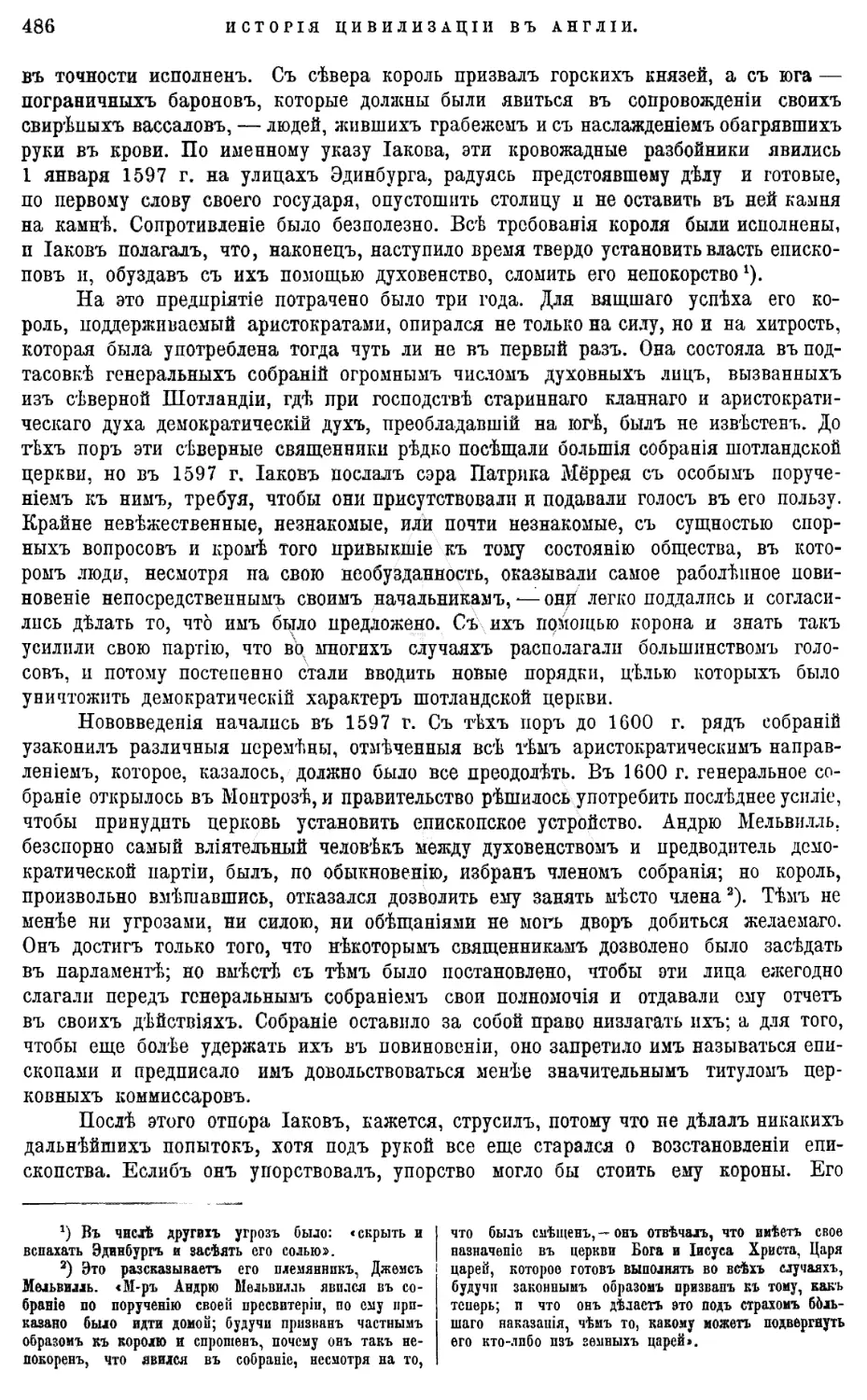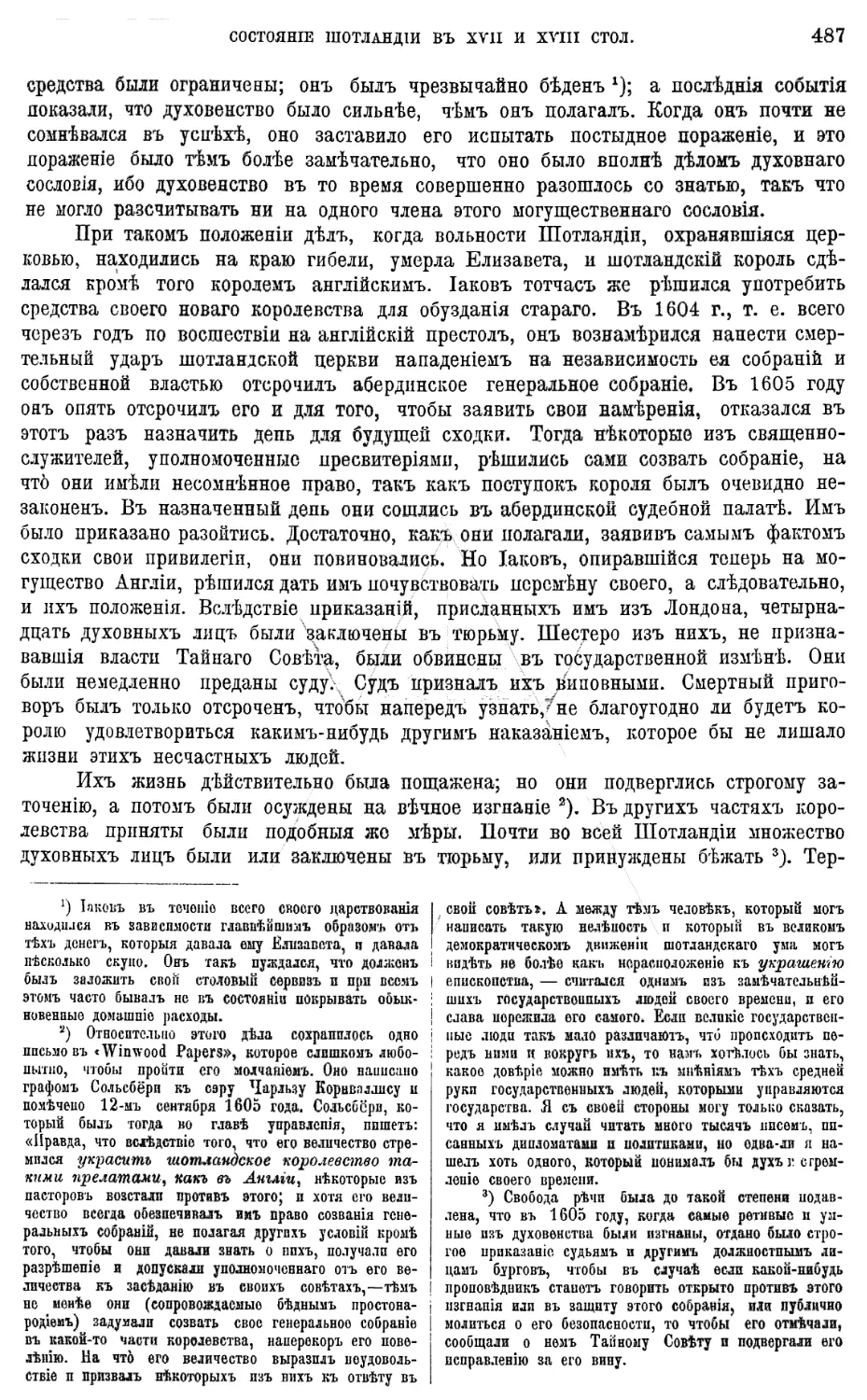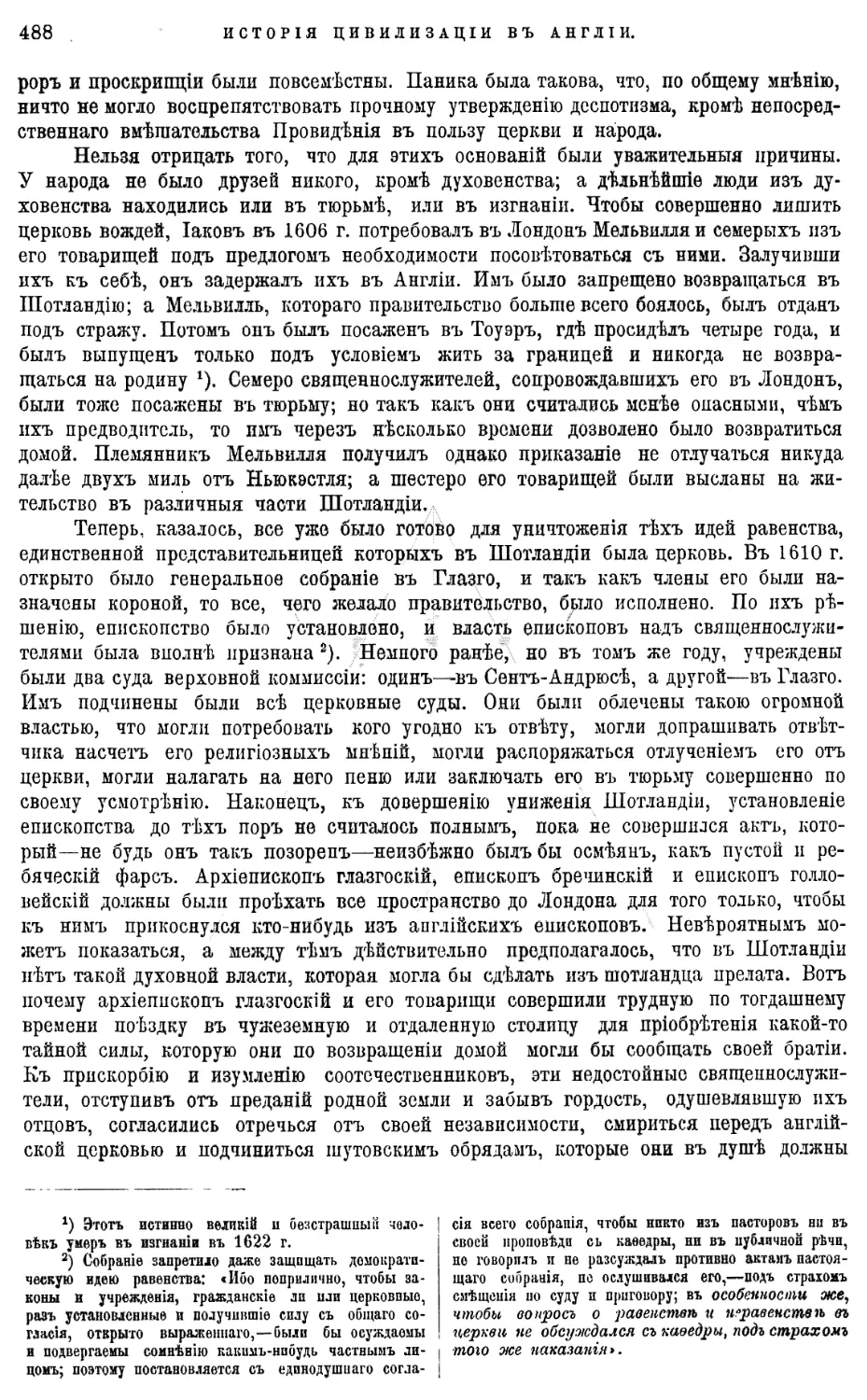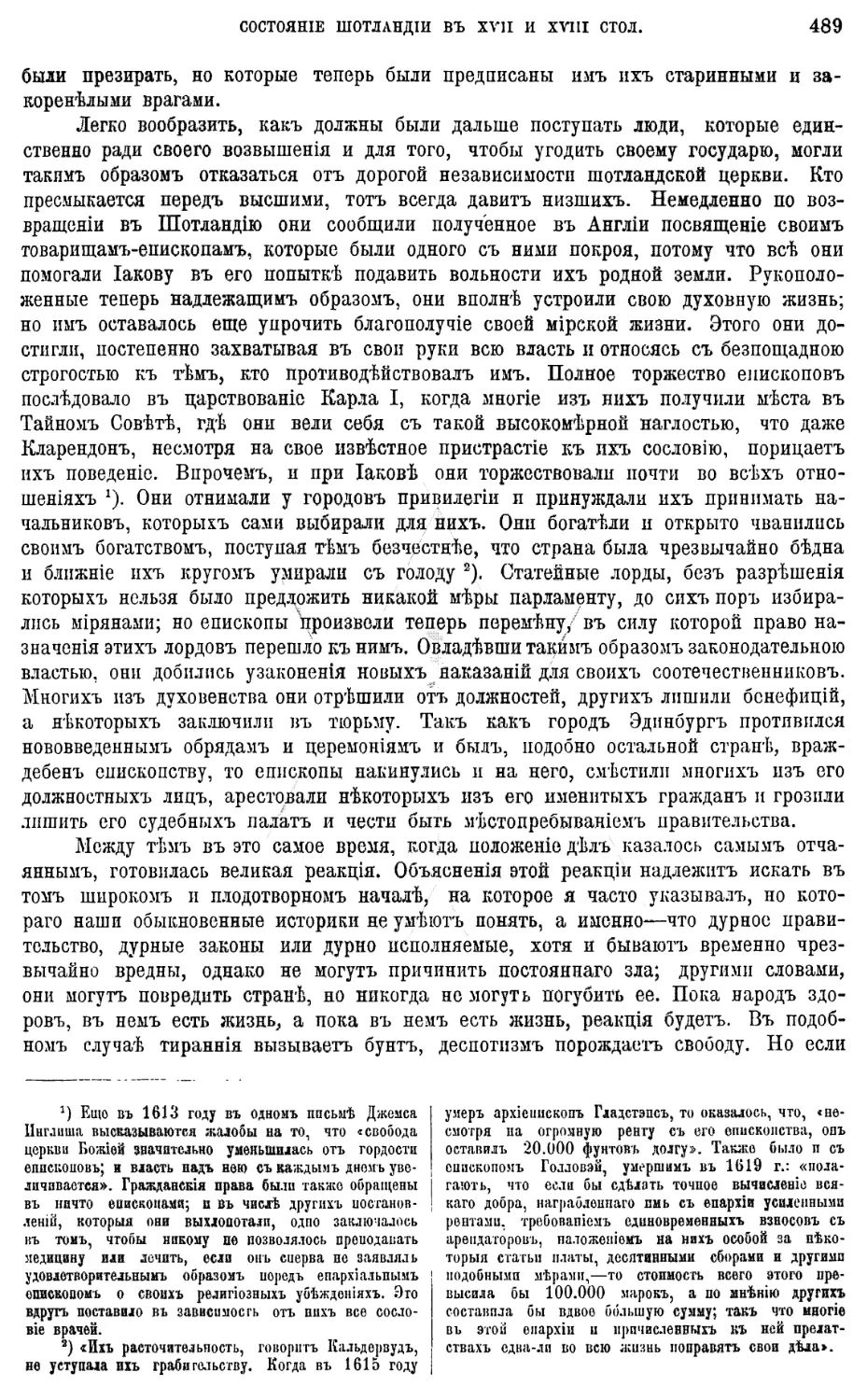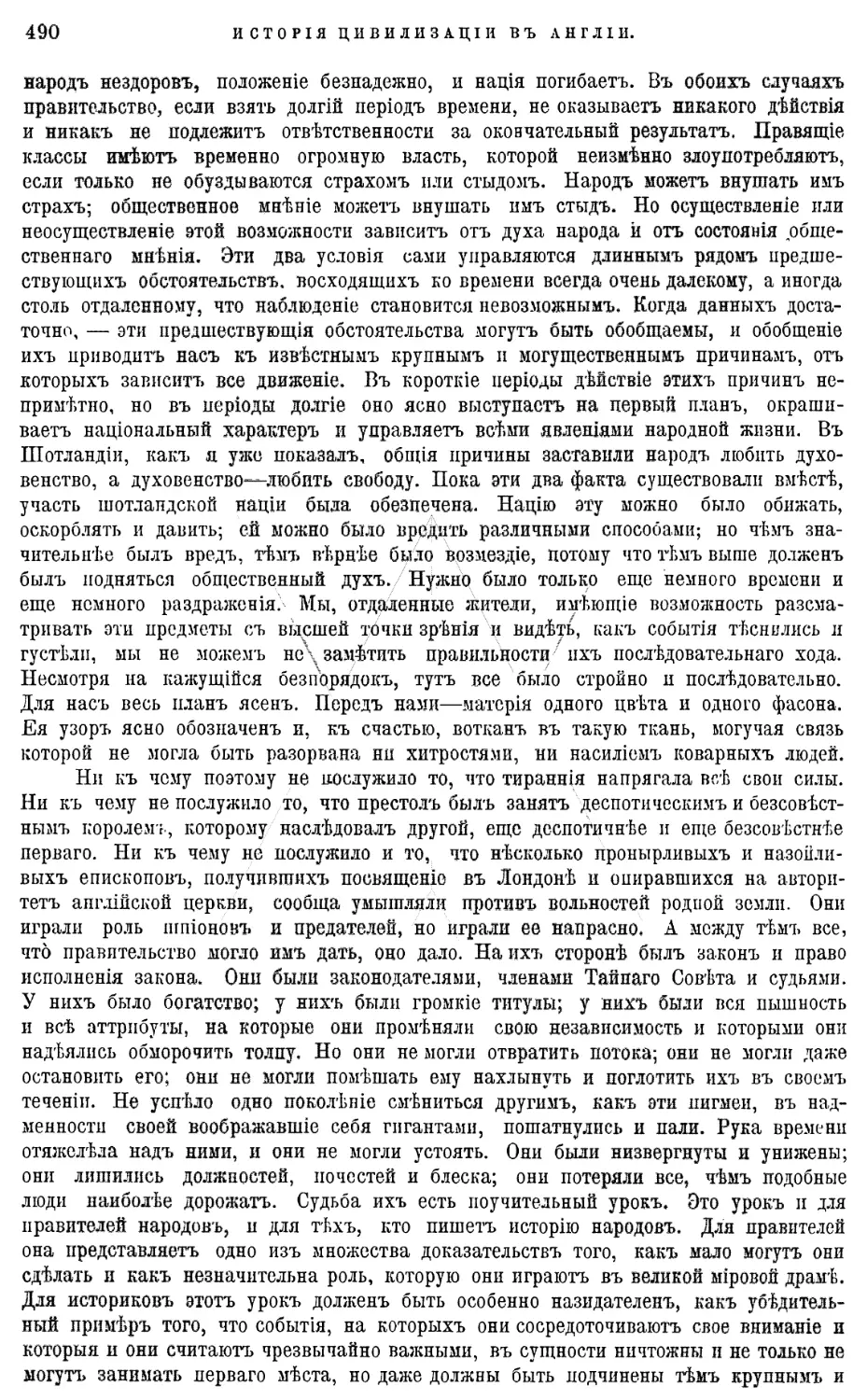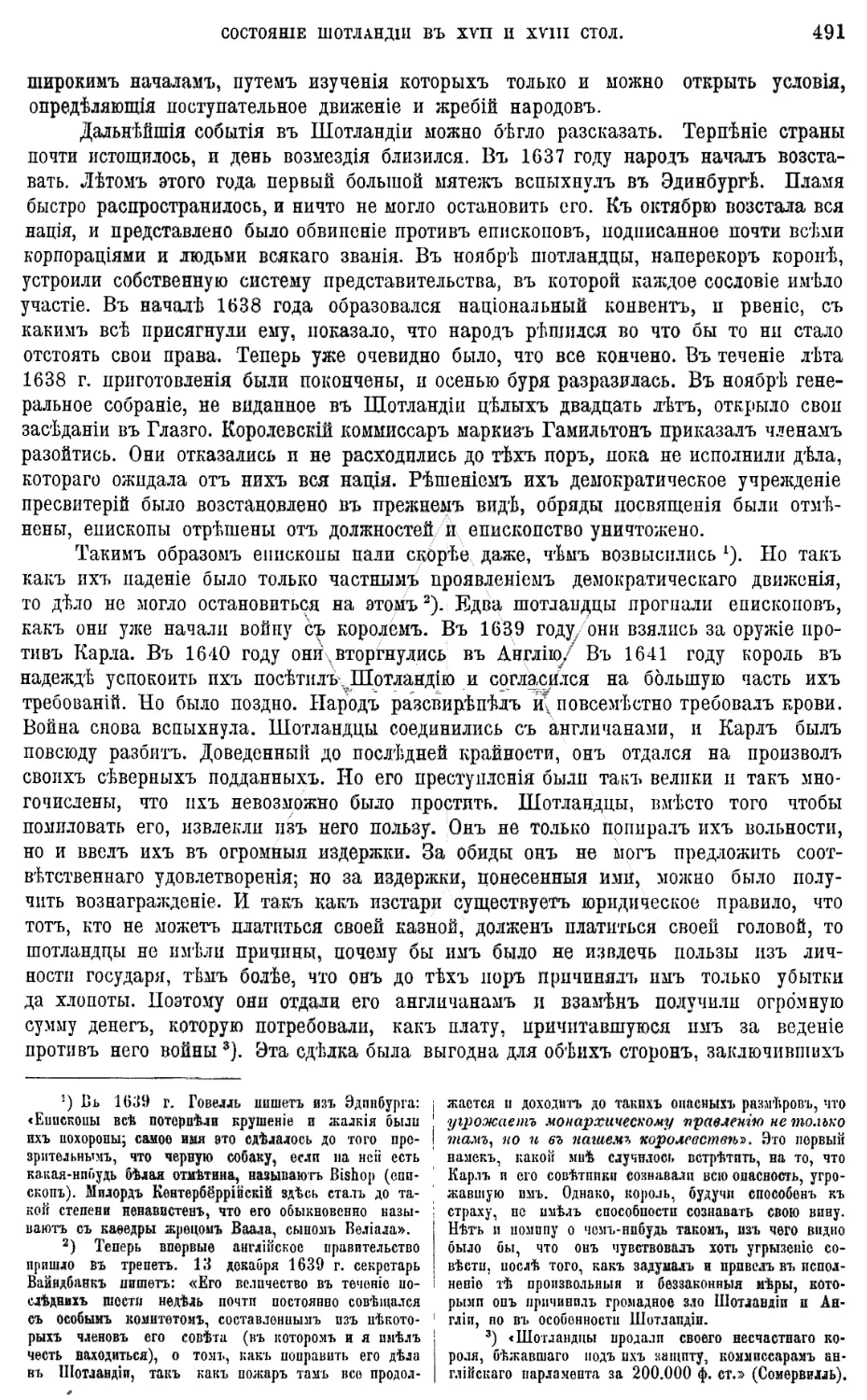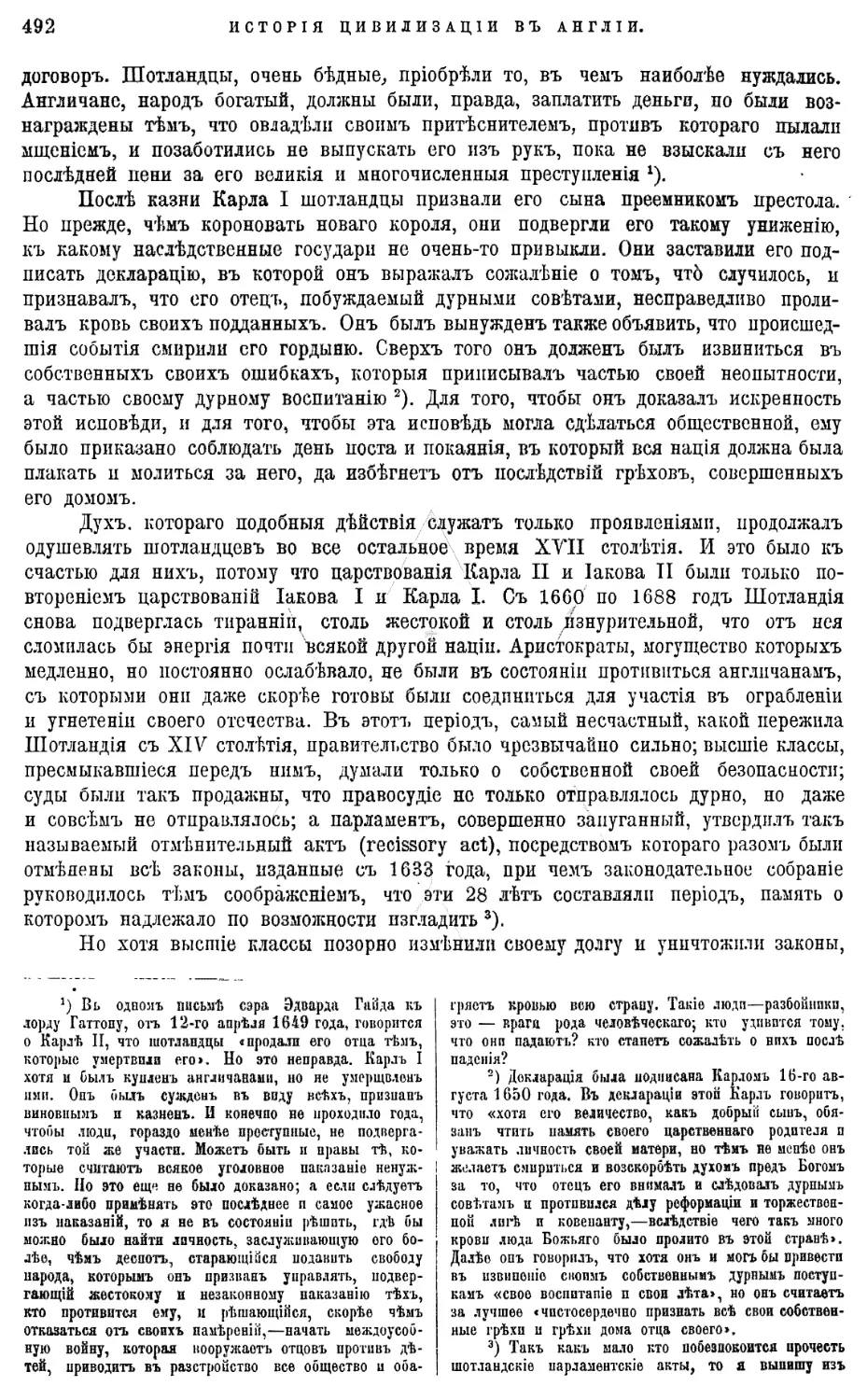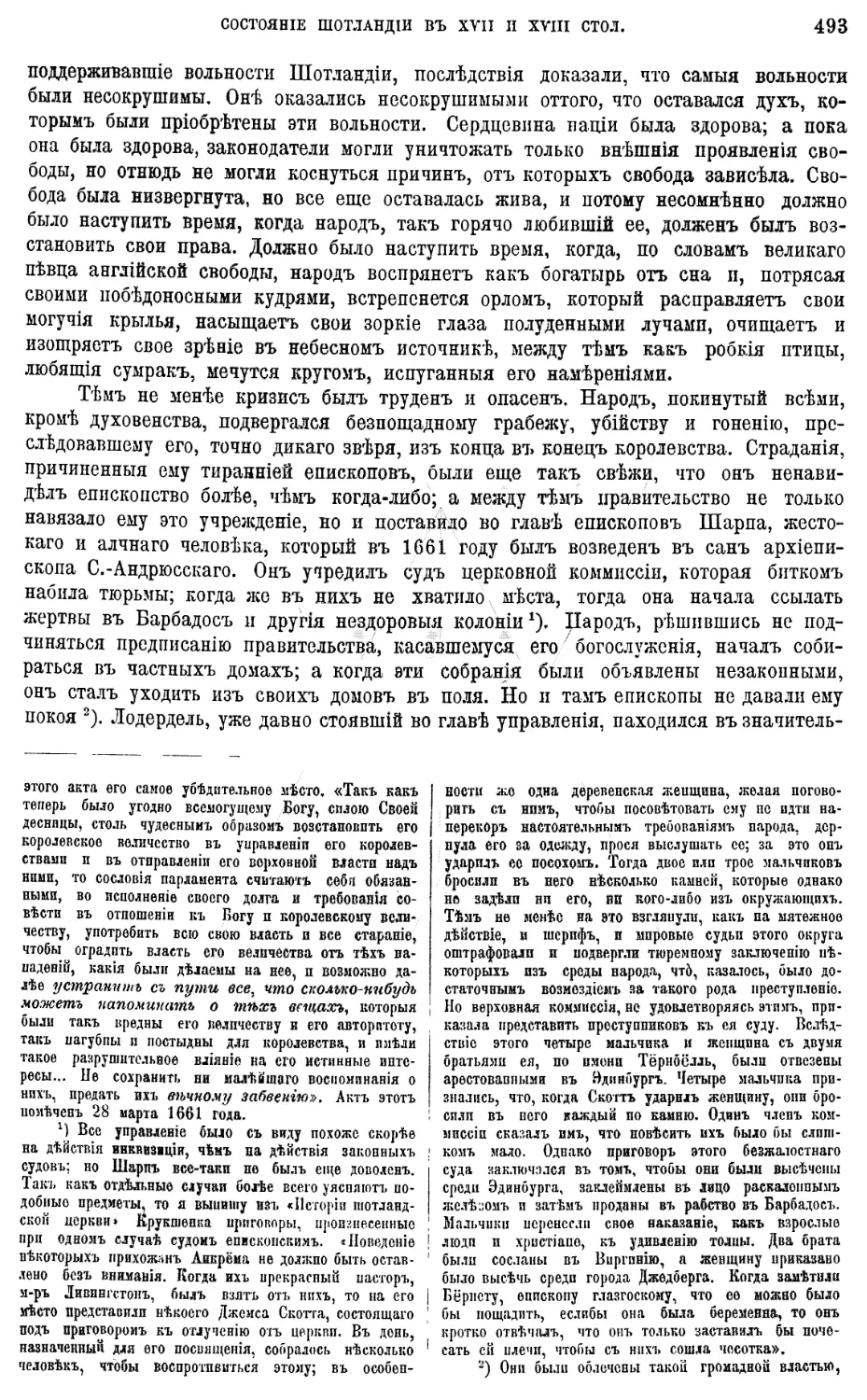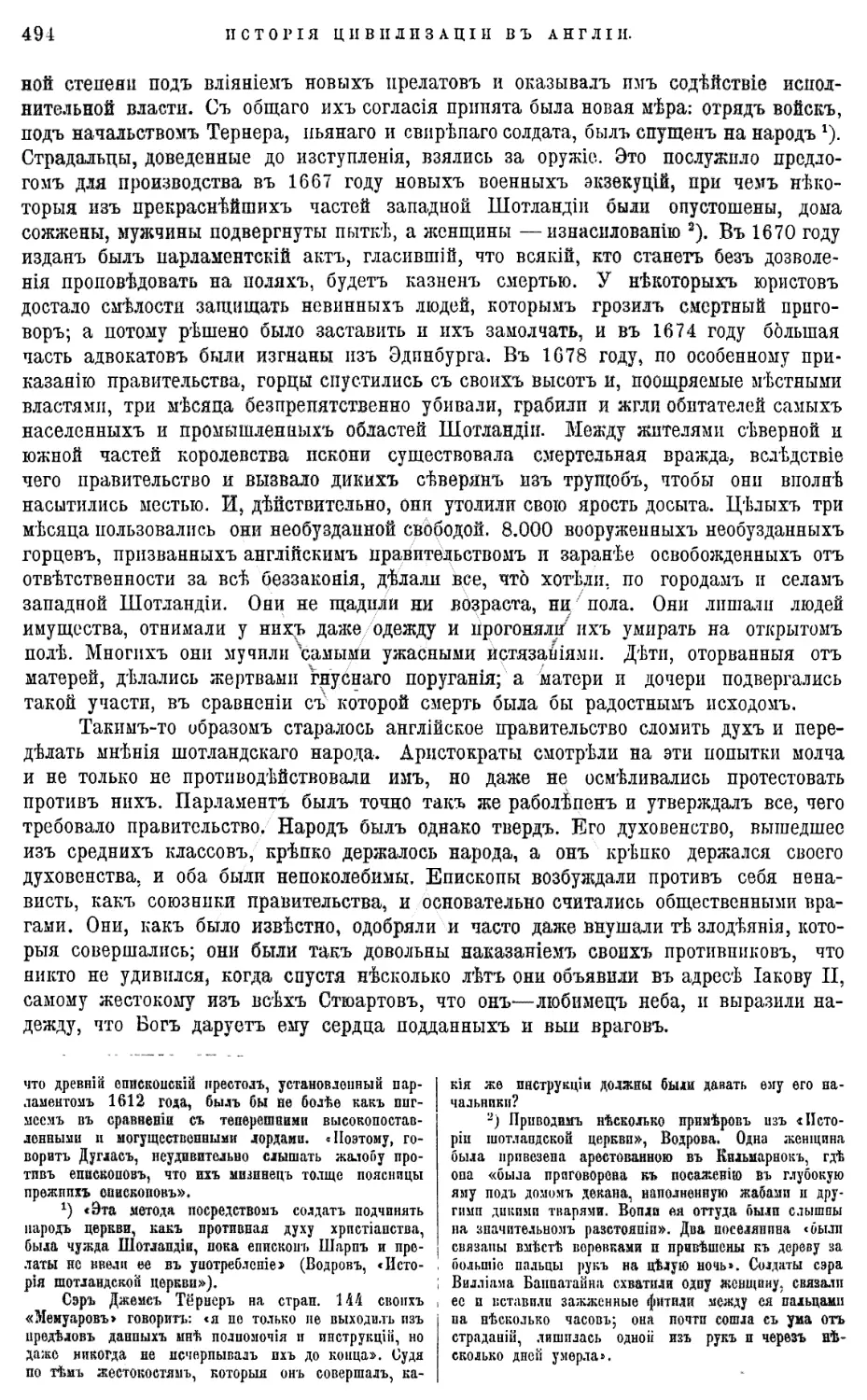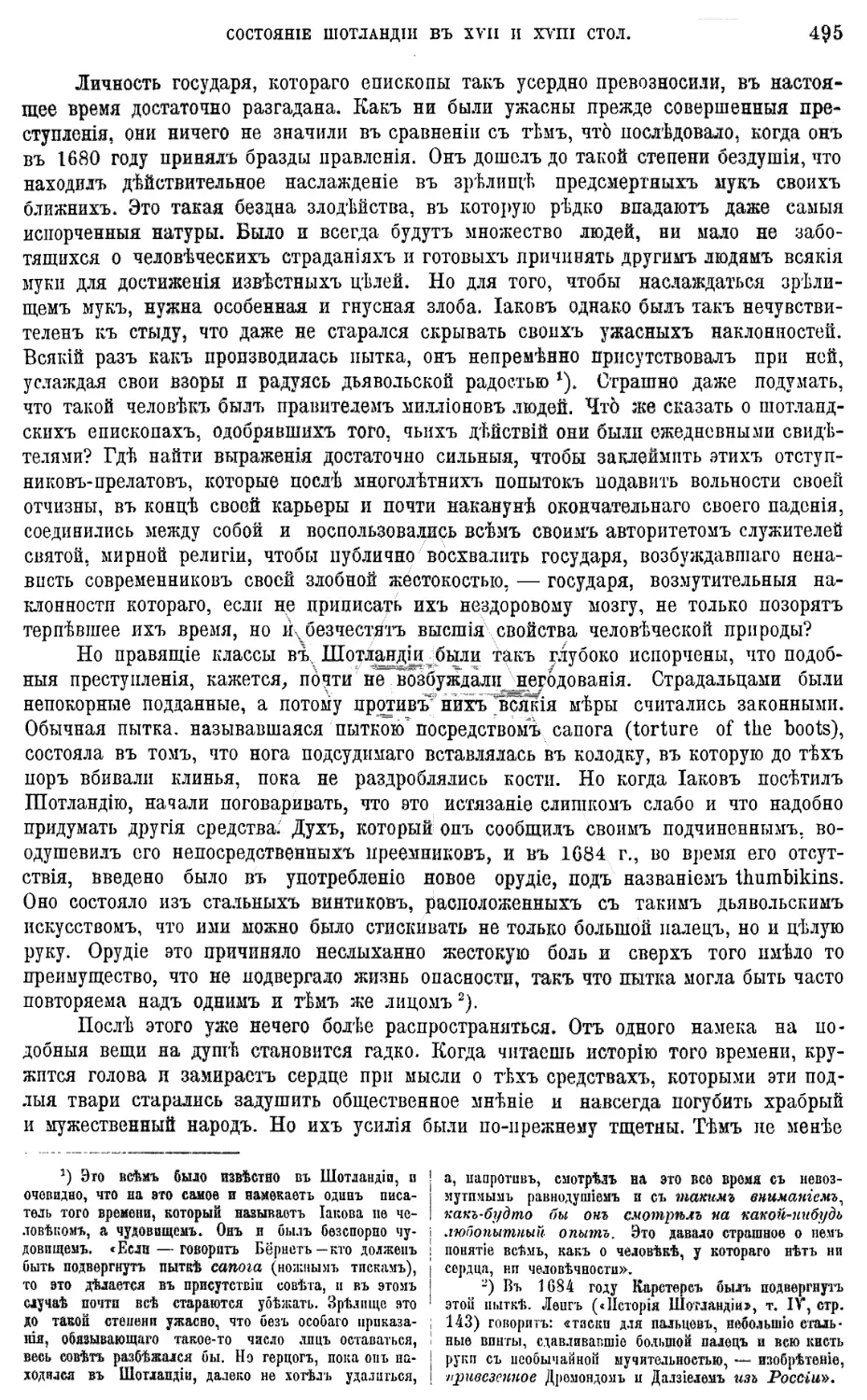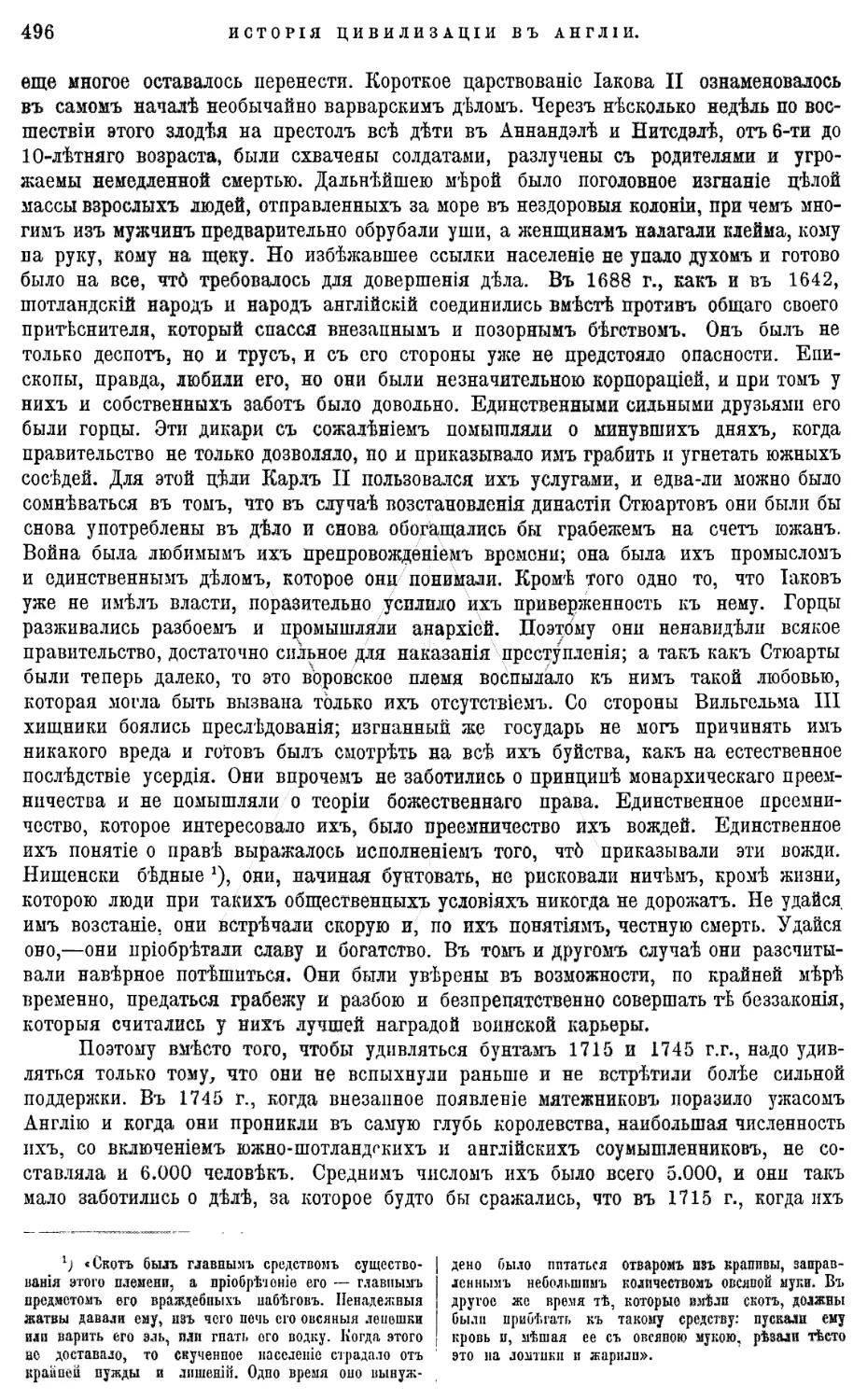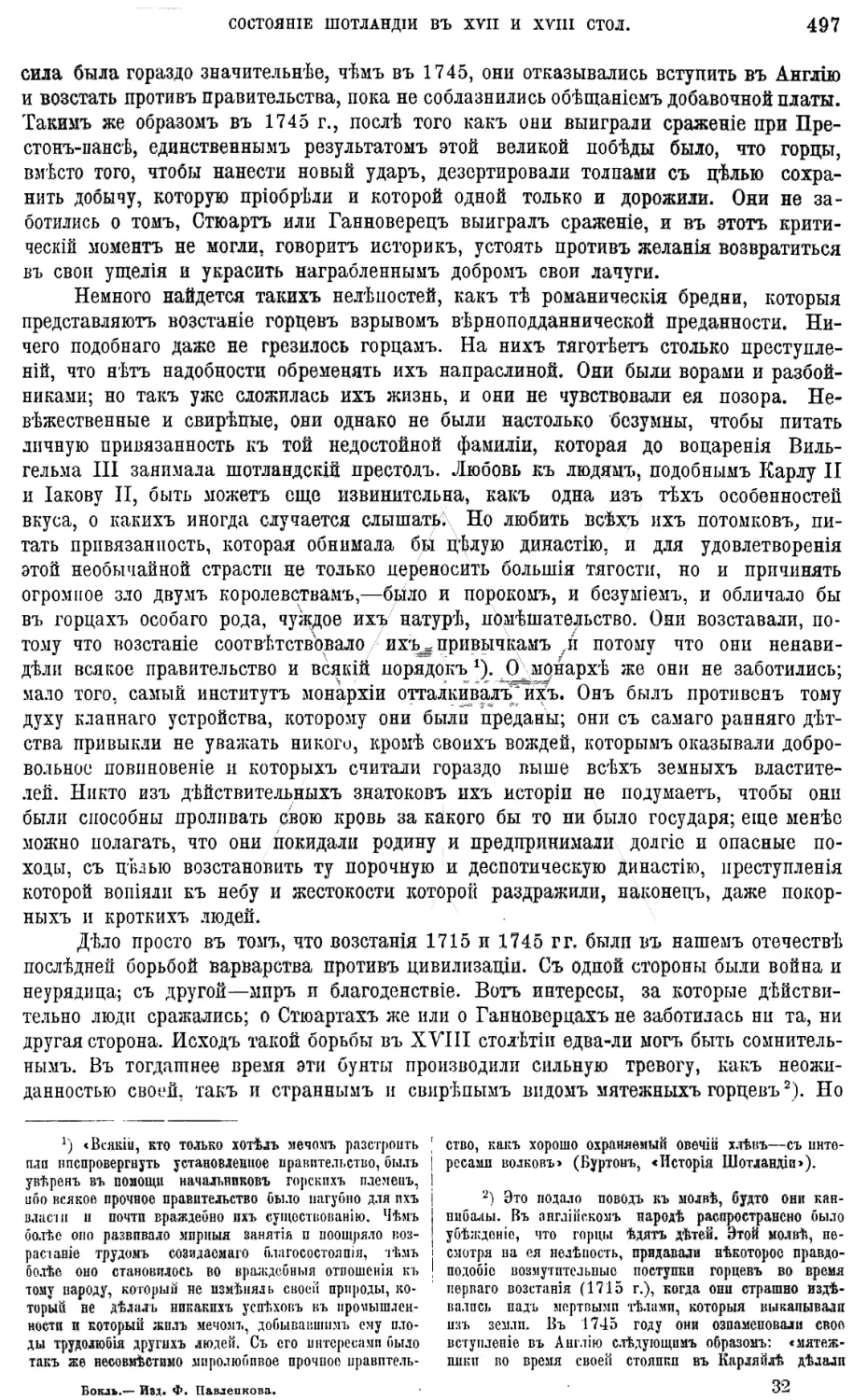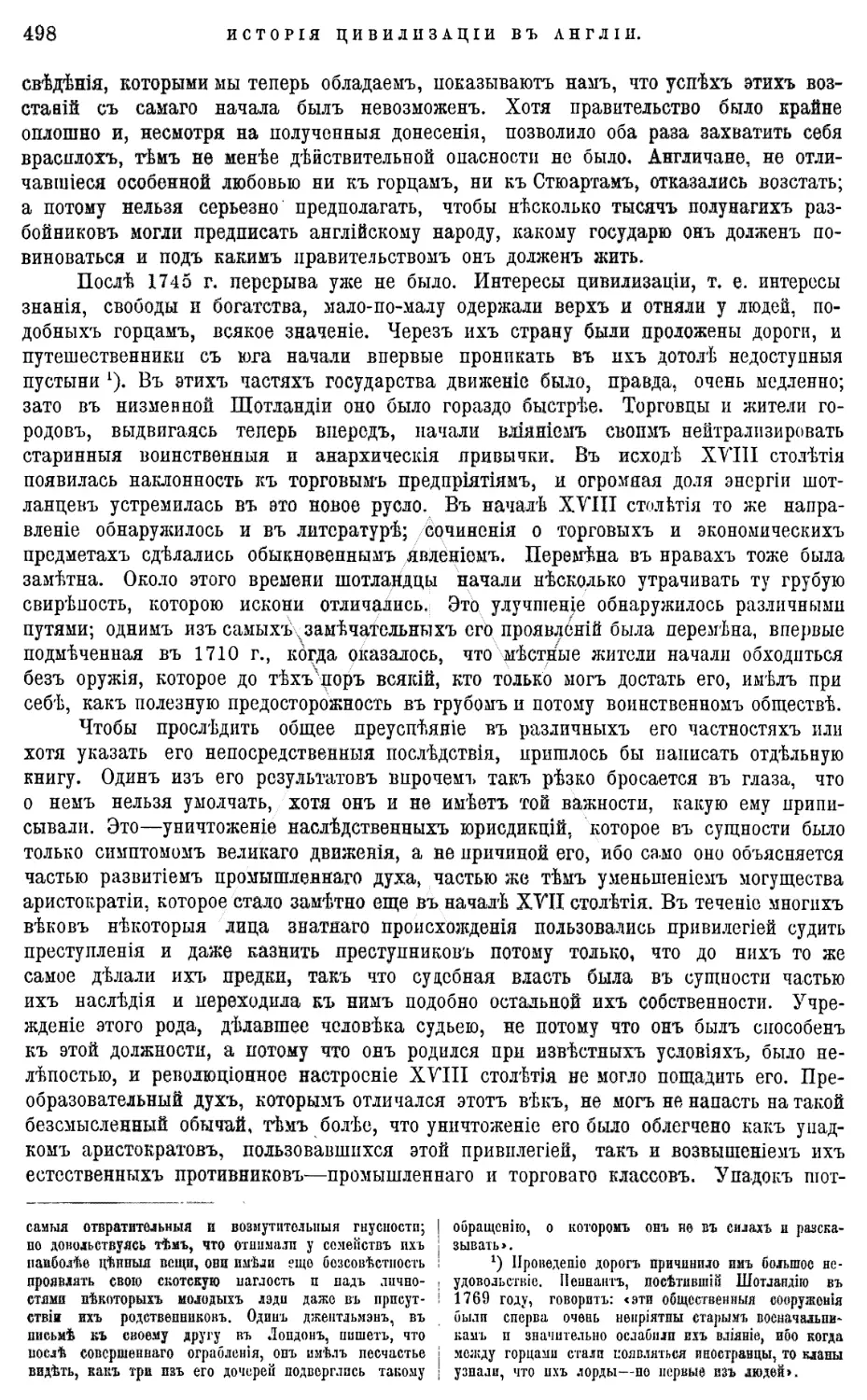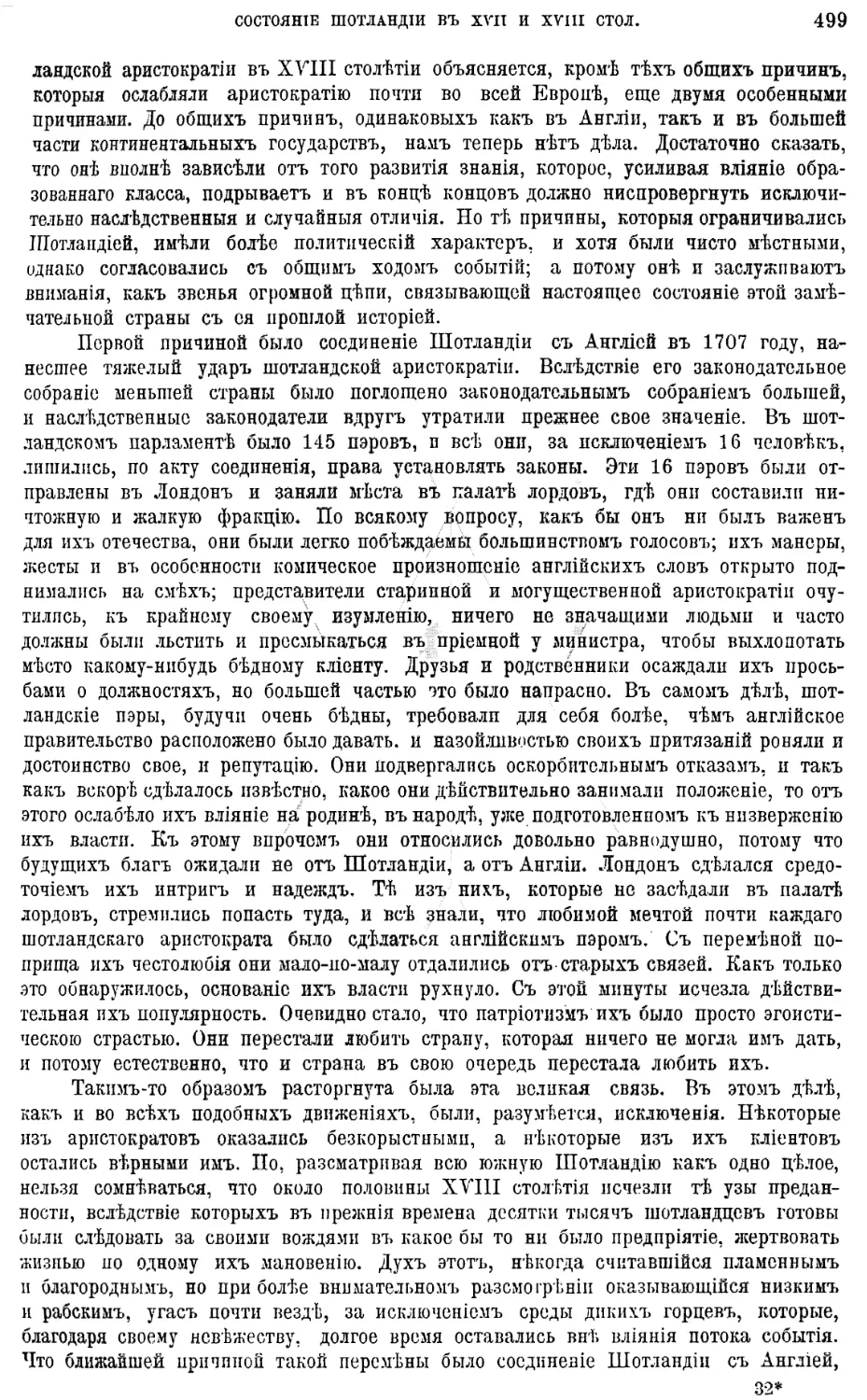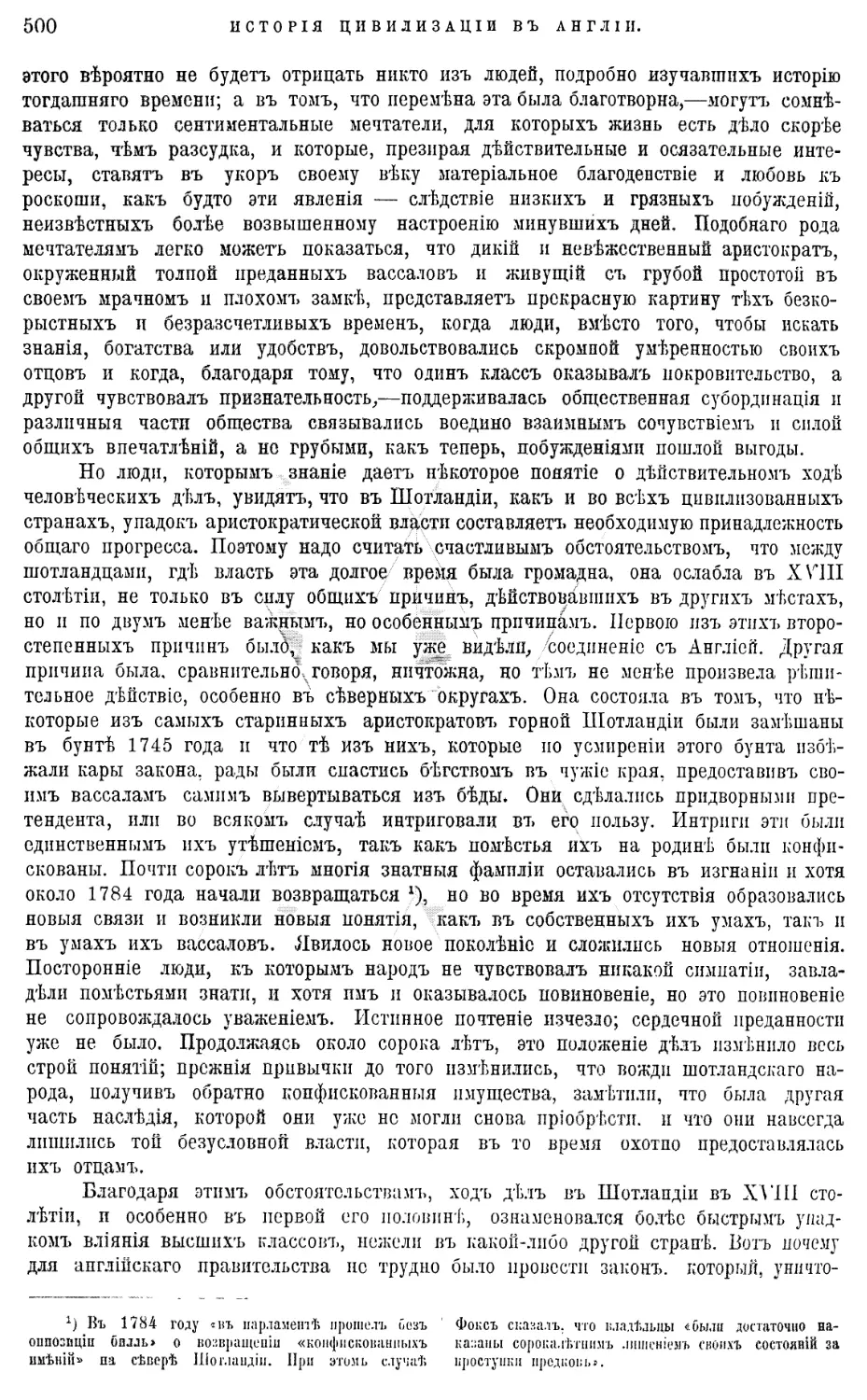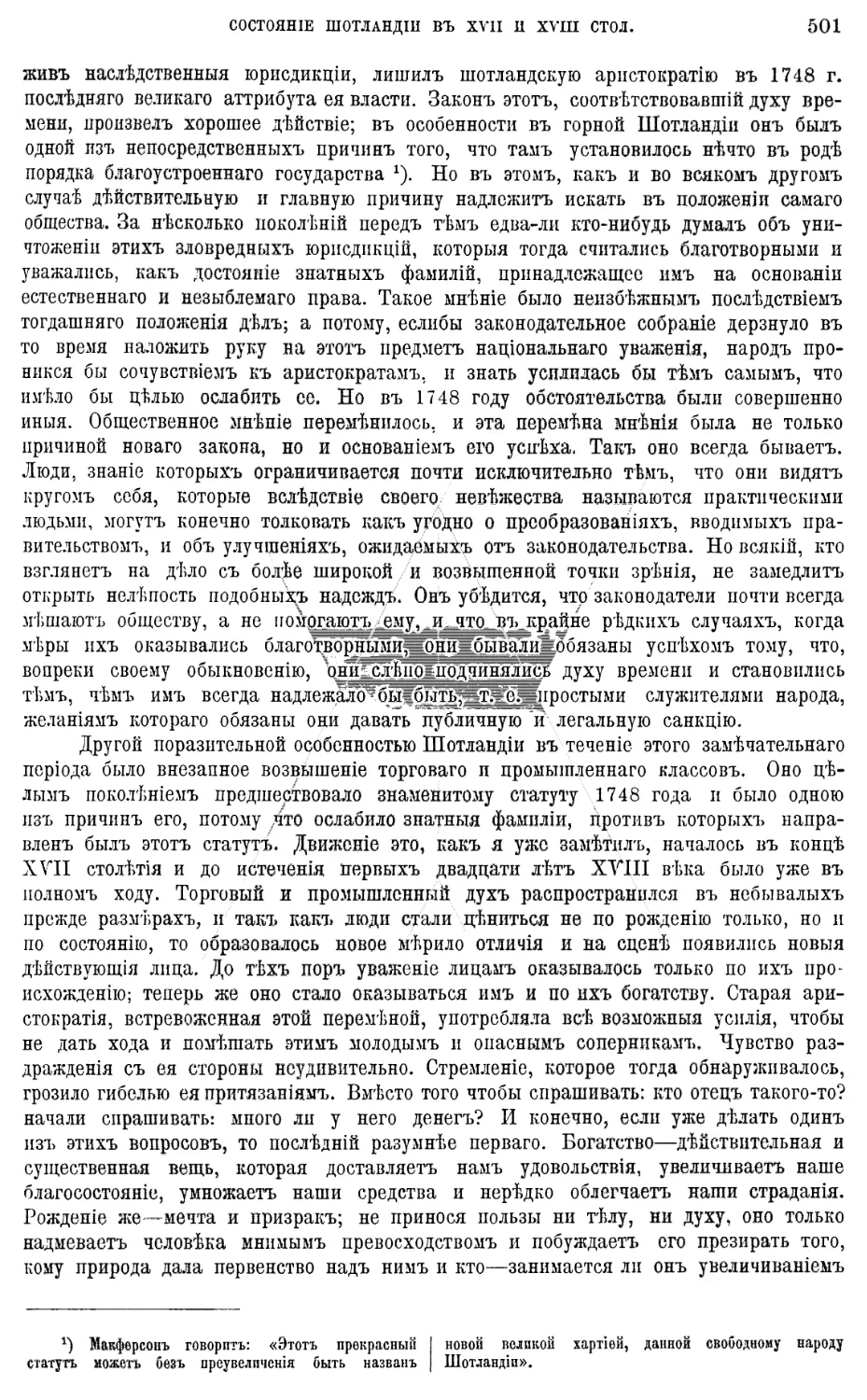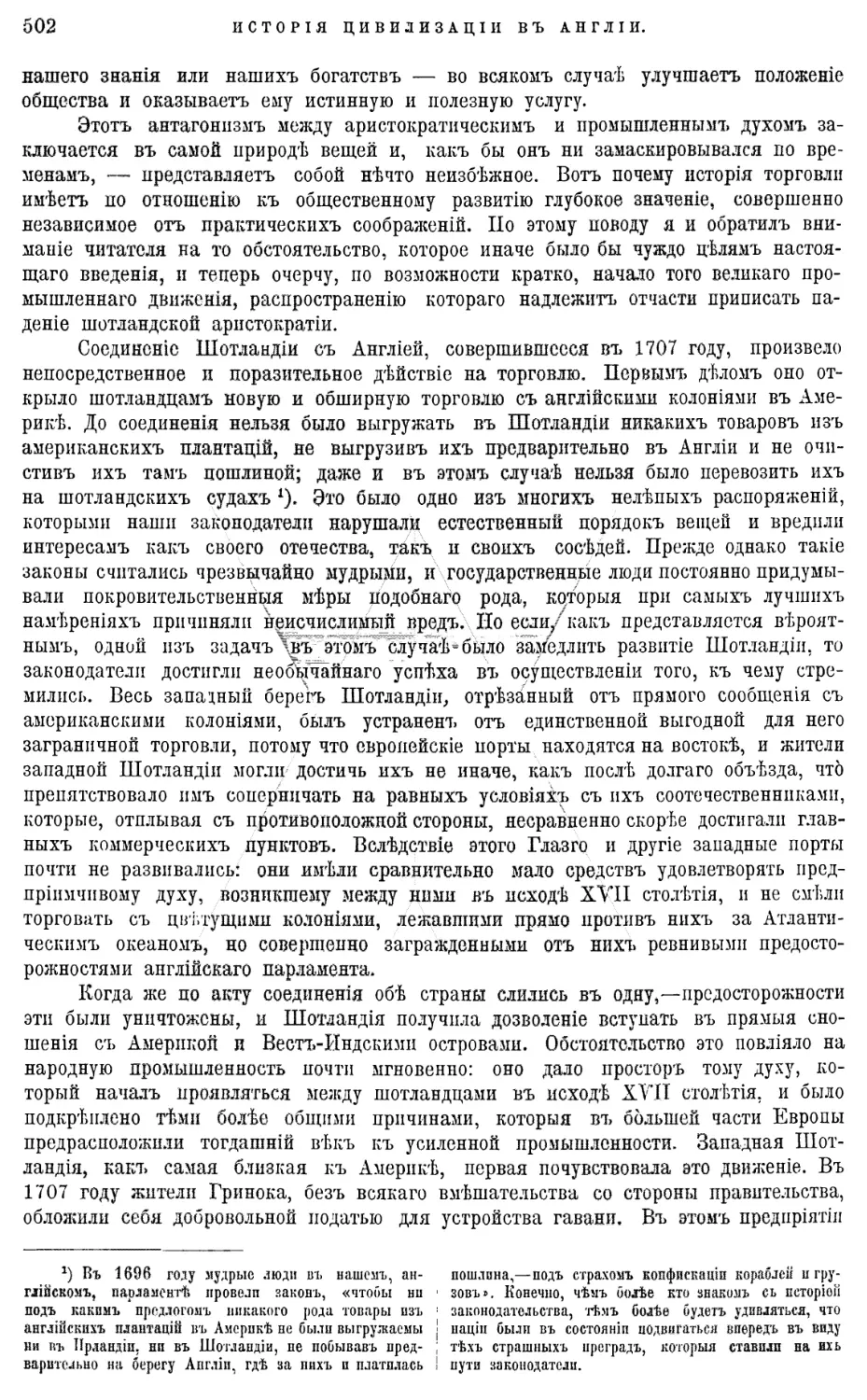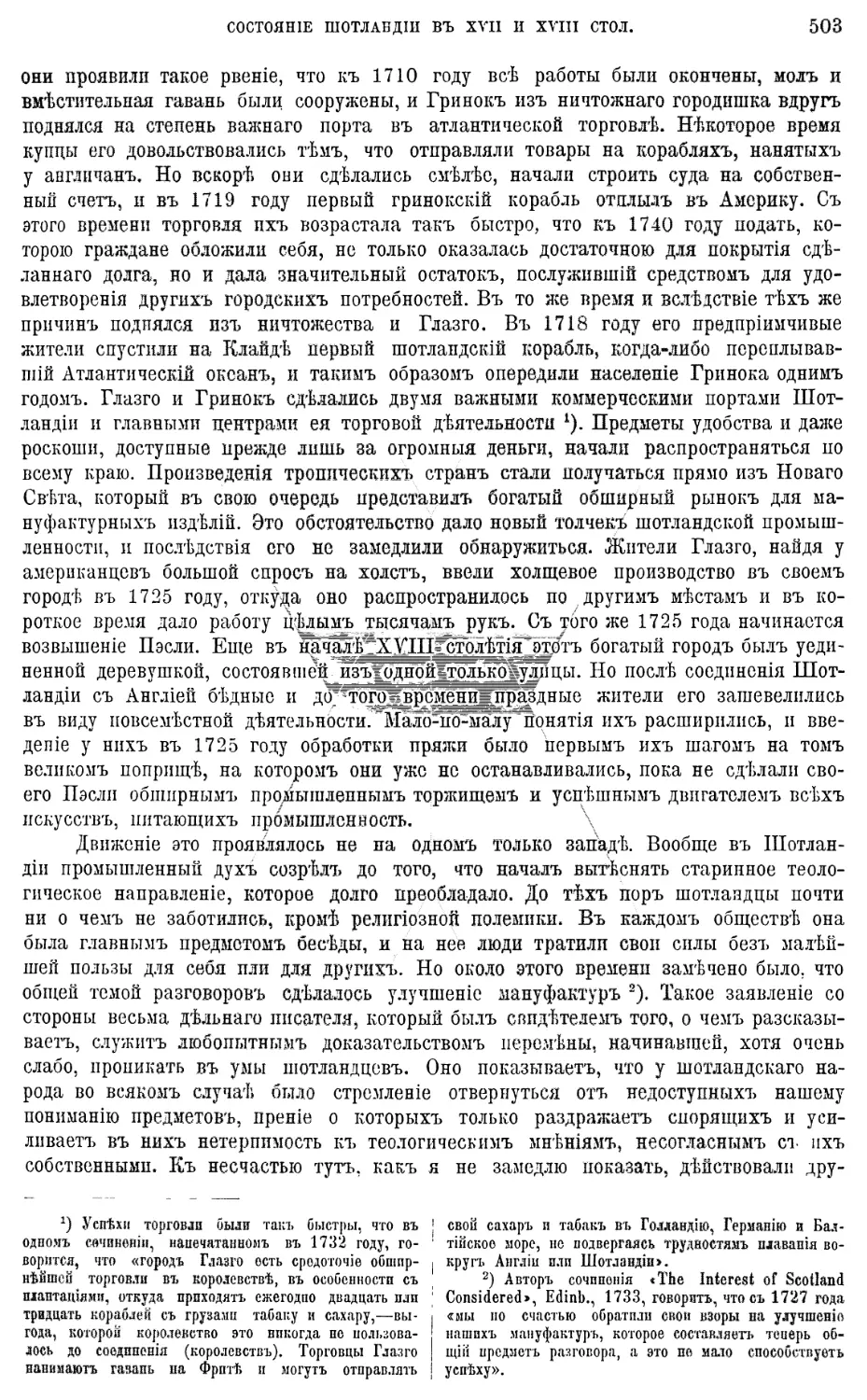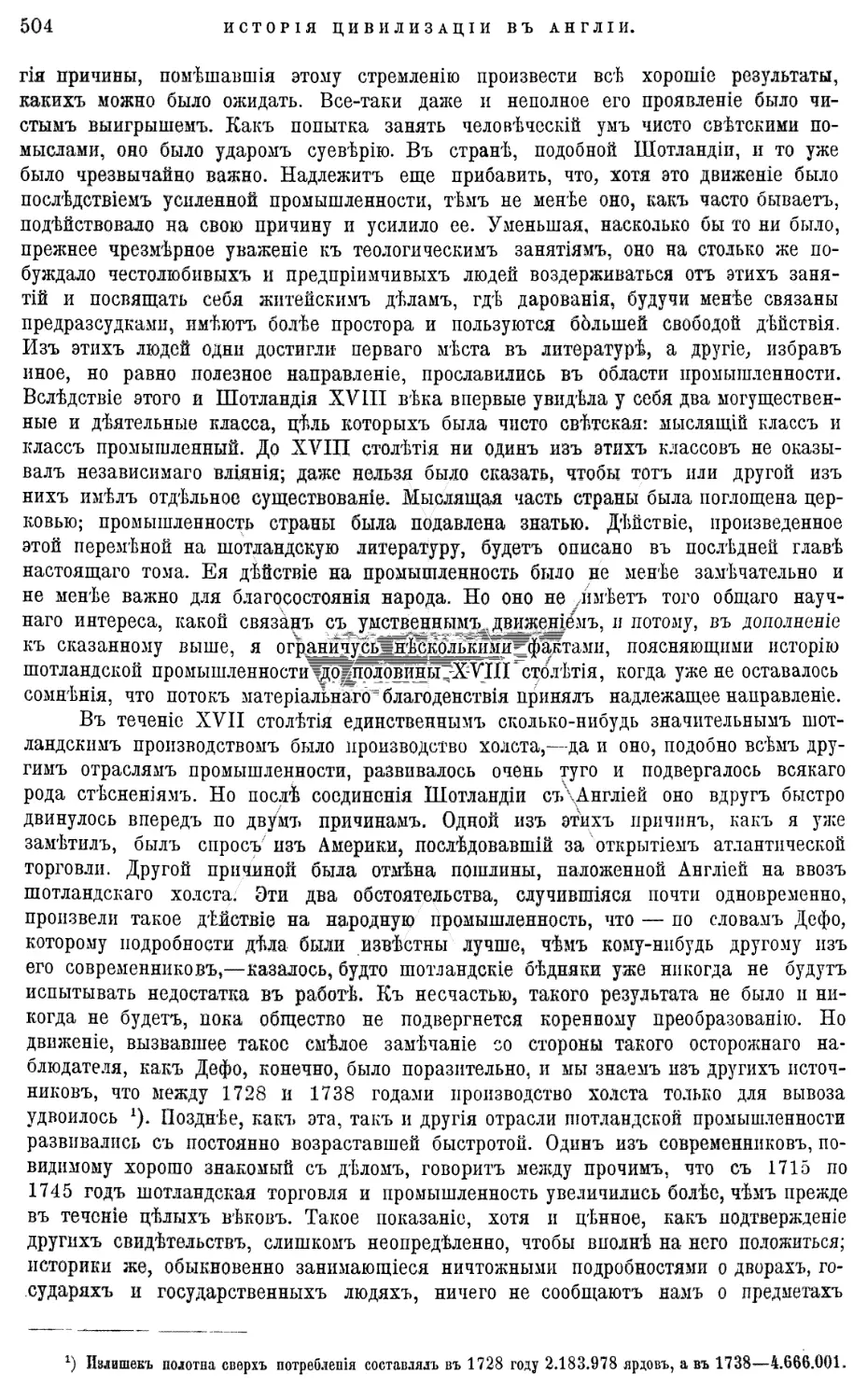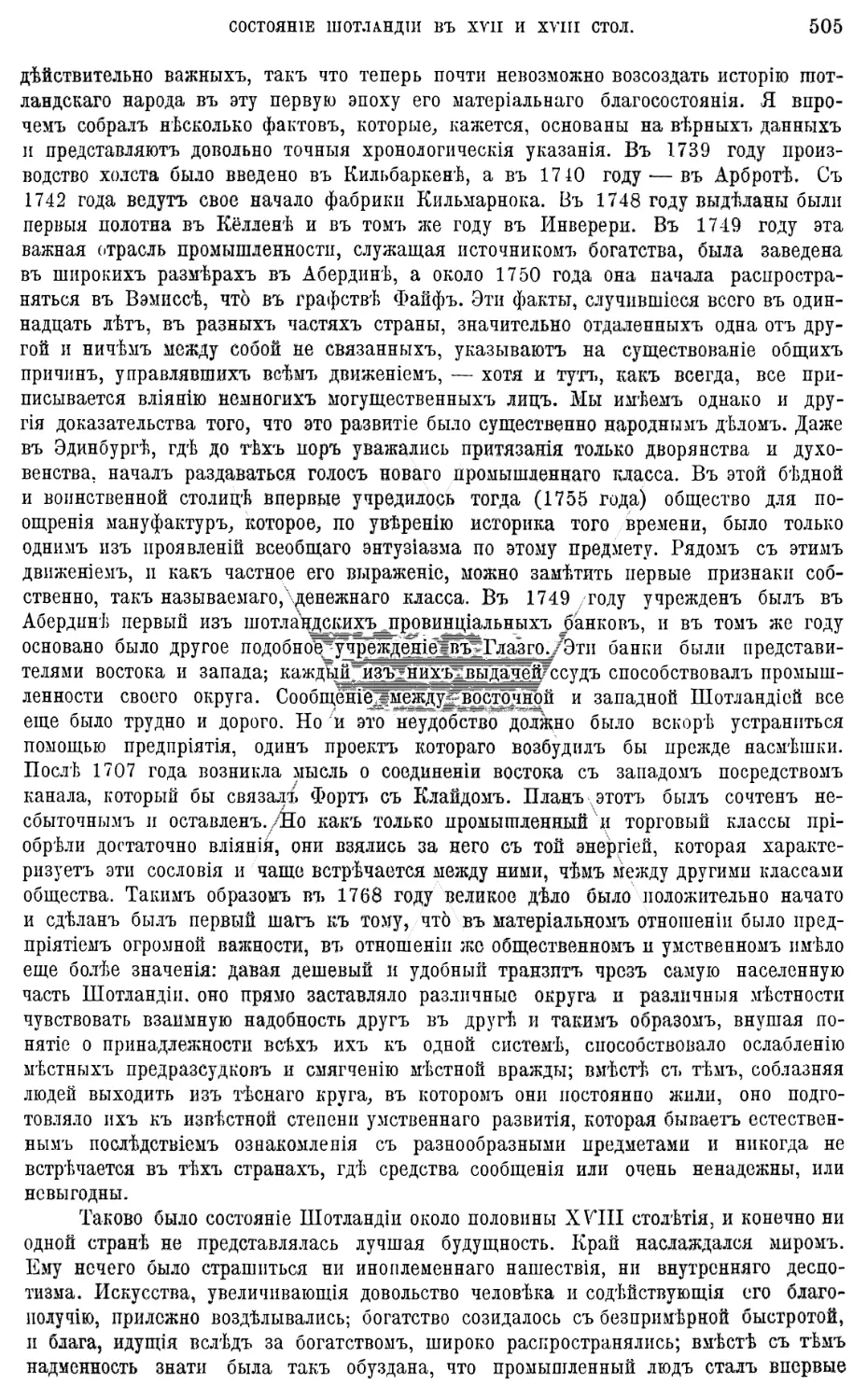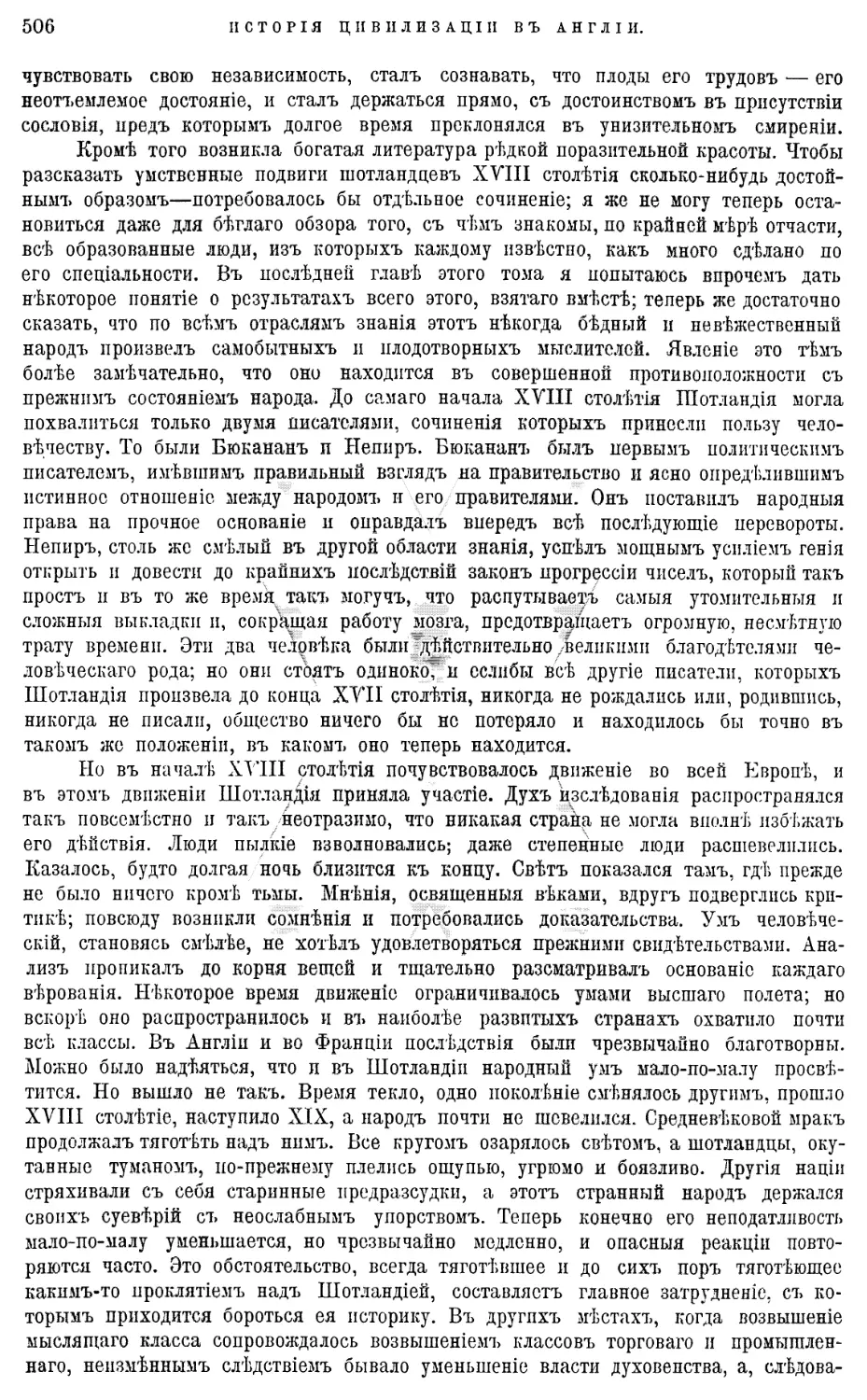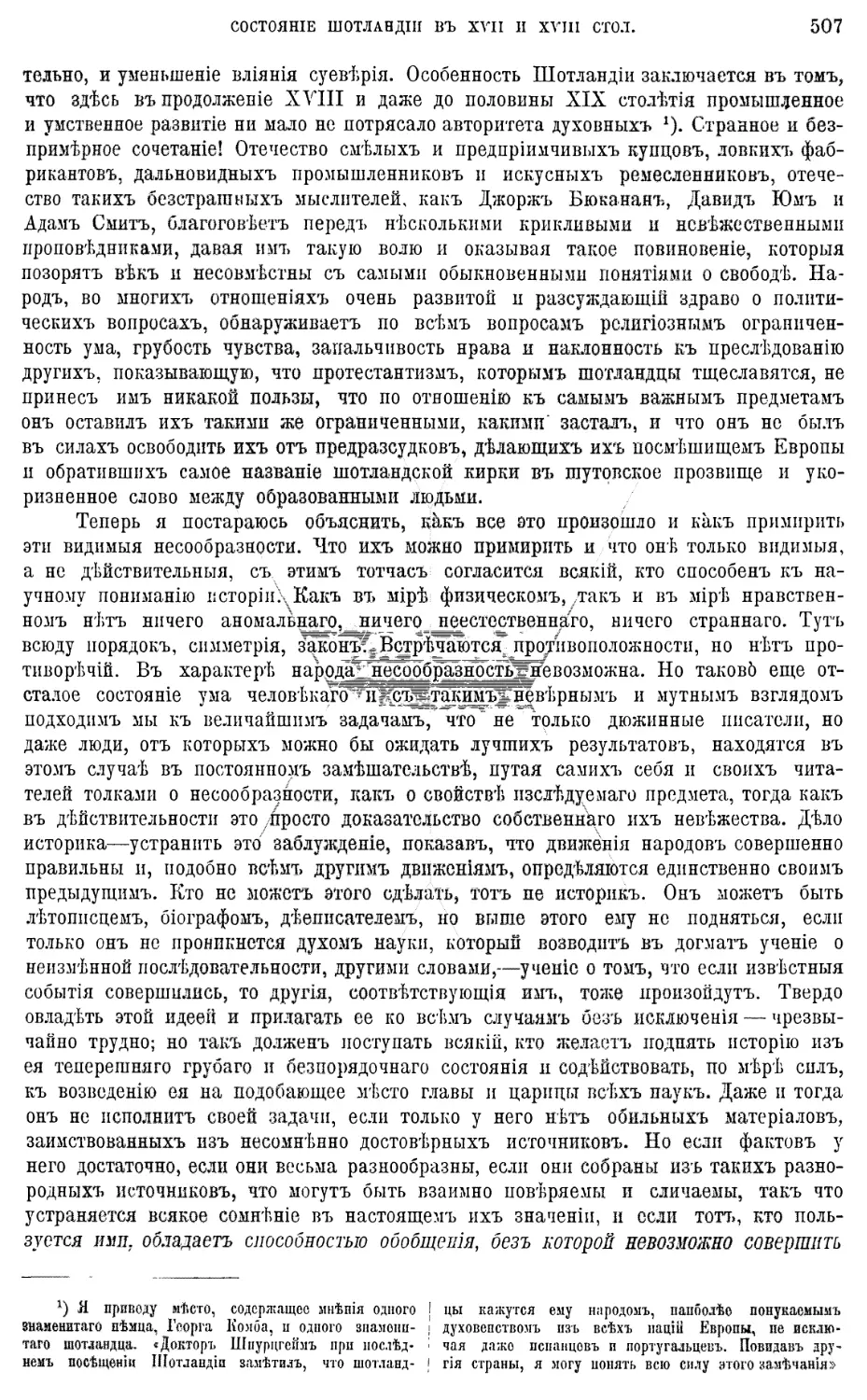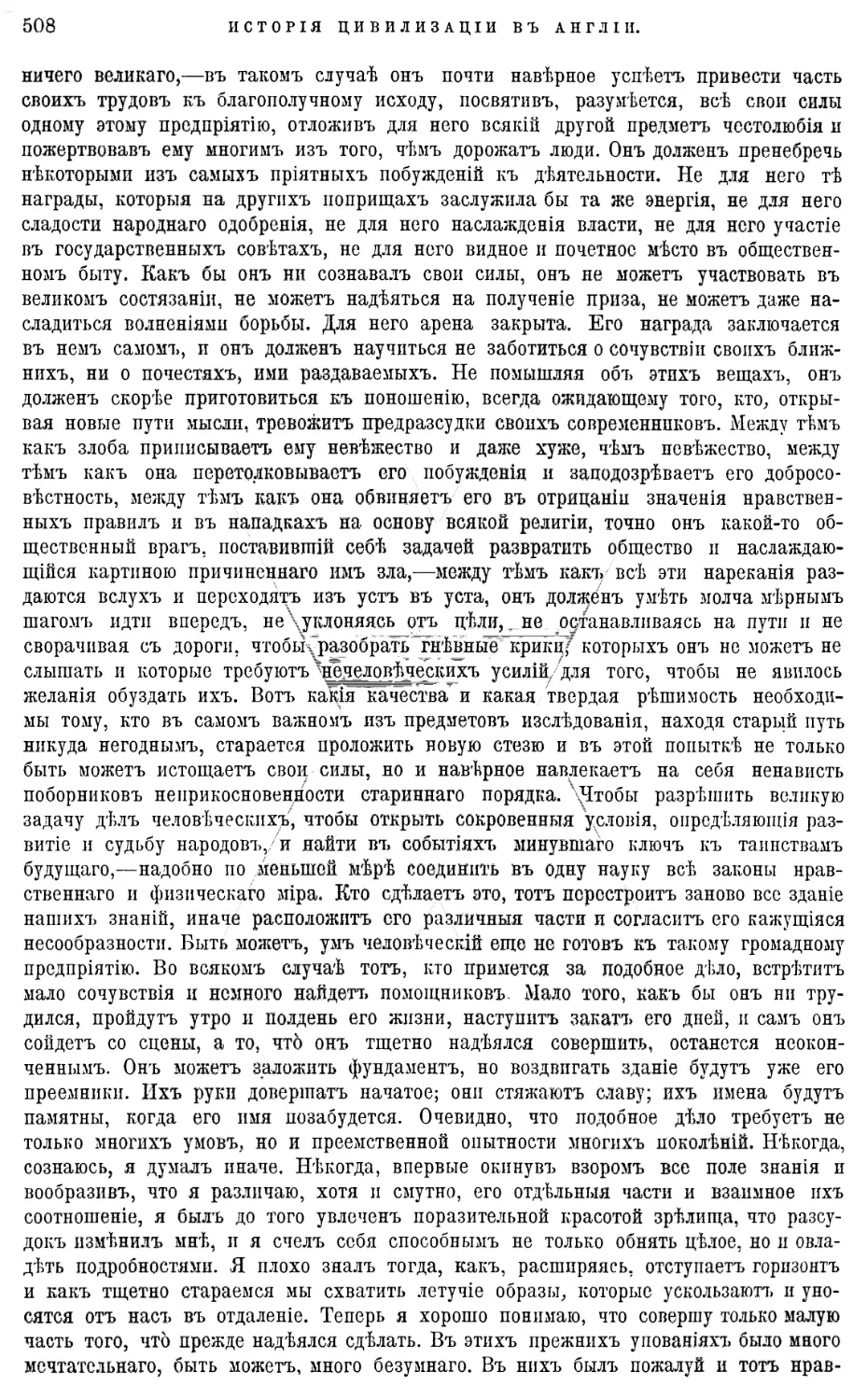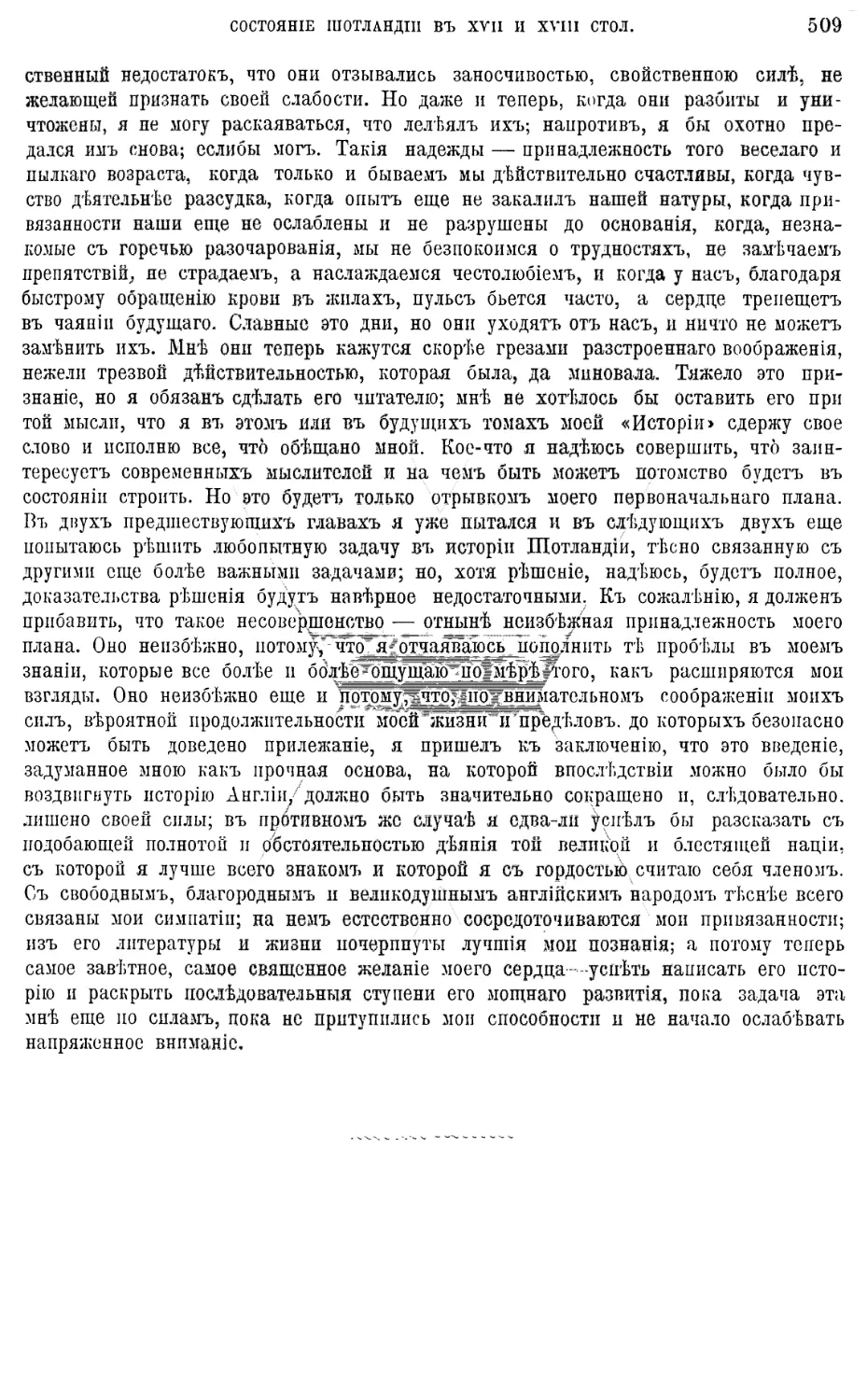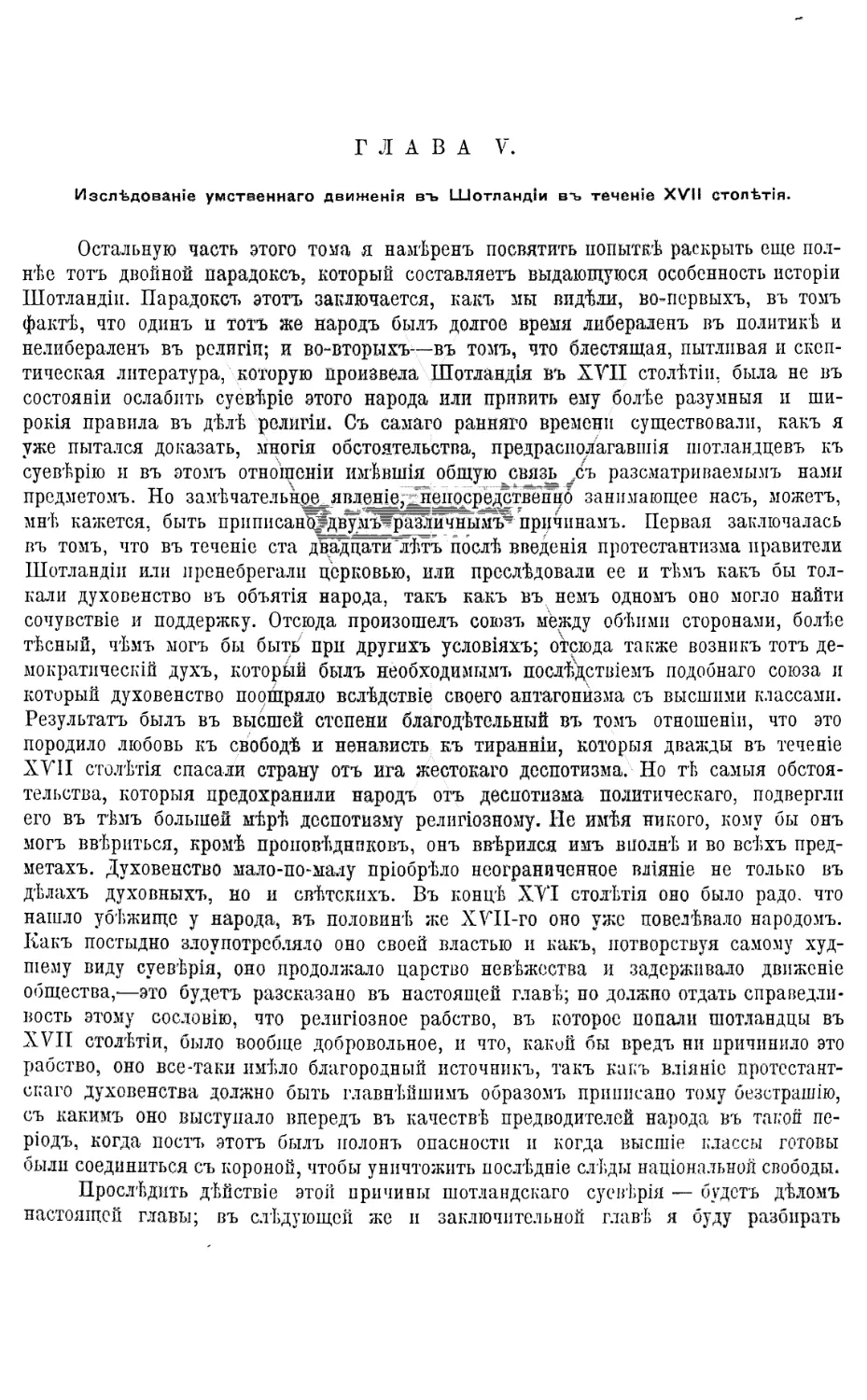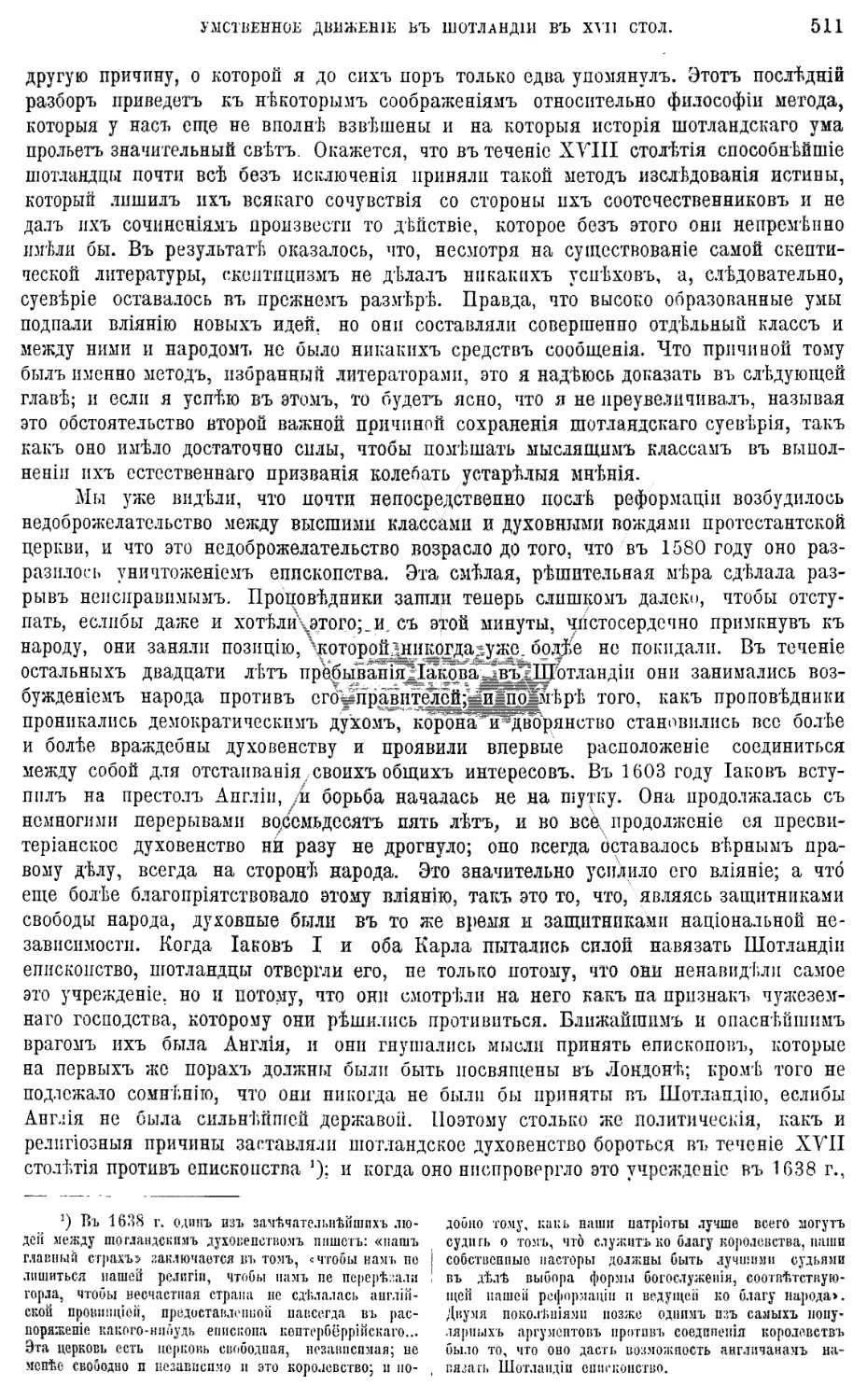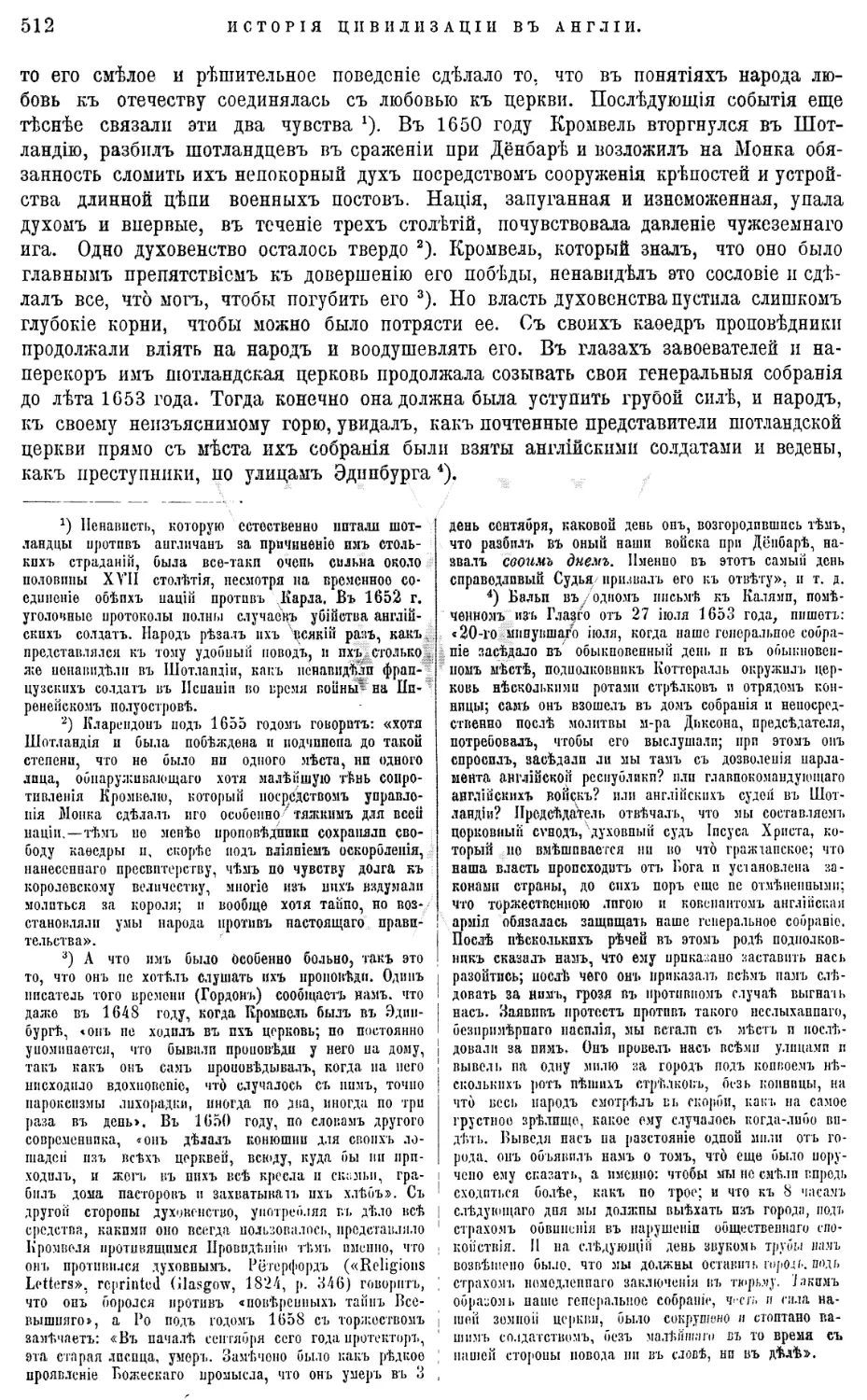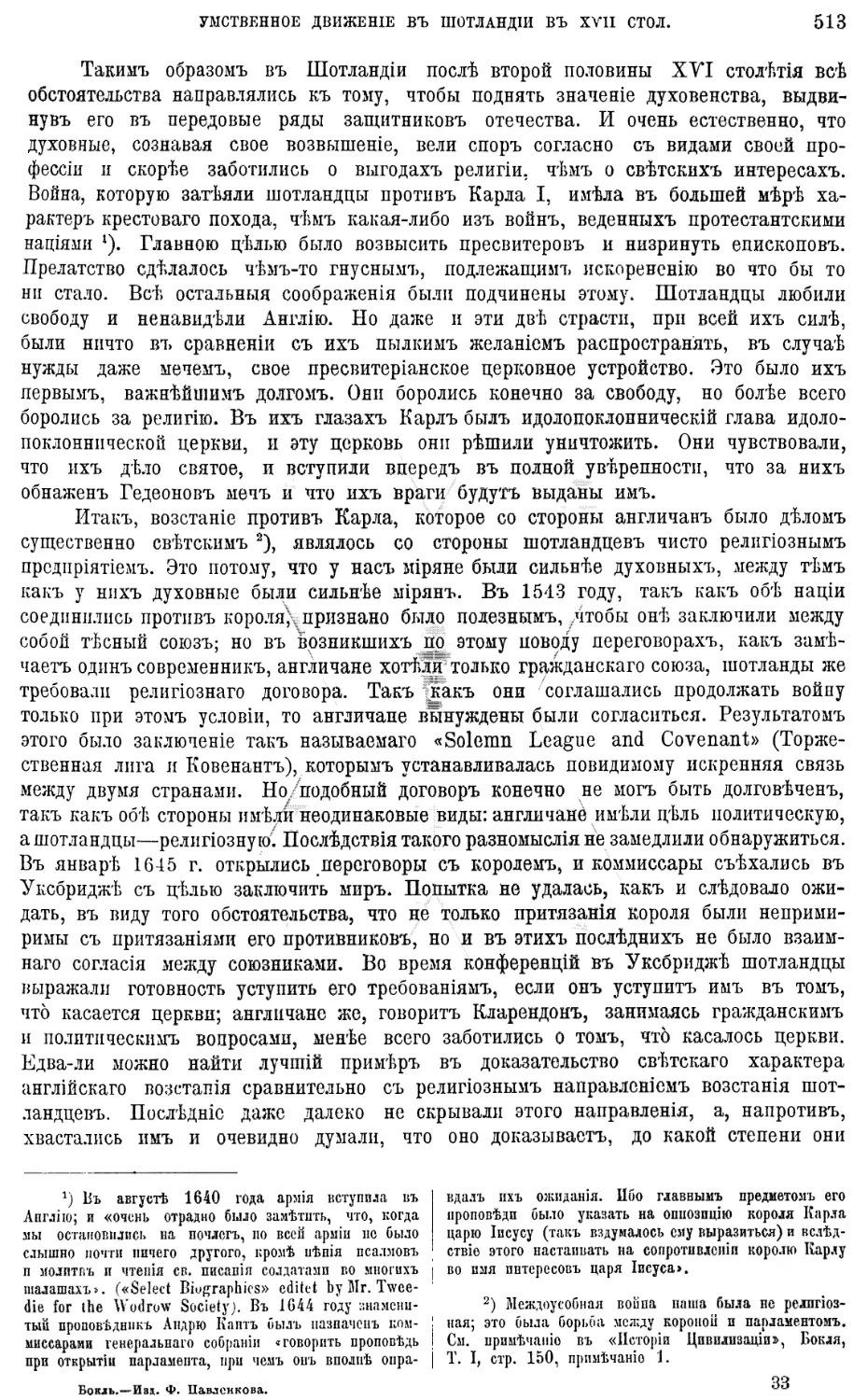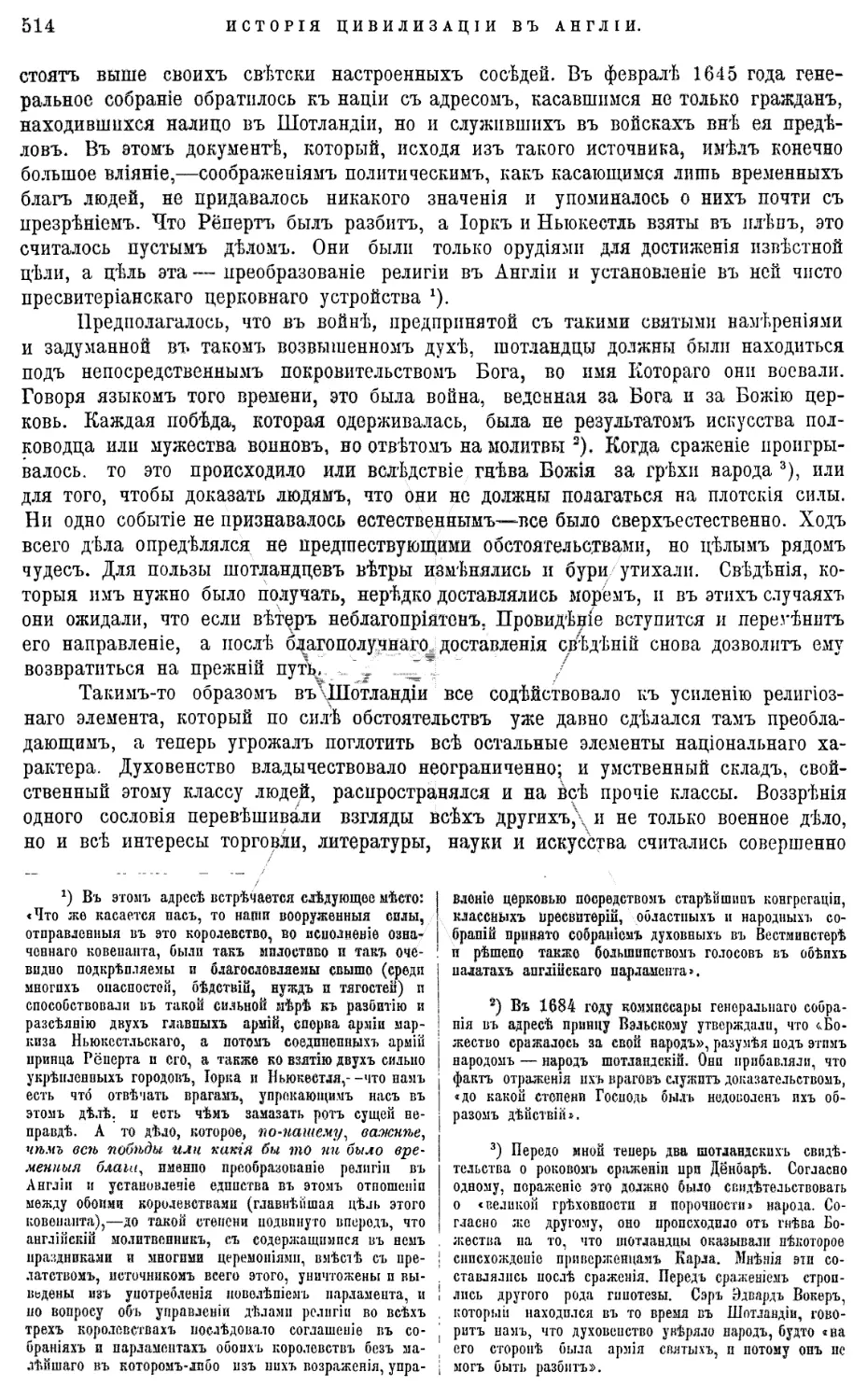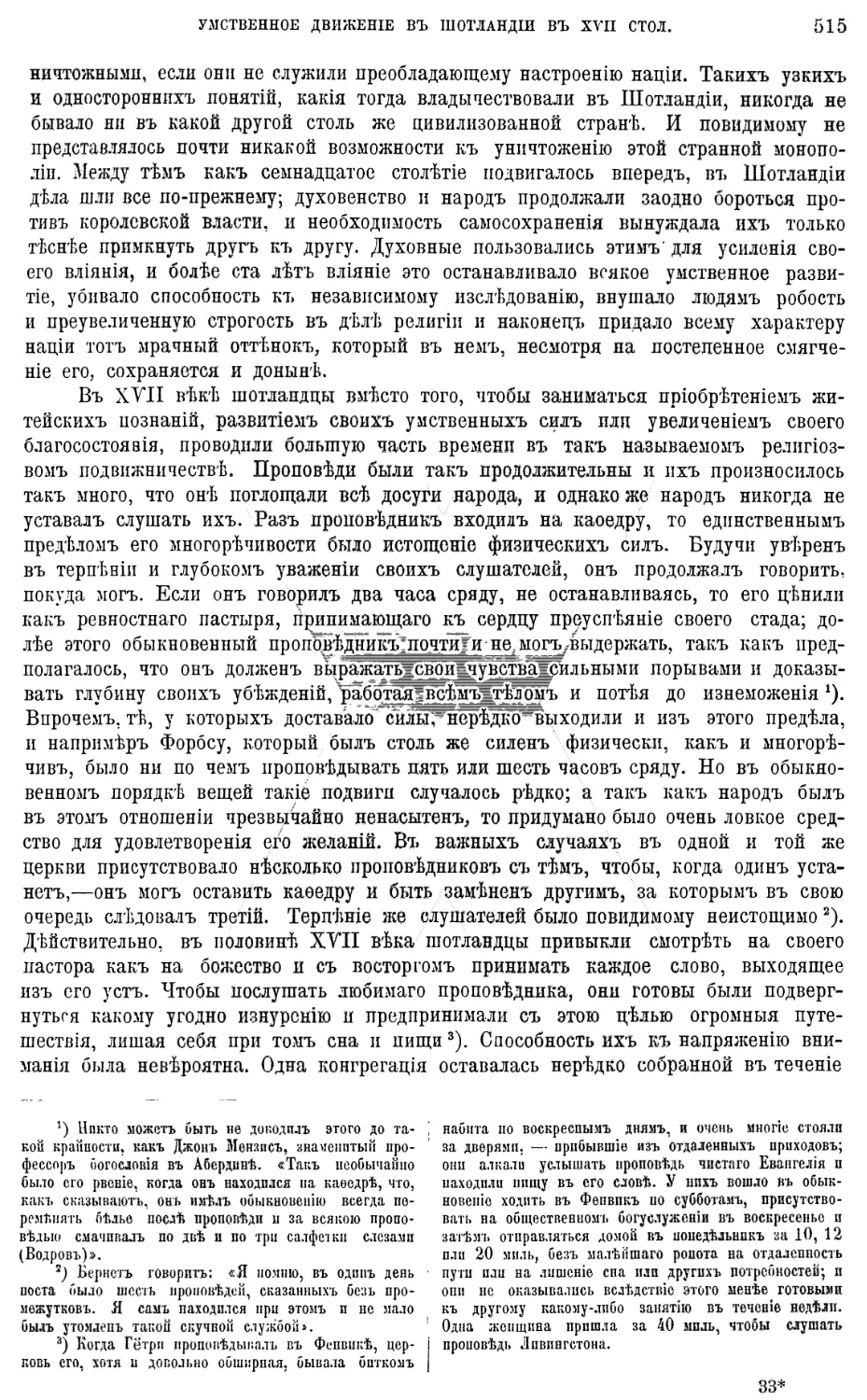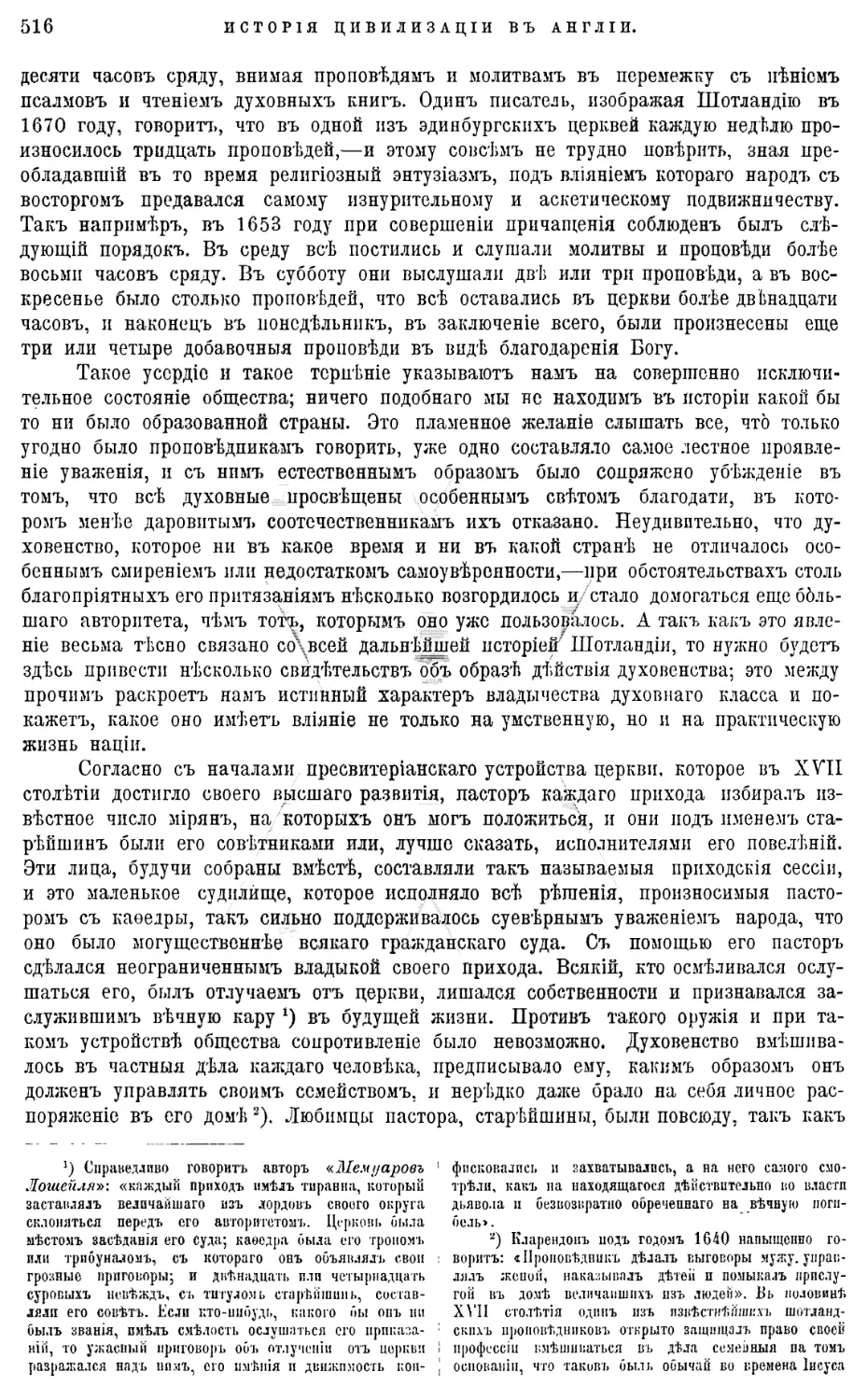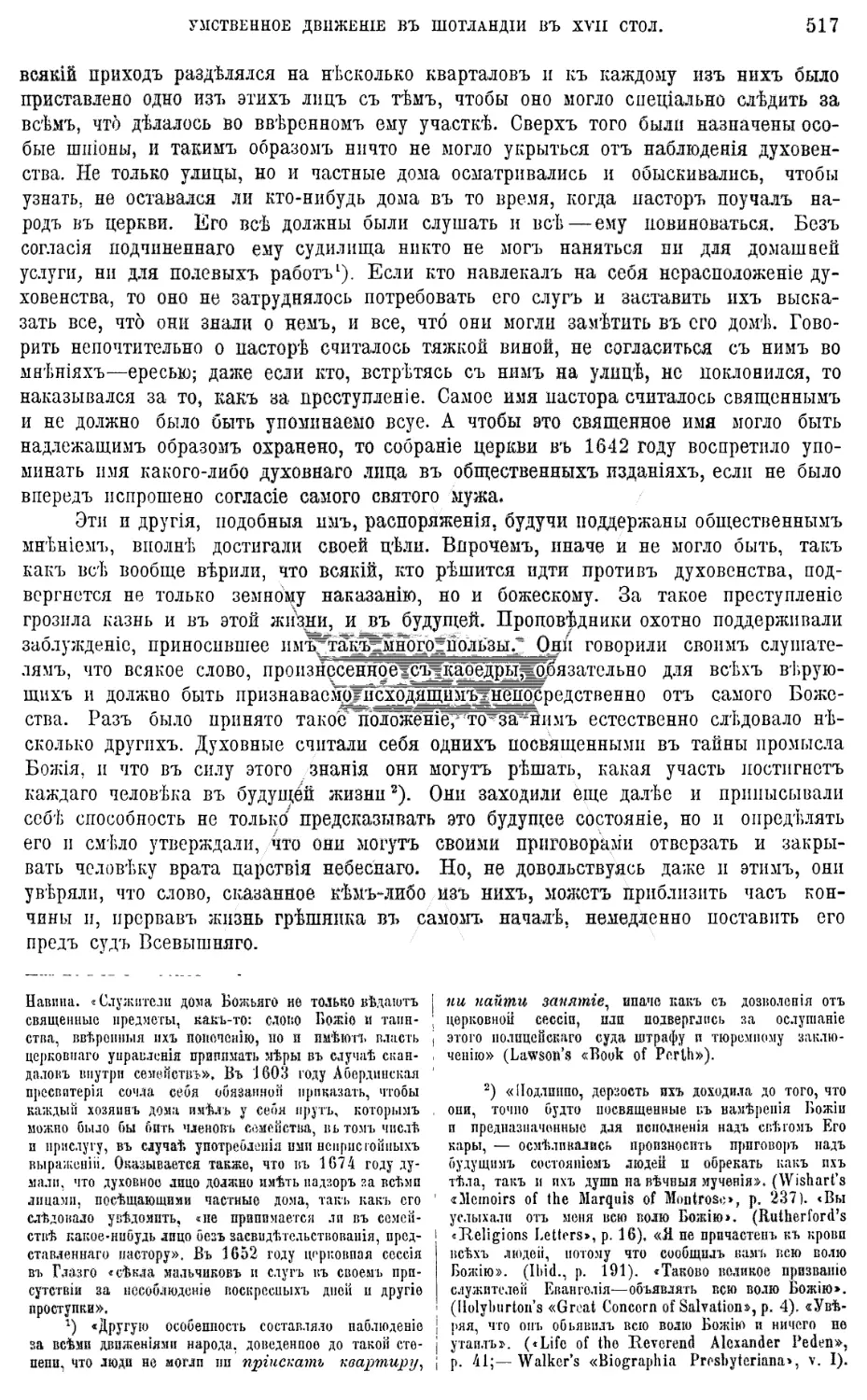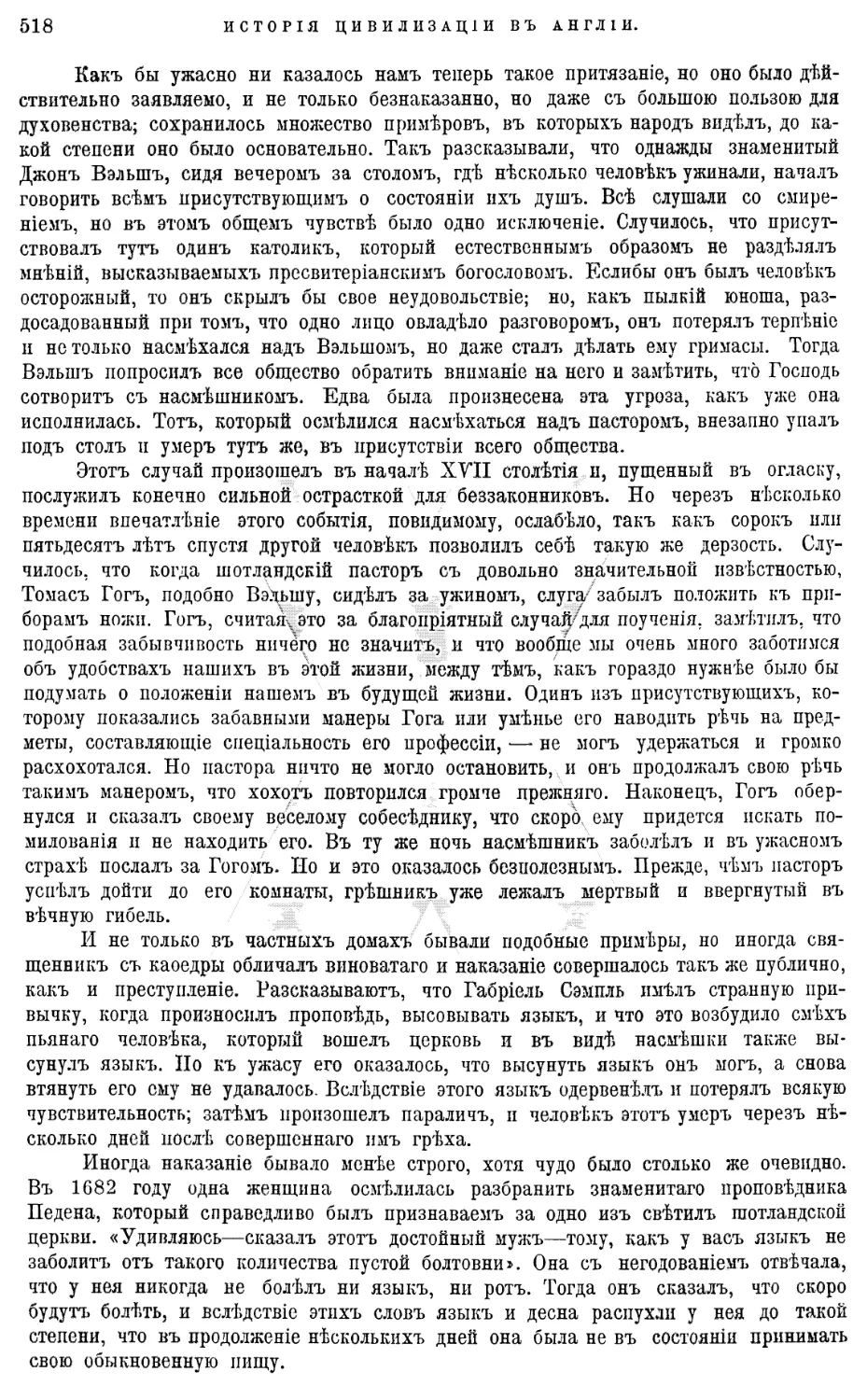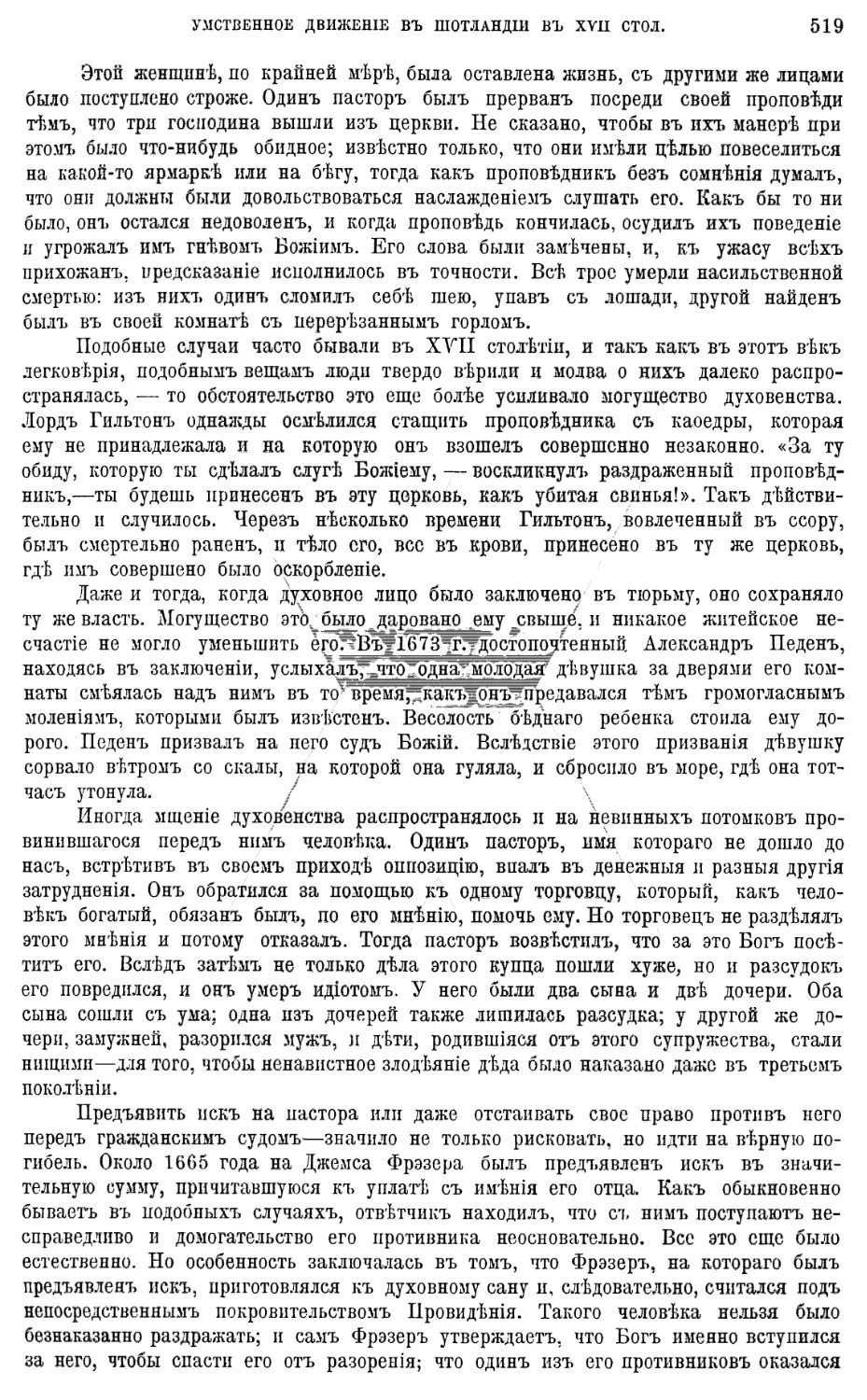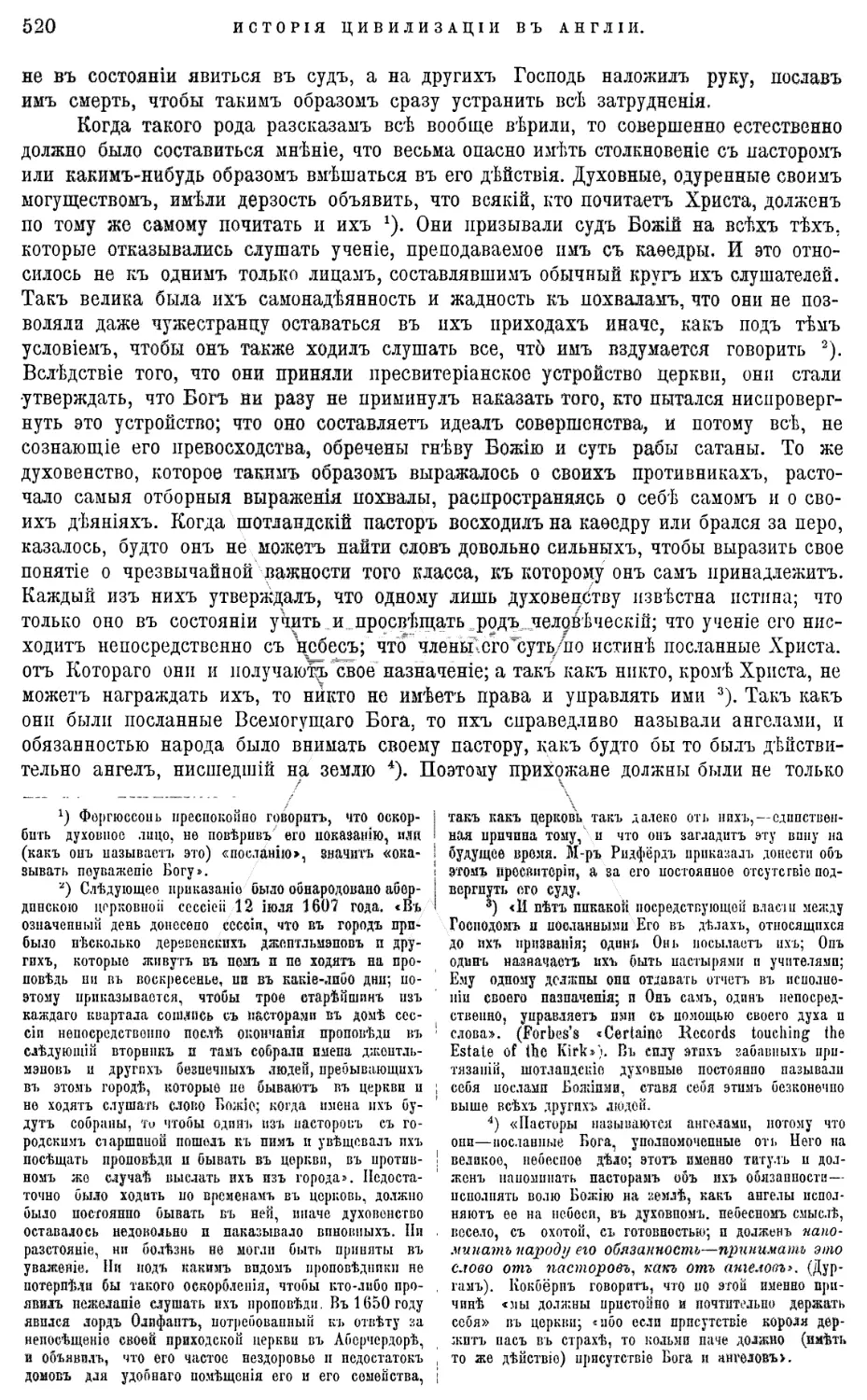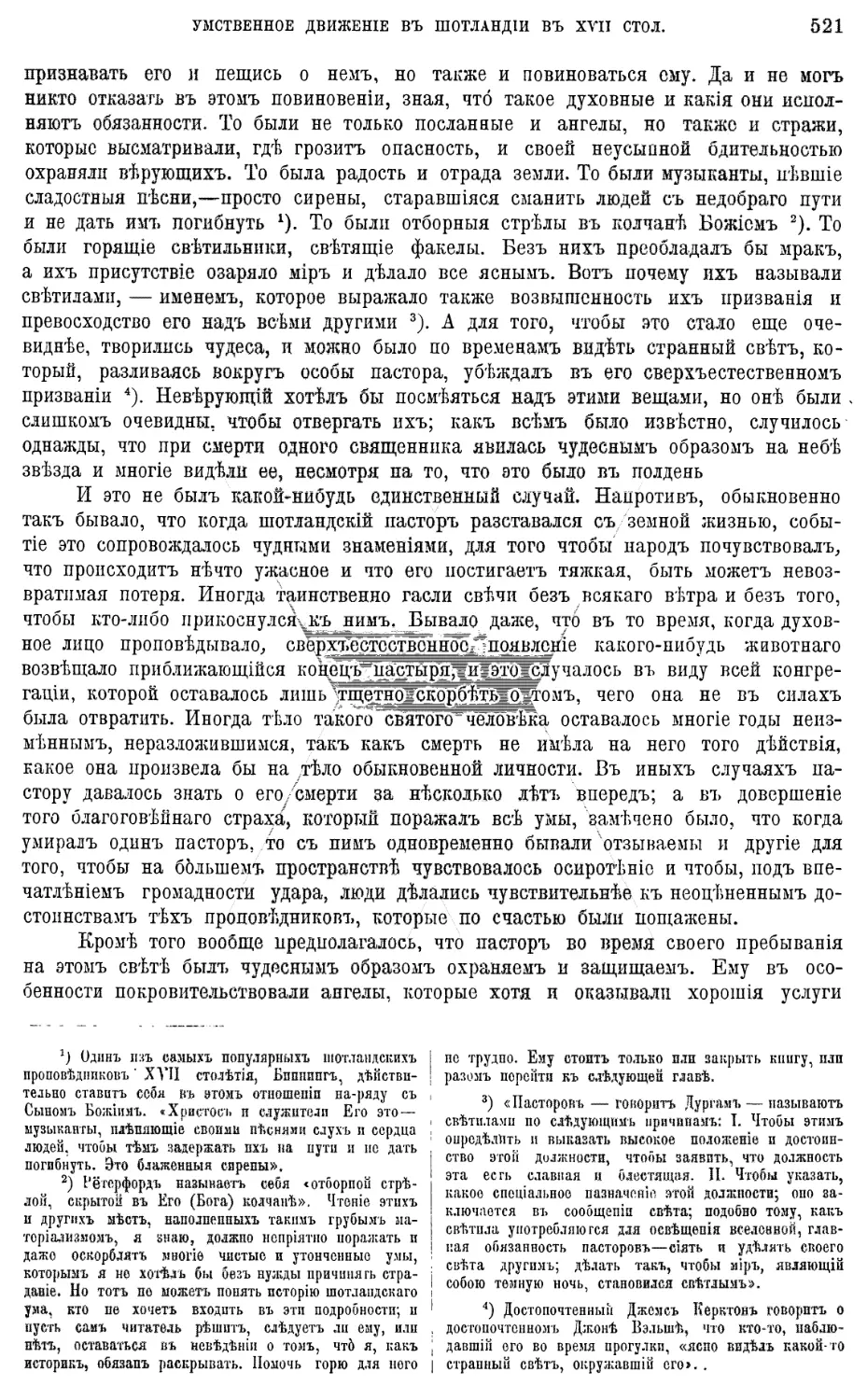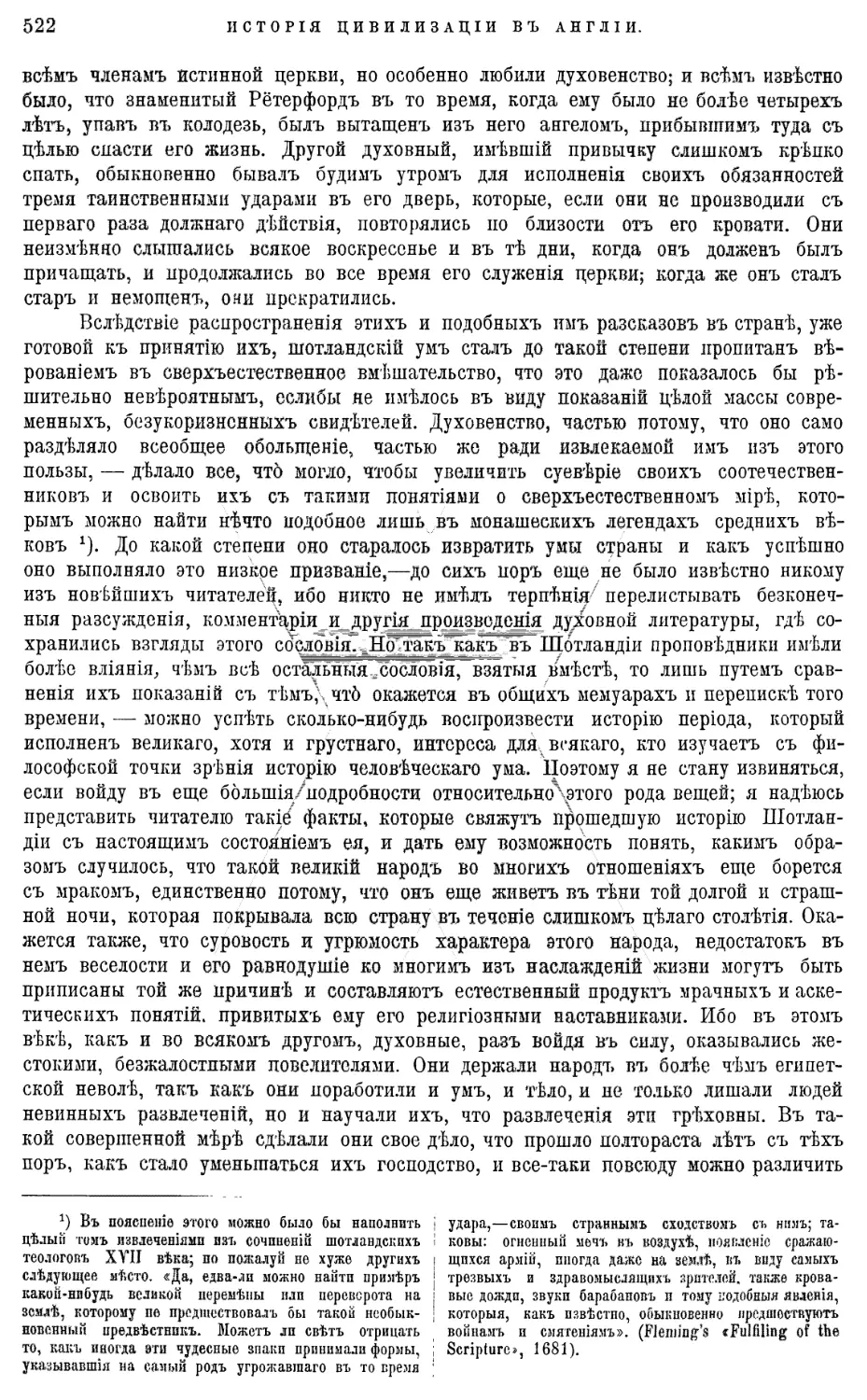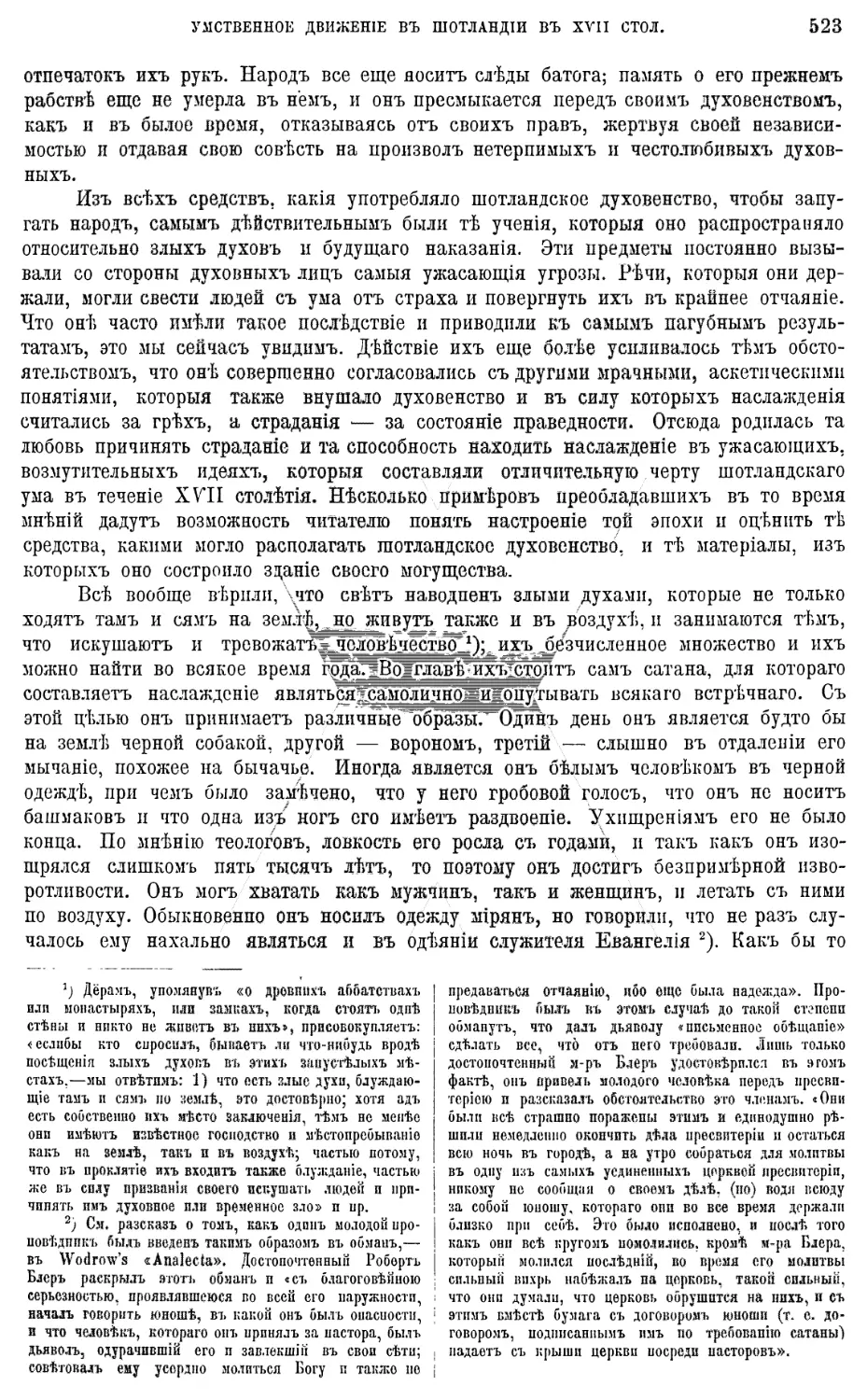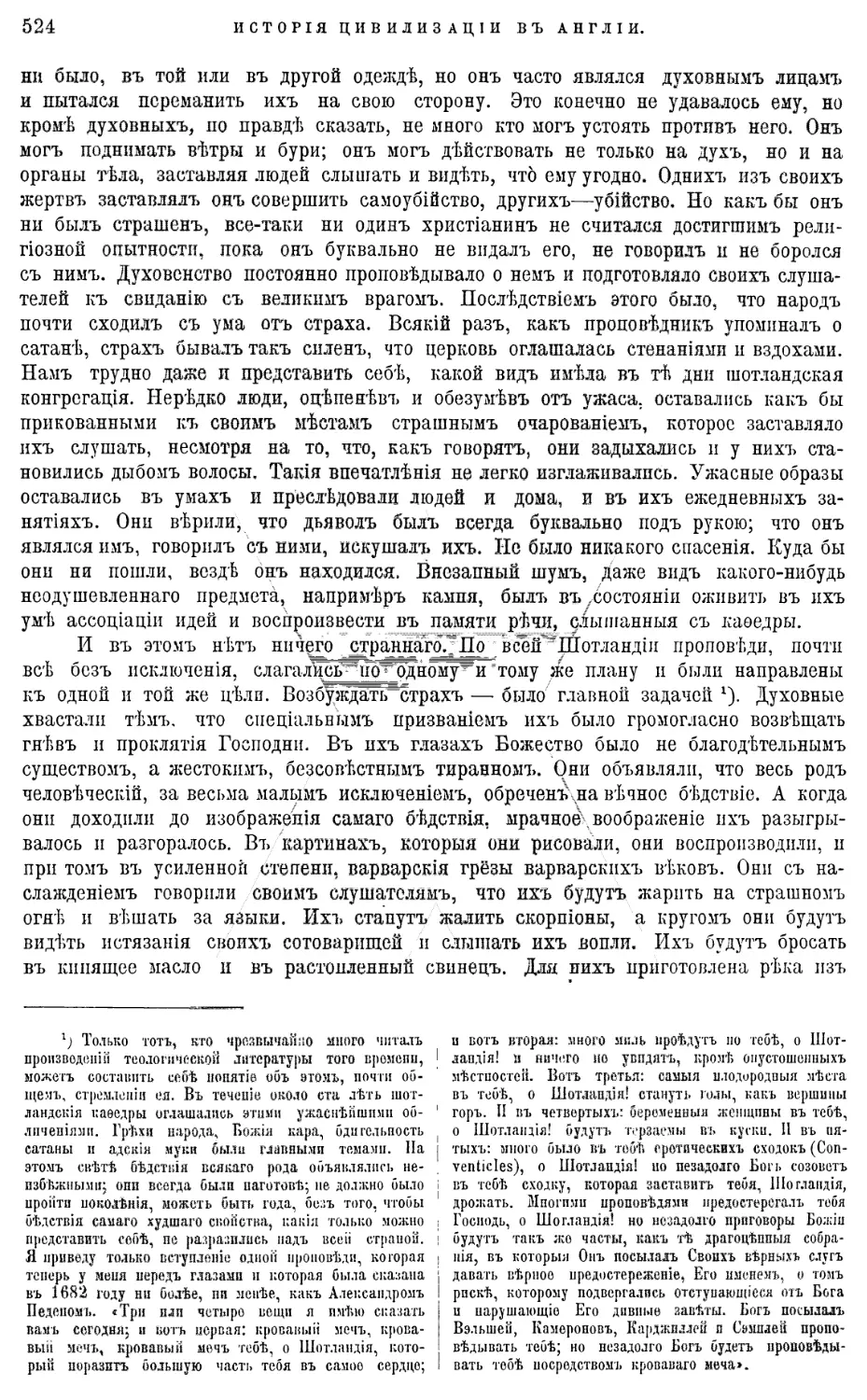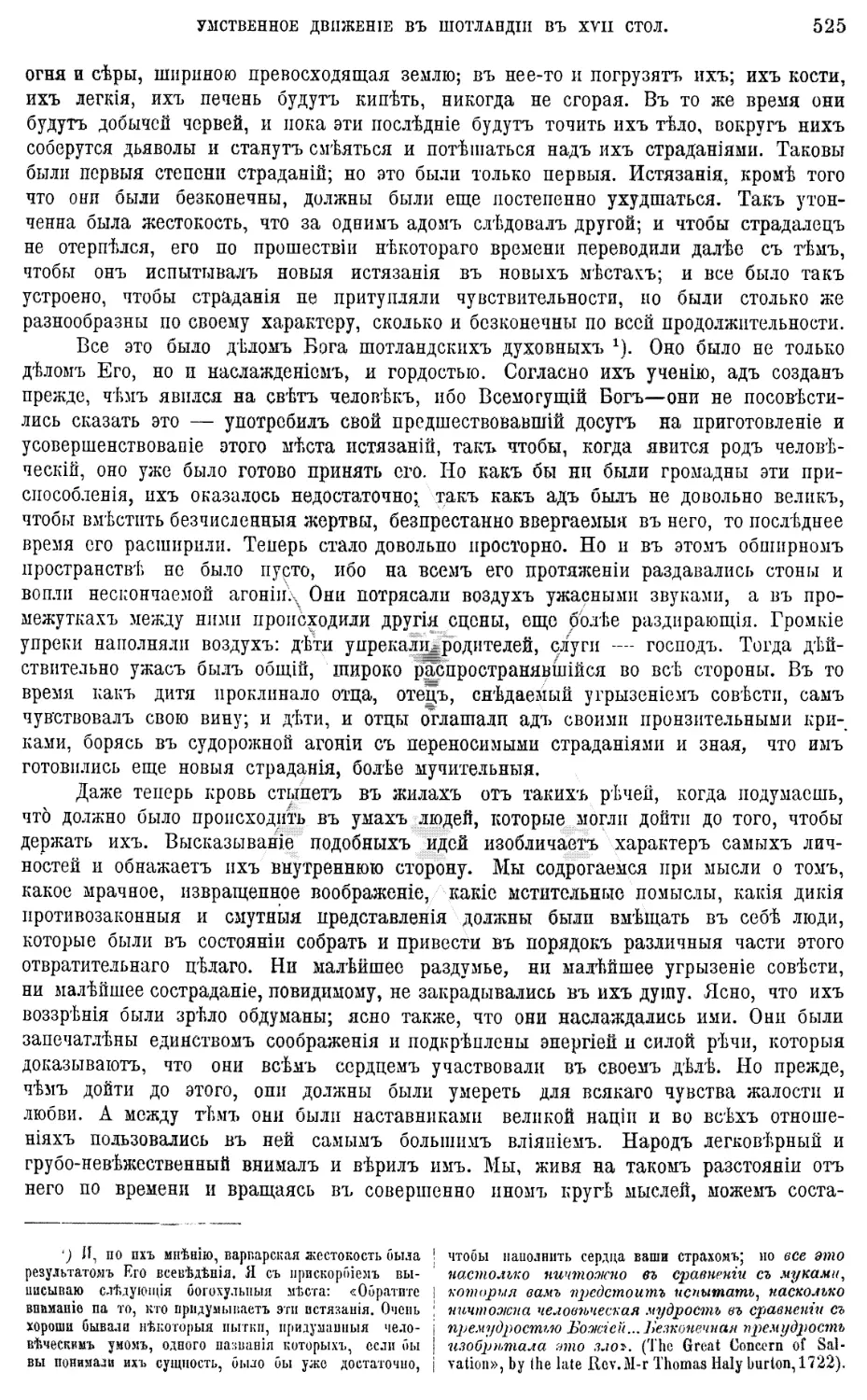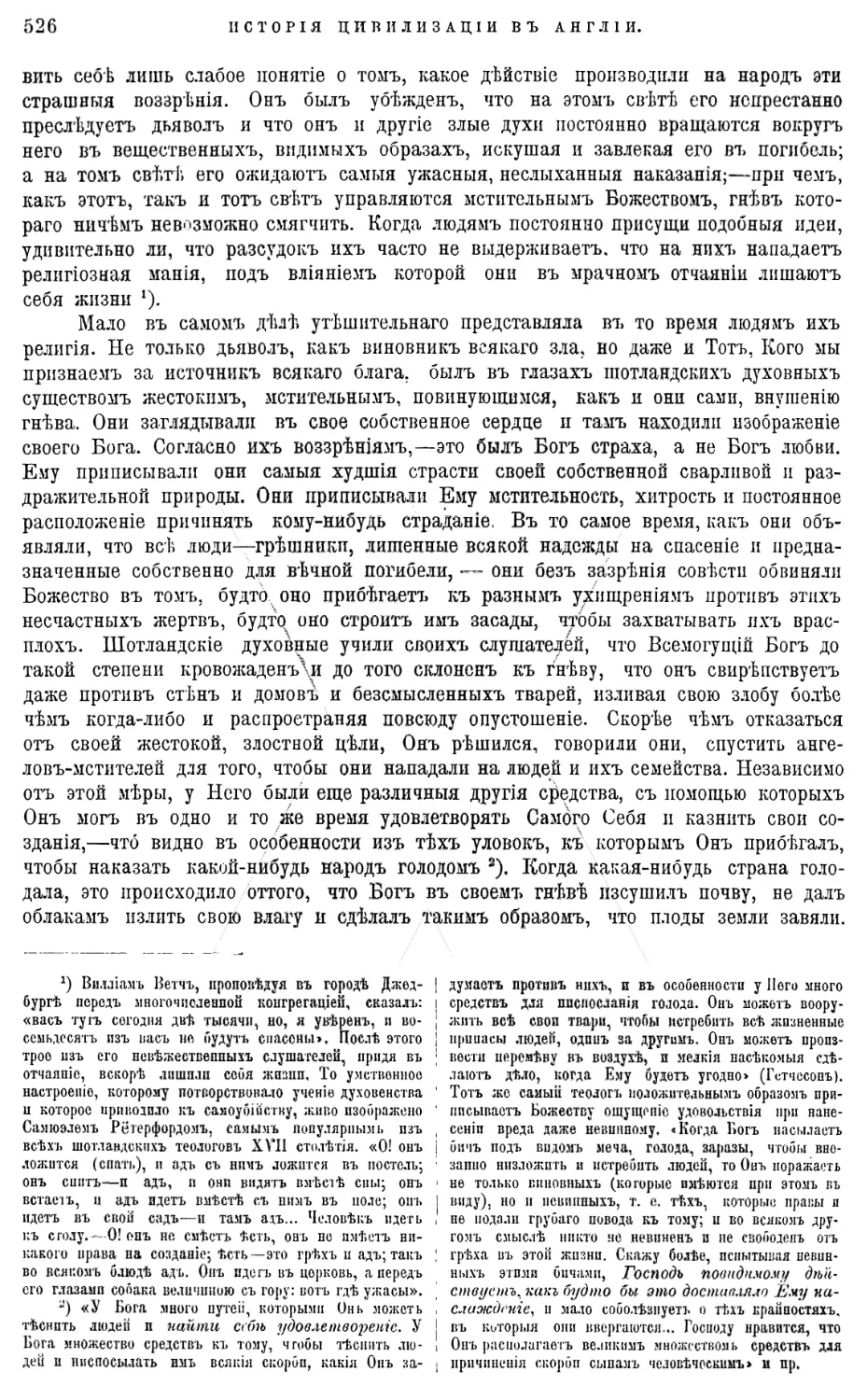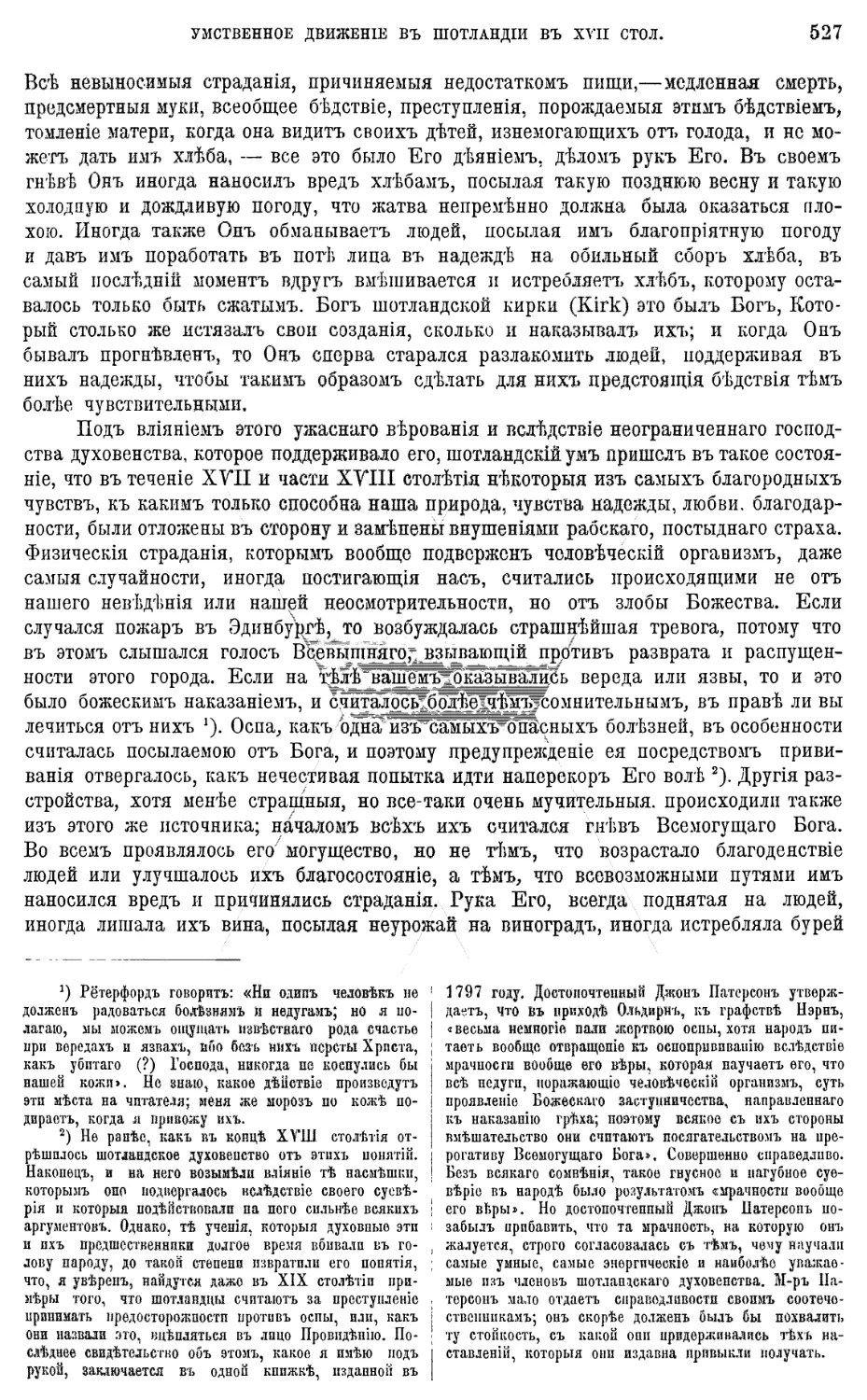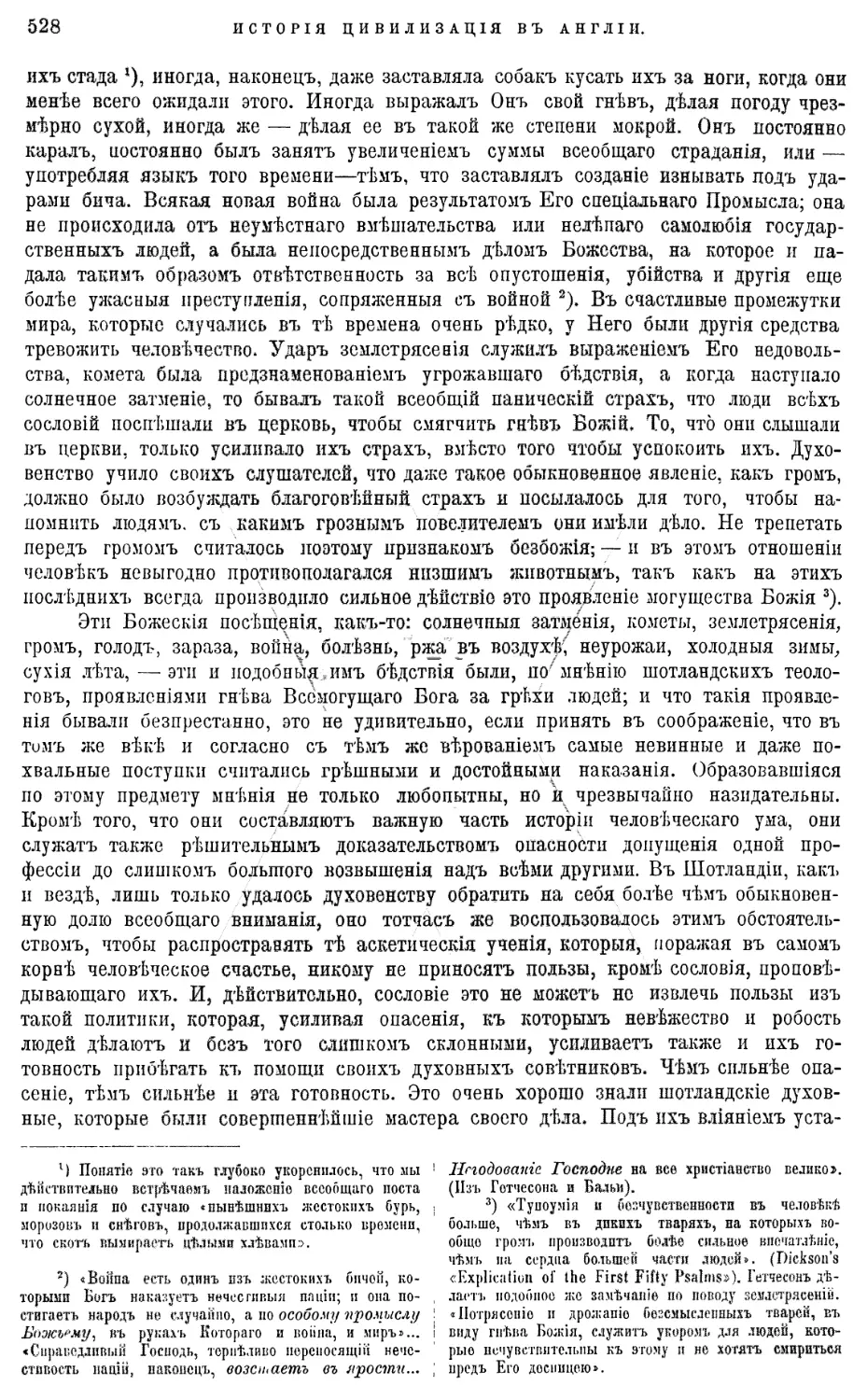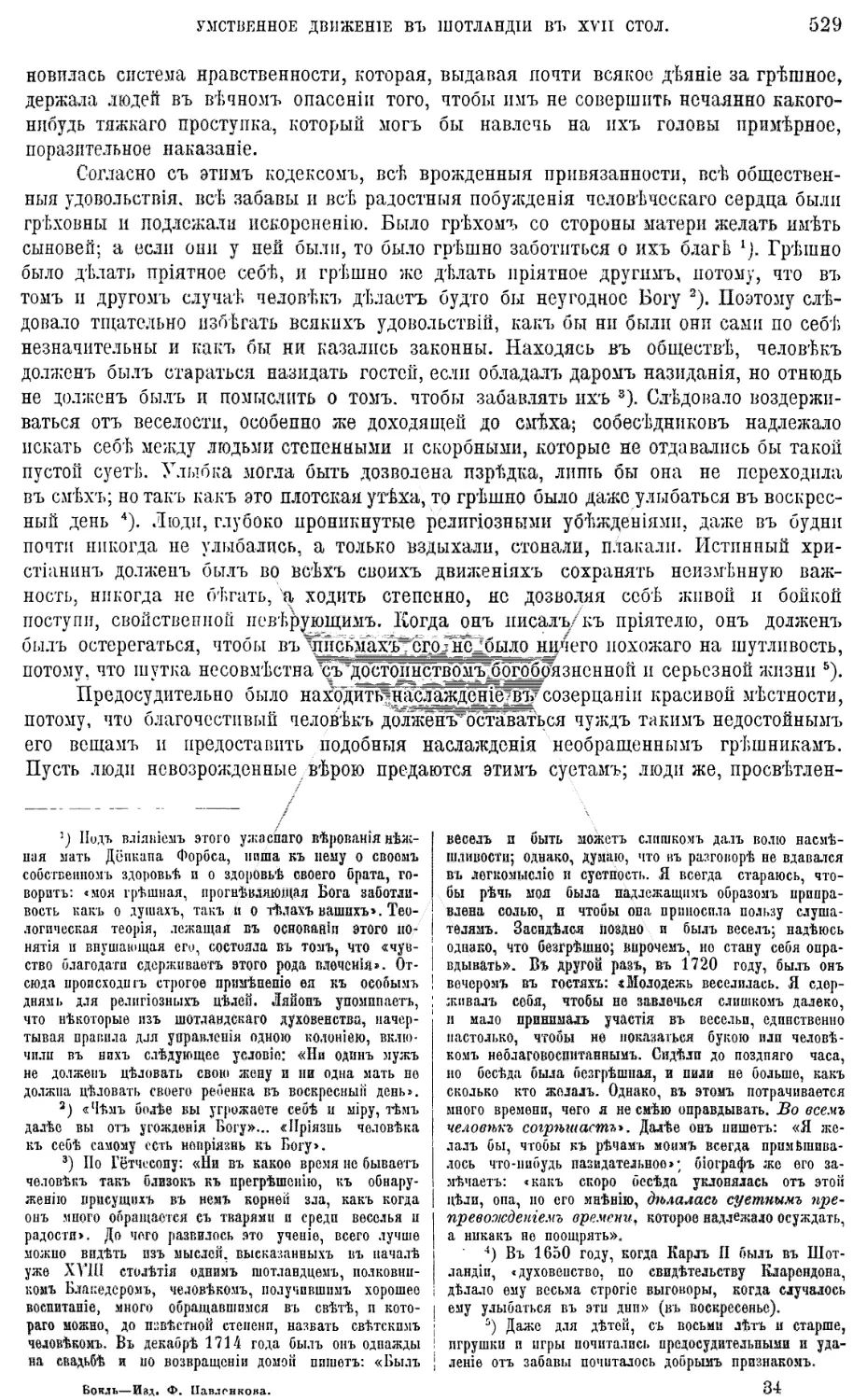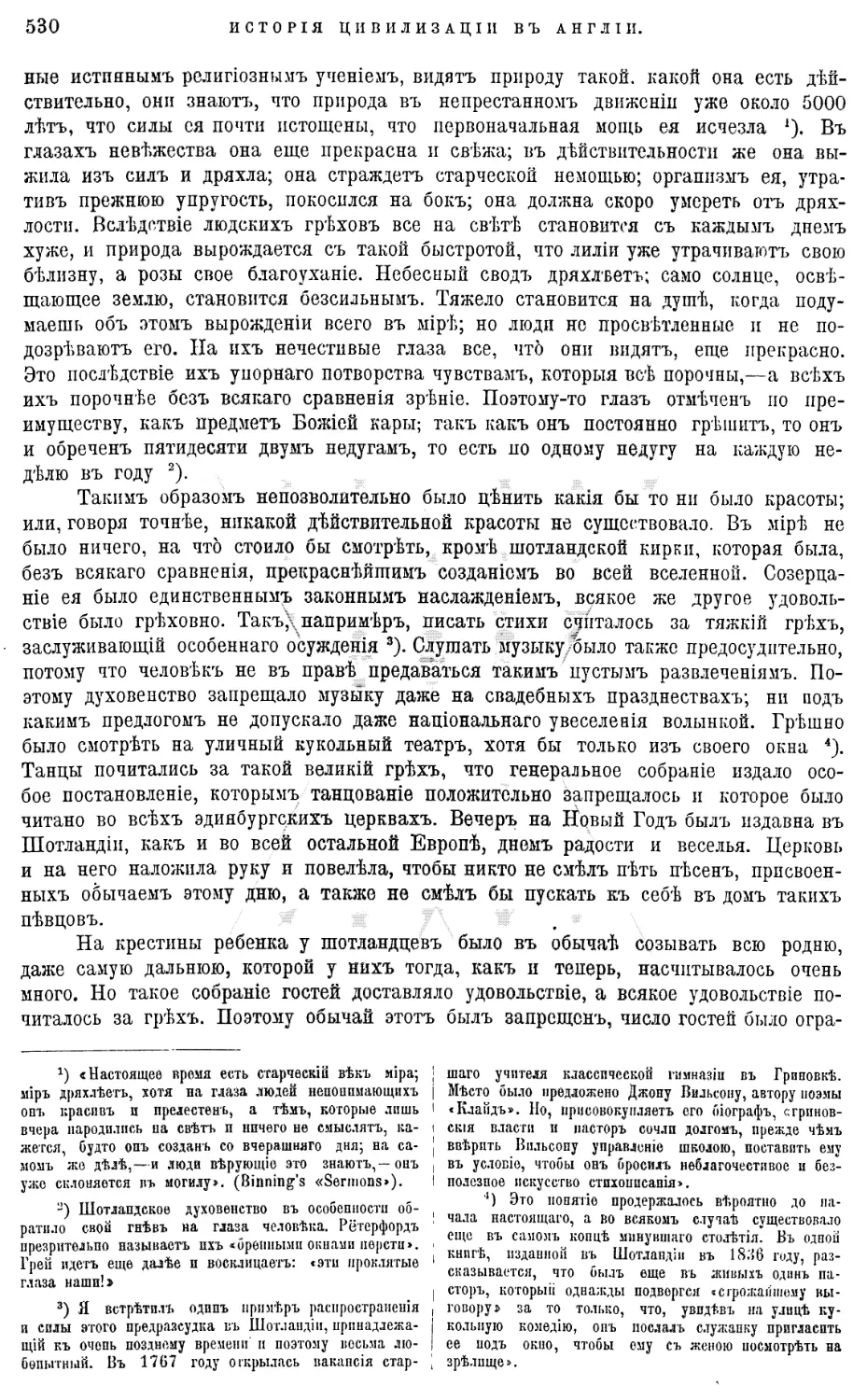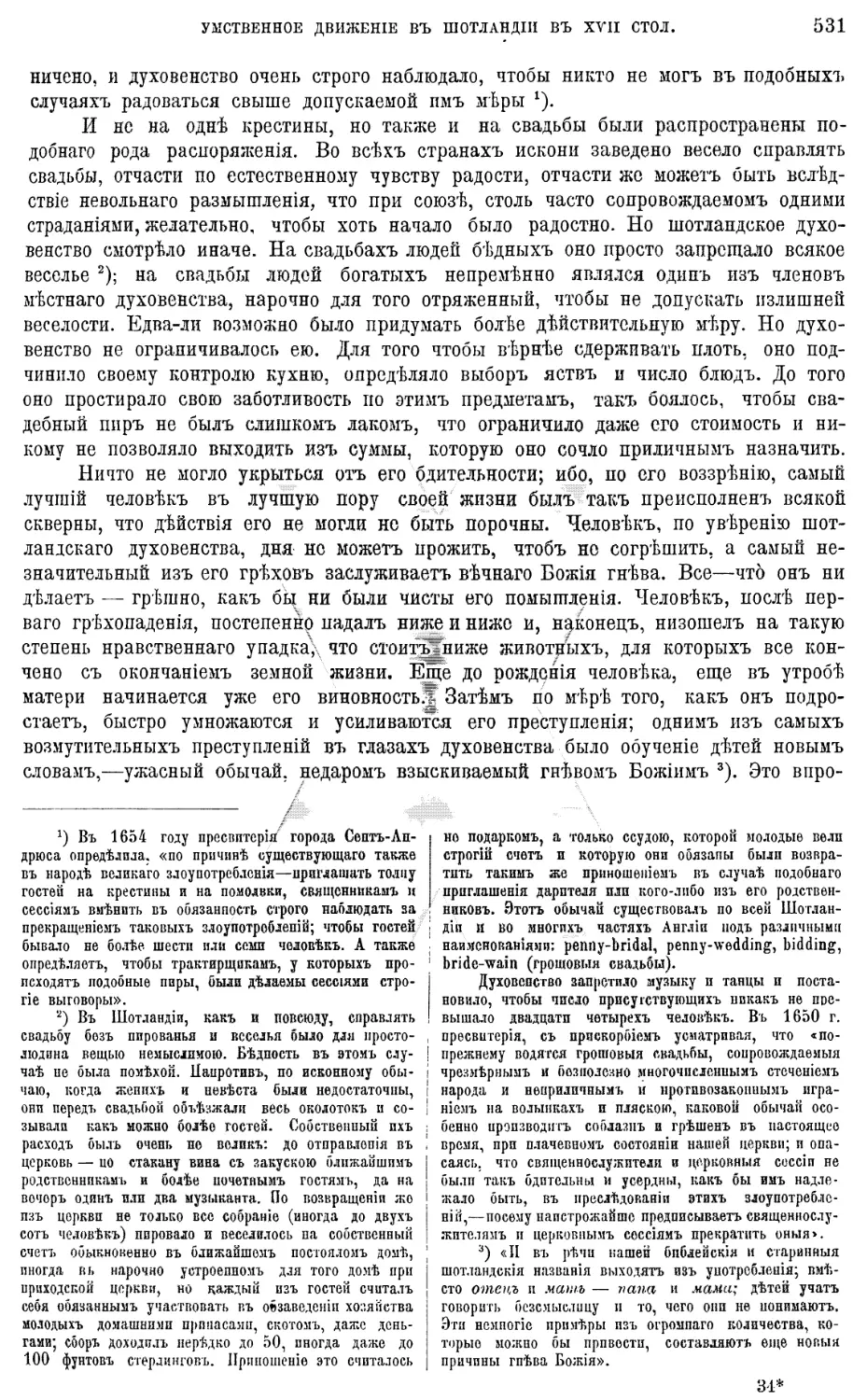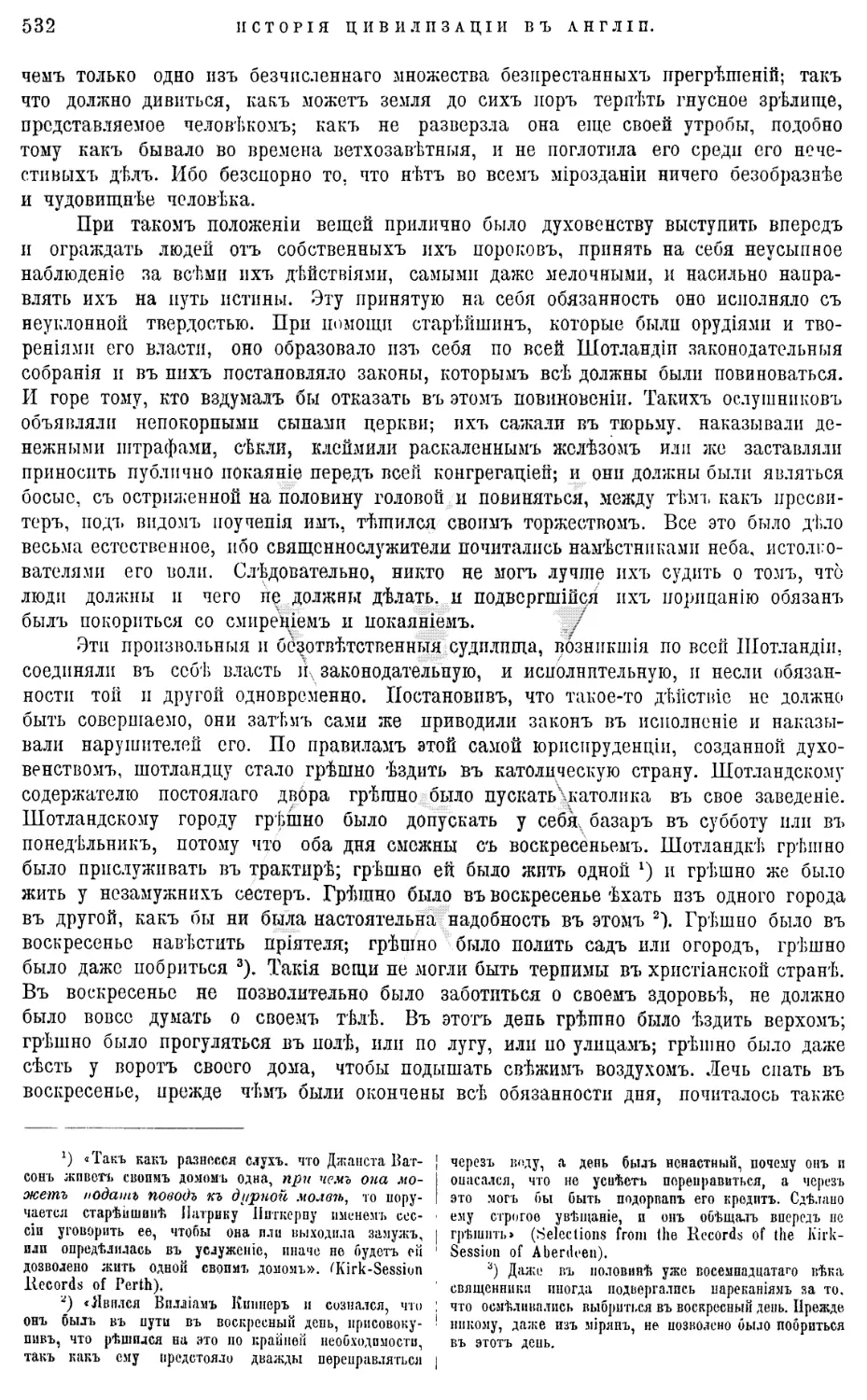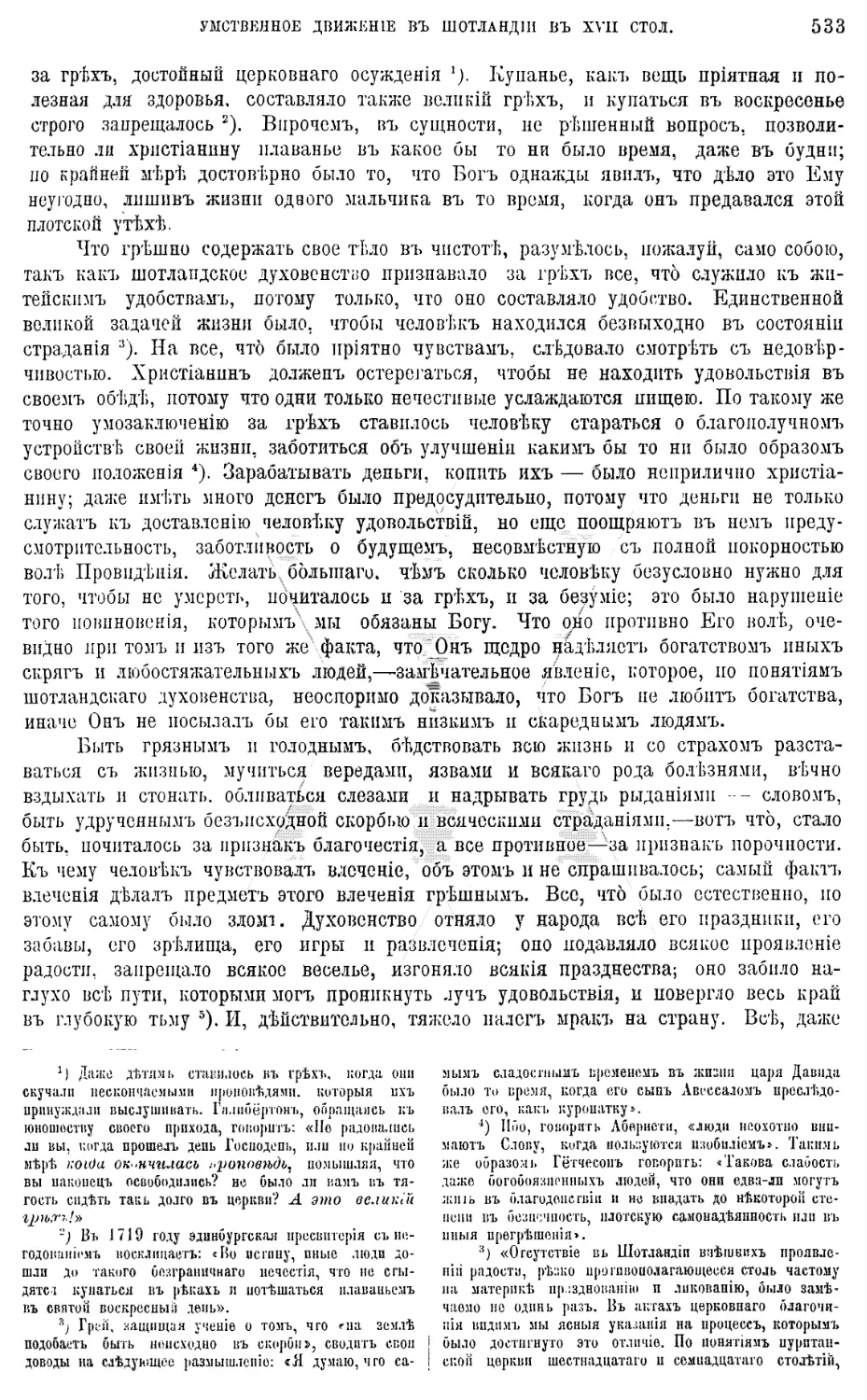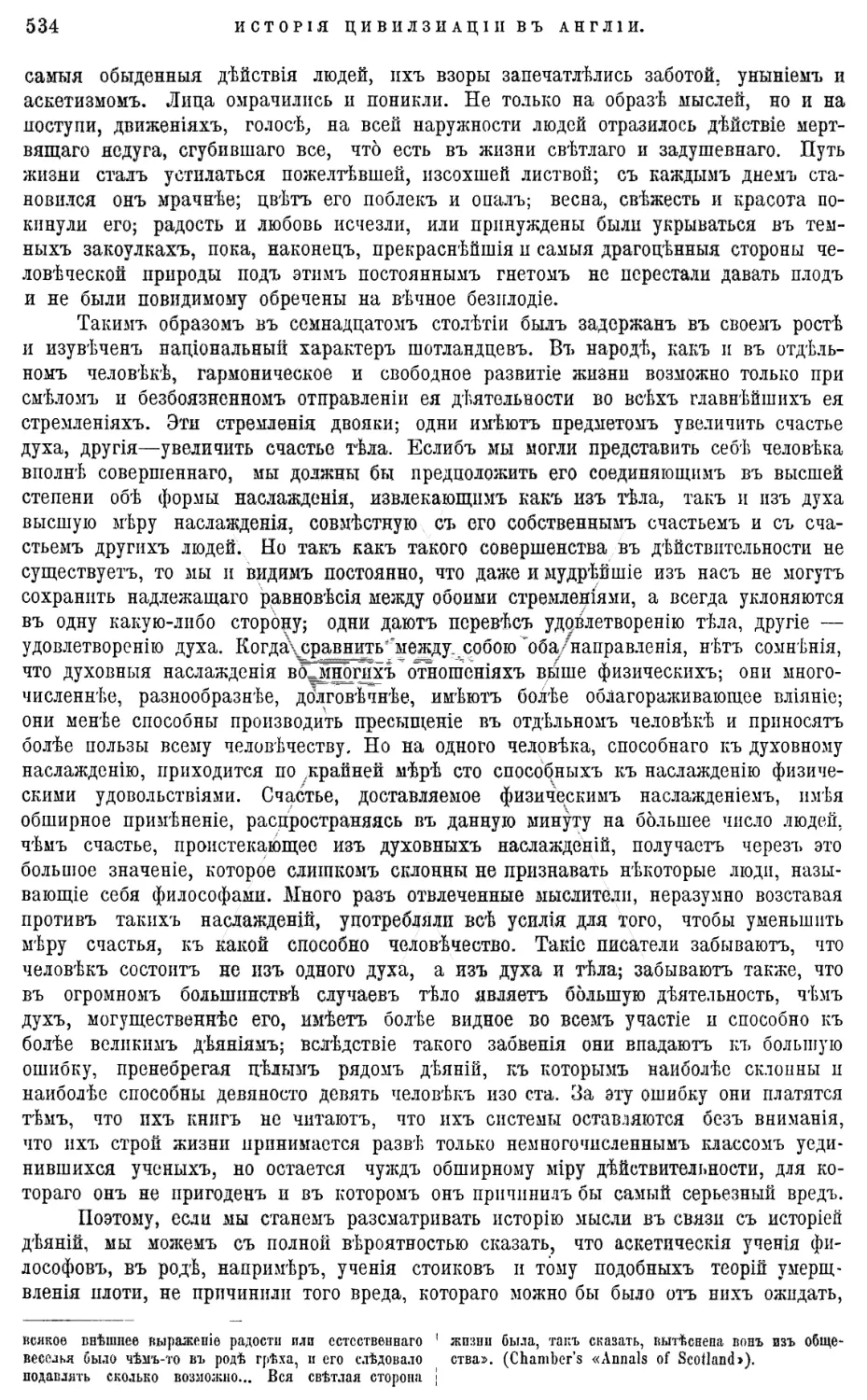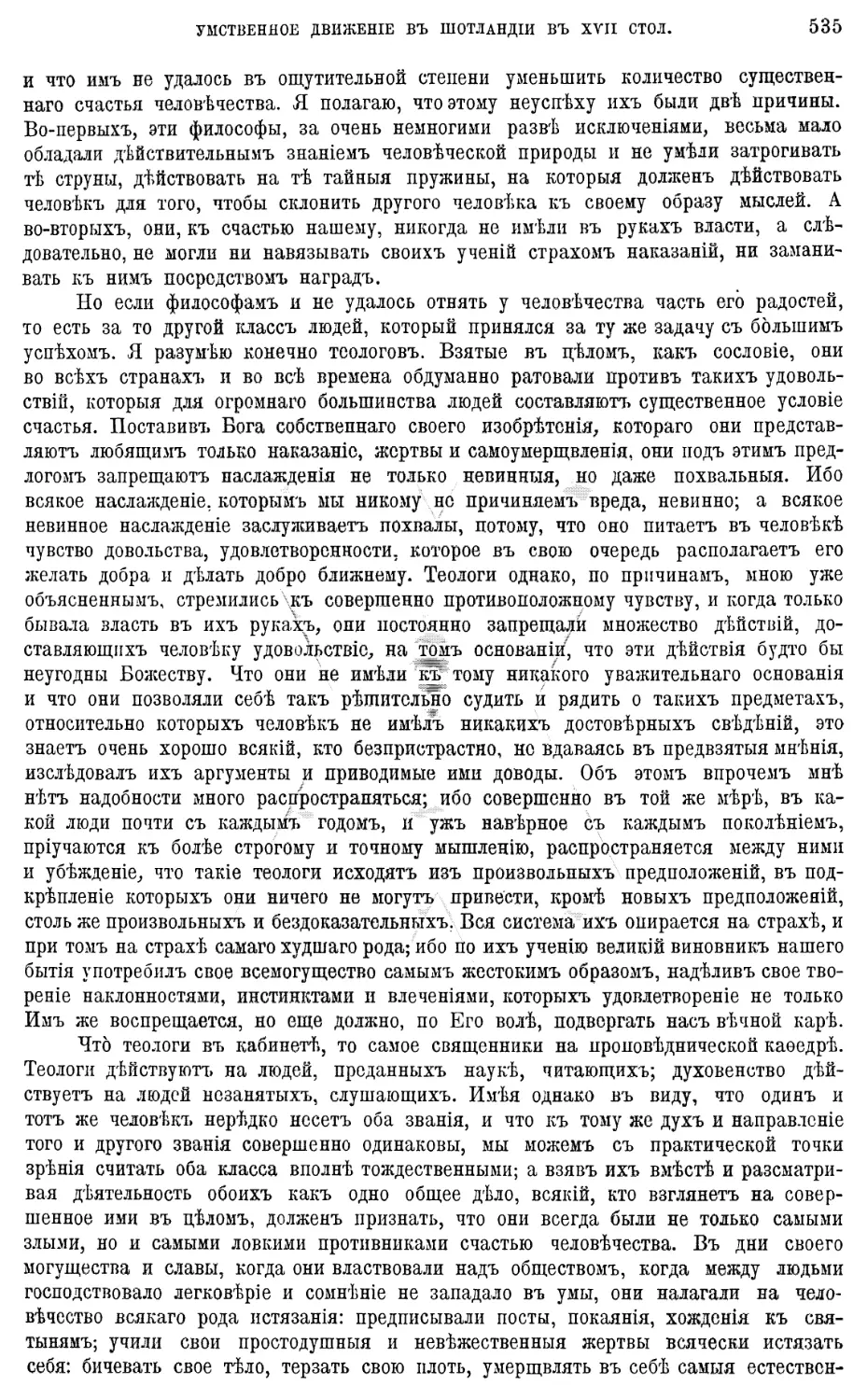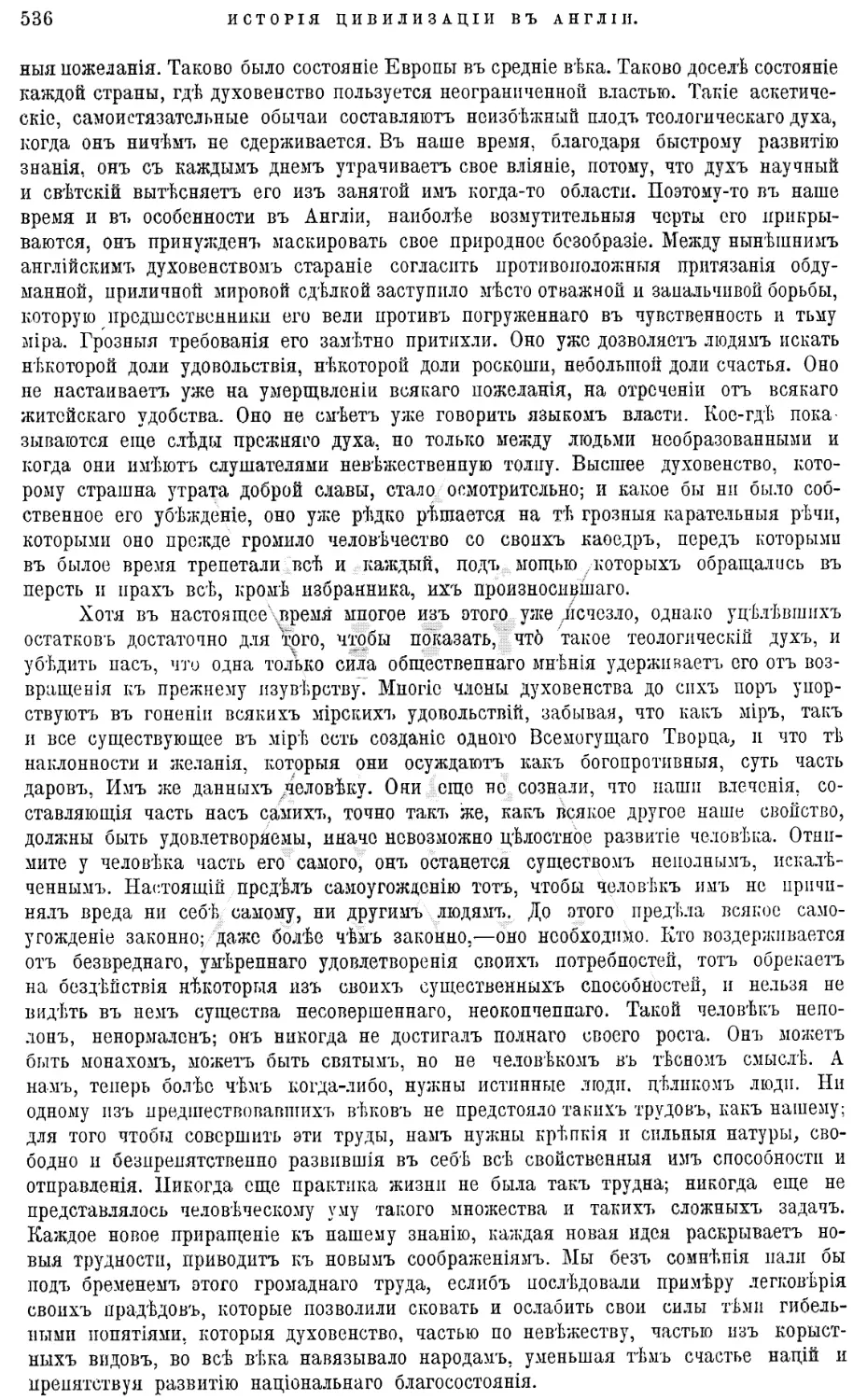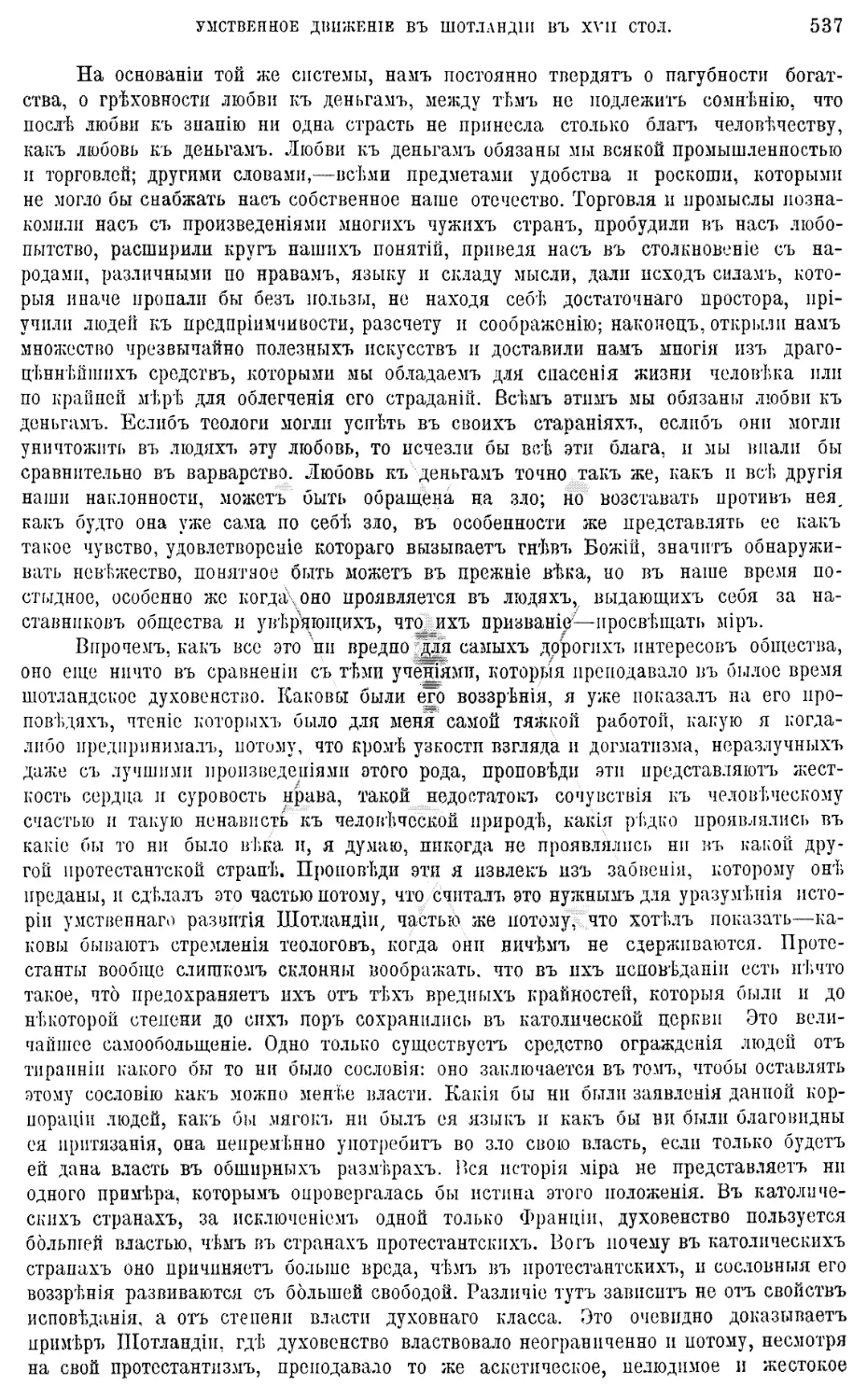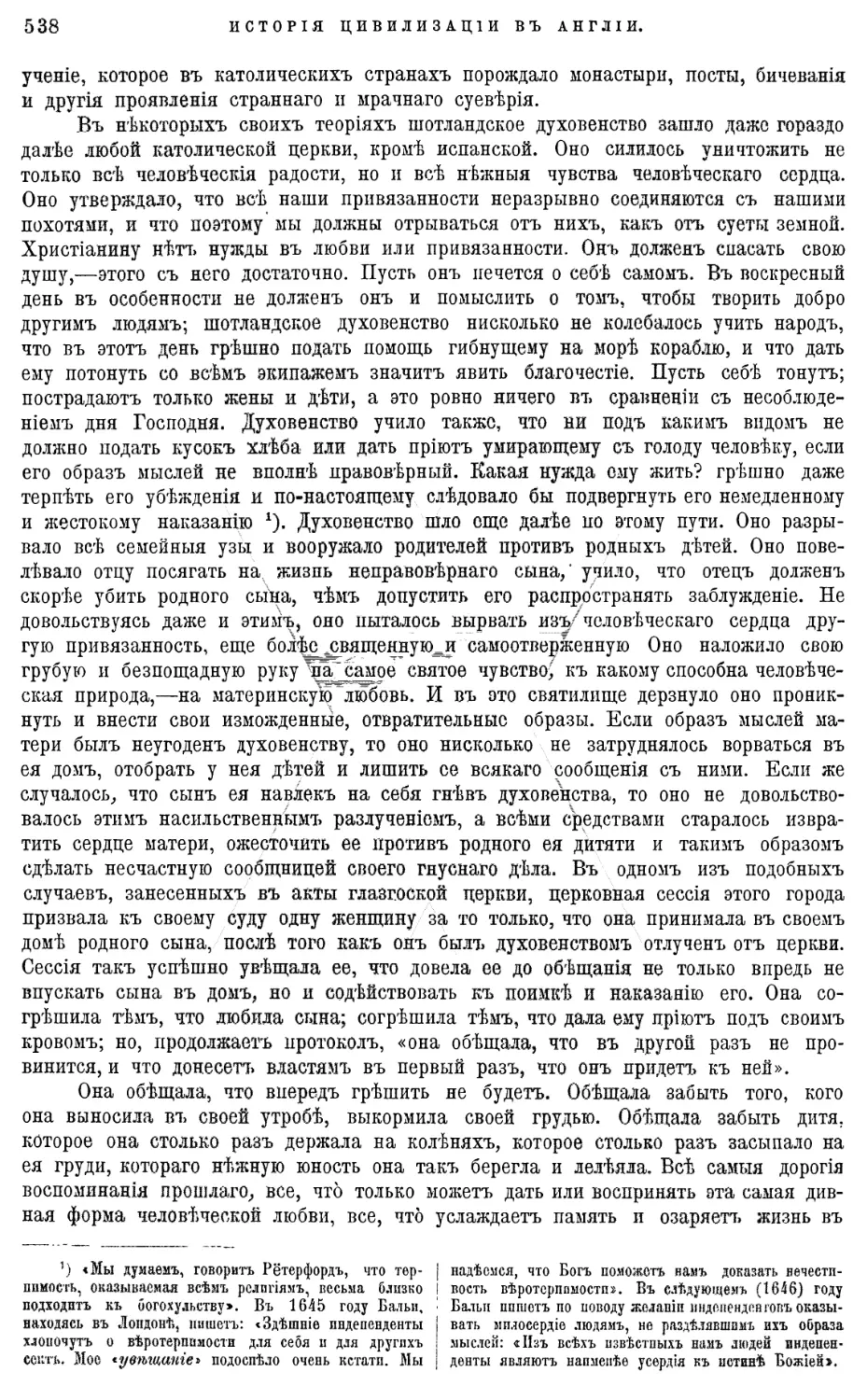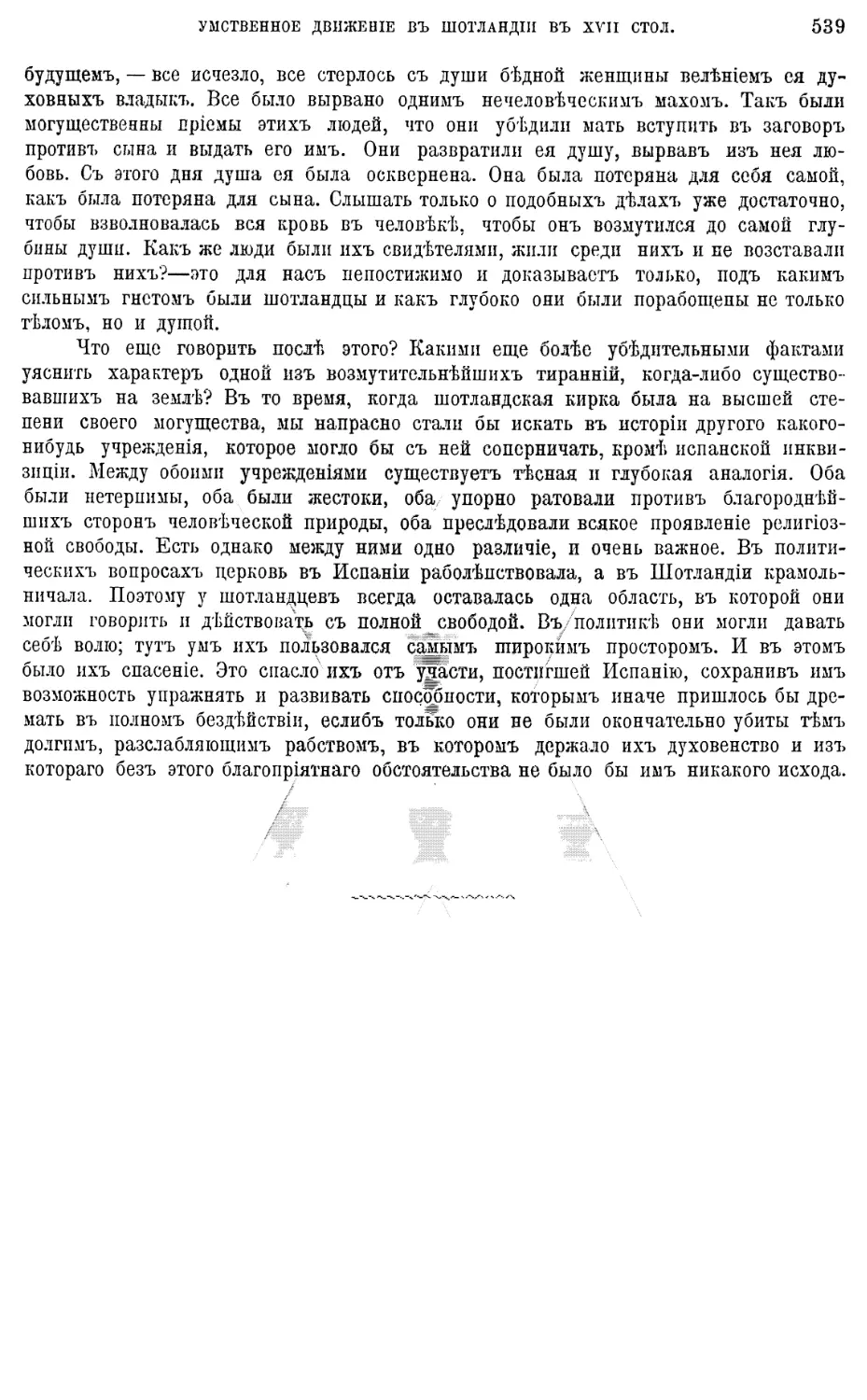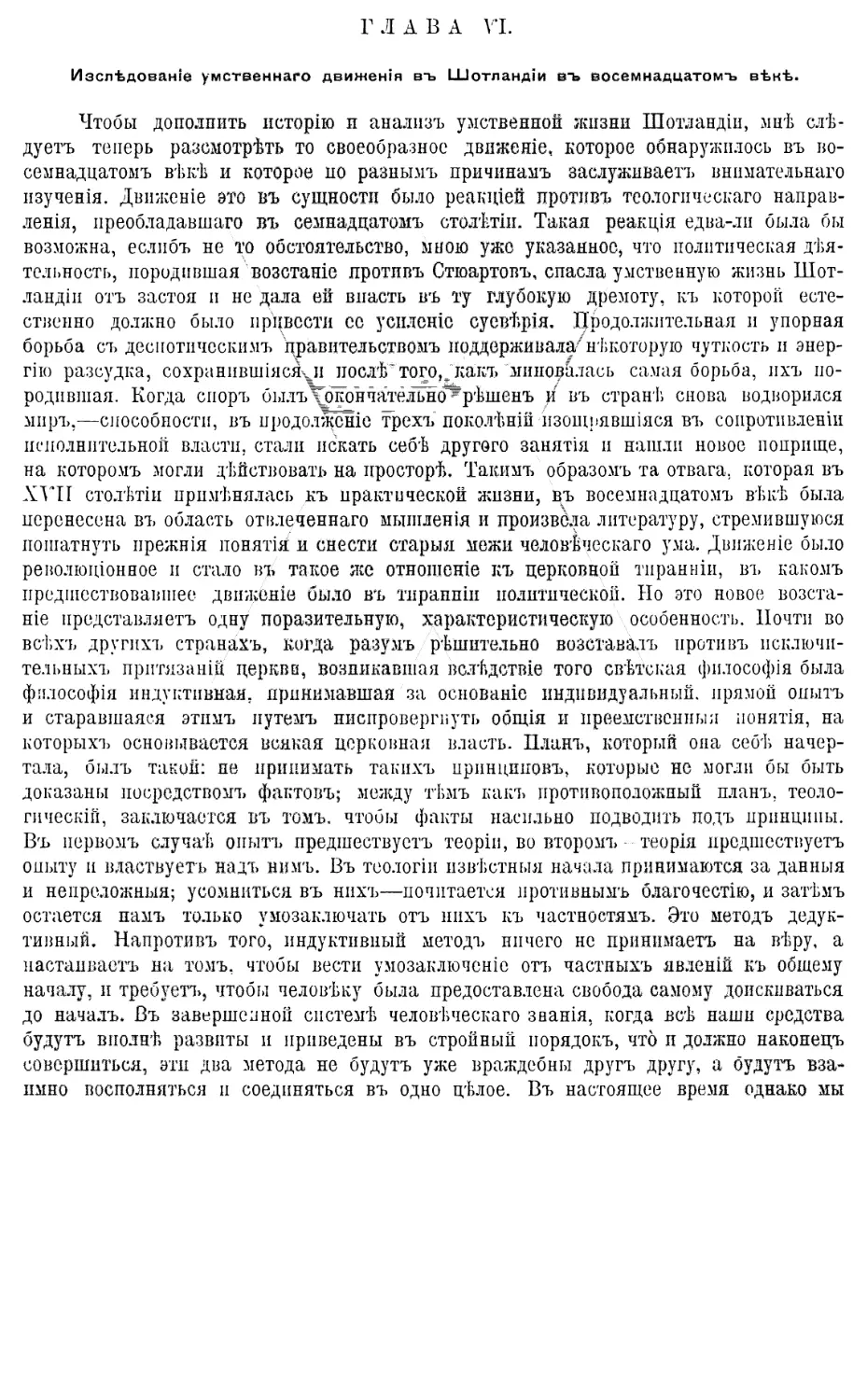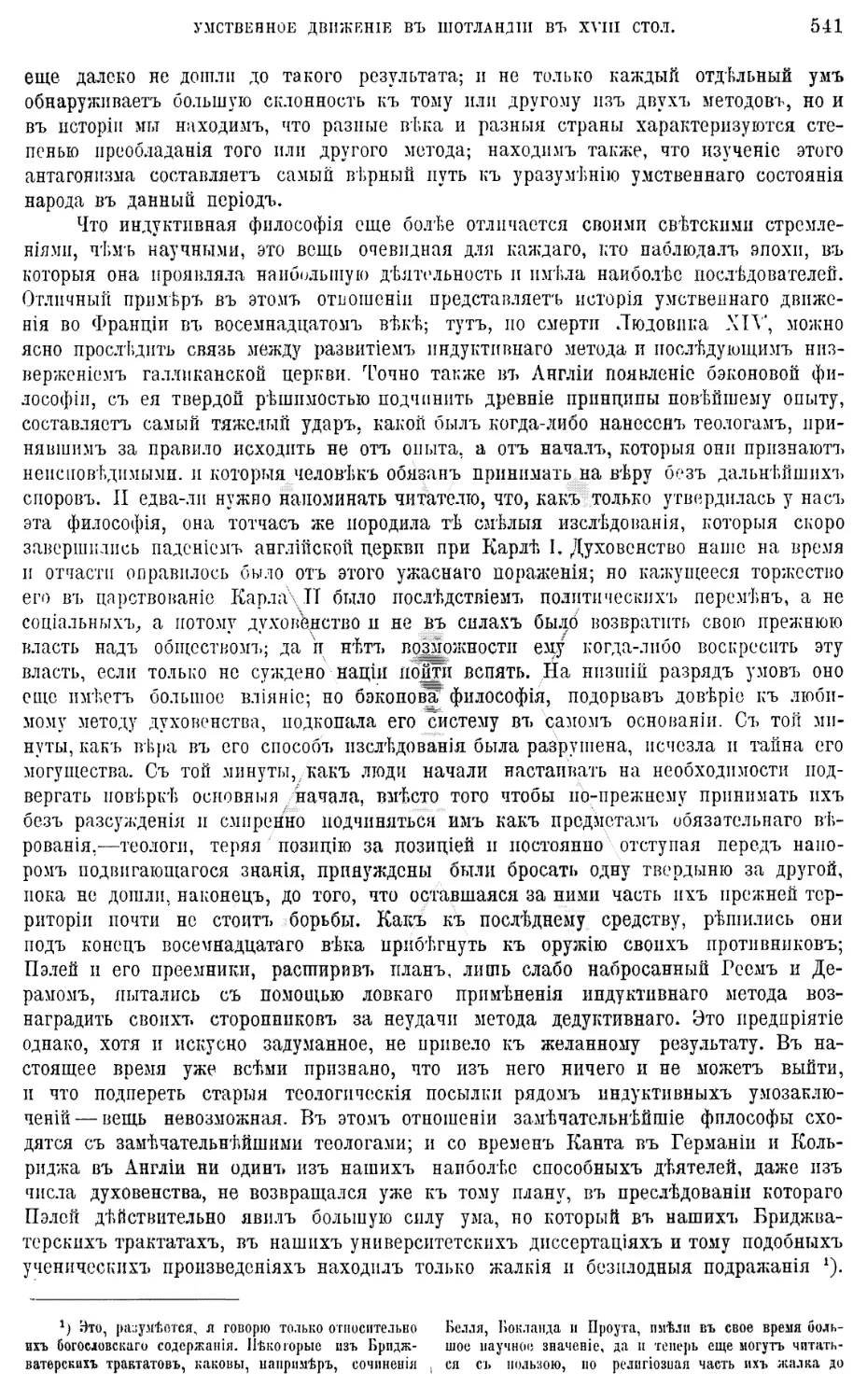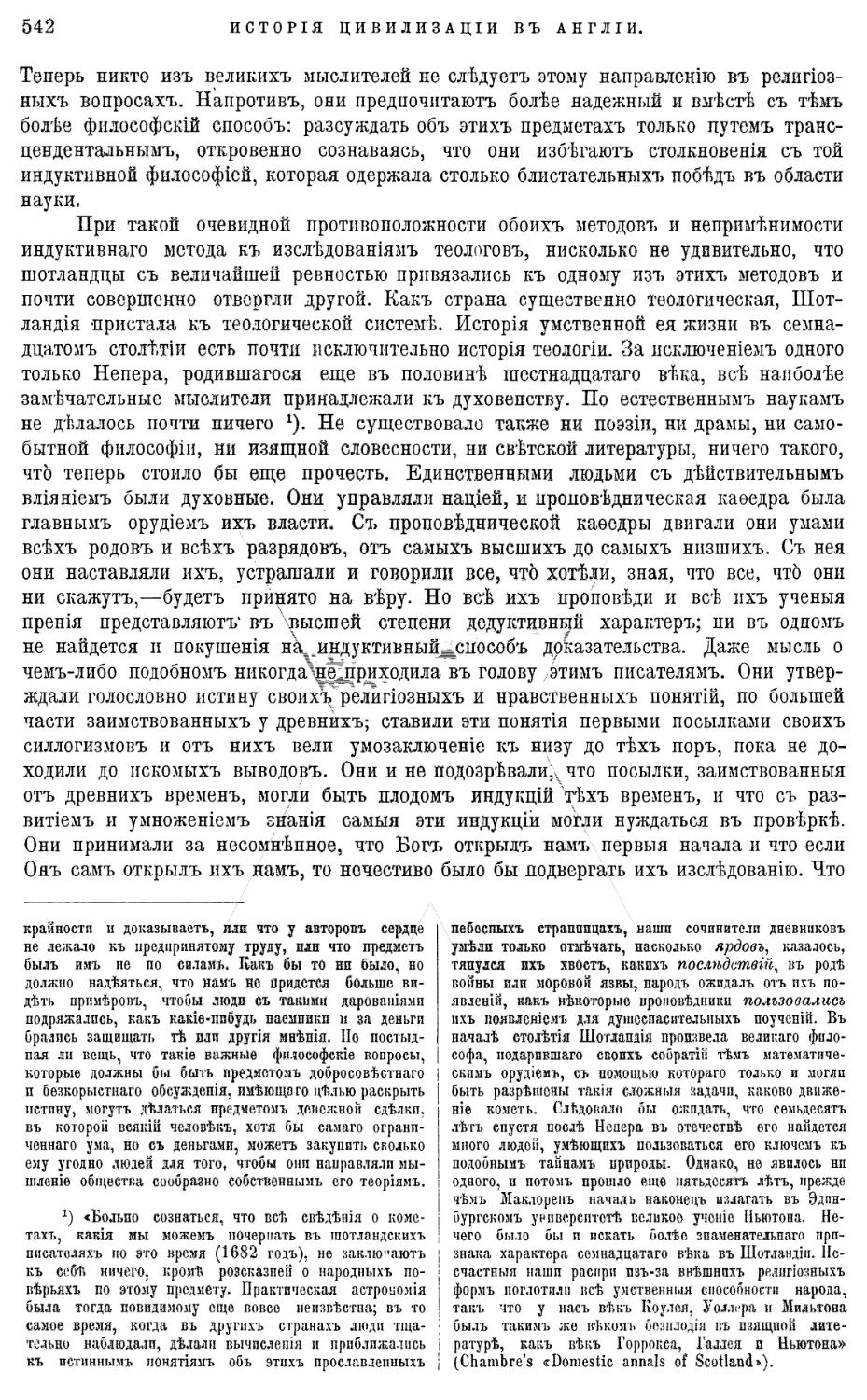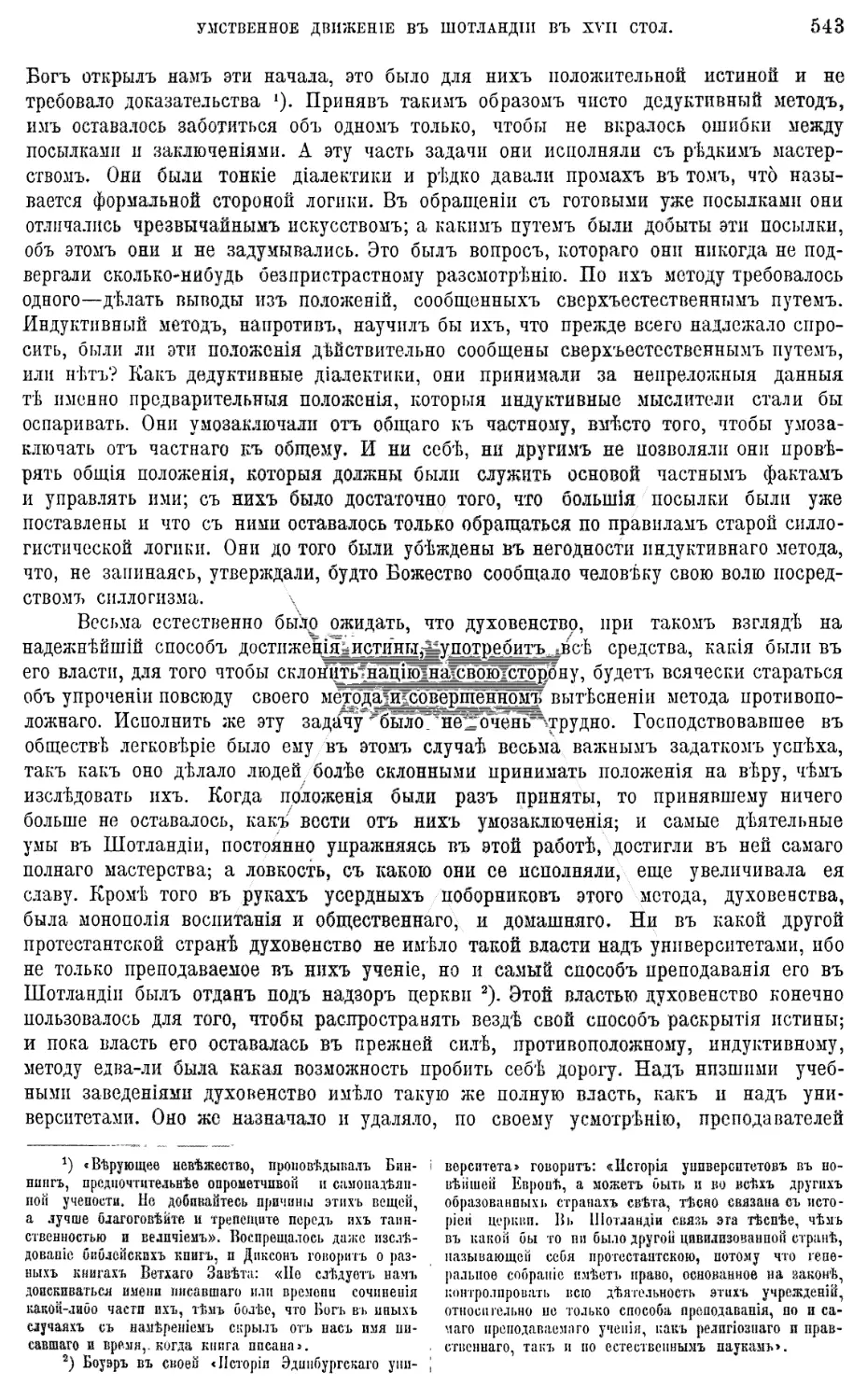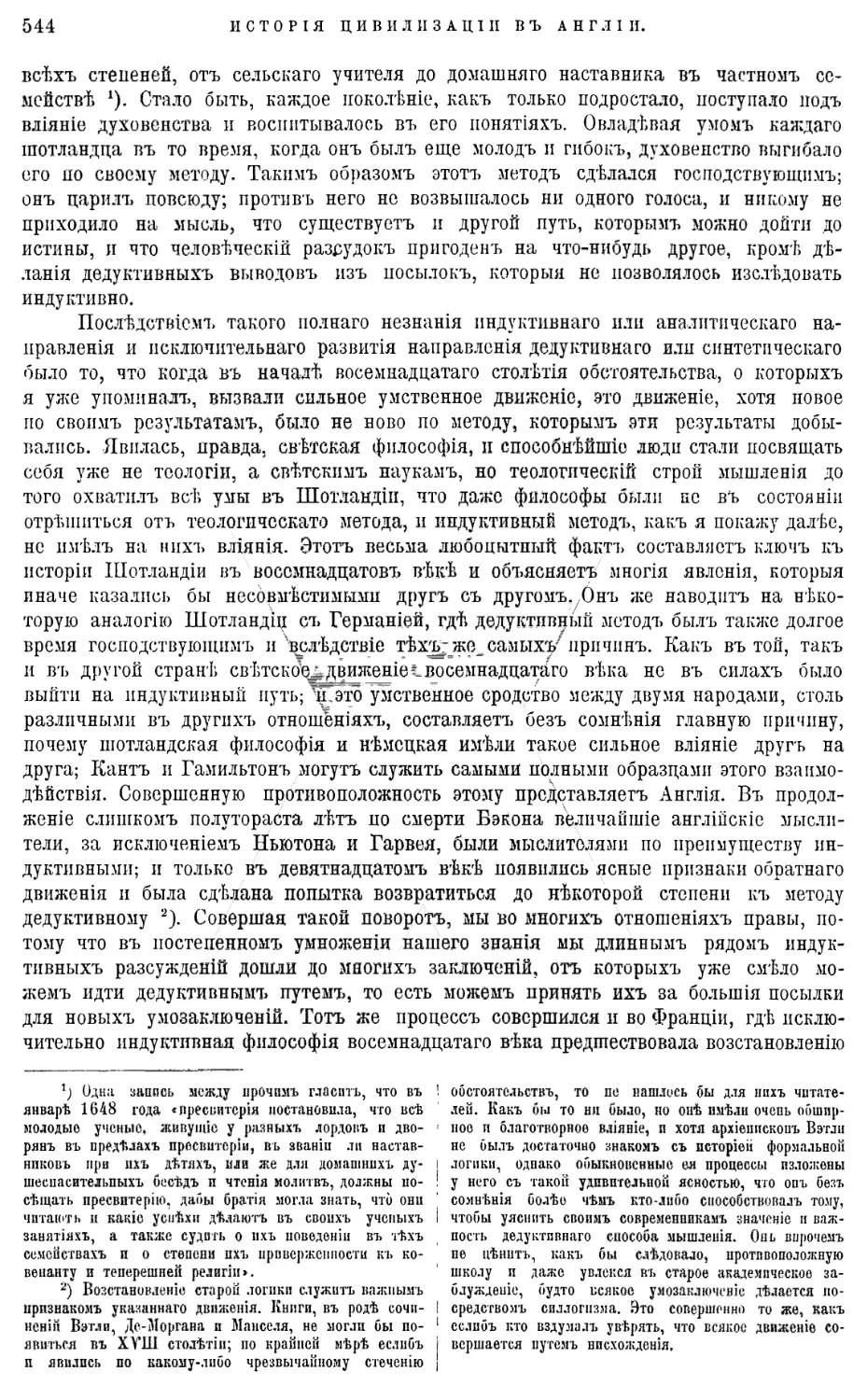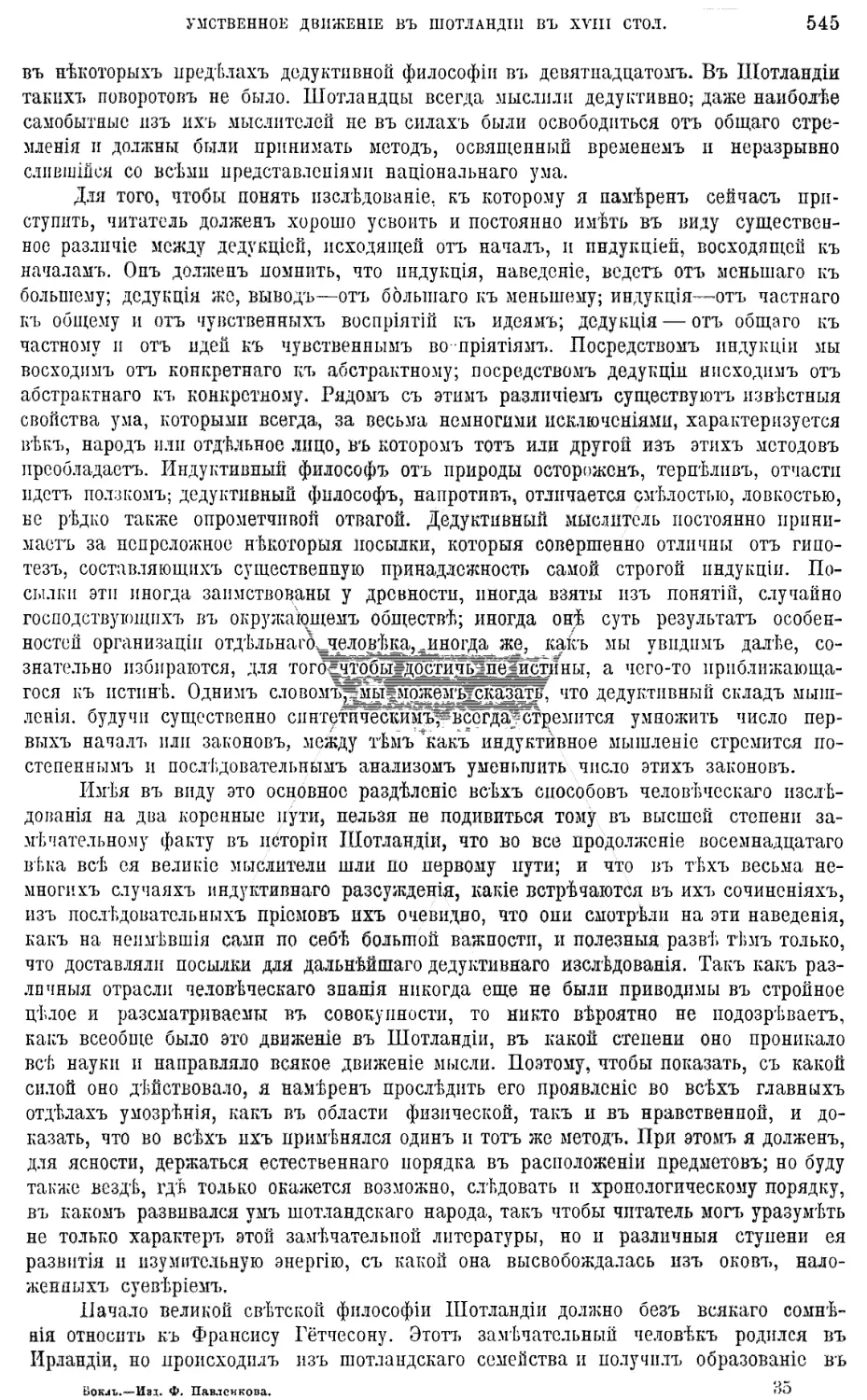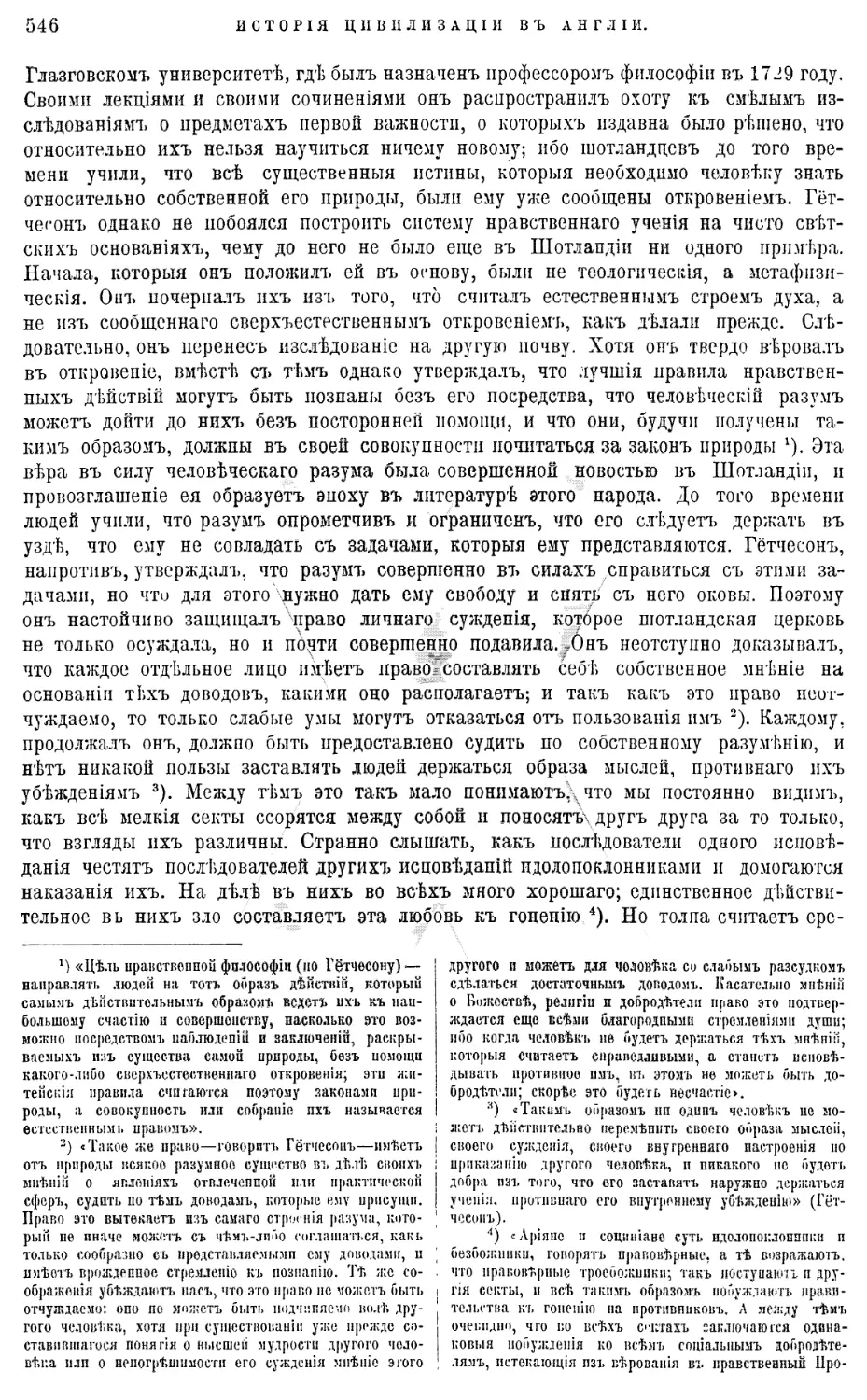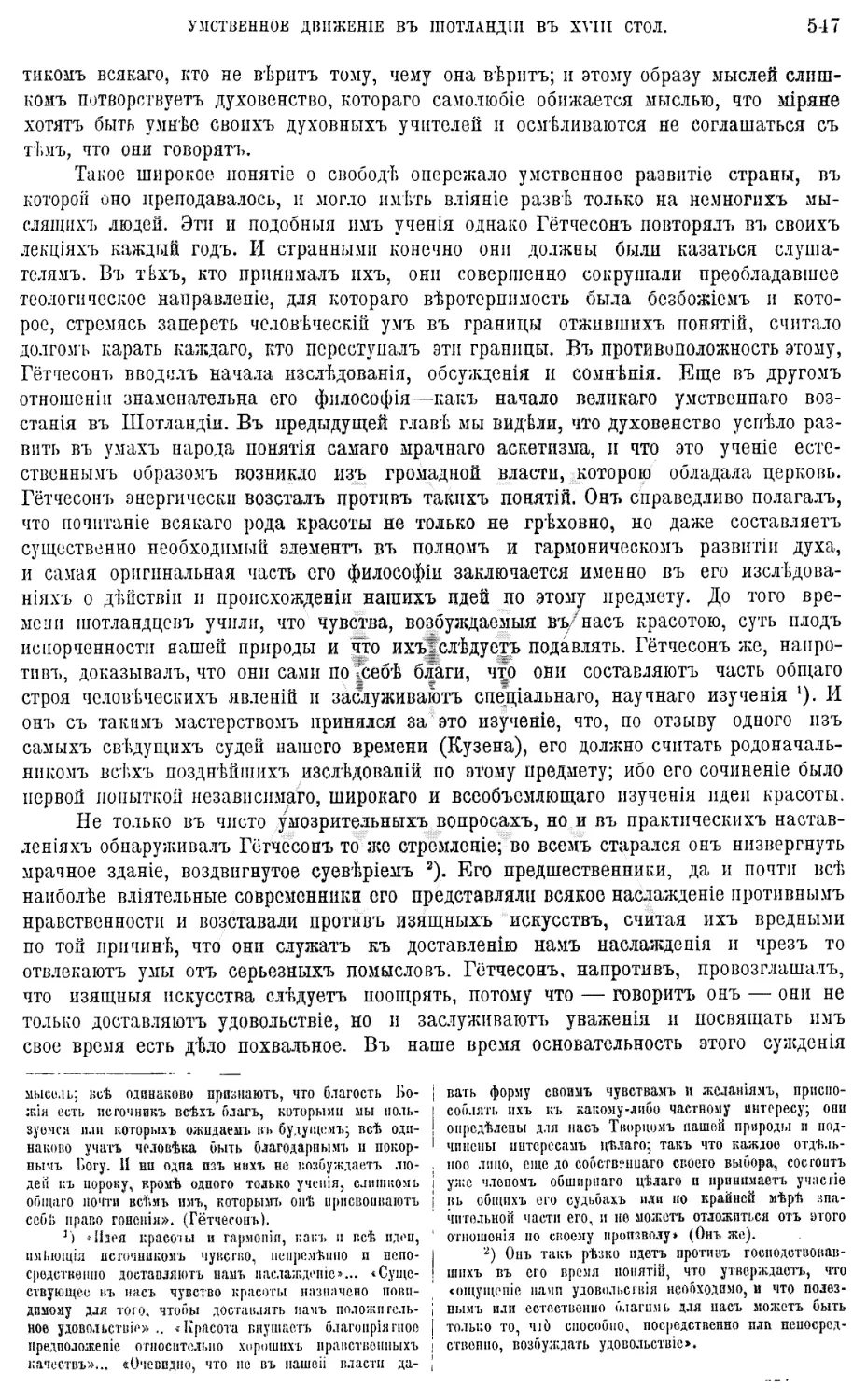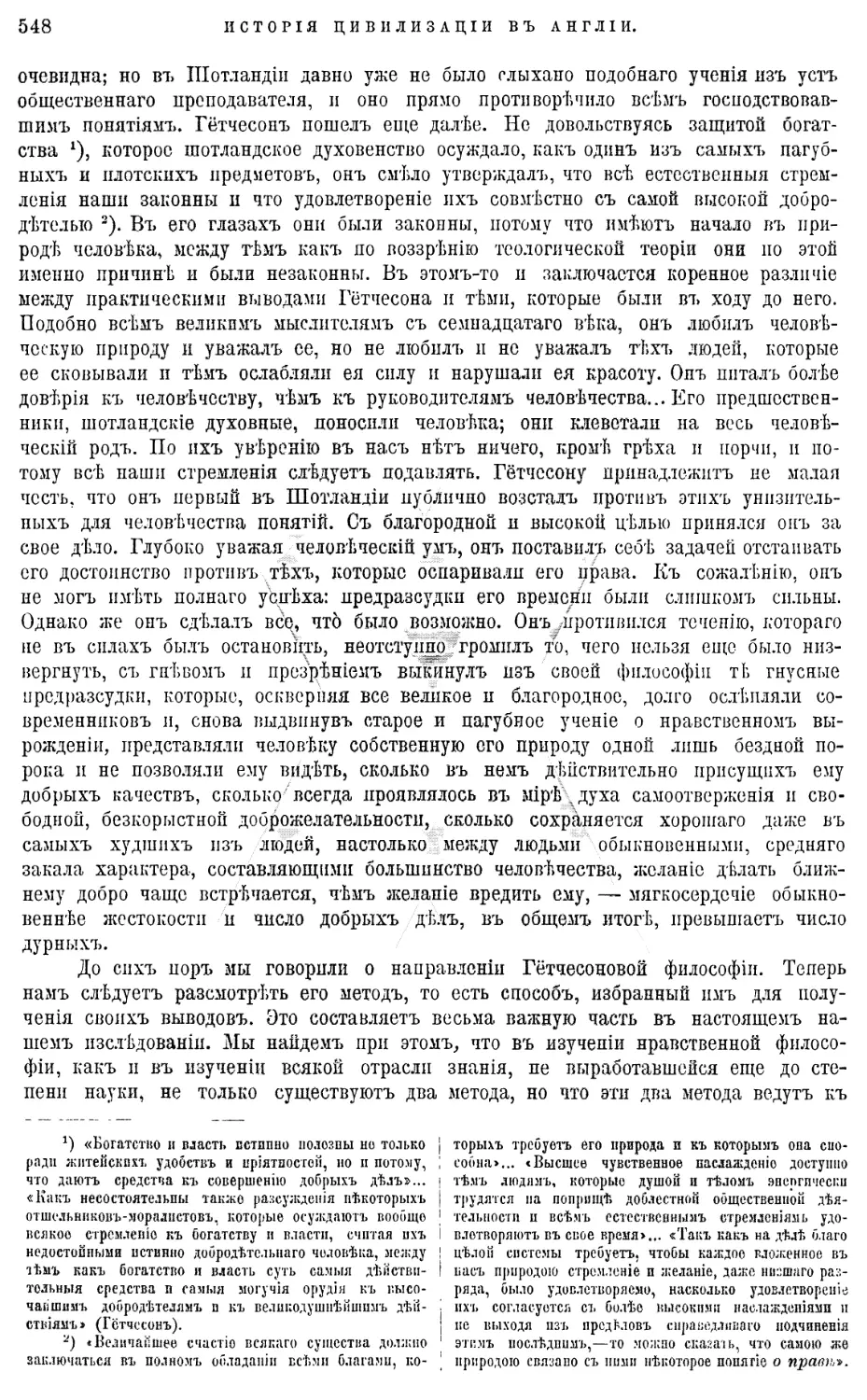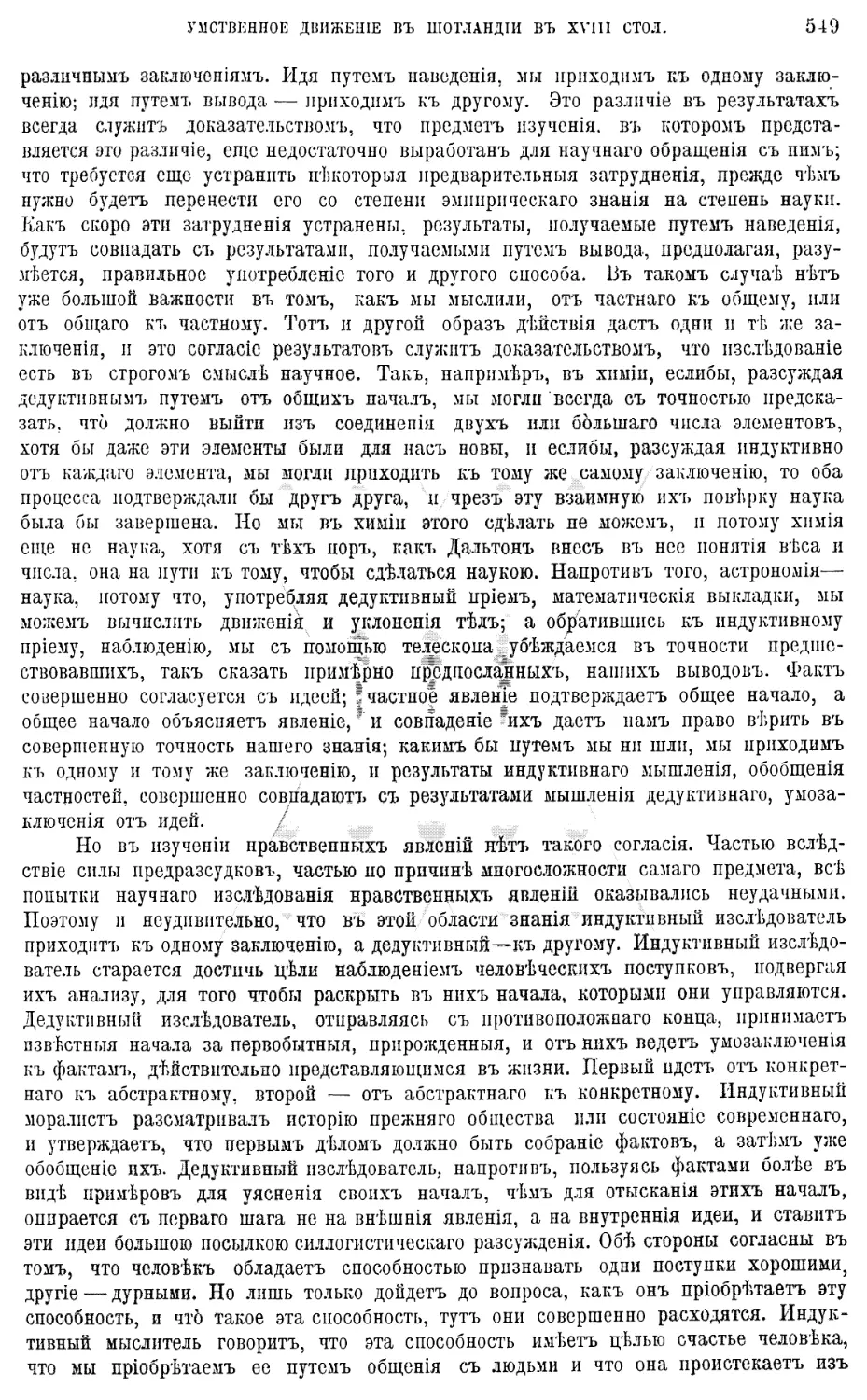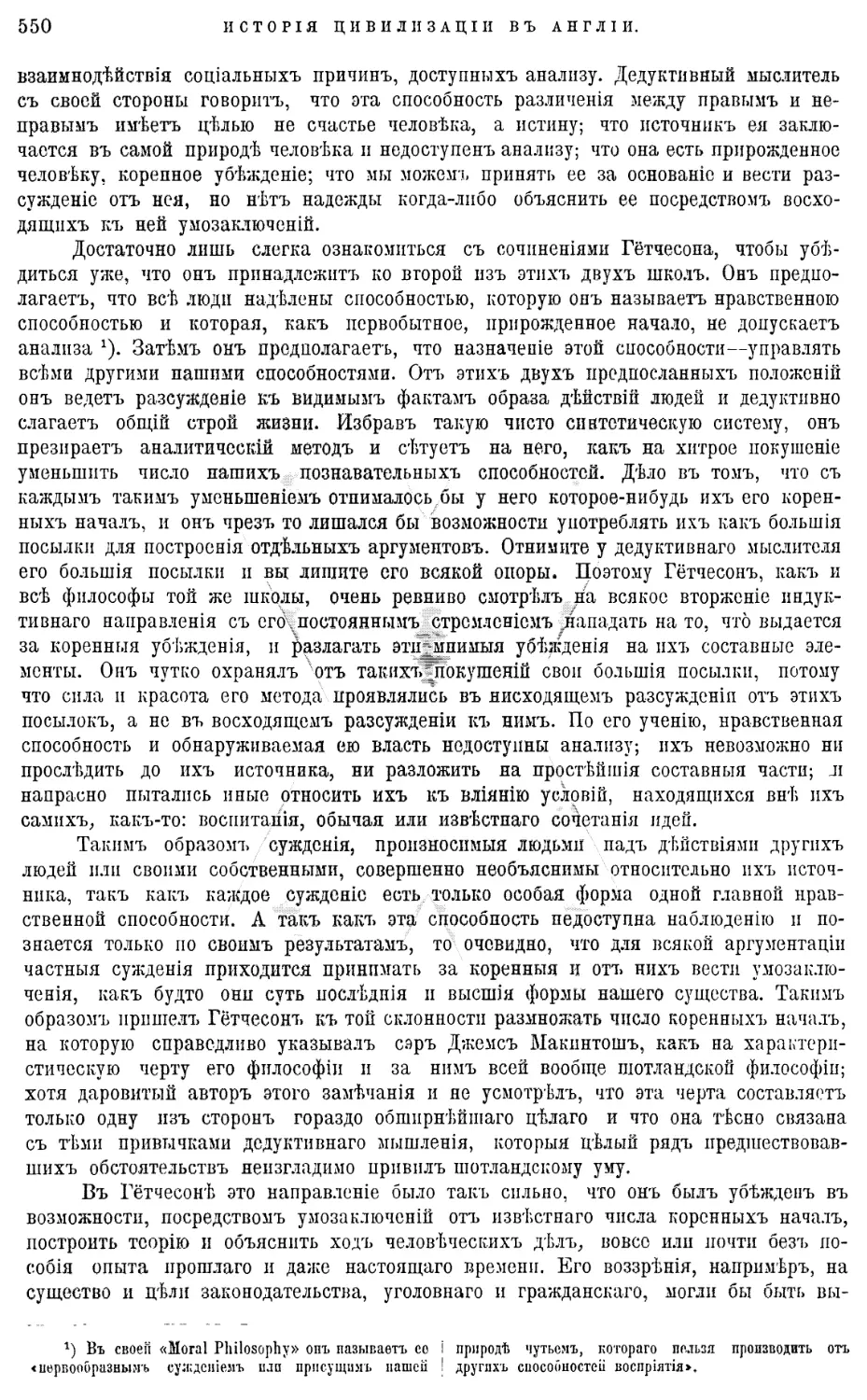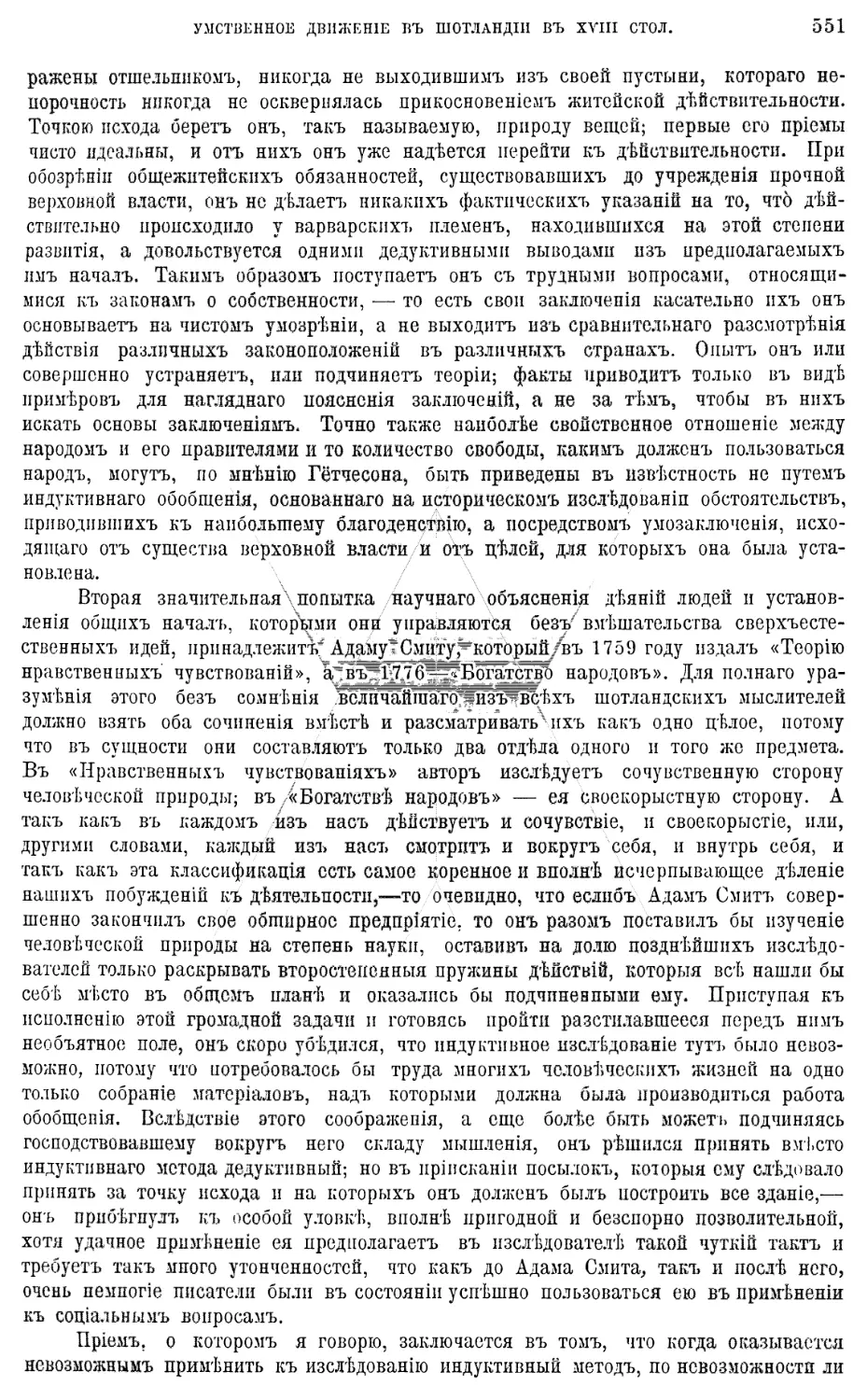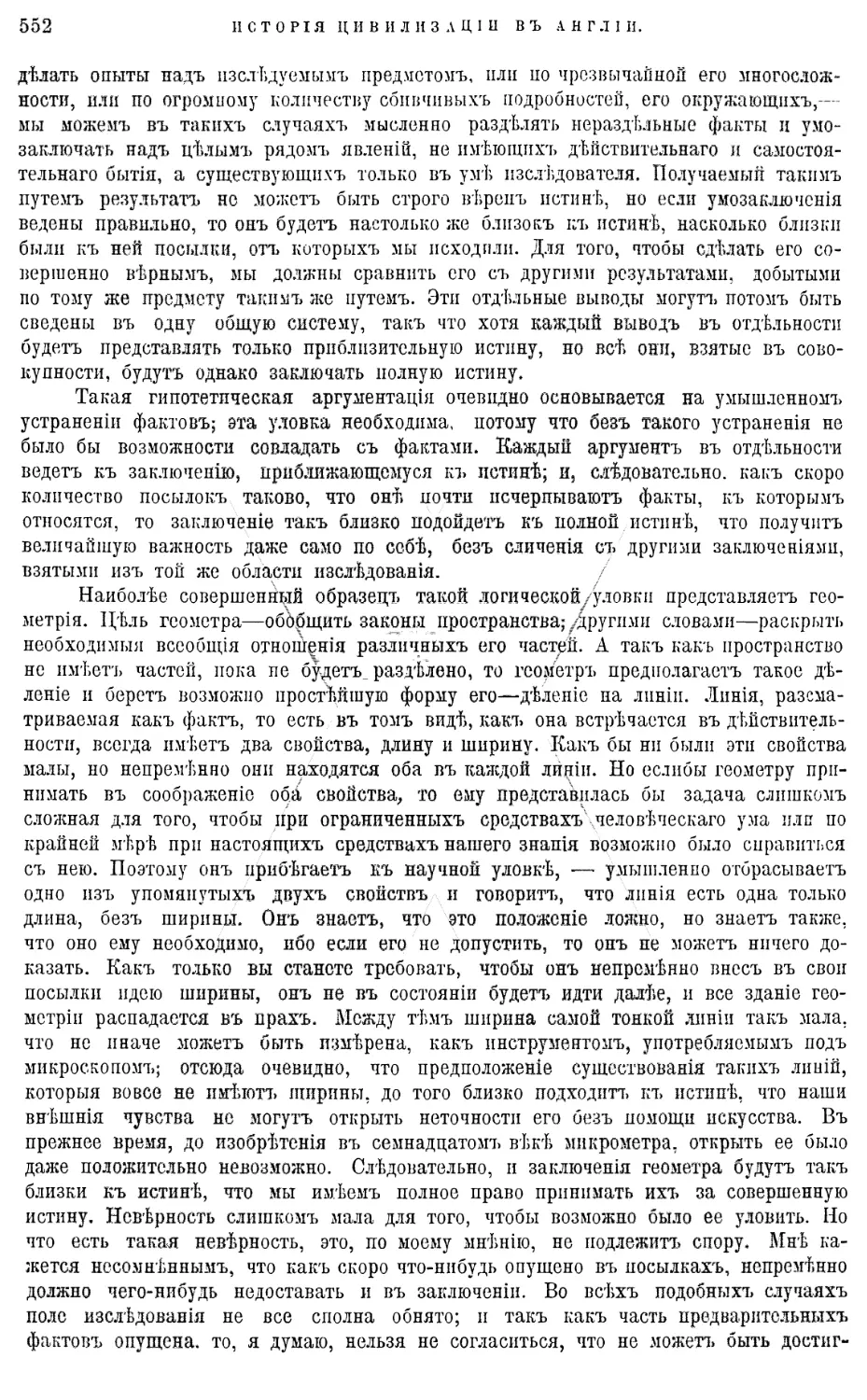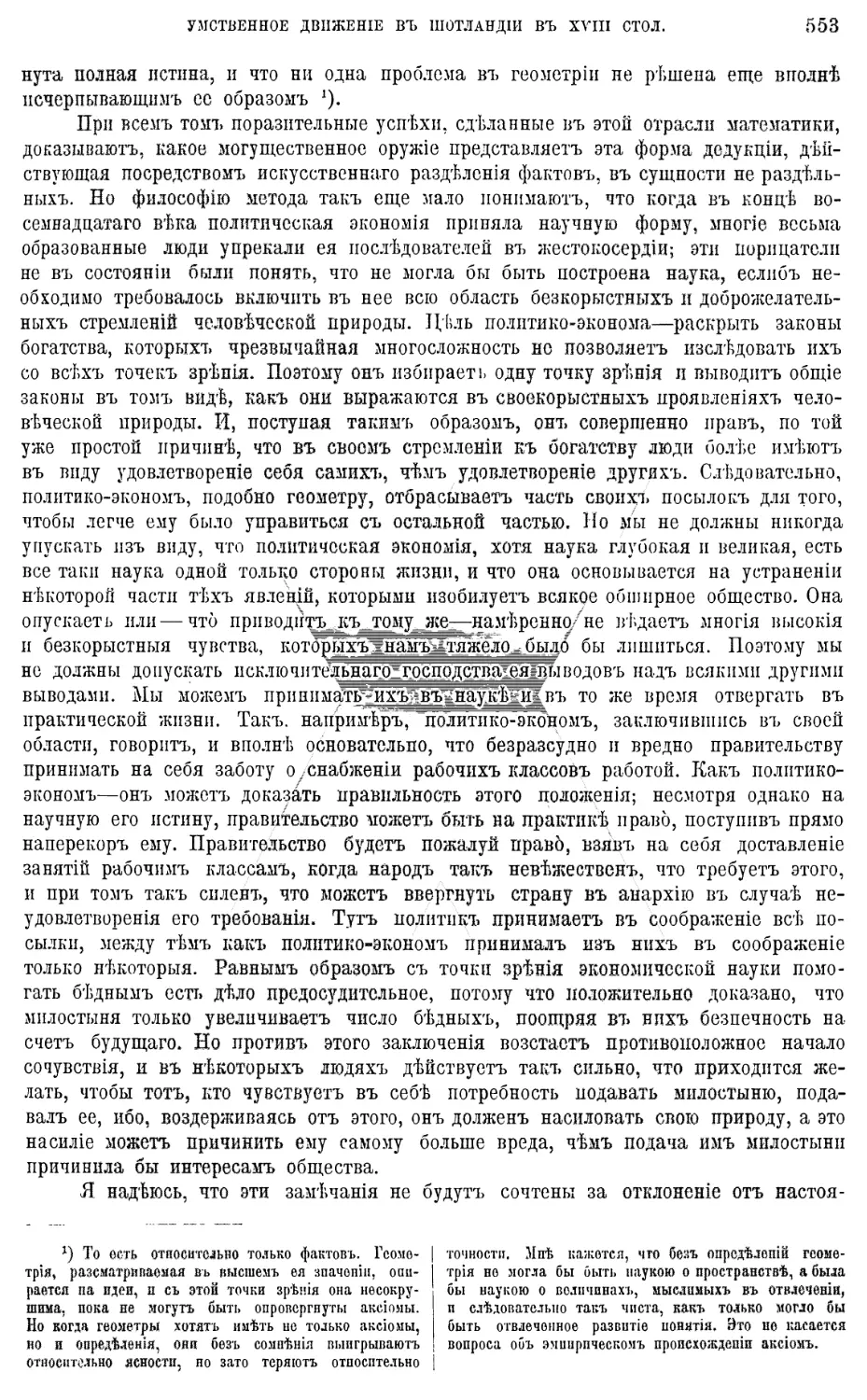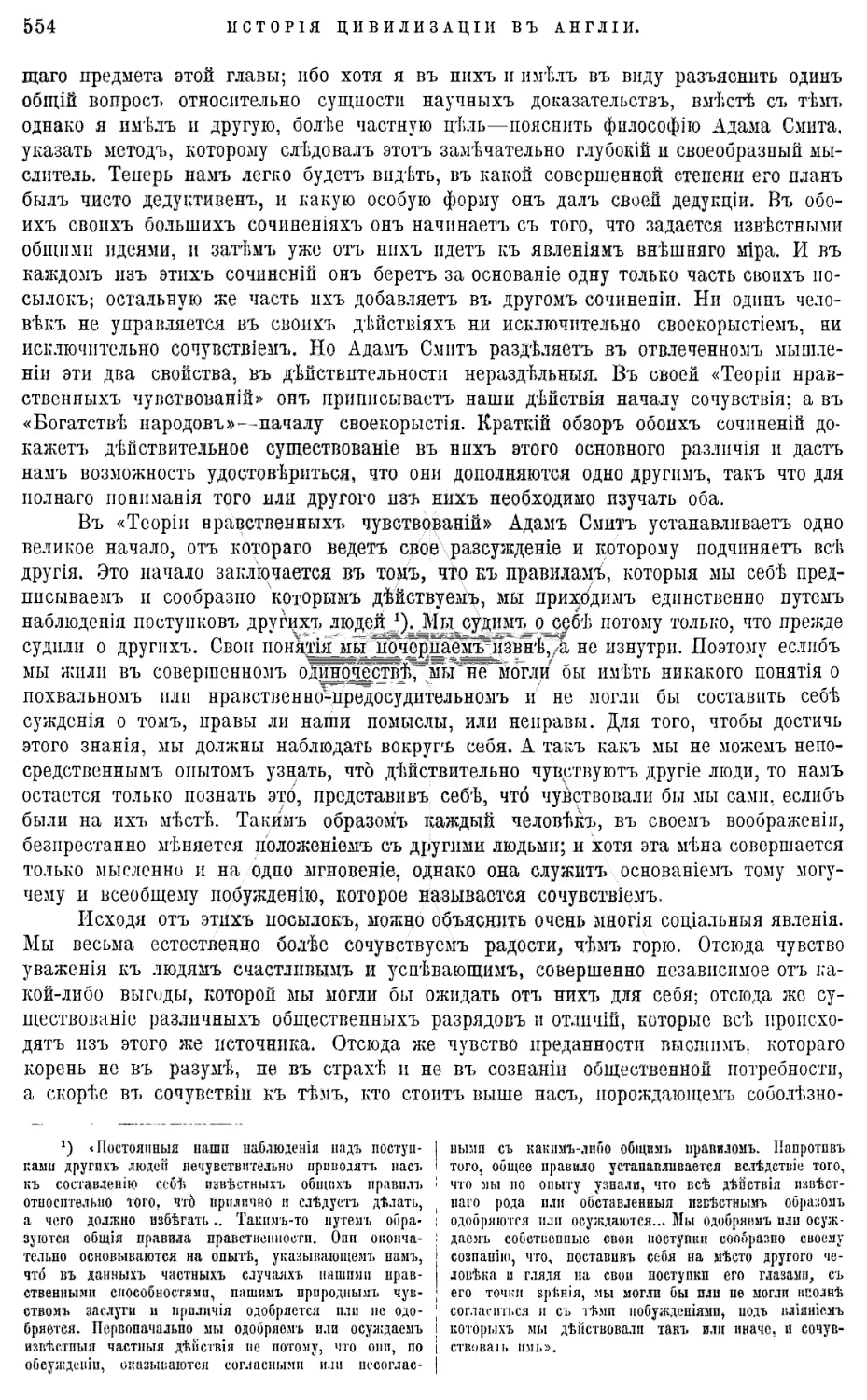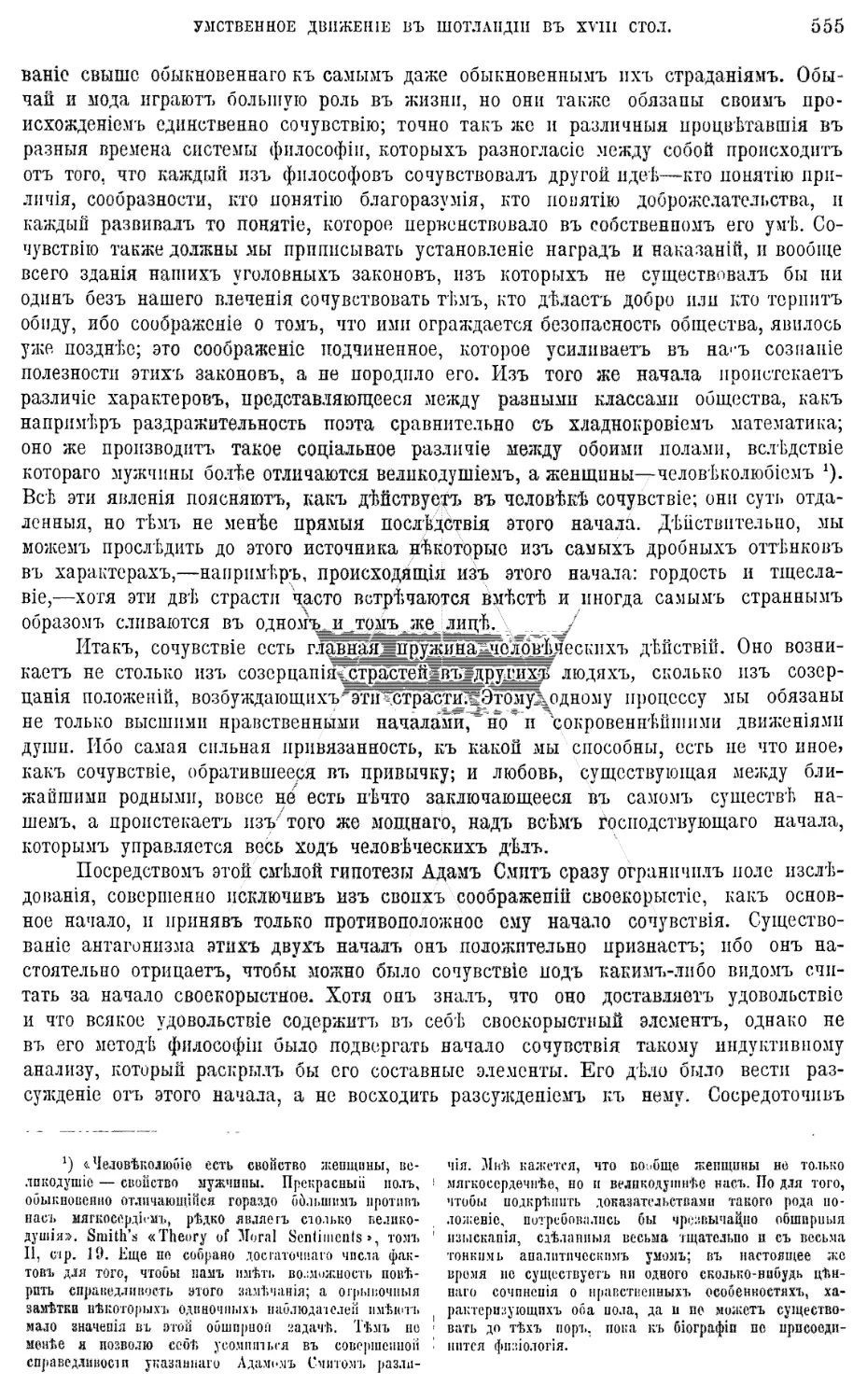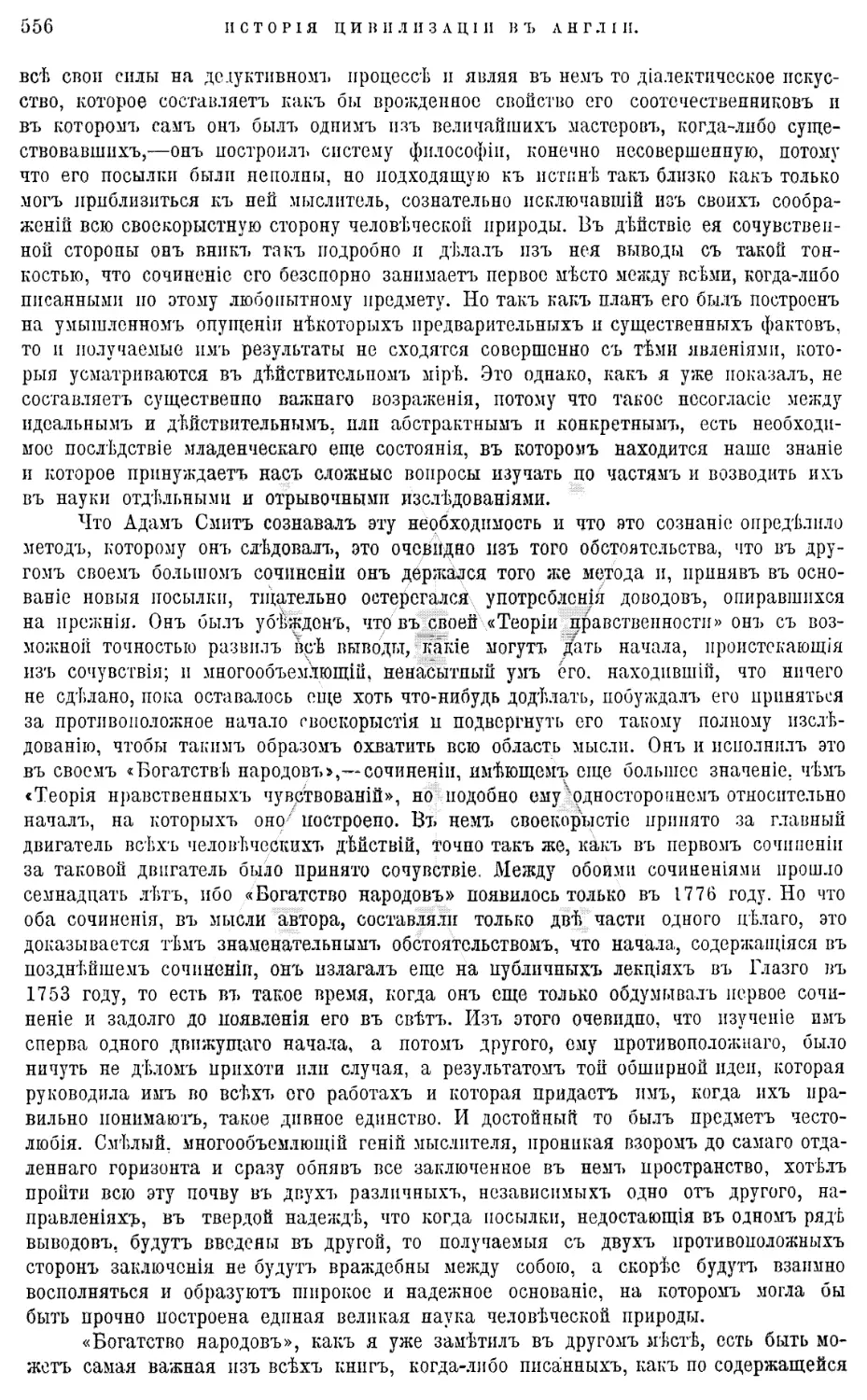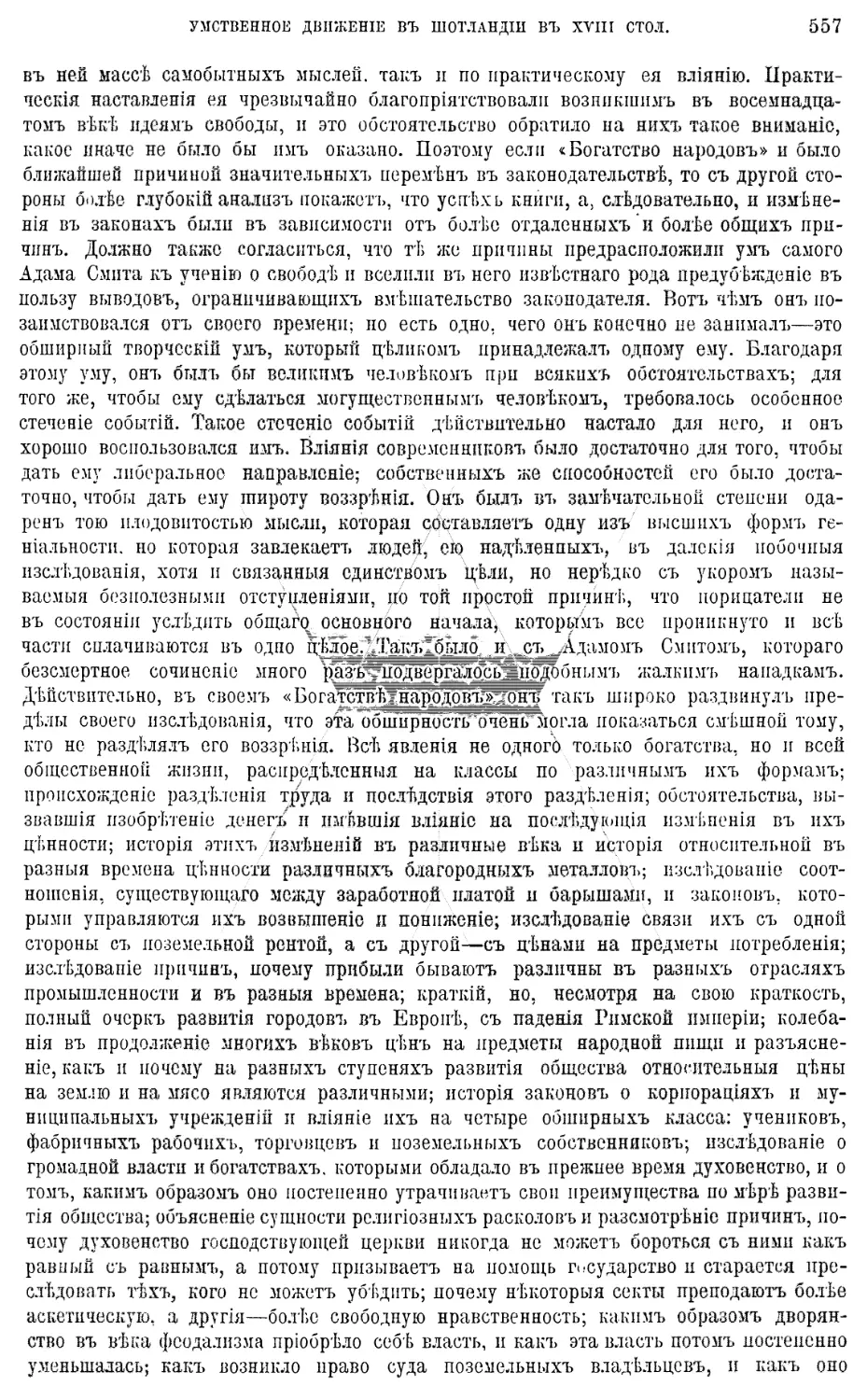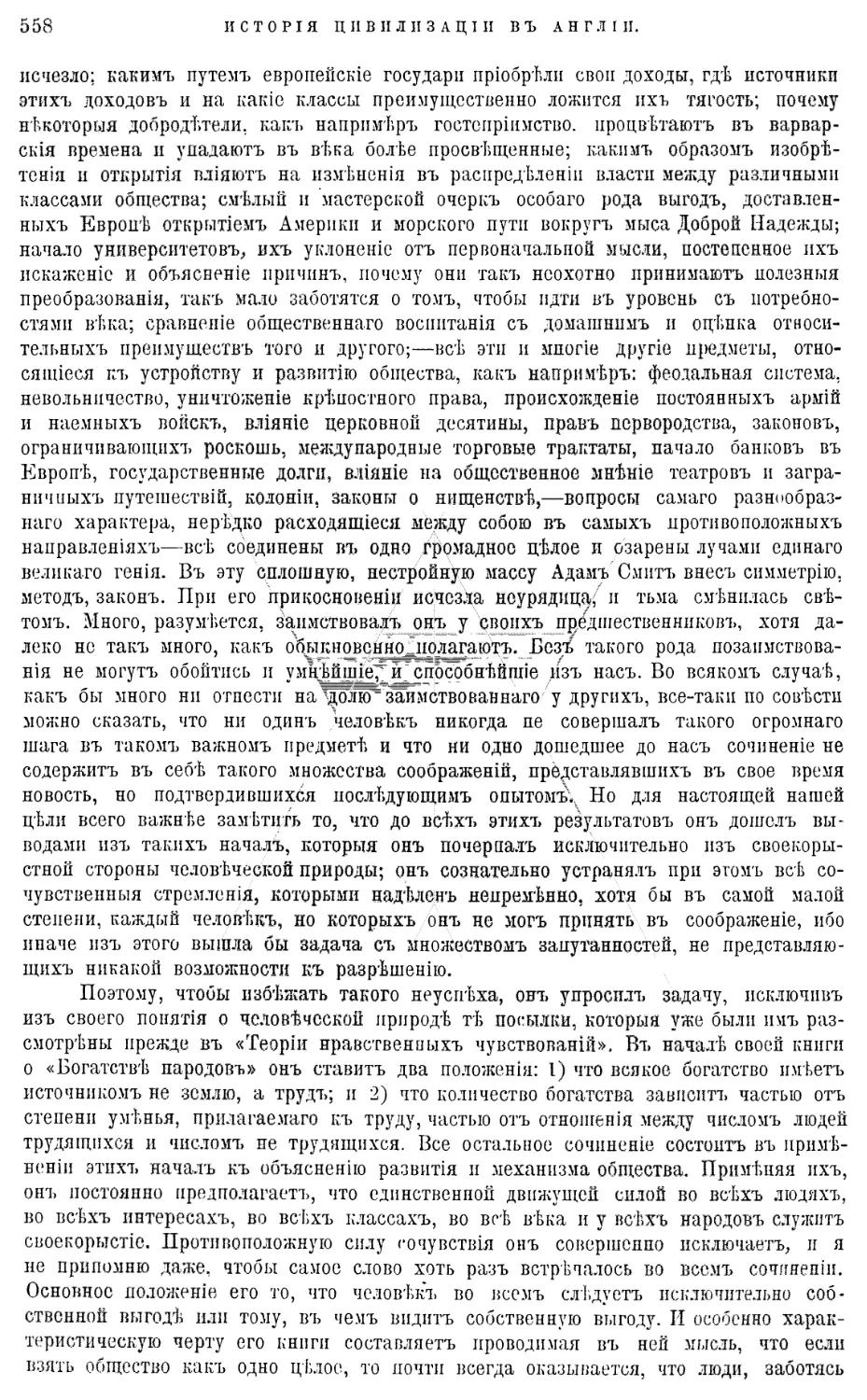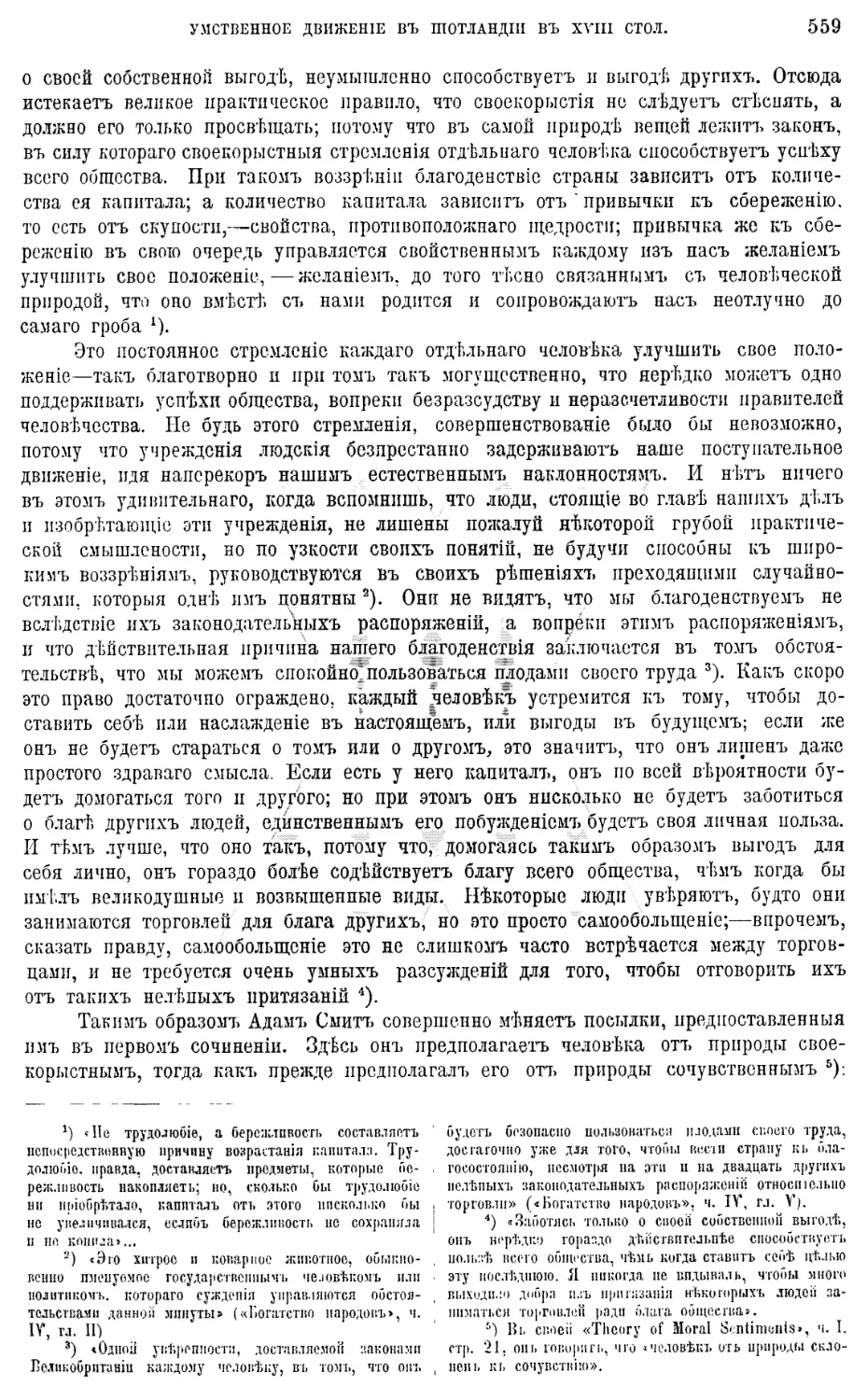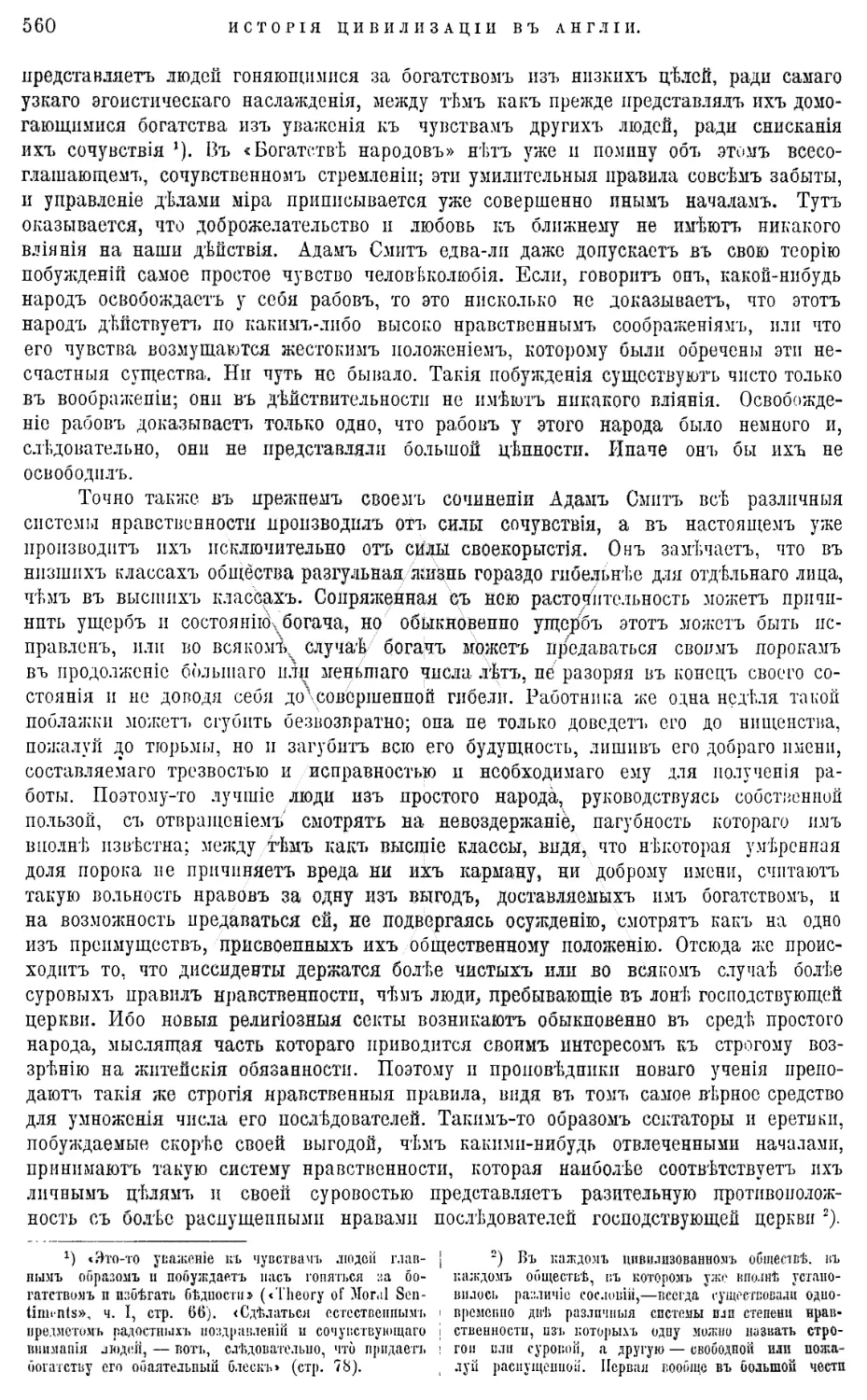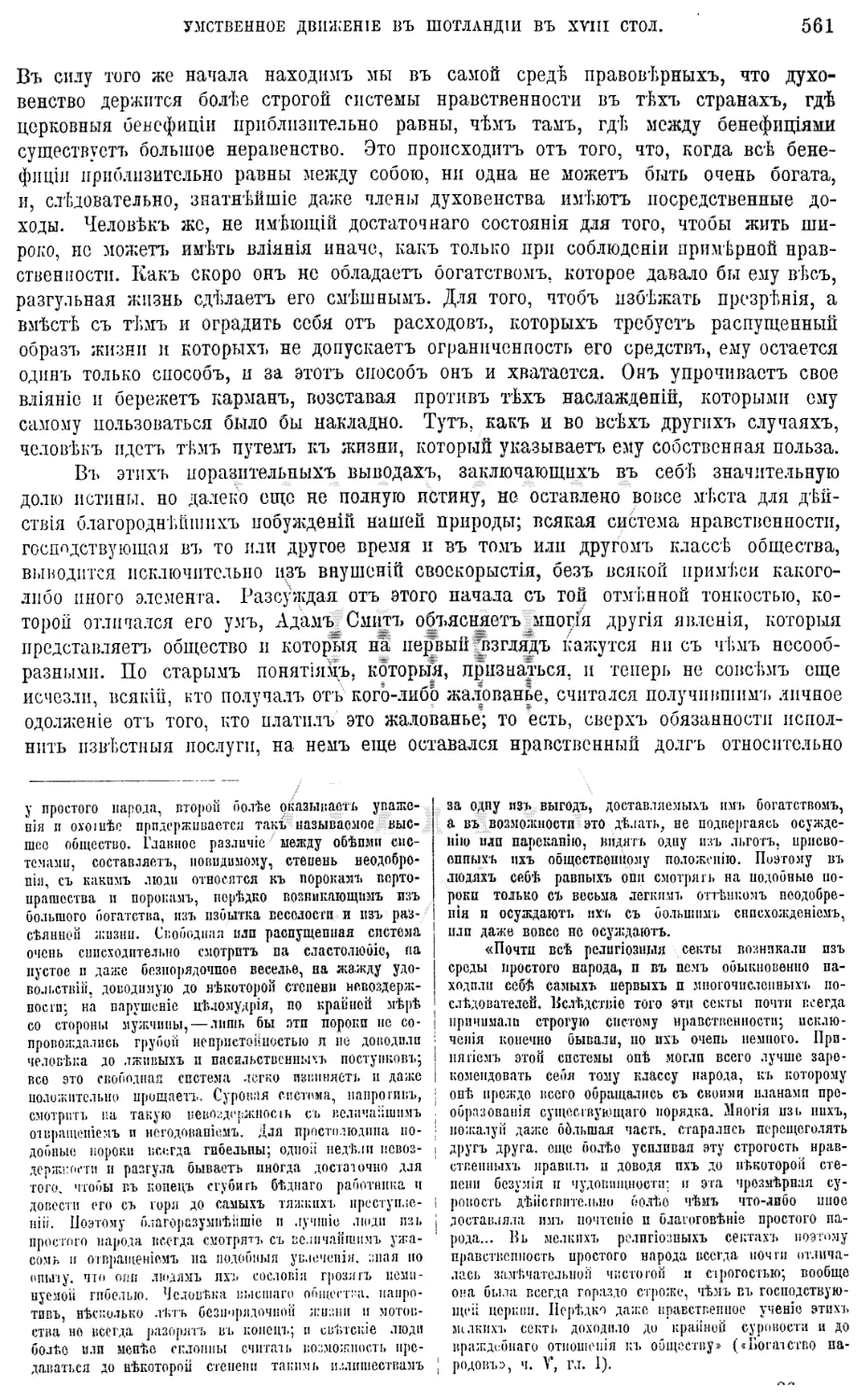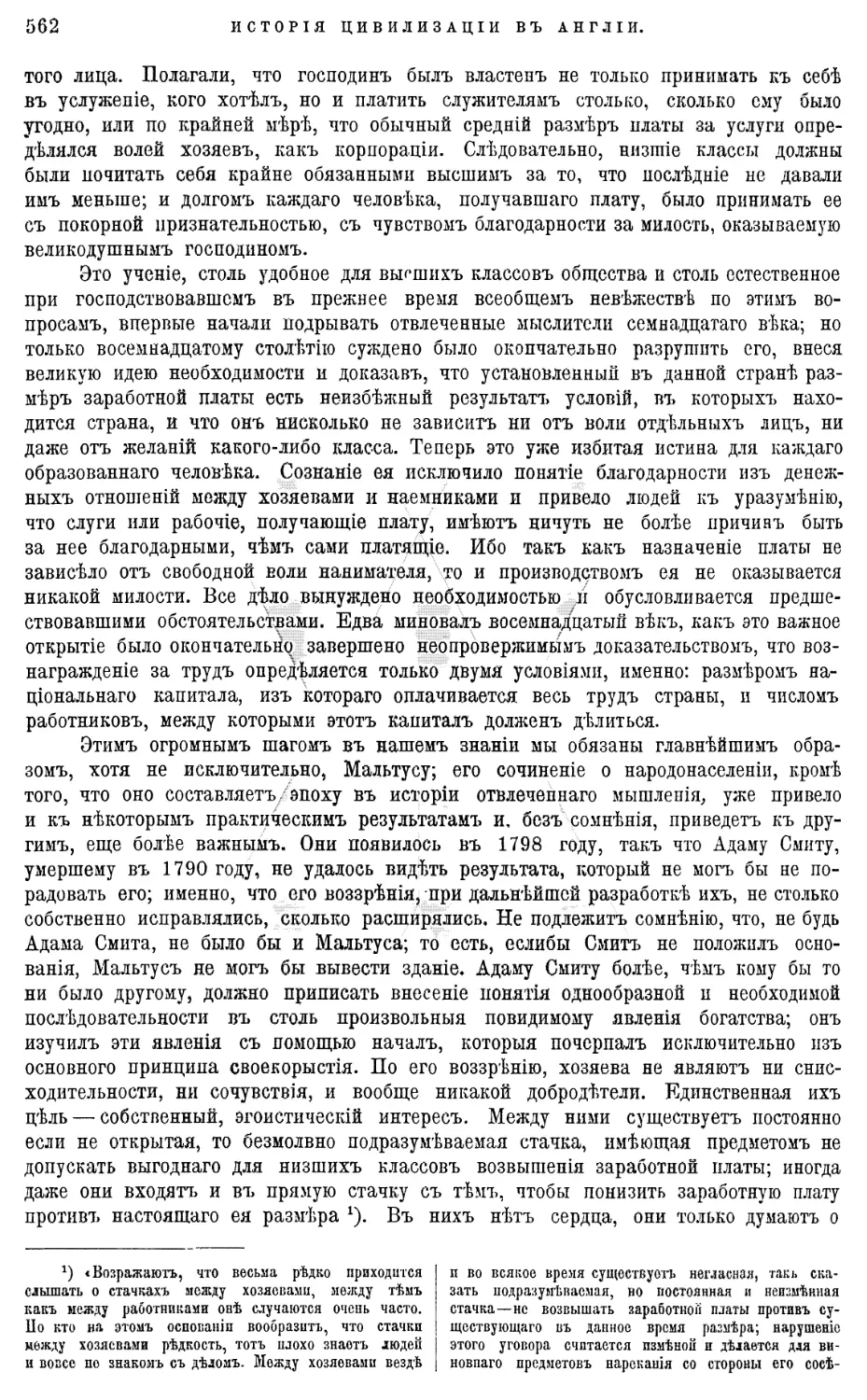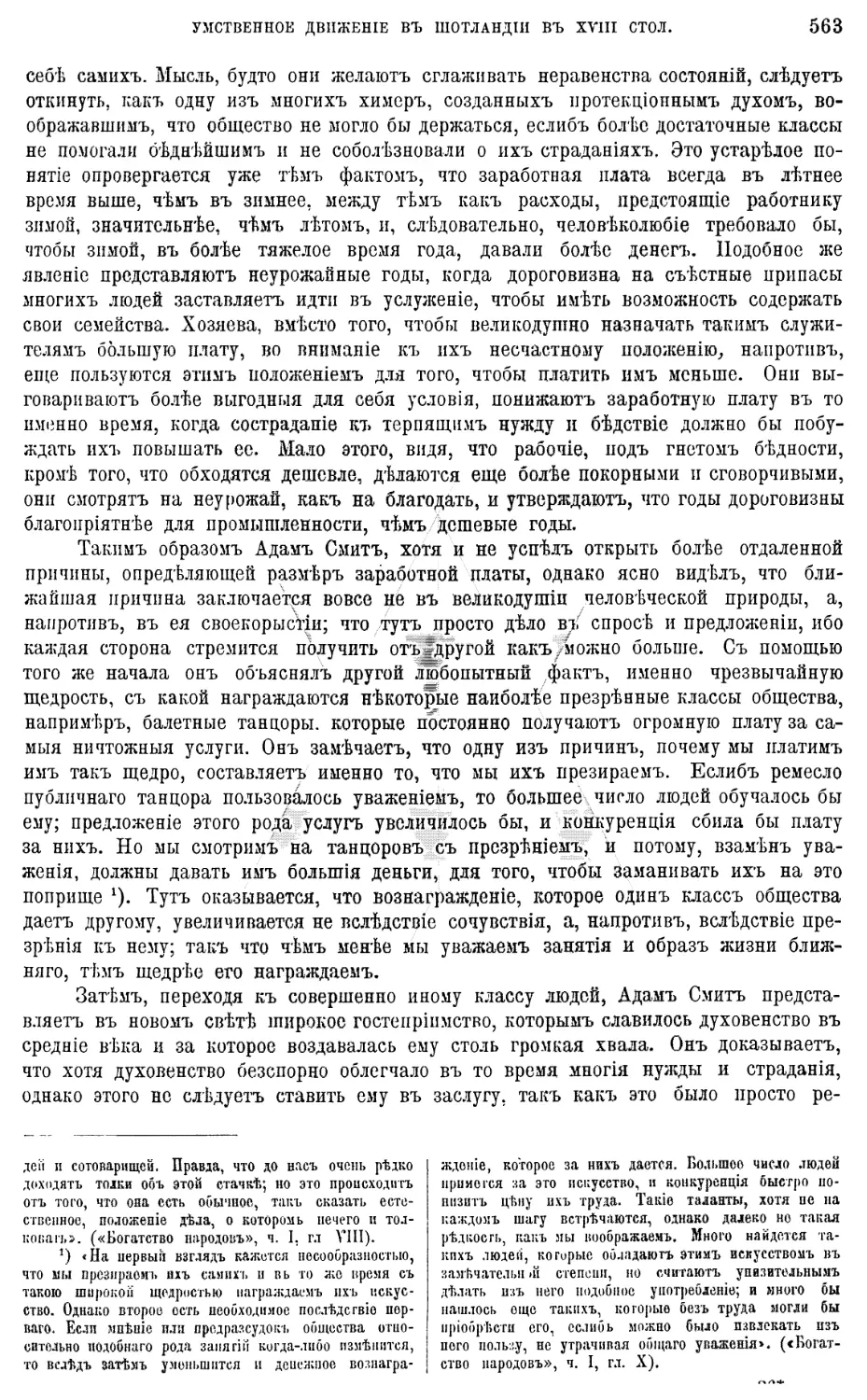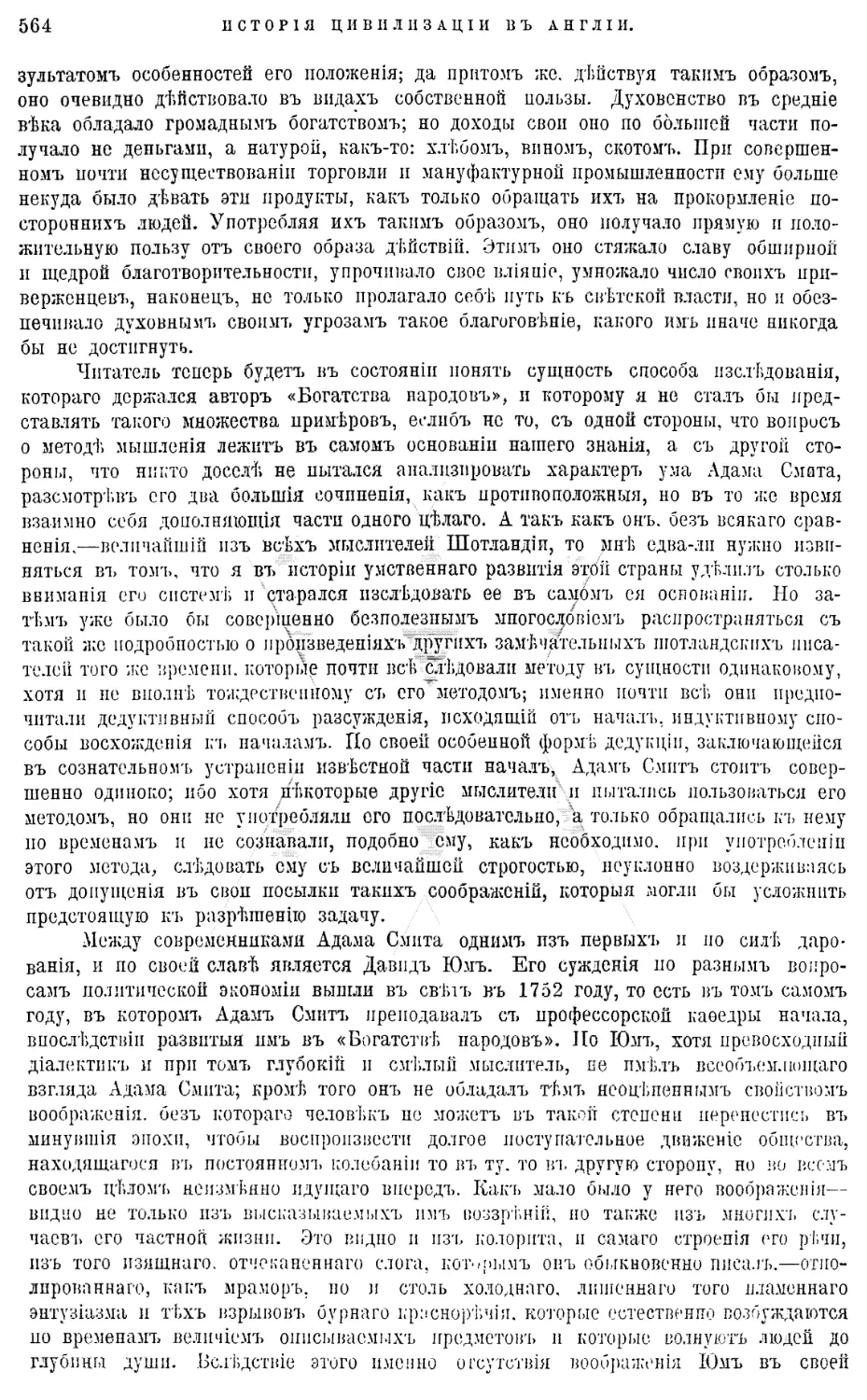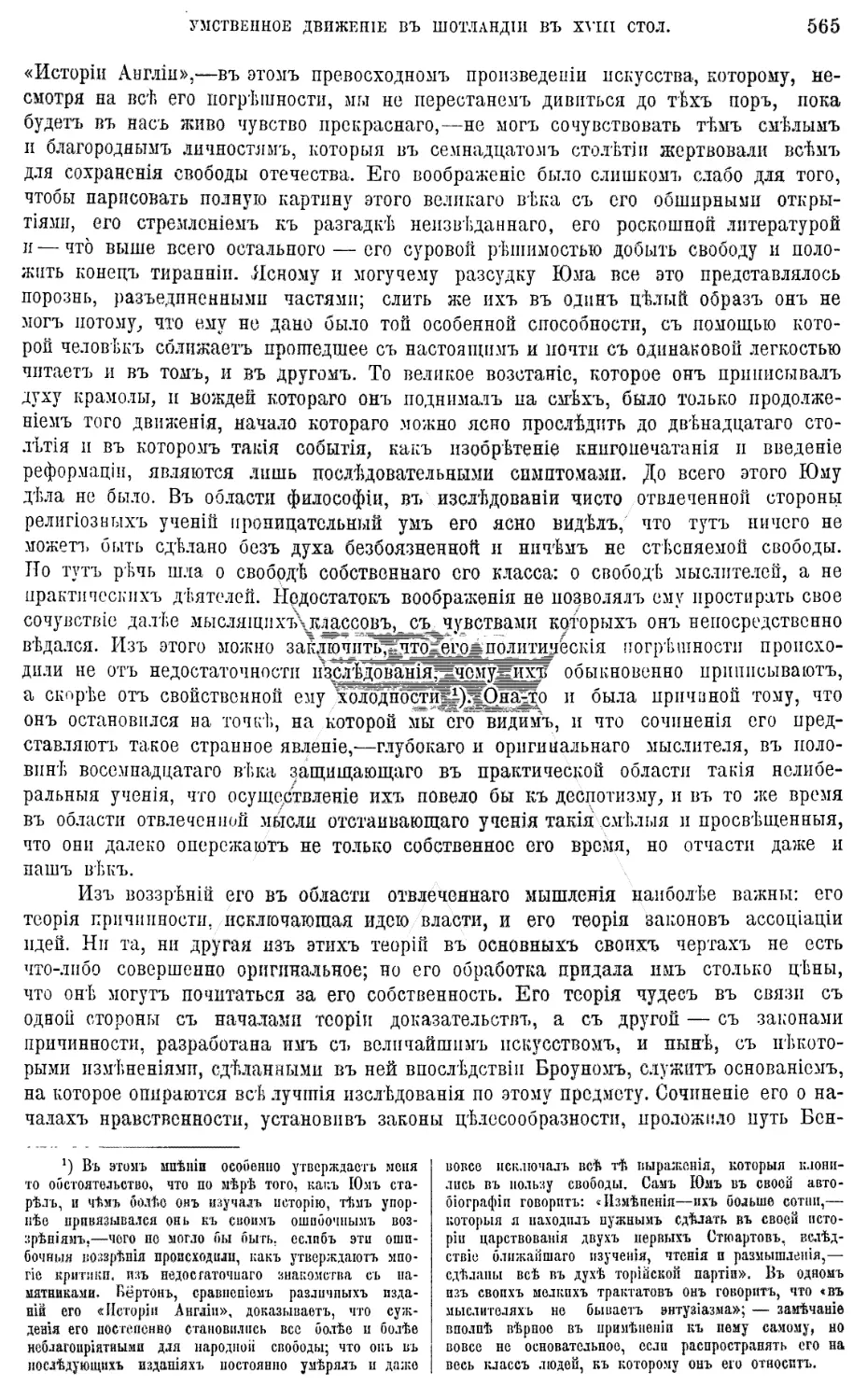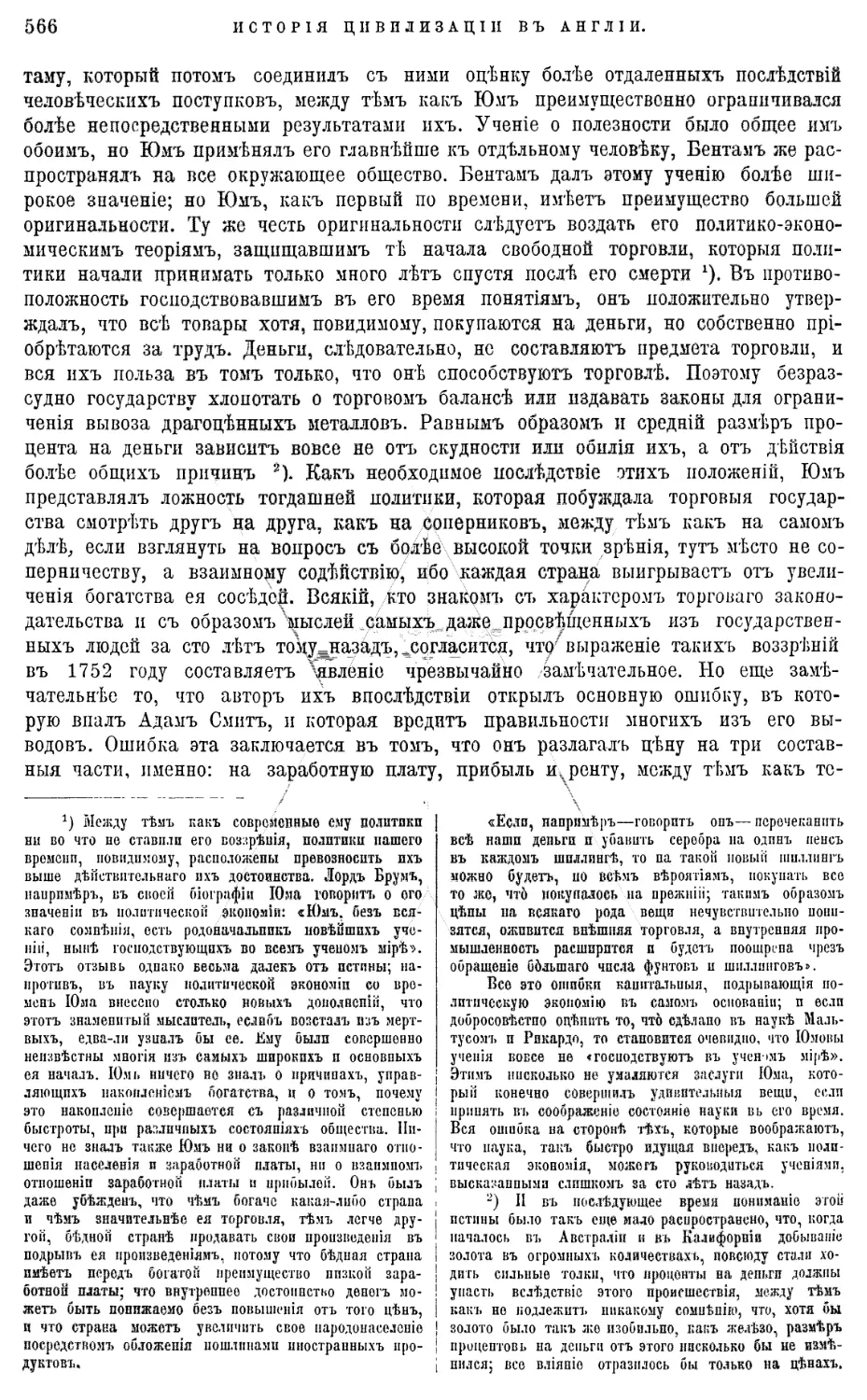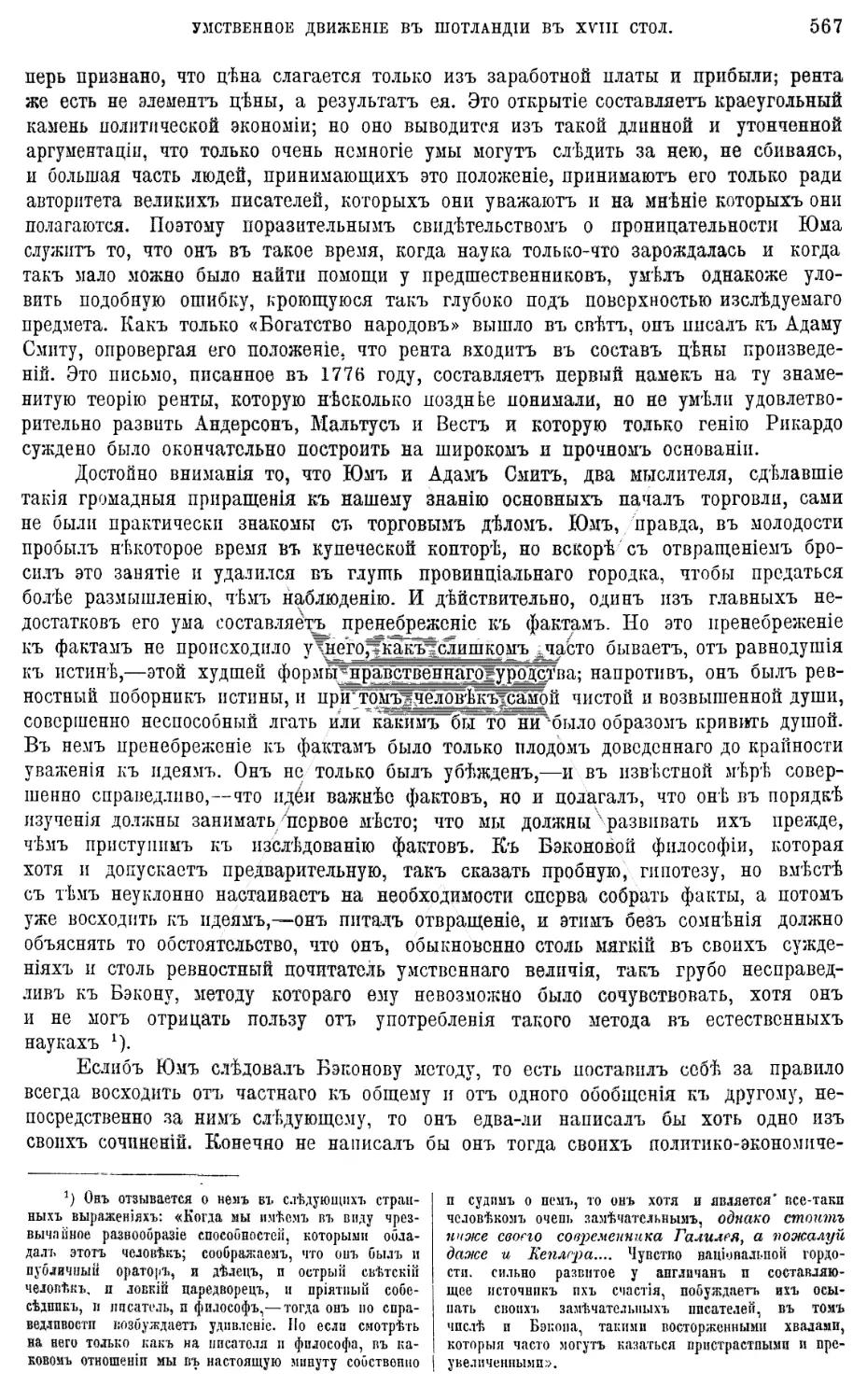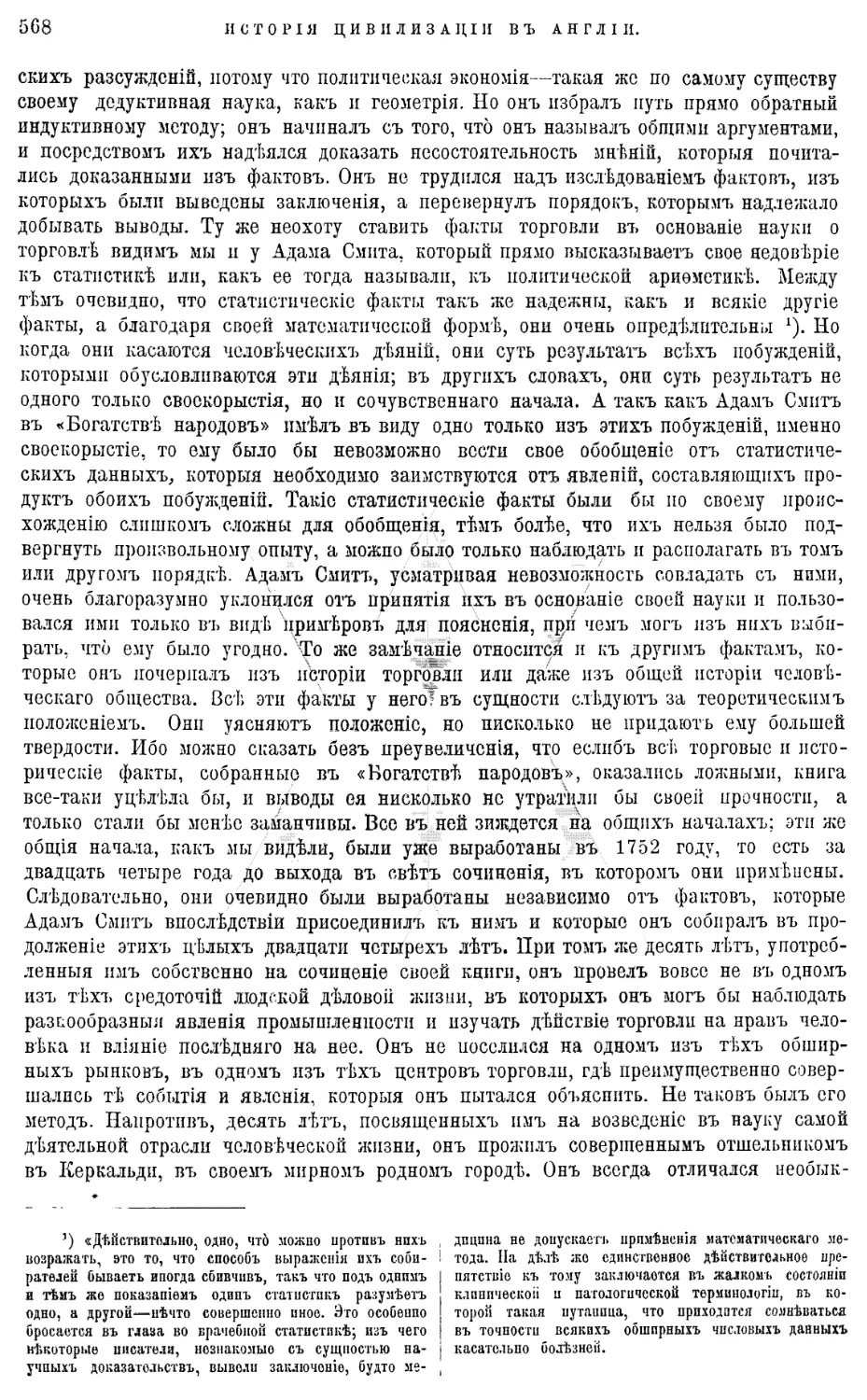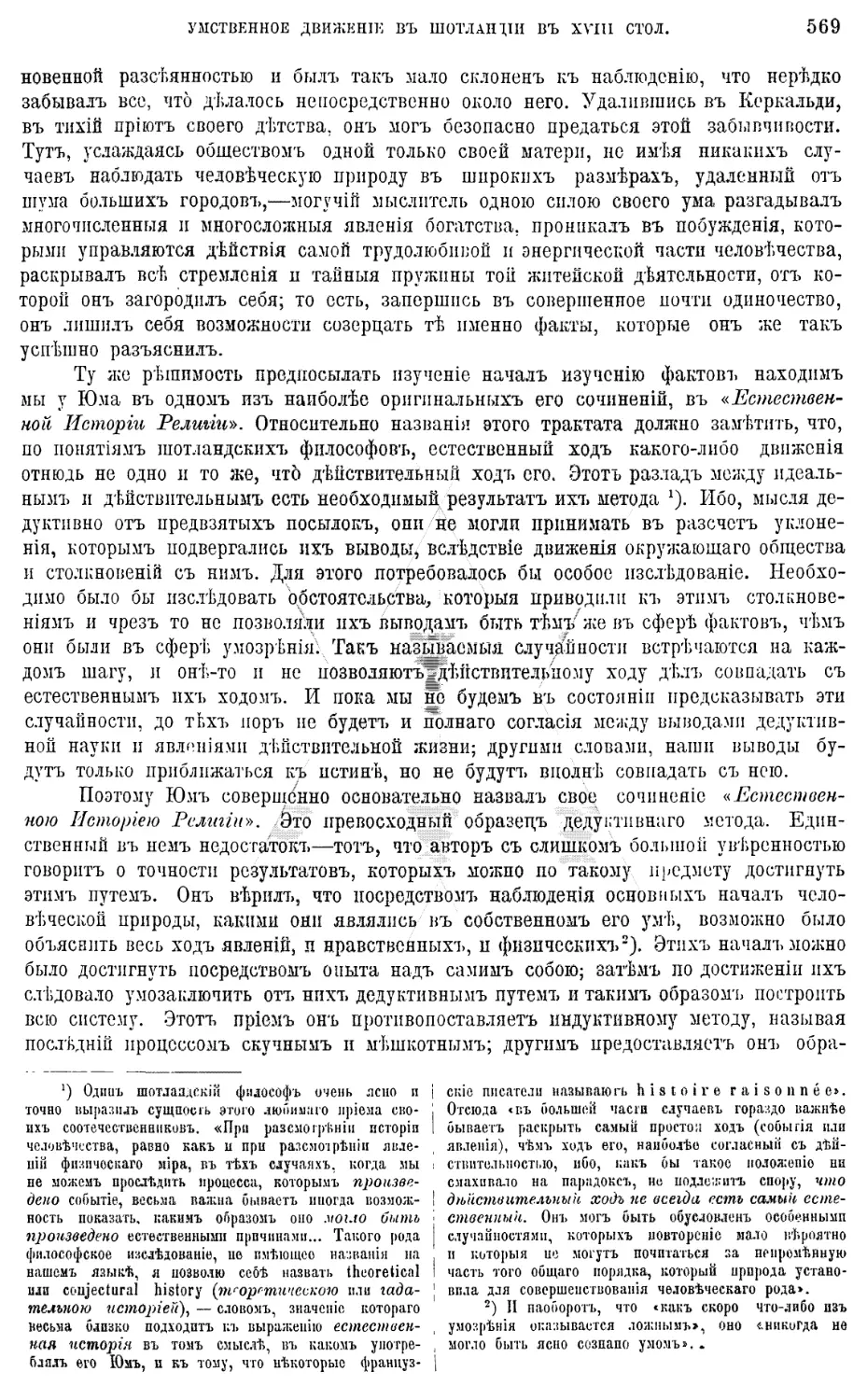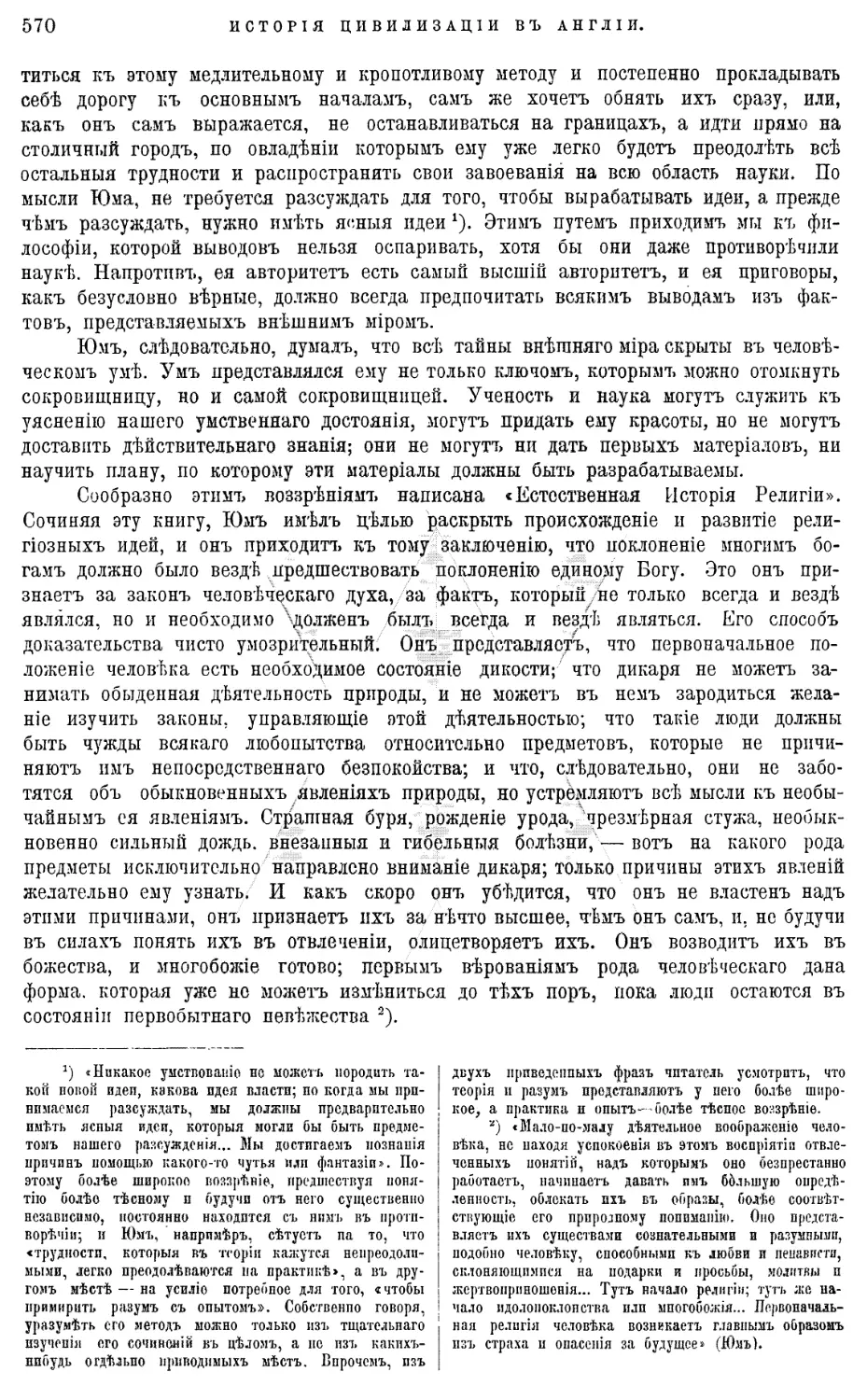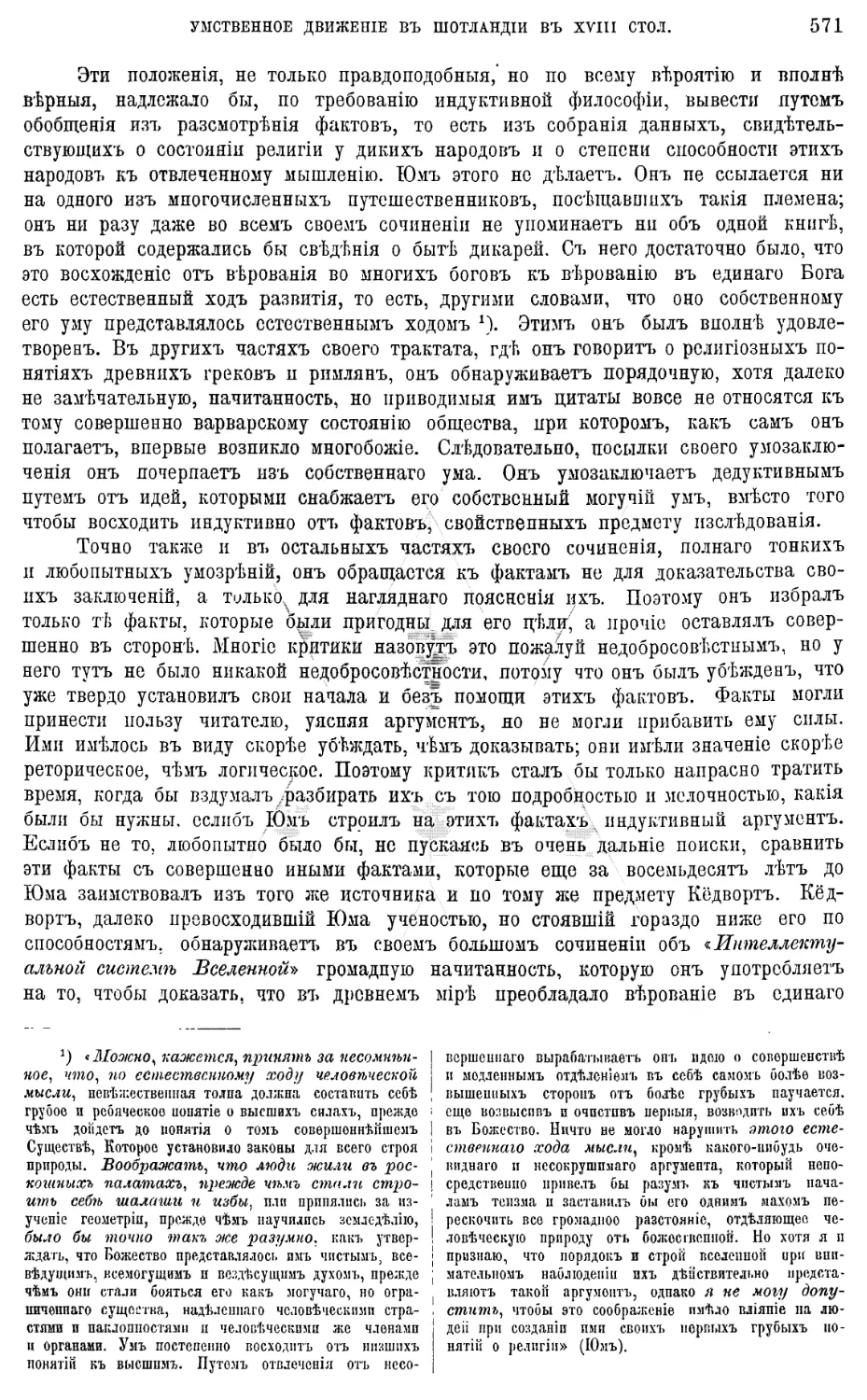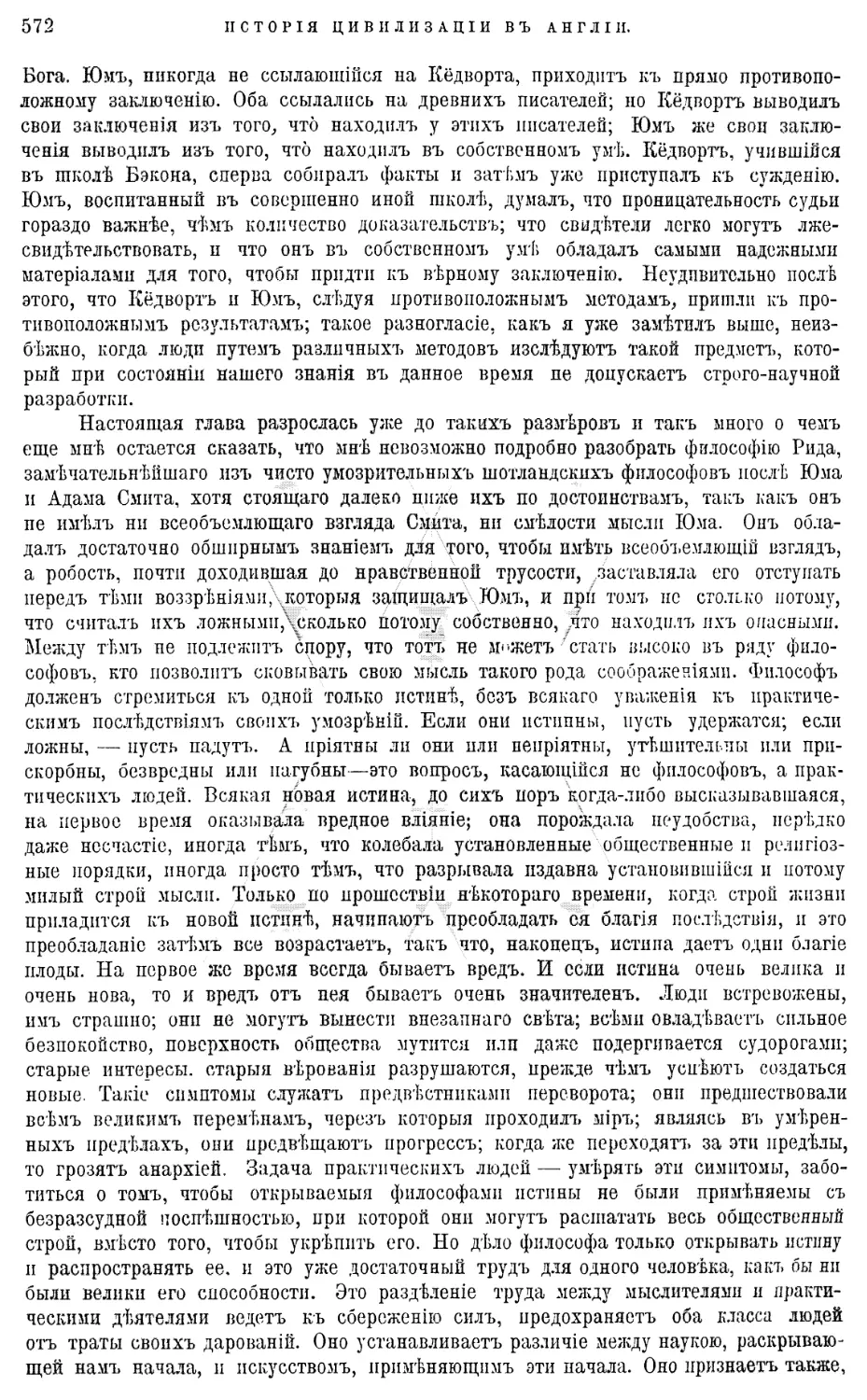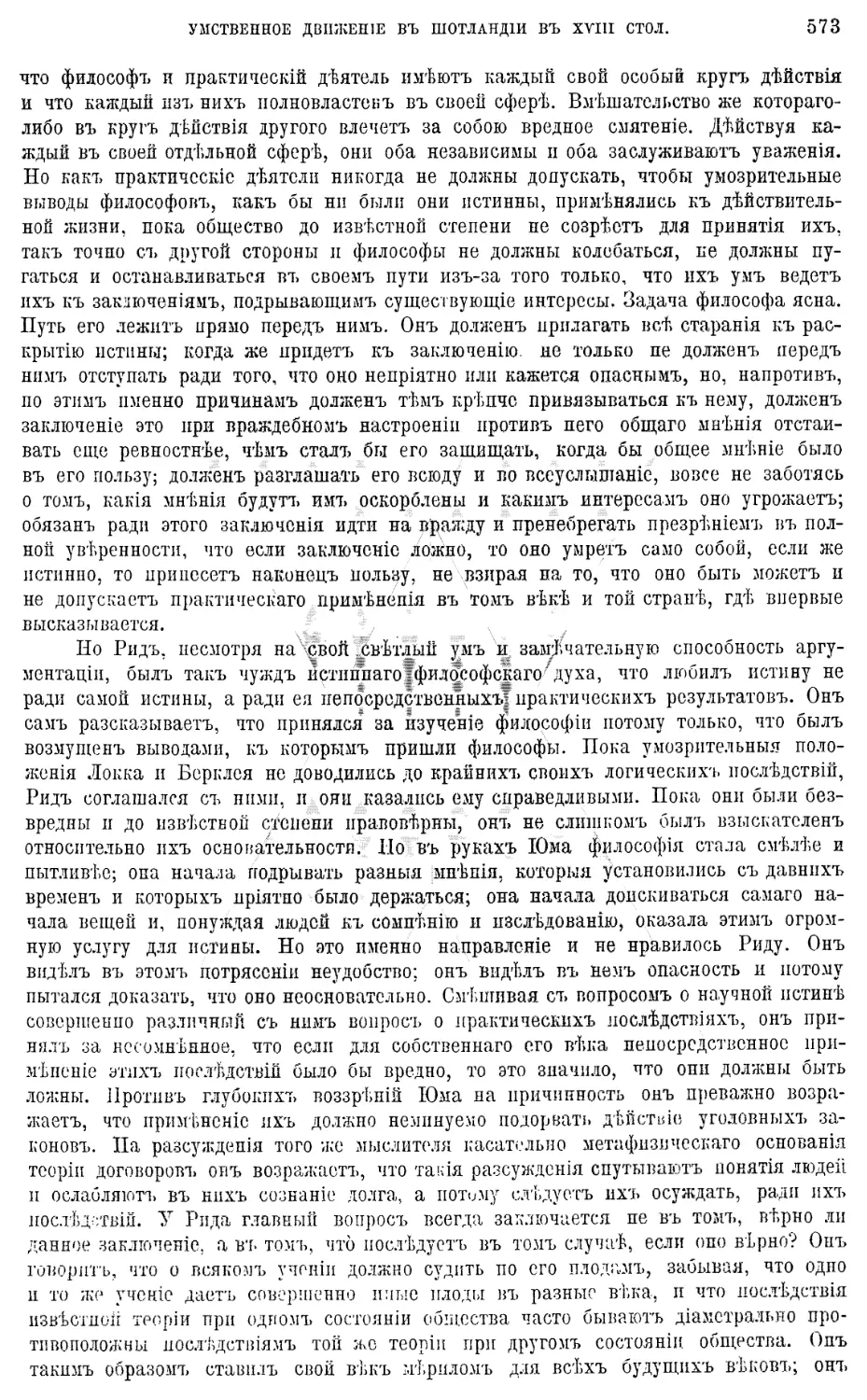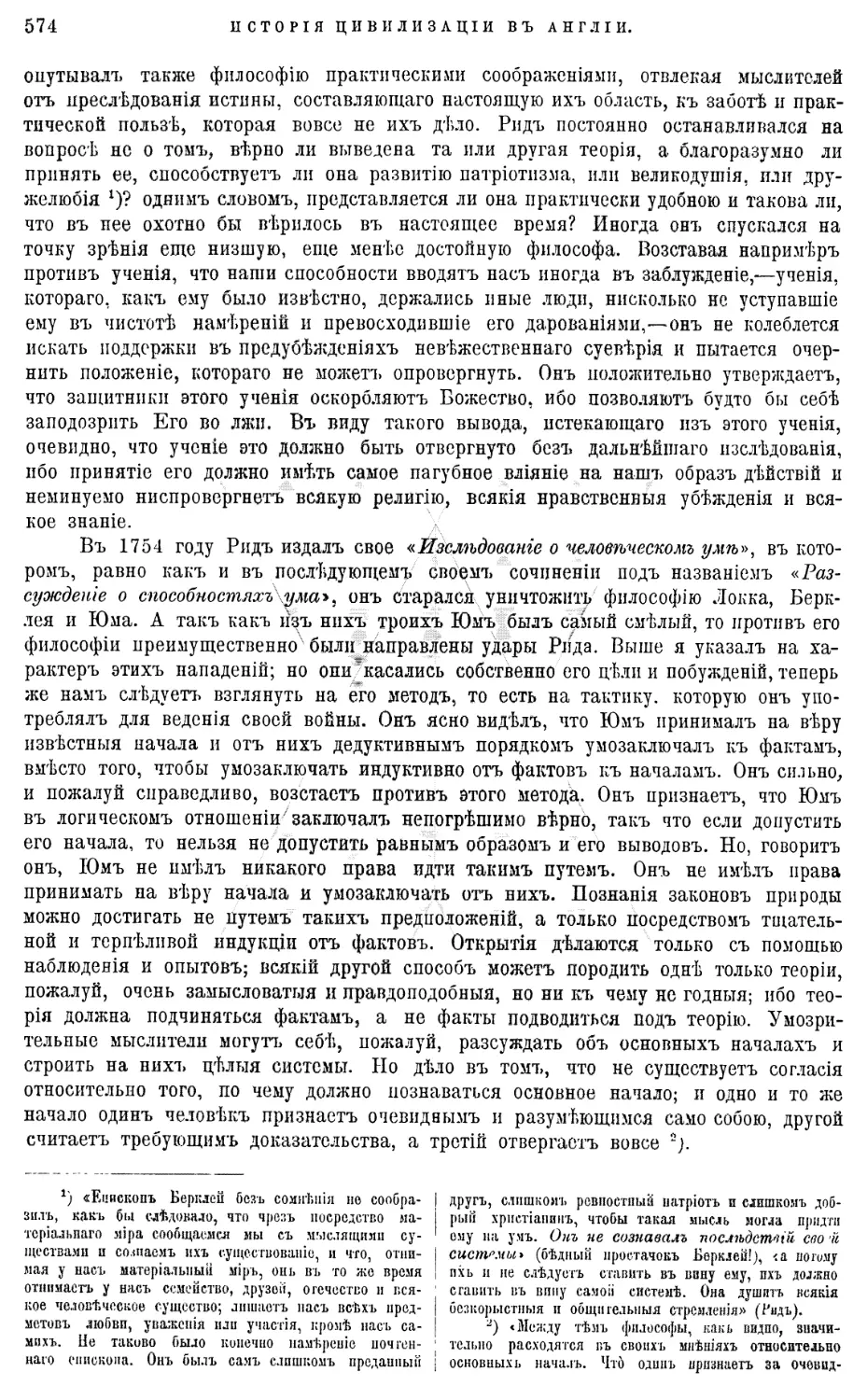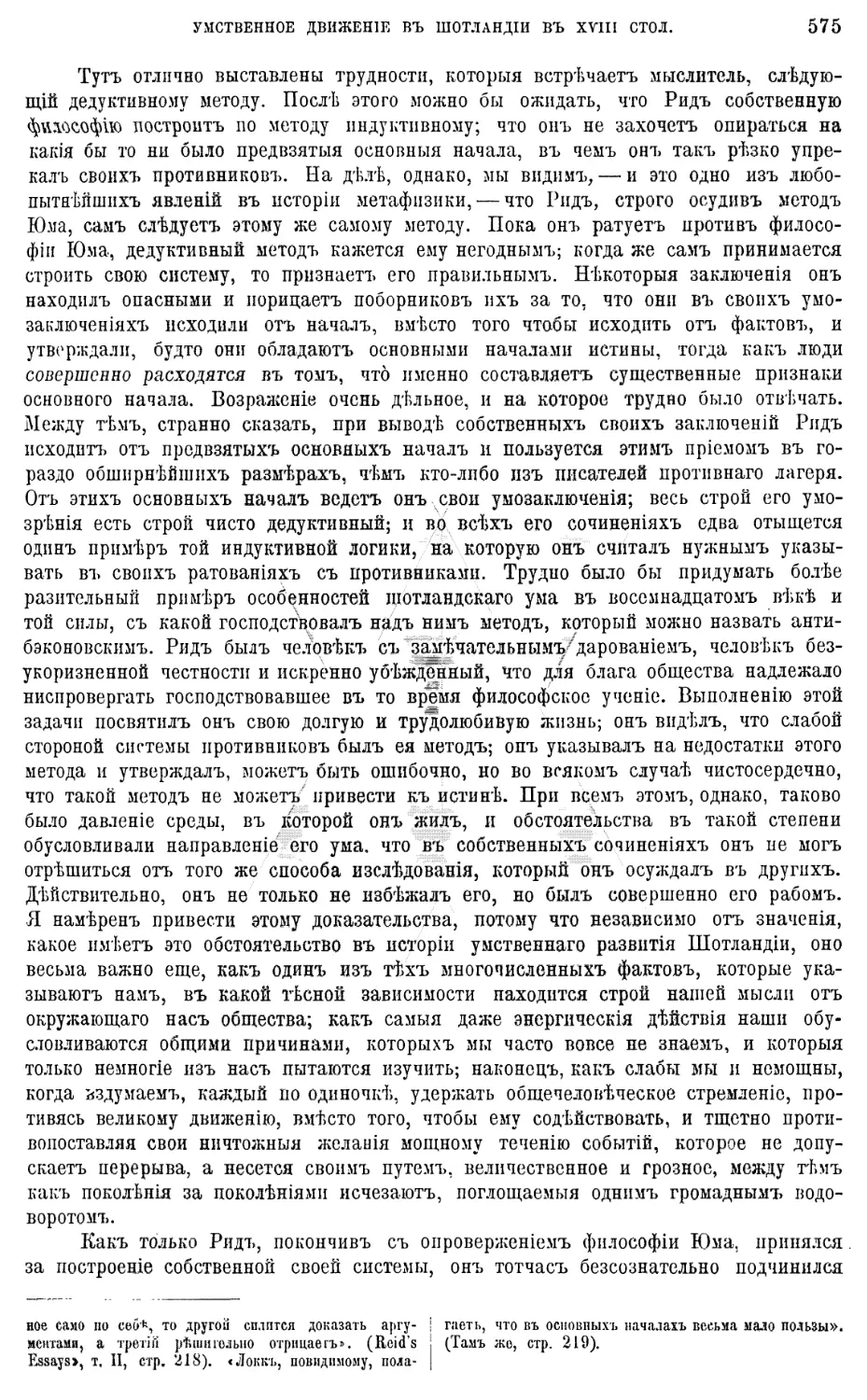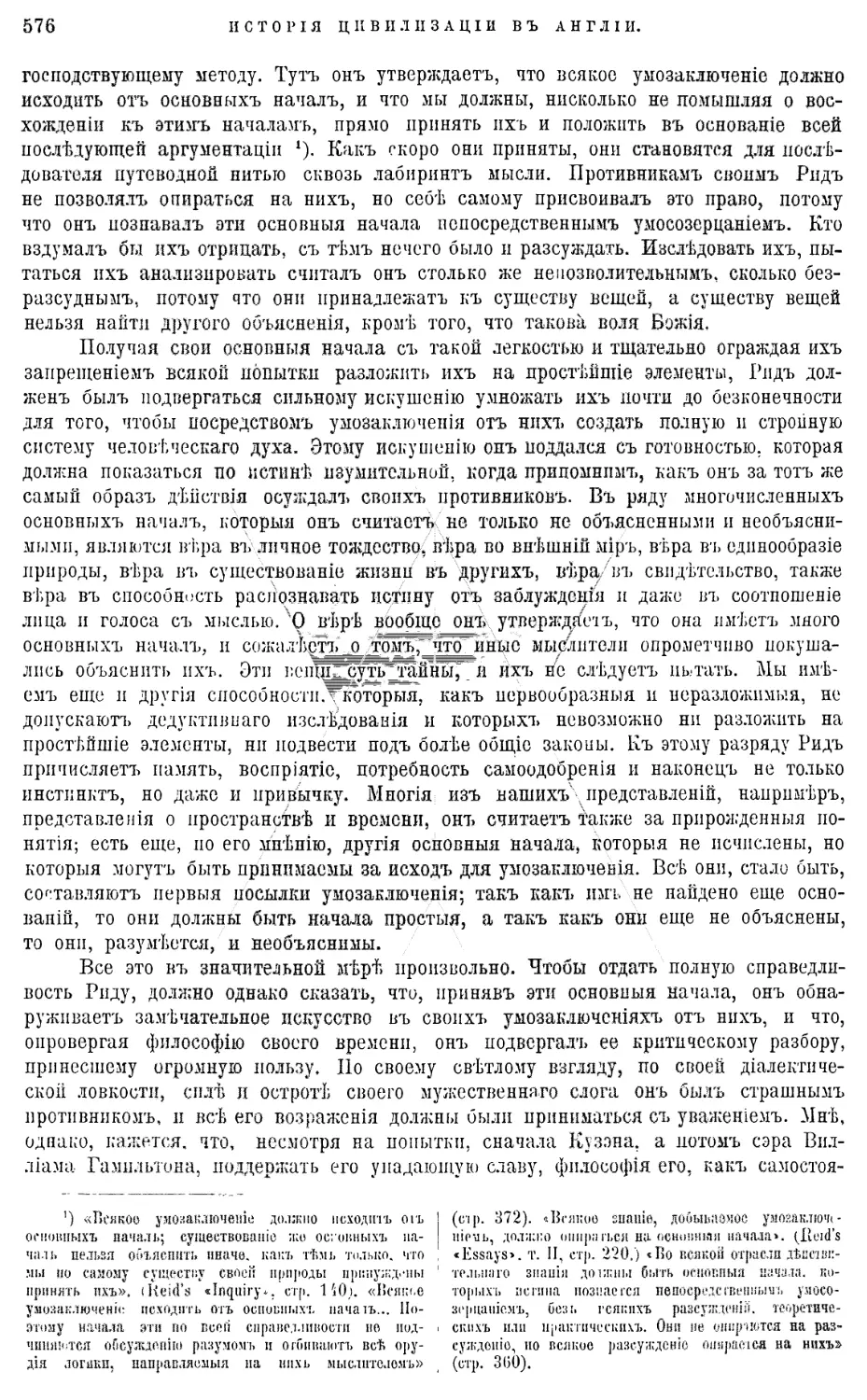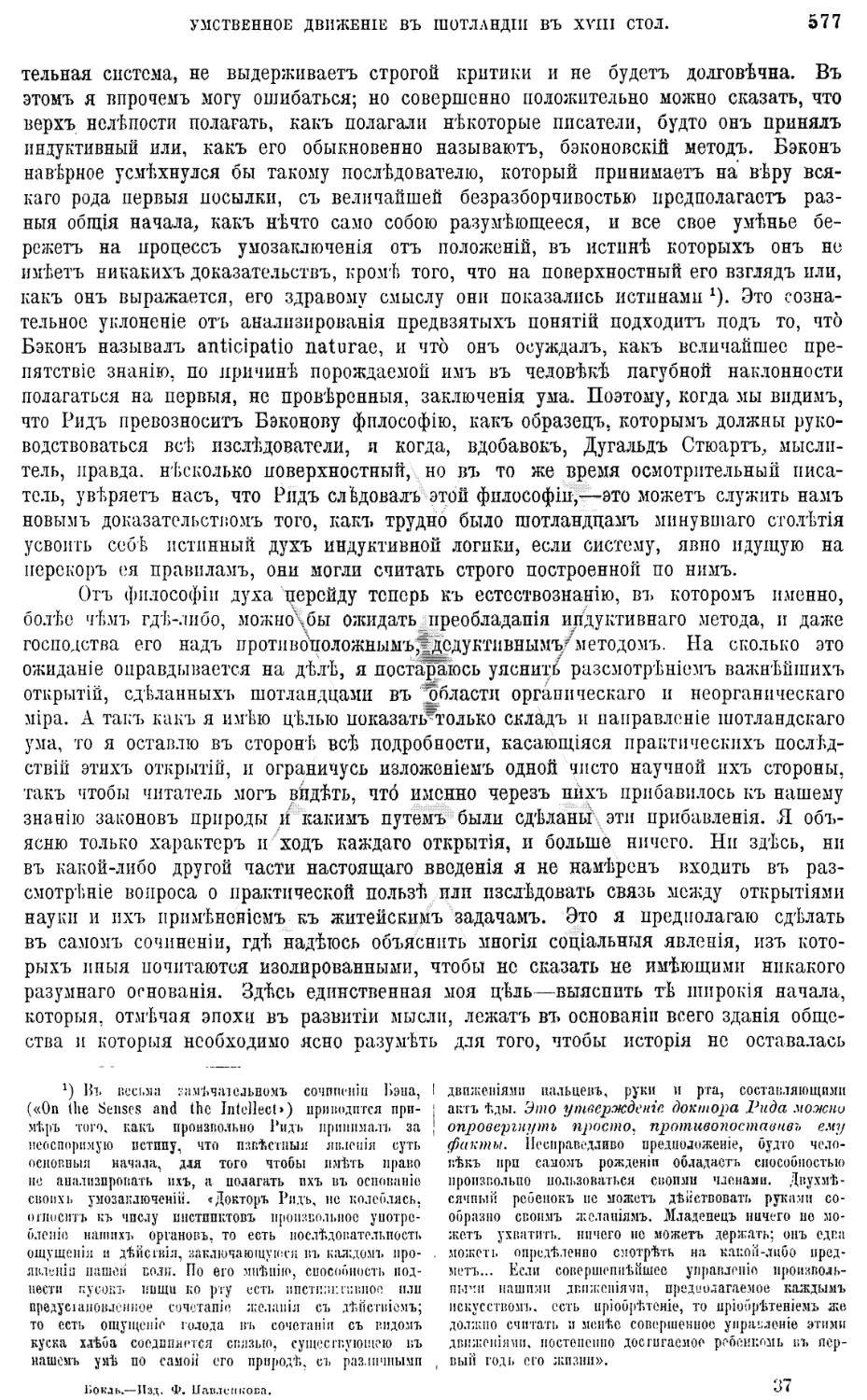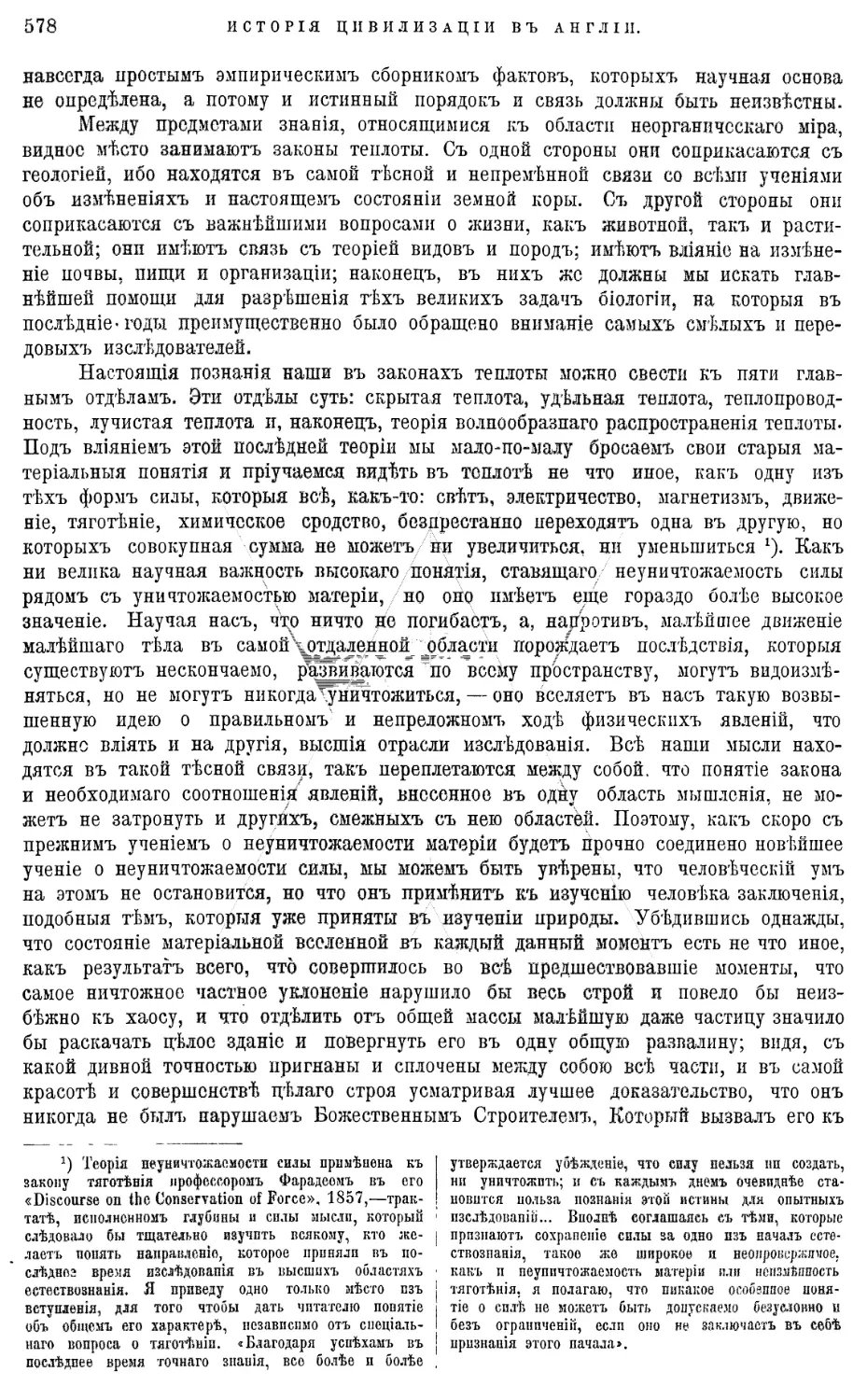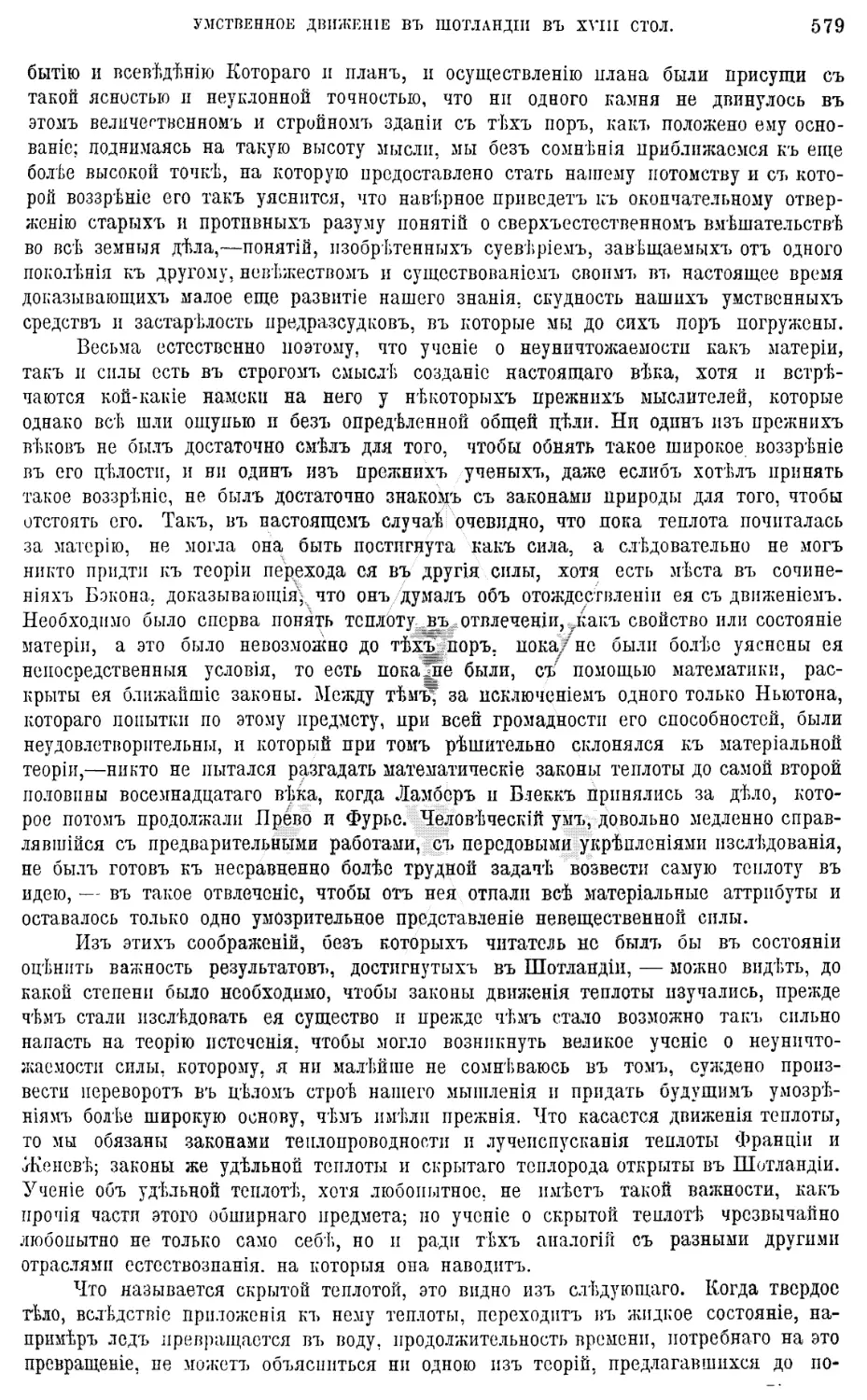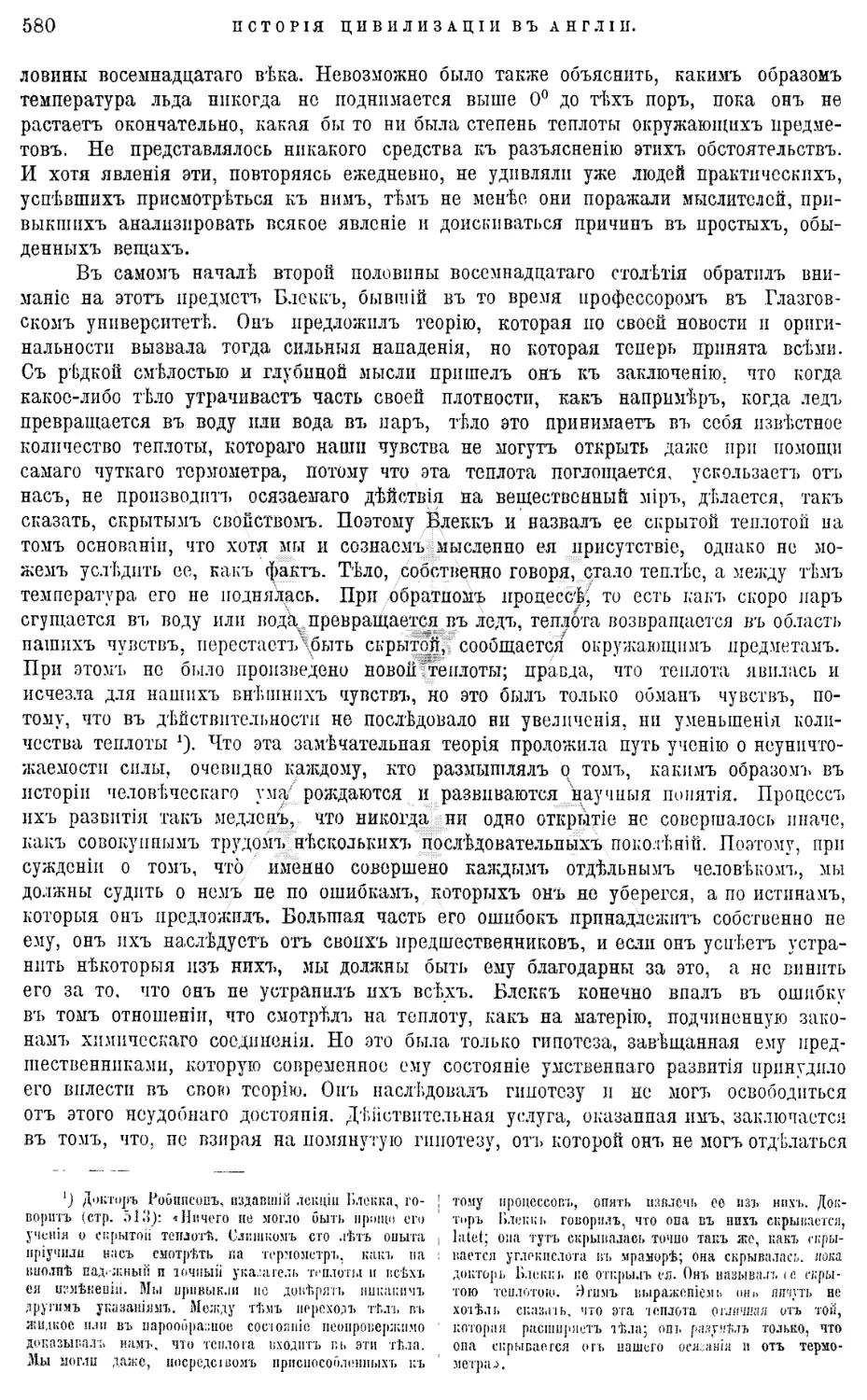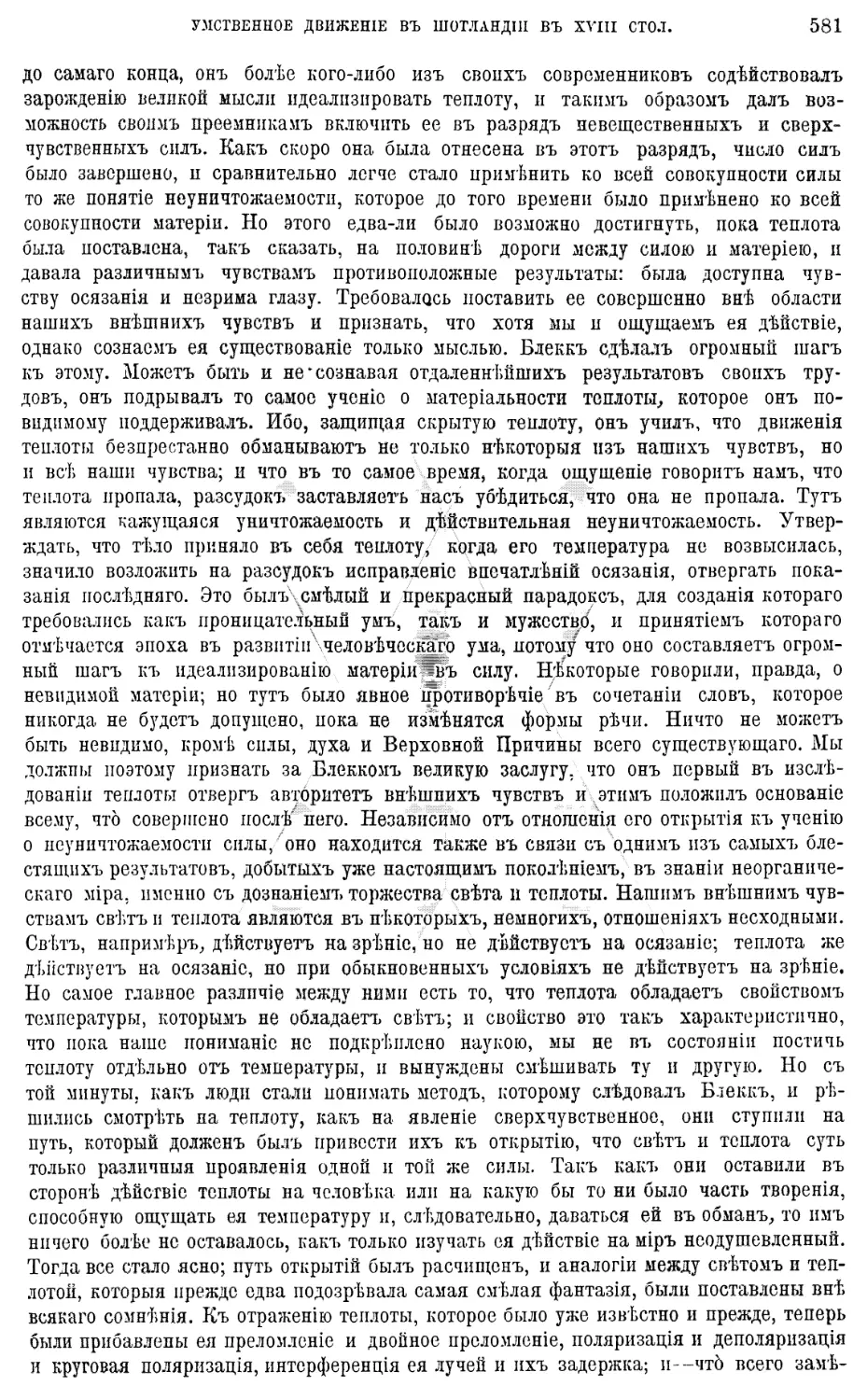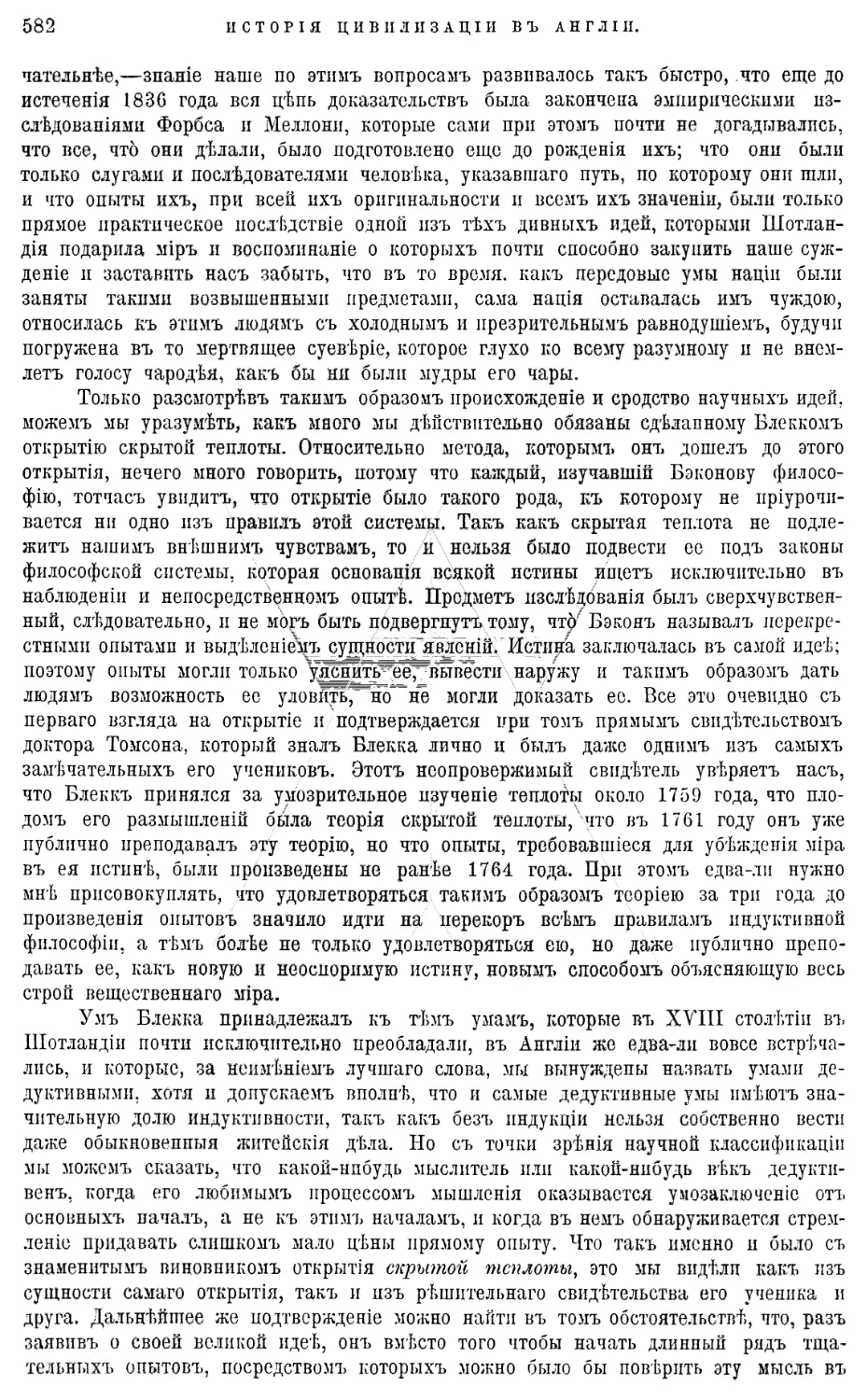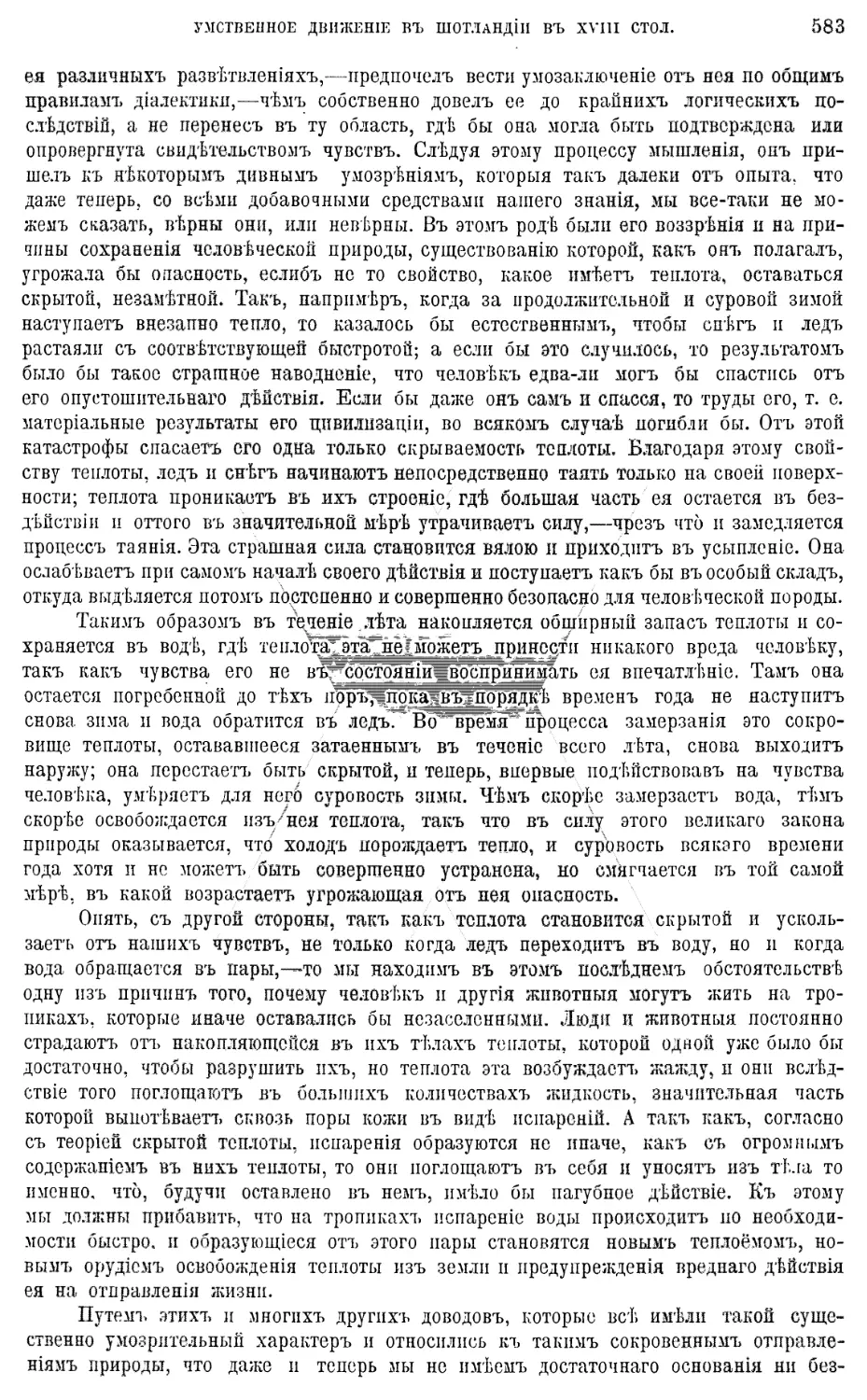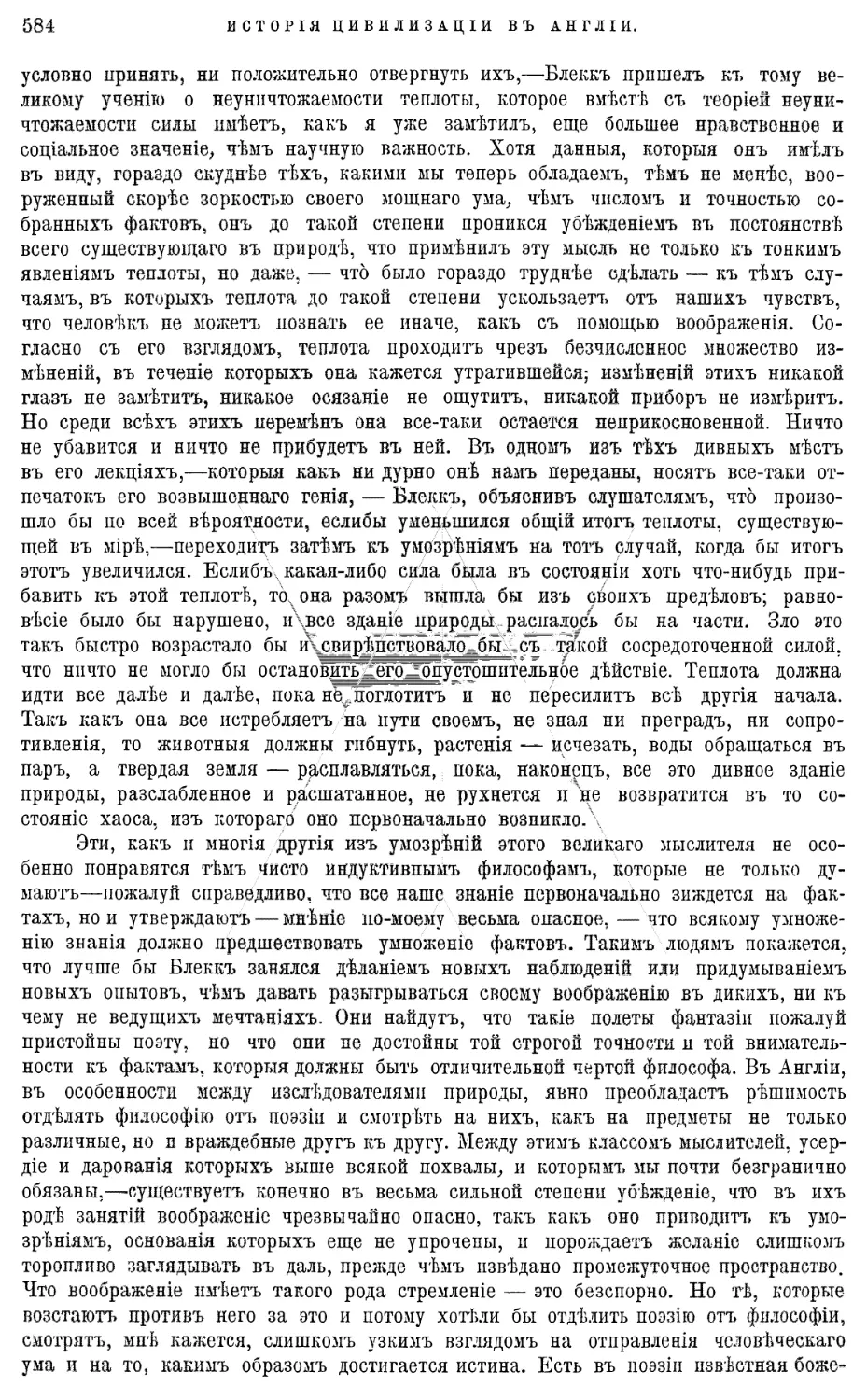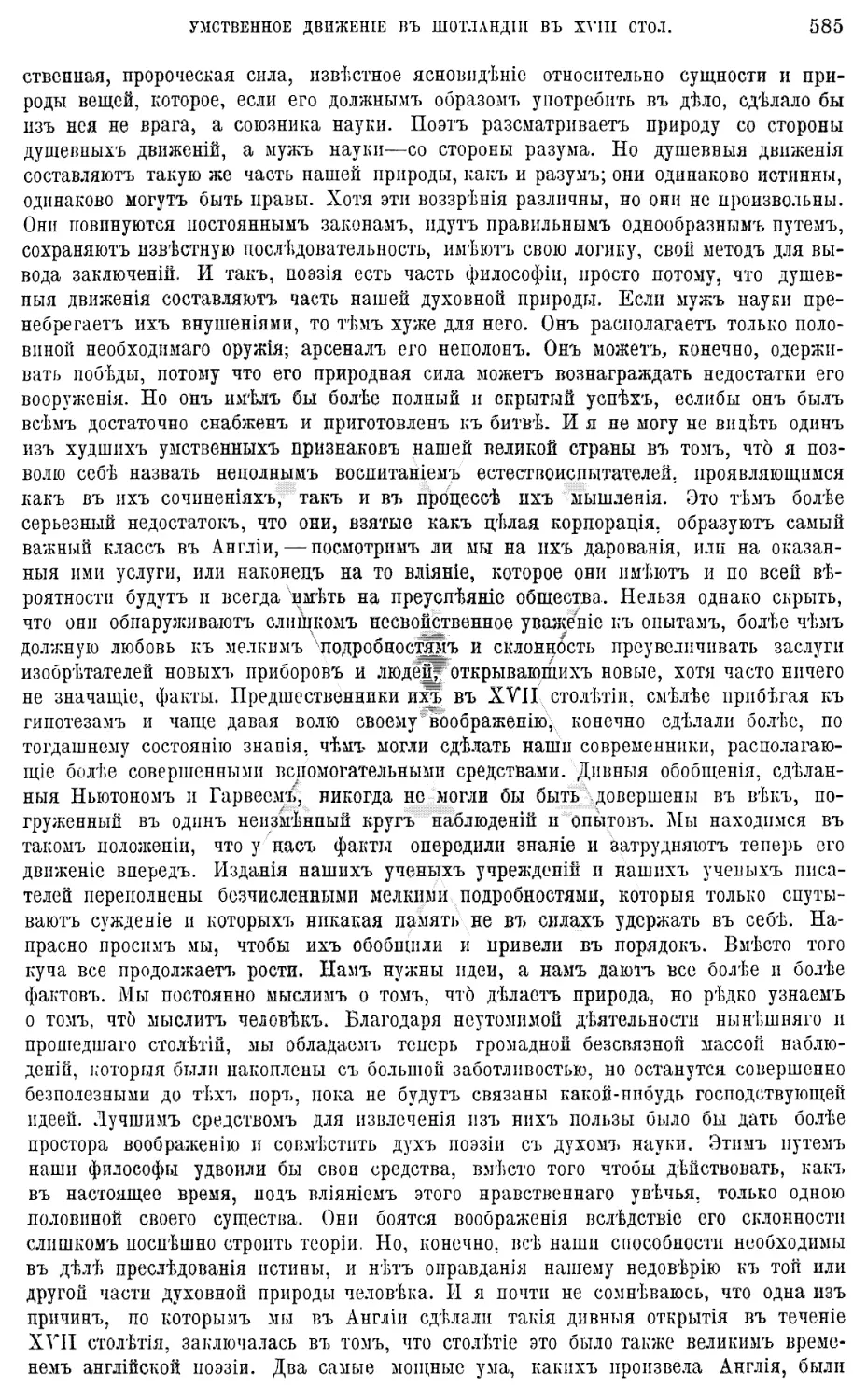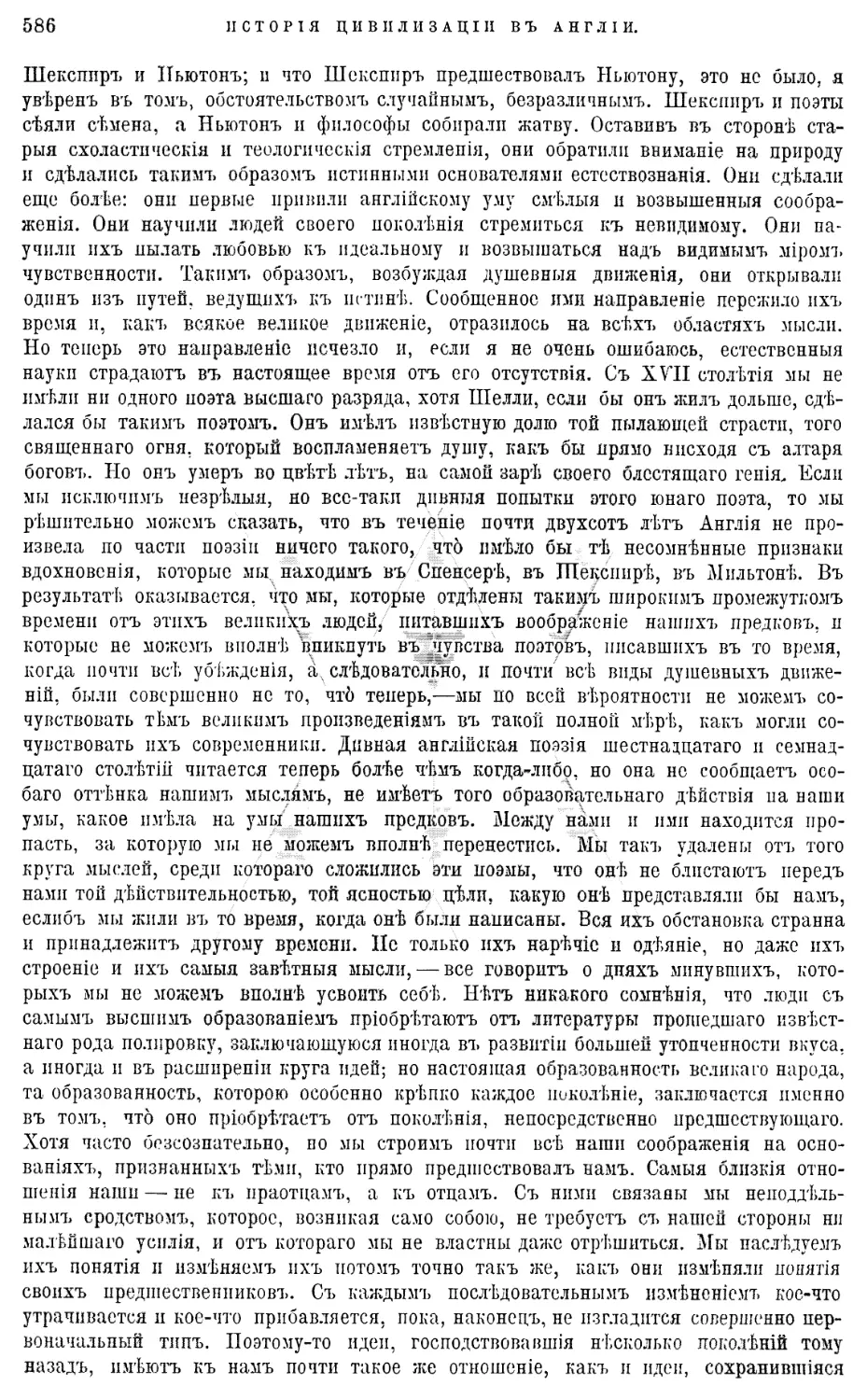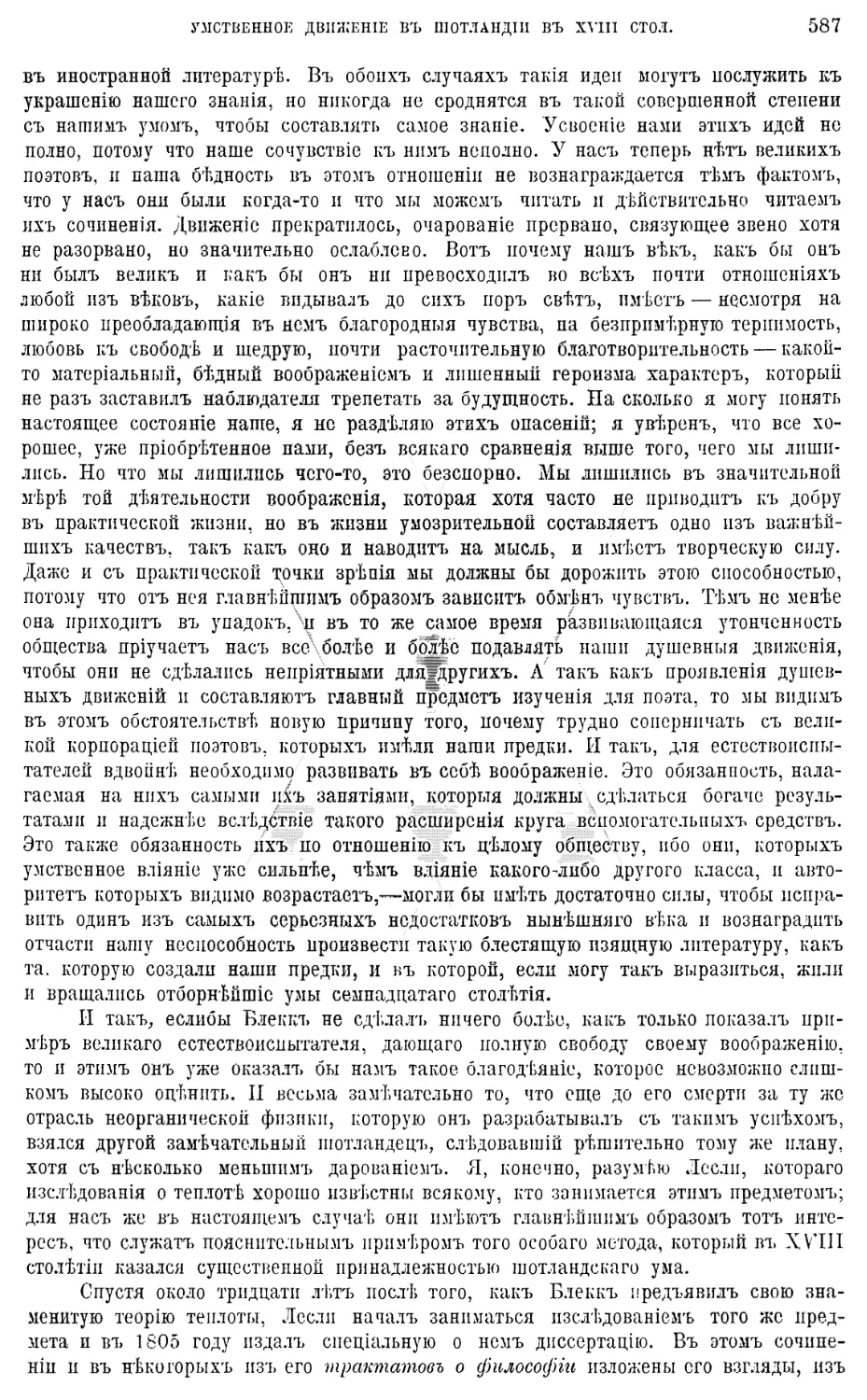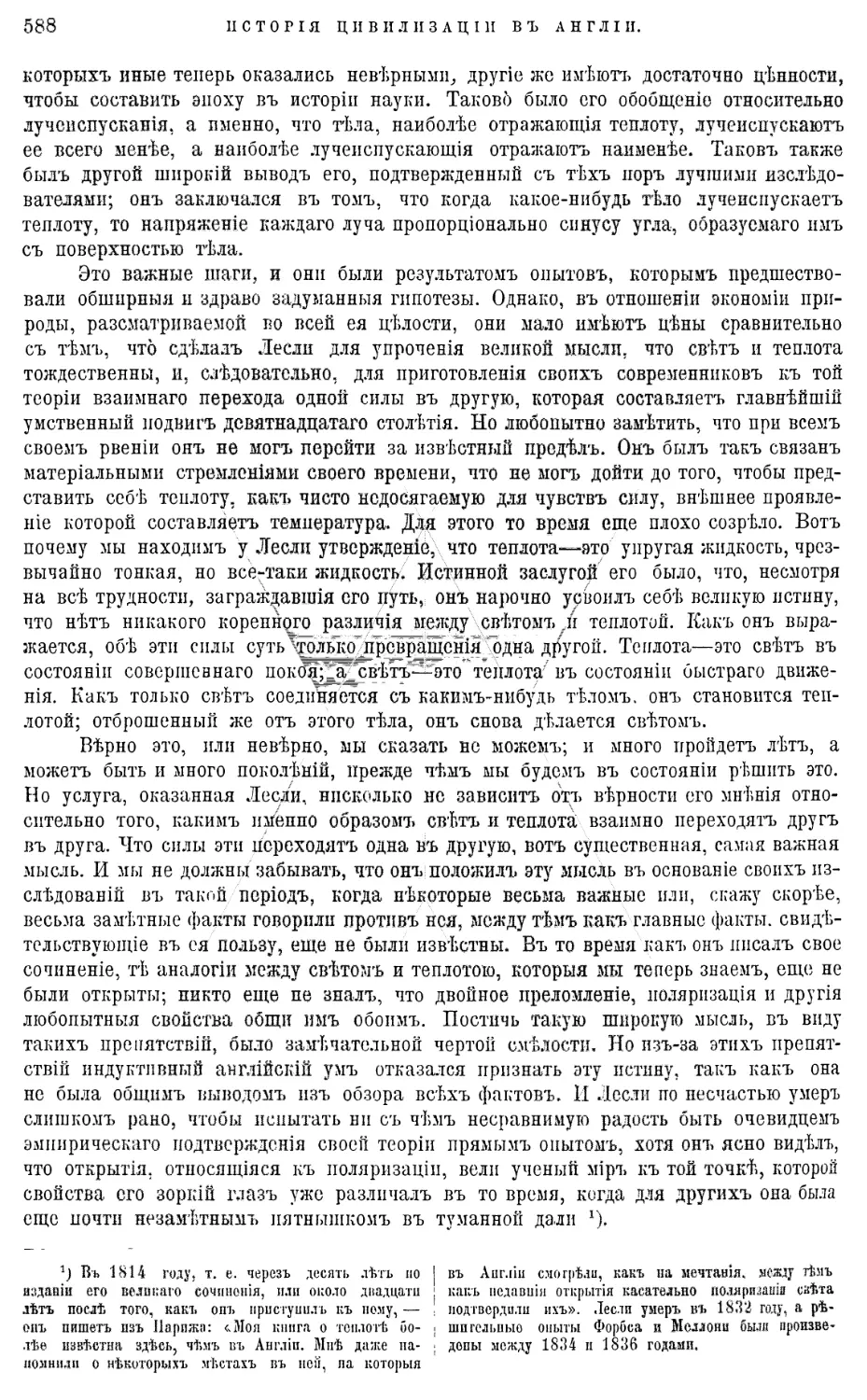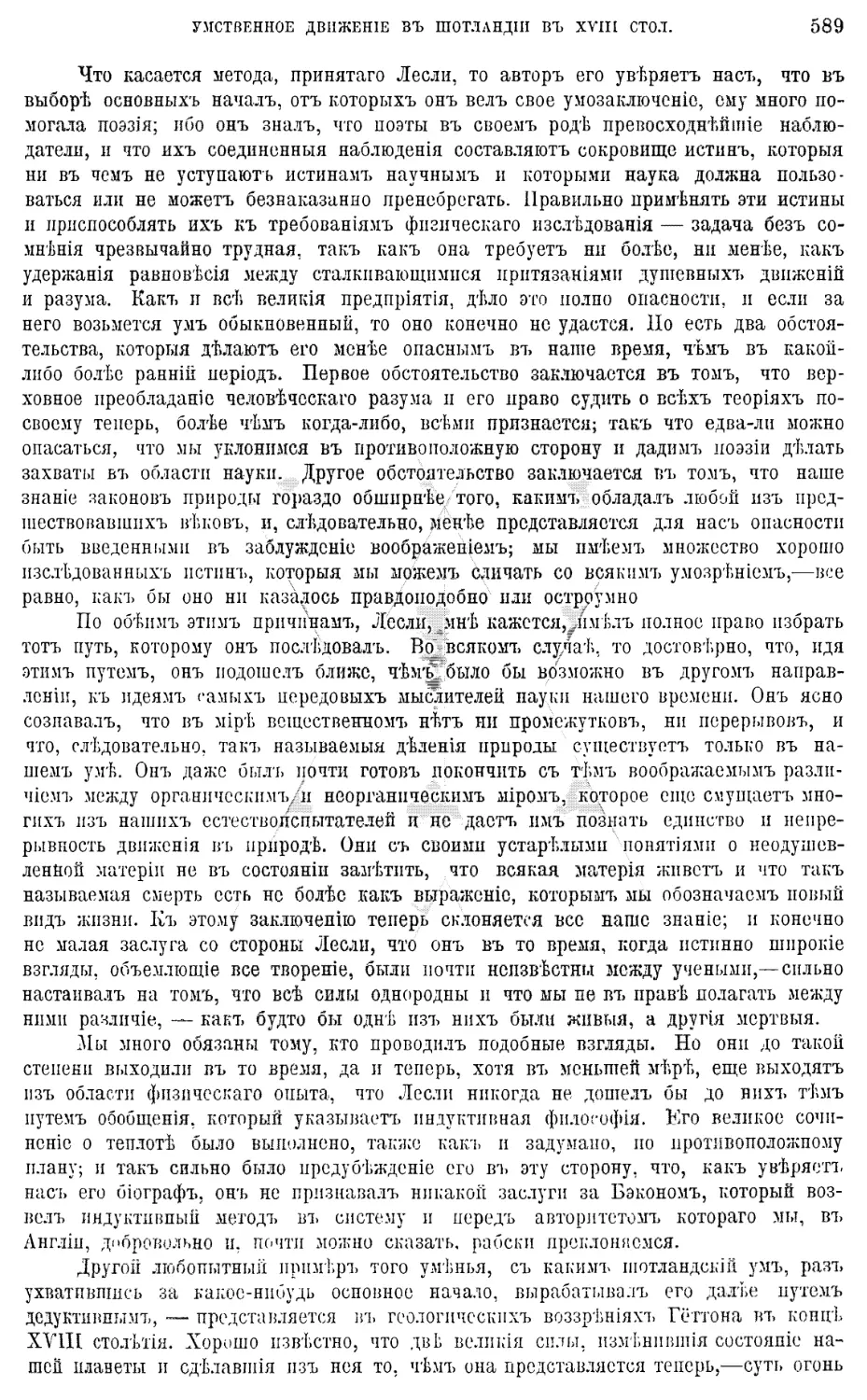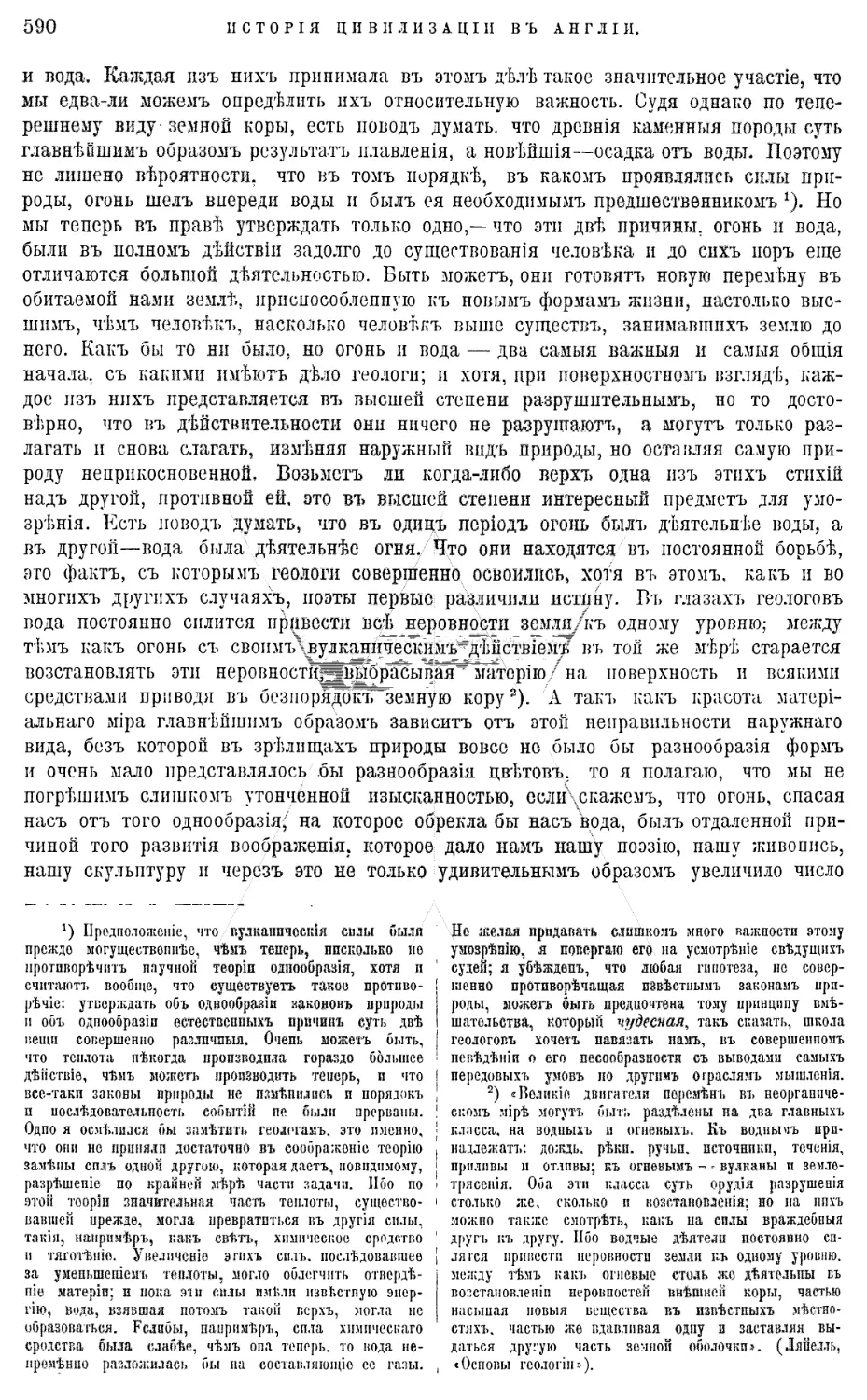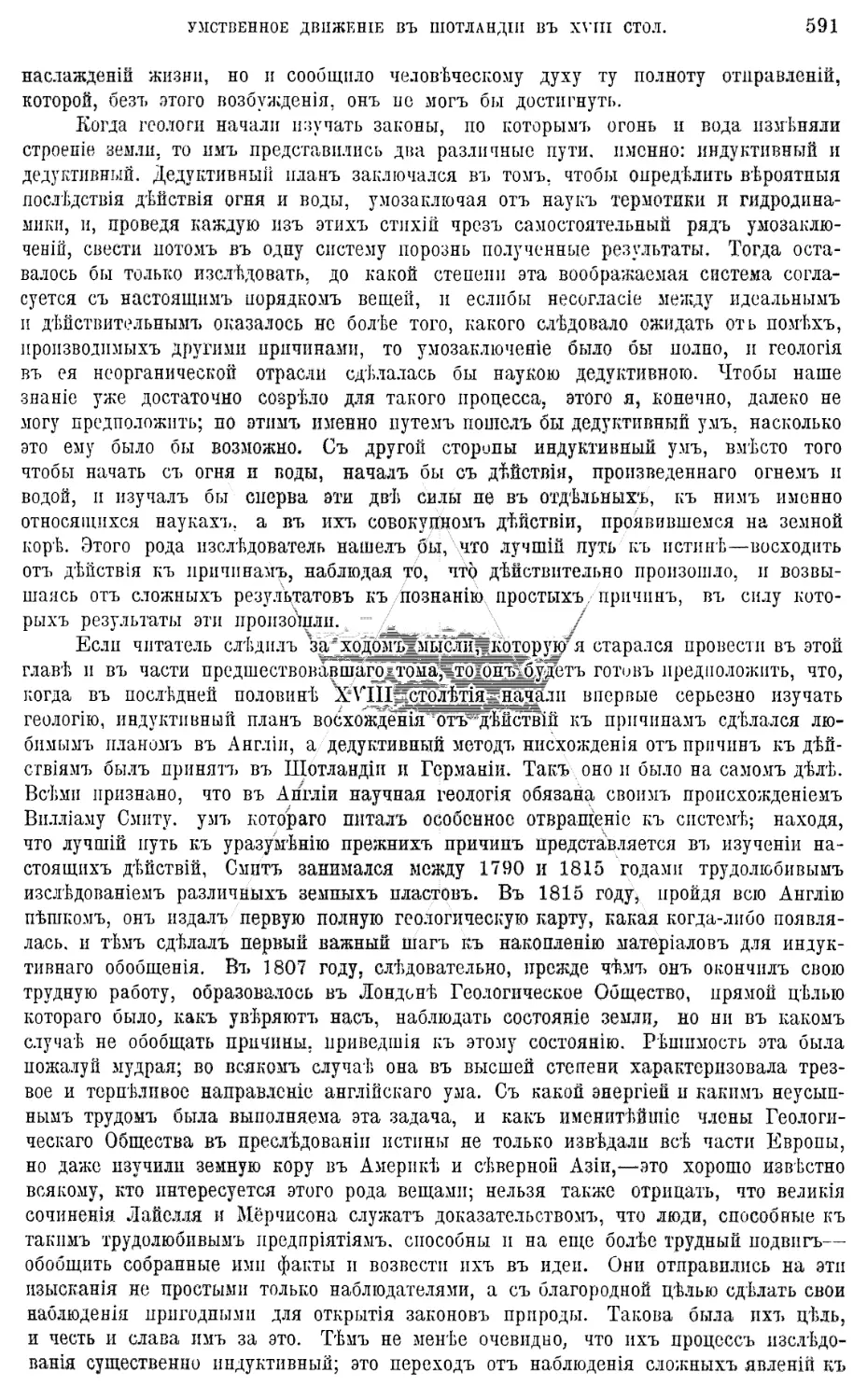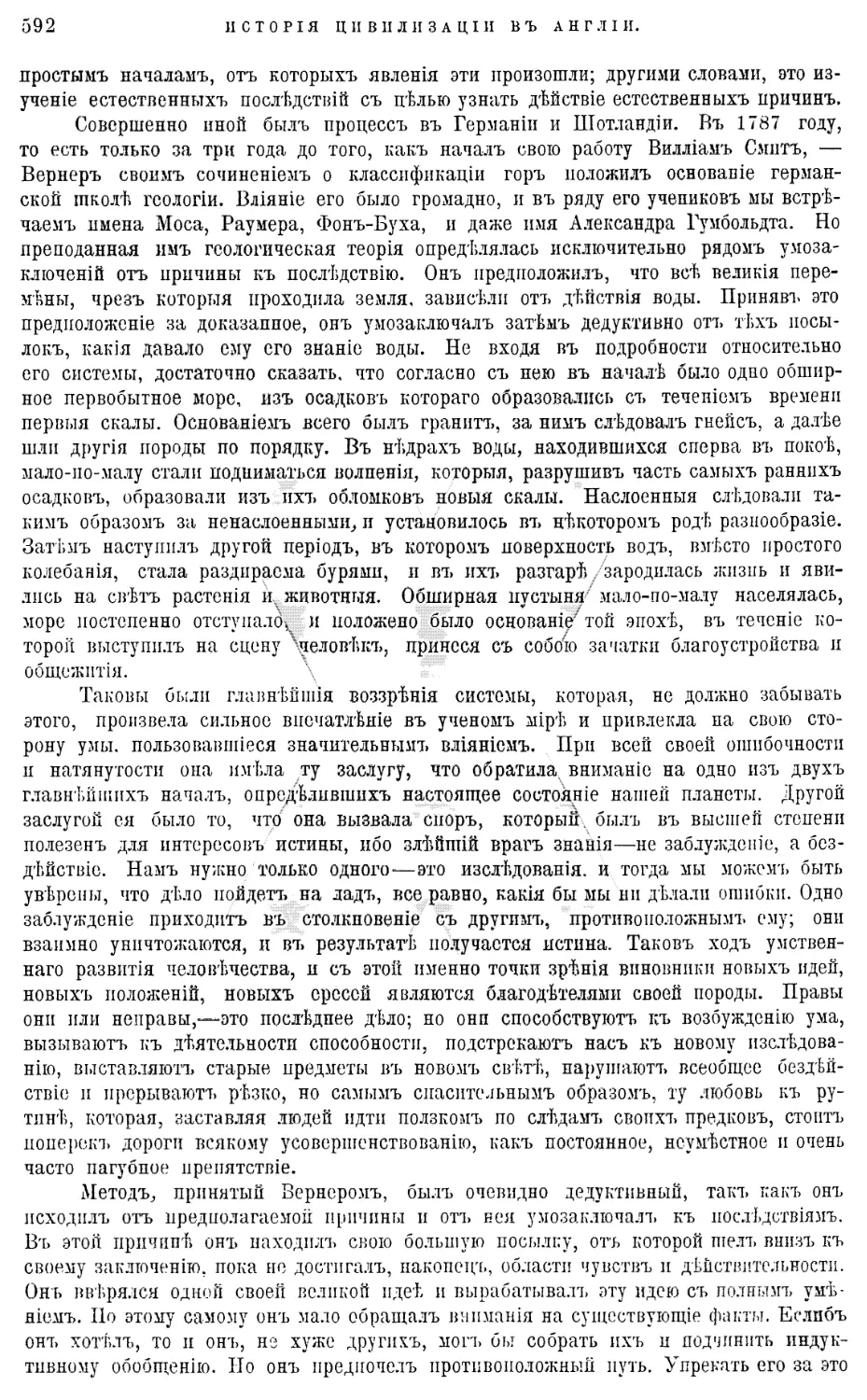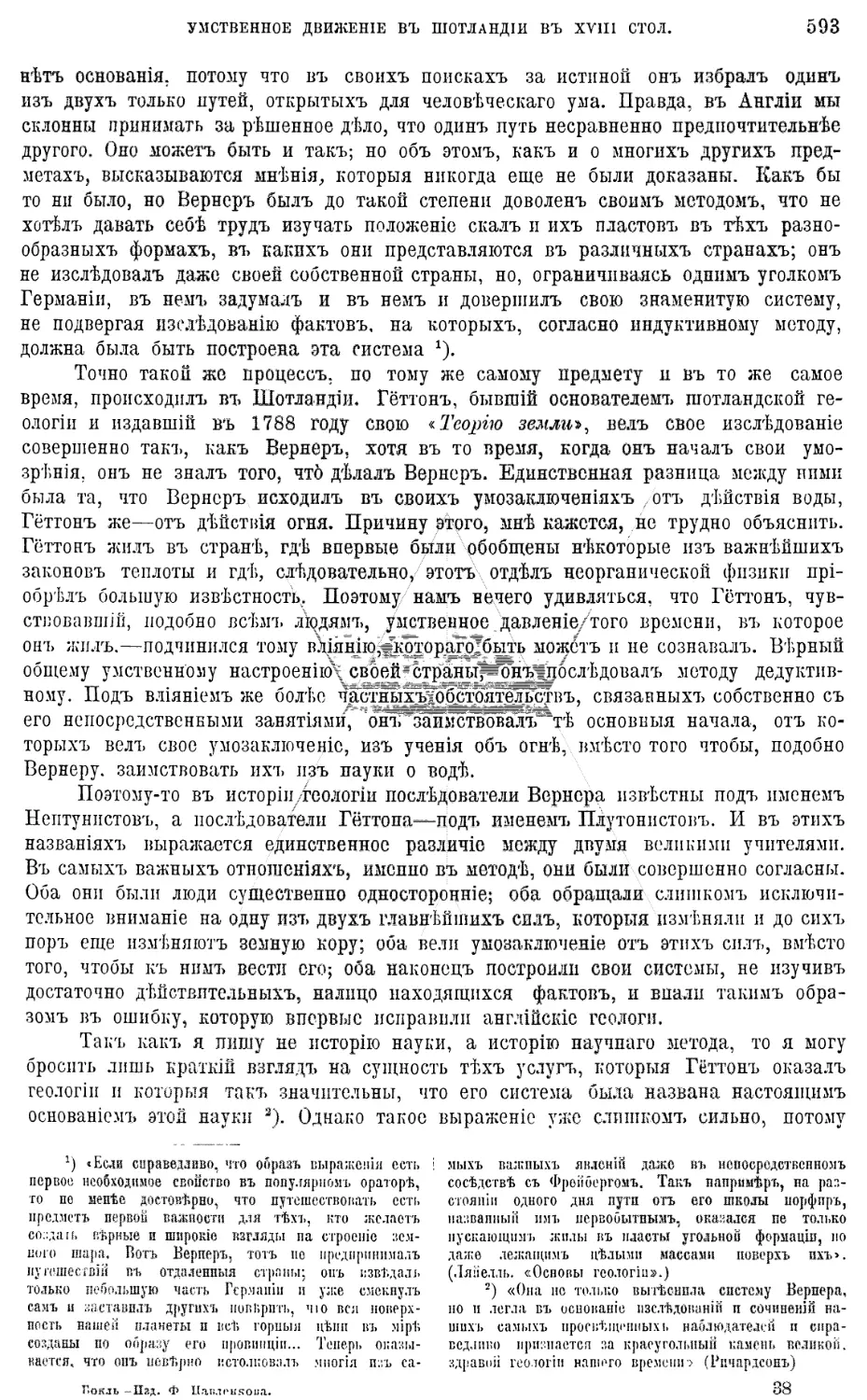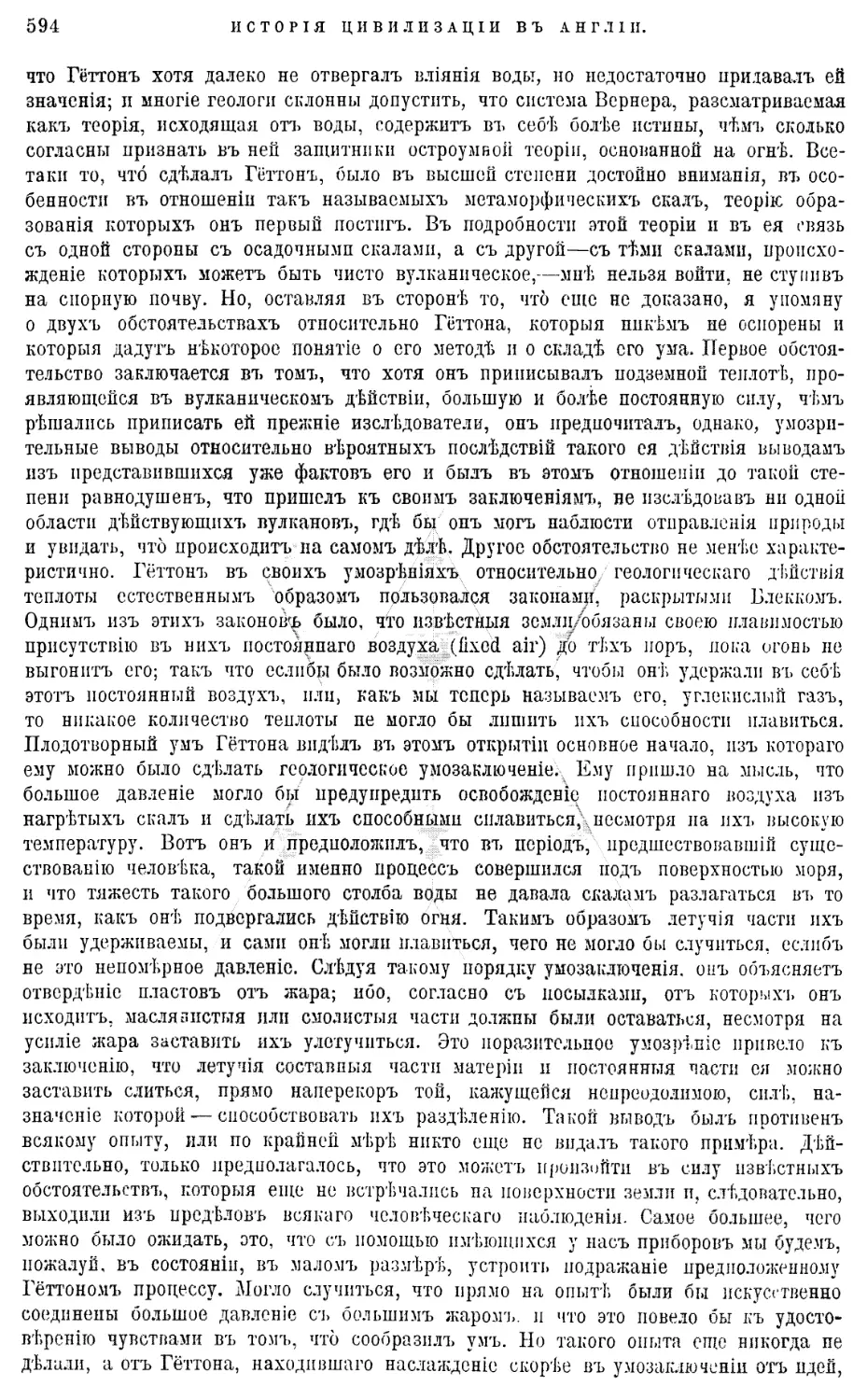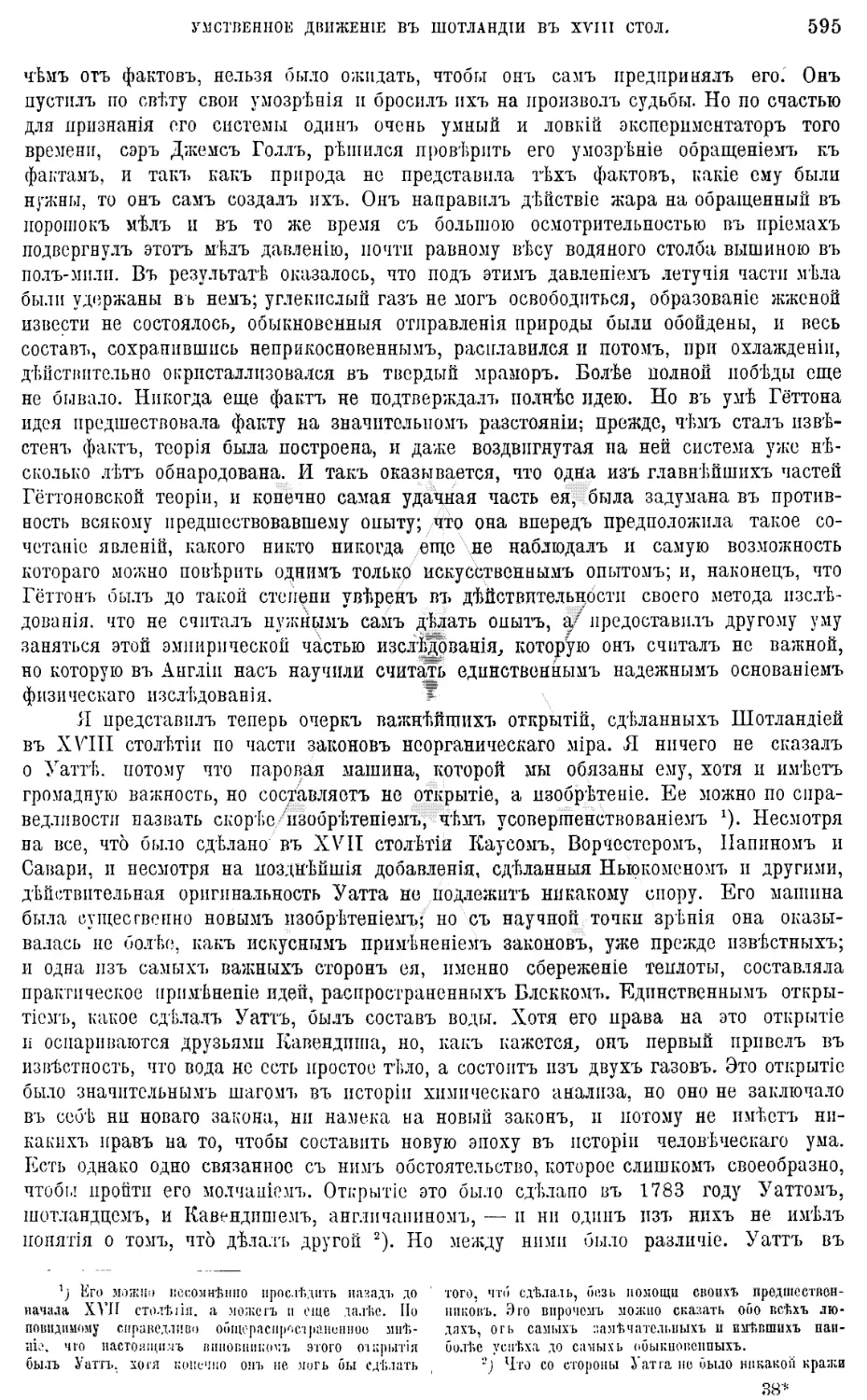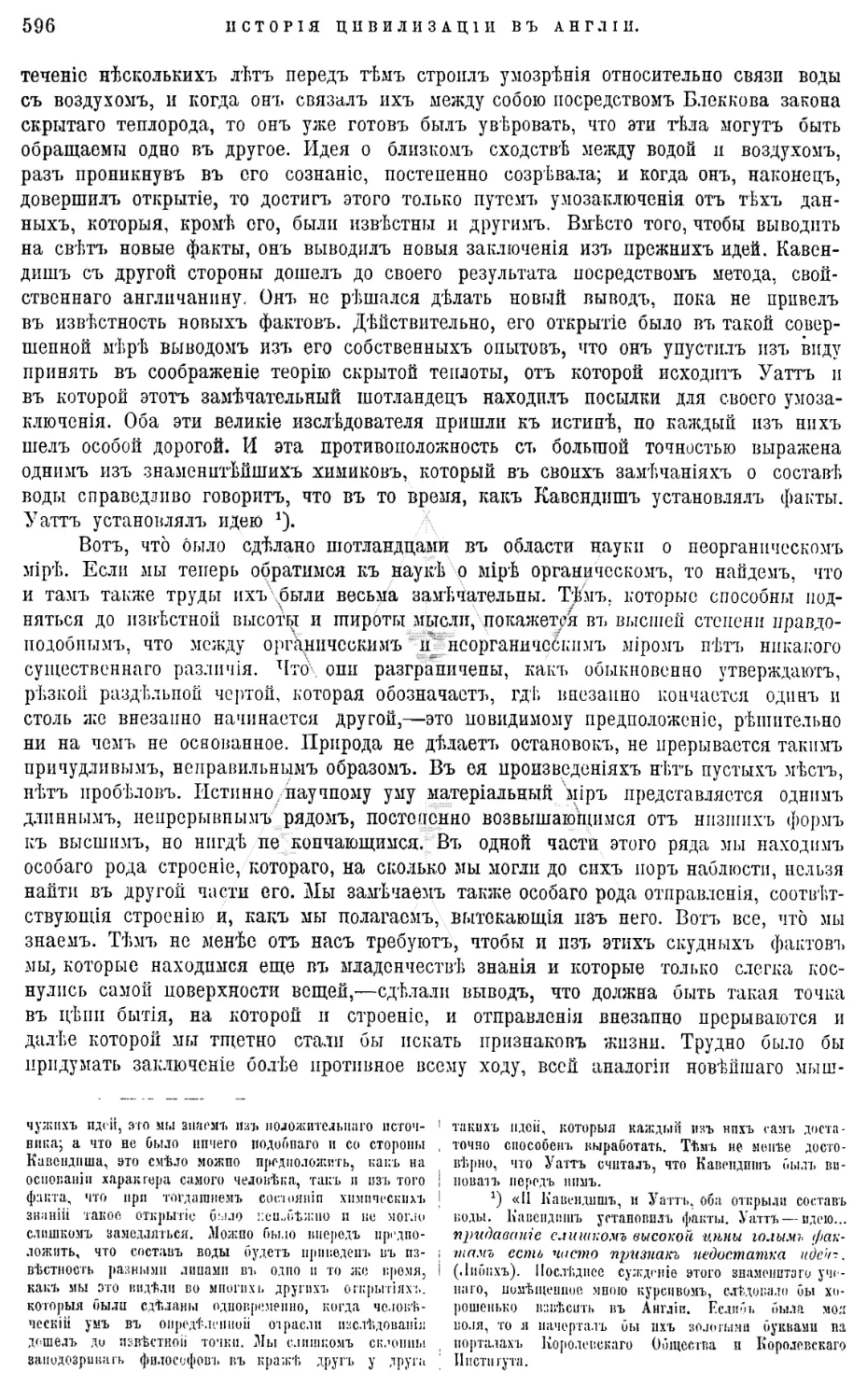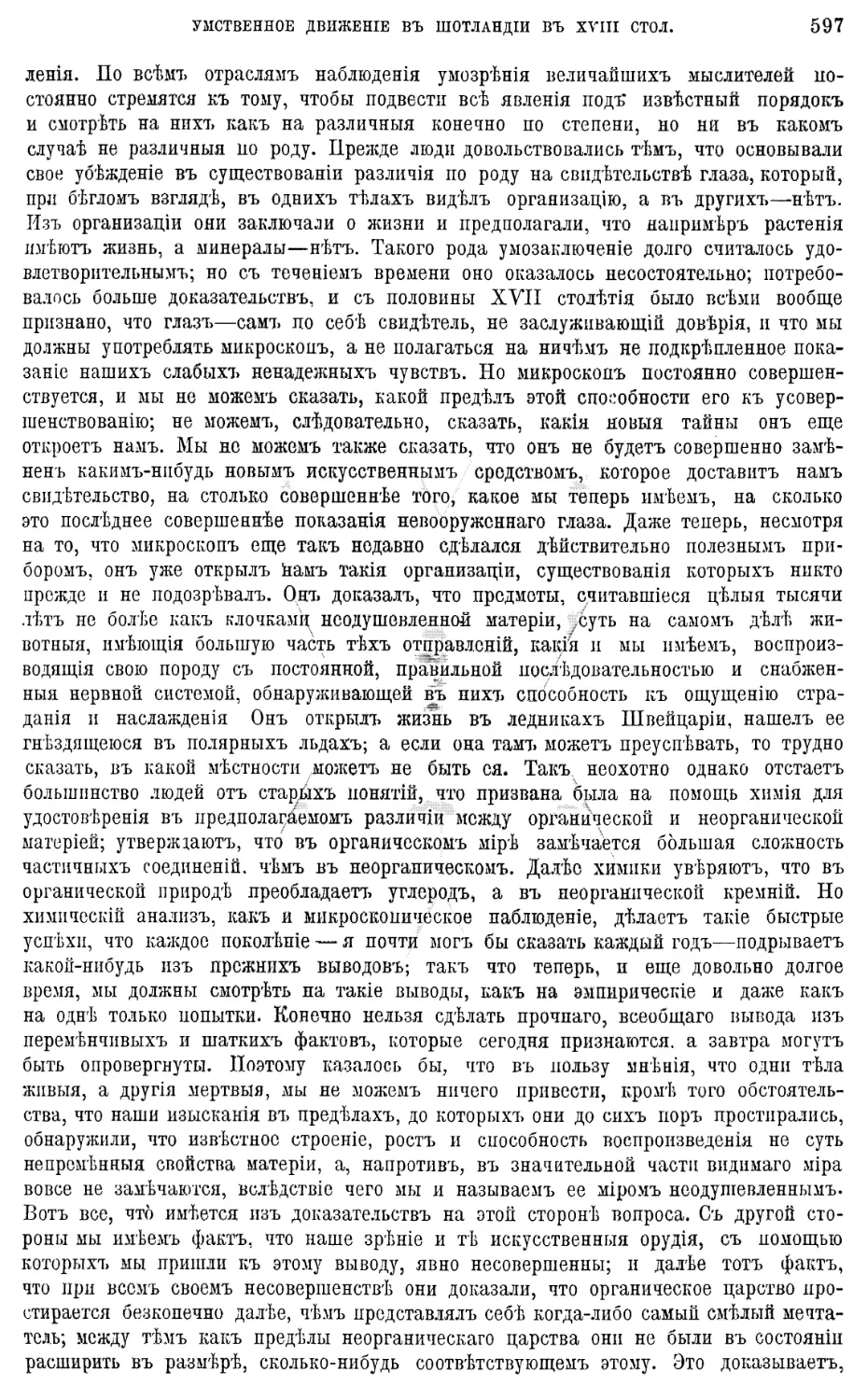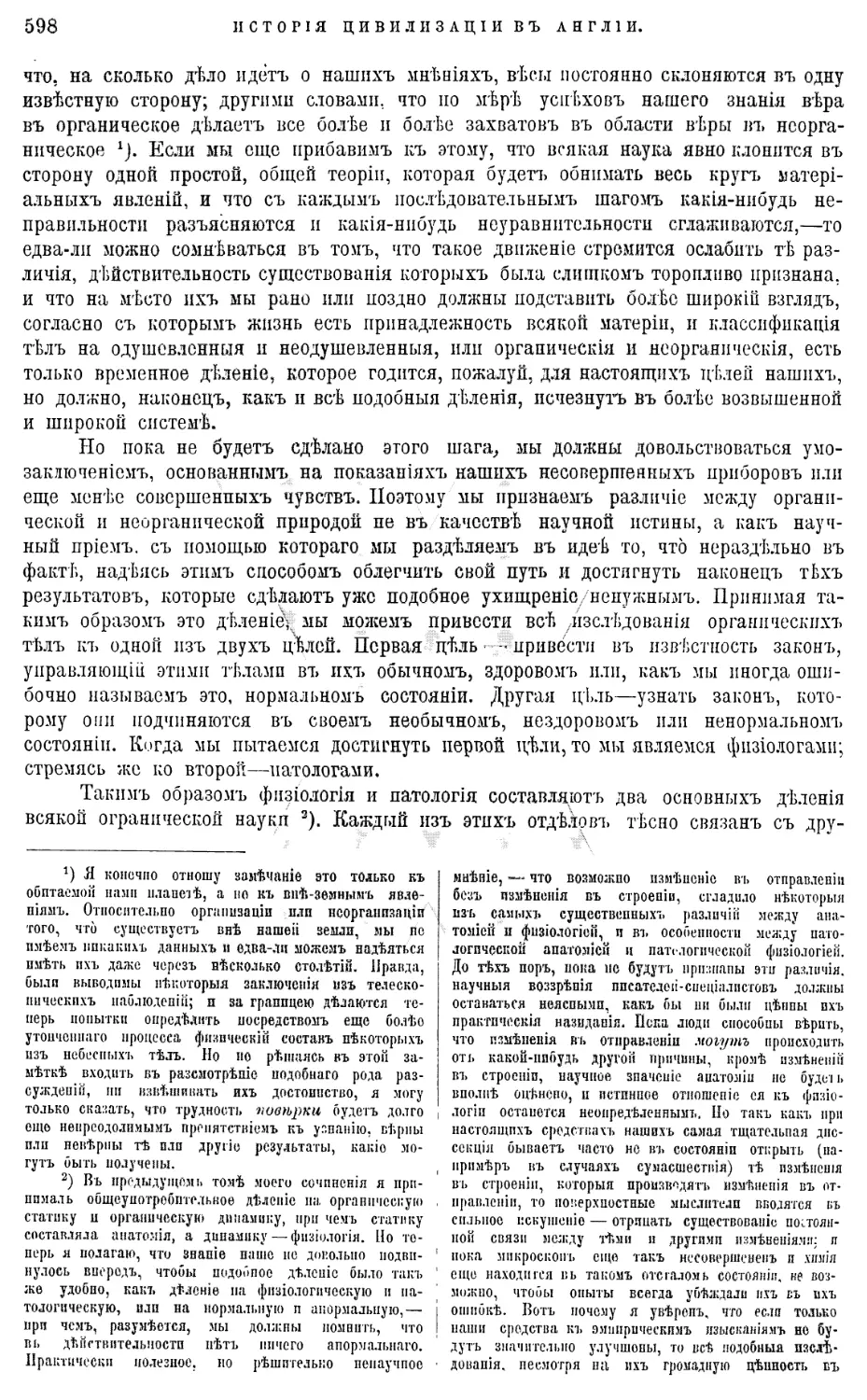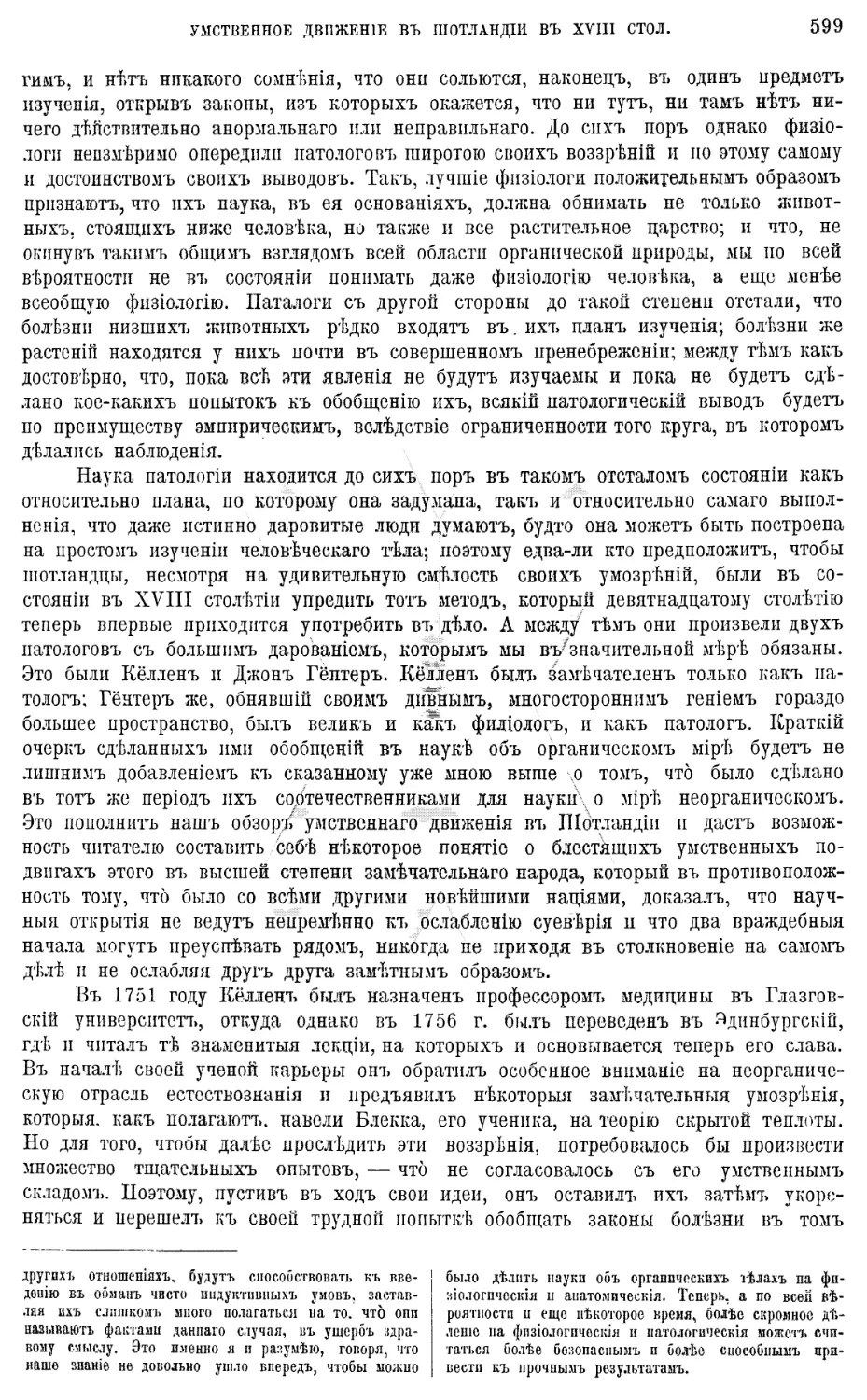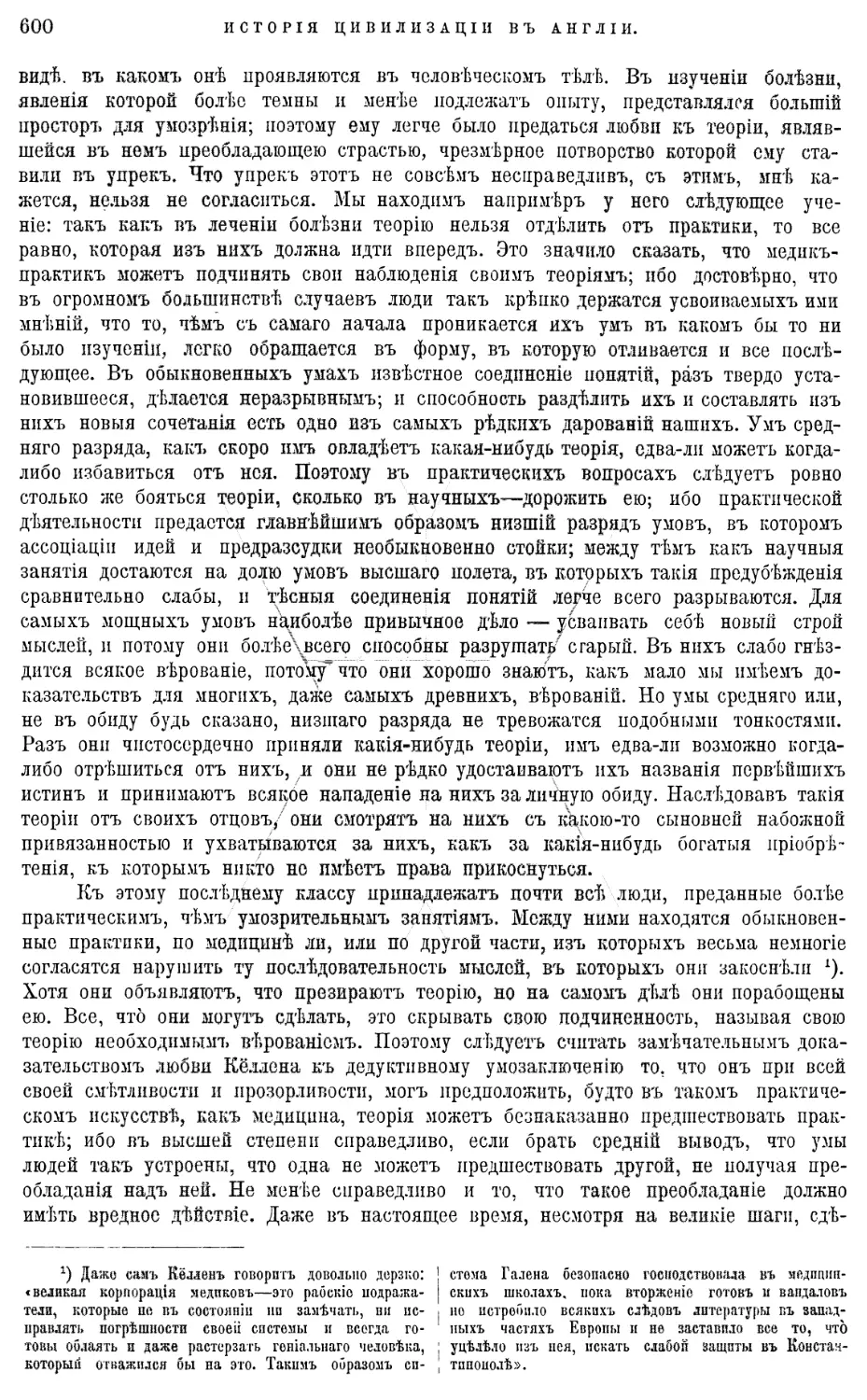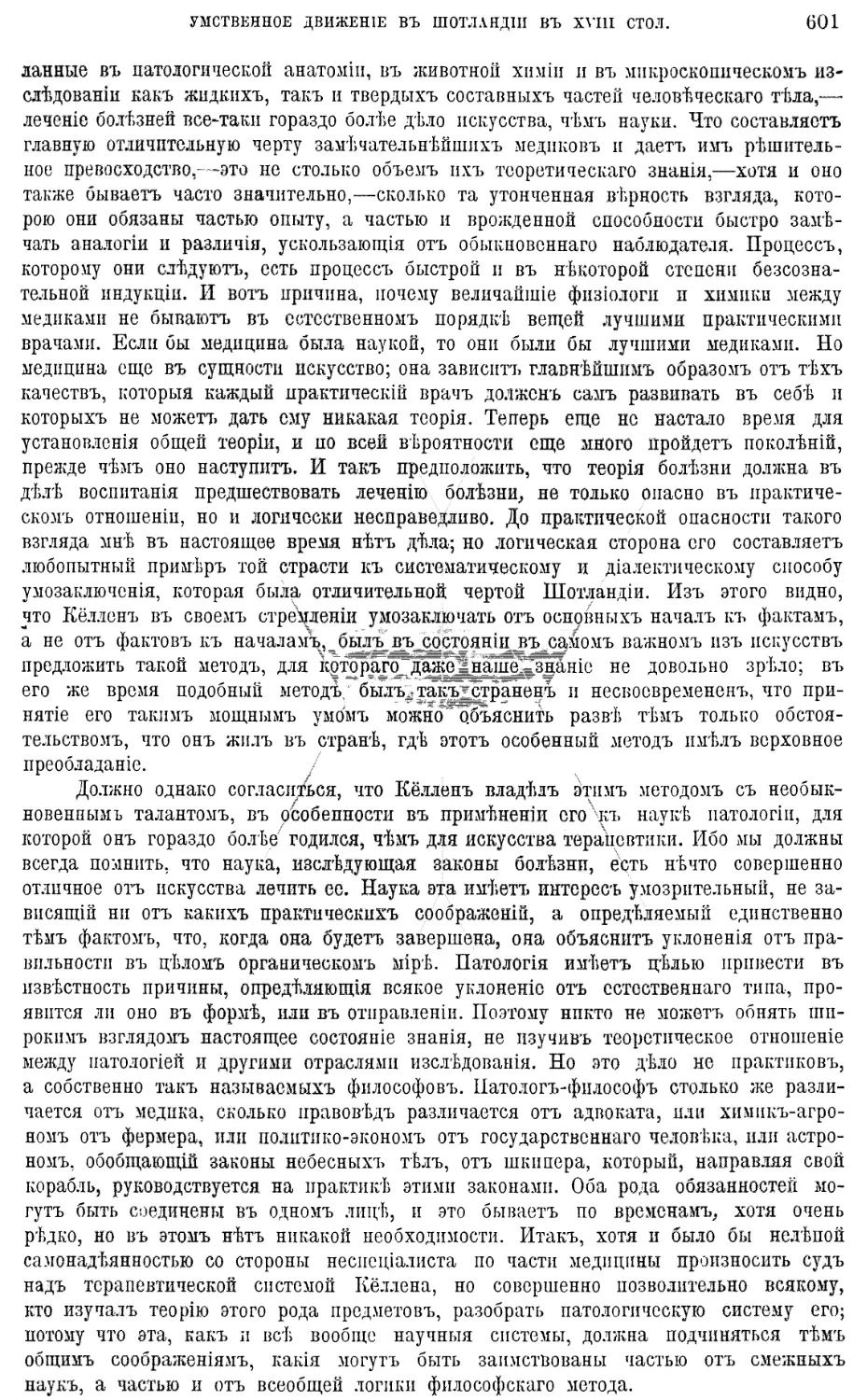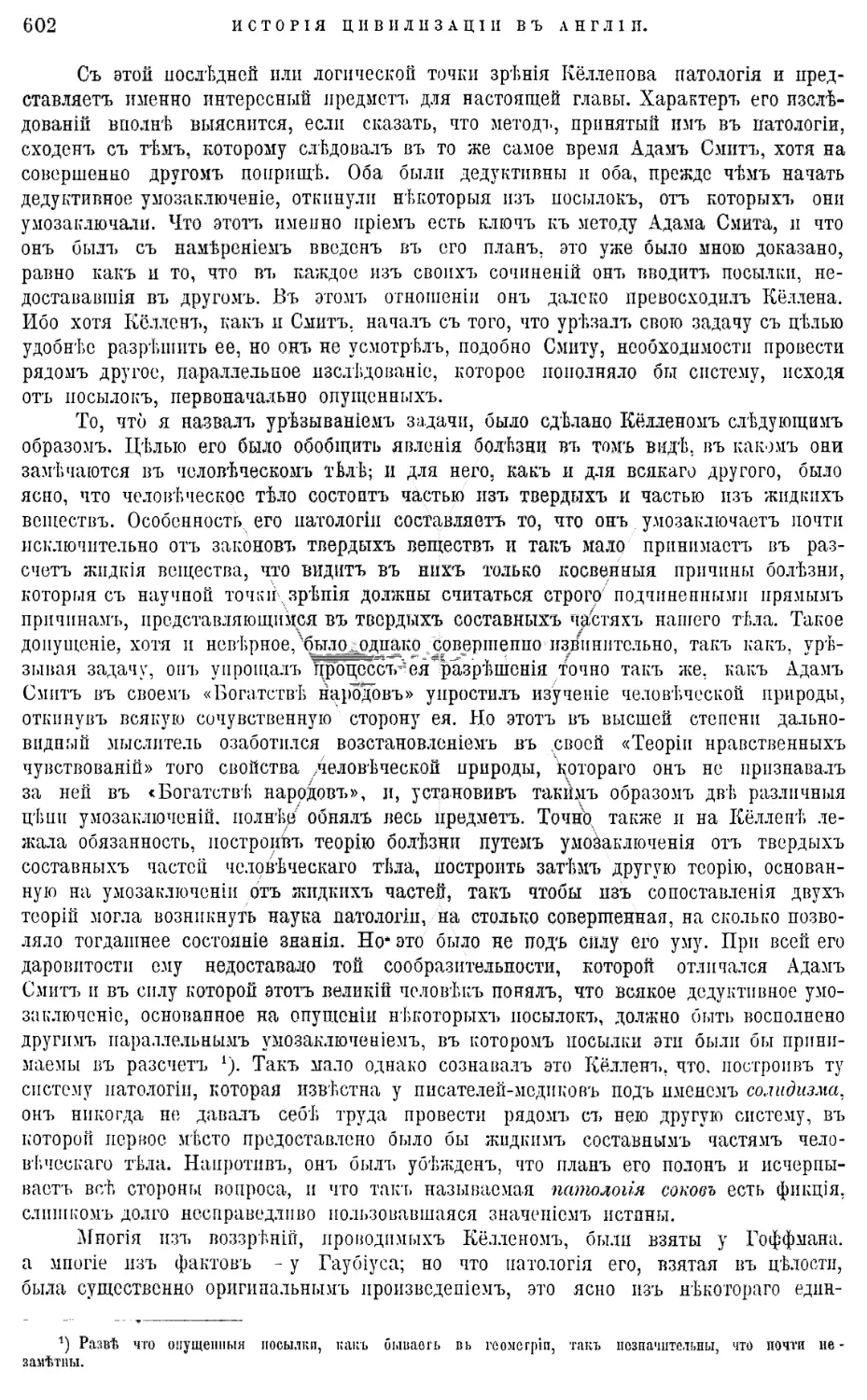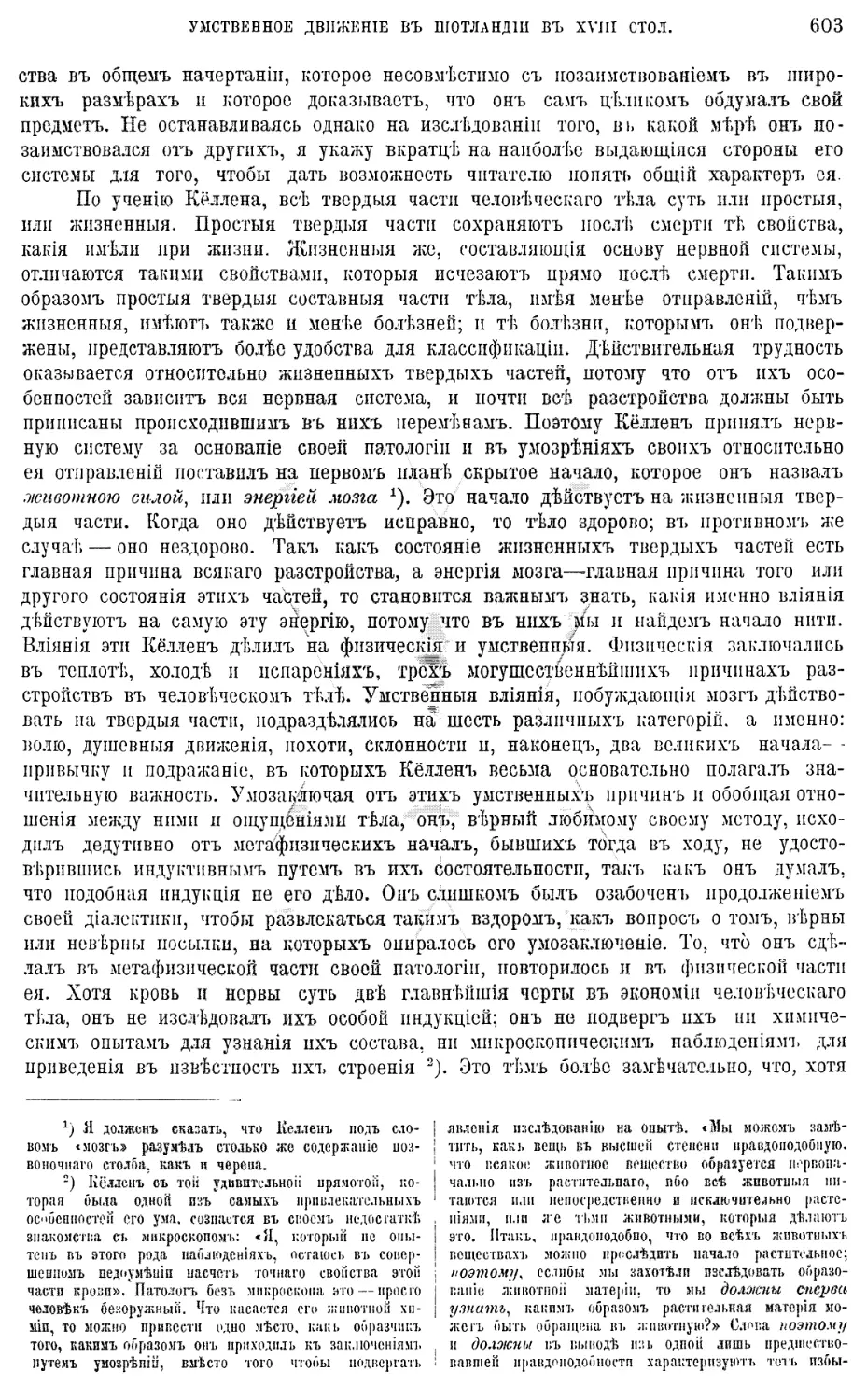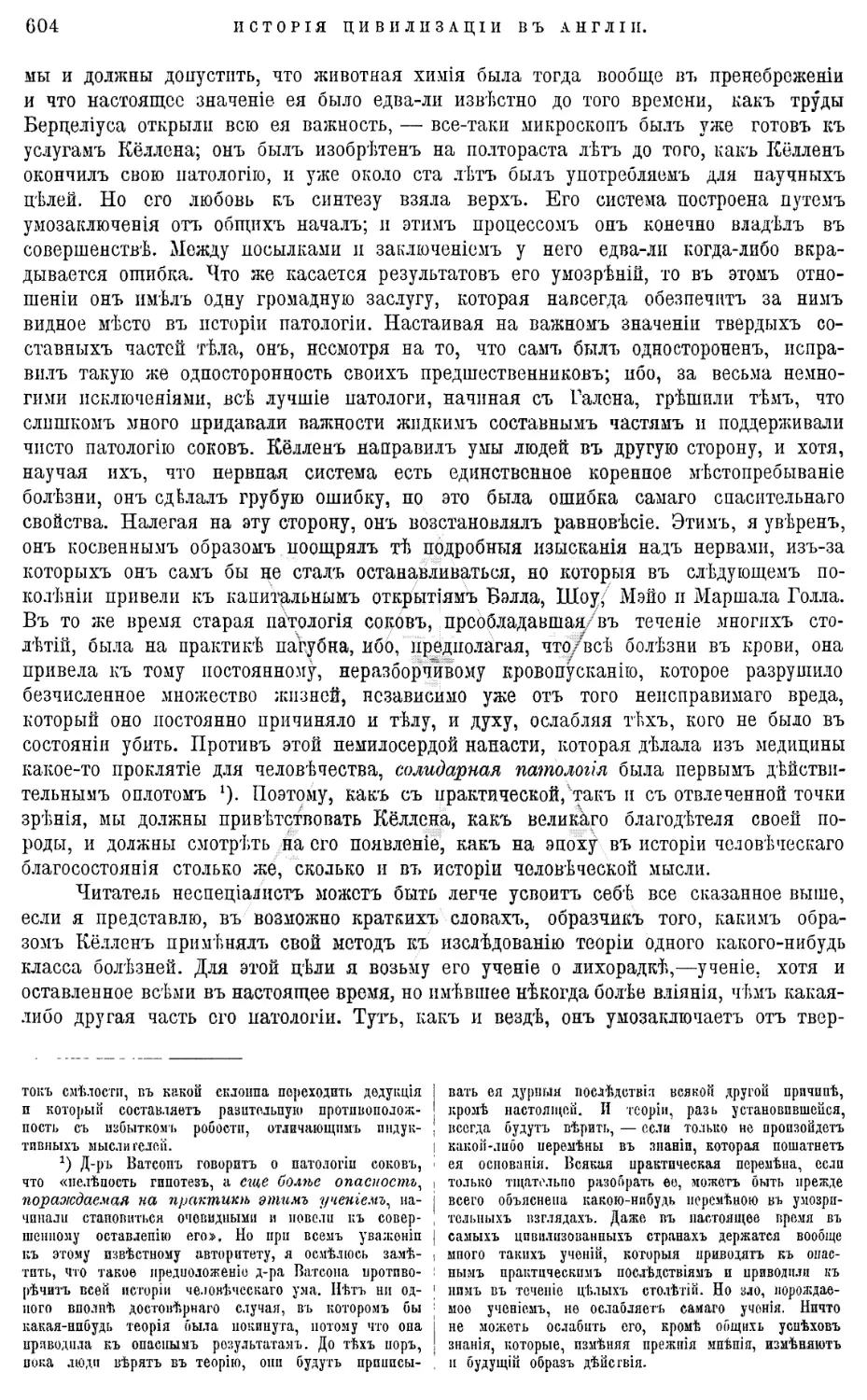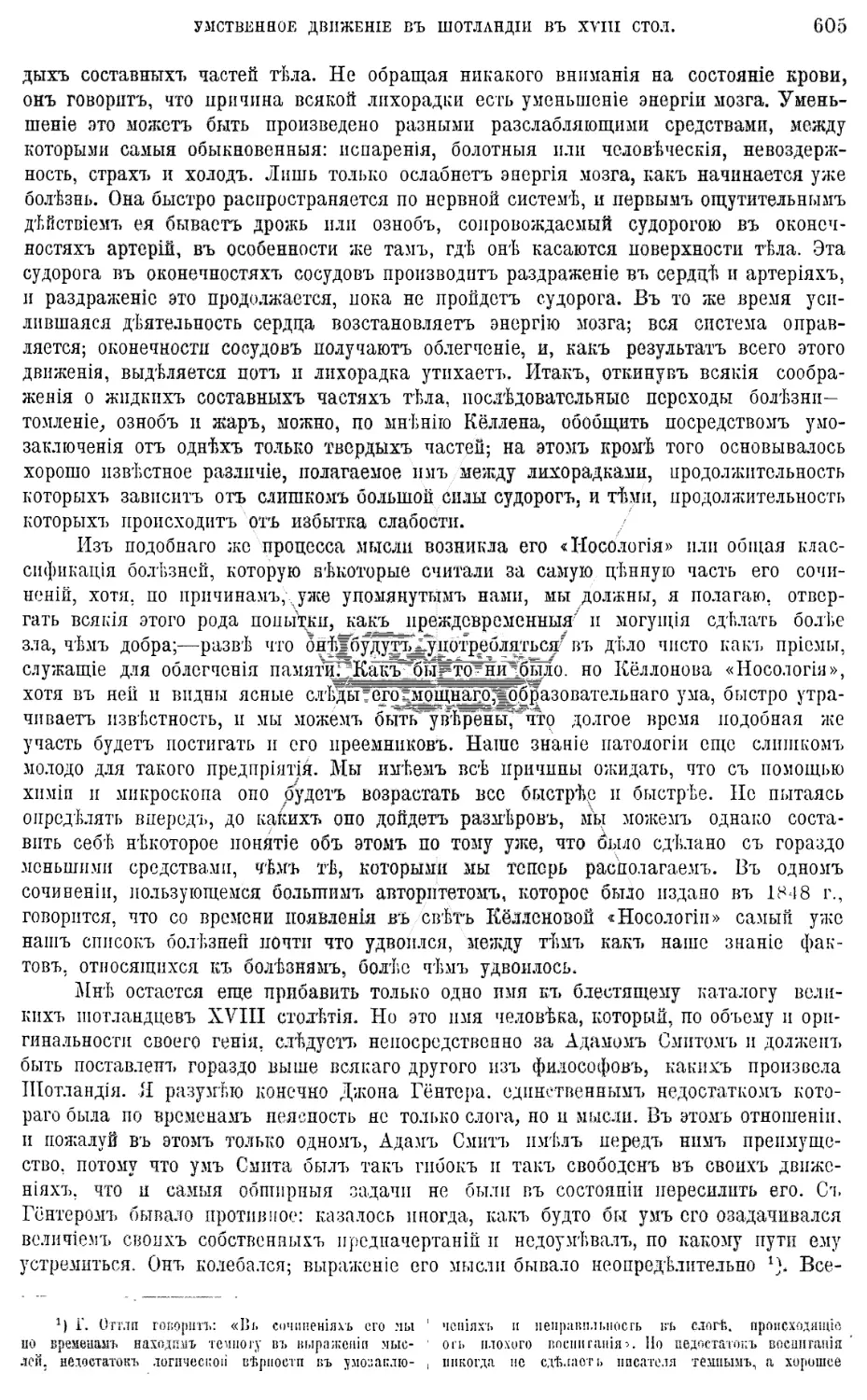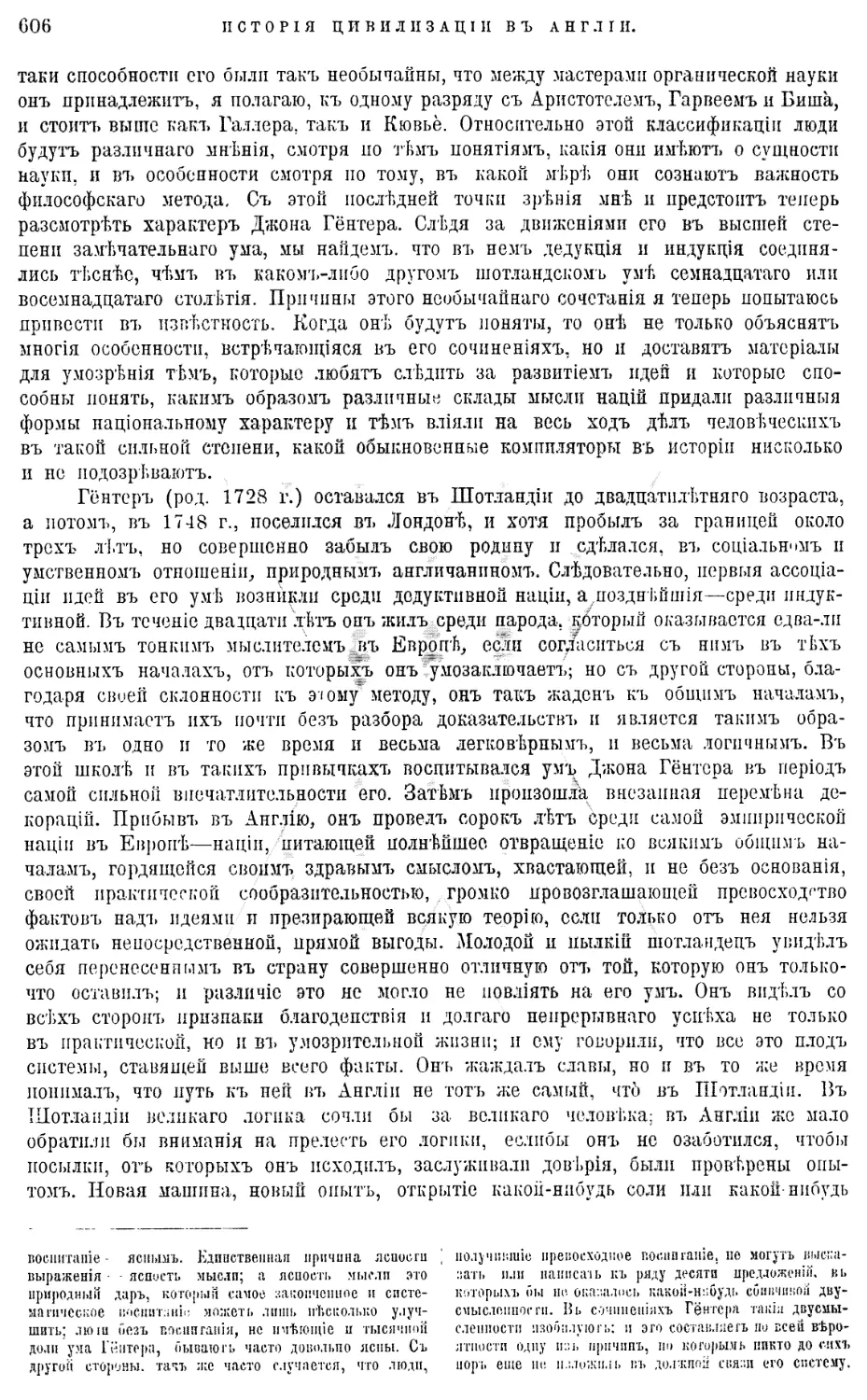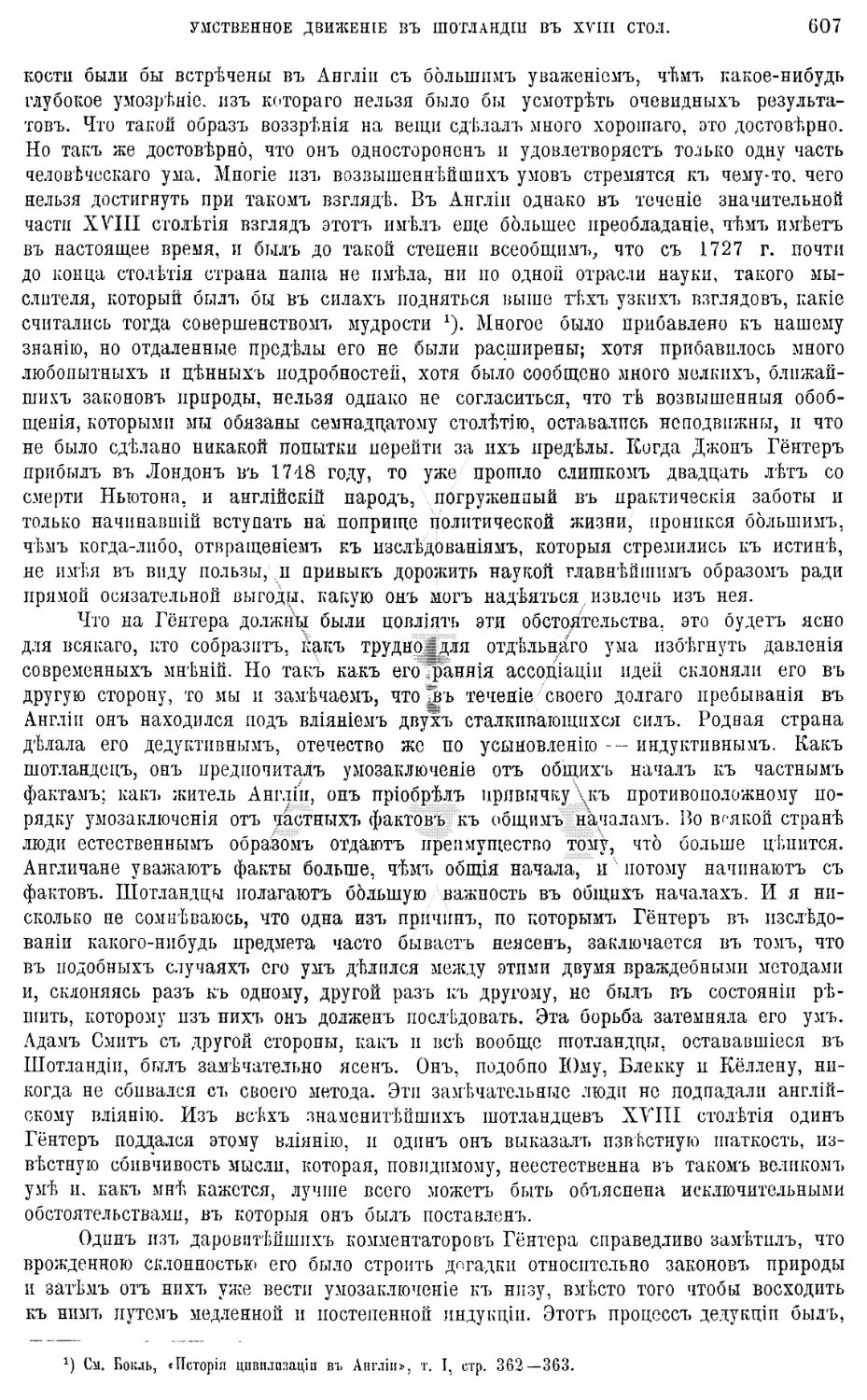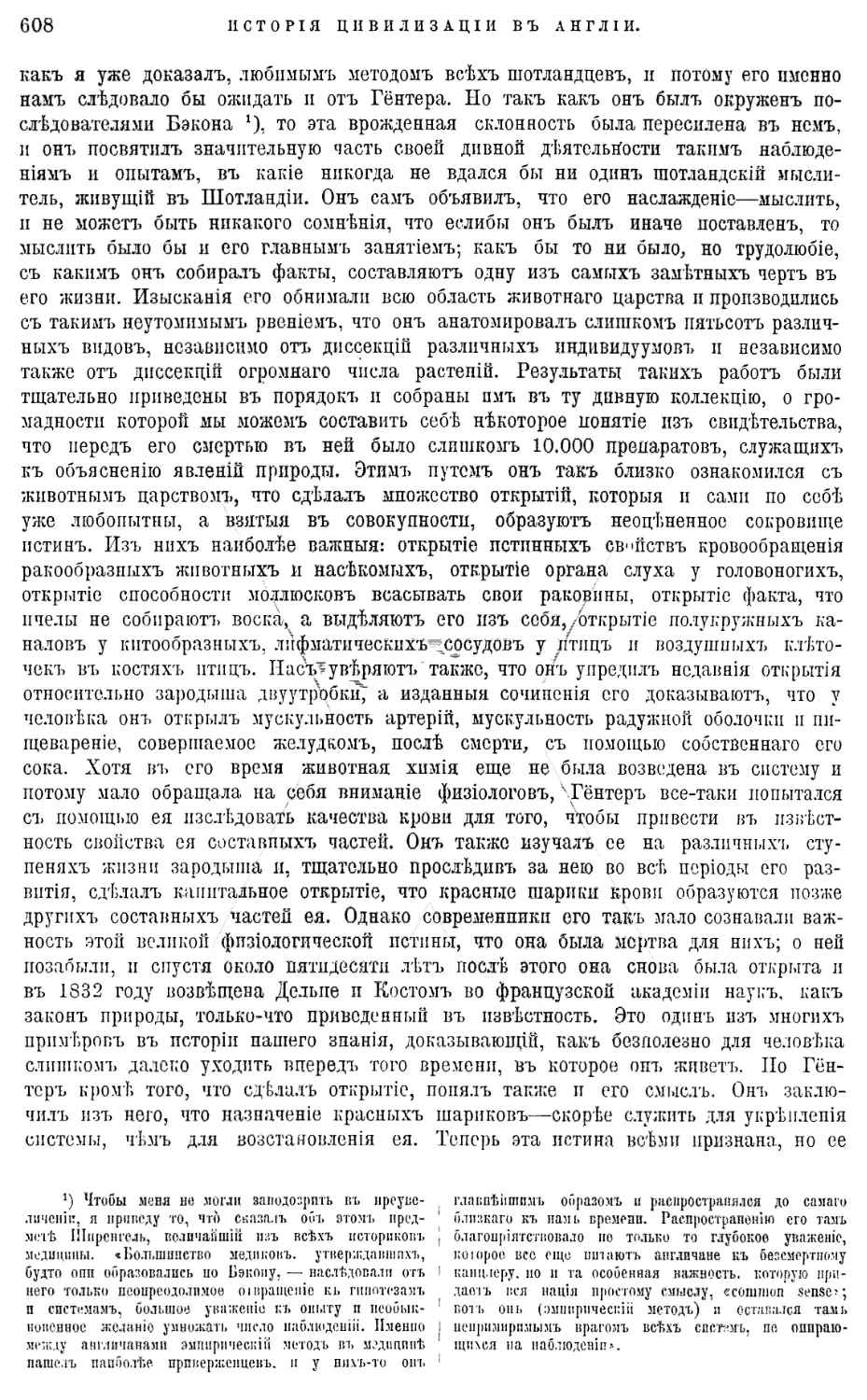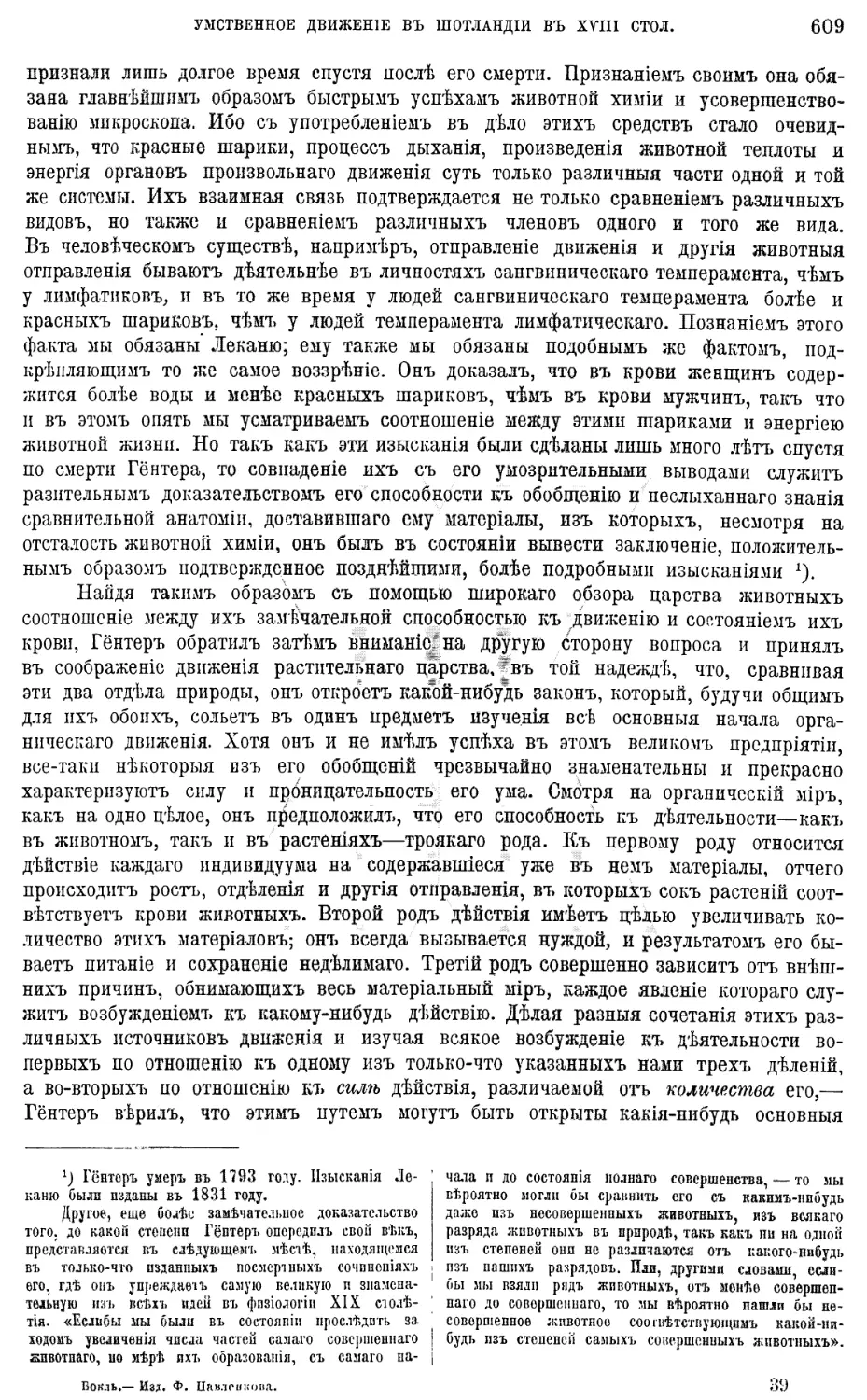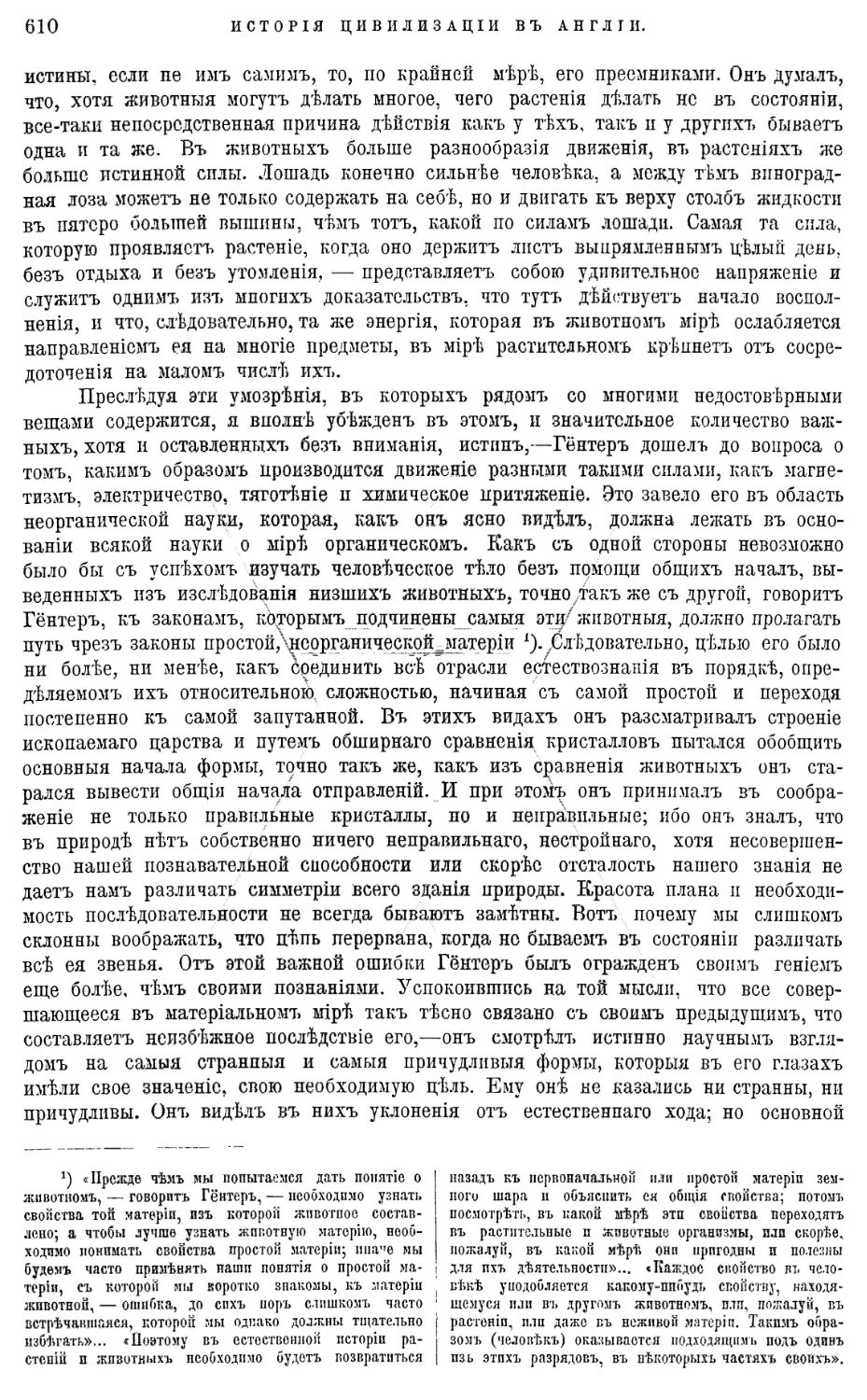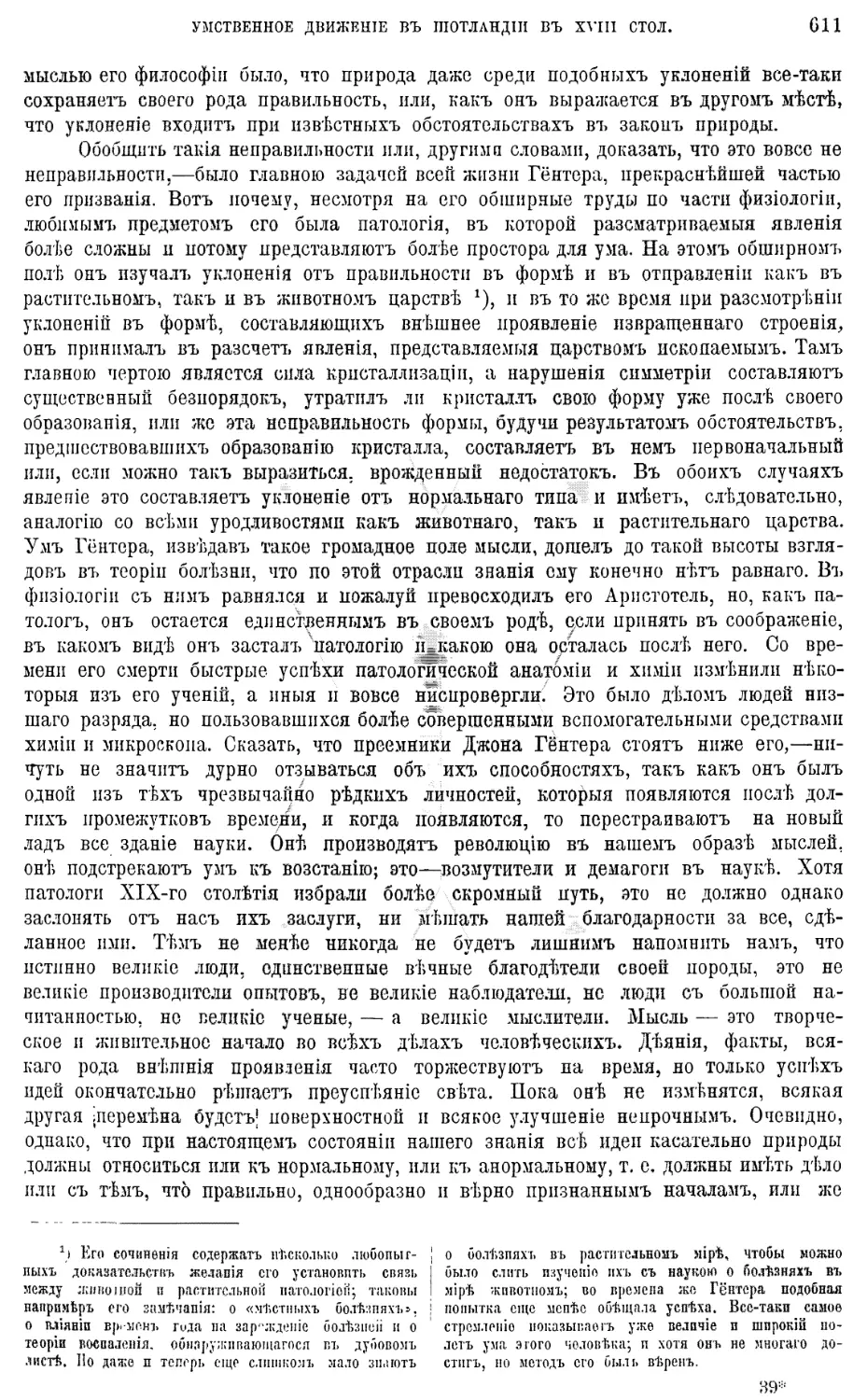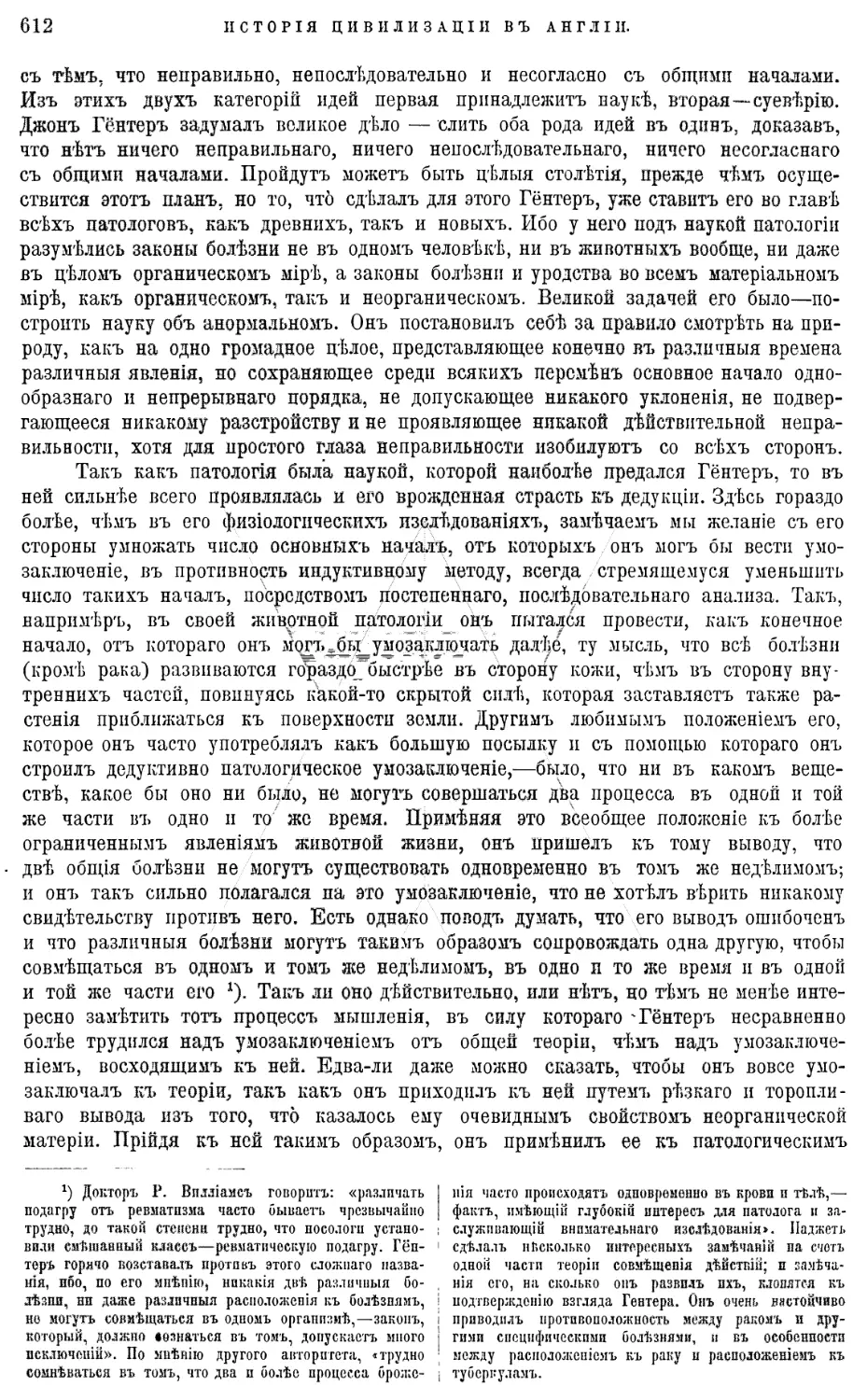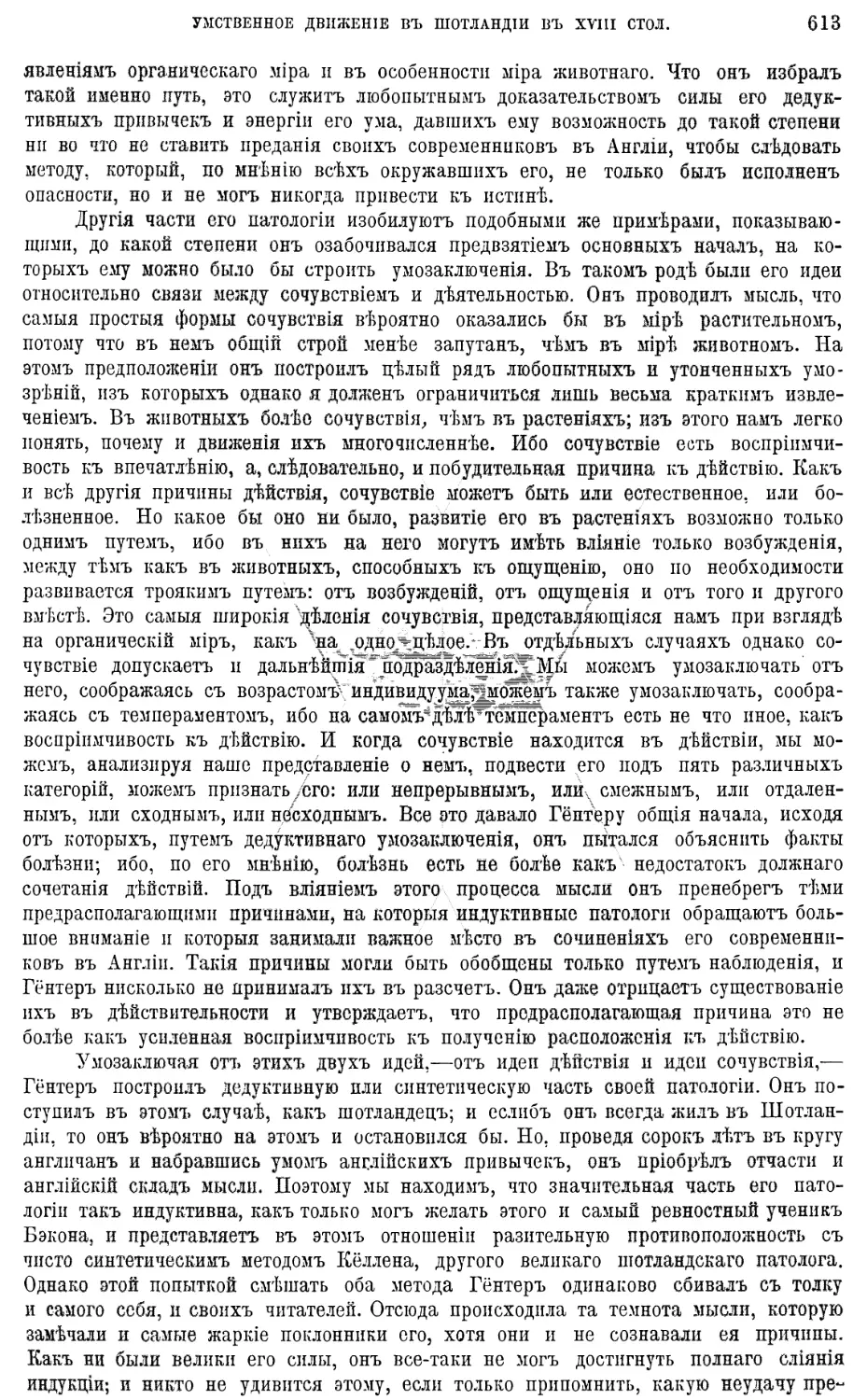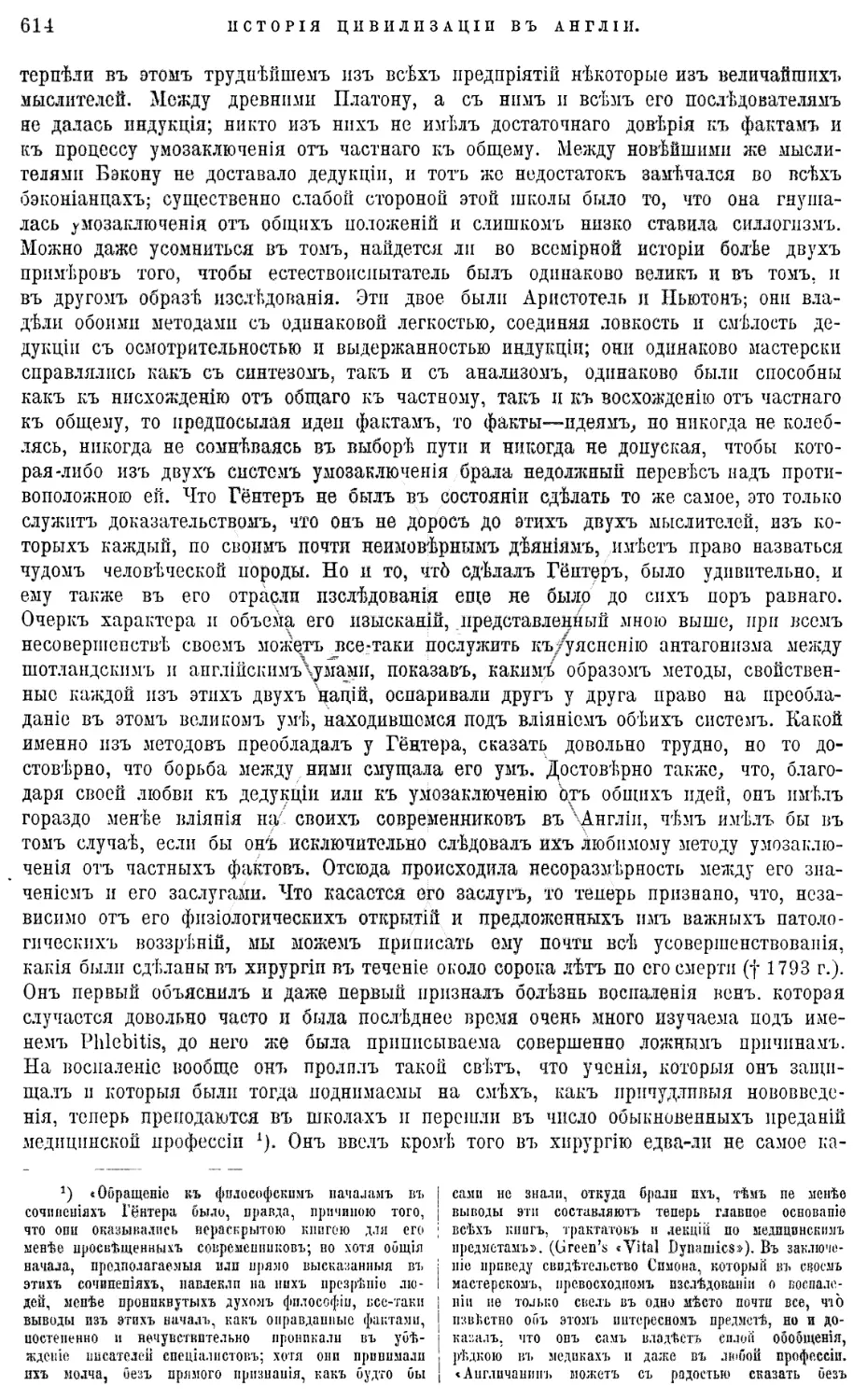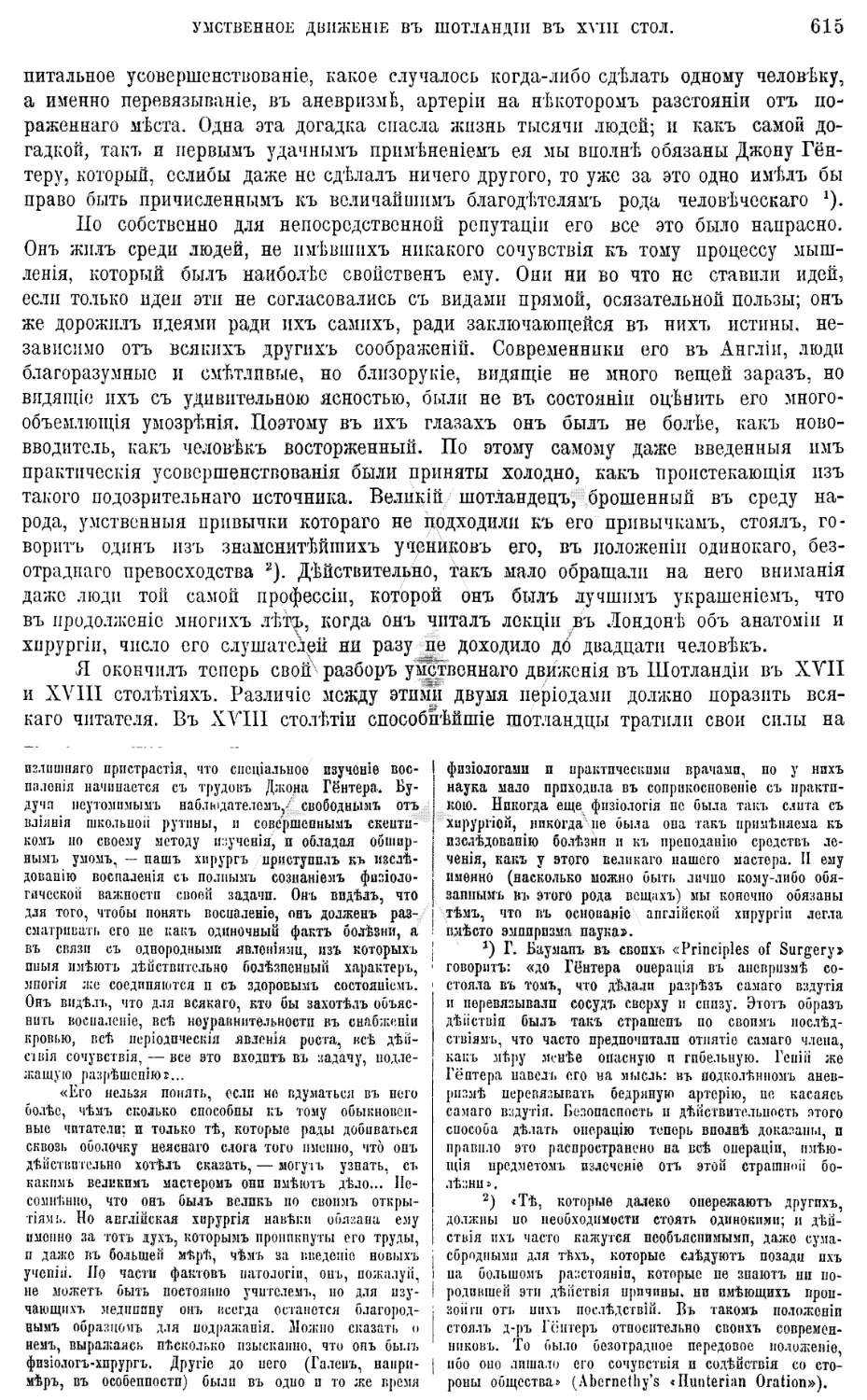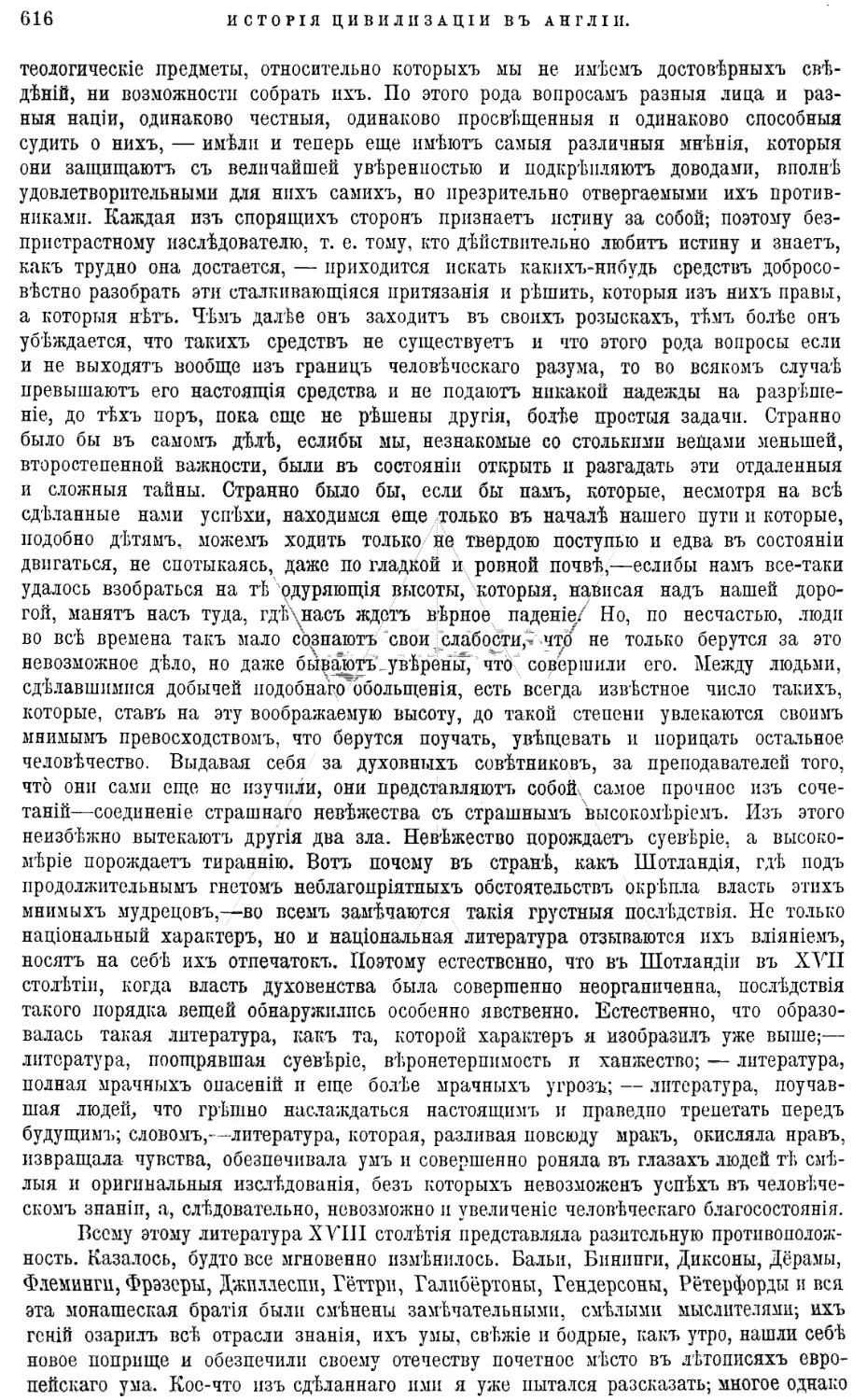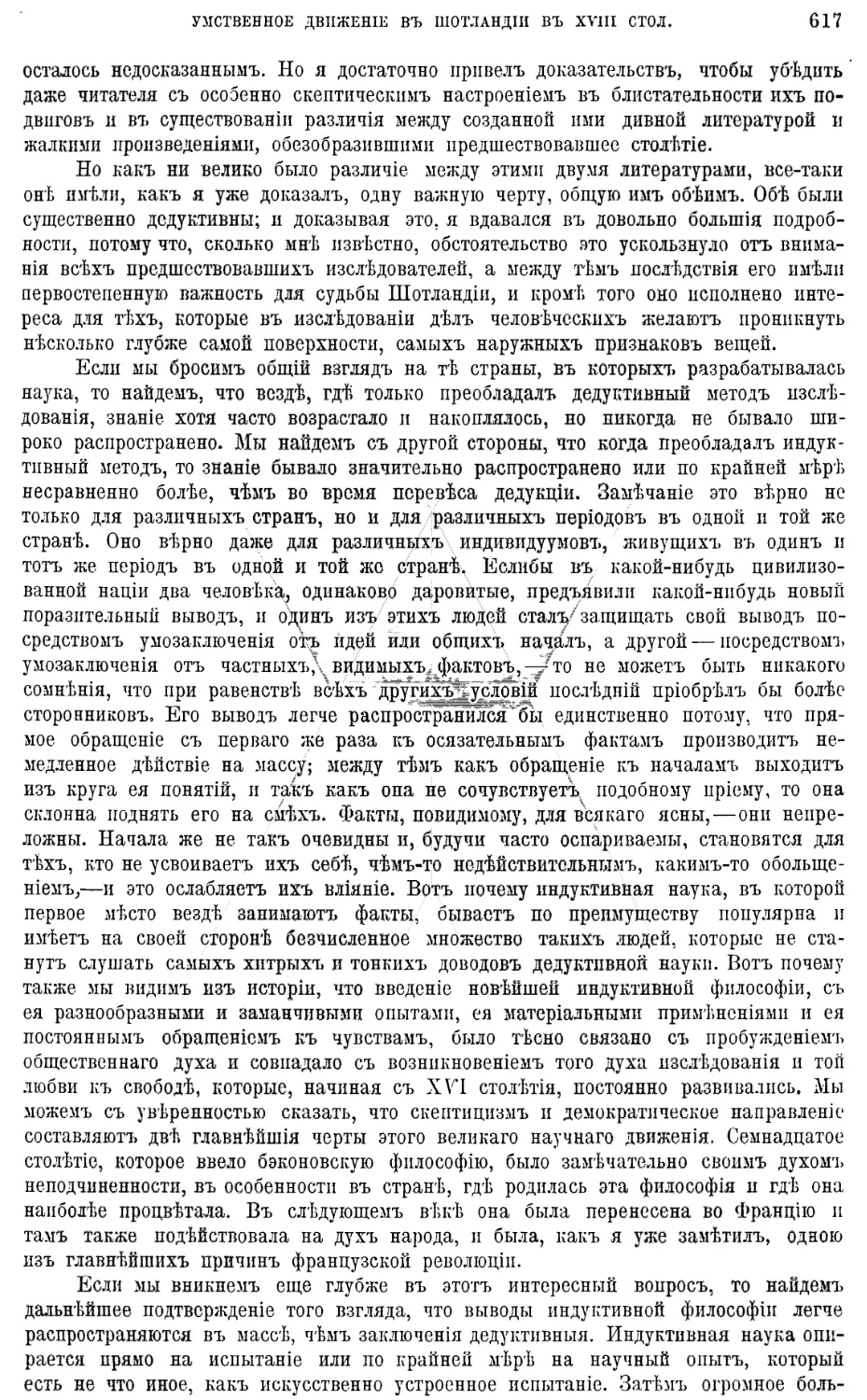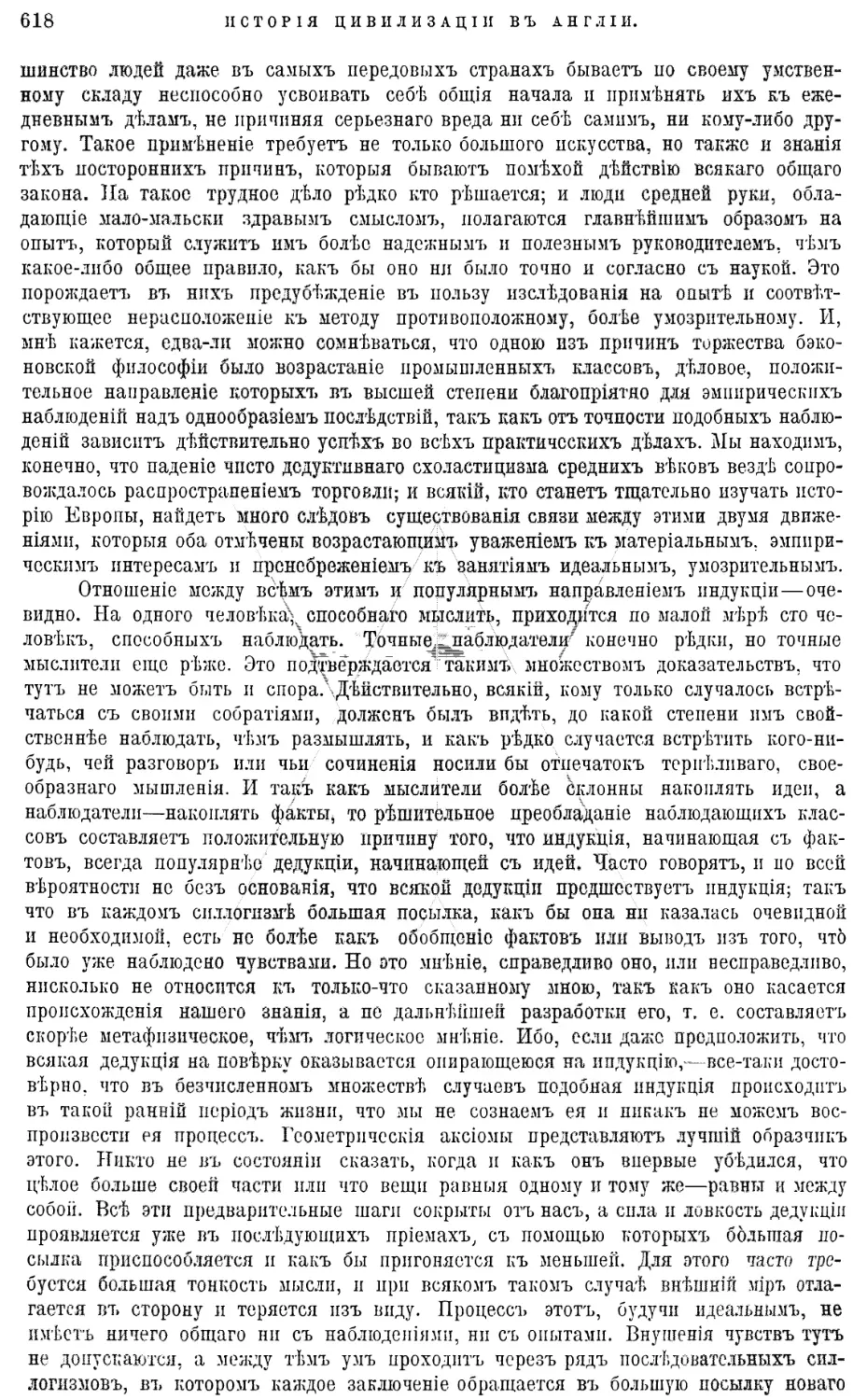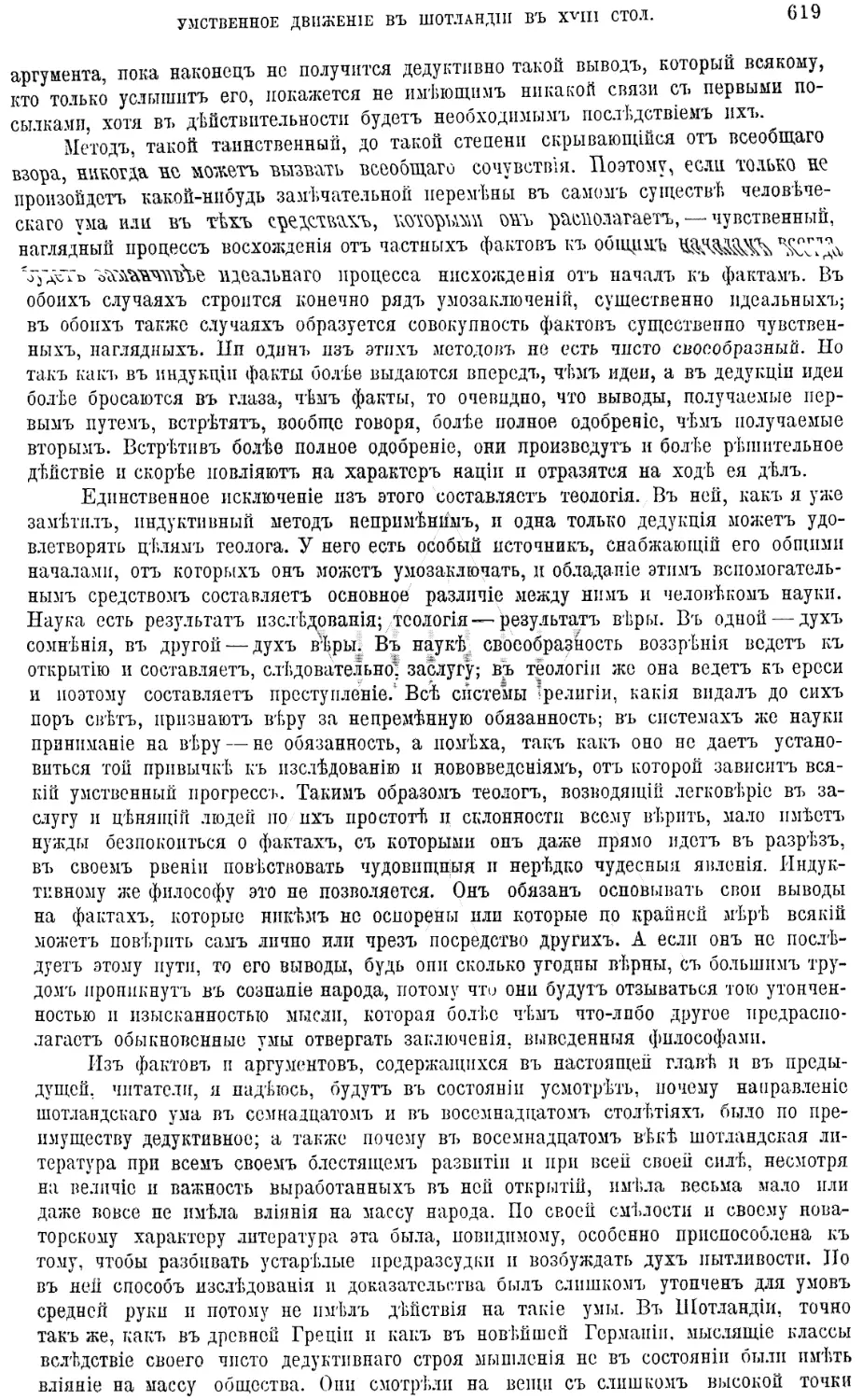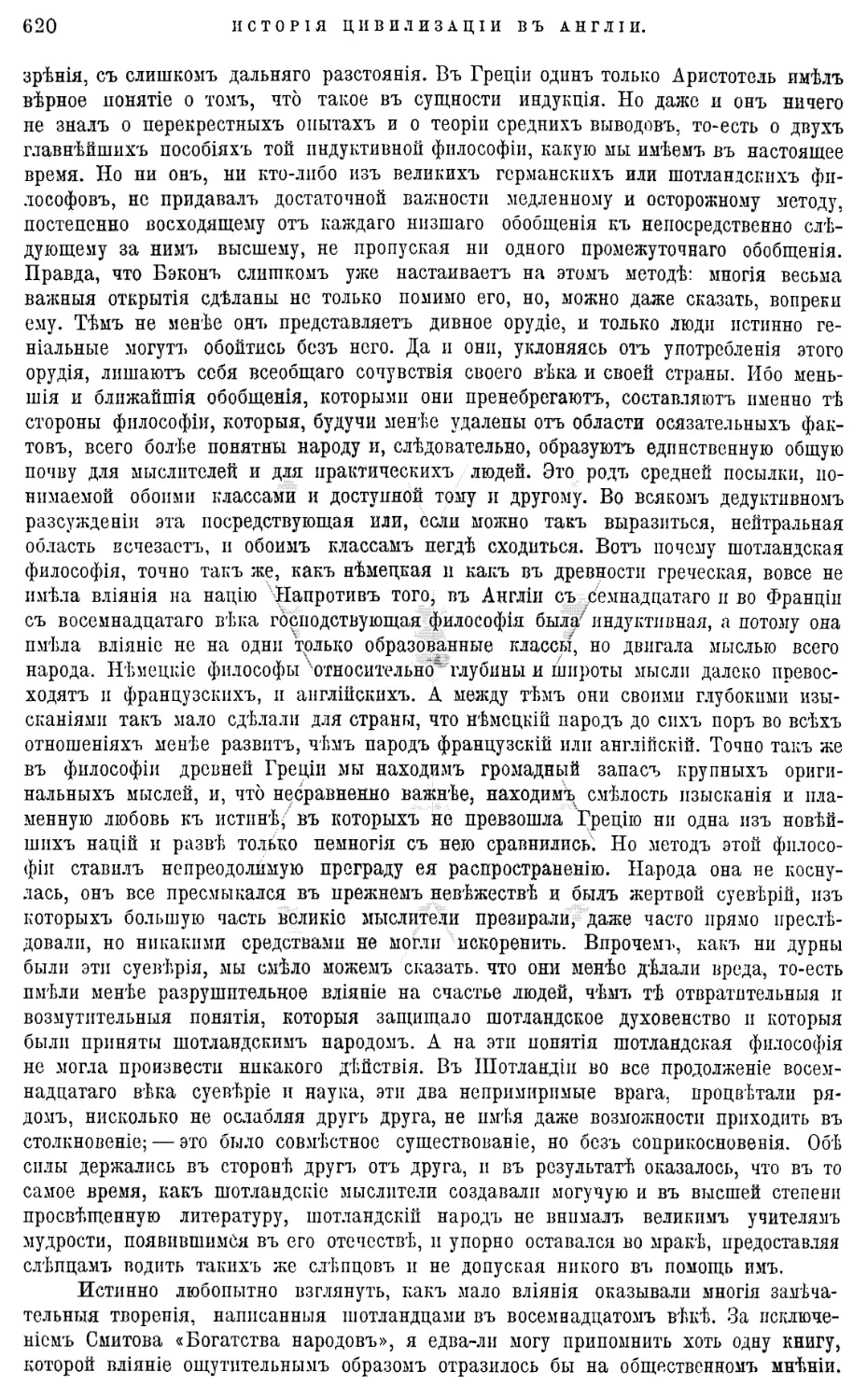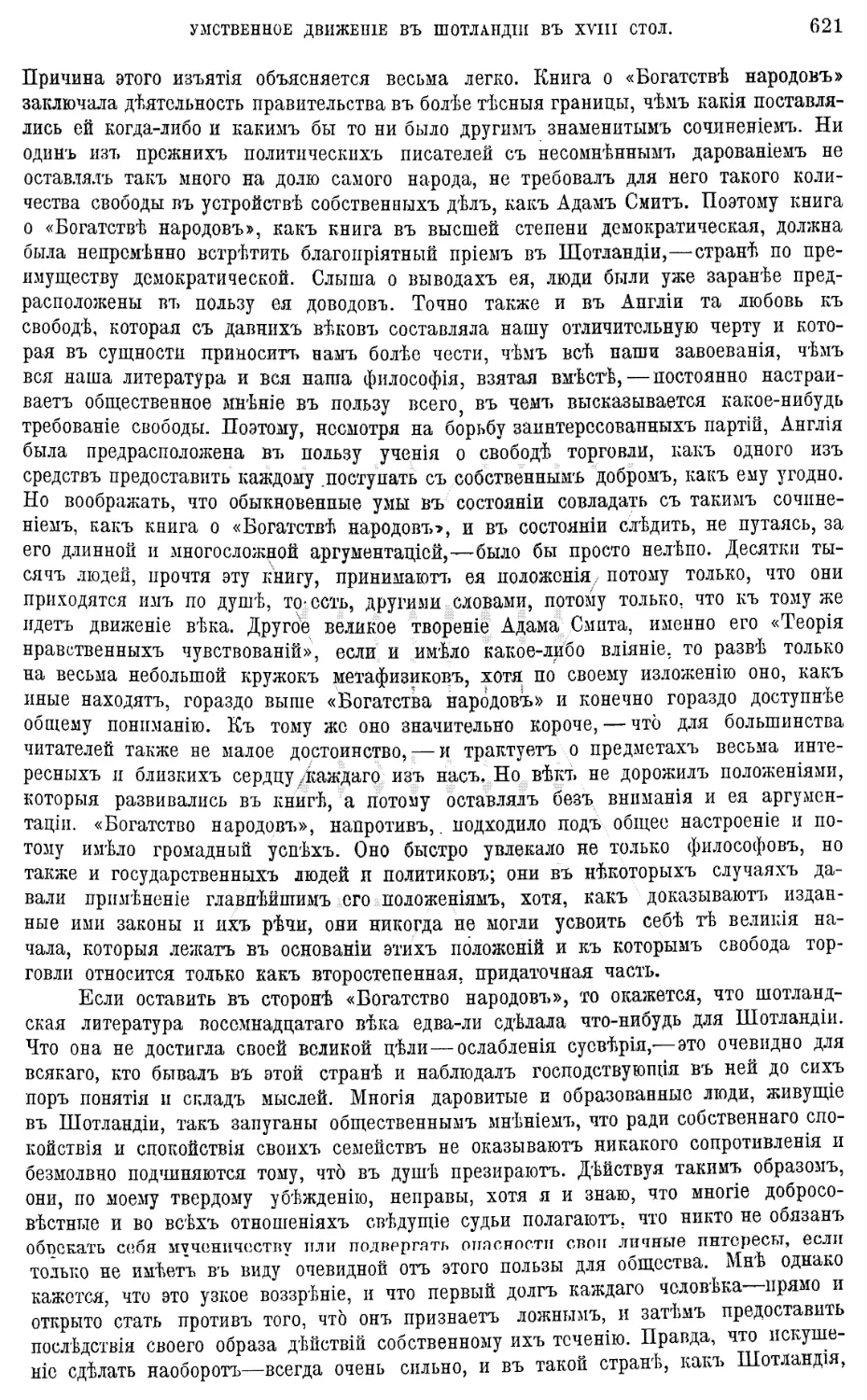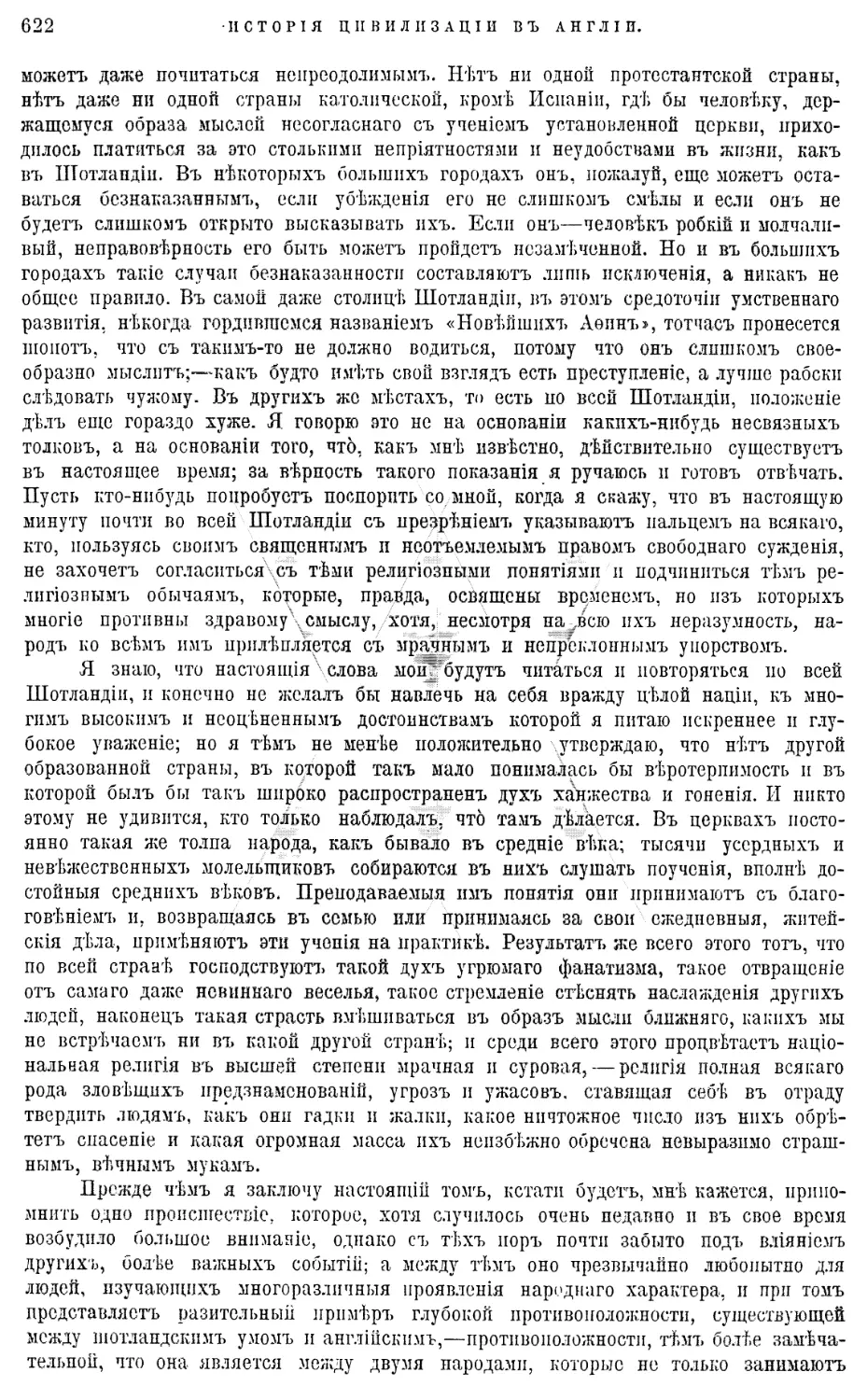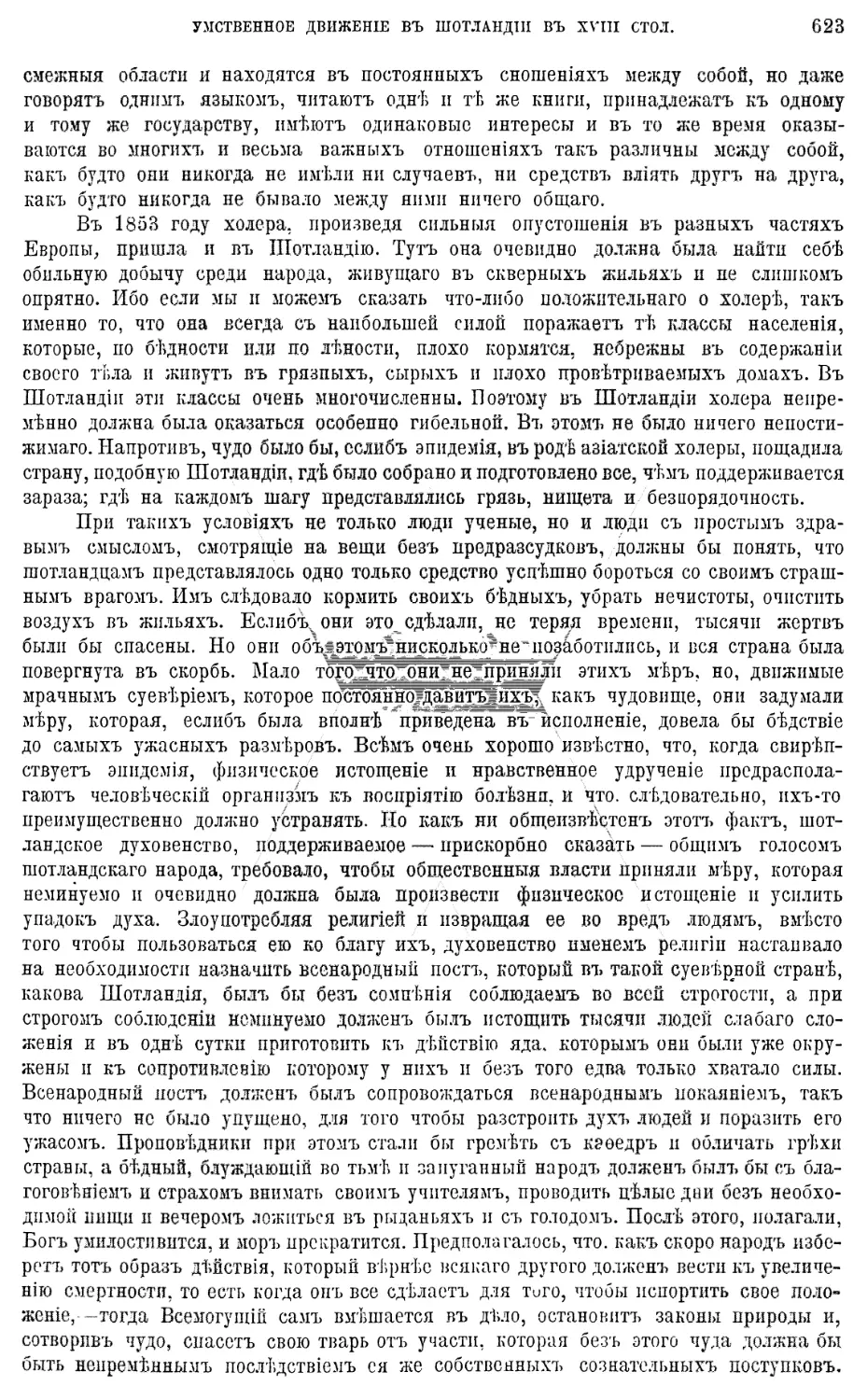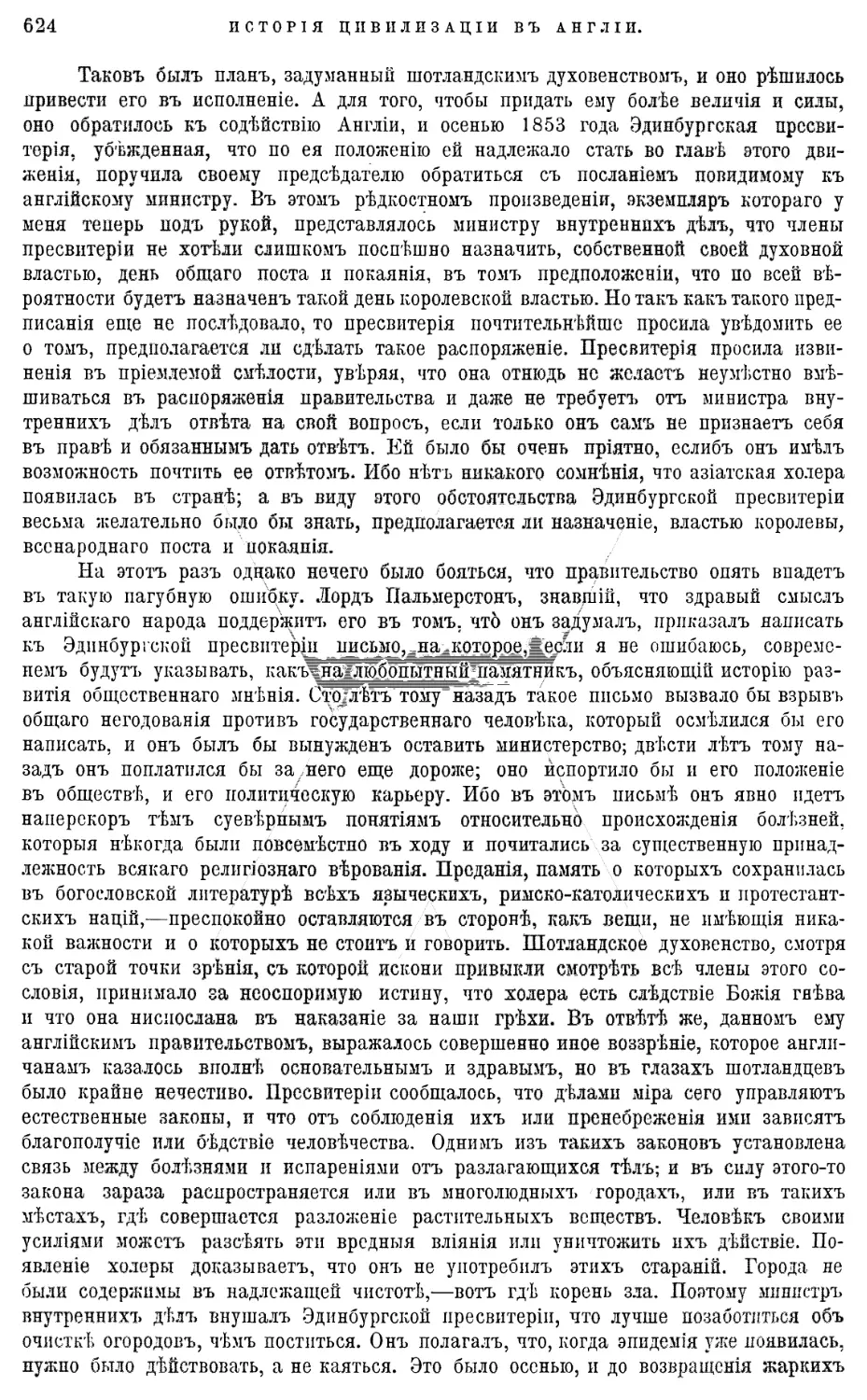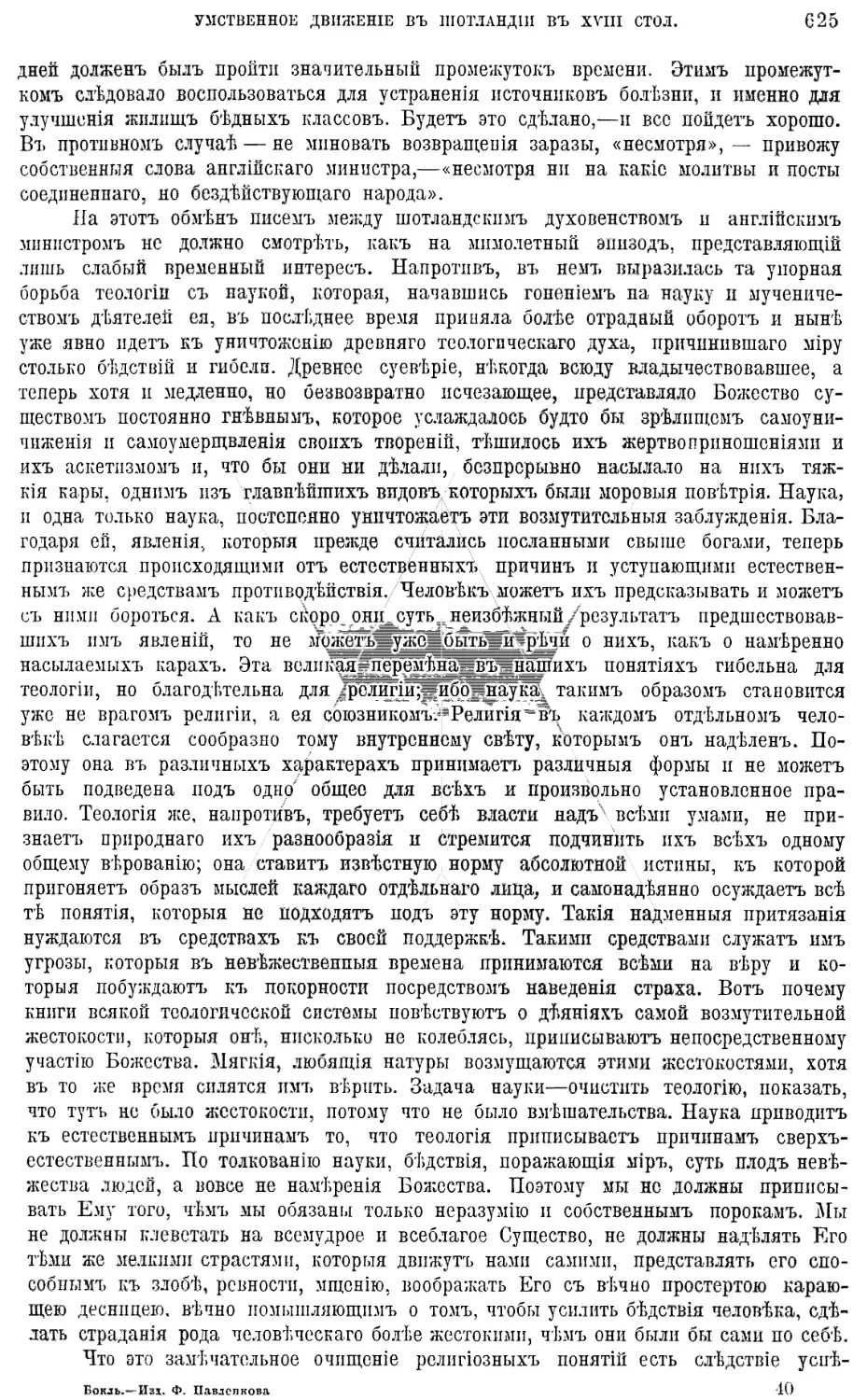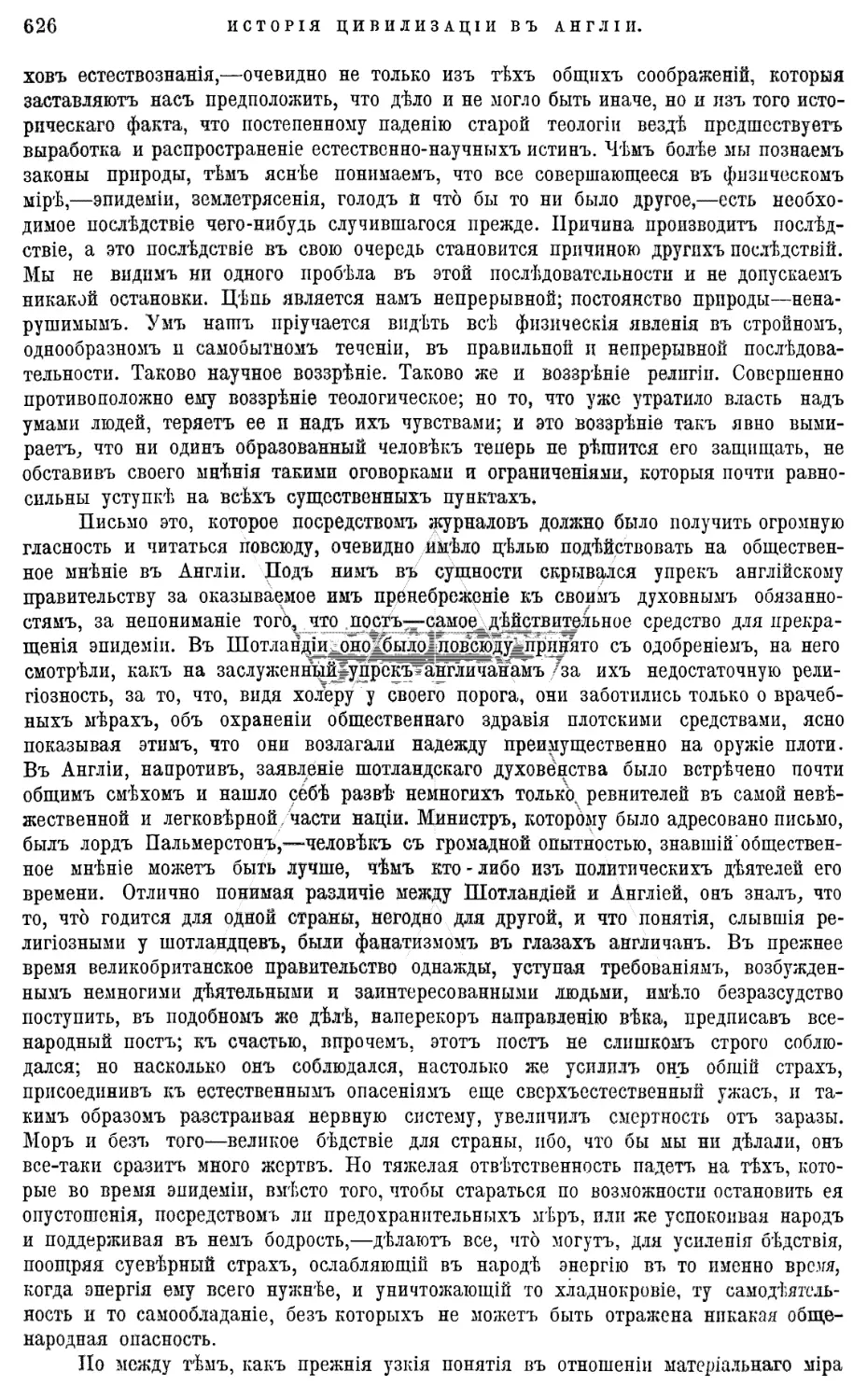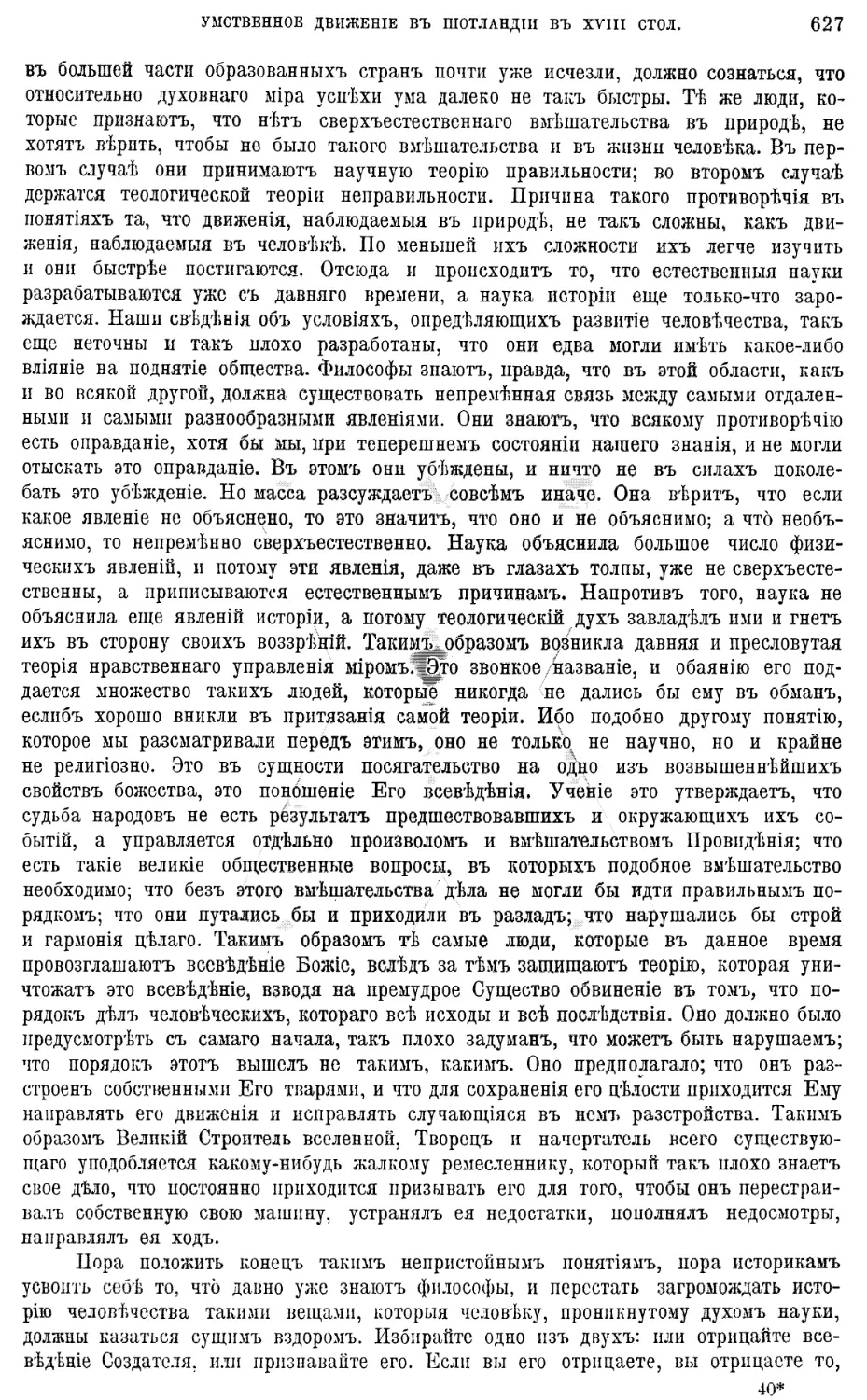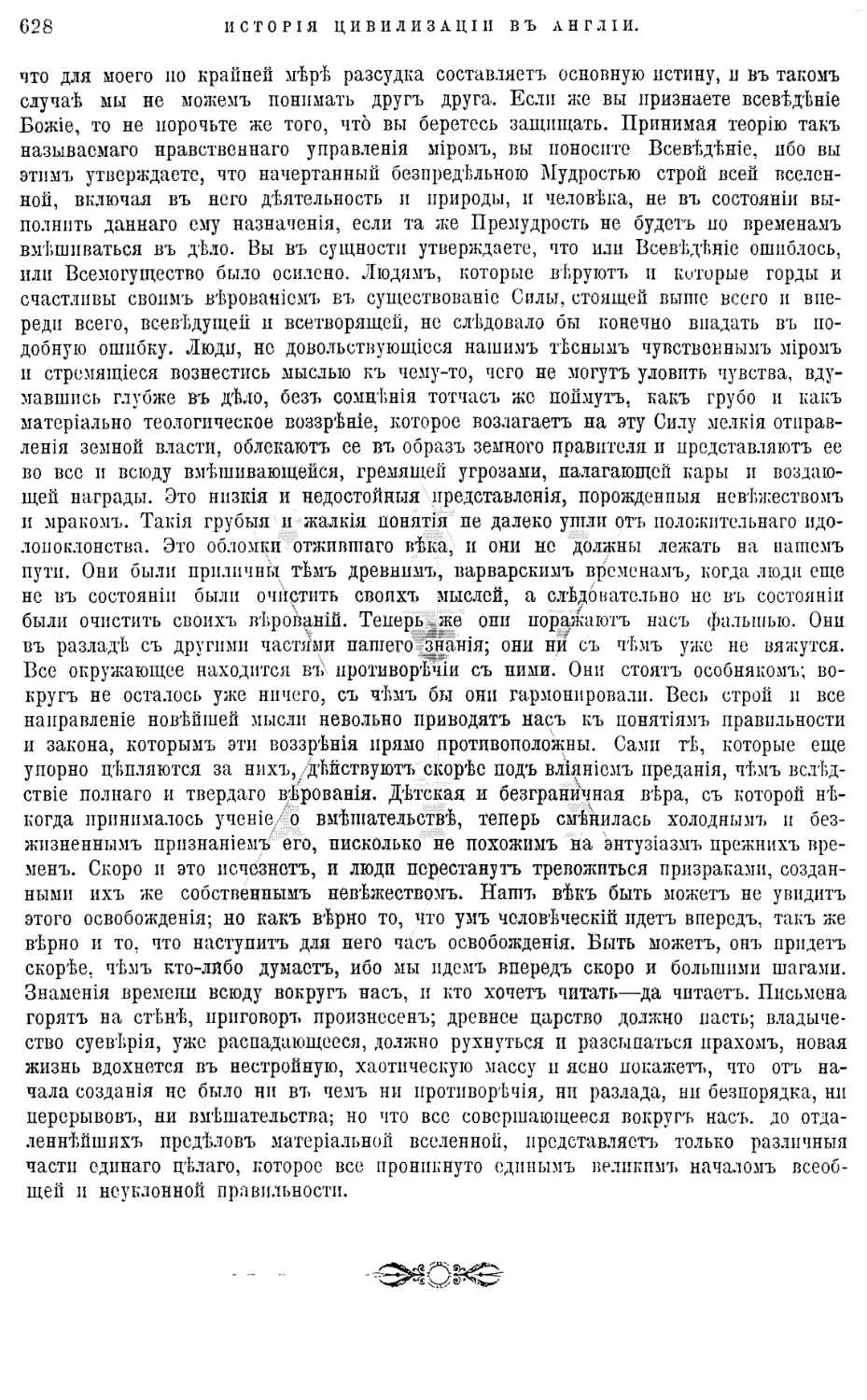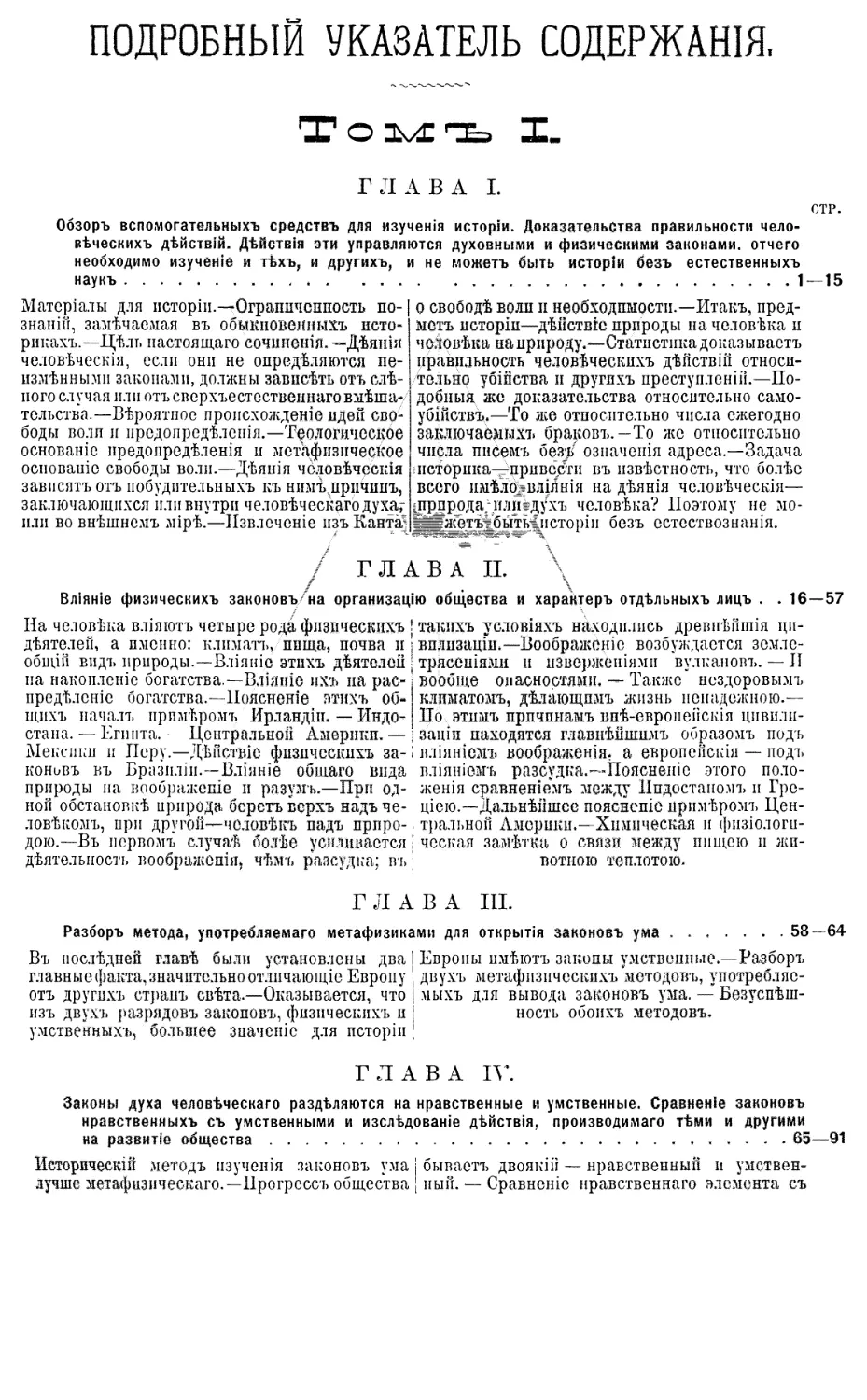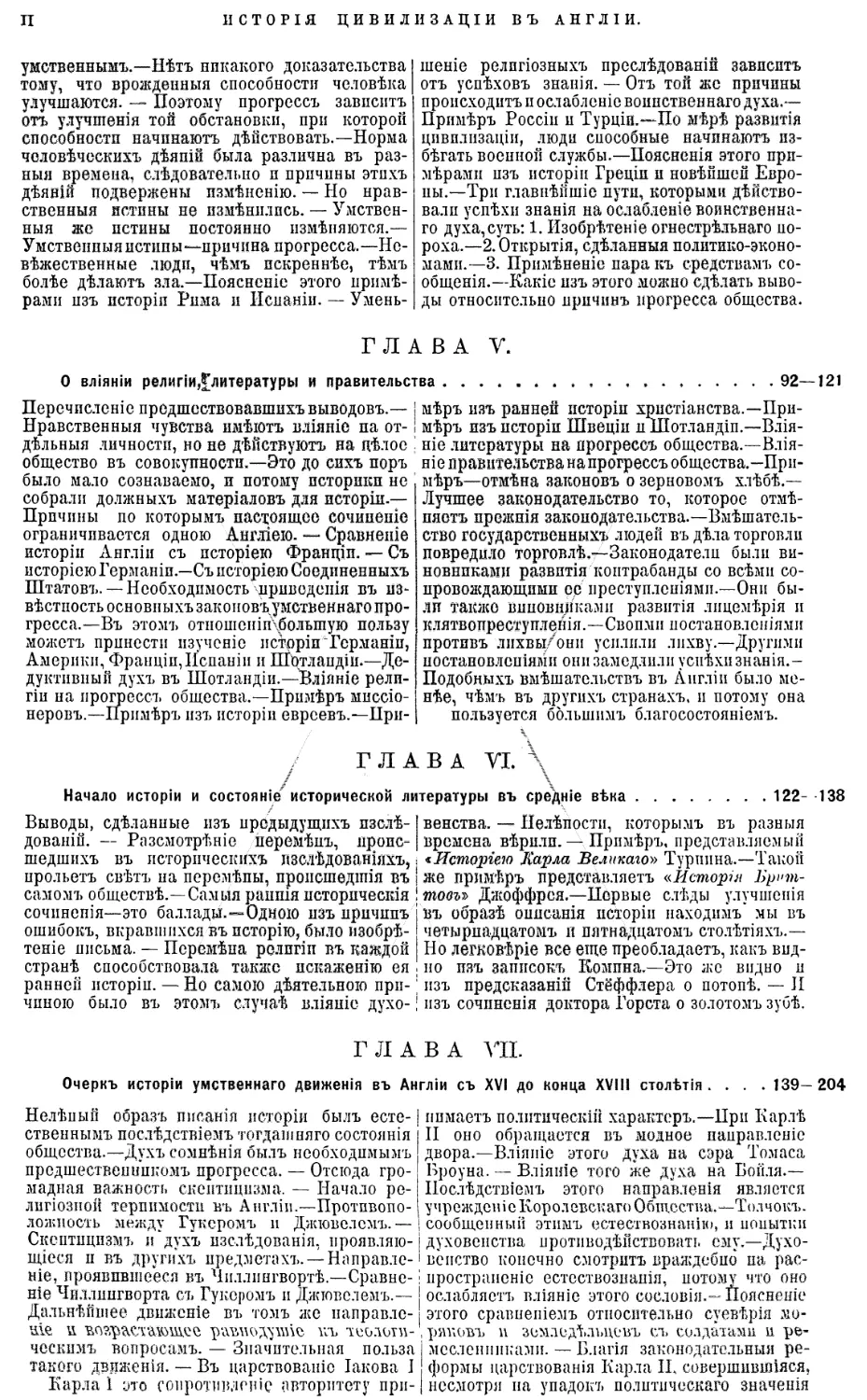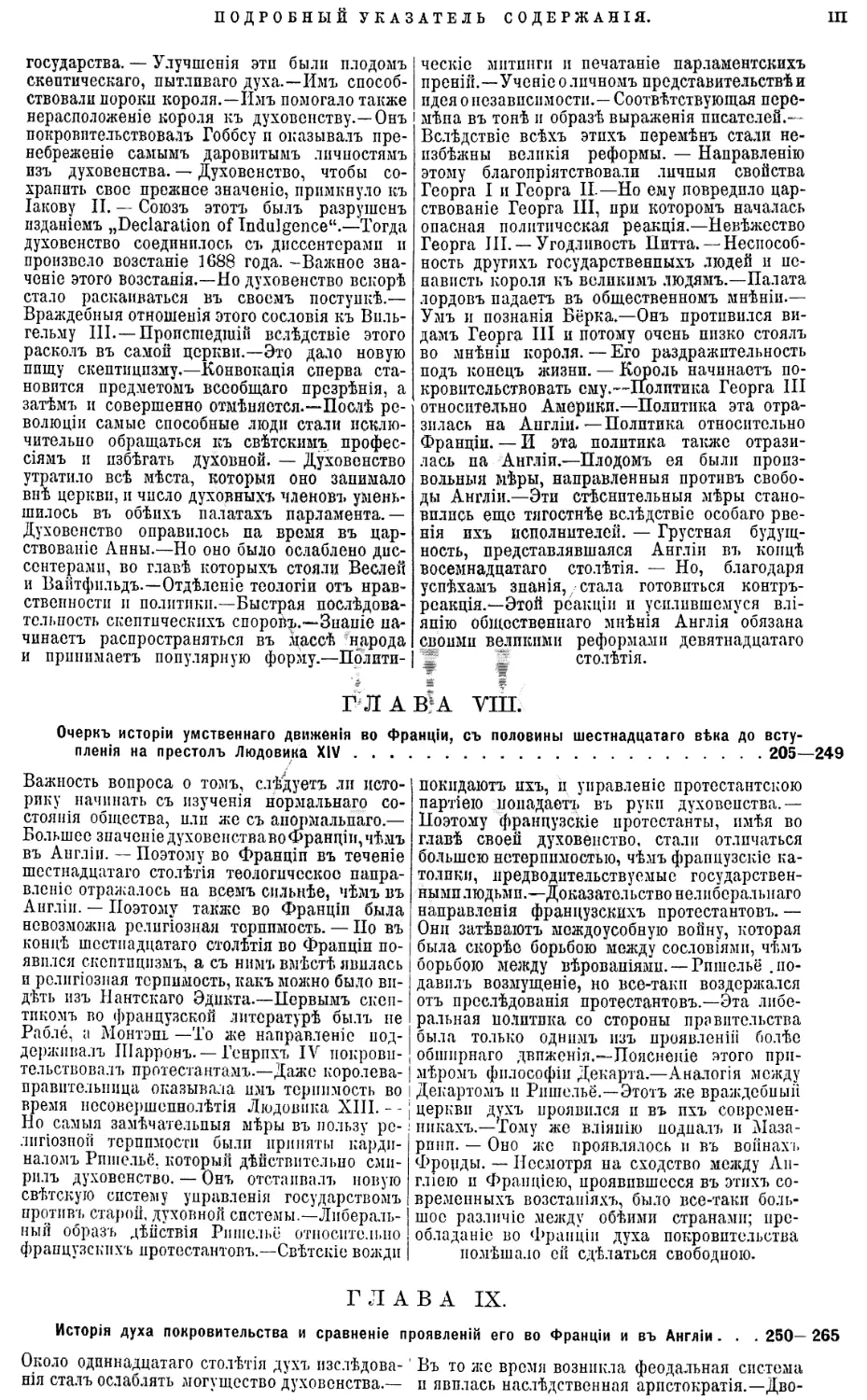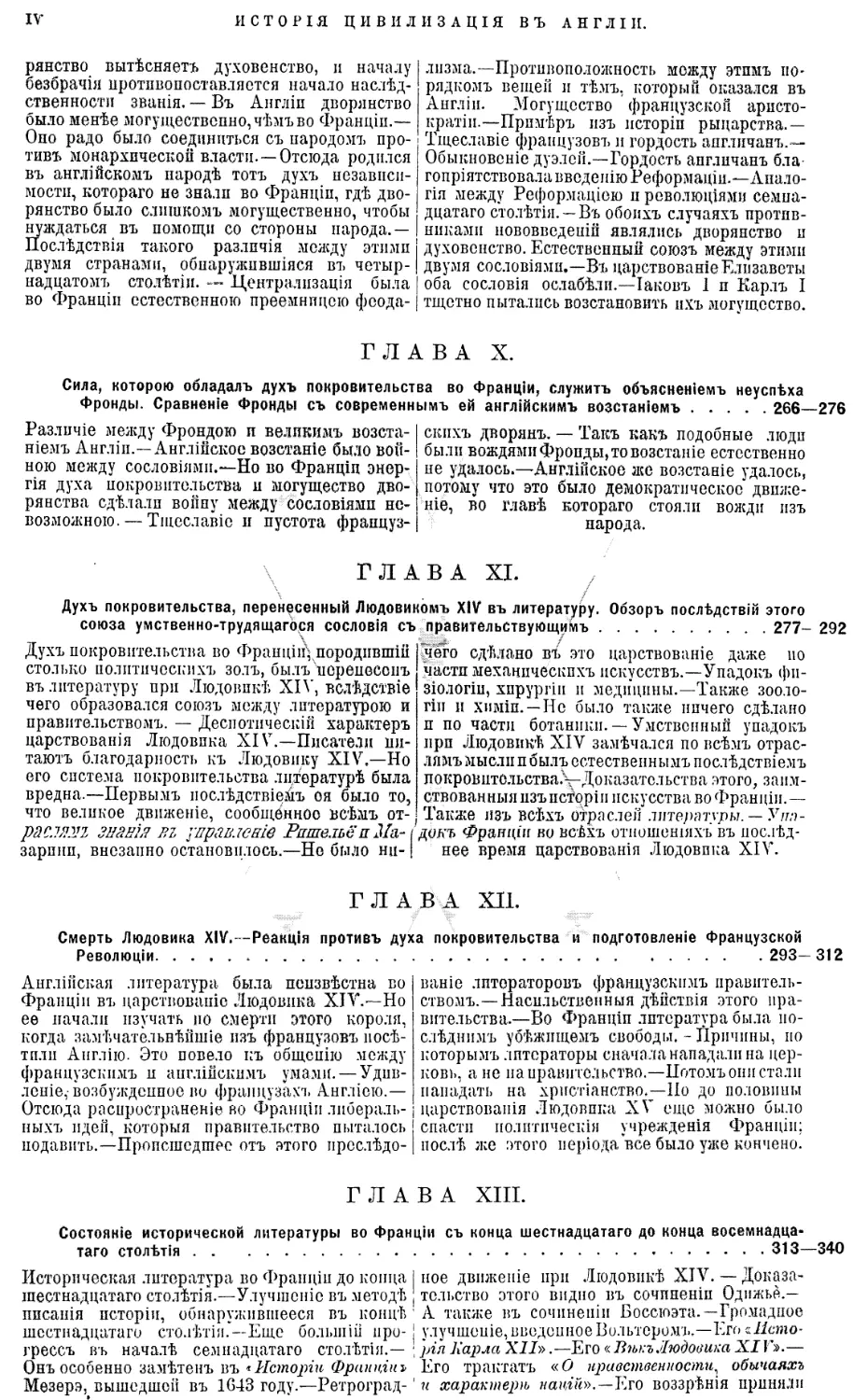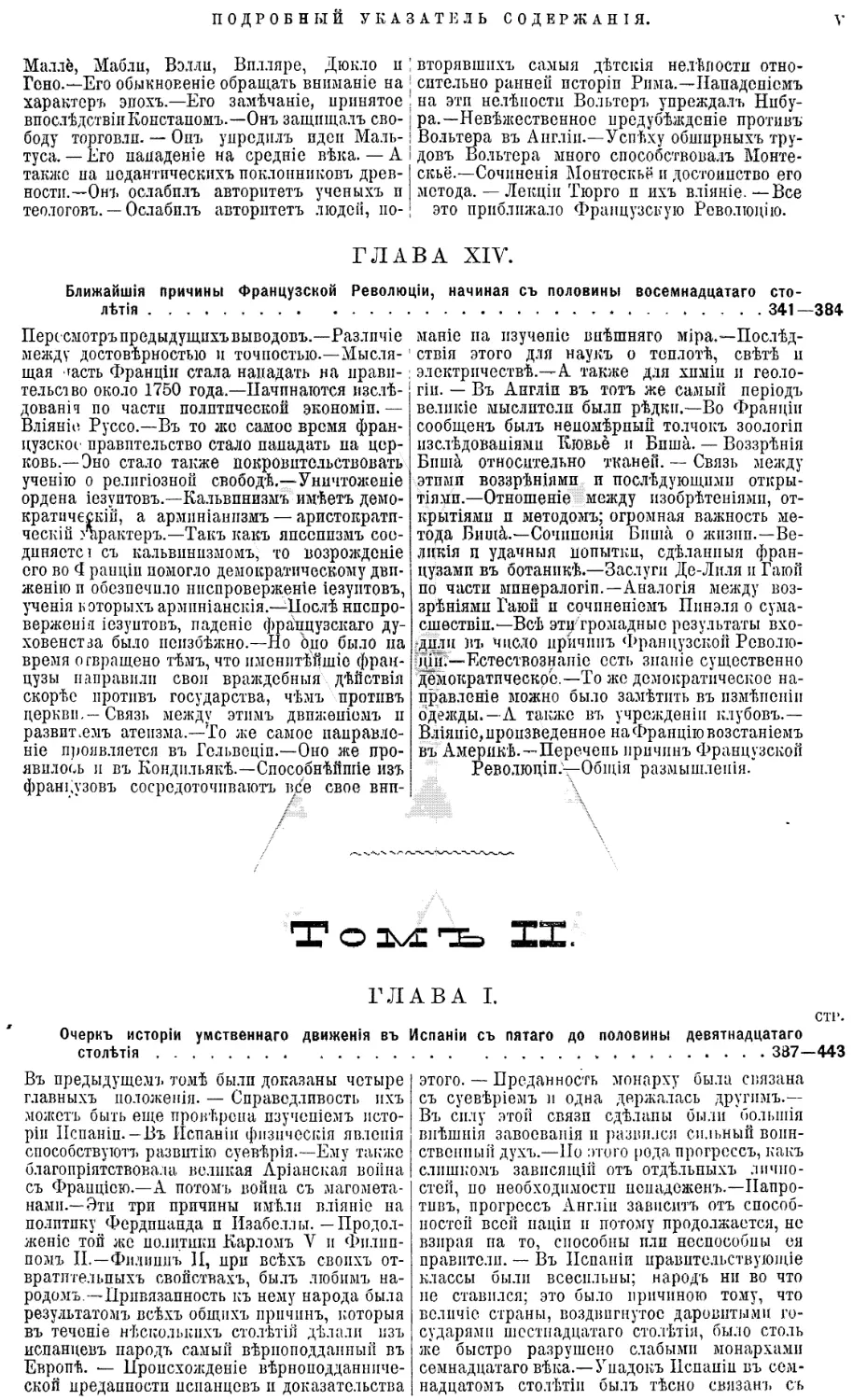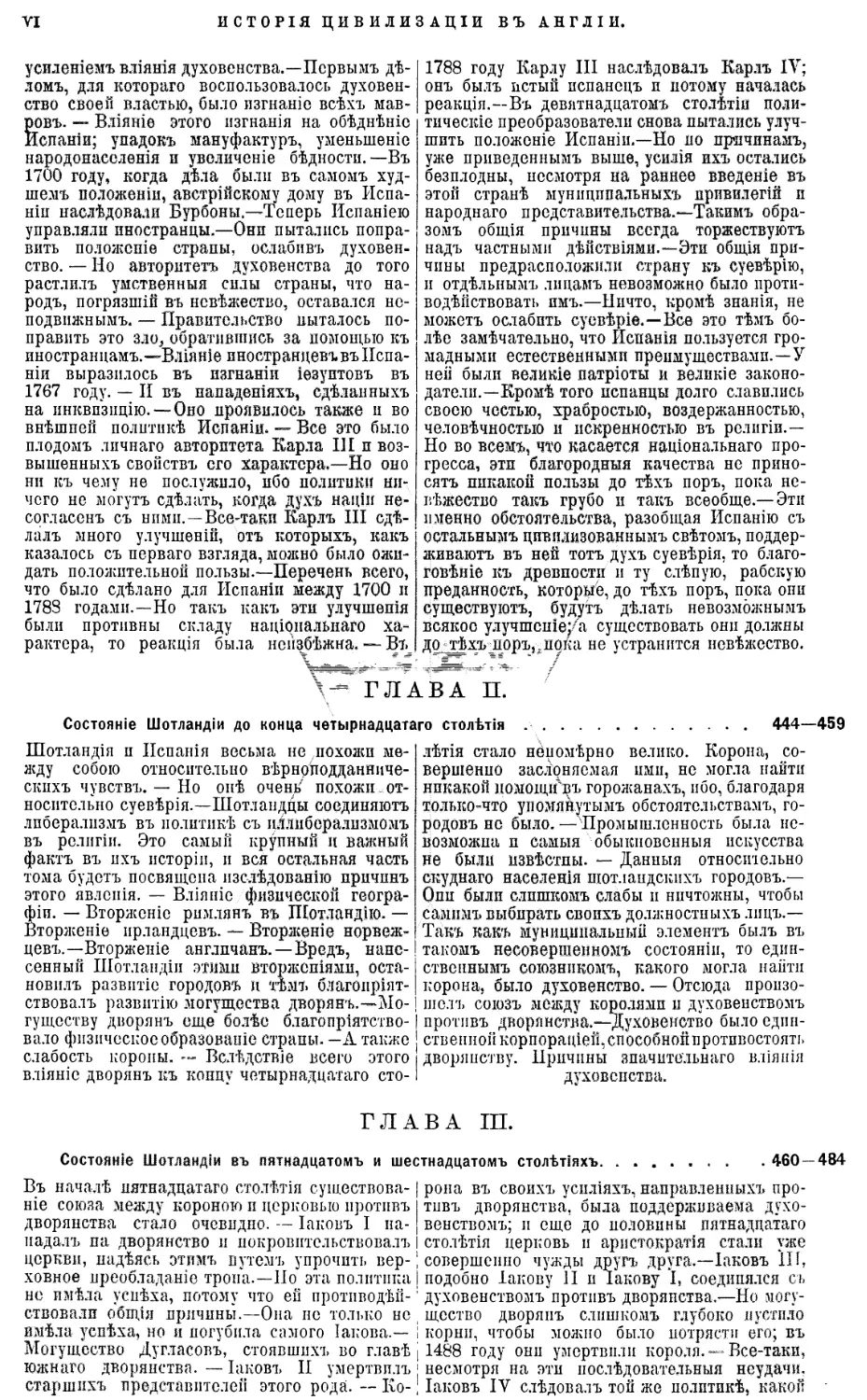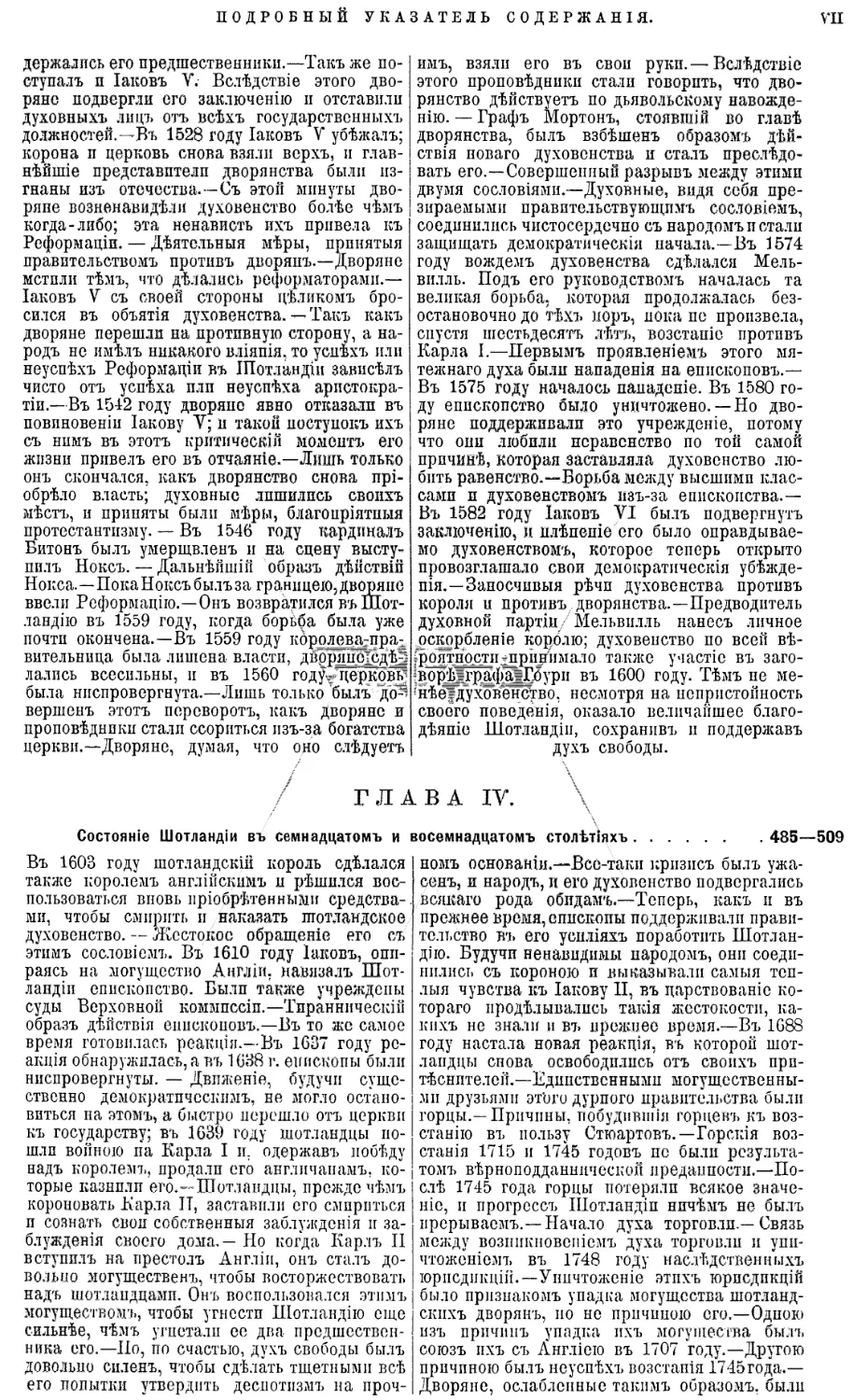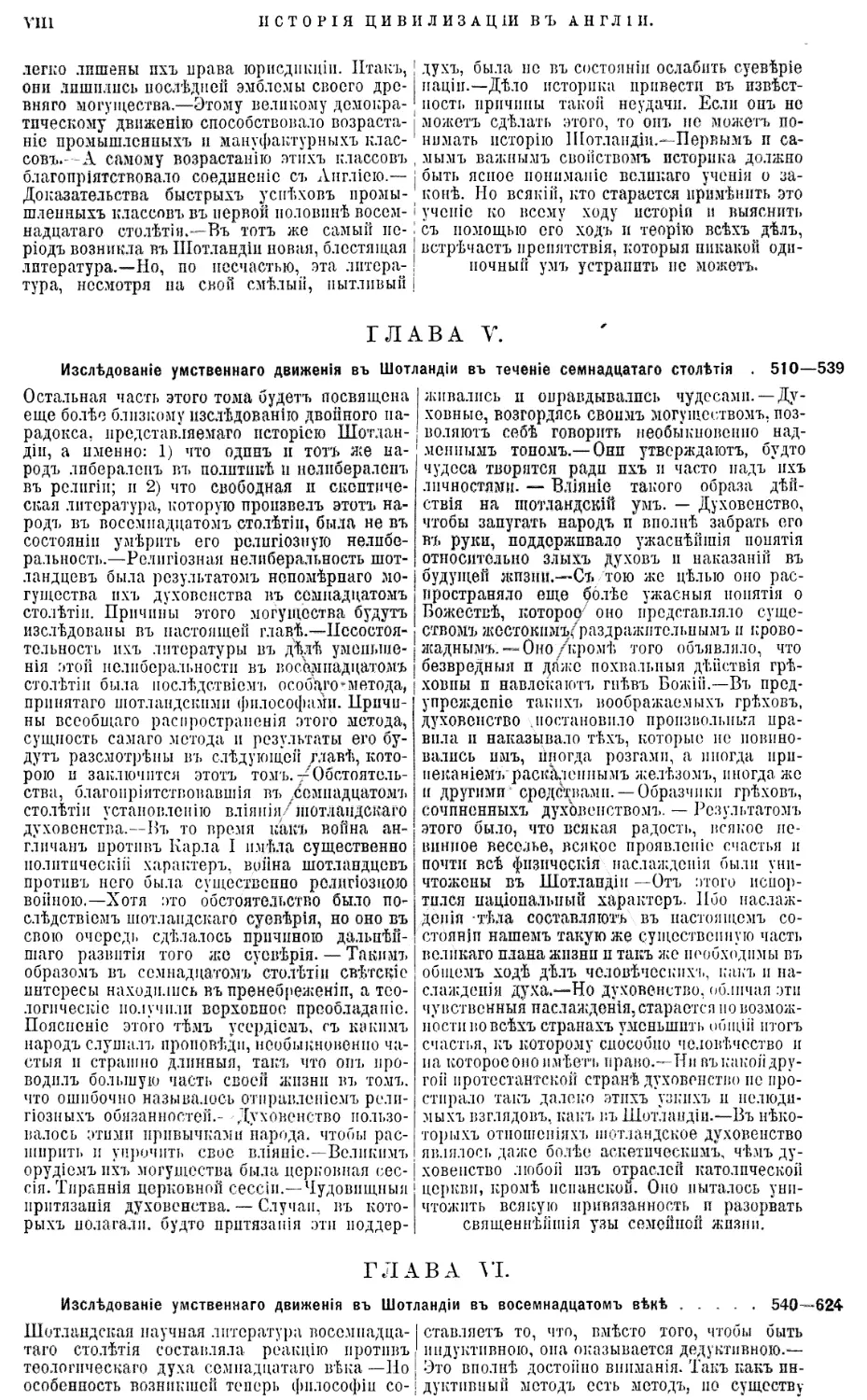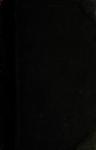Текст
г- т. Б О К л ь.
Из фондов
Муниципальною учреждения
“Централизованная Библиотечная Система”
г. Бендеры
2011
ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ
БОК Л Я
«Сопоставленіе Болля п гр. Толстого напрашивается
' и. это прямый противоположности.!
II. II. Михайловскій.
ПЕРЕВОДЪ
А. Н. Буйницкаго
ВЪ ДВѴХЪ ТОМАХЪ
Изданіе Ф. Павленкова
СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА И ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕЙ Е. СОЛОВЬЕВА
Цѣна 1 руб. 50 коп.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, .V? 9.
1895.
ОГЛАВЛЕНІЕ.
- — СТР.
Генри Томасъ Вокль (характеристика)................................ V—XIV
Томъ I.
ГЛАВА I.
Обзоръ вспомогательныхъ средствъ для изученія исторіи. Доказательства правиль-
ности человѣческихъ дѣйствій. Дѣйствія эти управляются духовными и фи-
зическими законами, отчего необходимо изученіе п тѣхъ, и другихъ, и не
можетъ быть исторіи безъ естественныхъ наукъ ........... 1— 15
ГЛАВА П.
Вліяніе физическихъ законовъ на организацію общества и характеръ отдѣльныхъ
лицъ............................................................ 16— 57
ГЛАВА ІИ.
Разборъ метода, употребляемаго метафизиками, для открытія законовъ ума . . . 58— 64
ГЛАВА IV.
Законы духа человѣческаго раздѣляются на нравственные и умственные. Сравненіе
законовъ нравственныхъ съ умственными и изслѣдованіе дѣйствія, произво-
димаго тѣми и другими на развитіе общества...................... 65-— 91
Г Л А В А V.
О вліяніи религіи, литературы и правительства ..................... 92—121
Г Л А В /1 VI.
Начало исторіи и состояніе исторической литературы въ средніе вѣка.122—138
ГЛАВА ѴП.
Очеркъ исторіи умственнаго движенія въ Англіи съ XIV до конца XVIII столѣтія . 139— 204
ГЛАВА VIII.
Очеркъ исторіи умственнаго движенія во Франціи съ половины шестнадцатаго
вѣка до вступленія на престолъ Людовика XIV............ 205—249
ГЛАВ А IX.
Исторія духа покровительства и сравненіе проявленій его во Франціи и въ Англіи. 250—265
ГЛАВА X.
Сила, которою обладалъ духъ покровительства во Франціи, служитъ объясненіемъ
неуспѣха Фронды. Сравненіе Фронды съ современнымъ ей англійскимъ воз-
станіемъ . ........................................ 266—276
Г Л А В А XI.
Духъ покровительства, перенесенный Людовикомъ ДІѴ въ ₽ литературу. Обзоръ по-
слѣдствій этого союза умственно-труДящавося* сословіе съ правительствую-
щимъ. . ........................................................ 277—292
IV
ГЛАВА XII. стр.
Смерть Людовика XIV.—Реакція противъ духа покровительства и подготовленіе
Французской революціи........................................... 293—312
ГЛАВА XIII.
Состояніе исторической литературы во Франціи съ конца шестнадцатаго до конца
восемнадцатаго столѣтія................................ . . . . 313—340
Г ЛАВА XIV.
Ближайшія причины Французской революціи, начиная съ половины восемнадца-
таго столѣтія ................................ 341—384
Томъ II.
ГЛАВА I.
Очеркъ исторіи умственнаго движенія въ Испаніи съ пятаго до половины девятнад-
цатаго столѣтія................................................. 387—443
Г Л А В А II.
Состояніе Шотландіи до конца четырнадцатаго столѣтія............ 444—459
ГЛАВА Ш.
Состояніе Шотландіи въ пятнадцатомъ и шестнадцатомъ столѣтіяхъ.. 460—484
:Г Л А В А IV.
Состояніе Шотландіи въ семнадцатомъ и восемнадцатомъ столѣтіяхъ. 485—509
ГЛАВА V.
Изслѣдованіе умственнаго движенія въ Шотландіи въ теченіе семнадцатаго сто-
лѣтія .......................• . . .............................510 -539
ГЛАВА VI.
Излѣдованіе умственнаго движенія въ Шотландіи въ восемнадцатомъ вѣкѣ . . . 540—624
Подробный указатель содержанія........................... I—X
Списокъ источниковъ къ 1-му и 2-му том. книги Бокля . .........XI—XXIV
---- -----егЗфс,--------
Генри Томасъ Бокль.
(характеристика).
Однажды Бокль самъ въ немногихъ и простыхъ строкахъ, умѣстившихся на
листѣ почтовой бумаги, разсказалъ свою жизнь. «Я родился—писалъ онъ—въ Ли,
графствѣ Кентъ, 24 ноября 1821 года. Мой отецъ былъ купцомъ. Звали его Тома-
сомъ Генри Боклемъ, и онъ происходилъ изъ рода, одинъ изъ членовъ котораго поль-
зовался большой извѣстностью какъ лондонскій лордъ-меръ, въ царствованіе Елиза-
веты. Отецъ мой умеръ въ 1840 г. Моя мать въ дѣвичествѣ носила фамилію Мид-
дельтонъ. Въ дѣтствѣ я обладалъ очень слабымъ здоровьемъ, и мои родители по со-
вѣту одного доктора, м-ра Виркбека, рѣшились не давать мнѣ обычнаго образованія,
опасаясь вызвать имъ переутомленіе мозга. Благодаря этому, я не пошелъ по пути
школьной науки и никогда не посѣщалъ колледжа. Когда мнѣ исполнилось 18 лѣтъ,
мой отецъ умеръ, оставивъ мнѣ независимое состояніе. До этого времени я читалъ
очень мало, преимущественно Шекспира, арабскія сказки и < Путешествіе Пили-
гримма»,—книги постоянно приводившія меня въ восторгъ. Въ возрастѣ отъ 18 до
20 лѣт'ь я задумалъ—разумѣется въ смутной формѣ—планъ моего сочиненія п при-
нялся разрабатывать ого. Я сталъ работать по 9 или 10 часовъ ежедневно. Методъ
моихъ занятій былъ таковъ: утромъ я изучалъ естественныя науки, послѣ завтрака—
языки, въ которыхъ былъ круглымъ невѣждой, вечеромъ—исторію, юриспруденцію и
всемірную литературу. Я никогда не писалъ ни для газетъ, ни для журналовъ, твердо
рѣшившись посвятить свою жизнь болѣе крупному труду».
Простота и скромность, которыми дышатъ эти строки, не могутъ однако удо-
влетворить нашей любознательности. Намъ бы хотѣлось знать, напр., какимъ путемъ
грандіозный планъ «Исторіи Цивилизаціи» зародился въ головѣ 18-ти-лѣтняго юноши,
незнакомаго ни съ однимъ изъ иностранныхъ языковъ и не читавшаго ничего систе-
матически? Къ сожалѣнію, этотъ вопросъ долженъ остаться безъ отвѣта; обстоя-
тельнѣйшіе біографы Бокля обходятъ его молчаніемъ, и передъ нами—голый фактъ
во всей своей загадочности. Мы знаемъ лишь, что наканунѣ возникновенія плана,
которому суждено было подчинить себѣ всю жизнь Бокля, онъ долго путешество-
валъ по Европѣ, удовлетворяя свою недюжинную любознательность обильнымъ и
безпорядочнымъ чтеніемъ всего, что попадалось подъ руку, и не разставаясь съ
книгой ни въ почтовой каретѣ, ни въ гостиницѣ. Но какъ бы то ни было, сочиненіе
задумано, и дальнѣйшая жизнь Бокля оказывается вытянутой въ одну линію. Пре-
слѣдуя свою цѣль, онъ занимается 9 пли 10 часовъ ежедневно, не желая даже
слушать предостереженій со стороны своего слабаго здоровья; онъ отказывается отъ
соблазновъ честолюбія, не желая выступать передъ публикой ни съ единой строчкой;
цѣлые годы и даже десятки лѣтъ онъ проводитъ въ стѣнахъ своей библіотеки, ко-
торую составляетъ самъ, изо дня въ день обходя букинистовъ. Ничто не нарушаетъ
его* однообразной, постоянно повторяющей себя жизни. Матеріальныя затрудненія
неизвѣстны, твердая воля, преобразившаяся въ трогательную преданность постав-
ленной себѣ огромной задачѣ, легко справляется съ искушеніями юности; работа
ЛІ ХАРАКТЕРИСТИКА.
завлекаетъ все больше, здоровье скрипитъ, но не отказывается пока служить. А ря-
домъ съ этимъ горячая честолюбивая голова рисуетъ привлекательную картину воз-
можности въ одномъ сочиненіи нарисовать полную картину «Исторіи всемірной ци-
вилизаціи» и представить жизнь человѣчества въ свѣтѣ обширной и мощной идеи.
Чтобы проникнуть въ жизнь Бокля, надо перенестись мысленно въ обстановку
его громаднаго рабочаго кабинета, съ окномъ наверху, съ безконечными полками
книгъ, всегда аккуратно стоящихъ на своемъ мѣстѣ, заботливо переплетенныхъ
рукою самого хозяина и любовно охраняемыхъ отъ пыли. Утромъ ли или вечеромъ,
мы всегда застанемъ здѣсь Бокля. Онъ выходитъ только на прогулку и лишь изрѣдка,
чтобы навѣстить своихъ немногочисленныхъ друзей. Кабинетъ устроенъ такъ, что
шумъ лондонскихъ улицъ не долетаетъ до него; груды аккуратно сложенныхъ газетъ
говорятъ, что историкъ интересуется современностью; однако отчеты о театрахъ,
концертахъ, выставкахъ остаются непрочитанными. Вокль не интересуется изящными
искусствами, онъ не умѣетъ отличить Бетховена отъ Моцарта; никогда не посѣ-
щаетъ спектаклей, не находитъ наслажденія ни въ картинахъ, ни въ статуяхъ.
Только наука пользуется его вниманіемъ и любовью, и ей отдаетъ онъ всѣ свои силы.
Онъ изучаетъ анатомію, физіологію, ботанику, физику, химію, право; онъ не видитъ
и не ставитъ предѣла своимъ занятіямъ; онъ хочетъ быть первымъ историкомъ
новаго типа и понимаетъ, что такой историкъ долженъ знать все. Читая и пере-
читывая груды книгъ, онъ убѣждается, что его излюбленная исторія не вышла еще
изъ своего хаотическаго состоянія, что это не болѣе, какъ безпорядочный лепетъ
ребенка. Онъ изумляется невѣжеству своихъ предшественниковъ, изъ которыхъ одинъ
«ничего не знаетъ по части политической экономіи, другой—права, третій—церков-
ныхъ дѣлъ и развитія убѣжденій, четвертый—пренебрегаетъ теоріей статистики или
естественными науками, хотя все это вопросы существенные, обнимающіе всѣ глав-
нѣйшія обстоятельства, дѣйствующія па темпераментъ и характеръ рода человѣче-
скаго». Но все это историкъ обязанъ знать, и Вокль работаетъ. Доктора находятъ, что
онъ переутомляетъ себя. Онъ отказывается отъ любимой шахматной игры, отъ чтенія
романовъ, лишь бы имѣть возможность посвящать своей будущей книгѣ 9—10 час.
ежедневно. Параллельно изучаются исторія, естествознаніе, 19 языковъ, параллельно
идетъ и другая подготовительная работа: Вокль учится4писать. Книга, плохо или
недоступно написанная, имѣетъ въ его глазахъ лишь половину цѣны; онъ хочетъ,
чтобы его рѣчь проникла въ массы, и больше всего боится, что ее замѣтятъ лишь
въ кружкѣ ученыхъ. Съ этой цѣлью онъ выучиваетъ наизусть цѣлыя страницы изъ
Борка и Питта, переписываетъ по нѣскольку разъ уже законченныя главы. Высту-
пить передъ публикой во всеоружіи точнаго знанія, заковать свои выводы въ броню
сотенъ примѣчаній и вмѣстѣ съ тѣмъ не остаться непонятымъ массой—«этимъ луч-
шимъ судьей во всемъ, что касается практическихъ выводовъ и примѣненія мыслей
къ жизни»,—такова грандіозная утопія, на осуществленіе которой уходятъ 20 лѣтъ.
Но неужели за весь этотъ долгій промежутокъ жизни Вокль не зналъ ничего
романическаго, не любилъ женщины, не страдалъ и не радовался? Чтеніе можетъ
наполнить часы, бездну часовъ, но не бездну человѣческихъ чувствъ и вожделѣній.
Сохранившіеся до насъ отрывки изъ дневника Бокля и его обширная переписка
даютъ намъ отвѣтъ на поставленный вопросъ. На первыхъ порахъ слѣды романи-
ческихъ увлеченій несомнѣнны. Бокль влюбляется въ одну кузину, потомъ въ другую,
дерется даже на дуэли съ своимъ счастливымъ соперникомъ, страстно мечтаетъ о поѣздкѣ
въ Дамаскъ, рисующійся ого воображенію во всемъ блескѣ яркихъ красокъ «Тысячи и
и одной ночи»,—но скоро это внѣшнее-романпческое исчезаетъ. Любовь и нѣжность,
преданность и даже самоотверженіе, страстныя мечты и муки безсонныхъ ночей,
повторяющихся все чаще, сосредоточиваются возлѣ одного центра—будущей «Исторіи
Цивилизаціи». Только неизмѣнная привязанность и дружба къ матери освѣщаетъ
ровнымъ свѣтомъ эту замкнутую трудовую жизнь, эту сосредоточенную кропотливую
работу.
ГЕНРИ ТОМАСЪ БОКЛЬ.
ѵп
. Характеръ Бокля былъ хорошо приспособленъ къ подвигу, возложенному имъ
на себя, Бокль обладалъ горячей головой и холодной кровью. Первая создала про-
ектъ, вторая позволила осуществить хотя и одну только часть его. Несмотря на
всю грандіозность предпринятаго, Бокль не растерялся въ необозримомъ матеріалѣ,
не отступилъ ни на шагъ въ сторону отъ задуманнаго: не его вина, что онъ умеръ
едва доживши до 40 лѣтъ, не успѣвъ, выражаясь метафорически, переписать на-
бѣло своего черняка. Лично онъ вѣрилъ, что это возможно; вѣрили и всѣ знав-
шіе его. На самомъ дѣлѣ онъ удивительно умѣлъ работать «оЬпе Наві, оЬпе
Вазі», т. е. безъ торопливости и безъ остановки; онъ не скучалъ однообразіемъ
дѣла, не утомлялся его прямолинейностью. Въ немъ не было и слѣда дилеттантизма.
Тѣ, кто думаетъ, что онъ только «перелистывалъ» естественныя науки, сильно оши-
баются. Онъ доводитъ свою серьезность въ отношеніи къ дѣлу до того, что изу-
чалъ спеціальныя медицинскія работы. Говоря, что онъ знаетъ 19 языковъ, онъ
нисколько не преувеличивалъ факта, и дѣйствительно зналъ ихъ настолько, сколько
это нужно было для его работы, т. е. понималъ безъ словаря иностранныя книги.
Въ большемъ онъ не чувствовалъ необходимости и считалъ безполезнымъ тратить
время на усовершенствованіе напр. въ произношеніи* Онъ такъ экономно распо-
ряжался своимъ временемъ, такъ дорожилъ каждой минутой, что его распредѣленіе
занятій представляется своего рода образцовымъ. Его мысль работала неустанно и
отдыхала лишь при перемѣнѣ предметовъ изученія. Онъ ненавидѣлъ пустыя свѣт-
скія бесѣды и, посѣщая знакомыхъ, всегда говорилъ о томъ, что его интересовало.
Въ его небольшомъ тѣлѣ, облеченномъ обыкновенно въ старомодный сюртукъ тол-
стаго сукна, во всей его прозаической фигурѣ скрывался фанатикъ, но фанатикъ
дисциплинированный, не способный ни на одинъ необдуманный шагъ, исполненный,
если хотите, благоразумія во всѣхъ своихъ отношеніяхъ къ внѣшнему міру. Это
благоразуміе жизни — одинаково характерное для Бокля, какъ для Дарвина или
Спенсера — особенно поражаетъ русскаго человѣка, который не можетъ еще отрѣ-
шиться отъ своего представленія объ ученомъ, какъ странномъ (нѣсколько даже
«тронутомъ») субъектѣ обыкновенно въ образѣ нѣмецкаго профессора стараго типа,
совершенно устранившагося отъ жизни, и маньяка своей теоріи. Читая дневникъ и
переписку Бокля, вы готовы даже воскликнуть подъ часъ не безъ досады: «это на
самомъ дѣлѣ купеческій сынъ>. Бокль аккуратенъ до педантизма, его дневникъ—это
приходорасходная книга его занятій и жизни. Онъ не скрываетъ своей любви къ
комфорту, привязанъ къ хорошимъ сигарамъ, сердится, когда нсумѣло завариваютъ
чай или подаютъ къ столу пережаренныя тартинки, даетъ своимъ друзьямъ подроб-
ныя наставленія, какъ выгоднѣе помѣщать деньги, хвалитъ экономію и не можетъ
простить даже Копту его перазсчетливости и поразительной наивности въ житей-
скихъ дѣлахъ. Все равно какъ въ Колумбѣ рядомъ и мирно существовали и геніаль-
ный прозорливецъ, увидѣвшій черезъ океанъ Америку, и превосходный капитанъ
корабля, входившій въ каждую мелочь обихода, пачкавшійся въ дегтѣ и грошевыхъ
разсчетахъ,—такъ и Бокль, несмотря на всю творческую экзальтацію, къ которой былъ
способенъ, «никогда не вынималъ изъ кармана шиллинга, не обдумавши предвари-
тельно, можетъ ли опъ истратить его и на что»,—и это несмотря на крупное состоя-
ніе. Лирическій безпорядокъ и распущенность онъ презиралъ и въ жизни, и въ
научной работѣ. Онъ хозяйственно распоряжался своими деньгами, временемъ,
своими занятіями: безъ этого мы имѣли бы не «Исторію Цивилизаціи», эту худо-
жественно стройную и строго выдержанную работу, а быть можетъ нѣсколько талант-
ливыхъ статей, словомъ—не большое сраженіе, данное тайнамъ исторіи, а десятокъ-
другой блестящихъ партизанскихъ стычекъ, обыкновенно безрезультатныхъ.
Только въ одномъ пунктѣ Бокль не слѣдовалъ внушеніямъ своей благоразумной
и сдержанной натуры, и измѣна ей оказалась роковой. Уже въ дѣтствѣ его здоровье
отличалось хрупкостью, которая была слѣдствіемъ крупной разницы въ возрастѣ
отца и матери. Родители не рѣшились отдать его въ колледжъ и предоставили ему
ѴШ ХАРАКТЕРИСТИКА.
полную свободу занятій и развлеченій. Но онъ самъ поторопился наложить на
себя иго десятичасового ежедневнаго труда, и оно оказалось ему не подъ силу,
хотя онъ и повторялъ часто слова Писанія: «иго мое благо и бремя мое легко».
Здѣсь-то, въ противорѣчіи между слабымъ здоровьемъ и умственной безустанной
работой, и скрывается драма существованія Бокля. Сознаніе этой драмы проходитъ
красной нитью черезъ всю его переписку, хотя онъ какъ нельзя болЬе сдержанъ
насчетъ интимной своей жизни и лишь въ немногихъ, обыкновенно грустныхъ сло-
вахъ касается ея. Послѣ цѣлыхъ страницъ, посвященныхъ какому-нибудь отвлечен-
ному вопросу или характеристикѣ книгъ, «которыя необходимо нужно прочесть»,
послѣ длинныхъ цитатъ изъ Конта или Милля, мы — нѣтъ, нѣть и натолкнемся на
фразу: «мое здоровье слабо», или: «мнѣ посовѣтовали оставить шахматную игру,
такъ какъ она сильно утомляетъ меня», или: «докторъ нашелъ у меня слѣды пере-
утомленія» и т. д. Но беречь себя, подчиниться строгому режиму, примириться съ
полной, необходимой бездѣятельностью Бокль не хотѣлъ и не могъ. Для него это
значило бы отказаться отъ самого себя и утерять всякую цѣль въ жизни. Неуто-
мимая жажда познанія, любознательность, не знающая насыщенія, таилась подъ его
благоразуміемъ и сдержанностью. Онъ долженъ былъ читать, думать, писать или
говорить ежеминутно. Онъ какъ монахъ постоянно перебиралъ свои четки и шепталъ
свои молитвы, читалъ свое Писаніе и клалъ свои поклоны. Онъ соглашался лишь на
незначительныя уступки, и то съ болью въ сердцѣ. Болѣзнь одолѣвала: «Исторія
цивилизаціи человѣчества» свелась мало по малу на «Исторію цивилизаціи Европы»,
потомъ Англіи, наконецъ къ «Введенію», и того удалось написать лишь два тома изъ
предположенныхъ пятнадцати. Много мукъ пришлось вынести спокойному, благо-
разумному Боклю, когда онъ чувствовалъ на себѣ давленіе «желѣзнаго кольца не-
обходимости»—«іЬе ісггеопз, гіпё5 оГ песеззйу». Позволю себѣ привести небольшой
отрывокъ изъ его письма къ миссъ Грей отъ 1856 г. «Упасть среди дороги.—писалъ
Бокль за три года до выхода въ свѣтъ перваго тома своей «Исторіи», -исчезнуть,
не оставивъ по себѣ слѣда, не довершивъ того, что представлялось мнѣ великимъ и
необходимымъ такова перспектива, которая начинаетъ представляться мнѣ, про-
низывая меня холодомъ и ужасомъ. Выть можетъ я мечталъ о слишкомъ многомъ,
но порою я ощущаю въ себѣ столько силы пониманія, такое могущество надъ цар-
ствомъ мысли, что меня нельзя винить за неумѣренность моихъ стремленій». Развивъ
немного это настроеніе, мы услышимъ монологъ Гамлета, произнесенный въ скром-
ной и важной обстановкѣ кабинета ученаго...
Прошло три года. Пересиливая самъ себя и напрягая до послѣдней степени и
такъ уже напряженные нервы, Бокль закончилъ наконецъ 1-ый томъ своего труда.
Рукопись, старательно переписанная рукою самого автора, была готова къ печати.
Никто не хотѣлъ рисковать, выпуская въ свѣтъ произведеніе совершенно неизвѣст-
наго писателя. Къ счастью Бокль былъ настолько богатъ, что расходъ въ нѣсколько
тысячъ рублей не остановилъ его, и онъ взялъ на себя издержки перваго изданія—
и не раскаялся. Успѣхъ книги даже въ денежномъ отношеніи былъ великъ. Не
было ни одного журнала пли газеты, которые не дали бы своего отзыва, если не
всегда лестнаго, то все же поощрительнаго. Особенно смущала рецензентовъ гро-
мадность задуманной работы, и они не совсѣмъ деликатно предсказывали Боклю,
что онъ никогда не закончитъ начатаго, тревожа этимъ и такъ уже гноившуюся
рану. Бокль старался подбадривать себя. «Они—говорилъ онъ—не знаютъ, сколько
матеріала у меня наготовлено... 15 — 20 лѣтъ жизни—вотъ все, что нужно мнѣ. Неужели
я не проживу 15 — 20 лѣтъ?» Скептики однако оказались правы. Энергіи, взвин-
ченной успѣхомъ, достало еще на одинъ томъ и нѣсколько журнальныхъ статей о
Миллѣ, о женскомъ вопросѣ, о вѣротерпимости, и она изсякла. Это ежедневное,
ежеминутное изсякновеніе было настолько очевидно, что Бокль уже не обманывалъ
себя. Слава поэтому радовала его только наполовину, къ тому же она возлагала
на него такія обязательства, которыя онъ могъ исполнять только съ трудомъ. По-
ГЕНРИ ТОМАСЪ БОКЛЬ. IX
сѣщенія почитателей, сразу возросшая до невѣроятныхъ размѣровъ корреспонденція,
уколы самолюбію со стороны критики, публичныя рѣчи — все это утомляло его.
Онъ боролся впрочемъ до конца. Когда приговоромъ какого-то судьи Кольриджа
въ Корнвалисѣ нѣкто полусумасшедшій рабочій Пули за свои якобы еретическіе
взгляды, выражавшіеся между прочимъ въ томъ, что «если сжечь Библію и раз-
сѣять пепелъ по полямъ, то будетъ урожай картофеля», — былъ приговоренъ къ
полуторагодовому аресту,—Бокль почувствовалъ себя оскорбленнымъ въ самомъ свя-
томъ своемъ убѣжденіи, и въ рѣзкомъ памфлетѣ, напоминающемъ памфлеты Миль-
тона или «Письма съ Горы» Руссо, выступилъ въ защиту вѣротерпимости. Но дни
его были уже сочтены. Все возраставшая слабость заставила его предпринять путе-
шествіе на Востокъ, и здѣсь, въ Дамаскѣ, разыгрался эпилогъ драмы его жизни...
«Мы поѣхали—разсказываетъ сопровождавшій его мистеръ Гибсонъ™ болѣе покойною,
хотя и менѣе интересною дорогою въ Дамаскъ. Когда при выходѣ изъ горнаго ущелья
восточнаго склона Антиливана породъ нами открылась великолѣпная картина зна-
менитой долины, Бокль воскликнулъ: «для этого стоило бы перенести болѣе стра-
даній и усталости!» Увы, онъ не зналъ, какою цѣною придется ему заплатить за
это удовольствіе. Излишняя усталость снова вызвала припадокъ діареи. Докторъ
прописалъ ему пріемъ опіума. Какъ ни малъ былъ этотъ пріемъ, Бокль по слабости
своего организма впалъ въ безпамятство и пролежалъ съ четверть часа. Грустно и
тяжело было слышать, какъ въ его бреду между несвязными словами слышались
восклицанія: «Книга! моя книга! Я никогда не кончу моей книги!» — «Му Ъоок,
ту Ъоок! I тѵііі псѵег ассотрІізЬ іі...» Дни его были уже сочтены. Онъ умеръ
26 мая 1862 года, 41-го года отъ роду, и былъ погребенъ въ Дамаскѣ, — городѣ,
который ему такъ хотѣлось увидѣть еще въ дѣтствѣ... Небольшая кучка англичанъ
проводила его тѣло до могилы, куда оно и было опущено подъ горячими прямыми
лучами сирійскаго солнца...
Человѣкъ исчезъ; осталась его работа, несомпѣнио*грандіозная и величественная.
Переведенная на всѣ европейскіе языки, кромѣ турецкаго, она быстро завоевала
себѣ всемірную извѣстность. Особенно повидимому пришлась она по душѣ русскому
обществу въ началѣ 60-ыхъ годовъ; по крайней мѣрѣ Уоллэсъ въ своей «Россіи»
говоритъ: «.мнѣ рѣдко приходится раскрывать номеръ журнала и даже газеты безъ
того, чтобы не встрѣтить имени Бокля. Интеллигентная молодежь зачитывается
«Исторіей Цивилизаціи» и на многія мысли, высказанныя въ ней, смотритъ, какъ на
откровеніе...»
Разумѣется, оригинальность книги Бокля, какъ и всякаго дѣла рукъ человѣче-
скихъ, — относительна. Его исторія несомнѣнно имѣла многихъ предшественниковъ
въ трудахъ Вико (Новая Наука), Вольтера (Опытъ о Нравахъ), Монтескьё (О при-
чинахъ паденія Римской Имперіи и Духъ законовъ), Конта (Положительная фило-
софія),—но отъ этого нисколько не умаляется ея достоинство. Въ чемъ же оно?
Приступивши къ своей работѣ, Бокль на первыхъ же порахъ былъ пораженъ
хаотическимъ состояніемъ, въ которомъ находилась исторія. Онъ увидѣлъ, что «не-
счастная особенность исторіи человѣка состоитъ въ томъ, что хотя отдѣльныя части
ея изслѣдованы весьма искусно, но почти никто не пробовалъ сплесть ихъ въ одно
цѣлое». Во всѣхъ другихъ великихъ сферахъ вѣдѣнія необходимость обобщенія
признана всѣми и всюду сдѣланы были благородныя попытки возвыситься надъ
отдѣльными фактами и открыть закопы, управляющіе ими. Но «историки такъ далеки
отъ подобнаго взгляда, что между ними преобладаетъ мысль, будто все дѣло ихъ
разсказывать событія, оживляя по временамъ этотъ разсказъ нравственными и поли-
тическими размышленіями. Вслѣдствіе такого взгляда, каждый, кто по лѣности
мысли или по природной тупости неспособенъ ни къ какой изъ высшихъ отраслей
знанія, можетъ, посвятивъ нѣсколько лѣтъ на прочтеніе извѣстнаго числа книгъ,
сдѣлаться способнымъ написать исторію великаго народа >. Внести свѣтъ и порядокъ
въ хаотическую груду фактовъ, слить воедино разрозненныя отдѣльныя части,
ХАРАКТЕРИСТИКА.
открыть законы историческаго движенія — такова была задача, поставленная себѣ
Боклемъ. Но какъ приступить къ ней, откуда взять свѣтъ? Современное состояніе
знаній указало Боклю, куда онъ долженъ былъ обратиться за необходимыми въ его
великой работѣ помощью и орудіями. То былъ періодъ торжествующаго естество-
знанія, стремленіе къ точному безпристрастному изслѣдованію, которое проникало
собою атмосферу европейскаго научнаго мышленія и подчиняло себѣ отдѣльные умы.
Достаточно сказать, что къ тому же поколѣнію, какъ Бокль, принадлежатъ Кстлэ,
Ляйель, Гельмгольцъ, Дарвинъ, Гекели, Уоллэсъ, Тиндаль.*—эти смѣлые умы, не бояв-
шіеся подвергать анализу въ своихъ кабинетахъ и лабораторіяхъ вѣковыя вѣро-
ванія человѣчества. Естественныя науки, ихъ методъ,- пріемы, ихъ взглядъ на все-
ленную первенствовали и заняли то мѣсто, которое когда-то принадлежало Аристо-
телю, а затѣмъ философамъ ХѴШ-го столѣтія. Безбоязненное исканіе истины,
какая бы она ни была, гордое стремленіе открыть ее, хотя бы для этого пришлось
пройти черезъ поле, усѣянное мертвыми костями возвышающихъ обмановъ, захва-
тывало всѣхъ ученыхъ. Духъ времени подчинилъ себѣ и Бокля: онъ обратился
къ естествознанію. По предстояла трудная задача, рѣшеніе которой было едва на-
мѣчено Кетлэ; требовалось найти мостъ между науками о природѣ и человѣкѣ;
Бокль нашелъ его въ статистикѣ. На самомъ дѣлѣ только цифры могли вывести
его трезвый умъ изъ окружающаго мрака, только цифры могли дать утвердительный
отвѣтъ на вопросъ, управляются ли дѣйствія человѣка, а слѣдовательно и общества,
точными законами, или же они суть слѣдствія случая и произвола? Очевидно, что
разъ -іслучай и произволъ» имѣютъ первенствующее или даже какое-нибудь вліяніе—
исторія не можетъ быть наукой. Но это не такъ. «Мы ^должны—говоритъ Бокль—
придти къ тому мнѣнію, что дѣйствія людей, опредѣляемыя исключительно прошлымъ,
должпы носить характеръ единообразія, т. е. что совершенно одинаковыя причины
постоянно ведутъ къ совершенно одинаковымъ слѣдствіямът. Это единообразіе под-
тверждается и доказывается выводами статистики. Ея-то данныя Бокль заложилъ
въ основаніе своей философіи. Указывая на то, съ какою правильностью повто-
ряется фактъ такихъ «произвольныхъ дѣйствій», какъ убійство, самоубійство и ир., онъ
пришелъ къ главному пункту своего ученія и, отрицая свободу воли, провозгласилъ
законосообразность всѣхъ явленій, совершающихся въ мірѣ. человѣческомъ. Если
такой фактъ въ теченіе вѣковъ оставался почти незамѣченнымъ, то причиной этого
оказывается непониманіе историками ихъ собственнаго матеріала. Они брали изъ
него не то, что слѣдуетъ, и изучали вещи второстепенныя, оставляя главныя въ
сторонѣ, занимались личностями; но чтобы найти законъ,—надо изучать не личности,
а массы. Вѣдь дѣйствія отдѣльныхъ лицъ въ значительной степени подлежатъ влія-
нію ихъ нравственныхъ чувствъ и страстей; но эти чувства и страсти, будучи враж-
дебны чувствамъ и страстямъ другихъ людей, уііавновѣишешотея ими, такъ что
вліяніе ихъ въ общей суммѣ дѣлъ человѣческихъ вовсе незамѣтно. Между тѣмъ
«большинство историковъ наполняютъ свои сочиненія самыми пустыми и ничтож-
нѣйшими подробностями: анекдотами о государяхъ и ихъ дворахъ, нескончаемыми
разсказами о томъ, что сказалъ одинъ министръ, что подумалъ другой, и—что еще
хуже—длинными реляціями о походахъ, сраженіяхъ и осадахъ»...
Это перенесеніе центра тяжести историческаго изслѣдованія съ. личностей на
массу (а косвенно и на экономическія проблемы—всегда основныя для массы), на то,
что теперь называютъ Ьотпте §ёпёга1е,—навсегда останется самой крупной заслугой
Бокля. Онъ ясно доказалъ, что исторіи, какъ наукѣ, нечего дѣлать съ біографіями ге-
роевъ и героинь, Петровъ и Ивановъ, что ей нужно знать не годъ, когда родился
герой, и но* обстоятельства, при которыхъ Петръ или Иванъ сочетались законнымъ
бракомъ, а общія причины, подчиняющія себѣ дѣйствія отдѣльныхъ лицъ,—т. е. кли-
матъ, пищу, распредѣленіе богатствъ, приростъ населенія, высоту знаній и ихъ распро-
страненность. Исторія становится отъ этого быть можетъ менѣе поэтичной или, лучше
сказать, менѣе интимной, зато болѣе строгой, научной, а значитъ и полезной. Ее при
ГЕНРИ ТОМАСЪ БОКЛЬ. XI
правильной постановкѣ надо разсматривать уже не какъ поучительный урокъ по
части добродѣтели или возвышенныхъ поступковъ, а какъ науку, указывающую и
опредѣляющую какъ прошлые, такъ и будущіе пути общественнаго развитія,’—науку
не только уговаривающую поступать такъ-то и такъ-то, а предписывающую извѣст-
ную дѣятельность съ полнымъ сознаніемъ своего могущества и непреложности своихъ
выводовъ,..
Благодаря своей точкѣ зрѣнія, Бокль съумѣлъ въ старыхъ книгахъ найти много
новаго матеріала. Однако онъ постоянно ощущалъ недостатокъ въ самыхъ необхо-
димыхъ свѣдѣніяхъ, хотя и тратилъ самоотверженно на ихъ розысканія сочтенные
часы своей недолгой жизни. Оттого-то «заковать свои выводы въ броню непрелож-
ныхъ фактовъ> ему удавалось не всегда, и волей-неволей онъ давалъ гипотезы, а
не теоріи, предвосхищалъ общія идеи, а не необходимо выводилъ ихъ изъ ряда
данныхъ.
Что же удивительнаго, если его «законы» носятъ на себѣ зачастую слѣды его
личныхъ склонностей, понятій, среди которыхъ онъ выросъ, идей, распространенныхъ
въ окружавшемъ его обществѣ. Въ немъ легче всего узнать англичанина, котораго
прошлое его народа снабдило нѣкоторыми для него непреложными истинами. Раз-
витіе своей родины онъ считаетъ образцовымъ для всего человѣчества и почерпаетъ
свои нравоученія изъ преданій родной исторіи. Возьмите напр. зйамепитый параграфъ
о вліяніи «правительства на развитіе общества» и его рѣзкіе, какъ удары молота,
выводы: «вмѣшательство политиковъ въ торговлю нанесло ей вредъ...», «законодательство
породило контрабанду и связанныя съ нею бѣдствія...», «законодательство усилило
лицемѣріе и клятвопреступленіе...», «законы противъ роста увеличили ростъ...», «дру-
гими законами сдержано развитіе знаній» — и вы уже предчувствуете мысль, что
«во Англіи было меньше правительственнаго вмѣшательства въ народную жизнь,
чѣмъ въ другихъ странахъ, и потому благосостояніе ёя значительнѣе». Для англій-
скаго радикала 60-хъ годовъ эта мысль такъ же несомнѣнна, какъ для вѣрующаго
членъ символа вѣры. Посмотрите далѣе, па какихъ идеяхъ построено изложеніе исторіи
Франціи. Въ сущности здѣсь только одна идея, та именно, что «задержка цивили-
заціи есть духъ излишней опеки; этимъ я хочу сказать, что общество не можетъ
процвѣтать до тѣхъ лоръ/пока жизнь его находится почти во всѣхъ отношеніяхъ
подъ чрезмѣрнымъ правительственнымъ контролемъ...» И это, опять-таки, членъ англій-
скаго символа. Допуская даже односторонность этого енмвола, мы не можемъ однако
не признать, что по могуществу своей мысли, по величію лежащаго подъ нимъ
историческаго фундамента, — онъ куда выше многихъ другихъ «національныхъ»
символовъ.
Остановлюсь и еще на однозіъ изъ проявленій субъективизма Бокля, па
томъ именно, которое особенно прочно связалось съ его именемъ. Не трудно
угадать, что я говорю объ отрицаніи прогресса нравственности. По мнѣнію Бокля,
вліяніе нравственнаго инстинкта на успѣхи цивилизаціи въ высшей степени слабо;
для него неоспоримо, что въ цѣломъ мірѣ нѣтъ ничего такого^ что измѣнилось бы
такъ мало, какъ «тѣ великіе догматы, изъ которыхъ слагаются нравственныя сис-
темы». «Дѣлать добро другимъ, жертвовать для пользы ихъ собственными желаніями,
любить ближняго какъ самого себя, прощать врагамъ, обуздывать свои страсти, чтить
родителей, уважать тѣхъ, которые поставлены надъ нами — въ этихъ правилахъ и
нѣсколькихъ другихъ заключается, говоритъ Бокль, вся сущность нравственности,
и къ нимъ не прибавили ни одной іоты всѣ проповѣди, всѣ' наставленія и собра-
нія текстовъ, составленныя моралистами и богословами».
Бокль то и дѣло возвращается къ своей излюбленной мысли, повторяя ее иа
разные лады. Онъ склоненъ видѣть центръ тяжести развитія цивилизаціи исключи-
тельно въ прогрессѣ знанія. «Но если, продолжаетъ онъ,—мы сравнимъ это непо-
движное состояніе нравственныхъ истинъ съ быстрымъ движеніемъ впередъ истинъ
умственныхъ, то найдемъ самую разительную противоположность. Всѣ великія нрав-
ХП ХАРАКТЕРИСТИКА.
ствепныя системы, имѣвшія большое вліяніе на человѣчество, представляли въ сущ-
ности одно и то же. Въ ряду правилъ, опредѣляющихъ нашъ образъ дѣйствій, самые
просвѣщенные европейцы не знаютъ ни одного такого, которое бы не было также
извѣстно древнимъ. Что же касается до дѣятельности нашего ума, то люди позднѣй-
шихъ временъ не только сдѣлали значительныя пріобрѣтенія по всѣмъ отраслямъ
знанія, какія пытались изучать въ древности, но и совершили рѣшительный перево-
ротъ въ старыхъ методахъ изслѣдованія: они соединили въ одну обширную систему
всѣ> тѣ средства наведенія, о которыхъ только смутно помышлялъ Аристотель, и со-
здали такія науки, о которыхъ самый смѣлый мыслитель древности не имѣлъ ни ма-
лѣйшаго понятія ъ.
Этотъ законъ Бокль самъ считалъ важнѣйшимъ своимъ открытіемъ и наиболѣе
имъ гордился. Вмѣстѣ съ тѣмъ это тотъ пунктъ его ученія, на который съ особымъ
ожесточеніемъ нападала критика. Критика была права, такъ какъ несомнѣнно, что
Бокль впалъ въ односторонность. На самомъ дѣлѣ, разъ нравственность неподвижна,
то можно ли было писать ея исторію? Очевидно, нѣтъ. А между тѣмъ Ланге въ своей
«Исторіи матеріализма», Ленки въ «Исторіи нравственности», Летурно въ «Эволю-
ціи морали» - блестяще разрѣшили эту задачу въ положительномъ смыслѣ. Ланге
налр. доказалъ, какъ «властно вторгается нравственный элементъ въ поступатель-
ный ходъ самыхъ нашихъ знаній». Дакки далъ правдивую, основанную на точномъ
изслѣдованіи, картину движенія и развитія нравственности въ Европѣ и т. д.
Можно было бы привести многочисленныя доказательства въ пользу того мнѣ-
нія, что Бокль впалъ въ односторонность, но я остановлюсь лишь на одномъ. Какъ
всякій понимаетъ, прогрессъ нравственности заключается не въ открытіи новыхъ
истинъ, которыя представляютъ изъ себя простыя формулы инстинкта обществен-
ности, а въ расширеніи содержанія этихъ истинъ, ихъ объема. Между моралью ав-
стралійца и религіею человѣчества Копта принципіальной разницы дѣйствительно
нѣтъ, но Контъ обнимаетъ своей формулой всѣхъ людей, которые жили, живутъ и
будутъ жить на землѣ», австраліецъ же не понимаетъ, какъ можно оказывать услугу
человѣку другого рода, другого племени. Въ этомъ вся суть.
По, опять, развѣ и въ этой односторонности Бокля; не видно увлеченія силь-
наго ума. сильнаго не только по своимъ внутреннимъ даннымъ, по и по историче-
скому прошлому цѣлой націи. Вѣдь если можно возражать, то лишь противъ всеобщ-
ности примѣненія, какое Бокль дѣлаетъ изъ своей идеи, а никакъ не противъ част-
ныхъ выводовъ изъ нея. Когда вамъ говорятъ, что прогрессъ знаній ослабили» пре-
слѣдованія за вѣру, или «что каждое важное пріобрѣтеніе въ области знанія усили-
ваетъ авторитетъ умственно-трудящихся классовъ на счетъ военнаго сословія»—
тутъ не о чемъ спорить, и бываютъ эпохи какъ въ жизни отдѣльнаго человѣка, такъ
п цѣлаго народа, когда эти истины, хотя бы заключающія въ себѣ дозу преувеличе-
нія, важнѣе всѣхъ другихъ. Вѣдь на самомъ дѣлѣ ие даромъ же восторгалось кни-
гой Бокля то поколѣніе, чьими дѣлами мы живемъ еще п въ настоящее время,
т. е. люди шестидесятыхъ годовъ. Лучшіе из'ь нихъ сразу увидѣли, что идея Бокля
заключаетъ въ себѣ важнѣйшія практическія указанія, что принятая даже во всей
своей односторонности она поведетъ людей не назадъ, а впередъ, потому что въ
ней запечатлѣлась культурная вѣковая работа несомнѣнно великой націи. Эта нація
давно уже успѣла просто и яспо разрѣшить сотни такихъ вопросовъ, которые для
нашихъ политиканствующихъ мудрецовъ все еще представляются бѣсовскимъ на-
вожденіемъ. Ну, что. казалось бы, могло быть элементарнѣе общеобязательнаго
обученія и что возмутительнѣе почти поголовнаго невѣжества громаднаго народа
русскаго,—однако много ли найдемъ мы защитниковъ и проповѣдниковъ этой мысли
даже среди интеллигентовъ? Напротивъ, по лицу земли русской ходятъ другіе про-
повѣдники и другіе «странники», п другія слова, исполненныя вражды къ наукѣ,
къ знанію, раздаются постоянно. Звонятъ веригами и, надѣвши пестрядинную рубаху,
воображаютъ, что тѣмъ самымъ нашли смыслъ жизни. Смыслъ жизни не въ этомъ,
ГЕНРИ ТОМАСЪ БОКЛЬ.
XIII
и для насъ ІІеЪеппепзсЬ’евъ или попросту привилегированныхъ людей—въ томъ,
чтобы дать народу знаніе, а ужъ онъ самъ потомъ разберется, нужно ли оно ему
или не предпочтительнѣе ли жить по образу дураковъ изъ царства Ивана-царевича.
У Л. И. Толстого вырвались по этому поводу великолѣпныя слова, давно уже за-
бытыя имъ самимъ: «Ѳедькѣ—писалъ онъ когда-то—нужно то, до чего довела васъ
ваша жизнь, вашихъ десять незабитыхъ работой поколѣній. Вы имѣли досугъ искать,
думать, страдать,—дайте же ему то, что вы выстрадали, ему этого одного и нужно;
а вы, какъ египетскій жрецъ, закрываетесь отъ него таинственной мантіей, зары-
ваете въ землю талантъ, данный вамъ исторіей. Не бойтесь: человѣку ничто чело-
вѣческое не вредно. Вы сомнѣваетесь? Отдайтесь чувству, и оно не обманетъ васъ.
Повѣрьте его природѣ, и вы убѣдитесь, что онъ возьметъ только то, что заповѣдала
вамъ передать ему исторія, что страданіями выработалось въ васъ.,,»
Это-то обстоятельство, эта наша плачевная малограмотность, это-то киргизъ-
кайсацкое отношеніе къ наукѣ и знанію заставляетъ думать, что «односторонняя»
идея Бокля окажется быть можетъ слишкомъ даже многосторонней для пасъ, ибо на
самомъ дѣлѣ между ней и азіатскими преданіями нѣтъ и не можетъ быть ничего общаго.
Однако подобныхъ примѣровъ выдвиганія на первый планъ одной какой-нибудь
стороны жизни—исторія науки знаетъ очень много, и каждый разъ односторонность
прекрасно объясняется личностью создавшаго ее и обстоятельствами времени. Не-
ужели вы не слышите пресыщеннаго голоса стараго барства въ проповѣди Толстого?
Одинаково и Бокль взялъ свои законъ изъ своей собственной жизни и атмосферы
своей эпохи. По образованію и складу ума онъ ближе всего подходитъ къ раціона-
листамъ ХѴШ-го вѣка. Между нимъ, Вольтеромъ и Монтескьё можно установить
прямую преемственность. Кромѣ того его жизнь сложиласй такъ, что всѣ ея наслаж-
денія, радости, страданія вращались исключительно возлѣ одного центра—умствен-
ныхъ интересовъ. Внѣ ихъ Бокль былъ какъ рыба на берегу. Нравственныхъ кол-
лизій ему лично не пришлось разрѣшать ни разу. Его темпераментъ всегда удер-
живалъ его отъ всего, что ведетъ за собою угрызенія и муки совѣсти. Жить — для
него значило читать и думать. «Ноіѵ Іоѵеіу а із а &оосі Ъоок!» «Какая чудная
вещь хорошая книга!» — восклицаетъ онъ постоянно въ своихъ письмахъ. Припом-
нимъ наконецъ, что эпоха, когда жилъ Бокль, была эпохой торжествующаго естество-
знанія, мощной вѣры въ разумъ, въ его силу, его всемогущество,—и поймемъ, почему
не нравственный, не экономическій, а именно умственный факторъ оказался для
Бокля «царемъ исторіи».
Субъективизмъ, каковъ бы онъ ші былъ — личный или національный, католи-
ческій или протестантскій, все равно — всегда вреденъ для науки, Подчиняясь ему,
человѣкъ смотритъ на жизнь и факты чрезъ очки, окрашенныя въ извѣстный цвѣтъ.
Многое «очевидное и ясное» для него совершенно не очевидно и не ясно для дру-
гихъ; многое принимаетъ онъ на вѣру и часто ограничивается тѣмъ, что высказываетъ
мысль вмѣсто того, чтобы доказывать ее. Но пока субъективизмъ повидимому неиз-
бѣженъ, хотя все же имъ злоупотребляютъ. Чтобы собрать извѣстный рядъ фактовъ,
нужна уже объединяющая идея, теорія хотя бы и смутная, — иначе факты разсып-
лются и изслѣдователь останется пи съ чѣмъ Все дѣло значитъ въ томъ, каковъ
субч ективизмъ и насколько искренно ученый хочетъ по возможности освободиться отъ
него и не боится самыя дорогія свои убѣжденія, самыя «несомнѣнныя» свои идеи
подвергнуть изслѣдованію. Въ этомъ отношеніи Бокль выше всякихъ упрековъ. Въ
немъ на самомъ дѣлѣ было безкорыстное стремленіе къ истинѣ, любовь къ ней,
какою бы она ни была. Какъ истый англичанинъ, онъ отводилъ своей родинѣ пер-
вое мѣсто въ ряду цивилизованныхъ націй, но это не помѣшало ему выступить съ
суровымъ обвиненіемъ англійскаго лицемѣрія и нетерпимости, когда представился
случай. Вмѣстѣ съ этимъ онъ не допускалъ въ себѣ презрительнаго отношенія къ
другимъ народамъ: онъ ясно видѣлъ, что каждая нація сослужила свою служоу чело-
вѣчеству и, упрекая напримѣръ французовъ за отсутствіе у нихъ политической и
XIV ХАРАКТЕРИСТИКА.
гражданской самостоятельности, не отказывалъ имъ въ титулѣ «великой и передовой
націи х Съ болью и негодованіемъ смотрѣлъ онъ на деспотизмъ Наполеона Ш, топтав-
шаго ногами всѣ лучшія преданія «великой и передовой націи»—и не хотѣлъ даже
ѣхать въ Парижъ* «Мнѣ было бы слишкомъ обидно смотрѣть на униженіе францу-
зовъ»—говорилъ онъ.
Это возможное для людей нашего времени безпристрастіе и строго научный
методъ, который повсюду и всегда старался примѣнить Бокль, хотя онъ былъ пла-
чевно одинокъ въ своей работѣ, дѣлаютъ изъ его сочиненія такое, которое пережи-
ваетъ поколѣнія. Несмотря на сорокъ слишкомъ лѣтъ, протекшихъ послѣ смерти
Бокля, много ли вышло книгъ, которыя заставили бы насъ забыть «Исторію Циви-
лизаціи»? Такой книги еще не написано, и трудъ Бокля остается пока единствен-
нымъ въ своемъ родѣ, и это вѣроятно еще лаіолго. Наше поколѣніе не обладаетъ
такой могучей вѣрой въ человѣческій разумъ, не такъ искренно ненавидитъ суевѣрія,
не такъ энергично стремптся къ истинѣ, какъ поколѣніе, къ которому принадлежалъ
Бокль. На смѣну ему, Ляйелю, Дарвину, Гекели и Спенсеру не явился пока никто.
Напротивъ, есть симптомы движенія прямо обратнаго или, какъ говоритъ Зола: «те-
перь существуетъ реакція противъ науки, не исполнившей (?) своихъ обѣщаній, и
люди склонны возвратиться къ вѣрѣ среднихъ вѣковъ, къ той дѣтской вѣрѣ, кото-
рая, не размышляя, преклоняетъ колѣна и молится^. Зола увлекается, но онъ правъ
отчасти, поэтому-то намъ и представляется особенно полезнымъ напомнить пред-
смертное завѣщаніе Бокля, написанное имъ на послѣднихъ страницахъ его книги:
«Весь строй и все направленіе новѣйшей мысли невольно приводятъ насъ къ поня-
тіямъ правильности и закопа, *которымъ признаніе случайности и произвола въ
исторіи прямо противоположны. Сами тѣ, которые еще упорно цѣпляются за это при-
знаніе, дѣйствуютъ скорѣе подъ вліяніемъ преданія, чѣмъ вслѣдствіе твердаго вѣро-
ванія. Дѣтская и безграничная вѣра, съ которой нѣкогда принималось ученіе о про-
изволѣ историческихъ событіи, теперь смѣнилась холоднымъ и безжизненнымъ при-
знаніемъ его, нисколько не похожимъ на энтузіазмъ прежнихъ временъ. Скоро и это
исчезнетъ, и люди перестанутъ тревожиться призраками, созданными ихъ же невѣ-
жествомъ. Нашъ вѣкъ быть можетъ не увидитъ этого освобожденія, но какъ вѣрно
то, что умъ человѣческій идетъ впередъ, такъ же вѣрно и то, что наступитъ для него
часъ свободы. Быть можетъ онъ придетъ скорѣе, чѣмъ кто-либо думаетъ, ибо мы
шагаемъ быстро и скоро. Знаменія времени всюду вокругъ насъ, и кто хочетъ чи-
тать да читаетъ. Письмена горятъ на стѣнѣ; приговоръ произнесенъ, древнее цар-
ство должно пасть; владычество суевѣрія, уже распадающееся, должно рухнуть и
разсыпаться прахомъ; новая жизнь вдохнется въ нестройную хаотическую массу и
ясно покажетъ, что отъ начала созданія не было ни въ чемъ ни противорѣчія, ни
разлада, ни безпорядка, ни перерывовъ, ни вмѣшательства, но что все совершаю-
щееся вокругъ насъ до отдаленнѣйшихъ предѣловъ матеріальной вселенной пред-
ставляетъ только различныя части единаго цѣлаго, которое все проникнуто единымъ
великимъ началомъ всеобщей неуклонной правильности».
Евг. Соловьевъ.
ИСТОРІЯ
ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Томъ I.
ОБЩЕЕ ВВЕДЕНІЕ.
ГЛАВА I.
Обзор-ь вспомогательныхъ средствъ для изученія исторіи. Доказательства правильности
человѣческихъ дѣйствій. Дѣйствія эти управляются духовными и Физическими законами,
отчего необходимо изученіе и тѣхъ, и другихъ, и не можетъ быть исторіи безъ есте-
ственныхъ наукъ.
Изъ всѣхъ главныхъ отраслей человѣческаго знанія наиболѣе было написано по
отдѣлу исторіи, которая всегда пользовалась самой большой популярностью. И всѣ
повидимому того мнѣнія, что успѣхъ историковъ соотвѣтствовалъ вообще ихъ трудо-
любію л что если много изучали этотъ предметъ, то много и разгадали въ немъ.
Эта увѣренность въ достоинствѣ исторіи чрезвычайно распространена, что мы
видимъ изъ того, какъ много ее читаютъ и какое мѣсто она занимаетъ во всѣхъ
системахъ воспитанія. И нельзя не согласиться, что съ извѣстной точки зрѣнія та-
кая увѣренность совершенно извинительна; нельзя не согласиться, что собраны такіе
матеріалы, которые, разсматриваемые въ совокупности, представляютъ зрѣлище бо-
гатое и внушающее уваженіе. Политическія и военныя лѣтописи всѣхъ значитель-
ныхъ странъ Европы и большей части странъ, лежащихъ внѣ Европы, тщательно
собраны, слиты въ приличную форму и довольно хорошо изслѣдованы относительно
лежащей въ основаніи ихъ достовѣрности. Большое обращено вниманіе на исторію
законодательства, а также на исторію религіи: въ то же время употребленъ значи-
тельный, хотя меньшій, трудъ на. изслѣдованіе успѣховъ науки, литературы, изящ-
ныхъ искусствъ, полезныхъ изобрѣтеній и, наконецъ, нравовъ и удобствъ жизни на-
рода. Для бблыпаго ознакомленія насъ съ прошедшимъ, разсмотрѣны всякаго рода
древности: разрыты мѣстности древнихъ городовъ, открыты и разобраны монеты,
списаны надписи, возобновлены алфавиты, разгаданы іероглифы и въ нѣкоторыхъ
случаяхъ возсозданы и возстановлены давно забытые языки. Открыты нѣкоторые
изъ законовъ, управляющихъ измѣненіями человѣческой рѣчи, и открытіе это въ
рукахъ филологовъ послужило къ уясненію самыхъ темныхъ періодовъ раннихъ пе-
реселеній народовъ. Политическая экономія, возведенная на степень науки, пролила
значительный свѣтъ на причины того неравномѣрнаго распредѣленія богатства, ко-
торое служитъ самымъ обильнымъ источникомъ общественнаго неустройства. Стати-
стика такъ тщательно разработана, что мы имѣемъ самыя обширныя свѣдѣнія не
только о матеріальныхъ интересахъ людей, но и объ ихъ нравственныхъ особен-
ностяхъ, какъ-то: объ итогѣ различныхъ преступленій, о пропорціи, въ какой они
находятся одни къ другимъ, и о вліяніи на нихъ возраста, пола, воспитанія и т. п.
Отъ этого великаго движенія не отстала и физическая географія: записаны
климатическія явленія, измѣрены горы, начерчено теченіе рѣкъ, которыя изслѣдо-
ваны до истоковъ; всякаго рода естественныя произведенія тщательно изучены и
раскрыты ихъ сокровенныя свойства; между гѣмъ химически разложены всѣ роды
пищи, поддерживающей жизнь, сочтены и свѣшены ея составныя части и во мно-
Бокль,—Изд. Ф, Павленкова. 1
2 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
гихъ случаяхъ приведено въ достаточную извѣстность свойство связи, въ которой
они находятся съ человѣческимъ организмомъ. Въ то же время, чтобы ничего не
упустить изъ виду, что только можетъ расширить познанія наши во всемъ, касаю-
щемся человѣка, начаты обстоятельныя изысканія и по многимъ другимъ отраслямъ.
Такъ, относительно самыхъ образованныхъ народовъ намъ извѣстны въ настоящее
время пропорціи смертности, браковъ, рожденій, роды занятій, колебанія въ задѣль-
ной платѣ и въ цѣнахъ на необходимыя жизненныя потребности. Эти и подобные
имъ факты собраны, приведены въ систему и готовы для употребленія. Такіе выводы,
которые составляютъ какъ-бы анатомію народа, замѣчательны по своей крайней
точности; къ нимъ же присоединены другіе, менѣе точные, но болѣе обширные. Не
только записаны дѣйствія и характеристическія черты великихъ народовъ, но огром-
ное число различныхъ племенъ, во всѣхъ частяхъ извѣстнаго свѣта, посѣщены и
описаны путешественниками, такъ что мы можемъ сравнивать состояніе рода чело-
вѣческаго на всѣхъ ступеняхъ цивилизаціи и при всевозможныхъ обстоятельствахъ.
Если мы прибавимъ къ этому, что любопытство, возбуждаемое въ насъ нашими
собратіями, повидимому ненасытимо, что оно постоянно возрастаетъ, что возрастаютъ
также и средства удовлетворенія его и что большая часть сдѣланныхъ наблюденій
еще сохраняются, то все-таки получимъ слабое понятіе о громадной цѣнности той
обширной массы фактовъ, которою мы уже обладаемъ и съ помощью которой должно
изучать ходъ развитія человѣчества.
Но еслибъ съ другой стороны мы стали описывать употребленіе, сдѣланное
изъ этихъ матеріаловъ, то намъ пришлось бы изобразить совсѣмъ другую картину.
Печальная особенность цсторіи человѣка заключается въ томъ, что хотя ея отдѣль-
ныя части разсмотрѣны съ значительнымъ умѣньемъ, но едва-ли кто пытался слить
ихъ въ одно цѣлое и привести въ извѣстность существующую между ними связь.
Во всѣхъ другихъ великихъ отрасляхъ изслѣдованія необходимость обобщенія до-
пускается всѣми, и дѣлаются благородныя усилія возвыситься надъ частными фактами
съ цѣлью открыть законы, которыми факты эти управляются. Но историки такъ да-
леки отъ усвоенія себѣ этого воззрѣнія, что между ними преобладаетъ странное по-
нятіе, будто ихъ дѣло только разсказывать факты, по временамъ оживляя ихъ та-
кими политическими и нравственными разсужденіями, какія имъ кажутся наиболѣе
полезными. По такой теоріи, любому писателю, который, по лѣности мысли пли по
врожденной неспособности, не въ силахъ совладать съ высшими отраслями знанія,
отбитъ только употребить нѣсколько лѣтъ на прочтеніе извѣстнаго числа книгъ, и онъ
сдѣлается историкомъ, и онъ въ состояніи будетъ написать исторію великаго народа,
и сочиненіе его станетъ авторитетомъ по тому предмету, на изложеніе котораго оно
будетъ имѣть притязаніе.
Установленіе такого узкаго мѣрила повело къ послѣдствіямъ весьма вреднымъ
для успѣховъ нашего знанія. Благодаря этому обстоятельству, историки, какъ кор-
порація, никогда не признавали необходимости такого обширнаго предварительнаго
изученія, которое давало бы имъ возможность обхватить свой предметъ во всей цѣ-
лости его естественныхъ отношеній. Отсюда странное явленіе, что одинъ историкъ
невѣжда въ политической экономіи, другой не имѣетъ понятія о правѣ, третій ни-
чего не знаетъ о дѣлахъ церковныхъ и перемѣнахъ въ убѣжденіяхъ, четвертый пре-
небрегаетъ философіей статистики, пятый—естественными науками, между тѣмъ какъ
эти предметы имѣютъ самую существенную важность въ томъ отношеніи, что они
объемлютъ главныя обстоятельства, которыя имѣли вліяніе на нравъ и характеръ
человѣчества и въ которыхъ проявляются этотъ нравъ и этотъ характеръ. Эти важ-
ные предметы, будучи разрабатываемы одинъ однимъ, другой другимъ человѣкомъ,
скорѣе разъединялись, чѣмъ соединялись; помощь, которую могли оказать аналогія
и взаимное уясненіе одного предмета другимъ, терялась, но не было видно ни малѣй-
шаго побужденія сосредоточить всѣ эти предметы въ исторіи, которой, собственно
говоря, они составляютъ необходимые элементы.
ОБЗОРЪ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХЪ СРЕДСТВЪ ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ИСТОРІИ.
Правда, что съ первой половины XVIII столѣтія появилось нѣсколько вели-
кихъ мыслителей, которые оплакивали отсталость исторіи и сдѣлали все, что могли,
чтобы пособить этому злу. Но случаи эти были чрезвычайно рѣдки, такъ рѣдки, что
во всей литературѣ Европы найдется не болѣе трехъ или четырехъ истинно ориги-
нальныхъ сочиненій, проявляющихъ систематическое стремленіе къ изученію исторіи
человѣка по тѣмъ' исчерпывающимъ методамъ, которые были примѣнены съ такимъ
успѣхомъ къ другимъ отраслямъ знанія и которые одни даютъ возможность возвести
эмпирическія наблюденія на степень научныхъ истинъ.
Начиная.съ XVI столѣтія и особенно въ теченіе послѣднихъ ста лѣтъ, замѣ-
чаемъ мы вообще у историковъ разные признаки болѣе обширнаго взгляда и рѣши-
мости вводить въ свои сочиненія такіе предметы, которые они прежде исключили бы
изъ нихъ. Вслѣдствіе этого содержаніе ихъ сочиненій стало разнообразнѣе, и самое
уже собраніе въ нихъ и соотвѣтственное расположеніе параллельныхъ фактовъ на-
водило иногда на такія обобщенія, какихъ мы не можемт» найти ни малѣйшаго
слкда въ ранней литературѣ Европы. Это былъ большой выигрышъ въ томъ отноше-
ніи. что историки, освоившись съ болѣе обширной сферой мышленія, стали смѣлѣе
предаваться тѣмъ умозрѣніямъ, которыя хотя и употребляются иногда во зло, но со-
ставляютъ существенное условіе всякаго истиннаго знанія, ибо безъ нихъ не можетъ
быть построена никакая наука.
Но, несмотря на то, что стремленія исторической литературы въ настоящее
время конечно утѣшительнѣе, чѣмъ были въ какой-либо изъ предшествовавшихъ вѣ-
ковъ, должно сознаться, что за весьма немногими исключеніями, это только одни
стремленія и что до сихъ поръ едва-ли было что сдѣлано для открытія началъ, упра-
вляющихъ характеромъ и судьбой народовъ. То, что было дѣйствительно сдѣлано,
я постараюсь оцѣнить въ другой части этого введенія/ теперь же достаточно ска-
зать, что для всѣхъ высшихъ цѣлей человѣческаго мышленія исторія еще жалко не-
состоятельна и представляетъ безпорядокъ и неустройство, свойственные предмету,
законы котораго неизвѣстны и самое основаніе котораго еще не установлено х).
При столь неполномъ знакомствѣ пашемъ съ исторіей, несмотря на такое изо-
биліе матеріаловъ, слѣдуетъ, кажется, желать, чтобы что-нибудь было предпринято
въ гораздо большихъ размѣрахъ, чѣмъ предпринималось до сихъ поръ, и чтобы сдѣ-
лано было энергическое усиліе поднять эту великую отрасль изслѣдованія на одинъ
уровень съ другими и дать намъ возможность удержать равновѣсіе и гармонію въ
нашемъ знаніи. Въ этомъ духѣ и было задумано настоящее сочиненіе. Совершенное
выполненіе задуманнаго невозможно, тѣмъ не менѣе я надѣюсь сдѣлать для исторіи
человѣка что-нибудь равносильное или по крайней мѣрѣ сходное съ тѣмъ, что было
сдѣлано другими изслѣдователями для разныхт^ отраслей естественныхъ наукъ. Въ
природѣ явленія, повидимому самыя неправильныя и случайныя, были объяснены и
подведены подъ извѣстные неизмѣнные и общіе законы. Это произошло отъ того,
что люди съ дарованіями и, что важнѣе всего, терпѣливые и неутомимые мысли-
тели изучали физическія явленія съ цѣлью открыть въ нихъ правильность. Еслибъ
было обращено такое же вниманіе и на явленія въ жизни людей, то мы были бы
въ полномъ правѣ ожидать подобныхъ же результатовъ; ибо ясно, что тѣ, которые
утверждаютъ, будто историческіе факты не способны къ обобщенію, принимаютъ за
рѣшенное дѣло то, что составляетъ еще вопросъ. Они дѣлаютъ еще лучше: они
утверждаютъ то, что но въ силахъ доказать и что, при настоящемъ состояніи зна-
нія, даже въ высшей степени неправдоподобно. Всякій, кто сколько-нибудь знакомъ
съ тѣмъ, что было сдѣлано въ теченіе послѣднихъ двухъ столѣтій, долженъ былъ за-
мѣтить, что каждое поколѣніе открывало правильность и возможность предсказанія
Однаъ изъ писателей, сдѣлавшій болѣе чѣмъ
кто-ибо для поднятія уровня исторіи, отзывается съ
презрѣніемъ о «безсвязномъ наборѣ фактовъ, несвой-
называемомъ Исторіей'». Контъ. «Позитивная
Философія», т. V, стр. 18. Въ методѣ и выводахъ
этого большого сочиненія есть много, съ чѣмъ я ие
могу согласиться, по было бы несправедливо отрицать
его необыкновенныя достоинства.
1*
4 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
какихъ-нибудь событій, почитавшихся въ предшествовавшемъ поколѣніи неправиль-
ными и нѳнрѳдвидѣнными. Итакъ, успѣхи цивилизаціи ведутъ явнымъ образомъ къ
подкрѣпленію нашего вѣрованія въ существованіе во всемъ порядка, метода и за-
кона. Изъ этого слѣдуетъ, что если какіе-нибудь факты или разряды фактовъ еще
не были подведены подъ правило, то мы далеко не можемъ объявлять ихъ неподхо-
дящими подъ правило, а должны скорѣе допустить, руководствуясь предшествовав-
шими опытами, что то, что мы называемъ теперь необъяснимымъ, будетъ по всей
вѣроятности объяснено со временемъ. Это ожиданіе открыть правильность среди без-
порядка до такой степени сродно людямъ ученымъ, что у замѣчательнѣйшихъ изъ
нихъ оно переходитъ въ вѣрованіе, и если мы не встрѣчаемъ того же вообще у
историковъ, то должны приписать это частью ихъ меньшему знанію дѣла, сравни-
тельно съ естествоиспытателями, частью же большей сложности общественныхъ явле-
ній, составляющихъ предметъ ихъ изученія.
Обѣ эти причины замедлили зарожденіе науки исторіи. Знаменитѣйшіе исто-
рики стоятъ очевидно ниже искуснѣйшихъ естествоиспытателей: никто изъ людей,
посвящавшихъ себя исторіи, не можетъ быть сравненъ по уму съ Кеплеромъ, Нью-
тономъ и др. Меледу тѣмъ, со стороны большей сложности изучаемыхъ явленій, исто-
рикъ-философъ встрѣчаетъ трудности гораздо страшнѣе тѣхъ, съ которыми борется
естествоиспытатель, потому что, съ одной стороны, въ его наблюденіяхъ болѣе воз-
можны ошибки, происходящія отъ предубѣжденія, страсти, съ другой же—онъ не
располагаетъ великимъ физическимъ пособіемъ опыта, съ помощью котораго мы часто
бываемъ въ состояніи упростить самыя запутанныя задачи въ области внѣшняго міра.
Поэтому неудивительно, что изученіо явленій въ жизни человѣка находится
еще въ младенчествѣ, сравнительно съ успѣхами изученія явленій природы. И въ
самомъ дѣлѣ, различіе между^ успѣхами этихъ двухъ изученій такъ велико, что въ
естественныхъ наукахъ правильность явленій и возможность предсказанія ихъ часто
признаются несомнѣнными даже въ случаяхъ, еще не подвергавшихся повѣркѣ, между
тѣмъ какъ въ исторіи подобная правильность не только не признается впередъ до-
казанной, но положительнымъ образомъ отвергается. Отсюда происходитъ, что всякій,
кто желалъ бы поднять исторію на одинъ уровень съ другими отраслями знанія,
встрѣчаетъ съ перваго шага препятствіе: ему говорятъ, что въ дѣлахъ человѣческихъ
есть нѣчто таинственное, роковое, дѣлающее ихъ непроницаемыми для нашихъ изслѣ-
дованій и навсегда заслоняющее отъ насъ ихъ дальнѣйшій ходъ. На это достаточно
было бы отвѣчать, что такое положеніе произвольно, что оно, по самому существу
своему, не можетъ быть доказано и что кромѣ того ему противорѣчитъ тотъ рази-
тельный фактъ, что во всякомъ другомъ изученіи увеличеніе знанія сопровождается
усиленіемъ увѣренности въ однообразіи, съ какимъ, при тѣхъ же условіяхъ, должны
слѣдовать одно за другимъ тѣ же явленія. Но лучше будетъ, если мы вникнемъ по-
глубже въ это затрудненіе и прямо изслѣдуемъ основаніе обыкновенно высказывае-
маго мнѣнія, будто исторія должна остаться въ своемъ теперешнемъ эмпирическомъ
состояніи и никогда не можетъ быть возведена на степень пауки. Мы придемъ та-
кимъ образомъ къ одному важному вопросу, лежащему въ основаніи всего этого
дѣла, а именно; управляются ли дѣйствія людей, а, слѣдовательно, и обществъ неиз-
мѣнными законами, или же они составляютъ результатъ случая или сверхъестествен-
наго вмѣшательства? Разборъ этихъ двухъ предположеній поведетъ насъ къ нѣко-
торымъ умозрѣніямъ, не лишеннымъ интереса.
Объ этомъ предметѣ есть два ученія, которыя повидимому представляютъ со-
бой различныя ступени цивилизаціи. По первому—каждое событіе составляетъ нѣчто
отдѣльное, изолированное и разсматривается, какъ результатъ слѣпого случая. Мнѣніе
это, весьма естественное въ совершенно невѣжественномъ народѣ, вскорѣ поколе-
балось бы съ пріобрѣтеніемъ извѣстной опытности, приводящей къ познанію того
однообразія въ послѣдовательности и совпаденіи явленій, которое постоянно пред-
ставляется въ природѣ. Если бы, напримѣръ, кочующія племена, не обнаруживающія
ОБЗОРЪ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХЪ СРЕДСТВЪ ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ИСТОРІИ.
5 4
никакихъ признаковъ цивилизаціи, жили исключительно охотой и рыбной ловлей,
то они легко могли бы предположить, что появленіе необходимой для нихъ пищи
было результатомъ какого-нибудь случая, не подлежащаго никакому толкованію.
Непостоянство въ снабженіи ею1 и кажущаяся произвольность появленія ея то въ
изобиліи, то въ скудномъ количествѣ мѣшали бы имъ заподозрѣть въ дѣйствіяхъ
природы нѣчто вродѣ метода; умъ ихъ не могъ бы даже постичь тѣхъ общихъ
началъ, которымъ подчиняется порядокъ явленій и познаніе которыхъ даетъ намъ
часто возможность предсказать будущій ходъ этихъ явленій. Но когда такія племена
переходятъ къ занятію земледѣліемъ, то они впсрвые начинаютъ употреблять пищу,
которой не только появленіе, но и самое существованіе составляетъ повидимому
результатъ ихъ собственной дѣятельности. Они что сѣютъ, то и жнутъ. Снабженіе
ихъ необходимыми предметами пищи приходитъ въ болѣе непосредственную зави-
симость отъ нихъ самихъ и становится болѣе осязательнымъ послѣдствіемъ ихъ соб-
ственнаго труда. Они видятъ опредѣлительный планъ и правильное однообразіе по-
слѣдствій изъ того отношенія, въ которомъ находится влагаемое ими въ почву сѣмя
къ выростающему изъ него колосу. Они получаютъ теперь возможность смотрѣть на
будущее, если еще не съ полной увѣренностью, то все-таки съ большимъ довѣріемъ,
чѣмъ питали къ нему при своихъ прежнихъ, менѣе надежныхъ, промыслахъ. Тутъ
уже возникаетъ смутное понятіе о постоянствѣ явленій, и впервые зарождается въ
умѣ слабое представленіе того, что въ позднѣйшее время „получаетъ названіе зако-
новъ природы. Съ каждымъ шагомъ на пути развитія воззрѣніе людей на этотъ
предметъ становится яснѣе. Обогащаясь наблюденіями и расширяя сферу своихъ
опытовъ, они встрѣчаютъ такое однообразіе, какого никогда и не подозрѣвали, и
открытіе это ослабляетъ то вѣрованіе въ случай, отъ котораго они первоначально
исходили. Еще немного далѣе, и уже проявляется вкусъ къ отвлеченному мышле-
нію; тогда нѣкоторые изъ нихъ обобщаютъ сдѣланныя наблюденія и, презирая уста-
рѣлое мнѣніе большинства, вѣруютъ, что всякое событіе находится въ неизбѣжной
связи съ предшествовавшимъ ему, а это послѣднее тоже связано съ какимъ-нибудь
предыдущимъ фактомъ, и что такимъ образомъ весь міръ составляетъ необходимую
цѣпь, въ которой каждый человѣкъ можетъ играть свою роль, не имѣя однако ни
малѣйшей возможности впередъ угадать ее*
Итакъ, при обыкновенномъ ходѣ развитія общества, усиливающееся пониманіе
правильности природы ниспровергаетъ ученіе о случаѣ и замѣняетъ его ученіемъ о
необходимой связи. И мнѣ кажется въ высшей степени правдоподобнымъ, что изъ
этихъ двухъ ученій, о случаѣ и о необходимой связи, возникли позднѣе соотвѣт-
ствующіе догматы свободы воли и предопредѣленія, Нетрудно также понять, какимъ
образомъ должно было произойти это превращеніе въ болѣе развитомъ обществѣ. Въ
каждой странѣ, какъ скоро накопленіе богатства достигаетъ въ пей извѣстнаго пре-
дѣла, произведеніе труда каждаго человѣка становится болѣе чѣмъ достаточнымъ для
содержанія его самого; слѣдовательно, прекращается необходимость въ томъ, чтобы
всѣ работали, и образуется отдѣльный классъ, члены котораго проводятъ жизнь боль-
шей частью въ преслѣдованіи удовольствій и только весьма немногіе занимаются
пріобрѣтеніемъ и распространеніемъ знанія. Въ числѣ этихъ послѣднихъ всегда бы-
ваютъ такіе, которые, пренебрегая явленіями внѣшняго міра, обращаютъ все свое
вниманіе на изученіе своей внутренней природы х), и эти люди, если они одарены
1; Объ отношеніи этого производства богатства къ
предшествовавшему Теннеманъ въ своей < Исторія фи-
лософіи» говорить: «Извѣстная степень образованности
іі благосостоянія составляетъ необходимое внѣшнее
условіе развитія философскаго духа. До тѣхъ поръ,
пока человѣкъ озабоченъ своими средствами къ суще-
/ сгвованію и удовлетвореніемъ своихъ животныхъ по-
требностей. развитіе и образованіе его душевныхъ
подвигается очень медленно, и онъ приближается
только тагъ за шагомъ къ болѣе свободной разумной
дѣятельности.... Поэтому мы находимъ, что философ-
ствовать началп только у тѣхъ пародовъ, которые
поднялись до замѣтной степени образованности и бла-
। госостоянія». Отсюда происходитъ, какъ я попытаюсь
| доказать въ слѣдующей главѣ, огромная важность фи-
। зпчеекпхъ явленій, которыя предшеетврггь и часто
і даютъ направленіе метафизическимъ.
Х6 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІЯ ВЪ АНГЛІИ.
большими способностями, дѣлаются основателями новыхъ философій и новыхъ ре-
лигій, имѣющихъ часто огромное вліяніе на тѣхъ, которые принимаютъ ихъ* Но
авторы этихъ теорій бываютъ сами подъ вліяніемъ вѣка, въ которомъ живутъ. Ни
одинъ человѣкъ не можетъ освободиться отъ давленія окружающихъ его мнѣній, и
такъ называемая новая философія или новая религія состоитъ обыкновенно не въ
созданіи новыхъ идей, а скорѣе въ новомъ направленіи идей, уже обращающихся
среди современныхъ мыслителей. Такъ, въ занимающемъ насъ въ настоящее время
вопросѣ ученіе о случаѣ во внѣшнемъ мірѣ соотвѣтствуетъ ученію о свободѣ воли
во внутреннемъ; между тѣмъ какъ ученіе о необходимой связи имѣетъ подобную же
аналогію съ ученіемъ о предопредѣленіи, съ тою только разницей, что первое раз-
вивается метафизикомъ, а второе—теологомъ. Въ первомъ случаѣ метафизикъ, исходя
отъ ученія о случаѣ, вноситъ это начало произвола и безотвѣтственности въ изуче-
ніе человѣческаго духа, и оно является въ этой новой сферѣ подъ именемъ сво-
боды воли,—выраженіе, устраняющее повидимому всѣ затрудненія, потому что совер-
шенная свобода, будучи началомъ всѣхъ дѣйствій, сама ни отъ чего не происходитъ,
а составляетъ, подобно случаю, окончательный фактъ, не допускающій никакого
дальнѣйшаго толкованія. Во второмъ же случаѣ теологъ беретъ ученіе о необходимой
связи и переливаетъ его въ религіозную форму; а такъ какъ умъ его уже полонъ
представленіемъ порядка и однообразія, то онъ естественно приписываетъ эту не-
уклонную правильность предвидѣнію Всемогущаго Существа; и такимъ образомъ къ
возвышенному понятію о Единомъ Богѣ присоединится догматъ, что Имъ съ самаго
начала все рѣшительно предопредѣлено и предначертано.
Эти два противоположныя ученія, о свободѣ воли и о предопредѣленіи ]), пред-
ставляютъ безъ сомнѣнія удобное и простое разрѣшеніе' загадочныхъ сторонъ нашего
бытія; будучи довольно удобопонятны, они до'такой степени по силамъ среднимъ
умственнымъ способностямъ человѣка, что даже въ настоящее время между ними по-
дѣлено огромное большинство людей. Ученія эти не только исказили источники нашего
знанія, но и породили религіозныя секты, которыхъ взаимное ожесточеніе произво-
дило разстройство въ обществѣ и очень часто отравляло отношенія семейной жизни.
Однако у передовыхъ еврбпейскихъ мыслителей начинаетъ преобладать мнѣніе, что
оба ученія эти ложны, или, по крайней мѣрѣ, что мы не имѣемъ достаточныхъ до-
казательствъ ихъ истины. А такъ какъ это предметъ большой важности, то прежде,
чѣмъ мы пойдемъ далѣе, необходимо разъяснить его настолько, насколько намъ поз-
волятъ трудности, сопряженныя съ этого рода вопросами.
Какому бы ни подлежало сомнѣнію представленное мною объясненіе происхо-
жденія идеи свободы воли и предопредѣленія, во всякомъ случаѣ не можетъ быть
спора на счетъ основанія, на которомъ дѣйствительно опираются въ настоящее время
эти идеи. Теорія предопредѣленія основывается на теологической гипотезѣ, а теорія
свободы воли—на метафизической. Защитники первой исходятъ отъ предположенія,
въ подкрѣпленіе которому,—не говоря уже ничего другого,—они еще не представили
ни одного дѣльнаго вывода. Они хотятъ, чтобы мы вѣрили, будто Создатель, котораго
благость они между тѣмъ охотно признаютъ, установилъ, несмотря на эту свою бла-
гость, произвольное различіе между избраннымъ и неизбраннымъ; что Онъ предъ вѣки
обрекъ на погибель милліоны созданій, которыя еще не родились іг которыхъ Онъ
одинъ можетъ вызвать къ бытію; и что Онъ сдѣлалъ это не въ силу какого-нибудь
начала справедливости, а чисто по прихоти деспотизма і 2). Это ученіе обязано своимъ
і) Что эти ученія, разбираемыя но обыкновенному
методу мышленія, являются не только противополож-
ными, но н исключающимп одно другое, съ этимъ всѣ
согласились бы, еелнбъ не желаніе отстоять извѣстныя
части каждаго изъ двухъ ученій, — желаніе, рождаю-
щееся вообще подъ вліяніемъ двухъ опасеній: ослабить
нравственную отвѣтственность, признавъ свободу воли.
или посягнуть на всемогущество Божіе, допустивъ пред-
опредѣленіе. Поэтому дѣлаемы были различныя попытки
примирить свободу съ необходимостью и согласить сво-
боду человѣка съ предвидѣніемъ Божества.
2) Даже Амвросій, никогда не заходившій такъ
далеко, какъ Августинъ, высказываетъ это убѣжденіе
во всей его отвратительной наготѣ: «Богъ, кого удо-
ОБЗОРЪ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХЪ СРЕДСТВЪ ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ИСТОРІИ.
\
упроченіемъ между протестантами мрачному, но мощному уму Кальвина; въ первоА
начальной же церкви оно было впервые систематически развито Августиномъ, кото-
рый повидимому заимствовалъ его отъ Манихеянъ. Во всякомъ случаѣ ученіе это,
оставляя даже въ сторонѣ его несовмѣстность съ другими понятіями, признаваемыми
за основныя, должно быть принимаемо въ научномъ изслѣдованіи за гипотезу, по-
тому что, выходя изъ предѣловъ нашего знанія, оно не представляетъ намъ ни ма-
лѣйшей возможности убѣдиться, истинно оно или ложно.
Другое ученіе, которое долго было прославляемо подъ именемъ ученія о сво-
бодѣ воли, находится въ связи съ Арминіанизмомъ, но въ дѣйствительности опирается
на метафизическомъ догматѣ преобладанія надъ всѣмъ въ человѣкѣ самосознанія. Каж-
дый человѣкъ, говорятъ намъ, чувствуетъ и знаетъ, что онъ свободный, дѣятель, и
никакіе остроумные выводы не могутъ поколебать въ насъ сознанія, что мы обла-
даемъ свободной волей 1). И вотъ существованіе этой высшей юрисдикціи, которая
должна такимъ образомъ находиться въ противорѣчіи со всѣми обыкновенными мето-
дами умозаключенія, заставляетъ сдѣлать два допущенія, изъ коихъ одно хотя мо-
жетъ быть вѣрно, но никогда не было доказано, другое же неоспоримо ложно, а именно:
что есть самостоятельная способность, называемая самосознаніемъ, и что внушенія
этой способности непогрѣшимы. Но, во-первыхъ, вовсе не доказано, что сознаніе
есть способность; нѣкоторые изъ умнѣйшихъ мыслителей (Джэмсъ Милль, Локкъ, Га-
мильтонъ, Кузенъ и пр.) были того мнѣнія, что это не болѣе, какъ извѣстное состоя-
ніе или условіе ума. Если это такъ, то весь аргументъ рушится до основанія, ибо,
даже допустивъ, что всѣ способности ума, при полномъ упражненіи ихъ, дѣйствуютъ
одинаково исправно, все-таки нельзя ожидать отъ нихъ одинаковой дѣятельности при
всякомъ состояніи, въ какомѣ можетъ случайно находиться7 нашъ умъ. Но, оставивъ
въ сторонѣ это возраженіе, мы можемъ сдѣлать другое, сказавъ, что если самосозна-
ніе и есть способность, то мы имѣемъ свидѣтельство всей исторіи, доказывающее
крайнюю погрѣшимость этой способности 2). Всѣ главнѣйшія ступени, по которымъ
проходилъ послѣдовательно родъ человѣческій на пути цивилизаціи, отличались извѣст-
ными особенностями ума или убѣжденіями, оставлявшими свой отпечатокъ на религіи,
философіи и нравственности вѣка. Каждое изъ этихъ убѣжденій бывало для одного
періода предметомъ вѣрованій, для другого — предметомъ посмѣянія, и каждое изъ
нихъ находилось въ свое время въ такой же тѣспой связи съ духомъ людей и со-
ставляло въ такой же мѣрѣ часть ихъ самосознанія, какъ и то убѣжденіе, которое
мы высказываемъ въ настоящее время о свободѣ воли. Между тѣмъ невозможно, чтобы
всѣ эти продукты сознанія были истинны, потому что многіе изъ нихъ противорѣчатъ
одинъ другому. Итакъ, если только пѣтъ для различныхъ вѣковъ различныхъ мѣрилъ
истины, то ясно, что свидѣтельство самосознанія человѣка не есть доказательство
справедливости какого-нибудь мнѣнія, ибо въ противномъ случаѣ два предположе-
нія діаметрально противоположныя могли бы быть одинаково вѣрны. Рядомъ съ этимъ
стоить — привыкаетъ, кого зяхочеіъ— дѣлаетъ набож-
нымъ». Кальвинъ обьяйляетъ, «что Богъ, обрекая
иродъ вѣки одну часть человѣчества на вѣчное бла-
женство, а другую - на вѣчное бѣдствіе, не руковод-
ствовался при этомъ разграниченіи никакимъ другимъ
побужденіемъ, кромѣ своего благоусмотрѣнія и своей
свободной воли».
*) Джонсонъ сказалъ Босвелю: «Мы знаемъ, сэръ,
чго наша воля свободна, — вотъ и все». «Вопросъ,
свободны ли мы? мнѣ кажется, не стоитъ обсужденія.
Онъ разрѣшается свидѣтельствомъ совѣсти о томъ, что
въ извѣстныхъ случаяхъ мы могли бы сдѣлать против-
ное тому, что дѣлаемъ». (Кузенъ). «Свобода человѣка,
какъ существа нравственнаго, основывается па нрав-
ственномъ сознаніи» (Теннемапъ). Что въ этомъ заклю-
. чается единственное основаніе для вѣрованія въ сво-
боду волн, это до такой степени очевидно, что намъ
пѣтъ нужды приводить ни мистическаго довода Филона,
। ни физическаго изъ Васвлпдовыхъ Монадъ, ни аргу-
мента Бардезана. который думалъ доказать свободу
разнообразіемъ человѣческихъ обычаевъ.
2) Это требуетъ объясненія. Самосознаніе непо-
грѣшимо со стороны факта своего показанія, но по-
грѣшило со стороны истины. Что мы сознаемъ
извѣстныя явленія, это доказываетъ только, что яв-
ленія эти существуютъ въ нашемъ умѣ или пред-
ставляются ему; говорить же, что это доказываетъ
дѣйствительность явленій, значитъ заходить на одинъ
шагъ далѣе и не только давать показанія, но и про-
износить сужденіе. Съ той минуты, какъ мы дѣлаемъ
это, мы вносимъ элементъ погрѣшимости; ибо созяа-
। ніе и сужденіе, взятыя вмѣстѣ, не могутъ быть
всегда вѣрны, такъ какъ сужденіе часто бываетъ
, ошибочно.
8 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
доводомъ можно * привести другой, заимствованный изъ обыкновенныхъ случаевъ еже-
дневной жизни. Не сознаемъ ли мы, напримѣръ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ
существованія призраковъ и привѣдѣній; а между тѣмъ не признано ли всѣми, что
ни призраки, ни привѣдѣнія вовсе не существуютъ? Если кто попытается опровер-
гнуть этотъ аргументъ, сказавъ, что такое сознаніе есть кажущееся, а не дѣйстви-
тельное, то я спрошу тогда, что же рѣшаетъ, какое сознаніе настоящее, а какое
поддѣльное *)? Если эта хваленая способность обманываетъ насъ въ одномъ, то какое
мы имѣемъ ручательство, что она не обманетъ насъ и въ другомъ. Если нѣтъ ника-
кого ручательства, то способность не заслуживаетъ довѣрія. Если же есть ручатель-
ство, то, каково бы оно ни было, самое существованіе его уже доказываетъ необхо-
димость такой власти, которой бы подчинялось самосознаніе, и, слѣдовательно, опро-
вергаетъ ученіе о преобладаній надъ всѣмъ самосознанія,—ученіе, на которомъ за-
щитники свободы воли должны строить всю свою теорію. И, дѣйствительно, неувѣ-
ренность въ существованіи самосознанія въ видѣ самостоятельной способности и
сознаніе того, въ какой мѣрѣ способность эта,—если она дѣйствительно существуетъ,—
противорѣчила своимъ собственнымъ внушеніямъ, вотъ двѣ изъ многихъ причинъ,
по которымъ я давно уже пришелъ къ убѣжденію, что метафизика никогда не будетъ
возведена на степень науки обыкновеннымъ путемъ наблюденій надъ отдѣльными лич-
ностями, но что изученіе ея можетъ идти успѣшно лишь путемъ дедуктивнаго при-
мѣненія законовъ, открываемыхъ историческимъ образомъ, т. е. выводимыхъ изъ на-
блюденія во всей цѣлости тѣхъ обширныхъ явленій, которыя представляетъ нашимъ
взорамъ длинный рядъ дѣлъ человѣческихъ.
Но, къ счастью для предмета нашего сочиненія, тотъ, кто вѣруетъ въ возмож-
ность науки исторіи, не обязанъ придерживаться ни ученія о предопредѣленіи, ни
ученія о свободѣ воли 2); единственныя положенія, которыя онъ долженъ, мнѣ ка-
жется, принять въ этой облаІти^зышганЬі^уть^слѣдующія: когда мы совершаемъ
то или другое дѣйствіе, то совершаемъ его вслѣдствіе какого-нибудь побужденія или
какихъ-нибудь побужденій; эти побужденія проистекаютъ изъ какихъ-нибудь пред-
шествовавшихъ причинъ, іі/поэтому, еслибы мы знали всѣ предшествовавшія причины
и законы ихъ измѣненій, то могли бы съ полной достовѣрностыо предсказать всѣ ихъ
непосредственныя послѣдствія. Вотъ воззрѣніе, котораго, если я не ошибаюсь, долженъ
придерживаться всякій, чей умъ не порабощенъ системою и кто основываетъ свои
убѣжденія на доказательствѣ, находящемся на лицо 3). Если, напримѣръ, мнѣ хорошо
знакомъ характеръ какого-нибудь лица, то я часто бываю въ состояніи сказать, какъ
оно будетъ дѣйствовать въ извѣстныхъ обстоятельствахъ, Если я ошибусь въ подоб-
номъ предсказаніи, то не долженъ приписывать свою ошибку произволу или прихоти
свободной воли лица, ни какому-нибудь сверхъестественному предопредѣленію, ибо
ни для того, ни для другого нѣтъ ни малѣйшаго доказательства,—*а долженъ удоволь-
ствоваться предположеніемъ, что или мнѣ сообщены были невѣрныя свѣдѣнія объ усло-
віяхъ, въ которыхъ находилось дѣйствующее лицо, или что я недовольно изучалъ обыч-
х) Платой» былъ пораженъ необыкновенной труд-
ностью отысканія въ умѣ человѣка того мѣрила, сь
помощью котораго мы можемъ отличать истину отъ
лжи, призрачныхъ явленій и сновъ. И единственное за-
ключеніе, къ которому могъ придти этотъ замѣчательный
мыслитель, было то, что все, чтб кажется истиннымъ
уму отдѣльнаго человѣка, для него истинно; это зна-
читъ однако уклоняться отъ задачи, а по рѣшать со.
2) Разумѣя подъ свободной волей причину дѣй-
ствія, заключающуюся внутри человѣческаго духа и
дѣйствующую независимо отъ побужденій. Если кто
скажетъ, что мы имѣемъ такую способность дѣйство-
вать безъ побужденій, но что въ практическомъ при-
мѣненіи этой способности мы руководствуемся, созна-
тельно или безсознательно, побужденіями, то это будетъ
безплодное предположеніе, которое не мѣщасть моимъ
воззрѣніямъ, но котораго — истинно оно или ложно —
еще конечно никому не удавалось доказать.-
3) Т. е. на доказательствѣ, представляющемся
| уму въ явленіяхъ и оцѣниваемомъ обыкновенной логн-
I кой, къ которой умъ постоянно обращается. Но Кантъ
сдѣлалъ замѣчательнѣйшую попытку избѣгнуть нрактп-
! чеекпхъ послѣдствій этого, утверждая, что свобода,
1 какъ идея, порожденная разумомъ, должна быть подве-
дена подъ трансцендентальные законы разума, т. е.
подъ законы, выходящіе изъ области опыта и не под-
лежащіе повѣркѣ наблюденіемъ, По отношенію же къ
I научнымъ понятіямъ ума (различаемаго отъ разума)
онъ допускаетъ существованіе * необходимости, уничто-
| жающей свободу.
ОБЗОРЪ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХЪ СРЕДСТВЪ ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ИСТОРІИ. 9
ныя отправленія его ума. Но если бъ при способности правильно умозаключать я
имѣлъ полныя свѣдѣнія какъ о настроеніи лица, такъ и объ обстоятельствахъ, въ
которыхъ оно находилось, то я былъ бы въ состояніи предвидѣть рядъ дѣйствій,
предпринятыхъ имъ въ силу такихъ обстоятельствъ х).
Итакъ, отвергая метафизическій догматъ свободы воли и теологическій — пред-
опредѣленія всего случающагося 2), мы приходимъ къ заключенію, что дѣйствія лю-
дей, завися только отъ предшествующихъ причинъ, должны имѣть извѣстный отпе-
чатокъ однообразія, т. е. должны при совершенно одинаковыхъ условіяхъ имѣть со-
вершенно одинаковый исходъ. А такъ какъ всѣ предшествующія причины находятся
или внутри духа человѣческаго, или внѣ его, то ясно, что всѣ видоизмѣненія послѣд-
ствій, или, другими словами, всѣ перемѣны, наполняющія исторію, всѣ превратности,
постигающія родъ человѣческій, его прогрессъ и его отсталость, его счастье и его
бѣдствіе, все должно быть результатомъ двоякаго дѣйствія: дѣйствія внѣшнихъ явле-
ній на духъ человѣка и духа человѣческаго на внѣшнія явленія.
Вотъ единственные матеріалы, изъ которыхъ можетъ быть построена умозри-
тельная исторія. Съ одной стороны мы имѣемъ человѣческій духъ, который пови-
нуется законамъ своего собственнаго бытія и, будучи поставленъ внѣ вліянія посто-
роннихъ силъ, развивается согласно условіямъ своей организаціи. Съ другой стороны
мы имѣемъ такъ называемую природу, которая тоже повинуется своимъ законамъ,
но безпрестанно приходитъ въ столкновеніе съ духомъ людей, возбуждаетъ ихъ стра-
сти, подстрекаетъ ихъ умъ и даетъ такимъ образомъ ихъ дѣйствіямъ то направле-
ніе, котораго они не приняли бы безъ этого посторонняго вмѣшательства. Итакъ, мы
имѣемъ человѣка, дѣйствующаго на природу, и природу, дѣйствующую на человѣка,
а изъ этого взаимодѣйствія проистекаетъ все, что ни случается.
Непосредственная задача наша состоитъ въ изысканіи способа открытія зако-
новъ этихъ двухъ вліяній, а это, какъ мы сейчасъ увидимъ, заставитъ насъ предва-
рительно изслѣдовать, которое изъ вліяній важнѣе, т. е. сильнѣе ли вліяніе физиче-
скихъ явленій на мысли и желанія людей, или же вліяніе этихъ послѣднихъ ни фи-
зическія явленія. Ибо ясно, что болѣе дѣйствительное вліяніе должно быть изслѣдо-
вано первое, а это частью потому, что результаты его сильнѣе выдаются впередъ и
слѣдовательно удобнѣе наблюдаются, частью же и потому, что если мы сперва обоб-
щимъ законы большей силы, то у насъ останется менѣе нсобъясненныхъ фактовъ,
чѣмъ когда бы мы начали съ обобщенія законовъ меньшей силы. Но, прежде чѣмъ
приступить къ этому изслѣдованію, неизлишнс будетъ припомнить нѣкоторыя изъ
самыхъ разительныхъ доказательствъ правильности, съ которою слѣдуютъ одно за
другимъ явленія духовной природы. Это значительно подкрѣпитъ приведенныя выше
воззрѣнія и дастъ намъ въ то же время возможность видѣть, какого рода средства
уже были употреблены въ дѣло для уясненія этого важнаго предмета.
Что полученные до сихъ поръ результаты имѣютъ чрезвычайную цѣнность, это
ясно видно не только изъ обширной поверхности, на которой сдѣланы уже обоб-
щенія, но и изъ крайней осмотрительности, съ какою они дѣлались. Ибо въ то
время, какъ большая часть нравственныхъ изслѣдованій находилась въ зависимости
отъ какой-нибудь теологической или метафизической гипотезы,—изслѣдованія, о ко-
торыхъ я говорю, являются исключительно индуктивными. Они опираются на почти
безчисленномъ количествѣ фактовъ, объемлющихъ многія страны и сведенныхъ въ
Это конечно гипотеза, построенная только для
уясненія сказаннаго. Мы никогда но можемъ знать
всего прошедшаго какого-нибудь человѣка, ни даже на-
шего собственнаго; но то достовѣрно, что чѣмъ болѣе
мы приближаемся къ полному познанію предшествовав-
шаго, тѣмъ скорѣе можно ожидать отъ пасъ предска-
7 шія послѣдующаго.
/’ 2) Ученіе о вмѣшательствѣ Провидѣнія находится
въ связи съ ученіемъ о предопредѣленіи, ибо Божество,
предвидя все, должно было предвидѣть и свое намѣре-
ніе вмѣшаться. Отрицать это предвидѣніе—значило бы
[ ограничивать всевѣдѣніе Божіе. Поэтому тѣ, которые
। допускаютъ, что въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ
особое Провидѣніе прерываетъ обыкновенный ходъ яв-
леніи,—должны также допустить, что въ каждомъ изъ
такихъ случаевъ обстоятельство это было нредопредѣ-
I лепо, иначе это будетъ посягательство на одно изъ
I свойствъ Божіихъ.
10
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
самую ясную изъ формъ,—форму ариѳметическихъ таблицъ: наконецъ они были соб-
раны большею частью правительственными лицами, не искавшими въ нихъ под-
держки для той или другой теоріи и не имѣвшими интереса искажать истину въ
требовавшихся отъ нихъ донесеніяхъ.
Самые обширные выводы, относящіеся до дѣйствій людей, выводы, признавае-
мые всѣми сторонами за неоспоримые, заимствованы изъ этихъ или подобныхъ имъ
источниковъ; они опираются на статистическія данныя и выражаются языкомъ
математическимъ. Всякій, кто только знаетъ, какъ много сдѣлано открытій однимъ
этимъ путемъ, долженъ не только признать однообразіе, съ которымъ слѣдуютъ одно
за другимъ явленія духовной природы, но и имѣть упованіе, что будутъ сдѣланы еще
болѣе важныя открытія, какъ скоро будутъ употреблены въ дѣло тѣ сильныя вспо-
могательныя средства, которыя представляются въ изобиліи даже при нынѣшнемъ
состояніи знанія. Ио зачѣмъ заглядывать въ будущія изслѣдованія: въ настоящую
минуту насъ занимаютъ только тѣ доказательства существованія однообразія въ дѣ-
лахъ человѣческихъ, которыя впервые представлены были статистиками.
Дѣйствія людей раздѣляются легко и наглядно на два класса: на добродѣтельныя
и порочныя; такъ какъ эти классы находятся въ соотношеніи между собою и, взятые
вмѣстѣ, составляютъ весь итогъ нашей нравственной дѣятельности, то поэтому все,
что увеличиваетъ одинъ классъ, уменьшаетъ съ относительной точки зрѣнія другой;
такъ, если намъ удастся въ какой-нибудь періодъ времени замѣтить однообразіе и
нѣкоторую послѣдовательность въ проявленіи пороковъ какого-нибудь народа, то должна
быть соотвѣтствующая правильность и въ проявленіи его добродѣтелей, или еслибъ
мы могли доказать правильность въ проявленіи его добродѣтелей, то естественнымъ
образомъ предположили бы такую же правильность и въ проявленіи его пороковъ;
ибо эти двѣ категоріи дѣйствій, по условію самаго дѣленія ихъ, служатъ дополненіемъ
одна другой; или,—выражая это предположеніе иначе,—ясно, что еслибъ можно было
доказать, что дурныя дѣйствія людей видоизмѣняются подъ вліяніемъ перемѣнъ, про-
исходящихъ въ окружающемъ ихъ обществѣ, то мы должны были бы заключить изъ.
этого, что и хорошія дѣйствія ихъ, составляющія какъ бы остатокъ за вычетомъ дур-
ныхъ, видоизмѣняются такимъ же образомъ; мы должны были бы придти далѣе къ
тому заключенію, что такія измѣненія составляютъ результатъ важныхъ общихъ при-
чинъ, которыя, дѣйствуя на совокупность общества, должны произвести извѣстныя
послѣдствія, не взирая на волю отдѣльныхъ людей, составляющихъ общество.
Вотъ какую правильность мы надѣемся найти въ дѣйствіяхъ людей, если только дѣй-
ствія эти зависятъ отъ состоянія общества, среди котораго они совершаются; если же, на-
противъ, мы не найдемъ этого рода правильности, то можемъ быть увѣрены, что дѣйствія
людей исходятъ отъ какого-нибудь произвольнаго личнаго принципа, свойственнаго каж-
дому человѣку, какъ напр. отъ принципа свободы воли и т. ш Поэтому въ высшей степени
важно привести въ извѣстность, существуетъ ли или нѣтъ правильность во всей нрав-
ственной дѣятельности даннаго общества, а это именно одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, для
разрѣшенія которыхъ даетъ намъ особенно драгоцѣнные матеріалы статистика.
Такъ какъ главная задача законодательной власти заключается въ огражденіи
невиннаго отъ виновнаго, то естественнымъ образомъ европейскія правительства, убѣ-
дившись въ важности статистики, стали тотчасъ же собирать данныя, относящіяся
до тѣхъ преступленій, для которыхъ отъ нихъ ожидалось наказаніе. Свѣдѣнія эти
все болѣе и болѣе накоплялись, такъ что въ настоящее время они составляютъ сами
по себѣ обширную отрасль литературы, содержащую, рядомъ съ необходимыми ком-
ментаріями, огромную массу фактовъ, тщательно собранныхъ и приведенныхъ въ
такую ясную систему, что изъ нихъ можно болѣе узнать о нравственной природѣ че-
ловѣка, чѣмъ изъ всей совокупности опытовъ предшествовавшихъ вѣковъ 1). Но
*) Я говорю это обдуманно: всякій, кто занимался ; кой степени люди, пишущіе о нравственности, повто-
этого рода предметами, долженъ былъ замѣтить, до ка- | ряютъ общія мѣста и избитыя идеи своихъ предше-
ОБЗОРЪ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХЪ СРЕДСТВЪ ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ИСТОРІИ. 11
такъ какъ въ этомъ введеніи невозможно представить нѣчто въ родѣ полнаго обзора
тѣхъ выводовъ, которые мы въ правѣ сдѣлать при настоящемъ состояніи статистики,
то я ограничусь разборомъ двухъ или трехъ важнѣйшихъ изъ нихъ и указаніемъ
находящейся между ними связи.
Можно смѣло предположить, что одно изъ самыхъ произвольныхъ и неправиль-
ныхъ преступленій есть убійство. Ибо если мы примемъ въ соображеніе, что этотъ
актъ, хотя вообще имъ завершается цѣлая жизнь, проведенная въ порокѣ, бываетъ
часто непосредственнымъ результатомъ повидимому внезапнаго побужденія; что когда
онъ предумышленъ, то для совершенія его, хотя съ малѣйшимъ разсчетомъ на без-
наказанность, необходимо рѣдкое стеченіе благопріятныхъ обстоятельствъ, котораго
преступнику часто приходится ожидать; что такимъ образомъ преступникъ долженъ
выжидать время и высматривать удобный случай, отъ него независящій; что, когда
и придетъ время, ему можетъ недостать духа исполнить задуманное; что вопросъ,
совершивъ онъ или нѣтъ преступленіе, можетъ часто зависѣть отъ равновѣсія стал-
кивающихся побужденій, такихъ напримѣръ, какъ боязнь закона, страхъ наказаній,
которыми угрожаетъ религія, угрызенія собственной совѣсти или опасеніе такихъ
угрызеній въ будущемъ, корыстолюбіе, ревность, жажда мщенія, отчаяніе; если мы
возьмемъ все это вмѣстѣ, то выходитъ такое сплетеніе причинъ, что мы въ правѣ
были бы усомниться въ возможности открыть какой-либо порядокъ или методъ въ
результатѣ такихъ тонкихъ и неуловимыхъ побужденій, какъ тѣ, отъ которыхъ за-
виситъ совершеніе или предупрежденіе убійства. Но что же послѣ этого оказывается
на самомъ дѣлѣ? На самомъ дѣлѣ убійство совершается съ такой же правильностью
и находится въ такомъ же постоянномъ отношеніи къ извѣстнымъ обстоятельствамъ,
какъ и движеніе морскихъ приливовъ и смѣна временъ года. Г. Кетле, посвятившій
всю жизнь свою собиранію и приведенію въ систему статистическихъ свѣдѣній о
различныхъ странахъ, представляетъ, какъ результатъ своихъ трудолюбивыхъ изыс-
каній, слѣдующій выводъ: «во всемъ, относящемся до преступленій, одни и тѣ же
числа повторяются съ такимъ постоянствомъ, котораго нельзя не замѣтить; то же
бываетъ и въ такихъ преступленіяхъ, которыя, казалось бы, вовсе не подлежатъ
человѣческому предвидѣнію, въ такихъ напримѣръ, какъ убійства, совершаемыя по-
слѣ ссоръ, возникающихъ изъ обстоятельствъ повидимому случайныхъ. Но мы знаемъ
изъ опыта, что не только совершается ежегодно почти то же число убійствъ, но что
и самыя орудія, служащія для совершенія ихъ, употребляются въ тѣхъ же пропор-
ціяхъ». Это сказалъ въ 1835 г. безспорно первый статистикъ въ Европѣ, и съ каж-
дымъ послѣдующимъ изысканіемъ подтверждалась справедливость словъ его. Ибо
позднѣйшія изслѣдованія привели въ достовѣрную извѣстность необыкновенный
фактъ, что однообразное повтореніе преступленій имѣетъ болѣе ясные признаки и
скорѣе можетъ быть предусмотрѣно, чѣмъ дѣйствіе физическихъ законовъ, относя-
щихся до болѣзней и разрушенія нашего тѣла.
Такъ напримѣръ, число лицъ, обвиненныхъ въ преступленіяхъ во Франціи ме-
жду 1826 и 1841 годами, по странному совпаденію, равнялось числу смертей въ
мужскомъ полѣ, случившихся въ Парижѣ въ теченіе того же періода времени, съ той
только разницей, что колебанія въ итогѣ преступленій были менѣе значительны,
чѣмъ колебанія въ смертности; въ то же время замѣчена была подобная же пра-
вильность по каждому изъ преступленій, которыя всѣ слѣдовали одному и тому же
закону однообразнаго, періодическаго повторенія.
ственниковъ; такъ что по прочтеніи всего, чтб было
писано о нравственной дѣятельности и нравственной
философіи, человѣкъ оказывается почти въ такомъ же
мракѣ, въ какомъ находился при началѣ чтенія. Са-
мыми тщательными изслѣдователями человѣческаго духа
были до сихъ поръ поэты, особенно Гомеръ и Шекс-
пиръ; но эти обыкновенные наблюдатели занимались
главнѣйшимъ образомъ конкретными явленіями жизни,
а если и вдавались въ анализъ,— чтб по всей вѣроят-
। ности опп и дѣлали, — то скрыла отъ насъ слѣды
' своихъ процессовъ, такъ что въ настоящее время мы
1 можемъ повѣрять ихъ выводы только эмпирически.
Важный шагъ, сдѣланный с іатястиками, заключается
въ томъ, что они примѣнили къ этого рода взысканіямъ
: теорію среднихъ выводовъ, что никто и не думалъ дѣ-
I лать до XVIII столѣтія.
12
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІЯ ВЪ АНГЛІИ.
Это въ самомъ дѣлѣ покажется страннымъ для тѣхъ, кто полагаетъ, что дѣй-
ствія человѣческія зависятъ болѣе отъ свойствъ каждаго лица, чѣмъ отъ состоянія
всего общества. Но есть другое обстоятельство, которое еще поразительнѣе. Въ числѣ
гласныхъ, записываемыхъ преступленій нѣтъ ни одного, которое казалось бы болѣе
зависящимъ отъ личности, какъ самоубійство. Покушенія на убійство и грабежъ мо-
гутъ быть и постоянно бываютъ съ успѣхомъ останавливаемы иногда сопротивле-
ніемъ самыхъ лицъ, подвергающихся нападенію, иногда же блюстителями правосудія.
Покушеніе же на самоубійство въ гораздо меньшей мѣрѣ подвержено помѣхѣ. Человѣкъ,
рѣшившійся убить себя, не встрѣчаетъ въ послѣднюю минуту остановки, подобной
борьбѣ противника; а такъ какъ ему легко уберечься отъ вмѣшательства граждан-
ской власти, то дѣйствіе его становится какъ бы изолированнымъ; будучи отрѣзано
отъ внѣшнихъ помѣхъ, опо представляется въ большей мѣрѣ, чѣмъ всякій другой
проступокъ, результатомъ собственнаго желанія лица. Къ этому мы можемъ также
прибавить, что оно непохоже на преступленія вообще и въ томъ еще отношеніи,
что рѣдко совершается по внушенію сообщниковъ, такъ что въ этомъ случаѣ люди
не вовлекаются въ преступленіе никѣмъ другимъ и потому находятся внѣ вліянія
одного обширнаго класса внѣшнихъ побужденій, стѣсняющихъ такъ называемую сво-
боду воли. Поэтому можетъ весьма естественно показаться несбыточнымъ дѣломъ,
чтобы самоубійство было подведено подъ общія правила, или чтобы было открыто
что-либо въ родѣ правильности въ преступленіи, которое выходитъ до такой степени
изъ ряда обыкновенныхъ, которое такъ изолировано, такъ мало подчиняется зако-
нодательной власти и такъ мало пресѣкается мѣрами, принимаемыми самой бдитель-
ной полиціей. Есть ещечодно обстоятельство, мѣшающее памъ вѣрно смотрѣть на
самоубійство, а именно то, что и самыя лучшія улики въ этого рода преступленіи
всегда бываютъ далеко несовершенны. Напримѣръ въ случаяхъ утопленія легко
принять умышленное самоубійство за нечаянное, и, наоборотъ, нечаянное за умыш-
ленное. Слѣдовательно, самоубійство представляется чѣмъ-то не только произволь-
нымъ и неподлежащимъ контролю, но и весьма темнымъ въ отношеніи доказатель-
ства, такъ что по всѣмъ этимъ причинамъ позволительно было бы отчаяться въ
возможности подвести его подъ тѣ общія начала, отъ которыхъ оно дѣйствительно
происходитъ.
При такихъ особенностяхъ этого страшнаго преступленія конечно весьма уди-
вителенъ фактъ, что всѣ данныя, какія мы имѣемъ о немъ, приводятъ къ одному
важному заключенію и не оставляютъ въ насъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что само-
убійство есть продуктъ извѣстнаго состоянія всего общества, и что каждый отдѣль-
ный преступникъ только приводитъ въ исполненіе то, что составляетъ необходи-
мое послѣдствіе предшествовавшихъ обстоятельствъ *). Въ извѣстномъ, данномъ
состояніи общества извѣстное число лицъ должны сами лишить себя жизни. Это
общій законъ, частный же вопросъ о томъ, кто именно сдѣлается виновнымъ въ та-
комъ преступленіи, зависитъ конечно отъ частныхъ законовъ, которые однако, въ
совокупномъ дѣйствіи своемъ, должны подчиняться главному общественному закону,
находясь отъ него въ зависимости. Сила главнаго закона такъ непреодолима, что ни
привязанность къ жизни, ни боязнь того свѣта не въ силахъ умѣрить его дѣйствіе.
Причины этой замѣчательной правильности я разсмотрю далѣе, существованіе же ея
хорошо извѣстно всякому, что занимается нравственной статистикой. Въ различныхъ
странахъ, о которыхъ мы имѣемъ свѣдѣнія, мы находимъ годъ отъ году одну и ту
же пропорцію лицъ, добровольно лишающихъ себя жизни; такъ что, за отнесеніемъ
нѣкоторыхъ неточностей насчетъ невозможности собрать полныя данныя, оказывается,
«Все повидимому зависитъ отъ опредѣлеипыхъ I Всякій годъ съ такимъ постоянствомъ повторяются
причинъ. Такъ, мы находимъ ежегодно почти то же числа предшествовавшаго года, что можно предвидѣть
число самоубійствъ, не только вообще, но п по возра- то. что будетъ въ слѣдующемъ году». (Кетле).
стамъ, поламъ и даже по орудіямъ самоуничтоженія.
ОБЗОРЪ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХЪ СРЕДСТВЪ ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ИСТОРІИ.
13
что мы въ состояніи предсказать, — не выходя изъ предѣловъ самыхъ ничтожныхъ
погрѣшностей,—число добровольныхъ смертей для каждаго послѣдовательнаго періода
времени, предположивъ конечно, что общественныя условія не подвергнутся въ это
время замѣтному измѣненію. Даже въ Лондонѣ, несмотря на частыя перемѣны, не-
избѣжныя въ обширнѣйшей и роскошнѣйшей столицѣ въ мірѣ, мы находимъ въ этомъ
отношеніи - такую правильность, которой не могъ бы ожидать и самый ревностный
поклонникъ общественныхъ законовъ; ибо политическое возбужденіе, меркантильное
возбужденіе, дороговизна пищи, все это причины самоубійства, а между тѣмъ все
это постоянно измѣняется *)• Тѣмъ не менѣе въ этой обширной столицѣ ежегодно
около 240 человѣкъ лишаютъ себя жизни, при чемъ годичное число самоубійствъ
колеблется подъ вліяніемъ временныхъ причинъ между 266 и 213. Въ 1843 году,
въ великій годъ кризиса, произведеннаго желѣзными дорогами (гаііигау рапіс), само-
убійствъ въ Лондонѣ было 266; въ 1847 началась нѣкоторая перемѣна къ лучшему,
и число это понизилось до 256; въ 1848 ихъ было 247; въ 1849—213; а въ 1850—229.
Вотъ нѣкоторыя, и только нѣкоторыя, изъ тѣхъ доказательствъ, которыя мы
имѣемъ въ настоящее время въ пользу правильности, съ какою при томъ же со-
стояніи общества необходимо повторяются тѣ же .преступленія. Чтобы оцѣнить всю
силу этихъ доказательствъ, мы должны припомнить, что это не произвольный наборъ
частныхъ фактовъ, а общіе выводы изъ всестороннихъ показаній уголовной стати-
стики, которая сложилась изъ нѣсколькихъ милліоновъ наблюденій, сдѣланныхъ въ стра-
нахъ. стоящихъ на различныхъ степеняхъ цивилизаціи, имѣющихъ различные законы,
мнѣнія, нравы и обычаи. Если мы прибавимъ, что эти статистическія свѣдѣнія со-
браны лицами, спеціально занимавшимися этимъ дѣломъ,—лццами, обладавшими всѣми
средствами раскрытія истины и не имѣвшими никакого интереса обманывать, то ко-
нечно придется допустить, что подчиненіе преступленій Неизмѣнной и однообразной
системѣ есть фактъ, доказанный яснѣе всякаго другого факта въ нравственной исто-
ріи человѣка. Мы имѣемъ здѣсь параллельныя цѣпи доказательствъ, составленныя съ
необыкновеннымъ тщаніемъ, при самыхъ разнообразныхъ обстоятельствахъ, и напра-
вляющіяся въ одну сторону; всѣ они ведутъ насъ къ тому заключенію, что проступки
людей происходятъ не столько отъ пороковъ отдѣльныхъ виновниковъ, сколько отъ
состоянія общества, въ которое эти лица бываютъ заброшены 1 2). Заключеніе это опи-
рается на многочисленные осязательные доводы, понятные для всего свѣта, и
поэтому не можетъ быть опровергнуто, ни даже ослаблено ни одною изъ тѣхъ гипо-
тезъ, которыми метафизики и теологи затрудняли до сихъ поръ изученіе прошедшаго.
Тѣмъ изъ читателей, которые знаютъ, какія отступленія отъ законовъ природы
постоянно случаются въ мірѣ физическомъ, конечно будетъ не ново встрѣтить такія
же отступленія и въ мірѣ нравственномъ. Неправильности, какъ въ томъ, такъ и въ
другомъ случаѣ, происходятъ оттого, что второстепенные законы, встрѣчаясь на из-
вѣстныхъ пунктахъ съ главными, измѣняютъ нѣсколько ходъ ихъ нормальнаго дѣй-
ствія. Хорошій примѣръ этого представляетъ механика въ своей прекрасной теоріи,
называемой параллелограмомъ силъ, по которой силы относятся однѣ къ другимъ, какъ
діагонали ихъ параллелограмовъ. Законъ этотъ богатъ послѣдствіями; онъ находится
въ связи съ сложеніемъ и разложеніемъ силъ, этими важными вспомогательными сред-
ствами въ механикѣ, и никто изъ тѣхъ, кому извѣстны данныя, на которыхъ осно-
ванъ этотъ законъ, никогда и не думалъ сомнѣваться въ его справедливости. Но съ
той минуты, какъ мы начинаемъ примѣнять его къ практикѣ, мы замѣчаемъ, что дѣй-
ствіе его искажается подъ вліяніемъ другихъ законовъ, напримѣръ законовъ, относя-
щихся до сопротивленія воздуха и различной плотности тѣлъ, зависящей отъ ихъ
1) Изысканія Каспера подтверждаютъ показанія
первыхъ статистиковъ, что самоубійство чаще случается
между протестантами, чѣмъ между католиками.
2) II въ самомъ дѣлѣ, опытъ доказываетъ со все-
возможной ясностью справедливость мнѣнія, которое мо-
жетъ съ перваго взгляда показаться парадоксомъ, а
именно, что общество приготовляетъ престу*
пленіе, а виновникъ есть не болѣе, какъ орудіе
і совершенія этого преступленія (Кѳтле).
I
14
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІЯ ВЪ АНГЛІИ.
химическаго состава или. какъ полагаютъ иные, отъ расположенія ихъ атомовъ. Подъ
такими искаженіями чистое, простое дѣйствіе закона исчезаетъ. Но, несмотря на
частныя неправильности въ проявленіи закона, самый законъ все-таки остается не-
прикосновеннымъ. Такъ точно и тотъ великій общественный законъ, что нравственныя
дѣйствія людей происходитъ не отъ ихъ воли, а отъ предшествовавшихъ причинъ,
подверженъ нарушеніямъ, которыя видоизмѣняютъ его дѣйствіе, но не мѣшаютъ его
справедливости.
Этого совершенно достаточно для объясненія тѣхъ незначительныхъ измѣненій,
которыя мы находимъ годъ отъ году въ общемъ итогѣ преступленій, случающихся въ
одной и той же странѣ. Дѣйствительно, въ виду того факта, что міръ нравственный
гораздо изобильнѣе матеріалами, чѣмъ міръ физическій, можно подивиться развѣ только
тому, что измѣненія эти ве довольно значительны; изъ того же, что они такъ ничто
жны, мы можемъ въ нѣкоторой мѣрѣ заключить о чудесной силѣ главныхъ обще-
ственныхъ законовъ, которые, несмотря на постоянныя помѣхи въ ихъ дѣйствіи,
торжествуютъ повидимому надъ всѣми препятствіями и, при повѣркѣ въ большихъ
числахъ, почти не обнаруживаютъ замѣтныхъ уклоненій отъ нормальнаго дѣйствія.
Но не одни только преступленія людей носятъ на себѣ такой отпечатокъ одно-
образія и послѣдовательности. Даже число ежегодно заключаеімыхъ браковъ зависитъ
не отъ характера и желанія отдѣльныхъ лицъ, а отъ главныхъ, общихъ фактовъ, на
которые лица эти не могутъ имѣть никакого вліянія. Теперь уже извѣстно, что браки
имѣютъ постоянное и опредѣленное отношеніе къ цѣнѣ на хлѣбъ х); а въ Англіи опытъ
цѣлаго столѣтія доказалъ, что браки, вмѣсто того чтобы/ находиться въ какой-нибудь
связи съ личными чувстврвапіями, зависятъ просто отЪ/Средняго размѣра заработковъ
въ массѣ народа 2); такъ что это важное общественное и религіозное учрежденіе на-
ходится не только въ связй съ цѣнами на хлѣбъ и размѣромъ задѣльной платы, но
и въ полной отъ нихъ зависимости. Въ другихъ случаяхъ открыто такое же одно-
образіе, но остаются неизвѣстны его причины. Какъ замѣчательный примѣръ, приве-
демъ то обстоятельство, что мы въ настоящее время можемъ доказать, что даже ошибки
памяти носятъ на себѣ этотъ общій отпечатокъ необходимаго и неизмѣннаго порядка.
Почтовыя конторы въ Лондонѣ и Парижѣ обнародовали неданно свѣдѣнія о числѣ пи-
семъ, на которыхъ, по забывчивости писавшихъ ихъ, не было выставляемо адресовъ;
и свѣдѣнія эти, за отнесеніемъ нѣкоторой разницы на счетъ различія обстоятельствъ,
оказываются годъ отъ году какъ бы списанными одни съ другихъ. Годъ отъ году одно
и то же число лицъ, пишущихъ письма, забываютъ соблюсти эту простую формаль-
ность. Такъ что для каждаго послѣдующаго періода времени мы теперь дѣйствительно
можемъ предсказать, какое число лицъ окажутъ недостатокъ памяти въ этомъ ничто-
жномъ и повидимому нечаянномъ случаѣ 3).
Для тѣхъ, кто твердо сознаетъ правильность явленій и кто прочно усвоилъ себѣ
ту великую истину, что дѣйствія людей, исходя отъ предшествовавшихъ имъ причинъ,
въ дѣйствительности никогда не бываютъ непослѣдовательны и что, при всей кажу-
щейся произвольности своей, они составляютъ часть одной обширной системы все-
общаго порядка, которой, при настоящемъ состояніи знанія, мы можемъ видѣть одно
лишь начертаніе; для тѣхъ, кто понимаетъ эту истину, составляющую какъ ключъ,
такъ и основаніе исторіи, приведенные нами выше факты далеко не покажутся стран-
*) < Любопытно видѣть, какая тѣсная связь нахо-
дится между цѣнами па жизненные припасы и числомъ
браковъ»... «Отношеніе, существующее между цѣнами
на жизненные припасы и числомъ браковъ, не ограни-
чивается одной нашей страной (Англіей); легко можетъ
быть, что еслибъ мы имѣли средства привести въ из-
вѣстность факты, то пришли бы къ однимъ и тѣмъ же
результатамъ для всякой образованной общины. Мы
имѣемъ необходимыя данныя для Франціи—и они вполнѣ
подтверждаютъ приведенное выше воззрѣніе». (Рогіег).
2) Въ спискахъ бракамъ за 1850 и 1851 годы
видно то же приращеніе, какое постоянно замѣчалось
съ 1750 г. всякій разъ, какъ существенные заработки
народа превышали свой средній размѣръ.
3) Это доказываетъ, какъ замѣчаетъ Сомервиль,
что «забывчивость такъ же, какъ и свобода воли, под-
чиняется постояннымъ законамъ». Но это только въ
такомъ случаѣ, если принимать выраженіе «свобода
воли» въ смыслѣ отличномъ отъ общепринятаго.
ОБЗОРЪ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХЪ СРЕДСТВЪ ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ИСТОРІИ. 15
ными, а представятся тѣмъ именно, чего можно было ожидать и что давно уже должно
было быть извѣстно. И въ самомъ дѣлѣ, въ виду тѣхъ быстрыхъ и положительныхъ
успѣховъ, которые начинаетъ дѣлать изысканіе, я почти не сомнѣваюсь, что не прой-
детъ столѣтія—и рядъ доказательствъ дополнится и будетъ такъ же трудно найти исто-
рика, отрицающаго неуклонную правильность въ мірѣ нравственномъ, какъ теперь
трудно найти философа, отвергающаго правильность въ мірѣ матеріальномъ.
Должно замѣтить, что приведенныя выше доказательства подчиненія дѣйствій
нашихъ извѣстнымъ законамъ извлечены изъ статистики, этой отрасли знанія, кото-
рая. несмотря на то, что находится еще въ младенчествѣ *), уже пролила болѣе свѣта
на изученіе человѣческой природы, чѣмъ всѣ науки, взятыя вмѣстѣ. Но хотя стати-
стики первые стали изслѣдовать этотъ важный предметъ по тѣмъ методамъ умоза-
ключенія, которые оказались дѣйствительными въ другихъ изученіяхъ; хотя, прибѣг-
нувъ къ числамъ, они этимъ самымъ употребили въ дѣло весьма сильное орудіе рас-
крытія истины,—мы не должны однако полагать на этомъ основаніи, что нѣтъ ни-
какихъ другихъ вспомогательныхъ средствъ для разработки этого же предмета, не
должны также думать, что если естествознаніе не было до сихъ поръ примѣнено къ
исторіи, то оно и непримѣнимо къ ней. И въ самомъ дѣлѣ, въ виду безпрестанныхъ
столкновеній человѣка съ внѣшнимъ міромъ, намъ становится яснымъ, что должна суще-
ствовать связь между дѣйствіями человѣческими и законами природы, и что если
естествознаніе еще не было примѣнено къ исторіи, то это потому, что историки или
не замѣтили этой связи, или замѣтили самую связь, но не имѣли достаточныхъ по-
знаній, чтобы прослѣдить ея дѣйствіе. Отсюда произошло неестественное разъедине-
ніе двухъ главныхъ отраслей изслѣдованія: изученія внутренняго и изученія внѣш-
няго міра; и хотя въ настоящемъ состояніи европейской Литературы замѣтны нѣко-
торые несомнѣнные признаки желанія прервать эту искусственную преграду, но все-
такп должно сознаться, что до сихъ поръ еще ничего не было сдѣлано для достиженія
этой великой цѣли. Моралисты, теологи и метафизики продолжаютъ заниматься своими
предметами, не обращая особеннаго вниманія на этотъ, по ихъ мнѣнію, низшій раз-
рядъ ученыхъ занятій; они даже часто нападаютъ на этого рода изслѣдованія, какъ
на нѣчто враждебное интересамъ религіи и внушающее намъ слишкомъ большое
довѣріе къ человѣческому разуму. Съ другой стороны, естествоиспытатели, сознавая,
что они—передовая корпорація, естественнымъ образомъ гордятся своими успѣхами
и, противополагая свои открытія застою своихъ противниковъ, проникаются презрѣ-
ніемъ къ тѣмъ занятіямъ, безплодность которыхъ теперь стала очевидна.
Дѣло историковъ—стать посредниками между этими двумя партіями и примирить
ихъ враждебныя домогательства, указать пунктъ, на которомъ ихъ изученія должны
соединиться. Установить условія этой коалиціи значитъ заложить основаніе всей исто-
ріи. Такъ какъ исторія занимается дѣйствіями людей, а дѣйствія эти пе что иное, какъ
результатъ столкновенія между явленіями внѣшняго и внутренняго міра, то необходимо
взвѣсить относительную важность этихъ явленій, узнать, до какой степени извѣстны
ихъ законы, и удостовѣриться, какими вспомогательными средствами для будущихъ
открытій обладаютъ два главные класса ученыхъ: изслѣдователи человѣческаго духа
и изслѣдователи природы. Обязанность эту я постараюсь исполнить въ слѣдующихъ
двухъ главахъ, и если достигну чего-нибудь въ родѣ успѣха, то настоящее сочиненіе
мое будетъ имѣть по крайней мѣрѣ то достоинство, что послужитъ хоть сколько-
нибудь къ наполненію этого широкаго и грустнаго промежутка, раздѣляющаго въ
ущербъ нашему знанію такіе предметы, которые имѣютъ тѣсную связь и которые
никогда не должны быть разъединяемы.
*) Первымъ сйстематическимъ писателемъ по от- I (жившій въ срединѣ ХѴІП столѣтія), который, какъ
расли статистики обыкновенно признается Ахѳнваль | говорятъ, далъ ей и ея настоящее ямя.
ГЛАВА II.
Вліяніе Физическихъ законовъ на организацію общества и характеръ отдѣльныхъ лицъ.
Если мы станемъ разсматривать, какіе физическіе дѣятели имѣютъ самое мо-
гущественное вліяніе на родъ человѣческій, то найдемъ, что ихъ можно подвести подъ
четыре главные разряда, а именно: климата, пищи, почвы и общаго вида природы;
подъ послѣднимъ я разумѣю тѣ явленія, которыя хотя и представляются главнѣй-
шимъ образомъ зрѣнію, но, чрезъ посредство этого и другихъ чувствъ, даютъ на-
правленіе сближенію понятій и тѣмъ порождаютъ въ различныхъ странахъ различ-
ный складъ мыслей народа. Къ тремъ первымъ изъ этихъ четырехъ классовъ могутъ
быть отнесены всѣ вліянія внѣшняго міра, имѣвшія постоянное вліяніе на человѣка;
послѣдній же классъ или то, что я называю общимъ видомъ природы, дѣйствуетъ
главнѣйшимъ образомъ, возбуждая воображеніе человѣка и внушая ему тѣ безчислен-
ные предразсудки, которые представляютъ значительное препятствіе распространенію
знанія. А такъ какъ въ младенчествѣ народа власть предразсудковъ бываетъ не-
ограниченна, то оказалось, что различіе видовъ природы породило соотвѣтствующее
различіе въ характерѣ народовъ и сообщило ихъ религіи тѣ особенности, которыя
при извѣстныхъ обстоятельствахъ невозможно изгладить. Другіе три дѣятели, а именно:
климатъ, пища и почва не имѣли, сколько намъ извѣстно, такого непосредственнаго
вліянія, но отразились самыми важными послѣдствіями въ общей организаціи обще-
ства и породили многія изъ тѣхъ важныхъ чертъ различія между народами, которыя
часто приписываются коренному различію человѣческихъ породъ. Но такое врож-
денное различіе породъ-- совершенная гипотеза *), между тѣмъ какъ несходство, про-
исходящее отъ различія климата, пищи и почвы, можетъ быть удовлетворительно
объяснено; съ уразумѣніемъ же его должны разсѣяться всѣ препятствія, затрудняв-
шія до сихъ поръ изученіе исторіи. Поэтому я намѣренъ прежде всего разсмотрѣть
законы этихъ трехъ главныхъ дѣятелей настолько, насколько они находятся въ связи
съ человѣкомъ въ его общественномъ бытѣ; прослѣдивъ же дѣйствіе этихъ законовъ
со всей точностью, какая возможна при настоящемъ состояніи естествознанія, я пе-
рейду къ разсмотрѣнію послѣдняго дѣятеля, а именно—общаго вида природы, и по-
стараюсь указать на важнѣйшія черты различія между странами, происходящія отъ
ихъ несходства въ этомъ отношеніи.
Итакъ, начнемъ съ климата, пищи и почвы. Ясно, что эти три силы природы
не въ малой мѣрѣ зависятъ "одна отъ другой, т. е. существуетъ весьма тѣсняя связь
между климатомъ страны и произрастающей въ ней пищей, пища же сама зависитъ отъ
производящей ее почвы, а также отъ возвышенія и пониженія мѣстности, состоянія
атмосферы, однимъ словомъ — отъ всѣхъ тѣхъ условій, совокупности которыхъ
обыкновенно придается названіе физической географіи въ ея обширнѣйшемъ смыслѣ 2).
Гі охотно соглашусь съ замѣчаніемъ одного изъ
величаншихъ мыслителей нашего времени (Д. С. Милля),
который говоритъ по поводу предполагаемаго различія
породъ: «изъ всѣхъ грубыхъ уловокъ, къ котовымъ
прибѣгаютъ, чтобы не входить въ разсмотрѣніе дѣйствія
общественныхъ и нравственныхъ явленій 4па духъ чело-
вѣка, самую грубую составляетъ объясненіе .несходства
| въ дѣйствіяхъ п характерахъ людей ихъ врожденнымъ
I различіемъ». Обыкновенные писатели постоянно впа-
даютъ въ ту ошибку, что признаютъ существованіе
этого различія, которое, существуетъ ли, нѣтъ ли, но
доказано еще конечно не было.
2) Слово «климатъ» я всегда употребляю въ его
| тѣсномъ и популярномъ смыслѣ. Форри и многіе вреж-
ВЛІЯНІЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
17
При существованіи такой тѣсной связи между этими физическими дѣятелями
слѣдуетъ, кажется, разсматривать ихъ не самихъ по себѣ, а скорѣе по результатамъ
ихъ совокупнаго дѣйствія. Этимъ путемъ мы вдругъ придемъ къ полному пониманію
всего вопроса, избѣгнемъ сбивчивости, могущей произойти отъ искусственнаго раз-
дѣленія явленій, которыя сами по себѣ нераздѣльны, и будемъ въ состояніи яснѣе
видѣть, до какой степени простирается замѣчательное вліяніе силъ природы на судьбу
человѣка на первыхъ ступеняхъ общежитія.
Изъ всѣхъ послѣдствій, происходящихъ для какого-нибудь народа, отъ климата,
пищи и почвы, самое первое и во многихъ отношеніяхъ самое важное есть накопле-
ніе богатства. Хотя успѣхи знанія и ускоряютъ, наконецъ, возрастаніе богатства, но
то достовѣрно, что при самомъ зарожденіи общества сперва должно накопиться бо-
гатство, а потомъ уже можетъ быть положено начало знанію. До тѣхъ поръ, пока
всякій человѣкъ занятъ снисканіемъ того, что. необходимо для существованія, не мо-
жетъ быть ни охоты, ни времени заниматься болѣе возвышенными предметами, не
можетъ быть создана никакая наука, а возможна только развѣ попытка сберечь
трудъ примѣненіемъ къ нему тѣхъ грубыхъ и несовершенныхъ орудій, какія въ со-
стояніи изобрѣсть и самый невѣжественный народъ.
Въ такомъ состояніи общества первый важный шагъ впередъ составляетъ на-
копленіе богатства, ибо безъ богатства не можетъ быть досуга, а безъ досуга не
можетъ быть знанія. Если то, что потребляетъ народъ, всегда совершенно равняется
тому, что онъ имѣетъ, то не будетъ остатка, не будетъ накопляться капиталъ, а слѣ-
довательно не будетъ средствъ къ существованію для незанятыхъ классовъ х). Но
когда производство сильнѣе потребленія, то образуется излишекъ, который по из-
вѣстнымъ законамъ самъ собой возрастаетъ и наконецъ становится запасомъ, на
счетъ котораго, непосредственно или посредственно, содержится всякій, кто не про-
изводитъ того .богатства, которымъ живетъ. Только съ этого времени и дѣлается воз-
можнымъ существованіе мыслящаго класса, ибо только съ этого времени начинается
накопленіе въ запасъ, съ помощью котораго люди могутъ пользоваться тѣмъ, чего не
производили, и получаютъ такимъ образомъ возможность предаться такимъ занятіямъ,
для которыхъ прежде, когда они находились подъ гнетомъ ежедневныхъ потребно-
стей, у нихъ недоставало бы времени.
Итакъ, изъ всѣхъ важныхъ общественныхъ усовершенствованій самымъ пер-
вымъ должно быть накопленіе богатства, ибо безъ него не можетъ быть ни желанія,
ни времени, необходимыхъ для пріобрѣтенія того знанія, отъ котораго, какъ я до-
кажу впослѣдствіи, зависятъ успѣхи цивилизаціи. Ясно, что у совершенно невѣже-
ственнаго народа скорость производства богатства обусловливается только физиче-
скими особенностями мѣстности. Нѣсколько позднѣе, когда уже капитализируется бо-
гатство, начинаютъ дѣйствовать и другія причины, до тѣхъ же поръ прогрессъ мо-
жетъ зависѣть только отъ двухъ обстоятельствъ: во-первыхъ—отъ энергіи и правиль-
ности труда, а во-вторыхъ—отъ вознагражденія за трудъ, получаемаго отъ щедротъ
природы. А эти два условія составляютъ сами результатъ предшествовавшихъ физи-
ческихъ вліяній. Вознагражденіе за трудъ опредѣляется плодородіемъ почвы, самое
же плодородіе почвы зависитъ частью отъ примѣси въ ней извѣстныхъ химическихъ
составныхъ частей, частью отъ степени орошенія ея рѣками или другими естествен-
ными средствами, частью, наконецъ, отъ теплоты и влажности атмосферы. Съ другой
стороны, энергія и правильность въ самомъ трудѣ совершенно зависятъ отъ вліянія
климата. Вліяніе этого проявляется двумя различными^ пу^ямЦ^^Во-і^рвыхъ, — что
составляетъ весьма важное обстоятельство,—въ-сильные жа^ьі лйди ^бь&аютъ нерас-
-----------... .... : '• ’ѴѴ
ніе писателп придаютъ ему почти одинаковое значеніе I Подъ незанятыми йДссами я раздало то, чтд
съ словомъ физическая географія. сКлпматъ соста- . Ада^ъ СмЕф».называемъ непрог^івц^итвл&ыми клас-
вляетъ совокупность всѣхъ внѣшнихъ физическихъ усло- I самйЛи хотя, собственно говоря, ^оба этЙ выраженія
віі каждой мѣстности въ отношеніи ея органической источ^ино ффво н&зфшргые выражает? повидимому
природы». [ яснѣе всякаго .другого мысль, выс^^Йую въ текстѣ.
А./ \ 4 и «, ' 0
Бокль.—Иад. Ф. Павленкова.
18 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
положены и до извѣстной степени неспособны къ тѣмъ дѣятельнымъ занятіямъ, ко-
торымъ, въ болѣе умѣренномъ климатѣ, они предавались бы съ охотою. Другое же
обстоятельство, менѣе обращавшее на себя вниманіе, но одинаково важное, заклю-
чается въ томъ, что климатъ дѣйствуетъ на трудъ не тѣмъ только, что разслабляетъ
или укрѣпляетъ трудящагося, но и вліяніемъ своимъ на правильность образа жизни
этого послѣдняго. Такъ мы находимъ, что ни одинъ народъ, живущій на слишкомъ
большой сѣверной широтѣ, никогда не имѣлъ того постояннаго, неослабнаго трудо-
любія, которымъ отличаются жители умѣренныхъ поясовъ. Причина этого становится
очевидна, когда мы припомнимъ, что въ болѣе сѣверныхъ странахъ суровость по-
годы, а въ извѣстныя времена года и отсутствіе свѣта, дѣлаетъ невозможнымъ для
людей продолжать ихъ обычныя занятія внѣ домовъ. Это имѣетъ то послѣдствіе, что
рабочіе классы, вынуждаемые такимъ образомъ пріостанавливать свои обычныя за-
нятія, дѣлаются склоннѣе къ неправильному образу жизни; цѣпь ихъ дѣятельности
какъ бы разрывается, и они теряютъ ту скорость, которая неизбѣжно пріобрѣтается
продолжительнымъ, непрерывнымъ упражненіемъ. Вотъ почему въ характерѣ такого
народа замѣчается болѣе причудливости и своенравія, чѣмъ въ характерѣ народа,
которому климатъ дозволяетъ правильное отправленіе обычныхъ занятій. И въ самомъ
дѣлѣ законъ этотъ такъ силенъ, что мы можемъ различать дѣйствіе его при самыхъ
противоположныхъ обстоятельствахъ. Трудно представить себѣ большее различіе въ
правленіи, законахъ, религіи и обычаяхъ, какъ существующее между Швеціей и
Норвегіей съ одной стороны, и Испаніей и Португаліей, съ другой. Между тѣмъ
эти четыре страны имѣютъ одно важное общее свойство. Во всѣхъ ихъ одинаково
невозможна непрерывная земледѣльческая дѣятельность. хВъ двухъ южныхъ странахъ
работы прерываются жаромъ, сухостью погоды и происхЬдящимъ отъ того состояніемъ
почвы; въ двухъ же сѣверныхъ то же дѣйствіе производятъ суровость зимы и ко-
роткость дней. Вотъ почему эти четыре націи, при всемъ несходствѣ ихъ въ дру-
гихъ отношеніяхъ, одинаково отличаются слабостью и непостоянствомъ характера,
представляя въ этомъ отношеніи разительную противоположность съ болѣе постоян-
нымъ и правильныхъ образомъ жизни, преобладающимъ въ странахъ, гдѣ климатъ
не такъ часто заставляетъ рабочіе классы прерывать ихъ занятія и налагаетъ на
нихъ въ то же время необходимость болѣе постоянной, неослабной дѣятельности.
Вотъ главныя физическія причины, отъ которыхъ зависитъ производство богат-
ства. Бываютъ безъ сомнѣнія и другія обстоятельства, дѣйствующія съ сознательной
силой и имѣющія, при болѣе развитомъ состояніи общества, такое же, а иногда и
большее вліяніе, но это случается уже-позднѣе. Разсматривая же исторію богатства
на его первыхъ ступеняхъ, мы находимъ совершенную зависимость его отъ почвы
и климата; почвой обусловливается вознагражденіе, получаемое за данный итогъ
труда, а климатомъ — энергія и постоянство самаго труда. Достаточно бросить бѣг-
лый взглядъ на прошедшее, чтобы убѣдиться въ огромной важности этихъ двухъ
физическихъ условій. Пѣтъ примѣра въ исторіи, чтобы какая-нибудь страна циви-
лизовалась своими собственными средствами, безъ особенно благопріятнаго развитія
въ ней одного изъ этихъ условій. Въ Азіи цивилизація всегда ограничивалась тѣмъ
обширнымъ пространствомъ, гдѣ плодородная наносная почва обезпечивала человѣку
ту степень богатства, безъ которой не можетъ начаться умственное, развитіе. Эга
большая полоса земли простирается, съ немногими перерывами, отъ восточной части
южнаго Китая до западныхъ береговъ Малой Азіи, Финикіи и Палестины. Къ сѣ-
веру отъ этого огромнаго пояса тянется длинный рядъ безплодныхъ пространствъ,
на которыхъ постоянно селились дикія, кочующія племена, всегда остававшіяся въ
бѣдности вслѣдствіе безплодія почвы и не выходившія изъ своего нецивилизован-
наго состоянія во все время пребыванія въ этихъ мѣстностяхъ. До какой степени
это зависѣло отъ причинъ физическихъ, видно изъ того факта, что тѣ же самыя
монгольскія и татарскія орды основывали въ разныя времена великія монархіи въ
Китаѣ, Индіи и Персіи и во всѣхъ этихъ случаяхъ достигали цивилизаціи, ни-
ВЛІЯНІЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
19
сколько не уступавшей цивилизаціи самыхъ цвѣтущихъ изъ древнихъ государствъ. Въ
плодородныхъ долинахъ южной Азіи природа доставляла всѣ матеріалы богатства,
и тамъ-то варварскія племена впервые дошли до извѣстной степени образованности,
создали національную литературу и установили національный образъ правленія, чего
не могли сдѣлать на родинѣ. Точно также арабы въ своей странѣ, благодаря су-
хости ея почвы, всегда оставались грубымъ и необразованнымъ народомъ; въ этомъ
случаѣ, какъ и во всѣхъ другихъ, невѣжество было плодомъ крайней бѣдности. Но
въ VII столѣтіи они завоевали Персію, въ VIII—лучшую часть Испаніи, въ IX—
Пенджабъ и, наконецъ, почти всю Индію. Едва утверждались они въ своихъ новыхъ
осѣдлостяхъ, какъ въ характерѣ ихъ видимо происходила большая перемѣна. Они,
которые па свой родинѣ были чуть-чуть не бродячими дикарями, — теперь впервые
получали возможность накоплять богатство и потому впервые начали дѣлать нѣко-
торые успѣхи въ искусствахъ, свойственныхъ цивилизаціи. Въ Аравіи они были
просто племенемъ кочующихъ пастуховъ *), въ новыхъ же осѣдлостяхъ своихъ дѣла-
лись основателями могущественныхъ монархій, строили города, поддерживали школы,
составляли библіотеки; слѣды ихъ могущества и теперь еще видны въ Кордовѣ, Багдадѣ
и;Дели 2). Точно такой же примѣръ представляетъ прилегающая съ сѣвера къ Аравіи
и отдѣляемая отъ нея только узкимъ водянымъ пространствомъ Чермнаго Моря
огромная песчаная равнина, которая, прикрывая всю Африку на одной широтѣ,
простирается къ западу до самыхъ береговъ Атлантическаго Океана. Это громадное
пространство есть такъ же, какъ въ Аравіи, безплодная пустыня, и его жители
такъ же, какъ и жители Аравіи, не были цивилизованы и не пріобрѣтали познаній
единственно потому, что не накопляли богатства. Но эта обширная пустыня въ
восточной части своей орошается водами Нила, разлитіе котораго оставляетъ на
пескѣ богатый наносный слой земли, дающій самое щедрое, можно сказать изуми-
тельное, вознагражденіе за трудъ. Вотъ почему въ мѣстности этой скоро накопля-
лось богатство, за нимъ быстро слѣдовало пріобрѣтеніе знанія, и эта узкая полоса
земли сдѣлалась средоточіемъ египетской цивилизаціи,—цивилизаціи, которая, даже за
отнесеніемъ многаго на долго преувеличеній 3), все-таки представляетъ разительную
противоположность съ варварствомъ другихъ народовъ Африки, такъ какъ изъ нихъ
ни одинъ не могъ самъ выработать своего развитія или выйти до нѣкоторой степени
изъ невѣжества, на которое обрекала его бѣдность природы.
Эти соображенія ясно доказываютъ, что изъ двухъ коренныхъ причинъ циви-
лизаціи самое большое вліяніе въ древнемъ мірѣ имѣло плодородіе почвы. Въ евро-
пейской же цивилизаціи наибольшую силу дѣйствія обнаружила другая важная при-
Древіііе персидскіе писатели дали арабамъ лсст- I
ное названіе «толпы нагихъ ящерицеѣдовъ», По правдѣ :
немногое въ исторіи доказано такъ ясно, какъ варвар-
ство того народа, котораго нѣкоторые писатели хотятъ
облечь въ романическій интересъ. Похвалы, высказан-
ныя ему Мейнсрсоиъ, нѣсколько сомнительны. Странно,
что этотъ ученый писатель забылъ одно мѣсто у Діо-
дора Сицилійскаго, гдѣ представляется привлекательное
описаніе арабовъ, какими они были назадъ тому девят-
надцать столѣтій па Востокѣ: «ведутъ они жизнь хищ-
ническую и, нападая на большую часть пограничныхъ
странъ, грабятъ» и т. п.
2) Единственная отрасль знанія, возведенная ара-
бами на степень пауки, это астрономія, которую начали
разрабатывать ври халифахъ, около половины ѴШ сто-
лѣтія, и которая все подвигалась впередъ, такъ чго го-
родъ Багдадъ былъ въ теченіе X столѣтія главнымъ теа-
тромъ астрономіи у восточныхъ народовъ. Древніе язы-
ческіе арабы, подобно большой части варварскихъ на-
родовъ, живя въ прозрачной атмосферѣ, были эмпири-
чески знакомы съ небесными явленіями настолько, на-
сколько это было полезно для цѣлей практичсскихь; но
нѣтъ никакого доказательства вь пользу общаго мнѣ-
нія, будто они изучали этоть предметъ, какъ пауку. О
позднѣйшихъ арабскихъ астрономахъ должно замѣтить,
что одною изъ ихъ великихъ заслугъ было то, что они
опредѣлили годичную прецесвію гораздо ближе, чѣмъ
сдѣлалъ это Птоломей.
3) Я приведу примѣръ изъ писателя (Гамильтонъ),
не раздѣляющаго нашего взгляда, и при томъ писателя,
отличающагося значительной ученостью: «Что касается
до естествознанія у египтянъ, то современники вѣрили
въ сверхъестественную силу ихъ магіи; а такъ какъ
мы по можемъ предположить, чтобы примѣры, приве-
денные въ священномъ писаніи, слѣдовало отвести къ
дѣйствію сверхъестественной силы, то мы должны за-
ключить, что опп (египтяне) обладали такамъ глубокимъ
знаніемъ законовъ и сочетаній природы, какимъ не мо-
гутъ похвалиться самые ученые люди нашего времени».
Стыдно, что такая безсмыслица могла быть написана
въ XIX столѣтіи. Знанія, въ собственномъ смыслѣ,
египтяне не имѣли; что же касается до ихъ мудрости,
то она была довольно значительна, чтобы ихъ отли-
чать отъ варварскихъ народовъ, такихъ, напримѣръ,
какими были древніе евреи; но опп уступали въ му-
дрости грекамъ и стояли неизмѣримо ниже новѣйшихъ
европейцевъ.
2*
20 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
чина, а именно климатъ; и этотъ послѣдній имѣетъ, какъ мы видѣли, вліяніе частью
на способность работника къ работѣ, частью же на правильность его образа жизни.
Различіе дѣйствія замѣчательно соотвѣтствовало различію причинъ. Хота всякой ци-
вилизаціи должно предшествовать накопленіе богатства, но дальнѣйшія послѣдствія
накопленія не въ малой мѣрѣ зависятъ отъ условій, при которыхъ оно происходило.
Въ Азіи и Африкѣ условіе составляла плодородная почва, дававшая щедрое возна-
гражденіе за трудъ; въ Европѣ — это былъ климатъ, благопріятствовавшій болѣе
успѣшному труду. Въ первомъ случаѣ результатъ зависитъ отъ отношенія между
почвою и ея продуктомъ, — другими словами, — отъ простого дѣйствія одной части
внѣшней природы на другую. Въ послѣднемъ же случаѣ онъ зависитъ отъ отноше-
нія между климатомъ и работникомъ, т. е. отъ дѣйствія внѣшней природы не на
самоё себя, а на человѣка. Изъ этихъ двухъ родовъ отношеній первый, какъ ме-
нѣе сложный, менѣе подверженъ нарушенію и потому ранѣе возымѣлъ дѣйствіе. От-
сюда произошло, что на пути цивилизаціи первые шаги неоспоримо принадлежатъ
самымъ плодороднымъ странамъ Азіи и Африки, Но, несмотря на то, что цивили-
зація этихъ странъ была самой ранней, она далеко не была самой лучшей, ни са-
мой прочной. Въ силу обстоятельствъ, которыя я вскорѣ объясню, единственный
вполнѣ дѣятельный прогрессъ зависитъ не отъ благости природы, а отъ энергіи че-
ловѣка. Вотъ почему европейская цивилизація, которая на своихъ первыхъ ступе-
пеняхъ находилась въ зависимости отъ климата, обнаружила способность къ разви-
тію, неслыханную въ цивилизаціяхъ, возникшихъ подъ вліяніемъ почвы. Ибо силы
природы, несмотря на ихъ кажущееся величіе, ограниченны и неподвижны; по край-
ней мѣрѣ мы не имѣемъ нщ малѣйшаго доказательства/ чтобы онѣ когда-либо уве-
личивались или были способны увеличиться. Силы же' человѣка, на сколько можно
заключить изъ опыта и аналогіи, неограниченны; у насъ нѣтъ никакихъ данныхъ
для назначенія даже гадательнаго предѣла:, на которомъ умъ человѣческій долженъ
былъ бы по необходимости остановиться. А такъ какъ такая способность духа уве-
личивать свои собственныя средства составляетъ особенность, свойственную только
человѣку и при томъ отличающую его отъ такъ называемой внѣшней природы, то
очевидно, что вліяніе климата, дающаго человѣку богатство посредствомъ возбужде-
нія его къ труду, болѣе благопріятно для дальнѣйшаго развитія человѣка, чѣмъ влія-
ніе почвы, которая тоже дастъ ему богатство, но дѣлаетъ это не посредствомъ воз-
бужденія въ немъ энергіи, а въ силу чисто физическаго отношенія между свойствами
почвы и количествомъ или качествомъ плода, который она производитъ почти сама собою.
Таково различіе между вліяніемъ климата и вліяніемъ почвы на производство
богатства. Но есть еще одинъ предметъ одинаковой, а можетъ быть и большей важ-
ности. По производствѣ богатства возникаетъ вопросъ о томъ, какъ оно должно быть
распредѣлено, т. е. какая часть должна перейти къ высшимъ, а какая къ низшимъ
классамъ. При развитомъ состояніи общества это зависитъ отъ различныхъ обстоя-
тельствъ, весьма сложныхъ, которыхъ здѣсь нѣтъ необходимости разсматривать; па
первыхъ же ступеняхъ общежитія и прежде, чѣмъ начнутся его позднѣйшія утон-
ченныя запутанности, можно, мнѣ кажется, доказать, что распредѣленіе богатства
такъ же, какъ и его производство подчиняются исключительно физическимъ зако-
намъ, и что при томъ сила дѣйствія этихъ законовъ такъ велика, что они постоянно
удерживали огромное большинство жителей самой лучшей части земного шара въ
состояніи всегдашней, безвыходной бѣдности. Если можно доказать это, то огромная
важность такихъ законовъ очевидна. Такъ какъ богатство есть несомнѣнный источ-
никъ силы, то ясно, что, при равенствѣ другихъ условій, изслѣдованіе распредѣленія
богатства есть изслѣдованіе распредѣленія силы, а при такомъ значеніи этого изслѣ-
дованія оно должно пролить значительный свѣтъ на происхожденіе тѣхъ обществен-
ныхъ и политическихъ неравенствъ, изъ дѣйствія и противодѣйствія которыхъ сла-
гается значительная часть исторіи всякой цивилизованной страны.
Бросивъ общій взглядъ на этотъ предметъ, мы можемъ сказать, что съ того
ВЛІЯНІЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
21
времени, какъ начинается наконецъ настоящее производство и накопленіе богатства,
это послѣднее распредѣляется между двумя классами,—между трудящимися и нетру-
дяіцимися, изъ коихъ послѣдніе, въ совокупности взятые, способнѣе, а первые много-
численнѣе- Запасъ, на счетъ котораго содержатся оба класса, непосредственно про-
изводится низшимъ классомъ, физическія силы котораго направляетъ, совокупляетъ
и какъ бы сберегаетъ большее умѣнье высшаго класса. Вознагражденіе работниковъ
называется ихъ задѣльной платой, а вознагражденіе предпринимателей — ихъ при-
былью. Въ позднѣйшее время возникаетъ классъ, который можно назвать сберегаю-
щимъ; это классъ людей, которые, не будучи ни предпринимателями, ни работниками,
ссужаютъ своими сбереженіями предпринимателей и въ возмездіе за такую ссуду по-
лучаютъ часть вознагражденія, достающагося предпринимающему классу. Въ этомъ
случаѣ члены сберегающаго класса вознаграждаются за воздержаніе отъ растраты
своихъ сбереженій, и вознагражденіе это называется процентомъ на ихъ деньги;
такимъ образомъ являются три подраздѣленія богатства: процентъ, прибыль и за-
дѣльная плата. Но это уже послѣдующій порядокъ вещей, который можетъ до из-
вѣстной степени имѣть мѣсто только тогда, когда богатство ужо значительно нако-
пилось; при томъ же состояніи общества, которое мы теперь разсматриваемъ, едва-ли
можно допустить самостоятельное существованіе этого третьяго или сберегающаго
класса. Итакъ, для настоящей цѣли нашей достаточно привести въ извѣстность, ка-
кимъ законамъ слѣдуетъ пропорція, въ которой богатство, тотчасъ по накопленіи его, рас-
предѣляется между двумя классами, т. е. между работниками и лицами, дающими работу.
Теперь очевидно, что если задѣльная плата есть цѣна, платимая за трудъ, то
и размѣръ задѣльной платы долженъ, подобно цѣнѣ на всѣ другія потребности, измѣ-
няться сообразно съ перемѣнами на рынкѣ. Если предложеніе работниковъ превы-
шаетъ требованіе, то задѣльная плата падаетъ; если же требованіе превышаетъ пред-
ложеніе, то она возвышается. Поэтому, если предположить, что въ какой-нирудь странѣ
данный итогъ богатства долженъ быть распредѣленъ между дающими работу и работ-
никами, то всякое увеличеніе числа работниковъ поведетъ къ уменьшенію средняго
вознагражденія, могущаго достаться на долю каждаго изъ нихъ. Если мы оставимъ
въ сторонѣ тѣ противодѣйствующія причины, которыя препятствуютъ вѣрности вся-
каго общаго вывода, то окажется въ заключеніе всего, что вопросъ о задѣльной
платѣ сводится къ вопросу о народонаселеніи; ибо, несмотря на то, что общая
сумма задѣльной платы, дѣйствительно производимой, зависитъ отъ обширности фонда,
изъ котораго она производится,—размѣръ платы, получаемой каждымъ человѣкомъ,
долженъ уменьшаться съ увеличеніемъ числа лицъ, имѣющихъ на нее притязаніе,
развѣ что, благодаря какимъ-нибудь другимъ обстоятельствамъ, самый фондъ будетъ
увеличиваться на столько, чтобы выдержать и самые большіе опросы х).
Знать обстоятельства, наиболѣе благопріятствующія увеличенію того, что можно
назвать фондомъ задѣльной платы, есть дѣло большой важности; по не этотъ пред-
метъ занимаетъ насъ непосредственно. Разсматриваемый нами въ настоящую минуту
вопросъ относится не до накопленія богатства, а до распредѣленія его; цѣль наша—
г) «Итакъ, задѣльная плата зависать отъ отно-
шенія числа рабочаго населенія къ капиталу или дру-
гимъ фондамъ, предназначаемымъ на покупку труда, —
ска леемъ для краткости—къ капиталу. Если задѣльная
плата въ одно время или въ одномъ мѣстѣ выше,
чѣмъ въ другое время или въ другомъ мѣстѣ, если
наемные работники пользуются лучшимъ содержаніемъ
и большими удобствами жизни, то это не происходитъ
и не можетъ происходить ни отъ какой другой при-
чины, какъ отъ болѣе выгоднаго отношенія капитала
къ народонаселенію. Для рабочаго класса важенъ не
абсолютный итогъ накопленія пли производства, ни
даже итогъ фондовъ, предназначаемыхъ для распредѣ-
ленія между работниками, а важно отношеніе этихъ
фондоіъ къ числамъ, па которыя они дѣлятся. Поло-
женіе рабочаго класса можетъ улучшиться пе иначе,
какъ съ измѣненіемъ въ его пользу этого отношенія; и
всякій проектъ улучшенія быта рабочихъ, если только
въ немъ не это принято за основаніе, несбыточенъ
। со стороны прочности улучшенія» (Милль). Рикардо
і представилъ со свойственной ему отчетливостью три
| возможныя формы этого вопроса: «повышеніе или по-
! нижепіе задѣльной платы случается во всякомъ со-
стояніи общества, т. е. будетъ ли то застой, прогрессъ
или движеніе назадъ. Въ состояніи застоя повышеніе
или пониженіе задѣльной платы зависитъ совершенно
отъ увеличенія или уменьшенія народонаселенія; въ
состояніи прогресса оно зависитъ отъ того, что
! возрастаетъ быстрѣе, капиталъ или народонаселеніе;
, въ состояніи же движеніи назадъ оно зависитъ отъ
того, чтб убавляется быстрѣе, капиталъ или народо-
। населеніе».
22
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
привести въ извѣстность, какія физическія условія, благопріятствуя быстрому уве-
личенію народонаселенія, ведутъ къ излишку въ предложеніи на рынкахъ труда и
тѣмъ удерживаютъ средній размѣръ задѣльной платы на слишкомъ низкомъ уровнѣ.
Изъ всѣхъ физическихъ дѣятелей, имѣющихъ вліяніе на приращеніе рабочаго
населенія, самый дѣятельный и самый общій есть пища. Если двѣ страны, равныя
во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, различаются только въ томъ, что въ одной пища на-
рода дешева и находится въ изобиліи, а въ другой ея немного и она дорога, то на-
родонаселеніе первой должно неизбѣжно увеличиваться быстрѣе, чѣмъ народонасе-
леніе второй, предполагая конечно въ обѣихъ странахъ одинаковое мѣрило для
удобствъ жизни. Продолжая наше разсужденіе, мы приходимъ далѣе къ тому выводу,
что средній размѣръ задѣльной платы будетъ въ первой ниже, чѣмъ во второй, един-
ственно потому, что въ ней рынокъ труда будетъ болѣе полонъ. Поэтому изслѣдо-
ваніе физическихъ законовъ, отъ которыхъ зависитъ родъ пищи, употребляемой въ
различныхъ странахъ, имѣетъ особенную важность для настоящей цѣли нашей и, по
счастью, это такого рода изслѣдованіе, въ которомъ, при настоящемъ состояніи химіи
и физіологіи, мы можемъ придти къ нѣкоторымъ опредѣлительнымъ, точнымъ выводамъ.
Потребляемая человѣкомъ пища производитъ два, и только два, дѣйствія, не-
обходимыя для его существованія. Во-первыхъ, опа снабжаетъ его той животной
теплотой, безъ которой остановились бы жизненныя отправленія, а во-вторыхъ, вос-
полняетъ постоянно происходящую убыль въ тканяхъ, т. е, въ механизмѣ его тѣла.
Для каждой изъ этихъ двухъ цѣлей служитъ особая пища. Температура нашего тѣла
поддерживается веществами, которыя не заключаютъ въ себѣ азота и называются
безъазотными; безпрестанная же убыль въ нашемъ организмѣ восполняется веще-
ствами, извѣстными подъ именемъ азотистыхъ, всегда содержащими азотъ. Въ пер-
вомъ случаѣ углеродъ безъаЗотной пищи, соединяясь съ принимаемымъ нами кисло-
родомъ, производитъ то внутреннее сгараніе, отъ котораго возобновляется наша жи-
вотная теплота. Въ второмъ же случаѣ азотная или азотистая пища, будучи вслѣд-
ствіе малаго сродства азота съ кислородомъ какъ лбы предохранена отъ сгаранія,
сохраняется и имѣетъ такимъ образомъ возможность выполнять свое назначеніе,
т. е. возстановлять ткани и восполнять потери, которымъ постоянно подвергается
человѣческій организмъ въ ежедневной жизни.
Вотъ два главные разряда пищи, и если мы изслѣдуемъ законы, которыми опре-
дѣляется ихъ отношеніе къ человѣку, то найдемъ, что въ обоихъ разрядахъ главнѣй-
шимъ дѣятелемъ является климатъ. Когда люди живутъ въ жаркой странѣ, то ихъ
животная теплота поддерживается легче, чѣмъ поддерживалась бы въ холодной странѣ;
поэтому они менѣе требуютъ безъазотной пищи, единственное назначеніе которой—
поддерживать до извѣстной степени температуру тѣла. Равнымъ образомъ въ жар-
кой странѣ люди менѣе требуютъ азотистой пищи, ибо вообще ихъ тѣло рѣже под-
вергается напряженіямъ, и потому убыль въ немъ тканей происходитъ медленнѣе.
Итакъ, жители жаркихъ странъ, въ естественномъ, нормальномъ состояніи своемъ
потребляютъ менѣе пищи, чѣмъ жители странъ холодныхъ, а изъ этого неизбѣжно
слѣдуетъ, что при равенствѣ другихъ условій приращеніе народонаселенія будетъ
быстрѣе въ жаркихъ странахъ, чѣмъ въ холодныхъ. Для цѣлей практическихъ со-
вершенно безразлично, отчего происходитъ большая обезпеченность въ снабженіи
народа веществомъ, употребляемымъ имъ въ пищу, т. е. отъ большаго ли произ-
водства, или же отъ меньшаго потребленія. Когда люди ѣдятъ менѣе, то результатъ
бываетъ рѣшительно тотъ же, какъ еслибы у нихъ было больше пищи; въ этомъ
случаѣ того же количества хватаетъ на большее время. Вотъ почему въ тепломъ
климатѣ народонаселеніе имѣетъ больше данныхъ для быстраго размноженія, чѣмъ
въ холодномъ, гдѣ еслибъ образовался и неменѣе обильный запасъ пищи, то во
всякомъ случаѣ онъ вскорѣ бы истощился.
Вотъ первая точка зрѣнія, съ которой законы климата представляются связан-
ными посредствомъ пищи съ законами народонаселенія, а слѣдовательно и съ заг
ВЛІЯНІЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
23
конами распредѣленія богатства. Но есть и другая точка зрѣнія въ томъ же направ-
леніи мыслей, съ которой также оказывается справедливымъ сдѣланный выше вы-
водъ. А именно, въ холодныхъ странахъ люди не только должны ѣсть болѣе, чѣмъ
въ жаркихъ, но и самая пища ихъ стоитъ дороже, т. е. добываніе ея требуетъ боль-
шей затраты труда. Причины этого я изложу какъ можно кратче, не выходя за
предѣлы тѣхъ подробностей, которыя крайне необходимы для вѣрнаго пониманія
этого интереснаго предмета.
Пища имѣетъ, какъ мы видѣли, только два назначенія, а именно: поддержи-
вать теплоту тѣла и пополнять убыль его тканей х). Первая изъ этихъ двухъ цѣлей
достигается тѣмъ, что кислородъ воздуха, проникая въ наши легкія и распростра-
няясь по нашему 'организму, соединяется съ углеродомъ, который мы принимаемъ
въ нашей пищѣ 2). Это соединеніе кислорода съ углеродомъ никогда не можетъ про-
изойти безъ отдѣленія значительнаго количества теплоты, и этимъ-то процессомъ и
поддерживается въ человѣческомъ тѣлѣ необходимая для него температура. Въ силу
закона, хорошо извѣстнаго химикамъ, углеродъ и кислородъ, какъ и всѣ другіе эле-
менты, соединяются только въ извѣстныхъ, опредѣленныхъ пропорціяхъ, такъ что
для удержанія здороваго равновѣсія необходимо, чтобы пища, содержащая углеродъ,
видоизмѣнялась сообразно съ количествомъ принимаемаго нами кислорода; въ то же
время одинаково необходимо, чтобы мы увеличивали пріемы какъ углерода, такъ и
кислорода, всякій разъ, какъ усилившійся внѣшній холодъ понизитъ температуру
нашего тѣла. Теперь очевидно, что въ особенно холодномъ климатѣ эта необходи-
мость въ пищѣ съ большимъ содержаніемъ углерода представляется съ двухъ раз-
личныхъ сторонъ. Во-первыхъ, вслѣдствіе большей густоты воздуха люди вбираютъ
въ себя съ каждымъ дыханіемъ большій объемъ кислорода, чѣмъ вдыхали бы въ та-
комъ климатѣ, въ которомъ воздухъ разрѣжается отъ теплоты. Во-вторыхъ, холодъ
ускоряетъ ихъ дыханіе и, вынуждая ихъ такимъ образомъ дышать чаще, чѣмъ ды-
шутъ жители жаркихъ странъ, тоже увеличиваетъ среднее количество вдыхаемаго
ими кислорода. По обѣимъ этимъ причинамъ увеличивается потребленіе кислорода,
а слѣдовательно требуется также большее потребленіе углерода, ибо только соедине-
ніемъ этихъ двухъ элементовъ въ извѣстной, опредѣленной пропорціи поддержи-
вается температура тѣла и /равновѣсіе человѣческаго организма.
Такъ какъ эти взгляды имѣютъ свос соціальное, экономическое значеніе, совершенно неза-
висимое отъ физіологическаго значенія ихъ, то мы постараемся еще болѣе подкрѣпить ихъ, до-
казавъ, что связь, существующая между употребленіемъ пищи, богатой углеродомъ, и процессомъ
дыханія, можетъ быть разъяснена и болѣе обширнымъ обозрѣніемъ царства животнаго.
Железа, существующая у наибольшаго числа разныхъ породъ животныхъ, есть печень, и
главное назначеніе ея состоитъ въ освобожденіи организма отъ избытка углерода, что она испол-
няетъ, отдѣляя желчь,—жидкость весьма богатую углеродомъ. Но между этимъ процессомъ и про-
цессомъ дыханія существуетъ весьма любопытная связь. Вросннъ общій взглядъ на все царство
животныхъ, мы найдемъ, что почти всегда печень и легкія взаимно восполняются, то есть, когда
одинъ изъ этихъ органовъ малъ и недѣятеленъ, то другой—великъ и силенъ. Такъ у пресмыкаю-
щихся слабыя легкія, по значительная печень; также у рыбъ, которыя вовсе не имѣютъ легкихъ
въ обыкиовенпоміі значеніи этого слова, печень бываетъ не рѣдко огромнаго размѣра. Съ другой
стороны, насѣкомыя имѣютъ обширную и весьма сложную систему дыхательныхъ трубокъ, но
печепь у нихъ очень мала, и отправленія ея обыкновенію слабы. Если мы вмѣсто того, чтобы
сравнивать различныя породы животныхъ, будемъ сравнивать различныя состоянія, чрезъ которыя
проходитъ одно и то же животное, то мы найдемъ еще дальнѣйшее подкрѣпленіе этого общаго
г) Хотя и то, и другое одинаково необходимо, но
надобность въ нервомъ бываетъ обыкновенно настоя-
тельнѣе; было доказано на опытѣ—чего впрочемъ слѣ-
довало ожидать и по теоріи,— что когда животныя уми-
раютъ съ голода, то происходитъ прогрессивное пони-
женіе температуры ихъ тѣла, такъ что ближайшая при-
чина голодной смерти не слабость, а холодъ.
2) Прежде обыкновенно полагали, что это соеди-
неніе происходитъ въ легкихъ: болѣе же позднѣйшіе
опыты сдѣлали правдоподобнымъ то предположеніе, что
кислородъ соединяется съ углеродомъ во время крово-
обращенія и что шарики крови служатъ проводниками
кислорода. Что соединеніе это происходитъ не ьь со-
судахъ легкихъ, это доказывается еще и тѣмъ фак-
томъ, что легкія не теплѣе другихъ частей тѣла. Дру-
гое доказательство въ пользу того, что красные шарики
содержатъ въ себѣ кислородъ, заключается въ томъ об-
стоятельствѣ, что наибольшее количество ихъ бываеть
въ тѣхъ разрядахъ позвоночныхъ животныхъ, въ кото-
рыхъ поддерживается самая высокая температура, меж-
ду тѣмъ какъ въ крови безпозвоночныхъ животныхъ
шариковъ этихъ очень немного, и сомнѣвались, суще~
ствуютъ ли опп вовсе въ низшихъ массахъ суставча-
। тыхъ и моллюскахъ.
24 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
и разительно вѣрнаго положенія. Выведенный нами законъ вѣренъ, даже и до рожденія—такъ какъ
у ребенка, находящагося въ утробѣ, легкія не имѣютъ почти никакой дѣятельности, но у него
есть огромная печень, полная сплъ и изливающая желчь въ изобиліи % Й отношеніе это такъ
неизмѣнно, что въ человѣкѣ печень образуется раньше всѣхъ другихъ органовъ; она преобла-
даетъ во все время нахожденія младенца въ утробѣ, но быстро уменьшается, когда послѣ рожде-
нія легкія приходятъ въ дѣйствіе и во всемъ организмѣ установляется другая система восполненія 2).
Эти факты, интересные для физіолога-фплософа, весьма важны относительно положеній, раз-
виваемыхъ въ настоящей главѣ. Такъ какъ печень и легкія взаимно замѣщаются въ первоначаль-
номъ образованіи своемъ, то весьма вѣроятно, что они и въ отправленіяхъ своихъ тоже замѣнятъ
другъ друга и что все, неисполненное однимъ пзъ этихъ органовъ, должно быть исполнено дру-
гимъ. Слѣдовательно, если печень, какъ учитъ насъ химія, имѣетъ назначеніемъ освобождать
организмъ отъ излишняго углерода, отдѣляя богатую углеродомъ жидкость, то мы должны были
бы предполагать, даже при неимѣніи другихъ доказательствъ, что и легкія служатъ къ выдѣленію
углерода; другими словами, мы должны были бы заключить, что если, по какой-нибудь причинѣ,
организмъ нашъ въ избыткѣ обремененъ углеродомъ, то наши легкія должны участвовать въ
устраненіи этого зла. Другимъ путемъ это приводитъ насъ къ заключенію, что пища, изобилую-
щая углеродомъ, должна утруждать легкія; такъ что связь между углеродистой пищей и дыха-
тельными отправленіями не пустая гипотеза, какъ нѣкоторые утверждаютъ, а напротивъ, теорія,
вполнѣ основанная на наукѣ и подкрѣпляемая не только химіей, но всей организаціей царства
животнаго и даже наблюденіемъ эмбріологическихъ явленій. Воззрѣнія Либиха и всѣхъ его по-
слѣдователей дѣйствительно поддерживаются столькими аналогіями и такъ совершенно гармони-
руютъ со всей остальной суммой пашпхъ познаній, что только неразумное отвращеніе къ общимъ
положеніямъ пли неспособность обращаться съ широкими умозрительными истинами могутъ слу-
жить объясненіемъ вражды, возбужденной этими выводами, которые постеиенно втѣсняются въ
наше убѣжденіе, съ тѣхъ поръ какъ Лавуазье старался объяснить дыхательный процессъ, под-
чинивъ его закопамъ химическихъ соединеній.
Исходя отъ этихъ химическихъ и физическихъ началъ, мы приходимъ къ тому
заключенію, что чѣмъ холоднѣе страна, въ которой живетъ народъ, тѣмъ больше
углерода должна содержать его пища. Этотъ чисто научный выводъ подтвердился и
на опытѣ. Жители полярныхъ странъ потребляютъ въ большихъ количествахъ кито-
вый жиръ и китовое сало, 'между тѣмъ какъ меледу тропиками отъ подобной пищи
вскорѣ послѣдовала бы смерть, и потому тамъ обыкновенная пища состоитъ почти
исключительно изъ плодовъ, риса и другихъ растительныхъ веществъ. Затѣмъ при-
ведено въ извѣстность, посредствомъ тщательнаго анализа, что въ полярной пищѣ
содержится въ излишкѣ углеродъ, а въ тропической — кислородъ. Не входя въ по-
дробности, которыя большинству читателей показались бы скучными, можно сказать
вообще, что масла содержатъ почти въ шестеро болѣе углерода, чѣмъ плоды, и что
въ нихъ очень мало кислорода 3), между тѣмъ какъ крахмалъ, самая общая и въ
отношеніи къ питанію самая важная составная часть въ царствѣ растительномъ, со-
стоитъ почти на половину изъ кислорода.
Связь между этими обстоятельствами и предметомъ, занимающимъ насъ въ на-
стоящую минуту, въ высшей степени любопытна: ибо весьма замѣчательный фактъ —
фактъ, на который желательно, чтобы обратили особенное вниманіе,—составляетъ то,
что въ силу какихъ-то общихъ законовъ, намъ неизвѣстныхъ, пища, отличающаяся
]) Преобладаніе печени до рожденія замѣчено Биша
и многими другими физіологами; но докторъ Элліотсонъ
повидимому одинъ изъ первыхъ понялъ фактъ, объяс-
ненія которому мы тщетно искали бы у предшество-
вавшихъ писателей- Будучи студентомъ, говоритъ онъ,
«я былъ очень расположенъ къ гипотезѣ, по которой
главное назначеніе печени, подобно легкимъ, состоитъ
въ томъ, чтобы освобождать организмъ отъ углерода,
съ той разницей, что при дѣйствіи легкихъ измѣненіе
въ составѣ воздуха производитъ увеличеніе теплорода
въ крови, между тѣмъ какъ желчное отдѣленіе проис-
ходитъ безъ образованія теплорода. Гейдельбергскіе про-
фессору приводили много доказательствъ въ подтвер-
жденіе этой мысли. Въ зародышѣ, которому для поддер-
жанія температуры достаточно теплоты матери, легкія
остаются къ бездѣйствіи, но печень очень велика и
желчь отдѣляется въ изобиліи, такъ что шссопіиш на-
копляется въ большомъ количествѣ во время послѣднихъ
мѣсяцевъ беременности ».
2) «Печень есть первый органъ, образующійся въ
зародышѣ. Она развивается чрезъ пищепріемнып ка-
налъ и около третьей недѣли наполняетъ весь желу-
докъ, составляя одну треть всего вѣса зародыша. Въ
моментъ рожденія она очень велика и наполняетъ всю
верхнюю часть живота... Послѣ рожденія печень бы-
стро уменьшается, вѣроятно чрезъ уничтоженіе пуновои
жилы». #
3) «Плоды, употребляемые въ пищу жителями
южныхъ странъ, содержатъ въ сыромъ видѣ не болѣе
12°/0 углерода; между тѣмъ какъ китовое сало и вор-
вань, которыми питаются жители полярныхъ странъ,
заключаютъ въ себѣ отъ 60% до 80% углерода. Ко-
личество масла и жира, обыкновенно потребляемое въ
холодныхъ странахъ, достойно вниманія. Врангель го-
воритъ о • племенахъ сѣверо-восточной Сибири: «жиръ
составляетъ для нихъ самое лучшее лакомство. Они
ѣдятъ его подъ всевозможными видами: сырой, топле-
ный, свѣжій, испорченный».
ВЛІЯНІЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
25
большимъ содержаніемъ углерода, стоитъ дороже пищи, содержащей его въ сравни-
тельно маломъ количествѣ. Плоды земли, въ которыхъ самымъ дѣятельнымъ началомъ
является кислородъ, находятся въ большомъ изобиліи; пріобрѣтеніе ихъ не сопряжено
съ опасностью и почти не требуетъ труда. Напротивъ, пища съ большимъ содержа-
ніемъ углерода, которая въ холодномъ климатѣ безусловно необходима для поддер-
жанія жизни, не производится такъ легко и не является сама собою. Она не выхо-
дитъ, подобно растеніямъ, изъ земли, а составляется изъ жира, сала и масла, полу-
чаемыхъ отъ сильныхъ, дикихъ животныхъ. Одинъ китъ даетъ «сто двадцать бочекъ
жира». Чтобы добыть ее, человѣкъ долженъ подвергаться большимъ опасностямъ и
переносить большіе труды. Тутъ конечно противопоставлены крайніе случаи, но тѣмъ
не менѣе очевидно, что чѣмъ болѣе приближается какой-нибудь народъ къ той или
другой изъ крайностей, тѣмъ болѣе становится онъ въ зависимость отъ обстоятельствъ,
обусловливающихъ эти крайности. И можно очевидно принять за общее правило, что
чѣмъ холоднѣе страна, тѣмъ болѣе должна содержать углерода употребляемая въ ней
пища, а чѣмъ теплѣе, тѣмъ болѣе—кислорода х). Въ то же время пища, содержащая
углеродъ, извлекаемая главнѣйшимъ образомъ изъ міра животнаго, достается труднѣе,
чѣмъ пища, содержащая кислородъ и получаемая изъ міра растительнаго * 2). Вотъ
почему у жителей тѣхъ странъ, гдѣ холодный климатъ дѣлаетъ необходимымъ упо-
требленіе пищи съ значительнымъ содержаніемъ углерода, развивался большей частью
даже въ младенчествѣ общества болѣе смѣлый и предпріимчивый характеръ, чѣмъ
у тѣхъ народовъ, обыкновенная пища которыхъ, отличаясь преобладаніемъ кислорода,
добывается легко и, можно сказать, достается отъ щедротъ природы даромъ, безъ
всякаго труда. Это коренное различіе имѣетъ и многія другія послѣдствія, которыхъ
однако мнѣ здѣсь нѣтъ нужды перечислять, такъ какъ моя настоящая цѣль—только
указать, какое вліяніе имѣетъ это различіе пищи на пропорцію, въ которой распре-
дѣляется богатство между различными классами общества.
Какимъ образомъ дѣйствительно измѣняется эта пропорція, я надѣюсь, доста-
точно разъяснено предыдущими разсужденіями. По можетъ быть полезно перечислить
факты, на которыхъ основываются эти разсужденія. Это просто слѣдующіе факты:
размѣръ задѣльной платы измѣняется съ цифрой народонаселенія, возрастая, когда
предложеніе на рынкѣ труда' бываетъ ниже спроса, и уменьшаясь, когда оно пре-
вышаетъ его. Самая же цифра народонаселенія, несмотря на то, что на нее имѣютъ
вліяніе и многія другія обстоятельства, измѣняется безъ сомнѣнія сообразно съ со-
стояніемъ запаса пищи.—увеличиваясь, когда онъ обиленъ, и оставаясь безъ измѣ-
ненія или уменьшаясь, когда онъ скуденъ. Пища, необходимая для поддержанія жизни,
находится въ холодныхъ странахъ въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ въ жаркихъ, а
между тѣмъ требуется въ большемъ количествѣ а), такъ что по обѣимъ этимъ при-
чинамъ тамъ менѣе поощряется приращеніе того населенія, изъ среды котораго на-
полняется рынокъ труда. Мы можемъ, слѣдовательно, сказать, приводя это заключеніе
*) Либихъ говорить, что для поддержанія здоровья
одного человѣка, даже въ тѣхъ частяхъ Европы, кото-
рыя пользуются умѣреннымъ климатомъ, необходимо,
чтобы пища его содержала на цѣлую восьмую болѣе
углерода зимою, чѣмъ дѣтомъ. !
2) Пищу съ наибольшимъ содержаніемъ углерода
добавляютъ безъ сомнѣнія животныя; пишу же съ
самымъ большимъ количествомъ кислорода — растенія. >
Въ царствѣ растительномъ ость одпако столько угле- <
рода, что преобладаніе его, сопровождаемое недостат-
комъ азота, заставило химиковъ-ботапиковъ признать і
отличительнымъ составомъ растеній углеродъ, а жп- I
вотныхъ— азотъ. По мы должны имѣть въ виду двоя- I
кую противоположность. Въ растеніяхъ преобладаетъ
углеродъ въ той мѣрѣ, въ какой въ нпхъ недостаетъ
азота; по если ихъ противопоставлять животной пищѣ
холодныхъ странъ, содержащей огромное количество
углерода, то отличительнымъ свойствомъ ихъ является
кислородъ. При этомъ должно также замѣтить, что въ
растеніяхъ углеродъ преобладаетъ въ деревянистыхъ,
непитательныхъ частяхъ, не употребляемыхъ въ пищу;
между тѣмъ какъ въ животныхъ онъ находится въ
жирныхъ, маслянистыхъ частяхъ, которыя въ холод-
ныхъ странахъ не только ѣдятъ, но даже съ жадностью
пожираютъ.
3) Кабаппсъ говорить: «въ холодное время и въ
холодныхъ странахъ ѣдятъ и дѣйствуютъ болѣе». Что
въ холодныхъ странахъ ѣдятъ много, а въ жаркихъ
мало, объ этомъ упоминаютъ многіе путешественники;
но ни одпнъ изъ нпхь не обращаетъ вниманія на при-
чины этого явленія.
26
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
въ его простѣйшій видъ, что въ жаркихъ странахъ задѣльная плата сильно склонна
къ пониженію, а въ холодныхъ къ повышенію.
Прилагая затѣмъ этотъ великій принципъ къ общему ходу исторіи, мы вездѣ
найдемъ доказательство его справедливости. И въ самомъ дѣлѣ, нѣть ни одного при-
мѣра противнаго. Въ Азіи, въ Африкѣ и въ Америкѣ всѣ древнія цивилизаціи со-
средоточивались въ жаркихъ странахъ, и во всѣхъ этихъ странахъ задѣльная плата
была очень низка, и поэтому рабочіе классы находились въ самомъ угнетенномъ со-
стояніи. Въ Европѣ впервые возникла цивилизація въ болѣе холодномъ климатѣ; это
повело къ увеличенію вознагражденія за трудъ и къ болѣе равномѣрному распредѣ-
ленію богатства, чѣмъ было возможно въ странахъ, гдѣ чрезмѣрное изобиліе пищи
благопріятствовало увеличенію народонаселенія. Это различіе повело, какъ мы вскорѣ
увидимъ, ко многимъ соціальнымъ и политическимъ послѣдствіямъ огромной важности.
Но прежде, чѣмъ входить въ разсмотрѣніе этихъ послѣдствій, должно замѣтить, что
единственное видимое исключеніе изъ сдѣланнаго нами вывода служитъ именно са-
мымъ разительнымъ подтвержденіемъ общаго закона. Есть одинъ, и только одинъ,
примѣръ значительнаго европейскаго народа, имѣющаго дешевую національную пищу.
Едва-ли нужно говорить, что народъ этотъ—ирландцы. Въ Ирландіи рабочіе классы
въ продолженіе слишкомъ двухъ вѣковъ питались главнѣйшимъ образомъ картофе-
лемъ, который былъ ввезенъ въ эту страну въ самомъ концѣ XVI или въ началѣ
XVII столѣтія; особенность же картофеля составляетъ то, что онъ стоилъ до появленія
послѣдней болѣзни его, а можетъ быть стоитъ и теперь дешевле всякой другой оди-
наково здоровой пищи. Сравнивая его восііроизводительнуіб способность съ количе-
ствомъ содержащихся въ немъ питательныхъ веществъ, мы находимъ, что одинъ акръ
средняго качества земли, затѣянный картофелемъ, прокормитъ вдвое большее число
людей, чѣмъ такое же пространство, засѣянное пшеницей. Отъ этого въ странѣ, гдѣ
люди питаются картофелемъ, народонаселеніе должно, при почти равныхъ другихъ
условіяхъ, возрастать вдвое быстрѣе, чѣмъ въ странѣ, гдѣ они питаются пшеницей.
Такъ оно вышло и на самомъ,дѣлѣ. До самыхъ послѣднихъ годовъ, когда дѣла при-
няли другой оборотъ, вслѣдствіе эпидеміи и переселеній, народонаселеніе Ирландіи
увеличивалось, круглымъ числомъ, ежегодно на три процента, между тѣмъ какъ наро-
донаселеніе Англіи въ такой же періодъ времени увеличивалось на полтора про-
цента. Результатомъ этого было совершенно различное распредѣленіе богатства въ
этихъ двухъ странахъ. Даже въ Англіи народонаселеніе увеличивается слишкомъ быстро,
и вслѣдствіе переполненія рынка труда рабочіе классы не получаютъ достаточнаго
вознагражденія за свой трудъ; но ихъ положеніе оказывается самымъ блистательнымъ
въ сравненіи съ тѣмъ, какимъ должны были довольствоваться не болѣе какъ нѣ-
сколько лѣтъ тому назадъ рабочіе классы въ Ирландіи. Бѣдствіе, въ которое они
были подвергнуты, безъ сомнѣнія всегда усиливалось отъ невѣжества ихъ властей и
отъ того постыдно дурного управленія, которое составляло до весьма недавняго вре-
мени одно изъ самыхъ темныхъ пятенъ на славѣ Англіи; самая же дѣйствительная
причина заключалась въ томъ, что задѣльная плата ихъ была такъ низка, что они
были лишены же только удобствъ, но и обыкновенной пристойности, требуемой ци-
вилизованнымъ образомъ жизни. А это печальное состояніе было естественнымъ по-
слѣдствіемъ той дешевизны и того изобилія пищи, подъ вліяніемъ которыхъ народо-
населеніе такъ быстро увеличивалось, что рынокъ труда былъ постоянно переполненъ.
Это доходило до того, что, какъ замѣчаетъ одинъ умный наблюдатель, путешество-
вавшій по Ирландіи въ 30-хъ годахъ, средняя задѣльная плата была въ то время
четыре пенса въ день, и даже при такомъ жалкомъ вознагражденіи не всегда можно было
разсчитывать на постоянное занятіе. Таковы были послѣдствія дешевизны пищи въ
странѣ, которая вообще имѣетъ болѣе естественныхъ средствъ, чѣмъ всякая другая
страна въ Европѣ. Если же мы изслѣдуемъ въ большомъ размѣрѣ соціальныя и эко-
номическія условія народовъ, то увидимъ, что вездѣ дѣятельно проявляется одно и
то же начало. Мы увидимъ, что, при равенствѣ другихъ условій, отъ пищи народа
ВЛІЯНІЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
27
зависитъ его численное приращеніе, а отъ его численнаго приращенія—размѣръ за-
дѣльной платы. Увидимъ также, что когда задѣльная плата бываетъ постоянно низка,
и, слѣдовательно, богатство распредѣляется весьма неравномѣрно, то такъ же неравно-
мѣрно распредѣляется и политическое значеніе, и общественное вліяніе; другими сло-
вами, окажется, что нормальное среднее отношеніе между высшими и низшими клас-
сами въ основаніи своемъ зависитъ отъ тѣхъ особенностей природы, дѣйствіе ко-
торыхъ я пытался обнаружить х). Если мы сообразимъ все это вмѣстѣ, то будемъ,
я увѣренъ, въ состояніи различать съ неслыханной доселѣ ясностью тѣсную связь,
существующую между физическимъ и нравственнымъ міромъ, законы, опредѣляющіе
эту связь, и причины, по которымъ столь многія древнія цивилизаціи, достигнувъ
извѣстной степени развитія, затѣмъ падали, не будучи въ силахъ противостоять да-
вленію природы или совладать съ тѣми внѣшними препятствіями, которыя дѣятельно
задерживали ихъ дальнѣйшее развитіе.
Обратимся прежде всего къ Азіи, и мы увидимъ разительный примѣръ того,
что можно назвать столкновеніемъ между явленіями внутренняго и внѣшняго міра.
По причинамъ, изложеннымъ выше, азіатская цивилизація всегда ограничивалась той
богатой полосой, на которой легко пріобрѣталось богатство. Этотъ громадный поясъ
заключаетъ въ себѣ нѣкоторыя изъ самыхъ плодородныхъ мѣстностей на земномъ шарѣ.
Изъ странъ, входящихъ въ составъ его, Индостанъ долѣе всѣхъ другихъ пользовался
величайшей цивилизаціей. А такъ какъ при томъ для составленія мнѣнія объ Индіи мы
имѣемъ болѣе полныя данныя, чѣмъ для заключенія о какой-либо другой части Азіи,
то я намѣренъ взять ее примѣромъ для объясненія тѣхъ законовъ, которые хотя со-
ставляютъ общіе выводы изъ политической экономіи, химіи и физіологіи, но могутъ
быть подвергнуты повѣркѣ въ болѣе обширномъ размѣрѣ, возможной только при
помощи исторіи.
Въ Индіи вслѣдствіе ея жаркаго климата дѣйствуетъ уже указанный нами выше
законъ, въ силу котораго обыкновенно употребляемая пища должна быть скорѣе кисло-
родистаго, чѣмъ углеродистаго свойства; а это въ силу другого закона заставляетъ
народъ извлекать обычную пищу не изъ животнаго, а изъ растительнаго царства, въ
произведеніяхъ котораго главной составной частью является крахмалъ. Въ то же
время высокая температура, дѣлая людей неспособными къ тяжелой работѣ, иораж-
даетъ необходимость въ такой именно пищѣ, которая бы родилась въ изобиліи и
содержала въ сравнительно маломъ объемѣ значительное количество питательныхъ
веществъ. Итакъ, вотъ нѣсколько особенностей, которыя должны оказаться въ обыч-
ной пищѣ народовъ Индіи, если только справедливы приведенныя выше воззрѣнія.
Все это дѣйствительно оправдывается. Съ самихъ раннихъ временъ наиболѣе рас-
пространенной пищей въ Индіи былъ рисъ (это очевидно изъ того, что о немъ ча-
сто упоминается въ законахъ Мену), самое питательное изъ хлѣбныхъ растеній—ра-
Въ одномъ довольно остроумномъ сочиненіи за- 'і
мѣчено, что страны бываютъ многолюднѣе, когда въ !
нпхъ обыкновенная пища растительная, чѣмъ когда !
въ нпхъ преобладаетъ животная нища; тутъ же сдѣ- I
лапа попытка объяснить это тѣмъ, будто недостатокъ 1
пищи болѣе благопріятствуетъ плодовитости, чѣмъ изо- і
бпліе ея. По хотя самый фактъ большаго возрастанія
народонаселенія неоспоримъ, есть однако много при-
чинъ, по которымъ нельзя удовольствоваться объяснс- і
ніемъ автора,
а) Что способность размножаться увеличивается 1
отъ бѣднаго образа жизни, это есть предположеніе, ко-
торое никогда еще не было доказано физіологически; ।
наблюденія же путешественниковъ и правительствъ не :
довольно многочисленны, чтобы служить для него ста- і
тисгическимъ основаніемъ. 1
Ь) Растительная пища въ жаркой странѣ такъ же ।
подкрѣпляетъ, какъ животная въ холодной; а такъ какъ :
мы знаемъ, что, несмотря на различіе нищи и климата,
температура тѣла мало видоизмѣняется между эквато-
ромъ п полюсами, то памъ нѣтъ никакой причины ду-
мать, что есть какое-нибудь другое нормальное видоиз-
мѣненіе, а скорѣе должно предположить, что по отно-
шенію ко всѣмъ существеннымъ отправленіямъ расти-
тельная пища при внѣшнемъ жарѣ имѣетъ то же зна-
ченіе, что животная при внѣшнемъ холодѣ.
с) Если даже допустить, что растительная пища
увеличиваетъ плодовитость, то это имѣетъ вліяніе только
на число рожденій, а по на густоту населенія, потому
что большее число рожденій можетъ быть и часто дѣй-
ствительно бываетъ уравновѣшиваемо большей смерт-
ностью.
Съ тѣхъ поръ, какъ я написалъ сказанное выше,
я нашелъ, что эти воззрѣнія Добльдея еще ранѣе вы-
сказаны были у Фурье.
28
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
стеніе, содержащее въ себѣ до 85% крахмала и вознаграждающее трудъ земледѣльца
среднимъ урожаемъ по крайней мѣрѣ въ 60 зеренъ.
Итакъ, посредствомъ приложенія къ какой-нибудь странѣ нѣсколькихъ физи-
ческихъ законовъ можно узнать впередъ, какая въ ней должна быть національная
пища, и такимъ образомъ угадать длинный рядъ дальнѣйшихъ послѣдствій. Но ме-
нѣе замѣчательно въ этомъ случаѣ то, что хотя на югѣ полуострова рисъ теперь не
въ такомъ употребленіи, какъ былъ прежде, но онъ замѣняется не животной пищей,
а другимъ зерномъ, называемымъ раджи. Однако рисъ до такой степени соотвѣт-
ствуетъ приведеннымъ мною выше условіямъ, что онъ все-таки составляетъ наибо-
лѣе употребительную пищу почти во всѣхъ жаркихъ странахъ Азіи, изъ которыхъ
въ различныя времена онъ былъ перенесенъ и въ другія части свѣта 1).
Отъ этихъ особенностей климата и пищи произошло въ Индіи то неравномѣр-
ное распредѣленіе богатства, которое всегда должно оказаться въ странахъ, гдѣ ры-
нокъ труда бываетъ постоянно переполненъ 2). Просматривая самыя раннія изъ
сохранившихся свѣдѣній объ Индіи,-—свѣдѣніямъ этимъ отъ двухъ до трехъ тысячъ
лѣтъ,—мы находимъ слѣды порядка вещей, подобнаго существующему въ настоящее
время,—порядка, который~мы можемъ быть въ томъ увѣрены—всегда существовалъ,
съ самаго того времени, какъ началось настоящее накопленіе богатства. Мы нахо-
димъ, что высшіе классы непомѣрно богаты, а низшіе жалко бѣдны; находимъ, что
тѣ, чьимъ трудомъ производится богатство, получаютъ возможно меньшую долю его,
остальная же часть поглощается высшими классами въ видѣ ренты или въ видѣ
прибыли. А такъ какъ богатство составляетъ послѣ ума самый постоянный источникъ
силы, то естественнымъ образомъ такое неравномѣрное/распредѣленіе богатства со-
провождалось столь же неравномѣрнымъ распредѣленіемъ общественнаго и политиче-
скаго вліянія. Неудивительно послѣ этого, что въ Индіи съ самихъ раннихъ временъ,
къ какимъ восходятъ наши свѣдѣнія о ней, огромное большинство народа, угнетен-
ное жесточайшей бѣдностью и перебивающееся, такъ сказать, со дня на день, всегда
оставалось въ состояніи безсмысленнаго униженія, изнемогая подъ бременемъ без-
прерывныхъ несчастій, пресмыкаясь въ гнусной покорности передъ сильнымъ и про-
являя способность только къ тому, чтобы или самимъ быть рабами, или служить на
войнѣ орудіемъ порабощенія другихъ 3).
Опредѣлить съ точностью цѣнность средняго размѣра задѣльной платы въ Ин-
діи за какой-нибудь значительный періодъ времени невозможно; размѣръ этотъ мо-
жетъ конечно быть выраженъ въ деньгахъ, но цѣнность денегъ, т. е. ихъ мѣновое
значеніе, подвержена безчисленнымъ колебаніямъ, происходящимъ отъ измѣненій въ
стоимости продуктовъ* Но мы можемъ достигнуть настоящей цѣли нашей съ помощью
одного метода изслѣдованія, который приведетъ насъ къ гораздо точнѣйшимъ резуль-
татамъ, чѣмъ всякія показанія, опирающіяся единственно на собраніи данныхъ о са-
мой задѣльной платѣ. Методъ этотъ основывается на слѣдующемъ простомъ сообра-
женіи: такъ какъ богатство страны дѣлится только на задѣльную плату, ренту, прибыль
и процентъ, и такъ какъ процентъ, въ среднемъ выводѣ, служитъ точной мѣрой при-
были, то изъ этого слѣдуетъ, что если у какого-нибудь народа и рента, и процентъ
Рисъ, насколько я могъ прослѣдить, расііро- |
странялся въ западномъ направленіи. Рядомъ съ исто-
рическими лапными есть и филологическая вѣроятность
въ пользу предположенія, что родина его — Азія; такъ,
санскритское названіе его чрезвычайно распространено.
Въ четырнадцатомъ столѣтіи рисъ былъ обыкновенной
пищей па Заигвебарскомъ берегу; онъ и теперь повсе-
мѣстно употребляется па Мадагаскарѣ. Съ Мадагаскара 1
сѣмена его были завезены вь Каролину въ самомъ
концѣ ХѴП столѣтія. Онъ теперь разводится вь Пикара-
гуѣ и въ Южной Америкѣ, гдѣ онъ растетъ, говорятъ,
дико. Древніе треки хотя и знали рисъ, но не разводили ।
его: онъ внервые былъ разведенъ въ Европѣ арабами. |
2) Діодоръ Сицилійскій упоминаетъ о замѣчатель-
номъ плодородіи Лндіа и о происходящемъ отъ него
накопленіи богатства. Но объ экономическихъ законахъ
распредѣленія богатства онъ, какъ и всѣ древніе писа-
тели, рѣшительно не имѣлъ понятія.
3) Одинъ умный и весьма ученый защитникъ этого
несчастнаго народа (Кеннеди) говорить: «раболѣпство,
такъ часто приписываемое индусу, болѣе всего замѣтно,
когда сго допрашиваютъ, какъ свидѣтеля. Но если до-
пустить, что онъ поступаетъ, какъ рабъ, то зачѣмъ об-
винять его въ томъ, что онъ пс обладаетъ добродѣте-
лями свободнаго человѣка? Цѣлые вѣка угнетенія на*
учили его слѣпому повиновенію».
ВЛІЯНІЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
29
высоки, то задѣльная плата должна быть низка г). Поэтому, если мы приведемъ въ
извѣстность текущій процентъ на деньги и пропорцію произведеній земли, погло-
щаемую рентой, то получимъ совершенно вѣрное понятіе о задѣльной платѣ: ибо
задѣльная плата есть то, что остается на долю работниковъ за уплатой ренты, при-
были и процента.
Замѣчательно, что въ Индіи и процентъ, и рента были всегда очень высоки.
Въ Институтахъ Мену3 которые были собраны около 900 года до Р* X., низшій
законный процентъ полагается въ 15%, а высшій—въ 60%’ И на это не должно
смотрѣть, какъ на какой-нибудь старый законъ, уже утратившій силу дѣйствія; на-
противъ, Институты Мену лежатъ, и до сихъ поръ въ основаніи индійской юрис-
пруденціи; и мы знаемъ изъ весьма достовѣрнаго источника, что въ Индіи въ
1810 г. процентъ на денежныя ссуды колебался между 36% и 60%.
Вотъ, что мы знаемъ объ одномъ изъ элементовъ нашего вычисленія. О дру-
гомъ, а именно о рентѣ, мы имѣемъ не менѣе точныя и достовѣрныя свѣдѣнія. Въ
Англіи и Шотландіи рента, платимая земледѣльцемъ за пользованіе землей, исчис-
ляется круглымъ числомъ, безъ различія фермъ, въ четверть валового дохода. Во
Франціи средняя пропорція доходитъ до одной трети; между тѣмъ въ сѣверо-амери-
канскихъ Соединенныхъ Штатахъ, какъ всѣмъ извѣстно, плата эта гораздо ниже, а
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ собственно существуетъ только по имени. Въ Индіи же
законная рента, т. о. низшій размѣръ ея, признанный правомъ и обычаемъ,—поло-
вина сбора; и даже это жестокое положеніе не строго соблюдается, ибо во многихъ
случаяхъ взимаются такія высокія ренты, что земледѣлецъ не только не получаетъ
половины сбора, не едва имѣртъ сѣмена для слѣдующаго посѣва.
Выводъ изъ этихъ фактовъ очевиденъ. При постоянно высокомъ уровнѣ про-
цента и ренты, и при томъ условіи, что процентъ измѣняется сообразно съ размѣ-
ромъ прибыли, ясно, что задѣльная- плата должна быть7 весьма низка: такъ какъ въ
Индіи извѣстный итогъ богатства подлежалъ распредѣленію на ренту, процентъ, при-
быль и задѣльную плату, то очевидно, что первыя доли могли увеличиться только на
счетъ четвертой, т. е. другими словами, — вознагражденіе работниковъ было очень
слабо въ сравненіи съ вознагражденіемъ высшихъ классовъ. Хотя этотъ выводъ,
какъ самый прямой, не требуетъ подкрѣпленія извнѣ, не мѣшаетъ однако замѣтить,
что въ новѣйшія времена, которыми ограничиваются наши прямыя свѣдѣнія объ
Индіи, задѣльная плата была тамъ постоянно весьма низка, и народъ вынужденъ
былъ, какъ и въ настоящее время, работать за такую плату, которая едва покры-
вала его жизненныя потребности 3).
Вотъ первое важное послѣдствіе, къ которому привела въ Индіи дешевизна
Рикардо говоритъ: «всо, чтб увеличиваетъ за- I
дѣльную плату, необходимо уменьшаетъ прибыль, а все, |
что возвышаетъ плату за трудъ, понижаетъ прибыль 1
на капиталъ». Во многихъ другихъ мѣстахъ онъ утвер-
ждаетъ -го же самое, къ великому огорченію обыкно-
веннаго читателя, который знаетъ, что напримѣръ въ
Соединенныхъ Штатахъ и задѣльная плата, и прибыль
высоки. Но тугъ недоразумѣніе въ словахъ, а не въ
мысли; какъ въ этихъ, такъ и въ другихъ подобныхъ ।
мѣстахъ Рикардо подъ задѣльной платой разумѣетъ
стоимость труда, и въ этомъ смыслѣ его положенія
совершенно вѣрны. Но если понимать подъ задѣльной
платой вознагражденіе за трудъ, то между такой пла-
той и прибылью пѣть отношенія: ибо при низкой
рентѣ и та, и другая могутъ быть высоки, какъ это
и есть въ Соединенныхъ Штатахъ. Что такой именно
взглядъ имѣлъ Рикардо, это ясно изъ слѣдующаго
мѣста: «Прибыль — никогда не будетъ лишнимъ повто-
рить—зависитъ оть задѣльной платы, но по отъ номи-
нальной, а отъ дѣйствительной, не оть чпела рублей,
какое можетъ быть заплачено въ годъ работнику, а отъ
числа работахъ дней, потребныхъ для полученія этихъ
рублей».
2) Реберъ приводить нѣсколько замѣчательныхъ
примѣровъ необыкновенно низкой платы, за которую
охотно работаютъ туземцы. О задѣльной платѣ на югѣ
Индіи можно найти самыя полныя свѣдѣнія въ прекрас-
номъ сочиненіи Быоканана» Я бы желалъ, чтобы всѣ
путешественники соблюдали такую же точность въ по-
казаніяхъ о задѣльной платѣ, имѣющей гораздо боль-
шую важность, чѣмъ тѣ предметы, которыми они обык-
новенно наполняютъ- свои книги.
Съ другой стороны, богатства высшихъ классовъ,
благодаря такому неравномѣрному распредѣленію, были
громадны и доходили иногда до неимовѣрныхъ размѣ-
ровъ. Въ автобіографіи императора Джегангейра встрѣ-
чаются такія изумительныя показанія о его огромномъ
богатствѣ, что издатель ея, маіоръ Прайсъ, думалъ,
что въ нее вкрались какія-нибудь ошибки при пере-
шскѣ; однако читатель найдетъ въ Гротовой исторіи
Греціи положительныя свѣдѣнія о томъ, какія богат-
| ства могли накоплять азіатскіе владѣтели при описав-
30
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
общеупотребительной пищи. Но зло далеко не остановилось на этомъ. Въ Индіи,
какъ и во всякой другой странѣ, бѣдность навлекаетъ презрѣніе, а богатство даетъ
силу. При равенствѣ другихъ условій обыкновенно бываетъ такъ, что и цѣлыя кор-
пораціи, и отдѣльныя лица чѣмъ богаче, тѣмъ болѣе пріобрѣтаютъ вліянія *)* По-
этому и слѣдовало ожидать, что неравномѣрное распредѣленіе богатства поведетъ къ
неравномѣрному распредѣленію силы; а такъ какъ нѣтъ примѣра въ исторіи, чтобы
какой-нибудь классъ, обладая силой, не злоупотреблялъ ею, то нетрудно понять, по-
чему народъ въ Индіи, осужденный на бѣдность физическими законами климата,
впалъ въ униженіе, изъ котораго никогда уже не могъ подняться. Можно привести
нѣсколько примѣровъ, скорѣе для объясненія, чѣмъ для доказательства принципа,
который послѣ всѣхъ предшествовавшихъ разсужденій не можетъ, мнѣ кажется, под-
лежатъ никакому сомнѣнію.
Значительной части индійскаго народа присвоено названіе Судровъ; по опре-
дѣленію Роде: «каста Судровъ объемлетъ весь рабочій пли служащій за деньги
классъ народа». О членахъ этой касты встрѣчаются любопытныя мелкія постанов-
ленія въ туземныхъ законахъ. Если членъ этого презрѣннаго класса осмѣливался сѣсть
на то же мѣсто, которое занимали высшія лица, то онъ подвергался изгнанію изъ отече-
ства или какому-нибудь мучительному и позорному наказанію; если онъ непочтительно
выражался о нпхъ, то ему прижигали ротъ; если же дѣйствительно оскорблялъ ихъ, то
разрѣзали языкъ; если онъ причинялъ безпокойство брамину, его казнили смертью; если
садился на одинъ коверъ съ браминомъ, то его изувѣчивали на всю жизнь; если, дви-
жимый любознательностью, онъ прислушивался къ чтенію,священныхъ книгъ, то ему
вливали въ уши горячее масло; если же заучивалъ ихъ наизусть, то его убивали;
если онъ совершалъ какое-нибудь преступленіе, то подвергался за него болѣе стро-
гому наказанію, чѣмъ то, которое назначалось высшимъ лицамъ; если же его убивали,
то отвѣтственность за это была та же, какъ и за убіеніе собаки, кошки или вороны.
Если онъ выдавалъ дочь свою замужъ за, брамина, то никакое изъ наказаній, нала-
гаемыхъ на этомъ свѣтѣ, не считалось для него достаточнымъ: поэтому объявлялось,
что браминъ долженъ идти въ адъ за то, что потерпѣлъ оскверненіе отъ женщины,
стоящей неизмѣримо ниже его. Даже было опредѣлено, \чтобы самое имя работника
уже выражало презрѣніе, такъ чтобы можно было прямо узнать, какое ему свой-
ственное мѣсто. А на случай, еслибъ и этого оказалось недостаточно для поддержа-
нія общественной подчиненности, изданъ былъ положительный законъ, воспрещавшій
работнику накоплять богатство; въ то же время другимъ постановленіемъ опредѣля-
лось, что Судра, даже по полученіи свободы отъ своего хозяина, на самомъ дѣлѣ
продолжаетъ быть рабомъ, «ибо, —говоритъ законодатель,—кѣмъ можетъ онъ быть
выведенъ изъ состоянія, которое свойственно его природѣ».
И подлинно, кто бы могъ вывести его изъ этого состоянія? Не могу предста-
вить себѣ, гдѣ бы могла быть такая сила, которая была бы въ состояніи совершить
столь великое чудо. Въ Индіи рабство, низкое, вѣчное рабство, было естественнымъ
ноль нами состояніи общества. Глинъ такъ изобра-
жаетъ вліяніе этого неравномѣрнаго распредѣленія бо-
гатства: «Европейскіе народы имѣютъ весьма слабое по-
нятіе о настоящемъ состояніи жителей Индостана; они
несравненно бѣднѣе, чѣмъ мы можемъ себѣ представить.
Европейцы были до сихъ поръ слишкомъ склонны со-
ставлять себѣ понятіе о богатствѣ Индостана но ро-
скошной обстановкѣ немногихъ императоровъ, султа-
новъ, набобовъ п раджей; между тЪчъ какъ болѣе
близкій и тщательный осмотръ настоящаго состоянія
общества обнаруживаетъ, что зги владѣтели и вельможи
захватываютъ все богатство страны; большинство же
народа, получая только крайне необходимое для суще-
ствованія, изнемогаетъ подъ невыносимыми тягостями п
едва имѣетъ возможность удовлетворять самымъ необхо-
димымъ жизненнымъ потребностямъ, а еще менѣе по-
требности роскоши».
г) Тёрнеръ, путешествовавшій въ 1783 году по
। сѣверо-восточной часта Бенгаліи, говорить: «II дѣйстви-
тельно, крайняя бѣдность и жалкое положеніе этого
народа становятся понятны, когда мы вспомнимъ, какъ
мало нужно для прокормленія носелянпна въ этихъ стра-
нахъ. Оно рѣдко обходится дороже двухъ пенсовъ въ
день, даже когда онъ позволяетъ себѣ обѣдъ изъ двухъ
фунтовъ варенаго риса съ достаточнымъ количествомъ
соли, масла, зелени, рыбы и хили». Ибнъ Батута, пу-
тешествовавшій по Индостану въ XIV столѣтіи, гово-
рить: «я не видалъ другой страны, въ которой съѣстные
। припасы были бы такъ дешевы».
і
ВЛІЯНІЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ. 31
состояніемъ значительнаго большинства народа; на это состояніе онъ обреченъ былъ
физическими законами, рѣшительно не допускавшими сопротивленія. И въ самомъ
дѣлѣ, сила этихъ законовъ такъ непреодолима, что вездѣ, гдѣ только проявилось ихъ
дѣйствіе, они держали производительные классы въ постоянномъ подчиненіи. Нѣть
примѣра въ исторіи, чтобы въ какой-нибудь тропической странѣ, при значительномъ
накопленіи богатства, народъ избѣгнулъ такой судьбы; нѣтъ примѣра, чтобы вслѣд-
ствіе жаркаго климата не оказалось избытка пиши, а вслѣдствіе избытка пищи—
неравномѣрнаго распредѣленія сперва богатства, а за нимъ—и политическаго, и об-
щественнаго вліянія. Въ націяхъ, подчиненныхъ этимъ условіямъ, народъ считался ни-
чѣмъ; онъ не имѣлъ никакого голоса въ государственномъ управленіи, никакого кон-
троля надъ богатствомъ, плодомъ его же трудолюбія. Единственнымъ дѣломъ его было
трудиться, единственной обязанностью—повиноваться. Вотъ гдѣ начало того распо-
ложенія къ тихой, раболѣпной покорности, которое, какъ мы знаемъ изъ исторіи,
было всегда отличительной чертой такихъ народовъ. То несомнѣнный фактъ, что
лѣтописи этихъ народовъ не представляютъ намъ ни одного примѣра возстанія про-
тивъ правителей, ни одной борьбы сословій, ни одного народнаго возстанія, ни даже
значительнаго народнаго заговора. Въ этихъ богатыхъ и плодородныхъ странахъ
много было перемѣнъ, но всѣ онѣ начинались сверху, а не снизу, Демократическаго
элемента въ нихъ рѣшительно недоставало* Выло множество войнъ царей и войнъ
династій, были перевороты въ правительствѣ, перевороты во дворцѣ, перевороты на
тронѣ, но ихъ вовсе не было въ народѣ х); не было никакого облегченія той тяж-
кой доли, которую онъ терпѣлъ скорѣе отъ природы, чѣмъ отъ человѣка. Только съ
зарожденіемъ цивилизаціи въ Европѣ возымѣли дѣйствіе другіе законы, а слѣдова-
тельно стали оказываться и другіе результаты. Въ Евроцѣ былъ сдѣланъ первый
шагъ къ уравненію правъ, впервые обнаружилось стремленіе къ ограниченію той
несоразмѣрности въ распредѣленіи богатства и вліянія/ которая составляла суще-
ственно слабую сторону величайшихъ изъ древнихъ государствъ. Естественно, что
въ Европѣ возникло и все, что достойно имени цивилизаціи, ибо только тамъ сдѣ-
ланы были попытки удержать равновѣсіе ея соотвѣтственныхъ частей. Только тамъ
образовалось общество по плану, конечно еще не довольно обширному, но все-таки
настолько широкому, чтобы вмѣстить всѣ различные классы, изъ которыхъ оно со-
ставляется, и чтобы, давая такимъ образомъ просторъ 'развитію частей, обезпечить
прочность и преуспѣяніе цѣлаго.
Какпмъ образомъ нѣкоторыя другія физическія особенности Европы тоже уско-
ряли умственное развитіе человѣка, освобождая его отъ предразсудковъ,—будетъ по-
казано въ концѣ настоящей главы. Такъ какъ это должно повести насгь къ разсмо-
трѣнію законовъ, о которыхъ я еще до сихъ поръ не упоминалъ, то мнѣ кажется
благоразумнымъ окончить сперва наше настоящее изслѣдованіе; поэтому-то я пере-
хожу къ доказательству того, что рядъ разсужденій, которыя я только-что сдѣлалъ
по поводу Индіи, примѣняется также къ Египту, Мексикѣ и Пору. Включивъ та-
кимъ образомъ въ одинъ обзоръ наиболѣе выдающіяся впередъ цивилизаціи Азіи,
Африки и Америки, мы будемъ въ состояніи видѣть, до какой степени замѣченныя
выше начала проявляются въ различныхъ отдаленныхъ другъ отъ друга странахъ,
и соберемъ довольно полные матеріалы для повѣрки справедливости тѣхъ великихъ
законовъ, которые безъ этой предосторожности могли бы показаться общими выво-
дами изъ скудныхъ и несовершенныхъ данныхъ.
О причинахъ, по которымъ изъ всѣхъ африканскихъ народовъ одни египтяне
были цивилизованы, мы уже говорили выше; мы доказали, что это зависѣло отъ
х) Одинъ умный наблюдатель говорить: «Замѣна- । когда не участвуетъ въ событіяхъ, имѣющихъ самый
тельно тоже, какъ мало народъ вь азіатскихъ государ- ; большой интересъ и самую большую важность для его
сгвахъ принимаетъ участія въ переворотахъ, происхо- । родины и даже для его личнаго благосостоянія», По-
дащихъ въ ихъ правительствахъ. Пмь никогда по руко- : добныя же замѣчанія встрѣчаются у Гердера,
ждать никакое сильное всеобщее впечатлѣніе; онъ ни- |
32
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
тѣхъ физическихъ особенностей, которыя отличали ихъ страну отъ сосѣднихъ съ нею
и которыя, облегчая пріобрѣтеніе богатства, не только давали имъ матеріальныя
средства, недостижимыя при другихъ условіяхъ, но и обезпечивали ихъ мыслящимъ
классамъ досугъ и удобства, необходимыя для расширенія предѣловъ знанія. Правда,
конечно, что, несмотря на всѣ эти преимущества, египтяне не сдѣлали ничего осо-
бенно важнаго, но это должно приписать обстоятельствамъ, которыя я объясню
послѣ; во всякомъ же случаѣ должно согласиться, что они стояли несравненно выше
всѣхъ другихъ народовъ, населявшихъ Африку.
Такъ какъ цивилизація Египта, подобно цивилизаціи Индіи, возникла подъ влія-
ніемъ почвы и такъ какъ Египетъ тоже находится въ жаркомъ климатѣ, то въ
обѣихъ этихъ странахъ возымѣли дѣйствіе одни и тѣ же законы, и это привело
естественнымъ образомъ къ однимъ и тѣмъ же результатамъ. Мы находимъ, что какъ
въ этой, такъ и въ другой странѣ общеупотребительная пища дешева и обильна,
отчего рынокъ труда переполненъ, богатство и вліяніе распредѣлены весьма нерав-
номѣрно, и замѣчаются всѣ неизбѣжныя послѣдствія этой неравномѣрности. Какое
вліяніе имѣлъ подобный порядокъ вещей въ Индіи, это я уже пытался объяснить
выше. Для изученія прежняго состоянія Египта мы имѣемъ конечно гораздо менѣе
матеріаловъ, но имѣемъ ихъ все-таки достаточно, чтобы убѣдиться въ разительномъ
сходствѣ этихъ двухъ цивилизацій и въ тождествѣ коренныхъ началъ, управляв-
шихъ ходомъ ихъ общественнаго и политическаго развитія.
Если мы вникнемъ въ главнѣйшія изъ условій, въ которыхъ стоялъ народъ въ
древнемъ Египтѣ, то увидимъ, что они совершенно соотвѣтствовали тому, что замѣ-
чено нами въ Индіи. Начнемъ съ общеупотребительной пищи. Что рисъ для самыхъ
плодородныхъ странъ Азіи, то финики для Африки. ІІальмовое дерево встрѣчается
во всѣхъ мѣстностяхъ отъ Тигра до Атлантическаго Океана; оно доставляетъ днев-
ное пропитаніе милліонамъ людей въ Аравіи и почти во всей Африкѣ къ сѣверу
отъ экватора. Правда, что во >&огйіпжчастяйѵ большой африканской пустыни оно
неспособно приносить плодъ, но отъ природы это очень сильное растеніе; оно даетъ
такое изобиліе финиковъ, что къ сѣверу отъ Сахары ими питаются не только люди,
но и домашнія животныя. Въ Египтѣ же, гдѣ пальма растетъ, говорятъ, дико, фи-
ники родятся въ такомъ изобиліи, что не только служатъ главной пищей для народа,
но и употребляются съ самыхъ древнихъ временъ даже въ кормъ верблюдамъ,—един-
ственному подъемному скоту, повсемѣстно распространенному въ этой странѣ.
Изъ этихъ фактовъ ясно, что, принимая Египетъ за высшій типъ африканской,
а Индію за высшій типъ азіатской цивилизаціи, можно сказать, что для первой фи-
ники имѣли то же значеніе, какое имѣлъ для второй рисъ. Еще замѣчательно, что
самыя важныя физическія особенности, заключающіяся въ рисѣ^ находятся также и
въ финикахъ. Что касается ихъ химическаго состава, то дознано, что основное на-
чало питательности въ обоихъ этихъ веществахъ одно и то же, только крахмалъ ин-
дійскаго растенія замѣняется въ египетскомъ сахаромъ. Въ отношеніи къ законамъ
климата сходство ихъ одинаково очевидно; какъ финики, такъ и рисъ принадлежатъ
къ растеніямъ жаркихъ странъ и лучше всего растутъ подъ тропиками пли по бли-
зости отъ нихъ. Въ ихъ размноженіи и въ законахъ ихъ связи съ почвой замѣ-
чается не меньшее сходство, ибо финики точно такъ же, какъ и рисъ, требуютъ мало
ухода и даютъ обильные сборы, занимая между тѣмъ такое малое пространство
земли, сравнительно съ количествомъ доставляемой ими пищи, что иногда до 200
пальмовыхъ деревъ помѣщаются на одномъ акрѣ.
Вотъ какое разительное сходство бываетъ въ различныхъ странахъ естествен-
нымъ послѣдствіемъ тождества физическихъ условій. Въ Египтѣ такъ же, какъ и въ
Индіи, успѣхамъ цивилизаціи предшествовало обладаніе въ высшей степени плодо-
родной почвой. Въ то время, какъ избытокъ плодородія земли ускорялъ производ-
ство богатства, изобиліе пищи вліяло на пропорціи, въ которыхъ богатство это раз-
продѣлалось. Самая плодородная часть Египта есть Саидъ; тамъ именно мы и на-
ВЛІЯНІЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
33
ходимъ полнѣйшее проявленіе искусства и знанія въ великолѣпныхъ остаткахъ Ѳивъ,
Карнака, Луксора, Дендеры и Эдфу. Въ то же время въ Саидѣ или Ѳиваидѣ, какъ
часто называютъ эту страну, употребляется такая пища, которая размножается еще
быстрѣе финиковъ и риса, это именно дурра, разведеніе которой ограничивалось до
недавняго времени однимъ верхнимъ Египтомъ. Она отличается такой плодовитостью,
что награждаетъ часто земледѣльца урожаемъ до 240 зеренъ. Въ прежнее время
дурры не знали въ Нижнемъ Египтѣ, а употребляли въ пищу въ дополненіе къ фи-
никамъ нѣчто вродѣ хлѣба изъ лотоса, который производила сама собой плодород-
ная почва Нила. Это была повидимому очень дешевая и всѣмъ доступная пища; кромѣ
ея, было множество другихъ овощей и травъ, которыя составляли главную пищу
египтянъ. И въ самомъ дѣлѣ, ихъ было такъ много, что въ эпоху вторженія маго-
метанъ въ одной Александріи не менѣе четырехъ тысячъ человѣкъ занимались продажей
овощей для народа.
Отъ такого изобилія общеупотребительной пищи произошелъ рядъ послѣдствій,
совершенно сходныхъ съ оказавшимися въ Индіи. Въ Африкѣ вообще увеличеніе
народонаселенія хотя и поощрялось съ одной стороны жаркимъ климатомъ, зато съ
другой—встрѣчало преграду въ слабой производительности почвы, а потому замѣчен-
ные выше законы возымѣли безусловное дѣйствіе. Въ силу этихъ законовъ египтяне
не только дешево пріобрѣтали пищу, но и требовали ея сравнительно мало, такъ
что двоякимъ путемъ расширялись предѣлы, до которыхъ могла доходить ихъ числен-
ность. Въ то же время низшимъ классамъ въ Египтѣ было тѣмъ легче воспитывать
своихъ дѣтей, что высокая температура воздуха сокращала для нихъ еще одинъ
значительный расходъ: жаръ былъ такъ великъ, что даже для взрослыхъ одежда
требовалась въ маломъ количествѣ и при томъ легкая, дѣти же рабочихъ классовъ
ходили совершенно нагія,—въ чемъ представляется разительная противоположность
съ болѣе холодными странами, гдѣ даже для сохраненія нормальнаго здоровья необ-
ходима уже одежда болѣе теплая и дорогая. Діодоръ Сицилійскій, путешествовавшій
по Египту девятнадцать столѣтій тому назадъ, говоритъ, что воспитаніе ребенка до
зрѣлаго возраста стоило не болѣе двадцати драхмъ, т. е. едва тринадцать шиллин-
говъ на англійскую монету, — обстоятельство., которому онъ справедливо приписы-
ваетъ многолюдность этой страны. ,
Соединяя сдѣланныя выше замѣчанія въ одно обобщеніе, можно сказать, что
въ Египтѣ люди размножались быстро, потому что тамъ почва усиливала снабженіе,
въ то время какъ климатъ уменьшалъ потребности. Въ результатѣ оказалось, что
Египетъ былъ населенъ гораздо гуще, чѣмъ всякая другая страна Африки, а по
всей вѣроятности и чѣмъ любая страна древняго міра. Правда, что свѣдѣнія наши
объ этомъ предметѣ довольно скудны, но зато они заимствованы изъ несомнѣнно
достовѣрныхъ источниковъ. Геродотъ, котораго чѣмъ болѣе понимаютъ, тѣмъ болѣе
находятъ точнымъ въ показаніяхъ х)? утверждаетъ, что въ царствованіе Амазиса тамъ
было, какъ говорили, двадцать тысячъ населенныхъ городовъ. Это могло бы пожа-
луй показаться преувеличеніемъ, но весьма замѣчательно то, что Діодоръ Сицилій-
скій, который путешествовалъ по Египту спустя четыре столѣтія послѣ Геродота и
который, завидуя славѣ своего великаго предшественника, старался подорвать до-
вѣріе къ его показаніямъ 2),—подтверждаетъ все-таки его свидѣтельство объ этомъ
С1 Справедливо говорить Фридрихъ Шлегель въ
своей «РЬіІозорЬіе 4ег безсІіісМе»: «чѣмъ глубже п
дальше заходили въ наше время изслѣдованія по части
древней исторіи, тѣмъ болѣе усиливалось уваженіе и
удивленіе, возбуждаемыя въ насъ Геродотомъ». Точ-
ность его показаній о Египтѣ п Малой Азіи признана
въ настоящее время всѣми свѣдущими географами.
Къ этому я могу еще прибавить, что въ недавнее
время одинъ весьма умный путешественникъ предеіа-
вілъ нѣкоторыя любопытныя данныя въ подтвержденіе
Бокль.—Изд. Ф. Павленкова.
| того, что Геродотъ зналъ даже западную чаетъ Сибири.
2) Діодоръ, человѣкъ хотя честный и трудолюби-
вый, но во всѣхъ отношеніяхъ стоявшій ниже Геродота,
говорить довольно дерзко: «то, что Геродотъ и нѣкото-
рые другіе изъ собиравшихъ дѣянія египтянъ наговорили
(наврали), предпочитая изложенію истины разсказываніе
небылицъ п сочиненіе сказокъ для возбужденія инте-
реса,— мы оставимъ безъ вниманія», Въ другихъ мѣ-
стахъ онъ отзывается такимъ же тономъ о Геродотѣ,
| хотя собственно не называетъ его.
3
34
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
важномъ предметѣ. Онъ не только говоритъ, что Египетъ былъ въ то время такъ
же густо населенъ, какъ всякая другая страна, но и прибавляетъ, основываясь на
имѣвшихся тогда свѣдѣніяхъ, что въ прежнее время это была самая населенная
страна въ свѣтѣ; въ ней было, говоритъ онъ, слишкомъ 18.000 городовъ.
Вотъ единственные два древніе писателя, которые лично хорошо знали со-
стояніе Египта *); показанія ихъ тѣмъ болѣе цѣнны, что они, такъ видно, черпали
свои свѣдѣнія изъ различныхъ источниковъ: Геродотъ собиралъ ихъ главнѣйшимъ
образомъ въ Мемфисѣ, а Діодоръ—въ Ѳивахъ. При всемъ разнорѣчіи этихъ двухъ
свидѣтельствъ, они оба согласны относительно быстроты, съ которой размножался на-
родъ, и рабскаго состоянія, въ которое онъ былъ повергнутъ. И подлинно, самый
уже видъ этихъ громадныхъ и дорогихъ зданій, устоявшихъ и до сихъ поръ, свидѣ-
тельствуетъ о положеніи парода, строившаго ихъ. Чтобы воздвигать сооруженія въ
такихъ чудовищныхъ размѣрахъ 1 2), и въ то же время такія безполезныя 3), для этого
необходимо, чтобы правители были тираны, а народъ—рабы. Никакое богатство, какъ
бы оно ни было велико, никакія затраты, какъ бы онѣ ни были щедры, не могли
бы покрыть того расхода, который потребовался бы на эти работы, еслибъ ихъ дѣ-
лали люди свободные, получающіе порядочное, честное вознагражденіе за свой трудъ.
Но въ Египтѣ, какъ и въ Индіи, подобныя соображенія не принимались во внима-
ніе, ибо все было направлено къ тому, чтобы покровительствовать высшимъ сосло-
віямъ общества и угнетать низшіе. Между первыми и вторыми была огромная, непро-
ходимая пропасть 4). Если членъ рабочаго класса перемѣнялъ свои обычныя занятія,
или если узнавали, что онъ интересуется политическими вопросами, то его строго
наказывали; и ни подъ какимъ условіемъ не дозволялось также владѣть землей земле-
дѣльцу, ремесленнику пли вообще кому бы то ни было, кромѣ царя, духовенства и
войска. Масса же народа была мало отличаема отъ подъемнаго скота; ее считали
неспособной ни къ чему болѣе, кромѣ непрерывной, безвозмездной работы. Если кто
изъ простого народа пренебрегалъ своей работой, то его за то сѣкли; этому же на-
казанію часто подвергали также домашнюю прислугу и даже женщинъ. Эти и подоб-
ныя имъ постановленія были хорошо задуманы; они удивительно согласовались со
всей системой общественнаго устройства, которая, будучи основана на деспотизмѣ,
могла держаться только жестокостью. Рабочія силы всего народа были въ безуслов-
номъ распоряженіи малой части его, — вотъ что давало возможность воздвигать тѣ
обширныя зданія, въ которыхъ опрометчивые наблюдатели видятъ съ удивленіемъ
доказательство цивилизаціи, но которыя въ сущности свидѣтельствуютъ о порядкѣ
вещей совершенно противоестественномъ и нездоровомъ, — порядкѣ, при которомъ
умѣнье и искусство обращались во вредъ тѣмъ, кому должны были бы приносить
пользу, такъ что тѣ именно, средства, которыя доставлялъ самъ народъ, противъ него
же и обращались.
Чтобы въ такомъ состояніи общества слишкомъ много обращали вниманія на
страданія человѣческія,—этого нельзя было ожидать 5). Но насъ тѣмъ не менѣе по-
ражаетъ безпечная щедрость, съ какой высшіе классы въ Египтѣ расточали трудъ
1) Пѣтъ достаточныхъ данныхъ въ пользу пред-
полагаемыхъ путешествій въ Египетъ древнихъ гро-
ковъ и подлежитъ даже сомнѣнію, былъ ли когда Пла-
тонъ въ этой странѣ. Римляне много интересовались
этимъ предметомъ. Бунзенъ говорить: «Съ Діодоромъ
всякое систематическое изслѣдованіе исторіи Египта
прекращается, не только со стороны грековъ, по и
вообще со стороны древнихъ». Ликъ приходить къ
тому заключенію, что послѣ Птоломея древніе ни-
чего не прибавили къ своимъ познаніямъ въ географіи
Африки.
2) Сэръ Джонъ Гершель вычисляетъ, что большая
пирамида вѣситъ двѣнадцать тысячъ семьсотъ шесть-
десятъ милліоновъ фунтовъ. Но, по Иеррипгу, настоя-
щее количество каменныхъ матеріаловъ въ этой пира-
, мидѣ составляетъ 6,316.000 тоннъ, или 82.110.000
кубическихъ футовъ.
3) .Много строено было мечтательныхъ иредполо-
, женій касательно цѣли сооруженія пирамидъ; но въ па-
I стоящее время доказано, что это цц болѣе, ни менѣе,
I какъ могилы египетскихъ царей.
4) Тѣ, которые жалуются, что вь Европѣ этотъ
промежутокъ все еще слишкомъ великъ, могутъ найти
нѣкотораго рода утѣшеніе, изучая древнія впѣевропей-
і скія цивилизаціи.
! 5) «Одинъ царь подражалъ другому или старался
превзойти ого, а добродушный народъ долженъ былъ
; употребить всѣ дни своеіі жизни на постройку этахъ
ВЛІЯНІЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
35
и жизнь народа; въ этомъ отношеніи они, какъ ясно видно изъ сохраняющихся до
сихъ поръ памятниковъ, являются единственными въ своемъ родѣ и не имѣютъ со-
перниковъ. Мы можемъ составить себѣ нѣкоторое понятіе объ этой почти неимовѣр-
ной расточительности, слыша, что двѣ тысячи человѣкъ употребили три года времени
на перевозку одного камня съ Элефантпны въ Саидъ; что одинъ каналъ Чермнаго
моря стоитъ жизни ста двадцати тысячамъ египтянъ, и что для постройки одной изъ
пирамидъ требовалось, чтобы триста шестьдесятъ тысячъ человѣкъ работали двад-
цать лѣтъ.
Если отъ исторіи Азіи и Африки мы перейдемъ къ Новому Свѣту, то найдемъ
новыя доказательства справедливости сдѣланныхъ нами выше замѣчаній. Единствен-
ныя страны Америки, которыя до прибытія европейцевъ были въ нѣкоторой степени
цивилизованы,—это Мексика и Перу; къ нимъ можно еще пожалуй присоединить
и ту длинную и узкую полосу земли, которая простирается отъ южной части Ме-
ксики до Панамскаго перешейка. Въ этой послѣдней мѣстности, которая извѣстна
теперь подъ именемъ центральной Америки, жители при помощи плодородія почвы
повидимому выработали себѣ извѣстный итогъ знанія; ибо сохраняющіяся до сихъ
поръ развалины доказываютъ, что они обладали искусствомъ въ механикѣ и архи-
тектурѣ, слишкомъ высокимъ для совершенно невѣжественнаго народа г). Кромѣ этого
мы ничего не знаемъ объ ихъ исторіи; но свѣдѣнія, которыя мы имѣемъ о такихъ
зданіяхъ, какъ Сорап, Раіепдпе и Ѵхшаі, дѣлаютъ въ высшей степени правдопо-
добнымъ, что центральная Америка была средоточіемъ цивилизаціи, имѣвшей во всѣхъ
главныхъ чертахъ сходство съ цивилизаціями Индіи и Египта, т. е. уподоблявшейся
имъ неравномѣрностью распредѣленія богатства и вліянія и рабствомъ, въ которомъ
оставалась вслѣдствіе этого значительная часть народа. /
Но хотя данныя, по которымъ мы могли бы судить о прежнемъ состояніи цен-
тральной Америки, почти совершенно утрачены, зато намъ болѣе посчастливилось
въ исторіи Мексики и Перу. Еще существуетъ значительное количество достовѣр-
ныхъ матеріаловъ, изъ которыхъ мы можемъ составить себѣ понятіе о древнемъ
состояніи этихъ двухъ странъ и о характерѣ и степени ихъ цивилизаціи. Прежде
однако чѣмъ приступить къ .этому предмету, кстати будетъ указать на тѣ физиче-
скіе законы, которыми опредѣлялись мѣстности для американской цивилизаціи, или,
другими словами, разъяснить, почему только въ этихъ двухъ странахъ общество по-
лучило систематическое, прочное устройство, между тѣмъ какъ остальная часть Но-
ваго Свѣта была населена дикими, невѣжественными варварами. Этого рода изслѣ-
дованіе будетъ въ высшей степени. занимательно въ томъ отношеніи, что предста-
витъ новыя доказательства необыкновенной, просто неотразимой силы, съ какой
вліяла природа на судьбу человѣка.
Первое, что должно поразить пасъ, это то обстоятельство, что въ Америкѣ
такъ же, какъ въ Азіи и Африкѣ, всѣ первоначальныя цивилизаціи сосредоточива-
лись въ жаркихъ странахъ; такъ, все Перу собственно лежитъ внутри южнаго, а
вся центральная Америка и Мексика внутри сѣвернаго тропиковъ. Какое имѣлъ
памятниковъ. Такъ произошли но всей вѣроятности
египетскіе пирамиды и обелиски. Пхъ строили только
въ древнѣйшія времева, ибо въ позднѣйшее время и у
всѣхъ народовъ, которые научились болѣе полезнымъ
занятіямъ, пирамидъ уже не строили. Итакъ, пирамиды
далеко не должны служить признакомъ благоденствія
п просвѣщенія древняго Египта, а представляютъ не-
сомнѣнный памятникъ суевѣрія и безсмысленности
какъ тѣхъ несчастныхъ, которые строили, такъ и
тѣхъ тщеславныхъ, которые приказывали строить»
(Гердеръ). .
г) Скіоръ (Бдиіег), дѣлавшій изысканія въ IIи-
карагуѣ, говоритъ о тамошнихъ статуяхъ: «матеріалъ
въ нихъ всегда черный базальтъ, весьма твердый,
который даже самыми лучшими изъ новѣйшихъ ору-
дій рѣжется съ трудомъ». Стефенсъ нашелъ въ Ра-
Іспциѳ «щегольскіе образчики искусства, достойные
изученія». О картинахъ въ СЬісЬеа онъ говоритъ:
«онѣ обнаруживаютъ такую легкость руки, которая
могла быть достигнута только подъ строгимъ падзо-
। ромъ п руководствомъ мастеровъ». Въ Копанѣ «камни
I такъ обтесаны, что болѣе совершенной каменной тески
। нельзя было бы достигнуть и съ помощью самыхъ
лучшихъ инструментовъ новѣйшаго времени». А въ
। ПхіпаІ «кладка п полировка камня вездѣ выполнены
съ такимъ совершенствомъ, какъ будто бы это дѣла-
। лось но лучшимъ, новѣйшимъ правиламъ для камен-
! пыхъ работъ». Паши свѣдѣнія о центральной Америкѣ
I почти исключительно заимствованы изъ этихъ двухъ
! писателей.
3*
36
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
вліяніе жаркій климатъ на общественное и политическое устройство Индіи иТЕгипта,—
это я уже пытался разсматривать; при чемъ, я надѣюсь, было доказано, что резуль-
татъ этого вліянія выразился въ уменьшеніи нуждъ и потребностей народа и въ
происшедшемъ оттого весьма неравномѣрномъ распредѣленіи богатства и вліянія.
Но кромѣ этого, есть еще другой путь, которымъ проявляется вліяніе средней тем-
пературы странъ на ихъ цивилизацію, и я отложилъ разборъ этого рода вліянія до
настоящей минуты, потому что въ Америкѣ его можно прослѣдить яснѣе, чѣмъ гдѣ-
либо. И въ самомъ дѣлѣ, въ Новомъ Свѣтѣ дѣйствіе природы проявляется въ го-
раздо большихъ размѣрахъ, чѣмъ въ Старомъ, и силы ея имѣютъ большее преобла-
даніе; поэтому очевидно, что тамъ вліяніе ея на родъ человѣческій можетъ быть
изучаемо съ бблыпимъ успѣхомъ, чѣмъ въ тѣхъ странахъ, гдѣ опа слабѣе и гдѣ слѣ-
довательно менѣе замѣтны результаты ея дѣятельности.
Если читатель усвоитъ себѣ то громадное значеніе, которое имѣетъ, какъ было
доказано, изобиліе общеупотребительной пищи, то онъ легко пойметъ, какъ подъ
гнетомъ естественныхъ вліяній цивилизація Америки ограничилась по необходимости
тѣми только частями, гдѣ ее застали при открытіи Новаго Свѣта. Можно сказать,
оставивъ въ сторонѣ химическія и геогностическія различія почвы, что есть двѣ
причины, отъ которыхъ зависитъ плодородіе каждой страны, а именно: теплота и
влажность. Гдѣ онѣ изобилуютъ, тамъ земля плодородна, гдѣ ихъ недостаетъ—без-
плодна. Впрочемъ, законъ этотъ въ примѣненіи своемъ допускаетъ исключенія подъ
вліяніемъ физическихъ условій, отъ него не зависящихъ; но при равенствѣ другихъ
условій онъ неизмѣненъ. Значительныя приращенія, сдѣланныя въ нашемъ знаніи
географической ботаники ср времени проведенія изотермическихъ линій, даютъ намъ
возможность принять это правило за законъ ’природѣі, подтверждаемый не только
доказательствами, заимствованными изъ физіологіи растеній, но и тщательнымъ изу-
ченіемъ пропорцій, въ которыхъ дѣйствительно распредѣлены растенія по различ-
нымъ странамъ. \ - Д - Ч
Общее обозрѣніе материка Америки раскроетъ намъ связь, существующую
между приведеннымъ выше/закономъ и предметомъ, занимающимъ насъ въ настоя-
щую минуту. Во-первыхъ, по отношенію къ влажности мы замѣчаемъ, что всѣ боль-
шія рѣки въ Новомъ Свѣтѣ находятся на восточномъ берегу и нѣтъ ни одной на
западномъ. Причины этого замѣчательнаго факта неизвѣстны х), но то достовѣрно,
что пи въ Сѣверной, ни въ Южной Америкѣ ни одна значительная рѣка не впа-
даетъ въ Тихій Океанъ, между тѣмъ какъ на противоположной сторонѣ есть мно-
жество рѣкъ, изъ которыхъ нѣкоторыя имѣютъ огромную величину, а всѣ чрезвы-
чайно важны, какъ-то: Негро, Ла-Плата, Санъ-Франциско, Амазонка, Ориноко,
Миссиссипи, Алабама, Святого Іоанна, Потомакъ, Сускегснна, Делаваръ, Гудсонъ и
Святого Лаврентія. Этой обширной системой постоянно орошается почва на вос-
токѣ * 2); на западѣ же въ Сѣверной Америкѣ есть одна только значительная рѣка,
это Орегонъ, а въ Южной, отъ Панамскаго перешейка до Магелланова пролива нѣтъ
ни одной большой рѣки,
Что же касается другой главной причины плодородія, то въ этомъ отношеніи
мы находимъ въ Сѣверной Америкѣ порядокъ вещей совершенно обратный. Тамъ
теплота на западѣ^ между тѣмъ какъ орошеніе на востокѣ 3), Это различіе въ темпе-
Есть различіе между восточнымъ и западнымъ
склонами горныхъ цѣпей, объясняющее это явленіе от-
части, но не вполнѣ; но еслибъ даже объясненіе эго
и было болѣе удовлетворительно, то все-таки оно слиш-
комъ близко къ явленію, чтобы имѣть научную цѣн-
ность, и должно быть само провѣрено высшими геоло-
гическими сообрпжені ями.
2) Объ этомъ орошеніи можно составить нѣкото-
рое понятіе изъ сдѣланнаго вычисленія, что Амазонка
орошаетъ площадь въ 2.500.000 квадр. англійскихъ
мпль, что устье ея имѣетъ 96 миль ширины, и что
она судоходца на разстояніи 22.000 миль отъ устья.
Что же касается Сѣверной Америки, то Роджерсъ го-
ворить: «площадь, орошаемая рѣкою Миссиссшіп и ея
ириюками, исчисляется въ 1.099.000 англійскихъ кв.
миіь».
। Это хорошо объясняется тѣмъ ботаническимъ
фактомъ, чго па западѣ хвойныя породы расгутъ до
। 68° и даже до 70е с. ш., между тѣмъ какъ на востокѣ
сѣверный предѣлъ ихъ—60°.
ВЛІЯНІЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
37
ратурѣ двухъ береговъ находится по всей вѣроятности въ связи съ какимъ-нибудь
важнымъ метеорологическимъ закономъ; ибо во всемъ сѣверномъ полушаріи восточ-
ныя части материковъ и острововъ холоднѣе западныхъ. Происходитъ ли это отъ
какой-нибудь важной общей причины, или же въ каждомъ случаѣ дѣйствуетъ особая
причина, этого при настоящемъ состояніи знанія рѣшить невозможно; но самый
фактъ не подлежитъ сомнѣнію, и вліяніе его на первоначальную исторію Америки
чрезвычайно любопытно. Такъ, два главныя условія плодородія никогда не соединя-
лись ни въ одной изъ частей материка, лежащихъ къ сѣверу отъ Мексики. На одной
сторонѣ всѣ мѣстности ощущали недостатокъ въ теплотѣ, на другой —въ орошеніи.
Обстоятельство это, замедляя накопленіе богатства, останавливало успѣхи общества,
и до тѣхъ поръ, дока въ XVI столѣтіи не было перенесено въ Америку европейское
знаніе, тамъ не случалось примѣра, чтобы какой-нибудь народъ, живущій къ сѣ-
веру отъ параллели 20°, достигъ хоть той несовершенной цивилизаціи, которой легко
достигли жители Индіи и Египта х). Напротивъ того, къ югу отъ этой параллели
материкъ вдругъ перемѣняетъ свой видъ и, быстро съуживаясь, превращается въ не-
большую полосу земли, которая простирается до Панамскаго перешейка. Это узкое
пространство было средоточіемъ мексиканской цивилизаціи; а почему это такъ было,
легко понять послѣ сдѣланныхъ нами выше замѣчаній. Особаго рода очертаніе ма-
терика давало весьма большое протяженіе береговъ и сообщало такимъ образомъ
южной части Сѣверной Америки характеръ острова. Отсюда явилась въ ней одна
изъ особенностей, отличающихъ климатъ острововъ, а именно усиленная влаж-
ность, происходящая отъ водяныхъ испареній, отдѣляемыхъ моремъ 1 2). Такимъ обра-
зомъ доложеніе Мексики по близости отъ экватора давадб ей теплоту, а очертаніе
береговъ—влажность; а такъ какъ изъ всѣхъ странъ Сѣверной Америки въ ней одной
соединились оба эти условія, то она одна и была сколько-нибудь цивилизована. Не
можетъ быть никакого сомнѣній, что еслибъ песчаныя равнины Калифорніи или
южной Колумбіи вмѣсто того, чтобы быть спаленными до безплодія, были орошены
рѣками востока, или еслибъ съ рѣками востока соединялась теплота запада, то ре-
зультатомъ какъ того, такъ и другого сочетаній было бы то плодородіе почвы, ко-
торое, какъ положительно доказываетъ исторія міра, предшествовало всякой ранней
цивилизаціи. По такъ какъ въ каждой изъ частей Америки къ сѣверу отъ парал-
лели 20° недоставало одного изъ двухъ условій плодородія, то цивилизація никакъ
не могла найти въ ней пристанища, покуда не перешла за эту линію. Не найдено
и, мы смѣло можемъ сказать, не будетъ найдено ни малѣйшаго слѣда того, чтобы
на всемъ этомъ огромномъ материкѣ хоть одинъ древній народъ былъ способенъ сдѣ-
лать большіе успѣхи въ искусствахъ и ремеслахъ, или образовать изъ себя осѣдлое,
постоянное общество.
Вотъ какіе физическіе дѣятели имѣли вліяніе на раннія судьбы Сѣверной Аме-
рики. Въ Южной Америкѣ возымѣлъ дѣйствіе рядъ совершенно другихъ обстоя-
тельствъ. Законъ, въ силу котораго восточные берега холоднѣе западныхъ, не только
1) Тѣ скудныя свѣдѣнія, которыя мы имѣемъ о
прежнемъ состояніи сѣверо-американскихъ племенъ, были
собраны у Макъ-Куллоха, въ его ученомъ сочиненіи
«Кезеагсііез сонсегат^ Атегіса», стр. 119—146. Па
стр. 121 онь говорить, что оии «жили вмѣстѣ, безъ
законовъ и гражданскаго устройства». Въ этой части
свѣта не было но всей вѣроятности никогда осѣдлаго
населенія; и мы таперъ знаемъ, что жители сѣверо- і
восточной Азіи переходили въ разныя времена на сѣ- ।
веро-заиадь Америки: такъ было напримѣръ съ чукчами, '
которые встрѣчаются па обоихъ материкахъ. И въ са-
момъ дѣлѣ, Добеллъ былъ такъ пораженъ сходствомъ
между сѣверо-американскими племенами и нѣкоторыми
изъ племенъ, встрѣченныхъ имъ около Томска, что по-
лагалъ, что они одного и того же происхожденія.
Должно полагать, основываясь на общихъ физи-
ческихъ соображеніяхъ, что существуетъ соотношеніе
между количествомъ дождя и протяженіемъ береговъ;
въ Европѣ, единственной странѣ, гдѣ записываются ме-
теорологическія наблюденія, связь эта доказана стати-
стически. «Если измѣрять количество дождей, падаю-
щихъ въ различныхъ частяхъ Европы, то, при равен-
ствѣ всѣхъ другихъ условій, оно вездѣ оказывается
уменьшающимся по мѣрѣ удаленія отъ берега моря»
(Кемць). Отсюда безъ сомнѣнія происходитъ большая
рѣдкость дождей, замѣчаемая по мѣрѣ удаленія къ сѣ-
веру отъ Мексики. Къ сѣверу отъ 20°, особенно съ
22° но 30° широты, дожди, продолжающіеся только
іюнь, іюль, августъ и сентябрь, рѣдко бываютъ во вну-
тренности с граны».
38 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
непримѣнимъ къ южному полушарію, но даже замѣняется въ немъ закономъ прямо
противоположнымъ. Къ сѣверу отъ экватора востокъ холоднѣе запада, къ югу же
востокъ теплѣе запада х). Теперь, если соединить этотъ фактъ съ тѣмъ, что было
замѣчено касательно обширной системы рѣкъ, отличающей востокъ Америки отъ за-
пада, то становится очевиднымъ, что въ Южной Америкѣ имѣетъ мѣсто то совокуп-
ное дѣйствіе теплоты и влажности, котораго недостаетъ въ Сѣверной. Оть этого въ
восточной части Южной Америки почва замѣчательна своимъ плодородіемъ не только
между тропиками, но и на значительномъ разстояніи внѣ ихъ; такъ, южная часть
Бразиліи и даже Урагвай отличаются такимъ плодородіемъ, какого нельзя найти ни
въ одной изъ странъ Сѣверной Америки, лежащихъ на соотвѣтствующей шпротѣ.
Съ перваго взгляда на замѣченныя нами выше общія свойства можно было бы
подумать, что восточная сторона Южной Америки, будучи такъ щедро одарена при-
родою 2), должна была сдѣлаться средоточіемъ одной изъ тѣхъ цивилизацій, какія
возникали въ другихъ мѣстахъ подъ вліяніемъ подобныхъ же условій. Но, вникнувъ
поглубже въ этотъ предметъ, мы найдемъ, что тѣ условія, на которыя мы только-
что указали, далеко не исчерпываютъ даже физическихъ сторонъ его, и что мы
должны принять въ соображеніе существованіе третьяго важнаго дѣятеля, котораго
было достаточно, чтобы нейтрализировать естественное дѣйствіе двухъ первыхъ и
удержать въ варварскомъ состояніи жителей страны, которая безъ этого была бы
самой цвѣтущей изъ всѣхъ странъ Новаго Свѣта.
Дѣятель, на который я намекаю, есть пассатный вѣтеръ,—поразительное явле-
ніе, имѣвшее, какъ мы увидимъ далѣе, сильное и при томъ вредное вліяніе на всѣ
цивилизаціи, предшествовавшія европейскимъ. Вѣтеръ этотъ объемлетъ пространство
не менѣе 56° широты: отъ ч28° къ сѣверу до 28° къ югу отъ экватора. Въ этой
обширной полосѣ, заключающей въ себѣ нѣкоторыя изъ самыхъ плодородныхъ странъ
на земномъ шарѣ, пассатный вѣтеръ дуетъ въ теченіе всего года съ сѣверо-востока
или съ юго-востока. Причины этой правильности теперь вполнѣ разгаданы, и извѣстно,
что она зависитъ частью отъ перемѣщенія воздуха на экваторѣ, частью же отъ дви-
женія земли; ибо холодный воздухъ, постоянно притекая отъ полюсовъ къ экватору,
производитъ такимъ образомъ въ сѣверномъ полушаріи сѣверные, а въ южномъ—
южные вѣтры. Но вѣтры эти отклоняются отъ ихъ естественнаго направленія дви-
женіемъ земли, такъ какъ она вращается на своей оси отъ запада къ востоку. А
такъ какъ вращеніе земли конечно быстрѣе на экваторѣ, чѣмъ въ какомъ-либо дру-
гомъ мѣстѣ, то оказывается, что по близости отъ экватора скорость ея движенія такъ
велика, что она пересѣкаетъ притоки атмосферы отъ полюсовъ и, давая имъ другое
направленіе, производитъ тѣ восточныя теченія, которыя называются пассатными
вѣтрами. Но въ настоящее время насъ занимаетъ не столько объясненіе пассатныхъ
вѣтровъ, сколько указаніе, въ какого рода связи находится это важное физическое
явленіе съ исторіей Южной Америки.
Пассатный вѣтеръ, дующій на восточномъ берегу Южной Америки, начинается
на востокѣ и пересѣкаетъ Атлантическій Океанъ, вслѣдствіе чего достигаетъ мате-
рика пресыщенный водяными парами, которые онъ поглотилъ во время пути. У бе-
рега пары эти въ періодическіе промежутки времени сгущаются въ дождь, и такъ какъ
дальнѣйшему движенію ихъ на западъ препятствуетъ гигантская цѣпь Андовъ, черезъ
которую они не могутъ перейти, то вся ихъ влага изливается на Бразилію, которая
вслѣдствіе того бываетъ часто затопляема самыми разрушительными потоками. Такое
*) «Различіе между климатомъ восточныхъ и за-
падныхъ береговъ материковъ и острововъ было
также замѣчено п въ южномъ полушаріи, по тамъ
западные берега холоднѣе восточныхъ, между тѣмъ
какъ въ сѣверномъ полушаріи восточные берега хо-
лоднѣе».
<2) Дарвинъ, написавшій одно изъ самыхъ лучшихъ
сочиненій о Южной Америкѣ, былъ пораженъ превос-
ходствомъ восточнаго берега ея; онъ говоритъ «что та-
кіе плоды, какъ, напримѣръ, виноградъ и винныя ягоды,
: которые на восточномъ берегу хорошо созрѣваютъ и
изобилуютъ на шпротѣ 41е, на противоположной сто-
ронѣ материка родятся очень плохо даже и па менъ*
шей широтѣ».
ВЛІЯНІЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
39
изобиліе дождевой воды въ соединеніи съ обширной системой рѣкъ, составляющей
отличительную черту восточной части Южной Америки, и съ теплотой возбуждаетъ
почву къ такой дѣятельности, которой нѣтъ ничего равнаго ни въ какой другой
части свѣта *)• Бразилія, почти -равняющаяся пространствомъ всей Европѣ, покрыта
неимовѣрно богатой растительностью. И въ самомъ дѣлѣ, все растетъ въ ней такъ
сильно и такъ роскошно, что кажется, будто природа тѣшится своей необузданной
силой. Значительная часть этой обширной страны покрыта густыми лѣсами,- въ ко-
торыхъ благородныя деревья, цвѣтущія въ неподражаемой красѣ и плѣняющія взоръ
тысячью различныхъ оттѣнковъ, сыплютъ плодами съ безконечной щедростью. Вер-
шины ихъ осыпаны дивно красивыми птицами, гнѣздящимися въ ихъ тѣнистыхъ вѣт-
вяхъ. Внизу комли и стволы ихъ окружены кустарникомъ, стелящимися растеніями,
безчисленными паразитами- и во всемъ этомъ кипитъ жизнь. Есть тамъ и миріады
насѣкомыхъ, есть странныхъ, невѣроятныхъ формъ пресмыкающіяся, змѣи и яще-
рицы дивной красоты — и все это находитъ средства къ существованію въ этомъ
огромномъ хранилищѣ богатствъ природы. А чтобы ни въ чемъ не было недостатка
въ этой странѣ чудесъ, лѣса опоясаны безконечными лугами, которые, дымясь отъ
влаги и теплоты, доставляютъ пищу безчисленнымъ стадамъ дикаго скота, пасуща-
гося и тучнѣющаго на ихъ травахъ; въ то же время прилегающія къ нимъ долины,
богатыя другого рода жизнью, служатъ любимымъ мѣстопребываніемъ для самыхъ
хищныхъ и страшныхъ звѣрей, которые пожираютъ другъ друга, но которыхъ, ка-
жется, никакая человѣческая сила не въ состояніи истребить.
Вотъ какой полнотой, какимъ избыткомъ жизни отличается Бразилія передъ
всѣми другими странами земного шара 2). Но среди этой пышности, этого блеска
природы не оставлено ни малѣйшаго мѣста для человѣка./ Онъ теряетъ всякое зна-
ченіе передъ такимъ величіемъ окружающей его природы. Ему противопоставлены
такія громадныя силы, что онъ никогда но могъ противиться имъ, никогда не могъ
выдержать ихъ совокупнаго давленія. Вся Бразилія, несмотря на ея громадныя
внѣшнія преимущества, всегда оставалась совершенно нецивилизованной. Жители
ея—бродячіе дикари, неспособные преодолѣвать тѣ препятствія, которыя поставила
на ихъ пути самая щедрость природы. Туземцы Бразиліи, какъ и всякій народъ въ
младенческомъ состояніи, чужды предпріимчивости; но зная искусствъ, съ помощью
которыхъ устраняются физическія преграды, оии никогда и не пытались бороться съ
трудностями, останавливавшими ихъ общественное развитіе. Правда, что трудности
эти такъ серьезны, что къ преодолѣнію ихъ тщетно были прилагаемы въ теченіе
слишкомъ трехсотъ лѣтъ всѣ средства европейскаго знанія. Въ прибрежныя части
Бразиліи проникла извѣстная доля цивилизаціи изъ Европы; туземцы же и этого не
могли бы достигнуть своими собственными средствами. Но цивилизація эта, и сама
по себѣ уже весьма несовершенная, никогда при томъ не проникала во внутрен-
ность страны; въ ней еще и до сихъ поръ можно найти порядокъ вещей, подобный
издавна существовавшему. Народъ, невѣжественный и поэтому грубый, не терпя-
щій никакого стѣсненія, не признающій никакого закона,—все еще живетъ въ преж-
’) Гарднеръ, присматривавшійся ко всему этому
глазами ботаника, говоритъ, что близъ Ріо-Жанейро
теплота и влажность могутъ удобрить и самую бѣдную
почву; такъ что «скалы, на которыхъ едва замѣтны
признаки земли, покрыты веллоціями, тплландеіями,
меластомацеями, кактусами, орхидеями и папоротни-
ками—и все это полно жизни». Уэльшъ даетъ слѣдую-
щее любопытное описаніе времени дождей: «По восьми
пли девяти часовъ въ день въ теченіе нѣсколькихъ не-
дѣль я не зналъ сухого бѣлья; а одежду, которую сни-
малъ къ ночи, приходилось надѣвать утромъ совсѣмъ
сырую. Когда переставалъ дождь, чтб случалось очень
рѣдко, то въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сіяло палящее
солнце, и мы па ходу курились испарявшеюся отъ
жара сыростью, какъ будто бы мы сами превращались
въ пары».
2) Это необыкновенное изобиліе поражало всѣхъ
путешественниковъ. Уэльшъ, проѣхавшій по нѣкото-
рымъ весьма плодороднымъ странамъ, упоминаетъ о
«чрезвычайной производительности природы, характе-
ризующей Бразилію». Дарвинъ говорить: «въ Англіи
всякій, кто любпіъ естественную исторію, пользуется
въ своихъ прогулкахъ большимъ преимуществомъ въ
; томъ отношеніи, что всегда имѣетъ на чемъ остано-
вить свое вниманіе; въ этихъ же плодородныхъ мѣст-
ностяхъ, переполненныхъ жизнью, столь многое при-
влекаетъ наше вниманіе, что почти совсѣмъ невоз-
можно гулять».
40 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
немъ, застарѣломъ варварскомъ состояніи. Въ этой странѣ физическія причины
играютъ во всемъ такую дѣятельную роль, имѣютъ такую неслыханную силу, что
до сихъ поръ не было возможности избѣгнуть послѣдствій ихъ совокупнаго дѣйствія.
Развитіе земледѣлія задерживается непроходимыми лѣсами; жатвы истребляются без-
численными насѣкомыми *); горы слишкомъ высоки, чтобы можно было подниматься
на нихъ; рѣки слишкомъ широки, чтобы строить на нихъ мосты; все направлено къ
тому, чтобы сдержать человѣческій умъ и подавлять его честолюбивыя стремленія.
Такимъ-то образомъ силы природы опутали духъ человѣка. Нигдѣ нѣтъ такой гру-
стной противоположности между величіемъ внѣшняго и ничтожествомъ внутренняго
міра. Умъ, запуганный такой неравной борьбой, не только былъ неспособенъ дви-
гаться впередъ, но безъ посторонней помощи непремѣнно принялъ бы обратное на-
правленіе. Даже въ настоящее время при всѣхъ усовершенствованіяхъ, постоянно
вводимыхъ европейцами, нѣть еще признаковъ дѣйствительнаго прогресса; несмотря
на множество колоній, менѣе чѣмъ пятидесятая доля земли обработана. Нравы жи-
телей такъ же грубы, какъ и были всегда; численность же ихъ представляетъ фактъ
вполнѣ замѣчательный: Бразилія, страна, располагающая самыми сильными физи-
ческими средствами и въ высшей степени изобилующая какъ растеніями, такъ и
животными, страна, почва которой орошена самыми величественными рѣками, а бе-
регъ усѣянъ самыми дивными гаванями,—эта громадная территорія, превосходящая
объемомъ слишкомъ въ двадцать разъ Францію, имѣетъ не болѣе шести милліоновъ
жителей 2).
Соображенія эти достаточно объясняютъ намъ, почему во всей Бразиліи нѣтъ
никакихъ памятниковъ даже самой несовершенной цивилизаціи; нѣтъ никакихъ дан-
ныхъ, по которымъ можно было бы предположить, чтобы жители ея стояли когда-либо
выше того состоянія, въ которомъ застали ихъ европейцы при самомъ открытіи этой
страны. Но непосредственно напротивъ Бразиліи лежитъ другая страна, которая хотя
и находится на томъ же материкѣ и подъ той же широтой, но подчинена другимъ
физическимъ условіямъ и потому была театромъ другого рода общественныхъ явле-
ній. Страна эта—знаменитое царство Перу, которое обнимало весь южный тропикъ
и по причинамъ, изложеннымъ выше, было единственнымъ мѣстомъ въ Южной Аме-
рикѣ, въ которомъ возможно было нѣчто похожее на цивилизацію. Въ Бразиліи съ
жаркимъ климатомъ соединялось двойное орошеніе: во-первыхъ—обширной системой
рѣкъ, которая составляетъ особенность восточнаго берега, а во-вторыхъ—обильной
влагой, наносимой пассатными вѣтрами. Отъ такого сочетанія произошло то ни съ
чѣмъ не сравнимое плодородіе, которое, по крайней мѣрѣ, по отношенію къ чело-
вѣку, не достигало своей цѣли, ибо задерживало его развитіе, между тѣмъ какъ безъ
этого избытка оно помогало бы ему. Мы уже ясно видѣли выше, что когда произво-
дительныя силы природы переходятъ за извѣстный предѣлъ, то съ помощью того не-
совершеннаго знанія, какимъ обладаютъ люди нецивилизованные, бываетъ невозможно
совладать съ ними или обратить ихъ какимъ-нибудь образомъ въ свою пользу. Если
же эти силы, при всей своей дѣятельности, остаются въ предѣлахъ возможности со-
владать съ ними, то возникаетъ порядокъ вещей, подобный замЬченному нами въ
Азіи и Африкѣ, гдѣ богатство природы не только не останавливало общественнаго
развитія, но даже поощряло его, благопріятствуя накопленію того богатства, безъ
извѣстной доли котораго невозможенъ прогрессъ.
Итакъ, разбирая физическія условія, отъ которыхъ первоначально зависѣла ци-
вилизація, мы должны смотрѣть не на одно только богатство природы, но и на ея,
*) Ляйель упоминаетъ «о неимовѣрномъ множе- ! зпрая всѣ его хитрости, направленныя къ истребленію
стаѣ насѣкомыхъ, опустошавшихъ жатвы въ Бразиліи», 1 ихъ колоній, и рѣшительно вынуждаютъ его оставлять
а Свенсонъ, путешествовавшій по этой странѣ, гово- ноля невоздѣланными».
ритъ: «красные муравьи въ Бразиліи такъ истреби- 2) Вь настоящее время Бразилія имѣетъ ІА1/^
темы и въ то же время такъ плодовиты,-что они милліоновъ жителей.
часто оспариваютъ у земледѣльца владѣніе землею, пре- ,
ВЛІЯНІЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
41
такъ сказать, обуздаемость, т. е. должны одинаково принимать въ соображеніе какъ
количество самыхъ средствъ, такъ и степень легкости употребленія ихъ въ дѣло. При-
лагая это начало къ Мексикѣ и Перу, мы находимъ въ этихъ двухъ странахъ Аме-
рики самое благопріятное сочетаніе приведенныхъ выше условій. Средства* этихъ
страну были далеко не такъ обильны, какъ средства Бразиліи, зато ими гораздо
легче было располагать; къ тому же жаркій климатъ давалъ силу дѣйствія и другимъ
законамъ, имѣвшимъ, какъ я пытался уже доказать, большое вліяніе на всѣ перво-
начальныя цивилизаціи.
Весьма замѣчательный фактъ,—фактъ, на который, я увѣренъ, еще никто не
обращалъ вниманія,—составляетъ то, что даже въ отношеніи географической широты
нынѣшняя граница Перу къ югу соотвѣтствуетъ древней границѣ Мексики къ сѣ-
веру и что по удивительному, — для меня впрочемъ совершенно естественному, —
совпаденію ни одна изъ этихъ границъ не переходить за тропикъ, такъ какъ предѣлъ
Мексики составляетъ 21° сѣверной, а Перу 211/30° южной широты 1).
Вотъ какую удивительную правильность представляетъ взорамъ нашимъ исто-
рія при многостороннемъ изученіи ея. Если мы сравнимъ Мексику и Перу съ тѣми
странами Стараго СвЬта, о которыхъ уже было говорено выше, то найдемъ, что въ
этихъ двухъ государствахъ, какъ и во всѣхъ цивилизаціяхъ, предшествовавшихъ
европейской, общественныя явленія подчинялись физическимъ законамъ. Начиная съ
того, что общеупотребительная въ нихъ пища отличалась тѣми именно особенностями,
которыя были замѣчены въ пищѣ самыхъ цвѣтущихъ странъ Азіи и Африки. Конечно
не многія изъ растеній, употребляемыхъ въ пищу въ Старомъ Свѣтѣ, были найдены
въ Новомъ, зато въ немъ мѣсто ихъ занимали другія растенія, во всемъ соотвѣт-
ствовавшія рису и финикамъ; они отличались такимъ же изобиліемъ, такъ же легко
разводились, давали такіе же богатые сборы й потому имѣли то же значеніе въ об-
щественныхъ явленіяхъ. Въ Мексикѣ и Перу однимъ изъ самыхъ важныхъ пред-
метовъ пиіци была всегда кукуруза, которую мы имѣемъ всѣ причины считать ра-
стеніемъ исключительно свойственнымъ американскому материку 2). Подобно рису и
финикамъ, она составляетъ по преимуществу произведеніе жаркаго климата и хотя
растетъ, какъ говорятъ, на возвышеніи слишкомъ въ 7.000 футовъ, но рѣдко встрѣ-
чается по ту сторону параллели 40°. Производительность ея быстро ослабѣваетъ съ
пониженіемъ температуры. Такъ, напримѣръ, въ Новой Калифорніи средній урожай
кукурузы—семьдесятъ иди восемьдесятъ зеренъ; въ самой же Мексикѣ то - же расте-
ніе даетъ триста, четыреста, а при благопріятныхъ обстоятельствахъ даже восемьсотъ
зеренъ 3).
Народъ, получавшій средства къ существованію отъ такого необыкновенно пло-
довитаго растенія, мало нуждался въ упражненіи своихъ рабочихъ силъ, а между тѣмъ
имѣлъ полную возможность размножаться, что повело къ цѣлому ряду политическихъ
и соціальныхъ послѣдствій, подобныхъ замѣченнымъ нами въ Индіи и Египтѣ. Ря-
домъ съ кукурузой были еще и другіе роды пищи, къ которымъ тоже примѣняются
сдѣланныя нами замѣчанія. Картофель, который въ Ирландіи произвелъ такія вред-
ныя послѣдствія, вызвавъ чрезмѣрное увеличеніе народонаселенія, былъ, говорятъ,
Видака, — самое южное мѣсто берега, нынѣ
принадлежащаго Перу, хотя завоеванія перуанцевъ,
сливавшіяся съ имперіей ихъ, распространялись да-
леко въ предѣлы Чили и лишь на нѣсколько градусовъ
не доходили до Патагоніи. Что же касается до Ме-
ксиканской Имперіи, то сѣвернымъ продѣломъ ея былъ
21° но берегу Атлантическаго и 19° по берегу Тихаго
Океана.
2) Нѣкогда былъ возбужденъ вопросъ о томь, не
происходить ли кукуруза изъ Азіи. По позднѣйшія п
болѣе тщательныя изысканія доказали почти несомнѣн-
ныхъ образомъ, что кукуруза была неизвѣстна до от-
крытія Америки. Частыя упоминанія о кукурузѣ у
| Пкстлпльксохигля, туземнаго историка Мексики, дока-
і зывають всеобщее употребленіе ея въ пищу до при-
і бытія испанцевъ.
: 3) «Плодородіе ТіаоПі. или мексиканской кукурузы,
, превосходить всякое представленіе европейца. Это ра-
і степіе подъ благопріятнымъ вліяніемъ сильныхъ жаровъ
1 и обилія влаги достигаетъ роста въ 1 пли Р/2 са-
' жени. Въ прекрасныхъ равнинахъ, простирающихся отъ
| С.-Жуаиъ-дель-Ріо до Кверетаро, напримѣръ, на зем-
| ляхъ большой фермы Эспераица, отъ одной фапеги ку-
і курузы родится иногда до восьмисотъ, а вообще хоро-
шія мѣста даютъ среди имъ числомъ отъ трехъ ДО ЧВ-
I тырехсотъ зеренъ» (Гумбольдтъ).
42 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
туземнымъ растеніемъ въ Перу; и хотя противъ этого существуетъ мнѣніе съ весьма
сильнымъ авторитетомъ (Гумбольдтъ), но во всякомъ случаѣ нѣтъ сомнѣнія, что кар-
тофель находился тамъ въ большомъ изобиліи, когда эта страна была открыта евро-
пейцами *). Въ Мексикѣ картофель былъ неизвѣстенъ до прибытія испанцевъ, но какъ
мексиканцы, такъ и перуанцы въ значительной мѣрѣ питались произведеніями ба-
нана,—растеніемъ, котораго производительныя силы такъ невѣроятно велики, что только
имѣющіяся въ виду точныя и неоспоримыя свидѣтельства могутъ заставить насъ вѣ-
рить въ ихъ дѣйствительность. Въ Америкѣ это замѣчательное растеніе тѣсно свя-
зано съ физическими законами климата, такъ какъ оно составляетъ одинъ изъ важ-
нѣйшихъ предметовъ для пропитанія человѣка вездѣ, гдѣ температура превышаетъ
извѣстную среднюю высоту (20° В). Объ его питательной силѣ достаточно будетъ намъ
сказать, что англійскій акръ, засѣянный бананомъ, можетъ прокормить болѣе пяти-
десяти человѣкъ, между тѣмъ какъ въ Европѣ такое же пространство земли, засѣян-
ное пшеницей, прокормитъ только двухъ человѣкъ. Что же касается собственно до
растительной силы банана, то вычислено, что при однихъ и тѣхъ же условіяхъ уро-
жай банана бываетъ въ сорокъ четыре раза болѣе урожая картофеля и въ сто три-
дцать разъ болѣе урожая пшеницы.
Теперь легко будетъ понять, почему именно во всѣхъ важнѣйшихъ отношеніяхъ
цивилизаціи Мексики и Перу были строго аналогичны съ индійской и египетской.
Въ этихъ четырехъ странахъ такъ же, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ краяхъ Юж-
ной Азіи и Центральной Америки, существовала сумма знаній, дѣйствительно ничтож-
ная, если мѣрить ее европейской мѣрой, но весьма значительная въ сравненіи съ
грубымъ невѣжествомъ, преобладавшимъ въ то же время у сосѣднихъ народовъ. Но
во всѣхъ этихъ странахъ замѣчается та же неспособпбсть къ распространенію даже
тѣхъ слабыхъ начатковъ цивилизаціи, которыхъ онѣ дѣйствительно достигали; то же
совершенное отсутствіе чего-либо похожаго на демократическій духъ; та же деспо-
тическая власть на сторонѣ высшихъ классовъ и то же унизительное раболѣпство со
стороны низшихъ. Какъ мы ясно видѣли, всѣ эти цивилизаціи находились подъ влія-
ніемъ извѣстныхъ физическихъ причинъ, которыя хотя и были благопріятны нако-
пленію богатства, но не благопріятствовали справедливому распредѣленію его. А такъ
какъ знаніе человѣка находилось еще въ состояніи дѣтства * 2), то ему казалось не-
возможнымъ бороться съ этими физическими вліяніями или воспрепятствовать имъ
производить на организацію общества то дѣйствіе, которое мы пытались выше изоб-
разить. И въ Мексикѣ, и въ Перу искусства, и въ особенности тѣ отрасли ихъ, ко-
торыя служатъ роскоши достаточныхъ сословій, достигли значительныхъ успѣховъ. Дома
лицъ высшихъ классовъ были наполнены украшеніями и утварью превосходной ра-
боты; комнаты ихъ были увѣшаны великолѣпными тканями; ихъ одежда и носимые
ими уборы выказывали почти невѣроятную роскошь; драгоцѣнности самыхъ изящ-
ныхъ и разнообразныхъ формъ; богатыя и весьма пышныя платья, вышитыя самыми
рѣдкими перьями, собранными изъ отдаленнѣйшихъ частей государства,—все это слу-
житъ доказательствомъ огромности состояній и тщеславной расточительности, съ ко-
торой эти богатства проживались 3). Непосредственно за этимъ сословіемъ слѣдовалъ
народъ—и можно себѣ представить, въ какомъ онъ былъ положеніи. Въ Перу всѣ
подати лежали на немъ одномъ, такъ какъ лица высшаго класса и жрецы были со-.
2) Съ того времени онъ постоянно тамъ употреб-
ляется въ пищу. Въ Южномъ Перу, на высотѣ отъ
13.000 до 14.000 футовъ, происходитъ съ картофелемъ
любопытный процессъ: крахмалъ замерзаетъ и обра-
щается въ сахаринъ.
2) Единственная наука, съ которой эти народы '
были довольно хорошо знакомы, это астрономія; ею ме-
ксиканцы повидимому занимались съ особеннымъ усиѣ- і
хомъ. Ворономъ, астрономія ихъ, какъ и можно было і
ожидать, была смѣшана съ астрологіей. |
3) Произведенія искусства мексиканцевъ и ис]>у-
анцевъ весьма низко оцѣниваетъ Робертсонъ, который,
впрочемъ, сознается, что онъ ихъ никогда не видалъ.
Но въ настоящемъ столѣтіи на этотъ предметъ обра-
щено было сильное вниманіе; кромѣ примѣровъ искус-
ства въ работѣ и расточительности въ издержкахъ, ко-
торые собралъ Прескоттъ, я могу сослаться па свидѣ-
тельство Гумбольдта, единственнаго путешественника по
Новому Сьѣту, который имѣетъ достаточныя свѣдѣнія
какъ въ естественныхъ наукахъ, такъ и въ исторіи.
ВЛІЯНІЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
43
вершенно изъяты отъ нихъ. А такъ какъ при подобномъ устройствѣ общества боль-
шинству народа невозможно было пріобрѣтать собственность, то онъ обязанъ былъ
удовлетворять потребностямъ правительства своимъ личнымъ трудомъ, который нахо-
дился въ неограниченномъ распоряженіи государственной власти. Въ то же время пра-
вители страны понимали, что съ такой системой управленія чувство личной независи-
мости совершенно несовмѣстно; поэтому они и установили законы, которыми свобода
дѣйствій контролировалась даже въ самыхъ маловажныхъ вещахъ. Народъ былъ такъ
связанъ, что простолюдинъ не могъ перемѣнить ни мѣстопребыванія, ни даже вида
своей одежды безъ разрѣшенія правительства. Законъ предписывалъ каждому, ка-
кимъ трудомъ онъ долженъ былъ заниматься, какую одежду носить, на какой жен-
щинѣ жениться и какими развлеченіями пользоваться. У мексиканцевъ порядокъ
вещей былъ тотъ же самый; тѣ же физическія условія привели ихъ къ тѣмъ же соці-
альнымъ результатамъ. Въ главнѣйшемъ отношеніи, т. е. относительно состоянія массы
народа, Мексика и Перу совершенно сходны между собою. Бывало конечно нѣсколько
второстепенныхъ чертъ различія х), но оба государства были сходны въ томъ, что въ
нихъ существовало только два класса людей: высшій — тираны, и низшій — рабы.
Таково было состояніе, въ которомъ находилась Мексика, когда она была открыта
европейцами,—состояніе, къ которому опа должна была тяготѣть съ древнѣйшихъ вре-
менъ. Оно сдѣлалось, наконецъ, невыносимо, и намъ извѣстно изъ достовѣрныхъ источ-
никовъ. что вызванное этимъ порядкомъ вещей всеобщее нерасположеніе къ прави-
тельству было одною изъ причинъ, облегчившихъ успѣхъ завоевателей, испанцевъ,
и ускорившихъ паденіе Мексиканской Имперіи.
Чѣмъ далѣе мы продолжаемъ наше изслѣдованіе, тѣмъ разительнѣе становится
сходство между всѣми цивилизаціями, процвѣтавшими ранѣе того времени, которое
можно было бы назвать европейскимъ періодомъ въ исторіи человѣческаго ума. Раз-
дѣленіе націи на касты, которое было бы невозможно въ великихъ государствахъ
Европы,—существовало въ глубочайшей древности въ Египтѣ, въ Индіи и повиди-
мому и въ Персіи * 2). То же самое учрежденіе строго поддерживалось въ Перу, и
сообразность его съ тогдашнимъ положеніемъ общества доказывается тѣмъ, что въ
Мексикѣ, гдѣ касты не были установлены закономъ, тѣмъ не менѣе было признано
обычаемъ, чтобы сынъ наслѣдовалъ родъ запятій отца, Это составляло политическій
признакъ того духа неподвижности и консерватизма, который, какъ мы увидимъ впо-
слѣдствіи, развивался во всѣхъ странахъ, гдѣ высшіе классы исключительно присвоили
себѣ государственную власть. Религіознымъ признакомъ этого самаго духа было то
прс'увеличенное уваженіе къ старинѣ и та ненависть ко всякой перемѣнѣ, которую
величайшій изъ всѣхъ писателей, говорившихъ объ Америкѣ, указалъ намъ, какъ
аналогію между народностями Мексики и Индостана 3). Къ этому можно присовоку-
пить, что лица, изучавшія исторію древнихъ египтянъ, замѣтили и въ этомъ народѣ
такое же направленіе. Вилькпнсонъ, извѣстный тщательнымъ изученіемъ египетскихъ
памятниковъ, говоритъ, что египтяне болѣе чѣмъ какой-либо другой народъ были не-
расположены къ измѣненію своихъ религіозныхъ обрядовъ; а Геродотъ, путешество-
вавшій по Египту двѣ тысячи триста лѣтъ тому назадъ, увѣряетъ насъ, что туземцы,
храня всѣ старые обычаи, никогда не вводили новыхъ х). Сходство между этими двумя
х) Мексиканцы были, какъ утверждаетъ Причардъ,
болѣе жестоки нравомъ, чѣмъ перуанцы; но свѣдѣнія
наши недостаточны для того, чтобы рѣшить, происхо-
дило ли это главнымъ образомъ отъ физическихъ при-
чинъ, или отъ соціальныхъ. Гердеръ предпочитаетъ пе-
руанскую цивилизацію: «самое образованное государство
этой части свѣта—Перу».
2) Что въ Персіи были касты — это подтверж-
даетъ Фердуси; его удостовѣреніе, пе говоря уже о
той вѣроятности факта, должно перевѣшивать мол-
чаніе греческихъ историковъ, которые по большей
части зналп очень мало о всѣхъ земляхъ, кромѣ своей
собственной.
3) «Американцы, подобно жителямъ Индостана и
всѣмъ тѣмъ народамъ, которые долго страдали подъ
бременемъ религіознаго и гражданскаго деспотизма, съ
необыкновеннымъ упрямствомъ держатся за свои при-
вычки, свои правы и свои понятія... Въ Мексикѣ, какъ
и въ Индостанѣ, не позволено было вѣрующимъ ничего
измѣнять въ наружномъ видѣ идоловъ. Все, чтб только
касалось до религіи ацтековъ и индусовъ, было опре-
дѣлено неизмѣнными законами» (Гумбольдтъ).
44
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
отдаленными другъ отъ друга странами не менѣе любопытно и съ другой тонки зрѣ-
нія: оно очевидно происходитъ отъ замѣченныхъ уже нами причинъ, общихъ обѣимъ
цивилизаціямъ. Въ Мексикѣ и Перу низшіе классы находились въ полномъ распо-
ряженіи высшихъ, отчего происходила безполезная трата труда, подобная той, кото-
рую мы уже замѣтили въ Египтѣ, и доказательствами которой служатъ остатки хра-
мовъ и дворцовъ, сохраняющіеся еще въ нѣкоторыхъ странахъ Азіи. И мексиканцы,
и перуанцы воздвигали огромныя зданія, которыя были столь же безполезны, какъ
и гигантскія зданія Египта, и сооруженіе которыхъ было возможно лишь въ тѣхъ
странахъ, гдѣ трудъ низшихъ классовъ былъ дурно вознагражденъ и дурно напра-
вленъ 2). Стоимость этихъ памятниковъ тщеславія неизвѣстна; она должна была быть
громадна, такъ какъ американцы, не будучи знакомы съ употребленіемъ желѣза, не
могли пользоваться тѣмъ средствомъ, съ помощью котораго при большихъ сооруже-
ніяхъ значительно сокращается трудъ. Впрочемъ, сохранилось нѣсколько данныхъ,
по которымъ можно себѣ составить понятіе объ этомъ предметѣ. Такъ, напримѣръ,
возьмемъ дворцы царей: мы знаемъ, что въ Перу надъ возведеніемъ царскаго жи-
лища трудились въ продолженіе 50 лѣтъ 20.000 человѣкъ; надъ мексиканскимъ же
дворцомъ работало не менѣе 100.000 человѣкъ,—разительные факты, которые и въ
случаѣ утраты всѣхъ другихъ свидѣтельствъ давали бы достаточное понятіе о со-
стояніи тѣхъ государствъ, гдѣ для такихъ ничтожныхъ цѣлей тратились столь громад-
ныя силы 3).
Приведенныя нами данныя, извлеченныя изъ неоспоримо достовѣрныхъ источ-
никовъ, доказываютъ могущество тѣхъ великихъ физическихъ законовъ, которые въ
самыхъ цвѣтущихъ странахъ внѣ Европы содѣйствовали' накопленію богатства, но
препятствовали должному распредѣленію его и такимъ/образомъ упрочили за выс-
шими сословіями монополію одного изъ важнѣйшихъ элементовъ общественнаго и по-
литическаго значенія. Результатомъ было то, что во всѣхъ этихъ цивилизаціяхъ огром-
ное большинство націи вовсе не пользовалось плодами всеобщаго движенія впередъ,
отчего основаніе прогресса было слишкомъ узко, и самый прогрессъ оказывался весьма
шаткимъ 4). Такимъ образомъ, когда явились извнѣ неблагопріятныя обстоятельства,
то естественно вся система пала. Гражданское общество, заключающее въ себѣ вра-
ждебные существованію его элементы, но могло устоять. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что
эти одностороннія и неправильныя цивилизаціи начали приходить въ упадокъ еще
задолго до кризисовъ, приведшихъ къ окончательному уничтоженію ихъ, такъ что соб-
ственное ослабленіе ихъ содѣйствовало успѣху иноземныхъ завоевателей и сдѣлало
неизбѣжнымъ паденіе этихъ древнихъ царствъ, которыя при болѣе нормальномъ по-
рядкѣ вещей могли быть легко спасены.
Таково было вліяніе, произведенное на великія цивилизаціи внѣ Европы осо-
бенностями національной пищи, мѣстныхъ климатовъ и почвъ. Теперь 'остается мнѣ
2) «Слѣдуя дѣдовскимъ нравамъ, они не пріобрѣ-
таютъ пи одного новаго обычая» (ГеродЛ. Въ такомъ
же смыслѣ Платонъ въ Тітаеиа заставляетъ египет-
скаго жреца говорить Силону: «вы, греки, навсегда
останетесь дѣтьми, старикомъ же грекъ никогда не
бываетъ». А когда Солонъ спросилъ, что онъ подъ
этимъ разумѣетъ, то отвѣтъ былъ: «вы всѣ, по ду-
мамъ вашимъ, люди новые, потому что не имѣете
въ нихъ никакой основанной на старыхъ преданіяхъ
древней славы и никакого отъ времени посѣдѣлаго
знанія».
3) Мексиканцы были повидимому еще болѣе рас-
точительны, чѣмъ перуанцы. Они воздвигиули огром-
ныя пирамиды, изъ которыхъ одна, Холула, имѣла
основаніе «вдвое шире величайшей нзь египетскихъ пи-
рамидъ».
3) Прескоттъ говорить: «Мы не знаемъ, сколько
времени было употреблено на постройку этого дворца,
но утверждаютъ, что трудились надъ нпмъ 200.000
человѣкъ рабочихъ. Какъ бы то ни было, но досто-
вѣрно, что Тезкукапскіе монархи, подобно царямъ
Азіи п древняго Египта, имѣли въ своемъ распоря-
1 женіи огромныя массы людей и иногда назначали для
общественныхъ работъ все населеніе завоеваннаго го-
рода, не исключая и женщинъ. Самые громадные изъ
существующихъ въ мірѣ памятниковъ архитектуры
никогда бы не были воздвигнуты руками свободныхъ
: людей».
Примѣромъ этому можетъ служить прекрасное
замѣчаніе Матгера о томъ, что когда египтяне лиши-
лись своей расы царей, то нація уже но могла болѣе
возстановить свое значеніе. Въ Персіи также, когда
чувство преданности престолу исчезло, то уничтожилось
и сознаніе національнаго значенія. Исторія самыхъ обра-
зованныхъ странъ Европы представляетъ картину прямо
противоположную.
ВЛІЯЕТЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
45
разсмотрѣть вліяніе другихъ физическихъ причинъ, которыя я соединяю подъ общимъ
названіемъ вида природы. Дѣйствіе этихъ причинъ, какъ мы скоро увидимъ, наво-
дитъ*насъ на весьма обширныя и разностороннія изслѣдованія о вліяніи внѣшняго
міра на расположеніе людей къ извѣстному складу мыслей,—вліяніи, придающемъ
особый характеръ религіи, изящнымъ искусствамъ, литературѣ, однимъ словомъ, всѣмъ
главнымъ проявленіямъ человѣческаго ума. Приведеніе въ извѣстность того, какимъ
образомъ это происходитъ, составляетъ необходимое дополненіе къ оконченнымъ нами
выше изслѣдованіямъ. Какъ мы видѣли, что пища, климатъ и почва главнымъ обра-
зомъ вліяютъ на накопленіе и распредѣленіе богатства, точно такъ же мы увидимъ,
что характеръ природы дѣйствуетъ на накопленіе и распредѣленіе умственнаго ка-
питала. Въ первомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ матеріальными интересами чело-
вѣка, а во второмъ—съ его нравственными интересами. Первую изъ этихъ сторонъ
я развилъ, на сколько могъ, а можетъ быть и вообще на столько, сколько позволяетъ
настоящее положеніе нашихъ знаній. Но другая сторона—опредѣленіе отношенія,
существующаго между характеромъ природы и умомъ человѣка, требуетъ такихъ
обширныхъ соображеній и такой массы разнородныхъ матеріаловъ, что я очень бо-
юсь за успѣхъ моихъ стараній; мнѣ нѣтъ конечно надобности говорить, что я не
имѣю никакихъ притязаній на совершенное исчерпаніе этого предмета,—я могу на-
дѣяться только возвести въ общія начала нѣкоторые изъ законовъ того сложнаго, но
еще неизслѣдованнаго процесса, посредствомъ котораго внѣшній міръ вліялъ на че-
ловѣческій умъ, искажалъ его естественныя движенія и слишкомъ часто останавливалъ
его естественное развитіе.
Виды природы, если ихъ разсматривать съ этой точки зрѣнія, могутъ быть раз-
дѣлены на два разряда: къ первому мы относимъ тѣ, которые наиболѣе способны
возбудить воображеніе, а ко второму—тѣ, которые обращаются къ разсудку, въ обык-
новенномъ смыслѣ этого слова, то есть возбуждаютъ чисто логическую дѣятельность
ума. Хотя справедливо, что въ совершенно развитомъ и благоустроенномъ умѣ во-
ображеніе и разсудокъ играютъ каждый свою роль и помогаютъ другъ другу, тѣмъ
не менѣе справедливо также и то, что въ большинствѣ случаевъ разсудокъ слишкомъ
слабъ, чтобы останавливать воображеніе и обуздывать его опасное своеволіе. Разви-
вающаяся цивилизація всегда стремится исправить эту несоразмѣрность и облечь раз-
судокъ той властью, которая въ первобытномъ положеніи общества исключительно
принадлежитъ воображенію. Слѣдуетъ ли бояться того, чтобы реакція пе пошла слиш-
комъ далеко, и чтобы мыслящія способности не стали въ свою очередь злоупотре-
блять своей властью надъ силами воображенія — вотъ вопросъ въ высшей степени
интересный, но при настоящемъ положеніи дѣла вѣроятно неразрѣшимый. Во всякомъ
случаѣ то достовѣрно, что ничего подобнаго такому состоянію до сихъ поръ еще не
осуществлялось, такъ какъ даже и въ настоящее время, когда воображеніе подпало
сильнѣйшему чѣмъ когда-либо контролю, оно еще имѣетъ несравненно болѣе силы,
чѣмъ бы слѣдовало; это легко доказать не только тѣми суевѣріями, которыя еще
повсемѣстно преобладаютъ между необразованными людьми, но и тѣмъ поэтическимъ
уваженіемъ къ древности, которое хотя давно начало уменьшаться, но все еще стѣ-
сняетъ независимость, ослѣпляетъ умъ и ограничиваетъ самобытность лицъ, даже при-
надлежащихъ къ образованному классу.
Итакъ, по отношенію къ вліянію естественныхъ явленій очевидно, что все вну-
шающее намъ чувства ужаса или сильнаго изумленія, все возбуждающее въ умѣ идею
о чемъ-то неясно сознаваемомъ и превышающемъ паши силы,—все это имѣетъ осо-
бую способность воспламенять воображеніе и подчинять его власти болѣе медленныя
и болѣе сознательныя дѣйствія разсудка. Встрѣчаясь съ подобными явленіями, чело-
вѣкъ сравниваетъ свои силы съ могуществомъ и величіемъ природы и приходитъ
къ грустному сознанію своего ничтожества. Онъ чувствуетъ себя подчиненнымъ при-
родѣ. Со всѣхъ сторонъ безчисленныя препятствія окружаютъ его и стѣсняютъ его
личную волю. Его умъ, ужасаясь того, чего онъ не постигаетъ и не можетъ постичь,
46 . ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
едва осмѣливается изучать частности, изъ которыхъ слагается такое поразительное
вшурМ 1), Напротивъ того, тамъ, гдѣ явленія природы представляются въ мень-
жемъ размѣрѣ и съ меньшей силой, человѣкъ пріобрѣтаетъ довѣріе къ самому себѣ.
Онъ чувствуетъ болѣе склонности положиться на свои собственныя силы; онъ можетъ
какъ бы вездѣ пройти и проявлять свою власть во всѣхъ направленіяхъ. А такъ
какъ въ этомъ случаѣ явленія становятся болѣе доступными, то онъ имѣетъ воз-
можность производить надъ ними опыты и наблюдать ихъ во всѣхъ подробностяхъ;
въ немъ поощряется духъ любознательности и анализа, и онъ расположенъ возво-
дить явленія при роды къ общимъ началамъ и объяснять ихъ законами, которыми
они управляются.
Разсматривая такимъ образомъ человѣческій умъ подъ вліяніемъ характера
природы, мы встрѣчаемъ замѣчательный фактъ—что всѣ великія цивилизаціи древ-
ности находились или между тропиками, или непосредственно возлѣ нихъ, т. е. тамъ,
гдѣ характеръ природы самый величественный и самый грозный и гдѣ она вообще
представляетъ наиболѣе опасностей для человѣка. Дѣйствительно, въ Азіи, въ Африкѣ
и въ Америкѣ внѣшній міръ возбуждаетъ болѣе страха, чѣмъ въ Европѣ. Это отно-
сится не только къ постояннымъ и неизмѣннымъ явленіямъ, каковы, напримѣръ, горы
и другія великія естественныя преграды, по и къ явленіямъ временнымъ, каковы
землетрясенія, бури, ураганы, моровыя язвы-—всѣ они въ этихъ странахъ встрѣча-
ются весьма часто и производятъ ужасныя бѣдствія. Эти постоянныя и весьма серьез-
ныя опасности имѣютъ вліяніе подобное тому, какое производитъ величіе природы,—
и то, и другое способствуетъ усиленію дѣятельности воображенія. Такъ какъ собственно
область воображенія составляетъ все неизвѣстное, то каждое событіе для насъ не-
понятное служитъ прямымъ возбужденіемъ силамъ нашей фантазіи. Въ тропическихъ
странахъ явленія такого рода встрѣчается чаще, чѣмъ гдѣ-либо, и изъ этого слѣ-
дуетъ, что въ этихъ странахѣ воображеніе имѣетъ большую возможность восторже-
ствовать надъ другими силами ума. Нѣсколько примѣровъ дѣйствія этого начала
представятъ намъ его въ болѣе ясномъ видѣ и приготовятъ читателя къ основан-
нымъ на немъ доводамъ.
Изъ всѣхъ тѣхъ физическихъ явленій, которыя увеличиваютъ сумму предста-
вляющихся человѣку опасностей, землетрясенія конечно принадлежатъ къ самымъ
поразительнымъ, какъ по сопровождающимъ ихъ смертнымъ случаямъ, такъ и по
неожиданности ихъ. Есть причины предполагать, что имъ всегда предшествуютъ
атмосферическія перемѣны, которыя непосредственно поражаютъ нервную систему
и такимъ образомъ прямымъ физическимъ путемъ производятъ поврежденіе умствен-
ныхъ силъ 2). Какъ бы то ни было, но нѣтъ никакого сомнѣнія, что землетрясенія имѣ-
ютъ послѣдствіемъ расположеніе людей къ извѣстнымъ сближеніямъ понятій и обра-
зованіе въ нихъ особаго умственнаго склада. Ужасъ, который они внушаютъ, возбуж-
даетъ воображеніе до болѣзненнаго состоянія и, пересиливая разсудокъ, располагаетъ
людей къ суевѣрнымъ мечтаніямъ. Весьма любопытно при этомъ то^ что повтореніе
явленія не только не притупляетъ этихъ чувствъ, но даже усиливаетъ ихъ. Въ Перу,
гдѣ землетрясенія повидимому встрѣчаются чаще, чѣмъ гдѣ-либо, каждое повтореніе
этого явленія увеличиваетъ всеобщій ужасъ, такъ что иногда положеніе становится
х) Ощущеніе страха даже тамъ, гдѣ нѣтъ опас-
ности, бываетъ достаточно сильно, чтобы уничтожить
удовольствіе, которое бы мы ощущали безъ этого
чувства. См. напримѣръ описаніе грознаго горнаго
хребта, составляющаго предѣлъ Индостана, вь «Азіаііс
Ве§еагсѣ姻, «Чтобы составить себѣ вѣрное понятіе
объ открывшемся намъ зрѣлищѣ, необходимо, чтобы
человѣкъ поставилъ себя па наше мѣсто. Глубина
долины внизу, постепенное возвышеніе противопо-
ложныхъ горъ н дивное величіе тучами увѣнчаннаго
Гималаи составили такую грозную картину, что умъ
былъ пораженъ скорѣе ощущеніемъ ужаса, чѣмъ удо-
вольствія». Относительно Тироля было замѣчено, что
величіе горъ возбуждаетъ въ умахъ жителей ужасъ,
которыіі и вызвалъ образованіе многихъ суевѣрныхъ
легендъ.
2) «Почти всегда замѣчается усиленіе электриче-
ства, и вообще они (землетрясенія) предвозвѣщаются
ревомъ скота, безпокойствомъ, замѣчаемымъ во всѣхъ
домашнихъ животныхъ, а въ людяхъ—ощущеніемъ того
непріятнаго состоянія, которое въ Европѣ испытывается
нервозными личностями передъ грозою» (Кювье).
•ВЛІЯНІЯ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
47
почти невыносимымъ *)• Такимъ образомъ умъ безпрерывно приводится въ состояніе
робости и ^безпокойства, и люди, подвергаясь самымъ серьезнымъ опасностямъ, ко-
торыхъ они не могутъ ни избѣжать, ни понять, проникаются убѣжденіемъ въ своей
безпомощности и въ недостаточности своихъ умственныхъ силъ. Въ такой же точно
мѣрѣ возбуждается воображеніе и укрѣпляется вѣра въ сверхъестественное вмѣша-
тельство. Человѣческія силы оказываются недостаточны, и потому призываются силы,
которыя выше человѣческихъ; признается присутствіе существъ таинственныхъ и
невидимыхъ, и развиваются въ народѣ тѣ чувства благоговѣнія передъ высшими си-
лами и сознаніе своего безсилія, на которыхъ основано всякое суевѣріе и безъ ко-
торыхъ никакое суевѣріе не можетъ существовать. Вліяніе землетрясеній на развитіе
суевѣрій очерчено въ превосходномъ сочиненіи Ляйеля «Основы геологіи».
Дальнѣйшіе примѣры въ подтвержденіе нашей мысли могутъ быть найдены даже
въ Европѣ, гдѣ подобныя явленія сравнительно весьма рѣдки. Землетрясенія и извер-
женія волкановъ въ Италіи и на Пиренейскомъ полуостровѣ бываютъ чаще и опу-
стошительнѣе, чѣмъ въ другихъ странахъ Европы; и тамъ именно суевѣріе и достигло
наибольшаго развитія и суевѣрныя сословія пользуются наибольшимъ значеніемъ. Въ
этихъ именно странахъ духовенство, ранѣе чѣмъ во всѣхъ другихъ, основало свое
господство; здѣсь явились худшія искаженія христіанскаго ученія, и суевѣріе долѣе
и крѣпче всего держалось. Къ этому можно присовокупить еще одно обстоятельство,
доказывающее существованіе тѣсной связи между грозными явленіями природы и
преобладаніемъ воображенія. Говоря вообще, изящныя искусства обращаются болѣе
къ воображенію, а наука—къ разуму въ тѣсномъ смыслѣ 2). При этомъ замѣчательно,
что всѣ самые великіе живописцы и почти всѣ великіе ваятели, которые являлись
въ Европѣ въ новѣйшее время, были уроженцы Италіанскаго и Испанскаго полу-
острововъ. На поприщѣ науки Италія безъ сомнѣнія также произвела нѣсколько за-
мѣчательно даровитыхъ дѣятелей, но число ихъ совершенно ничтожно въ сравненіи
съ числомъ ея художниковъ и поэтовъ. Что же касается до Испаніи и Португаліи,
то въ литературѣ этихъ двухъ странъ въ высокой степени преобладаетъ поэзія, и
школы ихъ произвели нѣкоторыхъ изъ величайшихъ живописцевъ, какихъ только когда-
либо видѣлъ міръ. Съ другой стороны, чисто мыслящія способности всегда находились
тамъ въ пренебреженіи, и/вссь полуостровъ съ самыхъ древнихъ и до настоящихъ
временъ не внесъ въ исторію естественныхъ наукъ ни одного имени, которое бы
достигло первостепенной извѣстности, не далъ намъ ни одного человѣка, котораго
труды составили бы эпоху въ развитіи европейскаго знанія 3).
Самый процессъ, посредствомъ котораго характеръ природы, когда онъ очень
грозенъ, возбуждаетъ воображеніе и, поощряя суевѣріе, препятствуетъ развитію зна-
нія. можетъ быть представленъ еще нагляднѣе при помощи одного или двухъ при-
мѣровъ. Въ невѣжественномъ народѣ всегда существуетъ побужденіе приписывать
Любопытный примѣръ того, какъ сближеніе по- |
нятій можетъ побѣждать притупляющую силу привычки. I
Чуди, описывая всеобщій паническій страхъ, говоритъ: |
«никакая привычка къ этому явленію не можетъ по-
бѣдить возбуждаемаго имъ ужаса». Биль пишетъ: «Въ
Перу говорятъ, что туземцы, несмотря на часто ощу-
щаемыя потрясенія земли, вмѣсто того, чтобы привы-
кать къ нимъ, какъ бываетъ съ лицами, постоянно под-
вергающимися другимъ опасностямъ, всякій разъ все
болѣе и болѣе ужасаются при каждомъ повтореніи
удара, такъ что въ старыхъ людяхъ страхъ, возбуждае-
мый даже и легкимъ ударомъ, нерѣдко бываетъ почти
невыносимъ». Точно также замѣчаетъ Вардъ, что при
землетрясеніяхъ въ Мексикѣ «туземцы болѣе, чѣмъ ино-
странцы, замѣчаютъ слабые удары п въ то же время
болѣе пугаются ихъ».
2) Самые великіе дѣятели науки и вообще всѣ 1
яелпкіе люди безъ сомнѣнія отличались замѣчательной |
силой воображенія. Но въ искусствахъ воображеніе
играетъ несравненно болѣе важную роль, чѣмъ въ паукѣ,
что именно я и хотѣлъ выразить въ текстѣ. Брюстеръ
полагаетъ, что Ньютонъ имѣлъ слабое воображеніе.
Невозможно разсматривать такой обширный вопросъ
въ примѣчаніи. Но, по моему мнѣнію, никто изъ по-
этовъ, кромѣ Данте и Шекспира, не отличался болѣе
смѣлымъ пареніемъ воображенія, чѣмъ сэръ Исаакъ
Ньютонъ.
3) Замѣчанія Тикнора объ отсутствіи научнаго раз-
витія въ Испаніи могутъ бытѣ распространены еще да-
лѣе. Онь говоритъ между прочимъ, что когда «въ 1771 г.
і Са.іамапкскому университету было предложено ввести
преподаваніе естественныхъ паукъ, то онъ отвѣчалъ,
что Ньютонъ не учитъ ничему, чтй бы могло усовер-
шенствовать человѣка въ познаніи логики и метафи-
зики, а Гассенди и Декартъ но такъ охотно признаютъ
истину откровенія, какъ Аристотель».
48
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
всякую серьезную опасность сверхъестественному вмѣшательству; а такъ какъ этимъ
возбуждается сильное религіозное чувство, то случается постоянно, что люди не только
покоряются этой опасности, но даже дѣлаютъ изъ нея божество. Такъ поступаютъ
нѣкоторыя племена индусовъ въ малабарскихъ лѣсахъ, и каждый, кто изучалъ со-
стояніе дикихъ племенъ, укажетъ на множество подобныхъ примѣровъ *). Дѣйстви-
тельно, это чувство доходитъ до того, что въ нѣкоторыхъ странахъ жители изъ ре-
лигіознаго страха отказываются истреблять дикихъ звѣрей и вредныхъ змѣй, и та-
кимъ образомъ вредъ, приносимый этими животными, составляетъ основаніе ихъ же
безопасности * 2).
Такимъ образомъ древнія цивилизаціи тропическихъ странъ должны были бо-
роться съ безчисленными затрудненіями, не существующими въ умѣренномъ поясѣ,
гдѣ издана процвѣтаетъ европейская цивилизація. Нападенія враждебныхъ чело-
вѣку животныхъ, опустошенія, производимыя ураганами, бурями, землетрясеніями 3),
и другія опасности постоянно тяготѣли надъ этими странами и дѣйствовали на ха-
рактеръ ихъ народностей. Собственно потеря жизни людей была еще меньшимъ изъ
золъ, а главный вредъ состоялъ въ томъ, что въ умѣ человѣческомъ возбуждались
сближенія понятій, которыя доставляли воображенію преобладаніе надъ разсудкомъ,
внушали народу духъ безсознательнаго благоговѣнія вмѣсто духа любознательности
и поощряли въ немъ расположеніе пренебрегать изслѣдованіемъ естественныхъ при-
чинъ представляющихся явленій и приписывать ихъ дѣйствію причинъ сверхъесте-
ственныхъ.
Все, что мы знаемъ о тропическихъ странахъ, доказываетъ намъ, какъ сильно
должно было быть это направленіе. За весьма немногими исключеніями, здоровье
менѣе крѣпко п болѣзни встрѣчаются чаще въ тропическихъ климатахъ, чѣмъ въ умѣ-
ренныхъ. Между тѣмъ часто было замѣчено—и оно весьма понятно—что страхъ
смерти дѣлаетъ людей болѣе чѣмъ когда-либо расположенными искать сверхт есте-
ственной помощи. Такъ велико наше невѣдѣніе относительно загробной жизни, что
неудивительно, если даже самая твердая душа содрогается при внезапномъ прибли-
женіи этой темной, неизвѣстной будущности. Объ этомъ предметѣ разсудокъ не го-
воритъ намъ ничего, и, слѣдовательно, воображеніе дѣйствуетъ безъ контроля. Такъ
какъ дѣйствіе естественныхъ причинъ прекращается,4 то предполагается начало
дѣйствія причинъ сверхъестественныхъ. Вслѣдствіе того все, чтб увеличиваетъ въ
извѣстной странѣ сумму опасныхъ болѣзней,'—имѣетъ непосредственное вліяніе ва
усиліе суевѣрія и расширеніе предѣловъ дѣятельности воображенія на счетъ разсудка.
Это начало до такой степени распространено, что во всѣхъ частяхъ свѣта необра-
зованная масса людей приписываетъ непосредственному участію божества всѣ болѣзни,
которыя являются особенно гибельными, и преимущественно тѣ, которыя отличаются
внезапнымъ и таинственнымъ образомъ появленія. Въ Европѣ считали всякую по-
вальную болѣзнь проявленіемъ божескаго гнѣва 4), и это мнѣніе, хотя уже оно давно
*) Причардъ говоритъ: «племя гаджипъ (Надіи),
обитающее близъ гарроевъ, поклоняется тигру. У са-
мыхъ гарроевъ это понятіе такъ сильно, что носъ
тигра, повѣшенный на шеѣ женщины, считается боль-
шимъ пособіемъ во время родовъ. У сей ковъ есть лю-
бопытное суевѣріе относительно ранъ, нанесенныхъ ти-
громъ. а маласиры полагаютъ, что эти животныя по-
сылаются людямъ въ наказаніе за недостатокъ благо-
честія.
2) Жители Суматры вслѣдствіе суевѣрія весьма
неохотно истребляютъ тигровъ, хотя они производятъ
страшныя опустошенія. Камчадалы оказываютъ боже-
скія почести многимъ животнымъ, отъ которыхъ ожи-
даютъ опасности. Въ Абиссиніи гіеігь считаютъ вол-
шебниками, и жители ни за что пе прикоснутся къ
шкурѣ гіены, пока надъ нею не помолился и не отчи-
таетъ ес священникъ. Къ этому слѣдуетъ присовоку-
пить уваженіе, оказываемое медвѣдямъ, а также и
весьма распространенное поклоненіе змѣю, извилистыя
движенія котораго весьма способны внушать страхъ и
тЬмъ возбуждать религіозныя чувства. Опасность отъ
вредныхъ змѣіі имѣетъ связь съ созданіемъ дивовъ въ
Зепдавестѣ.
3) Чтобы дать понятіе о размѣрѣ эт’ихъ явленій,
; мы укажемъ на землетрясеніе съ волканическимъ из-
верженіемъ, бывшее въ 1815 г. на Суматрѣ, которое
потрясло землю па пространствѣ, имѣющемъ 1.000 миль
въ окружности,— удары были слышны за 970 геогра-
фическихъ миль.
4) Въ шестнадцатомъ вѣкѣ «различныя секты
согласны были въ томъ, чтобы считать тяжкія и
I опасныя болѣзни непосредственнымъ дѣйствіемъ бо-
. жсскаго всемогущества, — мысль, которую Фервель
। помогъ еще болѣе распространить. Въ сочиненіяхъ
ВЛІЯНІЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
49
начало ослабѣвать, еще далеко не искоренилось, даже въ самыхъ просвѣщенныхъ
странахъ *). Это суевѣріе конечно всегда бываетъ особенно сильно или тамъ, гдѣ
слишкомъ, слабы познанія въ медицинѣ, или тамъ, гдѣ всего болѣе встрѣчается бо-
лѣзней. Въ странахъ, соединяющихъ оба условія, суевѣріе доходитъ до высшей сте-
пени; и даже тамъ, гдѣ осуществляется только одно изъ условій, эта тенденція такъ
сильна, что, мнѣ кажется, нѣтъ ни одного необразованнаго народа, который бы не
приписывалъ своимъ добрымъ или злымъ божествамъ не только необычайныхъ
болѣзней, но даже и многихъ изъ числа тѣхъ, которымъ онъ обыкновенно подвер-
гается 2).
Итакъ, вотъ еще новый примѣръ того вреднаго вліянія, которое имѣли въ
древнѣйшихъ цивилизаціяхъ внѣшнія явленія на человѣческій умъ. Тѣ части Азіи,
въ которыхъ люди достигли до высшей степени образованности, имѣютъ климатъ го-
раздо менѣе здоровый, чѣмъ самыя цивилизованныя страны Европы3). Одно это обстоя-
тельство уже должно было имѣть значительное вліяніе на національный характеръ
жителей 4), тѣмъ болѣе, что ему помогали и другія условія, на которыя мы уже ука-
Парс приведено нѣсколько текстовъ изъ Библіи въ до-
казательство того, что гнѣвъ божій составляетъ един-
ственную причину чумы, что достаточно этого гнѣва
для возбужденія ся и что безъ него отдѣльныя при-
чины не могутъ произвести чуму». Тотъ же ученый
говоритъ о среднихъ вѣкахъ, что, «по распространен-
ному въ эти варварскія времена духу, люди считали
проказу посланной непосредственно отъ Бога». Епи-
скопъ Реберъ говоритъ, что у индусовъ прокаженные
лишаются правъ своей касты и права обладанія соб-
ственностью, какъ лица, навлекшія на себя «гнѣвъ
небесный».
г) Подъ вліяніемъ индуктивной философіи (школы
Бэкона), теологическая теорія болѣзпп была серьезно
ослаблена прежде половины семнадцатаго вѣка, а
около половины и во всякомъ случаѣ уже въ концѣ
восемнадцатаго опа лишилась всѣхъ своихъ привер-
женцевъ между учеными людьми. Вь настоящее время
она еще укрывается въ низшемъ классѣ парода и
встрѣчаются слѣды ея въ сочиненіяхъ духовныхъ и
нѣкоторыхъ другихъ лицъ, мало знакомыхъ съ есте-
ственными науками. Когда холера появилась въ Ан-
гліи, то сдѣланы были попытки возобновить старин-
ное понятіе; но духъ времени былъ уже слишкомъ
силенъ, чтобы допустить успѣхъ подобныхъ попытокъ.
Смѣло можно предсказать, что люди никогда не воз-
вратятся къ оставленнымъ ими мнѣніямъ — развѣ что
возвратится прежнее невѣжество ихъ. Въ видѣ образца
тѣхъ понятій, къ возбужденію которыхъ выказалось
стремленіе вслѣдствіе холеры, и какъ примѣръ враж-
дебности ихъ всякому научному изслѣдованію, я могу
указать на письмо, написанное въ 1832 году г-жей
Грантъ, женщиной довольно образованной и имѣвшей
нѣкоторое вліяніе, гдѣ она говорить: «мнѣ кажется
великой самонадѣянностью предаваться, до такой сте-
пени, какъ то дѣлаютъ многіе, умствованію и по-
строенію догадокъ о болѣзни, столь очевидно состав-
ляющей особое наказаніе людямъ и столь отличной
отъ всѣхъ до нынѣ извѣстныхъ видовъ страданія че-
ловѣческаго». ' Это желаніе ограничить человѣческое
мышленіе есть именно то чувство, которое такъ долго
удерживало Европу во мракѣ невѣжества, такъ какъ
оно совершенно воспрещало тѣ свободныя изслѣдова-
нія, которымъ мы обязаны всѣмъ пріобрѣтеннымъ нами
дѣйствительнымъ знаніемъ. Сомнѣнія, которыя выска-
зываетъ объ этомъ предметѣ Бойль, представляютъ
любопытный примѣръ того переходнаго состоянія, въ
которомъ находился умъ человѣческій въ семнадца-
томъ вѣкѣ и которое пролагало путь великому движенію
освобожденія, наступившему въ слѣдующемъ столѣтіи.
» Вокль.—Изд. Ф. Павленкова.
Бойль, изложивши доводы обоихъ мнѣній — теоло-
гическаго и научнаго, — присовокупляетъ: «тѣмъ ме-
нѣе вѣроятно, чтобы эти повальныя и заразительныя
болѣзни всегда посылались для наказанія нечести-
выхъ людей, что, какъ я нашелъ въ нѣкоторыхъ
достовѣрныхъ источникахъ, пныя моровыя язвы истре-
бляли какъ людей, такъ и животныхъ, а другія
преимущественно падали па животныхъ, имѣющихъ
весьма мало значенія для людей, какъ, напримѣръ, ко-
шекъ п т. п.»
«По этой п по другимъ подобнымъ причинамъ, я
иногда полагалъ, что въ спорѣ о происхожденіи моро-
выхъ язвъ, т. е. о томъ, естественное оно или сверхъ-
естественное, ни та, ни другая сторона не права со-
вершенно; такъ какъ весьма вѣроятно, что нѣкоторыя
язвы не могутъ открываться безъ особеннаго, хотя
и не непосредственнаго участія Бога Всемогущаго,
раздраженнаго грѣхами людей, а другія повальныя бо-
лѣзпп могутъ быть произведены гибельнымъ стеченіемъ
простыхъ естественныхъ причинъ». Ни одна изъ
спорящихъ сторонъ не права! Это очень поучи-
тельное мѣсто для составленія себѣ понятія о духѣ при-
миренія, господствовавшемъ въ семнадцатомъ столѣ-
тіи, которое стояло па половинѣ пути между легко-
вѣріемъ шестнадцатаго и скептицизмомъ восемнадцатаго
вѣка,
2) Для историка человѣческаго ума весь этотъ
вопросъ такъ полонъ интереса, что я въ концѣ книги
перечисляю всѣ свидѣтельства, которыя мнѣ удалось
собрать; каждый, кто захочетъ пересмотрѣть указанныя
мною мѣста, можетъ убѣдиться въ томъ, что во всѣхъ
странахъ міра оказывалась тѣсная связь между незна-
ніемъ истинныхъ свойствъ и надлежащаго леченія ка-
кой - либо болѣзни и убѣжденіемъ, что эта болѣзнь
насылается сверхъестественной силой и ею только
можетъ быть излѳчена. Жоффруа Сентъ-Идеръ гово-
ритъ, что когда люди во имѣли понятія о причинѣ
уродливыхъ рожденій, то и это явленіе приписывалось
божеству. Дополнительнымъ примѣромъ можетъ слу-
жить «священная» болѣзнь Камбиза, безъ сомнѣнія
эпилепсія.
3) Жаръ, сырость и происходящее отъ нихъ бы-
строе разложеніе растительныхъ веществъ безъ сомнѣ-
нія принадлежатъ къ причинамъ этого явленія, а къ
нимъ вѣроятно можно присовокупить и электрическое
состояніе атмосферы между тропиками.
4) И тѣмъ самымъ должно было усилить власть
духовенства, потому что, какъ говоритъ, весьма откро-
венно Шарлевуа: «Моровыя язвы—это жатвы для слу-
жителей алтаря».
4
50
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
зали и которыя всѣ вліяли въ томъ же направленіи. Къ этому можно присовоку-
пить, что великія моровыя язвы, которыми была въ разныя времена опустошена
Европа, большею частью приходили съ Востока, гдѣ ихъ естественная родина и гдѣ
онѣ наиболѣе гибельны. Дѣйствительно, изъ тѣхъ ужасныхъ болѣзней, которыя те-
перь укоренились въ Европѣ, едва ли есть хоть одна совершенно туземная; всѣ са-
мыя злѣйшія изъ нихъ были занесены изъ тропическихъ странъ въ первомъ или
вскорѣ послѣ перваго вѣка христіанской эры.
Соединивъ всѣ эти факты, мы можемъ положительно сказать, что во всѣхъ ци-
вилизаціяхъ, существовавшихъ внѣ Европы, всѣ естественныя условія, какъ бы на-
рочно, содѣйствовали тому, чтобы усилить власть воображенія и ослабить значеніе
разсудка. При имѣющихся у насъ нынѣ матеріалахъ можно было бы прослѣдить этотъ
обширный законъ до самыхъ отдаленныхъ послѣдствій его и показать, какимъ обра-
зомъ въ Европѣ дѣйствовалъ другой законъ, діаметрально ему противоположный, въ
силу котораго въ ней всѣ естественныя усилія были направлены къ тому, чтобы
ограничить дѣятельность воображенія, придать смѣлость разсудку и такимъ образомъ
внушить человѣку довѣріе къ его собственнымъ средствамъ и облегчить расширеніе
круга его знаній посредствомъ возбужденія въ немъ того смѣлаго, пытливаго, на-
учнаго духа, который постоянно стремится впередъ и отъ котораго долженъ зави-
сѣть весь грядущій прогрессъ.
Не должно однако же полагать, чтобы я могъ прослѣдить въ подробности путь,
по которому, благодаря этимъ особенностямъ, европейская цивилизація отклонилась
отъ хода всѣхъ другихъ, ей предшествовавшихъ. Для того чтобы совершить такой
трудъ, потребовалась бы такая ученость и такая обширность мысли, на которыя не
можетъ имѣть притязанія никакое отдѣльное лицо. Совершенно иное дѣло усвоить
себѣ какую-нибудь обширную, общую истину, и иное прослѣдить эту истину во всѣхъ
ея развѣтвленіяхъ и подтвердить се такими доказательствами, которыя могли бы убѣ-
дить всякаго читателя. Дѣйствительно, тѣ, которые уже пріобрѣли привычку къ такого
рода умствованіямъ и которые способны видѣть въ исторіи человѣчества нѣчто большее,
чѣмъ простое сцѣпленіе событій, сразу поймутъ, что въ этихъ сложныхъ предметахъ
чѣмъ обширнѣе общее правило, тѣмъ скорѣе могутъ встрѣтиться кажущіяся исключенія
изъ него, и что когда извѣстная теорія обнимаетъ весьма обширное пространство,
то можетъ быть безчисленное множество исключеній, а тѣмъ не менѣе теорія можетъ
оставаться совершенно вѣрной. Два основныя положенія были, я надѣюсь, мною дока-
заны, а именно: 1) что существуютъ нѣкоторыя естественныя явленія, которыя дѣйству-
ютъ на человѣческій умъ тѣмъ, что возбуждаютъ воображеніе; и 2) что такія явленія
гораздо многочисленнѣе внѣ Европы, чѣмъ въ предѣлахъ ея. Если же допустить оба
эти положенія, то изъ нихъ неизбѣжно слѣдуетъ, что въ тѣхъ странахъ, гдѣ вооб-
раженіе подвергалось такому возбужденію, должны были произойти какія-либо осо-
быя послѣдствія—если только дѣйствіе этого возбужденія не было нейтрализировано
другими причинами. Но встрѣтились или нѣтъ противодѣйствующія причины — это
не имѣетъ никакого значенія относительно вѣрности самой теоріи, которая основы-
вается на двухъ высказанныхъ нами положеніяхъ. Итакъ, въ научномъ отношеніи
сдѣланный нами выводъ общаго начала совершенно полонъ, и можетъ быть осторож-
нѣе было бы съ нашей стороны оставить его въ этомъ видѣ, чѣмъ пытаться под-
крѣпить его дальнѣйшими примѣрами, такъ какъ всѣ отдѣльные факты могутъ быть
ошибочно изложены и непремѣнно бываютъ оспариваемы тѣми, кому не нравится
подкрѣпляемый ими выводъ. Но, чтобы ближе ознакомить читателя съ выведенными
мною началами, мнѣ, кажется нелишнимъ привести нѣсколько примѣровъ проявле-
нія ихъ на дѣлѣ. Поэтому я вкратцѣ укажу на дѣйствіе, произведенное ими въ
трехъ великихъ областяхъ дѣятельности человѣческаго ума: литературѣ, религіи и
искусствѣ. Я постараюсь показать, какимъ образомъ въ каждомъ изъ этихъ отдѣ-
ловъ главныя характеристическія черты подвергались вліянію характера природы;
а чтобы упростить это изслѣдованіе, возьму съ каждой стороны два самые яркіе при-
ВЛІЯНІЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
51
мѣра—сравню проявленія человѣческаго ума въ Греціи съ проявленіями его въ Индіи,
такъ какъ для этихъ двухъ странъ мы имѣемъ самые обширные матеріалы и такъ
какъ въ нихъ физическія противоположности наиболѣе разительны.
Итакъ, если мы взглянемъ на древнюю литературу Индіи, даже въ лучшіе пе-
ріоды ея, то найдемъ самые очевидные признаки неограниченнаго преобладанія во-
ображенія. Во-первыхъ, мы видимъ разительный фактъ, что всѣ роды прозаической
литературы находились тамъ почти въ совершенномъ пренебреженіи: всѣ лучшіе пи-
сатели посвящали свой трудъ поэзіи, какъ отрасли болѣе согласной съ умственнымъ
настроеніемъ націи. Индійскія сочиненія по части грамматики, юриспруденціи, исто-
ріи, медицины, математики, географіи и метафизики почти всѣ облечены въ поэтиче-
скую форму и написанія по извѣстной системѣ правильнаго стихосложенія х).
Вотъ почему, при совершенномъ пренебреженіи къ прозѣ, поэзіей занимались
такъ усердно, что санскритскій языкъ можетъ похвалиться большимъ числомъ и
большей сложностью метровъ, чѣмъ любой изъ европейскихъ языковъ какого бы то
ни было времени 3).
Эта особенность въ формѣ индійской литературы сопровождается соотвѣтству-
ющей особенностью въ ея духѣ. Можно сказать безъ преувеличенія, что вся эта ли-
тература какъ будто бы направлена къ тому, чтобы вести открытую борьбу съ чело-
вѣческимъ разсудкомъ. Во всѣхъ возможныхъ случаяхъ высказывается избытокъ во-
ображенія, доходящій до болѣзненности. Это въ особенности замѣтно въ тѣхъ произ-
веденіяхъ, которыя наиболѣе національны, каковы Рамаяна, Махабаратъ и вообще
всѣ Пураны. Но мы находимъ тѣ же свойства и въ индійскихъ географіи п хроно-
логіи, между тѣмъ какъ эти науки повидимому менѣе всѣхъ другихъ допускаютъ по-
рывы фантазіи. Нѣсколько примЬровъ, извлеченныхъ изъ самыхъ достовѣрныхъ
индійскихъ источниковъ, дадутъ намъ возможность сравнить это направленіе съ со-
вершенно противоположнымъ ему направленіемъ европейскаго ума, и дадутъ чита-
телю нѣкоторое понятіе о томъ размѣрѣ, до котораго можетъ дойти легковѣріе даже
въ цивилизованномъ народѣ 3).
Изъ всѣхъ различныхъ видовъ искаженія истины воображеніемъ нѣтъ ни одного,
который бы сдѣлалъ такъ много вреда, какъ преувеличенное уваженіе къ прошедшимъ
временамъ. Это благоговѣніе къ древности противно всякому здравому смыслу; это
не болѣе какъ избытокъ поэтическаго влеченія ко всему отдаленному и неизвѣстному.
Поэтому понятно, что въ тѣ времена, когда разсудокъ былъ сравнительно въ бездѣй-
ствіи, это влеченіе было гораздо сильнѣе, чѣмъ теперь; и нѣтъ никакого сомнѣнія,
что оно все будетъ ослабѣвать, и что въ такой же мѣрѣ будетъ усиливаться стрем-
*) «Такимъ образомъ,—говорить Роде,—вся духов-
ная жизнь индуса переходить въ истинную поэзію,
и отличительнымъ признакомъ всего развитія сго
является преобладаніе воображенія надъ разсудкомъ,—
чтб прямо противоположно направленію развитія евро-
пейца, общій характеръ котораго состоитъ въ пре-
обладаніи разсудіга- надъ воображеніемъ. Послѣ этого
понятно, что литература индусовъ исключительно по-
этическая, что она чрезвычайно богата произведеніями
иоэзіп, но бѣдна научными сочиненіями; что священ-
ныя книги, законы и преданія этого народа проникну-
ты поэзіей и большей частью написаны стихами, и
что даже учебныя книги по части грамматики, ме-
дицины, математики и землеописанія написаны въ
стихахъ». Говорятъ тавже, что лучшій текстъ Сапхіп,
одной изъ извѣстнѣйшихъ метафизическихъ системъ ин-
дусовъ, есть краткій трактатъ въ стихахъ; стихотвор-
ные трактаты о юриспруденціи и другихъ наукахъ из-
ложены тѣмъ же свободнымъ метромъ. Клапротъ, раз-
бірая санскритскую исторію Кашмира, говорить :«какъ
почти всѣ индійскія сочиненія, эта исторія написана
стами». Бюрнуфъ замѣчаетъ: «индійскіе философы,
точно будто они не могли избѣгнуть поэтическаго
вліянія родного климата, разрѣшаютъ самые отвлечен-
ные вопросы метафизики посредствомъ уподобленій и
метафоръ».
2) Ятосъ (Таіез) говоритъ объ индусахъ, что «ни
у какого другого народа не было такого разнообразія
произведеній поэзіи. Различные метры греческіе и рим-
скіе изумляли Европу, но они совершенно ничтожны
вь сравненіи съ множествомъ видовъ санскритскихъ
метровъ, употребляемыхъ въ трехъ родахъ поэтическихъ
произведеній».
3) Въ Европѣ, какъ мы увидимъ въ шестой главѣ
этого тома, проявлялось также нѣкогда необыкновенное
легковѣріе, по это было во времена варварства, — а
необразованность всегда легковѣрна. Напротивъ того,
примѣры, взятые изъ индійской литературы, выбраны
изъ произведеній образованнаго парода, написанныхъ
языкомъ чрезвычайно богатымъ и до такой степени
выработанными, что многіе весьма свѣдущіе судьи
признаютъ его равнымъ греческому, если не стоящимъ
еще выше.
4*
52
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
лежіе къ прогрессу; такимъ образомъ благоговѣніе къ прошедшему замѣнится упова-
ніемъ на будущее. Но въ прежнее время это благоговѣніе рѣшительно преобладало,
и безчисленное множество слѣдовъ его встрѣчается въ литературѣ и народныхъ вѣ-
рованіяхъ всѣхъ странъ. Такъ напримѣръ, это чувство внушило поэтамъ представ-
леніе о золотомъ вѣкѣ, въ продолженіе котораго царствовалъ на землѣ миръ, всѣ вред-
ныя страсти безмолвствовали и преступленія были неизвѣстны. Это же чувство на-
вело на идею о первобытной добродѣтели и простотѣ человѣка и объ его послѣдую-
щемъ паденіи съ этого высокаго уровня. Изъ того же начала развилось убѣжденіе,
что въ древнѣйшія времена люди были не только добродѣтельнѣе и счастливѣе, чѣмъ
теперь, но даже совершеннѣе въ тѣлесномъ организмѣ, ц что вслѣдствіе того они
достигли большаго роста и жили долѣе, чѣмъ мы, ихъ слабые выродившіеся потомки.
Такъ какъ подобныя понятія усвоиваются воображеніемъ вопреки убѣжденіямъ
разсудка, то сравнительная сила ихъ въ каждой странѣ оказывается однимъ изъ
тѣхъ мѣрилъ, по которымъ мы можемъ судить о степени преобладанія фантазіи надъ
другими способностями. Приложивъ это мѣрило къ литературѣ Индіи, мы найдемъ
разительное подтвержденіе уже выведенныхъ нами заключеній. Сверхъестественныя
событія древности, изображеніями которыхъ изобилуютъ санскритскія книги, такъ
продолжительны и такъ сложны, что слишкомъ много потребовалось бы мѣста даже
для слабаго очерка ихъ; но есть одинъ разрядъ этихъ странныхъ вымысловъ, который
заслуживаетъ особаго вниманія и можетъ быть очерченъ въ немногихъ словахъ. Я
говорю о необыкновенномъ числѣ лѣтъ, до котораго, по мнѣнію индійцевъ, люди
будто бы доживали въ прежнія времена. Вѣрованіе въ долговѣчность человѣческаго
рода въ первобытномъ мірѣ было естественнымъ послѣдствіемъ мысли о превосход-
ствѣ древнихъ людей передъ позднѣйшими во всѣхъ отношеніяхъ; и мы находимъ
множество примѣровъ этого4 въ нѣкоторыхъ христіанскихъ и во многихъ еврей-
скихъ книгахъ. Но факты, иоказанные’въ этихъ книгахъ, слабы и ничтожны, если
сравнить ихъ со сказаніями, сохранившимися въ литературѣ индійской. Въ этомъ
случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, фантазія индуса выше всякаго подражанія.
Такъ, среди огромнаго числа другихъ подобныхъ фактовъ мы читаемъ въ индійскихъ
книгахъ, что въ древности жизнь обыкновенныхъ людей продолжалась 80.000 лѣтъ,
а святые люди жили и болѣе 100.000 лѣтъ. Нѣкоторые умирали нѣсколько ранѣе,
другіе нѣсколько позже, но въ самыя цвѣтущія времена древности, если взять всѣ
классы людей вмѣстѣ, среднимъ продолженіемъ жизни было 100.000 лѣтъ. Объ
одномъ царѣ, по имени Юдиштирѣ, сказано мимоходомъ, что онъ царствовалъ
27.000 лѣтъ, между тѣмъ какъ правленіе другого, по имени Аларка, продолжа-
лось до 66.000 лѣтъ. Оба эти царя были похищены смертью во цвѣтѣ лѣтъ, такъ
какъ есть примѣры, что первые поэты жили до полумилліона лѣтъ х). Но самый
замѣчательный примѣръ представляетъ одно лицо, игравшее весьма важную роль
въ индійской исторіи; оно было въ то же время царемъ и святымъ. Этотъ знамени-
тый мужъ жилъ во времена чистоты нравовъ и добродѣтели; и дѣйствительно былъ
онъ долголѣтенъ на землѣ; при воцареніи ему было два милліона лѣтъ; затѣмъ онъ
царствовалъ 6.300.000 лѣтъ, по прошествіи которыхъ отказался отъ престола и
прожилъ еще 100.000 лѣтъ.
То же самое безграничное уваженіе къ древности заставляло индусовъ отно-
сить всякое важное событіе къ самымъ отдаленнымъ временамъ; при этомъ у нихъ
часто выходить такое число лѣтъ, передъ которымъ рѣшительно теряешься 1 2). Вели-
1) А иногда и болѣе. Въ «Езэау оп Іінііап Сйго-
поіо^р говорится о «бесѣдѣ, происходившей между
Вахьмикомъ и Віязой... двумя поэтами, между време-
нами рожденія которыхъ протекло 864.000 лѣтъ».
2) Всякія соображенія о цифрахъ до такой сте-
пени привычны индусу, что въ языкѣ его есть даже
выраженіе, обозначающее единицу съ 63 нулями —
! Азанке — именно потому, что исчисленіе періодовъ су-
ществованія міра сдѣлало необходимыми эта огромныя
I цифры. Простое число—12,000 лѣтъ—казалось слиш-
! комъ ничтожнымъ этому народу, столь расположенному
| приписать своему божеству величайшее могущество, шь
I кое только можно себѣ представить.
ВЛІЯНІЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
53
кое собраніе законовъ ихъ, называемое Институтами Мену, составлено конечно ме-
нѣе 3.000 лѣтъ тому назадъ; но индійскіе хронологи далеко не того мнѣнія; они
приписываютъ своему законодательству такую древность, которую здравому европей-
скому уму трудно даже себѣ представить. По самымъ лучшимъ туземнымъ источни-
камъ, откровеніе людямъ этихъ законовъ послѣдовало около двухъ тысячъ милліоновъ
лѣтъ до нашего времени.
Все это составляетъ лишь одно изъ проявленій той любви къ отдаленному, того
стремленія къ безконечному и того равнодушія къ настоящему, которыми отличается
умъ индуса во всѣхъ его проявленіяхъ. Не только въ литературѣ, но и въ религіи,
и въ искусствѣ это направленіе преобладаетъ. Подавлять разсудокъ и давать волю
воображенію—вотъ общее правило индусовъ. Въ догматахъ ихъ религіи, въ характерѣ
ихъ боговъ и даже въ строеніи храмовъ мы видѣли, до какой степени величествен-
ныя и грозныя зрѣлища внѣшняго міра наполняли умы людей тѣми образами вели-
чія и страха, которые они стараются воспроизвести въ видимой формѣ и которымъ
они обязаны главными особенностями своего національнаго развитія.
Наше воззрѣніе на процессъ установленія этого вліянія можетъ быть разъяснено
сравненіемъ съ противоположнымъ состояніемъ Греціи. Въ Греціи мы видимъ страну,
представляющую самый яркій контрастъ съ Индіей. Проявленія природы, которыя
въ Индіи представляются въ ужасающемъ величіи, въ Греціи несравненно менѣе раз-
мѣромъ, слабѣе и во всѣхъ отношеніяхъ менѣе грозны для человѣка. Въ великомъ
центрѣ азіатской цивилизаціи энергія человѣческаго рода стѣснена и какъ бы запу-
тана окружающими явленіями. Рядомъ съ опасностями, неразлучными съ тропическимъ
климатомъ, тамъ являются тѣ громадныя горы, которыя какъ будто бы касаются не-
бесъ; изъ склоновъ ихъ вытекаютъ могучія рѣки, которыхъ никакое искусство не мо-
жетъ отклонить отъ ихъ направленія и чрезъ который еще не перекидывался ника-
кой мостъ. Тамъ же находятся^ непроходимые^;лѣса, цѣлыя страны, поросшія нескон-
чаемымъ тростникомъ, а за ними безплодныя и безпредѣльныя пустыни—все это вну-
шаетъ человѣку сознаніе его слабости и неспособности бороться съ силами природы.
Земля съ обѣихъ сторонъ омывается огромными морями, гдѣ свирѣпствуютъ бури, не-
сравненно болѣе разрушительныя, чѣмъ въ Европѣ, и отличающіяся такой внезап-
ностью порывовъ, что невозможно уберечься оть ихъ дѣйствія. Какъ будто все въ
этой странѣ направлено къ тому, чтобы стѣснять дѣятельность человѣка: береговая
линія отъ устьевъ Ганга до южной оконечности полуострова не представляетъ ни
одной безопасной и помѣстительной гавани, ни одного“порта, который могъ бы дать
убѣжище судамъ, тогда какъ здѣсь такія убѣжища можетъ быть болѣе чѣмъ гдѣ-либо
необходимы.
Въ Греціи весь видъ природы до такой степени отличенъ отъ азіатскаго, что
самыя условія существованія человѣка измѣняются. Греція, подобно Индіи, соста-
вляетъ полуостровъ; но въ то время, какъ въ азіатской странѣ все величественно и
грозно, въ европейской—все мелко и слабо. Вся Греція занимаетъ пространство нѣ-
сколько меньшее, чѣмъ Португальское королевство, то есть около сороковой доли того,
что теперь называется Индостаномъ. Находясь въ самой доступной части небольшого
моря, Греція могла имѣть легкое сообщеніе къ . востоку съ Малой Азіей, къ западу—
съ Италіей, къ югу—съ Египтомъ. Опасности всякаго рода въ ней были гораздо ме-
нѣе многочисленны, чѣмъ въ странахъ тропическихъ цивилизацій. Климатъ былъ здо-
ровѣе землетрясенія были не такъ часты, ураганы менѣе опустошительны; дикіе
звѣри и вредныя животныя встрѣчались въ меньшемъ числѣ, И относительно другихъ
характеристическихъ чертъ природы сохраняется тотъ же законъ. Величайшія горы
въ Греціи составляютъ по вышинѣ менѣе одной трети Гималайскаго хребта, такъ
х) Въ лучшія времена Греціи тѣ страшныя эпиде-
мій, которыми впослѣдствіи опустошалась страна, были
сравнительно мало извѣстны. Это могло происходить
илп отъ великихъ космическихъ причинъ, йлй отъ того
простого факта, что разные виды моровыхъ язвъ не
были еще занесены съ Востока.
менѣе суевѣренъ; онъ сталъ изучать физическія причины явленій; развитіе
ственныхъ наукъ стало возмойснымъ, и человѣкъ, доходя постепенно до сознанія
54 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІЯ ВЪ АНГЛІИ.
что онѣ нигдѣ не достигаютъ до предѣла вѣчнаго снѣга. Что же касается рѣкъ, то
не только между ними нѣтъ ничего похожаго на громадныя массы воды, текущія съ
азіатскихъ горъ, но и вообще природа Греціи такъ скупа въ этомъ отношеніи, что
ни въ сѣверной, ни въ южной Греціи мы не находимъ ничего, кромѣ нѣсколькихъ
потоковъ, легко переходимыхъ въ бродъ и въ лѣтнее время часто высыхающихъ.
Эти разительныя различія между матеріальными явленіями обѣихъ странъ про-
извели соотвѣтственныя различія и въ ассоціаціяхъ идей ихъ жителей. Такъ какъ
всѣ идеи должны происходить частью отъ такъ называемой самопроизвольной дѣя-
тельности ума, частью же отъ того, что внушается ему внѣшнимъ міромъ/ то такое
важное измѣненіе въ одной изъ причинъ естественно должно было произвести измѣ-
неніе и въ послѣдствіяхъ* Въ Индіи всѣ окружающія человѣка явленія были на-
правлены къ тому, чтобы внушить ему страхъ, а въ Греціи они внушали ему до-
вѣріе. Въ Индіи человѣкъ былъ запугиваемъ, въ Греціи онъ былъ ободряемъ. Въ
Индіи препятствія всякаго рода были такъ многочисленны, такъ страшны и пови-
димому такъ необъяснимы, что представлявшіяся въ жизни затрудненія могли быть
разрѣшаемы только постояннымъ обращеніемъ къ непосредственному дѣйствію сверхъ-
естественныхъ причинъ, и такъ какъ эти причины выходятъ изъ области разсудка,
то всѣ силы воображенія постоянно были заняты изученіемъ ихъ; само воображеніе
было чрезмѣрно напряжено, такъ что дѣятельность ого стала опасной; она стѣснила
дѣятельность разсудка, и общее равновѣсіе умственныхъ силъ было нарушено. Въ
Греціи противоположныя обстоятельства привели къ противоположнымъ результатамъ.
Здѣсь природа менѣе страшила человѣка, менѣе вмѣшивалась въ дѣла его и была
менѣе таинственна. Поэтому въ Греціи человѣческій умъ былъ менѣе запуганъ и
ссте-
своей
силы, приступилъ къ изслѣдованію всего,^что онъ видѣлъ, съ такой смѣлостью, ко-
торой нельзя было бы и ожидать въ тѣхъ странахъ, гдѣ давленіе природы лишало
его независимости и внушало ему идеи, съ которыми дѣйствительное знаніе несо-
вмѣстимо.
Вліяніе этихъ двухъ различныхъ умственныхъ складовъ па религію народа должно
быть очевидно для всякаго, кто только сравнивала, религію индійскую съ греческой.
Миоологія Индіи, какъ и всякой Другой тропической страны, основана на ужасѣ, и
при томъ самаго фантастическаго свойства. Доказательства преобладанія этого чув-
ства изобилуютъ въ священныхъ книгахъ индусовъ, въ ихъ преданіяхъ и даже въ
самомъ наружномъ видѣ и аттрибутахъ ихъ боговъ. И такъ глубоко это чувство на-
печатлѣлось въ умѣ всего народа, что самыми уважаемыми божествами непремѣнно
являются тѣ, съ которымп картины ужаса наиболѣе тѣсно связаны. Такъ, напримѣръ,
поклоненіе Сивѣ распространено болѣе всѣхъ другихъ ученій; что же касается древ-
ности его, то есть причины полагать, что оно заимствовано браминами у первобыт-
ныхъ индійцевъ. Во всякомъ случаѣ оно весьма древне и весьма популярно. Сива
вмѣстѣ съ Брамой и Вишну составляютъ извѣстную индійскую троицу. Слѣдова-
тельно, намъ нечего удивляться тому, что съ этимъ божествомъ связаны такія кар-
тины ужаса, какія могла создать только тропическая фантазія. Сива представляется
уму индійца въ видѣ страшнаго существа, опоясаннаго змѣями, съ человѣческимъ
черепомъ въ рукѣ и ожерельемъ изъ человѣческихъ костей. У него три глаза; сви-
рѣпость его нрава обозначается тѣмъ, что онъ одѣтъ тигровой кожей. Его представ-
ляютъ блуждающимъ, какъ безумный, съ страшной очковой змѣей на лѣвомъ плечѣ.
У этого чудовищнаго созданія пораженной ужасомъ фантазіи есть жена — Дурга,
иногда называемая Кали, иногда же и другими именами 1). Все тѣло ея темяосинее,
а ладони рукъ красныя, что означаетъ постоянную жажду крови. У нея четыре
руки, и въ одной изъ нихъ она носитъ черепъ исполина; .языкъ виситъ изо рта,
4) Такъ вообще утверждаютъ индійскіе теологи, но, но словамъ Раммохунъ-Роя, у Сивы было двѣ жены.
ВЛІЯНІЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
55
къ поясу прикрѣплены руки ея жертвъ, а шея украшена человѣческими головами,
которыя нанизаны въ видѣ страшной цѣпи.
Если мы затѣмъ обратимся къ Греціи, то даже въ періодѣ дѣтства ея религіи
не найдемъ ни малѣйшаго слѣда чего-либо подобнаго. Такъ какъ въ Греціи было
менѣе причинъ для страха, то и выраженіе его не такъ часто встрѣчалось, и потому
греки вовсе не были расположены вносить въ свою религію тѣ чувства ужаса, ко-
торыя были такъ естественны въ индусахъ. Азіатская цивилизація имѣла постоянное
стремленіе къ тому, чтобы увеличивать разстояніе, отдѣляющее человѣка отъ боговъ;
стремленіе же греческой цивилизаціи заключалось въ томъ, чтобы уменьшить это раз-
стояніе. Оттого-то въ Индостанѣ каждый лзъ боговъ отличался чѣмъ-нибудь чудовищ-
нымъ; у Вишну было четыре руки, у Брамы—пять головъ и т. п* Напротивъ, грече-
скіе боги всегда изображались въ совершенно человѣческой формѣ *). Въ Греціи ни-
какой художникъ не могъ бы обратить на себя всеобщаго вниманія, еслибы онъ взду-
малъ изображать боговъ въ какомъ-нибудь другомъ видѣ. Онъ могъ представлять ихъ
могущественнѣе и прекраснѣе людей, но все-таки они должны были быть людьми.
Аналогія между божествомъ и человѣкомъ, которая возбуждала религіозныя чувства
грековъ, совершенно убила бы эти чувства у индусовъ.
Это различіе между художественными проявленіями обѣихъ религій сопрово-
ждалось совершенно подобнымъ же разлитомъ между ихъ теологическими преданіями.
Въ индійскихъ книгахъ всѣ силы воображенія истощаются на разсказы о дѣйствіяхъ
боговъ; чѣмъ очевиднѣе была невозможность какого-нибудь подвига, тѣмъ съ боль-
шимъ удовольствіемъ его приписывали богамъ. Греческіе же боги имѣли не только
человѣческую форму, но и атгрибуты, занятія и вкусы людей. Азіаты, для которыхъ
всякое явленіе природы было предметомъ благоговѣнія, привыкли къ этому чувству
такъ сильно, что никогда не "осмѣливались уподоблять7 свои дѣйствія дѣйствіямъ
своихъ боговъ. Напротивъ, европейцы, ободряемые безопасностью и спокойствіемъ въ
матеріальномъ мірѣ, не боялись проводить 'ту‘ параллель, которая ужаснула бы ихъ,
если бы они жили среди опасностей тропическаго края. Потому-то греческія божества
до такой степени отличны отъ индійскихъ, что, сравнивая тѣ и другія, мы какъ будто
бы переходимъ въ другой міръ. Греки возводили свои наблюденія надъ человѣкомъ
въ общія начала и въ такомъ видѣ прилагали ихъ къ богамъ 2). Холодность жен-
щинъ олицетворялась въ Діанѣ, красота и чувственность—въ Венерѣ, гордость—въ
Юнонѣ, умственное развитіе—въ Минервѣ. То же начало прилагалось и къ обыкно-
веннымъ занятіямъ боговъ. Нептунъ былъ мореходецъ, Вулканъ—кузнецъ, Аполлонъ
иногда являлся музыкантомъ, иногда поэтомъ, иногда пастухомъ. Что касается до Ку-
пидона, то это былъ рѣзвый мальчикъ, играющій своимъ лукомъ и стрѣлами; Юпи-
теръ былъ влюбчивый и добродушный царь; Меркурія же представляли безразлично,
или падежнымъ посломъ, или простымъ, общеизвѣстнымъ воромъ.
Точно то же стремленіе къ сближенію человѣчесішхъ силъ съ силами, стоящими
выше человѣчества, проявляется и въ другой особенности греческой религіи. Я хочу
сказать, что въ Греціи мы въ первый разъ встрѣчаемъ поклоненіе героямъ, то есть
возвышеніе смертныхъ на степень божества. По тѣмъ началамъ, которыя мы уже
изложили, этого явленія никакъ нельзя было бы ожидать въ тропической странѣ, гдѣ
видъ всей окружающей природы долженъ былъ постоянно напоминать человѣку о его
безсиліи. Поэтому естественно, что боготвореніе человѣка не встрѣчается въ древ-
Э «Греческіе боги имѣли форму человѣческую,
только съ значительно большими силами и способно-
стями, и дѣйствовали такъ, какъ бы на ихъ мѣстѣ стали
дѣйствовать люди, во съ достоинствомъ и энергіей, со-
отвѣтствующими большему ихъ приближенію къ совер-
шенству. Напротивъ того, божества пндусоія» хотя п
одарены человѣческими страстями, по имѣютъ всегда въ
своемъ видѣ что-нибудь чудовищное и въ дѣйствіяхъ
что-то дикое в какъ бы капризное. Они разныхъ цвѣ-
товъ: одно красное, другое желтое, третье синее; у нѣ-
которыхъ по двѣнадцати головъ и почти у всѣхъ че-
тыре руки. Они часто раздражаются бонъ всякой при-
чины и умилостивляются также безъ всякаго основа-
нія». (Эльфинсгонъ, «Исторія Индіи».)
2) То же замѣчаніе относится и къ красотѣ,
формы, которую опп сперва старались осуществлять,
въ статуяхъ людей, а потомъ перенесли и на статуи
боговъ.
56 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІЯ ВЪ АНГЛІИ.
ней индійской религіи; равнымъ образомъ было оно неизвѣстно египтянамъ *)> пер-
самъ 1 2), и насколько мы можемъ судить, и аравитянамъ 3). Но въ Греціи человѣкъ,
будучи менѣе униженъ, менѣе, такъ сказать, отброшенъ въ тѣнь внѣшнимъ міромъ,
былъ болѣе высокаго мнѣнія о своей силѣ, и человѣческая природа не стояла такъ
низко, какъ въ другихъ странахъ. Послѣдствіемъ этого было то, что почитаніе людей
являлось однимъ изъ признанныхъ элементовъ народной религіи грековъ въ самый
ранній періодъ греческой исторіи 4), и вообще оно повидимому было такъ сродно
европейцамъ, что повторилось и въ другихъ частяхъ Европы. Другія обстоятельства,
имѣющія совершенно отличный характеръ, постепенно искореняютъ этотъ видъ идо-
лопоклонства; но существованіе его особенно достойно вниманія, какъ одинъ изъ
безчисленныхъ примѣровъ уклоненія европейской цивилизаціи отъ всѣхъ ей пред-
шествовавшихъ 5).
Такимъ образомъ въ Греціи все было направлено къ возвышенію достоинства
человѣка, между тѣмъ какъ въ Индіи все стремилось къ униженію его 6). Чтобы вы-
разить въ короткихъ словахъ все предшествовавшее, можно сказать, что греки имѣли
большее уваженіе къ человѣческимъ силамъ, а индусы—къ силамъ высшихъ существъ.
Первые обращали больше вниманія на извѣстное и полезное, а вторые — на неиз-
вѣстное и таинственное 7). По этому самому воображеніе, которое индусы, пода-
вляемые величіемъ и могуществомъ природы, никогда не старались обуздывать, те-
ряло свое преобладаніе на маленькомъ полуостровѣ древней Греціи. Здѣсь въ пер-
вый разъ во всей исторіи міра воображеніе было въ нѣкоторой степени ограничено
разсудкомъ. Не то, чтобы оно ослабѣло или истощились его жизненныя силы, но оно
было обуздано, укрощено, ого порывы умѣрены, его безумства наказаны. Но что
его энергія сохранилась, этому мы имѣемъ полное доказательство въ тѣхъ произве-
деніяхъ греческаго ума, которыя дошли до нашихъ временъ. Итакъ, былъ полный
выигрышъ: способность ума все изслѣдовать и во всемъ сомнѣваться развилась, а
между тѣмъ не уничтожились и благоговѣйные, поэтическіе инстинкты воображенія.
Было ли или нѣтъ сохранено равновѣсіе — это составляетъ совершенно другой во-
просъ, но то достовѣряо, что греческая цивилизація приблизилась къ нему болѣе,
чѣмъ какая-либо изъ предшествовавшихъ ей 8). Но при хвсемъ, что было сдѣлано въ
1) «Поклоненіе великимъ людямъ», которое яви-
лось впослѣдствіи, произошло вѣроятно отъ греческаго
вліянія.
2) Въ Зендавестѣ нѣтъ указаній на боготворсніѳ
людей, а Геродотъ говоритъ, что персы не похожи па
грековъ въ томъ, что они не вѣровали въ божества,
имѣющія человѣческій видъ.
3) Мы не знаемъ ни одного свидѣтельства о су-
ществованіи этого элемента въ древней аравійской ре-
лигіи, и то достовѣрно, что онъ былъ совершенно чуждъ
духу исламизма.
4) Тпрлваль («Исторія Греціи») говоритъ, что
«воззрѣнія и чувства, изъ которыхъ возникло поклоне-
ніе героямъ, могутъ быть повидимому уже весьма ясно
замѣчены въ Гомеровыхъ поэмахъ». Сократъ предста-
вленъ у Платона спрашивающимъ: «Развѣ ты не знаешь,
что герои суть полубоги?» Въ слѣдующемъ затѣмъ вѣкѣ
Александръ доставилъ своему другу Гефестіону право
на поклоненіе въ числѣ героевъ.
5) Поклоненіе умершимъ и особенно мученикамъ
было однимъ изъ важныхъ предметовъ свора между
православными и маиихеянами. Легко понять, какъ воз-
мутительно должно было казаться это обыкновеніе пер-
сидскимъ теологамъ.
6) Кузэнъ высказываетъ нѣсколько весьма спра-
ведливыхъ замѣчаній о томъ, чтб онъ называетъ эпо-
хой безконечнаго на Востокѣ въ противоположность
эпохѣ конечнаго, начавшейся въ Европѣ. Но что
касается до физическихъ причинъ этого явленія, то
опъ принимаетъ только величіе природы, оставляя въ
сторонѣ тѣ естественные элементы таинственности и
опасности, которыми всегда возбуждалось религіозное
чувство.
і Одинъ ученый оріепталистъ (Троііеръ) сказалъ,
; что никакой народъ пе сдѣлалъ столькихъ усилій, какъ
индусы, для того, «чтобы разрѣшить, изслѣдовать и
постигнуть то, чтб норазрѣвіиэю, яеизслѣдуемо и непо-
стижимое.
8) Вто замѣчено было Тешіеманномъ, который
однако же и не пытался открыть причину этого яв-
ленія: «Воображеніе у грека было творческое; оно
создавало внутри его цѣлые міры новыхъ идей; но
опъ никогда не доходилъ до того, чтобы смѣшивать
идеальный міръ съ дѣйствительнымъ, потому что въ
немъ воображеніе всегда соединялось съ правильно-
дѣйствующимъ разсудкомъ и здравымъ смысломъ. Не-
' смотря па всѣ эти недостатки и погрѣшности, греки—
единственный народъ древняго міра, имѣвшій распо-
і ложеніѳ къ наукіѵ и производившій изысканія для на-
; учпыхъ цѣлей. Они проложили путь н сравняли дорогу
і къ наукѣ».
! То же говоритъ и Кантъ: «Изъ всѣхъ народовъ
міра греки первые стали философствовать. Они пер-
вые попытались развивать умственныя понятія, ие слѣ-
дуя путеводительной нити образовъ, а іп аѣзігасіо;
между тѣмъ какъ другіе народы постоянно старались
объяснить себѣ понятія только посредствомъ образовъ—
! іи сопсгеіо».
ВЛІЯНІЕ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ.
57
этомъ отношеніи, не можетъ, мнѣ кажется, быть сомнѣнія, что за воображеніемъ все-
таки оставалось слишкомъ много власти, а на чисто мыслящую способность никогда
не было обращено должное вниманіе. Впрочемъ, отъ этого не измѣняется тотъ фактъ,
что греческая литература была первая, въ которой этотъ недостатокъ, хотя отчасти,
исправленъ и въ которой сдѣлана рѣшительная и систематическая попытка оцѣни-
вать каждое мнѣніе по согласію его съ человѣческимъ разсудкомъ и такимъ обра-
зомъ обезпечить человѣку право *самому судить о предметахъ высшей, неисчислимой
важности.
Я избралъ Индію и Грецію, какъ типы для предыдущаго сравненія, потому что
свѣдѣнія, которыя мы имѣемъ объ этихъ странахъ, особенно обширны и особенно
тщательно разработаны. Но и то, что мы знаемъ о прочихъ цивилизаціяхъ тропи-
ческихъ странъ, подтверждаетъ справедливость высказанныхъ мною взглядовъ на дѣй-
ствіе, производимое явленіями природы. Въ центральной Америкѣ выкопано было изъ
земли много предметовъ древности, и все, что было открыто, доказываетъ, что и тамъ,
какъ въ Индіи, народная религія представляла собою систему полнаго и ничѣмъ не
смягченнаго ужаса *). Ни тамъ, ни въ Мексикѣ, ни въ Перу, ни въ Египтѣ народъ
не желалъ представлять свои божества въ человѣческомъ образѣ, ни приписывать
имъ человѣческіе аттрибуты. Даже и храмы ихъ суть громадныя зданія, возведенныя
нерѣдко съ большимъ искусствомъ, но проявляющія очевидное намѣреніе поразить умъ
страхомъ и составляющія разительный контрастъ съ легкими, небольшими построй-
ками, которыя греки употребляли для религіозныхъ назначеній. Такимъ образомъ
даже въ стилѣ архитектуры мы видимъ дѣйствіе того же начала. Опасности, окру-
жавшія цивилизацію тропическихъ странъ,'наводили ее болѣе на идеи безконечнаго,
между тѣмъ какъ безопасность, въ которой развивалась цивилизація европейская,
вела ее къ конечному. Чтобы исчерпать всѣ послѣдствія этого великаго контраста,
нужно было бы показать, какъ связаны между собою идеи безконечнаго, фантасти-
ческаго и методы синтеза и вывода, и какъ имъ, съ другой стороны, противопола-
гаются идея конечнаго, скептицизмъ и методы анализа и наведенія. Полное развитіе
всѣхъ этихъ сближеній и противоположеній вывело бы меня далеко за предѣлы плана
настоящаго введенія и можетъ быть превысило бы средства, представляемыя моими
познаніями. Итакъ, я долженъ отдать на безпристрастный судъ читателя то, что со-
ставляетъ, я самъ сознаю это, лишь слабый очеркъ; но очеркъ этотъ можетъ быть
доставитъ матеріалы для дальнѣйшаго размышленія и даже, если надежда меня не
ослѣпляетъ, можетъ открыть историкамъ новое поприще изысканій, напомнивъ имъ,
что вездѣ на насъ лежитъ рука природы п что исторія ума человѣческаго только
тогда можетъ сдѣлаться понятной, когда мы свяжемъ ее съ исторіей и явленіями
матеріальнаго міра.
*) Такъ, Стефенсъ говоритъ объ идолахъ слѣдую- :
щее: «намѣреніе скульптора повидимому было возбу-
дить страхъ». «Изображеніе, наиболѣе встрѣчавшееся
въ скульптурѣ, была мертвая голова». «Въ Маяпанѣ
находятся изображенія людей или животныхъ съ страш-
ными лицами и ужаснымъ выраженіемъ, на воспроизве-
деніе котораго повидимому истощилось все искусство
художника».
ГЛАВА III.
Разборъ метода, употребляемаго метафизиками для открытія законовъ ума.
Изъ всѣхъ изложенныхъ нами доказательствъ повйдимому выводятся два глав-
ные факта, которые, если только они не будутъ опровергнуты, должны быть прини-
маемы за существенное основаніе всемірной исторіи. Первый изъ этихъ фактовъ
состоитъ въ томъ, что во всѣхъ не европейскихъ цивилизаціяхъ силы природы имѣли
нссравиенно большее вліяніе, чѣмъ въ европейскихъ. Второй фактъ заключается въ
томъ, что эти силы нанесли огромный вредъ и что въ то время какъ одинъ разрядъ
ихъ произвелъ неровное распредѣленіе богатства, другой разрядъ произвелъ неровное
распредѣленіе умственной дѣятельности, сосредоточивъ все вниманіе людей на пред-
метахъ. воспламеняющихъ воображеніе. На сколько мы можемъ судить по опыту про-
шедшихъ временъ, можно сказать, что во всѣхъ не европейскихъ цивилизаціяхъ эти
препятствія къ развитію оказались непреодолимыми, и что дѣйствительно ни одинъ
народъ еще не преодолѣлъ ихъ. Но такъ какъ Европа/устроена какъ бы въ мень-
шемъ размѣрѣ противъ другііхъ частей свѣта, находится въ болѣе умѣренномъ поясѣ
и представляетъ менѣе богатую почву, менѣе величественныя зрѣлища природы, и
всѣ физическія явленія въ ней существуютъ въ несравненно слабѣйшемъ видѣ,—то
здѣсь было гораздо легче человѣку сбросить суевѣрія, навязываемыя природою его
воображенію, и гораздо легче достигнуть если не дѣйствительно справедливаго рас-
предѣленія богатства, то по крайней мѣрѣ чего-либо болѣе близкаго къ этому, чѣмъ
то, что мы находимъ въ странахъ древнѣйшихъ цивилизацій.
Вотъ почему, принимая всемірную исторію за одно цѣлое, мы находимъ, что
въ Европѣ преобладающимъ направленіемъ было подчиненіе природы человѣку, а
внѣ Европы—подчиненіе человѣка природѣ. Встрѣчается нѣсколько исключеній изъ
этого положенія въ странахъ, населенныхъ дикими, но для цивилизованныхъ странъ
правило оказывается всеобщимъ. На этомъ великомъ различіи между европейской
и не-европсйской цивилизаціями основана вся философія исторіи; изъ него выте-
каетъ между прочимъ то важное соображеніе, что если мы желаемъ, напримѣръ, по-
нять исторію Индіи, то мы должны сперва изучить матеріальную природу ея, такъ
какъ природа имѣла на человѣка больше вліянія, чѣмъ человѣкъ на природу. Если
же, съ другой стороны, мы желаемъ понять исторію такой страны, какъ Франція или
Англія, то мы должны преимущественно изучать человѣка, такъ какъ, при относи-
тельномъ безсиліи природы, каждый шагъ на пути прогресса увеличивалъ власть че-
ловѣческаго ума надъ силами внѣшняго міра. Впрочемъ даже въ тѣхъ странахъ, гдѣ
могущество человѣка достигло высшей степени, давленіе, производимое на него при-
родою, все еще чрезвычайно сильно; но оно уменьшается съ каждымъ поколѣніемъ,
потому что увеличеніе суммы нашихъ познаній даетъ намъ возможность не столько
обуздывать природу, сколько предвидѣть всѣ явленія ея и такимъ образомъ устра-
нять многія изъ золъ, которыя она могла бы намъ причинить. Успѣхъ, достигнутый
нашими усиліями, виденъ уже изъ того, что средняя продолжительность жизни ста-
новится больше и больше, и число неизбѣжныхъ опасностей постоянно уменьшается,
а это тѣмъ болѣе замѣчательно, что любопытство человѣка усиливается и прикосно-
венія между людьми стали чаще, чѣмъ были въ какое-либо предшествующее время;
МЕТОДЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ МЕТАФИЗИКАМИ.
59
такимъ образомъ мы видимъ по опыту, что хотя видимыя причины опасностей умно-
жились, но дѣйствительныя опасности вообще уменьшились 1).
Слѣдовательно, если бросить самый широкій по возможности взглядъ на исторію
Европы и ограничиться опредѣленіемъ главной причины превосходства ея надъ дру-
гими частями свѣта, то должна признать эту причину въ побѣдѣ, одержанной чело-
вѣческимъ умомъ надъ органическими и неорганическими силами природы. Всѣ другія
причины зависятъ отъ этой 1 2). Мы видѣли, что вездѣ, гдѣ силы природы достигали
извѣстной степени могущества, цивилизація народа развивалась неправильно, и про-
грессъ ея останавливался. Первымъ существеннымъ условіемъ успѣха было ограни-
чить вмѣшательство физическихъ явленій; а это всего удобнѣе могло исполниться
тамъ, гдѣ самыя явленія встрѣчались въ слабѣйшемъ и наименѣе поразительномъ
видѣ. Такъ было въ Европѣ, и потому только въ этой части свѣта дѣйствительно
удалось покорить человѣку силы природы, заставить ихъ склониться передъ волей
его, отвратить ихъ отъ обычнаго направленія и вынудить содѣйствовать его благо-
получію и служить общимъ цѣлямъ человѣческой жизни.
Вездѣ вокругъ насъ мы видимъ слѣды этой славной и успѣшной борьбы. Дѣй-
ствительно, кажется, будто въ Европѣ не осталось ничего такого, что бы человѣкъ
побоялся предпринять. Нашествія моря отражены, и цѣлыя области, какъ напримѣръ,
въ Голландіи, вырваны изъ его объятій; горы прорѣзаны и обращены въ ровную
дорогу, самыя упорныя въ безплодіи своемъ почвы, вслѣдствіе успѣховъ химіи, ста-
новятся плодородными; въ то же время мы видимъ въ электричествѣ самую неулови-
мую, самую быструю и самую таинственную изъ силъ природы, обращенную въ сред-
ство для передачи человѣческой мысли и повинующуюся самымъ прихотливымъ тре-
бованіямъ нашего ума.
Въ другихъ случаяхъ тамъ, гдѣ явленія внѣшняго міра оказывались непокор-
ными, человѣку удалось совершёппо уничтожить, устранить то, что онъ не надѣялся
подчинить своей волѣ. Самыя страшныя болѣзни, напримѣръ; собственно такъ назы-
ваемая чума и средневѣковая проказа 3) совершенно исчезли во всѣхъ цивилизо-
ванныхъ странахъ Европы, и едва-ли возможно, чтобы онѣ когда-нибудь опять по-
явились. Дикіе звѣри и хищныя птицы истреблены и не могутъ болѣе тревожить
своими нападеніями жилища цивилизованныхъ людей. Эти ужасные голода, которыми
по нѣскольку разъ въ теченіе каждаго вѣка 4) опустошалась Европа, прекратились, и
такъ успѣшна была наша борьба съ ними, что нѣтъ ни малѣйшей причины бояться,
чтобы они когда-нибудь возвратились съ жестокостью, сколько-нибудь напоминающей
прежнія времена. Дѣйствительно, средства, которыми мы теперь располагаемъ, такъ
велики, что самое худшее, что мы можемъ испытать, это легкій, временный недостатокъ
въ продовольствіи, такъ какъ, при настоящемъ состояніи наукъ, зло это было бы при
самомъ началѣ отвращено средствами, которыя намъ весьма легко доставила бы химія 5).
1) Это уменьшеніе числа случайностей есть конечно I
одна изъ причинъ, хотя и довольно слабая, увеличенія I
продолжительности жизни; но самая дѣятельная изъ 1
причинъ есть общее улучшеніе въ физическомъ поло-
женіи человѣка.
2) Общія соціальныя послѣдствія этого положенія
мы разсмотримъ далѣе, а собственно экономическія .
послѣдствія его прекрасно выражены у Милля въ его |
«Политической экономш»: «изъ чертъ, характеризую- I
щихъ это прогрессивное экономическое движеніе обра- I
зовапныхъ народовъ, прежде всѣхъ обращаетъ на себя
вниманіе, по тѣсной связи своей сь явленіями произ-
водства, постоянное п, насколько можетъ простираться
человѣческое предвидѣніе, безпредѣльное возрастаніе
власти человѣка надъ природою. Нѣть никакихъ при-
знаковъ, по которымъ бы можно было заключить, что
наше знаніе свойствъ матеріи и законовъ видимаго
міра приближается къ своему предѣлу; оно подви-
гается впередъ быстрѣе и въ большемъ числѣ раз-
ныхъ направленій вдругъ, чѣмъ было когда-либо и
при какомъ-либо изъ предшествовавшихъ поколѣніи,
и такъ часто даетъ памъ случай заглянуть въ даль,
на совсѣмъ еще неизвѣстныя пространства, что не-
вольно утверждаешься въ убѣжденіи, что наше знаком-
ство съ природою находится еще въ состояніи младен-
чества».
3) 0 томъ, чѣмъ была когда-то эта ужасная бо-
лѣзнь. можно судить по тому, что въ XIII вѣкѣ въ
одной только Франціи было 2.000 убѣжищъ для нро-
кажешіыхъ, а во вееіі Европѣ считалось подобныхъ
учрежденій 19.000.
4) Въ XI, XII и ХШ вѣкахъ въ Англіи прихо-
дилось среднимъ числомъ по одному голоду на каждыя
14 лѣтъ.
5) По мнѣнію Гсршеля, голодъ при нынѣшнемъ
положеніи химіи, «почти невозможенъ»« Кювье гово-
60
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Едва-ли намъ нужно говорить о томъ, какъ во множествѣ другихъ случаевъ
прогрессъ европейской цивилизаціи былъ тоже ознаменованъ уменьшеніемъ вліянія
внѣшняго міра—мы конечно разумѣемъ тѣ особенности внѣшняго міра, которыя су-
ществуютъ независимо отъ воли человѣка и не его волей вызваны. Самыя образо-
ванныя націи въ настоящемъ положеніи своемъ сравнительно весьма немногимъ обя-
заны тѣмъ первобытнымъ характеристическимъ чертамъ природы, которыя во всякой
цивилизаціи внѣ Европы проявляли неограниченную власть. Такимъ образомъ въ Азіи
и въ другихъ частяхъ свѣта ходъ торговли, направленія, въ которыхъ она распро-
странялась, и многія другія подобныя явленія опредѣлялись существованіемъ рѣкъ,
удобствомъ ихъ для судоходства, числомъ и качествами близлежащихъ гаваней; въ
Европѣ же преобладающими причинами были не столько эти физическія особен-
ности, сколько искусство и энергія человѣка. Первоначально богатѣйшими странами
были тѣ, гдѣ природа давала наиболѣе произведеній, а теперь—тѣ, гдѣ человѣкъ
наиболѣе дѣятеленъ. Въ настоящее время, если гдѣ природа сама по себѣ скупа, мы
умѣемъ восполнять ея недостатки. Если рѣка неудобна для судоходства или цѣлый
край неудобенъ для проѣзда, то наши инженеры умѣютъ исправить этотъ недоста-
токъ и устранить зло. Тамъ, гдѣ нѣтъ рѣкъ, мы проводимъ каналы, гдѣ нѣтъ есте-
ственныхъ гаваней, мы строимъ искусственныя. И это стремленіе устранять вліяніе
естественныхъ явленій такъ укоренилось, что оно замѣтно даже въ распредѣленіи
жителей; такъ, въ самыхъ цивилизованныхъ странахъ Европы городское населеніе
вездѣ превышаетъ сельское, а очевидно, что чѣмъ болѣе люди будутъ стекаться въ
большихъ городахъ, тѣмъ болѣе они будутъ привыкать брать матеріалы для умствен-
ной работы изъ дѣлъ человѣческой жизни, и тѣмъ не менѣе, они будутъ обращать внима-
нія на тѣ особенности природы, которыя служатъ обильнщііъ источникомъ суевѣрій и ко-
торыми во всѣхъ не европейскихъ цивилизаціяхъ остановленъ былъ прогрессъ человѣка.
Изъ всѣхъ этихъ фактовъ очевидно^ слѣдуетъ, что прогрессъ европейской ци-
вилизаціи характеризуется уменьшеніемъ вліянія физическихъ законовъ и усиленіемъ
вліянія законовъ умственныхъ. Полное доказательство этого вывода можетъ быть извле-
чено только изъ исторіи, и потому мы должны оставить значительную часть тѣхъ
данныхъ, на которыхъ мы его основываемъ, до дальнѣйшихъ томовъ нашего труда.
Но что положеніе въ самомъ основаніи своемъ справедливо—это должно быть допу-
щено всякимъ, кто, кромѣ приведенныхъ уже нами доказательствъ, приметъ двѣ по-
сылки, не подлежащія, по нашему мнѣнію, никакому спору. Первая посылка заклю-
чается въ томъ, что мы до сихъ поръ не видали примѣра, чтобы силы природы, въ
чемъ бы то ни было, когда-либо увеличивались, и не имѣемъ никакой причины пред-
полагать, чтобы такое усиленіе могло когда-либо произойти. Другая посылка—что мы
имѣемъ обильныя доказательства того, что средства, которыми располагаетъ умъ
человѣческій, стали сильнѣе, многочисленнѣе и сдѣлались болѣе способны бороться
со всѣми препятствіями внѣшняго міра, такъ какъ всякое прибавленіе къ нашимъ
познаніямъ дастъ намъ новыя средства, съ помощью которыхъ мы можемъ или упра-
влять явленіями природы, или, если это невозможно, то по крайней мѣрѣ предвидѣть
ихъ послѣдствія и такимъ образомъ избѣгать того, чего мы не можемъ предотвра-
тить; но въ обоихъ случаяхъ одинаково уменьшается давленіе, производимое на насъ
дѣйствіями внѣшняго міра.
Если принять обѣ эти посылки, то онѣ приводятъ насъ къ заключенію весьма
важному для цѣли настоящаго введенія; ибо, если мѣрой цивилизаціи служить тор-
жество ума надъ внѣшними, матеріальными дѣятелями, то становится очевиднымъ,
что изъ двухъ разрядовъ законовъ, управляющихъ прогрессомъ человѣчества, умствен-
ный разрядъ гораздо важнѣе физическаго. Это положеніе дѣйствительно и принято
цѣлой школой мыслителей за очевидную истину, хотя впрочемъ намъ неизвѣстно,
ритъ, что намъ удалось «сдѣлать всякій голодъ невоз- I можпости голода смотри у Милля, во 2-мъ томѣ его
можпымъ». Чисто экономическое доказательство невоз- | «Политической экономіи».
МЕТОДЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ МЕТАФИЗИКАМИ.
61
чтобы кто-нибудь до сихъ поръ попытался доказать это анализомъ, сколько-нибудь
исчерпывающимъ содержаніе предмета. Впрочемъ вопросъ о томъ, въ какой именно
мѣрѣ наши доказательства могутъ считаться оригинальными, имѣетъ весьма мало важ-
ности; нужно только замѣтить, что въ настоящій моментъ нашего изслѣдованія про-
блема, съ которой мы начали, уже упростилась, и отысканіе законовъ европейской
исторіи разрѣшилось на первый случай въ отысканіи законовъ человѣческаго ума. Эти
законы, когда мы отдѣлимъ ихъ, и будутъ существеннымъ базисомъ исторіи Европы; фи-
зическіе же законы будутъ приняты нами за второстепенную пружину, производящую
иногда разстройства, которыявъ теченіе нѣсколькихъ столѣтій стали замѣтно слабѣе и рѣже.
Обращаясь затѣмъ къ вопросу объ открытіи законовъ человѣческаго ума, мы
находимъ у метафизиковъ готовый отвѣтъ. Они указываютъ намъ на свои труды,
представляющіе будто бы удовлетворительное разрѣшеніе задачи. Поэтому стано-
вится необходимымъ привести въ извѣстность дѣйствительное значеніе ихъ изысканій,
опредѣлить, какими они обладали средствами, и—что важнѣе всего—испытать дѣй-
ствительность того метода, которому они всегда слѣдуютъ и который, по утвержде-
нію ихъ, составляетъ единственный путь къ открытію важныхъ истинъ.
Метафизическій методъ, хотя онъ необходимо раздѣляется на двѣ отрасли, въ
существѣ своемъ всегда одинъ и тотъ же; онъ заключается въ томъ, что каждый на-
блюдатель изучаетъ процессъ дѣятельности своего собственнаго ума. Это составляеть
прямую противоположность съ историческимъ методомъ, такъ какъ метафизикъ из-
учаетъ одинъ умъ, а историкъ—множество умовъ. Сдѣлавши такое опредѣленіе, мы
должны прежде всего замѣтить, что по метафизическому методу никогда не было сдѣ-
лано никакого открытія ни въ какой отрасли наукъ. Все, что мы въ настоящее время
знаемъ, приведено въ извѣстность посредствомъ изученія явленій, отъ которыхъ стоитъ
только откинуть случайныя помѣхи, — и въ остаткѣ очевидно получится законъ 1).
Конечно этотъ результатъ можетъ быть достигнутъ только или посредствомъ наблюде-
ній, довольно многочисленныхъ, чтобы устранить всѣ случайности, или посредствомъ
опытовъ, довольно утонченныхъ, чтобы совершенно уединить явленія. Одно изъ этихъ
условій всегда необходимо для всѣхъ индуктивныхъ наукъ; между тѣмъ метафизикъ
не подчиняется ни тому, ни другому. Уединить явленіе для него невозможно, такъ
какъ никто, какъ бы глубоко онъ ни погрузился въ размышленіе, не можетъ совер-
шено устранить отъ себя вліяніе внѣшнихъ явленій, которыя должны производить
извѣстное дѣйствіе на его умъ, даже и тогда, когда онъ не сознаетъ ихъ присут-
ствія; что же касается до другого условія, то оно явно нарушается метафизикомъ,
такъ какъ вся его система основана на томъ предположеніи» что онъ можетъ, изу-
чивъ одинъ индивидуальный умъ, открыть законы дѣйствія всѣхъ умовъ; такимъ
образомъ, съ одной стороны, онъ не имѣетъ возможности оградить свои наблюденія
отъ разныхъ помѣхъ, съ другой—отказывается принять единственную предосторож-
ность, т. е. расширить кругъ своихъ наблюденій такъ, чтобы нейтрализировать дѣй-
ствіе случайностей, мѣшающихъ его наблюденіямъ 2).
Вотъ первое, самое основное возраженіе, встрѣчаемое метафизиками на самомъ
порогѣ ихъ науки. По, вникнувъ нѣсколько глубже, мы находимъ другой недостатокъ,
хотя менѣе очевидный, но столь же рѣшительный. Послѣ того, какъ метафизикъ при-
нялъ за данное, что, изучая одинъ умъ, онъ можетъ открыть законы всѣхъ умовъ,
стоитъ только, чтобы онъ началъ примѣнять къ дѣлу этотъ весьма несовершенный
методъ, и онъ увидитъ себя запутаннымъ въ одно весьма странное затрудненіе. За-
трудненіе, о которомъ мы говоримъ, не встрѣчается ни въ какой другой наукѣ и по-
*) Дедуктивныя науки конечно составляютъ исклю-
ченіе; но вся теорія метафизики основана на ея индук-
тивномъ свойствѣ и на томъ предположеніи, что опа
состоитъ изъ общественныхъ наблюденій, и что изъ
нихъ только можетъ быть построена наука о человѣче-
скомъ умѣ.
2) Эти замѣчанія относятся только къ тѣмъ мыс*
лптелямъ, которые придерживаются собственно метафи-
зическаго метода изслѣдованія. Есть впрочемъ весьма
небольшое число метафизиковъ — между ними во Фран-
ціи первое мѣсто занимаетъ Кузенъ — творенія кото-
рыхъ представляютъ болѣе широкіе взгляды и обпару-
62
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
тому вѣроятно совсѣмъ не обращало на себя вниманіе лицъ, незнакомыхъ съ мета-
физическими ироніями. Чтобы разъяснить сущность дѣла, необходимо сдѣлать краткій
очеркъ двухъ главныхъ метафизическихъ школъ, такъ какъ каждый метафизикъ дол-
женъ непремѣнно принадлежатъ къ которой-нибудь изъ нихъ.
Для изслѣдованія свойствъ человѣческаго ума но метафизической системѣ су-
ществуетъ два метода, которые оба одинаково понятны, но оба ведутъ къ совершенно
различнымъ результатамъ. По первому методу изслѣдователь начинаетъ съ разсмо-
трѣнія своихъ ощущеній. По второму опъ начинаетъ съ разсмотрѣнія своихъ идей.
Эти два метода всегда вели и всегда должны вести къ діаметрально-противополож-
нымъ между собою выводамъ, и не трудно понять причины итого разногласія. Въ ме-
тафизикѣ умъ составляетъ и орудіе изслѣдованія, и матеріалъ, надъ которымъ упо-
требляется орудіе. Но оттого, что орудіе, съ помощью котораго вырабатывается наука,
въ существѣ одно и то же съ предметомъ, надъ которымъ оно работаетъ, рождается
затрудненіе совершенно особаго рода. Это затрудненіе состоитъ въ невозможности
обнять однимъ взглядомъ всю совокупность умственныхъ явленій, потому что отъ этого
взгляда, какъ бы онъ обширенъ ни былъ, по необходимости ускользаетъ то состояніе
ума, вслѣдствіе котораго или при которомъ взглядъ бросается. Изъ этого мы можемъ
видѣть, что составляетъ, по моему мнѣнію, существенное различіе между физическимъ
и метафизическимъ изслѣдованіемъ. Въ физикѣ бываетъ нѣсколько способовъ дѣйствія,
которые всѣ неизмѣнно ведутъ къ одному и тому же результату. Напротивъ того,
въ метафизикѣ если два человѣка съ одинаковыми способностями и одинаковой до-
бросовѣстностью будутъ употреблять различные методы въ изученіи ума, то неиз-
бѣжно окажется, что они придутъ къ различнымъ выводамъ. Для лицъ, незнакомыхъ
съ этимъ предметомъ, нѣсколько примѣровъ могутъ разъяснить все дѣло. Метафизики,
начинающіе съ изученія идей, усматриваютъ напримѣръ въ своемъ умѣ идею про-
странства: откуда, спрашиваютъ они, явилась эта идея? Она не можетъ, говорятъ
они, происходить отъ внѣшнихъ чувствъ, потому что чувства сообщаютъ намъ только
понятія ограниченныя и относительно-случайныя, между тѣмъ какъ идея пространства
безпредѣльна и абсолютно-необходима *)• Она безпредѣльна, ибо мы не можемъ пред-
ставить себѣ, чтобы пространство имѣло предѣлъ, а необходима, потому что мы не
можемъ представить себѣ возможность его несуществованія. Такъ разсуждаетъ иде-
алистъ. Но неидеалистъ 2),—какъ называютъ того, который начинаетъ не съ идей,
а съ ощущеній,— приходитъ къ совсѣмъ другому заключенію. Онъ говоритъ, что мы
не можемъ составить себѣ никакого понятія о пространствѣ, пока не составимъ себѣ
понятія о предметахъ, а понятіе о предметахъ можетъ быть только результатомъ ощу-
щеній, производимыхъ этими предметами. Что же касается до необходимости идеи
пространства, то она происходитъ, по его словамъ, только оттого, что никакой пред-
метъ не представляется намъ безъ того, чтобы не занимать извѣстнаго положенія
относительно другого предмета. Вслѣдствіе этого образуется неразрывная связь между
понятіемъ объ извѣстномъ положеніи и понятіемъ о предметѣ, и такъ какъ мы без-
живаютъ попытку связать историческія изслѣдованія съ
метафизическими; такимъ образомъ они признаютъ не-
обходимость повѣрки своихъ первоначальныхъ умозрѣ-
ній. Противъ этого метода мы не можемъ сдѣлать
никакого возраженія, если только метафизическіе вы-
воды будутъ принимаемы за простыя гипотезы, кото-
рыя, для возведенія ихъ на степень теорій, требуютъ
строгой повѣрки. Но вообще, и почти безъ исключе-
ній,—метафизики, вмѣсто того, чтобы слѣдовать этому
осторожному методу, смотрятъ па гипотезу такъ, какъ
будто бы опа была уже доказанная теорія, и какъ
будто бы оставалось только найти нѣсколько истори-
ческихъ примѣровъ на истины, утвержденныя психоло-
гомъ. Это смѣшеніе понятія о пріисканіи примѣра съ
понятіемъ о повѣркѣ самаго начала составляетъ пови-
димому общую погрѣшность всѣхъ тѣхъ, которые, по-
: добпо Вико п Фпхте, размышляютъ объ историческихъ
I явленіяхь а ргіогі.
| 1) Между лидійскими метафизиками была секта,
| признававшая пространство началомъ всѣхъ вещей;
I впрочемъ эта мысль противна Ведамъ. Въ Испаніи уче-
ніе о безпредѣльности пространства признается еретиче-
скимъ.
2) Это есть названіе, данное Кузэномъ почти всѣмъ
величайшимъ метафизикамъ Англіи, а изъ французовъ—
Кондильяку и всѣмъ его ученикамъ; системѣ же ихъ
опъ даетъ заслуженное названіе сенсуализма. Въ
' «Ке\ѵ 8ѵ8іош оГ РЬіІозорІіу» Джоберта она названа
| сенсаціонализмомъ^ и это послѣднее названіе пови-
| димому гораздо умѣстнѣе.
МЕТОДЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ М Е Т А Ф И 3 И К А М И.
63
прерывно встрѣчаемъ эту связь, то мы наконецъ становимся неспособны представить
себѣ предметъ безъ какого-лпбо положенія или, другими словами, внѣ пространства х).
Что же касается до понятія о безпредѣльности пространства, то это, по словамъ сен-
саціоналпстовъ. есть понятіе, которое мы получаемъ, усматривая безпрерывныя при-
ращенія къ линіямъ, плоскостямъ и объемамъ, т. е. къ тремъ видоизмѣненіямъ про-
странства. То же разногласіе между обѣими школами находимъ мы и по безчислен-
ному множеству другихъ положеній. Такъ напримѣръ, идеалистъ утверждаетъ, что
наши понятія о причинѣ, о времени, о тождествѣ личности и о матеріи — всеобщи
и необходимы; что это понятія простыя и что они не допускаютъ анализа и потому
должны быть относимы къ первобытному строенію человѣческаго ума 3). Съ другой
стороны, сенсаціоналисты не только пе признаютъ эти идеи за простыя, но даже
считаютъ ихъ весьма сложными и смотрятъ на всеобщность и необходимость ихъ,
какъ на простой результатъ частаго и тѣснаго общенія съ ними 3).
Таково первое важное разногласіе, неизбѣжно проистекающее отъ принятія
двухъ различныхъ методовъ. Идеалистъ долженъ утверждать, что необходимыя и слу-
чайныя истины имѣютъ различное происхожденіе *), а сенсаціоналистъ обязанъ ду-
мать, что онѣ всѣ имѣютъ одно общее происхожденіе. Чѣмъ далѣе идутъ эти двѣ ве-
ликія школы, тѣмъ болѣе обозначается ихъ разногласіе, Онѣ въ. открытой войнѣ по
всякому отдѣлу нравственности, философіи и искусства. Идеалисты говорятъ, что всѣ
люди имѣютъ, въ сущности, одно и то же понятіе о благѣ, объ истинѣ и о красотѣ.
Сенсаціоналисты утверждаютъ, что вовсе не существуетъ такой нормы, потому что
понятія зависятъ отъ ощущеній, а ощущенія людей зависятъ отъ разныхъ перемѣнъ
въ ихъ организмѣ и отъ внѣшнихъ явленій, дѣйствующихъ на этотъ организмъ.
Вотъ краткій примѣръ тѣхъ противоположныхъ заключеній, къ которымъ должны
были придти лучшіе метафизики вслѣдствіе того простого обстоятельства, что они
избрали противоположные способы изслѣдованія. Это замѣчаніе особенно важно по-
тому, что, за примѣненіемъ обоихъ этихъ методовъ, всѣ средства метафизики оче-
видно исчерпаны 5). Обѣ партіи соглашаются съ тѣмъ, что законы ума могутъ быть
открыты только посредствомъ изученія индивидуальныхъ умовъ и что въ умѣ нѣтъ
ничего такого, чтб бы не происходило или отъ мышленія, или отъ ощущенія. Слѣ-
довательно, имъ остается только выбрать одно изъ двухъ: или подчинить результаты
ощущеній законамъ мышленія, или, наоборотъ, подчинить результаты мышленія за-
конамъ ощущенія. Всѣ метафизическія системы строились по той или другой изъ
этихъ двухъ схемъ, и точно то же будетъ и впредь, потому что эти двѣ схемы, бу-
дучи сложены вмѣстѣ, заключаютъ въ себѣ всю совокупность метафизическихъ явле-
По этому поводу Локкъ говоритъ иронически:
«Тѣмъ не мепѣо, такъ какъ есть люди, увѣряющіе са-
михъ себя, что онп имѣютъ ясныя, положительныя и
полныя понятія о безконечности, то и слѣдуетъ имъ
пользоваться своимъ преимуществомъ; а я съ своей сто-
роны, вмѣстѣ съ нѣкоторыми мнѣ извѣстными лицами,
признающимися, что у нихъ нѣтъ такого понятія, буду
оуень радъ, если они своимъ понятіемъ съ пами по-
дѣлятся».
2) Такимъ образомъ Ридъ говоритъ: «Я не зпаю
никакой идеи и никакого понятія, которыя имѣли бы
больше права считаться простыми п первобытными,
какъ понятія о времени и пространствѣ». Въ санскрит-
ской метафизикѣ время признается одною изъ незави-
симыхъ причинъ.
3) «Какъ пространство, говоритъ Милль, есть об-
ширное выраженіе, подъ которымъ разумѣются всѣ по-
ложенія или вся цѣлость одновременнаго порядка, такъ
время есть обширное выраженіе, объемлющее собою
послѣдовательность или всю цѣлость послѣдо-
вашьнаго порядка >.
*) Ридъ замѣчаетъ, что необходимыя истины не
могутъ быть «заключеніями нашихъ чувствъ, потому что
чувства наши свидѣтельствуютъ только о томъ, чтб
есть, а не о томъ, чтб необходимо должно быть». Га-
мильтонъ говоритъ, что необходимыя истины отличаются
тѣмъ, что противное имъ «вовсе немыслимо». По этотъ
ученый писатель не объясняетъ, почему мы можемъ
узнать, когда что-нибудь «вовсе немыслимо». Что мы
не можемъ представить себѣ какой-нибудь мыслп, это
конечно по составляетъ доказательства того, чтобы она
была дѣйствительно немыслима, такъ какъ опа можетъ
оказаться вполнѣ мыслимой въ позднѣйшее время, когда
болѣе разовьются познанія.
5) Чтобы избѣжать недоразумѣнін, мы повторяемъ,
что и въ этомъ мѣстѣ, и во всѣхъ другихъ мы раз-
умѣемъ подъ метафизикой ’ огромное количество всѣхъ
сочиненій, оспованныхъ на томъ предположеніи, что об-
щіе закопы ума человѣческаго могутъ быть выведены
только изъ фактовъ личнаго сознанія. Для обозначенія
этого понятія выраженіе «метафизика» довольно не-
удобно, но всякое педоразумѣніе устранится, если чи-
татель будетъ постоянно имѣть въ виду данное пами
теперь опредѣленіе.
64 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІЯ ВЪ АНГЛІИ.
ній. Оба процесса одинаково благовидны; приверженцы ихъ одинаково убѣждены въ
своей непогрѣшимости; а между тѣмъ по самому свойству спора невозможно между
ними никакое соглашеніе, да и посредника быть не можетъ, потому что никто не
можетъ взяться за разрѣшеніе метафизическаго спора, не будучи метафизикомъ, а
невозможно быть метафизикомъ, не будучи или сенсаціоналистомъ, иди идеалистомъ—
другими словами, не принадлежа къ одной изъ тѣхъ партій, которыхъ споръ долженъ
быть разрѣшенъ.
По всѣмъ этимъ соображеніямъ, мы должны, мнѣ кажется, придти къ тому за-
ключенію, что всѣ метафизики, по самому свойству своихъ изысканій, неизбѣжно раз-
дѣляются на двѣ совершенно враждебныя одна другой школы, относительную правоту
которыхъ нѣтъ никакой возможности опредѣлить; такъ какъ онѣ при томъ весьма
бѣдны средствами и употребляютъ эти средства по такому методу, по которохму не
развивалась никогда никакая другая наука, то въ виду всего этого мы не можемъ
ожидать, чтобы они снабдили насъ достаточными данными для разрѣшенія тѣхъ важ-
ныхъ задачъ, которыя представляетъ намъ исторія ума человѣческаго. Всякій, кто
приметъ на себя трудъ безпристрастно обсудить настоящее положеніе умственной фи-
лософіи, долженъ будетъ сознаться, что, несмотря на вліяніе, которое она всегда
имѣла на нѣкоторые изъ самыхъ сильныхъ умовъ, а посредствомъ ихъ и на все
общество,—нѣтъ ни одной отрасли знанія, надъ которой бы люди такъ усердно и
такъ долго трудились, и которая бы при всемъ этомъ оказалась такъ бѣдна резуль-
татами. Ни въ какой другой наукѣ не было такъ много движенія и такъ мало успѣха.
Люди съ величайшими способностями и съ честнѣйшими намѣреніями во всѣхъ обра-
зованныхъ странахъ въ продолженіе многихъ вѣковъ занимались метафизическими
изслѣдованіями; между тѣмъ до настоящаго времени системы ихъ, вмѣсто того, чтобы
приближаться къ истинѣ, расходятся болѣе и болѣе7 съ нею, и при томъ съ такой
быстротой, которая повидимому возрастаетъ съ успѣхами знанія. Безпрерывное со-
перничество враждебныхъ между собою школъ, чрезмѣрный жаръ, съ которымъ ихъ
отстаивали, и исключительная,, не философская самоувѣренность, съ которой каждая
защищала свой методъ,—все это повергло изученіе ума человѣческаго въ такое раз-
стройство, которое можетъ быть сравнено лишь съ разстройствомъ, произведеннымъ
въ изученіи религіи преніями богослововъ *). Послѣдствіемъ этого было то, что, за
исключеніемъ весьма немногихъ изъ закоповъ ассоціаціи идей и быть можетъ еще
новѣйшихъ теорій зрѣнія и осязанія, невозможно найти во всей области метафизики
ни одного сколько-нибудь важнаго начала, которое было бы при томъ и неоспоримой
истиной. При этихъ обстоятельствахъ нельзя не имѣть подозрѣнія въ томъ, что есть
какая-нибудь ошибка въ самомъ основаніи способа производства этихъ изслѣдованій.
Я, съ своей стороны, полагаю, что посредствомъ простого наблюденія нашего соб-
ственнаго ума и даже посредствомъ тѣ&ъ несовершенныхъ опытовъ, которые мы мо-
жемъ производить надъ нимъ, невозможно возвысить психологію на степень науки;
и я почти но сомнѣваюсь въ томъ, что метафизика можетъ сдѣлать успѣхи только
посредствомъ изслѣдованія исторіи, довольно глубокаго для того, чтобы дать намъ
понятіе объ условіяхъ, управляющихъ умственнымъ движеніемъ рода человѣческаго 2).
Берклей, въ минуту откровенности, дѣлаетъ
нечаянно признаніе, могущее много повредить репу-
таціи его трудовъ: «Вообще, говоритъ онъ, я очень
расположенъ думать, что большая часть тѣхъ затруд-
неніи, которыя до сихъ поръ останавливали фплосо-
совъ и заграждали имъ путь къ знанію, происходятъ
единственно отъ насъ самихъ: мы сперва подняли
пыль, а потомъ жалуемся, что не можемъ видѣть».
Каждому метафизику и каждому богослову слѣдовало
бы затвердить это изреченіе наизусть: «мы сперва
подняли пыль, а потомъ жалуемся, что ничего пе ви-
димъ».
2) Относительно одного изъ затрудненій, нриве-
денныхъ въ этой главѣ въ числѣ препятствіи мета-
66
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
животныхъ. Говорили,—и это казалось весьма вѣроятнымъ,—что такъ какъ физіоло-
гія есть наука о законахъ тѣла, и такъ какъ всякое рожденіе составляетъ произве-
деніе тѣла, то изъ этого слѣдуетъ,, что если мы узнаемъ законы тѣла вообще, то
узнаемъ и законъ рожденія. Таковъ былъ взглядъ физіологовъ на рожденіе дѣтей и
точно таковъ же взглядъ метафизиковъ на исторію. И тѣ, и другіе считали возмож-
нымъ сразу возвыситься до причины явленія и, изучивъ ея законы, предсказывать
самое явленіе. Физіологи говорили: изучивъ отдѣльные организмы и такимъ обра-
зомъ приведя въ извѣстность тѣ законы, по которымъ совершается совокупленіе ро-
дителей, мы откроемъ численное отношеніе половъ, потому что это отношеніе есть
не что иное, какъ прямой результатъ совокупленія. Точно такимъ же образомъ ме-
тафизикъ говоритъ: изучивъ отдѣльные умы, мы откроемъ законы, которыми опредѣ-
ляется ихъ дѣятельность, и такимъ образомъ будемъ въ состояніи опредѣлять впе-
редъ и дѣятельность человѣчества, которая, очевидно, слагается изъ дѣятельностей
отдѣльныхъ лицъ х). Таковы ожиданія, которыя были весьма самоувѣренно высказы-
ваемы физіологами относительно закона половъ, а метафизиками—относительно за-
коновъ исторіи. Но для исполненія этихъ обѣщаній метафизики вовсе ничего не сдѣ-
лали; не болѣе успѣха имѣли и физіологи, несмотря на то, что они могли въ изслѣ-
дованіяхъ своихъ пользоваться содѣйствіемъ анатоміи, въ которой возможенъ прямой
опытъ,—средство, не существующее для метафизиковъ. Но при разрѣшеніи настоя-
щей задачи и это средство не послужило ни къ чему, и физіологи до сихъ поръ не
открыли ни одного факта, сколько-нибудь разъясняющаго вопросъ: равно ли число
мужескихъ рожденій числу женскихъ, или же оно больше, или меньше.
На эти вопросы нидакія средства, употребленныя физіологами со времени
Аристотеля и до нашего времени, не даютъ намъ возможности отвѣчать 2). Между
тѣмъ въ настоящее время посредствомъ способа, нынѣ кажущагося совершенно есте-
ственнымъ, дошли до такой истины, которую совокупныя силы цѣлаго ряда замѣча-
тельныхъ людей не могли открыть. Простымъ способомъ записыванія числа рожде-
ній по поламъ и распространеніемъ этого способа па многіе года и разныя страны
намъ удалось отдѣлить отъ этого явленія всѣ случайныя неправильности и привести
въ извѣстность существованіе закона, который выражается, въ круглыхъ числахъ,
слѣдующимъ образомъ: на каждыя двадцать дѣвочекъ родится двадцать одинъ маль-
чикъ. Мы можемъ смѣло сказать, что хотя дѣйствіе этого закона подвержено частымъ
неправпльностямъ, но самый законъ такъ силенъ, что мы не знаемъ ни одной страны,
въ которой бы хоть за одинъ годъ число мужескихъ рожденій оказалось меньше
числа женскихъ 3).
Важность и удивительная вѣрность этого закона заставляютъ насъ сожалѣть о
томъ, что онъ до сихъ поръ остается эмпирической истиной, что еще не удалось
связать его съ тѣми физическими явленіями, отъ которыхъ онъ заимствуетъ свою
силу дѣйствія 4). Впрочемъ, обстоятельство это не имѣетъ особенной важности для
настоящей цѣли нашей—указать на методъ, посредствомъ котораго сдѣлано открытіе
) го—отсталость химіи и еще весьма несовершенное со-
; стояніе микроскопа.
3) Одно время полагали, что нѣкоторыя восточ-
ныя страны составляютъ исключеніе изъ этого пра-
вила; но болѣе точныя наблюденія опровергли опро-
। метчивое показаніе древнѣйшихъ путешественниковъ: нп
въ какой части свѣта, насколько намъ извѣстно, пе
родится больше дѣвочекъ, чѣмъ мальчиковъ; во всѣхъ
краяхъ, о которыхъ мы имѣемъ статистическія свѣ-
дѣнія, есть небольшой перевѣсъ на сторонѣ мужескихъ
рожденій.
*) Миллеръ въ своей «Физіологіи^ говоритъ: «при-
чины, которыми опредѣляется полъ зародыша, неиз-
вѣстны, хотя повидимому отношеніе лѣтъ родителей
пмѣеть нѣкоторое вліяніе на полъ рождающихся ді-
«Метафизикъ, — говоритъ Гельвеціи, — въ са- ]
ломъ себѣ видитъ источникъ убѣжденія п повѣреннаго
тайнъ природы: одинъ я,—говорить онъ,— могу обоб-
щить идеи в открыть зародыши событій, ежедневно
развивающихся въ физическомъ и нравственномъ мірѣ;
однимъ только мною человѣчество можетъ быть про- ।
свѣщено». Г. Кузенъ говорить: «Фактъ сознанія, пе-
ренесенный отъ индивидуума къ роду и внесенный въ
исторію, составляетъ ключъ ко всему развитію человѣ-
чества».
2) Сравнительно съ тѣмъ, какъ давно уже из-
учается физіологія, физіологи еще замѣчательно мало
приблизились къ главной, окончательной цѣли всякаго
чаянія — къ пріобрѣтенію возможности предсказывать
явленія. Мнѣ кажется, что двѣ главныя причины это-
НРАВСТВЕННЫЕ И УМСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ.
67
самаго закона. Методъ этотъ имѣлъ явную аналогію съ тѣмъ, который мы предла-
гаемъ для изслѣдованія дѣйствія человѣческаго ума, между тѣмъ какъ старый, без-
успѣшно употребленный, соотвѣтствуетъ методу метафизиковъ. До тѣхъ поръ, пока
физіологи пытались привести въ извѣстность законъ численнаго отношенія половъ
посредствомъ индивидуальныхъ опытовъ, они вовсе ничего не сдѣлали для той цѣли,
которой надѣялись достигнуть. Но когда люди перестали довольствоваться этими инди-
видуальными опытами и, вмѣсто ихъ, стали собирать наблюденія, менѣе подробныя,
но болѣе обширныя, тогда только великій законъ природы, котораго они въ продол-
женіе многихъ столѣтій напрасно искали, впервые открылся передъ ихъ глазами.
Точно такимъ же образомъ, пока умъ человѣческій изучается только по узкому и
тѣсному методу метафизиковъ, мы имѣемъ всѣ причины полагать, что законы, упра-
вляющіе его движеніями, останутся неизвѣстны. Слѣдовательно, если мы желаемъ до-
стигнуть какого-нибудь дѣйствительно важнаго результата, то становится необходи-
мымъ отвергнуть эти старыя системы, недостаточность которыхъ доказывается какъ
опытомъ, такъ и здравымъ смысломъ, и замѣнить ихъ обзоромъ фактовъ, достаточно
обширнымъ, чтобы дать намъ возможность отдѣлить отъ наблюдаемыхъ явленій тѣ
случайныя неправильности, которыя безъ этого средства мы никогда не будемъ въ
состояніи исключить изъ выводовъ, не подлежащихъ повѣркѣ опытомъ.
Одно желаніе сдѣлать совершенно ясными предварительные взгляды, изложен-
ные въ этомъ введеніи, можетъ служить оправданіемъ сдѣланному мною отступленію,
которое хотя ничего не прибавляетъ къ силѣ моихъ доводовъ, но можетъ быть по-
лезно, какъ пояснительный примѣръ, и во всякомъ случаѣ даетъ возможность боль-
шинству читателей оцѣнить достоинство * предлагаемаго нами метода. Теперь намъ
остается привести въ извѣстность, какъ слѣдуетъ примѣнять этотъ методъ, чтобы
легче всего открыть законы духовнаго прогресса.
Если мы начнемъ съ того,.что спросимъ: что такое духовный прогрессъ?—то
отвѣтъ будетъ, повидимому, очень йростой, аТменноГчтЬ это двоякій прогрессъ—-нрав-
ственный и умственный; первый имѣетъ ближайшее отношеніе къ нашимъ обязан-
ностямъ, второй—къ нашему знанію. Вотъ классификація, которая была часто упо-
требляема въ дѣло и съ которою знакомо большинство людей; и не можетъ быть со-
мнѣнія, что въ томъ смыслѣ, въ какомъ исторія есть повѣствованіе о результатахъ,
дѣленіе это совершенно вѣрно. Нельзя сомнѣваться въ томъ, что народъ не подви-
гается дѣйствительно впередъ, если, съ одной стороны, увеличеніе его умственныхъ
силъ сопровождается усиленіемъ пороковъ, или если, съ другой стороны, становясь
добродѣтельнѣе, онъ также становится болѣе невѣжественнымъ. Это двойное движе-
ніе, нравственное и умственное, составляетъ существо самой идеи цивилизаціи и
заключаетъ въ себѣ всю теорію духовнаго прогресса. Расположеніе къ исполненію
нашихъ обязанностей составляетъ въ немъ нравственную, а умѣніе исполнять ихъ—
умственную сторону; чѣмъ тѣснѣе связаны между собою эти двѣ стороны, тѣмъ съ
большей гармоніей онѣ дѣйствуютъ, а чѣмъ ближе средства приспособлены къ цѣли,
тѣмъ совершеннѣе выполнится назначеніе нашей жизни и тѣмъ вѣрнѣе положится
основаніе дальнѣйшему преуспѣянію рода человѣческаго.
За симъ возбуждается весьма важный вопросъ, а именно: который изъ этихъ
двухъ элементовъ въ прогрессѣ нашего духа важнѣе. Такъ какъ самый прогрессъ
составляетъ результатъ соединеннаго дѣйствія ихъ обоихъ, то необходимо привести
въ извѣстность, который изъ нихъ дѣйствуетъ сильнѣе, съ тѣмъ, чтобы подчинить
низшій элементъ законамъ высшаго. Если успѣхи цивилизаціи и всеобщее благоден-
Что отношеніе между лѣтами родителей имѣетъ
отчасти вліяніе на полъ дѣтей, это можетъ быть при-
нято нота за достовѣрное, но огромному количеству
собранныхъ доказательствъ, но Миллеръ вмѣсто того,
чтобы ссылаться на гшсатслей-фпзіологовъ, долженъ
былъ бы упомянуть о томъ, что статистики, а не фи-
зіологи, первые сдѣлали это открытіе. Что касается
до животныхъ низшихъ породъ, то мы видимъ изъ мно-
жества опытовъ, что у овецъ я у лошадей лѣта роди-
телей имѣютъ «весьма важное общее вліяніе па полъ
приплода».
5*
68 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ствіе человѣчества зависятъ болѣе отъ его нравственныхъ чувствъ, чѣмъ отъ его
умственныхъ познаній, то мы конечно должны измѣрять прогрессъ общества этими
чувствами; если же, напротивъ, все это зависитъ болѣе отъ познаній, то мы должны
принять за мѣрило прогресса объемъ и успѣхи умственной дѣятельности общества.
Коль скоро намъ будетъ извѣстна относительная энергія этихъ двухъ составляющихъ
силъ, намъ останется только поступить съ ними по общепринятому плану въ изслѣ-
дованіи истины, т. е. принять, что произведеніе ихъ совокупнаго дѣйствія подчи-
няется законамъ большей силы, дѣятельность которой встрѣчаетъ, однако, по време-
намъ помѣху во второстепенныхъ законахъ меньшей силы.
Приступая къ этому изслѣдованію, мы встрѣчаемъ прежде всего затрудненіе,
происходящее отъ несвойственнаго, небрежнаго употребленія обыкновенныхъ выра-
женій, когда рѣчь идетъ о предметахъ, требующихъ величайшей отчетливости и точ-
ности опредѣленій. Такъ, самое выраженіе «нравственный и умственный прогрессъ»
можетъ подать поводъ къ весьма серьезному нодоразумѣнію. Въ томъ видѣ, въ ка-
комъ обыкновенно употребляется это выраженіе, оно какъ бы даетъ намъ понять,
что нравственныя и умственныя способности людей съ успѣхами цивилизаціи изощ-
ряются и становятся надежнѣе, чѣмъ были прежде. Но эта мысль—хотя можетъ быть
и справедливая—никогда не была доказана: легко можетъ оказаться изъ наблюденій
за продолжительные періоды времени, что по какимъ-нибудь физическимъ причи-
намъ, намъ еще не извѣстнымъ, средній объемъ мозга постепенно увеличивается и
что, слѣдовательно, умъ, дѣйствующій чрезъ посредство мозга, пріобрѣтаетъ, даже не-
зависимо отъ воспитанія, большую способность и большую вѣрность взгляда х). Впро-
чемъ, таково до сихъ поръх наше знаніе физическихъ законовъ, и до такой степени
находимся мы въ неизвѣстндрти относительно обстоятельствъ, опредѣляющихъ наслѣд-
ственную передачу характера, темперамента и другихъ личныхъ особенностей, что
мы должны считать этотъ предполагаемый прогрессъ дѣломъ весьма сомнительнымъ 2).
При настоящемъ положеніи нашихъ знаній мы не можемъ съ достовѣрностью ска-
зать, чтобы происходило какое-нибудь постоянное улучшеніе въ нравственныхъ и
умственныхъ способностяхъ человѣка,’—не имѣемъ также и положительнаго основанія
думать, что у ребенка, родившагося въ самой цивилизованной части Европы, эти
способности должны быть больше, чѣмъ у такого, который родился въ самомъ дикомъ
углу какой-нибудь варварской страны 3).
Итакъ, каковъ бы ни былъ нравственный и умственный прогрессъ человѣ-
*) Что врожденныя способности человѣческаго
мозга совершенствуются оттого, что могутъ передавать-
ся отъ родителей дѣтямъ, — это составляетъ лю-
бимое ученіе послѣдователей Галля; оно пропято п
Огюстомъ Контомъ, который впрочемъ сознается, что
оно никогда пе было достаточно провѣрено опытомъ;
Причардъ, человѣкъ хотя и совершенно иного склада
мыслей, какъ кажется, тоже склоняется въ эту сто-
рону; такъ, сравненіе череповъ привело его къ тому
заключенію, что нынѣшніе жители Великобританіи —
вслѣдствіе ли многихъ вѣковъ высшей умственной дѣя-
тельности, или но какой-нибудь другой прпчпнѣ —
имѣютъ несравненно обширнѣйшія мозговыя чаши,
чѣмъ имѣли пхъ предки. Даже еслибы замѣчаніе это
и было справедливо, то оно еще не доказывало бы,
что содержаніе черепа измѣнилось, хотя и наводило бы
на эту мысль; я съ своей стороны полагаю, что общій
вопросъ долженъ остаться нерѣшеннымъ до тѣхъ поръ,
пока изысканія не будутъ произведены въ несравненно
обширнѣйшемъ размѣрѣ, чѣмъ это дѣлалось до спхъ
воръ.
2) Ни одинъ изъ законовъ наслѣдственной пере-
дачи свойствъ характера не былъ до сихъ норъ обоб-
щенъ; не далѣе подвинулось п наше знаніе теоріи тем-
пераментовъ, которая н до сихъ поръ составляетъ глав-
ное препятствіе для френологовъ. Въ послѣднее время
обращено было вниманіе на различіе химическаго со-
става крови въ различныхъ темпераментахъ, чтб соста-
вляетъ повидимому болѣе удовлетворительный методъ,
нежели прежній, по которому просто описывались на-
ружные признаки каждаго темперамента.
3) Мы часто слышимъ о наслѣдственныхъ та-
лантахъ, наслѣдственныхъ порокахъ и наслѣдствен-
ныхъ доблестяхъ: но кто захочетъ критически раз-
смотрѣть основанія такихъ рѣчей, тотъ увидитъ, что
мы не имѣемъ никакихъ доказательствъ существованія
подобныхъ явленій. Пріемъ, обыкновенно употребляе-
мый для доказательства ихъ дѣйствительности, въ выс-
шей степени нелогиченъ: писатель соберетъ нѣсколько
। примѣровъ какихъ-нибудь особенныхъ свойствъ, встрѣ-
чающихся у отца и сына, и затѣмъ выводитъ, что
эти особенности были наслѣдственны. Такимъ обра-
зомъ можно доказать какое угодно предположеніе, такъ
какъ во всѣхь обширныхъ областяхъ изслѣдованія
всегда можно найти достаточное число эмпирическихъ
случаевъ для довольно правдоподобнаго подтвержденія
любого предположенія. Но не такимъ образомъ откры-
вается пстпна; мы должны справиться какъ о томъ,
; сколько было случаевъ наслѣдственнаго перехода даро-
| ваній, такъ и о томъ, въ какомъ числѣ случаевъ не
НРАВСТВЕННЫЕ И УМСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ.
69
чества, опъ состоитъ не въ улучшеніи природныхъ способностей х), но въ улучше-
ніи, если можно такъ выразиться, возможности къ развитію, то есть въ улучшеніи
той обстановки, при которой послѣ рожденія эти способности начинаютъ дѣйство-
вать. Въ этомъ и заключается все существо дѣла. Прогрессъ относится не къ вну-
тренней силѣ, а къ внѣшнимъ преимуществамъ. Дитя, родившееся въ цивилизован-
ной странѣ, не становится по этому самому выше рожденнаго между варварами, и
различіе, которое окажется между дѣйствіями обоихъ дѣтей, будетъ вызвано, на
сколько мы можемъ судить, однимъ только давленіемъ внѣшней обстановки, подъ
которой я разумѣю окружающія ребенка мнѣнія, знанія, ассоціаціи идей,—однимъ
словомъ, всю духовную атмосферу, среди которой воспитывается каждое дитя.
Въ этомъ отношеніи очевидно, что если мы взглянемъ на весь родъ человѣ-
ческій въ совокупности, то увидимъ, что его нравственный и умственный образъ
дѣйствія опредѣляется нравственными и умственными понятіями, преобладающими въ
данное время. Есть конечно много людей, которые станутъ выше этихъ понятій, и
много другихъ, которые опустятся ниже ихъ; но такіе случаи составляютъ исключеніе,
и число такихъ людей составляетъ самый ничтожный процентъ въ общемъ количествѣ
тѣхъ, которые ничѣмъ не отличаются—ни добромъ, ни зломъ. Огромное большинство
людей всегда остается въ среднемъ состояніи: они не слишкомъ тупы и не слиш-
комъ даровиты, не слишкомъ добродѣтельны и не слишкомъ порочны; засыпая въ
своей мирной и приличной посредственности, они принимаютъ безъ большого за-
трудненія общепринятыя мнѣнія своего времени; не поднимаютъ вопросовъ, не про-
изводятъ скандала, не возбуждаютъ удивленія, а только держатся наравнѣ съ своимъ
поколѣніемъ и безпрекословно подчиняются общему уровню нравственности и знаній
своего вѣка и той страны, гдѣ живутъ.
Достаточно самаго поверхностнаго знанія исторіи,7 чтобы убѣдиться, что этотъ
уровень безпрестанно перемѣняется и никогда не бываетъ совершенно одинаковъ,
даже въ самыхъ сходныхъ между собою странахъ или въ двухъ преемственныхъ по-
колѣніяхъ одной страны. Мнѣнія, преобладающія въ какомъ-нибудь народѣ, во мно-
гихъ отношеніяхъ мѣняются съ года на годъ, и то, что въ какое-нибудь время пре-
слѣдовалось, какъ парадоксъ или ересь, впослѣдствіи принимается, какъ общеизвѣстная
истина, и въ свою очередь7 тоже смѣняется чѣмъ-нибудь еще болѣе новымъ. Эта
крайняя измѣнчивость въ обыкновенной нормѣ человѣческихъ дѣяній доказываетъ,
что условія, отъ которыхъ норма эта зависитъ, должны быть сами чрезвычайно измѣн-
чивы, а между тѣмъ эти условія, каковы бы они пи были, очевидно служатъ источ-
никомъ нравственнаго и умственнаго образа дѣйствій огромнаго большинства людей.
Итакъ, мы имѣемъ теперь основаніе, на которое можемъ безопасно опираться
въ дальнѣйшихъ выводахъ нашихъ. Мы знаемъ, что главный источникъ человѣче-
скихъ дѣяній весьма измѣнчивъ; слѣдовательно, намъ остается только прилагать этотъ
признакъ ко всякаго рода обстоятельствамъ, которыя представляются причинами, и
если мы найдемъ, что эти обстоятельства не очень измѣнчивы, то слѣдуетъ заклю-
чить, что не они составляютъ тотъ источникъ, который мы стараемся открыть.
оказалось наслѣдственности подобныхъ свойствъ. Пока
не будетъ сдѣлано чего-нибудь подобнаго, до тѣхъ поръ
мы не можемъ придти ни къ какому заключенію пу-
темъ наведенія, а пока физіологія и химія не подви-
нутся значительно впередъ, нельзя рѣшить вопросъ п
путемъ вывода.
Эти соображенія должны заставить насъ усо-
мниться во всѣхъ увѣреніяхъ о существованіи наслѣд-
ственнаго сумасшествія и наслѣдственной склонности
къ самоубійству (такія увѣренія встрѣчаются во
многихъ сочиненіяхъ). Замѣчаніе это относится также
и жъ наслѣдственнымъ болѣзпямь и еще болѣе къ
наслѣдственнымъ порокамъ п наслѣдственнымъ добродѣ-
телямъ. Нравственныя явленія никогда но записыва-
лись такъ тщательно, какъ физіологическія, а потому
нашпмь заключеніямъ о нихъ слѣдуетъ еще менѣе
ввѣряться.
Къ тому, что уже сказано, я присовокупляю
мнѣніе двухъ пзъ самыхъ глубокихъ современныхъ мы-
слителей: ся думаю, — говоритъ Локкъ, — что люди
во всѣ времена были одарены природными способно-
стями почти въ равной мѣрѣ*. Тюрго говоритъ, что
«природныя способности дѣйствуютъ одинаково у на-
родовъ варварскихъ м народовъ цивилизованныхъ: онѣ
вѣроятно однѣ п гѣ же во всѣхъ странахъ и во всѣ
времена... Чѣмъ болѣе будетъ людей, тѣмъ болѣе бу-
детъ п великихъ людей, пли людей способныхъ сдѣ-
। латься велпкпмп».
70
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Приложивъ извѣстный намъ признакъ къ нравственнымъ побужденіямъ или
указаніямъ такъ называемаго нравственнаго инстинкта, мы сейчасъ увидимъ, до ка-
кой степени слабо вліяніе, оказанное этими побужденіями на успѣхи цивилизаціи.
Неоспоримо, что въ цѣломъ мірѣ нѣтъ ничего такого, что бы измѣнилось такъ мало,
какъ тѣ великіе догматы, изъ которыхъ слагаются нравственныя системы. Дѣлать
добро другимъ, жертвовать для пользы ихъ своими собственными желаніями, любить
ближняго, какъ самого себя, прощать врагамъ, обуздывать свои страсти, чтить ро-
дителей, уважать тѣхъ, которые поставлены надъ нами—въ этихъ правилахъ и въ
нѣсколькихъ другихъ заключается вся сущность нравственности, и къ нимъ не при-
бавили ни одной іоты всѣ проповѣди, всѣ наставленія и собранія текстовъ, соста-
вленныя моралистами и богословами *).
Но если мы сравнимъ это неподвижное состояніе нравственныхъ истинъ съ
быстрымъ движеніемъ впередъ истинъ умственныхъ, то найдемъ самую разительную
противоположность §). Всѣ великія нравственныя системы, имѣвшія большое вліяніе
на человѣчество, представляли въ сущности одно и то же. Въ ряду правилъ, опре-
дѣляющихъ нашъ нравственный образъ дѣйствія, самые просвѣщенные европейцы не
знаютъ ни одного такого, которое бы не было также извѣстно древнимъ. Что же ка-
сается до дѣятельности нашего ума, то люди позднѣйшихъ временъ не только сдѣ-
лали значительныя пріобрѣтенія по всѣмъ отраслямъ знанія, какія пытались изучать
въ древности, но и совершили рѣшительный переворотъ въ старыхъ методахъ изслѣ-
дованія: они соединили въ одну обширную систему всѣ тѣ средства наведенія, о ко-
торыхъ только смутно помышлялъ Аристотель, и создали такія науки, о которыхъ и
самый смѣлый мыслитель древности не имѣлъ ни малѣйіпаго понятія.
Все это для каждаго образованнаго человѣка несомнѣнные общеизвѣстные факты,
и выводъ, непосредственно вытекающій изъ нихъ, очевиденъ. Если цивилизація есть
произведеніе нравственныхъ и умственныхъ факторовъ, и если это произведеніе под-
вержено безпрерывнымъ измѣненіямъ, то ясно, что характеръ его опредѣляется не-
измѣннымъ факторомъ: потому что въ неизмѣняющейся обстановкѣ неизмѣнный фак-
торъ можетъ производить только неизмѣнное дѣйствіе. Измѣняется же одинъ умствен-
ный факторъ, и что онъ въ этомъ случаѣ истинный двигатель, это можетъ быть до-
казано двумя различными путями: во-первыхъ, тѣмъ, что если не нравственное начало
1) Что система нравственности, изложенная въ Но-
вомъ Завѣтѣ, не заключаетъ въ себѣ ни одного правила,
которое не было бы высказано раньше, и что нѣко-
торыя изъ самыхъ прекрасныхъ мѣстъ въ Писаніяхъ
Апостоловъ—не что иное, какъ выдефжки изъ языче-
скихъ писателей, это извѣстно всякому образован-
ному человѣку, и это не только не составляетъ, какъ
думаютъ нѣкоторые, опроверженія христіанскаго уче-
нія, но даже служитъ сильнымъ подкрѣпленіемъ ему,
доказывая тѣсную связь, существующую между уче-
ніемъ Христа п нравственными стремленіями чело-
вѣчества въ разные вѣка. Но увѣренія, будто бы
христіанство открыло людямъ нравственныя истины,
до того времени неизвѣстныя, доказываютъ со сто-
роны увѣряющаго или грубое невѣжество, или умыш-
ленный обманъ. Для удостовѣренія въ томъ, что зна-
ніе нравственныхъ истинъ существовало у варвар-
скихъ народовъ независимо отъ христіанства и боль-
шей частью до распространенія его, отсылаю читателя
къ сочиненіямъ: Макея «Исторія религіи»; Мюра
«Исторія греческой литературы», т. II, стр. 398, и
т. Ш, стр, 340; Милля-отца «Исторія Индіи»; Безобра
«Исторія манихейства» и ми. др.
2) Сэръ Джемсъ Макинтошъ былъ такъ сильно
пораженъ неподвижнымъ характеромъ нравственныхъ
началъ, что онъ отвергъ возможность для нихъ успѣха
и смѣло утверждаетъ, что въ нравственности не мо-
жетъ быть сдѣлано дальнѣйшихъ открытій. Онъ го-
воритъ: «нравственность не допускаетъ открытій...
Болѣе трехъ тысячъ дѣтъ прошло со времени писа-
нія Пятикнижія,—и пусть кто-нибудь, если только
можетъ, скажетъ мнѣ, въ какой важной чертѣ измѣ-
нились правила жизни съ этого отдаленнаго времени.
Разсмотримъ съ той же цѣлью законоположеніе Мену,
и мы придемъ къ тому же заключенію. Откроемъ
книги всѣхъ ложныхъ религій—окажется, что нрав-
ственная система ихъ во всѣхъ главныхъ чертахъ
та же самая... Тутъ ясенъ тотъ фактъ, что вь прак-
тической нравственности не было сдѣлано никакихъ
і улучшеній... Факты, изъ которыхъ выводятся нрав-
I ственныя правила, такъ же доступны в должны быть
такъ же очевидны самому грубому варвару, какъ и
самому просвѣщенному философу». Совершенно на-
оборотъ бываетъ въ физическихъ и умозрительныхъ
паукахъ, въ которыхъ факты весьма отдаленные и
едва доступные... По неисчнсленному разнообразію
фактовъ, съ которыми они имѣютъ дѣло, невоз-
можно назначить предѣлъ ихъ дальнѣйшему разви-
тію. Совсѣмъ другое дѣло съ нравственностью—пра-
вила ея до сихъ поръ были неподвижны и, по моему
мнѣнію, останутся такими же навсегда». Кондорсе
говоритъ: «Нравственность у всѣхъ народовъ была
одна и та же». Кантъ полагалъ, что въ нравствен-
ной философіи мы не подвинулись далѣе древнихъ.
НРАВСТВЕННЫЕ И УМСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ.
71
движетъ цивилизаціей, то остается приписать это дѣйствіе одному умственному; а
во-вторыхъ, тѣмъ, что умственное начало проявляетъ такую дѣятельность и такую
способность все обхватывать, которая совершенно достаточно объясняетъ необыкно-
венные успѣхи, сдѣланные Европой въ продолженіе нѣсколькихъ столѣтій.
Вотъ главныя доказательства, которыми подкрѣпляется мое воззрѣніе; но ря-
домъ съ ними есть и разныя другія соображенія, которыя также заслуживаютъ вни-
манія. Первое изъ нихъ заключается въ томъ, что умственное начало не только го-
раздо прогрессивнѣе нравственнаго, но и даетъ болѣе прочные результаты. Во всякой
цивилизованной странѣ пріобрѣтенія, сдѣланныя умомъ, тщательно сохраняются вы-
раженныя въ извѣстныхъ общественныхъ формулахъ и огражденныя употребленіемъ
техническаго, научнаго языка. Они удобно передаются отъ одного поколѣнія къ дру-
гому и принимаютъ такую доступную, такъ сказать, осязательную форму, что часто
имѣютъ вліяніе на самое отдаленное потомство. Они становятся наслѣдственнымъ
богатствомъ человѣчества, какъ безсмертное завѣщаніе тѣхъ великихъ умовъ, кото-
рымъ они обязаны своимъ бытіемъ. Добрыя же дѣла, совершаемыя подъ вліяніемъ
нашихъ нравственныхъ побужденій, несравненно менѣе подлежатъ такой передачѣ; они
имѣютъ болѣе частный, скрытый характеръ. Такъ какъ побужденія, изъ которыхъ они
вытекаютъ, составляютъ обыкновенно результатъ самоотверженія и самообладанія, то
каждый долженъ самъ совершать ихъ; каждый начинаетъ эти дѣла съ начала, и по-
тому они весьма мало выигрываютъ отъ предшествовавшаго опыта, и не легко мо-
гутъ быть сохраняемы для руководства будущихъ моралистовъ. Вслѣдствіе этого хотя
нравственное превосходство болѣе заслуживаетъ сочувствія и для большей части лю-
дей привлекательнѣе, чѣмъ умственное, тѣмъ не менѣе должно сознаться, что въ даль-
нѣйшемъ дѣйствіи своемъ онб гораздо слабѣе, менѣе постоянно и, какъ я сейчасъ
покажу, менѣе дѣлаетъ добра. \
Дѣйствительно, если мы разсмотримъ результаты,/достигнутые самымъ дѣятель-
нымъ человѣколюбіемъ, самымъ широкимъ и безкорыстнымъ желаніемъ добра, то уви-
димъ, что эти результаты сравнительно весьма краткбвременны, что они касаются
весьма небольшого числа людей и немногимъ приносятъ пользу, что они рѣдко пе-
реживаютъ то поколѣніе, которое было свидѣтелемъ ихъ начала, и что даже когда
дѣйствіе филантропіи является въ самой прочной формѣ —общественныхъ благотво-
рительныхъ учрежденій, то подобныя учрежденія неизбѣжно подвергаются сперва
злоупотребленіямъ, потомъ постепенному упадку, а чрезъ нѣсколько времени или со-
вершенно разрушаются, или отклоняются отъ своей первоначальной цѣли, какъ бы въ
насмѣшку надъ усиліями, тщетно предпринимаемыми для увѣковѣченія памяти о са-
момъ чистомъ и рѣшительномъ человѣколюбіи.
Эти выводы, безъ всякаго сомнѣнія, весьма неутѣшительны, и тѣмъ болѣе не-
пріятны, что ихъ невозможно опровергнуть. Чѣмъ глубже будемъ мы вникать въ этотъ
вопросъ, тѣмъ явственнѣе представится намъ преимущество умственнаго развитія
передъ нравственными чувствами *). Нельзя привести ни одного примѣра, чтобы не-
развитый человѣкъ, имѣя добрыя намѣренія п неограниченную власть для приведе-
нія ихъ въ дѣйствіе, не сдѣлалъ гораздо болѣе зла, чѣмъ добра. И каждый разъ, когда
намѣренія такого человѣка бывали особенно искренни и власть особенно обширна,
происходило громадное зло. Но еслибы ослабить его добрую волю, еслибы иска-
зить его побужденія нечистой примѣсью, то уменьшилось бы и дѣлаемое имъ зло.
Если такой человѣкъ столько же эгоистъ, сколько и невѣжда, то часто бываетъ воз-
можно поставить его порокъ въ противодѣйствіе его невѣжеству и ограничить про-
изводимое имъ зло, возбудивъ въ немъ страхъ. Если же онъ безстрашенъ и совер-
шенно чуждъ эгоизма, если единственная цѣль его есть благо ближнихъ, если онъ
Часть нашего доказательства превосходно вы- I оказывается скоропреходящимъ^ а истины, завѣщае-
ражена у Кювье, который говоритъ: «Добро, дѣлае- I мыя имъ, вѣчны»,
мое людямъ, какъ бы оно ни было велико, всегда |
72 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
преслѣдуетъ эту цѣль съ увлеченіемъ, съ обширными планами и съ совершенно без-
корыстнымъ усердіемъ, тогда уже нѣтъ никакой возможности обуздать его и пред-
упредить тѣ бѣдствія которыя долженъ неизбѣжно причинить невѣжда въ вѣкъ не-
вѣжества. До какой степени такая мысль подтверждается опытомъ, это мы можемъ
всего лучше видѣть въ исторіи гоненій за религію. Наказать даже одного человѣка
за его религіозныя убѣжденія есть конечно одно изъ самыхъ страшныхъ злодѣяній
въ мірѣ; но наказывать огромное количество людей, преслѣдовать цѣлую секту, пы-
таться искоренить мнѣнія, которыя, проистекая изъ самаго состоянія общества, слу-
жатъ лишь проявленіемъ дивной и роскошной производительности человѣческаго ума—
все это составляетъ не только одно изъ самыхъ вредныхъ, но и одно изъ самыхъ безраз-
судныхъ дѣлъ, какія только мы можемъ себѣ представить. Тѣмъ не менѣе несомнѣнный
фактъ, что огромное большинство лицъ, воздвигавшихъ гоненія за религію, были люди
съ самыми чистыми намѣреніями, съ самой высокой и безукоризненной нравственностью.
Невозможно даже, чтобы это было иначе. Нельзя считать неблагонамѣренными людей,
старающихся навязать кому-нибудь убѣжденія, которыя они считаютъ хорошими. Тѣмъ
менѣе можно назвать дурными людей, которые безъ всякаго земного расчета упо-
требляютъ всѣ средства своей власти не для своей пользы, но для распространенія
религіи, которую считаютъ необходимой для будущаго благоденствія человѣчества.
Такихъ людей не должно считать дурными, а только невѣжественными, не знающими
ни свойствъ истины, ни послѣдствій своихъ поступковъ. Но съ нравственной точки
зрѣнія побужденія, которымъ они слѣдуютъ, безукоризненны. Дѣйствительно, ихъ
возбуждаетъ къ преслѣдованію самая искренность ихъ убѣжденія. Именно святое усер-
діе, одушевляющее ихъ, возбуждаетъ ихъ фанатизмъ къ небесной дѣятельности. Если
вы внушите какому-нибудь человѣку глубочайшее убѣжденіе въ великомъ значеніи
какого-нибудь нравственнаго йли религіознаго ученія, если вы увѣрите его, что всѣ,
отвергающіе это ученіе, осуждены на вѣчную гибель, если вы затѣмъ облечете этого
человѣка властью и, пользуясь его невѣдѣніемъ, ослѣпите его относительно дальнѣй-
шихъ послѣдствій,—онъ непремѣнно будетъ преслѣдовать всѣхъ, отрицающихъ его
ученіе, и энергія, которую онъ проявитъ въ этомъ преслѣдованіи, будетъ соразмѣрна
искренности его убѣжденія. Убавьте искренности—и ослабится преслѣдованіе; дру-
гими словами, ослабивши добродѣтель, вы можете уменьшить зло. Это истина, на ко-
торую исторія представляетъ такое безчисленное множество примѣровъ, что отрицать
ее значило бы не только отвергать самыя ясныя и убѣдительныя доказательства, но
и презирать единогласное свидѣтельство всѣхъ вѣковъ. Я ограничусь выборомъ двухъ
явленій, которыя, по совершенно различной обстановкѣ ихъ, могутъ служить весьма
хорошими примѣрами: одно изъ нихъ относится къ исторіи язычества, а другое—къ
исторіи христіанства, и оба доказываютъ неспособность нравственнаго чувства удер-
жать человѣка отъ преслѣдованій за религію.
I. Римскіе императоры, какъ мы достовѣрно знаемъ, подвергали первыхъ хри-
стіанъ преслѣдованіямъ, которыя конечно отчасти преувеличены въ разсказахъ, но
все-таки были весьма часты и тяжки. Но что многимъ должно казаться весьма стран-
нымъ, между ревностными дѣятелями этихъ жестокостей мы находимъ имена лучшихъ
людей, какіе когда-либо сидѣли на престолѣ, между тѣмъ какъ худшіе и самые не-
честивые изъ государей отличались именно тѣмъ, что щадили христіанъ и не обра-
щали вниманія на ихъ размноженіе. Двое самыхъ нравственно-испорченныхъ людей,
между всѣми императорами, были конечно Коммодъ и Геліогабалъ, и ни тотъ, ни
другой не преслѣдовали новой религіи и не принимали противъ нея никакихъ мѣръ.
Они слишкомъ мало думали о будущемъ и были слишкомъ эгоистичны, слишкомъ
погружены въ свои постыдныя удовольствія, чтобы полагать какую-либо важность въ
томъ, восторжествуетъ ли истина, или заблужденіе. Они не заботились о благоден-
ствіи своихъ подданныхъ, и потому были равнодушны къ успѣхамъ религіи, на ко-
торую, въ качествѣ языческихъ государей, они должны были смотрѣть, какъ на ги-
бельное, безбожное заблужденіе. Поэтому они предоставляли христіанству полную сво-
НРАВСТВЕННЫЕ И УМСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ. 73
боду и не останавливали его развитіе карательными постановленіями, которыя не-
премѣнно издали бы на ихъ мѣстѣ болѣе добросовѣстные, но и болѣе заблуждаю-
щіеся государи, Такъ мы видимъ, что злѣйшимъ врагомъ христіанства былъ Маркъ
Аврелій, человѣкъ кроткаго нрава, неустрашимой, непоколебимой честности; онъ озна-
меновалъ свое царствованіе такими гоненіями, на которыя онъ никакъ не рѣшился
бы, если бы не былъ такъ искренно преданъ религіи своихъ предковъ *). Для довер-
шенія- доказательства, можно прибавить, что послѣднимъ и однимъ изъ сильнѣйшихъ
противниковъ христіанства на престолѣ кесарей былъ государь, замѣчательный по
своей честности—Юліанъ, мнѣнія котораго были многими опровергаемы, нравствен-
ность же не была затронута даже и клеветой 2).
II. Второй примѣръ представляетъ намъ исторія Испаніи,—страны, которой должно
отдать справедливость въ томъ, что въ ней болѣе чѣмъ гдѣ-либо религіозныя чув-
ства имѣли рѣшительное вліяніе на дѣла людей. Никакая другая европейская нація
не произвела столько пламенныхъ и безкорыстныхъ проповѣдниковъ, столько рев-
ностныхъ и самоотверженныхъ мучениковъ,—людей, съ радостью жертвовавшихъ жизнью
для распространенія истинъ, которыя они считали необходимыми* Нигдѣ духовное
сословіе не пользовалось такимъ долгимъ преобладаніемъ; нигдѣ нѣтъ такой набож-
ности въ народѣ, такого стеченія народа въ церквахъ, такого многочисленнаго ду-
ховенства. Тѣмъ не менѣе искренность и чистота намѣреній, которыми всегда от-
личается испанскій народъ, взятый въ совокупности, не только не устранили возмож-
ности религіозныхъ гоненій, но даже оказались причинами, способствующими имъ.
Еслибы нація эта была менѣе ревностна въ вѣрѣ, то она была бы болѣе располо-
жена къ вѣротерпимости. Для нея охраненіе вѣры было .первымъ изъ всѣхъ сооб-
раженій; все на свѣтѣ приносилось въ жертву этой одцбй цѣли. Но излишняя рев-
ность породила естественнымъ образомъ жестокость и тѣмъ приготовила почву, на
которой могла пустить корни и процвѣтать инквизиція. Двигатели этого варварскаго
учрежденія были не лицемѣры, а энтузіасты. Лицемѣры большей частью слишкомъ
гибки для того, чтобы быть жестокими. Жестокость—суровая и непреклонная страсть,
тогда какъ лицемѣріе—ползучая, гибкая способность приноравливаться къ человѣ-
ческимъ чувствамъ и поблажать слабостямъ людей для достиженія своей цѣли. Въ
Испаніи народъ устремилъ все свое рвеніе на одинъ предметъ—и одно взяло верхъ
надъ всѣмъ: ненависть къ ереси перешла въ обычай, а преслѣдованіе—въ обязан-
ность. Добросовѣстность и энергія, съ которыми исполнялась эта обязанность, видны
въ исторіи испанской церкви. Дѣйствительно, различными путями и по различнымъ,
другъ отъ друга независимымъ, источникамъ можно доказать, что инквизиція отли-
чалась непреклонной, неподкупной справедливвостыо. Я возращусь къ этому вопросу
нѣсколько позже, но есть два свидѣтельства, о которыхъ я не могу не упомянуть
х) Мпльманъ въ свое! «Исторіи Христіанства» |
говоритъ: «Безукоризненны! послѣдователь строжай-
шей школы нравственно! философіи, Маркъ Аврелій
могъ, по строгости своей жизни, соперничать съ хри-
стіанами въ прозрѣніи къ житейскимъ безумствамъ п
суетностямъ; при томъ его характеръ, чрезвычайно доб-
рый отъ природы, не затвердѣлъ и не пріобрѣлъ от-
тѣнка горочн, подъ вліяніемъ строгости и гордости |
философа, Тѣмъ не менѣе христіанство нашло въ ;
Авреліѣ не то.тько честнаго и великодушнаго сопска- I
теля власти надъ душою человѣка, не только сорев-
нователя въ дѣлѣ обращенія души въ высшимъ взгля- і
дамъ и болѣе достойнымъ ея побужденіямъ, но и рев-
ностнаго и непреклоннаго гонителя». Гизо сравни-
ваетъ его съ Людовикомъ IX французскимъ,—и дѣй-
ствительно въ обѣихъ этихъ личностяхъ яспо видно
сочетаніе искренности убѣжденій п склонности къ пре-
слѣдованію людей, иначе мыслящихъ. «Маркъ Авре-
лій и Людовикъ Святой—можетъ быть два единствен-
ные государя, которые во всевозможныхъ случаяхъ
принимали свое нравственное убѣжденіе за первое
правило своей дѣятельности: Маркъ Аврелій—стоикъ,
а Людовикъ Святой — христіанинъ». Даже Дюплесси
называетъ его «лучшимъ изъ языческихъ императо-
ровъ», а Риттеръ — «доблестнымъ и благороднымъ
императоромъ».
2) Неапдеръ въ своей «Исторіи Церкви» замѣ-
чаетъ, что лучшіе изъ императоровъ противодѣйство-
вали христіанству, а худшіе не обращали вниманія
па распространеніе его. То же замѣчаетъ Гиббонъ
относительно Марка Аврелія и Комиода. Другой пи-
сатель, отличающійся совершенно инымъ характеромъ
(Гетчинсонъ), приписываетъ это обстоятельство дья-
вольскому навожденію. «Замѣчено было въ первыя
времена христіанства, что нѣкоторые изъ лучшихъ
императоровъ были возбуждены дьяволомъ къ тому,
чтобы сдѣлаться злѣйшими гонителями церкви».
74 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
немедленно, такъ какъ по нѣкоторымъ обстоятельствамъ они особенно заслуживаютъ
довѣрія. Льорентъ, великій историкъ инквизиціи, злѣйшій врагъ ея, имѣлъ доступъ къ
ея тайному архиву и, слѣдовательно, самую полную возможность узнать истину, а между
тѣмъ и онъ нигдѣ не нападаетъ на нравственную сторону инквизиціи; напротивъ
того, негодуя на жестокость ея дѣйствій, онъ не можетъ не признать чистоту ея на-
мѣреній *). За тридцать лѣтъ до него Тоунсендъ, священникъ англиканской церкви,
издалъ замѣчательное сочиненіе объ Испаніи и, несмотря на то, что, какъ проте-
стантъ и англичанинъ, имѣлъ всевозможныя причины быть предубѣжденнымъ про-
тивъ гнуснаго порядка вещей, который онъ описывалъ,—тоже не могъ сдѣлать ни-
какого упрека лицамъ, поддерживавшимъ этотъ порядокъ; будучи принужденъ упо-
мянуть объ инквизиціонномъ судѣ въ Барцелонѣ, одной изъ важнѣйшихъ отраслей
этого учрежденія, онъ допускаетъ—признаніе весьма замѣчательное—что всѣ члены
суда были люди достойные, а большая часть изъ нихъ—даже замѣчательно человѣ-
колюбивые.
Эти факты, какъ бы разительны они ни были, составляютъ еще весьма неболь-
шую часть огромнаго количества данныхъ, заключающихся въ исторіи и рѣшительно
доказывающихъ неспособность нравственнаго чувства уменьшить религіозныя гоненія.
Какимъ именно образомъ дѣйствительно произошло это уменьшеніе съ успѣхами
умственнаго развитія,—ото будетъ показано въ другой части этого тома, гдѣ мы ясно
увидимъ, что главное противоядіе нетерпимости заключается не въ человѣколюбіи,
а въ просвѣщеніи. Распространенію просвѣщенія, и именно ему одному, мы обязаны
постояннымъ уменьшеніемъ того, что было неоспоримо величайшимъ зломъ, какое
когда-либо причиняли людщ себѣ подобнымъ. Что гоненіе за вѣру есть большее зло,
чѣмъ всякое другое, это уже доказывается огромнымъ/почти невѣроятнымъ числомъ
извѣстныхъ жертвъ его * 2); по къ этому должно прибавить, что неизвѣстныя жертвы
вѣроятно еще многочисленнѣе, и что исторія не сообщаетъ намъ никакихъ свѣдѣній
о тѣхъ, которые были пощажены тѣлесно, съ тѣмъ чтобы подвергнуться истязанію
душевному. Мы много слышимъ о мученикахъ и исповѣдникахъ,—о тѣхъ, которые
были умерщвлены мечомъ или сожжены на огнѣ, но почти ничего не знаемъ о го-
раздо большемъ числѣ тѣхъ, которые одной угрозой гоненія были доведены до на-
ружнаго отреченія отъ своихъ убѣжденій и, принужденные такимъ образомъ къ
отступничеству, котораго ужасалась ихъ душа, провели остальную жизнь свою въ
постоянномъ унизительномъ лицемѣріи. Въ этомъ именно заключается настоящее зло
религіозныхъ гоненій. Когда такимъ образомъ люди бываютъ вынуждены маскиро-
вать свои мнѣнія, то въ нихъ образуется привычка обезопашивать себя посредствомъ
обмана и покупать безнаказанность цѣною лжи; для нихъ ложь становится одною
изъ ежедневныхъ потребностей, а лицемѣріе—-однимъ изъ обычаевъ; общій духъ и
образъ мыслей націи подвергается порчѣ, и сумма существующихъ въ ней пороковъ
и заблужденій страшно увеличивается. Слѣдовательно, мы имѣемъ полное право ска-
зать, что въ сравненіи съ этимъ злодѣяніемъ всѣ другія являются маловажными, и
мы должны быть глубоко благодарны успѣхамъ умственнаго развитія, прекратившимъ
это зло, которое однако многіе желали бы возобновить.
Начало, которое я отстаиваю, имѣетъ такое огромное значеніе какъ на прак-
1) Это его конечно сильно смущаетъ. «Мое без-
пристрастіе,—говоритъ онъ, — очевидно доказывается
тѣмъ, что въ нѣкоторыхъ обстоятельствахъ я самъ ука-
зываю на великодушныя побужденіи инквизиторовъ, п
это заставляетъ меня думать, что жестокіе приговоры,
постановляемые Священнымъ Судомъ, происходятъ бо-
лѣе отъ всей его организаціи, чѣмъ отъ личнаго ха-
рактера отдѣльныхъ членовъ его».
2) Въ 1546 году венеціанскій посланникъ при
дворѣ императора Карла V, по возвращеніи своемъ на
родину, показалъ въ офиціальномъ донесеніи своему
правительству, что «въ Голландіи и Фрисландіи болѣе
30.000 человѣкъ лишены жизни по суду за послѣдо-
ваніе ереси анабаптистовъ». Въ Испаніи инквизиція
въ продолженіе восемнадцати лѣтъ управленія Торкве-
мады казнила, по самымъ умѣреннымъ показаніямъ,
болѣе 105.000 человѣкъ, изъ которыхъ 8.800 были
сожжены. Въ одной Андалузіи къ теченіе одного года
инквизиція казнила 2.000 евреевъ, кромѣ 17.000 че-
ловѣкъ, подвергшихся какимъ-нибудь видамъ наказанія,
легчайшимъ, чѣмъ смертная казнь.
НРАВСТВЕННЫЕ И УМСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ.
75
тикѣ, такъ и въ теоріи, что я намѣренъ привести еще одинъ примѣръ, показываю-
щій, съ какой силой оно дѣйствуетъ. Величайшее изъ золъ, извѣстныхъ человѣчеству,—
зло, которое послѣ религіозныхъ гоненій причинило самую большую сумму страда-
ній,- есть неоспоримо веденіе войнъ. Что этотъ варварскій образъ дѣйствія по мѣрѣ
совершающагося въ обществѣ прогресса постепенно выходитъ изъ употребленія, это
становится очевидно и при самомъ поверхностномъ чтеніи исторіи Европы *)• Если
мы сравнимъ въ этомъ отношеніи послѣдовательныя столѣтія, то найдемъ, что съ
весьма давняго времени войны становились все рѣже и рѣже, и перемѣна эта, на-
конецъ, такъ ясно обозначилась, что до послѣдней (восточной) войны мы почти со-
рокъ лѣтъ наслаждались миромъ, — явленіе безпримѣрное въ лѣтописяхъ не только
Англіи, но и всякой другой страны, имѣвшей довольно значенія, чтобы играть одну
изъ главныхъ ролей въ міровыхъ событіяхъ. При этомъ возбуждается вопросъ: на
сколько именно участвовали наши нравственныя чувства въ осуществленіи этой бла-
годѣтельной перемѣны. Если отвѣчать на этотъ вопросъ, не стѣсняясь предразсуд-
ками, а единственно на основаніи положительныхъ данныхъ, то приходится сказать,
что нравственныя чувства вовсе не участвовали въ этомъ дѣлѣ. Никто конечно не
будетъ утверждать, что люди новѣйшихъ временъ сдѣлали какія-нибудь новыя откры-
тія относительно нравственныхъ золъ, сопряженныхъ съ войною. Въ этомъ отноше-
ніи мы теперь не знаемъ ничего такого, что бы не было извѣстно уже въ теченіе
многихъ столѣтій. Единственныя два сужденія объ этомъ предметѣ моралистовъ за-
ключаются въ томъ, что войны оборонительныя справедливы, а наступательныя не-
справедливы. Эти два начала были такъ же ясно излагаемы, такъ же хорошо поняты
и такъ же приняты всѣми въ средніе вѣка, когда не цроходила ни одна недѣля
безъ войны, какъ и теперь, когда война считается рѣдкой и исключительной слу-
чайностью. Итакъ, отношеніе людей къ войнѣ постепенно измѣнялось, между тѣмъ
какъ нравственный взглядъ ихъ на этотъ предметъ остался тотъ же,—ясно, что измѣ-
няющееся дѣйствіе не можетъ происходить отъ неизмЬнной причины. Невозможно
представить себѣ болѣе рѣшительнаго доказательства. Если кто-нибудь можетъ до-
казать, что въ теченіе послѣдней тысячи лѣтъ моралисты или богословы указали
хотя на одно происходящее отъ войны зло, существованіе котораго было бы не-
извѣстно предшественникамъ ихъ, то я готовъ отказаться отъ защищаемаго мною
воззрѣнія. Но если, въ чемъ я твердо убѣжденъ, никто не докажетъ этого, то всѣ
должны согласиться со мною, что безъ приращенія къ суммѣ нравственныхъ истинъ
не могло увеличиться и вліяніе нравственности * 2).
Такимъ образомъ вопросъ объ участіи нравственныхъ чувствъ въ усиленіи все-
общей нелюбви къ войнѣ уже рѣшенъ. Съ другой стороны, обратившись къ человѣ-
ческому уму, въ тѣснѣйшемъ смыслѣ слова, мы найдемъ, что каждое значительное
х) Объ ослабленіи страсти къ войнѣ, которое еще і
болѣе замѣтно, чѣмъ дѣйствительное уменьшеніе воинъ,
см. любопытныя замѣчанія 0. Копта въ его «Позитив-
ной Философіи», гдѣ антагонизмъ между воинственнымъ
духомъ и духомъ промышленности вообще весьма хо-
рошо развитъ; впрочемъ, нѣкоторыя изъ самыхъ глав-
ныхъ явленій упущены изъ виду этимъ замѣчатель-
нымъ философомъ, по недостаточному знакомству его
съ исторіей и политической экономіей.
2) Развѣ, что правила нравственности и религіи
были распространяемы съ большимъ рвеніемъ, — въ
этомъ случаѣ и при неподвижности самыхъ правилъ
дѣйствіе ихъ могло усилиться. По, напротивъ того,
достовѣрпо извѣстно, что въ средніе вѣка было срав-
нительно съ населеніемъ болѣе церквей, чѣмъ теперь;
духовное сословіе было гораздо многочисленнѣе, духъ
прозелитизма гораздо дѣятельнѣе, и въ самомъ обще-
ствѣ существовала сильнѣйшая рѣшимость не давать
чисто научнымъ положеніямъ вторгаться въ область
нравственности. Дѣйствительно, въ продолженіе сред-
нихъ вѣковъ нравственная и религіозная литература
превышаетъ свѣтскую литературу, взятую въ сово-
купности, не только количествомъ произведеній, но и
дарованіями писателей, Между тѣмъ теперь правила
моралистовъ уже не руководятъ болѣе дѣлами чело-
вѣческими и уступили свое мѣсто широкоіі теоріи цѣ-
лесообразности, объемлющей всевозможные интересы
и всевозможные классы людей. Писатели, системати-
чески излагавшіе теорію нравственности, достигли
высшей степени своего значенія въ тринадцатомъ
столѣтіи; послѣ этого времени значеніе ихъ стало
быстро упадать, встрѣчая противодѣйствіе, какъ го-
воритъ Кольриджъ, «въ духѣ протестантизма»; въ
копцѣ же семнадцатаго вѣка опи исчезли во всѣхъ ци-
вилизованныхъ странахъ. Сочиненіе Іереміи Тайлора
«Висіог ВиЬііапііипі» («Вождь сомнѣвающихся») было
послѣдней широкой попыткой геніальнаго человѣка
преобразовать общество единственно на основаніи на-
чала нравственности.
76
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
усиленіе его дѣятельности было тяжкимъ ударомъ для духа воинственности. Полное
доказательство этой мысли я впослѣдствіи разовью довольно пространно, а въ этомъ
введеніи я могу только указать на нѣкоторыя изъ очевиднѣйшихъ соображеній, которыя,
встрѣчаясь, такъ сказать, на самой поверхности исторіи, могутъ быть поняты сразу.
Одно изъ самыхъ ясныхъ между этими соображеніями заключается въ томъ, что
каждое важное пріобрѣтеніе въ области знанія усиливаетъ авторитетъ умственно-тру-
дящихся классовъ, увеличивая запасъ средствъ, которыми они могутъ располагать.
Но между этими классами и военнымъ сословіемъ существуетъ явный антагонизмъ;
это антагонизмъ между мыслью и дѣломъ, между внутреннимъ и внѣшнимъ, между
доказательствомъ и насиліемъ, между силой убѣжденія и физической силой, короче
сказать, между людьми, живущими мирнымъ промысломъ, и людьми, живущими вой-
ною. Слѣдовательно, все, что благопріятно одному изъ этихъ классовъ, очевидно не-
благопріятно другому, Предполагая, что всѣ другія , обстоятельства въ одномъ и томъ
же положеніи, можно смѣло сказать, что по мѣрѣ того, какъ умственныя пріобрѣте-
нія извѣстнаго народа увеличиваются, его расположеніе къ войнѣ уменьшается, и на-
оборотъ—если умственныя силы весьма ограничены, то расположеніе къ войнѣ весьма
сильно х). У совершенно дикихъ народовъ чисто умственныхъ пріобрѣтеній вовсе не
бываетъ; для нихъ духъ представляетъ сухую, безплодную пустыню, и потому воз-
можна только внѣшняя дѣятельность * 2); у нихъ единственное достоинство — личная
храбрость. Человѣкъ не имѣетъ никакого значенія, пока не убьетъ хотя одного не-
пріятеля, и чѣмъ больше онъ убилъ себѣ подобныхъ, тѣмъ большимъ онъ пользуется
вѣсомъ 3). Вотъ совершенно дикое состояніе, вотъ та стецень человѣческаго разви-
тія, на которой болѣе всего цѣнится воинская отвага и болѣе всего уважаются воины4).
Отъ этого ужасно низкаго состоянія до высоты цивилизаціи ведетъ длинный рядъ
ступеней; на каждой изъ ступеней физическая сила теряетъ часть своего владыче-
ства и нѣсколько усиливается владычество мысли. Медленно, одинъ за другимъ, воз-
никаютъ мыслящіе, мирные классы; сперва воины глубоко презираютъ ихъ, но мало-
по-малу они ободряются, возрастаютъ числомъ и крѣпнутъ силой и съ каждымъ ша-
гомъ впередъ ослабляютъ старый воинственный духъ, которымъ прежде поглощались всѣ
другія стремленія. Торговля, мануфактуры, законы, дипломатія, литература, науки,
философія — все это было прежде неизвѣстно, теперь же каждый изъ этихъ предме-
товъ становится спеціальностью особаго класса людей. Каждый классъ отстаиваетъ
важность своихъ занятій. Изъ этихъ классовъ нѣкоторые конечно менѣе миролюбивы,
чѣмъ другіе, но даже и тѣ, которые наименѣе отличаются этимъ качествомъ, все-таки
болѣе расположены къ миру, чѣмъ люди, у которыхъ всѣ мысли направлены къ войнѣ
и которые видятъ во всякой новой распрѣ возможность отличиться, вовсе не суще-
ствующую для нихъ въ мирное время 5).
г) Гердеръ спѣло утверждаетъ, что человѣкъ
пмѣлъ первоначально мирное настроеніе, но это мнѣ-
ніе рѣшительно опровергается огромнымъ количествомъ
новыхъ свѣдѣній, пріобрѣтенныхъ нами уже послѣ
Гердера, о настроеніи н правахъ дикихъ пародовъ.
2) Отъ этого происходитъ, безъ сомнѣнія, то
совсршество пяти чувствъ, которое естественно и
даже необходимо въ первобытномъ состояніи обще-
ства п которое однако, развиваясь на счетъ способ-
ности мышленія, приближаетъ человѣка къ низшимъ
животнымъ.
3) Въ нѣкоторыхъ македонскихъ племенахъ че-
ловѣкъ, не убившій ни одного непріятеля, былъ отмѣ-
чаемъ особымъ унизительнымъ знакомъ. У даяковъ,
на островѣ Борнео, человѣкъ не пмѣлъ права всту-
пить въ супружество, пока не добудетъ человѣческой
головы, и тотъ, у кого пхъ нѣсколько, отличается
своимъ гордымъ, надменнымъ обращеніемъ, такъ какъ
онѣ составляюсь для пего патентъ на знатность. У
еракіянъ обрабатывать землю считалось презрѣннѣй-
шимъ, а жить войной и грабежомъ—славнѣйшимъ
занятіемъ.
4) Малькольмъ въ своей «Исторіи Персіи* гово-
рись о татарахъ: «у нихъ существуетъ только одинъ
путь къ возвышенію — пріобрѣтеніе извѣстности па
войнѣ». Также и въ законахъ Тимура сказано: «Тотъ
только способенъ занимать мѣста, доставляющія власть
и общественное уваженіе, кто хорошо знакомъ съ
военнымъ дѣломъ и съ различными способами разби-
вать непріятельскія войска». То же направленіе ума
видно и въ томъ, что Гомеръ такъ часто и съ такнмъ
очевиднымъ удовольствіемъ описываетъ сраженія,—
особенность, замѣченная Мюромъ въ его «Греческой
литературѣ», гдѣ сдѣлана попытка обратить это въ
доказательство того, что всѣ гомерическія поэмы—творенія'
одного и того же автора; хотя болѣе естественнымъ
выводомъ было бы, что всѣ эти поэмы сложены во
времена варварства.
5) Къ надеждѣ па отличія въ прежнее время
присовокуплялись п виды па обогащеніе; въ Европѣ
НРАВСТВЕННЫЕ И УМСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ.
77
Такимъ образомъ, по мѣрѣ того какъ цивилизанія подвигается впередъ,—уста-
навливается равновѣсіе; воинственные порывы нейтрализируются такими побужде-
ніями, которыя свойственны только образованному народу. Но въ народѣ, чуждомъ
умственнаго развитія, такого равновѣсія существовать не можетъ. На это мы нахо-
димъ прекрасный примѣръ въ исторіи Севастопольской кампаніи. Особенность вели-
кой борьбы, въ которую мы вступили, заключается въ томъ, что она вызвана не
столкновеніемъ интересовъ цивилизованныхъ странъ, но столкновеніемъ между двумя
наименѣе образованными государствами въ Европѣ. Это фактъ весьма замѣчательный.
Настоящее состояніе общества превосходно характеризуется тѣмъ, что безпримѣрно
продолжительный миръ нарушенъ не такъ, какъ нарушался миръ въ прежнее время,
т. е. не распрей между двумя цивилизованными народами, а взаимными притязаніями
двухъ наименѣе цивилизованныхъ націй. Въ прежнее время вліяніе привычки къ
умственнымъ и, слѣдовательно, мирнымъ занятіямъ хотя увеличивалось мало-по-малу,
но все еще было слишкомъ слабо, даже въ самыхъ передовыхъ націяхъ, чтобы взять
верхъ надъ прежними воинственными привычками; отъ этого происходило стремленіе
къ завоеваніямъ, которое часто перевѣшивало всѣ другія чувства и побуждало великія
націи—такія, какъ французская и англійскія—нападать другъ на друга подъ самыми
ничтожными предлогами и пользоваться всякимъ удобнымъ случаемъ для удовлетво-
ренія мстительной ненависти, съ которой каждая изъ нихъ смотрѣла на благосостоя-
ніе своей сосѣдки. Между тѣмъ въ настоящее время ходъ дѣлъ таковъ, что обѣ эти
націи, отложивъ злобную и раздражительную зависть, которую онѣ нѣкогда питали
другъ къ другу, соединились въ общемъ дѣлѣ и обнажили мечъ, не для своекорыст-
ныхъ цѣлей, а для защиты образованнаго міра отъ нападеній невѣжественныхъ
враговъ.
Такова главная черта, отличающая эту войну отъ всѣхъ предшествовавшихъ.
Что миръ продолжался въ теченіе почти сорока лѣтъ и, наконецъ, нарушенъ не столк-
новеніями между образованными націями, какъ это бывало прежде, а властолюбіемъ
единственнаго могущественнаго и въ то же время мало образованнаго государства,—
это составляетъ одно изъ многихъ доказательствъ того, что отвращеніе къ войнѣ есть
признакъ утонченности, свойственной только умственно-развитому народу. Конечно
никто не станетъ утверждать, что воинственное развитіе Россіи происходитъ отъ низ-
каго уровня нравственности или отъ пренебреженія къ религіознымъ обязанностямъ;
напротивъ того, всѣ свѣдѣнія, какія мы имѣемъ, доказываютъ, что порочный образъ
жизни въ Россіи встрѣчается не чаще, чѣмъ во Франціи и Англіи х), и то до-
стовѣрно, что русскіе слѣдуютъ наставленіямъ церкви съ большей покорностью, чѣмъ
ихъ образованные противники 2). Ясно, стало быть, что Россія —страна воинственная
не потому, чтобы жители ея были безнравственны, но потому, что они мало развиты.
Недостатокъ заключается не въ сердцѣ, а въ головѣ* Такъ какъ умственныя способ-
ности русскаго народа мало развиты, то на него мало имѣютъ вліянія люди, зани-
мающіеся умственнымъ трудомъ, и потому въ немъ безусловно преобладаетъ классъ
военный. Въ такой ранній періодъ развитія общества еще нѣтъ средняго класса, и,
слѣдовательно, нѣтъ и того мирнаго, осмысленнаго склада жизни, который вырабаты-
вается въ среднихъ классахъ. Умы людей, лишенныхъ умственной дѣятельности 3),
естественно обращаются къ военному поприщу, какъ единственному для нихъ исходу.
Вотъ почему въ Россіи всякія способности оцѣниваются по примѣненію ихъ къ воен-
въ средніе вѣка война была очень выгодной профес-
сіей вслѣдствіе обычая требовать тяжкаго выкупа
за освобожденіе плѣнныхъ. Въ Европѣ обычай пла-
тить выкупъ за военноплѣнныхъ пережилъ средніе
вѣка и былъ прекращенъ только Мюпстерскимъ ми- |
ромъ, въ 1648 г. !
г) Нѣкоторые предполагали, что въ Россіи меньше |
безнравственности, чѣмъ въ Западной Европѣ, но это |
мнѣніе едва-ли не ошибочно. '
2) Уваженіе русскаго народа къ духовенству было
замѣчено многими наблюдателями и вообще слишкомъ
извѣстно, чтобы требовать доказательствъ.
3) Одна писательница новѣйшаго времени, имѣв-
шая превосходныіі случай изучать петербургское обще-
ство, которое опа оцѣнила съ тонкостью такта, свой-
ственной образованной женщинѣ, — была изумлена,
найдя между лицами, окруженными роскошью и бо-
гатствомъ во всевозможныхъ видахъ, «совершенное
78
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ному дѣлу. Войска считаются главнымъ источникомъ славы націи; выиграть сраже-
ніе, обмануть хитростью непріятеля считается однимъ изъ величайшихъ подвиговъ
человѣческой жизни, и всѣ лица не военныя, каковы бы ни были ихъ достоинства,
не уважаются въ атомъ народѣ, какъ люди несравненно низшаго свойства х).
Въ Англіи, съ другой стороны, противоположныя причины произвели противо-
положныя послѣдствія. У насъ умственный прогрессъ такъ быстръ и авторитетъ сред-
няго класса такъ великъ, что не только военные люди не имѣютъ никакого вліянія
на управленіе государствомъ, но даже одно время повидимому предстояла опасность,
чтобы мы не довели этого чувства до крайности и вслѣдствіе нашего нерасположе-
нія къ войнѣ не пренебрегли тѣми предосторожностями обороны, которыя враждеб-
ность другихъ націй дѣлаетъ необходимыми. Но мы можемъ по крайней мѣрѣ смѣло
сказать, что любовь къ войнѣ, какъ національная склонность, въ пашемъ отечествѣ
совершенно исчезла. И этотъ важный результатъ достигнутъ не нравственными по-
ученіями и не требованіями нравственнаго инстинкта, а тѣмъ простымъ обстоятель-
ствомъ, что съ развитіемъ цивилизаціи образовались въ обществѣ извѣстныя сосло-
вія, которыя имѣютъ интересъ въ сохраненіи мира и которыхъ совокупное значеніе
достаточно сильно для того, чтобы взять верхъ надъ вліяніемъ другихъ сословій,
имѣющихъ интересъ въ веденіи войны.
Легко было бы провести это доказательство дальше и показать, какимъ обра-
зомъ, при усиливающейся любви къ умственному труду, военная служба теряетъ не
только въ значеніи, но п въ даровитости своихъ представителей. При неразвитомъ
состояніи общества люди съ замѣчательными способностями толпами устремляются въ
военную службу и гордятся тѣмъ, что стоятъ въ рядахъ войска. Но по мѣрѣ того,
какъ общество подвигается йпередъ, открываются новЬіе источники дѣятельности и
являются новыя профессіи, которыя, будучи исключительно посвящены умственному
труду, предоставляютъ даровитымъ людямъ случаи къ такому быстрому успѣху, какой
не былъ возможенъ въ прежнихъ занятіяхъ. Вслѣдствіе того въ Англіи, гдѣ такіе
случаи многочисленнѣе, чѣмъ гдѣ-лпбо, почти всегда бываетъ такъ, что если у ка-
кого-нибудь отца есть сынъ, отличающійся замѣчательными способностями, то онъ
приготовляетъ его для одной изъ гражданскихъ профессій, въ которыхъ способ-
ности, соединенныя съ дѣятельностью, непремѣнно вознаграждаются. Если же, напро-
тивъ того, мальчикъ явно неспособенъ, то подъ рукою существуетъ приличное сред-
ство: изъ него дѣлаютъ военнаго или духовнаго, отправляютъ его въ армію или пря-
чутъ въ духовенство. И это, какъ мы увидимъ впослѣдствіи, есть одна изъ причинъ,
почему по мѣрѣ развитія общества вліяніе военнаго и духовнаго сословій неизбѣжно
уменьшается. Какъ только даровитые люди теряютъ расположеніе вступать въ какую-
нибудь профессію, блескъ, окружающій ее, помрачается; сперва уменьшается уваже-
ніе къ ней, а затѣмъ ограничивается ея общественное значеніе. Таковъ процессъ,
совершающійся въ настоящее время въ Европѣ, относительно духовенства и воен-
отсутствіе склонности къ серьезнымъ занятіямъ и къ
литературѣ... Здѣсь положительнымъ образомъ іиаиѵаіз
^епге говоритъ о какомъ-нибудь серьезномъ предметѣ;
даже упомянуть о чемъ бы то ни было кромѣ туалета, і
танцевъ и шіе ]ОІіе іоигинге—считается рёсіапіегіе». '
(«ЕеНегн ігош Іііе Ваіііс», 1841). Кюстініъ въ своей
«Ьа Пизше еп 1839$ говоритъ: «Можно сказать, въ і
видѣ общаго правила, что здѣсь никто не говоритъ пи :
одного слова, которое могло бы живо заинтересовать кого-
нибудь»; а въ другомъ мѣстѣ: «Изъ всѣхъ способ-
ностей ума — единственная, которую здѣсь цѣнятъ,
это тактъ»,
*) По словамъ ІПшіцлера, «въ Россіи старшин-
ство опредѣляется военнымъ чиномъ, и прапорщикъ
предпочитается аристократу, пе служащему въ войскѣ
1 но занимающему должности, которая бы давала
военный чинъ»... Эрманъ, объѣхавшій большую часть
Россійской Имперіи, говоритъ: «Въ нынѣшнемъ раз-
говорѣ петербургскихъ жителей безпрерывно слы-
шится относительно лицъ, принадлежащихъ къ обра-
зованному классу, вопросъ: «что онъ, мундирный пли
фрачникъ?» и въ этомъ вопросѣ выражается важное
различіе, полагаемое общественнымъ мнѣніемъ между
чѣмъ и другимъ сословіями». То же говорятъ и дру-
гіе авторы объ этомъ преобладаніи военнаго класса,
составляющемъ неизбѣжное послѣдствіе малой образо-
ванности націи, а между прочимъ Алисень говоритъ:
«Всѣ силы націи сосредоточены въ войскѣ. Торговля,
судебное поприще и всѣ гражданскія профессій не
пользуются общественнымъ уваженіемъ. Всѣ сколько-
нибудь порядочные молодые люди поступаютъ въ
военную службу»... * *
НРАВСТВЕННЫЕ И УМСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ.
79
наго сословія. Подтвержденіе того, что сказано нами на счетъ духовнаго сословія,
мы найдемъ^ъ другой части этого сочиненія. Не менѣе рѣшительными данными под-
тверждается и замѣчаніе наше о военномъ сословіи. Конечно профессія эта въ но-
вѣйшей Европѣ произвела нѣсколько человѣкъ, несомнѣнно геніальныхъ, но число
ихъ до такой степени мало, что мы невольно удивляемся тому, какъ рѣдко въ ней
встрѣчается природное дарованіе. Еще яснѣе увидимъ мы, что военный классъ, взя-
тый въ совокупности, приходитъ въ упадокъ, если сравнимъ между собою отдален-
ные періоды времени Въ древнемъ мірѣ наиболѣе замѣчательные воины не только
отличались большимъ образованіемъ, но были и глубокими мыслителями какъ по воен-
ному дѣлу, такъ и въ политикѣ, и во всѣхъ отношеніяхъ являлись передовыми лич-
ностями своего времени. Возьмемъ только нѣсколько примѣровъ изъ жизни одного
народа: мы видимъ, что трое самыхъ мудрыхъ государственныхъ людей, какихъ только
произвела Греція, были Солонъ, Ѳемистоклъ и Эпаминондъ—и всѣ они были также
и замѣчательными полководцами. Сократъ, котораго многіе считаютъ мудрѣйшимъ изъ
древнихъ, былъ воинъ такъ же, какъ и Платонъ и Антисеенъ, знаменитый основа-
тель школы циниковъ. Архитъ, который далъ новое направленіе пиоагорейской школѣ
философіи, и Мелиссъ, развившій ученіе элеотичсской школы,—оба были извѣстными
полководцами, одинаково знаменитыми въ литературѣ и въ военномъ дѣлѣ. Изъ числа
знаменитѣйшихъ ораторовъ Периклъ, Алкивіадъ, Андокидъ, Демосоенъ и Эсхинъ—
всѣ принадлежали къ военному сословію такъ же, какъ и два величайшихъ траги-
ческихъ поэта—Эсхилъ и Софоклъ. Архилохъ, которому приписываютъ изобрѣтеніе
ямбическаго стиха и котораго Горацій принялъ за образецъ,—былъ воиномъ. То же
сословіе могло похвалиться Тиртеемъ, однимъ изъ основателей элегической поэзіи, и
Алкеемъ, однимъ изъ лучшихъ лириковъ. Самый глубокій мыслитель между греческими
историками былъ конечно Ѳукидидъ, но и онъ такъ же, какъ и Ксенофонтъ и Полибій,
занималъ высокія военныя должности^и_не разъ имѣлъ вліяніе на судьбу войны. Среди
суеты и шума лагерной жизни эти великіе люди развили свой умъ до самаго высшаго
совершенства, какое возможно было при тогдашнемъ состояніи знанія, п кругъ обнятыхъ
ими соображеній такъ обширенъ, такъ высоко достоинство ихъ слога, что творенія
ихъ читаются тысячами людей, которымъ нѣтъ никакого дѣла до осадъ и сраженій.
Такіе люди были украшеніемъ военной профессіи въ древнемъ мірѣ; всѣ они
писали на одномъ и томъ же языкѣ и читались однимъ и тѣмъ же народомъ. Но въ
новѣйшемъ мірѣ тотъ же самый классъ, заключающій въ себѣ нѣсколько милліоновъ
людей и распространенный по всей Европѣ, не могъ произвести, съ шестнадцатаго
столѣтія, и десяти такихъ писателей, которые могли бы стать наравнѣ съ древними,
какъ литераторы или какъ мыслители. Декартъ представляетъ собою примѣръ евро-
пейскаго воина, соединяющаго въ себѣ оба качества: онъ одинаково замѣчателенъ
какъ превосходнымъ достоинствомъ своего слога, такъ и глубиною и оригинальностью
своихъ изслѣдованій. Но это единственный случаи, и я полагаю, что не было дру-
гого примѣра, чтобы писатель-воинъ новѣйшаго времени достигъ такого превосход-
ства какъ по формѣ, такъ и по содержанію своихъ сочиненіи. Англійское войско
въ продолженіе послѣднихъ двухсотъ-пятидесяти лѣтъ конечно не представляетъ ни одного
подобнаго примѣра; и дѣйствительно, въ немъ всего только и было два писателя,
Ралей и Непиръ, сочиненія которыхъ признаны образцовыми и изучаются един-
ственно ради ихъ внутренняго достоинства, хотя и это можно сказать о нихъ только
относительно слога. Оба эти историка, несмотря на то, что превосходно владѣли пе-
ромъ, никогда не считались глубокими мыслителями въ разрѣшеніи трудныхъ вопросовъ
и не прибавили ничего существеннаго къ суммѣ нашихъ знаній. Точно такъ же между
древними самые даровитые воины были и самыми даровитыми политиками—‘Лучшіе
предводители войскъ оказывались вообще и лучшими правителями государства. Но
і въ этомъ развитіе общества произвело такую перемѣну, что въ теченіе весьма дол-
гаго времени подобные примѣры были весьма рѣдки. Даже Густавъ-Адольфъ и Фри-
дахъ Великій дѣлали грубыя ошибки въ своей внутренней политикѣ и оказались
80
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
столь же близорукими въ дѣлѣ мирнаго управленія, сколько были дальновидны въ дѣлѣ
военномъ. Кромвель, Вашингтонъ и Наполеонъ — можетъ быть единственные между
первоклассными воинами новѣйшаго времени, о которыхъ можно сказать справед-
ливо, что они были одинаково способны управлять государствомъ и командовать
арміей. Если мы обратимся къ Англіи, какъ представляющей намъ самые знакомые
примѣры, то найдемъ подтвержденіе нашего замѣчанія въ двухъ нашихъ величай-
шихъ полководцахъ-—Мальборо и Веллингтонѣ. Мальборо былъ человѣкъ не только са-
мый праздный- и пустой по образу жизни, но и до такой степени невѣжественный,
что недостатокъ образованія дѣлалъ его посмѣшищемъ для всѣхъ его современни-
ковъ; понятіе же его о политикѣ выразилось только въ томъ, что онъ пріобрѣлъ рас-
положеніе государя, льстя его любовницѣ, измѣнилъ брату этого государя въ ту ми-
нуту, когда тотъ наиболѣе нуждался въ немъ, а потомъ сдѣлался вторично измѣнни-
комъ, обратясь противъ своего новаго благодѣтеля и войдя въ сношенія, столь же
преступныя, какъ и неразумныя,—съ тѣмъ самымъ человѣкомъ, котораго онъ за нѣ-
сколько лѣтъ передъ тѣмъ постыднымъ образомъ покинулъ.
Таковы были характеристическія черты величайшаго полководца своего времени,
героя ста сраженій, побѣдителя Вленгеймскаго и Рамилійскаго. Что касается до
другого нашего великаго воина, то конечно справедливо, что имя Веллингтона не
должно быть никогда произносимо англичаниномъ иначе, какъ съ благодарностью и
почтеніемъ; но чувства эти возбуждаются единственно его огромными военными за-
слугами, важность которыхъ намъ было бы стыдно забыть. Всякому, кто только
изучалъ исторію гражданской жизни Англіи въ нынѣшнемъ вѣкѣ, хорошо извѣстно,
что этотъ полководецъ, не знавшій соперниковъ въ бою и отличавшійся — что со-
ставляетъ для него еще большую славу — чистотой намѣреній, непоколебимой че-
стностью и самымъ высокимъ нравственнымъ чувствомъ, оказался однако же совер-
шенно несостоятельнымъ передъ сложными требованіями политической дѣятельности.
Всѣмъ извѣстно, что въ своихъ воззрѣніяхъ на самыя важныя законодательныя
мѣры онъ всегда заблуждался. Извѣстно также изъ журналовъ нашихъ парламент-
скихъ преній, что всякая великая мѣра, всякое важное улучшеніе, всякій рѣши-
тельный шагъ къ реформѣ, всякая уступка желаніямъ народа — встрѣчали сильное
сопротивленіе со стороны герцога Веллингтона и получали силу закона, несмотря
на его оппозицію, и послѣ того, какъ онъ съ сокрушеніемъ объявлялъ, что подоб-
ныя мѣры ставятъ Англію въ серьезную опасность. Между тѣмъ теперь нѣтъ школь-
ника, который бы не зналъ, что этимъ именно мѣрамъ наше отечество обязано на-
стоящей прочностью своего правительства. Опытъ, этотъ вѣрнѣйшій пробный камень
мудрости, вполнѣ доказалъ, что тѣ великіе планы преобразованій, въ сопротивленіи
которымъ герцогъ Веллингтонъ провелъ всю свою политическую жизнь, были—не
скажемъ уже полезны или благоразумны,—но совершенно необходимы. Та самая по-
литика, которую онъ постоянно отстаивалъ и которая состояла въ сопротивленіи
желаніямъ народа, была принята со времени Вѣнскаго Конгресса во всѣхъ монар-
хіяхъ, кромѣ Англіи. Результаты этой политики уже выразились вполнѣ для нашего
назиданія: они выразились въ томъ великомъ взрывѣ народныхъ страстей, который
въ ярости своей низвергнулъ столько горделивыхъ престоловъ, погубилъ столько
царственныхъ родовъ, разорилъ столько знатныхъ фамилій и опустошилъ столько
великолѣпныхъ городовъ. А еслибы совѣты нашего великаго полководца были при-
няты, еслибы справедливыя требованія нашего народа были отвергнуты,—то этотъ
самый урокъ былъ бы написанъ и въ лѣтописяхъ нашего отечества; и намъ бы ко-
нечно не удалось избѣгнуть послѣдствій, той страшной катастрофы, въ которую впо-
слѣдствіи была вовлечена невѣжествомъ и эгоизмомъ своихъ правителей значитель-
ная часть образованнаго міра.
Такова разительная противоположность между военнымъ геніемъ древнихъ
временъ и военнымъ геніемъ новѣйшей Европы. Причины этого упадка очевидно
должны быть отнесены къ тому обстоятельству, что въ настоящее время, благодаря
НРАВСТВЕННЫЕ И УМСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ.
81
чрезвычайному размноженію отраслей умственнаго труда, не многіе способные люди
поступаютъ въ военную службу; между тѣмъ какъ въ древности способные люди
толпами устремлялись на это поприще, такъ какъ оно доставляло тогда самыя луч-
шія средства употребить въ дѣло тѣ способности, которыя теперь въ цивилизован-
ныхъ странахъ находятъ болѣе полезное примѣненіе. Это составляетъ дѣйствительно
важную перемѣну; такое привлеченіе самыхъ сильныхъ умовъ отъ военныхъ занятій
къ запятіямъ мирнымъ было дѣломъ медленной работы многихъ вѣковъ, дѣломъ по-
степенныхъ, но прочныхъ завоеваній распространяющагося знанія. Написать исторію
этихъ завоеваній значило бы написать исторію человѣческаго ума,^ трудъ, удовле-
творительное исполненіе котораго для одного человѣка невозможно. Но предметъ
этотъ такъ полонъ интереса и былъ такъ мало изучаемъ, что, несмотря на то, что
я продолжилъ уже настоящій анализъ далѣе, чѣмъ намѣревался, я не могу не оста-
новиться нѣсколько на трехъ, по мнѣнію моему, главныхъ процессахъ, посредствомъ
которыхъ совершалось ослабленіе воинственнаго духа древности, по мѣрѣ успѣховъ
европейскаго знанія.
Первый изъ этихъ процессовъ начался изобрѣтеніемъ пороха, которое хотя и
было усовершенствованіемъ военнаго дѣла, но въ результатѣ своемъ оказало боль-
шія услуги интересамъ мира. Это важное изобрѣтеніе сдѣлано, какъ утверждаютъ,
въ тринадцатомъ вѣкѣ, но вошло въ общее употребленіе не ранѣе четырнадцатаго или
даже пятнадцатаго. Какъ только оно было примѣнено къ дѣлу, произошла великая
перемѣна во всей системѣ и во всѣхъ пріемахъ веденія войны. До этого времени
считалось обязанностью почти всякаго гражданина быть приготовленнымъ къ посту-
пленію въ военную службу для защиты своего отечества или нападенія на другія
страны х). Постоянныя арміи были совсѣмъ неизвѣстны; .вмѣсто нихъ существовала
нестройная варварская милиція, всегда готовая къ войнѣ и всегда нерасположенная
предаваться мирнымъ занятіямъ, которыя тогда были во всеобщемъ презрѣніи. Такъ
какъ почти всякій гражданинъ былъ воиномъ, то военное званіе, какъ профессія,
не имѣло отдѣльнаго существованія, или, лучше сказать, вся Европа составляла одну
огромную армію, въ которой сливались всѣ профессіи. Единственное исключеніе
представляло духовенство; но и это сословіе находилось подъ вліяніемъ всеобщаго
направленія, такъ что было вбвео не рѣдкостью видѣть большіе отряды войскъ, идущіе
въ бой подъ предводительствомъ епископовъ или аббатовъ, большей части которыхъ
военное дѣло было весьма знакомо 9- Какъ бы то ни было, всѣ люди были раздѣ-
лены между этими двумя профессіями: единственными занятіями были война и бого-
словіе, и всякій, кто не желалъ быть служителемъ церкви, долженъ былъ служить
въ войскахъ. Единственнымъ послѣдствіемъ этого было совершенное пренебреженіе
ко всему дѣйствительно важному. Было въ самомъ дѣлѣ много священниковъ и много
воиновъ, много проповѣдей и много сраженій, но съ другой стороны не было ни
ремеселъ, ни торговли, ни мануфактуръ; не было ни науки, пи литературы; всѣ по-
лезныя искусства были неизвѣстны, и даже самые высшіе классы общества были не
знакомы не только съ самыми обыкновенными удобствами, но и съ простѣйшими
приличіями цивилизованной жизни.
Но какъ только порохъ вошелъ въ употребленіе, тотчасъ положено было осно-
ваніе великой перемѣнѣ. По прежней системѣ, человѣку нужно было только имѣть—
что онъ обыкновенно наслѣдовалъ отъ своего отца—мечъ или лукъ, и онъ уже былъ
У англо-саксовъ, говорить Эклестопь, «всѣ
свободные люди и землевладѣльцы, кромѣ служителей
церкви, были пріучены къ употребленію оружія и
всегда могли выступить въ походъ въ самый корот-
кіе срокъ
2) Такіе противники были тѣмъ болѣе страшны,
| что въ тѣ счастливыя времена считалось святотат-
Іетвомъ для мірянина поднять руку противъ епископа.
Бокль.—Изд, Ф. Павленкова.
I Въ 1095 году его святѣйшество папа, по постанов-
| ленію собора, объявилъ, что ВСЯКІЙ, кто лишитъ сво-
боды епископа, становится ввѣ защиты законовъ.
Такъ какъ въ текстѣ не было никакого ограниченія
| этому правилу, то изъ этого слѣдовало бы, что чело-
। вѣкъ отлучался отъ церкви даже и въ томъ случаѣ, если*
і бы онъ взялъ епископа въ плѣнъ, защищая самого
I себя.
6
82
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
совсѣмъ вооруженъ для боя х). По новому порядку вещей, потребовались новыя
средства, и экипировка воина стала дороже и затруднительнѣе. Во-первыхъ, потре-
бовалось снабженіе воиновъ порохомъ 2), во-вторыхъ, имъ нужно было имѣть муш-
кеты, которые стоили дорого и съ которыми обращаться считалось весьма труднымъ 3),
наконецъ, потребовались другіе снаряды, естественно явившіеся вслѣдствіе изобрѣ-
тенія пороха, какъ-то пистолеты, бомбы, мортиры, гранаты, мины и т. п.4). Всѣ эти
нововведенія, увеличивъ сложность военнаго дѣла, увеличили вмѣстѣ съ тѣмъ не-
обходимость въ дисциплинѣ и въ практическомъ обученій войскъ, между тѣмъ какъ
перемѣна, происшедшая въ обыкновенно употребляемомъ оружіи, поставила боль-
шинство людей въ невозможность пріобрѣтать его. Для примѣненія къ этимъ новымъ
обстоятельствамъ придумана была новая система — приготовлять извѣстное число
людей единственно для войны и отдалять ихъ какъ можно болѣе отъ всѣхъ другихъ
занятій, которымъ прежде по временамъ предавались всѣ воины. Такимъ образомъ
явились постоянныя войска, изъ которыхъ первыя были образованы въ половинѣ
пятнадцатаго столѣтія, почти тотчасъ послѣ того, какъ порохъ сдѣлался предметомъ
общеизвѣстнымъ. Вошло также въ обыкновеніе употреблять наемныя войска. Мы на-
ходимъ впрочемъ нѣсколько примѣровъ этого гораздо ранѣе, но это обыкновеніе
установилось вполнѣ не прежде второй половины ХѴ-го вѣка.
Важность этого движенія весьма скоро выразилась въ той перемѣнѣ, которую
оно произвело въ классификаціи европейскаго общества. Такъ какъ регулярныя
войска по дисциплинѣ своей были пригоднѣе для боя и болѣе непосредственно под-
чинялись контролю правительства, то по мѣрѣ того, какъ преимущества ихъ стано-
вились болѣе извѣстными, \прежнее ополченіе сперва потеряло значеніе въ общемъ
мнѣніи, потомъ впало въ пренебреженіе и, наконецъ, значительно уменьшилось въ
числѣ. Въ то же время такое уменьшеніе въ числѣ недисциплинированныхъ воиновъ
лишило каждую страну нѣкоторой части ея военныхъ средствъ и вынудило прави-
тельства обратить больше вниманія на дисциплинированное войско и болѣе исклю-
чительно ограничить занятія воиновъ исполненіемъ военныхъ обязанностей. И вотъ
въ первый разъ установилось рѣзкое различіе между воиномъ и лицомъ граждан-
скаго званія, и образовалась особая военная профессія чб), которая, занимая срав-
х) Въ 1181 году англійскій король Генрихъ II
повелѣлъ, чтобы у всякаго обывателя былъ пли мечъ,
пли лукъ, п это оружіе онъ не имѣлъ права продать,
но долженъ былъ оставить своему наслѣднику, а
«прочимъ всѣмъ имѣть юпЬазіаін (вѣроятно наруч-
никъ), желѣзный шлемъ, конье и мечъ или лукъ и
стрѣлы; и повелѣлъ (король), чтобы никто своего ору-
жія не продавалъ п не закладывалъ, но чтобы послѣ
смерти оставлялъ его ближайшему наслѣднику своему».
Въ царствованіе Эдуарда I было повелѣно. чтобы
всякій обыватель, имѣющій земли цѣною до сорока
шиллинговъ, имѣлъ «мечъ, лукъ, стрѣлы и кинжалъ...
тѣ, которые должны были имѣть луки и стрѣлы,
могли брать дерево изъ королевскаго лѣса». Даже въ
послѣднихъ годахъ пятнадцатаго столѣтія въ уни-
верситетахъ Оксфордскомъ и Кембриджскомъ было «въ
каждомъ отъ четырехъ до пяти тысячъ студентовъ,
которые всѣ были взрослые, носили мечи и копья и
по большей части принадлежали къ высшему сосло-
вію (рвігу)>. Одной изъ послѣднихъ попытокъ возоб-
новить стрѣльбу изъ луковъ былъ патентъ, изданный
Елизаветою въ 1596 году. Въ югозанадной Англіи
луки и стрѣлы исчезли изъ милиціонныхъ списковъ
не ранѣе 1599 года, и въ теченіе этого времени мушкетъ
завоевалъ свое мѣсто,
2) Многіе писатели утверждаютъ, что въ Англіи
не .было приготовляемо пороха до царствованія Ели-
заветы. Но Шаронъ Тернеръ доказалъ однимъ повелѣ-
ніемъ Ричарда III, помѣщеннымъ въ Гарлейскихъ
рукописяхъ, что порохъ приготовлялся въ Англіи уже
въ 1483 году, а Эклестонъ утверждаетъ, что англи-
чане приготовляли и вывозили порохъ ужо въ 1411 году.
Во всякомъ случаѣ порохъ долго оставался весьма до-
рогимъ товаромъ, п даже въ царствованіе Карла 1 мы
находимъ жалобы на дороговизну его, «значительно стѣс-
няющую войска въ пхъ упражнеиіяхъ». Въ 1686 году
цѣна пороха въ оптовой продажѣ была отъ 20 до
30 руб. за боченокъ,
3) Мушкеты были такого жалкаго устройства, что
въ иоловинѣ пятнадцатаго столѣтія требовалось четверть
часа ввемени на то, чтобы зарядить оружіе и выстрѣ-
лить. О мушкетахъ въ Англіи первый разъ упоминается
въ 1471 г.; подставки для стрѣльбы изъ нпхъ вышли
изъ употребленія не ранѣе царствованія Карла I.
4) Пистолетъ былъ изобрѣтенъ, какъ говорятъ,
въ началѣ XVI вѣка. Порохъ былъ употребленъ въ
первый разъ для устройства минъ въ 1487 году. Да-
ніель говоритъ, что бомбы не были изобрѣтены до
1588 года; но, по словамъ другихъ писателей, онѣ
явились па 100 лѣтъ раньше. Существуетъ нѣкото-
рое сомнѣніе относительно точнаго опредѣленія вре-
мени, когда именно сдѣлались извѣстны пушки, но
достовѣрно, что онѣ употреблялись па войнѣ ранѣе
1 воловины XIV столѣтія.
5) Сгозѳ говоритъ, что до XVI вѣка англійскіе
воины но имѣли особой отличительной одежды, а
различались только щитами съ гербами своихъ пред-
водителей, въ родѣ тѣхъ, которые теперь носятъ лодоч-
НРАВСТВЕННЫЕ И УМСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ.
83
нительно небольшую часть изъ всего количества гражданъ, дала возможность осталь-
нымъ избрать какое-нибудь другое занятіе * *). Такимъ образомъ огромныя массы
людей были постепенно отъучены отъ своихъ прежнихъ воинственныхъ привычекъ;
онѣ были какъ будто бы насильственно обращены въ гражданскій быть, и умствен-
ныя силы ихъ были направлены къ достиженію общихъ цѣлей общества и къ за-
нятію тѣми мирными дѣлами, которыя прежде были въ пренебреженіи. Вслѣдствіе
этого умъ европейцевъ вмѣсто того, чтобы исключительно заниматься войной или
богословіемъ, теперь нашелъ себѣ третіи, средній путь и создалъ тѣ великія отрасли
знанія, которымъ современная цивилизація обязана своимъ происхожденіемъ Въ
каждомъ изъ послѣдовательныхъ поколѣній это стремленіе къ отдѣльной организаціи
профессій стало болѣе и болѣе обозначаться; польза отъ раздѣленія труда болѣе и
болѣе сознавалась, и въ то время, какъ знаніе подвигалось впередъ, значеніе этого
средняго или умственно-трудящагося класса соотвѣтственно увеличивалось. Каждое
приращеніе къ его силѣ уменьшало вѣсъ двухъ другихъ классовъ и обуздывало тѣ
суевѣрныя чувства и ту воинственность, на которыхъ въ первобытномъ состояніи
общества сосредоточивается весь его энтузіазмъ. Возрастаніе и распространеніе этого
начала умственной силы доказывается такими полными и опредѣлительными свидѣ-
тельствами очевидцевъ, что можно было бы, совокупивъ всѣ отрасли знанія, про-
слѣдить почти всѣ его послѣдовательные шаги, Въ настоящее время достаточно бу-
детъ сказать, что вообще этотъ третій или умственно-трудящійся классъ впервые
обнаружилъ независимую дѣятельность, хотя безъ опредѣленнаго направленія, въ че-
тырнадцатомъ и пятнадцатомъ вѣкахъ; что въ шестнадцатомъ вѣкѣ эта дѣятельность,
принявъ опредѣлительную форму, проявилась въ религіозныхъ движеніяхъ; что въ
семнадцатомъ столѣтіи его энергія, получивъ болѣе практическое направленіе, обра-
тилась противъ злоупотребленій правительствъ и произвела рядъ возстаній, которыхъ
едва-ли избѣжала какая-нибудь часть Европы; наконецъ, что въ восемнадцатомъ и
девятнадцатомъ вѣкахъ она простерла свое вліяніе на всѣ виды общественной и част-
ной жизни, распространяя воспитаніе, научая законодателей, контролируя монарховъ
и—что важнѣе всего—устанавливая на прочномъ основаніи то преобладаніе обще-
ственнаго мнѣнія, которому нынѣ не только конституціонные государи, но даже самые
деспотическіе властители строго подчиняются.
Все это дѣйствительно составляетъ предметъ весьма обширныхъ вопросовъ; не
изучивши ихъ, нѣтъ возможности ни понять современнаго положенія европейскаго
общества, ни составить себѣ какой-нибудь идеи о предстоящей ему будущности. Впро-
чемъ здѣсь достаточно будетъ, если читатель только пойметъ, какимъ образомъ та-
кое неважное открытіе, какъ изобрѣтеніе пороха, могло ослабить существующій во
всей Европѣ воинственный духъ, уменьшивъ число лицъ, имѣющихъ обычнымъ за-
нятіемъ войну. Были безъ сомнѣнія и другія, побочныя, обстоятельства, которыя дѣй-
ствовали въ томъ же направленіи, но употребленіе пороха было самымъ дѣйствитель-
нымъ между ними, потому что, увеличивъ затрудненія и издержки, сопряженныя съ
войною, оно сдѣлало необходимымъ существованіе особой военной профессіи и та-
кимъ образомъ ограничило кругъ дѣйствія воинственнаго духа; это дало возможность
образоваться излишку энергіи, который скоро нашелъ себѣ исходъ въ мирныхъ за-
нятіяхъ, оживилъ ихъ новой жизнью и началъ обуздывать страсть къ завоеваніямъ,—
страсть конечно естественную въ необразованномъ народѣ, но составляющую великое
препятствіе просвѣщенію и самое гибельное изъ тѣхъ болѣзненныхъ побужденій, отъ
которыхъ страдаютъ, къ сожалѣнію, слиткомъ часто и цивилизованныя страны.
ники, Также въ началѣ XVI вѣка образовалась особая
военная литература.
*) Перемѣна, совершившаяся послѣ тѣхъ вре-
/ іенъ, когда всякій мірянинъ былъ воиномъ, весьма
шачительна. Адамъ Смитъ въ своемъ знаменитомъ
«Богатствѣ Пародовъ» говоритъ: «въ цивилизован-
ныхъ націяхъ современной Европы разсчитываютъ
обыкновенно, что не болѣе одной сотой части жите-
лей какой-либо страны можетъ быть употреблено въ {
качествѣ воиновъ, безъ разоренія того края, кото-;
рый песетъ па себѣ издержки по содержанію ихъ», I
6*
84
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Другое умственное движеніе, послужившее къ уменьшенію воинственности, на-
нялось гораздо позже и не произвело еще всѣхъ своихъ естественныхъ послѣдствій.
Я говорю объ открытіяхъ, сдѣланныхъ политической экономіей — отраслью знанія,
совершенно незнакомой даже мудрѣйшимъ изъ древнихъ, но имѣющей такую важ-
ность, для которой трудно найти слишкомъ преувеличенное выраженіе; она замѣча-
тельна ейщ и тѣмъ, что до сихъ поръ это единственный изъ предметовъ, тѣсно свя-
занныхъ съ теоріей государственнаго управленія, возведенный на степень науки.
Практическое значеніе этой благородной науки, которая вполнѣ извѣстна быть мо-
жетъ только самымъ передовымъ мыслителямъ, начинаютъ мало-по-малу признавать
и люди, получившіе обыкновенное образованіе; но даже и тѣ, которые вполнѣ по-
нимаютъ эту науку, повидимому мало обращали вниманія на то, что вліяніемъ своимъ
она прямо поддерживала интересы мира, а, слѣдовательно, и цивилизаціи. Я теперь
постараюсь объяснить, какимъ именно путемъ она достигла этой цѣли, такъ какъ это
объясненіе будетъ новымъ доказательствомъ въ пользу того великаго начала, которое
я желаю установить.
Всякому извѣстно, что между разными другими причинами войнъ коммерческое
соперничество было въ прежнее время одной изъ самыхъ обыкновенныхъ: суще-
ствуетъ множество примѣровъ распрей, вызванныхъ установленіемъ какого-либо осо-
баго тарифа или желаніемъ поіфовительствовать какому-нибудь любимому производ-
ству. Распри этого рода были основаны на весьма невѣжественномъ, но весьма есте-
ственномъ понятіи, что выгоды коммерціи зависятъ отъ торговаго баланса, и что вся
прибыль, получаемая одной стороной, должна быть убыткомъ для другой. Всѣ пола-
гали, что богатство состоитъ единственно въ деньгахъ, и что, слѣдовательно, инте-
ресъ каждой націи заключается въ томъ, чтобы ввозцѣь меньше товаровъ, а больше
золота. Какъ только условіе осуществлялось, то говорили, что торговля въ хорошемъ,
здоровомъ состояніи; если же этого не было, то говорили, что наши средства исто-
щаются и что какая-нибудь другая страна разоряетъ насъ и обогащается на нашъ
счетъ. Единственнымъ средствомъ противъ этого зла было заключить торговый трак-
татъ, который бы вынудилъ вредяшую намъ націю брать больше нашихъ товаровъ
и давать намъ болѣе своего золота; если же та отказывалась подписать трактатъ, то
становилось необходимымъ вынудить ее къ тому силою—и вотъ снаряжались флотъ
и войско для нападенія на страну, которая, уменьшивъ наше богатство, лишила насъ
денегъ, единственнаго средства къ распространенію нашей торговли на иностранные
рынки г).
Такое непониманіе истинныхъ свойствъ торговаго обмѣна было въ прежнее
время всеобщимъ 2); въ заблужденіе это впадали и самые даровитые политики, такъ
что оно не только бывало одною изъ непосредственныхъ причинъ войны, но и под-
держивало тѣ чувства національной вражды, которыя располагаютъ народъ къ войнѣ;
каждая нація полагала, что она имѣетъ прямой интересъ въ уменьшеніи богатства
своихъ сосѣдей 3).
Въ семнадцатомъ столѣтіи, или даже въ концѣ шестнадцатаго, были дѣйстви-
9 Въ 1672 году знаменитый графъ Шефтсбюри,
бывшій тогда лордомъ-кавцлеромъ, объявилъ, «что
пришло время Англіи предпринять войну противъ гол-
ландцевъ, на томъ основаніи, что невозможно обѣимъ
націямъ стоять наравнѣ, и что если мы не переси-
лимъ ихъ торговлю, то они пересилятъ нашу. Пли
они, или мы должны уступить. Одна изъ двухъ на-
цій должна предписывать законъ другой. Соглашеніе
невозможно тамъ, гдѣ споръ идетъ о торговлѣ цѣлаго
міра». Нѣсколько мѣсяцевъ позже, настаивая также
на необходимости войны, онъ представлялъ, какъ до-
водъ, что для англійской коммерціи необходимо пря-
мое рѣшеніе вопроса о торговлѣ въ Остъ-Индіи. Въ
1743 году лордъ Гардг.икъ, одинъ изъ самыхъ даро-
витыхъ людей своего времени, сказалъ въ палатѣ
лордовъ: «если наше богатство уменьшилось, то пора
уничтожить торговлю той націи, которая согнала насъ
I со всѣхъ рынковъ континента — очистимъ море отъ
' кораблей и блокируемъ ея порты>.
! 2) Даже Локкъ имѣлъ весьма смутное понятіе о
। значеніи денегъ въ торговлѣ. Берклей хотя былъ и глу-
| бокимъ мыслителемъ, но также впалъ въ заблужденіе:
| опъ признаетъ необходимымъ поддерживать торговый
баллапсъ и уменьшать вывозъ. Экономическія воззрѣ-
1 пія Монтескье также радикально ложны; а Ваттель
хвалитъ вредное вмѣшательство англійскаго правитель-
ства въ дѣла торговли и ставить его образцомъ для
дру ги х ъ п р ав и тел ьствъ.
3) Въ 1642 г. графъ Бристоль, человѣкъ довольно
даровитый, сказалъ въ палатѣ лордовъ, что для Англіи
НРАВСТВЕННЫЕ И УМСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ.
85
тельно одинъ или два замѣчательныхъ мыслителя (Серра, Вильямъ Стаффордъ и др.),
обличавшіе нѣкоторыя изъ заблужденій, на которыхъ это мнѣніе было основано- Но
доводы ихъ не были приняты тѣми политическими дѣятелями, которые тогда упра-
вляли дѣлами Европы- Быть можетъ, никто не зналъ этихъ доводовъ, а если ихъ и
знали, то государственные люди и законодатели конечно не обращали на нихъ вни-
манія: отъ такихъ лицъ, при ихъ постоянныхъ практическихъ занятіяхъ, нельзя и
ожидать, чтобы они успѣвали усвоить себѣ каждое новое открытіе—они по этому
самому вообще отстаютъ отъ умственнаго движенія своего времени. И такъ прави-
тели государствъ продолжали дѣлать ошибки за ошибками, въ томъ убѣжденіи, что
торговля не можетъ процвѣтать безъ ихъ вмѣшательства: они постоянно тревожили
ее измѣнчивой и стѣснительной регламентаціей, принимая за рѣшенное дѣло, что
всякое правительство обязано благодѣтельствовать торговлѣ своего народа, вредя
торговлѣ другихъ 1).
Но въ восемнадцатомъ столѣтіи цѣлый длинный рядъ событій, которыя я впо-
слѣдствіи разсмотрю, проложилъ путь такому духу прогресса и такому стремленію
къ реформамъ, которому до тѣхъ поръ не было примѣра во всемірной исторіи. Это
великое движеніе проявило свою силу въ каждой изъ отраслей знанія; въ это же
время была сдѣлана удачная попытка возвести политическую экономію на степень
науки открытіемъ тѣхъ законовъ, которыми управляется производство и распредѣ-
леніе богатства. Въ 1776 г. Адамъ Смитъ издалъ свое «Богатство Народовъ»,—книгу,
которая по вліянію своему на общество едва-ли не важнѣйшая изъ всѣхъ когда-либо
появлявшихся и составляетъ конечно самый цѣнный изъ вкладовъ, какіе дѣлали
когда-либо отдѣльныя лица въ общее дѣло установленія началъ, на которыхъ должно
быть устроено правительство. Въ этомъ великомъ сочиненіи старая теорія покрови-
тельства торговлѣ разрушена почти во всѣхъ отрасляхъ хея; ученіе о торговомъ ба-
лансѣ не только подвергнуто сомнѣнію, но и доказана его ложность; и безчисленное
множество нелѣпостей, которыя накоплялись вѣками, внезапно уничтожены 2).
Еслибы «Богатство Народовъ» явилось въ одномъ изъ предшествовавшихъ вѣ-
ковъ, оно бы подверглось участи великихъ твореній Стаффорда и Серры; начала,
которыя въ немъ проводятся, конечно возбудили бы вниманіе отвлеченныхъ мысли-
телей. но вѣроятно не произвели бы никакого дѣйствія на практическихъ политиковъ и
во всякомъ случаѣ имѣли бы только косвенное и то весьма ничтожное вліяніе. Но
распространеніе познаній теперь сдѣлалось столь всеобщимъ, что даже наши обыч-
ные законодатели были въ нѣкоторой степени подготовлены къ принятію этихъ ве-
ликихъ истинъ, которыми въ прежнее время они пренебрегали бы, какъ пустыми
выдумками. Результатомъ этого было то, что ученіе Адама Смита скоро проникло въ
палату общинъ и, будучи принято нѣкоторыми изъ самыхъ вліятельныхъ членовъ
ея 3), было выслушано съ изумленіемъ этимъ великимъ собраніемъ, мнѣнія котораго
весьма выгодно, чтобы другія государства воевали между
собою; потому что при этомъ деньги или, какъ онъ
выразился, «богатство ихъ» перейдетъ къ намъ.
1) Относительно вмѣшательства англійскаго зако-
нодательства въ дѣла торговли, Макъ-Кулдохъ, осно-
вываясь на показаніи одного изъ комитетовъ палаты
общинъ, говоритъ, что до 1820 года «было издано въ
разныя времена но мевѣе двухъ тысячъ законовъ,
относящихся къ торговлѣ». Смѣло можно сказать, что
каждый изъ этихъ законовъ былъ положительнымъ
зломъ, ибо никакая торговля и вообще никакой инте-
ресъ не можетъ быть покровительствуемъ правитель-
ствомъ безъ того, чтобы прочіе покровительствуемые
интересы и промыслы не потерпѣли несравненно
большаго вреда; если же покровительство будетъ все-
общимъ, то и потеря распространяется на всѣхъ. Счи-
таюсь необходимымъ, чтобы всякій парламентъ сдѣ-
шъ что-нибудь въ этомъ отношеніи: такъ, Кардъ II
въ одной изъ рѣчей своихъ сказалъ: «прошу васъ»
придумайте какіе-нибудь добрые, коротенькіе билли,
которые бы послужили въ пользу промышленности
народа... и да благословитъ Богъ наши совѣщанія».
2) До Адама Смита величайшую въ этомъ родѣ
услугу оказалъ Юмъ, но творенія этого глубокаго
мыслителя были слишкомъ отрывочны, чтобы про-
извести сильное дѣйствіе. Дѣйствительно, Юмъ, не-
смотря на огромность своего дарованія, стоитъ ниже
Смита относительно полноты взглядовъ и тщательно-
сти въ изложеніи ихъ.
3) Въ первый разъ упомянуто было о «Богатствѣ*
Народовъ» въ парламентѣ въ 1763 году; затѣмъ отъ
этого года и до конца столѣтія на эту книгу ссыла-
лись нѣсколько разъ, и въ послѣдніе года это дѣла-
лось все чаще и чаще. Даже Аддингтонъ изучалъ
Адама Смита въ 1787 году.
86
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
главнымъ образомъ опредѣлялись мудростью предковъ, и которое было весьма не
расположено повѣрить тому, чтобы въ новѣйшія времена могло быть открыто что-
нибудь неизвѣстное древнимъ. Но тщетно люди такого рода силятся всякій разъ
противодѣйствовать давленію успѣховъ знанія. Никакая великая истина, однажды
открытая, не была потеряна; и не было никогда сдѣлано ни одного важнаго откры-
тія, которое бы не разрушало всѣхъ противополагаемыхъ ему преградъ. Такимъ обра-
зомъ противъ началъ свободной торговли, доказанныхъ Адамомъ Смитомъ, тщетно
боролись самыя грозныя большинства въ обѣихъ палатахъ парламента. Съ каждымъ
годомъ великая истина все далѣе и далѣе пролагала себѣ путь, постоянно подвигаясь
впередъ и никогда не отступая 9- Сперва отъ большинства отдѣлилось нѣсколько
даровитыхъ людей, потомъ за ними послѣдовали обыкновенные люди, потомъ оно
сдѣлалось меньшинствомъ, наконецъ и меньшинство начало убавляться, и въ настоя-
щее время, восемьдесятъ лѣтъ спустя послѣ изданія «Богатства Народовъ», нельзя
найти ни одного сколько-нибудь развитаго человѣка, который бы не постыдился слѣ-
довать мнѣніямъ, преобладавшимъ до Адама Смита.
Такимъ-то образомъ великіе мыслители управляютъ дѣлами человѣчества и
своими открытіями опредѣляютъ ходъ развитія народовъ. Исторія одной этой по-
бѣды уже должна была бы умѣрить притязанія государственныхъ людей и законода-
телей, которые такъ преувеличиваютъ значеніе своей дѣятельности, что приписывали
важные результаты своимъ мѣрамъ, вызваннымъ временной необходимостью и год-
нымъ только на время. Но откуда взяли они то знаніе, которое они всегда готовы
обратить себѣ въ заслугу? Какъ пришли они къ своимъ убѣжденіямъ, къ своимъ
принципамъ? Убѣжденія и принципы эти, составляющіе необходимые элементы ихъ
успѣха, они могли заимствовать только отъ своихъ учителей, — отъ тѣхъ великихъ
мыслителей, которые, подъ вдохновеніемъ своего генія, оплодотворяютъ міръ своими
открытіями. Объ Адамѣ Смитѣ можно сказать, не боясь опроверженія, что этотъ оди-
нокій шотландецъ изданіемъ одного сочиненія больше сдѣлалъ для благоденствія че-
ловѣчества, чѣмъ было когда-либо сдѣлано совокупно взятыми способностями всѣхъ
государственныхъ людей й законодателей, о которыхъ сохранились достовѣрныя
извѣстія въ исторіи.
Послѣдствія этихъ великихъ открытій мнѣ здѣсь умѣстно изслѣдовать лишь на-
столько, насколько они содѣйствовали къ ослабленію духа воинственности, а это
послѣднее вліяніе прослѣдить не трудно. До тѣхъ поръ, пока вообще считали, что
богатство каждой страны заключается только въ ея золотѣ, естественнымъ образомъ
полагали также, что единственная цѣль торговли—увеличеніе прилива драгоцѣнныхъ
металловъ; поэтому казалось совершенно разумнымъ, чтобы правительство принимало
мѣры къ обезпеченію такого прилива. Но это могло быть сдѣлано только посредствомъ
извлеченія золота изъ другихъ странъ, — чему эти послѣднія по тѣмъ же самымъ
причинамъ, разумѣется, всѣми силами противились. Такимъ образомъ нельзя было
и думать о дѣйствительной взаимности услугъ: каждый коммерческій трактатъ являлся
попыткой одной націи перехитрить другую; каждый новый тарифъ былъ объявле-
ніемъ войны, и занятіе, которое должно было бы быть самымъ мирнымъ изъ всѣхъ,
становилось одной изъ причинъ національнаго соперничества и національной вражды,
которыя чаще всего приводятъ къ войнѣ 2). Но коль скоро разъ было ясно сознано,
что золото и серебро не составляютъ сами по себѣ богатства, а служатъ только
г) Въ 1797 году Пультней въ одной изъ своихъ
финансовыхъ рѣчей ссылается па «авторитетъ доктора
Смита, который, какъ было весьма удачно кѣмъ-то
сказано, убѣдитъ и настоящее поколѣніе, п будетъ
владычествовать надъ слѣдующимъ».
2) «Дѣйствительно^ — говоритъ Макъ-Куллохъ, —
нельзя не согласиться съ тѣмъ, что ошибочныя воз-
зрѣнія на торговлю, подобно столь частымъ заблуж-
деніямъ относительно религіи, были причиною мно-
гихъ войнъ и великихъ кровопролитій», «Прежнее
воззрѣніе заставляло каждую націю считать благосостоя-
ніе ея сосѣдей несовмѣстнымъ съ ея собственнымъ;
отъ этого родилось во всѣхъ взаимное желаніе вре-
дить одна другой и разоряй» друга друга, а отъ
этого произошелъ ужо тотъ духъ коммерческаго со-
перничества, который былъ иди непосредственной,
пли отдаленной причиной большаго ~ числа войнъ но-
| вѣйшаго времени.
НРАВСТВЕННЫЕ И УМСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ.
87
представителями его; коль скоро люди стали понимать, что богатство состоитъ только
въ той цѣнности, которую искусство и трудъ могутъ придать сырому матеріалу, и
что деньги не могутъ служить націи ни къ чему другому, какъ къ измѣренію и къ
обращенію ея богатства; коль скоро были признаны эти великія истины, всѣ ста-
рыя понятія о торговомъ балансѣ и объ исключительномъ значеніи благородныхъ
металловъ разомъ рушились. Когда эти грубыя заблужденія были разсѣяны, то весьма
легко выработалась истинная теорія обмѣна. Замѣчено было, что если не стѣснять
свободу торговли, то выгоды ея раздѣляются между всѣми участвующими въ ней
странами; что при отсутствіи монополіи выгоды торговли необходимо бываютъ взаим-
ными; что онѣ зависятъ далеко не отъ количества получаемаго золота, а просто отъ
легкости, съ какою нація сбываетъ тѣ товары, которые она можетъ самымъ деше-
вымъ образомъ производить, и получаетъ въ обмѣнъ тѣ предметы, которые она
могла бы производить только съ весьма большими расходами, между тѣмъ какъ дру-
гая нація, по искусству своихъ рабочихъ, или по щедрости природы, можетъ доста-
влять ихъ по дешевѣйшей цѣнѣ. Изъ этого слѣдовало, что съ коммерческой точки
зрѣнія такъ же нелѣпо стараться разорить націю, съ который мы торгуемъ, какъ
было бы нелѣпо для отдѣльнаго торговца—желать несостоятельности богатаго и много
забирающаго покупателя. Послѣдствіемъ этихъ понятій было то, что духъ коммерціи,
который прежде нерѣдко бывалъ расположенъ къ войнѣ, теперь неизмѣнно стремится
къ миру *). И хотя совершенно справедливо, что изъ ста купцовъ едва-ли хоть одинъ
знакомъ съ доводами, на которыхъ основываются новыя экономическія открытія, это
однако нисколько не препятствуетъ тому дѣйствію, которое производятъ самыя
открытія на его образъ мыслей. Коммерческій классъ, подобно всѣмъ другимъ, под-
вергается дѣйствію такихъ причинъ, которыя лишь немногіе изъ членовъ этого класса
способны понимать. Такимъ образомъ, напримѣръ, между безчисленными противни-
ками системы покровительства весьма немного такихъ, которые могли бы привести
достаточныя причины для оправданія своей оппозиціи. Но это нисколько не мѣшаетъ
самой оппозиціи проявляться, такъ какъ огромное большинство людей всегда съ без-
сознательной покорностью слѣдуетъ духу своего временп; духъ же какого-либо вре-
мени слагается единственно /изъ его знаній и направленія, принимаемаго этими зна-
ніями. Какъ въ ежедневной жизни люди бываютъ обязаны увеличеніемъ удобствъ
и общей безопасности успѣхамъ разныхъ наукъ и искусствъ, которыхъ они часто
не знаютъ даже имени, такъ точно торговый классъ пользуется тѣми великими эко-
номическими открытіями, которыя въ продолженіе двухъ поколѣній успѣли произвести
радикальную перемѣну въ коммерческомъ законодательствѣ нашего отечества, и ко-
торыя теперь дѣйствуютъ медленно, но постоянно, на другія европейскія государства,
гдѣ при менѣе сильномъ общественномъ мнѣніи труднѣе прививаются великія истины
и искореняются старыя злоупотребленія. Такимъ образомъ при всемъ томъ, что изъ
торговцевъ сравнительно весьма немногіе знакомы съ политическою экономіей, классъ
этотъ обязанъ значительной долей своего богатства нашимъ экономистамъ, которые,
устранивъ препятствія, стѣснявшія, вслѣдствіе невѣжества прежнихъ правительствъ,
успѣхи торговли, утвердили нынѣ на прочномъ основаніи то процвѣтаніе коммерціи,
которое составляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ источниковъ пашей національной славы.
Несомнѣнно также, что это же самое умственное движеніе уменьшило возможность
войнъ, приведя въ извѣстность тѣ начала, которыми должны опредѣляться наши ком-
мерческія отношенія къ другимъ странамъ, и доказавъ не только безполезность, но
Милль въ своей «Политической экономіи» го- |
воритъ: «Чувство торговаго соперничества, преобла- |
давшее между народами въ продолженіе нѣсколькихъ I
вѣковъ, совершенно подавляло всякое понятіе объ
общности выгодъ, получаемыхъ всѣми коммерческими
странами отъ благосостоянія каждой страны; и тотъ
самый духъ коммерціи, который теперь составляетъ
одно изъ сильнѣйшихъ препятствій къ веденію войнъ,
былъ вт» продолженіе извѣстнаго періода европейской
исторіи главной причиной ихъ». Эта великая пере-
мѣна въ понятіяхъ коммерческихъ • классовъ началась
но ранѣе нынѣшняго вѣка; опа не была замѣтна для
большинства наблюдателей, но Гердеръ предсказалъ ее
еще въ 1788 году.
88
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
и положительную зловредность всякаго насильственнаго вмѣшательства въ эти отно-
шенія, и, наконецъ, истребивъ тѣ давнишнія заблужденія, которыя, заставляя людей
думать, что всѣ націи одна другой естественные враги, развивали въ нихъ враждеб-
ныя чувства и поддерживали національныя соперничества, доставлявшія духу воин-
ственности не малую долю его прежняго вліянія.
Третья великая причина, послужившая къ ослабленію воинственности, заклю-
чается въ облегченіи сношеній между различными странами вслѣдствіе открытій,
примѣнившихъ силу пара къ передвиженію людей. Облегченіе сношеній естествен-
нымъ образомъ содѣйствовало къ уничтоженію того невѣжественнаго презрѣнія, ко-
торое каждая нація слишкомъ склонна чувствовать къ другимъ. Такъ, напримѣръ,
жалкія, безстыдныя клеветы, которыя множество англійскихъ писателей высказы-
вали относительно нравственности и частнаго характера французовъ и — къ стыду
ихъ будь сказано — даже относительно цѣломудрія французскихъ женщинъ, не
мало содѣйствовали къ усиленію чувства озлобленія, существовавшаго между двумя
первыми націями въ Европѣ, раздражая англичанъ противъ французскихъ поро-
ковъ, а французовъ—противъ англійскихъ кдеветъ. Точно также было время, когда
каждый честный англичанинъ былъ твердо убѣжденъ, что онъ могъ бы сладить съ
десятью французами, и питалъ ко всей націи ихъ глубочайшее презрѣніе, какъ къ
тощему и тщедушному племени, пьющему слабое вино, вмѣсто водки, и питающе-
муся исключительно лягушками; какъ къ жалкимъ невѣрнымъ, слушающимъ каждое
воскресенье мессу, поклоняющимся идоламъ и даже боготворящимъ папу. Съ другой
стороны, французовъ учили презирать насъ, какъ грубыхъ и необразованныхъ вар-
варовъ, чуждыхъ изящнаго вкуса и гуманности, какъ суровыхъ, дурно-организован-
ныхъ людей, живущихъ въ дурномъ климатѣ, гдѣ вѣчный туманъ, перемежающійся
только дождемъ, никогда не позволяетъ показаться солнцу; какъ людей, стражду-
щихъ такой глубоко - вкоренившейся меланхоліей, которой врачи даже дали особое
названіе—англійскаго сплина, и подъ вліяніемъ этой страшной болѣзни безпрестанно
совершающихъ самоубійства, въ особенности въ_ноябрѣ,—мѣсяцъ, въ которомъ, какъ
было будто бы положительно извѣстно, мы ежегодно вѣшались и застрѣливались цѣ-
лыми тысячами 1).
Всякому, кто хорошо знаетъ старую литературу Франціи и Англіи, извѣстно,
что таковы были мнѣнія, которыя составили себѣ другъ о другѣ двѣ первыя націи
въ Европѣ по невѣдѣпію и сердечной простотѣ. Но, благодаря разнымъ открытіямъ,
обѣ страны пришли въ болѣе близкое прикосновеніе, разсѣялись ихъ глупыя пред-
убѣжденія, и онѣ научились удивляться одна другой и — что еще важнѣе—уважать
одна другую. И чѣмъ чаще были ихъ сношенія, тѣмъ болѣе увеличивалось взаимное
уваженіе. Что бы ни говорили богословы, но достовѣрно, что во всемъ человѣчествѣ
вообще гораздо болѣе хорошаго, чѣмъ дурного, и что въ каждой странѣ добрыя дѣла
чаще встрѣчаются, чѣмъ злыя. Дѣйствительно, еслибы это было иначе, то преобла-
даніе зла давно бы ужъ истребило весь родъ человѣческій, и некому даже было бы
оплакивать его. Другое доказательство этому мы находимъ въ томъ фактѣ, что чѣмъ
болѣе націи сближаются между собою, чѣмъ болѣе онѣ узнаютъ другъ друга, тѣмъ
быстрѣе исчезаютъ старинныя вражды, потому именно, что по мѣрѣ опыта мы узнаемъ,
что человѣчество далеко не такъ радикально дурно, какъ насъ съ дѣтства заста-
вляютъ думать о немъ. Еслибы порокъ дѣйствительно преобладалъ надъ добродѣтелью,
то съ увеличеніемъ сношеній между людьми усиливалось бы ихъ дурное мнѣніе другъ
о другѣ, такъ какъ мы вообще хотя и любимъ наши собственные пороки, но не лю-
*) Считалось всегда положительнымъ фактомъ, что
самоубійствъ бываетъ болѣе въ мрачную погоду,
чѣмъ въ хорошую,-^и это было даже одной изъ лю-
бимыхъ темъ у французскихъ умниковъ, которые не
могли довольно наговориться о нашемъ расположеніи
въ самоубійству и объ отношеніи, существующемъ
между нами п нашимъ мрачнымъ климатомъ. Но, къ
несчастью, на дѣлѣ оказывается прямо противное
тому, что всегда полагали, и мы имѣемъ неоспоримыя
доказательства, что самоубійствъ бываетъ больше лѣ-
томъ, чѣмъ зимой.
НРАВСТВЕННЫЕ И УМСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ.
89
бимъ пороковъ нашихъ ближнихъ. Но на самомъ дѣлѣ не только не оказывается
такого послѣдствія, но даже бываетъ такъ, что именно тѣ люди, которые, по обшир-
ности своихъ знаній, болѣе другихъ освоились съ общимъ ходомъ дѣлъ человѣческихъ,
высказываютъ о нихъ самыя благопріятныя сужденія. Самый проницательный наблю-
датель и самый глубокій мыслитель всегда бываетъ и самымъ снисходительнымъ
судьею. Только мизантропъ, у котораго постоянно на умѣ какія-то воображаемыя
обиды, преимущественно бываетъ расположенъ низко цѣнить хорошія свойства на-
шей природы и преувеличивать дурныя; — или же принимаетъ на себя эту роль
какой-нибудь глупый и невѣжественный монахъ, который, проводя весь свой вѣкъ
въ мечтахъ и праздномъ одиночествѣ, льститъ своему собственному тщеславію, обли-
чая пороки другихъ; ратуя такимъ образомъ противъ наслажденій жизни, онъ думаетъ
отмстить этимъ обществу, изъ котораго его исключаетъ его же собственное суевѣріе.
Вотъ какіе люди болѣе всѣхъ настаиваютъ на испорченности нашей природы и на
упадкѣ, до котораго дошло будто бы человѣчество. Громадное зло, произведенное
подобными мнѣніями, понятно всякому, изучавшему исторію тѣхъ странъ, гдѣ они
преобладали прежде и преобладаютъ и до сихъ поръ. Понятно послѣ этого, что
между безчисленными благами, происшедшими отъ успѣховъ знанія, весьма немногія
могутъ быть поставлены выше усовершенствованія способовъ сообщенія. Умноженіе
случаевъ соприкосновеній между націями и отдѣльными лицами въ невѣроятной сте-
пени содѣйствовало къ излеченію ихъ отъ предразсудковъ, къ возвышенію мнѣній,
составляемыхъ ими другъ о другѣ, къ уменьшенію ихъ взаимной враждебности,
къ распространенію болѣе благопріятнаго взгляда на общую природу нашу, и этимъ
самымъ подвинуло насъ къ развитію тѣхъ безпредѣльныхъ силъ человѣческаго ума,
о самомъ существованіи которыхъ когда-то нельзя было говорить, не прослывъ почти
за еретика.
Вотъ какія явленія совершались въ новѣйшія времена въ Европѣ. Націи фран-
цузская и англійская, единственно вслѣдствіе умноженія сношеній, научились благо-
пріятнѣе думать одна о другой и отвергли то безсмысленное презрѣніе другъ къ
другу, которому нѣкогда онѣ обѣ давали волю. Въ этомъ случаѣ, какъ и во всѣхъ
другихъ, оказалось, что чѣмъ болѣе одна цивилизованная страна знакомится съ дру-
гой, тѣмъ болѣе онѣ открываютъ другъ въ другѣ сторонъ, достойныхъ уваженія и
подражанія. Изъ всѣхъ причинъ, производящихъ національную ненависть, невѣдѣніе
есть самая сильная. Съ умноженіемъ случаевъ соприкосновенія, нсвѣдѣніе исчезаетъ
и вслѣдствіе того ослабѣваетъ ненависть. Этимъ-то путемъ и образуется истинный
союзъ братства между народами, и онъ одинъ оказывается дѣйствительнѣе всѣхъ на-
ставленій, читаемыхъ моралистами и богословами. И тѣ, и другіе дѣлали свое дѣло
въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ, не достигнувъ никакого успѣха въ ограниченіи
частаго возникновенія войнъ, тогда какъ можно сказать, безъ малѣйшаго преувели-
ченія, что каждая вновь проводимая желѣзная дорога, каждый новый пароходъ, пе-
реплывающій Па-де-Калэ, даетъ новыя ручательства за сохраненіе того долгаго и
непрерывнаго мира, который въ продолженіе сорока лѣтъ связывалъ воедино судьбу
и интересы двухъ наиболѣе цивилизованныхъ націй въ мірѣ.
Такимъ образомъ, насколько мнѣ дозволили мои познанія, я старался указать
на причины, послужившія къ уменьшенію религіозныхъ преслѣдованій и войнъ—
двухъ величайшихъ золъ, которымъ люди когда-либо подвергали своихъ ближнихъ.
Вопроса объ уменьшеніи религіозныхъ преслѣдованій я только слегка коснулся, такъ
какъ онъ будетъ подробно разсмотрѣнъ въ одной изъ послѣдующихъ частей этого
тома. Но и сказаннаго мною достаточно, чтобы убѣдиться, что уменьшеніе это—ре-
зультатъ чисто умственнаго процесса, и чтобы видѣть, какъ мало можетъ сдѣлать
пользы въ этомъ отношеніи дѣйствіе нравственнаго чувства. Причины упадка духа
воинственности я разсмотрѣлъ съ нѣкоторой, для иныхъ читателей можетъ быть до-
кучливой, подробностью и пришелъ къ тому выводу, что упадокъ этотъ произошелъ
отъ усиленія умственно-трудящихся классовъ, которые естественно находятся въ анта-
90
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
гонизмѣ съ военнымъ сословіемъ. Углубившись еще болѣе въ это изслѣдованіе, мы
открыли существованіе трехъ другихъ причинъ, дѣйствовавшихъ за-одно съ главною
въ ускореніи всеобщаго движенія впередъ. Эти причины были—изобрѣтеніе огне-
стрѣльнаго пороха, открытія, сдѣланныя въ политической экономіи, и введеніе улуч-
шенныхъ средствъ сообщенія. Вотъ три главнѣйшіе пути, по которымъ успѣхи зна-
нія направились къ ослабленію стараго воинственнаго духа; а какимъ образомъ это
совершилось, я, надѣюсь, довольно ясно показалъ. Факты и доводы, которые я при-
велъ, подвергнуты мною, могу сказать по совѣсти, самой тщательной, неоднократной
повѣркѣ, такъ что я рѣшительно не могу себѣ представить, на какомъ разумномъ
основаніи могла бы быть опровергнута ихъ достовѣрность. Что они будутъ непріятны
нѣкоторымъ сословіямъ, въ этомъ я совершенно убѣжденъ; но непріятное свойство
довода едва-ли даетъ право считать его несправедливымъ. Источники, изъ которыхъ
я почерпнулъ факты, указаны мною вполнѣ, и доводы, надѣюсь, изложены безпри-
страстно, а изъ нихъ вытекаетъ слѣдующее въ высшей степени важное заключеніе:
что два самыя древнія, самыя большія, самыя глубоко-укоренившіяся и обширно-
распространенныя бѣдствія, какія когда-либо были извѣстны людямъ, — постоянно,
хотя вообще довольно медленно, уменьшаются, и что уменьшеніе это достигнуто ко-
нечно не нравственными чувствами, не нравственными поученіями, а единственно
дѣятельностью человѣческаго ума и вліяніемъ изобрѣтеній и открытій, которыя въ
теченіе долгаго ряда послѣдовательныхъ вѣковъ удалось сдѣлать человѣку.
И такъ, если въ отношеніи къ двумъ важнѣйшимъ явленіямъ, которыя пред-
ставляются намъ въ развитіи общества, нравственные законы были постоянно и не-
измѣнно подчинены умственнымъ, то становится весьма вѣроятнымъ предположеніе,
что и въ отношеніи къ менѣе важнымъ предметамъ процессъ совершался такимъ же
образомъ. Доказать это вполнѣ и возвести предположеніе въ совершенную досто-
вѣрность значило бы написать не введеніе въ исторію, а самую исторію. Поэтому
читатель долженъ въ настоящее время удовольствоваться тѣмъ, что, какъ я самъ
сознаюсь, составляетъ лишь приблизительное доказательство; полное же доказатель-
ство необходимо должно быть отложено до дальнѣйшихъ томовъ этого сочиненія, въ
которыхъ я берусь показать, что Европа переходомъ своимъ отъ варварства къ ци-
вилизаціи обязала исключительно своей умственной дѣятельности; что передовыя націи
ея вотъ уже нѣсколько вѣковъ достаточно подвинулись впередъ, чтобы свергнуть съ
себя тѣ физическія вліянія, которыя могли первое время затруднять ихъ развитіе,
и что нравственныя вліянія хотя еще и сильны и но временамъ причиняютъ раз-
стройства, но это не болѣе, какъ такія уклоненія отъ общаго хода дѣлъ, которыя съ
теченіемъ долгаго времени взаимно уравновѣшиваются, такъ что въ общемъ итогѣ
не оставляютъ ни малѣйшаго слѣда. Итакъ, при болѣе обширномъ взглядѣ на пе-
ремѣны въ жизни цивилизованнаго народа, оказывается, что въ сложности онѣ за-
висятъ единственно отъ трехъ вещей: во-первыхъ, отъ суммы знаній, пріобрѣтен-
ныхъ самыми развитыми людьми; во-вторыхъ, отъ направленія, которое приняли эти
знанія, то есть отъ того разряда предметовъ, къ которому они относятся; наконецъ,
въ-третьихъ, и болѣе всего, отъ той пропорціи, въ которой знанія эти распростра-
нены и отъ большей или меньшей свободы, съ которой они проникаютъ во всѣ
классы общества.
Таковы три главные двигателя образованности въ каждой цивилизованной странѣ,
и хотя дѣятельность ихъ часто встрѣчаетъ помѣхи въ добродѣтеляхъ и порокахъ мо-
гущественныхъ личностей, но эти нравственныя свойства взаимно нейтрализируются,
и потому вліяніе ихъ въ среднемъ выводѣ за долгіе періоды времени незамѣтно.
Вслѣдствіе причинъ, которыя намъ неизвѣстны, сочетанія нравственныхъ качествъ
бываютъ весьма разнообразны, такъ что въ одномъ человѣкѣ, или даже можетъ быть
въ одномъ поколѣніи, проявляется избытокъ добрыхъ намѣреній, въ другомъ—избы-
токъ злыхъ. Но мы не имѣемъ никакой причины полагать, чтобы могла произойти
разъ на всегда перемѣна въ численномъ отношеніи между лицами, имѣющими по
НРАВСТВЕННЫЕ И УМСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ.
91
природѣ добрыя намѣренія, и такими, которымъ повидимому привиты намѣренія
злыя. Въ томъ, что мы могли бы назвать врожденной, первобытной нравственностью
рода человѣческаго, сколько мы знаемъ, прогресса не бываетъ. Изъ врожденныхъ
намъ различныхъ страстей однѣ преобладаютъ въ одно время, другія—въ другое; но
опытъ научаетъ насъ, что страсти эти находятся постоянно въ борьбѣ между собою
и потому удерживаются въ равновѣсіи силою взаимнаго противодѣйствія. Дѣйствіе
одного побужденія умѣряется дѣйствіемъ другого: каждому пороку соотвѣтствуетъ
какая-нибудь добродѣтель. Жестокости противодѣйствуетъ доброта, страданіе воз-
буждаетъ состраданіе, несправедливость одного вызываетъ благотворительность дру-
гого; для новаго бѣдствія находится и новое средство избавленія отъ него; и даже
громаднѣйшія преступленія, какія когда-либо совершались, не оставляли неизгла-
димаго слѣда. Потери, причиняемыя опустошеніемъ земель и истребленіемъ ихъ
жителей, неизбѣжно восполняются; проходитъ нѣсколько столѣтій—и слѣдъ ихъ исче-
заетъ. Колоссальныя злодѣянія Александра или Наполеона по прошествіи нѣкотораго
времени уже менѣе ощутительны, и дѣла міра возвращаются къ своему прежнему
уровню. Таковы приливъ и отливъ исторіи, постоянныя теченія, которымъ мы под-
вергаемся по законамъ природы.
Надъ всѣмъ этимъ движется міръ несравненно высшій, и въ то время, какъ
совершается его поступательное движеніе, при безпрерывныхъ колебаніяхъ то взадъ,
то впередъ, одно, и только одно, никогда не погибаетъ. Дѣйствія дурныхъ людей
производятъ зло только временное, дѣйствія хорошихъ—добро только временное; и
зло, и добро уходятъ въ бездну, всплываютъ потомъ, при послѣдующихъ поколѣ-
ніяхъ, и, наконецъ, совсѣмъ исчезаютъ въ безпрерывномъ движеніи дальнѣйшихъ
вѣковъ. Но открытія великихъ людей никогда не покидаютъ насъ—они безсмертны:
они заключаютъ въ себѣ тѣ вѣчныя истины, которыя переживаютъ паденія царствъ,
переживаютъ борьбы враждующихъ религіозныхъ партій и остаются непоколебимы,
между тѣмъ какъ приходятъ одна за другой въ упадокъ и самыя религіи. Каждая
религія измѣряется своей мѣрой, подчиняется своимъ правиламъ; для одного вѣка
годятся одни убѣжденія, для другого другія. Они исчезаютъ, какъ сонъ; это созда-
нія фантазіи, отъ которыхъ не остается и слабаго очертанія. Только открытія ге-
ніевъ сохраняются; имъ однимъ обязаны мы всѣмъ, что имѣемъ; они для всѣхъ вѣ-
ковъ—имъ пѣтъ конца; нося въ себѣ зародыши своей жизни, они не бываютъ ни
молоды, ни стары; они текутъ вѣчнымъ, неизсякаемымъ потокомъ; они, по существу
своему, чрезвычайно плодовиты; давая сами изъ себя отростки для тѣхъ приращеній,
которыя дѣлаются со временемъ, они вліяютъ такимъ образомъ на самое отдаленное
потомство и по прошествіи нѣсколькихъ вѣковъ проявляютъ еще большую силу,
чѣмъ въ самый моментъ возникновенія.
ГЛАВА V.
О вліяніи религіи, литературы и правительства*
Прилагая къ исторіи человѣка тѣ методы изслѣдованія, которые оказались успѣш-
ными въ другихъ отрасляхъ знанія, и отвергая всѣ а ргіогі составленныя мнѣнія, не
выдерживающія повѣрки по этимъ методамъ,- мы пришли къ извѣстнымъ результа-
тамъ, изъ которыхъ главнѣйшіе не безполезно здѣсь перечислить. Мы видѣли, что
дѣйствія наши, представляя не болѣе какъ результатъ внутреннихъ и внѣшнихъ
вліяній, могутъ быть объяснены только законами этихъ вліяній, т. е. духовными и
физическими законами. Мы видѣли также, что въ Европѣ духовные законы силь-
нѣе физическихъ и что съ успѣхами цивилизаціи перевѣсъ этотъ постоянно увели-
чивается, потому что возрастающее знаніе увеличиваетъ силы духа, между тѣмъ какъ
силы природы остаются неизмѣнными. Поэтому мы признавали духовные законы гла-
вными двигателями прогресса, а на физическіе смотрѣли, какъ на законы второсте-
пенные, дѣйствіе которыхъ проявляется только въ случайныхъ уклоненіяхъ отъ пра-
вильности движенія и уже издавна становилось слабѣе и рѣже, а въ настоящее время
въ большей части случаевъ не имѣетъ никакого значенія. Приведя такимъ образомъ
изученіе того, что можно было бы назвать динамикой общества, къ изученію зако-
новъ духа, мы затѣмъ подвергли эти послѣдніе подобному же анализу и нашли, что
они состоятъ изъ двухъ разрядовъ, а именно: изъ нравственныхъ и изъ умственныхъ
законовъ. Сравнивая эти оба разряда, мы ясно убѣдились въ огромномъ преимуществѣ
законовъ умственныхъ и видѣли, что подобно тому, какъ успѣхи цивилизаціи обо-
значаются перевѣсомъ духовныхъ законовъ надъ физическими, они обозначаются
также и перевѣсомъ умственныхъ законовъ надъ нравственными. Этотъ важный вы-
водъ опирается на двухъ различныхъ аргументахъ. Во-первыхъ, на томъ, что при
неподвижности нравственныхъ истинъ и при постоянномъ движеніи впередъ истинъ
умственныхъ въ высшей степени невѣроятно, чтобы прогрессъ общества зависѣлъ
скорѣе отъ нравственныхъ знаній, сумма которыхъ въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій
оставалась неизмѣнной, ч'Ьмъ отъ знаній умственныхъ, пріобрѣтеніе которыхъ въ те-
ченіе многихъ столѣтій постоянно подвигается впередъ. Другой же аргументъ заклю-
чается въ томъ фактѣ, что два величайшія зла, какія когда-либо зналъ родъ чело-
вѣческій, не уменьшились вслѣдствіе его нравственнаго усовершенствованія, а усту-
пили и до сихъ лоръ уступаютъ только вліянію умственныхъ открытій. Изъ всего
этого очевидно слѣдуетъ, что если мы хотимъ привести въ извѣстность условія, отъ
которыхъ зависятъ успѣхи новѣйшей цивилизаціи, то должны искать ихъ въ исторіи
накопленія и распространенія умственнаго знанія. Физическія явленія и нравствен-
ныя начала производятъ конечно по временамъ значительное разстройство въ общемъ
ходѣ дѣлъ, но съ теченіемъ времени они приходятъ въ порядокъ и равновѣсіе, и
оставляютъ такимъ образомъ умственнымъ законамъ свободу дѣйствовать независимо
отъ этихъ низшихъ, второстепенныхъ дѣятелей.
Вотъ заключеніе, къ которому мы пришли путемъ послѣдовательныхъ анали-
зовъ,—на немъ мы и остановимся. Дѣйствія отдѣльныхъ лицъ подчиняются въ зна-
чительной мѣрѣ вліянію ихъ нравственныхъ чувствъ и ихъ страстей; но чувства и
О ВЛІЯНІИ РЕЛИГІИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА.
93
страсти эти, приходя въ столкновеніе съ чувствами и страстями другихъ лицъ, уравно-
вѣшиваются этими послѣдними такъ, что въ общемъ ходѣ человѣческихъ дѣйствій
вліянія ихъ вовсе не видно; и совокупность дѣйствій рода человѣческаго, разсматри-
ваемыхъ какъ одно цѣлое, зависитъ единственно отъ суммы знаній, которою люди
обладаютъ. А какимъ именно образомъ поглощаются и нейтрализуются личное чув-
ство и личная прихоть, — этому мы находимъ полное объясненіе въ приведенныхъ
выше фактахъ изъ исторіи преступленій. Факты эти рѣшительно доказываютъ, что
въ итогѣ преступленій, совершаемыхъ въ той или другой странѣ, годъ за годомъ
повторяется одна и та же цифра съ самымъ изумительнымъ однообразіемъ, нисколько
при томъ не подчиняясь вліянію прихоти и личныхъ чувствъ, которыми слишкомъ
часто хотятъ объяснить человѣческія дѣйствія. Но если бы мы вмѣсто того, чтобы
Это происходитъ оттого, что великіе обще-
преступленіе, могутъ быть замѣчены лишь
людей или долгимъ періодомъ времени, но
время индивидуальное нравственное начало
разсматривать исторію преступленій по годамъ, раздѣлили ее по мѣсяцамъ, то нашли бы
гораздо меньше правильности; еслибы, наконецъ, разсмотрѣли эту исторію по часамъ,
то правильность совсѣмъ бы исчезла; точно также ея не было бы видно и въ томъ
случаѣ, еслибы, вмѣсто уголовной лѣтописи цѣлой страны., мы знали только лѣто-
пись одной улицы или одного семейства,
ственные законы, которыми управляется
при наблюденіи надъ большимъ числомъ
въ меньшемъ числѣ лицъ и въ короткое
беретъ верхъ и нарушаетъ порядокъ дѣйствія общаго умственнаго закона. Слѣдова-
тельно, нравственныя чувства, побуждающія человѣка совершить преступленіе или
воздержаться отъ него, имѣютъ огромное вліяніе на итогъ личныхъ преступленій этого
человѣка, но не имѣютъ никакого значенія относительно общаго итога преступленій,
совершаемыхъ въ томъ обществѣ, въ которомъ онъ живётъ, такъ какъ они съ те-
ченіемъ времени непремѣнно нейтрализуются противоположными имъ нравствен-
ными чувствами, вызывающими въ другихъ^ людяхъ противоположный образъ дѣй-
ствія. Точно также всѣмъ извѣстно, что почти всѣ наши дѣйствія находятся подъ
вліяніемъ нравственныхъ началъ, а между тѣмъ мы можемъ найти неоспоримыя до-
казательства, что начала эти не производятъ ни малѣйшаго дѣйствія на человѣчество,
взятое въ совокупности, ни даже вообще на значительныя массы людей; для этого
намъ стоитъ только изучать общественныя явленія за такіе продолжительные періоды
времени и въ такихъ большихъ размѣрахъ, въ которыхъ можно было бы различать
чистое дѣйствіе главныхъ законовъ.
Итакъ, если вся совокупность человѣческихъ дѣлъ, разсматриваемая съ выс-
шей точки зрѣнія, управляется всей суммой человѣческихъ знаній, то казалось бы
весьма простымъ дѣломъ собирать свѣдѣнія объ этихъ знаніяхъ и, постепенно обоб-
щая ихъ, установить такимъ образомъ всю систему законовъ, управляющихъ успѣ-
хами цивилизаціи,—и я нимало не сомнѣваюсь, что когда-нибудь это и будетъ сдѣ-
лано. Но, къ несчастью, до сихъ поръ исторію писали люди, до такой степени мало
способные къ великому труду, который они предпринимали, что ими собрана весьма
небольшая часть необходимыхъ матеріаловъ. Вмѣсто того чтобы сообщить намъ тѣ
свѣдѣнія, которыя единственно имѣютъ пѣну,—свѣдѣнія объ успѣхахъ знанія и о томъ,
какимъ образомъ распространеніе этого знанія подѣйствовало на человѣчество,—огром-
ное большинство историковъ наполняетъ свои сочиненія самыми пустыми и ничтож-
ными подробностями: анекдотами, касающимися лично до разныхъ королей и царе-
дворцевъ, безконечными разсказами о томъ, что сказалъ такой-то министръ и что
подумалъ другой, и —чтб хуже всего — длинными разсказами О кампаніяхъ, сраже-
ніяхъ и осадахъ,—весьма интересными для тѣхъ, которые въ нихъ участвовали, но
совершенно безполезными для насъ, такъ какъ они не сообщаютъ намъ ни новыхъ
истинъ, ни средствъ къ открытію ихъ. Въ этомъ-то и заключается собственно пре-
пятствіе, останавливающее наше движеніе впередъ. Это-то отсутствіе правильнаго
взгляда па вещи, это незнаніе того, на что болѣе всего слѣдовало бы обратить вни-
маніе, и лишаетъ насъ матеріаловъ, которые должны были бы уже давно быть со-
94 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ. I
браны, приведены въ порядокъ и сохранены для будущаго употребленія. Въ другихъ
великихъ отрасляхъ знанія наблюденія предшествовали открытіямъ; сперва были за-
писаны факты, а потомъ открыты законы ихъ. При изученіи же исторіи человѣчества
важнѣйшіе факты были оставлены безъ вниманія, а ничтожные сохранены. Поэтому
каждый, кто въ настоящее время покушается возводить историческія явленія къ общимъ
началамъ, долженъ и собирать факты, и дѣлать выводы. Онъ не находить подъ ру-
кой ничего готоваго. Онъ долженъ быть не только архитекторомъ, но и каменщи-
комъ, долженъ не только проектировать зданіе, но и таскать камни изъ каменоломни.
Необходимость совершенія этого двойного труда налагаетъ на философа такую гро-
мадную работу, что для выполненія ея мало всей жизни; поэтому исторія вмѣсто
того, чтобы быть, какъ должно, зрѣлой и готовой для полныхъ, исчерпывающихъ
каждый вопросъ, обобщеній, находится до сихъ поръ въ такомъ грубомъ и необра-
ботанномъ видѣ, что и при самомъ упорномъ и самомъ продолжительномъ трудѣ
никто изъ насъ не въ состояніи уразумѣть вполнѣ всѣхъ дѣйствительно важныхъ дѣяній
человѣчества даже за такой краткій періодъ, какъ напримѣръ два послѣдовательныя
столѣтія.
По всѣмъ этимъ соображеніямъ, я давно уже отказался отъ моего первоначаль-
наго плана и, хотя съ крайнимъ сожалѣніемъ, рѣшило^ ^писать исторію не всей ци-
вилизаціи вообще, а цивилизаціи одного только народа^ Но урѣзывая такимъ обра-
зомъ область изслѣдованія,, мы, къ несчастью, уменьшаемъ средства, могущія слу-
жить для этого изслѣдованія. Хотя совершенно справедливо, что совокупность чело-
вѣческихъ дѣйствій, взятыхъ за долгіе^ періоды времени, зависитъ отъ суммы чело-
вѣческихъ знаній, тѣмъ нёх менѣе должно согласиться, что* этотъ великій принципъ,
будучи приложенъ къ одной только странѣ, теряетъ нѣкоторую долю своей первона-
чальной силы. Чѣмъ болѣе мы стѣсняемъ пространство нашихъ наблюденій, тѣмъ ме-
нѣе вѣрнымъ становится средній выводъ изъ нихъ,—другими словами, тѣмъ возмож-
нѣе нарушеніе правильности дѣйствія высшихъ законовъ дѣйствіемъ низшихъ. Вмѣ-
шательство иноземныхъ правительствъ, вліяніе понятій, литературы и обычаевъ ино-
земнаго народа, дѣлаемыя имъ нашествія или даже завоеванія, насильственное вве-
деніе, при подобныхъ случаяхъ, новыхъ религій, новыхъ законовъ и новыхъ нра-
вовъ—все это помѣхи, которыя, при общемъ разборѣ исторіи всего міра, оказываются
уравновѣшивающими одна другую, въ каждой же отдѣльной странѣ способны нару-
шить естественный ходъ цивилизаціи, вслѣдствіе чего бываетъ гораздо труднѣе опре-
дѣлить движеніе ея. Вслѣдъ за симъ я объясню, какимъ путемъ я пытался избѣгнутъ
этого затрудненія, но Сперва я намѣренъ показать, какія именно причины побудили
меня признать исторію Англіи болѣе важной, чѣмъ всѣ другія, и, сдѣдовательно, наи-
болѣе достойной сдѣлаться предметомъ полнаго философскаго изслѣдованія.
Такъ какъ величайшая польза, могущая произойти отъ изученія прошедшихъ
событій, заключается въ возможности привести въ извѣстность законы, которыми они
управлялись, то очевидно исторія каждаго народа становится для насъ тѣмъ болѣе
цѣнной, чѣмъ менѣе былъ нарушаемъ естественный ходъ его развитія вліяніями
внѣшними. Всякое иностранное или внѣшнее вліяніе, дѣйствующее на какой-нибудь
народъ, вводитъ чуждые элементы въ естественное развитіе его и потому усложняетъ
обстоятельства, которыя мы стараемся изслѣдовать. Между тѣмъ упрощеніе всякихъ
сложныйявленій составляетъ во всѣхъ отрасляхъ знанія существенное условіе успѣха.
Эта "истина весьма знакома лицамъ, изучающимъ естественныя науки; имъ нерѣдко
удается посредствомъ одного опыта открыть то, чего прежде тщетно добивались пу-
темъ безчисленныхъ наблюденій; дѣло въ томъ, что, производя опыты надъ явленіями,
мы можемъ отдѣлить отъ нихъ все, что ихъ осложняетъ, и такимъ образомъ, поста-
вивъ ихъ внѣ вліянія неизвѣстныхъ дѣятелей, дать имъ возможность идти, такъ сказать,
.своицъ собственнымъ ходомъ и раскрыть намъ дѣйствіе ихъ собственнаго закона.
Итакъ, вотъ истинное мѣрило, по которому мы должны опредѣлять значеніе
исторіи каждаго народа. Важность исторіи какой-либо страны зависитъ не отъ бли-
О ВЛІЯНІИ РЕЛИГІИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА. 95
стательности встрѣчающихся въ ней подвиговъ, но отъ того, въ какой степени дѣй-
ствія народа проистекли изъ заключающихся въ немъ самомъ причинъ. Еслибы,
слѣдовательно, мы могли найти какую-нибудь цивилизованную націю, которая бы вы-
работала свою цивилизацію сама собою, совершенно избѣгнувъ всякаго иноземнаго
вліянія, и не была бы не подвинута впередъ, ни задержана на пути развитія лич-
ными качествами своихъ правителей,—то исторія этой націи была бы важнѣе вся-
кой другой, потому что она представляла бы условія совершенно нормальнаго и само-
бытнаго развитія и показала бы намъ, какъ дѣйствуютъ законы прогресса въ со-
стояніи уединенія; она была бы какъ бы готовымъ для насъ опытомъ и имѣла бы
ту же цѣну, какъ тѣ искусственныя сочетанія обстоятельствъ, которымъ естествен-
ныя науки обязаны столь многими открытіями.
Найти такой народъ очевидно невозможно, тѣмъ не менѣе историкъ-философъ
обязанъ избрать для спеціальнаго изученія такую страну, которая возможно болѣе
удовлетворяетъ этимъ условіямъ. Но конечно каждый изъ насъ, а также и каждый
образованный иностранецъ согласится съ тѣмъ, что Англія, по крайней мѣрѣ въ про-
долженіе трехъ послѣднихъ вѣковъ, удовлетворяла означеннымъ условіямъ постоян-
нѣе и успѣшнѣе, чѣмъ какая-либо другая страна. Я уже не говорю о многочислен-
ности нашихъ открытій, о блескѣ нашей литературы и объ успѣхахъ нашего оружія;
все это предметы, возбуждающіе народную зависть, и другіе народы можетъ быть
откажутъ намъ въ признаніи этихъ преимуществъ, которыя мы легко можемъ пре-
увеличивать. Но я ограничиваюсь единственно тѣмъ положеніемъ, что въ Англіи до-
лѣе, чѣмъ въ какомъ-либо изъ европейскихъ государствъ, правительство оставалось
совершенно спокойнымъ, между тѣмъ какъ народъ былъ въ высшей степени дѣяте-
ленъ; въ Англіи свобода націи установилась на самомъ/широкомъ основаніи: тамъ
каждый человѣкъ имѣетъ полную возможность говорить/ что думаетъ, и дѣлать, что
хочетъ; всякій слѣдуетъ своему образу мыслей и открыто распространяетъ свои мнѣ-
нія; такъ какъ въ Англіи почти не знаютъ преслѣдованій за религію, то въ этой
странѣ можно ясно видѣть развитіе человѣческаго ума, не стѣсненное тѣми прегра-
дами, которыя ограничиваютъ его въ другихъ странахъ. Въ этой странѣ открытое
исповѣданіе ереси наименѣе опасно, и отступленіе отъ господствующей церкви наи-
болѣе обыкновенно; убѣжденія, враждебныя одно другому, процвѣтаютъ рядомъ и
возникаютъ и падаютъ безпрепятственно, согласно съ потребностями народа, не под-
чиняясь желаніямъ церкви и не подвергаясь контролю государственной власти; всѣ
интересы и всѣ классы, какъ духовные, такъ и свѣтскіе, тамъ болѣе, чѣмъ гдѣ-либо,
предоставлены самимъ себѣ; тамъ впервые подверглось нападеніямъ ученіе о вмѣ-
шательствѣ, называемомъ покровительственной системой; тамъ только и была уни-
чтожена эта система,—однимъ словомъ, въ одной Англіи умѣли избѣгнуть тѣхъ опас-
ныхъ крайностей, до которыхъ доводитъ вмѣшательство, вслѣдствіе чего и деспотизмъ,
и возстанія тамъ одинаково рѣдки; а такъ какъ при томъ признана основаніемъ политики
система уступокъ, то ходъ народнаго прогресса въ Англіи наименѣе былъ нарушаемъ
могуществомъ привилегированныхъ сословій, вліяніемъ особыхъ сектъ или насиль-
ственными дѣйствіями самовластныхъ правителей.
Что таковы характеристическія черты исторіи Англіи—это не подлежитъ сомнѣ-
нію; для нѣкоторыхъ это составляетъ источникъ похвальбы, а для другихъ—сожалѣ-
нія. Если же къ этимъ обстоятельствамъ присовокупить то, что Англія, по своему
положенію, отдѣльному отъ материка *), до половины прошлаго вѣка была рѣдко по-
сѣщаема иностранцами, то становится очевиднымъ, что мы въ ходѣ нашего народ-
наго прогресса менѣе всѣхъ другихъ націй подвергались дѣйствію двухъ главныхъ
х) Кольриждъ говоритъ весьма, справедливо: «изъ
многихъ преимуществъ, происходившихъ отъ положе-
нія нашего отечества на острову, главное есть то,
что наши общественныя учрежденія сложились по на-
шимъ собственнымъ нуждамъ и интересамъ». Поли-
тическія послѣдствія этого обстоятельства обращали
на себя вниманіе многихъ во время Французской
Революціи.
96
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
элементовъ постояннаго вмѣшательства, именно: власти правительства и вліянія чу-
жестранцевъ. Въ шестнадцатомъ вѣкѣ вошло въ моду между англійской аристокра-
тіей путешествовать въ чужихъ краяхъ х), но у аристократовъ другихъ странъ во-
все не было обыкновленія посѣщать Англію. Въ семнадцатомъ столѣтіи обычай путе-
шествовать для удовольствія такъ распространился въ Англіи, что между людьми до-
статочными и праздными было весьма мало такихъ, которые хотя бы разъ въ своей
жизни не переплыли каналъ; между тѣмъ какъ въ другихъ странахъ липа того же
класса, частью потому, что они были не такъ богаты, частью по укоренившемуся не-
расположенію къ морскимъ путешествіямъ, никогда почти не заглядывали на нашъ
островъ, если только не были принуждаемы къ тому какимъ-нибудь особеннымъ дѣ-
ломъ. Такимъ образомъ мы видимъ, что въ другихъ странахъ, въ особенности во Фран-
ціи и въ Италіи, жители большихъ городовъ понемногу привыкли къ иностранцамъ
и, какъ всѣ люди, незамѣтно подчинились вліянію того, чтЬ они видѣли. Напротивъ,
между нашими городами было много такихъ, гдѣ никогда не бывала нога иностранца;
даже жители столицы могли дожить до старости, не видавши никогда ни одного ино-
странца, за исключеніемъ развѣ-какого нибудь скучнаго и чопорнаго посланника,
совершающаго прогулку по берегамъ Темзы. Хотя очень часто говорятъ, что послѣ
реставраціи Карла II нашъ національный характеръ подвергся сильному вліянію
французскихъ нравовъ, но это, какъ я могу вполнѣ доказать, ограничилось той ма-
лочисленной и ничтожной частью общества, которая прилѣплялась ко двору, и не
имѣло никакого замѣтнаго вліянія на два важнѣйшіе класса: умственно-трудящійся
и промышленный. Это вліяніе можетъ быть замѣчено только въ самыхъ ничтожныхъ
явленіяхъ нашей литературы—въ безстыдныхъ произведеніяхъ такихъ авторовъ, какъ
Букингама, Дорсета, ЭтереДзра Кидигрью, Мюльгрева Рочестера и Седли. Но ни тогда,
ни въ позднѣйшее время никто изъ нашихъ великихъ мыслителей не подчинился
вліянію французскаго духа * 2); напротивъ того, мы находимъ въ ихъ идеяхъ и даже
въ ихъ слогѣ какую-то грубую самородную силу, которая хотя и кажется оскорби-
тельной нашимъ болѣе утонченнымъ сосѣдямъ, но имѣетъ по крайней мѣрѣ то пре-
имущество, что составляетъ естественное произведеніе нашего отечества 3). Какъ
родилась и какъ далеко простиралась образовавшаяся впослѣдствіи связь между ан-
глійскимъ и французскимъ умами, это составляетъ вопросъ огромной важности, ко-
торый однако, подобно большинству другихъ дѣйствительно важныхъ предметовъ,
оставленъ безъ вниманія историками. Въ настоящемъ сочиненіи я постараюсь вос-
полнить этотъ недостатокъ, а между тѣмъ не могу не замѣтить, что, хотя мы и прежде
были и до сихъ поръ много обязаны французамъ за сдѣланные нами успѣхи относи-
тельно утонченности вкуса, манеръ и вообще всѣхъ пріятныхъ сторонъ жизни, мы
Въ другомъ мѣстѣ этого сочввевія я соберу
доказательства быстраго возрастанія любви къ путе-
шествіямъ и въ шестнадцатомъ столѣтіи, но здѣсь за-
мѣчу то любопытное обстоятельство, что во второй
половинѣ этого вѣка завелось обыкновеніе опредѣлять
къ молодымъ людямъ особыхъ наставниковъ для пу-
тешествія.
2) Единственный геніальный человѣкъ между
англичанами этого времени, находящійся подъ влія-
ніемъ французскаго духа, это Драйденъ; но это глав-
нымъ образомъ замѣтно въ его драматическихъ про-
изведеніяхъ, которыя теперь всѣ по справедливости
забыты. Его истинно великія творенія, въ особен-
ности дивныя сатиры, въ которыхъ опъ превосхо-
дитъ всѣхъ своихъ соперниковъ, кромѣ Ювенала,
вполнѣ національны, и какъ образцы англійскаго
языка, должны, если я смѣю выразить мое сужде-
ніе,—быть поставлены непосредственно за Шекспи-
ромъ. Въ сочиненіяхъ Драйдена безъ сомнѣнія много
галлицизмовъ въ языкѣ, но весьма мало галлициз-
мовъ въ мысляхъ, а по впмъ-то п слѣдуетъ опре-
дѣлять дѣйствительную силу иностраннаго вліянія.
3) Другое обстоятельство, послужившее къ под-
держанію независимости и, слѣдовательно, увеличенію
достоинства нвшей литературы, заключалось въ томъ,
что пи въ какомъ великомъ государствѣ литераторы
не были такъ мало связаны съ правительствомъ пли
поощряемы имъ, какъ у пасъ Это есть лучшій образъ
дѣйствія: покровительствовать литературѣ значитъ вре-
дить ой; для доказательства такого вывода я долженъ
сослаться на гл. IX этого тома, гдѣ я говорю о си-
стемѣ Людовика XIV. Между тѣмъ я здѣсь приведу
слова одного весьма ученаго и—чтб гораздо лучше-
весьма глубокомысленнаго писателя: <тотъ, кто хочетъ
попять англійскія учрежденія, не долженъ упускать
изъ виду характеръ тѣхъ безсмертныхъ произведеніи,
которыя были созданы самобытной энергіей англій-
скаго ума. Литературѣ было предоставлено разви-
ваться своими средствами. Вильгельмъ Оранскій былъ
совершенно чуждъ ея; Апіа объ пей и не думала;
Георгъ І-й совсѣмъ не зналъ по-англійски и П-й зналъ
не много болѣе его».
О ВЛІЯНІИ РЕЛИГІИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА.
97
все-таки не заимствовали отъ нихъ ничего истинно важнаго, ничего такого, чтб на-
всегда измѣняетъ судьбы націи. Съ другой стороны, французы кромѣ того, что за-
имствовали отъ пасъ нѣкоторыя весьма важныя государственныя учрежденія, обязаны
также не въ малой мѣрѣ нашему вліянію самымъ важнымъ событіемъ своей исторіи.
Всѣмъ извѣстно, что революція 1789 года произведена или, лучше сказать, главнѣй-
шимъ образомъ вызвана нѣсколькими великими людьми, которыхъ сочиненія, а по-
томъ и рѣчи возбудили народъ къ сопротивленію; нѣсколько менѣе извѣстно, но во
всякомъ случаѣ справедливо, что эти великіе вожди народа научились въ Англіи той
философіи и тѣмъ началамъ, которыя, будучи перенесены въ ихъ отечество, произ-
вели такія страшныя, но тѣмъ не менѣе благодѣтельныя послѣдствія. (Доказательства
такого вліянія Англіи см. въ главѣ XII этого тома).
Никто, надѣюсь, не подумаетъ, чтобы я намѣренъ былъ бросить какую-нибудь
'тѣнь на французовъ,—народъ великій и достойный удивленія,—народъ, во многихъ
отношеніяхъ стоящій выше насъ,—народъ, отъ котораго мы еще многому должны
поучиться и недостатки котораго, каковы бы они ни были, происходятъ отъ постоян-
наго вмѣшательства въ его развитіе длиннаго ряда самовластныхъ правителей. Но,
смотря на это дѣло исторически, нельзя не признать несомнѣнной истиной, что мы
выработали нашу цивилизацію_съ весьма малой помощью отъ нихъ, тогда какъ они
выработали свою съ весьма значительнымъ съ нашей стороны содѣйствіемъ. Въ то же
время должно согласиться и съ тѣмъ, что наше правительство гораздо меньше вмѣ-
шивалось въ наше развитіе, чѣмъ правительство Франціи въ развитіе французскаго
народа. Итакъ, нисколько не предрѣшая вопроса о томъ^ которое изъ двухъ госу-
дарствъ значительнѣе, а руководствуясь только приведенными выше соображеніями,
я считаю нашу исторію важнѣе ихъ исторіи и избирало для соціальнаго изученія
успѣхи англійской цивилизаціи единственно потому, что она менѣе подверглась дѣй-
ствію вліяній, не изъ нея самой происходившихъ, и, слѣдовательно, въ ней можно
яснѣе разсмотрѣть естественный ходъ развитія общества и ничѣмъ не нарушаемое
дѣйствіе тѣхъ великихъ законовъ, которыми окончательно опредѣляются судьбы че-
ловѣчества.
Послѣ этого сравненія англійской исторіи съ французской едва-ли нужно раз-
сматривать тѣ соображенія, которыя могутъ быть высказаны въ пользу исторіи дру-
гихъ странъ. Дѣйствительно, существуютъ только двѣ страны, въ пользу которыхъ
можно было бы что-нибудь сказать, ~ я разумѣю Германію, принимаемую за одно
цѣлое, и Соединенные Штаты Сѣверной Америки. Что касается до Германіи, то не-
сомнѣнно справедливо, что съ половины восемнадцатаго вѣка она произвела больше
глубокихъ мыслителей, чѣмъ какая-либо другая страна, даже можно было бы сказать—
чѣмъ всѣ другія страны, взятыя вмѣстѣ. Но возраженія, примѣняющіяся къ француз-
ской націи, еще съ большей справедливостью примѣняются къ нѣмцамъ, потому что
принципъ покровительства и прежде имѣлъ, и до сихъ поръ имѣетъ въ Германіи
еще большую силу, чѣмъ во Франціи. Даже лучшія изъ германскихъ правительствъ
постоянно держатъ народъ въ опекѣ, никогда не предоставляя его самому себѣ, слѣдя
постоянно за его интересами и вмѣшиваясь въ самыя обыкновенныя дѣла его еже-
дневной жизни. Сверхъ того нѣмецкая литература, хотя она въ настоящее время и
первая въ Европѣ, одолжена своимъ происхожденіемъ тому великому скептическому
движенію, которое предшествовало революціи во Франціи. До половины восемнадцатаго
вѣка, несмотря на нѣсколько знаменитыхъ именъ, каковы имена Кеплера и Лейбница,
у нѣмцевъ не было литературы, имѣющей дѣйствительную цѣнность; первый толчокъ,
который они получили, произошелъ отъ ихъ встрѣчи съ французскимъ умомъ и отъ
вліянія тѣхъ знаменитыхъ французовъ, которые въ царствованіе Фридриха Великаго
стеклись въ Берлинѣ,—городѣ, бывшемъ съ тѣхъ поръ постоянно главной квартирой
философіи и науки. Отъ этого произошло нѣсколько весьма важныхъ обстоятельствъ,
которыхъ я здѣсь могу только вкратцѣ коснуться. Германскій умъ, внезапно воз-
бужденный къ жизни умомъ французскимъ, развился весьма неправильно и проявилъ
Бокль.—Иад. Ф. Павленкова.
7
98 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
бблыпую дѣятельность, чѣмъ того требовала общая цивилизація страны. Вотъ почему
во всей Европѣ нѣтъ ни одной націи, въ которой бы существовало такое огромное
разстояніе между умами высшаго и низшаго развитія. Нѣмецкіе философы облада-
ютъ такою суммою знанія и такою широтою мысли, которыя ставятъ ихъ во главѣ
всего цивилизованнаго міра. Напротивъ того, нѣмецкій народъ болѣе суевѣренъ,
болѣе подчиненъ предразсудкамъ и, несмотря на заботу правительствъ о воспитаніи
его, болѣе невѣжественъ и менѣе способенъ къ самоуправленію, чѣмъ населеніе
Франціи и Англіи. Это разграниченіе и даже разъединеніе двухъ классовъ соста-
вляетъ единственное послѣдствіе того искусственнаго возбужденія, которое сто лѣтъ
тому назадъ было произведено въ одномъ изъ нихъ и которое такимъ образомъ на-
рушило нормальныя отношенія общества. Вслѣдствіе этого явленія высшіе умы въ
Германіи настолько опредѣлили общее движеніе націи, что между двумя частями ея
нѣтъ никакого сочувствія, и въ настоящее время нѣтъ никакихъ средствъ, которыя
бы могли привести ихъ въ соприкосновеніе. Великіе писатели Германіи обращаются
не ко всей странѣ, но другъ къ другу. Они увѣрены въ томъ, что будутъ имѣть
избранную, ученую аудиторію, и потому употребляютъ языкъ, который по справедли-
вости можно назвать ученымъ: они обращаютъ свой природный языкъ въ особый
діалектъ, дѣйствительно краснорѣчивый и сильный, но такой трудный, такой гибкій
и до такой степени наполненный сложными инверсіями, что низшимъ классамъ ихъ
же націи онъ совершенно непонятенъ х).
Отъ этого произошли нѣкоторыя изъ самыхъ замѣчательныхъ особенностей нѣ-
мецкой литературы. Не имѣя обыкновенныхъ читателей,/она ограждена отъ вліянія
обыкновенныхъ предразсудковъ; вотъ почему она обнаружила смѣлость въ изыска-
ніяхъ, неустрашимость въ ііреслѣдованіи истины и пренебреженіе къ мнѣніямъ ста-
рины,—качества, дающія ей права на величайшую похвалу. Но съ другой стороны
отъ этого же обстоятельства произошло то отсутствіе практическаго знанія и то рав-
нодушіе къ матеріальнымъ, житейскимъ интересамъ, за которыя справедливо пори-
цаютъ нѣмецкую литературу. Это естественнымъ образомъ еще болѣе расширило
первоначальный разрывъ и увеличило разстояніе, отдѣляющее великихъ германскихъ
мыслителей отъ того тупого, погруженнаго въ матеріальные расчеты класса, кото-
рый хотя и стоитъ непосредственно подъ мыслителями, но не подвергается вліянію
ихъ знаній и не согрѣвается пламенемъ ихъ генія.
Съ другой стороны въ Америкѣ мы видимъ цивилизацію, представляющую
прямо противоположныя явленія. Мы видимъ тамъ страну, о которой справедливо было
сказано Токвилемъ, что въ ней менѣе, чѣмъ въ какой-либо другой странѣ, и людей
очень ученыхъ, и людей очень невѣжественныхъ. Въ Германіи сословіе мыслящее
и сословіе практически дѣйствующее совершенно разъединены,-—въ Америкѣ они
совершенно слиты во-едино. Въ Германіи почти всякій годъ приводитъ за собою
*) Это весьма хорошо объяснилъ Лепгъ, безъ
сомнѣнія самый даровитый изъ путешественниковъ,
издававшихъ когда-либо свои замѣчанія о европей-
скомъ обществѣ: < Нѣмецкіе писатели, какъ философы,
такъ и поэты, обращаются къ публикѣ несравненно
болѣе развитой и выше образованной, чѣмъ наша
читающая публика... Въ нашей литературѣ самые
темные и неудобопонимаемые изъ метафизическихъ
пли философскихъ писателей предполагаютъ въ пуб-
ликѣ гораздо низшую степень развитія—только знаніе
значенія словъ и непосредственную способность мышле-
нія. Слѣдовательно, соціальное зпачепіѳ нѣмецкой
литературы ограничивается болѣе тѣснымъ кругомъ.
Она не имѣетъ вліянія на умы людей, дѣйствующихъ
въ низшихъ или даже въ среднихъ сферахъ практиче-
ской жизни,—людей, которымъ не достаетъ времени,
чтобы возвысить свои умственныя способности до
уровня великихъ писателей ихъ націи. Читающая
публика должна посвятить много времени на пріобрѣ-
теніе знаній, склада чувствъ и настроенности вообра-
женія, нужныхъ къ тому, чтобы слѣдить за сосло-
віемъ пишущихъ. Вслѣдствіе того изслѣдователь со-
ціальной экономій находитъ въ Германіи, ниже извѣст-
наго уровня, самую невѣроятную тупость, застой
ума и невѣжество, а на этомъ уровнѣ и выше его—
самоо необыкновенное развитіе ума, ученость и даже
геніальность. Эти два класса говорятъ и мыслятъ на
различныхъ языкахъ. Обработанный нѣмецкій языкъ,
языкъ нѣмецкой литературы, не есть языкъ простого
человѣка, пи даже человѣка, довольно высоко стоя-
щаго въ среднемъ классѣ общества — фермера, тор-
говца, лавочпика>. Странно, ѵчто такому ясно смотря-
щему и энергическому мыслителю, какимъ очевидно
оказывается Ленгъ, не удалось открыть причину этого
замѣчательнаго явленія.
О ВЛІЯНІИ РЕЛИГІИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА. 99
новыя открытія, новыя системы философіи, новыя средства къ расширенію предѣ-
ловъ человѣческаго знанія; въ Америкѣ подобныя изысканія находятся почти въ
совершенномъ пренебреженіи: со временъ Іонаоана Эдвардса не явилось ни одного
великаго метафизика; на естественныя науки также обращено весьма мало вниманія
и, за исключеніемъ одной только юриспруденціи х), едва-ли что-нибудь было сдѣлано
ло всѣмъ тѣмъ обширнымъ отраслямъ наукъ, для которыхъ нѣмцы безпрерывно ра-
ботаютъ. Вся сумма знаній въ Америкѣ не велика, но она распредѣлена между всѣми
классами общества; сумма германскаго знанія огромна, но распредѣленіе ея ограни-
чивается однимъ сословіемъ. Какая изъ двухъ формъ цивилизаціи должна имѣть пре-
имущество—это вопросъ, который намъ здѣсь не мѣсто разрѣшать. Для настоящей
цѣли нашей достаточно будетъ сказать, что въ Германіи чувствуется серьезный не-
достатокъ въ распространеніи, а въ Америкѣ не менѣе серьезный недостатокъ въ
накопленіи знанія. А такъ какъ ходъ цивилизаціи опредѣляется накопленіемъ и рас-
пространеніемъ знанія, то очевидно, что никакая страна не можетъ даже приблизи-
тельно считаться совершеннымъ образцомъ въ этомъ отношеніи, если, удовлетворяя
одному изъ указанныхъ условій до избытка, она другому не удовлетворяетъ вовсе.
Дѣйствительно^ вслѣдствіе этого недостатка равновѣсія между двумя элементами ци-
вилизаціи Германія и Америка страдаютъ отъ двухъ одинаково важныхъ, но противо-
положныхъ болѣзней, и можно опасаться, что не легко излечатся отъ нихъ, а между
тѣмъ до совершеннаго отстраненія этихъ золъ прогрессъ обѣихъ странъ непремѣнно
будетъ замедляться, несмотря на временныя преимущества, достигаемыя на первое
время такой односторонней энергіей.
Я здѣсь весьма коротко, но, надѣюсь, довольно .справедливо и уже конечно
безъ всякаго сознательнаго съ моей стороны пристрастія, старался опредѣлить отно-
сительное значеніе исторіи четырехъ передовыхъ націй міра. Что же касается до
дѣйствительнаго величія каждой изъ нихъ, то я но высказываю никакого мнѣнія,
потому что каждая считаетъ себя первою. Но изъ всего изложеннаго (доколѣ кто-
нибудь не опровергнетъ приведенныхъ мною фактовъ) неоспоримо слѣдуетъ, что
исторія Англіи имѣетъ для философа большее значеніе, чѣмъ всякая другая, потому
что онъ можетъ въ ней яснѣе,, чѣмъ гдѣ-либо, видѣть накопленіе и распростране-
ніе знанія идущими рука объ руку, видѣть, что знаніе это менѣе подвергалось влія-
нію иноземныхъ и внѣшнихъ дѣятелей, н что въ него менѣе вмѣшивались, въ пользу
или ко вреду, тѣ могущественные, но часто несвѣдущіе люди, которымъ ввѣряется
управленіе общественными дѣлами.
Именно на основаніи этихъ соображеній, а вовсе не по тѣмъ побужденіямъ,
которыя обыкновенно величаютъ именемъ патріотическихъ,—я рѣшился писать исторію
моего отечества, предпочтительно передъ всякою другою страною, и писать ее съ
такою полнотою, съ такою всесторонностью, какая только возможна при нынѣ имѣю-
щихся матеріалахъ. Но такъ какъ, вслѣдствіе указанныхъ мною обстоятельствъ, не-
возможно открыть закопы общества, изучая исторію одной только націи, то я набро-
салъ это введеніе съ цѣлью устранить нѣкоторыя изч> трудностей, сопровождающихъ
изученіе этого важнаго предмета. Въ первыхъ главахъ я пытался съ точностью обо-
значить предѣлы изучаемаго мною предмета, принимая его за одно цѣлое, и уста-
Причины этого исключенія я постараюсь очер-
тить въ слѣдующемъ томѣ; но любопытно замѣтить,
что еще въ 1775 году Беркъ былъ пораженъ при-
страстіемъ американцевъ къ юридическимъ сочине-
ніямъ. Онъ говоритъ: «можетъ быть ни въ какой
странѣ въ цѣломъ мірѣ право не составляетъ пред-
мета такого общаго изученія. Самое сословіе юри-
стовъ многочисленно и могущественно: въ большей
части областей оно стоитъ во главѣ общества. Боль-
шая часть депутатовъ, посланныхъ на конгрессъ,
были адвокаты. Но и всѣ, безъ исключенія, что-
нпбудь читающіе—а читаетъ тамъ большая часть
людей — стараются пріобрѣсти какое-нибудь понятіе
о наукѣ права. Мнѣ сказалъ одинъ изъ первыхъ
книгопродавцевъ, что ни по какой изъ отраслей его
запятія. кромЬ религіозныхъ трактатовъ для народа,
не вывозится столько книгъ въ плантаціи, какъ по
части юридической. Колонисты теперь приняли обык-
новеніе перепечатывать ихъ для своего употребленія.
Я слышалъ, что въ Америкѣ продано столько же
экземпляровъ «Блакстоновыхъ Комментаріевъ >, какъ
въ Англіи».
7*
100
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
новить для него возможно широкое основаніе. Въ этихъ видахъ, разсматривая ци-
вилизацію, я дѣлилъ ее на двѣ главныхъ части: европейскую, въ которой человѣкъ
оказывается сильнѣе, чѣмъ природа, и неевропейскую, въ которой природа сильнѣе
человѣка. Это привело насъ къ тому выводу, что національный прогрессъ, соеди-
ненный съ свободою народа, не могъ явиться ни въ какой части свѣта, кромѣ Европы,
гдѣ, слѣдовательно, и должно изучать развитіе истинной цивилизаціи и исторію по-
бѣдъ, одержанныхъ умомъ человѣческимъ надъ силами природы. Затѣмъ, признавъ
за основаніе европейской исторіи перевѣсъ законовъ духа надъ законами физиче-
скаго міра, мы раздѣлили законы духа на умственные и нравственные, и доказали,
что первые имѣли преимущественное вліяніе на ускореніе развитія человѣка. Эти
обобщенія мнѣ кажутся существенно необходимымъ вступленіемъ въ исторію, какъ
науку, а для того, чтобы связать ихъ съ спеціальной исторіей Англіи, намъ остается
теперь только привести въ извѣстность основное условій умственнаго развитія, ибо
безъ этого лѣтописи каждаго народа могутъ представлять для насъ только эмпири-
ческую послѣдовательность событій, соединенныхъ слабыми, случайными связями,
какія придумывали для нихъ разные писатели, каждый по своимъ убѣжденіямъ. По-
этому остальная часть нашего введенія будетъ главнымъ образомъ посвящена допол-
ненію начертаннаго мною плана изслѣдованіемъ исторіи разныхъ странъ относи-
тельно тѣхъ умственныхъ особенностей, которыя но достаточно высказываются въ
исторіи нашего отечества. Такъ, напримѣръ, въ Германіи накопленіе знаній про-
исходило быстрѣе, чѣмъ въ Англіи; на этомъ основаніи, законы накопленія знаній
могутъ быть всего удобнѣе изучены въ исторіи Германіи и7 затѣмъ дедуктивно при-
ложены къ исторіи Англіи. Точно также, зная, что американцы распространили свое
знаніе гораздо болѣе, чѣмъ мы, я намѣренъ объяснить нѣкоторыя изъ явленій англій-
ской цивилизаціи тѣми законами распространенія знаній, дѣйствіе которыхъ яснѣе
видно въ американской цивилизаціи и которые, слѣдовательно, могутъ быть въ ней
легче открыты. Далѣе, такъ какъ самая цивилизованная изъ всѣхъ странъ, въ ко-
торыхъ имѣетъ особенную силу духъ покровительства, есть Франція, то для раскрытія
тайныхъ стремленій этого духа въ нашемъ отечествѣ намъ стоитъ только изучить
явныя стремленія его у нашихъ сосѣдей. Въ этихъ видахъ я сдѣлаю очеркъ исторіи
Франціи, въ которомъ постараюсь выяснить самый принципъ покровительства, по-
казавъ вредъ, причиненный имъ весьма даровитому и просвѣщенному народу. Ана-
лизируя же французскую революцію, я покажу, что это великое событіе было не что
иное, какъ реакція противъ духа покровительства; а такъ какъ матеріалы для реакціи
были заимствованы изъ Англіи, то мы также увидимъ въ этомъ явленіи, какимъ обра-
зомъ умъ одной страны дѣйствуетъ на умъ другой, и дойдемъ до нѣкоторыхъ выво-
довъ относительно того обмѣна идей, который легко можетъ сдѣлаться самымъ глав-
нымъ двигателемъ во всѣхъ дѣлахъ Европы. Это прольетъ значительный свѣтъ на
законы международнаго мышленія. Въ связи съ этимъ изслѣдованіемъ, двѣ особыя
главы будутъ посвящены исторіи духа покровительства и разсмотрѣнію относительной
силы его во Франціи и въ Англіи. Но французы, какъ нація, были съ начала или
съ половины семнадцатаго вѣка замѣчательно свободны отъ суевѣрія, и не взирая
на усилія ихъ правительства, весьма не расположены къ власти духовенства, такъ
что въ ихъ исторіи покровительственное начало, высказывающееся ясно въ его
политической формѣ, представляетъ весьма мало проявленій въ формѣ религіозной.
Эта послѣдняя форма его также мало замѣтна и въ нашей исторіи. Вслѣдствіе того
я намѣренъ обозрѣть также исторію Испаніи, въ которой мы можемъ вполнѣ про-
слѣдить результаты того покровительства противъ заблужденій, которое духовное
сословіе всегда готово оказать націи. Въ Испаніи церковь съ весьма давняго вре-
мени пользовалась большимъ авторитетомъ, и духовенство имѣло болѣе вліянія на
народъ и на правительство, чѣмъ въ какой-либо другой странѣ, поэтому намъ бу-
детъ весьма удобно изучать въ Испаніи развитіе могущества духовенства и его
вліяніе на интересы націи. Другое обстоятельство, имѣющее вліяніе на умствен-
О ВЛІЯНІИ РЕЛИГІИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА, 101
ный прогрессъ каждой націи, заключается въ томъ, какому методу слѣдуютъ обык-
новенно въ своихъ ученыхъ изысканіяхъ самые способные люди изъ среды ея.
Такихъ методовъ можетъ быть только два: индуктивный, либо дедуктивный. Каждый
изъ нихъ составляетъ принадлежность особой цивилизаціи и всегда сопровождается
особымъ складомъ мыслей, преимущественно въ предметахъ религіи и науки. Эти
различія имѣютъ такую огромную важность, что, пока ихъ законы не приведены въ
извѣстность, нельзя сказать, что мы дѣйствительно понимаемъ исторію прошедшихъ
событій. Двѣ крайности этого различія, безъ сомнѣнія, представляютъ Германія и
Соединенные Штаты, такъ какъ нѣмцы преимущественно склонны къ дедукціи, а
американцы—къ индукціи. Но Германія и Америка уже въ столькихъ другихъ отно-
шеніяхъ діаметрально противоположны другъ другу, что я счелъ удобнѣйшимъ изучать
дѣйствіе дедуктивнаго духа и духа индуктивнаго въ странахъ, между которыми су-
ществуетъ болѣе аналогіи; такъ какъ чѣмъ болѣе сходства между двумя націями,
тѣмъ легче можемъ мы открыть послѣдствія каждаго отдѣльнаго уклоненія отъ сходства
и тѣмъ виднѣе становятся законы этого уклоненія. Такой случай представляетъ намъ
исторія Шотландіи, сравниваемая съ исторіей Англіи. Мы видимъ въ этомъ случаѣ
два сосѣдніе народа, которые говорятъ однимъ и тѣмъ же языкомъ, пользуются одною
и тою же литературой и связаны одними и тѣми же интересами. Тѣмъ не менѣе
справедливо, — на это повидимому никто не обращалъ вниманія, но я докажу это
во всей подробности, — что до послѣднихъ тридцати или сорока лѣтъ шотландскій
умъ. въ противоположность англійскому, былъ дедуктивенъ и дальше въ большей мѣрѣ,
чѣмъ этотъ послѣдній былъ индуктивенъ. Склонность англійскаго ума къ 'индукціи
и дочти суевѣрное благоговѣніе, съ которымъ мы хранимъ это свойство, были съ
сожалѣніемъ замѣчены немнЬрими, и^даже весьма немногими изъ нашихъ способ-
нѣйшихъ людей х). Съ другой стороны, въ Шотландіи,.особенно въ теченіе XVIII сто-
лѣтія, великіе мыслители, почти безтГисключенія,' у потребляли методъ дедуктивный.
Главное же свойство дедукціи въ примѣненіи къ отраслямъ знанія, еще не довольно
созрѣвшимъ для нея, состоитъ въ томъ, что она увеличиваетъ число гипотезъ, отъ
которыхъ мы ведемъ рядъ умозаключеній къ низу, и подрываетъ довѣріе къ мед-
ленному и терпѣливому восхожденію, какое свойственно индуктивному методу. Это
стремленіе уловить истину посредствомъ умозрительныхъ и какъ бы впередъ сдѣ-
ланныхъ заключеній часто открывало путь къ великимъ изобрѣтеніямъ; и ни одинъ
свѣдущій человѣкъ не станетъ отрицать огромной важности подобнаго рода стрем-
ленія. Но когда это направленіе дѣлается всеобщимъ, тогда угрожаетъ опасность,
чтобы не пренебрегали наблюденіемъ чисто эмпирическихъ однообразій и чтобы мы-
слящіе люди не получили отвращенія къ тѣмъ мелкимъ и ближайшимъ обобщеніямъ,
которыя по требованіямъ индуктивнаго метода непремѣнно должны предшествовать
обобщеніямъ болѣе обширнымъ и возвышепнымъ. Какъ только является подобное
отвращеніе, то происходитъ серьезное зло. Эти низшія обобщенія составляютъ ней-
тральную почву, общее владѣніе умовъ созерцательныхъ и умовъ практическихъ,—
пространство, на которомъ они встрѣчаются. Когда нѣтъ такого пространства, то и
встрѣча невозможна. Въ такомъ случаѣ въ ученыхъ классахъ замѣчается неоснова-
тельное презрѣніе къ выводамъ, сдѣланнымъ простымъ народомъ изъ опыта,—выво-
дамъ, законы которыхъ кажутся необъяснимыми; между тѣмъ какъ съ другой сто-
роны въ практическихъ классахъ является пренебреженіе къ обширнымъ и блестя-
щимъ умозрѣніямъ, которыхъ промежуточныя, предварительныя ступени для нихъ
невидимы. Послѣдствія такого порядка вещей въ Шотландіи въ высокой степени
любопытны и во многихъ отношеніяхъ сходны съ явленіями, которыя мы усматри-
Особенно Кольриджемъ и Джономъ Миллемъ.
Но при всемъ моемъ раженіи къ глубоко обдуман-
ному сочиненію Стюарта Милля о логикѣ, я долженъ
ір&тц что онъ приписалъ Бэкону слишкомъ много
вліянія на возбужденіе индуктивнаго духа и отнесъ
сго слишкомъ мало на долю тѣхъ обстоятельствъ,
которымъ Бэконова философія обязана была своимъ
успѣхомъ.
102
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
наемъ въ Германіи, такъ какъ въ обѣихъ этихъ странахъ образованные классы съ
давняго времени отличались смѣлостью воззрѣній и свободой отъ предразсудковъ, а
масса народа въ такой же степени отличалась множествомъ суевѣрій и силою пред-
разсудковъ. Въ Шотландіи это еще поразительнѣе, чѣмъ въ Германіи, потому что
шотландцы, благодаря причинамъ, которыя мало были изучаемы, бываютъ въ прак-
тическихъ вопросахъ не только трудолюбивы и предусмотрительны, но даже не-
обыкновенно смѣтливы. Но въ высшихъ сферахъ жизни это качество не послужило
имъ ни къ чему; конечно нѣтъ страны, которая бы обладала болѣе оригинальной,
пытливой и прогрессивной литературой, чѣмъ Шотландія, и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣтъ
страны, равно образованной, гдѣ бы сохранился до такой степени духъ среднихъ
вѣковъ, гдѣ бы до сихъ поръ вѣрили столькимъ нелѣпостямъ и гдѣ бы такъ легко
можно было возбудить къ дѣятельности старыя чувства религіозной нетерпимости.
Разобщеніе и даже вражда, установившаяся такимъ образомъ между практи-
ческими классами и классами, преданными умственнымъ занятіямъ, есть самый важ-
ный фактъ въ исторіи Шотландіи и составляетъ отчасти причину, отчасти послѣд-
ствіе преобладанія дедуктивнаго метода. Нисходящая схема, въ противоположность
схемѣ восходящей или индуктивной, пренебрегаетъ низшими обобщеніями,—един-
ственными, которыя понятны обоимъ классамъ и возбуждаютъ ихъ взаимное сочув-
ствіе. Индуктивный методъ, которому Бэконъ доставилъ популярность,—выдвинулъ
на видное мѣсто эти низшія или ближайшія истины; и хотя вслѣдствіе того мыслящіе
классы Англіи принимали часто направленіе уже слишкомъ утилитарное, но это по
крайней мѣрѣ спасало ихъ отъ состоянія отчужденности/ въ которомъ безъ этого
они непремѣнно бы остались. Но въ Шотландіи отчуждённость была почти совер-
шенная, потому что дедуктивный методъ былъ почти всеобщій. Полныя доказатель-
ства вышеозначеннаго будутъ собраны въ слѣдующемъ томѣ; но, не желая оставить
этотъ предметъ вовсе безъ поясненія примѣромъ, я разберу вкратцѣ за время трехъ
послѣднихъ поколѣній тѣ явленія, въ которыхъ шотландская литература достигла
высшаго своего совершенства.
Въ теченіе этого періода, обнимающаго почти столѣтіе, сказанное направленіе
обозначилось такъ рѣзко, что опо составляетъ поразительное явленіе въ исторіи че-
ловѣческаго ума. Первымъ важнымъ признакомъ его явилось движеніе, которое было
начато Симсономъ, профессоромъ университета въ Глазго, и продолжаемо Стюартомъ,
профессоромъ Эдинбургскаго университета. Эти. даровитые люди всячески старались
воскресить чистую греческую геометрію и унизить значеніе алгебраическаго или сим-
волическаго анализа. Отсюда родились у нихъ самихъ и ихъ учениковъ особенная
любовь къ самымъ утонченнымъ способамъ разрѣшенія задачъ и презрѣніе къ спо-
собамъ болѣе легкимъ, но менѣе изящнымъ, которыми мы обязаны алгебрѣ. Здѣсь
мы ясно усматриваемъ обособляющій, таинственный характеръ системы, которая, пре-
зирая все то, что легко могутъ усвоить себѣ и самые обыкновенные умы, предпо-
читаетъ восхожденію отъ осязательнаго къ идеальному переходъ отъ идеальнаго къ
осязательному. Въ ту же самую эпоху точно то же направленіе выражено было
въ другой отрасли изслѣдованія Гетчинсономъ, который хотя ирландецъ по проис-
хожденію, но былъ воспитанъ въ университетѣ въ Глазго, гдѣ былъ и профессоромъ.
Въ своихъ знаменитыхъ нравственныхъ и эстетическихъ изслѣдованіяхъ онъ замѣ-
нилъ индуктивное умозаключеніе отъ осязательныхъ фактовъ умозаключеніемъ де-
дуктивнымъ отъ неосязательныхъ принциповъ; при этомъ онъ оставлялъ безъ вни-
манія непосредственныя, практическія показанія чувствъ, въ полной увѣренности,
что, посредствомъ отвлеченнаго построенія вѣрныхъ законовъ, можно низойти до фак-
товъ, и что нѣтъ надобности восходить отъ фактовъ для узнанія законовъ. Его фи-
лософія имѣла огромное вліяніе на метафизиковъ, и его методъ мышленія по нисхо-
дящей цѣпи отъ абстрактнаго къ конкретному былъ усвоенъ еще болѣе великимъ
шотландцемъ, знаменитымъ Адамомъ Смитомъ. До какой степени Смитъ былъ при-
страстенъ къ дедуктивному образу изслѣдованія, видно изъ его «Теоріи нравственныхъ
О ВЛІЯНІИ РЕЛИГІИ. ЛИТЕРАТУРЫ П ПРАВИТЕЛЬСТВА. 103
чувствованій» («ТЬеогу оГ Могаі бепіітепіз»), а равно изъ его «Трактата о рѣчи» («Ез-
вау <т Ьап§на§е») и даже изъ его отрывка объ исторіи астрономіи, въ которомъ онъ,
основываясь на общихъ соображеніяхъ, предпринялъ доказать, какой долженъ быть
ходъ астрономическихъ открытій, вмѣсто того, чтобы предварительно узнать, какимъ
онъ былъ на самомъ дѣлѣ. Затѣмъ его «Богатство Народовъ» есть также сочине-
ніе совершенно дедуктивное, такъ какъ въ немъ Смитъ выводитъ общіе законы
богатства не изъ явленій богатства, не изъ статистическихъ данныхъ, а изъ явле-
ній эгоизма,—дѣлая такимъ образомъ дедуктивное примѣненіе одной категоріи
умственныхъ принциповъ къ цѣлой области экономическихъ фактовъ *). Поясни-
тельные примѣры, которыми изобилуетъ его большое сочиненіе, составляютъ части
самой его аргументаціи—они только слѣдуютъ за идеей; и еслибы всѣ они были
выпущены, то сочиненіе, потерявъ можетъ-быть извѣстную долю занимательности
и силы, осталось бы въ научномъ отношеніи одинаково цѣннымъ. Другой при-
мѣръ представляютъ сочиненія Юма, которыя всѣ, за исключеніемъ его метафизиче-
скихъ опытовъ, дедуктивны. Его глубокомысленныя экономическія изслѣдованія ока-
зываются въ сущности изслѣдованіями а ргіогі; ихъ можно было бы написать безъ
всякаго знакомства съ тѣми подробностями дѣла торговаго и финансоваго, изъ ко-
торыхъ они должны были бы, по требованію индуктивнаго метода, составлять общіе
выводы 2). Также и въ своей «Естественной Исторіи Религіи» онъ старался посред-
ствомъ простого размышленія, независимо отъ фактовъ, построить чисто умозритель-
ное изслѣдованіе о происхожденіи религіозныхъ убѣжденій 3). Точно такимъ же обра-
зомъ въ «Исторіи Англіи> вмѣсто того, чтобы сначала собрать факты, а потомъ дѣ-
лать изъ нихъ выводы, онъ прежде всего принялъ за данное, что отношенія между
народомъ и правительствомъ должны были слѣдовать тйкому-то порядку, и затѣмъ
факты, противорѣчившіе его предположенію, либо оставилъ въ сторонѣ, либо иска-
зилъ 4). Эти различные писатели, несмотря на несходство ихъ убѣжденій и предме-
товъ изученія, всѣ между собою" согласны относительно метода, то есть всѣ одина-
ково предпочитали въ дѣлѣ изслѣдованія истины нисхожденіе восхожденію. Огромное
*) Два писателя особенно тщательно занималось
изслѣдованіемъ того, какого метода должны придержи-
ваться политико-экономисты: Джонъ Милль н Рэ Ра
упрекаетъ Смита въ томъ, что онъ нарушилъ правила Бэ-
коновской философіи и тѣмъ самымъ лишилъ свои вы-
воды того достоинства, которое бы имъ непремѣнно сооб-
щилъ методъ индуктивный. Но Милль съ большой убѣ-
дительностью доказалъ, что только по дедуктивному
плаву политическая экономія можетъ быть возведена
на степень пауки. Онъ говорить, что политическая
экономія, «по существу своему,—наука отвлеченная,
и ея методъ есть методъ а ргіогі», и что методъ а
розіегіогі «вовсе не дѣйствителенъ». Къ этому я могу
присовокупить, что до новѣйшей теоріи ренты, кото-
рая теперь составляетъ краеугольный камень полити-
ческой экономіи, дошли не черезъ обобщеніе экономи-
ческихъ фактовъ, а посредствомъ цѣпи умозаключеній
къ низу, слѣдуя методу геометровъ. Дѣйствительно,
противники теоріи ренты всегда основываются па
томъ, что еі протаворѣчатъ факты, и въ полномъ
невѣдѣніи о философіи метода заключаютъ изъ этого,
что самая теорія невѣрна,
2) Въ послѣднее время сдѣлался извѣстнымъ
поразительный примѣръ той проницательности, кото-
рую Юмъ обнаруживалъ въ примѣненіи дедуктивнаго
метода. Онъ немедленно по прочтеніи «Богатства На-
родовъ» открылъ ошибку Смита, состоявшую въ при-
знаніи ренты элементомъ цѣпы; теперь обнаружи-
лось, что Юмъ первый сдѣлалъ это великое открытіе;
заслуга же Рикардо заключается въ томъ, что онъ
показалъ эту ошибку.
3) Историческіе факты, которые онъ вводить въ
свое сочиненіе,—не болѣе какъ пояснительные при-
мѣры: это усмотритъ всякій, кто прочтетъ «Есте-
ственную Исторію Религіи». Здѣсь я могу упомянуть,
что есть много сходства между воззрѣніями, прово-
димыми въ этомъ замѣчательномъ разсужденіи, и ре-
лигіозными ступенями Конта («Позитивная Философія»);
такъ какъ Юмова ранняя форма политеизма очевидно
тотъ же фетишизмъ Конта, откуда, по мнѣнію этихъ
писателей, впослѣдствіи возникъ монотеизмъ, какъ позд-
нѣйшее и болѣе утонченное отвлеченіе. Весьма правдо-
подобно, что умъ человѣческій шелъ именно такимъ
путемъ; то же подтверждается и учеными изысканіями
Грота.
4) Т. е. онъ обращался съ историческими фак-
тами только какъ съ простыми примѣрами, поясняю-
щими извѣстныя начала, которыя, по его мнѣнію,
могли быть доказаны безъ помощи фактовъ. Шлос-
серъ въ своей «Исторіи ХѴШ вѣка> справедливо го-
ворилъ: «Исторія для Юма была второстепенныя ь за-
нятіемъ, только средствомъ къ распространенію его
философіи и т. д»>. Принимая въ соображеніе, до
какой степени мало извѣстны начала, управляющія
общественными и политическими событіями, нельзя
не согласиться, что Юмъ преждевременно примѣнилъ
свой методъ къ исторіи; но совершенно нелѣпо на-
зывать этотъ методъ недобросовѣстнымъ, такъ какъ
цѣль Юмовой исторіи—пояснить его выводы примѣ-
рами, а не доказать пхъ: и потому онъ считалъ себя
правымъ въ выборѣ поясненій. Я просто заявляю
его взгляды, ни мало пхъ не защищая; на самомъ
дѣлѣ, я убѣжденъ, что въ отношеній выводовъ Юмъ
сильно ошибался.
104 ‘ ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
общественное значеніе этой особенности я разсмотрю въ слѣдующемъ томѣ, гдѣ по-
стараюсь привести въ извѣстность, какимъ образомъ она вліяла на шотландскую ци-
вилизацію и какъ произвела нѣкоторыя любопытныя явленія, прямо противополож-
ныя болѣе эмпирическому характеру англійской литературы. Къ этому, въ видѣ про-
стого заявленія такого факта, который будетъ доказанъ впослѣдствіи, я могу присо-
вокупить, что дедуктивный методъ, который употребляли поименованные мною зна-
менитые шотландцы, былъ также внесенъ въ умозрительную «Исторію Гражданскаго
Общества» Фергюсономъ, въ изученіе законодательства—Миллемъ, въ изученіе юрис-
пруденціи—Макинтошемъ, въ геологію—Геттономъ, въ термотику—Влекомъ и Лесли,
въ физіологію—Гейтеромъ, Александромъ Уокеромъ и Карломъ Бэлль, въ патологію—
Келленомъ, въ терапію—Броуномъ и Керри.
Вотъ очеркъ плана, которому я намѣренъ слѣдовать въ настоящемъ введеніи, на-
дѣясь этимъ путемъ дойти до нѣкоторыхъ результатовъ неизмѣнно цѣнныхъ; потому
что, при изученіи различныхъ началъ въ тѣхъ странахъ, гдѣ они были наиболѣе раз-
виты, законы этихъ началъ могутъ быть раскрыты гораздо успѣшнѣе, чѣмъ при изслѣ-
дованіи тѣхъ же началъ въ такихъ странахъ, гдѣ они проявлялись довольно смутно.
А такъ какъ въ Англіи цивилизація шла путемъ болѣе правильнымъ и была съ него сби-
ваема менѣе, чѣмъ во всякой другой странѣ, то тѣмъ болѣе настоитъ необходимость,
сочиняя исторію этой страны, прибѣгать къ вспомогательнымъ средствамъ въ родѣ
нѣкоторыхъ пріемовъ, указанныхъ мною выше. Особенную цѣнность придаетъ исторіи
Англіи то обстоятельство, что ни въ какой другой странѣ національный прогрессъ
не подвергался такъ мало постороннему вмѣшательству въ дурную, либо въ хорошую
сторону. Но самый тотъ фактъ, что наша цивилизація была такимъ образомъ со-
хранена въ болѣе естественномъ и здоровомъ состояній, возлагаетъ на насъ обя-
занность изучать болѣзни, Чоторымъ подвержена цивилизація, посредствомъ наблю-
денія надъ тѣми странами, гдѣ чаще всего встрѣчаются общественные недуги. Без-
опасность и прочность цивилизаціи должны зависѣть отъ правильности въ сочетаніи
ея элементовъ и отъ гармоніи въ ихъ дѣйствіи. Ежели одинъ какой-нибудь элементъ
дѣйствуетъ слишкомъ сильно, то весь составъ подвергается опасности. Вотъ почему
законы соединенія элементовъ лучше всего могутъ быть изучены тамъ,' гдѣ соеди-
неніе встрѣчается въ самомъ полномъ составѣ; законовъ же каждаго отдѣльнаго эле-
мента мы должны искать тамъ, гдѣ изучаемый элементъ наиболѣе сильно дѣйствуетъ.
Избравъ исторію Англіи, вслѣдствіе того, что въ пей долѣе, чѣмъ гдѣ-либо, сохрани-
лась гармонія различныхъ началъ, я счелъ по той же самой причинѣ полезнымъ
изучать каждое начало отдѣльно въ той странѣ, гдѣ оно было наиболѣе сильно и гдѣ
вслѣдствіе необычайнаго развитія его равновѣсіе всего зданія было нарушено.
Принявъ эти предосторожности, мы будемъ въ состояніи устранить многія изъ
затрудненій, сопряженныхъ понынѣ съ изученіемъ исторіи. По прежде чѣмъ всту-
пимъ на обпіпрное поприще, открывающееся предъ нами, слѣдуетъ разъяснить нѣ-
которые предварительные пункты; я до сихъ поръ еще ихъ не касался, а между
тѣмъ разъясненіе это можетъ предупредить извѣстнаго рода возраженія, которыя
безъ этого легко могутъ быть сдѣланы. Я разумѣю подъ этими пунктами: Религію,
Литературу и Правительство,—три предмета огромной важности, а по мнѣнію весьма
многихъ лицъ-—три главные двигателя въ человѣческихъ дѣлахъ. Совершенная оши-
бочность этого послѣдняго взгляда будетъ вполнѣ доказана въ настоящемъ сочиненіи,
во такъ какъ мнѣніе это чрезвычайно распространено и весьма благовидно, то намъ
необходимо разъ на всегда согласиться въ сужденіи о немъ и изучить истинное
свойство того вліянія на ходъ цивилизаціи, которое дѣйствительно имѣютъ сказанныя
три великія силы.
И вотъ, прежде всего очевидно, что еслибы какой-нибудь народъ былъ совер-
шенно предоставленъ самому себѣ, то его религія, литература и правительство были бы
послѣдствіемъ, а не причиной его цивилизаціи. Извѣстное состояніе общества есте-
ственно производитъ извѣстные результаты. Эти результаты конечно могутъ быть
О ВЛІЯНІИ РЕЛИГІИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА*
105
искажены вмѣшательствомъ какихъ-нибудь постороннихъ дѣятелей, но безъ такого
вмѣшательства невозможно, чтобы высоко-образованный народъ, привыкшій разсуж-
дать и сомнѣваться, когда-либо принялъ религію, исполненную яркихъ нелѣпостей,
обнаруживающихъ совершенное пренебреженіе къ разуму и сомнѣнію. Есть много
примѣровъ, что націи перемѣняли религію, но нѣтъ ни одного примѣра, чтобы про-
грессивная страна добровольно приняла ретроградную религію; никогда даже не слу-
чалось, чтобы нація, клонящаяся къ паденію, улучшила свою религію. Хорошая ре-
лигія благопріятствуетъ цивилизаціи, а дурная вредитъ—это конечно справедливо;
но ни одинъ народъ безъ посторонняго вмѣшательства не съумѣетъ открыть, что
его религія дурна, пока ему этого не скажетъ его собственный разумъ; но если
разумъ его находится въ бездѣйствіи, а знаніе въ застоѣ, то подобнаго открытія •
никогда не произойдетъ. Страна, пребывающая въ старомъ невѣжествѣ, всегда бу- г.
детъ оставаться при своей старой религіи. Конечно ничто не можетъ быть прощі^
этого. Очень невѣжественный народъ будетъ, въ силу своего невѣжества, склоненъ
къ религіи, исполненной чудесъ, величающейся несмѣтнымъ числомъ боговъ и при-
писывающей непосредственному ихъ вліянію все, что ни случается. Съ другой сто-
роны, народъ, который по своимъ познаніямъ можетъ быть лучшимъ судьей въ дѣлѣ
вѣроятія, народъ, привыкшій къ самой трудной изъ работъ—къ дѣлу сомнѣнія, бу-
детъ чувствовать потребность въ религіи менѣе чудесной, менѣе навязчивой, въ ре-
лигіи, не налагающей слишкомъ большой дани на его легковѣріе. Но скажете ли вы,
основываясь на предыдущемъ, что въ первомъ случаѣ недостатки религіи произво-
дятъ невѣжество, а во второмъ—достоинства ея производятъ знаніе? Скажете ли вы
о двухъ послѣдовательныхъ явленіяхъ, что первое изъ нихъ есть дѣйствіе, а по-
слѣднее—причина? Не такъ разсуждаютъ люди въ обыкновенныхъ житейскихъ дѣ-
лахъ, и трудно понять, почему бы имъ слѣдовало разсуждать такимъ образомъ, когда
дѣло идетъ объ исторіи прошлыхъ событій. _
Дѣло въ томъ, что религіозныя убѣжденія, преобладающія въ какой-либо пе-
ріодъ времени, принадлежатъ къ числу симптомовъ, которыми этотъ періодъ обозна-
чается. Когда религіозныя убѣжденія глубоко укоренены, то они безъ сомнѣнія имѣютъ
вліяніе на образъ дѣйствія людей; но для того, чтобы убѣжденія могли глубоко уко-
рениться, необходимо должна предварительно произойти какая-нибудь перемѣна въ
умахъ людей. Разсчитывать на усвоеніе кроткой и философской религіи невѣжествен-
ными и кровожадными дикарями все равно, что ожидать урожая отъ сѣмени, брошен-
наго на голую скалу. Въ этомъ родѣ много было попытокъ, и всѣ онѣ привели къ
одному результату. Люди съ самыми лучшими намѣреніями, самымъ пылкимъ, хотя
ложно понятымъ, рвеніемъ пытались и теперь еще пытаются распространить свою
религію между жителями варварскихъ странъ.' Вслѣдствіе напряженной и неослабной
дѣятельности, часто при помощи обѣщаній и даже дѣйствительныхъ даровъ, они во
многихъ случаяхъ успѣвали убѣдить дикія общины открыто принять истины хри-
стіанской религій; но ежели кто сравнитъ торжественныя повѣствованія миссіонеровъ
съ длиннымъ рядомъ данныхъ, доставленныхъ свѣдущими путешественниками, то
скоро увидитъ, что подобное признаніе существуетъ только на словахъ, въ дѣй-
ствительности же эти невѣжественныя племена приняли обряды новой религіи, но
вовсе не .самую религію. Они принимаютъ внѣшность и на этомъ останавливаются.
Они могутъ крестить своихъ дѣтей, принимать причастіе, толпами ходить въ цер-
ковь—все это они могутъ дѣлать и, несмотря на то, оставаться столь же далекими
отъ духа христіанства, какъ и были въ то время, когда преклоняли колѣна передъ
своими прежними идолами. Обряды и формы всякой религіи находятся на поверх-
ности; ихъ сразу видятъ, скоро заучиваютъ и легко перенимаютъ люди неспособные
проникнуть въ самую глубину. Только болѣе глубокая внутренняя перемѣна въ че-
ловѣкѣ можетъ быть прочна, а та кой перемѣны никогда не произойдетъ въ человѣкѣ
дикомъ, пока онъ погруженъ въ невѣжество, ставящее его въ уровень съ окружаю-
щими его животными. Устраните невѣжество, тогда будетъ мѣсто для религіи. Только
106 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІЯ ВЪ АНГЛІИ.
этимъ способомъ можно окончательно принести пользу. Послѣ тщательнаго изученія
исторіи и нынѣшняго состоянія варварскихъ странъ я съ полною увѣренностью утвер-
ждаю, что нѣтъ ни одного хорошо доказаннаго случая прочнаго обращенія въ хри-
стіанство какого-нибудь варварскаго народа, за исключеніемъ развѣ тѣхъ весьма
немногихъ примѣровъ, гдѣ миссіонеры, будучи столько же людьми знанія, сколько и
людьми благочестія, пріучали дикаря къ пріемамъ мышленія и, возбудивъ въ немъ
такимъ образомъ умственную дѣятельность, приготовили его къ воспріятію религіоз-
ныхъ началъ, которыхъ онъ безъ такого возбужденія никогда не могъ бы понять ’).
Такимъ образомъ, если смотрѣть на вещи съ высшей "точки зрѣнія, оказывается,
что религія человѣчества есть послѣдствіе, а не причина его прогресса. При болѣе
же мелкомъ воззрѣніи, или при такъ называемомъ практическомъ взглядѣ на какой-
нибудь краткій, спеціальный періодъ, могутъ по временамъ встрѣтиться такія обстоя-
тельства, которыя нарушаютъ этотъ общій порядокъ и повидимому извращаютъ есте-
ственный ходъ событій. И это, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, можетъ
происходить только отъ особенностей, свойственныхъ отдѣльнымъ личностямъ, кото-
рыя, повинуясь низшимъ законамъ, управляющимъ дѣйствіями каждаго отдѣльнаго
человѣка, могутъ при помощи генія и энергіи помѣшать отправленіямъ высшихъ
законовъ, управляющихъ цѣлыми обществами, По обстоятельствамъ, до сихъ поръ
еще неизвѣстнымъ, отъ времени до времени появляются великіе мыслители, которые,
посвятивъ всю жизнь стремленію къ одной цѣли, способны опередить человѣчество
на пути развитія и создать религію или философію, имѣющую иногда весьма важныя
послѣдствія. Но, вглядываясь въ исторію, мы ясно увидимъ, что дѣйствіе, производи-
мое новымъ мнѣніемъ, будетъ всегда зависѣть отъ состоянія народа, въ которомъ
мнѣніе это распространяется, хотя бы оно и было обязано происхожденіемъ своимъ
одному лицу. Если религія или философія слиткомъ опередила націю, то она не
можетъ принесть пользы въ настоящемъ, а должна выждать, пока люди будутъ до-
статочно зрѣлы для воспріятія ея. Этому большая часть читателей встрѣтитъ мно-
жество примѣровъ. Каждая наука и каждое вѣрованіе имѣли своихъ мучениковъ,—
людей, подвергавшихся злословію и даже смерти за то, что они знали больше, чѣмъ
ихъ современники, и потому, что общество было не довольно развито для принятія
истинъ, которыя эти люди распространяли. По обыкновенному порядку вещей, про-
ходитъ нѣсколько поколѣній, прежде чѣмъ наступитъ періодъ, когда на эти самыя
истины смотрятъ, какъ на обыденные факты, а еще немного позже настаетъ и такое
время, когда ихъ признаютъ необходимыми и когда самые тупые умы удивляются,
какъ могли такія истины когда-либо быть отрицаемы. Таковъ бываетъ ходъ дѣлъ,
когда человѣческому уму дается просторъ и предоставляется хотя сносная свобода
въ накопленіи и распространеніи знанія. Но ежели тому же самому обществу мѣ-
рами насильственными и, слѣдовательно, искусственными поставлены преграды къ
умственному развитію, то въ немъ истины не могутъ быть приняты, какъ бы ни
было важно ихъ значеніе* Иначе почему бы извѣстныя истины были отвергаемы
въ одномъ вѣкѣ и признаваемы въ другомъ? Истины остаются неизмѣнными - зна-
читъ, окончательное ихъ признаніе должно зависѣть отъ перемѣны въ самомъ обще-
ствѣ, которое теперь принимаетъ то, что прежде презирало. И въ самомъ дѣлѣ,
1) Одинъ писатель съ больнымъ авторитетомъ
(Монтюкля) сдѣлалъ на этотъ счетъ нѣкоторыя замѣ-
чанія, заслуживающія вниманія: «тогда-то іезуиты про-
никли въ Китай съ цѣлью проиовѣдывать тамъ Еван-
геліе. Ояи вскорѣ замѣтили, что заявленіе астрономи-
ческихъ познаній—одно изъ самыхъ дѣйствительныхъ
средствъ къ упроченію тамъ пребыванія миссіонеровъ,
въ ожиданіи мредпазначеппаго небомъ момента для
озаренія этой обширной имперіи свѣтомъ вѣры. Кювье
слегка яамскаегь на то же. Опъ говоритъ объ Эмери:
«Опъ помнилъ, что христіанство сдѣлало наиболѣе за-
। воеваній, и служители его пользовались наибольшимъ
। уваженіемъ въ ту эпоху, когда опи приносили къ но-
вообращаемымъ народамъ свѣтъ науки вмѣстѣ съ
* истинами религіи, составляя собою но всѣхъ націяхъ
। самое просвѣщенное и самое почетное сословіе». Даже
I Соутп говоритъ: «Миссіонеры всегда жаловались па
измѣнчивость своихъ новообращенныхъ и должны бу-
дутъ всегда на это жаловаться, покуда не откроютъ,
что нѣкоторая степень образованія должна предшество-
! вать обращеніи, въ христіанскую вѣру пли по крайней
, мѣрѣ идти съ нимъ рядомъ».
О ВЛІЯНІИ РЕЛИГІИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА. 107
исторія наполнена доказательствами совершенной недѣйствительности самыхъ благо-
родныхъ началъ въ тѣхъ случаяхъ, когда они проповѣдываются въ очень невѣже-
ственной странѣ. Такъ, ученіе о Единомъ Богѣ, преподанное древнимъ евреямъ,
оставалось въ теченіе многихъ столѣтій вовсе безъ дѣйствія. Народъ, которому ученіе
это было сообщено, въ то время еще не освободился отъ варварства, и потому умъ
его не могъ постигнуть такой высокой идеи. Подобно всѣмъ другимъ варварамъ, евреи
жаждали религіи, которая бы питала ихъ легковѣріе безпрестанными чудесами, ко-
торая, вмѣсто отвлеченнаго возведенія Божества къ одной сущности, умножала бы
ихъ боговъ до того/ чтобы ими были покрыты всѣ поля и переполнены лѣса. Это
и есть идолопоклонство, естественный плодъ невѣжества; вотъ къ чему евреи без-
престанно возвращались. Несмотря на самыя строгія и безпощадныя наказанія,
они; при всякомъ удобномъ случаѣ, оставляли чистый теизмъ, для воспріятія кото-
раго умы ихъ были слишкомъ незрѣлы, и впадали въ суевѣріе, болѣе доступное
ихъ пониманію,—поклонялись золотому тельцу и обожали мѣднаго змія. Теперь, въ
настоящемъ вѣкѣ, они давно ужъ перестали все это дѣлать. А почему? Не потому,
чтобы легче возбуждалось въ нихъ религіозное чувство или чаще дѣйствовалъ на
нихъ религіозный страхъ. Напротивъ того, они отторгнуты отъ прежней обстановки,
они навсегда потеряли изъ виду тѣ сцены, которыя легко могли потрясать умы людей.
Не существуютъ уже для нихъ причины, возбуждавшія въ сердцахъ—-однѣ ужасъ,
другія—благодарность. Не является имъ болѣе облако днемъ и огненный столбъ ночью;
не видятъ они болѣе, какъ дается завѣтъ съ высоты Синая, и не слышатъ раска-
товъ грома, раздающихся съ Хорева. Въ виду этихъ великихъ явленій, они оста-
вались идолопоклонниками въ душѣ и при всякой возможности становились идоло-
поклонниками на дѣлѣ; и поступали они такъ потому, что находились въ состояніи
варварства, котораго естественный продуктъ—идолопоклонство. Какому же другому
обстоятельству можно приписатьМхъ дальнѣйшую перемѣну, какъ не тому простому
факту, что евреи, подобно всѣмъ другимъ народамъ, по мѣрѣ своихъ успѣховъ въ
цивилизаціи, стали вырабатывать для себя болѣе идеальную, утонченную религію
и, презрѣвъ прежнее многобожіе, медленно и постепенно возвысились умомъ до твер-
даго пониманія Одной Великой Причины,—пониманія, которое напрасно старались
имъ привить въ болѣе раннее время.
Вотъ какая тѣсная связь существуетъ между убѣжденіями какого-нибудь народа
и его познаніями, и до какой степени необходимо, когда дѣло идетъ о цѣлыхъ на-
ціяхъ. чтобы умственная дѣятельность предшествовала улучшенію религіи. Ежели
намъ нужны дальнѣйшіе примѣры, поясняющіе эту важную истину, то мы найдемъ
ихъ въ событіяхъ, совершившихся въ Европѣ вскорѣ послѣ распространенія хри-
стіанскаго ученія. Римляне были, за рѣдкими исключеніями, народъ невѣжественный
и варварскій, племя кровожадное, развратное и жестокое. Для такого народа поли-
теизмъ былъ самымъ естественнымъ вѣрованіемъ, и, дѣйствительно, мы читаемъ, что
римляне предавались идолопоклонству, которое немногіе великіе мыслители, и только
немногіе отваживались презирать. Христіанская религія, заброшенная среди такихъ
людей, застала ихъ неспособными оцѣнить ея высокое, дивное ученіе. Нѣсколько
времени спустя Европа была наводнена наплывами свѣжаго народонаселенія, и за-
владѣвшіе ею народы, еще болѣе дикіе, чѣмъ римляне, принесли съ собою суевѣрія,
сообразныя съ ихъ тогдашнимъ умственнымъ состояніемъ. II вотъ надъ матеріалами,
происшедшими изъ этихъ двухъ источниковъ, христіанство призвано было трудиться.
Результатъ этого чрезвычайно замѣчателенъ. Послѣ того, какъ новая религія, каза-
лось, побѣдила всѣ препятствія и уже была принята въ лучшей части Европы,
вскорѣ обнаружилось, что она не возымѣла никакого положительнаго дѣйствія. Ока-
залось, что общество находилось еще въ томъ раннемъ періодѣ развитія, когда суевѣріе
неизбѣжно и когда люди, пе имѣя его въ одной формѣ, должны имѣть въ другой.
Напрасно христіанство преподавало простое ученіе и предписывало простое богослуже-
ніе. Умы были слишкомъ незрѣлы, чтобы совершить такой великій шагъ: имъ нужны
108 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
были болѣе сложныя формы и болѣе сложное вѣрованіе. Что затѣмъ произошло—•
хорошо извѣстно всѣмъ, изучающимъ исторію церкви. Суевѣріе Европы вмѣсто того,
чтобы уменьшиться, получило только другое направленіе. Новая религія была иска-
жена старыми заблужденіями. Поклоненіе идоламъ приняло только другія формы;
такъ обожаніе Цибелы замѣнено было другимъ подобнымъ же обожаніемъ; идоло-
поклонническіе обряды примѣшались къ христіанскимъ; вскорѣ внесено было въ
новую религію, кромѣ наружныхъ обрядовъ язычества, и самое его ученіе; духъ
язычества былъ смѣшанъ и слитъ воедино съ духомъ новой религіи. Вслѣдствіе всего
этого, спустя нѣсколько поколѣній, христіанство явилось въ такой смѣшанной, отвра-
тительной формѣ, что лучшія его черты были потеряны и признаки первоначаль-
ной его прелести совершенно уничтожены.
Прошло нѣсколько вѣковъ, и христіанство стало понемногу освобождаться отъ
этихъ искаженій: однако многихъ изъ нихъ даже самыя образованныя страны до
сихъ поръ еще не могли отбросить. Дѣйствительно, даже начать какую-либо реформу
оказывалось невозможнымъ до тѣхъ поръ, пока европейскій умъ не былъ въ нѣко-
торой степени пробужденъ отъ сковывавшей его летаргіи- Постепенно двигаясь впе-
редъ на пути знанія, люди стали смотрѣть съ негодованіемъ на тѣ суевѣрныя по-
нятія, предъ которыми прежде благоговѣли. Изслѣдованіе о томъ, какимъ образомъ
это негодованіе возрастало и, наконецъ, въ шестнадцатомъ вѣкѣ, разразилось вели-
кимъ событіемъ, справедливо называемымъ «Реформаціей»,—составляетъ одинъ изъ
занимательнѣйшихъ предметовъ новѣйшей исторіи. Но для настоящей цѣли нашей
достаточно имѣть въ виду достопамятный и важный фактъ, что въ теченіе нѣсколь-
кихъ столѣтій послѣ повсемѣстнаго водворенія въ Европѣ христіанской религіи она
не могла приносить свойственныхъ ей плодовъ по той причинѣ, что ей пришлось
дѣйствовать посреди невѣжественныхъ и потому суевѣрныхъ людей, которые, въ силу
своего суевѣрія, всячески искажали ученіе, недоступное ихъ пониманію въ его пер-
воначальной чистотѣ *)• И точно, на каждой страницѣ исторіи встрѣчаемъ мы новыя
доказательства того, какъ мало могутъ дѣйствовать на людей религіозныя ученія,
ежели только имъ не предшествуетъ умственное развитіе. Интересный примѣръ этого
представляетъ вліяніе протестантизма въ сравненіи съ католицизмомъ. Католическая
вѣра относится къ протестантской такъ же, какъ темные вѣка относятся къ шестнад- ,
цатому столѣтію. Въ темные вѣка люди были легковѣрны и невѣжественны и потому
произвели религію, требовавшую много вѣры и мало знанія. Въ шестнадцатомъ сто-
лѣтіи легковѣріе и невѣжество, довольно еще значительныя, стали быстро умень-
шаться, и потому оказалась необходимость устроить религію на основаніяхъ, соот-
вѣтственныхъ измѣнившимся обстоятельствамъ, —религію болѣе благопріятную для
духа пытливости, менѣе обремененную чудесами, легендами и идолами,—религію, въ
которой церемоніи были бы не такъ часты ц не такъ тягостны, которая, наконецъ,
не поощряла бы безчисленнаго множества разныхъ умерщвленій плоти, бывшихъ
такъ долго въ повсемѣстномъ употребленіи. Все это было совершено чрезъ водво-
реніе протестантизма,—такого образа богопочитанія, который, соотвѣтствуя вполнѣ
потребностямъ своего вѣка, имѣлъ, какъ извѣстно, большой и скорый успѣхъ. Еслибъ
этому великому движенію позволено было совершаться безъ перерывовъ, то оно
въ теченіе немногихъ поколѣній, опрокинувъ старое суевѣріе, водворило бы на его мѣстѣ
болѣе простое и менѣе безпокойное вѣрованіе; при этомъ, разумѣется, быстрота пе-
реворота была бы пропорціональна умственной дѣятельности различныхъ странъ. Но,
къ несчастью, европейскія правительства, всегда вмѣшивавшіяся въ дѣла, которыя
вовсе до нихъ не касались, считали своей обязанностью покровительствовать рели-
Необходимо было, говоритъ Мори, чтобы цер- I
ковъ «болѣе приблизилась къ грубому, необразоран- !
ному, невѣжественному разсудку варвара». Точно то же
происходило въ Индіи, гдѣ Пурапы относятся къ Во- |
дамъ, какъ сочиненія отцовъ церкви относятся къ Но-
вому Завѣту. Такъ что. по мѣткому выраженію Макса
Миллера, Пурапы — «вторичная формація индійской
миѳологіи».
О ВЛІЯНІИ РЕЛИГІИ. ЛИТЕРАТУРЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА.
109
гіознымъ интересамъ народа и, дѣйствуя заодно съ католическимъ духовенствомъ, во
многихъ случаяхъ насильственно останавливали ересь, сдерживая такимъ образомъ
естественное развитіе вѣка. Это вмѣшательство было почти во всѣхъ случаяхъ благо-
намѣренное; его должно приписывать единственно невѣдѣнію правителей относи-
тельно надлежащихъ предѣловъ ихъ круга дѣятельности; но бѣдствія, причиненныя
этого рода невѣдѣніемъ, трудно было бы преувеличить. Въ продолженіе почти ста
пятидесяти лѣтъ Европу терзали религіозныя войны, религіозныя избіенія, рели-
гіозныя преслѣдованія,—чего бы конечно вовсе не произошло, еслибы повсемѣстно
признана была та великая истина, что государству нѣтъ дѣла до убѣжденій граж-
данъ, и.что оно не имѣетъ никакого права вмѣшиваться, даже въ самой ничтожной
мѣрѣ, въ то, какую форму богослуженія они пожелаютъ принять. Однако это пра-
вило въ прежнее время было неизвѣстно; во всякомъ случаѣ достовѣрно, что па
него не обращали вниманія; и не ранѣе какъ въ половинѣ семнадцатаго столѣтія
окончательно порѣшены были религіозныя распри и различныя націи укрѣпились въ
своихъ господствующихъ вѣрахъ, которыя съ тѣхъ поръ въ сущности не подвер-
гались измѣненіямъ. Дѣйствительно, въ теченіе уже болѣе двухсотъ лѣтъ ни одна
нація не воевала съ другой по поводу религіи, и въ продолженіе этого періода всѣ
великія католическія страны оставались католическими, а всѣ протестантскія—про-
тестантскими.
Вслѣдствіе всего замѣченнаго нами выше во многихъ европейскихъ странахъ
религіозное развитіе вмѣсто того, чтобы совершаться естественнымъ порядкомъ,
подчинено было насильно) посредствомъ искусственныхъ мѣръ, порядку противо-
естественному. Сообразно съ естественнымъ порядкомъ, рамыя образованныя страны
были бы протестантскими, а самыя необразованныя—католическими. Въ среднемъ
выводѣ изъ всѣхъ случаевъ оно дѣйствительно такъ ір'есть; этимъ многія лица были
даже введены въ странное заблужденіе: они стали приписывать все новѣйшее про-
свѣщеніе вліянію протестантизма, упуская изъ виду тотъ важный фактъ, что про-
тестантизмъ не понадобился до тѣхъ поръ, пока не началось просвѣщеніе. При обык-
новенномъ ходѣ событій успѣхи реформаціи конечно были бы мѣриломъ и призна-
комъ предшествовавшихъ ей успѣховъ просвѣщенія; но во многихъ случаяхъ власть
правительства и вліяніе церкви явились противодѣйствующими причинами, которыя
и парализировали естественное развитіе религіозныхъ улучшеній. Послѣ Вестфаль-
скаго мира, опредѣлившаго политическія отношенія европейскихъ государствъ, лю-
бовь къ богословскимъ распрямъ до такой степени ослабѣла, что люди не признавали
болѣе за нужное хлопотать о религіозныхъ переворотахъ и рисковать жизнью въ
какой-нибудь попыткѣ на ниспроверженіе религіи, господствующей въ государствѣ.
Въ то же время правительства, не имѣя сами особеннаго пристрастія въ перево-
ротамъ, поощряли состояніе застоя; при этомъ—что весьма естественно и, какъ мнѣ
кажется, весьма благоразумно не дѣлали большихъ измѣненій и оставляли церков-
ныя учрежденія въ своихъ государствахъ такими, какими ихъ застали, т. е. про-
тестантскія—протестантскими, а католическія—католическими. Отсюда произошло то
обстоятельство, что въ настоящее время господствующая вѣра какой бы то ни было
страны не можетъ служить пробнымъ камнемъ настоящаго состояніи цивилизація въ
этой странѣ, такъ какъ обстоятельства, установившія ея религію, уже давно не су-
ществуютъ, а религія остается при тѣхъ же правахъ и при томъ же устройствѣ
единственно потому, что нѣкогда двинувшая ее сила, по закону инерціи, еще про-
должаетъ дѣйствовать.
Все предыдущее относится только къ началу церковныхъ учрежденій въ Европѣ.
Въ практическихъ же своихъ послѣдствіяхъ учрежденія эти представляютъ явленія
въ высшей степени поучительныя. Такъ, многія страны обязаны господствующей въ
нихъ религіей не своему прошедшему, а вліянію отдѣльныхъ могущественныхъ лич-
ностей; вслѣдствіе чего мы постоянно видимъ, что въ этихъ странахъ религія не
производитъ тѣхъ послѣдствій, которыхъ отъ нея можно было бы ожидать и кото-
110
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
рыя она, сообразно своимъ собственнымъ требованіямъ, должна была бы произвести.
Напримѣръ, католическая религія отличается большимъ суевѣріемъ и большей не-
терпимостью, нежели протестантская; но изъ этого ни мало не слѣдуетъ, чтобы націи,
исповѣдывающія первую, должны были быть суевѣрнѣе и отличаться большей нетер-
пимостью, чѣмъ націи, исповѣдывающія послѣднюю. Далеко нѣть; французы не только
такъ же свободны отъ этихъ ненавистныхъ качествъ, какъ и самые цивилизованные
протестанты, но даже стоятъ въ этомъ отношеніи выше нѣкоторыхъ протестант-
скихъ народовъ, каковы напримѣръ шотландцы и шведы. О высоко образованномъ
классѣ я не говорю; но, говоря о духовенствѣ и о народѣ вообще, должно сознаться,
что въ Шотландіи больше суевѣрія, ханжества и совершеннаго презрѣнія въ чужой
религіи, нежели во Франціи. А въ Швеціи, въ одной изъ древнѣйшихъ протестантскихъ
странъ Европы *), проявляется не случайно, а постоянно, такая нетерпимость и
такой духъ преслѣдованія, которыя не дѣлали бы чести и католической націи, со сто-
роны же народа, утверждающаго, что его религія основана на началѣ свободы убѣж-
деній,—вдвойнѣ предосудительны 2). Изъ всего замѣченнаго нами видно,—и это легко
можетъ быть доказано путемъ болѣе обширной индукціи—что когда какой-нибудь
народъ, вслѣдствіе спеціальныхъ или, какъ обыкновенно говорятъ, случайныхъ при-
чинъ, исповѣдываетъ религію, которая болѣе ушла впередъ, чѣмъ онъ самъ, то религія
эта не производитъ своего законнаго дѣйствія 3), Преимущество протестантизма
передъ католицизмомъ заключается въ уменьшеніи суевѣрія и нетерпимости и въ
ограниченіи власти церкви. Но опытъ Европы показываетъ намъ, что когда пере-
довая религія введена среди отсталаго народа, то преимущества ея дѣлаются не-
замѣтны. Шотландцы и шведы—къ нимъ можно присоединить и нѣкоторые швей-
царскіе кантоны — менѣе образованы и потому болѣе суевѣрны, чѣмъ французы.
Какая послѣ этого польза въ томъ что они имѣютъ лучшую религію, нежели фран-
цузы, что, благодаря давно прошедшимъ обстоятельствамъ, они три вѣка тому назадъ
приняли вѣру, къ которой ихъ теперь привязываетъ сила привычки и преданія?
Всякій, кто, путешествуя по Шотландіи, съ достаточнымъ вниманіемъ наблюдалъ по-
нятія и убѣжденія народа, и кто заглянетъ въ шотландское богословіе, кто станетъ
читать исторію шотландской церкви (кігк) и акты шотландскихъ Собраній и Кон-
систорій,—увидитъ, какъ мало пользы страна эта извлекла пзъ своей религіи п какая
широкая пропасть между духомъ нетерпимости, преобладающимъ въ Шотландіи, и
естественными стремленіями протестантской реформаціи. Съ другой стороны, всякій,
кто станетъ изучать Францію въ томъ же отношеніи, увидитъ рядомъ съ антилибе-
ральной религіей либеральныя понятія, увидитъ также, что религія, исполненная суе-
вѣрія, исповѣдывается народомъ, въ которомъ суевѣріе—явленіе сравнительно рѣдкое.
Ученіе Лютера въ первый разъ нроиовѣды-
васмо было въ Швеціи въ 1519 г., а въ 15В7 і’оду
начала реформаціи были формально приняты на об-
щемъ собраніи Штатовъ въ Вестераасѣ, при чемъ пре-
доставлено Густаву Вааѣ завладѣть церковными иму-
ществами. Отступничество распространялось такъ ус-
пѣшно, что одинъ историкъ говоритъ въ 1598 г.: «Это
исповѣданіе (лютеранское) такъ долго уже господство-
вало въ Швеціи, что почти невозможно было найти ни
въ народѣ, ни между дворянами человѣка, который бы
помнилъ публичное отправленіе въ этомъ королевствѣ
католическаго богослуженія>.
2) Г. Левгъ, хотя самъ протестантъ, справедливо
говоритъ С1859 г.), что въ протестантской Швеціи
«существуетъ инквизиціонный закопъ, дѣйствующій
въ рукахъ лютеранской господствующей церкви такъ же
сильно, какъ дѣйствовалъ подобный законъ въ Испа-
ніи или Португаліи въ рукахь римско-католической
церкви». Въ семнадцатомъ вЬкѣ было постановлено
шведской церковью и подтверждено правительствомъ,
что «если какой-либо шведскій подданный перемѣнитъ
вѣру, то будетъ изгнанъ пзъ королевства и потеряетъ
всякое право наслѣдства, какъ за себя, такъ и за по-
томство... Ежели кто-либо приведетъ въ Швецію учи-
телей другой религіи, то будетъ подлежать штрафу и
; изгнанію». Къ этому можно присовокупить, что не
; ранѣе какъ въ 1781 году дозволено было католикамъ
исновѣдывать свою вѣру въ Швеціи.
3) ЗІы видимъ ясный примѣръ этому у абиссин-
цевъ: они уже нѣсколько столѣтій асповѣдываютъ хри-
стіанскую вѣру, но такъ какъ никто не позаботился
объ пхъ умственномъ образованій, і*о, находя для себя
, эту религію слишкомъ чистою, они исказили ее и до на-
стоящаго времени пи на волосъ не подвинулись впе-
1 редъ.—Свѣдѣнія о нихъ, сообщенныя Брюсомъ, доста-
, точно извѣстны; сверхъ того одинъ путешественникъ,
। посѣтившій Абиссинію въ 1839 году, говоритъ: <Пи-
। что не представляетъ собою большаго искаженія, какъ
і номинальное христіанство этой несчастной націи. Оно
1 перемѣшано съ іудсйствомі», магометанствомъ и язы-
' чествомъ; это—-куча обрядовъ и суевѣрій, которые
но могутъ исправить сердце».
О ВЛІЯНІИ РЕЛИГІИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА* 111
Дѣло просто въ томъ, что французы лучите своей религіи, а шотландцы хуже
своей. Либеральность Франціи такъ же мало соотвѣтствуетъ католицизму, какъ хан-
жество Шотландіи—протестантизму. Въ этихъ, какъ и во всѣхъ подобныхъ случаяхъ
отличительныя черты вѣроисповѣданія пересилены отличительными чертами народ-
наго характера, и религія народа въ самыхъ важныхъ отношеніяхъ остается вовсе
безъ дѣйствія по той простой причинѣ, что она не соотвѣтствуетъ цивилизаціи
страны, въ которой введена. Какъ неосновательно послѣ этого приписывать успѣхи
цивилизаціи вліянію той или другой религіи, и какъ безразсудны, хуже чѣмъ безраз-
судны, старанія правительства охранять религію, которая въ томъ случаѣ, когда
она соотвѣтствуетъ народному характеру, въ покровительствѣ не нуждается, въ про-
тивномъ же случаѣ—не можетъ принести никакой пользы.
Ежели читатель вникнулъ въ духъ предыдущихъ разсужденій, то онъ сдва-ли
потребуетъ отъ меня такого же подробнаго анализа другой изъ причинъ, нарушаю-
щихъ дѣйствіе законовъ прогресса, а именно—анализа литературы. Очевидно, что
все сказанное уже о религіи народовъ можетъ быть въ значительной мѣрѣ примѣ-
нено и къ ихъ литературѣ. Литература въ состояніи здоровомъ и свободномъ отъ
насилія есть просто рамка, въ которую вставляется знаніе, пріобрѣтенное извѣ-
стнымъ народомъ,—форма, въ которую отливается это знаніе. Въ этомъ отношеніи,
какъ и въ другихъ разсмотрѣнныхъ нами случаяхъ, отдѣльныя лица могутъ конечно
идти большими шагами впередъ, могутъ подниматься на значительную высоту надъ
уровнемъ своего вѣка; но когда они поднимаются выше извѣстной точки, то для нихъ
начинаетъ уменьшаться возможность приносить пользу своему времени, а еще выше—
эта возможность вовсе уничтожается х). Когда промежутокъ между мыслящими и прак-
тическими классами будетъ слишкомъ великъ, то первые не будутъ имѣть вліянія,
а вторые ничѣмъ отъ нихъ не воспользуются. Это именно и произошло въ древнемъ
мірѣ, когда разстояніе между невѣжественнымъ идолопоклонствомъ народа и утончен-
ными системами философовъ было рѣшительно непроходимо 2); п вотъ главная при-
чина, почему греки и римляне не могли сохранить цивилизаціи, которою обладали
въ теченіе короткаго періода времени. Точно тотъ же процессъ совершается въ на-
стоящее время въ Германіи, гдѣ самая цѣнная часть литературы составляетъ таин-
ственную систему, которая, не имѣя ничего общаго съ самой націей, вовсе не дѣй-
ствуетъ на ея цивилизацію. Дѣло въ томъ, что если Европа и извлекла большую
пользу изъ своей литературы, то опа обязана этимъ не тому, что произвела литера-
тура, а тому, что она сохранила. Знаніе должно быть прежде пріобрѣтено, а потомъ
можетъ быть записано, и книги полезны единственно какъ складочное мѣсто, гдѣ
сокровища ума хорошо сберегаются и удобно могутъ быть найдены. Литература сама
по себѣ предметъ не важный и имѣетъ значеніе только какъ арсеналъ, въ которомъ
сложено оружіе человѣческаго ума и изъ котораго оружіе это можетъ быть, въ слу-
чаѣ надобности, скоро добыто. Но жалкимъ мыслителемъ оказался бы тотъ, кто, осно-
вываясь на этомъ, предложилъ бы пожертвовать цѣлью для сохраненія средствъ, кто
надѣялся бы отстоять арсеналъ, сдавъ оружіе, и кто уничтожилъ бы сокровища въ
видахъ улучшенія кладовой, предназначенной для ихъ храненія.
Однако на это многіе способны. Отъ литераторовъ въ особенности слышимъ
х) В. Гамильтонъ, котораго ученость по части
исторіи мнѣній хорошо извѣстна, говоритъ: «Насколько
какой-нибудь писатель ушелъ впередь противъ своего
вѣка, на столько именно сочиненія его имѣютъ шан-
совъ остаться въ пренебреженіи». Точно также отно-
сительно изящныхъ искусствъ Рейнольдсъ говоритъ:
«настоящее и будущее могутъ считаться соперниками;
кто прислуживается одному изъ нихъ, тотъ долженъ
ожидать дурного пріема отъ другого».
2) Отсюда умственно-исключительный и, какъ его
хорошо называетъ Неандеръ, «аристократическій духъ
I древности». Это постоянно упускаютъ изъ виду ппса-
। гели, употребляющіе слово «демократія* слишкомъ
небрежно; они забываютъ, что въ извѣстномъ вѣкѣ
демократія политическая можетъ быть явленіемъ весьма
обыкновеннымъ и въ томъ же самомъ вѣкѣ демократія
I мысли можеть быть чрезвычайной рѣдкостью. О все-
общемъ преобладаніи въ прежнія времена этого таин-
ственнаго аристократическаго духа можно найти ука-
занія у многихъ авторовъ (Риттеръ, Шпренгель, Гротъ,
Варбуртопъ и др.).
115 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
мы слишкомъ много рѣчей о необходимости для литературы покровительства и на-
градъ, и слишкомъ мало—о необходимости той свободы, той смѣлости мысли, безъ
которыхъ самая блестящая литература ровно ничего не стоитъ. Въ самомъ дѣлѣ, су-
ществуетъ вообще наклонность не преувеличивать пользу знанія, потому что это и
невозможно, но полагать знаніе не въ томъ, въ чемъ оно дѣйствительно состоитъ.
Настоящее знаніе, то знаніе, на которомъ зиждется вся цивилизація, состоитъ въ
знакомствѣ съ отношеніями вещей и идей другъ къ другу и самихъ къ себѣ; дру-
гими словами,—въ знакомствѣ съ физическими и умственными законами. Ежели когда-
либо придетъ время, что всѣ эти законы будутъ извѣстны, то кругъ человѣческихъ
познаній будетъ довершенъ; а до тѣхъ поръ достоинство литературы будетъ зависѣть
отъ количества сообщаемыхъ ею свѣдѣній о законахъ уже извѣстныхъ, пли мате-
ріаловъ для дальнѣйшихъ открытій. Дѣло воспитанія—ускорять это великое движеніе
и увеличивать умѣнье и способности человѣка, увеличивая сумму средствъ, которыми
онъ обладаетъ. Въ этомъ отношеніи литература, какъ вспомогательное средство, чрез-
вычайно полезна. Но считать познаніе литературы однимъ изъ главныхъ предметовъ
воспитанія—значитъ извращать порядокъ явленій и подчинять цѣль средствамъ. Та-
кой взглядъ дѣйствительно существуетъ, потому что мы часто встрѣчаемъ такъ на-
зываемыхъ высокообразованныхъ людей, которые были положительнымъ образомъ
останавливаемы на пути пріобрѣтенія знанія самою дѣятельностью ихъ воспитанія.
Мы часто видимъ, что такіе люди полны предразсудковъ, и что чтеніе вмѣсто
того, чтобы разсѣять эти предразсудки, еще болѣе укореняло ихъ 9- Литература, бу-
дучи складочнымъ мѣстомъ мыслей всего человѣчества, наполнена не одною мудростью,
но также и нелѣпостями. Стало быть, польза, извлекаемая изъ литературы, будетъ
зависѣть не столько отъ сймой литературы, сколько отъ умѣнья, съ которымъ она бу-
детъ изучаема, и отъ разсудительности въ выборѣ. Вотъ предварительныя условія
успѣха; и ежели они не соблюдаются, то число и достоинство книгъ, имѣющихся въ
той или другой странѣ, рѣшительно ничего не составляютъ. Даже на высокой сте-
пени цивилизаціи всегда существуетъ стремленіе предпочитать скорѣе тѣ отдѣлы
литературы, которые потворствуютъ старымъ предразсудкамъ, чѣмъ тѣ, которые воз-
стаютъ противъ нихъ; когда стремленіе это очень сильно, то единственнымъ резуль-
татомъ большой учености будетъ накопленіе матеріаловъ для поддержанія старыхъ
заблужденій и усиленія старыхъ предразсудковъ. Въ наше время подобные примѣры
не рѣдки; мы часто встрѣчаемъ людей, которыхъ ученость служитъ орудіемъ ихъ
невѣжеству,—людей, которые чѣмъ больше читаютъ, тѣмъ меньше знаютъ. Бывали
такія состоянія общества, въ которыхъ подобное стремленіе оказывалось до того все-
общимъ, что литература приносила больше вреда, чѣмъ пользы. Такъ, напримѣръ,
во весь періодъ времени съ шестого по десятый вѣкъ въ цѣлой Европѣ было не
болѣе трехъ или четырехъ человѣкъ, которые смѣли думать сами за себя—да и тѣ
принуждены были скрывать свою мысль подъ темнымъ и мистическимъ слогомъ.
Остальная часть общества была въ теченіе этихъ четырехъ вѣковъ погружена въ
самое унизительное невѣжество* Въ тѣ времена люди, которые способны были чи-
тать,—а такихъ было немного,—ограничивались изученіемъ сочиненій, поощрявшихъ
и усиливавшихъ суевѣріе, каковы разныя легенды и гомиліи. Изъ этихъ источни-
ковъ почерпали они тѣ наглыя выдумки, изъ которыхъ преимущественно слагалось
богословіе того времени 9- Эти жалкія повѣсти были чрезвычайно распространены
*) Локкъ замѣтилъ это «ученое невѣжество», ко-
торымъ отличаются многіе люди. Еслибъ этотъ глубо-
комысленный писатель былъ теперь въ живыхъ, ка-
кую войну объявилъ бы опъ нашимъ великимъ уни-
верситетамъ и общественнымъ школамъ, гдѣ препо-
даютъ безчисленное множество такихъ вещей, кото-
рыхъ никому нѣтъ нужды понимать п которыя по-
мнить дадутъ себѣ трудъ весьма немногіе.
2) Статистика этого рода литературы можетъ быть
весьма любопытнымъ предметомъ изученія. Никто, я
полагаю, не думалъ, чтобы стоило труда сосчитать
всѣ ея произведенія. Но Гизо приблизительно вычи-
слилъ, что Болландистская коллекція содержать въ себѣ
болѣе 25.000 жизнеописаній святыхъ. Говорятъ, что
до Джосляйна («Госеііпе) было шестьдесятъ шесть біо-
графовъ одного святого Патрикія.
О ВЛІЯНІИ РЕЛИГІИ. ЛИТЕРАТУРЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА. 113
и цѣнились, какъ непреложныя, важныя истины. Чѣмъ больше изучали литературу,
тѣмъ больше вѣрили такимъ повѣстямъ; другими словами: чѣмъ больше было уче-
ности, тѣмъ больше и невѣжества 1). И я ни мало не сомнѣваюсь, что еслибы въ
седьмомъ и восьмомъ вѣкахъ, составляющихъ худшую часть этого періода, знаніе
алфавита было на время потеряно, и люди не могли бы наслаждаться чтеніемъ лю-
бимыхъ своихъ книгъ, то послѣдующій прогрессъ Европы могъ бы быть гораздо
быстрѣе, чѣмъ онъ былъ дѣйствительно; потому что, когда началось движеніе, глав-
нымъ врагомъ его являлось легковѣріе, вскормленное литературой. Недостатка въ луч-
шихъ книгахъ не было, но любовь къ нимъ пропала. Была литература Греціи и
Рима, сохраненная монахами, изъ которыхъ иные по временамъ въ нее заглядывали,
а иные даже переписывали ея произведенія. По къ чему могло послужить подобное
чтеніе такимъ читателямъ? Они не только не способны понять достоинство
древнихъ писателей, но даже не могли чувствовать красоты ихъ слога и пугались
смѣлости ихъ изслѣдованій. При первомъ лучѣ свѣта глаза этихъ читателей были
поражены слѣпотою. Они никогда не перелистывали языческаго автора безъ того,
чтобы не придти въ ужасъ отъ опасности, которой они подвергались; пхъ постоянно
преслѣдовалъ страхъ, что вотъ они заразятся языческими понятіями и ввергнутъ душу
свою въ смертный грѣхъ. Вслѣдствіе такого настроенія они нарочно оставляли въ
сторонѣ великія образцовыя произведенія древности и замѣняли ихъ жалкими ком-
пиляціями, которыя портили вкусъ читателей, увеличивали ихъ легковѣріе, усиливали
ихъ заблужденія и послужили къ продленію невѣжества Европы; каждый отдѣльный
видъ суевѣрія облекался въ письменную, всѣмъ доступную, форму, и тѣмъ упрочи-
валось его вліяніе, и онъ получалъ возможность ослаблять разсудокъ даже въ самомъ
отдаленномъ потомствѣ.
Вотъ почему свойства литературы какого-нибудь народа имѣютъ гораздо мень-
шее значеніе, чѣмъ умственное состояніе тѣхъ, кому приходится читать ея произве-
денія. Въ вѣка, справедливо называемые темными, существовала литература, въ ко-
торой можно было найти драгоцѣнные матеріалы; но не было никого, кто бы съумѣлъ
ими воспользоваться. Въ продолженіе значительнаго періода латинскій языкъ былъ жи-
вымъ нарѣчіемъ, и люди того времени могли бы. еслибъ хотѣли, изучать великихъ
латинскихъ писателей. Но любовь къ подобнаго рода занятіямъ возможна только при
состояніи общества, совершенно отличномъ отъ тогдашняго. Люди того времени, по-
добно людямъ всѣхъ вообще временъ, измѣряли достоинства мѣриломъ, общеприня-
тымъ въ ихъ вѣкѣ; по тогдашнимъ понятіямъ, мишура цѣнилась дороже золота; вотъ
почему тогдашніе люди бросали золото, а копили мишуру. Что происходило тогда,
то происходитъ въ меньшемъ размѣрѣ и теперь. Всякая литература содержитъ въ
себѣ кое-что истинное и много ложнаго, и дѣйствіе ея будетъ зависѣть отъ искус-
ства, съ которымъ истина будетъ отдѣлена отъ лжп. Новыя идеи и новыя открытія
имѣютъ для будущаго такую важность, которую трудно было бы преувеличить; но
до тѣхъ поръ, пока истины не сознаны и открытія не приняты, они не имѣютъ ни-
какого вліянія и слѣдовательно не приносятъ никакой пользы. Никакая литература
не сдѣлаетъ добра народу^ не подготовленному къ воспріятію ея. Въ этомъ отноше-
ніи оказывается полная аналогія между литературой и религіей. Ежели религія и
литература какой-либо страны не соотвѣтствуютъ ея потребностямъ, то обѣ окажутся
безполезными, потому что литература будетъ въ пренебреженіи, а предписаніямъ ре-
лигіи не станутъ повиноваться. Въ подобныхъ случаяхъ самыя дѣльныя книги не
находятъ читателей и самое чистое ученіе подвергается презрѣнію. Сочиненія пре-
даются забвенію, вѣра искажается ересью.
х) Потому что, какъ говорилъ Лапласъ въ своихъ
замѣчаніяхъ объ источникахъ заблужденій въ связи съ
ученіемъ о вѣроятностяхъ: «вліянію мнѣнія тѣхъ, кого
толпа считаетъ самыми свѣдущими, кому она при-
Бокдь,—Изд. Ф. Павленкова.
вык.іа довѣрять разрѣшеніе самыхъ важныхъ вопро-
совъ жизни, должно приписать распространеніе за-
блужденій, которыя во времена невѣжества покрывали
собою землю».
8
114
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Есть еще одно мнѣніе, о которомъ я упоминалъ, это именно мнѣніе, будто бы
Европа главнымъ образомъ обязана своей цивилизаціей умѣнью, обнаруженному раз-
личными правительствами, и той смѣлости, съ какой болѣзни общества были облег-
чаемы посредствомъ законодательныхъ лекарствъ. Всякому, кто изучалъ исторію по
оригинальнымъ источникамъ, мысль эта должна казаться до такой степени дикой,
что весьма трудно опровергать ее съ приличной серьезностью. Дѣйствительно, изъ
всѣхъ общественныхъ теорій, когда-либо появлявшихся на свѣтъ, нѣтъ ни одной,
которая была бы до такой степени шатка и гнила во всѣхъ своихъ частяхъ. Намъ
сразу бросается въ глаза весьма простое соображеніе, что при обыкновенныхъ обстоя-
тельствахъ правителями какой бы то ни было страны бывали жители той же страны,
вскормленные ея литературой, взрощенные въ ея преданіяхъ и пропитанные ея предраз-
судками. Такіе люди суть во всякомъ случаѣ только творенія своего вѣка, но никакъ не
творцы его. Принимаемыя ими мѣры суть результаты, а не причины общественнаго про-
гресса. Это можетъ быть подтверждено не только умозрительными доводами, но также и
посредствомъ практическаго соображенія, которое всякій читающій исторію можетъ про-
вѣрить самъ для себя. Никакое политическое улучшеніе, никакая реформа въ сферѣ
законодательной или исполнительной ни въ одной странѣ не были обязаны своимъ
началомъ правителямъ этой страны. Первыя предложенія подобныхъ мѣръ постоянно
происходили со стороны смѣлыхъ и даровитыхъ мыслителей, которые замѣчаютъ зло-
употребленіе, изобличаютъ его и указываютъ средство къ его устраненію. Но еще
долго послѣ этого даже самое просвѣщенное правительство продолжаетъ поддержи-
вать злоупотребленіе, отвергая цѣлебное средство. Съ теченіемъ времени при благо-
пріятныхъ обстоятельствахъ давленіе внѣшней необходимости становится до того
сильнымъ, что правительство принуждено бываетъ уступить ему; а когда реформа
уже совершилась, то ожидаютъ со стороны народа преклоненія передъ мудростью
правителей, которые все это сдѣлали. Что политическій прогрессъ совершается именно
такимъ порядкомъ, это должно быть хорошо извѣстно каждому, кто изучалъ кодексы
различныхъ странъ въ связи съ изученіемъ успѣховъ ихъ знанія, предшествовав-
шихъ измѣненіямъ въ законодательствѣ. Полныя и рѣшительныя доказательства этому
будутъ представлены въ настоящемъ сочиненіи, но въ видѣ поясненія я здѣсь могу
указать на отмѣну хлѣбныхъ «законовъ» *)—безъ сомнѣнія одинъ изъ замѣчательнѣй-
шихъ фактовъ въ исторіи Англіи девятнадцатаго вѣка. Что отмѣнить законы о зерно-
вомъ хлѣбѣ было полезно и даже необходимо—это теперь признаетъ каждый сколько-
нибудь свѣдущій человѣкъ; но насъ занимаетъ только вопросъ о томъ, какимъ обра-
зомъ эта отмѣна совершилась. Тѣ изъ англичанъ, которые мало знаютъ исторію
своей страны, скажутъ, что настоящая причина всему дѣлу—мудрость парламента;
другіе же, пытаясь вникнуть въ дѣло нѣсколько глубже, припишутъ все дѣятельно-
сти особой лиги противъ законовъ о зерновомъ хлѣбѣ (АпІі-Согп-Ьалѵ-Ьеа§ие) и
произведенному ею давленію на правительство. Но тотъ, кто прослѣдитъ въ подроб-
ности постепенный ходъ этого великаго вопроса, найдетъ, что правительство, зако-
нодательство и лига были безсознательно орудіями той власти, которая сильнѣе всѣхъ
другихъ властей, соединенныхъ вмѣстѣ. Они были только органами, посредствомъ
которыхъ выражалось развитіе общественнаго мнѣнія по этому предмету, начавшееся
почти столѣтіемъ раньше. Весь ходъ этого обширнаго движенія я еще буду имѣть
случай разсмотрѣть; теперь же достаточно сказать, что вскорѣ послѣ половины во-
семнадцатаго вѣка нелѣпость покровительственныхъ стѣсненій въ отношеніи торговли*
была вполнѣ доказана политико-экономистами, такъ что въ ней долженъ былъ убѣ-
х) Подъ названіемъ «согп-1а\Ѵ8» извѣстны въ Англіи
постановленія, ограничивавшія посредствомъ пошлинъ
ввозъ и вывозъ зерна и другихъ матеріаловъ, изъ ко-
торыхъ приготовляется хлѣбъ. Эти законы издаваемы
были въ различныя времена, въ видахъ поощренія
англійскаго земледѣлія, и стѣсняли ввозъ зернового
хлѣба; наконецъ, общественное мнѣніе до того сильно
возстало противъ такого стѣсненія, что въ 1845—
1846 годахъ сэръ Робертъ Пиль внесъ въ парламентъ
і билли сначала объ ограниченіи, а потомъ объ оконча-
тельной отмѣнѣ согп-1авг8, которые и были отмѣнены
| 1-го февраля 1849 года. Прямѣй. переводи*
О ВЛІЯНІИ РЕЛИГІИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА. 115
диться каждый, кто понялъ ихъ доводы и вникнулъ въ смыслъ фактовъ, находящихся
съ ними въ связи. Съ этого времени отмѣна законовъ о зерновомъ хлѣбѣ стала не
дѣломъ партіи или цѣлесообразности, а просто дѣломъ знанія. Люди, знавшіе факты,
были противъ законовъ, а не знавшіе стояли за нихъ. Очевидно было, что при рас-
пространеніи знанія до извѣстнаго предѣла законы не могли устоять. Лига содѣй-
ствовала этому распространенію, парламентъ уступилъ ему—вотъ въ чемъ заключа-
лась ихъ заслуга. Но то достовѣрно, что и члены лиги, и члены законодательныхъ
палатъ могли не болѣе какъ только ускорить слегка событіе, которое успѣхи знанія
дѣлали неизбѣжнымъ. Еслибъ эти люди жили столѣтіемъ раньше, то они не имѣли
бы ни малѣйшаго успѣха, потому что вѣкъ былъ бы не довольно зрѣлъ для ихъ дѣя-
тельности. Они были созданіями того движенія, которое началось задолго до ихъ
рожденія; и все, что они могли сдѣлать, это привести въ дѣйствіе то, чему учили
другіе, и повторить болѣе громкимъ голосомъ уроки, слышанные ими отъ своихъ
учителей. Потому что ни другіе, ни даже они сами не считали чѣмъ-нибудь новымъ
тѣ истины, которыя они проповѣдывалп съ трибуны и распространяли во всѣхъ
частяхъ королевства. Ученіе это создано было гораздо ранѣе и постепенно дѣлало
свое дѣло, отнимая почву у старыхъ заблужденій и пріобрѣтая себѣ единомышлен-
никовъ во всѣхъ направленіяхъ. Преобразователи нашего времени плыли по тече-
нію; они содѣйствовали тому, чему невозможно было бы долго сопротивляться. И это
нельзя считать слишкомъ малой пли скупой похвалою услугамъ, несомнѣнно оказан-
нымъ этими людьми. Оппозиція, съ которой имъ пришлось бороться, все-таки была
чрезвычайно сильна; то упорпое сопротивленіе, которое встрѣчали до послѣдней
минуты начала свободной торговли, опиравшіяся въ теченіе почти ста лѣтъ на до-
воды, столь же твердые, какъ доказательства, лежащія въ основаніи математическихъ
истинъ,—должно надолго остаться въ памяти людей,/какъ убѣдительный примѣръ
отсталости, свойственной политическому знанію, и неспособности политическихъ зако-
нодателей быть судьями въ подобныхъ вопросахъ; огромнаго стоило труда склонить
парламентъ къ дарованію того, что народъ рѣшился непремѣнно получить, —къ при-
нятію мѣры, необходимость которой доказывали самые способные люди въ теченіе
трехъ послѣдовательныхъ поколѣній,
Я выбралъ этотъ случай, какъ пояснительный примѣръ, потому что относя-
щіеся до него факты не подлежатъ спору и конечно свѣжи въ памяти каждаго изъ
насъ. Дѣйствительно, не было тайной въ то время и не должно быть тайной для
потомства то обстоятельство, что эта великая мѣра, которая, за исключеніемъ Билля
о Реформѣ (КеГогш ВШ), несравненно важнѣе всѣхъ законодательныхъ актовъ, когда-
либо изданныхъ британскимъ парламентомъ,—была, подобно Биллю о Реформѣ, истор-
гнута у законодательной власти силою давленія извнѣ; что уступка эта сдѣлана не
охотно, а съ опасеніемъ, и что билль объ отмѣнѣ согп-іате проведенъ былъ тѣми
государственными людьми, которые, посвятивъ всю свою жизнь борьбѣ противъ его
началъ, внезапно сдѣлались ихъ защитниками. Такова исторіи этихъ событій; такова
тоже исторія всѣхъ улучшеній, которыя, по важности своей, должны считаться эпо-
хами въ исторіи новѣйшаго законодательства.
Кромѣ того есть еще одно обстоятельство, достойное вниманія писателей, кото-
рые приписываютъ значительную долю европейской цивилизаціи вліянію мѣръ, при-
нятыхъ европейскими правительствами, именно то обстоятельство, что каждая великая
реформа, которая была совершена, состояла не въ созданіи чего-либо новаго, а
въ отмѣнѣ чего-нибудь стараго. Самыми цѣнными пріобрѣтеніями закононодательства
были мѣры, уничтожавшія какіе-нибудь прежніе законы; а въ числѣ законовъ, кото-
рые были вновь издаваемы, наилучшими всегда оказывались законы объ отмѣнѣ
прежде изданныхъ постановленій. Въ случаѣ, только-что нами приведенномъ^ отно-
сительно законовъ о зерновомъ хлѣбѣ все дѣло состояло въ отмѣнѣ старыхъ зако-
новъ и въ предоставленіи торговлѣ ея естественной свободы. Когда великая реформа
эта совершилась, то единственнымъ результатомъ ея было водвореніе того же порядка
116 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
вещей, который имѣлъ бы мѣсто. еслибъ вовсе не было вмѣшательства со стороны
правительства. Точно то же замѣчаніе можетъ быть примѣнено къ другому важному
улучшенію въ новѣйшемъ законодательствѣ—именно къ уменьшенію религіозныхъ
преслѣдованій. Уменьшеніе это составляетъ безспорно огромное благо. — хотя къ
несчастно въ этомъ отношеніи даже самыя цивилизованныя страны еще далеки отъ
совершенства. Но тутъ очевидно вся уступка заключается только въ томъ, что зако-
нодатели воротились на пройденный ими путь и раздѣлали то, что сами же сдѣлали.
Разсматривая образъ дѣйствія самыхъ человѣчныхъ и просвѣщенныхъ правительствъ,
мы увидимъ, что они шли именно этимъ путемъ. Стремленія новѣйшаго законода-
тельства ограничиваются тѣмъ, что возвращаютъ дѣла въ ту колею, изъ которой ихъ
вытѣснило предшествовавшее законодательство. Вотъ одна изъ великихъ задачъ на-
стоящаго вѣка, и ежели законодатели хорошо выполнятъ ее, то* заслужатъ благодар-
ность человѣчества, Но законодатели, какъ цѣлый классъ, не имѣютъ никакихъ правъ
на благодарность, хотя мы и можемъ быть благодарны отдѣльнымъ законодателямъ.
Ежели самыя важныя улучшенія законодательства, состоятъ въ отмѣнѣ прежнихъ
законовъ, то ясно, что перевѣсъ добра не можетъ быть на сторонѣ законодателей.
Очевидно, нельзя приписывать успѣхи цивилизаціи тѣмъ людямъ, которые въ самыхъ
важныхъ вопросахъ надѣлали столько зла, что законодатели слѣдующихъ поколѣній
считаются благодѣтелями человѣчества, ежели только разрушаютъ дѣло предшествен-
никовъ и снова приводятъ вещи въ то положеніе, въ которомъ бы онѣ оставались,
когда бы политическіе дѣятели не мѣшали теченію дѣлъ, соотвѣтствующему потреб-
ностямъ общества.
Дѣйствительно, вмѣшательство правительствующихъ классовъ было такъ велико,
и бѣдствія, причиненныя этимъ вмѣшательствомъ, такъ Значительны, что здравомы-
слящіе люди удивляются, какъ могла цивилизація подвигаться впередъ при такомъ
постоянномъ умноженіи препятствій. Въ нѣкоторыхъ европейскихъ странахъ пре-
пятствія оказались въ самомъ дѣлѣ непреодолимыми и положительно остановили
національный прогрессъ. Даже въ Англіи, гдѣ по причинамъ, которыя будутъ мною
вскорѣ изложены, высшіе классы были въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ менѣе могу-
щественны, чѣмъ гдѣ-либо,—даже въ Англіи сумма зла, причиненнаго ими, хотя и
меньшая, чѣмъ въ другихъ странахъ, была все-таки довольно значительна, чтобы
составить предметъ грустной главы въ исторіи человѣчества. Перечесть всѣ бѣдствія
Англіи—значило бы написать исторію англійскаго законодательства; вообще можно
доказать, что, за исключеніемъ извѣстныхъ необходимыхъ законовъ относительно
охраненія порядка и наказанія за преступленія, почти все, что было сдѣлано, пред-
ставляетъ собою рядъ промаховъ. Такъ, ежели взять для примѣра только самые оче-
видные факты, не подлежащіе спору, то положительнымъ образомъ оказывается, что
всѣ самые важные интересы человѣчества жестоко пострадали отъ попытокъ законо-
дателей оказать имъ пособіе. Между принадлежностями новѣйшей цивилизаціи нѣтъ
предмета важнѣе торговли: ея развитіе способствовало къ увеличенію благосостоянія
и счастія человѣка конечно въ большей мѣрѣ, чѣмъ всякій другой отдѣльный дѣя-
тель. Между тѣм^ каждое европейское правительство, издавшее много законовъ
относительно торговли, дѣйствовало совершенно такъ, какъ будто бы имѣло прямой
цѣлью подавить торговлю и разорить торговцевъ. Вмѣсто того чтобы предоставить
національную промышленность естественному ея развитію, ее тревожили безконеч-
нымъ рядомъ постановленій; всѣ эти постановленія имѣли въ виду пользу/промыш-
ленности и всѣ жестоко ей вредили. Этотъ образъ дѣйствія привелъ къ тому, что
всѣ коммерческія преобразованія, которыми Англія отличалась въ теченіе послѣд-
нихъ двадцати лѣтъ, состояли единственно въ отмѣнѣ актовъ этого зловреднаго, на-
вязчиваго законодательства. Изданные въ прежнее время законы по предмету тор-
говли, изъ которыхъ еще слишкомъ многіе остаются въ своей силѣ, представляютъ
собою зрѣлище, достойное удивленія. Можно безъ преувеличенія сказать, что исторія
торговаго законодательства Европы содержитъ въ себѣ всевозможныя ухищренія къ
О ВЛІЯНІИ РЕЛИГІИ. ЛИТЕРАТУРЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА.
117
подавленію торговли. И дѣйствительно, писатель съ большимъ авторитетомъ недавно
объявилъ, что еслибъ не контрабанда, то торговля не могла бы существовать и неми-
нуемо должна была бы погибнуть вслѣдствіе этого безпрестаннаго вмѣшательства *)
Какъ бы ни могло казаться парадоксальнымъ подобное мнѣніе, его не станетъ оспа-
ривать никто изъ тѣхъ, кому извѣстно, до какой степени торговля была нѣкогда
слаба и какъ сильны были препятствія, которыя стояли на пути ея. Во всѣхъ отра-
сляхъ ея и во всякое время чувствовалась рука правительства. Пошлины на ввозъ
и пошлины на вывозъ; привилегіи, чтобы поднять убыточную торговлю, и налоги,
чтобы подавить прибыльную; запрещеніе одной отрасли промышленности и поощре-
ніе другой; такой-то предметъ торговли не должно было производить въ метрополіи,
потому что его производили колоніи,—другой можно было производить и покупать,
но не перепродавать, между тѣмъ какт» третій можно было продавать и покупать,
но не отпускать за границу. Далѣе опять мы находимъ законы, опредѣляющіе за-
дѣльную плату, законы, опредѣляющіе цѣны, законы, опредѣляющіе барыши, законы,
опредѣляющіе проценты на деньги; таможенные порядки самаго стѣснительнаго свой-
ства, съ присоединеніемъ еще той запутанной системы, которая мѣтко названа
скользкой лѣстницей (зіісітё-зсаіе) 2), — система эта до того коварно и хитро при-
думана, что пошлины на одинъ и тотъ же предметъ постоянно мѣнялись, и пикто
на свѣтѣ не могъ разсчитать впередъ, сколько ему придется заплатить. Къ этой не-
опредѣленности, которая сама по себѣ уже смертельный ядъ для торговли, присоеди-
нялась тягость пошлинъ, отзывавшаяся на всѣхъ классахъ производителей и по-
требителей. Пошлины были до того велики, что удваивали, а часто учетверяли
стоимость произведеній. Была организована и строго поддерживаема цѣлая система
вмѣшательства въ дѣла рынковъ, мануфактуръ, заводовъ/и даже лавокъ. Акцизные
стражи стерегли города, гавани покрыты были роемъ таможенныхъ чиновниковъ,—
единственное занятіе тѣхъ и другихъ состояло въ надзорѣ почти за всѣми отправле-
ніями домашней промышленности, въ заглядываніи во всѣ тюки и во взиманіи по-
шлинъ со всевозможныхъ товаровъ; а въ довершеніе нелѣпости болыпа^ часть всего
этого творилась въ видахъ покровительства, т. е. при этомъ давали уразумѣть, что
деньги взыскиваются и народъ подвергается стѣсненію не ради нуждъ правитель-
ства, а ради подданныхъ; другими словами, грабили промышленниковъ для поощре-
нія промышленности.
Таковы нѣкоторыя изъ благодѣяній, оказанныхъ европейской торговлѣ отече-
ской заботливостью европейскихъ законодателей. Но это еще далеко не весь вредъ.
Какъ пи велико экономическое зло, порожденное этой системой, зло нравственное
было еще больше. Первымъ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ ея было происхожденіе много-
численныхъ и сильныхъ шаекъ вооруженныхъ контрабандистовъ, которые жили нару-
шеніемъ законовъ, предписанныхъ невѣжественными правителями ихъ отечества.
Контрабандисты, люди отчаянные вслѣдствіе постояннаго страха наказанія п при-
вычные къ совершенію всякаго рода преступленій, заразили пограничное народо-
населеніе, внесли втэ мирныя села пороки, дотолѣ неизвѣстные, причиняли разо-
реніе цѣлыхъ семействъ, распространяли вездѣ, гдѣ появлялись, пьянство, воровство
и развратъ и прививали всѣмъ, съ кѣмч> сближались, тѣ грубыя и грязныя привычки,
которыя естественно рождаются среди бродяжнической п беззаконной жизни. Проис-
шедшія оттого безчисленныя преступленія должны прямо пасть на отвѣтственность
европейскихъ правительствъ, которыя ихъ вызывали. Причина преступленій заклю-
чалась въ законахъ; и теперь, когда эти законы отмѣнены, преступленія исчезли.
г) «Ежоля,—говоритъ Бланки,—торговля но по- нижала цѣны и нейтра-пюпровала гибельное дѣйствіе
гибла подъ вліяніемъ запретительной системы, то этимъ । монополій>.
ова обязана контрабандѣ, Въ то время, какъ система і Такъ называемая въ Англіи таблица, служив-
эта осуждала пароды па необходимость снабжаться ; шая къ вычисленію попілпны па всѣ предметы, про-
іредметамя потребленія пзъ самыхъ отдаленныхъ | порціонально повышенію или пониженію цѣнъ на зер-
нсточииковъ, контрабанда сокращала разстоянія, по- | новой хлѣбъ. Примѣч, переводы.
118
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Но едва-ли кто станетъ утверждать, что интересы цивилизаціи подвинулись впередъ
вслѣдствіе подобной политики. Едва-ли кто станетъ утверждать, что мы многимъ
обязаны этой системѣ, которая, породивъ новый классъ преступниковъ, наконецъ
возвращается къ старымъ порядкамъ и этимъ конечно пресѣкаетъ преступленія, но
въ сущности не болѣе какъ уничтожаетъ то зло, которое сама же сдѣлала.
Нѣтъ надобности говорить, что эти замѣчанія нисколько не касаются тѣхъ дѣй-
ствительныхъ услугъ, которыя всякое сносно-организованное правительство оказы-
вало обществу. Въ каждой странѣ долженъ кто-нибудь имѣть власть карать престу-
пленія и постановлять законы,—иначе нація будетъ въ состояніи анархій. Но обви-
неніе, которое историкъ не можетъ не предъявить противъ каждаго изъ существо-
вавшихъ до сихъ поръ правительствъ, состоитъ въ томъ, что каждое изъ нихъ пере-
ходило за предѣлы свойственныхъ ему отправленій и этимъ на всякомъ шагу при-
чиняло неизмѣримое зло. Любовь къ отправленію власти оказалась до того всеобщей,
что никто изъ людей, какого бы то ни было класса, имѣя въ рукахъ свѳю власть,
не воздерживался отъ употребленія ея во зло. Поддерживать порядокъ, предохра-
нить слабаго отъ притѣсненій со стороны сильнаго и принять извѣстныя мѣры пред-
осторожности относительно общественнаго здоровья-—вотъ единственныя услуги,
которыя можетъ оказать какое бы то ни было правительство интересамъ цивилизаціи.
Что эти услуги имѣютъ огромное значеніе—никто не станетъ отрицать; но нельзя
сказать, что ими двигается впередъ цивилизація или ускоряется прогрессъ человѣ-
чества. Услуги эти приготовляютъ почву для прогресса, но не болѣе; самый же про-
грессъ долженъ зависѣть отъ другихъ условій. Основательность такого именно взгляда
на законодательство очевидно доказывается еще и тѣмъ фактомъ, что по мѣрѣ рас-
пространенія знанія п по мѣрѣ того, какъ съ пріобрѣтеніемъ опытности каждое по-
слѣдовательное поколѣніе становится способнѣе понимать сложныя отношенія жизни,—
люди болѣе,и болѣе настойчиво требуютъ отмѣны тѣхъ покровительственныхъ зако-
новъ, которыхъ изданіе политическіе дѣятели считали величайшимъ торжествомъ
политическаго предвидѣнія.
И такъ, ежели заботы правительства о пользахъ цивилизаціи при полномъ
успѣхѣ имѣютъ характеръ чисто отрицательный, переходя же въ направленіе поло-
жительное—становятся вредными, то ясно, что всѣ сужденія, приписывающія про-
грессъ Европы мудрости ея правителей, должны быть ошибочны. Это заключеніе
опирается не только на приведенныхъ уже нами доводахъ, но и на множествѣ фак-
товъ, которые могутъ быть указаны на каждой страницѣ исторіи. Такъ какъ пи одно
правительство не признавало надлежащихъ предѣловъ своей власти, то въ резуль-
татѣ оказывается, что каждое правительство причинило своимъ подданнымъ много
вреда, при чемъ почти всегда руководствовалось самыми лучшими намѣреніями. По-
слѣдствія покровительственной политики, выразившіяся въ стѣсненіи торговли п, что
гораздо хуже, въ размноженіи преступленій, только-что были нами очерчены, а къ
этимъ примѣрамъ можно прибавить безчисленное множество другихъ. Такъ, въ теченіе
многихъ столѣтій каждое правительство считало своей непремѣнной обязанностью
покровительствовать религіозной истинѣ и преслѣдовать религіозное заблужденіе.
Это причинило бездну зла. Оставляя въ сторонѣ всѣ другія соображенія, достаточно
будетъ упомянуть два главныя послѣдствія такого взгляда-—именно развитіе лице-
мѣрія и клятвопреступленій. Тамъ, гдѣ исповѣданіе особыхъ убѣжденій сопряжено
съ опасносностыо какого бы то ни было наказанія,—непремѣнно происходитъ уве-
личеніе лицемѣрія. Какіе бы ни представлялись примѣры отдѣльныхъ лицъ, но то
достовѣрно, что для большинства людей чрезвычайно трудно долго противостоять
постояннымъ искушеніямъ. А когда искушеніе представляется людямъ въ видѣ по-
чести или денежнаго вознагражденія, то опп слишкомъ часто бываютъ готовы испо-
вѣдывать господствующія убѣжденія и отказываться конечно не отъ своего вѣро-
ванія, но отъ наружныхъ признаковъ, посредствомъ которыхъ вѣрованіе это публично
высказывается. Каждый человѣкъ, дѣлающій такоіі шагъ, — лицемѣръ, и каждое пра-
О ВЛІЯНІИ РЕЛИГІИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА. 119
вительство, поощряющее подобные поступки, потворствуетъ лицемѣрію и создаетъ
лицемѣровъ. И такъ, можно смѣло сказать, что когда какое-либо правительство объ-
являетъ, въ видѣ приманки, что лица, исповѣдывающія извѣстныя вѣрованія, будутъ
пользоваться извѣстными преимуществами, то оно поступаетъ, какъ ‘поступилъ нѣ-
когда искуситель, и подобно злому духу гнуснымъ образомъ предлагаетъ блага міра
сего тому, чт$ захочетъ перемѣнить свое поклоненіе и отречься отъ своей вѣры.
Въ то же время, какъ необходимая принадлежность той же системы, увеличеніе
клятвопреступленія шло рядомъ съ увеличеніемъ лицемѣрія. Законодатели, ясно видя,
что невозможно положиться на такихъ новообращенныхъ, придумали для предупре-
жденія опасности необыкновенныя мѣры предосторожности: они заставляли людей
подтверждать свою вѣру многократными клятвами и тѣмъ думали защитить старую
вѣру противъ новообращенныхъ. И вотъ это недовѣріе къ побужденіямъ ближняго
породило клятвы всевозможныхъ видовъ и направленій. Въ Англіи даже мальчика
въ школѣ заставляютъ присягать въ такихъ предметахъ, которыхъ онъ не въ со-
стояніи понимать,—предметахъ, съ которыми не могутъ совладать и болѣе зрѣлые
умы. Если этотъ мальчикъ впослѣдствіи вступаетъ въ парламентъ, то онъ опять дол-
женъ клясться въ своихъ религіозныхъ убѣжденіяхъ и почти на каждой ступени по-
литической жизни долженъ принимать новую присягу; такъ, нерѣдко торжествен-
ность присяги представляетъ страшный контрастъ съ пошлыми обязанностями, къ
которымъ она служитъ вступленіемъ. Вслѣдствіе торжественнаго призыванія Божества
въ свидѣтели на каждомъ шагу произошло то, чего и должно было ожидать: присяги,
предписываемыя по заведенному порядку, превратились наконецъ въ простую фор-
мальность. Что легко принимается, то легко и нарушается. Лучшіе наблюдатели
англійскаго общества—а въ4 числѣ ихъ были люди разныхъ характеровъ и нерѣдко
противоположныхъ убѣжденій — всѣ единогласно свидѣтельствуютъ, что въ Англіи
клятвопреступленіе, котораго непосредственный виновникъ само правительство, есть
зло до такой степени общее, что оно сдѣлалось источникомъ національной испор-
ченности, уменьшило цѣнность человѣческаго свидѣтельства и поколебало свойствен-
ное человѣку довѣріе къ слову ближняго г).
Открытые пороки и, что еще опаснѣе, тайная порча, порожденные такимъ
образомъ въ обществѣ невѣжественнымъ вмѣшательствомъ христіанскихъ правите-
лей,—конечно грустныя явленія, но я не могу умолчать о нихъ, разбирая причины
цивилизаціи. Легко было бы зайти далѣе въ этомъ изслѣдованіи и показать, какимъ
образомъ законодатели во всѣхъ своихъ попыткахъ оказать покровительство какимъ-
нибудь особеннымъ интересамъ и поддержать какія-либо особенныя начала не только
не имѣли успѣха, но даже приходили къ результатамъ прямо противоположнымъ ихъ
цѣлямъ. Мы видѣли, что ихъ законы, направленные въ пользу промышленности,
послужили ей во вредъ; что ихъ законы въ пользу религіи увеличили лицемѣріе, и,
наконецъ, законы, изданные ими ради огражденія истины, поощрили клятвопреступ-
леніе. Точно такимъ же порядкомъ почти въ каждой странѣ были принимаемы мѣры
къ предупрежденію лихвы и пониженію процентовъ на деньги, и вездѣ оказывался
одинъ и тотъ же результатъ—увеличеніе лихвы и возвышеніе процентовъ на деньги.
Никакое запрещеніе ври всевозможной строгости не въ силахъ уничтожить есте-
ственнаго отношенія между спросомъ и предложеніемъ, и вслѣдствіе этого, когда
однимъ нужно занять, другимъ отдать деньги въ долгъ, то обѣ стороны непремѣнно
находятъ средства избѣгнуть законъ, который мѣшаетъ имъ пользоваться каждому
своимъ правомъ. Еслибъ обѣимъ сторонамъ предоставлено было на свободѣ рѣшить
условія ихъ сдѣлки, то количество процентовъ зависѣло бы отъ обстоятельствъ займа,
Архіепископъ Вателп говоритъ — и едва-ли съ
нимъ не согласится теперь всякій здравомыслящій че-
ловѣкъ:—-«Если бы присяга была уничтожена съ остав-
леніемъ въ своей силѣ законовъ о наказаніи за ложное
свидѣтельство (не малое для насъ обезпеченіе), то,
но моему убѣжденію, въ сложности, свидѣтельскія по-
казанія оказались бы болѣо заслуживающими довѣрія,
чѣмъ теперь».
120 ' ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
каковы: степень обезпеченности и вѣроятіе уплаты. Но правительственное вмѣша-
тельство х) усложнило этотъ естественный процессъ. Такъ какъ ослушники закона
всегда подвергаются извѣстному риску, то ростовщикъ весьма основательно не даетъ
денегъ въ долгъ, пока не выговоритъ себѣ вознагражденія за страхъ грозящаго ему
наказанія. Это вознагражденіе можетъ дать только заемщикъ; такимъ образомъ на
дѣлѣ оказывается, что заемщикъ принужденъ платить собственно двойные проценты:
одни за рискъ, естественно сопряженный для заимодавца съ каждой отдачей денегъ
въ долгъ, а другіе—за добавочный рискъ, зависящій отъ закона. И вотъ въ какое
положеніе поставило себя каждое европейское законодательство. Своими мѣрами про-
тивъ лихвы оно увеличило зло, которое имѣло въ виду уничтожить; оно постановпло
законы, къ нарушенію которыхъ принуждаютъ людей самыя настоятельныя человѣ-
ческія потребности; и при этомъ въ окончательномъ выводѣ оказывается, что нака-
заніе за подобное нарушеніе падаетъ на тотъ самый классъ, ради пользы котораго
произошло вмѣшательство законодателей.
Въ этомъ же духѣ вмѣшательства и подъ вліяніемъ тѣхъ же ложныхъ понятій
о покровительствѣ великія христіанскія правительства принимали и другія, еще бо-
лѣе вредныя мѣры; они съ напряженной дѣятельностью постоянно возобновляли по-
пытки къ уничтоженію свободы печати и отнятію у людей всякой возможности выра-
жать свои мысли о самыхъ важныхъ политическихъ и религіозныхъ вопросахъ. Почти
во всѣхъ странахъ правительства съ помощью церкви учреждали обширную литера-
турную полицію, которой единственное назначеніе'—уничтожать несомнѣнное право
каждаго гражданина излагать свои убѣжденія передъ согражданами. Въ весьма не-
многихъ странахъ, гдѣ правительства остановились передъ этими крайностями, они
не преминули обратиться къ другимъ средствамъ, менѣе7 насильственнымъ, но столь
же предосудительнымъ. Тамъ, гдѣ пе было прямо запрещено свободное распростра-
неніе знаній, приняты были всевозможныя мѣры къ его замедленію. На всѣ учебныя
пособія, на всѣ орудія распространенія знанія, какъ-то: бумагу, книги, политическіе
журналы и т. п., правительства налагали до того тягостную пошлину, что еслибъ
они были даже присяжными защитниками народнаго невѣжества, то и тогда едва-
ли придумали бы что-нибудь хуже. Въ самомъ дѣлѣ, смотря на такія распоряженія
правительствъ, можно истинно сказать, что они обложили данью человѣческій умъ—
самую мысль заставили платить пошлину. Всякій, кто пожелаетъ сообщить свои
мысли другимъ съ цѣлью по возможности увеличить запасъ человѣческихъ познаній,
долженъ предварительно выплатить извѣстную дань государственному казначейству.
Это штрафъ за то, что человѣкъ учитъ своихъ ближнихъ. Это выкупъ, который
правительство насильно беретъ съ литературы, послѣ чего оно уже съ нею прими-
ряется и воздерживается отъ дальнѣйшихъ требованій. Но что всего невыносимѣе.—
это употребленіе, на которое идутъ эти и другіе, подобные имъ, поборы, выжимае-
мые изъ всякой отрасли труда, какъ матеріальнаго, такъ и умственнаго. Дѣйстви-
тельно, есть отъ чего придти въ ужасъ, когда сообразишь, ради чего происходитъ
и стѣсненіе знанія, и уменьшеніе прибыли, получаемой отъ честнаго труда, терпѣ-
ливаго мышленія и нерѣдко глубокаго генія; страшно подумать, что большая часть
ихъ скудной жатвы идетъ на увеличеніе роскоши празднаго и невѣжественнаго слоя
общества, на удовлетвореніе прихоти немногихъ могущественныхъ личностей, кото-
рыя слишкомъ часто имѣютъ возможность обращать противъ народа^средства, добы-
тыя его же трудомъ.
Э Въ этомъ случаѣ ему помогала и церковь. По-
становленія церковныхъ соборовъ содержать въ себѣ
множество статей противъ лихвы; а въ 1179 году папа
Александръ повелѣлъ ростовщиковъ лишать погребенія.
«Во всѣхъ почти мѣстахъ преступная лихва до того
усилилась, что многіе, оставляя другія дѣла, зани-
маются лихвой и не внимаютъ тому, до какой степени
опа (лихва) осуждается текстомъ обоихъ завѣтовъ; по-
этому мы постановляемъ, чтобы изобличенные ростов-
щики не были допускаемы къ причастію и чтобы они,
въ случаѣ ихъ смерти въ состояніи этого грѣха, не
получали христіанскаго погребенія, а также, чтобы
ппкто не принималъ ихъ пожертвованій (на церковь)э.
Въ Испаніи лихва была подсудна инквизиціи.
О ВЛІЯНІИ РЕЛИГІИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА. 121
Какъ эти, такъ и предыдущія замѣчанія относительно дѣйствія, произведен-
наго политическимъ законодательствомъ на европейское общество, далеко не сомни-
тельные выводы, основанные на предположеніяхъ, а такія истины, которыя каждый,
кто читаетъ исторію, можетъ самъ провѣрить. Нѣкоторыя изъ приведенныхъ мною
законодательныхъ мѣръ еще и теперь имѣютъ силу въ Англіи; и всѣ онѣ могутъ
быть наблюдаемы въ полномъ пхъ дѣйствіи не въ той, такъ въ другой странѣ.
Совокупность этихъ мѣръ представляетъ собою явленіе до того грозное, что мы по
справедливости можемъ удивляться, какъ, въ виду всего этого, цивилизація могла
двигаться впередъ. Что она при такихъ обстоятельствахъ дѣйствительно подвига-
лась, это доказываетъ энергію человѣка и оправдываетъ существованіе твердой
вѣры въ то, что по мѣрѣ уменьшенія давленія законодательства и освобожденія
человѣческаго ума отъ законодательныхъ оковъ прогрессъ будетъ совершаться съ
увеличивающейся скоростью. Но приписывать законодательству какую бы то ни было
долю прогресса—нелѣпость, насмѣшка надъ здравымъ смысломъ; неразумно также
ожидать отъ будущихъ законодателей другихъ благодѣяній, кромѣ того, которое бу-
детъ состоять въ уничтоженіи работы ихъ предшественниковъ. Вотъ чего проситъ
у законодателей настоящее поколѣніе, а чего одно поколѣніе проситъ какъ дара,
того другое требуетъ какъ права—это слѣдуетъ помнить. Когда же въ правѣ упрямо
отказывали, то въ такомъ случаѣ происходило всегда одно изъ двухъ: или нація
шла назадъ, или же возставала. Вотъ дилемма, въ которую упрямое правительство
ставитъ подданныхъ. Если они покорятся, то повредятъ своему отечеству, если воз-
станутъ—могутъ повредить ему еще болѣе. Въ древнихъ монархіяхъ Востока народъ
обыкновенно выбиралъ систему покорности; въ монархіяхъ европейскихъ — систему
сопротивленія. Отсюда рядъ возстаній и возмущеній, занимающій такое обширное
мѣсто въ новѣйшей исторіи и представляющій собой повтореніе все той же повѣсти
о вѣчной борьбѣ между притѣснителями и притѣсненными. Однако несправедливо
было бы отрицать, что въ одной странѣ въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній успѣшно
предотвращали роковой кризисъ. Въ одной европейской странѣ, и только въ одной, на-
родъ былъ такъ силенъ, а правительство было такъ слабо, что исторія ея законода-
тельства, ві> сложности, представляетъ собою, несмотря на нѣкоторыя уклоненія, исто-
рію медленно, но постоянно совершавшихся уступокъ; реформы, въ которыхъ бы отка-
зали логическимъ доводамъ, даны были но страху; и въ то же время вслѣдствіе по-
стояннаго усиленія демократическихъ идей покровительственныя мѣры и привилегіи
были одна за другой (нѣкоторыя на нашей памяти) совершенно искоренены; дошло,
наконецъ, до того, что старыя постановленія, сохраняя прежнее имя, потеряли
свою прежнюю силу: и нѣтъ болѣе сомнѣнія на счетъ ихъ будущей окончательной
судьбы. Едва-ли нужно присовокуплять, что въ этой самой націи, гдѣ болѣе, чѣмъ
во всякой другой странѣ Европы законодатели являются представителями и послуш-
никами народной воли, прогрессъ по этому самому совершался съ большей, чѣмъ
гдѣ-либо, правильностью; не было ни анархіи, ни революціи; и свѣтъ имѣлъ случай
коротко ознакомиться съ великой истипой, что главное условіе благосостоянія народа
заключается просто въ слѣдующемъ: чтобы правители страны пользовались своею
властью весьма бережливо и ни въ какомъ случаѣ не имѣли бы притязанія на сте-
пень верховныхъ' судей въ интересахъ народа, а также по считали бы себя въ правѣ
идти наперекоръ желаніямъ тѣмъ, ради блага которыхъ они занимаютъ ввѣренное
имъ мѣсто.
Г Л А В А VI.
Начало исторіи и состояніе исторической литературы вт, средніе вѣна.
И такъ я представилъ читателямъ разборъ тѣхъ наиболѣе замѣтныхъ обстоя-
тельствъ, которымъ обыкновенно приписываютъ успѣхи цивилизаціи, и доказалъ,
что обстоятельства эти далеко не составляютъ причины цивилизаціи, а могутъ быть
признаны развѣ только ея послѣдствіями; доказалъ, что хотя религія, литература и
законодательство и имѣютъ, безъ сомнѣнія, вліяніе па состояніе человѣчества, но
сами еще болѣе подчиняются вліянію этого послѣдняго. И въ самомъ дѣлѣ, какъ мы
ясно видѣли, религія, литература и законодательство, даже при самомъ благопріят-
номъ положеніи ихъ, могутъ быть только второстепенными дѣятелями; какъ бы ни
было благодѣтельно ихъ кажущееся вліяніе, они сами все-таки составляютъ про-
дуктъ предшествовавшихъ деремѣнъ, и тѣ результаты, къ Доторымъ они приводятъ,
бываютъ различны, смотря по обществу, на которое они дѣйствуютъ.
Такимъ образомъ съ каждымъ послѣдовательнымъ анализомъ кругъ настоя-
щаго изслѣдованія нашего все становился тѣснѣе, пока намъ не представился, на-
конецъ, основательный поводъ заключить, что европейская цивилизація обязана сво-
имъ развитіемъ однимъ успѣхамъ знанія, и что успѣхи знанія зависятъ отъ числа
истинъ, открываемыхъ человѣческимъ умомъ, и отъ степени распространенія этихъ
истинъ. Въ подкрѣпленіе этому положенію я до сихъ поръ представлялъ только
такіе общіе доводы, которые дѣлаютъ его въ сильнѣйшей1 степени правдоподобнымъ;
но для возведенія этого правдоподобія въ полную достовѣрность необходимо бу-
детъ прибѣгнуть къ исторіи въ обширномъ смыслѣ этого слова Подкрѣпить умо-
зрительные выводы полнымъ перечисленіемъ самыхъ важныхъ частныхъ фактовъ—
вотъ задача, которую я намѣренъ выполнить, насколько позволять мои силы. Въ
предыдущей главѣ я віфатцѣ изложилъ методъ, котораго я буду придерживаться въ
моихъ изслѣдованіяхъ. Кромѣ того, мнѣ показалось, что выведенныя мною начала
можно провѣрить еще однимъ способомъ, о которомъ я до сихъ поръ не упоминалъ,
но который имѣетъ тѣсную связь съ занимающимъ насъ предметомъ, а именно: со-
единить съ изслѣдованіемъ успѣховъ исторіи человѣка такое же изслѣдованіе самой
науки исторіи. Это прольетъ значительный свѣтъ на движеніе общества, такъ какъ
всегда должна быть связь между образомъ воззрѣнія людей на прошедшее и обра-
зомъ воззрѣнія ихъ на настоящее — оба воззрѣнія на дѣлѣ оказываются не болѣе,
какъ различными формами одного и того же склада мыслей, и потому въ каждомъ
вѣкѣ между ними бываетъ замѣтно нѣкоторое сочувствіе, нѣкоторое' согласіе. По-
добнаго рода изслѣдованіе того, что я называю исторіей исторіи, приведетъ также
въ достовѣрную извѣстность два крупные факта, имѣющіе большую важность. Пер-
вый фактъ— что въ теченіе трехъ послѣднихъ столѣтій историки вообще обнару-
живали все большее и большее уваженіе къ человѣческому уму и отвращеніе къ
тѣмъ безчисленнымъ ухищреніямъ, которыя прежде совершенно оковывали его.
Второй фактъ — что въ теченіе того же періода времени тѣ же историки прояв-
ляли все большую и большую склонность пренебрегать предметами, нѣкогда почи-
тавшимся за особенно важные, и охотнѣе обращали вниманіе на предметы, имѣю-
НАЧАЛО ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
123
щіе связь съ состояніоігь народа и съ распространеніемъ знанія. Оба эти факта
будутъ положительнымъ' образомъ доказаны въ настоящемъ введеніи; и нельзя не
согласиться, что существованіе ихъ служитъ подтвержденіемъ выведенныхъ мною
началъ. Если можно доказать, что съ усовершенствованіемъ общества историче-
ская литература постоянно направлялась въ одну опредѣленную сторону, то это весьма
сильно говоритъ въ пользу вѣрности тѣхъ воззрѣній, къ которымъ она явно при-
ближается. Именно этого рода вѣроятность и дѣлаетъ особенно важнымъ для из-
учающаго какую-нибудь отдѣльную науку знакомство съ ея исторіей; ибо всегда
можно смѣло предположить, что когда знаніе вообще подвигается впередъ, то и
каждая отрасль его, если только ей посвятили себя люди способные, тоже подви-
гается впередъ, хотя бы даже результаты были такъ малы, что казались бы не за-
служивающими вниманія. Вотъ почему особенно полезно слѣдить за тѣмъ, какъ съ
теченіемъ времени измѣнялась точка зрѣнія историковъ. Мы найдемъ, что измѣненія
эти всегда, наконецъ, оказывались клонящимися въ одну сторону; что они соста-
вляютъ въ сущности только часть того великаго движенія, посредствомъ котораго
человѣческій умъ, преодолѣвая безконечныя трудности, возстановлялъ свои права и
мало по малу освобождался отъ застарѣлыхъ предразсудковъ, долгое время остана-
вливавшихъ его дѣятельность.
По всѣмъ этимъ соображеніямъ мнѣ кажется полезнымъ, разсматривая различныя
цивилизаціи, между которыми подѣлены главнѣйшія страны Европы, показывать также,
какимъ образомъ писалась вообще исторія въ каждой изъ этихъ странъ. При испол-
неніи этого я буду главнѣйшимъ образомъ руководствоваться желаніемъ сдѣлать
очевиднымъ существованіе тѣсной связи между настоящимъ состояніемъ народа и
его сужденіями о прошедшемъ; а чтобы имѣть постоянно передъ глазами эту связь,
я буду разсматривать состояніе исторической литературы не какъ отдѣльный пред-
метъ, но какъ часть исторіи умственнаго развитія каждаго народа. Настоящій томъ
будетъ содержать въ себѣ обзоръ главнѣйшихъ характеристическихъ чертъ фран-
цузской цивилизаціи до революціи; тутъ же будетъ включенъ разборъ француз-
скихъ историковъ и сдѣланныхъ ими замѣчательныхъ улучшеній въ ихъ отрасли
знанія. Отношеніе между этими улучшеніями и тѣмъ состояніемъ общества, изъ ко-
тораго они проистекли, поразительно, и потому оно будетъ разобрано съ нѣкоторой
подробностью; въ слѣдующсмъ же томѣ будутъ разсмотрѣны такимъ же порядкомъ
цивилизація и историческая литература другихъ замѣчательныхъ странъ. Прежде
однако чѣмъ приступить къ этимъ предметамъ, мнѣ пришла мысль, что предвари-
тельное изслѣдованіе происхожденія европейской исторіи не лишено было бы инте-
реса въ томъ отношеніи, что ознакомило бы читателей съ вещами вообще мало
извѣстными и дало бы имъ возможность понять, съ кактппі трудомъ исторія достигла
своего теперешняго, сравнительно лучшаго, но все еще весьма несовершеннаго со-
стоянія. Матеріалы для изученія самаго ранняго состоянія Европы уже давно утра-
чены; но обширныя свѣдѣнія, которыя мы теперь имѣемъ о варварскихъ народахъ,
послужатъ вамъ большой помощью, потому что всѣ такіе народы имѣютъ между
собою много общаго; дѣйствительно, мнѣнія крайне невѣжественныхъ людей вездѣ
одни и тѣ же, исключая только тѣхъ случаевъ, въ которыхъ мнѣнія эти зависятъ
отъ различій, представляемыхъ самой природой разныхъ странъ. Потому я, не
колеблясь, воспользуюсь данными, собранными свѣдущими путешественниками, и
сдѣлаю по нимъ заключеніе о томъ періодѣ исторіи европейскаго ума, о которомъ
мы не имѣемъ прямыхъ свѣдѣній. Конечно это будутъ выводы умозрительные; впро-
чемъ за послѣднюю тысячу лѣтъ намъ вовсе не придется прибѣгать къ нимъ, такъ
какъ всѣ главнѣйшія страны имѣли своихъ лѣтописцевъ, начиная съ IX столѣтія, а
Франція имѣла ихъ цѣлый рядъ, даже начиная съ VI столѣтія. Въ настоящей
главѣ я намѣренъ доказать образчики того, какъ писали обыкновенно исторію до
XVI столѣтія люди, пользовавшіеся самымъ большимъ авторитетомъ въ Европѣ. Объ
улучшеніяхъ, послѣдовавшихъ въ этой отрасли знанія въ ХѴ’П и ХѴТП столѣтіяхъ,
124. ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
будетъ упомянуто особо, въ исторіи каждой изъ странъ, въ которыхъ сдѣланы были
эти успѣхи; а такъ какъ до этихъ улучшеніи исторія была не болѣе, какъ сплете-
ніемъ грубѣйшихъ ошибокъ, то я прежде всего разсмотрю главнѣйшія причины та*
кого повсемѣстнаго искаженія ея и покажу, какъ дошла она до такого безобразія,
что въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій въ Европѣ не было ни одного человѣка, который
критически изучилъ бы прошедшее, или который могъ бы- хотя со сносной вѣр-
ностью записать событія его собственнаго времени.
Въ весьма ранній періодъ развитія народа и задолго до того, какъ онъ озна-
комится съ употребленіемъ буквъ, онъ чувствуетъ потребность въ чемъ-нибудь та-'
комъ, чтб бы могло услаждать его досугъ въ мирное время и возбуждать его храб-
рость на войнѣ. Потребности этой удовлетворяетъ изобрѣтеніе балладъ. Онѣ соста-
вляютъ основаніе всякаго историческаго знанія и встрѣчаются въ томъ или другомъ
видѣ даже у нѣкоторыхъ изъ самыхъ грубыхъ племенъ на земномъ шарѣ. Онѣ по
большей части поются особаго класса людьми, которыхъ единственное занятіе—
хранить такимъ образомъ запасъ преданій. И дѣйствительно, такъ естественно
любопытство, возбуждаемое въ людяхъ прошедшими событіями, что весьма немного
народовъ, которые бы не знали такихъ бардовъ, или менестрелей. Такъ можно
сказать—ограничиваясь лишь нѣсколькими примѣрами, — что именно этого рода
пѣвцы сохранили народныя преданія но только Европы, но и Китая, Тибета, Тата-
ріи, а также Индіи, Синда, Белуджистана, Западной Азіи, острововъ Чернаго Моря,
Египта, Западной Африки, Сѣверной Америки, Южной Америки и острововъ Тихаго
Океана.
Во всѣхъ этихъ странахъ долго не знали буквъ; а такъ какъ въ такомъ со-
стояніи общества народъ 'це имѣетъ другихъ средствъ7 увѣковѣчить свою исторію,
какъ изустныя преданія, то\онъ и выбираетъ для нихъ форму, наиболѣе приспосо-
бленную къ легчайшему удержанію ихъ въ памяти. Поэтому, я полагаю, первые зачатки
знанія всегда должны были состоять въ поэзіи и часто въ риѳмахъ х). Все, чтб зве-
нитъ, пріятно для слуха варвара — въ этомъ и заключается ручательство, что онъ
передастъ разсказъ своимъ дѣтямъ въ томъ же неиспорченномъ видѣ, въ какомъ онъ
достался ему самому 2). Такое огражденіе отъ ошибокъ придаетъ еще большую
цѣнность балладамъ, которыя, вмѣсто того чтобы считаться просто предметомъ забавы,
возвышаются иногда до значенія авторитетовъ при разрѣшеніи нѣкоторыхъ спор-
ныхъ вопросовъ. Намека, заключающагося въ балладѣ, бываетъ иногда достаточно
для рѣшенія спора о заслугахъ соперничающихъ родовъ или даже для опредѣленія
границъ тѣхъ грубыхъ видовъ поземельной собственности, какія возможны въ такомъ
состояніи общества. Такъ мы находимъ, что извѣстные декламаторы и сочинители
этого рода пѣсенъ бываютъ въ то же время и признанными судьями во всѣхъ спорныхъ
вопросахъ; а такъ какъ они часто принадлежатъ къ духовенству и предполагаются вдох-
новенными свыше, то это* вѣроятно и послужило первымъ основаніемъ мнѣнію о
божественномъ происхожденіи поэзіи 3). Баллады бываютъ конечно различны, смотря
*) Замѣчательное доказательство небрежности, съ
какой изучали исторію варварскихъ народовъ, пред-
ставляется въ томъ фактѣ, что писатели постоянно
утверждаютъ, будто риѳма — изобрѣтеніе сравнительно
недавнее; даже Пинкертонъ въ письмѣ къ Лепгу 1799 г.
говоритъ: «риѳма сдѣлалась извѣстна въ Европѣ не
ранѣе, какъ около IX столѣтія». Дѣло въ томъ, что
рпома была извѣстна не однимъ древнимъ грекамъ и
римлянамъ, а употреблялась также задолго до времени,
указываемаго Пинкертономъ, англосаксами, ирландцами,
валисцами п, я полагаю, даже бретонцами. Риома упо-
требляется также персіапами, китайцами, малайцами,
яванцами и сіамцами.
2) Пріобрѣтенная такимъ образомъ привычка долго
переживаетъ вызвавшія ее обстоятельства. Въ продолже-
ніе многихъ столѣтій любовь къ версификаціи была
такъ распространена, что сочиненія съ риѳмами ппса-
лпсь почти на всѣ предметы, даже въ Европѣ; и это
обыкновеніе, но служащее признакомъ преобладанія во-
ображенія, есть, какъ я уже показалъ, характеристи-
ческая черта великой индійской цивилизаціи, въ ко-
торой умъ всегда находился въ состояніи подчиненія.
Нѣкоторые изъ старинныхъ французскихъ историковъ
писали риѳмами. Монтюкля упоминаетъ объ одномъ
; математическомъ трактатѣ, написанномъ въ VIII сто-
; лѣтіи «еп ѵегз іесііпщнез». Точно также мы находимъ
। англо-норманское сочиненіе «Институты Юстиніана»
| въ стихахъ и польскаго историка, пишущаго свои
| многочисленныя сочиненія о генеалогіи и геральдикѣ
большей частью риѳмами.
I 3) Вдохновенное начало поэзіи объясняютъ иногда
I ея самопроизвольностью (Сонзіп, «Ній. де Іа РЬіІо-
НАЧАЛО ИСТОРИЧЕСКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы.
125
по обычаямъ и характеру каждаго народа и смотря по климату, въ которомъ онъ
живетъ. На югѣ онѣ принимаютъ страстную форму, на сѣверѣ же отличаются ско-
рѣе героическимъ, .воинственнымъ характеромъ. Несмотря однако на такія различія,
всѣ этого рода произведенія имѣютъ одну обиіую черту: не только въ основаніи ихъ
лежитъ истина, но и сами они, за исключеніемъ поэтическихъ украшеній, строго
вѣрны истинѣ. Людей, которые безпрестанно повторяютъ постоянно слышимыя ими
пѣсни и которые обращаются къ призваннымъ пѣвцамъ этихъ п Коенъ за оконча-
тельнымъ разрѣшеніемъ спорныхъ вопросовъ, не легко ввести въ заблужденіе на
счетъ тѣхъ предметовъ, въ достовѣрности которыхъ для нихъ заключается такой
живой интересъ.
Вотъ самая ранняя и самая простая изъ ступеней, по которымт» должна необ-
ходимо пройги исторія. Но съ теченіемъ времени, если только не случается неблаго-
пріятныхъ обстоятельствъ, общество подвигается впередъ, и въ числѣ другихъ
перемѣнъ бываетъ одна, имѣющая особенную важность—я разумѣю введеніе письма,
которое, прежде чѣмъ пройдетъ нѣсколько поколѣній, должно произвести совершен-
ную перемѣну въ характерѣ народныхъ преданій. Какимъ именно образомъ совер-
шается такая перемѣна, этого, сколько мнѣ извѣстно, еще никто не объяснилъ, и
потому интересно будетъ попробовать * прослѣдить нѣкоторыя подробности этого
процесса.
Первое и можетъ быть самое очевидное соображеніе заключается въ томъ,
что введеніе письма даетъ прочность народному знанію и, слѣдовательно, уменьшаетъ
пользу той устной передачи свѣдѣній, которой должны ограничиваться всѣ средства
наученія неграмотнаго народа. Вотъ почему, по мѣрѣ прогресса націи, значеніе пре-
даній уменьшается и самыя преданія становятся менѣе' достовѣрны *)• При томъ въ
такомъ состояніи общества хранители этихъ преданій теряютъ значительную долю
своей прежней извѣстности. У совершенно неграмотнаго народа пѣвцы балладъ
оказываются, какъ мы уже видѣли, единственными хранителями тѣхъ историческихъ
фактовъ, отъ которыхъ зависитъ главнѣйшимъ образомъ слава и часто даже собствен-
ность ихъ правителей. Но тотъ же самый пародъ, знакомясь съ употребленіемъ
письма, уже не желаетъ болѣе ввѣрять этого рода предметы памяти какого-нибудь
странствующаго пѣвца, а пользуется своимъ новымч> искусствомъ, чтобы сохранить
ихъ въ неизмѣнной, осязательной формѣ. Какъ скоро совершается подобная пере-
мѣна, значеніе лицъ, повторяющихъ народныя преданія, видимо уменьшается. Классъ
этотъ постепенно мельчаетъ; съ утратою его прежней извѣстности въ немъ пере-
стаютъ являться тѣ замѣчательныя личности, которьшъ онч» былъ обязанъ своей
древней славой. И такъ мы видимъ, что хотя безъ письма и не можетъ быть осо-
бенно важнаго знанія, но тѣмъ не менѣе справедливо, что введеніе письма вредно
для историческихъ преданій въ двухъ различныхъ отношеніяхъ: во-первыхъ, оно
ослабляетъ силу самыхъ преданій, а во-вторыхъ, ведетъ къ упадку классъ людей,
занимающихся храненіемъ ихъ.
Но это еще не все. Употребленіе письма не только уменьшаетъ число преем-
ственныхъ истинъ, но лі прямо потворствуетъ распространенію всего ложнаго. Это
происходитъ въ силу, такъ сказать, принципа накопленія, которому всѣ системы
вѣрованій въ значительной мѣрѣ были обязаны своимъ успѣхомъ. Такъ, напримѣръ,
въ древности давалось имя «Геркулесъ» многимч^ изъ тѣхъ великихъ публичныхъ гра-
зоріііе», II зёгіе, ѵоі. 1, рр. 135, 136): и пе можетъ
быть сомнѣнія, что одна изъ причинъ, возбуждающихъ
глубокое уваженіе къ великимъ поэтамъ, заключается
въ испытываемой ими повидимому необходимости изли-
вать свои мысли, независимо отъ собственнаго жела-
нія. Во всякомъ случаѣ, я полагаю, будетъ найдено,
что взглядъ па поэзію, какъ па божественное искус-
ство, наиболѣе преобладаетъ въ такомъ состояніи обще-
ства, въ которомъ знаніе составляетъ монополію бар-
довъ и въ которомъ барды бываютъ въ то же время
священниками и историками.
, !) Чго изобрѣтеніе письма прежде всего осла-
і бляетъ память, это замѣчено въ Платоновой «Федрѣ»;
однако Платовъ заходить слишкомъ уже далеко въ
своей аргументаціи.
126 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
бителей, которые были бичами человѣчества и которые, если ихъ злодѣянія оказыва-
лись столь же удачны, какъ и громадны, могли навѣрно разсчитывать, что послѣ
смерти имъ будутъ поклоняться, какъ героямъ. Какъ произошло ото названіе, съ
достовѣрностью не извѣстно; но по всей вѣроятности оно было сперва дано одному
человѣку, а потомъ перешло и на тѣхъ, которые уподоблялись ему свойствомъ своихъ
подвиговъ. Такого рода повтореніе одного имени весьма обыкновенное дѣло у вар-
варскаго народа *), и оно не подавало повода ни къ какимъ недоразумѣніямъ до
тѣхъ поръ, цока преданія ограничивались извѣстной мѣстностью и оставались раз-
розненными. Но лишь только они облеклись въ постоянную письменную форму, люди,
собиравшіе ихъ, обманутые сходствомъ именъ, соединяли въ одно цѣлое разбросанные
факты и, приписывая одному человѣку все это скопленіе подвиговъ, низводили такимъ
образомъ исторію до значенія миѳологіи, исполненной чудесъ 2).
Такимъ точно образомъ вскорѣ послѣ того, какъ употребленіе буквъ сдѣлалось
извѣстно на сѣверѣ Европы, Саксонъ Грамматикъ начерталъ жизнеописаніе знаме-
нитаго Рагнара Лодброка. Случайно ли или съ намѣреніемъ, этому великому скан-
динавскому воину, заставлявшему дрожать Англію, дано было одинаковое имя съ
другимъ Рагнаромъ, принцемъ ютландскимъ, который жилъ цѣлымъ столѣтіемъ ранѣе.
Это совпаденіе именъ не произвело бы никакого педоразумѣнія, еслибъ каждая изъ
странъ сохраняла особое, самостоятельное сказаніе о своемъ Рагнарѣ. Но съ помощью
письма люди получили возможность соединять въ одно цѣлое два различные хода
событій и какъ бы сливать двѣ истины въ одну ложь. Такъ именно было и въ раз-
сказываемомъ нами случаѣ. Легковѣрный Саксонъ соединилъ различные подвиги
обоихъ Рагнаровъ и, приписавъ эти подвиги во всей цѣлбети своему любимому герою,
покрылъ мракомъ одну изъ занимательнѣйшихъ частей7исторіи Европы.
Лѣтописи сѣвера представляютъ намъ еще одинъ любопытный примѣръ такого
источника заблужденія. Значительную часть восточнаго берега Ботническаго залива
занимало финское племя Квеновъ (Ціпвпз). Мѣстность эта была извѣстна подъ име-
немъ Квенландіи ((^иаепіаші), и это имя подало поводъ къ повѣрью, будто на сѣверѣ
Балтійскаго моря существуетъ нація Амазонокъ, Предположеніе это не трудно было
провѣрить знакомствомъ съ самой мѣстностью, но употребленіе письма сразу упро-
чило эту пустую молву, и нѣкоторые изъ древнѣйшихъ европейскихъ историковъ поло-
жительно утверждаютъ, что такой народъ дѣйствительно существуетъ. Рѣка Амазонка,
въ Южной Америкѣ, обязана своимъ именемъ подобной же баснѣ. Такъ точно Або,
древняя столица Финляндіи, называлась Турку (Тигкп). что по-шведски значитъ
рыночное мѣсто; Адамъ Бременскій въ своемъ изысканій о странахъ, прилегающихъ
къ Балтійскому морю, былъ введенъ въ такое заблужденіе словомъ Тнгки, что сталъ
увѣрять своихъ читателей, будто въ Финляндіи были турки*
Къ этимъ примѣрамъ можно было бы прибавить и много другихъ, показываю-
щихъ, до какой степени одни имена вводили въ заблужденіе прежнихъ историковъ
и подавали поводъ къ совершенно ложнымъ свидѣтельствамъ. Подобныя показанія
легко было провѣрить на мѣстѣ, но съ помощью письма они заносились въ отда-
ленныя страны и чрезъ это становились внѣ всякаго противорѣчія. Приведу еще
одинъ изъ такихъ случаевъ, касающихся собственно исторіи Англіи. Ричардъ I,
самый варварскій ивъ всѣхъ нашихъ государей, былъ извѣстенъ современникамъ
подъ именемъ Льва,—названіе, которое было ему дано вслѣдствіе его неустраши-
мости и дикости нрава. По этому самому говорили, что у него львиное сердце, п
титулъ Совпг сіе ІЛоп не только сталъ нераздѣленъ съ его именемъ, но и подалъ
*) Обыкновеніе обобщать имена предшествовало
тому болѣе развитому состоянію общества, въ кото- ,
ромъ люди обобщаютъ явленія. Если предположеніе I
это совершенно вѣрно, — а мнѣ кажется, что это !
такъ, — то это проливаетъ нѣкоторый свѣтъ на |
исторію споровъ между номиналистами и реалистами.
2) 0 томъ, до какой стснеаа обиленъ этотъ источ-
никъ заблужденія, мы можемъ составить себѣ понятіе
пзъ того факта, что въ Египтѣ было 53 города одного
и того же имени.
НАЧАЛО ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
127
поводъ къ разсказу, повторенному безчисленнымъ множествомъ писателей, о томъ,
будто бы онъ убилъ льва въ единоборствѣ. Имя подало поводъ къ разсказу, а разсказъ
подтвердилъ имя, и такимъ образомъ прибавилась новая выдумка къ длинному ряду
ложныхъ слуховъ, изъ которыхъ слагалась главнѣйшимъ образомъ исторія въ сред-
ніе вѣка*
Искаженію исторіи, происшедшему естественнымъ образомъ отъ самаго уже
введенія письма, способствовало въ Европѣ еще одно обстоятельство. Вмѣстѣ съ
письмомъ пріобрѣтались въ большей части случаевъ и кое-какія познанія о хри-
стіанствѣ, и новая религія не только уничтожала нѣкоторыя изъ языческихъ пре-
даній, но и искажала остальныя примѣсью монашескихъ легендъ. Изслѣдованіе о
томъ, до какихъ размѣровъ доходили подобныя искаженія, не лишено было бы инте-
реса, но для большинства читателей можетъ быть достаточно будетъ одного или
двухъ примѣровъ.
Мы мало имѣемъ положительныхъ даппыхъ о самомъ раннемъ состояніи вели-
кихъ сѣверныхъ народовъ, но еще сохраняются нѣкоторыя изъ пѣсенъ, въ которыхъ
скандинавскіе поэты разсказывали дѣянія своихъ предковъ или своихъ современ-
никовъ; и несмотря на искаженія, сдѣланныя впослѣдствіи въ этихъ пѣсняхъ, люди,
на судъ которыхъ можно положиться, допускаютъ, что въ нихъ содержатся истинныя
историческія событія. Въ девятомъ же и десятомъ столѣтіяхъ христіанскіе миссіонеры
проникли за Балтійское море и распространили свѣдѣнія о своей религіи между
жителями сѣверной Европы 1). Лишь только это случилось— историческіе источники
стали искажаться. Въ концѣ двѣнадцатаго столѣтія Семундъ Сегфуссенъ, христіанскій
священникъ, собралъ незаписанныя еще народныя сказанія сѣвера въ такъ назы-
ваемую «Еісіег Ейсіа» и удовольствовался тѣмъ, что трлько прибавилъ къ нимъ, въ
видѣ улучшенія, христіанскій гимнъ. Спустя сто лѣтъ/сдѣлано было другое собраніе
туземныхъ сказаній, но тутъ упомянутое мною начало, имѣвшее уже больше вре-
мени для своего дѣйствія, выразилось еще яснѣе. Въ*-этомъ второмч> собраніи, извѣ-
стномъ подъ именемъ «Уопп§ег Ейсіа», находится пріятное смѣшеніе греческихъ, еврей-
скихъ и христіанскихъ басенъ; и тутъ въ первый разъ встрѣчаемъ мы въ сканди-
навскихъ лѣтописяхъ значительно распространенную басню о чемъ-то въ родѣ троян-
ской высадки 2).
Если, продолжая приводить примѣры, мы обратимся затѣмъ къ другимъ частямъ
свѣта, то найдемъ цѣлый рядъ фактовъ, подкрѣпляющихъ наше воззрѣніе. Мы най-
днемъ, что въ странахъ, гдѣ не было никакой перемѣны религіи, исторія отличается
большей достовѣрностью и связностью, чѣмъ въ странахъ, гдѣ такія перемѣны
происходили. Въ Индіи браманизмъ, преобладающій и до сихъ поръ, утвердился
съ такого давняго времени, что начало его теряется въ отдаленнѣйшей древности 3).
Поэтому туземныя лѣтописи никогда не были искажаемы примѣсью новаго суевѣ-
рія, и индусы обладаютъ болѣе древними историческими преданіями, чѣмъ какой-
либо другой азіатскій народъ. Точно также китайцы сохраняли слишкомъ 2.000 лѣтъ
религію Фо, одинъ изъ видовъ буддизма. Вслѣдствіе этого Китай, несмотря на то,
что цивилизація его никогда не могла сравниться съ индійской, имѣетъ свою исто-
рію, конечно не такую древнюю, какою намъ выставляютъ ее туземцы, но все-таки
восходящую за нѣсколько столѣтій до христіанской эры, съ которой она. доведена
’) Первымъ миссіонеромъ былъ Эббо, около 882 г.
За нимъ слѣдовалъ Ансгарій, который впослѣдствіи про-
никкулъ до самой Швеціи. Но успѣхи пхъ были мед-
ленны, и христіанство прочно утвердилось па сѣверѣ
не ранѣе второй половины XI столѣтія.
2) Подобныя вставки такъ многочисленны, что преж-
ніе нѣмецкіе антикваріи думали, что «Эдда» есть нод-
Йльаое произведеніе сѣверныхъ монаховъ,—парадоксъ,
овровергвутыи Мюллеромъ много лѣтъ тому пазадь.
3) Какъ ясно видно изъ противорѣчивыхъ пока-
заній лучшихъ оріенталистовъ, изъ которыхъ каждый
имѣетъ свою любимую гипотезу на счетъ происхож-
! денія этой религіи. Довольно того, что мы не имѣемъ
свѣдѣній объ Индіи, существующей безъ браманизма;
что же касается до настоящей его исторіи, то въ ней
ничего нельзя разгадать, пока мы не приблизимся бо-
лѣе къ обобщенію законовъ, управляющихъ усиленіемъ
религіозныхъ убѣжденій.
128
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
непрерывной цѣпью до нашего времени 1). Съ другой стороны, персы, которые
конечно превосходили китайцевъ умственнымъ развитіемъ, все-таки не имѣютъ досто-
вѣрныхъ свѣдѣній о первыхъ событіяхъ своей древней монархіи. Я не думаю,
чтобы этому могла быть какая-нибудь другая причина, кромѣ того факта, что Персія
вскорѣ по обнародованіи Корана была завоевана магометанами, которые совер-
шенно измѣнили религію персовъ и тѣмъ прервали цѣпь народныхъ преданій 1 2).
Вотъ почему, за исключеніемъ миѳовъ Зендавесты, мы не имѣемъ никакихъ сколько-
нибудь цѣнныхъ туземныхъ авторитетовъ для персидской исторіи, до самаго появле-
нія въ XI столѣтіи «Шахъ Намэ»; но и тутъ Форду си смѣшалъ чудесныя сказанія
двухъ религій, которыя были введены, одна за другою, въ его отечествѣ. Въ резуль-
татѣ оказывается, что еслибъ не были открыты памятники, надписи и монеты, то мы
должны были бы положиться па скудныя и неточныя подробности, сообщаемыя гре-
ческими писателями, и на нихъ основать все напіе знаніе исторіи одной изъ важ-
нѣйшихъ монархій Азіи 3).
Даже у болѣе варварскихъ народовъ мы видимъ дѣйствіе того же самаго на-
чала. Ліалайо-Полинезская раса занимаетъ, какъ извѣстно всѣмъ этнологамъ, длин-
ный рядъ острововъ, простирающійся отъ Мадагаскара до разстоянія въ 2.000 миль
отъ западнаго берега Америки, т. е. до Восточнаго Острова, который составляетъ
повидимому крайній предѣлъ этой расы. Первоначальной религіей этого широко
раскинутаго племени былъ политеизмъ, чистѣйшіе виды котораго долго сохранялись
на Филиппинскихъ островахъ. Но въ XV столѣтіи многія изъ полинезскихъ племенъ
были обращены въ магометанство, и вслѣдъ затѣмъ сталъ совершаться рѣшительно
тотъ же процессъ, па который я указалъ въ другихъ странахъ. Новая религія, из-
мѣнивъ направленіе мыслей народа, повредила чистотѣ народной исторіи. Изъ всѣхъ
острововъ Индійскаго архипелага самой высшей цивилизаціи достигла Ява. Теперь
же не только утрачены историческія преданія яванцевъ, но даже въ сохранившіеся
списки ихъ царей вставлены имена магометанскихъ святыхъ. Съ другой стороны,
мы находимъ, что на близлежащемъ островѣ Вали, гдѣ до сихъ поръ сохраняется
древняя религія, народъ еще помнитъ и любитъ легенды Явы.
Безполезно было бы приводить дальнѣйшія доказательства того, что у невполнѣ
цивилизованнаго народа введеніе новой религіи всегда имѣетъ вліяніе на чистоту
первыхъ историческихъ источниковъ. Достаточно только замѣтить, что такимъ обра-
зомъ христіанскіе священники запутали лѣтописи всѣхъ обращенныхъ ими европей-
скихъ народовъ и уничтожили или исказили преданія галловъ, валисцевъ, ирланд-
цевъ, англо-саксовъ, славянъ, финновъ и даже исландцевъ.
Ко всему этому присоединились еще другія обстоятельства, дѣйствовавшія въ
томъ же направленіи. Благодаря событіямъ, которыя я разсмотрю впослѣдствіи,
литература Европы не задолго до окончательнаго распаденія Римской Имперіи по-
пала совершенно въ руки духовныхъ лицъ, которыя долго пользовались всеобщимъ
уваженіемъ, какъ единственные наставники человѣчества. Въ теченіе нѣсколькихъ
1) Г. Бунзенъ говоритъ, что китайцы имѣютъ «пра-
вильную хронологію, восходящую до 3.000 лѣтъ до
Р. X.». Чрезвычайную вѣрность китайскихъ лѣтопи-
сей приписываютъ иногда раннему знакомству китай-
цевъ съ книгопечатаніемъ, которое, какъ они увѣряютъ,
было имъ извѣстно за 1.100 лѣтъ до Р. X. По дѣло
въ томъ, что книгопечатаніе но было извѣстно въ
Китаѣ до IX или X столѣтія но Р. X.; подвижные
типы были изобрѣтены не прежде 1041 года.
2) Даже въ настоящее время пли по крайней
мѣрѣ въ теченіе нынѣшняго столѣтія лучшее воспитаніе
въ Персіи состояло въ изученіи основныхъ началъ
арабской грамматики, логики, юриспруденціи, преданій о
Пророкѣ и комментаріевъ па Коранъ. Точно также ма-
гометане пренебрегали древней исторіей Индіи и, безъ
' сомнѣнія, уничтожили бы или исказили ее, но они
никогда не имѣли и тѣни той власти надъ Индіей,
какую имѣли надъ Персіей, и чтб важнѣе всего, не
были въ состояніи искоренить религію туземцевъ.
Однако ихъ вліяніе, на сколько бы оно ни простпра-
I лось, было неблагопріятно, и до XVI столѣтія не
было примѣра, чтобы мусульманинъ тщательно изу-
чалъ индійскую литературу.
3) Греки не знали персидской исторіи. Ни одппъ
1 греческій писатель никогда не заимствовалъ своихъ
; свѣдѣній ни отъ кого изъ туземцевъ собственной
і Персіи, т. е. страны къ востоку отъ Евфрата. Даже
на Геродота, котораго сказанія о Египтѣ выше вся-
кой похвалы, нельзя положиться въ показаніяхъ о
Персіи.
НАЧАЛО ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
120
столѣтій чрезвычайно было рѣдко встрѣтить свѣтскаго человѣка, который умѣлъ бы
читать или писать, а еще рѣже такого, который могъ бы сочинить книгу. Литера-
тура, доставшись такимъ образомъ въ монополію одному классу людей, приняла и
особенности, свойственныя ея новымъ двигателямъ х). А такъ какъ духовные вообще
считали своей обязанностью скорѣе укрѣплять вѣру, чѣмъ поощрять пытливость, то не
удивительно, что они проявили и въ своихъ сочиненіяхъ духъ, свойственный обыч-
нымъ отправленіямъ ихъ профессіи. Вотъ почему, какъ я уже замѣтилъ, въ продол-
женіе многихъ вѣковъ литература вмѣсто того, чтобы приносить пользу обществу,
только вреДила ему, увеличивая легковѣріе и тѣмъ задерживая успѣхи знанія. И въ
самомъ дѣлѣ, привычка ко лжи сдѣлалась такъ сильна, что не существовало такой
вещи, которой люди не были бы готовы повѣрить. Ничто не оскорбляло ихъ жад-
наго, легковѣреннаго слуха. Разсказы о предвѣщаніяхъ, чудесахъ, видѣніяхъ, стран-
ныхъ предзнаменованіяхъ, чудовищныхъ явленіяхъ на небѣ, самыя дикія и пи съ
чѣмъ не сообразныя нелѣпости передавались изъ устъ въ уста и списывались изъ
книги В; книгу съ такимъ тщаніемъ, какъ будто бы это были лучшія сокровища
человѣческой мудрости * 2). Что Европа могла когда-либо выйти изъ такого состоянія,
это служитъ самымъ разительнымъ доказательствомъ необыкновенной энергіи чело-
вѣка. ибо мы даже не можемъ представить себѣ состояніе общества, болѣе неблаго-
пріятное для его прогресса. Но ясно, что, пока совершилось это освобожденіе, все-
общее легковѣріе и легкомысліе сдѣлали людей неспособными къ изслѣдованіямъ,
такъ что для нихъ стало невозможнымъ предаваться съ успѣхомъ изученію прошед-
шаго, ни даже вѣрно отмѣчать, что происходило вокругъ нихъ.
И такъ, возвращаясь къ только-что приведеннымъ нами фактамъ, мы можемъ
сказать, оставляя въ сторонѣ рѣкоторыя обстоятельства совершенно второстепенныя,
что были три главныя причины искаженія исторіи Европы въ средніе вѣка. Первою
причиною было внезапное введеніе въ употребленіе письма и происшедшее отъ
того смѣшеніе различныхъ мѣстныхъ преданій, которыя, порознь взятыя, были
вѣрны, соединенныя же въ одно цѣлое — составляли ложь. Второю причиною была
перемѣна религіи, которая дѣйствовала двоякимъ путемъ: она не только прерывала
древнія преданія, но и искажала ихъ прибавленіями. Третья же причина, вѣроятно
самая могущественная, заключалась въ томъ, что исторія составляла монополію
класса людей, которые, по самому положенію своему, должны были легко всему вѣ-
рить и кромѣ того имѣли прямой интересъ въ поддержаніи всеобщаго легковѣрія,
такъ какъ на немъ основывалось ихъ собственное значеніе.
Дѣйствіемъ этихъ причинъ исторія Европы въ средніе вѣка доведена была
до такого искаженія, которому мы не можемъ найти ничего подобнаго ни въ какомъ
другомъ періодѣ. Что не было, собственно говоря, исторіи, это еще составляло самое
малое неудобство, но бѣда въ томъ, что недовольные отсутствіемъ истины люди
замѣняли ее сочиненіемъ лжи. Въ ряду безчисленныхъ примѣровъ подобныхъ выду-
мокъ одинъ видъ ихъ особенно достоинъ вниманія въ томъ отношеніи, что въ немъ
проявляется та любовь къ древности, которая составляетъ отличительную черту
класса людей, писавшихъ въ то время исторію. Я говорю о выдумкахъ, касаю-
Почтонвый Доудингъ, который съ большимъ
сожалѣніемъ оглядывается назадъ на этотъ періодъ,
говорить: «Писателями были почти исключительно ду-
ховныя лица. Литература не имѣла почти никакого
другого значенія, кромѣ религіознаго: все, что изуча-
лось,—изучалось въ религіозныхъ видахъ. Такъ люди,
которые писали исторію, писали исторію церкви».
2) Такъ напримѣръ, одинъ знаменитый историкъ,
исавшій въ копнѣ XII столѣтія, говоритъ о царство-
ваніи Вильгельма Рыжаго: «При этомъ же королѣ,
какъ было отчасти предсказано, па солнцѣ, лунѣ п
звѣздахъ видны были многіе знаки, а также море
весьма часто выступало изъ береговъ, потопляло лю-
дей п животныхъ и разрушало многіе виллы и дома.
Въ округѣ, называемомъ ВапікеШге, передъ убіеніемъ
короля изъ источника истекала три недѣли кровь.
Многимъ также норманнамъ дьяволъ, подъ ужаснымъ
видомъ, часто являлся въ лѣсахъ и много говорилъ
съ ними о королѣ, о Ранульфѣ и о нѣкоторыхъ дру-
гихъ. II не удивительно, ибо въ ихъ время почти
всякая справедливость законовъ молчала, въ дѣлахъ же,
। предполагавшихся справедливыми, управляли всѣмъ
I однѣ деньги».
Вокль.—Изд. Ф. Павленкова.
9
130
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
щихся происхожденія различныхъ народовъ—во всѣхъ ихъ можно ясно различать
духъ среднихъ вѣковъ. Въ продолженіе многихъ столѣтіи каждый народъ былъ убѣж-
денъ, что онъ происходитъ въ прямой линіи отъ предковъ, участвовавшихъ въ осадѣ
Трои. Это было такого рода предположеніе, которое никто и не думалъ подвергать
сомнѣнію Весь вопросъ былъ только въ подробностяхъ этой славной генеалогіи.
Впрочемъ но этому предмету мнѣнія были до извѣстной степени согласны; не говоря
уже о второстепенныхъ народахъ, всѣми было признано, что французы—потомки Франка,
о которомъ всѣ знали, что онъ былъ сынъ Гектора; извѣстно было также, что бритты
происходятъ отъ Брута, который былъ ни болѣе, ни менѣе, какъ сынъ самого Энея 2).
Касаясь происхожденія извѣстныхъ городовъ, великіе историки среднихъ вѣковъ
бываютъ также сообщительны. Въ сказаніяхъ о такихъ городахъ, какъ и въ жизне-
описаніяхъ замѣчательныхъ людей, у нихъ исторія обыкновенно начинается съ
самыхъ отдаленныхъ временъ; событія, связанныя съ ихъ предметомъ, часто ведутся
непрерывной цѣпью съ того самаго момента, когда Пой вышелъ изъ ковчега, или
даже когда Адамъ переступилъ за врата рая 3). Въ иныхъ случаяхъ они не нахо-
дятъ такой глубокой древности, но свѣдѣнія пхъ все-таки восходятъ чрезвычайно
далеко. Такъ они говорятъ, что столица Франціи названа по имени Париса, сына
Пріамова, который будто бы бѣжалъ туда послѣ паденія Трои 1). Утверждаютъ
также, будто городъ Тошъ обязанъ своимъ именемъ тому обстоятельству, что въ
немъ похороненъ Тнгоппз, одинъ изъ троянцевъ, а что городъ Тгоуез былъ дѣй-
ствительно построенъ троянцами, какъ ясно будто бы доказываетъ этимологія его
имени. Считалось совершенно достовѣрнымъ даже въ концѣ XVI столѣтія, что Ню-
ренбергъ названъ по имени императора Нерона, а Іерусалимъ—по имени царя
Іебуса (ІеЪиз); послѣднее имя пользовалось большой извѣстностью въ средніе вѣка,
но въ дѣйствительности существованія такого лица историки не могли удостовѣ-
риться. Рѣка Гумберъ получила будто бы свое названіе отъ того, что въ ней въ
древности утонулъ одинъ царь гунновъ. Галлы происходили, по мнѣнію однихъ,
отъ Галатіи (&а1а1Ьіа), женскаго потомка Ноя, по мнѣнію же другихъ—отъ Гомера
(Стошег), сына Іафетова. Пруссія была названа по имени Пруса, брата Августова.
Это еще было замѣчательно недревнее происхожденіе; Силезія, напротивъ, получила
свое имя отъ Елисея Пророка, отъ котораго будто бы силезцы дѣйствительно проис-
ходили; касательно же города Цюриха существовалъ споръ только на счетъ года
и числа основанія его, но считалось несомнѣннымъ (даже въ началѣ XVII столѣтія),
что онъ былъ построенъ во время Авраама. Отъ Авраама и Сары происходили не-
посредственно цыгане; сарацины, тѣ были менѣе чистой крови, потому что происхо-
дили отъ одной Сары, а какимъ именно путемъ—не сказано; они вѣроятно роди
лись отъ другого брака, или можетъ быть были плодомъ какой-нибудь египетской
связи. Во всякомъ случаѣ достовѣрно будто бы, что шотландцы пришли изъ Египта.
Въ происхожденіе французскихъ королей отъ
троянцевъ всѣ вообще вѣрили до XVI столѣтія. Такое
объясненіе происхожденія считали вѣрнымъ въ про-
долженіе почтя восьми сотъ лѣтъ, и ого поддерживали
всѣ вообще наши историки; ошибочность ого была
признана только въ началѣ XVI столѣтія. Полидоръ
Верджиль, умершій въ воловинѣ XVI столѣтія, возсталъ
противъ подобнаго мнѣнія относительно англичанъ и
тѣмъ сдѣлалъ свою исторію непопулярной. Въ 1128 г.
Генрихъ I, король англійскій, спросилъ одного уче-
наго о первоначальной исторіи Франціи. Отвѣтъ на
это сохраненъ однимъ изъ историковъ XIII столѣтія:
«Могущественнѣйшій изъ королей! какъ большая часть
народовъ Европы, такъ и франки вели свое происхож-
деніе отъ троянцевъ>.
2) Всеобщее мнѣніе было, что Вгпіиз пли Вгпіо
былъ сынъ Энея: но нѣкоторые историки утверждали,
что онъ былъ его правпукъ.
3) Въ‘«Коіе§ іо а Сіігопісіе оГ Еопйоп» есть
генеалогія, въ которой исторія епископовъ лондон-
скихъ восходитъ до Ноя и Адама. Такъ точно Сото-
ріпз въ своей исторіи Антверпена, писанной въ XVI
столѣтіи, нашелъ какъ нидерландскій языкъ, такъ
и философію Орфея въ Ноевомъ Ковчегѣ. Вь лѣтописи
Вилліама Малмесберри генеалогія сансскихъ королей
восходитъ до Адама. Тикноръ говоритъ, что испанскіе
лѣтописцы ведутъ «непрерывный рядъ испанскихъ ко-
ролей огъ Тубала, внука Иоеваэ.
4) Даже въ XVII столѣтіи мысль эта еще не
совсѣмъ утратила силу. Согуаі, путешествовавшій по
Франціи въ 1608 году, приводитъ другую версію
этого мпіяіія. Онъ говоритъ: «что касается его имени
Рагіз, то оиъ заимствовалъ его (какъ пишутъ нѣкото-
рые) отъ Париса, о которомъ нные пишутъ, что онъ про-
исходитъ въ прямой линіи отъ Іафета, одного изъ трехъ
сыновой Ноевыхъ, п что онъ основалъ этотъ городъ».
НАЧАЛО ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
131
ибо они первоначально произошли отъ Скоты, дочери Фараона, которая и завѣщала
имъ свое имя.
О многихъ подобныхъ же вещахъ средніе вѣка имѣли такія же драгоцѣнныя
свѣдѣнія. Всѣмъ было извѣстно, что городъ Неаполь построенъ на яйцахъ *); было
также извѣстно, что орденъ св. Михаила учрежденъ лично самимъ Архангеломъ,
который былъ первымъ рыцаремъ и которому рыцарство обязано своимъ происхож-
деніемъ. О татарахч» знали, что они произошли отъ Тартара, который, по словамъ
однихъ теологовъ, былъ низшею степенью ада, а по словамъ другихъ—настоящимъ
адомъ. Какъ бы то ни было, но фактъ происхожденія татаръ отъ преисподней не
подлежалъ никакому сомнѣнію и подтверждался многими обстоятельствами, показы-
вавшими, какое роковое, таинственное вліяніе могъ имѣть этотъ народъ. Турки были
то же, что и татары; и всѣмъ было извѣстно, что съ тѣхъ поръ, какъ крестъ попалъ
въ руки турокъ, у всѣхъ христіанскихъ дѣтей стало десятью зубами менѣе, чѣмъ
бывало прежде,—общее бѣдствіе, которому повидимому не было никакихъ средствъ
пособить.
Другіе вопросы, относившіеся до прошедшихъ событій, разрѣшались съ такой же
легкостью. Въ Европѣ въ продолженіе многихъ столѣтій единственной общеупотре-
бительной животной пищей была свинина; говядина же, телятина и баранина были
сравнительно мало извѣстны 3); потому съ немалымъ удивленіемъ разсказывали
крестоносцы по возвращеніи съ Востока, что они были у такого народа, который,
подобно евреямъ, считаетъ свинину нечистымъ мясомъ и не соглашается ѣсть ее.
Но живѣйшее удивленіе, возбужденное такимъ извѣстіемъ, разсѣялось, лить только
объяснена была причина этого факта. Объясненіе это предпринялъ Матвѣй Парисъ,
замѣчательнѣйшій историкъ въ ХШ столѣтіи и одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ
писателей въ средніе вѣка. Этотъ знаменитый писатель сообщаетъ намъ, что маго-
метане не хотятъ ѣсть свинину вслѣдствіе одного особеннаго обстоятельства, слу-
чившагося съ ихъ пророкомъ. Оказывается, что Магометъ, наѣвшись и напившись
однажды до безчувственности, заснулъ на кучѣ навоза и въ этомъ постыдномъ поло-
женіи найденъ былъ стадомъ свиней, которыя напали на лежащаго пророка и заду-
шили его до смерти; что по этой причинѣ послѣдователи его и питаютъ отвраще-
ніе къ свиньямъ и не соглашаются ѣсть ихъ мясо* Этимъ рѣзкимъ фактомъ объяс-
няется одна изъ главныхъ особенностей магометанъ 3); другимъ же фактомъ, не
менѣе рѣзкимъ, объясняется самое происхожденіе ихъ секты. Всѣмъ было извѣстно,
что Магометъ былъ сперва кардиналомъ, еретикомъ же сдѣлался только потому, что
ему не удалось быть избраннымъ въ папы 4).
*) Райтъ говоритъ: «Легенды объ основаніи го- !
рода Неаполя на яйцахъ, и о яйцѣ, отъ котораго за- !
виситъ будто бы его участь, были повидимому обще- ।
распространенными легендами въ средніе вѣка».
2) Въ священныхъ книгахъ скандинавовъ сви-
нина представлена главной пищей даже па Щ‘бѣ. Она
была главной пищей ирландцевъ въ ХП столѣтіи,
у англо-саксовъ — нѣсколько ранѣе. Во Франціи
она была также въ общемъ употребленіи, и Карлъ ,
Великій держалъ въ своихъ лѣсахъ огромныя сгада.
свиней. Въ Испаніи тѣ, которые не любили свинины, |
были пытаемы инквизиціей, какъ подозрѣваемые въ !
еврействѣ. Въ самомъ концѣ XVI столѣтія появилась |
особенная болѣзнь, происшедшая, какъ говорили, отъ :
слишкомъ большого употребленія свинины въ Венгріи. 1
Въ половинѣ XVI столѣтія & нахожу, что Филиппъ II
въ бытность свою въ Англіи обыкновенно ѣлъ за
обѣдомъ ветчину и съѣдалъ ея такъ много, что очень
часто бывалъ отъ этого боленъ. Посолъ пишетъ,
что Филиппъ былъ «^ганб тап^еиг оиііге тезиге»
и обыкновенно потреблялъ большое количество «бе
Іагб, (іоні іі і'аіі 1е ріиз зоиѵепі зоп ргіпсіряі гераз».
Въ средніе вѣка, по словамъ Мишле, «тіорпнгп пла-
тили свою дань свининой, самымъ драгоцѣннымъ
съѣстнымъ припасомъ ихъ страны».
3) Странно, что* наоборотъ, африканскіе магоме-
тане и теперь «увѣрены, что существуетъ сильная
вражда между свиньями и христіанами». Многіе ме-
дицинскіе писатели полагали, что свинина особенно
нездорова въ жаркихъ странахъ, по это требуетъ под-
твержденія; а между тѣмъ достовѣрпо, что арабскіе
доктора рекомендуютъ это мясо, и что оно. какъ въ
Азіи, такъ и въ Африкѣ, въ гораздо большемъ упо-
требленіи, чѣмъ обыкновенно полагаютъ. Такъ какъ
этого рода факты важны въ физіологическомъ л въ
соціальномъ отношеніи, то желательно было бы, чтобы
ихъ собирали; поэтому я прибавлю, что, по свидѣтель-
ству путешественниковъ, сѣверо-американскіе индійцы
имѣютъ «отвращеніе къ свининѣ». Довелль говоритъ:
«я увѣренъ, что въ Китаѣ съѣдается больше свинины,
чѣмъ во всѣхъ остальныхъ мѣстностяхъ земного шара,
взятыхъ вь совокупности».
4) Э га любимая мысль среднихъ вѣковъ, гово-
рятъ,—выдумка раввиновъ: «Магометъ, лже-пророкъ,
былъ кардиналомъ, и съ досады, что его по избрали
напою, онъ сдѣлался еретикомъ».
9*
132
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Во всемъ, что касалось ранней исторіи христіанства, великіе писатели сред-
нихъ вѣковъ были особенно любознательны; они сохранили память о такихъ собы-
тіяхъ, о которыхъ безъ нихъ мы вовсе ничего не знали бы. Послѣ Фруассара
знаменитѣйшимъ историкомъ XIV столѣтія былъ конечно Матвѣй Вестминстерскій,
имя котораго, по крайней мѣрѣ, хорошо знакомо большей части читателей. Этотъ
замѣчательный человѣкъ устремилъ свое вниманіе между прочимъ па исторію Іуды,
съ цѣлью раскрыть обстоятельства., подъ вліяніемъ которыхъ развивался характеръ
этого архи-отступника. Изысканія его были повидимому весьма обширны; по глав-
нымъ ихъ результатомъ было то открытіе, что Іуда, еще ребенкомъ, былъ оставленъ
родителями, которые высадили его на островъ Скаріотъ, отчего онъ и получилъ
имя Искаріота. Къ этому историкъ прибавляетъ, что, достигнувъ зрѣлаго возраста,
Іуда между прочимъ убилъ своего отца и затѣмъ женился на своей матери. Этотъ
же писатель въ другой части своей исторіи упоминаетъ объ одномъ фактѣ, весьма
любопытномъ для тѣхъ, кто изучаетъ древности папскаго престола. Возникъ вопросъ
о томъ, прилично ли цѣловать папу въ ногу, при чемъ даже теологи выразили нѣ-
которое сомнѣніе на счетъ этой странной церемоніи. Но и это затрудненіе было
разрѣшено Матвѣемъ Вестминстерскимъ, который объясняетъ намъ настоящее про-
исхожденіе этого обычая. Онъ говорить, что сперва было обыкновеніе цѣловать его
святѣйшество въ руку, но что въ концѣ VIII вѣка одна распутная женщина, по-
дойдя подъ благословеніе папы, но только поцѣловала ему руку, но и пожала ее.
Папа—его звали Львомъ,—видя опасность, отрѣзалъ себѣ руку и такимъ образомъ
освободился отъ оскверненія, которому подвергался. Съ трго времени принята была
предосторожность цѣловать у папы, вмѣсто руки, ногу. Чтобы никто не могъ усо-
мниться въ справедливости такого разсказа, историкъ увѣряетъ насъ, что рука, кото-
рая была отрѣзана пятьсотъ хрли шестьсотъ лѣтъ тому назадъ, еще существуетъ въ
Римѣ и составляетъ вѣчное чудо, такъ какъ она сохранилась въ Латеранѣ въ своемъ
первоначальномъ видѣ, безъ всякой порчи. А такъ какъ нѣкоторые читатели могли бы
пожелать узнать что-нибудь и о самомъ Латеранѣ, гдѣ хранилась рука, то историкъ
подумалъ и объ этомъ въ другой части своего обширнаго сочиненія, въ которой
онъ возвращается по этому поводу къ императору Нерону. Онъ разсказываетъ, что
этотъ гнусный гонитель вѣры извергъ однажды изъ себя'лягушку, покрытую кровью,
и думая, что это его дитя, приказалъ запереть се подъ сводомъ, гдѣ она и остава-
лась скрытой нѣкоторое время. А такъ какъ въ латинскомъ языкѣ Іаіеге значитъ быть
скрытымъ, а гапа значитъ лягушка, то отъ соединенія этихъ двухъ словъ и полу-
чилось названіе Латерана, который и былъ дѣйствительно построенъ на томъ мѣстѣ,
гдѣ найдена была лягушка.
Не трудно наполнить цѣлые томы подобными свѣдѣніями, жоторымъ всегда
свято вѣрили въ тѣ времена тьмы, или—какъ ихъ справедливо назвали—времена
вѣры. Это были истинно золотые дни для духовнаго сословія: легковѣріе людей дохо-
дило до такой степени, что, казалось, обезпечивало духовенству долгое и повсемѣстное
преобладаніе. О томъ, какимъ образомъ омрачились впослѣдствіи надежды духовен-
ства, и какъ разумъ человѣческій началъ возмущаться, будетъ разсказано въ другой
части этого введенія, гдѣ я постараюсь прослѣдить развитіе того свѣтскаго, скепти-
ческаго духа, которому обязана своимъ происхожденіемъ европейская цивилизація.
Но прежде чѣмъ заключить настоящую главу, не мѣшаетъ привести еще нѣсколько
примѣровъ мнѣній, существовавшихъ въ средніе вѣка. Я выбираю для этого два
историческихъ сказанія, которыя пользовались самой большой популярностью, кото-
рыя имѣли наибольшее вліяніе и которымъ болѣе всего вѣрили.
Это именно' разсказы объ Артурѣ и Карлѣ Великомъ. На обоихъ сочиненіяхъ
красуются имена сановниковъ церкви, и оба они были приняты съ почтеніемъ, какое
подобаетъ ихъ знатнымъ авторамъ. Разсказъ о Карлѣ Великомъ названъ лѣтописью
Турпина (Тигріп) и, какъ полагали, написанъ Турпиномъ, архіепископомъ Реймс-
скимъ, другомъ императора и его спутникомъ въ битвахъ. Нѣкоторыя мѣста этого
134
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
этому, но и потому, что она была однимъ изъ самыхъ популярныхъ произведеній
среднихъ вѣковъ.
Первую часть этой обширной исторіи занимаютъ результаты изысканій архи-
діакона Монмутскаго о состояніи Британіи до восшествіи на престолъ Артура. Эта
часть не имѣетъ для насъ особенной важности. Можно впрочемъ замѣтить, что архи-
діаконъ привелъ въ извѣстность, что по взятіи Трои Асканій бѣжалъ изъ этого
города, и у него родился сынъ, который и былъ отцомъ Брута. Въ тѣ дни Англія
была заселена великанами; но всѣ они были убиты Брутомъ, который по истре-
бленіи этой породы построилъ Лондонъ, привелъ въ порядокъ дѣла страны и на-
звалъ ее по своему имени—Британіей. Далѣе архидіаконъ разсказываетъ дѣйствія
длиннаго ряда королей, слѣдовавшихъ за Брутомъ, большая часть которыхъ были
замѣчательны по своему уму, нѣкоторые же извѣстны тѣмъ, что при нихъ совер-
шились большія чудеса. Такъ, въ царствованіе Ривалдо три дня сряду шелъ кро-
вавый дождь; а при Морвидѣ берега страны были опустошены ужаснымъ морскимъ
чудовищемъ, которое^ растерзавъ безчисленное множество людей, поглотило, наконецъ,
и самого короля.
Эти и подобныя имъ свѣдѣнія архидіаконъ Монмутскій передаетъ, какъ резуль-
таты своихъ собственныхъ изысканій; въ слѣдующей же за ними исторіи Артура
онъ пользовался помощью своего друга архидіакона Оксфордскаго. Оба архидіакона
сообщаютъ своимъ читателямъ, что король Артуръ былъ обязанъ своимъ существо-
ваніемъ волшебному дѣйствію Мерлина, знаменитаго чародѣя. Обстоятельства этого
дѣла разсказаны у нихъ съ^акой^елочнойіі_іодробнрст>ю, которая со стороны исто-
риковъ, облеченныхъ въ ЬЖтіенЖйДант^представйетъ истинно замѣчательное
явленіе. Дѣйствія Артура соотвѣтствовали его сверхъестественному происхожденію.
Ничто не могло устоять противъ его могущества. Онъ истребилъ огромное число
саксовъ, завоевалъ Норвегію, )вйргну^^О^Галлію, гдѣ основалъ свой дворъ въ
Парижѣ, и дѣлалъ приготовленія къ покоренію всей Европы. Онъ вступилъ въ
единоборство съ двумя великанами и обоихъ убилъ. Одипъ изъ этихъ великановъ,
жившій въ горѣ Св. Михаила, былъ грозой всей страны: онъ убивалъ всѣхъ вои-
новъ, которыхъ иосылали/на него, исключая только тѣіъ, кого онъ бралъ въ плѣнъ
съ намѣреніемъ съѣсть ихъ живыми. Однако и онъ палъ'жертвою храбрости Артура
такъ же, какъ и другой великанъ, по имени Рито. Послѣдній былъ еще страшнѣе:
ему мало было воевать съ людьми обыкновенными—онъ одѣвался въ шубы, сдѣлан-
ныя изъ бородъ убитыхъ имъ королей.
Вотъ что въ XII вѣкѣ разсказывали • всему свѣту подъ именемъ исторіи, и
разсказывали не темные писатели, а высшіе сановники церкви. И не было недо-
статка ни въ чемъ, чтб только могло доставить успѣхъ этому сочиненію. Въ пользу
его говорили имена архидіаконовъ Монмутскаго и Оксфордскаго; оно было посвя-
щено графу Роберту Глостерскому, сыну Генриха I, и считалось такимъ важнымъ
пріобрѣтеніемъ для англійской литературы, что главный авторъ его былъ даже воз-
веденъ въ санъ епископа Асафскаго,—повышеніе, которымъ онъ былъ, говорятъ,
обязанъ своимъ успѣхамъ въ изслѣдованіяхъ по части англійской исторіи. Книга,
отмѣченная до такой степени всевозможными знаками одобренія, можетъ конечно
служить недурной вывѣской того вѣка, который восхищался ею. II въ самомъ дѣлѣ,
восхищеніе это было такъ всеобще, что въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій нашлось
не болѣе двухъ или трехъ критиковъ, которые сомнѣвались въ достовѣрности этой
исторіи *). Краткое извлеченіе изъ нея, на латинскомъ языкѣ, было издано извѣст-
*) Райтъ говоритъ: «Въ теченіе одного столѣтія
послѣ перваго появленія этой книги ей вѣрили всѣ
писатели, запинавшіеся исторіей Англіи; вь продол-
женіе же нѣсколькихъ столѣтіи нашлись только одинъ
или два человѣка, которые посмѣли заговорить про-
тивъ ея достовѣрностп». Сэръ Генри Эллисъ гово-
ритъ о Полидорѣ Верджнлѣ, писателѣ начала XVII сто-
лѣтія: «За оспариваніе Джоффрея Монмутскаго ІІо-
лпдора Верджпля считали почти помѣшаннымъ. Такъ
сильно было въ то время предубѣжденіе». Въ XVIII сто-
лѣтіи, которое было первымъ скептическимъ вѣкомъ
въ Европѣ, лкцн стали открывать глаза на этого рода
НАЧАЛО ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
135
тамъ историкомъ Альфредомъ Беверлеемъ; а для большаго ознакомленія всѣхъ съ
этой книгой она была переведена на англійскій языкъ Лэйамономъ, а на англо-
норманскій—сперва Гемаромъ, а потомъ Уэсомъ,—людьми усердными, которые оза-
бочивались, чтобы важныя истины, содержащіяся въ ней, были какъ можно болѣе
распространены.
Едва-ли нужно приводить еще какіе-нибудь примѣры для объясненія, какимъ
образомъ писались исторіи въ средніе вѣка; представленные выше образчики взяты
не на выдержку, а извлечены изъ умнѣйшихъ и знаменитѣйшихъ писателей, и по-
тому лучше всего выражаютъ собою знаніе и воззрѣнія тогдашней Европы. Въ XIV*
и XV столѣтіяхъ виервые обнаружились слабые признаки приближающейся пере-
мѣны ’); но это улучшеніе обозначилось нѣсколько явственнѣе не ранѣе конца
XVI или даже начала ХѴП столѣтія. Главные моменты этого важнаго движенія
будутъ очерчены въ другой части нашего введенія, гдѣ» я покажу, что хотя исторія
и подвинулась несомнѣнно впередъ въ ХѴП столѣтіи, но почти до половины XVIII
столѣтія не было ни одной попытки окинуть этотъ предметъ болѣе обширнымъ
взглядомъ; впервые сдѣлали этотъ важный шагъ великіе мыслители Франціи, за ними
слѣдовали два или три шотландца, а черезъ нѣсколько лѣтъ къ нимъ присоедини-
лись и нѣмцы. Реформа въ исторіи была, какъ мы увидимъ, въ связи съ соотвѣт-
ственными перемѣнами въ умственномъ направленіи, имѣвшими вліяніе на соціаль-
ныя условія всѣхъ главнѣйшихъ странъ Европы. Но, не заглядывая впередъ въ
другую часть этого тома, достаточно сказать, что не только по было писано исторіи
ранѣе конца XVI столѣтія, но и самое состояніе общества было таково, что одинъ
человѣкъ и ие могъ написать се. Знаніе въ Европѣ еще не имѣло достаточной
зрѣлости, чтобы можно было съ успѣхомъ примѣнять его къ изученію прошедшихъ
событій. Мы не можемъ предположить, чтобы слабыя стороны первыхъ историковъ
происходили отъ недостатка въ нихъ природныхъ дарованій. Среднія умственныя
способности людей бываютъ по всей вѣроятности всегда однѣ и тѣ же, но давленіе,
производимое на нихъ обществомъ, постоянно измѣняется. Такъ, въ прежнее время
извѣстное состояніе всего общества было именно причиною того, что даже умнѣй-
шіе люди вѣрили самымъ ребяческимъ выдумкамъ. До тѣхъ поръ, пока состояніе
это не измѣнилось, существованіе исторіи было невозможно, потому что невозможно
было найти человѣка, который зналъ бы, что болѣе всего стоило разсказывать, чтб
слѣдовало отбросить, а чему вѣрить.
Отъ этого происходило, что даже когда люди съ такими замѣчательными спо-
собностями, какъ Маккіавелли и Боденъ, изучали исторію, то они не находили для
нея лучшаго назначенія, какъ служить орудіемъ политическихъ разсчетовъ; — ни въ
одномъ изъ ихъ сочиненій мы не видимъ ни малѣйшей попытки возвыситься до
такихъ обширныхъ обобщеній, которыя обнимали бы собою всѣ соціальныя явленія.
То же замѣчаніе примѣняется и къ Комину (СогпІпеа), который хотя и стоитъ ниже
Маккіавелли и Бодена, но принадлежитъ все таки къ числу необыкновенно тонкихъ
наблюдателей и отличается рѣдкой проницательностью въ опредѣленіи отдѣльныхъ
характеровъ. Но этимъ опъ былъ обязанъ своему собственному уму, между тѣмъ
какъ вліяніе вѣка, въ которомъ онъ жилъ, дѣлало его суевѣрнымъ и жалко близо-
рукимъ по отношенію къ высшимъ цѣлямъ исторіи. Его близорукость проявляется
самымъ разительнымъ образомъ въ совершенномъ невѣдѣніи о томъ великомъ умствен-
номъ движеніи, которое въ самое его время быстро ниспровергало феодальныя
учрежденія среднихъ вѣковъ. Онъ ни разу не упоминаетъ объ этомъ движеніи, а
предметы; такъ, напримѣръ, Бойль ставитъ рядомъ
«баснословныя дѣянія Геркулеса и подвиги Артура
Британскаго^.
*) Самымъ раннимъ представителемъ новаго на-
правленія былъ Фруассаръ; опъ первый сіалъ смо-
трѣть на вещи свѣтскимъ взглядомъ, между тѣмъ
какъ всѣ предшествовавшіе историки были по пре-
имуществу теологами. Въ Испаніи тоже мы нахо-
димъ, что въ концѣ XIV столѣтія начинаетъ прояв-
ляться у историковъ направленіе политическое. Однако
Тикноръ представляеіъ Фруассара менѣе свѣтскимъ,
чѣмъ онъ былъ въ дѣйствительности.
136
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
устремляетъ все свое вниманіе на пошлыя политическія интриги, въ описаніи ко
торыхъ и полагаетъ всю сущность исторіи *). Что же касается до его суевѣрія, то
на это не стоитъ приводить много примѣровъ, такъ какъ не существовало человѣка
въ XV столѣтіи, котораго умъ не былъ бы ослабленъ всеобщимъ легковѣріемъ.
Можно однако замѣтить, что несмотря на личное знакомство съ государственными
людьми и дипломатами, дававшее ему полную возможность видѣть, какъ предпріятія,
начатая при самыхъ лучшихъ предзнаменованіяхъ, разстраивались единственно отъ
неспособности лицъ, двигавшихъ ими, — онъ все-таки во всѣхъ важныхъ случаяхъ
приписываетъ подобныя неудачи не настоящимъ причинамъ ихъ, а непосредствен-
ному вмѣшательству божества. Такъ рѣшительно^ такъ непреодолимо было это стрем-
леніе пятнадцатаго столѣтія, что и замѣчательный политикъ, человѣкъ свѣтскій, и
при томъ человѣкъ, вполнѣ знакомый съ жизнью, сознательно утверждаетъ, будто сра-
женія проигрываются пе потому, что армія бываетъ дурно снабжена, или кампанія
дурно задумана, или генералъ неспособенъ, а по тому., что народъ или его повели-
тель оказываются нечестивыми и Провидѣніе хочетъ наказать ихъ. Война, гово-
ритъ Коминъ, есть великое таинство; Богъ употребляетъ ее, какъ орудіе выполненія
Своей воли, и потому даруетъ побѣду одинъ разъ-—одной, другой разъ—другой сто-
ронѣ * 2). Поэтому тоже и внутреннія безпокойства въ государствахъ происходятъ
не иначе, какъ въ силу Божескаго предопредѣленія; они никогда не случались бы,
еслибъ цари или царства, достигнувъ благоденствія, не забывали о томъ, изъ ка-
кого источника излились на нихъ всѣ блага.
Такія попытки сдѣлать изъ политики не болѣе какѣ отрасль теологіи 3) харак-
теризуютъ то время; и онѣ тѣмъ болѣе любопытны,/что ихъ дѣлаетъ человѣкъ
весьма даровитый и при томѣ состарѣвшійся въ опытамъ общественной жизни. Если
такого рода воззрѣнія развивалъ не какой-нибудь монахъ въ своемъ монастырѣ, а
замѣчательный государственный человѣкъ, хорошо знакомый съ дѣлами обществен-
ными, то легко можно представить себѣ, каково было среднее умственное состояніе
тѣхъ, которые были во всѣхъ отношеніяхъ ниже его. Болѣе чѣмъ очевидно, что отъ
нихъ ничего нельзя было ожидать и что много еще оставалось сдѣлать шаговъ
прежде, чѣмъ Европа могла бы освободиться отъ того суевѣрія, въ которое она была
погружена, и прервать тѣ страшныя преграды, которыя задерживали ея дальнѣйшее
движеніе.
Но при всемъ томъ, что многое еще оставалось сдѣлать, не можетъ быть ни
малѣйшаго сомнѣнія, что движеніе впередъ не прерывалось и что даже въ то время,
когда писалъ Коминъ, обнаруживались уже несомнѣнные признаки великой и рѣ-
шительной перемѣны. Но это были только намеки на то, что приближалось. Прошло
около ста лѣтъ со смерти этого писателя, прежде чѣмъ обнаружился прогрессъ со
всѣми его послѣдствіями; ибо хотя протестантская реформація и была слѣдствіемъ
прогресса, но она имѣла нѣкоторое время неблагопріятное для него дѣйствіе въ
г) Обь этомъ довольно справедливо замѣчаетъ
Арнольдъ: «Записки Конина поражаютъ своей совер-
шенной безсознательностью: уже прозвонилъ для
среднихъ вѣковъ погребальный колоколъ, а Комппъ
все еще не имѣетъ другихъ идей, кромѣ тѣхъ, ко-
торымъ давали пищу эти вѣка; онъ описываетъ пхъ
событія, пхъ характеры, ихъ отношенія, какъ будто
бы они должны были продолжаться ещо нѣсколько
столѣтій», Къ этому я прибавлю еще, что Коминъ
вездѣ, гдѣ ему случается говоритъ о низшихъ клас-
сахъ, а это случается очень рѣдко,—отзывается о
нихъ съ большимъ презрѣніемъ.
2) По поводу вторженія въ Италію Коминь го-
ворить, что предпріятіе эю легко могло бы ру-
шиться, еслибы непріятелю пришло на мысль отра-
вить источники и съѣстные припасы. «Это непре-
мѣнно удалось бы ему, еслибы онъ захоіѣлъ попро-
бовать; по должно полагать, что Господь и Избави-
тель нашъ Іисусъ Христосъ отнялъ у него это жела-
I ніе. Скажемъ въ заключеніе, что невидимому нашему
| Господу Іисусу Христу угодно было, чтобы вся честь
. этого похода была приписана Ему>.
3) Лпнгардъ говоритъ: <ІІзъ ученія о нодчине-
піи всего Провидѣнію набожные предки паши вывели
' скорое, по весьма удобное заключеніе, что успѣхъ
I есть выраженіе Божеской воли и что противиться
побѣдившему сопернику значитъ противиться суду
і небссиому». Послѣднимъ признакомъ этого, нѣкогда
всеобщаго, мнѣнія является выраженіе о
| Богу браней»,— выраженіе, постепенно выходящее
। однако изъ употребленія.
НАЧАЛО ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
137
томъ отношеніи, что поощряла самыхъ даровитыхъ людей къ изслѣдованію вопро-
совъ, недоступныхъ для человѣческаго разума, и тѣмъ отвлекла ихъ оть такихъ
предметовъ, въ которыхъ усилія ихъ были бы полезны для общихъ цѣлей цивили-
заціи, Вотъ почему мы находимъ, что немногое собственно было сдѣлано до конца
XVI столѣтія, съ котораго, какъ увидимъ въ слѣдующихъ двухъ главахъ, теологи-
ческое рвеніе начало спадать въ Англіи и Франціи, и подготовлялся путь для той
чисто свѣтской философіи, которой Бэконъ и Декартъ были представителями, но ни
въ какомъ случаѣ не творцами !). Эта эпоха принадлежитъ къ XVII столѣтію, ко-
торое мы и можемъ считать временемъ умственнаго перерожденія Европы точно такъ же,
какъ ХѴШ столѣтіе—временемъ соціальнаго перерожденія. Въ теченіе большей части
XVI столѣтія легковѣріе оставалось еще преобладающимъ свойствомъ; имъ отлича-
лись не только низшіе и самые невѣжественные классы, но и люди, получившіе самое
лучшее воспитаніе. На это можно найти безчисленное множество примѣровъ, но для
краткости я ограничусь только двумя, особенно поразительными, какъ по сопровож-
давшимъ ихъ обстоятельствамъ, такъ и по вліянію ихъ на людей, о которыхъ можно
было предположить, что они мало способны къ подобнымъ самообольщеніямъ.
Въ концѣ XV п началѣ XVI столѣтія Стёффлеръ (ЗіоеШег), знаменитый астро-
номъ, былъ профессоромъ математики въ Тюбингенѣ. Этотъ замѣчательный чело-
вѣкъ оказалъ большія услуги астрономіи и одинъ изъ первыхъ нашелъ средства
исправить ошибки Юліанскаго календаря, по которому исчислялось тогда время. Но
ни его способности, ни его познанія не могли оградить его отъ дѣйствія духа того
времени. Въ 1524 году онъ обнародовалъ результаты какихъ-то темныхъ вычисле-
ній, которыми онъ долго занимался, и путемъ которыхъ ,онъ привелъ будто бы въ
достовѣрную извѣстность замѣчательный фактъ, что въ тотъ именно годъ міръ снова
долженъ быть опустошенъ потопомъ. Подобное извѣстіе, сообщенное человѣкомъ,
пользовавшимся большимъ значеніемъ, и сообщенное при томъ тономъ совершен-
наго убѣжденія, возбудило во всѣхъ живѣйшее безпокойство. Вѣсть о приближав-
шемся событіи быстро разнеслась по Европѣ и наполнила ее ужасомъ. Чтобы избѣг-
нуть перваго напора воды, люди, имѣвшіе дома около морей и рѣкъ, покидали ихъ;
другіе, считая подобныя мѣры не болѣе какъ временными, принимали иныя, болѣе
дѣйствительныя. Выражали желаніе, чтобы на первый случай императоръ Карлъ V
назначилъ инспекторовъ для осмотра страны и для обозначенія мѣстъ, которыя,
будучи наименѣе подвержены дѣйствію прилива, могли бы скорѣе всего служить убѣ-
жищемъ. Это было желаніе императорскаго генерала, стоявшаго въ то время во
Флоренціи; по его внушенію, написана была книга, въ которой излагался этотъ
совѣтъ. Но умы людей были слишкомъ взволнованы, чтобы усвоить себѣ такой обду-
манный планъ; кромѣ того не знали съ достовѣрностью высоты прилива и потому
не могли рѣшить, можетъ ли онъ достигнуть вершинъ самыхъ высокихъ горъ. Среди
этихъ и подобныхъ имъ соображеній наступилъ роковой день, а между тѣмъ не было
придумано ничего особенно важнаго для предотвращенія бѣдствія. Еслибы мы стали
перечислять все, чтб было предлагаемо и отвергаемо, то это наполнило бы цѣлую
главу. Одно впрочемъ предложеніе вполнѣ достойно вниманія, потому что опо было
приведено въ исполненіе съ большимъ усердіемъ, и при томъ оно прекрасно харак-
теризуетъ тотъ вѣкъ. Одинъ священникъ, по имени Ауріоль, бывшій въ то время
профессоромъ каноническаго права въ Тулузскомъ университетѣ, соображая въ умѣ
«Пробѣгите—говорить Гизо — исторію сь V по |
XVI столѣтіе; умомъ человѣческимъ владѣегь п управ-
ляетъ теологія; вопросы философскіе, политическіе, ,
историческіе постоянно разсматриваются съ точки |
зрѣнія теологической. Церковь до такой степени все- '
сильна въ умственной сферѣ, что даже матсматпче- 1
скія и физическія науки обязаны подчиняться ея учс- |
піянъ. Теологическій духъ—это какъ бы кровь, ко- |
торая текла по жиламъ европейскаго міра до Вакома
и Декарта». Все это прекрасно и совершенно спра-
ведливо, но какое произвели бы дѣйствіе Вэкопъ и
Декаоть, еслибъ, вмѣсто семнадцатаго столѣтія, онй
жили въ седьмомъ? Имѣла ли бы ихъ философія такой
же свѣтскій характеръ? пли, имѣя такой же свѣтскій
характеръ, имѣла ли бы она такой же успѣхъ?
138 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
своемъ различныя мѣры для отвращенія всеобщаго бѣдствія, остановился наконецъ
на той мысли, что полезно было бы обратиться къ тому образу дѣйствія, который
съ такимъ полнымъ успѣхомъ былъ принятъ въ подобномъ же случаѣ Ноемъ. Едва
родилась эта мысль, какъ ее привели уже въ исполненіе. Жители Тулузы оказали
ему свою помощь, и построенъ былъ ковчегъ, въ той надеждѣ, что хоть какая-ни-
будь часть человѣчества спасется въ немъ и станетъ продолжать свой родъ и снова
заселитъ землю, послѣ того какъ спадетъ вода и земля опять осушится.
Около семидесяти лѣтъ спустя послѣ описанной нами тревоги случилось еще
одно обстоятельство, которое въ теченіе нѣкотораго времени служило предметомъ за-
нятія для самыхъ знаменитыхъ людей въ одной изъ главнѣйшихъ странъ Европы.
Въ концѣ XVI столѣтія произведено было страшное волненіе извѣстіемъ, что у
одного ребенка, родившагося въ Силезіи, оказался въ челюсти золотой зубъ. По
произведенному изслѣдованію, молва оказалась совершенно справедливой. Невозможно
было скрыть это отъ публики; чудо вскорѣ стало извѣстно по всей Германіи, гдѣ
на него смотрѣли, какъ на таинственное предзнаменованіе, и потому всѣхъ страшно
озабочивала мысль, чтб бы это могло значить. Настоящее значеніе этого факта пер-
вый раскрылъ докторъ Горстъ. Въ 1595 году этотъ замѣчательный врачъ обнаро-
довалъ результаты своихъ изысканій, изъ которыхъ оказывалось, что при рожденіи
означеннаго ребенка солнце въ соединеніи съ Сатурномъ находилось въ знакѣ
Овна. Слѣдовательно, событіе хотя и было сверхъестественно, но не представляло
ни въ какомъ случаѣ ничего страшнаго. Золотой зубъ былъ предвѣстникомъ золо-
того вѣка, въ которомъ императоръ долженъ былъ изгнать турокъ изъ христіанской
земли и положить основаніе тысячелѣтнему царству. И на это, говоритъ Горстъ,
находится ясный намекъ у\Даніила въ его извѣстной второй главѣ, гдѣ пророкъ
говоритъ о статуѣ съ золотой головой.
ГЛАВА VII.
Очерк-ь исторіи умственнаго движенія въ Англіи съ половины XVI до нонца XVIII столѣтія.
Обыкновенный читатель, живущій среди XIX столѣтія, съ трудомъ можетъ
представить себѣ, что не болѣе какъ за триста лѣтъ до его рожденія общество на-
ходилось въ умственномъ отношеніи въ томъ состояніи глубокаго мрака, которое
изображено нами въ предыдущей главѣ. Еще труднѣе ему понять, что мракъ этотъ
распространялся не только на людей средняго образованія, но и на людей съ за-
мѣчательнымъ дарованіемъ,—людей, стоявшихъ во всѣхъ отношеніяхъ впереди сво-
его вѣка. Такой читатель убѣдится, положимъ, въ безспорности самыхъ фактовъ,
провѣритъ мои показанія и признаетъ ихъ неподлежащими ни малѣйшему сомнѣ-
нію,—но все-таки ему будетъ трудно понять, какъ могло общество когда-нибудь на-
ходиться въ такомъ состояніи, что люди охотно принимали жалкія бредни за самыя
важныя и здравыя истины и считали ихъ существенной частью общаго запаса
европейскаго знанія.
По болѣе тщательное изученіе послужитъ въ значительной мѣрѣ къ разсѣянію
этого естественнаго удивленія. По самой сущности дѣла, не только не удивительно,
что вѣрили такимъ вещамъ, но, напротивъ, было бы удивительно, если бы ихъ
отвергали. Въ тѣ времена, какъ и во всѣ другія, все было цѣльно. Не только въ
исторической литературѣ, но и во всѣхъ родахъ литературы, по всѣмъ ея предме-
тамъ— въ наукѣ, въ религіи, въ законодательствѣ, -руководящимъ началомъ того
времени было слѣпое легковѣріе, чуждое всякаго сомнѣнія. Чѣмъ болѣе изучаютъ
исторію Европы, предшествовавшую семнадцатому вѣку, тѣмъ полнѣе доказывается
этотъ фактъ. Отъ времени до времени появлялся великій человѣкъ, который не со-
всѣмъ раздѣлялъ всеобщія вѣрованія, который шопотомъ выражалъ сомнѣніе на
счетъ существованія великановъ въ тридцать футовъ ростомъ, крылатыхъ драконовъ
и армій, летающихъ но воздуху; который думалъ, что астрологія можетъ быть обманъ,
а некромантія- надувательство, и даже доходилъ до того, что возбуждалъ вопросъ:
дѣйствительно ли слѣдуетъ топить каждую колдунью и сжигать каждаго еретика? Та-
кіе люди изрѣдка дѣйствительно появлялись, но ихъ презирали, какъ чистыхъ тео-
ретиковъ, пустыхъ мечтателей, которые, не зная практической стороны жизни, осмѣ-
ливаются дерзко противопоставлять собственный свой разумъ мудрости своихъ пред-
ковъ. Въ томъ состояніи общества, въ которомъ люди эти родились, они не могли
имѣть прочнаго вліянія. Въ самомъ дѣлѣ, не довольно ли имъ было заботы о себѣ
самихъ, о своей личной безопасности; ибо до самыхъ послѣднихъ годовъ шестнад-
цатаго столѣтія не было страны, гдѣ не подвергалась бы большой опасности лич-
ность человѣка, выражавшаго явное сомнѣніе на счетъ вѣрованія своихъ совре-
менниковъ.
До пока не возникало сомнѣніе, прогрессъ очевидно былъ невозможенъ, потому
что. какъ мы ясно видѣли, успѣхи цивилизаціи зависятъ единственно отъ пріобрѣ-
теній, дѣлаемыхъ человѣческимъ умомъ, и отъ степени распространенія этихъ прі-
обрѣтеній. Но люди, вполнѣ довольные своимъ знаніемъ, никогда не попытаются
увеличить его. Люди, совершенно увѣренные въ непогрѣшимости своихъ убѣжденій,
140 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
никогда не дадутъ себѣ труда подвергнуть изслѣдованію основаніе, на которомъ убѣ-
жденія эти достроены. Они всегда смотрятъ съ удивленіемъ, и часто съ ужасомъ,
на взгляды, противорѣчащіе понятіямъ, наслѣдованнымъ отъ предковъ; а пока люди
находятся въ такомъ умственномъ состояніи, до тѣхъ поръ невозможно, чтобы они
приняли какую-либо новую истину, смущающую прежнія ихъ воззрѣнія.
И такъ, пріобрѣтеніе новыхъ познаній должно необходимо предшествовать
каждому шагу, который дѣлаетъ общество на пути прогресса; но въ то же время
самому пріобрѣтенію этому должна предшествовать любовь къ изслѣдованію, а, слѣдо-
вательно, и духъ сомнѣнія, ибо безъ сомнѣнія не можетъ быть изслѣдованія, а безъ
изслѣдованія не можетъ быть знанія. Знаніе не есть неподвижное, страдательное
начало, которое приходило бы къ намъ безъ нашей воли; чтобы пріобрѣсти знаніе,
нужно сперва поискать его. Это результатъ большихъ трудовъ и, слѣдовательно,
большихъ пожертвованій. Но нелѣпо было бы предположить, что люди обрекутъ
себя на трудъ и рѣшатся на жертвы ради изученія такихъ предметовъ, въ кото-
рыхъ они считаютъ себя достаточно свѣдущими. Кто не сознаетъ темноты, тотъ не
станетъ искать свѣта, Въ чемъ мы разъ удостовѣрились, того не подвергаемъ даль-
нѣйшему изслѣдованію, потому что дальнѣйшее изслѣдованіе было бы безполезно и
пожалуй опасно. Пока не родилось сомнѣніе, до тѣхъ поръ не начинается и изуче-
ніе. И такъ, въ актѣ сомнѣнія зарождается прогрессъ, или, по крайней мѣрѣ, онъ
служитъ необходимымъ переходомъ ко всякому прогрессу. Вотъ онъ, тотъ скепти-
цизмъ, одно имя котораго приводитъ въ священный ужасъ невѣждъ, потому что онъ
’затрогиваетъ милое имъ суевѣріе, потому что онъ налагаетъ на нихъ безпокойную
обязанность изслѣдованія, \іотому, наконецъ, что онъ вставляетъ даже самые лѣни-
вые умы задать себѣ вопроЪд>, дѣйствительно ли все такъ есть, какъ обыкновенно
полагаютъ, и все ли это въ "самомъ дѣлѣ справедливо, чему съ самаго дѣтства пхъ
учили вѣрить.
Чѣмъ больше мы будемъ изучать великое начало скептицизма, тѣмъ яснѣе
представится намъ, какую громадную роль оно играло въ успѣхахъ европейской
цивилизаціи. Мы можемъ сказать,—изображая въ общихъ чертахъ то, что будетъ,
подробно и вполнѣ доказано въ настоящемъ введеніи,—что скептицизму обязаны мы
тѣмъ духомъ пытливости, который въ теченіе двухъ послѣднихъ вѣковъ, постепенно
завладѣвая всѣмъ, преобразовалъ всѣ отрасли опытнаго и умозрительнаго знанія,
ослабилъ значеніе привилегированныхъ классовъ и, слѣдовательно, утвердилъ свободу
на болѣе прочномъ основаніи, наказалъ деспотизмъ, смирилъ дерзость вельможъ и
даже уменьшилъ предразсудки духовенства. Однимъ словомъ, этотъ именно духъ
исправилъ три грубыя ошибки прежняго времени,—-ошибки, заключавшіяся въ томъ,
что люди были слишкомъ довѣрчивы въ политикѣ, слишкомъ легковѣрны въ наукѣ
п слишкомъ чужды терпимости въ религіи.
Этотъ бѣглый обзорі всего, что было дѣйствительно сдѣлано, пожалуй можетъ
поразить тѣхъ читателей, которые не свыклись съ такими обширными изслѣдова-
ніями. Но принципъ, о которомъ идетъ рѣчь, такъ важенъ, что я намѣренъ провѣ-
рить его въ настоящемъ введеніи изслѣдованіемъ всѣхъ главнѣйшихъ формъ циви-
лизаціи. Подобнаго рода изслѣдованіе приведетъ насъ къ тому замѣчательному заклю-
ченію, что ни одинъ отдѣльный фактъ не имѣетъ для различныхъ странъ такого
обширнаго значенія, какое имѣютъ продолжительность дѣйствія въ нихъ начала
скептицизма, степень его развитія и въ особенности степень его распространенія.
Въ Испаніи церковь при помощи инквизиціи всегда имѣла достаточно силы, чтобы
наказывать скептическихъ писателей и тѣмъ предотвращать конечно не существо'
ваніе, а проповѣдываніе скептическихъ воззрѣній. Такимъ образомъ духъ сомнѣнія
былъ постоянно подавляемъ, вслѣдствіе чего знаніе оставалось въ состояніи почти
совершеннаго застоя;—въ такомъ же застоѣ находилась и цивилизація, которая есть
плодъ знанія. Но въ Англіи и Франціи,—странахъ, гдѣ. какъ мы скоро увидимъ,
скептицизмъ открыто явился на свѣтъ и гдѣ онъ былъ наиболѣе распространенъ,
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО ХѴШ СТ.
141
оказались совершенно иные результаты. Поощряемая любовь къ изслѣдованію поло-
жила основаніе тому постоянно возрастающему знанію, которому эти двѣ великія
націи обязаны своимъ благосостояніехмъ. Въ остальной части этого тома я прослѣжу
исторію скептицизма во Франціи и Англіи и разсмотрю различныя формы, въ кото-
рыхъ онъ проявлялся въ этихъ странахъ, а также отношеніе этихъ формъ къ націо-
нальнымъ интересамъ. Въ порядкѣ изслѣдованія я предоставляю первое мѣсто Англіи,
такъ какъ ея цивилизація, по причинамъ, уже изложеннымъ мною, должна считаться
болѣе нормальной, чѣмъ цивилизація Франціи, вслѣдствіе чего Англія, несмотря
на всѣ свои недостатки, приближается болѣе къ естественному типу, чѣмъ могла
приблизиться ея великая сосѣдка. Но такъ какъ самыя полныя подробности касательно
англійской цивилизаціи читатель найдетъ въ главной части этого сочиненія, то въ
настоящемъ введеніи я намѣренъ посвятить ей не болѣе одной главы, въ которой
разсмотрю нашу отечественную исторію только тіо отношенію къ непосредственнымъ
послѣдствіямъ скептическаго движенія; другія же вспомогательныя явленія, имѣвшія
конечно менѣе обширное значеніе, но все-таки довольно важныя, я отложу до буду-
щаго случая. Самымъ важнымъ послѣдствіемъ скептицизма было безъ сомнѣнія раз-
витіе духа религіозной терпимости, поэтому я прежде всего изложу обстоятельства,
при которыхъ онъ впервые проявился въ Англіи въ XVI столѣтіи, а затѣмъ покажу,
въ какой мѣрѣ другія событія, непосредственно слѣдовавшія за этимъ явленіемъ,
составляли часть того же прогресса и оказывались не болѣе какъ проявленіемъ тѣхъ
же самыхъ началъ, только въ различныхъ направленіяхъ.
Тщательное изученіе исторіи религіозной терпимости покажетъ намъ, что во
всѣхъ христіанскихъ странахъ, гдѣ привилось это начало^ оно было насильно навя-
зано духовенству вліяніемъ свѣтскихъ сословій х). И до Хсихъ поръ не знаютъ рели-
гіозной терпимости вчэ тѣхъ странахъ, гдѣ духовная власть сильнѣе свѣтской; а такъ
какъ въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій всѣ страны находились въ такомъ положеніи,
то не удивительно, что въ ранней исторіи Европы мы почти не находимъ ни малѣй-
шаго слѣда этого мудраго и благодѣтельнаго начала.
Въ то время, когда на престолъ англійскій вступила Елизавета, Англія была
почти поровну подѣлена между двумя враждебными вѣроисповѣданіями; но королева
въ теченіе нѣкотораго времени такъ ловко умѣла уравновѣшивать силы обѣихъ
сторонъ, что ни одна изъ нихъ не имѣла рѣшительнаго перевѣса. Это былъ первый
примѣръ въ Европѣ успѣшнаго управленія государствомъ, безъ дѣятельнаго участія
духовной власти; въ результатѣ оказалось, что начало терпимости, хотя еще далеко
несовершенно понимаемое, дошло въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ до такого развитія,
которое просто изумительно въ такой варварскій вѣкъ 2). Къ несчастью, по проше-
ствіи нѣкотораго времени различныя обстоятельства, которыя будутъ изложены мною
въ своемъ мѣстѣ, заставили Елизавету измѣнить свою политику,—можетъ быть, при
всей своей мудрости, она считала свой образъ дѣйствія опаснымъ опытомъ, для ко-
тораго Англія еще едва-ли обладала достаточно зрѣлымъ знаніемъ. Но хотя она
и дозволила теперь протестантамъ удовлетворять своей ненависти къ католикамъ,
однако среди послѣдовавшихъ за этимъ кровавыхъ сценъ было одно обстоятельство,
особенно достойное вниманія: многія лица были казнены единственно за свою религію—
въ томъ не было никакого сомнѣнія, но пикто не смѣлъ сказать, что причиной ихъ
Э Болѣе двухсотъ лѣтъ тому назадъ Вильяяъ |
Темпль замѣтилъ, что въ Голландіи духовенство имѣло |
меньше силы, чѣмъ вь другихъ странахъ, и что по-
этому въ Голландіи была необыкновенно развита тер- !
наместь. Почти семидесятые годами позже тотъ же ;
выводъ сдѣлалъ другой проницательный наблюдатель— !
йеоланъ, который, упомянувъ о снисходительноеги,
накую оказывали другъ другу различныя секты г.ъ
Голландіи, присовокупляетъ: «Главная причина столь '
совершеннаго согласія заключается въ томъ, что въ ,
этой страмѣ всѣ дѣла между различными религіями
ведутся ихъ свѣтскими членами, что танъ не потер-
пѣли бы такихъ духовныхъ лицъ, которыхъ неумѣст-
ная ревность могла бы разрушить это благое согла-
сіе». Я привожу эти факты только какъ пояснитель-
ные примѣры того великаго начала, которое будетъ
доказано мною впослѣдствіи.
2) Въ первыя одиннадцать лѣтъ ея царствованія
ни одинъ католикъ не былъ преслѣдуемъ уголовнымъ
судомъ за религію.
142
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
казни была именно религія х). Ихъ подвергали самымъ варварскимъ наказаніямъ,
но имъ говорили при этомъ, что они могли избавиться отъ казни, отказавшись отъ
нѣкоторыхъ убѣжденій, которыя были будто бы вредны для безопасности государ-
ства * 2). Правда, что многія изъ этихъ убѣжденіи были такого рода, что ни одинъ
католикъ не могъ отказаться отъ нихъ, не отказываясь въ то же время и отъ своей
религіи, которой они составляли существенную принадлежность. Но самый тотъ
фактъ, что духъ преслѣдованія долженъ былъ прибѣгать къ такого рода уловкамъ,
доказывалъ уже значительный прогрессъ того вѣка. Уже то составляло весьма важное
пріобрѣтеніе, что ханжа сдѣлался лицемѣромъ, и что духовенство при всей своей
готовности жечь людей для блага ихъ душъ вынуждено было оправдывать свою
жестокость соображеніями болѣе свѣтскаго и, какъ имъ казалось, менѣе важнаго
свойства 3),
Замѣчательное доказательство происходившей въ то время перемѣны видимъ
мы въ двухъ важнѣйшихъ теологическихъ сочиненіяхъ, вышедшихъ въ Англіи въ
царствованіе Елизаветы. Гукерово «Церковное Устройство* («Ессіезіавіісаі Роііѣу»).
изданное въ концѣ XVI столѣтія, еще и до сихъ поръ считается однимъ изъ глав-
нѣйшихъ оплотовъ пашой отечественной церкви. Если мы сравнимъ это сочиненіе
съ сочиненіемъ Джювеля (Іетѵ’еі) «Загцита Англійской Церкви», которое было напи-
сано тридцатью годами ранѣе 4), то насъ тотчасъ же поразитъ различіе методовъ,
употребляемыхъ этими замѣчательными писателями. И Гукеръ, и Джювель были оба люди
ученые и геніальные; оба были коротко знакомы съ Библіей, отцами церкви и постано-
вленіями соборовъ; оба писали съ сознательной цѣлью защитить англійскую церковь,
и обоимъ были хорошо извѣстны обыкновенные пріемы теологическихъ преній; но
на этомъ и останавливаете ихъ сходство; сами лю^іі были очень похожи другъ на
друга, сочиненія же ихъ Совершенно различны. Въ тридцатилѣтній промежутокъ
времени, раздѣляющій этихъ писателей, англійскій умъ сдѣлалъ огромные успѣхи;
тѣхъ аргументовъ, которые въ Джювелсво время считались совершенно удовлетво-
рительными, никто не сталъ бы и слушать въ эпоху, когда писалъ Гукеръ. Сочи-
неніе Джювеля наполнено текстами изъ отцовъ церкви и постановленій соборовъ,
голословныя утвержденія которыхъ, когда они не противорѣчили священному писа-
нію, онъ повидимому считалъ уже положительными доказательствами. Гукеръ, напро-
тивъ, хотя и оказываетъ большое уваженіе соборамъ, но мало опирается на отцовъ
церкви; онъ очевидно руководствовался соображеніемъ, что читатели не обратятъ
слишкомъ большого вниманія на бездоказательныя мнѣнія. Джювель внушаетъ необ-
ходимость вѣры, а Гукеръ настаивалъ на упражненіи разума 5). Первый употреб-
Кардъ I говорить; «Я знаю, чго ни королева
Елизавета, ни мои отецъ никогда но сознавались въ
томъ, что въ ихъ царствованіе какой-нибудь священ-
никъ былъ казненъ единственно за религію».
2) Такимъ же точно образомъ противники эман-
сипаціи католиковъ въ наше время нашлись вынуж-
денными ставить прежніе теологическіе доводы и за-
щищать преслѣдованіе католиковъ аргументами скорѣе
политическаго, чѣмъ религіознаго своіісгва. Лордъ
Эльдопъ, который былъ самымъ вліятельными вождемъ
партіи нетерпимости, сказалъ въ одной рѣчи въ па-
латѣ лордовъ, въ 1810 году, что «постановленіями
противъ католиковъ имѣлось въ виду оградиться не
отъ отвлеченныхъ убѣжденій ихъ религіи, по отъ по-
литическихъ опасностей, которыми угрожала вѣра,
признававшая верховную власть, находящуюся внѣ
государства».
3) Вотъ что говорить одинъ даровитый писатель
о преслѣдованіяхъ, которыя англійская церковь на-
правляла въ XVII столѣтіи противъ своихъ враговъ:
<Это избитая уловка, употребляемая духовенствомъ
во всѣхъ странахъ: оно же испрашиваетъ у прави-
тельства карательныя постановленія противъ тѣхъ,
кого оно называетъ еретиками пли схизматиками, и
возбуждаетъ судей къ строгому исполненію этихъ за-
коновъ,—и оно же потомъ слагаеп> всю вину на
гражданскую власть, для которой не находитъ другого
оправданія, какъ то, что пострадавшіе подверглись
будто бы отнѣтственпости не за религію, а за ослу-
шаніе закоповъ».
4) Джювелева «Аиолоійі* была написана въ
1561 пли 1562 г. См. «ѴГогй^огІІГв Ессіезіазі. Біо#-»
ѵоі. III, р. 313. Это сочиненіе, Библію и «Еох’з Маг-
іигз» приказано было въ царствованіе Елизаветы
«имѣть постоянно во всѣхъ приходскихъ церквахъ
для чтенія народу». Приказаніе это относительно
Джювѳлевой «Защиты* было подтверждено Іаковомъ 1
и Карломь I.
5) «Поэтому естественнымъ мѣриломъ въ суж-
деніи о нашихъ дѣйствіяхъ долженъ быть приговоръ
разума, опредѣляющій и постановляющій, чтб хорошо
и чтб должно дѣлать». Гукеръ требуетъ отъ своихъ
противниковъ, «чтобы оип пе домогались отъ насъ
объяспепія каждаго дѣйствія текстомъ св. писанія
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ІЮ XVIII СТ.
143
ляеть весь свой талантъ на то, чтобы собрать рѣшенія древности и рѣшить, какой
въ нихъ можетъ быть предположенъ смыслъ. Второй приводитъ слова древнихъ не
столько изъ уваженія къ ихъ авторитету, сколько съ цѣлью уяснить ими свои соб-
ственные аргументы. Такъ, напримѣръ, оба, и Гукеръ, и Джювель, утвефждаютъ, что
монархъ имѣетъ несомнѣнное право вмѣшиваться въ дѣла церкви; но Джювель вооб-
ражалъ себѣ, что онъ доказалъ это право, напомнивъ, что имъ пользовались Мои-
сей, Іисусъ Навинъ, Давидъ и Соломонъ х); Гукеръ’, напротивъ, доказываетъ, что
право это существуетъ не въ силу древности своей, а потому, что оно разумно,
потому что неосновательно было бы предположить, что люди не духовнаго званія
станутъ подчиняться законамъ, которые изданы однимъ духовенствомъ2). Въ такомъ же
противоположномъ духѣ эти два великіе писателя ведутъ и свою защиту англій-
ской церкви. Джювель, подобно всѣмъ писателямъ его времени, упражнялъ болѣе
свою память, чѣмъ свой умъ; онъ думаетъ, что рѣшилъ весь споръ тѣмъ, что набралъ
множество текстовъ изъ Библіи и мнѣній различныхъ комментаторовъ. Гукеръ, напро-
тивъ, живя во время Шекспира и Бэкона, вынужденъ былъ придерживаться болѣе
глубокихъ взглядовъ. Его защита не основывается пи на преданіяхъ, ни на ком-
ментаторахъ, ни даже на откровеніяхъ; онъ довольствуется тѣмъ, что обусловли-
ваетъ справедливость притязаній двухъ враждующихъ сторонъ соотвѣтственностью ихъ
главнымъ требованіямъ общества и удобопримѣнимостыо къ общимъ цѣлямъ еже-
дневной жизни 3).
Не нужно много проницательности, чтобы понять огромную важность той пе-
ремѣны, которой представителями служатъ эти два обширныя сочиненія. До тѣхъ
(изъ котораго, какъ они силятся доказать разными
ссылками, должно вытекать каждое дѣйствіе наше),
а скорѣе признавали бы истину, какъ она есть, т. с.
считали достаточнымъ, чтобы дѣйствія были согласны
съ закопами разума. «Для людей быть связанными
и водимыми авторитетомъ, какъ будто-бы сужденіе пхъ
было г.ъ какомь-то плѣну, и, хотя бы здравый смыслъ
внушалъ противное, не внимать ему, а слѣдовать,
подобно стаду барановъ, за переднимъ, не зная и ис
желая знать куда,—значило бы дѣйствовать по-скотски.
Опять, чтобы авторитетъ людей имѣлъ у людей же
какую-нибудь силу противъ разума, или преобладалъ
надъ нимъ,—это тоже но входитъ въ наши вѣрованія.
Цѣлыя 'собранія ученыхъ людей, какъ бы ни были
они велики и почтенны, должны преклониться передъ
разумомъ». Онъ же говоритъ, что даже «голосъ церкви»
должно ставить ниже разума. Далѣе онъ говорить опять:
«Что такое теологія, если не знаніе вещей божествен-
ныхъ? Какого же знанія можно достигнуть безъ по-
мощи естественной способности умозаключенія пли
разума». Наконецъ, онъ съ негодованіемъ спрашиваетъ
тѣхъ, которые настаиваютъ на самой большой важ-
ности вѣры: «Можемъ ли мы безъ разума сдѣлать,
чтобы вѣра наша казалась разумной въ глазахъ
людей?»
*) Сославшись на пророка Исаію, онъ нрибав-
.іяегь: «Кромѣ всего этого, мы "видимъ изъ исторіи
и изъ примѣровъ лучшихъ временъ, что набожные
государи никогда не считали чуждымъ для себя дѣ-
ломъ покровительствовать церквамъ».
< Моисей, гражданскій судья и вождь парода,
получилъ оть Бога и передалъ народу всѣ основанія
религіи и богослуженія; онъ же сильно п тяжко на-
казалъ епископа Аарона за золотого тельца и за иска-
женіе религіи. Іисусъ Навинъ быль не что иное, какъ
гражданскій судья; но лишь только онь быль посвя-
щенъ и поставленъ во главѣ народа, на него возло-
жены были обязанности пменно по части религіи и
богослуженія».
«Царь Давидъ, когда всякая религія была уже
почти уничтожена безбожнымъ царемъ Сауломъ, воз-
вратилъ Кивотъ Завѣта, т. е. возстановилъ религію;
и въ дѣлѣ этомъ онь участвовалъ не какъ совѣтникъ
только, а далъ даже псалмы и гимны, распредѣлилъ
священнослужителей по чинамъ, установилъ церемо-
ніи п какъ бы стоялъ во главѣ духовенства».
«Царь Соломонъ воздвигъ Господу храмъ, кото-
рый отецъ сго Давидъ только задумалъ; наконецъ, онъ
держалъ прекрасную рѣчь пароду о религіи и бого-
служеніи. затѣмъ удалилъ еіпіекоиа Авіаѳара и на
мѣсто его поставилъ Садика».
Онъ говоритъ, что хотя и можно предполо-
жить, что духовенство лучше съумѣегь устроить дѣла
церковныя, чѣмъ люди свѣтскіе, однако въ практи-
ческомъ отношеніи это ему ни къ чему не послужитъ.
«Неестественно было бы но считать пастырей и архи-
пастырей душъ нашихъ людьми болѣе способными,
чѣмъ лица свѣтскихъ профессій и знаній; тѣмъ не
менѣе когда все сдѣлано, чтб только можетъ сдѣлать
всякаго рода мудрость, для предписанія законовъ
церкви, то всеобщее только согласіе можетъ дать
этимъ постановленіямъ силу законовъ; безъ этого же
согласія они не болѣе имѣли бы для пасъ значенія, какъ
совѣты врачей для больныхъ». Онъ говоритъ далѣе:
«Пока не будетъ доказано, что какимъ-нибудь зако-
номъ Іисуса Христа навсегда предоставлена одному
духовенству власть издавать церковные законы, до
тѣхъ поръ мы должны считать совершенно соглас-
нымъ съ справедливостью и здравымъ смысломъ,
чтобы никакое церковное постановленіе въ христіан-
ской общинѣ не было издаваемо безъ согласія какъ
мірянъ, такъ и духовенства, а въ особенности безъ
верховной власти».
3) Эготь глубокій взглядъ лежитъ въ основаніи
всего сочиненія Гукера. Мѣсто позволяетъ мнѣ при-
вести здѣсь лишь нѣсколько извлеченій, въ которыхъ
заключаются скорѣе пояснительные примѣры, чѣмъ
само доказательство; доказательство же всякій чита-
тель, свѣдущій въ этого рода вещахъ, можетъ ясно
различить при чтеніи самой книги. «Справедливо ко-
144
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
поръ, пока мнѣнія въ теологіи защищались по старому догматическому методу, ихъ
нельзя было оспаривать безъ того, чтобы не подвергнуться обвиненію въ ереси.
Когда же ихъ стали защищать главнѣйшимъ образомъ общечеловѣческими разсуж-
деніями, то опора ихъ значительно ослабѣла; въ нихъ вошелъ элементъ недосто-
вѣрности. Теперь можно было допустить, что аргументы одной секты такъ же хороши,
какъ н аргументы другой, и что мы не можемъ быть увѣрены въ справедливости
нашихъ убѣжденій, пока не услышимъ, что скажетъ противная сторона. По старой
теологической теоріи легко было оправдать самыя варварскія преслѣдованія. Если
человѣкъ зналъ, что единственная истинная религія есть та, которую онъ исповѣ-
дываетъ, если онъ зналъ также, что умирающіе въ другой вѣрѣ обречены на вѣчную
гибель, если онъ зналъ, что во всемъ этомъ не допускается ни малѣйшаго сомнѣ-
нія—то онъ смѣло могъ сдѣлать такой выводъ, что наказывать тѣло для спасенія
души и обезпечивать безсмертнымъ существамъ будущее спасеніе, даже при по-
мощи такихъ жестокихъ средствъ, какъ петля или колъ,—есть дѣло благое. Но если
того же самаго человѣка научили думать, что религіозные вопросы должны быть
разрѣшаемы какъ съ помощью разума, такъ и съ помощью вѣры, то едва-ли онъ
избѣгнетъ того разсужденія, что разумъ даже въ самыхъ умныхъ головахъ не не-
погрѣшимъ, потому что онъ часто приводилъ самыхъ способныхъ людей къ самымъ
противоположнымъ заключеніямъ. Когда такое понятіе распространено въ какомъ-
нибудь народѣ, то оно не можетъ не имѣть вліянія на его поступки. Ни одинъ че-
ловѣкъ сколько-нибудь здравомыслящій и честный не рѣшится подвергнуть другого за
его религію всей строгости законовъ, если онъ знаетъ, что его собственныя убѣж-
денія легко могутъ оказаться ложными, а убѣжденія наказаннаго имъ человѣка —
справедливыми. Съ той минуты, какъ религіозные вопросы освобождаются отъ юрис-
дикціи вѣры и подвергаются буду разума, преслѣдованіе за вѣру является самымъ
грустнымъ видомъ преступленія. Такъ было въ XVII столѣтіи, когда теологія, сдѣ-
лавшись разумнѣе, стала менѣе самонадѣяпна и потому болѣе человѣчна. Черезъ
семнадцать лѣтъ послѣ изданія великаго сочиненія Гукера два человѣка были пуб-
лично сожжены англійскими епископами за еретическія убѣжденія. Но это былъ по-
слѣдній вздохъ умирающаго ханжества; съ этого памятнаго дня почва Англіи уже
ни разу не была запятнана кровью страдальца за религіозныя убѣжденія.
И такъ, мы видѣли зарожденіе того скептицизма, съ котораго въ естествен-
ныхъ наукахъ должно всегда начинаться знаніе, а въ религіи—терпимость. Ко-
нечно нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ обоихъ случаяхъ отдѣльные мыслители мо-
гутъ, съ помощью большихъ усилій врожденнаго генія, освободиться отъ дѣйствія
этого закона, но въ прогрессѣ цѣлой націи такого уклоненія быть не можетъ. Пока
люди приписываютъ движенія кометъ непосредственному дѣйствію перста Божьяго
и пока они вѣруютъ, что солнечное затменіе есть одно изъ выраженій Божьяго
гнѣва, до тѣхъ поръ они не могутъ сдѣлаться виновны въ богопротивномъ притя-
заніи предсказывать такія сверхъестественныя явленія, Прежде чѣмъ они осмѣлятся
нечно, что чѣмъ древнѣе религіозные обряды, тѣмъ
лучше; но справедливо это не безусловно и не безъ
изъятій, справедливо лишь на столько, на сколько
въ различные вѣка можетъ повторяться тотъ
порядокъ вещей, для котораго эти обряды, порядки и
церемоніи были первоначально установлены»... «Ибо
если какая-нибудь вещь перестаетъ быть годной для
той пѣли, ради которой она существуетъ, то продол-
женіе ея существованія необходимо представляется
излишнимъ», Даже о законахъ Божіихъ онъ дерзко
говорить: «Несмотря на авторитетъ ихъ Творца,
измѣнчивость цѣли, для которой онп даны, дѣлаетъ
ихъ также подлежащими измѣненію»... «Потому даже
и тѣ законы, которые даны Богомъ и цѣль поста-
новленія которыхъ еще не уничтожилась, должны
! все-таки прекратить свое существованіе, если при
| другихъ лицахъ или въ другое время они окажутся
I недостаточными для достиженіи предположенной цѣли»...
«И такъ, я скажу въ заключеніе, что ни то обстоя-
тельство, что законы даны Богомъ для управленія Его
церковью, ни то, что они заключаются въ св. писа-
ніи, не представляетъ достаточнаго основанія для того,
чтобы всѣ церкви обязаны были вѣкъ сохранять ихъ
неизмѣнными». Пѣіъ даже и тѣни такихъ аргумен-
товъ у Джювеля, который, напротивъ того, говоритъ:
^Конечно не можетъ быть болѣе тяжкаго обвиненія
для религіи Единаго Бога, какъ обвиненіе въ ново-
введеніяхъ. Ибо, какъ въ Самомъ Богѣ, такъ и въ
служеніи Ему, ничего не должно быть новаго».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
145
изслѣдовать причины этихъ таинственныхъ явленій, необходимо, чтобы они увѣровали
или, по крайней мѣрѣ, заподозрили, что подобныя явленія могутъ быть объяснены
человѣческимъ умомъ. Точно также, пока люди не рѣшатся представить нѣкоторымъ
образомъ свою религію па судъ своего разума, до тѣхъ поръ они не будутъ въ со-
стояніи понять, какъ могутъ быть различныя вѣрованія, или какъ можетъ кто-нибудь
расходиться съ ними въ убѣжденіяхъ, не дѣлаясь чрезъ это виновнымъ въ самомъ тяж-
комъ и непростительномъ преступленіи х).
Если мы прослѣдимъ далѣе развитіе идей въ Англіи, то увидимъ всю спра-
ведливость сдѣланныхъ нами выше замѣчаній. Всеобщій духъ пытливости, сомнѣнія
и даже сопротивленія сталъ овладѣвать умами людей. Въ естественныхъ наукахъ
это дало имъ возможность однимъ разомъ сбросить старинныя оковы и создать науки,
основанныя не на преданіяхъ старины, а на личныхъ наблюденіяхъ и опытахъ. Въ
политикѣ плодомъ такого возбужденія было возстаніе противъ правительства, окон-
чившееся смертью короля на эшафотѣ. Въ религіи духъ этотъ породилъ тысячи
сектъ, изъ которыхъ каждая провозглашала и часто преувеличивала важность сво-
боды совѣсти 2). Подробности этого великаго движенія составляютъ одну изъ самыхъ
занимательныхъ частей исторіи Англіи. Но, не распространяясь о томъ, что будетъ
разсказано далѣе, я приведу въ настоящее время только одинъ примѣръ, который,
по сопровождавшимъ его обстоятельствамъ, особенно хорошо характеризуетъ тогдашнее
время. Знаменитое сочиненіе Чиллингворта о протестантской религіи считается во-
обще лучшей защитой реформаторовъ противъ римской церкви. Оно было издано
въ 1637 году и, судя по положенію автора, мы могли бы ожидать, что найдемъ въ
немъ полнѣйшее проявленіе ханжества, соотвѣтствовавшаго духу того времени. Чил-
лингвортъ только-что оставилъ ту религію, на которую теперь сталъ нападать; по-
этому можно было бы предположить въ немъ естественную склонность къ догмати-
зированію, которою всегда отличаются вѣроотступники. Кромѣ того онъ былъ крест-
никомъ и лучшимъ другомъ Лода, о которомъ и до сихъ поръ вспоминаютъ съ не-
навистью, какъ о самомъ гнусномъ, самомъ жестокомъ и самомъ ограниченномъ
человѣкѣ, какой когда-либо занималъ епископскую каѳедру 3). Въ довершеніе всего,
онъ былъ питомецъ Оксфорда и постоянно жилъ въ этомъ древнемъ университетѣ,
который всегда считался убѣжищемъ суевѣрія и до сихъ поръ сохранилъ эту неза-
видную славу. Обращаясь затѣмъ къ сочиненію, которое было писано при такихъ
обстоятельствахъ, мы съ трудомъ можемъ повѣрить, что оно появилось въ томъ же
’) Итакъ, обвинять кого-либо въ недостаткѣ !
благочестія за неуваженіе къ тому, передъ чѣмъ мы ;
благоговѣемъ,—несообразность или же просто сбввчп- ।
вость въ понятіяхъ; потому что благоговѣть передъ I
всѣмъ п всѣми рѣшительно не годится: уваженіе къ !
тому, чтб не заслуживаетъ уваженія,—вовсе не до- |
бродѣтель; нѣтъ, это даже и не любезная слабость,
а чистое безумство в грѣхъ. Если же смыслъ обвп- 1
пеаія тотъ, что человѣкъ обнаруживаетъ недостатокъ !
надлежащаго благочестія въ неуваженіи къ предме- !
тамъ, дѣйствительно заслуживающимъ уваженія, то
это значитъ основывать рѣшеніе на томъ, что само !
составляетъ вопросъ, такъ какъ то, что мы называемъ 1
божествомъ, обвиняемый называетъ идоломъ: и на !
сколько мы—предположивъ, что мы правы, обязаны !
падать ницъ и обожать, на столько же онъ,—пред-
положивъ, что онъ нравъ,—обязанъ низвергать п
разбивать». («АпюІсГз Ьесінгез оп Мобсги Нізіогу»).
Если принять въ соображеніе даровитость доктора
Арнольда, его значеніе, его профессію, обстоятель-
ства его жизни и характеръ университета, въ кото-
ромъ онъ преподавалъ,—то нельзя не согласиться, что
приведенное выше мѣсто весьма замѣчательно п вполнѣ
заслуживаетъ вниманія тѣхъ, кто хочетъ изучать на-
правленіе англійскаго ума въ настоящемъ поколѣніи.
2) Быстрое распространеніе ереси въ половинѣ
XVII столѣтія представляетъ весьма замѣчательное
явленіе; опо было большой помощью англійской ци-
вилизаціи въ томъ отношеніи, что прививало при-
вычку къ свободному мышленію. Въ февралѣ 1646—
1647 года Бойль пишетъ изъ Лондона: «Тугъ рѣдко
проходитъ день, о которомъ нельзя было бы по спра-
ведливости сказать, что онъ состряпалъ или смасте-
лплъ новое мнѣніе. Нѣкоторые доходятъ даже до та-
кого утонченнаго непостоянства въ этомъ отношеніи,
что считаютъ мнѣніе чѣмъ-то однодневнымъ, чтб ѳдва-
ли стбптъ сохранять по прошествіи одного, двухъ
дней. Если кто-нибудь потерялъ свою религію, то
пусть обратится въ Лондонъ, и я ручаюсь, что онъ
найдетъ ее; я почти могъ бы тоже сказать, что если
у кого есть религія, то пусть онъ только пріѣдетъ
сюда и опъ не замедлитъ потерять ее».
3) Характеръ Лода теперь совершенно разгаданъ
и всѣмъ извѣстенъ. Его гнусныя жестокости сдѣ-
лали его до такой степени ненавистнымъ для совре-
менниковъ, что послѣ его осужденія многіе закрыли
свои лавки п не хотѣли открывать ихъ до тѣхъ поръ,
пока его но казнили. Это разсказываетъ Вальтонъ,
одинъ изъ очевидцевъ.
Бокль,—Изд. Ф. Павленкова.
10
146
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
самомъ поколѣніи и въ той же самой странѣ, въ которыхъ только двадцатью семью
годами ранѣе два человѣка были публично сожжены за то, что отстаивали убѣжде-
нія, несогласныя съ убѣжденіями господствующей церкви. Конечно, но можетъ быть
лучшаго доказательства необыкновенной энергіи происходившаго въ то время дви-
женія, какъ то, что давленіе его чувствовалось и при самыхъ враждебныхъ обстоя-
тельствахъ, какія только можно представить себѣ; что другъ Лода и при томъ пито-
мецъ Оксфорда въ серьезномъ теологическомъ изслѣдованіи проводилъ начала совер-
шенно разрушительныя для того теологическаго духа, который въ теченіе многихъ
вѣковъ держалъ въ рабствѣ всю Европу.
Въ этомъ великомъ сочиненіи говорится прямо противъ всякаго авторитета въ
дѣлѣ религіи. Гукеръ, тотъ, хотя и аппеллировалъ на юрисдикцію отцовъ церкви
къ юрисдикціи разума, однако позаботился прибавить, что разумъ отдѣльныхъ лич-
ностей долженъ склоняться предъ разумомъ церкви, выражающимся въ постановле-
ніяхъ соборовъ и въ общемъ голосѣ церковныхъ преданій. Чиллингвортъ же не хо-
тѣлъ и слышать пи о чемъ подобномъ. Онъ не допускалъ никакихъ ограниченій,
направленныхъ къ стѣсненію священнаго права свободы совѣсти. Онъ не только
зашелъ далѣе Гукера въ пренебреженіи къ отцамъ церкви *), но даже осмѣлился
не уважать соборовъ* Хотя единственною цѣлью его сочиненія было разобрать
враждебныя притязанія двухъ главнѣйшихъ сектъ, на которыя распалась христіан-
ская церковь, тѣмъ не менѣе онъ никогда не ссылается на авторитетъ соборовъ
той самой церкви, о которой шелъ споръ 2). Его мощный и въ то же время тонкій
умъ, проникающій въ самую глубину предмета, пренебрегалъ тѣмъ споромъ, который
долго занималъ умы людеЦ. Разбирая пункты, на которыхъ католики и протестанты
расходились, онъ полагаетъ вопросъ не въ томъ, согласны ли содержащіяся въ нихъ
ученія со взглядами первоначальной церкви, а въ томъ, согласны ли они съ чело-
вѣческимъ разумомъ; и онъ, не колеблясь, высказываетъ такую мысль, что какъ бы
ни были справедливы эти ученія, нп одинъ человѣкъ не обязанъ имъ вѣрить, если
только онъ находитъ, что они противны внушеніямъ его собственнаго разума. Онъ
не согласенъ также и съ тѣмъ, чтобы вѣра восполняла недостатокъ авторитета. Даже
этотъ любимый принципъ теологовъ у Чиллингворта уступаетъ мѣсто преобладанію
человѣческаго разума. Разумъ, говоритъ онъ, даетъ намъ знаніе, вѣра же даетъ
только убѣжденіе, которое есть часть знанія, и потому стоитъ ниже его. Разумъ, а
не вѣра, долженъ рѣшать нашъ выборъ въ предметахъ религіи, и однимъ только
разумомъ можемъ мы различать истину отъ лжи. Наконецъ онъ торжественно напо-
минаетъ своимъ читателямъ, что въ предметахъ религіи не слѣдуетъ ожидать, чтобы
кто-либо могъ дѣлать твердые выводы изъ несовершенныхъ посылокъ, или вѣрить
неправдоподобнымъ показаніямъ па основаніи скудныхъ доводовъ; еще менѣе, гово-
ритъ онъ, имѣлось когда-либо въ виду, что люди до такой степени извратятъ свой
разумъ, чтобы проникнуться непогрѣшимой вѣрою въ то, чего они не въ состояніи
доказать непогрѣшимыми аргументами 3) Ни одинъ человѣкъ, имѣющій сколько-
х) Чтеніе отцовъ церкви онъ презрительно на-
зываетъ путешествіемъ «за сѣверозападпыми откры-
тіями». Даже Августину, который былъ конечно
умнѣйшимъ изъ отцовъ церкви, Чиллингвортъ не
оказываетъ никакого вниманія. Чиллингвортъ выра-
зился довольно мѣтко, что духовные «называютъ
ихъ отцами—когда они за нпхъ, и дѣтьми—когда
противъ нихъ».
2) Замѣчательное доказательство медленности
прогресса теологовъ можно найти, наблюдая, въ ка-
комъ духѣ разсматривали этотъ вопросъ нѣкоторые
изъ нашего духовенства. Пи въ одной области изслѣ-
дованія не находимъ мы такой упорной рѣшимости
держаться теорій, которыя въ послѣднія два столѣ-
тія отвергнуты всѣми здравомыслящими людьми.
] 3) «Богу угодно только, чтобы мы вѣрили за-
ключенію на столько, на сколько заслуживаютъ до-
вѣрія посылки; чтобы сила нашей вѣры равнялась
или была пропорціональна правдоподобію побудитель-
ныхъ къ пей причинъ Я съ своей стороны убѣж-
денъ, чго Богъ далъ намъ разумъ на то, чтобы мы
: различали истину отъ лжи; и тотъ, кто не дѣлаетъ
1 изъ него такого употребленія, а вѣритъ разнымъ ве-
щамъ, самъ не зная почему, тотъ, говорю я, можетъ
| повѣрить истинѣ только елрайно, а не по своему вы-
[ бору; и я боюсь, что Богъ не приметъ этой жертвы
глупцовъ... Божій духъ, если ему будетъ угодно, мо-
: жегъ сдѣлать еще болѣе,—можетъ сдѣлать, что до-
1 стовѣрность, основанная па допущеніи, будетъ выше
। достовѣрпости, основанной на доказательствахъ, но ни
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
117
яибудь соображенія, не можетъ ошибиться на счетъ очевиднаго направленія этихъ
взглядовъ. Но что особенно важно замѣтить, это тотъ процессъ, чрезъ который дол-
женъ былъ пройти умъ человѣческій на пути цивилизаціи, прежде чѣмъ могъ воз-
выситься до такихъ взглядовъ. Реформація, разрушивъ догматъ непогрѣшимости
церкви, ослабила конечно то уваженіе, которое питали къ ея древности. По такова
была сила старинныхъ ассоціацій идей, что наши соотечественники еще долго сохра-
няли уваженіе къ тому, предъ чѣмъ уже перестали благоговѣть. Такъ Джювель хотя
и признавалъ за высшій авторитетъ Библію, но въ тѣхъ случаяхъ, когда она молчала
или выражалась двусмысленно, онъ обращался іи. первоначальной церкви, рѣшенія
которой могли, по мнѣнію его, устранить всѣ трудности. Поэтому онъ употреблялъ
свой разумъ только на приведеніе въ извѣстность противорѣчій между св. писаніемъ
и преданіями; но когда они не были согласны, то оказывалъ, по нынѣшнимъ понятіямъ,
суевѣрное уваженіе древности. Тридцать лѣтъ спустя послѣ него явился Гукеръ,
который сдѣлалъ шагъ впередъ и, проповѣдуя начала, отъ которыхъ Джювель отшат-
нулся бы съ ужасомъ,...въ значительной мѣрѣ содѣйствовалъ къ ослабленію того,
что суждено было окончательно уничтожить Чиллингворту. Такъ эти три великіе
мужа являются представителями трехъ различныхъ эпохъ и трехъ послѣдователь-
ныхъ поколѣній, къ которымъ они принадлежали. У Джювеля разумъ есть, такъ
сказать, верхняя постройка системы, а авторитетъ есть основаніе, па которомъ возве-
дена эта постройка. У Гукера авторитетъ служитъ верхней постройкой, а разумъ—
основаніемъ. У Чиллингворта же, сочиненія котораго были предвѣстниками прибли-
жавшейся бури, авторитетъ совершенно исчезаетъ и все зданіе религіи опирается
на томъ толкованіи, какое даетъ ничѣмъ не руководимый разумъ человѣка опредѣ-
леніямъ Всемогущаго Бога.
Громадный успѣхъ великаго сочиненія Чиллингворта долженъ былъ способство-
вать тому движенію, котораго самое это сочиненіе является однимъ изъ доказа-
тельствъ. Оно служило полнымъ оправданіемъ религіозному расколу, а, слѣдовательно,
и распаденію англиканской церкви, до котораго суждено было дожить тому же самому
поколѣнію. Основное начало этого сочиненія было принято самыми вліятельными
писателями ХѴ’ІІ столѣтія.—каковы Гэльсъ Оуэнъ, Тэйлоръ, Бернетъ, Тиллотсонъ.
Локкъ и даже осторожный и ко всему приноравливающійся Тэмиль, — которые всѣ
настаивали на томъ, что авторитетъ свободы совѣсти составляетъ трибуналъ, на
который нѣтъ аппелляціи. Выводъ изъ того, кажется, очевиденъ. Если послѣднее слово
истины заключается въ сужденіи каждаго человѣка, и если никто не въ правѣ утвер-
ждать, что сужденія людей, часто противорѣчащія другъ другу, могутъ когда-либо
быть безошибочны, то изъ этого необходимо слѣдуетъ, что нѣтъ опредѣлительнаго
критеріума для религіозной истины. Вотъ грустное и, я твердо убѣжденъ, въ высшей
степени невѣрное заключеніе; но каждая нація необходимо руководствуется имъ до
тѣхъ поръ, пока не довершитъ великаго дѣла терпимости, которое даже въ нашей
странѣ и въ наше время еще не совсѣмъ окончено. Необходимо, чтобы люди научи-
лись сомнѣваться, прежде чѣмъ начнутъ обнаруживать терпимость, и чтобы онп при-
знали иогрѣшимость своихъ собственныхъ мнѣній, прежде чѣмъ станутъ уважать
мнѣнія своихъ противниковъ. Этотъ великій процессъ еще далеко не кончился ни
въ одной изъ странъ; и европейскій умъ, едва освободившійся отъ своего перво-
начальнаго легковѣрія и отъ слишкомъ большого довѣрія къ своимъ собственнымъ
убѣжденіямъ, находится еще на средней, такъ сказать, пробной ступени. Когда онъ
Ьогъ, ші человѣкъ не могутъ требовать отъ пасъ,
какъ должнаго, чтобы мы въ большей мЬрѣ соглаша-
лись съ заключеніемъ, чѣмъ того заслуживаютъ по-
сылки; чтобы мы созидали непогрѣшимую вѣру на по-
будительныхъ причинахъ, которыя только вь высшей
степени правдоподобны, по не непогрѣшимы; чтобы мы
какъ бы строили тяжелое зданіе па фундаментѣ, не
имѣющемъ соотвѣтствующей твердости,.. Ибо вѣра
но есть знаніе, точно такъ же, какъ три не есть че-
тыре, а только составляетъ существенную часть
ого; такъ что кто знаетъ—вѣрить, и даже, нѣсколько
болѣе, чѣмъ вѣритъ, а тотъ, кто вѣрить, часто по
знаетъ; въ тѣхъ же случаяхъ, въ которыхъ исклю-
чительно вѣрить,—даже никогда но знаетъ».
10*
148
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
перейдетъ черезъ эту ступень, когда мы научимся судить о людяхъ только по ихъ
характеру и ихъ дѣйствіямъ, а вовсе не по ихъ теологическимъ догматамъ, тогда
мы будемъ въ состояніи вырабатывать свои религіозныя убѣжденія посредствомъ
того чисто трансцендентальнаго процесса, проблески котораго проявлялись въ каж-
домъ вѣкѣ у немногихъ даровитыхъ людей. Что теперь все быстро клонится въ эту
именно сторону, это ясно для всякаго, кто изучалъ развитіе новѣйшей цивилизаціи.
Въ короткій промежутокъ трехъ столѣтій древній теологическій духъ долженъ былъ
не только низойти съ той степени преобладанія, на которой онъ такъ долго дер-
жался, но и покинуть тѣ укрѣпленныя мѣста, гдѣ онъ тщетно пытался укрыться въ
виду распространявшагося знанія. Онъ долженъ былъ мало по малу отказаться отъ
всѣхъ своихъ любимѣйшихъ притязаній. Хотя недавно въ Англіи и устремлено
было мгновенно вниманіе на нѣкоторые религіозные споры, но сопровождавшія
ихъ обстоятельства показываютъ, что духъ времени измѣнился. На тѣ споры, кото-
рые сто лѣтъ тому назадъ воспламенили бы все государство,—теперь огромное
большинство образованныхъ людей смотритъ съ совершеннымъ равнодушіемъ. Раз-
ныя запутанности новѣйшаго общества и огромное разнообразіе интересовъ, между
которыми оно подѣлено, въ значительной мѣрѣ развлекали умы и не давали имъ
останавливаться на предметахъ, которые люди, мало занятые, считали бы особенно
важными. Кромѣ того пріобрѣтенія науки теперь далеко превосходятъ пріобрѣтенія,
сдѣланныя въ какой-либо изъ прежнихъ вѣковъ: они наводятъ на такія интересныя
предположенія, что почти всѣ великіе мыслители посвящаютъ имъ все свое время
и не хотятъ болѣе заниматься предметами чисто умозрительной вѣры. Такимъ обра-
зомъ то, что обыкновенію считалось важнѣйшимъ изѣ вопросовъ, теперь предоста-
влено людямъ низшаго разряда—людямъ, подражающимъ только рвенію, но не до-
стигающимъ вліянія тѣхъ истинно великихъ теологовъ, которыхъ сочиненія при-
надлежатъ къ числу лучшихъ украшеній нашей ранней литературы. Правда, что эти
бурливые полемики своими криками способствовали къ разъединенію церкви, но они
не произвели ни малѣйшаго впечатлѣнія на большинство англійскихъ умовъ, такъ
что численный перевѣсъ находится па сторонѣ людей, открыто возстающихъ про-
тивъ той монашеской, аскетической религіи, которую теперь тщетно пытаются воз-
становить. Дѣло въ томъ, что время для этого рода вещей уже прошло. Теологиче-
скіе интересы уже давно перестали быть преобладающими, и .дѣла націй не сообра-
жаются болѣе съ видами церкви х). Въ Англіи, гдѣ движеніе впередъ было быстрѣе,
чѣмъ гдѣ-либо, перемѣна эта чрезвычайно замѣтна. По всѣмъ другимъ отраслямъ
наукъ имѣли мы цѣлый рядъ великихъ и сильныхъ мыслителей, которые дѣлали
честь своей странѣ и справедливо возбуждали удивленіе всего человѣчества; но вотъ
уже слиткомъ сто лѣтъ, какъ мы не производили ни одного оригинальнаго сочи-
ненія во всей области теологическихъ преній. Уже слишкомъ сто лѣтъ, какъ апатія
къ этого рода предметамъ стала такъ замѣтна, что не было сдѣлано ни одного цѣн-
наго прибавленія къ той огромной массѣ теологіи, которая для людей мыслящихъ
съ каждымъ послѣдовательнымъ поколѣніемъ все болѣе и болѣе теряетъ прежній
интересъ 2).
Вотъ только немногіе изъ тѣхъ признаковъ, которые должны быть очевидны
для всякаго, кто не ослѣпленъ предубѣжденіями, свойственными несовершенному
х) Одинъ писатель (Лснгь), коротко знакомый съ
общественнымъ бытомъ главнѣйшихъ странъ Европы,
говоритъ: «Власть церкви почти совсѣмъ исчезла,
какъ дѣятельный элементъ, въ политическихъ и обще-
ственныхъ дѣлахъ націй и отдѣльныхъ лицъ, въ ка-
бинетѣ п въ семейномъ кругу: новый же элементъ—
власть литературы начни;.отъ пріобрѣтать значеніе
въ управленіи міромъ». Все подкрѣііляеіъ замѣча-
тельное предсказаніе сгра Джемса Макинтоша, что
«власть церкви (если только какая-нибудь революція
въ пользу духовенства не погрузить снова Европу
въ невѣжество) но переживетъ XIX столѣтія».
2) «Духовныя лпца въ Англіи въ настоящее
время, ея епископы, профессорш и приходскіе священ-
ники, — не теологи. Они логики, химики, искусные
математики, историки, плохіе комментаторы на гре-
ческихъ поэтовъ» (Паркеръ).
Съ самаго начала XVIII столѣтія почти пикто
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
149
воспитанію. Огромное большинство духовныхъ лицъ,—нѣкоторыя по честолюбивымъ
побужденіямъ, но большая часть, я увѣренъ, по внушеніямъ совѣсти,—силится оста-
новить успѣхи того скептицизма, который охватываетъ насъ со всѣхъ сторонъ. Пора
этимъ благонамѣреннымъ конечно, но заблуждающимся людямъ замѣтить самооболь-
щеніе, подъ вліяніемъ котораго они находятся. То, что такъ сильно тревожитъ ихъ,
есть не болѣе какъ переходная ступень отъ суевѣрія къ терпимости. Умы высшаго
разряда перешли чрезъ эту ступень и приближаются уже къ тому, что по всей
вѣроятности составляетъ послѣднее выраженіе религіознаго развитія человѣчества.
Но масса парода и даже нѣкоторые изъ тѣхъ, кого обыкновенно называютъ людьми
образованными, только теперь вступаютъ въ ту раннюю эпоху, въ которой скепти-
цизмъ составляетъ отличительную черту ума. Итакъ, быстрое развитіе этого духа
далеко не должно возбуждать въ пасъ опасенія, а намъ скорѣе слѣдуетъ всѣми силами
стараться поощрять то, что хотя и больно для нѣкоторыхъ, но спасительно для всѣхъ:
это единственное вѣрное средство уничтожить ханжество. Насъ не должно также
удивлять, что, прежде чѣмъ достигается эта цѣль, необходимо претерпѣвается извѣ-
стная доля страданія 2). Если одинъ вѣкъ вѣруетъ слишкомъ много, то весьма есте-
ственную составляетъ реакцію, когда другой вѣруетъ слишкомъ мало. Таковы несо-
вершенства нашей природы, что мы должны, въ силу самыхъ законовъ ея усовер-
шенствованія. пройти чрезъ тѣ кризисы скептицизма и нравственной болѣзни, въ
которыхъ обыкновенный взглядъ видитъ состояніе упадка націи и ея безчестіе, между
тѣмъ какъ въ сущности они представляютъ собою только тотъ огонь, которымъ должно
быть очищено золото, прежде чѣмъ оно оставитъ свой шлакъ въ тиглѣ плавильщика.
Скажемъ,—употребляя сравйеніе, сдѣланное великимъ аллегористомъ,-- необходимо,
чтобы бѣдный пилигримъ, нагруженный тяжестью цѣло®/кучи суевѣрій, пробирался
по топи отчаянія и по долинѣ смерти, прежде чѣмъ достигнетъ г/)ада славы, бли-
стающаго золотомъ и драгоцѣнными каменьями, на который ему стоитъ только взгля-
нуть,—и онъ уже вполнѣ вознагражденъ за всѣ труды и опасности.
Въ теченіе всего XVII столѣтія продолжалось это двойное движеніе—скепти-
цизма и терпимости, несмотря на препятствія, которыя оно постоянно встрѣчало
не читалъ внимательно отцовъ церкви для другихъ
цѣлей, кромѣ чисто историческихъ, свѣтскихъ. Пер-
вый шагъ къ этой перемѣнѣ быль сдѣланъ около по-
ловины XVII столѣтія, когда ссылки па отцовъ
церкви вь проповѣдяхъ начали выходить изъ упо-
требленія. Съ тѣхъ поръ дѣлаемы были попытки въ
Оксфордѣ противодѣйствовать этому направленію, по
такія попытки были до такой степени противны
общему ходу дѣлъ, чго остались и но могли не
остаться безплодными. П въ самомъ дѣлѣ, такъ ни-
чтожны были эти усилія въ послѣднее время, что
одинъ изъ самыхъ ревностныхъ дѣятелей па этомъ
поприщѣ откровенно сознается, что относительно зна-
нія партія его ничего но достигла; онъ даже утверж-
даетъ съ большимъ прискорбіемъ, что «грустно ска-
зать, по ілавный, можетъ быть единственный, англій-
скій писатель, имѣющій каійя-иибудь права на зва-
ніе историка церкви,— это невѣрный Гябоопъ».
Мнѣ замѣтилъ одинъ изъ друзей моихъ, чс-
ловѣіп» весьма умный, что есть люди, которые не
такъ поймутъ это выраженіе, и есть другіе, которые
хотя и вѣрно поймутъ его, но съ намѣреніемъ дурно
перетолкуютъ. Поэтому ие мѣшаетъ опредѣлить въ
точности, чтб именно я хочу выразить словомъ «скеп-
тицизмъ*. Подъ скептицизмомъ я только разумѣю
трудное приниманіе на вѣру; такъ что усиленный
скептицизмъ есть усиленное пониманіе трудности до-
казать то, чтб утверждается, или, другими словами,
болѣе обширное примѣненіе и распространеніе пра- і
вилъ мышленія и законовъ доказательства. Это чув- |
ство колебанія, эта воздержанность въ сужденіи ие- I
измѣнио предшествовали во всѣхъ областяхъ мышле-
нія всѣмъ умственнымъ переворотамъ, чрезъ которые
прошелъ человѣческій духъ; безъ этого не было бы
прогресса, не было бы перемѣны, не было бы ци-
вилизаціи. Въ изученіи природы такой духъ есть не-
обходимый предшественникъ пауки, въ политикѣ—
свободы, въ теологіи—терпимости. Вотъ три главные
вида скептицизма. И такъ, ясно, что въ религіи скеп-
тикъ придерживается средины между атеизмомъ и
правовѣріемъ, отвергая обѣ крайности, потому что не
видитъ возможности доказать ихъ основательность.
2) То, чтб сказалъ одинъ ученый историкъ (Гротъ)
о впечатлѣніи, произведенномъ на весьма многихъ
гроковъ методомъ Сократа, можетъ быі ь примѣнено
и къ тому состоянію, черезъ которое проходитъ боль-
шая часть Европы. «Сократова діалектика, разсѣявъ
въ умѣ туманъ воображаемаго знанія и раскрывъ
его дѣйствительное невѣжество, произвела непосред-
ственное впечатлѣніе, подобное прикосновенію къ
электрическому угрю. Вновь возникшее сознаніе соб-
ственнаго невѣжества было одинаково неожиданно,
болѣзненно и оскорбительно,—время сомнѣнія и без-
покойства, соединеннаго однако съ внутренней дѣя-
тельностью и стремленіемъ къ истинѣ, чего прежде
никогда не знали. Въ этомъ умственномъ оживленіи,
которое никакъ не могло бы проявиться, еслибъ умъ
не разочаровался въ своемъ прежнемъ ободьщені и
ложнымъ знаніемъ, Сократъ видѣлъ не только при-
знакъ. предвѣщающій будущій прогрессъ, но и не-
обходимое условіе этого прогрссса>.
150
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
въ дѣйствіяхъ двухъ преемниковъ Елизаветы, поступавшихъ во всемъ противно про-
свѣщенной политикѣ великой королевы. Эти государи истощали всю свою энергію
на борьбу противъ стремленій вѣка, котораго они не въ состояніи были понять; но
по счастью духъ, который они хотѣли подавить, стоялъ уже на/такой высокой сте-
пени развитія, что ихъ вмѣшательство было только смѣшно. Въ то же время успѣ-
хамъ англійскаго ума еще болѣе способствовали самые споры, разъединявшіе Англію
въ теченіе полувѣка. Въ царствованіе Елизаветы былъ великій споръ между цер-
ковью и ея противниками—между правовѣрными и еретиками. Въ царствованія же
Іакова и Карла теологія виервые переводилась въ политику. Борьба происходила
уже не между различными вѣрованіями и догматами, а между людьми, привержен-
ными къ королю, и людьмц, поддерживавшими парламентъ. Умы людей, устремившись
такимъ образомъ на предметы дѣйствительной важности, пренебрегали тЬіи второ-
степенными цѣлями, которыми было поглощено все вниманіе ихъ отцовъ Когда,
наконецъ, въ дѣлахъ государства наступилъ кризисъ, жестокая участь короля, слу-
чайно подвинувшая интересы престола, имѣла въ высшей степени вредное дѣйствіе
для интересовъ церкви. Не можетъ быть конечно никакого сомнѣнія, что обстоятель-
ства, сопровождавшія казнь Карла, нанесли авторитету церкви такой ударъ, отъ
котораго въ Англіи она уже никогда не могла оправиться. Насильственная смерть
короля возбудила сочувствіе народа и, тѣмъ подкрѣпивъ роялистовъ, ускорила возста-
новленіе монархіи 2). Даже самоо имя той великой партіи, которая достигла власти,
уже намекало на перемѣну въ религіозномъ отношеніи, происходившую въ умахъ
парода. И, дѣйствительно, немаловажнымъ дѣломъ было уже и то, что Англія управля-
лась людьми, которые называли себя индепендентами и. прикрываясь этимъ именемъ,
не только отвергали всякія притязанія духовенства,/но и явно выражали полное
презрѣніе къ тѣмъ обрядамъ и догматамъ»которые духовенство въ теченіе многихъ
столѣтій не переставало накоплять. Правда, что индепендепты не всегда доводили
до-крайнихъ послѣдствій свои ученія, но и то уже было весьма важно, что ученія
эти пользовались признаніемъ со стороны законныхъ властей въ государствѣ. Кромѣ
того должно еще замѣтить, что пуритане имѣли болѣе фанатизма, чѣмъ суевѣрія.
Они были такъ мало знакомы съ настоящими основаніями государственнаго управ-
ленія, что издавали карательные законы противъ частныхъ пороковъ и полагали,
что нравственностью можно управлять посредствомъ законодательныхъ мѣръ. Но, не-
смотря на это серьезное заблужденіе, они были всегда противъ всякихъ притязаній,
даже со стороны ихъ собственнаго духовенства, и уничтоженіе древней епископской
іерархіи, хотя быть можетъ слишкомъ поспѣшное, должно было произвести много
благодѣтельныхъ послѣдствій. Когда великая партія, совершившая все это, была,
наконецъ, низвергнута, дѣла все-таки продолжали идти но тому же направленію.
і благоустроенной общинѣ». «Король и парламентъ.—
і говоритъ Дефо,—расходились ко взглядахъ па пред-
I моты гражданскаго нрава.. Первая размолвка меж-
| ду королемъ и англійскимъ парламентомъ была не
! по поводу религіи, а по поводу гражданской соб-
| ственностп»,
। 2) Вилліамъ Тэмпль въ своихъ запискахъ замѣ-
I чаетъ, что тронъ Карла II былъ упроченъ іѣмъ,
«что происходило въ послѣднее царствованіе». Это
' можетъ быть пояснено замѣчаніями Ламартина о
। казни Людовика XVI, «Смерть его, мавротовъ, сдѣ-
1 лала чуждымъ интересовъ Франціи то огромное боль-
| шпнсіво пародовъ, которое судитъ дѣла человѣческія
однимъ сердцемъ. Природа человѣческая сострада-
। тельпа; республика же забыла объ этомъ и выста-
вила короля отчасти мученикомъ, а свободу—отчасти
мстителемъ. Она приготовила этимъ реакцію противъ
республиканскихъ стремленій и привлекла на сторону
монархическаго начала чувствительность, участіе и
слезы нѣкоторой доли народовъ».
2) Докторъ Арнольдъ, который своимъ проница-
тельными взглядомъ замѣтилъ эту перемѣну, гово-
ритъ: <ЛІтб пасъ болѣе всего поражаетъ, это то об-
стоятельство, что споръ, нропеходввшій при Елиза-
ветѣ между теологами, теперь превратился въ вели-
кую политическую распрю между короною и парла-
ментомъ». Обыкновенные компиляторы представляли
совершенно не въ томъ видѣ это движеніе—ошибка
тѣмъ болѣе странная, что даже мпогіе современники
признавали чисто политическій характеръ этой борьбы.
Даже Кромвель, несмотря на трудность принятой
имъ на себя роли, ясно выразилъ въ 1655 году,
чго источникомъ войны была пе религія. Іаковъ I
также видѣлъ, что пуритане болѣе опасны для пра-
вительства, чѣмъ для церкг.п: «онп не столько отли-
чаются отъ насъ религіозными воззрѣніями, сколько
своимъ неяснымъ представленіемъ о политикѣ и ра-
венствѣ; они всегда недовольны настоящимъ пра- |
вптельствомъ и н& хотятъ никому подчиняться,—
что дѣлаетъ пхь секты недопустимыми пи въ какой |
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО ХѴШ СТ.
151
Послѣ реставраціи церковь хотя и была возстановлена въ своемъ прежнемъ блескѣ,
но видимо утратила свое прежнее могущество. Къ тому же новый король, по легко-
мыслію скорѣе, чѣмъ по какому-либо разумному побужденію, презиралъ споры теоло-
говъ и смотрѣлъ на религіозные вопросы, какъ ему казалось, съ философскимъ равно-
душіемъ *). Придворные слѣдовали его примѣру и думали, что они не могутъ впасть
въ заблужденіе, подражая тому, кого они считали помазанникомъ Божіимъ. Послѣдствія
этого хорошо извѣстны даже тѣмъ, которые самымъ поверхностнымъ образомъ из-
учали англійскую литературу, Тотъ серьезный, умѣренный скептицизмъ, который
составлялъ отличительную черту индепендентовъ, утратилъ всю свою прелесть, пе-
ренесенный въ несвойственную ему атмосферу двора. Людямъ, окружающимъ короля,
были не по силамъ всѣ трудности, сопряженныя съ скептицизмомъ, и они старались
подкрѣплять свои сомнѣнія богохульнымъ выраженіемъ дикаго, отчаяннаго невѣрія.
Почти всѣ безъ исключенія писатели, которымъ наиболѣе покровительствовалъ
Карлъ, истощали всю изобрѣтательность своего развращеннаго ума въ насмѣшкахъ
надъ религіей, о сущности которой они не имѣли ни малѣйшаго понятія. Эти не-
честивыя шутовскія выходки сами по себѣ не оставили бы никакого прочнаго впе-
чатлѣнія на характерѣ того времени, но онѣ заслуживаютъ вниманія потому, что
въ нихъ выражалось, хотя въ искаженномъ и преувеличенномъ видѣ, болѣе общее
направленіе. Это были нездоровые отпрыски того духа невѣрія и того дерзкаго
сопротивленія всякому авторитету, которые составляли отличительную черту замѣ-
чательнѣйшихъ изъ англичанъ XVII столѣтія. Это самое заставило Локка быть ново-
вводителемъ въ философіи и унитаріемъ въ религіи. Это самое сдѣлало Ньютона
социніаниномъ; это самое заставило Мильтона быть злѣйщимъ врагомъ церкви и не
только сдѣлало изъ поэта возмутителя, но и сообщило отпечатокъ аріанизма «Поте-
рянному Раю>. Однимъ словомъ, это самое пренебреженіе къ преданію и эта самая
рѣшимость сбросить съ себя ярмо, внесенныя сперва въ философію Бэкономъ, а
потомъ въ политику Кромвелемъ, были при томъ же поколѣніи перенесены въ теоло-
гію Чиллингвортомъ. Оуэномъ и Гэдьсомъ, въ метафизику—Гоббсомъ и Глапвиллемъ,
и въ теорію государственнаго управленія—Гаррингтономъ, Сиднеемъ и Локкомъ.
Успѣхамъ англійскаго ума въ этомъ стремленіи стряхнуть съ себя старое
суевѣріе * 2) еще болѣе способствовало необыкновенное рвеніе, приложенное къ разра-
Э Его послѣдующее обращеніе къ катшшзму I
совершенно уподобляется усиленной набожности Лю-
довпка XIV въ послѣдніе годы его жвзіш. Въ обо-
ихъ случаяхъ суевѣріе было естествониымъ убѣжи-
щемъ для изжившагося и уже ничѣмъ по удовлетво-
ряемаго развратника, который истощилъ всѣ сред-
ства самыхъ низкихъ и грязныхъ наслажденій;
2) Одинъ изъ любопытнѣйшихъ примѣровъ этого
можно видѣть вь уничтоженіи старинныхъ понятіи о )
колдовствѣ. Эгидъ важный переворотъ въ нашихъ
идеяхъ совершился, по крайней мѣрѣ въ образован-
ныхъ классахъ, въ промежутки времени между ре-
ставраціей и революціей; такъ, вь 1660 году боль-
шинство образованныхъ людей вѣрило еще въ кол-
довство, а въ 1688 г. большинство уже не вѣрило
въ него. Въ 1665 г. старый, правовѣрный взглядъ
на этотъ предметъ былъ выраженъ главнымъ судьею
Гэлэмь при судѣ надъ двумя женщинами за колдов-
ство; онъ сказалъ присяжнымъ: «что есть такія
твари, какъ колдуньи, въ этомъ я не имѣю ни ма-
лѣйшаго сомнѣнія, ибо, во-первыхъ, Священное пи-
саніе подтверждаетъ это, а во-вторыхъ, мудрость
всѣхъ народовъ придумывала закопы противъ такого
рода лицъ, что уже доказываетъ, что всѣ были увѣ-
рены въ существованіи такого преступленія». Такой і
аргументъ былъ неотразимъ—и женшипы были повѣ-
шены. Но измѣненіе общественнаго мнѣнія стало
мало по малу отражаться и па судьяхъ; послѣ этой
несчастной выходки главнаго судьи подобныя сцены
становились все рѣже и рѣже. Если вѣрить свидѣ-
тельству доктора ІЬрра, то 5 колдую й повѣшены
были въ Нордгамптонѣ въ 1712 г. Это тѣмъ болѣе
постыдно, что, какъ я докажу далѣе по литературнымъ
источникамъ того времени, почти пикто изъ образо-
ванныхъ людей ужо тогда не вѣрилъ въ существо-
ваніе кіщуній, хоти это старое суевѣріе и было еще
поддерживаемо съ судейской скамьи и сь каѳедры.
Что касается до мнѣнія духовенства, то Веслей, имѣв-
шій больше вліянія, чѣмъ всѣ епископы, взятые
вмѣстѣ, говоритъ: «Правда также, что англичане во-
обще и собственно большая часть людей науки въ
Европѣ отвергли всѣ показанія о колдуньяхъ п видѣ-
ніяхъ, какъ простыя сказки старыхъ бабъ. Меня это
очень огорчаетъ... Отвергать колдовство—значитъ соб-
ственно отвергать Библію.,. Я же не могу, въ \ рож-
деніе всѣмъ деистамъ въ Англіи, перестать върить
въ существованіе колдовства, пока не потеряю до-
вѣрія ко всякоіі исторіи, какъ священной, такъ и
свѣтской».
По все было напрасно. Съ каждымъ годомъ ста-
рое вѣрованіе ослабѣвало, и въ 1736 г., однимъ по-
колѣніемъ ранѣе того времени, когда Внслей выра-
зилъ приведенное выше мнѣніе, законы противъ кол-
довства были отмѣнены.
Къ этому можетъ быть интересно прибавить, что
въ Испаніи одна колдунья была повѣшена въ 1781 г.
152
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
боткѣ естественныхъ наукъ. Это, какъ и всѣ другія великія движенія общества,
можетъ быть легко объяснено предшествовавшими событіями. Оно было отчасти
причиною, а отчасти послѣдствіемъ возраставшаго невѣрія того вѣка. Скептицизмъ
образованныхъ классовъ, вслѣдствіе котораго ихъ не удовлетворяли давно устано-
вившіяся мнѣнія, основанныя на однихъ ничѣмъ не подкрѣпленныхъ авторитетахъ, ро-
дилъ желаніе удостовѣриться, въ какой мѣрѣ подобныя понятія оправдываются, либо
опровергаются самою сущностью дѣла. Любопытный примѣръ быстраго развитія
этого духа можно найти въ сочиненіи одного автора, который въ чисто литератур-
номъ отношеніи былъ однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ людей своего времени.
Когда междоусобная война была еще едва рѣшена и за три года до казни короля,
сэръ Томасъ Броунъ издалъ свое знаменитое сочиненіе подъ заглавіемъ: «Изслѣдо-
ванія о простонародныхъ и общераспространенныхъ заблужденіяхъ*, Это талантливое
и ученое произведеніе имѣетъ то достоинство, что въ немъ предугаданы нѣкоторые
изъ результатовъ, достигнутыхъ новѣйшими изслѣдователями; но главнѣйшимъ обра-
зомъ опо замѣчательно, какъ самое первое систематически обдуманное нападеніе
въ Англіи на преобладавшія въ то время суевѣрныя фантазіи иа счетъ явленій
внѣшняго міра. Еще интереснѣе то, что изъ обстоятельствъ, сопровождавшихъ по-
явленіе этой книги, можно совершенно ясно видѣть, что замѣчаемые въ ней познанія
и геній принадлежатъ самому автору ея, скептицизмъ же относительно народныхъ
вѣрованій навязанъ ему извнѣ, силою самаго времени.
Въ 1633 году или около этого года, когда на престолѣ еще сидѣлъ суевѣрный
государь, когда англійская церковь, казалось, находилась на самой высотѣ своего
могущества, и когда людіі были безпрестанно преслѣдуемы за свои религіозныя
убѣжденія,—этотъ самый сЬръ Томасъ Броунъ написйлъ свою «Религію Врача», въ
которой мы находимъ всѣ Свойства его позднѣйшаго сочиненія, за исключеніемъ
скептицизма. Дѣйствительно, въ «Религіи Врача» проявляется такое легковѣріе,
которое должно было обезпечить этой книгѣ сочувствіе преобладавшихъ въ то время
классовъ. Изъ всѣхъ предразсудковъ, которые считались тогда существенной при-
надлежностью народнаго вѣрованія, пе было ни одного, противъ котораго Броунъ
осмѣлился бы возстать. Онъ объявляетъ, что вѣритъ \въ философскій камень, въ
духовъ и ангеловъ хранителей и въ хиромантію. Онъ не только утверждаетъ рѣши-
тельнымъ образомъ, что дѣйствительно существуютъ колдуньи, но даже говоритъ,
что тѣ, которые отрицаютъ ихъ существованіе, пе просто еретики, а даже атеисты.
Онъ усердно доказываетъ намъ, что считаетъ себя существующимъ не со дня рож-
денія, но со дня крещенія, потому что до крещенія нельзя было сказать о немъ,
что онъ существуетъ. Къ этимъ проблескамъ мудрости онъ прибавляетъ еще, что
чѣмъ неправдоподобнѣе какое-нибудь предположеніе, тѣмъ болѣе онъ расположенъ
согласиться съ нимъ; когда же вещь дѣйствительно невозможна, то онъ уже по этому
одному готовъ вѣрить въ нее.
Таковы были мнѣнія, выраженныя сэромъ Томасомъ Броуномъ въ первомъ изъ
двухъ сочиненій, которыя онъ издалъ въ свѣтъ. Въ «Изслѣдованіяхъ же о простона-
родныхъ заблужденіяхъ» проявляется духъ до такой степени противоположный, что
еслибъ не было самыхъ положительныхъ доказательствъ, то мы едва-ли повѣрили
бы, что книга эта написана тѣмъ же человѣкомъ. Дѣло въ томъ, что въ промежу-
токъ двѣнадцати лѣтъ, раздѣлявшихъ эти два сочиненія, былъ довершенъ тотъ обшир-
ный соціальный и умственный переворотъ, въ которомъ ниспроверженіе церкви и
казнь короля были еще не изъ самыхъ важныхъ событій. Мы знаемъ изъ литера-
туры, изъ частной переписки и изъ государственныхъ актовъ того времени, до какой
степени было невозможно даже самымъ мощнымъ умамъ избѣгнуть вліянія всеобщаго
опьяненія. Ие удивительно послѣ этого, что Броунъ, стоявшій ^конечно ниже мно-
гихъ изъ своихъ современниковъ, послѣдовалъ тому движенію, противъ котораго и
они не могли устоять. Странно въ самомъ дѣлѣ было бы, еслибъ онъ одинъ остался
свободенъ отъ вліянія того скептическаго духа, который по тому самому, что его
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
153
слишкомъ деспотически подавляли, теперь разорвалъ всѣ оковы и въ этой реакціи
вскорѣ разрушилъ тѣ учрежденія, которыми тщетно старались сдерживать его.
Съ этой именно точки зрѣнія въ высшей степени интересно и даже чрезвы-
чайно важно сравнить оба сочиненія Броуна. Въ одномъ, позднѣйшемъ, нѣтъ уже
и помину о вѣрѣ, основанной на самой невозможности той ми другой вещи, но
намъ говорятъ о «двухъ великихъ столбахъ истины — опытѣ и здравомъ смыслѣ».
Намъ напоминаютъ также, что одна изъ главныхъ причинъ заблужденія есть «подчиненіе
авторитету», другая—«пренебреженіе къ изслѣдованію», а третья—довольно странно
сказать — «легковѣріе». Все это не особенно согласовалось со старымъ теологиче-
скимъ духомъ, и потому мы не должны удивляться, что Броунъ не только опровер-
гаетъ нѣкоторыя изъ заблужденій отцовъ церкви, но, сказавъ о заблужденіяхъ вообще,
коротко прибавляетъ: «есть еще и многія другія, о которыхъ мы предоставляемъ
судить теологамъ и которыя быть можетъ не заслуживаютъ даже возраженій».
Различіе, существующее между этими двумя сочиненіями, можетъ служить недур-
нымъ мѣриломъ быстроты того великаго движенія, которое въ половинѣ XVII вѣка
было замѣтно во всѣхъ отрасляхъ какъ практической, такъ и чисто умственной
жизни. Послѣ смерти Бэкона однимъ изч. самыхъ даровитыхъ людей между англи-
чанами былъ конечно Бойль, котораго по сравненію съ его современниками можно
считать стоящимъ непосредственно послѣ Ньютона, хотя безъ сомнѣнія, какъ ори-
гинальный мыслитель, онъ стоитъ гораздо ниже послѣдняго. О прибавленіяхъ, сдѣлан-
ныхъ имъ къ суммѣ нашихъ знаній, намъ здѣсь говорить не мѣсто; но мы можемъ
сказать, что онъ первый производилъ точные опыты для опредѣленія отношенія между
свѣтомъ и теплотой, и такимъ образомъ не только привелъ въ извѣстность нѣкоторые
весьма важные факты, но и положилъ основаніе соединенію оптики съ термотикою
(ученіемъ о теплородѣ). Соединеніе это конечно еще не вполнѣ осуществилось, но
для осуществленія его недостаетъ только того, чтобы7 какой-нибудь великій ученый
напалъ на такое обширное обобщеніе, которое, обнявъ обѣ науки, слило бы ихъ
въ одинъ предметъ изученія. Бойлю также болѣе чѣмъ кому-либо другому изъ
англичанъ мы обязаны тѣми познаніями въ гидростатикѣ, какія мы имѣемъ теперь 1).
Онъ первый открылъ тотъ прекрасный и богатый драгоцѣнными результатами законъ,
по которому упругость воздуха измѣняется соотвѣтственно густотѣ его 2). По мнѣнію
одного иЗъ самыхъ замѣчательныхъ натуралистовъ послѣдняго времени, Бойль первый
проложилъ путь къ тѣмъ химическимъ изслѣдованіямъ, которыя затѣмъ продолжали
накопляться и, по прошествіи столѣтія доставивъ Лавуазье и современникамъ его
средства опредѣлить истинныя основанія химіи, дали возможность этой наукѣ занять
принадлежащее ей мѣсто между науками, разсматривающими внѣшній міръ.
Примѣненіе этихъ открытій къ благосостоянію человѣка и въ особенности къ
тому, что мы могли бы назвать матеріальными интересами цивилизаціи, будетъ
прослѣжено въ другомъ мѣстѣ нашего труда; въ настоящее же время я только хочу
указать на гармонію, существующую между подобными изслѣдованіями и тѣмъ дви-
женіемъ, которое я стараюсь очертить. Во всѣхъ своихъ физическихъ изслѣдованіяхъ
Бойль постоянно напираетъ на два основныхъ начала, а именно: на важность лично
произведенныхъ опытовъ и на сравнительную ничтожность тѣхъ свѣдѣній о пред-
метахъ міра физическаго, которыя къ намъ перешли отъ древнихъ 3). Таковы два вели-
2;і Уэволль замѣчаетъ весьма справедливо, что )
Бойль и Паскаль имѣютъ для гидростатики то же !
значеніе, какъ Галилей—для механики, а Коперникъ, ,
Кеплеръ и Ньютовъ—для астрономіи.
2) Этотъ законъ открытъ Бойлемъ около 1650 г., 1
а въ 1676 подтвердилъ его Маріогтъ. Несмотря на
то, что Бондъ предшествовалъ Маріотгу на цѣлую
четверть вѣка,—этотъ закопъ довольно несправедливо
названъ закономъ Бойля и Маріотга а иностранные
писатели, идя еще далѣе, нерѣдко совершенно опу- |
скаюгъ имя Бойля и называютъ открытіе это просто
закономъ Маріотга.
3) Это презрѣніе къ старымъ авторитетамъ такъ
постоянно выражается въ сочиненіяхъ его, что весьма
трудно сдѣлать выборъ изъ безчисленнаго множества
мѣстъ, которыя мы могли бы здѣсь привести. При-
веду одно изъ этпх7» мѣстъ, въ которомъ выраженіе
кажется мнѣ очень удачнымъ, и которое безъ сомнѣ-
нія весьма характеристично: <Я имѣю обыкновеніе
судить о мнѣніяхъ такъ же, какъ о монетѣ: при-
154
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
кіе ключа къ его методу, таковы воззрѣнія, наслѣдованныя имъ отъ Бэкона,—и этихъ
же воззрѣній держались всѣ люди, сдѣлавшіе въ продолженіе двухъ послѣднихъ вѣ-
ковъ какое-либо значительное приращеніе къ суммѣ человѣческихъ знаній. Сперва
сомнѣніе, потомъ изслѣдованіе и, наконецъ, открытіе—вотъ какимъ путемъ слѣдо-
вали всѣ безъ исключенія великіе учители наши. Такъ сильно сознавалъ Бойль
необходимость слѣдовать этому пути, что, будучи самъ весьма религіознымъ человѣ-
комъ, далъ самому популярному изъ своихъ ученыхъ сочиненій заглавіе: <ТЬе 8сер-
іісаі СЬетізі» («Скептикъ въ Химіи»), желая этимъ выразить, что, пока люди не стали
сомнѣваться въ истинѣ химическихъ теорій своего времени, имъ было не возможно
значительно подвигаться впередъ на лежавшемъ передъ ними пути. При томъ нельзя
не сказать, что это замѣчательное сочиненіе, ниспровергшее такъ много старыхъ
мнѣній, было издано въ 1661 году, на другой годъ послѣ вступленія на престолъ
Карла II, въ царствованіе котораго распространеніе невѣрія было дѣйствительно
весьма быстро; оно замѣтно было не только въ уметвенно-трудящихся сословіяхъ, но
даже между аристократами и приближенными короля. Правда, что въ этомъ классѣ
общества невѣріе приняло возмутительную и извращенную форму. Но не малую
силу должно было имѣть то движеніе, которое въ такой ранній періодъ могло такимъ
образомъ проникнуть даже въ сокровенныя палаты дворца и подѣйствовать на умы
царедворцевъ—лѣниваго и слабодушнаго племени, по своему обычному легкомыслію
при обыкновенныхъ обстоятельствахъ всегда расположеннаго къ суевѣрію и гото-
ваго вѣрить всему, что завѣщано ему мудростью предковъ.
Это направленіе теперь высказывалось во всемъ. /Вездѣ была видна возра-
стающая рѣшимость подчинить старинныя понятія ноцымъ изслѣдованіямъ. Въ то
самое время, когда Бойль призвался своимъ трудамъ, Карлъ II учредилъ Королев-
ское Общество, которое было образовано съ признанной цѣлью расширить предѣлы
знанія непосредственными опытами. При этомъ весьма достойно замѣчанія, что по
грамотѣ, впервые дарованной этому знаменитому учрежденію, цѣлью его полагалось
расширеніе знаній въ предметахъ естественныхъ, въ противоположность предметамъ
сверхъестественнымъ.
Легко себѣ представить, съ какимъ ужасомъ и отвращеніемъ смотрѣли на все
это люди, чрезмѣрно поклоняющіеся древности,—тѣ люди, которые, предаваясь исклю-
чительно благоговѣнію къ прошедшему, не способны ни достойно цѣнить настоящее,
ни надѣяться на будущее. Эти страшные противники прогресса въ семнадцатомъ
вѣкѣ играли ту же роль, какую они играютъ и въ настоящее время, отвергая вся-
кую новизну и, слѣдовательно, останавливая всякое улучшеніе. Ожесточенная распря,
происшедшая между обѣими партіями, и вражда, направленная противъ Королев-
скаго Общества, какъ перваго учрежденія, въ которомъ ясно олицетворялась идея
прогресса, принадлежатъ къ самымъ поучительнымъ явленіямъ нашей исторіи, и въ
другомъ мѣстѣ этого сочиненія мнѣ придется довольно много говорить о нихъ. Те-
перь достаточно будетъ сказать, что реакціонная партія, хотя во главѣ ея стояло
огромное большинство духовенства, была совершенно разбита, какъ дѣйствительно и
должно было ожидать, потому что противники ея имѣли па своей сторонѣ почти всѣ
умственныя силы страны, а сверхъ того были подкрѣплены тѣмъ содѣйствіемъ, кото-
рое могъ имъ оказать дворъ. Прогрессъ былъ дѣйствительно такъ быстръ, что онъ
увлекъ за собою даже нѣкоторыхъ изъ самыхъ даровитыхъ людей духовнаго сословія;
любовь къ знанію дѣйствовала на нихъ сильнѣе, чѣмъ старыя преданія, въ кото-
рыхъ они были воспитаны. Но это были исключительные случаи, и, вообще говоря,
нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ царствованіе Карла II между естественными на-
нимая послѣднюю, я гораздо менѣе смотрю на то, і
чье на пей написано имя, чѣмъ на качество ме-
талла, изъ котораго она сдѣлана. Мнѣ все равно,
была ли она вычеканена много лѣтъ или столѣтій
тому назадъ, или только вчера выпущена изъ мо-
нетнаго двора». Въ другихъ мѣстахъ онъ говорить
объ «ученыхъ по профессія», облеченныхъ въ доктор-
скія мантія, почти съ такимъ же презрѣніемъ, какое
выражаетъ самъ Локкъ.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
155
уками и теологическимъ духомъ существовалъ антагонизмъ, который побудилъ почти
все духовенство къ дружному возстанію противъ науки и стремленію унизить ее
въ общественномъ мнѣніи. И нечего удивляться тому, что духовенство приняло
такой образъ дѣйствія, Тотъ духъ изслѣдованія и опыта, который оно старалось
обуздать, не только оскорблялъ предразсудки его, но и вредилъ его могуществу. Во-
первыхъ, уже самая привычка заниматься естественными науками научала людей
требовать такой строгости въ доказательствахъ, которой, какъ весьма скоро обна-
ружилось, духовенство въ присвоенной ему области не въ состояніи было удовле-
творить. Во-вторыхъ, приращенія, сдѣланныя къ суммѣ физическихъ знаній, откры-
вали людямъ новыя поприща для умствованія и тѣмъ еще болѣе содѣйствовали къ
отвлеченію вниманія отъ предметовъ религіозныхъ. Конечно и то, и другое послѣдствія
современнаго движенія могли простираться лишь на сравнительно небольшое число
лицъ, интересующихся научными изысканіями; но долито замѣтить, что окончатель-
ный результатъ подобныхъ изслѣдованій долженъ былъ проявиться въ несравненно
обширнѣйшей сферѣ. Это можно назвать вторымъ моментомъ вліянія научныхъ
изслѣдованій; и изученіе того, какимъ образомъ оно проявилось, — весьма достойно
нашего вниманія, потому что ознакомленіе наше съ этимъ процессомъ много помо-
жетъ намъ въ объясненіи причины того рѣзкаго противодѣйствія, которое всегда
существовало между суевѣріемъ и наукой.
Очевидно, что нація, совсѣмъ не знающая законовъ природы, будетъ относить
къ сверхъестественнымъ причинамъ всѣ явленія, которыми она окружена. Но какъ
только естественныя науки начинаютъ дѣлать свое дѣло, тотчасъ являются элементы
великаго переворота х). Каждое изъ послѣдовательныхъ открытій, приводя въ извѣст-
ность законъ, управляющій нѣкоторыми явленіями, лиш'аетъ эти явленія той види-
мой таинственности, которая пхъ до тѣхъ поръ окружйла 2). Любовь къ чудесному
въ соразмѣрности уменьшается: каждый разъ, когда какая-нибудь наука сдѣлаетъ
достаточные успѣхи для того, чтобы дозволить людямъ, знакомымъ съ нею, предска-
зывать входящія въ область ея явленія,—очевидно, что всѣ этп явленія сразу исклю-
чаются изъ круга дѣйствія сверхъестественныхъ силъ и относятся къ дѣйствіямъ силъ
естественныхъ 3;. Назначеніе естествознанія заключается въ томъ, чтобы объяснить
внѣшнія явленія въ видахъ предсказыванія ихъ на будущее время; и всякое удачное
предсказаніе, признанное всенародно, разрываемъ одно изъ звеньевъ цѣпи, связыва-
ющей, такъ сказать, воображеніе наше съ таинственнымъ, невидимымъ міромъ. По-
этому, предполагая всѣ прочія данныя одинаковыми, суевѣріе каждой націи должно
быть всегда строго пропорціонально размѣру ся познаніи въ естественныхъ наукахъ.
\) Философскій взгляда па эту тенденцію самымъ
обширнымъ образомъ разъясненъ, посредствомъ при-
мѣровъ, у Конта въ его «Позитивной Философіи»; вы-
воды его онюсктельно первобытнаго состоянія человѣ-
ческаго ума иодіверждаются всѣмъ тѣмъ, что мы
знаемъ о дикихъ народахъ; онп подтверждаются, какъ
онъ положительно доказалъ, п исторіей естествозна-
нія. Въ дополненіе къ тѣмъ фактамъ, которые онъ
приводить, я могу сказать, что исторія геологіи пред-
ставляетъ доказательства, аналогическія съ тѣми, ко-
торыя оііъ собралъ изъ другихъ отраслей пауки.
Весьма популярный примѣръ дѣйствія этой вѣры
въ сверхъестественныя причины мы находимъ въ
одномъ обстоятельствѣ, и которомъ разсказываеть
Комбъ. Онъ говорить, что въ половинѣ восемнадца-
таго вѣка край, лежащій къ западу отъ Эдинбурга,
имѣлъ такой нездоровый климатъ, что каждую весну
фермеры и работники ихъ подвергались горячкамь и
лихорадкамъ. До тѣхъ поръ, пока причина такого
явленія была неизвѣстна, «предполагалось, что эти
бѣдствія посылаются Провидѣніемъ»; но чрезъ нѣ-
сколько времени край былъ осушеиь дренажемъ, и
лихорадки исчезли,—тогда жители его увидѣли, что
явленіе, которое они считали сверхъестественнымъ,
бы.іо совершенно естественно, и что причиною бо-
лѣзней было физическое состояніе края, а совсѣмъ
пе воля Божества.
2) Я говорю «видимой таинственности» потому,
что истинная таинственность открытіемъ закопа ни
мало не уменьшается. Впрочемъ это нисколько не
вредитъ вѣрноеги моего замѣчанія, потому что люди
вообще никогда не входятъ въ такія тонкости, кпкъ
различіе между закономъ и причиною,—различіе, па
которое такъ мало обращаютъ вниманія, что оно даже
упускается изь виду во многихъ ученыхъ сочиненіяхъ.
Вообще люди знашть только то, что явленія, которыя
они нѣкогда считали неносредственно управляемыми
волею Божества и ею одною измѣняемыми. - не
только предугадываются человѣческимъ умомъ, ио
даже измѣняются вмѣшательствомъ человѣка,
3) Эго весьма ясно выражено у Ламенэ: «отчего
тѣла тяготѣютъ одни къ другимъ? Потому что такъ
было угодно Богу, говорили древніе. Потому что тѣла
взаимно притягиваются, говоритъ наука».
156
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Это положеніе можетъ быть въ нѣкоторой степени повѣрено и обыкновеннымъ че-
ловѣческимъ опытомъ. Если мы сравнимъ между собою различные классы общества,
то найдемъ, что въ нихъ суевѣріе проявляется въ большемъ или меньшемъ размѣрѣ,
смотря по тому, были или не были объяснены естественными законами тѣ явленія,
съ которыми люди этихъ классовъ поставлены въ соприкосновеніе. Всѣмъ извѣстно
легковѣріе моряковъ-—въ каждой литературѣ есть доказательства многочисленности
суевѣрій ихъ и упорства, съ которымъ они за нихъ держатся. Это превосходно
объясняется изложеннымъ мною началомъ. Метеорологія до сихъ поръ еще не воз-
вышена на степень пауки, и какъ поэтому законы, управляющіе вѣтрами и бурями,
еще не извѣстны, то естественнымъ образомъ слѣдуетъ, что именно классъ людей,
наиболѣе подвергающійся опасности отъ этихъ явленій, вмѣстѣ съ тѣмъ и наибо-
лѣе суевѣренъ 9- Съ другой стороны, воины обитаютъ въ стихіи, гораздо болѣе по-
слушной человѣку; они менѣе, чѣмъ мореходцы, подвержены тѣмъ опасностямъ, кото-
рыя не могутъ быть предусмотрѣны наукою, слѣдовательно, менѣе имѣютъ побужденій
взывать къ сверхъестественному вмѣшательству,—и вообще замѣчено, что въ массѣ
воины менѣе суевѣрны, чѣмъ моряки. Опять, если мы сравнимъ земледѣльцевъ съ
людьми, живущими мануфактурной промышленностью, то мы увидимъ проявленіе
того же самаго начала. Для земледѣльцевъ одно изъ важнѣйшихъ обстоятельствъ
составляетъ погода, которая, принявъ неблагопріятный оборотъ, можетъ сразу уничто-
жить всѣ ихъ разсчеты. Но такъ какъ паука до сихъ поръ не умѣла открыть законы
дождя, то люди въ настоящее время не могутъ предсказывать его за долго впередъ,
а это заставляетъ вѣрить, что дождь происходитъ отъ дѣйствія сверхъестественныхъ
силъ, и мы до сихъ поръ ѣидимъ примѣры молитвъ, приносимыхъ въ нашихъ церк-
вахъ о ниспосланіи дождей или прекращеніи ихъ. Такое воззрѣніе можетъ со временемъ
измѣниться подобно тому, какъ исчезаетъ чувство благочестиваго ужаса, съ которымъ
наши предки смотрѣли на появленіе кометы или па приближеніе солнечнаго затменія.
Мы теперь ознакомились съ закопами, опредѣляющими движеніе кометъ и солнеч-
ныя затменія, и, имѣя возможность предсказывать эти явленія, перестали молиться
о сохраненіи насъ отъ нихъ 2)- Но такъ какъ нашп изслѣдованія относительно явленій
дождя случайно оказались менѣе удачными 3), то мы обратились къ болѣе легкому сред-
ству—призывая помощь Божества для возмѣщенія недостатковъ знанія, происходя-
щихъ можетъ быть отъ нашей умственной лѣни; употребляемъ обряды религіи, какъ
средство для прикрытія невѣжества, въ которомъ намъ бы слѣдовало откровенно со-
г) Апдокидъ, будучи обвиненъ передъ дикастеріею
и» Аѳинахъ, сказалъ: «Пѣтъ, дикасты; опасности об-
виненія и суда—человѣческія, а опасности, встрѣ-
чаемыя на морѣ, посылаются богами». Такимъ же
образомъ было замѣчено, что опасности китоловнаго
промысла усиливали суевѣріе англо-саксовъ. Эрмапъ,
упоминая объ опасностяхъ плаванія но Байкальскому
озеру, говорить: «въ Иркутскѣ есть поговорка, что
только въ Байкалѣ осенью человѣкъ можетъ вы-
учиться молиться отъ души».
2) Въ Европѣ въ десятомъ вѣкѣ цѣлая армія
бѣжала оПэ одного изъ этихъ явленій, которыя въ
настоящее время едва могли бы испугать ребенка.
«Вся армія Оттона,—говоритъ Шнренгель въ своей
«Исторіи медицины»,—разсѣялась внезапно при появ-
леніи солнечнаго затменія, которое заставило всѣхъ
проникнуться ужасомъ и было сочтено за предвѣща-
ніе давно ожидаемаго несчастій». Ужасъ, возбуждае-
мый затменіями, исчезъ окончательно не ранѣе во-
семнадцатаго вѣка, а во второй половинѣ семнадца-
таго онп еще возбуждали великій страхъ и во Фран-
ціи. и въ Англіи.
8) Всѣ лучшіе авторитеты согласны между собою
въ томъ, что ято незнаніе не можетъ продолжаться
। долго, и что постоянные успѣхи, которые мы теперь
| дѣлаемъ въ естественныхъ наукахъ, должны когда-пи-
। будь доставить намъ возможность объяснить и метео-
I ро.югическія явленія. Такъ, напримѣръ, Лесли го-
ворить: «Впрочемъ нельзя не согласиться съ тѣмъ,
что всѣ перемѣны, происходящія въ массѣ нашей атмо-
сферы, какими бы сложными, произвольными и пепра-
. вплыіымп онѣ намъ ни казались, составляютъ однако
необходимый результатъ началъ столь же положитель-
ныхъ, а можетъ быть н столь же простыхъ, какъ тѣ,
которыя управляютъ круговращеніемъ солнечной сис-
темы. Еслибы мы могли распутать сложную комби-
націю явленій, то мы имѣли бы возможность про-
слѣдить дѣйствіе каждой отдѣльной причины и отсюда
вывести окончательный результатъ совокупной дѣя-
тельности всѣхъ причинъ вмѣстѣ. Обладая такими
данными, мы могли бы вѣрно, предсказывать состоя-
ніе погоды въ какое угодно будущее время, какъ
мы теперь вычисляемъ впередъ затменіе солнца илп
лупы или предсказываемъ соединеніе планетъ». Точно
также д-ръ Уэвелль говоритъ, что «перемѣны вѣтра
и погоды» происходятъ отъ причинъ, управляемыхъ
законами, въ положительности которыхъ не усомнится
| ни одинъ «философскій умъ».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО XVIII ст. 157
знаться х). Такимъ образомъ земледѣлецъ научается приписывать дѣятельности сверхъ*
естественныхъ причинъ важнѣйшія изъ касающихся до него явленій; и нѣтъ сомнѣ-
нія въ томъ, что это составляетъ одну изъ причинъ сохраненія тѣхъ суевѣрныхъ
понятій, которыми сельскіе обыватели такъ невыгодно для нихъ отличаются отъ го-
родскихъ, Мануфактурный промышленникъ, и вообще всякій занимающійся какимъ-
либо городскимъ промысломъ, имѣетъ занятія, успѣхъ которыхъ, завися отъ его соб-
ственныхъ способностей, не связанъ ни съ какими веобъясненными явленіями, сму-
щающими воображеніе земледѣльца. Тотъ, который посредствомъ своего искусства
обрабатываетъ уже доставленный ему другими сырой матеріалъ, очевидно менѣе
подверженъ всякимъ ни отъ кого не зависящимъ случайностямъ, чѣмъ тотъ, кото-
рый первоначально производитъ этотъ сырой матеріалъ. Ясная ли стоитъ погода, или
дождливая, онъ продолжаетъ свой трудъ съ тѣмъ же успѣхомъ и научается надѣ-
яться только на свою энергію и на искусство своихъ рукъ. Такъ морякъ естественно
болѣе суевѣренъ, чѣмъ сухопутный воинъ, потому что имѣетъ дѣло съ болѣе непо-
стоянной стихіей; точно такимъ же образомъ земледѣлецъ суевѣрнѣе, чѣмъ реме-
сленникъ, потому что па него чаще и серьезнѣе дѣйствуютъ явленія, которыя иные
люди по невѣжеству своему называютъ прихотливыми, а другіе по той же причинѣ—
сверхъестественными.
Весьма легко было бы посредствомъ развитія этихъ замѣчаній показать, какъ
успѣхи мануфактурной промышленности, кромѣ увеличенія національныхъ богатствъ,
оказали огромную услугу цивилизаціи, внушивъ человѣку довѣріе къ его собствен-
нымъ средствамъ, и какимъ образомъ тѣ же успѣхи, вызвавъ установленіе новаго
рода занятій, если можемъ такъ выразиться, измѣнили ту обстановку, при которой
всего удобнѣе было существовать суевѣрію. Но прослѣдить въ подробности этотъ
процессъ значило бы далеко выйти изъ предѣловъ настоящаго обзора, при томъ уже
приведенныхъ мною примѣровъ достаточно для объясненія того, какъ теологическій
духъ долженъ былъ ослабѣть при томъ развитіи любви къ опытнымъ наукамъ, кото-
рая составляетъ одну изъ главнѣйшихъ чертъ царствованія Карла II 2).
Итакъ, я разъяснилъ читателямъ точку зрѣнія, съ какой, по моему мнѣнію,
должно смотрѣть на этотъ періодъ, истинный характеръ котораго, какъ мнѣ кажется,
вообще былъ весьма ложно понятъ. Тѣ политическіе писатели, которые судятъ о со-
бытіяхъ безъ должнаго вниманія къ тому умственному движенію, котораго они состав-
ляютъ лишь часть, найдутъ въ царствованіи Карла II весьма много сторонъ, заслу-
живающихъ порицанія, и едва-ли замѣтятъ что-нибудь достойное одобренія. Такіе
писатели осудятъ меня за то, что я сошелъ съ того узкаго пути, въ предѣлахъ ко-
тораго слишкомъ часто стѣсняема была исторія. Между тѣмъ я не могу себѣ пред-
ставить, какимъ образомъ можно было бы, не слѣдуя этому методу, понять харак-
теръ времени, представляющаго па первый взглядъ такое множество самыхъ рѣзко
непослѣдовательныхъ явленій* Затрудненіе, о которомъ я говорю, совершенно разъ-
яснится, если мы хоть на минуту сопоставимъ свойства правительства Карла II съ
2) Эта связь между нсвѣжесгвомъ и набожностью '
гакъ ясно обозначается, что многіе народы имѣютъ ।
для погоды особаго бога, которому они о ней и мо- 1
лятся; а въ тѣхъ странахъ, гдѣ люди не доходятъ
до такой крайности, они приписываютъ перемѣны
колдовству или другой какой-нибудь сверхъестествен-
ной сидѣ. Индусы также въ «Рягведѣ», которая есть
древнѣйшая изъ ихъ религіозныхъ книгъ, приписы-
ваютъ дождь сверхъестественнымъ причинамъ и съ
тѣхъ норъ постоянно держатся того же мнѣнія.
Переходя къ состояніямъ общества, ближайшимъ
къ нашему, мы находимъ, что въ девятомъ вѣкѣ въ
христіанскихъ земляхъ считалось достовѣрнымъ, что і
вѣтеръ и градъ производятся колдунами; что такія ,
же мнѣнія перешли и въ шестнадцатый вѣкъ и были ;
подтверждены Лютеромъ: и, наконецъ, что, когда Свпн-
бёрнъ былъ въ Испаніи (1775—76 г,), духовенство
собиралось прекратить представленіе оперъ, такъ какъ
опо приписывало недостатокъ дождей вліянію этого
богопротивнаго увеселенія,
2) Дѣйствительно, никогда не было въ исторіи
Англіи періода, въ которомъ бы физическіе опыты
были въ такой модѣ; по это заслуживаетъ замѣчанія
только какъ характеристическая черта того времени,
такъ какъ Карлъ II и всѣ аристократы не были спо-
собны прибавить что-либо и дѣйствительно не при-
бавили ничего къ нашему знанію; и покровительство,
которое они оказывали наукѣ, скорѣе унизило ее,
чѣмъ подвинуло впередь. Тѣмъ не менѣе преобла-
даніе этой наклонности весьма любопытно.
158
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
тѣми великими дѣлами, которыя при этомъ правительствѣ совершились мирнымъ
путемъ. Никогда до того времени не встрѣчалось намъ въ исторіи такого недо-
статка видимой связи между средствами и цѣлью. Если мы взглянемъ только на
характеръ лицъ, управлявшихъ государствомъ, и на внѣшнюю политику ихъ, то мы
должны заключить, что царствованіе Карла II было самымъ худшимъ, какое когда-
либо видѣла Англія. Если же, съ другой стороны, мы ограничимъ наши замѣчанія
тѣми законами, которые были утверждены, и тѣми началами, которыя были устано-
влены, мы вынуждены будемъ согласиться, что это же самое царствованіе соста-
вляетъ одну изъ самыхъ блестящихъ эпохъ въ нашихъ народныхъ лѣтописяхъ. И съ
политической, и нравственной точки зрѣнія можно было найти въ этомъ правитель-
ствѣ» всѣ элементы безпорядка, слабости и преступленія. Самъ король былъ низкій
и бездушный сластолюбецъ, чуждый какъ христіанской нравственности, такъ и почти
всякаго человѣческаго чувства. Его министры, за исключеніемъ быть можетъ Кла-
рендона, котораго онъ ненавидѣлъ за его добродѣтели, не имѣли ни одного изъ ка-
чествъ. необходимыхъ для государственныхъ людей, и почти всѣ были на жалованьи
у французскаго правительства. Тягость податей была увеличена, между тѣмъ какъ
безопасность королевства уменьшилась. Вслѣдствіе насильственнаго отобранія хартій
отъ городовъ наши муниципальныя права были поставлены въ опасность. Закры-
тіемъ» государственнаго казначейства нашъ національный кредитъ былъ уничтоженъ.
Хотя огромныя суммы тратились на содержаніе нашихъ морскихъ и военныхъ силъ,
мы оставались до такой степени беззащитными, что, когда открылась воина, которая
передъ тѣмъ долго приготовлялась, могло показаться, что мы захвачены врасплохъ.
Такова была жалкая неспособность правительства, что голландскіе флоты имѣли воз-
можность не только съ» торжествомъ обходить наши берега, но даже подниматься
вверхъ но Темзѣ, атаковать наши арсеналы, жечь наши корабли и надругаться надъ
столицей Англіи. Но, несмотря на все это, остается несомнѣннымъ фактомъ, что
въ царствованіе того же Карла II сдѣлано болѣе шаговъ въ направленіи къ истин-
ному прогрессу, чѣмъ въ какой-либо другой періодъ такого же объема изъ всего
двѣнадцативѣкового обладанія нашего землями Великобританіи. Однако только силою
того умственнаго движенія, которое безсознательно поддерживалось правительствомъ,
совершены были въ теченіе пѣсколышхъ лѣтъ такія реформы, которыя совершенно
измѣнили положеніе общества х). Два великихъ бремени, которыми нація уже давно
тяготилась, были: тпраішія духовная и тираннія поземельная—деспотизмъ духовен-
ства и дворянства. Въ это время сдѣлана была попытка устранить и то, и другое
зло, но не палліативными средствами, а нанесеніемъ рѣшительныхъ ударовъ могу-
ществу тѣхъ сословій, которыя были виновниками зла. Въ это время внесенъ былъ
въ книгу статутовъ (Зіаіиіе Воок) законъ, отмѣняющій тотъ знаменитый декретъ,
по которому епископы и делегаты ихъ имѣли право казнить сожженіемъ людей,
расходившихся съ ними въ религіозныхъ мнѣніяхъ. Теперь духовенство лишено было
права само себя облагать податями и должно было подчиниться раскладкѣ», состав-
ляемой обыкновеннымъ законодательнымъ порядкомъ. Теперь также постановленъ
былъ законъ, запрещающій всякому епископу и всякому духовному судилищу тре-
бовать присяги ех оГПсіо, посредствомъ которой церковь до сихъ поръ имѣла воз-
можность вынуждать подозрѣваемыхъ ею лицъ къ обвиненію сампхъ себя. Что ка-
сается до аристократіи, то въ царствованіе того же Карла II палата лордовъ послѣ
сильной- борьбы вынуждена была оставить свои притязанія на право суда въ пер-
вой инстанціи по гражданскимъ дѣламъ и такимъ образомъ лишилась навсегда весьма
1) Самыя важныя пзь этихъ реформъ совер-
шены, какъ почти всегда бываетъ, вопреки истіппіымі.
желаніямъ преобладающихъ сословіи. Карлъ И и
Іаковъ II части говорили объ актѣ ІІаЬсаз Согрпз,
что «съ такимъ закономъ правительство не можетъ
существовать». Лордъ - хранитель печати Гп.іьфордъ
даже противился уничтоженію военныхъ леновъ» «Онъ
считалъ--говоритъ сто братъ —уничтоженіе леновъ
на несеніемъ гибельной раны вольностямъ англійскаго
народа». Такого-то рода выкаютъ люди, которыми
управляются великія націи.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI 110 XVIII СТ.
159
важнаго средства для расширенія своего вліянія. Въ это самое царствованіе было
упрочено за народомъ право платить подати не иначе, какъ по опредѣленію своихъ
представителей, такъ какъ палата общинъ съ тѣхъ поръ навсегда сохранила исклю-
чительную власть предлагать финансовые билли и опредѣлять размѣръ налоговъ, пре*
доставляя пэрамъ только формальность изъявленія согласія на то, что уже было рѣ-
шено. Таковы были попытки, сдѣланныя для обузданія духовенства и аристократіи;
но кромѣ того совершены и другія дѣла такой же важности. Отмѣною скандалез-
ныхъ прерогативъ «Ритѵсуапсе и Ргс-еіпрііоп» 1) былъ положенъ предѣлъ воз-
можности для государя притѣснять своихъ непокорныхъ подданныхъ. Посредствомъ
акта НаЬеаз Согрпв свобода каждаго англичанина была на столько обезпечена, па
сколько это можетъ быть сдѣлано закономъ.—ему гарантировано, что въ случаѣ обви-
ненія его въ преступленіи, вмѣсто того, чтобы томиться въ тюрьмѣ, какъ нерѣдко
случалось прежде, онъ будетъ подвергнутъ справедливому и безотложному суду. Уза-
коненіемъ объ обманахъ и ложныхъ присягахъ доставлена частной собственности
небывалая до тѣхъ поръ безопасность 2). Съ отмѣною общихъ обвиненій (депегаі
ішреасішіепіз) 3) было уничтожено могущественное орудіе тиранніи, посредствомъ
котораго сильные и безнравственные люди нерѣдко губили своихъ политическихъ
противниковъ. Уничтоженіе законовъ, стѣснявшихъ свободу книгопечатанія, поло-
жило основаніе той великой публичной прессѣ, которая болѣе чѣмъ какая-либо дру-
гая причина распространила въ народѣ сознаніе его силы л такимъ образомъ почти
въ невѣроятной степени содѣйствовала успѣхамъ англійской цивилизаціи. Въ до-
вершеніе же этой великолѣпной картины, окончательно уничтожены тѣ принадлеж-
ности феодализма, которыя внесены въ нашъ бытъ завоевателями-норманнами, —-
военные лены, королевская опека надъ малолѣтними наслѣдниками ленныхъ имѣній,
взысканія при отчужденіи леновъ, право конфискаціи имѣній за вступленіе въ бракъ,
несогласное съ ленными условіями, такъ называемые аібз, іюта^ез, езсиа§сз и ргітег
зеізіпз 4)—и всѣ эти вредныя хитросплетенія, самыя имена которыхъ для современ-
наго слуха звучатъ какъ слова дикаго и варварскаго нарѣчія, но которыя предковъ
нашихъ давили, какъ дѣйствительное, серьезное зло.
Вотъ что было сдѣлано въ царствованіе Карла II; и если принять въ сообра-
женіе жалкую неспособность этого короля, праздное распутство его двора, безстыд-
ную продажность его министровъ, достоянные заговоры внутри государства и неслы-
ханныя оскорбленія извнѣ; если принять кромѣ того въ соображеніе, что ко всему
этому присоединились еще два естественныя бѣдствія самаго грустнаго свойства—
великая зараза, опустошавшая всѣ классы общества и распространявшая смятеніе
по государству, и великій пожаръ, усилившій смертельное дѣйствіе заразы и мгно-
венно истребившій всѣ запасы, накопленные промышленностью и дающіе пищу са-
мой промышленности,—если взять все это вмѣстѣ, то какъ примирить противорѣчія
повидимому столь рѣзкія? Какъ могъ совершиться такой удивительный прогрессъ въ
виду такихъ безпримѣрныхъ бѣдствій? Какъ могли такіе люди и при такихъ обстоя-
тельствахъ сдѣлать такія улучшенія? Все это вопросы, на которые наши полити-
х) Эти прерогативы заключались въ нравѣ брать і
необходимые для королевскаго двора предметы, какъ- |
то: съѣстные припасы, экипажи, лошадей п т. и., пли ।
даромъ, или за пониженную плату а при томъ пре- |
имущественно предъ всѣми другими покупателями. і
(Нрим. перев.) ;
2) Клакстонъ называетъ это узаконеніе «вели-
кимъ и необходимымъ огражденіемъ для частной соб-
ственности», а лордъ Ёампбелль—«самою важною и ,
самою благодѣтельною статьею, которою мы можемъ
похвалиться въ нашемъ законодательствѣ».
3) Это были обвиненія въ общихъ выраженіяхъ,
къ которымъ парламентъ прибѣгалъ въ іѣхъ случаяхъ,
когда не имѣлось въ виду такихъ дѣйствій обвиняе-
маго, которыя прямо признавались бы закономъ за
государственную измѣну.
(ТІрим, перев.)
Аідв были единовременныя денежныя пособія,
которыя, по особымъ назначеніямъ, собирались сь
вассаловъ короны въ пользу сюзерена - короля; Ьо-
та^<‘8—условія ленной зависимости ихъ отъ короны;
езсііа^ез — постоянные денежные взносы, къ замѣнъ
личной военной службы; ргітег неізіпв —право ко-
роля пользоваться въ теченіе перваго года доходами
съ леннаго имѣнія, переходящаго но наслѣдству въ
другія руки.
(Прим. нерев.)
160 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ческіе компиляторы не въ состояніи отвѣтить, потому что они обращаютъ слишкомъ
много вниманія на особенныя свойства отдѣльныхъ личностей и слишкомъ мало на
характеръ того времени, въ которое живутъ эти личности. Подобные писатели не
понимаютъ, что исторія каждой цивилизованной стразы есть исторія ея умственнаго
развитія, которое короли, государственные люди и законодатели скорѣе могутъ за-
медлить, чѣмъ ускорить: какъ бы ни было велико ихъ могущество, они являются не
болѣе какъ случайными, несовершенными представителями духа своего времени. Они
не только не руководятъ движеніями духа націи, но даже принимаютъ въ нихъ самое
слабое участіе, такъ что при общемъ обзорѣ прогресса человѣчества на нихъ должно
смотрѣть только какъ на людей, большей частью хлопочущихъ на маленькой сценѣ,
между тѣмъ какъ поодаль отъ нихъ, со всѣхъ сторонъ, составляются мнѣнія и убѣ-
жденія, которыя они съ трудомъ могутъ понять, и которыя однако одни даютъ окон-
чательное направленіе всѣмъ дѣламъ человѣческимъ.
Дѣло въ томъ, что обширныя законодательныя реформы, которыми такъ замѣ-
чательно царствованіе Карла II, составляютъ но болѣе какъ часть того движенія,
начало котораго можно конечно прослѣдить гораздо ранѣе, но которое возымѣло не-
сомнѣнное дѣйствіе только въ теченіе трехъ поколѣній. Важныя улучшенія эти были
результатомъ того смѣлаго, скептическаго, пытливаго и преобразовательнаго духа, ко-
торый овладѣлъ тогда теологіей, наукой и политикой. Старыя начала — преданія
авторитета и догмата—мало по малу теряли свою силу, и конечно въ такой же про-
порціи уменьшалось и вліяніе тѣхъ классовъ, которые главнѣйшимъ образомъ под-
держивали эти начала. По мѣрѣ того какъ ослабѣвала7 власть отдѣльныхъ частей
общества, власть цѣлаго народа возрастала. Истинные интересы націи стали явствен-
нѣе обозначаться, лишь только было разсѣяно суевѣріе, которое долго заслоняло ихъ.
Въ этомъ, я полагаю, заключается настоящее объясненіе того, что съ перваго взгляда
кажется такой странной загадкой, а именно: какимъ образомъ такія обширныя ре-
формы могли быть совершены въ такое плохое и во многихъ отношеніяхъ такое
безславное царствованіе. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ сущности реформы эти
были послѣдствіемъ умственнаго движенія того времени; но совершились онѣ далеко
не наперекоръ порокамъ государя, а собственно даже съ помощью ихъ. За исклю-
ченіемъ нищихъ развратниковъ, толпившихся при дворѣ, всѣ классы общества вскорѣ
научились презирать короля, который былъ пьяница, распутникъ и гипокритъ, ко-
торый не имѣлъ ни стыда, ни жалости, и который въ отношеніи чести не достоинъ
былъ стать на-ряду даже съ самымъ ничтожнымъ изъ своихъ подданныхъ. Видѣть
въ теченіе четверти столѣтія на престолѣ такого человѣка, какъ этотъ, есть вѣр-
нѣйшее средство потерять ту слѣпую, безпрекословную преданность, которой народы
часто приносили въ жертву свои самыя дорогія права. Такъ, характеръ короля,
разсматриваемый съ этой одной точки зрѣнія, уже былъ въ высшей степени благо-
пріятенъ развитію свободы націи х). Но это еще не все. Беззаботное распутство
Карла заставляло его питать отвращеніе ко всему, что сколько-нибудь отзывалось
стѣсненіемъ; а это впутало ему ненависть къ тому классу, въ жизни котораго, по
крайней мѣрѣ по его профессіи, предполагалось соблюденіе болѣе чѣмъ обыкновен-
ной чистоты нравовъ. Поэтому-то не изъ видовъ просвѣщенной политики, а чисто
изъ любви къ порочной свободѣ дѣйствій онъ всегда питалъ нерасположеніе къ ду-
ховенству и не только не поддерживалъ власти этого сословія, но даже часто вы-
ражалъ явное къ нему презрѣніе. Самые лучшіе друзья короля направляли противъ
*) У Галлама есть прекрасныя мѣста, вь кото-
рыхъ излагаются услуги, оказанныя англійской циви-
лизаціи пороками англійскаго двора: «Мы однако мно-
гимъ обязаны памяти герцогини Варвары Кливленд-
ской, герцогини Іупзы Портсмутской и Элеоноры
Гуинъ. Мы должны быть благодарны такпмъ лично-
стямъ, какъ Мэй, Кпллигрью, Чпффпнчъ и Грамонъ. Онѣ
і принимали благое участіе въ избавленіи государства
I отъ тупоумной преданности двору. Онѣ спасли на-
шихъ праотцовъ отъ Звѣздной Палаты и суда Вер-
ховной Комиссіи; онѣ, по призванію своему, дѣйство-
вали противъ постоянныхъ армій и противъ подкуп-
ности: онѣ ускорили великое, окончательное улроче-
' ніе англійской свободы—изгнаніе дома Стюартовъ».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
161
духовенства тѣ грубыя, безстыдныя шутки, которыя сохранились въ литературѣ того
времени и которыя, по мнѣнію придворныхъ, должны были стоять въ ряду лучшихъ
образчиковъ человѣческаго остроумія. Этого рода людей церкви конечно нечего было
бояться, но ихъ рѣчи и та благосклонность, съ какой ихъ принимали, принадлежатъ
къ числу признаковъ, по которымъ мы можемъ изучать направленіе того вѣка. Боль-
шинство читателей могутъ найти много другихъ примѣровъ; я же, съ своей стороны,
приведу только одинъ, который интересенъ въ томъ отношеніи, что дѣло идетъ о
замѣчательномъ философѣ. Самымъ опаснымъ противникомъ духовенства въ XVII вѣкѣ
былъ конечно Гоббсъ, самый тонкій діалектикъ своего времени, при томъ писатель,
отличавшійся особенной ясностью и уступавшій между англійскими метафизиками
одному только Берклею. Этотъ глубокій мыслитель издалъ нѣсколько разсужденій,
весьма неблагопріятныхъ для церкви и прямо противоположныхъ тѣмъ началамъ,
которыя составляютъ существенное условіе авторитета церкви. Духовенство конечно
ненавидѣло его; ученіе его было объявлено въ высшей степени зловреднымъ, и его.
обвиняли въ желаніи уронить религію народа и испортить его нравственность. Это"
доходило до того, что при его жизни и въ теченіе нѣсколькихъ лѣта послѣ его
смерти всякаго человѣка, который осмѣливался думать по-своему, ругали гоббистомъ
или, какъ иногда называли, гоббіанпномъ Такой явной вражды со стороны духо-
венства было уже достаточно, чтобы обратить на Гоббса благосклонное вниманіе
Карла. Король еще до восшествія своего на престолъ уже проникпулся нѣкоторыми
изъ идей Гоббса, а послѣ реставраціи онъ оказывалъ этому писателю такое ува-
женіе, которое находили даже возмутительнымъ. Онъ защищалъ его отъ враговъ,
вывѣсилъ, не безъ нѣкотораго чванства, его портретъ въ своей комнатѣ въ Вайт-
голлѣ и даже назначилъ пенсію этому страшнѣйшему изъ противниковъ, какихъ встрѣ-
чала до тѣхъ поръ духовная іерархія.
Если мы взглянемъ на сдѣланныя Карломъ назначенія въ духовныя званія, то
найдемъ новое доказательство того же направленія. Въ его царствованіе высшія
должности въ церкви постоянно ввѣрялись людямъ или неспособнымъ, или не совсѣмъ
добросовѣстнымъ. Можетъ быть было бы уже слишкомъ много приписывать королю
обдуманный планъ уронить значеніе епископской скамьи, но то достовѣрно, что если
онъ имѣлъ такой планъ, то избралъ для осуществленія его самый лучшій образъ
дѣйствія. Можно сказать безъ преувеличенія, что при его жизни главные англій-
скіе прелаты были всѣ, безъ исключенія, люди либо неспособные, либо недобро-
совѣстные; они или не въ силахъ, были защитить то, въ чемъ дѣйствительно были
убѣждены, или же не имѣли тѣхъ убѣжденій, которыя открыто высказывали. Никогда еще
интересы англиканской церкви не были такъ слабо охраняемы. Первымъ архіеписко-
помъ кентерберрійекпмъ, по назначенію Карла, былъ Джексонъ,—человѣкъ, извѣстный
своею бездарностью, о которомъ даже друзья могли сказать только одно, что недо-
статокъ дарованій вознаграждался въ пемъ добрыми намѣреніями. Когда онъ умеръ,
то на мѣсто его король назначилъ Шельдона, котораго онъ сдѣлалъ передъ тѣмъ
епископомъ лондонскимъ. Шельдонъ не только навлекалъ безчестіе на все свое со-
словіе дѣйствіями, отзывавшимися грубой нетерпимостью, но даже такъ мало обра-
щалъ вниманія на самыя обыкновенныя, въ его званіи, приличія, что часто у себя
въ домѣ допускалъ, для увеселенія общества, представленія, заключавшіяся въ пе-
редразниваніи пресвитеріанскихъ проповѣдниковъ. Послѣ смерти Шельдона Карлъ
назначилъ архіепископомъ Санкрофта, который своимъ причудливымъ суевѣріемъ
заслужилъ презрѣніе даже людей одного съ нимъ сословія, и котораго вообще столько
же презирали, сколько Шельдона ненавидѣли. II въ назначеніяхъ на должность не-
посредственно низшую мы замѣчаемъ дѣйствіе того же самаго начала. Архіеписко-
пами іоркскими при Карлѣ 11 были: Фревенъ, Стернъ и Дольбенъ, ^люди до такой
*) Эго было общеупотребительное названіе, для I ныя мнѣнія вь ХГ11 и даже въ началѣ XVIII сто-
всямаго, кто нападалъ на установившіяся рслигіоз- | лѣтія.
Бокль.-Изд. Ф. ІІавлснкона. 11
162
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
степени бездарные, что, несмотря на свое высокое положеніе, они совершенно за-
быти: изъ тысячи читателей едва-ли кто слыхалъ когда-либо ихъ имена.
Подобныя назначенія просто поразительны, и они становятся еще поразитель-
нѣе въ виду того обстоятельства, что въ пихъ не было никакой надобности, что
король не былъ стѣсняемъ въ своемъ выборѣ ни какими-нибудь придворными интри-
гами, ни недостаткомъ въ людяхъ болѣе способныхъ. Дѣло было въ томъ, что Карлъ
не хотѣлъ назначать въ высшія духовныя должности такихъ людей, которыя съумѣли
бы усилить авторитетъ церкви и возстановить ея прежнее преобладаніе. При его
восшествіи на престолъ двумя самыми способными людьми изъ всего духовенства
были безъ сомнѣнія Іеремія Тэйлоръ и Исаакъ Барровъ; оба они были извѣстны своей
преданностью престолу, оба были люди безупречной честности и оба оставили по
себѣ такую славу, которая не можетъ погибнуть до тѣхъ поръ, пока будетъ сохра-
няться память объ англійскомъ языкѣ. Но Тэйлоръ, несмотря на то, что былъ
женатъ на сестрѣ короля, находился въ явномъ пренебреженіи: удаленный на епи-
скопство въ Ирландію, онъ долженъ былъ провести остатокъ дней своихъ въ этой
странѣ, справедливо называвшейся тогда варварской г). Барровъ же, стоявшій по уму
конечно выше Тэйлора, долженъ былъ съ грустью смотрѣть, какъ самые неспособ-
ные люди достигали высшихъ должностей въ церкви, между тѣмъ какъ онъ оста-
вался незамѣченнымъ; при всемъ томъ, что семейство его значительно пострадало
за дѣло королевское, онъ не получалъ никакого повышенія, и только за пять лѣтъ
до смерти былъ назначенъ начальникомъ коллегіи Св. Троицы въ Кембриджѣ.
Едва-ли нужно объяснять, до какой степени все это должно было способство-
вать къ ослабленію церквй\и къ ускоренію того великаго движенія, которымъ замѣ-
чательно царствованіе Карлѣ, П * 2). Въ то же время были и многія другія обстоятель-
ства, которыя въ этомъ предварительномъ очеркѣ разсматривать нѣтъ возможности,
но на которыхъ тоже лежала печать всеобщаго возстанія противъ старыхъ автори-
тетовъ. Въ одномъ изъ слѣдующихъ томовъ это будетъ представлено въ болію
ясномъ свѣтѣ; тамъ я буду имѣть возможность привести такое доказательство, кото-
рое, по множеству входящихъ въ него подробностей, было бы неумѣстно въ насто-
ящемъ введеніи. Однако и то, что уже было сказано, достаточно опредѣляетъ общій
ходъ умственнаго движенія въ Англіи и можетъ служить читателю ключомъ къ пони-
манію тѣхъ еще болѣе запутанныхъ событій, которыя нагрянули на насъ въ теченіе
XVII столѣтія.
За нѣсколько дѣтъ до смерти Карла II духовенство сдѣлало рѣшительную по-
пытку воротить свое прежнее вліяніе, пустивъ снова въ ходъ ученія о необходи-
мости слѣпого повиновенія и о божественномъ правѣ королей 3). Но такъ какъ апглій-
*) Кольриджъ говорить, что такое пренебреженіе
Карла кь Іереміи Тэйлору «составляетъ загадку, ко-
торой разрѣшеніе по всей вѣроятности заключается
въ сго добродѣтеляхъ».
2) Все, чтб сказалъ Маколей о пренебреженіи,
которому подверглось духовенство въ царствованіе
Карла II,—совершенно справедливо; а между тѣмъ
я знаю изъ собранныхъ мною данныхъ, что п итогъ
даровитый писатель, громадныя изысканія котораго
немногіе въ состояніи достаточно оцѣпить, показалъ
скорѣе менѣе, чѣмъ болѣе, нежели сколько было па
самомъ дѣлѣ. Во многомъ я осмѣлюсь не согласиться
съ Маколеемъ, по пе могу не выразить удивленія
при видѣ его неутомимаго трудолюбія, превосходнаго
умѣнія, съ какимъ онъ приводилъ въ порядокъ свои
матеріалы, и благородной любви къ свободѣ, ко горой
проникнуто все его сочиненіе. *Воть качества, которыя
далеко переживутъ нападенія его ничтожныхъ поно-
сителей,—людей, которые, по своему знанію п таланту,
недостойны развязать башмакъ того, на кого онп
безумно нападаютъ.
3) Упомянутое движеніе началось около 1681 г.
і Духовенство, какъ сословіе, конечно склонно поддер-
| живать такое ученіе, н я приведу сейчасъ одно мѣсто
) изъ сочиненія Севоля, которое даетъ читателю понятіе
। о взглядахъ на этогъ предметъ, развиваемыхъ пѣко-
і торыми изъ духовныхъ. Почтенный авторъ «СІігі-
яііап РоШіся» говоритъ, что царствующій государь
есть «существо, вооруженное высшей физической
силой отъ руки и съ согласія Провидѣнія; вь эюмь
качествѣ онъ—хозяинъ нашей собственности, власте-
линъ пашей жизни,, пст-ічникъ чести, податель закона,
передт» которымъ каждый подданный д-ыжеиь слагать
съ себя волю и дѣйствовать по его желанію.,, ко-
торый. когда заблуждается, то заблуждается какъ че-
ловѣкъ, а не какъ государь, п отвѣчаетъ за это не
, передъ человѣкомъ, а передъ Богомъ». Далѣе тотъ же
писатель сообщаетъ памъ, что церковь «единогласно,
пе колеблясь, провозгласила обязанность слѣпого по-
виновенія». Поэтому Фоксъ совершенно основательно
сказалъ палатѣ общинъ, что. «будучи хорошимъ слу-
I гою церкви, легко сдѣлаться дурнымъ гражданиномъ».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
163
скій умъ уже достаточно ушелъ впередъ, чтобы отвергнуть подобное мнѣніе, то тщет-
ная попытка эта только повела къ еще большему разъединенію интересовъ народа
вообще и интересовъ духовенства, какъ отдѣльнаго сословія. Едва только рушился
этотъ планъ, какъ смерть Карла возвела на престолъ государя, искреннѣйшимъ же-
ланіемъ котораго было возстановить католическую церковь и снова ввести у насъ
ту злостную систему, которая открыто похваляется порабощеніемъ человѣческаго
разума. Эта перемѣна, если судить о ней по ея окончательнымъ результатамъ, была
самымъ благопріятнымъ обстоятельствомъ, какое могло случиться для нашей страны.
Несмотря на то, что Іаковъ принадлежалъ къ другой религіи, англійское духовен-
ство всегда обнаруживало къ нему привязанность, высоко цѣня его уваженіе къ
духовному сословію; но оно конечно хотѣло, чтобы теплота чувствъ его изливалась
на англійскую церковь, а не на римскую. Оно знало, какія выгоды пріобрѣло бы
духовное сословіе, еслибы набожности короля можно было дать другое направленіе х).
Оно видѣло, что въ интересахъ короля было отказаться отъ своей религіи, и думало,
что для такого жестокаго и порочнаго человѣка собственный интересъ будетъ един-
ственнымъ соображеніемъ. Вотъ почему въ одинъ изъ самыхъ критическихъ момен-
товъ его жизни духовенство энергически и съ успѣхомъ дѣйствовало въ его пользу;
оно не только приложило все свое стараніе къ тому, чтобы не прошелъ билль объ
устраненіи его отъ престолонаслѣдія, но даже, когда билль этотъ былъ отвергнутъ,
представило особый адресъ Карлу, поздравляя его съ этимъ результатомъ. Когда
Іаковъ дѣйствительно вступилъ на престолъ, духовенство продолжало поступать въ
томъ же духѣ. Надѣялось ли оно все-таки па его обращеніе, или же въ своемъ
рвеніи къ преслѣдованію диссентеровъ оно не замѣчало опасности, угрожавшей соб-
ственной церкви,—неизвѣстно; но то составляетъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ
и несомнѣнныхъ фактовъ въ нашей исторіи, что существовала одно время тѣсная
связь между протестантской іерархіей и королемъ-папистомъ 2). Ужасныя преступле-
нія, вытекавшія изъ этого добраго согласія, слишкомъ хорошо извѣстны всякому.
Но что еще болѣе достойно вниманія, это то обстоятельство, которое послужило пово-
домъ къ разрыву союза между короною и церковью. Первою причиною ссоры была
попытка короля ввести въ нѣкоторой степени религіозную терпимость. Знаменитыми
актами «Тезі апсі Согрогаііоп» повелѣвалось: всѣхъ лицъ, служащихъ правитель-
ству, заставлять, подъ страхомъ тяжкой отвѣтственности, принимать причастіе по
обрядамъ англійской церкви. И вотъ поступокъ Іакова заключался въ томъ, что онъ
издалъ такъ называемую «Песіагаііоп оГ Ііійиі^еіісе», въ которой объявилъ о своемъ
намѣреніи пріостановить дѣйствіе этихъ законовъ 3). Съ этой минуты положеніе двухъ
главныхъ партій совершенно измѣнилось. Епископы ясно видѣли, что тѣ законы,
которые теперь старались отмѣнить, въ высшей степени благопріятствовали разви-
тію ихъ власти, и потому они считали ихъ существенной принадлежностью консти-
туціи христіанскаго государства. Они охотно дѣйствовали заодно съ Іаковомъ, пока
онъ помогалъ имъ преслѣдовать людей, поклонявшихся Богу не такъ, какъ они по-
клонялись4). Пока поддерживалось это доброе согласіе, они оставались равнодушными
къ вещамъ, которыя, но ихъ мнѣнію, имѣли меньшую важность. Они молча смотрѣли,
какъ король накоплялъ матеріалы, съ помощью которыхъ надѣялся обратить сущест-
Вь 1678 году архіепископъ контерберрійскій дѣ- ।
далъ попытку обратить Іакова. Въ письмѣ кь епископу
винчестерскому онъ исчисляетъ «благія послѣдсівія»,
когерыя могутъ произойти въ случаѣ ого успѣха.
-) При восшествіи на престолъ Іакова. II «со
всѣхъ каѳедръ Англіи раздавались благодарственныя
чодитвы; и множество было адресовъ, заключавшихъ,
въ самыхъ сильныхъ ныраженіяхь, лестныя для его
величества увѣренія въ непоколебимой преданности
и въ повиновеній безграничномъ, безусловномъ» :
(КаеГз «ИІ§Ь оС Ніе РигіЫп.ч»), |
3) 18 марта король объявилъ Тайному Совѣту,
что онъ рѣшился € предоставить, своею собственною
властью, полную свободу совѣсти всѣмъ своимъ под-
даннымъ. 4 апрѣля послѣдовала достопамятная «Бе-
сіагаііоп оГ Іп(1и1^епее>>.
Вь осень 1685 года духовенство п правитель-
ство преслѣдовали диссентеровъ съ самымъ большимъ
ожссточсніомь. Во многихъ случаяхъ церковная пар-
тія употребляла въ дѣло духовные суды, чтобы стре-
бовать денегъ съ нонконформистовъ.
164
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
вовавшес правленіе въ неограниченную монархію *)• Они видѣли, какъ Джеффрейсъ
и Керкъ истязали своихъ соотечественниковъ.—видѣли, какъ тюрьмы переполнялись
арестантами и какъ обливались кровью эшафоты. Имъ очень нравилось, что нѣко-
торые изъ лучшихъ и способнѣйшихъ людей въ государствѣ были варварски пре-
слѣдуемы; что Бакстеръ попалъ въ заключеніе, а Говъ былъ вынужденъ оставить
отечество. Они смотрѣли съ спокойнымъ духомъ на самыя возмутительныя жесто-
кости, потому что жертвами этихъ жестокостей были противники англійской церкви.
Несмотря на то, что умы людей были исполнены ужаса и отвращенія, епископы не
жаловались ни на что. Они оставались неизмѣнными въ своей вѣрнопоіданниче-
ской преданности и настаивали на необходимости смиреннаго подчиненія помазан-
нику Бойлю 2). Но съ той минуты, какъ Іаковъ вздумалъ защищать отъ преслѣдо-
ванія тѣхъ, которые были враждебны церкви, съ той минуты, какъ онъ объявилъ о
своемъ намѣреніи уничтожить монополію должностей и почестей, которую епископы
долго доставляли своей партіи, съ той минуты, какъ все это случилось, — іерархія
стала живо чувствовать опасность, которою угрожали странѣ насильственныя дѣй-
ствія такого самовластнаго государя 3). Король наложилъ руку на ковчегъ—и храни-
тели храма побѣжали къ оружію. Могли ли они терпѣть государя, который не да-
валъ имъ преслѣдовать враговъ, — государя, который старался покровительствовать
людямъ, расходившимся въ убѣжденіяхъ съ господствовавшей церковью. Духовен-
ство тотчасъ же рѣшило, какой ему слѣдуетъ принять образъ дѣйствія. Почти все
оно, въ одинъ голосъ, отказалось повиноваться повелѣнію, которымъ король предпи-
сывалъ прочесть по церквамъ эдиктъ о вѣротерпимости 4). Но на этомъ оно еще не
остановилось. Такъ велика была его вражда къ тому, кого оно недавно еще любило,
что оно даже обратилось за помощью къ тѣмъ самымъ диссентерамъ, которыхъ
только за нѣсколько недѣлѣ передъ тѣмъ такъ горячо преслѣдовало, и старалось
щедрыми обѣщаніями склонить на свою сторону людей, которыхъ прежде гнало до
истребленія. Замѣчательнѣйшіе изъ нонконформистовъ далеко не были обмануты этой
неожиданной привязанностью 5). Но пхъ ненависть къ папизму и описаніе дальнѣй-
шихъ замысловъ короля взяли верхъ надъ всѣми другими соображеніями; и такимъ
образомъ произошло то странное соглашеніе между послѣдователями господствую-
щей церкви и диссентерами, которое съ тѣхъ поръ не повторялось. Эта коалиція,
поддерживаемая общимъ голосомъ народа, вскорѣ низвергла престолъ и произвела то,
чтб справедливо считается однимъ изъ самыхъ важныхъ событій въ исторіи Англіи.
г) Изъ свѣдѣній, имѣющихся въ Военномъ Ми-
нистерствѣ, видно, что Іаковъ даже въ первый годъ
.своего царствованія пмѣлъ постояннаго войска до
20.000 человѣкъ. Такъ какъ это естественнымъ обра-
зомъ сильно всѣхъ встревожило, то король объявилъ,
что число это не превышаетъ ІЬ.ООО.
-) Изъ поведенія духовенства въ это и къ пре-
дыдущее царствованіе совершенно ясно, что если-
бы король былъ протестантомъ и принадлежалъ- къ
исповѣданію англійской церкви, или даже былъ спо-
койнымъ, послушнымъ католикомъ, безъ всякаго рве-
нія къ своей релиі іи,—ограничиваясь только дѣлами
іо су дарственными и имѣя должное уваженіе къ соб-
ственности церкви,~ то онъ могъ бы. сколько ему
угодно, грабить другихъ протестантовъ и попирать
свободу страны, но опасаясь никакою сопротивленія.
Пли, какъ говоритъ Фоксъ: 'До тѣхъ поръ, пока
Іаковъ довольствовался неогряішченпой властью въ
однихъ гражданскихъ дѣлахъ и пе употреблялъ своего
вліянія противъ церкви, все шло легко и гладко >.
3) Духовенство англійской церкви вревоьпосило
прерогативу и неограниченную власть до тѣхъ поръ,
пока это было выгодно для него: но когда оно уви-
дѣло въ эншъ малѣі'Ніую опасное п> ГІля с<'б;і, то на-
чало кричать, лишь только почувствовало, что баш-
макъ жметъ, несмотря на то, что само надѣло его.
До какой степени оно раболѣпствовало королю, пока
думало, что король па него,—можно видѣть изъ слѣ-
дующихъ словъ Дефо: «Я самъ слышалъ, какъ пуб-
| лично проиовѣдывалп, что еслибы король иотребо-
! валъ моей головы п прислалъ людей отрѣзать се, то
я обязанъ былъ бы покориться и спокойно стоять,
пока ее рѣзали бы».
;) Изъ всего духовенства, котораго считали до
і 10.000 человѣкъ, не болѣе какъ двѣсти подчинились
: требованію короля. Когда всѣ узнали объ этомь. іо
і говорили, что церковь «поддерживала корону только
до тѣхъ поръ, пока сама повелѣвала; сь той же ші-
I путы, какъ ей запретили быть нетерпимой, она воз-
, мутилась».
Приводимъ сказанныя по этому щоюду слова
Дефо: < Позвольте, милорды, сдѣлать вамъ одвнь во-
; вросъ. Предположимъ, что король, вмѣсто деклараціи.
। издали бы прокламацію, предписывающую мировымъ
судьямъ, копстаблямъ, доносчикамъ н всѣмъ другичь
1 лицамъ быть, если можно, еще строже съ днссепіе-
1 рами и приложи іь всѣ старанія къ совершенному об-
| узданію и уничтоженію нхь, н приказалъ бы прочесть эн-
і вь вашихъ церквахъ во время богослуженія,—посовѣ-
стились ли бы вы ско.п.ко-іпібудь исполнить это?»
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI НО XVIII СТ.
165
И такъ, ближайшей причиной той великой революціи, которая стоила Іакову
короны, было изданіе королемъ эдикта о вѣротерпимости и негодованіе духовенства
при видѣ такого дерзкаго поступка со стороны христіанскаго государя. Правда, что
одно это обстоятельство, безъ помощи другихъ, не могло бы никогда произвести
такой большой перемѣны, но оно было непосредственной причиной ея; оно было
причиной разрыва между церковью и трономъ и союза между церковью и диссен-
терами. Это фактъ, котораго никогда не слѣдуетъ забывать. Мы никогда не должны
забывать, что первый и единственный случай, въ которомъ англійская церковь по-
шла войною противъ короны, былъ тотъ, когда корона выразила намѣреніе оказы-
вать терпимость и въ нѣкоторой степени покровительство соперничающимъ исповѣ-
даніямъ въ государствѣ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что изданная въ то время декла-
рація была противозаконна и что она была задумана съ коварной цѣлью. Но столь
же незаконныя, столь же коварныя и гораздо болѣе притѣснительныя деклараціи
были дѣлаемы королемъ въ другихъ случаяхъ — и это не возбуждало негодованія
духовенства 1). Всѣ эти обстоятельства намъ пе мѣшаетъ взвѣсить. Все это драгоцѣн-
ные уроки для тѣхъ, кому суждено если не давать направленіе общественному мнѣ-
нію,. то по крайней мѣрѣ имѣть на него нѣкоторое вліяніе. Что же касается до народа
вообще, то не можетъ быть выраженія слишкомъ преувеличеннаго для обозначенія
того, чѣмъ онъ обязанъ революціи 1688 года. Но ему слѣдуетъ остерегаться, чтобы
къ благодарности его не примѣшалось суевѣріе. Онъ можетъ восхищаться величествен-
нымъ зданіемъ національной свободы, которое стоитъ одно во всей Европѣ, какъ
маякъ посреди морей; но онъ не долженъ думать, что онъ чѣмъ-нибудь обязанъ
тѣмъ людямъ, которые, способствуя возведенію этого зданія, имѣли въ виду удовле-
твореніе своего эгоизма и упроченіе того нравственнаго вліянія, которое онп надѣя-
лись пріобрѣсти этимъ путемъ.
Трудно въ самомъ дѣлѣ представить себѣ, какой сильный толчокъ сообщило
англійской цивилизаціи изгнаніе дома Стюартовъ. Къ самымъ непосредственнымъ
послѣдствіямъ этого событія можно отнести: ограниченія, сдѣланныя въ королевской
прерогативѣ, значительное развитіе вѣротерпимости і) * 3), важныя и прочныя улучшенія
въ отправленіи правосудія, окончательное уничтоженіе цензуры надъ печатью (это
было сдѣлано до конца XVII столѣтія), и, наконецъ—на что не довольно было обра-
щено вниманія -быстрое усиленіе тѣхъ важныхъ денежныхъ интересовъ, которые,
какъ мы потомъ увидимъ, не въ малой мѣрѣ пересиливали предразсудки суевѣрныхъ
классовъ 3). Вотъ главныя отличительныя черты царствованія Вильгельма III,—цар-
і) Нѣкоторые писатели пытались защищать ду-
ховенство, опираясь на то, будто бы оно считало не-
законнымъ дѣломъ оглашать декларацію такого рода. ,
Но такое оправданіе несовмѣстимо съ ученіемъ того
же духовенства о слѣпомъ повиновеній и кромѣ того і
противно прежнимъ дѣйствіямъ и рѣшеніямъ его.
Іеремія Тэйлоръ въ своемъ сочиненіи «Внсіог ВиЬі-
іапііипг, которое духовенство считаетъ большимъ ,
авторитетомъ,—утверждаетъ, что «незаконныя про- ।
іыачаціи и эдикты правдиваго государя могутъ быть
оглашаемы духовенствомъ разныхъ званій». Геберь
прибавляетъ: «я лучше хотѣлъ бы не паіітіі этого у
Тэйлора и благодарю Небо, что духовенство но слѣ-
ѵ-вало этому правилу въ 1087 году». По почему
•но ему не слѣдовало вь 1687 году? —Просто потому,
чго въ 1687 году король посягалъ па монополію, I
гюторою пользовалось духовенство,—п это послѣднее
забыло о своихъ правилахъ, чтобы имѣть возмож- і
н ість поражать своихъ враговъ. Причины этой пере-
мѣны становятся еще нагляднѣе въ виду того факта, ।
что не далѣе какъ въ 1681 году архіепископъ ксн- '
тербёррійсшй заставилъ духовенство читать деклара- ।
цію, изданную Карломъ II. и что въ пересмотрѣн- |
номъ изданіи литургіи онъ прибавилъ рубрику въ
томъ же смыслѣ.
2) Законъ о вѣротерпимости прошелъ въ 1689 г.;
содержаніе этого акта встрѣчается у историковъ дис-
сентеровъ, которые называютъ его своею Великою Хар-
тіею. Историкъ католиковъ тоже соглашается, что цар-
ствованіе Вильгельма Ш есть «эра, съ которой онп мо-
гутъ считать время своего пидьзовапія религіозной тер-
пимостью». Это сказано Бёглеромъ не о протестантскихъ
диссентерахъ, а о католикахъ, такъ что мы имѣемъ
свидѣтельство обѣихъ партій о важности этой эпохи.
3) Кукъ упоминаетъ объ этомъ вамѣча гель-
комъ возвышеніи класса денежныхъ людей въ началѣ
ХѴ’Ш столѣтія; но онъ только замѣчаетъ, что оно
имѣло послѣдствіемъ усиленіе партіи виговъ. Это ко-
нечно не подлежитъ никакому сомнѣнію, но оконча-
тельные результаты, какъ я послѣ докажу, были
важнѣе всякпхь политическихъ или даже экономиче-
скихъ послѣдствій. Англійскій банкъ былъ основанъ
только вь 1694 году, и это великое учрежденіе сперва
было встрѣчено самой жаркой оппозиціей со стороны
поклонниковъ старины, которые считали его безполез-
нымъ, потому что ихъ предки обходились и безъ банка.
166
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ствованія, часто порицаемаго, но мало понятаго, о которомъ однако можно по спра-
ведливости сказать, что если принять въ соображеніе всю трудность представляв-
шихся ему задачъ, то оно оказывается самымъ счастливымъ, блестящимъ цар-
ствованіемъ во всей исторіи нашего отечества. Но это относится гораздо болѣе къ
слѣдующимъ томамъ нашего сочиненія, теперь же мы должны только показать по-
слѣдствія революціи для самой той духовной власти, которою революція эта была
непосредственно произведена.
Едва лишь успѣло духовенство изгнать Іакова, какъ большая часть этого со-
словія стала раскаиваться въ своемъ собственномъ дѣлѣ. Дѣйствительно, еще прежде
чѣмъ онъ былъ изгнанъ изъ государства, было нѣсколько случаевъ, которые могли
заставить духовныхъ усомниться въ выгодности того пути, которому они послѣдо-
вали. Въ послѣднія нѣсколько недѣль своего царствованія онъ оказалъ нѣкоторые
признаки возрастающаго уваженія въ англиканской іерархіи. Архіепископство іоркское
такъ долго было вакантнымъ, что это заставляло думать,—не намѣрено ли прави-
тельство назначить на него католика, или захватить его доходы. Но Іаковъ, къ
величайшему удовольствію духовенства, теперь замѣстилъ эту важную должность,
назначивъ на нее Лампдо (ЬатрІндЬ), который былъ всѣмъ извѣстенъ, какъ надеж-
ный приверженецъ церкви и усердный защитникъ епископскихъ привилегій. Не
задолго передъ этимъ король также отмѣнилъ повелѣніе, которымъ епископъ лондон-
скій былъ на время удаленъ отъ исполненія своей должности. Всѣмъ епископамъ
вообще онъ обѣщалъ въ будущемъ много милостей х); нѣкоторые изъ нихъ, какъ
было сказано, должны были вступить въ его тайный совѣтъ; въ то же самое время
опъ уничтожилъ духовную Хцоммиссію, которая, ограничивая ихъ власть, возбуждала
въ нихъ неудовольствіе. Свёрхъ того явилось нѣсколько другихъ обстоятельствъ, о
которыхъ духовенству теперь\ предстояло подумать. Носился слухъ—и вообще всѣ
вѣрили ему—что Вильгельмъ—не большой приверженецъ церковныхъ установленій,
и что при расположеніи его къ вѣротерпимости отъ него скорѣе можно ожидать
уменьшенія, чѣмъ увеличенія привилегій англиканской іерархіи. Было также извѣстно,
что онъ благосклонно смотритъ на пресвитеріанъ, которыхъ церковь не безъ осно-
ванія считала злѣйшими врагами своими. Когда же, въ довершеніе всего этого,
Вильгельмъ по чисто практическимъ соображеніямъ уничтожилъ епископство въ Шот-
ландіи, то стало очевиднымъ, что, отвергнувъ ученіе о божественномъ правѣ, онъ
нанесъ сильный ударъ тѣмъ убѣжденіямъ, на которыхъ былъ основанъ въ Англіи
авторитетъ духовенства.
Среди волненія умовъ, произведеннаго всѣми этими обстоятельствами, взоры
націи естественно обращались къ епископамъ, которые хотя и потеряли значитель-
ную долю прежняго своего могущества, но пользовались еще уваженіемъ огромнаго
большинства народа, какъ хранители національной религіи. Но въ эту критическую
минуту они были такъ ослѣплены или честолюбіемъ, или предразсудками, что при-
няли такой образъ дѣйствія, который былъ вреднѣе другихъ для значенія ихъ въ
общественномъ мнѣніи. Они сдѣлали внезапную попытку обратить вспять то поли-
тическое движеніе, котораго они же сами были главными зачинщиками. Дѣйствія
ихъ въ этомъ случаѣ вполнѣ подтверждаютъ высказанный мною взглядъ на руко-
водившія ими побужденія. Еслибы, содѣйствуя тѣмъ первоначальнымъ мѣрамъ, по-
средствомъ которыхъ| была подготовлена революція, они руководствовались жела-
ніемъ освободить націю .'отъ деспотизма, то они должны были бы съ восторгомъ
привѣтствовать того великаго человѣка, который однимъ приближеніемъ своимъ
обратилъ деспота въ бѣгство. Такъ поступили бы духовные, еслибы они любили
свое отечество болѣе, чѣмъ свое сословіе; но они поступили совершенно противо-
*) Это расположеніе короля опять покровитель- ! окружавшія Іакова, были теперь такъ ввлвкй, что
ствовать епископамъ п церкви было всѣми замѣчено ему едва-лп предстоялъ свободный выборъ.
въ сентябрѣ 1688 г. Дѣйствительно, затрудненія, [
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО ХѴШ СТ. 167
положнымъ образомъ, потому что они предпочитали мелкіе интересы своего класса
благосостоянію всей массы народа, и потому что они скорѣе хотѣли видѣть всю
страну угнетенной, чѣмъ церковь униженной. Почти всѣ епископы и все духовен-
ство за нѣсколько недѣль передъ тѣмъ смѣло рѣшились подвергнуться гнѣву своего
государя, чтобы только не прочесть въ своихъ церквахъ эдикта о вѣротерпимости;
семеро же самыхъ вліятельныхъ людей между епископами даже добровольно шли на
опасность подвергнуться публичному суду передъ общими судилищами страны. Этотъ
смѣлый образъ дѣйствія они избрали, какъ сами сознавались, не потому, чтобы они
не желали вѣротерпимости, а потому, что ненавидѣли деспотизмъ. Между тѣмъ когда
Вильгельмъ прибылъ въ Англію, а Іаковъ бѣжалъ изъ королевства среди ночи—
это же духовное сословіе выступило впередъ, чтобы оттолкнуть того великаго чело-
вѣка, который, не нанеся ни одного удара, однимъ своимъ присутствіемъ спасъ страну
отъ угрожавшаго ей рабства. По легко найти въ исторіи новѣйшихъ временъ дру-
гой примѣръ такой грубой непослѣдовательности или, лучше сказать, такого эгои-
стическаго и безсовѣстнаго честолюбія. Эта перемѣна направленія не только не была
скрываема, но даже такъ открыто высказалась, и причины ея были такъ очевидны,
что этимъ явно оскорблено было нравственное чувство цѣлой націи. Въ теченіе нѣ-
сколькихъ недѣль отступничество проявилось вполнѣ. Первый началъ архіепископъ
кентерберрійскій, который, заботясь о сохраненіи своего мѣста, обѣщалъ явиться
для привѣтствованія Вильгельма, Но когда онъ увидѣлъ, какое направленіе должны
были принять дѣла, онъ взялъ назадъ свое обѣщаніе и пе хотѣлъ признать госу-
даря, показывавшаго такое равнодушіе къ священному сану. Дѣйствительно, такъ
силенъ былъ его гнѣвъ, что онъ сдѣлалъ рѣзкій выговоръ своему капеллану, осмѣ-
лившемуся молиться за Вильгельма и Марію, тогда какъ они были провозглашены
съ полнаго согласія націи и корона была вручена имъ торжественнымъ и положи-
тельнымъ рѣшеніемъ общаго собранія всѣхъ сословій королевства х). Такимъ обра-
зомъ дѣйствовалъ самъ примасъ Англіи, а его собратія въ эту критическую для ихъ
общей судьбы минуту не отставали отъ него. Отъ клятвы на подданство отказались,
вслѣдъ за архіепископомъ кентерберрійскимъ, ‘епископы батскій и уэльскій, честер-
скій, чичестерскій, элійскій, глостерскій, норуичгкій, нитерборосскій и уорстерскій.
Что же касается до низшаго духовенства, то наши свѣдѣнія о немъ менѣе точны;
утверждаютъ однако, что около шести сотъ человѣкъ изъ членовъ его послѣдовали
примѣру своихъ властей, отказавшись признать своимъ королемъ того, котораго из-
брало все государство. Прочіе члены этой безпокойной партіи были перасположены
навлечь на себя такимъ смѣлымъ поступкомъ лишеніе мѣстъ и доходовъ, которому
по всей вѣроятности подвергнулъ бы ихъ Вильгельмъ. Поэтому они предпочли болѣе
безопасную и менѣе славную оппозицію, посредствомъ которой они могли тревожить
правительство, не вредя самимъ себѣ, и пріобрѣсти славу ревнителей православія,
не подвергаясь бѣдствіямъ мученичества.
Легко себѣ представить дѣйствіе, произведенное всѣми этими событіями на
образъ мыслей націи. Вопросъ теперь до такой степени упростился, что всякій могъ
сразу разрѣшить его. На одной сторонѣ было значительное большинство духовен-
ства 1 2), на другой сторонѣ были всѣ умственныя силы Англіи и всѣ самые дорогіе
интересы ея. Самый тотъ фактъ, что подобная оппозиція могла существовать, не
возбуждая междоусобной войны, доказываетъ, до какой степени усилившееся умствен-
ное развитіе народа ослабило авторитетъ духовнаго сословія. Кромѣ того оппозиція
была не только безполезна, но и вредна для проявлявшаго ее класса 3). Теперь
1) Тотъ же духъ былъ вообще распространенъ
во всемъ духовенствѣ англиканской церкви, п когда
публичныя молитвы была приносимы за короля и ко-
ролеву, то не присягнувшіе называли ихъ «безлрав-
етвышыма молитвами»—что сдѣлалось техническимъ
н общепринятымъ выраженіемъ.
2) Друзья, которыхъ Вильгельмъ имѣлъ въ ду-
ховенствѣ, составляли едва десятую долю всего со-
словія: «опредѣливъ численность ихъ въ десятую
часть всего духовнаго сословія, говоритъ Маколей,—
мы вѣроятно преувеличили бы ее>.
3) Въ февралѣ Мейнаръ, одинъ изъ самыхъ вдая-
168 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
стало ясно, что духовенство думало о народѣ только до тѣхъ поръ, пока народъ ду-
малъ о немъ. Ярость, съ какой эти раздраженные люди пошли противъ интересовъ
націи, очевидно доказала эгоистичность того противодѣйствія Іакову, которымъ они
прежде такъ сильно хвалились. Они продолжали надѣяться на возвращеніе его, интри-
говать въ его пользу, а иные даже и переписываться съ нимъ, хотя хорошо знали,
что его появленіе произведетъ междоусобную войну и что ненависть къ нему была
такъ распространена, что онъ не посмѣлъ бы показаться въ Англіи иначе, какъ подъ
покровительствомъ войскъ иностранной и враждебной ей державы х).
Но этимъ еще не исчерпывается все зло, сдѣланное духовенствомъ самому
себѣ въ эти трудныя времена. Когда епископы отказались присягнуть новому пра-
вительству, то были приняты мѣры къ удаленію ихъ изъ епархій. Вильгельмъ не
затруднился смѣнить законнымъ путемъ архіепископа кентерберрійскаго и пятерыхъ
изъ его собратій, Прелаты, глубоко чувствуя это оскорбленіе, въ ярости своей при-
бѣгли къ необычайно дѣятельнымъ мѣрамъ. Они гласно объявили, что силы церкви,
уже давно ослабѣвавшія, теперь совершенно упали 2). Они отрицали право законо-
дательной власти постановить противъ нихъ законъ и равнымъ образомъ право
государя привести такой законъ въ дѣйствіе. Они не только продолжали титуло-
ваться епископами, по даже приняли мѣры къ тому, чтобы продлить существованіе
раскола, вызваннаго ихъ собственной дерзостью. Архіепископъ кентсрберрійскій —
какъ онъ требовалъ, чтобы его называли,—формально передалъ свои воображаемыя
права въ руки Ллойда, который все-таки считалъ себя епископомъ норуичскимъ, не-
смотря на то, что Вильгельмъ недавно изгналъ его изъ этой епархіи. Планъ этихъ
безпокойныхъ прелатовъ былъ сообщенъ Іакову, которцій охотно согласился оказать
имъ помощь въ ихъ намѣреніи водворить постоянную распрю въ англійской церкви.
Результатомъ этого договорѣ крамольныхъ прелатойъ съ королемъ-претендентомъ
было назначеніе цѣлаго ряда людей, которые выдавали себя за истинныхъ еписко-
повъ и пользовались уваженіемъ всѣхъ лицъ, ставившихъ притязаніе церкви выше
власти государственной 3). Это смѣшное преемство мнимыхъ епископовъ продолжа-
лось болѣе ста лѣтъ и, заставляя приверженцевъ церкви признавать главами ея раз-
ныхъ лицъ, ослабило самое значеніе ея. Въ нѣсколькихъ случаяхъ представлялось
неприличное зрѣлище—два епископа на одной и той же епархіи: одинъ бывалъ на-
значенъ духовной властью, а другой—свѣтской. Тѣ, которые ставили церковь выше
государства, конечно группировались около мнимыхъ епископовъ, между тѣмъ какъ
Вильгельмовы назначенія признаваемы были той быстро возраставшей партіей, ко-
торая предпочитала мірскія выгоды духовнымъ теоріямъ.
Таковы были нѣкоторыя изъ явленій, увеличившихъ въ концѣ семнадцатаго
2) Епископъ Санкрофтъ на смертномъ одрѣ мо
лился «за несчастную страдалицу церковь, которая
революціей почти совсѣмъ уничтожена».
3) Борьба между Іаковомъ и Вильгельмомъ была
въ самомь существѣ своемъ борьбою между интере-
сами духовенства и свѣтскими интересами. Это стало
замѣтно уже въ 1689 году, когда, по словамъ Бер-
нета, «церковь стала для партіи Іакобитовъ мни-
мымъ лозунгомъ, который они приняли, чтобы удоб-
нѣе скрываться за нимъ». Додвелль весьма справед-
ливо замѣчаетъ, «что преемники удаленныхъ еписко-
повъ, съ духовной точки зрѣнія, были схизматиками
п что, стараясь представить, что свѣтской власти
(ихъ поставившей) было достаточно, они тѣмъ совер-
шенно ниспровергли существованіе церкви, какъ
общества». Епископы, назначенные Вильгельмомъ,
были очевидно незаконны, по правиламъ церкви, и
такъ какъ незаконный захватъ ими епархіи могъ быть
। оправдапъ только по свѣтскимъ закопамъ, то поэтому
I успѣшность захвата была торжествомъ свѣтскихъ на-
I чалъ надъ духовными. Итакъ, основной идеей ре-
тельныхъ членовъ, съ негодованіемъ сказалъ: «мнѣ
кажется, что наши духовные сошли съ ума; п я ду- ।
маю, что еслибы дать имъ волю, то немногіе изъ |
насъ снова оказались бы здѣсь, а можетъ быть п |
никого не оказалось бы». Само духовенство съ го- |
речыо сознавало всеобщее нерасположеніе, и одинъ і
изъ членовъ его въ 1694 году писалъ: «англійскій 1
народъ, который во время заключенія епископовъ въ
Тоуэрѣ такъ чрезмѣрно любилъ насъ, что едва удер-
жпвался отъ боготворенія, теперь, напротивъ, сталъ і
таковъ, что я желалъ бы имѣть право назвать его
только весьма холоднымъ и равнодушнымъ къ намъ».
Возраставшее негодованіе противъ духовонсгва, вслѣд-
ствіе очевиднаго желанія его пожертвовать благомъ
государства для интересовъ церкви, поразительно
изображаетъ Роландъ Гвайнъ въ одномъ письмѣ, пи-
санномъ въ 1710 году.
х) Дѣйствительно, высше-апглпканская піртія въ
войхъ изданіяхъ ясно высказала, чго есіп Іаковъ
е будетъ призванъ назадъ, то о;іъ будетъ вэзеганов-
енъ на престолѣ иностранной арміей.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
169
вѣка разрывъ, давно уже существовавшій между интересами націи и интересами
духовенства. Было еще одно обстоятельство, которое значительно усилило это отчуж*
деніе- Многіе изъ англійскаго духовенства хотя и сохраняли свое расположеніе къ
Іакову, но не желали навлечь на себя гнѣвъ правительства или рисковать своими
доходами. Чтобы избѣжать этого и примирить свою совѣсть съ своими интересами,
они придумали различіе короля по праву отъ короля по дѣйствительному владѣнію *).
Вслѣдствіе того, произнося устами присягу на подданство Вильгельму, въ душѣ своей
они признавали себя подданными Іакова и, молясь въ своихъ церквяхъ за одного
короля, считали себя обязанными на-едпнѣ молиться за другого *). Посредствомъ
этого жалкаго ухищренія значительная часть англійскихъ духовныхъ сразу обрати-
лась въ тайныхъ крамольниковъ, и мы знаемъ, по свидѣтельству одного современ-
наго епископа, что явная недобросовѣстность этихъ людей еще болѣе содѣйствовала
развитію того скептицизма, на успѣхи котораго онъ съ горечью жалуется 3). По мѣрѣ
того какъ подвигался впередъ восемнадцатый вѣкъ, быстро совершалось великое
дѣло освобожденія. Въ прежнее время однимъ изъ самыхъ важныхъ средствъ въ
рукахъ духовенства была Конвокація: духовенство, собираясь цѣлой корпораціей,
имѣло возможность грознымъ видомъ могущества своего обезоружить всякаго, кто
могъ быть враждебенъ церкви, и сверхъ того имѣло случай, которымъ оно тщательно
пользовалось, составлять выгодные для своихъ интересовъ планы 4). Но съ теченіемъ
времени оно лишилось и этого оружія. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ послѣ револю-
ціи Конвокація стала предметомъ всеобщаго презрѣнія, а въ 1717 г. это знамени-
тое собраніе было окончательно распущено актомъ королевской власти, такъ какъ
весьма справедливо было найдено, что Англія но имѣетъ/въ немъ болѣе никакой
нужды. Съ этого времени великому собору англиканской Церкви никогда больше пе
позволяли собираться для совѣщанія о собственныхъ дѣлахъ духовенства до самыхъ
послѣднихъ годовъ, когда при потворствѣ ^слабаго правительства собраніе духовныхъ
снова было допущено. Впрочемъ /въ духѣ*націй произошла такая рѣшительная пе-
ремѣна. что эта, нѣкогда грозная, корпорація не сохранила даже и призрака своего
стариннаго вліянія; рѣшеній ея уже но боятся и за преніями ея не слѣдятъ, а дѣла
страны ведутся совершенно независимо отъ тѣхъ интересовъ, которые еще за нѣ-
сколько поколѣній каждый государственный человѣкъ признавалъ предметомъ перво-
степенной важности.
Дѣйствительно, тотчасъ послѣ революціи направленіе дѣлъ стало слишкомъ
очевидно, чтобы можно было въ немъ ошибиться даже самому поверхностному на-
блюдателю. Самые даровитые люди страны уже не стекались болѣе въ духовное
сословіе, а предпочитали тѣ свѣтскія профессіи, въ которыхъ имъ представлялось
болѣе случаевъ найти вознагражденіе своимъ способностямъ 5). Въ то же время—и
воліоцін 1688 года мы должны считать возвышеніе
государства надъ церковью, точно такъ же, какъ
основной идеей революціи 1042 г. выло возвышеніе ,
палаты общинъ надъ короной,
*) Старая нелѣпость различія между понятіями >
бе Гасіо и <1е ]ііге—какъ будто бы человѣкъ могъ
сохранить право на престолъ, который воля парода
не позволяетъ ему занять.
-) Вь 1705 году Лесли, способнѣйшій между
ппми, такамъ образомъ опредѣляетъ ихъ положеніе:
«Мы теперь поставлены въ такую дилемму—присяг-
нуть пли пе присягнуть: если присягнешь, умертвишь
душу, а не присягнешь, умертвишь тѣло, лишившись
насущнаго хлѣба». Результатомъ этой дилеммы было
го, чего и слѣдовало ожидать; писатель, прпнадле- ,
жащій къ высшей церкви вь царствованіе Виль- і
гельма III, хвалится тѣмъ, что присяги, данныя ду- ।
ховныіш, нисколько не ограждали правительства: 1
«правительство этими присягами нисколько но обез-
опашвпо». Въ 1701 году мы находимъ такое сви- ;
дѣтельство; «есть теперь нѣкоторыя обстояіельства,
по которымъ мы можемъ заключить, что іакобитскоѳ
духовенство имѣетъ инструкцію принимать какія
угодно присяги съ тѣмъ, чтобы получить каѳедру
для служенія своему дѣлу, а котомъ кричать о на-
слѣдственномъ правѣ п мнимомъ правѣ претендента».
«Слишкомъ частыя проявленія недобросовѣст-
ности въ такомъ святомъ дѣлѣ не мало содѣйство-
вали къ усиленію возрастающаго атеизма настоящаго
времени» (Бёрпетъ). Едва-ли нужно мнѣ прибавлять, что
тогда было весьма обыкновеннымъ дѣломъ смѣшивать
скептицизмъ сь атеизмомъ, хотя эти два понятія не
только различны, но и несовмѣстимы.
4) Въ числѣ этііхь средствъ особенно замѣча-
тельно обыкновеніе преслѣдовать книги, возбуждаю-
щія къ свободному изслѣдованію. Въ этомъ отноше-
ніи духовенство сдѣлало много вреда.
5) Относительно упадка дарованій въ духовной
литературѣ см. пріім. 2, стр. 148. Вь 1685 году
уже жаловались, что свѣтскія профессіи начинаютъ
170
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
это было естественной принадлежностью великаго движенія—духовенство увидѣло,
что всѣ мѣста, которыя давали вліяніе и большія выгоды и которыя оно привыкло
занимать своими людьми, постепенно ускользаютъ изъ его рукъ. Не только въ темные
вѣка, но даже до пятнадцатаго столѣтія оно было еще довольно сильно, чтобы моно-
полизировать самыя почетныя и прибыльныя должности въ государствѣ *). Въ шестнад-
цатомъ вѣкѣ дѣла стали принимать направленіе, неблагопріятное для духовныхъ,
и это продолжалось такъ неуклонно, что съ семнадцатаго вѣка не было ни одного
примѣра, чтобы духовное лицо было назначено на должность лорда-канцлера, а на-
чиная съ восемнадцатаго столѣтія, никто изъ духовныхъ не получалъ дипломати-
ческаго назначенія и не занималъ никакой важной должности въ государствѣ. И это
возрастающее преобладаніе мірянъ не ограничилось мѣстами, зависящими отъ испол-
нительной власти. Напротивъ, мы видимъ дѣйствіе того же начала и въ обѣихъ па-
латахъ парламента. Въ самыхъ раннихъ и варварскихъ періодахъ нашей исторіи
половина палаты лордовъ состояла изъ свѣтскихъ пэровъ, а другая половина—изъ
духовныхъ. Къ началу восемнадцатаго вѣка духовные пэры, вмѣсто половины верх-
ней палаты, составляли уже только одну осьмую часть ея, а въ половинѣ девятнад-
цатаго вѣка число ихъ еще болѣе уменьшилось—до одной четырнадцатой,—пред-
ставляя такимъ образомъ разительное численное доказательство того ослабленія духов-
ной власти, которое составляетъ существенную принадлежность новѣйшей цивили-
заціи. Точно также уже болѣе пятидесяти лѣтъ какъ никто изъ духовенства не мо-
жетъ занять мѣста въ парламентѣ въ качествѣ представителя народа, такъ какъ па-
лата общинъ въ 1801 г. формально закрыла входъ свой для этой профессіи, члены
которой въ старые годы съ радостью были бы приняты даже самымъ гордымъ и
исключительнымъ собраніемъ. Въ палатѣ лордовъ сііископы еще сохраняютъ свои
мѣста; но сомнительность положенія ихъ замѣтна во всемъ, и направленіе обществен-
наго мнѣнія постоянно указываетъ намъ на близость того времени, когда пэры по-
слѣдуютъ примѣру общинъ и законодательнымъ порядкомъ достигнутъ освобожденія
верхней палаты отъ духовныхъ членовъ ея, такъ какъ эти члены, по своимъ при-
вычкамъ, склонностямъ и преданіямъ, очевидно не удовлетворяютъ мірскимъ требо-
ваніямъ политической дѣятельности.
Между тѣмъ какъ все зданіе, воздвигнутое суевѣріемъ, колебалось такимъ обра-
зомъ отъ внутренней гнилости подпоръ своихъ, и какъ духовная власть, игравшая
прежде такую важную роль, постепенно ослабѣвала, по мѣрѣ успѣховъ знанія—вне-
запно совершилось событіе, которое хотя и могло естественнымъ образомъ быть
ожпдаемо, однако же явно захватило врасплохъ даже тѣхъ, до кого оно наиболѣе
касалось. Я говорю конечно о той великой религіозной революціи, которая была
разумнымъ дополненіемъ къ предшествовавшей политической революціи. Диссентеры,
усиленные изгнаніемъ Іакова, не забыли тѣхъ жестокихъ наказаній, которыми пре-
слѣдовала ихъ англиканская церковь въ дни своего могущества, и они чувствовали,
что пришла минута, когда опп могутъ принять противъ нея болѣе смѣлый образъ
дѣйствія 2). Сверхъ того въ это время были поданы имъ новые поводы къ враждѣ.
болѣе привлекать людей, чѣмъ духовныя: «Медицина
и законовѣдѣніе,—профессіи, во всѣхъ націяхъ счи-
тавшіяся ниже духовной, преимущественно избираются
людьми изъ образованнаго класса, иногда даже ари-
стократическаго происхожденія, и значительно пред-
почитаются духовной профессіи». Это предпочтеніе
конечно наиболѣе замѣчалось въ молодыхъ людяхъ
съ дарованіями, и то значительное количество умствен-
ныхъ силъ, которое такимъ образомъ отвлекалось отъ
духовнаго класса, было причиной уже замѣченнаго
нами въ немъ упадка духа и энергіи во всѣхъ отно-
шеніяхъ.
*) Тернеръ, описывая порядокъ вещей, суще-
ствовавшій въ Англіи въ пятнадцатомъ вѣкѣ, гово-
ритъ: «духовные были статей-секретарями прави-
тельства, хранителями печати, ближайшими совѣтни-
ками и казначеями короля, посланниками, коммпс-
сарами для открытія парламента и для управленія
Шотландіей, предсѣдателями королевскаго совѣта,
наблюдателями за казенными работами, канцлерами,
| архиваріусами и даже врачами, какъ при королѣ,
такъ при герцогѣ Глостерскомъ — и въ продолженіе
царствованія Генриха VI, и послѣ чего».
2) Въ настоящее время невозможно вполнѣ
привести въ извѣстность, до какой степени въ сем-
надцатомъ вѣкѣ англиканская церковь преслѣдовала
диссентеровъ, но утверждаютъ, будто бы Іеремія Уайтъ
имѣлъ списокъ шестидесяти тысячъ человѣкъ, по-
страдавшихъ отъ 1660 до 1688 года, изъ которыхъ
। не менѣе пяти тысячъ умерли въ тюрьмахъ.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
171
Послѣ смерти великаго короля нашего Вильгельма III престолъ былъ занять глупой
и невѣжественной женщиной, любовь которой къ духовенству въ болѣе суевѣрномъ
вѣкѣ привела бы къ опаснымъ послѣдствіямъ Впрочемъ и при тогдашнихъ обстоя-
тельствахъ произошла временная реакція, и въ теченіе этого царствованія духо-
венство пользовалось такимъ уваженіемъ, какого не удостоивалъ его Вильгельмъ.
Естественныя послѣдствія этого немедленно оказались. Выли придуманы новыя сред-
ства преслѣдованія за религію и постановлены новые законы противъ тѣхъ проте-
стантовъ, которые не подчинялись ученію и властямъ англиканской церкви. Но послѣ
смерти Анны диссентеры скоро ободрились; надежды ихъ воскресли, число ихъ про-
должало увеличиваться и, несмотря на оппозицію духовенства, законы, постановлен-
ные противъ нихъ, были отмѣнены. Такъ какъ положеніе диссентеровъ чрезъ это бо-
лѣе прежняго сравнялось съ положеніемъ ихъ противниковъ, и такъ какъ недавно пере-
несенныя обиды настроили пхъ ко враждѣ, то было ясно, что между обѣими пар-
тіями неизбѣжно предстоитъ великая борьба. Къ тому же времени столь долго дер-
жавшаяся тираинія англиканскаго духовенства совершенно уничтожила то чувство
уваженія, которое и посреди враждебныхъ дѣйствій нерѣдко сохраняется въ душахъ
противниковъ и которое, еслибы оно еще существовало, могло бы можетъ быть
своимъ вліяніемъ отвратить столкновеніе. Но теперь всѣ подобныя причины къ воз-
держанію отъ борьбы были отвергнуты, и диссентеры, раздраженные постоянными
преслѣдованіями, рѣшились воспользоваться ослабленіемъ могущества церкви. Они
боролись съ нею, когда она была сильна, и потому можно ли было ожидать, что они
пощадятъ ее ослабѣвшую? Подъ руководствомъ двухъ изъ самыхъ замѣчательныхъ
людей восемнадцатаго вѣка—Вайтфильда, перваго изъ богослововъ-ораторовъ 2), и
Веслея, перваго изъ богослововъчіолитиковъ 3), была организована великая религіоз-
ная система, которая стала въ такія же отношенія къ ^англиканской церкви, въ ка-
кихъ послѣдняя находилась къ римско-католической. Такъ, послѣ промежутка въ
двѣсти лѣтъ, совершилась въ нашей странѣ вторая Реформація. Въ ХѴ’Ш столѣтіи
веслсянцы были были тѣмъ же для епископовъ, чѣмъ были въ XVI столѣтіи рефор-
маторы для папъ 4). Правда, что диссентеры англійской церкви не были похожи на
диссентеровъ римской въ томъ отношеніи, что они вскорѣ утратили ту умственную
силу, которою отличались первое время. Со смерти пхъ великихъ вождей между
ними не появлялось ни одного человѣка съ самобытнымъ геніемъ; а со смерти Адама
Клерка у нихъ не было даже ни одного ученаго, который пользовался бы европей-
ской извѣстностью. Эта умственная бѣдность происходила можетъ быть не отъ ка-
кой-нибудь особенности, свойственной ихъ только сектѣ, а просто отъ того всеобщаго
упадка теологическаго духа, который одинаково ослаблялъ какъ ихъ самихъ, такъ
и ихъ противниковъ. Какъ бы то ни было, но во всякомъ случаѣ достовѣрно, что
вредъ, принесенный англійской церкви диссентерами, былъ гораздо значительнѣе,
чѣмъ обыкновенно полагаютъ, и я, съ своей стороны, склоненъ думать, что вредъ
г) Мы находимъ нѣкоторые матеріалы для оцѣнки
способностей Анны въ письмахъ, помѣщенныхъ въ
«І)а1гутр1е 8 Метоігз». Въ одномъ изъ нихъ Анна
пишетъ вскорѣ послѣ обнародованія деклараціи о
свободѣ совѣсти: «Печальная будущность открывасіся
всѣмъ намъ, принадлежащемъ къ англиканской церкви.
Всѣ сектаторы могутъ теперь дѣлать все, что хотятъ;
каждый пмѣогъ право на свободное отправленіе своей ,
религіи, безъ сомнѣнія, именно для нашей погибели—
чтб, я думаю, весьма ясно для всѣхъ безпристраст-
ныхъ судей. I
2) Если способность дѣйствовать на страсги
людей составляетъ истинный пробный камень для
сужденія объ ораторѣ, то мы конечно должны при- і
знать Вайтфильда самымъ великимъ пзъ всѣхъ ора-
торовъ, жившихъ со времени апостоловъ. Первая
проповѣдь его была произнесена въ 1736 году, а
проповѣдываніе на поляхъ началось въ 1739 году, п
всѣ восемнадцать тысячъ проповѣдей, которыя онъ,
какъ утверждаютъ, произнесъ въ продолженіе своего
тридцатпчетырехлѣтняго поприща, дѣйствовали изу-
мительнымъ образомъ на всѣ классы людей—на обра-
зованныхъ и па необразованныхъ.
3) О немъ Маколей сказалъ, что его «прави-
тельственныя способности были не ниже способно-
стей Ришелье», и какъ бы сильно ни было это вы-
раженіе, оно едва-.ін покажется преувеличеннымъ тому,
кто только сравнивалъ успѣхи Веслея съ представ-
лявшимися ему трудностями.
4) Въ 1739 году Веслей впервые открыто воз-
сталъ противъ госноісівующей церкви и отказался
повиноваться епископу бристольскому, который при-
казалъ ему выѣхать изъ его епархіи. Въ тогъ же годъ
онъ началъ проног.ѣдыпать подъ открытымъ небомъ.
172
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
этотъ едва-ли уступалъ тому, который причиненъ былъ въ XVI столѣтіи протестан-
тизмомъ папству. Оставляя въ сторонѣ убыль въ числѣ членовъ англійской церкви 1),
происшедшую вслѣдствіе этой диссенціи, несомнѣнно еще и то, что самое образова-
ніе протестантской секты безъ противодѣйствія со стороны правительства было уже
опаснымъ примѣромъ на будущее время; и мы знаемъ изъ современной исторіи, что
такъ именно смотрѣли на это дѣло люди, наиболѣе заинтересованные его исходомъ * 2).
Кромѣ того веслеянцы обнаруживали въ своей организаціи такое превосходство пе-
редъ своими предшественниками, пуританами, что вскорѣ сдѣлались центромъ, вокругъ
котораго удобно могли собираться враги господствующей церкви. А что можетъ быть
еще важнѣе—порядокъ, правильность и гласность, составлявшіе обыкновенную ха-
рактеристику ихъ дѣйствій, отличали ихъ секту отъ другихъ сектъ и, возвышая ее
до значенія какъ бы соперницы господствующей церкви, способствовали къ ослаб-
ленію того исключительнаго, суевѣрнаго уваженія, которымъ пользовалась нѣкогда
англиканская іерархія 3).
Но какъ бы ни были интересны всѣ эти обстоятельства, они составляли только
одну изъ частей того обширнаго процесса, посредствомъ котораго была ослаблена
власть церкви и соотечественники наши получили возможность достигнуть религіоз-
ной свободы, конечно не полной, но во всякомъ случаѣ гораздо большей, чѣмъ та,
которой наслаждаются другіе народы. Между безчисленными признаками этого вели-
каго движенія было два' особенно важныхъ, а именно: отдѣленіе теологіи сперва
отъ нравственности, а потомъ и отъ политики. Отдѣленіе ея отъ нравственности
совершилось въ самомъ корцѣ XVII столѣтія, отдѣленіе же отъ политики—прежде
половины ХѴШ столѣтія, разительный примѣръ ослабленія прежняго духа церкви
представляется въ томъ фактѣ, что обѣ эти перемѣпы/были начаты самимъ же духо-
венствомъ. Кумберландъ, епископъ Питерборо, первый попытался построить систему
нравственности, безъ помощи теологіи 4). Варбёртонъ, епископъ глостерскій, первый
сталъ утверждать, что государство должно смотрѣть на религію не со стороны откро-
венія, а со стороны цѣлесообразности, и что оно должно покровительствовать тому
г) Вальполь говорить свопмъ насмѣшливымъ то-
номь о распространеніи методизма къ нодовнпѣ
ХУШ столѣтія; а лордъ Карлейль вь 1775 году ска-
залъ въ верхней палатѣ, что «методизмъ съ каждымъ
днемъ все болѣе и болѣе упрочивается, особенно въ
мануфактурныхъ городахъ».
По словамъ документа, найденнаго въ одной изъ
шкатулокь Вильгельма Ш, откошеніе конформистовъ
къ нонконформистамъ въ Англія было 22% къ 1. Че-
резъ 24 года послѣ смерти Вильгельма диссентеры
составили, вмѣсто одной двадцать-третьей, «одну
четвертую часть всей общины». Съ тѣхъ норь дви-
женіе не прекращалось, и свѣдѣнія, недавно обнаро-
дованныя правительствомъ, обнаруживаютъ тотъ ра-
зительный фактъ, чю въ воскресенье 31 марта
1851 года число членовъ англійской церкви, присут-
ствовавшихъ на утреннемъ богослуженіи, только на
половину превышало число пндеішндентовъ, бапти-
стовъ и методистовъ. находившихся по своіімь мѣ-
стамъ богослуженіи. Если эта убыль будетъ продол-
жаться въ такой пропорцій, то англійская церковь
не будетъ въ состояніи устоять еще одно столѣ по
противъ нападеній своихъ враговъ.
2) Обращеніе, которому подверглись веслеяпцы
со стороны духовенства, многіе изъ членовъ котораго
были судьями, дастъ намъ понятіе о томь, что было
бы, еслибъ такія насилія не были останавливаемы пра-
вительствомъ. Самъ Веслей сообщаетъ много подроб-
ностей о клеветахъ и оскорбленіяхъ, которыя онъ и
его послѣдователи встрѣчали со сіоропы духовенства.
Грослен, посѣтившій Англію вь 1765 году, говоритъ
о Вайтфильдѣ: <Священники господствующей церкви
всячески старались уничтожить новаго проповѣдника;
они проповѣдывали противъ него, выставляя его на-
роду—какъ фанатика, какъ мечтателя и т. д.; нако-
нецъ, Онп такъ успѣшно дѣйствовали противь него,
что его побивали каменьями вездѣ, гдѣ онь только
открывалъ ротъ, чтобы говорить кь народу».
3) Въ ранній періодъ своей дѣятельности Веслей
! уже мѣтилъ выше того, чего добивались пуріпане, на
стремленія которыхъ, особенно въ XVI столѣтіи,
онь смотрѣлъ съ нѣкоторымъ презрѣніемъ. Такъ
напримѣръ, въ 1747 году, т, е. только восемь лѣтъ
спустя послѣ возстанія его противъ господствующей
| церкви, онъ выражаетъ въ дневникѣ своемъ удив-
леніе «при видѣ слабости этихъ снятыхъ исповѣдни-
ковъ» (пуританъ временъ Елизаветы), <пзъ которыхъ
многіе истратили столько времени и энергіи вь спо-
рахъ о стихарѣ н клобукахъ, или о стояніи на ко-
! лѣняхъ при совершеній таинства евхаристіи!» Такого
рода борьба не удовлетворяла бы потребвостямь воз-
вышенной души Веслея; изъ того духа, которымъ
проникнутъ его объемистый дневникъ, а равно и пзъ
заботливыхъ и дальновидныхъ распоряженій его по
управленію сектою ясно видно, что атоть схизматикъ
имѣлъ болѣе обширныя воззрѣнія, чѣмъ кто-либо изъ
его предшественниковъ, и что опъ хотѣлъ достигнуть
такой организаціи своей секты, которая могла бы со-
перничать сь господствующей церковью.
і 4) Опасность, которой всегда подвергаются, при-
нимая теологію за основаніе нравственности, теперь
довольно хорошо всѣми сознана; но ни одинъ писа-
тель не опредѣлиь ее яснѣе, чѣмъ Шарль Контъ въ
своемъ «Тгаііё бе Ьс^ізіайоп». ѵоі. I, рр. 223—247.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО ХѴШ СТ.
173
или другому вѣрованію, соображаясь не съ тѣмъ, въ какой мѣрѣ оно истинно, а съ
тѣмъ, въ какой степени оно полезно И выводы эти не остались одними безплодными
принципами, которыхъ позднѣйшіе изслѣдователи не были бы въ состояніи примѣ-
нить. Идеи Кумбсрланда, доведенныя до крайности Юмомъ 1 2). были вскорѣ примѣ-
нены къ практической дѣятельности Пэлейемъ 3) и къ умозрительной юриспруденціи
Бентамомъ и Миллемъ; идеи же Барбертона, распространившіяся съ еще большей
быстротой, имѣли вліяніе на напіе законодательство и высказываются въ настоя-
щее время не только передовыми мыслителями, но и тѣми обыкновенными людьми,
которые еслибъ жили пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, то отшатнулись бы отъ нихъ
въ неподдѣльномъ страхѣ 4).
Такимъ образомъ въ Англіи теологія была окончательно отдѣлена отъ нрав-
ственности и отъ государственнаго управленія. Но такъ какъ эта важная перемѣна
имѣла сперва только теоретическій, а не практическій характеръ, то дѣйствіе ея въ про-
долженіе многихъ лѣтъ ограничивалось лишь немногочисленнымъ классомъ людей,
и потому она еще не произвела, до сихъ поръ всѣхъ послѣдствій, которыхъ мы
имѣемъ полное право ожидать отъ нея. Но были другія обстоятельства, дѣйствовав-
шія въ томь же направленіи, которыя, будучи извѣстны всѣмъ людямъ сколько-ни-
будь образованнымъ, имѣли болѣе непосредственное, хотя можетъ быть менѣе проч-
ное вліяніе. Разсмотрѣть въ подробности этп обстоятельства п указать существующую
между ними связь будетъ задачей слѣдующихъ томовъ этого сочиненія; въ настоя-
щее же время я могъ только обозрѣть ихъ въ главнѣйшихъ чертахъ. Изъ нихъ
наиболѣе выдавались впередъ слѣдующія: великій аріанскій споръ, нагло подстре-
каемый Пистономъ, Клеркомъ и Ватерландомъ и посѣявшій сомнѣніе почти во всѣхъ
классахъ общества; бангорскій споръ 5 *), который, коснувйіись предметовъ церковной
дисциплины, остававшихся до того времени незатронутыми, повелъ къ разсужденіямъ,
опаснымъ для власти церкви; великое сочиненіе Блакберна о Конфессіоналѣ, кото-
рое одно время чуть было не произвело раскола въ самой господствующей церкви с);
знаменитый споръ между Миддльтономъ, Черчемъ и Додвеллемъ о чудесахъ,—споръ,
который продолжали люди съ еще болѣе широкими взглядами - Юмъ, Кампбслль и
Дугласъ 7); обличеніе несообразностей отцовъ церкви, которое началось еще съ Далье
и Барбейрака и было продолжаемо Кэвомъ, Миддльтономъ и Джортиномъ; важныя
1) Варбсртоиъ пишетъ: «Мое мнѣніе и есть, и [
было всегда, что государству вовсе пѣтъ никакого I
дѣда до заблужденіи въ религіи, и что опо по имѣетъ (
ни малѣйшаго права принимать мѣры къ подавленію і
ихъ». Что такой человѣкъ былъ сдѣланъ епископомъ,
это быль великій подвигъ для ХѴШ столѣтія.—подвигъ,
который въ XVII столѣтіи былъ бы невозможенъ.
2) Кумберландъ и Юмъ имѣютъ то общее, что ;
оба они изслѣдовали нравсгвенпость па чисто свѣт-
скихъ началахъ: въ другихъ же отношеніяхъ между
выводами пхъ существуетъ большое различіе; по если
только допустить, что анти-теологпческін методъ во-
обще правиленъ, то пѣтъ никакого сомнѣнія, что
заключенія Юма ближе вытекаютъ изъ посылокъ, чѣмъ
заключенія его предшественника; но Юмъ имѣль на
своей сторонѣ еще то преимущество, что онъ жиль
пятьюдесятью годами позже и обладалъ болѣе обшир-
нымъ умомъ.
3; Система нравственности Пэлейя. будучи по
сущее гну своему утилитарной, довершила переворотъ
г.ь згой области изслѣдованія; а такъ какъ сочиненіе
ею было при тамъ написано съ большимъ талантомъ,
то опо имѣло огромное вліяніе вь тогъ вѣкъ, КОІОрЫП
уже былъ приготовленъ къ принятію его. Его «ЗІогаІ
ало РоІШсаІ Ріі Позорѣ у'> вышла въ 1785 году; къ ,
1786 году она сдѣлалась справочной книгой въ ।
Кембриджѣ; а въ 1805 году она свыдергкала уже >
пятнадцать изданій». |
4) Отмѣна сТезі аеі», допущеніе въ парламентъ
католиковъ и быстро усиливавшееся расположеніе
въ пользу распространенія эт >го права п на евреевъ
составляютъ главные признаки этого движенія. О но-
ете пенномъ распространеніи у насъ теоріи цѣлесо-
образности, которая во всемъ, что не возведено еще
на степень пауки, должна была бы служить един-
ственнымъ руководствомъ человѣческихъ дѣйствій,—
смотри замѣчательное, хотя грустное, письмо, писан-
ное въ 1812 году, въ «ІНе оІ ІѴПЬегіогсе», ѵоі. IV.
р. 28.
5) Полемика, возбужденная одною проповѣдью
Годлея (НоасПсу), епископа бангорскаго, о религіоз-
ной свободѣ.
(Прим. п^рев.)
с) «Тѣе СонНзіоиаЬ, книга, заключающая въ себѣ
самое умное нападеніе на тѣ подписки, которыя да-
вались въ исповѣданіи извѣстныхъ вѣрованій, вышла
въ 1766 году и. по словамъ одного современнаго
наблюдателя, «возбудила всеобщій духъ изслѣдова-
нія >. Послѣдствіемъ этого было то, что въ 1772 г.
Влакбернъ съ другими членами духовенства англій-
ской церкви составили общество, съ признанной
цѣлью уничтожить всякія подписки въ религіи.
7) Юмь говоритъ, что но возвращеніи своемъ
изъ Италіи, въ 1749 г., онъ засталъ «всю Англію
ьъ броженіи по поводу Мпддльтонова «Свободнаіо
Изслѣдованія».
174
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
и никѣмъ не опровергнутыя свидѣтельства Гиббона, заключающіяся въ ого пятнад-
цатой и шестнадцатой главахъ; пріобрѣтеніе этими главами новой силы вслѣдствіе
неловкихъ нападеній на нихъ Дэвиса, Чельзума, Вайтэкера и Ватсона А). Наконецъ,
не говоря уже о предметахъ меньшей важности,—столѣтіе окончилось среди смятенія,
произведеннаго рѣшительнымъ споромъ между Порсономъ и Тревисомъ относительно
текста Небесныхъ Свидѣтелей (Неаѵеніу АѴіІпе^сз); споръ этотъ возбудилъ громад-
ный интересъ и непосредственно сопровождался открытіями геологовъ, которые не
только возставали противъ истины Моисеевой космогоніи, но и положительно дока-
зывали, что она не можетъ быть справедлива 2). Всѣ эти обстоятельства, слѣдуя
одно за другимъ съ изумительной быстротой, перепутали вѣрованія людей, смутили
ихъ легковѣріе и произвели такое дѣйствіе на всѣ. умы, которое оцѣнить можетъ
только тотъ, кто изучалъ исторію этого времени по оригинальнымъ источникамъ. И
въ самомъ дѣлѣ, вліяніе это не можетъ быть понято даже въ его общихъ чертахъ,
если не принять въ соображеніе нѣкоторыя другія обстоятельства, съ которыми было
тѣсно связано это великое движеніе впередъ.
Такъ, въ то же время началась громадная перемѣна не только въ умахъ мы-
слителей, но и въ самомъ народѣ. Съ усиленіемъ скептицизма возбуждалась любо-
знательность, а съ распространеніемъ образованія усиливались средства удовлетво-
ренія ея. Вотъ почему мы находимъ, что одну изъ главныхъ особенностей XVIII
столѣтія, особенность, болѣе чѣмъ что-либо отличавшую его отъ предшествовавшаго
времени,—составляло стремленіе къ знанію со стороны тѣхъ классовъ общества, для
которыхъ путь къ нему былъ прежде закрытъ. Именно цъ этотъ великій вѣкъ были
виервые заведены школы для низшихъ сословій, открывавшіяся въ единственный
день, въ который сословія эти имѣли время учиться 3), и основаны для нихъ жур-
налы, выходившіе въ единственный день, въ который они имѣли время читать 4). Тогда
именно впервые появились вь пашей странѣ библіотеки для чтенія5), и тогда также
книгопечатаніе, вмѣсто того, чтобы сосредоточиваться почти исключительно въ Лон-
г) «Исторія паденія Римской Имперіи» Гиббона
была съ завистью провѣряема двумя поколѣніями рев-
ностныхъ и безпощадныхъ противниковъ; по я скажу
только, выражая мпЬиіе свѣдущихъ въ этомъ дѣлѣ
судей, что съ каждой провѣркой сочиненіе это пріоб-
рѣтало все большую и большую славу. Противъ его
знаменитыхъ пятнадцато!: и шестнадцатой главъ были
употреблены всѣ ухищренія теологическихъ преній, и
это привело только къ тому, что слава историка оста-
лась неомраченной, между тѣмъ какъ враги его пре-
даны забвенію. Сочиненіе Гиббона все еще остается, а
кто же сколько-нибудь интересуется знать, чтб было
писано противъ него?
2) Скептическій характеръ геологіи впервые ясно
проявился вь послѣднія тридцать лѣтъ XVII! столѣтія.
Вь прежнее время геологи дѣйствовали заодно сь
геологами: но усилившаяся смѣлость общественнаго
мнѣнія дала имъ возможность начать самостоятельныя
пзсііідовапія, не стѣсняясь ученіями, преобладавшими
до того времени. Въ этомъ отя-.лпсиін много сдѣлали
изысканія Гёттояа, въ сочиненіи котораго, говорить
.Іяііслль, видна первая попытка «объяснить первона-
чальныя измѣненія земной коры дѣйствіемъ силъ чисто
физическихъ». Ввести такой методъ вь употребленіе—
значило конечно разорвать союзъ съ теологами; но
первый признакъ этой перемѣны быль замѣченъ еще
въ 1773 году, т. е. пятнадцатью годами ранѣе, чѣмъ
писалъ Гошенъ. Смотри одно письмо въ «Автобіогра-
фіи Ватсона», гдѣ говорится, что «свободные мысли-
тели» нападали на «Моисеево свидѣтельство о древ-
ности міра, особенно послѣ выхода сочиненія Брандона
«Путеш'Стт* но Сиичлйь и Малъпіѣ*. Съ тѣхъ
норъ успѣхи были такъ быстры, что никто изъ просвѣ-
щенныхъ людей, даже между духовенствомъ, не сталъ бо-
лѣе признавать историческое значеніе книгъ Моисеевыхъ.
3) Обыкновенно полагаютъ, что начало воскрес-
ныхъ школъ было положено Роксомъ въ 1781 году,
по, хотя повидимому первый организовалъ пхь вь
надлежащихъ размѣрахъ, чѣмъ пе менѣе не подлежитъ
і сомнѣнію, что основаны онѣ были Лпвдсесмъ въ
1765 или въ слѣдующемъ за нимъ году. Духовенство
англійской нершщ вообще было противъ учрежденія
воскресныхъ школъ. Во всякомъ случаѣ школы эіп
быстро размножились и къ концу столѣтія сдѣлались
о г> ык новеннымъ явлеп іемъ.
4) Лордъ Бельгревъ сказалъ въ палатѣ лордовъ,
что воскресныя газеты впервые появились «около 1780
года». Вііл’.берфорсь хлопоталъ о томъ, чтобы пздань
былъ законъ, воспрещающій эти газеты.
•') Когда Франклинъ пріѣхалъ въ Лондонъ въ
і 1725 году, то по всей столицѣ пе было ни одной
библіотеки для чтенія, а въ 1697 году «единственная
во всемъ Лондонѣ библіотека, сколько-нибудь похо-
жая на публичную, была библіотека Сіонской Кол-
легіп, принадлежащая лондонскому духовенству». Когда
именно была открыта самая первая библіотека, я еще
не могъ привести въ извѣстность, но, по словамъ Соути,
первая библіотека въ Лондонѣ была основана около
воловины ХѴШ столѣтія Самюэлемъ Фанкортомъ. Гот-
тоиъ і окорить: «и первый открылъ общественную
библіотеку въ Бпрмппіамѣ въ 1751 году». 0 библіо-
те.кахъ упоминается еще въ послѣдней половинѣ
XVIII столѣтія. Число такихъ библіотекъ возрастало
такъ быстро, что нѣкоторые умные люди предложили
обложить пхь податью «въ размѣрѣ 2 шпл. 6 нен.
съ каждыхъ 100 томовъ въ годъ».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
175
донѣ, стало входить въ употребленіе и въ провинціальныхъ городахъ х). Въ восемна-
дцатомъ же столѣтіи были сдѣланы самыя первыя систематическія попытки популя-
ризировать науки и облегчить усвоеніе ихъ общихъ началъ, посредствомъ тракта-
товъ о нихъ, написанныхъ легкимъ, не техническимъ языкомъ 2); между тѣмъ изо-
брѣтеніе энциклопедій дало возможность соединить въ одно мѣсто результаты раз-
личныхъ наукъ и привести ихъ въ форму болѣе доступную, чѣмъ какая-либо изъ
употреблявшихся до того времени 3). Въ ту же эпоху встрѣчаемъ мы въ первый разъ
періодическія литературныя обозрѣнія, въ которыхъ цѣлыя массы людей, занятыхъ
практической дѣятельностью, почерпали познанія, конечно недостаточныя, но во
всякомъ случаѣ стоявшія выше ихъ прежняго невѣжества 4). Вездѣ стали образовы-
ваться общества для покупки книгъ, а передъ концомъ столѣтія мы слышимъ уже
о клубахъ, учреждаемыхъ грамотными людьми изъ промышленныхъ классовъ. Во
всѣхъ проявлялась пылкая любознательность. Въ половинѣ XVIII столѣтія возникли
общества преній (йеЪаііп§ восіеіісв) между торговцами; за этимъ послѣдовало еще
болѣе смѣлое нововведеніе—въ 1769 году состоялся первый публичный митингъ
въ Англіи,- первый, на которомъ сдѣлана была попытка просвѣтить англичанъ на
счетъ ихъ политическихъ правъ. Около того же времени народъ сталъ слѣдить за
ходомъ дѣлъ въ нашихъ судахъ, о которомъ опъ началъ получать свѣдѣнія изъ еже-
дневныхъ изданій. Незадолго до этого возникли политическія газеты 5), и завязался
сильнѣйшій споръ между ними и обѣими палатами парламента относительно права
печатанія преній, окончившійся тѣмъ, что обѣ палаты, несмотря на поддержку со
стороны короны, были совершенно побѣждены, и народъ получилъ такимъ образомъ
возможность слѣдить за дѣйствіями законодательной вларти и слѣдовательно знако-
миться нѣсколько съ дѣлами государственными 6). Едва была довершена эта побѣда,
какъ сообщенъ былъ еще новый толчокъ распространеніемъ великаго политическаго
Въ 1746 году Джентъ, извѣстный типографъ,
написалъ свою собсгвсиную біографію. Въ этомъ лю-
бопытномъ сочиненіи опъ говоритъ о 1714 годѣ:
«мало было въ то время типографовъ въ Англіи, кромѣ
Лондона: пе было, я достовѣрно знаю, ни одного
въ Честерѣ, Ливерпулѣ, Ваіітгевенѣ, Пресгонѣ, Ман-
честерѣ, Кендалѣ и Лидсѣ», гдѣ онп теперь по боль-
шей части изобилуютъ». Въ царствованіе королевы
Анны по было ни одного книгопродавца въ Бирмингемѣ.
Памъ говорили, что около 1780 года «едва-ли быль
хоть одинъ книгопродавецъ въ Корнвалпсѣ».
2) Дезаполье п Гпллі» были первые два писателя,
занявшіеся облеченіемъ въ популярную форму физи-
ческихъ пегпнъ. Въ началѣ царствованія Георга I
Дезагюльс «.первый сгадъ читать въ Лондонѣ лекціи
опытной физики-. Что касается Гялля, то говоря! ь,
что онъ первый подалъ примѣръ изданія въ значи-
тельномъ чис.11'» популярныхъ научныхъ кішгъ: пред-
пріятіе это до такой степени соотвѣтствовало тому
пытливому времени, что, если вѣрить Горасу Валь-
полю, «авторъ наживалъ по 15 гиней въ подѣлю».
Во второй половинѣ XVIII столѣтія спросъ на
книги по части естественныхъ наукъ быстро увели-
чился. Пристдой началъ писать популярнымъ языкомъ о
предметахъ физики. Въ царствованіе Георга 11 издатели
начали поощрять элементарныя сочиненія по химіи.
3) Въ 170І, 1708 и 1710 годахъ Гаррисъ изда-
вать свой «Вісііопагу аГ Агіэ ой Зсіепсез», п отъ
него произошли всѣ другіе лексиконы и энциклопе-
діи, какіе съ тѣхъ поръ появлялись.
4) Въ копцѣ XVII столѣтія была сдѣлана вь
Англіи первая попытка основать литературные жур-
налы. Обозрѣнія же въ томъ смыслѣ, въ на.комъ мы
теперь понимаемъ это слово, т. е. критическія изда-
нія, ие были извѣстны до. восшествія Георга II: по
около половины его царствованія оші стали размно-
жаться, Въ болѣе раннее время обязанности обозрѣ-
ніи исполнялись, какъ говоритъ Монкъ, памфлетами.
3) Въ 1696 году едппегвенпыя газеты были
| еженедѣльныя; первыя же ежедневныя газеты нояви-
I лнеь въ царствованіе Анны. Вл» 1710 году газеты
: вмѣсто того, чтобы, какъ въ прежнее время, только
сообщать новости, стали принимать участіе въ обсуж-
деніи политическихъ вопросовъ; а такъ какъ за нѣсколько
лѣтъ до этой перемѣны введены были въ употребле-
ніе дешевые политическіе памфтегы, то стало оче-
виднымъ, что готовилось великое движеніе относи-
тельно распространенія этого рода н. слѣдованій. Вь те-
I чеши двадцати лѣтъ послѣ смерти Анны переворотъ
быль довершенъ, и пресса въ первый разъ въ исто-
ріи міра сдѣлалась выраженіе.'!ь общее,тпенігіго мнѣ-
нія. Первое замѣчаніе объ это:і новой си іѣ, сдѣлан-
ное въ парламентѣ, нашелъ я въ рѣ <п, которую про-
изнесъ Данверсъ въ 1738 году; се стоить привести,
каіп» потому, что ВЪ Пей выражается самая эпоха,
такъ и потому, что она характеризуог ъ іотъ безпокой-
ный классъ, къ которому принадлежалъ ораторъ «Но
: я нахожу,--говоритъ эготъ замѣчательный законода-
тель, -л нахожу, что народъ Великобританіи управ-
! ляется такой властью, о которой никогда еще не
было слышно, какъ о высшемъ авторптеіѣ. ни въ
какомъ вѣкѣ и пи въ какой странѣ. Власть эта, сэръ,
заключается не въ ограниченной волѣ государя, не вь
управленіи парламента, не въ силѣ арміи, не во влія-
ніи духовенства: это и не правленіе юбокъ, сэръ, а
правленіе прессы. Всякая всячина, которой напол-
нены паши імкенедѢ.іыіыя газеты, принимается съ
большимъ уваженіемъ, чѣмъ акты парламента; и чув-
ства, выражаемыя однимъ изъ такихъ писакъ, имѣютъ
болѣе вѣса въ глазахъ массы, чѣмъ мнѣніе лучшаго
политика въ государствѣх.
6) Этому великому спору былъ положенъ копецъ
въ 1771 и 1772 годахъ, когда, какъ говоритъ лордъ
176
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ В Ъ А Н Г Л I и.
ученія о личномъ представительствѣ,—ученія, которое должно наконецъ восторжество-
вать надъ всѣми препятствіями. Зародышъ его можно найти еще въ концѣ ХѴП сто-
лѣтія, когда пустило корни и стало процвѣтать истинное понятіе о личной незави-
симости *)* Наконецъ, восемнадцатому столѣтію предоставлено было показать первый
примѣръ призванія народа къ участію въ обсужденіи тѣхъ важныхъ вопросовъ, отно-
сящихся до религіи, въ которыхъ до тѣхъ поръ никогда не совѣтовались съ нимъ; между
тѣмъ какъ въ настоящее время всѣми признано, что въ этихъ и во всѣхъ другихъ
предметахъ должно окончательно обращаться къ возрастающему пониманію народа.
Въ связи со всѣмъ этимъ находилась и соотвѣтственная перемѣна въ самой
формѣ) и въ самомъ строѣ нашей литературы. Строгій педантическій методъ, кото-
рому издавна привыкли слѣдовать наши великіе писатели, не годился для новаго
поколѣнія, пылкаго и пытливаго, жаждущаго знанія и потому не терпящаго тѣхъ
неясностей, на которыя въ прежнее время не обращали вниманія. Вотъ почему въ
самомъ началѣ ХѴ’ІІІ столѣтія сильный, но тяжелый образъ выраженія и длинныя,
запутанныя предложенія, казавшіяся столь естественными у нашихъ древнихъ писа-
телей, были, несмотря на ихъ красоту, внезапно откинуты и замѣнены слогомъ
болѣе легкимъ и простымъ, который, будучи удобопонятнѣе, въ большей мѣрѣ соот-
вѣтствовалъ требованіямъ вѣка 2).
Увеличеніе знанія, соединенное съ такимъ упрощеннымъ способомъ передачи
его, повело естественнымъ образомъ къ большей независимости литераторовъ и къ
большей смѣлости литературныхъ изслѣдованій. До тѣхъ поръ, пока книги вслѣдствіе
тяжелаго слога или нелюрознатсльности народа мало читались, ясно, что авторы
должны были разсчитывать\на покровительство отдѣльныхъ сословій или богатыхъ
и титулованныхъ личностей. А такъ какъ люди всегда бываютъ склонны льстить
тѣмъ, отъ кого они зависятъ, то очень часто случалось, что даже величайшіе изъ
нашихъ писателей унижали свой талантъ, льстя предразсудкамъ своихъ покровителей.
Послѣдствіемъ этого было то, что литература не только не пресѣкала стараго суевѣ-
рія и не возбуждала умъ къ новымъ изслѣдованіямъ, а, напротивъ, часто принимала
робкій, угодливый тонъ, свойственный ея зависимому положенію. По теперь все
измѣнилось. Эти рабскія, постыдныя посвященія 8), этотъ низкій, ползучій духъ, это
Кампбелль, «право оглашать въ печати парламентскія !
пренія было упрочено въ существѣ своемъ*. ;
Георгъ III, всегда послѣдовательный, но и всегда I
не правый, былъ сильно противъ такого положенія ।
правъ народа. Въ 1771 году онъ писалъ къ лорду :
Порту: «Въ высшей степени необходимо положить
предѣлъ этому странному и противозаконному обыкно-
венію печатать пренія въ газетахъ. Но не есть ли
палата лордовъ лучшее мѣсто для суда надъ этими
злодѣями, такъ какъ она можетъ приговаривать къ де-
нежному штрафу и къ тюремному заключенію и имѣетъ
довольно широкія плечи, чтобы снести ненависть, ко-
торую можетъ возбудясь эта спасительная мѣра?»
*) По этому предмету я могу привести одно филоло-
гическое замѣчаніе, не лишенное интереса, а именно, что
есть поводъ думать, что и «слово незштспм< стъ (іікіе-
р^псіеіісе) въ его новѣйшемъ смыслѣ'? не встрѣчается
въ пашемъ языкѣ ранѣе, самаго конца ХѴШ столѣтія.
2) Кольриджъ сдѣлалъ нѣсколько любопытныхъ
замѣчаній объ пзмѣііешяхь въ англійскомъ слогѣ; онъ
справедливо говоритъ, что «послѣ революціи духъ
націи сталь гораздо болѣе коммерческимъ, чѣмъ былъ
прежде: что ученые, въ см > слѣ <-собой корпораціи
пли клпра, мало но налу исчезали, и литература во-
обще стала обращаться къ обыкновенной, смѣшанной
публикѣ». Далѣе онъ жалуется на такую перемѣну, но
въ этомъ я съ нимъ не соі латаюсь.
Дѣло нъ томъ, что движеніе это составляло толы:0
часть того стремленія къ сближенію различныхъ клас-
совъ общества, которое впервые ясно обнаруживалось
въ ХѴШ столѣтіи и которое имѣло вліяніе не только
на слогъ писателей, по и на ихъ обращеніе въ обще-
ствѣ. Юмъ замѣчаетъ, что вь «послѣднемъ вѣкѣ»
ученые люди слишкомъ уже отдѣлились отъ свѣта, а
что въ его время они начинали дѣлаться болѣе общи-
тельными». Впослѣдствіи Джонсонъ, Гиббонъ и Парръ
пытались произвести реакцію, ио это было противно
духу времени и потому не могло продолжаться.
®) За раболѣпство большей частью хороню пла-
тили; оно вознаграждалось даже больше, чѣмъ стоило.
Въ теченіе XVI, XVII и нерпой половины ХѴШ сто-
лѣтія айсоръ всегда подучалъ извѣстную сумму де-
негъ за свое посвященіе. Конечно, чѣмъ наглѣе была
лесть, тѣмъ больше была и сумма. Объ установив-
шемся такимъ образомъ отношеніи между писателями
и зпаіныяи ляпами и о жадности, съ какой даже луч-
шіе писатели добивались отъ своихъ натровою возпа-
граждеііі'.:. измѣнявшихся отъ 40 шпл. до 100 фун.,
можно и анти свѣдѣнія у многихъ авторовъ.
Около половины ХѴШ столѣтія произошелъ пе-
реломъ вь этомъ плачевномъ порядкѣ вещей; такъ
напримѣръ, Ватсонъ въ 1769 году принялъ за пра-
вило: «никогда не посвящать своихъ сочиненіи тѣмъ,
отъ кого могъ ожидаю милостей». Такъ тоже Варбур-
топъ въ 758 году хвастаетъ чѣмъ, что у него посвяще-
ніе не наиолнепо, кань бываетъ обыкновенно, «вздорамп
п неправдами». Почти вь тогъ же періодъ такая же
перемѣна произошла. и во Франціи, гдѣ Даламберъ пер-
вый поднялъ на смѣхъ это старинное обыкновеніе.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
177
безпрестанное поклоненіе одному'только званію и рожденію, это постоянное смѣши-
ваніе могущества съ правомъ, это невѣжественное благоговѣніе передъ всѣмъ, что
старо, и еще болѣе невѣжественное презрѣніе ко всему, что ново,— всѣ эти черты
мало-по-малу сглаживались, и авторы, полагаясь на покровительство народа, стали
защищать права своихъ новыхъ союзниковъ съ такой смѣлостью, на которую они
никогда не рѣшились бы ни въ одинъ изъ предшествовавшихъ вѣковъ О*
Изъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ вытекали послѣдствія чрезвычайно важныя.
Отъ такого упрощенія, такой независимости и такого распространенія 2) знанія про-
изошло по необходимости то, что исходъ великихъ споровъ, о которыхъ я упоми-
налъ выше, сталъ болѣе всѣмъ извѣстенъ въ XVIII столѣтіи, чѣмъ это было бы воз-
можно въ какой-либо изъ предшествовавшихъ вѣковъ. Теперь было извѣстно, что
постоянно происходили теологическіе и политическіе споры, въ которыхъ геній и
ученость находились на одной сторонѣ, а православіе и преданіе—на другой. Стало
извѣстно, что обсуждаемые пункты касались не одной только достовѣрности отдѣль-
ныхъ фактовъ, но и истины общихъ началъ, которыми тѣсно обусловливались инте-
ресы и счастье человѣчества. Споры, которые прежде ограничивались лишь самою
незначительною частью общества, теперь стали широко распространяться во всѣ
стороны и возбуждать сомнѣнія, которыя служили народу матеріаломъ для мышленія.
Отъ этого духъ изслѣдованія съ каждымъ годомъ становился дѣятельнѣе и все болѣе
и болѣе распространялся; жажда реформы постоянно усиливалась, и еслибъ дѣла
были предоставлены своему естественному теченію, то XVIII столѣтіе не могло бы
пройти безъ рѣшительныхъ, благодѣтельныхъ перемѣнъ какъ въ церкви, такъ и въ
правительствѣ. Но вскорѣ послѣ половины этого столѣтія возникъ къ несчастью
цѣлый рядъ политическихъ комбинацій, которыя прервали естественный ходъ собы-
тій и, наконецъ, произвели такой опасный кризисъ, который у всякаго другого на-
рода непремѣнно окончился бы или потерею свободы, ііли распаденіемъ правитель-
ства. Эта пагубная реакція, отъ которой Англія можетъ быть съ трудомъ оправи-
лась, никогда еще не была изучаема съ такимъ вниманіемъ, которое хоть сколько-
нибудь соотвѣтствовало бы ея важности; ее даже такъ мало понимали, что ни одинъ
историкъ не различалъ противоположности между этою реакціею и тѣмъ великимъ
умственнымъ движеніемъ, котораго я только-что представилъ краткій очеркъ. По
этой причинѣ, а также въ видахъ сообщенія возможной полноты настоящему вве-
денію, я намѣренъ обозрѣть важнѣйшія эпохи означенной реакціи и обнаружить,
насколько съумѣю, находившуюся между ними связь* Согласно съ планомъ нашего
введенія, изслѣдованіе это должно быть весьма кратко, такъ какъ оно имѣетъ цѣлью
только положить основаніе тѣмъ общимъ началамъ, безъ которыхъ исторія — не
болѣе какъ собраніе эмпирическихъ замѣчаній, ничѣмъ не связанныхъ и потому
не имѣющихъ никакой важности. Должно также помнить, что обстоятельства, ко-
торыя намъ предстоитъ разсматривать, имѣли не соціальный, а политическій харак-
теръ, вслѣдствіе чего мы особенно склонны заблуждаться въ нашихъ заключеніяхъ
о нихъ; и это частью потому, что матеріалы для исторіи народа, будучи обширнѣе
и имѣя менѣе прямое значеніе, чѣмъ матеріалы для исторіи правительства, въ мень-
шей мѣрѣ подвержены искаженію, частью же и потому, что дѣятельность неболь-
шихъ кружковъ людей, какъ, напримѣръ, министровъ и государей, всегда болѣе за-
*) Въ половинѣ царствованія Георга II обыкно-
веніе писателей полагаться на покровительство отдѣль-
ныхъ личностей уже начинало ослабѣвать, н стало вхо-
ди гь во всеобщее употребленіе изданіе по подпискѣ. Бёркъ,
пріѣхавшій въ Лондонъ въ 1750 г., замѣчаетъ съ удив-
леніемъ, что «писатели первѣйшіе по дарованіямъ по-
ставлены въ зависимость отъ причудливаго покрови-
тельства публики. Несмотря на такое безнадежное по-
ложеніе,, литературою занимаются весьма много». Это
увшчеюе самостоятельности замѣтно также изъ того
факта, что въ 1762 году мы находимъ первый при-
мѣрь популярнаго писателя, нападающаго на государ-
ственныхъ людей, называя ихъ по имени; прежде пи-
сатели ограничивались тѣмъ, что выставляли только
«первыя буквы именъ тѣхъ великихъ людей, на ко-
торыхъ нападали».
2) Въ Англіи замѣтное увеличеніе числа книгъ
произошло въ теченіе второй половины ХУШ столѣтія.
Къ этому я могу прибавить, что между 1753 и 1792
годами обращеніе газета» почти удвоилось.
Бондъ.—Ф. ТІавленкова.
12
178
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
виситъ отъ личности, т. е. въ меньшей мѣрѣ подчиняется извѣстнымъ законамъ,
чѣмъ дѣятельность обширныхъ корпорацій, въ совокупности называемыхъ обществомъ
ми націей. Съ этимъ замѣчаніемъ въ умѣ, я постараюсь теперь очертить ту эпоху,
которая съ чисто политической точки зрѣнія составляетъ реакціонный и ретроград-
ный періодъ англійской исторіи.
Слѣдуетъ признать за весьма счастливое обстоятельство то, что послѣ смерти
Анны въ продолженіе почти пятидесяти лѣтъ престолъ былъ занятъ двумя государями,
которые были чужды Англіи и по своимъ нравамъ, и по мѣсту рожденія, и изъ ко-
торыхъ одинъ плохо владѣлъ нашимъ языкомъ, а другой вовсе не зналъ его 9- Не-
посредственные предшественники Георга III были дѣйствительно такъ безпечны по
характеру и до такой степени невѣжественны во всемъ касающемся до народа, ко-
торымъ они брались управлять * 2), что, несмотря на ихъ деспотическій нравъ, нельзя
было опасаться, что они составятъ себѣ партію для расширенія предѣловъ королев-
ской прерогативы 3 4)- Какъ иностранцы, они не имѣли къ англійской церкви доста-
точнаго сочувствія, чтобы помочь духовенству въ естественномъ стремленіи его воз-
вратить прежнюю власть, Сверхъ того крамолы и двуличный образъ дѣйствія мно-
гихъ изъ прелатовъ должны были содѣйствовать къ тому, чтобы лишить духовен-
ство уваженія государей, такъ же, какъ они лишили его расположенія націи 9- Эти
обстоятельства, хотя сами по себѣ они могутъ казаться ничтожными, были въ дѣй-
ствительности весьма важны потому, что они обезпечили націи дальнѣйшее разви-
тіе того духа изслѣдованія, который правительство и церковь совокупно старались бы
подавить, еслибъ они быди между собою въ согласіи. Даже и при этихъ обстоятель-
ствахъ дѣлались отъ времени до времени нѣкоторый покушенія, но они были, го-
воря сравнительно, довольнр рѣдки и не имѣли той силы, которая бы проявилась въ
нихъ тогда, когда между свѣтскою и духовною властью существовалъ бы тѣсный
союзъ. Дѣйствительно, положеніе дѣлъ было такъ благопріятно, что старая партія
торіевъ, отталкиваемая націею и покинутая правительствомъ, болѣе сорока лѣтъ не
имѣла возможности принимать участіе въ управленіи страною. Въ то же время, какъ
мы увидимъ впослѣдствіи, въ законодательствѣ совершился значительный прогрессъ,
и наша книга статутовъ за этотъ періодъ времени заключаетъ въ себѣ сильныя
доказательства упадка той могущественной партіи, которая когда-то самовластно упра-
вляла Англіею.
Но со смертью Георга II ходъ политическихъ дѣлъ внезапно измѣнился, и же-
ланія государя снова стали въ противоположность съ интересами націи, а это пред-
ставляло тѣмъ болѣе опасности, что въ глазахъ поверхностнаго наблюдателя всту-
пленіе на престолъ Георга III должно было казаться самымъ счастливымъ событіемъ,
какое только могло случиться. Новый король родился въ Англіи, говорилъ по-англій-
ски, какъ на своемъ природномъ языкѣ 5), и, такъ утверждали, смотрѣлъ на Ганно-
Недостаткомъ Георга II былъ дурной выговоръ
англійскаго языка; но Георгъ I не былъ въ состоя-
ніи даже и дурно выговаривать его п могъ говорить
со своимъ министромъ, сэромъ Робертомъ Вальполѳмъ,
только по-латыни.
2) Въ 1715 году Лесли писалъ о Георгѣ I: «онъ
совершенно чуждъ «вамъ и совсѣмъ но знаетъ пи ва-
шего языка, ни вашихъ законовъ, ни вашихъ нравовъ,
ни вашей конституціи».
3) Относительно упадка королевской власти необхо-
димо замѣтить, что со времени восшествія на престолъ
Георга I никому изъ нашихъ государей но было доз-
волено присутствовать при рѣшеніи государственныхъ
вопросовъ.
4) Нерасположеніе, которое англійское духовен-
ство вообще питало къ правительству двухъ первыхъ
Георговъ, высказывалось открыто и было такъ упорно,
что оно составляетъ одинъ изъ достовѣрнѣйшихъ фак-
товъ въ авторш Англіи. Въ 1722 году епископъ
Аттербери былъ арестованъ, такъ какъ узнали, что
і онъ находится въ измѣннической перепискѣ съ претен-
дентомъ. Какъ только онъ былъ схваченъ, духовен-
і ство стало приносить особыя молитвы о немъ. «Подъ
тѣмъ предлогомъ,—говоритъ лордъ Мэгопъ,—что онъ
страдаетъ подагрою, о номъ публично молились во
всѣхъ церквахъ въ Лондонѣ и въ Вестминстерѣ».
Непосредственное послѣдствіе этого явленія было
весьма замѣчательно. Правительство и диссентеры, па-
। ходясь одинаково въ оппозиціи съ церковью, есте-
, ствѳннымъ образомъ соединились между собою: дис-
і сѳнтѳры употребляли все свое вліяніе на противодѣй-
! ствіе претенденту, а правительство защищало ихъ отъ
преслѣдованій духовенства.
5) Гросли, который посѣтилъ Англію черезъ
I пять только лѣтъ послѣ вступленія Георга Ш, упо-
| мипаѳтъ о сильномъ дѣйствіи, произведенномъ на англи-
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
119
воръ, какъ на чужую страну, интересы которой должны были считаться предметомъ
второстепеннымъ. Въ то же время угасли послѣднія надежды дома Стюартовъ. Пре-
тендентъ самъ томился въ Италіи, гдѣ онъ вскорѣ умеръ; а сынъ его, рабски пре-
давшійся порокамъ, какъ бодто бы наслѣдственнымъ въ этомъ семействѣ, влачилъ
жпзпь въ ничтожествѣ, не возбуждая даже ни въ комъ сожалѣнія * *).
Между тѣмъ эти самыя обстоятельства, казавшіяся столь благопріятными, не-
обходимо влекли за собою самыя бѣдственныя послѣдствія. Лишь только миновала
для Георга опасность лишиться оспариваемаго права на престолъ, онъ сталъ дѣйство-
вать смѣлѣе, чѣмъ дѣйствовалъ бы безъ этого. Всѣ эти старинныя ученія о правахъ
королей, которыя считались окончательно убитыми революціей, внезапно были воз-
обновлены 2). Духовенство, оставивъ безнадежно проигранное дѣло претендента, вы-
казало къ Ганноверскому дому ту же приверженность, которую оно прежде показы-
вало къ дому Стюартовъ. Съ проповѣднической каѳедры стали раздаваться похвалы
новому королю, его личнымъ семейнымъ добродѣтелямъ, его благочестію, преиму-
щественно же его сыновней приверженности къ англійской церкви. Результатомъ
подобнаго настроенія было установленіе между королемъ и церковью такого тѣснаго
союза, какого мы никогда не видали въ Англіи со временъ Карла I. Подъ покро-
вительствомъ этого союза старая торійская партія быстро усилилась и вскорѣ уже
имѣла возможность устранить своихъ противниковъ отъ управленія дѣлами. Этому
реакціонному движенію много содѣйствовалъ личный характеръ Георга III: распо-
ложенный къ деспотизму столько же, какъ и суевѣрный, онъ одинаково заботился
о расширеніи прерогативы и объ усиленіи церкви. Всякая либеральная мысль, все,
что сколько-нибудь походило. на реформу, даже малѣйшій намекъ на свободу изслѣ-
дованія—все это было предметомъ ужаса для такого ограниченнаго, невѣжествен-
наго государя. Въ немъ не было ни знанія, ни вкуса, ни даже понятія о какой-
либо наукѣ, не было и расположенія ни къ одному' искусству; вообще воспитаніе
не сдѣлало ничего для развитія этого ума, самою природою созданнаго въ необы-
чайно тѣсномъ размѣрѣ 3). Не имѣя никакого понятія объ исторіи и средствахъ дру-
гихъ земель и зная только ихъ географическое положеніе, онъ едва-ли пмѣлъ болѣе
обширныя свѣдѣнія п о той націи, которою былъ призванъ управлять. Въ огромной
массѣ свидѣтельствъ, сохранившихся донынѣ и состоящихъ изъ всякаго рода ча-
стныхъ корреспонденцій, изложеній частныхъ разговоровъ и государственныхъ актовъ,
нигдѣ нельзя найти ни малѣйшаго доказательства^ чтобы ояъ обладалъ хотя однимъ
изъ того множества знаній, которыми долженъ отличаться правитель государства,
ни даже, чтобы онъ былъ знакомъ хотя съ одною изъ обязанностей своего положе-
нія. за исключеніемъ чисто механической рутины текущихъ дѣлъ, которую могъ бы
имѣть и послѣдній писецъ изъ самаго низшаго присутственнаго мѣста въ его королевствѣ.
Образъ дѣйствія, которому долженъ былъ послѣдовать такой король, могъ быть
весьма легко предугаданъ. Онъ сгруппировалъ около своего престола ту великую
чанъ, когда они услышали короля, говорившаго на ।
пхъ природномъ языкѣ безъ «иностраннаго выговора». |
Достовѣрно извѣсіно, что король въ цервой рѣчи
своей хвалился тѣмъ, что онъ—британецъ; но можетъ
быть менѣе извѣстно, что это обстоятельство должно
было дѣлать честь не ему, а странѣ. «Какимъ бле-
скомь,—сказала палата лордовъ въ своемъ адресѣ къ
нему,—озаряется имя британца, когда вы, сэръ, удо-
стоиваете считать его въ числѣ источниковъ вашей
славы».
*) Карлъ Стюартъ былъ такъ глубоко невѣже-
ственъ, что въ двадцать пять лѣсъ едва умѣлъ пи-
сать и не могъ написать ни одного слова правильно. I
Послѣ смерти своего отпа, вь 1766 году, это жалкое ,
существо, называвшее себя англійскимъ королемъ, по- |
реселнлось въ Римъ п предалось пьянству. Въ 1779 г. |
Свппбёрнъ видѣлъ Карла во Флоренціи, гдѣ онь каждый
вечеръ являлся въ оперу совершенно пьяный. Въ
1787 году, за годъ до своей смерти, онъ продолжалъ
слѣдовать той же унизительной привычкѣ.
2) «Божественное и неотъемлемое право короля,—
говоритъ Кемпбелль, - сдѣлалось любимымъ предметомъ
разсужденій, при чемъ совершенно забыли о несовмѣ-
стимости такого ученія съ отношеніями царствующаго
короля къ парламенту». Вальполь говорить, что въ
1760 году «слово «прерогатива» сдѣлалось самымъ мод-
нымъ словомъ».
3) Воспитаніе Георга Ш было чрезвычайно не-
брежно; и онъ самъ, достигнувъ совершенныхъ лѣтъ,
никогда не пытался исправить недостатка своего вос-
питанія, а остался на весь свой долгій вѣкъ въ со-
стояніи жалкаго невѣжества.
12*
180 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
партію, которая, примѣняясь къ преданіямъ старины, всегда гордилась тѣмъ, что
останавливала прогрессъ своего времени. Въ продолженіе шестидесяти лѣтъ своего
царствованія, онъ ни разу не принялъ добровольно въ число своихъ совѣтниковъ,
за исключеніемъ Питта, ни одного особенно даровитаго человѣка *)> ни одного чело-
вѣка, съ именемъ котораго соединялось бы воспоминаніе о какой-либо мудрой мѣрѣ
по внутренней или внѣшней политикѣ. Даже Питтъ сохранилъ свое положеніе въ
государствѣ только тѣмъ, что, забывъ уроки своего знаменитаго отца, оставилъ тѣ
либеральныя начала, въ которыхъ онъ былъ воспитанъ и съ которыми онъ высту-
пилъ на политическое поприще. Вслѣдствіе ненависти Георга III къ самой идеѣ
реформы, Питтъ не только отступилъ отъ того, что онъ самъ прежде признавалъ
совершенно необходимымъ *л), но даже не усомнился преслѣдовать на смерть ту пар-
тію, съ которой онъ нѣкогда дѣйствовалъ заодно, чтобы достигнуть реформы 3). Ге-
оргъ III смотрѣлъ на рабство^ какъ на одинъ изъ добрыхъ, старыхъ обычаевъ, освя-
щенныхъ мудростью его предковъ, и поэтому Питтъ не осмѣливался употребить свою
власть на то, чтобы достигнуть уничтоженія рабства, а оставилъ своимъ преемни-
камъ славу прекращенія той постыдной торговли, поддержаніе которой такъ прини-
малъ къ сердцу его король и повелитель 4). Вслѣдствіе того, что Георгъ III нена-
видѣлъ французовъ, которыхъ онъ зналъ столько же, какъ и жителей Камчатки или
Тибета, Питтъ, вопреки своему собственному убѣжденію, предпринялъ войну съ Фран-
ціей,—войну, которая поставила Англію въ серьезную опасность п обременила англій-
скій народъ долгомъ, котораго и позднѣйшіе потомки его не въ состояніи будутъ
уплатить. Но несмотря на все это, когда Питтъ за нѣсколько лѣтъ до своей смерти
выказалъ рѣшимость предоставить ирландцамъ небольшую долю неоспоримо принад-
лежащихъ имъ правъ, король удалилъ его отъ должности; и «друзья королевскіе»—
какъ ихъ называли — выразили свое негодованіе на дерзость министра, рѣшивша-
гося идти противъ желаній такого кроткаго п милостиваго монарха. А когда, къ не-
счастью для своей славы, этотъ великій человѣкъ рѣшился опять вступить въ мини-
стерство, то ему удалось возвратить свое мѣсто только уступкою того самаго пункта,
по поводу котораго онъ оставилъ должность; и такимъ образомъ онъ представилъ
вредный примѣръ министра свободной страны, приносящаго свое убѣжденіе въ жертву
личнымъ предразсудкамъ царствующаго государя.
Такъ какъ было почти невозможно найти другихъ министровъ, которые съ по-
добнымъ дарованіемъ соединяли бы такую же покорность, то самыя высшія мѣста
были всегда заняты людьми, извѣстными по своей неспособности. Дѣйствительно, ко-
роль повидимому имѣлъ инстинктивную антипатію ко всему великому и благород-
ному. Въ царствованіе Георга II Питтъ Старшій пріобрѣлъ славу, наполнившую
собою весь міръ, и возвелъ Англію на неслыханную дотолѣ степень высоты и вели-
х) См. нѣсколько прекрасныхъ замѣчаній лорда
Джона Росселя въ его предисловіи къ «Весіі'огсі Сог-
гезропйепсе», ѵоі. 111, р. ЬХІІ.
2) Въ одномъ изъ предложеній своихъ о реформѣ
парламента въ 1782 году онъ объявилъ, что она
«существенно необходима». Несправедливо утверж-
даютъ нѣкоторые, будто овъ покинулъ дѣло реформы
только потому, что времена были неблагопріятны для
нея; напротивъ того, въ рѣчи, произнесенной въ пар-
ламентѣ въ 1800 году, онъ сказалъ: «объ этомъ пред-
метѣ, сэръ, я считаю себя обязаннымъ высказать са-
мую сокровенную мысль мою;—считаю себя обязан-
нымъ объявить мое самое рѣшительное мнѣніе, а
именно, что еслибы даже настало время, удобное
для опытовъ, то и тогда всякую, даже малѣй-
шую перемѣну въ такой конешитуиіи слѣдовало
бы признавать за зло».
3) Въ 1794 году Грей упрекалъ его за это въ
палатѣ общинъ: Вилліамъ Піитъ, тогдашній рефор-
меръ, былъ тотъ же Вилліамъ Питтъ, котораго мы нынѣ
, видимъ обвинителемъ и даже преслѣдователемъ рефор-
меровъ». Лордъ Кемпбелль говоритъ: «Онъ потомъ ста-
рался повѣситъ нѣсколько человѣкъ изъ своеіі братьи
реформеровъ, оставшихся вѣрными этому дѣлу».
4і Такъ сильно было расположеніе короля къ
торговлѣ неграми, что въ 1770 году «онъ послалъ
собственноручную инструкцію, въ которой предписыва-
лось губернатору Виргиніи, подъ опасеніемъ сильнѣйшей
немилости, не соглашаться ни на какой законъ, въ
какомъ бы то ни было отношеніи воспрещающій в
I стѣсняющій ввозъ рабовъ». Такимъ образомъ, какъ съ
; негодованіемъ замѣчаетъ Банкрофтъ, въ то время какъ
1 судебныя мѣста рѣшали, «что всякій рабъ становится
свободнымъ, какъ только ступить на англійскую землю,
; король англійскій противился прогрессу человѣчества
и представлялъ собою опору колоніальной торговли
, рабами». Трудно, чтобы камні-нибудь честный чело-
! вѣкъ простилъ Пвггу двусмысленный образъ дѣйствія
І его въ этомъ дѣлѣ.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО ХѴШ СТ. 181
чія. Въ то же время, какъ признанный защитникъ народныхъ правъ, онъ муже-
ственно противодѣйствовалъ деспотическимъ стремленіямъ двора; и за это Георгъ III
ненавидѣлъ его такою ненавистью, какую трудно было себѣ представить въ чело-
вѣкѣ, пользующемся здравымъ умомъ. Фоксъ былъ одинъ изъ самыхъ великихъ госу-
дарственныхъ людей восемнадцатаго вѣка и лучше чѣмъ кто-либо зналъ и харак-
теръ, и средства тѣхъ иностранныхъ націй, съ которыми мы были тѣсно связаны
нашими интересами. Съ этимъ рѣдкимъ и важнымъ знаніемъ въ немъ соединялись
кротость нрава и пріятность характера, которыя исторгали похвалы даже у его
политическихъ противниковъ. Но онъ былъ также постояннымъ защитникомъ граж-
данской и религіозной свободы и потому также ненавидимъ Георгомъ Ш до такой
степени, что король собственноручно вычеркнулъ его имя изъ списка своихъ бли-
жайшихъ совѣтниковъ и объявилъ, что скорѣе откажется отъ престола, чѣмъ допу-
ститъ Фокса принять какое-либо участіе въ управленіи.
Въ то время какъ совершилась такая неблагопріятная перемѣна на престолѣ,
столь же неблагопріятная перемѣна произошла и въ законодательномъ собраніи.
До царствованія Георга III палата лордовъ стояла положительно выше палаты об-
щинъ по либеральному образу мыслей и общему умственному развитію своихъ чле-
новъ. Правда, что въ обѣихъ палатахъ преобладали воззрѣнія, которыя должны
быть признаны узкими и суевѣрными, если судить о нихъ по сравненію съ болѣе
обширными взглядами настоящаго времени, но у пэровъ подобныя понятія умѣря-
рялись воспитаніемъ, которое ставило ихъ много выше тѣхъ невѣжественныхъ
сквайровъ, проведшихъ весь свой вѣкъ па лисьей травлѣ, изъ которыхъ главнымъ
образомъ состояла нижняя палата. Вслѣдствіе такого преимущества въ знаніяхъ
пэры естественнымъ образомъ отличались болѣе широкимъ взглядомъ и болѣе ли-
беральнымъ складомъ мыслей, Чѣмъ лица, называвшіяся представителями народа,
а поэтому старый торійскій духъ, ослабѣвая постепенно въ верхней палатѣ, на-
шелъ убѣжище въ нижней, гдѣ въ теченіе почти шестидесяти лѣтъ послѣ револю-
ціи приверженцы высше-англиканской церкви и дома Стюартовъ составляли опас-
ную для государства партію. Примѣромъ этого направленія можетъ служить судьба
двухъ человѣкъ, оказавшихъ важнѣйшія услуги Ганноверской династіи, а, слѣдова-
тельно. и свободѣ Англіи,—Сомерса и Вальполя. Оба они были замѣчательны своею
приверженностью къ началамъ вѣротерпимости и оба были обязаны своимъ спасе-
ніемъ вмѣшательству палаты лордовъ. Сомерсъ въ самомъ началѣ восемнадцатаго
вѣка былъ защищенъ лордами противъ скандалезнаго обвиненія, взведеннаго на
него другою палатою парламента. Сорокъ лѣтъ спустя послѣ этого палата общинъ,
желая окончательно погубить Вальполя, провела билль, поощрявшій свидѣтелей къ
показаніямъ противъ него освобожденіемъ ихъ впередъ отъ всякой за то отвѣт-
ственности. Эта варварская мѣра прошла въ нижней палатѣ безъ малѣйшаго за-
трудненія; у лордовъ же она отвергнула большинствомъ голосовъ, составлявшимъ
почти 2: 1. Точно также и актъ о схизматикахъ, посредствомъ котораго привер-
женцы церкви подвергали диссентеровъ жестокому наказанію, былъ съ жадностью
принятъ въ палатѣ общинъ сильнымъ и усерднымъ большинствомъ. У лордовъ между
тѣмъ число голосовъ раздѣлилось почти поровну; и хотя билль былъ принятъ, но
къ пему присовокуплены исправленія, въ нѣкоторой степени смягчающія жестокость
вводимыхъ имъ постановленій.
Это превосходство верхней палаты надъ нижнею вообще сохранялось неизмѣн-
нымъ во все продолженіе царствованія Георга II, такъ какъ министры не заботи-
лись объ усиленіи партіи высше-англиканской церкви въ палатѣ лордовъ, а самъ
король такъ рѣдко жаловалъ достоинство пэра, что всѣ считали его особенно не-
расположеннымъ къ умноженію этого сословія.
Георгу III было суждено неумѣреннымъ употребленіемъ своей прерогативы
совершенно измѣнить характеръ верхней палаты и такимъ образомъ положить на-
чало тому упадку въ общественномъ мнѣніи, которому съ тѣхъ поръ постепенно
182
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
подвергались пэры. Пожалованія при немъ были многочисленнѣе, чѣмъ когда-либо,
и имѣли очевидно цѣлью пейтрализпрованіе преобладавшаго до тѣхъ поръ либераль-
наго духа и обращеніе палаты лордовъ въ орудіе для противодѣйствія желаніямъ
націи и замедленія успѣховъ реформы. До какой степени планъ удался—это хорошо
извѣстно всѣмъ, читавшимъ нашу исторію. И, дѣйствительно, можно было ручаться
за удачу его, принявъ въ соображеніе свойства тѣхъ людей, которые были пожало-
ваны въ пэры. Они почти безъ исключенія принадлежали къ двумъ классамъ: къ
деревенскимъ помѣщикамъ, замѣчательнымъ только по своему богатству и по коли-
честву голосовъ, которыми это богатство давало имъ возможность располагать, и
изъ простыхъ законниковъ, достигшихъ судебныхъ мѣстъ, частью по своей спеці-
альной учености, но главнымъ образомъ по тому усердію, съ какимъ они трудились
для подавленія правъ народа и усиленія королевской прерогативы*
Что наше описаніе не преувеличено—въ этомъ можетъ удостовѣриться всякій,
кто только захочетъ просмотрѣть списки новыхъ пэровъ, пожалованныхъ Георгомъ III.
Изрѣдка мы находимъ въ нихъ какого-нибудь замѣчательнаго человѣка, заслуги ко-
тораго передъ обществомъ были такъ извѣстны, что невозможно было не вознагра-
дить пхъ; но, оставивъ въ сторонѣ тѣхъ, которые были какъ бы навязаны государю,
нельзя не согласиться, что остальные, составляющіе конечно огромное большинство,
отличались узкостью п нелиберальностью понятій, которыя болѣе чѣмъ что-либо дру-
гое содѣйствовали къ навлеченію презрѣнія на все ихъ сословіе х). Ни великихъ
мыслителей, пи великихъ писателей, ни великихъ ораторовъ, ни великихъ государ-
ственныхъ людей — никого изъ истинной аристократіи страны нельзя было найти
между этими поддѣльнымиціэрами, пожалованными при Георгѣ III. И представитель-
ство матеріальныхъ интересовъ государства было не лучше составлено въ этомъ
странномъ сбродѣ людей. Между значительнѣйшими людьми въ Англіи одно изъ са-
мыхъ высшихъ мѣстъ принадлежало лицамъ, занимавшимся банкирскимъ дѣломъ и
торговлею; съ конца семнадцатаго столѣтія вліяніе ихъ быстро возрастало; ихъ спо-
собности. ихъ открытый, послѣдовательный образъ дѣйствій и вообще знаніе дѣла
ставили ихъ во всѣхъ отношеніяхъ выше тѣхъ сословій, изъ среды которыхъ те-
перь пополнялась верхняя палата. Но въ царствованіе Георга на право такого рода
обращалось мало вниманія, и Бёркъ, авторитетъ котораго по этому предмету никто
пе станетъ оспаривать, утверждаетъ, что пи въ какое другое время не было повы-
шено въ званіе пэровъ такъ мало людей, участвующихъ въ торговлѣ.
Мы бы никогда не кончили, еслибъ стали собирать всѣ признаки, обозначаю-
щіе политическій упадокъ Англіи въ этотъ періодъ,—упадокъ, тѣмъ болѣе разитель-
ный, что онъ противорѣчплъ духу времени и что онъ совершился вопреки великому
прогрессу, и соціальному, и умственному. О томъ, какимъ образомъ этотъ прогрессъ
оставилъ, наконецъ, политическую реакцію и даже сообщилъ ей обратное движеніе,
мы будемъ говорить въ другой части этого труда; но есть одно обстоятельство, о
которомъ я не могу поговорить довольно пространно, такъ какъ оно жпво изобра-
жаетъ тогдашнее направленіе государственныхъ дѣлъ и въ то же время выясняетъ
характеръ одного изъ самыхъ великихъ людей вообще и величайшаго мыслителя
изъ всѣхъ политическихъ дѣятелей Апгліп, за исключеніемъ развѣ одного Бэкона.
Въ самомъ даже краткомъ очеркѣ царствованія Георга III составило бы непоз-
волительный пробѣлъ, еслибъ было опущено имя Эдмунда Бёрка. Этотъ необыкно-
Ч Въ то время уже было предсказано, что по-
слѣдствіемъ многочисленныхъ пожалованій, состояв-
шихся во время управленія Питта, будетъ униженіе
палаты лордовъ. Но слово этихъ людей, хотя п пол-
ное негодованія, еще было стѣснено желаніемъ не по-
ссораіься совершенно съ дворомъ. Другія лица, болѣе
независимыя по положенію и вс заботящіяся о ви-
дахъ па замятіе должностей, держали такія рѣчи, ка-
кихъ еще никогда пе слыхали въ стѣнахъ парламента.
Ролль, напримѣръ, объявилъ, что «во время управле-
нія нынѣшняго министра пожалованы въ пэры люди
такіе, которые не годились бы ему въ грумы». Внѣ
парламента чувство презрѣнія было также сильно.
См. также замѣчаніе вѣжливаго *$ра Вилліама Джонса
о возрастающемъ презрѣніи къ учености, вызывае-
момъ «аристократами нашихъ временъ».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО ХѴШ СТ.
183
венный человѣкъ изучилъ не только все, что входитъ въ область политики х), но м
безчисленное множество другихъ предметовъ, которые хотя повидимому чужды поли-
тикѣ, но въ дѣйствительности составляютъ важное для нея пособіе, такъ какъ для
истинно философскаго ума каждая отрасль знанія служитъ къ проясненію взгляда
на всѣ другія и даже на тѣ, которыя кажутся самыми отдаленными отъ нея. По-
хвала, высказанная ему однимъ человѣкомъ, сужденія котораго имѣютъ неоспоримую
цѣну, можетъ быть оправдана,—болѣе чѣмъ оправдана,—какъ цитатами изъ его со-
чиненій, такъ и мнѣніями самыхъ замѣчательныхъ изъ его современниковъ. Между
тіімъ какъ его глубокое знаніе философіи права пріобрѣло ему высокое мнѣніе юри-
стовъ, знакомство его со всею областью изящныхъ искусствъ и теоріею ихъ возбуж-
дало удивленіе художниковъ,- -поразительное соединеніе двухъ видовъ умственнаго
труда, которые нерѣдко, хотя и ошибочно, признаются несовмѣстимыми. Въ то же
время мы знаемъ изъ достовѣрныхъ источниковъ, что, несмотря на труды полити-
ческой дѣятельности своей, онъ много занимался исторіею и происхожденіемъ язы-
ковъ, этимъ обширнымъ предметомъ, который въ послѣднія тридцать лѣтъ сталъ
однимъ изъ важнѣйшихъ вспомогательныхъ средствъ для изученія человѣческаго ума,
между тѣмъ какъ тогда самая идея о немъ, въ болѣе широкомъ смыслѣ, только на-
чинала выясняться въ умахъ немногихъ отдѣльныхъ мыслителей. Но еще замѣча-
тельнѣе тотъ фактъ, что когда Адамъ Смитъ прибылъ въ Лондонъ, полный тѣми
истинами, открытіе которыхъ обезсмертило его имя, онъ, къ изумленію своему, на-
шелъ, что Бёркъ предвосхитилъ нѣкоторые выводы, выработка которыхъ стоила самому
Смиту многихъ лѣтъ напряженнаго и непрерывнаго труда.
Съ способностью къ этимъ великимъ изслѣдованіямъ, касающимся основаній
соціальной науки, въ Бёркѣ соединялись значительныя познанія въ наукахъ есте-
ственныхъ и даже знакомство съ практическими пріемами и рутиною механическихъ
ремеслъ. Все это было вполнѣ переварено и выработано въ его умѣ и готово на всякій
случай, не такъ какъ знанія дюжинныхъ политиковъ^ разбитыя и разбросанныя от-
рывками, а какъ нѣчто стройное, цѣлое, слитое воедино силою дарованія, умѣвшаго
придать жизнь самымъ скучнымъ занятіямъ. Дѣйствительно, это было характеристи-
кою чертою Бёрка, что въ его рукахъ ничто не оставалось безплоднымъ. Умъ его
отличался такою силою и такимъ богатствомъ, что плоды его проявлялись во всѣхъ
направленіяхъ и что онъ могъ придать значеніе самымъ ничтожнымъ предметамъ,
обнаруживъ связь ихъ съ общими началами и ту роль, которую они играютъ въ
великой системѣ дѣлъ человѣческихъ,
Но что мнѣ всегда казалось еще болѣе замѣчательнымъ въ характерѣ Бёрка—
это та умѣренность, съ какою оігь всегда пользовался своими необыкновенными по-
знаніями. Въ продолженіе лучшей части его жизни политическія начала, которыми
онъ руководствовался, были далеко не отвлеченныя, а совершенно практическія.
Это въ особенности поражаетъ насъ, потому что ему представлялись всевозможные
соблазны принять противоположное направленіе. Онъ имѣлъ въ своемъ распоряже-
ніи несравненно болѣе матеріаловъ для обобщеній, чѣмъ кто-либо изъ политическихъ
а) Никольсъ, знавшій его лично, говоритъ: «по-
литическія познанія Бёрка можно считать почти энци-
клопедическими; каждый, кто только сближался съ нимъ,
почерпалъ новыя свѣдѣнія изъ его запасовъ». «Кругъ
познаніи, обнятыхъ его геніальнымъ умомъ,—по отзыву
Галля,—былъ громаденъ. Его могучая любознатель-
ность обложила данью всю природу и собрала богат-
ства со всѣхъ царствъ творенія и всѣхъ областей
искусства». Вильберфорсъ также говоритъ о немъ:
«овъ поздно вступилъ въ парламентъ и имѣлъ время
собрать огромные запасы познаній. Поле, на которомъ
онь, какъ жатву, собиралъ примѣры для развитія
стахъ мыслей, было изумительно плодородно. Какъ
у дѣвушки, награжденной милостями волшебницы, въ
дѣтской сказкѣ,—изъ устъ его, какъ только онъ от-
крывалъ ихъ, сыпались жемчужины и брилліанты».
Но самая благородная похвала Бёрку была вы-
сказана человѣкомъ, стоящимъ въ первомъ ряду ан-
глійскихъ государственныхъ дѣятелей. Въ 1790 году
Фоксъ сказалъ въ палатѣ общинъ: «еслибы я поло-
жилъ съ одной стороны всѣ политическія знанія, ка-
кія я заимствовалъ изъ книгъ и пріобрѣлъ съ по-
мощью науки, и все то, чему научило меня знаком-
ство съ міромъ и мірскими дѣдами, а съ другой—
сумму всѣхъ тѣхъ свѣдѣній, какія я извлекъ изъ по-
учительной бесѣды съ моимъ достопочтеннымъ дру-
гомъ,—то я не могъ быть рѣшить, которой изъ двухъ
суммъ должно быть отдано предпочтеніе».
184 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
дѣятелей его времени, а умъ его былъ чрезвычайно склоненъ къ широкимъ взгля-
дамъ. Часто, и даже всегда, какъ только представлялся къ тому случай, онъ про-
являлъ способности самостоятельнаго мыслителя-философа. Но съ того момента, какъ
онъ становился на почву политическую, онъ совершенно измѣнялъ свой методъ. Въ
вопросахъ, касающихся до накопленія и распредѣленія богатства, Онъ видѣлъ, что,
исходя отъ немногихъ простыхъ началъ,—можетъ быть построена дедуктивная наука,
удобопримѣнимая къ коммерческимъ и финансовымъ интересамъ государства. Далѣе
этого онъ отказывался идти, зная, что за этимъ единственнымъ исключеніемъ всѣ
отрасли политики имѣютъ характеръ чисто эмпирическій и вѣроятно долго сохра-
нятъ его. Поэтому онъ признавалъ во всѣхъ его примѣненіяхъ то великое правило,
къ сожалѣнію слишкомъ часто забываемое и въ наше время, что цѣлью законодателя
должна быть не истина, а польза. Взирая на настоящее положеніе знанія, онъ дол-
женъ былъ согласиться, что всѣ начала политики извлечены поверхностнымъ наве-
деніемъ изъ весьма ограниченной суммы фактовъ, и что поэтому благоразумный че-
ловѣкъ, когда ему приходится присовокуплять новые факты къ данной суммѣ, долженъ
повѣрять самый процессъ наведенія и вмѣсто того, чтобы приносить практическія
соображенія въ жертву принципамъ,—видоизмѣнять принципы ради измѣненій прак-
тики. Или—чтобы выразить^ эту мысль иначе—Бёркъ полагаетъ, что политическія
начала, какъ бы высоко мы ихъ ни цѣнили, суть только произведенія человѣческаго
ума, между тѣмъ какъ политическая практика имѣетъ дѣло съ человѣческими стра-
стями и человѣческою природою, къ которой разумъ относится, какъ часть къ цѣ-
лому 2), и что, слѣдовательно, истинное призваніе государственнаго человѣка заключается
въ томъ, чтобы изыскивать .мѣры, посредствомъ которыхъ могутъ быть достигнуты
извѣстныя цѣли, предоставляя общественному мнѣнію страны рѣшить, какія именно
должны быть эти цѣли, и направляя свои дѣйствія не по своимъ собственнымъ
убѣжденіямъ, а согласно съ желаніями народа, для котораго онъ пишетъ законы и
которому онъ въ то же время обязанъ повиноваться 2).
Эти именно воззрѣнія и необыкновенный талантъ, съ которымъ они были защи-
щаемы, дѣлаютъ появленіе Берка достопамятною эпохою въ нашей политической
исторіи. Мы безъ сомнѣнія имѣли до него другихъ государственныхъ людей, отри-
цавшихъ силу общихъ началъ въ политикѣ, но ихъ отрицаніе было только счастли-
вою догадкою невѣжества; они отвергали теоріи, которыхъ не дали себѣ труда изу-
чить; Бёркъ же отвергалъ теоріи, потому что зналъ ихъ. Весьма рѣдкою заслугою
его было то, что, имѣя всевозможныя основанія полагаться на свои обобщенія,
онъ устоялъ противъ этого соблазна; что, несмотря на свой богатый запасъ свѣ-
х) «Политика,—говоритъ Беркъ—должна примѣ-
няться не къ человѣческимъ умствованіямъ, а къ че-
ловѣческой природѣ, которой разумъ составляетъ лишь
часть и никакъ но самую большую», На этой мысли
основано различіе, никогда не упускавшееся имъ изъ
виду, между обобщеніями философіи, которыя должны
быть неприкосновенны, и обобщеніями политики, ко-
торыя должны измѣняться. На томъ же основаніи онъ
говоритъ: «Мудрость гражданская или политическая
не можетъ быть очерчена никакими неизмѣнными
чертами. Существо ея не подлежитъ точному опредѣ-
ленію».
2) Въ 1780 году онъ прямо высказалъ палатѣ
общинъ, что «народу стоитъ только высказать свои
потребности въ общемъ и обширномъ смыслѣ, а мы—
опытные художники или искусные рабочіе, обязан-
ные придать этимъ желаніямъ совершенную форму и
приспособить орудіе къ предстоящему употребленію.
Пародъ—это больной, нысказывающій симптомы бо-
лѣзям, а мы узнаемъ, въ какомъ именно мѣстѣ нахо-
дится недугъ, и умѣемъ лечить его сообразно съ пра-
вилами пауки. Какъ ужасно было бы. еслибы мы
стали обращать наше искусство па зловредныя и раб-
скія ухищренія съ тѣмъ, чтобы уклониться отъ на-
шей обязанности и обманомъ лишить тѣхъ, чьи инте-
ресы мы должны оберегать,—предмета ихъ справед-
ливыхъ ожиданій», Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ:
«слѣдовать общественному настроенію, а не насиловать
его; давать направленіе, образъ, техническую форму
и слабую санкцію преобладающимъ воззрѣніямъ обще-
ства — таково истинное назначеніе законодательной
власти». Было бы ужасно въ самомъ дѣлѣ, еслпбъ
существовала въ націи какая-нибудь сила, способная
противостоять ея едияо^щному желанію или даже
желанію какого-нибудь весьма значительнаго и рѣши-
тельнаго большинства народа. Народъ можетъ обма-
нуться въ своемъ выборѣ к&кой-нибудь цѣли; но я
почти не могу представить себѣ, чтобы какой бы то
ни было выборъ, который онъ можетъ сдѣлать, былъ
до такой степени пагубенъ, какъ существованіе какой-
нибудь человѣческой силы, способной противостоять
ому. Точно также онъ говоритъ, что когда прави-
тельство и пародъ не согласны во взглядахъ, то оши-
бается обыкновенно правительство.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
185
дѣній по всѣмъ отраслямъ политическаго знанія, онъ подчинялъ свои мнѣнія ходу
событій; что онъ признавалъ цѣлью правительства не сохраненіе какихъ-либо осо-
быхъ учрежденій, не распространеніе извѣстныхъ понятій, а благоденствіе всей
массы народа, и что выше всего—требовалъ такого вниманія къ народнымъ жела-
ніямъ, какого до него не оказывалъ никто изъ государственныхъ людей и о которомъ
послѣ него слишкомъ многіе изъ нихъ забывали. Дѣйствительно, отечество наше и
донынѣ наполнено тѣми дюжинными политиками, противъ которыхъ возвышался го-
лосъ Бёрка,*—слабыми и ограниченными людьми, которые, растративъ свои неболь-
шія силы въ борьбѣ съ успѣхами реформы, видятъ себя, наконецъ, вынужденными
уступить и затѣмъ, истощивъ всѣ хитрости своей мелочной системы и посѣявъ своимп
поздними и нехотя сдѣланными уступками сѣмена будущаго недовольства,—возстаютъ
противъ вѣка, обманувшаго ихъ ожиданія, скорбятъ о вырожденіи человѣчества,
жалуются на упадокъ національнаго духа и оплакиваютъ участь народа, который
до такой степени пренебрегаетъ мудростью предковъ, что рѣшается коснуться кон-
ституціи, освященной вѣковой давностью.
Всякій, кто только изучалъ царствованіе Георга Ш, легко пойметъ, какимъ
огромнымъ преимуществомъ было для Англіи имѣть такого человѣка, какъ Бёркъ,
для противодѣйствія этимъ жалкимъ заблужденіямъ,—заблужденіямъ, оказавшимъ
гибельное вліяніе на многія государства и нѣсколько разъ едва не погубившимъ
и наше отечество х). Всякій также пойметъ, что во мнѣніи короля этотъ великій
государственный человѣкъ былъ не болѣе, какъ краснорѣчивый декламаторъ, при-
надлежащій къ одной категоріи съ Фоксомъ и Чатамомъ; всѣ трое казались ему
людьми даровитыми, но ненадежными, неосновательными, совершенно неспособными
къ серьезнымъ дѣламъ и недостойными такой высокой/чести, какъ допущеніе въ
королевскіе совѣты. Дѣйствительно, во всѣ тридцать лѣтъ, которыя Бёркъ провелъ
въ общественной дѣятельности, онъ никогда не имѣлъ никакой должности въ каби-
нетѣ, и единственные случаи, когда онъ занималъ какое-нибудь хоть очень невы-
сокое мѣсто, бывали въ тѣ краткіе промежутки времени, когда колебанія политики
вынуждали составленіе либеральнаго министерства.
Дѣйствительно, участіе, которое принималъ Бёркъ въ государственныхъ дѣлахъ,
должно было быть очень обидно для короля, считавшаго хорошимъ все, что было
старо, и справедливымъ все, чтб издавна установлено 2). Этотъ замѣчательный че-
ловѣкъ настолько опередилъ своихъ современниковъ, что между великими мѣрами,
принятыми нынѣшнимъ поколѣніемъ, весьма немного такихъ, которыя бы онъ не
предусмотрѣлъ и горячо не отстаивалъ. Онъ не только опровергалъ нелѣпые законы
противъ барышничества и перекупа, но поражалъ самый корень всякихъ подобныхъ
запрещеній, отстаивая свободу торговли. Онъ поддерживалъ тѣ справедливыя тре-
бованія католиковъ, которыя при жизни его постоянно встрѣчали упорный отказъ,
а много лѣтъ спустя послѣ его смерти были удовлетворены, когда это оказалось
1) Бёркъ никогда не переставалъ опровергать часто
высказываемое мнѣніе, будто если страна долгое время '
процвѣтала при какомъ-либо особомъ учрежденіи, то ;
это значитъ, что такое учрежденіе вообще полезно, і
Си. превосходный примѣръ такого опроверженія въ і
рѣчи его о правѣ генеральнаго атторнея возбуждать і
обвиненія ех ойісіо, гдѣ онъ уподобляетъ людей, та-
кимъ образомъ судящихъ, отцу Скриблеруса, который |
«уважаетъ ржавчину и плѣсень, превращающія мѣд-
ную крышку съ кастрюли въ щитъ героя»; затѣмъ 1
онъ присовокупляетъ: «По намъ говорятъ, сэръ, что
то время, когда это право существовало, было вре-
менемъ наибольшаго процвѣтанія монархіи. Что же? .
развѣ двѣ вещи не могутъ существовать одновремен- 1
но, не будучи связаны между собою, какъ причина и
послѣдствіе? Развѣ какой-нибудь человѣкъ по могъ 1
бы пользоваться лучшимъ здоровьемъ вь то время, |
когда онъ ходилъ бы съ дубовою палкою, чѣмъ впо-
слѣдствіи, когда онъ ее перемѣнилъ бы на трость,—
безъ того, чтобы не заставить насъ, подобно друи-
дамъ, полагать, что въ дубѣ скрываются таинствен-
ныя силы и что здоровье его было послѣдствіемъ
употребленія палки».
2) Легко себѣ представить, какъ долженъ быль
оскорбляться Георгъ ІИ такого рода мыслями, какъ
напримѣръ слѣдующія: «Я не понимаю тѣхъ,—гово-
ритъ Бёркъ,—которые возстаютъ противъ всякаго на-
рушенія общественнаго спокойствія; я желаю, чтобы
вездѣ слышался крикъ, гдѣ существуетъ злоупотреб-
леніе. Пожарный набатъ въ полночь прерываетъ вашъ
сонъ, но предохраняетъ васъ оть опасности сгорѣть
въ постели. Судебные процессы по дѣламъ о воров-
ствѣ нарушаютъ спокойствіе графства, но служатъ къ
охраненію собственности во всей провинціи».
186
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
единственнымъ средствомъ сохранить цѣлость монархіи. Онъ поддерживалъ хода*
тайство диссентеровъ объ освобожденіи ихъ отъ тѣхъ стѣсненій, которымъ они были
подвергнуты для выгодъ англиканской церкви. Во всѣ прочія отрасли политики онъ
вносилъ тотъ же самый духъ. Онъ дѣйствовалъ противъ жестокихъ законовъ о не-
состоятельности. которые во времена Георга III еще безобразили нашу книгу ста-
тутовъ, и тщетно старался смягчить уголовный кодексъ, возрастающая строгость
котораго была одною изъ худшихъ чертъ этого дурного царствованія. Онъ желалъ
уничтожить старое обыкновеніе брать солдатъ въ службу на всю жизнь—обыкновеніе
варварское и противное здравой политикѣ, — что сталъ замѣчать нѣсколько лѣтъ
спустя и англійскій парламентъ. Онъ возсталъ противъ торговли невольниками, ко-
торую король хотѣлъ сохранить, какъ старинный обычай, видя въ ней принадлеж-
ность британской конституціи. Бёркъ порицалъ, хотя, благодаря предразсудкамъ своего
времени, не могъ ниспровергнуть, опасное право, которымъ пользовались судьи въ
уголовныхъ процессахъ по дѣламъ о пасквиляхъ— предоставлять присяжнымъ на
рѣшеніе только вопросъ о фактѣ изданія, присвоивая себѣ такимъ образомъ соб-
ственно право рѣшенія дѣла и слѣдовательно полную власть надъ судьбою лицъ,
имѣвшихъ несчастіе подвергнуться ихъ суду х). А что многіе почтутъ не послѣднею
изъ его заслугъ—это то, что онъ былъ первымъ въ длинномъ рядѣ финансовыхъ
реформаторовъ, которымъ мы такъ много обязаны. Несмотря на представлявшіяся
ему затрудненія, онъ провелъ въ парламентѣ рядъ биллей, которыми были совсѣмъ
уничтожены нѣсколько безполезныхъ должностей и въ одномъ управленіи генераль-
наго казначея сдѣлано ежегоднаго сбереженія до 25.000 ф. ст.
Эти обстоятельства уже одни достаточно могутъ/объяснить вражду государя,
хвалившагося іѣмъ, что онъ передастъ королевство своему наслѣднику совершенно
въ томъ видѣ, въ какомъ самъ получилъ его. Было однако еще одно обстоятельство,
особенно раздражавшее чувства короля. Рѣшимость Георга смирить американцевъ
была такъ всѣмъ извѣстна, что, когда война дѣйствительно вспыхнула, ее называли
«королевскою войною», и на всѣхъ тѣхъ, которые были противъ нея, смотрѣли, какъ
на личныхъ враговъ государя 3). Впрочемъ, и въ этомъ вопросѣ, какъ и во всѣхъ
другихъ, Бёркъ руководствовался не преданіями и принципами, подобными тѣмъ,
которыя лелѣялъ Георгъ III, а широкими воззрѣніями на всеобщее благо. Бёркъ въ
составленіи своихъ убѣжденій объ этой безславной распрѣ не хотѣлъ руководство-
ваться доводами, относящимися къ праву той или другой стороны. Онъ не хотѣлъ
входить въ разсужденіе о томъ, имѣетъ ли метрополія право облагать податями свои
колоніи, или же колоти имѣютъ пра,во сами опредѣлять свои подати. О подобныхъ
вопросахъ онъ предоставлялъ разсуждать тѣмъ политикамъ, которые, увѣряя, что
слѣдуютъ принципамъ, въ дѣйствительности рабски подчиняются предразсудкамъ.
Съ своей стороны онъ довольствовался тѣмъ, что сравнивалъ стоимость борьбы съ
выгодами отъ нея. Для него было достаточно того, что, принимая въ соображеніе
силы нашихъ американскихъ колоній, отдаленіе ихъ отъ Англіи и вѣроятность ока-
занія имъ помощи со стороны Франціи, не благоразумно было проявлять нашу власть,
а потому и безполезно толковать о правѣ. Такимъ образомъ онъ противился нало-
женію подати на Америку не потому, что прежде не было такихъ примѣровъ, а по-
тому, что мѣра эта не могла достигнуть цѣли. Естественнымъ послѣдствіемъ этого
было то, что онъ противился также биллю о Бостонскомъ портѣ и тому постыдному
х) Доводы Берка болѣе чѣмъ двадцатью годами
предупредили знаменитый ІяЬеІІ ВіП (билль о паскви-
ляхъ) Фокса, которыя былъ утвержденъ пе ранѣе
1792 г»; впрочемъ, съ 1752 г. присяжные стали, не
взирая на домогательства судей, произносить приго-
воры вообще и о виновности.
2) Въ 1778 году лордъ Роккнигамъ сказалъ въ
палатѣ лордовъ: «вмѣсто того, чтобы называть воину
съ американцами войною парламента илп народа, ее
называли вонною короля, любимою войною его вели-
чества». Нпккольсъ говоритъ: «Война считалась лич-
нымъ дѣломъ короля. Тѣ, которые стояли за нее, на-
зывались друзьями короля, а лицъ, желавшихъ, чтобы
Англія остановилась и размыслила о тонъ, прилично
ли продолжать эту распрю, клеймили именемъ невѣр-
ныхъ подданныхъ».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
187
биллю о воспрещеніи всякихъ сношеній съ Америкой, который былъ названъ до-
вольно удачно проектомъ покоренія ея посредствомъ голода.;—таковы были жестокія
мѣры, которыми король надѣялся смирить колоніи и подавить духъ благородныхъ
мужей, которыхъ онъ ненавидѣлъ еще болѣе, чѣмъ боялся
Довольно яркою характеристикою тѣхъ временъ можетъ служить то, что такой
человѣкъ, какъ Бёркъ .посвятивъ политической дѣятельности способности, достойныя
несравненно высшаго назначенія, въ продолженіе тридцати лѣтъ не получилъ отъ
своего государя никакой милости и никакой награды. Георгъ III былъ король, нахо-
дившій наслажденіе въ томъ, чтобы возвышать смиренныхъ и превозносить покорныхъ.
Дѣйствительно, его царствованіе было золотымъ вѣкомъ счастливой посредственности,—
вѣкомъ щедротъ для мелкихъ людей и угнетеній для великихъ. Аддингтона осыпали
милостями, какъ государственнаго мужа, а Битти (Веаіѣіе) получалъ пенсію, какъ
представитель философіи; и вообще на всѣхъ путяхъ общественной дѣятельности
главнымъ условіемъ возвышенія было льстить старымъ предразсудкамъ и поддержи-
вать укоренившіяся злоупотребленія.
Такое пренебреженіе, оказанное самому даровитому изъ политическихъ дѣяте-
лей Англіи, въ высокой степени назидательно, но обстоятельства, послѣдовавшія за
этимъ, хотя чрезвычайно прискорбныя, представляютъ еще болѣе глубокій интересъ
и вполнѣ заслуживаютъ вниманія тѣхъ, которые по складу своего ума расположены
изучать умственныя способности великихъ людей*
Теперь, когда прошло столько времени и ближайшихъ родственниковъ Бёрка
уже нѣтъ въ живыхъ, было бы излишнею съ нашей стороны деликатностью отри-
цать, что онъ въ послѣдніе годы своей жизни впалъ/въ состояніе совершеннаго
помѣшательства. Когда вспыхнула французская революція, то умъ его, уже изнемо-
гавшій подъ тяжестью безпрестаннаго труда, не могъ / вынести мысли о событіи столь
безпримѣрномъ, столь поразительномъ и угрожающемъ послѣдствіями, столь ужасными
по своей громадности. А когда злодѣянія этой великой революціи, вмѣсто того чтобы
уменьшаться, продолжали увеличиваться, тогда чувства Бёрка окончательно пере-
силили его разсудокъ; равновѣсіе было нарушено, соразмѣрность между отправле-
ніями этого громаднаго ума исчезла. Съ этого момента его сочувствіе къ настоя-
щему страданію стало такъ сильно, что онъ совершенно забылъ о причинахъ, кото-
рыми это страданіе было навлечено. Его умъ, нѣкогда столь положительный, столь
независимый отъ предразсудковъ и страстей., поддался давленію тѣхъ событій, ко-
торыя довели до помѣшательства и тысячи другихъ людей 2). Всякій, кто захочетъ
сличить духъ его послѣднихъ произведеній со временемъ изданія каждаго изъ нихъ,
увидитъ, до какой степени эта прискорбная перемѣна сильнѣе обозначилась послѣ
горькой потери, оставившей на немъ неизгладимый слѣдъ и вполнѣ достаточный,
чтобы убить разсудокъ въ человѣкѣ, въ которомъ строгость разума на столько умѣ-
рялась и такъ превосходно уравновѣшивалась теплотою чувства. Навсегда незабвен-
ными останутся встрѣчающіеся въ его сочиненіяхъ трогательные, утонченно-нѣжные
намеки на смерть единственнаго сына, который былъ отрадою его души и предме-
томъ гордости сердца, и которому онъ надѣялся завѣщать впослѣдствіи свое без-
смертное имя. Мы никогда не забудемъ ту картину одинокаго страданія, въ кото-
Глубокая ненависть, съ которою Георгъ III
смотрѣлъ на американцевъ, была такъ естественна въ
подобномъ характерѣ, что его почти нельзя осуждать
за обнаруживаніе этихъ чувствъ во все время борьбы.
По особенно постыдно то, что послѣ окончанія войны
оиъ высказалъ эту злобу въ томъ случаѣ, въ кото- I
ромъ болѣя чѣмъ когда-либо онъ долженъ былъ бы 1
превозмочь ее. Въ 1786 году Джефферсонъ и Адамсъ
съ оффиціальною цѣлью посѣтили Англію и, желая
оказать вѣжливость королю, явились ко двору. По
Георгъ ІИ до такой степени пренебрегъ самыми обык-
новенными требованіями приличія, возлагаемыми его
саномъ, что обошелся съ этими замѣчательными людьми
весьма невѣжливо, несмотря на то, что они явились
засвидѣтельствовать ему свое уваженіе въ сто соб-
ственный дворецъ.
2) Всѣ великія революціи имѣютъ прямое влія-
ніе на умноженіе случаевъ помѣшательства во все
время продолженія переворотовъ и вѣроятно и на нѣ-
сколько времени послѣ пихъ; но и въ этомъ отноше-
ніи, какъ и въ другихъ, французская революція выдѣ-
ляется изъ числа всѣхъ по количеству своихъ жертвъ.
188
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
рой этотъ благородный старецъ выразилъ свое неизмѣримое горе. «Жизнь моя идетъ
обратнымъ порядкомъ. Тѣ, которые должны были наслѣдовать мнѣ, отошли прежде
меня. Тѣ, которымъ слѣдовало быть для меня потомствомъ, заняли мѣсто предковъ...
Буря сразила меня, и я палъ подобно одному изъ старыхъ дубовъ, разбросанныхъ
вкругъ меня послѣднимъ ураганомъ. Я лишенъ всего, чѣмъ красовался, я вырванъ
съ корнями и лежу поверженный на землѣ».
Приподнять занавѣсъ и прослѣдить разрушеніе такого могучаго ума было бы
едва-ли не болѣзненнымъ проявленіемъ любопытства. Дѣйствительно, во всѣхъ по-
добныхъ случаяхъ большая часть свидѣтельствъ утрачивается; тѣ, которые имѣютъ
наиболѣе возможности наблюдать слабости великаго человѣка, бываютъ наименѣе
расположены разсказывать о нихъ. Достовѣрно, что перемѣна въ Бёркѣ впервые
сдѣлалась вполнѣ замѣтна съ самаго начала французской революціи; что она была
усилена смертью его сына и что состояніе его постепенно становилось хуже до тѣхъ
поръ, пока поприще его не заключилось смертью. Въ его «Размышленіяхъ о фран-
цузской революціи», въ его «Замѣчаніяхъ о политикѣ союзниковъ», въ «Письмѣ къ
Элліоту», въ «Письмѣ къ благородному лорду» и въ «Письмахъ о цареубійствен-
номъ мирѣ» («Ьеіѣегв оп а Кедісісіе Реасе») мы можемъ прослѣдить постепенные
переходы возрастающаго, а, наконецъ, и неудержимаго раздраженія. Единственному
принципу ненависти къ французской революціи онъ пожертвовалъ самыми старыми
связями своими и самыми близкими друзьями. Фоксъ, какъ достовѣрно извѣстно,
всегда смотрѣлъ на Бёрка, какъ на учителя, изъ рѣчей котораго онъ почерпалъ
уроки политической мудрости. Бёркъ съ своей стороны ѣполнѣ признавалъ обшир-
ное дарованіе своего друга и любилъ его за его дружелюбіе, за его увлекательное
обхожденіе, противъ которагр, какъ было замѣчено многими, никто не могъ устоять.
Но теперь безъ малѣйшей личной ссоры, которая могла бы служить къ тому пред-
логомъ, эта давняя короткость была грубо прервана. За то, что Фоксъ не захотѣлъ
отказаться отъ любви къ свободѣ народовъ, отъ того чувства, которое они долго
питали вмѣстѣ, Бёркъ публично, съ своего мѣста въ парламентѣ, объявилъ, что
дружбѣ ихъ конецъ, такъ какъ онъ не хочетъ имѣть болѣе никакого сношенія съ
человѣкомъ, стоящимъ за французскій народъ. Въ то время и даже въ тотъ самый
вечеръ, когда это случилось, Бёркъ, извѣстный дотолѣ вѣжливостью своего обра-
щенія х), нанесъ прямое оскорбленіе еще одному изъ своихъ друзей, возвращаясь
домой въ его каретѣ и въ состояній бѣшенаго раздраженія потребовавъ, чтобы его
тотчасъ выпустили изъ экипажа, среди ночи и при проливномъ дождѣ, потому что
онъ не хотѣлъ, по его словамъ, сидѣть возлѣ человѣка, расположеннаго къ револю-
ціонному ученію французовъ.
Несправедливо даже полагаютъ нѣкоторые, будто эта мономанія вражды была
направлена единственно противъ той части французскаго народа, которая заслужи-
вала того своими преступленіями. Трудно было бы, какъ въ этомъ вѣкѣ, такъ и во
всякомъ другомъ, найти двухъ человѣкъ, отличающихся болѣе дѣятельнымъ и болѣе
пламеннымъ желаніемъ блага, чѣмъ Кондорсэ и Лафайетть. Сверхъ того Кондорсэ
былъ одинъ изъ самыхъ глубокихъ мыслителей своего времени и останется незаб-
веннымъ до тѣхъ поръ, пока геній будетъ пользоваться нашимъ уваженіемъ. Ла-
файеттъ безъ сомнѣнія стоялъ ниже Кондорсэ по способностямъ, но онъ былъ близ-
кимъ другомъ Вашингтона, примѣру котораго онъ строго слѣдовалъ и рядомъ съ
которымъ онъ сражался за свободу Америки; безкорыстіе его было и на всегда оста-
нется безупречнымъ; при тОхМъ характеръ его отличался благороднымъ, рыцарскимъ
складомъ, которымъ Бёркъ въ лучшія времена свои сталъ бы первый восхищаться 2).
*) Эту вѣжливость ставили въ противоположность |
въ грубостью Джонсона, такъ какъ эти два замѣна- :
тельные человѣка славились въ свое время умѣніемъ \
говорить лучше всѣхъ.
2) Герцогъ Бедфордскій, недурной цѣнитель ха-
рактеровъ, сказалъ въ 1794 году, что «воя жизнь Ла-
файетта была примѣромъ искренности, безкорыстія и
чести». Въ сочиненіи Сисмонди («Ній, йе§ Гган|аі§»)
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО ХѴШ СТ.
189
Но оба были уроженцами той ненавистной страны, которой имъ не удалось доставить
свободу» На этомъ основаніи Бёркъ объявилъ, что Кондорсэ виновенъ въ «нече-
стивыхъ софизмахъ», что онъ «фанатикъ атеизма и неистовый республиканецъ-де-
мократъ», способный какъ къ «самымъ низкимъ, такъ и къ самымъ высшимъ, рѣши-
тельнымъ подлостямъ» *)♦ Что же касается до Лафайетта, то, когда была сдѣлана по-
пытка достигнуть облегченія той жестокой участи, которой подвергало его прусское
правительство, Бёркъ не только противился принятію предложенія, внесеннаго съ
этою цѣлью въ палату общинъ, но даже воспользовался этимъ случаемъ, чтобы осы-
пать грубыми оскорбленіями несчастнаго плѣнника, который въ то время томился въ
темницѣ. До такой степени умерли въ немъ по отношенію къ этому предмету всѣ
самые простые инстинкты нашей природы, что, говоря въ парламентѣ, онъ не на-
шелъ болѣе приличнаго названія этому великодушному и несчастному человѣку, какъ
названіе злодѣя. «Я бы не хотѣлъ, — сказалъ Бёркъ,—унизить мое человѣколюбіе,
поддерживая предложеніе въ пользу такого ужаснаго злодѣя» 2).
Что же касается до самой Франціи, то, по мнѣнію Верка, это «замокъ людо-
ѣдовъ», «республика убійцъ» и «адъ»; правительство ея состоитъ изъ «самыхъ гряз-
ныхъ, низкихъ, подлыхъ и гнусныхъ крючкотворцевъ», а національное собраніе ея—
изъ «безбожниковъ»; народъ ея—это «союзная армія изъ парижскихъ людоѣдовъ—
мужчинъ и амазонокъ»; онъ же — «нація убійцъ», «гнуспѣйпіій народъ изъ всего
человѣчества», «кровожадные атеисты», «шайка разбойниковъ», «непотребные из-
верги человѣчества», «отчаянная толпа грабителей, убійцъ, тирановъ и атеистовъ».
Сдѣлать малѣйшую уступку подобной странѣ для сохраненія мира значило «прино-
сить жертвы на алтарѣ богохульства и цареубійства»; даже вступить въ переговоры
съ нею было не что иное, какъ «выставленіе на показъ/нашихъ ранъ у воротъ каж-
даго надменнаго слуги французской республики, гдѣ и дворовые псы не удостоятъ
лизать ихъ». Когда нашъ посланникъ былъ въ Парижѣ, значитъ, онъ «имѣлъ честь
каждое утро почтительно являться въ контору крючкотворца цареубійцы». Англіи
ставилось въ упрекъ, что она послала «пэра королевства въ посольство къ отребію
земли». Франція не имѣла болѣе мѣста въ Европѣ, опа была стерта съ карты; са-
мое имя ея слѣдовало предать забвенію. Зачѣмъ же людямъ посѣщать такую страну?
Зачѣмъ нашимъ дѣтямъ изучать языкъ ея? Зачѣмъ намъ подвергать опасности нрав-
ственность нашихъ* посланниковъ, которые едва-ли могутъ возвратиться изъ такой
страны иначе, какъ съ извращенными правилами и съ желаніемъ злоумышлять про-
тивъ своей отчизны 3).
Дѣйствительно, грустно встрѣтить подобныя мысли у такого человѣка, какимъ
нѣкогда былъ Бёркъ; но то, о чемъ намъ еще осталось говорить, доказываетъ еще
сказано: «Лафайеттъ—рыцарь американской снободы»; !
а Ламарпінъ сказалъ о немъ: «мученикъ снободы,
бывшій герой ея». Сегифъ, который былъ съ нимъ '
коротко знакомъ, сообщаетъ намъ также нѣкоторыя '
свѣдѣнія о благородствѣ его характера, какъ оно про- !
являлось, когда онъ былъ мальчикомъ девятнадцати 1
лѣтъ. Сорокъ лѣтъ спустя съ нимъ встрѣтилась во
Франціи лэди Морганъ, и изъ разсказа ея видно, какъ ,
мало онъ измѣнился и какъ просты были и тогда его I
вкусы и привычки.
*) «Кондорсэ (хотя и по маркизъ, какъ онъ на-
зывалъ себя до революціи)—-человѣкъ совершенно дру-
гого рода по рожденію, по привычкамъ и занятіямъ,
чѣмъ Бриссо, но по всѣмъ нравственнымъ основаніямъ и
склонностямъ, отъ самыхъ низшихъ и до самыхъ высшихъ
и рѣшительныхъ подлостей, совершенно равенъ ему».
Едва можно повѣрить, что подобныя рѣчи от- ,
носились къ такому человѣку, какъ Лафаііе; гь; но л
взялъ ихъ изъ «РягІіатепЬгу Нізіогу*, ѵ. XXXI, р. 51,
1 изъ Айоірпз’ «Ніаі. оС Сгеог^е III», ѵ. V, р. 593.
Единственная разница заключается въ томъ, что у
Адольфуса сказано: «я бы не хотѣлъ унизить мое че-
вовѣколюбіе» а въ «Рагііашепіагу Пізіогу»—«я бы
не хотѣлъ развратить мое человѣколюбіе». Но оба
авторитета согласны относительно того, что Бёркъ
употребилъ выраженіе «ужасный злодѣй».
3) Въ «Беііегз оп а Пенсій Рсасе», обнародо-
ванныхъ за годъ до смерти Бёрка, онъ говоритъ: «эти
посланники конечно могутъ возвратиться столь же хо-
рошими придворными, какими они отправились въ
миссію, но могутъ ди онв возвратиться отъ этого по-
стыднаго посольства честными и вѣрными подданны-
ми—съ истинною любовью къ своему государю или
искреннею преданностью конституціи, религіи или за-
конамъ своего отечества? Очень можно опасаться, что
люди, которые входили въ эту Тифовову пещеру
улыбаясь, выйдутъ изъ нея печальными и серьезны-
ми заговорщиками н такими останутся на всю свою
жизнь». Вь томъ же сочиненіи онъ прибавляетъ:
«Развѣ для этихъ благъ мы открываемъ обычныя
сношенія мира и дружелюбія? Для этого развѣ наше
юношество обоихъ половъ должно образовываться по-
190
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
яснѣе* какъ измѣнились въ немъ всѣ ассоціаціи понятій и самый складъ ума* Тотъ
самый человѣкъ, который, побуждаясь человѣколюбіемъ столько же, какъ и практи-
ческою мудростью, такъ усиленно старался предупредить американскую войну,—по-
святилъ послѣдніе годы своей жизни на то, чтобы возжечь другую войну, въ сравне-
ніи съ которою американская была только легкимъ, ничтожнымъ эпизодомъ. Въ то
время, какъ онъ хладнокровно смотрѣлъ на вещи, никто охотнѣе его не согласился бы
съ тѣмъ, что преобладающія въ какой бы то ни было странѣ мнѣнія составляютъ
неизбѣжный результатъ тѣхъ обстоятельствъ, въ которыя эта страна была поставлена.
Теперь же онъ силою старался измѣнить подобныя мнѣнія. Съ самаго начала фран-
цузской революціи онъ настаивалъ на томъ, что европейскія державы имѣютъ право
и даже находятся въ необходимости вынудить Францію измѣнить провозглашеннымъ
ею началамъ. Нѣсколько времени позже онъ осуждалъ союзныхъ государей за то,
что онп не предписывали великой націи, какой образъ правленія она должна при-
нять. Такъ велико было разрушеніе, произведенное обстоятельствами въ его пре-
восходно организованномъ умѣ, что онъ жертвовалъ одному принципу всѣми сообра-
женіями справедливости, человѣколюбія и пользы. И какъ будто бы война, даже въ
самой смягченной формѣ, пе была довольно ненавистна, онъ старался придать ей
еще характеръ крестоваго похода, давно уже изгнанный изъ исторіи человѣчества
успѣхами образованія; громко провозглашая, что эта борьба болѣе религіозная, чѣмъ
свѣтская, онъ пробуждалъ старые предразсудки съ тѣмъ, чтобы вызвать новыя зло-
дѣянія. Онъ объявилъ также, что эта война должна быть ведена ради мщенія
столько же, какъ и для защиты, и что мы не должны ни въ какомъ случаѣ поло-
жить оружіе, пока совершенно не истребимъ тѣхъ людей, которыми произведена ре-
волюція. И какъ будто бы всего этого было недостаточно—онъ настаивалъ еще на
томъ, что эта война, ужаснѣйшая изъ всѣхъ когда-либо веденныхъ, однажды нача-
тая, не должна быть поспѣшно окончена; что, несмотря на то, что войну съ Фран-
ціей слѣдуетъ вести столько же для мщенія, какъ и за религію, и что средства
истребленія, представляемыя цивилизаціей, должны усиливаться звѣрскими страстями,
свойственными дѣятелямъ крестоваго похода,—что, несмотря на все это, войну не
слѣдуетъ скоро прекращать;—что она должна быть продолжительна, постоянна, не-
прерывна,—должна, какъ восклицаетъ Бёркъ въ пламенномъ порывѣ ненависти, быть
долгою войною: «я напираю на это,—говоритъ онъ,—и желаю, чтобы мои слова были
замѣчены,—долгою войною».
Это должна была быть война съ цѣлью забтавить великій народъ перемѣнить
свой образъ правленія;—война ради наказанія, при томъ—война религіозная; нако-
нецъ—долгая война. Существовалъ ли когда-нибудь другой человѣкъ, который же-
лалъ бы поразить родъ человѣческій такими обширными, мучительными и продол-
жительными бѣдствіями? Такія жестокія, безчеловѣчныя и при томъ такія упорныя
мнѣнія, еслибы они исходили отъ здороваго ума, обезсмертили бы даже самаго
ничтожнаго изъ государственныхъ людей, покрывъ имя его несказаннымъ позоромъ.
У кого даже между самыми невѣжественными и самыми кровожадными политиками
найдемъ мы такія понятія? Между тѣмъ они высказаны человѣкомъ, который за нѣ*
сколько лѣтъ передъ тѣмъ былъ самымъ даровитымъ изъ всііхъ философовъ-поли-
тиковъ, какихъ когда-либо имѣла Англія. Мы только можемъ скорбѣть о такомъ нрав-
ственномъ разрушеніи; далѣе этого никто не долженъ идти. Мы можемъ созерцать
средствомъ путешествій? Для эгого развѣ, не щадя
издержекъ и трудовъ, мы пріучаемъ ихъ еще младен-
ческимъ лепетомъ произносить французскія слова?...
Не должно забывать, что ни одинъ юноша не можетъ
отправиться ни въ какую страну Европы, не проѣхавъ
по пути тотъ край, полный чумною заразою; въ то
время какъ менѣе дѣятельные члены общества будутъ
развращаемы этимъ путешествіемъ, въ то время какъ
дѣти будутъ отравляемы въ такихъ школахъ,—тор-
говля наша довершитъ нашу гибель, Мы не заведемъ
во Франціи ни одной коммерческой конторы, которая
бы не сдѣлалась клубомъ настоящихъ французскихъ
якобинцевъ. Умы молодыхъ людей торговой профессіи
будутъ заражены и въ религіозномъ, и въ нравствен-
номъ, и въ политическомъ отношеніи, и эту заразу
онп въ скоромъ времени сообщатъ всему королевству».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
191
съ уваженіемъ величественныя развалины, но да не коснется никто тайны ихъ раз-
рушенія, если только—скажемъ словами самаго великаго изъ нашихъ учителей—онъ
не обладаетъ способностью излечить больную душу, вырвать съ корнемъ печали, уко-
ренившіяся въ памяти, и изгладить горести, начертанныя на самомъ мозгѣ.
Отрадно оставивъ этотъ печальный предметъ даже для того, чтобы перейти къ
мелкой, кропотливой политикѣ англійскаго двора. Дѣйствительно, разсказъ о томъ,
какимъ образомъ было постуітлено съ самымъ знаменитымъ изъ нашихъ политиче-
скихъ дѣятелей, въ высоко! степени характеризуетъ того государя, при которомъ онъ
жилъ. Въ то время, когда Бёркъ посвящалъ всю свою жизнь на великія услуги
обществу и трудился надъ поправленіемъ нашихъ финансовъ, улучшеніемъ законо-
дательства и сообщеніемъ просвѣщеннаго характера нашей коммерческой политикѣ,—
въ то время, повторяемъ, когда онъ совершалъ всѣ эти великія дѣла, король смотрѣлъ
на него холодно и враждебно. Но когда великій государственный мужъ превратился
въ озлобленнаго крикуна, когда, раздраженный болѣзнью, онъ избралъ единственною
цѣлью послѣднихъ лѣтъ своей жизни—возжечь смертельную войну между двумя пер-
выми націями въ Европѣ и объявилъ, что этой варварской цѣли онъ готовъ пожер-
твовать всѣми другими политическими соображеніями, какъ бы они важны ни были,—
тогда только нѣкоторое понятіе о его громадныхъ способностяхъ начало прогляды-
вать въ умѣ короля. До того времени никто во дворцѣ не дерзалъ даже и шопотомъ
говорить о его достоинствахъ. Тёперь, напротивъ, при постепенномъ и по време-
намъ весьма быстромъ упадкѣ своихъ умственныхъ силъ онъ опустился почти до
уровня ума самого Георга, и теперь только его стали согрѣвать лучи королевской
милости. Теперь онъ сталъ истинно по душѣ королю. Менѣе чѣмъ за два года до
его смерти ему были назначены, по особенному желанію Георга III, двѣ значитель-
ныя пенсіи *); король даже хотѣлъ возвести его въ званіе пэра съ тѣмъ, чтобы и
палата лордовъ могла воспользоваться услугами такого великаго совѣтника.
Отступленіе, которое я себѣ дозволилъ, чтобы очертить личность Бёрка, вышло
длиннѣе, чѣмъ я ожидалъ, но надѣюсь, что оно не будетъ сочтено излишнимъ, по-
тому что, кромѣ своего внутренняго интереса, оно заключаетъ въ себѣ доказатель-
ство того, съ какими чувствами Георгъ III относился къ великимъ людямъ и какихъ
мнѣній считалось нужнымъ держаться въ его царствованіе. Въ дальнѣйшихъ частяхъ
этого труда я прослѣжу вліяніе подобныхъ мнѣній на интересы государства, прини-
маемаго за одно цѣлое; но для цѣлей настоящаго введенія достаточно будетъ ука-
зать на отношеніе между тѣми и другими, проявившееся еще въ одномъ или двухъ
яркихъ примѣрахъ, характеръ которыхъ слишкомъ извѣстенъ, чтобы объ нпхъ могъ
быть какой-либо споръ.
Изъ такихъ преобладающихъ и особенно замѣтныхъ событій самымъ раннимъ
была американская война, которая въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ почти совершенно
поглощала вниманіе политическихъ дѣятелей Англіи. Въ царствованіе Георга II было
предложено увеличить государственный доходъ посредствомъ обложенія податями ко-
лоній, а это, при томъ условіи, что американцы вовсе не имѣли никакого предста-
вительства въ парламентѣ, было не что иное, какъ предложеніе обложить податями
цѣлую націю, не исполнивъ даже установленной въ Англіи формальности—спросить
о ея согласіи. Этотъ планъ былъ отвергнутъ тѣмъ даровитымъ и умѣреннымъ чело-
вѣкомъ (Вальполемъ), который стоялъ тогда во главѣ управленія; и предложеніе,
признанное вообще неудобоисполнимымъ, упало само собою и повидимому не возбу-
дило почти никакого вниманія. Но то самое, что правительствомъ Георга II было
сочтено за опасное притязаніе на превышеніе власти, принято правительствомъ
Георга III съ восторгомъ. Новый король имѣлъ самое высокое мнѣніе о своей власти
1) «Говорятъ, что причиною назначенія ихъ было
особенное желаніе короля». Прайоръ исчисляетъ эти
пенсіи въ 3.700 ф. стер. въ годъ; но если вѣрить
Нпккольсу, сумма была еще болѣе: «Бёркъ былъ на-
гражденъ двумя пенсіями, оцѣненными въ 40.000 ф.
стер.».
192
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
и, будучи вслѣдствіе своего жалкаго воспитанія совершеннымъ невѣждою въ госу-
дарственныхъ дѣлахъ, полагалъ, что обложить податями американцевъ для пользы
англичанъ будетъ верхомъ политическаго искусства. Поэтому, когда прежняя идея
была возобновлена, ее встрѣтили съ искреннимъ сочувствіемъ; а когда американцы
выказали намѣреніе противиться этой чудовищной несправедливости, король только
болѣе утвердился въ мысли, что необходимо переломить ихъ непокорную волю. Не
должно удивляться той быстротѣ, съ какою развились эти враждебныя чувства. Дѣй-
ствительно, принимая во вниманіе съ одной стороны деспотическія понятія, кото-
рыя въ первый разъ со времени революціи возобновились при англійскомъ дворѣ,
съ другой—духъ независимости, проявлявшійся въ колонистахъ, невозможно было
избѣгнуть борьбы между обѣими партіями, и вопросъ могъ заключаться лишь въ
томъ, какую форму приметъ эта борьба и на которую сторону скорѣе должна скло-
ниться побѣда.
Со стороны англійскаго правительства не было потеряно времени. Черезъ пять
лѣтъ послѣ вступленія на престолъ Георга III былъ внесенъ въ парламентъ билль
объ обложеніи Америки податями (1765 г.), и такъ велика была перемѣна, проис-
шедшая въ это время въ политическомъ бытѣ Англіи, что не встрѣтилось ни малѣй-
шаго затрудненія къ проведенію мѣры, которую въ царствованіе Георга II никакой
министръ не осмѣлился предложить. Въ прежнее время такое предложеніе, еслибы кто
сдѣлалъ его, было бы непремѣнно отвергнуто; теперь самыя могущественныя партіи
въ государствѣ дѣйствовали заодно въ пользу его. Коррль во всѣхъ возможныхъ
случаяхъ оказывалъ духовнымъ такія угожденія, отъ /которыхъ они отвыкли со
смерти Анны, поэтому онъѵ могъ быть увѣренъ въ продержкѣ со стороны ихъ; и,
дѣйствительно, они усердно помогали ему во всѣхъ его попыткахъ къ подавленію
колоній. Аристократія, за исключеніемъ нѣсколькихъ главныхъ лицъ партіи виговъ,
была на той же сторонѣ и смотрѣла на обложеніе Америки податями, какъ на сред-
ство къ облегченію своихъ собственныхъ повинностей. Что же касается до Георга III,
то его воззрѣнія на этотъ предметъ были всѣмъ извѣстны г), и такъ какъ либераль-
ная партія еще не оправилась отъ удара, нанесеннаго ея могуществу смертью Ге-
орга II, то нечего было опасаться затрудненій со стороны кабинета; извѣстно было,
что на престолѣ—государь, имѣющій главною цѣлью держать министровъ въ строгой
зависимости отъ своей воли и всегда, какъ только это было возможно, призывавшій
въ кабинетъ такихъ слабыхъ и гибкихъ людей, которые должны были безпрекословно
повиноваться его желаніямъ 3),
Изъ всѣхъ этцхъ данныхъ произошли именно тѣ событія, какихъ можно было
ожидать отъ ихъ совокупленія. Не останавливаясь на разсказѣ о подробностяхъ, кото-
рыя извѣстны каждому изъ читателей, мы можемъ сказать въ короткихъ словахъ,
что при этомъ новомъ порядкѣ вещей мудрая и воздержная политика предшество-
вавшаго царствованія, была отвергнута, и совѣщательныя собранія наши подчини-
лись неосмотрительнымъ и невѣжественнымъ людямъ, которые скоро навлекли на
Въ то время предполагали—и это не лишено
вѣроятія,—что король самъ предложилъ обложеніе по-
датями Америки и что Гренвиллъ сперва противился
этой мѣрѣ. Это могло быть только слухомъ, но, какъ
бы то ии было, оно совершенно согласно со всѣмъ
тѣмъ, что намъ извѣстно о характерѣ Георга III, и
во всякомъ случаѣ но можетъ быть никакого сомнѣ-
нія въ томъ, съ какими чувствами онъ смотрѣлъ на
весь этотъ вопросъ. Достовѣрно, что опъ убѣдилъ
лорда Норта вступить въ борьбу съ Америкой и скло-
нить этого министра начать войну, а потомъ продол-
жать даже и тогда, когда исчезла надежда на успѣхъ.
Въ Америкѣ воззрѣнія короля бьли хорошо извѣстны.
Въ 1775 году Джефферсонъ нишеіъ изъ Филадельфіи:
«Намъ говорятъ--и все подтверждаетъ эту мысль,—
что онъ злѣйшій изъ всѣхъ нашихъ враговъ». Фран-
клинъ пишетъ къ Ливингстону: «король ненавидитъ
пасъ отъ всей души».
2) «Дворъ требовалъ, — какъ замѣчаетъ лордъ
Альбемарль,—чтобы министры были не обществен-
ными слугами государства, по частными прислуж-
никами короля*. Точно также Бёркъ въ 1767 году
пишетъ: «его величество никогда не былъ въ луч-
шемъ расположеніи духа: министерство у него слабое
и зависимое, и — чтб еще лучше—расположенное
оставаться такпмъ». Десять Нѣтъ спустя лордъ Ча-
і тамъ открыто упрекалъ короля въ этой постыдной
наклонности: «Такпмъ образомъ управленіе этимъ нѣ-
когда славнымъ государствомъ ввѣрено самымъ гиб-
кимъ людямъ».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО ХѴІП СТ.
193
страну величайшія несчастія, а еще черезъ нѣсколько лѣтъ довели государство до
окончательнаго разъединенія. Для подкрѣпленія чудовищнаго притязанія обложить
податями цЬлый народъ, безъ согласія его, предпринята была противъ Америки
война, дурно веденная, не имѣвшая успѣха, а—чтб еще гораздо хуже—сопровождав-
шаяся жестокостями, постыдными для цивилизованной націи х)- Къ этому слѣдуетъ
присовокупить, что наша обширная торговля была почти уничтожена; всѣ отрасли
коммерцій пришли въ разстройство 2); мы были опозорены въ глазахъ всей Европы,
мы понесли расходъ въ 140.000.000 ф. стерл. и лишились такихъ драгоцѣнныхъ ко-
лоній, какихъ никогда не имѣла ни одна нація.
Таковы были первые плоды политики Георга Ш. Но зло на этомъ не остано-
вилось. Мнѣнія, которыя необходимо было отстаивать для оправданія этой варварской
войны, обратились противъ насъ самихъ. Въ видахъ оправданія попытки нашего пра-
вительства уничтожить свободу Америки, были излагаемы такіе принципы, которые
еслибы были приведены въ дѣйствіе, то ниспровергли бы свободу Англіи. Не только
при дворѣ, но въ обѣихъ палатахъ парламента, съ епископской скамьи и съ каѳедръ,
принадлежавшихъ церковной партіи, были распространяемы понятія самаго опаснаго
рода,—понятія, несвойственныя конституціонной монархіи и, дѣйствительно, несовмѣ-
стимыя съ существованіемъ ея. До чего дошла эта реакція, извѣстно весьма немно-
гимъ читателямъ, потому что доказательства главнымъ образомъ сохранились въ
парламентскихъ преніяхъ и въ богословской литературѣ, въ особенности въ пропо-
вѣдяхъ того времени, а тѣ и другія въ настоящее время мало изучаются. Но чтобы
не завлечься преждевременно предметами, относящимися къ дальнѣйшимъ частямъ
нашего сочиненія, здѣсь достаточно будетъ сказать, что опасность была такъ велика,
что, по мнѣнію самыхъ даровитыхъ защитниковъ національной свободы, Англія риско-
вала всѣмъ, и еслибы американцы были побѣждены, то слѣдующимъ шагомъ прави-
тельства было бы нападеніе на свободу Англіи и попытка распространить на метро-
полію тотъ же деспотическій образъ правленія, который былъ бы въ то время уста-
новленъ въ колоніяхъ 3).
Были ли эти опасенія преувеличены, или нѣтъ,“-это составляетъ весьма труд-
ный вопросъ; но что касается до меня, то послѣ тщательнаго изученія тѣхъ вре-
менъ,—изученія, при томъ основаннаго на источникахъ, къ которымъ рѣдко прибѣгаютъ
историки, я убѣдился, — и люди, вполнѣ знакомые съ этимъ періодомъ, конечно
согласятся со мною,—что опасность, которую вѣроятно иные нѣсколько преувели-
чивали, была гораздо серьезнѣе, чѣмъ въ настоящее время полагаетъ большинство.
Какъ бы то ни было, но достовѣрно, что общій видъ политическихъ дѣлъ долженъ
былъ возбуждать сильное безпокойство, Достовѣрно, что въ продолженіе многихъ
лѣтъ королевская власть усиливалась до тѣхъ поръ, пока она не достигла такой
высоты, какой мы не видѣли примѣра въ Англіи, въ продолженіе нѣсколькихъ по-
колѣній. Достовѣрно, что англиканская церковь употребила все свое вліяніе въ
пользу тѣхъ деспотическихъ принциповъ, которые король желалъ упрочить. Досто-
вѣрно также, что, посредствомъ постояннаго введенія въ верхнюю палату новыхъ
х) Объ этихъ ужасныхъ жестокостяхъ нерѣдко '
говорили въ парламентѣ, но такія рѣчи не произво-
дили иикикого дѣйствія на короля, ни на министровъ
его. Между расходами на эту войну, о которыхъ пра- і
вптельство представляло парламенту, была статья на 1
пріобрѣтеніе «пяти гроссовъ ножей для скальпиро-
ванія».
2) Въ Манчестерѣ вслѣдствіе американскихъ вол-
неній девять изъ каждыхъ десяти рабочихъ остались і
безъ работы. По мѣрѣ того, какъ борьба становилась '
упорнѣе, зло проявлялось сильнѣе. :
3) Д-ръ Джеббъ, весьма способный наблюдатель, ।
полагаетъ, что Американская война «должна рѣшить |
Боклъ.—Изд. Ф, Павленкова.
участь свободы обѣихъ странъ». Также и лордъ Ча-
тамъ писалъ въ 1777 году: «бѣдная Англія будетъ
пронзена своимъ собственнымъ мечомъ*. Въ томъ же
году Бёркъ сказалъ о попыткѣ правительства подчи-
нить колоніи военной силѣ, «что, хотя установленіе
такоіі власти въ Америкѣ совершенно разстроитъ наши
финансы (вѣрнѣйшее послѣдствіе),—это составляетъ
однако лишь меньшее изъ нашихъ опасеній. Эта власть
сдѣлается удобнѣйшимъ, сильнѣйшимъ и самымъ на-
дежнымъ орудіемъ для пвепровержевія и здѣсь нашей
свободы». Поэтому-то Фоксъ и желалъ, чтобы побѣда
осталась за американцами, за что нѣкоторые писатели
обвинили его въ недостаткѣ патріотизма.
13
194
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
пэровъ, характеръ палаты хотя медленно, но существенно измѣнялся, и что, при
всякомъ удобномъ случаѣ, на высшія мѣста въ судѣ и въ духовной іерархіи назначались
люди, извѣстные по своей преданности королевской прерогативѣ. Все это факты,
которыхъ нельзя отрицать, а изъ совокупности ихъ, по моему мнѣнію, несомнѣнно
вытекаетъ, что Американская война была великимъ кризисомъ въ исторіи Англіи,
и что еслибы колонисты были побѣждены, то и наша свобода находилась бы въ
значительной опасности. Отъ этой крайности мы были спасены американцами, кото-
рые съ геройскимъ духомъ боролись противъ королевскихъ армій, разбивали ихъ на
каждомъ шагу и, наконецъ, отдѣлившись отъ метрополіи, вступили на тотъ блиста-
тельный путь, который менѣе чѣмъ въ восемьдесятъ лѣтъ довелъ ихъ до безпри-
мѣрнаго процвѣтанія и который долженъ быть для насъ предметомъ живѣйшаго инте-
реса, такъ какъ изъ него видно, что можетъ быть сдѣлано, безъ всякой посторонней
помощи, собственными средствами свободнаго народа.
Семь лѣтъ спустя послѣ того, какъ эта великая борьба была приведена къ
успѣшному исходу, и американцы, къ счастью всего человѣчества, окончательно
утвердили свою независимость, другая нація возстала и вступила въ борьбу про-
тивъ своихъ правителей* Исторія причинъ, вызвавшихъ французскую революцію,
будетъ помѣщена въ другой части этого тома; въ настоящее же время намъ пред-
стоитъ только бросить взглядъ на то вліяніе, которое она имѣла на политику англій-
скаго правительства. Во Франціи, какъ извѣстно всякому, движеніе было чрезвы-
чайно быстро; старыя учрежденія, до такой степени испорченныя, что они уже
вовсе не могли долѣе служить, были тотчасъ разрушены; и народъ, доведенный до
ярости цѣлыми вѣками угнетенія, предался самымъ возмутительнымъ жестокостямъ,
омрачая часъ своего торжества преступленіями, опозорившими то дѣло, за которое
онъ боролся.
Все это, какъ бы ужасно оно намъ ни казалось, было однако же въ естествен-
номъ порядкѣ вещей; это было повтореніе давпей исторіи о томъ, что тираннія воз-
буждаетъ мщеніе, а мщеніе ослѣпляетъ людей до забвенія всѣхъ могущихъ произойти
послѣдствій, кромѣ наслажденія, находимаго въ удовлетвореніи своихъ страстей.
Еслибы въ этихъ обстоятельствахъ Франція была предоставлена самой себѣ, то фран-
цузская революція, какъ и всѣ революціи, скоро бы утихла и сложился бы образъ
правленія, согласный съ настоящимъ порядкомъ вещей* Какой именно былъ бы этотъ
образъ правленія—этого теперь никакъ нельзя рѣшить, но во всякомъ случаѣ это
былъ такой вопросъ, который нисколько не касался ни до какого другого государ-
ства. Была ли бы то олигархія, или деспотическая монархія, или республика—одна
только Франція должна была это рѣшить, и очевидно, что никакая другая нація не
имѣла права рѣшать за нее. Тѣмъ менѣе можно было полагать, что въ такомъ
щекотливомъ предметѣ Франція покорится произволу такого государства, которое
всегда соперничало съ нею и которое нѣсколько разъ такъ жестоко и успѣшно съ
нею враждовало.
Но всѣ эти соображенія, какъ бы они очевидны ни были, не существовали
для Георга III и для того сословія, которое тогда преобладало въ Англіи. Уже са-
мый тотъ фактъ, что великая нація возстала противъ своихъ притѣснителей, тре-
вожилъ совѣсть людей, занимавшихъ высшія мѣста въ Англіи. Тѣ же дурныя страсти
и тѣ же несправедливыя рѣчи, которыя за нѣсколько лѣтъ были направляемы про-
тивъ американцевъ, теперь обратились противъ французовъ, и можно было поло-
жительно сказать, что послѣдуютъ тѣ же результаты. Вопреки началамъ здравой
политики, англійскій посланникъ вызванъ былъ изъ Франціи, единственно потому,
что эта страна рѣшилась уничтожить монархію и замѣнить се республикою. Это
былъ первый рѣшительный шагъ къ открытому разрыву, и онъ былъ сдѣланъ не
потому, чтобы Франція оскорбила Англію, а потому, что Франція перемѣнила свое//
правительство. Нѣсколько мѣсяцевъ позже французы, слѣдуя примѣру, поданному
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО ХѴІП СТ.
195
англичанами въ предшествовавшемъ вѣкѣ 1), подвергли своего короля публичному
суду, осудили его на смерть и отрубили ему голову. Нельзя не согласиться, что этотъ
поступокъ былъ вовсе не нуженъ, что онъ былъ жестокъ и что онъ грубо противо-
рѣчивъ здравой политикѣ. Но очевидно до осязательности, что лица, согласившіяся
на эту казнь, были отвѣтственны только передъ Богомъ и своею отчизною, и что
всякій отзывъ на это событіе извнѣ, имѣющій видъ угрозы, возбудитъ народную гор-
дость Франціи, сольетъ всѣ партіи въ одну и побудитъ націю принять за общее
народное дѣло преступленіе, въ которомъ безъ этого она можетъ быть раскаялась бы,
но отъ котораго теперь она не могла отказаться, не подвергнувшись стыду—усту-
пить оскорбительному требованію иностранной державы.
Между тѣмъ въ Англіи, какъ только участь французскаго короля сдѣлалась
извѣстна, правительство, не ожидая никакихъ объясненій и не потребовавъ ника-
кихъ гарантій на будущее время, приняло казнь Людовика за обиду для себя самого
и повелительнымъ тономъ приказало французскому резиденту оставить Англію; такимъ
легкомысліемъ оно вызвало войну, которая продолжалась двадцать лѣтъ, стоила жизни
милліонамъ людей, повергла всю Европу въ разстройство и болѣе,-чѣмъ всякое дру-
гое обстоятельство, замедлила ходъ цивилизаціи, отсрочивъ на цѣлое поколѣніе тѣ
реформы, которыя въ концѣ восемнадцатаго столѣтія становились, по общему ходу
дѣлъ, неизбѣжными.
Общеевропейскіе результаты этой войны—самой ненавистной, самой неспра-
ведливой и самой жестокой изъ всѣхъ войнъ, какія вела когда-либо Англія съ какимъ-
либо государствомъ, будутъ разсмотрѣны далѣе 3), а здѣсь мы ограничимся краткимъ
перечнемъ главныхъ послѣдствій, которыя она имѣла для/англійскаго общества.
Главнымъ отличіемъ этой кровавой борьбы отъ всѣхъ предшествовавшихъ и
худшею чертою ея является то, что она въ высокой степени имѣла характеръ войны
за мнѣнія.—войны, веденной не съ цѣлью пріобрѣсти новыя владѣнія, а съ тѣмъ, чтобы
подавить то стремленіе къ реформамъ всякаго рода, которое въ то время сдѣлалось
замѣтною характеристикою всѣхъ главныхъ національностей въ Европѣ 3). Слѣдова-
тельно, съ того момента какъ начались военныя дѣйствія, англійскому правительству
предстояло двоякое призваніе: внѣ предѣловъ Англіи—разрушить республику, а
внутри государства—препятствовать всѣмъ улучшеніямъ. Первое изъ этихъ при-
званій оно исполнило, расточая кровь и золото Англіи до тѣхъ поръ, пока не за-
ставило почти каждое семейство оплакивать какую-нибудь потерю и не довело
государство до національнаго банкротства. Другое призваніе оно пыталось испол-
нить проведеніемъ цѣлаго ряда законовъ, имѣвшихъ цѣлью прекратить свободное
обсужденіе политическихъ вопросовъ и подавить духъ изслѣдованія, съ каждымъ
годомъ пріобрѣтавшій большую дѣятельность. Эти законы были такъ многосторонни
и такъ хорошо разсчитаны для достиженія своей цѣли, что еслибы энергія самой
націи не воспрепятствовала приведенію ихъ въ дѣйствіе, то они или уничтожили
бы всякій слѣдъ политической свободы въ Англіи, или вызвали бы всеобщее воз-
станіе. Дѣйствительно, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ опасность была такъ велика,
что, по мнѣнію нѣкоторыхъ изъ самыхъ сильныхъ авторитетовъ, ничто не могло
Э Передъ самою революціею Сенъ-Винцентъ
весьма кстати замѣтилъ, въ видѣ предостереженія, что
англичане «свергли семь изъ своихъ королей п обез-
главили восьмого», а Алисонъ въ своей «Еигоре» ска-
залъ, что въ 1792 году Людовикъ «предвидѣлъ для
себя участь Карла І>.
2) Лордъ Пругамъ справедливо говоритъ объ этой
войнѣ, что <самый младшій изъ людей, находящихся
въ живыхъ, ие переживетъ роковыхъ послѣдствій
этого явнаго преступленія въ политикѣ». Между тѣмъ
Георгъ Ш былъ такъ ужасно настроенъ въ пользу
войвы, что когда Вильберфорсъ по поводу ея отдѣ-
лился отъ Питта и предложилъ въ палатѣ общинъ
измѣненіе принятаго поетановлевія, то король выска-
залъ свою досаду тѣмъ, что не обратилъ никакого
вниманія на Впльберфорса первый разъ, какъ онъ
явился ко дворцу.
8) Въ 1793 году п въ послѣдующихъ годахъ
было высказываемо какъ оппозиціей, такъ и привер-
женцами правительства, что война съ Франціей на-
правлена противъ ученій и мнѣній, и что одна изъ
главныхъ цѣлей ея заключается въ томъ, чтобы проти-
водѣйствовать распространенію демократическихъ учреж-
деній.
13*
196 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
отвратить ее, за исключеніемъ той мужественной смѣлости, съ которою наши англій-
скіе суды присяжныхъ своими враждебными правительству приговорами противо-
дѣйствовали его стремленіямъ и отказывались отъ примѣненія законовъ, предложен-
ныхъ правительствомъ и охотно пропущенныхъ робкимъ и раболѣпнымъ парла-
ментомъ *)♦
Мы можемъ составить себѣ нѣкоторое понятіе о важности тогдашняго кризиса,
если разсмотримъ тѣ мѣры, которыя были приняты противъ двухъ изъ важнѣйшихъ
учрежденій нашихъ, а именно — свободы печати и права собираться на митинги
для публичныхъ преній. Въ политическомъ отношеніи это двѣ самыя разительныя
особенности, отличающія насъ отъ всѣхъ прочихъ европейскихъ націй. Пока эти
два учрежденія останутся неприкосновенными и пока нація будетъ безстрашно и
часто пользоваться ими, она всегда будетъ имѣть достаточную защиту противъ тѣхъ
притязаній правительства, за которыми необходимо слѣдить какъ можно бдительнѣе
и которымъ подвержены и самыя свободныя государства. При томъ слѣдуетъ замѣтить,
что оба эти учрежденія представляютъ и другія въ высшей степени важныя пре-
имущества. Поощряя политическія пренія, они увеличиваютъ сумму умственныхъ
силъ, обращаемыхъ на политическія* дѣла страны. Они также ведутъ къ увеличенію
общей суммы силъ націи, побуждая многочисленные классы людей упражнять въ
себѣ такія способности, которыя иначе оставались бы въ бездѣйствіи, а этими
учрежденіями возбуждаются къ дѣятельности и вслѣдствіе того являются готовыми и
для другихъ общественныхъ цѣлей.
Но въ то время, о которомъ мы теперь говоримъ/ считали полезнымъ умень-
шить вліяніе націи на государственныя дѣлами потому не желали, чтобы она раз-
вивала свои способности, упражняя ихъ. Еслибы я захотѣлъ разсказать всѣ по-
дробности той ожесточенной войны, которую въ концѣ восемнадцатаго вѣка вело
англійское правительство противъ всѣхъ видовъ свободнаго обсужденія дѣлъ, то это
повело бы меня далеко за предѣлы настоящаго введенія; я могу только мимоходомъ
упомянуть о мстительномъ преслѣдованіи, а въ тѣхъ случаяхъ, когда удавалось
добиться приговора присяжныхъ, и о мстительномъ наказаніи такихъ людей, какъ
Адамсъ, Боннэй, Кроссфильдъ, Фростъ, Джеральдъ, Гарди, Голтъ, Годсонъ, Гол-
крофтъ, Джойсъ, Киддъ, Ламбертъ, Маргаротъ, Мартинъ, Мюръ, Пальмеръ, Перри,
Скирвингъ, Станнардъ, Тельволлъ, Тукъ, Вэкфильдъ, Варделль и Винтерботамъ, —
всѣ эти люди были обвинены, а многіе изъ нихъ присуждены къ штрафамъ, заклю-
чены въ тюрьму и отправлены въ ссылку за то, что они свободно выражали свое
мнѣніе и говорили о государственныхъ дѣлахъ такъ, какъ въ наше время говорили
и безнаказанно говорятъ ораторы на публичныхъ митингахъ и писатели въ публич-
ной печати.
Однако суды присяжныхъ во многихъ случаяхъ отказывались признать винов-
ными людей, преслѣдуемыхъ за подобныя оскорбленія правительства; поэтому поло-
жено было прибѣгнуть къ еще болѣе рѣшительнымъ мѣрамъ. Въ 1795 г. прошелъ
въ палатахъ законъ, посредствомъ котораго очевидно намѣревались навсегда пре-
кратить всякія публичныя пренія какъ о политическихъ, такъ и о религіозныхъ
предметахъ. Этимъ закономъ воспрещалось всякое публичное собраніе, о назначеніи
котораго не было объявлено за пять дней 2) въ одной изъ газетъ; въ объявленіи должны
были быть объяснены: цѣль митинга, время и мѣсто, гдѣ онъ долженъ былъ собраться.
А чтобы подчинить все дѣло устройства собраній вполнѣ наблюденію правительства,
г) Лордъ Кемпбель говоритъ, что еслибы законы,
постановленные въ 1794 году, были приведены въ
дѣйствіе, то «едийствешіымъ средствомъ для избѣжа-
нія рабства была бы междоусобная война».
3) Это относилось къ митингамъ, «собраннымъ
съ цѣлью или подъ предлогомъ обсужденія или со-
ставленія какон-либо просьбы, жалобы, заявленія пе-
| удовольствія, деклараціи или другого какого-либо
; адреса королю, обѣимъ палатамъ, иди одной изъ иа-
. латъ парламента, объ измѣненіи порядковъ, уставов-
। лонныхъ вь государствѣ или въ церкви, или же съ
I цѣлью или предлогомъ обсужденія какого-либо стѣ-
( сііснія для гражданъ, существующаго въ государствѣ
; пли въ церкви».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI по хѵш ст. 197
постановлено не только, чтобы публикуемое такимъ образомъ объявленіе было под-
писываемо домовладѣльцами, но чтобы сохранялась и самая рукопись его для свѣ-
дѣнія мировыхъ судей, которые могли потребовать копіи съ нея,—угроза значитель-
ная п въ то время весьма хорошо понятная. Постановлено также, чтобы даже послѣ
принятія всѣхъ этихъ предосторожностей каждый отдѣльный судья имѣлъ право
заставить митингъ разойтись, если, по его мнѣнію, рѣчи ораторовъ клонились къ
тому, чтобы возбудить неуваженіе къ королю или правительству; сверхъ того судья
имѣлъ право арестовать тѣхъ, которыхъ онъ признавалъ виновными. Такимъ обра-
зомъ власть закрывать публичные митинги и арестовать предсѣдателей ихъ была
дана простому судьѣ, и даже безъ малѣйшей гарантіи противъ злоупотребленія ея.
Другими словами, право прекращать публичныя пренія о самыхъ важныхъ предме-
тахъ вручено человѣку, назначенному отъ короны и могущему по произволу ея ли-
шиться своего назначенія. Къ этому присовокуплено, что еслибы митингъ состоялъ
изъ двѣнадцати лицъ и болѣе и не расходился долѣе одного часа послѣ даннаго
приказанія разойтись, то лица, составляющія его, подлежали смертной казни, хотя бы
только двѣнадцать человѣкъ изъ нихъ ослушались произвольнаго приказанія одного
безотвѣтственнаго должностного лица *)•
Въ 1799 году былъ проведенъ другой законъ, запрещающій собираться для
держанія рѣчей или для преній на какомъ бы то ни было открытомъ полѣ, или дру-
гомъ мѣстѣ, не испросивъ особаго разрѣшенія именно для этого мѣста отъ миро-
выхъ судей. Постановлено также, чтобы всѣ библіотеки и всѣ кабинеты для чтенія
были подчинены тому же ограниченію, и никому не дозволялось безъ разрѣшенія
установленныхъ властей давать па прочтеніе въ своемъ домѣ газеты, брошюры и
даже всякаго рода книги. Прежде чѣмъ открыть лавку для подобной торговли, нужно
было получить разрѣшеніе отъ двухъ мировыхъ судей, которое впрочемъ должно было
быть возобновляемо по крайней мѣрѣ разъ въ годъ и могло быть отмѣнено во вся-
кое время * 2). Еслибы кто-нибудь сталъ давать книги на прочтеніе безъ разрѣше-
нія судей или же допустилъ въ своемъ домѣ лекціи или пренія «о какомъ бы то ни
было предметѣ», то за это ужасное преступленіе онъ долженъ былъ подлежать штрафу
въ 100 ф. ст. за каждый день, и всякое лицо, содѣйствовавшее ему тѣмъ ли, что
предсѣдательствовало при преніи, или что доставило ему какую-нибудь книгу, за
каждое изъ этихъ дѣйствій подлежало штрафу въ 20 ф. ст. Хозяинъ такого зло-
вреднаго заведенія кромѣ того, что подвергался такимъ разорительнымъ штрафамъ,
подлежалъ еще и дальнѣйшему преслѣдованію, какъ содержатель безнравственнаго
дома 3).
Для современнаго слуха звучитъ нѣсколько странно, чтобы владѣлецъ публич-
ной библіотеки для чтенія не только подвергался неимовѣрнымъ штрафомъ, но и
былъ при томъ наказываемъ, какъ содержатель развратнаго дома, и чтобы всему этому
онъ подвергался за то только, что открылъ свою лавку, не испросивши разрѣшенія
мѣстныхъ судей. Впрочемъ, какъ бы странно ни казалось это постановленіе, оно
было по крайней мѣрѣ весьма послѣдовательно, такъ какъ оно составляло часть сис-
:) Это должно быть призвано, какъ сказано въ
актѣ, такимъ уголовнымъ преступленіемъ, при кото- .
ромъ даже не допускается изъятія духовныхъ лицъ 1
отъ подсудности общимъ судамъ, и виновные въ немъ
должны быть признаны уголовными преступниками п
подлежатъ смертной казни, какъ за уголовное престу- ;
пленіе означеннаго выше разряда.
2) Разрѣшеніе «должно сохранять свою силу въ те- і
ченіе одного года, не долѣе, или какого-нпбудь мѳнь- I
шаго времени, которое должно быть въ немъ обозна-
чено; такія разрѣшенія мировые судьи п др. должны
имѣть право отмѣнять, объявлять недѣйствительными !
и веимѣющими силы, посредствомъ особыхъ ордѳ- ;
ровъ.,, и затѣмъ подобное разрѣшеніе должно кон- |
читься, потерять всякую силу и быть совершенно не-
дѣйствительнымъ».
3) Эти вещи такъ невѣроятны, что я считаю дол-
гомъ опять привести слова самаго акта: «всякій домъ,
комната пли мѣсто, которые будутъ открыты пли
употребляемы какъ мѣсто собранія для чтенія книгъ,
брошюръ, газетъ пли другихъ изданій и въ которые
кто-либо будетъ допущенъ за денежную плату (если
пѣтъ на то установленнаго разрѣшенія отъ властей)...
должны быть признаны за развратный домъ, и содер-
жатель долженъ быть наказанъ, какъ того требуетъ
законъ относительно развратныхъ домовъз>. Пи въ чемъ
слабѣйшія стороны человѣческаго ума не высказы-
ваются такъ ясно, какъ въ исторіи законодательствъ.
198 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
темы, правильно приспособленной къ тому, чтобы подчинить не только дѣйствія
людей, но и мнѣнія ихъ прямому контролю исполнительной власти. Вотъ почему
законы, въ первый разъ тогда постановленные противъ газетъ, были такъ стѣсни-
тельны и преслѣдованія, направленныя противъ авторовъ, такъ неотступны, что
становилось очевиднымъ намѣреніе губить всякаго писателя, который выразитъ неза-
висимыя мнѣнія 1). Эти мѣры и нѣкоторыя другія подобнаго же характера, о которыхъ
мы упомянемъ далѣе, возбудили такое безпокойство, что, по мнѣнію нѣкоторыхъ
изъ лучшихъ наблюдателей, положеніе общественныхъ дѣлъ становилось отчаяннымъ,
можетъ быть даже неисправимымъ. Крайнее уныніе, съ которымъ въ концѣ восем-
надцатаго вѣка самые горячіе приверженцы свободы взирали на будущее, весьма замѣтно
и составляетъ разительную черту въ ихъ частной перепискѣ * 2). И хотя сравнительно
весьма немногіе люди рѣшались публично высказывать такія мнѣнія, но Фоксъ, по
безстрашію своему, не думавшій объ опасностяхъ, открыто высказывалъ такія вещи,
которыя должны были бы остановить правительство, еслибы только что-нибудь могло
на него подѣйствовать. Этотъ даровитый государственный мужъ, не разъ бывшій
министромъ и впослѣдствіи опять занявшій это мѣсто, не усомнился сказать въ пар-
ламентѣ въ 1795 г., что если тѣ постыдные законы, которые тогда предла-
гались, и другіе, подобные имъ, будутъ дѣйствительно утверждены, то развѣ одна
осторожность можетъ удержать народъ отъ насильственнаго сопротивленія правитель-
ству, и что если только народъ почувствуетъ себя довольно сильнымъ, то онъ будетъ
имѣть полное право воспротивиться тѣмъ произвольнымъ .мѣрамъ, посредствомъ ко-
торыхъ правители его стараются подавить его свободу 3).
Но ничто не могло остановить правительство въ его дерзостномъ стремленіи.
Министры, увѣренные въ большинствѣ обѣихъ палатъ парламента, имѣли возмож-
ность проводить свои мѣры вопреки желаніямъ націи, которая сопротивлялась имъ
Гентъ говоритъ: «въ придачу ко всѣмъ этимъ
законамъ, направленнымъ исключительно противъ прес-
сы, изданы и другіе статуты, относящіеся отчасти къ
ней, но имѣющіе и вообще цѣлью подавить свободное
выраженіе общественнаго мнѣнія*. Въ 1793 г. д-ръ
Кёррп пишетъ: «преслѣдованія, предпринятыя прави-
тельствомъ по всей Англіи противъ хозяевъ типогра-
фій, издателей н пр., безъ сомнѣнія удивили бы васъ;
и большая часть этихъ преслѣдованій относится къ
проступкамъ, совершеннымъ уже нѣсколько мѣсяцевъ
назадъ. Типографщикъ, печатавшій «МансЬезІег Не-
гаЫ», подвергся семи отдѣльнымъ обвиненіямъ за
статьи, помѣщенныя въ его газетѣ, и шести также
отдѣльнымъ обвиненіямъ за продажу или отдачу шести
экземпляровъ Пэна (Раіне)—п все это ранѣе процесса
противъ Пэна. Этотъ человѣкъ былъ богатъ: пола-
гали, что онъ имѣетъ 20,000 ф., стерл., но чго всѣ
эти судебныя дѣла разорятъ его, чтб впрочемъ и имѣ-
лось въ виду».
2) Въ 1793 году д-ръ Кёрри, упомянувъ о по-
пыткахъ правительства уничтожить свободу печати,
присовокупляетъ: «я съ своей стороны предвижу
смуты и полагаю, что нація никогда еще но подвер-
галась такому опасному кризису». Фоксъ пишетъ:
«Мнѣ кажется, что въ настоящее время предстоитъ
выборъ только между двумя исходами: или рѣшиться
на совершенное отреченіе отъ правъ націи на свободу,
пли предпринять энергическое сопротивленіе, сопря-
женное конечно въ такія времена съ значительною
опасностью. Мой взглядъ на дѣла, признаюсь, весьма
мраченъ—я совершенно убѣжденъ, что черезъ нѣсколько
лѣтъ или это правительство будетъ совершенно абсо-
лютнымъ, или произойдутъ такого рода смуіы, кото-
рыхъ надобно почти столько же опасаться, какъ самаго
деспотизма». Въ 1796 г. епископъ Лландафскій пишетъ:
«болѣзнь, укоренившаяся въ конституціи (вліяніе ко-
роны), непзлечима; возможны были бы лишь насиль-
ственныя средства, но успѣхъ ихъ весьма сомнителенъ,
и я съ своей стороны никогда бы во желалъ видѣть
употребленіе пхъ$. Присглей опасался революціи, но
въ то же время полагалъ, что ужо пѣтъ никакой на-
дежды на мирную п постепенную реформу.
3) Въ этой достопамятной деклараціи Фоксъ ска-
залъ, что онъ «считаетъ себя въ правѣ надѣяться, что
эти новые билли, положительно отмѣняющіе билль о
правахъ и подрѣзывающіе самые корни конституціи,
превращая монархію съ ограниченною властью съ со-
вершенный деспотизмъ, не будутъ утверждены парла-
ментомъ, вопреки убѣжденію, высказанному значитель-
нымъ большинствомъ націи. Впрочемъ, еслибы мини-
стры рѣшились, посредствомъ покупного вліянія, ко-
торымъ они пользуются въ обѣихъ палатахъ парла-
мента, провести означенные билли, въ прямую про-
! тпвность высказанному убѣжденію огромнаго болыппн-
, ства націи, и они были бы приведены въ дѣйствіе во
і всей строгосги своихъ положеній, — то въ случаѣ,
еслибы нація спросила его мнѣнія о томъ, должна ли
она повиноваться подобнымъ законамъ, онъ бы отвѣ-
! тилъ, что это повиновеніе не составляетъ уже вопроса
нравственнаго долга и обязанности, а практическаго
разсчета. Дѣйствительно, это былъ бы случай такой
; крайности, которая одна только можетъ оправдать со-
противленіе правительству, и вопросъ былъ бы только
о томъ, молено ли разсчитывать на успѣхъ въ сопро-
тивленіи». На это Виндгамъ замѣтилъ—и Фоксъ того
не отрицалъ,—что «по очевидному смыслу словъ до-
стопочтеннаго джентльмэна», онъ бы посовѣтовалъ на-
роду вездѣ, гдѣ только онъ будетъ довольно силенъ для
) этого, противиться исполненію закона*; съ этимъ за-
| мѣчаніемъ и Шериданъ, и Грей немедленно согласились.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО ХѴІП ст. 199
всѣми способами, кромѣ прямого насилія х). И такъ какъ цѣль новыхъ законовъ заклю-
чалась въ томъ, чтобы обуздать духъ изслѣдованія и предотвратить реформы, кото-
рыя развитіе общества сдѣлало необходимыми, то были приведены въ дѣйствіе и
другія средства, клонящіяся къ той же цѣли. Можно сказать безъ преувеличенія,
что въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ Англія управлялась по системѣ безусловнаго
устрашенія 3)< Министры того времени, превращая простую борьбу партій въ настоя-
щую войну проскрипцій, наполняли тюрьмы своими противниками и допускали по-
стыдно строгое обращеніе съ заключенными 3). Если о человѣкѣ знали, что онъ—ре-
формеръ, то ему постоянно грозила опасность быть арестованнымъ; а если онъ избѣ-
галъ этого, то за нимъ все-таки слѣдили на каждомъ шагу и вскрывали въ почто-
выхъ конторахъ его частныя письма. Въ подобныхъ случаяхъ не стѣснялись ничѣмъ.
Нарушалось даже спокойствіе домашней жизни. Ни одинъ противникъ правитель-
ства не былъ безопасенъ, даже подъ собственнымъ кровомъ, отъ шпіонскихъ доно-
совъ и сплетенъ прислуги. Вводили раздоръ даже въ нѣдра семействъ, гдѣ родители
дѣлались чужды дѣтямъ своимъ 4). Но только употребляемы были всевозможныя ста-
ранія, чтобы заставить молчать прессу, но даже такъ сильно слѣдили за книгопро-
давцами, что они не смѣли издать сочиненіе, если авторъ его былъ человѣкъ, на-
влекшій нерасположеніе правительства 6). И, дѣйствительно, всякій, кто въ чемъ-либо
сопротивлялся правительству, былъ объявленъ врагомъ отчизны 6). Политическія ассо-
ціаціи и публичные митинги были строго запрещены. Всякій вождь народа нахо-
дился въ личной опасности и всякое народное сборище разгонялось или. угрозами,
или вооруженной силой. Весь ненавистный механизмъ, бывшій въ употребленіи въ
худшія времена семнадцатаго столѣтія, вновь приведенъ въ дѣйствіе. Содержали на
жалованьи шпіоновъ, подкупали свидѣтелей, присяжныхъ назначили по особому вы-
бору. Кофейные дома, гостиницы и клубы были наполнены шпіонами правитель-
ства, которые доносили о самьіхъ неумышленныхъ выраженіяхъ, произнесенныхъ
кѣмъ-нибудь въ обыкновенномъ разговорѣ 7). Если же и этимъ путемъ нельзя было
найти никакихъ доказательствъ противъ кого-нибудь, то оставалось еще одно сред-
ство, которымъ и пользовались нещадно: такъ какъ дѣйствіе акта ЬаЪеаз согриз было
постоянно пріостанавливаемо, то правительство имѣло власть, безъ слѣдствія и безъ
всякаго ограниченія, заключать въ тюрьму всякое лицо, которое было непріятно
министерству, но преступность котораго нельзя было даже и пытаться доказать 8).
:) «И самые старые люди не помнили, чтобы су-
ществовало когда-либо такое твердое и рѣшительное боль-
шинство лицъ, противодѣйствовавшихъ мѣрамъ мини-
стерства, какъ было въ этомъ случаѣ (то есть въ 1795 г.);
интересы всей публики казались такъ глубоко затро-
нутыми, что личности, не только изъ высшихъ, но и
изъ самыхъ простонародныхъ профессій, жертвовали
значительною долею своего времени и своихъ занятій
для посѣщенія многочисленныхъ митинговъ, которые
собирались во всѣхъ краяхъ государства, съ признан-
ной цѣлью противодѣйствовать этой попыткѣ мини-
стерства». (Примѣчаніе въ «Рагі. Нізі.», ѵоі. XXXII,
р. 381). Въ это время Фоксъ высказалъ то, чтб мы
привели въ предыдущемъ примѣчаніи.
2) Эта система названа была тогда же «Цар-
ствомъ Страха», и такимъ царствомъ она дѣйстви-
тельно была для всякаго лица, противящагося видамъ
правительства.
3) <Противозаконная система тайныхъ арестовъ,
на основаніи которой Питтъ и Дундасъ наполняли те-
перь всѣ тюрьмы парламентскими реформерами, людьми,
которыхъ сажали въ крѣпость безъ всякаго гласнаго
обвиненія и которыхъ пріостановленіе дѣйствія акта
ЬаЬеаз согрпз лишало всякой надежды на освобожде-
ніе» (Кукъ).
Роско пишетъ въ 1793 году слѣдующее: «Вся-
кій человѣкъ призывается быть шпіономъ надъ своимъ
братомъ», Фоксъ замѣчаетъ, что всѣ мѣры правитель-
ства направляются къ тому, чтобы «сдѣлать изъ каж-
даго человѣка не только инквизитора, но также судью,
шпіона и доносчика,—возстановить отца противъ отца,
брата—противъ брата; и этимъ путемъ вы надѣетесь
поддержать спокойствіе страны».
5) Представилось даже довольно значительное за-
трудненіе—найти типографщика, который бы согласплся
напечатать большое филологическое сочиненіе Тука—
«ТЬе Віѵегзіопв оГ Рнгіеу».
6) Тѣхъ, которые дѣйствовали противъ торговли
невольниками, называли якобинцами и «врагами ми-
нистерства»; знаменитый д-ръ Керри былъ объявленъ
якобинцемъ и врагомъ отечества, потому что онъ ііро-
[ тостовалъ противъ постыднаго обращенія съ француз-
1 скими плѣнными, которое въ 1800 году было допу-
і скаемо англійскимъ правительствомъ.
7) Въ 1798 году Кальдвелль писалъ къ сэру
Джемсу Смиту: «Власть короны становится невыноси-
мой. Новый планъ проникновенія въ частную жизнь
всякаго превосходитъ всѣ попытки, предпринятыя пра-
вительствомъ въ царствованіе Людовика XIV, о кото-
рыхъ я когда-либо слышалъ».
8) Въ 1794 году Фоксъ сказалъ въ своей рѣчи
по поводу билля о пріостановленіи дѣйствія акта Ьа-
200 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Такимъ-то образомъ въ концѣ восемнадцатаго вѣка правители Англіи, подъ
предлогомъ охраненія учрежденій страны, угнетали народъ, для пользы котораго
единственно должны существовать эти учрежденія. И этимъ еще не ограничилось
зло, которое они дѣйствительно произвели. Ихъ попытки остановить развитіе обще-
ственнаго мнѣнія были тѣсно связаны съ тою чудовищной системой иностранной
политики, вслѣдствіе которой мы обременены безпримѣрно-огромнымъ государствен-
нымъ долгомъ. Для уплаты процентовъ этого долга и для покрытія текущихъ расхо-
довъ расточительнаго и безпечнаго управленія обложены были податями почти всѣ
произведенія промышленности п природы. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ эти
подати падали на массу народа, которая была такимъ образомъ поставлена въ осо-
бенно тяжелое положеніе: высшія сословія не только отказывали остальному народу
въ необходимо требовавшихся реформахъ, но даже заставляли всю страну платить
за тѣ предосторожности, которыя, вслѣдствіе этого отказа, признавалось нужнымъ
принимать. Такимъ образомъ при Георгѣ III стѣсняли свободу націи и расточали
плоды ея трудовъ на то, чтобы ограждать эту же самую націю отъ такихъ понятій,
которыя необходимо возбуждались въ ней самыми успѣхами просвѣщенія.
Неудивительно, что въ виду такихъ обстоятельствъ нѣкоторые изъ самыхъ да-
ровитыхъ наблюдателей уже отчаялись за свободу Англіи и полагали, что по про-
шествіи нѣсколькихъ лѣтъ долженъ окончательно утвердиться деспотическій образъ
правленія. Даже мы, которые смотримъ па тогдашнія дѣла спустя полвѣка и мо-
жемъ поэтому имѣть на нихъ болѣе хладнокровный взглядъ, да при томъ еще поль-
зуемся преимуществами большихъ знаній и болѣе зрѣлой опытности,—и мы должны
однако же согласиться, что, насколько можно было судйть по политическимъ собы-
тіямъ, въ то время предстояла опасность болѣе грозная, чѣмъ когда-либо, съ самаго
царствованія Карла I. Но тогда забывали, какъ и теперь часто забываютъ, что по-
литическія событія составляютъ только одно изъ множества сторонъ исторіи вели-
каго государства. Въ этомъ періодѣ, который мы разсматривали, политическое дви-
женіе дѣйствительно было болѣе зловѣщимъ, чѣмъ когда-либо въ теченіе послѣднихъ
поколѣній. Но съ другой стороны умственное движеніе было, какъ мы тоже видѣли,
въ высшей степени благопріятно, и вліяніе его быстро расширялось. Итакъ, прави-
тельство Англіи двигалось въ одномъ направленіи, въ то время какъ просвѣщеніе
страны двигалось въ другомъ, и между тѣмъ какъ политическія явленія задерживали
насъ, явленія чисто умственныя двигали насъ впередъ. Такимъ образомъ деспоти-
ческія начала, которыя были проводимы правительствомъ, въ нѣкоторой степени
нейтрализировались; конечно, невозможно было, чтобы отъ нихъ не произошло тяж-
кое страданіе для націи, но послѣдствіемъ этого страданія была возраставшая въ
ней рѣшимость преобразовать систему управленія, при которой возможно было такое
угнетеніе. Въ то же время какъ нація ощущала эти бѣдствія, пріобрѣтенныя ею
знанія указывали ей на средство исцѣленія. Она видѣла, что люди, стоящіе во главѣ
управленія,—деспоты; она видѣла также, что самая система, предоставлявшая по-
добнымъ людямъ такую власть, должна быть дурна. Это поддерживало націю въ не-
довольствѣ и оправдывало ея рѣшимость достигнуть какого-нибудь другого устрой-
ства, которое доставило бы ей голосъ въ рѣшеніи государственныхъ вопросовъ х).
Нечего и говорить о томъ, что эта рѣшимость становилась сильнѣе и сильнѣе до
Ьеав согриз: «всякій человѣкъ, свободно говорящій и
ненавидящій эту войну, какъ я ее отъ всей души не-
навижу, можетъ быть и дѣйствительно бываетъ въ ру-
кахъ и въ полной власти министровъ. Живя при этомъ
правительствѣ и ври возможности подвергнуться по-
слѣдствіямъ возмущенія, я откровенно признаюсь, что,
сравнивши оба зла, я считаю то, которое они будто
бы хотятъ устранить, меньшимъ, чѣмъ то, которое
они непосредственно произведутъ своимъ врачеваніемъ».
Въ 1800 году лордъ Голлапдъ сказалъ въ палатѣ лор- ।
до въ, что «изъ семи лѣтъ этой войны въ теченіе пяти
дѣйствіе акта ЬаЬеав согриз было пріостановлено, и
что пзъ множества людей, арестованныхъ на основаніи
этого пріостановленія, подвергнуты были суду весьма
немногіе, осужденъ же только одинъ».
х) Одинъ весьма внимательный наблюдатель явле-
ній, происходившихъ въ концѣ восемнадцатаго вѣка,
высказалъ то, что въ началѣ девятнадцатаго сдѣла-
лось убѣжденіемъ большей части людей, одаренныхъ
простымъ здравымъ смысломъ и не имѣющихъ лнч-
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
201
тѣхъ поръ, пока она не произвела тѣхъ великихъ законодательныхъ реформъ, ко-
торыя уже ознаменовали нынѣшній вѣкъ, придавъ другой характеръ нашимъ обще-
ственнымъ дѣятелямъ и измѣнивъ составъ англійскаго парламента.
Такимъ образомъ въ послѣднихъ годахъ восемнадцатаго вѣка накопленіе и
распространеніе знаній въ Англіи шли прямо въ разрѣзъ съ политическими собы-
тіями, совершавшимися въ то же время. До какой степени и въ какомъ видѣ про-
являлась эта противоположность, я уже старался объяснить на столько, на сколько
позволяли сложность самаго предмета и предѣлы настоящаго введенія. Мы видѣли,
что если смотрѣть на Англію, какъ на одно цѣлое, то общій ходъ дѣлъ очевидно
былъ направленъ къ тому, чтобы уменьшить могущество церкви, аристократіи и
короны и такимъ образомъ дать большій просторъ самодѣятельности націи. Напро-
тивъ того, не принимая государство за одно цѣлое, а взирая только на политиче-
скую исторію его, мы увидимъ, что личныя свойства Георга III и обстоятельства,
при которыхъ онъ вступилъ на престолъ, дали ему возможность остановить великій
прогрессъ и на время произвести опасную реакцію. Къ счастью для Англіи, тѣ на-
чала свободы, которыя и онъ, и приверженцы его старались уничтожить, — еще до
воцаренія его пріобрѣли такую силу и до такой степени распространились, что не
только выдерживали эту политическую реакцію, но даже какъ будто бы еще усили-
вались вслѣдствіе самой борьбы. Нельзя не согласиться съ тѣмъ, что борьба была
трудна и одно время даже составляла для всей націи весьма критическое поло-
женіе. Такова впрочемъ сила либеральныхъ мнѣній, когда они однажды укоренятся
въ умѣ цѣлаго народа, чтр, несмотря на испытаніе, которому они были подвер-
гнуты, и на тѣ наказанія, которыя налагались на защитниковъ ихъ—оказалось не-
возможнымъ ихъ подавить и даже воспрепятствовать усиленію ихъ. Ученія, ниспро-
вергающія всѣ начала свободы, были лично поддерживаемы государемъ, открыто
признаваемы правительствомъ и усердно защищаемы самыми могущественными со-
словіями; законы, проистекающіе изъ этихъ теорій, были вносимы въ нашу книгу
статутовъ и исполняемы въ нашихъ судахъ. Но все было тщетно. Черезъ нѣсколько
лѣтъ поколѣніе того времени начало сходить съ поприща; на мѣсто его вступило
другое, лучшее — и система тиранніи пала. Такимъ образомъ во всѣхъ странахъ,
сколько-нибудь пользующихся свободою, должна пасть всякая система управленія,
идущая противъ потребностей страны и покровительствующая такимъ понятіямъ и
учрежденіямъ, которыя отвергаются духомъ времени. Въ такого рода борьбѣ окон-
чательный результатъ не подлежитъ никакому сомнѣнію. Сила каждаго деспотиче-
скаго правительства зависитъ единственно отъ нѣсколькихъ личностей, которыя, ка-
ковы бы ни были способности ихъ, могутъ быть послѣ смерти замѣнены робкими
и неспособными преемниками. Сила же общественнаго мнѣнія не подвержена этимъ
случайностямъ; на нее не дѣйствуютъ законы смертности; она не можетъ сегодня
процвѣтать, а завтра придти въ упадокъ, и не только не зависитъ отъ жизни отдѣль-
ныхъ личностей, но управляется широко дѣйствующими общими причинами, которыя
по самой широтѣ своей едва замѣтны на короткихъ періодахъ, при сравненіи же
долгихъ пространствъ времени оказываются перевѣшивающими всѣ другія условія
и обращаютъ въ ничто тѣ мелкія ухищренія, посредствомъ которыхъ государи и
государственные люди надѣются измѣнить естественный ходъ событій и подчинить
своей волѣ будущность великихъ цивилизованныхъ народовъ.
Все это очевидныя, общія истины, въ которыхъ едва-ли усомнится кто-либо
изъ людей, достаточно знающихъ исторію и много размышлявшихъ о свойствахъ и
условіяхъ современнаго общества. Но въ томъ періодѣ, который мы разсматриваемъ,
наго интереса въ существовавшей системѣ подкуповъ:
«причину нашихъ затрудненій составляетъ неумѣрен-
ное отягощеніе націи податями—послѣдствіе ненуж-
ныхъ войнъ царствованія Георга III; а это неумѣрен-
ное отягощеніе происходитъ отъ того, что палата общинъ
состоитъ изъ людей, но имѣющихъ интереса защищать
собственность націи».
202 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
эти истины были совершенно забыты нашими правителями, которые не только счи-
тали себя способными остановить развитіе извѣстныхъ мнѣній, но даже совершенно оши-
бались относительно самой цѣли и назначенія правительства. Въ тѣ времена думали,
что правительства существуютъ только для меньшинства, желаніямъ котораго боль-
шинство обязано покорно подчиняться; что власть постановлять законы должна
всегда находиться въ рукахъ немногихъ привилегированныхъ классовъ, и что до
всей націи эти законы касаются только въ томъ, что она должна имъ повиноваться х),
и, наконецъ, что мудрое правительство обязано обезпечивать за собою повиновеніе
народа, препятствуя ему просвѣщаться умноженіемъ суммы своихъ знаній 2). Безъ
сомнѣнія, должно считать весьма замѣчательнымъ обстоятельствомъ то, что эти по-
нятія и системы законодательства, на нихъ основанныя, до такой степени вымерли
въ теченіе полувѣка, что ихъ теперь уже не отстаиваютъ и люди самаго посред-
ственнаго развитія. Еще замѣчательнѣе, что эта великая перемѣна совершилась не
вслѣдствіе какого-либо внѣшняго событія или внезапнаго возстанія народа, но един-
ственно дѣйствіемъ , нравственной силы—безмолвнаго, но всесокрушающаго давленія
общественнаго мнѣнія. Это явленіе мнѣ всегда казалось рѣшительнымъ доказатель-
ствомъ естественнаго и, если я могу такъ выразиться, здороваго хода англійской
цивилизаціи. Оно доказываетъ такую упругость и такую сдержанность народнаго
духа, какихъ не выказала никогда ни одна нація. Никакой другой народъ не избѣг-
нулъ бы этого кризиса иначе, какъ пройдя черезъ революцію, которая могла бы
стоить дороже, чѣмъ сколько бы она принесла пользы. Какъ бы то ни было, но
должно сказать, что въ Анрліи общій ходъ дѣлъ, который я старался прослѣдить съ
шестнадцатаго вѣка, распространилъ во всемъ народѣ такое знаніе его собствен-
ныхъ средствъ, такое умѣніе искусно и независимо пользоваться ими, которыя хотя
и были еще весьма несовершенны, но все-таки достигли у насъ несравненно боль-
шаго развитія, чѣмъ у другихъ великихъ пародовъ Европы. Кромѣ того другія
обстоятельства, о которыхъ мы далѣе разскажемъ, еще съ одиннадцатаго столѣтія
начали дѣйствовать на нашъ національный характеръ и способствовали къ приданію
ему той мужественной смѣлости и вмѣстѣ съ тѣмъ той привычки къ предусмотрѣ-
нію послѣдствій и той осторожной сдержанности, которымъ англійскій умъ обязанъ
своими главными особенностями. Вслѣдствіе того у насъ любовь въ свободѣ умѣря-
лась духомъ осторожности, который обуздалъ стремительность этого чувства, не по-
вредивъ его силѣ, и это-то свойство наше и заставило нашихъ соотечественниковъ
не разъ переносить даже довольно тяжкое угнетеніе скорѣе, чѣмъ рѣшиться на
возстаніе противъ своихъ притѣснителей. Оно научило сдерживать себя и беречь
свои силы до тѣхъ поръ, пока не настанетъ возможность употребить ихъ съ
вѣрнымъ успѣхомъ. Этой великой и драгоцѣнной привычкѣ мы обязаны спасе-
ніемъ Англіи въ концѣ восемнадцатаго вѣка. Еслибы . народъ возсталъ, ему при-
шлось бы рисковать всѣмъ, и пикто не можетъ сказать, какой былъ бы резуль-
татъ этого отчаяннаго риска. Къ счастью для гражданъ того времени и для потом-
ства ихъ, они примирились съ необходимостью и согласились выждать свое время
и дождаться естественнаго исхода дѣлъ. Плоды этого благороднаго образа дѣйствія
пожинаются ихъ потомками. По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ политическій кризисъ
сталъ ослабѣвать и нація опять вступила въ прежнія свои права. Хотя права эти
нѣкоторое время были въ бездѣйствіи, но они не уничтожались уже по тому самому,
что еще существовалъ въ народѣ тотъ духъ, силою котораго они первоначально
*) Епископъ Горслей, упорный защитникъ суще-
ствующаго порядка вещей, въ 1795 г. сказалъ въ па-
латѣ лордовъ: «не знаю, какое дѣло массѣ народа въ
какой-либо странѣ до законовъ, за исключеніемъ того,
чтобы повиноваться имъ>.
2) Лордъ Кокбуриъ говоритъ: «если только какое-
нибудь начало и признавалось неоспоримымъ почти
всѣми приверженцами партіи, преобладавшей шесть-
десятъ, пятьдесятъ или даже сорокъ лѣтъ тому назадъ,
такъ это то, что невѣжество народа составляетъ не-
обходимое условіе его повиновенія законамъ». Однимъ
изъ доводовъ въ пользу этого мнѣнія было то, что
«распространять образованіе—значило бы умножать
случаи преступленія подлога».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АНГЛІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
203
пріобрѣтены. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что еслибы тогдашнее тяжелое время про-
должилось, то тотъ же самый духъ, который воодушевлялъ предковъ въ царствованіе
Карла I, вновь проявился бы въ потомкахъ, и общество было бы потрясено рево-
люціей, о которой страшно и подумать. Между тѣмъ въ настоящемъ случаѣ все это
было избѣгнуто, и хотя въ разныхъ краяхъ государства возникали народныя вол-
ненія и мѣры правительства возбуждали весьма серьезное нерасположеніе къ жему,
однако вообще нація осталась непоколебимой и терпѣливо сберегла свои силы для
лучшихъ временъ, когда, для блага ея, образовалась въ государствѣ новая партія,
которая стала съ успѣхомъ отстаивать ея интересы въ самыхъ стѣнахъ парламента.
Эта великая и благодѣтельная реакція наступила въ самомъ началѣ настоя-
щаго вѣка; но обстоятельства, сопровождавшія ее, до такой степени сложны и были
до сихъ поръ такъ мало изучаемы, что въ этомъ введеніи я не могу и подумать о
томъ, чтобы представить хотя очеркъ ихъ. Достаточно будетъ сказать—и это должно
быть всѣмъ извѣстно,*—что въ теченіе почти пятидесяти лѣтъ движеніе продолжа-
лось съ неутомимой быстротой. Все, что только было сдѣлано вновь, служило къ
тому, чтобы увеличить вліяніе народа. Ударъ за ударомъ былъ нанесенъ тѣмъ сосло-
віямъ, которыя нѣкогда исключительно обладали политическимъ могуществомъ. Билль
о реформѣ, эмансипація католиковъ и отмѣна хлѣбныхъ законовъ признаны всѣми
за три самыхъ великихъ политическихъ подвига настоящаго поколѣнія, и каждая
изъ этихъ важныхъ мѣръ ослабила одну изъ могущественныхъ партій въ государ-
ствѣ. Расширеніе права голоса на выборахъ уменьшило вліяніе наслѣдственныхъ
привилегій и разстроило ту великую олигархію землевладѣльцевъ, которая такъ долго
управляла палатою общинъ. Отмѣна покровительственной системы еще болѣе ослабила
поземельную аристократію; въ Ч’О же время суевѣрныя понятія, составляющія глав-
ную поддержку духовнаго сословія, были сильно потрясены сперва отмѣною актовъ
Тезі и Согрогаііоп 1), а потомъ допущеніемъ4 католиковъ въ законодательное собра-
ніе,—двумя явленіями, которыя справедливо признаются за вредные примѣры для
интересовъ господствующей церкви 2 *). Какъ эти мѣры, такъ и другія, нынѣ сдѣлав-
шіяся неизбѣжными, уже отняли отчасти и будутъ продолжать отнимать у всѣхъ
отдѣльныхъ классовъ общества принадлежавшую имъ прежде власть, чтобы передать
ее всей массѣ народа. Дѣйствительно, быстрое развитіе демократическихъ идей со-
ставляетъ въ настоящее время фактъ, котораго никто не осмѣлится отрицать. Бояз-
ливые и невѣжественные люди ужасаются этого движенія, но что оно дѣйствительно
есть—очевидно для всякаго. Теперь никто но осмѣлится толковать о томъ, чтобы
наложить узду на народъ или противиться единодушнымъ желаніямъ его. Если и
говорятъ еще, то развѣ о томъ, что слѣдуетъ стараться разъяснять народу его дѣй-
ствительные интересы и просвѣщать общественное мнѣніе; но всѣ соглашаются съ
тѣмъ, что какъ только общественное мнѣніе образуется, невозможно долѣе проти-
виться ему. Объ этомъ предметѣ всѣ судятъ единогласно; передъ новою силою, по-
немногу преодолѣвающею всѣ другія, смиряются тѣ самые государственные люди,
которые, еслибы имъ пришлось жить шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ, первые стали
'*) На основаніи этихъ актовъ., изданныхъ въ |
царствованіе Кара П, всѣ лица, вступающія въ ка-
кую-либо праввтельственпую должіость, гражданскую
или военную, должны были, въ полномъ составѣ кор-
порацій, торжественно присягать королю, а сверхъ
того каждое изъ этихъ лицъ въ теченіе года до избра-
нія своего должно было причаститься по обряду
англиканской церкви. Оба акта окончательно отмѣ-
нены въ царствованіе Георга VI, въ 1828 году.
(Іірим. перво.)
2) Епископъ Бергессъ въ письмѣ къ лорду
Мильборну съ горечью жалуется на то, что эманси-
пація католиковъ была «уничтоженіемъ чисто проте-
стантскаго характера англійскаго парламента». Пѣтъ
никакого сомнѣнія въ томъ, что енисконъ вѣрно оцѣ-
нилъ предстоящую его партіи опасность; что же ка-
сается до актовъ Согрогаііоп и ТевІ, которые, какъ
сказалъ другой епископъ, «была справедливо призна-
ваемы самыми твердыми опорами британской консти-
туціи», то это чувство было такъ сильно, что на
одномъ собраніи епископовъ въ 1787 году оказалось
только два голоса, которые согласились па отмѣну
этихъ стѣснительныхъ законовъ. Лордъ Эльдонъ, до
конца стоявшій за церковь, объявилъ, что билль объ
отмѣнѣ этихъ актовъ есть «билль революціонный».
204
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
бы отрицать ея могущество, смѣяться надъ ея притязаніями и—еслибы это оказалось
возможнымъ—подавлять ея независимость.
Такова пропасть, отдѣляющая общественныхъ дѣятелей нашего времени отъ
людей, дѣйствовавшихъ при той вредной системѣ, которую Георгъ Ш старался утвер-
дить навсегда. Очевидно при томъ, что этотъ великій прогрессъ произведенъ былъ болѣе
уничтоженіемъ самой системы, чѣмъ улучшеніемъ людей. Очевидно также, что система
пала, потому что она была не согласна съ духомъ времени; другими словами, по-
тому что прогрессивный народъ никогда не потерпитъ антипрогрессивнаго прави-
тельства. Между тѣмъ исторія вполнѣ доказала, что наши законодатели даже до
послѣдней минуты такъ сильно ужасались самой мысли о нововведеніи, что отка-
зывали народу во всякой реформѣ до тѣхъ поръ, пока голосъ его не раздался до-
статочно громко, чтобы вынудить ихъ къ покорности и заставить ихъ сдѣлать ту
уступку, которой они, безъ такого давленія, ни за что бы не сдѣлали.
Эти явленія должны служить урокомъ нашимъ политическимъ вождямъ. Они
должны также умѣрять самонадѣянность законодателей, убѣждая ихъ въ томъ, что
лучшія мѣры ихъ годились только на время, и что самые слѣды ихъ позднѣйшій. и
болѣе зрѣлый вѣкъ будетъ стараться изгладить. Хорошо было бы, еслибы такія
соображенія могли обуздать самоувѣренность и умѣрить рѣчи тѣхъ поверхностныхъ
людей, которые, достигнувъ временной власти, считаютъ себя призванными гаран-
тировать извѣстныя учрежденія и поддерживать извѣстныя мнѣнія. Имъ слѣдовало
бы ясно понять, что не ихъ дѣло такимъ образомъ предупреждать будущій ходъ
событій и предусматривать отдаленныя сочетанія явленій Дѣйствительно, въ дѣлахъ
маловажныхъ это можетъ быть сдѣлано безъ особенной7 опасности, хотя, какъ дока-
зываютъ постоянныя перемѣны въ законахъ каждаго государства,—это не прино-
ситъ также никакой пользы. Но относительно тѣхъ широкихъ, основныхъ мѣръ, отъ
которыхъ зависитъ судьба цѣлой націи, подобное предупрежденіе болѣе чѣмъ без-
полезно—оно въ высшей степени вредно. При настоящемъ положеніи нашихъ зна-
ній политика не только не возвысилась на степень науки, но представляетъ собою
самое отсталое изъ искусствъ; единственный безопасный путь для законодателя —
признать свое призваніе въ томъ, чтобы подбирать временныя средства для удовле-
творенія временныхъ нуждъ. Его обязанность—слѣдовать за вѣкомъ, а не пытаться
руководить имъ. Законодатель долженъ довольствоваться изученіемъ того, что проис-
ходитъ вокругъ него, и соображать свои планы не съ тѣми понятіями, которыя онъ
наслѣдовалъ отъ своихъ отцовъ, а съ дѣйствительными требованіями своего времени,
ибо онъ долженъ быть убѣжденъ, что при настоящей быстротѣ общественнаго про-
гресса потребности одного поколѣнія не могутъ служить мѣрою для потребностей
другого, и что люди, сознавая этотъ прогрессъ, уже тяготятся праздными рѣчами о
мудрости своихъ предковъ, рѣшительно отвергая тѣ изношенныя и неподвижныя
правила, которыя до сихъ поръ были имъ навязываемы, но которыми теперь они
уже не долго позволятъ себя стѣснять.
ГЛАВА VIII.
Очерк-ь исторіи умственнаго движенія во Франціи ст> половины шестнадцатаго вѣна
до вступленія на престол-ь Людовина XIV.
Разсмотрѣніе великихъ перемѣнъ, совершившихся въ умственномъ развитіи
Англіи, привело меня къ отступленію, которое однако же не только не чуждо цѣли
этого введенія, но даже совершенно необходимо для правильнаго пониманія его. Въ
этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, существуетъ замѣтная аналогія между
изслѣдованіями, касающимися до организаціи общества^ и изслѣдованіями, относящи-
мися къ человѣческому тѣлу. Такъ, напримѣръ, признано, что лучшій путь къ откры-
тію теоріи болѣзни заключается въ томъ, чтобы начать съ теоріи здоровья, и что
основаніе для всякаго здраваго взгляда на патологію должно быть отыскиваемо по-
средствомъ наблюденія не анормальныхъ, но именно нормальныхъ отправленій жизни.
Точно такимъ же образомъ, я полагаю, будетъ признано, что лучшій методъ для
отрытія великихъ соціальныхъ чистинъ состоитъ въ томъ, чтобы сперва изслѣдовать
тѣ случаи, въ которыхъ общество развивалось по своимъ7 собственнымъ законамъ и
правительствующія власти наименѣе противились духу своего времени.
Вопросъ о томъ: должно или не должно изученіе нормальныхъ явленій предшествовать из-
ученію анормальныхъ, есть вопросъ величайшей важности, и упущеніе его изъ виду произвело
смѣшеніе понятій во всѣхъ мнѣ извѣстныхъ сочиненіяхъ о всеобщей или сравнительной исторіи.
Такъ какъ это предварительное основаніе не было установлено, то и не оказалось никакого при-
знаннаго начала для расположенія предметовъ, и историки, вмѣсто того, чтобы слѣдовать научному
методу, соотвѣтствующему дѣйствительнымъ требованіямъ нашего знанія, приняли методъ эмпи-
рическій, примѣненный только къ ихъ собственнымъ требованіямъ, п предоставили первыя мѣста
разнымъ странамъ, руководствуясь то обширностью ихъ, то древностью, то географическимъ по-
ложеніемъ, то ихъ богатствомъ, то пхъ религіею, то блистательностью ихъ литературъ, то, нако-
нецъ, удобствомъ, представлявшимся для историка въ собираніи матеріаловъ. Всѣ эти соображенія
конечно произвольны; съ философской же точки зрѣнія очевидно, что первыя мѣста въ изслѣдо-
ваніи должны быть предоставлены историкомъ тѣмъ пли другимъ странамъ, смотря единственно
по тому, къ какой мѣрѣ удобно дѣлать общіе выводы изъ ихъ исторіи; въ этомъ отношеніи онъ
долженъ слѣдовать научному правилу—переходить отъ простѣйшаго къ болѣе сложному. Это при-
водитъ насъ къ тому заключенію, что въ изученіи человѣка такъ же, какъ и въ изученіи при-
роды, вопросъ о томъ, что чему должно предшествовать, переходитъ въ вопросъ объ уклоненіяхъ
отъ правильности: чѣмъ болѣе случалось такихъ уклоненій въ жизни какого-нибудь народа, т. ѳ.,
чѣмъ болѣе она подвергалась постороннему вмѣшательству, тѣмъ ниже долженъ быть поставленъ
такой народъ въ системѣ исторіи различныхъ странъ. Кольриджъ полагаетъ, повидимому, что
порядокъ долженъ быть противоположный тому, па который я указываю, и что законы какъ духа,
такъ и тѣла могутъ быть обобщены по патологическимъ даннымъ. Не желая высказаться слиш-
комъ положительно противъ мнѣнія такого глубокаго мыслителя, какъ Кольриджъ, я не могу
однако же не сказать, что это мнѣніе опровергается громаднымъ количествомъ доводовъ и что,
сколько мнѣ извѣстно, оно не подтверждается ни однимъ доказательствомъ. Опровергается оно уже
тѣмъ фактомъ, что отрасли изслѣдованія, имѣющія дѣло съ явленіями, на которыя мало дѣй-
ствуютъ внѣшнія причины, возвысилась на степспь наукъ гораздо ранѣе, чѣмъ тѣ, которыя имѣютъ
дѣло съ явленіями, сильно измѣняемыми дѣйствіемъ внѣшнихъ причинъ. Такъ напримѣръ, орга-
ническій міръ болѣе подвергается дѣйствію неорганическаго, чѣмъ послѣдній его дѣйствію. Потому
мы видимъ, что неорганическія пауки всегда достигали извѣстнаго развитія ранѣе, чѣмъ органи-
ческія, и что даже въ настоящее время первыя далеко опередили послѣднія. Такимъ же образомъ
физіологія человѣка явилась ранѣе, чѣмъ патологія его; также какъ физіологіей) растительнаго
царства успѣшно занимались уже со второй половины семнадцатаго вѣка, между тѣмъ какъ о
206
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
патологіи этого царства едва можно сказать, что опа существуетъ, такъ какъ ни одинъ изъ ея
законовъ но былъ обобщенъ и не было произведено никакихъ систематическихъ изысканій, въ
большомъ размѣрѣ, по болѣзненной анатоміи растеній. Такимъ образомъ оказывается, что разные
вѣка и разныя науки безсознательно свидѣтельствуютъ о томъ, какъ безполезно сосредоточивать
вниманіе на анормальныхъ явленіяхъ, пока еще не сдѣланы значительные успѣхи въ изученіи
нормальныхъ; это заключеніе можетъ быть подтверждено безчисленнымъ множествомъ авторите-
товъ. которые, вопреки мнѣнію Кольриджа, полагаютъ, что основаніемъ патологіи должна служить
физіологія и что законы болѣзней должны быть выведены изъ явленій, представляемыхъ не болѣз-
неннымъ, а здоровымъ состояніемъ организма; другими словами, патологія должна быть изслѣ-
дуема болѣе посредствомъ дедукціи (вывода), чѣмъ индукціи (наведенія), и что анатомія болѣзней
и клиническія наблюденія могутъ служить повѣркою для заключеній науки, но никогда не могутъ
служить средствомъ для созданія самой науки.
Другимъ подтвержденіемъ вѣрности этого взгляда можетъ служить то, что патологическія
изслѣдованія нервной системы, какъ ихъ пи было много, почти ни къ чему не привели; очевидно
потому, что предварительное изученіе нормальнаго состоянія не довольно подвинулось.
Въ этихъ видахъ, чтобы лучше понять положеніе Франціи, я началъ съ того,
что разсмотрѣлъ положеніе Англіи. Чтобы уразумѣть,, какимъ образомъ болѣзни пер-
вой изъ этихъ странъ усилились отъ шарлатанскаго врачеванія ихъ невѣжествен-
ными правителями, нужно было предварительно уяснить себѣ, какимъ образомъ здо-
ровое состояніе другой страны было сохранено тѣмъ, что она подвергалась мень-
шему вмѣшательству и имѣла возможность съ большой свободой слѣдовать есте-
ственному ходу своего развитія. Итакъ, при помощи того знанія, которое мы пріобрѣли
изученіемъ нормальнаго состоянія умственнаго развитія Англіи, мы можемъ съ боль-
шимъ удобствомъ приложить напти начала къ тому анррмальному состоянію фран-
цузскаго общества, проявленіями котораго въ концѣ восемнадцатаго вѣка были
поставлены въ опасность нѣкоторые изъ самыхъ драгоцѣнныхъ для цивилизаціи
интересовъ.
Во Франціи цѣлый рядъ событій, о которыхъ я разскажу далѣе, уже съ весьма
ранняго времени далъ духовенству больше могущества, чѣмъ оно когда-нибудь имѣло
въ Англіи. Результаты этого явленія въ продолженіе нѣкотораго времени были
весьма благодѣтельны, такъ какъ церковь умѣряла анархическое своеволіе варвар-
скаго періода и представляла собою убѣжище для слабыхъ и угнетенныхъ. Но по
мѣрѣ того, какъ французы стали успѣвать въ просвѣщеніи, духовная власть, съ та-
кой пользой обуздывавшая прежде ихъ страсти, тяжелымъ бременемъ легла на
умственныя силы націи и стала стѣснять движеніе ихъ. Та же духовная власть, ко-
торая во времена невѣжества составляетъ несомнѣнное благодѣяніе, въ болѣе про-
свѣщенномъ вѣкѣ оказывается серьезнымъ зломъ. Доказательство этой истины не
замедлило явиться, Когда началась реформація, церковь въ Англіи была уже такъ
ослаблена, что пала отъ перваго удара; доходы ея были захвачены короною, и выс-
шія должности ея, по значительномъ уменьшеніи сопряженныхъ съ ними могущества
и богатства, перешли въ руки новыхъ людей, которые, по шаткости своего поло-
женія и по новости своего ученія, не имѣли тѣхъ правъ древне-установпвшейся
давности, которыми главнымъ образомъ поддерживаются притязанія духовнаго со-
словія. Это, какъ мы уже видѣли, послужило началомъ непрерывнаго прогресса, при
которомъ со всякимъ послѣдовательнымъ шагомъ духовенство теряло часть своего
вліянія. Напротивъ того, во Франціи духовенство было такъ сильно, что ему уда-
лось отразить реформацію и такимъ образомъ сохранить для себя тѣ исключитель-
ныя преимущества, которыя англійскіе собратья его тщетно старались удержать.
Это было началомъ второго замѣтнаго различія между цивилизаціями Англіи
и Франціи, которое собственно явилось гораздо ранѣе, но теперь только произвело
очевидныя послѣдствія. Обѣ страны въ періодѣ своего дѣтства получили важныя
благодѣянія отъ церкви, бывшей всегда въ готовности покровительствовать народу
противъ притѣсненій, которымъ онъ подвергался отъ короля и отъ аристократовъ.
Но въ обѣихъ странахъ съ развитіемъ общества явилась способность самозащище-
нія, и уже въ началѣ шестнадцатаго вѣка, а вѣроятно и еще ранѣе—въ пятнадца-
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII ст. 207
томъ—оказалась неотложная потребность ограничить эту духовную власть, которая,
опредѣляя людямъ обязательный образъ мыслей, останавливала успѣхи ихъ на поприщѣ
знанія *), Поэтому-то протестантизмъ и не былъ, какъ называли его враги, аберра-
ціей, происшедшей отъ случайныхъ причинъ, а былъ, напротивъ того, существенно
нормальнымъ движеніемъ и законнымъ выраженіемъ потребностей европейскаго ума.
Дѣйствительно, реформація обязана своимъ успѣхомъ не желанію народовъ очистить
церковь, но желанію облегчить производимое ею давленіе, и можно сказать вообще,
что она была принята во всѣхъ цивилизованныхъ странахъ, за исключеніемъ тѣхъ,
въ которыхъ предшествовавшія событія чрезмѣрно усилили вліяніе духовнаго сосло-
вія или на народъ, или на его правителей. Такъ было къ несчастью и во Франціи,
гдѣ духовенство не только восторжествовало надъ протестантами, но даже на нѣ-
которое время какъ будто бы пріобрѣло новыя силы, побѣдивъ столь опасныхъ
враговъ * 2 *).
Послѣдствіемъ всего этого было, что во Франціи все общество приняло не-
сравненно болѣе теологическій видъ, чѣмъ въ Англіи. Въ нашемъ отечествѣ къ по-
ловинѣ шестнадцатаго вѣка теологическій духъ до такой степени ослабѣлъ, что наблю-
дательные иноземцы бывали даже поражены этой особенностью Та же самая нація,
которая во время крестовыхъ походовъ пожертвовала жизнью безчисленнаго мно-
жества людей, въ надеждѣ водрузить христіанское знамя въ самомъ сердцѣ Азіи,
смотрѣла теперь почти совершенно равнодушно на то, къ какой религіи принадле-
жалъ ея государь.
Генрихъ VIII одною своею волею измѣнилъ религію націи и опредѣлилъ фор-
мальное устройство церкви, чего онъ никакъ не могъ бы сдѣлать, еслибы народъ
сильно дорожилъ этого рода вещами, такъ какъ король не имѣлъ никакихъ средствъ
принудить его къ повиновенію; у Генриха не было достоянной арміи, и даже его
личные тѣлохранители были такъ малочисленны, чтб во всякое время могли быть
уничтожены возстаніемъ воинственныхъ учениковъ лондонскихъ мастерскихъ4). Послѣ
его смерти явился Эдуардъ, который, какъ протестантскій король, уничтожилъ дѣло
своего отца. Нѣсколько лѣтъ спустя вступила на престолъ Марія и, въ качествѣ
католички, уничтожила дѣло своего брата; ей въ свою очередь наслѣдовала Елиса-
вета, при которой вновь произведено важное измѣненіе въ господствующей религіи.
Таково было равнодушіе націи, что всѣ эти великія перемѣны совершены безъ
всякой серьезной опасности 5). Напротивъ того, во Франціи при одномъ имени
]) Какимъ образомъ это сдѣлалось, объяснено
вкратцѣ у Теннеыаппа: «хотя и появился теперь духъ
болѣе свободнаго изслѣдованія, по онъ тотчасъ же
былъ стѣсненъ н остановленъ двумя положеніями,
прямо вытекавшими изъ тогдашняго преобладанія тео-
логіи. Первое изъ нихъ состояло въ томъ, что умъ
человѣческій не можетъ идти далѣе откровенія... Вто-
рое вытекало изъ перваго: умъ не долженъ призна-
вать за истину ничего, чтб вротиворѣчитъ открове-
нію, и — за ложь ничего, чтб согласно съ открове-
ніемъ».
2) Кореро, бывшій посломъ во Франціи въ
1568 году, пишетъ: «По моему мнѣнію, папа можетъ
сказать, что онъ среди этихъ волненій болѣе вы-
игралъ, чѣмъ проигралъ, такъ какъ до раздѣленія
этого королевства па двѣ партіи такая была свобода
каждому жить какъ угодно, и такъ мало было ува-
женія къ Риму и къ тѣмъ, кто въ немъ жилъ, что
на папу смотрѣли скорѣе, какъ па сильнаго владѣтеля
въ Италіи, чѣмъ какъ па главу церкви и всеобщаго 1
пастыря. По лишь только появились гугеноты, като-
лики начали ражать самое имя паны и признавать ,
его истиннымъ намѣстникомъ Христовымъ, тѣмъ бо-
лѣе утверждаясь въ мысли, что опп такъ должны |
смотрѣть на него, чѣмъ болѣе они видѣли, что его |
презираютъ и отвергаютъ гугеноты». Это любопыт-
ное мѣсто составляетъ одно изъ множества доказа-
тельствъ того, что неносродетвеппыя блага, происшед-
шія отъ реформаціи, слишкомъ преувеличены, хотя
болѣе отдаленныя преимущества были несомнѣнно
громадны,
3) Равнодушіе англичанъ къ теологическимъ пре-
ніямъ и легкость, съ какою они перемѣнили религію,
заставили многихъ иностранцевъ осуждать ихъ за
легкомысліе. Псрленъ, путешествовавшій но Англіи
въ половинѣ шестнадцатаго столѣтія, говоритъ: «Па-
родъ состоитъ изъ безбожниковъ и совершенно враж-
дебенъ какъ добрымъ нравамъ, такъ и образованію;
онъ самъ пе знаетъ, кому принадлежитъ: Богу или
дьяволу,—за чтб многихъ осуждалъ св» Павелъ, го-
воря: «не увлекайтесь всякаго рода вѣтрами, но будьте
тверды и постоянны въ своей вѣрѣ*.
4) Генрихъ VIII имѣлъ одно время пятьдесятъ
человѣкъ конной стражи, но она была вскорѣ уничто-
жена по причинѣ дороговизны ея содержанія, и послѣ
этого единственную защиту короля составляли пѣшіе
тѣлохранители, вь числѣ пятидесяти, и обыкновенная
прислуга королевскаго дома. Такіе «тѣлохранители»
были набраны Генрихомъ ѴІП въ 1485 году.
5) Хотя Марія и легко произвела перемѣну ре-
208
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
религіи тысячи людей всегда были готовы ополчиться. Въ Англіи всѣ междоусобныя
войны имѣли характеръ гражданскій и были ведены или съ тѣмъ, чтобы свергнуть
царствующую династію, или съ тѣмъ, чтобы достигнуть увеличенія свободы. Напро-
тивъ, тѣ несравненно болѣе ужасныя войны, которыя въ шестнадцатомъ вѣкѣ опусто-
шали Францію, были всѣ ведены во имя христіанства, и даже политическія распри
между первенствовавшими фамиліями исчезали въ смертельной борьбѣ между като-
ликами и протестантами.
Дѣйствіе, произведенное этимъ различіемъ на умы въ обѣихъ странахъ,—оче-
видно. Англичане, сосредоточивая свои силы на важнѣйшихъ свѣтскихъ вопросахъ
къ концу шестнадцатаго столѣтія уже произвели литературу, которая никогда не
погибнетъ. Между тѣмъ французы къ тому же времени не имѣли еще ни одного
сочиненія, утрата котораго въ настоящее время составила бы потерю для Европы.
При томъ этотъ контрастъ становится еще разительнѣе вслѣдствіе того обстоятель-
ства, что во Франціи цивилизація, какова бы опа ни была, возникла ранѣе, мате-
ріальныя средства страны ранѣе развились; географическое положеніе ея давало ей
возможность быть центромъ европейской мысли, и сверхъ того Франція уже имѣла
литературу въ тѣ времена, когда наши предки еще представляли толпу дикихъ и
невѣжественныхъ варваровъ.
Дѣло просто въ томъ, что это одинъ изъ безчисленнаго множества примѣровъ,
доказывающихъ намъ, что никакая страна не можетъ достигнуть высокой степени
развитія, пока духовная власть пользуется въ ней большимъ значеніемъ; ибо пре-
обладаніе духовнаго сословія всегда сопровождается сортвѣтственнымъ преоблада-
ніемъ тѣхъ вопросовъ, въ которыхъ это сословіе находцѣъ особенную важность. Отъ
этого произошло, что умы французовъ, будучи главнымъ образомъ заняты религіоз-
ными спорами, не имѣли времени предаваться тѣмъ великимъ изысканіямъ, въ ко-
торыя начинали уже вдаваться въ Англіи *); какъ мы сейчасъ увидимъ, между успѣ-
хами умственнаго развитія Франціи и Англіи было разстояніе цѣлаго поколѣнія, и
это единственно потому, что существовало почти такое же разстояніе между успѣ-
хами скептицизма въ обѣихъ націяхъ. Правда, что теологическая литература во
Франціи быстро обогащалась * 2), но великая свѣтская литература, соотвѣтствующая
той, которую Англія уже произвела ранѣе конца шестнадцатаго столѣтія, во Франціи
явилась не ранѣе семнадцатаго.
Таковы были во Франціи естественныя послѣдствія того обстоятельства, что
преобладаніе церкви сохранилось долѣе, чѣмъ слѣдовало по потребностямъ общества.
Но между тѣмъ какъ таковы были результаты въ чисто умственномъ отношеніи,
нравственные и физическіе результаты были еще серьезнѣе. Въ то время какъ
умы были такимъ образомъ воспламенены религіозной борьбой, безполезно было бы
ожидать отъ нихъ тѣхъ человѣколюбивыхъ понятій, которыхъ теологическія партіи
всегда чужды. Между тѣмъ какъ протестанты рѣзали католиковъ, а католики рѣзали
протестантовъ, весьма невѣроятно было, чтобы та или другая партія стала смотрѣть
съ чувствомъ терпимости па мнѣнія своихъ противниковъ 3). Въ продолженіе шестнад-
лигіи, но вообще нерасположеніе къ церкви было
слишкомъ сильно, чтобы опа могла возвратить ей ея
собственность. <11 такъ, въ царствованіе Маріи пар-
ламентъ, столь послушный ей во всѣхъ предметахъ
религіи, крѣпко ухватился за владѣніе церковными
землями» (Галламъ).
*) Точно такимъ же образомъ въ Александріи
религіозные споры были вредны для интересовъ
знанія.
2) Теологическій духъ овладѣлъ даже театромъ,
и различные сектаторы осмѣивали на сценѣ религіоз-
ныя убѣжденія своихъ противниковъ.
3) Кореро пишетъ въ 1569 году: «Я засталъ ко-
нечно это государство снова поверженнымъ въ вели-
чайшее смятеніе; ибо религіозный расколъ, прѳвра-
। тпвшійся какъ бы въ двѣ партіи, при томъ особенно
; враждебныя, сдѣлалъ то, что всякій, не допуская нп
родства, ни дружбы, держалъ ухо на сторожѣ и пол-
। ный подозрѣнія прислушивался, съ которой стороны
і поднимается какой-нибудь шумъ». Къ этому онъ выс-
; нренно прибавляетъ: «Въ страхѣ были гугеноты, въ
' страхѣ католики, въ страхѣ государь, въ страхѣ
подданные». Съ обѣихъ сторонъ распространяли самыя
гнусныя клеветы и имъ вѣрили. Екатерину Медичи
' между прочимъ обвиняли въ томъ, будто она застав-
I ляда подвергать женъ протестантовъ операціи яеса-
। рева сѣченія въ тѣхъ видахъ, чтобы не могли ро-
; дііться новые еретики.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI по хѵш ст. 209
цатаго столѣтія заключались иногда между обѣими партіями договоры, но за-
ключались только съ тѣмъ, чтобы немедленно быть нарушенными *)> за единствен-
нымъ исключеніемъ Л’Опиталя, даже и самая идея вѣротерпимости не приходила въ
голову ни одному изъ государственныхъ людей того времени. Онъ отстаивалъ эту
идею, но ни замѣчательныя способности его, ни безукоризненная честность не могли
одержать верхъ надъ преобладающими предразсудками, и, наконецъ, обвиненный въ
атеизмѣ, онъ долженъ былъ оставить государственную дѣятельность, не осуществивъ
ни одного изъ своихъ благородныхъ плановъ.
Дѣйствительно, въ главныхъ событіяхъ этого періода французской исторіи пре-
обладаніе теологическаго духа проявлялось бѣдственнымъ образомъ. Оно проявля-
лось во всеобщей рѣшимости подчинить политическую дѣятельность религіознымъ
мнѣніямъ 2). Оно проявилось въ Анбуазскомъ заговорѣ и на конференціи въ Пуаси;
но еще болѣе проявилось оно въ возмутительныхъ злодѣяніяхъ, столь свойствен-
ныхъ суевѣрію—въ убійствахъ въ Васси и въ Варѳоломеевской ночи, въ умерщ-
вленіи Гиза злодѣемъ Польтро и Генриха III Клементомъ. Это были естественныя
произведенія духа религіознаго фанатизма,—произведенія того ненавистнаго духа,
который вездѣ, гдѣ только пріобрѣталъ силу, преслѣдовалъ до истребленія всѣхъ,
осмѣливавшихся противиться ему, и который даже и теперь, когда время его силы
прошло, все-таки продолжаетъ догматизировать о самыхъ таинственныхъ предметахъ,
оскверняетъ самыя священныя начала человѣческаго сердца и затемняетъ жалкими
суевѣріями тѣ высокіе вопросы, къ которымъ никто не долженъ былъ бы грубо
прикасаться, потому, что они для всякаго выражаются въ такой формѣ, какая по
спламъ его душѣ, потому что мѣсто ихъ—та безвѣстная область, которая отдѣляетъ
конечное отъ безконечнаго, и, наконецъ, потому, что они составляютъ тайный инди-
видуальный завѣтъ между человѣкомъ и его Богомъ.
Какъ долго, при естественномъ ходѣ вещей, протянулись бы для Франціи эти
печальные дни 3)—составляетъ вопросъ, на который мы теперь едва-ли имѣемъ сред-
ства отвѣчать; хотя нѣтъ никакого сомнѣнія, что успѣхи даже въ эмпирическихъ
знаніяхъ должны были бы, по замѣченному уже нами процессу, наконецъ, оказаться
достаточными для того, чтобы вывести такую великую націю изъ унизительнаго по-
ложенія ея. Но къ счастью теперь совершилось событіе, которое мы не имѣемъ
права назвать иначе, какъ счастливою случайностью, но которое послужило нача-
ломъ весьма важной перемѣны. Въ 1589 г. вступилъ на французскій престолъ
Генрихъ IV. Этотъ великій монархъ, стоящій несравненно выше всѣхъ француз-
скихъ государей шестнадцатаго столѣтія, обращалъ мало вниманія на тѣ теологиче-
скіе споры, которые его предшественникамъ казались предметомъ первостепенной
важности. До него французскіе короли, подъ вліяніемъ усердія, свойственнаго хра-
нителямъ церкви, употребляли все свое могущество на поддержаніе интересовъ ду-
ховнаго сословія. Францискъ I сказалъ, что если бы его правая рука была зара-
жена ересью, то онъ бы ее отрубилъ. Генрихъ II, отличавшійся еще большимъ усер-
діемъ, приказалъ судьямъ строго преслѣдовать протестантовъ и публично объявилъ,
что онъ поставитъ себѣ главною задачею истребленіе еретиковъ. Карлъ IX, въ зна-
менитую Варѳоломеевскую ночь, покусился избавить отъ нихъ церковь, истребивъ
ихъ однимъ ударомъ. Генрихъ III обѣщалъ, что будетъ «бороться противъ ереси,
*) Въ одно царствованіе Карла IX было не ме-
нѣе пяти такихъ религіозныхъ войнъ, изъ которыхъ
каждая оканчивалась трактатомъ.
2) «Тогда нація слушалась только своего фана-
тизма. Умы, день ото дня все болѣе и болѣе воспламе-
няясь, перестали, наконецъ, думать о другихъ цѣляхъ,
кромѣ религіозныхъ; люди, изъ набожности, наносили
другъ другу самыя страшныя оскорбленія» (Мабли).
Девятнадцатый и двадцатый томы < Исторіи
Франковъ», Спсмонди, заключаетъ въ себѣ груст-
; ныя свѣдѣнія о внутреннемъ состояніи Франціи пе-
редъ восшествіемъ на престолъ Генриха IV*. Дѣйстви-
тельно, какъ говоритъ Спсмонди, казалось одно время,
будто единственнымъ исходомъ всего этого могло быть
только возвращеніе къ феодализму. «Болѣе трехъ
сотъ тысячъ домовъ разрушены® (Монтейль). Дѳ-Ту
въ мемуарахъ о собственной жизни говоритъ: <3а-
। коны были презрѣны и честь Франціи почти не су-
1 щсствовала... и подъ покрываломъ религіи дышали
' только злобою, мщеніемъ, убійствомъ и поджогами».
Вокль—Иад, Ф. Павленкова.
14
210
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
хотя бы съ опасностью жизни», такъ какъ, по его словамъ, ему «нельзя бы найти
болѣе славную могилу, какъ погребсти себя среди развалинъ разрушенной ереси>.
Таковы были мнѣнія, выраженныя въ шестнадцатомъ столѣтіи главами древ-
нѣйшей монархіи въ Европѣ Но могущественный умъ Генриха IV не имѣлъ ни
малѣйшаго сочувствія къ такимъ понятіямъ. Сообразно съ требованіями измѣнчивой
политики своего времени, онъ уже два раза перемѣнилъ религію и не усомнился
перемѣнить ее въ третій разъ * 2), когда увидѣлъ, что онъ могъ этимъ обезпечить
спокойствіе своей отчизны. Показавъ такое равнодушіе къ своему собственному
вѣроисповѣданію, онъ не могъ, безъ нарушенія приличія, показать ‘ большую стро-
гость относительно вѣры своихъ подданныхъ. Вслѣдствіе того мы видимъ его винов-
никомъ перваго всенароднаго акта о вѣротерпимости, изданнаго во Франціи прави-
тельствомъ, съ тѣхъ поръ, какъ христіанская вѣра утвердилась въ этой странѣ. Не
болѣе пяти лѣтъ послѣ того, какъ онъ торжественно отрекся отъ протестантизма,
онъ издалъ знаменитый Нантскій эдиктъ 3), которымъ въ первый разъ католиче-
ское правительство даровало еретикамъ должное имъ участіе въ гражданскихъ и
религіозныхъ правахъ. Это было безъ сомнѣнія самымъ важнымъ изъ всѣхъ до
того времени совершившихся событій въ исторіи французской цивилизаціи 4). Если
разсматривать это явленіе само по себѣ, то оно составляетъ лишь доказательство
просвѣщенныхъ понятій короля; но если принять въ соображеніе тотъ успѣхъ, ко-
торый оно имѣло вообще, и послѣдовавшее за нимъ прекращеніе религіозной распри,
то нельзя не замѣтить, что оно составляетъ часть великаго движенія, въ которомъ
участвовала и сама нація. Всякій, кто только признаетъ истину тѣхъ началъ, ко-
торыя я старался установить, конечно не можетъ не замѣтить, что этотъ великій
шагъ къ религіозной свободѣ сопровождался тѣмъ духомъ скептицизма, безъ кото-
раго никогда не являлась вѣротерпимость. А что это дѣйствительно такъ было—мо-
жетъ быть доказано разсмотрѣніемъ того переходнаго состоянія, въ которое начала
вступать Франція къ концу шестнадцатаго столѣтія.
Сочиненія Рабле нерѣдко признаются за первое письменное проявленіе рели-
гіознаго скептицизма на французскомъ языкѣ. Но при довольно близкомъ знаком-
ствѣ съ твореніями этого замѣчательнаго человѣка, я не нашелъ въ нихъ ничего,
чтб бы могло оправдать такое мнѣніе. Правда, что онъ говоритъ о духовенствѣ
весьма непочтительно и пользуется всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы осыпать его
насмѣшками; но его нападенія всегда относятся къ личнымъ порокамъ духовныхъ,
а не къ тому духу узкой нетерпимости, которому главнымъ образомъ должны быть
приписаны эти пороки. Ни въ одномъ мѣстѣ онъ не высказываетъ ничего похожаго
на послѣдовательный скептицизмъ 5) и повидимому даже не понимаетъ того, что по-
зорный образъ жизни французскаго духовенства былъ лишь неизбѣжнымъ послѣд-
ствіемъ системы, которая, при всей своей испорченности, имѣла однако же всѣ
внѣшніе признаки жизненности и силы. Дѣйствительно, огромная популярность, ко-
') Съ какамъ усердіемъ отстаивались эти мнѣнія,
видно, въ числѣ другихъ достовѣрныхъ свидѣтельствъ,
изъ показаній Марино Кавалли, который пишетъ въ
1546 году: «Господа члены Сорбонны имѣли полную
власть наказывать еретиковъ, — чтб они и дѣлали
посредствомъ огня, па которомъ медленно жарили пхъ
живыхъ*.
2) Клементъ УШ даже опасался послѣ этого
четвертаго съ ого стороны отступничества: «Онъ все
еще думалъ, что Генрихъ ІУ можетъ быть подъ ко-
венъ опять обратился къ протестантизму, какъ онъ
разъ уже и сдѣлалъ*.
3) Нантскій эдиктъ послѣдовалъ въ 1598 году, а
отреченіе было въ 1593 году.
*) Сисмовдп говоритъ объ этомъ эдиктѣ: «Мо-
жетъ быть пи одна эпоха въ исторіи Франціи пе
обозначаетъ лучше конецъ древняго міра и начало
новаго».
5) Его шутка на счетъ силы Самсона («Оеитгез
<іс КаЬеІаіз», ѵ. II, рр. 29, 30) и его насмѣшка надъ
однимъ изъ законовъ Моисеевыхъ (ѵ. III, р. 34)
имѣютъ такъ мало общаго съ другими частями ого
сочиненія, что даже по кажутся входящими въ общій
планъ. Комментаторы, находящіе скрытое значеніе
въ каждомъ авторѣ, котораго они дополняютъ примѣ-
чаніями, представляли Раблё человѣкомъ, стремящимся
къ высшимъ цѣлямъ и желающимъ совершить са-
мыя обширныя соціальныя и религіозныя реформы.
Въ этомъ я сильно сомнѣваюсь; во всякомъ случаѣ
я пе нашелъ доказательствъ въ пользу такого пред-
положенія. Поэтому я не могу не заключить, что
Рабле обязанъ значительной долей своей славы не-
ясности своего слога.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI 110 ХѴШ СТ.
211
торою1 пользовался этотъ писатель, уже сама по себѣ составляетъ почти полное дока’
зательство справедливости нашего мнѣнія, такъ какъ никто изъ лицъ, хорошо знаю-
щихъ умственное состояніе Франціи въ началѣ шестнадцатаго вѣка, не повѣритъ
тому, чтобы народъ, до такой степени погруженный въ суевѣріе, могъ находить
наслажденіе въ чтеніи писателя, который постоянно нападалъ на это суевѣріе.
Но расширеніе сферы опыта и слѣдующее за нимъ умноженіе знаній уже
прокладывали путь великой перемѣнѣ въ умственной жизни Франціи. Процессъ,
только-что совершившійся въ Англіи, . теперь начинался во Франціи, и въ обѣихъ
странахъ порядокъ событій былъ совершенно одинъ и тотъ же. Духъ сомнѣнія, до
сихъ поръ проявлявшійся лишь изрѣдка въ какомъ-нибудь отдѣльномъ мыслителѣ,
началъ понемногу принимать болѣе смѣлый видъ; сперва онъ нашелъ исходъ въ
народпой литературѣ, а потомъ сталъ проявлять свое вліяніе на практической дѣ-
ятельности государственныхъ людей. Что во Франціи существовала тѣсная связь
между скептицизмомъ и вѣротерпимостью—это доказывается не только тѣми общи-
ми доводами, которые приводятъ насъ къ заключенію, что подобная связь всегда
должна существовать, по и тѣмъ обстоятельствомъ, что лишь за нѣсколько лѣтъ до
изданія Нантскаго эдикта явились сочиненія перваго систематическаго скептика,
писавшаго на французскомъ языкѣ. «Опыты» Монтэня были изданы въ 1588 г. и об-
разуютъ собою эпоху не только въ литературѣ, но и въ цивилизаціи французскаго
народа. Если оставить въ сторонѣ личныя особенности, имѣющія вообще меньше
значенія, чѣмъ обыкновенно полагаютъ, то окажется, что различіе между Рабле и
Монтэнемъ можетъ служить мѣриломъ разстоянія, существовавшаго, по ходу умствен-
наго движенія, между годами 1545 (когда вышелъ «Пантагрюэль) и 1588, и что
оно въ нѣкоторой степени соотвѣтствуетъ указанному нами отношенію между Джю-
велемъ и Гукеромъ и между Гукеромъ и Чиллингвортомъ. Законъ, управляющій
всѣми этими отношеніями, есть законъ постепеннаго развитія скептицизма. Чѣмъ
былъ Рабле для представителей теологіи, тѣмъ сталъ хМонтэнь для теологіи самой.
Сочиненія Рабле были направлены только противъ духовенства, а сочиненія Мон-
тэня—противъ самой системы, на которую духовенство опиралось х). Подъ оболочкою
простого свѣтскаго человѣка, выражающаго естественныя мысли обыкновеннымъ
языкомъ, скрывался у Монтэня духъ безграничнаго, смѣлаго изслѣдованія. Хотя въ
умѣ его не доставало той широты, которая составляетъ самое высшее проявленіе
генія, но онъ отличался другими качествами, неразлучными съ великимъ умомъ.
Оиъ былъ очень остороженъ, но въ то же время очень смѣлъ. Онъ былъ осторо-
женъ, такъ какъ не хотѣлъ вѣрить въ нѣкоторыя странныя понятія на томъ толь-
ко основаніи, что они перешли къ его временамъ по наслѣдству отъ его пред-
ковъ; но при томъ онъ былъ и очень смѣлъ, такъ какъ его не пугали тѣ упреки,
которыми невѣжды, всегда любящіе догматизировать, осыпаютъ людей, путемъ зна-
нія дошедшихъ до сомнѣнія 2)Ф Эти качества и во всякое время сдѣлали бы Монтэня
весьма полезнымъ человѣкомъ, но въ шестнадцатомъ столѣтіи они придали ему
первостепенное значеніе. Въ то же время его легкій и пріятный слогъ облегчалъ
Галламъ говоритъ, что его скептицизмъ «про- ।
является но въ религіи». Но если употреблять слово
религія въ ею обыкновенномъ значеніи, т. о. въ
связи сь догматомъ, то изъ словъ Монтэля ясно видно,
что онъ былъ скептикъ, и при томъ непреклонный.
Дѣйствительно, онъ даже заходитъ такъ далеко, что
говоритъ, что всѣ религіозныя убѣжденія—результатъ
обычая: «Сотте <ів ѵгау попз и’аѵопз аиііге тіге |
4е Іа ѵёгііё еі (1е Іа гаізоп, цие Гехетріе еі Ыёе без і
орішопз еі изапсез 4и раі’з ой поиз зоттез: Іа езі >
іоіфіігз Іа рагіаіеіе геіі^іоп, Іа рагГаісіе роіісе, раг- !
Шсіе еі ассотріу иза^е бе іоиіез сііозез». Изъ этого ।
онъ выводитъ, какъ естественное послѣдствіе, то за- і
ключеніе, что религіозное заблужденіе но имѣетъ въ |
собѣ ничего преступнаго. Дѣло повидимому въ томъ,
что Монтэнь хотя и признавалъ существованіе ре-
лигіозныхъ истинъ, но сомнѣвался въ пашей способ-
ности познать ихъ, т. е. сомнѣвался въ томъ, имѣемъ
ли мы сродства въ огромномъ числѣ религіозныхъ
мнѣній различать, которое справедливо. Его замѣ-
чанія на счетъ чудесъ даютъ намъ понятіе о свой-
ствахъ его ума; а то, чтб онъ говоритъ о пророче-
скихъ видѣніяхъ, приводится Пинэлемъ въ его глубо-
комысленномъ сочиненіи «Аііёнаііоп Мепіаіе», р. 256.
-) Онъ говоритъ: < Не случайно, не безъ осно-
ванія приписываемъ мы глупости и невѣжеству спо-
собность вѣрить и легко убѣждаться». Ничего въ этомъ
родѣ не появлялось прежде на французскомъ языкѣ.
14*
212
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
распространеніе его сочиненій и такимъ образомъ содѣйствовалъ къ доставленію
популярности его идеямъ, которыя авторъ пытался провести во всеобщее сознаніе.
Таково было первое открытое проявленіе того скептицизма, который въ концѣ
шестнадцатаго столѣтія всенародно выказался во Франціи. Въ теченіе почти трехъ
поколѣній продолжалось движеніе его съ постоянно возрастающей дѣятельностью,
и скептицизмъ развивался во Франціи точно такъ же, какъ совершалось развитіе
его въ Англіи. Намъ нѣтъ нужды слѣдовать за всѣми переходами этого великаго
процесса, но я постараюсь обозначить тѣ изъ нихъ, которые, замѣтно выдѣляясь
изъ числа прочихъ, представляются самыми значительными.
Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ появленія «Опытовъ» Монтэня издано было во
Франціи сочиненіе, которое хотя нынѣ читается немногими, но въ семнадцатомъ
столѣтіи пользовалось первостепенною извѣстностью. Это былъ знаменитый «Трак-
татъ о Мудрости» Шаррона, въ которомъ мы видимъ въ первый разъ, на одномъ
изъ новѣйшихъ языковъ, попытку построить теорію нравственности безъ помощи
теологіи. Эта книга въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ была еще страшнѣе для привер-
женцевъ теологіи, чѣмъ сочиненія Монтэня, вслѣдствіе глубоко-серьезнаго тона,
которымъ она написана. Шарронъ очевидно былъ сильно проникнутъ убѣжденіемъ
въ важности предпринятаго имъ дѣла и особенно похвально отличался отъ всѣхъ
своихъ современниковъ замѣчательной чистотой языка и мыслей. Его сочиненіе со-
ставляетъ почти единственное изъ произведеній тѣхъ временъ, въ которомъ не
встрѣчается ничего, что бы могло оскорбить и самый цѣломудренный слухъ. Хотя
онъ заимствовалъ у Монтэня безчисленное множество пояснительныхъ примѣровъ *),
но всегда старательно избиралъ тѣхъ непристойностей, въ которыя иногда впадаетъ
этотъ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ увлекательный писатель. Сверхъ того сочине-
ніе Шаррона отличается особенною систематическою полнотой, которая неизбѣжно
привлекаетъ наше вниманіе. Со стороны оригинальности онъ стоитъ нѣсколько ниже
Монтэня, но имѣетъ то преимущество, что явился послѣ него; и нѣтъ сомнѣнія въ
томъ, что онъ дошелъ до такой высоты, которая для Монтэня была бы недостижима.
Стоя какъ бы на самой вершинѣ знанія, онъ смѣло приступаетъ къ перечисленію
элементовъ мудрости и тѣхъ условій, при которыхъ эти элементы могутъ про-
являться. Въ системѣ, которую онъ- такимъ образомъ строитъ, онъ совершенно опу-
скаетъ теологическіе догматы и открыто вызываетъ свое презрѣніе ко многимъ
изъ тѣхъ положеній, которыя до тѣхъ поръ принимались всѣми. Онъ напоминаетъ
своимъ соотечественникамъ, что религія ихъ составляетъ случайный результатъ ихъ
рожденія и воспитанія, и что если бы они родились въ магометанской землѣ, то
были бы въ такой же мѣрѣ привержены къ магометанству, въ какой теперь при-
страстны къ христіанству. Исходя отъ этого соображенія, онъ доказываетъ, какъ
нелѣпо тревожиться различіемъ вѣръ, тогда какъ это различіе составляетъ резуль-
татъ обстоятельствъ, отъ насъ не зависящихъ. Слѣдуетъ также замѣтить, что ка-
ждая изъ этихъ различныхъ религій доказываетъ, что она есть истинная, и всѣ онѣ
одинаково основаны на сверхъестественныхъ явленіяхъ, какъ-то: таинствахъ, чу-
десахъ, пророчествахъ и т. д. Именно потому, что люди забываютъ объ этомъ, они
становятся рабами той упорной увѣренности, которая составляетъ великое препят-
ствіе для всякаго истиннаго знанія и можетъ быть устранена только пріобрѣтеніемъ
того широкаго взгляда, при которомъ мы видимъ, что всѣ народы съ одинаковымъ
усердіемъ держатся за догматы, внушенные имъ при воспитаніи 1 2). При томъ, гово-
1) Шарронъ былъ въ весьма значительной мѣрѣ
обязанъ Монтэпю, но .что узко слишкомъ преувели-
чивается многими писателями. Въ самыхъ важныхъ
вопросахъ Шарронъ оказывался болѣе смѣлымъ и
глубокимъ мыслителемъ, чѣмъ Моктэнь, хотя въ на-
стоящее время его такъ мало читаютъ, что единствен-
ное хоть сколько-нибудь полное положеніе его системы
I нашелъ я у одного Теннемана. Довольно странно, что
Таллейрапъ былъ большой поклонникъ Шарропова
сочиненія <Ре Іа За^еззе* и подарилъ свой любимый
экземпляръ его г-жѣ до Жанлисъ!
2) Вотъ почему опъ возстаетъ противъ прозеди-
' тизма и придерживается того философскаго основанія,
I что религіозныя убѣжденія, будучи управляемы не-
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ. 213
ритъ Шарронъ, если вникнуть въ дѣло нѣсколько глубже, мы увидимъ, что каждая
изъ великихъ религій основана на той, которая предшествовала ей. Такъ, религія
евреевъ основана на религіи египтянъ; христіанство составляетъ послѣдствіе ев-
рейской религіи, а отъ этихъ двухъ религій естественно произошло магометан-
ство х). Слѣдовательно, присовокупляетъ этотъ великій писатель, мы должны стать выше
притязаній враждебныхъ сектъ и затѣмъ, не пугаясь будущаго наказанія и не увле-
каясь надеждою на награды,—удовольствоваться практическою религіею, состоящею
въ исполненіи житейскихъ обязанностей; не стѣсняясь догматами никакой особой
вѣры, мы должны стараться заставить душу уйти въ самое себя и усиліями этого
самосозерцанія дойти до благоговѣнія передъ неизреченнымъ величіемъ существа
изъ существъ, Верховнаго Начала всего творенія.
Вотъ какія понятія были предложены въ 1601 г. въ первый разъ француз-
ской націи на ея природномъ языкѣ. Духъ скептицизма и свѣтскихъ интересовъ,
котораго они являлись представителями, продолжалъ усиливаться, и по мѣрѣ того,
какъ семнадцатое столѣтіе подвигалось впередъ, упадокъ фанатизма, не ограни-
чиваясь уже нѣсколькими отдѣльными мыслителями; сталъ проявляться и въ боль-
шинствѣ политическихъ дѣятелей. Духовенство, сознавая опасность, желало, что-
бы правительство остановило успѣхи умственнаго движенія 2), и самъ папа, въ
формальномъ представленіи Генриху IV, побуждалъ его устранить это зловред-
ное движеніе преслѣдованіемъ еретиковъ, отъ которыхъ, по его мнѣнію, происхо-
дило все зло. Но въ этомъ король съ твердостью отказалъ. Онъ видѣлъ, какія
огромныя выгоды должны произойти, если ему удастся ослабить власть духовенства,
удерживая обѣ секты между собою въ равновѣсіи, и потому, хотя онъ самъ былъ
католикъ, политика его склонялась болѣе на сторону протестантовъ, какъ составляв-
шихъ слабѣйшую партію. Онъ назначалъ имъ денежныя вспомоществованія на со-
держаніе священниковъ и исправленіе церквей; онъ изгналъ іезуитовъ, которые
были для нихъ опаснѣйшими врагами 3), и постоянно имѣлъ при себѣ двухъ предста-
вителей протестантской церкви, которые были обязаны доносить ему о каждомъ на-
рушеніи эдиктовъ, изданныхъ имъ въ пользу ихъ религіи.
Такимъ образомъ и во Франціи такъ же, какъ въ Англіи, скептицизмъ пред-
шествовалъ вѣротерпимости, и этимъ скептицизмомъ были порождены человѣколю-
бивыя и просвѣщенныя мѣры Генриха IV. Великій государь, совершившій эти дѣла,
къ несчастью палъ жертвою того духа фанатизма, для обузданія котораго онъ такъ
преложпыми законами, бываютъ обязаны своими из-
мѣненіями измѣненіямъ вь предшествовавшихъ имъ
обстоятельствахъ и, предоставленныя самимъ себѣ,
всегда соотвѣтствуютъ существующему порядку ве-
щей: «И изъ этихъ выводовъ мы научимся ничему
по присягать, ничему не удивляться, ничѣмъ по сму-
щаться, по, чтб бы іш происходило, кричатъ ли, бу-
шуютъ ли, — держаться одного:что все въ мірѣ идетъ
этимъ путемъ, что таковы проказы природы*. ("Бе Іа 1
За^еззѳ», ѵ. 1, р. 331). ;
«Но такъ какъ онѣ рождаются одна послѣ другой, :
го младшая зиждется всегда на старшей, на ближай-
шей предшествошшцѣ своей, которую она не поро- ,
читъ и не осуждаетъ всю до основанія—иначе ой і
самой не внимали бы и она не могла бы укрѣпить- !
ся—а только , обвиняетъ ее либо въ несовершенствѣ,
либо въ устарѣлости (вслѣдствіе чего она будто бы 1
и пришла смѣнить и усовершенствовать ее), и тѣмъ
мало по налу разрушаетъ ее и обогащается па ея ।
счетъ; такъ сдѣлала іудейская религія съ языческою |
в египетскою, христіанская—съ іудейскою, магоме-
танская—съ іудейскою н христіанскою вмѣстѣ; ста- (
рш же религіи, напротивъ, совершенно и вполнѣ
осуждаютъ молодыя п считаютъ ихъ за опасныхъ
враговъ». (<Бе Іа Зарззе», ѵ. I, р. 349). Это, я увѣ-
ренъ, первый примѣръ изложеннаго на одномъ изъ
новѣйшихъ языковъ ученія о религіозномъ разви-
тіи,—ученія, которое со времени Шаррона быстро
двигалось впередъ, въ особенности между людьми,
которые обладаютъ довольно обширными познаніями,
чтобы быть въ состояніи сличать различныя религіи,
преобладавшія въ различныя времена. Въ этомъ, какъ
п въ другихъ предметахъ, тѣ, которые не въ состоя-
ніи дѣлагь подобныя сличенія, предполагаютъ, что
всякая вещь находится въ совершенномъ разобщеніи
со всѣмъ остальнымъ потому только, что для нихъ ни-
какая связь не замѣтна.
2) Сорбонна дошла до того, что осудила великое
сочиненіе Шаррона; одна не могла однако добиться,
чтобы запретили его.
3) Генрихъ IV изгналъ іезуитовъ въ 1594 году,
но поздпѣѳ, въ ого же царствованіе, имъ дозволено
было снова поселиться во Франціи. Почти пе под-
ложитъ сомнѣнію, что іезуиты были обязаны своимъ
возвращеніемъ во Францію тому страху, который
возбуждали ихъ интриги: и Генрихъ очевидно столько
же по любилъ ихъ, сколько и боялся. Изъ «Мемуа-
ровъ Ришольё» видно, что король уже не допускалъ
ихъ болѣе до такого авторитета въ дѣлѣ воспитанія,
какимъ они пользовались прежде.
214
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
много сдѣлалъ х); но обстоятельства, явившіяся послѣ его смерти, доказываютъ, какъ
сильно было движеніе, сообщенное имъ своему вѣку.
Послѣ убіенія Генриха ІѴ-го правленіе перешло въ руки королевы, которая
управляла государствомъ во все время малолѣтства сына ея, Людовика XIII. Замѣ-
чательный примѣръ направленія, принятаго теперь умами, составляетъ то, что она,
хотя и была слабая и суевѣрная женщина, воздержалась однако отъ гоненій за
вѣру, которыя однимъ поколѣніемъ раньше считались необходимымъ доказатель-
ствомъ искренности въ религіи. Дѣйствительно, необыкновенную силу должно было
имѣть то движеніе, которое могло принудить къ вѣротерпимости въ началѣ семнад-
цатаго вѣка государыню изъ дома Медичи, невѣжественную и суевѣрную католичку,
воспитанную среди своего духовенства и привыкшую видѣть въ его одобреніи выс-
шую цѣль человѣческаго честолюбія.
Но такъ дѣйствительно случилось. Королева оставила министровъ Генриха IV
и объявила, что она во всемъ будетъ слѣдовать его примѣру. Первымъ всенарод-
нымъ распоряженіемъ ея было заявленіе, что Нантскій эдиктъ будетъ неизмѣнно
сохраненъ; ибо, говорила она, «опытъ доказалъ нашимъ предшественникамъ, что
насиліе не только не побуждаетъ людей возвращаться на лоно католической церкви,
но даже останавливаетъ ихъ отъ этого*. Дѣйствительно, такъ сильно держалась она
этой мысли, что когда Людовикъ XIII въ 1614 году достигъ номинальнаго совер-
шеннолѣтія, первымъ дѣйствіемъ его правленія было также подтвержденіе Нант-
скаго эдикта. А въ 1615 г. она побудила короля, еще остававшагося подъ ея опе-
кою, издать декларацію, которою всѣ предшествовавшія .мѣры въ пользу протестан-
товъ были публично подтверждены. Дѣйствуя въ томъ же духѣ, она желала въ 1611 г.
назначить предсѣдателемъ йарламента знаменитаго де-Ту, и, только формально объ-
явивъ его еретикомъ, удалось папѣ отвратить это намѣреніе, казавшееся ему бого-
противнымъ.
Оборотъ, который въ это время стали принимать дѣла, возбудилъ немалое без-
покойство въ приверженцахъ іерархіи. Самые усердные послѣдователи церкви громко
осуждали политику королевы. Одипъ великій историкъ (Ранке) замѣтилъ, что когда,
во время царствованія Людовика XIII, во всей Европѣ были возбуждены сильныя
опасенія дѣятельными домогательствами духовной партіи, — Франція была первымъ
государствомъ, осмѣлившимся противиться имъ. Нунцій открыто выражалъ королевѣ
сожалѣнія о томъ, что она потворствуетъ еретикамъ, и усердно старался о запре-
щеніи протестантскихъ сочиненій, возмущавшихъ совѣсть правовѣрныхъ. Но и эти,
и другія подобныя имъ представленія уже принимались съ тѣмъ уваженіемъ, какое
они возбудили бы въ прежнее время, и дѣлами государства продолжали управлять
по тѣмъ исключительнымъ свѣтскимъ соображеніямъ, на которыхъ явно основаны
были мѣры, принятыя Генрихомъ IV.
Такова была политика французскаго правительства,—правительства, нѣсколько
лѣтъ ранѣе признававшаго главною обязанностью государя наказывать еретиковъ
и истреблять ересь. Что это продолжающееся улучшеніе было лишь результатомъ
всеобщаго умственнаго движенія—это очевидно явствуетъ не только изъ успѣховъ
умственнаго движенія націи, но и изъ личныхъ свойствъ королевы-правительницы и
короля. Изъ всѣхъ, читавшихъ мемуары того времени, никто не можетъ отрицать,
что Марія Медичи и Людовикъ XIII были не менѣе суевѣрны, чѣмъ кто-либо изъ
предшественниковъ ихъ; поэтому очевидно, что такое пренебреженіе ихъ къ тео-
логическимъ предразсудкамъ происходило не отъ личныхъ качествъ ихъ, по отъ
успѣховъ просвѣщенія въ странѣ и отъ понудительнаго вліянія времени, которое
въ быстротѣ своего движенія увлекало за собою и тѣхъ, кто считалъ себя власти-
телемъ его судебъ.
По всѣ подобныя соображенія, какъ бы они ни были сильны, лишь весьма
Когда стали допрашивать Равальяка, то онъ I 'іоресами религіи и непреодолимымъ влеченіемъ»,
сказалъ, «что былъ возбуждаемъ къ этому дѣлу ин- |
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО ХѴШ ст. 215
немногимъ уменьшаютъ заслуги того замѣчательнаго человѣка, который теперь всту-
пилъ на поприще общественной дѣятельности. Въ продолженіе послѣднихъ восем-
надцати лѣтъ царствованія Людовика XIII управленіе Фракціею совершенно на-
ходилось въ рукахъ Ришелье х), одного изъ весьма малочисленнаго класса государ-
ственныхъ людей, которымъ дано запечатлѣть свой личный характеръ на исторіи
судебъ своего отечества. Этого великаго правителя вѣроятно никогда никто не пре-
восходилъ въ обладаніи всѣми тайнами политики, за исключеніемъ развѣ того дивнаго
генія, который въ наше время поколебалъ равновѣсіе Европы. Но, съ одной весьма
важной точки зрѣнія, Ришелье стоялъ гораздо выше Наполеона. Жизнь Наполеона
представляетъ собою непрерывное усиліе подавить свободу человѣчества; его без-
примѣрныя способности истощились на борьбу съ тенденціями его великаго времени.
Ришелье также былъ деспотъ, но деспотизмъ его принялъ болѣе благородное на-
правленіе. Онъ доказалъ,—чего никогда не было у Наполеона,- способность къ вѣрной
оцѣнкѣ духа своего времени. Впрочемъ и онъ въ одномъ весьма важномъ пред-
метѣ ошибся. Усилія его подавить могущество французской аристократіи оказались
совершенно тщетными 2), ибо, благодаря долгому ряду событій, авторитетъ этого надмен-
наго сословія былъ такъ глубоко укорененъ въ понятіяхъ народа, что потребовались
усилія еще одного столѣтія на то, чтобы уничтожить это старинное вліяніе. Но хотя
Ришельё не могъ уменьшить соціальной и нравственной силы французскихъ ари-
стократовъ, онъ обрѣзалъ однако ихъ политическія привилегіи и наказывалъ пре-
ступленія ихъ такою строгостью, которая должна была, хотя на время, смирить
прежнее ихъ своеволіе. Впрочемъ такъ безполезны усилія даже самаго даровитаго
государственнаго мужа, когда ему не содѣйствуетъ общее настроеніе того времени,
въ которомъ онъ живетъ, что эти толчки, какъ они ни/были сильны, не произвели
никакого прочнаго послѣдствія. Послѣ его смерти французская аристократія, какъ
мы сейчасъ увидимъ, скоро оправилась отъ понесенныхъ ею пораженій и во время
войнъ Фронды успѣла обратить эту великую распрю въ простую борьбу соперниче-
ствующихъ родовъ. Не ранѣе конца восемнадцатаго вѣка Франція окончательно
освободилась отъ преобладающаго вліянія этого могущественнаго класса, долго за-
медлявшаго своимъ эгоизмомъ успѣхи цивилизаціи, удерживая народъ въ безуслов-
номъ подчиненіи, отъ дальнѣйшихъ послѣдствій котораго онъ и до сихъ поръ еще не
вполнѣ оправился.
Хотя въ этомъ отношеніи Ришельё не достигъ своей цѣли, но въ другихъ
дѣлахъ онъ имѣлъ значительный успѣхъ. Это произошло отъ того, что его широкія
и смѣлыя воззрѣнія гармонировали съ тѣмъ скептическимъ направленіемъ, которое
я только-что старался очертить; ибо этотъ замѣчательный человѣкъ, хотя и былъ
епископомъ и кардиналомъ, никогда не позволялъ интересамъ своего сословія
заслонить высшіе интересы отечества. Онъ зналъ, •— а это слишкомъ часто забы-
вается,—что правитель парода долженъ смотрѣть на дѣла исключительно съ полити-
ческой точки зрѣнія и не долженъ обращать вниманія ни на притязанія какой-либо
секты, ни на распространеніе какихъ-нибудь мнѣній, иначе какъ въ отношеніи къ
настоящему, практическому благосостоянію націи. Вслѣдствіе этого управленіе его
представляло безпримѣрное зрѣлище — сосредоточеніе всей государственной власти
*) Какъ говоритъ Монтейдь: Ришельё имѣлъ I
вь рукахъ скипетръ, а Людовикъ XIII носилъ корону». ।
А Кампіонъ говоритъ о йенъ, что онъ «скорѣе по-
велитель, чѣмъ министръ», и присовокупляетъ, что
онъ «управлялъ восемнадцать лѣтъ Фракціею съ не-
ограниченною властью и съ безпримѣрною славою».
3) Общее мнѣніе было, что Ришелье уничто-
жалъ вліяніе французской знати: но эта ошибка про-
исходитъ отъ того, что смѣшиваютъ политическое
вліяніе съ соціальнымъ. То, что называютъ полити- |
четкимъ могуществомъ извѣстнаго класса общества. |
есть только признакъ, проявленіе дѣйствительнаго
могущества его; л пѣтъ никакой пользы нападать на
первое, если вы не можете въ то же время ослабить
второе. Дѣйствительное могущество знатныхъ заклю-
ча.іось въ ихъ соціальномъ значеніи, а этого значе-
нія ни Ришельё, ни Людовикъ XIV ослабить не
могли; оно оставалось нетронутымъ до половины
ХѴШ столѣтія, когда умъ Франціи возсталъ противъ
него, ниспровергнулъ его и. наконецъ, произвелъ фран-
цузскую революцію.
216
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
въ рукахъ духовнаго лица, нисколько не старающагося объ усиленіи духовнаго
сословія. Далеко отъ этого, онъ даже нерѣдко предъявлялъ въ отношеніи къ духовнымъ
такую строгость, которая тогда казалась безпримѣрною. Такъ, королевскіе духов-
ники, по важности ихъ обязанностей, всегда пользовались особеннымъ уваженіемъ;
ихъ считали людьми безукоризненнаго благочестія, и до того времени они всегда
имѣли огромное вліяніе, такъ что даже самые могущественные изъ государствен-
ныхъ людей вообще считали полезнымъ оказывать имъ уваженіе, соотвѣтствующее
высокому положенію ихъ *). Но Ришельё былъ слишкомъ хорошо знакомъ со всѣми
хитростями, свойственными тому сословію, къ которому онъ самъ принадлежалъ,
чтобы чувствовать большое уваженіе къ этимъ блюстителямъ королевской совѣсти.
Коссэнъ, духовникъ Людовика XIII, повидимому послѣдовалъ было примѣру своихъ
предшественниковъ и попытался внушить духовному сыну свои собственныя воззрѣнія
на политическія дѣла * 2). Но Ришельё, какъ только узналъ объ этомъ, удалилъ его отъ
должности и послалъ въ изгнаніе, сказавъ съ презрѣніемъ, что «батюшкѣ Коссэну»
не слѣдуетъ вмѣшиваться въ дѣла правительственныя, такъ какъ онъ принадлежитъ
къ людямъ, «воспитаннымъ въ невинности чисто религіозной жизни». Коссэну на-
слѣдовалъ знаменитый Сирмонъ, но Ришельё до тѣхъ поръ не дозволилъ новому
духовнику вступить въ отправленіе своихъ обязанностей, пока онъ торжественно не
обѣщалъ никогда не вмѣшиваться въ государственныя дѣла. И въ другомъ весьма
важномъ случаѣ Ришельё выказалъ то же направленіе. Французское духовенство
въ то время обладало громадными богатствами, и такъ какъ оно пользовалось при-
вилегіей само себя облагать податями, то оно старалось о томъ, чтобы не дѣлать
безполезныхъ, по его мнѣнію, пожертвованій для покрытія расходовъ государства.
Духовенство охотно давало деньги на веденіе войны противъ протестантовъ, потому
что оно считало своею обязанностью участвовать въ искорененіи ереси 3). Но тратить
свои доходы на достиженіе собственно мірскихъ благъ оно не находило основаній;
духовные признавали себя хранителями средствъ, особо отчисленныхъ для духовныхъ
назначеній, и считали богопротивнымъ дѣломъ, чтобы богатства, освященныя благо-
честіемъ предковъ ихъ, поступали въ распоряженіе государственныхъ дѣятелей
мірянъ для свѣтскихъ цѣлей. Ришельё, видѣвшій въ подобныхъ отговоркахъ лишь
хитрость корыстолюбцевъ, имѣлъ совершенно другой взглядъ на отношенія духо-
венства къ государству 4). Онъ не только не признавалъ интересы церкви стоящими
выше интересовъ государства, но даже принялъ за основное правило своей поли-
тики, что честь государства должна быть первымъ изъ всѣхъ соображеній. И съ
такимъ безстрашіемъ проводилъ онъ это начало, что однажды, созвавъ въ Мантѣ
многочисленное собраніе духовныхъ, онъ заставилъ ихъ помочь привительству экстра-
ординарною ассигновкою въ 6.000.000 франковъ и, видя, что нѣкоторые изъ самыхъ
*) Многіе изъ французскихъ королей имѣли силь-
ную врожденную склонность къ монахамъ, по замѣча-
тельнѣйшій изъ встрѣченныхъ мною примѣровъ этого
рода привязанностей упоминается у дѳ-Ту относи-
тельно Генриха III. Де-Ту говоритъ объ этомъ госу-
дарѣ: «происходило ли это отъ какой-нибудь врож-
денной особенности, или же отъ воспитанія, но Ген-
риху всегда было пріятно присутствіе монаха; и я
самъ часто слыхалъ, какъ онъ говорилъ, что видъ
монаха производитъ такое же дѣйствіе па его душу,
какъ самое пріятное щекотаніе—на ого тѣло».
2) Одно изъ его внушеній касалось «опасностей, ко-
торымъ подвергался католицизмъ въ Германіи, вслѣд-
ствіе союза короля съ протестантскими державами».
3) «Французское духовенство, невѣжественное и
развращенное, думало, что вся его обязанность за-
ключается въ искорененіи еретиковъ; оно предлагало
даже большія суммы денегъ подъ условіемъ, чтобы
ихъ употребляли на эту войну» (Бенуа).
4) Въ этомъ вполнѣ оправдываетъ его Ват-
тель, слова котораго я приведу, ради тѣхъ полити-
ковъ, которые придерживаются еще устарѣлой теоріи
святости церковной собственности: «Не только не
должно быть изъятія для имуществъ церкви вслѣд-
ствіе того, что они посвящены Богу, а, напротивъ,
по этой самой причинѣ они первыя должны быть
взяты для спасенія государства, ибо ничто не мо-
жетъ быть угоднѣе Отцу всѣхъ людей, какъ ограж-
деніе какой-нибудь націи отъ погибели. Такъ какъ
Богъ пи въ чемъ не нуждается, то посвящать Ему
богатства—значитъ обращать ихъ не на такое упо-
требленіе, которое было бы Ему угодно. Кромѣ того
I имущество церкви, какъ сознается и само духовен-
і ство, большей частью предназначается для бѣдныхъ.
| Когда государство въ нуждѣ, то безъ сомнѣнія оно—
I первый бѣдный, и при томъ наиболѣе заслуживающій
помощи».
, УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
217
высшихъ сановниковъ церкви выразили неудовольствіе на такую необычайную мѣру,
онъ наложилъ руку даже на нихъ и, къ изумленію всего духовенства, послалъ въ
изгнаніе не только четырехъ епископовъ, но и двухъ архіепископовъ — тулузскаго
и сансекаго.
ПЕслибы такія дѣла были совершены пятьюдесятью годами ранѣе, то они на-
ивное оказались бы гибельными для министра, осмѣлившагося предпринять ихъ.
гНо кардиналу Ришельё и въ этой, и въ другихъ подобныхъ мѣрахъ помогалъ духъ
времени, заставлявшій презирать своихъ прежнихъ повелителей. Существованіе такого
направленія во всемъ обществѣ теперь становилось очевиднымъ не только въ лите-
ратурѣ и въ политикѣ, но и въ дѣйствіяхъ судовъ. Нунцій съ негодованіемъ жало-
вался на враждебное настроеніе противъ духовенства, выказываемое французскими
судьями, и выставлялъ въ числѣ другихъ постыдныхъ дѣлъ, что нѣкоторыя духовныя
лица были повѣшены, не будучи предварительно лишены священнаго сана. Въ дру-
гихъ случаяхъ возрастающее презрѣніе къ духовенству выказывалось путемъ, вполнѣ
соотвѣтствующимъ грубости преобладавшихъ нравовъ. Сурдисъ, архіепископъ бор-
досскій, былъ два раза постыдно избитъ: одинъ разъ герцогомъ д’Эпернонъ, другой
разъ—маршаломъ де-Витри *); и Ришелье, обыкновенно такъ строго поступавшій
съ аристократами, не показалъ особеннаго желанія наказать виновниковъ этого гру-
баго оскорбленія. Дѣйствительно, не только архіепископу не было выказано никакого
сочувствія, но даже, нѣсколько лѣтъ спустя, онъ получилъ отъ Ришельё формальное
приказаніе удалиться въ свою епархію и до такой степени испугался тогдашняго
положенія дѣлъ, что бѣжалъ въ Карпантра и искалъ защиты у папы. Это случи-
лось въ 1641 г.; но девятью годами ранѣе церковь подверглась еще большему оскор-
бленію: въ 1632 г., когда произошли серьезные безпорядки въ Лангедокѣ, Ришельё
не побоялся выйти изъ затрудненія, смѣнивъ нѣкоторыхъ изъ епископовъ и секве-
стровавъ имущества другихъ.
Легко себѣ представить негодованіе духовенства. Такія безпрерывныя обиды
ему тяжело было бы перенести, еслибъ даже онѣ нанесены были міряниномъ. Но
онѣ становились вдвое тяжелѣе, будучи дѣломъ одного изъ членовъ того же класса,—
человѣка, съ юности принадлежащаго къ тому же сословію, противъ котораго онъ
нынѣ шелъ. Это обстоятельство значительно усиливало ощущеніе обиды въ духовен-
ствѣ потому, что придавало ей какъ будто бы характеръ измѣны. Это не была
война извнѣ, но измѣна внутри самаго духовнаго сословія. Унижавшій епископское
достоинство былъ самъ епископъ; оскорблявшій церковь—кардиналъ. Таково однако
было общее настроеніе умовъ, что духовенство не рѣшилось нанести открытый ударъ
министру, а только, посредствомъ своихъ приверженцевъ, распространяло самые
гнусные пасквили противъ Ришельё. Обвиняли его въ нарушеніи цѣломудрія, въ
открытомъ развратѣ и даже въ кровосмѣшеніи съ своею собственною племянницею.
Утверждали, что у него нѣтъ никакой религіи, что онъ—-католикъ только по имени,
а въ дѣйствительности первосвященникъ гугенотовъ или патріархъ атеистовъ, и, на-
конецъ—чтб было хуже всего—обвиняли его въ намѣреніи произвести расколъ во
французской церкви. Къ счастью, уже начинало проходить то время, когда умы
цѣлаго народа могли быть взволнованы подобными хитростями. Тѣмъ не менѣе эти
клеветы заслуживаютъ вниманія, такъ какъ по нимъ можно судить о направленіи
общественныхъ дѣлъ и о томъ, съ какою горечью духовное сословіе видѣло бразды
правленія выпадающими изъ его рукъ. Дѣйствительно, это явленіе было такъ оче-
Базэнъ, упоминая объ этомъ постыдномъ дѣлѣ. ।
просто говорить: «Маршалъ де-Витри, слѣдуя при- і
мѣру, который былъ поданъ ому герцогомъ д’Эпер- |
нонъ, до того забылся, что ударилъ ого (архіепископа)
своимъ жезломъ». Герцогъ, породъ тѣмъ какъ побить |
архіепископа, сказалъ народу: «посторонитесь, вы |
увидите, какъ я буду колотить вашего архіепископа*. (
Это показалъ свидѣтель, который самъ слышалъ,
какъ герцогъ сказалъ эти слова. До-Реб, который
былъ въ своемъ родѣ отчасти философъ, презри-
тельно говоритъ: «этотъ архіепископъ могъ похва-
литься тѣмъ, что онъ наиболѣе былъ битъ изъ всѣхъ
прелатовъ въ мірѣ*.
218
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІЯ ВЪ АНГЛІИ.
видно, что въ послѣднемъ междоусобіи, возбужденномъ противъ Ришельё, за два
года до его кончины, инсургенты въ прокламаціи своей объявили, что одна изъ
цѣлей ихъ — возстановить то уваженіе, которымъ въ прежнее время пользовались
духовенство и дворянство.
Чѣмъ болѣе мы изучаемъ всю дѣятельность Ришельё, тѣмъ яснѣе для насъ
становится этотъ антагонизмъ. Все доказываетъ намъ, что Ришельё имѣлъ сознаніе
великой борьбы, происходившей между прежнею, духовною, и новою, свѣтскою,
системами управленія, и что въ немъ была рѣшимость ниспровергнуть старую си-
стему и поддерживать новую. Не только въ его внутренней администраціи, но и
во внѣшней политикѣ его мы видимъ то же, безпримѣрное дотолѣ, пренебреженіе
къ теологическимъ интересамъ. Австрійскій домъ (въ особенности испанская отрасль
его) издавна пользовался уваженіемъ всѣхъ благочестивыхъ людей, какъ вѣрнѣйшая
опора церкви: на него смотрѣли, какъ на бичъ ересей, и вообще всѣ дѣйствія его
противъ еретиковъ доставили ему громкое имя въ исторіи церкви х). Поэтому, когда
французское правительство, въ царствованіе Карла IX, предприняло рѣшительную
попытку къ истребленію протестантовъ, то Франція естественнымъ образомъ вошла
въ тѣснѣйшую связь какъ съ Испаніею, такъ и съ Римомъ, и эти три великія
державы соединились весьма тѣсно, но не общностью мірскихъ интересовъ, а един-
ственно религіознымъ союзомъ. Этотъ теологическій союзъ былъ впослѣдствіи раз-
рушенъ личнымъ характеромъ Генриха IV и возрастающимъ равнодушіемъ тогдаш-
няго общества къ религіи; но въ продолженіе малолѣтства Людовика XIII королева
въ нѣкоторой степени возстановила его и покушалась возобновить тѣ суевѣрныя
понятія, на которыхъ онъ былъ основанъ. По всѣмъ побужденіямъ своимъ она была
ревностная католичка; она отличалась жаркою привязанностью къ Испаніи и успѣла
женить сына, молодого короля, на испанской принцессѣ, а дочь свою выдать за
испанскаго принца.
Можно было ожидать, когда Ришельё, одинъ изъ великихъ сановниковъ рим-
ской церкви, былъ поставленъ во главѣ государства, что онъ возстановитъ союзъ,
котораго такъ сильно желали люди его сословія 2). Но не такія побужденія управ-
ляли дѣйствіями кардинала Ришельё. Его цѣль была не поддерживать мнѣнія одной
секты, а служить интересамъ цѣлой націи. Его трактаты, его дипломатія, его пред-
положенія касательно внѣшнихъ союзовъ— все было направлено не противъ вра-
говъ церкви, а противъ враговъ Франціи. Принявъ такое новое мѣрило для своихъ
дѣйствій, Ришельё сдѣлалъ великій шагъ кт> приданію свѣтскаго характера всей
системѣ европейской политики. Онъ достигъ того, что теоретическіе интересы людей
стали подчиняться практическимъ интересамъ ихъ. До него правители Франціи,
чтобы наказать своихъ протестантскихъ подданныхъ, не колеблясь, призывали на по-
мощь католическія войска Испаніи. Поступая такимъ образомъ, они только слѣдо-
вали старинному мнѣнію, что главная обязанность правительства есть истребленіе
ересей. Это вредное ученіе въ первый разъ явно отвергнуто кардиналомъ Ришельё.
Еще въ 1617 г., прежде чѣмъ утвердилось его могущество, онъ высказалъ, какъ
основной принципъ, въ инструкціи одному изъ французскихъ посланниковъ, дошед-
шей и до нашихъ временъ, что въ дѣлахъ государственныхъ никакой католикъ не
долженъ предпочитать испанца французу-протсстанту. Для насъ конечно, при на-
стоящихъ успѣхахъ общества, подобное предпочтеніе требованій отечества требова-
ніямъ религіи стало дѣломъ самымъ обыкновеннымъ, но въ то время это составляло
Въ концѣ XVI столѣтія наименованіе -стар-
шій сынъ церкви* было признаннымъ и вполнѣ за-
служеннымъ титуломъ испанскихъ королей.
2) Еще въ 1656 году французское духовенство
желало «ускорить миръ съ Испаніею п обуздать ере-
тиковъ во Франціи- . Во время малолѣтства Людо- і
вика XIII мы слышимъ о «ревностныхъ католикахъ
и о тѣхъ, которые желали, но что бы то ни стало,
соединенія двухъ королей и двухъ коронъ,—Испаніи
и Франціи, какъ единственнаго, по ихъ мнѣнію,
средства для искорененія ересей въ христіанской
церкви г.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
219
поразительную новость х). Впрочемъ Ришельё не побоялся довести противорѣчіе обще-
принятымъ понятіямъ до самыхъ отдаленныхъ послѣдствій. Католическая церковь
справедливо считала свои интересы связанными съ интересами Австрійскаго дома,
а Ришельё, лишь только онъ былъ призванъ въ королевскій совѣтъ, рѣшился уни-
зить этотъ домъ въ обѣихъ отрасляхъ его. Чтобы достигнуть этой цѣли, онъ открыто
поддерживалъ злѣйшихъ враговъ своей собственной религіи. Онъ помогалъ лютера-
намъ противъ германскаго императора и кальвинистамъ—противъ испанскаго короля.
Въ продолженіе восемнадцати лѣтъ своего владычества онъ постоянно слѣдовалъ
той же неизмѣнной политикѣ * 2). Когда Филиппъ вознамѣрился притѣснить голланд-
скихъ протестантовъ, Ришельё сталъ дѣйствовать съ ними заодно, сперва ссужая
ихъ значительными суммами денегъ, а потомъ побудивъ французскаго короля всту-
пить, по трактату, въ тѣсный союзъ съ тѣми, которыхъ, по понятіямъ церкви, онъ
долженъ былъ скорѣе наказать, какъ бунтовщиковъ и еретиковъ 3). Точно также,
когда вспыхнула та великая война, въ которой императоръ покушался покорить
истинной вѣрѣ совѣсть германскихъ протестантовъ, Ришельё явился покровителемъ
ихъ; сначала онъ пытался спасти предводителя ихъ — фальцъ-графа, а не успѣвши
въ этомъ, заключилъ въ пользу ихъ союзъ съ Густавомъ-Адольфомъ, самымъ даро-
витымъ полководцемъ, какого тогда имѣли протестантскія націи. Но на этомъ онъ
не остановился. Послѣ смерти Густава, видя, что протестанты лишились своего
великаго вождя, онъ еще усиленнѣе сталъ дѣйствовать въ ихъ пользу. Онъ интри-
говалъ за нихъ при иностранныхъ дворахъ, открылъ въ пользу ихъ переговоры,
а въ заключеніе организовалъ для покровительства имъ открытый союзъ, въ ко-
торомъ всѣ религіозныя соображенія были пренебрежены. Этотъ союзъ, составлявшій
весьма важный прецедентъ въ международныхъ отношёніяхъ Европы, не только
былъ заключенъ кардиналомъ Ришельё съ двумя самыми могущественными вра-
гами церкви, къ которой онъ принадлежалъ, но даже по существу своему былъ, какъ
эмфатически выражается Сисмонди, «протестантскимъ союзомъ», — протестантскимъ
союзомъ, говоритъ онъ, между Фракціею, Англіею и Голландіею.
Уже по однимъ этимъ дѣламъ слѣдовало бы признать правленіе Ришельё великою
эпохою въ исторіи европейской цивилизаціи. Правленіе это представляетъ первый
примѣръ того, что замѣчательный государственный мужъ католическаго исповѣданія
систематически пренебрегалъ духовными интересами п выражалъ это пренебреженіе
во всей системѣ своей какъ внѣшней, такъ и внутренней политики. Дѣйствительно,
могутъ быть найдены еще ранѣе нѣсколько приближающихся къ этому примѣровъ
между правителями мелкихъ италіанскихъ государствъ, но тамъ подобныя попытки
никогда не имѣли успѣха, не были довольно продолжительны и никогда не вы-
ражались въ достаточно обширномъ размѣрѣ, чтобы имъ можно было приписать
значеніе прецедентовъ въ исторіи международныхъ сношеній. Особенную славу
Ришельё составляетъ то, что его иностранная политика не по временамъ, а по-
стоянно опредѣлялась свѣтскими видами, и я не думаю, чтобы во все столь про-
должительное время его господства можно было найти хотя малѣйшій признакъ
уваженія съ его стороны къ тѣмъ теологическимъ интересамъ, осуществленіе кото-
рыхъ такъ долго признавалось предметомъ величайшей важности. Подчиняя такимъ
образомъ постоянно церковь государству, проводя начало этого подчиненія въ обшир-
ныхъ размѣрахъ, съ величайпіимъ искусствомъ и постояннымъ успѣхомъ, онъ поло-
Даже въ царствованіе Генриха IV французскихъ
протестантовъ не считали за французовъ: нетерпимые
догматы римскаго католицизма пе признавали ихъ за
французовъ. На нихъ смотрѣли, каіи* па иностранцевъ
или, скорѣе, какъ иа враговъ, и такъ поступали съ
ними*. (Ееіісе «Нш. о! іЬе Ргоісзіапіз оГ Кгапсе ).
2) «Будучи кардиналомъ римской церкви. Ри-
шельё не призадумался однако самъ открыто всту-
питъ въ союзъ <ч> протестанта ми (Ранке).
3) Де-Рѳтцъ упоминаетъ объ одномъ любопыт-
номъ примѣрѣ того, какія чувства питала церковная
партія по отношенію къ этому трактату. Онъ говоритъ,
что епископъ Бовэ, который, черезъ годъ послѣ
смерти Ршпелі.ё. находился короткое время во главѣ
управленія, началъ свои распоряженія съ того, что
съ первыхъ же дней потребовалъ отъ голландцевъ,
чтобы они обратились къ католической религіи, если
хотятъ остаться въ союзѣ съ Франціей».
220
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
жилъ основаніе тому чисто свѣтскому характеру политики, утвержденіе котораго, и
послѣ его смерти, было цѣлью всѣхъ лучшихъ европейскихъ дипломатовъ. Резуль-
татомъ такого образа дѣйствій была весьма счастливая перемѣна, которая передъ
тѣмъ уже нѣсколько времени подготовлялась, но при немъ только окончательно со-
вершилась. Введеніемъ этой системы положенъ былъ конецъ религіознымъ войнамъ,
и вѣроятность сохраненія мира усилилась тѣмъ болѣе, что была устранена одна
изъ причинъ, производившихъ нерѣдко нарушеніе его А). Въ то же время проложенъ
былъ путь къ тому окончательному отдѣленію теологіи отъ политики, которое вполнѣ
довершить остается будущимъ поколѣніямъ. До какой степени значителенъ былъ
шагъ, сдѣланный въ этомъ направленіи,—видно изъ того, какъ легко было продол-
жать дѣятельность Ришельё людямъ, стоящимъ во всѣхъ отношеніяхъ ниже его.
Меньше какъ черезъ два года послѣ его смерти собрался Вестфальскій конгрессъ
(1643 г.), и члены его заключили этотъ знаменитый миръ, который навсегда оста-
нется замѣчателенъ, какъ первая, въ довольно обширномъ видѣ предпринятая, по-
пытка согласить сталкивающіеся между собою интересы главныхъ государствъ Европы.
Въ этомъ важномъ трактатѣ интересы церкви были совершенно пренебрежены, и
участвовавшія въ немъ стороны, вмѣсто того чтобы, какъ всегда бывало доселѣ,
отнимать владѣнія другъ у друга, избрали болѣе смѣлый путь—вознаграждать сами
себя на счетъ церкви, и не усомнились захватить ея доходы и обратить въ свѣт-
ское владѣніе нѣсколько епископствъ 2). Отъ этой тяжкой обиды, которая стала при-
мѣромъ для послѣдующихъ случаевъ въ международномъ правѣ Европы, духовная
власть никогда не могла оправиться. Одинъ изъ писателей, пользующихся большимъ
авторитетомъ, замѣтилъ, что съ этого времени дипломаты во всѣхъ оффиціальныхъ
актахъ своихъ стали пренебрегать религіозными интересами и отстаивать пред-
почтительно условія, относящіяся къ торговлѣ и колоніямъ представляемыхъ ими
государствъ. Вѣрность этого замѣчанія подтверждается тѣмъ важнымъ фактомъ, что
Тридцатилѣтняя война, которой этотъ трактатъ положилъ конецъ, была послѣднею
изъ всѣхъ когда-либо веденныхъ религіозныхъ войнъ, такъ какъ съ тѣхъ поръ
въ продолженіе двухъ вѣковъ никакой цивилизованный народъ не счелъ полезнымъ
подвергать себя опасности для того, чтобы ниспровергнуть религіозныя вѣрованія
своихъ сосѣдей. Конечно это составляетъ только часть того великаго движенія въ
пользу свѣтскихъ интересовъ, которымъ суевѣріе было повсемѣстно ослаблено и
обезпеченъ дальнѣйшій ходъ европейской цивилизаціи. Но, не распространяясь объ
этомъ предметѣ, я теперь постараюсь показать, до какой степени политика, при-
нятая Ришельё относительно протестантской церкви во Франціи, соотвѣтствовала
той, которой онъ слѣдовалъ въ отношеніи къ католической церкви, вслѣдствіе чего
этотъ великій государственный мужъ, при помощи успѣховъ знанія, ознаменовав-
шихъ его вѣкъ, имѣлъ возможность съ обѣихъ сторонъ бороться съ предразсудками,
2) Эта перомѣна сдѣлается яснѣе, если срав-
нить сочиненія Гротіуса н Ваттеля. Эти два замѣ-
чательныхъ человѣка пользуются и до сихъ поръ
уваженіемъ, какъ величайшіе авторитеты по части
международнаго права; но между ними есть то важ-
ное различіе, что Ваттель писалъ слишкомъ столѣ-
тіемъ позже Гротіуса, и въ такое время, когда свѣт-
скіе принципы, которые поддерживалъ Ришельё, уже
проникли въ умы даже самыхъ посредственныхъ по-
литиковъ. Поэтому Ваттель говоритъ: «спрашиваютъ,
позволительно ли быть въ союзѣ съ націею, которая
исповѣдуетъ другую религію? Имѣютъ ди силу трак-
таты, заключенные съ врагами вѣры? Гротіусъ вхо-
дилъ въ довольно долгое по этому поводу разбира-
тельство. Это могло быть необходимо въ ю время,
когда ярость партій затмевала еще извѣстные прин-
ципы, которые она долго заставляла забывать; въ
вашемъ вѣкѣ, можно смѣло сказать, это было бы
излишнимъ. Одинъ законъ природы управляетъ трак-
1 татами націй; имъ рѣшительно чуждо различіе рели-
гій». Гротіусъ, съ другой стороны, не допускаетъ
союзовъ между націями разныхъ религіи; онъ гово-
ритъ, что ничто не можетъ оправдать ихъ, кромѣ
| развѣ «крайней необходимости... Ибо должно сперва
| с/громиться въ царствіе небесное, т. е. прежде всего
заботиться о распространеніи Евангелія». Мѣсто это
1 тѣмъ болѣе назидательно, что Гротіусъ былъ чело-
вѣкъ съ большимъ дарованіемъ и человѣколюбіемъ.
2) ^Франція пріобрѣла по этому трактату въ
вознагражденіе три епископства — въ Метцѣ, Тулѣ
и Верденѣ, а также въ Альзасѣ. Удовлетвореніе или
вознагражденіе другихъ заинтересованныхъ сторонъ
I было большей частью опредѣлено на счетъ церкви и
' посредствомъ отчужденія въ свѣтскую власть нѣ-
сколькихъ епископствъ и духовныхъ бенефицій»
(Кохъ).
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО ХѴШ СТ. ~
221
оть которыхъ люди въ то время лишь медленно и съ величайшимъ трудомъ начи-
нали освобождаться.
Образъ дѣйствій Ришельё относительно французскихъ протестантовъ соста-
вляетъ конечно одну изъ самыхъ похвальныхъ сторонъ его системы; въ этомъ, какъ
и въ прочихъ либеральныхъ мѣрахъ его, ему содѣйствовалъ ходъ предшествовав-
шихъ событій. Его правленіе, какъ взятое вмѣстѣ съ правленіемъ Генриха IV и коро-
левы-правительницы, представляетъ отрадное зрѣлище такой полной вѣротерпимости,
какой не видало до тѣхъ поръ ни одно изъ государствъ католической Европы.
Между тѣмъ какъ въ другихъ христіанскихъ земляхъ люди безпрерывно подверга-
лись преслѣдованіямъ единственно за то, что держались мнѣній, несогласныхъ съ по-
нятіями господствующаго духовенства,—Франція отказывалась слѣдовать общему
примѣру и покровительствовала тѣмъ еретикамъ, которыхъ церковь стремилась на-
казывать. Дѣйствительно они не только пользовались покровительствомъ, но даже,
въ случаѣ появленія особенныхъ дарованій, были открыто удостоиваемы величай-
шихъ наградъ. Сверхъ того, что ихъ назначили на важныя гражданскія должности,
многіе изъ нихъ занимали высшіе военные посты, и Европа съ удивленіемъ уви-
дала войска французскаго короля, предводительствуемыя полководцами-еретиками.
Роганъ, Ледигьеръ, Шатильонъ, Ла-Форсъ, Бернгардъ Веймарскій были въ числѣ
самыхъ знаменитыхъ военачальниковъ Людовика XIII, и всѣ они были проте-
станты такъ же, какъ и нѣкоторые младшіе въ сравненіи съ ними, но замѣча-
тельные воины, какъ-то: Гассіонъ, Ранцау, Шомберъ и Тюреннъ. Въ это время
ничто уже не было недоступно для людей, которыхъ полувѣкомъ ранѣе за ере-
тическія мнѣнія ихъ правительство, готово было бы / преслѣдовать на смерть.
Вскорѣ послѣ восшествія на престолъ Людовика ХІІІ Ледигьеръ, лучшій вое-
начальникъ между французскими протестантами, былъ пожалованъ въ маршалы
Франціи.
Четырнадцать лѣтъ спустя то же высокое званіе было даровано двумъ дру-
гимъ протестантамъ—Шатильону и Ла-Форсу, изъ которыхъ первый, какъ утвер-
ждаютъ, былъ самымъ вліятельнымъ лицомъ меледу схизматиками. Оба эти назначенія
состоялись въ 1622, а въ 1634 г. еще большее нареканіе со стороны католиковъ
было возбуждено возвышеніемъ Сюлли, который, несмотря на явную принадлеж-
ность къ еретикамъ, также получилъ маршальскій жезлъ. Это было дѣломъ Ришельё,
и оно принято было приверженцами церкви за серьезное оскорбленіе; но великій
государственный мужъ обращалъ такъ мало вниманія на крики ихъ, что по окон-
чаніи междоусобной войны онъ сдѣлалъ другой шагъ, не менѣе для нихъ обидный.
Герцогъ де-Роганъ былъ самымъ дѣятельнымъ изъ враговъ господствующей церкви,
и протестанты смотрѣли на него, какъ на главную опору своей партіи. Онъ взялся
за оружіе для защиты ея и, не согласившись отречься отъ своей религіи, судьбою
войны былъ изгнанъ изъ Франціи; но Ришельё, хорошо знавшій его дарованія,
нисколько не заботился объ его убѣжденіяхъ. Вслѣдствіе этого онъ призвалъ его
изъ изгнанія, употребилъ его для нѣкоторыхъ переговоровъ съ Швейцаріею, а за-
тѣмъ назначилъ командующимъ одною изъ армій французскаго короля, дѣйствовав-
шихъ за границею.
Таковы были тенденціи, характеризовавшія этотъ новый порядокъ вещей.
Едва-ли нужно говорить о томъ, до какой степени благодѣтельна должна была быть
эта великая перемѣна, такъ какъ она поощряла людей считать благо своей отчизны
первымъ изъ всѣхъ соображеній, и подъ ея вліяніемъ солдаты-католики научились,
отбросивъ старинные споры, повиноваться полководцамъ-сретикамъ и слѣдовать за
знаменами ихъ на пути къ побѣдѣ. Сверхъ того самое сближеніе людей различ-
ныхъ вѣръ, происходившее отъ того, что они жили въ одномъ лагерѣ и сражались
подъ одними знаменами, должно было еще болѣе содѣйствовать къ прекращенію
вражды, частью тѣмъ, что теологическія распри исчезали въ стремленіи къ одной
общей и при томъ свѣтской цѣли, частью же и тѣмъ, что люди каждой секты, зна-
222
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
комясь съ своими противниками по вѣрѣ, находили, что они не совсѣмъ лишены
всѣхъ человѣческихъ достоинствъ, а, напротивъ, сохраняютъ многія похвальныя ка-
чества, и убѣждались даже въ возможности соединять съ еретическими заблужде-
ніями всѣ достоинства хорошаго и полезнаго гражданина х).
Но при всемъ томъ, что ожесточенныя распри, такъ долго раздиравшія Фран-
цію, подъ вліяніемъ политики Ришельё понемногу утихали, мы съ удивленіемъ за-
мѣчаемъ, что въ то время какъ предубѣжденія католиковъ очевидно ослабѣвали, у
протестантовъ, напротивъ, эти предубѣжденія еще продолжали сохранять всю свою
силу. Дѣйствительно, сильнѣйшимъ доказательствомъ зловредности и упорства этихъ
чувствъ можетъ служить то, что они самымъ безпокойнымъ образомъ проявились
именно въ той странѣ, гдѣ съ протестантами всего лучше поступали, и именно въ
періодъ такого обращенія съ ними. Въ этомъ случаѣ, какъ и во всѣхъ подобныхъ,
главною дѣйствующею причиною было вліяніе сословія, получившаго вслѣдствіе
обстоятельствъ, которыя мнѣ теперь предстоитъ изложить, временный перевѣсъ надъ
всѣми другими.
Ослабленіе теологическаго духа произвело въ протестантской партіи замѣча-
тельный, хотя совершенно естественный результатъ. Возрастающая вѣротерпимость
французскаго правительства открыла вождямъ протестантовъ доступъ къ такимъ по-
ложеніямъ въ государствѣ, которыхъ они прежде никогда не могли бы достигнуть.
Пока всѣ мѣста были закрыты для дворянъ-протестантовъ, совершенно естественно
было, что они съ тѣмъ большимъ усердіемъ держались за свою партію, которая одна
признавала достоинства ихъ. Но когда былъ признанъ дотъ принципъ, что госу-
дарство должно награждатьч людей по способностямъ ихъ, невзирая на религію, то
въ каждой изъ сектъ образбрался новый элементъ разъединенія. Предводители про-
тестантовъ не могли не питать нѣкоторой благодарности или. по крайней мѣрѣ, нѣ-
котораго сочувствія къ правительству, которому они служили; и такъ какъ вліяніе свѣт-
скихъ соображеній такимъ образомъ усилилось, то вліяніе религіозной связи должно
было ослабѣть. Невозможно, чтобы въ одно п то же время и въ одномъ человѣкѣ
преобладали противоположныя чувства* Чѣмъ дальше видитъ человѣкъ, тѣмъ менѣе
обращаетъ онъ вниманія на каждую изъ подробностей обозрѣваемаго пространства.
Патріотизмъ уничтожаетъ суевѣріе, и чѣмъ болѣе мы преданы нашему отечеству,
тѣмъ менѣе привязаны къ нашей сектѣ. Такимъ образомъ съ успѣхами цивилизаціи
кругъ дѣятельности ума человѣческаго расширяется; горизонтъ его становится обшир-
нѣе, предметы сочувствія умножаются, и такъ какъ пространство, обнимаемое имъ,
увеличено, то и сила привязанности его къ объятымъ однажды идеямъ ослабѣваетъ
до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, онъ начнетъ понимать, что безконечное разнообразіе
обстоятельствъ необходимо производитъ и безконечное разнообразіе мнѣній; что
вѣра, которая кажется одному человѣку хорошею и естественною, можетъ быть для
другого дурна и неестественна, и что, не вмѣшиваясь вообще въ ходъ религіоз-
ныхъ убѣжденій, мы должны довольствоваться тѣмъ, чтобы заглядывать въ самихъ
себя, наблюдать движенія своего сердца, очищать свою собственную дущу, смягчать
зло, порождаемое нашими страстями, и искоренять тотъ духъ самонадѣянности и
нетерпимости, который является и причиною, и послѣдствіемъ всякаго теологиче-
скаго спора.
Именно въ этомъ направленіи сдѣланъ былъ огромный шагъ французами въ
первой половинѣ семнадцатаго вѣка. Къ несчастью впрочемъ, преимущества, про-
исшедшія отъ этого, были сопряжены съ серьезными неудобствами. Отъ того, что
предводители протестантской партіи подчинились разнымъ свѣтскимъ соображеніямъ,
произошло два послѣдствія весьма значительной важности. Первымъ результатомъ
*) Въ концѣ ХП столѣтія Дюплесси Морнэ при- ; пѣтъ ничего несовмѣстпаго въ томъ, чтобы быть хо-
шюсь сказать то, чтб большинствомъ людей призна- і рошимъ гугенотомъ и въ то же время вѣрнымъ сду-
валось въ то время за парадоксъ, а имоппо: «что гою Франціи».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI НО XVIII СТ.
223
было то, что многіе изъ протестантовъ перемѣнили религію. До Нантскаго эдикта
они постоянно подвергались преслѣдованіямъ и столь же постоянно умножались. Но
при политикѣ вѣротерпимости, принятой Генрихомъ IV и Людовикомъ XIII, число
ихъ постепенно уменьшалось х). Дѣйствительно, это было естественнымъ послѣдствіемъ
усиленія того свѣтскаго духа, который во всѣхъ странахъ ослабилъ религіозныя
вражды. Подъ вліяніемъ этого духа, соціальные и политическіе виды стали пере-
вѣшивать тѣ теологическіе виды, которыми люди такъ долго ограничивались. По
мѣрѣ того, какъ всякія свѣтскія связи между людьми стали усиливаться, естествен-
нымъ образомъ явилось между соперничествующими партіями быстро усиливающееся
стремленіе къ сліянію, и такъ какъ католики были не только гораздо многочисленнѣе,
но и во всѣхъ отношеніяхъ вліятельнѣе, чѣмъ противники ихъ, то движеніе это
обратилось въ пользу первыхъ, и они постоянно привлекали на свою сторону мно-
гихъ изъ прежнихъ противниковъ своихъ. Что такое поглощеніе секты слабѣйшей,
по числу, сильнѣйшею произошло отъ упомянутой мною причины, это становится
еще очевиднѣе вслѣдствіе того замѣчательнаго обстоятельства, что перемѣна нача-
лась съ главныхъ дѣятелей партіи, и что не низшія лица между протестантами по-
кинули своихъ вождей, но скорѣе вожди покинули своихъ послѣдователей. Это про-
изошло отъ того, что вожди, будучи просвѣщеннѣе, чѣмъ вся масса народа, болѣе
подверглись вліянію скептическаго движенія и потому показали примѣръ равно-
душія къ спорамъ, которые еще всецѣло занимали умы народа. Какъ только это
равнодушіе дошло до извѣстной степени, приманки, представляемыя примирительною
политикою Людовика XIII, стали неопреодолимы; и дворяне протестанты въ особен-
ности, будучи болѣе подвержены политическимъ искушеніямъ, начали отдаляться отъ
своей партіи съ тѣмъ, чтобы тѣснѣе сблизиться съ дворомъ, показывающимъ готов-
ность вознаграждать ихъ заслуги.
Конечно невозможно въ точности опредѣлить время, когда произошла эта важ-
ная перемѣна. Но мы можемъ сказать съ достовѣрностью, что уже въ самомъ на-
чалѣ царствованія Людовика ХШ-го многіе изъ дворянъ-протестантовъ вовсе пе
думали о своей религіи, а остальные уже не имѣли къ ней того усердія, которое
прежде показывали. Дѣйствительно, многіе изъ самыхъ значительныхъ между ними
открыто покинули свою религію и присоединились къ той церкви, которую они
были пріучены ненавидѣть, какъ олицетвореніе нечестія, и называть Вавилон-
скою блудницею. Герцогъ Лсдигьоръ, самый даровитый изъ протестантскихъ пол-
ководцевъ, перешелъ въ католичество и, въ видѣ награды за обращеніе свое, сдѣ-
ланъ былъ коннетаблемъ Франціи. Герцогъ де-ла-Тремуль послѣдовалъ его при-
мѣру такъ же, какъ и герцоги де-ла-Мельрэ, де-Бульонъ, а нѣсколько лѣтъ спустя
и маркизъ де-Монтозьс. Эти знатные дворяне были въ числѣ самыхъ вліятель-
ныхъ членовъ протестантской церкви, но покинули ее безъ всякаго раскаянія,
жертвуя своими старыми связями въ пользу тѣхъ мнѣній, которымъ слѣдовало
государство. Въ другихъ людяхъ высшаго класса, которые еще продолжали по
имени принадлежать къ партіи французскихъ протестантовъ, мы находимъ также
подобный духъ. Мы видимъ ихъ равнодушными къ такимъ предметамъ, за кото-
рые они, еслибы родились пятьюдесятью годами ранѣе, съ радостью пожертво-
вали бы жизнью. Маршалъ де-Бульонъ называлъ себя протестантомъ и не хотѣлъ
отступить оть своей религіи, а во всемъ своемъ образѣ дѣйствій показывалъ, что
онъ считаетъ интересы ея стоящими ниже политическихъ соображеній. То же за-
мѣчено было французскими историками и относительно герцога де-Сюлли и маркиза
де-Шатильонъ, которые, хотя были оба членами протестантской церкви, однако
Несмотря на увеличеніе народонаселенія,
число протестантовъ уменьшилось какъ вообще, такъ
и сравнительно съ числомъ католиковъ. Въ 1598 году
у нихъ было 760 церквей, а въ 1619 оставалось
только 700. Де-Ту, въ предисловіи къ своей > Исто-
ріи * . замѣчаетъ, что число протестантовъ увеличи-
лось во время веденныхъ противъ нихъ войнъ, но
что сво время мира какъ число, такъ и значеніе ихъ
уменьшилось •>.
224
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
показывали замѣтное равнодушіе къ тѣмъ теологическимъ интересамъ, которые прежде
составляли предметъ величайшей важности. По всѣмъ этимъ причинамъ, когда въ
1621 г. протестанты начали междоусобную войну противъ правительства, то оказа-
лось, что изъ всѣхъ великихъ предводителей ихъ только двое, Ротанъ и братъ его
Субнзъ, рѣшились подвергать свою жизнь опасности за свою религію.
Итакъ первымъ великимъ послѣдствіемъ вѣротерпимости, принятой француз-
скимъ правительствомъ за основаніе его политики, было то, что протестанты лиши-
лись поддержки главныхъ вождей своихъ, и что сочувствіе многихъ между этими
вождями перешло на сторону католической церкви. Но другое послѣдствіе, о кото-
ромъ я упомянулъ, было гораздо важнѣе. Возрастающее равнодушіе высшаго класса
протестантовъ передало управленіе партіею въ руки духовенства. Мѣсто, оставлен-
ное свѣтскими вождями, было естественнымъ образомъ занято духовными. И такъ
какъ во всякой сектѣ духовенство, въ цѣлой массѣ, всегда отличалось нетерпимостью
къ мнѣніямъ, несогласнымъ съ его понятіями, то оказалось, что эта перемѣна произвела
въ осиротѣвшихъ рядахъ протестантовъ ослабленіе, подобное тому, которымъ были
ознаменованы худшія времена шестнадцатаго столѣтія. Вслѣдствіе этого, по стран-
ному., но весьма естественному сочетанію обстоятельствъ, протестанты, утверждаю-
щіе, что они стоятъ за право личнаго сужденія въ религіозныхъ вопросахъ, въ на-
чалѣ семнадцатаго столѣтія стали болѣе чуждыми вѣротерпимости, чѣмъ католики,
которыхъ вѣра основана на предписаніяхъ непогрѣшимой церкви.
Это явленіе составляетъ одинъ изъ множества примѣромъ, показывающихъ,
какъ поверхностны мнѣнія тѣхъ ішеатедей-теоретиковъ, которые утверждаютъ, что
протестантская религія необходимо либеральнѣе, чѣмъ католическая. Еслибы всѣ тѣ,
которые слѣдуютъ этому воззрѣнію, взяли на себя трудъ изучить исторію Европы
изъ первыхъ источниковъ, тр они бы узнали, что либеральность каждой секты за-
виситъ вовсе не отъ признанныхъ принциповъ ея, но отъ обстоятельствъ, въ кото-
рыхъ она поставлена, и отъ степени значенія, которымъ пользуется ея духовенство.
Протестантская церковь вообще оказывается болѣе расположенною къ вѣротерпи-
мости, чѣмъ католическая, просто потому, что событія, вызвавшія появленіе про-
тестантизма, въ то же время возбудили умственную дѣятельность и, слѣдовательно,
уменьшили значеніе духовенства. Но всякій, кто читалъ сочиненія великихъ кальви-
нистскихъ теологовъ, и въ особенности кто изучилъ исторію ихъ, долженъ знать,
что въ шестнадцатомъ и семнадцатомъ вѣкахъ желаніе преслѣдовать своихъ против-
никовъ было въ нихъ такъ горячо^ какъ только оно могло быть въ католикахъ въ
худшіе дни папскаго владычества. Это простой фактъ, въ которомъ каждый желаю-
щій можетъ убѣдиться, ознакомившись съ оригинальными источниками, относящи-
мися къ тѣмъ временамъ. И въ настоящее время мы найдемъ болѣе суевѣрія, болѣе
фанатизма и менѣе истинно религіознаго человѣколюбія въ низшемъ классѣ шот-
ландскихъ протестантовъ, чѣмъ въ низшемъ классѣ французскихъ католиковъ. Между
тѣмъ на одно мѣсто, отзывающееся нетерпимостью въ протестантской теологіи, легко
было бы привести двадцать подобныхъ мѣстъ въ теологіи католической. На самомъ
дѣлѣ дѣйствія людей зависятъ не отъ догматовъ, текстовъ или церковныхъ уставовъ,
но отъ мнѣній и привычекъ, преобладающихъ между современниками ихъ, отъ общаго
духа времени и отъ характера сословій, имѣющихъ перевѣсъ надъ прочими. Въ
этомъ повидимому и заключается причина того различія между религіею въ теоріи
и религію на практикѣ, на которое теологи жалуются, какъ на камень преткно-
венія, какъ на существенное зло. Религіозныя теоріи, сохраняясь въ книгахъ въ
формѣ ученія и догмата, остаются вѣчнымъ свидѣтельствомъ о первоначальномъ духѣ
религіи и поэтому не могутъ быть измѣнены безъ того, чтобы нововводители не
подверглись упреку въ непослѣдовательности или въ ереси. Но практическая сто-
рона каждой религіи, нравственныя, политическія и соціальныя проявленія ея обни-
маютъ такое громадное разнообразіе интересовъ и имѣютъ дѣло съ такими слож-
ными и измѣнчивыми пружинами, что нѣтъ никакой возможности установить ихъ
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII ст. 225
посредствомъ формальныхъ опредѣленій церкви; даже въ самыхъ строгихъ системахъ
эта сторона религіи въ значительной степени предоставляется частному произволу
и, принадлежа вообще къ неписанному закону, не можетъ быть ограждена тѣми пред-
осторожностями, посредствомъ которыхъ ограждается неизмѣнность догмата 1). По
всѣмъ этимъ причинамъ религіозное ученіе, составляющее вѣру націи, не можетъ
служить пробнымъ камнемъ ея цивилизаціи, а, напротивъ того, практическое примѣ-
неніе религіи такъ гибко и такъ способно приноравливаться къ общественнымъ по-
требностямъ, что оно представляетъ собою одно изъ лучшихъ мѣрилъ для опредѣленія
духа какого-либо времени.
По всѣмъ этимъ соображеніямъ мы не должны удивляться тому, что въ про-
долженіе нѣсколькихъ лѣтъ французскіе протестанты, выдавая себя за привержен-
цевъ права личнаго сужденія, отличались меньшею терпимостью къ примѣненію этого
права ихъ противниками, чѣмъ католики; при всемъ томъ, что католики, признавая
непогрѣшимость своей церкви, по строгой послѣдовательности понятій, должны быть
суевѣрны и, можно сказать, наслѣдуютъ нетерпимость по естественному праву рож-
денія 2). Такимъ образомъ въ то время какъ католики, по теоріи, должны были болѣе
предаваться фанатизму, чѣмъ протестанты,—на практикѣ протестанты болѣе увле-
кались имъ, чѣмъ католики. Протестанты продолжали настаивать на томъ правѣ сво-
боднаго сужденія въ религіи, которое католики по-прежнему отрицали. Между тѣмъ
такова была сила обстоятельствъ, что каждая секта на практикѣ противорѣчила
своему догмату и дѣйствовала такъ, какъ будто бы она приняла догматъ своей про-
тивницы. Причина этой перемѣны была очень проста. Между французами вообще,
какъ я уже сказалъ, теологическій духъ терялъ свою силу, и ослабленіе вліянія ду-
ховенства, какъ всегда бываетъ, сопровождалось расположеніемъ націи къ большей
вѣротерпимости. Но между французскими протестантами этотъ упадокъ теологиче-
скаго духа произвелъ другія послѣдствія, а именно—перемѣну вождей, которая пере-
дала власть въ руки духовенства и, увеличивъ значеніе его, вызвала реакцію и ожи-
вила вновь тѣ самыя чувства, отъ ослабленія которыхъ реакція происходила. Этимъ
повидимому объясняется, почему религія, которой правительство не покровитель-
ствуетъ, вообще обнаруживаетъ ббльшую энергію и жизненность, чѣмъ та, которая
пользуется покровительствомъ. При успѣхахъ общества теологическій духъ прежде
всего ослабѣваетъ въ самыхъ образованныхъ классахъ его, и тогда именно прави-
тельство можетъ, какъ оно дѣлаетъ въ Англіи, вмѣшиваться въ дѣла религіи и,
контролируя духовенство, ставить церковь въ совершенную зависимость отъ госу-
дарства и ослаблять такимъ образомъ духовный элементъ посредствомъ примѣси къ
нему свѣтскихъ началъ. Но когда государство отказывается сдѣлать это, то бразды
правленія, выпадая изъ рукъ высшихъ сословій, захватываются духовенствомъ, и
тогда происходитъ тотъ порядокъ вещей, лучшій примѣръ котораго мы можемъ ви-
дѣть на французскихъ протестантахъ семнадцатаго вѣка и на ирландскихъ католи-
кахъ нашего времени. Въ подобныхъ случаяхъ религія, терпимая правительствомъ,
но не вполнѣ признаваемая имъ, всегда долѣе сохраняетъ свою жизненность, потому
что духовенство ея, пренебрегаемое правительствомъ, вынуждено ближе примкнуть
Римская церковь постоянно имѣла это въ
виду и потому была всегда, какъ и въ настоящее
время, весьма сговорчива относительно морали и
весьма непреклонна относительно догматовъ,—пора-
зи гельное доказательство необыкновеннаго умѣнія, съ
какимъ ведутся ея дѣла. Эта. особенность хотя рѣзко
обозвачаѳтся въ римско-католической церкви, во ни-
какъ не ограничивается сю одною, а встрѣчается во
вежпй религіозной сектѣ, правильно организованной.
Іоккъ, въ своихъ ® Письмахъ о вѣротерпимости»,
замѣчаетъ, что духовенство естественнымъ образомъ
еь йльшнмъ рвеніемъ преслѣдуетъ заблужденіе, чѣмъ
пороки. О томъ, что оно предпочитаетъ догматы пра-
вославнымъ истинамъ, упоминаетъ также и Контъ
(«Тгаііё <1е Ьё^ізіаііоп» ѵ. I, р. 245), и на то же
намокаетъ Кантъ.
2) Бланко Уайтъ рѣзко замѣчаетъ; «искренніе
римскіе католики но могутъ быть по совѣсти вѣро-
терпимы». Но опъ конечно ошибается, ибо дѣло не
въ искренности, а въ послѣдовательности. Искренній
римскій католикъ можетъ быть, и часто бываете, по
совѣсти, вѣротерпимымъ, послѣдовательный же рим-
скій католикъ—никогда.
Бокль.—Изд. Ф. Павленкова.
15
226
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
къ народу, составляющему единственный источникъ его значенія *). Напротивъ того,
въ религіи, которая пользуется расположеніемъ и щедротами правительства, связь
между духовенствомъ и низшимъ классомъ мірянъ гораздо менѣе тѣсна; духовенство
примѣняется къ желаніямъ правительства столько же, какъ и къ настроенію народа,
и такимъ образомъ примѣсь политическихъ видовъ, соображеній житейскаго удобства,
и,—если можно такъ сказать, не нарушая уваженія къ духовенству,—надеждъ на
повышеніе вносятъ свѣтскій элементъ въ духовное сословіе и, посредствомъ указан-
наго уже мною процесса, ускоряютъ успѣхи вѣротерпимости.
Эти обобщенія, могущія въ значительной степени объяснить настоящее суевѣр-
ное настроеніе ирландскихъ католиковъ, объясняютъ также и суевѣріе, преобладавшее
въ прежнія времена между французскими протестантами. Въ обоихъ случаяхъ пра-
вительство, пренебрегая надзоромъ за еретическою религіею, дало возможность ду-
ховенству пріобрѣсти рѣшительное преобладаніе, и затѣмъ это сословіе стало раз-
вивать въ людяхъ фанатизмъ и возбуждать въ нихъ ненависть къ противникамъ
своей секты. Къ какимъ результатамъ привелъ такой ходъ дѣлъ въ Ирландіи, всего
ближе извѣстно тѣмъ изъ нашихъ государственныхъ людей, которые съ необыкно-
венною въ профессіи ихъ откровенностью сознались въ томъ, что Ирландія соста-
вляетъ для нихъ предметъ величайшаго изъ затрудненій. А какіе были результаты
во Франціи, это мы постараемся разъяснить въ настоящее время.
Такъ какъ примирительное направленіе французскаго правительства привлекло
на его сторону нѣсколько изъ самыхъ важныхъ лицъ между протестантами и обезору-
жило враждебность другихъ, то значеніе предводителей, партіи перешло, какъ мы
уже видѣли, къ низшему разряду людей, которые въ новомъ положеніи своемъ вполнѣ
выказали нетерпимость, свойственную ихъ сословію., Не имѣя притязанія писать
исторію тѣхъ ненавистныхъ \распрей, которыя за этимъ послѣдовали, мы предста-
вимъ только читателю нѣсколько примѣровъ усилившагося въ это время ожесточенія
въ протестантской партіи и укажемъ на нѣкоторыя изъ дѣйствій, до такой степени
воспламенившихъ въ ней злобныя чувства, неразлучныя съ религіозною борьбою,
что, наконецъ, вспыхнула междоусобная война, которая только вслѣдствіе улучшив-
шагося настроенія католиковъ не была такъ кровопролитна, какъ ужасная война
шестнадцатаго столѣтія. Когда французскіе протестантѣ подчинились исключитель-
ному преобладанію людей, по обыкновенію своей профессіи считавшихъ ересь за
величайшее изъ преступленій, то между ними естественно проявился духъ миссіонер-
ства и прозелитизма, который побуждалъ ихъ вмѣшиваться въ религіозныя отправле-
нія католиковъ, подъ старымъ предлогомъ обращенія ихъ на путь истины, и подалъ
поводъ къ возобновленію вражды, которая подъ вліяніемъ успѣховъ знанія уже на-
чинала было утихать. Затѣмъ, такъ какъ при подобныхъ предводителяхъ такого
рода чувства быстро усиливались, протестанты скоро научились презирать великій
Нантскій эдиктъ, обезпечившій ихъ свободу, и предприняли новую опасную борьбѵ,
имѣвшую цѣлью не огражденіе собственной ихъ религіи, но ослабленіе религіи про-
тивной партіи,—той партіи, которой они были обязаны терпимостью, составлявшею,
при предразсудкахъ того времени, весьма не легкую для католиковъ уступку.
Нантскимъ эдиктомъ было предоставлено протестантамъ совершенно свободное
отправлепіе ихъ религіи, и этимъ правомъ они продолжали пользоваться до царство-
ванія Людовика XIV. Къ этому присовокуплялось нѣсколько другихъ привилегій,
какихъ ни одно католическое правительство, кромѣ французскаго, не рѣшилось бы
даровать своимъ подданнымъ еретикамъ. Но все это еще не удовлетворяло вполнѣ
х) Мы также очень ясно видимъ это въ Англіи,
гдѣ диссентерскоо духовенство имѣетъ гораздо болѣе
вліянія на своихъ слушателей, чѣмъ духовенство
господствующей церкви на своихъ. Это часто было
замѣчаемо безпристрастными наблюдателями, п мы
имѣемъ теперь статистическое доказательство, что
«большинство протестантскихъ диссентеровъ гораздо
ревностнѣе» посѣщаютъ божественную службу, чѣмъ
послѣдователи господствующей церкви.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
227
желаній протестантскаго духовенства, которому было недостаточно свободно отправлять
свою религію, по хотѣлось еще стѣснять отправленіе религіи другихъ. Первымъ
шагомъ ихъ было ходатайствовать передъ правительствомъ о стѣсненіи тѣхъ обря-
довъ, которые французскіе католики искони уважали, какъ символъ своей національ-
ной вѣры. Съ этой цѣлью тотчасъ послѣ смерти Генриха IV они назначили боль-
шое собраніе въ Сомюрѣ, на которомъ формально потребовали, чтобы никакая ка-
толическая процессія не допускалась ни въ какомъ городѣ, селенія или крѣпости,
занятыхъ протестантами. Такъ какъ правительство оказалось нерасположеннымъ
удовлетворить такому чудовищному притязанію, то эти фанатики рѣшились своею
властью доставить ему силу закона. Они не только стали нападать на католическія
процессіи вездѣ, гдѣ; встрѣчали ихъ, но и подвергали священниковъ личнымъ оскор-
бленіямъ и даже старались лишать ихъ возможности совершать таинства надъ уми-
рающими. Когда католическій священникъ хоронилъ умершаго, то протестанты не-
премѣнно являлись, прерывали церемонію, издѣвались надъ обрядами и старались
своимъ крикомъ заглушить голосъ священнодѣйствующаго, такъ чтобы совершаемое
въ церкви богослуженіе не было слышно 1). Не всегда даже ограничивались они по-
добными демонстраціями. Когда нѣкоторые города, довольно неосторожно можетъ
быть, были отданы въ распоряженіе ихъ, то они стали тамъ проявлять свою власть
съ самой своевольной дерзостью. Въ Ла-Рошелп, которая по важности своей была
вторымъ городомъ въ государствѣ, они не позволили католикамъ имѣть пи одной
церкви для отправленія той религіи, которая въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ
была единственною во Франціи и къ которой еще принадлежало огромное большин-
ство французовъ. Но это составляло только часть плана, / задуманнаго протестант-
скимъ духовенствомъ для систематическаго стѣсненія прайъ своихъ соотечественни-
ковъ. Въ 1619 г. духовенство, въ общемъ собраніи своейъ въ Лудёнѣ, постановило
чтобы ни въ одномъ изъ протестантскихъ городовъ ни іезуитъ, ни какое-либо дру-
гое лицо, назначенное отъ епископа, не имѣли права произносить проповѣди. На
другомъ собраніи формально запрещено было протестантамъ даже присутствовать
при крещеніи, бракѣ или похоронахъ, если обрядъ совершаемъ былъ католическимъ
священникомъ. Наконецъ, чтобы уничтожить всякую надежду на примиреніе обоихъ
вѣроисповѣданій, они не только всѣми силами противились смѣшаннымъ бракамъ,
которые во всѣхъ христіанскихъ земляхъ послужили къ смягченію религіозной вражды,
но даже публично объявили, что они лишатъ причастія тѣхъ родителей, которыхъ
дѣти породнятся, посредствомъ брака, съ какимъ-нибудь католическимъ семействомъ.
Впрочемъ, чтобы не накоплять излишнихъ доказательствъ, приведемъ только одинъ
примѣръ, заслуживающій особеннаго вниманія, такъ какъ по немъ можно судить о
томъ, въ какомъ духѣ исполнялись эти и другія подобныя имъ постановленія. Когда
Людовикъ XIII въ 1620 г. посѣтилъ По, то не только съ нимъ, какъ съ еретикомъ,
обошлись весьма непочтительно, но оказалось, что протестанты не оставили ему даже
ни одной церкви и вообще никакого мѣста, гдѣ бы онъ, повелитель Франціи, въ
своихъ собственныхъ владѣніяхъ могъ исполнить тѣ обряды богослуженія, которые
онъ считалъ необходимыми для своего будущаго спасенія.
Вотъ какимъ образомъ французскіе протестанты, подъ вліяніемъ своихъ новыхъ
предводителей, поступили съ первымъ католическимъ правительствомъ, которое
перестало преслѣдовать ихъ и не только предоставило имъ свободное отправленіе
) Въ подтвержденіе дѣйствительности этихъ фак-
товъ мы имѣемъ самыя несомнѣнныя доказательства: не
только говорили о нихъ католики въ 1623 году, но
пхъ не отрицаетъ также и протестантскій историкъ
Бенуа: «Тамъ обвиняли реформаторовъ въ томъ, что
ов наносили оскорбленія проходившимъ мимо ихъ свя-
“ щеанмкамъ, мѣшали католическимъ процессіямъ, мѣ-
шлй совершенію таинствъ надъ больными, погребе-
нію мертвыхъ съ обычными церемоніями... что въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ реформаторы овладѣли колоколь-
нями, въ другихъ же пользовались католическими
колокольнями для возвѣщенія о времени проповѣди;
что они нарочно производили шумъ вокругъ церквей
во время богослуженія; что они поднимали па смѣхъ
церемонія римской церкви».
228
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ихъ религіи, но и назначило многихъ изъ нихъ на должности, сопряженныя съ
большимъ довѣріемъ и почетомъ 1 2). Впрочемъ это было совершенно согласно со
всѣми остальными поступками ихъ. Составляя по числу и по умственнымъ силамъ
ничтожное меньшинство среди французской націи, онп домогались такой власти,
отъ которой и большинство отступилось, и отказывались проявлять относительно
другихъ ту терпимость, которою сами пользовались. Многія лица, сперва присоеди-
нившіяся къ ихъ партіи, теперь покинули ее и возвратились къ католическому
вѣроисповѣданію; но за то, что они пользовались этимъ несомнѣннымъ правомъ,
они подвергались отъ протестантскаго духовенства самумъ грубымъ оскорбленіямъ
и были осыпаны всевозможными укоризнами и ругательствами 2). Для тѣхъ, которые
противились власти духовенства, никакое наказаніе не казалось ему слишкомъ
строгимъ. Въ 1612 г. Феррьё,—человѣкъ, пользовавшійся въ свое время довольно
большимъ значеніемъ,—ослушался нѣкоторыхъ требованій духовенства и вслѣдствіе
этого получилъ приказаніе предстать передъ судомъ одного изъ сѵнодовъ. Сущность
его вины заключалась въ томъ, что онъ презрительно отзывался о соборахъ духо-
венства; къ этому естественнымъ образомъ прибавлены были и тѣ обвиненія про-
тивъ нравственнаго характера его, которыми теологи обыкновенно стараются чер-
нить своихъ противниковъ. Людямъ, изучавшимъ исторію всѣхъ духовенствъ, по-
добныя обвиненія слишкомъ знакомы для того, чтобы они стали придавать имъ
какой-нибудь вѣсъ, но въ настоящемъ случаѣ обвиненный подвергался суду такихъ
лицъ, которыя были въ то же время его преслѣдователями и врагами, и потому
легко было предусмотрѣть результатъ суда. Въ 1613 году Феррьё былъ отлученъ
отъ церкви и отлученіе торжественно провозглашено/ на Нимскомъ соборѣ. Въ
состоявшейся сентенціи, которая сохранилась до нынѣ, духовенство объявляетъ, что
онъ—человѣкъ скандалезнаго поведенія, неисправимый, нераскаянный и непокорный.
Вслѣдствіе того, говорилось далѣе, «во имя Господа нашего Іисуса Христа, вну-
шеніемъ Святого Духа и въ силу возложеннаго на насъ церковью полномочія, отлу-
чили мы, и нынѣ отлучаемъ его отъ общенія съ вѣрующими, и отвергаемъ его, дабы
онъ былъ преданъ сатанѣ».
Дабы онъ былъ преданъ сатанѣ! Таково было наказаніе, которое горсть цер-
ковниковъ, собравшихся въ одномъ уголкѣ Франціи, считала себя въ правѣ налагать
на человѣка, осмѣлившагося презирать ихъ власть. Въ наше время подобная ана-
ѳема могла бы только возбудить смѣхъ 3), но въ началѣ семнадцатаго столѣтія
провозглашеніе ея было, достаточно для того, чтобы погубить всякаго человѣка,
противъ котораго она была направлена. Всякій, кто только достаточно изучалъ
исторію, чтобы имѣть понятіе о томъ, до чего можетъ дойти религіозный фанатизмъ,
легко пойметъ, что въ тѣ времена такого рода угроза не оставалась мертвою бук-
вою. Народъ, воспламененный рѣчами духовныхъ, возсталъ противъ Феррьё, напалъ
на его семейство, истребилъ имущество его, разграбилъ и раззорилъ его домъ, и
съ громкими криками требовалъ выдачи «Іуды предателя». Несчастный Феррьё съ
величайшимъ трудомъ спасся; но, сохранивши свою жизнь бѣгствомъ среди ночи,
онъ былъ вынужденъ навсегда оставить родной городъ, такъ какъ не смѣлъ возвра-
титься туда, гдѣ онъ раздражилъ противъ себя такую дѣятельную и неумолимую
партію.
И ко всѣмъ прочимъ дѣламъ — даже къ обычнымъ отправленіямъ правитель-
ственной власти—протестанты относились съ тѣмъ же духомъ. Несмотря на то, что
они составляли по числу весьма небольшую часть націи, они покушались контролиро-
вать королевское управленіе страною и, посредствомъ угрозъ, направлять всѣ распоря-
1) Въ 1625 году Говэлль пишетъ, что ироте- ' щимися къ грязи, извергнутой папствомъ, иногда же—
стадты сдѣлали надпись на воротахъ Моитобаиа: | свиньями, купающимися въ грязи идолопоклонства.
«Ноу вав8 іоу, тШе вапз реиг». ' 3) Въ Англіи угроза отлученіемъ отъ церкви
3) Иногда называли ихъ собаками, возвращаю- потеряла силу къ копцу XVII столѣтія.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI НО ХѴШ ст. 229
женія его въ свою пользу. Они не хотѣли предоставить правительству рѣшать самому,
которые изъ соборовъ духовенства оно должно признать, и даже стремились лишить
короля права выбрать себѣ жену. Въ 1616 г., безъ малѣйшаго предлога къ неудоволь-
ствію, они въ значительномъ числѣ собрались въ Греноблѣ и въ Лимѣ. Гренобльскіе
депутаты настаивали на томъ, чтобы правительство отказалось признать постановле-
нія Тридентскаго собора, а оба собранія опредѣлили, что протестанты должны воспро-
тивиться вступленію въ бракъ Людовика XIII съ испанскою принцессою. Подобныя
же притязанія выказали они и относительно распредѣленія военныхъ и граждан-
скихъ должностей. Вскорѣ послѣ смерти Генриха IV, собравшись въ Сомюрѣ, они
требовали, чтобы правительство возвратило Сюлли нѣкоторыя должности, которыхъ
онъ. по мнѣнію ихъ, былъ несправедливо лишенъ. Въ 1619 г. другое собраніе про-
тестантовъ въ Лудёнѣ объявило объ одномъ изъ протестантскихъ совѣтниковъ па-
рижскаго парламента, который перешелъ въ католичество, что онъ долженъ быть
лишенъ своего мѣста, и сверхъ того потребовало смѣны лсктурскаго губернатора,
Фонтраля, за то, что онъ также, подобно многимъ другимъ, покинулъ свою секту и
принялъ религію, пользующуюся санкціею государства.
Въ довершеніе всего этого и съ тѣмъ, чтобы еще болѣе разжечь религіозную
вражду, протестантское духовенство издало рядъ сочиненій, съ которыми едва-ли
что могло когда-либо сравниться по ожесточенію и которыя превзойти конечно
ничто не можетъ Глубокая ненависть ихъ къ своимъ соотечественникамъ католи-
ческаго вѣроисповѣданія можетъ быть вполнѣ понята только тѣми, которые про-
сматривали памфлеты, написанные французскими протестантами въ первой поло-
винѣ семнадцатаго столѣтія, или читали усидчиво обработанные формальные трак-
таты такихъ людей, какъ Шамье, Дрелепкуръ. Муленъ,/ Томсонъ и Винье. Впро-
чемъ, не останавливаясь на этихъ явленіяхъ, достаточно будетъ, я полагаю, если
для краткости мы ограничимся очеркомъ политическихъ событій. Значительное
число протестантовъ участвовало въ томъ возмущеніи, которое въ 1615 г. возбудилъ
Кондэ, и хотя они были весьма легко разбиты, но повидимому рѣшились испытать
свои силы въ новой борьбѣ. Въ Беарнѣ, гдѣ ихъ было особенно много, они, еще
въ царствованіе Генриха IV, отказались допустить отправленіе католической ре-
лигіи: «фанатическое духовенство ихъ—говоритъ французскій историкъ—объявило,
что допустить идолопоклонническое служеніе обѣдни было бы съ ихъ стороны пре-
ступленіемъ'. Это человѣколюбивое мнѣніе онп въ продолженіе многихъ лѣтъ про-
водили на дѣлѣ, захватывая имѣнія католическаго духовенства п употребляя ихъ
на содержаніе своихъ церквей. Такимъ образомъ въ» одно и то же время въ одной
части владѣній французскаго короля протестанты пользовались дозволеніемъ отпра-
влять свою религію, въ другой части тѣ же протестанты препятствовали католи-
камъ въ отправленіи ихъ религіи. Едва-ли какое - иибудь правительство могло до-
пустить подобную аномалію: въ 1618 г. повелѣно было, чтобы протестанты возвра-
тили все, что было ими награблено, и возстановили католиковъ во всѣхъ прежнихъ
владѣніяхъ ихъ. Но протестантское духовенство, ужаснувшись такого безбожнаго
требованія, назначило всенародный постъ и, возбудивъ народъ къ сопротивленію,
заставило королевскаго коммиссара бѣжать изъ По, куда онъ прибылъ въ надеждѣ
достигнуть миролюбиваго соглашенія требованій соперническихъ партій *).
Возмущеніе, такимъ образомъ возбужденное усердіемъ протестантовъ, было
скоро подавлено; но по собственному признанію де-Рогана, одного изъ самыхъ да-
ровитыхъ между ихъ предводителями, оно было началомъ всѣхъ несчастій ихъ. Мечъ
былъ уже обнаженъ и предстояло рѣшить вопросъ: должна ли Франція управляться
согласно съ новоустановленными началами религіозной терпимости, или же съ поня-
Сущность дѣла заключалась въ томъ, что
Нантскій эдиктъ предоставлялъ право, какъ католи-
камъ, такъ и протестантамъ, повсюду вступить вновь
во владѣніе своими имѣніями, п потому беарнское ду-
ховенство тотчасъ потребовало своихъ владѣній.
230
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
тіями деспотически настроенной секты, которая, провозглашая, что она стоитъ за
право личнаго сужденія, на самомъ дѣлѣ стремилась къ совершенному уничтоженію
своего права.
Едва успѣло правительство окончить войну въ Беарнѣ, какъ протестанты рѣ-
шились предпринять усиленную попытку въ западной части Франціи. Мѣстомъ новой
борьбы избрана была Ла-Рошель,—городъ, бывшій въ то время одною изъ сильнѣй-
шихъ крѣпостей въ Европѣ и находившійся совершенно въ рукахъ протестантскаго
населенія, которое обогатилось частью своимъ трудолюбіемъ, частью морскими раз-
боями. Въ этомъ городѣ, составлявшемъ, по мнѣнію ихъ, совершенно неприступную
твердыню, они въ декабрѣ 1620 г. назначили великое собраніе, на которое духов-
ные предводители ихъ съѣхались со всѣхъ концовъ Франціи. Скоро сдѣлалось оче-
виднымъ, что протестантская партія находится въ рукахъ людей, готовыхъ на самыя
крайнія мѣры. Главные свѣтскіе вожди ея, какъ мы уже видѣли, понемногу поки-
дали ее, и къ тому времени оставалось только два особенно даровитыхъ человѣка—
Роганъ и Морнэ, которые оба понимали непрактичность дѣйствій партіи и желали,
чтобы собраніе мирно разошлось. Но вліяніе духовенства оказалось непреодоли-
мымъ—своими мольбами и увѣщаніями оно легко склонило на свою сторону массу
горожанъ, состоявшую изъ людей грубыхъ и необразованныхъ 1). Подъ вліяніемъ
духовенства, собраніе приняло такое направленіе, при которомъ междоусобная война
становилась неизбѣжною. Первымъ дѣйствіемъ его было постановленіе, по которому
сразу подвергнуты конфискованію всѣ имущества, принадлежавшія католическимъ
церквамъ. Затѣмъ рѣшено установить великую печать собранія и за этою печатью
издано повелѣніе вооружить народъ и собрать съ него денежную подать на за-
щиту протестантской религій 2). Наконецъ, они начертали правила и организовали тѣ
учрежденія, которыя они называли протестантскими церквами Франціи и Беарна, и,
въ видахъ облегченія своего духовнаго управленія, раздѣлили Францію на восемь
округовъ, присвоивъ каждому особаго военнаго начальника, къ которому впрочемъ
присоединялся и духовный начальникъ, такъ какъ это управленіе, по всѣмъ отраслямъ
его, должно было быть отвѣтственно передъ духовнымъ собраніемъ, которымъ оно
было создано.
Въ такихъ-то формахъ и съ такими пріемами выказывалась власть, присвоен-
ная духовными предводителями французскихъ протестантовъ,—людьми, по природѣ
своей предназначенными пресмыкаться въ неизвѣстности и до такой степени ни-
чтожными въ отношеніи къ способностямъ, что, несмотря на временно доставшееся
имъ могущество, они не оставили въ исторіи ни одного имени. Эти ничтожные
люди, способные—самое большее—завѣдывать какою-нибудь деревенскою церковью,
теперь присвоили себѣ право распоряжаться всѣми дѣлами Франціи, взыскивать
подати съ ея гражданъ, конфисковать имущества, собирать войска и объявлять
войну, и все это для распространенія религіи, которую большая часть страны от-
вергла, какъ постыдную и зловредную ересь.
При такихъ необузданныхъ притязаніяхъ очевидно было, что французскому
правительству больше ничего не остается сдѣлать, какъ отказаться отъ своей власти
или взяться за оружіе своей защиты 3). Каково бы ни было общепринятое понятіе
х) «Вліятельнѣйшіе члены партіи, особенно муд-
рый Дюплесси Морна, всячески старались уговорить
реформаторовъ во идти противъ королевской власти
ради такихъ причинъ, которыя по могутъ оправдать
междоусобную войну; по власть падъ партіею ужо
исключительно перешла къ городскимъ обывателямъ
и къ пасторамъ, которые слѣпо предавались своему
фанатизму и своей гордости и которые тѣмъ большое
возбуждали одобреніе, чѣмъ больше обнаруживали
в аглоста » (Сисмопди).
2) «Онп даютъ предписанія о вооруженіяхъ и объ
обложеніи народа податями, все это за печатью съ
изображеніемъ религіи, опирающейся на крестъ, имѣя
въ рукѣ книгу Евангелія и попирая ногами старый
сколотъ, который, какъ они говорили, изображалъ
собою римскую церковь» (Мемуары Ришельё).
3) Даже Мосгоймъ, который, какъ протестантъ,
былъ естественнымъ образомъ предубѣжденъ въ поль-
зу гугѳпотовъ,—говоритъ, что они установили «ішре-
гіиш іп ітрегіо» (власть надъ властью), и приписы-
ваетъ заносчивости ихъ повелителей войну 1621 г.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
231
о нетерпимости, неразлучной съ католическою религіею, но то остается положитель-
нымъ фактомъ, что въ началѣ семнадцатаго столѣтія католики показали во Франціи
долготерпѣніе и христіанское человѣколюбіе, которыхъ въ протестантахъ не было
и признака. Въ продолженіе двадцати двухъ лѣтъ, протекшихъ отъ Нантскаго эдикта
до собранія въ Ла-Рошели, правительство, несмотря на множество поданныхъ къ
тому поводовъ, не совершило ни одного враждебнаго дѣйствія противъ протестан-
товъ и ни разу не покушалось отмѣнить привилегіи секты, которую оно должно
было считать еретическою и истребленіе которой отцы тогдашняго поколѣнія при-
знавали одною изъ первыхъ обязанностей государственнаго дѣятеля-христіанина.
Война, которая теперь вспыхнула, продолжалась семь лѣтъ непрерывно; было
только два кратковременныхъ перемирія: сперва въ Монпелье, а потомъ въ Ла-
Рошели, изъ которыхъ ни одно не было слишкомъ строго соблюдаемо. Но между
видами и намѣреніями обѣихъ партій существовала разница, соотвѣтствовавшая
различію между тѣми сословіями, которыя управляли каждою партіею. Протестанты,
находясь исключительно подъ вліяніемъ духовенства, стремились къ религіозному
преобладанію; напротивъ, католики, предводительствуемые государственными людьми,
стремились къ мірскимъ цѣлямъ. Такимъ образомъ обстоятельства до такой степени
изгладили первоначальный характеръ обѣихъ великихъ сектъ, что, по странному
превращенію, католики стали представлять собою свѣтское начало, а протестанты—
теологическое. Власть духовенства, а, слѣдовательно, и интересы суевѣрія поддержи-
вались тою самой партіей, которая происхожденіемъ своимъ была обязана ослаб-
ленію обоихъ этихъ началъ; съ другой стороны, противъ нея дѣйствовала та партія,
которой успѣхи до тѣхъ поръ зависѣли отъ усиленія этихъ же началъ. Въ случаѣ
торжества католиковъ духовная власть была бы ослаблена, а при побѣдѣ проте-
стантовъ—усилена. Что это фактъ относительно протестантовъ, на то я уже пред-
ставилъ достаточно доказательствъ, почерпнутыхъ изъ самыхъ дѣйствій ихъ и изъ
того тона, которымъ говорили ихъ духовные сѵноды; а что противоположное или
свѣтское начало преобладало между католиками—это явствуетъ не только изъ по-
стояннаго направленія политики ихъ въ царствованія Генриха IV и Людовика XIII,
но и изъ другого, весьма замѣчательнаго обстоятельства. Побужденія, которымъ они
слѣдовали, были такъ очевидны и казались до такой степени оскорбительными для
церкви, что папа, какъ верховный представитель религіи, счелъ себя обязаннымъ
выразить свое порицаніе на проявляемое ими пренебреженіе къ теологическимъ
интересамъ, которое казалось ему вопіющимъ и непростительнымъ оскорбленіемъ
церкви. Въ 1622 г., черезъ годъ послѣ того, какъ началась борьба между проте-
стантами и католиками, папа весьма энергично поставилъ на видъ французскому
правительству явное неприличіе его образа дѣйствій, состоявшее въ томъ, что оно
вело войну противъ еретиковъ не съ цѣлью уничтоженія ереси, но единственно
въ видахъ пріобрѣтенія, для государства свѣтскихъ преимуществъ, которыя, во
мнѣніи всѣхъ благочестивыхъ людей, должны быть предметомъ второстепеннаго
значенія.
Если при этихъ обстоятельствахъ протестанты одержали верхъ, то Франція
понесла бы потерю громадную, можетъ быть невознаградимую. Никто изъ тѣхъ, кому
извѣстны нравъ и характеръ французскихъ кальвинистовъ, не можетъ усомниться
въ томъ, что если бы они овладѣли правительственною властью, то возобновили бы
вполнѣ гоненія за религію, которыя они и безъ того покушались ввести, на сколько
дозволяли ихъ силы. Не только въ сочиненіяхъ ихъ, но и въ постановленіяхъ ихъ
собраній мы находимъ въ изобиліи проявленія того духа вмѣшательства во все и
нетерпимости, который всегда характеризовалъ духовное законодательство. Дѣйстви-
тельно, этотъ духъ составляетъ законное послѣдствіе того основного положенія, отъ
котораго обыкновенно исходятъ законодатели-теологи. Всѣмъ духовнымъ съ самаго
начала внушается, что главная обязанность ихъ есть сохраненіе чистоты вѣры и
огражденіе ея отъ покушеній ереси. Вслѣдствіе того, какъ только они достигаютъ
232
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
власти, почти неизбѣжно случается такъ, что они вносятъ въ политическую дѣя-
тельность привычки, усвоенныя ими въ своей профессіи; будучи издавна пріучены
считать религіозное заблужденіе преступленіемъ, они теперь естественно покуша-
ются подвергать его наказаніямъ. Такъ какъ всѣ европейскія государства нѣкогда,
въ періодъ своего невѣжества, находились подъ управленіемъ духовенства, то мы и
встрѣчаемъ въ законодательствѣ каждой страны слѣды его владычества, постепенно
изглаживаемые успѣхами просвѣщенія. Вездѣ послѣдователи господствующаго вѣро-
исповѣданія постановляли законы противъ послѣдователей другихъ вѣръ,—законы,
подвергающіе ихъ то сожженію, то изгнанію, то лишенію всѣхъ гражданскихъ правъ,
то только политическихъ. Таковы послѣдовательныя степени, чрезъ которыя прохо-
дитъ религіозное гоненіе и по которымъ мы можемъ измѣрить въ каждой странѣ
силу теологическаго духа. Въ то же время теорія, на которой основываются подоб-
ныя мѣры, обыкновенно вызываетъ еще другія мѣры, нѣсколько отличнаго, хотя и
аналогическаго характера. Тѣмъ самымъ, что власть закона распространяется на
мнѣнія такъ же, какъ и на дѣла, основаніе его чрезмѣрно расширяется, индиви-
дуальность и независимость каждаго отдѣльнаго лица нарушаются, и поощряется
введеніе навязчивыхъ и стѣснительныхъ правилъ, оказывающихъ будто бы ту же
услугу нравственности, которую другой разрядъ законовъ оказываетъ религіи. Подъ
предлогомъ поощренія добродѣтели и огражденія нравственной чистоты общества,
людей стѣсняютъ въ самыхъ обыкновенныхъ запятіяхъ ихъ, въ обыденныхъ случай-
ностяхъ жизни, въ увеселеніяхъ ихъ и даже въ выборѣ одежды, какую они желаютъ
носить. Все это такъ естественно, что постановленія, проникнутыя такимъ духомъ,
были составлены для города^ Женевы кальвинистскимъ духовенствомъ, а для Англіи—
архіепископомъ Кранмеромъ и послѣдователями его; и совершенно тождественное съ
этимъ направленіе можно замѣтить въ законодательствѣ пуританъ и—если взять
примѣръ изъ новѣйшихъ временъ—въ законодательствѣ методистовъ. Итакъ, не уди-
вительно, что во Франціи протестантское духовенство,, пользуясь значительною властью
надъ членами своей партіи, налагало на нихъ такого же рода дисциплину. Такъ
напримѣръ, оно строго запрещало всѣмъ посѣщать театры и даже присутствовать при
театральныхъ представленіяхъ въ частныхъ домахъ. На танцы оно смотрѣло, какъ
на богопротивное увеселеніе, и поэтому не только строго запрещало ихъ, но и
требовало, чтобы всѣ учителя танцованія были подвергнуты духовному увѣщанію и
чтобы имъ было внушено оставить это нехристіанское занятіе. Но еслибы увѣ-
щаніе не достигло своей цѣли, то учителей танцованія, оказавшихся упорными,
предполагалось отлучать отъ церкви. Съ такою же благочестивою заботливостью
слѣдило духовенство и за другими одинаково важными вещами. На одномъ изъ
своихъ сѵнодовъ оно постановило, чтобы никто не носилъ яркой одежды и чтобы
волосы у всѣхъ были причесаны съ подобающей скромностью. Другимъ сѵнодомъ за-
прещено было женщинамъ румяниться и объявлено, что если послѣ этого запрещенія
какая-нибудь женщина будетъ продолжать румяниться, то ее слѣдуетъ лишить при-
частія. На самихъ духовныхъ, какъ наставниковъ и пастырей стада, обращено было
еще болѣе строгое вниманіе; блюстителямъ слова Божія дозволено было препода-
вать еврейскій языкъ, какъ священный и не оскверненный сочиненіями свѣтскихъ
писателей; греческому же языку, на которомъ изложена вся философія и почти вся
мудрость древняго міра, оказывалось пренебреженіе, изученіе его было прекращаемо
и даже уничтожались каѳедры преподавателей его х). Съ тою цѣлью, чтобы умы
не отвлекались отъ предметовъ духовныхъ, воспрещено было и изученіе химіи.
*) Въ постановленіи Адозскаго сгпода, 1620 г., : дется говорить о языческихъ и ври томъ свѣтскихъ
говорится: «Пасторъ можетъ быть въ то же время писателяхъ,—развѣ что онъ сложитъ съ себя духов-
профессоромъ богословія и еврейскаго языка. Но ему . ный санъ^. Три года спустя, Шараптопскій сѵнодъ
во подобаетъ преподавать также греческій языкъ, ибо I совершенно уничтожилъ каѳедры греческаго языка,
въ такомъ случаѣ ему большую часть времени при- ; «какъ излишнія и не особенно полезныя*.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII ст, 233
такъ какъ подобное совершенно мірское занятіе считалось несовмѣстнымъ съ об-
разомъ жизни духовнаго сословія. А чтобы, несмотря и на эти предосторожности,
просвѣщеніе не ворвалось между протестантами,—были приняты другія мѣры для
прегражденія ему даже самымъ далекихъ путей. Духовенство, забывши совершенно
о томъ правѣ личнаго сужденія, на которомъ основана была его секта, до такой
степени заботилось объ огражденіи неопытныхъ отъ заблужденія, что оно запре-
тило всѣмъ печатать или издавать какое-либо сочиненіе безъ разрѣшенія церкви,
другими словами—безъ разрѣшенія самого духовенства. Затѣмъ, когда оно такимъ
образомъ уничтожило самую возможность свободнаго изслѣдованія и, на сколько
могло, остановило пріобрѣтеніе паствою его всякаго истиннаго знанія, оно обрати-
лось къ устраненію другого обстоятельства, вызваннаго принятыми имъ мѣрами.
Многіе изъ протестантовъ, видя, что при подобной системѣ имъ невозможно воспи-
тать какъ слѣдуетъ своихъ дѣтей, стали отдавать ихъ въ католическія коллегіи, - -
единственныя заведенія, гдѣ могло быть получено хорошее воспитаніе. Но духовен-
ство, какъ только оно узнало объ этомъ обыкновеніи, тотчасъ же прекратило его,
отлучивъ отъ церкви виновныхъ родителей. Сверхъ того было запрещено брать и
въ частные дома учителей, исповѣдывающихъ католическую религію. Вотъ какимъ
образомъ за французскими протестантами слѣдили и наблюдали духовные повели-
тели ихъ. И самые ничтожные предметы не были пренебрежены этими великими
законодателями. Они запретили всѣмъ бывать на балахъ и въ маскарадахъ; никто
изъ христіанъ не долженъ былъ смотрѣть на фокусы скомороховъ, ни на извѣстную
игру стаканами, ни на представленіе маріонетокъ, ни присутствовать при пляскѣ
наряженныхъ; и всѣ подобныя увеселенія мѣстныя власти должны были прекращать,
какъ возбуждающія любопытство, вовлекающія въ издержки и отнимающія время.
Другой предметъ, за которымъ нужно было слѣдить/ составляли имена, даваемыя
дѣтямъ при крещеніи. Ребенку можно было дать два имени, но считалось лучшимъ,
чтобы онъ имѣлъ одно х). При томъ слѣдовало весьма тщательно выбирать имена.
Они должны были быть изъ Библіи-—только не «Баптистъ» и не «Ангелъ»; при томъ
запрещалось давать ребенку имя, употреблявшееся прежде у язычниковъ. Когда
дѣти выростали, то должны были подчиняться другимъ правиламъ. Такъ, духовен-
ство объявило, что вѣрные не должны носить длинныхъ волосъ, чтобы избѣгать
«новыхъ модъ нынѣшняго свѣта». Имъ запрещалось имѣть на платьѣ кисти, а на
перчаткахъ—ленты и шелковыя украшенія, и предписывалось воздержаться отъ пыш-
ныхъ юбокъ и широкихъ рукавовъ 3)«
Читатели, не изучившіе исторіи духовныхъ законодательствъ, удивятся можетъ
быть тому, что люди серьезные, достигшіе зрѣлаго возраста и сошедшіеся на тор-
жественный соборъ, выказывали такую склонность къ ребяческимъ придиркамъ,
такую жалкую, ребяческую безсмысленность. По каждый, кто только способенъ бро-
сить на человѣческія дѣла болѣе широкій взглядъ, будетъ расположенъ порицать
не столько нашихъ законодателей, сколько ту систему, которую они собой олице-
творяли, ибо, взятые сами по себѣ, люди этп просто дѣйствовали въ духѣ своего
сословія и только слѣдовали преданіямъ, въ которыхъ были воспитаны. По своей
профессіи, они были пріучены держаться извѣстныхъ воззрѣній, и потому, когда
достигли власти, то естественнымт^ образомъ стали проводить эти воззрѣнія на дѣлѣ
и вводить въ законодательство тѣ самыя правила, которыя они прежде проловѣ-
дывали съ священнической каѳедры. Итакъ, каждый разъ, когда намъ придется
Это составляло весьма трудный вопросъ для тео- соблюдать въ атомъ случаѣ христіанскую простоту».
логовъ, но его разрѣшили, наконецъ, утвердительно на . 2) Точно такимъ же образомъ испанское духо-
сѵнодѣ въ Сомюрѣ: <По тому же пункту, той же главы, вопство въ началѣ нынѣшняго столѣтія пыталось
представители Пуату спросили, можно ли было давать । подчинить свопмъ правиламъ женскій туалетъ, изъ
дитяти два нмеші при крещеніи? На что было отвѣчено, чего ясно видно, что духовенство, какъ католптическое,
что ото безразлично, по что родителямъ совѣтуютъ | такъ и протестантское, проникнуто тѣмъ же духомъ.
234
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
читать о стѣснительныхъ, во все вмѣшивающихся, шпіонскихъ правилахъ, введен-
ныхъ гдѣ-либо духовною властью, мы должны помнить, что эти правила состав-
ляютъ лишь законное послѣдствіе неразлучнаго съ этою властью духа, и что путь
къ исправленію этихъ золъ и предупрежденію ихъ на будущее время заключается
не въ усиліяхъ—всегда оказывающихся тщетными—измѣнить направленіе того со-
словія, отъ котораго зло происходитъ, но въ томъ, чтобы ограничить вліяніе этого
сословія надлежащими предѣлами, бдительно слѣдить за малѣйшими попытками его
къ расширенію своего круга дѣйствій, пользоваться всякимъ случаемъ для ослабле-
нія его вліянія и, наконецъ-—когда успѣхи общества окажутся достаточными для
оправданія такого великаго шага — вовсе лишить это сословіе той политической и
законодательной власти, которая хотя постепенно ускользаетъ изъ его рукъ, но
все еще въ нѣкоторой мѣрѣ принадлежитъ ему, даже въ самыхъ цивилизованныхъ
странахъ.
Оставивъ въ сторонѣ эти общія соображенія, во всякомъ случаѣ нельзя не
допустить, что я собралъ достаточныя данныя для заключенія о томъ, какая судьба
постигла бы Францію, еслибы протестанты одержали въ ней верхъ. Послѣ приве-
денныхъ мною фактовъ никто не можетъ усомниться въ томъ, что еслибы случи-
лось такое несчастіе, то, либеральная и, относительно своего времени, просвѣщен-
ная политика Генриха IV и Людовика XIII была бы отвергнута и замѣнилась бы
тою мрачною и суровою системою, которая во всѣ времена и у всѣхъ народовъ
всегда оказывалась естественнымъ послѣдствіемъ преобладанія духовенства. Итакъ,
чтобы поставить вопросъ въ настоящемъ его видѣ,—мы /должны сказать, что война
происходила не между двумя враждующими религіями, а между соперничествующими
сословіями. Это была война не столько меледу католическою и протестантскою рели-
гіями, сколько между католиками-мірянами и протестантскимъ духовенствомъ. Это
была борьба между свѣтскими и теологическими интересами, между духомъ настоя-
щаго и духомъ прошедшаго времени, и вопросъ состоялъ въ томъ: должна ли Фран-
ція управляться гражданскою или духовною властью, и будетъ ли ея судьба зави-
сѣть отъ широкихъ взглядовъ государственныхъ людей-мірянъ, или же отъ узкихъ
понятій крамольнаго и фанатическаго духовенства.
Такъ какъ протестанты имѣли на своей сторонѣ великое преимущество насту-
пательнаго положенія, сверхъ того были проникнуты религіознымъ рвеніемъ, неиз-
вѣстнымъ ихъ противникамъ, то можетъ быть при обыкновенныхъ обстоятельствахъ
они успѣли бы въ своемъ отчаянномъ предпріятіи или, по крайней мѣрѣ, продлили
бы борьбу на неопредѣленное время. Но, къ счастью Франціи, въ 1624 г., чрезъ
три года только послѣ начатія войны, принялъ управленіе государствомъ Ришельё.
За нѣсколько лѣтъ до того онъ былъ тайнымъ руководителемъ королевы-матери,
которую онъ постоянно убѣждалъ въ необходимости полной свободы вѣроисповѣданій.
Будучи поставленъ во главѣ управленія, онъ продолжалъ слѣдовать той же политикѣ
и пытался всячески расположить протестантовъ въ пользу правительства. Духовные
его собственной партіи побуждали его къ истребленію еретиковъ, присутствіе кото-
рыхъ, по мнѣнію ихъ, оскверняло Францію х). Но Ришельё, стремясь только къ свѣт-
скимъ цѣлямъ, отказывался усилить сопряженное съ войною ожесточеніе, обративъ
ее въ войну религіозную. Онъ былъ намѣренъ смирить мятежъ, но не хотѣлъ отмѣ-
нить эдикты о вѣротерпимости, которыми была предоставлена протестантамъ совер-
шенная свобода въ отправленіи ихъ религіи; а когда оии въ 1626 г. показали
нѣкоторые признаки раскаянія или, по крайней мѣрѣ, страха, то онъ всенародно
подтвердилъ Нантскій эдиктъ и даровалъ имъ миръ, хотя, по его собственнымъ сло-
вамъ, онъ зналъ, что, поступая такимъ образомъ, навлечетъ на себя подозрѣніе со
стороны тѣхъ, «которые такъ сильно дорожатъ наименованіемъ ревностныхъ католи-
*) Въ 1625 году архіепископъ ліонскій писалъ наказать или, лучше, истребить і’угенотовъ, отложивъ
къ Ришельё, уговаривая его «осадить Ла-Рошель и заботу обо всемъ другомъ•>.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII ст. 235
ковъ». Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ опять вспыхнула война, и тогда Ришельё рѣ-
шился на осаду Ла-Рошели,— предпріятіе, которое въ случаѣ успѣха должно было
нанести рѣшительный ударъ французскимъ протестантамъ. Что къ этому смѣлому
предпріятію его побудили единственно свѣтскія соображенія—очевидно не только
изъ общаго духа предшествовавшей политики, но и изъ дальнѣйшихъ дѣйствій его.
Подробности этой знаменитой осады къ исторіи не относятся, такъ какъ подобныя
вещи имѣютъ значеніе только для спеціалистовъ военнаго дѣла. Достаточно будетъ
сказать, что въ 1628 г. Ла-Рошель была взята, и протестанты, которые, по убѣ-
жденіямъ своего духовенства, продолжали защищаться долго послѣ того, когда всякая
надежда на освобожденіе исчезла, и вслѣдствіе того подвергались самымъ ужаснымъ
бѣдствіямъ,—теперь были вынуждены сдаться на произволъ побѣдителей х). Приви-
легіи города были уничтожены и всѣ должностныя лица смѣнены, но великій ми-
нистръ, бывшій виновникомъ этого переворота, все-таки воздержался отъ гоненій
за религію, къ которымъ его побуждали 1 2). Онъ даровалъ протестантамъ свободу вѣ-
роисповѣданія, которую раньше предлагалъ, и формально предоставилъ имъ право
отправленія общественнаго богослуженія. Но таково было ослѣпленіе ихъ, что изъ-
за того, что онъ въ то же время возстановилъ повсемѣстно отправленіе католиче-
ской религіи, и такимъ образомъ предоставилъ побѣдителямъ тѣ же права, какія да-
рованы побѣжденнымъ,—протестанты даже роптали на подобное дозволеніе. Они не
могли вынести той мысли, чтобы взоры ихъ были оскорбляемы совершеніемъ като-
ческихъ обрядовъ. Негодованіе ихъ до такой степени усилилось, что на слѣдую-
щій годъ они въ другомъ краю Франціи опять взялись за оружіе. Но, лишенные
главныхъ изъ средствъ, которыми прежде пользовались, рни были легко побѣждены,
а затѣмъ, такъ какъ существованіе ихъ въ видѣ политической партіи кончилось,
Рпшельё сталъ поступать съ ними по-прежнему, въ отношеніи ихъ религіи. Онъ утвер-
дилъ за всѣми протестантами право проповѣдыванія и исполненія всѣхъ обрядовъ
ихъ вѣры, а предводителю ихъ, дс-Рогану, даровалъ амнистію и, нѣсколько лѣтъ
спустя, возложилъ на него важныя обязанности по государственной службѣ. Послѣ
этого всѣ надежды партіи протестантовъ были уже уничтожены, они никогда болѣе
не брались за оружіе и вообще о нихъ вовсе ае упоминается до гораздо позднѣй-
шаго времени, когда Людовикъ XIV сталъ варварски преслѣдовать ихъ. Но Ришельё
тщательно избѣгалъ всякаго притѣсненія и, очистивъ страну отъ мятежа, приступилъ
къ исполненію того обширнаго плана иностранной политики, о которомъ я уже ска-
залъ нѣсколько словъ и которымъ онъ ясно доказалъ, что дѣйствія его противъ про-
тестантовъ не были вызваны ненавистью къ ихъ религіознымъ догматамъ, ибо онъ
поддерживалъ въ другихъ странахъ ту самую партію, противъ которой воевалъ во
Франціи. Онъ подавилъ французскихъ протестантовъ, потому что они составляли
безпокойную партію, тревожившую государство и желавшую воспретить проявленіе
всякаго для нея неблагопріятнаго мнѣнія. Но опъ пе только не предпринялъ кре-
стоваго похода противъ ихъ религіи, но даже, какъ я уже замѣтилъ, поддерживалъ
ее въ другихъ странахъ; и. будучи епископомъ католической церкви, не усомнился,
посредствомъ трактатовъ, субсидій и даже силою оружія, поддерживать протестантовъ
противъ Австрійскаго дома, лютеранъ—противъ германскаго императора и кальви-
винистовъ—противъ испанскаго короля.
Такимъ образомъ я попытался набросать легкій, но вмѣстѣ съ тѣмъ, надѣюсь,
ясный очеркъ событій, совершившихся во Франціи въ царствованіе Людовика ХШ.
1) 0 страданіяхъ, перенесенныхъ жителями этого
города, очевидецъ говоритъ, что были случаи, въ кото-
рыхъ осажденные ѣли собственныхъ дѣтей, и что были
приставляемы караулы къ кладбищамъ, чтобы воспре-
пятствовать отрытію тѣлъ для обращенія ихъ въ пищу.
2) Онъ непремѣнно былъ бы поддержанъ въ этомъ
Людовикомъ XIII, о которомъ Мотевиль говоритъ:
«г Онъ былъ исполненъ набожности и усердія къ слу-
женію Богу п къ величію церкви; и при взятіи Ла-
Рошели и другихъ пунктовъ, которыми опъ овла-
дѣлъ, самою большою для него радостью была мысль,
что онъ прогонитъ изъ своего королевства еретиковъ
и этимъ путемъ очистить ого отъ различныхъ рели-
гій, иортящихъ и оскверняющихъ церковь Божію».
236
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
и въ особенности въ той части этого царствованія, въ которой заключается время
управленія Ришельё. Но эти событія, какъ бы они ни были важны, составляли
только одинъ изъ фазисовъ того широкаго развитія, которое тогда проявилось
почти во всѣхъ отрасляхъ умственной жизни націи. Они были только выраженіемъ
въ политикѣ того смѣлаго скептическаго духа, который шелъ на проломъ противъ
всѣхъ человѣческихъ предразсудковъ и суевѣрій. Дѣйствія Ришельё вообще оказа-
лись столь же успѣшными, сколько направленіе его было прогрессивно,—а ни въ
какомъ правительствѣ оба эти условія не могутъ быть соединены безъ того, чтобы
мѣры его не гармонировали съ понятіями и настроеніемъ своего времени. Подоб-
ная администрація хотя и обличаетъ прогрессъ, но не составляетъ причину его, а
скорѣе можетъ служить ему мѣриломъ и признакомъ. Истинное начало прогресса
скрывается гораздо глубже и приводится въ дѣйствіе общимъ направленіемъ времени.
А такъ какъ различныя направленія, замѣчаемыя нами въ послѣдовательныхъ по-
колѣніяхъ, зависятъ отъ различія между степенями ихъ знанія, то очевидно, что мы
можемъ понять дѣятельность этихъ направленій, только окинувъ широкимъ взгля-
домъ всю сумму и общій характеръ знаній извѣстнаго періода. Слѣдовательно, чтобы
можно было понять и настоящее свойство того великаго шага, который былъ сдѣланъ
въ царствованіе Людовика XIII, я долженъ дать читателю нѣкоторыя указанія на
тѣ факты высшаго и важнѣйшаго разряда, которыми историки склонны пренебрегать,
но безъ которыхъ изученіе прошедшаго становится пустымъ и пошлымъ занятіемъ,
а сама исторія—безплоднымъ полемъ, которое не окупаетъ труда, употребляемаго
на воздѣлываніе его.
Весьма замѣчательны^ фактъ составляетъ то, что между тѣмъ какъ Ришельё
съ такою необыкновенною сйѣлостыо вносилъ свѣтскій7 духъ въ систему французской
политики и, пренебреженіемъ двоимъ къ интересамъ, стоявшимъ прежде на первомъ
планѣ, ниспровергалъ всѣ старинныя преданія,—точно такимъ же путемъ дѣйство-
валъ и другой, еще въ высшей сферѣ, человѣкъ, который еще болѣе его заслужи-
ваетъ названіе великаго и—если осмѣлюсь выразить мое искреннее мнѣніе — дол-
женъ быть признанъ самымъ глубокимъ изъ всѣхъ даровитыхъ мыслителей, какихъ
произвела Франціи. Я говорю о Декартѣ. Самое меньшее, что можно сказать объ
этомъ человѣкѣ,—это то, что онъ произвелъ важнѣйшій изъ переворотовъ, какіе
только когда-либо были произведены силою одного отдѣльнаго ума. До его открытій,
относящихся собственно къ міру физическому, намъ здѣсь нѣтъ дѣла, потому что
въ этомъ введеніи я не имѣю возможности прослѣдить всѣ успѣхи наукъ, а ограни-
чиваюсь лишь тѣми эпохами, которыми обозначаются новыя направленія въ умствен-
ной жизни народовъ. Но я напомню однако читателю, что Декартъ первый успѣшно
занимался приложеніемъ алгебры къ геометріи, что онъ указалъ намъ на важный
законъ синусовъ, что при всемъ несовершенствѣ оптическихъ инструментовъ его вре-
мени онъ открылъ измѣненія, которымъ подвергается лучъ свѣта внутри глаза при
посредствѣ хрусталика *), что онъ обратилъ вниманіе ученыхъ на послѣдствія, про-
исходящія отъ давленія атмосферы 2), и, наконецъ, что онъ открылъ причины обра-
Замѣчательно, что изученіе глазного хруста-
лика долгое время послѣ смерти Декарта остава-
лось въ пренебреженіи; въ теченіе болѣе ста лѣтъ
не было сдѣлано ни одной попытки пополнить ого
воззрѣнія ближайшимъ изученіемъ строенія этого тѣла.
Томсонъ въ своей «Животной химіи» говоритъ, что
хрусталикъ и обѣ жидкости были впервые химически
разложены только въ 1802 году. Я говорю объ этомъ
частью какъ о матеріалѣ для исторіи нашего знанія,
частью же, чтобы доказать, какъ долго медлили,
прежде чѣмъ послѣдовать за Декартомъ и пополнить
его воззрѣнія; ибо, какъ справедливо замѣчаетъ
Блешшль, необходимо узнать химическія свойства
хрусталика, чтобы полнѣе опредѣлить оптическіе
' закопы преломленія въ немъ свѣта; такъ, въ сущ-
ности, изслѣдованія Берцеліуса, относящіяся къ глазу.
। слушать дополненіемъ къ изслѣдованіямъ Декарта.
। 2) Торичелли первый навѣсилъ воздухъ въ
1643 году; по есть письмо, писанное Декартомъ еще
; въ 1631 году, 'гдѣ онъ объясняетъ явленіе стоянія
| ртути па извѣстной высотѣ въ трубкѣ, закрытой
1 сверху, приписывая его давленію воздушнаго столба,
возвышающагося за предѣлы облаковъ*. А Монтюкля
говоритъ о Докартѣ: Мы имѣемъ доказательства, что
; философъ этотъ призналъ тяжесть воздуха ранѣе,
I чѣмъ Торичелли . Самі» Декартъ говорилъ, что ему
। принадлежитъ мысль опыіа, произведеннаго послѣ
| Паскалемъ.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
237
зованія радуги х)—этого страннаго явленія, съ которымъ во мнѣніи необразован-
ныхъ массъ и до сихъ поръ соединяются нѣкоторыя теологическія суевѣрія. Въ то
же время, и какъ будто бы для того, чтобы соединить въ себѣ самыя разнообраз-
ныя совершенства, онъ не только заслужилъ названіе перваго геометра своего вре-
мени 2), но признается, по ясности и удивительной точности своего языка? также
однимъ изъ творцовъ французской прозы. Занимаясь постоянно тѣми возвышенными
изслѣдованіями свойствъ человѣческаго ума, которыя невозможно изучать безъ удив-
ленія—я едва не сказалъ безъ благоговѣнія—онъ, независимо отъ этихъ занятій,
произвелъ длинный рядъ трудныхъ опытовъ надъ животнымъ организмомъ, которые
доставили ему одно ивъ первыхъ мѣстъ между анатомами его времени 8). Такъ,
великимъ открытіемъ Гарвея, относительно обращенія крови, большая часть его
современниковъ пренебрегли 4), Декартъ же сразу призналъ его и принялъ это от-
крытіе за основаніе физіологической части своего сочиненія о человѣкѣ Равнымъ
образомъ призналъ онъ и открытія млечныхъ сосудовъ (Іасіеаіез), сдѣланное Азел-
ли,—открытіе, которое, подобно всѣмъ великимъ истинамъ, какія были предложены
міру, при первомъ появленіи своемъ было не только отвергнуто, но и поднято на
смѣхъ. Даже Гарвей отрицалъ это открытіе до послѣдней минуты.
Этихъ данныхъ могло бы быть достаточно для защиты трудовъ Декарта, даже
по части естественныхъ наукъ, отъ постоянныхъ нападковъ со стороны людей, ко-
торые или не изучали ихъ, или, изучая, оказались неспособными понять значеніе
ихъ. Но слава Декарта и вліяніе, произведенное имъ на свой вѣкъ, не зависятъ
даже отъ подобныхъ заслугъ. Если и отложить ихъ въ сторону, то Декартъ тѣмъ
не менѣе долженъ быть признанъ творцомъ преимущественно такъ называемой фи-
лософіи новѣйшихъ временъ 5). Онъ—создатель той великой системы, того метода
въ метафизикѣ, который, несмотря на его погрѣшности, имѣлъ несомнѣнную за-
слугу, сообщивъ европейскому уму истинно чудотворное движеніе и возбудивъ въ
немъ дѣятельность, которая впослѣдствіи примѣнена была къ предметамъ совершенно
другого характера. Но кромѣ этой заслуги существуетъ другая, которая стоитъ еще
выше и за которую мы должны вѣчно чтить память Декарта. Онъ заслуживаетъ
благодарности потомства не столько за то, что имъ воздвигнуто, сколько за то, что
имъ разрушено. Вся его жизнь была великою и весьма успѣшною войною противъ
человѣческихъ предразсудковъ и преданій. Онъ былъ великъ, какъ созидатель, но
еще болѣе великъ, какъ разрушитель. Въ этомъ отношеніи онъ былъ истиннымъ
преемникомъ Лютера, къ трудамъ котораго его труды составляютъ достойное дополне-
ніе. Онъ довершилъ то, чтб великій германскій реформаторъ оставилъ неоконченнымъ 6).
д-ръ Уэвелль взялъ, что открытіе Гарвея было охотно
принято. Но только пе встрѣтило оно въ Англіи бла-
госклоннаго пріема, но даже въ продолженіе нѣсколь-
кихъ лѣтъ было отвергаемо всѣми. Гарвей увѣрялъ
Обрся, что вслѣдствіе своей книги о кровообращеніи
онъ потерялъ значительную часть своей практики,
былъ признанъ за сумасшедшаго и встрѣтилъ оппо-
зицію «со стороны всѣхъ врачей».
5) Кузенъ говоритъ о Декартѣ: «Первое сочино-
і ніо ого, написанное по-французски, издано въ 1637 г.
і Слѣдовательно, съ 1637 года началось существо-
ваніе новой школы философіи».
6) «Декартъ установилъ въ области мышленія
абсолютную независимость разума. Онъ объявилъ, въ
виду притязаній схоластики и теологій, что умъ че-
ловѣка отнынѣ подчиняется лишь очевидной истинѣ,
имъ самимъ выведенной. То, чтб Лютеромъ начато
было въ религіи, французскій умъ, по дѣятельности
и быстротѣ своей, внесъ въ философію, и къ обоюд-
ной славѣ Германіи и Францій можно сказать, что
Декартъ есть старшій сынъ Лютера» (Ьогтіпіег,
«РЬіІоз. йи ЦгоіЬ).
Докторъ Уэвелль, оказывавшій явную неспра- |
вѳдливость къ Декарту, признаетъ однако его «на- |
стоящимъ виновникомъ объясненія радуги».
2) «Нельзя дать вѣрнѣйшаго понятія о томъ,
чѣмъ была эпоха Декарта въ новѣйшей геометріи,
какъ сравнивъ ее съ эпохою Платона въ древней
геометріи... Наконецъ, подобно тому, какъ Платонъ
приготовилъ своимъ открытіемъ открытія Архимедовъ,
Аполлоніевъ и др., можно сказать, что Декартъ по-
ложилъ первыя основанія тѣхъ открытій, которыми і
прославились въ новѣйшее время Ньютоны, Лейбницы ]
и др.» (Моаінсіа, «ШМ. іез МаШепіаіідиез» ѵ. II,
р. 112).
3) Декартъ писалъ къ Мерсеину, что онъ «один-
надцать лѣтъ* занимался изученіемъ сравнительной
анатоміи, посредствомъ диссекціи.
4) Д-ръ Уэвелль въ своей «Исторіи индуктив-
ныхъ наукъ» говоритъ: <открытіе это было большей
частью охотно принято соотечественниками Гарвея,
но въ другихъ странахъ встрѣтило сильную оппо-
зицію». Это мнѣніе не подтверждено никакою ссыл-
кою, а между тѣмъ мы бы очень желали знать, откуда
238
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Онъ относился къ старымъ системамъ философіи точно такъ же, какъ Лю-
теръ—къ прежней системѣ теологіи. Онъ былъ великимъ реформаторомъ и освобо-
дителемъ европейскаго ума. Слѣдовательно, поставить людей, имѣвшихъ даже
наибольшій успѣхъ въ открытіи физическихъ законовъ, выше этого великаго ново-
вводителя и разрушителя преданій—было бы то же самое, какъ предпочесть знаніе
независимости, науку—свободѣ. Конечно мы должны сохранить вѣчную благодар-
ность къ даровитымъ мыслителямъ, доставившимъ намъ своими трудами ту огромную
массу физическихъ знаній, которою мы теперь обладаемъ, Но высшую степень на-
шего уваженія сохранимъ для тѣхъ, еще гораздо выше стоящихъ людей, которые
не усомнились опровергать и разрушать самые закоренѣлые предразсудки, которые,
устранивъ давленіе преданій, очг^гили самый источникъ нашего знанія и обезпе-
чили дальнѣйшіе его успѣхи, удаливъ съ пути его всѣ препятствія, задерживавшія
его движеніе впередъ х).
Конечно никто не ожидаетъ, " едва-ли даже кто-нибудь желалъ бы, чтобы я
здѣсь подробно изложилъ философскую систему Декарта, — систему, которую, по край-
ней мѣрѣ въ Англіи, весьма немногіе изучаютъ и на которую поэтому часто напа-
даютъ. Но необходимо будетъ дать о ней понятіе, достаточное для того, чтобы по-
казать аналогію, существующую между нею и антитеологическою политикою Ри-
шельё, и такимъ образомъ дать намъ возможность обнять всю широту того великаго
движенія, которое совершилось во Франціи передъ вступленіемъ на престолъ Людо-
вика. XIV. Этимъ путемъ мы уразумѣемъ, что смѣлыя нововведенія великаго ми-
нистра именно потому были такъ удачны, что они сопровождались и подкрѣплялись
соотвѣтствующими нововведеніями и въ умственной жизни націи, въ чемъ и пред-
ставляется новый примѣръ того, какимъ образомъ политическая исторія каждой
страны можетъ быть объяснена исторіею ея умственнаго развитія.
Въ 1637 году, въ то время какъ Ришельё стоялъ на высшей степени могу-
щества, Декартъ издалъ великое твореніе^ которое онъ передъ тѣмъ долго обдумы-
валъ и которое было первымъ открытымъ проявленіемъ новыхъ стремленій фран-
цузскаго ума. Это сочиненіе онъ назвалъ «Методомъ», и конечно «Методъ» его
такъ далекъ отъ того, что обыкновенно называется теологіею, какъ только можно
себѣ представить. Дѣйствительно, вмѣсто теологіи, существеннымъ и исключитель-
нымъ основаніемъ ему служитъ психологія. Теологическій методъ опирается на ста-
ринные авторитеты, на преданія, на голосъ древности, а методъ Декарта основанъ
исключительно па сознаніи каждымъ человѣкомъ отправленіи его собственнаго ума.
И чтобы кто-нибудь не ошибся въ значеніи этого взгляда, опъ развилъ его въ по-
слѣдующихъ сочиненіяхъ своихъ весьма пространно и съ безпримѣрною ясностью.
Главною цѣлью его было популяризировать тѣ воззрѣнія, которыя онъ высказывалъ.
«Я пишу на французскомъ языкѣ,™ говоритъ онъ.—а не на латинскомъ, въ той на-
деждѣ, что люди, руководствующіеся только своимъ простымъ, природнымъ умомъ,
безпристрастнѣе обсудятъ высказанныя мною мнѣнія, чѣмъ тѣ, которые вѣрятъ
только въ старыя книги». Такъ сильно проникается онъ этою мыслью, что почти въ
самомъ началѣ перваго сочиненія своего онъ предостерегаетъ читателей своихъ отъ
обыкновеннаго заблужденія, подч^ вліяніемъ котораго обращаются за знаніемъ къ
древности, и напоминаетъ имъ, что «когда люди слишкомъ сильно стремятся узнать
бытъ прошедшихъ временъ, то они вообще остаются въ совершенномъ незнаніи
своего собственнаго времени».
Дѣйствительно, эта новая философія не только не слѣдуетъ старому обыкно-
венію искать истины въ памятникахъ прошедшаго, но даже, по самой сущности
своей, стремится отстранить отъ насъ всякія подобныя ассоціаціи и начать пріоб-
рѣтеніе знаній дѣломъ разрушенія—сперва срыть стоящее зданіе съ тѣмъ, чтобы
1) Ибо, капъ превосходно выразился Тюрго, «по | а лѣность, упорство, духъ рутппы и все, чтб распо-
забіужденіе противодѣйствуетъ успѣхамъ истины,— | лагаетъ насъ къ бездѣйствію э.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII ст. 239
потомъ отстроить его г). Когда я приступилъ къ исканію истины, говоритъ Декартъ,
я нашелъ, что лучшій путь къ этому заключается въ томъ, чтобы отвергнуть все
до сихъ поръ пріобрѣтенное мною и вырвать съ корнемъ мои прежнія мнѣнія для
того, чтобы заложить для нихъ новое основаніе; я полагалъ, что такимъ образомъ
лучше исполню великое назначеніе жизни, чѣмъ строя зданіе свое на старомъ фун-
даментѣ и опираясь на принципы, которые я усвоилъ въ молодости, не удостовѣ-
рясь въ истинѣ ихъ. «Итакъ, я съ полною свободою и рѣшимостью займусь уни-
чтоженіемъ всѣхъ моихъ старыхъ мнѣній». Если мы хотимъ узнать всѣ доступныя
для насъ истины, мы должны прежде всего освободиться отъ всѣхъ нашихъ пред-
разсудковъ и принять за правило: отвергать всѣ усвоенныя нами прежде мнѣнія,
пока не. подвергнемъ ихъ новому разсмотрѣнію. Итакъ, мы должны почерпать наши
мнѣнія не изъ преданій, а изъ насъ самихъ. Мы не должны составлять себѣ суж-
денія ни о какомъ предметѣ, котораго мы не понимаемъ со всею ясностью и отчет-
ливостью; ибо если подобное сужденіе и можетъ оказаться вѣрнымъ, то лишь слу-
чайно, такъ какъ ему недостаетъ твердаго основанія. Мы вообще очень далеки отъ
такого безпристрастія, память наша обременена предразсудками, мы обращаемъ на
слова больше вниманія, чѣмъ на дѣло. При такомъ раболѣпствѣ нашемъ передъ
внѣшнею формою есть между нами многіе, которые считаютъ себя религіозными,
тогда какъ въ дѣйствительности они проникнуты ханжествомъ и суевѣріемъ,—мно-
гіе, почитающіе себя совершенными, потому что они часто ходятъ въ церковь, твер-
дятъ молитвы, коротко стригутъ волосы, соблюдаютъ посты п подаютъ милостыню.
Подобные люди считаютъ себя на столько угодными Богу, чтобы и всѣ ихъ дѣйствія
были также угодны Ему; подъ видомъ религіознаго рвенія, они удовлетворяютъ
своимъ страстямъ совершеніемъ величайшихъ преступленій—предаютъ города не-
пріятелю, убиваютъ государей, 'истребляютъ цѣлыя націй, и всѣ эти злодѣянія тво-
рятъ противъ тѣхъ, которые не'хотятъ подчиниться ихъ мнѣніямъ.
Таковы были мудрыя рѣчи, съ которыми этотъ великій учитель обратился къ
своимъ соотечественникамъ нѣсколько лѣтъ спустя послѣ того, какъ они окончили
послѣднюю религіозную войну, веденную во Франціи. Сходство этихъ взглядовъ съ
тѣми, которые около того же времени были высказаны Чиллингвортомъ, должно бро-
ситься въ глаза всякому читателю, но не должно возбуждать его удивленія, такъ
какъ подобные взгляды являются естественнымъ результатомъ такого состоянія об-
щества, въ которомъ право личнаго сужденія и независимость человѣческаго ума въ
первый разъ положительно установились. Если разсмотрѣть этотъ предметъ побли-
же, то мы найдемъ еще большія доказательства аналогіи, проявившейся между Фрак-
ціею и Англіею. Такъ тождественны были въ нихъ первые шаги прогресса, что отно-
шеніе, въ которомъ Монтэнь стоитъ къ Декарту, совершенно то же, какое суще-
ствуетъ между Гукеромъ и Чиллингвортомъ, какъ въ смыслѣ различія временъ, такъ
и въ смыслѣ различія мнѣній. Умъ Гукера былъ, по существу своему, скептическій,
но въ то же время онъ былъ такъ опутанъ предразсудками своего вѣка, что, не
будучи въ состояніи понять всей силы личнаго сужденія, стоящей выше всякаго
авторитета, онъ стѣснялъ ее ссылками на постановленія соборовъ и на общій го-
лосъ духовныхъ писателей древности,— преграды, которыя тридцать лѣтъ спустя
Чиллингвортъ съ полнымъ успѣхомъ устранилъ. Точно такъ же и Монтэнь, подобно
Гукеру, былъ по природѣ скептикъ, но, подобно ему же, жилъ въ такое время,
когда духъ сомнѣнія еще только зарождался и когда умъ человѣка еще смирялся
передъ авторитетомъ церкви. Поэтому неудивительно, что даже Монтэнь, сдѣлав-
шій такъ много для своего вѣка, усомнился въ томъ, чтобы человѣкъ могъ само-
стоятельно выработать себѣ знаніе великихъ истинъ, и что этотъ писатель не-рѣдко
останавливался на лежащемъ предъ нпмъ пути,—при чемъ его скептицизмъ при-
*) «Такимъ образомъ она началъ съ сомнѣнія и посредствомъ его дошелъ до убѣжденія» (Тешіетташі,
«Ошѣ. йг РЬІіОЗЛ),
240
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
нималъ форму недовѣрія къ человѣческимъ способностямъ. Такія остановки и не-
совершенства составляютъ лишь доказательства медленности развитія общества и
невозможности, даже для величайшаго мыслителя, опередить своихъ современниковъ
болѣе, какъ на извѣстное разстояніе. Но съ дальнѣйшими успѣхами знанія оказав-
шійся сперва недостатокъ былъ пополненъ; какъ слѣдующее послѣ Гукера поколѣніе
произвело Чиллингворта, точно такъ же въ слѣдующемъ послѣ Монтэня явился Де-
картъ. И Чиллингвортъ, и Декартъ—оба были въ высокой степени скептиками; но
скептицизмъ ихъ былъ направленъ не противъ человѣческаго ума, а противъ ссы-
локъ на авторитеты и преданія, безъ которыхъ, какъ полагали, умъ не можетъ без-
опасно идти впередъ. Мы уже видѣли, что такъ было съ Чиллингвортомъ,—а что
то же самое повторилось и съ Декартомъ, это, если можно, еще очевиднѣе; ибо
этотъ глубокій мыслитель былъ убѣжденъ не только въ томъ, что умъ своими соб-
ственными усиліями можетъ искоренить самыя застарѣлыя въ немъ мнѣнія, но даже
что онъ способенъ, безъ помощи извнѣ, построить новую и прочную систему въ
замѣнъ той, которую оиъ ниспровергнулъ х).
Это необыкновенное довѣріе къ силамъ человѣческаго ума, составляющее глав-
ную характеристику Декарта, и придаетъ его философіи тотъ особенно возвышен-
ный характеръ, которымъ она отличается отъ всѣхъ прочихъ системъ. Онъ не только
не думаетъ, что знаніе внѣшняго міра необходимо для открытія истины, но даже
принимаетъ за основной принципъ, что мы должны начать съ игнорированія этого
знанія 2); что прежде всего мы должны оградить себя отъ обмановъ, въ которые насъ
вводитъ природа, должны отвергнуть свидѣтельство нашихъ чувствъ. Ибо, говоритъ
Декартъ, нѣтъ ничего дострвѣрнаго въ мірѣ, кромѣ мысіи, и нѣтъ другихъ истинъ,
кромѣ тѣхъ, которыя вырабатываются дѣятельностью нашего самосознанія. Мы знаемъ
нашу душу лишь какъ мыслящую силу, и для насъ легче было бы представить себѣ,
что душа перестала существовать, нежели то, что она перестала мыслить. И что же
такое самъ человѣкъ, спрашиваетъ онъ далѣе, если не олицетвореніе мысли? Не ко-
сти, не мясо и не кровь составляютъ сущность человѣка. Все это только случайности,
тягости и несовершенства его природы. Но самое существо человѣка—мысль. Наше
невидимое я, крайній фактъ существованія, таинство жизни—выражается въ опре-
дѣленія: «я есмь нѣчто мыслящее». Таково начало и основаніе всякаго нашего зна-
нія. Мысль каждаго человѣка есть послѣдній элементъ, до котораго мы можемъ дойти
путемъ анализа—высшій судья всякаго сомнѣнія и исходная точка всякой мудрости.
Принявъ это за основаніе, мы доходимъ, говоритъ Декартъ, до понятія о суще-
ствованіи Божества. Наша вѣра въ существованіе Его составляетъ неопровержимое
доказательство, что Оно существуетъ. Иначе, откуда бы взялось это вѣрованіе? Такъ
какъ ничто не можетъ произойти изъ ничего и никакое дѣйствіе не можетъ быть
безъ причины, то изъ этого слѣдуетъ, что идея, которую мщ имѣемъ о Богѣ, должна имѣть
свою причину, и эта причина не что иное, какъ само Божество. Такимъ образомъ
окончательнымъ доказательствомъ существованія Его служитъ наше понятіе о Немъ.
1) Онъ весьма ясно отдѣляетъ себя отъ людей,
подобныхъ Монтэшо: <Я—говорить Докартъ—не под-
ражаю въ этомъ скептикамъ, которые сомнѣваются
только для того, чтобы сомнѣваться, п никогда не
выходятъ изъ нерѣшимости; напротивъ, вся моя цѣль
заключается въ томъ, чтобы достигнуть достовѣр-
ности и, разрывъ сыпучую землю и песокъ, дойти
до твердой скалы или глинистаго материка».
2) По мнѣнію Декарта, слѣдовало начать съ того,
чтобы игнорировать такое знаніе, а не отрицать его.
Въ его сочиненіяхъ нельзя найти ни одного примѣра
отрицанія внѣшняго міра, и мѣсто, которое приво-
дить Джобертъ въ своеіі <Жчѵ Зузіеш оі’ РЬіІоз.
нисколько не подтверждаетъ толкованія этого остро-
умнаго писателя, смѣшивающаго достовѣрпость, въ
I обыкновенномъ смыслѣ слова, съ достовѣрпостью въ
картезіанскомъ смыслѣ. Въ подобное же заблужденіе
впадаютъ тѣ, которые считаютъ изреченіе его: «я
мыслю, слѣдовательно, а есмь» за энфимѳму п, при-
нявъ это за данное, возстаютъ противъ велпкаго фп-
| л о софа и обвиняютъ его въ ошибкѣ, называемой ре-
, Шіо ргіпсіріі. Такіе критики упускаютъ изъ виду
разницу между логическимъ процессомъ и психоло-
гическимъ, и поэтому не видятъ, что знаменитое изре-
ченіе есть выраженіе умственнаго факта, а не со-
і кращовпый силлогизмъ. Тотъ, кто изучаетъ филосо-
| фію Декарта, долженъ всегда различать эти два про-
! цесса и помнить, что каждый изъ нихъ имѣетъ осо-
бый ра?рядъ доказательствъ, свойственныхъ ему, или
; по крайней мѣрѣ что таково было мнѣніе Декарта.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI НО ХѴПІ СТ.
241
Слѣдовательно, вмѣсто того, чтобы говорить, что мы знаемъ сами себя потому, что
вѣримъ въ Бога, мы должны, напротивъ того, сказать, что вѣримъ въ Бога потому,
что знаемъ сами себя. Таковъ истинный порядокъ и послѣдовательность понятій.
Мышленіе каждаго человѣка достаточно для того, чтобы доказать существованіе
Бога—оно составляетъ единственное доказательство этой истины, какое мы можемъ
имѣть. Слѣдовательно, такъ высоко поставленъ и такимъ облечемъ могуществомъ умъ
человѣческій, что и знаніе этого предмета — высшаго между всѣми предметами въ
мірѣ—вытекаетъ изъ ума, какъ изъ единственнаго источника. Итакъ, религія наша не
должна быть пріобрѣтаема отъ другихъ посредствомъ ученія, но должна быть выра-
батываема нами самими,— не должна быть заимствуема отъ древности, но откры-
ваема умомъ каждаго человѣка,—не должна быть преемственной, но принадлежать
каждому лично. II только потому, что этою великою истиною пренебрегли, явилось
безбожіе. Еслибы всякій человѣкъ довольствовался такимъ понятіемъ о Богѣ, какое
внупіается ему его природою, то онъ бы достигъ истиннаго знанія божественнаго
естества. Но когда вмѣсто того, чтобы удовольствоваться этимъ, онъ примѣшиваетъ
понятія другихъ, то его представленія становятся смутными; они противорѣчатъ сами
себѣ, и такъ какъ такимъ образомъ вся совокупность ихъ оказывается въ высшей
степени нестройною, то человѣкъ нерѣдко доходитъ до того, что отрицаетъ суще-
ствованіе, хотя и не самого Бога, но по крайней мѣрѣ такого Бога, въ какого его
учили вѣровать.
Понятно, какой ударъ подобныя начала должны были нанести старой теологіи х).
Они не только уничтожили въ умахъ тѣхъ лицъ, которыя проникнулись ими, многія
изъ обыкновенныхъ мнѣній—какъ напримѣръ ученіе о пресуществленіи,—но оказали
также противодѣйствіе и нѣѣрторымъ другимъ понятіямъ/ также неудобозащищаемымъ
и далеко не безвреднымъ. Декартъ, основывая философію, которая отвергала всякій
авторитетъ, кромѣ человѣческаго ума 2), естественнымъ образомъ долженъ былъ со-
вершенно отстранить отъ нея всякія умствованія о конечныхъ причинахъ — старое
и весьма естественное суевѣріе, сильно мѣшавшее, какъ мы увидимъ впослѣдствіи,
успѣхамъ нѣмецкихъ философовъ и еще и до сихъ поръ обременяющее, хотя нѣ-
сколько слабѣе, умы людей 3). Въ то же время, превзойдя древнихъ въ геометріи,
онъ содѣйствовалъ ослабленію того чрезмѣрнаго уваженія, съ которымъ тогда смо-
трѣли на древность. И по другому предмету, еще болѣе важному, онъ проявилъ тотъ
же самый духъ и достигъ такого же успѣха. Онъ съ такою энергіею возсталъ про-
тивъ тиранніи Аристотеля, что, хотя система этого философа весьма тѣсно связана
съ христіанскою теологіею 4), авторитетъ его былъ совершенно низвергнутъ Декар-
томъ, и вмѣстѣ съ нимъ пали тѣ систематическіе предразсудки, за которые конечно
Аристотель не можетъ считаться отвѣтственнымъ, но которые однако, подъ покро-
вительствомъ могучаго имени его, въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ смущали умы
людей и препятствовали успѣхамъ ихъ въ знаніи
2) Дюкло въ своихъ «Мемуарахъ» прямо гово- |
рптъ: «если со времени произведеннаго Декартомъ 1
переворота теологи удалились отъ философовъ, то это
потому, что послѣдніе стали не слишкомъ уважать
первыхъ. Философія, основанная на сомнѣніи п изслѣ-
дованіи, должна бша ихъ испугать)»,
2) «Характеристика средневѣковой философіи
есть подчиненіе авторитету, отдѣльному отъ разума,
а новѣйшая философія не признаетъ иного автори-
тета, кромѣ разума, Этотъ рѣшительный переворотъ
произведенъ картезіанизмомъ» (Кузенъ).
3) Д-ръ Уэвелль, напримѣръ, говоритъ, что мы
должны отбросить конечныя причины въ неорганиче-
скихъ наукахъ, а въ органическихъ—признать пхъ;
другими словами, это просто значитъ, что мы знаемъ
меньше объ органическомъ мірѣ, чѣмъ о неоргани-
ческомъ, и такъ какъ мы меньше знаемъ, то должны
Бокль.—Иад« Ф. Павленкова.
больше вѣритъ; здѣсь, какъ и но всѣхъ другихъ пред-
метахъ, чѣмъ меньше знанія, тѣмъ больше суевѣрія.
Еслибы вопросъ могъ бытъ разрѣшенъ посредствомъ
авторитетовъ, то достаточно было бы сослаться па
Бэкона и Декарта, двухъ самыхъ великихъ писате-
лей по философской методологіи въ семнадцатомъ вѣкѣ,
и на Огюста Конта, который всѣми, изучавшими его
«Позитивную Философію», признается за самаго вели-
каго писателя нынѣшняго времени. Эти глубокіе и
всеобъемлющіе мыслители всѣ отвергли ученіе о
конечныхъ причинахъ, которое, какъ они ясно убѣди-
лись, составляетъ вторженіе теологіи въ область науки.
4) Декартъ въ письмѣ къ Мерсепну пишетъ:
«Теологію до такой степени подчинили Аристотелю,
что невозможно изложить другую философію безъ
того, чтобы опа не показалась противною вѣрѣ».
5) Д-ръ Броунъ («РЬіІозорЬу оС іЬе Мт<Ь)гово-
16
242
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Таковы были главныя услуги, оказанныя цивилизаціи однимъ изъ самыхъ ве-
ликихъ людей, какихъ когда-либо произвела Европа. Аналогія, существующая между
нимъ и Ришельё, разительна и настолько совершенна, насколько дозволяетъ раз-
личіе между ихъ положеніями. То же пренебреженіе къ стариннымъ понятіямъ и
презрѣніе къ теологическимъ интересамъ, то же равнодушіе къ преданіямъ, та же
рѣшимость предпочитать настоящее прошедшему, однимъ словомъ,—тотъ же духъ,
вполнѣ принадлежащій новѣйшимъ временамъ, виденъ какъ въ сочиненіяхъ Декарта,
такъ и въ дѣятельности Ришельё. Чѣмъ былъ первый въ философіи, тѣмъ же явился
второй въ мірѣ политическомъ. Но, признавая заслуги этихъ двухъ высоко-дарови-
тыхъ людей, мы не должны забывать, что успѣхъ ихъ былъ результатомъ не только
ихъ способностей, но и общаго настроенія ихъ времени. Достоинства ихъ трудовъ
зависѣли отъ нихъ самихъ, а то, какимъ образомъ эти труды были приняты,—отъ
ихъ современниковъ. Еслибы они жили въ болѣе суевѣрныя времена, то воззрѣнія
ихъ встрѣтили бы одно пренебреженіе, или еслибъ и возбудили вниманіе, то на нихъ
всѣ смотрѣли бы съ негодованіемъ, какъ на нечестивыя нововведенія. Въ пятнад-
цатомъ вѣкѣ, или въ началѣ шестнадцатаго, дарованія Декарта и Ришельё не встрѣ-
тили бы необходимыхъ для своей дѣятельности матеріаловъ; обширные умы ихъ. при
подобномъ положеніи общества, не нашли бы примѣненія; они не возбудили бы ни-
какого сочувствія—труды ихъ уподобились бы сѣменамъ, брошеннымъ въ пучину
бездоннаго моря. И еще счастливы были бы они, еслибы въ этомъ случаѣ общество
наказало ихъ только своимъ равнодушіемъ, — еслибы они не подвергнулись участи
многихъ изъ знаменитыхъ мыслителей, тщетно пытавшихся остановить нотокъ чело-
вѣческаго легковѣрія. Счартье ихъ было бы, еслибы Ришельё не былъ казненъ, какъ
измѣнникъ, а Декартъ—сожженъ, какъ еретикъ.
Дѣйствительно, уже самый фактъ, что два подобныхъ человѣка, занимая такое
видное положеніе въ глазахъ всего общества и проводя взгляды, столь враждебные
интересамъ суевѣрія, прожили свой вѣкъ, не подвергаясь серьезной опасности, и
умерли спокойно въ своихъ постеляхъ х) — этотъ самый фактъ составляетъ неопро-
вержимое доказательство успѣховъ, сдѣланныхъ въ теченіе пятидесяти лѣтъ фран-
цузскимъ народомъ. Такъ быстро исчезли предразсудки этой великой націи, что Де-
картъ могъ безнаказанно выражать, а Ришельё приводить въ дѣйствіе мнѣнія, вполнѣ
противорѣчащія теологическимъ преданіямъ и гибельныя для всей системы, на ко-
торой основалось могущество духовенства. Примѣръ ихъ ясно доказалъ, что уже
теперь два самые передовые человѣка своего времени могутъ съ весьма малою опас-
ностью и даже совсѣмъ безъ нея распространять открыто такія идеи, которыя по-
лувѣкомъ ранѣе страшно было бы и самому ничтожному лицу высказать шопотомъ
въ какой-нибудь уединенной комнатѣ.
И не трудно понять причину этой безнаказанности. Ее слѣдуетъ искать въ
распространеніи скептическаго духа, которое, какъ во Франціи, такъ и въ Англіи,
предшествовало введенію вѣротерпимости. Не входя въ подробности, изложеніе ко-
торыхъ вышло бы слишкомъ пространно для настоящаго введенія, достаточно будетъ
сказать, что въ это время французская литература отличалась такою свободою и
смѣлостью въ изслѣдованіи, которой, за исключеніемъ Англіи, еще не было видано
примѣра въ Европѣ. Тому поколѣнію, которое внимало ученію Монтэня и Шаррона,
наслѣдовало другое поколѣніе, состоящее конечно изъ учениковъ, которые далеко опе-
ритъ о Декартѣ: «этотъ знаменитый революціонеръ,
который низвергнулъ авторитетъ Аристотеля и т. д.».
Едва-ли нужно сказать, что это относится къ обыкнове-
нію ссылаться на Аристотеля такъ, какъ будто бы онъ
былъ непогрѣшимъ,—что весьма отлично отъ уваже-
нія, естественно питаемаго къ человѣку, который былъ
вѣроятно самымъ великимъ изъ древнихъ мыслителей.
Декартъ умеръ въ Швеціи, отправившись
туда посѣтить Христину. По это ни мало не измѣ-
і ияетъ моего доказательства; такъ какъ творенія Дѳ-
! карта съ жадностью читались во Франціи и ие были
запрещены, то мы должны предполагать, что еслибъ
опъ остался въ своемъ отечествѣ, то и личность его
была бы безопасна. Сжечь еретика — шагъ гораздо
болѣе рѣшительный, чѣмъ запретить книгу; и такъ
какъ французское духовенство не имѣло довольно
силы, чтобъ сдѣлать послѣднее, то едва-ли правдопо-
добно, чтобы оно могло совершить первое.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII ст. 243
родили своихъ учителей. Результатомъ этого было то, что въ продолженіе послѣд-
нихъ тридцати или сорока лѣтъ, предшествовавшихъ воцаренію Людовика XIV (т. е,
въ 1661 году, когда Людовикъ XIV вступилъ въ управленіе государствомъ), не было
ни одного замѣчательнаго человѣка между французами, который не раздѣлялъ бы
общаго настроенія—не нападалъ бы на какой-нибудь древній догматъ или не под-
капывалъ основаній какого'либо стараго мнѣнія. Этотъ духъ смѣлости былъ харак-
теристикою всѣхъ самыхъ даровитыхъ писателей того времени; но—чтб еще замѣ-
чательнѣе—движеніе въ пользу скептицизма распространилось съ такою быстротою,
что оно охватило и тѣ классы общества, которые всегда послѣдніе подчиняются та-
кому вліянію. Этотъ духъ сомнѣнія, необходимый предшественникъ всякаго изслѣ-
дованія и, слѣдовательно, всякаго прочнаго прогресса, зарождается въ наиболѣе мы-
слящихъ и умственно развитыхъ классахъ общества и естественно встрѣчаетъ сопро-
тивленіе со стороны аристократовъ лотому, что духъ этотъ грозитъ опасностью ихъ
интересамъ, а со стороны необразованныхъ людей—потому, что оскорбляетъ ихъ пред-
разсудки. Вотъ одна изъ причинъ, по которымъ ни самое высшее, ни самое низшее со-
словія не способны управлять цивилизованною страною; оба эти сословія, каковы бы ни
были въ нихъ отдѣльныя личности, въ массѣ враждебно настроены противъ тѣхъ ре-
формъ, которыя постоянно вызываются потребностями прогрессивной націи. Но во
Франціи, еще до половины семнадцатаго столѣтія, даже эти сословія стали прини-
мать участіе въ великомъ движеніи впередъ; такъ что не только между мыслящими
люіьми, но даже между невѣжественными и пустымп замѣтно было пытливое и не-
довѣрчивое настроеніе умовъ; а это настроеніе, чтб бы ни говорили противъ него,
имѣетъ по крайней мѣрѣ ту особенность, что безъ него не было ни одного при-
мѣра упроченія началъ терпимости и свободы, признаніе которыхъ совершается лишь
съ безконечною трудностью и послѣ тяжкой борьбы съ прёдразсудками, могущими по
своему закоренѣлому упорству казаться почти существенной частью основной орга-
низаціи человѣческаго ума *)•
Не удивительно, что при подобныхъ обстоятельствахъ какъ умозрѣнія Декарта,
такъ и дѣйствія Ришельё имѣли большой успѣхъ, Система Декарта пріобрѣла огром-
ное вліяніе и вскорѣ завладѣла почти всѣми отраслями знанія 2). Политика Ришельё
такъ твердо установилась, что непосредственный его преемникъ продолжалъ ее безъ
малѣйшаго затрудненія, и не было даже ни одной попытки къ ниспроверженію ея
до той насильственной и искусственной реакціи, которая въ царствованіе Людовика XIV
на нѣкоторое время уничтожила всѣ виды политической и религіозной свободы. Исто-
рія этой реакціи, а также процесса обратной реакціи, приготовившей французскую
революцію, будетъ разсказана въ слѣдующихъ главахъ настоящаго тома; теперь же
мы возвратимся къ ряду событій, совершившихся во Франціи, прежде чѣмъ Людо-
викъ XIV принялъ бразды правленія.
Нѣсколько мѣсяцевъ, спустя послѣ смерти Ришельё Людовикъ XIII также умеръ,
и на престолъ вступилъ Людовикъ XIV, который былъ тогда ребенкомъ и еще нѣ-
сколько лѣтъ затѣмъ не имѣлъ вліянія на государственныя дѣла. Во время малолѣт-
ства короля управленіе дѣлами находилось номинально въ рукахъ его матери, на
самомъ же дѣлѣ—въ рукахъ Мазарини,—человѣка, конечно уступавшаго Ришельё во
всѣхъ отношеніяхъ, но усвоившаго себѣ отчасти его взглядъ; сколько было возможно,
Мазарини продолжалъ политику великаго государственнаго человѣка, которому онъ
былъ обязанъ своимъ возвышеніемъ. Побуждаемый отчасти примѣромъ своего пред-
1) Развитіе невѣрія было такъ значительно, что
дало поводъ къ смѣшному показанію, будто «около
1623 года въ Парижѣ было болѣе 50.000 атеистовъ».
Валье безъ затрудненія отвергаетъ это нелѣпое сказаніе;
по распространеніе скептицизма въ высшихъ классахъ
п между придворными въ теченіе царствованія Лю-
довика XIII и несовсршепнолѣтія Людовика XIV
подтверждается множествомъ разнообразныхъ свидѣ-
тельствъ.
2) Можно было бы написать цѣлые томы о
вліяніи Декарта, проявлявшемся не только въ пред-
метахъ, непосредственно связанныхъ съ его филосо-
фіею, но даже и въ предметахъ, повидимому отдален-
ныхъ отъ нея.
16*
244
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
шественника, отчасти же своими собственными понятіями и духомъ времени, Маза-
рини не показывалъ желанія преслѣдовать протестантовъ, ни стѣснять права, ко-
торыми они пользовались. Первымъ его дѣломъ было подтвердить Нантскій эдиктъ
(въ іюлѣ 1643 г.); а къ копцу своей жизни онъ даже позволилъ протестантамъ вновь
составлять сѵноды, которые были прекращены по поводу ихъ собственной неумѣ-
ренности. Отъ кончины Ришельё до принятія власти Людовикомъ XIV прошло почти
двадцать лѣтъ, въ теченіе которыхъ Мазарини, за исключенідмъ немногихъ пере-
рывовъ, стоялъ во главѣ государства; и за все это времи я не нашелъ ни одного
примѣра, чтобы кто-либо изъ французовъ подвергнулся наказанію по причинѣ своей
религіи. Въ самомъ дѣлѣ, новое правительство не только не заботилось объ охра-
неніи церкви посредствомъ подавленія ереси, но выказывало въ отношеніи цер-
ковныхъ интересовъ то равнодушіе, которое теперь становилось твердымъ прави-
ломъ французской политики. Ришельё, какъ мы. уже видѣли, сдѣлалъ смѣлый шагъ,
ввѣряя протестантамъ командованіе королевскими арміями, и сдѣлалъ онъ это на
основаніи того простого правила, что одна изъ первыхъ обязанностей государствен-
наго человѣка—употреблять на пользу страны самыхъ способныхъ людей, какихъ
только онъ можетъ найти, не взирая на ихъ теологическія убѣжденія, которыя, какъ
онъ ясно понималъ, до правительства нисколько не касаются. Но Людовикъ XIII,
личныя чувствованія котораго всегда были въ противорѣчіи съ просвѣщенными мѣ-
рами его великаго министра, оскорблялся этимъ мудрымъ пренебреженіемъ къ ста-
рымъ предразсудкамъ; его религіозность возмущалась при мысли, что католическіе
солдаты будутъ подъ начальствомъ у еретиковъ; и онъ/рѣшился (какъ утверждаетъ
одинъ изъ весьма свѣдущихъ современныхъ ему писателей) устранить это явленіе,
составляющее соблазнъ для церкви, и на будущее время не допускать, чтобы про-
тестантъ получалъ жезлъ маршала Франціи. Устоялъ ли бы король въ своемъ намѣ-
реніи, еслибы прожилъ долѣе,—неизвѣстно х); мы знаемъ достовѣрно только то, что
не болѣе какъ четыре мѣсяца спустя послѣ его смерти (1643 г.) это самое званіе
маршала было пожаловано Тюрениу, самому способному изъ всѣхъ протестантскихъ
генераловъ. И на слѣдующій годъ другой протестантъ, Гассіонъ, возведенъ былъ въ
то же достоинство; такимъ образомъ представлялось странное зрѣлище — высшая
военная власть въ великой католической націи сосредоточилась въ рукахъ двухъ
человѣкъ, религію которыхъ господствующая церковь не переставала осыпать про-
клятіями. Въ томъ же духѣ, и исключительно въ видахъ политической выгоды, Ма-
зарини заключилъ тѣсный союзъ съ Кромвелемъ, похитителемъ короны, который,
по мнѣнію теологовъ, былъ обреченъ на вѣчную казнь, какъ оскверненный трой-
нымъ злодѣйствомъ—возстаніемъ противъ короля, ересью и цареубійствомъ * 2). На-
конецъ однимъ изъ послѣднихъ дѣлъ этого ученика Ришельё было подписаніе зна-
менитаго Пиренейскаго договора, которымъ серьезно ослаблено значеніе духовныхъ
интересовъ и нанесено тяжкое оскорбленіе тому, кто все еще почитался главою
церкви 3).
Но самымъ замѣтнымъ событіемъ за время управленія Мазарини было начало
великой междоусобной войны, извѣстной подъ именемъ Фронды, во время которой
народъ пытался внести въ политику духъ непокорности, уже ранѣе того обнаружив-
шійся въ литературѣ и въ религіи. Здѣсь мы не можемъ не замѣтить сходства между
этой борьбой и тою, которая въ то же самое время происходила въ Англіи. Сказать,
5) Его такъ безпокоилъ совершенный имъ грѣхъ,
что передъ самой своей смертью онъ умолялъ мар-
шаловъ протестантовъ перемѣнить вѣру: «онъ не хо-
тѣлъ умереть, по сдѣлавши изъ собственныхъ устъ
рѣщанія маршаламъ де-ла Форсу и дс-Шатпльову,
чтобы они сдѣлались католиками» (Бенуа).
2) Въ особенности папа былъ оскорбленъ этимъ
союзомъ, и, судя по образу выраженія Кларендона,
православная партія въ Англіи также была раздра-
жена.
3) 0 явномъ оскорбленіи, нанесенномъ чрезъ
этотъ договоръ папѣ, Ранке говоритъ: «И дѣйстви-
тельно. онъ (папа) ни разу не принималъ виднаго
учаегія въ Пиренейскомъ мирѣ: ухитрялись пе до-
пускать его уполномоченныхъ; о немъ почти не ду-
мали на конгрессѣ».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII ст. 245
что эти два событія были совершенно подобны, значило бы впасть въ крайнюю не-
точность; но нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что между ними существуетъ весьма порази-
тельная аналогія. Въ обѣихъ странахъ междоусобная война явились первымъ народнымъ
выраженіемъ скептицизма, который дотолѣ оставался явленіемъ умозрительнымъ и,
такъ сказать, литературнымъ. Въ обѣихъ странахъ за невѣріемъ послѣдовало сопро-
тивленіе правительству, и униженіе духовенства предшествовало ограниченію правъ
короны; потому что Ришельё въ отношеніи къ французской церкви былъ тѣмъ же,
чѣмъ была Елизавета въ отношеніи къ англійской. Въ обѣихъ странахъ теперь
только впервые явился этотъ великій продуктъ цивилизаціи—независимая печать,
обнаружившая свою свободу въ произведеніи на свѣтъ того множества безстрашно
написанныхъ сочиненій, которыя ознаменовали собою дѣятельность этого вѣка *).
Въ обѣихъ странахъ происходила борьба между прогрессомъ и ретроградными стрем-
леніями, между приверженцами старинныхъ преданій и людьми, жаждавшими ново-
введеній; къ тому же въ обѣихъ странахъ борьба проявилась въ формѣ войны между
королемъ и парламентомъ, при чемъ король являлся представителемъ прошедшаго, а
парламентъ—настоящаго. Наконецъ,—не упоминая о мелкихъ чертахъ сходства—
была еще одна чрезвычайно важная черта, въ которой оба эти великія событія
сходятся, а именно, что они были по преимуществу событіями свѣтскаго характера
и произошли не изъ желанія распространить извѣстныя религіозныя мнѣнія, а изъ
стремленія къ упроченію гражданской свободы. Я уже упоминалъ о чисто свѣтскомъ
характерѣ англійскаго возстанія—и дѣйствительно этотъ характеръ долженъ быть
вполнѣ очевиднымъ для каждаго, кто изучалъ свидѣтельства исторіи изъ первыхъ
источниковъ. Во Франціи мы не только находимъ тотъ же результатъ, но даже мо-
жемъ указать всѣ ступени, чрезъ которыя она перешла/на пути къ прогрессу. Въ
срединѣ шестнадцатаго столѣтія, непосредственно послѣ смерти Генриха III, причи-
ною междоусобій во Франціи были религіозныя распри, и войны эти велись съ рве-
ніемъ, характеризовавшимъ крестовые походы. Въ самомъ началѣ семнадцатаго вѣка
вновь вспыхнули раздоры; но тутъ правительство хотя и дѣйствовало по-прежнему
противъ протестантовъ, но видѣло въ нихъ уже не еретиковъ, а мятежниковъ, и
цѣлью войны было подавленіе непокорной партіи, а не преслѣдованіе извѣстныхъ
религіозныхъ убѣжденій. Это былъ первый великій шагъ въ исторіи вѣротерпимости,
и онъ совершился, какъ мы уже видѣли, въ царствованіе Людовика XIII. Прошло
поколѣніе; въ слѣдующемъ вѣкѣ возникли войны Фронды; въ этомъ событіи, кото-
рое можно назвать вторымъ шагомъ французскаго ума, перемѣна проявилась еще
болѣе замѣтно. Въ этотъ промежутокъ времени идеи великихъ скептическихъ мысли-
телей, отъ Монтэня до Декарта, принесли свой естественный плодъ; распространяясь
болѣе въ образованныхъ классахъ, онѣ, какъ всегда бываетъ, оказали вліяніе не
только на тѣхъ, которые приняли ихъ, но и на людей противоположныхъ убѣжде-
ній. Дѣйствительно, простое знаніе того факта, что самые замѣчательные люди
извѣстнаго времени бросили тѣнь сомнѣнія на общепринятыя вѣрованія, не можетъ
не смутить въ нѣкоторой степени убѣжденій даже тѣхъ людей, которые смѣются
надъ этими сомнѣніями 2). Въ подобныхъ случаяхъ никто не бываетъ вполнѣ без-
опасенъ: самая крѣпкая вѣра можетъ слегка пошатнуться; люди, по наружности
сохраняющіе православіе, часто безсознательно колеблются; они не могутъ вполнѣ
устоять противъ вліянія высшихъ умовъ и не всегда удается имъ избѣгнуть докуч-
*) «Печать пользовалась совершенной свободой
во время неурядицъ Фронды, и публика принимала
такое участіе въ политическихъ преніяхъ, что пам-
флеты продавались иногда въ числѣ восьми и десяти
тысячъ экземпляровъ».
Въ Англіи Долгій Парламентъ наслѣдовалъ право
Шѣдывапія цензурою отъ Звѣздной Палаты, но изъ
письменныхъ источниковъ того времени очевидно, что
это право въ дѣйствительности но примѣнялось. Обѣ
партіи свободно нападали другъ на друга черезъ по-
средство печати; существуетъ преданіе, что отъ на-
чала гражданской войны до реставраціи издано было
отъ 30 до 40 тысячъ памфлетовъ.
2) Дугальдъ Стюартъ говоритъ: «нѣтъ ничего
справедливѣе замѣчанія Фонтенелля, что число вѣ-
рующихъ въ религіозную систему, установившуюся въ
мірѣ, ни мало не увеличиваетъ ея вѣроятія, но число
сомнѣвающихся въ ней клонится къ его уменьшенію! >
246 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ливаго подозрѣнія, что ежели дарованіе находится на одной сторонѣ, а на другой
невѣжество, то очень возможно, что на сторонѣ дарованія находится истина, а на
сторонѣ невѣжества—заблужденіе.
Такъ и было во Франціи. Въ этой странѣ, какъ во всякой другой, когда тео-
логическія убѣжденія ослабѣли, то и религіозныя распри прекратились. Сначала
религія бывала причиною войнъ, а также и предлогомъ для веденія ихъ. Затѣмъ
пришло время, когда религія перестала быть причиной распрей; но такъ медленно
совершается общественный прогрессъ, что все еще находили нужнымъ выставлять
ее въ видѣ предлога. Наконецъ, наступили великіе дни Фронды, когда религія не
стала уже ни причиной, ни предлогомъ 9, и когда впервые увидѣли во Франціи
зрѣлище трудной борьбы, предпринятой людьми очевидно ради человѣческихъ цѣлей,
и веденной не для того, чтобы доставить перевѣсъ извѣстнымъ убѣжденіямъ, а для
того, чтобы расширить предѣлы гражданской свободы. И, какъ бы для большей по-
разительности этой перемѣны, самымъ замѣчательнымъ изъ предводителей инсурген-
товъ былъ кардиналъ де-Рецъ, человѣкъ съ обширными способностями и вмѣстѣ съ
тѣмъ извѣстный презрѣніемъ къ своему сословію 1 2)> 0 немъ одинъ великій историкъ
сказалъ: «онъ былъ первый епископъ во Франціи, который велъ междоусобную войну,
не выставляя предлогомъ для нея религію».
Такимъ образомъ мы видѣли, что въ теченіе семидесяти лѣтъ послѣ вступленія
на престолъ Генриха IV умственное развитіе во Франціи совершалось путемъ за-
мѣчательно сходнымъ съ тѣмъ, что происходило въ Англіи; мы видѣли, что въ обѣихъ
странахъ умъ, сообразно съ естественными условіями его развитія, сначала сталъ
сомнѣваться въ томъ, чему издавна вѣрилъ, а потомъ началъ допускать то, что дол-
гое время ненавидѣлъ; что такой порядокъ пе былъ ни дѣломъ случая, ни прихотью
исторіи, это можетъ быть очевидно доказано не только теоретическими разсужденіями
и аналогіей, существовавшей между обѣими націями, но и еще однимъ чрезвычай-
нымъ обстоятельствомъ, а именно: порядокъ событій и, такъ сказать, относительные
размѣры ихъ были въ обѣихъ странахъ одни и тѣ же. какъ въ отношеніи къ разви-
тію терпимости, такъ и относительно успѣховъ литературы и науки. Въ обѣихъ стра-
нахъ отношеніе между успѣхами знанія и упадкомъ вліянія духовенства было одно
и то же, хотя оно проявилось въ различное время. Мы начали отдѣлываться отъ на-
шихъ предразсудковъ нѣсколько раньше, чѣмъ могли это сдѣлать французы, и такимъ
образомъ, выступивъ первые на поприще, успѣли опередить этотъ великій народъ въ
созданіи свѣтской литературы, Всякій, кто дастъ себѣ трудъ сравнить ходъ умствен-
наго развитія въ Англіи и во Франціи, увидитъ, что во всѣхъ главнѣйшихъ отрасляхъ
его мы были первыми—я не говорю по достоинству, но по порядку времени. Въ
прозѣ, въ поэзіи, въ каждой отрасли умственнаго успѣха, по сравненіи, окажется,
что мы опередили французовъ почти на цѣлое поколѣніе и что во всемъ повторя-
лось, въ хронологическомъ смыслѣ, то же отношеніе, какое существуетъ между Бэ-
кономъ и Декартомъ, Гукеромъ и Паскалемъ, Шекспиромъ и Корнелемъ, Массиндже-
ромъ и Васиномъ, Бенъ-Джонсономъ и Мольеромъ, Гарвеемъ и Пэке. Каждый изъ этихъ
замѣчательныхъ людей пользовался заслуженной славой въ своемъ отечествѣ, и еслибы
мы захотѣли провести между ними сравненіе, то это могло бы показаться дѣломъ
національной зависти. Здѣсь мы должны замѣтить только одно—что между лицами,
трудившимися по каждой отдѣльной отрасли, самый великій изъ англичанъ предше-
ствовалъ нѣсколькими годами самому великому изъ французовъ. Это различіе вре-
мени, дѣйствительно проходящее по всѣмъ главнымъ предметамъ знанія, слишкомт»
1) «Религіозный духъ нп мало не примѣшивался . въ своихъ запискахъ. Онъ говорить на стр. 3: «я
къ спорамъ Фронды» (Капфпгъ). Даже народъ гово- пмѣю напсенѣѳ церковную душу, какая только су-
рилъ, что рѣшительно все равно, умретъ лп чело- | шествуетъ на свѣтѣ =>. Па стр. 21: «я ненавидѣлъ
вѣкъ протестантомъ, или нѣтъ; во что всякій при- . свое званіе болѣе чѣмъ когда-либо». На стр. 48:
верженецъ Мазарини могъ быть увѣренъ въ проклятіи. | «духовенство, всегда подающее примѣръ рабства,
2) Дѣйствительно, онъ но скрываетъ этого даже | проповѣдывало его другимъ подъ именемъ послушанія».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII ст. 247
правильно, чтобы можно было считать его случайнымъ. И такъ какъ въ настоящее время
конечно лишь весьма немногіе изъ англичанъ могутъ быть настолько самолюбивы,
чтобы полагать, что мы одарены какимъ-нибудь врожденнымъ существеннымъ пре-
восходствомъ надъ французами, то очевидно должна быть какая-нибудь замѣтная
особенность, которою обѣ націи отличаются другъ отъ друга и которая произвела
различіе между ними не въ самомъ знаніи, но во времени проявленія знанія. Для
отысканія этой особенности не требуется большой проницательности. Хотя французы
стали развиваться нѣсколько позже, чѣмъ англичане, тѣмъ не менѣе когда развитіе
это пошло какъ слѣдуетъ въ ходъ, предшествовавшія данныя его успѣха были въ
томъ и другомъ народѣ совершенно одни и тѣ же. Изъ этого, по самымъ простымъ
началамъ индукціи, ясно слѣдуетъ, что запозданіе развитія зависѣло отъ запозданія
предшествовавшаго факта. Очевидно, французы меньше знали, потому что больше
вѣрили х). Ясно, что ихъ прогрессъ задержанъ былъ преобладаніемъ тѣхъ чувствъ,
которыя всегда пагубны для всякаго знанія, потому что, заставляя смотрѣть на древ-
ность, какъ на единственное хранилище мудрости, они унижаютъ настоящее, чтобы
возвысить прошедшее: эти-то чувствованія уничтожаютъ виды человѣка на будущ-
ность, убиваютъ его надежды, умерщвляютъ въ немъ любознательность, охлаждаютъ
его рвеніе, разслабляютъ разсудокъ и, подъ предлогомъ смиренія его гордаго разума,
стараются отбросить человѣка назадъ въ ту болѣе чѣмъ полуночную тьму, изъ ко-
торой только разумъ далъ ему возможность выйти.
Существующая такимъ образомъ аналогія между Франціей и Англіей безъ
сомнѣнія весьма поразительна й, насколько мы ее до сихъ поръ разсмотрѣли, ка-
жется совершенной во всѣіъ своихъ частяхъ. Подвозя въ нѣсколькихъ словахъ
итогъ всѣмъ отдѣльнымъ чертамъ сходства, можно сказать, что обѣ эти націи слѣ-
довали одинаковому порядку развитія относительно скептицизма, литературы и вѣро-
терпимости. Въ обѣихъ странахъ вспыхнула междоусобная война въ то же время,
за тѣ же интересы и при одинаковыхъ, по многимъ отношеніямъ, обстоятельствахъ.
Въ обѣихъ странахъ инсургенты, торжествовавшіе въ началѣ, были йодъ конецъ
побѣждены, и когда возстанія были подавлены, то правительства обѣихъ странъ были
вполнѣ возстановлены почти въ одинъ и тотъ же моментъ: въ 1660 году—Кар-
ломъ II, въ 1661 году—Людовикомъ XIV 2). Но тутъ сходство остановилось. Съ этой
точки обѣ страны начали замѣтно расходиться, и это уклоненіе, продолжаясь болѣе
столѣтія, привело, наконецъ, Англію къ упроченію народнаго благосостоянія, а Фран-
цію—къ самой кровавой, самой полной и самой разрушительной революціи, какая
только видана была на свѣтѣ, Эта разница въ судьбахъ такихъ великихъ и образо-
ванныхъ націй до того замѣчательна, что знакомство съ причинами этого явленія
становится необходимымъ для правильнаго пониманія европейской исторіи и мо-
жетъ, какъ впослѣдствіи окажется, бросить яркій свѣтъ на другія событія, не свя-
занныя непосредственно съ самымъ явленіемъ. Кромѣ того подобное изслѣдованіе,
независимо отъ научнаго интереса, будетъ имѣть высокую практическую цѣну. Оно
докажетъ истину, которую люди повидимому недавно лишь стали понимать, а именно,
что въ политикѣ, такъ какъ для нея не открыто еще никакихъ твердыхъ началъ,
первыя условія успѣха суть: соглашеніе, обмѣнъ, цѣлесообразность и уступка. Оно
покажетъ окончательное безсиліе даже самыхъ способныхъ правителей въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда они стараются, при новыхъ обстоятельствахъ, дѣйствовать по старымъ
3) Одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ людей
(Тюрго), какихъ мы когда-либо имѣли, упоминаетъ
объ этой связи, которую выражаетъ въ обратномъ
положеніи, но тѣмъ не менѣе вѣрно: «чѣмъ мень-
ше человѣкъ знаетъ, тѣмъ меньше сомнѣвается; чѣмъ
меньше онъ открылъ, тѣмъ меньше видитъ, что
остается открыть... Когда люди находятся въ состоя-
ніи невѣжества, тогда легко все узнать».
2) Мазаринп пользовался подавляющимъ вліяні-
емъ надъ Людовикомъ XIV до самой своей смерти,
въ 1661 г. Оно доходило до такой степени, что, какъ
говоривъ Монтгла: «это время (1661 г.) должно вазы*
вать началомъ царствованія Людовика XIѴ>. Торже-
ственность, съ которой король, немедленно послѣ
смерти Мазарпнп, привялъ правленіе, описана оче-
видцемъ, Бріенномъ.
24§
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
правиламъ. Оно покажетъ, какая тѣсная связь существуетъ между свободой и зна-
ніемъ, между возрастающей цивилизаціей и успѣхами демократіи, Оно покажетъ,
что для прогрессивной націи требуется и прогрессивный строй государства, что въ
извѣстныхъ предѣлахъ допущеніе нововведеній составляетъ единственное возможное
ручательство за безопасность, что никакое государственное учрежденіе не можетъ
устоять противъ напора и вѣчнаго движенія общества, если, исправляя недостатки
своего строенія, оно вмѣстѣ съ тѣмъ не расширяетъ своего входа, и, наконецъ, что
ни одна страна, даже въ матеріальномъ отношеніи, не можетъ сохранить ни бла-
госостоянія, ни безопасности, ежели не усиливается постепенно значеніе народа, не
расширяются его привилегіи и, такъ сказать, не воплощаются во всей его массѣ
государственныя отправленія,
Спокойствіе Англіи и отсутствіе въ ней междоусобныхъ войнъ должны быть
приписаны признанію въ ней этихъ великихъ истинъ *), пренебреженіе которыхъ
обрушило на другія страны самыя ужасныя бѣдствія. По этому самому, ежели не по
чему другому, становится дѣломъ чрезвычайно интереснымъ привести въ извѣстность,
какимъ образомъ произошло, что двѣ сравниваемыя нами націи приняли въ отно-
шеніи къ этимъ истинамъ совершенно противоположныя воззрѣнія, хотя по другимъ
предметамъ воззрѣнія ихъ были, какъ мы уже видѣли, весьма сходны. Или, выра-
жая вопросъ другими словами, намъ предстоитъ изслѣдовать, какимъ образомъ
произошло то, что французы, шедшіе относительно знаній, скептицизма и вѣро-
терпимости совершенно тѣмъ же путемъ, какъ и англичане, вдругъ впали въ застой
относительно политики; какимъ образомъ умы ихъ, совершившіе столь великіе по-
двиги, оказались однако доч такой степени неприготовленными къ свободѣ, что, не-
смотря на геройскія усилія Фронды, они не только подпали деспотизму Людовика XIV,
но даже и не думали ему сопротивляться; и, наконецъ, сдѣлавшись рабами и тѣломъ,
и душою, стали гордиться такимъ положеніемъ, котораго и послѣдній изъ англичанъ
гнушался бы, какъ невыносимаго ярма.
Причины этого различія должно искать въ существованіи духа покровитель-
ства. Этотъ духъ такъ опасенъ и имъ такъ легко увлечься, что въ немъ заклю-
чается самое серьезное изъ препятствій, съ которыми цивилизація должна бороться
на пути къ прогрессу. Покровительственное начало, которое по справедливости
можно назвать злымъ началомъ, всегда было сильнѣе во Франціи, чѣмъ въ Англіи.
Дѣйствительно, у французовъ оно продолжаетъ до настоящаго времени производить
самые зловредные результаты. Оно тѣсно связано, какъ я раскрою впослѣдствіи, съ
тѣмъ пристрастіемъ къ централизаціи, которое обнаруживается въ ихъ правитель-
ственномъ механизмѣ и направленіи ихъ литературы. Это именно и заставляетъ ихъ
поддерживать стѣсненія, съ давняго времени связывавшія ихъ промышленность, и
сохранять монополіи, которыя въ нашемъ отечествѣ окончательно уничтожены ли-
беральной системой. Это же побуждаетъ ихъ вмѣшиваться въ естественныя отношенія
между производителями и потребителями; насильственно вызывать къ существованію
мануфактуры, которыя иначе никогда не были бы основаны и, слѣдовательно, вовсе
не были нужны; нарушать обычный ходъ промышленности и подъ предлогомъ по-
кровительствовати своимъ рабочимъ уменьшать производительность труда, отвращая
его отъ тѣхъ путей, къ которымъ направляютъ его собственные его инстинкты.
Таковы неизбѣжные результаты покровительственнаго начала въ дѣлѣ промышлен-
ности. Будучи внесено въ политику, оно производитъ, такъ называемое, отеческое
правительство, гдѣ верховная власть сосредоточена въ рукахъ монарха, либо въ
рукахъ немногихъ привилегированныхъ классовъ. Когда же оно вносится въ бого-
*) Т. е. признанію ихъ па практикѣ; въ теоріи
эти метины отвергаются еще безчисленнымъ множе-
ствомъ государственныхъ людей, которые тѣмъ по ме-
нѣе содѣйствуютъ примѣненію пхъ къ жизни, лаская
себя надеждою, что каждое нововведеніе будетъ по-
слѣднимъ, и вовлекая людей въ реформу подъ пред-
логомъ, будто съ каждой перемѣной они возвраща-
ются къ духу древпой Британской Конституціи.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО ХѴІП ст. 249
словіе, то производитъ могущественную церковь и многочисленное духовенство, ко-
торое признается необходимой охраной религіи, такъ что всякое противодѣйствіе
ему принимается за оскорбленіе общественной нравственности. Вотъ отличительныя
черты, по которымъ можно узнать покровительственное начало, и уже съ весьма
ранняго времени онѣ обнаруживались во Франціи гораздо яснѣе, чѣмъ въ Англіи.
Не имѣя притязанія съ точностью опредѣлить причину, произведшую эти явленія,
я постараюсь въ слѣдующей главѣ прослѣдить ихъ въ прошедшемъ до весьма от-
даленнаго періода, такъ чтобы изслѣдованіе это дало намъ возможность объяснить
нѣкоторыя изъ чертъ различія, существовавшаго въ этомъ отношеніи между обѣими
странами.
ДУХЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ВО ФРАНЦІИ И ВЪ АНГЛІИ. 251
чЬмъ бы она ни прикрывалась, въ какихъ бы формахъ ни являлась, въ сущности
всегда одна и та же и выражаетъ собою противоположность интересовъ разума и
вѣры, скептицизма и легковѣрія, прогресса и реакціи,—интересовъ тѣхъ людей, ко-
торые надѣются на будущее, и тѣхъ, которые прилѣпляются къ прошедшему.
Итакъ, вотъ точка отправленія новѣйшей цивилизаціи. Съ того самаго момента,
какъ разумъ началъ сколько-нибудь заявлять свое право на преобладаніе, прогрессъ
каждой націи зависѣлъ отъ большаго или меньшаго повиновенія предписаніямъ его,
отъ умѣнья подчинять всю сумму свопхъ дѣйствій мѣрилу разума. Слѣдовательно, чтобы
понять первоначальную причину различія между Франціей и Англіей, мы должны
искать ея въ обстоятельствахъ того времени, когда въ первый разъ замѣтно обозначи-
лось движеніе, которое можно по справедливости назвать великимъ возстаніемъ разума.
Ежели, въ видахъ такого изслѣдованія, мы будемъ разсматривать исторію
Европы, то найдемъ, что именно въ этотъ періодъ возникла феодальная система,—
обширная правительственная система, которая, несмотря на свою грубость и другія
несовершенства, удовлетворяла многимъ потребностямъ тѣхъ грубыхъ народовъ, по-
среди которыхъ она родилась. Связь между возникновеніемъ феодализма и упадкомъ
теологическаго духа очевидна. Феодальная система была первымъ великимъ свѣт-
скимъ учрежденіемъ, какое было видано въ Европѣ со времени установленія гра-
жданскаго права: во весь этотъ періодъ времени, слишкомъ въ четыреста лѣтъ, это
была первая сдѣланная въ большихъ размѣрахъ попытка устроить общество на свѣт-
скихъ, а не на духовныхъ началахъ, такъ какъ въ основаніи всего учрежденія ле-
жало единственно владѣніе землею и отправленіе извѣстныхъ воинскихъ и денеж-
ныхъ повинностей 1).
Безъ сомнѣнія это былъ4 большой шагъ въ европейской цивилизаціи, такъ какъ
учрежденіе это явило собою первый примѣръ обширнаго государственнаго строя, въ
которомъ духовные, какъ отдѣльное сословіе^ не имѣли опредѣленнаго мѣста 2); вслѣд-
ствіе этого и началась та борьба феодализма съ церковью, которую замѣтили многіе
писатели, упустивъ однако страппымъ образомъ изъ виду ея причину. Но при этомъ
особенно достойно вниманія то обстоятельство, что съ введеніемъ феодальной си-
стемы духъ покровительства далеко не былъ подавленъ, даже пе былъ по всей
вѣроятности и ослабленъ, а собственно только принялъ другую форму — вмѣсто ду-
ховной свѣтскую. Взоры людей, обращавшіеся прежде на церковь, теперь устре-
мились на дворянъ; ибо необходимымъ послѣдствіемъ этого обширнаго движенія, или
скорѣе частью его, было то, что изъ значительныхъ» землевладѣльцевъ теперь обра-
зовалась наслѣдственная аристократія 3). Въ десятомъ столѣтіи мы встрѣчаемъ первыя
справедливо замѣчаетъ Снсмондп, въ подобной поли- !
тикѣ но предстояло надобности: «въ теченіе многихъ '
вѣковъ церковь пе была смуіцаома никакой ересью;
невѣжество было слишкомъ безусловно, покорность і
слишкомъ раболѣпна, вѣра слишкомъ слѣпа для того, !
чтобы латпны могли даже понять тѣ вопросы, надъ !
которыми такъ долго упражнялось остроуміе грековъ. I
По мѣрѣ того, ханъ знаніе дѣлало успѣхи, вражда 1
между изслѣдованіемъ и слѣпою вѣрою болѣе и бо-
лѣе обозначалась, церковь удвоила свои старанія, и
въ концѣ двѣнадцатаго столѣтія папы впервые фор-
мально стали требовать отъ свѣтской власти, чтобы
еретики были наказуемы; и самый ранній уставъ '
«инквизиторамъ преступленій по сресн» (іпдиізйогіЬив I
Ііегеіісае ргаѵііайв) нзхаиъ былъ Александромъ IV. 1
Въ 1222 г. сѵнодъ, собравшійся въ Оксфордѣ,
осудилъ на сожженіе одного отступника; и эго гово-
ритъ Лингардъ, «есть, я полагаю, первый примѣръ ;
уголовнаго наказанія въ Англіи но поводу религіи». ।
1) «Земля—все въ этой системѣ... Феодальная
система есть какъ бы религія земли» (Мишле). «Отли-
чительною чертою феодализма было преобладаніе ве-
шественности надъ лшетмо, земли—надъ чело-
вѣкомъ» (Эшбахъ),
2) Согласно соціальному и политическому устрой-
ствамъ. введеннымъ съ IV по X столѣтіе, духовенство
составляло такой исключительный классъ общества,
который не несъ «государственныхъ тягостей» и но былъ
обязанъ военной службой, если самъ не желалъ ея. Но
во время феодальной системы эта привилегія была
утрачена и различіе классовъ въ отношеніи къ отправ-
ленію различныхъ повинностей—но допускалось. «Послѣ
установленія феодальнаго строя мы пе встрѣчаемъ
никакихъ исключеній въ пользу духовныхъ леновъ
(Галламъ). «Отъ переворота, образовавшаго феодаль-
ное устройство, выигралъ лично каждый вельможа-
мірянинъ; но епископы и аббаты, сдѣлавшись сюзе-
ренами въ своихъ земляхъ, напротивъ того, много
проиграли относительно своей власти и своего до-
стоинства» (Мабли).
3) Великая перемѣна — превращеніе пожизнен-
ныхъ владѣній землею въ наслѣдственныя—началась
въ концѣ IX столътія; во Франціи ей было положено
начало капитуляріемь Карла Лысаго въ 877 году.
252
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
фамильныя прозвища; съ одиннадцатаго столѣтія многія важныя должности дѣлаются
наслѣдственными въ главныхъ фамиліяхъ, а въ двѣнадцатомъ столѣтіи изобрѣтены
гербы и другія геральдическія эмблемы, питавшія такъ долго тщеславіе дворянства
и цѣнимыя потомками, какъ знаки того превосходства рожденія, которому въ теченіе
многихъ вѣковъ подчинялось всякое другое превосходство.
Таково было начало европейской аристократіи въ томъ смыслѣ, въ какомъ это
слово обыкновенно употребляется. Феодализмъ, съ упроченіемъ его вліянія, явился
преемникомъ церкви въ дѣлѣ организаціи общества !); дворянство, сдѣлавшись на-
слѣдственнымъ, постепенно вытѣснило изъ государственнаго управленія и вообще
изъ важныхъ должностей духовенство, въ которомъ теперь прочно утвердился про-
тивоположный наслѣдственности принципъ — безбрачія. Такимъ образомъ очевидно,
что изслѣдованіе о происхожденіи новѣйшаго духа покровительства есть въ значи-
тельной мѣрѣ изслѣдованіе о происхожденіи могущества аристократіи, такъ какъ
это могущество было вывѣскою или, такъ сказать, покровомъ, подъ которымъ духъ
этотъ развился. Это обстоятельство, какъ мы впослѣдствіи увидимъ, находится также
въ связи съ большимъ религіознымъ движеніемъ шестнадцатаго столѣтія; успѣхъ
послѣдняго главнымъ образомъ зависѣлъ отъ безсилія покровительственнаго прин-
ципа, который противодѣйствовалъ ему. Но, отлагая это соображеніе до дальнѣйшаго
времени, я постараюсь теперь очертить нѣкоторыя изъ обстоятельствъ, которыя,
доставивъ аристократіи во Франціи болѣе значенія, чѣмъ она имѣла въ Англіи, прі-
учили французовъ къ болѣе строгому и постоянному повиновенію и привили имъ
духъ подчиненности въ большей мѣрѣ, чѣмъ онъ обыкновенно проявлялся въ Англіи.
Въ самомъ началѣ второй половины XI столѣтія, /слѣдовательно въ то время,
когда совершался еще процессъ возникновенія аристократіи, Англія была покорена
герцогомъ Норманнскимъ, который естественно ввелъ вгь ней государственное устрой-
ство, существовавшее въ его отечествѣ. Но въ его рукахъ это устройство под-
верглось измѣненію, сообразному съ тѣми новыми обстоятельствами, въ которыя онъ
былъ поставленъ. Находясь въ чужой странѣ и будучи предводителемъ побѣдонос-
ной арміи, составленной частью изъ наемниковъ, онъ имѣлъ возможность отступить
отъ нѣкоторыхъ изъ тѣхъ феодальныхъ обычаевъ, которые были приняты во Фран-
ціи. Значительные норманнскіе бароны, брошенные въ среду непріязненнаго насе-
ленія, были рады принять лены отъ короны почти на всякихъ условіяхъ, какія
только могли обезпечить ихъ безопасность. Этимъ конечно воспользоваться Виль-
гельмъ; ибо, жалуя бароніи на условіяхъ, выгодныхъ для короны, онъ предупреждалъ
пріобрѣтеніе баронами той власти^ которою они пользовались во Франціи и кото-
рую безъ этого они имѣли бы и въ Англіи. Результатомъ этого было, что могуще-
ственнѣйшіе бароны Англіи подчинились закону или по крайней мѣрѣ власти ко-
роля. Дѣйствительно, это дошло до того, что Вильгельмъ незадолго до своей смерти
заставилъ всѣхъ землевладѣльцевъ дать ему клятву въ вѣрности, —- чѣмъ онъ ока-
залъ совершенное пренебреженіе къ той особенности феодализма, въ силу которой
каждый вассалъ, въ отдѣльности, зависѣлъ отъ своего сюзерена.
Но во Франціи дѣло было совершенно иначе. Здѣсь знатные дворяне владѣли
своими землями не столько по жалованію, сколько по праву давности. Такимъ
образомъ права ихъ носили характеръ древности; это обстоятельство, въ соединеніи
со слабостью короны, дало имъ возможность распоряжаться въ своихъ владѣніяхъ,
какъ независимымъ государямъ. Даже когда могуществу бароновъ былъ нанесенъ пер-
вый ударъ при Филиппѣ-Августѣ, они все-таки продолжали въ его царствованіе и
гораздо позже пользоваться такою властью, какая въ Англіи была совершенно не-
Ибо, какъ говоритъ Лермпнье, «феодальный
законъ есть не что иное, какъ предоставленіе верхов-
ной власти землѣ». Въ Англіи мы имѣемъ одинъ
фактъ, указывающій на ранніе захваты духовен-
ствомъ свѣтскаго элемента, и именно, что до XII сто-
лѣтія мы не встрѣчаемъ примѣра, чтобы госу-
дарственная печать поручалась «храненію свѣтскаго
липа».
ДУХЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ВО ФРАНЦІИ И ВЪ АНГЛІИ.
253
извѣстна. Мы приведемъ только два примѣра этому. Право чеканенія монеты, кото-
рое всегда считалось атрибутомъ верховной власти, никогда не было предоставляемо
въ Англіи даже самымъ знатнымъ баронамъ х); во Франціи же этимъ правомъ, не-
зависимо отъ короны, пользовались многіе, и оно было отмѣнено только въ шестна
дцатомъ столѣтіи. Это же замѣчаніе легко можетъ быть примѣнено и къ такъ назы-
ваемому праву частной войны, въ силу котораго бароны могли нападать другъ на
друга и нарушать спокойствіе страны своими частными раздорами. Въ Англіи ари-
стократія никогда не была довольно сильна, чтобы имѣть по закону это право, хотя
на практикѣ пользовалась имъ даже слишкомъ часто. Но во Франціи право это
вошло въ положительное законодательство; оно было внесено въ статуты феодализма
и положительно признано двумя весьма энергическими королями, Людовикомъ IX
и Филиппомъ Прекраснымъ, которые между тѣмъ дѣлали все, чтб могли, чтобы
ослабить громадное значеніе бароновъ.
Изъ такого различія аристократической власти во Франціи и въ Англіи роди-
лись многія послѣдствія большой важности. У насъ бароны, будучи слишкомъ слабы
для борьбы съ короною, принуждены были, ради собственной зашиты, соединяться
съ народомъ. Спустя около ста лѣтъ послѣ завоеванія нашей страны норманны и
саксы смѣшались, и обѣ партіи соединились противъ короля, для поддержанія своихъ
общихъ правъ 2). Великая хартія^ которую Іоаннъ долженъ былъ дать, заключала въ
себѣ конечно уступки въ пользу аристократіи, но главнѣйшія ея условія были въ
пользу «всѣхъ классовъ свободныхъ людей» 3). По прошествіи полустолѣтія возникли
новые раздоры; бароны опять соединились съ народомъ и снова произошли тѣ же
результаты-—каждый разъ условіемъ и послѣдствіемъ этого оригинальнаго союза
было расширеніе народныхъ привилегій. Точно такимъ же образомъ, когда графъ
Лейстерскій поднялъ бунтъ противъ Генриха III, то нашелъ свою партію слишкомъ
слабою для борьбы съ короноіо и потому обратился къ народу; ему-то и обязана
своимъ происхожденіемъ нижняя палата, такъ какъ онъ въ 1264 году подалъ пер-
вый примѣръ призыва городовъ и мѣстечекъ къ выборамъ и сдѣлалъ такимъ обра-
зомъ, что жители городовъ и мѣстечекъ заняли свои мѣста въ томъ парламентѣ,
который до тѣхъ поръ состоялъ только изъ духовныхъ и дворянъ 4).
Такъ какъ англійская аристократія принуждена была, вслѣдствіе своей слабости,
опираться на народъ, то естественнымъ послѣдствіемъ этого было, что народъ усвоилъ
себѣ тотъ оттѣнокъ независимости и то гордое обращеніе, которые являются скорѣе
слѣдствіемъ, нежели причиною нашихъ гражданскихъ и политическихъ учрежденій.
Именно этому обстоятельству, а не какой-нибудь воображаемой особенности расы,
обязаны мы тѣмъ твердымъ предпріимчивымъ духомъ, которымъ издавна отличались
обитатели нашего острова. Это же самое дало имъ силу побороть всѣ ухищренія
притѣснителей и поддерживать въ теченіе столькихъ столѣтій права, которыхъ не имѣла
*) <Пи одинъ подданный въ Англіи но пользо- I
вался правомъ чеканить монету безъ королевскаго !
штемпеля и надзора—замѣчательно? доказательство
того, что въ Англіи феодальную аристократію всегда
держали въ уздѣ> (Галламъ).
2) Относительно общаго вопроса о смѣшеніи расъ
мы имѣемъ ясныя указанія трехъ родовъ.
Во-ііервыхъ, къ концу XII столѣтія, вслѣдствіе
сліянія языковъ норманнскаго и саксонскаго, начинаетъ
образовываться новый языкъ, и собственно англійская
литература появляется въ началѣ XIII столѣтія.
Во-вторыхъ, мы находимъ прямое указаніе
одного писателя въ царствованіе Генриха II: «такъ
перемѣшаны обѣ народности, что нынѣ едва-лп можно
различать—я говорю о свободныхъ людяхъ—кто ан-
гличанинъ, а кто норманнъ, по происхожденію». )
Въ-третьихъ, въ концѣ XIII столѣтія разнпца
въ одеждѣ, которая при этомъ состояніи общества |
переживаетъ многія другія различія, не была замѣтна,
и особенности норманнскаго и саксонскаго народовъ
исчезли.^
3) «Равномѣрное распредѣленіе гражданскихъ
правъ между всѣми классами свободныхъ людей со-
ставляетъ особенную прелесть хартіи» (Галламъ).
4) «Его должно печатать, какъ основателя пред-
ставительной системы управленія въ Англіи» (Кемп-
белль). Нѣкоторые писатели полагаютъ, что горожане
были призваны въ парламентъ раньше царствованія
Генриха III; но это предположеніе не только не под-
тверждается доказательствами, по даже еамо по себѣ
не правдоподобно; пбо въ первое время горожане,
несмотря на быстрое возрастаніе ихъ силы, едва-ли
имѣли такоо значеніе, которое оправдывало бы по-
добную мѣру. Лучшіе авторитеты въ настоящее
время относятъ происхожденіе нижней палаты къ
упомянутому пами періоду.
254
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
никакая другая нація. Это же самое развило и сохранило тѣ великія привилегіи,
которыя, каковы бы ни были ихъ недостатки, имѣютъ по крайней мѣрѣ то неоцѣ-
нимое достоинство, что пріучаютъ свободнаго человѣка къ отправленіямъ власти,
вручаютъ гражданамъ управленіе ихъ собственнаго города и увѣковѣчиваютъ идею
независимости, сохраняя се въ живой формѣ и связывая поддержаніе ея съ инте-
ресами и влеченіями каждой отдѣльной личности.
Но тѣ привычки самоуправленія, которыя, подъ вліяніемъ этихъ обстоятельствъ,
развивались въ Англіи,—были, подъ вліяніемъ совершенно противоположныхъ обстоя-
тельствъ, пренебрежены во Франціи Значительные французскіе бароны, будучи слиш-
комъ могущественны, чтобы нуждаться въ народѣ, не искали союза съ нимъ. Ре-
зультатомъ этого было то, что среди большого разнообразія формъ и именъ обще-
ство въ сущности раздѣлялось только на два класса: высшій и низшій—покровителей
и покровительствуемыхъ. Въ виду преобладавшей въ то время грубости нравовъ,
не будетъ преувеличеніемъ сказать, что во Франціи во время феодальной системы
каждый человѣкъ былъ или тираннъ, или рабъ. Даже, въ большей части случаевъ,,
оба характера соединялись въ одномъ и томъ же лицѣ. Ибо обыкновеніе подраздачи
леновъ (ЗиЪіпіешІаііоп), которое было дѣятельно ограничиваемо въ Англіи, сдѣла-
лось почти всеобщимъ во Франціи. Могущественные бароны раздавали извѣстнымъ
лицамъ земли подъ условіемъ соблюденія имъ вѣрности и несенія разныхъ повин-
ностей; эти лица въ свою очередь подраздавали такія земли, т. е. передавали ихъ
на подобныхъ же условіяхъ другимъ лицамъ, которыя опять имѣли право передать
ихъ въ четвертыя руки, и такъ далѣе, до безконечности. Такъ составилась длинная
цѣпь зависимости и образбвалась какъ бы цѣлая система подчиненности. Въ Англіи,
съ другой стороны, такія сдѣлки были такъ не согласны съ общимъ порядкомъ ве-
щей, что весьма сомнительно-—существовали ли онѣ въ какомъ-либо размѣрѣ; во вся-
комъ случаѣ извѣстно, что въ царствованіе Эдуарда І-го онѣ были окончательно вос-
прещены статутомъ, который извѣстенъ у юристовъ подъ именемъ диіа етріогез.
Итакъ, издавна существовало уже большое соціальное различіе между Фран-
ціей и Англіей. Послѣдствія этого различія сдѣлались еще очевиднѣе, когда съ
XIV столѣтія феодальная система стала быстро клониться къ упадку въ обѣихъ
странахъ. Ибо въ Англіи, вслѣдствіе слабости принципа покровительства, люди до
извѣстной степени привыкли къ самоуправленію и были способны крѣпко держаться
тѣхъ великихъ учрежденій, которыя плохо примѣнялись къ болѣе послушному нраву
французскаго народа. Наши муниципальныя привилегіи, права нашихъ мелкихъ
землевладѣльцевъ и обезпеченность нашихъ копигольдеровъ 9 были съ XIV по XVII сто-
лѣтіе тремя важнѣйшими гарантіями правъ Англіи * 2). Во Франціи такія гарантіи
были невозможны; такъ какъ тамъ между благородными и неблагородными было дѣй-
ствительное различіе, то пе было мѣста для образованія среднихъ классовъ, а каждый
долженъ былъ войти въ составъ той или другой корпораціи 3). У французовъ ни-
СоруЬоЫегд были первоначально несвободные I
крестьяне, пользовавшіеся участками земли въ по- |
мѣстьяхъ бароновъ; съ теченіемъ времени за крестья- -
нами этими участки были укрѣплены по праву дав- ;
ности, которое доказывалось копіями со списковъ та-
кимъ участковымъ владѣльцамъ (іііе соріез оГ іЬе ;
Сопгі-гоПз). Примѣч. переводи.
2) Исторія упадка класса англійскихъ мелкихъ
землевладѣльцевъ (уоотапгу), нѣкогда одного изъ зпа-
чптельпѣйшпхъ классовъ въ государствѣ, есть весьма ,
интересный предметъ, и при томъ одинъ изъ тѣхъ пред-
метовъ, для которыхъ я собралъ довольно много ма-
теріаловъ; въ настоящее время я скажу только, что ;
упадокъ этого класса впервые ясно замѣчается во :
второй половинѣ XVII столѣтія; онъ упалъ оконча-
тельно вслѣдствіе быстраго возрастанія въ началѣ
XVII столѣтія могущества коммерческаго и мануфак-
турнаго классовъ. Потерявъ свое вліяніе, землевла-
дѣльцы уменьшились въ числѣ и были вытѣснены
изъ своего мѣста другими корпораціями, которыя ме-
нѣе имѣли предразсудковъ и потому болѣе подходили
къ новой формѣ, принятой обществомъ въ послѣднее
столѣтіе. Я говорю объ этомъ потому, что нѣкоторые
писатели сожалѣютъ о совершенномъ исчезновеніи мел-
кихъ землевладѣльцевъ (уеотсп Ггееѣоійегз), забывая
тотъ фактъ, что они исчезли пе вслѣдствіе бурнаго
переворота и не дѣйствіемъ произвольной власти, а
просто по общему ходу дѣлъ; общество устраняетъ
то, въ чемъ болѣе не нуждается.
3) Объ этомъ говорятъ, какъ о несомнѣнномъ
фактѣ, французскіе писатели, жившіе въ различные
періоды и имѣвшіе различныя убѣжденія; всѣ согласны,
что во Франціи было только два дѣленія общества:
«такъ какъ во Франціи всякій или дворянинъ, или
ДУХЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ВО ФРАНЦІИ И ВЪ АНГЛІИ. 255
когда не было ничего соотвѣтствующаго англійскимъ мелкимъ землевладѣльцамъ
(уеотапгу), не было также копигольдеровъ, признанныхъ закономъ, и хотя они ста-
рались ввести въ своей странѣ муниципальныя учрежденія, но всѣ такія попытки
остались безплодными, ибо, подражая формамъ свободы, они не имѣли того стойкаго,
смѣлаго духа, который одинъ ведетъ къ свободѣ. Дѣйствительно, французы имѣли
образъ свободы и ея названіе, но имъ не доставало того священнаго огня, который
согрѣлъ бы и оживилъ этотъ образъ. Все остальное у нихъ было: они имѣли наруж-
ный видъ и пріемы свободы; французскимъ городамъ пожалованы были хартіи, а
должностнымъ лицамъ ихъ дарованы привилегіи. Все однако было напрасно, ибо
не печатью и не пергаментомъ законодателя охраняется независимость людей. Такія
вещи составляютъ только внѣшность; онѣ украшаютъ свободу; онѣ составляютъ какъ
бы ея одежду-приданое, праздничный нарядъ во дни мира и спокойствія. Но когда
наступаютъ черные дни, когда начинаются нападенія деспотизма, то свободу сохра-
нятъ не тѣ. которые могутъ предъявить древнѣйшіе акты и великія хартіи, а тѣ,
которые наиболѣе свыклись съ независимостью, наиболѣе способны думать и дѣй-
ствовать сами, и наименѣе дорожатъ тѣмъ навязчивымъ покровительствомъ, которое
высшіе классы всегда такъ охотно оказывали, что во многихъ странахъ они не оста-
вили болѣе ничего, чему бы стоило покровительствовать.
Такъ и было во Франціи. Города, съ небольшими исключеніями, пали при пер-
вомъ ударѣ, и граждане утратили тѣ муниципальныя привилегіи, которыя не были
приспособлены къ національному характеру и потому не могли быть сохранены.
Точно такъ же въ Англіи власть перешла естественнымъ образомъ, одною силою
демократическаго движенія, въ руки палаты общинъ, значеніе которой, несмотря
на случавшіяся препятствія, съ тѣхъ поръ постоянно возрастало, въ ущербъ ари-
стократическому элементу законодательнаго собранія./Единственное учрежденіе во
Франціи, соотвѣтствующее этому, представляли генеральные штаты, которые однако
имѣли такъ мало вліянія, что, по мнѣнію французскихъ историковъ, они едва-ли даже
могутъ быть названы учрежденіемъ *)• Дѣйствительно, французы въ то время уже
такъ привыкли къ идеѣ покровительства и къ подчиненности, которая вытекаетъ
изъ этой идеи, что они не особенно желали поддерживать такое учрежденіе, которое
въ ихъ государственномъ устройствѣ являлось единственнымъ представителемъ на-
роднаго элемента. Результатомъ этого было, что въ XIV столѣтіи права англійскаго
народа были упрочены и съ этихъ поръ ему оставалось только расширить то, чтб
разъ уже было пріобрѣтено; а въ томъ же столѣтіи во Франціи духъ покровитель-
ства принялъ новую форму; власти аристократіи въ значительной мѣрѣ наслѣдовала
власть короны, и тогда началось то стремленіе къ централизаціи, которое, сперва
при Людовикѣ XIV, а потомъ при Наполеонѣ, достигло еще большаго развитія и
сдѣлалось язвою французскаго парода. Такимъ образомъ феодальныя идеи превос-
ходства и подчиненности далеко пережили тотъ варварскій вѣкъ, для котораго онѣ
исключительно годились. Дѣйствительно, будучи перенесены въ другой вѣкъ, онѣ,
казалось, пріобрѣли новую силу. Во Франціи все сводится къ одному общему центру,
которымъ поглощается вся гражданская дѣятельность. Всѣ сколько-нибудь значитель-
ныя реформы, всѣ планы улучшеній, даже въ матеріальномъ бытѣ народа, должны
получать санкцію оть правительства, такъ какъ предполагается, что мѣстнымъ вла-
стямъ не по силамъ такія трудныя задачи. Дабы низшія должностныя лица не могли
злоупотреблять своей властью, имъ не дается никакой власти. Самостоятельное
отправленіе судебной власти тамъ почти неизвѣстно. Все, что ни дѣлается, должно
простолюдинъ, а середины нѣтъ». Кто не назывался
маркизомъ, барономъ, графомъ и кавалеромъ, тотъ
былъ простолюдинъ, виденъ, темный человѣкъ, сво-
лочь, и т. п. (Мерсье).
*) «Генеральные штаты внесены въ списокъ на-
шихъ учрежденій. Я не знаю однако, можпо ли дать
это имя такимъ неправильнымъ собраніямъ» (Монт-
лозье). «Во Франціи генеральные штаты во время
наибольшаго ихъ блеска, т. е. въ XIV вѣкѣ, были
пе что иное, кякъ случайности — народная власть,
часто призываемая, но не конституціонное учреж-
деніе» (Гизо).
056
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
дѣлаться въ главной квартирѣ г). Думаютъ, что правительство должно все видѣть,
все знать, обо всемъ заботиться. Дабы подкрѣпить эту широкую монополію, приду-
манъ механизмъ, вполнѣ достойный своей цѣли. Вся страна наводняется огромнымъ
полчищемъ чиновниковъ 2); чиновники эти, правильностью своей іерархіи и поряд-
комъ своей постепенности, представляютъ прекрасную эмблему феодальнаго начала,
которое изъ территоріальнаго сдѣлалось теперь личнымъ. На самомъ дѣлѣ вся пра-
вительственная дѣятельность исходитъ отъ того предположенія, что ни одинъ чело-
вѣкъ не знаетъ своихъ нуждъ или не способенъ самъ о себѣ заботиться. Такими
отеческими чувствами проникнуто французское правительство, такъ ревностно оно
заботится о благосостояніи своихъ подданныхъ, что оно забрало въ свое вѣдѣніе
какъ самыя исключительныя, такъ и самыя обыкновенныя явленія жизни. Чтобы
французы не дѣлали неблагоразумныхъ завѣщаній, оно ограничило права завѣща-
телей, а изъ опасенія, чтобы они не завѣщали свою собственность неправильно,
большая часть собственности вовсе изъемлется изъ права завѣщанія. Дабы все обще-
ство пользовалось защитою полиціи, постановлено, что никто не можетъ путеше-
ствовать безъ паспорта. И когда люди дѣйствительно путешествуютъ, то на каждомъ
углу они встрѣчаются съ тѣмъ же духомъ вмѣшательства, который, подъ предлогомъ
защиты ихъ личности, стѣсняетъ ихъ свободу. И въ другія отношенія, гораздо болѣе
серьезныя, французы внесли то же самое начало* Такъ велика заботливость ихъ объ
огражденіи общества отъ преступниковъ, что когда подсудимый призывается въ одинъ
изъ ихъ судовъ, то тамъ происходитъ зрѣлище, которое, можно сказать безъ малѣй-
шаго хвастовства, и часу не было бы терпимо въ Англіи. Тамъ видимъ мы, что
важный государственный сановникъ, передъ тѣмъ какѣ судить арестанта, для удо-
стовѣренія въ его предполагаемой виновности, дѣлаетъ допросъ, передопросъ, пере-
крестный допросъ, исполняя\такимъ образомъ обязанности не судьи, а обвинителя,
употребляя противъ обвиняемаго все вліяніе своего судейскаго положенія, всѣ тон-
кости своей профессіи, всю свою опытность, всю ловкость своего напрактиковавша-
гося ума. Это едва-ли не самый возмутительный изъ многихъ примѣровъ, въ кото-
рыхъ высказываются стремленія французскаго ума, потому что это даетъ готовый
механизмъ для цѣлей деспотической власти, потому что это безчеститъ отправленіе
правосудія, внося въ него идею несправедливости’, и, наконецъ, вредитъ спокойному
и ровному настроенію духа, которое невозможно вполнѣ сохранить при системѣ, дѣ-
лающей изъ чиновника обвинителя и превращающей судью въ приверженца партіи.
Но это обстоятельство, какъ оно ни гибельно, составляетъ только часть еще болѣе
обширной системы; ибо на-ряду съ методомъ, служащимъ для открытія преступни-
ковъ, существуетъ подобный же методъ для предупрежденія преступленій. Съ этою
послѣднею цѣлью за людьми присматриваютъ и тщательно наблюдаютъ, даже въ ихъ
обыденныхъ увеселеніяхъ. Дабы они не причинили вреда другъ другу какимъ-ни-
будь внезапнымъ неблагоразуміемъ, принимаютъ предосторожности въ родѣ тѣхъ,
какими отецъ обставляетъ своихъ дѣтей. На ихъ ярмаркахъ, въ театрахъ, въ кон-
цертахъ и другихъ общественныхъ сходкахъ присутствуютъ всегда солдаты, кото-
рыхъ посылаютъ наблюдать, чтобы не было сдѣлано ничего дурного, чтобы не было
Такъ какъ нѣкоторые писатели-юристы смо- I
трятъ на эту систему слишкомъ легко, то не мѣшаетъ :
опредѣлить настоящее значеніе ея. |
Бульваръ вавр. говоритъ: «община не только не
имѣетъ права, безъ согласія министра или сго чи- ,
новннковъ, опредѣлить свои собственные расходы, но і
не можетъ даже выстроить зданія и утвердить на него I
смѣту безъ того, чтобы планъ его не былъ одобренъ
департаментомъ публичныхъ работъ, который нахо-
дится въ зависимости отъ центральной власти и за- і
вѣдываетъ и распоряжается всѣми общественными по-
стройками во всемъ королевствѣ».
Токвилль въ 1856 году писалъ: «нрп старомъ |
порядкѣ, какъ и въ наше врелся, не было во Фран-
ціи города, мѣстечка, деревни, мызы, госпиталя, фаб-
рики, монастыря, училища, которые могли бы не-
зависимо распоряжаться въ своихъ частныхъ дѣлахъ
пли управлять по своей волѣ своимъ имуществомъ.
Тогда, какъ и теперь^ администрація держала Фран-
цію подъ опекою, п хотя это дерзкое слово еще не было
произнесено, но зато сама опека уже существовала».
2) Число гражданскихъ чиновниковъ во Фран-
ціи, которые получаютъ жалованье отъ правитель-
ства, превосходитъ всякое вѣроятіе; въ различные
періоды нынѣшняго столѣтія ихъ насчитывали отъ
138.000 до 800.000.
ДУХЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ВО ФРАНЦІИ И ВЪ АНГЛІИ.
257
безполезнаго столпленія, чтобы никто не бранился и не ссорился съ своимъ сосѣ-
домъ. Бдительность правительства не останавливается и на этомъ. Даже воспитаніе
дѣтей подчинено контролю государства, вмѣсто того, чтобы подлежать вѣдѣнію учи-
телей или родителей. И все это приводится въ исполненіе съ такою энергіею, что
французовъ, ни взрослыхъ, ни дѣтей, никогда однихъ не оставляютъ. Въ то же время
раціонально предполагая, что взрослые, находящіеся такимъ образомъ подъ опекою,
не могутъ сами знать толкъ въ пищѣ, правительство позаботилось и объ этомъ. Его
зоркій глазъ слѣдитъ за мясникомъ въ лавкѣ и за булочникомъ у очага. Оно съ оте-
ческой заботливостью смотритъ за тѣмъ, чтобы мясо не было дурно и чтобы хлѣбъ
не былъ маловѣсенъ. Однимъ словомъ, не приводя много примѣровъ, хорошо извѣст-
ныхъ большинству читателей, достаточно сказать, что во Франціи, какъ въ каждой
странѣ, въ которой дѣйствуетъ принципъ покровительства, правительство установило
монополію самаго вреднаго свойства,—монополію, которая проникаетъ въ дѣла и
сердца людей, слѣдитъ за ними въ ихъ ежедневныхъ занятіяхъ, безпокоитъ ихъ
своимъ мелочнымъ вмѣшательствомъ и, чтб хуже всего, уменьшаетъ отвѣтственность
ихъ передъ самими собою, лишая ихъ такимъ образомъ того, что составляетъ един-
ственное, истинное воспитаніе для большинства умовъ—постоянной необходимости
предвидѣть будущія случайности и привычки бороться съ трудностями жизни.
Послѣдствіемъ всего этого было, что французы, хотя великій и блестящій
народъ,—народъ полный энергіи, высокомужественный, богатый знаніемъ и можетъ
быть менѣе всякаго другого народа въ Европѣ угнетенный суевѣріемъ, — всегда
оказывались неспособными \ къ отправленію политической власти. Даже когда имъ
п случалось обладать ею, они не были способны соединить постоянство съ свободою.
Одного изъ двухъ элементовъ всегда не доставало, У нихъ бывали свободныя пра-
вительства, но не прочныя. Бывали у нихъ прочныя правительства, но не свобод-
ныя. Благодаря своему врожденному безстрашію, они возставали и безъ сомнѣнія
будутъ возставать противъ такого дурного положенія дѣлъ х), но не нужно быть
пророкомъ, чтобы предсказать безплодность всѣхъ такихъ попытокъ, по крайней
мѣрѣ, еще для нѣсколькихъ поколѣній, потому что люди никогда не могутъ быть
свободны, если они не воспитаны для свободы, И это не то воспитаніе, которое
пріобрѣтается въ школахъ или вычитывается изъ книгъ, — оно состоитъ въ само-
развитіи, самоупованіи и самоуправленіи. Въ Англіи —это дѣло наслѣдственнаго
перехода, это преемственныя привычки, которыя мы усвоиваемъ себѣ въ юности и
которыя управляютъ нами въ жизни. У французовъ всѣ старинныя ассоціаціи идей
клонятся въ совершенно другую сторону. При малѣйшемъ затрудненіи они взываютъ
о помощи къ правительству. Что у насъ соревнованіе, то у нихъ монополія. То,
что мы дѣлаемъ частными компаніями, — у нихъ исполняется правительственными
учрежденіями. Они не могутъ прорыть каналъ или проложить желѣзную дорогу, не
обращаясь за помощью къ правительству. У нихъ народъ смотритъ на правителей,
а у насъ—правители на народъ. У нихъ исполнительная власть есть центръ, отъ
котораго общество расходится, какъ радіусы* 2); у насъ общество есть двигатель, органъ,
исполнитель. Разница въ результатѣ соотвѣтствуетъ разницѣ въ процессѣ. Мы сдѣ-
лались способны къ политической власти вслѣдствіе продолжительнаго пользованія
гражданскими правами; они же, пренебрегая пользованіемъ этими правами, думаютъ,
что могута прямо начать съ власти. Мы всегда показывали рѣшимость поддерживать
Одинъ замѣчательный французскій писатель I
сказалъ: < Франція страдаетъ болѣзнью вѣка—и стра- |
даетъ болѣе всякой другой страны: болѣзнь эта пеиа- і
висть къ власти». ((’щЦіпе, «Киззіо», ѵоі. II. р. 136).
2) Мы должны приписать дѣятельности духа по- і
Кровительства и централизаціи то, что тридцать лѣтъ |
тому назадъ было замѣчено извѣстнымъ авторитетомъ, і
какъ «недостатокъ самодѣятельности, характеризую- |
Бокль.—Изд. Ф. Павленкова.
іцій учрежденія современной Франціи». (Меуег, «Інзііі.
Ли(1іс.> ѵоі. IV, р. 536). Это же располагаетъ ихъ въ
литературѣ п въ наукѣ къ учрежденію академій, и
вѣроятно тому же самому принципу обязаны фран-
цузскіе юристы своею любовью къ кодификаціи. Все
это признаки нежеланія довѣриться общему ходу дѣлъ
п несправедливаго прозрѣнія къ выводамъ, дѣлаемымъ
частнымъ лицомъ, безъ посторонней помощи.
17
258
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІЯ ВЪ АНГЛІИ.
наши права, а когда времена были благопріятны—то и расширять ихъ; дѣлали мы
это съ пристойностью и степенностью, свойственными тѣмъ людямъ, которымъ такіе
предметы издавна знакомы. Но французы, съ которыми всегда обходились какъ съ
дѣтьми,—въ политическомъ отношеніи все еще дѣти. И такъ какъ они вели самыя
важныя дѣла въ томъ живомъ и легкомысленномъ духѣ, которымъ отличается ихъ
легкая литература, то не удивительно, что они не имѣли удачи въ тѣхъ дѣлахъ, гдѣ
первое условіе успѣха—чтобы люди издавна привыкли полагаться на собственныя
силы и чтобы прежде, нежели они испытаютъ свое искусство въ борьбѣ политиче-
ской, силы ихъ окрѣпли въ томъ предварительномъ закалѣ, который неминуемо даетъ
борьба съ трудностями гражданской жизни.
Вотъ нѣкоторыя изъ тѣхъ соображеній, которыми мы должны руководствоваться,
строя предположенія на счетъ будущей судьбы великихъ европейскихъ государствъ.
Но намъ теперь особенно важно замѣтить, какъ долго противоположныя стремленія
Франціи и Англіи высказывались въ томъ положеніи и обращеніи, какими пользо-
валась въ нихъ аристократія, и какъ изъ этого естественно произошли нѣкоторыя
рѣзкія различія между борьбою Фронды и борьбою Долгаго Парламента.
Когда въ четырнадцатомъ столѣтіи власть французскихъ королей стала быстро
возрастать, политическое значеніе дворянъ стало конечно въ той же мѣрѣ умень-
шаться. Но что особенно доказываетъ, до такой степени укоренилась въ прежнее
время ихъ власть, это тотъ несомнѣнный фактъ, что, несмотря на такое неблаго-
пріятное для вихъ обстоятельство, народъ никогда не былъ въ силахъ освободиться
отъ ихъ контроля. Отношенія дворянъ къ коронѣ совершенно измѣнились, а отно-
шенія ихъ къ народу остались почти тѣ же самыя. Въ Англіи рабство или, какъ
оно мягче называется, крѣибстное состояніе быстро уменьшалось и исчезло къ копцу
шестнадцатаго столѣтія *). Во Франціи оно существовало еще двѣсти лѣтъ и было
уничтожено только въ революцію. Точно также до копца восемнадцатаго столѣтія
дворяне во Франціи были изъяты отъ тѣхъ обременительныхъ налоговъ, которые
падали на народъ. Подушная подать и барщина, эти тяжкія повинности, налагались
исключительно на лицъ низкаго происхожденія, потому что французская аристократія,
будучи высокой, рыцарской расою, сочла бы оскорбленіемъ для своихъ знатныхъ потом-
ковъ, если бы они были обложены податью наравнѣ съ тѣми, которыхъ они прези-
раютъ, ставя ихъ ниже себя 3)< Въ самомъ дѣлѣ все стремилось къ поддержанію этого
презрѣнія. Все было направлено къ униженію одного класса и къ возвышенію дру-
гого. Дворянамъ предоставлялись лучшія должности въ духовенствѣ, а также самые
важные военные посты. Имъ дарована была привилегія вступать въ армію офице-
рами 3; и имъ однимъ принадлежало исключительное право служить въ кавалеріи. Въ
то же время, чтобы избѣжать и малѣйшей возможности смѣшенія, такая же пред-
усмотрительность проявляема была и въ самыхъ ничтожныхъ обстоятельствахъ; ста-
рались, чтобы не было ни малѣйшаго сходства даже въ увеселеніяхч, двухъ классовъ.
Это доходило до такой степени, что во многихъ мѣстностяхъ Франціи право имѣть
птичникъ или голубятню совершенно зависѣло отъ званія человѣка: ни одинъ фран-
цузъ, каково бы ни было его богатство, не могъ держать голубей, если онъ былъ
не дворянинъ, ибо такія развлеченія считались слишкомъ возвышенными для лицъ
плебейскаго происхожденія.
Подобныя условія имѣютъ важность, какъ свидѣтельство о состояніи того обще-
Э Сэръ Томасъ Смитъ, писавшій около 1550 г.,
заявляетъ, что онъ никогда но встрѣчалъ ни одного
личнаго пли двороваго раба, и что крѣпостные или
рабы, приписанные къ землѣ, которыхъ еще можно
было найти, такъ малочисленны, что объ этомъ почти
не стоитъ упоминать. Галламъ не могъ отыскать
<несомнѣннаго доказательства существованія крѣпост-
ного состоянія» позже 1574 года. Однако—если мнѣ
не измѣняетъ память—я нашелъ признаки его въ
царствованіе Іакова I, но не могу вспомнить, вь ка-
комъ именно мѣстѣ.
2) Такъ глубоко вкоренились подобныя чувства,
что даже въ 1789 году, въ самый годъ разгара ре-
волюціи, считались за уступку со стороны дворянъ,
если они согласятся въ самомъ дѣдѣ на уравни-
тельное обложеніе податями.
3) «Старый порядокъ допускалъ только дворянъ
быть офицерамп> (Роланъ).
ДУХЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ВО ФРАНЦІИ И ВЪ АНГЛІИ.
259
ства, среди котораго они существовали; значеніе ихъ сдѣлается въ особенности оче-
видно, когда сравнимъ этотъ порядокъ вещей съ противоположнымъ ому состояніемъ
Англіи. Въ Англіи ни эти, ни какія-либо подобныя имъ различія никогда не были
извѣстны. Духъ, представителями котораго были наши мелкіе землевладѣльцы, наши
копигольдеры и наши вольные горожане, былъ слишкомъ силенъ, чтобы уступить
тѣмъ началамъ покровительства и монополіи, которыя поддерживаются аристократіей
въ политикѣ и духовенствомъ въ религіи. Этой успѣшной оппозиціи со стороны
чувства личной независимости обязаны мы нашими двумя величайшими народными
движеніями—нашей реформаціей въ XVI и нашимъ возстаніемъ въ XVII столѣтіи.
Но прежде чѣмъ излагать все, что было сдѣлано въ этихъ отношеніяхъ, я желалъ
бы обратить вниманіе еще на одну сторону, представляющую новое доказательство
ранняго и радикальнаго различія между Франціей и Англіей.
Въ одиннадцатомъ столѣтіи возникло знаменитое учрежденіе рыцарства, которое
было тѣмъ же для нравовъ, чѣмъ былъ феодализмъ для политическаго быта. Эта
связь ясно видна не только изъ свидѣтельствъ современниковъ, но и изъ двухъ
общихъ соображеній. Во-первыхъ, рыцарство было такое высоко-аристократическое
учрежденіе, что никто не могъ вступать въ него, пе будучи благороднаго происхо-
жденія, и предварительное воспитаніе, которое считали необходимымъ, давалось или
въ школахъ, утвержденныхъ дворянами, иди въ ихъ собственныхъ баронскихъ зам-
кахъ. Во-вторыхъ, рыцарство было въ сущности покровительственное, а вовсе не
преобразовательное учрежденіе. Оно было придумано съ цѣлью дѣйствовать противъ
нѣкоторыхъ притѣсненій по мѣрѣ того, какъ они обнаруживались; оно представляетъ
въ этомъ отношеніи противоположность съ духомъ реформы, который, дѣйствуя ско-
рѣе какъ радикальныя, чѣмъ какъ палліативныя средства^ поражаетъ зло въ самомъ
корнѣ, смиряя тотъ классъ, отъ котораго зло происходитъ, и минуя частные случаи,
дабы сосредоточить вниманіе на общихъ причинахъ. Рыцарство, далеко не имѣя та-
кого дѣйствія, было въ самомъ дѣлѣ смѣшеніемъ аристократическихъ и клерикаль-
ныхъ формъ покровительственнаго духа х). Ибо, вводя въ дворянство начало рыцар-
ства, которое, будучи личнымъ, никогда не могло быть передаваемо по наслѣдству,
учрежденіе это представляло съ одной стороны возможность примиренія церковнаго
ученія о безбрачіи съ аристократическимъ ученіемъ о наслѣдственности. Эта коали-
ція имѣла чрезвычайно важныя послѣдствія. Ей именно обязана Европа появленіемъ
орденовъ полуаристократическихъ и полурслигіозныхъ—рыцарей Храмовниковъ (Там-
пліеровъ), рыцарей Св. Іакова/ рыцарей Св. Іоанна, рыцарей Св. Михаила,—
учрежденій, причинившихъ обществу величайшее зло: члены ихъ, соединивъ въ себѣ
однородные пороки, оживили суевѣріе монаховъ примѣсью солдатскаго разгула. Есте-
ственнымъ послѣдствіемъ этого было, что огромное число благородныхъ рыцарей тор-
жественно дали обѣтъ «защищать церковь»,—выраженіе зловѣщее, смыслъ котораго
слишкомъ хорошо извѣстенъ читателямъ церковной исторіи * 2). Такимъ образомъ ры-
царство, соединивъ враждебные принципы безбрачія и знатности рожденія, сдѣлалось
воплощеніемъ духа тѣхъ двухъ классовъ, которымъ эти принципы были свойственны.
Какую бы пользу ни доставило это учрежденіе нравамъ 3), но несомнѣнно, что оно
а) Соединеніе рыцарства съ религіозными обря-
дами часто приписывается крестовымъ походамъ, по
есть ясныя доказательства, что оно получило начало
нѣсколько ранѣе и должно быть отнесено къ послѣд-
ней половинѣ одиннадцатаго столѣтія. Высшее духо-
венство имѣло право посвящать въ рыцари, и Виль-
гельмъ Рыжій быль дѣйствительно посвященъ въ ры-
цари архіепископомъ Дандфранкомъ.
э) Около 1127-го года Св. Бернардъ написалъ
рѣчь къ защиту рыцарей Храмовниковъ, въ которой
<т превозноситъ этотъ орденъ, какъ соединеніе мо-
ішшва съ рыцарствомъ... Онь утверждаетъ, что
ийь атого учрежденія — дать военному ордену
и ’ рыцарству серьезное христіанское направленіе и
превратить войну въ йѣчто угодное Богу». Къ
этому можно прибавить, что въ началѣ тринадца-
таго столѣтія образовалась рыцарская община, ко-
торая превратилась впослѣдствіи въ Доминиканскій
ордепь, названный воинствомъ Христа; «новый орденъ
рыцарства, предназначенный для преслѣдованія ере-
тиковъ, на подобіе ордена Храмовниковъ и подъ име-
немъ Христова ополченія».
3) Нѣкоторые писатели приписываютъ рыцар-
ству честь смягченія нравовъ и доставленія большаго
вліянія женщинамъ. Что было такое стремленіе, это,
| я, думаю, безспорно; но его слишкомъ уже преувели-
260
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
дѣятельно способствовало къ поддержанію людей въ состояніи несовершеннолѣтія и
остановило развитіе общества, продолживъ время его дѣтства х).
Поэтому очевидно, что, взглянемъ ли мы на непосредственныя или на отда-
ленныя стремленія рыцарства, его могущество и продолжительность окажутся мѣрою
преобладанія покровительственнаго духа. Если съ этой точки зрѣнія мы сравнимъ
Францію и Англію, то найдемъ новыя доказательства ранняго различія между этими
странами. Турниры, первое открытое выраженіе рыцарства, обязаны своимъ про-
исхожденіемъ Франціи, Замѣчательнѣйшіе и даже единственные два писателя, гово-
рившіе о рыцарствѣ, Жуанвиль и Фруассаръ оба были французы. Ваярдъ, знаме-
нитый рыцарь, всегда считавшійся послѣднимъ представителемъ рыцарства, былъ
французъ и былъ убитъ, сражаясь за Франциска I. И только около сорока лѣтъ
спустя послѣ его смерти турниры были окончательно уничтожены во Франціи,—по-
слѣдніе турниры были даны въ 1560 году.
Но въ Англіи, гдѣ духъ покровительства былъ менѣе дѣятеленъ, чѣмъ во Фран-
ціи, слѣдовало ожидать, что рыцарство, какъ порожденіе этого духа, будетъ имѣть
менѣе вліянія. Такъ оно и было на самомъ дѣлѣ. Почести, оказываемыя рыцарямъ,
и общественныя отличія, отдѣлявшія ихъ отъ прочихъ классовъ, никогда не были
такъ велики у насъ, какъ во Франціи. Чѣмъ болѣе народъ дѣлался свободнымъ, тѣмъ
болѣе уменьшалось уваженіе его къ такимъ предметамъ. Въ тринадцатомъ столѣтіи,
именно въ то самое царствованіе, когда горожане впервые призваны были въ пар-
ламентъ, гласный символъ рыцарства былъ въ такомъ презрѣніи, что вышелъ законъ,
обязывавшій извѣстныхъ лицъ принимать рыцарскій санъ, тогда какъ между другими
націями это было однимъ изъ главнѣйшихъ предметовъ7 честолюбія. Въ четырнад-
цатомъ столѣтіи новый уда^ъ лишилъ рыцарство его исключительнаго военнаго ха-
рактера; въ царствованіе’Эдуарда III вошло въ обычай давать рыцарство судьямъ
судовъ права, и такимъ образомъ воинственный титулъ превратился въ гражданское
достоинство. Наконецъ въ исходѣ пятнадцатаго столѣтія духъ рыцарства, высоко
еще стоявшій во Франціи, совершенно угасъ въ нашей странѣ, и это гибельное
учрежденіе сдѣлалось предметомъ насмѣшки даже между народомъ. Къ этимъ обстоя-
тельствамъ мы можемъ присоединить еще два другихъ, чкоторыя, кажется, заслужи-
ваютъ вниманія. Первое—что французы, несмотря на ихъ многія удивительныя ка-
чества, всегда отличались большимъ личнымъ тщеславіемъ 2), нежели англичане,—
особенность эту отчасти должно приписать тѣмъ рыцарскимъ преданіямъ, которыхъ
не могли истребить даже ихъ случайныя республики, и которыя пріучали ихъ при-
давать излишнее значеніе внѣшнимъ отличіямъ; подъ послѣдними я понимаю не только
одежду и манеры, но также медали, ленты, звѣзды, кресты и т. п., чему мы, народъ
болѣе гордый, никогда не оказывали такого высокаго уваженія. Второе обстоятель-
ство—что дуэль была съ самаго начала болѣе популярна во Франціи, чѣмъ въ Англіи,
а такъ какъ этимъ обычаемъ мы обязаны рыцарству, то разница въ этомъ отношеніи
между двумя странами прибавляетъ новое звено въ длинной цѣпи данныхъ, на осно-
ваніи которыхъ мы должны судить о національныхъ стремленіяхъ ихъ обѣихъ 3).
чикаютъ. Одинъ писатель, много писавшій объ этихъ ,
предметахъ, говоритъ: «суровое обращеніе съ военно- ,
плѣнными въ прежнія времена рѣзко указываетъ I
на жестокость и грубость нравовъ нашихъ предковъ; I
таково было обращеніе даже съ женщинами высшаго |
круга, несмотря на почтеніе, которое, какъ говорятъ, !
оказывалось прекрасному полу въ дни рыцарства».
*) Галламъ говоритъ: «можно сдѣлать третій ;
упрекъ рыцарству за то, что оно увеличило разстоя- ।
піе между различными классами общества и закрѣ- :
пило «аристократическій взглядъ на знатность рож- !
денія, вслѣдствіе котораго огромная масса человѣче- I
ства осталась въ несправедливомъ уппікеніи». |
’*') Это не есть только народное мнѣніе; опо осно-
вано на множествѣ доказательствъ, собранныхъ свѣ-
дущими и безпристрастными наблюдателями. Адиссовъ,
судья столько же снисходительный, сколько и умный,
жившій долго между французами, называетъ ихъ «тще-
славнѣйшимъ народомъ въ свѣтѣ* *. Наполеонъ гово-
ритъ, что «тщеславіе еегь руководящее начало фран-
цузовъ». Дюмонъ говоритъ, что «господствующая
черта французскаго характера есть самолюбіе»; а
Сегюръ: «ибо во Франціи самолюбіе, или, пожа-
луй, тщеславіе, самая раздражительная изъ всѣхъ
сірастей». Сверхъ того извѣстно, что и френологи-
ческія наблюденія доказываютъ, что французы тще-
славнѣе англичанъ.
3) Отношеніе между дуэлью и рыцарствомъ было
ДУХЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ВО ФРАНЦІИ И ВЪ АНГЛІИ.
261
Старинныя ассоціаціи идей, которыхъ эти факты суть только внѣшнее выра-
женіе, теперь продолжали дѣйствовать съ возрастающей силой. Во Франціи духъ
покровительства, внесенный въ религію, былъ довольно силенъ, чтобы противиться
Реформаціи и сохранить духовенству по крайней мѣрѣ формы его прежняго могу-
щества. Въ Англіи гордость народа и привычка полагаться на самого себя дали
возможность выработаться цѣлой системѣ, основанной на такъ называемомъ правѣ
личнаго сужденія, съ помощью которой были искоренены нѣкоторыя изъ самыхъ
любимыхъ преданій; а это обстоятельство, какъ мы уже видѣли, будучи непосред-
ственно сопровождаемо сперва скептицизмомъ, а потомъ терпимостью, проложило
путь къ тому подчиненію церкви государству, въ которомъ мы достигли высшей
степени и не знаемъ себѣ соперниковъ между народами Европы. То же самое на-
правленіе, дѣйствуя въ политикѣ, произвело подобные же результаты. Наши предки
не встрѣтили никакого препятствія къ смиренію гордости дворянъ и къ приведенію
ихъ въ положеніе сравнительно ничтожное. Войны Алой и Бѣлой розъ, раздѣливъ
знатнѣйшія фамиліи на двѣ враждебныя партіи, помогли этому движенію, и съ
самаго царствованія Эдуарда IV не было примѣра, чтобы англичанинъ, даже изъ
самаго знатнаго рода, отважился вести тѣ частныя войны, которыми въ другихъ
странахъ знатные бароны все еще нарушали спокойствіе общества. Послѣдній слу-
чай правильнаго сраженія между двумя могущественными дворянами въ Англіи про-
изошелъ въ царствованіе Эдуарда IV. Когда междоусобныя смуты затихли, тотъ же
духъ проявился въ политикѣ Генриха VII и Генриха VIII. Ибо эти государи, ка-
кими бы они ни были деспотами, преимущественно угнетали высшіе классы, и даже
Генрихъ VIII, несмотря на свою варварскую жестокость, былъ любимъ народомъ,
для котораго его царствованіе4 было вообще благодѣтельно. Къ этому присоедини-
лась еще Реформація, которая, какъ возстаніе человѣческаго ума, являлась въ сущ-
ности движеніемъ мятежнымъ и, ослабивъ въ людяхъ чувство подчиненности, посѣяла
въ XV столѣтіи сѣмена тѣхъ великихъ политическихъ революцій, которыя въ XVII
столѣтіи вспыхнули почти во всѣхъ частяхъ Европы. Связь между этими двумя рево-
люціонными эпохами въ высшей степени интересна; но для настоящей главы доста-
точно будетъ указать лишь на такія событія послѣдней половины XVI столѣтія, кото-
рыя обнаруживаютъ сочувствіе между духовенствомъ и аристократіей и доказываютъ,
что тѣ же обстоятельства, которыя были пагубны для одного класса, приготовили
также и паденіе другого.
Когда Елизавета вступила на престолъ Англіи, значительное большинство дво-
рянства враждебно относилось къ протестантской религіи; это мы знаемъ изъ са-
мыхъ положительныхъ свидѣтельствъ; но еслибы мы даже не имѣли этихъ свидѣ-
тельствъ, то знакомство вообще съ человѣческой природой заставило бы насъ
предположить, что такъ именно и было. Ибо аристократія по самымъ условіямъ
своего существованія должна, какъ сословіе, всегда враждебно смотрѣть на ново-
введенія. И это не потому только, что при всякой перемѣнѣ члены ея много теряютъ
и мало выигрываютъ, а потому, что нѣкоторыя изъ ихъ пріятнѣйшихъ душевныхъ
движеній связаны скорѣе съ прошедшимъ, чѣмъ съ настоящимъ. Въ столкновеніяхъ
съ дѣйствительной жизнью ихъ тщеславіе иногда оскорбляется возвышеніями тем-
ныхъ личностей; оно часто также уязвляется успѣшнымъ соревнованіемъ съ ними
людей талантливыхъ. Таковы оскорбленія, которымъ, съ развитіемъ общества, они
хорошо опредѣлено многими писателями; во Франціи, I
гдѣ духъ рыцарства не быль совершенно уничтоженъ |
до самой революціи, мы находимъ по временамъ слѣды
такой связи даже въ царствованіе Людовика XVI. I
Въ Англіи, я полагаю, не было ни одного примѣра |
чашоа дуэли ранѣе ХѴІ-го столѣтія, и вообще ихъ |
ІШО 18 много до второй половины царствованія ;
Вташы; но во Франціи обычай этотъ возникъ ।
въ самомъ началѣ ХѴ-го столѣтія, а въ ХѴІ-мъ
вошло въ обыкновеніе, чтобы секунданты тоже дра-
лись между собою. Съ этого времени склонность
французовъ въ дуэли дѣлается чисто страстью, и это
продолжается до конца XVIII столѣтія, когда рево-
люція, или скорѣе обстоятельства, которыя вели къ
ной, произвели относительное прекращеніе дуэлей.
262 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
все болѣе и болѣе подвергаются. Но имъ стоитъ только обратиться къ прошедшему, и
они увидятъ въ томъ добромъ, старомъ времени, которое уже не возвратится, много
источниковъ утѣшенія. Тамъ они находятъ такой періодъ, когда ихъ слава не знала
соперничества. Когда они смотрятъ на родословныя, на щиты своихъ гербовъ и на
ихъ дѣленія, когда они вспоминаютъ о чистотѣ своей крови и о древности своихъ
предковъ—они испытываютъ такое отрадное чувство, которое должно вполнѣ воз-
награждать ихъ за всякія лишенія въ настоящемъ. Къ чему все это ведетъ, понять
весьма легко: это видно изъ исторіи всѣхъ аристократій въ свѣтѣ. Люди, дошедшіе
до такого воззрѣнія, чтобы полагать, будто имъ дѣлаетъ честь, если одинъ предокъ
ихъ пришелъ съ норманнами, а другой присутствовалъ при первомъ вторженіи въ
Ирландію.—люди, до такой степени увлекавшіеся мечтаніями, не способны остано-
виться на этомъ; посредствомъ процесса, привычнаго большинству умовъ, они обоб-
щаютъ свой взглядъ и, даже въ вещахъ, не имѣющихъ непосредственной связи съ
ихъ славой, пріобрѣтаютъ привычку соединять величіе съ древностью и оцѣнивать
достоинство годами, перенося такимъ образомъ на прошедшее то удивленіе, которое
иначе они сохранили бы для настоящаго.
Связь между такими чувствами и чувствами, одушевляющими духовенство,
весьма очевидна. Что дворяне въ политикѣ, то духовные въ религіи. Оба класса,
постоянно ссылаясь на голосъ древности, полагаются много на преданія и находятъ
большую важность въ поддержаніи установившихся обычаевъ. Оба считаютъ за вещь
доказанную, что старое лучше новаго, и что въ прежнія времена существовали
такія средства для открытія истинъ въ государственномъ управленіи и въ теологіи,
какихъ мы въ теперешніе выродившіеся вѣка болѣе щ/имѣемъ. Слѣдуетъ еще при-
бавить, что изъ сходства йхъ принциповъ вытекаетъ и сходство ихъ стремленій.
Оба они въ высшей степени ^отличаются духомъ покровительства, неподвижностью,
или, какъ иногда говорятъ, консерватизмомъ. Полагаютъ, что аристократія оберегаетъ
государство отъ революціи, а духовенство ограждаетъ церковь отъ заблужденій.
Первая—врагъ реформаторовъ; второе—бичъ ереси.
Въ настоящемъ введеніи не мѣсто разсматривать, насколько разумны эти
принципы, или въ какой мѣрѣ здравы тѣ понятія, которыя предполагаютъ, что въ
воззрѣніяхъ па извѣстные предметы огромной важности люди должны оставаться
неподвижными, между тѣмъ какъ во всемъ другомъ они должны постоянно идти
впередъ. Но что я теперь желаю особенно выяснить, это то, какимъ образомъ въ
царствованіе Елизаветы два великіе консервативные и покровительственные класса
были ослаблены тѣмъ обширнымъ движеніемъ,—Реформаціей, которая довершилась
въ XVI столѣтіи, но была приготовлена длиннымъ рядомъ предшествовавшихъ фак-
товъ умственнаго развитія.
Что бы ни говорили люди, ослѣпленные предразсудками, но принято всѣми
непредубѣжденными судьями, что протестантская реформація была ни болѣе, ни
менѣе, какъ открытое возстаніе. Въ самомъ дѣлѣ, одного намека на личное сужде-
ніе, на которомъ она неизбѣжно основалась, достаточно для подтвержденія этого
факта. Установить право личнаго сужденія значило аппеллировать на церковь къ
разуму отдѣльныхъ личностей; это значило расширить кругъ дѣйствія ума каждаго
отдѣльнаго человѣка; это значило повѣрять мнѣнія духовенства мнѣніями мірянъ;
это значило собственно возстановлять учениковъ противъ ихъ учителей—подвласт-
ныхъ противъ ихъ властителей. И хотя реформатское духовенство, какъ только
оно образовало изъ себя іерархію, безъ сомнѣнія покинуло великій принципъ, отъ
котораго оно первоначально исходило, и стало стремиться къ введенію догматовъ и
каноновъ своего собственнаго изобрѣтенія,—все-таки это не должно ослѣплять насъ
въ отношеніи заслугъ самой Реформаціи. Тираннія англиканской церкви въ цар-
ствованіе Елизаветы и еще болѣе въ царствованіе двухъ ея преемниковъ была
естественнымъ послѣдствіемъ той порчи, которую иногда производитъ власть въ
тѣхъ, кто облеченъ ею, и потому это не уменьшаетъ важности того движенія,
ДУХЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ВО ФРАНЦІИ И ВЪ АНГЛІИ. 263
посредствомъ котораго была первоначально достигнута такая власть. Ибо люди не
могли забыть, что по старинной теологической теоріи англиканская церковь счита-
лась учрежденіемъ схизматическимъ и могла защищать себя отъ обвиненія въ ереси,
только аппеллируя къ личному сужденію, проявленію котораго она обязана своимъ
существованіемъ, хотя ея собственныя дѣйствія и были постояннымъ нарушеніемъ
его правъ. Было очевидно, что если въ религіозныхъ вопросахъ личное сужденіе
важнѣе всего, то величайшимъ правительственнымъ преступленіемъ должно считать
введеніе какихъ-либо постановленій или принятіе какихъ-либо мѣръ, которыя бы свя-
зывали личное сужденіе; между тѣмъ какъ съ другой стороны, если право личнаго
сужденія не стоитъ выше всего, то англиканская церковь была виновна въ вѣро-
отступничествѣ, потому что ея основатели, опираясь на толкованіе Библіи, основан-
ное на ихъ личномъ сужденіи, оставили ученія, которыхъ они до тѣхъ поръ дер-
жались, и открыто нарушали вѣрность тому, передъ чѣмъ въ теченіе цѣлыхъ столѣтій
всѣ благоговѣли, какъ передъ каѳолическою апостольскою церковью.
Вотъ два простыя рѣшенія вопроса, которыя, конечно, могли быть упущены изъ
виду, но не вовсе отвергнуты, и о которыхъ, безъ всякаго сомнѣнія, никогда не
забывали. Память о великой истинѣ, заключающейся въ нихъ, сохранилась въ со-
чиненіяхъ и ученіяхъ пуританъ и въ той привычкѣ къ мышленію, которая свой-
ственна пытливому вѣку. Когда пришла пора, истина эта не преминула принести
свои плоды. Она продолжала медленно распложаться, и около половины XVII сто-
лѣтія сѣмена ея получили, такую жизненную силу, которой ничто не могло проти-
востоять. То же самое право личнаго сужденія, которое было громко провозглашено
первыми реформаторами, тецерь расширилось до размѣра гибельнаго для тѣхъ, кто
ему противился. Введенное въ политику, оно ниспровергло правительство; внесен-
ное въ религію—уронило церковь *)- Возстаніе и ересь суть только различныя формы
того же самаго пренебреженія къ~ преданіямъ—проявленія того же самаго смѣлаго
и независимаго духа. Оба они имѣютъ свойства протеста новѣйшихъ идей противъ
старинныхъ понятій. Они составляютъ борьбу между чувствами, возбуждаемыми на-
стоящимъ, п воспоминаніемъ прошедшаго. Безъ приведенія въ дѣйствіе личнаго
сужденія, такая борьба никогда не могла бы имѣть мѣста; ни малѣйшая мысль о
ней не могла бы никому придти въ голову; люди никогда и не подумали бы по-
давлять своей личной энергіей тѣ злоупотребленія, которымъ подвержены всѣ обшир-
ныя общества. Поэтому въ высшей степени естественно, что примѣненію личнаго
сужденія должны противиться тѣ два могущественные класса, которые, по своему
положенію, по своимъ интересамъ и складу ума, склонны болѣе чѣмъ кто-либо лю-
бить старину, держаться обветшалыхъ обычаевъ и поддерживать учрежденія, кото-
рыя, по ихъ любимому выраженію, были освящены мудростью ихъ отцовъ.
Съ этой точки зрѣнія мы имѣемъ возможность съ большой ясностью разли-
чать тѣсную связь, которая существовала при воцареніи Елизаветы между англій-
скими дворянами и католическимъ духовенствомъ. Несмотря на многія исключенія,
огромное большинство въ обоихъ классахъ противилось Реформаціи, потому что она
была основана на правѣ личнаго сужденія, котораго оии, какъ покровители старыхъ
мнѣній, были естественными антагонистами. Все это не должно возбуждать удив-
ленія; оно было въ порядкѣ вещей и строго согласовалось съ духомъ этихъ двухъ
классовъ общества. Къ счастью однако для нашей страны, на тронѣ была госу-
дарыня, которая во всемъ соображалась съ обстоятельствами и которая вмѣсто
того, чтобы дѣлать уступки обоимъ классамъ, воспользоьалась духомъ времени, чтобы
Кларендонъ замѣчаетъ сь большой досадой,
но совершенно справедливо связь между «гордымъ,
ожесточеннымъ отвращеніемъ къ дисциплинѣ англій-
ской церкви и мало-по-малу дошедшимъ до тоіі же
степени неуваженіемъ къ самому правительству».
Испанское правительство быть можетъ лучше вся-
каго другого въ Европѣ поняло это соотношеніе, и
даже въ самомъ 1789 году, эпиктомъ Карла ІУ, было
объявлено, «чтб во всемъ, чтб направлено и спо-
собствуетъ къ распространенію революціонныхъ идей,
заключается также п преступленіе ереси».
264
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
смирить и тѣхъ, и другихъ. Изложеніе того, какимъ образомъ Елизавета достигла
этой цѣли сперва относительно католическаго духовенства, а потомъ и относительно
протестантскаго, составляетъ одну изъ интереснѣйшихъ страницъ нашей исторіи,
и, при разсказѣ о царствованіи этой великой королевы, я надѣюсь разсмотрѣть
этотъ вопросъ довольно подробно. Теперь же достаточно будетъ взглянуть на поли-
тику ея въ отношеніи къ дворянамъ,—къ тому классу, съ которымъ духовенство, по
его интересамъ, убѣжденіямъ и понятіямъ, всегда имѣло много общаго.
Елизавета, найдя при своемъ восшествіи на престолъ, что древнія фамиліи
держатся старой религіи, призвала естественнымъ образомъ въ свой совѣтъ такихъ
лицъ, отъ которыхъ скорѣе можно было ожидать поддержки нововведеніямъ, соот-
вѣтствовавшимъ духу времени. Она избрала людей, которые, не будучи стѣснены
связями съ прошедшимъ, имѣли большую склонность въ пользу современныхъ инте-
ресовъ. Два Бэкона, два Сэсиля (Бёрлея), Садлеръ, Смитъ, Трогмортонъ, Вальсин-
гамъ—все это знаменитѣйшіе государственные люди и дипломаты ея царствованія,
и всѣ они были членами палаты общинъ; одного только возвела она въ достоинство
пэра. Люди эти конечно не были замѣчательны ни настоящими родственными свя-
зями, ни славою своихъ предковъ; они обратили однако на себя вниманіе Елизаветы
своими замѣчательными способностями и своей рѣшимостью поддерживать религію,
противъ которой старинная аристократія естественно возставала. Замѣчательно, что
между обвиненіями, взводимыми на эту королеву католиками, находятся порицанія
не только за отступленіе отъ старой религіи, но и за пренебреженіе къ старинному
дворянству 1).
Не требуется слишкомъ большого знанія исторіи^того времени, чтобы видѣть,
на сколько это обвиненіе справедливо. Какое бы ни Давали объясненіе этому факту,
но нельзя отрицать, что въ Царствованіе Елизаветы была открытая и постоянная
оппозиція дворянъ исполнительному правительству. Возмущеніе 1569 года было въ
сущности аристократическое движеніе; это было возстаніе знатныхъ фамилій сѣвера
противъ плебейскаго, по ихъ мнѣнію, управленія королевы 2). Злѣйшимъ врагомъ
Елизаветы была конечно Марія Шотландская; интересы Маріи были открыто защи-
щаемы герцогомъ Норфольскимъ, графомъ Нортумберландскимъ, графомъ Вестмор-
ландскимъ и графомъ Арендель; есть тоже причины предполагать, что ея дѣлу въ
тайнѣ помогали маркизъ Нортгамптонъ, графъ Пемброкъ, графъ Кумберландъ, графъ
Шрюсбёри и графъ Сессексъ.
Существованіе такого антагонизма интересовъ не могло ускользнуть отъ про-
ницательности англійскаго правительства. Сэсиль, самый могущественный изъ мини-
стровъ Елизаветы, стоявшій во главѣ правленія около сорока лѣтъ, считалъ одною
изъ обязанностей своихъ изучать генеалогіи и матеріальныя средства знатныхъ фа-
милій; и это онъ дѣлалъ не изъ пустого любопытства, а ради усиленія своего кон-
троля надъ ними или, какъ говоритъ одинъ великій историкъ, «для того, чтобы они
знали, что его глазъ слѣдитъ за ними». Сама королева, при всемъ своемъ власто-
любіи, нисколько не была расположена къ жестокости,-но ей повидимому нравилось
унижать дворянъ. На нихъ тяжело ложилась рука ея, и трудно найти хотя одинъ
х) Однимъ изъ обвиненій, которыя въ 1558 г. і
Сикстъ V публично высказалъ противъ Елизаветы, і
было, что «она отвергла и удалила отъ себя старин-
ное дворянство, а возвысила людей темныхъ >. ІІер-
сонсъ также попрекаетъ ее низко-рожденными мини- :
страна и говорить, что она находится подъ вліяніемъ
«особенно пяти лицъ—всѣ они вышли изъ массы—
это Бэконъ, Сэсиль, Дёдлей, Гаттопъ и Вальсингамъ». ।
Кардиналъ Алленъ порицалъ со за «немилость къ ,
старинному дворянству, за возведеніе во всѣ граж-
данскія и церковныя званія низкихъ и недостойныхъ
людей», прибавляя, что Елизавета оскорбила Англію |
«великимъ пренебреженіемъ и упиженіемъ стариннаго |
дворянства, которое она устраняла отъ участія въ
управленіи, отъ должностей и почетныхъ мѣстъ».
2) Для историка^философа это возстаніе, хотя
пс достаточно оцѣненное обыкновенными писателями,
представляетъ весьма важный предметъ изученія, по-
тому что это послѣдняя попытка знатныхъ англій-
скихъ фамилій возстановить свое значеніе силою оружія.
Сэръ Д жоржъ Боусъ (Вота?) пишетъ, что
инсургенты жаловались на то, что «были нѣкоторые
члены совѣта, которые, пресмыкаясь около королевы,
отстранили отъ нея дворянство» и т. и. Издатель
въ примѣчаніи говоритъ, что это было однимъ изъ
обвиненій, вошедшихъ во всѣ прокламаціи графовъ.
ДУХЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ВО ФРАНЦІИ И ВЪ АНГЛІИ.
205
случай, въ которомъ бы она простила имъ какой-либо проступокъ; многихъ изъ нихъ
она наказала за такія дѣла, которыя теперь вовсе не считались бы преступленіями.
Она всегда неохотно допускала ихъ къ отправленію власти, и нѣтъ никакого сомнѣ-
нія, что въ ея долгое благополучное царствованіе съ дворянами, какъ съ сословіемъ,
обращались необыкновенно непочтительно. И въ самомъ дѣлѣ, такъ ясно обозна-
чалась политика ея въ этомъ отношеніи, что, когда вымерло сословіе герцоговъ
(1572 г.), она отказалась возстановить его; и прошло цѣлое поколѣніе, для кото-
раго слово «герцогъ > было чѣмъ-то чисто историческимъ, предметомъ обсужденія для
антикваріевъ, не имѣющимъ никакого отношенія къ практической жизни. Каковы
бы ни были ея ошибки въ другихъ отношеніяхъ, но въ этомъ она была всегда
послѣдовательна. Прилагая величайшее стараніе къ тому, чтобы окружить престолъ
свой даровитыми личностями, она весьма мало заботилась о тѣхъ условныхъ разли-
чіяхъ между людьми, которыя такъ важны въ глазахъ посредственныхъ государей.
Она не обращала вниманія на высокія званія и не смотрѣла на чистоту крови.
Людей цѣнила она не по знатности ихъ происхожденія, не но древности ихъ родо-
словныхъ и не по блистательности ихъ титуловъ. Всѣ подобные вопросы она оста-
вила своимъ выродившимся преемникамъ, умы которыхъ какъ бы созданы были для
разсмотрѣнія ихъ. Наша великая королева опредѣляла свой образъ дѣйствій по со-
вершенно другимъ началамъ. Ея обширный и могучій умъ, до совершенства разви-
тый мышленіемъ и наукой, указывалъ ей на настоящую для всего мѣру и далъ ей
возможность замѣтить, что для успѣшности дѣйствій какого-либо правительства не-
обходимы совѣтники даровитые и добросовѣстные, и что, если только это условіе
исполнено, аристократамъ можно предоставить спокойно наслаждаться жизнью, вдали
отъ тѣхъ государственныхъ заботъ, къ которымъ они, за/нѣкоторыми блистательными
исключеніями, естественно не способны, по множеству своихъ предразсудковъ и по
пустотѣ своего обыкновеннаго образа жизни.
Послѣ смерти Елизаветы сдѣлана была попытка, сперва Іаковомъ, потомъ
Карломъ, возстановить могущество двухъ классовъ, олицетворяющихъ въ себѣ по-
кровительственное начало—аристократіи и духовенства. Но общее направленіе того
времени такъ превосходно согласовалось съ политикою Елизаветы, что Стюартамъ
оказалось невозможно исполнить свои злостные замыслы. Примѣненіе личнаго су-
жденія, какъ въ религіи, такъ и къ политикѣ, до такой степени вошло въ привычку
у всей націи, что государямъ этимъ не удалось подчинить это сужденіе своей волѣ.
И когда Карлъ I съ непостижимымъ ослѣиеніемгь и упорствомъ, превышающимъ
даже упорство отца его, настаивалъ на томъ, чтобы ввести въ самыхъ худшихъ фор-
махъ противоестественныя теоріи покровительства, и усиливался упрочить такой
образъ правленія, который граждане, при возрастающей самостоятельности ихъ, рѣ-
шились отвергнуть,—то неизбѣжно должно было произойти достопамятное столкно-
веніе, которое справедливо названо великимъ возстаніемъ Англіи, Объ аналогіи
между этимъ событіемъ и протестантской реформаціей я уже говорилъ; но что те-
перь намъ остается разсмотрѣть и что я постараюсь очертить въ слѣдующей главѣ,
это—различіе между нашимъ возстаніемъ и современными ему войнами Фронды, съ
которыми оно во многихъ отношеніяхъ было весьма сходно.
ГЛАВА X.
Сила, которою обладалъ духъ покровительства во Франціи, служитъ объясненіемъ не-
успѣха Фронды* Сравненіе Фронды ст» современнымъ ей англійскимъ возстаніемъ.
Предметомъ послѣдней главы было изслѣдованіе о происхожденіи духа покро-
вительства. Изъ собранныхъ тамъ доказательствъ видно, что этотъ духъ впервые
проявился въ ясной и при томъ свѣтской формѣ въ концѣ темныхъ вѣковъ, но, бла-
годаря разнымъ обстоятельствамъ того времени, былъ съ самаго начала гораздо менѣе
силенъ въ Англіи, чѣмъ во Франціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ оказалось, что въ нашемъ оте-
чествѣ онъ и впослѣдствіи постоянно ослабѣвалъ, между тѣмъ какъ во Франціи съ
начала четырнадцатаго вѣка онъ принялъ новую форму и вызвалъ стремленіе къ
централизаціи, которое проявилось не только въ гражданскихъ и политическихъ
учрежденіяхъ, но въ соціальной и даже литературной жизни французской націи. Вотъ
насколько мы повидимому проложили путь къ ясному пониманію исторіи обѣихъ
странъ; теперь же я намѣреваюсь развить эту мысль нѣсколько далѣе и показать,
до какой степени этимъ различіемъ объясняется несходство междоусобныхъ войнъ
Англіи съ распрями, вспыхнувшими въ то же время во Франціи.
Въ числѣ очевидныхъ характеристическихъ чертъ великаго возстанія Англіи
самая замѣтная заключается въ томъ, что возстаніе это было борьбою не только по-
литическихъ партій, но и сословій. Съ самаго начала борьбы мелкіе землевладѣльцы
и торговый классъ примкнули къ парламенту, между тѣмъ какъ дворянство и духо-
венство сгруппировались около королевскаго трона. СаМыя названія, данныя обѣимъ
партіямъ, «круглыхъ головъ» и «кавалеровъ» доказываютъ, что истинный характеръ
распри былъ всѣмъ извѣстенъ. Это доказываетъ, что люди знали, что па очереди
стоялъ вопросъ, раздѣлявшій Англію на партіи не столько въ силу частныхъ инте-
ресовъ отдѣльныхъ личностей, сколько во имя общихъ интересовъ сословій, къ кото-
рымъ эти личности принадлежали.
Но въ исторіи французскаго возстанія пѣтъ и малѣйшаго слѣда такого широ-
каго раздѣленія. Цѣли войны были въ обѣихъ странахъ совершенно одинаковы, но
средства, послужившія для этихъ цѣлей, были совершенно различны. Фронда на
столько походила на наше возстаніе, на сколько она была борьбою-парламента съ
короною—на сколько она была попыткою обезпечить свободу и воздвигнуть оплотъ
противъ деспотизма правительства 1). До тѣхъ поръ, пока мы будемъ имѣть въ виду
только политическія цѣли обѣихъ распрей, параллель будетъ совершенная. Но такъ
какъ соціальныя и умственныя условія, въ которыхъ до того времени стояли фран-
цузы, были весьма различны отъ обстановки англичанъ, то необходимымъ послѣд-
ствіемъ этого было, что и форма, которую приняло возстаніе, оказалась равнымъ
4) Сентъ-Олеръ въ своей «Исторіи Фронды» го- I жаться противъ насилія властей». Между непосред-
воритъ, что цѣль фрондеровъ была «ограничить ко- | ственнымп цѣлями Фронды было: уменьшить подати
ролевскую власть, освятить начала гражданской сво- | и достигнуть изданія закона, которымъ бы воспре-
боды и поручить охраненіе ея государственнымъ со- щалось держать кого-либо болѣе 24 часовъ въ тюрьмѣ,
браніямъ>. Жоли, весьма недовольный этимъ стрс- I «не предавая въ руки парламента для начатія про-
мленіемъ, жалуется, что въ 1648 году «народъ пе- I цесса, если подозрѣваемый оказался бы винов-
замѣтно наталкивался на опасное соображеніе: что ; нымъ, или для освобожденія его, если онъ не-
естественно и позволительно защищаться и воору- , випеиъэ.
СРАВНЕНІЕ ФРОНДЫ СЪ ВОЗСТАНІЕМЪ ВЪ АНГЛІИ»
267
образомъ различна, хотя побужденія были одни и тѣ же. Если мы разсмотримъ это
различіе нѣсколько ближе, то увидимъ, что оно находится въ связи съ обстоятель-
ствомъ, только-что мною замѣченнымъ, а именно, что въ Англіи война за свободу
сопровождалась войною сословій, тогда какъ во Франціи такой войны не было вовсе.
Вслѣдствіе этого во Франціи возстаніе, будучи только политическимъ, а не поли-
тическимъ и соціальнымъ, какъ это было у насъ, менѣе овладѣло всѣми умами; оно
не сопровождалось тѣмъ чувствомъ самобытности, безъ котораго свобода всегда была
невозможна; не имѣя корня въ національномъ характерѣ, оно не могло спасти страну
отъ того рабскаго состоянія, въ которое она быстро впала нѣсколько лѣтъ спустя
въ правленіе Людовика XIV.
Что наше великое возстаніе было въ его внѣшнихъ проявленіяхъ войною
сословій, это одинъ изъ тѣхъ осязательныхъ фактовъ, которые выдаются впередъ
въ исторіи. Сперва парламентъ х) дѣйствительно стремился привлечь на свою сто-
рону нѣкоторыхъ дворянъ, и это удавалось ему нѣсколько времени; но съ дальнѣй-
шимъ развитіемъ борьбы безплодность такой политики сдѣлалась очевидной. Въ нор-
мальномъ ходѣ великаго движенія дворяне оказывались все болѣе и болѣе привер-
женными королю, парламентъ становился все болѣе и болѣе демократическимъ. А
когда сдѣлалось очевидно, что и та, и другая партіи рѣшились или побѣдить, или
умереть, то этотъ антагонизмъ сословій слишкомъ ясно обозначился, чтобы быть не-
понятымъ; пониманіе каждой партіей своихъ интересовъ усиливалось подъ вліяніемъ
величія тѣхъ благъ, изъ-за которыхъ онѣ боролись.
Не наполняя безъ нужды этого введенія тѣмъ, что можно найти въ нашихъ
обыкновенныхъ историческихъ сочиненіяхъ, достаточна будетъ напомнить читателю
нѣкоторые наиболѣе рѣзкіе факты того времени. Перёдъ самымъ началомъ войны
графъ Эссексъ былъ назначенъ главнокомандующимъ парламентскихъ войскъ, а въ
помощники къ нему—графъ Бэдфордъ. Равнымъ образомъ порученіе набирать войска
было дано графу Манчестеръ, единственному человѣку изъ высшаго сословія, кото-
рому Карлъ выказывалъ прямую непріязнь. Несмотря на такіе знаки довѣрія, дво-
ряне, на которыхъ парламентъ въ началѣ былъ готовъ положиться, не могли не вы-
казать старыхъ наклонностей своего сословія. Графъ Эссексъ такъ велъ себя, что
внушилъ народной партіи величайшія подозрѣнія въ томъ, что онъ обманываетъ ее,
и когда защита Лондона была ввѣрена Воллеру, Эссексъ такъ упорно отказывался
вписать въ патентъ имя этого даровитаго офицера, что члены нижней палаты были
вынуждены сдѣлать это своей собственной властью, вопреки своему же генералу.
Графъ Бэдфордъ, хотя и принялъ военное назначеніе, не поколебался однако поки-
нуть тѣхъ, отъ кого получилъ его. Этотъ дворянинъ-отступникъ бѣжалъ изъ Вест-
минстера въ Оксфордъ, но, найдя, что король, никогда не прощавшій своихъ вра-
говъ, принялъ его не такъ милостиво, какъ онъ ожидалъ, вернулся въ Лондонъ, гдѣ
хотя и остался безопаснымъ, но нельзя было предположить, чтобы онъ опять удо-
стоился довѣрія парламента.
Нельзя было ожидать, чтобы такіе примѣры повели къ уменьшенію недовѣрія,
которое обѣ партіи чувствовали другъ къ другу. Скоро сдѣлалось очевиднымъ, что
война между сословіями неизбѣжна, и что возстаніе парламента противъ короля бу-
детъ усилено возстаніемъ народа противъ дворянъ * 2). Народная партія, каковы бы
2) Я употребляю слово «парламентъ» въ смыслѣ,
принятомъ писателями того времени, а но въ пстпп-
помъ значеніи этого слова.
2) Докторъ Вотсъ, бывшій врачомъ Кромвеля,
намекаетъ, что это было предвидѣно съ самаго на-
чала. Онъ говоритъ, что народная партія предложила
начальство нѣкоторымъ пзъ дворянъ «не потому,
чтобы она питала какос-лпбо уваженіе къ лордамъ,
которыхъ опа имѣла намѣреніе вскорѣ удалить и срав-
нять съ коммонерамп. по для того, чтобы отравить
ихъ пхъ же собственнымъ ядомъ и достигнуть боль-
шаго значенія, привлекши побольше людей на свою
сторону». Лордъ Портъ также предполагаетъ, что
почти непосредственно послѣ начала войны было
рѣшено распустить палату лордовъ. Я не знаю дру-
гого прямого п ранняго свидѣтельства объ этомъ,
кромѣ словъ, сказанныхъ, какъ утверждаютъ, Кром-
велемъ въ 1 ($64 году: «въ Англіи до тѣхъ поръ не
будетъ хорошаго времени, пока мы не покончимъ съ
лордамп».
268
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ни были ея первыя намѣренія, теперь охотно примирилась съ этой необходимостью.
Въ 1645 году она издала законъ, по которому не только графъ Эссексъ и графъ
Манчестеръ лишены были командованія, но и всѣ члены обѣихъ палатъ были изъяты
отъ военной службы. И пе позже какъ черезъ недѣлю послѣ казни короля народ-
ная партія формально отняла законодательную власть у пэровъ, внеся въ то же
время въ протоколъ свое замѣчательное мнѣніе, что палата лордовъ «безполезна,
вредна и должна быть уничтожена».
Но мы найдемъ еще болѣе удивительныя доказательства относительно истин-•
наго характера англійскаго возстанія, если взглянемъ, что за люди были его дви-
гатели. Это обнаружитъ намъ демократическій характеръ того движенія, которое
законовѣды и антикваріи тщетно старались представить въ видѣ конституціоннаго.
Наше великое возстаніе было дѣломъ людей, смотрѣвшихъ не назадъ, а впередъ;
стараться найти причины его въ личныхъ и временныхъ обстоятельствахъ, припи-
сывать этотъ безпримѣрный взрывъ спору о корабельной подати или ссорѣ изъ-за при-
вилегіи парламента—прилично лишь тѣмъ историкамъ, которые не видятъ далѣе того,
что сказано во вступленіи къ какому-нибудь статуту или въ рѣшеніи какого-нибудь
судьи. Такіе писатели забываютъ, что судъ надъ Гэмбденомъ и обвиненіе пяти чле-
новъ не произвели бы никакого впечатлѣнія на всю страну, еслибы народъ не былъ
уже къ этому подготовленъ и еслибы, подъ вліяніемъ духа изслѣдованія и неподчи-
ненности, не развилось до такой степени недовольство людей, что они пришли въ
положеніе, при которомъ былъ постоянно готовъ пороховой проводникъ и достаточно
было малѣйшей искры, чтобы произвести взрывъ.
Дѣло въ томъ, что возстаніе было взрывомъ демократическаго духа. Оно было
политической формой того Движенія, котораго Реформація была религіозной формой.
Какъ Реформація поддерживалась не высшими сановниками церкви, не вліятельными
кардиналами или богатыми епископами, а людьми, занимавшими низшія и наиболѣе
подчиненныя должности, точно такъ же и англійское возстаніе было движеніемъ снизу,—
возстаніемъ, начинавшимся съ самаго основанія или, какъ нѣкоторые находятъ, съ
отстоя общества. Нѣсколько лицъ высшаго сословія, примкнувшихъ къ народному
дѣлу, были скоро устранены; легкость и быстрота, съ какою они отстали отъ него,
служили яснымъ указаніемъ, что дѣла начинали принимать новый оборотъ. Какъ
только армія была освобождена отъ своихъ знатныхъ вождей, и они были замѣнены
офицерами, вышедшими изъ низшихъ сословій, счастье повернулось; роялисты были
вездѣ разбиты и король взятъ въ плѣнъ своими собственными подданными. Въ про-
межутокъ между его плѣномъ и казнью важнѣйшими политическими событіями были:
увозъ его Джойсомъ и насильственное удаленіе изъ палаты общинъ тѣхъ членовъ,
которыхъ подозрѣвали въ склонности дѣйствовать въ его пользу. Оба эти рѣшитель-
ные шага были сдѣланы—да оно и не могло быть иначе-—людьми съ большимъ лич-
нымъ вліяніемъ и смѣлымъ, рѣшительнымъ характеромъ. Джойсъ, увезшій короля и
пользовавшійся большимъ уваженіемъ въ арміи, былъ незадолго до того простымъ
портиымъ-работникомъ; а полковникъ Прайдъ, имя котораго сохранилось въ исто-
ріи, какъ имя человѣка, очистившаго палату общинъ отъ злоумышленниковъ, зани-
малъ прежде почти такое же положеніе, какъ Джойсъ; перво начальнымъ его запя-
тіемъ былъ ломовой извозъ. Портной и ломовой извозчикъ были въ томъ вѣкѣ до-
статочно сильны, чтобы давать направленіе ходу общественныхъ дѣлъ и чтобы
составить себѣ видное положеніе въ государствѣ. Послѣ казни Карла продолжало
проявляться то же самое направленіе. По разрушеніи старой монархіи та небольшая,
но дѣятельная партія, которая извѣстна подъ именемъ людей пятой монархіи, прі-
обрѣла особенную важность и нѣкоторое время пользовалась значительнымъ вліяніемъ.
Тремя главными и самыми значительными членами ея были Беннеръ, Тёнффнель и
Окей. Беннеръ, главный вождь, былъ бочаръ; Тёффнель, второй послѣ него въ коман-
дованіи, былъ плотникъ; а Окей, хотя и сдѣлался впослѣдствіи полковникомъ, прежде
исполнялъ должность кочегара въ одной изъ ислингтонскихъ пивоваренъ.
СРАВНЕНІЕ ФРОНДЫ СЪ ВОЗСТАНІЕМЪ ВЪ АНГЛІИ.
269
На все это не должно одпако смотрѣть, какъ на исключительные случаи. Въ ту
эпоху возвышеніе зависѣло только отъ личнаго достоинства, и если человѣкъ имѣлъ
способности, то онъ могъ быть увѣренъ, что возвысится, каково бы ни было его
рожденіе или прежнее занятіе. Кромвель самъ былъ пивоваромъ *), а полковникъ
Джонсъ, его зять, былъ слугою одного частнаго лица. Динъ находился сперва въ
услуженіи одного купца, а потомъ сдѣлался адмираломъ и былъ назначенъ однимъ
изъ коммиссаровъ флота. Полковникъ Гоффъ былъ ученикомъ у торговца сушеньями
и соленьями; генералъ-маіоръ Уоллей былъ ученикомъ у суконнаго торговца. Скеп-
понъ, простой солдатъ, безъ всякаго образованія, былъ назначенъ командиромъ лон-
донской милиціи; онъ получилъ потомъ званіе сержантъ-генералъ-маіора арміи, на-
значенъ главнокомандующимъ въ Ирландіи и сдѣланъ однимъ изъ четырнадцати чле-
новъ Кромвелева совѣта. Двумя изъ комендантовъ Тоуэра были Беркстэдъ и Тпч-
борнъ. Беркстэдъ былъ разносчикомъ, или по крайней мѣрѣ торговалъ мелкими то-
варами; а Тичборнъ торговалъ холстомъ; послѣдній не только получилъ комендант-
ство надъ Тоу эромъ, но былъ сдѣланъ въ 1655 году полковникомъ и членомъ госу-
дарственнаго комитета, а въ 1659 году—членомъ государственнаго совѣта. Не менѣе
посчастливилось и другимъ ремесламъ, такъ какъ высшія отличія были доступны
всѣмъ людямъ, если только они выказали потребныя для того способности. Полков-
никъ Гарвей торговалъ прежде шелкомъ,— тѣмъ же занимались и полковникъ Роу,
и полковникъ Вэннъ. Салсей былъ ученикомъ у бакалейщика, но, благодаря своимъ
способностямъ, достигъ до чина маіора въ арміи, получилъ потомъ должность стряп-
чаго королевскихъ дѣлъ въ\ судѣ Казначейства, а въ 1659 году назначенъ былъ
парламентомъ въ число членовъ государственнаго совѣта,/ Вокругъ стола того же со-
вѣта засѣдали Бондъ, суконный торговецъ, и Коулей, діивоваръ; а возлѣ нихъ мы
встрѣчаемъ Джона Бернерса, который, говорятъ, былъ слугою въ частномъ домѣ, и
Корнеліуса Голланда, о которомъ положительно извѣстно, что онъ былъ лакеемъ, а
до того даже уличнымъ факельщикомъ. Въ числѣ другихъ лицъ, бывшихъ въ ми-
лости и получившихъ важныя должности, находились: Пакъ, торговецъ шерстью, Пюри,
ткачъ, и Пемблъ, портной: Парламентъ, созванный въ 1653 году, и до сихъ поръ
извѣстенъ подъ названіемъ Бэрбонова парламента,—названіе, происшедшее отъ имени
Бэрбона, одного изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ его, кожевеннаго торговца въ Флитъ-
Стритѣ. Такимъ же образомъ Доунингъ, изъ бѣдныхъ мальчиковъ, сдѣлался счет-
нымъ чиновникомъ Казначейства по королевскимъ суммамъ, а потомъ представите-
лемъ Англіи въ Гагѣ. Ко всему этому мы должны еще прибавить, что полковникъ
Гортонъ былъ лакеемъ; полковникъ Бэрри — мяснымъ торговцемъ; полковникъ Ку-
перъ—мелочнымъ торговцемъ; маіоръ Рольфъ—башмачникомъ; полковникъ Фоксъ—
мѣдникомъ и полковникъ Гьюсонъ—башмачникомъ.
Таковы были вожди англійскаго возстанія или, собственно говоря, таковы были
орудія, которыми совершено было это возстаніе 2), Если мы теперь обратимся къ
Франціи, то ясно увидимъ разницу между чувствами и нравомъ обѣихъ націй. Во
Франціи старый духъ покровительства все еще дѣйствовалъ, и народъ, удерживае-
мый въ состояніи несовершеннолѣтія, не пріобрѣлъ тѣхъ привычекъ сомоуправленія
и самоупованія, безъ которыхъ не могутъ быть совершены великія дѣла. Французы
такъ привыкли смотрѣть съ робкимъ благоговѣніемъ на высшія сословія, что, даже
когда взялись за оружіе, все-таки не могли отбросить идеи подчиненности, отъ ко-
Нѣкоторые изъ неловкихъ панегиристовъ Кром- I
веля хотятъ отвергнуть тотъ фактъ, что онъ былъ і
пивоваромъ; но что опъ дѣйствительно занимался |
этимъ полезнымъ ремесломъ—это подтверждается раз- ।
вымй доказательствами а положительнымъ свидѣтель- '
етвомъ собственнаго врача его, доктора Ііэтса.
2) Уокеръ, разсказывающій то, чему онъ самъ
былъ очевидцемъ, говорить, что въ 1649 году арміей
командовали «полковники и старшіе офицеры, разъ- ।
ѣзжавшіе барами въ позолоченныхъ каретахъ, въ бо-
гатой одеждѣ, и дававшіе дерогіо пиры, между тѣмъ
какъ нѣкоторые изъ нпхъ прежде правили ломовыми
лошадьми, носили кожаные фартуки и никогда не
могли назвать своихъ отцовъ или матерей». Когда
Ваіітлоккъ былъ въ 1653 году въ Швеціи, пре-
торъ одного изъ городовъ, браня парламентъ, сказалъ:
«что онъ убилъ своего короля и что онъ представ-
ляетъ сборище портныхъ и штопальщиковъ».
270 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
торой наши предки живо избавились. Вліяніе высшихъ сословій въ Англіи постоянно
ослабѣвало, во Франціи же оно почти не уменьшалось. Вотъ почему, несмотря на
то, что англійское и французское возстанія были современны одно другому и въ на-
чалѣ стремились совершенно къ тѣмъ же цѣлямъ, между ними все-таки было весьма
важное различіе. Оно заключалось въ томъ, что во главѣ англійскихъ инсургентовъ
стояли вожди изъ народа, а во главѣ французскихъ—вожди дворяне. Смѣлость и
стойкость,—свойства, издавна выработавшіяся въ англійскомъ народѣ, дали возмож-
ность среднему и низшему сословіямъ выбрать своихъ вождей изъ своей же среды.
Во Франціи такихъ вождей найти было невозможно, просто потому, что, благодаря
духу покровительства, такія качества не развились во французскомъ народѣ. Итакъ,
въ то время какъ на нашемъ островѣ гражданскія и военныя обязанности испол-
нялись, съ очевиднымъ талантомъ и полнымъ успѣхомъ, мясниками, хлѣбопеками,
пивоварами, башмачниками и мѣдниками,—борьба, происходившая въ то же время
во Франціи, имѣла совершенно другой видь. Въ этой странѣ во главѣ возстанія
стояли люди гораздо высшаго слоя,—люди, можно сказать, самаго древняго и знат-
наго происхожденія. Дѣйствительно, тамъ представлялось зрѣлище безпримѣрнаго
блеска — млечный путь чиновъ, благородное сборище аристократическихъ инсурген-
товъ и титулованныхъ демагоговъ. Тамъ были: принцы: Кондэ, Конти, Марсильякъ;
герцоги: Бульонъ, Бофоръ, Лонгвиль, Шеврёзъ, Нсмуръ, Люинъ, Бриссакъ, д’Элбёфъ,
Кандаль, де-ла-Тремуйль; маркизы: де-ла-Буле, Легъ, Нуамуртьё, Витри, Фоссёзъ,
Сильёри, д’Эстиссакъ, д’Оккснкуръ; графы: Ранцау, Монтрезоръ и пр.
Таковы были вожди Фронды 1); простое перечпсленщ ихъ именъ уже указываетъ
на различіе между англійскимъ и французскимъ возстаніемъ. Отъ этого различія про-
изошли нѣкоторые результатѣ, вполнѣ заслуживающіе вниманія тѣхъ писателей, ко-
торые въ своемъ невѣдѣніи дбъ успѣхахъ, дѣлаемыхѣ человѣчествомъ, силятся под-
держивать то могущество аристократіи, которое уже давно начало падать и въ по-
слѣднее столѣтіе въ самыхъ цивилизованныхъ странахъ подвергалось такимъ же-
стокимъ и частымъ потрясеніямъ, что окончательная судьба его теперь едва-ли под-
лежитъ слишкомъ большому сомнѣнію.
Во главѣ англійскаго возстанія стояли люди, которыхъ вкусы, привычки и по-
нятія, будучи чисто народными, образовали связь взаимнаго сочувствія между ними
и народомъ и обезпечивали единство всей партіи. Во Франціи симпатія была слиш-
комъ слаба, а потому и единство весьма сомнительно. Какого рода симпатія могла
существовать между ремесленникомъ и крестьяниномъ, въ нотѣ лица зарабатывав-
шими свой насущный хлѣбъ, и богатымъ развратнымъ аристократомъ, проводившимъ
жизнь въ тѣхъ пустыхъ занятіяхъ, которыя унижали его умъ и дѣлали его званіе
предметомъ насмѣшки и укора у всѣхъ народовъ? Толковать о симпатіи между этими
двумя классами—очевидная нелѣпость, и къ тому же такимъ предположеніемъ вѣрно
обидѣлись бы тѣ высокорожденные люди, которые обращались съ своими подчинен-
ными, какъ и всегда, дерзко и презрительно. Правда, что'вслѣдствіе причинъ, ука-
занныхъ нами выше, народъ во Франціи, къ нссчастію для него самого, смотрѣлъ
на тѣхъ, кто былъ поставленъ надъ нимъ, съ величайшимъ благоговѣніемъ 2); но
каждая страница исторіи Франціи доказываетъ, какъ недостойно ему отвѣчали на
это чувство и въ какомъ рабскомъ состояніи тамъ держали низшія сословія. И такъ,
т) Даже де-Рецъ, который тщетно пытался обра-
зовать народную партію, нашелъ, что ничего нельзя
предпринять безъ дворянъ, и, несмотря па свои де-
мократическія тенденціи, счелъ за болѣе благоразум-
ное «стараться втянуть въ общественные интересы
знатныхъ лицъ».
2) Мабли откровенно говоритъ: «примѣръ „знат-
ныхъ всегда былъ заразительнѣе у французовъ, чѣмъ
гдѣ-либо». «Никогда примѣръ знатныхъ не былъ такъ
заразителенъ въ другихъ странахъ, какъ во Франціи;
какъ будто они имѣютъ злополучную привилегію все
оправдывать». Ривароль, хотя его мнѣнія относи-
тельно другихъ вопросовъ совершенно противоположны
Мабли, .тоже говорить, что во Франціи «дворянство
въ глазахъ парода есть своего рода религія, въ ко-
торой дворяне суть жрецы*, Французская революція
или скорѣе обстоятельства, вызвавшія ее, совершенію
унпчтожплп это поклоненіе.
СРАВНЕНІЕ ФРОНДЫ СЪ ВОЗСТАНІЕМЪ ВЪ АНГЛІИ. 271
съ одной стороны французы, вслѣдствіе издавна установившейся привычки къ за-
висимости, сдѣлались неспособны сами вести свое возстаніе и потому принуждены
были встать подъ начальство дворянъ, съ другой — эта же необходимость поддер-
живала и то раболѣпство, которое породило ее; такимъ образомъ останавливалось
развитіе свободы, и нація эта не могла достигнуть, посредствомъ своихъ междо-
усобныхъ войнъ, тѣхъ великихъ результатовъ, къ которымъ мы имѣли возможность
придти путемъ нашихъ войнъ.
И въ самомъ дѣлѣ, стоитъ только прочесть произведенія французской литера-
туры ХУЛІ столѣтія, чтобы видѣть несовмѣстимость упомянутыхъ выше двухъ клас-
совъ и положительную невозможность сліянія въ одной партіи народнаго и аристо-
кратическаго духа. Въ то время, какъ цѣлью народа было освободить себя отъ ярма,—
цѣлью дворянъ было только найти новые источники для возбужденія себя х) и
удовлетворить своему личному тщеславію, которымъ они вообще всегда славились.
Такъ какъ этотъ собственно отдѣлъ исторіи былъ мало изучаемъ, то интересно со-
брать нѣсколько примѣровъ, которые объяснили бы намъ свойства французской ари-
стократіи и показали бы, какого рода почестей и какихъ отличій наиболѣе добива-
лось это могущественное сословіе.
Что цѣли, къ которымъ главнымъ образомъ стремилась французская аристо-
кратія, были весьма ничтожны, это всякій можетъ впередъ представить себѣ, кто
изучалъ вліяніе., какое имѣютъ въ огромномъ большинствѣ случаевъ наслѣдственныя
отличія на личный характеръ людей. Какъ гибельны такія отличія, это ясно видно
въ исторіи всѣхъ европейскихъ аристократій и въ томъ извѣстномъ фактѣ, что ни
одна изъ нихъ не сохранила хвигдѣ даже посредственныхъ дарованій, исключая тѣхъ
странъ, гдѣ аристократія часдо обновляется примѣсьіб плебейской крови и гдѣ
сословіе это получаетъ подкрѣпленіе той мужеской твердостью, которой отличаются
люди, сами создающіе себѣ положеніе, и которой нечёго и искать въ людяхъ, полу-
чающихъ положеніе уже готовое.
Какъ скоро укоренилась въ умѣ мысль, что источникъ чести находится внѣ,
а не внутри насъ, то обладаніе внѣшними отличіями предпочитается сознанію вну-
тренней силы. Въ подобныхъ случаяхъ величіе человѣческаго разума и достоинство
человѣческаго знанія считаются подчиненными тѣмъ ложнымъ, искусственнымъ по-
степенностямъ, которыми слабые люди измѣряютъ степени своего собственнаго ни-
чтожества. Вслѣдствіе этого настоящій порядокъ вещей совершенно извращается,
ничтожное ставится выше великаго, и умъ растрачиваетъ свои силы, примѣняясь
къ ложному мѣрилу заслугъ, созданному его же собственными предразсудками. По-
этому очевидно неправы тѣ, которые упрекаютъ дворянство за его гордость, какъ
будто бы она составляла отличительную черту этого сословія. Дѣло въ томъ, что
еслибы въ дворянствѣ разъ на всегда укоренилась гордость, то за этимъ быстро
послѣдовало бы его исчезновеніе. Толковать о гордости наслѣдственнаго сословія—
значитъ сбиваться въ выраженіяхъ. Гордость зависитъ отъ чувства самодовольствія;
тщеславіе же питается одобреніями другихъ. Гордость есть скрытая, возвышенная
страсть, пренебрегающая тѣми внѣшними отличіями, на которыя съ жадностью бро-
сается тщеславіе. Гордый человѣкъ видитъ въ своемъ собственномъ умѣ источникъ
своего достоинства, который, какъ ему извѣстно, не можетъ быть ни увеличенъ, ни
уменьшенъ никакими другими дѣйствіями, кромѣ происходящихъ только изъ него
самого. Тщеславный человѣкъ, безпокойный, ненасытимый и всегда стремящійся
возбудить удивленіе въ своихъ современникахъ, долженъ конечно полагать большую
важность въ тѣхъ внѣшнихъ знакахъ, въ тѣхъ видимыхъ отличіяхъ, которыя, бу-
дутъ ли то ордена или титулы, непосредственно дѣйствуютъ на чувства и такимъ
:) Герпогъ де-ла-Рошфуко откровенно сознается, | Также Лемонтс говоритъ: «древнее дворянство, кото-
іто въ 1649 г. дворяне начади междоусобную войну ; рое только и умѣло, что сражаться, вело войну изъ
съ «тѣмъ большимъ жаромъ, что это было новостью». | охоты, изъ нужды, изъ тщеславія и отъ скуки».
272 исторія цивилизаціи въ Англіи.
образомъ плѣняютъ простого человѣка, прямо проникая въ его сознаніе. Итакъ,
если главная разница заключается въ томъ, что гордость смотритъ внутрь, а тще-
славіе— наружу, то ясно, что когда человѣкъ важничаетъ званіемъ, которое ему
досталось случайно, по наслѣдству, безъ труда и безъ заслугъ, онъ этимъ доказы-
ваетъ не гордость, а тщеславіе, и при томъ тщеславіе самаго жалкаго свойства.
Это доказываетъ, что такой человѣкъ не имѣетъ никакого чувства истиннаго до-
стоинства, никакого понятія о томъ, въ чемъ единственно состоитъ все величіе.
Удивительно ли, если для такихъ умовъ самая ничтожная вещь становится пред-
метомъ высшей важности? Удивительно ли, если такія нустыя головы озабочиваются
внѣшними украшеніями; если одинъ дворянинъ томится желаніемъ ордена подвязки,
другой скучаетъ по золотомъ рунѣ.
Мы, видя все это, не должны были бы удивляться, что французскіе дворяне
въ XVII столѣтіи проявляли въ своихъ интригахъ то легкомысліе, которое хотя и
искупается по временамъ исключеніями, но тѣмъ не менѣе составляло отличитель-
ную черту наслѣдственной аристократіи. Нѣсколькихъ примѣровъ будетъ достаточно,
чтобы дать читателю нѣкоторое понятіе о вкусахъ и умственномъ настроеніи этого
могущественнаго класса, который въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій задерживалъ успѣхи
французской цивилизаціи.
Изъ всѣхъ вопросовъ, по поводу которыхъ случались разногласія между фран-
цузскими дворянами, самымъ важнымъ былъ вопросъ о правѣ сидѣть въ королев-
скомъ присутствіи. Это считалось предметомъ такой важности, что въ сравненіи съ
нимъ простая борьба за свободу теряла всякое значеніе. А что давало еще ббль-
шую пищу для умовъ аристократіи, это тѣ чрезмѣрныя трудности, которыми была
обставлена эта важная соціальная задача. Согласно древнему этикету французскаго
двора, если кто былъ герцогъ, то жена его могла сидѣть въ присутствіи королевы,
но если онъ имѣлъ низшее званіе, даже если онъ былъ маркизъ, то подобной воль-
ности не дозволялось 9- Правило было очень просто и въ высшей степени нрави-
лось самимъ герцогинямъ. Но маркизамъ, графамъ и другимъ знатнымъ дворянамъ
было не по вкусу такое ненавистное различіе, и они употребляли всю свою энергію,
чтобы добиться той же чести и для своихъ женъ. Противъ этого сильно возставали
герцоги, но, благодаря обстоятельствамъ, которыя по несчастью не вполнѣ разга-
даны, сдѣлано было одно нововведеніе въ царствованіе Людовика XIII, и приви-
легія сидѣть въ одной комнатѣ съ королевой была дарована женскимъ членамъ фа-
миліи Бульонъ 2). Вслѣдствіе этого дурного примѣра вопросъ серьезно усложнился,
такъ какъ другіе члены аристократіи считали, что чистота ихъ породы давала имъ
ни въ какомъ случаѣ не меньшія права, чѣмъ тѣ, которыя имѣлъ домъ Бульонъ,
древность котораго, но ихъ мнѣнію, была грубо преувеличена. Возникшій изъ этого
споръ имѣлъ послѣдствіемъ распаденіе дворянства на двѣ враждебныя партіи; одна
старалась удержать исключительно за собою то право, которымъ другая желала оди-
наково пользоваться. Для примиренія этихъ двухъ враждебныхъ домогательствъ
предлагаемы были разныя ухищренія, но все было напрасно, и дворъ въ управ-
леніе Мазарини, побуждаемый страхомъ возстанія, обнаружилъ признаки уступчи-
вости и расположеніе предоставить низшему дворянству то, чего оно такъ пламенно
желало. Въ 1648 и 1649 годахъ королева-правительница, дѣйствуя по внушенію
своего совѣтника, формально пожаловала право сидѣть въ королевскомъ присутствіи
тремъ самымъ знатнымъ членамъ низшей аристократіи, а именно: графинѣ де Фле
Отсюда произошло названіе герцогинь «Гешшез
аззізез», а дамъ низшаго званія—<поп аззізез».
Нововведеніе это имѣло весьма серьезныя по-
слѣдствія, а Тальмапъ де-Рео, упоминая объ одной
знатной дамѣ, говоритъ: «Чтобы удовлетворить ея
честолюбіе, ей нуженъ пылъ табуретъ; она интри-
гуетъ, чтобы выйти замужъ за стараго Бульонъ ла-
Маркъ, вдовца отъ второго брака*. Это ей не удалось;
во, рѣшившись по дать себя въ обиду, <опа не уны-
ваетъ и, желая во что бы то ни стало добиться та-
бурета, выходитъ замужъ за старшаго сына герцога
дс-Вилларъ, смѣшного и тѣломъ, и умомъ: омъ гор-
батъ и почти полоумный, а вь довершеніе всего и
нищій». Это грустное событіе случилось въ 1649 году.
СРАВНЕНІЕ ФРОНДЫ СЪ ВОЗСТАНІЕМЪ ВЪ АНГЛІИ.
273
госпожѣ де-Понсъ и принцессѣ де-Марсильякъ. Какъ только сдѣлалось извѣстно это
рѣшеніе, принцы крови и пэры королевства пришли въ страшное волненіе х). Они
немедленно вытребовали въ столицу членовъ своего сословія, заинтересованныхъ
отраженіемъ этого дерзкаго нападенія, и, составивъ собраніе (1649 г.), тотчасъ же
рѣшили, какія имъ слѣдуетъ принять мѣры, для возстановленія своихъ древнихъ
правъ. Съ другой стороны, низшее дворянство, увлеченное своимъ недавнимъ успѣ-
хомъ, настаивало на томъ, чтобы только-что сдѣланная уступка была обращена въ
прецедентъ и чтобы честь сидѣть въ присутствіи ея величества, дарованная дому
Фуа, въ лицѣ графини де-Фле, была распространена и на всѣхъ тѣхъ, которые
могли доказать, что предки ихъ были не менѣе славны. И вотъ произошло страш-
ное смятеніе; обѣ стороны упорно настаивали на своихъ притязаніяхъ, такъ что
въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ можно было опасаться, что прибѣгнутъ для
разрѣшенія вопроса къ помощи оружія. Но такъ какъ высшее дворянство, хотя и
меньшее числомъ, было все-таки сильнѣе, то споръ былъ окончательно рѣшенъ въ
его пользу. Королева отправила къ собранію высшей аристократіи формальное по-
сланіе съ четырьмя маршалами Франціи, въ которомъ она давала обѣщаніе отмѣ-
нить тѣ привилегіи, пожалованіе которыхъ до такой степени оскорбляло самыхъ знат-
ныхъ членовъ французской аристократіи. При этомъ маршалы не только взяли на
себя отвѣтственность за исполненіе обѣщанія королевы, но даже вызывались дать
подписку, что лично будутъ наблюдать за этимъ исполненіемъ. Но дворяне, которые
сознавали, что предшествовавшей обидой была затронута ихъ самая чувствитель-
ная струна, не удовольствовались и этимъ; для успокоенія ихъ нужно было,
удовлетвореніе было такъ же публично, какъ и самая о0ида. Признано было
ходимымъ, чтобы, прежде чѣмъ они мирно разойдутся, правительство издало
за подписью королевы-правительницы и четырехъ статсъ-секретарей, и чтобы
актомъ преимущества, дарованныя непривилегированному дворянству, были
нены, и чтобы всѣмъ дорогая честь сидѣть въ королевскомъ присутствіи была отнята
у иринцесы де-Марсильякъ, госпожи де-Понсъ и у графини де-Фле.
Вотъ какіе предметы занимали умы и истощали энергію французскихъ дворянъ,
чтобы
необ-
актъ,
этимъ
отмѣ-
въ то время какъ ихъ отечество было терзаемо междоусобною войною и когда были
на очереди вопросы величайшей важности, — вопросы, касавшіеся свободы націи и
перемѣны всего государственнаго управленія. Едва-ли нужно доказывать, какъ мало
могли быть способны подобные люди руководить народомъ въ его тяжкой борьбѣ, и
какая громадная была разница между ними и предводителями великаго возстанія
Англіи. Причины неуспѣха Фронды сдѣлаются очевидны, если мы примемте въ со-
ображеніе, что вожди ея были взяты изъ того самаго сословія, вкусы и влеченія
котораго мы только-что объяснили нѣкоторыми данными. Какое безчисленное мно-
жество можно привести другихъ подобныхъ данныхъ, это хорошо знаетъ всякій, кто
читалъ французскіе мемуары семнадцатаго столѣтія,—сочиненія, которыя, будучи боль-
шей частью написаны или самими аристократами, или ихъ приближенными, даютъ
самые лучшіе матеріалы для составленія мнѣнія о французскомъ дворянствѣ. Загля-
нувъ въ эти достовѣрные источники, гдѣ подобныя вещи разсказываются съ досто-
должнымъ сознаніемъ ихъ важности, мы находимъ величайшіе затрудненія и споры,
возникающіе по поводу того, кому полагается кресло при дворѣ 2); кто можетъ быть
приглашаемъ къ королевскому столу, а кто не можетъ; кого можетъ цѣловать ко-
х) Длинный разсказъ объ этихъ спорахъ, нахо- |
дящіііея въ «Мемуарахъ» Мотвилля, доказываетъ, ка- '
кую важность придавало имъ современное обществен-
ное мнѣніе. • '
3) Этотъ запутанный вопросъ рѣшенъ былъ въ
пользу герцога Іоркскаго, котораго въ 1649 году
королева «приняла съ большимъ почетомъ и дала ему ।
стулъ съ ручками». Въ комнатѣ короля дѣло это
было повидимому устроено иначе; ибо Омеръ Талонъ
Бокль.—Изд. Ф. Павленкова.
говоритъ намъ, что «герцогъ Орлеанскій не имѣлъ
кресла, а простой складной стулъ, потому что мы
были въ комнатѣ короля». Въ слѣдующемъ году—
дѣло было узко не въ комнатѣ короля—тотъ же пи-
сатель представляетъ «г. герцога Орлеанскаго си-
дящаго въ креслѣ». Вольтеръ говорить: «кресло съ
ручками, стулъ со спинкою, табуретъ, правая рука
и лѣвая рука были въ теченіе многихъ вѣковъ важными
предметами политики, главными причинами распрей».
18
274 исторія цивилизаціи въ Англіи.
ролева, а кого не можетъ (въ «Мемуарахъ» Мотвилля помѣщенъ формальный
лицъ, которыхъ ей полагалось цѣловать); кто долженъ сидѣть въ первыхъ мѣстахъ
въ церкви; какая собственно должна быть пропорція между чинами разныхъ лицъ
и длиною сукна, на которомъ имъ позволяется стоять; какого званія должно быть
лицо, чтобы имѣть право въѣзжать въ Лувръ въ каретѣ; кто долженъ идти впереди
на коронаціяхъ; всѣ ли герцоги равны, или же, какъ полагали нѣкоторые, герцогъ де-
Бульонъ, какъ владѣвшій нѣкогда самостоятельно Седаномъ, былъ выше герцога де-
ла Рошфуко, который никогда не имѣлъ самостоятельнаго владѣнія *); могъ ли, или
нѣтъ, герцогъ де-Бофоръ входить въ комнату совѣта прежде герцога де-Немуръ и,
будучи уже тамъ, сѣсть выше его * 2). Вотъ что составляло главнѣйшіе вопросы дня;
въ то же время, и какъ бы въ довершеніе всякой нелѣпости, возникали самыя
серьезныя недоумѣнія на счетъ того, кому принадлежитъ честь подавать королю
салфетку за столомъ 3), или кто долженъ пользоваться неоцѣненнымъ преимуще-
ствомъ перемѣнять королевѣ бѣлье 4).
Можетъ быть кто-нибудь подумаетъ, что я долженъ отчасти извиниться передъ
читателями за то, что я навязываю ихъ вниманію эти жалкіе споры о предметахъ,
которые, какъ ни кажутся они ничтожными въ настоящее время, были нѣкогда до-
роги для людей, не лишенныхъ здраваго смысла, Но должно помнить, что подобные
споры и въ особенности важность, которую придавали имъ въ прежнее время, со-
ставляютъ принадлежность исторіи французскаго ума и потому должны быть оцѣ-
ниваемы не по своему внутреннему достоинству, а по тому понятію, которое онп
даютъ о порядкѣ вещей, уже не существующемъ. Этого рода факты, хотя ими и
пренебрегаютъ обыкновенные историки принадлежатъ все-таки къ числу самыхъ не-
обходимыхъ пособій .для псѣрріи. Они не только даютѣ памъ возможность живо пред-
ставить себѣ тѣ времена, къХкоторымъ они относятся, но имѣютъ также огромную
важность и съ философской точки зрѣнія. Они входятъ въ число матеріаловъ, изъ
которыхъ мы можемъ вывести общіе законы того мощнаго духа покровительства,
который въ различные періоды времени принимаетъ различныя формы, но, каковы
бы ни были его формы, всегда бываетъ обязанъ своею силою чувству раболѣпства,
поставленному въ противоположность къ чувству независимости. До какой степени
естественна такая сила на извѣстныхъ ступеняхъ общества, это мы ясно увидимъ,
если всмотримся въ основаніе, на которомъ держится само раболѣпство. Источникъ
раболѣпства—удивленіе и страхъ. Эти два чувства, порознь или вмѣстѣ, составля-
ютъ обыкновенный источникъ раболѣпства; а какимъ образомъ они сами рождаются—
совершенно понятно, Мы удивляемся, потому что мы невѣжественны, а страшимся,
потому что слабы. Поэтому естественно, что въ прежнія времена, когда люди были
невѣжественнѣе и слабѣе, чѣмъ теперь, они были также и болѣе склонны къ рабо-
*) Ленэ, большой поклонникъ аристократіи, раз-
сказываетъ вь своихъ «Мемуарахъ» всѣ эти вещи безъ
малѣйшаго сознанія ихъ нелѣпости. Но могу не упо-
мянуть объ одномъ ужасномъ- спорѣ, бывшемъ ві»
1652 году, по поводу признанія справедливости при-
тязаній герцога де-Роганъ о мѣстѣ на первой скамьѣ
прп «Те Леши» п о другомъ спорѣ, возникшемъ въ
царствованіе Генриха IV, долженъ лп герцогъ подпи-
сываться выше маршала, или же маршалъ—выше
герцога.
2) Это затрудненіе въ 1652 году сдѣлалось при-
чиною жестокой ссоры, окончившейся дуэлью, въ ко-
торой герцогъ де-Немуръ былъ убитъ, какъ говорить
большая пасть современныхъ писателей.
3) Поншартренъ, одинъ изъ государственныхъ ми-
нистровъ, пашетъ подъ годомъ 1620: «Въ то же самое
время шелъ весьма жаркій споръ между принцемъ
Копде и графомъ Суассопъ, по поводу того, что
каждый изъ нихъ утверждалъ, будто опъ долженъ по-
давать салфетку королю, когда они оба окажутся при
его величествѣ*. Ле-Вассоръ, который сообщаетъ бо-
лѣе подробныя свѣдѣнія, говорить: «каждый изъ двухъ
принцевъ крови, сильно разгорячившись но поводу
того, кому изъ нихъ исполнять обязанности метр-
дотеля, тянулъ салфетку въ свою сторону, и споръ
этогь возросъ до такихъ размѣровъ, что могъ имѣть
печальныя послѣдствія». Но когда вмѣшивался въ это
дѣло король, «то она вынуждены были уступить, не
безъ того однако, чтобы пе наговорить другъ другу
громкихъ словъ угрозы».
4) По словамъ одного авторитета, человѣкъ дол-
женъ былъ быть герцогомъ для того, чтобы жена его
могла касаться бѣлья королевы; по другимъ же сви-
дѣтельствамъ, каждая статеъ дама, кто бы она ни
была, имѣла это право, развѣ что случалась тутъ же
припцссса. 0 двоякомъ толкованіи этого права и о
возникшихъ изъ него затрудненіяхъ см. «Мемуары»
Сенъ-Симона.
СРАВНЕНІЕ ФРОНДЫ СЪ ВОЗСТАНІЕМЪ ВЪ АНГЛІИ. 275
дѣйству, болѣе расположены къ тому раболѣпному настроенію, которое, будучи пе-
ренесено въ религію, приводитъ къ суевѣрію, а перенесенное въ политику—къ деспо-
тизму. При обыкновенномъ ходѣ развитія общества зло это умѣряется успѣхами
знанія, которые въ одно и то же время — уменьшаютъ наше невѣжество и усили-
ваютъ наши средства: другими словами — уменьшаютъ нашу склонность къ удивле-
нію и къ страху-и, ослабляя въ насъ такимъ образомъ чувство раболѣпства, въ
такой же мѣрѣ усиливаютъ чувство независимости. Но во Франціи, какъ мы уже
видѣли, естественное стремленіе это перевѣшивалось другимъ, противоположнымъ
ему стремленіемъ. Въ то время какъ съ одной стороны духъ покровительства былъ
ослабляемъ успѣхами знанія, съ другой—къ нему подоспѣвали на помощь тѣ соці-
альныя и политическія обстоятельства, которыя я пытался выше очертить и въ силу
которыхъ каждый классъ имѣлъ большую власть надъ классомъ, стоявшимъ ниже
его, и такимъ образомъ вполнѣ поддерживались подчиненность и послушничество
всего общества. Вотъ почему всѣ умы пріобрѣли привычку смотрѣть на верхъ и
полагаться пе на свои собственныя средства, а на средства другихъ. Вотъ откуда
произошла та гибкость и та послушность, которыми всегда отличались французы
до XVIII столѣтія. Вотъ чѣмъ объясняется также то непомѣрное уваженіе къ мнѣ-
ніямъ другихъ, на которомъ основывается тщеславіе, составляющее одну изъ чертъ
національнаго характера французовъ, Свойства эти связаны также и съ учрежде-
ніемъ рыцарства; оба они суть сродныя проявленія одного и того же духа. Тще-
славіе и раболѣпство очевидно имѣютъ то общее, что побуждаютъ каждаго чело-
вѣка измѣрять свои дѣйствія мѣриломъ, находящимся внѣ его самого, между тѣмъ
какъ противоположныя имъ чувства, гордость и независимость, заставляютъ его пред-
почитать то внутреннее мѣрило, которое можетъ дать 4му только его умъ. Резуль-
татомъ всего этого было, что когда въ половинѣ ХУІІ столѣтія успѣхи умствен-
наго движенія привели французовъ къ возстанію, дѣйствіе этого движенія было
нейтрализовано тѣми соціальными тенденціями, которыя даже среди борьбы со-
храняли старыя привычки послушничества. Вотъ почему и въ самомъ разгарѣ войны
въ народѣ все еще сохранялась всегдашняя склонность смотрѣть къ верху на дво-
рянъ, а въ дворянахъ—смотрѣть такимъ же образомъ на корону. И тотъ, и другой
классы полагались на то, что они видѣли непосредственно надъ собою. Народъ ду-
малъ, что нѣтъ спасенія безъ дворянъ, а дворяне—что нѣтъ почести безъ короны.
Въ дѣлѣ дворянъ такое мнѣніе едва-ли можетъ быть порицаемо. Такъ какъ всѣ
ихъ отличія исходили отъ короны, то они имѣли прямой интересъ въ поддержаніи
стариннаго понятія, что король — источникъ чести. Они имѣли прямой интересъ въ
томъ ученіи, которое, упуская изъ виду истинный источникъ чести, обращаетъ наше
вниманіе на источникъ воображаемый, изъ котораго въ одно мгновеніе и един-
ственно по волѣ монарха величайшія почести могутъ изливаться на самыхъ ни-
чтожныхъ людей. Это собственно только часть старинной системы создавать отличія
и такимъ образомъ пытаться поставить посредственные умы выше великихъ. Со-
вершенная неудача, а по мѣрѣ успѣховъ общества даже прекращеніе подобныхъ
попытокъ не подлежатъ никакому сомнѣнію; но понятно, что, покуда онѣ еще дѣ-
лались. тѣ, кому онѣ приносили пользу, не могли не дорожить тѣми, отъ кого онѣ
происходили. Въ отсутствіе противодѣйствующихъ обстоятельствъ, между обѣими сто-
ронами не могло пе быть той симпатіи, которая рождается вслѣдствіе памяти о
прежнихъ милостяхъ и надежды на новыя. Во Франціи естественное побужденіе это
было еще болѣе усилено тѣмъ духомъ покровительства, который заставлялъ людей
привыкать къ стоявшимъ выше ихъ, и потому не удивительно, что тамъ аристо-
краты даже среди своихъ волненій не переставали добиваться малѣйшихъ милостей
отъ короны съ рвеніемъ, котораго мы только-что привели нѣсколько примѣровъ, Они
такъ давно привыкли взпрать на короля, какъ на источникъ ихъ собственнаго до-
стоинства, что имъ казалось, будто есть какое-то скрытое достоинство даже въ са-
мыхъ простыхъ дѣйствіяхъ его, такъ что, по ихъ разумѣнію, чрезвычайно было
18*
276 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
важно, кто изъ нихъ подастъ королю салфетку, кто ему подастъ умыться и кто на-
дѣнетъ на него бѣлье. Даже передъ самой французской революціей чувства эти еще
существовали. Не для того однако, чтобы поднять на смѣхъ этихъ праздныхъ и пустыхъ
людей, собралъ я данныя, касающіяся тѣхъ споровъ, которые такъ занимали ихъ.
Напротивъ, ихъ слѣдуетъ скорѣе жалѣть, чѣмъ порицать: они дѣйствовали согласно
со своими инстинктами; они употребляли въ дѣло даже тѣ жалкія способности, ка-
кими надѣлила ихъ природа. Но мы имѣемъ полное право проникнуться участіемъ
къ той странѣ, интересы которой зависятъ отъ подобныхъ лицъ. Только ради судьбы
французскаго народа стоитъ заняться исторіей французскаго дворянства. Въ то же
время данныя, подобныя собраннымъ мною, изобличая стремленія стараго дворянства,
проявляютъ собой, въ одной изъ самыхъ дѣйствительныхъ формъ, духъ покрови-
тельства и аристократизма, о которомъ очень слабое имѣютъ понятіе тѣ, которые
знаютъ его только въ его теперешнемъ состояніи стѣсненія и постепеннаго упадка.
На подобные факты должно смотрѣть, какъ на признаки тяжкой болѣзни, которой
конечно и до сихъ поръ еще страдаетъ Европа, но которую мы теперь видимъ
лишь въ значительно смягченной формѣ; о первоначальномъ же тлетворномъ дѣй-
ствіи ея только тотъ можетъ имѣть понятіе, кто изучалъ ее на ея первыхъ порахъ,
когда, свирѣпствуя необузданно, она взяла такой верхъ, что задержала развитіе
свободы, остановила умственное движеніе націи и подавила энергію человѣческаго ума.
Едва-ли нужно проводить далѣо черту несходства между Франціей и Англіей,
или доказывать то, что теперь., я надѣюсь, уже будетъ признано очевиднымъ раз-
личіемъ въ междоусобныхъ войнахъ обѣихъ этихъ странъ. Очевидно, что вожди
англійскаго возстанія, люди низкаго, плебейскаго происхожденія, не могли имѣть ни-
какого сочувствія къ тѣмъ йфцамъ, которыя смущали, умы французскаго дворянства.
Люди, подобные Кромвелю и его сподвижникамъ, не были большими знатоками тайнъ
генеалогіи или тонкостей геральдики. Они мало обращали вниманія на придворный
этикетъ; они никогда не изучали даже правилъ старшинства. Все это не имѣло
ничего общаго съ ихъ цѣлью. Съ другой стороны то, что они дѣлали, дѣлалось
основательно. Они знали, что имъ предстоитъ совершить великое дѣло, и совершили
его хорошо. Они возстали съ оружіемъ въ рукахъ противъ развращеннаго деспо-
тизма и не хотѣли остановиться до тѣхъ поръ, цока не устранятъ зла. И хотя въ
этомъ славномъ своемъ предпріятіи они, безъ сомнѣнія, выказали нѣкоторыя изъ
тѣхъ слабостей, которымъ подвержены и умы высшаго разряда, но мы должны во
всякомъ случаѣ говорить о нихъ не иначе, какъ съ почтеніемъ, подобающимъ тѣмъ,
кто далъ первый урокъ Европѣ и объявилъ въ самыхъ ясныхъ выраженіяхъ, что
уже насталъ конецъ прежней безнаказанности деспотизма.
ГЛАВА XI.
Духъ покровительства, перенесенный Людовикомъ XIV въ литературу. ООзоръ послѣд-
ствій этого союза умств’енно-трудящагося сословія съ правительствующимъ.
Теперь читателю конечно будетъ весьма понятно, какимъ образомъ система
покровительства съ одной стороны и сопряженное съ нею понятіе о подчиненности
съ другой—пріобрѣли во Франціи силу, совершенно неизвѣстную въ Англіи, и про-
извели существенное различіе въ ходѣ исторіи обѣихъ странъ. Чтобы дополнить
это сравненіе, представляется необходимымъ разсмотрѣть вліяніе, которое этотъ
духъ имѣлъ на исторію чисто умственнаго развитія Франціи, такъ же какъ и на
соціальное и политическое развитіе ея. Понятіе о зависимости, на которомъ осно-
вана система покровительственная, породило убѣжденіе, что подчиненность прави-
тельству, существующая въ политической и соціальной жизни, должна также суще-
ствовать и въ литературѣ, и что система отеческаго надзора, во все проникающаго
и все централизующаго, которая управляла матеріальными интересами страны,
должна была также завѣдывать и умственными интересами ея. Поэтому, когда
Фронда была окончательно низложена, то все оказалось уже подготовленнымъ къ
той странной организаціи умственной жизни народа, которая была характеристикой
пятидесятилѣтняго царствованія Людовика XIV и имѣла для французской литера-
туры то же значеніе, какъ феодальная система для политической жизни Франціи.
II въ топ, и въ другой сферѣ одна сторона оказывала покорность, а другая—благо-
склонное покровительство. Всякій литературный дѣятель сталъ вассаломъ француз-
скаго престола. Всякая книга писалась съ видами на королевскую милость; пріобрѣ-
теніе покровительства короля считалось самымъ сильнѣйшимъ изъ всѣхъ доказа-
тельствъ умственнаго превосходства. Послѣдствія, вызванныя такимъ порядкомъ
вещей, будутъ разсмотрѣны въ настоящей главѣ. Видимой причиной установленія
его былъ личный характеръ Людовика XIV; но истинными и преобладающими при-
чинами были тѣ обстоятельства, на которыя я уже указалъ, и которыя установили
въ умѣ французовъ извѣстныя ассоціаціи понятій, сохранившія свою силу до восем-
надцатаго вѣка. Придать этимъ ассоціаціямъ особую силу и внести преобладаніе
ихъ во всѣ сферы народной жизни было главною цѣлью Людовика XIV, и въ этомъ
онъ совершенно успѣлъ. Съ этой точки зрѣнія исторія его царствованія становится
въ высокой степени поучительной, потому что мы видимъ въ ней самый замѣча-
тельный образецъ деспотизма, какой когда-либо встрѣчался въ исторіи,—деспотизма
самаго широкаго и всеобъемлющаго,—деспотизма, тяготѣвшаго въ продолженіе пяти-
десяти лѣтъ надъ однимъ изъ самыхъ цивилизованныхъ народовъ Европы, который
однако же не только несъ это ярмо безропотно, но даже охотно и съ благодарностью
подчинялся тому, кѣмъ оно было наложено *).
*) Относительно постыднаго раболѣпства самыхъ I ству, даже но чувствуютъ тяжести своихъ цѣпей»,
замѣчательныхъ людей между литераторами см. «Людо- | Иностранцы также удивлялись такому всеобщему и
никъ XIV» Капфнга; о настроеніи же націи Ле-Вас- , еще болѣе такому добровольному раболѣпству. Лордъ
соръ, писавшій въ концѣ царствованія Людовика XIV, ! Шсфтсбюри въ письмѣ, написанномъ въ февралѣ
съ горечью говоритъ: «Французы, привыкшіе къ раб- | 1704 пли 1705 г., высказываетъ пламенныя похвалы
278
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Это явленіе тѣмъ болѣе странно, что царствованіе Людовика XIV заслу-
живаетъ полнѣйшаго осужденія, даже если приложить къ нему самое невысокое
мѣрило нравственности, чести и матеріальнаго интереса. Характеристику частной
жизни короля составляетъ самый грубый и необузданный развратъ, за которымъ
послѣдовало самое жалкое и пошлое суевѣріе; въ политической же дѣятельности
своей онъ выказывалъ дерзость и систематическое вѣроломство, возбудившія, на-
конецъ, противъ него негодованіе всей Европы и навлекшія на Францію жестокое,
примѣрное мщеніе* Что касается до его внутренней политики, то онъ вступилъ въ
тѣсный союзъ съ духовенствомъ и хотя самъ отчасти сопротивлялся авторитету
папы, но подданныхъ своихъ охотно предалъ на жертву тиранніи духовнаго со-
словія. Этому сословію онъ предоставилъ все, кромѣ правъ на свою прерогативу.
Подъ его вліяніемъ, съ той самой минуты какъ онъ принялъ управленіе государ-
ствомъ, онъ началъ стѣснять религіозную свободу, которой Генрихъ IV положилъ
основаніе и которая до того времени сохранялась неприкосновенной. Также по
внушенію духовенства онъ отмѣнилъ Нантскій эдиктъ, которымъ около ста лѣтъ
ранѣе было внесено въ коренные законы страны начало вѣротерпимости. По тому же
внушенію, непосредственно передъ этимъ нарушеніемъ самыхъ священныхъ правъ
своихъ подданныхъ, желая страхомъ вынудить протестантовъ къ обращенію, онъ
внезапно спустилъ на нихъ цѣлыя ватаги развращенныхъ солдатъ, которымъ было
дозволено совершать надъ ними самыя возмутительныя жестокости. Страшныя вар-
варства, которыя за этимъ послѣдовали, разсказаны у весьма достовѣрныхъ писа-
телей *); 0 вліяніи же этой мѣры на матеріальные интересы націи можно составить
себѣ нѣкоторое понятіе по тому факту, что эти религіозныя гоненія стоили Франціи
полумилліона самыхъ трудбдюбивыхъ изъ ея жителей^ которые бѣжали въ другія
страны, унеся съ собою привычку къ труду и знаніе, и опытность, пріобрѣтенныя
каждымъ въ своемъ занятіи, которыя до того времени служили къ обогащенію ихъ
отечества. Все это факты общеизвѣстные, неоспоримые и бросающіеся въ глаза.
А между тѣмъ и въ виду ихъ все-таки находятся люди, выставляющіе вѣкъ Людо-
вика XIV какъ предметъ восхищенія. Намъ всѣмъ достовѣрно извѣстно, что въ
гражданской свободѣ и вслѣдъ затѣмъ присовоку-
пляетъ: во Франціи «такія рѣчи едва-ли кому-ппбудь
понятны; ибо хотя и встрѣчаются изрѣдка нѣкоторые
проблески, но я но зналъ ни одного француза, ко-
торый былъ бы въ душѣ свободный человѣкъ». Въ
томъ же году Дефо сказалъ то же самое о француз-
скихъ дворянахъ, а Лдпссонъ въ 1699 году написалъ
изъ Блуа письмо, поразительно изображающее уни-
женіе французовъ, гдѣ онъ говоритъ <0 грубой п въ
прежнихъ вѣкахъ безпримѣрной лести, до которой
дошли французы въ прославленіи своего короля».
Вольтеръ говоритъ, что протестанты, остав-
шіеся твердыми въ своей религіи, «были выдаваемы
солдатамъ, которымъ позволено было дѣлать съ ними
все, чтб угодно, только не убивать ихъ. Впрочемъ
нѣкоторыя лица были такъ жестоко истерзаны, что
умерли отъ этого». II Бернетъ, бывшій во Франціи
въ 1685 г., говоритъ: «всѣ мы устремились на то,
чтобы изобрѣтать новые способы истязаній». Въ чемъ
заключались нѣкоторые изъ этихъ способовъ, я здѣсь
намѣренъ разсказать, потому что эти свидѣтельства
хотя чрезвычайно прискорбны, но необходимы для
того, чтобы дать намъ возможность вѣрно попять
царствованіе Людовика XIV. Необходимо, чтобы по-
кровъ былъ разорвалъ и чтобы ложная деликатность,
стремящаяся скрыть подобные факты, умолкла передъ
обязанностью историка выставлять на всеобщее пре-
зрѣніе и клеймить всенароднымъ позоромъ духовен-
ство, возбуждавшее къ этимъ мѣрамъ государя, ко-
торый приводилъ ихъ въ дѣйствіе, и вѣкъ, дозволив-
шій совершеніе подобныхъ злодѣяній.
Два первоначальные источника, пзъ когорыхъ
мы почерпаемъ свѣдѣнія объ этихъ событіяхъ, суть:
ОдіісІГв «Зупобісоп іп (Ыііа», 1692, Гоііо, п ВепоИз,
«Нізіоіге бе ГЕсііІ бе Капіез», 1695, 4-е. Пзъ этихъ
сочиненій мы беремъ па выдержку слѣдующія извѣ-
стія о событіяхъ во Франціи въ 1685 г.: «Затѣмъ
они (солдаты) нападали на самую личность протестан-
товъ, и нѣтъ того злодѣйства, какъ бы оно ужасно
ни было, котораго бы они не употребляли въ дѣло,
чтобы вынудить протестантовъ къ перемѣнѣ религіи...
Они связывали ихъ, какъ преступниковъ, подвергае-
мыхъ пыткѣ, и въ этомъ положеніи, вставивши имъ
въ ротъ воронку, лили ямъ въ горло впно до тѣхъ
поръ, пока пары его не лишатъ ихъ разсудка и пока
они въ этомъ состояніи не изъявятъ согласія сдѣ-
латься католиками; нѣкоторыхъ они раздѣвали донага
и, подвергнувъ тысячѣ униженіи, обкалывали булав-
ками съ ногъ до головы, рѣзали ихъ перочинными
ножами, брали ихъ за носъ раскаленными щипцами
и такимъ образомъ таскали но комнатамъ, пока они
не обѣщаютъ перемѣнить религію или пока болѣзнен-
ные крики несчастныхъ жертвъ, вопіющихъ къ Богу
о милости, но вынудятъ мучителей оставить ихъ въ
покоѣ... Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они привязывали
отцовъ и мужей къ кроватямъ и въ присутствіи ихъ
безчестили женъ и дочерей... У другихъ опи выры-
вали ногти на рукахъ и ногахъ, чтб должно произ-
водитъ невыносимую боль. Нерѣдко, посредствомъ мѣ-
ховъ, надували мужчинъ и женщинъ до того, что они
чуть пе лопались. Если же такія ужасныя терзанія
пе могли вынудить протестантовъ нарушить требова-
ДУХЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ПРИ ЛЮДОВИКѢ XIV.
279
его царствованіе уничтожены были всѣ слѣды свободы, что народъ былъ задавленъ
невыносимыми податями, что сыны его десятками тысячъ были вырываемы изъ се-
мействъ для усиленія королевскихъ армій, что средства страны были истощены до
неслыханной степени, что злѣйшій деспотизмъ пустилъ глубокіе корни;—и несмотря
на то, что факты эти признаны всѣми, встрѣчаются даже и въ наше время писа-
тели, до такой степени ослѣпленные блескомъ литературной славы, что забываютъ
ради ея о величайшихъ злодѣяніяхъ и прощаютъ весь вредъ, нанесенный націи
государемъ, при жизни котораго были написаны письма Паскаля, рѣчи Воссюэта,
комедіи Мольера и трагедіи Расина.
Впрочемъ этотъ способъ оцѣнивать заслуги Людовика XIV такъ быстро выхо-
дитъ изъ употребленія, что я не стану тратить болѣе словъ на опроверженіе его.
Но съ нимъ связано одно еще болѣе распространенное заблужденіе—о вліяніи ко-
ролевскаго покровительства на литературу каждой націи. Первыми распространи-
телями этого заблужденія были сами литераторы. По обычнымъ рѣчамъ слишкомъ
многихъ изъ нихъ мы могли бы думать, что благосклонное покровительство имѣетъ
какое-то магическое свойство возбуждать въ умѣ того счастливца, которому дано
наслаждаться имъ, особенныя силы. И этимъ мнѣніемъ но должно пренебрегать, какъ
однимъ изъ тѣхъ вредныхъ» предразсудковъ, которые еще держатся въ извѣстной
атмосферѣ. Оно не только основано па ложномъ понятіи о вещахъ, но и въ практи-
ческихъ послѣдствіяхъ своихъ весьма вредно. Оно могло вредить тому духу незави-
симости, которымъ каждая литература должна бы быть проникнута.
Поэтому мы не только пе должны ожидать, чтобы короли являлись ближай-
шими покровителями литературы, но, напротивъ того, должны быть довольны, если
только они противодѣйствуютъ упорно духу времени и7 не покушаются остановить
ходъ общественнаго развитія. Ибо, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда король, несмотря
на всѣ неудобства его положенія, оказывается человѣкомъ особенно обширнаго ума,—
обыкновенно бываетъ такъ, что онъ стремится награждать не самыхъ даровитыхъ,
а самыхъ покорныхъ ему людей, и что, отказывая въ своемъ покровительствѣ глу-
бокому и независимому мыслителю, онъ даетъ его писателю, привязанному къ ста-
риннымъ предразсудкамъ. Такимъ образомъ» обыкновеніе назначать дѣятелямъ ли-
ніѳ совѣсти и отступиться отъ своей религіи, то они
заключали ихъ въ тѣсныя и зловонныя тюрьмы, въ
которыхъ продолжали подвергать ихъ всякаго рода
жестокостямъз. (^іііек’з «Зупойісои» ѵ. I, р. СХХХ,
СХХХІ. «Между тѣмъ войска производили вездѣ не-
слыханныя жестокости. Все было шгь позволено, кромѣ
убійства. Иногда они заставляли своихъ хозяевъ пля-
сать, пока не упадутъ безъ памяти, другихъ подки-
дывали на простыняхъ до изнеможенія. Нѣкоторымъ
лили въ ротъ кипятокъ. Многихъ били палками по по-
дошвамъ, чтобы узнать, дѣйствительно ли ото мучѳпіе
такъ ужасно, какъ говорятъ путешественники. Дру-
гимъ вырывали бороды по одному волоску. Нѣкоторые
изъ солдатъ обжигали свѣчей волосы на рукахъ и но-
гахъ своихъ хозяевъ. Другіе жгли пороть около са- ;
маго лица сопротивлявшихся протестантовъ, такъ что .
онъ обжигалъ имъ всю кожу. Инымъ клали горячіе
уголья въ руки и заставляли держать ихъ сжатыми, I
пока уголья по погаснутъ... Многимъ обжигали ноги, ‘
держа ихъ долгое время передъ сильнымъ огнемъ или 1
прикладывая къ подошвамъ раскаленныя лопаты; пли і
же надѣвали ямъ на ноги сапоги, наполненные саломъ. !
которое потомъ растапливали и понемногу доводили до ।
кипѣнія надъ горящей жаровней». ВспоПз, «НізБ бе I
ГЕбіі бе Нап(е§* ѵ. V, рр. 887, 889. Одного изъ про-
тестантовъ, но имени Ріо (Вуап), они «крѣпко свя- ।
зали, защемили ему пальцы, загоняли ему булавки |
подъ ногти, жгли въ ушахъ его порохъ, протыкали
ему въ нѣсколькихъ мѣстахъ ляжки и лили въ раны |
уксусъ и сыпали соль. Такими терзаніями они въ два
дня истощили его терпѣніе и вынудили его перемѣ-
нить религію^, р. 180. «Драгуны вездѣ дѣйствовали
одинаково. Вили, доводили до безпамятства, легли въ
Бургони такъ же, какъ и въ Пуату, Шампапьи, какъ
п въ Гвіеннѣ, въ Нормандіи, какъ и въ Лангедокѣ.
Женщинамъ они не оказывали нп большаго уваженія,
ни большаго милосердія, чѣмъ мужчинамъ. Напротивъ,
они употребляли во зло нѣжную стыдливость, состав-
ляющую одну изъ принадлежностей женскаго пола, и
пользовались ею для нанесенія женщинамъ чувстви-
тельнѣйшихъ оскорбленій. Инымъ оші поднимали юбки
па голову и обливали ихъ ведрами воды. Многихъ сол-
даты раздѣвали до рубашки и заставляли въ этомъ
видѣ плясать съ ними... Двухъ дѣвицъ изъ Калэ, по
имени ле-Нобль, совсѣмъ нагихъ разложили на мос і овой,
и въ этомъ видѣ онѣ подвергались насмѣшкамъ и
оскорбленіямъ прохожихъ. Драгуны привязали г-жу
до-Везансэ къ ея кровати н, когда опа открывала ротъ,
чтобы сказать слово или вздохнуть, плевали ей въ ротъ»,
стр. 891, 892. Иа стр. 917 описываются другія, еще
болѣе ужасныя подробности о томъ, какъ было по-
ступаемо съ женщинами; отъ выписыванія этихъ ве-
щей здѣсь меня удерживаетъ но стыдъ, а негодова-
ніе. Стыдъ падаетъ только па ту церковь и на то
правительство, подъ соединенной властью которыхъ
такія постыдныя оскорбленія могли быть наносимы
людямъ—п при томъ съ единственной цѣлью прину-
дить ихъ къ перемѣнѣ религіозныхъ убѣжденій.
280 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
тературы почетныя или денежныя награды конечно весьма пріятно для тѣхъ, кото-
рые ихъ получаютъ, но оно можетъ вести къ ослабленію смѣлости и энергіи ихъ
мыслей, и, слѣдовательно, вредить достоинству ихъ произведеній. Это могло бы быть
ясно доказано обнародованіемъ списка всѣхъ пенсій, назначавшихся европейскими
монархами за литературные труды. Еслибы это было сдѣлано, то вредъ, произве-
денный какъ этими наградами, такъ и другими подобными имъ, сталъ бы очевиденъ.
Я, съ своей стороны, по тщательномъ изученіи исторіи литературъ, считаю себя
въ правѣ сказать, что на одинъ примѣръ награды, дарованной королемъ человѣку,
идущему впереди своего вѣка, встрѣчается по крайней мѣрѣ двадцать примѣровъ
награжденія людей, отставшихъ отъ своего времени. Въ результатѣ оказывается, что
во всякой странѣ, гдѣ королевское покровительство долго и щедро оказываемо было
дѣятелямъ литературы, духъ ея, вмѣсто того чтобы быть прогрессивнымъ, дѣлался
реакціоннымъ. Образовывался союзъ между дающими и получающими. Вслѣдствіе
систематически распредѣляемыхъ правительствомъ щедротъ, искусственно образо-
вался жадный и всегда нуждающійся классъ людей, которые, стремясь къ полученію
пенсій, мѣстъ и титуловъ, подчиняли исканіе истины своему корыстолюбію и про-
питывали сочиненія свои предразсудками того круга, къ которому они примыкали.
Такимъ же образомъ и пріобрѣтеніе знаній, безъ сомнѣнія благороднѣйшее изъ всѣхъ
занятій и болѣе всѣхъ другихъ возвышающее достоинство человѣка, было унижено
до уровня обыкновенной профессіи, въ которой шансы успѣха измѣряются числомъ
наградъ и удостоеніе высшихъ почестей зависитъ отъ произвола того, кому слу-
чится быть въ то время министромъ или королемъ.
Эта тенденція уже сама по себѣ составляетъ сильнѣйшее возраженіе противъ
мнѣнія тѣхъ, которые желаютъ ввѣрить правительству, облеченному исполнительной
властью, средства для награжденія дѣятелей литературы. Но есть еще и другое воз-
раженіе, которое въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ еще серьезнѣе. Каждая нація, кото-
рой будетъ дозволено развиваться естественнымъ путемъ, безъ всякаго контроля,
легко можетъ удовлетворить своимъ умственнымъ потребностямъ и непремѣнно про-
изведетъ такую литературу, какая наиболѣе подходитъ къ ея настоящему положенію.
Всѣ сословія имѣютъ очевидный интересъ въ томъ, чтобы производство не выхо-
дило изъ размѣровъ потребленія и предложеніе не превышало спроса. Сверхъ того
необходимо для благосостоянія общества, чтобы сохранялось правильное отношеніе
между умственно-трудящимися и практически-дѣятельными классами. Необходимо
должна существовать извѣстная пропорція между числомъ тѣхъ людей, которые пре-
имущественно склонны мыслить, и тѣхъ, которые наиболѣе расположены дѣйствовать.
Еслибы мы всѣ были писателями, то пострадали бы наши матеріальные интересы;
а еслибы мы всѣ были дѣловыми людьми, то было бы менѣе наслажденій для ума.
Въ первомъ случаѣ мы оказались бы голодными философами, а во второмъ — бога-
тыми глупцами. Между тѣмъ очевидно, что, по самымъ простымъ началамъ человѣ-
ческой дѣятельности, необходимое численное отношеніе между упомянутыми выше
двумя классами людей установится безъ малѣйшаго усилія, по естественному по-
бужденію или въ силу, такъ сказать, самодѣятельности общества. Но когда прави-
тельство берется давать пенсіи литераторамъ, то оно мѣшаетъ этой самодѣятельности.
Таковъ неизбѣжный результатъ того духа вмѣшательства, который всѣмъ націямъ въ
мірѣ сдѣлалъ такъ много вреда. Такъ, еслибы напримѣръ правительствомъ отложенъ
былъ особый фондъ для награжденія мясниковъ и портныхъ, то достовѣрно, что
число этихъ полезныхъ людей безъ нужды умножилось бы. Если подобный же фондъ
присвоивается пишущему классу, то можно также достовѣрно сказать, что число ли-
тераторовъ увеличится быстрѣе, чѣмъ того требуютъ нужды страны. Въ обоихъ слу-
чаяхъ искусственное возбужденіе произведетъ нездоровое дѣйствіе. Конечно пища
и одежда такъ же необходимы для нашего тѣла, какъ литература для нашего ума.
Зачѣмъ же послѣ этого намъ возлагать на правительства поощренія тѣхъ, которые
пишутъ для насъ книги, скорѣе, чѣмъ тѣхъ, которые бьютъ для насъ барановъ и чи-
ДУХЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ПРИ ЛЮДОВИКѢ XIV. 281
нятъ нашу одежду? Дѣло въ томъ, что ходъ умственной жизни общества въ этомъ
отношеніи совершенно уподобляется ходу его физической жизни. Въ нѣкоторыхъ
случаяхъ слишкомъ усиленное предложеніе можетъ дѣйствительно родить неесте-
ственную потребность, но это есть искусственное положеніе вещей, свидѣтельствующее
о болѣзненной дѣятельности общественнаго организма. Въ здоровомъ состояніи обще-
ства не предложеніе возбуждаетъ потребность, а потребность вызываетъ предложе-
ніе. Слѣдовательно, предположить, что за умноженіемъ писателей необходимо должно
послѣдовать распространеніе знаній, было бы то же самое, какъ еслибы кто сталъ
думать, что отъ увеличенія числа мясниковъ увеличится и количество доставляемой
народу пищи. На самомъ дѣлѣ это устраивается совсѣмъ не въ такомъ порядкѣ. Для
того чтобы ѣсть, нужно имѣть аппетитъ; чтобы покупать пищу, нужно имѣть деньги,
а чтобы читать., нужно быть любознательнымъ. Два великія начала, двигающія міромъ,
суть: любовь къ богатству и любовь къ знанію. Эти два начала имѣютъ представи-
телями своими два главнѣйшихъ класса, на которые раздѣляется каждая цивилизо-
ванная нація—они же и управляютъ этими классами. То, что правительство даетъ
одному изъ классовъ, оно должно взять у другого. То, что оно даетъ литературѣ,
оно вынуждено отнять у промышленности, а это никогда не можетъ быть сдѣлано
въ сколько-нибудь значительномъ размѣрѣ безъ того, чтобы не произошло самыхъ
гибельныхъ послѣдствій. Естественныя пропорціи общества нарушаются—и оно само
приходитъ въ разстройство. Между тѣмъ какъ дѣятели литературы пользуются покро-
вительствомъ, дѣятели промышленности подвергаются угнетенію. Въ глазахъ людей,
считающихъ литературу главнымъ дѣломъ въ народной жизни, низшіе классы націи
не могутъ имѣть большого значенія. Мысль о свободѣ народа будетъ у нихъ въ пре-
небреженіи; самыя личности, его составляющія, подвергнутся притѣсненію, трудъ его
обложится податью. Знанія, необходимыя для жизни, будутъ презрѣны ради покро-
вительства такимъ знаніямъ, которыя служатъ для украшенія ея. Большинство бу-
детъ разорено ради удовольствія меньшинства. Сверху все будетъ блестяще, а
снизу—гнило. Прекрасныя картины, великолѣпные дворцы, трогательныя драмы—все
это въ теченіе нѣкотораго времени можетъ быть произведено въ изобиліи, но такое
производство будетъ стоить націи ея самыхъ кровныхъ силъ. Даже тотъ классъ, для
котораго принесется такая жертва, скоро придетъ въ упадокъ. Конечно, поэты мо-
гутъ по-прежнему воспѣвать мецената, не щадящаго для нихъ своего золота; но то
достовѣрно, что люди, начинающіе съ потери своей независимости, кончаютъ тѣмъ,
что теряютъ и энергію. Слишкомъ уже велики должны быть умственныя силы ихъ,
чтобы не ослабѣть среди болѣзненной атмосферы. Сосредоточивъ все вниманіе на
своемъ меценатѣ, они незамѣтно пріобрѣтутъ привычку къ раболѣпству, неразлучную
съ такимъ положеніемъ, и такъ какъ сфера проявленія ихъ сочувствій будетъ огра-
ничена, то и самая дѣятельность ихъ дарованій ослабнетъ. Покорность станетъ для
нихъ привычкою, а раболѣпство—удовольствіемъ. Въ ихъ рукахъ литература скоро
потеряетъ свой характеръ смѣлости; преданіе старыхъ временъ будетъ приводимо
какъ доказательство истины, и духъ самостоятельнаго изслѣдованія совершенно исчез-
нетъ. При такихъ данныхъ всегда настаетъ одинъ изъ тѣхъ грустныхъ моментовъ
исторіи, когда общественному мнѣнію нѣтъ средства высказаться и мысль человѣ-
ческая не находитъ исхода; недовольство гражданъ, оставаясь безгласнымъ, понемногу
переходитъ въ смертельную ненависть; враждебныя страсти накипаютъ въ тишинѣ.
Вѣрность начертанной нами картины вполнѣ очевидна для всякаго, кто изучалъ
исторію Людовика XIV и связь между его царствованіемъ и французскою револю-
ціею. Этотъ государь въ теченіе своего долгаго царствованія принялъ вредное
обыкновеніе награждать литераторовъ значительными суммами денегъ и оказывать
имъ различные знаки своей благосклонности. Такъ какъ это продолжалось болѣе
полувѣка, и такъ какъ богатства, которыя онъ такимъ образомъ неразсчетливо расточалъ,
были конечно взяты отъ другихъ его подданныхъ, то мы не можемъ найти лучшаго
примѣра для объясненія того, какихъ результатовъ можно всегда ожидать отъ по-
282
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
добнаго покровительства. Дѣйствительно, этому государю принадлежитъ честь возве-
денія въ систему того покровительства литературѣ, о возобновленіи котораго многіе
такъ усердно заботятся; а какія были послѣдствія этого образа дѣйствія для интере-
совъ знанія вообще—это мы сейчасъ увидимъ. Вліяніе его на самихъ литераторовъ
заслуживаетъ особеннаго вниманія тѣхъ писателей, которые, не взирая на чувство
собственнаго достоинства, постоянно упрекаютъ англійское правительство за то, что
оно не заботится о людяхъ литературной профессіи. Ни въ какоо время литераторы
не были такъ щедро награждаемы, какъ въ царствованіе Людовика XIV, и никогда
не были они такъ низки духомъ, такъ раболѣпны и такъ совершенно неспособны
удовлетворять высокому призванію своему — быть апостолами знанія и проповѣдни-
ками истины. Исторія самыхъ знаменитыхъ писателей того времени доказываетъ,
что, несмотря на образованіе свое и на природныя умственныя силы, они не могли
устоять противъ окружавшей ихъ испорченности. Для пріобрѣтенія благосклонности
короля они жертвовали тѣмъ духомъ независимости, который долженъ былъ быть
для нихъ дороже жизни. Они отреклись отъ наслѣдія геніевъ и уступили свое право
первородства за блюдо чечевицы; а чтЬ случилось тогда, то при подобныхъ же обстоя-
тельствахъ произошло бы и нынѣ. Немногіе высоко-даровитые мыслители могутъ
конечно быть въ состояніи въ продолженіе нѣкотораго времени противиться давленію
своего вѣка. Что же касается человѣчества вообще, то общество не можетъ вліять
ни на какое сословіе иначе, какъ чрезъ посредство его интересовъ. Слѣдовательно,
всякій народъ долженъ заботиться, чтобы интересы литературныхъ дѣятелей были на
его сторонѣ. Ибо литература представляетъ собою умъ—нѣчто прогрессивное, а пра-
вительство представляетъ порядокъ—нѣчто неподвижное/ Пока эти двѣ великія силы
раздѣлены, онѣ взаимно исправляютъ одна другую и одна другой противодѣйствуютъ,
и нація можетъ сохранять равновѣсіе. Но если обѣ силы вступаютъ въ коалицію,
то неизбѣжнымъ результатомъ будетъ деспотизмъ въ политическомъ мірѣ и рабо-
лѣпство въ литературномъ. Такъ было во Франціи при Людовикѣ XIV, и мы можемъ
быть увѣрены, что то же произойдетъ въ каждой странѣ, которая поддастся иску-
шенію послѣдовать столь привлекательному, но вмѣстѣ съ тѣмъ столь гибельному
примѣру.
Слава Людовика XIV создана была благодарностью къ нему писателей, въ на-
стоящее же время она поддерживается общепринятой мыслью, что блестящее со-
стояніе, котораго достигла въ его время литература, должно быть главнымъ образомъ
приписано его отеческой обо всемъ заботливости. Но если разсмотрѣть это мнѣніе
поближе, то мы увидимъ, что, подобно многимъ изъ преданій, наполняющихъ собою
исторію, оно совершенно лишено основанія. Мы найдемъ два обстоятельства перво-
степенной важности, которыя докажутъ намъ, что литературный блескъ царствованія
Людовика XIV былъ результатомъ не его усилій, а трудовъ великаго поколѣнія,
предшествовавшаго ему, и что умственное развитіе Франціи не только ничего не
выиграло отъ его щедрости, но даже было стѣснено его опекою.
1. Первое изъ этихъ обстоятельствъ заключается въ томъ, что великое дви-
женіе, сообщенное во время управленія Ришельё и Мазарини высшимъ отраслямъ
знанія, внезапно остановилось. Въ 1661 г. Людовикъ XIV принялъ управленіе госу-
дарствомъ, и съ этого момента до смерти его (въ 1715 г») исторія Франціи въ отно-
шеніи къ великимъ открытіямъ науки составляетъ пробѣлъ въ лѣтописяхъ Европы.
Если, оставивъ въ сторонѣ всѣ предразсудочныя понятія наши о мнимой славѣ этого
періода, мы разсмотримъ предметъ безпристрастно, то окажется, что по всѣмъ от-
раслямъ знанія былъ явный недостатокъ въ самостоятельныхъ мыслителяхъ. Въ числѣ
произведеній того времени было много изящнаго, много привлекательнаго. Чувствамъ
людей конечно льстили произведенія искусства—картины, дворцы, стихотворенія, но
едва-ли было присовокуплено что-нибудь существенное къ суммѣ человѣческихъ
знаній. Если, напримѣръ, взять математику и тѣ смѣшанныя науки, къ которымъ
она прилагается, то безъ сомнѣнія всякій признаетъ, что наиболѣе успѣшно зани-
ДУХЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ПРИ ЛЮДОВИКѢ XIV.
283
мялись ими во Франціи въ семнадцатомъ вѣкѣ Декартъ, Паскаль, Фермк, Гассенди
и Мерсеннъ. Но Людовикъ XIV не имѣетъ права ни на какое участіе въ славѣ,
заслуженной этими людьми, потому что они занимались своими изысканіями въ то
время, когда король былъ еще ребенкомъ, и окончили пхъ прежде, чѣмъ онъ при-
нялъ управленіе, а, слѣдовательно, и прежде, чѣмъ начала дѣйствовать его система
покровительства. Декартъ умеръ въ 1650 г., когда королю было двѣнадцать лѣтъ.
Паскаль, имя котораго, подобно имени Декарта, обыкновенно соединяютъ съ вѣкомъ
Людовика XIV, пріобрѣлъ европейскую извѣстность еще въ то время, когда Людо-
викъ занимался въ дѣтской своими игрушками и не зналъ даже о существованіи
этого человѣка. Его трактатъ о коническихъ сѣченіяхъ былъ написанъ въ 1639 году,
рѣшительные опыты надъ тяжестью воздуха произведены въ 1648 году, а изысканія
о циклоидѣ, послѣднія изъ великихъ изслѣдованій его, произведены въ 1658 году,
когда Людовикъ, находясь подъ опекою Мазарини, не имѣлъ еще никакой власти.
Фермй былъ одинъ изъ самыхъ глубокихъ мыслителей семнадцатаго вѣка въ осо-
бенности по части геометріи, въ которой онъ уступалъ одному только Декарту. Са-
мыя важныя открытія его суть тѣ, которыя относятся къ геометріи безконечныхъ
величинъ, въ примѣненіи къ ординатамъ и тангенсамъ дугъ, и эти изысканія были
имъ окончены въ 1636 году или еще ранѣе. Что же касается Гассенди и Мерсенна,
то достаточно сказать, что Гассенди умеръ въ 1655 году, шестью годами ранѣе,
чѣмъ Людовикъ принялъ управленіе, а Мерссннъ—въ 1648 году, когда великому
королю было не болѣе десяти лѣтъ.
Таковы были люди, процвѣтавшіе во Франціи передъ самымъ тѣмъ временемъ,
какъ стала дѣйствовать система Людовика XIV. Вскорѣ послѣ ихъ смерти покро-
вительство короля начало вліять на умственное направленіе націи, и въ теченіе
слѣдующихъ затѣмъ пятидесяти лѣтъ не было сдѣлано ни одного значительнаго
пріобрѣтенія ни по одной изъ отраслей математики, ни по какой-либо изъ тѣхъ
наукъ, за исключеніемъ развѣ акустики (творцомъ ея можетъ быть признанъ Совёръ),
къ которымъ прилагается математика *). Чѣмъ далѣе подвигался семнадцатый вѣкъ,
тѣмъ очевиднѣе становился этотъ упадокъ и тѣмъ яснѣе можемъ мы прослѣдить
связь меледу упадкомъ силъ французовъ и развитіемъ духа покровительства, ослаб-
лявшаго ту самую энергію, которую онъ стремился усилить. Людовикъ слыхалъ, что
астрономія есть наука, открывающая высокія истины; поэтому онъ стремился уве-
личить славу своего имени 2), поощряя изученіе этой науки во Франціи. Въ этихъ
видахъ онъ сталъ награждать спеціалистовъ ея съ безпримѣрной щедростью и по-
строилъ въ Парижѣ великолѣпную обсерваторію; къ его двору приглашены были
самые знаменитые изъ иностранныхъ астрономовъ: Кассини изъ Италіи, Ромеръ изъ
Даніи и Гюйгенсъ изъ Голландіи. Что же касается до самой французской націи, то
она не произвела ни одного человѣка, который бы сдѣлалъ какое-либо открытіе,
составляющее эпоху въ исторіи этой науки. Въ другихъ странахъ дѣлались боль-
шіе успѣхи, и Ньютонъ въ особенности своими громадными обобщеніями преобра-
зовалъ почти всѣ отрасли физики, а астрономію совсѣмъ пересоздалъ, распростра-
нивъ до самыхъ дальнихъ предѣловъ солнечной системы законы тяготѣнія. Напро-
тивъ того, Франція находилась въ такомъ оцѣпенѣніи, что эти удивительныя от-
крытія, измѣнившія видъ всей системы наукъ, были оставлены ею безъ вниманія;
до 1732 года, т. е. въ теченіе сорока пяти лѣтъ послѣ обнародованія этихъ открытій
Въ донесеніи, представленномъ Наполеону I другомъ націямъ, похвалиться ші однимъ творческимъ
французскимъ Институтомъ, сказано о царствованіи | дарованіемъ въ области наукъ».
Людовика XIV: «точныя и естественныя науки весьма । 2) Въ концѣ семнадцатаго столѣтія одинъ писа-
мало разрабатывались во Франціи въ этомъ вѣкѣ, на- толь сказалъ довольно наивно: «нынѣшній фрапцуз-
ходившемъ повидимому интересъ только въ литера- । скій король слыветъ покровителемъ по всѣмъ отрас-
турѣ>. Лакретель въ «Віх-ІінПіёпіе 8іёс1о> выра- , лямъ знанія даровитыхъ людей, могущихъ содѣйство-
ждется такъ: «Франція, произведя Декарта и Паскаля, вать къ ого прославленію»,
въ продолженіе нѣкотораго времени но могла, подобно
284
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ихъ безсмертнымъ виновникомъ х), не было ни одного примѣра, чтобы какой-нибудь
французскій астрономъ усвоилъ себѣ ихъ выводы. Даже въ подробностяхъ самыя
значительныя улучшенія, сдѣланныя французскими астрономами во время владыче-
ства Людовика XIV, не были оригинальными. Они имѣли притязаніе на изобрѣтеніе
микрометра,—инструмента, составляющаго превосходное пособіе для науки и устроен-
наго въ первый разъ, какъ они утверждали, Пикаромъ и Озу. Но на самомъ дѣлѣ
и здѣсь ихъ опередила дѣятельность болѣе свободнаго и менѣе покровительствуемаго
народа: микрометръ изобрѣтенъ Гаскойномъ въ 1639 г. или немного ранѣе, то есть
въ такое время, когда англійскій король не только не имѣлъ времени покровитель-
ствовать наукѣ, но приготовлялся вступить въ ту самую борьбу, которая десять лѣтъ
спустя стоила ему короны и жизни.
Отсутствіе во Франціи въ этомъ періодѣ не только великихъ открытій, но и
простой практической смѣтливости, конечно весьма поразительно. Для изслѣдованій,
требовавшихъ строжайшей точности, всѣ нужные инструменты, если они были сколько-
нибудь сложны, приготовлялись иностранцами, такъ какъ мѣстные рабочіе были
слишкомъ неискусны, чтобы дѣлать ихъ. Д-ръ Листеръ, который могъ быть въ этомъ
дѣлѣ весьма хорошимъ судьею и который былъ въ Парижѣ въ концѣ семнадцатаго
вѣка, свидѣтельствуетъ, что лучшіе математическіе инструменты, продававшіеся въ
этомъ городѣ, были сдѣланы не французами, а жившимъ тамъ англичаниномъ Бёт-
терфильдомъ 2). Не болѣе успѣха имѣли французы и въ производствѣ предметовъ
непосредственной, очевидной необходимости. Улучшенія, достигнутыя ими въ ману-
фактурномъ дѣлѣ, были малочисленны и ничтожны, прц томъ же клонились не къ
улучшенію народнаго быта, но къ удовлетворенію роскоши праздныхъ сословій 3).
Все истинно полезное находилось въ пренебреженіи;/не было ни одного великаго
изобрѣтенія. До самаго конца/царствованія Людовика XIV ни по части механики,
ни по другимъ отраслямъ промышленности не было сдѣлано почти ничего такого,
что могло бы служить къ сбереженію народнаго труда, а, слѣдовательно, и къ увели-
ченію народнаго богатства 4).
При такомъ состояніи не только математическихъ наукъ и астрономіи, но даже
механическихъ искусствъ и изобрѣтеній, соотвѣтствующіе признаки истощенія умствен-
ныхъ силъ націи проявлялись и по всѣмъ другимъ отраслямъ ученой дѣятельности.
По части физіологіи, анатоміи и медицины мы напрасно стали бы искать въ это
время во Франціи людей, подобныхъ тѣмъ, которыми она нѣкогда гордилась. Самое
г) «Ргіпсіріа* Ньютона явилась въ 1687 году,
а въ 1732 году Мопертюи былъ первымъ француз-
скимъ астрономомъ, предпринявшимъ критическую
защиту «теоріи тяготѣнія^. Въ 1738 году Вольтеръ
писалъ: «Франція дояыпѣ единственная страна, гдѣ
теоріи Ньютона, по предмету физики, и Боэргава,
по медицинѣ, еще оспариваются. У насъ вовсе нѣтъ
хорошей элементарной физики, а аишствешіыіі нашъ
курсі* астрономіи —книга Біопа, которая есть но что
иное, какъ безобразная компиляція изъ разныхъ за-
писокъ академіи». «Соггезропб».—Оеиѵгез бе Ѵоііаіге,
ѵ. ЬѴП, р. 340. Поздней принятіе Франціей Ньюто-
новыхъ открытій тѣмъ болѣе замѣчательно, что мно-
гіе изъ выводовъ, кь которымъ пришелъ Ньютонъ,
были обнародованы еще прежде, чѣмь онъ изложилъ
пхъ въ «Ргтсіріа», а изслѣдованія его о закопахъ
тяжести начались въ 1666 и гложетъ быть даже
осенью 1665 года.
2) Несмотря на сильное предубѣжденіе, суще-
ствовавшее тогда противъ англичанъ, Баттерфильдъ
имѣлъ заказы отъ короля и оть всѣхъ принцевъ.
Фонтеішель упоминаетъ о Гюбэяѣ, какъ обь одномъ
пзъ самыхъ знаменитыхъ инструментальныхъ масте-
ровъ въ Парижѣ въ 1687 году, но забылъ упомя-
нуть о томъ, что онъ быль также англичанинъ. Также
и въ отношеніи къ производству часовъ, громадное
преимущество англійскихъ мастеровъ въ копцѣ цар-
ствованія Людовика XIV было неоспоримо.
3) «Мануфактуры были болѣе направлены къ
блестящему, чѣмъ къ полезному. Постановленіемъ,
изданнымъ въ мартѣ 1700 года, старались даже
уничтожить или но крайней мѣрѣ значительно стѣс-
нить машинное производство чулокъ. Но, несмотря
на эго ложное направленіе, производство предметовъ
самой изысканной роскоши дѣлало весьма медленные
успѣхи. Въ 1687 году послѣ смерти Кольберга дворъ
еще долженъ былъ прибѣгать къ промышленности
варварскихъ народовъ и заказывалъ шитье для са-
мыхъ блестящихъ камзоловъ въ Константинополѣ*-.
Лечішгс говорить, что въ продолженіе послѣднихъ трид-
цати лѣтъ царствованія Людовика XIV «мануфак-
туры приходили въ упадокъ».
4) Кювье слѣдующимъ образомъ описываетъ по-
ложеніе Франціи семь лѣтъ только спустя послѣ
смерти Людовика XIV: «наши желѣзные заводы
были еще вь состояніи младенчества: стали мы еще
вовсе не производили; всѣ орудія, нужныя для раз-
ныхъ ремесль, получались изъ чужихъ краевъ...
Мы также пе дѣлали и жести, а выписывали ео изъ
I Германіи».
ДУХЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ПРИ ЛЮДОВИКѢ XIV.
285
великое изъ открытій по этой отрасли знанія, сдѣланныхъ кѣмъ-либо изъ францу-
зовъ, есть открытіе млечныхъ сосудовъ,—открытіе, которое, по мнѣнію одного писателя,
пользующагося большимъ авторитетомъ, стоитъ наравнѣ съ открытіемъ Гарвея —
обращенія крови. Этотъ важный шагъ въ развитіи нашихъ знаній постоянно отно-
сятъ къ царствованію Людовика XIV, какъ будто бы онъ былъ однимъ изъ резуль-
татовъ великодушной щедрости; между тѣмъ весьма трудно было бы доказать уча-
стіе мѣръ Людовика въ этомъ открытіи, потому что его сдѣлалъ Пэккё въ 1647 г.,
когда великому королю было девять лѣтъ отъ роду. Послѣ Пэккё самымъ знамени-
тымъ изъ французскихъ анатомовъ семнадцатаго вѣка былъ Ріоланъ, и его имя мы
также находимъ въ числѣ замѣчательныхъ людей, украсившихъ собою царствованіе
Людовика XIV. Между тѣмъ главныя сочиненія Ріолана были написаны еще до
рожденія Людовика: послѣднее произведеніе его издано въ 1652 году, а въ 1657 г.
онъ умеръ. Послѣ пего произошелъ нѣкоторый застой: въ продолженіе трехъ поко-
лѣній французы вовсе ничего не сдѣлали но этимъ важнымъ предметамъ; они не
написали ни одного сочиненія, которое читалось бы до настоящаго времени, не
открыли ни одной новой научной истины и повидимому совершенно упали духомъ.
Это продолжалось до того возрожденія наукъ, которое, какъ мы сейчасъ увидимъ,
совершилось во Франціи около половины восемнадцатаго вѣка. Въ практическихъ
отрасляхъ медицины, въ умозрительныхъ отрасляхъ ея и во всѣхъ искусствахъ, свя-
занныхъ съ хирургіей, проявляется тотъ же законъ. По этимъ частямъ, также какъ
и по другимъ, Франція въ прежнее время производила людей весьма замѣчательныхъ,
которые пріобрѣли европейскую извѣстность и сочиненія которыхъ и до сихъ поръ
не забыты. Такимъ образомъ-—мы приведемъ только два или три примѣра—у нихъ
былъ длинный рядъ знаменитыхъ медиковъ, въ числѣ кбторыхъ самыми первыми но
времени были Фернэль и Жубэръ; по хирургіи у нііхъ былъ Амбруазъ Парё,
который не только ввелъ важныя практическія усовершенствованія, по имѣлъ еще
болѣе рѣдкую заслугу, какъ одинъ изъ основателей сравнительной остеологіи; сверхъ
того у нихъ былъ Бальу, который въ концѣ шестнадцатаго и въ началѣ семнад-
цатаго столѣтія подвинулъ впередъ патологію, соединивъ съ нею патологическую
анатомію. При Людовикѣ XIV все это измѣнилось. При немъ хирургія во Фрапціи
находилась въ пренебреженіи, между тѣмъ какъ въ другихъ странахъ она быстро
подвигалась впередъ 1). Англичане къ половинѣ семнадцатаго столѣтія сдѣлали
весьма значительные успѣхи въ медицинѣ, терапевтическую отрасль которой пре-
имущественно преобразовалъ СаЙденгамъ, а физіологическую—Глпссонъ. Вѣкъ же
Людовика XIV не можетъ похвалиться ни однимъ писателемъ по части медицины,
который могъ бы быть сравненъ съ этими людьми, ни даже такимъ, котораго имя
было бы связано съ какимъ-либо особымъ приращеніемъ къ нашимъ знаніямъ. Въ
Парижѣ практическая медицина стояла несомнѣнно ниже, чѣмъ въ столицахъ Гер-
маніи, Италіи и Англіи, а во французскихъ провинціяхъ даже самые лучшіе, срав-
нительно, врачи отличались вопіющимъ невѣжествомъ 2). Дѣйствительно, не будетъ
преувеличеніемъ сказать,, что въ теченіе всего этого долгаго періода французы въ
отношеніи къ медицинѣ сравнительно ничего не сдѣлали. Они ничего не произвели
новаго по части клиники 3) и почти ничего по части терапевтики, патологіи, физі-
ологіи и анатоміи 4).
9 «Самымъ знаменитымъ хирургомъ шестпадца- '
таго столѣтія былъ Амбруазъ Парё... Со времени I
Парё до начала восемнадцатаго вѣка хирургіей весьма ।
мало занимались во Франціи. Въ нродолжопіо восем- !
надцатаго вѣка Франція произвела двухъ хирурговъ, і
отличавшихся необыкновенными способностями, это
были Пети и Дезо(Во^шап’з ' Зпг^егу Епсусіор.
о! Мебісаі Зсіенсез»), I
*) На это мы находимъ множество жалобъ со |
сторовы иностранцевъ, посѣщавшихъ Францію. Я |
приведу свидѣтельство одного извѣстнаго яйца. Въ
1699 г. Адиссонъ писалъ изъ Блуа: «я имѣлъ дѣло
съ однимъ ивъ здѣшнихъ врачей, которые берутъ
такъ жо дешево, но вмѣстѣ съ тѣмъ и такъ же невѣ-
жественны, какъ наши англійскіе коновалы».
3) Дѣйствительно Франція была послѣднимъ изъ
великихъ государствъ Европы, въ которомъ учреж-
дена была каѳедра клинической медицины.
4) Бульо въ своемъ обзорѣ положенія медицины
въ семнадцатомъ столѣтіи по упоминаетъ за весь
286
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
. Въ естественныхъ наукахъ мы также находимъ, что французы остановились
въ это время на одной точкѣ. По части зоологіи они прежде имѣли замѣчательныхъ
людей, въ числѣ которыхъ самыми извѣстными были Белонъ и Ронделс; но при Лю-
довикѣ XIV Франція не произвела ни одного самостоятельнаго наблюдателя въ этой
обширной области изслѣдованій *). Также и въ химіи, въ царствованіе Людовика XIII,
Рэй высказалъ воззрѣнія величайшей важности, упреждавшія даже нѣкоторыя изъ
обобщеній, которыми прославился умъ французской націи въ восемнадцатомъ вѣкѣ 2).
Въ развратныя же и легкомысленныя времена Людовика XIV все это было забыто.
Труды Рэя остались въ пренебреженіи, и равнодушіе общества въ наукѣ дошло до
такой степени, что даже знаменитые опыты Бойля были неизвѣстны во Франціи
болѣе сорока лѣтъ послѣ обнародованія ихъ 3).
Въ связи съ зоологіей для каждаго философскаго ума—даже въ неразрывной
связи съ нею—находится ботаника, которая, занимая средину меледу царствами жи-
вотнымъ и ископаемымъ, указываетъ на отношеніе одного къ другому и въ разныхъ
точкахъ касается предѣловъ обоихъ царствъ. Она также бросаетъ яркій свѣтъ на
отправленія питанія 4) и на законы развитія; при томъ, вслѣдствіе разительной ана-
логіи, существующей меледу животными и растеніями, мы имѣемъ весьма сильное
основаніе надѣяться, что будущіе успѣхи этой науки вмѣстѣ съ успѣхами теоріи
электричества проложатъ путь къ образованію всеобъемлющей теоріи жизни, кото-
рая при настоящей степени нашихъ знаній еще не можетъ установиться, но къ ко-
торой явно стремится современное движеніе въ наукѣ. По этимъ причинамъ, гораздо
болѣе чѣмъ по доставляемымъ ею практическимъ выгодамъ, ботаника всегда будетъ
привлекать вниманіе мыслящихъ людей, которые, пренебрегая видами непосредствен-
ной пользы, стремятся къ широкимъ, окончательнымъ результатамъ и цѣнятъ частные
факты лишь на столько, на сколько ими облегчается открытіе общихъ истинъ. Пер-
вый шагъ въ этомъ благородномъ трудѣ былъ сдѣланъ около половины шестнадца-
таго столѣтія, когда ученые, вмѣсто того., чтобы повторять сказанное прежде ихъ
другими писателями, стали сами наблюдать природу 5). Слѣдующимъ шагомъ было—
присовокупить къ наблюденію опытъ; но еще должно было пройти сто лѣтъ прежде,
чѣмъ оказалась возможность производить опыты съ должною точностью, потому что
микроскопъ, который существенно необходимт. для подобныхъ изслѣдованій, изобрѣ-
тенъ только около 1620 г., и потребовался трудъ цѣлаго поколѣнія для того, чтобы
сдѣлать его годнымъ къ точнымъ изслѣдованіямъ 6). Впрочемъ, какъ только это ору-
діе было достаточно улучшено для того, чтобы его можно было употребить при на-
блюденіи растеній, ботаника быстрыми шагами двинулась впередъ, по крайней мѣрѣ
относительно подробностей, такъ какъ дѣйствительное обобщеніе фактовъ послѣдо-
вало не ранѣе восемнадцатаго вѣка. Но въ предварительномъ трудѣ собиранія фак-
товъ проявилась большая энергія, и, по причинамъ, уже изложеннымъ въ нашемъ
этотъ періодъ пи объ одномъ французѣ. (Воиіііаий,
«РЬіІозорЬіо ММісаІе»). Въ продолженіе многихъ лѣтъ
владычества Людовика XIV* во французской академіи
былъ только одинъ апатомъ дю-Верне; п о немъ
весьма немногія изъ лицъ, изучавшихъ физіологію, что-
либо знаютъ.
2) Послѣ Белона во Франціи ничего по было
сдѣлано по естественной исторіи царства животныхъ
до 1734 года, когда явился первый томъ великаго
труда Реомюра.
2) Этотъ замѣчательный человѣкъ былъ первымъ
философомъ - химикомъ, котораго произвела Европа,
предусматривавшимъ еще въ 1630 году многія изъ
обобщеній. до которыхъ сто пятьдесятъ лѣтъ позже
достигъ Лавуазье.
8) Кювье говорить о Рэѣ: «сочиненіе ого под-
верглось полнѣйшему забвенію», а въ другомъ мѣстѣ:
«Прошло уже болѣе сорока лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ
і Беккеръ представилъ свою новую теорію, которая
! была развита Шталемъ; еще болѣе прошло времени
I съ тѣхъ поръ, какъ были обнародованы опыты Бойля
о пневматической химіи, а между тѣмъ изъ всего
этого ничто еіце не входило въ преподаваніе химіи,
, по крайней мѣрѣ во Франціи».
4) Самыя замѣчательныя изъ нынѣшнихъ обоб-
щеній закоповъ питанія сдѣланы Шѳврелемъ.
Брунфельсъ въ 1530 году и Фуксъ въ 1542
были первыми изъ писателей, наблюдавшихъ расти-
тельное царство самостоятельно, вмѣсто того чтобы
повторять то, что сказали древніе.
с) Дреббель показывалъ въ Лондонѣ микроскопъ
около 1620 года, и эго бьш повидимому первымъ
несомнѣннымъ примѣромъ его употребленія, хотя
нѣкоторые писатели п утверждаютъ, будто онъ былъ
изобрѣтенъ въ началѣ семнадцатаго вѣка или даже
въ 1590 году.
ДУХЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ПРИ ЛЮДОВИКѢ XIV.
287
введеніи, эта наука, подобно другимъ, относящимся къ внѣшнему міру, сдѣлала осо-
бенно быстрые успѣхи въ царствованіе Карла II. Воздухоносные сосуды у растеній
открыты были Геншау въ 1661 г., а клѣтчатая ткань — Гукомъ въ 1667 г. Это
было уже значительнымъ шагомъ къ установленію аналогіи между растеніями и
животными, а въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ Грю достигъ еще большихъ результа-
товъ въ томъ же направленіи. Онъ произвелъ множество самыхъ точныхъ и раз-
нообразныхъ диссекцій, вслѣдствіе которыхъ анатомія царства растительнаго стала
особою отраслью науки, и доказалъ, что организмъ растеній почти не менѣе сло-
женъ, чѣмъ организмъ животныхъ. Первое сочиненіе его («Анатомія растеній»)
написано въ 1670 году, а въ 1676 году другой англичанинъ, Миллингтонъ, дока-
залъ существованіе у растеній полового различія и тѣмъ доставилъ новое подтверж-
деніе гармоніи царства животнаго съ растительнымъ и единства идеи, лежащей въ
основаніи организаціи обоихъ царствъ.
Вотъ что было сдѣлано въ Англіи въ продолженіе царствованія Карла II. Спро-
симъ теперь: чего же достигли во Франціи въ теченіе того же времени подъ влія-
ніемъ щедраго покровительства Людовика XIV. Отвѣтъ будетъ: ничего, никакого
открытія, никакой идеи, которая бы составляла эпоху въ этой важной отрасли естество-
знанія. Сынъ знаменитаго сэра Томаса Броуна посѣтилъ Парижъ въ надеждѣ при-
бавить что-нибудь новое къ своимъ познаніямъ въ ботаникѣ; онъ полагалъ, что
найдетъ къ тому вѣрныя средства въ странѣ, гдѣ наука была въ такой чести, гдѣ
дѣятели ея пользовались такою благосклонностью со стороны двора, а изысканія
ихъ такъ щедро награждались. Но, къ великому удивленію его, онъ не нашелъ въ
1665 году въ этомъ большомъ городѣ ни одного человѣка, способнаго преподавать
его любимый предметъ, такъ что даже публичныя лекцій о немъ оказались чрезвы-
чайно неполными и неудовлетворительными *)• Какъ въ то время, такъ и гораздо
позже, у французовъ не было ни одного хорошаго популярнаго трактата о ботаникѣ,
въ которой они еще менѣе отличались усовершенствованіями. Дѣйствительно, фило-
софская сторона этого предмета была такъ ложно понята, что Турнефоръ, един-
ственный извѣстный французскій ботаникъ времени Людовика XIV, даже отвергъ
открытіе половъ у растеній, сдѣланное прежде, чѣмъ онъ началъ писать, и оказав-
шееся впослѣдствіикраеугольнымъкамнемъ Линнеевой системы 2). Это служитъ доказа-
тельствомъ его неспособности къ усвоенію тѣхъ широкихъ воззрѣній на единство
органическаго міра, которыя одни только придаютъ ботаникѣ научное значеніе; вотъ
почему мы видимъ, что онъ ничего не сдѣлалъ для физіологіи растеній и что един-
ственной заслугой его было собираніе и классификація ихъ. При томъ даже и въ
классификаціи растеній онъ руководствовался не многостороннимъ сравненіемъ раз-
личныхъ частей ихъ, а соображеніями, основанными единственно на внѣшнемъ видѣ
каждаго цвѣтка 3); онъ лишилъ такимъ образомъ ботанику ея истиннаго величія и уни-
зилъ ее до значенія искусства размѣщать красивые предметы. Вотъ новый примѣръ
того, какимъ образомъ французы тогдашняго поколѣнія опошляли все, что желали
возвысить, и умаляли всякій предметъ до тѣхъ поръ, пока онъ не войдетъ въ раз-
мѣры, подходящіе къ умственному развитію и вкусу того невѣжественнаго и сладо-
Э Въ іюлѣ 1765 года онъ писалъ пзь Парижа |
къ своему отцу: «лекціи о растеніяхъ здѣсь состоятъ
только въ перечисленій ихъ съ означеніемъ нужнаго
для нихъ числа градусовъ тема и холода, а иногда
п употребленія пхъ въ медицинѣ. — едва-ли болѣе
того, что можно найти въ каждомь гербаріумѣ».
Кюкьё, говоря о томь, что понятія Турне-
фора были гораздо ниже воззрѣній его предшествен-
никовъ, приводитъ въ примѣрь то. что «онъ от-
вергъ мысль о полахъ растеній . Эготь ботаникъ
полагалъ, что плодотворная пыль есть не что иное, і
какъ испражненіе. Риііепеу’з «Рго^гезз оГ Воіапу», і
ѵ. I, р. 340. I
3) Относительно принятаго Турнефоромь метода
дѣленія растеній по формѣ цвѣточной чашечки,
Кювье съ холодной ироніей говорить: «вы видите,
господа, что этотъ методъ имѣетъ преимущество со-
вершеннѣйшей ясности, что онъ основывается на формѣ
цвѣтковъ, слѣдовательно на данныхъ, весьма удобныхъ
для усвоенія... Успѣхъ метода зависитъ отъ того, что
Турнефоръ къ сочиненію своему присовокупилъ ри-
сунки цвѣтовъ и плодовъ по каждому изъ установлен-
ныхъ имъ дѣленій». По даже и это, какъ утверж-
даютъ, сдѣлано у него довольно небрежно, такъ какъ
онъ описалъ «множество расгеній, которыхъ онъ ни-
когда не разсматривалъ и даже не видалъ^.
288
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
страстнаго кружка, благосклонности котораго они всю жизнь добивались, ожидая отъ
нея наградъ и поощренія.
Дѣло въ томъ, что въ отношеніи къ этому, какъ и ко всѣмъ другимъ дѣйстви-
тельно важнымъ предметамъ, какъ и ко всѣмъ вопросамъ, требующимъ самостоя-
тельнаго мышленія или имѣющимъ серьезное практическое значеніе, вѣкъ Людо-
вика XIV былъ вѣкомъ упадка,—вѣкомъ бѣдности, нетерпимости и угнетенія, вѣкомъ
рабства, униженія и неспособности. Такое мнѣніе давно уже было бы всѣми при-
нято, еслибы люди, писавшіе исторію этого періода, взяли на себя трудъ изучить
предметы, безъ которыхъ исторія не можетъ быть понята или, лучше сказать, безъ
которыхъ она вовсе не существуетъ. Еслибы это было сдѣлано, то слава Людовика XIV
сразу умалилась бы до своего истиннаго размѣра.
Несмотря даже на опасность подвергнуться обвиненію въ чрезмѣрно высокой
оцѣнкѣ своихъ собственныхъ трудовъ, я не могу умолчать о томъ, что факты, на
которые я здѣсь указалъ, до сихъ поръ еще не были никѣмъ собраны, а оставались
разрозненными, распредѣленными по разнымь сочиненіямъ и сборникамъ свѣдѣній
о предметахъ, къ которымъ они прямо относятся. Между тѣмъ, не зная ихъ, невоз-
можно изучить вѣкъ Людовика XIV. Невозможно опредѣлить характеръ какого-либо
періода иначе, какъ прослѣдивъ его развитіе или, другими словами, измѣривъ, до
чего простирались его знанія. ІІоэтому-то писать исторію какой-либо страны, не
принимая въ соображеніе хода ея умственнаго развитія, было бы то же самое, какъ
еслибы астрономъ составилъ планетную систему, не включивъ въ нее солнце, кото-
раго свѣтъ одинъ даетъ намъ возможность видѣть планеты, и притяженіе котораго
даетъ направленіе планетамѣ и заставляетъ ихъ обращаться въ назначенныхъ имъ
орбитахъ. Великое свѣтило, Ьіяніемъ своимъ озаряющее небеса, не болѣе величе-
ственно и всемогуще, чѣмъ разумъ человѣческій въ нашемъ земномъ мірѣ. Человѣ-
ческому разуму—и только ему одному—обязаны всѣ пароды своими знаніями; а чему,
если не успѣхамъ и распространенію знанія, одолжены мы нашими искусствами,
науками, мануфактурами, законами, мнѣніями, обычаями, удобствами жизни, роскошью,
цивилизаціей,—короче сказать, всѣмъ тѣмъ, что ставитъ насъ выше дикарей, невѣ-
жествомъ своимъ униженныхъ до уровня животныхъ, съ которыми они составляютъ
одно стадо. Потому-то мы можемъ сказаты что теперь безъ сомнѣнія пришло время,
когда люди, желающіе написать исторію великаго народа, должны заниматься тѣми
явленіями, которыя одни управляютъ судьбою людей, и пренебрегать ничтожными
и ничего не значащими подробностями, которыми такъ долго намъ докучали,—по-
дробностями, относящимися къ образу жизни королей, къ интригамъ министровъ, къ
порокамъ и сплетнямъ дворовъ.
Именно эти высшія соображенія и даютъ намъ ключъ къ исторіи царствованія
Людовика XIV. Въ это время, какъ и во всѣ другія времена, за упадкомъ умствен-
ныхъ силъ народа послѣдовало обѣднѣніе его и политическое униженіе страны; а
самъ упадокъ, въ свою очередь, былъ послѣдствіемъ духа покровительства, — этого
вреднаго духа, который разслабляетъ все, къ чему ни прикоснется. Если во всемъ
долгомъ теченіи всемірной исторіи что-нибудь и выяснилось болѣе чѣмъ все остальное,
такъ это та истина, что всякое правительство, которое вздумаетъ поощрять умствен-
ные труды, непремѣнно поощряетъ ихъ не тамъ, гдѣ бы слѣдовало, и награждаетъ
не тѣхъ, которые заслуживали бы награды. И не удивительно, что это такъ слу-
чается. Какое понятіе могутъ имѣть короли и министры о тѣхъ обширныхъ отрас-
ляхъ знанія, для успѣшнаго занятія которыми нерѣдко нужна бываетъ цѣлая жизнь?
Какъ могутъ они, постоянно занятые своею высокою дѣятельностью, найти время
для этихъ второстепенныхъ предметовъ? Можно ли ожидать подобныхъ знаній отъ
государственныхъ людей, всегда озабоченныхъ самыми важнѣйшими дѣлами,—лю-
дей, которые то пишутъ депеши, то произносятъ рѣчи, то организуютъ себѣ партію
въ парламентѣ, то борются съ какою-нибудь интригою въ королевскомъ совѣтѣ.
Или—въ случаѣ, еслибы монархъ сталъ удостоивать писателей своихъ милостей, по
ДУХЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА при людовикѣ XIV. 289
собственному выбору—можемъ ли мы ожидать, чтобы такіе маловажные предметы,
какъ философія и другія науки, были хорошо знакомы высокому и могущественному
государю, имѣющему свои особые и многотрудные предметы для изученія, обязан-
ному знать таинства геральдики, свойство и достоинство различныхъ званій, сравни-
тельную важность разныхъ орденовъ, знаковъ отличія и титуловъ, законы старшин-
ства въ придворныхъ шествіяхъ, права, принадлежащія аристократическому проис-
хожденію, названіе и значеніе лентъ, звѣздъ и подвязокъ, различные обряды, съ
которыми жалуется та или другая почесть, или вводится сановникъ въ отправленіе
той или другой должности, устройство разныхъ церемоніаловъ, всѣ тонкости этикета
и множество другихъ спеціально-придворныхъ мудростей, необходимыхъ для испол-
ненія высокихъ обязанностей, возложенныхъ на монарха.
Достаточно только перечислить подобные вопросы, чтобы убѣдиться уже въ
нелѣпости преслѣдуемаго въ нихъ начала. Ибо, если только мы не предполагаемъ,
что короли такъ же всевѣдущи, какъ и непогрѣшимы, то очевидно, что въ назна-
ченіи наградъ они должны руководствоваться или личнымъ произволомъ, или свидѣ-
тельствомъ свѣдущихъ судей. И такъ какъ никто не можетъ быть свѣдущимъ судьей
ученыхъ заслугъ, если онъ самъ не ученый, то мы доходимъ до той дилеммы, что
награды за умственный трудъ могутъ быть или раздаваемы несправедливо, или на-
значаемы по опредѣленію того самаго сословія, которому онѣ жалуются. Въ первомъ
случаѣ награды будутъ смѣшны, а въ послѣднемъ случаѣ—унизительны. Въ первомъ
случаѣ ничтожные люди воспользуются богатствами, которыя собираются съ людей
трудящихся для раздачи празднымъ. А въ послѣднемъ случаѣ тѣ истинно-геніальные
люди, тѣ великіе и знаменитые мыслители, которые служатъ руководителями и на-
ставниками всему роду человѣческому, будутъ разукрашены пустозвонными титулами
и, послѣ жалкаго соперничества и драки изъ-за ничтожныхъ милостей, обратятся
въ нищихъ, обирающихъ государство и не только вымаливающихъ себѣ извѣстную
часть награды, но и опредѣляющихъ размѣры, въ которыхъ эта добыча должна быть
между ними раздѣлена.
При такой системѣ единственными результатами являются: сперва оскудѣніе
и обращеніе въ рабство самыхъ геніальныхъ умовъ, затѣмъ упадокъ знанія л, на-
конецъ, упадокъ самой страны. Три раза въ исторіи міра произведенъ былъ этотъ
опытъ. При Августѣ, при Львѣ X и при Людовикѣ XIV испытанъ былъ одинъ и
тотъ же образъ дѣйствія, и вездѣ произошелъ одинъ и тотъ же результатъ. Въ ка-
ждомъ изъ этихъ періодовъ было много наружнаго блеска, за которымъ тотчасъ слѣ-
довалъ внезапный упадокъ. Въ каждомъ изъ этихъ примѣровъ блескъ переживалъ
независимость и въ каждомъ изъ нихъ также національный духъ падалъ подъ гне-
томъ гибельнаго союза между правительствомъ и литературою,-—союза, чрезмѣрно
усиливающаго политическихъ дѣятелей и ослабляющаго литературныхъ, по той простой
причинѣ, что тѣ, которые оказываютъ покровительство, естественнымъ образомъ же-
лаютъ пользоваться покорностью облагодѣтельствованныхъ ими лицъ, и что если съ
одной стороны правительство всегда готово награждать литературу, то съ другой—
литература всегда бываетъ готова подчиниться правительству.
Изъ этихъ трехъ періодовъ вѣкъ Людовика XIV— неоспоримо худшій, и только
изумительная энергія французскаго народа могла дать ему возможность оправиться,
какъ это онъ сдѣлалъ со временемъ, отъ послѣдствій этой разслабляющей системы.
Но хотя французы и оправились, — усиліе это стоило имъ весьма дорого: борьба,
какъ мы сейчасъ увидимъ, продолжалась въ теченіе двухъ поколѣній и окончилась
только страшною революціей, которая была ея естественнымъ исходомъ. Дѣйстви-
тельный ходъ этой борьбы я постараюсь разъяснить въ концѣ настоящаго тома;
теперь же, не упреждая хода событій, мы перейдемъ къ разсмотрѣнію той черты,
которая, какъ мы уже сказали, составляетъ вторую великую характеристику царство-
ванія Людовика XIV.
II. Вторая умственная характеристика царствованія Людовика XIV, по важности
Вокзь.— Изд. Ф. Павленкова. 19
290
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
своей, едва-ли стоитъ ниже первой. Мы уже видѣли, что умственныя силы націи,
стѣсненныя въ развитіи своемъ покровительствомъ двора, до такой степени откло-
нились отъ высшихъ отраслей знанія, что ни по одной изъ нихъ не произвели ни-
чего заслуживающаго вниманія. Естественнымъ- послѣдствіемъ этого было то, что
умы людей, отклонившись отъ высшихъ отраслей знанія, нашли убѣжище въ низ-
шихъ и сосредоточивались на тѣхъ предметахъ, въ которыхъ не открытіе истины
составляетъ главную цѣль, а преимущественно ищется красота формы и выраженія.
Такимъ образомъ первый послѣдствіемъ покровительства Людовика XIV было то,
что кругъ дѣятельности генія стѣснился и наука принесена была въ жертву искус-
ству. Вторымъ послѣдствіемъ было то, что и въ искусствѣ скоро обнаружился
замѣтный упадокъ, Въ теченіе короткаго времени возбудительное средство дѣйство-
вало, но затѣмъ послѣдовало разслабленіе, составляющее естественный результатъ
употребленія такихъ средствъ. Вся эта система покровительства и наградъ до такой
степени вредна, что послѣ смерти тѣхъ писателей и художниковъ, произведенія ко-
торыхъ составляютъ единственную искупающую сторону въ царствованіи Людовика,
не оказалось ни одного человѣка, который могъ бы хоть подражать имъ. Поэты,
драматурги, живописцы, музыканты, ваятели, архитекторы, почти безъ исключенія,
не только родились, но и были воспитаны еще при томъ болѣе либеральномъ упра-
вленіи, которое существовало до воцаренія Людовика XIV. Уже начавши свои труды,
они воспользовались щедростью, которая поощряла дѣятельность ихъ умовъ. Но когда
черезъ нѣсколько лѣтъ это поколѣніе вымерло, то ложность всей системы ясно обо-
значилась. Болѣе чѣмъ за четверть вѣка до смерти Лрдовика XIV большая часть
этихъ замѣчательныхъ людей кончили жизнь, и тогда оказалось, до какого жалкаго
положенія была доведена страна хваленымъ покровительствомъ великаго короля.
Въ то время когда умеръ Людовикъ XIV, во всей Франціи едва-ли былъ хоть одинъ
писатель или художникъ, пользующійся европейской извѣстностью. Это обстоятельство
заслуживаетъ особеннаго вниманія. Если сравнить между собою различные роды
литературы, то мы увидимъ, что духовное краснорѣчіе, на которое слабѣе всего
дѣйствовало вліяніе короля, долѣе всего держалось противъ его системы. АІас-
сильонъ отчасти принадлежитъ слѣдующему царствованію; но изъ другихъ великихъ
духовныхъ писателей Боссюэтъ и Бурдалу оба дожили до 1704 г., Маскаронъ до
1703, а Флешье—до 1710 г. Впрочемъ, такъ какъ король, въ особенности въ по-
слѣдніе годы, очень остерегался вмѣшиваться въ дѣла церкви, то мы лучше всего
можемъ прослѣдить дѣйствіе его политики въ предметахъ свѣтскихъ, потому что здѣсь
участіе его было наиболѣе дѣятельно. По этимъ соображеніямъ проще всего будетъ
разсмотрѣть сперва исторію изящныхъ искусствъ и, приведя въ извѣстность, кто
именно были самые великіе художники, замѣтить, въ какихъ годахъ они умерли, не
забывая о томъ, что управленіе Людовика XIV началось въ 1661 и окончилось въ
1715 г.
Итакъ, если разсмотрѣть этотъ пятидесяти-четырехлѣтній періодъ, то насъ по-
разитъ замѣчательное обстоятельство, что всѣ истинно знаменитыя произведенія
искусствъ явились въ первой половинѣ его, а за двадцать лѣтъ до конца всѣ са-
мые даровитые художники умерли, не оставивъ по себѣ преемниковъ. Шесть самыхъ
великихъ живописцевъ царствованія Людовика XIV были: Пуссенъ, Лезюэръ (Ье-
8иеиг), Клодъ Лорренъ, Лебренъ и два Миньяра. Изъ нихъ Лебрёнъ умеръ въ
1690 г., старшій Миньяръ—въ 1668, младшій—въ 1695, Клодъ Лорренъ—въ 1682 х),
Лезюэръ—въ 1655, а Пуссэнъ, можетъ быть самый знаменитый изъ всѣхъ предста-
вителей французской школы—въ 1665 году 2). Два самые великіе архитектора были
Клодъ Перро и Франсисъ Мансаръ; но Перро умеръ въ 1688, Мансаръ—въ 1666,
О Самыя лучшія изъ картинъ его были написаны
отъ 1640 до 1660 года; а умеръ онъ въ 1682 году.
-’) Рейнольдсъ повидимому предпочиталъ его всѣмъ
художникамъ французской школы, а въ запискѣ, пред-
ставленной Наполеону Институтомъ, онъ одинъ изъ
французскихъ живописцевъ упомянутъ на-ряду съ
греческими и итальянскими художниками.
ДУХЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ПРИ ЛЮДОВИКѢ XIV. 291
а Влондсль, первый послѣ нихъ по славѣ,—въ 1686 году. Самымъ великимъ изъ
ваятелей былъ Пюже, скончавшійся въ 1694 году. Люлли, создатель французской
музыкальной школы, умеръ въ 1687 г. х). Кино, знаменитѣйшій изъ французскихъ
поэтовъ, писавшихъ для музыки, умеръ въ 1688 году. При жизни этихъ даровитыхъ
людей изящныя искусства въ царствованіе Людовика XIV достигли своего апогея,
а въ продолженіе послѣднихъ тридцати лѣтъ его жизни они упали съ изумительной
быстротой. Такъ было не только съ архитектурою и музыкою, но и съ живописью,
которая, находясь въ большей зависимости отъ личнаго тщеславія, могла бы скорѣе
процвѣтать при богатомъ и деспотическомъ правительствѣ. Но и дарованія живо-
писцевъ такъ понизились въ своемъ уровнѣ, что задолго еще до кончины Людо-
вика XIV Франція уже не имѣла ни одного замѣчательнаго художника по этой
части, и когда вступилъ на престолъ преемникъ Людовика, то искусство живописи
въ этой великой націи почти совершенно исчезло 2).
Все это весьма выдающіеся факты—не выраженіе мнѣній, которыя могли бы
быть оспариваемы, а непоколебимыя числа, подкрѣпленныя неоспоримыми свидѣ-
тельствами. Если обозрѣть такимъ же образомъ и литературу вѣка Людовика XIV,
то мы придемъ къ подобнымъ же заключеніямъ. Приведя въ извѣстность годы по-
явленія тѣхъ образцовыхъ произведеній, которыя служатъ украшеніемъ этого цар-
ствованія, мы увидимъ, что покровительство Людовика въ послѣднія двадцать-пять
лѣтъ его управленія, т. е. когда оно подольше продѣйствовало, оказалось совер-
шенно безплоднымъ; другими словами—что когда французы совершенно свыклись
съ этимъ покровительствомъ, то они стали наименѣе способны создавать великія
произведенія. Людовикъ XIV умеръ въ 1715 году. Расинъ написалъ «Федру» въ
1677, «Андромаху»—въ 1667 и «Гоѳолію»—въ 1691 году. Мольеръ издалъ «Ми-
зантропа» въ 1666, «Тартюфа»—въ 1667, «Скупого»—въ 1668 году. «Налой»
(«Ьиігіп») Буалб былъ написалъ въ 1674 году, а лучшія изъ сатиръ его—въ 1666 г.
Послѣднія басни Лафонтена явились въ 1678, а послѣднія сказки его—въ 1671 году.
«Изслѣдованіе Истины» Мальбранша вышло въ 1674 г.; «Характеры» Лабрюйера
изданы въ 1687, «Правила» («Махішез») Ларошфуко — въ 1665 г. «Провин-
ціальныя письма» Паскаля написаны въ 1656, а самъ онъ умеръ въ 1662 году.
Что же касается Корнеля, то изъ его великихъ трагедій нѣкоторыя написаны во
время дѣтства короля, а другія—до его рожденія 3). Таково было время появленія
образцовыхъ произведеній вѣка Людовика XIV. Авторы этихъ великихъ произве-
деній всѣ перестали писать и почти всѣ умерли ранѣе копца семнадцатаго столѣтія,
и мы имѣемъ полное право спросить почитателей Людовика XIV, кто же были
люди, наслѣдовавшіе этимъ великимъ художниками/? Гдѣ начертаны ихъ имена? Кто
теперь читаетъ сочиненія неизвѣстныхъ наемниковъ, столько лѣтъ толпившихся при
дворѣ великаго короля? Кто слыхалъ о Кампистронѣ, Ла-Шаііеллѣ, Женэ, Дюсерсб,
Данкурѣ, Даншё, Вержье, Катру, Шольё, Лежандрѣ, Валенкурѣ, Ламоттѣ и другихъ
ничтожныхъ компиляторахъ, такъ долго остававшихся самыми блестящими украше-
ніями Франціи? Не эта ли литература представляетъ собою послѣдствіе королевской
щедрости? Не это ли плоды монаршаго покровительства? Если система наградъ и
поощреній дѣйствительно полезна для литературы и искусства, то какимъ же обра-
9 Вь «Оепѵгез Де Ѵоііаіге», ѵ. XIX, р. 200, опъ I
названъ «отцомъ истинной музыки во Франціи». Лю- |
довикъ XIV сильно восхищался имъ.
2) «Когда Людовикъ XV вступилъ па престолъ, )
то живопись во Франціи находилась на самой низшей і
ступени» (Лэди Морганъ). Лакротѳль въ «Віх-Ьпіііёте
8Мс» говоритъ: «взящныя искусства въ теченіе вто-
рой половины царствованія Людовика XIV еще замѣт-
нѣе пришли въ упадокъ, чѣмъ литерагура... достовѣрно,
что въ послѣднія двадцать-пять дѣть царствованія
Людовика XIV явились лишь весьма второстепенныя
произведенія > и т. д, Баррингтонъ въ «ОЬзегѵаііопз
оп Піе Зіаініез» также говорить: «Весьма замѣчательно
что со времени учрежденія Людовикомъ XIV академій
въ Римѣ и въ Парижѣ, стоившихъ огромныхъ суммъ,
французская школа по произвела ни одного особенно
замѣчательнаго живописца».
3) «Поліевктъ», составляющій можетъ быть самое
великое изъ его произведеній, вышелъ въ 1640 году;
-Медея»--въ 1635; «Сидъ»—въ 1636, а «Гораціи»
и «Цинпа»—въ 1639.
19®
292
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
зомъ она произвела самые жалкіе результаты тогда, когда дѣйствіе ея было наи-
болѣе продолжительно? Если поощреніе со стороны монарховъ имѣетъ, какъ увѣ-
ряютъ насъ ихъ льстецы, такое значеніе, то какимъ же образомъ случилось, что
чѣмъ болѣе оказывалось это поощреніе, тѣмъ ничтожнѣе выходили результаты его?
И эта почти невѣроятная бѣдность по замѣченнымъ нами выше отраслямъ
знанія не искупалась никакимъ превосходствомъ по другимъ отраслямъ. Дѣло въ
томъ, что Людовикъ XIV вполнѣ пережилъ умственную силу Франціи, кромѣ той
небольшой доли ея, которая развивалась въ оппозиціи его принципамъ и потомъ
потрясла престолъ его пріемника. За нѣсколько лѣтъ до смерти Людовика, когда
прошло почти полъ-вѣка широкаго дѣйствія системы покровительства, — во всей
Франціи нельзя было найти ни государственнаго человѣка, способнаго развить сред-
ства страны, ни полководца, могущаго защитить ее отъ враговъ. II въ гражданскомъ
управленіи, и въ военномъ дѣлѣ все пришло въ разстройство, Внутри государства
вездѣ была неурядица, внѣ его—вездѣ неудачи. Народный духъ Франціи не устоялъ
и былъ поверженъ во прахъ. Литераторы, получающіе отъ двора пенсіи и почетныя
награды, выродились въ поколѣніе льстецовъ и лицемѣровъ, которые, чтобы угодить
повелителямъ своимъ, противодѣйствовали всѣмъ улучшеніямъ и отстаивали всѣ
старыя злоупотребленія. Результатомъ всего этого была испорченность нравовъ,
раболѣпство и обезсиленіе націи, дошедшее до такой степени, какой еще не было
дотолѣ примѣра ни въ одной изъ великихъ странъ Европы. Не стало національной
свободы, не стало великихъ людей, не стало науки, не цгало литературы, не стало
изящныхъ искусствъ. Внутри государства—недовольный народъ, расточительное пра-
вительство и разоренная карпа; внѣ ОГО’—иностранныя арміи, напирающія на всѣ
его границы; и только взаимная зависть между врагами Франціи и перемѣна въ
англійскомъ кабинетѣ воспрепятствовали распаденію французской монархіи г).
Въ такомъ безвыходномъ положеніи находилась эта славная нація въ концѣ
царствованія Людовика XIV. Несчастія, поразившія короля въ преклонныхъ лѣтахъ
его, были дѣйствительно такъ серьезны, что они не могли бы не возбудить въ насъ
сочувствія, еслибы мы не знали, что они составляли результатъ его неугомоннаго
честолюбія и нестерпимаго высокомѣрія, а еще болѣе его безпредѣльнаго, ненасыт-
наго тщеславія, которое заставляло его стремиться къ сосредоточенію въ своей лич-
ности всего величія Франціи и внушало ему коварную политику, состоявшую въ
томъ, чтобы посредствомъ подарковъ, почестей и медовыхъ рѣчей сперва возбудить
въ умствснно-трудяпшхся людяхъ восторженную преданность къ себѣ, потомъ выра-
ботать изъ нихъ придворныхъ и временщиковъ и, въ заключеніе всего, уничтожить
въ нихъ всякую смѣлость воззрѣній, подавить всякое стремленіе къ самостоятельному
мышленію и, такимъ образомъ, отдалить на неопредѣленное время успѣхи народной
цивилизаціи.
2) Чтобы убѣдиться въ упадкѣ Франціи и совер-
шенномъ истощеніи ея силъ въ послѣднихъ годахъ цар-
ствованія Людовика XIV—стоитъ только заглянуть въ
мемуары того времени. Въ «Неизданныхъ письмахъ» ма-
дамъ Минтоновъ м во множествѣ другихъ мѣстъ вполнѣ
подтверждается то же самое; сверхъ того доказывается,
что въ Парижѣ въ началѣ восемнадцатаго вѣка сред-
ства даже самыхъ богатыхъ сословій начали истощаться,
между тѣмъ какъ кредитъ и государственный, и част-
ный былъ потрясенъ до таю-й степени, ч го нельзя было
найти денегъ ни па какпхъ условіяхъ. Въ 1710 году
госпожа де-Монтепонъ, жена Людовика XIV. жалуется,
что она ппогда не можетъ нанять 500 ливровъ: Весь
мой кредитъ нерѣдко оказывается недостаточнымъ для
I того, чтобы добыть отъ г. Демарс пятьсотъ ливровъ-,
| Въ 1709 году она пишетъ: «Игра становится очень
скучнымъ дѣломъ, потому что денегъ почти совсѣмъ
і нѣтъ>; сне изобиліе въ деньгахъ, а корыстолюбіе за-
ставляемъ нашихъ придворныхъ играть—они рискуютъ
всѣмъ, чтобы только добыть сколько-нибудь денегъ, и
столы, за которыми играютъ въ лапскнехтъ, болѣе по-
: хожп на мѣсто какой-то жалкой торговли, чѣмъ на
। мѣсто развлеченія^.
Отпосиіелык) самого народа мы находимъ весьма
! мало свѣдѣній у французскихъ писателей, потому что
' въ ото время (»ніі были слишкомъ заняты свовмъ ве-
। ликпмъ королемъ и своей блестящей литературой, что-
1 бы обращать вниманіе на интересы простого народа.
ГЛАВА XII.
Смерть Людовика XIV. — Реакція против-ь духа покровительства и подготовленіе
Французской революціи.
Людовикъ XIV. наконецъ, умеръ. Когда сдѣлалось положительно извѣстно, что
старый король испустилъ послѣднее дыханіе, народъ почти обезумѣлъ отъ радости 1).
Тпраннія, тяготѣвшая надъ нимъ, исчезла; за нею вдругъ наступила реакція, кото-
рая, по своей внезапности и силѣ, представляла явленіе неслыханное въ новѣйшей
исторіи. Значительное большинство людей вознаграждали себя за свое вынужденное
лицемѣріе, предаваясь величайшему своеволію. Но между поколѣніемъ, возникавшимъ
въ то время, было нѣсколько высоко-даровитыхъ юношей, которые имѣли гораздо
болѣе возвышенные взгляды, и которыхъ понятія о свободѣ не ограничивались воль-
ностями игорныхъ и публичныхъ домовъ. Преданные великой идеѣ возвращенія
Франціи той свободы слова, которую она утратила, они естественно обратили свои
взоры на единственную страну, гдѣ свобода эта дѣйствительно существовала. Рѣши-
мость ихъ искать свободу тамъ, гдѣ она только и могла" быть найдена, породила то
общеніе французскихъ и англійскихъ умовъ, которое, по длинной цѣпи своихъ по-
слѣдствій, представляетъ во многихъ отношеніяхъ чрезвычайно важный фактъ въ
исторіи восемнадцатаго столѣтія.
Во время царствованія Людовика ХІѴ-го французы, переполненные національ-
нымъ тщеславіемъ, презирали варварство народа, который былъ такъ нецивилизо-
ванъ, что всегда возставала, на своихъ правителей, п въ промежутокъ сорока лѣтъ
казнилъ одного короля и низложилъ другого 2). Они не могли повѣрить, чтобы та-
Но я собралъ пзъ другихъ источниковъ нѣкоторыя
свѣдѣнія, которыя здѣсь и представлю,
Локкъ, путешествовавшій по Франціи въ 1676 и
1677 годахъ, пишетъ въ своемъ дневникѣ: «Рента съ
земель ко Фракціи въ этп годы понизилась на половину
вслѣдствіе бѣдности парода*. Около того же времени
сэръ Вилліамъ Темплъ писалъ: «Французскіе крестьяне
совершенно убиты работой и нуждой*. Въ 1691 году
другой путешественникъ (Бёртонъ) на пути пзъ Кале
писалъ: «На пути отсюда до Парижа я имѣлъ возмож-
ность вполнѣ удостовѣриться въ томъ, до какой страш-
ной бѣдности честолюбіе я самовластіе тирапна мо-
гутъ довести богатую и плодородную страну. Видны
были всѣ признака возрастающей бѣдности—всѣ пе-
чальные атрибуты крайняго бѣдствія. Поля были но
обработаны, деревни опустѣли, дома разваливались*.
Въ одномъ трактатѣ, изданномъ въ 1689 году,
авторъ говоритъ: «Я видѣлъ во Франціи много при-
мѣровъ, что бѣдные люди продавали свои постели п
спади на соломѣ, продавали свои горшки, кастрюли и
всю необходимую домашнюю утварь—для того, чтобы
удовлетворить яемилосердаго сборщика королевскихъ по-
датей*. Д-ръ Листеръ, посѣтившій Парижъ въ 1698 г.,
говорить: «Во всѣхъ частяхъ этого города такъ много
бѣдныхъ, что ѣдешь ли въ экипажѣ, или идешь пѣш-
комъ, находишься ли на улицѣ, пли даже въ лавкѣ,
вездѣ одинаково невозможно запяться своимъ дѣломъ
вслѣдствіе докучливости нищихъ*. Аддисонъ, который
по личнымъ наблюденіямъ хорошо зналъ Францію, пи-
шетъ: «мы думаемъ здѣсь, какъ и вы въ пашемъ краю,
что Франція находится при послѣднимъ издыханіи».
Наконецъ, въ 1718 году, т, е. черезъ три года послѣ
смерти Людовика XIV,—лэдп Моптегю сообщаетъ слѣ-
дующія свѣдѣнія о результатахъ его царствованія въ
письмѣ къ лэди Бичъ изъ Парижа отъ 10 октября
1718 года; «я полагаю,что нѣтъ ужаснѣе зрѣлища,
какъ видъ человѣческой нищеты — если только пе
имѣешь Божеской власти помочь ой, а между тѣмъ
всѣ деревни во Франціи только зто зрѣлище и представ-
ляютъ. Пока перепрягутъ почтовыхъ лошадей, все насе-
леніе сбѣгается просить милостыню, п у всѣхъ людей та-
кія жалкія, изнуренныя лица и такая нищенская, обо-
рванная одежда, что имъ не нужно другого краспорѣчія,
чтобы убѣдить васъ въ бѣдственности своего положенія».
2) «Въ допь погребенія Людовика XIV устроены
были кабачкп по дорогѣ въ Сеяъ-Дспп. Вольтеръ, от-
правившись пзъ любопытства па похороны короля, уви-
дѣлъ въ этихъ кабачкахъ пародъ, упоенный виномъ и
радостью по случаю смерти Людовика XIV* (Дюворне).
2) Толчокъ, сообщенный этими событіями дели-
катности французскаго ума, былъ очень силенъ. Уче-
ный Сомэзъ объявилъ, что англичане «болѣе дики, чѣмъ
294
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
кая безпокойная толпа могла имѣть что-либо достойное вниманія просвѣщенныхъ
людей. Наши законы, наша литература и наши обычаи были имъ совершенно не-
извѣстны; и я сомнѣваюсь, было ли въ концѣ XVII столѣтія во Франціи между
литераторами или учеными хоть пять человѣкъ, знакомыхъ съ англійскимъ языкомъ х).
Но долгій опытъ царствованія Людовика XIV побудилъ французовъ призадуматься
надъ многими изъ своихъ понятій. Онъ заставилъ ихъ впервые заподозрѣть, что
деспотизмъ можетъ имѣть свои невыгодныя стороны и что правительство, состоящее
изъ принцевъ и епископовъ, не есть неизбѣжно лучшее для цивилизованной страны.
Они стали смотрѣть сперва съ снисхожденіемъ, а потомъ и съ уваженіемъ на тотъ
странный иноземный народъ, который хотя и былъ отдѣленъ отъ нихъ только узкимъ
проливомъ, но, казалось, принадлежалъ къ совершенно другой породѣ;—народъ,
который, наказавъ своихъ притѣснителей, возвелъ свои права и свое благоденствіе
на такую высокую степень, какой еще не видывалъ дотолѣ свѣтъ. Тѣ чувства, ко-
торыя передъ началомъ революціи раздѣлялись уже всѣми образованными сосло-
віями Франціи, въ прежнее время ограничивались только тѣми людьми, которые
по своему уму стояли во главѣ вѣка. Можно смѣло сказать, что въ теченіе двухъ
поколѣній, прошедшихъ со смерти Людовика XIV до начала революціи, не было ни
одного замѣчательнаго француза, который бы не посѣтилъ Англію или не учился
англійскому языку,—многіе же дѣлали и то, и другое. Вюффонъ, Бриссо, Бруссоннэ,
Кондаминъ, Делиль, Эли де-Вомонъ, Гурнэй, Гельвеціусъ, Жюссьё, Лаландъ, Ла-
файеттъ, Ларшё, Л’Эритьё, Монтескьё, Мопертюи, Мореллё, Мирабо, Ноллё, Реналь,
знаменитый Роланъ и еще болѣе знаменитая жена его, Руссо, Сегюръ, Сюаръ,
Вольтеръ—всѣ эти замѣчательныя личности стекались въ Лондонъ, то же дѣлали и
другіе люди, уступавшіе конёчно въ дарованіяхъ поименованнымъ выше, но все-таки
пользовавшіеся значительнымъ вліяніемъ, какъ напримѣръ: Брекини, Бордъ, Ко-
лоннъ, Койё, Корматенъ, Дюфэй, Дюмарэ, Дезалльё, Фавьё, Жиро, Грослей, Годэнъ,
Д’Апкарвилль, Гюно, Жаръ, Ле-Бланъ, Ледрю, Лескалльё, Ленгё, Лезюиръ, Лсмонпье,
Левэкъ де-Пулльи, Монгольфье, Моранъ, Патіо, Пуассоньё, Ревельонъ, Сэшёнъ, Си-
луэттъ, Сирё, Суляви, Сулё и Вальмонъ де-Вріеннъ.
Почти всѣ они тщательно изучали нашъ языкъ, и большая часть изъ нихъ
усвоили себѣ духъ нашей литературы. Вольтеръ въ особенности предался съ обыч-
нымъ ему рвеніемъ новому труду и пріобрѣлъ въ Англіи познаніе въ тѣхъ ученіяхъ,
проповѣдываніе которыхъ впослѣдствіи доставило ему громкую извѣстность 2). Онъ
ихъ собственныя дворовыя собаки». Другой писатель I
сказалъ, что англичане—«возмутившіеся варвары» и >
«варварскіе подданные короля». Патэнъ уподобилъ насъ ,
туркамъ и сказалъ, что, казнивъ одного короля, мы і
вѣроятно повѣсимъ другого. Послѣ того какъ мы уда- |
лили изъ Англіи Іакова II, негодованіе французовъ !
зашло еще далѣе, и даже любезная госпожа де-Севиньё,
упомянувъ при одномъ случаѣ о Маріи, супругѣ Виль-
гельма III, пе нашла для нея лучшаго имени, какъ
Туллія. Другая вліятельная французская дама (Мэпте-
нопъ) тоже говоритъ о «хищности англичанъ», а въ
другомъ мѣстѣ восклицаетъ: «я ненавижу англичанъ,
какъ народъ,.. Я, право, терпѣть ихъ не могу».
Я приведу еще только два примѣра чрезвычай-
наго распространенія этихъ чувствъ. Въ 1679 году [
сдѣлана была попытка вывести изъ употребленія хип- і
ную корку, какъ «лекарство англійское»; а въ копцѣ ।
XVII столѣтія въ Парижѣ однимъ изъ аргументовъ |
противъ кофе было—что его любятъ англичане.
1) «Во время Буалб во Франціи пикто не учился
англійскому языку» (Вольтеръ). Между «нашими ве-
ликими писателями XVII столѣтія пѣтъ, кажется, ни
одного, у котораго можно было бы замѣтить какой-ни-
будь слѣдъ, какой-нибудь отпечатокъ англійскаго ума»
(Вильменъ).
Французы въ царствованіе Людовика XIV знали
пасъ главнѣйшимъ образомъ по свѣдѣніямъ, сообщен-
нымъ двумя соотечсственнпками ихъ—Монкописомъ и
Сорбіоромъ, которые оба издали свои путешествія по
Англіи, по изъ которыхъ ни одинъ не зналъ англій-
скаго языка.
Когда Прайоръ пріѣхалъ ко двору Людовика XIV
въ качествѣ уполномоченнаго, то пикто во Франціи но
зналъ, что онъ писалъ стихи, а когда Аддисонъ въ
бытность свою въ Парижѣ подарилъ Буалё экземпляръ
«Мііэае Ап^іісапае», то французъ этотъ въ первый разъ
узналъ, что мы имѣемъ хорошихъ поэтовъ: «въ пер-
вый разъ получилъ понятіе объ англійскомъ дарованіи
въ поэзіи». Наконецъ, говорятъ, что Мильтоновъ «По-
терянный Рай» даже по слухамъ не былъ извѣстенъ
во Франціи до самой смерти Людовика XIV. несмотря
на то, что поэма эта была издана еще въ 1667 году,
а король умеръ въ 1715: «Мы никогда ничего но слы-
хали объ этой ноэмѣ во Франціи до тѣхъ поръ, пока
творецъ «Генріады» пе далъ намъ о ней понятія въ
своемъ опытѣ объ эпической поэзіи» (Вольтеръ).
2) «Истинный король ХѴШ столѣтія—это Воль-
теръ; по Вольтеръ въ свою очередь--ученикъ Англіи.
До тѣхъ поръ, пока Вольтеръ не ознакомился съ Анг-
ліей, посредствомъ ли путешествій, или черезъ свою
дружбу съ англичанами,—онъ не былъ Вольтеромъ,
и XVIII столѣтіе еще отыскивалось» (Кузенъ).
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ.
295
первый популяризировалъ во Франціи философію Ньютона, которая быстро вытѣс-
нила философію Декарта 1). Онъ указалъ своимъ соотечественникамъ на сочиненія
Локка * 2), которыя въ короткое время пріобрѣли огромную популярность и дали ма-
теріалы Кондильяку для его системы метафизики, а Руссо—для его теоріи воспи-
танія 3 *). Кромѣ того* Вольтеръ былъ первый французъ, изучившій Шекспира *),
сочиненіямъ котораго онъ много обязанъ, хотя впослѣдствіи онъ и старался умень-
шить то уваженіе къ нимъ во Франціи, которое въ глазахъ его было уже слишкомъ
преувеличено. Дѣйствительно, такъ глубоки были его познанія въ англійскомъ
языкѣ 5), что мы можемъ открыть у него слѣды изученія Бётлера, одного изъ труд-
нѣйшихъ нашихъ поэтовъ, и Тиллотсона, одного изъ самыхъ темныхъ нашихъ тео-
логовъ. Онъ былъ знакомъ съ умозрѣніями Берклея, самаго тонкаго изъ метафизи-
ковъ, когда-либо писавшихъ въ Англіи; онъ читалъ сочиненія не только Шафтсбёри,
но даже Чебба, Гарта, Мандевилля и Вульстона. Монтескьё почерпнулъ въ нашей
странѣ многіе изъ своихъ принциповъ; онъ изучалъ нашъ языкъ и всегда выражалъ
уваженіе къ Англіи не только въ своихъ сочиненіяхъ, но даже въ частныхъ раз-
говорахъ. Бюффонъ учился по-англійски и впервые вступилъ на авторское по-
прище, какъ переводчикъ Ньютона и Гэльса. Дидрб, слѣдуя по тому же пути, былъ
восторженнымъ поклонникомъ романовъ Ричардсона; онъ заимствовалъ мысли для
нѣкоторыхъ изъ своихъ пьесъ у англійскихъ драматурговъ, преимущественно у Лилло;
онъ взялъ многіе изъ своихъ выводовъ у Шафтсбёри и Коллинса, и его первымъ
изданіемъ былъ переводъ «Исторіи Греціи» Станіана. Гельвецій, посѣтивъ Лондонъ,
не могъ нахвалиться нашимъ народомъ; многіе изъ взглядовъ, выраженныхъ въ его
великомъ сочиненіи о разумѣ, заимствованы у Мандевилля, и онъ постоянно ссы-
лается на авторитетъ Локка, принципы котораго едва-ли кто изъ французовъ осмѣ-
лился бы одобрить въ прежнее время. Сочиненія Бэкона, прежде мало извѣстныя,
были теперь переведены на французскій языкъ; его классификація человѣческихъ
способностей была принята за основаніе въ той знаменитой «Энциклопедіи», на кото-
рую справедливо смотрятъ, какъ на одно пзъ величайшихъ произведеній восемна-
дцатаго столѣтія с). «Теорія Нравственныхъ Чувствованій», Адама Смита, въ теченіе
тридцати-четырехъ лѣтъ была переведена въ три разныя эпохи тремя различными
французскими писателями. Такъ велико было всеобщее рвеніе, что какъ только по-
явилось «Богатство Народовъ»^ того же великаго автора,—Мореллё, пользовавшійся
тогда большою извѣстностью, началъ переводить его на французскій языкъ; отъ пе-
чатанія своего перевода онъ былъ удержанъ лишь тѣмъ обстоятельствомъ, что раньше,
чѣмъ переводъ этотъ могъ быть копченъ, другой переводъ былъ уже напечатанъ въ
одномъ французскомъ періодическомъ изданіи. Койё, и до сихъ поръ извѣстный
своимъ сочиненіемъ «Жизнь Собѣсскаго», посЬтилъ Англію и, вернувшись на ро-
дину, заявилъ о принятомъ имъ новомъ направленіи, переведя на французскій языкъ
«Комментаріи» Блакстона, Ле-Бланъ путешествовалъ по Англіи, написалъ сочиненіе
объ англичанахъ и перевелъ на французскій языкъ «Политическіе Разговоры» Юма.
Гольбахъ былъ конечно однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ вождей либеральной партіи въ
Парижѣ, между тѣмъ значительная часть его весьма многочисленныхъ сочиненій
*) «Я—говорятъ Вольтеръ—былъ первый, кото- і
рый осмѣлился изложить моей націи открытія Ньютона
понятнымъ языкомъ». Послѣ этого картезіанскіе фи-
зики съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣг теряли
почву, и въ перепискѣ Гримма есть одно письмо, пи-
санное изъ Парижа въ 1757 году, въ которомъ гово-
рится: «Здѣсь нѣтъ уже болѣе приверженцевъ Декаріа,
кромѣ Морана».
2) Которыми онъ не могъ нахвалиться, такъ что, і
по словамъ Кузена, «Локкъ есть настоящій учитель
Вольтера».
«Руссо почерпнулъ пзъ сочиненій Локка значи-
тельную часть своихъ идей о политикѣ и воспитаніи,
а Кондильякъ—всю свою философію» (Вильменъ).
4) Въ 1668 г. Вольтеръ пишетъ къ Горасу Вальполю:
«я первый познакомилъ французовъ съ Шекспиромъ».
5) Сохранилось еще много англійскихъ писемъ, пи-
санныхъ Вольтеромъ; въ нихъ конечно встрѣчаются
ошибки, по опп служатъ тѣмъ не менѣе полнымъ до-
казательствомъ того, до какой степени Вольтеръ усвоилъ
собѣ особенности оборотовъ нашего языка.
6) Это именно раздѣленіе пашихъ познавательныхъ
способностей (на память, разумъ и воображеніе), взя-
тое Даламберомъ у Бэкона.
296 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
состоитъ изъ однихъ переводовъ англійскихъ авторовъ. Въ самомъ дѣлѣ, можно смѣло
сказать, что какъ въ концѣ семнадцатаго столѣтія трудно было найти, даже между
самыми образованными французами, хотя одну личность, знакомую съ англійскимъ
языкомъ, такъ въ восемнадцатомъ столѣтіи было почти одинаково трудно найти въ
томъ же сословіи кого-либо, не знакомаго съ этимъ языкомъ. Люди всякихъ наклон-
ностей и самыхъ противоположныхъ направленій въ этомъ отношеніи были соеди-
нены какъ бы общей связью. Поэты, геометры, историки, натуралисты—всѣ, каза-
лось, согласились въ необходимости изученія литературы, о которой прежде ни одинъ
изъ нихъ и не думалъ. Читая вообще французскихъ сочинителей, я нашелъ дока-
зательства, что англійскій языкъ былъ извѣстенъ но только тѣмъ именитымъ фран-
цузамъ, о которыхъ я уже говорилъ, но также математикамъ, какъ Д’Аламберъ,
Даркьё, Дю-Валь ле-Руа, Жюренъ, Лашапелль, Лаландъ, Ле-Козикъ, Монтюкла,
Пэзена, Прони. Роммъ и Рожё Мартенъ; анатомамъ, физіологамъ и писателямъ
по части медицины, каковы: Вартэзъ, Биша, Бордё, Барбё Дюбуръ, Боскильонъ,
Буррю, Бэгъ де-Прэль, Кабанисъ, Демуръ, Дюпланиль, Фукё, Гуленъ, Лавироттъ,
Лассю, Пети Радэль, Пипэль, Ру, Соважъ и Сю; натуралистамъ, какъ: Аліонъ, Бре-
монъ, Бриссонъ, Брусоннэ, Далибаръ, Гаюй, Латали, Ришаръ, Риго и Ромэ де-Лиль;
историкамъ, филологамъ и антикваріямъ, какъ: Вартэлеми, Бютэль Дюмонъ, Де-Броссъ,
Фушё, Фрерё, Ларшё, Ле-Кокъ де^Виллерэ, Милло, Таржъ, Вэлли, Вольнэй и Бальи;
поэтамъ и драматургамъ, какъ: Шеронъ, Колардо, Делилль, Дефоржъ, Дюсисъ, Фло-
ріанъ, Лабордъ, Лефэвръ де-Боврэ, Мэрсьё, Патіо, Помпиньянъ, Кетанъ, Рушё и
Сентъ-Анжъ; смѣшаннымъ писателямъ, каковы: Бассицэ, Бодо, Болатонъ, Бенуй,
Бержье, Блавэ, Бушо, Ву^нвилль, Брютэ, Кастара, Шайтро, Шарпантьё, Шастэллю,
Контанъ д’Орвилль, Де-Бидси, Демёньё, Дефонтэнъ, Девіеннъ, Дюбокажъ, Дюпре,
Дюренель, Эду, Этіеннъ, Флавьё, Флавиньи, Фонтанелль, Фонтенэ, Фрамери, Френэ,
Фрэвилль, Фроссаръ, Гальтье, Гарсё, Годдаръ, Гударъ, Генэ, Гилльемаръ, Гюйаръ,
Жо, Эмберъ, Жонкуръ, Кераліо, Лаборо, Лакомбъ, Лафаргъ, Ла-Монтань, Ланжюи-
нэ, Ласалль, Ластэри, Ле-Бретоиъ, Лекюи, Леонаръ де-Мальпэнъ, Летунёръ, Ленгё,
Лоттенъ, Люно, Мальё Дюклеронъ, Мандрильоиъ, Марси, Моэ, Моно, Монеронъ, Наго,
Пэйронъ, Прево, Пюизьё, Ривуаръ, Робинэ, Роже, Рубо, Салавилль, Созейль, Се-
гонда, Сэшенъ, Симонъ, Сулесъ, Сюаръ, Таннево, Тюро, Туссэнъ, Трессанъ, Трошеро,
Тюрпэнъ, Юссьё, Вожуа, Верлакъ и Вирлуа. Даже Ле-Бланъ, писавшій нѣсколько
ранѣе половины восемнадцатаго столѣтія, говоритъ: «мы поставили англійскій языкъ
въ ряду научныхъ языковъ; наши женщины изучаютъ его и оставили итальянскій
языкъ ради языка этого философскаго народа; между нами нельзя найти ни одного
человѣка, который бы не желалъ учиться ему».
Вотъ съ какимъ рвеніемъ устремились французы на литературу народа, кото-
раго они не за долго до того такъ искренно презирали. Дѣло въ томъ, что при
новомъ порядкѣ вещей .они не могли сдѣлать иначе. Гдѣ, какъ пе въ Англіи, можно
было найти литературу, которая удовлетворяла бы смѣлыхъ й пытливыхъ мыслите-
лей, явившихся во Франціи послѣ смерти Людовика XIV. Въ ихъ отечествѣ было
безъ сомнѣнія много образцовъ краснорѣчія, изящныхъ драмъ, поэзіи, которые хотя
и не достигали никогда высшаго совершенства, но все-таки отличались окончен-
ностью и удивительной красотой; но то составляетъ фактъ, и при томъ фактъ весьма
грустный, что въ теченіе шестидесяти лѣтъ, слѣдовавшихъ за смертью Декарта, во
Франціи не было ни одного человѣка, который бы осмѣлился мыслить по-своему.
Метафизики, моралисты, историки—всѣ были заражены рабствомъ этого несчастнаго
вѣка. Въ теченіе двухъ поколѣній ни одинъ французъ не позволилъ себѣ свободно
обсуждать вопросы политики или религіи. Слѣдствіемъ этого было, что самые обшир-
ные умы, лишившись своей законной почвы, утратили свою силу; національный духъ
упалъ; не доставало повидимому даже матеріаловъ и пищи для мысли. Неудивительно
послѣ этого, что великіе французскіе умы восемнадцатаго столѣтія брали извнѣ ту
пищу, которую они не могли найти у себя дома. Неудивительно, что они отверну-
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 297
лиеь отъ своей родины и стали съ удивленіемъ смотрѣть на единственный народъ,
который, производя свои изслѣдованія въ высшихъ сферахъ разума, показалъ та-
кое же безстрашіе въ политикѣ, какъ и въ религіи;—на народъ, который, ослабивъ
своихъ королей и обуздавъ свое духовенство, копилъ сокровища своего опыта въ
той славной литературѣ, которая никогда не можетъ погибнуть и о которой можно
сказать съ полною правдивостью, что она возбудила къ дѣятельности умы самыхъ
отдаленныхъ расъ, и что—перенесенная въ Америку и Индію-—она уже принесла
свои плоды на обѣихъ оконечностяхъ міра.
Въ самомъ дѣлѣ, немногія явленія въ исторіи такъ поучительны, какъ то
сильное вліяніе, которое имѣло на Францію изученіе англійской литературы. Даже
тѣ, которые на дѣлѣ принимали участіе въ революціи, — были двигаемы преобла-
давшимъ духомъ. Англійскій языкъ былъ хорошо знакомъ Карра, Дюмурье, Лафай-
етту и Лантена. Камиллъ Демуленъ почерпнулъ свое образованіе изъ того же источ-
ника. Маратъ путешествовалъ по Шотландіи и Англіи и такъ хорошо зналъ нашъ
языкъ, что написалъ на немъ два сочиненія; одно изъ нихъ, подъ заглавіемъ «Цѣпи
Рабства», было впослѣдствіи переведено на французскій языкъ. Мирабо, по увѣре-
нію одного извѣстнаго авторитета, обязанъ былъ частью своей силы тщательному
изученію англійской конституціи; онъ перевелъ не только Ватсонову «Исторію Фи-
липпа П-гоъ, но даже нѣкоторыя мѣста изъ Мильтона; и говорятъ, что, когда онь
былъ членомъ національнаго собранія, онъ выдавалъ за свои слова отрывки изъ
рѣчей Бёрка. Муньё былъ хорошо знакомъ съ нашимъ языкомъ и съ нашими поли-
тическими учрежденіями, какъ въ теоріи, такъ и на практикѣ; въ одномъ сочине-
ніи своемъ, имѣвшемъ значительное вліяніе, онъ предлагалъ для своей родины
устройство двухъ палатъ въ видахъ установленія того равновѣсія власти, примѣръ
котораго представляетъ Англія. Та же идея, заимствованная изъ того же источника,
была защищаема Лебреномъ, который былъ другомъ ЛІуньё и, подобно ему, уважалъ
литературу и образъ правленія англійскаго народа, Бриссо зналъ по-англійски; онъ
изучилъ въ Лондонѣ дѣйствіе англійскихъ учрежденій и самъ говоритъ, что въ
своемъ разсужденіи объ уголовномъ правѣ онъ главнымъ образомъ руководствовался
ходомъ англійскаго законодательства. Кондорсэ предложилъ также, какъ образецъ,
нашу систему уголовной юриспруденціи, которая, какъ ни была она дурна, конечно
стояла выше французской. Госпожа Роланъ, положеніе которой, такъ же какъ и
способности, сдѣлали ее однимъ изъ вождей демократической партіи, усердно
изучала языкъ и литературу англійскаго народа. Побуждаемая всеобщимъ любо-
пытствомъ, она тоже посѣтила нашу страну. Наконецъ, какъ бы въ доказательство,
что люди всѣхъ оттѣнковъ и всѣхъ сословій дѣйствовали подъ вліяніемъ того же
духа,—самъ герцогъ Орлеанскій посѣтилъ Англію, и посѣщеніе это не замедлило
произвести свои обычные результаты. «Именно въ лондонскомъ обществѣ, говоритъ
знаменитый писатель, пріобрѣлъ онъ расположеніе къ свободѣ и послѣ своего воз-
вращенія онъ принесъ во Францію любовь къ народнымъ интересамъ, презрѣніе
къ своему собственному положенію и короткость съ тѣми, кто былъ поставленъ
ниже его» *).
Такія выраженія, какъ они ни сильны, не покажутся преувеличенными тому,
кто тщательно изучалъ исторію восемнадцатаго столѣтія. Нѣтъ никакого сомнѣнія,
что французская революція была въ сущности реакціей противъ того духа покро-
вительства и вмѣшательства, который достигъ своего зенита при Людовикѣ XIV,
но еще и до этого царствованія имѣлъ въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій вредное дѣй-
ствіе на народное благосостояніе. Однако нельзя также не признать за достовѣр-
ное, что толчокъ, которому реакція была въ такой же мѣрѣ обязана своей силой,
х) гГерцогъ Орлеанскій вынесъ такимъ образомъ , дворомъ, страсть къ народнымъ волненіямъ, презрѣніе
вкусъ къ свободѣ изъ лондонской жизни. Онъ привезъ | къ своему собственному званію, короткость съ толпою»,
оттуда во Францію привычки дерзкаго обращенія съ | и пр. (Ламартинъ, «Исторія Жирондистовъ»),
298
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
сообщенъ былъ изъ Англіи, и что именно англійская литература дала уроки поли-
тической свободы сперва Франціи, а черезъ Францію—и остальной Европѣ х). Только
по этому случаю, а вовсе не изъ одного литературнаго любопытства, я прослѣдилъ
съ нѣкоторою мелочностью ту связь между французскими и англійскими умами, ко-
торую хотя часто замѣчали, но никогда не разсматривали со вниманіемъ, подобаю-
щимъ ея важности. Обстоятельства, подкрѣпившія это обширное движеніе, будутъ
разсказаны въ концѣ этого тома; въ настоящую же минуту я ограничусь первымъ
важнымъ послѣдствіемъ его, а именно: совершеннымъ разъединеніемъ между лите-
раторами и тѣми классами, которые исключительно управляли страной.
Тѣ изъ именитыхъ французовъ, которые теперь обратили свое вниманіе на
Англію, нашли въ ея литературѣ, въ устройствѣ ея общества и ея управленія мно-
гія особенности, которыхъ ихъ родина не представляла примѣровъ. Они слушали,
какъ политическіе и религіозные вопросы величайшей важности обсуждались съ
смѣлостью, неизвѣстной въ какой-либо другой части Европы. Они слушали, какъ
диссентеры и церковники, виги и торіи обращались съ самыми щекотливыми во-
просами и обсуждали ихъ съ неограниченной свободой. Они слушали публичныя
пренія о такихъ предметахъ, о которыхъ во Франціи никто не смѣлъ разсуждать, и
видѣли тайны государства и тайны вѣры, раскрываемыя и прямо выставляемыя на
показъ народу. Особенно же должны были удивиться французы того вѣка, когда
они не только нашли извѣстную степень свободы печати, но и слышали, какъ даже
внутри самыхъ стѣнъ парламента администрація короны порицалась съ полною без-
наказанностью, личности ея избранныхъ слугъ постоянно подвергались нападкамъ
и, странно сказать, даже распредѣленіе ея доходовъ дѣятельно повѣрялось * 2).
' Преемники вѣка Людовика XIV, видя эти вещц й видя сверхъ того, что циви-
лизація страны возрастаетъ сѣ уменьшеніемъ опеки высшихъ сословій и короны,—
не могли скрыть своего удивленія при видѣ такого новаго и возбуждающаго зрѣ-
лища. «Англійская нація,—говоритъ Вольтеръ,—единственная во всемъ мірѣ, кото-
рая посредствомъ сопротивленія своимъ королямъ успѣла ослабить ихъ власть» 3).
«Какъ я люблю смѣлость англичанъ! Какъ я люблю людей, говорящихъ то, чтб ду-
маютъ». «Англичане.—говоритъ Лебланъ,—соглашаются имѣть короля только съ тѣмъ,
чтобы не быть обязанными ему повиноваться». «Прямая цѣль пхъ правительства,
говоритъ Монтескьё, есть политическая свобода; они пользуются большей свободой,
чѣмъ всякая республика; и ихъ правительственная система есть на самомъ дѣлѣ
республика, переодѣтая въ монархію». Грослсй, пораженный изумленіемъ, воскли-
цаетъ: «собственность въ Англіи есть священная вещь, которую законы защищаютъ
отъ всякихъ посягательствъ; не только отъ инженеровъ, инспекторовъ и другихъ
людей того же покроя, но даже отъ самого короля». Мабли въ самомъ знаменитомъ
своемъ сочиненіи говоритъ: «Ганноверская династія можетъ только царствовать въ
Англіи, потому что тамъ пародъ свободенъ и убѣжденъ, что онъ имѣетъ право рас-
полагать короною. Но еслибы короли этого дома стали требовать той же власти,
какой домогались Стюарты, еслибы они стали думать, что корона принадлежитъ
имъ по божественному праву, то этимъ они сами произнесли бы свой приговоръ и
сознались бы, что занимаютъ мѣсто, которое не для нихъ». «Въ Англіи—говоритъ
Гельвецій,—народъ уважается; каждый гражданинъ можетъ имѣть нѣкоторое участіе
въ управленіи дѣлами и писателямъ дозволено просвѣщать публику относительно ея
х) Дермияьё говорятъ объ Англіи: «Этоіъ зна-
менитыя островъ даетъ Европѣ уроки политической сво-
боды; одъ служилъ въ этомъ отношеніи въ XVIII сто-
лѣтіи школою для всѣхъ мыслителей, какихъ только
имѣла Европа».
3) Юмъ, который быль знакомъ со многими изъ
французскихъ знаменитостей, посѣщавшихъ Англію, го-
воритъ: «ничто не можетъ возбудить большее удивле-
ніе въ иностранцѣ, какъ та чрезмѣрная свобода, ка-
кою мы пользуемся въ нашей странѣ, относительно
сообщенія публикѣ всего, чтб намъ угодно, и откры-
таго порицанія всякихъ мѣръ, принятыхъ королемъ или
министрами».
3) «Англійская нація есть единственная нація па
всей землѣ, достигшая ограниченія власти королей
путемъ сопротивленія имъ» (Вольтеръ).
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 299
собственныхъ интересовъ». А Бриссо, спеціально изучавшій этого рода вопросы, вос-
клицаетъ: «Удивительная конституція! ее могутъ порицать только тѣ, кто не знаетъ
ея, или тѣ, чей языкъ скованъ цѣпями рабства».
Таковы были мнѣнія нѣкоторыхъ изъ самыхъ знаменитыхъ французовъ того
времени, и не трудно было бы наполнить цѣлый томъ подобными извлеченіями. Но
я теперь преимущественно желаю указать на первое значительное послѣдствіе этого
новаго, внезапно возбудившагося уваженія къ странѣ, которая въ предшествовав-
шемъ вѣкѣ еще находилась въ совершенномъ презрѣніи. Событія, послѣдовавшія
за этимъ, имѣютъ такую важность, которую невозможно преувеличить: они привели
къ тому разрыву между умственно-трудящимися и правительствующими сословіями,
въ которомъ самая революція являлась только временнымъ эпизодомъ.
Великіе умы Франціи восемнадцатаго столѣтія, возбуждаемые примѣромъ Англіи,
проникнулись такою любовью къ прогрессу, что естественно должны были придти
въ столкновеніе съ правительствующими сословіями, между которыми еще преобла-
далъ старый духъ неподвижности. Эта оппозиція являлась благотворною реакціею
противъ того постыднаго раболѣпства, которымъ въ царствованіе Людовика XIV
отличались литераторы; и еслибы въ возникшей изъ этого борьбѣ проявилось хоть
что-либо похожее на умѣренность, то конечный результатъ ея былъ бы въ высшей
степени благодѣтеленъ, потому что она привела бы къ тому разъединенію между
классомъ мыслителей и классомъ практическихъ дѣятелей, которое, какъ мы уже
видѣли, необходимо для удержанія равновѣсія цивилизаціи и для предупрежденія
опаснаго преобладанія которой-нибудь изъ сторонъ. Но къ несчастью дворяне и
духовенство уже такъ давно ^привыкли къ власти, что не/ могли вынести малѣйшаго
противорѣчія со стороны тѣхъ великихъ писателей, кбторыхъ они въ своемъ не-
вѣжествѣ презирали, считая ихъ ниже себя. Вотъ почему, когда знаменитѣйшіе изъ
французовъ восемнадцатаго столѣтія попытались внести въ литературу своей страны
духъ изслѣдованія, подобный существовавшему въ Англіи, правительствующія со-
словія воспылали такою ненавистью и завистью, которая, разорвавъ всякія оковы,
разразилась тѣмъ крестовымъ походомъ противъ знанія, который является вторымъ
изъ главныхъ предшественниковъ французской революціи.
До какихъ огромныхъ размѣровъ доходило жестокое гоненіе, которому под-
вергалась съ этого времени литература, можетъ вполнѣ понять лишь тотъ, кто из-
учалъ во всей подробности исторію Франціи въ XVIII столѣтіи. То не былъ одинъ
изъ тѣхъ отдѣльныхъ случаевъ притѣсненій, которые встрѣчаются здѣсь и тамъ; это
было продолжительное и систематическое стремленіе задушить всякое изслѣдованіе
и наказать всѣхъ изслѣдователей. Если составить списокъ всѣхъ литераторовъ, ко-
торые писали въ теченіе семидесяти лѣтъ, слѣдовавшихъ за смертью Людовика XIV,
то окажется, что по крайней мѣрѣ девять изъ каждаго десятка претерпѣли отъ пра-
вительства тяжкія обиды, а большинство изъ нихъ были даже посажены въ тюрьму.
Конечно мои свѣдѣнія объ этихъ временахъ, хотя и тщательно собранныя, не такъ
полны, какъ бы я могъ желать, но между авторами, которые были наказаны, я
встрѣчалъ имена почти всѣхъ французовъ, сочиненія которыхъ пережили тотъ вѣкъ,
въ который были написаны. Среди тѣхъ, которые подвергались или конфискаціи иму-
щества, или заключенію, или ссылкѣ, или штрафамъ, или запрещенію ихъ сочине-
ній, или позорному принужденію отречься отъ того, чтё ими было написано,—я
нашелъ, кромѣ множества второстепенныхъ писателей, имена Бомарше, Беррюё,
Бужана, Бюффона, Д’Аламбера, Дидро, Дюкло, Фрерэ, Гельвеція, Ла-Гарпа, Ленгё,
Мабли, Мармонтеля, Монтескьё, Мерсьё, Мореллё, Рэналя, Руссо, Сюарда, Тома и
Вольтера.
Простое перечисленіе именъ этого списка уже въ высшей степени поучительно.
Предположить, что всѣ эти замѣчательные люди заслужили полученное ими нака-
заніе,—было бы, даже въ отсутствіи прямыхъ опроверженій, явною нелѣпостью; ибо
это значило бы думать, что когда между двумя классами произошелъ расколъ, то
300
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
слабый классъ во всемъ неправъ, а сильный—во всемъ правъ. Къ несчастью однако
нѣть надобности прибѣгать къ однимъ только умозрительнымъ доводамъ для опредѣ-
ленія, которая изъ сторонъ лучше. Обвиненія, произнесенныя противъ этихъ вели-
кихъ людей, находятся передъ глазами всего свѣта; присужденныя наказанія также
хорошо извѣстны; а соединивъ вмѣстѣ то и другое, мы можемъ составить себѣ идею
о состояніи общества, въ которомъ подобныя дѣла могли открыто совершаться.
Вольтеръ почти непосредственно послѣ смерти Людовика XIV былъ неспра-
ведливо обвиненъ въ сочиненіи памфлета на этого государя, и за это воображаемое
преступленіе, безъ всякаго суда и даже безъ тѣни уликъ, заключенъ въ Бастилію,
гдѣ содержался болѣе двѣнадцати мѣсяцевъ. Вскорѣ послѣ его освобожденія ему
была нанесена еще болѣе тяжкая обида; случай этотъ, а въ особенности его безна-
казанность, служитъ разительнымъ свидѣтельствомъ о состояніи того общества, гдѣ
такія вещи были дозволяемы, Вольтеръ за столомъ у герцога де-Сюлли былъ умыш-
ленно оскорбленъ кавалеромъ де-Роганъ Шабо, однимъ изъ тѣхъ наглыхъ .и раз-
вратныхъ дворянъ, которыми Парижъ тогда изобиловалъ. Герцогъ, несмотря на то,
что оскорбленіе было нанесено въ его собственномъ домѣ, въ ого присутствіи и его
гостю, не только не хотѣлъ вступиться, но повидимому даже полагалъ, что для бѣд-
наго поэта и то уже честь, если знатная особа какимъ бы то ни было образомъ
обратила на него вниманіе. Такъ какъ Вольтеръ, въ первомъ порывѣ гнѣва, отвѣ-
чалъ однимъ изъ тѣхъ язвительныхъ возраженій, которыхъ такъ страшились всегда
его противники, то кавалеръ рѣшился наказать его еще сильнѣе. Способъ, избран-
ный имъ для этого, прекрасно характеризуетъ какъ самого человѣка, такъ и то со-
словіе, къ которому онъ принадлежалъ. Онъ велѣлъ пбймать Вольтера въ одной изъ
улицъ Парижа и въ своемѣ\присутствіи гнуснѣйшимъ образомъ избить, — при чемъ
самъ лично опредѣлилъ число ударовъ. Вольтеръ, глубоко оскорбленный, потребовалъ
того удовлетворенія, которое обыкновенно давалось въ такихъ случаяхъ. Этого одна-
ко не имѣлъ въ виду его знатный обидчикъ и потому не только отказалъ ему въ
поединкѣ, но даже выхлопоталъ приказъ, по которому Вольтеръ былъ заключенъ
въ Бастилію на шесть мѣсяцевъ, а по истеченіи этого времени долженъ былъ оста-
вить родину 1).
Такимъ образомъ Вольтеръ, посидѣвъ въ тюрьмѣ за памфлетъ, котораго никог-
да не писалъ, затѣмъ публично побитый за то, что осмѣлился возражать на оскорби-
тельную шутку наглеца, былъ теперь приговоренъ къ новому тюремному заключе-
нію, благодаря вліянію того самаго человѣка, который обидѣлъ его. Изгнаніе, ко-
торое послѣдовало за заключеніемъ, было, кажется, вскорѣ отмѣнено, ибо немного
спустя послѣ этихъ событій мы находимъ Вольтера опять во Франціи, приготовляю-
щаго къ печати свое первое историческое сочиненіе «Жизнь Карла XII». Въ немъ
нѣтъ тѣхъ нападеній на христіанство, которыя непріятно поражали въ его послѣ-
дующихъ сочиненіяхъ; оно также не содержитъ ни малѣйшаго намека на деспотизмъ
правительства, отъ котораго онъ пострадалъ. Французскія власти сперва дали то
позволеніе, безъ котораго тогда ни одна книга не могла печататься; но, какъ только
она была дѣйствительно напечатана, позволеніе было взято назадъ и книга запре-
щена. Слѣдующая попытка Вольтера имѣла гораздо большее значеніе и потому была
еще рѣзче отстранена. Во время его пребыванія въ Англіи его пытливый умъ былъ
глубоко заинтересованъ тѣмъ положеніемъ вещей, которое такъ разнилось отъ всего
до тѣхъ поръ видѣннаго имъ, онъ напечаталъ описаніе того замѣчательнаго народа,
1) Дювернэ, который писалъ па основаніи мате-
ріаловъ, доставленныхъ Вольтеромъ, и, слѣдовательно,
пользовался самымъ лучшимъ источникомъ свѣдѣній —
приводитъ образчикъ утонченности чувствъ француз-
скаго герцога въ XVIII столѣтіи. Онъ говоритъ, что
прямо послѣ того, какъ Рогаиъ публично нанесъ Воль-
теру в'іо оскорбленіе, «Вольтеръ возвращается въ отель,
требуетъ отъ герцога де-Сюлли, чтобы онъ принялъ эту
обиду, нанесенную одному изъ его гостей, какъ при-
чиненную ему самому, и проситъ его присоединиться
къ нему вь преслѣдованіи этого оскорбленія и пойти
съ нимъ къ коммиссару засвидѣтельствовать его по-
казаніе. Гсрпогъ-де-Сюлли во воемъ отказалъ».
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 301
литература котораго научила его многимъ важнымъ истинамъ. Это сочиненіе его,
названное «Философскими Письмами», было встрѣчено всеобщимъ одобреніемъ; но,
къ несчастью для себя, Вольтеръ помѣстилъ тамъ доводы Локка противъ врожден-
ныхъ идей. Правители Франціи, отъ которыхъ конечно нельзя было ожидать, чтобы
они имѣли понятіе о врожденныхъ идеяхъ, возымѣли однако подозрѣніе, что ученіе
Локка нѣкоторымъ образомъ опасно; и такъ какъ они слышали, что это новость,
то сочли себя обязанными предупредить ея распространеніе. Вольтера приказано
снова арестовать, а сочиненіе его было сожжено рукою палача.
Эти безпрестанно повторявшіяся оскорбленія возмутили бы и болѣе терпѣли-
ваго человѣка, чѣмъ Вольтеръ Люди, упрекающіе этого знаменитаго человѣка въ
томъ, будто онъ подстрекалъ къ несправедливымъ нападеніямъ на существовавшій
порядокъ вещей, должно быть весьма мало знаютъ о вѣкѣ, въ которомъ онъ имѣлъ
несчастіе жить. Даже на область естественныхъ наукъ, всегда считавшуюся нейтраль-
ною почвою, одинаково распространялось дѣйствіе духа деспотизма и преслѣдованія.
Вольтеръ въ числѣ другихъ плановъ, направленныхъ къ пользамъ Франціи, желалъ
познакомить своихъ соотечественниковъ съ удивительными открытіями Ньютона, ко-
торыя имъ были совершенно неизвѣстны. Съ этою цѣлью онъ написалъ очеркъ тру-
довъ этого необыкновеннаго мыслителя; но здѣсь опять вмѣшались власти и запре-
тили печатать это сочиненіе. Дѣйствительно, правители Франціи, какъ бы чувствуя,
что для нпхъ безопаснѣе невѣжество народа, упорно возставали противъ всякаго
рода знанія. Нѣсколько извѣстныхъ писателей вознамѣрились составить въ грандіоз-
ныхъ размѣрахъ «Энциклопедію», которая должна была содержать въ себѣ краткое
изложеніе всѣхъ отраслей науки и искуства. Это, безъ сомнѣнія, самое блестящее
предпріятіе, когда-либо задуманное корпораціею писателей, было сперва неодобрено
правительствомъ, а впослѣдствіи совершенно запрещено. Въ иныхъ случаяхъ это же
направленіе высказалось въ такихъ ничтожныхъ вещахъ, которыя только по важ-
ности окончательныхъ послѣдствій не кажутся смѣшными. Въ 1770 году Эмберъ
перевелъ «Письма объ Испаніи» Кларка, одно изъ лучшихъ сочиненій объ этой
странѣ. Эта книга однако была запрещена, лишь только появилась, и единственною
причиною для объясненія такого злоупотребленія власти приводилось то, что въ
книгѣ было нѣсколько замѣчаній на счетъ страсти Карла III къ охотѣ, въ которыхъ
видѣли недостатокъ уваженія къ французской коронѣ, потому, что Людовикъ XV’ самъ
былъ страстный охотникъ. За нѣсколько лѣтъ передъ этимъ Ла-Блсттери, хорошо
извѣстный во Франціи своими сочиненіями, былъ выбранъ въ члены французской
академіи. По онъ, какъ кажется, былъ янсештстъ и сверхъ того дерзнулъ утвер-
ждать, что императоръ Юліанъ, несмотря на самое отступничество, не былъ совер-
шенно лишенъ хорошихъ качествъ. Подобныя преступленія не могли быть оставлены
безъ вниманія въ такой чистый вѣкъ; поэтому король заставилъ академію исклю-
чить Ла-Блеттери изъ своей среды 2). Что наказаніе не простерлось далѣе, это уже
было замѣчательнымъ послабленіемъ, ибо Фрерё, извѣстный критикъ и ученый, былъ
заключенъ въ Бастилію за то, что утверждалъ въ одномъ изъ своихъ мемуаровъ,
что первые вожди франковъ получили свои титулы отъ римлянъ. Тому же самому
наказанію подвергся четыре раза, въ разное время, Ленгё дю-Френуй. Что ка-
сается этого во всѣхъ отношеніяхъ прекраснаго человѣка, то тутъ, кажется, не было
и тѣни повода къ той жестокости, которой онъ подвергся; впрочемъ въ одномъ слу-
чаѣ ему поставлено было въ вину, что онъ издалъ дополненіе къ исторіи Де-Ту 3).
г) Негодованіе Вольтера проявляется во многихъ
пзъ его писемъ; онъ часто объявлялъ своимъ друзьямъ
о своемъ намѣреніи навсегда покинуть страну, гдѣ
могли такимъ образомъ посту пять съ нимъ.
2) Все нр-ступленіе, по словамъ Гримма, заклю-
чалось въ томъ, «что яисонистъ осмѣлился напеча-
тать, что Юліанъ, ненавистный отступппкъ въ гла-
захъ хорошаго христіанина, былъ однако человѣкъ не
безъ нѣкоторыхъ хорошихъ качествъ, если смотрѣть
па пего сь свѣтской стороны».
3) Вольтеръ пишетъ въ 1743 году: «недавно по-
садили въ Бастилію аббата Ланглё за изданіе всѣмъ
уже и::вѣстныхъ записокъ, служащихъ дополненіемъ къ
исторіи нашего знаменитаго Де-Ту. Неутомимый не-
302
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Дѣйствительно, намъ стоитъ только раскрыть біографіи и корреспонденціи того
времени, и мы увидимъ со всѣхъ сторонъ бездну подобныхъ примѣровъ. Руссо угро-
жало заключеніе, онъ былъ изгнанъ изъ Франціи и его сочиненія были публично
сожжены. Знаменитое разсужденіе Гельвеція «О Разумѣ» было запрещено по при-
казанію королевскаго совѣта; оно было сожжено рукой палача, и авторъ былъ при-
нужденъ написать два письма, гдѣ онъ отрекался отъ своихъ убѣжденій. Нѣкоторые
геологическіе взгляды Бюффона оскорбили духовенство, и знаменитый натуралистъ
былъ принужденъ напечатать формальное отреченіе отъ тѣхъ ученій, которыя те-
перь извѣстны за совершенно вѣрныя. «Ученыя замѣчанія на исторію Франціи»
Мабли были запрещены, лишь только они появились; по какой причинѣ—сказать
трудно, ибо Гизо, котораго конечно нельзя считать сторонникомъ ни анархіи, ни
безбожія, нашелъ ихъ достойными перепечатанія и такимъ образомъ запечатлѣлъ
ихъ авторитетомъ своего великаго имени. «Исторія Индіи» Рэналя была осуждена на
сожженіе, а автора приказано было арестовать. Ланжіоинэ, въ своемъ извѣстномъ
сочиненіи о Іосифѣ II, защищаетъ не только религіозную терпимость, но даже уни-
чтоженіе рабства; поэтому книга его была объявлена «возмутительной», признана
«разрушающей всякую подчиненность» и приговорена къ сожженію. Разборъ Вайля
Марси былъ запрещенъ, а самъ авторъ посаженъ въ тюрьму. «Исторія Іезуитовъ»
Ленгё была предана пламени; восемь лѣтъ спустя, былъ запрещенъ его Журналъ,
а черезъ три года послѣ этого, такъ какъ онъ все продолжалъ писать, были запре-
щены его политическія лѣтописи и самъ онъ заключенъ въ Бастилію. Делиль де-Саль
былъ приговоренъ къ вѣчному изгнанію и конфискаціи всего имущества за сочи-
неніе его «Философія Природы». Трактатъ Мэйа о французскомъ правъ былъ за-
прещенъ, а трактатъ Бонсэрфа о феодальномъ правѣ—дожженъ. «Мемуары» Бомарше
были также сожжены; «Похвала Фепелону» Ла-Гарпа была только запрещена. Дю-
вернэ, написавшій «Исторію Сорбонны», еще не издавъ ея. былъ уже схваченъ и за-
ключенъ въ Бастилію, несмотря на то, что даже рукопись еще находилась у него.
Знаменитое сочиненіе Де-Лольма объ англійской конституціи было запрещено эдик-
томъ тотчасъ по выходѣ въ свѣтъ. Такія же запрещенія предстояли и «Письмамъ»
Жервеза въ 1724, «Разсужденіямъ» Курэйё въ 1727, «Письмамъ» Монгона въ 1732,
«Исторіи Тамерлана» Марга, также въ 1732, «Опыту о Вкусѣ» Карто въ 1736, «Жизни
Дома» Прэво де ля Жаннэсъ въ 1742, «Исторіи Людовика XI» Дюкло въ 1745, «Пись-
мамъ» Баржетона въ 1750, «Запискамъ о Труа» Гролся, въ томъ же году, «Исторіи
Клемента XI» Ребулё въ 1752, «Школѣ Человѣка» Женара, также въ 1752, «Терапев-
тикѣ» Гарлопа въ 1756, знаменитому тезису Луи о дѣторожденіи въ 1754, «Трак-
тату о презпдіальной юрисдикціи» Жусса въ 1755, «Эриціи» Фонтанелля въ 1768,
«Мыслямъ» Жамэна въ 1769, «Исторіи Сіама» Тюрпэна и «Похвальному слову Марку
Аврелію» Тома, обоимъ въ 1770, сочиненіямъ о финансахъ Дириграна въ 1764 и
Ле-Трона въ 1779, «Опыту о Военной Тактикѣ» Гюибера въ 1772, «Письмамъ» Букё
въ томъ же году, «Мемуарамъ» Террэ, Кокеро въ 1776. Такое произвольное уничто-
женіе собственности было еще милостью сравнительно съ тѣмъ, чему подвергались
другіе литераторы во Франціи. Дсфоржъ, напримѣръ, писавшій противъ арестованія
претендента на англійскую корону, былъ за одно это заключенъ въ темницу, про-
странствомъ въ восемь квадратныхъ футовъ, и содержался тамъ три года; это слу-
чилось въ 1749 г. Въ 1770 году Одра, профессоръ Тулузской коллегіи, человѣкъ съ
нѣкоторою извѣстностью, издалъ первый томъ своей «Краткой Всеобщей Исторіи».
Далѣе сочиненіе это уже не выходило, а было тотчасъ же осуждено архіепископомъ
той епархіи и авторъ отрѣшенъ отъ своей должности. Одра, публично опозоренный,
увидѣлъ, что всѣ его труды пропали безполезно и всѣ надежды его жизни внезапно
разрушены; онъ не могъ пережить такого потрясенія—съ нимъ сдѣлался апоплексиче-
счастньш Лангле оказалъ важную услугу добрымъ 1 Онъ заслуживалъ награды, а его безжалостно са-
гражданамъ и любителямъ историческихъ изысканій. жаюгъ въ тюрьму въ семьдесятъ-восемь лѣтъ».
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 303
скій ударъ, и черезъ двадцать-четыре часа онъ лежалъ уже мертвый въ своемъ соб-
ственномъ домѣ.
Вѣроятно всѣ согласятся, что я собралъ достаточно фактовъ въ подтвержденіе
моего показанія о преслѣдованіяхъ, которымъ подвергались всѣ роды литературы;
но небрежность, съ какою изучались обстоятельства, предшествовавшія французской
революціи, привела къ такимъ ошибочнымъ взглядамъ на этотъ предметъ, что я на-
мѣренъ прибавить еще нѣсколько примѣровъ, дабы поставить внѣ всякаго сомнѣнія
истинное значеніе оскорбленій, которымъ обыкновенно подвергались самые извѣстные
французы XVIII столѣтія.
Между многими знаменитыми писателями, которые хотя и стояли ниже Воль-
тера, Монтескьё, Бюффона и Руссо, но уступали только этимъ послѣднимъ, тремя
самыми замѣчательными были: Дидро, Мармонтель и Мореллё. Первые два извѣстны
каждому читателю, третій же Мореллё, хотя сравнительно забытый, пользовался въ
свое время значительнымъ вліяніемъ и сверхъ того имѣлъ ту особенную заслугу,
что первый популяризировалъ во Франціи тѣ великія истины, которыя тогда только-
что были открыты въ политической экономіи—Адамомъ Смитомъ, а въ юриспруден-
ціи—Беккаріа.
Нѣкто Кюри написалъ сатиру на герцога д’Омонъ и показалъ ее своему другу
Мармонтелю, который, пораженный ея силой, повторилъ ее въ небольшомъ кружкѣ
своихъ знакомыхъ. Герцогъ, услыхавъ объ этомъ, пришелъ въ негодованіе и на-
стаивалъ на выдачѣ имени автора. Этого конечно невозможно было исполнить, безъ
грубаго нарушенія довѣрій, и Мармонтель, желая сдѣлать все, что было въ его
силахъ, написалъ письмо герцогу, утверждая, какъ и было на самомъ дѣлѣ, что са-
тира не напечатана, что авторъ не намѣренъ распространять ее въ публикѣ, что
она была прочтена немногимъ' самымъ близкимъ друзьямъ его. Можно было пред-
полагать, что это удовлетворитъ ^ даже французскаго ^дворянина; но Мармонтель, со-
мнѣваясь еще въ исходѣ этого дѣла, искалъ аудіенціи у министра, въ надеждѣ по-
лучить защиту отъ правительства. Все было однако тщетно. Съ трудомъ повѣрятъ,
что Мармонтеля, который былъ тогда въ полной славѣ, схватили среди Парижа, и
такъ какъ опъ отказался выдавать своего друга, то его заключили въ Бастилію.
Преслѣдователи были такъ безпощадны, что послѣ освобожденія его изъ тюрьмы,
желая довести до нищеты, лишили его нрава на изданіе «Меркурія», отъ котораго
зависѣлъ почти весь его доходъ.
Съ аббатомъ Мореллё случилось подобное же обстоятельство. Одинъ жалкій
писака, по имени Палиссо, написалъ комедію, гдѣ онъ осмѣялъ нѣкоторыхъ самыхъ
даровитыхъ французовъ того времени. На это Мореллё отвѣчалъ остроумной неболь-
шой сатирой, гдѣ онъ сдѣлалъ совершенно невинный намекъ на княгиню де-Робэккъ,
одну изъ патронессъ Палиссо. Знатная дама эта, возмущенная такою дерзостью,
пожаловалась министру, который немедленно приказалъ заключить аббата въ Бастилію,
гдѣ онъ пробылъ нѣсколько мѣсяцевъ; между тѣмъ онъ не только не сдѣлалъ ни-
какого скандала, но даже не упомянулъ имени княгини.
Съ Дидро поступили еще строже. Этотъ замѣчательный человѣкъ обязанъ былъ
своимъ вліяніемъ главнымъ образомъ своей обширной корреспонденціи и блестящему
разговорному таланту, въ которомъ онъ не зналъ соперника даже въ Парижѣ. Онъ
проявлялъ съ большимъ успѣхомъ этотъ талантъ на тѣхъ славныхъ обѣдахъ у Голь-
баха, гдѣ въ теченіе четверти столѣтія собирались самые значительные мыслители
Франціи 1). Кромѣ того онъ былъ авторъ многихъ любопытныхъ сочиненій, боль-
шинство которыхъ хорошо извѣстны всѣмъ, кто изучалъ французскую литературу 2).
*) Мармонтель говоритъ: «кго зналъ Дидро только по I рый не любилъ его, п Жоржѳль, который ненавидѣлъ его,
его сочиненіямъ,тотъ вовсе пе зналъ ого»,—разумѣя подъ * 2) Издатель ого переписки говорятъ также, что
отижъ, что его сочиненія уступали ого бесѣдамъ. О его । онь нанисаль много инеемъ къ разнымъ писателямъ,
разговорномъ талантѣ упоминають даже Сегюръ, кото- , когорые издали ихъ нодь своимъ именемъ.
304
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІЯ ВЪ АНГЛІИ.
Вслѣдствіе своего независимаго ума и своей извѣстности онъ также не избѣгнулъ
всеобщаго гоненія. Первое написанное имъ сочиненіе было осуждено на публичное
сожженіе рукою палача х). Такова была дѣйствительно судьба почти всѣхъ лучшихъ
литературныхъ произведеній того времени, и Дидро долженъ былъ почитать себя
счастливымъ, что только лишился собственности, но былъ избавленъ отъ заключенія.
Но спустя нѣсколько лѣтъ онъ написалъ другое сочиненіе, въ которомъ онъ гово-
рилъ, что слѣпорожденные люди различаются нѣкоторыми понятіями отъ зрячихъ.
Такое предположеніе нисколько не неправдоподобно 2) и не заключаетъ въ себѣ ни-
чего такого, что могло бы кого-либо встревожить. Однако люди, которые тогда уирав-
лили Франціей, открыли въ этомъ скрытую опасность. Подозрѣвали ли они, что раз-
сужденіе о слѣпотѣ есть намекъ на нихъ самихъ, или они дѣйствовали только подъ
вліяніемъ своего дурного характера—неизвѣстно; во всякомъ случаѣ Дидро за одно
заявленіе такого мнѣнія былъ арестованъ и даже безъ всякой формы суда заклю-
ченъ въ Венсенскій замокъ. За этимъ послѣдовали обычные результаты. Сочиненія
Дидро сдѣлались еще популярнѣе 3), а онъ съ своей стороны, пылая ненавистью
къ своимъ преслѣдователямъ, удвоилъ усилія къ низверженію тѣхъ учрежденій, йодъ
покровомъ которыхъ могла безопасно дѣйствовать такая чудовищная тираннія.
Кажется, нѣтъ нужды говорить болѣе о томъ невѣроятномъ ослѣпленіи, подъ
вліяніемъ котораго правители Франціи, дѣлая изъ каждаго способнаго человѣка лич-
наго себѣ врага 4). наконецъ, возстановили противъ правительства умственныя силы
страны. Я хочу тѣмъ не менѣе привести, какъ достойное послѣдствіе предыдущихъ
фактовъ, одинъ примѣръ того, какимъ образомъ для удовлетворенія каприза выс-
шихъ сословій даже частныя отношенія семейной жизни могли быть публично по-
руганы. Въ половинѣ ХѴШ столѣтія на французской сценѣ была актриса по имени
Шантильи. Въ нее влюбился Морицъ Саксонскій, но она предпочла болѣе честную при-
вязанность и вышла замужъ за Фавара, извѣстнаго сочинителя пѣсенъ и комиче-
скихъ оперъ. Морицъ, возмущенный ея дерзостью, обратился за помощью къ фран-
цузской коронѣ. Самое обращеніе это уже достаточно странно, результатъ же его
можетъ сравниться развѣ только съ чѣмъ-либо случающимся при восточномъ деспо-
тизмѣ. Правительство Франціи, услышавъ объ этомъ обстоятельствѣ, имѣло непости-
жимую слабость отдать приказъ, повелѣвавшій Фавару оставить свою жену и пере-
дать ее на попеченіе Морица, ласкамъ котораго она принуждена была подчиниться.
Это принадлежитъ къ числу тѣхъ невыносимыхъ поступковъ, которые кипя-
тятъ кровь въ жилахъ людей. Можно ли удивляться, что величайшіе и благороднѣй-
шіе умы Франціи чувствовали омерзѣніе къ правительству, которое дѣлало подоб-
ныя вещи? Если даже мы, несмотря на отдаленность времени и страны, при-
ходимъ въ негодованіе при одномъ разсказѣ обо всемъ этомъ, то что же должны
были чувствовать тѣ, передъ чьими глазами все это на самомъ дѣлѣ совершалось?
А если къ естественному отвращенію, ощущаемому при видѣ такихъ дѣлъ, мы при-
соединимъ то опасеніе сдѣлаться вскорѣ самому ихъ жертвою, которое могло вся-
г) Это были его «Репзёз РЬІІозорЬідиез», его пер-
вое оригинальное произведете, изданное въ 1746 году,
такъ какъ до того появлялись только его переводы съ
англійскаго.
2) Лугальдъ Стюартъ, собравшій нѣсколько важ-
ныхъ данныхъ объ этомь ііредмеіѣ. подтвердилъ мно-
гія изъ воззрѣній Дидро. Сь того времени обращено
было еще большее вниманіе на воеппіаніе слѣпыхъ
и было замѣчено, что «особенно трудное дѣло нау-
чить ихъ правильно думать». Это говорить въ пользу
смѣтливости Дпдрб и свидѣтельствуетъ также о не-
вѣжествѣ преслѣдователей, старавшихся положить ко-
нецъ подобнымъ изслѣдованіямъ, наказавъ ихъ автора.
3) Такпмъ образочь любонытезво одерживаетъ
верхъ надъ деспотизмомъ. Въ 1767 году одинъ остро-
умный наблюдатель (Гриммъ) замѣчаетъ: «только и
печатаются по нѣсколько разъ однѣ осужденныя
книги. Теперь, для юго чтобы книга хорошо расхо-
дилась, книгопродавецъ долженъ просить судей пре-
дать ее, сожженію >.
4) «Вь теперешнее время, — спрашиваетъ
Гриммъ,—ктб изъ нашихъ литераторовъ, имѣющихъ
какія-нибудь достоинства, пе испыталъ болѣе пли
яснѣе ярость клеветы и преслѣдованія?^ Это было
написано въ 1767 году; въ теченіе слишкомъ сорока
предшествовавшихъ лѣтъ мы находимъ подобные же
отзывы; первый, который я встрѣтилъ, былъ въ письмѣ
къ Тиріо, 1723 года, въ которомъ Вольтеръ гово-
рить: «со дня на день все болѣе и болѣе увеличива-
лась строгость инквизиціи надъ книжною торговлею».
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 305
кому придти въ голову; если вспомнимъ также, что виновники этихъ преслѣдованій
не имѣли ни одной изъ тѣхъ способностей, которыми даже самый порокъ иногда
облагораживается; если мы сравнимъ такимъ образомъ ихъ умственное ничтожество
съ громадностью ихъ преступленій, то мы скорѣе изумимся тому безпримѣрному
терпѣнію, которое одно могло такъ долго сносить подобныя оскорбленія.
Мнѣ дѣйствительно всегда казалось, что отсрочка революціи есть одно изъ
самыхъ разительныхъ доказательствъ въ исторіи силы установившихся обычаевъ
и той стойкости, съ которой человѣческій умъ держится старинныхъ ассоціацій и
идей. Если и было когда-либо правительство существенно и радикально дурное, то
это было правительство Франціи въ XVIII столѣтіи. Если и существовало когда-
либо состояніе общества, способное своимъ вопіющимъ, въ избыткѣ накопившимся
зломъ довести людей до отчаянія, то Франція была въ такомъ состояніи. Народъ,
презрѣнный и порабощенный, погрязалъ въ совершенной нищетѣ, былъ задавленъ
страшною жестокостью законовъ, насилуемъ съ немилосердымъ варварствомъ; вся
страна была въ полномъ, безотвѣтственномъ распоряженіи духовенства, дворянъ и
короны. Лучшимъ умамъ Франціи угрожало безжалостное изгнаніе; произведенія ея
литературы запрещались и сожигались; ея авторовъ грабили и заключали въ тюрьмы.
Не было ни малѣйшаго признака возможности исправленія этихъ золъ. Высшія <со~.
словія, дерзость которыхъ усиливалась отъ продолжительной безнаказанности, думали
только о настоящемъ наслажденіи; они нисколько не заботились о будущемъ, они
не предвидѣли дня разсчета, горечь котораго имъ вскорѣ предстояло испытать. На-'
родъ пребывалъ въ рабствѣ до самой революціи; что же касается литературы, то
почти съ каждымъ годомъ дѣлались новыя усилія лишить ее и той малой доли сво-
боды, которой она еще обладала. Издавъ въ 1.764 году декретъ, воспрещавшій пе-
чатаніе всякаго сочиненія, въ которомъ обсуждаются государственные вопросы; при-
знавъ въ 1767 году уголовнымъ преступленіемъ написаніе книги, способной взвол-
новать умы общества (караемымъ смертной казнью), п объявивъ сверхъ того, что
той же смертной казни подлежитъ всякій, кто нападаетъ на религію, а равно и вся-
кій, кто говоритъ о финансахъ; принявъ такія мѣры, правители Франціи весьма
незадолго до своего конечнаго паденія обдумывали другой, еще болѣе обширный
планъ. Дѣйствительно странный фактъ, что всего за девять лѣтъ до революціи,
когда никакія земныя силы пе могли спасти учрежденія Франціи, правительство
было въ такомъ певѣдѣніи объ истинномъ положеніи дѣлъ и до того было убѣждено
въ возможности укротить духъ, возбужденный его же деспотизмомъ,—что одно долж-
ностное лицо (генеральный адвокатъ) сдѣлало въ 1780 г. предложеніе уничтожить
всѣхъ издателей и не дозволять печатать никакихъ книгъ, исключая тѣхъ, которыя
будутъ исходить изъ прессы, оплачиваемой, опредѣляемой и контролируемой испол-
нительною властью. Это чудовищное предложеніе, будь оно приведено въ дѣйствіе,
естественно отдало бы въ руки короля все вліяніе, какимъ можетъ располагать ли-
тература; оно довершило бы погибель Франціи, принудивъ величайшихъ людей къ
совершенному молчанію или унизивъ ихъ до значенія защитниковъ однихъ тѣхъ
мнѣній, распространенія которыхъ желало бы правительство.
На это ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ смотрѣть, какъ на маловажное обсто-
ятельство, имѣющее интересъ только для писателей. Во Франціи въ XVIII столѣтіи
литература была послѣднимъ убѣжищемъ свободы. Въ Англіи еслибы наши вели-
кіе писатели опозорили свои умственныя способности высказываніемъ рабскихъ
мнѣній, то опасность безъ сомнѣнія была бы велика, потому что другимъ частямъ
общества трудно было бы избѣжать заразы: но прежде чѣмъ распространилась
бы порча, мы имѣли бы время остановить ходъ ея, покуда мы обладали бы тѣми
свободными политическими учрежденіями, при одной мысли о которыхъ легко
воспламеняется благородное воображеніе смѣлаго народа. И хотя такія учреж-
денія суть слѣдствіе, а не причина свободы, но они безъ сомнѣнія дѣйствуютъ
обратно и на нее и, опираясь на привычку, могутъ нѣкоторое время пережить то
Бокль.—Над» Ф. Павленкова. 20
306
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
начало, изъ котораго они родились. Покуда страна сохраняетъ политическую сво-
боду, въ ней всегда останутся ассоціаціи идей, которыми даже изъ среды умствен-
наго уничиженія и изъ глубины самыхъ низкихъ предразсудковъ люди могутъ быть
вызваны къ лучшей дѣятельности. Но во Франціи все было для правителей и ни-
чего для управляемыхъ. У нея не было ни свободы печати, ни свободнаго парла-
мента. ни свободныхъ преній. У нея не было публичныхъ митинговъ, не было
народной подачи голосовъ, не было преній въ избирательныхъ собраніяхъ, не было
акта «НаЪеаз Согрпз», не было суда присяжныхъ. Голосъ свободы, заглушенный
такимъ образомъ во всѣхъ частяхъ государства, могъ только слышаться въ воззва-
ніяхъ тѣхъ великихъ людей, которые своими сочиненіями просвѣщали народъ. Вотъ
съ какой точки зрѣнія мы должны оцѣнивать характеры тѣхъ людей, которые часто
были обвиняемы въ легкомысленномъ разрушеніи стараго строя *). Они, какъ и
вообще весь народъ, были жестоко притѣсняемы короною, дворянами и церковью и
употребляли свои умственныя способности на отмщеніе за нанесенныя имъ обиды.
Упрекать слѣдовало высшіе классы, потому что они подали первый сигналъ, а не
тѣхъ великихъ людей, которые, защищая себя отъ нападенія, наконецъ успѣли по-
разить виновниковъ, отъ которыхъ нападеніе происходило.
Не останавливаясь однако на оправданіи ихъ образа дѣйствій, мы разсмотримъ
теперь то, что гораздо важнѣе, а именно: происхожденіе того крестоваго похода
противъ христіанства, который, къ несчастію для Франціи, они вынуждены были
начать и который составляетъ третье изъ крупныхъ явленій, предшествовавшихъ
французской революціи. Знаніе причинъ этой вражды къ христіанству необходимо
для вѣрнаго пониманія философіи ХѴШ столѣтія; оно должно пролить нѣкоторый
свѣтъ на общую теорію духовной власти.
Особенно заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, что революціонная лите-
ратура, ниспровергнувшая впослѣдствіи всѣ учрежденія Франціи, сперва направля-
лась скорѣе противъ религіозныхъ, чѣмъ противъ политическихъ учрежденій. Вели-
кіе писатели, сдѣлавшіеся извѣстными вскорѣ послѣ смерти Людовика XIV. возста-
вали противъ духовнаго деспотизма; ниспроверженіе же свѣтскаго деспотизма до-
сталось на долю ихъ непосредственныхъ преемниковъ2). Это не тотъ порядокъ, ка-
кой былъ бы принятъ въ здравомъ состояніи общества; нѣтъ никакого сомнѣнія,
что этой особенности и слѣдуетъ приписать, не въ малой мѣрѣ, злодѣянія, само-
управство и насиліе французской революціи. Очевидно, что при правильномъ раз-
витіи націи политическія нововведенія идутъ рядомъ съ религіозными, такъ что
народъ можетъ расширять свою свободу, уменьшая въ то же время свои предраз-
судки. Во Франціи, напротивъ, въ теченіе почти сорока лѣтъ церковь подвергалась
нападеніямъ, а правительство щадилось. Вслѣдствіе этого порядокъ и равновѣсіе
въ этой странѣ нарушились; умы людей привыкли къ самымъ смѣлымъ умозрѣніямъ,
между тѣмъ какъ ихъ дѣйствія подчинялись самому притѣснительному деспотизму,
и они сознавали въ себѣ способности, которыя правители не позволяли имъ упо-
треблять въ дѣло. Поэтому, когда вспыхнула французская революція, она оказалась
не простымъ возстаніемъ невѣжественныхъ рабовъ противъ образованныхъ господъ,
а возстаніемъ людей, въ которыхъ отчаяніе, порожденное рабствомъ, пріобрѣло но-
Э Мы должны также помнить, при какихъ обстоя-
тельствахъ впервые послышалось это обвиненіе во
Франціи; «упреки за разрушеніе всего, обращенные
къ философамъ ХУШ столѣтія, начались съ того са-
маго дня, какъ оказалось во Франціи правительство,
желавшее возстановить злоупотребленія, уничтоженіе
которыхъ было ускорено писателями того времени».
(Сошіе, <Тгаііё йе іоп»).
3) Свойства этой перемѣны п обстоятельства, при
которыхъ она совершилась, будутъ разсмотрѣны въ
послѣдней главѣ настоящаго тома; но что революціон-
. нос движеніе, пока во главѣ его стояли Вольтеръ и
і его сподвижники, было направлено противъ церкви, а
I не противъ государства,—это замѣчено многими шіса-
і телями; нѣкоторые пзъ нихъ замѣтили также, что въ
I самомъ началѣ второй половины царствованія Людо-
і вика XV почва стала, измѣняться и впервые выка-
। залось расположеніе нападать на политическія злоупо-
I требленія. Па этотъ замѣчательный фактъ указывали
| многіе писатели, но пикто пзъ нихъ не объяснилъ его.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 307
вую силу съ успѣхами знанія,—людей, находившихся въ томъ ужасномъ состояніи,
когда умственное развитіе опереживаетъ развитіе свободы.
Нѣтъ никакого сомнѣнія, что этому именно состоянію мы должны приписать
нѣкоторыя изъ самыхъ отвратительныхъ особенностей французской революціи. По-
этому въ высшей степени интересно изслѣдовать, отчего въ то время, какъ въ
Англіи политическая свобода и религіозный скептицизмъ шли вмѣстѣ и помогали
другъ другу, во Франціи, напротивъ, происходило обширное движеніе, во время ко-
тораго въ теченіе почти сорока лѣтъ способнѣйшіе люди пренебрегали свободой, а
между тѣмъ поощряли скептицизмъ и уменьшали власть церкви, не расширяя правъ
народа.
Первая причина этого заключается въ свойствѣ тѣхъ понятій, на которыхъ
французы долгое время основывали преданія о своей славѣ. Цѣлый рядъ обстоя-
тельствъ, которыя я старался указать, говоря о духѣ покровительства, упрочилъ за
французскими королями такую власть, которая, подчиняя всѣ сословія коронѣ, льстила
народному тщеславію. Поэтому во Франціи чувство преданности королю укоренилось
въ народѣ глубже, чѣмъ въ остальной Европѣ, исключая одной Испаніи 1). О раз-
личіи между этимъ духомъ и тѣмъ, который проявлялся въ Англіи, было уже гово-
репо; оно еще болѣе видно изъ того, какъ неодинаково обѣ націи относились къ
посмертной славѣ своихъ государей. Исключая Альфреда, иногда называемаго
Великимъ 2), въ Англіи никого изъ нашихъ королей не любили настолько, чтобы жа-
ловать имъ титулы, выражающіе личное удивленіе. Французы же украсили своихъ
королей всевозможными похвалами. Такимъ образомъ возьмемъ одно имя Людовикъ,
и мы увидимъ, что одинъ—Кроткій, другой—Святой, третій—Справедливый, четвер-
тый—Великій, а самый отчаянно-порочный изъ всѣхъ былъ названъ Людовикомъ
Возлюбленнымъ.
Таковы факты, которые, какъ бы ии казались они ничтожными, составляютъ
весьма важные матеріалы для истинной исторіи, потому что служатъ несомнѣнными
признаками состоянія той страны, въ которой они были возможны 3). Отношеніе пхъ
къ нашему предмету очевидно. Ибо вслѣдствіе ихъ и тѣхъ обстоятельствъ, изъ
которыхъ они возникли, родилось въ умахъ французовъ понятіе о тѣсной и наслѣд-
ственной связи между славою ихъ націи и личною извѣстностью ихъ государей.
Послѣдствіемъ этого было то. что политика правителей Франціи была ограждена отъ
порицанія оплотомъ болѣе непреодолимымъ, чѣмъ всякій другой, хотя бы воздвиг-
нутый самыми строгими законами. Она была защищена тѣми предразсудками, ко-
торые каждое поколѣніе завѣщало своимъ преемникамъ. Она была защищена тѣмъ
сіяніемъ, которымъ время окружило древнѣйшую монархію въ Европѣ 4). А болѣе
*) Не только политическая нсторіт Исканіи, но |
и ея литература представляютъ грустные примѣры не- I
обыкновенной преданности испанцевъ своему правитель-
ству и пагубныхъ послѣдствій ея. ।
2) Наше усиленное уваженіе къ Альфреду въ зна-
чительной мѣрѣ происходитъ оттого, что мы вообще
мало знаемъ о немъ» Кромѣ того оказывается, что нѣ-
которыя изъ учрежденіи, обыкновенно приписываемыхъ
Альфреду, существовали еще до него.
3) Французскіе писатели стараго времени постоянно
хвасчаютъ, что преданность престолу составляетъ отли-
чительную черту ихъ націи, и попрекаюгъ англичанъ .
преобладающимъ въ нихъ духомъ сопротивленія и не
подчиненности. «Здѣсь дѣло идетъ пе о французахъ, ко-
торые всегда отличались отъ другихъ націи любовью
къ своимъ королямъ» (Лебланъ). «Англичане но лю- ।
бятъ своихъ государей на столько, на сколько это же-
лательно было бы» (СорбІерь). «Любовь и вѣрность—
врожденныя чувства французовъ къ пхъ монархамъ>
(Моттвилдь).
Въ противоположвость ко всему этому теперь можно
поставить чувства, выраженныя въ одномъ изъ извѣст-
нѣйшихъ историческихъ сочиненій на англійскомъ язы-
кѣ: «ТЬеге йоі ану опе пюге сегіаіп аікі
піоге еѵібепі іЬап Ніаі ргінсев агс шабе і’ог Піе реоріе
аікі поі іѣе реоріе Іог (Ьет; и можетъ быть нѣтъ въ
цѣломъ мірѣ» націи, болѣе усвоившей себѣ такое по-
нятіе о монархахъ, какъ англичане нынѣшняго вѣка;
такъ что они скоро надоѣдятъ госудярю, но руковод-
ствующему ся этимъ правиломъ, и со временемъ очень
дурно поступятъ съ нимъ», (ВигнеГв «Йіві. оИііз Омъ
Тіте», ѵ. VI, р. 223). Эгп смѣлыя и здравыя строки
написаны были въ то самое время, когда французы
еще слизывали пыль сь ногъ Людовика XVI
1) <Самый древній родъ королей* (Жанлисъ).
«Паши короли, которые произошли отъ самаго вели-
каго рода вь свѣтѣ, и передъ кѣмъ Кесари и большая
часть государей, повелѣвавшихъ нѣкогда столькими на-
родами,—пе боіѣе какъ выскочки (Моттвилль). А
одинъ венеціанскій посолъ въ XVI столѣтіи говоритъ,
чго Франція «есть государство болѣе древнее, чѣмъ
какое-либо изъ пыпѣ существующихъ».
20*
308
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
всего она была защищена тѣмъ жалкимъ народнымъ тщеславіемъ, которое заставляло
людей подчиняться налогу и рабству ради того, чтобы ослѣпить иностранныхъ го-
сударей блестящей обстановкой своего повелителя и запугать другія страны вели-
чіемъ его побѣдъ.
Результатомъ всего этого было то, что когда въ началѣ XVIII столѣтія умствен-
ныя силы Франціи пришли въ движеніе, мысль напасть на злоупотребленія монархіи
никогда не приходила въ голову даже самымъ смѣлымъ мыслителямъ. Но подъ по-
кровительствомъ короны возросло другое учрежденіе, относительно котораго проявля-
лось менѣе умѣренности. Духовенство, которому въ теченіе столь долгаго времени
позволялось порабощать себѣ совѣсть людей, не было защищено тѣми народными
понятіями, которыя ограждали личность государя; къ тому же и никто изъ среды
его, исключая только Боссюэта, не сдѣлалъ ничего особеннаго для возвеличенія
Франціи. Дѣйствительно, французская церковь хотя и обладала во время царство-
ванія Людовика XIV огромною властью, но въ отправленіи ея всегда подчинялась
коронѣ, по повелѣніямъ которой она не страшилась противиться даже самому папѣ х).
Поэтому естественно, что во Франціи власть духовенства подвергалась нападеніямъ
ранѣе власти свѣтской; отличаясь одинаковымъ съ нею деспотизмомъ, она имѣла
менѣе силы и не была защищена тѣми народными преданіями, которыя составляютъ
главную опору каждаго древняго учрежденія.
Соображеній этихъ достаточно для объясненія, почему въ этомъ отношеніи
умственныя силы Франціи и Англіи пошли совершенно различными путями. Въ Англіи
умы людей, будучи менѣе стѣснены предразсудками безграничной преданности ко-
ролю, имѣли возможность Діри каждомъ послѣдовательномъ шагѣ въ великомъ про-
грессѣ направлять свои сомнѣнія и изслѣдованія какъ на политику, такъ и на религію;
упрочивая такимъ образомъ свою свободу по мѣрѣ уменьшенія своихъ предразсуд-
ковъ, онп поддерживали равновѣсіе умственныхъ силъ націи, не допуская ни одну
изъ нихъ до чрезмѣрнаго перевѣса. ІІо во Франціи благоговѣніе предъ королевской
властью до того увеличилось, что равновѣсіе это было нарушено; изслѣдованія лю-
дей, не смѣя останавливаться на политикѣ, были направлены противъ религіи и дали
начало страшному явленію—богатой и могучей литературѣ, въ которой единодушная
вражда къ церкви не сопровождалась ни однимъ голосомъ противъ громадныхъ
злоупотребленій государства.
Было еще одно обстоятельство, подкрѣпившее это своеобразное стремленіе.
Въ теченіе царствованія Людовика XIV' личный характеръ іерархіи весьма много
сдѣлалъ для упроченія ея владычества. Всѣ вожди церкви были люди добродѣтель-
ные, а многіе изъ нихъ были люди съ дарованіями. Дѣйствія ихъ, при всей своей
жестокости, были повидимому добросовѣстны, и производимое ими зло можетъ быть
только приписано грубой несообразности ввѣрять власть духовнымъ. Но послѣ смерти
Людовика XIV* произошла большая перемѣна. Духовенство, по причинамъ, которыя
слишкомъ долго было бы изслѣдовать, сдѣлалось чрезвычайно развратнымъ, а часто
оказывалось и весьма невѣжественнымъ. Это дѣлало тираппію его еще болѣе тя-
гостною, потому что подчиняться ей было еще унизительнѣе. Великіе таланты и люди
безупречной нравственности, какъ Боссюэтъ, Фенелонъ, Бурдалу, Флешьё и Маска-
ронъ, до извѣстной степени смягчали позоръ, который всегда связанъ съ слѣпымъ
послушаніемъ. Но когда онп были замѣнены такими епископами и кардиналами,
какъ Дюбуа, Лафито, Тансэнъ и другіе, процвѣтавшіе во время регентства, - то
стало дѣломъ труднымъ оказывать уваженіе главамъ церкви, такъ какъ они были
запятнаны открытою, всѣмъ извѣстною безнравственностью 2). Въ то же самое время,
Ранке приписываетъ это обстоятельствамъ, со-
провождавшимъ отстуішичество Генриха IV; во настоя-
щая причина находится гораздо глубже--она связана
съ тѣмъ торжествомъ свѣтскихъ интересовъ надъ духов-
ными, котораго сама политика Генриха IV была по-
слѣдствіемъ.
2) По. если можно, еще большимъ скандаломъ
было то, чн» і.ъ 1723 году собранъ духовенства избрало
единогласно въ свои предсѣдатели презрѣннаго
Дюбуа, который всѣмъ былъ извѣстенъ, какъ .самый
безнравственный человѣкъ своего времени.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ.
309
какъ произошла эта невыгодная перемѣна между правителями церкви, началась и
та громадная реакція, первыя вліянія которой я уже пытался прослѣдить И такъ,
въ тотъ самый моментъ, какъ духъ изслѣдованія усилился, личности духовныхъ сдѣ-
лались болѣе достойны презрѣнія х). Великіе писатели, теперь появившіеся во Франціи,
закипѣли негодованіемъ, когда они увидѣли, что тѣ, которые захватили безграничную
власть надъ совѣстью людей, сами вовсе не имѣли совѣсти. Очевидно, что каждый
аргументъ противъ духовной власти, заимствованный изъ Англіи, долженъ былъ прі-
обрѣсти двойную силу, будучи въ то же время направленъ и противъ людей, кото-
рыхъ личная неспособность была всѣмъ извѣстна 2 3).
Таково было положеніе враждебныхъ партій, когда почти непосредственно послѣ
смерти Людовика XIV началась та великая борьба между авторитетомъ и разумомъ,
которая еще не окончена, хотя при настоящемъ состояніи науки результаты ея уже
не подлежатъ болѣе сомнѣнію; съ одной стороны было замкнутое, многочисленное ду-
ховное сословіе, поддерживаемое вѣковою давностью и вліяніемъ короны; съ другой
стороны было небольшое общество людей, не имѣющихъ ни чиновъ, ни богатства и
еще не пользующихся извѣствостью, но одушевленныхъ любовью къ свободѣ и спра-
ведливымъ довѣріемъ къ своимъ собственнымъ способностямъ. Къ несчастію, въ са-
момъ началѣ они сдѣлали важную ошибку. Нападая на духовенство, они потеряли
уваженіе къ религіи. Рѣшившись ослабить власть духовенства, они пытались под-
рыть основанія христіанства. Объ этомъ глубоко слѣдуетъ сожалѣть, какъ въ отно-
шеніи ихъ самихъ, такъ и въ отношеніи конечныхъ результатовъ такого образа дѣй-
ствій для Франціи; но не должно вмѣнять имъ это въ преступленіе, потому что они
были вынуждены къ этому самымъ ихъ положеніемъ. Ощі видѣли, какое ужасное зло
причиняло ихъ родинѣ учрежденіе духовенства въ томѴ видѣ, въ какомъ оно тогда
существовало; а между тѣмъ имъ говорили, что сохраненіе этого учрежденія, въ его
настоящей формѣ, необходимо для самой сущности христіанства. Ихъ всегда учили,
что интересы духовенства тождественны съ интересами религіи,—какъ же имъ было
избѣжать смѣшенія и духовенства, и религіи въ одномъ общемъ враждебномъ чувствѣ?
Выборъ былъ ужасно труденъ, но честнымъ путемъ его нельзя было избѣгнуть. Мы,
обсуждающіе эти вещи по другому масштабу, имѣемъ мѣру, которой они имѣть не
могли. Мы не сдѣлали бы теперь такой ошибки, ибо знаемъ, что между духовен-
ствомъ, какой бы то ни было формы, и интересами христіанства нѣтъ никакой связи.
Мы знаемъ, что духовенство существуетъ для народа, а не народъ—для духовенства.
Мы знаемъ, что всѣ вопросы церковнаго управленія суть предметы не религіи, а
политики, и должны быть разрѣшаемы не на основаніи преемственныхъ догматовъ,
а согласно съ видами общей пользы. Вслѣдствіе того, что всѣ эти положенія те-
перь приняты каждымъ просвѣщеннымъ человѣкомъ въ нашей странѣ, истины религіи
у насъ рѣдко подвергаются нападкамъ, и то со стороны поверхностныхъ мыслителей.
Если, напримѣръ, мы нашли бы, что существованіе нашихъ епископовъ, съ ихъ
привилегіями и богатствомъ, не благопріятствуетъ прогрессу общества, то мы не стали
бы изъ-за того враждебно смотрѣть на христіанство, потому что мы помнили бы,
что учрежденіе епископовъ есть его случайная сторона, а не его сущность, и что
мы можемъ уничтожить это учрежденіе и все-таки сохранить религію. Точно также,
еслибы мы когда-либо нашли, какъ было прежде найдено во Франціи, что духовен-
ство тиранствуетъ, то это возбудило бы съ нашей стороны оппозицію, но не противъ
2) Токвилль говоритъ: «духовные проповѣдывали слышать, что во Франціи молодые люди, извѣстные
нравственность, которую сами оскорбляли своимъ по- своимъ развратомъ и возведенные въ достоинство про-
веденіемъ»,—знаменательное замѣчаніе со стороны та- лаговъ съ помощью женскихъ интригъ, открыто ире-
кого противника скептической философіи, какъ старикъ даются любви., забавляются сочиненіемъ нѣжныхъ пѣ-
Токвилль. Оть этой развращенной толпы отдѣлялся сенокъ, каждый день даютъ тонкіе ужины, довольно
одинъ Масяльопъ; это былъ послѣдній французскій епп- продолжительные, п прямо съ этихъ ужиновъ отправ-
скопъ, одинаково отличавшійся какъ умомь, такъ и ! ляются молиться о ниспослати благодати Святого Духа
добродѣтелями. и дерзко называютъ себя преемниками апостоловъ,—
3) Вольтеръ говоритъ объ англичанахъ: «когда они то они благодарятъ Бога за то, что они протестанты».
310 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
христіанства, а только противъ внѣшней формы, которую оно приняло. Покуда наше
духовенство ограничивается исполненіемъ благихъ обязанностей своего призванія—
облегченіемъ скорбей и бѣдъ, какъ физическихъ, такъ и нравственныхъ, до тѣхъ
поръ мы будемъ уважать въ немъ служителей мира и любви къ ближнему. Но если
они опять когда-либо посягнутъ на права мірянъ, если они опять когда-либо станутъ
вмѣшиваться съ голосомъ авторитета въ управленіе государствомъ,—тогда дѣло на-
рода изслѣдовать, не пришло ли время пересмотрѣть церковное устройство страны.
Вотъ, слѣдовательно, тотъ взглядъ, какимъ мы смотримъ въ настоящее время на эти
вещи. Наше мнѣніе о духовенствѣ будетъ зависѣть только отъ него самого, но
не будетъ имѣть отношенія къ нашему взгляду на христіанство. Мы смотримъ
на духовенство, какъ на общество людей, которые, несмотря на ихъ склонность
къ нетерпимости и несмотря на нѣкоторую узкость понятій, свойственную ихъ про-
фессіи,—составляютъ безъ сомнѣнія часть обширнаго и благороднаго учрежденія,
смягчившаго нравы людей, облегчившаго ихъ страданія и уменьшившаго ихъ бѣд-
ствія. Покуда это учрежденіе исполняетъ свои обязанности, мы охотно соглашаемся
на сохраненіе его. Если же оно устарѣетъ или будетъ найдено несоотвѣтствующимъ
измѣнившимся условіямъ общества, идущаго впередъ, то мы имѣемъ и власть, и
право исправить его недостатки; мы можемъ^ если будетъ нужно, отбросить нѣко-
торыя части его; но мы не захотимъ, мы не посмѣемъ коснуться тѣхъ великихъ
истинъ религіи, которыя отъ него совершенно независимы,-—истинъ, успокаивающихъ
умъ человѣка, ставящихъ его выше минутныхъ увлеченій и внушающихъ ему тѣ
возвышенныя стремленія, которыя, открывая ему его собственное безсмертіе, служатъ
мѣрою и признакомъ будущей жизни.
Къ несчастью, не съ этой точки зрѣнія разсматривались вопросы эти во Франціи.
Правительство ея, даровавъ духовенству большія льготы, обращаясь съ личностями,
составляющими его, какъ съ чѣмъ-то священнымъ, и наказывая, какъ за ересь, за
всѣ нападенія на нихъ, установило въ народномъ понятіи неразрывную связь между
интересами духовенства и интересами христіанства. Послѣдствіемъ этого было, что
когда началась борьба, то и на служителей религіи, и на самую религію нападали
съ равнымъ рвеніемъ. Насмѣшки и даже брань, сыпавшіяся на духовенство, не
удивятъ того, кто знакомъ съ поводомъ, поданнымъ самимъ духовенствомъ. И хотя
при послѣдовавшемъ вскорѣ неразборчивомъ нападеніи христіанство подверглось
на нѣкоторое время судьбѣ, которой слѣдовало подвергнуть только людей, называв-
шихъ себя его служителями,-—это однако можетъ только возбуждать въ насъ сожалѣ-
ніе, но никакъ не должно удивлять насъ. Упадокъ христіанства во Франціи былъ
необходимымъ послѣдствіемъ тѣхъ понятій, которыя связали судьбу національнаго
духовенства съ судьбою національной религіи. Связанныя общимъ происхожденіемъ,
они должны были и пасть въ общемъ паденіи. Еслибы то, что составляетъ древо
жизни, было въ самомъ дѣлѣ такъ испорчено, что могло бы приносить только ядо-
витые плоды, то мало доставило бы пользы срубить сучья и срѣзать вѣтви, а гораздо
лучше было бы однимъ мощнымъ усиліемъ вырвать его съ корнемъ изъ земли и
спасти здоровье общества, уничтоживъ самый источникъ заразы.
Таковы размышленія, на которыхъ мы должны остановиться, прежде чѣмъ
осуждать деистическихъ писателей XVIII столѣтія. Такъ, однако, превратны сужде-
нія, къ которымъ привыкли нѣкоторые умы, что люди, судящіе самымъ безпощаднымъ
образомъ объ этихъ писателяхъ, суть именно тѣ, чье поведеніе составляетъ пхъ
лучшее оправданіе. Это люди, которые, предъявляя самыя странныя требованія въ
пользу духовенства, стараются установить принципъ, дѣйствіе котораго именно и
погубило духовныхъ. Ихъ планъ возстановленія древней системы церковной власти
находится въ зависимости отъ предположенія о божественномъ происхожденіи ея,—
предположенія, которое, если оно неотдѣлимо отъ христіанства, совершенно оправ-
дываетъ то невѣріе, на которое они такъ горячо нападаютъ. Расширеніе власти
духовенства несовмѣстимо съ интересами цивилизаціи. Если, слѣдовательно, какая-
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 311
нибудь религія вводитъ необходимость такого расширенія въ число своихъ вѣрова-
ній, то на обязанности каждаго друга человѣчества лежитъ дѣлать все возможное,
чтобы или уничтожить такое вѣрованіе, или въ случаѣ неуспѣха ниспровергнуть
такую религію. Къ счастью, мы еще не поставлены въ такое страшное затрудненіе;
мы знаемъ, что эти требованія столько же ложны въ теоріи, сколько были бы ги-
бельны на практикѣ. Дѣйствительно, не подлежитъ сомнѣнію, что еслибы они были
приведены въ исполненіе, то духовенство хотя бы и насладилось минутнымъ тріум-
фомъ. но само приготовило бы себѣ гибель, проложивъ у насъ путь къ такимъ же
бѣдственнымъ событіямъ, какія произошли во Франціи.
То. что порицали въ великихъ французскихъ писателяхъ, было естественнымъ
послѣдствіемъ развитія ихъ вѣка. Еще не было болѣе поразительнаго подтвержденія
того соціальнаго закона, о которомъ мы уже говорили,—что если предоставить ре-
лигіозному скептицизму идти его путемъ, то онъ родитъ много великаго и ускоритъ
ходъ цивилизаціи; если же будетъ сдѣлана попытка подавить его строгостью, то
онъ безъ сомнѣнія затихнетъ на нѣкоторое время, но зато потомъ возстанетъ съ
такою силою, что будетъ угрожать самымъ основамъ общества. Въ Англіи мы из-
брали первый путь, во Франціи избранъ былъ второй. Въ Англіи людямъ дозво-
лялось высказывать ихъ мнѣнія о самыхъ священныхъ предметахъ; и какъ только
съ уменьшеніемъ ихъ легковѣрія положены были предѣлы власти духовенства, тот-
часъ же явилась терпимость, и народное благоденствіе никогда не было нарушено.
Во Франціи власть духовенства была расширена суевѣрнымъ королемъ; вѣра завла-
дѣла мѣстомъ разума; даже шопотомъ не смѣли выражать сомнѣнія, и духъ изслѣ-
дованія былъ подавленъ до тѣхъ поръ, пока страна не была приведена на край
погибели. Еслибы Людовикъ XIV" не помѣшалъ естественному прогрессу, то Фран-
ція, подобно Англіи, про должала бы идти впередъ. Подлѣ его смерти было дѣйстви-
тельно уже поздно спасать духовенство, противъ котораго вскорѣ возстало все раз-
умное въ странѣ. Но сила урагана могла бы все-таки быть сломлена, еслибы пра-
вительство Людовика XV примирилось съ тѣмъ, чему невозможно было противиться,
и вмѣсто неразумныхъ попытокъ обуздать мнѣнія законами измѣнило бы законы
согласно мнѣніямъ. Еслибы правители Франціи, вмѣсто того, чтобы принуждать на-
ціональную литературу къ молчанію, прониклись ея внушеніями и уступили требо-
ваніямъ развивавшагося знанія, то роковое столкновеніе было бы избѣгнуто, потому
что страсти, породившія это столкновеніе, были бы укрощены. Въ этомъ случаѣ ду-
ховенство пало бы нѣсколько ранѣе, но само государство было бы спасено. Въ этомъ
случаѣ Франція по всей вѣроятности упрочила бы свою свободу, не увеличивая
своихъ преступленій; и великая страна, которой, по ея положенію и но ея сред-
ствамъ, слѣдуетъ быть образцомъ европейской цивилизаціи, но была бы испытана
тѣми ужасными жестокостями, чрезъ которыя ей пришлось пройти и отъ послѣдствіи
которыхъ она еще и теперь не оправилась.
Нельзя, я полагаю, не допустить, что въ теченіе по крайней мѣрѣ первой поло-
вины царствованія Людовика XV было еще возможно заблаговременными уступками
спасти политическія учрежденія Франціи. Слѣдовало произвести реформы, и реформы
непремѣнно обширныя и строгія. Насколько однако я могу понимать истинную
исторію этого періода, я не сомнѣваюсь, что еслибы онѣ были дарованы охотно
и искренно, то можно было бы достигнуть всего, чтб необходимо для двухъ един-
ственныхъ цѣлей, къ которымъ государство должно стремиться, а именно—сохране-
нія порядка и предупрежденія преступленій. Но въ половинѣ царствованія Людо-
вика XV, или во всякомъ случаѣ въ самомъ началѣ второй половины его, положе-
ніе дѣлъ стало измѣняться, и въ теченіе немногихъ лѣтъ духъ Франціи сдѣлался такъ
демократиченъ, что было невозможно даже отсрочить ту революцію, которая пред-
шествовавшимъ поколѣніемъ могла быть совершенно устранена. Эта замѣчательная
перемѣна находится въ связи съ другой перемѣной, о которой уже было говорено
и вслѣдствіе которой умственныя силы Франціи стали почти въ этотъ же періодъ
312 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
относиться къ государству болѣе враждебно, чѣмъ относились до этого къ духовен-
ству. Какъ только эта, если ее можно такъ назвать, вторая эпоха XVIII столѣтія
вполнѣ наступила, движеніе сдѣлалось неудержимымъ. Событія быстро смѣнялись
одно другимъ, каждое было связано съ предшествовавшимъ, и во всей цѣлости ихъ
выражалось стремленіе, которому невозможно было противостоять. Тщетно прави-
тельство, рѣшившись сдѣлать нѣкоторыя уступки дѣйствительной важности, приняло
мѣры, которыя, подчиняя церковь извѣстному контролю, ослабили власть духовенства
и даже смирили орденъ іезуитовъ. Тщетно корона въ первый разъ призвала теперь
въ свои совѣты людей, проникнутыхъ духомъ реформы,—людей, какъ Тюрго и Нек-
керъ, мудрыя и либеральныя предположенія которыхъ могли бы въ болѣе тихое
время успокоить волненіе умовъ народа. Тщетно были даны обѣщанія уравнять по-
дати, облегчить нѣкоторыя изъ самыхъ вопіющихъ тягостей и отмѣнить нѣкоторые
самые вредные законы. Тщетно были даже созваны генеральные штаты и народъ
былъ такимъ образомъ по истеченіи ста семидесяти лѣтъ допущенъ къ участію въ
управленіи своими собственными дѣлами. Всѣ эти попытки были тщетны, потому
что прошло время для переговоровъ и наступило время для борьбы. Самыя либе-
ральныя уступки, какія только можно было изобрѣсти, не въ силахъ были бы отвра-
тить ту кровавую борьбу, которую ходъ предшествовавшихъ событій сдѣлалъ неиз-
бѣжной. Уже исполнилась мѣра тому вѣку. Высшіе классы французскаго общества
вызвали кризисъ, и имъ слѣдовало вынести его исходъ. Тутъ не время было для
пощады, тутъ не было отлагательствъ, не было состраданія, не было сочувствія.
Оставалось только рѣшить, могутъ ли тѣ, которые подняли бурю, совладать съ ура-
ганомъ, или не будутъ ли они скорѣе первыми жертвами того ужаснаго вихря, въ
которомъ погибло на время ^все,—законы, религія, нравственность; малѣйшіе слѣды
гуманности были уничтожены и цивилизація Франціи не только затоплена, но, какъ
въ то время казалось, безвозвратно потеряна.
Опредѣлить послѣдовательныя перемѣны этой второй эпохи XVIII столѣтія
есть задача, преисполненная трудностей не только со стороны быстроты, съ какой
совершались событія, но и со стороны ихъ чрезвычайной сложности и степени влія-
нія ихъ другъ на друга. Однако матеріалы для такого изслѣдованія чрезвычайно
многочисленны, и такъ какъ они состоятъ изъ данныхъ, представляемыхъ всѣми
классами общества и всѣми интересами, то мнѣ показалось возможнымъ воспроиз-
вести исторію этого времени, слѣдуя единственному способу, по которому стоитъ
изучать исторію, т. е. соображаясь съ порядкомъ, въ которомъ совершалось соціаль-
ное и умственное развитіе. Итакъ въ заключительной главѣ настоящаго тома я
постараюсь прослѣдить событія, предшествовавшія французской революціи, за тотъ
замѣчательный періодъ, въ который враждебныя чувства людей, отклонившись отъ
злоупотребленій церкви, обратились въ первый разъ противъ злоупотребленій госу-
дарства. Но до вступленія въ эту эпоху, которая будетъ называться политической
эпохой XVIII столѣтія, необходимо разсмотрѣть, согласно плану, мною начертанному,
перемѣны, происшедшія въ методѣ самаго писанія исторіи, и показать, какое имѣли
вліяніе на эти перемѣны стремленія предшествовавшей, если можно такъ сказать,
церковной эпохи. Такимъ образомъ мы гораздо легче поймемъ дѣятельность того
удивительнаго движенія, которое привело къ французской революціи; мы увидимъ,
что оно не только имѣло вліяніе на мнѣнія людей о томъ, что происходило передъ
ихъ глазами, но измѣнило также и умозрительные взгляды на событія предшество-
вавшихъ вѣковъ и тѣмъ положило начало той новой школѣ исторической литера-
туры, образованіе которой есть далеко не самое меньшее изъ благодѣяній, оказан-
ныхъ намъ великими мыслителями XVIII столѣтія.
ГЛАВА XIII.
Состояніе исторической литературы во Франціи ст. конца XVI до конца XVIII столѣтія.
Легко можно представить себѣ, что тѣ сильныя движенія французскаго ума,
которыя я только-что изобразилъ, необходимо должны были произвести большой пе-
реворотъ въ методѣ писанія исторіи. Смѣлый духъ, съ которымъ люди стали теперь
оцѣнивать событія своего времени, не могъ не оказать вліянія и на мнѣнія ихъ о
событіяхъ прежнихъ вѣковъ. Въ этой, какъ и во всякой другой, отрасли знанія пер-
вымъ нововведеніемъ было признаніе необходимости подвергнуть сомнѣнію то, чему
до тѣхъ поръ безусловно вѣрили; а эта потребность, какъ только она пустила корни,—
стала рости, разрушая на каждомъ шагу ту или другую изъ тѣхъ чудовищныхъ не-
лѣпостей, которыми, какъ мы уже видѣли, были обезображены и самыя лучшія исто-
рическія сочиненія. Зародыши реформы замѣчаются уже въ XIV столѣтіи, хотя са-
мая реформа началась не ранѣе конца XVI вѣка. Въ теченіе XVII она подвигалась
нѣсколько медленно, въ XVIII же пріобрѣла внезапно большую силу и была уско-
рена, преимущественно во Франціи, тѣмъ смѣлымъ духомъ изслѣдованія, который со-
ставлялъ отличительную черту того вѣка,—тѣмъ духомъ, который, очистивъ исторію
отъ безчисленныхъ несообразностей, поднялъ ея уровень и придалъ ей неслыхан-
ное до тѣхъ поръ значеніе. Зарожденіе историческаго скептицизма и тѣ размѣры,
до которыхъ онъ доходилъ, составляютъ дѣйствительно такую любопытную черту въ
лѣтописяхъ европейскаго ума, что нельзя не удивляться, почему никто еще не пы-
тался прослѣдить то движеніе, которому одна изъ обширныхъ отраслей новѣйшей
литературы обязана своими драгоцѣннѣйшими свойствами.
Въ настоящей главѣ я надѣюсь пополнить этотъ пробѣлъ относительно Фран-
ціи; я постараюсь указать различные переходы на пути къ такому развитію; и
когда мы узнаемъ такпмъ образомъ условія, наиболѣе благопріятствующія изученію,
исторіи, то намъ легче будетъ изслѣдовать вѣроятность ея будущаго усовершен-
ствованія.
Въ отношеніи къ этому предмету есть одно предварительное соображеніе,
вполнѣ достойное вниманія, а именно, что люди всегда начинали съ сомнѣнія въ
предметахъ религіи, а потомъ уже осмѣливались сомнѣваться въ исторіи. Можно
было бы ожидать, что укоры, а въ вѣка суевѣрія—и опасности, которымъ подвергалась
ересь, устрашатъ изслѣдователей и заставятъ ихъ, предпочитая менѣе опасный путь,
направить свой скептицизмъ на вопросы литературнаго умозрѣнія. Но вовсе не
этого пути придерживался умъ человѣческій. На первыхъ ступеняхъ развитія обще-
ства, когда духовенство имѣетъ на все вліяніе, вѣра въ непростительную преступность
всякаго религіознаго заблужденія бываетъ такъ глубоко укоренена, что поглощаетъ
собой всеобщее вниманіе; она заставляетъ каждаго мыслителя сосредоточивать всѣ
свои мысли и сомнѣнія на теологіи и не оставляетъ ему свободнаго времени для
вопросовъ, которымъ придается меньшая важность 9-
Никто но разработалъ вопроса о первоначаль-
номъ подчиненіи философіи богословію съ такимъ умѣ-
ніемъ, какъ Огюстъ Контъ, въ превосходномъ своемь
сочиненіи «Позитивная Философія». Услуга, которую
! метафизики оказали церкви развитіемъ ученія о првсу-
। ществденіи (Віапсо ЛѴЬііе’8 «Еѵійепсе а^аіпзі СаіЬо
1ісізт:>, рр. 256—58), представляетъ разительное до-
1 казательство подчиненія ума догматамъ церкви.
314 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Вслѣдствіе этого въ теченіе многихъ столѣтій самые остроумные мыслители въ
Европѣ истощали свои силы въ размышленіи надъ обрядами и догматами христіан-
ства; и между тѣмъ какъ въ этихъ предметахъ они часто проявляли величайшую
способность, въ другихъ—и особенно въ исторіи, они обнаруживали то ребяческое
легковѣріе, котораго я уже привелъ нѣсколько примѣровъ. Но когда съ развитіемъ
общества теологическій элементъ начинаетъ приходить въ упадокъ, то рвеніе, съ
какимъ нѣкогда велись религіозные споры, замѣтно ослабѣваетъ. Самые передовые
умы первые проникаются все большимъ и большимъ равнодушіемъ къ этого рода
вещамъ, и потому изъ первыхъ также начинаютъ вникать въ дѣйствительность
тѣмъ самымъ пытливымъ взглядомъ, который предшественники ихъ приберегали для
религіозныхъ умозрѣній. Это составляетъ важный поворотъ въ исторіи каждой ци-
вилизованной націи. Съ этого момента религіозныя ереси становятся рѣже, а ли-
тературныя—дѣлаются болѣе обыкновеннымъ явленіемъ *)• Съ этого же момента духъ
изслѣдованія и сомнѣнія проникаетъ во всѣ отрасли знанія, и открывается длинный
путь побѣдъ, на которомъ съ каждымъ новымъ открытіемъ возрастаетъ могущество
и достоинство человѣка, и въ то же время большая часть его убѣжденій потря-
саются, а многія изъ нихъ и вовсе искореняются, до тѣхъ поръ, пока теченіемъ этой
порывистой, хотя и нешумной революціи не былъ, такъ сказать, прерванъ потокъ
преданія, пока не было ниспровергнуто вліяніе старыхъ авторитетовъ и пока умъ
человѣческій, по мѣрѣ возрастанія его силъ, не научился полагаться на свои соб-
ственныя средства и устранять препятствія, такъ долго стѣснявшія свободу его
движеній.
Примѣненіе этихъ замѣчаній къ исторіи Франціи дастъ намъ возможность объ-
яснить нѣкоторыя любопытныя явленія въ литературѣ этой страны. Во весь средне-
вѣковой періодъ, и даже можно сказать до конца XVI столѣтія, Франція, столь бо-
гатая лѣтописцами, не произвела ни одного историка, потому что не явилось ни
одного человѣка, который рѣшился бы усомниться въ томъ, чему всѣ вѣрили. Дѣй-
ствительно, до выхода «Исторіи королей Франціи», Дю-Гальяна, никто никогда не
пробовалъ критически разработать матеріалы, существованіе которыхъ было извѣстно.
Сочиненіе это появилось въ 1576 году, и авторъ въ . заключеніи своего труда не
могъ скрыть гордости, испытанной имъ по случаю совершенія такого важнаго пред-
пріятія. Въ своемъ посвященіи королю онъ говоритъ: «Государь, я первый изъ
французовъ написалъ исторію Франціи и изобразилъ въ почтительныхъ выраженіяхъ
величіе и достоинство нашихъ королей, ибо до сихъ поръ о нихъ говорилось только
въ старомъ хламѣ лѣтописей». Къ этому онъ прибавляетъ въ предисловіи: «я хочу
только сказать безъ всякаго преувеличенія и хвастовства, что я сдѣлалъ нѣчто, чего
до сихъ поръ еще никто не сдѣлалъ и чего еще никто не видывалъ въ нашемъ
народѣ: я изобразилъ исторію Франціи въ такомъ одѣяніи, въ которомъ она еще
никогда не являлась». И это не было пустымъ хвастовствомъ темнаго человѣка. Со-
чиненіе Дю-Гальяна выдержало нѣсколько изданій, было переведено на латинскій
языкъ и перепечатано въ чужихъ краяхъ. На самого автора смотрѣли какъ на славу
французской націи, и онъ былъ награжденъ благосклонностью короля, который сдѣ-
лалъ его секретаремъ финансовъ. Итакъ, по его сочиненію мы можемъ составить
себѣ нѣкоторое понятіе о томъ, чтб признавалось [въ то время за ^идеалъ истори-
ческой литературы, и съ этой точки зрѣнія мы обязаны конечно узнать, какими ма-
теріалами пользовался главнѣйшимъ образомъ этотъ писатель. За шестьдесятъ лѣтъ
*) Токвилль говорить,— п я готовъ согласиться
съ нимъ,—что возрастающій духъ равенства ослабляетъ
расположеніе къ основанію новыхъ религіозныхъ сектъ.
Во всякомъ случаѣ положительно извѣстно, что таково
бываетъ послѣдствіе развитія знаній; ибо тѣ великіе
люди, которые но своему складу ума въ прежнія вре-
мена сдѣлались бы еретиками, теперь довольствуются
примѣненіемъ своихъ новыхъ воззрѣній къ инымъ об-
ластямъ мышленія. Еслибы Св. Августинъ жилъ къ
XVII вѣкѣ, то онъ навѣрное преобразовалъ бы плп
пересоздалъ естественныя науки. Еслибы сэръ Исаакъ
Ньютонъ жилъ въ IV столѣтіи, то онъ организовалъ бы
новую секту п смутилъ бы спокойствіе церкви новостью
своихъ воззрѣній.
ИСТОРИЧ. ЛИТЕРАТУРА ВО ФРАНЦІИ СЪ ХѴГ ПО ХѴШ СТ.
315
до него итальянецъ, по имени Павелъ Эмилій, напечаталъ компиляцію изъ разныхъ
сплетенъ о дѣяніяхъ французовъ. Эта книга, наполненная странными вымыслами,
была принята Дю-Гальяномъ за основаніе его знаменитой исторіи королей Франціи,
и онъ, не задумываясь, выписываетъ изъ нея тѣ пустыя басни, которыя вздумалось
разсказать Эмилію, Это даетъ намъ нѣкоторое понятіе о легковѣріи писателя, кото-
раго современники признали, безъ малѣйшаго сравненія, за величайшаго изъ исто-
риковъ, когда-либо появлявшихся во Франціи. Но это еще не все. Дю-Гальянъ, не
довольствуясь заимствованіемъ у своего предшественника самыхъ невѣроятныхъ
фактовъ, удовлетворяетъ еще своей страсти къ чудесному собственными выдумками.
Онъ начинаетъ свою исторію длиннымъ разсказомъ о совѣтѣ, который, говоритъ онъ,
былъ собранъ славнымъ Фарамондомъ для разрѣшенія вопроса—будетъ ли Франція
управляема монархомъ или аристократіей. Очень еіце сомнительно, существовало ли
когда-либо такое лицо, какъ Фарамондъ; извѣстно только то, что если оно и суще-
ствовало, то всѣ матеріалы, по которымъ можно было бы составить себѣ понятіе о
немъ, давно утрачены. Но Дю-Гальянъ, не обращая вниманія на эти мелочи, даетъ
намъ полнѣйшія свѣдѣнія объ этомъ военачальникѣ и, какъ будто рѣшившись испро-
бовать до конца легковѣріе читателей, упоминаетъ еще о двухъ лицахъ, Шарамондѣ
и Квадрекѣ, какъ о членахъ совѣта Фарамондова, ~ самыя имена которыхъ выду-
маны имъ самимъ.
Таково было состояніе исторической литературы во Франціи въ началѣ цар-
ствованія Генриха III. Но вскорѣ предстояла большая перемѣна. Замѣчательнымъ
успѣхамъ въ умственномъ отношеніи, сдѣланнымъ французами въ концѣ XVI сто-
лѣтія, предшествовалъ, какъ я уже сказалъ, скептицизмъ, являющійся какъ бы не-
обходимымъ предвѣстникомъ всякаго прогресса. Духъ сомнѣнія, проникшій сперва
въ религію, сообщился и литературѣ. Движеніе это тотчасъ же отозвалось во всѣхъ
отрасляхъ знанія, и тогда исторія впервые вышла изъ униженнаго состоянія, въ
которое она была погружена въ теченіе цѣлыхъ столѣтій. Въ отношеніи къ этому пред-
мету простой перечень годовъ можетъ уже быть полезенъ для тѣхъ людей, которые
изъ одного отвращенія къ мышленію пожалуй отвергли бы ту связь, существованіе
которой я желаю доказать. Въ 1588 году издано было первое скептическое сочи-
неніе на французскомъ языкѣ («Опыты» Монтеия). Въ 1598 году французское пра-
вительство въ первый разъ рѣшилось па публичный актъ вѣротерпимости. Въ 1610 году
Де-Ту издалъ извѣстное сочиненіе свое, которое всѣ критики признаютъ за первое
замѣчательное историческое сочиненіе, написанное французомъ. И въ то самое время,
какъ происходило все это, другой знаменитый французъ,- великій Сюлли, собиралъ
матеріалы для своего историческаго сочиненія, уступающаго конечно сочиненію
Де-Ту, по все-таки слѣдующаго непосредственно за нимъ, по таланту автора, но
тому значенію, которое оно имѣло, и по обрѣтенной имъ извѣстности. Мы не мо-
жемъ также умолчать о томъ обстоятельствѣ, что оба эти великіе историка, оста-
вившіе далеко позади себя всѣхъ своихъ предшественниковъ, были довѣренными
министрами и близкими друзьями Генриха IV, перваго изъ королей Франціи, память
котораго запятнана обвиненіемъ въ ереси, и который первый осмѣлился перемѣнить
религію не по какимъ-либо теологическимъ побужденіямъ, а явно въ силу полити-
ческой необходимости х).
Но дѣйствіе духа скептицизма не ограничивалось одними только первостепен-
ными историками. Движеніе было уже достаточно сильно, чтобы отразиться и на
произведеніяхъ второстепенныхъ писателей. Легковѣріе прежнихъ историковъ лро-
х) По свидѣтельству Д’Обнньё, король ври своемъ
обращеній сказалъ: «я всѣмъ докажу, что я не послу-
шался никакой иной теологіи, кромѣ государственной
необходимости». Что такъ думалъ Генрихъ, это досто-
вѣрно; что опъ такъ говорилъ своимъ друзьямъ—очень
вѣроятно; но трудна была его роль относительно ка-
толической церкви, и въ одномъ изъ эдиктовъ его мы
находимъ «великую радость по случаю возвращенія его
на лоно церкви,—возвращенія, которое оаъ приписы-
ваетъ благости Всемогущаго и молитвамъ своихъ вѣр-
ноподданныхъ».
316
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
являлось самымъ разительнымъ образомъ въ двухъ особенностяхъ: въ безразборчи-
вомъ списываніи годовъ и въ готовности вѣрить самымъ неправдоподобнымъ ве-
щамъ, часто на основаніи неполныхъ доказательствъ, а иногда и безъ всякаго осно-
ванія. Сильнымъ доказательствомъ того умственнаго прогресса, который я стараюсь
изобразить, можетъ конечно послужить то обстоятельство, что въ теченіе нѣсколькихъ
лѣтъ оба эти источника заблужденій были устранены. Въ 1597 году Сэрръ былъ
назначенъ исторіографомъ Франціи и въ томъ же году издалъ свою исторію этой
страны. Въ сочиненіи этомъ онъ настаиваетъ на необходимости тщательнаго обо-
значенія года каждаго событія, и съ того времени поданный имъ примѣръ не остался
безъ подражанія. Важность этой перемѣны охотно признаетъ всякій, кому извѣстно,
въ какомъ хаосѣ находилась исторія вслѣдствіе пренебреженія первыхъ историковъ
къ тому, что теперь оказывается столь естественной мѣрой предосторожности. Не-
посредственно за этимъ нововведеніемъ во Франціи слѣдовало другое, еще болѣе
важное, а именно: въ 1621 году вышла исторія Франціи, Сципіона Дюпле, въ
которой въ первый разъ напечатаны, рядомъ съ изложеніемъ историческихъ со-
бытій, ссылки на свидѣтельства о нихъ. Излишне было бы говорить о пользѣ этого
нововведенія, которое лучше всего научило историковъ тщательно собирать источ-
ники и дѣлать строгій между ними выборъ. Къ этому слѣдуетъ прибавить, что Дюпле
тоже первый изъ французовъ рѣшился издать систему философіи на своемъ родномъ
языкѣ. Правда, что система эта, сама по себѣ, имѣетъ мало достоинствъ, но въ то
время, когда она вышла, она представляла собою н’йчто безпримѣрное, и потому ка-
залось недостойной попыткой раскрыть тайны философіи/изложивъ ее на общепо-
нятномъ языкѣ; въ этомъ Отношеніи она представляетъ намъ новое доказательство
все большаго и большаго распространенія такого смѣлаго духа изслѣдованія, какого
не знали въ прежнее время. Не удивительно поэтому, что почти въ тотъ же самый
моментъ явился во Франціи и первый систематическій опытъ историческаго скеп-
тицизма.
Система философіи Дюпле вышла въ 1602 г., а въ 1599 г. Ла-Поплиньеръ
издалъ въ Парижѣ сочиненіе, названное имъ «Исторія Исторій»,—въ которомъ онъ
критикуетъ самихъ историковъ и обозрѣваетъ произведенія ихъ съ тѣмъ скептиче-
скимъ взглядомъ, которому его вѣкъ былъ столь многимъ обязалъ. Этотъ даровитый
человѣкъ былъ также авторомъ сочиненія «Очеркъ новой исторіи Французовъ»,
заключавшаго въ себѣ между прочимъ формальное опроверженіе сказки, которою
такъ дорожили прежніе историки, о томъ, будто бы французская монархія была
основана Франкомъ, прибывшимъ въ Галлію послѣ взятія Трои.
Безполезно было бы перечислять всѣ случаи, въ которыхъ этотъ развивающійся
духъ скептицизма теперь сталъ проявляться, очищая исторію отъ всякой лжи. Я при-
веду еще только два или три примѣра изъ числа тѣхъ, о которыхъ мнѣ случилось
читать. Въ 1611 году де-Рюби издалъ въ Ліонѣ сочиненіе о европейскихъ монар-
хіяхъ, въ которомъ онъ пе только опровергаетъ давно установившееся мнѣніе о
происхожденіи французовъ отъ Франка, по даже смѣло утверждаетъ, что имя Фран-
ковъ происходитъ отъ свободы, которой они издревле пользовались. Въ 1620 году
Гомбервиль въ исторической диссертаціи опровергаетъ многія изъ пустыхъ сказокъ
о древности происхожденія французовъ,—сказокъ, бывшихъ до того времени въ боль-
шомъ ходу. Въ 1630 г. Берто издалъ въ Парижѣ свое сочиненіе «Франіщзскій
(Флоръ», въ которомъ онъ окончательно уничтожаетъ прежній вглядъ, принявъ за
основное начало, что происхожденіе французовъ слѣдуетъ искать только въ тѣхъ
странахъ, гдѣ застали ихъ римляне.
Впрочемъ, какъ эти произведенія, такъ и всѣ другія, подобныя имъ, совер-
шенно затмила «Исторія Франціи» Мэзерэ, первая часть которой была издана въ
1643 г., а послѣдняя—въ 1651 году. Можетъ быть не совсѣмъ будетъ справедливо
относительно предшественниковъ Мэзерэ, если мы назовемъ его первымъ истиннымъ
историкомъ Франціи, но нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что его сочиненіе несравненно
ИСТОРИЧ. ЛИТЕРАТУРА ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI НО XVIII СТ.
317
выше всѣхъ, какія только были до тѣхъ поръ извѣстны. Языкъ Мэзерэ удивительно
чисть и энергиченъ, а по временамъ достигаетъ даже значительной степени крас-
норѣчія. Кромѣ того онъ имѣетъ два другихъ, еще болѣе важныхъ, достоинства.
Первое изъ нихъ есть нежеланіе вѣрить страннымъ вещамъ потому только, что имъ
до тѣхъ поръ вѣрили, а второе — расположеніе принимать скорѣе сторону народа,
чѣмъ сторону его повелителей. Изъ этихъ двухъ принциповъ первый былъ слишкомъ
обыкновененъ между наиболѣе даровитыми французами того времени, чтобы привлечь
большое вниманіе х); но второй далъ Мэзерэ возможность сдѣлать важный шагъ пе-
редъ всѣми своими современниками. Онъ первый изъ французовъ отвергъ въ об-
ширномъ историческомъ сочиненіи то суевѣрное благоговѣніе передъ королевской
властью, которое такъ долго до него смущало умы его соотечественниковъ и даже
сохранялось въ нихъ еще цѣлое столѣтіе. Естественнымъ послѣдствіемъ этого явля-
лось то, что онъ также первый понялъ, что исторія, чтобы имѣть истинную цѣну,
должна быть исторіей не однихъ королей, но и народовъ. Ясное сознаніе этого прин-
ципа привело къ тому, что онъ включилъ въ свою книгу свѣдѣнія о нѣкоторыхъ
такихъ предметахъ, которыхъ до того времени никто и не думалъ изучать. Онъ
сообщаетъ намъ все, что только могъ узнать о податяхъ, взимавшихся съ народа,
о страданіяхъ, причиненныхъ ему грабительствомъ его правителей, о его нравахъ,
удобствахъ жизни и даже о состояніи городовъ, въ которыхъ онъ обиталъ,—словомъ
сказать, онъ говоритъ обо всемъ, чтб касалось интересовъ французской націи, такъ
же, какъ и о вещахъ, относившихся къ интересамъ французской монархіи 2). Эти-то
предметы хМэзерэ предпочиталъ всѣмъ ничтожнымъ подробностямъ о великолѣпіи
дворовъ и образѣ жизни королей. Таковы были важныя/и многостороннія данныя,
на которыхъ онъ любилъ останавливаться и о которыхѣ онъ охотно говорилъ, ко-
нечно не съ той полнотой, какой мы могли бы желать, но все-таки въ такомъ духѣ
и съ такой точностью, которые даютъ ему право считаться величайшимъ изъ исто-
риковъ, какихъ имѣла Франція до восемнадцатаго столѣтія.
Это составляетъ во многихъ отношеніяхъ самую важную изъ перемѣнъ, про-
изведенныхъ до того времени въ образѣ писанія исторіи. Если бы планъ, задуман-
ный Мэзерэ, былъ выполненъ его преемниками, то мы имѣли бы матеріалы, отсут-
ствіе которыхъ никакія новѣйшія изысканія не могутъ восполнить. Правда, что
нѣкоторыхъ свѣдѣній мы въ этомъ случаѣ лишились бы: мы менѣе знали бы, чѣмъ
теперь, о дворахъ и лагеряхъ, менѣе слыхали бы о несравненной красотѣ француз-
скихъ королевъ и о величественныхъ манерахъ королей. Мы даже можетъ быть
потеряли бы нѣкоторыя изъ драгоцѣнныхъ звеньевъ той цѣпи фактовъ, которою
опредѣляется генеалогія королей и аристократовъ, и изученіе которой доставляетъ
такое наслажденіе антикваріямъ и спеціалистамъ геральдики. Но за то, съ другой
стороны, мы имѣли бы возможность судить о положеніи французской націи во вто-
рой половинѣ семнадцатаго вѣка, между тѣмъ какъ при настоящемъ ходѣ дѣлъ
наши свѣдѣнія о бытѣ самого народа въ этотъ важный періодъ менѣе точны и
менѣе обширны, чѣмъ тѣ, которыя мы имѣемъ о нѣкоторыхъ изъ самыхъ дикихъ
племенъ въ мірѣ 3). Если бы примѣру Мэзерэ послѣдовали другіе при тѣхъ новыхъ
Э Впрочемъ это ие мѣшало ему думать, д о вне-
запныя бура а необыкновенныя явленія на небѣ со-
ставляю гь аберрацій, происходящія ото сверхъесте-
ственнаго вмѣшательства, и поэтому предвѣщающія
важныя политическія перемѣны. Всѣ этп мѣста очень
поучительны въ томъ отношеній, что доказываютъ, какъ
въ то время, даже въ самыхъ сильныхъ умахъ, науч-
ный, свѣтскій взглядъ на вещи былъ сіцо слабъ.
Труды его по всѣмъ этиеъ предмегамь весьма
замѣчательны, въ особенности если принять въ сообра-
женіе^ что нѣкоторые изъ лучшихъ матеріаловъ для нихъ
въ то время были еще неизвѣстны и оставались въ
рукописяхъ, и что даже Де-Ту не даетъ намъ о нпхъ
никакихъ свѣдѣній; такъ что Мэзерэ не имѣлъ передъ
собою вовсе викакого образца.
3) Всякій, кіо только изучалъ французскіе ме-
муары семнадцатаго столѣтія, знаетъ, какъ мало въ нихъ
находится данныхь, касающихся положенія народа; са-
мыя полныя частныя корреспонденціи, какъ-то: письма
Севиньё и Мон геновъ, также неудовлетворительны.
Большая часть имѣющихся въ настоящее время свѣдѣ-
ній собраны Монголомъ въ замѣчательномъ трудѣ его
< НІ8Іоіге (іез (Иѵеі 8 Еіаіз»; между тѣмъ всякій, кто раз-
і смотритъ всѣ эти матеріалы, долженъ будетъ согла-
і спться, что мы болѣе знаомъ о разныхъ дикихъ пле-
менахъ, чѣмъ о положеніи низшихъ сословій во Франціи
। во время царствованія Людовика XIV*.
318
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
средствахъ, какія предоставлялись бы по мѣрѣ того, какъ все подвигается впередъ,
то мы не только были бы въ состояніи съ точностью прослѣдить развитіе великой
и цивилизованной націи, но имѣли бы кромѣ того матеріалы для вывода или по-
вѣрки тѣхъ основныхъ началъ, открытіе которыхъ и составляетъ истинную цѣль
исторіи.
Но этому не было суждено осуществиться. Къ несчастью для всѣхъ интере-
совъ просвѣщенія, ходъ французской цивилизаціи въ это время былъ внезапно оста-
новленъ. Въ самомъ началѣ второй половины семнадцатаго столѣтія произошла во
Франціи прискорбная перемѣна, давшая новый оборотъ всей судьбѣ этой страны.
Реакція, которой подвергся духъ изслѣдованія, и умственныя, и соціальныя условія,
приведшія Фронду къ преждевременному концу и тѣмъ проложившія путь Людо-
вику XIV, были описаны въ одномъ изъ предшествовавшихъ отдѣловъ настоящаго
тома, гдѣ я старался очертить всѣ послѣдствія этого гибельнаго переворота. Теперь
остается мнѣ показать, въ какой мѣрѣ эта ретроградная тенденція мѣшала развитію
исторической литературы и препятствовала писателямъ не только добросовѣстно
описывать то, что совершалось вокругъ нихъ, но даже вѣрно понимать событія
предшествовавшихъ временъ.
Люди, даже самымъ поверхностнымъ образомъ изучавшіе французскую лите-
ратуру, должны были удивляться тому, какъ мало явилось историковъ въ тотъ долгій
періодъ времени, когда бразды правленія были въ рукахъ Людовика XIV. Это въ
значительной степени зависѣло отъ свойствъ короля. Онъ былъ воспитанъ съ не-
простительной небрежностью, и такъ какъ онъ никогда не имѣлъ достаточно силы
воли, чтобы восполнить недостатки своего воспитанія, то остался на цѣлую жизнь
невѣждою во многихъ такихѣ вещахъ, съ которыми бывали обыкновенно коротко
знакомы даже монархи. О событіяхъ прошедшихъ временъ онъ буквально ничего
не зналъ и изъ всей исторіи интересовался только исторіей своимъ подвиговъ. Въ
свободномъ народѣ такое равнодушіе со стороны государя никогда не могло бы
произвести вредныхъ послѣдствій. Дѣйствительно, какъ мы уже видѣли, въ высоко
образованной странѣ отсутствіе покровительства со стороны монарха составляетъ
самое благопріятное условіе для литературы; но при вступленіи на престолъ Людо-
вика XIV свобода во Франціи была еще слишкомъ новымъ явленіемъ и привычка
къ самостоятельному мышленію не довольно еще утвердилась, чтобы дать націи воз-
можность противостоять направленному противъ нея союзу королевской власти съ
церковью. Французы, становясь съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе раболѣпными,
упали, наконецъ, такъ низко, что къ концу семнадцатаго столѣтія даже какъ будто
бы потеряли всякое желаніе сопротивляться. Король, не встрѣчая нигдѣ оппозиціи,
старался пріобрѣсти такую же власть надъ умственными силами страны, какою онъ
пользовался въ управленіи ею *)* По всѣмъ великимъ вопросамъ религіи и политики
духъ изслѣдованія былъ подавленъ, и никому не позволялось выразить мнѣніе, не-
благопріятное для настоящаго порядка вещей. Такъ какъ король былъ расположенъ
тратить деньги па литературу, то онъ естественнымъ образомъ считалъ себя въ нравѣ
требовать отъ нея всякихъ услугъ. Писатели, которыхъ онъ кормилъ, не должны
были возвышать голосъ противъ его политики. Они получали отъ него жалованье
и обязаны были творить волю того, который имъ платилъ. Когда Людовикъ принялъ
управленіе государствомъ, Мэзерэ былъ еще живъ, но едва-ли нужно говорить, что
великій трудъ его былъ изданъ прежде, чѣмъ система покровительства и опеки была
введена въ дѣйствіе. То, что случилось съ этимъ великимъ историкомъ Франціи,
можетъ служить образцомъ вновь наступившаго порядка вещей. Онъ сперва получалъ
х) Краснорѣчивыя замѣчаніи Ранке о деспотизмѣ
въ Италіи могутъ быть превосходно приложены ко вееіі
системѣ Людовика XIV: «Странное сочетаніе дѣдъ че-
ловѣческихъ! Силы страны производятъ дворъ, центръ
двора есть государь, и, наконецъ, послѣднимъ продуктомъ
всей совокупной жизни государства является самосо-
знаніе государя».
ЙСТОРИЧ. ЛИТЕРАТУРА ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
319
отъ казны пенсію въ четыре тысячи франковъ, но когда издалъ въ 1668 г. сокра-
щеніе своей исторіи, то ему было замѣчено, что нѣкоторыя изъ воззрѣній его на
возвышеніе податей могутъ возбудить неудовольствіе высокостоящихъ лицъ. Но такъ
какъ въ скоромъ времени оказалось, что Мэзерэ былъ слишкомъ честенъ и слиш-
комъ безстрашенъ, чтобы отречься отъ того, что онъ написалъ, то рѣшено было
прибѣгнуть къ устрашенію, и у него отняли половину его пенсіи; а когда эта мѣра
не произвела надлежащаго дѣйствія, то отдано было другое приказаніе, которымъ
лишили Мэзерэ и остальной половины пенсіи, и такимъ образомъ въ самомъ началѣ
этого вреднаго царствованія уже поданъ былъ примѣръ наказанія человѣка за то,
что онъ честно писалъ о такомъ предметѣ, въ которомъ скорѣе, чѣмъ во всякомъ
другомъ, честность составляетъ самое существенное условіе 1).
Этотъ поступокъ ясно показываетъ намъ, чего могли ожидать историки отъ
правительства Людовика XIГ. Нѣсколько лѣтъ спустя королю представился другой
случай выказать то же самое направленіе. Наставникомъ ко внуку Людовика былъ
назначенъ Фенелонъ, твердость и благоразуміе котораго много содѣйствовали къ
исправленію молодого принца отъ тѣхъ пороковъ, которые довольно рано проявились
въ немъ. Но достаточно было одного обстоятельства, чтобы перевѣсить въ глазахъ^
короля огромную услугу, которую Фенелонъ оказывалъ королевской фамиліи, и кото-
рую онъ, еслибы питомецъ его достигъ престола, оказалъ бы въ будущемъ всей
Франціи. Знаменитый романъ его «Телемакъ» былъ изданъ въ 1699 г. и, какъ видно,
безъ его согласія 2); но король подозрѣвалъ, что подъ покровомъ вымысла Фенелонъ
имѣлъ намѣреніе осуждать дѣйствія его правительства. Тщетно авторъ защищался
противъ такого опаснаго обвиненія. Ничто пе могло смягчить негодованіе короля.
Онъ удалилъ Фенелона и никогда болѣе не соглашался дойустить въ свое присутствіе
такого человѣка, котораго опъ подозрѣвалъ бы хотя въгмалѣйшемъ намекѣ на кри-
тику мѣръ, принятыхъ администраціей страны 3).
Если король могъ по одному подозрѣнію поступить такимъ образомъ съ ве-
ликимъ писателемъ, носившимъ званіе архіепископа п пользовавшимся репутаціей
святого человѣка, то мало было вѣроятности, чтобы опъ сталъ поступать мягче съ
людьми, стоящими ниже. Въ 1681 г. аббата Прими, итальянца, жившаго въ то время
въ Парижѣ, убѣдили написать исторію Людовика XIV. Король, восхищенный на-
деждой увѣковѣчить свою славу, пожаловалъ автору нѣсколько наградъ, и сдѣлано
было условіе, что сочиненіе Прими будетъ написано по-итальянски и немедленно
переведено на французскій языкъ. Но когда исторія эта появилась, то въ пей ока-
залось нѣсколько такихъ обстоятельствъ, которыхъ, по мнѣнію короля, не должно
было разглашать. На этомъ основаніи Людовикъ приказалъ книгу запретить, отобрать
у автора всѣ бумаги, а его самого заключить въ Бастилію. То было дѣйствительно
опасное время для людей съ независимымъ образомъ мыслей,—время, когда ни одинъ
авторъ, пишущій о политикѣ или религіи, не могъ считать себя безопаснымъ, если
только онъ не слѣдовалъ вполнѣ тогдашней модѣ—отстаивать всѣ тѣ мнѣнія, кото-
рыхъ держались дворъ и церковь. Король, отличившійся неутолимой жаждой того,
что онъ называлъ славой 4), старался унизить современныхъ историковъ до значе-
нія простыхъ лѣтописцевъ, исключительно занимающихся описаніемъ его подвиговъ.
Онъ приказалъ Распну и Буалб написать исторію его царствованія, назначилъ имъ
содержаніе и обѣщалъ снабдить ихъ нужными матеріалами. Но даже Расинъ и Буалб,
Въ 1685 г. было напечатано въ ІІарпжѣ такъ
называемое исираменное изданіе исторіи Мэзерэ, то есть
изданіе, изъ котораго выброшены были самыя правди-
выя замѣчанія. Гемпденъ, который былъ знакомъ съ
Мэзерэ, разсказываегь о дюбонытномь свиданіи своемъ
съ нимъ въ Парижѣ, при которомъ великій историкъ
е&орбѣдъ о погибели свободы во Фрапціп.
2) Это произошло <отъ невѣрности слуги, кото-
рому поручено было первоКлпгь рукопись- . «Телеманъ»
былъ запрещенъ во Франціи и явился въ Голландіи
въ томъ же самомь Г1699) году.
3) «Людовикъ XIV принялъ «Телемана» за лич-
ность... Такъ какъ онь (Фенелонъ) заслужилъ неми-
лость короля, то и умеръ въ взгпаніиэ (Лершшьв).
{) Одинъ даровитыіі писатель (Флассапъ) справед-
ливо назвалъ его «скорѣе тщеславиьшъ, чѣмъ пони-
мающимъ истинную славу».
320
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
при всемъ томъ, что они были поэты, знали, что имъ не удастся удовлетворить бо-
лѣзненно развитому тщеславію короля; поэтому они только получали пенсію, а о томъ
сочиненіи, за которое она была назначена, и не думали. Такъ было извѣстно не-
расположеніе даровитыхъ людей заниматься исторіей, что признано было необходи-
мымъ прибѣгнуть къ вербованію литераторовъ въ чужихъ краяхъ. Мы только-что
разсказали случай съ аббатомъ Прими, который былъ итальянецъ. Годомъ позже
такое же предложеніе сдѣлано было англичанину. Въ 1683 г. посѣтилъ Францію
Бернетъ, и ему дали понять, что онъ можетъ получить пенсію и даже удостоиться
чести говорить съ самимъ Людовикомъ, если только согласится написать исторію
дѣяній короля,—исторію, кдторая говорила бы «въ пользу» этого государя г).
Не удивительно, что при такихъ обстоятельствахъ исторія въ самомъ суще-
ственномъ отношеніи быстро падала въ управленіе Людовика XIV. Она сдѣлалась,
какъ полагаютъ нѣкоторые, болѣе изящна, но положительно утратила свою силу.
Языкъ, которымъ она выражалась, былъ весьма тщательно обработанъ, періоды были
красиво расположены, эпитеты изящны и благозвучны. То былъ вѣкъ утонченной
вѣжливости и услужливости,—-вѣкъ, вполнѣ проникнутый почтительностью, чувствомъ
долга и готовностью платить дань удивленія. Въ исторіи, какъ ее тогда писали,
каждый король являлся героемъ и каждый епископъ—святымъ угодникомъ. Обо всѣхъ
горькихъ истинахъ умалчивалось; ничего рѣзкаго и непріятнаго не считалось нуж-
нымъ высказывать. Эти скромныя и покорныя воззрѣнія, будучи выражены легкимъ
и плавнымъ слогомъ, придавали исторіи тотъ видъ утонченнаго изящества и ту
тихую, безобидную поступь, которыя доставили ей популярность во всѣхъ сословіяхъ,
которымъ она льстила. По, пріобрѣтая эту изящную форму, она теряла свою жизнен-
ную силу. Въ ней не стало самостоятельности, не стало честности, не стало смѣлости.
Эта самая возвышенная и трудная отрасль знанія—наука о развитіи рода человѣ-
ческаго—была брошена на произволъ всякаго робкаго и пресмыкающагося ума, ка-
кой удостоивалъ заняться ею. Явились и Буленвиллье, и Даніель, и Мембуръ, и Ва-
рильясъ, и Верто, и множество другихъ, которые въ царствованіе Людовика XIV всѣ
признаваемы были за историковъ, между тѣмъ какъ сочиненія ихъ имѣютъ только
то достоинство, что даютъ намъ возможность вполнѣ оцѣнить тотъ вѣкъ, въ которомъ
подобныя произведенія вызывали похвалы, и ту систему, которой они были пред-
ставителями.
Чтобы дать полное понятіе объ упадкѣ исторической литературы во Франціи
со временъ Мэзерэ до начала восемнадцатаго вѣка, нужно было бы представить чи-
тателю перечень всѣхъ написанныхъ въ это время историческихъ сочиненій, потому
что оли всѣ были проникнуты однимъ и тѣмъ же духомъ. Но такъ какъ это потре-
бовало бы слишкомъ много мѣста, то вѣроятно будетъ признано достаточнымъ, если
я ограничусь такпми примѣрами, которые могутъ представить читателю направленіе
того времени въ самомъ ясномъ видѣ; съ этой цѣлью я разсмотрю сочиненія двухъ
историковъ, о которыхъ я еще не говорилъ. Одинъ изъ нихъ былъ извѣстенъ какъ
антикварій, а другой—какъ теологъ. Оба отличались замѣчательной ученостью, а
одинъ даже несомнѣнной геніальностью; слѣдовательно, ихъ сочиненія заслуживаютъ
особеннаго вниманія, какъ признаки умственнаго состоянія Франціи въ концѣ семнад-
цатаго столѣтія. Имя антикварія--Одижьё, а имя теолога—Боссюэтъ; по пхъ сочи-
неніямъ мы можемъ составить себѣ понятіе о томъ, какъ было вообще принято въ
царствованіе Людовика XIV смотрѣть на событія минувшихъ вѣковъ.
Знаменитое сочиненіе Одижьё о происхожденіи французовъ было издано въ
Бёрнетъ разсказываетъ объ этомъ съ восхити- | детъ предложена пенсія. Но я не сдѣлалъ для этого
тельной простотой: «Другіе думали, съ большею вѣ- | ни одного шага, и хотя мнѣ была предложена аудіенція
роятаостью, что король, услышанъ о моихъ псториче- . у короля, но я отказался, извиняясь тѣмъ, что не могу
скихъ трудахъ, вознамѣрился склонить меня писать въ | имѣть честь быть представленнымъ этому монарху англій-
благопріятномъ для него духѣ. Говорили, что мнѣ бу- | скимъ министромъ». (ВигпеСз «ОѵпТітс», ѵ. И,р. 385).
ИСТОРПЧ. ЛИТЕРАТУРА ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII ст. 321
Парижѣ въ 1676 году. Несправедливо было бы отрицать, что авторъ его былъ че-
ловѣкъ, много и весьма внимательно читавшій. Но легковѣріе, предразсудки, ува-
женіе къ старинѣ и благоговѣніе передъ всѣмъ, что было одобрено духовенствомъ
и дворомъ, ослѣпляли его до такой степени, которая въ настоящее время можетъ
показаться невѣроятной; а такъ какъ теперь въ Англіи вѣрно немного найдется лицъ,
читавшихъ его нѣкогда знаменитую книгу, то я здѣсь представлю очеркъ главныхъ
изъ проводимыхъ въ ней воззрѣній.
Изъ этого великаго произведенія мы узнаемъ, что именно черезъ 3464 года
по сотвореніи міра и за 590 лѣтъ до Р. X. Сиговезъ, племянникъ короля кельтовъ,
въ первый разъ былъ посланъ въ Германію; люди, сопровождавшіе его, были есте-
ственнымъ образомъ путешественниками, а какъ путешествовать по-германски —
ѵапбеіп, то отсюда и произошло имя вандаловъ. Но вандалы далеко уступали въ
древности происхожденія французамъ. Юпитеръ, Плутонъ и Нептунъ, которыхъ
иногда считали за боговъ, были въ дѣйствительности короли Галліи. А если загля-
нуть нѣсколько далѣе назадъ, то станетъ очевиднымъ, что Галлъ, основатель Галліи,
былъ не кто иной, какъ самъ Ной, такъ какъ въ тѣ времена нерѣдко одинъ и тотъ же
человѣкъ имѣлъ два имени. Послѣдующая исторія французовъ оказывается вполнѣ
достойной знатности ихъ происхожденія. Александръ Великій, при всемъ упоеніи
славой своихъ побѣдъ, никогда не дерзалъ напасть на скиѳовъ, которые были пе-
реселенцами, высланными изъ Франціи. Отъ великаго народа, занявшаго Францію,
произошли всѣ божества Европы, всѣ изящныя искусства и всѣ науки. Сама Англія
не что иное, какъ колонія Франціи; это должно быть ясно для всякаго, кто только
обратитъ вниманіе на сходство имени англовъ съ областью Анжу. Именно этому
счастливому обстоятельству своего происхожденія жители британскихъ острововъ
обязаны тою храбростью и тѣмъ образованіемъ, которымъ они и донынѣ отличаются.
Съ такою же легкостью разъясняетъ великій критикъ'и нѣкоторые другіе вопросы.
Такъ, по его мнѣнію, Салійскіе франки получили свое имя отъ быстроты своего бѣга.
Бретонцы были очевидно саксонскаго племени, и даже шотландцы, о независимости
которыхъ такъ много говорили историки, были вассалами французскихъ королей.
Онъ очевидно думаетъ, что никакое предположеніе не можетъ быть слишкомъ пре-
увеличеннымъ, когда дѣло идетъ о достоинствѣ французской короны, и что трудно
даже представить себѣ ея блескъ. Иные полагали, что императоры стоятъ выше
французскихъ королей, но это заблужденіе невѣжественныхъ людей; ибо слово «импе-
раторъ» значитъ повелитель на войнѣ, тогда какъ титулъ короля подразумѣваетъ всѣ
отправленія верховной власти, Слѣдовательно, если взглянуть на дѣло съ настоящей
точки зрѣнія, то великій король Людовикъ XIV такой же императоръ, какъ и всѣ
его предшественники, знаменитые повелители Франціи, правившіе ею въ продолженіе
пятнадцати вѣковъ. Несомнѣнно также, что антихристъ, который возбуждаетъ во
всѣхъ такъ много опасеній, никакъ не посмѣетъ явиться въ мірѣ, пока не рушится
французская монархія. Эту мысль, говоритъ Одижьё, безполезно было бы оспаривать,
потому что она подтверждается многими изъ святыхъ и ясно высказана св. апосто-
ломъ Павломъ въ его второмъ посланіи къ Солунянамъ,
Какъ ни странны кажутся намъ всѣ эти вымыслы, но просвѣщенные совре-
менники Людовика XIV не находили въ нихъ ничего возмутительнаго. Дѣйстви-
тельно французамъ, ослѣпленнымъ блестящей обстановкой своего государя, должно
было быть особенно пріятно узнать, что онъ стоитъ выше другихъ монарховъ и что
не только ему предшествовалъ цѣлый рядъ императоровъ, но и онъ самъ былъ въ
сущности императоръ. Они должны были проникнуться благоговѣніемъ, услыхавъ
отъ Одижьё о появленіи антихриста и о связи, существующей между этимъ важнымъ
событіемъ и судьбой французской монархіи. Они должны были внимать съ благо-
честивымъ удивленіемъ объясненію этихъ истинъ свидѣтельствами изъ писаній отцовъ
церкви и изъ посланій къ Солунянамъ. Все это они должны были легко принимать
на вѣру, потому что преклоненіе передъ королемъ и благоговѣніе передъ церковью
Воклв.—Над. Ф. Павленкова 21
322 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
были двумя главными правилами вѣка Людовика XIV. Повиноваться и вѣрить—та-
ковы были основныя идеи этого періода, въ которомъ процвѣтали нѣкоторое время
изящныя искусства, въ которомъ пониманіе красоты, хотя слишкомъ своеобразное,
было безспорно весьма тонко, въ которомъ вкусъ и воображеніе въ низшихъ про-
явленіяхъ своихъ были тщательно развиваемы, но въ которомъ, съ другой стороны,
оригинальность и самостоятельность мысли были уничтожены, о самыхъ великихъ и
важныхъ предметахъ было запрещено разсуждать, науки были почти заброшены,
реформы и нововведенія возбуждали ненависть, всякія новыя мысли были прези-
раемы и лица, проводившія ихъ, подвергались наказаніямъ до тѣхъ норъ, пока, на-
конецъ, весь избытокъ умственныхъ силъ не былъ насильственно приведенъ въ со-
стояніе безплодія и вообще вся умственная дѣятельность націи пе понизилась до
того уровня безцвѣтности и однообразія, который характеризуетъ послѣднія двадцать
лѣтъ царствованія Людовика XIV*.
Никто не можетъ намъ служить лучшимъ примѣромъ этого реакціоннаго дви-
женія, какъ Боссюэтъ, епископъ Мо. Успѣхъ и даже самое появленіе его сочиненія
о всеобщей исторіи, съ этой точки зрѣнія, становится въ высшей степени поучи-
тельнымъ. Разсматриваемая сама по себѣ, эта книга представляетъ печальное зрѣлище
великаго дарованія, извратившагося подъ вліяніемъ суевѣрнаго вѣка. Но разсматри-
ваемая въ отношеніи къ тому времени, когда она явилась, она составляетъ для
насъ неоцѣненный признакъ тогдашняго состоянія умственныхъ силъ Франціи; мы
видимъ изъ этой книги, что въ концѣ семнадцатаго вѣка одинъ изъ самыхъ даро-
витыхъ людей въ одной изъ первенствующихъ страну Европы могъ добровольно
покориться такому униженію ума и выказать такое сліпое легковѣріе, котораго въ
наше время устыдились бы даже люди съ самыми слабыми способностями, и что это
явленіе не только не возбудило негодованія и не навлекло на автора какихъ-нибудь
упрековъ, но было принято со всеобщимъ, безусловнымъ одобреніемъ. Боссюэтъ былъ
великій ораторъ, превосходный діалектикъ, владѣвшій той туманной высотой мысли,
которая такъ легко дѣйствуетъ на большую часть людей. Всѣ эти качества онъ нѣ-
сколько лѣтъ спустя проявилъ въ сочиненіи, составляющемъ вѣроятно самое опасное
изъ всѣхъ когда-либо сдѣланныхъ нападеній на протестантизмъ. Но когда, оставивъ
въ сторонѣ свою спеціальность, опъ вступилъ на обширное поприще исторіи, то онъ
не нашелъ ничего лучшаго, какъ послѣдовать въ этомъ новомъ предметѣ произволь-
нымъ воззрѣніямъ, которыми отличались люди его профессіи. Сочиненіе его состав-
ляетъ смѣлую попытку унизить исторію до степени простой послушницы теологіи *).
Какъ бы полагая, что въ предметахъ теологіи сомнѣніе уже равносильно преступле-
нію, онъ безъ малѣйшаго колебанія принимаетъ за безусловную истину все то, чему
привыкла вѣрить церковь. Это даетъ ему возможность говорить съ величайшей само-
увѣренностью о событіяхъ, теряющихся въ самой отдаленной древности. Онъ знаетъ
точное число лѣтъ, прошедшихъ съ того момента, когда Каинъ умертвилъ своего
брата, когда земля была залита потопомъ и когда Аврааму было указано его призва-
ніе. Время совершенія этихъ и другихъ подобныхъ имъ событій онъ опредѣляетъ съ
такой точностью, что почти можно было бы подумать, что они совершились въ его
время, если только не на его глазахъ 2). Правда, что еврейскія книги, на которыя
онъ охотно опирается, не представляютъ никакихъ сколько-нибудь цѣнныхъ свидѣ-
тельствъ о хронологіи даже самой еврейской націи, свѣдѣнія же о другихъ націяхъ
въ нихъ замѣчательно скудны и неудовлетворительны,—но такъ узокъ былъ взглядъ
5) См, объ этой попыткѣ Боссюэта нѣсколько
прекрасныхъ замѣчаній у Стейдлина (ОезсЬісЫе йег
іЬеоІо&Міно ѴГіввепясІіаЙеп»): «Церковь и христіанство
составляютъ для этого епископа центръ всей исторіи.
Съ такой точки зрѣнія смотритъ онъ пе только на
патріарховъ а пророковъ, па іудейство и на древнія
предсказанія, во и па всѣ царства въ мірѣ».
2) Онъ говоритъ, что если обыкновенно прини-
маемое лѣточисленіе Пятикнижія и Пророковъ невѣр-
но, то этимъ самымъ уничтожаются всѣ чудеса и са-
мыя книги перестаютъ быть боговдохповенными. Трудно
было бы паити, даже въ сочиненіяхъ Боссюэта, болѣе
опрометчивое заявленіе.
ИСТОРИЧ. ЛИТЕРАТУРА ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII ст. 323
Боссюэта на исторію, что, по его мнѣнію, все это до него нисколько не касалось.
Въ текстѣ Вульгаты сказано, что такія-то дѣла совершились въ такое-то время.—а
извѣстное число святыхъ мужей, называющихъ себя соборомъ церкви, въ половинѣ
шестнадцатаго столѣтія провозгласили подлинность Вульгаты и взялись поставить
ее выше всѣхъ другихъ переводовъ св. писанія 2). Это теологическое мнѣніе было
принято Боссюэтомъ за историческій законъ; и такимъ образомъ рѣшеніе какой-то
горсти кардиналовъ и епископовъ, жившихъ во времена грубаго суевѣрія и совер-
шеннаго отсутствія всякой критики, составляетъ единственный авторитетъ въ под-
твержденіе той хронологіи отдаленнѣйшихъ временъ, которая своею точностью мо-
жетъ привести въ изумленіе всякаго несвѣдущаго читателя 2), Точно также, наслы-
шавшись, что евреи*—народъ избранный Богомъ, Боссюэтъ въ своей такъ называемой
всеобщей исторій почти исключительно сосредоточиваетъ вниманіе на этомъ народѣ
и говоритъ объ этомъ упрямомъ и невѣжественномъ племени въ такомъ смыслѣ,
какъ будто бы оно составляло ось, вокругъ которой вращались дѣла цѣлаго міра 3).
По его понятіямъ, въ исторію не должны входить народы, прежде всѣхъ другихъ
достигшіе цивилизаціи,—народы, которымъ евреи были обязаны и тѣми скудными
познаніями, какихъ они достигли впослѣдствіи. Онъ мало говоритъ о персахъ и еще
менѣе о египтянахъ; онъ не упоминаетъ даже о томъ несравненно болѣе великомъ
народѣ, который обитаетъ между Индомъ и Гангомъ, котораго философія составила
одинъ изъ элементовъ Александрійской школы, котораго утонченное мышленіе упре-
дило всѣ усилія европейской метафизики и который на своемъ родномъ, изящно
выработанномъ языкѣ излагалъ самыя высокія изслѣдованія еще въ то время, когда
евреи, оскверненные всякаго рода злодѣяніями, были лишь бродячимъ племенемъ
грабителей, скитавшимся по лицу земли,—племенемъ, крѣорое на всякаго поднимало
руку и на которое всякій поднималъ руку.
Переходя къ позднѣйшимъ періодамъ исторіи, Боссюэтъ подчиняется тѣмъ же
теологическимъ увлеченіямъ. Такъ тѣсенъ его взглядъ, что онъ во всей исторіи
церкви видитъ лишь участіе Провидѣнія и даже не замѣчаетъ, какимъ образомъ,
вопреки первоначальному плану, церковь подвергалась вліянію внѣшнихъ событій 4).
Такъ напримѣръ, самый важный фактъ въ исторіи первыхъ измѣненій въ христіан-
ской церкви составляло вліяніе на нее африканской отрасли Платоновой фило-
софіи; но объ этомъ Боссюэтъ нигдѣ не упоминаетъ и у него нѣтъ даже и намека
на что-либо подобное. Съ видами его было согласно смотрѣть на церковь, какъ на
постоянное чудо, и вслѣдствіе того онъ совершенно оставляетъ безъ вниманія самое
важное событіе въ исторіи первыхъ временъ ея. Теперь перейдемъ къ нѣсколько
позднѣйшимъ временамъ. Всякій, кто сколько-нибудь знакомъ съ ходомъ развитія
г) Это они сдѣлали такъ же, какъ и всеосталь- ।
ное, не на основаніи разума, а па основаніи догмата; •
какъ сказалъ одинъ ученый писатель: «церковь ко-
нечно раздѣлила нѣкоторыя книги на апокрифическія !
и положительно православныя; она формально рѣшила,
какія книги должны быть признаваемы канопичі-скимп; .
тѣнь но мѵпѣе критика ея никогда не основывалась 1
на изслѣдованіи разума, а только на рѣшеніи вопроса, |
согласна пл. нѣтъ такая-то книга сь преподаваемыми !
ц. рковью догматами». (Мангу, «Бё^еііОез 1‘іеике^»).
2) Теологи всегда была замѣчательны точностью
своихъ свѣдѣній о тѣхь предметахъ, о которыхъ ничего ।
ІР пшѣетно, но никто изъ НИХЪ ВЪЭТОМЬ Оіношеніи но ;
млгь бы прещюіпиученаго д-ра Стекли Вь 1730 г. эюіь
.?<Ш'/агельный теологъ писалъ: «По сдѣланнымъ мною
исчисленіямъ оказывается, что Господь повелѣлъ Ною
С'.брагь животныхъ въ ковчегь въ воскресенье 12-го ок-
тября, въ самый день осенняго равподѣиствія того г да, а
ровно черезъ недѣлю, въ воскресенье (19 октября), на-
чалась эта ужасная катастрофа, въ то время, какъ мѣ-
сяцъ перешелъ уже за третью четверть?. ;
3) «Во-первыхъ, эти государства большей частью
находятся въ неразрывной связи съ исторіей парода
Божія. Господь избралъ ассиріянъ и вавилонянъ для
того, чтобы наказать этотъ народъ; персовъ—для того
чтобы возстановить его; Александра и первыхъ преем-
никовъ его—чтобы покровительствовать ему; Антіоха
Великаго п преемниковъ его ™ чтобы упражнять
силы этого народа; римлянъ—чтобы защищать его
свободу противъ Сирійскихъ царей, стремившихся лишь
къ тому, чтобы его истребить». Справедливо могъ ска-
зать Лгрминьо. что Боссюэтъ «еврейскому народу при-
несъ въ жертву всѣ прочія націи».
4) Первоначальной цѣлью христіанства, какъ вы-
сказать великій виновникъ его (Матеей X, 6 и XV, 24),
было только обратить евреевъ; и еслибы ученіе Христа
никогда пе пошло далѣе эгого невѣжественнаго народа,
то оио не подверглось бы гѣмь измѣненіямъ, которыя
произвола въ немь философія. Все это превосходно раз-
смотрѣно въ Зіаскау’з *~Рго^гс88 оГ іѣе ІиіеІІесІ іи Ее-
Іі^іпз Лсѵеіоршепі».
21*
324
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
европейской цивилизаціи, согласится, что не малой долей ея мы обязаны тѣмъ про-
блескамъ свѣта, которые, среди распространеннаго кругомъ мрака, исходили изъ
двухъ великихъ центровъ—Кордовы и Багдада. Но эти проблески были дѣломъ маго-
метанства, а такъ какъ Боссюэту было втолковано, что магометанство есть гибельная
ересь, то онъ не могъ допустить, чтобы христіанскія націи почерпнули что-нибудь
изъ такого отравленнаго источника. Вслѣдствіе того онъ ничего не говорить о той
великой религіи, которая молвою о себѣ наполнила весь міръ1); и, имѣя случай упо-
мянуть объ основателѣ ея, онъ говоритъ о немъ съ презрѣніемъ, какъ о безстыд-
номъ лжецѣ, на притязанія котораго не прилично даже обращать вниманіе * 2). О ве-
ликомъ учителѣ, который между милліонами язычниковъ распространилъ высокую
истину единства Божія, Боссюэтъ говоритъ съ величайшимъ презрѣніемъ, потому
что Боссюэтъ, вѣрный духу своей профессіи, но могъ найти ничего заслуживающаго
удивленія въ людяхъ, которыхъ мнѣнія расходились съ его понятіями 3). Но когда
ему представляется случай упомянуть о какомъ-нибудь безвѣстномъ членѣ того со-
словія, къ которому онъ самъ принадлежитъ, тогда онъ расточаетъ свои похвалы съ
безпредѣльной щедростью. Въ его планѣ всемірной исторіи Магометъ оказывается
недостоинъ занимать мѣста. Онъ оставляетъ его безъ вниманія, а истинно великимъ
мужемъ, — мужемъ, которому родъ человѣческій серьезно обязанъ, является у него
Мартинъ, епископъ турскій. О немъ Боссюэтъ говоритъ, что безпримѣрныя дѣянія
этого человѣка наполняли вселенную его славой какъ при жизни его, такъ и послѣ
смерти. Правда, что изъ пятидесяти образованныхъ людей едва-ли хоть одинъ когда-
либо слыхалъ имя Мартина^ епископа турскаго, но Мартина католическая церковь
признала святымъ, слѣдовательно, его права на вниманіе историка несравненно выше
правъ человѣка, который, подобно Магомету, лишенъ былъ такихъ преимуществъ.
Такимъ образомъ во мнѣніи единственнаго замѣчательнаго писателя по предмету
исторіи, жившаго во времена владычества Людовика XIV, самый великій человѣкъ,
какого когда-либо произвела Азія, и вообще одинъ изъ самыхъ великихъ людей, ка-
кихъ видѣлъ міръ, стоитъ во всѣхъ отношеніяхъ ниже французскаго монаха, самымъ
важнымъ дѣломъ котораго было построеніе монастыря и который провелъ большую
часть своей жизни въ уединеніи, трепеща отъ суевѣрныхъ мечтаній, свойственныхъ
его слабой натурѣ 4).
Такимъ узкимъ взглядомъ смотрѣлъ на великіе факты исторіи этотъ писатель,
который, въ предѣлахъ своей спеціальности, обнаруживалъ самыя высокія дарова-
нія. Подобная ограниченность взгляда была неизбѣжнымъ послѣдствіемъ его стрем-
ленія объяснить сложныя явленія въ жизни человѣчества общими началами, кото-
рыя онъ усвоилъ себѣ при своихъ не особенно серьезныхъ занятіяхъ. Но никто не
долженъ обижаться тѣмъ, что съ чисто-научной точки зрѣнія я ставлю занятія
г) Около того же времени, когда писалъ Боссюэтъ,
одинъ ученый писатель исчислилъ, что пространство
тѣхъ земель, въ которыхъ исиовѣдывается магометан-
ство, одною пятою превышаетъ пространство земель
христіанскихъ. Исчисленіе Соута весьма неопредѣлен-
но; но вообще гораздо легче судить о пространствѣ
магометанскихъ земель, чѣмъ о количествѣ населенія
ихъ. По послѣднему предмету мы имѣемъ самыя про-
тивоположныя показанія. Въ девятнадцатомъ столѣтіи,
по словамъ Шарона Тёрнера, магометанъ восемьдесятъ
милліоновъ; по словамъ д-ра Влліотсона, ихъ болѣе ста
двадцати двухъ милліоновъ, а по мнѣнію Вилькина
число ихъ превосходитъ сто восемьдесятъ восемь мил-
ліоновъ.
2) «Лже-пророкъ единственнымъ доказательствомъ
своего призванія представилъ свои побѣды». (Боссюэтъ,
р. 125).
3) Первостепенные магометанскіе писатели всегда
выражали о божествѣ болѣе высокія понятія, чѣмъ тѣ,
которыя пмѣютъ большинство христіанъ. Корапь заклю-
чаетъ въ себѣ нѣсколько высокихъ мыслей о единствѣ
Бога. Тѣмъ людямъ, которые довольно легкомысленны,
чтобы считать Магомета лицемѣромъ, полезно было бы
изучить превосходныя замѣтки Огюста Копта, кото-
рый говоритъ весьма справедливо, что «человѣкъ съ
і истинно высокими дарованіями никогда не могъ про-
извести сильное дѣйствіе на своихъ ближнихъ иначе,
какъ будучи самъ искренно убѣжденъ».
4) Бенедиктинцы говорятъ, что онъ построилъ пер-
вый монастырь въ Галліи: «Мартинъ, всегда страстно
любившій уединеніе, построилъ монастырь, который
былъ первымъ въ Галлій». Они дѣлаютъ совершенно
впрочемъ лишнее допущеніе, что угодникъ «по изучалъ
мірскихъ наукъ». Я могу прибавить, что чудеса Мар-
тина разсказаны у Флёри, который очевидно думаетъ,
что они дѣйствительно были совершены. Неандеръ,
имѣвшій преимущество жить столѣтіемъ позже Флёри,
довольствуется тѣмъ, что говоритъ: «благоговѣніе со-
временниковъ наименовало его чудотворцемъ».
ИСТОРИЧ. ЛИТЕРАТУРА ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
325
Боссюэта нѣсколько ниже, чѣмъ ставятъ ихъ иногда другіе. Достовѣрно, что рели-
гіозные догматы во многихъ случаяхъ вліяютъ на дѣла человѣческія; но одинаково
достовѣрно, что съ успѣхами цивилизаціи это вліяніе уменьшается, и что даже тогда,
когда эти догматы были на самой высшей ступени своей силы, существовало все-
таки множество другихъ пружинъ, которыя также управляли дѣйствіями человѣ-
чества. А такъ какъ изученіе всей суммы этихъ пружинъ и составляетъ предметъ исто-
ріи, то очевидно, что исторія должна стоять выше теологіи въ такой же мѣрѣ, въ
какой всякое цѣлое стоитъ выше своей части. Невниманіе къ этому простому со-
ображенію ввело всѣхъ духовныхъ писателей, за исключеніемъ немногихъ замѣча-
тельнѣйшихъ личностей, въ весьма серьезныя ошибки. Оно было причиною склон-
ности ихъ пренебрегать безсчисленнымъ множествомъ внѣшнихъ событій и полагать,
что ходъ всѣхъ дѣлъ человѣческихъ опредѣляется такими началами, которыя одна
только теологія можетъ открыть. Впрочемъ, это явленіе составляетъ только резуль-
татъ того общаго въ умственномъ мірѣ закона, по которому всѣ люди, имѣющіе
какую-нибудь любимую профессію, бываютъ расположены преувеличивать ея зна-
ченіе, объяснять всѣ событія ея началами и какъ бы сквозь призму ея смотрѣть на
всѣ явленія жизни. Но въ теологахъ такіе предразсудки опаснѣе, чѣмъ въ людяхъ
всѣхъ другихъ профессій, потому, что у нихъ однихъ они подкрѣпляются смѣлымъ
допущеніемъ авторитета сверхъестественной силы, на которой многіе изъ духовныхъ
охотно опираются. Эти сословныя увлеченія, ирп поддержкѣ со стороны теологи-
ческихъ догматовъ и въ такую эпоху, какъ царствованіе Людовика XIV, могутъ
служить достаточнымъ объясненіемъ тѣхъ особенностей, которыми отличается исто-
рическій трудъ Боссюэта. При томъ относительно этого писателя слѣдуетъ еще за-
мѣтить, что въ немъ общее стремленіе его сословія еіпе болѣе усиливалось его
личными свойствами. Его умъ отличался особенной надменностью, которая безпре-
рывно проявлялась въ видѣ общаго презрѣнія ко всему человѣчеству г). Въ то же
время его изумительное краснорѣчіе и то сильное дѣйствіе, которое оно всегда
производило, служили какъ бы оправданіемъ его чрезмѣрнаго довѣрія къ своимъ
силамъ. Дѣйствительно, въ нѣкоторыхъ изъ самыхъ сильныхъ мѣстъ въ его творе-
ніяхъ такъ много огня, такъ много величія, свойственнаго генію, что они напоми-
наютъ намъ тѣ возвышенныя и пламенныя рѣчи, которыми пророки древности такъ
сильно потрясали души своихъ слушателей. Боссюэтъ, находясь, какъ онъ самъ ду-
малъ, на высотѣ, ставившей его выше обыкновенныхъ человѣческихъ слабостей,
любилъ укорять людей ихъ безуміемъ и издѣваться надъ всякими притязаніями ихъ
генія. Все, что отзывалось смѣлостью ума, какъ бы оскорбляло его собственное пре-
восходство. Именно эта чрезмѣрная надменность, которой онъ былъ проникнутъ,
сообщаетъ его сочиненіямъ нѣкоторыя изъ ихъ самыхъ рѣзкихъ особенностей. Это
побужденіе заставляло его напрягать всю свою энергію, чтобы уронить и унизить
тѣ дивныя силы человѣческаго ума, которыя нерѣдко презираются людьми, не знаю-
щими ихъ, въ дѣйствительности же такъ велики, что до сихъ поръ еще не родился
человѣкъ, который могъ бы обнять ихъ во всемъ ихъ громадномъ размѣрѣ. То же
самое презрѣніе къ человѣческому уму заставляло Боссюэта отрицать способность
ума выработать самому для себя тѣ эпохи, чрезъ которыя онъ прошелъ, и такимъ
образомъ вынуждало его обратиться къ догмату сверхъестественнаго вмѣшательства.
То же побужденіе заставило его въ великолѣпныхъ рѣчахъ, принадлежащихъ къ
величайшимъ произведеніямъ искусства новѣйшихъ временъ, расточать всевозмож-
ныя похвалы не умственному превосходству, а исключительно военнымъ подвигамъ,
прославлять завоевателей—этихъ бичей и истребителей рода человѣческаго, кото-
рые проводятъ свою жизнь въ изобрѣтеніи новыхъ способовъ умерщвлять своихъ
враговъ и увеличивать бѣдствія міра. Наконецъ—спускаясь еще ниже—то же пре-
1) Оаъ принадлежалъ къ разряду тѣхъ историковъ, | фразой: «въ твореніяхъ пхъ авторъ нерѣдко кажется
ктфыхъ одинъ знаменитый писатель опредѣляетъ одной і великъ, но человѣчество всегда ничтожно». (Токвидль).
326
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
зрѣніе къ самымъ дорогимъ интересамъ человѣчества заставило его смотрѣть съ
уваженіемъ на короля, который ни во что не ставилъ всѣ эти интересы, но имѣлъ
ту заслугу, что поработилъ умственныя силы Франціи и расширилъ власть того
класса людей, въ которомъ самъ Боссюэтъ занималъ первое мѣсто.
Не имѣя достаточныхъ свѣдѣній о положеніи французовъ вообще въ концѣ
семнадцатаго столѣтія, невозможно привести въ извѣстность, на сколько подобныя
понятія проникли въ образъ мыслей націи. Но, принимая въ соображеніе, до какой
степени правительство поработило самый духъ націи, я расположенъ думать, что
мнѣнія Боссюэта весьма нравились тому поколѣнію, къ которому онъ принадлежалъ.
Впрочемъ, этотъ вопросъ болѣе любопытенъ, нежели дѣйствительно важенъ: ибо не
далѣе какъ черезъ нѣсколько лѣтъ явились первые признаки того безпримѣрнаго
движенія, которое не только ниспровергло политическія учреждевія Франціи, но и
произвело другой, болѣе прочный, переворотъ во всѣхъ отрасляхъ умственной жизни
націи. Въ самый моментъ смерти Людовика XIV, какъ въ литературѣ, такъ и въ
политикѣ, религіи и общественной нравственности, все созрѣло для реакціи. Мате-
ріалы, до сихъ поръ сохраняющіеся, такъ обширны, что можно было бы съ значи-
тельной точностью прослѣдить весь ходъ этого великаго процесса; но я полагаю,
что будетъ болѣе сообразно съ общимъ планомъ настоящаго введенія, если я про-
пущу нѣсколько посредствующихъ звеньевъ въ этой цѣпи явленій и ограничусь тѣми
яркими примѣрами, въ которыхъ духъ времени проявился особенно разительно.
Дѣйствительно, есть нѣчто необыкновенное въ той/Перемѣнѣ въ образѣ писа-
нія исторіи, которую успѣло произвести во Франціи одйо поколѣніе. Чтобы соста-
вить себѣ понятіе объ этомъ явленіи, лучше всего сравнить сочиненіе Вольтера съ
твореніями Боссюэта, такъ какъ оба эти великіе писателя были вѣроятно самыми
даровитыми и уже безъ сомнѣнія самыми вліятельными людьми въ тѣ времена, ко-
торыхъ каждый изъ нихъ служитъ представителемъ. Первое значительное усовер-
шенствованіе, которое мы находимъ у Вольтера сравнительно съ Боссюэтомъ, за-
ключается въ большемъ дониманіи значенія человѣческаго ума. Къ обстоятельствамъ,
уже замѣченнымъ нами, мы должны еще присовокупить то, что и самый родъ чте-
нія, избранный Боссюэтомъ, имѣлъ направленіе, прямо противоположное развитію
такого пониманія. Онъ не изучилъ тѣхъ отраслей знанія, въ которыхъ дѣйстви-
тельно сдѣланы были великія открытія, а между тѣмъ былъ хорошо знакомъ съ тво-
реніями святыхъ и отцевъ церкви, умозрѣнія которыхъ далеко не даютъ намъ вы-
сокаго понятія о мыслящихъ способностяхъ ихъ авторовъ. Привыкнувъ такимъ обра-
зомъ наблюдать дѣятельность человѣческаго ума въ сочиненіяхъ, составляющихъ
вообще самую незначительную изъ всѣхъ отраслей европейской литературы, Бос-
сюэтъ проникался все большимъ и большимъ презрѣніемъ къ роду человѣческому,
и оно дошло, наконецъ, до той крайней степени, которая такъ болѣзненно поражаетъ
насъ въ его послѣднихъ твореніяхъ. Вольтеръ же, который не обращалъ никакого
вниманія на этого рода предметы, провелъ всю свою долгую жизнь въ постоянномъ
обогащеніи себя дѣйствительными, полезными знаніями. Складомъ ума онъ принад-
лежалъ, по преимуществу, къ людямъ новѣйшаго времени. Презирая ничѣмъ не
подкрѣпляемый авторитетъ и не обращая никакого вниманія на преданія, онъ
посвятилъ себя изученію такихъ предметовъ, въ которыхъ побѣда человѣческаго
разума слишкомъ очевидна, чтобы можно было не признать ея. Чѣмъ болѣе онъ
дѣлалъ успѣховъ въ знаніяхъ, тѣмъ болѣе благоговѣлъ передъ тѣми громадными
силами, которыми созданы эти знанія. Поэтому его уваженіе къ человѣческому разу-
му вообще не только не уменьшалось, но возрастало по мѣрѣ обогащенія его соб-
ственнаго ума. Въ той же самой пропорціи усиливалась въ немъ любовь къ чело-
вѣчеству и ненависть къ предразсудкамъ, такъ долго омрачавшимъ его исторію. Что
таковъ именно былъ ходъ развитія его ума—въ этомъ ясно убѣдится всякій, кто со-
образитъ различіе въ духѣ его отдѣльныхъ сочиненій съ различными возрастами, въ
которыхъ сочиненія эти были написаны.
ИСТОРИЧ. ЛИТЕРАТУРА ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО ХѴІП СТ.
327
Первымъ историческимъ сочиненіемъ Вольтера была жизнь Карла XII, напи-
санная въ 1728 г. Въ это время познанія его были еще довольно ограничены, и
онъ находился подъ вліяніемъ преданій рабства, завѣщанныхъ предшествовавшимъ
поколѣніемъ. Поэтому неудивительно, что онъ выражаетъ глубочайшее уваженіе къ
Карлу, который между поклонниками военной славы всегда будетъ пользоваться
извѣстностью, хотя единственной заслугой его было то, что онъ опустошилъ много
земель и перебилъ множество людей. Но мы встрѣчаемъ въ историкѣ мало сочув-
ствія къ несчастнымъ подданнымъ этого монарха, труды которыхъ поглощались со-
держаніемъ королевскихъ армій; нѣтъ у него также и большого состраданія къ на-
ціямъ, разореннымъ этимъ великимъ разрушителемъ на всемъ протяженіи его за-
воеваній, отъ Швеціи до Турціи. Восторгъ, съ которымъ Вольтеръ смотритъ на
Карла, дѣйствительно безграниченъ. Онъ называетъ его самымъ необыкновеннымъ
человѣкомъ, какого только видѣлъ міръ \); объявляетъ, что это былъ государь, вполнѣ
проникнутый чувствомъ чести, и, наконецъ, едва порицая постыдное убійство Пат-
куля, разсказываетъ съ очевиднымъ восторгомъ о томъ, какъ вѣнценосный сума-
сбродъ съ сорока человѣками прислуги сопротивлялся цѣлой арміи 2). Точно также
онъ говоритъ, что послѣ сраженія при Нарвѣ Карлъ XII, несмотря на всѣ свои
усилія, не могъ воспрепятствовать выбитію въ Стокгольмѣ медалей въ память этого
событія. Между тѣмъ Вольтеръ очень хорошо зналъ, что человѣкъ съ столь сума-
сброднымъ тщеславіемъ долженъ былъ быть весьма доволенъ такимъ прочнымъ зна-
комъ уваженія; кромѣ того совершенно ясно, что еслибы это ему не нравилось,
медали никогда не были бы выбиты; ибо кто бы посмѣлъ безъ всякой цѣли оскор-
бить въ его собственной столицѣ одного изъ самыхъ/ деспотическихъ и самыхъ
мстительныхъ монарховъ въ мірѣ. _ /
Можно было бы думать, что образъ писанія исторіи еще не сдѣлалъ въ это
время особенныхъ успѣховъ 3). Но даже и здѣсь мы" находимъ уже одно важное
улучшеніе. Въ Вольтеровомъ жизнеописаніи Карла ХІІ уже не встрѣчается тѣхъ
допущеній сверхъестественнаго вмѣшательства, которыя такъ любилъ дѣлать Бос-
сюэтъ и которыя были такъ свойственны царствованію Людовика XIV. Отсутствіемъ
ихъ обозначается первый великій шагъ, совершенный французской школой въ во-
семнадцатомъ вѣкѣ; ту же особенность находимъ мы и во всѣхъ послѣдующихъ исто-
рикахъ: ни одинъ изъ нихъ не прибѣгнулъ къ методу, который хотя и удобенъ для
достиженія цѣлей теологіи, но гибеленъ для всякаго независимаго изслѣдованія, такъ
какъ онъ не только предписываетъ изслѣдователю, какимъ путемъ онъ долженъ идти,
но даже указываетъ ему предѣлъ, на которомъ онъ обязанъ остановиться.
Что Вольтеръ отступилъ отъ этого стараго метода спустя не болѣе тринадцати
лѣтъ послѣ смерти Людовика XIV, и что онъ сдѣлалъ это въ популярномъ сочине-
ніи, изобилующемъ опасными похожденіями, обыкновенно увлекающими умъ въ про-
тивоположную сторону,—это составляетъ не маловажный съ его стороны шагъ, и
явленіе это становится еще замѣчательнѣе, если взглянуть на него въ связи съ
другимъ довольно важнымъ фактомъ, а именно—что жизнеописаніе Карла ХІІ пред-
ставляетъ собой первый періодъ не только восемнадцатаго столѣтія, но и умствен-
наго развитія самого Вольтера 4). Послѣ того, какъ оно было издано, этотъ великій
2) «Карлъ ХІІ—самый необыкновенный можетъ
быть изъ всѣхъ людей, жившихъ па землѣ,—чело-
вѣкъ, который соединялъ въ себѣ всѣ великія каче-
ства своихъ предавъ, и единственнымъ недостаткомъ
или несчастіемъ котораго было то, что онъ всѣ эти
качества преувеличилъ».
а) Нѣкоторымъ лицамъ можетъ быть любопытно
будетъ узнать, что носилки, на которыхъ этого сума-
сброда «унесли съ воля Полтавской битвы», донынѣ
сохраняются въ Москвѣ.
3) Даже нѣкоторыя изъ географическихъ подроб-
ностей, какъ говорятъ, неточны. Впрочемъ, это должно
всякій разъ случаться, когда писатель, знающій какую-
либо страну только по картамъ, шатается входить въ
подробности, относящіяся къ высшей географіи. Въ
отношеніи же слога эта книга стоитъ выше всякой
похвалы; извѣстный критикъ Лакретель называетъ ее
«самымъ совершеннымъ образцомъ повѣствованія, какой
существуетъ па французскомъ языкѣ*. Въ 1843 г.
она еще употреблялась какъ учебная книга во фран-
цузскихъ королевскихъ коллегіяхъ.
4) Изъ переписки Вольтера становится очевид-
328
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
мужъ оставилъ на время исторію и обратилъ вниманіе свое на нѣкоторые изъ са-
мыхъ возвышенныхъ предметовъ человѣческаго мышленія: на математику, физику,
юриспруденцію, на открытія Ньютона и умозрѣнія Локка. Занимаясь этими предме-
тами, онъ ознакомился съ тѣми способностями человѣческаго ума, которыя нѣкогда
проявлялись и въ его отечествѣ, но въ продолженіе владычества Людовика XIV были
почти совершенно забыты. Затѣмъ, уже съ расширивавшимися познаніями и изощрен-
нымъ умомъ, онъ возвратился на великое поприще исторіи. То, какимъ образомъ
онъ теперь отнесся къ своему прежнему предмету, доказываетъ совершившуюся въ
немъ перемѣну. Въ 1752 г, явилось его знаменитое сочиненіе о Людовикѣ XIV;
самое заглавіе его уже указываетъ намъ на процессъ, чрезъ который прошелъ умъ
автора. Первое произведеніе Вольтера было повѣствованіе о королѣ, а это составляетъ
изображеніе вѣка. Произведеніе своей юности онъ назвалъ «Исторіею Карла XII»,
а позднѣйшее сочиненіе носитъ заглавіе «Вѣкъ Людовика XIПрежде онъ изобра-
жалъ личныя качества государя, теперь опъ разсматриваетъ явленія жизни цѣлаго
народа. Въ самомъ введеніи къ своему сочиненію онъ объявляетъ о намѣреніи своемъ
описывать «не дѣйствія одного человѣка, а характеристику цѣлой массы людей»; и съ
этой точки зрѣнія исполненіе не ниже самаго плана. Довольствуясь лишь краткимъ очер-
комъ военныхъ подвиговъ, о которыхъ съ любовью распространялся Боссюэтъ, онъ го-
воритъ очень подробно о всѣхъ дѣйствительно важныхъ предметахъ, которые до его
времени вовсе не имѣли мѣста въ исторіи Франціи. У него есть глава, посвящен-
ная торговлѣ и внутреннему управленію, другая—финансамъ, третья—исторіи на-
укъ и три главы—развитію изящныхъ искусствъ. Ходя Вольтеръ не придавалъ
большого значенія теологическимъ спорамъ, онъ зналъ7 однако, что они нерѣдко
играли важную роль въ дѣламъ человѣческихъ, и потому посвящаетъ нѣсколько от-
дѣльныхъ главъ изложенію хода дѣлъ церковныхъ въ царствованіе Людовика. Едва-ли
нужно говорить о громадномъ превосходствѣ такой системы не только надъ узкимъ
взглядомъ Боссюэта, но и надъ тѣмъ, который выразился въ первомъ историческомъ
трудѣ самого Вольтера. Нельзя однако не согласиться, что мы все-таки находимъ
въ этомъ сочиненіи слѣды тѣхъ предразсудковъ, отъ которыхъ трудно было совсѣмъ
отрѣшиться французу, выросшему въ царствованіе Людовика XIV. Вольтеръ не
только слишкомъ долго останавливается на тѣхъ увеселеніяхъ и развратныхъ по-
хожденіяхъ Людовика XIV, которыя весьма мало касаются до исторіи, но и выка-
зываетъ очевидное расположеніе судить благопріятно о самомъ королѣ и ограж-
дать его имя отъ заслуженнаго позора.
Но слѣдующее сочиненіе Вольтера показало, что это пристрастіе съ его сто-
роны было чисто личнымъ чувствомъ; оно не имѣло вліянія на его общія воззрѣнія
относительно того, какое мѣсто должны занимать въ исторіи дѣйствія государей.
Четыре года спустя послѣ появленія «Вѣка Людовика XIV» онъ издалъ свой замѣ-
чательный трактъ <0 нравственности. обычаяхъ и характерѣ націй*. Это не только
одно изъ самыхъ великихъ произведеній ХѴШ столѣтія, но и вообще лучшее до
сихъ поръ сочиненіе по этому предмету. Самая уже начитанность автора, прояв-
ляющаяся въ этой книгѣ, изумляетъ насъ х) своей громадностью; но еще изумитель-
нымъ, что онъ потомъ нѣсколько устыдился похвалъ,
расточенныхъ ямъ Карлу XII. Въ 1735 г. онъ пишетъ
къ де-Формоиу: «еслибы Карлъ не былъ такъ великъ,
такъ несчастливъ и такъ сумасброденъ, я бы пи за что
пе сталъ говорить о немъ>. Въ 1758 г. онъ заходитъ
еще далѣе и говоритъ о Карлѣ: «вотъ вамъ, милости-
вый государь, то, чтб люди всѣхъ временъ в всѣхъ
національностей называютъ героемъ; толпа во всѣ вре-
мена и во всѣхъ странахъ украшаетъ этимъ именемъ
страсть къ кровопролитію». Въ 1759 г., занимаясь со-
ставленіемъ исторіи Петра Великаго, онъ писалъ: «но
я сомнѣваюсь, чтобы это сочиненіе вышло такъ зани-
мательно, какъ исторія Карла XII, потому что Петръ
। былъ только необыкновенный мудренъ, а Карлъ—не-
обыкновенный безумецъ, сражавшійся какъ Донъ-Ки-
хотъ съ вѣтряными мелышцамв». Эти мѣста показы-
ваютъ намъ, какъ постепенно у Вольтера развивалось
сознаніе того, чѣмъ должна быть исторія и какое должно
быть ея назначеніе.
т) Поверхностные писатели такъ часто называютъ
Вольтера поверхностнымъ, что можетъ быть нелишнимъ
замѣтить, что точность его показаній была выхваляема
по только его соотечественниками, но и многими англій-
скими писателями, которыхъ ученость всѣми признана.
ИСТОРИЧ. ЛИТЕРАТУРА ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
329
нѣе то искусство, съ какимъ онъ связываетъ различные факты и дѣлаетъ такъ, что
они разъясняются одинъ другимъ; онъ достигаетъ этого иногда посредствомъ одной
какой-нибудь замѣтки, иногда же только посредствомъ расположенія этихъ фактовъ
въ извѣстномъ порядкѣ. Дѣйствительно, даже разсматривая эту книгу только какъ
произведеніе искусства, трудно было бы похвалить ее свыше мѣры, а судя о ней,
какъ о проявленіи духа времени, нельзя не замѣтить, что въ ней нѣтъ ни слѣда
только льстиваго преклоненія передъ королевской властью, которое характеризовало
Вольтера въ молодости и которое мы находимъ во всѣхъ лучшихъ писателяхъ вре-
менъ Людовика XIV. Во всемъ этомъ обширномъ и важномъ сочиненіи великій
историкъ обращаетъ весьма мало вниманія на интриги дворовъ, на перемѣны ми-
нистровъ и на судьбу королей, но старается открыть и охарактеризовать различныя
эпохи, чрезъ которыя послѣдовательно прошелъ родъ человѣческій. Я желаю, гово-
ритъ онъ, написать исторію не войнъ, а общества, привести въ извѣстность, какъ
люди жили внутри своихъ семействъ, и какими искусствами они наиболѣе занимались.
Цѣль моя,—присовокупляетъ онъ,—написать исторію человѣческаго ума, а не на-
боръ мелкихъ фактовъ; мнѣ нѣтъ даже дѣла до исторіи могущественныхъ бароновъ,
воевавшихъ съ французскими королями, но я бы желалъ знать, какимъ путемъ люди
перешли отъ варварства къ цивилизаціи.
Такимъ-то образомъ Вольтеръ примѣромъ своимъ научилъ историковъ сосредото-
чивать свое вниманіе на предметахъ дѣйствительной важности и пренебрегать тѣми
пустыми подробностями, которыми до тѣхъ поръ наполняема была исторія. Что это
стремленіе столько же происходило отъ духа времени, какъ и отъ личныхъ качествъ
автора, это доказывается тѣмъ, что мы находимъ точно то же направленіе и въ со-
чиненіяхъ Монтескьё и Тюрго, которые были конечно самыми даровитыми изъ со-
временниковъ Вольтера; оба они слѣдовали методу, сходному съ его методомъ въ
томъ отношеніи, что, пренебрегая изображеніями королей, дворовъ и сраженій, они
ограничивались такими сторонами дѣла, которыя разъясняютъ намъ характеръ чело-
вѣчества и общій ходъ цивилизаціи. И это отступленіе отъ старой рутины сдѣлалось
до такой степени популярнымъ, что вліяніе его простерлось и на другихъ истори-
ковъ съ меньшими, но все-таки еще замѣчательными дарованіями. Въ 1755 году
Маллё издалъ свое интересное и въ то время весьма цѣнное сочиненіе объ исторіи
Даніи, въ которомъ онъ объявляетъ себя послѣдователемъ новой школы. Съ какой
стати, говоритъ онъ, исторія должна быть перечнемъ сраженій, осадъ, интригъ и
переговоровъ? Почему должна она заключать въ себѣ кучу мелкихъ фактовъ и го-
довъ, а не великую картину понятій, обычаевъ и даже склонностей извѣстной на-
ціи? Также и Мабли, издавшій въ 1765 г. первую часть своего знаменитаго сочи-
ненія объ исторіи Франціи, въ предисловіи къ ней выражаетъ сожалѣніе о томъ,
что историки пренебрегли происхожденіемъ законовъ и обычаевъ, устремивъ свое
вниманіе исключительно на осады и сраженія. Слѣдуя тому же духу, Вэлли и Вил-
лярё, въ ихъ пространной исторіи Франціи, выражаютъ сожалѣніе о томъ, что исто-
рики разсказываютъ о событіяхъ жизни государя предпочтительно передъ событіями
жизни народа и упускаютъ изъ виду нравы и характеристику цѣлой націи, чтобы
изучать дѣйствія одного человѣка. Дюкло также объявляетъ, что сочиненіе его есть
исторія не войнъ и политическихъ событій, а людей и нравовъ, и даже —странно
сказать—придворно-вѣжливый Генб высказываетъ, что п онъ имѣлъ цѣлью изобра-
зить законы и нравы, которые, по его словамъ, составляютъ душу или, лучше ска-
зать, самую сущность исторіи.
Такимъ образомъ историки начали какъ бы переносить свои труды въ дру-
гую сферу и изучать предметы, относящіеся къ тѣмъ народнымъ интересамъ, на
которые великіе писатели временъ Людовика XIV даже не удостоивали обратить
вниманіе. Нечего и говорпть о томъ, до какой степени подобные взгляды согласо-
вались съ общимъ духомъ восемнадцатаго вѣка, и какъ они гармонировали съ на-
строеніемъ людей, стремившихся отрѣшиться отъ своихъ прежнихъ предразсудковъ
330 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
и подвергнуть презрѣнію то, чтб нѣкогда было предметомъ всеобщаго удивленія. Все
это было лишь частью того громаднаго движенія, которое проложило путь революціи,
подрывая старыя мнѣнія, располагая людей къ какой-то подвижности, къ какому-то
тревожному состоянію ума и въ особенности показывая равнодушіе къ тѣмъ могу-
щественнымъ личностямъ, на которыхъ до тѣхъ поръ смотрѣли болѣе какъ на бо-
говъ, чѣмъ какъ на людей, и которыми теперь въ первый разъ пренебрегали самые
великіе и самые популярные историки, оставляя безъ вниманія даже весьма замѣ-
чательные подвиги ихъ, съ тѣмъ чтобы остановиться на благосостояніи народовъ и
общихъ интересахъ массъ.
Но возвратимся къ тому, что было дѣйствительно сдѣлано Вольтеромъ. Нѣтъ
сомнѣнія, что въ немъ это стремленіе вѣка усиливалось врожденной обширностью
ума, располагавшей его къ широкимъ взглядамъ и возбуждавшей въ немъ недо-
вольство тѣми узкими предѣлами, въ которыхъ дотолѣ была стѣснена исторія г). Что
бы кто ни думалъ о другихъ качествахъ Вольтера, но нельзя не признать, что въ
его умственной организаціи все проявлялось въ громадныхъ размѣрахъ. Всегда го-
товый размышлять, всегда расположенный къ обобщенію, онъ не любилъ изучать
дѣйствія отдѣльныхъ личностей, если это не могло повести къ установленію какого-
нибудь широкаго и прочнаго принципа. Вотъ чтб пріучило его въ исторіи смотрѣть
главнѣйшимъ образомъ на то, какимъ путемъ шла та или другая страна, а не на
то, кѣмъ она управлялась. То же направленіе проявляется и въ его менѣе серьез-
ныхъ сочиненіяхъ. Было замѣчено, и не безъ основанія, что даже въ каждомъ изъ
своихъ драматическихъ произведеній онъ старался изобразить не столько страсти
отдѣльныхъ лицъ, какъ ду-$ъ цѣлой эпохи. Въ «Магометѣ» предметомъ его являлся
великій религіозный переворотъ, въ «Альзирѣ»—завоеваніе Америки, въ «Брутѣ»—
возникновеніе могущества Рима, въ «Смерти Цезаря»—основаніе имперіи на раз-
валинахъ этого могущества 2).
Эта рѣшимость смотрѣть на ходъ событій, какъ на великое, логически связан-
ное цѣлое, привела Вольтера къ нѣсколькимъ результатамъ, усвоеннымъ многими
позднѣйшими писателями, которые, весьма самодовольно пользуясь ими, въ то же
время бранятъ того, отъ кого они позаимствовались. Онъ былъ первый изъ исто-
риковъ, который, отвергнувъ обыкновенный способъ изслѣдованія, попытался, посред-
ствомъ широкихъ общихъ воззрѣній, объяснить причины возникновенія феодализма;
указаніемъ же на нѣкоторыя изъ причинъ упадка этого учрежденія въ четырнадца-
томъ столѣтіи онъ положилъ основаніе философской оцѣнкѣ этого важнаго явле-
нія 3). Онъ же сдѣлалъ одно глубокое замѣчаніе, впослѣдствіи принятое Констаномъ,
о томъ, что непристойные повидимому религіозные обряды не имѣютъ ничего общаго
съ развратомъ въ народныхъ нравахъ 4). Еще одно замѣчаніе его, только отчасти
Ч Въ 1763 г. онъ пишетъ: «было около двѣнад-
цати сраженій, о которыхъ я, слава Богу, и не упо-
мянулъ, потому что я пишу исторію ума человѣче-
скаго, а не газету». «Никто не читаетъ подробностей
сраженій и осадъ—нѣтъ ничего скучнѣе правыхъ и
лѣвыхъ фланговъ, бастіоновъ и контрэскарповъ».
2) Изумительная многосторонность Вольтерова ума
видна изъ того безпримѣрнаго въ литературѣ факта,
что онъ былъ одинаково великъ, какъ драматическій
писатель и какъ историкъ.
3) Въ восемнадцатомъ столѣтіи п даже, можно ска-
зать, до изданія сочиненія Галлана «Міййіе А^ез»
въ 1818 г. на англійскомъ языкѣ не было ни одного
полнаго изображенія феодальной системы, за исключе-
ніемъ развѣ книги Робертсона, который но этому пред-
мету, какъ и по многимъ другимъ историческимъ во-
просамъ, былъ ученикомъ Вольтера. Но только Дар-
лимпль и подобные ему писатели, по даже Блекстопъ
съ такой узкой точки зрѣнія смотрѣли па это великое
учрежденіе, что они даже не могли связать его съ общимъ
состояніемъ общества, къ которому оно принадлежало.
Нѣкоторые изъ историковъ весьма серьезно возводили
его ко временамъ Моисея, въ законахъ котораго они
находили начало установленія аллодіальныхъ земель.
4) Констанъ въ сочиненіи своемъ о римскомъ мно-
гобожіи говоритъ: «непристойные обряды могутъ быть
исполнены религіознымъ народомъ съ велпчайшей
искренностью. Но когда въ такомъ народѣ распростра-
няется невѣріе, то эти обряды становятся для него
причиной и предлогомъ самаго возмутительнаго раз-
врата». Это мѣсто цитировано у Мпльмана, который
называетъ его «весьма глубокимъ и вѣрнымъ». И та-
ково оно дѣйствительно—весьма глубоко и справедливо.
Но случилось такъ, что именно это самое замѣчаніе
было высказано Вольтеромъ около того времени, когда
Констанъ только-что родился. Говоря о поклоненіи
Пріапу, онъ сказалъ: «наши понятія о благопристой-
ности заставляютъ насъ думать, что обрядъ, кажущійся
ИСТОРИЧ. ЛИТЕРАТУРА во ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII ст. 331
принятое въ соображеніе писателями, занимавшимися церковною исторіей, испол-
нено поучительности. Онъ говоритъ, что одна изъ причинъ, по которымъ римскіе
епископы значительно превосходили вліяніемъ своимъ восточныхъ патріарховъ, за-
ключалась въ особенной гибкости греческаго ума. Почти всѣ ереси возникли на
Востокѣ, и ни одинъ изъ папъ, за исключеніемъ Гонорія І-го, не принялъ такой сис-
темы, которая была бы осуждена церковью. Это придало папской власти такую
цѣлость и прочность, которой патріаршій престолъ никогда не могъ достигнуть; и
такимъ образомъ римскіе папы обязаны частью своего авторитета первобытной ту-
пости европейской фантазіи 1).
Невозможно было бы перечислить всѣ оригинальныя замѣтки Вольтера, кото-
рыя въ то время, когда онъ высказалъ ихъ, оспаривались, какъ опасные парадоксы,
а теперь всѣми оцѣнены, какъ глубокія истины. Онъ былъ первый историкъ, сто-
явшій за полную свободу торговли, и хотя онъ выражается съ большой осторож-
ностью 2), но уже самое выраженіе такой идеи въ популярной исторіи составляетъ
эпоху въ умственномъ развитіи Франціи. Онъ первый вывелъ важное различіе между
умноженіемъ населенія и увеличеніемъ средствъ ^къ пропитанію,—выводъ, которому
такъ много обязана политическая экономія 3), и который черезъ нѣсколько лѣтъ былъ
усвоенъ Тоунзендомъ, а потомъ принятъ Мальтусомъ за основаніе его знаменитаго
сочиненія 4). Къ заслугамъ Вольтера относится еще и то, что онъ первый разсѣялъ
то дѣтское очарованіе, съ которымъ до тѣхъ поръ смотрѣли на средніе вѣка,—оча-
рованіе, созданное тѣми бездарными, хотя и учеными писателями, которые были въ
шестнадцатомъ и семнадцатомъ столѣтіяхъ главными изслѣдователями исторіи древ-
нѣйшихъ временъ Европы. Эти трудолюбивые компиляторы собрали обширные ма-
теріалы, которыми Вольтеръ превосходно воспользовал^й, чтобы опровергнуть заклю-
ченія, выведенныя этими самыми авторами. Въ сочиненіяхъ его средніе вѣка въ
первый разъ представлены такими, какими они были въ дѣйствительности,—време-
немъ невѣжества, жестокости и разврата,—временемъ, въ которое нарушенныя права
не возстановлялись, преступленія оставались безнаказанными, суевѣріе не было изоб-
личаемо. Есть какъ будто бы нѣкоторое основаніе замѣтить, что въ начертаніи этой
картины Вольтеръ уклонился въ противоположную крайность, не отдавъ должной
справедливости заслугамъ истинно великихъ людей, являвшихся тамъ и сямъ съ
намъ столь постыднымъ, былъ придуманъ развратомъ,
но весьма невѣроятно, чтобы у какого-либо народа
развращеніе нравовъ послужило источникомъ религіоз-
ныхъ обрядовъ. Напротивъ того, вѣроятно, что этотъ
обычай былъ впервые введенъ во времена величайшей
простоты, и что люди думали только о томъ, чтобы
почтить божество въ символѣ дарованной имъ жизни. ;
Подобная церемонія могла расиолагать юношество къ '
разврату, а зрѣлымъ умамъ казаться смѣшною только
тогда, когда пришли времена большей утонченности, 1
большаго развращенія и большей образованности».
1) Неандеръ замѣчаетъ, что въ греческой церкви
было больше ересей, чѣмъ въ латинской, потому что
греки болѣе мыслили; по оиъ упустилъ изъ виду бла-
гопріятное вліяніе этого обстоятельства на могущество
папъ.
2) Говоря о торговлѣ Архангельскаго порта, онъ
сказалъ: «Англичане получили привилегію торговать
тамъ, не платя никакой повинности, и именно такимъ
образомъ можетъ быть слѣдовало бы условиться между
собою и всѣмъ націямъ». Эти слова весьма замѣча-
тельны, если принять въ соображеніе, что они напи-
саны французомъ, родившимся въ копцѣ семнадцатаго
столѣтія; а между тѣмъ, сколько мнѣ извѣстно, оии
до сихъ поръ не были замѣчены никѣмъ изъ людей,
писавшихъ объ исторіи политической экономіи. Дѣй-
ствительно, въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ
другихъ, по было отдано должной справедливости Воль-
теру, сужденія котораго вообще правильнѣе, чѣмъ
мысли Кепэ и всѣхъ его послѣдователей.
3) «Идея о различіи пропорцій, въ которыхъ воз-
растаетъ народонаселеніе и увеличиваются средства къ
пропитанію, была первоначально высказана Вольте-
ромъ, и затѣмъ поднята и развита во множествѣ томовъ
нашимп англійскими политико-эвопомами настоящаго
столѣтія» (Ленгъ),
4) Неоднократно было высказано, что Мальтусъ обя-
занъ своими понятіями о народонаселеніи сочиненіямъ
Тоунзепда; нофактъэтого позаимствованія былъ слишкомъ
уже рѣзко обличаемъ, какъ всегда бываетъ, когда по-
добное обвиненіе высказывается противъ какого-нибудь
великаго творенія. Тѣмъ не менѣе Тоунзенда слѣдуетъ
считать предвѣстникомъ Мальтуса. Такъ какъ Вольтеръ
предшествовалъ этимъ писателямъ, то онъ естествен-
нымъ образомъ впалъ въ такія заблужденія, которыхъ
опп избѣгли; но ничто яѳ можетъ быть лучше его на-
паденія на невѣжественное понятіе его времени, будто
бы слѣдуетъ употреблять всѣ средства для умноженія
населенія: «Не въ томъ главная цѣль, чтобы имѣть
какъ можно больше людей, а въ томъ, чтобы сдѣлать
тѣхъ, которыхъ мы имѣемъ, какъ можно менѣе не-
счастливыми»,—вотъ вкратцѣ сущность его глубокихъ
замѣчаній, высказанныхъ въ «Оісі. Рѣііоэ.» агіісіо «Ро-
риіаііоп».
332
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
большими промежутками, подобно одинокимъ маякамъ, свѣтъ которыхъ только дѣ-
лалъ еще болѣе ощутительнымъ окружающій ихъ мракъ. Но, отдѣливъ отъ воззрѣній
Вольтера на средніе вѣка все, что слѣдуетъ отнести на долю преувеличеній, необ-
ходимо вызываемыхъ всякою реакціей во мнѣніяхъ, можно все-таки съ достовѣр-
ностью сказать, что взглядъ его на этотъ періодъ не только гораздо вѣрнѣе взгляда
кого бы то ни было изъ предшествовавшихъ писателей, но даже правильнѣе того
мнѣнія, какое можно составить себѣ изъ позднѣйшихъ компиляцій, которыми мы
обязаны трудамъ новѣйшихъ антикваріевъ; эти послѣдніе принадлежатъ къ породѣ
простыхъ тружениковъ, которые восхищаются прошедшимъ, потому, что не знаютъ
настоящаго и, роясь почти весь свой вѣкъ въ пыли забытыхъ рукописей, думаютъ,
что съ жалкими средствами своей ограниченной учености они могутъ умствовать
о дѣлахъ человѣчества, могутъ писать исторію различныхъ періодовъ и даже при-
суждать каждому ихъ нихъ заслуженную похвалу.
Противъ подобныхъ писателей постоянно воевалъ Вольтеръ, и никто столько
не содѣйствовалъ къ уменьшенію того вліянія, которое они нѣкогда имѣли даже на
самыя высшія отрасли знанія. Былъ и другой еще разрядъ диктаторовъ, авторитетъ
которыхъ также удалось ослабить этому великому писателю,—это именно старинная
корпорація знатоковъ и комментаторовъ классической древности, которые съ поло-
вины четырнадцатаго столѣтія до начала восемнадцатаго были главными распредѣ-
лителями исторической славы и пользовались особеннымъ уваженіемъ, слывя за са-
мыхъ замѣчательныхъ людей, какихъ производила когда-либо Европа. Первыя силь-
ныя нападенія на нихъ были сдѣланы въ концѣ семнадцатаго вѣка, когда возникло
два важныхъ спора, о которыхъ я буду говорить далѣе,—одинъ во Франціи, другой
въ Англіи,—и которыми бьйіо въ значительной степени потрясено ихъ могущество.
Но двумя самыми страшными противниками ихъ были, безъ всякаго сомнѣнія, Локкъ
и Вольтеръ. Огромная услуга, которую оказалъ Локкъ, ослабивъ значеніе старой
классической школы, будетъ разсмотрѣна въ другой части этого сочиненія; въ на-
стоящее же время мы должны только прослѣдить то, что сдѣлано было Вольтеромъ.
Авторитетъ, которымъ пользовались эти великіе, знатоки классической древ-
ности, основанъ былъ не только на даровитости ихъ, которая неопровержима, но
и на предполагавшейся особой важности ихъ занятій. Вообще полагали, что древняя
исторія имѣетъ какое-то существенное превосходство передъ новою; а разъ допу-
стили эту мысль, то изъ иея естественнымъ образомъ вытекало, что лица, зани-
мающіяся первою, заслуживаютъ гораздо больше похвалы, чѣмъ тѣ, которыя раз-
рабатываютъ вторую, и что когда, напримѣръ, французъ напишетъ исторію какой-
нибудь греческой республики, то онъ этимъ докажетъ болѣе возвышенный складъ
ума, чѣмъ когда бы онъ написалъ исторію своего отечества. Этотъ странный пред-
разсудокъ нѣсколько вѣковъ переходилъ изъ рода въ родъ—люди принимали его,
какъ наслѣдіе своихъ отцовъ, противъ котораго возставать было бы почти безбо-
жіемъ. Вотъ почему немногіе дѣйствительно даровитые люди между писателями, за-
нимавшимися исторіей, посвящали себя главнымъ образомъ изученію древнихъ вре-
менъ, или обращаясь даже къ новѣйшимъ временамъ, смотрѣли на свой предметъ
не съ точки зрѣнія современныхъ имъ идей, а примѣняясь къ идеямъ, которыхъ
они набрались, предаваясь своимъ любимымъ занятіямъ—изученію древности. Это
смѣшеніе нормальнаго мѣрила одного времени съ мѣриломъ другого произвело двоякое
зло. Историки, принявъ такой образъ дѣйствія, повредили оригинальности своего
собственнаго ума и—чтб еще хуже—подали дурной примѣръ литературѣ своего оте-
чества. Каждая великая нація имѣетъ образъ выраженія и образъ мыслей, который
свойственъ ей одной и съ которымъ тѣсно связаны всѣ ея сочувствія. Ввести ка-
кой-нибудь иностранный образецъ для подражанія, какъ бы онъ ни былъ прекра-
сенъ, значитъ нарушить эту связь и повредить значенію литературы, ограничивъ
кругъ ея дѣйствія. Такимъ путемъ можетъ пожалуй утончиться вкусъ, но самород-
ная сила литературы непремѣнно ослабѣетъ. Даже въ самомъ утонченіи вкуса очень
ИСТОРИЧ. ЛИТЕРАТУРА ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
333
можно усомниться при видѣ того, что было въ нашемъ отечествѣ, гдѣ великіе зна-
токи классической древности изуродовали народный языкъ примѣсью такого нелѣ-
паго жаргона, что простому человѣку трудно даже замѣтить то собственно отсут-
ствіе идей, которое они стараются скрыть подъ своимъ варварскимъ, разнокалибер-
нымъ нарѣчіемъ *)• Какъ бы то ни было, но можно достовѣрно сказать, что всякое
племя, заслуживающее названія націи, имѣетъ въ своемъ собственномъ языкѣ весьма
достаточныя средства для выраженія самыхъ высшихъ понятій, какія только оно мо-
жетъ себѣ составить, и хотя въ изложеніи предметовъ научныхъ можетъ быть по-
лезно сочинять такія слова, которыя легче понимались бы въ другихъ странахъ, но
во всякомъ другомъ изложеніи малѣйшее отступленіе отъ родного языка составляетъ
важный проступокъ. Еще большій проступокъ составляетъ то, когда кто вводитъ
такія понятія и такія мѣрила для дѣйствій, которыя годились можетъ быть въ преж-
нія времена, но теперь далеко остались позади всеобщаго' движенія впередъ и не
возбуждаютъ въ насъ собственно никакого сочувствія, хотя и представляютъ можетъ
быть тотъ болѣзненный, искусственный интересъ, который еще ухитряются создавать
для нихъ классическіе предразсудки первоначальнаго воспитанія.
Противъ этихъ именно золъ и началъ борьбу Вольтеръ. Остроуміе тѣхъ на-
смѣшекъ, съ которыми онъ напалъ на замечтавшихся ученыхъ своего времени, мо-
жетъ быть оцѣнено только людьми, изучавшими его творенія. Впрочемъ, нельзя ска-
зать, какъ утверждали нѣкоторые, чтобы онъ употреблялъ это оружіе взамѣнъ дока-
зательствъ, и еще менѣе, чтобы онъ дѣлалъ изъ насмѣшки пробный камень истины.
Никто не разсуждалъ правильнѣе, чѣмъ разсуждалъ Вольтеръ, когда онъ видѣлъ,
что разсужденія могутъ привести его къ цѣли. Но въ настоящемъ случаѣ онъ имѣлъ
дѣло съ людьми, противъ которыхъ ничего нельзя было/сдѣлать разсужденіями,—съ
людьми, у которыхъ вслѣдствіе чрезмѣрнаго уваженія къ древности остались въ го-
ловѣ только двѣ идеи, а именно: что все старое хорошо, а все новое дурно. Раз-
убѣждать въ такихъ мнѣніяхъ посредствомъ разсужденій было бы дѣйствительно без-
полезнымъ трудомъ; оставалось одно—сдѣлать эти мнѣнія смѣшными и ослабить ихъ
вліяніе, возбудивъ презрѣніе къ представителямъ ихъ. Это было одною изъ задачъ,
которыя задалъ себѣ Вольтеръ, и онъ разрѣшилъ ее превосходно. Слѣдовательно,
онъ употребилъ насмѣшку не какъ пробный камень истины, а какъ бичъ для тупо-
умія. И съ такимъ успѣхомъ прилагалъ онъ это наказаніе, что не только педанты
и теологи его времени глубоко чувствовали его удары, но даже преемники ихъ не
могутъ безъ боли читать его язвительныя слова и удовлетворяютъ своей потребности
мщенія тѣмъ, что поносятъ память великаго писателя, сочиненія котораго составляютъ
для нихъ вѣчный укоръ, а самое имя—предметъ нескрываемой ненависти.
Эти два разряда людей имѣютъ дѣйствительно довольно причинъ для той не-
нависти, съ которой они до сихъ поръ смотрятъ на самаго великаго изъ францу-
зовъ, жившихъ въ восемнадцатомъ столѣтіи. Вольтеръ сдѣлалъ болѣе, чѣмъ кто-либо
для того, чтобы подрыть самыя основы могущества духовенства и уничтожить пре-
обладаніе спеціалистовъ классической древности. Здѣсь не мѣсто обсуждать тѣ тео-
логическія мнѣнія, противъ которыхъ онъ возставалъ, но о мнѣніяхъ относительно
предметовъ классической древности можно себѣ составить понятіе, разсмотрѣвъ нѣ-
сколько фактовъ, занесенныхъ древними въ исторію и бывшихъ до появленія Воль-
') За исключеніемъ одного Порсона пи одинъ изъ
великихъ англійскихъ филологовъ не умѣлъ цѣнить кра- 1
сотъ своего родного языка, и многіе изъ нихъ, какъ, на- |
примѣрь, Парръ, во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ, п Бент-
леи, въ своемъ сумасбродномъ изданіи Мильтона, сдѣ- ,
лали все, чтб могли, чтобы испортить англійскій языкъ. |
Нѣтъ никакого сомнѣнія, что главная причина того,
почему образованныя женщины пишутъ и говорятъ
болѣе чистымъ языкомъ, чѣмъ образованные мужчины,
заключается въ томъ, что опѣ не образовали свои I
вкусъ по тѣмъ классическимъ образцамъ, которые,
какъ бы превосходны они ни были сами по себѣ, не
должны никогда быть вводимы въ такое общество, со-
стояніе котораго къ нимъ не подходитъ. Къ этому можно
присовокупить, что Коббеттъ, самый энергичный изъ
вашихъ писателей, и Эрскамнъ, безъ сомнѣнія са-
мый великій изъ нашихъ судебныхъ ораторовъ, или
совсѣмъ но знали древнихъ языковъ, или весьма
мало знали ихъ; то же замѣчаніе относится и къ
Шекспиру.
334 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
тера предметомъ безусловной вѣры со стороны новѣйшихъ ученыхъ, а по ихъ слѣ-
дамъ и всего общества.
Всѣ вѣрили, напримѣръ, что нѣкогда Марсъ изнасиловалъ дѣвушку и что пло-
домъ этой связи было рожденіе Ромула и Рема; что ихъ предполагалось умертвить,
но къ счастью они были спасены заботливостью волчицы и дятла: первая вскормила
ихъ своимъ молокомъ, а послѣдній оберегалъ ихъ отъ насѣкомыхъ. Вѣрили еще и
тому, что Ромулъ и Ремъ, достигнувъ зрѣлаго возраста, рѣшились построить городъ,
и что, по присоединеніи къ нимъ потомковъ троянскихъ воиновъ, имъ удалось воз
двигнуть Римъ; что обоихъ братьевъ постигла безвременная кончина: Ремъ былъ
убитъ, а Ромулъ взятъ на небеса своимъ отцомъ, спустившимся для этого на землю
среди бури. Далѣе, великіе ученые разсказывали о нѣсколькихъ другихъ царяхъ.
Самымъ замѣчательнымъ между ними былъ Нума, сообщавшійся съ своею женой
исключительно въ одной священной рощѣ. Еще царствовалъ въ Римѣ Туллъ Гости-
лій, который, оскорбивъ жрецовъ, погибъ отъ гнѣва ихъ—онъ былъ убить молніей
и смерти его предшествовала моровая язва. Потомъ царствовалъ нѣкій Сервій Тул-
лій, будущее величіе котораго предвозвѣщено было тѣмъ, что около головы его, когда
онъ спалъ въ колыбели, появилось пламя. При такихъ чудесахъ нарушеніе обыкно-
венныхъ законовъ смертности человѣческой должно было казаться бездѣлицей, и
вслѣдствіе того насъ увѣряли, что невѣжественные варвары—первые римляне—про-
вели двѣсти пятьдесятъ лѣтъ подъ управленіемъ семп только царей, которые всѣ
были избраны въ цвѣтущихъ лѣтахъ, и при томъ одипъ изъ нихъ изгнанъ, а трое
другихъ умерщвлены.
Вотъ нѣсколько изъ тѣхъ пустыхъ сказокъ, которыя доставляли столько удо-
вольствія великимъ ученымъ и которыя въ продолженій нѣсколькихъ вѣковъ счита-
лись существенной частью лѣтописей Римской имперіи. Дѣйствительно, легковѣріе
людей по отношенію къ этимъ сказкамъ было такъ велико, что, пока онѣ не были
опровергнуты Вольтеромъ, было только четыре писателя, осмѣлившихся открыто
нападать на нихъ. Имена этихъ смѣлыхъ нововводителей: Клуверій, Перизоній,
Пульи п Бофоръ, но никому изъ пихъ не удалось подѣйствовать на обществен-
ное мнѣніе. Сочиненія Клуверія и Перизонія, написанныя по-латыни, обраща-
лись исключительно къ такому разряду читателей, которые, будучи ослѣплены
любовью къ древности, не хотѣли и слушать ничего такого, что могло ослабить
значеніе ея исторіи. Пульи и Бофоръ писали по-французски; оба они, и въ особен-
ности Бофоръ, были люди съ значительнымъ дарованіемъ, но способности ихъ были
не довольно многосторонни, чтобы дать имъ возможность уничтожить предразсудки,
пользовавшіеся такою сильной опорой и взлелѣянные воспитаніемъ нѣсколькихъ
поколѣній.
Такимъ образомъ заслуга Вольтера въ дѣлѣ очищенія исторіи отъ этихъ глу-
пыхъ выдумокъ заключается не въ томъ, что онъ первый сталъ опровергать ихъ,
а въ томъ, что онъ первый опровергалъ ихъ съ успѣхомъ; и это потому, что онъ
примѣшалъ къ доказательствамъ насмѣшку и такимъ образомъ не только нападалъ
на самую систему, но и ослаблялъ авторитетъ тѣхъ, которые поддерживали ее. Его
иронія, его остроуміе, его ѣдкіе, всепоражающіе сарказмы подѣйствовали болѣе,
чѣмъ могли бы подѣйствовать самые серьезные аргументы; и нѣтъ никакого сомнѣ-
нія, что онъ имѣлъ полное право употреблять въ дѣло могущественныя средства,
данныя ему природой, такъ какъ съ помощью ихъ онъ дѣйствовалъ въ пользу инте-
ресовъ истины и освобождалъ людей отъ нѣкоторыхъ изъ самыхъ закоснѣлыхъ пред-
разсудковъ.
Не должно однако думать, чтобы насмѣшка была единственнымъ средствомъ,
которое употреблялъ Вольтеръ для достиженія этой важной цѣли. Напротивъ того,
я могу положительно сказать, по тщательномъ сравненіи его съ Нибуромъ, что самые
рѣшительные аргументы, представленные послѣднимъ противъ первоначальной исторіи
Рима, были всѣ сперва высказаны Вольтеромъ, въ сочиненіяхъ котораго и можетъ
ИСТОРИЧ. ЛИТЕРАТУРА ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII ст. 335
найти ихъ всякій, кто только дастъ себѣ трудъ прочитать эти сочиненія вмѣсто
того, чтобы невѣжественно бранить ихъ автора. Не входя въ безполезныя подроб-
ности, достаточно будетъ замѣтить, что среди множества весьма умныхъ и ученыхъ
доказательствъ Нибуръ высказалъ нѣсколько такихъ взглядовъ, которыми позднѣй-
шіе критики остались недовольны, но что въ основаніи его исторіи есть три — и
только три ~ принципа, не подлежащихъ никакому опроверженію. Принципы эти
суть: 1) что вслѣдствіе неизбѣжной примѣси сказочнаго элемента къ преданіямъ вся-
каго необразованнаго народа никакая нація не можетъ имѣть достовѣрныхъ свѣдѣ-
ній о своемъ происхожденіи; 2) что даже тѣ ранніе историческіе источники, кото-
рые могли бы существовать у римлянъ, должны были быть уничтожены, прежде чѣмъ
могли войти въ составъ правильной исторіи; и 3) что церемоніи, установленныя въ
память какихъ-либо событій, будто бы совершившихся въ прежнія времена, соста-
вляютъ доказательство не того, чтобы эти событія дѣйствительно совершились, а
только того, что народъ вѣрилъ въ совершеніе ихъ. Все зданіе первоначальной
исторіи Рима разомъ рушилось, какъ только къ нему были приложены эти три прин-
ципа; и всего замѣчательнѣе то, что не только всѣ эти принципы выведены Воль-
теромъ, но у него ясно указано также и примѣненіе ихъ къ римской исторіи. Онъ
говоритъ, что ни одинъ народъ не знаетъ своего происхожденія и что. слѣдовательно,
всякая первобытная исторія есть непремѣнно не иное что, какъ выдумка.
Далѣе онъ замѣчаетъ, что и тѣ историческія сочиненія, какія дѣйствительно
были нѣкогда у римлянъ, погибли, когда сгорѣлъ ихъ городъ, и что поэтому нельзя
придавать никакого вѣроятія тѣмъ несравненно позднѣйшимъ извѣстіямъ, которыя
передаются намъ Титомъ Ливіемъ и другими компиляторами 1). А такъ какъ множество
ученыхъ занимались собираніемъ свѣдѣній о церемоніяхъ, установленныхъ въ память
извѣстныхъ событій, и затѣмъ приводили эти свѣдѣнія въ доказательство достовѣр-
ности этихъ событій, то по этому поводу Вольтеръ высказываетъ одну мысль, кото-
рая теперь кажется весьма очевидной, но которую совершенно упустили изъ виду
эти ученые. Онъ замѣчаетъ, что работа ихъ безполезна, такъ какъ время, къ ко-
торому относятся такія доказательства, за весьма немногими исключеніями, не-
сравненно позже времени подтверждаемыхъ ими событій. Въ такихъ случаяхъ су-
ществованіе того пли другого празднества или памятника доказываетъ только, что
у людей было извѣстное повѣрье, а не дѣйствительность самаго событія, составляю-
щаго предметъ этого повѣрья. Эта простая, но весьма важная мысль даже и въ
настоящее время постоянно упускается изъ виду, а до восемнадцатаго вѣка никто
и не думалъ объ этомъ. Потому-то историки имѣли возможность собирать сказки,
которымъ всѣ вѣрили безъ разсужденія 2): въ то время совершенно забывали, что
сказки, какъ говоритъ Вольтеръ, въ одномъ поколѣніи начинаютъ распространяться,
въ другомъ—окончательно утверждаются, въ третьемъ—становятся предметовъ ува-
женія, а въ четвертомъ—въ честь ихъ уже воздвигаются храмы*
Я потому именно счелъ своей обязанностью довольно подробно поговорить
объ огромныхъ услугахъ, оказанныхъ исторіи Вольтеромъ, что въ Англіи существуетъ
противъ него предубѣжденіе, которое можетъ быть объяснено только невѣжествомъ,
4) «Должно обратить вниманіе на то, что Рим-
ская республика въ теченіе пятисотъ лѣтъ вовсе не
имѣла историковъ, и что Титъ Ливій самъ выражаетъ
сожалѣніе о потерѣ другихъ источниковъ, которые всѣ
уничтожились во время пожара» и т. д. «Эготъ па-
родь, явившійся такъ недавно, въ сравненіи съ азіат-
скими націями, въ теченіе пятисотъ лѣтъ не имѣлъ исто-
риковъ. Поэтому и неудивительно, что Ромулъ ока-
зался сыномъ Марса, и что съ тысячью людьми изъ
своей деревни—Рима—онъ пошелъ на двадцать пять
тысячъ воиновъ изъ деревни Сабипянъ».
2) «Въ большую часть исторій люди вѣрили безъ
всякаго разсужденія, н это довѣріе есть предразсудокъ.
Фабій Пикторъ разсказываетъ, что за нѣсколько сто-
лѣтій до него весталка изъ города Альбы, шедшая съ
кувшиномъ за водою, была изнасилована, и что она ро-
дила Ромула и Рема, что опи были вскормлены вол-
чицей и т. д. Римскій народъ повѣрилъ этой сказкѣ:
онъ не подумалъ о томъ: были ли въ то время къ
Лаціумѣ весталки, правдоподобно ли, чтобы царская
дочь вышла съ кувшиномъ изъ монастыря, и, наконецъ,
правдоподобно ли, чтобы волчица стала кормить дво-
ихъ дѣтей, вмѣсто того, чтобы съѣсть пхъ; предраз-
судокъ этотъ утвердился». (сВіоі. РЬіІоз». агі. «Ргёііі-
&ёз>—Оеиѵгез, ѵоі. ХЫ, рр. 488, 489).
336
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
или пожалуй чѣмъ-нибудь еще худшимъ х), а также и потому, что, вообще говоря,
Вольтеръ—едва-ли не лучшій изъ историковъ, какихъ произвела до сихъ поръ Европа.
Необходимо однако замѣтить относительно умственныхъ стремленій ХѴ11І сто-
лѣтія вообще, что въ тотъ же самый періодъ его подобную же широту взгляда про-
являли и другіе французскіе историки; такъ въ этомъ случаѣ, какъ и во всѣхъ дру-
гихъ, мы видимъ, что значительная доля того, что сдѣлано даже самыми замѣча-
тельными людьми, должна быть отнесена на долю характера того времени, въ кото-
ромъ они жили.
Успѣху обширныхъ трудовъ Вольтера въ дѣлѣ преобразованія взгляда на исто-
рію весьма много содѣйствовали великія сочиненія, которыя издалъ въ то же время
Монтескьё. Въ 1734 году этотъ замѣчательный человѣкъ издалъ сочиненіе, которое
можно справедливо назвать первой книгой, сообщающей намъ какія-нибудь свѣдѣ-
нія объ истинной исторіи Рима, потому что въ ней первой на событія древняго міра
брошенъ широкій и многосторонній взглядъ. Четырнадцать лѣтъ спустя явилось со-
чиненіе того же писателя—«Духъ законовъ»,— произведеніе, пользовавшееся боль-
шой извѣстностью, но, какъ мнѣ кажется, не болѣе великое. Не подлежитъ ко-
нечно никакому спору, что книга эта имѣетъ огромныя достоинства и что ихъ не
могутъ умалить никакія придирки тѣхъ мелочныхъ критиковъ, которые повидимому
думаютъ, что, открывъ случайную ошибку у великаго человѣка, они въ нѣкоторой
степени низводятъ его до своего уровня. Не такими мелочами можно уронить евро-
пейскую извѣстность; и великое твореніе Монтескьё далеко переживетъ всѣ подоб-
наго рода нападенія, потому что широкія и дальновидныя обобщенія его сохранили
бы свою цѣну даже и въ томъ случаѣ, еслибы всѣ частные факты, служащіе имъ
пояснительными примѣрами, оказались совсѣмъ лишенными основанія. Я все-таки
склоненъ думать, что въ отношеніи оригинальности мысли это сочиненіе Монтескьё
едва-ли можетъ быть поставлено наравнѣ съ первымъ его произведеніемъ, хотя оно
и было безспорно плодомъ гораздо большей начитанности. Но мы не станемъ здѣсь
сравнивать между собой эти два произведенія: настоящая цѣль наша лишь разсмо-
трѣть совокупное участіе ихъ въ развитіи правильнаго взгляда на исторію и связь
между этимъ вліяніемъ ихъ и общимъ духомъ XVIII столѣтія.
Разсматривая съ этой точки зрѣнія сочиненія Монтескьё, мы находимъ въ нихъ
двѣ главныя особенности. Первая изъ нихъ есть совершенное отсутствіе тѣхъ лич-
ныхъ анекдотовъ и тѣхъ пошлыхъ подробностей объ отдѣльныхъ лицахъ, которые
составляютъ принадлежность біографіи, но до исторіи, какъ ясно видѣлъ Монтескьё,
вовсе не касаются. Другую особенность составляетъ впервые сдѣланная имъ весьма
важная попытка соединить исторію человѣчества съ науками, относящимися ко
внѣшнему міру. Такъ какъ въ этомъ именно состоятъ двѣ великія характеристиче-
скія черты метода, принятаго Монтескьё, то необходимо дать о нихъ нѣкоторое по-
г) Въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ,
невѣжество было подкрѣплено изувѣрствомъ, ибо, какъ
справедливо сказалъ о Вольтерѣ лордъ Кампбелль: «со
времени Французской Революціи въ Англіи стало до-
казательствомъ ортодоксіи и преданности престолу--
бранить этого писателя за все безъ разбора». Дѣйстви-
тельно, общественное мнѣніе такъ сильно было пред-
убѣждено противъ этого великаго человѣка, что до
самаго послѣдняго времени, когда лордъ Брумъ издалъ
его біографію, на англійскомъ языкѣ не было ни одной
книги, которая содержала бы въ себѣ хоть сколько-ни-
будь споеное изображеніе этого человѣка, одного изъ
самыхъ вліятельныхъ писателей, какихъ произвела
Франція. Этотъ трудъ лорда Брума есть произведеніе,
хотя и весьма посредственное, по по крайней мѣрѣ чест-
ное, и такъ какъ оно гармонируетъ съ общимъ духомъ
нашего времени, то вѣроятно имѣло значительное влія-
ніе на публику. Онъ говоритъ въ номъ о Вольтерѣ:
спельзя назвать ни одного человѣка, со временъ
Лютера, которому бы мы столько былп обязаны за
содѣйствіе развитію духа изслѣдованія и даже эманси-
паціи ума человѣческаго отъ духовной тиранніи». До-
стовѣрно, что чѣмъ лучше будетъ понимаема исторія
восемнадцатаго вѣка, тѣмъ болѣе будетъ возрастать ува-
женіе къ Вольтеру,—чтб уже ясно предвидѣлъ за цѣлое
поколѣніе до насъ одинъ знаменитый писателъ. Въ
1831 году Лерминьё написалъ эти замѣчательныя
и, какъ оказалось впослѣдствіи, пророческія слова:
«пора возвратиться къ болѣе почтительнымъ чувствамъ
относительно памяти Вольтера. Вольтеръ сдѣлалъ для
Франціи то же, что Лейбницъ для Гермаиін; въ продол-
женіе трехъ четвертей вѣка опъ былъ представителемъ
своего отечества, уподобляясь могуществомъ Лютеру п
Наполеону; ого имени суждено пережить много слав-
ныхъ именъ, и я сожалѣю о тѣхъ, которые забылись
до того, что презрительно выражаются о геніѣ этого
человѣка».
ИСТОРИЧ. ЛИТЕРАТУРА ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
337
нятіе для того, чтобы лучше обозначилось передъ нами то мѣсто, которое онъ дѣй-
ствительно занимаетъ, какъ одинъ изъ основателей философіи исторіи.
Мы уже видѣли, что Вольтеръ сильно настаивалъ на необходимости преобра-
зовать исторію въ томъ отношеніи, чтобы она побольше обращала вниманія на
жизнь народовъ и поменьше на ихъ политическихъ и военныхъ вождей. Мы также
видѣли, что это великое улучшеніе до такой степени согласовалось съ духомъ вре-
мени, что было всѣми вообще и весьма скоро принято и такимъ образомъ стало
однимъ изъ признаковъ тѣхъ демократическихъ стремленій, которыхъ оно было соб-
ственно результатомъ. Поэтому неудивительно, что Монтескьё принялъ то же самое
направленіе даже прежде, чѣмъ движеніе это ясно обозначилось: подобно большей
части великихъ мыслителей, онъ служилъ представителемъ умственнаго настроенія
и удовлетворялъ умственнымъ потребностямъ того вѣка, въ которомъ онъ жилъ.
Но Монтескьё имѣлъ въ этомъ отношеніи ту особенность, что у него прене-
бреженіе къ тѣмъ подробностямъ о дворахъ, министрахъ и монархахъ, которыми
особенно увлекались обыкновенные компиляторы, соединялось съ такимъ же прене-
бреженіемъ и къ другимъ подробностямъ, которыя представляютъ дѣйствительный
интересъ, потому что относятся къ умственному складу немногихъ истинно замѣча-
тельныхъ людей, появлявшихся отъ времени до времени на сценѣ общественной
жизни. Монтескьё видѣлъ, что эти вещи хотя и весьма интересны, но вовсе не
важны. Онъ зналъ—чего до него ни одинъ историкъ даже и не подозрѣвалъ,—что
въ великомъ движеніи дѣлъ человѣческихъ индивидуальныя особенности ничего не
значатъ, что, слѣдовательно, историку нѣтъ до нихъ никакого дѣла и что онъ дол-
женъ предоставить ихъ біографу, къ сферѣ котораго они собственно и принадле-
жатъ. Вслѣдствіе этого Монтескьё не только относится съ большимъ пренебреже-
ніемъ къ самымъ могущественнымъ государямъ, разсказывая, напримѣръ, царствова-
нія шести императоровъ въ двухъ строкахъ, но и постоянно настаиваетъ на не-
обходимости, даже когда дѣло идетъ о замѣчательнѣйшихъ людяхъ, подчинять ихъ
частное вліяніе болѣе общему вліянію окружающаго ихъ общества. Такъ, многіе
историки приписывали паденіе Римской республики честолюбію Цезаря и Помпея, и
особенно глубокимъ планамъ Цезаря; Монтескьё, напротивъ, совершенно отрицаетъ
это. Согласно его взгляду на исторію, великія перемѣны происходятъ только въ силу
длиннаго ряда предшествующихъ событій, и въ нихъ однихъ мы должны искать при-
чину того, что поверхностному взгляду кажется дѣломъ отдѣльныхъ личностей. Рес-
публика, слѣдовательно, была ниспровергнута не Цезаремъ и не Помпеемъ, а тѣмъ
порядкомъ вещей, который сдѣлалъ возможными успѣхи Цезаря и Помпея. Поэтому
событія, передаваемыя обыкновенными историками, вовсе не имѣютъ никакого зна-
ченія. Такія событія—вовсе не причины, а только случаи, въ которыхъ проявляется
дѣйствіе истинныхъ причинъ. Ихъ можно назвать случайностями исторіи и должно
смотрѣть на нихъ, какъ на нѣчто подчиняющееся тѣмъ обширнымъ и всеобъемлю-
щимъ условіямъ, которыя одни управляютъ возвышеніемъ и паденіемъ народовъ х).
Такимъ образомъ первая великая заслуга Монтескьё заключается въ томъ, что
онъ вполнѣ отдѣлилъ біографію отъ исторіи и заставилъ историковъ изучать не осо-
бенности индивидуальныхъ характеровъ, а состояніе всего общества, среди котораго
особенности эти проявлялись. Еслибы этотъ замѣчательный человѣкъ не сдѣлалъ
даже ничего другого, то и тогда за нимъ все-таки осталась бы та неизмѣримая за-
слуга, что онъ указалъ исторіи вѣрное средство избавиться оть одного изъ ея са-
мыхъ обильныхъ источниковъ заблужденія. И хотя, къ несчастію, мы еще не из-
«Есть общія причины нравственныя пли физи-
ческія, которыя дѣйствуютъ въ каждой монархіи, воз-
вышая, поддерживая, либо ниспровергая ее; всѣ слу-
чаи подчинены этимъ причинамъ, и если случайность
какого-нибудь сраженія, т. е. частная причина, разру-
Бояль.— Изд. Ф. Павленкова.
шила какое-нибудь государство, то значитъ была общая
причина, сдѣлавшая то, что государство это должно было
погибнуть отъ одного сраженія. Однимъ словомъ, главное
положеніе влечетъ за собою всѣ частные случаи*, «(лгать
(Іепг сі Вёсабепсе без Кошаіве», сЬар. ХѴШ, р. 172,
22
338
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
влекли всѣхъ выгодъ изъ его благого примѣра, — а это потому, что его преемники
рѣдко бывали способны подняться до столь высокаго обобщенія.—но то достовѣрно,
что съ его времени замѣчается приближеніе къ такимъ возвышеннымъ воззрѣніямъ
даже у тѣхъ второстепенныхъ писателей, которые, по недостатку соображенія, не въ
силахъ усвоить ихъ себѣ въ своей полнотѣ.
Въ дополненіе къ этому Монтескьё сдѣлалъ еще другой великій шагъ въ ме-
тодѣ изложенія исторіи* Онъ первый прибѣгнулъ въ изслѣдованіи отношенія между
соціальными условіями страны и ея юриспруденціей къ помощи естественныхъ
наукъ, съ тѣмъ чтобы опредѣлить, насколько характеръ цивилизаціи извѣстной
страны находится въ зависимости отъ вліянія внѣшняго міра. Въ своемъ сочиненіи
о «Духѣ Законовъ^ онъ изучаетъ свойства связи, естественно существующей между
гражданскимъ и политическимъ законодательствами какого-нибудь народа и клима-
томъ, почвою и пищей, которыми онъ пользуется. Правда, что такое обширное пред-
пріятіе ему почти совершенно не удалось, но это потому, что метеорологія, химія и
физіологія находились еще въ слиткомъ отсталомъ состояніи для приложенія ихъ къ
подобнымъ вопросамъ. Впрочемъ, это имѣетъ вліяніе только на достоинство его вы-
водовъ, а не на достоинство его метода; здѣсь, какъ и вездѣ, мы видимъ, что ве-
ликій мыслитель набрасываетъ въ общихъ чертахъ планъ, выполнить который было
невозможно при тогдашнемъ состояніи духа, и довершеніе котораго онъ долженъ
былъ предоставить болѣе зрѣлой опытности и болѣе обширнымъ средствамъ позднѣй-
шаго вѣка. Упреждать такимъ образомъ ходъ развитія человѣческаго ума и какъ бы
забѣгать впередъ его дальнѣйшимъ пріобрѣтеніямъ — есть особенное преимущество
умовъ самаго высшаго разряда; это именно и придаетъ сочиненіямъ Монтескьё видъ
чего-то отрывочнаго, временнаго—необходимое послѣдствіе работы глубоко-умозри-
тельнаго генія надъ матеріалами, негодящимися въ дѣло единственно потому, что
наука еще не привела ихъ въ порядокъ, еще не обобщила законовъ ихъ явленій.
Поэтому многіе изъ выводовъ, сдѣланныхъ Монтескьё, не выдерживаютъ критики;
таковы, напримѣръ, выводы, относящіеся къ вліянію діэты на увеличеніе народона-
селенія, посредствомъ усиленія плодовитости женщинъ, и къ вліянію климата на
измѣненіе пропорціи мужскихъ и женскихъ рожденій. Въ другихъ случаяхъ ближай-
шее знакомство съ варварскими народами дало возможность провѣрить его выводы,
въ особенности тѣ, которые относятся къ вліянію климата на личный характеръ.
Такъ мы имѣемъ теперь самыя положительныя доказательства, что онъ ошибался,
утверждая, будто жаркій климатъ дѣлаетъ народъ развратнымъ и трусливымъ, а хо-
лодный—добродѣтельнымъ и храбрымъ.
Такія возраженія впрочемъ сравнительно ничтожны, потому что во всѣхъ выс-
шихъ отрасляхъ знанія главная трудность заключается не въ открытіи фактовъ, а
въ открытіи вѣрнаго метода, по которому могутъ быть приведены въ извѣстность
законы фактовъ* Въ этомъ отношеніи Монтескьё оказалъ двойную услугу: онъ не
только обогатилъ исторію, но и укрѣпилъ ея основаніе. Онъ обогатилъ исторію тѣмъ,
что присоединилъ къ ней физическія изслѣдованія; а укрѣпилъ ея основаніе тѣмъ,
что отдѣлилъ ее отъ біографіи и такимъ образомъ избавилъ ее отъ подробностей,
которыя всегда бываютъ неважны, а часто—недостовѣрны. И хотя онъ сдѣлалъ ту
ошибку, что изучалъ вліяніе природы скорѣе на людей, разсматриваемыхъ какъ от-
дѣльныя личности 1), чѣмъ на людей въ смыслѣ цѣлыхъ обществъ, но это главнымъ
образомъ произошло оттого, что въ его время средства, необходимыя для такого
сложнаго изученія, еще не существовали. Такія средства заключаются, какъ я уже
*) До какой стеиени изученіе это было безпо- ! характеръ, хотя, я надѣюсь, н видно изъ второй главы
лезно, по своимъ послѣдствіямъ,—ясно видно изъ того 1 настоящаго введенія, что можно кое-что привести въ
факта, что прошло сто лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ извѣстность относительно косвеннаго вліянія этихъ дѣя-
нисалъ, ж мы, при всемъ увеличеніи нашего знанія, । тѳлей, т. е. относительно ихъ вліянія на отдѣльные
все-таки не можемъ ничего положительно сказать о і умы чрезъ посредство соціальной и экономической
пряномъ дѣйствіи климата, нищи и почвы па личный | организаціи обществъ.
ИСТОРИЧ. ЛИТЕРАТУРА ВО ФРАНЦІИ СЪ XVI ПО XVIII СТ.
339
говорилъ, въ политической экономіи и статистикѣ; политическая экономія помогаетъ
намъ связать законы физическихъ дѣятелей съ законами неравномѣрнаго распредѣ-
ленія богатства, а, слѣдовательно, и съ весьма многими соціальными неустройствами;
статистика же даетъ намъ возможность дѣлать повѣрки этихъ законовъ въ самыхъ
обширныхъ размѣрахъ и узнать, до какой степени желанія отдѣльныхъ личностей
зависятъ отъ ихъ прошедшаго и отъ тѣхъ обстоятельствъ, въ которыя онѣ бываютъ
поставлены. Поэтому не только естественна, но и неизбѣжна была неудача Монтескьё
въ его блестящей попыткѣ слить законы человѣческаго мышленія съ законами внѣш-
ней природы. Неудача его произошла частью оттого, что науки о внѣшней природѣ
были въ слишкомъ отсталомъ состояніи, а частью и оттого, что тѣ изъ отраслей
знанія, которыя разсматриваютъ отношенія человѣка къ природѣ, еще не существо-
вали. Такъ, политическая экономія не существовала какъ наука до появленія «Бо-
гатства Народовъ», вышедшаго въ 1776 году, т. е, черезъ двадцать одинъ годъ
послѣ смерти Монтескьё. Философія же статистики явилась еще позже: только въ
теченіе послѣднихъ тридцати <ѣтъ ее стали систематически прилагать къ соціаль-
нымъ явленіямъ. Прежніе статистики были не болѣе какъ трудолюбивые собиратели
данныхъ,—люди, ходившіе ощупью, соединявшіе въ одно мѣсто всевозможные факты
безъ всякаго выбора или метода, и потому труды ихъ естественно не могли слу-
жить для тѣхъ важныхъ цѣлей, къ которымъ они были съ успѣхомъ примѣнены въ
нынѣшнемъ поколѣніи.
Черезъ два года послѣ появленія «Духа Законовъ» Тюрго прочелъ тѣ зна-
менитыя лекціи, о которыхъ было сказано, что въ нихъ онъ создалъ философію
исторіи. Такая похвала нѣсколько преувеличена, потому что въ самыхъ важныхъ
вопросахъ, относящихся къ философіи его предмета, оцѣ проводитъ тотъ же взглядъ,
который выражаетъ и Монтескьё, а Монтескьё кромѣ того, что предшествовалъ ему
по времени, стоялъ конечно выше его и по познаніямъ, а быть можетъ и по генію.
Тѣмъ не менѣе заслуга Тюрго громадна, и онъ принадлежитъ къ тому чрезвычайно
малому кружку людей, которые смотрѣли на исторію широкимъ взглядомъ и счи-
тали, что для изученія ея необходимы почти безпредѣльныя познанія. Въ этомъ
отношеніи методъ его тождественъ съ методомъ Монтескьё, такъ какъ оба эти ве-
ликіе писатели исключали изъ своихъ плановъ подробности объ отдѣльныхъ лично-
стяхъ, собираемыя обыкновенными писателями, и сосредоточивали свое вниманіе на
тѣхъ обширныхъ общихъ причинахъ, отъ дѣйствія которыхъ постоянно зависятъ
судьбы народовъ. Тюрго ясно видѣлъ, что, несмотря на разнообразіе явленій, про-
изводимыхъ игрою человѣческихъ страстей, — посреди кажущагося хаоса прогляды-
ваетъ начало порядка и правильности въ ходЬ дѣлъ, не ускользающее отъ взора
тѣхъ, кто смотритъ на исторію человѣка, какъ на одно совершенное цѣлое х). Правда,
что Тюрго, увлеченный потомъ въ политическую жизнь, никогда не имѣлъ достаточно
досуга, чтобы выполнить блестящій планъ, такъ удачно набросанный; но хотя въ
выполненіи своей задачи онъ конечно уступаетъ нѣсколько Монтескьё, все-таки ана-
логія между этими двумя людьми очевидна; очевидно также и отношеніе ихъ къ
тому вѣку, въ которомъ они жили. Они, какъ и Вольтеръ, были безсознательными
защитниками демократическаго движенія въ томъ отношеніи, что подрывали благо-
говѣніе, съ которымъ прежніе историки относились къ отдѣльнымъ личностямъ,—
вслѣдствіе чего исторія потеряла характеръ простого разсказа о дѣяніяхъ полити-
*) Чтб можетъ быть лучше того мѣста, въ кото-
ромъ онъ дѣлаетъ выводъ изъ этихъ обширныхъ со-
ображеній: «Зсѣ вѣка соединяются другъ съ другомъ
рядомъ прнчппь и послѣдствій, который связываетъ
настоящее состояніе вселенной со всѣми продшѳетво-
вавшамй состояніями ея>, Все, чтб написалъ Тюрго по
части исторіи, есть развитіе этого глубокаго взгляда.
Что онъ сознавалъ необходимость того, чтобы историкъ
былъ знакомъ съ естественными науками, чтобы онь
зналъ законы, отъ которыхъ зависитъ видъ земли, взи-
мать, почва п т. п., это ясно видно изъ его отрыв-
ка «Ьа бёо^гарйіе Роіпіфіе Оеиѵтт, ѵ. И, рр.
166—208. Не малымъ доказательствомъ его полити-
ческаго чутья служитъ то, что въ 1750 году онъ
положительнымъ образомъ предсказалъ освобожденіе
американскихъ колоній.
22*
340 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ческихъ и духовныхъ правителей. Въ то же время Тюрго заманчивымъ представле-
ніемъ картины будущаго прогресса и живымъ изображеніемъ способности общества
къ самоусовершенствованію усилилъ недовольство, съ которымъ его соотечествен-
ники начинали смотрѣть на то деспотическое правительство, при которомъ не было
повидимому ни малѣйшей надежды на улучшенія. Эти и подобныя имъ воззрѣнія,
теперь впервыѳ появившіяся во французской литературѣ, возбуждали дѣятельность
мыслящихъ классовъ, ободряли ихъ среди тѣхъ преслѣдованій, которымъ они под-
вергались, и поощряли ихъ къ трудному предпріятію — вести народъ противъ учре-
жденій его родины. Такимъ образомъ во Франціи все было устремлено къ одному
результату, все указывало на близость жестокой, ужасной борьбы. Духъ настоящаго
долженъ былъ вступить въ бой съ духомъ прошедшаго и окончательно рѣшить, мо-
жетъ ли французскій народъ освободиться отъ цѣпей, въ которыхъ его такъ долго
держали, или же ему суждено, не достигнувъ цѣли, еще глубже погрязнуть въ томъ
постыдномъ рабствѣ, которое даже въ самые блестящіе періоды политической
исторіи Франціи должно служить предостереженіемъ и урокомъ для всего цивилизо-
ваннаго міра.
ГЛАВА XIV.
Ближайшія причины Французской революціи, начиная съ половины XVIII столѣтія.
Въ предпослѣдней главѣ я пытался привести въ извѣстность, какія именно
обстоятельства почти непосредственно послѣ смерти Людовика XIV начали подго-
товлять путь французской революціи. Въ результатѣ моего изслѣдованія оказалось,
что умственныя силы Франціи были возбуждены къ дѣятельности примѣрами и док-
тринами Англіи; и что это движеніе произвело, или до крайней мѣрѣ вызвало
значительный разрывъ между правительствомъ Франціи и ея литературою,—разрывъ,
тѣмъ болѣе замѣчательный, что въ теченіе царствованія Людовика XIV литература,
несмотря на ея временный блескъ, постоянно отличалась раболѣпствомъ и тѣсно
примыкала къ правительству, которое всегда готово было вознаграждать ея услугу.
Мы видѣли также, что когда произошелъ этотъ разрывъ между умственно-трудящимся
и правительственнымъ классами, члены послѣдняго, вѣрные своимъ древнимъ пре-
даніямъ, стали наказывать тотъ духъ изслѣдованія, къ7 которому они не привыкли;
отсюда возникли тѣ гоненія, которымъ подверглись почти всѣ безъ исключенія ли-
тераторы, и отсюда же произошли систематическія попытки привести литературу въ
состояніе подчиненности, подобное тому, въ какомъ она была при Людовикѣ XIV.
При всемъ томъ оказалось, что великіе люди Франціи ХѴШ-го столѣтія, несмотря
на тяжкія оскорбленія, которыя постоянно наносили имъ правительство и церковь,
воздерживались отъ нападеній на правительство и обращали всю свою ненависть
противъ церкви. Этотъ повидимому ни съ чѣмъ несообразный фактъ—что нападали
на религіозныя учрежденія, а оставляли въ покоѣ учрежденія политическія—является,
какъ мы уже доказали, совершенно естественнымъ послѣдствіемъ, вытекающимъ изъ
предшествовавшихъ фактовъ исторіи французской націи. Мы пытались также объ-
яснить, какіе это факты и какое они имѣли дѣйствіе. Въ настоящей главѣ я хочу
пополнить это изысканіе разсмотрѣніемъ слѣдовавшей затѣмъ великой эпохи въ
исторіи умственнаго развитія Франціи. Чтобы и церковь и государство могли пасть,
для этого людямъ нужно было перенести свои непріязненныя дѣйствія на другую
почву и напасть на политическія злоупотребленія съ тѣмъ же рвеніемъ, съ какимъ
они до того нападали только на злоупотребленія религіозныя. Слѣдовательно, те-
перь весь вопросъ въ томъ, при какихъ обстоятельствахъ произошла эта перемѣна
и въ какое именно время.
Обстоятельства, сопровождавшія эту великую перемѣну, были, какъ мы сейчасъ
увидимъ, весьма сложны, и такъ какъ никто еще не изучалъ ихъ въ общей связи, то
я разсмотрю ихъ довольно подробно въ остальной части настоящаго тома. Съ этой
стороны будетъ, я полагаю, еще возможно придти къ какимъ-нибудь положитель-
нымъ и точнымъ выводамъ относительно исторіи французской революціи. Другой же
вопросъ, а именно о времени, въ какое произошла самая перемѣна, не только
запутаннѣе, но даже по самому свойству своему никогда не можетъ быть разрѣ-
шенъ съ совершенною опредѣлительностью. Впрочемъ, это недостатокъ общій всѣмъ
перемѣнамъ въ исторіи человѣчества. Обстоятельства каждой перемѣны всегда мо-
гутъ быть извѣстны, если только свидѣтельства о нихъ подробны и достовѣрны. Но
342
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
никакая полнота свидѣтельствъ не дастъ намъ возможности точно опредѣлить время
совершенія самой перемѣны. Вниманіе компиляторовъ въ исторіи обыкновенно обра-
щено но на перемѣну, а на внѣшніе результаты, слѣдующіе за перемѣною. Истин-
ная же исторія человѣческаго рода есть исторія стремленій, которыя уразумѣваются
умомъ, а не событій, которыя осязаются чувствами. Поэтому ни одна историческая
эпоха не можетъ быть опредѣлена съ хронологическою точностью, свойственною
антикваріямъ и генеалогистамъ. Смерть какого-нибудь государя, проигранное сра-
женіе, перемѣна династіи—все это предметы, вполнѣ входящіе въ область чувствъ,
и моменты совершенія такихъ событій могутъ быть отмѣчены и самыми посредствен-
ными наблюдателями. Но тѣ великія умственныя революціи, на которыхъ основы-
ваются всѣ другія революціи, не могутъ быть измѣрены такимъ простымъ масшта-
бомъ. Чтобы прослѣдить движенія человѣческаго ума, необходимо наблюдать его въ
различныхъ проявленіяхъ и затѣмъ сопоставить результаты отдѣльныхъ наблюденій.
Этимъ способомъ мы дойдемъ до извѣстныхъ общихъ выводовъ, которые, подобно
вычисленіямъ среднихъ величинъ, имѣютъ тѣмъ больше цѣнности, чѣмъ больше мы
беремъ случаевъ. Что такой методъ надеженъ и полезенъ, это видно не только изъ
исторіи естествознанія, но и изъ того факта, что онъ лежитъ въ основаніи эмпи-
рическихъ правилъ, которыми всѣ здравомыслящіе люди руководствуются въ тѣхъ
обыденныхъ случаяхъ жизни, къ которымъ еще не были примѣняемы общіе выводы
науки. Дѣйствительно, такія правила, имѣющія большую цѣнность и составляющія
въ совокупности то, чтб называется здравымъ смысломъ, никогда не собираются съ
такими предосторожностями, соблюденіе которыхъ должны были бы поставить себѣ
въ непремѣнную обязанность историки-философы.
Итакъ, главное возраженіе противъ общихъ выводовъ относительно умствен-
наго развитія какой-нибудь націи заключается пе въ томъ, что имъ недостаетъ до-
стовѣрности, а въ томъ, что они лишены точности. На этомъ именно пунктѣ исто-
рикъ расходится съ лѣтописцемъ. Что, напримѣръ, духъ Англіи становится все бо-
лѣе и болѣе демократическимъ или, какъ говорятъ, либеральнымъ,—это такъ же
достовѣрно, какъ и то, что королева Викторія носитъ корону Англіи. Но хотя оба
эти показанія одинаково достовѣрны, послѣднее все-таки болѣе точно. Мы можемъ
назвать самый день восшествія королевы на престолъ, мы будемъ знать съ такою
же точностью минуту ея смерти; и нѣтъ сомнѣнія, что и многія другія частности,
относящіяся до нея, сохранятся во всей точности и подробности. Если же станемъ
слѣдить за развитіемъ либерализмѣ въ Англіи, то всякая этого рода точность ока-
жется невозможною, Мы можемъ назвать годъ, въ который прошелъ билль о ре-
формѣ; но кто можетъ сказать, въ которомъ году впервые почувствовалась необхо-
димость такого билля? Точно также предположеніе, что евреи будутъ допущены въ
парламентъ, столько же достовѣрно, какъ и то, что католики уже допущены въ
него *). Обѣ эти мѣры составляютъ неизбѣжное послѣдствіе того возрастающаго рав-
нодушія къ теологическимъ преніямъ, которое очевидно для всякаго, кто только
нарочно не закрываетъ глазъ. Но при всемъ томъ, что мы знаемъ часъ, въ кото-
рый послѣдовало согласіе короны на билль о католикахъ, никто изъ людей, живу-
щихъ въ настоящее время, не можетъ сказать даже года, въ который такая же
справедливость будетъ оказана евреямъ. Оба эти событія извѣстны съ одинаковою
достовѣрностью, но не оба съ одинаковой точностью.
Я распространился нѣсколько объ этомъ различіи между достовѣрностью и точ-
ностью потому, что, какъ кажется, его мало понимаютъ, а между тѣмъ оно тѣсно
связано съ занимающимъ насъ въ настоящую минуту предметомъ, Тотъ фактъ, что
въ умственномъ развитіи Франціи въ теченіе ХѴТ1І столѣтія были двѣ совершенно
различныя эпохи, можетъ быть доказанъ свидѣтельствами всякаго рода; но невоз-
х) Въ то время, когда было напечатано первое изданіе этой книги, евреи еще не были допущены въ
парламентъ. (Прим. п&рее>)9
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ.
343
можно точно опредѣлить время, когда одна эпоха смѣнила другую. Все, что мы можемъ
сдѣлать,—это сопоставить различныя указанія, встрѣчающіяся въ исторіи того вѣка,
и придти къ приблизительному выводу, который могъ бы руководить будущихъ из-
слѣдователей. Можетъ быть благоразумнѣе было бы не избѣгать окончательнаго вы-
вода, но такъ какъ ‘ употребленіе чиселъ повидимому необходимо для уясненія этого
рода предметовъ, то я сдѣлаю предварительно предположеніе, что 1750 годъ есть
именно время, когда волненія общества, бывшія причиною французской революціи,
вступили въ свой второй политическій фазисъ.
Что около этого времени великое движеніе, направлявшееся до тѣхъ поръ
противъ церкви, начало противодѣйствовать государству,- это повидимому подтвер-
ждается многими обстоятельствами. Мы знаемъ изъ лучшихъ источниковъ, что около
1750 года французы начали свои знаменитыя изслѣдованія по части политической
экономіи х), и что, пытаясь возвести этотъ предметъ на степень науки, они пришли
къ пониманію того, какой громадный вредъ принесло вмѣшательство правительства
матеріальнымъ интересамъ страны. Отсюда родилось убѣжденіе, что даже въ отноше-
ніи накопленія богатства власть, которою обладали правители Франціи, была вредна,
ибо она давала имъ возможность, подъ предлогомъ покровительства торговлѣ, стѣ-
снять свободу дѣйствій отдѣльныхъ лицъ и не давать самой торговлѣ идти тѣми выгод-
ными путями, въ выборѣ которыхъ сами торговцы—-лучшіе судьи. Едва распростра-
нилось сознаніе этой глубокой истины, какъ не замѣтили проявиться ея послѣд-
ствія въ національной литературѣ и въ складѣ народной мысли. Внезапное размно-
женіе во Франціи сочиненій, относящихся до финансовъ и другихъ государствен-
ныхъ вопросовъ, есть въ самомъ дѣлѣ одна изъ замѣчательныхъ чертъ того вѣка.
Такъ быстро распространилось это движеніе, что вскбрѣ послѣ 1755 года эконо-
мисты уже произвели разрывъ между націей и правительствомъ 1 2); и Вольтеръ въ
1759 году жалуется въ одномъ письмѣ, что прелести легкой литературы совершенно
забыты въ общемъ рвеніи къ этимъ новымъ предметамъ изученія 3). Я не считаю
нужнымъ слѣдить далѣе за этой великой перемѣной, ни изображать вліяніе, ко-
торымъ не за долго до революціи пользовались позднѣйшіе экономисты, особенно
Тюрго, самый замѣчательный представитель ихъ. Достаточно сказать, что спустя
около двадцати лѣтъ послѣ того, какъ движеніе это впервые ясно обозначилось,
вкусъ къ экономиста ческимъ и политическимъ изслѣдованіямъ сдѣлался столь всеоб-
щимъ, что проникъ даже въ тѣ слои общества, гдѣ не очень часто встрѣчается при-
вычка къ мышленію; такъ, мы находимъ, что даже въ свѣтскихъ кружкахъ разго-
воръ не ограничивался болѣе новыми поэмами и комедіями, а касался также поли-
1) «Около 1750 года—говорить Тюрго—два ге-
ніальные человѣка, наблюдатели здравомыслящіе и глу-
бокіе, дошедшіе путемъ самаго неослабнаго вниманія
до строгой логичности въ воззрѣніяхъ, воодушевленные
благородною любовью къ родинѣ и человѣчеству,—
Кѳнэ и де-Гурнэ, занялись послѣдовательными изыска-
ніями, съ цѣлью узнать, не укажетъ ли природа вещей
на возможность науки политической экономіи, и какія
могутъ быть основанія такой науки». Бланки также
говоритъ: «около 1750 года»; а Вольтеръ замѣчаетъ:
«около 1750 года нація, насытившись стихами, тра-
гедіями, комедіями, операми, романами, романическими
исторіями, нравственными разсужденіями (еще болѣе
романическими) и теологическими диспутами о благо-
дати и о бѣснованіяхъ,—начала, наконецъ, разсуждать
о зерновомъ хлѣбѣ».
2) Нація—говоритъ Сисмопди—привыкла все бо-
лѣе и болѣе удаляться отъ своего правительства, уже по-
тому самому, что ея писатели стали заниматься поли-
тическими науками. Эпоха особеннаго движенія въ сектѣ
экономистовъ началась съ тѣхъ поръ, какъ маркизъ
де-Мирабо издалъ въ 1755 году свое сочиненіе «Друіъ I
Человѣчества». Въ томъ же 1755 году Гольдсиитъ
былъ въ Парижѣ и его до такой степени поразили успѣхи,
сдѣланные неподчиненноотыо, что онъ предсказалъ осво-
божденіе народа—хотя едва-ли нужео говорить, что онъ
былъ не такой человѣкъ, который могъ бы понимать
движеніе экономистовъ.
3) Въ февралѣ 1759 года онъ пишетъ къ г-жѣ
де-Боккажъ: «мнѣ кажется, что граціи и хорошій
вкусъ изгнаны изъ Франціи и уступили мѣсто запутанной
метафизикѣ, политикѣ пустыхъ головъ, безконечнымъ
преніямъ о финансахъ, о торговлѣ, о народонаселеніи, ко-
торыя никогда не доставятъ государству ни лишняго
экю, ни лишняго человѣка*. Въ 1763 году онъ пи-
шетъ: «прощайте, наши изящныя искусства,—если дѣла
будутъ продолжать идти такимъ путемъ. Націей овла-
дѣла бѣшеная страсть къ предостереженіямъ ж къ фи-
нансовымъ проектамъ». Такъ какъ мпогіе изъ самыхъ
даровитыхъ людей были такимъ образомъ отвлечены
отъ чисто литературныхъ занятій, то за двадцать лѣтъ
до революціи сталъ обнаруживаться замѣтный упадокъ
слога, особенно у прозаиковъ.
344 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
отческихъ вопросовъ и предметовъ, тѣсно связанныхъ съ ними. Дѣйствительно,
когда Неккеръ въ 1781 году напечаталъ свой знаменитый отчетъ о финансахъ
Франціи, то желаніе пріобрѣсть эту книгу превосходило всякое * ожиданіе; шесть
тысячъ экземпляровъ были проданы въ первый же день, и такъ какъ спросъ все
увеличивался, то для удовлетворенія всеобщаго любопытства постоянно работали
двѣ типографіи *)• особенно становится очевиднымъ присутствіе во всемъ этомъ
демократическихъ стремленій, если вспомнить, что Неккеръ былъ въ то время однимъ
изъ слугъ короны, такъ что сочиненіе его, по своему общему духу, справедливо
было названо аппелляціей па короля къ народу отъ одного изъ министровъ того же
короля.
Приведенное мною доказательство замѣчательной перемѣны, происшедшей въ
умахъ Франціи въ 1750 году, или около того времени, и составляющей, какъ я
сказалъ, вторую эпоху ХѴШ столѣтія, легко можно было бы подкрѣпить болѣе об-
ширнымъ обозрѣніемъ литературы того времени. Въ самомъ началѣ второй поло-
вины этого столѣтія Руссо напечаталъ тѣ краснорѣчивыя сочиненія, которыя имѣли
огромное вліяніе и въ которыхъ легко можно замѣтить наступленіе’ новой эпохи;
этотъ могучій писатель воздержался отъ нападеній на христіанство * 2), повторявшихся
прежде слишкомъ уже часто, и возсталъ почти исключительно противъ граждан-
скихъ и политическихъ злоупотребленій тогдашняго общества. Изображеніе того
вліянія, которое имѣлъ этотъ геніальный, хотя иногда и заблуждавшійся человѣкъ
на умы людей своего и слѣдующаго за нимъ поколѣнія, заняло бы слишкомъ много
мѣста въ этомъ введеніи; , хотя такое изслѣдованіе было бы конечно полно интереса,
и хотя весьма желательно, чтобы какой-нибудь свѣдущій въ этомъ дѣлѣ историкъ
занялся современемъ этимъ'предметомъ 3). Но такъ какъ философія Руссо была сама
лишь однимъ изъ фазисовъ болѣе обширнаго движенія, то я въ настоящую минуту
оставлю въ сторонѣ отдѣльную личность, чтобы заняться разсмотрѣніемъ общаго
духа того вѣка, въ которомъ личность эта играла конечно важную роль, но все-таки
въ качествѣ вспомогательнаго дѣятеля. Зарожденіе новой эпохи во Франціи около
1750 года становится еще замѣтнѣе въ виду трехъ обстоятельствъ, имѣющихъ зна-
чительный интересъ и приводящихъ къ одному и тому же заключенію. Первое—
что до половины ХѴШ столѣтія ни одинъ изъ великихъ французскихъ писателей
не нападалъ на политическія учрежденія страны, между тѣмъ какъ съ этого вре-
мени подобныя нападенія со стороны способнѣйшихъ людей повторялись безпре-
станно. Второе—что продолжали нападать на духовенство и отказывались вмѣши-
ваться въ политику только тѣ изъ лучшихъ французскихъ писателей, которые, по-
добно Вольтеру, уже достигли преклонныхъ лѣтъ и, слѣдовательно, заимствовали свои
идеи отъ предшествовавшаго поколѣнія, въ которомъ церковь была единственнымъ
предметомъ ненависти. Третье, еще болѣе разительное, чѣмъ первыя два,—что почти
около этого времени стала замѣтна перемѣна въ политикѣ правительства; довольно
странно, что министры короны стали впервые высказывать открытую непріязнь
*) Сэгюръ («Вонѵепігз», г. I, р. 138) говоритъ,
что Неккерово сочиненіе лежало «въ карманѣ у всѣхъ
аббатовъ и на туалетномъ столѣ у всѣхъ дамъ». Дочь
Пѳккора, г-жа де-Сталь, говорить о сочиненіи своего
отца, подъ заглавіемъ «Финансовое Управленіе»:
«его распродано восемьдесятъ тысячъ экземпляровъ».
2) Сколько я припомню, нѣтъ ни одного примѣра
такихъ нападеніи ни въ одномъ пзъ его сочиненій; и
тѢ, кто осуждаютъ его на этомъ основаніи, пусть
лучше приведутъ самыя мѣста, на которыя они опи-
раются, чѣмъ высказывать обвиненія въ общихъ, не-
опредѣленныхъ выраженіяхъ.
3) Наполеонъ сказалъ Станиславу Жирардену о
Руссо: «безъ него во Франціи пе было бы револю-
ціи». Это конечно преувеличеніе; по вліяніе Руссо
і въ теченіе второй половины XVIII столѣтія было почти
і неимовѣрно. Въ 1765 году Юмъ пишетъ изъ Парижа:
I «невозможно ни выразить, ни представить себѣ эпту-
| зіазмъ этой націи въ его пользу... пикто еще но при-
1 влекалъ въ такой мѣрѣ ея вниманія, какъ Руссо.
; Вольтеръ и всѣ другіе имъ совершенно затмены». Въ
одномъ письмѣ, написанномъ въ 1754 году, сказано,
что его Дижонская рѣчь «произвела нѣчто въ родѣ ре-
1 волюціи въ Парижѣ». Обращеніе ого сочиненій явля-
। лось чѣмъ-то небывалымъ, и когда вышла «Новая
і Элоиза», книгопродавцы не могли удовлетворить требо-
| ванія людей всѣхъ сословій. Давали читать эту книгу за
। извѣстную плату въ день или въ часъ. Когда она только
, появилась, то требовали по 12 су за каждый томъ,
давая па прочтеніе его только шестьдесятъ минутъ».
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ.
345
къ церкви въ то самое время, какъ мыслящая часть страны готовилась къ рѣши-
тельному нападенію на само правительство. Изъ этихъ трехъ положеній съ первыми
двумя вѣроятно согласится всякій, кто изучалъ французскую литературу; по еслибы
даже они и были ложны, то во всякомъ случаѣ они такъ точны и опредѣлительны,
что легко было бы опровергнуть ихъ, приведя только примѣры, доказывающіе про-
тивное. Третій же тезисъ, будучи болѣе общаго свойства, въ меньшей мѣрѣ под-
верженъ прямому опроверженію и потому налагаетъ на защитника его обязанность
подкрѣпить его тѣми спеціальными доказательствами, которыя я сейчасъ приведу.
Когда великіе писатели Франціи около половины XVIII столѣтія успѣли подрыть
основаніе церкви, то было весьма естественно, что правительство вмѣшалось въ это
дѣло и стало стѣснять учрежденіе, ослабленное самымъ ходомъ событій. Этотъ фактъ,
совершившійся во Франціи при Людовикѣ XV, совершенно уподоблялся тому, что
случилось въ Англіи при Генрихѣ VIII,— въ обоихъ случаяхъ замѣчательное умствен-
ное движеніе, направленное противъ духовенства, предшествовало и благопріятство-
вало нападеніямъ на это сословіе, сдѣланнымъ короною, Французское правитель-
ство сдѣлало первый шагъ противъ церкви въ 1749 году, И какъ велика была
до тѣхъ поръ отсталость Франціи въ этомъ отношеніи, видно изъ того, что шагъ
этотъ состоялъ въ изданіи эдикта противъ неотъемлемости недвижимыхъ имѣній
(тогішаіп)—простое средство для ослабленія власти церкви, къ которому въ Анг-
ліи прибѣгли гораздо ранѣе. Слава основателя этой новой политики французскаго
правительства принадлежитъ Машб, только-что назначенному въ то время гене-
ральнымъ контролеромъ. Въ августѣ 1749 года онъ издалъ этотъ знаменитый
эдиктъ,- которымъ воспрещалось образованіе какого бы то ни было религіознаго
учрежденія безъ согласія короны, надлежащимъ образомъ выраженнаго въ грамотѣ
и занесеннаго въ протоколъ парламента,-—существснцйя предосторожности, которыя,
говоритъ великій историкъ Франціи, показываютъ, что Машб «считалъ не только
увеличеніе, но даже самое существованіе этихъ имѣній духовенства вредомъ для
королевства».
То былъ уже чрезвычайный шагъ со стороны французскаго правительства; но
послѣдующія мѣры показали, что онъ составляетъ только вступленіе къ болѣе обшир-
ному плану. Машб не только не встрѣтилъ порицаній, но даже черезъ годъ послѣ
изданія этого эдикта, независимо отъ должности контролера, былъ сдѣланъ канцле-
ромъ, потому что, какчэ замѣчаетъ Лакретедь, дворъ «полагалъ, что пришло уже
время обложить податями собственность духовенства*. Въ продолженіе сорока лѣтъ,
которыя прошли съ этого періода до начала революціи, господствовала та же самая
анти-духовная политика. Между преемниками Машб трое единственно способныхъ
людей: Шуазёль, Нсккеръ и Тюрго были ревностными противниками того духов-
наго сословія, котораго не тронулъ бы ни одинъ министръ предшествовавшаго по-
колѣнія. Не только эти первостепенные государственные люди, но даже и такіе,
какъ Калоннъ, Малербъ и Террэ, видѣли верхъ политики въ покушеніи на тѣ при-
вилегіи, которыя были освящены суевѣріемъ и которыя духовенство сохраняло еще
частью для того, чтобы распространять свое вліяніе, частью же, чтобы имѣть воз-
можность удовлетворять тѣмъ привычкамъ къ роскоши и разврату, которыя въ во-
семнадцатомъ столѣтіи были позоромъ для всего духовнаго сословія.
Между тѣмъ какъ принимались означенныя выше мѣры противъ духовенства,
сдѣланъ былъ и другой важный шагъ совершенно въ томъ же направленіи. Теперь
правительство стало покровительствовать тому великому ученію о религіозной сво-
бодѣ, одна защита котораго до того времени наказывалась, какъ опасное мудр-
ствованіе. Связь между нападеніями на духовенство и дальнѣйшимъ развитіемъ
вѣротерпимости можетъ быть объяснена не только быстротою, съ какою одно собы-
тіе слѣдовало за другимъ, но и тѣмъ фактомъ, что то и другое проистекало изъ
одного и того же источника. Машб, авторъ эдикта противъ неотъемлемости недви-
жимыхъ имѣній, былъ также первымъ министромъ, показавшимъ желаніе покрови-
346 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
тельствовать протестантамъ противъ преслѣдованій католическаго духовенства. Въ
этомъ онъ только отчасти успѣлъ; но сообщенный такимъ образомъ толчекъ вскорѣ
сдѣлался неопреодолимымъ. Въ 1760 году, т. е. только девять лѣтъ спустя, была уже
видна рѣзкая перемѣна въ примѣненіи законовъ, и эдикты противъ ереси хотя еще
не были отмѣнены, но приводились въ исполненіе съ безпримѣрною кротостью х).
Движеніе это быстро распространилось отъ столицы до отдаленныхъ частей королев-
ства; и намъ извѣстно, что послѣ 1762 года реакція была чувствительна даже въ
тѣхъ провинціяхъ, которыя, по ихъ отсталости, всегда особенно отличались своимъ
ханжествомъ. Въ то же время, какъ мы вскорѣ увидимъ, въ самой церкви возникъ
великій расколъ, который ослабилъ власть духовенства, раздѣливъ его на двѣ враж-
дебныя партіи. Одна изъ этихъ партій дѣйствовала заодно съ государствомъ и тѣмъ
еще болѣе помогла ниспроверженію духовной іерархіи. Въ самомъ дѣлѣ, раздоры
дошли до такого ожесточенія, что послѣдній великій ударъ, нанесенный духовной
власти правительствомъ Людовика XVI, произошелъ не отъ рукъ мірянина, но отъ
одного изъ вождей церкви, — отъ человѣка, который по своему положенію и при
обыкновенныхъ обстоятельствахъ покровительствовалъ бы тѣмъ самымъ интересамъ,
на которые теперь ревностно нападалъ. Въ 1787 году, за два только года до рево-
люціи, Бріеннъ, архіепископъ тулузскій, бывшій тогда министромъ, предъявилъ па-
рижскому парламенту королевскій эдиктъ, которымъ вдругъ устранялись всякія пре-
грады, противопоставлявшіяся до тѣхъ поръ ереси. Въ силу этого закона, проте-
станты получили всѣ тѣ гражданскія права, которыя въ рукахъ католическаго ду-
ховенства служили долгое время наградою за приверженность къ его религіознымъ
убѣжденіямъ. Поэтому весьма естественно, что болѣе правовѣрная партія осуждала,
какъ нечестивое нововведеніе, мѣру, которая, уравненіемъ въ нѣкоторой степени
правъ двухъ сектъ, какъ бы поощряла распространеніе заблужденія, и которая ко-
нечно лишила французскую церковь одной изъ главныхъ приманокъ, служившихъ
для завлеченія людей въ ея лоно. Но всѣ подобныя сображенія теперь ни во что
не ставились. Таково было преобладавшее въ то время настроеніе, что парламентъ,
далеко не смирявшійся передъ королевскою властью, не поколебался занести въ
свой протоколъ королевскій эдиктъ, и эта великая мѣра получила силу закона; при
чемъ, какъ говорятъ, преобладавшая партія даже удивлялась, какъ можно было
сколько-нибудь усумниться въ мудрости началъ, на которыхъ основывалось это но-
вовведеніе.
То были предвѣстники наступающей бури, признаки времени, которые всякому
бросаются въ глаза; и нѣтъ надобности въ другихъ признакахъ для яснаго пони-
манія истинныхъ свойствъ того вѣка. Въ дополненіе къ тому, что было только-что
нами разсказано, правительство въ самомъ началѣ второй половины восемнадца-
таго столѣтія нанесло прямое, роковое оскорбленіе духовной власти изгнаніемъ
іезуитовъ; событіе это важно не только по своимъ окончательнымъ результатамъ,
но и какъ доказательство чувствъ большинства, какъ примѣръ того, что могло быть
мирно приведено въ исполненіе правительствомъ монарха, носившаго названіе «Наи-
христіаннѣйшаго Короля» 2).
Іезуиты въ продолженіе по крайней мѣрѣ пятидесяти лѣтъ послѣ учрежденія
этого ордена оказали огромныя услуги цивилизаціи частью тѣмъ, что смягчили, при-
мѣсью свѣтскаго элемента, слишкомъ суевѣрные взгляды своихъ великихъ пред-
шественниковъ-—доминиканцевъ и францисканцевъ, частью же введеніемъ системы
воспитанія, далеко превосходившей всѣ до тѣхъ поръ существовавшія въ Европѣ.
*) Наступленіе 1760 года было ознаменовано
чувствительнымъ ослабленіемъ преслѣдованія... Духо-
венство замѣтило ято съ ужасомъ, и въ своемъ об-
щемъ собраніи 1760 года рѣшилось обратиться къ
королю съ настоятельными увѣщаніями по поводу такого
послабленія законовъ». («Ееіісе, Ргоіезі. оГ Ргапсе»).
2) Генрихъ II обыкновенно ссылался на этотъ ти-
тулъ, оправдываясь въ томъ, что онъ преслѣдуетъ
протестантовъ; и великое значеніе придавалъ этому
же титулу примѣрный монахъ, Людовикъ XV. Фран-
цузскіе антикварш возводятъ этотъ титулъ ко времени
Пипина, отца Карла Великаго.
•БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 347
Ни въ одномъ университетѣ нельзя было найти такой обширной системы образо-
ванія; и конечно нигдѣ не проявилось такое умѣнье управлять юношествомъ, ни
такое глубокое, пониманіе общихъ отправленій человѣческаго ума. По всей справед-
ливости слѣдуетъ еще прибавить, что это знаменитое общество, несмотря на его
ревностное и часто безнравственное честолюбіе, было въ теченіе довольно долгаго пе-
ріода времени вѣрнымъ другомъ науки, такъ же какъ и литературы, и что оно
дозволяло своимъ членамъ такую свободу и смѣлость въ умозрѣніяхъ, какія никогда
не допускались ни въ одномъ изъ другихъ монашескихъ орденовъ.
Однакожъ по мѣрѣ распространенія цивилизаціи іезуиты, подобно всякой дру-
гой духовной іерархіи на свѣтѣ, начали терять свое значеніе, и это не столько
вслѣдствіе ихъ собственнаго упадка, сколько вслѣдствіе перемѣны въ духѣ тѣхъ,
которые ихъ окружали. Учрежденіе, превосходно приспособленное къ ранней формѣ
общества, не годилось для того же общества въ его зрѣломъ состояніи. Въ шестнад-
цатомъ столѣтіи іезуиты были впереди своего вѣка, въ восемнадцатомъ же — они
отстали отъ него. Въ шестнадцатомъ вѣкѣ они были великими миссіонерами знанія,
потому что надѣялись съ помощью его поработить себѣ совѣсть людей; въ восемнад-
цатомъ же столѣтіи матеріалы, надъ которыми они работали, оказались тверже;
имъ пришлось имѣть дѣло съ испорченнымъ, упрямымъ поколѣніемъ; они видѣли,
какъ быстро начинало падать духовенство во всѣхъ странахъ, и ясно понимали,
что для сохраненія своей прежней власти имъ оставалось только одно — задержи-
вать развитіе того знанія, успѣхамъ котораго они прежде такъ много содѣйство-
вали 9-
При этихъ обстоятельствахъ государственные людц Франціи почти съ самой
половины восемнадцатаго столѣтія рѣшились разрушите орденъ, который такъ долго
управлялъ свѣтомъ и былъ все еще величайшимъ оплотомъ церкви. Имъ помогло
въ этомъ замѣчательное движеніе, происшедшее въ самой церкви. Движеніе это,
какъ находящееся въ связи со взглядами наибольшей важности, заслуживаетъ вни-
манія даже тѣхъ, для кого богословскіе споры не имѣютъ никакого интереса.
Между многими вопросами, на которые метафизики истрачивали свою энер-
гію, вопросъ о свободѣ воли возбуждалъ самые жаркіе споры. И что придало осо-
бенное ожесточеніе ихъ рѣчамъ, это то обстоятельство, что за такой по преиму-
ществу метафизическій вопросъ взялись теологи и стали обсуждать его съ тѣмъ
жаромъ, которымъ они вообще отличаются. Съ самаго времени Пелагія, если только
не раньше, христіанство было раздѣлено на двѣ великія секты, которыя хотя въ
нѣкоторыхъ отношеніяхъ соединялись непримѣтными оттѣнками, но всегда сохра-
няли главныя черты ихъ первоначальнаго различія. Одною сектой свобода воли
посильно, и часто совершенно, отвергается; утверждаютъ, что мы не только не мо-
жемъ своей собственной волей сдѣлать какое-нибудь похвальное дѣло, но даже если
и сдѣлаемъ что хорошее, то оно будетъ безполезно, такъ какъ Божество предопре-
дѣлило однимъ людямъ погибель, другимъ—спасеніе, Другой сектой сильно поддер-
живается свобода воли; добрыя дѣла объявляются существенно необходимыми для
спасенія; и противная партія обвиняется въ преувеличеніи того состоянія благодати,
котораго необходимою принадлежностью является вѣра.
Эти противоположные принципы, доведенные до своихъ логическихъ послѣд-
ствій, должны привести первую секту къ антиноміанизму, а вторую — къ ученію о
сверхдолжныхъ дѣяніяхъ. Но такъ какъ въ этого рода предметахъ люди гораздо
болѣе чувствуютъ, чѣмъ разсуждаютъ, то обыкновенно случается такъ, что они охот-
нѣе слѣдуютъ какому-нибудь общему, всѣми уважаемому знамени или опираются на
Принцъ де-Монбарэ, воспитанный іезуитами, I пѳбрегалп способностями тѣхъ, которые предиазнача-
около 1740 года говоритъ, что въ ихъ школахъ | лись для свѣтскихъ профессій. Монбарэ, далеко не
было обращаемо величайшее вниманіе на учениковъ, предубѣжденный противъ іезуитовъ, приписываетъ ре-
предназначенныхъ для церкви, между тѣмъ какъ пре- | волюцію ихъ ниспроверженію.
348 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
какое-нибудь древнее имя; вотъ почему вообще послѣдователи упомянутыхъ двухъ
ученій примыкаютъ съ одной стороны къ Августину, Кальвину и Янсенію, съ дру-
гой—къ Пелагію, Арминію и Молина.
Но вотъ замѣчательный фактъ: ученія, которыя въ Англіи называются каль-
винистскими, всегда соединялись съ демократическимъ духомъ, между тѣмъ какъ
арминіанизмъ находилъ наиболѣе покровительства у аристократической или протек-
ціонной партіи. Въ республикахъ Швейцаріи, Сѣверной Америки и Голландіи каль-
винизмъ всегда былъ популярнымъ исповѣданіемъ х). Съ другой стороны въ тѣ тяж-
кіе дни, непосредственно слѣдовавшіе за смертью Елизаветы, когда нашей свободѣ
угрожала погибель, когда англійская церковь, поддерживаемая короною, пыталась
поработить совѣсть людей, и когда впервые было высказано чудовищное притязаніе
епископовъ на божественное происхожденіе ихъ правъ—арминіанизмъ сдѣлался лю-
бимымъ ученіемъ самыхъ способныхъ и наиболѣе честолюбивыхъ людей духовной
партіи. Когда же пришло время жестокаго возмездія, то пуритане и индепенденты,
которые были исполнителями мщеній, оказались почти всѣ безъ исключенія кальви-
нистами; мы не должны также забывать, что первое открытое движеніе противъ
Карла началось съ Шотландіи, гдѣ уже давно господствовали принципы Кальвина.
. Такое различіе въ стремленіяхъ этихъ двухъ вѣрованій такъ ясно обозначается,
что изслѣдованіе причинъ его является необходимою частью всеобщей исторіи, и,
какъ мы вскорѣ увидимъ, тѣсно связано съ исторіей французской революціи.
Первое, что должно поразить насъ, это то обстоятельство, что кальвинизмъ
есть ученіе для бѣднаго, а арминіанизмъ—для богатаго/Ученіе, настаивающее на
необходимости одной вѣры, должно обходиться дешевле, чѣмъ то, которое настаиваетъ
на необходимости дѣлъ. Въ ^первомъ случаѣ грѣшникъ'ищетъ спасенія въ силѣ своей
вѣры; въ послѣднемъ—онъ иіцстъ его въ изобиліи своихъ приношеній. А такъ какъ
эти приношенія вездѣ, гдѣ духовенство имѣетъ много власти, всегда получаютъ одно
и то же назначеніе, то мы видимъ, что въ странахъ, благопріятствующихъ арми-
ніанскому ученію о дѣлахъ, духовенство получаетъ большую плату и церкви богаче
украшаются, чѣмъ тамъ, гдѣ одержалъ верхъ кальвинизмъ. Дѣйствительно, даже при
самомъ простомъ вычисленіи становится очевиднымъ, что религія, сосредоточивающая
нашу благотворительность на насъ самихъ, дешевле той, которая направляетъ ее на
другихъ.
Вотъ первое важное практическое различіе двухъ вѣрованій,- различіе, кото-
рое можетъ быть провѣрено всякимъ, кто знакомъ съ исторіей христіанскихъ наро-
довъ, или даже кто путешествовалъ въ странахъ, гдѣ есть послѣдователи различ-
ныхъ исповѣданій. Должно также замѣтить, что римская церковь, богослуженіе ко-
торой преимущественно обращается къ чувствамъ и которая любитъ великолѣпные
соборы и пышныя церемоніи, всегда выказывала гораздо болѣе ожесточенія противъ
кальвинистовъ, чѣмъ противъ какой-либо другой протестантской секты 2).
Изъ этихъ обстоятельствъ должны были неизбѣжно возникнуть аристократи-
ческое стремленіе арминіанизма и демократическое кальвинизма* Народъ любитъ
пышность и великолѣпіе столько же, сколько и аристократы, но онъ не любитъ пла-
тить за удовлетвореніе этой потребности. Его неразвитый умъ легко плѣняется зрѣ-
лищемъ многочисленнаго духовенства и пышностью хорошо убраннаго храма; тѣмъ
не менѣе ему очень хорошо извѣстно, что все это поглощаетъ огромную часть того
богатства, которое иначе перешло бы въ его хижины. Съ другой стороны аристо-
кратія по своему положенію, своимъ привычкамъ и своему воспитанію, пріобрѣ-
3) Голландская церковь первая приняла, какъ пизма, особенно ненавидѣлъ кальвинистовъ п въ
догматъ вѣры, ученіе объ избранныхъ, котораго при- одномъ пзъ своихъ эдиктовъ назвалъ пхъ секту «ие-
держивались въ Женевѣ. павистною». Возьмемъ още болѣе ранній примѣръ.
2) Герберъ говоритъ, что кальвинизмъ есть си- ; Когда римская инквизиція была возобновлена въ
стема «наименѣе привлекательная для чувствъ римскаго ; 1542 году, то вышло приказаніе, чтобы еретики, въ
католика», Филиппъ II, великій поборникъ католп- ; особенности кальвиписты пе были терпимы.
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 349
таетъ естественнымъ образомъ склонность къ тѣмъ тратамъ денегъ, которыя позво-
ляютъ ей соединить наружный блескъ съ религіей, пышность —съ благочестіемъ.
Кромѣ того она имѣетъ пріобрѣтенное нагляднымъ образомъ основательное убѣжде-
ніе, что собственные ея интересы соединены съ интересами духовенства и что все,
ослабляющее одинъ изъ этихъ классовъ, должно ускорить и паденіе другого. Вотъ
почему всякая христіанская демократія упрощала свое внѣшнее богослуженіе; вся-
кая же христіанская аристократія старалась придать ему болѣе блеска. И вообще
можно сказать, по аналогіи съ этимъ, что чѣмъ болѣе какое-нибудь общество стре-
миться къ равенству, тѣмъ болѣе правдоподобно, что въ теологическихъ мнѣніяхъ
своихъ оно придерживается ученія Кальвина; а чѣмъ сильнѣе въ обществѣ стре-
мленія къ неравенству, тѣмъ скорѣе можно предположить въ немъ убѣжденія
арминіанскія.
Легко было бы прослѣдить эту противоположность еще далѣе и показать, что
кальвинизмъ болѣе благопріятствуетъ наукамъ, а арминіанизмъ—искусствамъ; и что
по тому же самому началу первый болѣе годится для мыслителей, а второй — для
ученыхъ г). Но, не имѣя притязанія на изслѣдованіе этихъ различій во всей ихъ
цѣлости, я считаю однако особенно необходимымъ замѣтить, что послѣдователи пер-
ваго ученія болѣе способны пріобрѣсти привычки независимаго мышленія, чѣмъ при-
верженцы послѣдняго; и это по двумъ различнымъ причинамъ. Во-первыхъ, даже
весьма посредственные люди изъ кальвинистской партіи должны, по самому существу
своихъ вѣрованій, руководствоваться въ предметахъ религіи скорѣе своимъ соб-
ственнымъ умомъ, чѣмъ умрмъ другихъ. Поэтому они вообще болѣе ограничены въ
умственномъ отношеніи, чѣмъ ихъ противники, но менѣе раболѣпны; ихъ взгляды
заимствованы конечно изъ менѣе обширной сферы, но зато они болѣе независимы;
они менѣе привязаны къ древности и менѣе обращаютъ вниманія на тѣ преданія,
которымъ арминіанскіе ученые придаютъ особенную важность. Во-вторыхъ, тѣ, ко-
торые соединяютъ съ своею религіей метафизику, приводятся кальвинизмомъ къ
ученію о необходимости 1 2), — къ теоріи, которая хотя часто ложно понимается, но
вообще полна великими истинами и болѣе чѣмъ всякая другая способна развить умъ
человѣка, потому что онъ ведетъ къ тому ясному пониманію закона, достиженіе ко-
тораго есть высшая ступень, до какой можетъ подняться человѣческій умъ.
Эти соображенія дадутъ возможность читателю понять огромную важность того
возрожденія янсенизма, которое произошло во французской церкви въ продолженіе
восемнадцатаго столѣтія. Такъ какъ янсенизмъ есть по существу своему ученіе
кальвинистическос 3), то во Франціи и обнаружились тѣ стремленія, которыми отли-
чается кальвинизмъ. Явился пытливый, демократическій, непокорный духъ, который
всегда сопровождалъ это вѣрованіе. Дальнѣйшее подтвержденіе вѣрности только-что
сдѣланныхъ нами выводовъ заключается въ томъ, что янсенизмъ ведетъ свое начало
отъ уроженца Голландской республики, что онъ введенъ во Франціи въ тотъ свѣт-
лый промежутокъ свободы, который предшествовалъ владычеству Людовика XIV 4),
1) Между армвніапами было много людей боль-
шой учености, въ особенности изъ числа отцовъ
церкви; но самые глубокіе мыслители были на дру-
гой сторонѣ, какъ напримѣръ Августинъ, Паскаль
и Іопаоанъ Эдвардсъ. Этимъ кальвинистскимъ метафи-
зикамъ арминіанская партія не могла противопоста-
вить ни одного человѣка равной съ ними способности;
п замѣчательно, что іезуиты, эти самые ревност-
ные армініаве римской церкви, всегда славились
своею ученостью, во обращали мало вниманія па из-
ученіе души. П замѣчательно, что это превосходство
мысли на сторонѣ кальвинистовъ, сопровождавшееся
меньшею ученостью, существовало съ самаго осно-
вати къ секты, потому что Нсапдеръ замѣчаетъ, что
Пелагій «не обладалъ глубокимъ умозрительнымъ ге-
ніемъ, который мы находимъ у Августина», но что
«по учености онъ стоялъ выше Августина».
2) «Философская необходимость, основанная па
идеѣ предвѣдѣнія Божія, поддерживалась теологамп
кальвинистской школы, болѣе или мевѣе строго, въ про-
долженіе всего настоящаго столѣтія» (Морель). Въ
самомъ дѣлѣ, это стремленіе было такъ естественно,
что мы находимъ ученіе о необходимости, или нѣчто
чрезвычайно похожее на него, даже у Августина.
3) По ученію іезуитовъ, «Павелъ родилъ Авгу-
стина, Августинъ—Кальвина, Кальвинъ—Янсенія, Ян-
сопій—Санкріаиа, Санкріанъ—Арнальда съ братіею».
4) Связь между янсенизмомъ и духомъ неподчи-
ненности была уже замѣчена въ это время, н До-Рсо,
писавшій въ половинѣ семнадцатаго столѣтія, право-
350
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІЯ ВЪ АНГЛІИ.
что онъ былъ усиленно угнетаемъ въ это самовластное царствованіе х)? и что прежде
половины восемнадцатаго столѣтія онъ уже опять поднялся, какъ естественный про-
дуктъ того состоянія общества, которое привело къ французской революціи.
Связь между возрожденіемъ янсенизма и паденіемъ іезуитовъ очевидна. Послѣ
смерти Людовика XIV янсенисты стали быстро распространять свое вліяніе даже
въ Сорбоннѣ, и около середины восемнадцатаго столѣтія организовали могуществен-
ную партію во французскомъ парламентѣ. Около того же періода ихъ вліяніе на-
чинаетъ проявляться въ правительствѣ и между чиновниками короны. Машо, зани-
мавшій важное мѣсто генеральнаго контролера, сталъ открыто покровительствовать
ихъ мнѣніямъ, а черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ его удаленія къ управленію дѣлами
былъ призванъ Шуазёль, человѣкъ съ большими способностями^ явно поддерживав-
шій янсенистовъ. Ихъ воззрѣнія поддерживали также Лаверди, бывшій генераль-
нымъ контролеромъ въ 1764 году, и Террэ, занимавшій мѣсто контролера финан-
совъ въ 1769 году. Генеральный прокуроръ Жильберъ де-Вуазенъ былъ янсенистомъ;
этого же ученія придерживался и одинъ изъ его преемниковъ, Шовленъ, а также
генеральный адвокатъ Пеллетье де-Сентъ-Фаржо и Камюсъ, извѣстный адвокатъ
духовенства. Тюрго, величайшій государственный человѣкъ своего времени, какъ го-
ворятъ, тоже послѣдовалъ этому ученію; Неккеръ же, который два раза обладалъ
почти верховною властью, былъ суровый кальвинистъ. Къ этому можно прибавить,
что не только Неккеръ, но и Руссо, которому по справедливости приписываютъ зна-
чительную долю участія въ произведеніи революціи, родился въ Женевѣ и почерп-
нулъ свои раннія идеи въ этой великой колыбели кальвинистской теологіи.
При подобныхъ условіяхъ невозможно было удержаться такой корпораціи, какъ
іезуиты. Они были послѣдними защитниками авторитета и преданія, и натурально,
что они должны были пасть въ такой вѣкъ, когда государственные люди были скеп-
тики, а теологи—кальвинисты. Даже народъ уже обрекъ ихъ на погибель; и когда
Даміенъ въ 1757 году покусился на жизнь короля, всѣ думали, что они были под-
стрекателями въ этомъ дѣлѣ. Мы знаемъ теперь, что это было несправедливо, но
одно существованіе подобной молвы служитъ уже доказательствомъ всеобщаго на-
строенія. Какъ бы то ни было, но судьба іезуитовъ была рѣшена. Въ апрѣлѣ 1761 г.
парламентъ повелѣлъ, чтобы ему представлены были ихъ уставы. Въ августѣ имъ
было запрещено принимать вновь послушниковъ, ихъ коллегіи были закрыты, и нѣ-
сколько изъ самыхъ знаменитыхъ сочиненій ихъ публично сожжены рукой палача.
Наконецъ, въ 1762 году изданъ былъ новый эдиктъ, которымъ іезуиты были осу-
ждены, безъ предоставленія имъ даже права защищаться, ихъ собственность назна-
чена въ продажу, а ихъ орденъ секуляризованъ; объявлено было, что «существо-
ваніе такой корпораціи не можетъ быть терпимо въ благоустроенномъ государствѣ»,
и ихъ учрежденія и общество были формально уничтожены.
Вотъ какимъ образомъ это великое общество, бывшее долгое время грозой
всего свѣта, пало подъ ударами общественнаго мнѣнія. И паденіе его тѣмъ болѣе
замѣчательно, что предлогъ, приведенный въ оправданіе пересмотра его уставовъ,
былъ такъ ничтоженъ, что ни одно прежнее правительство не обратило бы на него
ни малѣйшаго вниманія. Эта обширная духовная корпорація была собственно судима
свѣтскимъ судомъ за недобросовѣстность въ торговой сдѣлкѣ и за отказъ уплатить сумму
денегъ, которую, какъ говорили, она была должна! Самая вліятельная корпорація
во всей католической церкви, духовные вожди Европы, воспитатели ея юношества
и духовники ея королей были призваны къ суду и судимы, во всемъ ихъ составѣ,
за лживое непризнаніе простого долга! Всѣ обстоятельства заранѣе такъ сложились,
датъ мнѣніе, что Фронда «произошла отъ янсенизма».
Омеръ Талонъ также говоритъ, что въ 1648 году
«оказалось, что всѣ тѣ, ко горше придерживались этого
мнѣнія, не любили существовавшаго въ то время пра-
вительства».
1) Бріениъ, лично знавшій Людовика XIV, гово-
ритъ: «Янсенизмъ—предметъ ужаса для короля*. Въ
концѣ его царствованія одпо лицо было сдѣлано епи-
скопамъ явно за оппозицію янсенизму.
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ.
351
что признано было излишнимъ употребить для уничтоженія іезуитовъ одно изъ тѣхъ
средствъ, къ которымъ обыкновенно прибѣгаютъ, чтобы взволновать умы народа.
Обвиненіе, на которомъ былъ основанъ ихъ приговоръ, заключалось не въ томъ,
что они злоумышляли противъ государства, не въ томъ, что они растлѣвали обще-
ственную нравственность, не въ томъ, что они желали ниспровергнуть религію. Та-
кія обвиненія встрѣчались въ XVII столѣтіи и соотвѣтствовали духу того времени.
Но въ восемнадцатомъ вѣкѣ какой-нибудь ничтожный случай уже могъ служить
предлогомъ для оправданія того, на чтб народъ заранѣе рѣшился. Слѣдовательно,
приписывать это великое событіе банкротству какого-нибудь купца или интригамъ
какой-нибудь любовницы (многіе писатели приписываютъ уничтоженіе іезуитовъ уси-
ліямъ г-жи Помпадуръ!)—значитъ смѣшивать причину дѣйствія съ предлогомъ, подъ
которымъ оно было совершено. Въ глазахъ людей восемнадцатаго столѣтія дѣйстви-
тельное преступленіе іезуитовъ заключалось въ томъ, что они скорѣе принадлежали
къ прошедшему, чѣмъ къ настоящему, и что, защищая злоупотребленія старыхъ
учрежденій, они препятствовали прогрессу человѣчества. Они заграждали путь своему
вѣку- и вѣкъ столкнулъ ихъ съ своего пути. Это и была настоящая причина уни-
чтоженія іезуитовъ; ее едва-ли могутъ замѣтить тѣ писатели, которые подъ видомъ
исторіи занимаются только собираніемъ разныхъ придворныхъ толковъ и сплетенъ
и думаютъ, что судьбы великихъ народовъ рѣшаются въ переднихъ министровъ и
въ совѣтахъ королей.
Послѣ паденія іезуитовъ казалось ничто не могло уже спасти французскую
церковь отъ немедленной гибели х). Старый теологическій духъ уже съ нѣкотораго
времени приходилъ въ упадокъ, и духовенство страдало еще болѣе отъ своихъ соб-
ственныхъ недостатковъ, чѣмъ отъ тѣхъ нападеній, которымъ оно подвергалось.
Увеличеніе знанія произвело во Франціи такіе же результаты, какіе мы уже замѣ-
тили въ Англіи. Возрастающая прелесть науки привлекла на ея сторону многихъ
знаменитыхъ людей, которые въ прежнее время были бы дѣятельными членами ду-
ховнаго сословія. То блестящее краснорѣчіе, которымъ отличалось французское ду-
ховенство, теперь исчезло, и не слышно уже было голоса тѣхъ великихъ ораторовъ,
по призыву которыхъ переполнились храмы. Массильонъ былъ послѣднимъ изъ этой
знаменитой породы людей, которые такъ порабощали умъ и въ рѣчахъ которыхъ
такъ много очарованія, что противъ нихъ и теперь даже трудно устоять. Онъ умеръ
въ 1742 году, и послѣ него меледу французскимъ духовенствомъ уже не было болѣе
знаменитыхъ людей, ни въ какомъ родѣ—ни мыслителей, ни ораторовъ, ни писа-
телей2); и не было повидимому никакой вѣроятности, что оно возвратитъ свое утра-
ченное положеніе. Въ то время, какъ все общество подвигалось впередъ, духо-
венство принимало обратное направленіе. Всѣ источники его власти изсякли; у него
не было дѣятельныхъ вождей; оно потеряло довѣріе правительства; оно лишилось
правъ на уваженіе народа, оно сдѣлалось предметомъ насмѣшекъ для людей того
времени.
Съ перваго взгляда покажется страннымъ, что при этихъ обстоятельствахъ
французское духовенство было въ состояніи въ продолженіе почти тридцати лѣтъ
послѣ уничтоженія ордена іезуитовъ сохранить свое положеніе настолько, чтобы
безнаказанно вмѣшиваться въ общественныя дѣла 3). Но дѣло въ томъ, что этой
временной отсрочкой своего паденія духовное сословіе было обязано тому движенію,
2) Говорятъ, что Шуазёль сказалъ о іезуитахъ:
съ уничтоженіемъ ихъ воспитанія всѣ другія рели-
гіозныя корпораціи падутъ сами собою».
2) Такъ низко упали таланты когда-то знамени- ;
той французской церкви, что въ послѣдней четверти I
восемнадцатаго столѣтія, когда напали на само хри- .
стіанство, не явилось въ рядахъ ея ни одного замѣ- '
нательнаго защитника; и когда собраніе духовенства
въ 1770 году обнародовало свое знаменитое ирокля- ।
тіо противъ угрожавшаго невѣрія и предложило на-
грады за лучшія сочиненія въ защиту христіанской
вѣры, то вызванныя этимъ произведенія были такъ
пичтожиы, что они повредили интересамъ религіи.
3) II сохранить также свои огромныя богатства,
которыя въ то время, когда началась революція, исчи-
слялись въ 80.000.000 фунтовъ стерлинговъ на англій-
скія деньги и приносили ежегодно дохода не мно-
гимъ менѣе 75.000.000 франковъ.
352 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
о которомъ я уже упоминалъ выше, и въ силу котораго французскій умъ въ по-
слѣдней половинѣ восемнадцатаго столѣтія перенесся на другую почву и, устремивъ
всю свою энергію противъ политическихъ злоупотребленій, пренебрегъ въ нѣкоторой
степени тѣми злоупотребленіями духовенства, которыми до тѣхъ поръ ограничива-
лось его вниманіе. Результатомъ этого было то, что во Франціи правительство уси-
ленно взялось за ту политику, которой основаніе положили дѣйствительно великіе
мыслители, но къ которой они сами уже менѣе прилагали ревности. Замѣчательнѣй-
шіе изъ французовъ стали нападать на правительство и въ пылу своей новой борьбы
ослабили свою оппозицію церкви. Но посѣянныя ими сѣмена пускали между тѣмъ
корни въ самомъ правительствѣ. Все шло такъ быстро, что тѣ антицерковныя мнѣ-
нія, за которыя нѣсколько лѣтъ тому назадъ наказывали, какъ за парадоксы зло-
намѣренныхъ людей,—были теперь приняты и приводимы въ исполненіе сенаторами
и министрами. Правители Франціи приводили въ дѣйствіе принципы, которые до
тѣхъ поръ были просто дѣломъ теоріи; и такимъ образомъ оказалось, какъ и всегда
бываетъ, что практическіе государственные люди только прилагали и выполняли
идеи, давно уже заявленныя болѣе передовыми мыслителями.
Вотъ почему ни въ одномъ изъ періодовъ XVIII столѣтія мыслители и дѣя-
тели не соединялись вполнѣ противъ церкви: въ первой половинѣ столѣтія духо-
венство подвергалось главнѣйшимъ образомъ нападеніямъ со стороны литературы,
но не со стороны правительства; во второй же половинѣ на него нападало прави-
тельство, но не литература. Нѣкоторыя изъ обстоятельствъ, сопровождавшихъ этотъ
странный переходъ, были уже изложены и, надѣюсь, дсно представляются уму чи-
тателя. Теперь я намѣренъ дополнить обобщеніе, доказавъ, что соотвѣтствующая
перемѣна произошла и во всѣхъ другихъ отрасляхъ изслѣдованія; и что между тѣмъ
какъ въ первомъ періодѣ Вниманіе преимущественно было обращено на умствен-
ныя явленія, во второмъ—оно устремлялось болѣе на явленія физическія. Отъ этого
чрезвычайно усилилось политическое движеніе, потому что французскій умъ, пере-
мѣнивъ сферу своей дѣятельности, перенесъ мысли людей съ внутренняго на внѣш-
ній міръ и, сосредоточивъ ихъ вниманіе скорѣе на ихъ матеріальныхъ, чѣмъ на
ихъ духовныхъ потребностяхъ, направилъ противъ захватовъ правительства ту
вражду, которая прежде обращалась только противъ захватовъ церкви. Всякій разъ,
какъ является стремленіе предпочитать происходящее извнѣ тому, что происхо-
дитъ извнутри, и такимъ образомъ возвеличить матерію на счетъ духа, должно
также обнаруживаться и стремленіе предполагать, что учрежденіе, которое стѣсняетъ
наши мнѣнія, менѣе вредно, чѣмъ то, которое контролируетъ наши дѣйствія. Точно
такимъ же образомъ люди, отвергающіе основныя истины религіи, не станутъ за-
ботиться о томъ, до какой степени эти истины извращаются. Люди, отрицающіе
существованіе Божества и безсмертіе души, не обратятъ никакого вниманія на то,
въ какой мѣрѣ грубое внѣшнее богослуженіе затемняетъ эти высокія истины. Ни-
какое идолопоклонство, никакія церемоніи, никакая пышность, никакіе догматы и
никакія преданія, которыми задерживаются успѣхи истинной религій, не причинятъ
имъ ни малѣйшаго безпокойства, потому что они считаютъ одинаково лживыми и тѣ
мнѣнія, которымъ не даютъ хода, и тѣ, которымъ покровительствуютъ. Зачѣмъ люди,
которымъ неизвѣстны трансцендентальныя истины, станутъ трудиться надъ уничтоже-
ніемъ суевѣрій, затемняющихъ эти истины? Подобное поколѣніе не только не ста-
нетъ нападать на захваты, дѣлаемые церковью, но скорѣе будетъ смотрѣть на ду-
ховенство, какъ на удобное орудіе для завлеченія невѣжественныхъ и обуздыванія
черни. Поэтому-то намъ рѣдко случается слышать, чтобы искренній атеистъ былъ
ревностнымъ полемикомъ. Но еслибы случилось то, что было сто лѣтъ тому назадъ
во Франціи, еслибы люди съ большой энергіей, находящіеся подъ вліяніемъ опи-
санныхъ мною выше чувствъ, оказались лицомъ къ лицу съ политическимъ деспо-
тизмомъ, то они устремили бы противъ него всѣ свои силы и дѣйствовали бы съ
тѣмъ большей рѣшимостью, что считали бы все, что для нихъ важно, поставлен-
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 353
нымъ на одну карту, и имѣли бы не только главною, но и единственною цѣлью —
земное счастіе.
Съ этой именно точки зрѣнія развитіе атеистическихъ идей, зародившихся въ
то время во Франціи, становится предметомъ хотя и грустнымъ, но полнымъ инте-
реса. Время появленія этихъ идей вполнѣ подтверждаетъ то, чтб я только-что ска-
залъ относительно перемѣны, происшедшей въ половинѣ ХѴШ столѣтія.- Первое ве-
ликое сочиненіе, въ которомъ онѣ открыто проповѣдывались, была знаменитая «Энци-
клопедія», изданная въ 1751 году *). До этого времени такія недостойныя мнѣнія
хотя и прорывались случайно, но не поддерживались ни однимъ способнымъ чело-
вѣкомъ; къ тому же, при прежнемъ состояніи общества, они не могли произвести
слишкомъ сильнаго впечатлѣнія на свое время. Но въ послѣдней половинѣ XVIII сто-
лѣтія идеи эти имѣли вліяніе на всѣ отрасли французской литературы. Между 1758
и 1770 годами атеистическія ученія быстро утвердились, и въ 1770 г. было издано
знаменитое сочиненіе, подъ заглавіемъ «Система Природы», успѣхъ котораго и, по
несчастію, талантъ, съ которымъ» оно написано, дѣлаетъ появленіе его довольно важ-
ной эпохой въ исторіи Франціи. Оно имѣло огромную популярность и содержащіеся
въ немъ взгляды были изложены такъ ясно и въ такомъ методическомъ порядкѣ,
что оно заслужило названіе кодекса атеизма. Пять лѣтъ спустя архіепископъ тулуз-
скій, въ формальномъ адресѣ къ королю отъ имени духовенства, объявилъ, что
атеизмъ сдѣлался господствующимъ убѣжденіемъ. Въ этомъ, какъ и во всѣхъ по-
добныхъ увѣреніяхъ, должно быть много преувеличенія, но что въ немъ было много
и правды, это знаетъ всякій, кто изучалъ складъ ума въ поколѣніи, непосредственно
предшествовавшемъ революціи. Между второстепенными писателями, Дамилавилль,
Делейръ, Марешаль, Нэжонъ, Туссенъ были дѣятельнымй защитниками этого холод-
наго и мрачнаго ученія, которое, чтобы уничтожить надежду на будущую жизнь, за-
глушаетъ въ умѣ человѣка благородные инстинкты его собственнаго безсмертія.
И довольно странно, что даже нѣкоторые изъ высшихъ умовъ не въ состояніи были
избѣжать этой язвы. Кондорсэ, Д’Аламберъ, Дидро, Гельвецій, Лаландъ, Лапласъ,
Мирабо и Сенъ-Ламберъ открыто защищали атепзмъ, Въ самомъ дѣлѣ, все это было
до такой степени согласно съ общимъ настроеніемъ, что люди похвалялись въ обще-
ствѣ тѣмъ, что въ другихъ странахъ и въ другіе дни было рѣдкимъ, страннымъ
заблужденіемъ, какимъ-то эксцентрическимъ мятномъ, которое старались скрывать.
Въ 1764 году Юмъ встрѣтилъ въ домѣ барона Гольбаха общество самыхъ знамени-
тыхъ французовъ, какіе были тогда въ Парижѣ. Великій шотландецъ, безъ сомнѣнія
знавшій о господствовавшемъ тогда мнѣніи, воспользовался однимъ случаемъ, чтобы
завести рѣчь о томъ, существуютъ ли настоящіе атеисты, и сказалъ, что ему ни-
когда не случалось встрѣтиться ни съ однимъ изъ такихъ людей. «Вы были довольно
несчастливы,—возразилъ ему Гольбахъ,—но въ настоящую минуту вы сидите за сто-
ломъ съ семнадцатью изъ нихъ» 2).
Этотъ случай, какъ онъ ни печаленъ, представляетъ намъ только одну изъ сто-
ронъ того громаднаго движенія, въ силу котораго французскій умъ въ теченіе послѣд-
ней половины восемнадцатаго столѣтія отсталъ отъ изученія внутренняго міра и
сосредоточилъ все свое вниманіе на изученіи внѣшняго. Мы находимъ интересный
примѣръ этого направленія въ знаменитомъ сочиненіи Гельвеція, безспорно самомъ
талантливомъ и самомъ вліятельномъ изслѣдованіи о нравственности, какое появля-
лось во Франціи въ этотъ періодъ. Сочиненіе это было издано въ 1758 году, и хотя
2) <Вскорѣ, — говоритъ Барантъ, — начали от- !
рпцать все; уже невѣріе отвергло божественныя дока- I
зательства откровенія и отреклось отъ обязанностей
и преданій христіанскихъ; атеизмъ поднялъ тогда смѣ-
лѣе чело и провозгласилъ, что всякое религіозное
чувство есть мечта—разстройство человѣческаго ума. '
Въ эпоху энциклопедизма и начали именно появляться
сочиненія, въ которыхъ мнѣніе это проводилось самымъ
положительнымъ образомъ».
2) Прпстлей, посѣтившій Францію въ 1774 году,
говоритъ: «всѣ философы, которымъ я былъ представ-
ленъ въ Парижѣ, не вѣровали въ христіанство и даже
объявляли себя атеистами».
Бокль.—И зі. Ф. Павленкова.
23
354
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
оно носитъ названіе опыта «о Духѣ», но оно не содержитъ въ себѣ ни одного
мѣста, изъ котораго мы могли бы заключить, что духъ въ томъ смыслѣ, въ кото-
ромъ слово это обыкновенно употребляется, существуетъ. Въ этомъ сочиненіи, ко-
торое было въ продолженіе пятидесяти лѣтъ кодексомъ французской нравственности,
изложены принципы, имѣющіе точно такое же отношеніе къ этикѣ, какое имѣетъ
атеизмъ къ теологіи. Гельвецій въ началѣ своего изслѣдованія принимаетъ, какъ
неопровержимый фактъ, что различіе между человѣкомъ и другими животными есть
результатъ различія въ ихъ внѣшней формѣ, и что еслибы, напримѣръ, руки, вмѣсто
того чтобы оканчиваться кистями и гибкими пальцами, оканчивались какимъ-нибудь
подобіемъ лошадинаго копыта, то мы вѣчно блуждали бы по лицу земли, не зная
никакого искусства, совершенно беззащитные, не имѣя никакой заботы, кромѣ избѣ-
жанія нападеній дикихъ звѣрей и пріисканія ежедневно необходимаго количества
пищи *). Что устройство нашего тѣла—единственная причина нашего хваленаго пре-
восходства, это становится очевиднымъ, когда мы разсудимъ, что наши мысли соста-
вляютъ не болѣе какъ продуктъ двухъ способностей, которыя въ насъ общи со всѣми
другими животными, именно: способности принимать впечатлѣнія отъ внѣшнихъ
предметовъ и способности запоминать эти впечатлѣнія, послѣ того какъ они при-
няты. Слѣдовательно, продолжаетъ Гельвецій, внутреннія способности въ человѣкѣ
такія же, какъ и во всѣхъ другихъ животныхъ, и потому наша чувственная вос-
пріимчивость и наша память были бы безполезны, еслибы не тѣ внѣшнія особен-
ности, которыми мы въ высшей степени отличаемся и которымъ мы обязаны всѣмъ,
что для насъ особенно дорого. Разъ мы имѣемъ эти положенія, изъ нихъ уже не
трудно вывести всѣ главныя основанія нравственной дѣятельности. Ибо при томъ
условіи, что память есть одинъ изъ органовъ физической воспріимчивости, а су-
жденіе— не болѣе какъ ощущеніе, всѣ понятія о долгѣ и добродѣтели оцѣниваются
по ихъ отношенію къ чувствамъ,—другими словами, измѣряются просто суммой фи-
зическихъ наслажденій, которыя они могутъ» доставить. Вотъ настоящее основаніе
нравственной философіи. Имѣть другой какой-нибудь взглядъ—значитъ давать себя
обманывать условными выраженіями, которыя ни на чемъ не основаны, кромѣ пред-
разсудковъ невѣжественныхъ людей. Наши пороки и наши добродѣтели суть только
результаты нашихъ страстей, которыя въ свою очередь порождаются нашею физи-
ческою чувствительностью къ боли и къ наслажденію. Такимъ именно путемъ впервые
возникло сознаніе о справедливости. Физической чувствительности люди обязаны
ощущеніемъ удовольствія и страданія; отсюда произошло сознаніе ихъ собственныхъ
выгодъ, и отсюда же родилось желаніе жить вмѣстѣ, въ обществахъ. Какъ только
люди соединились въ общества, явилось понятіе объ общей пользѣ, такъ какъ безъ
этого общество не можетъ удержаться; а такъ какъ дѣйствія бываютъ справедливы
или несправедливы только въ той мѣрѣ, въ какой они соотвѣтствуютъ этой общей
пользѣ, то и установилось мѣрило, съ помощью котораго можно отличать справедли-
вость отъ несправедливости * 3). Въ томъ же непреклонномъ духѣ и съ необыкновен-
ной полнотой положительныхъ примѣровъ изслѣдуетъ Гельвецій и происхожденіе дру-
гихъ чувствъ, отъ которыхъ зависятъ человѣческія дѣянія. Такъ онъ говоритъ, что и
честолюбіе, и дружба—дѣло чисто физической чувствительности. Люди жаждутъ славы
или ради удовольствія, котораго они ожидаютъ отъ одного обладанія ею, или же
потому, что видятъ въ ней средство получить впослѣдствіи другія удовольствія. Что
г) Читалъ ли когда Гельвецій нападенія Аристо-
теля на Анаксагора за то, что послѣдній утверждалъ:
«что вслѣдствіе обладанія руками—человѣкъ есть ум-
нѣйшее изъ животныхъ»?
3) «Дойдя разъ до этой истины, я легко откры-
ваю источникъ человѣческихъ добродѣтелей; я вижу,
что еслибъ не чувствительность къ печали и къ фи-
зическому удовольствію, то люди безъ желаній, безъ ।
страстей, одинаково равнодушные ко всему, не созна- |
вали бы и личнаго интереса; что безъ личнаго инте-
реса опп не соединялись бы въ общества, не вхо-
дили бы между собою въ договоры; что не было бы
общественнаго интереса; и поэтому не было бы и дѣй-
ствій справедливыхъ п несправедливыхъ; и что слѣ-
довательно физическая чувствительность и личный
интересъ были источниками всякой справедливости».
(«Пе ГЕзргіі»).
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 355
же касается дружбы, то единственная польза отъ нея состоитъ въ увеличеніи на-
шихъ удовольствій или въ смягченіи нашихъ страданій; съ этой именно цѣлью че-
ловѣкъ и желаетъ поддерживать сношенія со своимъ другомъ х). Кромѣ того жизнь
ничего не можетъ дать намъ Любить все доброе ради одного добра такъ же невоз-
можно, какъ любить злое ради зла. Мать, плачущая о потерѣ своего ребенка, по-
буждается къ этому единственно эгоизмомъ; она груститъ, потому что у нея отнято
удовольствіе и потому что она видитъ пустоту, которую трудно наполнить. Итакъ,
и самыя высокія добродѣтели, и самые низкіе пороки одинаково порождаются тѣмъ
удовольствіемъ, которое мы испытываемъ, дѣйствуя по ихъ внушенію. Всѣмъ, что
мы имѣемъ, и всѣмъ, чѣмъ мы бываемъ, мы обязаны внѣшнему міру; и человѣкъ
можетъ быть только тѣмъ, чѣмъ дѣлаютъ его тѣ предметы, которые его окружаютъ.
Взгляды, проводимые въ этомъ знаменитомъ сочиненіи, я изложилъ довольно
подробно, не столько по причинѣ того таланта, съ какимъ они защищаются, сколько
потому, что они даютъ ключъ къ объясненію движеній самаго замѣчательнаго вѣка.
Дѣйствительно, они такъ вполнѣ согласовались съ преобладавшими стремленіями,
что не только быстро доставили своему автору огромную европейскую извѣстность 2),
но въ теченіе многихъ лѣтъ пріобрѣтали все большее и большее вліяніе, и во Фран-
ціи въ особенности имѣли громадное значеніе 3). Такъ какъ въ этой странѣ воз-
никли такіе взгляды, то для нея они болѣе всего и годились. Госпожа Дюдеффанъ,
которая провела свою долгую жизнь посреди французскаго общества и была одною
изъ самыхъ тонкихъ наблюдательницъ своего времени, весьма удачно выразила это.
Сочиненіе Гельвеція, говоритъ она, популярно, потому что этотъ человѣкъ высказалъ
тайну каждаго.
Это правда, что для современниковъ Гельвеція его7 взгляды, несмотря на ихъ
огромную популярность, имѣли видъ тайны, потому что связь между ними и общимъ
ходомъ дѣлъ тогда еще только смутно сознавалась. Для насъ же, разсматривающихъ
этотъ вопросъ послѣ такого промежутка времени и, слѣдовательно, съ помощью боль-
шей опытности, совершенно ясно видно, до какой степени эта система соотвѣтство-
вала потребностямъ того вѣка, котораго она служитъ выраженіемъ и признакомъ.
Что Гельвецій долженъ былъ встрѣтить сочувствіе своихъ соотечественниковъ, это
ясно видно не только изъ свидѣтельствъ о его успѣхѣ, но и изъ обзора общаго ха-
рактера того времени. Когда онъ еще продолжалъ свои труды, и только за четыре
года до ихъ обнародованія появилось во Франціи сочиненіе, которое хотя и обна-
ружило болѣе таланта и имѣло большее вліяніе, чѣмъ сочиненіе Гельвеція, но все-
таки было написано совершенно въ томъ же направленіи. Я говорю о великомъ
метафизическомъ трактатѣ Кондильяка, составляющемъ во многихъ отношеніяхъ одно
изъ самыхъ замѣчательныхъ произведеній восемнадцатаго столѣтія; авторитетъ его
въ продолженіе двухъ поколѣній былъ такъ великъ, что безъ нѣкотораго знакомства
съ этимъ сочиненіемъ мы едва-ли можемъ понять свойства тѣхъ сложныхъ движе-
ній, которыя произвели французскую революцію.
Въ 1754 году Кондильякъ издалъ свое знаменитое сочиненіе объ умѣ, самое
заглавіе котораго уже показываетъ, въ какомъ духѣ оно написано. Хотя этотъ глу-
бокій мыслитель имѣлъ въ виду ни болѣе, ни менѣе какъ исчерпывающій анализъ
человѣческихъ способностей, и хотя одинъ весьма даровитый, но враждебный критикъ
(Кузенъ) провозглашаетъ его единственнымъ метафизикомъ, какого произвела Фран-
Онъ заключаетъ въ немногихъ словахъ: «изъ
этого слѣдуетъ, что дружба, равно какъ и жад-
ность, гордость, честолюбіе и другія страсти, есть
невосредственаыМ результатъ физической чувстви-
тельности*.
*) СенЪ‘Сюрень, ревностный противникъ Гель-
веція, допускаетъ, что «самые вліятельные (по своимъ
заслугамъ или по своему уму) иностранцы желали
быть представленными философу, имя котораго раз-
давалось по всей Европѣ».
3) Бриссо говоритъ, что въ 1775 году «система
Гельвеція была въ наибольшемъ ходу». Тюрго, пи-
савшій противъ пея, жаловался на то, что ее рас-
хваливали <съ какою-то яростью* *, а Жоржель гово-
рить: «эта книга, написанная слогомъ полнымъ жара
п образовъ, находилась на всѣхъ туалетныхъ столахъ».
23*
356
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ція за все восемнадцатое столѣтіе, но все-таки онъ нашелъ, что рѣшительно невоз-
можно избѣжать тѣхъ стремленій ко внѣшнему, которыя господствовали въ его
время. Слѣдствіемъ этого было то, что онъ назвалъ свое сочиненіе трактатомъ объ
ощущеніяхъ. Въ немъ онъ положительнымъ образомъ утверждаетъ, что все, что мы
знаемъ, есть результатъ ощущенія, подъ которымъ онъ разумѣетъ дѣйствіе, произ-
водимое на насъ внѣшнимъ міромъ. Чтб бы ни думали о вѣрности этого взгляда, но
то не подлежитъ сомнѣнію, что онъ проводится съ такою послѣдовательностью и та-
кою строгостью въ умозаключеніяхъ, которыя достойны всякой похвалы. Однако раз-
боръ доводовъ, подкрѣпляющихъ взглядъ Кондильяка, можетъ повести къ разсужде-
ніямъ. чуждымъ моей настоящей цѣли, которая заключается только въ томъ, чтобы
указать отношеніе между его философіей и общимъ направленіемъ его современни-
ковъ. Поэтому, не имѣя никакого притязанія на что-либо въ родѣ практическаго
разбора этого знаменитаго сочиненія, я хочу просто представить сводъ всѣхъ суще-
ственныхъ положеній, составляющихъ его основаніе, съ тѣмъ чтобы сдѣлать очевид-
ною связь, существующую между этою книгою и умственнымъ складомъ того вре-
мени, въ которомъ она появилась.
Матеріалы, изъ которыхъ была первоначально извлечена философія Кондильяка,
заключались въ великомъ сочиненіи, изданномъ за шестьдесятъ лѣтъ до него Лок-
комъ. Хотя многое изъ того, что составляетъ самую существенную часть этой фи-
лософіи, было заимствовано отъ англійскаго писателя, но въ одномъ весьма важномъ
отношеніи ученикъ отличался отъ учителя. И это различіе рѣзко обрисовываетъ то
направленіе, которое начиналъ принимать въ то время французскій умъ. Локкъ съ
нѣкоторой небрежностью вѣ\выраженіи, а можетъ быть и нѣкоторой неточностью въ
мысли, увѣрялъ, что существуетъ отдѣльная способность мышленія, и утверждалъ, что
съ помощью этой способности продукты ощущенія могутъ приносить намъ пользу ’)•
Кондильякъ, движимый господствующимъ духомъ своего времени, пе хотѣлъ и слы-
шать о такомъ различіи. Онъ, подобно большей части своихъ современниковъ, съ
ревностью смотрѣлъ на всякое притязаніе, усиливающее авторитетъ внутренняго и
ослабляющее авторитетъ внѣшняго міра. Такимъ образомъ онъ совершенно отвер-
гаетъ способность мышленія, какъ источникъ нашихъ идей, частью потому, что эта
способность есть только каналъ, въ который устремляются идеи по выходѣ изъ
чувствъ, а частью и потому, что въ началѣ онѣ и сами суть ощущенія. Итакъ, по
его мнѣнію, весь вопросъ заключается только въ томъ, какимъ образомъ наше со-
прикосновеніе съ природой доставляетъ намъ идеи, потому что, по его системѣ, спо-
собности человѣка происходятъ единственно отъ дѣятельности его чувствъ. Сужде-
нія, которыя мы составляемъ, говоритъ Кондильякъ, часто приписываются присут-
ствію въ насъ Божества—удобный способъ умозаключенія, возникшій только вслѣд-
ствіе трудности анализа сужденій. Только разсмотрѣвъ дѣйствительный порядокъ
составленія нашихъ сужденій, мы можемъ устранить эти неясности. Дѣло въ томъ,
что вниманіе, обращаемое нами на предметъ, есть пе что иное, какъ ощущеніе, ко-
торое возбуждаетъ въ насъ этотъ предметъ; и то, что мы называемъ отвлеченными
понятіями,—не болѣе, какъ различные виды нашей внимательности. По зарожденіи
такимъ образомъ понятій, дальнѣйшій процессъ совершается весьма просто. Внимать
двумъ понятіямъ въ одно и то же время—значитъ сравнивать ихъ, такъ что срав-
неніе не есть результатъ вниманія, но скорѣе само вниманіе.
Это сразу даетъ намъ способность судить, ибо, дѣлая прямо сравненіе, мы
этимъ самымъ, по необходимости, составляемъ сужденіе. Точно также память есть
не болѣе, какъ преобразившееся ощущеніе; между тѣмъ какъ воображеніе есть
г) Держался ли, или пѣть, Локкъ того мнѣнія,
что мышленіе есть независимая, также какъ п отдѣль-
ная способность,—вензвѣс'іно, потому что пзъ его со-
чиненій можно принести мѣста, говорящія объ этомъ
какъ утвердительно, такъ и отрицательно. Докторъ
Уэвелль справедливо замѣчаетъ, что Локкъ употреб-
ляетъ это слово такъ неопредѣленно, что «даетъ врано
своимъ ученикамъ дѣлать чтд пмъ угодно изъ его ученія».
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 357
не что иное, какъ память, которая, будучи доведена до возможно высшей степени
живости, дѣлаетъ отсутствующее какъ бы присущимъ. Итакъ, впечатлѣнія, полу-
чаемыя нами отъ внѣшняго міра, суть не причины нашихъ способностей, а самыя
способности. Изъ этого неизбѣжно слѣдуетъ, говоритъ Кондильякъ, что въ человѣкѣ
природа есть начало всего; что природѣ обязаны мы всѣмъ нашимъ знаніемъ; что
мы научаемся только отъ ея уроковъ и что все искусство умозаключенія должно
состоять въ продолженіи того дѣла, къ выполненію котораго мы призваны природой.
Направленіе этихъ взглядовъ до такой степени очевидно, что для оцѣнки ихъ
результата мнѣ нѣтъ нужды брать другое какое-либо мѣрило, кромѣ степени распро-
страненія ихъ. Дѣйствительно, ревность, съ какою ихъ начали вводить во всѣ отрасли
знанія, можетъ удивить лишь тѣхъ, которые по своему умственному складу могли
изучать исторію только отдѣльными отрывками, а не привыкли смотрѣть на нее,
какъ на одно цѣлое, и которые поэтому не замѣчаютъ, что въ каждой великой
эпохѣ бываетъ въ ходу какая-нибудь одна идея, которая, пересиливая всѣ другія,
даетъ свой характеръ всѣмъ событіямъ и опредѣляетъ ихъ окончательный исходъ.
Во Франціи въ продолженіе послѣдней половины восемнадцатаго столѣтія такою
идеею было подчиненіе внутренняго внѣшнему. Это тотъ опасный, хотя и благо-
видный, принципъ, который отвлекъ вниманіе людей отъ церкви и направилъ его
на государство, который проявлялся въ сочиненіяхъ Гельвеція, самаго знаменитаго
изъ французскихъ моралистовъ, и Кондильяка, знаменитѣйшаго изъ французскихъ
метафизиковъ. Это тотъ самый принципъ, который, возвысивъ, если можно такъ
сказать, значеніе природы, заставилъ способнѣйшихъ мыслителей посвятить себя
изученію ея законовъ и покинуть другія занятія, пользовавшіяся въ прежнее время
большой популярностью. Вслѣдствіе этого движенія сдѣланы были такія удивительныя
прибавленія къ каждой отрасли естественныхъ наукъ( что гораздо болѣе новыхъ
истинъ, относящихся до внѣшняго міра, было открыто во Франціи въ продолженіе
второй половины ХѴШ столѣтія, чѣмъ за всѣ предшествовавшіе періоды, взятые
вмѣстѣ. Подробности этихъ открытій, насколько опѣ были пригодны для общихъ
цѣлей цивилизаціи, будутъ разсказаны въ другомъ мѣстѣ; теперь же я укажу только
на тѣ, которыя наиболѣе выдаются впередъ, съ тѣмъ чтобы читатель могъ понять
дѣлаемые мною далѣе выводы и могъ видѣть связь между этими открытіями и
французскою революціей.
Бросивъ общій взглядъ на внѣшній міръ, мы можемъ сказать, что три самыя
важныя силы, которыми совершаются всѣ отправленія природы, суть: теплота,
свѣтъ и электричество — къ этому послѣднему я отношу и явленія магнетизма и
гальванизма. Всѣми этими предметами французы теперь впервые стали заниматься
съ замѣчательнымъ успѣхомъ. Относительно теплоты не только собираемы были съ
неутомимымъ трудолюбіемъ матеріалы для позднѣйшихъ выводовъ, но даже, прежде
чѣмъ прошло одно поколѣніе, сдѣланы были и самые выводы; ибо въ то время какъ
Превб вывелъ законы лучеиспусканія теплорода, законы теплопроводности были
изслѣдованы Фурье» который передъ самой революціей занялся возведеніемъ тер-
мотики на степень науки, путемъ дедуктивнаго примѣненія къ ней той знаменитой
математической теоріи, которую онъ самъ придумалъ и которая и до сихъ поръ
носитъ его имя. Касательно электричества достаточно замѣтить, .что въ томъ же
самомъ періодѣ производились важные опыты Д’Алибара, а за ними слѣдовали
обширныя изысканія Кулона, вслѣдствіе которыхъ явленія электричества подведены
были подъ законы математики, и такимъ образомъ довершено то, чтЬ подгото-
вилъ уже Эпинусъ. Что же касается до законовъ свѣта, то накоплялись тѣ идеи,
которыя проложили путь къ важнымъ открытіямъ, сдѣланнымъ въ концѣ столѣтія
Малюсомъ и еще позднѣе Френэлемъ. Оба эти знаменитые француза не только
сдѣлали важныя прибавленія къ нашимъ свѣдѣніямъ о двойномъ преломленіи, но
Малюсъ даже открылъ поляризацію свѣта—безъ сомнѣнія самая блестящая услуга,
какая только была оказана оптикѣ со времени разложенія солнечныхъ лучей. Вслѣд-
358
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ствіе этого также Френэль приступилъ къ глубокимъ изысканіямъ, утвердившимъ на
прочномъ основаніи ту великую теорію волненій свѣта, основателями которой счи-
таютъ Гука, Гюйгенса и больше всего Юнга, и которою окончательно была ниспро-
вергнута атомистическая теорія Ньютона.
Вотъ какіе успѣхи сдѣлали французы въ познаніи тѣхъ силъ природы, кото-
рыя сами по себѣ невидимы, и о которыхъ мы не можемъ положительно сказать,
существуютъ ли онѣ въ видѣ какой-нибудь матеріи, или же это не болѣе какъ со-
стоянія или свойства другихъ тѣлъ х). Громадное значеніе этихъ открытій, какъ уве-
личивающихъ число дознанныхъ истинъ, конечно неоспоримо; но въ то же самое
время сдѣланы были и другого рода открытія, которыя, имѣя болѣе осязательное
отношеніе къ видимому міру и будучи вслѣдствіе этого легче понимаемы, про-
извели болѣе непосредственные результаты и, какъ я сейчасъ покажу, имѣли замѣ-
чательное вліяніе на усиленіе того демократическаго стремленія, которое сопро-
вождало французскую революцію* Совершенно невозможно, не выходя изъ предполо-
женныхъ мною предѣловъ, дать сколько-нибудь вѣрное понятіе о чудесной дѣятель-
ности, съ какою французы преслѣдовали теперь свои изысканія въ каждой области
органическаго и неорганическаго міра; но я все-таки считаю возможнымъ сжать на
нѣсколькихъ страницахъ такой перечень болѣе выдающихся сторонъ этой дѣятель-
ности, который могъ бы дать читателю нѣкоторую идею о томъ, что было сдѣлано
поколѣніемъ великихъ мыслителей, процвѣтавшихъ во Франціи въ послѣдней поло-
винѣ восемнадцатаго столѣтія.
Если мы ограничимъ нашъ взглядъ обитаемымъ нами земнымъ шаромъ, то
должны согласиться, что двѣ науки, химія и геологія, не только весьма много обѣ-
щаютъ въ будущемъ, но и содержатъ уже самыя обширныя обобщенія. Причина
этого станетъ очевидна, если4мы вникнемъ въ идеи, лежащія въ основаніи этихъ
двухъ великихъ предметовъ. Идея химіи—изученіе состава 2), идея геологіи—изуче-
ніе положенія. Предметъ первой составляетъ изученіе законовъ, отъ которыхъ за-
висятъ свойства матеріи; предметъ второй—изученіе законовъ, обусловливающихъ
мѣсто расположенія ея. Въ химіи мы производимъ опыты; въ геологіи—наблюдаемъ.
Въ химіи мы имѣемъ дѣло съ частичнымъ строеніемъ малѣйшихъ атомовъ 3); въ
геологіи—съ міровымъ строеніемъ огромныхъ массъ. Отъ этого происходитъ, что хи-
микъ своею мелочностью, а геологъ своимъ величіемъ соприкасаются съ двумя край-
ностями матеріальной вселенной и, исходя отъ этихъ противоположныхъ точекъ, по-
стоянно обнаруживаютъ, какъ я легко могу доказать, все большее и большее стрем-
леніе подчинить своей власти такія науки, которыя имѣютъ въ настоящее время не-
зависимое существованіе и которыя, ради раздѣленія труда, все еще признается
болѣе удобнымъ изучать отдѣльно, между тѣмъ какъ дѣло собственно такъ назы-
ваемой философіи—соединить ихъ въ одно полное, дѣйствительное цѣлое. И въ са-
момъ дѣлѣ ясно, что еслибы мы знали всѣ законы, опредѣляющіе составы матеріи,
и также всѣ законы, отъ которыхъ зависитъ ея положеніе, то мы также знали бы и
всѣ перемѣны, которымъ она способна подвергнуться самопроизвольно, то есть, когда
ей не становится въ этомъ помѣхою умъ человѣка. Каждое явленіе, представляемое
какимъ-нибудь даннымъ веществомъ, должно зависѣть или отъ чего-нибудь заклю-
Что касается до предполагаемой невозможности
представать себѣ матерію существующею безъ тѣхъ
свойствъ, которыя даютъ начало силачъ (примѣчаніе
въ Ра^еГа «Ьесіигез оп РаіЬоІо^у >, 1853, ѵ. I. р. 61),
то двѣ причины заставили меня не придавать боль-
шого вѣса этому предположенію. Первая причина—что
то, чтб въ одномъ состояніи знанія признается не-
постижимымъ. дѣлается при позднѣйшемъ состояніи
совершенію попятнымъ и до такой степени естествен-
нымъ, что часто называется даже необходимымъ. Вто-
рая причина та, что какъ бы ни казалась неразрыв-
ной связь между силою и матеріею, она все-таки не
была пагубна для динамической теорій Лейбница: она
не помѣшала также другимъ знаменитымъ мыслите-
лямъ держаться подобныхъ же взглядовъ, и доводы
Берклея, хотя постоянно оспариваемые, не были ни-
когда опровергнуты.
2) Каждое химическое разложеніе есть только но-
вая форма соединенія.
3) То, чтб ошибочно называется атомистическою
теоріею, есть, собственно говоря, гипотеза, а не тео-
рія, но хотя это п гипотеза, мы однако ей обязаны
теоріею постоянныхъ пропорцій—краеугольнымъ кам-
немъ химіи.
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 359
чающагося въ самомъ веществѣ, или отъ такой причины, которая находится внѣ его,
при этомъ все, что происходитъ внутри матеріи, объясняется ея составомъ, а то, что
случается внѣ ея, должно зависѣть отъ положенія ея относительно тѣхъ предметовъ,
которые имѣютъ на нее дѣйствіе. Вотъ положенія, примѣнимыя къ всевозможнымъ
случаямъ, и все, чтб ни случается, должно подходить подъ который-нибудь изъ этихъ
двухъ разрядовъ законовъ; даже упомянутыя выше таинственныя силы, исходятъ ли
онѣ изъ матеріи, или же суть только свойства матеріи, должны при окончательномъ
анализѣ ихъ оказаться зависящими или отъ внутренняго устройства, или отъ внѣш-
няго положенія ихъ физическихъ предыдущихъ. Поэтому, какъ бы ни было удобно
при настоящемъ состояніи нашего знанія говорить о жизненныхъ принципахъ, о
невѣсомыхъ жидкостяхъ и упругихъ эоирахъ, подобные термины могутъ быть только
временными, и ихъ слѣдуетъ считать не болѣе какъ названіями, принятыми для тѣхъ
оставшихся необъясненными фактовъ, подведеніе которыхъ модъ общія правила,
довольно обширныя, чтобы обнять все и на все распространяться, будетъ дѣломъ
грядущихъ вѣковъ.
Такъ какъ эти идеи состава и положенія лежатъ въ основаніи всѣхъ есте-
ственныхъ наукъ, то не удивительно,- что химія и геологія, ихъ лучшіе, хотя все
еще несовершенные представители, должны были сдѣлать въ новѣйшія времена бо-
лѣе успѣховъ, чѣмъ какая-либо другая изъ главныхъ отраслей человѣческаго зна-
нія. Хотя химики и геологи не поднялись еще до крайней высоты въ своихъ пред-
метахъ х), но все-таки можетъ ли что быть любопытнѣе той быстроты, съ какою они
расширяли свои взгляды въ продолженіе двухъ послѣднихъ поколѣній, вдаваясь въ
такіе вопросы, до которыхъ, казалось бы съ перваго взгляда, имъ нѣтъ дѣла, под-
чиняя другія отрасли изслѣдованія своимъ и набираясі/ отовсюду тѣхъ умственныхъ
сокровищъ, которыя, долго скрываемыя въ темныхъ закоулкахъ, растрачивались въ
разработкѣ спеціальныхъ, второстепенныхъ предметовъ. Такъ какъ это одна изъ ве-
ликихъ умственныхъ характеристикъ настоящаго времени, то я разсмотрю ее впо-
слѣдствіи съ большею подробностью; теперь же я долженъ только доказать, что въ
этихъ двухъ обширныхъ наукахъ, которыя хотя еще весьма несовершенны, но должны
со временемъ стать выше всѣхъ другихъ, первые важные шаги были сдѣланы фран-
цузами въ теченіе послѣдней половины ХѴШ столѣтія.
Что мы обязаны Франціи существованіемъ химіи, какъ науки, съ этимъ согла-
сится всякій, кто употребляетъ слово «наука» въ томъ единственно смыслѣ, въ кото-
ромъ оно должно быть употребляемо, т. е. какъ сводъ обобщеній, вѣрность которыхъ
до такой степени непреложна, что они хотя и могутъ быть со временемъ заслонены
высшими обобщеніями, но не могутъ быть разрушены ими, другими словами—такихъ
обобщеній, которыя могутъ быть поглощены, но не опровергнуты. Съ этой точки
зрѣнія исторія химіи представляетъ только три перехода. Первый переходъ состав-
ляло паденіе флогистической теоріи и основаніе на развалинахъ ея ученія объ
окисленіи, сгораніи и дыханіи. Второй переходъ заключался въ установленіи начала
постоянныхъ пропорцій и примѣненіи къ нему атомистической гипотезы. Третій
переходъ—выше чего мы еще не поднимались—составляетъ соединеніе химическихъ
законовъ съ законами электричества и успѣшное стремленіе связать въ одномъ
общемъ выводѣ разрозненныя явленія обоихъ началъ. Который изъ этихъ трехъ
переходовъ имѣлъ въ свое время наибольшее значеніе, до этого намъ теперь нѣтъ
дѣла; но то достовѣрно, что первый изъ нихъ былъ результатомъ дѣятельности Ла-
вуазье, величайшаго изъ французскихъ химиковъ. До него нѣсколько важныхъ во-
просовъ были выяснены англійскими химиками, опыты которыхъ раскрыли суще-
ствованіе дотолѣ неизвѣстныхъ тѣлъ. Но звеньевъ, которыми можно было бы,свя-
зать эти факты, еще не доставало, и пока Лавуазье не выступилъ на то же поприще,
х) Многіе изъ нихъ до сихъ поръ связаны въ геологіи гипотезою катастрофъ, а въ химіи—гипотезою
жизненныхъ силъ.
360
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
не было обобщеній достаточно обширныхъ для того, чтобы химія могла справедливо
назваться наукой; или, говоря точнѣе, единственный широкій выводъ, принятый
всѣми, былъ сдѣланъ Сталемъ, но великій французскій химикъ доказалъ, что выводъ
этотъ не только не полонъ, но даже и совершенно невѣренъ. Свѣдѣнія объ обшир-
ныхъ открытіяхъ Лавуазье можно найти во многихъ извѣстныхъ сочиненіяхъ; намъ же
достаточно сказать, что онъ не только выработалъ законы окисленія тѣлъ и ихъ
сгоранія, но былъ также творцомъ истинной теоріи дыханія, чисто химическій ха-
рактеръ котораго онъ первый доказалъ,—чѣмъ и положилъ основаніе тѣмъ взгля-
дамъ на назначеніе пищи, которые были развиты впослѣдствіи нѣмецкими химиками
и которые, какъ я доказалъ во второй главѣ этого введенія, могутъ быть прило-
жены къ разрѣшенію нѣкоторыхъ важныхъ задачъ въ исторіи человѣка. Заслуга въ
этомъ дѣлѣ такъ очевидно принадлежала Франціи, что хотя система, возникшая изъ
этихъ открытій, была быстро принята и въ другихъ странахъ, она все-таки полу-
чила названіе французской химіи. Въ то же время вслѣдствіе множества ошибокъ,
которыми была наполнена старая номенклатура, потребовалась новая терминологія,
и въ этомъ опять иниціатива принадлежала Франціи; великая реформа эта была
начата ея четырьмя знаменитѣйшими химиками, прославившимися не болѣе какъ за
нѣсколько лѣтъ до революціи х).
Въ то время какъ одна часть французскихъ мыслителей была занята приве-
деніемъ въ порядокъ кажущихся неправильностей химическихъ явленій, другая часть
оказывала такую же услугу геологіи* Первая попытка популяризировать эту благо-
родную науку была сдѣлана Бюффономъ, предложившимъ въ половинѣ XVIII сто-
лѣтія геологическую теорію, которая хотя и не была совершенно оригинальна, но
возбудила вниманіе своимъ краснорѣчіемъ и связанными съ нею возвышенными умо-
зрѣніями 2). За этимъ слѣдовали болѣе спеціальные, но тѣмъ не менѣе важные труды
Руэлля, Демарэ, Доломьё и Монлозье, которые менѣе чѣмъ въ сорокъ лѣтъ произвели
совершенный переворотъ въ идеяхъ французовъ, освоивъ ихъ съ страннымъ пред-
ставленіемъ, что поверхность нашей планеты даже тамъ, гдѣ она кажется совер-
шенно неизмѣнною, постоянно подвергается самымъ обширнымъ измѣненіямъ. Стали
понимать, что эти вѣчные приливы и отливы происходятъ не только въ тѣхъ частяхъ
•природы, которыя очевидно слабы и подвержены исчезновенію, но и въ тѣхъ, ко-
торыя повидимому соединяютъ въ себѣ всѣ элементы прочности и постоянства, какъ
напримѣръ гранитныя горы, стѣною облегающія земной шаръ и составляющія ту
кору, ту облицовку, въ которой онъ держится. Какъ только умъ привыкъ къ этой
идеѣ повсемѣстныхъ перемѣнъ, то настало время для появленія великаго мыслителя,
который обобщилъ бы разбросанныя наблюденія и возвелъ ихъ въ науку, связавъ
съ какою-либо другою отраслью знанія, законы которой или по крайней мѣрѣ эмпи-
рическія однообразія явленій уже приведены въ извѣстность*
Въ этотъ именно моментъ, когда изслѣдованія геологовъ, несмотря на всѣ
ихъ достоинства, были еще незрѣлы и шатки, взялся за дѣло Кювье, одинъ изъ
величайшихъ натуралистовъ, какихъ когда-либо производила Европа. Не многіе
превосходили его глубиною воззрѣнія, а по обширности ума едва-ли кто стоялъ выше
его; при томъ громадный кругъ изученныхъ имъ предметовъ дѣлалъ для него осо-
бенно удобнымъ наблюденіе надъ всѣми явленіями и но всѣмъ частямъ внѣшняго
міра. Этотъ замѣчательный человѣкъ былъ безъ сомнѣнія основателемъ геологіи,
1) «Первая попытка составить систематическую I
номенклатуру для химіи была сдѣлана Лавуазье, Бср- |
толлетомъ де-Морво и Фуркуруа вскорѣ послѣ откры- 1
тія кислорода». (Тигпег § «СЬеіпізігу»). Томсонъ гово- 1
ритъ: «эта новая номенклатура весьма скоро про-
никла во всѣ части Европы п сдѣлалась общимъ язы-
комъ химиковъ, несмотря на всѣ предубѣжденія про-
тивъ нея и на встрѣченное ею повсюду сопротпв- ।
ленів». I
2) Часто полагаютъ, что знаменитый централь-
ный жаръ Бюффона заимствованъ у Лейбница; но
хотя это ученіе и преподавалось смутнымъ образомъ
у древнихъ, настоящій основатель его все-таки, какъ
кажется, Декартъ. Относительно центральнаго жара
упоминается въ такъ называемыхъ Оракулахъ Зоро-
астра. Но совершенное невѣжество древнихъ въ геологіи
сдѣлало то, что воззрѣнія эті были не болѣе, какъ
догадками.
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 361
какъ науки, потому что не только онъ первый увидѣлъ необходимость примѣнить
къ ней общіе выводы сравнительной анатоміи, но ему же первому на самомъ дѣлѣ
удалось осуществить эту великую мысль, связавъ изученіе земныхъ пластовъ съ
изученіемъ находимыхъ въ нихъ окаменѣлыхъ животныхъ *). Правда, что незадолго
до обнародованія его изслѣдованій были собраны многіе важные факты, относя-
щіеся до отдѣльныхъ слоевъ, такъ какъ первичныя формаціи были изслѣдованы
нѣмцами, а вторичныя—англичанами; но эти наблюденія, при всемъ ихъ достоинствѣ,
оставались разрозненными; въ нихъ не было того широкаго взгляда, который при-
далъ бы единство и величіе всему цѣлому, связавъ изслѣдованія о неорганическихъ
измѣненіяхъ поверхности земного шара съ другими изслѣдованіями—объ органиче-
скихъ измѣненіяхъ животныхъ, находившихся на этой поверхности.
Что этимъ громаднымъ шагомъ мы вполнѣ обязаны Франціи, это очевидно не
только изъ того, что сдѣлалъ Кювье, но даже и изъ признаннаго всѣми факта, что
французамъ мы обязаны нашими познаніями относительно третичныхъ слоевъ, въ
которыхъ органическіе остатки наиболѣе многочисленны и въ которыхъ особенно
много аналогіи со всѣмъ существующимъ въ настоящее время *), Сюда же можно
отнести и другое обстоятельство, приводящее къ тому же заключенію, а именно: что
первое примѣненіе началъ сравнительной анатоміи къ изученію ископаемыхъ костей
было также дѣломъ француза, знаменитаго Добантона. До него эти кости были пред-
метомъ безсмысленнаго удивленія,- нѣкоторые говорили, что онѣ упали съ неба, дру-
гіе,—что это гигантскіе члены древнихъ патріарховъ, которымъ приписывали боль-
шой ростъ, потому что они были весьма стары Такія нелѣпыя понятія были на-
всегда разсѣяны Добантономъ, издавшимъ въ 1762 году мёмуаръ, о которомъ намъ
теперь приходится сказать только одно,—что онъ свидѣтельствуетъ о тогдашнемъ
состояніи французскаго ума и что онъ составлялъ преддверіе къ открытіямъ Кювье.
Такимъ соединеніемъ геологіи съ анатоміею впервые внесено было въ из-
ученіе природы ясное понятіе о дивной теоріи повсемѣстныхъ перемѣнъ, и рядомъ
съ нимъ возникло столь же опредѣленное понятіе о правильности, съ какой пе-
ремѣны эти происходятъ, и о непреложныхъ законахъ, которыми онѣ управляются.
Подобныя идеи безъ сомнѣнія проявлялись по временамъ и въ предыдущіе вѣка,
но великіе французскіе мыслители XVIII столѣтія первые примѣнили ихъ ко всему
строенію земного шара и такимъ образомъ проложили путь къ тому еще болѣе
возвышенному взгляду, для котораго ихъ умы еще не были довольно зрѣлы 4), но
до котораго въ наше время быстро возвышаются самые передовые мыслители. Те-
перь начинаютъ уже понимать, что каждое прибавленіе къ нашимъ знаніямъ, при-
нося новыя доказательства правильности, съ которою совершаются всѣ перемѣны
въ природѣ, должно приводить насъ къ убѣжденію, что та же правильность суще-
2) Вотъ почему Оуэнъ называетъ ого «основа-
телемъ науки палеонтологіи^, Въ 1796 году пред-
ставились ему совершенно новыя воззрѣнія на тео-
рію земли. Важность этого шага становится съ каж-
дымъ годомъ очевиднѣе, и справедливо было замѣчено,
что безъ палеонтологіи не было бы, собственно говоря,
и геологіи. Мерчисонъ говорить: «обозрѣвая весь рядъ
формацій, геологъ-практикъ вполнѣ проникается убѣж-
деніемъ, что во всѣ времена поддерживалась весьма
тѣсная связь между существованіемъ животныхъ и тою
средой, въ которой оин оказывались окаменѣлыми».
Въ древнѣйшей половинѣ вторичныхъ скалъ
едва замѣчаются млекопитающія — опп становятся
обыкновеннымъ явленіемъ пе прежде третичнаго слоя.
Точно то же бываетъ и въ растительномъ царствѣ: мно-
гія изъ растеній третичныхъ слоевъ принадлежатъ къ
породамъ, еще и теперь существующимъ: во вторич-
ной формаціи это случается уже рѣже: въ первич-
но! же даже семейства различны отъ тѣхъ, которыя
теперь находятся на землѣ.
3) Жоффруа Сентъ-Плеръ сооралъ нѣсколько при-
мѣровъ тѣхъ мнѣній, какія прежде высказывались
объ этого рода предметахъ. Въ числѣ другихъ онъ
упоминаетъ объ одномъ ученомъ, по имени Гѳпріонъ,
академикѣ и даже, кажется, теологѣ, издавшемъ въ
1718 году сочиненіе, въ которомъ «онъ приписывалъ
Адаму ростъ въ 123 фута и 9 дюймовъ»: Ноя же
представлялъ двадцатью футами ниже і т, д. Кости
слонові» принимались иногда за великановъ.
4) Даже Кювье придерживался теоріи катастрофъ,
по, какъ говорить Ляйолль, его же открытія дали сред-
ство къ ниспроверженію этой теоріи и къ освоенію насъ
съ идеею непрерывнаго движенія. Даже именно одно
изъ наблюденій Кювье надъ окаменѣлостями открыло
первое звено между пресмыкающимися, рыбами, кито-
образными и млекопитающими. Къ эгому я могу при-
бавить, что Кювье безсознательно проложилъ путь
1 къ поколебанію стариннаго догмата постоянства по-
родъ, хотя онъ самъ до конца придерживался этого
догмата.
362
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ствовала и задолго до того, какъ наша маленькая планена приняла свой тепереш-
ній видъ и какъ появился на поверхности земли человѣкъ. Мы имѣемъ самыя пол-
ныя доказательства, что перемѣны, безпрерывно происходящія въ матеріальномъ
мірѣ, имѣютъ характеръ однообразія; однообразіе это такъ ясно обозначается, что въ
астрономіи, самой совершенной изъ всѣхъ наукъ, мы можемъ предсказывать явле-
нія за много лѣтъ до ихъ дѣйствительнаго совершенія; и никто не можетъ сомнѣ-
ваться въ томъ, что если бы и по другимъ предметамъ знаніе наше простерлось
такъ же далеко, то и въ нихъ предсказанія наши были бы не менѣе точны. Итакъ
ясно, что обязанность представленія доказательствъ падаетъ не на тѣхъ, кто признаетъ
вѣчную правильность природы, а скорѣе на тѣхъ, кто отрицаетъ ее и кто опредѣ-
ляетъ воображаемый періодъ, относя къ нему воображаемый переворотъ, во время
котораго возымѣли будто бы дѣйствіе новые законы и установился новый порядокъ
вещей. Такія произвольныя утвержденія, если имъ даже и суждено со временемъ
оказаться вѣрными, не могутъ однако ничѣмъ быть оправданы при нынѣшнемъ
состояніи науки и должны быть отброшены, какъ послѣдніе остатки тѣхъ теологи-
ческихъ предразсудковъ, которые поочередно задерживали успѣхи каждой науки.
Эти и всѣ подобныя имъ понятія дѣлаютъ двойное зло. Они вредны потому, что
извращаютъ человѣческій умъ, полагая предѣлы его изслѣдованіямъ, а болѣе всего
вредны въ томъ отношеніи, что ослабляютъ широкую идею постояннаго, непрерывно
дѣйствующаго закона, — идею, которую безъ сомнѣнія не многіе могутъ прочно
усвоить себѣ, но изъ которой должны вытекать конечныя, высшія обобщенія гря-
дущей науки.
Это именно глубокое ^убѣжденіе въ томъ, что измѣняющіяся явленія слѣдуютъ
неизмѣннымъ законамъ и чтр есть начала порядка, подъ которыя можетъ быть под-
веденъ всякій кажущійся безпорядокъ, руководило въ XVII столѣтіи въ органи-
ческой сферѣ Бэкона, Декарта и Ньютона, а въ ХѴШ столѣтіи было примѣнено
ко всѣмъ областямъ матеріальнаго міра; на обязанности же XIX столѣтія лежитъ
распространить его и на исторію человѣческаго ума. Этой послѣдней отраслью из-
слѣдованія мы обязаны главнымъ образомъ Германіи, потому, что, за исключеніемъ
одного Вико, никто и не подозрѣвалъ возможности придти къ полнымъ выводамъ
относительно прогресса человѣчества, пока незадолго до французской революціи
великіе германскіе мыслители не начали разрабатывать этотъ наиболѣе возвышен-
ный и трудный изъ всѣхъ предметовъ изученія. Сами же французы были слишкомъ
заняты естественными науками, чтобы обращать вниманіе на такіе предметы г); и
мы можемъ вообще сказать, что въ ХѴШ столѣтіи каждая изъ трехъ первостепен-
ныхъ націй Европы играла свою особую роль; Англія распространяла любовь къ
свободѣ, Франція — знаніе естественныхъ наукъ, а Германія, поддерживаемая въ
извѣстной степени Шотландіей, возобновляла изученіе метафизики и вводила новое
изученіе—философіи исторіи. Изъ этого распредѣленія могутъ быть конечно сдѣ-
ланы нѣкоторыя исключенія, но то достовѣрно, что такова именно была отличиіель-
Нп Монтескьё, ни Тюрго повидимому пе вѣ-
рили въ возможность обобщить прошедшее до такой
степени, чтобы предсказывать будущее; что же ка-
сается Вольтера, то самою слабою стороною въ его
взглядѣ на исторію,—взглядѣ во всѣхъ другихъ отно-
шеніяхъ весьма глубокомъ,—была его привязанность
къ старинной поговоркѣ, что великія событія выте-
каютъ изъ малыхъ причинъ; заблужденіе это весьма
странно въ человѣкѣ съ такимъ обширнымъ умомъ—
это значитъ смѣшивать причины съ условіями. Что
такой человѣкъ, какъ Вольтеръ, впалъ въ такую, по
настоящимъ понятіямъ, грубую ошибку, это весьма
грустно для тѣхъ, кто въ состояніи оцѣнить его
обширный, проницательный умъ, и это можетъ по-
служить полезнымъ урокомъ и для самыхъ лучшихъ
изъ насъ. Монтескьё и Тюрго избѣгли этого заблуж-
денія, и первый изъ «ихъ въ особенности проявилъ
такія необыкновенныя дарованія, что если бы опъ
жилъ нѣсколько позже и имѣлъ такимъ образомъ
возможность пользоваться всѣми средствами, какія
даетъ политическая экономія и естествознаніе, то нѣтъ
никакого сомнѣнія, что ему досталась бы честь не
только положить основаніе, но и возвести самое зда-
ніе философіи исторіи человѣка. Такъ, онъ не могъ
постичь, что конечная цѣль всякаго научнаго изслѣ-
дованія есть именно пріобрѣтеніе возможности пред-
сказывать будущее; между тѣмъ какъ послѣ его смерти
(1755 г.) всѣ лучшіе умы Франціи, исключая одного
Вольтера, сосредоточивали все свое вниманіе на из-
ученіи явленій природы.
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 363
ная характеристика поименованныхъ трехъ странъ. Послѣ смерти Локка (въ 1704
году) и Ньютона (въ 1727) въ Англіи оказался ощутительный недостатокъ въ ве-
ликихъ отвлеченныхъ мыслителяхъ, и это не потому, чтобы недоставало дарованій,
а потому, что дарованія эти были направлены частью на цѣли практическія, частью
же—на политическія распри. Я впослѣдствіи займусь разсмотрѣніемъ причинъ этой
особенности и постараюсь привести въ извѣстность, до какой степени она вліяла
на судьбы Англіи. Что результаты ея были вообще благодѣтельны,—въ этомъ я не
сомнѣваюсь; но безспорно также и то, что направленіе это вредило успѣхамъ на-
уки, потому что отвращало умы отъ всѣхъ новыхъ истинъ, исключая тѣхъ, которыя
могли принести очевидную, практическую пользу. Слѣдствіемъ этого было то, что
хотя англичане сдѣлали нѣскольно великихъ открытій, но у нихъ въ теченіе 70-ти
лѣтъ не было ни одного человѣка, который бы имѣлъ дѣйствительно широкій взглядъ
на явленія природы; не было никого, кто бы могъ сравниться съ тѣми знаменитыми
мыслителями, которые во Франціи преобразовали всѣ отрасли естествознанія. Не
ранѣе какъ черезъ два слишкомъ поколѣнія послѣ смерти Ньютона показались пер-
вые признаки замѣчательной реакціи, которая быстро распространилась почти на
всѣ отрасли умственной дѣятельности націи. По части физики достаточно упомя-
нуть о Дальтонѣ, Дэви и Юнгѣ, изъ которыхъ каждый былъ основателемъ новой
эпохи; по другимъ же предметамъ я могу только сослаться, во-первыхъ, на влія-
ніе шотландской школы, а во-вторыхъ—на то внезапно возбудившееся, вполнѣ за-
служенное уваженіе къ германской литературѣ, главнымъ представителемъ котораго
былъ Кольриждъ и которое развило въ англійскихъ умахъ вкусъ къ такимъ воз-
вышеннымъ и смѣлымъ обобщеніямъ, какихъ не знали до того времени. Исторія
этого обширнаго движенія, проявившагося съ самаго нцчала XIX столѣтія, будетъ
разсказана въ послѣдующихъ томахъ этого сочиненія, въ настоящее же время я
только упоминаю о немъ въ поясненіе того факта, что до начала этого движенія
англичане, хотя и превосходившіе французовъ въ нѣкоторыхъ предметахъ, имѣвшихъ
чрезвычайную важность, уступали имъ въ тѣхъ широкихъ философскихъ воззрѣніяхъ,
безъ которыхъ не только не можетъ принести никакой пользы даже самый терпѣ-
ливый трудъ, но и дѣйствительно сдѣланныя открытія не имѣютъ полной цѣны, такъ
какъ безъ привычки къ обобщенію невозможно замѣтить существующую между
ними связь и сплотить ихъ разрозненныя части въ одну обширную систему полной,
стройной истины.
Интересъ, связанный вообще съ этого рода изслѣдованіями, заставилъ меня
остановиться на нихъ нѣсколько долѣе, чѣмъ я намѣревался, и можетъ быть долѣе,
чѣмъ сколько это умѣстно въ настоящемъ введеніи, заключающемся преимущественно
въ намекахъ и имѣющемъ характеръ пріуготовительный. Но необыкновенный успѣхъ,
съ какимъ начали теперь заниматься французы естественными науками, представ-
ляетъ такъ много любопытнаго по своей связи съ революціей, что я не могу не
привести еще нѣсколькихъ примѣровъ, особенно бросающихся въ глаза,—хотя ради
краткости я ограничусь только тѣми тремя главными отдѣлами, которые, взятые
вмѣстѣ, составляютъ такъ называемую естественную исторію. По всѣмъ этимъ отдѣ-
ламъ самые важные шаги были сдѣланы во Франціи въ теченіе послѣдней половины
ХѴШ столѣтія.
По первому изъ этихъ отдѣловъ, именно по части зоологіи, мы обязаны фран-
цузамъ ХѴШ вѣка самыми высшими обобщеніями, какихъ достигла до сихъ поръ
эта отрасль знанія. Зоологія, принимаемая въ собственномъ смыслѣ этого слова,
состоитъ только изъ двухъ частей: изъ анатомической, которая составляетъ ея ста-
тику, и физіологической, которая есть ея динамика; первая занимается строеніемъ
животныхъ, вторая—ихъ отправленіями. Обѣ части были разрабатываемы почти въ
одно время Кювье и Биша, и главные изъ сдѣланныхъ ими выводовъ остаются до
прошествіи шестидесяти лѣтъ неизмѣнными въ существенныхъ своихъ частяхъ.
Въ 1795 году Кювье установилъ великій принципъ, что изученіе и классификація
364
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
животныхъ должны основываться не на ихъ внѣшнихъ особенностяхъ, какъ было
прежде, а па ихъ внутренней организаціи, и что, слѣдовательно, не можетъ быть
дѣйствительнаго прогресса въ этомъ знаніи безъ расширенія предѣловъ сравнитель-
ной анатоміи. Этотъ шагъ, какъ ни кажется онъ простъ въ настоящее время, имѣлъ
тогда огромную важность, потому, что онъ разомъ вырвалъ зоологію изъ рукъ на-
блюдателя и передалъ ее въ руки экспериментатора; послѣдствіемъ этого было до-
стиженіе той опредѣлительности и вѣрности въ подробностяхъ, къ которой можетъ
привести только опытъ и которая во всѣхъ отношеніяхъ важнѣе тѣхъ общепонят-
ныхъ фактовъ, какіе даетъ наблюденіе. Указавъ такимъ образомъ натуралистамъ
истинный путь изслѣдованія, пріучивъ ихъ къ точному и строгому методу и на-
учивъ пренебрегать неопредѣлительными описаніями, которыми они прежде увлека-
лись, Кювье положилъ основаніе тому прогрессу, который въ послѣднія шестьдесятъ
лѣтъ превзошелъ всякія ожиданія. Итакъ, настоящая заслуга Кювье заключается
въ томъ, что онъ ниспровергнулъ искусственную систему, созданную геніемъ Линнея,
и построилъ на мѣсто нея гораздо болѣе совершенную теорію, которая давала самый
полный просторъ будущимъ изслѣдованіямъ, такъ какъ на основаніи ея всѣ системы
должны считаться несовершенными и временными до тѣхъ поръ, пока будетъ еще
оставаться что-либо неизслѣдованнымъ по части сравнительной анатоміи животнаго
царства. Вліяніе, произведенное этимъ великимъ взглядомъ, еще болѣе усилилось
вслѣдствіе необыкновеннаго умѣнія и трудолюбія, съ какимъ самъ авторъ проводилъ
его и доказывалъ удобопримѣняемость проповѣдуемыхъ имъ началъ. Прибавленія,
сдѣланныя имъ къ нашему знанію сравнительной анатоціи, вѣроятно, многочислен-
нѣе сдѣланныхъ кѣмъ-либоч другимъ; но что доставило/ему особенную славу, это та
дальновидность, съ какою онъ употреблялъ вт> дѣло свои пріобрѣтенія. Незавпсимо отъ
другихъ обобщеній, онъ былъ еще авторомъ широкаго дѣленія всего животнаго царства
на позвоночныхъ, моллюсковъ, суставчатыхъ и лучистыхъ,—дѣленія, которое и до сихъ
поръ удержалось и является однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ примѣровъ обширнаго
философскаго взгляда, примѣненнаго во Франціи къ явленіямъ матеріальнаго міра х).
Но какъ ни славно имя Кювье, другое имя, о которомъ мнѣ остается упомя-
нуть, еще славнѣе. Я разумѣю конечно Вишк, слава котораго постоянно возра-
стаетъ по мѣрѣ успѣховъ, дѣлаемыхъ нашимъ знаніемъ, и который—если вспомнить,
какъ не долго онъ жилъ и какъ далеко между тѣмъ успѣлъ зайти въ своихъ воз-
зрѣніяхъ—долженъ быть признанъ самымъ глубокимъ изъ мыслителей и самымъ
тонкимъ изъ всѣхъ наблюдателей, какіе изучали до сихъ поръ устройство животнаго
организма 2). Правда, что ему недоставало тѣхъ обширныхъ познаній, которыми
отличался Кювье; но хотя вслѣдствіе этого обобщенія его были заимствованы изъ
менѣе обширной сферы, за то, съ другой стороны, въ нихъ было менѣе временнаго:
они были, мнѣ кажется, законченнѣе и безъ сомнѣнія обнимали предметы большей
важности. Вниманіе Биша было преимущественно устремлено на человѣческій орга-
низмъ въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова; цѣль его была—на столько изслѣ-
довать этотъ организмъ, чтобы возвыситься, если можно, до нѣкотораго знанія при-
чинъ п свойствъ нашей жизни. Это дивное предпріятіе не удалось ему во всей цѣ-
лости, но то, чего онъ достигъ въ нѣкоторыхъ частяхъ его, такъ необыкновенно и
сообщило такой толчекъ нѣкоторымъ изъ высшихъ отраслей изслѣдованія, что я
укажу вкратцѣ на принятый имъ методъ, съ тѣмъ чтобы сравнить его съ методомъ,
которому въ то же время слѣдовалъ съ огромнымъ успѣхомъ Кювьё.
*) Единственная грозная оппозиція класспфика- '
ціа Кювье была со стороны защитниковъ ученія о ,
круговой прогрессіи,--замѣчательной теоріи, настоя-
щими творцами которой были Ламаркъ и Маклэ и
которая конечно опирается на довольно большомъ ко- і
днчѳетвѣ доводовъ. Тѣмъ но менѣе у значительнаго |
большинства свѣдущихъ зоологовъ остается еще въ |
своей сиіѣ четвертное дѣленіе, хотя увеличивающаяся
точность микроскопическихъ наблюденій и открыла
нервную систему гораздо ниже той ступени, на ка-.
кой она предполагалась прежде.
2) Мы можемъ исключить Аристотеля; но между
Аристотелемъ и Биша я по нахожу ни одного посред-
ствующаго человѣка.
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 365
Важный шагъ, сдѣланный Кювьё, заключался въ томъ, что онъ настоялъ на
необходимости всесторонняго изученія органовъ животныхъ, вмѣсто того, чтобы,
слѣдуя старой системѣ, описывать ихъ привычки и внѣшнія особенности. Это было
большимъ улучшеніемъ, потому что на мѣсто шаткихъ популярныхъ наблюденій онъ
поставилъ прямой опытъ и тѣмъ сообщилъ зоологіи неизвѣстную дотолѣ ТОЧНОСТЬ 9-
Но БипА съ еще большею проницательностью замѣтилъ, что и этого недостаточно.
Онъ видѣлъ, что такъ какъ каждый органъ состоитъ изъ различныхъ тканей, то
нужно изучить самыя ткани, прежде чѣмъ узнавать, какимъ образомъ изъ ихъ со-
четанія составляются органы. Эта мысль, какъ и всѣ истинно великія идеи, не была
вполнѣ выработана однимъ человѣкомъ, пбо физіологическое значеніе тканей было
признаваемо тремя или четырьмя изъ непосредственныхъ предшественниковъ Биша,
какъ-то: Кармикаэлемъ Смитомъ, Бонномъ, Борде и Фаллопіемъ. Однако эти изслѣ-
дователи, при всемъ своемъ трудолюбіи, не сдѣлали ничего важнаго; хотя они и
собрали нѣкоторые частные факты, но въ ихъ наблюденіяхъ былъ тотъ же недоста-
токъ гармоніи и замѣчалась та же вообще неполнота, которою всегда отличаются
труды людей, не возвышающихся до всесторонняго взгляда на предметъ, съ кото-
рымъ оии имѣютъ дѣло 1 2).
Вотъ при такихъ обстоятельствахъ началъ Вита тѣ изслѣдованія, которыя по
ихъ результатамъ въ настоящемъ, а еще болѣе по тѣмъ плодамъ, какпхъ можно
ожидать отъ пихъ въ будущемъ, составляютъ вѣроятно самое цѣнное изъ пріобрѣ-
теній, какими бывала когда-либо обязана физіологія уму отдѣльнаго человѣка. Въ
1801 году, только за годъ до своей смерти, онъ напечаталъ свое обширное сочи-
неніе объ анатоміи, въ которомъ изученіе органовъ совершенно подчинено изуче-
нію входящихъ въ составъ ихъ тканей. Онъ говоритъ, что тѣло человѣка состоитъ
изъ двадцати одной разныхъ тканей, которыя всѣ хотя и отличаются существенно
одна отъ другой, но имѣютъ два общихъ свойства: способность растягиваться и
способность сжиматься 3). Ткани эти онъ съ неутомимымъ трудолюбіемъ подвергалъ
всякаго рода изслѣдованіямъ 4); опъ разсматривалъ ихъ въ различныхъ возрастахъ
и при различныхъ болѣзняхъ, дабы привести въ извѣстность законы какъ нормаль-
наго, такъ и патологическаго развитія ихъ 5). Онъ изучалъ, въ какой мѣрѣ каждая
1) Суэпсонъ жалуется довольно странно па то, <
что Кювьё «отвергаетъ болѣе простыя и наглядныя
свойства, которыя всякій можеаъ видѣть и которыми ।
такъ удачно воспользовался Линней, и ставитъ раз- ’
личіе между этими группами въ зависимости отъ та-
кихъ обстоятельствъ, которыхъ не можетъ ПОНЯТЬ і
пикто, кромѣ анатома». Другими словами, это значитъ
жаловаться на то, что Кювье пытался возвести зоо-
логію на степень науки п этимъ конечно лишилъ ее
нѣкоторыхъ изъ ея обіцепрпвлекательныхъ сторонъ съ
цѣлью сообщить ей другую привлекательность болѣе
возвышеннаго свойства.
") Весьма сомнительно, былъ ли Биша знакомъ |
съ сочиненіями Смита. Бонна или Фаллопія, и я не '
помню, чтобы опъ гдѣ-либо упоминалъ хоть ихъ имена. ।
По онъ конечно изучалъ Бордё; впрочемъ, я подозрѣ- ;
ваю, что писатель, наиболѣе вліявшій на него, былъ
Ппнэль, котораго патологическія обобщенія появились
около самаго того времени, когда началъ писать Биша. >
3 - Списокъ этимъ тканямъ см. у Гинна—«Апаіо- ;
пііе бёпёгаіе». ѵ. I. р. 49. «Съ какой бы точки зрѣ- I
нія ни смотрѣли на эти ткани,—говоритъ Биша, -онѣ
вовсе не похожи другъ на друга: сама природа, а но
наука провела между ними раздѣльныя черты». Те-
перь однако есть поводъ думать, что какъ животнымъ, і
такъ и растительнымъ тканямъ во г.сѣхь ихъ видо-
измѣненіяхъ можетъ быть приписано клѣтчатое про-
исхожденіе, Этотъ высокій взгляда., главнѣйшимъ обра-
зомъ выработанный Шванномъ, составитъ, когда она.
вполнѣ установится, самое обширное обобщеніе, какое
мы имѣемъ относительно органическаго міра, и трудно
будетъ преувеличить его значеніе. Тѣмъ не ме-
нѣе слѣдуетъ опасаться, чтобы, увлекаясь прежде-
временно выводомъ такого обширнаго закопа, намъ пе
пренебречь тѣми второстепенными, но рѣзко обозна-
чающимися различіями между тканями, которыя дѣй-
ствительно существуютъ.
4) Пиналъ говорить: «въ одну зиму опъ вскрылъ
слишкомъ 600 труповъ». Занимаясь день и ночь такимъ
громаднымъ трудомъ, и при томъ въ атмосферѣ, по не-
обходимости испорченной, онъ положилъ основаніе тому
болѣзненному расположенію, вслѣдствіе котораго са-
мый ничтожный случай имѣлъ смертельное дѣйствіе.
«Умъ съ трудомъ представляетъ себѣ, какъ могло быть
достаточно жизни одного человѣка для столькихъ тру-
довъ, для столькихъ открытій, сдѣланныхъ, либо ука-
занныхъ.—Биша уморъ, по доживъ до тридцати-двухъ
лѣаъ».
5) Этого рода сравнительной анатоміи (если можно
такъ назвать ео), которая до него почти не суще-
ствовала, Биша придавалъ большое значеніе; онъ ви-
дѣлъ, что она со временемъ пріобрѣтетъ огромную важ-
ность для патологіи. По неучастію, изслѣдованія эти
пе были надлежащимъ образомъ продолжаемы его не-
посредственными преемниками, и Мюллеръ, писавшій
долгое время спустя послѣ его смерти, вынужденъ
былъ ссылаться главнѣнше па Биша, когда дѣло шло
объ «истинныхъ началаха. общей патологіи».
366
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ткань подвергается вліянію влажности, воздуха и температуры; а также, на сколько
свойства ихъ измѣняются отъ различныхъ химическихъ веществъ и даже какое
дѣйствіе они имѣютъ на вкусъ. Этимъ путемъ и съ помощью многихъ другихъ опы-
товъ въ томъ же направленіи онъ такъ быстро и такъ далеко подвинулся впередъ,
что на него должно смотрѣть не какъ на простого нововводителя въ старой наукѣ,
а скорѣе какъ на создателя новой. Если позднѣйшіе наблюдатели и исправили нѣ-
которые изъ его выводовъ, то сдѣлали это только слѣдуя его же методу, достоин-
ство котораго до такой степени всѣми признано, что онъ принятъ почти всѣми
лучшими анатомами, которые хотя и расходятся съ Биша въ другихъ воззрѣніяхъ,
но совершенно согласны съ нимъ въ томъ, что будущіе успѣхи анатоміи должны
основываться на знаніи тканей, первостепенную важность которыхъ онъ первый
замѣтилъ г).
Методы Биша и Кювье, взятые вмѣстѣ, исчерпываютъ всѣ средства, какими
располагаетъ наука зоологіи; такъ что всѣ послѣдующіе натуралисты должны были
непремѣнно принять которую-нибудь изъ этихъ системъ, т. о. или слѣдовать Кювье,
сравнивая органы животныхъ, или слѣдовать Биша, сличая ткани, составляющія эти
органы. И такъ какъ одно сравненіе приводитъ главнымъ образомъ къ познанію
отправленій, а другое—къ уясненію строенія организмовъ, то очевидно, что для до-
веденія знанія животнаго міра до возможной степени совершенства необходимы
обѣ эти системы; но если спросить, который изъ двухъ методовъ, безъ помощи дру-
гого, скорѣе можетъ привести къ важнымъ результатамъ, то я полагаю, что пальма
первенства должна быть присуждена методу Биша. Если/смотрѣть на этотъ вопросъ,
какъ на подлежащій рѣшенію авторитета, то конечно большинство самыхъ знаме-
нитыхъ анатомовъ и физіолбговъ теперь склоняется скорѣе на сторону Кювье; съ
исторической же точки зрѣнія можетъ быть доказано, что слава Биша съ успѣхами
науки возрастала гораздо быстрѣе, чѣмъ слава его великаго соперника. Но что мнѣ
кажется еще болѣе рѣшительнымъ доводомъ,—^это тотъ фактъ, что два важнѣйшихъ
открытія, сдѣланныхъ въ наше время по части классификаціи животныхъ, являются
прямымъ послѣдствіемъ метода, введеннаго Бишй,
Первое изъ этихъ открытій было сдѣлано Дгассизомъ, который, занимаясь
своими ихтіологическими изслѣдованіями, пришелъ къ убѣжденію, что классификація
Кювье, основанная на сравненіи органовъ, не достигаетъ своей цѣли но отношенію
къ ископаемымъ рыбамъ, такъ какъ отличительныя черты ихъ строенія съ тече-
ніемъ времени изгладились. Поэтому онъ принялъ единственный, какой оставался
затѣмъ, планъ, т. е. сталъ изучать ткани, которыя, будучи менѣе сложны, чѣмъ органы,
часто оказываются нетронутыми. Результатомъ этого было чрезвычайно замѣчатель-
ное открытіе—что строеніе оболочной плевы рыбъ такъ тѣсно связано съ ихъ орга-
низаціей, что если все въ рыбѣ изгладилось, кромѣ этой плевы, то можно, замѣ-
тивъ особенности этой послѣдней, воспроизвести строеніе самаго животнаго въ наи-
болѣе существенныхъ частяхъ его. О важности этого начала гармоніи можно соста-
вить себѣ нѣкоторое понятіе изъ того обстоятельства, что Агассизъ основалъ на
немъ ту знаменитую классификацію, которой онъ одинъ былъ творцомъ и съ помощью
которой ископаемая ихтіологія впервые приняла точныя и опредѣленныя формы.
Другое открытіе, примѣненіе котораго еще болѣе обширно, было сдѣлано со-
вершенно такимъ же путемъ. Оно состоитъ въ поразительномъ фактѣ, что зубы
2) У Беклара сказано, что «отысканіе этихъ на- і
чальныхъ тканей иди органическихъ началъ стало |
почти исключительною заботою анатомовъ нашего ।
времени*. «Теперь мы заходимъ далѣе, — говоритъ
Бленвиль,—мы проникаемъ въ сокровенное строеніе
но только органокъ, но и самихъ тканей, входящихъ
въ ихъ составъ; однимъ словомъ, мы занимаемся дѣй-
ствительною анатоміею въ собственномъ смыслѣ. Это
одинъ изъ тѣхъ родовъ изслѣдованій, которыми весьма
дѣятельно занимались и которыя сдѣлалась особенно
обширны со времени изданія прекраснаго сочиненія
Биша».
Вслѣдствіе этого движенія возникла, подъ име-
немъ перерожденія тканей^ совершенно новая от-
расль патологической анатоміи» которой, я увѣренъ,
нельзя найти нн одного примѣра до Биша, но важ-
ность которой теперь признана большею частью па-
тологовъ.
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 367
каждаго животнаго необходимо имѣютъ связь со всей организаціей его, такъ что
мы можемъ до извѣстной степени угадать всю организацію, изслѣдовавъ одинъ
зубъ. Этотъ прекрасный примѣръ правильности въ дѣйствіяхъ природы сдѣлался
извѣстенъ не ранѣе какъ черезъ тридцать лѣтъ послѣ смерти Биіп&, но мы очевидно
обязаны этимъ открытіемъ примѣненію того метода, который онъ такъ усердно ста-
рался ввести въ употребленіе. Такъ какъ въ прежнее время зубы не были изслѣ-
дованы надлежащимъ образомъ относительно ихъ отдѣльныхъ тканей, то полагали,
что они не имѣютъ собственно никакого строенія или, какъ думали нѣкоторые,
состоятъ просто изъ волокнистой ткани * 2). Но посредствомъ самыхъ точныхъ микро-
скопическихъ изслѣдованій приведено недавно въ извѣстность, что ткани зуба со-
вершенно сходны съ тканями другихъ частей тѣла, и что слоновая кость, или ден-
тинъ, какъ ее теперь называютъ, есть въ высшей степени органическое тѣло:
она такъ же, какъ и эмаль, состоитъ изъ клѣтчатки и представляетъ собой въ
сущности развитіе живой мякоти. Это открытіе, полное значенія для анатома-фи-
лософа, было сдѣлано около 1838 года; хотя первые шаги къ нему были сдѣ-
ланы Пюркенжё, Ретціемъ и Шванномъ, но главнымъ своимъ развитіемъ оно
обязано Насмиту и Оуэну, которые оспариваютъ его другъ у друга. Кто изъ нихъ
имѣетъ больше правъ — не наше дѣло рѣшать; я хочу замѣтить только одно, что
открытіе это сходно съ тѣмъ, которое сдѣлалъ Агассизъ, сходно какъ по методу, ле-
жавшему въ основаніи приведшихъ къ нему изслѣдованій, такъ и по своимъ послѣд-
ствіямъ. Обоими этими открытіями мы обязаны признанію основного правила Биша—
что изученіе органовъ должно быть подчинено изученію тканей—и оба они послу-
жили самымъ драгоцѣннымъ пособіемъ для зоологической классификаціи. Съ этой
точки зрѣнія услуга, оказанная Оуэномъ, безспорна, что бы ни думали о его пра-
вахъ на оригинальность. Этотъ знаменитый натуралистъ съ необыкновеннымъ трудо-
любіемъ занимался примѣненіемъ этого открытія ко всѣмъ позвоночнымъ животнымъ
и доказалъ въ своемъ добросовѣстномъ сочиненіи, спеціально посвященномъ этому
предмету, безспорность удивительнаго факта, что устройство одного зуба даетъ уже
критеріумъ для опредѣленія свойствъ и организаціи'той породы животныхъ, которой
онъ принадлежитъ.
Всякій, кто много размышлялъ о различныхъ ступеняхъ, чрезъ которыя про-
ходило послѣдовательно наше знаніе, долженъ былъ, мнѣ кажется, придти къ тому
заключенію, что, вполнѣ признавая великія заслуги изслѣдователей животнаго орга-
низма, мы должны однако болѣе всего удивляться не тѣмъ, которые сдѣлали открытія,
а скорѣе тѣмъ, которые указываютъ, какъ слѣдуетъ дѣлать открытія 2). Разъ ука-
занъ истинный путь изслѣдованія, остальное уже сравнительно легко. Торный путь
открытъ во всякое время, и трудность не въ томъ, чтобы найти охотниковъ путе-
шествовать по старой дорогѣ, а чтобы пріискать такихъ, которые проложили бы новую.
Каждый вѣкъ производитъ множество людей со смысломъ и съ значительнымъ трудолю-
біемъ, которые, мри всей своей способности разрабатывать ту или другую науку въ ея
подробностяхъ, не бываютъ однако въ состояніи расширить ея отдаленные предѣлы. Это
потому, что подобное расширеніе должно сопровождаться открытіемъ новаго метода 3); а
Э Мнѣніе, что они составлены изъ волоконъ, |
преобладало до тѣхъ поръ, пока Пюркенжё въ 1835 г.
не открылъ присутствія въ нихъ трубочекъ. До Пюр-
кенжѳ только одинъ наблюдатель, Левенгукъ, утверж-
далъ, что зубы имѣютъ трубчатое строеніе, по никто
ому не повѣрилъ, а Пюркенжё но былъ знакомъ съ
его изысканіями.
2) Но, сравнивая достоинства самихъ виновниковъ
открытій, мы должны хвалить скорѣе того, который
доказываетъ что-вибудь, чѣмъ того, который только
наводитъ на какую-нибудь мысль.
3) Подъ новымъ методомъ изслѣдованія какого-ни- |
будь предмета я разумѣю примѣненіе къ нему обоб-
щеній, заимствованныхъ отъ другого предмета, для
расширенія сферы мышленія. Называть это но-
вымъ методомъ не совсѣмъ точно, но нѣтъ другого
слова для обозначенія этого процесса, Собственно го-
воря, существуютъ два метода—индуктивный и дедук-
тивный, которые хотя существенно различны, но
такъ тѣсно сливаются, что невозможно совершенно
разграничить ихъ. Разсужденіе о самой сущности
этого различія я оставлю до слѣдующаго тома, когда
буду сравнивать цивилизацію германскую съ амери-
канской.
368
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
для того, чтобы методъ былъ и новъ, и существенно полезенъ, необходимо, чтобы осно-
ватель его не только мастерски владѣлъ всѣми средствами своего предмета, но и обла-
далъ таже оригинальностью и обширностью взгляда—двумя самыми рѣдкими видами че-
ловѣческаго дарованія. Вотъ въ чемъ заключается истинная трудность всякаго серьез-
наго изученія. Какъ скоро какая-нибудь отрасль знанія была обобщена въ законы, она
содержитъ, въ самой ли себѣ, или въ своихъ примѣненіяхъ, три отдѣльныя вѣтви,
а именно: изобрѣтеніе, открытіе и методъ. Изъ нихъ первая соотвѣтствуетъ искус-
ству, вторая — наукѣ, а третья—философіи. Въ этой скалѣ изобрѣтеніямъ принад-
лежитъ самое послѣднее мѣсто,—ими рѣдко занимаются умы высшаго разряда. Да-
лѣе слѣдуютъ открытія,*—здѣсь уже начинается настоящая область мышленія, такъ
какъ здѣсь дѣлается первая попытка искать истину ради ея самой, оставляя въ
сторонѣ всѣ практическія соображенія, къ которымъ изобрѣтенія имѣютъ необходи-
мое отношеніе. Это уже наука въ собственномъ смыслѣ; и какъ трудно достигнуть
этой ступени, очевидно изъ того факта, что всѣ полуцивилизованные народы дѣлали
много великихъ изобрѣтеній, а не сдѣлали ни одного великаго открытія. Но самую
высшую изъ трехъ ступеней занимаетъ философія метода, имѣющая то же отноше-
ніе къ наукѣ, какое имѣетъ наука къ искусству. Громадная, можно сказать перво-
степенная, важность ея доказывается множествомъ свидѣтельствъ въ лѣтописяхъ
науки: нѣкоторые истинно великіе люди не сдѣлали рѣшительно ничего, а только
провели всю жизнь въ безплодной дѣятельности, не потому, чтобы они мало рабо-
тали, а потому, что ихъ методъ былъ безплоденъ. Успѣхи всякой науки зависятъ
болѣе отъ того плана, по которому она разрабатывается, чѣмъ отъ дѣйствительнаго
умѣнья лицъ, занимающихся ею. Если кто, путешествуя по незнакомой странѣ, исто-
щитъ всѣ свои силы, идя не по той дорогѣ, то онъ не достигнетъ мѣста, куда стре-
мился, а быть можетъ и упадетъ отъ изнеможенія на дорогѣ. Въ томъ продолжитель-
номъ и трудномъ пути за истиной, который еще остается совершить человѣческому
уму и цѣль котораго мы въ нашемъ поколѣніи можемъ видѣть только издали, —
успѣхъ будетъ безъ сомнѣнія зависѣть не отъ той быстроты, съ какою люди будутъ
устремляться по пути изслѣдованія, а скорѣе отъ того умѣнья, съ какимъ укажутъ
имъ этотъ путь тѣ великіе и прозорливые мыслители, которые являются какъ бы
законодателями и зиждителями знанія, потому, что они восполняютъ его недостатки
не посредствомъ изслѣдованія отдѣльныхъ трудностей, а посредствомъ какого-нибудь
широкаго, всеобъемлющаго нововведенія, открывающаго намъ новую нить мысли и
содержащаго новыя средства, развитіе и примѣненіе которыхъ оставляются на долю
потомства.
Съ этой именно точки зрѣнія мы и должны оцѣнивать достоинства Биша, со-
чиненія котораго, подобно сочиненіямъ всѣхъ въ высшей степени замѣчательныхъ
людей—подобно твореніямъ Аристотеля, Бэкона и Декарта,—составляютъ эпоху въ
исторіи человѣческаго ума, и потому могутъ быть вѣрно оцѣнены только въ связи
съ соціальными и умственными условіями того времени, въ которое они появились.
Это придаетъ такую важность, такое значеніе сочиненіямъ Биша, которое конечно
не многіе вполнѣ понимаютъ. Два величайшія изъ новѣйшихъ открытій по части
классификаціи животныхъ составляютъ, какъ мы уже видѣли, результатъ его ученія.
Но его вліяніе имѣло и другія, еще болѣе важныя, послѣдствія. Онъ съ помощью
Кабаниса оказалъ громадную услуі7 физіологіи, поставивъ ее внѣ вліянія той гру-
стной реакціи, которой подпала Франція въ началѣ девятнадцатаго столѣтія. Это
слишкомъ обширный предметъ, чтобы разсматривать его въ настоящее время; я могу
только сказать, что когда Наполеонъ, не по внутреннему убѣжденію, а изъ эгоисти-
ческихъ» видовъ, пытался возстановить могущество клерикальныхъ началъ, литера-
торы съ постыдною угодливостью содѣйствовали его видамъ; и тогда начался за-
мѣтный упадокъ того духа независимости и нововведеній, съ какимъ въ продолженіе
пятидесяти лѣтъ французы разрабатывали высшія отрасли знанія. Отсюда возникла
та метафизическая школа, которая хотя и утверждала, что держится вдали отъ
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ.
369
теологіи, но была въ тѣсномъ союзѣ съ нею, и затѣйливыя идеи которой по своему
кратковременному блеску составляютъ разительную противоположность съ тѣми стро-
гими методами, которымъ слѣдовали въ предыдущемъ поколѣніи 1). Противъ этого
движенія французскіе физіологи вообще постоянно протестовали; и можно ясно до-
казать, что ихъ оппозиція, надъ которой не могли восторжествовать даже великія
дарованія Кювьё, должна быть отчасти приписана толчку, сообщенному ученіемъ
Биша, настаивавшаго въ своей области изслѣдованія на необходимости отвергнуть
ті предрѣшенія, которымъ метафизики и теологи стараются подчинить всякую науку.
Для объясненія этого я могу привести два факта, достойныхъ вниманія. Первый—
что въ Англіи, гдѣ въ продолженіе довольно долгаго періода времени едва было ощу-
тительно вліяніе Биша, многіе даже изъ самыхъ знаменитыхъ физіологовъ проявляли
замѣтную склонность присоединиться къ реакціонной партіи и не только возставали
противъ такихъ нововведеній, которыхъ они не могли прямо объяснить себѣ, но
даже унижали свою благородную пауку, дѣлая изъ нея послушницу, покорную цѣ-
лямъ натуральной теологіи. Другой фактъ состоитъ въ томъ, что во Франціи уче-
ники Биша почти всѣ безъ исключенія отвергали изученіе конечныхъ причинъ,
котораго и до сихъ поръ держится школа Кювьё; естественнымъ результатомъ этого >
является то, что послѣдователи Биша приняли въ геологіи—ученіе объ однообразіи,
въ зоологіи—ученіе о превращеніи породъ, а въ астрономіи гипотезу туманныхъ
звѣздъ,—обширныя и величественныя системы, подъ кровомъ которыхъ человѣческій
умъ старается укрыться отъ догмата вмѣшательства, повсюду теряющаго свою силу
съ успѣхами знанія и несовмѣстимаго съ понятіями о предвѣчномъ порядкѣ, со-
ставлявшими предметъ постоянныхъ стремленій нашихъ въ продолженіе двухъ послѣд-
нихъ вѣковъ.
Эти великія явленія въ ибторіи французскаго ума, которыхъ я здѣсь предста-
вилъ только бѣглый очеркъ, будутъ изложены съ должной подробностью въ одной
изъ послѣдующихъ частей этого сочиненія, гдѣ я буду разсматривать настоящее со-
стояніе европейскаго ума и попытаюсь опредѣлить, чего можно ожидать отъ него въ
будущемъ. Теперь же, чтобы дополнить сдѣланную пами оцѣнку ученой дѣятельности
Биша, необходимо обратить вниманіе на то изъ его произведеній, которое нѣкото-
рые считаютъ самымъ цѣннымъ и въ которомъ онъ стремился ни болѣе, ни менѣе,
какъ къ полнѣйшему обобщенію жизненныхъ отправленій. Хотя мнѣ кажется, что
во многихъ важныхъ частяхъ этого предпріятія Вишк не имѣлъ успѣха, тѣмъ не
менѣе твореніе его остается до сихъ поръ единственнымъ въ своемъ родѣ и пред-
ставляетъ собою такое разительное доказательство геніальности автора, что я намѣ-
ренъ сдѣлать краткій обзоръ лежащихъ въ основаніи его взглядовъ.
Жизнь, разсматриваемая во всей цѣлости, имѣетъ двѣ различныя вѣтви, одна—
свойственная животнымъ, другая—растеніямъ. Та, которая принадлежитъ однимъ жи-
вотнымъ, называется животною жизнью; жизнь же общая и животнымъ, и растеніямъ
называется органическою жизнью. Поэтому растенія живутъ только одной жизнью,
человѣкъ же имѣетъ двѣ отдѣльныя жизни, которыя управляются совершенно раз-
личными законами и, несмотря на тѣсную связь между собою, находятся въ по-
стоянномъ противодѣйствіи. Органическою жизнью человѣкъ живетъ только для са-
Э Въ литературѣ и теологіи Шатобріанъ п дѳ-
Мэстръ были конечно самыми краснорѣчивыми, а по
всей вѣроятности и самыми вліятельными вождями
этой реакціи. Оба они не любили индукціи, а пред-
почитали умозаключеніе дедуктивное отъ первыхъ по-
сылокъ, которыя они принимали п которыя называли
первыми принципами. Однако жъ до-Мэстръ былъ силь-
нымъ діалектикомъ, и потому сочиненія его читаются
Боадь,— Изд. Ф» Павленкова.
многими изъ тѣхъ, которые не обращаютъ никакого
вниманія на пышную декламацію ІПатобріана. Въ ме-
тафизикѣ произошло совершенно такое же движеніе,
п Ларомигіоръ, Ройё Кошръ и Мэнъ до-Биранъ
основали ту знаменитую школу, величайшую славу
которой составляетъ Кузенъ, и которая въ одинаковой
степени отличается познаніемъ индуктивной философіи
п недостаткомъ любви къ естественнымъ наукамъ.
24
370 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
мого себя, а въ животной жизни онъ приходитъ въ столкновеніе съ другими. Отпра-
вленія первой—чисто внутреннія, отправленія же второй—внѣшнія. Его органи-
ческая жизнь ограничивается двумя процессами: творенія и разрушенія; первый есть
процессъ ассимиляціи—напримѣръ, пищевареніе, обращеніе крови и другихъ соковъ
и питаніе; второй есть процессъ изверженія—напримѣръ, испареніе и тому подоб-
ное. Это отправленіе обще человѣку съ растеніями, и въ естественномъ состояніи
онъ не сознаетъ его. Но отличительную черту его животной жизни составляетъ само-
сознаніе, ибо оно дѣлаетъ его способнымъ двигаться, чувствовать, судить. Въ силу
первой жизни онъ только прозябаетъ, съ присоединеніемъ же второй—онъ начи-
наетъ жить, становится животнымъ.
Если мы теперь посмотримъ на органы, которыми выполняются въ человѣкѣ
отправленія этихъ двухъ жизней, то мы будемъ поражены замѣчательнымъ фактомъ,
что органы растительной жизни весьма неправильны, а органы животной—весьма
симметричны. Его растительная или органическая жизнь имѣетъ проводниками
своими желудокъ, внутренности и систему железъ вообще, напримѣръ, печень, под-
желудочную железу,—которыя всѣ неправильны и допускаютъ величайшее разно-
образіе формъ и развитія, безъ серьезнаго нарушенія ихъ отправленій. Но въ жи-
вотной жизни органы такъ существенно симметричны, что самое слабое отступленіе
отъ обыкновеннаго типа имѣетъ уже вредное вліяніе на ихъ дѣйствіе 1). Не только
мозгъ, но даже и органы чувствъ (глаза, носъ, уши) совершенно симметричны; и
они, также какъ и другіе органы животной жизни (ноги и руки), двойственны и,
представляя съ каждой стрроны тѣла двѣ отдѣльныя части, соотвѣтствующія одна
другой, образуютъ симметрій), неизвѣстную въ нашей растительной жизни, органы
которой большей частью одиночны, какъ, напримѣръ^ желудокъ, печень, поджелу-
дочная железа и селезёнка. \
Изъ этого основного различія между органами двухъ жизней возникли и нѣ-
которыя другія чрезвычайно любопытныя различія. Такъ какъ наша животная жизнь
двойственна, меледу тѣмъ какъ органическая одиночна, то въ первой жизни возмо-
женъ отдыхъ, то есть пріостановленіе на время части ея отправленій и возобно-
вленіе ихъ впослѣдствіи. Въ жизни же органической остановка есть смерть. Жизнь,
общая и намъ, и растеніемъ, никогда не находится въ усыпленіи; и если движенія
ея совершенно прекратятся хоть па одну минуту, то они никогда уже не возобно-
вятся. Тотъ процессъ, посредствомъ котораго одни вещества принимаются нашимъ
2) «Отсюда—говоритъ Биша—безъ сомнѣнія про-
истекаетъ другое различіе между органами двухъ жиз-
ней, а именно: что природа рѣже уклоняется отъ пер-
воначальнаго устройства въ жизни животной, чѣмъ
въ жизни органической... Тѣ, которые побольше за-
нимались трупоразъятіями, пе могли не замѣтить ча-
стыхъ измѣненій формъ, величины, положенія, на-
правленія внутреннихъ органовъ, какъ-то: селезёнки,
пѳчепв, желудка, почекъ, слюноточпыхъ железъ и
проч... Бросимъ теперь взглядъ на органы животной
жизни—па чувства, нервы, мозгъ, па мускулы про-
извольнаго движенія, на гортань: здѣсь все совер-
шенно вѣрно, точно, строго опредѣлительно въ формѣ,
величинѣ и положеніи» Почти никогда не встрѣчается
разнообразій устройства, а если онп и оказываются,
то отправленія бываютъ и неправильны и прекращаются;
между тѣмъ какъ въ жизни органической онп оста-
ются неизмѣнными, несмотря по поврежденія раз-
личныхъ частей». Этотъ взглядъ подтверждается от-
части данными, собранными Сентъ-Плеромъ о чрез-
вычайныхъ уклоненіяхъ отъ правильности, которымъ
подвержены растительные органы; онъ приводитъ одинъ
случай, что въ тѣлѣ человѣка при анатомированіи
«нашли всѣ внутренности размѣщенными въ обрат-
номъ порядкѣ». Сравнительная анатомія представляетъ
другой примѣръ. Тѣла моллюсковъ менѣе симметричны,
нежели тѣла суставчатыхъ; «у моллюсковъ органы ра-
стительной жизни»—говоритъ Оуэнъ—«болѣе развиты,
чѣмъ органы животной жизни; между тѣмъ какъ у
суставчатыхъ замѣтнѣе развитіе органовъ животной
жизни». Эта замѣчательная противоположность еще
яснѣе видна изъ того обстоятельства, что идіоты, у
которыхъ отправленія питанія и изверженія весьма
дѣятельны, въ то же самое время отличаются недо-
статкомъ симметріи въ органахъ чувствъ.
Результатомъ, можетъ быть даже безсознатель-
нымъ, примѣненія и распространенія этихъ идей
было то, что въ продолженіе послѣднихъ нѣсколькихъ
1 лѣтъ возникла патологическая теорія такъ называе-
мыхъ «симметрическихъ болѣзней»; главные факты
ея были давно извѣстны, но только теперь ихъ стали
! обобщать.
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ.
371
тѣломъ, а другія выдѣляются имъ, не допускаетъ никакой остановки; онъ, но су-
ществу своему, непрерывенъ, потому что, будучи одиноченъ, онъ никогда не мо-
жетъ быть пополненъ, ни подкрѣпленъ. Другую жизнь мы можемъ обновить не только
во снѣ, по и во время бодрствованія. Такъ, напримѣръ, мы можемъ упражнять органы
движенія, давая въ то же время отдыхъ органамъ мышленія; можемъ даже облег-
чить какое-нибудь отправленіе, не переставая пользоваться имъ, потому что, вслѣд-
ствіе двойственности органовъ нашей животной жизни, мы бываемъ въ состояніи,
въ случаѣ утомленія одной какой-нибудь части, пользоваться нѣкоторое время дру-
гою, соотвѣтствующею ей; мы можемъ, напримѣръ, употреблять въ дѣло только одинъ
глазъ или одну руку, чтобы дать отдохнуть другому глазу или другой рукѣ, пришед-
шимъ по какимъ-нибудь обстоятельствамъ въ изнеможеніе; въ жизни же органи-
ческой такого средства не существуетъ, такъ какъ она по природѣ своей одиночна.
Такъ какъ наша животная жизнь оказывается существенно перемежающейся,
а органическая—существенно непрерывной, то изъ этого необходимо слѣдуетъ, что
первая способна къ такому улучшенію, къ которому вторая неспособна. Не можетъ
быть улучшенія безъ сравненія, ибо только по сравненіи одного состоянія съ дру-
гимъ можно исправлять старыя ошибки и предупреждать новыя. Но наша органи-
ческая жизнь не допускаетъ подобнаго сравненія; будучи непрерывною, она не
раздробляется на различныя состоянія, а напротивъ, если только ее не разнообра-
зитъ болѣзнь,—протекаетъ въ скучномъ однообразіи. Съ другой стороны, отправ-
ленія нашей животной жизни, такія, напримѣръ, какъ мышленіе, слово, зрѣніе и дви-
женіе, не могутъ долго оставаться безъ отдыха, и такъ какъ они безпрестанно пре-
рываются, то дѣлается возможнымъ сравнивать ихъ, а, слѣдовательно, и улучшать.
Только благодаря существованію этой возможности, первые крики ребенка превра-
щаются постепенно въ совершенную рѣчь взрослаго человѣка и первыя нескладныя
мысли доходятъ до той зрѣлости, къ которой можетъ^ привести только длинный рядъ
послѣдовательныхъ усилій. Но органическая жизнь, общая и намъ, и растеніямъ, не
допускаетъ никакого перерыва, а, слѣдовательно, въ ней невозможно и улучшеніе.
Она повинуется своимъ собственнымъ законамъ и ничѣмъ не пользуется отъ того
повторенія, которому животная жизнь исключительно обязана своими усовершенство-
ваніями. Ея отправленія, такія, напримѣръ, какъ питаніе и т. п., существуютъ въ
человѣкѣ еще за нѣсколько мѣсяцевъ до его рожденія, когда его животная жизнь
еще не началась и слѣдовательно еще не можетъ быть способности сравненія, ле-
жащей въ основаніи всякаго улучшенія. И хотя, по мѣрѣ увеличенія объема чело-
вѣческаго тѣла, его растительные органы также увеличиваются, но нельзя предпо-
ложить, чтобы ихъ отправленія существенно улучшались: при обыкновенныхъ усло-
віяхъ они выполняютъ свое назначеніе съ одинаковымъ совершенствомъ п одина-
ковою правильностью, какъ въ дѣтствѣ, такъ и въ зрѣлые годы.
Такимъ образомъ хотя есть и другія причины, но можно сказать, что прогрессив-
ность животной жизни зависитъ отъ ея перемежаемости, а непрогрессивность орга-
нической жизни — отъ ея непрерывности. Можно кромѣ того сказать, что переме-
жаемость первой происходитъ отъ симметріи въ органахъ, между тѣмъ какъ непре-
рывность второй зависитъ отъ ихъ неправильности. Противъ этого обширнаго и по-
разительнаго обобщенія можно сдѣлать много возраженій, изъ которыхъ нѣкоторыя
повидимому неопровержимы, но что въ немъ заключаются зародыши великихъ истинъ,
въ этомъ я не сомнѣваюсь; и во всякомъ случаѣ то достовѣрно, что методъ его
выше всякой похвалы: въ немъ соединено изученіе отправленій и строенія съ из-
ученіемъ эмбріологіи, растительной физіологіи, теоріи сравненія и вліянія привычки.
Вотъ обширное, величественное поле, которое былъ въ состояніи обнять геній Бишй,
но на которое послѣ него ни физіологи, ни метафизики не посмѣли бросить даже
общій взглядъ.
Это неподвижное состояніе въ теченіе настоящаго столѣтія предмета, возбуж-
24*
372
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
дающаго такой громадный интересъ, служитъ рѣшительнымъ доказательствомъ не-
обыкновеннаго дарованія Биша; ибо, несмотря на прибавленія, сдѣланныя къ фи-
зіологіи и ко всѣмъ связаннымъ съ нею отраслямъ естествознанія, еще не было
осуществлено ничего такого, что бы могло хоть сколько-нибудь сравниться съ той
теоріей жизни, которую Бишк былъ въ состояніи построить съ гораздо меньшими
средствами. Конечно, этотъ громадный трудъ былъ оставленъ имъ въ весьма несо-
вершенномъ видѣ; но даже въ его несовершенствахъ мы видимъ печать великаго
мастера, къ которому, въ его спеціальности, никто еще не могъ приблизиться. Его
опытъ о жизни можетъ быть уподобленъ тѣмъ обломкамъ произведеній древняго
искусства, которые, какъ бы они ни были несовершенны, все-таки носятъ на себѣ
отпечатокъ вдохновенія, даровавшаго имъ жизнь, и являютъ въ каждой отдѣльной
части то единство представленія, которое дѣлаетъ ихъ для насъ полнымъ и живымъ
цѣлымъ.
Изъ предыдущаго обзора успѣховъ естествознанія читатель можетъ составить
себѣ нѣкоторое понятіе о способности тѣхъ замѣчательныхъ людей, которые явились
во Франціи въ продолженіе послѣдней половины восемнадцатаго столѣтія. Для пол-
ноты представленной нами картины остается только разсмотрѣть то, что было сдѣ-
лано въ двухъ другихъ отрасляхъ естественной исторіи, а именно въ ботаникѣ и
въ минералогіи, къ возведенію которыхъ на степень пауки первыя великія попытки
были сдѣланы французами за нѣсколько лѣтъ до революціи.
Въ ботаникѣ, несмотря на быстрое увеличеніе въ продолженіе послѣднихъ
двухъ сотъ лѣтъ нашего чзнанія относительно частнымъ фактовъ мы имѣемъ
только два обобщенія достаточно обширныхъ, чтобы называться законами природы.
Первое обобщеніе касается бдроенія растеній, второе — ихъ физіологіи. Обобщеніе,
касающееся физіологіи растеній, заключается въ прекрасномъ морфологическомъ
законѣ, по которому различная наружность разныхъ органовъ происходитъ отъ за-
держаннаго развитія: тычинки, пестики, вѣнчикъ, чашечка и подцвѣточники суть
только простыя видоизмѣненія или переходныя ступени листа. Этимъ однимъ изъ
самыхъ драгоцѣнныхъ открытій мы обязаны Германіи; оно было сдѣлано Гёте въ
концѣ восемнадцатаго столѣтія. Важность этого открытія знаеіъ всякій ботаникъ;
а для историка человѣческаго ума оно особенно интересно, какъ подтвержденіе того
великаго ученія о развитіи, къ которому теперь стремятся высшія отрасли знанія
и которое въ настоящемъ столѣтіи было введено въ одинъ изъ самыхъ трудныхъ
отдѣловъ физіологіи животныхъ 2),
Но самая обширная истина, какая намъ извѣстна относительно растеній, есть
та, которая объемлетъ во всей цѣлости ихъ общее строеніе; и ее мы узнали отъ
тѣхъ великихъ французовъ, которые въ послѣдней половинѣ восемнадцатаго сто-
лѣтія начали изучать внѣшній міръ. Первые шаги были сдѣланы въ самомъ началѣ
второй половины столѣтія Адансономъ, Дюгамелемъ де-Монсо и преимущественно
х) Діоскорвдъ и Галенъ знали отъ 450 до 600
растеніи; но, согласно Кювье, Линней въ 1778 году
«насчитывалъ ихъ до восьми, тысячъ видовъ». Съ
тѣхъ поръ прогрессъ былъ непрерывенъ; и въ «Бо-
таникѣ» Генсло (1837 года) говорится, что «число ви-
довъ, уже извѣстныхъ и классмфпцпровапиыхъ въ сочи-
неніяхъ по части ботапшш, доходитъ до 60.000». Де-
сять лѣтъ спустя д-ръ ’Линдлей насчитываетъ пхъ
92.930; а два года спустя Бальфуръ говоритъ: «около
100.000». Вотъ въ какой пропорціи увеличивается
наше знаніе природы. Для заключенія этого истори-
ческаго замѣчанія я долженъ былъ бы еще упомя-
нуть о томъ, чтб говоритъ вь 1812 году д-ръ Томсонъ:
«до 30.000 видовъ растеній изслѣдованы п описаны».
2) То ость въ изученіе уродливостей животныхъ,
которыя, какъ бы ни представлялись онѣ случайными,
теперь прпзпапы необходимымъ результатомъ предшѳ-
сгвовавшихъ имъ явленій. Въ продолженіе послѣднихъ
лѣтъ нѣкоторые законы этихъ ненатуральныхъ рож-
деній, какъ пхъ обыкновенно называютъ, были от-
крыты, п было доказано, что они далеко не ненату-
ральны, а совершенно естественны. Такимъ образомъ
была создана новая паука, подъ именемъ тератологіи,
которая разрушила старое вѣрованіе въ игру при-
роды (ІИ8И8 паіпгае), подрывъ послѣднія любимыя
опоры его.
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 313
Дефонтеномъ,—тремя знаменитыми мыслителями, доказавшими практичность неслы-
ханнаго до тѣхъ поръ естественнаго метода, о которомъ даже самъ Рей имѣлъ лишь
темное понятіе. Этотъ методъ, ослабивъ вліяніе искусственной системы Линнея х),
проложилъ путь къ такому полному нововведенію, какого не бывало еще въ другихъ
отрасляхъ знанія. Въ самый годъ начала революціи Жюссьё вывелъ цѣлый рядъ
батанпческихъ обобщеній^ изъ которыхъ наиболѣе важныя тѣсно связаны между
собою и остаются и до сихъ поръ самыми высокими обобщеніями, до какихъ до-
ходила эта отрасль знанія 2). Изъ числа этихъ выводовъ мнѣ достаточно будетъ
упомянуть только о трехъ обширныхъ положеніяхъ, которыя теперь признаны за
основаніе анатоміи растеній. Первое заключается въ томъ, что растительное царство
во всемъ своемъ объемѣ состоитъ изъ растеній или съ одной сѣмяниой долей, или
съ двумя сѣмянными долями, или, наконецъ, вовсе безъ сѣмянныхъ долей. Второе
положеніе состоитъ въ томъ, что эта классификація есть далеко не искусственная,
а, напротивъ, строго естественная, такъ какъ по закону природы растенія одно-
сѣмянодольныя суть внутрь-ростныя (Ешіо^епае) и наростаіотъ въ центрѣ ствола, а
растенія двусѣмянодольныя суть внѣ-ростныя (Ехо^епае) и наростаіотъ не въ центрѣ
ствола, а при окружности его 3), Третье положеніе—что когда растенія наростаютъ
въ центрѣ, то въ нихъ расположеніе плода и листьевъ бываетъ тройное, а когда
они наростаютъ при окружности, то почти всегда пятерное.
Вотъ что было сдѣлано французами восемнадцатаго столѣтія для царства ра-
стительнаго 4). Если мы теперь обратимся къ царству ископаемому, то увидимъ, что
и здѣсь заслуги пхъ не менѣе велики. Изученіе минераловъ есть самая несовер-
шенная изъ трехъ отраслей Естественной исторіи, котому что, несмотря на кажу-
щуюся простоту этого изученія и безчисленное множество сдѣланныхъ опытовъ, въ
немъ еще не открытъ пстинньій методъ изслѣдованія: еще подвержено сомнѣнію,
должна ли минералогія подчиняться законамъ химій, или законамъ кристаллографіи,
или же должны быть принимаемы въ соображеніе оба рода закоповъ вмѣстѣ. Во
всякомъ случаѣ то достовѣрно, что до настоящаго времени химія оказывалась не-
состоятельной въ подчиненіи себѣ минералогическихъ явленій, и что ни одинъ
Любопытно замѣтить, что даже хорошіе бота-
ники придерживались системы Линнея еще долгое время
послѣ того, какъ было доказана превосходство нату-
ральной системы. Это тѣмъ болѣе замѣчательно, что І
самъ Линнеи, человѣкъ безъ сомлѣнія геніальный и обла- і
давшій чрезвычайною способностью соображенія, всегда I
допускалъ, что его система есть только нѣчто прод- 1
варительное, и что великая задача, которую надо
имѣть въ виду, заключается къ классификаціи по ।
естественнымъ семействамъ. Въ самомъ дѣлѣ, чтб ।
можно было подумать о прочностн системы, соеди- |
нявшей въ одну категорію тростникъ и барбарисъ
потому только, что оба они имѣютъ но шести 'іычи- ।
покъ, и щавель съ шафраномъ, потому что они имѣютъ
но три маточника.
2) Сочиненіе Антуана Жюссьё «Сепега Ріапіагпт»
было напечатано въ Парижѣ въ 1789 году: «Только
въ 1789 году— говоритъ Ришаръ—явилось собственно
полное сочиненіе о методѣ естественныхъ семействъ.
Сочиненіе А. Жюссье «бекета Ріапіагнш» представило
науку о растеніяхъ въ совершенно новомъ свѣтѣ; оно
отличается такою точностью и т.ікимъ изяществомъ,
и въ немъ проведены впервые такіе глубокіе и вѣр-
ные принципы, что, собственно говоря, только съ этого
времени былъ созданъ методъ естественныхъ семействъ
и только съ этого времени начинается новая эра для
науки о растеніяхъ... Авторъ «Сенега Ріапіагпт» пер-
вый положилъ основаніе этой наукѣ, указавъ на отно-
сительную важность различныхъ органовъ и, слѣдо-
вательно, па пхъ значеніе въ классификаціи... По за-
мѣчанію Кювье, онъ мропввелъ такой же переворотъ
въ наукахъ наблюдательныхъ, какой произвела химія
Лавуазье въ наукахъ опытныхъ. Въ самомъ дѣлѣ,
онъ не только совершенію измѣнилъ ботанику, по
имѣлъ также вліяніе и на другія отрасли естествен-
ной исторій и ввелъ въ нихъ тотъ духъ изслѣдова-
ній и сравненій, и тотъ философскій п естественный
методъ, къ усовершенствованію котораго направлены
съ того времени всѣ усилія натуралистовъ».
3) Такимъ образомъ былъ устраненъ обильный
источникъ заблужденій; только теперь поняли, что въ
однихъ двусѣмянодольныхъ растеніяхъ можно съ вѣр-
ностью опредѣлять возрастъ.
4) Классификація по сѣмяпнымъ долямъ была
такъ успѣшна, что, «за небольшими исключеніями,
почти всѣ растенія могутъ быть отнесены каждымъ
ботаникомъ, съ перваго же взгляда и съ непогрѣ-
шимою вѣрностью, къ свойственному имъ классу;
и одного только куска стебля, листа или какой-
нибудь другой части очень часто бываетъ совер-
шенно достаточно для разрѣшенія этого вопроса»
(Гѳпсло).
374
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
химикъ, обладающій достаточной способностью къ обобщеніямъ, не брался еще за
это дѣло, исключая Берцеліуса; но большая часть выводовъ этого послѣдняго была
опровергнута дивнымъ открытіемъ изоморфизма, которымъ, какъ всѣмъ извѣстно,
мы обязаны Мичерлиху, одному изъ множества великихъ мыслителей, которыхъ про-
извела Германія.
Хотя химическій отдѣлъ минералогіи еще находится въ необработанномъ со-
стояніи, можно сказать въ состояніи анархіи, зато въ другомъ ея отдѣлѣ, именно
въ кристаллографіи замѣтны большіе успѣхи; и здѣсь опять самые первые шаги
были сдѣланы двумя французами, жившими въ послѣдней половинѣ восемнадцатаго
столѣтія. Около 1760 года Ромэ де-Лиль подалъ первый примѣръ изученія кри-
сталловъ по такому обширному плану, въ который входили бы всевозможныя перво-
начальныя формы ихъ и въ которомъ заключалось бы объясненіе ихъ неправиль-
ностей и кажущейся произвольности ихъ строенія* Въ этомъ изслѣдованіи онъ руко-
водился сдѣланнымъ впередъ основнымъ предположеніемъ, что такъ называемая не-
правильность оказывается на самомъ дѣлѣ совершенною правильностью, и что дѣй-
ствія природы неизмѣнны. Лишь только эта великая мысль была примѣнена къ
почти безчисленнымъ формамъ, въ которыя кристаллизируются минералы,—какъ
принялся разрабатывать ее съ еще большими средствами Гаюй (Напу), другой
знаменитый французскій ученый. Этотъ замѣчательный человѣкъ осуществилъ полное
соединеніе минералогіи съ геометріею; примѣняя законы пространства къ частич-
ному строенію матеріи, онъ нашелъ возможность проникнуть во внутреннее устрой-
ство кристалловъ.
Этимъ путемъ ему удалось доказать, что вторичный формы всѣхъ кристалловъ
произошли отъ ихъ первичныхъ формъ посредствомъ правильнаго процесса уба-
вленія, и что когда какое-нибудь вещество переходитъ изъ жидкаго состоянія въ
твердое, то его частицы вынуждены соединяться въ такой системѣ, которая пред-
полагаетъ всевозможныя измѣненія, такъ какъ въ нее входятъ даже тѣ послѣ-
дующіе слои, которые измѣняютъ обыкновенный типъ кристалла, разстропвая его
естественную симметрію. Привести въ извѣстность, что подобныя нарушенія сим-
метріи могутъ подлежать математическому вычисленію,—значило уже сдѣлать огром-
ное прибавленіе къ нашему знанію; но еще важнѣе, мнѣ кажется, замѣчаемое въ
этомъ случаѣ приближеніе къ той дивной мысли, что все, что бы ни случалось, упра-
вляется закономъ, и что неустройство и безпорядокъ невозможны. Доказавъ, что
даже самыя причудливыя и странныя формы минераловъ составляютъ естественные
результаты ихъ предшествовавшихъ состояній, Гаюй положилъ основаніе тому, что
можетъ быть названо патологіею неорганическаго міра. Какъ бы ни казалось пара-
доксальнымъ подобное понятіе, но то достовѣрно, что симметрія для кристаллові,
то же самое, что здоровье для животныхъ; такъ что неправильность формы въ пер-
выхъ соотвѣтствуетъ появленію болѣзни у вторыхъ ’)* Поэтому, когда умы людей хо-
рошо ознакомились съ великою истиною, что въ ископаемомъ царствѣ нѣтъ, соб-
ственно говоря, ничего неправильнаго, имъ стало легче усвоить себѣ и еще болѣе
возвышенную истину—что тотъ же самый принципъ имѣетъ силу и для царства
животныхъ, хотя вслѣдствіе большей сложности происходящихъ въ немъ явленій
еще много пройдетъ времени, пока мы пріищемъ равносильное доказательство этому.
Но что подобное доказательство возможно—это такой принципъ, отъ котораго за-
Относительно одной замѣчательной спссобиостп
кристалловъ (общей съ животными) самимъ исправ-
лять свои поврежденія, см. Ра^еГз «РаПіоІс#у», 1853,
ѵ. I, рр. 152, 153, ідѣ тіодті.ерждаются опыты Іор-
дана по атому любопытному предмету: «Способность
поправлять свои поврежденія... но составляетъ исклю-
чительнаго свойства живыхъ существъ, потому что
даже кристаллы сами с-обою восполняются, если послѣ
того какъ отъ нихъ стоить кусокъ, они бываютъ по-
ставлены въ тѣ же условія, при которыхъ они пер-
воначально образовались».
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 375
висятъ будущіе успѣхи всякаго знанія, какъ органическаго, такъ и духовнаго міра*
И весьма замѣчательно, что то же самое поколѣніе, которое доказало фактъ, что
кажущіяся уклоненія отъ правильности минераловъ строго правильны, сдѣлало также
первый шагъ и къ приведенію въ извѣстность факта гораздо высшаго разряда, а
именно, что аберраціи человѣческаго ума подчиняются законамъ не менѣе непре-
ложнымъ, какъ и тѣ, которыми опредѣляется состояніе неподвижной матеріи. По-
дробное изслѣдованіе этого повело бы къ отступленію, чуждому моей настоящей цѣли;
я могу только упомянуть, что въ концѣ XVIII столѣтія во Франти былъ написанъ
Пинэлемъ знаменитый трактатъ о сумасшествіи,—сочиненіе, замѣчательное во мно-
гихъ отношеніяхъ, но преимущественно въ томъ, что въ немъ всѣ старыя понятія
относительно таинственнаго, непроницаемаго характера умственныхъ болѣзней совер-
шенно устранены *); самыя болѣзни разсматриваются въ немъ, какъ явленія неиз-
бѣжныя при извѣстныхъ данныхъ условіяхъ, и такимъ образомъ положено основаніе
новому звену въ длинной цѣпи доводовъ, которая, связывая вещественное съ неве-
щественнымъ, соединяетъ матерію и духъ въ одинъ предметъ изученія,—чѣмъ про-
лагается путь къ нѣкоторымъ выводамъ, общимъ для ихъ обоихъ и могущимъ, слѣ-
довательно, служить центромъ, вокругъ котораго могутъ смѣло группироваться раз-
бросанные клочки нашего знанія.
Вотъ какія воззрѣнія стали проглядывать въ послѣдней половинѣ восемнадца-
таго столѣтія у французскихъ мыслителей. Съ какимъ необыкновеннымъ талантомъ
и какъ успѣшно разрабатывали эти замѣчательные люди каждый свою науку, объ
этомъ я распространился уже болѣе, чѣмъ былъ намѣренъ, но все-таки далеко не
сказалъ всего, чего требуетъ важность этого предмета. Но и сказаннаго мною до-
статочно для того, чтобы читатель убѣдился въ истинѣ Доказываемаго мною положе-
нія, а именно, что французскій умъ-въ продолженіе послѣдней половины восемнадца-
таго столѣтія устремился съ безпримѣрнымъ рвеніемъ на предметы внѣшняго міра
и тѣмъ способствовалъ тому обширному движенію, котораго сама революція была
лишь однимъ изъ послѣдствій. Тѣсная связь между научнымъ прогрессомъ и со-
ціальнымъ возстаніемъ очевидна пзъ того факта, что оба были вызваны однимъ и
тѣмъ же стремленіемъ къ улучшенію, однимъ и тѣмъ же недовольствомъ старыми
порядками, однимъ и тѣмъ же неугомоннымъ, пытливымъ, непокорнымъ и дерзкимъ
духомъ. Но во Франціи эта общая аналогія была еще сильнѣе, благодаря упомяну-
тымъ мною выше обстоятельствамъ, въ силу которыхъ дѣятельность страны въ про-
долженіе первой половины столѣтія была обращаема скорѣе противъ церкви, чѣмъ
противъ государства, такъ что для окончательнаго подготовленія революціи необхо-
димо было, чтобы въ послѣдней половинѣ столѣтія враждебныя дѣйствія перенеслись
на другую почву. Это и произошло дѣйствительно вслѣдствіе удивительнаго толчка,
сообщеннаго каждой отрасли естествознанія. Когда такимъ образомъ вниманіе людей
2) Вотъ чтб говоритъ Жоржель въ своемъ сочи- I
неніи о помѣшательствѣ: «Пянэль далъ новое наирав- I
леніѳ изученію сумасшествія... Тѣмъ что онъ просто
включилъ эту болѣзнь, не дѣлая ннкакпхъ различій, 1
въ число другихъ разстройствъ нашихъ органовъ; опре-
дѣливъ для нея мѣсто въ ряду болѣзней вообще, —
онъ чрезвычайно подвинулъ впередъ ея исторію»...
«Ппнэль, первый во Франціи, даже можно бы ска- ;
зать первый въ Европѣ, положилъ основаніе раціо- і
нальаому лѣченію сумасшествія, отнеся его къ числу
другихъ органическихъ пораженій». Эскпроль, выра-
жающій новѣйшій и чисто научный взглядъ, говоритъ
въ своемъ обширномъ сочиненіи «Ве$ Маіайіея Мепіа-
1ев>: «Помѣшательство, на которое древпіо пароды
смотрѣли какъ на вдохновеніе пли наказаніе отъ бо-
говъ, которое впослѣдствіи принимали за дьяволь-
ское навожденіе, и въ которомъ иногда видѣли дѣй-
ствіе волшебства, — помѣшательство, говорю я. со
всѣми своими безчисленными видоизмѣненіями въ
сущности ничѣмъ не отличается отъ другихъ болѣз-
ней». Признаніе этой истины онъ положительнымъ
образомъ приписываетъ своему предшественнику: «бла-
годаря началамъ, изложеннымъ Пннэлемъ» (р. 340).
Самъ Ппнэль ясно видѣлъ связь между своими мнѣ-
ніями и духомъ времени: «Медицинское сочиненіе,
издаваемое во Франціи въ концѣ восемнадцатаго сто-
лѣтія, должно имѣть не тотъ характеръ, который оно
имѣло бы, еслибъ было написано въ прежнее время».
376
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
было постоянно устремлено на внѣшній міръ, то внутренній впалъ въ пренебреженіе;
и такъ какъ все внѣшнее соотвѣтствовало государству, а внутреннее — церкви, то
было совершенно согласно съ этимъ умственнымъ движеніемъ, чтобы враги суще-
ствующаго порядка вещей обратили противъ политическихъ злоупотребленій ту же
энергію, которую предшествовавшее поколѣніе обращало противъ злоупотребленій
религіозныхъ.
Такимъ образомъ французской революціи, какъ и всякой другой обширной ре-
волюціи, видѣнной до сихъ поръ на свѣтѣ, предшествовала перемѣна въ привыч-
кахъ и понятіяхъ національнаго ума. Но независимо отъ этого, именно въ то самое
время происходило обширное соціальное движеніе, которое было тѣсно связано съ
умственнымъ и составляло даже часть его въ томъ отношеніи, что сопровождалось
одинаковыми послѣдствіями и было вызвано одинаковыми причинами. Характеръ
этой соціальной революціи я здѣсь разсмотрю только вкратцѣ, такъ какъ въ слѣду-
ющемъ томѣ мнѣ еще придется изложить во всей подробности ея исторію, объясняя
менѣе важныя, но все-таки замѣчательныя перемѣны, происшедшія въ тотъ же самый
періодъ въ англійскомъ обществѣ.
Во Франціи передъ революціей народъ, хотя* всегда очень общительный, вы-
казывалъ также и большую исключительность. Высшіе классы, прикрываясь вообра-
жаемымъ превосходствомъ, съ презрѣніемъ смотрѣли на тѣхъ, которые не были
равны имъ по рожденію и титулу. Классъ, стоявшій непосредственно подъ ними,
слѣдовалъ ихъ примѣру и въ свою очередь служилъ примѣромъ для другихъ, такъ
что каждое сословіе старалось пріискать какое-нибудь воображаемое отличіе, кото-
рое ограждало бы его отъ чоскверненія стоять на-ряду/ съ низшими. Единственные
три истинные источника превосходства,—превосходство нравственное, превосходство
ума и превосходство знанія,— были совершенно упущены изъ виду въ этой нелѣ-
пой системѣ; и люди пріобрѣли привычку гордиться не какими-нибудь существен-
ными отличіями, но тѣми ничтожными вещами, которыя, за весьма немногими исклю-
ченіями, бываютъ дѣломъ случая и потому никакъ не могутъ служить мѣриломъ
достоинства.
Первый рѣшительный ударъ нанесенъ былъ этому порядку вещей тѣмъ без-
примѣрнымъ рвеніемъ, съ какимъ стали разрабатывать естественныя науки. Дѣла-
лись обширныя открытія, которыя не только подстрекали умы мыслящихъ людей,
но и возбуждали любопытство болѣе легкомысленныхъ классовъ общества. Па лек-
ціяхъ химиковъ, геологовъ, минералоговъ и физіологовъ бывали и тѣ, которые при-
ходили подивиться, и тѣ, которые искали серьезнаго знанія. Въ Парижѣ ученыя
собранія бывали переполнены посѣтителями. Залы и амфитеатры, въ которыхъ изла-
гались великія истины природы, уже не могли болѣе вмѣщать всѣхъ слупіателей,
п въ нѣкоторыхъ случаяхъ оказывалось необходимымъ увеличить ихъ вмѣстимость.
Засѣданія академіи, вмѣсто того чтобы ограничиваться немногими исключительно
учеными, были посѣщаемы всякимъ, кто по своему званію или вліянію могъ достать
себѣ мѣсто Даже женщины моднаго свѣта, забывая о своихъ легкомысленныхъ заба-
вахъ, спѣшили послушать разсужденія о составѣ какого-нибудь минерала, объ открытіи
какой-нибудь новой соли, о строеніи растеній, объ организаціи животныхъ, о свой-
ствахъ электрической жидкости. Всѣми классами общества повидимому внезапно
овладѣла жажда знанія. Самыя обширныя и самыя трудныя изслѣдованія были бла-
госклонно приняты тѣми, чьи отцы едва-ли слышали даже названія наукъ, къ кото-
рымъ относились эти изслѣдованія. Блестящее воображеніе Бюффона вдругъ доста-
4) Въ 1779 году было замѣчено, что < публич-
ныя засѣданія французской академіи сдѣлались чѣмъ-
то въ родѣ модныхъ зрѣлищъ». Все болѣе и болѣе
увеличивавшаяся толпа посѣтителей сдѣлалась, нако-
нецъ, такъ велика, что въ 1785 году признано было
необходимымъ уменьшить число билетовъ для входа
п даже предложено было не допускать дамъ вслѣд-
ствіе нѣсколькихъ случаевъ безпорядка.
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ.
377
вило популярность геологіи; то же самое сдѣлало для химіи краснорѣчіе ФуркруЬ, а
для электричества—краснорѣчіе Ноллё; между тѣмъ какъ удивительныя чтенія Лаланда
заставили всѣхъ заниматься даже астрономіей. Однимъ словомъ, достаточно сказать,
что въ продолженіе тридцати лѣтъ, предшествовавшихъ революціи, распространеніе
знанія естественныхъ наукъ было такъ быстро, что изъ-за нихъ пренебрегали из-
ученіемъ классической древности; онѣ считались существеннымъ основаніемъ хоро-
шаго воспитанія, и нѣкоторое знакомство съ ними признавалось необходимымъ для
людей всѣхъ сословій, исключая тѣхъ, которые вынуждены были существовать по-
денной работой.
Результаты этой замѣчательной перемѣны чрезвычайно любопытны, и по бы-
стротѣ и силѣ, съ какою они обнаружились, имѣютъ весьма рѣшительное значе-
ніе. Пока различные классы общества ограничивались занятіями, свойственными
одной ихъ сферѣ, это поощряло ихъ къ сохраненію своихъ особыхъ обычаевъ, и
подчиненность или какъ бы іерархія общества легко поддерживалась. Но когда
члены различныхъ сословій стали встрѣчаться въ одномъ и томъ же мѣстѣ и для
одной и той же цѣли, то ихъ стала связывать новая симпатія. Самое высшее и
самое простое изъ всѣхъ наслажденій, — наслажденіе, доставляемое познаніемъ но-
выхъ истинъ, сдѣлалось теперь великимъ звеномъ, связавшимъ тѣ соціальные эле-
менты, которые прежде держались замкнутыми въ своемъ гордомъ уединеніи. Кромѣ
того они получили не только новое занятіе, но и новое мѣрило достоинства. Въ
амфитеатрѣ и аудиторіи первое, чтб привлекаетъ вниманіе, — это профессоръ или
лекторъ. Различіе оказывается только между тѣми, кто учитъ, и тѣми, кто учится.
Субординація по чинамъ уступаетъ мѣсто субординаціи по знаніямъ х). Мелочныя, услов-
ныя различія великосвѣтской жизни смѣняются тѣми широкими, неподдѣльными раз-
личіями, которыя одни дѣйствительно отдѣляютъ одного' человѣка отъ другого. Съ
успѣхами умственнаго развитія является новый предметъ почитанія; старое покло-
неніе званію рѣзко прекращается, и его суевѣрные приверженцы научаются пре-
клонять колѣна передъ алтаремъ чуждаго для нихъ бога. Мѣсто, гдѣ проновѣдывается
наука, есть храмъ демократіи. Тѣ, которые приходятъ учиться, сознаютъ свое невѣ-
дѣніе, отрекаются въ нѣкоторой степени отъ своего превосходства и начинаютъ
понимать, что величіе людей не имѣетъ никакой связи съ ихъ блестящими титулами,
ни съ знатностью ихъ происхожденія; что оно не имѣетъ никакого отношенія ни
къ дѣленіямъ щитовъ въ ихъ гербахъ, ни къ самымъ щитамъ^ пи къ ихъ родословнымъ,
ни къ правымъ, ни къ лѣвымъ сторонамъ верхняго поля щита, ни къ шеврону, ни
къ діоганальному сѣченію щита, ни къ голубымъ, ни къ краснымъ полямъ, ни къ
другимъ какимъ-либо глупостямъ ихъ геральдики,—но что оно зависитъ отъ величія
ихъ души, отъ силы ихъ ума и полноты пхъ знанія.
Таковы взгляды, вліянію которыхъ во второй половинѣ восемнадцатаго столѣтія
стали подчиняться классы, долгое время безспорно управлявшіе всѣмъ обществомъ 2).
И доказательствомъ силы этого великаго движенія служитъ то, что оно сопровождалось и
другими соціальными перемѣнами, которыя хотя сами по себѣ кажутся ничтожными, но
дѣлаются полны значенія, если ихъ разсматривать въ связи со всей исторіей того времени.
*) Хорошо сказалъ одинъ знаменитый писатель,
хотя нѣсколько съ другой точка зрѣнія: «Въ па-
укахъ нравственныхъ, равно какъ ж въ естественныхъ,
не можетъ быть ня господъ, ни рабовъ, ни королей,
ни подданныхъ, нп гражданъ, ни иностранцевъ» (СопПе,
«Тгаііё йе Ьс^йМон».
2) Замѣчанія, сдѣланныя Томасомъ о Декартѣ въ
1765 году въ одномъ ёіо^е, увѣнчанномъ академіею,
служатъ образцомъ мнѣніи, которыя въ послѣдней
половинѣ восемнадцатаго столѣтія быстро распростра-
нились во Франціи. Си. мѣсто, начинающееся словами:
«О ргеіи&ёх! о гіёісиіе йегіё йе§ ріасев еі гап^І»
еіс. Конечно тридцатью годами ранѣе при подобномъ
с.тучаѣ никто бы не рѣшился говорить такимъ язы-
комъ. Точно также графъ Сегюръ говоритъ о моло-
дыхъ дворянахъ передъ революціею: ші предпочи-
тали одно слово похвалы изъ устъ Д’Аламбера или
Дидро самой большей благо склонности со стороны ка-
кого-ппбудь принца». «ЗІёш. <Іе 8ё^игэ, ѵ. I, р. 142;
см. также ѵ. II, р. 46.
378
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Въ то время когда громадные успѣхи естествознанія производили переворотъ
въ обществѣ, внушая различнымъ классамъ его стремленіе къ одной общей цѣли
и устанавливая такимъ образомъ новое мѣрило достоинства,—можно было замѣ-
тить и другое, менѣе возвышенное, но одинаково демократическое направленіе
даже въ условныхъ формахъ общественной жизни. Описаніе всѣхъ этихъ перемѣнъ
заняло бы слишкомъ много мѣста сравнительно съ другими частями этого введенія;
но достовѣрно, что пока эти перемѣны не будутъ тщательно изслѣдованы, до тѣхъ
поръ никто не будетъ въ состояніи написать исторію французской революціи. Для
поясненія моей мысли я опишу здѣсь, въ видѣ примѣра, два изъ такихъ нововве-
деніи, которыя весьма замѣтны и при томъ особенно интересны по своей аналогіи
съ тѣмъ, чтб случилось въ англійскомъ обществѣ.
Первымъ изъ этихъ нововведеній было измѣненіе въ одеждѣ и замѣтное пре-
небреженіе къ тѣмъ внѣшностямъ, которыми прежде дорожили, какъ самыми важ-
ными изъ условій. Въ продолженіе царствованія Людовика XIV и даже въ первой
половинѣ царствованія Людовика XV пе только люди легкомысленные, но даже
люди замѣчательные по своей учености выказывали въ своемъ нарядѣ такую ще-
гольскую точность, такое изящество п изысканность выбора, такое изобиліе золота,
серебра и кружевъ, какихъ въ наше время нельзя нигдѣ увидѣть, развѣ только при
дворахъ европейскихъ государей, гдѣ еще сохраняется извѣстный поразительный
блескъ. Это доходило до того, что въ семнадцатомъ столѣтіи званіе лица можно
было тотчасъ же узнать по его наружному виду, такъ какъ не допускалось и мысли,
чтобы кто-нибудь дерзнулъ надѣть одежду, носимую классомъ, стоящимъ непосред-
ственно выше его. По во время демократическаго движенія, предшествовавшаго
французской революціи, умы людей слишкомъ ревностно, слишкомъ усиленно заня-
лись болѣе возвышенными предметами, чтобы заботиться о тѣхъ безполезныхъ вы-
думкахъ, которыя поглощали вниманіе ихъ отцовъ. Презрительное пренебреженіе
къ подобнымъ отличіямъ сдѣлалось всеобщимъ. Въ Парижѣ нововведеніе это было
замѣтно даже въ тѣхъ веселыхъ собраніяхъ, гдѣ украшеніе себя до извѣстной сте-
пени считается и до сихъ поръ дѣломъ естественнымъ. По замѣчанію современныхъ
наблюдателей, одежда, которую обыкновенно надѣвали на обѣды, ужины и балы, до
такой степени упростилась, что даже можно было смѣшать званія, и, наконецъ, вся-
кія этого рода отличія были вовсе оставлены какъ мужчинами, такъ и женщинами;
мужчины стали являться на подобныя собранія въ обыкновенныхъ фракахъ, а жен-
щины—въ обыкновенныхъ утреннихъ платьяхъ А). И это доходило даже до такой сте-
пени, что, какъ увѣряетъ насъ принцъ де-Монбарэ, бывшій тогда въ Парижѣ,—
не задолго до революціи даже люди, имѣвшіе звѣзды и ордена, старались скрывать
ихъ, застегивая своц фраки такъ, чтобы нельзя было видѣть этихъ знаковъ отличія 2).
1) Въ августѣ 1787 года Джефферсонъ писалъ
изъ Парижа: «НаЫі ЬаЬіПё почти изгпапо пзъ общества,
и даже на большіе ужины начинаютъ ходить во фракѣ;
дворъ и дипломатическій корпусъ однако жъ состав-
ляютъ исключеніе. Они стоятъ слишкомъ высоко, что-
бы до ппхъ дошло какое-нибудь улучшеніе. Это по-
слѣднія убѣжища, пзъ которыхъ будутъ изгнаны эти-
кетъ, формальности и изысканность. Отнимите у нихъ
это, и она станутъ на одинъ уровень съ народомъ».
Сегюръ, бывшій свидѣтелемъ этпхъ перемѣнъ и не-
довольный ими, говоритъ о защитникахъ этихъ ново-
введеній: «они не замѣчали, что замѣна фраками ши-
рокихъ и пышныхъ одеждъ прежняго двора предвѣ-
щала всеобщее стремленіе къ равенству». Сулавп за-
мѣчаете, что «около самаго времени революціи вель-
можи носили только простую п недорогую одежду» и
что «не существовало уже болѣе различія между гер-
цогиней и актрисой.
2) Люди высшаго класса, даже пожилые, хлопо-
тавшіе всю жизнь о томъ, чтобы получить королев-
скіе ордена,—какъ знаки высочайшаго благоволенія,—
пріобрѣли привычку прятать эти знаки отличія подъ
самымъ скромнымъ фракомъ, въ которомъ можно было
бы ходить пѣшкомъ по улицамъ и смѣшиваться съ
толпою. Достойно также вниманія еще одно проявле-
ніе того же направленія. Баронесса д’Оборкиркъ при
своемъ вторичномъ посѣщеніи Парижа въ 1784 году
замѣтила, «что около этого времени дворяне начали
ходить безоружными и носили шпагу только при па-
радномъ костюмѣ... Итакъ, французское дворяиство
бросило обычай, освященный вѣковымъ примѣромъ
пхъ отцовъ
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ,
379
Другое нововведеніе, на которое я намекалъ, составляетъ также интересную
характеристику духа того времени. Оно заключается въ томъ, что стремленіе къ
сліянію различныхъ сословій общества х) выказалось въ учрежденіи клубовъ,—замѣ-
чательномъ учрежденіи, которое для насъ кажется вещью совершенно естествен-
ною, потому, что мы привыкли къ клубамъ, но о которомъ можно смѣло сказать,
что до восемнадцатаго столѣтія оно было невозможно. До этого времени каждый
классъ смотрѣлъ съ такой ревностью на свое превосходство надъ другими, стоящими
ниже его, что бывать съ ними въ одномъ мѣстѣ, на равныхъ правахъ, считалось
несбыточнымъ дѣломъ, и хотя извѣстная покровительственная короткость въ обра-
щеніи съ низшими и могла быть допущена, но въ ней выражалось только призна-
ніе того громаднаго промежутка, отдѣляющаго высшее лицо отъ низшаго, при ко-
торомъ первое не опасалось уже употребленія во зло его снисходительности. Въ тѣ
блаженные старые годы оказывалось должное уваженіе званію и рожденію; и тотъ,
кто могъ насчитать до двадцати предковъ, пользовался такимъ уваженіемъ, которое
мы въ нашъ выродившійся вѣкъ съ трудомъ можемъ даже представить себѣ. Что
же касается до чего-либо вродѣ соціальнаго равенства, то такая мысль была
слишкомъ уже нелѣпа, чтобы могли усвоить ее; но болѣе было возможно и суще-
ствованіе учрежденія, которое ставило бы самыхъ обыкновенныхъ смертныхъ на-
ряду съ тѣми знаменитыми личностями, въ жилахъ которыхъ текла чистѣйшая кровь
и съ которыми никто не могъ состязаться въ дѣленіяхъ гербовыхъ щитовъ.
По въ восемнадцатомъ столѣтіи успѣхи знанія сдѣлались до такой степени замѣ-
чательны, что новый принципъ умственнаго превосходства сталъ быстро усиливаться
на счетъ стараго принципа превосходства аристократическаго. Какъ скоро этотъ
перевѣсъ дошелъ до извѣстной, степени, онъ вызвалъ и Соотвѣтственное учрежденіе;
и такимъ образомъ основались первые 'клубы, въ которыхъ могли собираться всѣ
образованные классы, пе взирая па различія въ другихъ отношеніяхъ, разъединяв-
шія ихъ въ теченіе предшествовавшаго періода. Особенно замѣчательно въ этомъ слу-
чаѣ то, что единственно ради общественнаго увеселенія люди, которые по аристо-
кратическимъ понятіямъ не имѣли между собою ничего общаго, теперь вошли въ
сношенія и стали на ногѣ совершеннаго равенства, какъ члены одного и того же
учрежденія, подчиняющіеся однимъ п тѣмъ же законамъ и пользующіеся одними и
тѣми же преимуществами. Требовалось однако, чтобы, несмотря на различіе во мно-
гихъ другихъ отношеніяхъ, всѣ члены были до извѣстной степени образованы; и,
такимъ образомъ, общество впервые явно признало классификацію, до того времени
неслыханную: вмѣсто разграниченія благородныхъ отъ неблагородныхъ явилось раз-
граниченіе образованныхъ отъ необразованныхъ.
Возникновеніе и развитіе клубовъ составляетъ, слѣдовательно, для паблюда-
теля-филоссфа предметъ огромной важности; и -это одно изъ тѣхъ явленій, которыя,
какъ я докажу далѣе, играли большую роль іи> исторіи Англіи въ теченіе послѣдней
половины восемнадцатаго столѣтія. По отношенію къ нашему настоящему предмету
особенно замѣчательно то, что первые клубы, въ новѣйшемъ значеніи этого слова,
какіе существовали въ Парижѣ, были основаны около 1782 года, почти за семь
лѣтъ до французской революціи. Сначала это должны были быть просто обществен-
ныя собранія; но въ скоромъ времени они получили демократическій характеръ,
сообразный съ духомъ того времени. Первымъ результатомъ ихъ, какъ замѣчаетъ
одинъ тонкій наблюдатель событій того времени, было упрощеніе манеръ выс-
шихъ классовъ и ослабленіе привязанности къ формальностямъ и церемоніямъ,
составлявшей отличительную черту ихъ прежнихъ нравовъ. Клубы привели также
1) Поразительный примѣръ этого виденъ также Ііапсез), которые сдѣлались довольно часты въ поло-
въ числѣ заключаемыхъ неравныхъ браковъ (піёзаі- ! винѣ царствованія Людовика ХУ,
380 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
къ замѣчательному разъединенію половъ, и извѣстно, что послѣ ихъ учрежденія
женщины болѣе сходились между собою и чаще бывали встрѣчаемы въ публикѣ
безъ мужчинъ 1). Это имѣло послѣдствіемъ развитіе между мужчинами республикан-
ской грубости, которая вліяніемъ другого пола могла быть нѣсколько смягчена.
Всѣ эти обстоятельства, изгладивъ черты различія между сословіями и сливъ всѣ
классы въ одинъ, придали ихъ совокупной оппозиціи непреодолимую силу, которая
быстро ниспровергла и церковь, и правительство. Нельзя конечно опредѣлить въ
точности время, когда клубы получили политическій характеръ, но, какъ кажется,
перемѣна произошла около 1785 года. Съ этого времени все было кончено; и хотя
правительство въ 1787 году отдало повелѣніе закрыть главный клубъ, въ кото-
ромъ всѣ классы обсуждали политическіе вопросы,—остановить нотокъ было не-
возможно. Поэтому повелѣніе было отмѣнено, клубъ снова собрался, и затѣмъ уже
не возобновлялись болѣе попытки остановить тотъ ходъ дѣлъ, который былъ подго-
товленъ цѣлымъ рядомъ предшествовавшихъ событій.
Въ то время, какъ все уже клонилось къ ниспроверженію старыхъ учрежденій,
подоспѣло внезапно событіе, произведшее замѣчательное дѣйствіе на Францію и
составляющее само по себѣ рѣзкую характеристику духа восемнадцатаго столѣтія.
По ту сторону Атлантическаго океана великій народъ, выведенный изъ терпѣнія
невыносимой несправедливостью англійскаго правительства, возсталъ съ оружіемъ
въ рукахъ противъ своихъ притѣснителей и послѣ отчаянной и славной борьбы
завоевалъ себѣ независимость. Въ 1776 году американцы показали Европѣ ту бла-
городную декларацію, которой слѣдовало бы висѣть въ, дѣтской каждаго короля и
красоваться надъ портикомъ каждаго королевскаго дворца. Они провозгласили въ
выраженіяхъ, память о которыхъ никогда не умретъ, что цѣль учрежденія прави-
тельства заключается въ обезпеченіи правъ народа.
Еслибы эта декларація была сдѣлана хоть однимъ поколѣніемъ ранѣе, то вся
Франція, за исключеніемъ немногихъ передовыхъ мыслителей, отвернулась бы отъ
нея съ ужасомъ и презрѣніемъ. Но теперь настроеніе общественнаго мнѣнія было
таково, что содержащіяся въ ней теоріи не только не были благосклонно приняты боль-
шинствомъ французской націи, но даже само правительство было не въ силахъ
противостоять общему чувству. Въ 1776 году Франклинъ прибылъ во Францію въ
качествѣ посланника отъ американскаго народа. Онъ встрѣтилъ самый горячій пріемъ
со стороны всѣхъ классовъ и успѣлъ склонить правительство къ подписанію дого-
вора, которымъ оно обязалось защищать права юной республики, пріобрѣтенныя
такимъ славнымъ путемъ. Въ Парижѣ энтузіазмъ былъ непомѣрный. Со всѣхъ сто-
ронъ стекаліісь цѣлыя толпы людей, вызывавшихся отправиться за океанъ сражаться
за свободу Америки. Геройская помощь, оказанная этими вспомогательными войсками
благородной борьбѣ американцевъ, составляетъ отрадную страницу въ исторіи того
времени; но подробности этой борьбы не входятъ въ планъ настоящаго введенія, въ
которомъ я намѣренъ только указать вліяніе ея на ускореніе французской револю-
ціи. Вліяніе это дѣйствительно достойно вниманія. Независимо отъ косвеннаго дѣй-
ствія такого примѣра успѣшнаго возстанія, еще большимъ возбужденіемъ послужило
для французовъ сближеніе на самомъ дѣлѣ съ своими новыми союзниками. Фран-
*) «Мы обзавелись также клубами: тамъ люди
собирались не для преній еще, а для того, чтобы по-
обѣдать, поиграть въ вистъ п прочитать новыя книги.
Этотъ первый, тогда почти не замѣченный, шагъ
имѣлъ потомъ важныя и по временамъ гибельныя
послѣдствія. Ближайшимъ результатомь ого были отдѣ-
леніе мужчинъ отъ женщинъ и происшедшая отъ этого
замѣтная перемѣна въ нашихъ правахъ; мы стали мб-
нѣе легкомысленны, но п менѣе вѣжливы, болѣе по-
ложительны, но менѣе любезны, — отчего выиграла
политика, общество же потеряло» (Сегюръ). Весною
1786 года это разъединеніе половъ сдѣлалось еще
болѣе замѣтнымъ; послышались общія жалобы, что
дамы принуждены ходить въ театръ однѣ, такъ какъ
мужчины сидятъ въ своихъ клубахъ.
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ.
381
цузскіе офицеры и солдаты, служившіе въ Америкѣ, возвратились на родину съ тѣми
демократическими понятіями, которыхъ они набрались въ юной республикѣ. Это
сообщило новую силу уже и безъ того преобладавшимъ революціоннымъ стремле-
ніямъ, и замѣчательно, что изъ этого же источника проистекало и одно изъ слав-
нѣйшихъ дѣлъ Лафайетта. Онъ обнажилъ свой мечъ за американцевъ, а они въ
свою очередь ознакомили его съ тѣмъ славнымъ ученіемъ о правахъ человѣка,
которое, по его внушенію, было формально принято Національнымъ Собраніемъ.
Можно даже сказать, что послѣдній ударъ, какой получило французское правитель-
ство, нанесенъ былъ рукою американца; ибо говорятъ, что именно по совѣту Джеф-
ферсона народная партія Законодательнаго Корпуса провозгласила себя Національ-
нымъ Собраніемъ и тѣмъ стала въ явную оппозицію коронѣ.
Я пришелъ теперь къ концу моего изслѣдованія причинъ французской рево-
люціи; но прежде чѣмъ заключить этотъ томъ, я полагаю не лишнимъ, въ виду
разнообразія разсмотрѣнныхъ нами явленій, сдѣлать перечень ихъ главнѣйшихъ
сторонъ и изложить, по возможности, короче, весь постепенный ходъ того длиннаго
и сложнаго умозаключенія, путемъ котораго я пытался доказать, что французская
революція была событіемъ, вытекавшимъ неизбѣжно изъ предшествовавшихъ обстоя-
тельствъ. Подобный пересмотръ, возобновивъ въ памяти читателя всю сущность
дѣла, устранитъ всякую сбивчивость, могущую произойти вслѣдствіе множества по-
дробностей, и упроститъ изслѣдованіе, которое для многихъ можетъ показаться безъ
нужды растянутымъ, но которое невозможно сократить, не ослабивъ нѣкоторыхъ
существенныхъ частей основанія, поддерживающаго проводимыя мною общія начала.
Разсматривая состояніе" Франціи непосредственно послѣ смерти Людовика XIV,
мы видѣли, что его политика, "приведшая страну на крйй погибели и уничтожившая
всякій слѣдъ свободнаго изслѣдованія, вызвала необходимость реакціи, но что мате-
ріаловъ для реакціи нельзя было найти въ пародѣ, который въ продолженіе пяти-
десяти лѣтъ подвергался дѣйствію разлабляюпіей системы управленія. Такой недо-
статокъ домашнихъ средствъ заставилъ самыхъ знаменитыхъ французовъ обратить
вниманіе на чужіе края, и это было причиной внезапнаго увлеченія англійской
литературою и тѣмъ складомъ мыслей, которымъ отличалась въ то время англійская
нація. Такимъ образомъ въ разслабленный организмъ французскаго общества вдох-
нули новую жизнь,—отчего зародился ревностный, пытливый духъ,—такой, какого
не замѣчали со временъ Декарта. Высшіе классы, оскорбленные этимъ неожидан-
нымъ движеніемъ, старались подавить его и дѣлали страшныя усилія, чтобы уни-
чтожить любовь къ изслѣдованію, которая съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе рас-
пространялась. Для достиженія своей цѣли они преслѣдовали литераторовъ съ та-
кимъ ожесточеніемъ, что французскому уму очевидно оставалось только одно изъ
двухъ: или снова впасть въ прежнее рабство, или смѣло перейти въ наступленіе.
Въ интересахъ цивилизаціи случилось послѣднее: въ 1750 году или около того вре-
мени началась смертельная борьба, въ которой начала свободы, позаимствованныя
Франціею отъ Англіи и прежде считавшіяся примѣнимыми только къ церкви, были
впервые примѣнены къ государству. Одновременно съ этимъ движеніемъ явились
и другія обстоятельства, имѣвшія одинаковый съ нимъ характеръ и составлявшія
даже часть его. Такъ, политико-экономистамъ удалось доказать, что вмѣшательство
правительствующихъ классовъ дѣлало большой вредъ даже матеріальнымъ интересамъ
страны, и что своими покровительственными мѣрами классы эти только портили то,
чему они оказывали будто бы покровительство. Это замѣчательное открытіе, благо-
пріятное для всеобщей свободы, вложило новое оружіе въ руки демократической
партіи, которая нашла еще большую поддержку въ неподражаемомъ краснорѣчіи,
съ какимъ нападалъ Руссо на существующій порядокъ вещей. Совершенно то же
стремленіе выразилось и въ необыкновенномъ толчкѣ, сообщенномъ всѣмъ отрас-
лямъ естественныхъ наукъ, успѣхи которыхъ, освоивъ людей съ идеями прогресса,
382 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
поставили ихъ во враждебное отношеніе къ неподвижнымъ, консервативнымъ идеямъ
свойственнымъ правительству. Открытія, дѣлаемыя въ области внѣшняго міра, под-
держивали умы въ тревожномъ, возбужденномъ состояніи, враждебномъ духу рутины
и, слѣдовательно, полномъ опасности для тѣхъ учрежденій, въ пользу которыхъ гово-
рила одна ихъ древность. Это рвеніе къ изученію естественныхъ наукъ произвело
также перемѣну въ воспитаніи; стали пренебрегать изученіемъ древнихъ языковъ,
и, слѣдовательно, убавилось еще одно звено, связывавшее настоящее съ прошедшимъ.
Церковь, естественная покровительница старыхъ мнѣній, была не въ состояніи про-
тиводѣйствовать страсти къ новизнѣ: ее ослабляла измѣна въ ея собственномъ ла-
герѣ. Около этого времени кальвинизмъ до такой степени распространился между
французскимъ духовенствомъ, что оно раздѣлилось на двѣ враждебныя партіи и не
было никакой возможности, чтобы опѣ соединились противъ своего общаго врага.
Распространеніе этой ереси было также важно и въ томъ отношеніи, что каль-
винизмъ, какъ ученіе совершенно демократическое, способствовалъ проявленію рево-
люціоннаго духа даже въ духовномъ сословіи, такъ что несогласія внутри самой
церкви сопровождались другими несогласіями—между церковью и правительствомъ.
Вотъ въ чемъ заключались главные признаки того движенія, крайнимъ выраженіемъ
котораго была французская революція. Во всемъ этомъ было видно такое анархи-
ческое состояніе, такое крайнее разстройство всего общества, которое дѣлало не-
сомнѣнною близость какой-нибудь сильной катастрофы. Наконецъ, когда все было
готово для взрыва, извѣстіе объ американскомъ возстаніи упало искрою на эту удо-
бовоспламеняющуюся массу и зажгло пламя, опустошительное дѣйствіе котораго не
прекращалось до тѣхъ порѣ, пока не уничтожило все/ что было когда-либо дорого
французамъ, оставивъ на пбученіе, человѣчеству страйшый примѣръ тѣхъ преступ-
леній, до которыхъ можетъ бѣіть доведенъ великодушный и долготерпѣливый народъ
постоянными притѣсненіями.
Вотъ бѣглый очеркъ того взгляда на причины французской революціи, кото-
рый я вынесъ изъ моихъ занятій этимъ предметомъ. Чтобы я привелъ въ извѣст-
ность всѣ до одной причины, этого я нисколько не предполагаю, но, мнѣ кажется,
всякій найдетъ, что я не пропустилъ ни одной важной причины. Правда, конечно,
что въ матеріалахъ, изъ которыхъ сложены мои доводы, можетъ оказаться много
недостатковъ, и что болѣе долгій трудъ былъ бы увѣнчанъ большимъ успѣхомъ. Всѣ
эти неполноты я самъ глубоко чувствую и могу только пожалѣть, что необходимость
перейти на еще болѣе обширное поле вынудила меня оставить столь многое на
долю будущихъ изслѣдователей. Въ то же самое время не должно забывать, что
это первая, сдѣланная когда-либо, попытка изучать обстоятельства, предшествовав-
шія французской революціи, по такому обширному плану, который обнималъ бы и
всѣ явленія умственной жизни націи. Вопреки здравой философіи и, можно сказать,
вопреки простому здравому смыслу, историки упорно продолжаютъ пренебрегать
тѣми великими отраслями естествознанія, по которымъ въ каждой цивилизованной
странѣ можно яснѣе всего судить о дѣятельности человѣческаго ума и, слѣдова-
тельно, легче всего узнавать складъ мыслей каждаго народа. Въ результатѣ оказы-
вается, что французская революція, безспорно самое важное, самое сложное и самое
поучительное событіе во всей исторіи, оставлена была на произволъ писателей, изъ
которыхъ многіе проявили значительный талантъ, но всѣ оказались не получившими
того предварительнаго научнаго образованія, безъ котораго невозможно понять
духъ какого-нибудь періода или окинуть широкимъ взглядомъ его различныя части.
Приведемъ только одинъ примѣръ. Мы видѣли, что необыкновенный толчекъ, сооб-
щенный изученію внѣшняго міра, имѣлъ тѣсную связь съ тѣмъ демократическимъ
движеніемъ, которое ниспровергло учрежденія Франціи. Но эту связь историки не
въ состояніи были прослѣдить, потому что имъ не были извѣстны успѣхи различ-
ныхъ отраслей естественной философіи и естественной исторіи. Вотъ почему они
БЛИЖАЙШІЯ ПРИЧИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ.
383
представили свой важный предметъ въ какомъ-то искаженномъ, обезображенномъ
видѣ, лишенномъ тѣхъ размѣровъ, которые онъ долженъ былъ бы имѣть. Слѣдуя
такому плану, историкъ нисходитъ до значенія лѣтописца; такъ что вмѣсто того,
чтобы разрѣшать задачу, онъ только рисуетъ картину. И такъ, не умаляя заслугъ
тѣхъ трудолюбивыхъ людей, которые собрали матеріалы для исторіи французской
революціи, мы можемъ съ достовѣрностью сказать, что самая исторія еще не была
писана; ибо люди, принимавшіеся за это дѣло, не располагали такими средствами,
которыя дали бы имъ возможность видѣть въ этомъ событіи не болѣе, какъ одну
изъ частей того гораздо обширнѣйшаго движенія, которое было замѣтно повсюду—
въ наукѣ, въ философіи, въ религіи, въ политикѣ.
Сдѣлалъ ли я или нѣтъ что-нибудь дѣйствительно важное для исправленія та-
кого недостатка, — составляетъ вопросъ, подлежащій разрѣшенію свѣдущихъ судей.
Я увѣренъ по крайней мѣрѣ въ одномъ, что какія бы ни были замѣчены несовер-
шенства въ моемъ трудѣ, причина ихъ заключается не въ принятомъ мною методѣ,
а въ чрезвычайной трудности для одного человѣка выполнить въ совершенствѣ всѣ
части такого обширнаго плана. Съ этой стороны, и только ст» этой одной, я нуж-
даюсь въ большемъ снисхожденіи; за самый же планъ я нисколько не опасаюсь;
я глубоко убѣжденъ, что уже очень не далеко то время, когда исторія человѣка зай-
метъ свойственное ей мѣсто, когда изученіе ея будетъ признано самымъ благород-
нымъ и самымъ труднымъ изъ всѣхъ занятій, и когда всѣ ясно увидятъ, что для
успѣшной разработки этого предмета необходимо обладать обширнымъ, многосто-
роннимъ умомъ, щедро снабженнымъ свѣдѣніями по всѣмъ высшимъ отраслямъ че-
ловѣческаго знанія. Когда всѣ вполнѣ сознаютъ это,х то исторію будутъ писать
только тѣ, которымъ по силамъ подобная задача, и она будетъ исторгнута изъ рукъ
біографовъ, генеалоговъ, собирателей анекдотовъ, лѣтописцевъ дворовъ, государей
и вельможъ,—изъ рукъ этихъ пустыхъ болтуновъ/которые, засѣвъ на всѣхъ пере-
кресткахъ, дѣлаютъ небезопасною эту общественную дорогу нашей національной
литературы. Что такіе компиляторы выходятъ такъ далеко изъ свойственной имъ
сферы и думаютъ, что такимъ образомъ ови могутъ пролить новый свѣтъ на дѣла
человѣческія, это одно пзъ доказательствъ того, въ какомъ отсталомъ состояніи на-
ходится до сихъ поръ наше знаніе и какъ неясно еще обозначены его предѣлы.
Если я сколько-нибудь способствовалъ поколебанію довѣрія къ подобнымъ притя-
заніямъ и если я заставилъ историковъ проникнуться сознаніемъ достоинства ихъ
призванія, то я этимъ оказалъ уже кое-какую услугу, и буду очень доволенъ, хотя бы
и сказали, что во многихъ случаяхъ мнѣ не удалось выполнить то, что было пер-
воначально предположено мною. И дѣйствительно, что въ этомъ томѣ найдется нѣ-
сколько случаевъ такихъ неудачъ •— я охотно соглашаюсь съ этимъ, и могу только
привести въ свое оправданіе громадность самаго предмета, недостаточность для
изученія его жизни одного человѣка и несовершенство вообще всякаго одиночнаго
труда. Вотъ почему я хочу, чтобы судили о моемъ сочиненіи не по большей или
меньшей оконченности отдѣльныхъ частей его, а по тому пути, который я избралъ
для сліянія этихъ частей въ одно полное, стройное цѣлое. На это — по самой уже
новости и обширности предпринятаго мною дѣла — я имѣю нѣкоторое право. Но я
хочу еще прибавить, что если читатель встрѣтитъ у меня мнѣнія, несогласныя съ
его мнѣніями, то онъ долженъ помнить, что быть можетъ и я когда нибудь имѣлъ
также его взгляды, но оставилъ ихъ, когда убѣдился путемъ болѣе обширнаго из-
ученія, что такія воззрѣнія не подтверждаются основательными доводами, противны
интересамъ человѣчества и гибельны для успѣховъ его знанія. Подвергать критикѣ
понятія, въ которыхъ мы были воспитаны, и отлагать въ сторону тѣ изъ нихъ, ко-
торыя не выдерживаютъ этой критики, есть такое грустное дѣло, что тому, кто из-
бѣгаетъ этого страданія, слѣдуетъ подумать прежде, чѣмъ осуждать того, кто под-
вергся ему. Высказанные мною взгляды могутъ безъ сомнѣнія быть ошибочны, но
384
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
они составляютъ во всякомъ случаѣ результатъ честнаго исканія истины, добросо-
вѣстнаго труда, терпѣливаго, внимательнаго размышленія. Выводы, къ которымъ
приходятъ такимъ путемъ, не ниспровергаются однимъ утвержденіемъ, что они
опасны для какихъ-нибудь другихъ выводовъ; ихъ не могутъ даже поколебать до-
воды противъ ихъ предполагаемаго направленія. Защищаемые мною принципы осно-
ваны на ясныхъ доказательствахъ и подкрѣплены вполнѣ изслѣдованными фактами.
Поэтому остается только рѣшить, хороши ли доказательства и достовѣрны ли факты.
Если оба эти условія выполнены, то этимъ неизбѣжно подтверждаются и самые прин-
ципы. Доказательства, приведенныя въ настоящемъ томѣ, по необходимости неполны,
и читатель долженъ отложить свое окончательное сужденіе до конца этого введе-
нія, когда предметъ будетъ представленъ ему со всѣхъ сторонъ. Остальная часть
введенія будетъ содержать, какъ я уже упоминалъ, изслѣдованіе цивилизацій Гер-
маніи, Америки, Шотландіи и Испаніи, изъ которыхъ каждая представляетъ особый
типъ умственнаго развитія и потому шла особымъ путемъ въ своей религіозной, на-
учной, соціальной и политической исторіи. Причины этихъ различій я постараюсь
привести въ извѣстность. Затѣмъ мы обобщимъ самыя эти причины и, подведя
ихъ подъ извѣстныя общія всѣмъ имъ начала, получимъ такимъ образомъ то, чтб
можно назвать основными законами европейской мысли, такъ какъ несходство между
различными странами зависитъ или отъ направленія, принимаемаго этими законами,
или отъ сравнительной сиды ихъ дѣйствія. Открыть эти основные законы будетъ за-
дачей введенія; въ главной же части сочиненія я буду прилагать эти законы къ
исторіи Англіи и попытаюсь съ помощью ихъ выработалъ тѣ эпохи, чрезъ которыя
мы послѣдовательно проходили, опредѣлить основанія нынѣшней цивилизаціи нашей
и указать, какой путь ей предстоитъ въ будущемъ.
—<> КОПЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА. -О-
исторія
ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
/
Томъ 11.
Бокль.—Изд. Ф. Павленкова.
25
ГЛАВА I.
Очерк-ь исторіи умственнаго движенія в-ь Испаніи с*ъ V до половины XIX столѣтія.
Въ предыдущемъ томѣ я старался доказать четыре главныя положенія, кото-
рыя, по моему мнѣнію, слѣдуетъ считать основаніемъ исторіи цивизизаціи. А именно:
1) что прогрессъ человѣчества зависитъ отъ успѣха, съ какимъ изслѣдуются законы
явленій, и отъ степени распространенія знанія этихъ законовъ; 2) что прежде, чѣмъ
можетъ начаться подобное изслѣдованіе, долженъ зародиться духъ скептицизма, ко-
торый сначала помогаетъ изслѣдованію, а потомъ самъ пользуется его помощью;
3) что произведенныя такимъ образомъ изслѣдованія увеличиваютъ вліяніе умствен-
ныхъ истинъ и уменьшаютъ относительно, но не абсолютно, вліяніе истинъ нрав-
ственныхъ, такъ какъ нравственныя истины болѣе неподвижны, чѣмъ умственныя,
и менѣе пополняются; 4) что сильная задержка этого движенія, а, слѣдовательно, и
цивилизаціи, есть духъ излишняго покровительства, подъ вторымъ я разумѣю такое
понятіе, будто общество не можетъ преуспѣвать, если всѣ дѣла человѣческія не
находятся почти на каждомъ шагу подъ суровымъ надзоромъ и покровительствомъ.
Таковы положенія, которыя я считаю наиболѣе необходимыми для правильнаго по-
ниманія исторіи и которыя я защищалъ двумя единственными путями, какими
только можетъ быть защищаемо положеніе, а именно — индуктивно и дедуктивно.
Индуктивная защита заключаетъ въ себѣ собраніе историческихъ и научныхъ фак-
товъ, которые служатъ какъ источникомъ, такъ и оправданіемъ дѣлаемыхъ изъ нихъ
выводовъ; дедуктивная же защита состоитъ въ повѣкрѣ этихъ выводовъ изслѣдова-
ніемъ, въ какой мѣрѣ ими объясняется исторія различныхъ странъ и ихъ неодина-
ковая судьба. Къ первому или индуктивному методу защиты я въ настоящее время
не въ состояніи прибавить ничего новаго; дедуктивную же защиту я надѣюсь зна-
чительно усилить въ этомъ томѣ и съ помощью ея утвердить не только приве-
денныя выше четыре главныя положенія, но и нѣкоторыя положенія меньшей
важности, которыя, собственно говоря, изъ нихъ же вытекаютъ, но требуютъ все-
такп отдѣльной повѣрки. Согласно съ начертаннымъ уже планомъ, остальная часть
введенія будетъ заключать въ себѣ изслѣдованіе исторіи Испаніи, Шотландіи, Гер-
маніи и Соединенныхъ Штатовъ Америки, съ цѣлью уяснить тѣ принципы, для ко-
торыхъ исторія Англіи не представляетъ достаточныхъ данныхъ, И такъ какъ Испанія
есть страна, гдѣ особенно явнымъ образомъ нарушались тѣ условія, которыя я счи-
таю наиболѣе необходимыми для преуспѣянія націи, то мы найдемъ также, что эта
страна понесла и особенно тяжкое наказаніе за такія нарушенія, и что поэтому
на ней именно полезнѣе всего изучать, до какой степени преобладаніе извѣстныхъ
мнѣній влечетъ за собой упадокъ той націи, въ которой эти мнѣнія господствовали.
Мы видѣли, что древнія тропическія цивилизаціи сопровождались замѣчатель-
ными особенностями, которыя я назвалъ общимъ видомъ природы и которыя, вос-
пламеняя воображеніе людей, поощряли суевѣріе, вслѣдствіе чего люди не смѣли
анализировать такія грозныя физическія явленія, другими словами — не могли
создать естественныя науки. Но вотъ любопытный фактъ: ни одна страна Европы
не представляетъ въ этомъ отношеніи такой аналогіи съ тропическими странами,
25*
388
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
какъ Испанія. Никакая другая страна Европы не предназначена такъ явно при-
родою быть убѣжищемъ суевѣрія. Обращаясь къ тому, что было уже доказано (во
второй главѣ 1-го тома), припомнимъ, что къ числу самыхъ важныхъ физическихъ
причинъ суевѣрія относятся: голодъ, эпидеміи, землетрясенія и вообще нездоровый
климатъ, которые, сокращая среднюю продолжительность жизни, дѣлаютъ болѣе ча-
стыми тѣ случаи, въ которыхъ особенно усердно призывается сверхъестественная
помощь. Эти особенности, взятыя вмѣстѣ, болѣе бросаются въ глаза въ Испаніи,
чѣмъ въ какой-либо другой странѣ Европы, и поэтому полезно будетъ представить
здѣсь такой обзоръ этихъ особенностей, который сдѣлалъ бы очевиднымъ вредное
вліяніе ихъ на образованіе національнаго характера.
Если исключить сѣверную оконечность Испаніи, то можно положительно ска-
зать, что двѣ главныя отличительныя черты климата этой страны—зной и засуха,
и что и тому, и другому благопріятствуютъ представляемыя самою природою осо-
бенныя препятствія къ орошенію. Рѣки, пересѣкающія эту страну, текутъ по боль-
шей части въ руслахъ слишкомъ глубокихъ, чтобы можно было извлечь изъ нихъ
пользу для орошенія почвы, которая поэтому есть и всегда была замѣчательно суха х).
Вслѣдствіе этого обстоятельства и рѣдкости дождей оказывается, что во всей Европѣ
нѣтъ страны, одинаково щедро одаренной природою въ другихъ отношеніяхъ, въ
которой засухи, а, слѣдовательно, и голода, были бы такъ часты, какъ въ Испаніи.
Въ то же время перемѣнчивость погоды, въ особенности въ центральныхъ частяхъ,
дѣлаетъ Испанію вообще нездоровой страной; ко всему этому въ средніе вѣка при-
соединялись еще безпрестанно случавшіеся голода, вслѣдствіе которыхъ опустоши-
тельное дѣйствіе заразы становилось особенно пагубнымъ * 2). Если прибавить къ этому,
что на всемъ полуостровѣ, не исключая и Португаліи, бывали чрезвычайно бѣд-
ственныя землетрясенія, и что они возбуждали всѣ тѣ суевѣрныя чувства, какія
обыкновенно вызываются подобными явленіями,—то можно составить себѣ нѣкото-
рое понятіе о небезопасности жизни въ этой странѣ и о томъ, какъ легко было лов-
кому и честолюбивому духовенству сдѣлалъ изъ этого орудіе для расширенія своей
власти.
Другую черту этой своеобразной страны составляетъ преобладаніе пастуше-
скаго образа жизни, происходящее въ ней главнѣйшимъ образомъ отъ невозмож-
ности правильнаго занятія земледѣліемъ. Въ большей части Испаніи климатъ дѣ-
лаетъ невозможнымъ для работника трудиться цѣлый день, а этотъ невольный пе-
рерывъ занятій способствуетъ къ развитію въ народѣ безпорядочности и непосто-
янства, вслѣдствіе чего онъ предпочитаетъ бродячій образъ жизни пастуха болѣе
постояннымъ занятіямъ земледѣльца. При томъ въ точеніе долгой и трудной борьбы
съ магометанскими завоевателями народъ этотъ подвергался такпмъ частымъ и не-
ожиданнымъ нападеніямъ со стороны непріятеля, что ему не мѣшало имѣть такія
средства къ пропитанію, которыя всего легче было бы увозить съ собою: вотъ онъ
и предпочиталъ произведенія своихъ стадъ произведеніямъ своихъ земель и зани-
мался скотоводствомъ, вмѣсто земледѣлія, единственно потому, что при этомъ усло-
віи онъ менѣе страдалъ отъ неблагопріятныхъ случайностей. Даже послѣ взятія
«Дурное состояніе земледѣлія въ Испаніи мо-
жетъ быть приписано частью физическимъ, частью
нравственнымъ причинамъ, Во главѣ первыхъ должны
быть поставлены: жаръ климата и безводіе почвы.
Большая часть рѣкъ, которыми пересѣкается эта
страна, текутъ въ глубокихъ руслахъ и весьма мало
приносятъ пользы, за исключеніемъ немногихъ мѣстъ,
представляющихъ удобства для ирригаціи». (М. Кул-
лохъ).
2) «Прибавьте ко всему этому частое посѣщеніе
чумы и другихъ повальныхъ болѣзней, опустошав-
шихъ Испанію, въ особенности южныя провинціи,
которыя болѣе другихъ страдали отъ этпхъ бѣдствій.
! Объ этомъ очень часто упоминается въ лѣтописяхъ и
историческихъ сочиненіяхъ. Съ другой стороны осно-
ваніе многочисленныхъ часовенъ и крестныхъ ходовъ
въ честь Св. Роха и Св. Севастіана (избавителей отъ
чумы), сохранившихся до сихъ поръ почти во всѣхъ
городахъ Испаніи,--представляетъ другое доказатель-
ство распространенія и частаго появленія этого бѣд-
ствія. Справедливость этпхъ фактовъ подтверждается
еще значительнымъ числомъ сочиненій о предохра-
' пительныхъ мѣрахъ противъ чумы и о лѣченіи ея,
I написанныхъ врачами въ царствованіе Карла V,
Филиппа II, Филиппа III и Филиппа ІѴ>. (Саршапу,
I «Оисзііопез СгіНсаз», Мабгій, 1807).
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX ст. 389
Толедо, въ концѣ XI столѣтія, пограничные жители Эстрамадуры, Ла-Манхи и Но-
вой Кастиліи были почти исключительно пастухами, и ихъ скотъ пасся не на при-
надлежавшихъ кому-либо лугахъ, а въ открытыхъ поляхъ. Все это увеличивало не-
обезпеченность жизни и усиливало ту любовь къ приключеніямъ и тотъ романти-
ческій духъ, которые впослѣдствіи сообщили особый характеръ народной литера-
турѣ. При такихъ обстоятельствахъ все оказывалось невѣрно, тревожно, шатко;
мышленіе и изслѣдованіе были невозможны, сомнѣніе было неизвѣстно, и подготов-
лялся путь для тѣхъ суевѣрныхъ привычекъ и для тѣхъ глубоко вкоренившихся упор-
ныхъ вѣрованій, которыя всегда составляли главную черту въ исторіи испанскаго народа.
До чего простерлось бы вліяніе однихъ этихъ обстоятельствъ на дальнѣйшую
судьбу Испаніи,—составляетъ вопросъ, на который едва-ли возможно отвѣтить; но
то не подлежитъ сомнѣнію, что вліяніе ихъ всегда было бы значительно, хотя по
недостатку свидѣтельствъ мы и не въ состояніи съ точностью опредѣлить его. Впро-
чемъ, относительно оказавшагося на самомъ дѣлѣ результата это не особенно важно,
такъ какъ цѣлый рядъ другихъ еще болѣе вліятельныхъ обстоятельствъ, соединясь
съ только-что упомянутыми нами и дѣйствуя совершенно въ одинаковомъ направ-
леніи, образовали такое сочетаніе вліяній, которому ничто не могло противостоять
и изъ котораго мы можемъ съ непогрѣшимою вѣрностью вывести, шагъ за шагомъ,
весь ходъ дальнѣйшаго постепеннаго упадка этой націи. Исторія причинъ упадка
Испаніи станетъ слишкомъ ясна, чтобы можно было ошибиться въ ней, если только
изучать ее въ связи съ тѣми общими началами, которыя я вывелъ выше и кото-
рыя сами получатъ новую силу отъ проливаемаго іъ': свѣта на это поучительное,
хотя и грустное явленіе.
Послѣ паденія Римской имперіи первымъ крупнымъ фактомъ въ исторіи Испа-
ніи было водвореніе въ ней вестготовъ и введеніе ихъ религіи на этомъ полу-
островѣ. Они такъ же, какъ и' свовы, которые непосредственно предшествовали
имъ, были аріане, и Испанія въ теченіе полутораста лѣтъ сдѣлалась средоточіемъ этой
знаменитой ереси, къ которой дѣйствительно принадлежала тогда большая часть
Готскихъ племенъ. Но въ концѣ нятаго столѣтія франки, при своемъ обращеніи
пзъ язычества, приняли противоположное правовѣрное исповѣданіе, и духовенство
стало поощрять ихъ къ войнѣ противъ своихъ сосѣдей еретиковъ. Хлодовика, то-
гдашняго короля франковъ, "церковь считала поборникомъ вѣры, во имя которой оиъ
нападалъ на невѣрующихъ вестготовъ. Его преемники, движимые тѣми же побужде-
ніями, слѣдовали той же политикѣ; и въ продолженіе почти столѣтія происходила
между Франціей и Испаніей война за религіозныя убѣжденія, которая подвергла
серьезной опасности царство вестготовъ, бывшее не разъ па краю погибели. Та-
кимъ образомъ въ Испаніи война за національную независимость сдѣлалась также
войною за національную религію, и между аріанскими королями и аріанскимъ духо-
венствомъ былъ заключенъ тѣсный союзъ. Въ тѣ невѣжественныя времена духо-
венство могло быть увѣрено, что оно останется въ выигрышѣ отъ подобнаго союза, и
дѣйствительно оно получило значительныя свѣтскія преимущества за свои молитвы,
направленныя противъ врага, и также за чудеса, которыя оно по временамъ со-
вершало. Такимъ образомъ рано положено было основаніе тому громадному вліянію,
которымъ съ тѣхъ норъ постоянно пользовалось испанское духовенство и которое
было еще болѣе усилено послѣдующими событіями. Въ концѣ VI столѣтія латинское
духовенство обратило своихъ вестготскихъ повелителей, и испанское правительство,
сдѣлавшись правовѣрнымъ, естественно даровало своимъ учителямъ власть равную
той, какою пользовалась аріанская іерархія х). Дѣйствительно, правители Испаніи
Отреченіе Рекареда произошло между 586 п | щпхся свѣтскаго управленія... Ропаредъ отказался
589 годами. Лафуэнте говоритъ (р. 384): «На третьемъ । отъ аріанской ереси, принялъ окончательную вѣру Іисуса
Толедскомъ соборѣ Рѳкарѳдъ, пылавшій жаромъ нео- । Христа и предоставилъ служителямъ церкви
фита, въ первый разъ предложилъ собранію духов- I вліяніе на управленіе государствомъ, сдѣлавшееся
ныхъ лицъ обсужденіе и рѣшеніе вопросовъ, касаю- ' со временемъ неограниченнымъ».
390 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
изъ признательности къ тѣмъ, которые направили ихъ на путь истинный, оказы-
вали расположеніе скорѣе увеличивать, чѣмъ уменьшать власть церкви. Духовенство
воспользовалось этимъ расположеніемъ; прежде половины VII столѣтія духовное со-
словіе въ Испаніи имѣло болѣе вліянія, чѣмъ въ какой-либо другой части Европы х).
Духовные сѵноды были не только церковными соборами, но и парламентами коро-
левства. Въ Толедо, тогдашней столицѣ Испаніи, духовенство имѣло громадную власть
и проявляло ее съ такимъ тщеславіемъ, что на соборѣ, бывшемъ тамъ въ 633 году,
мы видимъ короля, буквально падающаго ницъ передъ епископами; а полустолѣтіемъ
позже, въ 688 г., на соборѣ въ Толедо, какъ говоритъ одинъ историкъ церкви,
унизительный обрядъ этотъ былъ повторенъ другимъ королемъ (Эжика), какъ нѣчто
вошедшее въ обычай. Что это не было одной пустой церемоніей,—очевидно и изъ
другихъ, аналогическихъ фактовъ. Точно то же стремленіе видно и въ испанской
юриспруденціи; такъ, по вестготскому кодексу, каждый мірянинъ, истецъ ли или
отвѣтчикъ, могъ требовать, чтобы его дѣло было судимо не свѣтскими судами, а
епархіальнымъ епископомъ. Сверхъ того даже въ томъ случаѣ, когда обѣ стороны
единодушно предпочитали гражданскій трибуналъ, епископъ все-таки сохранялъ право
отмѣнить рѣшеніе, если, по его мнѣнію, оно было неправильно; и его особенною
обязанностью было наблюдать за отправленіемъ правосудія и научать судей, к&къ
имъ слѣдуетъ исполнять свои обязанности * 2). Другое еще болѣе печальное доказа-
тельство силы духовенства видно въ томъ, что законы противъ еретиковъ были
суровѣе въ Испаніи, чѣмъ въ какой-либо другой странѣ; евреи въ особенности
преслѣдовались съ непреклонной жестокостью 3). Дѣйствительно, желаніе поддер-
жать вѣру было такъ сильно,* что вызвало формальную декларацію, что ни одинъ
государь не долженъ быть признанъ, если онъ не обѣщаетъ сохранять чистоту вѣры;
судьями этой чистоты были, разумѣется, “ сами епископы, голосу которыхъ король
былъ обязанъ своимъ престоломъ.
Таковы были обстоятельства, которыя въ исходѣ шестого и въ седьмомъ сто-
лѣтіи обезпечили испанской церкви такое вліяніе, которому не было ничего подоб-
наго ни въ какой другой части Европы. Въ самомъ началѣ VIII столѣтія случилось
событіе, которое, казалось, ниспровергло и разсѣяло іерархію, но въ сущности было
чрезвычайно благопріятно для нея. Въ 711 году магометане, отплывъ изъ Африки,
высадились на югѣ Испаніи и въ теченіе трехъ лѣтъ завоевали всю страну, за
исключеніемъ почти недоступныхъ мѣстностей на сѣверо-западѣ. Испанцы, безопас-
ные въ своихъ родныхъ горахъ 4), вскорѣ оправились, собрали свои силы и стали
въ свою очередь нападать на завоевателей; началась отчаянная борьба, продол-
жавшаяся почти восемь столѣтій, и тутъ во второй разъ въ исторіи Испаніи война
за независимость являлась также войною за религію; борьба между арабами-невѣр-
ными и испанцами-христіанами послѣдовала за войною между тринитаріями Фран-
«Относительно совѣтовъ, собиравшихся при
вестготскихъ короляхъ въ Испаніи въ теченіе VIII сто-
лѣтія, не легко опредѣлить, считать лп ихъ духов-
ными или свѣтскими собраніями. Ни одно королев-
ство не было въ такомъ совершенномъ рабствѣ у
іерархіи, какъ Испанія* (Галламъ).
2) Соборъ Толедскій въ 633 году предписываетъ
епископамъ увѣщевать судей. Ученый испанскій за-
коновѣдъ, Семпере, говоритъ о епископахъ: «Кодексъ
былъ ихъ твореніемъ; судьп были пмъ подвѣдом-
ственны; тяжущіеся, обиженные приговоромъ судей,
могли жаловаться епископамъ, п эти послѣдніе могли
такимъ образомъ подвергать подобные приговоры пе-
ресмотру, измѣнять ихъ и наказывать судей. Коро-
левскіе прокуроры, такъ же, какъ судьп, обязаны
были являться въ ежегодно собиравшіеся епархіаль-
ные сѵноды, чтобы поучаться у духовенства отправ-
ленію правосудія; такимъ образомъ правительство у
готовъ было въ сущности теократическое».
3) «Грозные законы противъ ереси и жестокія
юридическія преслѣдованія евреевъ—говоритъ Мпль-
манъ—уже заставляютъ смотрѣть на Испанію, какъ
на средоточіе, какъ на царство безпощаднаго изувѣр-
ства». Какъ скоро католическая вѣра овладѣла пре-
столомъ и народомъ, члены Толедскихъ соборовъ на-
чали издавать каноническія постановленія и налагать
наказанія на идолопоклонниковъ, евреевъ я еретиковъ.
4) Они бѣжали туда съ такой поспѣшностью, ко-
торая вызвала со стороны ихъ заклятаго врага, Музы,
нѣсколько двусмысленную похвалу. «Онъ говорилъ,
что они за крѣпостными стѣнами—львы, на лоша-
дяхъ—орлы, а въ пѣшемъ строю—бабы; ибо умѣютъ
пользоваться всякимъ случаемъ, и послѣ пораженія
спасаются въ горы, какъ козы, такъ что земли не
слышатъ подъ собою».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ. 391
ціи и аріанами Испаніи. Медленно и съ безконечною трудностью пролагали себѣ
путь христіане* Въ срединѣ IX столѣтія они дошли до Дуэро; около конца XI—
завоевали всѣ земли до Тахо, и Толедо, ихъ древняя столица, снова досталась имъ
въ руки въ 1085 году 1). Но и тогда многое еще оставалось сдѣлать. На югѣ борьба
принимала самый кровавый видъ; тамъ она продолжалась съ такимъ упорствомъ,
что только послѣ взятія Малаги, въ 1487 году, и Гранады, въ 1492, христіанское вла-
дычество было возобновлено и старая испанская монархія окончательно возстановлена.
Все это имѣло весьма замѣчательное дѣйствіе на испанскій характеръ. Въ про-
долженіе восьми послѣдовательныхъ столѣтій вся страна постоянно вела крестовый
походъ, и тѣ священныя войны, которыя только по временамъ случались у другихъ
народовъ, въ Испаніи тянулись непрерывно въ теченіе болѣе двадцати поколѣній2).
И такъ какъ цѣль заключалась не въ одномъ обратномъ завоеваніи территоріи, но
и въ возстановленіи вѣры, то естественнымъ образомъ случилось, что проповѣдники
этой вѣры заняли видное, важное мѣсто. Въ лагерѣ, въ совѣтѣ раздавался голосъ
духовныхъ и его слушались; такъ какъ война имѣла цѣлью распространеніе хри-
стіанской религіи, то и казалось справедливымъ, чтобы ея служители принимали
замѣтное участіе въ дѣлѣ, такъ близко до нихъ касавшемся. Такъ какъ опасность,
которой подвергалась страна, была чрезвычайно велика, то и возбуждались тѣ суе-
вѣрныя чувства, которыя способна порождать опасность и которымъ, какъ я уже
показалъ въ другомъ мѣстѣ, тропическія цивилизаціи обязаны нѣкоторыми изъ своихъ
главныхъ особенностей. Лишь только испанскіе христіане были изгнаны изъ своихъ
домовъ и принуждены искать убѣжища на сѣверѣ,—этотъ великій принципъ возъ-
имѣлъ дѣйствіе. Пріютившись въ горахъ, они сохраняли ковчегъ, наполненный мо-
щами ихъ святыхъ, обладаніе которыми они считали своимъ главнымъ спасеніемъ.
Этотъ ковчегъ былъ для нихъ національнымъ знаменейъ, около котораго они соби-
рались и съ помощью котораго они одерживали чудесныя побѣды надъ своими
невѣрными противниками. Они смотрѣли на себя какъ на воиновъ креста, и потому
умы ихъ привыкли къ мысли о сверхъестественномъ до такой степени, что въ на-
стоящее время мы съ трудомъ можемъ повѣрить этому; этимъ отличались они отъ
всѣхъ другихъ европейскихъ народовъ 3). Молодымъ людямъ являлись видѣнія, ста-
рикамъ снились сны. Странныя зрѣлища представлялись имъ на небѣ: наканунѣ
сраженія являлись таинственныя предзнаменованія и было замѣчено, что когда маго-
метане оскорбляли гробъ христіанскаго святого,—громъ и молнія ниспосылались
для обузданія невѣрующихъ и для наказанія ихъ за дерзкое нашествіе 4).
При подобныхъ обстоятельствахъ духовенство но могло не увеличить свое
А) Магометанскій взглядъ на этотъ первый рѣ-
шительный ударъ, нанесенный ихъ дѣлу, изложенъ
у Конде: «Такъ палъ этотъ сданный городъ, и поко-
реніемъ Толедскаго царства Исламу былъ нанесенъ
тяжелый ударъ». Христіанскій же взглядъ такой, что
«Богъ допустилъ короля покорить эту столицу* (Фло-
рѳцъ).
2) По выспреннему выраженію испанскихъ исто-
риковъ, «въ теченіе восьми столѣтій происходила почти
непрерывная война, и было дано три тысячи семь-
сотъ сраженій, прежде чѣмъ послѣднее изъ маврскихъ
царствъ въ Испаніи покорилось христіанскому оружію».
3) Тикноръ въ своей «Исторіи испанской лите-
ратуры* говоритъ; «Ни одинъ народъ никогда но счи-
талъ себя такимъ совершеннымъ воинствомъ креста,
какъ испанцы со времени ихъ маврскихъ войнъ; пп
одинъ пародъ не вѣрилъ такъ твердо въ появленіе
чудесъ въ дѣлахъ его обыденной жизни, и потому
ни одинъ народъ никогда не говорилъ о Божествен-
ныхъ дѣяніяхъ, какъ о вещахъ, въ сущности весьма
обыкновенныхъ и простыхъ. Слѣды такого настроенія
и характера видны повсюду въ испанской литературѣ».
4) «Духовные вмѣшивались во все, какъ съ со-
вѣтѣ, такъ и въ лагерѣ, и нерѣдко въ своемъ свя-
щенническомъ облаченіи вели арміи въ сраженіе.
Онп толковали волю небесъ, таинственно сообщенную
будто бы въ видѣніяхъ и снахъ. Чудеса были дѣломъ
весьма обыкновеннымъ. Оскверненныя могилы свя-
тыхъ посылали громы и молніи на невѣрныхъ»
(Прескоттъ). Въ половинѣ IX столѣтія случилось
слѣдующее событіе: «во время самаго жестокаго го-
ненія на христіанъ Абдеррахманъ однажды поднялся
на крышу своего дворца. Увидѣвъ оттуда тѣла повѣ-
шенныхъ и посаженныхъ на колъ мучениковъ, онъ
приказалъ ихъ сжечь, чтобы христіанамъ не доста-
лись пхъ мощи. Повелѣніе тотчасъ было исполнено,
но п гнѣвъ Божій скоро настигъ нечестивца, пролив-
шаго святую кровь. Внезапно языкъ его присталъ къ
нёбу и гортани и зубы стиснулись такъ, что онъ не
могъ произнести ни одного слова, ни стонать. Его
снесли на постель, гдѣ онъ скончался въ ту же вочь,
и еще но погасли костры, на которыхъ тлѣли тѣла
мучениковъ, какъ уже вѣчный огонь ада поглотилъ
злополучную душу Абдеррахмана» (Ортицъ).
392
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
вліяніе, или, скажемъ скорѣе, самый ходъ событій увеличилъ это вліяніе. Испан-
скіе христіане, запертые въ продолженіе довольно значительнаго времени въ го-
рахъ Астуріи и лишенные прежнихъ своихъ средствъ, быстро вырождались и скоро
утратили и ту скудную цивилизацію, какой успѣли прежде достигнуть. Лишенные
всего своего богатства и принужденные ограничиться сравнительно безплодною
страною, они вновь впали въ варварство и остались почти въ продолженіе сто-
лѣтія безъ искусствъ, безъ торговли, безъ литературы х). По мѣрѣ увеличенія ихъ
невѣжества увеличивалось также ихъ суевѣріе, которое въ свою очередь усили-
вало власть ихъ священниковъ. Все, слѣдовательно, шло путемъ самымъ естествен-
нымъ. Нашествіе магометанъ сдѣлало христіанъ бѣдными; бѣдность породила невѣ-
жество; невѣжество породило легковѣріе, а легковѣріе, лишая людей какъ способ-
ности, такъ и желанія самимъ что-либо изслѣдовать, усиливало духъ подобострастія
и поддерживало привычку къ покорности и слѣпое повиновеніе клерикаламъ, состав-
ляющія главную и самую жалкую особенность исторіи Испаніи*
Изъ этого видно., что вторженіе магометанъ усилило набожность испанскаго
народа троякимъ путемъ: во-первыхъ, вызвавъ продолжительную и упорную рели-
гіозную войну; во-вторыхъ, окруживъ его постоянными и непосредственными опас-
ностями; и въ третьихъ, повернувъ въ бѣдность, неизбѣжно породившую невѣжество
меледу христіанами.
Эти событія, слѣдуя за великой Аріанской войной и будучи сопровождаемы
и безпрестанно усиливаемы тѣми физическими явленіями, которыя, какъ я уже ука-
залъ, вліяютъ въ томъ же направленіи,—дѣйствовали такъ дружно и сильно, что въ
Испаніи теологическій элементъ сдѣлался не составпріо только частью національ-
наго характера, а скорѣе самымъ характеромъ. Самые способные и самые често-
любивые изъ испанскихъ королей были 'принуждены слѣдовать общему движенію,
и при всемъ своемъ деспотизмѣ уступали давленію мнѣній, которыми, какъ имъ
казалось, они управляли. Война съ Гранадою въ концѣ пятнадцатаго столѣтія была
скорѣе религіозною, чѣмъ свѣтскою; и Изабелла, сдѣлавшая огромныя пожертвова-
нія на эту войну и стоявшая, по способностямъ и искренности, выше Фердинанда,
имѣла въ виду не столько пріобрѣтеніе территоріи, сколько распространеніе хри-
стіанской вѣры. Въ самомъ дѣлѣ, какія бы ни возникали сомнѣнія относительно
цѣли этой распри, они разсѣиваются послѣдующими событіями. Едва кончилась
война, какъ Фердинандъ и Изабелла издали указъ, изгоняющій изъ государства
всякаго еврея, не желающаго отказаться отъ своей вѣры; такъ что почва Испаніи
съ тѣхъ поръ не должна была болѣе оскверняться присутствіемъ невѣрныхъ 2). Сдѣ-
лать ихъ христіанами или, не успѣвъ въ этомъ, истребить ихъ,—стало задачей
инквизиціи, которая была учреждена въ это же царствованіе и дѣйствовала къ
концу ХѴ-го вѣка съ полной силой 3). Въ продолженіе XVI столѣтія на престолѣ
г) Спркуръ («кііівіоіге йез АгаЬезэ) говоритъ: «Хри-
стіане, не хотѣвшіе покориться, были оттѣснены въ
дикія ущелья Пиренеевъ, гдѣ они могли существо-
вать, какъ существуетъ красный звѣрь въ лѣсахъ».
2) «Послѣ уничтоженія маврскаго владычества,
па пашемъ полуостровѣ осталась еще секта евреевъ,
язва можетъ быть еще болѣе вредная и безъ сомнѣ-
нія еще болѣе опасная и распространенная, такъ
какъ евреи разселились по всѣмъ городамъ. По ка-
толическіе монархи, главною заботою которыхъ было
искореніе въ государствѣ всякаго растенія, злока-
чественнаго и противнаго вѣрѣ Іисуса Христа, издали
декретъ въ Гранадѣ, 30-го марта 1492 г., которымъ
повелѣвалось всѣмъ евреямъ, не принявшимъ кре-
щенія, яо истеченіи четырехъ мѣсяцевъ оставить го-
сударство», (Огііа, <Сотреіі(1іо», Майгій, 1798). Необ-
ходимость показать, какъ эти и подобныя имъ собы-
тія обсуживались испанцами, заставляетъ меня при-
водить ихъ собственныя слова съ такой подробностью,
которая безъ этого была бы совершенно излишнею.
Историки вообще слишкомъ склонны обращать больше
вниманія на общественныя дѣла, нежели на мнѣнія,
вызванныя этими дѣлами; хотя на самомъ дѣдѣ мнѣ-
нія составляютъ самую драгоцѣнную часть исторіи,
такъ какъ опи являются результатомъ болѣе общихъ
причинъ, между тѣмъ какъ политическія дѣйствія часго
происходяіъ отъ особенностей характера могуществен-
ныхъ личностей.
О числѣ евреевъ, дѣйствительно изгнанныхъ, я
не могъ найти достовѣрнаго свѣдѣнія. Считаютъ раз-
лично, отъ 160.000 до 800.000.
3) Она была введена въ Арагонѣ въ 1242 г.
Маріана основательно относитъ инквизицію ко времени
Фердинанда п Изабеллы, называя ее ^новымъ свя-
тымъ трибуналомъ».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
393
смѣнились два государя съ замѣчательными способностями, которые оба держались
одинаковой политики. Карлъ V, наслѣдовавшій Фердинанду въ 1516 году, управ-
лялъ Испаніей въ теченіе сорока лѣтъ, и общій характеръ его направленія былъ
такой же. какъ и царствованія его предшественниковъ. Что касается его внѣшней
политики, то при немъ было три значительныя войны: съ Франціей, съ герман-
скими князьями и съ Турціею. Изъ нихъ первая имѣла свѣтскій характеръ, а двѣ
послѣднія были въ сущности религіозныя. Въ германской войнѣ онъ защищалъ
церковь противъ нововведеній, и въ сраженіи при Мюльбергѣ нанесъ такое пора-
женіе протестантскимъ князьямъ, что замедлилъ на нѣкоторое время прогрессъ ре-
формаціи. Въ другой великой войнѣ своей онъ, какъ защитникъ христіанства про-
тивъ магометанства, довершилъ то, чтб было начато дѣдомъ его «Фердинандомъ.
Карлъ разбилъ и прогналъ магометанъ на востокѣ, точно такъ же, какъ Ферди-
нандъ сразилъ ихъ на западѣ; пораженіе турокъ подъ Вѣною было тѣмъ же для
шестнадцатаго столѣтія, чѣмъ была для пятнадцатаго побѣда надъ арабами при
Гранадѣ. Поэтому Карлъ при концѣ своего царствованія имѣлъ полное право по-
хвалиться, что онъ всегда предпочиталъ свою вѣру своей родинѣ, и что главнымъ
предметомъ его честолюбивыхъ стремленій было охраненіе интересовъ христіанства.
Съ какою ревностью онъ боролся за вѣру, видно также изъ дѣхъ усилій, которыя
онъ употреблялъ противъ ереси въ Нидерландахъ. По отзыву современныхъ свѣ-
дущихъ писателей, въ царствованіе его въ Нидерландахъ казнено отъ пятидесяти
до ста тысячъ человѣкъ за религіозныя убѣжденія. Позднѣйшіе изслѣдователи усо-
мнились въ вѣрности этого показанія, которое по всей вѣроятности преувеличено;
~~ ------- ---------- ----------------------- ъ рЯдЪ законовъ? ПО кото-
, либо погребались живыми,
ствамъ каждаго преступленія.
Но во всякомъ случаѣ подвергался уголовному наказанію тотъ, кто купилъ или про-
далъ еретическую книгу, или даже^списалъ<ееДляВ:воего собственнаго употребле-
нія. Его послѣдній совѣтъ сыну совершенно согласовался съ этими мѣрами. За нѣ-
но мы знаемъ,, что между 15;
рымъ обвиненные въ ереси обезглавливались
Такъ, наказанія были различиьЖ<смо_тря1п^Иб^^й
О голами онъ
сколько дней до своей смерти онъ сдѣлалъ приписку къ завѣщанію, въ которой
совѣтовалъ: никогда не оказывать никакой милости ереуикамъ, всѣхъ ихъ преда-
вать смерти и заботиться о поддержаніиипквизиціи, какъ лучшаго средства для
достиженія столь желаемой" цѣли х). \
Эту варварскую политику пе должно приписывать ни порокамъ, ни темпера-
менту того или другого изъ правителей, а громадному вліянію общихъ причинъ,
дѣйствовавшихъ на каждаго изъ нихъ и вынуждавшихъ его поступать такъ, а пе
иначе. Карлъ нисколько не былъ мстительнымъ человѣкомъ; онъ былъ склоненъ отъ
природы скорѣе миловать, чѣмъ наказывать; его искренность пе подлежитъ сомнѣ-
нію; онъ дѣлалъ то, что считалъ своей обязанностью, и былъ до такой степени спо-
собенъ къ дружбѣ, что тотъ, кто наиболѣе зналъ его^ и любилъ его наиболѣе 2). Но
все это не имѣло особеннаго вліянія па его общественную дѣятельность. Онъ вы-
нужденъ былъ повиноваться стремленіямъ времени и той страны, въ которой жилъ.
А каковы были эти стремленія, обнаружилось еще яснѣе послѣ его смерти, когда
престолъ Испаши былъ занимаемъ болѣе сорока лѣтъ государемъ, который вступилъ
2) Приписка къ завѣщанію Карла до сихъ поръ I
существуетъ или существовала еще весьма недавно I
въ архивахъ Сішанки. Въ замѣчательномъ сочиненіи :
Лафуэпто («Нізіогіа йе Е^рапа») объ этой припискѣ I
говорится въ совершенно испанскомъ духѣ: «Его за- I
вѣщаніе проникнуто христіанскими и благочестивыми
идеями, которыми онъ руководствовался въ жизни, ’
и набожностью, которою отличилась его кончина.
Особенно замѣчателенъ первый параграфъ (прпба- !
віенія къ завѣщанію), въ которомъ онъ настоятельно і
предписываетъ королю Филиппу наказывать съ пол- |
ною строгостью лютеранскихъ еретиковъ, открытыхъ
уже и могущихъ впредь оказаться въ Испаніи... не
разбирая лицъ и не уважая никакихъ просьбъ, для
того, чтобы страхомъ поддерживать и заставлять ува-
жать св. Инквизицію и т. д.».
2) Свидѣтельства соотечественниковъ еще могутъ
быть заподозрѣиы въ пристрастіи; но съ другой сто-
роны Раумеръ справедливо замѣчаетъ, что его ха-
рактеръ былъ представленъ въ ложномъ свѣтѣ «вслѣд-
ствіе того, что историки предпочли непріязненные
разсказы французскихъ и протестантскихъ писателей».
394 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
на него во цвѣтѣ лѣтъ и царствованіе котораго особенно замѣчательно, какъ выра-
женіе и какъ послѣдствіе настроенія подвластнаго ему народа.
Филиппъ II, наслѣдовавшій Карлу V въ 1555 году, былъ дѣйствительно по
преимуществу созданіемъ своего времени, и замѣчательнѣйшій изъ его біографовъ
мѣтко называетъ его самымъ совершеннымъ типомъ національнаго характера. Его
любимое привило, служащее ключемъ къ его политикѣ, было, «что лучше совсѣмъ
не царствовать, чѣмъ царствовать надъ еретиками». Вооруженный верховною властью,
онъ употребилъ всю свою энергію на приведеніе въ дѣйствіе этого принципа. Какъ
только онъ услышалъ, что протестанты находятъ послѣдователей въ Испаніи, то
онъ устремилъ всѣ силы на уничтоженіе ереси *); и общее расположеніе народа такъ
удивительно помогало ему въ этомъ, что онъ могъ безъ всякаго риска подавить
мнѣнія, волновавшія всѣ другія страны Европы. Въ Испаніи реформація послѣ
короткой борьбы совершенно замерла, и въ продолженіе какихъ-нибудь десяти лѣтъ
исчезъ и малѣйшій слѣдъ ея 8). Голландцы жалади принять и во многихъ случаяхъ
принимали преобразованное ученіе; поэтому Филиппъ пошелъ на нихъ жестокой
войной, которая длилась тридцать лѣтъ и которую онъ не прекращалъ до своей
смерти, потому что рѣшился искоренить новую вѣру 3). Онъ приказалъ сожигать вся-
каго еретика, не хотѣвшаго отказаться отъ своей вѣры. Если же еретикъ отрекался
отъ своихъ убѣжденій, то ему оказывалось нѣкоторое снисхожденіе; но такъ какъ
онъ былъ все-таки оскверненъ, то умереть онъ долженъ былъ во всякомъ случаѣ,
поэтому вмѣсто сожженія его казнили отсѣченіемъ головы. О дѣйствительномъ числѣ
лицъ, пострадавшихъ въ Нидерландахъ, мы не имѣемъ точныхъ свѣдѣній 4); но Альба
торжественно хвалился, чтр въ продолженіе пяти или дпести лѣтъ его управленія
онъ казнилъ совершенно хладнокровно до восемнадцати тысячъ человѣкъ, не считая
еще бдльшаго числа убитыхъ на полѣ битвы. И такъ, даже за кратковременное
владычество его можно насчитать около сорока тысячъ такихъ жертвъ,—цифра,
вѣроятно не особенно далекая отъ истины, такъ какъ намъ извѣстно изъ другихъ
источниковъ, что въ одинъ годъ было казнено или сожжено болѣе восьми тысячъ
человѣкъ. Подобныя мѣры были результатомъ инструкцій, данныхъ Филиппомъ, и
составляли существенную часть его общаго плана. Главнымъ душевнымъ желаніемъ
его,—желаніемъ, которому опъ жертвовалъ всѣми другими соображеніями,—было
искорененіе новой вѣры и возстановленіе старой. Этому чувству подчинялись даже
его непомѣрное честолюбіе и необыкновенная любовь къ власти; онъ стремился къ
владычеству надъ Европой, потому что желалъ возстановить авторитетъ церкви.
Вся его политика, всѣ его переговоры, всѣ его войны стремились къ этой одной
цѣли. Вскорѣ послѣ вступленія на престолъ онъ заключилъ постыдный договоръ
съ папою для того, чтобы нельзя было сказать, что онъ поднялъ оружіе противъ
главы христіанскаго міра 5). А его послѣднее великое предпріятіе, въ нѣкоторыхъ отно-
а) При его росши къ истребленію ереси одною изъ
его первыхъ заботъ было преслѣдованіе лютеранъ, и
8-го октября въ Вальядолидѣ казнили въ его при-
сутствіи множество виновныхъ въ этомъ преступленіи.
2) Такпмъ образомъ превзошло то, что «Испа-
нія охранила себя отъ заразы. Карлъ V достигъ этой
цѣли оружіемъ, а инквизиція — кострами. Испанія от-
странилась отъ европейскаго движенія» (Лафуэнте).
Лафуэнте присовокупляетъ, что, по его мнѣнію, всо
христіанство готово послѣдовать хорошему примѣру,
поданному Испаніей, въ искорененіи протестантизма.
«Если мы не ошибаемся, то наше время (1850 г.)
представляетъ симптомы, изъ которыхъ видно, что
эта задача приближается къ своему рѣшенію. Като-
лицизмъ пріобрѣтаетъ прозелитовъ; нынѣшніе проте-
станты не тѣ, чтб были прежніе, и мы полагаемъ,
что католическое единство со временемъ осуществится*.
э) До прибытія Альбы Филиппъ настоятельпо
приказывалъ Маргаритѣ, чтобы опа употребила всѣ
I усилія для искорененія еретиковъ. А въ 1563 г. онъ
' писалъ: «Примѣръ и бѣдствія Франціи показываютъ,
I какъ полезно жестоко наказывать еретиковъ». Испанцы
I считали голланцевъ виновными въ двойномъ престу-
пленіи: въ возмущеніи противъ Бога и противъ короля.
4) Мотлей говоритъ подъ 1566 годомъ: «Принцъ
і Оранскій высчитывалъ, что до этого періода, во ис-
\ полнепіе указовъ, въ провинціяхъ было казнено пять-
десятъ тысячъ человѣкъ. Опъ былъ человѣкъ умѣ-
! ренный и привыкшій взвѣшивать свои слова».
5) Вотъ его послѣдній совѣтъ сыау: «Будь всегда
въ повиновеніи у Св. Римской церкви и у папы,
котораго ты долженъ считать своимъ духовнымъ от-
цомъ». По отзыву другого писателя, послѣднія слова,
которыя онъ произнесъ, испуская духъ, были: «Уми-
раю католикомъ христіаниномъ, вѣруя въ Римскую
церковь и покоряясь ей и почитая папу, какъ хра-
нителя ключей Небесъ, какъ главу дерой ж какъ
Намѣстника Бога въ мірѣ духовномъ».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V 110 XIX ст. 395
теніяхъ важнѣйшее изъ всѣхъ, состояло въ снаряженіи той знаменитой армады, съ
которой онъ надѣялся смирить Англію и уничтожить ересь Европы въ самомъ ея
зародышѣ, лишивъ протестантовъ ихъ главной поддержки и единственнаго пріюта,
въ которомъ они легко могли найти безопасное и почетное убѣжище *)♦
Между тѣмъ какъ Филиппъ, слѣдуя по пути своихъ предшественниковъ, расто-
чалъ кровь и сокровища Испаніи ради распространенія религіозныхъ мнѣній 1 2),
народъ, вмѣсто того чтобы возстать противъ такой чудовищной системы, соглашался
съ нею и освящалъ ее своимъ сочувствіемъ. Дѣйствительно, народъ не только одобрялъ
эту систему, но почти обожалъ человѣка, который поддерживалъ ее. Вѣроятно, еще
никогда не было государя, который въ теченіе такого продолжительнаго періода и
посреди столь многихъ превратностей судьбы былъ бы такъ обожаемъ своими под-
данными, какъ Филиппъ II. Въ хорошихъ ли, въ дурныхъ ли обстоятельствахъ,
испанцы всегда относились къ нему съ непоколебимой преданностью. Ихъ привя-
занность не могли ослабить ни его неудачи, ни его отталкивающее обращеніе, ни
его жестокость, ни его тягостные поборы. Не взирая ни на что, они любили его
до послѣдней минуты. Нелѣпая надменность его доходила до того, что онъ не позво-
лялъ никому, даже самымъ могущественнымъ грандамъ, обращаться къ нему съ
рѣчью иначе какъ на колѣнахъ, и въ отвѣтахъ своихъ не все договаривалъ, предо-
ставляя имъ угадывать остальное, но исполнять его повелѣнія какъ можно тща-
тельнѣе. И они были всегда готовы повиноваться малѣйшимъ его желаніямъ. Одинъ
современникъ Филиппа, пораженный этимъ всеобщимъ преклоненіемъ, говоритъ, что
испанцы «не только любятъ, не только почитаютъ, но рѣшительно обожаютъ его и
считаютъ его повелѣнія до такой степени священными,/что ихъ невозможно было
бы нарушить, не оскорбивъ самого Бога» 3).
Что такой человѣкъ, какъ Филиппъ II, который никогда не имѣлъ друга, кото-
раго обыкновенное обращеніе съ людьми было въ высшей степени возмутительно,—
суровый господинъ, безчувственный отецъ, кровожадный и безсовѣстный правитель,—
что онъ былъ такъ почитаемъ народомъ, среди котораго жилъ и предъ глазами кото-
раго были постоянно его дѣйствія, что все это было возможно—вотъ истинно одинъ
изъ самыхъ удивительныхъ и съ перваго взгляда самыхъ необыкновенныхъ фактовъ
въ исторіи. Король соединяетъ въ себѣ всѣ свойства, возбуждающія въ высшей сте-
пени ужасъ и отвращеніе, а между тѣмъ его гораздо болѣе любятъ, чѣмъ боятся; ему
поклоняется весьма великій народъ въ теченіе весьма долгаго періода времени.
Это до такой степени замѣчательно, что заслуживаетъ серьезнаго съ нашей стороны
вниманія; и для разрѣшенія этой задачи необходимо будетъ изслѣдовать причины
того духа преданности престолу, которымъ въ продолженіе нѣсколькихъ столѣтій отли-
чались испанцы болѣе, чѣмъ какой-либо изъ европейскихъ народовъ.
1) Елизавета, соединявшая въ себѣ три ужасныя (
качества — ересь, могущество и умъ, была почти до і
невѣроятной степени противна испанцамъ, и снаря-
женіе противъ нея армады было вполнѣ національнымъ
предпріятіемъ. Нѣсколько словъ, сказанныхъ однимъ
почтеннымъ историкомъ (Ваѵііа), прекрасно обрисо-
вываютъ чувства, съ которыми смотрѣли на эту ко-
ролеву даже послѣ ея смерти, и даютъ возможность
читателю составить себѣ понятіе о состояніи испан-
скаго ума. «Елизавета, королева англійская, кальви-
нистская еретичка и жесточайшая гонительница крови
Іисуса Христа и сыновъ церкви... Успѣхъ во внѣш-
нихъ дѣлахъ государства возбуждалъ восторгъ; но
самая большая удача, желанная всѣмъ христіанствомъ,
была смерть Елизаветы, королевы Англіи, кальви-
нистской еретички, прославившейся позорною жизнью,
преслѣдованіемъ церкви, пролитіемъ крови святыхъ,
защищавшихъ истинную католическую вѣру. 1’Зя зло-
дѣянія однако записаны на страницахъ исторіи; душа
ея въ адскихъ мученіяхъ пожинаетъ плоды своей упор-
ной надменности ц въ вѣчномъ наказаніи познаетъ
ложность своихъ стремленій во время земной жизни».
2) Прекрасно выразился одинъ изъ замѣчатель-
нѣйшихъ историковъ нашего времени, Мотлей: «Для
Филиппа было предметомъ восторга—воплощать гнѣвъ
Божій па еретиковъ»... «Филиппъ жилъ только для
одного — чтобы исполнять то, чтб опъ рѣшился счи-
тать волею Божіею».
3) Это слова Контарипп, приведенныя у Ранке.
Спустя нолстолѣтія послѣ его смерти Соммердикъ
посѣтилъ Испанію и въ своемъ любопытномъ по-
вѣствованіи объ этой странѣ говоритъ намъ, что
Филиппа называли «Соломономъ своего вѣка». Дру-
гой писатель уподобляетъ его Нумѣ. Когда онъ
умеръ, на его похоронахъ лились слезы и раздавались
стенанія. Отъ Вандергаммена мы узнаемъ, что народъ
приписывалъ ему «величіе, достойное поклоненія, и
всякія качества, превосходящія обыкновенныя чело-
вѣческія ».
396 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Одною изъ главныхъ причинъ было безъ сомнѣнія огромное вліяніе духовен-
ства. Потому что правила, внушаемыя этимъ могущественнымъ сословіемъ, имѣли
естественное стремленіе заставить народъ почитать своихъ государей болѣе, чѣмъ
онъ почиталъ бы ихъ безъ этого. Что существуетъ дѣйствительная практическая
связь между слѣпою преданностью и суевѣріемъ, это видно изъ того историческаго
факта, что два эти чувства почти всегда и процвѣтали, и падали вмѣстѣ. Но этого
именно слѣдовало ожидать и по самой теоріи, видя, что оба эти чувства составляютъ
продуктъ той привычки къ слѣпому уваженію, которая дѣлаетъ людей послушными
въ дѣйствіяхъ и легковѣрными въ вѣрованіяхъ 1). Слѣдовательно, и опытъ, и здравый
смыслъ заставляютъ насъ видѣть въ этомъ такой общій законъ ума, который можетъ
конечно по временамъ встрѣчать помѣхи въ своемъ дѣйствіи, но въ большей части
случаевъ остается въ полной силѣ. Кажется, въ одномъ только случаѣ нарушается
этотъ принципъ, а именно, когда деспотическое правительство такъ мало понимаетъ
свои собственныя выгоды, что обижаетъ духовенство и отчуждается отъ него. Всякій
разъ, какъ это случится, возникаетъ борьба между вѣрностью престолу и суевѣріемъ;
первая поддерживается политическими дѣятелями, второе — духовными. Подобная
борьба происходила въ Шотландіи. По мы вообще не много найдемъ такихъ при-
мѣровъ въ исторіи, п конечно ничего подобнаго не случалось въ Испаніи, гдѣ,
напротивъ того, соединилось много обстоятельствъ, которыя скрѣпили союзъ между
короною и церковью и пріучили народъ смотрѣть на ту и на другую почти съ равнымъ
уваженіемъ.
Самымъ важнымъ изъ этихъ обстоятельствъ было великое вторженіе арабовъ,
которое, загнавъ христіанъ въ одинъ уголъ Испаніи, поставило ихъ въ такое крайнее
положеніе, что только строжайшая дисциплина и безпрекословное повиновеніе своимъ
предводителямъ давали имъ возможность бороться съ врагами. Вѣрность монархамъ
была для нихъ не только полезна, но и необходима: будь они разъединены, то при
встрѣчѣ съ такимъ страшнымъ превосходствомт, силъ имъ никакъ не удалось бы
отстоять свое національное существованіе. Началась продолжительная война, кото-
рая, имѣя и политическій, и религіозный характеръ, вызвала тѣсный союзъ между
политической и религіозной партіями, такъ какъ и короли и духовенство имѣли
одинаковый интересъ въ изгнаніи магометанъ пзъ Испаніи. Въ продолженіе почти
восьми столѣтій этотъ союзъ между церковью и государствомъ но необходимости под-
держивался испанцами, которыхъ вынуждали къ тому особенности пхъ положенія; а
когда и миновала необходимость, то естественпымт, образомъ оказалось, что обра-
зовавшаяся подъ вліяніемъ ея ассоціація идей пережила первоначальную опас-
ность и что въ умѣ народа сохранилось впечатлѣніе, которое едва-ли возможно
было изгладить.
Доказательства силы этого впечатлѣнія и порожденной имъ безпримѣрной пре-
данности престолу намъ бросаются въ глаза па каждомъ шагу. Ни въ какой дру-
гой странѣ нѣтъ такъ много старыхъ балладъ, какъ въ Испаши, и нигдѣ онѣ пе
связаны такъ тѣсно съ національной исторіей; а между тѣмъ замѣчено, что главную
характеристику этихъ балладъ составляетъ стремленіе внушить народу послушаніе
и преданность монархамъ и что изъ этого источника, болѣе даже чѣмъ изъ воен-
ныхъ подвиговъ, заимствуютъ онѣ свои любимые примѣры доблести * 2). Въ литера-
турѣ первымъ великимъ проявленіемъ испанскаго ума была поэма «Сидъ». написан-
ная въ концѣ XII столѣтія, въ которой мы находимъ новое доказательство необыкно-
венной преданности престолу, утвердившейся въ испанскомъ народѣ въ силу раз-
2) «Привычки къ тому раболѣпному настроенію,
которое, будучи перенесено въ религію, приводитъ къ
суевѣрію, а перенесенное въ политику — къ деспо-
тизму». (Бокль, «Исторія цивилизаціи». Т. I, стр. 275).
2) Въ слѣпомъ повиновеніи древняго испанскаго
рыцаря королевское повелѣніе стояло выше всякихъ
другихъ соображеній, даже выше дружбы и любви.
Этетъ кодексъ послушанія вошелъ въ пословицу: стая
реза сі Ееу дпе іа зан^гѳ» (король дороже крови).
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
397
личныхъ обстоятельствъ То же стремленіе проявляется и въ церковныхъ собо-
рахъ; ибо за весьма немногими исключеніями ни одна церковь не поддерживала
еще такъ ревностно правъ королей * 2). Въ гражданскомъ законодательствѣ мы ви-
димъ дѣйствіе того же принципа; писатели съ большимъ авторитетомъ утверждаютъ,
что ни въ одной системѣ законовъ вѣрность королю не поставлена такъ высоко,
какъ въ испанскихъ кодексахъ 3). Драматическіе писатели въ Испаніи не хотѣли
даже на сценѣ представлять мятежныя дѣйствія, чтобы не показаться сочувствую-
щими тому, что въ глазахъ всякаго порядочнаго испанца было однимъ изъ самыхъ
гнусныхъ преступленій 4). Все, къ чему только прикасался король, было какъ бы
освящено этимъ прикосновеніемъ. Никто не могъ сѣсть на лошадь, на которой ко-
роль ѣздилъ верхомъ; никто не могъ жениться на оставленной имъ любовницѣ 5).
Лошадь и любовница были одинаково неприкосновенны для всѣхъ простыхъ людей,
и было бы нечестивымъ поступкомъ со стороны всякаго подданнаго прикасаться къ
тому, что было почтено королемъ. Эти правила не ограничивались однимъ царствую-
щимъ государемъ. Напротивъ, они переживали его и, дѣйствуя съ какою-то по-
смертной силой, воспрещали каждой женщинѣ, взятой имъ въ жены, выходитъ за-
мужъ даже послѣ его смерти. Опа была избрана королемъ—подобный выборъ ста-
вилъ ее выше остальныхъ смертныхъ, и ей оставалось только удалиться въ мона-
стырь и проводить свою жизнь въ оплакиваніи невозвратимой для нея потери. Эти
правила были утверждены скорѣе обычаемъ, чѣмъ закономъ 6). Они поддерживались
народной волей и были результатомъ чрезмѣрной преданности престолу испанскаго
народа. Этой преданностью цаето хвастаютъ испанскіе писатели и имѣютъ на то
полное право, ибо ничто не могло сравниться съ ней. ничто не могло, повидимому,
поколебать ее. Она одинаково ^примѣнялась_
Она была въ полной силѣ посреди славы Испаніи въ
ПѴП. ДН11Ѵ XIV }
и къ дурнымъ, и къ хорошимъ королямъ,
ь шестнадцатомъ столѣтіи, про-
являлась и во время упадка націи въ семнадцатомъ и пережила ударъ междо-
усобныхъ войнъ въ началѣ восемнадцатаго 7). Дѣйствительно, чувство это такъ уко-
’) Сидъ, посмотри на то, что былъ жестоко пре-
слѣдуемъ Альфонсомъ, счелъ первою своею обязан-
ностью послѣ важной побѣды приказать одному изъ
своихъ капитановъ: отвезти королю Альфонсу трид-
цать хорошо осѣдланныхъ арабскихъ лошадей и столько
же мочой, прикрѣпленныхъ къ сѣдламъ, въ знакъ по-
корности, несмотря ни оскорбленіе^ которое ему
нанесли. Соути съ удивленіемъ замѣчаетъ, что ста-
рыя лѣтописи представляютъ Сида «предлагающимъ
цѣловать ноги короля».
2) «XVI Толедскій соборъ называлъ королей на-
мѣстниками Бога и Христа] и соборы того вре-
мени чаще всего обращались къ пароду съ увѣща-
ніями хранить присягу вѣрности королю и грозили
анаѳемой всѣмъ мятежникамъ» (Зетреге «МопагсЬіѳ Ез-
радпоіе»). «Кромѣ предметовъ гражданскаго и канони-
ческаго законодательства и различныхъ другихъ, свя-
занныхъ съ церковнымъ управленіемъ, большая часть
законовъ, изданныхъ этими собраніями, имѣли цѣль
упрочить королевскую власть, провозглашая ея не-
прикосновенность и назначая строгія наказанія нару-
шителямъ ихъ і еретикамъ» и т» д. (Апіеднега, «Ні-
віогіа бе Ье^ізіасіон Езрапоіа»).
3) Вѣрность обязанностямъ къ высшему лицу
доведена въ испанскомъ законодательствѣ до такихъ
крайнихъ размѣровъ, какихъ я не встрѣчалъ еще
нигдѣ... Партидасъ говоритъ объ одномъ старомъ за-
копѣ, но которому каждый, кто явно пожелалъ бы
видѣть короля мертвымъ, присуждался къ смерти и
къ лишенію всего имущества. Самая большая милость,
какую могли оказать такому обвиненному, ограничи-
валась тѣмъ, что ему даровалась жизпь, но выкалы-
вались глаза, чтобы онъ никогда не могъ видѣть ими
то, чего пожелалъ. Поносить короля считалось та-
кпмъ же тяжкимъ преступленіемъ, какъ и убить его,
и за это наказывали смертью. Самымъ большимъ
смягченіемъ наказанія было, когда виновному только
вырѣзывали языкъ.
4) Такимъ образомъ Монтальванъ, знаменитый
поэтъ и драматургъ, родившійся въ 1602 году, избѣ-
галъ представленія на сценѣ возмущенія, чтобы не
показалось, что опъ возбуждаетъ къ нему. Подобнымъ
же духомъ отзываются комедія Кальдерона и Лопе де-
Вега.
5) Г-жа д’Онуа, особенно интересовавшаяся
подобными предметами, говоритъ: «существуетъ еще
одинъ этикетъ, въ силу котораго оставленная коро-
лемъ любовница должна постричься въ монахини; и
мпѣ разсказывали, что когда покойный король, будучи
влюбленъ въ одну придворную даму, однажды вече-
ромъ тихонько постучался въ дверь ея комнаты, то
она, понявъ, кто стучитъ, и не желая отпереть дверь,
ограничилась тѣмъ, что изъ-за двери сказала ему:
«Вауа, Ьауа, соп Віоз, по фііего вег тоща», то есть:
«ступайте, ступайте, съ Богомъ, я но желаю быть мо-
нахиней». Точно также Генрихъ IV Кастильскій,
вступивъ на престолъ въ 1454 году, сдѣлалъ одну
изъ своихъ любовницъ «настоятельницею одного мо-
настыря въ Толедо»; и это всѣхъ скандализировало,
потому что, какъ говорить Прескоттъ, онъ для этого
изгналъ ея предшественницу, дѣвицу знатнаго рода и
безупречнаго поведенія».
6) Есть одпако одинъ весьма замѣчательный ста-
рый законъ, въ формѣ канона, изданный третьимъ
Сарагосскимъ соборомъ, по которому вдовы королей
«обязаны облечься въ монашеское одѣяніе и на всю
остальную жпзнь заключиться въ монастырѣ»,
7) Г-жа д’Онуа пишетъ въ 1670 году изъ
398
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ронялось въ преданіяхъ страны, что сдѣлалось не только страстью націи, но почти
догматомъ ея вѣры. Кларендонъ въ своей «Исторіи великаго англійскаго возстанія»,
которому подобнаго, какъ онъ хорошо зналъ, никогда не могло случиться въ Испа-
ніи, дѣлаетъ относительно этого предмета справедливое и весьма мѣткое замѣчаніе.
Онъ говоритъ, что испанцы смотрятъ на недостатокъ уваженія къ королямъ, какъ
на «чудовищное преступленіе», ибо <слѣпое уваженіе къ своимъ государямъ состав-
ляетъ жизненную часть ихъ религіи».
Итакъ, вотъ два главные элемента, составляющіе испанскій характеръ. Пре-
данность престолу и суевѣріе—благоговѣніе къ королямъ и благоговѣніе къ духо-
венству—вотъ главные принципы, имѣвшіе вліяніе на испанскій умъ и управляв-
шіе ходомъ испанской исторіи. Особенныя безпримѣрныя обстоятельства, въ силу
которыхъ принципы эти возникли, были только-что указаны нами; мы видѣли ихъ
происхожденіе,—теперь постараемся вывести ихъ послѣдствія. Подобное изслѣдова-
ніе результатовъ особенно важно не только потому, что нигдѣ въ Европѣ эти чув-
ства не были такъ сильны, такъ постоянны и такъ неподдѣльны, но и потому, что
Испанія, будучи расположена на самой крайней оконечности Европы и отдѣлена отъ
нея Пиренеями, какъ по физическимъ, такъ и по нравственнымъ причинамъ мало
приходила въ столкновенія съ другими націями. Тамъ дѣла шли своимъ естественнымъ
порядкомъ, не нарушаемымъ чужеземными вліяніями, и поэтому тамъ легче всего
можно замѣтить чистыя, естественныя послѣдствія суевѣрія и преданности престолу—
двухъ самыхъ могущественныхъ и самыхъ безкорыстныхъ чувствъ, какія наполняли
когда-либо человѣческое сердце, и изъ совокупнаго вліянія которыхъ мы ясно мо-
жемъ вывести главнѣйшія событія въ исторіи Испаніи.
Результаты этого сочетанія были въ продолженіе довольно долгаго періода ви-
димо благодѣтельны и конечно блестящи. Церковь и корона, дѣйствуя заодно и во-
одушевляемыя при томъ сердечнымъ сочувствіемъ народа, всей душой предались
своему дѣлу и выказали такое рвеніе, которому трудно было не увѣнчаться успѣ-
хомъ. Постепенно подвигаясь впередъ съ сѣвера Испаніи, христіане силой прола-
гали себѣ путь, шагъ за шагомъ, и не переставали наступать, пока не достигли
южной оконечности, совершенно покоривъ магометанъ и подчинивъ всю страну
одному управленію и одной религіи. Этотъ великій результатъ былъ достигнутъ въ
концѣ XV столѣтія, и испанское имя озарилось необычайнымъ блескомъ. Испанія,
долгое время занятая своими религіозными войнами, мало до тѣхъ поръ обращала
на себя вниманіе иностранныхъ державъ, да и сама немного имѣла времени за-
ниматься ими. Теперь же она образовала одну сплошную нераздѣльную монархію
и сразу заняла видное положеніе въ отношеніи къ европейскимъ дѣламъ. Въ теченіе
послѣдующихъ ста лѣтъ могущество ея возрастало съ быстротой, неслыханной со
времени Римской имперіи. Еще въ 1478 году Испанія была разбита на незави-
симыя и часто враждебныя другъ другу государства; Гранадою владѣли магометане;
на престолѣ Кастиліи былъ одинъ государь, на престолѣ Арагона—другой. А къ
1590 году, мало того, что эти разрозненныя части сплотились въ одно королевство,
но сдѣланы были еще и внѣшнія пріобрѣтенія, и при томъ такъ быстро, что угро-
жала даже опасность независимости Европы. Исторія Испаніи за это время есть
исторія непрерывнаго ряда успѣховъ. Эта страна, еще недавно терзаемая междо-
усобными войнами и разъединенная враждебными вѣрованіями, успѣла въ теченіе
трехъ поколѣній прибавить къ своей территоріи всю Португалію, Наварру и Рус-
сильонъ. Путемъ дипломатіи и силою оружія она пріобрѣла Артуа, Франшъ-Контё
Мадрида: «Какъ бы пи были богаты грапды, какъ бы
ни была велика ихъ гордость или надменность, они
все-таки исполняли малѣйшія приказанія короля съ
такою точностью и уваженіемъ, которыхъ нельзя до-
статочно похвалить. По первому велѣнію, они отъ-
ѣзжаютъ, возвращаются, отправляются въ темницу,
въ изгнаніе безъ малѣйшаго ропота. Трудно найти
болѣе совершенную покорность и послушность и болѣе
искреннюю любовь, какъ любовь испанцевъ къ ихъ
королю. Имя его для нпхъ священно, и чтобы заста-
вить народъ сдѣлать, чтб угодно, “Достаточно сказать:
ътакъ угодно королю*.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
399
и Нидерланды, а также Миланъ, Неаполь, Сицилію, Сардинію, Балеарскіе и Ка-
нарскіе острова. Одинъ изъ ея королей былъ германскимъ императоромъ, а сынъ
его, женясь на королевѣ англійской, пріобрѣлъ вліяніе на государственный совѣтъ
этой страны. Турецкое могущество, въ то время одно изъ самыхъ грозныхъ въ свѣтѣ,
было сокрушено и разбито ею на всѣхъ пунктахъ. Передъ ней смирилась и фран-
цузская монархія. Французскія арміи постоянно претерпѣвали отъ нея пораженія;
Парижъ былъ одно время въ крайней опасности, а одинъ изъ французскихъ коро-
лей, разбитый на полѣ сраженія, былъ взятъ въ плѣнъ и отвезенъ въ Мадридъ. Внѣ
Европы подвиги Испаніи были не менѣе поразительны. Въ Америкѣ испанцы сдѣ-
лались обладателями территорій, которыя, простираясь на шестьдесятъ градусовъ ши-
роты, заключали въ себѣ оба тропика. Кромѣ Мексики, Центральной Америки, Ве-
нецуэлы, Новой Гранады, Перу и Чили, они завоевали Кубу, Санъ-Доминго, Ямайку
и другіе острова. Въ Африкѣ они пріобрѣли Цейту, Мелилью, Оранъ, Буджію и
Тунисъ и навели страхъ на весь варварійскій берегъ. Въ Азіи они имѣли посе-
ленія по обѣ стороны Декана, владѣли частью Малакки и утвердились на Молукскихъ
островахъ. Наконецъ, завоеваніемъ дивнаго архипелага Филиппинскихъ острововъ
они связали самыя отдаленныя пріобрѣтенія свои и обезпечили сообщеніе между
всѣми частями этой громадной имперіи, опоясывавшей весь земной шаръ.
Въ то же время возбудился въ испанскомъ народѣ такой сильный воинствен-
ный духъ, какого еще не проявляла ни одна новѣйшая нація. Вся мыслящая часть
населенія посвящала себя если не служенію церкви, то военному дѣлу. Часто даже
соединялись оба рода занятій, и говорятъ, что обыкновеніе духовныхъ ходить на
войну сохранялось въ Испаніи еще долгое время послѣ уого, какъ оно было остав-
лено въ другихъ странахъ Европы. Но во всякомъ случаѣ общее стремленіе оче-
видно. Одинъ перечень выигранныхъ сраженій и успѣшныхъ осадъ въ шестнадца-
томъ, а частью еще и въ пятнадцатомъ столѣтіяхъ уже могъ бы служить доказа-
тельствомъ превосходства въ этомъ отношеніи испанцевъ надъ ихъ современниками
и свидѣтельствовать о томъ, какъ много дарованій было потрачено ими на усовер-
шенствованіе дѣла разрушенія. Другое доказательство, если только нужно другое,
могло бы быть выведено изъ того страннаго факта, что со времени древней Греціи
ни одна страна не производила такъ много замѣчательныхъ литераторовъ, бывшихъ
въ то же время и воинами. Кальдеронъ, Сервантесъ и Лопе де-Вега рисковали
своей жизнью, сражаясь за отечество. Многіе другіе знаменитые писатели посвя-
тили себя также военному дѣлу; всѣ они свидѣтельствуютъ о томъ духѣ, которымъ
была проникнута вся Испанія*
Итакъ, вотъ сочетаніе, на которое и теперь еще многіе читатели будутъ
смотрѣть довольно благосклонно и которое въ свое время приводило въ восторгъ и
даже въ ужасъ Европу. Передъ нами великій народъ, пылающій воинственнымъ,
патріотическимъ и религіознымъ рвеніемъ,—народъ, горячность котораго скорѣе воз-
буждалась, чѣмъ умѣрялась его почтительною покорностью своему духовенству и ры-
царской преданностью своимъ королямъ. Энергія Испаніи, будучи такимъ образомъ
въ одно и то же время и возбуждаема, и подавляема, стала въ одинаковой мѣрѣ
сдержанна и порывиста; этому рѣдкому соединенію двухъ противоположныхъ свойствъ
мы и должны приписать великія дѣла, только - что разсказанныя нами. Но слабая
сторона такого рода прогресса заключается въ томъ, что онъ слишкомъ много за-
виситъ отъ отдѣльныхъ личностей и потому не можетъ быть прочнымъ. Подобное
движеніе можетъ продолжаться, только пока имъ руководятъ способные люди. Когда
же даровитые вожди смѣняются бездарными, то вся система немедленно рушится до
основанія, единственно потому, что люди привыкли прилагать къ каждому предпріятію
необходимое усердіе, но не привыкли прилагать къ нему то умѣнье, которое руко-
водитъ усердіемъ. Страна, находящаяся въ такомъ состояніи и управляемая при
этомъ наслѣдственными государями, можетъ быть близка къ своему паденію, такъ
какъ при обыкновенномъ ходѣ дѣлъ должны по временамъ являться и неспособные
400
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
правители. Какъ только это случается,—все начинаетъ ухудшаться, потому что на-
родъ, привыкшій къ безразличной преданности, пойдетъ, куда бы его ни повели, и
будетъ такъ же слушаться безразсудныхъ совѣтниковъ, какъ прежде слушался разум-
ныхъ. Послѣ этого намъ не трудно понять существенное различіе между цивили-
заціей Испаніи и цивилизаціей Англіи. Мы, англичане, народъ разборчивый, недоволь-
ный и придирчивый; мы постоянно жалуемся на нашихъ правителей, не довѣряемъ ихъ
планамъ, съ враждебнымъ настроеніемъ обсуждаемъ ихъ мѣры, оставляемъ весьма мало
власти какъ церкви, такъ и коронѣ; мы управляемъ своими дѣлами по-своему и готовы
при малѣйшемъ къ тому поводѣ отрѣшиться отъ той условной преданности престолу,—
преданности на словахъ, которая никогда собственно не касалась нашихъ сердецъ и
составляетъ только привычку внѣшности, а не страсть, укоренившуюся въ душѣ.
Преданность престолу англичанъ не такова, чтобы она могла заставить ихъ пожерт-
вовать свободой въ угожденіе своему государю; она никогда ни на минуту не за-
глушаетъ въ нихъ глубокаго сознанія собственныхъ интересовъ. Вслѣдствіе этого
нашъ прогрессъ никогда не прерывается, будутъ ли хороши или дурны наши ко-
роли. При томъ ли, при другомъ ли условіи—великое движеніе идетъ своимъ по-
рядкомъ. Были у насъ и слабоумные, и злонамѣренные короли. По даже люди, какъ
Генрихъ III и Карлъ II, были не въ состояніи повредить намъ. Точно также въ те-
ченіе восемнадцатаго и многихъ лѣтъ девятнадцатаго столѣтія, когда мы весьма
замѣтно шли впередъ, наши правители были люди далеко не способные. Анна и
первые два Георга отличались невѣжествомъ; они были плохо воспитаны и отъ
природы слабохарактерны и въ то же время упрямы. Царствованіе обоихъ ихъ вмѣстѣ
продолжалось почти шестьдесятъ лѣтъ; а послѣ нихъ мы были въ теченіе другого ше-
стидесятилѣтія управляемы грсударемъ, способности котораго были долго ослаблены
болѣзнью, но о которомъ мы4 можемъ по совѣсти сказать, что вообще въ своей по-
литикѣ онъ дѣлалъ наименѣе зла, когда былъ наиболѣе неспособенъ. Здѣсь не мѣсто
излагать чудовищные принципы, которые защищалъ Георгъ III; потомство отдастъ
имъ ту справедливость, отъ которой обыкновенно воздерживаются современные пи-
сатели; но то достовѣрно, что ни его ограниченный умъ, ни его деспотическій нравъ,
ни его жалкое суевѣріе, ни неимовѣрная низость того гнуснаго сластолюбца, который
наслѣдовалъ ему,—не могли остановить ходъ англійской цивилизаціи, ни удержать
приливъ благосостоянія Англіи. Мы шли своимъ путемъ, не радуясь ничему этому
и ни о чемъ не заботясь. Насъ не могло сбить съ него безразсудство нашихъ пра-
вителей: мы хорошо знали, что сами держимъ въ рукахъ свою судьбу и что англій-
скій народъ носитъ въ самомъ себѣ тотъ запасъ средствъ и то богатство соображе-
нія, которые одни могутъ вдѣлать людей великими, счастливыми и мудрыми.
Въ Испаніи, напротивъ, какъ только правительство ослабло, народъ сталъ па-
дать ’)• Въ теченіе того цвѣтущаго періода времени, который мы только-что изобра-
Ученый испанскій законовѣдъ Семперо сдѣ-
лалъ нѣсколько замѣчаній, которыя стбптъ при-
вести и которыя заключаютъ въ себѣ странную смѣсь
истины съ заблужденіемъ: «Какимъ образомъ испан-
ская монархія могла низойти съ такого величія и
славы? Какимъ образомъ она потеряла Нидерланды и
Португалію въ ХгІІ столѣтіи и сдѣлалась однимъ
скелетомъ того, чѣмъ была прежде? Какимъ образомъ
исчезло болѣе половины ея насоленія? Какимъ обра-
зомъ, при обладаніи неисчерпаемыми рудниками Но-
ваго Свѣта, ея государственные доходы въ царство-
ваніе Филиппа ИІ не превышали шести милліоновъ
червонцевъ? Какимъ образомъ погибли въ ней земле-
дѣліе и промышленность? II какимъ образомъ почти
вся ея торговля перешла въ руки ея величайшихъ
враговъ? Здѣсь по мѣсто приводить истинныя при-
чины такого печальнаго превращенія; достаточно ска-
зать, что подобныя великія государства носятъ
въ самихъ себѣ зародышъ своего разложенія», и
т. д. «Впрочемъ, преемники этихъ двухъ государей
('Карла V и Филиппа П) не имѣли ихъ дарованій,
равно какъ и ихъ министры; но вообще трудно разби-
рать вліяніе хорошаго или дурного управленія дѣлами
на благосостояніе или бѣдствіе націй. Прн одной и той
же формѣ правленія, какова бы она пи была, государ-
ства падаютъ, либо возвышаются,смотря по спо-
собности ихъ правителей и по обстоятельствамъ,
при которыхъ они дѣйствуютъ^. Изъ двухъ выраженіи,
которыя я обозначилъ курсивомъ, первое есть неловкая,
хотя и обыкновенная, попытка объяснить сложныя явле-
। нія метафорою, которая избавляетъ отъ труда обоб-
1 щать законы этихъ явленій. Другое выраженіе, хотя
совершенно справедливо относительно Испанія, не до-
пускаетъ такого всеобщаго примѣненія, какъ полагаетъ
Сѳмпере; особенно непримѣнимо оно къ Англіи или
Соединеннымъ Штатамъ, народное благосостояніе ко-
торыхъ постоянно увеличивалось даже и тогда, когда
, они были управляемы самыми неспособными людьми.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
401
вили, престолъ Испаніи былъ постоянно занимаемъ самыми способными и умными
государями, Фердинандъ и Изабелла, Карлъ V и Филиппъ II представляютъ собой
такой рядъ правителей, какого не было еще ни въ одной странѣ въ такой же про-
межутокъ времени, Ими совершены были великія дѣла, и ихъ заботами Испанія
видимо процвѣтала. Но то, что послѣдовало, когда ихъ не стало на престолѣ, по-
казываетъ, какъ все это было искусственно и какъ гнила, до самой сердцевины,
та система управленія, которая не можетъ дѣйствовать безъ поддержки, и которая,
опираясь только на слѣпое раболѣпіе народа, зависитъ въ своемъ успѣхѣ не отъ
способности самой націи, а отъ искусства тѣхъ, кому ввѣрены ея интересы.
Филиппъ II, послѣдній изъ великихъ королей Испаніи, умеръ въ 1598 году, и
послѣ его смерти все стало приходить въ упадокъ съ изумительной быстротой 1').
Съ 1598 по 1700 годъ на престолѣ смѣнились Филиппъ III, Филиппъ IV и Карлъ II.
Между ними и ихъ предшественниками была самая разительная противоположность 2).
Филиппъ III и Филиппъ IV были лѣнивы, невѣжественны, нерѣшительны и про-
водили жизнь въ низкихъ и грязныхъ удовольствіяхъ. Карлъ II, послѣдній изъ той
Австрійской династіи, которая нѣкогда такъ отличалась, обладалъ почти всѣми не-
достатками, какіе могутъ сдѣлать человѣка смѣшнымъ и достойнымъ презрѣнія. Его
умъ и его наружность были таковы, что въ любомъ народѣ, менѣе преданномъ сво-
имъ королямъ, онъ сдѣлался бы всеобщимъ посмѣшищемъ. Хотя онъ умеръ еще во
цвѣтѣ лѣтъ, но уже казался старымъ, изжившимся развратникомъ. Въ тридцать пять
лѣтъ онъ совершенно лишился волосъ на головѣ и бровяхъ, былъ разбитъ парали-
чомъ, страдалъ падучею болѣзнью и былъ замѣчательно немощенъ. Все въ его
наружности было въ высшей степени отвратительно — онъ имѣлъ видъ слюняваго
идіота. У него былъ огромный ротъ и нижняя челюстіь такъ страшно выдавалась
впередъ, что зубы его не могліі встрѣчаться, и онъ не былъ въ состояніи переже-
вывать пищу. Невѣжество его могло бы показаться/невѣроятнымъ, еслибы не под-
тверждалось неопровержимыми доказательствами. Онъ не зналъ названій большихъ
городовъ, ни даже провинцій въ своихъ владѣніяхъ; и во время войны съ Франціею
слышали, какъ онъ выражалъ сожалѣніе объ Англіи по случаю утраты будто бы ею
нѣкоторыхъ городовъ, между тѣмъ какъ въ дѣйствительности города эти принадле-
жали къ его же собственной территоріи. Наконецъ, онъ погрязъ въ самое грубое
суевѣріе; ему казалось, что его постоянно искушаетъ діаволъ; и онъ позволялъ отчи-
тывать себя, какъ одержимаго злыми духами, и не иначе уходилъ спать, какъ въ
сопровожденіи своего духовника и двухъ монаховъ, которые должны были всю ночь
лежать возлѣ него.
Теперь-то люди могли бы ясно увидѣть, на какомъ зыбкимъ основаніи было
достроено величіе Испавіи. При способныхъ государяхъ страна благоденствовала,
при слабыхъ — падала. Почти всо, сдѣланное великими государями шестнадцатаго
столѣтія, было разрушено ничтожными государями семнадцатаго. Паденіе Испаніи
было такъ быстро, что не болѣе какъ черезъ три царствованія послѣ смерти Фи-
липпа II самая могущественная монархія въ свѣтѣ была доведена до крайней сте-
пени униженія, была безнаказанно оскорбляема другими народами, не разъ доходила
до банкротства, лишилась самыхъ лучшихъ изъ своихъ владѣній, подверглась пу-
бличному позору, стала любимой темой у школьниковъ и моралистовъ, декламиру-
*) Нѣкоторые новѣйшіе испанскіе писатели,
обративъ вниманіе на большія вдержки, причиненныя
политикою Филиппа И, а на сдѣланные имъ долги,
полагаютъ, что упадокъ страны начался въ послѣдніе
годы его царствованія. Йо дѣло въ томъ, что ни
одинъ великій народъ не былъ п пе будетъ разоренъ
расточительностью своего правительства. Подобное зло
причиняетъ, правда, всеобщее разстройство, но я легко
могъ бы доказать, еслибы здѣсь были умѣстны про-
странные доводы,—что его другія, болѣе постоянныя |
неудобства заключаются вовсе не въ томъ, въ чемъ
пхъ обыкновенно предполагаютъ.
2) «Филиппъ Ш, погруженный въ набожность,
Филиппъ IV, увлеченный удовольствіями, и Карлъ II,
изнуренный страданіями, мало, или вовсе не заботи-
лись объ управленіи государствомъ и вручили его
надменнымъ, алчнымъ и неспособнымъ любимцамъ,
оставившимъ по себѣ грустную память». (Віо, «Ні-
зіогіа (Іеі Веіпайо 4е Сагіоз III»).
Бокль.— Иэз. Ф. Павленкова.
26
402
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ющихъ о шаткости дѣлъ человѣческихъ; наконецъ, испытала жестокое униженіе—
видѣть, что территорія ея разбита на части и подѣлена, по договору, въ которомъ
сама она не принимала никакого участія и на рѣшенія котораго она даже не въ
состояніи была негодовать. Вотъ когда дѣйствительно испила она до дна чашу своего
стыда. Слава покинула ее — она была убита, унижена. Очень могъ бы испанецъ
того времени, сравнивъ настоящее съ прошедшимъ, пожалѣть о своемъ отечествѣ,
этомъ избранномъ мѣстопребываніи рыцарства и романа, храбрости и вѣрности.
Повелительница міра, царица океана, гроза народовъ погибла; погибло ея могу-
щество, погибло безвозвратно. Къ ней можно было бы примѣнить то горькое сѣто-
ваніе, которое величайшій изъ сыновъ человѣческихъ влагаетъ, въ менѣе важномъ
случаѣ, въ уста умирающаго государственнаго мужа. Дѣйствительно, очень могъ
опечаленный патріотъ плакать безутѣшно надъ судьбой своей земли, своего госу-
дарства, страны, гдѣ живутъ всѣ милые ему, своей дорогой, любезной родины, ко-
торую онъ такъ долго любилъ за ея всемірную славу и которая теперь была роздана
по рукамъ, какъ какое-нибудь арендное имѣніе или ферма.
Скучно и безполезно было бы разсказывать потери и неудачи Испаніи въ про-
долженіе XVII столѣтія. Непосредственная причина ихъ заключалась безспорно въ
дурномъ управленіи и неспособности правителей; но настоящей и самой главной
причиной, отъ которой зависѣлъ весь ходъ и характеръ событій, было существованіе
того духа раболѣпія и угодничества, кбторый заставлялъ испанскій народъ подчи-
няться тому, что во всякой другой странѣ было бы отвергнуто, и, пріучивъ его слиш-
комъ полагаться на отдѣльныхъ лицъ, поставилъ страну въ то безвыходное поло-
женіе, при которомъ нѣсколько неспособныхъ правителей должны были непремѣнно
разрушить зданіе, воздвигнутое способными
Усиленіе вліянія испанскаго духовенства было первымъ и самымъ очевиднымъ
послѣдствіемъ упадка энергіи испанскаго правительства. Такъ какъ раболѣпіе и
суевѣріе были главными составными частями національнаго характера, а между тѣмъ
и то, и другое было плодомъ привычки къ слѣпому уваженію, то и слѣдовало ежи-
датъ, что если только не уменьшится это уваженіе, одна составная часть всегда
будетъ увеличиваться на счетъ другой. Вотъ почему, какъ только испанское прави-
тельство въ продолженіе XVII столѣтія, вслѣдствіе своего крайняго безсилія, утратило
несомнѣнно часть той привязанности народа, которою оно прежде располагало,—въ
права его естественнымъ образомъ вступила церковь и, занявъ открывшееся мѣсто,
пріобрѣла то, что растратила корона. Кромѣ того слабость исполнительной власти
поощряла притязанія духовенства, которое осмѣливалось дѣлать такіе захваты,
какихъ испанскіе государи шестнадцатаго столѣтія, при всемъ ихъ суевѣріи, не до-
пустили бы ни на одну минуту 2). Этимъ объясняется тотъ весьма поразительный
фактъ, что въ то время, какъ въ другихъ важнѣйшихъ государствахъ, за исключе-
ніемъ одной Шотландіи, власть церкви уменьшалась въ XVII столѣтіи, въ Испаніи
она увеличивалась. Послѣдствія этого вполнѣ достойны вниманія не только людей,
занимающихся философіей исторіи, но и всякаго, кто заботится о благосостояніи
своей страны или кто принимаетъ дѣятельное участіе въ управленіи обществен-
ными дѣлами.
Вотъ что говорить Давила о Филиппѣ II.
«Опъ правилъ одинъ, безъ помощи любимцевъ. Какъ
главный двигатель администраціи, онъ повелѣвалъ и
запрещалъ, награждалъ, миловалъ и каралъ, разсма-
тривалъ дѣла, выбиралъ министровъ и давалъ мѣста.
Подобно духу, парящему надъ водами, опъ все зпалъ
и все предвидѣлъ, дабы ничего по дѣлалось безъ его
приказанія. Министры были только исполнителями
его повелѣній, и онъ за пими наблюдать, какъ па-
стырь за стадомъ, чтобы убѣдиться, вь точности ли
исполяялнсь его приказанія >.
2) Даже Филиппъ II всегда сохранялъ нѣкоторую
власть надъ духовною іерархіею, несмотря на совер-
' піѳппоо подчиненіе религіознымъ предразсудкамъ. <Въ
| то время какъ Филиппъ желалъ такимъ образомъ
| возвысить духовное сословіе, уже и безъ того слиш-
| комъ могущественное, онъ все-таки старался, чтобы
і оно никогда не достигало положенія, которое ставило
і бы его выше королевской власти» (Прескоттъ). «Но
। этотъ монархъ, столь привязанный къ инквизиціи,
і пока она служила его цѣлямъ, умѣлъ очень хорошо
I удерживать святое судилище въ законныхъ предѣлахъ,
когда это послѣднее пыталось посягать на преиму-
щества королевской власти или присвоивало себѣ
чрезмѣрныя права» (Лафуэнте).
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
403
Въ теченіе двадцати трехъ лѣтъ послѣ смерти Филиппа II на престолѣ Испа-
ніи находился Филиппъ III,—государь, въ такой же мѣрѣ отличавшійся своею сла-
бостью, въ какой предшественники его отличались дарованіями. Въ теченіе слиш-
комъ ста лѣтъ испанцы привыкли исключительно руководствоваться волей своихъ
королей, которые съ неутомимымъ трудолюбіемъ лично завѣдывали самыми важными
дѣдами, а во всемъ остальномъ имѣли строжайшій надзоръ за своими министрами.
Но Филиппъ III, нерадивый до безсмысленности, былъ неспособенъ къ подобному
труду и вручилъ бразды правленія герцогу Лермѣ, который пользовался неограни-
ченною властью въ теченіе двадцати лѣтъ (1598 —1618). У народа, до такой сте-
пени преданнаго своимъ королямъ, какъ испанцы, этотъ необыкновенный порядокъ
вещей не могъ не ослабить вліянія исполнительной власти, такъ какъ въ ихъ гла-
захъ непосредственное и неизбѣжное вмѣшательство во все государя было суще-
ственно необходимо для управленія дѣлами и для благосостоянія націи. Лерма, зная
это чувство и сознавая, что его положеніе было весьма ненадежно, естественно же-
лалъ подкрѣпить себя еще одной поддержкой, чтобы не исключительно зависѣть отъ
милости короля. Поэтому онъ вступилъ въ тѣсный союзъ съ духовенствомъ и отъ
начала до конца своего продолжительнаго управленія дѣлалъ все, что могъ, для
усиленія авторитета этого сословія. Такимъ образомъ вліяніе, утраченное короною,
перешло къ духовенству, совѣты котораго пріобрѣли большее значеніе, чѣмъ имѣли
даже при суевѣрныхъ государяхъ XVI столѣтія. Въ этой сдѣлкѣ интересы народа
были конечно забыты: благосостояніе его не входило въ общій планъ. Напротивъ,
духовенство, признательное къ правительству за такое вниманіе къ его заслугамъ и
за такое религіозное настроеніе, употребило все свое вліяніе въ его пользу; и та-
кимъ образомъ ярмо двойного деспотизма сдавило крѣпче, чѣмъ когда-либо, шею того
несчастнаго народа, которому приходилось теперь пожинать горькіе плоды своего
продолжительнаго и постыднаго раболѣпія *)•
Усиленіе вліянія испанской церкви въ теченіе семнадцатаго столѣтія можетъ
быть доказано всякаго рода свидѣтельствами. Монастыри и церкви размножались
съ такой ужасающей быстротою, и богатство ихъ доходило до такихъ чудовищныхъ
размѣровъ, что даже Кортесы, при всемъ ихъ ничтожествѣ и смиреніи, рѣшились
на публичное предостереженіе. Въ 1626 году, только пять лѣтъ спустя послѣ смерти
Филиппа III, они просили о принятіи какихъ-либо мѣръ къ предупрежденію, какъ
говорили они, постоянныхъ захватовъ со стороны духовенства. Въ этомъ замѣча-
тельномъ документѣ Кортесы, собравшіеся въ Мадридѣ, объявили, что не проходитъ
дня. чтобы міряне не лишались какой-либо части своей собственности для обогащенія
духовенства; и зло это, говорили они, дошло до такихъ размѣровъ, что въ Испаніи
оказывается слишкомъ девять тысячъ монастырей, не считая женскихъ 2). Это за-
мѣчательное показаніе пе было, мнѣ кажется, никогда оспариваемо, и достовѣрность
его подтверждается многими другими обстоятельствами. Давила, жившій въ царство-
ваніе Филиппа III, утверждаетъ, что въ 1623 году одни Доминиканскій и Франци-
сканскій ордена уже заключали въ себѣ до тридцати двухъ тысячъ человѣкъ. Въ
такой же пропорціи умножалось и остальное духовенство. Передъ смертью Филиппа III
число священниковъ, служившихъ въ каѳедральномъ соборѣ Севильи, увеличилось до
ста; а въ Севильской епархіи было четырнадцать тысячъ капеллановъ; въ Калаорр-
ской же—восемнадцать тысячъ 3). Казалось, не было никакой надежды выйти изъ
-) Въ одномъ только выказалъ энергію Филиппъ Ш,
это въ содѣйствія усиліямъ своего министра, напра-
вленнымъ къ распространенію вліянія церкви.
г) Сущность прошенія состояла въ томъ, «чтобы
основательнѣе было обсуждено, какимъ образомъ по-
ложить предѣлъ ежедневному переходу имѣній изъ
свѣтскихъ рукъ въ духовныя, — отчего скудѣетъ пе
только королевское, но п общественное достояніе, надъ
которымъ тяготѣютъ всевозможныя подати и повин-
ности... Что монастырей множество, нищенствующихъ
пропасть, а духовенства страшное количество. Что въ
Испаніи 9.088 мужскихъ монастырей, не считая уже
женскихъ. Что мало-по-малу пожертвованіями и про-
дажей все королевство перейдетъ во владѣніе духо-
венства. Что необходимо положить преграду такому
великому злу. Что необходимо ограничить какъ число
монастырей, такъ и чернаго и бѣлаго духовенства».
3) «Царствованіе Филиппа Ш, прозваннаго вслѣд-
26*
404
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
этого ужаснаго положенія. Чѣмъ богаче становилась церковь, тѣмъ больше было со-
блазна для мірянъ поступать въ духовное сословіе; такъ что не было повидимому
предѣловъ пренебреженію свѣтскими интересами :). Въ самомъ дѣлѣ, движеніе это,
несмотря на его порывистость, отличалось совершенною правильностью и было под-
готовлено цѣлымъ рядомъ предшествовавшихъ обстоятельствъ. Съ пятаго столѣтія
все, какъ мы уже видѣли, неизмѣнно клонилось въ эту сторону, обезпечивая духо-
венству такое владычество, котораго не потерпѣлъ бы никакой другой народъ. При
такомъ подготовленіи умовъ народъ смотрѣлъ въ безмолвіи на то, чему считалось
нечестивымъ противиться; ибо, какъ замѣчаетъ одинъ испанскій историкъ, каждое
предположеніе считалось еретическимъ, если только оно стремилось уменьшить раз-
мѣры или даже остановить дальнѣйшее развитіе того громаднаго богатства, кото-
рымъ обладала испанская церковь 2).
До какой степени все это было естественно, видно еще изъ одного довольно
интереснаго факта. Въ Европѣ вообще семнадцатое столѣтіе отличалось возникно-
веніемъ свѣтской литературы, въ которой не обращалось вниманія на духовныя
теоріи; самые вліятельные писатели, — такіе, какъ Бэконъ и Декартъ, были міряне,
скорѣе враждебно, чѣмъ дружелюбно относившіеся къ іерархіи и проводившіе въ
сочиненіяхъ своихъ чисто свѣтскія воззрѣнія. Но въ Испаши не случилось никакой
перемѣны въ этомъ родѣ 3). Въ этой странѣ церковь сохранила свою власть надъ
всѣми умами, какъ высшаго, такъ и низшаго полета. Такъ сильно было давленіе
общественнаго мнѣнія, что писатели всякаго разряда считали за честь принадлежать
къ духовному сословію, интересы котораго они защищали съ ревностью, достойною
темныхъ вѣковъ. Сервантесъ за три года до своей сйерти сдѣлался францискан-
скимъ монахомъ 4). Лопе де-Вега былъ священникомъ7 и имѣлъ должность въ инкви-
зиціи; въ 1623 году онъ участвовалъ въ ауто-да-фе, въ которомъ, среди обширнаго
стеченія народа, за воротами Алкала въ Мадридѣ былъ сожженъ одинъ еретикъ.
Морето, одинъ изъ трехъ величайшихъ драматическихъ писателей Испаніи, облекся
ствіѳ его набожности Добрымъ, было золотымъ вѣ-
комъ для духовенства. Хотя богослужебныя учрежде-
нія были уже и безъ того слишкомъ многочисленны,
но число ихъ еще болѣо увеличено, а въ уже суще-
ствовавшихъ были воздвигнуты новые алтари. Какъ
безполезно увеличивали число священно*служителей,
еще болѣе ясно пзъ того факта, что въ Севильскомъ
соборѣ ихъ было сто, тогда какъ и полдюжипы было
бы совершенно достаточно для отправленія божествен-
ной службы» (Дунгамъ).
«Между тѣмъ могущество и' власть церкви,
ежеминутно возрастая, увеличились до громадныхъ раз-
мѣровъ. Ея огромныя богатства значительно умень-
шали доходъ казны, и духовное званіе, въ которое
прежде часто поступали только преслѣдуемые песча-
стіями въ жизни, теперь сдѣлалось самымъ привле-
кательнымъ вслѣдствіе огромныхъ преимуществъ, ко-
торыя оно представляло передъ другими сословіями»
(Аптѳкера). «Утварь здѣшнихъ церквей, а также бо-
гатство п великолѣпіе гробницъ, находящихся въ
каждомъ монастырѣ (если принять въ соображеніе
всеобщую бѣдность этого государства), почти неимо-
вѣрны. Въ этомъ народѣ міряне могутъ сказать съ
Давидомъ (хотя и въ другомъ смыслѣ): «2е1из ботиз
іиае сотебіі те>, ибо въ самомъ дѣлѣ богатства мі-
рянъ попали нѣкоторымъ обпазомъ во рты духов-
ныхъ» (Випвудъ).
2) «Въ царствованіе Карла V 2.000.000 дука-
товъ, получаемыхъ духовенствомъ, считались непо-
мѣрнымъ доходомъ; а полстолѣтіо спустя, когда этогъ
доходъ возвысился до 8.000.000, считали еретиче-
скимъ всякое предложеніе, стремившееся къ нѣкото-
рому ограниченію его возрастанія» (Семиерс).
3) Въ сочиненіи объ испанской литературѣ,
изданномъ въ копцѣ прошлаго вѣка п надѣлавшемъ
много шума при своемъ появленіи па свѣтъ, эта осо-
бенность откровенно допускается, по она отнесена
скорѣе къ чести Испаніи въ томъ отношеніи, будто
эта страна произвела философовъ, изслѣдовавшихъ
вещи глубже, чѣмъ Бэконъ, Декартъ и Ньютонъ, ко-
торые хотя и были безъ сомнѣнія люди смышленые,
но ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть сравнены
съ великими мыслителями Пиренейскаго полуострова.
Подобныя увѣренія, высказываемыя но какимъ - ни-
будь невѣжественнымъ порицателемъ естествознанія,
осуждающимъ то, чего онъ не потрудился изучить,
но человѣкомъ дѣйствительно талантливымъ и въ нѣ-
которой степени знающимъ это дѣло,—весьма важны
для исторіи мнѣній; и такъ какъ книга эта не пзъ
обыкновенныхъ, то я сдѣлаю изъ нея два пли три
извлеченія. «Хотя французы соглашаются, что Де-
картъ былъ мечтатель, они все-таки утверждаютъ, что
опъ подвинулъ впередъ европейскую философію, —
какъ будто его мнѣнія очень отличаются отъ ученій
древнихъ. Его трактатъ «О методѣ» не выдержитъ
сравненія съ сочиненіемъ Хуана Луиса Впвеса «Объ
упадкѣ искусствъ», написанномъ гораздо раньше...»
«Дѣйствительно, у насъ не было пи Картезія, ни
Ньютона, и мы не очень жалѣемъ объ этомъ, но у
пасъ были справедливѣйшіе законодатели и превосход-
ные практическіе философы, предпочитавшіе невыра-
зимое удовольствіе трудиться для пользы человѣчества
пустому созиданію мнимыхъ міровъ въ уедппеппой ти-
шинѣ кабинета».
4) Окончательное постриженіе послѣдовало не ра-
нѣе 1616 года, но опъ началъ носить монашеское
одѣяпіо въ 1613 г.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
405
въ монашескую рясу на послѣднія двѣнадцать лѣтъ своей жизни. Манталванъ, ко-
медіи котораго до сихъ поръ не забыты, былъ священникомъ и служилъ при ин-
квизиціи. Таррега, Мира де-Мэскуа и Тирсо де-Молина—всѣ съ успѣхомъ писали
для сцены и принадлежали въ то же время къ духовному сословію. Солисъ, знаме-
нитый историкъ Мексики, былъ тоже духовнымъ. Сандоваль, котораго Филиппъ III
сдѣлалъ исторіографомъ и который считается лучшимъ авторитетомъ въ исторіи
царствованія Карла V, былъ сперва бенедиктинскимъ монахомъ, потомъ сдѣлался
епископомъ туйскимъ и, наконецъ., получилъ Пампелунскую епархію. Давила, біо-
графъ Филиппа Ш, былъ священникомъ. Маріана былъ іезуитомъ. Маньяна, про-
должавшій его исторію, былъ настоятелемъ одного монастыря въ Валѳнціи. Мартинъ
Карильо былъ юрисконсультомъ и историкомъ, но, не довольствуясь этими двумя
профессіями, вступилъ также въ духовное званіе и сдѣлался каноникомъ Сарагоссы.
Антоніо, самый ученый изъ библіографовъ Испаніи, былъ каноникомъ Севильи. Гра-
ціанъ, прозаическія сочиненія котораго были въ большомъ ходу и который считался
прежде великимъ писателемъ, былъ іезуитъ. Между поэтами проявлялось то же са-
мое стремленіе. Паравицино былъ въ продолженіе шестнадцати лѣтъ популярнымъ
проповѣдникомъ при дворахъ Филиппа Ш и Филиппа IV. Замора былъ монахомъ.
Аргенсола былъ каноникомъ Сарагоссы, Гонгора былъ священникомъ, а Ріойя зани-
малъ важную должность въ инквизиціи. Кальдеронъ былъ капелланомъ Филиппа IV
и унизилъ свой блистательный талантъ до такихъ проявленій фанатизма, что его
называли даже поэтомъ инквизиціи. Любовь его къ церкви превращалась въ страсть,
и онъ не стѣснялся ничѣмъ, чтб только могло подвинуть ея интересы. Въ Испаніи
подобныя чувства были естественны, но другимъ пародамъ они кажутся въ высшей
степени странными, и одинъ йцмѣчательный критикъ (фалфи) объявилъ, что невоз-
можно читать сочиненія Кальдерона безъ негодованія. Ёсли это такъ, то негодованіе
это слѣдовало бы распространить почти на всѣхъ испанцевъ, современниковъ Каль-
дерона, отъ мала до велика. Едва-ли нашелся бы въ тѣ времена хоть одинъ испа-
нецъ, не проникнутый тѣми же чувствами. Даже Вильявіщіоза, авторъ одной изъ
самыхъ лучшихъ комическихъ поэмъ, какія произвела Испанія, не только самъ слу-
жилъ въ инквизиціи, но даже настаивалъ въ своемъ завѣщаніи, чтобы всѣ члены
его семейства и его потомки также вступали, если можно, въ это благородное учре-
жденіе, принимая въ немъ всякія мѣста, безъ разбора; ибо, говоритъ онъ, всѣ долж-
ности въ инквизиціи достойны уваженія. При подобномъ состояніи общества все,
что сколько-нибудь отзывалось свѣтскимъ пли научнымъ духомъ, было конечно не-
мыслимо. Каждый вѣрилъ, никто не изслѣдовалъ, Въ высшихъ классахъ всѣ были
заняты или войпою, или теологіею, а большая часть и тѣмъ, и другимъ вмѣстѣ. Тѣ,
которые дѣлали изъ литературы ремесло, приноравливались, какъ часто бываетъ съ
людьми ремесла, къ господствующимъ предубѣжденіямъ. Ко всему, что касалось ду-
ховенства, они относились не только съ уваженіемъ, но даже съ какимъ-то робкимъ,
благоговѣйнымъ чувствомъ. Умѣнье и трудолюбіе, достойныя гораздо лучшаго при-
мѣненія, тратились на похвалы всякаго рода нелѣпостямъ, изобрѣтеннымъ суевѣ-
ріемъ. Чѣмъ болѣе жестокъ и неумѣстенъ былъ какой-нибудь обычай, тѣмъ большее
число лицъ писали въ его защиту, хотя никто не смѣлъ и подумать напасть на
него. Число сочиненій на испанскомъ языкѣ, въ которыхъ доказывается необходи-
мость религіозныхъ гоненій, несмѣтно; и все это писалось въ странѣ, гдѣ ни одинъ
человѣкъ изъ тысячи не сомнѣвался въ томъ, что слѣдуетъ жечь еретиковъ. Что же
касается чудесъ, которыя составляютъ другое важное орудіе въ рукахъ теологовъ,
то въ семнадцатомъ столѣтіи они случались безпрестанно, и не менѣе часто объ
нихъ писали. Всякій литераторъ старался сказать что-нибудь объ этомъ важномъ
предметѣ. Такъ какъ канонизованные были тоже въ большомъ уваженіи, то жизне-
описанія ихъ появились въ изобиліи и отличались равнодушіемъ къ истинѣ, обык-
новенно характеризующимъ этотъ родъ сочиненій. Этими и подобными имъ пред-
метами преимущественно занимался испанскій умъ. Мужскіе и женскіе монастыри,
406
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
религіозные ордена и каѳедральные соборы также обращали на себя всеобщее вни-
маніе, и писались цѣлыя книги для того, чтобы сохранить малѣйшія подробности
о нихъ. Дѣйствительно, часто случалось, что одинъ монастырь или одинъ каѳедраль-
ный соборъ имѣлъ нѣсколько исторіографовъ, и всѣ они хлопотали неперерывъ другъ
передъ другомъ, чтобы какъ можно болѣе почтить церковь и поддержать охраняемые
ею интересы.
Вотъ какой перевѣсъ имѣло духовное сословіе и какое уваженіе къ интере-
самъ церкви оказываемо было въ Испаніи въ теченіе семнадцатаго столѣтія 0.
Испанцы дѣлали все, что могли, для усиленія вліянія духовенства въ тотъ самый
вѣкъ, когда другіе народы ревностно старались ослабить его. Эта несчастная осо-
бенность вытекла безъ сомнѣнія изъ предшествовавшихъ событій, но она была
ближайшею причиной упадка Испаніи. Какъ бы то ни было въ прежнія времена,
но достовѣрно извѣстно, что въ новѣйшее время благоденствіе народовъ зависитъ
отъ такихъ принциповъ, которымъ духовенство, какъ отдѣльная корпорація, оказы-
ваетъ постоянное противодѣйствіе. При Филиппѣ Ш сословіе ото чрезвычайно уси-
лилось, и въ это же царствованіе оно ознаменовало новую эпоху своего могущества,
достигнувъ при условіяхъ, ужасающихъ своимъ варварствомъ, изгнанія всего мавр-
скаго народа. Это было само по себѣ дѣло до такой степени жестокое 2) и до такой
степени ужасное по своимъ послѣдствіямъ, что нѣкоторые писатели одному этому
событію приписали послѣдовавшее паденіе Испаніи, забывая, что другія причины,
гораздо болѣе могущественныя, также дѣйствовали, и что это изумительное зло-
дѣяніе только и могло быть совершено въ такой странѣ, которая, издавна привыкнувъ
смотрѣть на ересь, какъ на самое ненавистное изъ преступленій, готова была, во
что бы то ни стало, очистить и избавить себя отъ людей, одно присутствіе кото-
рыхъ считалось оскорбленіемъ христіанской вѣры.
Послѣ покоренія въ концѣ пятнадцатаго столѣтія послѣдняго магометанскаго
царства въ Испаніи, главной заботой испанцевъ стало обращеніе побѣжденныхъ
въ христіанство. Они думали, что тутъ дѣло идетъ о будущемъ благосостояніи цѣ-
лаго народа, и потому, найдя, что увѣщанія духовенства не имѣютъ никакого дѣй-
ствія, прибѣгли къ другимъ мѣрамъ и стали преслѣдовать людей, на которыхъ не
были въ силахъ подѣйствовать убѣжденіемъ. Однихъ подвергали пыткѣ, другихъ
сожигали, на остальныхъ дѣйствовали угрозами, и такимъ образомъ достигли на-
конецъ цѣли. Утверждаютъ, что съ 1526 года не оставалось въ Испаніи ни одного
магометанина, не обращеннаго въ христіанство. Огромное число ихъ были крещены
силой, а разъ они были крещены, ихъ считали уже принадлежащими къ церкви и
подчиненными ея дисциплинѣ 3). За дисциплиной этой наблюдала инквизиція, ко-
торая въ продолженіе остальной части XVI столѣтія поступала съ этими новыми
христіанами или, какъ ихъ теперь называли, морисками самымъ варварскимъ обра-
зомъ. Дѣйствительность вынужденнаго обращенія ихъ подлежала сомнѣнію, и потому
задачей церкви стало удостовѣряться въ ихъ искренности. Гражданская власть оказы-
вала ей свое содѣйствіе: въ числѣ другихъ узаконеній изданъ былъ въ 1566 году
5) Въ 1623 году Говель пишетъ изъ Мадрида:
«Въ Испаніи оказываютъ церкви такое уваженіе и
имѣютъ такое снятое понятіе о всѣхъ духовныхъ ли-
цахъ, что величайшій сановникъ по осмѣлится оскор-
бить или обидѣть самаго низшаго пзъ духовныхъ.
Благоговѣніе передъ священнодѣйствіями церкви уди-
вительно; короли и королевы не гнушаются цѣлова-
нія рукава капуцина или священника... Здѣсь пѣтъ
такихъ скептиковъ и спорщиковъ, какъ въ другихъ
странахъ». Въ 1669 году другой наблюдатель пишетъ:
«Въ Испаніи властвуютъ монахи, и всюду, гдѣ бы ни
находились, занимаютъ первое мѣсто».
2) «Кардиналъ Ришельё, который былъ не слиш-
комъ способенъ къ состраданію, называетъ дѣло это
самымъ смѣшнымъ и самымъ безчеловѣчнымъ рѣ-
шеніемъ, какое встрѣчается въ исторіи всѣхъ пред-
шествовавшихъ вѣковъ» (Сисмонди).
3) «Эти несчастные были бы всѣ истреблены,
еслибы пе согласились принять крещеніе. Посреди
развалинъ своихъ жилищъ, на дымящихся трупахъ
своихъ женъ опн падали па колѣни. Сгсгтапоз, упоен-
ные кровью, исполняли обязанности священниковъ;
одинъ изъ нпхъ, схвативъ метлу, окропилъ ею толпу
мусульманъ, произнося при этомъ таинственныя слова,
и думалъ, что этимъ сдѣлалъ изъ нихъ христіанъ.
Затѣмъ армія ^егшапоз разсѣялась по окрестностямъ,
грабя сначала, а потомъ крестя».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ. 407
Филиппомъ II эдиктъ, повелѣвающій морискамъ отказаться отъ всего, чтЬ сколько-
нибудь могло напомнить имъ объ ихъ прежней религіи. Имъ было предписано,
подъ страхомъ строжайшихъ наказаній, учиться по-испански и выдать всѣ свои
арабскія книги. Имъ не позволялось ни читать, ни писать, ни даже говорить дома
на своемъ родномъ языкѣ. Ихъ празднества и самыя игры были строго запрещены.
Они не смѣли предаваться никакимъ увеселеніямъ, существовавшимъ у ихъ отцовъ;
имъ запрещено было также носить ту одежду, къ которой они привыкли. Ихъ жен-
щины должны были ходить безъ покрывалъ; и такъ какъ омовеніе было однимъ изъ
нехристіанскихъ обрядовъ, то приказано было уничтожить всѣ общественныя бани и
даже ванны въ частныхъ домахъ 1).
Этими и другими подобными мѣрами этотъ несчастный народъ былъ, наконецъ,
выведенъ изъ терпѣнія и въ 1568 году рѣшился на отчаянный шагъ — помѣряться
силами со всею испанской монархіей. Результатъ едва-ли могъ подлежать сомнѣнію,
но мориски, доведенные до бѣшенства постоянными страданіями и полагавшіе все
въ этой борьбѣ, продлили ее до 1571 года, когда возмущеніе было окончательно
подавлено. Эта безуспѣшная борьба страшно обезсилила ихъ и уменьшила ихъ
численность, такъ что въ продолженіе остальныхъ двадцати семи лѣтъ царствова-
нія Филиппа II сравнительно мало слышно о нихъ. Несмотря на случавшіяся
по временамъ вспышки, старая вражда затихла и съ теченіемъ времени вѣроятно
вовсе исчезла бы. Во всякомъ случаѣ испанцы не имѣли болѣе предлога къ на-
силію, такъ какъ было бы нелѣпо предполагать, чтобы мориски, всячески ослабленные,
униженные, убитые духомъ и разсѣянные по всему королевству, были въ силахъ,
если бы и желали, сдѣлать что-либо противъ исполнительной власти.
Но послѣ смерти Филиппа II началось движеніе, которое я только-что опи-
салъ, и которое, въ противоположность тому, что было у другихъ народовъ, доста-
вило испанскому духовенству въ семнадцатомъ столѣтіи болѣе власти, чѣмъ оно
имѣло въ шестнадцатомъ. Послѣдствія этого обнаружились немедленно. Духовенство,
не считая мѣры, принятыя Филиппомъ противъ морисковъ, рѣшительными, даже при
жизни его помышляло уже о новомъ царствованіи, въ которомъ эти сомнительные
христіане были бы или истреблены, или изгнаны изъ Испаніи 3). До тѣхъ поръ, пока
онъ былъ на престолѣ, благоразуміе правительства сдерживало въ нѣкоторой сте-
пени рвеніе церкви; и король, слѣдуя совѣтамъ своихъ самыхъ способныхъ мини-
стровъ, не соглашался на мѣры, о которыхъ его настоятельно просили и къ кото-
рымъ онъ и самъ имѣлъ склонность. Но при его преемникѣ духовенство, какъ мы
уже видѣли, пріобрѣло новую силу п скоро почувствовало себя довольно могуще-
ственнымъ, чтобы начать другой, и уже окончательный, крестовый походъ противъ
жалкихъ остатковъ маврскаго народа.
Архіепископъ Валенціи первый началъ дѣйствовать. Въ 1602 году этотъ за-
мѣчательный прелатъ представилъ Филиппу III записку, направленную противъ мо-
г) Вандергаммонъ говорятъ намъ только: «Въ
1566 г. королевскимъ повелѣніемъ предписано было
морпскамъ оставить одежду, языкъ и обычаи своп
и во всемъ соображаться съ христіанами... Чтобы
мориски въ три года выучились говорить по-испан-
ски п чтобы по истеченіи этого срока никто но чи-
талъ, не писалъ по-арабски, ни открыто, пи тайно,
чтобы всѣ условія и контракты, заключенные па араб-
скомъ языкѣ, считались недѣйствительными, чтобы
всѣ книги, написанныя по-арабски, были предста-
влены въ теченіе тридцати дней предсѣдателю гранад-
скаго суда для разсмотрѣнія, съ тѣмъ, что оказа-
вшіяся непредосудительными дозволено будетъ хранить
еще въ теченіе трехъ лѣтъ; чтобы болѣо но носили
платья маврскаго покроя, чтобы женщины, одѣтыя по-
маврски, не закрывали лицъ, чтобы при свадьбахъ
не было ни обрядовъ, ни увеселеній маврскихъ, чтобы
соображались съ предписаніями матери-церкви, чтобы
въ такіе дни двери домовъ были открыты, равно какъ
и въ праздники, чтобы па пѣли и по играли мавр-
скихъ пѣсѳнъ, хотя бы въ нихъ не заключало; ;, ни-
чего противнаго христіанской вѣрѣ», и т. д.
2) Одинъ такой случай былъ въ 1578 году, въ
самый день рожденія Филиппа III.
«Въ тогъ самый день, когда родился король,
монахъ, по имени Варгасъ, проповѢдывалъ въ мѣ-
стечкѣ Рнкла, пли Торрельясъ, въ Араговш, насе-
ленномъ исключительно морисками. Видя, что его про-
повѣдь принесла мало плодовъ, онъ обратился къ упор-
ствующему пароду съ слѣдующими пророческими сло-
вами: «такъ какъ вы, проклятые еретики, не хо-
тите отстать отъ вашихъ заблужденій, то знайте, что
въ Кастиліи родился принцъ, который васъ изгонитъ
изъ Испаніи».
408
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
рисковъ; найдя, что его взгляды дружно поддерживаются духовенствомъ и непріятны
воронѣ, онъ повторилъ ударъ, пустивъ въ ходъ другую записку по тому же пред-
мету. Говоря тономъ человѣка, имѣющаго авторитетъ, и будучи по своему сану и
положенію естественнымъ представителемъ испанской церкви, архіепископъ увѣрилъ
короля, что всѣ бѣдствія, постигшія монархію, были причинены присутствіемъ въ
ней этихъ невѣрныхъ, которыхъ теперь необходимо искоренить, подобно тому какъ
Давидъ сдѣлалъ съ филистимлянами и Саулъ съ амалекитянами *). Онъ объявилъ,
что армада, высланная Филиппомъ II въ 1588 году противъ Англіи, погибла отъ
того, что Богъ не хотѣлъ даровать успѣха даже этому благочестивому предпріятію,
пока люди, участвовавшіе въ немъ, оставляли въ покоѣ еретиковъ у себя дома.
По той же, будто бы, причинѣ не удалась и послѣдняя экспедиція въ Алжиръ;
такъ какъ Богу было очевидно угодно, чтобы ничто не имѣло успѣха, пока въ
Испаніи находятся еще отступники 2). Поэтому архіепископъ заклиналъ короля
изгнать всѣхъ морисковъ, исключая такихъ, которыхъ можно было приговорить къ
работамъ на галерахъ или обратить въ рабовъ и заставить работать въ рудникахъ
Америки 3). Это, прибавилъ онъ, сдѣлаетъ царствованіе Филиппа славнымъ въ гла-
захъ всего потомства и поставитъ его превыше всѣхъ его предшественниковъ,
которые очевидно пренебрегали въ этомъ дѣлѣ своими прямыми обязанностями 4).
Эти увѣщанія кромѣ того, что были согласны съ извѣстными взглядами испан-
ской церкви, нашли горячую поддержку и въ личномъ вліяніи архіепископа толед-
скаго, примаса Испаніи. Въ одномъ только отношеніи онъ не соглашался со взгля-
дами, проводимыми архіепископомъ Валенціи. Послѣдній полагалъ, что на дѣтей
моложе семи лѣтъ не должно распространяться это обп^ёе изгнаніе, такъ какъ они
могли, безъ всякой опасности для вѣры, быть разлучены съ родителями и оставлены
въ Испаніи. Противъ этого ейльно возсталъ архіепископъ толедскій. Онъ сказалъ,
х) «Почему можно полагать, что Господу Богу
угодно было даровать Вашему Величеству подвигъ
столь достойный короля, подобно тому, какъ Онъ из-
бралъ Монсея для освобожденія Своего народа, Іисуса
Навипа — для введенія его въ обѣтованную зомлр,
Саула — для истребленія амалѳкитянъ, а Давиду да-
ровалъ побѣду надъ филистимлянами»,., «Когда Богъ
избралъ перваго царя міра и утвердилъ за нимъ цар-
ство, Онъ черезъ пророка повелѣлъ ему истребить
амалѳкитяпъ, пе щадя ни мужчинъ, ни женщинъ, ни
грудныхъ дѣтей, чтобы но осталось и слѣда итого на-
рода. Царь по исполнилъ въ точности этого повелѣнія,
и гнѣвъ Божій лишилъ его царства. Второй царь,
Давидъ, исполнилъ дапный Богу обѣтъ и истребилъ
филистимлянъ».
2) «Когда погибла могущественная армада, по-
сланная противъ Англіи, я, какъ духовникъ и вѣрный
вассалъ, полагаясь на благосклонность покойнаго ко-
роля, осмѣлился сказать Его Величеству, что послѣ
долгаго размышленія о причинѣ, по которой Господь
допустилъ такое несчаетіе, я убѣдился, что этимъ
Царь Небесный хотѣлъ сказать католическому королю,
что онъ пе долженъ заниматься уничтоженіемъ ороси
въ чужихъ ‘странахъ, пока не искоренитъ ея во ввѣ-
ренной ему Испаніи. Теперь же, уповая на милость
Вашего Величества, я осмѣливаюсь также сказать,
что если Господь пе допустилъ насъ завоевать Алжиръ,
несмотря на великую предусмотрительность, съ какою
экспедиція была снаряжена, и несмотря па хорошую
погоду и многія другія обстоятельства, способство-
вавшія ей благопріятнѣйшимъ образомъ,—то это безъ
сомнѣнія потому, что Ему угодно было въ послѣдній
разъ напомнить Вашему Величеству объ обязанности
совершить это богоугодное дѣло». Было бы жаль,
еслибы такой удивительный образчикъ теологическаго
разсужденія остался погребеннымъ въ старомъ рим-
скомъ ін фіагіо. Я поздравляю себя самого и читателя
съ тѣмъ, что я пріобрѣлъ книгу Хименеца «Ѵійа <іе
ВіЬѳга», которая представляетъ обширное хранилище
могущественныхъ, хотя и устарѣвшихъ орудій.
3) «Всѣ эти обстоятельства и многія другія,—
о которыхъ я не упоминаю, чтобы не слишкомъ рас-
пространиться,—по моему мнѣнію, ясно доказываютъ,
что для службы Божіей Ваше Величество по совѣсти
обязаны, какъ король и высшій повелитель, который
долженъ защищать и сохранять свое государство,—
повелѣть изгнать изъ Испаніи всѣхъ морисковъ, ію
щадя никого. Можно оставить только дѣтей моложе
семи лѣтъ, помѣстивъ ихъ въ домахъ старыхъ хри-
стіанъ. Нѣкоторые ученые люди весьма дѣльно пола-
гаютъ, что Ваше Величество можете отдать этихъ дѣ-
тей въ невольники. Изъ тѣхъ же, которыхъ слѣдуетъ
изгнать, Ваше Величество можете, безъ всякаго угры-
зенія совѣсти, иныхъ назначить въ службу на галеры,
а другихъ послать на работу въ американскіе рудники,
чтб принесетъ не малую пользу». Сдѣлать это значило
быть милосердымъ, потому что всѣ они заслуживали
«наказанія смертью»,
4) «Теперь мы видамъ, Ваше Католическое Ве-
личество, что Господь Богъ, по неисповѣдимымъ Его
судьбамъ, допуская, чтобы сохранились тѣ, которые
всегда были врагами его церкви, и чтобы другіе по-
кинули ее,—предоставилъ Вашему Величеству званіе
и подвиги католическаго короля. Вы для славы Бо-
жіей избраны, чтобы очистить Испанію отъ ерети-
ковъ и примѣромъ Вашимъ пристыдить другихъ ко-
ролей. Хотя бы это и стоило большихъ трудовъ и
всего золота и серебра Америки, все-таки это не было
бы напрасной тратой. Эти деньги, напротивъ, будутъ
употреблены съ пользою, ибо вы ихъ жертвуете на
возвеличеніе славы Божіей, Его церкви и вашей ко*
| роны», п т. д.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
409
что не желаетъ подвергать чистую христіанскую кровь опасности смѣшенія съ кровью
невѣрныхъ, и объявилъ, что онъ скорѣе согласился бы сразу предать мечу всѣхъ
ихъ, какъ мужчинъ, такъ и женщинъ и дѣтей, чѣмъ оставить хоть одного изъ нихъ
на соблазнъ для всей страны.
Истребить всѣхъ морисковъ, вмѣсто того чтобы изгнать ихъ, было желаніемъ
могущественной партіи въ церкви, которая думала, что такое примѣрное наказаніе
произведетъ благое дѣйствіе, поразивъ ужасомъ еретиковъ во всѣхъ другихъ стра-
нахъ. Бледа—знаменитый доминиканецъ, одинъ изъ вліятельнѣйшихъ людей своего
времени, желалъ, чтобы это было выполнено, и выполнено строго. Онъ сказалъ, что
для примѣра слѣдуетъ перерѣзать всѣхъ морисковъ въ Испаніи, такъ какъ невоз-
можно узнать, кто изъ нихъ христіанинъ въ душѣ; и что слѣдуетъ предоставить это
дѣло Богу, который знаетъ своихъ вѣрныхъ слугъ п вознаградитъ въ будущей жизни
тѣхъ изъ пострадавшихъ, которые были истинными католиками х).
Становилось очевидно, что судьба несчастныхъ остатковъ нѣкогда славнаго
народа была отнынѣ рѣшена. Религіозность Филиппа Ш не позволяла ему спорить
съ церковью, а его министръ Лерма, не желая рисковать своимъ вліяніемъ, избѣ-
галъ и тѣни оппозиціи. Въ 1609 году онъ объявилъ королю, что изгнаніе мори-
сковъ сдѣлалось необходимымъ. «Рѣшеніе великое,—отвѣчалъ Филиппъ,—да будетъ
оно исполнено*. И оно было исполнено съ страшнымъ варварствомъ. Около милліона
самыхъ трудолюбивыхъ жителей Испаніи были травимы, какъ дикіе звѣри, потому
только, что искренность ихъ религіозныхъ убѣжденій казалась сомнительной. Многіе
были убиты, когда приблизились къ берегу; другихъ били и грабили, а большинство
въ самомъ бѣдственномъ положеніи отправилось въ Африку. Во время переѣзда
экипажи многихъ судовъ возставали на нихъ, убивали мужчинъ, насиловали женщинъ
и бросали въ море дѣтей. Тѣ, которые избѣгли этой участи, высадились на варва-
рійскій берегъ, гдѣ на ихъ напали бедуины, и многіе изъ нихъ были убиты. Другіе
пробрались въ пустыню и погибли съ голода. О числѣ дѣйствительно погибшихъ
мы не имѣемъ точныхъ свѣдѣній; но говорятъ, на основаніи весьма достовѣрныхъ
источниковъ, что въ одной изъ экспедицій, въ которой до 140.000 человѣкъ было
отправлено въ Африку, болѣе 100.000 погибли самой ужасной смертью въ теченіе
нѣсколькихъ мѣсяцевъ послѣ своего изгнанія изъ Испаніи.
Теперь впервые церковь дѣйствительно торжествовала 2). Впервые не было
видно ни одного еретика на всемъ пространствѣ отъ Пиренеевъ до Гибралтарскаго
пролива. Всѣ были правовѣрны—всѣ были вѣрны королю. Всѣ жители этой обширной
страны слушались церкви и боялись короля. Полагали, что слѣдствіемъ этой сча-
стливой идеи будетъ благосостояніе и величіе Испаніи, что имя Филиппа сдѣлается
безсмертно и что потомство не надивится этому геройскому подвигу, съ помощью
котораго послѣдніе остатки невѣрнаго племени были изгнаны изъ Испаніи. Тѣ,
которые хотя сколько-нибудь участвовали въ этомъ дѣяніи, ожидали себѣ въ награду
самыхъ избранныхъ благъ. Сами они и ихъ семейства думали стать подъ непосред-
ственное покровительство небесъ. Полагали, что земля будетъ приносить имъ больше
«Онъ увѣрялъ всѣхъ старыхъ мірянъ, что, но
слову короля, они могутъ, безъ всякаго зазрѣнія со-
вѣсти. перерѣзать всѣхъ морисковъ и не щадить пхъ,
хотя бы оаи и называли себя христіанами, а слѣдо-
вать священному и похвальному примѣру крестонос-
цевъ, поднявшихся на альбигойцевъ, которые (кресто-
носцы), завладѣвъ городомъ Безейрь, населеннымъ
двумя стами тысячъ католиковъ и еретиковъ, спросили
отца Арнольда, цисторціанскаго монаха, главнаго ихъ
проповѣдника, должны ли они предать мечу тѣхъ, ко-
торые объявятъ себя католиками; и получили отвѣтъ
отъ святого аббата, что они должны убивать всѣхъ
безразлично н предоставить Богу, Который знаетъ
своихъ вѣрныхъ слугъ, вознаградить въ будущей жизни
тѣхъ, которые были истинными католиками, - чтб п
было исполнено» (СеОев).
2) Въ одной современной проповѣди, сказанной
въ воспоминаніе изгнанія мавровъ, проповѣдникъ ра-
достно восклицаетъ: «Какая слава для нашего государ-
ства можетъ быть выше топ, что мы всѣ, живущіе
въ немъ, вѣрны Богу и королю и избавлены отъ сосѣд-
ства этихъ еретиковъ и измѣнниковъ?* Другой священ-
никъ восклицаетъ: «Наконецъ онп выселились, и земля
наша избавилась отъ этого гнуснаго народа». «Усер-
діе, съ которымъ короли Испаніи во всякое время под-
держивали католическую вѣру, достойно вниманія, ибо
въ разныя времена они изгнали пзъ своего королевства
три милліона евреевъ, враговъ нашей церкви* (Давила).
410
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
плодовъ и деревья будутъ рукоплескать имъ. Вмѣсто терновника возрастутъ смо-
ковницы, вмѣсто шиповника — мирты. Теперь начнется будто бы, новая эра, и
Испанія, очищенная отъ ереси, будетъ наслаждаться довольствомъ, и люди, живя
въ безопасности, будутъ спать подъ сѣнью своихъ собственныхъ виноградниковъ,
мирно воздѣлывать свои сады и вкушать плоды посаженныхъ ими деревьевъ 1).
Вотъ, что сулила церковь и чему вѣрилъ народъ. Наше дѣло разсмотрѣть, до
какой степени ожиданія эти сбылись, и каковы были послѣдствія образа дѣйствія,
внушеннаго церковью и встрѣченнаго привѣтствіемъ народа и жаркимъ одобреніемъ
величайшихъ изъ геніевъ, какихъ произвела Испанія 2).
Послѣдствія такого образа дѣйствія для матеріальнаго благосостоянія Испаніи
могутъ быть изображены въ немногихъ словахъ. Почти каждая мѣстность въ ней
лишилась цѣлой массы трудолюбивыхъ земледѣльцевъ и искусныхъ ремесленниковъ.
Лучшія пзъ извѣстныхъ тогда системъ хозяйства примѣнялись морисками, которые
обрабатывали и орошали почву съ неутомимымъ стараніемъ. Разведеніе риса, хлопка
и сахарнаго тростника, производство шелка и бумаги находилось почти исключи-
тельно въ ихъ рукахъ* Съ изгнаніемъ ихъ все это вдругъ разстроилось, и большею
частью разстроилось навсегда, потому, что испанскіе христіане считали подобныя
занятія ниже своего достоинства. По ихъ мнѣнію, война и религія представляли
единственныя два поприща, на которыхъ стоило подвизаться. Сражаться за короля
или вступить въ духовное званіе считалось дѣломъ достойнымъ уваженія, все же осталь-
ное было ничтожно и грязно 3). Поэтому, когда мориски были изгнаны изъ Испаніи,
г) Си. проповѣдь архіепископа Валепціи. Я бы
охотно выписалъ еѳ всю, но довольно будетъ позна-=
комить читателя только съ частью заключенія. «Опи-
сывая благоденствіе сыновъ Израиля въ царствованіе
Соломона, св. писаніе говоритъ, что они жили въ
безопасности, спали подъ сѣнію своихъ виноградни-
ковъ и смоковницъ, но боясь никого. Такимъ эісе
счастіемъ будемъ наслаждаться и мы въ Испаніи
отнынѣ впредь, благодаря милосердію нашего государя
и отеческой заботливости Его Величества. У васъ всего
будетъ въ изобиліи; земля оплодотворится и благосло-
веніе низойдетъ на нее. Съ тѣхъ поръ, какъ эти прокля-
тые окрестились, не было ни одного хорошаго урожая.
Теперь всѣ годы будутъ урожайные, ибо эти люди на-
влекали своею ересью и своимъ богохульствомъ без-
плодіе на землю, которая, но словамъ царя пророка
Давида, истощилась и заразилась отъ столькихъ грѣ-
ховъ и гнусностей... И они населятъ безплодныя мѣ-
ста и будутъ пить вино изъ своихъ виноградниковъ
и ѣсть плоды пзъ своихъ садовъ, и пикто пхъ не из-
гонитъ изъ пхъ жилищъ, говоритъ Богъ. Все это ебѣ-
щаетъ Господь черевъ двухъ пророковъ Своихъ. Всего,
повторяю вамъ, будетъ у насъ въ изобиліи... вос-
поминаніе объ этомъ сохранится во вѣки».
2) «Среди благоговѣйнаго ликованія цѣлаго коро-
левства Сервантесъ, Допе де-Вега и другіе геніаль-
ные люди участвовали во всеобщемъ торжествѣ» (Тпк-
норъ). Порренье говоритъ, что это торжество «мо-
жетъ быть причислено къ семи чідесамъ свѣта». Все
это довольно естественно; но что дѣйствительно лю-
бопытно, такъ это—прослѣдить новѣйшіе остатки этого
чувства. Кампоманесъ, весьма способный человѣкъ и
гораздо болѣе либеральный, нежели большая часть его
современниковъ, пе стыдится говорить о справедли-
вомъ изгнаніи морисковъ съ 1610 по 1613 годъ.
Ортицъ въ 1801 году говорить менѣе рѣшительно, по і
очевидно въ пользу мѣры, которая освободила Испа-
нію отъ оставшагося въ пей вреднаго сѣмени Маго-
мета. Даже въ 1856 г. великій новѣйшій псторикъ
Испаніи (Лафуэнте), допуская серьезный матеріальный
вредъ, причиненный странѣ этимъ ужаснымъ преступ-
леніемъ, увѣряетъ насъ, что оно имѣло то огромное і
преимущество»/ что произвело религіозное единство; по
онъ опустилъ изъ виду, что самое это единство, кото-
рымъ онъ хвастаетъ, порождаетъ уступчивость и за-
стои ума,—свойства, пагубныя для всякаго существен-
наго улучшенія, потому что опо предупреждаетъ тотъ
обмѣнъ и то столкновеніе мнѣній, отъ которыхъ умы
людей изощряются и дѣлаются способными къ даль-
нѣйшей работѣ. А годъ спустя послѣ того, какъ это
премудрое мнѣніе было заявлено міру, другой знаме-
нитый пспапсцъ (Тапсз), въ сочиненіи, увѣнчанномъ
королевскою историческою академіею, заходитъ еще
далѣе п объявляетъ, что изгнаніе морисковъ не только
оказало великое благодѣяніе, обезпечивъ единство вѣры,
но что подобное единство было «необходимо па испан-
ской почвѣ». <П если мы съ экономической точки
зрѣнія порицаемъ эту мѣру, вредныя послѣдствія ко-
торой тотчасъ обнаружились, то съ другой стороны
безпристрастіе историка заставляетъ насъ одобрять
ее за несмѣтныя блага, которыя она принесла уве-
личеніемъ порядка религіознаго и государственнаго...
Единство вѣры было необходимо въ Испаніи». Что
думать о страмѣ, въ которой выражаются подобныя
мнѣнія не какими-нибудь невѣжественными фанати-
ками, съ подмостковъ или каѳедры, но способны чи и
учеными людьми, которые проповѣдуютъ ихъ со всѣмъ
авторитетомъ своего положенія, считая себя чуть ли не
слишкомъ смѣлыми и слишкомъ либеральными для на-
рода, которому посвящаютъ свои сочиненія?
3) Болѣе благоразумные изъ испанцевъ замѣчаютъ
съ сожалѣніемъ это національное презрѣніе во всякой
отрасли полезной промышленности. Одинъ путешествен-
никъ, ѣздившій по Испаніи въ 1669 году, говоритъ
о народѣ: «они презираютъ до такой степени трудъ,
что большая часть ремесленниковъ у нихъ иностранцы».
Другой путешественникъ между 1693 и 1695 годами
говорить: «опи считаютъ несогласнымъ съ достоин-
ствомъ пснапца—работать и заботитися о будущемъ».
Третій наблюдатель въ 1679 г. увѣряетъ насъ, что
«они сносятъ гораздо легче голодъ и другія житейскія
нужды, нежели трудъ, говоря, что рабочіе суть пе что
иное, какъ рабы».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
411
некому было занять ихъ мѣсто; ремесла и мануфактурное производство ми упали,
или совершенно исчезли, и обширныя пространства пахотной земли оставались
необработанными. Нѣкоторыя изъ самыхъ богатыхъ мѣстностей Валенціи и Гранады
были такъ запущены, что не доставало продовольствія даже для того скуднаго насе-
ленія, какое тамъ оставалось. Цѣлые округи вдругъ опустѣли и до самаго нашего
времени остались незаселенными. Эти пустыни дали убѣжище контрабандистамъ и
разбойникамъ, которые смѣнили прежнихъ трудолюбивыхъ жителей; говорятъ даже,
что время изгнанія морисковъ должно считать началомъ существованія тѣхъ пра-
вильно организованныхъ разбойничьихъ шаекъ, которыя сдѣлались съ тѣхъ поръ
бичемъ Испаніи и которыхъ ни одно изъ послѣдующихъ правительствъ не было въ
состояніи совершенно уничтожить 1).
Къ этимъ бѣдственнымъ послѣдствіямъ присоединились другія иного и, если
можно, еще болѣе серьезнаго свойства. Побѣда, одержанная духовенствомъ, увели-
чила какъ ея могущество, такъ и ея значеніе въ общественномъ мнѣніи. Въ про-
долженіе остальныхъ годовъ семнадцатаго столѣтія не только интересы духовенства
ставились выше интересовъ мірянъ, но о послѣднихъ никто даже и не думалъ. Са-
мые великіе люди, почти всѣ безъ исключенія, вступали въ духовное сословіе, и
всякія свѣтскія соображенія, всякіе виды свѣтской политики были въ пренебреже-
нія и ни во что не ставились. Никто ничего не изслѣдовалъ, никто ни въ чемъ не
сомнѣвался, никто не осмѣливался спросить, все ли это такъ, какъ быть должно.
Умы людей, обезсиленные, падали ницъ. Въ то время, какъ всѣ другія страны дви-
гались впередъ, одна Испанія обращалась вспять. Всѣ другія страны дѣлали какія-
нибудь приращенія къ знанію, созидали какія-нибудь новыя искусства или рас-
ширяли предѣлы какой-нибудь науки; Испанія же, погруженная въ какое-то оцѣ-
пенѣніе, какъ бы мертвая, околдованная, обвороженная проклятымъ суевѣріемъ,
поглощавшимъ всѣ ея силы,—представляла Европѣ единственный примѣръ постоян-
наго упадка. Для нея не оставалось болѣе никакой надежды, и подъ конецъ XVI сто-
лѣтія весь вопросъ былъ только въ томъ, чьей рукой будетъ нанесенъ ударъ, ко-
торый раздробитъ эту нѣкогда могущественную имперію, осѣнявшую собой весь
міръ, и въ самомъ даже разрушеніи своемъ поражавшую размѣрами своихъ об-
ломковъ.
Указать различные моменты въ постепенномъ упадкѣ Испаніи почти невоз-
можно, такъ какъ даже сами испанцы, подъ вліяніемъ слишкомъ поздно овладѣв-
шаго ими стыда, не рѣшались писать о томъ, чтб составило бы только исторію пхъ
униженія; такъ что не сохранилось подробныхъ сказаній о злополучныхъ царствова-
ніяхъ Филиппа IV и Карла П, обнимающихъ почти восьмидесятилѣтній періодъ
времени. Нѣкоторые факты однакожъ я имѣлъ возможность собрать, и они весьма
знаменательны. Въ началѣ XVII столѣтія народонаселеніе Мадрида доходило до
400.000 человѣкъ; въ началѣ же XVIII оно не составляло и 200.000. Севилья,
одинъ изъ богатѣйшихъ городовъ Испаніи, имѣла въ шестнадцатомъ столѣтіи болѣе
шестнадцати тысячъ ткацкихъ станковъ, дававшихъ занятіе ста тридцати тысячамъ
человѣкъ. Въ царствованіе Филиппа V это число станковъ сократилось до трехсотъ;
а въ отчетѣ, представленномъ Кортесами Филиппу IV въ 1662 году, говорится,
что городъ заключаетъ въ себѣ только четвертую часть прежняго населенія, и что
даже оливковыя рощи и виноградники, разводимые въ его окрестностяхъ и состав-
лявшіе значительную часть его богатства, находятся теперь почти въ совершенномъ
«На картѣ Испаніи въ тысячѣ мѣегъ надпп- !
сапо это постыдное слово «ВезроЫабо» (но населено);
въ тысячѣ мѣстъ дакая природа замѣнила иапіни. 1
Замѣтьте направленіе пустырей и справьтесь съ рее- 1
страма коммиссаровъ изгнанія, и вы увидите почти
всегда, что семейства морисковъ населяли эти пустыни. ;
Покинутая ими земля ихъ предковъ сдѣлалась достоя-
ніемъ воровъ, которые съ нѣкоторою безопасностью
нагло распространяли свои сношенія по всей Испа-
ніи. Разбои организовали нѣчто въ родѣ обычнаго про-
мысла, а спутница ихъ — контрабанда — начала свою
дѣятельность столь же дерзко, сколько и успѣшно»
(Сігсоигі, сПізіоіго дез АгаЬея (ТЕзра&нс*).
412 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
пренебреженіи. Толедо въ половинѣ шестнадцатаго столѣтія имѣлъ болѣе пятиде-
сяти шерстяныхъ мануфактуръ; а въ 1665 году ихъ было уже только тринадцать,—
почти вся торговля прекратилась съ уходомъ морисковъ, которые перевели ее въ
Тунисъ. По той же самой причинѣ производство шелка, которымъ славился Толедо,
совершенно прекратилось, и почти сорокъ тысячъ человѣкъ, находившихся въ за-
висимости отъ этого производства, лишились всякихъ средствъ къ существованію.
Другія отрасли промышленности подверглись той же участи. Въ шестнадцатомъ сто-
лѣтіи и въ началѣ семнадцатаго Испанія славилась производствомъ перчатокъ, ко-
торыхъ выдѣлывалось огромное количество; ихъ вывозили въ разныя страны; осо-
бенно цѣнились онѣ въ Англіи и Франціи и достигали даже Индіи. Но Мартинецъ
де-Мата, писавшій въ 1655 году, увѣряетъ насъ, что въ его время этотъ источ-
никъ богатства изсякъ; производство перчатокъ совершенно прекратилось, хотя
прежде, добавляетъ онъ, оно существовало въ каждомъ городѣ Испаніи. Въ нѣкогда
цвѣтущей провинціи Кастиліи все приходило въ разрушеніе, даже Сеговія лиши-
лась своихъ мануфактуръ и сохранила только память о своемъ прежнемъ богат-
ствѣ. Такъ же быстро падалъ и Бургосъ; торговля этого славнаго города погибла,
и пустыя улицы, и покинутые дома представляли такую картину запустѣнія, что
одинъ современникъ, пораженный этимъ разрушеніемъ, торжественно объявилъ, что
Бургосъ лишился всегол кромѣ своего имени. Въ другихъ округахъ результаты были
столь же пагубны. Прекрасныя южныя провинціи, щедро одаренныя природой, были
въ прежнее время такъ богаты, что въ плохіе годы сборомъ съ нихъ однѣхъ доста-
точно пополнялась государственная казна; теперь же онѣ такъ быстро обѣднѣли,
что въ 1640 году оказалось почти невозможнымъ обложить ихъ такою податью,
которая была бы производитёдьна *). Въ теченіе послѣдней половины ХѴІІ-го столѣтія
дѣла стали еще хуже, и нищета, и бѣдствіе народа превосходили всякое описаніе.
Въ деревняхъ близъ Мадрида жители буквально голодали; и тѣ изъ фермеровъ, у
которыхъ были запасы нищи, не хотѣли продавать ее, какъ бы ни нуждались въ
деньгахъ, потому что боялись, чтобы ихъ собственнымъ семействамъ не пришлось уме-
реть съ голода. Вслѣдствіе этого столицѣ угрожала опасность голодной смерти; и такъ
какъ обыкновенныя угрозы не имѣли никакого дѣйствія, то въ 1664 году признано
было необходимымъ, чтобы президентъ Кастиліи съ вооруженной силой и въ сопро-
вожденіи палача объѣзжалъ окрестныя деревни и принуждалъ жителей привозить
припасы на рынки Мадрида. По всей Испаніи преобладало такое же лишеніе. Эта
нѣкогда богатая и цвѣтущая страна была наводнена толпами монаховъ и другого
духовенства, ненасытная жадность которыхъ поглощала и тѣ скудные достатки,
какіе еще можно было найти въ ней. Вотъ отчего правительство было почти безъ
гроша и ни откуда не получало помощи. Сборщики податейг обязанные пополнить
этотъ недостатокъ, прибѣгали къ самымъ отчаяннымъ средствамъ. Они не только
захватывали весь домашній скарбъ, но и снимали кровли съ домовъ, и продавали
эти матеріалы за какую бы то ни было цѣну. Жители принуждены были бѣжать;
поля оставались необработанными, массы людей умирали отъ нужны и всякихъ бѣд-
ствій; цѣлыя деревни опустѣли, и во многихъ городахъ подъ конецъ XVII столѣтія
болѣе двухъ третей домовъ пришли въ совершенное разрушеніе й).
х) Правительство тогда только сдѣлалось чувстви-
тельно ко всему этому, когда нашло, что нельзя бо-
лѣе выжимать деньга изъ народа. Въ маѣ 1667 года
государственный совѣтъ, созванный королевою, ска-
залъ между прочимъ слѣдующее въ своемъ донесеніи:
«что касается денежныхъ средствъ, которыя хотѣли
бы извлечь изъ Испаніи, подъ видомъ ли доброволь-
ныхъ приношеній, или какъ-нибудь иначе, то совѣтъ
находитъ, что весьма трудно обложить пародъ новыми
тягостями»; а въ ноябрѣ того же года, при другомъ
собраніи совѣта, была составлена записка, въ кото-
рой излагалось, что <со времени царствованія Фер-
дипанда Католика а до нашихъ дней испанская мо-
нархія еще ни разу не была такъ близка къ паденію,
такъ истощена, такъ бѣдва средствами, необходимыми
для того, чтобы стать лицомъ къ лицу съ большой
опасностью».
2) Только точное и неопровержимое показаніе со-
временнаго свидѣтеля можетъ сдѣлать эти вещи вѣроят-
ными. Въ 1686 г. Аіѵагег (Могіо у Вейіп писалъ свои
«ВІ8СНГ808». Они были изданы въ 1687 и 1688 го-
дахъ, а въ 1775 перепечатаны въ Мадридѣ; изъ итого
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
413
Посреди этихъ бѣдствій Испанія упала духомъ и потеряла всякую энергію.
Во всемъ стало проявляться часто отсутствіе силы и жизни. Испанскія войска были
разбиты при Рокруа въ 1643 году, и сраженію этому нѣкоторые историки приписы-
ваютъ уничтоженіе военной славы Испаніи. Но въ сущности пораженіе это было
только однимъ изъ многихъ признаковъ ея ослабленія. Въ 1656 году предположено
было снарядить небольшой флотъ; но прибрежное рыболовство было въ такомъ
упадкѣ, что оказалось невозможнымъ найти достаточное число матросовъ даже для
немногихъ кораблей 1). Составленныя въ прежнее время морскія карты были теперь
пли потеряны, или оставляемы безъ употребленія, и невѣжество испанскихъ лоцма-
новъ было такъ велико, что никто не хотѣлъ довѣряться имъ. Что же касается во-
енной части, то въ одномъ разсказѣ объ Испаніи въ концѣ XVII столѣтія утвер-
ждаютъ, что большая часть войскъ покинула свои знамена, а немногія оставшіяся
вѣрными были одѣты въ лохмотья, не получали жалованья и умирали съ голода.
Въ другомъ разсказѣ эта нѣкогда могущественная монархія представляется крайне
беззащитною: пограничные города безъ гарнизона; укрѣпленія запущены и полураз-
рушены; магазины безъ провіанта; арсеналы пусты; мастерскія безъ употребленія и
даже искусство кораблестроенія совершенно утрачено.
Въ то время какъ вся страна вообще томилась такимъ образомъ, какъ бы
пораженная какимъ-нибудь смертельнымъ недугомъ, въ столицѣ, на глазахъ короля,
происходили самыя ужасныя сцены. Жители Мадрида голодали, а произвольныя
мѣры, принятыя для снабженія ихъ пищей, могли только принести временное облег-
ченіе. Многія лица падали отъ изнеможенія на улицахъ и тутъ же умирали; иныхъ
видѣли умирающими на большихъ дорогахъ, но никто не имѣлъ чѣмъ накормить ихъ.
Наконецъ, народъ пришелъ въ отчаяніе и сбросилъ всякую узду. Въ 1680 году въ
Мадридѣ не только рабочіе, но и огромное число торговцевъ соединялись въ шайки,
вламывались въ частные дома и среди бѣлаго дня грабили и убивали жителей 2).
перепечатаннаго изданія я извлекаю слѣдующія замѣ-
чательныя слова: «Необходимо описать со всею крат-
костью, какую допускаетъ этотъ предметъ, какимъ
образомъ сборщики податей грабятъ города п села
подъ предлогомъ служенія Вашему Величеству. Опп
являются и сообщаютъ мѣстнымъ властямъ о своемъ
порученіи. Тогда послѣднія просятъ ихъ щадить жи-
телей, терпящихъ крайнюю нужду. Первые же, по
своему обыкновенію, тотчасъ отвѣчаютъ, что пе ихъ
дѣло миловать, что имъ велѣно собирать подати со
всей строгое гыо и что имъ сверхъ этого нужно до*
ставать и собственное жалованье. Они отправляются
въ дома бѣдныхъ земледѣльцевъ и другихъ жителей,
отбираютъ послѣднія деньги, а гдѣ ихъ нѣтъ, берутъ
вещи въ залогъ. У кого и вещей нѣтъ, у тѣхъ отни-
маютъ даже жалкія постели, на которыхъ спять бѣд-
няки, и, наконецъ, остаются продавать собранное до
тѣхъ поръ, пока возможно... Эти грабежи совершаются
и въ настоящее время и принуждаютъ деревенскихъ
жителей покидать свои дома н гставлять поля невоз-
дѣланными. Сборщики же, дѣйствуя какъ въ непрія-
тельской землѣ, не чувствуютъ никакой жалости при
впдѣ этихъ печальныхъ зрѣлищъ. Они продаютъ по-
кинутые дома, когда только находятъ покупателей,
если же пхъ нѣть, то снимаютъ крыши и продаютъ
балки п черепицу за безцѣнокъ. Отъ этого разоренія
въ деревняхъ едва осталась третья часть домовъ, и
много народа погибло отъ разныхъ лишеній. Народо-
населеніе Испаніи уменьшилось на половину, и если I
описанныя злоупотребленія скоро не прекратятся, то
придется населять со людьми изъ другихъ государствъч>. I
т) «Столѣтіе тому назадъ, говоритъ Дюнлонъ,
Испанія была такъ же иолновласгпа на морѣ, какъ и
на сушѣ; ея обыкновенныя морскія силы состояли изъ
140 галеръ, которыя были ужасомъ Средиземнаго моря
и Атлантическаго океана. Но теперь (1656 г.), вслѣд-
ствіе упадка торговли и прибрежнаго рыболовства,
вмѣсто многочисленныхъ эскадръ Доріевъ и Мендозъ,
требовавшихся для содѣйствія предпріятіямъ перваго
великаго Іоанна Австрійскаго и императора Карла,
нынѣшній генералъ-адмиралъ Нспапіп и любимый сынъ
ея монарха вышелъ въ море съ тремя плохими гале-
рами, которыя съ трудомъ ушли отъ какихъ-то ал-
жирскихъ корсаровъ ц впослѣдствіи едва по потер-
пѣли крушенія у береговъ Африки». Въ 1663 году,
по словамъ Мипьо, «въ Кадиксѣ не было ни кораблей,
пи галеръ, способныхъ ныйтп въ море. Мавры дѣлали
дерзкія нападенія на берега Андалузіи и забирали
безнаказанно лодка, осмѣливавшіяся удалиться на одну
лигу отъ рейда. Командовавшій морскими силами гер-
цогъ Албукеркъ громко жаловался па унизительное
положеніе, въ которомъ его оставляли. Онъ настоя-
тельно требовалъ, чтобы ему дали матросовъ и сол-
датъ для посаженія на суда; но графъ Кастрпльо,
президентъ финансоваго совѣта, объявилъ, что у него
нѣтъ ни денегъ, ни возможности найти ихъ, а потому
совѣтовалъ отказаться отъ морскихъ силъ».
2) Въ 1680 году г-жа Впльяръ, жена француз-
скаго посла, пишетъ изъ Мадрида, что дѣла тамъ
были въ такомъ положеніи, что мужъ ея считалъ бла-
горазумнымъ, чтобы опа возвратилась домой. Въ одномъ
письмѣ, писанномъ датскимъ посломъ въ 1677 іоду,
говорится, что каждый домъ въ Мадридѣ правильно
вооруженъ «сверху до низу». Случаи голодной смерти
были, говорятъ, особенно многочисленны въ Андалузіи,
и севильское городское правленіе прислало депутацію
представить королю, что въ городѣ осталась только
четвертая часть того населенія, которое онъ имѣлъ за
пятьдесятъ лѣіъ до того.
414
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Въ теченіе остальныхъ двадцати лѣтъ XVII столѣтія столица Испаши была въ
состояній не возмущенія, а анархіи. Общество было распущенно и повидимому
разлагалось на составныя части. По искреннему выраженію одного современника,
свобода и стѣсненіе были одинаково неизвѣстны. Обыкновенныя отправленія испол-
нительной власти были прерваны. Полиція Мадрида, не получая заслуженнаго жа-
лованья, разошлась и предалась грабежу. Казалось, не было никакихъ средствъ
исправить всѣ эти бѣдствія. Казначейство было пусто, и пополнить его не было
возможности. Бѣдность двора доходила до того, что пе было денегъ на уплату жа-
лованья домашней прислугѣ короля и на ежедневныя хозяйственныя издержки 1) Въ
1693 году прекращена была выдача всякихъ пожизненныхъ пенсій, и всѣмъ чи-
новникамъ и министрамъ короны уменьшено было жалованье на одну треть. Ничто
однако не могло остановить зла. Голодъ и бѣдность продолжали увеличиваться. Въ
1696 году Стэпгоиъ, тогдашній англійскій посланникъ въ Мадридѣ, пишетъ, что не
проходило ни одного дня, чтобы не случилось убійства въ дракѣ изъ-за хлѣба; что
его собственный секретарь видѣлъ пять женщинъ, задушенныхъ толпою передъ пе-
карней, и что къ довершенію всѣхъ несчастій недавно нагрянули еще на столицу
слишкомъ двадцать тысячъ нищихъ изъ деревень 2).
Еслибы подобный порядокъ вещей сохранился еще на одно поколѣніе, то
произошла бы самая дикая анархія, и окончательно распался бы весь обществен-
ный строй. Одно, что оставалось для Испаніи, чтобъ спастись отъ возвращенія къ
первобытному варварству, это подпасть, и подпасть какъ можно скорѣе, подъ чуже-
земное владычество. Подобная перемѣна была необходима, но можно было опасаться,
что она осуществится въ скормѣ, особенно ненавистной для народа. Въ концѣ ХѴП
столѣтія Цейта была осаждаема магометанами; а такъ какъ испанское правительство
не имѣло ни войскъ, ни кораблей, то сильно боялись за судьбу этой важной крѣпости;
между тѣмъ не было никакого сомнѣнія, что въ случаѣ ея паденія Испанія будетъ
вновь наводнена невѣрными, которымъ, по крайней мѣрѣ въ то время, не трудно
было бы справиться съ народомъ, ослабленнымъ страданіями, полу-голоднымъ и почти
окончательно изнеможденнымъ.
Къ счастью, въ 1700 году, когда дѣла были въ самомъ худшемъ положеніи,
Карлъ II, этотъ король-идіотъ, умеръ и Испанія попала въ руки къ Филиппу V,
внуку Людовика XIV. Эта замѣна Австрійской династіи Бурбонскою принесла съ
собою много другихъ перемѣнъ. Филиппъ, царствовавшій отъ 1700 до 1746 года,
былъ французъ не только по рожденію и воспитанію, но и по чувствамъ, и при-
вычкамъ. При самомъ отправленіи его въ Испанію Людовикъ наказывалъ ему не
забывать, что онъ—уроженецъ Франціи, престолъ которой можетъ ему со временемъ
достаться. Такимъ образомъ, сдѣлавшись королемъ, опъ не обращалъ вниманія на
испанцевъ, пренебрегалъ пхъ совѣтами и отдалъ всю, какую имѣлъ, власть въ руки
своихъ соотечественниковъ* Дѣлами Испаніи управляли теперь подданные Людовика
XIV, посланникъ котораго въ Мадридѣ часто исполнялъ обязанности перваго ми-
нистра. Эта нѣкогда могущественнѣйшая монархія въ свѣтѣ сдѣлалась теперь чуть
ли не провинціею Франціи; всѣ важныя дѣла рѣшались въ Парижѣ, откуда самъ
‘Филиппъ получалъ инструкціи.
г) Въ 1681 году жена французскаго посла пи-
шетъ изъ Мадрида: «Мнѣ нечего уже и говорить вамъ
о крайней бѣдности этого королевства. Голодъ ощу-
щается даже въ самомъ дворцК. Я была вчера въ об-
ществѣ восьми или десяти камеристокъ и Молины,
которыя говорили, что имъ ужо давно не отпускаютъ
ни хлѣба, ни говядины. Въ конюшняхъ короля и ко-
ролевы происходить то же са:юе>.
«Недостатокъ хлѣба быстро приближается къ
голоду, усиливаясь отъ стеченія сірашиаго множества
нищихъ изъ окрестныхъ мѣстностей. Я кое-какъ пе-
ребивался до сегодняшняго дня, но трудность достать
что-либо безъ содѣйствія властей заставила меня об-
ратиться къ Коррежид фу, подобно тому, чтб уже сдѣ-
лала прежде большая часть иностранныхъ министровъ;
онъ, весьма вѣжливо освѣдомившись о числѣ членовъ
моего семейства, далъ ордеръ на ежедневное полученіе
двадцати хлѣбовъ; но я долженъ посылать ними за
двѣ лиги, въ Валъехасъ, чтб я сдѣлалъ уже сегодня
; вечеромъ, и мои слуги возвращаются вооруженные
[ длинными ружьями, иначе у нш отняли бы ношу,
пбо ежедневно па улицахъ случается нѣсколько убійствъ
: въ дракахъ изъ-за хлѣба;—все, что кому удастся за-
; хватить, считается законною добычею>...
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ. 415
И, дѣйствительно, Испанія, сокрушенная и уничтоженная, не въ силахъ была
произвести дарованіе, въ какомъ бы то ни было родѣ; и если приходилось управлять
страною, то необходимо было призывать иностранцевъ. Даже въ 1682 году, то-есть
за восемнадцать лѣтъ до вступленія на престолъ Филиппа V, нельзя было найти ни
одного природнаго испанца, хорошо знакомаго съ военнымъ искусствомъ, такъ что
Карлъ II былъ принужденъ ввѣрить оборону испанскихъ Нидерландовъ Де-Гранѣ,
австрійскому посланнику въ Мадридѣ. Поэтому, когда возгорѣлась война за наслѣд-
ство престола, въ 1702 году даже сами испанцы пожелали, чтобы ихъ войска были
предводительствуемы иностранцемъ. Въ 1704 году удивительное представлялъ собою
зрѣлище герцогъ Бервикъ, англичанинъ, ведущій испанскихъ солдатъ противъ не-
пріятеля, и, на дѣлѣ, генералиссимусъ испанской арміи. Король Испаніи, недовольный
его дѣйствіями, рѣшился отозвать его; но вмѣсто того, чтобы замѣнить его прород-
нымъ испанцемъ, обратился къ Людовику XIV, прося другого генерала; и важный
постъ главнокомандующаго арміи былъ порученъ маршалу Тессэ, французу. Нѣсколько
времени спустя Бервика опять пригласили въ Мадридъ и повелѣли стать во главѣ
испанскихъ войскъ для защиты Эстремадуры и Кастиліи. Онъ дѣйствовалъ съ пол-
нымъ успѣхомъ; въ сраженіи при Альмансѣ въ 1707 году онъ разбилъ противни-
ковъ, совершенно уничтожилъ партію претендента Карла и упрочилъ престолъ за
Филиппомъ. Но такъ какъ война все еще продолжалась, то Филиппъ въ 1710 году
потребовалъ изъ Парижа другого генерала и просилъ именно герцога Вандома. Этотъ
талантливый генералъ съ прибытіемъ своимъ въ Испанію внесъ новую силу въ со-
вѣты испанцевъ и совершенно разбилъ союзниковъ; такъ что война, утвердившая
независимость Испаніи, была обязана своимъ успѣхомъ способностямъ иностранцевъ
и тому факту, что и планъ, и самое веденіе кампаніи7 было дѣломъ не туземныхъ,
а французскихъ и англійскихъ генераловъ.
Точно также финансы въ концѣ семнадцатаго столѣтія были въ такомъ пла-
чевномъ состояніи, что Портокарреро, бывшій при вступленіи на престолъ Филиппа V
номинальнымъ министромъ Испаніи, выразилъ желаніе, чтобы управленіе ими было
поручено какому-либо лицу, присланному изъ Парижа, которое могло бы исправить
ихъ. Онъ чувствовалъ, что никто въ Испаніи не въ силахъ совладать съ этой за-
дачей—и не онъ одинъ такъ думалъ. Въ 1701 году Лувилль писалъ къ Торси, что
если не прибудетъ немедленно изъ Франціи какой-нибудь финансистъ, то скоро не
останется никакихъ финансовъ и не будетъ чѣмъ и управлять. Выборъ палъ на
Орри, который пріѣхалъ въ Мадридъ лѣтомъ 1701 года. Онъ нашелъ все въ самомъ
жалкомъ состояніи; и неспособность испанцевъ была такъ очевидна, что онъ скоро
былъ принужденъ принять на себя управленіе не только финансами, но и дѣлами
военными. Для вида сдѣланъ былъ военнымъ министромъ Каналецъ; но, ничего не
понимая въ дѣлахъ, онъ исполнялъ только самыя мелочныя обязанности своей долж-
ности, настоящія тягости которой несъ самъ Орри.
Это владычество французовъ продолжалось все время до второго брака Фи-
липпа V, въ 1714 году, и до смерти Людовика XIV, въ 1715; оба эти событія осла-
били это вліяніе, и одно время почти совершенно уничтожили его. Однако же власть,
утраченная французами, перешла не къ испанцамъ, а къ другимъ чужеземцамъ. Ме-
жду 1714 и 1726 годами двумя самыми могущественными и самыми замѣтными лич-
ностями въ Испаніи были: Алберони, итальянецъ, и Рипперда, голландецъ. Рипперда
былъ уволенъ въ 1726 году, и послѣ его паденія дѣлами Испаніи управлялъ нѣ-
мецъ Конпгсегь, бывшій собственно австрійскимъ посломъ въ Мадридѣ. Даже Гри-
мальдо, бывшій министромъ до Рипперды и послѣ его увольненія, принадлежалъ къ
французской школѣ и воспитывался подъ руководствомъ Орри. Все это не было
дѣломъ случая; нельзя также этого приписывать п капризу двора. Въ Испаніи на-
ціональный духъ до такой степеніі вымеръ, что только иностранцы или люди, напи-
танные иностранными идеями, могли справиться съ обязанностями управленія. Къ
приведеннымъ уже мною свидѣтельствамъ объ этомъ предметѣ я прибавлю еще два
416 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
другихъ. Поайль, весьма справедливый судья и человѣкъ, далеко не предубѣжденный
противъ испанцевъ, выразительно сказалъ въ 1710 году, что при всей ихъ предан-
ности престолу они неспособны были къ управленію, такъ какъ они не имѣли по-
нятія ни о войнѣ, ни о политикѣ. Въ 1711 году Боннакъ говоритъ, что принято
было за правило не ставить во главѣ управленія ни одного испанца, потому что всѣ,
кого призывали до того времени, оказывались или несчастливыми, или недобро-
совѣстными.
Управленіе Испаніей, отнятое изъ рукъ испанцевъ, стало теперь обнаруживать
нѣкоторые признаки силы. Перемѣна была незначительная, но она была направлена
въ надлежащую сторону, хотя, какъ мы сейчасъ увидимъ, и не могла возродить
Испанію вслѣдствіе неблагопріятнаго дѣйствія общихъ причинъ. Все-таки намѣреніе
было доброе. Въ первый разъ сдѣланы были попытки защитить права мірянъ и
уменьшить власть духовенства. Лишь только французы утвердили свое владычество,
какъ онп уже стали намекать, что благоразумно было бы, для удовлетворенія по-
требностей государства, принудить духовенство уступить часть тѣхъ богатствъ, ко-
торыя оно накопило въ своихъ церквахъ. Людовикъ XIV даже настаивалъ, чтобы
важная должность президента Кастиліи не была замѣщаема лицомъ духовнымъ, по-
тому, говорилъ онъ, что въ Испаніи священники и монахи и безъ того уже слиш-
комъ много имѣютъ власти. Орри, имѣвшій въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ огромное
вліяніе на дѣла, направлялъ ихъ въ ту же сторону. Онъ старался уменьшить тѣ
льготы, которыми пользовалось духовенство въ отношеніи податей и въ отношеніи
изъятія отъ свѣтской юрисдикціи. Онъ возставалъ противъ привилегіи святилищъ,
стараясь лишить церкви права укрывать преступниковъ. Онъ даже нападалъ на
инквизицію, и такъ сильно подѣйствовалъ на умъ короля, что Филиппъ однажды рѣ-
шился уничтожить это страшное судилище и упразднить самую должность великаго
инквизитора. Намѣреніе это однако было оставлено, и совершенно основательно,
ибо не подлежитъ сомнѣнію, что еслибы оно осуществилось, то произошла бы ре-
волюція, въ которой Филиппъ вѣроятно лишился бы короны *). Въ этомъ случаѣ
возбудилась бы реакція, послѣ которой церковь стала бы сильнѣе, чѣмъ когда-либо.
Многое однако было сдѣлано для Испаніи наперекоръ испанцамъ 2). Въ 1707 году
духовенство было принуждено уступить государству небольшую часть своихъ огром-
ныхъ богатствъ; налогъ этотъ былъ прикрытъ названіемъ займа 3). Десять лѣтъ спустя,
въ управленіе Алберони, эта маска была сброшена, и правительство не только тре-
бовало того, что теперь стало уже называться «духовною податью», но даже подвер-
гало тюремному заключенію или изгнанію тѣхъ священниковъ, которые отказыва-
лись платить эту подать и стояли за привилегіи своего сословія. Это былъ слиш-
комъ дерзкій шагъ для Испаніи, и на него не отважился бы въ то время ни одинъ
изъ испанцевъ. Но Алберони, какъ иностранецъ, не довольно былъ знакомъ съ пре-
Въ 1714 году признано было необходимымъ,
чтобы Филиппъ, пе имѣвшій счастья получить испан-
ское воспитаніе, былъ просвѣщенъ на счетъ значенія
инквизиціи. Поэтому ему сообщили, «что чистота ка-
толической вѣры въ Иснаніи зависитъ отъ бдительности
инквизиціи, слуги которой нсѣ справедливы, снисхо-
дительны и осмотрительны, а не строги и жестоки,
какъ ихъ ошибочно или злонамѣренно описываютъ
французы. Что цѣлость государства очень много за-
виситъ отъ сохраненія чистоты католической
вѣры» (Ортицъ). У Бакальяра есть интересный раз-
скажи о нападеніяхъ на нрава церкви, — нападеніяхъ,
которыя, по его словамъ, «несообразны съ ученіемъ
отцовъ церкви и съ ея привилегіями, и очень близки къ
ереси». Онъ выразительно присовокупляетъ: «Испанцы,
столь благочестивые и преданные церкви, стали ду-
мать, что ее угнетаютъ. Обнаруживалось нѣкото-
рое волненіе, поджигаемое ѵротивникамгг короля,
который, несмотря на чистоту своихъ намѣре-
ній, могъ бытъ введенъ въ заблужденіе, но ни-
когда не могъ увлечься до сопротивленія свягцен-
нымъ католическимъ законамъ» в т. д. Подобныя
слова, исходя въ ХѴШ столѣтіи изъ устъ человѣка,
подобнаго маркизу де Сопъ*Фелипе, имѣютъ нема-
лую важность для исторіи испанскаго ума.
2) Уже въ маѣ 1702 года Филиппъ У въ письмѣ
къ Людовику XIV жалуется, что испанцы противодѣй-
ствуютъ ему во всемъ. «Я считаю себя обязаннымъ
сказать вамъ, что я всо болѣе и болѣе примѣчаю,
какъ мало имѣюіъ испанцы усердія къ моей пользѣ,
какъ въ ничтожныхъ вещахъ, такъ и въ важныхъ, п
что онп сопротивляются всему тому, чего я желаю».
3) «Однако заемъ въ четыре милліона, сдѣланный
у духовенства въ 1707 году, очень не понравился папѣ
пли его министрамъ».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
417
даніями страны; онъ впрочемъ явно пренебрегъ ими и въ другомъ достопамятномъ
случаѣ. Мадридское правительство, дѣйствуя въ совершенномъ согласіи съ обществен-
нымъ мнѣніемъ, всегда выказывало нерасположеніе вступать въ какіе-либо переговоры
съ невѣрными, подъ которыми подразумѣвался всякій народъ, расходившійся въ ре-
лигіозныхъ убѣжденіяхъ съ испанцами. Иногда такіе переговоры бывали неизбѣжны,
но къ нимъ приступали со страхомъ и трепетомъ, чтобы чистая испанская вѣра не
осквернилась слиткомъ близкимъ соприкосновеніемъ съ невѣрными. Даже въ 1698 г.,
когда было очевидно, что монархія находится при послѣднемъ изнеможеніи и ничто
не можетъ спасти ее отъ рукъ хищника, предразсудокъ былъ такъ силенъ, что
испанцы отказались принять помощь отъ голландцевъ по той причинѣ, что они —
еретики. Въ то время Голландія была въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ къ Англіи,
въ интересахъ которой было оградить независимость Испаніи отъ злоумыпіленій
Франціи. Какъ ни была очевидна польза отъ подобнаго союза, но испанскіе теологи,
когда спросили ихъ совѣта, объявили, что союза этого нельзя допустить, такъ какъ
это дало бы возможность голландцамъ распространять свои религіозныя мнѣнія; что
въ этихъ видахъ лучше подчиниться католику-врагу, чѣмъ принять помощь отъ друга-
протестанта.
Но какъ бы ни была велика вражда испанцевъ къ протестантамъ, ненависть
ихъ къ магометанамъ была еще сильнѣе. Они никогда не могли забыть, какъ нѣкогда
послѣдователи этой вѣры завоевали почти всю Испанію и въ продолженіе нѣсколь-
кихъ столѣтій владѣли лучшею частью ея. Воспоминаніе это еще болѣе усиливало
ихъ религіозную вражду и заставляло ихъ быть первыми сторонниками всякой войны,
которая велась противъ магометанъ, какъ турокъ, такъ И/арабовъ х). Но Алберони,
какъ иностранецъ, не проникался этими соображеніями и, къ изумленію всей Испаніи,
изъ однихъ политическихъ видовъ пренебрегъ принцйпами церкви и не только
заключилъ союзъ съ магометанами, но и снабдилъ ихъ оружіемъ и деньгами. Правда,
что въ этихъ и другихъ подобныхъ мѣрахъ Алберони шелъ прямо противъ воли на-
рода и что ему пришлось раскаяться въ своей смѣлости; но правда и то, что его
политика составляла часть того великаго свѣтскаго и анти-теологическаго движенія,
которое въ продолженіе ХѴШ столѣтія чувствовалось по всей Европѣ. Дѣйствіе этого
движенія замѣчалось на правительствѣ Испаніи, но не на ея народѣ. Это произошло
отъ того, что управленіе было въ продолженіе многихъ лѣтъ въ рукахъ иностранцевъ
или людей, проникнутыхъ иностраннымъ духомъ. Вотъ почему мы находимъ, что въ
теченіе большей части XVIII столѣтія политическіе дѣятели въ Испаніи составляли
классъ, болѣе разобщенный съ остальной націей и, если могу такъ выразиться, бо-
лѣе живущій средствами своего собственнаго ума, чѣмъ въ какой-либо другой странѣ
въ тотъ же періодъ времени. Что въ этомъ проглядывало нездоровое состояніе обще-
ства и что никакое политическое улучшеніе не можетъ послужить къ дѣйствитель-
ному благу, если его не пожелалъ народъ прежде, чѣмъ оно было введено,—съ этимъ
согласится всякій, кто вполнѣ усвоилъ себѣ уроки, преподанные исторіей. Къ чему
это привело дѣйствительно въ Испаніи, мы увидимъ вскорѣ. Но мнѣ не мѣшаетъ
предварительно привести дальнѣйшія доказательства того, до какой степени въ Испа-
ніи вліяніе духовенства запугало умъ націи; пресѣкая всякое изслѣдованіе и стѣс-
2) Маркизъ Санъ-Фелипе, писавшій въ 1725 году,
говоритъ: «Католическіе короли постановили основнымъ
закопомъ по заключать мира съ магометанами. Эта
безконечная война продолжается со времени короля
Пелагія болѣе семи столѣтій, безъ заключенія пере-
мирій или мирныхъ договоровъ, каковые безпрестанно
заключаются императоромъ и другими католическими
государями». Въ самомъ вліятельномъ сочиненіи о ком-
мерціи, ноявпвшемся въ царствованіе Филиппа V, я
нашелъ слѣдующее поучительное мѣсто: «Хотя черезъ
это Испанія не можетъ принимать большого участія
| въ торговлѣ съ портами Средиземнаго моря въ Европѣ,
Азіи и Африкѣ, столь выгодной для нѣкоторыхъ на-
родовъ, по все-таки будетъ соблюдено правило: постоянно
воевать сь маврами п турками (владѣющими большею
частью прибрежныхъ земель), несмотря на то, что въ
этой войнѣ, происходящей однако отъ хри-
стіанскою усердія, мы сами терпимъ большій
вредъ, чѣмъ причиняемъ невѣрнымъ (замѣчательно,
какъ здѣсь проглядываетъ меркантильный духъ), по
крайней мѣрѣ въ теченіе многихъ лѣтъ, какъ я это
( объяснялъ въ различныхъ главахъ».
Бокль.—Над. Ф. Павленкова.
27
418
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
няя всякое проявленіе свободы мысли, оно довело, наконецъ, страну до такого со-
стоянія, ито способности людей, заглохнувъ отъ бездѣйствія, не были уже въ силахъ
выполнять то, чего требовали отъ нихъ; такъ что во всѣхъ сферахъ, въ политиче-
ской ли жизни, въ умозрительной ли философіи, или даже въ механическихъ про-
мыслахъ, необходимо было вызывать иностранцевъ для того дѣла, которымъ уже не
были въ состояти заниматься туземцы.
Невѣжество, въ которое погрязли испанцы въ силу неблагопріятныхъ обстоя-
тельствъ, и ихъ бездѣйствіе, физическое и умственное, могли бы казаться невѣ-
роятными, еслибы этотъ фактъ не подтверждался самыми разнообразными свидѣ-
тельствами. Грамонъ, лично ознакомившійся съ состояніемъ Испаніи въ продолженіе
послѣдней половины XVII столѣтія, говоритъ, что въ ней высшіе классы не только
не имѣли понятія о наукѣ или литературѣ, но даже почти ничего не знали о са-
мыхъ обыкновенныхъ событіяхъ, происходившихъ внѣ ихъ отечества. Низшіе классы,
прибавляетъ онъ, такъ же лѣнивы; они предоставляютъ все иностранцамъ—жатву ихъ
пшеницы, кошеніе пхъ сѣна, постройку ихъ домовъ х)* Другой наблюдатель, видѣв-
шій мадридское общество въ 1679 году, увѣряетъ насъ, что даже люди самыхъ выс-
шихъ классовъ никогда не считали необходимымъ учить чему-либо своихъ сыновей;
и что тѣ, которые предназначались къ военной службѣ, не могли учиться матема-
тикѣ, еслибы даже и хотѣли, потому что для этого не было ни школъ, ни учите-
лей. Книги, за исключеніемъ божественныхъ, считались совершенно безполезными;
никто не заглядывалъ въ нихъ, никто ихъ не собиралъ, и до XVIII столѣтія въ
Мадридѣ не было ни одной публичной библіотеки. Въ другихъ городахъ, преимуще-
ственно посвященныхъ цѣлямъ воспитанія, господствовало подобное же невѣжество.
Саламанка была мѣстопребываніемъ самаго стараго и самаго знаменитаго универси-
тета въ Испаніи, и потому есЛи нигдѣ болѣе, то по крайней мѣрѣ въ ней мы могли бы
искать поощренія науки 2). Но До-Торресъ, который самъ былъ испанецъ и воспи-
тывался въ Саламанкѣ въ началѣ ХѴШ столѣтія, говоритъ, что, пробывъ уже пять
лѣтъ въ этомъ университетѣ, онъ только въ первый разъ услыхалъ о существованіи
математическихъ наукъ 3). Еще въ 1771 году тотъ же самый университетъ публично
отказалъ въ позволеніи преподавать открытія Ньютона и выставлялъ, какъ причину
своего отказа, что система Ньютона не въ такой мѣрѣ согласуется съ религіей
откровенія, какъ система Аристотеля. По всей Испаніи слѣдовали тому же плану.
Повсюду пренебрегали знаніемъ и пресѣкали изслѣдованіе. Фейхоо, который, не-
«Пхъ лѣность и ихъ невѣжество но только
въ наукахъ и искусствахъ, но чуть ли по вообще во
всемъ, чтб происходитъ внѣ Испаніи, и даже, можно
сказать, внѣ пхъ мѣста жительства, — почти равно-
сильны и одинаково непостижимы. Они очень бѣдпы,
и это происходитъ отъ ихъ крайней лѣности... Вос-
питаніе ихъ дѣтей похоже на то, какое они сами по-
лучили отъ своихъ отцовъ, т. е. они пе обучаются ни
наукамъ, ни ремесламъ, и я не думаю, чтобы между
всѣми грандами, какихъ я зналъ, нашелся хоть одинъ,
который съумѣлъ бы склонять свое имя... Опп ни-
сколько но любопытствуютъ видѣть чужіе края и еще
менѣе знать, что въ нихъ дѣлается» (Грамонъ). «Даже
тамъ не вся земля воздѣлывается мѣстными жителями;
во время паханія, посѣва и уборки хлѣба къ нимъ
приходитъ множество крестьянъ изъ Беарпа и другихъ
мѣстъ Франціи, которые зарабатываютъ большія деньги
тѣмъ, что сѣютъ и убираютъ ихъ хлѣбъ. Архитекторы
и плотники у нихъ тоже большею частью иностранцы,
которые берутъ втрое противъ того, чтб получили бы
въ своемъ отечествѣ. Въ Мадридѣ не видно ни одного
водовоза, который не былъ бы иностранецъ, п боль-
шая часть башмачниковъ и портныхъ также иностран-
цы» (Соммердикъ).
2) Въ 1535 году это былъ, какъ описываютъ.
«великій университетъ съ семью или восемью тыся-
чами студентовъ». Но подобно всему, чтб было цѣн-
наго въ Испаніи, и университетъ этотъ упалъ въ
XVII столѣтіи; и Мопкониеъ, который тщательно осма-
тривалъ его въ 1623 году и который хвалитъ нѣкото-
рые изъ существовавшихъ еще въ немъ порядковъ,
присовокупляетъ: «Но я все-таки принужденъ сказать
послѣ столькихъ похвалъ, что обучающіеся въ этомъ
университетѣ—совершеннѣйшіе невѣжды». Однако ихъ
невѣжество, любопытные примѣры котораго приводитъ
Монконисъ, не помѣшало испанскимъ писателямъ въ то
время и долго спустя считать Саламанкскій универси-
тетъ величайшимъ въ мірѣ учрежденіемъ этого рода,
<:славнѣйшей матерью всѣхъ наукъ и самыхъ великихъ
геніевъ, какіе прославили человѣчество*.
3) Одинъ знаменитый испанскій писатель ХѴШ
столѣтія просто хвастаетъ невѣжествомъ своихъ сооте-
чественниковъ въ математикѣ п видитъ въ ихъ пре-
небреженіи къ этому глупому занятію рѣшительное до-
казательство ихъ превосходства надъ другими народами.
«Но давайте ослѣплять себя замысловатыми выкладками
п запутанными доказательствами геометріи, съ помощью
которыхъ хитрый умъ скрываетъ обманъ подъ личиною
истппы. Пользу математики мы видимъ на алхиміи,
которая учитъ поддѣлывать золото».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
419
смотря на свое суевѣріе и извѣстное раболѣпство ума, неизбѣжное во всякомъ
испанцѣ того времени, старался просвѣтить своихъ соотечественниковъ на счетъ
предметовъ науки, передаетъ намъ, какъ свое твердое убѣжденіе, что тотъ, кто
усвоилъ бы себѣ все, чему учили въ то время подъ именемъ философіи, оказался бы
въ награду за свой трудъ еще большимъ невѣждою, чѣмъ былъ до того. И нѣтъ ни-
какого сомнѣнія, что Фейхоо былъ правъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ Испаніи
чѣмъ болѣе человѣка учили, тѣмъ менѣе онъ зналъ; ибо его учили, что пытливость—
грѣхъ, что разумъ слѣдуетъ подавлять и что легковѣріе и покорность—-главныя ка-
чества въ человѣкѣ. Герцогъ Сенъ Симонъ, бывшій въ 1721 и 1722 годахъ фран-
цузскимъ посломъ въ Мадридѣ, выводитъ такое заключеніе изъ своихъ наблюденій,
что въ Испаніи наука—преступленіе, а невѣжество—добродѣтель. Пятьдесятъ лѣтъ
спустя другой наблюдатель, пораженный общимъ состояніемъ ума испанской націи,
выражаетъ свой взглядъ въ сужденіи почти столь же мѣткомъ, какъ и строгомъ.
Стараясь пріискать уподобленіе, которое могло бы живѣе передать впечатлѣніе все-
общаго мрака, онъ рѣзко замѣчаетъ, что обыкновенное образованіе англійскаго
джентльмена въ Испаніи сдѣлало бы изъ него ученаго.
Кому извѣстно, каковб было обыкновенно воспитаніе англійскаго джентльмена
въ концѣ прошлаго столѣтія, тотъ оцѣнить силу этого сравненія и пойметъ, въ
какомъ мракѣ должна была находиться страна, къ которой можно было примѣнить
подобную насмѣшку. Ожидать, чтобы при такомъ порядкѣ вещей испанцы сдѣлали
какое-либо изъ тѣхъ открытій, которыми ускоряется прогрессъ націй, было бы совер-
шенно напрасно, потому что они не хотѣли даже принимать открытій, сдѣланныхъ
для нихъ другими народами и брошенныхъ въ общую сокровищницу. Такому вѣр-
ному и правовѣрному народу не было никакого дѣла До новыхъ идей, которыя,
какъ нововведенія въ старыхъ мнѣніяхъ, были полны ^опасности. Испанцы желали
идти по пути своихъ предковъ, желали, чтобы но вдругъ поколебалась ихъ вѣра
въ прошедшее. Въ неорганическомъ мірѣ они отвергли постыднымъ образомъ див-
ныя открытія Ньютона, а въ органическомъ — отрицали обращеніе крови, слит-
комъ черезъ полтораста лѣтъ послѣ того, какъ оно было доказано Гарвеемъ. Всѣ
эти вещи были новы для нихъ, и они сочли за лучшее обождать немного и не при-
нимать ихъ слишкомъ поспѣшно. По той же самой причинѣ, когда въ 1760 году
нѣкоторые смѣльчаки изъ среды правительства предложили очистить улицы Мад-
рида. смѣлое предложеніе это возбудило всеобщее негодованіе. Не только про-
стонародье, но и люди, которыхъ называли образованными, громко порицали эту
мѣру. Правительство спросило мнѣнія сословія врачей, какъ охранителей обществен-
наго здоровья. Они нисколько не затруднились отвѣтить, что безъ всякаго сомнѣнія
грязь должна оставаться. Вывезти ее было бы дѣломъ новымъ, а во всякомъ новомъ
дѣлѣ невозможно было предвидѣть исхода. Если отцы ихъ жили въ грязи, то почему
бы и имъ не дѣлать того же? Отцы ихъ были люди мудрые и вѣроятно не безъ
основанія такъ поступали. Самое даже зловоніе, на которое нѣкоторые жаловались,
было но всей вѣроятности здорово. Такъ какъ воздухъ тонокъ и пронзителенъ, то
очень можетъ быть, что дурныя испаренія, отягчая атмосферу, лишаютъ ее нѣкото-
рыхъ вредныхъ свойствъ. Поэтому мадридскіе доктора были того мнѣнія, что лучше
оставить дѣло такъ, какъ оно было при ихъ предкахъ, и что не слѣдуетъ дѣлать
никакихъ попытокъ къ очисткѣ столицы посредствомъ удаленія изъ нея повсюду
валяющихся нечистотъ *).
До тѣхъ поръ, пока преобладали подобные взгляды на сохраненіе здоровья,
1'і Этотъ маленькій эпизодъ отмѣченъ Кабаррю-
сомь, въ сто «Еѣфо сіе Сагіоз III». «Здоровый воз-
духъ, частота и безопасность на улицахъ... По кто бы
повѣрилъ. что его благородное предпріятіе вызвало са-
мыя громкія жалобы, что поучи всѣхъ классовъ об-
щества возмутилось этимъ, и что дикое мнѣніе, будто
| мефитическія испаренія служатъ спасительнымъ сред-
। стволъ противъ суровости климата, нашло защмгнн-
| ковъ между разными автора готами? По самыя ноляыя
I подробности можно найти въ «Исторіи Карла III>, Ріо,
। пзъ которой я приведу одно или два извлеченія. <Го-
I родская дума имѣла суммы на очищеніе улицъ, но
420
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
трудно предположить, чтобы лечсніе болѣзней піло особенно успѣшно. Кровопусканія
и слабительныя были единственныя средства, какія прописывали испанскіе врачи.
Невѣдѣніе ихъ о самыхъ обыкновенныхъ отправленіяхъ человѣческаго организма
было просто изумительно и можетъ быть объяснено развѣ только предположеніемъ,
что въ медицинѣ, какъ и въ другихъ отрасляхъ знанія, испанцы восемнадцатаго
столѣтія смыслили не болѣе, чѣмъ ихъ предки, жившіе въ шестнадцатомъ. И дѣйстви-
тельно, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ они повидимому знали еще менѣе. Ихъ образъ
леченія болѣзней былъ такъ рѣзокъ, что слѣдовать ему довольно долгое время зна-
чило идти на вѣрную смерть х). Ихъ же король Филиппъ V не рѣшался отдаться
въ руки своихъ врачей, а предпочиталъ доктора-ирландца. Хотя ирландскіе медики
не пользовались особой извѣстностью, но всякій изъ нихъ былъ лучше испанскаго
врача. Искусства, имѣющія связь съ медициной и хирургіей, были въ не менѣе
отсталомъ состояніи. Хирургическіе инструменты выдѣлывались грубо, а медикаменты
приготовлялись неудовлетворительно. Такъ какъ о фармацеѣ не имѣли понятія въ
Испаніи, то аптеки въ большихъ городахъ ея снабжались всѣмъ изъ-за границы;
въ малыхъ же городахъ и въ мѣстностяхъ, удаленныхъ отъ столпцы, лекарства были
такого свойства, что лучшее, чего можно было ожидать отъ нихъ, это- чтобы они
хоть не дѣлали вреда. Въ половинѣ ХѴІП столѣтія въ Испаніи не было ни одного
практика по части химіи. Дѣйствительно, самъ Кампоманесъ увѣряетъ, что даже
въ 1776 году въ цѣлой странѣ еще нельзя было найти человѣка, который съумѣлъ
бы приготовить самое простое лекарство, напримѣръ, магнезію, глауберову соль или
обыкновенные препараты ртути и сурьмы. Впрочемъ, этртъ замѣчательный государ-
ственный человѣкъ прибавляетъ, что имѣется въ виду учредить въ скоромъ времени
химическую лабораторію въ\Мадридѣ; что хотя въ этомъ учрежденіи, какъ безпри-
мѣрномъ, будутъ по всей вѣроятности видѣть зловѣщее нововведеніе, онъ все-таки
съ своей стороны твердо убѣжденъ, что съ помощью этой лабораторіи разсѣется со-
временемъ повсемѣстное невѣжество его соотечественниковъ.
Все, что было полезно въ практикѣ или что служило цѣлямъ знанія, прихо-
дилось пріобрѣтать изъ-за границы. Энсенада, извѣстный министръ Фердинанда VI,
былъ пораженъ невѣжествомъ и апатіею испанской націи и пытался, но тщетно,
исправить это зло. Когда онъ стоялъ во главѣ управленія въ половинѣ ХѴІП сто-
лѣтія, онъ публично говорилъ о томъ, что въ Испаніи нѣтъ каѳедръ государствен-
наго права, ни физики, ни анатоміи, ни ботаники. Онъ говорилъ еще, что нѣтъ
хорошихъ картъ Испаніи и что никто не умѣетъ составить ихъ. Всѣ карты, какія
были въ Испаніи, привозились изъ Франціи или изъ Голландіи. Карты эти, говорилъ
онъ, весьма не вѣрны, но испанцамъ, которые сами и такихъ составить не съумѣютъ,
ничего болѣе не остается, какъ положиться на нихъ. Такой порядокъ вещей онъ
называлъ постыднымъ, горько жалуясь на то, что еслибы не французы и не гол-
ландцы, то ни одинъ испанецъ не зналъ бы ни положенія своего родного города,
ни разстоянія одного мѣста отъ другого.
когда король обратилъ вниманіе на эту отрасль поли-
цейской дѣятельности, она представила ому нелѣпый
отзывъ медиковъ, защищавшій грязь, какъ элементъ
здоровья». Когда министръ Эскнлаче упорствовалъ вь
свопхъ попыткахъ очиститъ улицы Мадрида, противники
его плана справились съ мнѣніями свопхъ отцовъ объ
этомъ предметѣ, и результатомъ зтого было, «что ему
представили весьма оригинальное рѣшеніе врачей къ
царствованіе одного изъ Филипповь изъ дома австрій-
скаго, гдѣ утверждалось, будто городской воздухъ,
весьма рѣзкій но причинѣ близости Гуадаррамы, бы-
ваетъ очень вреденъ, если но питается испареніями,
подымающимися изъ грязи, покрывающей улицы». Что
эта мысль была долго поддерживаема мадридскими вра-
чами, это мы знаемъ также изъ другого свидѣтельства,
съ которымъ не знакомъ ни одинъ изъ испанскихъ
; историковъ. Уиннъ, посѣтившій Мадридъ въ 1623 году,
I описывая одно отвратительное обыкновеніе жителей,
I говорить: когда я пожелалъ знать, какъ допускаютъ
I такой скотскій обычай, мнѣ сказали, что это предпи-
сывается ихъ врачами, которые держатся того мнѣнія,
будто воздухъ такъ пронзителенъ и ѣдокъ, что подоб-
ная порча его дурными испареніями какъ бы сдабри-
ваетъ ого»...
Въ 1780 году бѣдный Кёмберлондъ въ быт-
ность свои» въ Мадридѣ чуть-чуть не былъ уморенъ
тремя изъ тамошнихъ докторовъ въ какихъ-нибудь нѣ-
сколько дней; самый опасный изъ нихъ былъ не бо-
лѣе, не мепѣс, какъ «главный докторъ гвардіи», ко-
торый, говоритъ несчастный страдалецъ, былъ «но-
сланъ ко мнѣ властями».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
421
Единственнымъ средствомъ противъ всего этого казалась посторонняя помощь;
а такъ какъ Испаніею стала теперь управлять чужеземная династія, то, слѣдовательно,
помощь эта л пришла. Серви учредилъ общества врачей въ Мадритѣ и Севильѣ;
Виржили основалъ школу хирургіи въ Кадиксѣ; а Боульсъ старался ввести между
испанцами изученіе минералогіи. Повсюду искали профессоровъ и обратились къ
Линнею, чтобы онъ прислалъ кого-нибудь изъ Швеціи, кто бы могъ дать кое-какое
понятіе о ботаникѣ студентамъ физіологіи. Много другихъ подобныхъ мѣръ было
принято правительствомъ, неутомимая дѣятельность котораго заслужила бы съ на-
шей стороны самыя жаркія похвалы, еслибъ мы не знали, до какой степени не-
возможно для какого бы то ни было правительства просвѣтить тотъ или другой на-
родъ, и какое существенное условіе составляетъ при этомъ то, чтобы желаніе улуч-
шеній было прежде в<’сго заявлено самимъ народомъ. Никакой прогрессъ не дѣй-
ствителенъ, если только онъ не самопроизволенъ. Для того, чтобы движеніе было
дѣйствительно, необходимо, чтобы оно проистекало изнутри, а не извнѣ; оно должно
исходить изъ общихъ причинъ, дѣйствующихъ на цѣлую страну, а не изъ одной
только воли немногихъ могущественныхъ личностей. Въ продолженіе ХѴШ столѣтія
испанцамъ щедро расточались всѣ средства къ улучшеніямъ, но они не хотѣли улуч-
шеній. Они были довольны самими собою; они были убѣждены въ справедливости сво-
ихъ мнѣній; они гордились понятіями, перешедшими къ нимъ по наслѣдству, и не
желали ни расширять, ни съуживать ихъ. Будучи неспособны къ сомнѣнію, они не
имѣли охоты и къ изслѣдованію. Новыя, прекрасныя истины, передаваемыя самымъ
яснымъ и самымъ увлекательнымъ языкомъ, не могли произвести никакого дѣйствія
па людей, умы которыхъ до\ такой степени загрубѣли ц опошлились въ рабствѣ.
Неблагопріятное стеченіе обстоятельствъ, дѣйствовавшее непрерывно, начиная съ
пятаго столѣтія, впередъ опредѣлило то направленіе,. которое долженъ былъ исклю-
чительно принять характеръ испанской націи, и никакіе государственные люди,
никакіе короли, ни законодатели ничего не могли сдѣлать противъ этого. Семнадца-
тое столѣтіе было однако крайнимъ предѣломъ всего. Бъ этомъ вѣкѣ испанская
нація погрузилась въ сонъ, отъ котораго, какъ нація вообще, она съ тѣхъ поръ
уже никогда не пробуждалась. То былъ не сонъ отдохновенія, а сонъ смерти,—
сонъ, во время котораго способности, вмѣсто того чтобы отдыхать, находились въ
какомъ-то онѣмѣніи, и холодное всеобщее оцѣпенѣніе смѣнило ту славную, хотя и
одностороннюю дѣятельность, вслѣдствіе которой имя Испаніи сдѣлалось страхомъ
вселенной и она пользовалась уваженіемъ даже злѣйшихъ своихъ враговъ.
Даже изящныя искусства, въ которыхъ нѣкогда отличались испанцы, не из-
бѣгли общаго перерожденія и, по признанію самихъ испанскихъ писателей, въ на-
чалѣ ХѴШ столѣтія пришли въ совершенный упадокъ. Искусства, ведущія къ охра-
ненію безопасности націи, были въ томъ же положеніи, какъ и искусства, удовле-
творяющія ея потребность наслажденія. Никто въ Испаніи не умѣлъ построить ко-
рабля; никто не умѣлъ оснастить его, когда онъ былъ построенъ. Послѣдствіемъ
этого было то, что въ концѣ семнадцатаго столѣтія и тѣ немногія суда, какими
обладала еще Испанія, были такъ гнилы, что, по словамъ одного историка, едва
могли выдержать огонь своихъ собственныхъ пушекъ. Въ 1725 году правительство,
рѣшившись возстановить флотъ, нашлось вынужденнымъ послать въ Англію за ко-
рабельными мастерами; туда же ему пришлось обратиться и за людьми, умѣвшими
дѣлать канаты и парусину, такъ какъ туземцы недовольно были искусны для та-
кой трудной работы. Этимъ путемъ министры короны, — люди, оказывающіеся въ
высшей степени замѣчательными по своимъ способностямъ и энергіи, если принять
во вниманіе то затруднительное положеніе, въ которое ставила ихъ неспособность
народа,—старались снарядить такой флотъ, какого не видали въ Испаніи уже болѣе
ста лѣтъ. Они приняли также и многія другія мѣры для приведенія въ удовлетво-
рительное состояніе обороны страны, хотя имъ приходилось въ всемъ полагаться на
помощь иностранцевъ. И военно-сухопутныя, и морскія части были въ такомъ край-
422
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
немъ разстройствѣ, что приходилось все вновь заводить. Обученіе пѣхоты было пре-
образовано ирландцемъ О’Рельи, которому былъ ввѣренъ надзоръ надъ военными
школами Испаніи. Въ Кадиксѣ была учреждена обширная морская академія, но на-
чальникомъ ея былъ полковникъ Гедэнъ, офицеръ французской службы. Артиллерія,
пришедшая, какъ и все другое, почти въ совершенную негодность, была улучшена
французомъ Марицомъ; такую же услугу оказалъ арсеналамъ итальянецъ Газола.
Рудники, составляющіе одинъ пзъ важнѣйшихъ естественныхъ источниковъ
богатства Испаніи, также пострадали отъ невѣжества и апатіи, въ которыя была
повергнута вся страна силою самыхъ обстоятельствъ. Они были или совершенно
заброшены, или если и разрабатывались, то разрабатывались другими націями. Зна-
менитыя кобальтовыя копи, находящіяся въ долинѣ Джистау, въ Аррагонѣ, были
совершенно въ рукахъ нѣмцевъ, которые въ теченіе первой половины семнадцатаго
столѣтія извлекали изъ нихъ огромные барыши. Точно также серебряные рудники
Гвадалканала, богатѣйшіе въ Испаніи, разрабатывались не туземцами, а иностран-
цами. Хотя рудники эти были открыты въ шестнадцатомъ столѣтіи, но о нихъ, какъ
и другихъ важныхъ предметахъ, было забыто въ семнадцатомъ, а вновь открыли
ихъ въ 1728 году англійскіе писатели приключеній; самое предпріятіе, орудія, ка-
питалъ, даже рудокопы, все было англійское. Другой, еще болѣе знаменитый руд-
никъ былъ Алмаденскій въ Ла-Манчѣ, который производилъ ртуть прекраснѣйшаго
качества и въ большомъ изобиліи. Этотъ металлъ кромѣ того, что онъ вообще не-
обходимъ для многихъ самыхъ обыкновенныхъ производствъ, имѣлъ особенную цѣн-
ность для Испаніи, такъ какъ безъ него золото и серебро Новаго Свѣта не могли
бы быть выдѣляемы изъ своихъ рудъ. Изъ Алмадека,/гдѣ сама природа представ-
ляетъ всякія удобства для добыванія ртути и гдѣ Хам'Ьчатсльно много киновари,
изъ которой она извлекается^ металлъ этотъ получался сперва въ огромномъ коли-
чествѣ; но одно время оно начало было уменьшаться, между тѣмъ какъ спросъ на
ртуть, особенно въ чужихъ краяхъ, все увеличивался. При этихъ обстоятельствахъ
испанское правительство, боясь, чтобы такой важный источникъ богатства не изсякъ
совершенно, рѣшило произвести изслѣдованіе о томъ, какимъ способомъ разрабаты-
вались эти копи. Но такъ какъ ни одинъ испанецъ не имѣлъ познаній, необходимыхъ
для такого изслѣдованія, то совѣтники короны принуждены были прибѣгнуть къ по-
мощи иностранцевъ. Въ 1762 г. ирландскій естествоиспытатель, по имени Воульсъ,
былъ командированъ въ Алмаденъ для приведенія въ извѣстность причинъ такой
неудачной разработки этого рудника. Онъ нашелъ, что рудокопы пріобрѣли при-
вычку углублять свои шахты перпендикулярно, вмѣсто того чтобы слѣдовать на-
правленію жилы. Такимъ нелѣпымъ процессомъ совершенно достаточно объяснялась
вся неудача; и Воульсъ донесъ правительству, что если будутъ вести шахты на-
клонно, то безъ сомнѣнія рудникъ снова сдѣлается производительнымъ. Правитель-
ство одобрило эту мысль, и приказано было привести ее въ исполненіе. Но испан-
скіе рудокопы слишкомъ крѣпко держались своихъ старыхъ привычекъ. Они рыли
свои шахты такимъ же способомъ, какимъ дѣлали ихъ отцы; а чтб дклали отцы,
то должно быть правильно. Результатомъ этого было то, что рудникъ былъ отнятъ
у нихъ; но такъ какъ въ Испаніи не было иныхъ работниковъ, то пришлось послать за
ними въ Германію. Съ прибытіемъ нѣмецкихъ рудокоповъ дѣла быстро поправились.
ЗавѣдывасмыЙ и разрабатываемый нѣмцами, рудникъ получилъ другой видъ; и, не-
смотря на всѣ неудобства, съ которыми всегда приходится бороться новымъ пришель-
цамъ, прямымъ послѣдствіемъ таковой перемѣны было то, что количество добываемой
ртути удвоилось, и соотвѣтственно тому уменьшилась стоимость ея для потребителей.
Подобное невѣжество, охватывающее цѣлую націю и распространяющееся на
всѣ стороны ея жизни, является чѣмъ-то непостижимымъ, если принять въ сообра-
женіе тѣ громадныя преимущества, которыми пользовались испанцы въ прежнее
время. Оно особенно поражаетъ, если противопоставить ему способность правитель-
ства, которое слишкомъ восемьдесятъ лѣтъ постоянно трудилось надъ улучшеніемъ
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX ст. 423
быта страны. Въ началѣ ХѴШ столѣтія Рипперда, въ надеждѣ оживить испанскую
промышленность, устроилъ огромную шерстяную мануфактуру въ Сеговіи, которая
была нѣкогда дѣятельнымъ и цвѣтущимъ городомъ. Но самые простые пріемы про-
. изводства были уже забыты, и Рипперда долженъ былъ привезти рабочихъ изъ
Голландіи для обученія испанцевъ выдѣлкѣ шерсти, — производству, которымъ въ
свое лучшее время они особенно славились. Въ 1757 году Уоллъ, бывшій тогда
министромъ, устроилъ еще въ большемъ размѣрѣ подобную же мануфактуру въ
Гвадалахарѣ, въ Новой Кастиліи. Вскорѣ однако что-то испортилось въ машинахъ,
и такъ какъ испанцы не имѣли понятія, да и не заботились объ этого рода вещахъ, то
пришлось посылать въ Англію за мастеромъ для требовавшихся починокъ. Нако-
нецъ, совѣтники Карла III, отчаявшись въ возможности возбудить дѣятельность на-
рода обыкновенными средствами, придумали болѣе обширный планъ и пригласили
тысячи иностранныхъ ремесленниковъ поселиться въ Испаніи, въ надеждѣ, что ихъ
примѣръ и ихъ внезапный наплывъ придастъ силы этой изнеможденной націи. Но
все было тщетно. Духъ страны упалъ, и ничто не могло поднять его. Въ числѣ
другихъ попытокъ, которыя дѣлались въ то время, основаніе національнаго банка
было любимою идеей политиковъ; они многаго ожидали отъ этого учрежденія, ко-
торое должно было поднять кредитъ и выдавать ссуды лицамъ, занимающимся тор-
говыми оборотами. Но хотя проектъ этотъ и осуществился, цѣль его все-таки не
была достигнута. Когда народъ но предпріимчивъ, то никакое усиліе правительства
не можетъ передѣлать его. Въ такой странѣ, какъ Испанія, обширный банкъ пред-
ставлялъ собой экзотическое растеніе, могущее жить только искусственной жизнью,
а не произрастать естественно. Дѣйствительно, и по идеѣ, и по исполненію это было
учрежденіе иностранное, такъ какъ первый ’ предложила/его голландецъ Рипперда,
а окончательно устроилъ французъ Кабаррюсъ. ’/
Во всемъ преобладалъ одинъ и тотъ же законъ^ Въ дипломатіи самыми спо-
собными людьми оказывались не испанцы, а чужеземцы; и въ продолженіе ХѴШ
столѣтія часто можно было видѣть довольно странное зрѣлище — представителей
Испаніи изъ французовъ, итальянцевъ и ирландцевъ х). Ничего не было туземнаго;
ничто не дѣлалось самою Испаніей. Филиппъ V. царствовавшій съ 1700 по 1746
годъ и имѣвшій громадную власть, постоянно придерживался идей своей родины
и былъ французомъ до конца. Въ теченіе тридцати лѣтъ послѣ его смерти тремя
наиболѣе замѣтными личностями въ испанской политикѣ были Уолль, родившійся
во Франціи, отъ родителей ирландцевъ; Гримальди, родомъ изъ Генуи; и Эскилаче,
уроженецъ Сициліи. Эскилаче управлялъ финансами въ продолженіе многихъ лѣтъ;
онъ пользовался такимъ довѣріемъ Карла III, какое рѣдко оказывалось какому-либо
министру, и былъ уволенъ только въ 1776 году вслѣдствіе неудовольствія, возбуж-
деннаго въ народѣ реформами, введенными этимъ смѣлымъ иностранцемъ. Уолль,
человѣкъ еще болѣе замѣчательный, былъ отправленъ на неимѣніемъ порядочнаго
дипломата между испанцами, посланникомъ въ Лондонъ, въ 1747 году; пріобрѣтя
большое вліяніе въ дѣлахъ государства, онъ былъ поставленъ во главѣ управленія
2) «Въ Лондонѣ, въ Стокгольмѣ, въ Парижѣ, въ
Вѣнѣ и въ Венеціи представителями государя—ино-
странцы. Князь Массераао, итальянецъ,—посломъ въ
Англіи; графъ де-Ласи, ирландецъ, — резидентомъ въ
Столгольмѣ; маркизъ Гримальди—посломъ во Франціи
(до своего министерства); графъ Мегонн, ирландецъ—
посломъ въ Вѣнѣ; маркизъ Скплачп (по выходѣ пзъ
министерства)—посломъ въ Венеціи» (Бургоэпъ). Къ
этому я могу прибавить, что въ царствованіе Фи-
липпа V итальянецъ, маркизъ де-Берѳтти Ланди, былъ
представителемъ Испаніи въ Швейцаріи, а потомъ въ
Гагѣ, и что въ 1779 году, пли нѣсколько раньше,
Ласн занималъ такой же постъ въ С.-Петербургѣ. Точно
также Ріо говоритъ о важныхъ переговорахъ, проис-
шедшихъ въ 1761 году между Испаніею, Англіею и Фран-
ціей): «Такимъ образомъ испанцы были отстранены отъ
переговоровъ, которыми Людовикъ XV хотѣлъ опутать
Карла III, такъ какъ съ одной стороны они велись
французами, герцогомъ Шуазёль и маркизомъ Оссёнъ,
а съ другой — ирландцемъ маркизомъ Уоллемъ и ге-
нуэзцемъ Гримальди.. Около того же времени Кларкъ
пишетъ: «Испанія въ теченіе многихъ лѣтъ была подъ
управленіемъ министровъ изъ иностранцевъ. Было ли
то вслѣдствіе недостатка способныхъ людей между при-
родными испанцами, или же вслѣдствіе нерасположенія
къ нимъ государей—я не берусь рѣшать. Но какъ бы
то ни было, туземное дворянство сѣтуетъ на это, какъ
на великое зло».
424
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
въ 1754 году и занималъ это высокое положеніе до 1763 года. Когда этотъ знаме-
нитый ирландецъ вышелъ въ отставку, то его замѣнилъ генуэзецъ Гримальди, ко-
торый управлялъ Испаніей съ 1763 до 1777 года и былъ совершенно преданъ
видамъ французской политики. Его главнымъ покровителемъ былъ Шуазёль, кото-
рый внушилъ ему свои идеи, и совѣтами котораго онъ во всемъ руководился. Дѣй-
ствительно, Шуазёль, бывшій тогда первымъ министромъ во Франціи, обыкновенно
хвалился, хоть и не безъ нѣкотораго преувеличенія, но въ то же время и не безъ
значительной доли истины, что его вліяніе въ Мадридѣ было даже сильнѣе, чѣмъ
въ Версали,
Какъ бы то ни было, но достовѣрно извѣстно, что черезъ четыре года но
вступленіи въ должность Гримальди вліяніе Франціи выказалось замѣчательнымъ
образомъ. Шуазёль, ненавидѣвшій іезуитовъ и только-что изгнавшій ихъ изъ Фран-
ціи, старался также изгнать ихъ и изъ Испаніи. Исполненіе этого плана было довѣ-
рено Арандѣ, который хотя былъ родомъ испанецъ, но обязанъ былъ своимъ умствен-
нымъ воспитаніемъ Франціи и проникнулся въ парижскомъ обществѣ сильнѣйшей
ненавистью ко всякаго рода духовной власти. Планъ, тайно задуманный, былъ
искусно приведенъ въ исполненіе. Въ 1767 году испанское правительство, не
выслушавъ ничего, чтб могли сказать въ свое оправданіе іезуиты, и даже ни о
чемъ не предувѣдомивъ ихъ, внезапно отдало повелѣніе объ ихъ изгнаніи; и съ
такимъ ожесточеніемъ были они изгнаны изъ страны, въ которой родились и долго
пользовались любовью, что не только были конфискованы ихъ богатства и сами
они оставлены лишь при весьма скудномъ содержаніи, но даже приказано было
отнять и это, въ случаѣ, ёсли они обнародуютъ что-лицб въ свое оправданіе, въ то
же время было также объявлено, что всякій, кто осмѣлится писать о нихъ, если
онъ—испанскій подданный, будетъ приговоренъ, къ смерти, какъ виновный въ госу-
дарственной измѣнѣ.
Подобная смѣлость со стороны правительства заставила дрожать и самую инкви-
зицію. Это нѣкогда всемогущее судилище, теперь стращаемое и подозрѣваемое
гражданскими властями, стало осторожнѣе въ своихъ дѣйствіяхъ и мягче въ своемъ
обращеніи съ еретиками. Вмѣсто того чтобы истреблять невѣрныхъ сотнями и тыся-
чами, оно до того должно было стѣсняться, что съ 1746 по 1759 годъ могло сжечь
только десять человѣкъ, а съ 1759 по 1788<—только четырехъ. Необыкновенное умень-
шеніе числа жертвъ ея въ послѣдній періодъ произошло частью отъ сильнаго вліянія
Аранды, друга энциклопедистовъ и другихъ французскихъ скептиковъ. Этотъ замѣ-
чательный человѣкъ былъ президентомъ Кастиліи до 1773 года и отдалъ приказъ,
воспрещавшій инквизиціи вмѣшиваться въ гражданскіе суды. Онъ задумалъ также
совершенно уничтожить ее, но ему не удалось исполнить это лишь вслѣдствіе
преждевременнаго разглашенія его плана друзьями его въ Парижѣ, которымъ онъ
повѣрилъ свою тайну х). Онъ однако на столько успѣлъ въ своихъ видахъ, что
послѣ 1781 года не было въ Испаніи ни одного случая сожженія еретика; инквизи-
ція была слишкомъ запугана дѣйствіями правительства, чтобы рѣшиться на что-либо,
могущее подвергнуть опасности самое существованіе этого святого учрежденія 2).
]) «Будучи въ Парижѣ въ 1786 году, я слы-
шалъ слѣдующій анекдотъ отъ лица, знакомаго съ
энциклопедистами. Въ продолженіе своего пребыванія въ
этой столицѣ Аранда часто высказывалъ литераторамъ,
съ которыми водилъ компанію, свою рѣшимость до-
биться уничтоженія инквизиціи, если только опъ бу-
детъ когда-либо призванъ къ управленію. Поэтому назна-
ченіе ого было торжественно привѣтствуемо этой партіей,
и въ особенности д’Аламберомъ. Едва только Арапда
началъ свои реформы, какъ уже появилась статья въ
печатавшейся тогда «Энциклопедіи», въ которой смѣло
предсказывалось это событіе на основаніи либераль-
ныхъ убѣжденій эгого министра. Арапда былъ пора-
женъ, читая эту статью, и сказалъ: «это неосто-
рожное раскрытіе подниметъ противъ меня та-
кую бурю, что всѣ мои планы рушатся». Онъ
не ошибся въ своей догадкѣ» (Коксъ).
2) Даже случай, бывшій въ 1781 году, отно-
сится повидимому скорѣе къ колдовству, нежели къ
ереси. «Послѣдняя жертва, погибшая иа кострѣ, была
нѣкая блажгнная'. ее сожгли въ Севильѣ 1 ноября
1781 года за то, что она вступила будто бы въ до-
говоръ и имѣла плотскую связь съ демономъ, а также
за упорное запирательство въ своей винѣ. „ Она могла
бы избѣжать смерти, признавъ себя виновною въ пре-
ступленіи, въ которомъ обвпилли ее» (Льорспте). Около
того же времени пытка стала выходить изъ употребле-
I нія въ Испаніи.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
425
Въ 1777 году Гримальди, одинъ изъ главныхъ сторонниковъ той анти-духов-
ной политики, которая введена была въ Испаніи Франціей, вышелъ изъ министер-
ства; но его смѣнилъ Флорида Бланка, его креатура,—человѣкъ, которому онъ пере-
далъ вмѣстѣ съ властью и свою политику. Поэтому дѣла политическія продолжали
подвигаться впередъ въ томъ же направленіи. При новомъ министрѣ, какъ и при
его непосредственныхъ предшественникахъ, проявлялась рѣшимость ограничить власть
духовенства и оградить права мірянъ. Во всѣхъ случаяхъ духовные интересы ста-
вились ниже свѣтскихъ. Этому можно привести много примѣровъ, но одинъ изъ
нихъ слишкомъ важенъ, чтобы не упомянуть о немъ. Мы видѣли, что въ началѣ
ХѴШ столѣтія Алберони, стоя во главѣ управленія, провинился въ томъ, что въ
Испаніи считалось страшнымъ преступленіемъ—заключилъ союзъ съ магометанами,
и это было безспорно одною изъ главныхъ причинъ его паденія, такъ какъ боль-
шинство держалось того мнѣнія, что никакія свѣтскія соображенія не могутъ оправ-
дать союза или даже мира между христіанскимъ народомъ и народомъ, состоящимъ
изъ невѣрныхъ. Но испанское правительство, которое вслѣдствіе упомянутыхъ мною
причинъ далеко опередило самую Испанію,—постепенно становилось смѣлѣе и про-
являло все большую и большую склонность навязывать странѣ такіе взгляды, кото-
рые, взятые сами по себѣ, были конечно чрезвычайно свѣтлы, но которыхъ народ-
ный духъ не въ состояніи былъ усвоить. Результатомъ этого было то, что въ 1782 г.
Флорида Бланка заключилъ договоръ съ Турціею, который положилъ конецъ войнѣ
изъ-за религіозныхъ мнѣній, къ великому, говорятъ, удивленію другихъ европейскихъ
державъ, которыя съ трудомъ могли повѣрить, чтобы испанцы прекратили такимъ
образомъ свои безпрерывно возобновлявшіяся попытки истребить невѣрныхъ. Прежде
однако, чѣмъ Европа успѣла опомниться отъ своего Изумленія, произошли другія
событія въ этомъ же родѣ, ие менѣе поразительныя. бъ 1784 году Испанія подпи-
сала миръ съ Триполи, а въ 1785 г.—съ Алжиромъ.7 И едва эти мирные договоры
были ратификованы, какъ былъ заключенъ въ 1786 году также договоръ съ Туни-
сомъ. Такимъ образомъ испанскій народъ, къ немалому своему удивленію, очутился
въ дружественныхъ отношеніяхъ къ народамъ, которыхъ въ теченіе слишкомъ де-
сяти столѣтій его учили ненавидѣть и съ которыми воевать, и воевать, если можно,
до истребленія, было, по мнѣнію испанской церкви, первою обязанностью христіан-
скаго правительства.
Оставляя на время въ сторонѣ отдаленныя умственныя послѣдствія этихъ со-
бытій, нельзя не признать несомнѣннымъ, что непосредственные матеріальные резуль-
таты ихъ были весьма благодѣтельны, хотя, какъ мы скоро увидимъ, они не имѣли
прочности, потому что ихъ перевѣшивало неблагопріятное дѣйствіе болѣе могуще-
ственныхъ и болѣе общихъ причинъ. Тѣмъ не менѣе должно согласиться, что пря-
мыя послѣдствія были чрезвычайно выгодны; и тѣмъ, которые ограничиваются лишь
поверхностнымъ взглядомъ па дѣла человѣческія, легко могло бы показаться, что вы-
годы эти должны быть прочны. Со всего протяженія береговой линіи отъ Фена и
Марокко до крайнихъ предѣловъ Турецкой имперіи уже не могли болѣе появляться
многочисленные пираты, которые до того времени носились но морямъ, захваты-
вали испанскія суда и увозили въ рабство испанскихъ подданныхъ. Въ прежнее
время ежегодно тратились огромныя суммы денегъ на выкупъ этихъ несчастныхъ
плѣнниковъ г); теперь же всѣ эти бѣдствія прекратились. Въ то же время сообщенъ
былъ значительный толчокъ торговлѣ Испаніи; для нея открылся новый путь, и
корабли Испаніи могли безопасно появляться въ богатыхъ странахъ Леванта. Вслѣд-
ствіе этого богатство ея возрастало, чему еще болѣе содѣйствовало другое обстоя-
*) «Замѣчательно число плѣнныхъ, которыхъ въ । скихъ повольниковъ. Выкупъ ихъ, считая но меньшей
теченіе трехъ столѣтій варварійскіе пираты увозили съ 1 мЬрѣ по тысячѣ пэсосъ за человѣка, составлялъ трид-
иснанскихъ береговъ. Въ прошломъ столѣтіи считали, I цатъ милліоновъ пэсосъ».
что въ Алжірѣ постоянно находились 30.000 ясная- |
426
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
тѳльство, вытекавшее изъ тѣхъ же событій. Самыя плодородныя мѣстности Испаніи
лежатъ вдоль береговъ, омываемыхъ Средиземнымъ моремъ; и эти-то мѣстности
были нѣсколько столѣтій добычею магометанскихъ корсаровъ, которые своими вне-
запными высадками держали жителей въ такомъ постоянномъ страхѣ, что они
стали постепенно отодвигаться во внутренность страны, не рѣшаясь воздѣлывать
самую плодородную почву своей родины. Заключенные же вновь трактаты сразу
устранили всѣ эти опасности; народъ возвратился въ свои прежнія жилища; земля
стала снова приносить свои плоды; явилась вновь правильная промышленность,
возникли деревни; учредились даже мануфактуры, и, казалось, было положено осно-
ваніе такому благосостоянію, какого не знали еще со времени изгнанія магометанъ
изъ Гранады.
Итакъ, я представилъ читателю обзоръ самыхъ важныхъ мѣръ, какія были
приняты тѣми способными и мощными политиками, которые управляли Испаніей
въ продолженіе большей части ХѴШ столѣтія. Разсматривая, какимъ образомъ произ-
ведены были эти реформы, мы не должны забывать о личномъ характерѣ Карла III,
занимавшаго престолъ, Испаніи съ 1759 по 1788 годъ х). Это былъ человѣкъ съ за-
мѣчательной энергіей; хотя онъ и родился въ Испаніи, но не много имѣлъ общаго
съ нею. Прежде чѣмъ сдѣлаться королемъ, онъ провелъ долгое время внѣ своей ро-
дины и пристрастился къ обычаямъ и особенно къ мнѣніямъ, совершенно несход-
нымъ съ тѣми, которыя были свойственны испанцамъ. Сравнительно съ своими под-
данными, онъ былъ конечно человѣкъ просвѣщенный. Они всѣмъ сердцемъ были
привязаны къ самому совершенному и, слѣдовательно, дамому худшему виду духов-
ной власти, какой когда-лцбо существовалъ въ Европѣ/ Онъ же считалъ своей обя-
занностью ограничить эту именно власть. Въ этомъ, какъ и въ другихъ отношеніяхъ,
онъ превзошелъ Фердинанда VI и Филиппа- V, хотя,-подъ вліяніемъ французскихъ
идей, они также стремились къ тому, что считалось опаснымъ дѣломъ. Духовенство,
негодуя на подобный образъ дѣйствій, роптало и даже прибѣгло къ угрозамъ. Оно
объявляло, что Карлъ грабить церковь, отнимаетъ у нея права, оскорбляетъ ея
служителей и такимъ образомъ безвозвратно губитъ Испанію. Но король, имѣвшій
твердый и отчасти упрямый характеръ, оставался вѣренъ своей политикѣ; такъ какъ
и онъ, и его министры были люди несомнѣнно способные, то, несмотря на встрѣ-
ченную ими оппозицію, имъ удалось привести въ исполненіе большую часть своихъ
плановъ. Каковы бы ни были ихъ заблужденія и ихъ близорукость, но нельзя не
удивляться честности, мужеству и безкорыстію, проявлявшимся въ ихъ стараніи
измѣнить судьбу той суевѣрной и полуварварской страны, которой они управляли.
Мы не должны однако упускать изъ виду, что въ этомъ, какъ и во всѣхъ подоб-
ныхъ случаяхъ, возставая противъ золъ, къ которымъ пародъ былъ рѣшительно
привязанъ, они только усиливали эту привязанность. Стараться измѣнить мнѣнія по-
средствомъ законовъ™ болѣе чѣмъ безполезно. Такія мѣры пе только не достигаютъ
цѣли, но даже вызываютъ реакцію, послѣ которой тѣ же мнѣнія оказываются болѣе
чѣмъ когда-либо сильными. Сперва измѣните мнѣніе, а потомъ измѣняйте законъ.
Какъ только вы убѣдите людей, что суевѣріе вредно, вы можете съ успѣхомъ при-
Ріо, котораго объемистая «Исторія царствованія
Карла ІЦ>, несмотря па ея многочисленные пропуски,
имѣетъ значительныя достоинства, болѣе справедливо
оцѣнилъ личный характеръ короля, чѣмъ кто-либо изъ
предшествовавшихъ ему писателей; онъ имѣлъ доступъ
къ разнымъ необпародо ваннымъ бумагамъ, изъ кото-
рыхъ видны необыкновенная энергія и дѣятельность
Карла. «Ни одно изъ нашихъ самыхъ замѣчательныхъ
лицъ не превосходитъ Карла III. Не высокое положе-
ніе его въ свѣтѣ дѣлаетъ его замѣчательнымъ, а бле-
стящая роль, которую онъ игралъ, какъ мужъ совѣта,
вводя безчисленныя улучшенія, покрывшія его неувя-
даемой славой. Знаю, что иные упрекаютъ этого мо-
нарха въ недальновидности и узкости взгляда, что
другіе полагаютъ, будто министры обманомъ или не-
ожиданностью вынуждали его къ изданію нѣкоторыхъ
постановленій. Но сорокъ восемь томовъ его собствен-
норучной переписки, съ октября 1759 г. по мартъ
1783 г., съ маркизомъ Танучи, хранящіеся въ архи-
вахъ въ Симапкасѣ, которые я читалъ страницу за
страницей, дѣлая при этомъ подробныя выписки, —
даютъ вѣрнѣйшее средство изобразить его такимъ, ка-
кпмъ онъ дѣйствительно былъ, проникнуть въ его са-
мыя задушевныя мысли и опровергнуть мнѣніе тѣхъ,
которые его судятъ поверхностно».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
427
нимать дѣятельныя мѣры противъ тѣхъ классовъ, которые потворствуютъ суевѣрію
и имъ живутъ. Но какъ бы ни было вредно какое-либо право или существованіе
какой-либо обширной корпораціи, не слѣдуетъ употреблять противъ него силу,
пока успѣхи знаній не подкопаютъ его въ самомъ корнѣ и не ослабятъ его зна-
ченія въ умахъ’ народа. Противъ этого всегда грѣшили самые пылкіе преобразо-
ватели, которые въ своемъ рвеніи скорѣе достигнуть цѣли давали политическому
движенію опередить умственное, и этимъ извращеніемъ естественнаго порядка при-
готовляли бѣдствія или самимъ себѣ, или своимъ потомкамъ. Они прикоснутся къ
алтарю — и изъ него вылетаетъ огонь, чтобы пожрать ихъ. Наступаетъ новый
періодъ суевѣрія и деспотизма, новая мрачная эпоха въ лѣтописяхъ рода чело-
вѣческаго. И это происходитъ единственно отъ того, что люди не выждутъ своего
времени, а силятся ускорить ходъ дѣлъ. Такимъ образомъ напримѣръ во Франціи
и Германіи сами же друзья свободы усилили тирапнію, сами же враги суевѣрія
сдѣлали, что суевѣріе сохранилось гораздо долѣе. Въ этихъ странахъ и до сихъ
поръ думаютъ, что правительство можетъ пересоздать общество; и поэтому, какъ
только люди съ либеральными убѣжденіями достигаютъ въ нихъ власти, они слишкомъ
широко пользуются ею, думая, что такимъ образомъ они скорѣе придутъ къ той
цѣли, къ которой стремятся. Въ Англіи это же обольщеніе хотя и менѣе всеобще,
но все-таки слишкомъ еще сильно преобладаетъ; у насъ однако политики находятся
подъ контролемъ общественнаго мнѣнія; мы избѣгаемъ тѣхъ золъ, которыя пости-
гаютъ другія страны, потому что мы не допускаемъ, чтобы правительство издавало
законы, неодобряемыс народомъ. Въ Испаніи же люди такъ привыкли къ рабству
и шеи ихъ такъ долго гнулись подъ ярмомъ, что, хотя правительство и противо-
дѣйствовало въ XVIII столѣтіи ихъ самымъ дорогимъ/предразсудкамъ, они рѣдко
осмѣливались сопротивляться, а законныхъ средствъ заставить выслушать себя у
нихъ не было. Но тѣмъ не менѣе они живо чувствовали все это. Матеріалы для
реакціи накоплялись въ тишинѣ, и не прошло столѣтія, какъ стала ясно видна и
самая реакція. Пока жилъ Карлъ III, она не выказывалась, частью вслѣдствіе
страха, внушеннаго его дѣятельнымъ и энергическимъ управленіемъ, а частью и
вслѣдствіе того, что многія произведенныя имъ реформы были слишкомъ благодѣ-
тельны и озаряли сто царствованіе такимъ свѣтомъ, который могли видѣть всѣ
классы общества. Освободивъ посредствомъ своей политики Испанію отъ безпре-
станныхъ нападеній пиратовъ, онъ кромѣ того успѣлъ заключить для нея такой
почетный миръ, какого не подписывало ни одно испанское правительство въ тече-
ніе двухъ столѣтій, и этимъ напомнилъ народу самые свѣтлые и самые славные
дни царствованія Филиппа II. Когда Карлъ вступилъ на престолъ, Испанія была
едва третьсстепенной державой; при смерти же его она имѣла полное право назы-
ваться первостепеннымъ государствомъ, такъ какъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ
она договаривалась на равныхъ правахъ съ Франціей, Англіей и Австріей и при-
нимала важное участіе въ совѣтахъ Европы. Этому много содѣйствовалъ личный
характеръ Карла; его столько же уважали за его честность, сколько боялись за его
силу; какъ человѣкъ, онъ пользовался уже прекрасной репутаціей, а какъ государь,
онъ не имѣлъ себѣ равнаго между современными монархами, за исключеніемъ развѣ
Фридриха прусскаго; впрочемъ, обширныя способности послѣдняго омрачались низ-
кимъ хищничествомъ и постояннымъ желаніемъ превзойти своихъ сосѣдей; въ
Карлѣ III, напротивъ, не было ничего подобнаго; онъ заботливо усиливалъ оборону
Испаніи и, поставивъ ея сухопутныя и морскія силы на военную ногу, сдѣлалъ се
болѣе грозною, чѣмъ она была когда-либо съ шестнадцатаго столѣтія. Прежде ее
могъ обидѣть любой мелкій владѣтель, которому вздумалось бы потѣшиться надъ ея
слабостью; теперь же страна эта имѣла средства для сопротивленія, а въ случаѣ
нужды—и для атаки. Въ то время какъ армія была значительно усовершенствована
въ отношеніи качества войскъ, ихъ дисциплины и надзора за ихъ благосостояніемъ,
флотъ почти удвоился въ численности и болѣе чѣмъ удвоился въ силѣ. И это
428
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
было сдѣлано безъ обремененія народа новыми тягостями. Дѣйствительно, средства
народа до такой степени развились, что въ царствованіе Карла III большая сумма
податей выплачивалась легче, чѣмъ сравнительно малая сумма, взимавшаяся при
его предшественникахъ. Неслыханная до тѣхъ поръ привильность введена была
какъ въ раскладку, такъ п въ самое взиманіе податей. Законы о неотчуждаемыхъ
имѣніяхъ (гпогішаіп) стали менѣе строги, и были также приняты мѣры къ умень-
шенію строгости законовъ о наслѣдствѣ. Промышленность страны избавилась отъ
многихъ стѣсненій, долгое время тяготѣвшихъ надъ ней, и начала свободной тор-
говли на столько привились, что въ 1765 году старые законы о торговлѣ хлѣбомъ
были отмѣнены, дозволенъ вывозъ его, а также перевозка изъ одной части Испаніи
въ другую безъ тѣхъ нелѣпыхъ предосторожностей, которыя сочли нужнымъ при-
думать предшествовавшія правительства.
Въ это же царствованіе стали впервые руководствоваться въ отношеніи аме-
риканскихъ колоній правилами здравой и либеральной политики. Образъ дѣйствія
испанскаго правительства въ этомъ случаѣ представляетъ выгодную противополож-
ность съ системою, которой слѣдовалъ въ отношеніи нашихъ обширныхъ колоній
недальновидный и неспособный человѣкъ, царствовавшій тогда въ Англіи. Въ то
время какъ заносчивость Георга III подготовляла возстаніе въ англійскихъ коло-
ніяхъ, Карлъ III дѣятельно принималъ примирительныя мѣры въ отношеніи коло-
ній Испаніи. Въ этомъ стремленіи, желая предоставить полную свободу развитію
благосостоянія этихъ колоній, онъ, дѣлалъ все, чтб только возможно было при то-
гдашнемъ состояніи знанія и при средствахъ того времени. Въ 1764 году онъ уста-
новилъ—что считалось тогда великимъ дѣломъ—ежемѣсячное правильное сообщеніе
съ Америкою для того, чтобы легче было ввести предположенныя имъ реформы
въ колоніяхъ и чтобы скорѣе могли бытіГ удовлетворены ихъ претензіи. Прямо на
слѣдующій годъ свобода торговли была дарована Вестъ-Индскимъ островамъ, и
огромное количество ихъ товаровъ теперь впервые получило свободное обращеніе, по-
лезное какъ для нихъ самихъ, такъ и для ихъ сосѣдей. Вообще въ колоніяхъ были
введены значительныя улучшенія, устранены многія стѣсненія, обуздана тираннія
властей и облегчены тягости народа. Наконецъ, въ 1778 году начала свободной тор-
говли, послѣ удачныхъ опытовъ на американскихъ островахъ, были перенесены и на
материкъ Америки; порты Перу и Новой Испаніи были открыты, и этимъ сообщенъ
необыкновенно сильный толчокъ развитію благосостоянія тѣхъ дивныхъ колоній,
которыя самой природой предназначались къ богатству, но которыя безумное вмѣ-
шательство человѣка сдѣлало бѣдными.
Все это такъ быстро отражалось на метрополіи, что едва успѣла рушиться
старая система монополіи, какъ торговля въ Испаніи начала расширяться все бо-
лѣе и болѣе, пока вывозъ и ввозъ не достигли такихъ размѣровъ, какихъ и сами
виновники реформы едва-ли могли ожидать; говорили, что вывозъ иностранныхъ
произведеній утроился, а туземныхъ упятерился; ввозъ же изъ Америки увеличился
въ девять разъ.
Многіе изъ налоговъ, тяжело ложившихся на низшіе классы, были отмѣнены,
и такъ какъ промышленные классы были освобождены отъ своихъ главныхъ тяго-
стей, то надѣялись что ихъ положеніе быстро улучшится. А чтобы еще болѣе обла-
годѣтельствовать ихъ, введены были такія реформы въ примѣненіи законовъ, что
имъ можно было получать удовлетвореніе въ публичныхъ судахъ по жалобамъ на
лицъ, стоявшихъ выше ихъ. До того времени бѣдный человѣкъ не имѣлъ ни ма-
лѣйшей возможности восторжествовать надъ богатымъ; въ царствованіе же Карла ПІ
правительство ввело различныя правила, въ силу которыхъ работники и ремеслен-
ники могли получать удовлетвореніе отъ своихъ хозяевъ въ случаѣ неуплаты ими
условленнаго жалованья или несоблюденія заключенныхъ договоровъ.
Не только рабочіе классы, но даже литераторы и ученые были поощряемы и
покровительствуемы. Одинъ видъ опасности, которому они долго подвергались, былъ
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
429
въ значительной степени устраненъ мѣрами, принятыми Карломъ къ органиченію
власти инквизиціи. Кромѣ того король былъ всегда готовъ вознаграждать ихъ за-
слуги; онъ былъ человѣкъ съ просвѣщеннымъ вкусомъ и любилъ, чтобы его считали
покровителемъ учености. Вскорѣ по вступленіи своемъ на престолъ, онъ издалъ
указъ, изъемлющій отъ военной службы всѣхъ типографщиковъ и всѣхъ лицъ, имѣю-
щихъ непосредственное отношеніе къ книгопечатанію, каковы словолитчики, и т. п.
Онъ также, насколько могъ, старался вдохнуть новую жизнь въ старые универси-
теты и дѣлалъ все, что было возможно, для возстановленія ихъ дисциплины и ихъ
славы. Онъ основывалъ школы, усиливалъ средства коллегіи, вознаграждалъ про-
фессоровъ, давалъ пенсіи. Въ этого рода вещахъ щедрость его казалась безконеч-
ною, и этимъ однимъ уже достаточно объясняется то глубокое уваженіе, съ какимъ
относятся испанскіе литераторы къ памяти этого государя. Они имѣютъ полное право
пожалѣть, что вмѣсто того, чтобы жить теперь, они не жили въ его царствованіе.
Въ его время предполагалось, что интересы ученыхъ тождественны съ интересами
знанія; а эти послѣдніе цѣнились такъ высоко, что въ 1771 году установилось какъ
твердый принципъ въ правительственной дѣятельности, что изъ всѣхъ отраслей го-
сударственнаго управленія забота о воспитаніи есть самая важная.
Но это еще не все. Можно сказать безъ преувеличенія, что внѣшній видъ
Испаніи подвергся большимъ измѣненіямъ въ одно царствованіе Карла Ш, чѣмъ
во всѣ полтораста лѣтъ со времени окончательнаго изгнанія магометанъ. При
вступленіи его на престолъ, въ 1759 году, оказалось, что мудрая и миролюбивая
политика его предшественника, Фердинанда VI, дала возможность этому государю
не только заплатить многіе изъ долговъ короны, но даже скопить и оставить послѣ
себя значительную казну *)• Этимъ воспользовался Карлъ, чтобы начать тЬ роскошныя
публичныя сооруженія, которыя болѣе, чѣмъ какая-либо/другая сторона его админи-
страціи, должны были поражать чувства и доставлять популярность его царствованію.
А когда скорѣе вслѣдствіе увеличенія богатства, чѣмъ съ помощью новыхъ нало-
говъ, еще большія средства достались въ его распоряженіе, онъ употребилъ значи-
тельную часть ихъ на довершеніе своихъ плановъ. Онъ такъ украсилъ Мадридъ,
что спустя сорокъ лѣтъ послѣ его смерти говорили, что городъ этотъ всѣмъ своимъ
тогдашнимъ великолѣпіемъ обязанъ ему, Публичныя зданія, публичные сады, пре-
красныя гулянья въ окрестностяхъ столицы, ея величественныя ворота, ея обще-
ственныя учрежденія и самыя дороги, соединяющія ее съ окрестными мѣстностями,—
все это было дѣломъ Карла Ш и составляетъ самые видные памятники его генія
и изящнаго вкуса 2).
Въ другихъ частяхъ страны были проведены дороги и прорыты каналы съ
цѣлью расширить торговлю открытіемъ сообщеній черезъ мѣстности, бывшія прежде
непроходимыми. При вступленіи на престолъ Карла Ш вся Сіерра-Морена была
занята лишь дикими звѣрями и бандитами, находившими тамъ убѣжище 3). Ни одинъ
Доказательствомъ хорошаго управленія Фер-
2) Лафуэпто, который справедливо хвалитъ выка-
занную Фердинандомъ VI любовь къ миру, присово-
купляетъ:
динанда VI служитъ, то, что при смерти этого добраго
государя въ казнѣ оставалось триста милліоновъ реа-
ловъ, за покрытіемъ всѣхъ государственныхъ расхо-
довъ, — явленіе, въ первый разъ встрѣчающееся въ
Испаніи. Подобный результатъ свидѣтельсівуегь ко- 1
нечно и о хорошей администраціи, но опъ могъ быть
достигнутъ только его мудрой нейтральной и миролю-
бивой политикой >. I
2) «Карлу III обязанъ Мадридъ своимъ пыпѣш- I
нпмъ великолѣпіемъ. Его заботами оконченъ королев-
скій дворецъ, воздвигнуты величественныя ворота Ал-
кала и Савъ-Винценте, построены таможни, почтамтъ,
музеумъ и королевская типографія, улучшена академія 5
трехъ изящныхъ искусствъ, учрежденъ кабинетъ есте- |
| ствеппой исторіи, ботаническій садъ, національный
I банкъ Сапъ-Карлоса и многія даровыя школы; кромѣ
того проведены удобныя дороги изъ города и устроены
прекрасныя мѣста гуляній, внутри и внѣ его, укра-
шенныя статуями и фонтанами,—все это свидѣтель-
ствуетъ объ отеческой заботливости этого короля >.
(«8раіп Ьу ап Ашегісап», Іопйоп, 1831).
3) Слѣдующее мѣсто изображаетъ состояніе ея въ
1766 году: «Добровольно или подъ вліяніемъ страха,
содержатели постоялыхъ дворовъ позволяли разбойни-
камъ собираться въ нихъ. Тамъ опп условливались о
своихъ предпріятіяхъ и йогомъ выполняли ихъ безна-
казанно, скрываясь въ пещерахъ, откуда прогоняли
дикихъ звѣрей. Иногда въ отдаленіи отъ рѣдкихъ де-
ревень показывались пастухи въ родѣ тѣхъ, съ которыми,
по словамъ Сервантеса, встрѣтился смышленый ги-
дальго Ламанчскій. Часть этого хребта была заселена
430
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
мирный путешественникъ не .отважился бы поѣхать въ подобное мѣсто; и торговля
не могла такпмъ образомъ направляться по мѣстности, которую сама природа пред-
назначила быть одною изъ главнѣйшихъ большихъ дорогъ Испаніи, такъ какъ она
расположена между бассейнами Гвадіаны и Гвадалквивира, на прямомъ направленіи
между портами Средиземнаго моря и Атлантическаго океана. Дѣятельное прави-
тельство Карла III рѣшилось исправить это зло; но такъ какъ испанскій народъ не
имѣлъ достаточно энергіи, чтобы сдѣлать все, чтб требовалось для этого, то въ
1767 году шесть тысячъ голландцевъ и фламандцевъ были приглашены поселиться
въ Сіеррѣ-Моренѣ. По ихъ прибытіи ихъ надѣлили землей, весь округъ былъ про-
рѣзанъ дорогами, построены деревни, и то, что было прежде непроходимою пусты-
ней, теперь вдругъ превратилось въ веселую плодородную мѣстность.
По всей почти Испаніи дороги были исправлены, для чего еще въ 1760 году
былъ отложенъ особый фондъ. Начаты были многія работы, при чемъ введены такія
улучшенія и такой строгій надзоръ за тѣмъ, чтобы завѣдывающія ими должностныя
лица не пользовались незаконными доходами, что въ самое короткое время стоимость
сооруженія общественныхъ дорогъ уменьшилась на половину сравнительно съ тѣмъ,
во что онѣ обыкновенно обходились 1). Изъ предпріятій, удачно приведенныхъ къ
окончанію, самыми важными были: дорога^ впервые проложенная между Малагой и
Антекерой, и другая между Акиласомъ и Лоркою. Такимъ образомъ доставлены были
средства сообщенія между Средиземнымъ моремъ и внутренними частями Андалузіи
и Мурціи. Въ то время какъ устраивались эти сообщенія на югѣ и юго-востокѣ
Испаніи, другія были открываемы на сѣверѣ и сѣверо западѣ. Въ 1769 году была
начата дорога между Бильбао и Осмою, и вскорѣ послф' того была окончена дорога
между Галиціей и Асторгою. Эти и подобныя имТ работы были такъ искусно вы-
полнены, что испанскія болыііія дороги, считавшіяся прежде худшими въ Европѣ,
теперь уже были въ числѣ лучшихъ. Одинъ свѣдущій въ этомъ дѣлѣ судья, и при
томъ человѣкъ далеко не слишкомъ пристрастный къ Испаніи, высказываетъ мнѣ-
ніе, что при смерти Карла въ Испаніи дороги были лучше, чѣмъ въ какой-либо
другой странѣ.
Во внутренности страны рѣки были сдѣланы судоходными, и для соединенія
ихъ другъ съ другомъ прорыты каналы. Эбро, протекая чрезъ самый центръ Арра-
гона и часть Старой Кастиліи, можетъ служить для цѣлей торговли вверхъ до Ло-
гроньо, а оттуда внизъ до Туделы. Но между Туделою и Сарагоссою судоходству
препятствуетъ слишкомъ большая быстрота теченія и скалы въ руслѣ рѣки. Слѣдо-
вательно, Наварра лишена своего естественнаго сообщенія съ Средиземнымъ мо-
ремъ. Въ предпріимчивое царствованіе Карла V была сдѣлана попытка исправить
это зло, но планъ этотъ не удался, былъ отложенъ въ сторону и забытъ до тѣхъ
поръ, пока не возобновилъ его спустя слишкомъ двѣсти лѣтъ Карлъ III. Подъ его
покровительствомъ былъ проектированъ большой Аррагонскій капалъ съ велико-
лѣпною мыслью — соединить Средиземное море съ Атлантическимъ океаномъ. Это
однако же былъ одинъ изъ многихъ случаевъ, въ которыхъ правительство Испаніи
оказывалось слишкомъ впереди самой страны, и пришлось покинуть планъ, выпол-
неніе котораго было ей не по силамъ. Но и то, чтб успѣли сдѣлать, имѣло уже
громадную цѣнность. Каналъ былъ уже доведенъ до Сарагоссы, и воды Эбро стали
полезны пе только для перевозки, но и для орошенія почвы. Теперь даже западная
оконечность Аррагона имѣла средства вести безопасно выгодную торговлю. Старые
участки земли, сдѣлавшись болѣе производительными, поднялись въ цѣнѣ, и стали воз-
маврами, теперь же все было покрыто густымъ ку-
старникомъ, и единственное обитаемое мѣсто была оби-
тель Св. Елены, откуда раздавались звуки благодар-
ственныхъ молебствій за славную побѣду при Ласъ-
Навасъ». (Віо, «Нізіогіа <1е1 Кеіпабо бе Сагіоз III»).
Э Дѣйствительно, Ріо говоритъ, что издержки
на нихъ были уменьшены на двѣ трети, а въ нѣко-
торыхъ частяхъ и па три четверти, «Прежде постройка
каждой мили стоила милліонъ реаловъ, теперь она об-
ходится въ три пли четыре раза дешевле».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
431
дѣлываться новыя пространства. Это принесло пользу и другимъ частямъ Испаніи.
Кастилія, напримѣръ, въ голодные годы всегда зависѣла въ своемъ продовольствіи
отъ Аррагона, между тѣмъ какъ эта провинція при прежней системѣ земледѣлія
могла производить только то, что было нужно для ея собственнаго потребленія. При
помощи же этого канала, къ которому около того же времени прибавился и Та-
устскій, почва Аррагона сдѣлалась производительнѣе, чѣмъ была когда-либо прежде,
и богатыя равнины Эбро давали такія обильныя жатвы, что въ состояніи были
снабжать пшеницей и другимъ зерномъ какъ кастильцевъ, такъ и аррагонцевъ.
Правительство Карла III устроило также между Ампостой и Алфакесомъ ка-
налъ, который оросилъ южную оконечность Каталоніи и далъ возможность воздѣлы-
вать цѣлый округъ, остававшійся прежде невоздѣланнымъ вслѣдствіе постояннаго не-
достатка дождей. Другимъ, еще болѣе великимъ предпріятіемъ того же царствованія
была попытка, отчасти только удавшаяся, установить водяное сообщеніе между сто-
лицей и Атлантическимъ океаномъ посредствомъ проведенія канала отъ Мадрида
до Толедо, откуда товары шли бы по Таго въ Лиссабонъ, и открылся бы такимъ
образомъ путь для всей западной торговли. Но какъ это, такъ и многія другія ве-
ликія предположенія были разрушены въ самомъ зародышѣ смертью Карла III. съ
которой все исчезло. Когда его не стало, страна впала вновь въ свое прежнее
бездѣйствіе, и было ясно видно, что всѣ эти великія дѣла были не національныя,
а политическія; другими словами, что они были плодомъ дѣятельности отдѣльныхъ
личностей, самыя ревностныя усилія которыхъ всегда оканчиваются ничѣмъ, если имъ
противодѣйствуетъ вліяніе тѣхъ общихъ причинъ, которыя незамѣтны, но которымъ
даже самые сильные изъ насъ по неволѣ оказываютъ безусловное повиновеніе.
Все-таки одно время было сдѣлано многое, и Карлъ, разсуждая согласно съ
обыкновенными правилами политиковъ, легко могъ питать надежду, что все совер-
шенное имъ на всегда измѣнитъ судьбу Испаніи, потому что за эти и другія работы,
которыя имъ были не только проектированы, но и выполнены, онъ заплатилъ, не
прибѣгнувъ, какъ дѣлаютъ часто, къ налогамъ, обременяющимъ народъ и стѣсня-
ющимъ его промышленность. При немъ находились постоянно, подавая ему совѣты,
такіе люди, которые дѣйствительно имѣли въ виду общественное благо и никогда
не сдѣлали бы такой пагубной ошибки. Подъ его управленіемъ богатство страны
значительно увеличилось и удобства низшихъ классовъ не только не уменьшились,
но даже умножились. Налоги раскладывались справедливѣе, чѣмъ бывало прежде.
Подати, которыхъ въ XVII столѣтіи не могли исторгнуть у народа всѣ усиліи испол-
нительной власти, теперь уплачивались исправно и вслѣдствіе развитія средствъ
народа стали болѣе производительны и менѣе тягостны. Въ управленіи финансами
проявлялась экономія, первый примѣръ которой былъ поданъ въ предшествовавшее
царствованіе, когда осторожная и мирная политика Фердинанда VI положила осно-
ваніе многимъ изъ только-что разсказанныхъ нами улучшеній. Фердинандъ завѣщалъ
Карлу III сокровища, которыя онъ ни у кого не отнималъ, а составилъ бережли-
востью. Между введенными имъ реформами, о которыхъ я не упомянулъ во избѣ-
жаніе излишнихъ подробностей, есть одна весьма важная и прекрасно характери-
зующая его политику. До его царствованія изъ Испаніи ежегодно вывозилась огромная
сумма денегъ вслѣдствіе присвоеннаго папою права представлять къ нѣкоторымъ
богатымъ бенефиціямъ и получать часть ихъ доходовъ въ свою пользу, вѣроятно въ воз-
награжіеніе за предпринятое имъ безпокойство. Отъ этой обязанности папа былъ
освобожденъ Фердинандомъ VI, который обезпечилъ за испанской короной право
жаловать подобныя бенефиціи и тѣмъ сберегъ для страны огромныя суммы денегъ,
на которыя римскій дворъ привыкъ весело пировать Это была именно такая
4) Въ донесеніи предсѣдателя казенной палаты
Кастиліи, дона Бласа де-Xоперъ, представленномъ по
королевскому повелѣнію въ 1746 г., говорится, что,
согласно показаніямъ историка Кабреры, въ теченіе
тридцати лѣтъ полтора милліона римскихъ дукатовъ
пересылались пзь Кастиліи въ Римъ, въ видѣ подати
432
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
мѣра, которую съ радостью долженъ былъ привѣтствовать Карлъ III, какъ согласу-
ющуюся съ его собственными взглядами, и поэтому мы находимъ, что въ его цар-
ствованіе она не только оставалась въ силѣ, но была еще болѣе распространена.
Замѣтивъ, что, несмотря на всѣ его старанія, приверженность испанцевъ къ этого
рода вепіамъ была такъ сильна, что заставляла ихъ дѣлать приношенія тому, кого
они считали главою церкви, король рѣшился установить контроль даже надъ этими
добровольными приношеніями. Для достиженія этой цѣли предлагаемы были раз-
личныя ухищренія и, наконецъ, остановились на одномъ, которое казалось самымъ
дѣйствительнымъ. Изданъ былъ королевскій указъ, повелѣвавшій, чтобы никто не
посылалъ денегъ въ Римъ, а если кому-нибудь понадобится произвести тамъ какія-
либо уплаты, то чтобы деньги эти посылались не обыкновеннымъ путемъ, а чрезъ
пословъ, министровъ пли другихъ агентовъ испанской короны.
Если мы теперь возвратимся къ разсказаннымъ мною дѣяніямъ и взглянемъ
на нихъ, какъ на нѣчто цѣлое, простирающееся со вступленія па престолъ Филиппа V'
до смерти Карла III, т. е. па періодъ времени почти въ девяносто лѣтъ, то мы будемъ по-
ражены проявляющимся въ нихъ единствомъ, правильностью ихъ хода и ихъ видимымъ
успѣхомъ. Смотря на нихъ съ одной политической точки зрѣнія, можно усомниться,
видали ли когда въ какой-либо странѣ, до или послѣ этого, прогрессъ столь же
обширный и непрерывный, Въ продолженіе трехъ поколѣній не было остановки со
стороны правительства, ни одной реакціи, ни одного признака колебанія. Улуч-
шеніе за улучшеніемъ, реформа за реформой слѣдовали быстро, непрерывно. Мо-
гущество церкви, которое всегда было вопіющимъ зломъ въ Испаніи и къ которому
до того времени не смѣлъ прикоснуться никто изъ самыхъ отважныхъ политиковъ,
теперь было всячески ограничено, благодаря усиліямъ цѣлаго ряда государственныхъ
людей, отъ Орри до ХлоридаХБланка, дѣло которыхъ было потомъ въ теченіе почти
тридцати лѣтъ усердно продолжаемо Карломъ Ш, способнѣйшимъ изъ государей,
какіе когда-либо царствовали въ Испаніи со смерти Филиппа II. Навели страхъ
даже на инквизицію, которая стала теперь снисходительнѣе къ своимъ жертвамъ.
Сожиганіе еретиковъ было прекращено; пытки не употреблялись болѣе. Преслѣдо-
ванія за ересь не были дозволяемы. Вмѣсто того чтобы наказывать людей за во-
ображаемыя преступленія, стали проявлять заботливость объ ихъ дѣйствитель-
ныхъ интересахъ, стали облегчать ихъ тягости, увеличивать ихъ удобства и огра-
ничивать тираннію поставленныхъ надъ ними лицъ. Дѣлались попытки къ обуз-
данію алчности духовенства и къ предупрежденію самовольныхъ посягательствъ
его на достояніе народа. Въ этихъ видахъ пересмотрѣны были законы о неот-
чуждаемыхъ имѣніяхъ (пюгішаіп), и приняты различныя мѣры, которыя должны
были служить препятствіемъ для лицъ, желавшимъ расточать свою собственность
посредствомъ завѣщанія ея на духовныя потребности, Въ этомъ, какъ и въ дру-
гихъ предметахъ, истинные интересы общества предпочитались воображаемымъ.
Поставить мірянъ выше духовныхъ, ослабить исключительное вниманіе, обращав-
шееся до того времени на вопросы, о которыхъ ничего положительно неизвѣстно
и которые невозможно рѣшить; достигнуть всего этого и замѣнить подобныя без-
плодныя умозрѣнія любовью къ наукѣ или литературѣ сдѣлалось теперь цѣлью
испанскаго правительства въ первый разъ съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ пра-
вительство въ Испаніи. Слѣдуя этому плану, оно изгнало іезуитовъ, отмѣнило право
святилища укрывать преслѣдуемыхъ закономъ и научило всю іерархію, отъ епи-
скопа до послѣдняго монаха, бояться закона, обуздывать свои страсти и умѣрять
ту наглость, которую она выказывала въ обращеніи со всѣми сословіями, кромѣ
своего. И во всякой странѣ такія мѣры были бы великимъ подвигомъ, въ странѣ же,
съ высшихъ духовныхъ лицъ. Этотъ самый Ховеръ | дарства до пятисотъ тысячъ римскихъ скудо, что со-
прибавляетъ, что въ началѣ ХѴШ столѣтія эта кон- ' ставляло около третьей части того, что Римъ
трнбуція доходила ежегодно со всего Испанскаго госу- получилъ отъ всего христіанства*
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
433
какъ Испанія, онѣ составляли чудо. Я сдѣлалъ лишь краткій обзоръ этихъ нововве-
деній, но и этого достаточно, чтобы видѣть, до какой степени правительство тру-
дилось надъ тѣмъ, чтобы уменьшить суевѣріе, обуздать изувѣрство, возбудить къ
дѣятельности умъ, оживить промышленность и вывести народъ изъ состоянія мерт-
веннаго усыпленія. Я пропустилъ нѣсколько довольно любопытныхъ мѣръ, напра-
влявшихся въ ту же сторону, потому что здѣсь, какъ и вездѣ, я стараюсь ограни-
чиваться лишь тѣми рѣзко выдающимися чертами, въ которыхъ болѣе явственно
обозначается общее движеніе. Кто станетъ подробно изучать исторію Испаніи за
этотъ періодъ времени, тотъ найдетъ новыя доказательства умѣнья и энергіи людей,
стоявшихъ во главѣ ея управленія и посвятившихъ свои лучшія силы дѣлу возро-
жденія управляемой ими страны. Но для такихъ спеціальныхъ изслѣдованій нужны
и спеціальные люди; я же буду совершенно доволенъ, если мнѣ удалось вѣрно
схватить общее очертаніе, общій ходъ событій. Для моей цѣли совершенно доста-
точно, если я доказалъ главное положеніе и убѣдилъ читателя въ томъ, что госу-
дарственные люди Испаніи совершенно ясно различали то зло, отъ котораго сто-
нала ихъ страна, и что онп усердно старались исправить его и воскресить судьбы
державы, которая не только была нѣкогда первенствующею въ Европѣ, но и упра-
вляла самой роскошной и обширной территоріей, какая когда - либо соединялась
подъ однимъ скипетромъ со времени паденія Римской Имперіи.
Тѣ, которые убѣждены, что правительство можетъ цивилизовать націю и что
законодатели суть виновники соціальнаго прогресса, естественно подумаютъ, что
Испанія извлекла прочную пользу изъ тѣхъ либеральныхъ началъ, которыя теперь
впервыо были проведены въ дѣйствительность. На дѣлѣ однако выходитъ, что по-
добная политика, какъ бы онк ни казалась разумной, це принесла никакой пользы
просто потому, что она шла противъ цѣлаго ряда предшествовавшихъ обстоятельствъ.
Она противорѣчила всему складу національнаго ума й была введена въ общество,
которое еще не созрѣло для нея. Никакая реформа не можетъ принести дѣйстви-
тельной пользы, если она не есть продуктъ общественнаго мнѣнія и если въ ней
иниціатива не принадлежитъ самому народу. Въ Испаніи въ теченіе XVIII столѣтія
иностранное вліяніе и запутанности внѣшней политики ставили просвѣщенныхъ
правителей надъ непросвѣщенной страной х). Вслѣдствіе этого совершались одно
время великія дѣла. Устранено много золъ, удовлетворены многія жалобы, введены
многія важныя улучшенія, и проявился такой духъ терпимости, какого еще не ви-
дали до тѣхъ поръ въ этой суевѣрной странѣ, порабощенной духовенствомъ. Но
умъ Испаніи оставался нетронутымъ. Въ то время какъ по наружности, по внѣш-
нимъ признакамъ, дѣла шли лучше, сущность ихъ оставалась неизмѣнной. Подъ
этой поверхностью, далеко внѣ вліянія всякихъ политическихъ средствъ, дѣйство-
вали важныя общія причины; дѣйствуя непрерывно въ продолженіе многихъ столѣтій,
онѣ, рано или поздно, навѣрно заставили бы политиковъ обратиться вспять и тор-
жественно вступить на тотъ путь, который соотвѣтствовалъ бы преданіямъ страны и со-
гласовался съ обстоятельствами, подъ вліяніемъ которыхъ преданія эти сложились.
Наконецъ, наступила реакція. Въ 1788 году умеръ Карлъ Ш и ему наслѣ-
довалъ Карлъ IV,—государь, воспитанный чисто въ испанскомъ духѣ,—набожный,
правовѣрный, невѣжественный. Теперь-то стало ясно, до какой степени все было
непрочно и какъ мало можно было полагаться на реформы, не вызванныя самимъ
народомъ, а навязанныя ему политическими классами. Карлъ IV, хотя слабый и
ничтожный государь, былъ до такой степени поддерживаемъ въ своихъ общихъ
видахъ сочувствіемъ испанскаго народа, что менѣе чѣмъ въ пять лѣтъ ему уда-
лось совершенно ниспровергнуть либеральную политику, надъ созиданіемъ которой
трудились три поколѣнія государственныхъ людей. Менѣе чѣмъ въ пять лѣтъ все
*) Необходимо замѣтить, что Кортесы, единствсн- ! были собираемы только три раза въ теченіе всего
нос мѣсто, гдѣ могъ быть слышенъ голосъ народа, | XVIII столѣтія, и то только ради формальности.
Бокль.—Изд. Ф, Павлспкова. 28
434
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
измѣнилось. Власть церкви была возстановлена; все, что хоть сколько-нибудь при-
ближалось къ свободному изслѣдованію, было запрещено; старыя начала произвола,
о которыхъ не слыхали съ семнадцатаго столѣтія, теперь вновь возымѣли силу;
священники снова пріобрѣли большое значеніе; литераторы были запуганы, и лите-
ратура упала духомъ; а между тѣмъ инквизиція, внезапно воскресшая, проявила
такую энергію, отъ которой трепетали ея враги, и доказала, что всѣ попытки, на-
правлявшіяся къ ослабленію ея, не могли лишить ее силы, ни обуздать ея древній духъ.
Министры Карла Ш и виновники тѣхъ великихъ реформъ, которыя ознаме-
новали его царствованіе, были отставлены, чтобы очистить мѣсто для другихъ со-
вѣтниковъ, болѣе подходящихъ къ новому порядку вещей. Карлъ IV слишкомъ лю-
билъ церковь, чтобы спосить присутствіе просвѣщенныхъ людей» Аранда и Флорида
Бланка были удалены отъ должностей и оба отправлены въ заточеніе. Ховельяносъ
былъ удаленъ отъ двора, а Кабаррюсъ заключенъ въ тюрьму. Теперь предстояло
такое дѣло, къ которому эти знаменитые люди не приложили бы рукъ своихъ. По-
литика, которой неуклонно слѣдовали въ продолженіе почти девяноста лѣтъ, должна
была вскорѣ быть покинута для того, чтобы воскресить и, если можно, возстано-
вить въ прежней силѣ старое владычество семнадцатаго столѣтія, — владычество
невѣжества, тиранніи, суевѣрія.
Еще разъ Испанія покрылась мракомъ; еще разъ легла ночная тѣнь на эту
несчастную землю. Самые худшіе виды угнетенія, говоритъ одинъ замѣчательный
писатель, казалось, обрушились на страну съ новой, зловѣщей тяжестью. Въ то же
самое время и какъ естественное послѣдствіе общаго /плана явилось запрещеніе
всякаго изслѣдованія, которое способно возбудить дѣятельность ума. Дѣйствительно,
посланъ былъ во всѣ университеты приказъ, воспрещающій изученіе нравственной
философіи; при чемъ министръ, отдавшій приказъ, очень справедливо замѣтилъ, что
король не нуждается въ философахъ. Однако нечего было бояться, чтобы Испанія,
изучая этотъ предметъ, не произвела чего-либо особенно опаснаго. Нація, не дер-
завшая и — чтб еще хуже — не желавшая сопротивляться, во всемъ уступала,
предоставляя королю дѣлать, что ему угодно. Въ теченіе весьма немногихъ лѣтъ
онъ парализовалъ дѣйствіе самыхъ драгоцѣнныхъ реформъ, введенныхъ его пред-
шественниками. Удаливъ умныхъ совѣтниковъ своего отца и раздавъ высшія мѣста
такимъ же ограниченнымъ и неспособнымъ людямъ, какъ и онъ самъ, онъ довелъ
страну до совершеннаго банкротства и, до замѣчанію одного испанскаго историка,
истощилъ всѣ средства государства.
Таково было состояніе Испаніи въ концѣ ХѴШ столѣтія. За этимъ быстро
послѣдовало нашествіе французовъ, и эта несчастная страна испытала всевозмож-
ные виды бѣдствія и униженія. Тутъ однако слѣдуетъ замѣтить нѣкоторое различіе.
Бѣдствія могутъ быть причиняемы другими, униженіе же народа можетъ произойти
только отъ собственныхъ его дѣйствій. Иноземный грабитель можетъ нанести вредъ,
но не можетъ причинить стыда. Между народами такъ же, какъ и между отдѣль-
ными лицами, не можетъ быть безчестія для того, кто вѣренъ самому себѣ. Испанія
въ теченіе нынѣшняго столѣтія была ограблена л угнетена, но дозоръ падаетъ на
грабителей, а не на ограбленныхъ. Ее наводнило грубое, своевольное войско,
ея поля были опустошены, города разграблены, села сожжены. Но безчестіе въ
этомъ случаѣ падаетъ скорѣе на злодѣя, чѣмъ на жертву. Даже съ матеріальной
точки зрѣнія подобныя потери навѣрно могутъ быть вознаграждены, если только
народъ, подвергшійся имъ, укрѣпился въ тѣхъ привычкахъ самоуправленія и въ
томъ чувствѣ самоудованія, которыя составляютъ причину и источникъ всякаго
истиннаго величія. Съ ихъ помощью всякій вредъ можетъ быть исправленъ и вся-
кое зло уврачевано. Безъ нихъ же и самый слабый ударъ можетъ быть пагубенъ.
Въ Испаніи ничего подобнаго не знаютъ и ничто подобное не можетъ повидимому
привиться. Въ этой странѣ люди такъ давно привыкли къ слѣпому раболѣпію предъ
короной и духовенствомъ, что подобострастіе и суевѣріе заступили мѣсто тѣхъ благо-
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
435
родныхъ побужденій, которымъ всякая свобода обязана своимъ существованіемъ и
въ отсутствіе которыхъ никогда не можетъ быть осуществлена идея независимости.
Дѣйствительно, не разъ въ теченіе XIX столѣтія проявлялся такой духъ, отъ котораго
можно было ожидать чего-то лучшаго. Въ 1812, въ 1820 и въ 1836 годахъ нѣ-
сколько пылкихъ и восторженныхъ преобразователей пытались обезпечить испан-
скому народу свободу, доставивъ Испаніи свободную конституцію. Они имѣли минут-
ный успѣхъ—вотъ и все. Они могли дать ей формы конституціоннаго правитель-
ства, но не могли дать тѣхъ преданій и тѣхъ привычекъ, подъ вліяніемъ кото-
рыхъ вырабатываются эти формы. Они подражали голосу свободы; они скопировали
ея учрежденія, они переняли самые пріемы ея. И что же? При первомъ ударѣ
судьбы ихъ идолъ распался на части. Ихъ конституціи рушились, ихъ собранія
были распущены, ихъ постановленія отмѣнены. Послѣ каждаго такого разстройства
правительство усиливалось, начала деспотизма упрочивались, и испанскимъ либера-
ламъ приходилось оплакивать тотъ день, въ который они тщетно пытались доста-
вить свободу своей несчастной, злополучной странѣ *)•
А что еще замѣчательнѣе въ этихъ неудачахъ,—это то, что испанцы обладали
съ весьма давняго времени муниципальными привилегіями и льготами, подобными
тѣмъ, которыя мы имѣли въ Англіи и которымъ часто приписываютъ наше величіе.
Но подобныя учрежденія хотя и сохраняютъ свободу, но никогда не могутъ создать
ее. Испанія имѣла наружный видъ свободы, но не имѣла ея духа; поэтому наруж-
ный видъ, какъ бы много онъ ни обѣщалъ, вскорѣ изглаживался. Въ Англіи духъ
предшествовалъ формѣ, и поэтому форма упрочилась. Такъ, хотя испанцы и могли
похвастать свободными учрежденіями цѣлымъ столѣтіемъ раньше насъ, они все-таки не
могли сохранить ихъ, единственно потому, что у нихъ были учрежденія, и болѣе ничего.
Мы не имѣли народнаго представительства до 1264 года, Кастилія же имѣла его въ
1169 году, а Аррагонъ—въ 1133. Точно также древнѣйшая хартія была пожалована
англійскому городу въ XII столѣтіи, въ Испаніи же мы находимъ хартію, данную Леону
въ 1020 г., и въ теченіе одиннадцатаго столѣтія привилегіи и льготы городовъ были
тамъ настолько обезпечены, насколько это можно было сдѣлать путемъ закона.
Но дѣло въ томъ, что въ Испаніи эти учрежденія, вмѣсто того чтобы выте-
кать изъ потребностей народа, были порождены однимъ ударомъ политики его пра-
вителей. Они скорѣе были навязаны гражданамъ, чѣмъ даны по ихъ желанію; ибо
въ продолженіе войны съ магометанами христіанскіе короли Испаніи, по мѣрѣ дви-
женія своего къ югу, естественно озабочивались тѣмъ, чтобы заставить своихъ под-
данныхъ селиться въ пограничныхъ городахъ, гдѣ они могли бы встрѣчать и отра-
жать непріятеля. Съ этою цѣлью жаловались хартіи городамъ и разныя привилегіи
ихъ жителямъ. По мѣрѣ того какъ магометане были постепенно оттѣсняемы въ
направленіи отъ Астуріи къ Гранадѣ, границы отодвигались и льготы были распро-
страняемы на вновь завоеванные пункты, такъ чтобы мѣсто опасности было также
и мѣстомъ вознагражденія. Но въ то же время тѣ общія причины, на которыя я
указалъ, предопредѣляли народъ къ привычкамъ слѣпой преданности и суевѣрія,
которыя развивались до размѣровъ, пагубныхъ для духа свободы. При этомъ условіи
всякія учрежденія были безполезны. Они не пускали корней, а подобно тому—какъ
созидались по одному политическому разсчету, разрушались по другому. Къ концу
г) Въ Испаніи голосъ народа всегда быль про- 1
тпвъ либеральной партіи, какъ замѣчаютъ многіе писа-
тели, но зная однакожъ причины этого. Вальтонь 1
(«КеѵоІЮіопз оі”8раіп», Ьопйоп. 1837) говоритъ о Кор- I
тесахъ: «Всеобщее негодованіе низвергло пхъ съ за- (
нпмаемыхъ ими мѣстъ въ 1814 голу; а въ 1823 г. )
они были осилены не оружіемъ Франціи, а недо- !
вольствомъ своихъ же соотечественниковъ* и т. д.
Въ «^ціп’з Метоігз оГ Гспііпапй Иіѳ Зеѵепііі» (Коп-
іей, 1824, р. 121) упоминается, что «во всѣхъ го- |
родахъ, чрезъ которые проѣзжалъ король, толпа, воз-
бужденная монахами и духовенствомъ, опрокидывала
конституціонныя основы а произносила страшныя ру-
гательства противъ конституціи, Кортесовъ и либера-
ловъ». Одинъ весьма умный писатель, говоря о дѣ-
лахъ Испаніи въ 1855 году, утверждаетъ, и я убѣ-
жденъ, что это совершенная правда, что Испанія—
«одна пзъ тѣхъ странъ, гдѣ населеніе всегда бываетъ
непремѣнно менѣе либерально, чѣмъ правительство».
28*
436
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
XIV столѣтія испанцы такъ прочно утвердились на вновь занятыхъ ими террито-
ріяхъ, что имъ почти нечего было опасаться вторичнаго изгнанія изъ этихъ мѣст-
ностей; между тѣмъ, съ другой стороны, имъ не представлялось также непосред-
ственной возможности продолжать свои завоеванія и вытѣснить магометанъ изъ
укрѣпленныхъ пунктовъ Гранады. Слѣдовательно, обстоятельства, вызвавшія муни-
ципальныя привилегіи, миновали; а какъ скоро это сдѣлалось очевиднымъ, приви-
легіи начали исчезать. Такъ какъ онѣ не согласовались съ привычками народа, то
и слѣдовало ожидать, что онѣ рушатся при первомъ удобномъ случаѣ *). Въ концѣ
XIV столѣтія онѣ уже замѣтно теряли свою силу; къ концу же пятнадцатаго онѣ
почти не существовали, а въ началѣ шестнадцатаго были окончательно уничтожены 2).
Такимъ-то образомъ общія причины всегда, наконецъ, торжествуютъ надъ
всѣми препятствіями. Въ общемъ выводѣ за продолжительные періоды времени онѣ
оказываются непреодолимыми. Дѣйствіе ихъ часто умѣряется, а иногда на короткое
время и останавливается политиками, которые имѣютъ всегда наготовѣ свои эмпи-
рическія близорукія средства. Если же средства эти противны духу времени, то
онѣ могутъ имѣть успѣхъ развѣ только на одно мгновеніе; а когда это мгновеніе
пройдетъ, то начинается реакція, и приходится отвѣчать за употребленное насиліе.
Доказательство этого можно найти въ лѣтописяхъ каждой цивилизованной страны
— стоитъ только сличить исторію законодательства съ исторіею мнѣній. Одно пре-
красное доказательство представила намъ судьба испанскихъ городовъ, въ судьбѣ
же испанской церкви мы найдемъ другое. Въ продолженіе слишкомъ восьмидесяти
лѣтъ по смерти Карла ІІ-го правители Испаніи старались ослабить духовную
власть, и результатомъ всѣхъ этихъ усилій было, что даже такой ничтожный и не-
способный король, какъ Карлъ IV, съумѣлъ чрезвычайно легко и быстро разру-
шить все, чтб они построили. Это произошло оттого, что, когда въ продолженіе
восемнадцатаго столѣтія духовенство подвергалось нападеніямъ со стороны закона,
общественное мнѣніе благопріятствовало ему. Мнѣнія народа неизмѣнно зависятъ
отъ обширныхъ общихъ причинъ, имѣющихъ вліяніе на цѣлую страну; законы же
его слишкомъ часто бываютъ дѣломъ немногихъ могущественныхъ личностей, на-
ходящихся въ разладѣ съ народной волей. Когда законодатели умираютъ или ли-
шаются своихъ мѣстъ, то всегда есть вѣроятность, что ихъ преемники будутъ дер-
жаться противоположныхъ мнѣній и разрушать ихъ планы. Но среди всѣхъ воля
неній и колебаній политической жизни общія причины сохраняютъ свою силу, хот-
онѣ и ускользаютъ часто изъ вида и остаются незамѣтными, пока политики, скло-
нясь въ ихъ сторону, не выдвинутъ ихъ наружу и ясно не признаютъ пхъ значе-
нія какимъ-нибудь публичнымъ актомъ.
Это именно и сдѣлалъ Карлъ IV въ Испаніи. Когда онъ принималъ мѣры въ
пользу церкви и противъ свободнаго изслѣдованія, то этимъ онъ только торже-
ственно признавалъ силу тѣхъ національныхъ привычекъ, которыми предшествен-
ники его пренебрегали. Вліяніе, которое всегда имѣла іерархія страны на обще-
г) II дѣйствительно, депутаты городовъ собственно
сами уничтожили свою свободу, какъ справедливо за-
мѣчаетъ одинъ испанскій историкъ. «Неудивительно,
что испанскіе монархи старались, на сколько это было
возможно, укрѣпить свою власть, и еще менѣе удиви-
тельно, что ихъ совѣтники и министры содѣйствовали
имъ въ этомъ. Исторія всѣхъ націй представляетъ намъ
многочисленные примѣры подобной политики; но что
всею замѣчательнѣе въ исторіи Испаніи, такъ
это то, что депутаты городовъ, которые должны
бы бытъ самыми ревностными защитниками
правъ горожанъ, открыто злоумышляли противъ
средняго сословія и стремились къ уничтоженію и
самыхъ остатковъ древняго національнаго представи-
тельства». (Зешреге, «Пізіоіге йез Согіёз б’Еэра^пе»).
Удивительно странно, что Семеро никогда не изслѣдо-
валъ, почему это случилось именно въ Испаніи, а по
въ другомъ мѣстѣ.
2) Окончательное уничтоженіе національной сво-
боды приписывается многими историками сраженію прп
Внльяларѣ въ 1521 году,--хотя вполнѣ извѣстно, что,
еслибы роялисты, вмѣсто того чтобы выиграть, про-
играли это сраженіе, окончательный результатъ былъ
бы тотъ же самый. Одно время я имѣлъ намѣреніе
прослѣдить исторію муниципальнаго и представительнаго
элементовъ въ теченіе ХУ столѣтія, и собранные мною
тогда матеріалы убѣдили меня, что духъ свободы ни-
когда собственно не существовалъ въ Испанія, и что
। поэтому признаки п наружныя формы свободы, рано
I пли поздно, навѣрное изгладились бы.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
437
ственное мнѣніе, вошло даже въ пословицу; но оно еще сильнѣе, чѣмъ обыкновенно
полагаютъ. До чего доходило это вліяніе въ XVII столѣтіи,—это мы уже видѣли; въ
восемнадцатомъ столѣтіи не было замѣтно никакихъ признаковъ ослабленія его;
они обнаруживались только развѣ между немногими отважными людьми, которые
ничего не могли сдѣлать, пока голосъ народа былъ въ такой сильной степени про-
тивъ нихъ. Лаб&, путешествовавшій по Испаніи въ началѣ царствованія Филиппа V,
говоритъ намъ, что, когда священникъ служитъ обѣдню, знатнѣйшія вельможи счи-
тали за честь помогать ему облачаться, и что они становились передъ нимъ на ко-
лѣни и цѣловали его руки. Когда такъ поступала самая гордая аристократія въ Европѣ,
то можно себѣ представить, каковб должно было быть общее чувство. Въ самомъ дѣлѣ,
Лабк увѣряетъ насъ, что такой испанецъ, который не представилъ бы извѣстной
части своей собственности въ пользу церкви, едва-ли считался бы правовѣрнымъ,—
до такой степени уваженіе къ іерархіи вошло въ характеръ испанской націи.
Еще болѣе любопытный примѣръ представляли волненія но случаю изгнанія
іезуитовъ. Эта нѣкогда полезная, но теперь безпокойная корпорація была въ про-
долженіе ХѴШ столѣтія тѣмъ же, чѣмъ она оказывается и въ девятнадцатомъ,—
отъявленнымъ врагомъ прогресса и терпимости. Правители Испаніи, замѣтивъ, что
іезуиты противодѣйствуютъ всѣмъ ихъ планамъ реформъ, рѣшились избавиться отъ
этого препятствія, встрѣчающагося имъ на каждомъ шагу. Пе задолго до этого во
Франціи съ іезуитами обошлись, какъ съ общественной язвой, и сразу удалили
ихъ безъ малѣйшаго затрудненія. Совѣтники Карла III не видѣли причины, почему
бы не принять такой полезной мѣры и въ ихъ странѣ, и въ 1767 году, слѣдуя
примѣру, показанному Фракціею въ 1764 году, уничтржили эту главную опору
церкви х). Сдѣлавъ это, правительство полагало, что оно сдѣлало рѣшительный шагъ къ
ослабленію духовной власти, въ особенности, когда мѣра эта встрѣтила полное одо-
бреніе короля. Годъ спустя послѣ этого Карлъ Ш по своему обыкновенію вышелъ
на балконъ дворца въ день празднества Св. Карла съ готовностью исполнить всякую
просьбу, съ какой обратился бы къ нему народъ — обыкновенно въ этомъ случаѣ
просили объ увольненіи какого-нибудь министра или объ отмѣнѣ какого-нибудь на-
лога. Но въ этотъ разъ граждане Мадрида, вмѣсто того чтобы заниматься такими
мірскими дѣлами, нашли, что еще болѣе дорогіе интересы подвергаются опасности,
и, къ удивленію и ужасу двора, въ одинъ голосъ просили о дозволеніи іезуитамъ
возвратиться и носить свою обыкновенную одежду, дабы Испанія могла быть осчаст-
ливлена лицезрѣніемъ этихъ святыхъ людей 2).
Можно ли что сдѣлать съ такимъ народомъ? Какую пользу принесутъ законы,
если потокъ общественнаго мнѣнія стремится противъ нихъ. Въ виду такихъ пре-
пятствій правительство Карла Ш, несмотря на свои добрыя намѣренія, было без-
сильно. Оно было даже хуже, чѣмъ безсильно — оно было вредно; потому что, воз-
буждая народное сочувствіе въ пользу духовенства, оно только усиливало то, что
старалось ослабить. Этимъ жестокимъ, преслѣдующимъ іезуитамъ, запятнаннымъ
всякаго рода преступленіемъ, испанская нація продолжала оказывать уваженіе,
которое, вмѣсто того чтобы уменьшиться, увеличилось. Со всѣхъ сторонъ стекались
къ нимъ богатства, приносимыя въ даръ и отказываемыя по завѣщаніямъ. Люди
готовы были сами пойти по міру и пустить по міру свои семейства, только бы уве-
') Папа былъ того мнѣнія, что Карлъ III этимъ
актомъ подвергъ опасности свою душу. Въ грамотѣ,
адресованной Карлу Ш, онъ объявилъ, что акты ко-
роля противъ іезуитовъ очевидно ставятъ въ опасность
его спасеніе.
2) «Замѣчательное и вопіющее доказательство ихъ
(іезуитовъ) вліянія представилось въ Мадридѣ годъ
спустя послѣ ихъ изгнанія. Въ праздникъ Св. Карла,
когда король показывался народу съ балкона своего
дворца и обыкновенно исполнялъ какую-нибудь общую
просьбу, — къ удивленію и смущенію цѣлаго двора,
огромная толпа въ одинъ голосъ просила возвращенія
іезуитовъ и позволенія имъ носить одежду бѣлаго ду-
ховенства. Этотъ неожиданный случай встревожилъ и
оскорбплъ короля, п послѣ строгаго изслѣдованія онъ
счелъ необходимымъ изгнать кардинала архіепископа
I Толедскаго и его главнаго викарія, какъ тайныхъ под-
I стрекатѳлей этой мятежной просьбы» (Коксъ).
438
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
личить всеобщее приношеніе. Это дошло, наконецъ, до замѣчательныхъ размѣровъ: Фло-
рида Бланка, министръ короны, утверждалъ въ 1778 году, что въ послѣднія 50 лѣтъ
доходы церкви такъ быстро возрасли, что по нѣкоторымъ статьямъ почти удвоились.
Даже инквизиція, самое варварское учрежденіе, какое придумывалъ когда-
либо умъ человѣка, была отстаиваема общественнымъ мнѣніемъ противъ нападеній
короны. Испанское правительство хотѣло ниспровергнуть ее и дѣлало все, что
могло, для ея ослабленія, но испанскій народъ любилъ ее по-старому и дорожилъ
ею, какъ лучшей защитой своей противъ вторженій ереси і). Доказательство этого
представилось въ 1778 году, когда по случаю сожженія одного еретика, пригово-
реннаго инквизиціей, нѣсколько лицъ изъ высшей аристократіи участвовали въ этой
церемоніи въ качествѣ прислужниковъ, считая за счастье, что имъ представился
случай публично заявить о своей покорности церкви 2).
Все это не выходило изъ естественнаго порядка вещей. Все это было резуль-
татомъ длиннаго ряда причинъ, дѣйствіе которыхъ я старался прослѣдить за всѣ
тринадцать столѣтіи, начиная съ того времени, какъ вспыхнула Аріанская война.
Эти причины насильно сдѣлали испанцевъ суевѣрными, и стараться измѣнить ихъ
натуру путемъ законодательныхъ мѣръ—значило напрасно терять время. Единствен-
ное средство противъ суевѣрія заключается въ знаніи. Ничто другое не можетъ
стереть это зараженное мѣсто съ человѣческаго ума. Безъ этого прокаженный
останется неочищеннымъ, а рабъ неосвобожденнымъ. Именно знанію законовъ и
отношеній вещей обязана своимъ существованіемъ европейская цивилизація; но
этого-то всегда и недоставало въ Испаніи. А до тѣхъ поръ, пока этотъ недостатокъ
не будетъ пополненъ, пока наука съ ея смѣлымъ и пытливымъ духомъ не упро-
читъ своего права на изслѣдованіе всѣхъ предметовъ, по своему собственному
усмотрѣнію и своему собственному методу, мы можемъ быть увѣрены, что въ Испа-
ніи никакая литература, никакіе университеты, никакіе законодатели, никакія пре-
образованія не въ силахъ будутъ вывести народъ изъ того безпомощнаго состоянія
мрака, въ которое онъ погруженъ самымъ ходомъ событій.
Что никакое политическое улучшеніе, какъ бы благовидно и привлекательно
оно нп казалось, не можетъ принести прочной пользы, если ему не предшествуетъ
измѣненіе общественнаго мнѣнія, и что всякому измѣненію общественнаго мнѣнія
предшествуютъ перемѣны въ знаніи, — вотъ положенія, которыя подтверждаются
всей исторіей вообще и которыя особенно ясно вытекаютъ изъ исторіи Испаніи.
Испанцы имѣли все, кромѣ знанія. Они обладали несмѣтными богатствами и пло-
дородными и хорошо населенными территоріями во всѣхъ частяхъ земного шара.
Ихъ собственная страна, омываемая Атлантическимъ океаномъ п Средиземнымъ
моремъ и обладающая прекрасными гаванями, занимаетъ замѣчательно выгодное
мѣсто въ отношеніи торговли между Европой и Америкой; она можетъ держать въ
своихъ рукахъ торговлю обоихъ полушарій. Испанцы имѣли въ весьма раннее время
1) 0 пей одинъ звамейнтый писатель (Узтарицъ)
царствованія Филиппа У говоритъ съ самодовольствомъ:
«Ея бдительность одинаково простиралась на испан-
цевъ п иноземцевъ». Если такой человѣкъ, какъ Узта-
рицъ, могъ выразить подобное сужденіе, то мы можемъ
представить себѣ, чтб чувствовалъ народъ, который
былъ гораздо невѣжественнѣе и гораздо правовѣрнѣе
его. Тапія въ одномъ замѣчательномъ, необыкновенно
смѣломъ мѣстѣ откровенно сознается, что только да-
вленіе общественнаго мнѣнія помѣшало Карлу III уни-
чтожить ййквнзицію. «Казалось бы страннымъ, что ко-
роль, сдѣлавшій такъ много для ограниченія чрезмѣр-
ной власти духовенства и искорененія нелѣпыхъ пред-
разсудковъ, не упразднилъ чудовищнаго трибунала инкви-
зиціи. Надобно однако помнить, что послѣ мадридскаго
бунта онъ съ большою робостью принималъ такія мѣры,
которыа были несогласны съ общественнымъ мнѣніемъ,
] и былъ убѣжденъ въ томъ, что народъ желалъ сохра-
! ненія инквизиціи. Онъ это выразилъ министру Рода и
, графу Аранда, присовокупляя, что она нп въ чемъ не
1 уменьшала ого власти». Намъ инквизиція кажется нѣ-
I сколько страннымъ предметомъ привязанности для лю-
дей; но въ существованіи пристрастія къ ней нельзя
< сомнѣваться. Геддесъ говоритъ вамъ, что «инквизиція,
і подкрѣпляемая не только закопомъ, по и какимъ-то
удивительнымъ ослѣпленіемъ, до того укоренилась въ
• сердцахъ и привязанности народа, что всякій, кто
! нанесъ бы малѣйшую обиду другому за доносъ пли
. свидѣтельство въ инквизиціи, былъ бы растерзанъ на
тысячу частей».
2) «Фамильяры инквизиціи, Абрантесъ, Мора и
другіе грапды Испаніи, присутствовали въ ней въ ка-
чествѣ прислужниковъ, безъ шляпъ и мечей» (Коксъ).
Это было въ важномъ дѣлѣ Олавиды.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ.
439
въ предѣлахъ своей территоріи
удовлетворять потребности или
обширныя муниципальныя привилегіи, имѣли независимые парламенты, имѣли право
сами выбирать должностныхъ лицъ и сами управлять своими городами» У нихъ
были богатые и цвѣтущіе города, множество мануфактуръ и искусныхъ ремеслен-
никовъ, отборныя произведенія которыхъ имѣли обезпеченный сбытъ на всѣхъ
рынкахъ въ свѣтѣ, Они занимались изящными искусствами съ замѣчательнымъ
успѣхомъ; ихъ превосходныя картины и ихъ величественныя церкви справедливо
ставятся въ ряду самыхъ дивныхъ произведеній человѣческихъ рукъ, Они говорятъ
прекраснымъ звучнымъ и гибкимъ языкомъ, и литература ихъ не уступаетъ въ
достоинствѣ языку. Ихъ земля доставляетъ всякаго рода сокровища. Она изобилуетъ
виномъ и оливковымъ масломъ, производитъ самые отборные плоды почти съ тро-
пической роскошью. Она содержитъ въ себѣ самые цѣнные минералы въ безко-
нечномъ разнообразіи, неслыханномъ въ другихъ частяхъ Европы. Нигдѣ не нахо-
димъ мы такихъ рѣдкихъ и цѣнныхъ мраморовъ, такъ легко добываемыхъ и такъ
близко расположенныхъ отъ приморскихъ пунктовъ, гдѣ ихъ можно безопасно нагру-
жать на суда и отправлять въ мѣста спроса. Что касается металловъ, то едва-ли
найдется хоть одинъ, которымъ бы не обладала Испанія въ огромномъ количествѣ.
Всѣмъ извѣстны ея серебряные и ртутные рудники. Она изобилуетъ мѣдью и имѣетъ
громадные запасы свинца. Желѣзо и каменный уголь, два самые полезные изъ
всѣхъ произведеній неорганическаго міра, также чрезвычайно изобилуютъ въ этой
благодатной странѣ. Желѣзо находится, говорятъ, во всѣхъ частяхъ Испаніи, и при
томъ лучшаго качества; угольныя же копи Астуріи-—неистощимы. Короче, природа
была такъ расточительно щедра къ Испаніи, что замѣчали,—и едва-ли тутъ есть
преувеличеніе, — что испанскій народъ имѣетъ
почти всѣ естественныя произведенія, какія могу
любопытству человѣка.
Все это блестящіе дары; теперь обязанность историка разсказать, какое изъ
нихъ сдѣлано было употребленіе. Конечно, обладающій ими народъ никогда не
имѣлъ недостатка въ природныхъ дарованіяхъ. На его долю выпало достаточное
число великихъ государственныхъ людей, великихъ государей, великихъ судей и
великихъ законодателей. Много было у него способныхъ и энергическихъ прави-
телей; исторія его украшена частымъ появленіемъ самоотверженныхъ и безкоры-
стныхъ патріотовъ, жертвовавшихъ всѣмъ для блага своей страны. Храбрость этого
народа никогда не подлежала сомнѣнію; что же касается высшихъ сословій его, то
строгія правила чести испанскаго дворянства вошли даже въ пословицу по всему
свѣту. Вообще всѣ лучшіе наблюдатели говорятъ объ этомъ народѣ, что онъ бла-
городенъ, великодушенъ, правдивъ, въ высшей степени неподкупенъ, пылокъ и
полонъ рвенія въ дружбѣ, любезенъ во всѣхъ сношеніяхъ частной жизни, откро-
вененъ, благотворителенъ и человѣченъ. Искренность испанцевъ въ дѣлѣ религіи
не подлежитъ сомнѣнію; они кромѣ того замѣчательно воздержны и умѣренны.
Но всѣ эти важныя качества пи къ чему не послужили имъ и ни къ чему не
послужатъ, пока они будутъ оставаться въ невѣжествѣ, Чѣмъ все это кончится, и
попадетъ ли когда-нибудь эта несчастная страна на истинный путь, — этого никто
не можетъ сказать. А если этого пе случится, то никакое улучшеніе не проникнетъ
въ нее глубже поверхности. Остается только одно—ослабить суевѣріе народа, а это
возможно только при такомъ ходѣ естественныхъ наукъ, при которомъ онѣ, освоивая
людей съ понятіями порядка и правильности, постепенно подрывали бы старинныя
представленія о неустройствѣ, о чудесномъ и чудесахъ и такимъ образомъ пріучали
бы умъ объяснять всѣ превратности въ ходѣ дѣлъ естественными соображеніями, а
не исключительно сверхъестественными, какъ дѣлалось до сихъ поръ.
Къ этому именно все и направлялось въ самыхъ передовыхъ странахъ Европы
въ теченіе почти трехъ столѣтій. Но въ Испаніи, къ несчастью, воспитаніе всегда
оставалось и до сихъ поръ остается въ рукахъ духовенства, которое постоянно
противодѣйствуетъ тѣмъ успѣхамъ знанія, которые, какъ ему хорошо извѣстно, бу-
440
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
дуть пагубны для его власти х). Такъ какъ народъ остается въ невѣжествѣ, и при-
чины, удерживающія его въ этомъ состояніи, продолжаютъ дѣйствовать, — то нѣтъ
никакой пользы для страны въ томъ, что въ ней появляются отъ времени до вре-
мени либеральные правители и принимаются либеральныя мѣры. Испанскіе пре-
образователи, за весьма немногими исключеніями, всѣ ревностно нападали на цер-
ковь, власть которой, какъ они ясно видѣли, слѣдовало ослабить. Но одного не за-
мѣчали они, это того, что такое ослабленіе не можетъ принести никакой дѣйствитель-
ной пользы, если оно не оказывается результатомъ общественнаго мнѣнія, понуж-
дающаго политиковъ дѣйствовать такъ, а не иначе. Въ Испаніи принимали на
себя иниціативу политики, а народъ оставался назади. Поэтому-то въ Испаніи
сдѣланное въ одинъ періодъ непремѣнно уничтожалось въ другой. Когда были въ
силѣ либералы, они уничтожили инквизицію, но Фердинандъ VII безъ малѣйшаго
труда возстановилъ ее, потому что хотя ее и уничтожали испанскіе законодатели,
но существованіе ея продолжало согласоваться съ привычками и преданіями испан-
скаго народа 2). Затѣмъ произошли новыя перемѣны, и это ненавистное судилище
было опять уничтожено въ 1820 г. Но хотя форма его исчезла, духъ его продол-
жаетъ жить. Имя, составъ и наружныя формы инквизиціи не существуютъ болѣе,
но тотъ духъ, который породилъ инквизицію, еще коренится въ народѣ, и при ма-
лѣйшемъ поводѣ воспрянетъ и возстановитъ это учрежденіе, которое есть скорѣе
послѣдствіе, чѣмъ причина нетерпимости и изувѣрства испанской націи.
Такимъ точно образомъ и другія, болѣе систематическія нападенія на церковь
въ теченіе нынѣшняго столѣтія сначала удавались, но соувременемъ непремѣнно ока-
зывались напрасными. Прц Іосифѣ, въ 1809 году, были уничтожены монашескіе
ордена и собственность ихъѵ конфискована. По немного выиграла этимъ Испанія.
Народъ былъ на ихъ сторонѣ 3), и какъ скоро буря прошла, опи были возстанов-
лены. Въ 1836 году было другое политическое движеніе, во главѣ управленія
стояли либералы, и Мендизабалъ секуляризировалъ всю собственность церкви
и лишилъ духовенство почти всего громаднаго, неправдою нажитаго богатства.
Онъ не зналъ, какъ безразсудно нападать на учрежденіе; если нельзя сперва
ослабить его вліяніе. Онъ слишкомъ много придавалъ значенія закону и слишкомъ
мало общественному мнѣнію. Это ясно доказалъ результатъ. Прошло нѣсколько лѣтъ
Въ Испаніи, какъ н во всѣхъ другихъ стра- |
нахъ, католическихъ или протестантскихъ, духовенство, |
какъ сословіе, старается внушить легковѣріе, вмѣсто |
пытливости, и по какому-то инстинкту охраненія про-
тиводѣйствуетъ той смѣлости изслѣдованія, безъ кото-
рой не можетъ быть дѣйствительнаго знанія, а воз-
можна только большая начитанность, простое ученіе
по книгамъ: Въ Испаніи духовенство сильнѣе, чѣмъ въ
какой-либо другой странѣ, и потому въ Испаніи оно |
обнаруживаетъ это стремленіе съ большой смѣлостью; '
прекрасный примѣръ этого можно видѣть въ сочине-
ніи, изданномъ епископомъ барселонскимъ, въ которомъ
дѣлается сильное нападеніе на всѣ естественныя и
философскія науки въ слѣдующихъ словахъ: <Нѳ хочу
упрекать католиковъ, преданныхъ новой философіи и
старающихся безпредѣльно расширять области этой
науки, но желалъ бы, чтобы они обратили все свое
вниманіе на слѣдующее: во-первыхъ, что голланд-
ская, нѣмецкая, англійская и французская школы, не-
расположенныя къ католицизму, создали и усердно
распространили философскія мнѣнія, которыя въ ихъ
глазахъ составляютъ торжество разума надъ вѣрою,
философіи — надъ богословіемъ, матеріализма — надъ
спиритуализмомъ; во-вторыхъ, что эти ученія не что
иное, какъ возобновленіе или новое изложеніе за-
блужденій, тысячу разъ опровергнутыхъ и осужден- 1
ныхъ здравою философіею и церковью,—почему слѣ-
дуетъ не радоваться успѣхамъ философіи, а стыдиться ;
ея отсталости* («Созіа у Воггаз, І^іезіа еп Езраиаа).
2) «Немедленно по своемъ прибытіи въ Мадридъ
Фердинандъ возстановилъ инквизицію, и его декретъ,
изданный по этому поводу, былъ привѣтствованъ по
всей Испаніи иллюминаціями, изъявленіями благодар-
ности м другими обнаруженіями радости*. (О,иігГз «Ме-
шоігз оі ЁегШпапй ѴІЬ). Этотъ и подобные ему акты
доставили такое удовольствіе церкви, а также и на-
роду, что, по словамъ одного богослова, возвращеніе
Фердинанда въ Испанію слѣдуетъ считать непосред-
ственнымъ дѣломъ Божественнаго Провидѣнія, пекуща-
гося объ интересахъ Испаши. «Дровидѣпіѳ положило
копецъ испытаніямъ, и католическая Испанія, увѣн-
чанная лаврами побѣды, опять вздохнула и вскорѣ
была осчастливлена возвращеніемъ любимаго монарха,
короля Фердинанда VII».
3) Весьма незадолго до уничтоженія монашескихъ
орденовъ «уваженіе къ рясѣ повсюду такъ глубоко
укоренилось, что ей приписываютъ охранительную силу
даже за предѣлами земной жизни, какъ бы она ни
была неправильна. Поэтому-то чаще всего случается
видѣть, что умершихъ одѣваютъ въ монашескую рясу,
и въ такомъ нарядѣ и съ открытымъ лицомъ прово-
жаютъ до послѣдняго жилища... Ряса, сопровождающая
испанцевъ въ могилу, овладѣваетъ также нѣкоторыми
пзъ нпхъ и при выходѣ пзъ колыбели. Нерѣдко встрѣ-
чаются маленькіе монахи отъ пяти до шести лѣтъ, ша-
лящіе на улицѣ» (Воиг^оін^, «ТаЫеаи бе ГЕзра^не»).
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V ПО XIX СТ. 441
и началась реакція. Въ 1845 году былъ изданъ, такъ называемый, законъ о возста-
новленіи правъ собственности, которымъ сдѣланъ былъ первый шагъ къ надѣленію
вновь духовенства имуществомъ. Въ 1851 году положеніе его было еще болѣе улуч-
шено знаменитымъ конкордатомъ, которымъ торжественно былъ предоставлено ему
право какъ пріобрѣтенія, такъ и владѣнія. Всему этому отъ души радовался на-
родъ !). Такъ велико было однако безумство либеральной партіи, что спустя не бо-
лѣе четырехъ лѣтъ, когда партія эта пріобрѣла мгновенный перевѣсъ, она насиль-
ственно уничтожила эти распоряженія и отмѣнила уступки, сдѣланныя церкви и
къ несчастію для Испаніи, одобренныя общественнымъ мнѣніемъ. Послѣдствія этого
легко можно было предвидѣть. Въ Аррагонѣ и въ другихъ частяхъ Испаніи народъ
взялся за оружіе; вспыхнуло возстаніе карлистовъ, и по всей странѣ раздался крикъ,
что религія въ опасности. Невозможно благодѣтельствовать подобному народу. Пре-
образователи были конечно ниспровергнуты, и осенью 1856 года ихъ партія была
разбита. Затѣмъ началась политическая реакція и шла такъ быстро, что весной
1857 года политика, которой слѣдовали въ два предшествовавшіе года, была со-
вершенно измѣнена. Тѣ, которые напрасно думали, что они могутъ возродить свою
страну путемъ закона, увидѣли всѣ свои надежды обманутыми. Составилось мини-
стерство, мѣры котораго болѣе согласовались съ духомъ націи. Въ маѣ 1857 года
собрались Кортесы. Представители народа одобрили распоряженія исполнительнаго
правительства, и ихъ соединенной властью худшія изъ опредѣленій конкордата
1851 года были вполнѣ подтверждены: продажа собственности церкви воспрещена
и всѣ ограниченія власти ецископовъ сразу устранены.
Теперь читатель будетъ въ состояніи понять истинныя свойства испанской
цивилизаціи. Онъ увидитъ, какъ подъ громко звучащими именами вѣрности и ре-
лигіи таилось смертельное зло, которое всегда прикрывалось этими именами, но
которое обязанность историка вывести на свѣтъ и изобличить. Слѣпое чувство бла-
гоговѣнія подъ видомъ недостойнаго, постыднаго раболѣпства—вотъ главный, су-
щественный недостатокъ испанскаго народа. Это единственный національный недо-
статокъ испанцевъ, но его было довольно, чтобы погубить націю. Отъ этого самаго
зла жестоко страдали всѣ цаціи, а многія и до сихъ поръ еще страдаютъ. Но
нигдѣ въ Европѣ принципъ этотъ не преобладалъ такъ долго, какъ въ Испаніи;
поэтому нигдѣ послѣдствія его не были такъ очевидны и такъ пагубны. Идея сво-
боды исчезла, если только можно сказать, что она дѣйствительно существовала тамъ
когда-либо въ истинномъ значеніи этого слова. Тамъ бывали и будутъ, безъ со-
мнѣнія, проблески ея, но это были скорѣе проявленія неурядицы, чѣмъ свободы.
Въ самыхъ цивилизованныхъ странахъ всегда существуетъ стремленіе повиноваться
даже несправедливымъ законамъ, но, повинуясь имъ, настаивать въ то же время на
ихъ отмѣнѣ. Это происходитъ отъ преобладающаго въ насъ сознанія, что лучше
устранять злоупотребленія, чѣмъ открыто противиться имъ. Перенося ту или дру-
гую тягость, мы въ то же время нападаемъ на причину, изъ которой проистекаетъ
эта тягость. Чтобы нація усвоила себѣ такое воззрѣніе, для этого она должна на-
ходиться на извѣстной степени умственнаго развитія, которая была недосягаема въ
темныя времена европейской исторіи. Вотъ почему мы находимъ, что хотя въ сред-
ніе вѣка часто происходили смятенія, но общія возстанія были рѣдки. Промѣ того
возмущенія бываютъ вообще неправы, коренныя же реформы всегда справедливы.
Вь тотъ самый годъ, въ который конкордатъ
получилъ силу закона, Госкинсъ, извѣстный путеше-
ственникъ по Африкѣ, человѣкъ повидимому весьма
умный, по возвращеніи своемъ изъ Испаніи издалъ
описаніе этой страны. Его сочиненіе драгоцѣнно, какъ
свидѣтельство объ общемъ настроеніи вь Испаніи пе-
редъ самымъ конкордатомъ и въ то время, когда пспап-
ское духовенство еще страдало отъ благонамѣренныхъ,
но грубо несправедливыхъ дѣйствій либеральной пар-
тіи. «Мы посѣтили эти церкви въ воскресенье и уди-
вились, найдя ихъ всѣхъ переполненными до край-
ности народомъ. Доходы духовенства сильно уменьши-
лись, но пхъ богатства постепенно возстановляются.
Отсутствіе всего сколько-нибудь похожаго на бѣдность
въ капеллахъ п при богослуженіи доказываетъ, что
испанцы п теперь такіе же преданные поклонники и
такіе же усердные друзья церкви, какими они были
въ ея лучшіе дни».
442
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Возмущеніе слишкомъ часто оказывается безумнымъ, страстнымъ порывомъ невѣ-
жественныхъ личностей, которыя не могутъ снести прямую обиду и никогда не
останавливаются, чтобы изслѣдовать отдаленныя общія причины ея.
Но въ Испаніи никогда не было революціи въ собственномъ смыслѣ, не было
даже ни одного обширнаго народнаго возстанія. Народъ въ ней хотя часто не по-
винуется законамъ, но никогда не бываетъ свободенъ. Между испанцами, какъ
видно, сохраняется еще тотъ особенный оттѣнокъ варварства, въ силу котораго люди
предпочитаютъ отдѣльные случаи неповиновенія систематическому стремленію къ
свободѣ. Есть въ общей природѣ нашей извѣстныя чувства, которыхъ даже ра-
болѣпная покорность не можетъ искоренить и которыя отъ времени до времени
побуждаютъ насъ противиться несправедливости. Подобные инстинкты составляютъ,
по счастью, неотъемлемую принадлежность человѣчества; отъ нихъ мы не можемъ
отрѣшиться, еслибы даже и хотѣли; они слишкомъ часто бываютъ единственными
средствами противъ крайностей тиранніи. Вотъ эти только чувства и сохраняются
въ испанцахъ. Поэтому они противятся тому или другому злоупотребленію не какъ
испанцы, а какъ люди вообще. Но даже и сопротивляясь, они не перестаютъ бла-
гоговѣть. Возставая противъ какого-нибудь обременительнаго налога, они въ то же
время склоняются передъ системой, въ которой налогъ этотъ является однимъ изъ
наименьшихъ золъ. Они не спустятъ безпокойному, надоѣдливому монаху, осмѣютъ
иногда невѣжливаго и надменнаго священника, но въ то же время находятся въ та-
комъ ослѣпленіи, что способны пожертвовать жизнью для защиты той жестокой іерар-
хіи, которая накликала на нихъ страшныя бѣдствія, но къ которой они все-таки
льнутъ, какъ будто бы она составляла для нихъ предметъ рамой нѣжной привязанности.
Въ связи съ этимъ складомъ ума и составляя Собственно одну изъ принад-
лежностей его, является благоговѣніе предъ стариной, чрезмѣрная привязанность
съ старымъ мнѣніямъ, старымъ вѣрованіямъ и старымъ привычкамъ, напоминаю-
щая намъ процвѣтавшія нѣкогда тропическія цивилизаціи. Подобные предразсудки
были когда-то всеобщи даже въ Европѣ; но съ XVI столѣтія они начали исче-
зать, и теперь, говоря сравнительно, не существуютъ нигдѣ, кромѣ Испаніи, гдѣ
они всегда имѣли убѣжище. Въ этой странѣ они сохраняютъ свою естественную
силу и производятъ свое естественное дѣйствіе. Поддерживая мнѣніе, будто всѣ
истины, которыя особенно необходимо знать, уже извѣстны,—они подавляютъ тѣ
стремленія и заглушаютъ ту великодушную увѣренность въ будущемъ, безъ кото-
рыхъ не можетъ быть совершено ничего истинно великаго. Народъ, смотрящій слиш-
комъ пристально на прошедшее, никогда не приметъ дѣятельнаго участія въ дви-
женіи впередъ; онъ даже съ трудомъ повѣритъ, что такое движеніе возможно. Для
такого народа древность — синонимъ мудрости и всякое улучшеніе представляется
опаснымъ нововведеніемъ. Въ такомъ состояти находилась въ теченіе многихъ
столѣтій Европа; въ такомъ состояніи находится еще и теперь Испанія. Вотъ
почему испанцы замѣчательны какою-то неповоротливостью, какимъ-то недостат-
комъ подвижности, какою-то безнадежностью, которыя въ нашъ дѣятельный и
предпріимчивый вѣкъ совершенно уединяютъ ихъ отъ остального цивилизован-
наго міра. Въ томъ убѣжденіи, что не многое можетъ быть сдѣлано, они и не торо-
пятся ничего дѣлать. Увѣренные, что унаслѣдованное ими знаніе гораздо обшир-
нѣе того, какое они могутъ пріобрѣсти, они хотятъ сохранить свое умственное до-
стояніе во всей цѣлости и неприкосновенности, какъ будто-бы малѣйшее измѣненіе
въ немъ могло уменьшить его цѣнность. Довольные тѣмъ, что имъ уже дано, они
не приняли участія въ томъ обширномъ европейскомъ движеніи, которое впер-
вые ясно обозначилось въ XVI столѣтіи и съ тѣхъ поръ постоянно шло впередъ,
подрывая старыя мнѣнія, уничтожая старыя заблужденія, вездѣ все преобразовывая
и улучшая, распространяясь даже на такія страны, какъ Турція, но не касаясь
Испаніи. Въ то самое время, какъ человѣческій умъ дѣлаетъ чудовищные, не-
слыханные шаги; какъ открытія по всѣмъ отраслямъ знанія внезапно стекаются
къ намъ, слѣдуя одно за другимъ съ такой одуряющей быстротой, что и самый зор-
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИСПАНІИ СЪ V НО XIX СТ.
443
кій взглядъ, ослѣпленный ихъ блескомъ, не въ силахъ обнять всей ихъ цѣлости;
какъ другія открытія, еще болѣе важныя и еще болѣе выходящія изъ ряда обыкно-
венныхъ, очевидно приближаются и уже начинаютъ виднѣться въ отдаленіи, съ ко-
тораго опи теперь смутно дѣйствуютъ на передовыхъ мыслителей, стоящихъ ближе
всего къ нимъ, наполняя ихъ душу какимъ-то безотчетнымъ, безпокойнымъ и почти
болѣзненнымъ чувствомъ, неизмѣннымъ предвѣстникомъ предстоящаго торжества;
въ то самое время, какъ дерзко разрывается завѣса, и природа, насилуемая на
каждомъ шагу, вынуждена выдать свои тайны и раскрыть свое строеніе, свой вну-
тренній бытъ, свои законы передъ неукротимой энергіей человѣка; какъ вся
Европа наполнена громкой молвой объ умственныхъ подвигахъ, которымъ даже
деспотическія правительства притворяются сочувствующими; какъ среди этого по-
всемѣстнаго шума и всеобщаго возбужденія умы людей, бросаемые то въ ту, то
въ другую сторону, находятся въ постоянномъ колебаніи, волненіи,—въ то самое
время Испанія продолжаетъ спать, безмятежная, беззаботная, безстрастная, не по-
лучая никакихъ впечатлѣній отъ остального міра и сама не сообщая ему никакихъ
впечатлѣній. Тамъ, на самой дальней оконечности материка, лежитъ она, эта оцѣ-
пенѣлая масса, единственная въ настоящее время представительница среднихъ
вѣковъ. А чтб самый худшій признакъ, это то, что она довольна своимъ состояніемъ.
Будучи самой отсталой страной въ Европѣ, она считаетъ себя самою передовою.
Она гордится всѣмъ тѣмъ, чего ей слѣдовало бы стыдиться. Она гордится древ-
ностью своихъ мнѣній, гордится своей мнимой правовѣрностью, гордится своимъ упор-
нымъ изувѣрствомъ, гордится своимъ неизмѣримымъ, дѣтскимъ легковѣріемъ, гордится
своей нелюбовью ко всякимъ\улучшеніямъ въ вѣрованіяхъ или обычаяхъ, гордится
своей нелюбовью къ еретикамъ и той неослабной бдительностью, съ какой она проти-
водѣйствовала ихъ стараніямъ пріобрѣсть прочное, законное положеніе на ея почвѣ.
Все это, стекаясь одно къ одному, образуетъ въ совокупности’ то грустное со-
четаніе, которому мы придаемъ собирательное имя Испаніи. Исторія одного этого
слова есть исторія почти всѣхъ превратностей, какимъ подвержена человѣческая
порода. Въ ней соединяются всѣ крайности силы и безсилія, безграничнаго богат-
ства и жалкой бѣдности. Это исторія смѣшенія различныхъ расъ, различныхъ на-
рѣчій, различной крови. Въ ней встрѣчаются почти всѣ политическія комбинаціи,
какія только можетъ придумать умъ человѣка: законы безконечно разнообразные и
многочисленные; конституціи всякаго рода, отъ самой стѣснительной до самой либе-
ральной. Демократія, монархія, управленіе посредствомъ духовенства, управленіе
посредствомъ городскихъ общинъ, управленіе посредствомъ аристократіи, управле-
ніе посредствомъ представительныхъ собраній, управленіе посредствомъ туземцевъ,
управленіе посредствомъ иностранцевъ,—все въ ней было испытано,—испытано без-
успѣшно. Щедро употребляемы были въ дѣло всѣ матеріальныя средства: вводились
изъ чужихъ краевъ искусства, изобрѣтенія, машины, устраивались мануфактуры,
открывались сообщенія, проводились дороги, прорывались каналы, разрабатывались
рудники, устраивались гавани. Однимъ словомъ, всякія бывали перемѣны, кромѣ пе-
ремѣнъ въ общественномъ мнѣніи; все измѣнялось, но не измѣнялось знаніе. И въ
результатѣ оказывается, что, несмотря на всѣ усилія цѣлаго ряда правительствъ,
несмотря на вліяніе чужеземныхъ обычаевъ и несмотря на физическія улучшенія,
которыя только едва касаются поверхности общества, по не въ силахъ проникнуть
далѣе,—нѣтъ ни малѣйшихъ признаковъ національнаго прогресса: духовенство ско-
рѣе усиливается, чѣмъ ослабѣваетъ; малѣйшее нападеніе на іерархію поднимаетъ
народъ; ни распущенность духовенства, ни недостатки правителей Испаніи въ ны-
нѣшнемъ столѣтіи, ничто не въ состояніи ослабить того суевѣрія, ни того раболѣп-
ства, которыя подъ совокупнымъ давленіемъ многихъ столѣтій врѣзались въ умы
и въѣлись въ сердца испанской націи.
ГЛАВА II.
Состояніе Шотландіи до конца XIV столѣтія.
Въ предыдущемъ обзорѣ возвышенія и паденія Испаніи я старался указать
на послѣдовательные переходы въ исторіи этой страны, въ результатѣ которыхъ
оказалось, что эта нѣкогда одна изъ величайшихъ націй на свѣтѣ была сокрушена
и низринута съ своего высокаго положенія. Когда мы оглядываемся назадъ на всѣ
эти событія, то представляется зрѣлище истинно поразительное. Страна, богатая
всѣми естественными произведеніями, обитаемая храбрымъ, вѣрнымъ и религіоз-
нымъ народомъ, огражденная при томъ своимъ географическимъ положеніемъ отъ
всѣхъ случайностей европейскихъ революцій, вдругъ возвысилась, дѣйствіемъ ука-
занныхъ мною общихъ причинъ, до неслыханнаго величія и потомъ, безъ всякаго
новаго стеченія обстоятельствъ, единственно въ силу тѣхъ же самыхъ причинъ,
пала съ такою же быстротой. Но эти превратности,/какъ бы странны и порази-
тельны онѣ ни казались, были совершенно въ порядкѣ вещей. Онѣ являлись не-
обходимымъ послѣдствіемъ того состоянія общества, въ которомъ духъ покрови-
тельства достигъ высшей степени и въ которомъ все дѣлалось для народа и ни-
чего не дѣлалъ самъ народъ. При такихъ условіяхъ возможенъ конечно великій
политическій прогрессъ, но не прогрессъ истинно національный. Могутъ дѣлаться
приращенія къ территоріи, можетъ увеличиваться слава и возрастать могущество
страны; могутъ дѣлаться улучшенія въ администраціи, въ управленіи финансами,
въ организаціи войскъ, въ военномъ искусствѣ, въ пріемахъ дипломатіи и въ
разныхъ другихъ вещахъ, въ которыхъ одна нація можетъ перехитрить и при-
стыдить другую. Но эти успѣхи не только не бываютъ благодѣтельны для народа,
но, напротивъ, приносятъ ему вредъ въ двухъ различныхъ отношеніяхъ. Во-пер-
выхъ, увеличивая славу господствующихъ классовъ, они поощряютъ то слѣпое ра-
болѣпіе, которое люди слишкомъ склонны чувствовать безразлично ко всѣмъ, кто
поставленъ выше ихъ, и которое вездѣ, гдѣ оно ни проявлялось, оказывалось па-
губнымъ для высшихъ гражданскихъ доблестей, а, слѣдовательно, и для прочнаго
величія націи. А во-вторыхъ, они лишаютъ такимъ образомъ страну возможности
и охоты исправлять ошибки людей, стоящихъ во главѣ управленія. Вотъ почему
въ Испаніи, какъ и во всѣхъ странахъ, поставленныхъ въ такія же условія, въ
тотъ именно моментъ, когда все особенно процвѣтало на поверхности, наибольшая
гниль съѣдала корни. Среди самыхъ блестящихъ политическихъ успѣховъ нація
быстро клонилась къ упадку и уже почти наставалъ тотъ кризисъ, когда все зданіе
должно было рушиться, оставивъ по себѣ лишь памятный урокъ о томъ, какія не-
обходимо оказываются послѣдствія, когда народъ, предавшись до страсти суевѣрію
и раболѣпству, отказывается отъ свойственныхъ ему отправленій, слагаетъ лежащую
на немъ отвѣтственность, измѣняетъ самому высокому своему призванію и низводитъ
себя до значенія слѣпого орудія для честолюбцевъ.
Вотъ какой великій урокъ даетъ намъ исторія Испаніи. Изъ исторіи Шотлан-
діи мы можемъ почерпнуть другой, хотя не такой же, но въ томъ же родѣ. Въ
Шотландіи прогрессъ народа былъ весьма медленъ, но вообще весьма надеженъ.
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ДО КОНЦА XIV СТ.
445
Страна эта чрезвычайно безплодна, исполнительная власть была въ ней, за рѣд-
кими исключеніями, всегда слаба, и народъ никогда не былъ связанъ тѣмъ чув-
ствомъ слѣпой преданности престолу, которое обстоятельства привили испанцамъ*
Конечно менѣе всего можно упрекнуть шотландцевъ въ суевѣрной приверженности
къ ихъ правителямъ *)♦ Мы, англичане, не всегда питали особенную нѣжность къ
личностямъ нашихъ государей и бывали иногда къ нимъ, какъ иные находятъ,
уже слишкомъ строги. Этимъ насъ часто попрекали болѣе вѣрноподданные народы
материка, а въ Испаніи въ особенности поведеніе наше возбуждало величайшее
отвращеніе. Но если мы сравнимъ напіу исторію съ исторіей нашихъ сѣверныхъ
сосѣдей, то мы должны назвать себя кроткимъ и покорнымъ народомъ *). Въ Шот-
ландіи было болѣе возстаній, чѣмъ въ какой-либо другой странѣ, и возстанія эти
были весьма кровопролитны и весьма многочисленны. Шотландцы съ большей частью
своихъ королей воевали, а многихъ даже лишили жизни. Довольно разсказать ихъ
поступки съ одной только династіей. Они умертвили Іакова I и Іакова III, воз-
ставали противъ Іакова II и Іакова VII, схватили и подвергли заключенію Іакова V;
Марію заперли въ замокъ и потомъ свергли съ престола; преемника ея Іакова VI
подвергли заключенію, водили его плѣнникомъ по государству и разъ даже поку-
шались на его жизнь. Противъ Карла I они выказали особенное ожесточеніе и
первые остановили его въ ого безумныхъ стремленіяхъ. За три года до того, какъ
англичане дерзнули возстать противъ этого деспотическаго государя, шотландцы
смѣло взялись за оружіе и пошли на него войной. Трудно было бы достаточно оцѣ-
нить услугу, оказанную ими дѣлу свободы, еслибъ не одна странная особенность
въ этомъ предпріятіи, — что,/овладѣвъ впослѣдствіи личностью Карла, они продали
его англичанамъ за большую сумму денегъ, въ которой/ по бѣдности своей, крайне
нуждались. Ничего подобнаго еще не бывало въ исторіи; а хотя шотландцы могли
выставить тотъ благовидный предлогъ, что это было единственной-выгодой, какую
они извлекли или могли когда-либо извлечь изъ существованія у нихъ наслѣдствен-
наго государя, но тѣмъ не менѣе событіе остается единственнымъ въ своемъ родѣ;
оно было безпримѣрно и никогда не находило подражателей, а что оно могло слу-
читься, это составляетъ рѣзкій признакъ, по которому можно судить о состояніи
общественнаго мнѣнія и о чувствахъ той страны, въ которой оно было допущено.
Несмотря однако на совершенную противоположность между Шотландіей и
Испаніей относительно преданности престолу, между этими странами — довольно
странно сказать—существуетъ самое поразительное сходство относительно суевѣрія.
Оба народа предоставляли своему духовенству огромную власть и оба подчиняли
свои дѣйствія, такъ же какъ и совѣсть, его авторитету. Естественное послѣдствіе
этого—нетерпимость всегда была и до сихъ поръ остается вопіющимъ зломъ въ
обѣихъ этихъ странахъ; въ дѣлахъ религіи выказывается обыкновенно изувѣрство,
постыдное конечно для Испаніи, но еще болѣе постыдное для Шотландіи. Послѣд-
няя произвела много истинно замѣчательныхъ философовъ, которые охотно научили
бы народъ чему-нибудь лучшему; но имъ не удавалось искоренить въ умахъ націи
*) Одинъ изъ ихъ историковъ говоритъ СЪ ВИДИ- 1
мымъ удовольствіемъ: «шотландцы рѣдко отличались і
преданностью престолу». Объ этомъ же самомъ пред-
метѣ Броди говорить: «недостатокъ уваженія къ ко-
ролевскому сапу проглядываетъ на каждой страницѣ I
шотландской исторіи». Или, какъ выразился Впльксъ |
въ Палатѣ Общинъ, «въ самомъ дѣлѣ, Шотландія по-
видимому самой природой предназначена быть убѣжи-
щемъ мятежа такъ же, какъ Египетъ—чумы»: аНнммо
говоритъ: «не было расы монарховъ болѣе несчастной,
какъ шотландская; йхъ царствованія были вообще
бурны и бѣдственны; сами же онн имѣли часто тра-
гическій конецъ». I
2) Дѣйствительно, одинъ весьма извѣстный шот- |
лапдецъ семнадцатаго столѣтія насмѣшливо говоритъ
объ англичанахъ: «таковы подобострастіе и почти
суевѣрная преданность этого народа къ своимъ монар-
хамъ». Это однакожъ было написано въ 1639 году,
послѣ котораго мы дѣйствительно смыли съ себя этотъ
упрекъ. Съ другой стороны, одинъ англійскій писа-
тель семнадцатаго столѣтія съ негодованіемъ, хотя
очевидно не безъ преувеличенія, обвиняетъ шотланд-
цевъ въ томъ, будто «сорокъ изъ ихъ королей были
варварски умерщвлены ими, а половина этого числа
или сами убили себя, страшась угрожавшихъ имъ
истязаній, пли жалкимъ образомъ окончили жизнь въ
тѣсномъ заключеніи».
446
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
этотъ серьезный недостатокъ, осквернявшій ихъ и стремившійся нейтрализировать въ
нихъ многія другія удивительныя свойства.
Вотъ въ чемъ заключается очевидная несообразность и дѣйствительная труд-
ность исторіи Шотландіи; знаніе не производило въ ней тѣхъ результатовъ, которые
слѣдовали за нимъ въ другихъ странахъ; смѣлая, пытливая литература додала въ
грубо-суевѣрную страну и не могла ослабить ея суевѣрія; народъ постоянно про-
тивился своимъ королямъ и столь же постоянно уступалъ своему духовенству,—
либеральный въ политикѣ, онъ не былъ либераленъ въ религіи; и естественнымъ
послѣдствіемъ всего этого было, что люди, проявлявшіе почти неслыханную смѣтли-
вость и смѣлость въ области внѣшнихъ, видимыхъ фактовъ, въ сферѣ практической
жизни,—оказывались въ жизни духовной, въ предметахъ теоріи робкими агнцами,
дрожащими передъ своими пастырями, и соглашались со всякой слышанной ими
нелѣпостью, лишь бы она исходила отъ ихъ духовенства. Что такія противополож-
ности могли совмѣщаться въ одной націи—кажется съ перваго взгляда страннымъ
противорѣчіемъ; и дѣйствительно, явленіе это достойно тщательнаго съ нашей сто-
роны изученія. Указать на причины такой аномаліи и прослѣдить результаты, къ
которымъ аномалія эта привела, будетъ задачей остальной части настоящаго тома;
и хотя изслѣдованіе это будетъ нѣсколько длинно, но я надѣюсь, что оно не пока-
жется скучнымъ для того, кто убѣжденъ въ важности подобнаго изслѣдованія и кто
знаетъ, до какой степени пренебрегли этимъ предметомъ даже люди, съ особенной
полнотой писавшіе объ исторіи шотландской націи.
Въ Шотландіи, какъ и вездѣ, на ходъ событій имѣла вліяніе физическая гео-
графія страны; подъ этимъ я разумѣю не только особенности, непосредственно про-
являющіяся въ ней самой, ноѵи ея отношеніе къ смежнымъ странамъ. Она лежитъ
недалеко отъ Ирландіи, примьіцаетъ къ Англіи и вслѣдствіе смежности своей съ
Оркнейскими и Шотландскими островами была въ высшей степени подвержена
нападеніямъ со стороны той великой націи пиратовъ, которая въ продолженіе цѣлыхъ
столѣтій населяла Скандинавскій полуостровъ. Сама по себѣ Шотландія есть страна
гористая и безплодная; природа перегородила ее такими препятствіями, что долго
невозможно было установить правильныя сообщенія между ея различными частями;
и въ самомъ дѣлѣ, въ горной Шотландіи это было сдѣлано не ранѣе половины
XVIII столѣтія х). Наконецъ, огромную важность имѣло, какъ мы скоро увидимъ, и то
обстоятельство, что самая плодородная мѣстность Шотландіи находится на югѣ ея и по-
тому была постоянно опустошаема пограничными жителями Англіи. Все это задерживало
накопленіе богатства; возрастанію городовъ препятствовали тѣ серьезныя опасности,
которымъ они постоянно подвергались; не было возможности развить въ нихъ тотъ
1) Въ Англіи путешествовать было довольно плохо,
а въ Шотландіи еще хуже. Мореръ, разсказывая то,
чтб онъ видѣлъ въ 1689 году, говоритъ; «Дилижансовъ
у нихъ вовсе нѣтъ, есть только нѣсколько наемныхъ
каретъ въ Эдинбургѣ, которыя они могутъ нанимать
въ крайнихъ случаяхъ для поѣздокъ за городъ. Дѣло
въ томъ, что состояніе дорогъ едва-ли позволяетъ имѣть
подобныя удобства: въ этомъ и заключается причина,
почему ихъ джентри, мужчины и женщины, предпочи-
таютъ ѣздить верхомъ».
Что касается сѣверныхъ мѣстностей, то о нихъ
мы находимъ слѣдующій разсказъ въ письмѣ, написан-
номъ изъ Инвернесса между 1726 и 1730 годами:
«Горная Шотландія весьма мало извѣстна даже жи-
телямъ низменной части страны, потому что опи всегда
боялись трудностей и опасностей путешествія въ го-
рахъ; а когда какой-нибудь чрезвычайный случай при-
нуждалъ кого-либо къ такой поѣздкѣ, то такой че-
ловѣкъ писалъ завѣщаніе, какъ-будто онъ уѣзжалъ въ
продолжительное п опасное морское путешествіе, изъ
котораго возвращеніе было весьма сомнительно». Между
1720 п 1730 годами были проведены черезъ нѣко-
торыя мѣстности горной Шотландіи военныя дороги,
но направленіе пхъ было начертано вопномъ-практп-
комъ, сообразно съ видами военными, но безъ всякаго
почти вниманія къ тѣмъ цѣлямъ, для которыхъ сво-
бодные и мирные граждане устанавливаютъ систему
внутреннихъ сообщеній». Эго подтверждается тѣмъ фак-
томъ, что даже между Инвернессомъ и Эдинбургомъ
«до 1755 года почтовыя сношенія дѣлались посред-
ствомъ пѣшеходовъ». «Почтовая коляска впервыо по-
казалась въ Инвернессѣ къ 1760 году и была въ про-
долженіе значительнаго времени единственнымъ чегы-
рехъ-колеснымъ экипажемъ въ округѣ*.
Исторія усовершенствованія дорогъ за послѣднюю
половину XVIII столѣтія еще никѣмъ не была пи-
сана; по усовершенствованіе это имѣетъ громадную
важность, какъ по результатамъ его для умственнаго
развитія націи, достигнутымъ сліяніемъ ея различ-
ныхъ частей, такъ и по экономическимъ результатамъ,
оказавшимся вслѣдствіе облегченія торговыхъ сно-
шеній.
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ДО КОНЦА XIV СТ.
447
муниципальный духъ, который могъ бы существовать, еслибы округи, болѣе благо-
пріятствуемые природой, были расположены вмѣсто юга на сѣверѣ Шотландіи.
Еслибы было наоборотъ, т. е. гористыя мѣстности находились на югѣ, а низмен-
ныя—на сѣверѣ, то едва-ли можно сомнѣваться,- что послѣ прекращенія въ ХШ сто-
лѣтіи великихъ скандинавскихъ нашествій самыя плодородныя части Шотландіи,
будучи сравнительно безопасны, сдѣлались бы средоточіемъ городовъ, которые дѣя-
тельный духъ народа довелъ бы до цвѣтущаго состоянія, а процвѣтаніе это внесло бы
новый элементъ въ дѣла Шотландіи и измѣнило бы ходъ шотландской исторіи* Этому
однако не суждено было случиться; и такъ какъ намъ приходится имѣть дѣло съ тѣмъ
порядкомъ вещей, какой оказался въ дѣйствительности, то я постараюсь теперь про-
слѣдить дѣйствіе физическихъ особенностей Шотландіи, о которыхъ я только-что
говорилъ, и сопоставивъ ихъ результаты, укажу по возможности, какое онѣ имѣли
вообще значеніе и какимъ путемъ онѣ вліяли на національный характеръ.
Самый ранній фактъ, какой мы знаемъ въ исторіи Шотландіи, это вторженіе
римлянъ подъ предводительствомъ Дгриколы въ концѣ I столѣтія. Но ни его завое-
ванія, ни завоеванія его прсмниковъ не произвели никакого прочнаго дѣйствія.
Страна никогда не была дѣйствительно покорена; она только была занята войсками,
и занятіе это, несмотря на сооруженія многочисленныхъ укрѣпленій, стѣнъ и валовъ,
нисколько не сокрушило духа жителей. Даже Северъ, предпринявшій въ 209 году
послѣднюю и важную экспедицію противъ Шотландіи, повидимому, не проникнулъ
за Морейскій заливъ, и какъ только онъ удалился, туземцы были опять при оружіи
и опять независимы. Послѣ этого ничего не было предпринимаемо въ такихъ раз-
мѣрахъ, чтобы можно было ожидать какого-либо успѣха. Въ самомъ дѣлѣ, римляне
не только не были способны предпринять что-либо подобное, но и сами начинали
вырождаться; и въ лучшіе дни ихъ доблести были доблести варваровъ, а теперь
даже и этихъ свойствъ они почти лишились. Съ самаго начала складъ ихъ жизни
былъ такъ одностороненъ и несовершененъ, что увеличеніе богатства, которое совер-
шенствуетъ цивилизацію дѣйствительно цивилизованныхъ странъ, было для римлянъ
неисправимымъ зломъ; роскошь только развращала ихъ, вмѣсто того чтобы очищать
ихъ нравы. Въ наше время, сравнивая различные народы Европы, мы находимъ,
что богатѣйшій изъ нихъ есть въ то же время и самый могущественный, самый чело-
вѣчный и самый счастливый. Мы живемъ въ томъ передовомъ состояніи общества,
въ которомъ богатство есть и причина, и дѣйствіе прогресса, между тѣмъ какъ бѣд-
ность есть обильный источникъ слабости, бѣдствія и преступленія; римляне же,
переставъ быть бѣдными, стали порочными. Основаніе ихъ величія было такъ шатко,
что тѣ именно результаты, которыхъ они достигли свопмъ могуществомъ, были па-
губны для этого же могущества. Ихъ владычество дало имъ богатство, и ихъ богат-
ство ниспровергло ихъ владычество. Ихъ національный характеръ, несмотря на его
кажущуюся силу, былъ въ сущности такъ бѣденъ содержаніемъ, что рушился, не
выдержавъ своего собственнаго развитія. Онъ росъ и мельчалъ въ то же время.
Вотъ почему въ Ш и IV’ столѣтіяхъ ихъ власть надъ человѣчествомъ видимо осла-
бѣвала. Разъ ихъ авторитетъ пошатнулся, другіе народы конечно выдвинулись впе-
редъ; такъ что нашествія тѣхъ невѣдомыхъ племенъ, которыя нахлынули съ сѣвера
и появленію которыхъ часто приписываютъ окончательную катастрофу, были скорѣе
всего поводомъ, но ни въ какомъ случаѣ не причиной паденія Римской Имперіи.
Все давно уже клонилось къ этому великому и спасительному событію. Бичи и при-
тѣснители вселенной, которыхъ ложное и невѣжественное сочувствіе облекло въ
благородныя качества, никогда не принадлежавшія имъ, должны были теперь поду-
мать о самихъ себѣ; и когда, отступая на всѣхъ пунктахъ, они въ половинѣ V сто-
лѣтія очистили отъ своихъ войскъ всю Британію, то это было съ ихъ стороны не
болѣе какъ движеніе, сдѣлавшееся неизбѣжнымъ въ силу цѣлаго ряда обстоятельствъ,
продолжавшихся въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній.
Съ этого-то момента мы и начинаемъ различать дѣйствіе тѣхъ физическихъ и
448
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
географическихъ особенностей, которыя, какъ я упомянулъ, имѣли вліяніе на судьбы
Шотландіи. Въ то время какъ римляне постепенно теряли почву, близость Ирландіи
вызывала безпрестанныя нападенія, направлявшіяся со стороны этого, плодороднаго
острова, богатая почва и важныя естественныя преимущества котораго породили
слишкомъ многочисленное и потому самому безпокойное населеніе. Излишекъ насе-
ленія, который въ цивилизованныя времена ищетъ исхода въ эмиграціи, въ вар-
варскія времена обращается къ нашествіямъ. Такимъ образомъ ирландцы или
скотты, какъ ихъ называли, утвердились силой оружія на западѣ Шотландіи и
пришли въ столкновеніе съ пиктами, занимавшими восточную часть. Произошла
смертельная борьба, которая продолжалась четыре столѣтія послѣ удаленія римлянъ
и повергла страну в ь величайшее разстройство. Наконецъ, въ половинѣ IX столѣтія
царь скоттовъ Кеннетъ Макъ Альпинъ одержалъ верхъ и принудилъ пиктовъ къ
совершенной покорности. Страна была теперь соединена подъ однимъ управленіемъ,
и завоеватели, мало по малу поглощая завоеванныхъ, дали свое имя цѣлой странѣ,
которая въ X столѣтіи получила наименованіе Шотландіи.
Но королевству этому не суждено было успокоиться, ибо въ то же время воз-
никли разныя обстоятельства,—о которыхъ здѣсь было бы неумѣстно распростра-
няться,—выработавшія изъ жителей Норвегіи величайшую морскую націю въ Европѣ.
То употребленіе, какое сдѣлала эта нація пиратовъ изъ своей силы, составляетъ
другое, весьма важное звено въ исторіи Шотландіи и служитъ при томъ доказатель-
ствомъ громаднаго значенія, которое слѣдуетъ приписывать въ ранній періодъ раз-
витія общества чисто географическимъ условіямъ. Ближайшую землю въ срединѣ
длиннаго берега Норвегіи составляютъ Шотландскіе острова, съ которыхъ легко
переплыть и на Оркнейскіе. Сѣверные пираты естественно захватили эти неболь-
шіе, но для нихъ самые полезные острова, и такъ же естественно сдѣлали ихъ
промежуточными станціями, съ которыхъ имъ было удобно грабить берега Шотлан-
діи. Получая постоянныя подкрѣпленія изъ Норвегіи, они въ IX и X столѣтіяхъ
двинулись съ Оркнейскихъ острововъ, основали постоянныя поселенія въ самой
Шотландіи и заняли не только Кэтнессъ, но и большую часть Сетерланда. Другой
отрядъ ихъ завладѣлъ западными островами, и такъ какъ островъ Скай отдѣляется
отъ суши только весьма узкимъ проливомъ, то эти пираты легко перешли черезъ
него и утвердились въ западномъ Россѣ. Изъ своихъ новыхъ осѣдлостей они вели
непрерывную разрушительную войну со всѣми округами, куда только могли прони-
кать, и, держа большую часть Шотландіи въ постоянной тревогѣ въ теченіе почти
трехъ столѣтій, дѣлали для нея невозможнымъ’ всякое соціальное улучшеніе. Дѣй-
ствительно, эта несчастная страна никогда не избавлялась отъ опасности со сто-
роны норвежцевъ до послѣдняго неудачнаго нападенія ихъ въ 1263 году, когда
Гако отплылъ изъ Норвегіи съ огромной флотиліей, которую еще усилилъ под-
крѣпленіями съ Оркнейскихъ и съ Гебридскихъ острововъ. Шотландія могла оказать
лишь слабое сопротивленіе. Гако съ своими союзниками поплылъ вдоль западнаго
берега до Мулла Кентайрскаго, опустошилъ страну огнемъ и мечомъ, овладѣлъ Арра-
номъ и Бьютомъ, вступилъ въ Клайдскій заливъ, внезапно напалъ на Лохъ-Ломондъ,
истребилъ всякаго рода собственность на его берегахъ и на его островахъ, раз-
грабилъ все графство Стерлингъ и грозилъ высадкой со всѣми своими силами въ
Эйрширъ. Къ счастью, суровость погоды разстроила эту великую экспедицію и раз-
сѣяла или истребила весь флотъ. Послѣ того измѣнившіяся обстоятельства Норвегіи
не дали ужо болѣе возобновиться этой попыткѣ; а какъ скоро миновала для Шот-
ландіи опасность съ этой стороны, можно было надѣяться, что она станетъ теперь
наслаждаться миромъ и будетъ имѣть время для развитія тѣхъ естественныхъ
средствъ, которыми она обладала, въ особенности въ южныхъ округахъ, находящихся
въ наиболѣе благопріятныхъ условіяхъ.
Этому однако не суждено было случиться, -ибо едва прекратились нападенія
со стороны Норвегіи, какъ начались они со стороны Англіи. Въ началѣ XIII сто-
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ДО КОНЦА XIV СТОЛѢТІЯ.
449
лѣтія черты разграниченія между норманнами и саксами въ нашей странѣ стали
до такой степени сглаживаться, что во многихъ случаяхъ невозможно было разли-
чать ихъ* Въ половинѣ же этого столѣтія обѣ расы слились въ одинъ могущественный
народъ, и такъ какъ этотъ народъ имѣлъ сравнительно слабаго сосѣда, то очевидно
сильнѣйшая нація должна была попытаться притѣснить слабѣйшую. Въ невѣже-
ственное и варварское время успѣхи на войнѣ предпочитаются всякому другому
роду славы; и англичане, жаждая завоеваній, обратили свои взоры на Шотландію
въ полной увѣренности, что овладѣютъ ею при первомъ удобномъ случаѣ. Ихъ
соблазняла уже самая близость этой страны, а предполагаемая беззащитность ея
дѣлала невозможнымъ устоять противъ соблазна. Въ 1290 году Эдуардъ I рѣшился
воспользоваться смятеніемъ, въ которое повергнута была Шотландія спорами о пре-
столонаслѣдованіи. Нѣть нужды разсказывать, какія за этимъ послѣдовали интриги;
достаточно сказать, что въ 1296 году мечъ быть обнаженъ, и Эдуардъ вторгнулся
въ страну, которую давно желалъ завоевать. Но онъ не сообразилъ, сколько мил-
ліоновъ денегъ и сколько сотъ тысячъ жизней придется потратить прежде, чѣмъ
кончится эта война *). Началась борьба, неслыханная по своей жестокости и про-
должительности. Въ теченіе этого грустнаго періода шотландцы, несмотря на свое
геройское сопротивленіе, несмотря на тѣ побѣды, которыя имъ случалось по вре-
менамъ одерживать, должны были испытать всякое зло, какое были въ состояніи
причинить имъ ихъ гордые и дерзкіе сосѣди. Любимой мечтой англичанъ было
подчинить себѣ шотландцевъ, п если чтб п могло еще болѣе обезславить такое
низкое предпріятіе, такъ это его постыдная неудача. Тѣмъ не менѣе понесенныя
потери были громадны и усиливались еще тѣмъ важнымъ фактомъ, что именно
самая плодородная часть Шотландіи подверглась опустощеніямъ со стороны англи-
чанъ. Это, какъ мы сейчасъ увидимъ, имѣло довольно любопытное дѣйствіе на на-
ціональный характеръ, и потому, не входя въ излишнія подробности, я сдѣлаю
краткій перечень ближайшихъ послѣдствій этой долгой и кровавой борьбы.
Въ 1296 году англичане вступили въ Бервикъ, богатѣйшій городъ Шотландіи,
и не только истребили всю собственность, но умертвили почти всѣхъ жителей. По-
томъ они двинулись на Абердинъ и Эльджинъ и до такой степени опустошили
страну, что шотландцамъ, /бѣжавшимъ въ горы и лишеннымъ всего, что имѣли,
оставалось только одно — изъ своихъ родныхъ твердынь вести войну, подобную
той, какую вели двѣнадцатью столѣтіями ранѣе ихъ дикіе предки противъ рим-
лянъ. Въ 1298 году англичане опять ворвались, сожгли Пертъ и Сентъ-Андрюсъ
и опустошили всю территорію къ югу и западу. Въ 1310 году они напали на
Шотландію съ восточной стороны и, захвативъ всѣ, какіе оставались тамъ, про-
довольственные запасы, произвели такой страшный голодъ, что народъ былъ вы-
нужденъ питаться лошадьми и разною падалью. По всей южной Шотландіи, на
востокѣ и на западѣ, жители были приведены въ ужасное положеніе, — большая
часть ихъ была безъ крова, безъ нищи. Въ 1314 году, доведенные до отчаянія,
они соединили на минуту свои силы и въ сраженіи при Ваннокбёрнѣ блестя-
щимъ образомъ разбили своихъ притѣснителей. Но ихъ непреклонный врагъ былъ
постоянно наготовѣ и тѣснилъ ихъ такъ сильно, что въ 1322 году Брюсъ, чтобы
воспрепятствовать вторженію англичанъ, былъ вынужденъ опустошить всѣ округа
къ югу отъ Фортскаго залива, народъ же по-прежнему спасся въ горы. Вотъ по-
чему на этотъ разъ Эдуардъ II достигъ Эдинбурга, ничего не разграбивъ; въ
странѣ, обращенной въ пустыню, грабить было нечего, но на обратномъ пути
онъ сдѣлалъ все, что могъ; встрѣтивъ монастыри, единственныя мѣста, гдѣ оста-
*) Одинъ старый шотландскій писатель (Сомер-
виль) говоритъ съ нѣкоторымъ преувеличеніемъ: «въ
1200 году разразилась кровопролитнѣйшая и продол-
жительнѣйшая изъ войнъ, какія когда-либо бывали
Бокль.—Иэд. Ф. Павленкова.
между двумя народами; она продолжалась двѣсти шесть-
десятъ лѣтъ, па погибель и разореніе многихъ благо-
родныхъ фамилій, п истребила до милліона людей».
29
450
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
вались признаки жизни, онъ напалъ на нихъ, ограбилъ монастыри Мельрозскій и
Голирудскій, сжегъ аббатство Драйбургское и умертвилъ тѣхъ монарховъ, которые
по старости или болѣзни не въ состояніи были убѣжать. Въ 1336 году преемникъ
его, Эдуардъ III, снарядилъ многочисленную армію, опустошилъ низменную и значи-
тельную часть горной Шотландіи и истребилъ все, что попадалось ему по пути
до самаго Инвернесса. Въ 1346 году англичане опустошили округи Твиддэль, Мерсъ,
Эттрикъ, Аннандэль и Голловэй. Въ 1353 году было еще болѣе варварское втор-
женіе, во время котораго Эдуардъ жегъ всякую церковь, всякую деревню и всякій
городъ, какіе только встрѣчались ему. И едва оправилась нѣсколько Шотландія оть
этихъ страшныхъ потерь, какъ надъ несчастной страной разразилась новая буря.
Въ 1385 году Ричардъ II прошелъ по южнымъ графствамъ до Абердина, распро-
страняя повсюду опустошеніе, и сжегъ до тла города Эдинбургъ, Дёнфермлинъ, Пертъ
и Денди.
Эти бѣдствія прерывали повсюду занятія земледѣліемъ, которое во многихъ
мѣстахъ прекратилось на нѣсколько поколѣній. Земледѣльцы или бѣжали, или были
умерщвлены; и такъ какъ некому было воздѣлывать землю, то нѣкоторыя изъ кра-
сивѣйшихъ мѣстностей Шотландіи обратились въ пустыни, поросшія терновникомъ
и густыми кустарниками. Въ промежутки между нашествіями немногіе изъ жителей,
ободрившись, спускались съ горъ и строили жалкія лачужки на мѣстѣ прежнихъ сво-
ихъ жилищъ. Но и тутъ они бывали преслѣдуемы до самыхъ своихъ дверей волками,
ищущими пищи и взбѣсившимися отъ голода; если же и избавлялись отъ голодныхъ
лютыхъ звѣрей, то все-таки имъ и семействамъ ихъ угрожала опасность еще болѣе
ужасная. Въ эти страшные,дни, когда всюду кругомъ/ свирѣпствовалъ голодъ, от-
чаяніе испортило сердца людей и влекло ихъ къ новаго рода преступленію. Въ
странѣ нашлись каннибалы, и мы знаемъ изъ одного современнаго источника, что
одинъ человѣкъ и его жена, попавшіеся, наконецъ, въ руки правосудія, существо-
вали въ продолженіе долгаго времени тѣмъ, что ловили въ западни живыхъ людей,
пожирали ихъ мясо и пили ихъ кровь х).
Такъ прошло XIV столѣтіе. Въ пятнадцатомъ — опустошительныя нападенія
англичанъ стали сравнительно рѣже; и хотя границы были все еще театромъ по-
стоянныхъ враждебныхъ дѣйствій, но послѣ 1400 года не было примѣра, чтобы
который-либо изъ нашихъ королей вторгался въ Шотландію. Когда положенъ былъ
конецъ этимъ разбойничьимъ экспедиціямъ, превратившимъ страну въ пустыню,
Шотландія перевела духъ и начала возстановлять свои силы 2). Но хотя матеріальныя
потери и пополнялись ностепеппо, хотя снова обрабатывались поля и отстраивались
города, были однако другія послѣдствія, которыя труднѣе было исправить и отъ
которыхъ долго страдалъ народъ, а именно: непомѣрное могущество дворянъ и от-
сутствіе муниципальнаго духа. Сила дворянъ и слабость горожанъ составляютъ глав-
нѣйшія особенности Шотландіи въ теченіе XV' и XVI столѣтій, и не посредственной
причиной ихъ были, какъ я сейчасъ покажу, опустошенія, произведенныя англій-
скими войсками. Мы увидимъ кромѣ того, что такое стеченіе обстоятельствъ увели-
чивало значеніе духовенства, ослабляло вліяніе мыслящихъ классовъ и давало суе-
х) Въ РогДшГз «ЗсоіісЬгошсон» находится слѣ-
дующій ужасный разсказъ о состояніи окрестностей
Перта въ 1339 году: «Вся ближайшая окрестность
была въ то время до такой степени опустошена, что
не осталось почти ни одного обитаемаго дома, и во-
кругъ города часто охотились за дикими звѣрями и
оленями, спускавшимися съ горъ. Такая въ то время
настала дороговизна и такой недостатокъ въ жизнен-
ныхъ припасахъ, что мѣстами простой народъ пропа-
далъ, и люди ати, пасясь, какъ овцы, на травѣ, были
находимы потомъ мертвыми въ ямахъ. Недалеко от-
туда, въ уединеніи, жилъ нѣкій мужикъ, по имени
Криствклейкъ, съ женой своей, которые подкараули-
вали дѣвочекъ, мальчиковъ и юношей и, загрызая ихъ,
какъ волки, жили ихъ мясомъ*.
2) По весьма медленно. Пинкертонъ («Исторія
Шотландіи говоритъ: «Частыя войны между Шотлап-
діей и Англіей, послѣ смерти Александра Ш, были
причиною того, что первая отстала болѣе чѣмъ на
। столѣтіе въ цивилизаціи. Въ то время какъ въ Англіи
і только однѣ сѣверныя провинціи были подвержены
набѣгамъ со стороны шотландцевъ, — въ Шотландіи
страдали отъ непріятельскихъ вторженій самые циви-
лизоваппые округи. Очевидно, что при Александрѣ Ш
въ королевствѣ было болѣе полезныхъ цемеслъ и ма*
। нуфактуръ, чѣмъ при Робертѣ III*.
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ДО КОНЦА XIV СТОЛѢТІЯ.
451
вѣрію большій перовѣсъ, чѣмъ оно имѣло бы при другихъ условіяхъ. Такимъ обра-
зомъ въ Шотландіи, какъ и во всѣхъ другихъ странахъ, все тѣсно связывается
одно съ другимъ; нѣтъ ничего случайнаго, а всѣмъ управляютъ общія причины,
которыя, по своей обширности и отдаленности, часто ускользаютъ отъ вниманія, но
разъ признанныя—оказываются носящими отпечатокъ простоты и однообразія, со-
ставляющихъ неизмѣнную характеристику высшихъ истинъ, до какихъ доходилъ умъ
человѣка.
Первое условіе, благопріятствовавшее возвышенію дворянъ, заключалось въ
физическомъ образованіи страны. Горы, болота, озера и топи, только съ помощью
новѣйшаго искусства, и то недавно, сдѣлавшіяся доступными, давали великимъ
шотландскимъ вождямъ такія убѣжища, въ которыхъ они могли безнаказанно про-
тивиться власти короны *)• При томъ бѣдность почвы дѣлала затруднительнымъ про-
довольствіе армій, и уже по этой одной причинѣ королевскія войска были часто
не въ состояніи преслѣдовать противозаконныя дѣйствія непокорныхъ бароновъ 2).
Въ продолженіе XIV столѣтія Шотландія была постоянно опустошаема англичанами, а
въ промежутки между ихъ нашествіями было бы совершенно безнадежнымъ пред-
пріятіемъ со стороны какого-нибудь короля пытаться укротить такихъ могуществен-
ныхъ подданныхъ: ему пришлось бы двигаться по округамъ, до такой степени опу-
стошеннымъ непріятелемъ, что они не производили уже и самыхъ простыхъ жизнен-
ныхъ припасовъ. Кромѣ того война съ англичанами ослабляла авторитетъ короны,
какъ вообще, такъ и относительно дворянъ. Ея родовыя земли, лежавшія на югѣ,
были безпрестанно опустошаемы пограничными жителями Англіи и къ половинѣ XIV
столѣтія значительно уменьшіідись въ своей цѣнности. Въ 1346 году Давидъ II по-
палъ въ руки англичанъ, и вѣ продолженіе его одиннадцати лѣтняго плѣна дворяне
дѣлали, что хотѣли, и усвоили Ьебѣ, какъ говоритъ одинъ историкъ, титулъ и манеры
государей. Чѣмъ болѣе длилась война съ Англіею, тѣмъ сильнѣе чувствовались эти
послѣдствія, такъ что къ концу XIV столѣтія нѣкоторыя изъ знатнѣйшихъ шотланд-
скихъ фамилій такъ высоко поставили себя, что очевидно можно было ожидать одного
изъ двухъ: или смертельной борьбы между ними и короною, или что исполнительному
правительству придется отказаться отъ самыхъ существенныхъ изъ своихъ отправле-
ній и оставить страну въ добычу этимъ своекорыстнымъ, свирѣпымъ вождямъ 3).
При этомъ кризисѣ естественными союзниками трона могли бы быть горожане
и жители мѣстечекъ, такъ какъ въ большей части европейскихъ странъ они были
ревностными и рѣшительными противниками дворянъ, которые по привычкѣ къ
своеволію не только вмѣшивались въ ихъ торговлю и мануфактурную промышлен-
ность, но даже касались ихъ личной свободы. Но и въ этомъ отношеніи продол-
жительная война съ Англіей была благопріятна для шотландской аристократіи.
Завоеватели опустошали южныя части Шотландіи, единственныя сколько-нибудь
плодородныя мѣстности, и потому города не могли процвѣтать въ мѣстахъ, пред-
назначенныхъ для нихъ самою природою. Не было большихъ городовъ, не было и
убѣжища для горожанъ и помогло быть муниципальнаго духа; а оттого, что не было
этого духа, корона была лишена того великаго средства, которое дало возможность
англійскимъ королямъ обуздывать могущество дворянъ и наказывать самоуправство,
которое долго препятствовало прогрессу общества.
Въ теченіе среднихъ вѣковъ шотландскіе города были до такой степени лишены
*) Вслѣдствіе этого пхъ замки, по положенію
своему, были самые сильные во всей Европѣ, исктю-
чая развѣ Германію. Пи Англія, ни Франція, пи Ита-
лія, ни Испанія не представляли такихъ громадныхъ
естественныхъ преимуществъ для своей аристократіи.
3) < Удалившись въ свой собственный замокъ,
мятежный баронъ могъ смѣяться надъ властью своего
государя, такъ какъ было почти несбыточнымъ дѣломъ
весгп цѣлую армію по безплодной странѣ, къ мѣстамъ,
съ трудомъ доступнымъ даже для одного человѣка»
(сИсторія Шотландія» Робертсона).
3) Въ 1299 году старшій баровъ былъ во всѣхъ
отношеніяхъ кормомъ въ миніатюрѣ. Въ 1377 году
власть бароновъ рѣшительно увеличивалась со времени
Роберта I, а около 1398 года она стала еще выше
(Тайтлѳръ «Исторія Шотландіи»).
29*
452
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
всякаго значенія, что о нихъ сохранилось очень мало свѣдѣній; современные писа-
тели сосредоточивали все свое вниманіе на дѣятельности дворянъ и духовенства.
Относительно же народа, находившаго убѣжище въ тѣхъ жалкихъ городахъ, какіе
тогда существовали,—и самыя лучшія свидѣтельства весьма неполны; извѣстно однако,
что во время продолжительныхъ англійскихъ войнъ жители обыкновенно бѣжали съ
приближеніемъ непріятеля, и жалкія лачуги, въ которыхъ они жили, сожигались до
основанія. Отъ этого народонаселеніе пріобрѣтало подвижной, бродячій характеръ,
который не давалъ образоваться привычкѣ къ постоянной промышленности, и такимъ
образомъ не существовало одной изъ причинъ, побуждающихъ людей соединяться
въ общества. Это въ особенности замѣчалось въ южной, низменной Шотландіи; на
сѣверѣ же существовало другое, не менѣе страшное зло. Съ одной стороны дикіе
горцы, жившіе исключительно грабежемъ, съ другой—нерѣдко присоединялись къ
нимъ морскіе разбойники съ западныхъ острововъ. Все, что хотя сколько-нибудь
намекало на богатство, — въ высшей степени возбуждало ихъ алчность; если они
знали, что человѣкъ имѣетъ собственность, ими непремѣнно овладѣвало непреодо-
лимое желаніе украсть се; а послѣ воровства величайшимъ наслажденіемъ для нихъ
было все истреблять. Абердинъ и Инвернессъ были особенно подвержены ихъ на-
паденіямъ, и Инвернессъ въ продолженіе XV столѣтія два раза былъ истребленъ
огнемъ; ему приходилось кромѣ того уплачивать въ разныя времена тяжелые вы-
купы, чтобы спастись отъ подобной же участи.
Въ виду такихъ опасностей какъ на сѣверѣ, такъ и на югѣ Шотландіи мирная
промышленность была невозможна ни въ одной изъ частей этой страны. Нигдѣ
нельзя было построить города, которому не угрожала бы опасность немедленнаго
разрушенія. Вотъ почему въ теченіе многихъ столѣтій тамъ не было никакихъ ману-
фактуръ; едва-ли существовала даже какая-нибудь промышленность, и торговля
почти ограничивалась мѣною '). Нѣкоторыя изъ самыхъ простыхъ искусствъ тамъ не
были извѣстны. Шотландцы не умѣли даже приготовлять того оружія, которымъ
сражались. Это искусство у такого воинственнаго народа могло бы приносить боль-
шія выгоды, но шотландцы были такъ невѣжественны, что въ началѣ XV сто-
лѣтія большая часть ихъ аммуниціи приготовлялась за границей, равно какъ и
ихъ копья, луки и стрѣлы; наконечники же копій и стрѣлъ исключительно вывози-
лись изъ Фландріи * 2). Фламандскіе ремесленники доставляли шотландцамъ даже обык-
новенныя земледѣльческія принадлежности, напримѣръ, повозки и тачки, которыя
около 1475 года привозились изъ Нидерландовъ. Что же касается искусствъ, слу-
жащихъ признакомъ нѣкоторой степени утонченности, то ихъ, какъ въ то время,
такъ и долго спустя еще совершенно не знали 3). До XVII столѣтія въ Шотландіи
вовсе не приготовляли стекла и не выдѣлывали мыла. Даже высшіе классы граж-
данъ считали бы нелѣпостью имѣть окна въ своихъ бѣдныхъ жилищахъ 4); а такъ какъ
они держали одинаково грязно и свои дома, и свое тѣло, то спросъ на мыло былъ слиш-
х) Въ 1492 году абердинское казначейство при-
нуждено было занять 4 фунта 16 шилпнговъ шот-
ландскихъ. Файнсъ Морисовъ, бывшій въ Шотландіи
въ концѣ ХУІ столѣтія, говоритъ: «джентльмены счи-
тали свои доходы не денежными рентами, но шолдро-
намп зернового хлѣба». Сто лѣтъ спустя послѣ того
какъ писалъ Морисовъ, было замѣчено, что «въ Англіи
ренты уплачиваются деньгами, а въ Шотландіи онѣ
вообще уплачиваются хлѣбомъ, пли, какъ они назы-
ваютъ это, натурой».
2) Мы узнаемъ изъ Вутѳг’з Роебега», что въ
1368 году, когда двумъ шотландцамъ пришлось драться
на дуэли, они достали себѣ вооруженіе изъ Лондона.
8) Абердинъ въ теченіе долгаго періода былъ однимъ
изъ самыхъ богатыхъ и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ
самымъ передовымъ изъ всѣхъ шотландскихъ городовъ.
Но пзъ списковъ городового совѣта Абердина видно,
что «въ началѣ XVI столѣтія не было ни одного ме-
ханика въ городѣ, способнаго произвести обыкновенную
починку часовъ».
4) Рэй, посѣтившій Шотландію въ 1661 году,
говоритъ: «Въ лучшихъ шотландскихъ домахъ, даже
въ королевскихъ дворцахъ, не цѣлыя окна стеклянныя,
но только верхнія пхъ части; нижняя же часть имѣетъ
двѣ деревянныя дверцы или затворки, которыя можно
было бы отворять, по желанію, для впуска свѣжаго
воздуха... Обыкновенные сельскіе дома—просто жалкія
хижины, построенныя изъ камня и крытыя дерномъ;
онѣ заключаютъ въ себѣ только одну комнату;—мно-
гія изъ нихъ не имѣютъ очаговъ, а окна ихъ заклю-
чаются въ маленькихъ отверстіяхъ и дѣлаются безъ
стеколъ».
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ДО КОНЦА XIV СТОЛѢТІЯ.
453
комъ ничтоженъ, чтобы заставить кого-либо заняться приготовленіемъ этого веще-
ства Другія вѣтви промышленности находились также въ отсталомъ состояніи.
Искусство дубленія кожъ внервые было введено въ Шотландіи въ 1620 году; и утвер-
ждаютъ, основываясь повидимому на достовѣрномъ свидѣтельствѣ, что до половины
ХѴШ вѣка тамъ вовсе не приготовляли бумаги.
Среди такого всеобщаго застоя самые цвѣтущіе города были, какъ легко можно
представить себѣ, весьма слабо населены. И, дѣйствительно, людямъ такъ мало было
дѣла, что еслибы они собрались въ большомъ числѣ, имъ пришлось бы голодать.
Глазго есть одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ Шотландіи—утверждаютъ, что онъ
основанъ около VI столѣтія. Во всякомъ случаѣ въ XII столѣтіи это былъ, по
понятіямъ того времени, богатый, цвѣтущій городъ, пользовавшійся правомъ имѣть
и рынокъ, и ярмарку. Онъ имѣлъ также муниципальныя учрежденія и былъ упра-
вляемъ своими собственными городскими головами и старшинами. Но даже и этотъ
прославленный городъ не велъ никакой торговли до самаго XV столѣтія, когда
жители его начали солить и вывозить лососину. Это была единственная отрасль про-
мышленности, съ какой былъ знакомъ Глазго. Поэтому намъ не слѣдуетъ удивляться,
слыша, что до половины XV столѣтія все населеніе его не превышало полторы
тысячи человѣкъ, все богатство которыхъ заключалось въ небольшомъ количествѣ
скота и въ нѣсколькихъ акрахъ дурно обработанной земли. Другіе города, хотя и
носившіе знаменитыя названія, были въ такомъ же отсталомъ состояніи еще до болѣе
поздняго времени. Дёнфермлинъ связанъ со многими историческими воспоминаніями;
онъ былъ любимой -резиденціей шотландскихъ королей, и въ немъ собиралось много
шотландскихъ парламентовъ.дПодобныя событія даютъ, какъ обыкновенно считается,
извѣстное право на отличіе; но иллюзія исчезаетъ, когда мы поподробнѣе изслѣдуемъ
состояніе того мѣста, гдѣ они совершились. Несмотря/на всю пышность, окружав-
шую государей и законодателей,ХДёнфѳрмлинъ, который въ концѣ XIV столѣтія былъ
еще бѣдной деревней, составленной изъ деревянныхъ хижинъ, такъ мало подвинулся
впередъ въ началѣ семнадцатаго столѣтія, что все его населеніе, включая и бѣд-
ныя предмѣстья, не превышало тысячи человѣкъ. Для шотландскаго города и это
было много. Около того же времени Гринокъ, какъ увѣряютъ насъ, былъ деревней,
состоящей изъ одного ряда/домиковъ, обитаемыхъ бѣдными рыбаками. Кильмарнокъ,
составляющій въ настоящее время важное средоточіе промышленности и богатства,
въ 1668 году заключалъ въ себѣ отъ пяти до шести сотъ жителей. Даже самый
Пэсли въ 1700 году имѣлъ населеніе, которое, по самому широкому исчисленію, не
доходило до трехъ тысячъ.
Абердинъ, столица сѣвера, считался однимъ изъ вліятельнѣйшихъ шотланд-
скихъ городовъ и возбуждалъ въ теченіе среднихъ вѣковъ не мало зависти своимъ
могуществомъ и своимъ значеніемъ. Но слова эти, какъ и всякія другія, справедливы
лишь относительно и должны быть понимаемы различно въ различныя эпохи. Мы
конечно не будемъ особенно поражены величіемъ этого города, когда узнаем'ь изъ
вычисленій, основанныхъ на таблицахъ смертности, что еще въ 1572 году онъ могъ
похвалиться только населеніемъ около 2.900 душъ 2). Такой фактъ разсѣетъ многія
Въ 1650 году упоминается о шотландцахъ,
что «многія пзъ ихъ женщинъ такъ неопрятны, что
стираютъ свое бѣлье не болѣе одного раза въ мѣсяцъ,
а руки п лицо моютъ не болѣе раза въ годъ» (Ваііт-
локъ). Мы имѣемъ положительное доказательство, что
въ нѣкоторыхъ частяхъ Шотландіи даже въ концѣ
ХѴШ столѣтія народонаселеніе употребляло, вмѣсто
мыла, вещество, о которомъ упоминать было бы слиш-
комъ гадко. См. свѣдѣніе, сообщаемое достопочтеннымъ
Вилліамомъ Лесли сэру Джону Синклеру.
*) Пзъ списковъ жителей Абердина видно, что въ і
1512 году умерло въ немъ семьдесятъ два человѣка. I
Годичная смертность 1 на 40 была бы еще весьма |
выгодною пропорціею, даже слишкомъ выгодной, если
принять въ соображеніе обычаи того времени. Но по-
ложимъ, что умиралъ 1 на 40 человѣкъ,—въ такомъ
случаѣ населеніе должно было состоять изъ 2.880 душъ,
а если, въ чемъ я не сомнѣваюсь, смертность была
болѣе, нежели 1 на 40, то населеніе конечно должно
было быть еще меньше. Кеннеди предполагаетъ, что
«ежегодно умирала одна пятидесятая часть жителей»:
между тѣмъ извѣстно, что тогда не было въ Европѣ
нп одпого города, хоть сколько-нибудь подходящаго къ
этому по условіямъ здоровья. На основаніи этой ги-
потезы, которой протпворѣчатъ всѣ дошедшія до насъ
статистическія свѣдѣнія, число жителей составило бы
72 X 50 — 3.600.
454 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
мечтанія касательно старинныхъ шотландскихъ городовъ, особенно если принять въ
соображеніе, что онъ относится къ такой эпохѣ, когда средневѣковая анархія уже
исчезла, и Абердинъ уже нѣкоторое время пользовался разными улучшеніями. Этотъ
городъ—если только можно назвать городомъ такое жалкое скопище людей—былъ
тѣмъ не менѣе однимъ изъ самыхъ населенныхъ мѣстъ Шотландіи, Съ XIII и до
конца XVI столѣтія нигдѣ болѣе не было собрано въ одномъ мѣстѣ столько шот-
ландцевъ, кромѣ Перта, Эдинбурга и, пожалуй, Сентъ-Андрюса. Объ этомъ послѣд-
немъ городѣ я не могъ найти никакихъ точныхъ свѣдѣній, но о Пертѣ и Эдинбургѣ
сохранились кое-какія подробности. Пертъ былъ долгое время столицей Шотландіи
и, даже лишившись этого первенства, все-таки слылъ вторымъ городомъ въ госу-
дарствѣ. Богатство его считалось чѣмъ-то удивительнымъ, и всякій порядочный
шотландецъ гордился имъ, какъ однимъ изъ главныхъ украшеній страны. Но по
вычисленію, недавно сдѣланному однимъ изъ людей* пользующихся значительнымъ
авторитетомъ въ этого рода вопросахъ, все населеніе этого города въ 1585 году
не доходило до 9,000 душъ. Это конечно удивитъ многихъ изъ читателей, а между
тѣмъ, судя по тогдашнему состоянію общества, слѣдуетъ собственно дивиться не
тому, что въ Пертѣ было такъ мало жителей, а тому, что ихъ было и столько. Ибо
самый Эдинбургъ, несмотря на пребываніе въ немъ должностныхъ лицъ и много-
численной свиты, всегда соединяющееся съ присутствіемъ двора, имѣлъ въ концѣ
XVI столѣтія не болѣе 16.000 жителей. О томъ, въ какомъ состояніи были эти жи-
тели.—оставилъ намъ кое-какія свѣдѣнія одинъ изъ современныхъ наблюдателей.
Фруассаръ, посѣтившій Шртландію и записывавшій все,/какъ видѣнное, такъ и слы-
шанное имъ, изображаетъ въ самомъ плачевномъ видѣ тогдашнее положеніе дѣлъ.
Дома Эдинбурга были просто лачуги, покрытыя соломой и хворостомъ, и строились
такъ непрочно, что когда который-либо дзъ нихъ разрушался, то на отстройку его
требовалось не болѣе трехъ дней. Что же касается ихъ обитателей, то Фруассаръ,
человѣкъ далеко не склонный къ преувеличеніямъ, увѣряетъ насъ, что французы,
пока не увидали ихъ, не могли представить себѣ такихъ лишеній, и только тогда
поняли, что такое настоящая бѣдность.
Съ того времени произошли конечно значительныя улучшенія, но они шли
медленно, и даже въ концѣ XVI столѣтія тамъ почти не знали еще искусной ра-
боты, и честная промышленность находилась во всеобщемъ пренебреженіи. Поэтому
неудивительно, что горожане, люди бѣдные, жалкіе и невѣжественные, часто по-
купали покровительство какого-нибудь могущественнаго дворянина цѣною той слабой
даже независимости, какую они могли еще сохранить. Немногіе изъ шотландскихъ
городовъ осмѣливались избирать своихъ главныхъ должностныхъ лицъ изъ среды
собственныхъ гражданъ; обыкновенно бывало такъ, что они выбирали въ головы
или старшины сосѣдняго пэра *)• Даже часто случалось, что такія должности дѣлались
наслѣдственными, и на нихъ смотрѣли какъ на законную принадлежность той или
другой аристократической фамиліи. Передъ главою такой фамиліи все преклонялось.
Авторитетъ его былъ такъ несомнѣненъ, что обида, причиненная даже кому-либо
изъ его свиты, считалась какъ бы нанесенной ему самому. Представители города,
посылавшіеся въ парламентъ, были въ совершенной зависимости отъ аристократа,
управлявшаго городомъ. Почти до новѣйшихъ временъ въ Шотландіи не было на-
стоящаго народнаго представительства. Такъ называемые, народные представители
должны были подавать голоса, какъ имъ было приказано; они были на самомъ дѣлѣ
уполномоченными аристократіи, и такъ какъ у нихъ не было своей собственной
Иногда дворяне но оставляли гражданамъ даже
и тѣни свободы выборовъ, а рѣшали дѣло между со-
бои оружіемъ. Одинъ нрнмѣръ этого случился въ Пертѣ
>ъ 1544 году, гдѣ скоръ изъ-за должности городского
головы рѣшенъ былъ оружіемъ между лордомъ Рет-
вѳномъ съ одной стороны, поддерживаемымъ многочи-
сленной свитой вассаловъ, и лордомъ Греемъ, съ Нор-
маномъ Лесли, владѣльцемъ Рота, съ другой.
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ДО КОНЦА XIV СТОЛѢТІЯ.
455
палаты, то они засѣдали и обсуждали дѣла среди своихъ могущественныхъ пове-
лителей, которые открыто стращали ихъ х).
При такихъ обстоятельствахъ напрасно корона стала бы ожидать помощи отъ
корпораціи людей, которые сами не имѣли никакого вліянія и жалкія привилегіи
которыхъ держались только тѣмъ, что ихъ терпѣли. Но былъ другой классъ, чрез-
вычайно могущественный, къ которому и обратились шотландскіе короли, — это
именно духовенство. Обѣ стороны имѣли одинаковый интересъ въ ослабленіи дво-
рянства, и это повело къ союзу между церковью и короною противъ аристократіи.
Въ теченіе долгаго періода и даже до послѣдней половины XVI столѣтія короли
почти постоянно покровительствовали духовенству и всевозможными средствами
увеличивали его привилегіи. Реформація разстроила этотъ союзъ и вызвала новыя
комбинаціи, о которыхъ я сейчасъ буду говорить. Но пока союзъ существовалъ, онъ
приносилъ большую пользу духовенству, сообщая притязаніямъ его законную санкцію
и дѣлая изъ него въ глазахъ общества какъ бы опору порядка и законнаго пра-
вительства. Послѣдствія однако ясно показали, что дворянство было болѣе чѣмъ въ
состояніи совладать съ враждебнымъ ему союзомъ. Въ виду непомѣрнаго могуще-
ства этого сословія, удивительно только одно, какъ могло духовенство такъ долго
выдерживать эту борьбу,-—оно было собственно ниспровергнуто только въ 1560 году.
Что борьба будетъ такъ упорна и протянется столько времени, — вотъ чего съ
перваго взгляда никто не могъ себѣ представить. Причину этого я сейчасъ попы-
таюсь объяснить. Я надѣюсь доказать, что въ Шотландіи существовалъ цѣлый рядъ
общихъ причинъ, обезпечившихъ духовному сословію громадное вліяніе п давшихъ
ему возможность
Европѣ, но даже послѣ того, какъ оно было повидимцйу окончательно побѣждено,
возстать съ новою, большею чѣмъ когда-либо, бодростью, и силой пріобрѣсти, на-
конецъ, въ качествѣ протестантскихъ проповѣдниковъавторитетъ, нисколько не усту-
павшій тому, какимъ оно пользовалось въ качествѣ католическихъ священниковъ.
не только бороться съ самой могущественной аристократіей въ
л лута Лѵ-г-тгл тъігг тгтт тт пт'лттттнтл тгг тт/л ТТ/л ЛТГ ТТОТТ/Л
Изъ всѣхъ протестантскихъ странъ, конечно въ Шотландіи обстоятельства всего
долѣе и въ высшей степени благопріятствовали интересамъ суевѣрія. Какимъ обра-
зомъ интересы эти поддерживались въ XVII и ХѴШ столѣтіяхъ, это я разскажу
послѣ; теперь же я намѣренъ изслѣдовать причины ихъ ранняго преуспѣянія и по-
’) Си. въ «Исторіи Англіи» Маколея живое ошь
саніе Шотландіи въ 1639 году. «Парламентъ сѣвер-
наго королевства вовсе не былъ похожъ на собраніе,
носившее то же имя въ Англіи... Три сословія засѣ-
дали въ одной Палатѣ. На уполномоченныхъ отъ бур-
говъ смотрѣли только какъ на свиту знатныхъ дво-
рянъ». Гораздо позднѣе лордъ Кокбёрнъ изображаетъ
въ ужасномъ видѣ положеніе дѣлъ въ Шотландіи въ
1794 году, когда Джеффри былъ призванъ къ рѣ-
шеткѣ. Въ то время въ этой странѣ не было ни на-
роднаго представительства, ни независимыхъ бурговъ,
ни дѣятельнаго соперника господствующей церкви, ни
зависимой печати, ни свободныхъ общественныхъ ми-
тинговъ; не было даже въ политическихъ дѣлахъ (за
исключеніемъ государственной измѣны) лучшаго суда
присяжныхъ, какъ тотъ, который соотвѣтствовалъ то-
гдашнимъ обстоятельствамъ, когда присяжные назна-
чались въ судъ но по какому-нибудь безпристрастному
правилу и когда тѣ, кому слѣдовало судить дѣло, на-
значались предсѣдательствующимъ судьей. Шотланд-
скихъ представителей было только сорокъ пять, изъ
которыхъ тридцать избирались за графства н пятна-
дцать за города. Право выбора въ графствахъ, кото-
рыя одни дѣйствительно имѣли его, по цензу и по
существу своему (обстановленное всякими феодаль-
ными и техническими нелѣпостями), было далеко не-
досягаемо для всего низшаго, большей части средняго
и даже многихъ изъ высшаго классовъ. Во всей Шот-
ландіи было вѣроятно не болѣе 1.500 или 2.000 из-
бирателей въ графствѣ, — корпорація не слишкомъ
многочисленная, чтобы правительство не могло дер-
жать ее въ своихъ рукахъ. Поэтому никогда нельзя
было ожидать избранія хотя одного члена оппозиціи...
Изъ пятнадцати членовъ за города Эдинбургъ выби-
ралъ одного. Остальные четырнадцать избирались груп-
пою изъ четырехъ или пяти нссоодинѳнныхъ между
собою бурговъ, выбиравшихъ каждый по одному деле-
гату, и эти четыре или пять делегатовъ избирали уже
представителя. Какова бы ни была эта система въ
первое время, но она превратилась въ отношеніи къ
народу въ совершеннѣйшую насмѣшку, какъ бы на-
рочно придумаппую для униженія его. Народъ не пмѣлъ
никакого участія въ выборахъ. Всѣмъ управляли го-
родовые совѣты, въ которыхъ никогда не было болѣе
тридцати трехъ членовъ; и каждый городовой совѣтъ
составлялся по собственному избранію и, слѣдовательно,
упрочивалъ навсегда свои собственные интересы. Из-
браніе того или другого члена отъ города или отъ
графства было дѣломъ до такой степени безразличнымъ
для народа, что онъ часто узнавалъ объ этомъ только
по звону колокола, или читая на слѣдующій день из-
вѣстіе въ газетахъ, такъ какъ комедія эта обыкно-
венно совершалась въ комнатѣ, въ которую, если этого
нужно было, публику не допускали, а не па откры-
томъ воздухѣ».
456
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ,
казать, что они не только имѣли связь съ реформаціей, но даже сообщили этому
великому событію нѣкоторыя особенности, въ высшей степени замѣчательныя и прямо
противоположныя тому, чтб произошло въ Англіи.
Если читатель усвоилъ себѣ все, что мной было уже доказано въ другомъ
мѣстѣ т0 онъ припомнитъ, что двумя главными источниками суевѣрія бываютъ
невѣжество и опасность; что невѣжество лишаетъ людей возможности узнать есте-
ственныя причины явленій, а опасность заставляетъ ихъ обращаться къ причинамъ
сверхъестественнымъ, или — выражая то же положеніе другими словами — чувство
раболѣпія, одно изъ проявленій котораго составляетъ суевѣріе, есть продуктъ уди-
вленія и страха 1 2 * * * * *); и очевидно, что удивленіе находится въ связи съ невѣжествомъ,
а страхъ—съ опасностью 8). Вотъ почему все, что въ какой-либо странѣ увеличиваетъ
общій итогъ случаевъ, возбуждающихъ удивленіе или рождающихъ опасность, ведетъ
прямо и къ увеличенію суевѣрія, а, слѣдовательно, и къ усиленію власти духовенства.
Прилагая эти основныя начала къ Шотландіи, мы будемъ въ состояніи объ-
яснить многіе факты въ исторіи этой страны. Начнемъ съ того, что въ ней явленія
природы представляютъ разительную противоположность съ природой Англіи, и что
они въ гораздо большей степени способны поселить въ невѣжественномъ народѣ
жестокое, упорное суевѣріе* Бури и туманы, мрачное небо, разсѣкаемое частыми
молніями, удары грома, со всѣхъ сторонъ отражающіеся въ безконечныхъ раскатахъ
по горамъ, опасные ураганы, жестокіе шквалы, пробѣгающіе по безчисленнымъ
озерамъ, которыми испещрена вся страна, стремительные горные потоки, прегра-
ждающіе дорогу путешественнику,—все это удивительно/не похоже на тѣ болѣе без-
вредныя и менѣе рѣзкія явленія, среди которыхъ англійскій народъ развивалъ свое
благосостояніе и воздвигалъ 'цвои величественные горр^а. Даже вѣрованіе въ вол-
шебство, мрачнѣйшее изъ суевѣрій, осквернявшихъ когда-либо человѣческій умъ,
не осталось безъ вліянія этихъ особенностей. Справедливо было замѣчено, что, по
старинному англійскому повѣрью, колдунья была жалкая, дряхлая старуха, скорѣе
раба, чѣмъ повелительница злыхъ духовъ, съ которыми она имѣла общеніе, между
тѣмъ какъ въ Шотландія ее возводили въ достоинство мощной волшебницы, упра-
вляющей злыми духами и заставляющей ихъ исполнять ея волю; поэтому она распро-
страняла въ народѣ болѣе глубокій и постоянный страхъ*
Подобное же дѣйствіе имѣли и тѣ безпрерывныя войны, которымъ подверга-
лась Шотландія, и въ особенности опустошенія, произведенныя въ ней англичанами
въ четырнадцатомъ столѣтіи. Какая бы религія ни была господствующею, вліяніе
служителей ея всегда неминуемо усиливается во время долгой и опасной войны,
превратности которой смущаютъ умы людей и заставляютъ ихъ, когда естественныя
средства не помогаютъ, призывать на помощь сверхъестественныя. Въ подобныхъ
случаяхъ значеніе духовенства возрастаетъ, церкви болѣе чѣмъ когда-либо напол-
няются народомъ, и священникъ выступаетъ впередъ, какъ толкователь воли Бо-
жіей: принимая тонъ авторитета, онъ или утѣшаетъ народъ въ понесенныхъ поте-
ряхъ правотой защищаемаго имъ дѣла, или объясняетъ ему, что потери эти отъ
Бога посланы въ наказаніе за грѣхи и въ предостереженіе, что онъ не довольно
тщательно исполнялъ свои религіозныя обязанности, другими словами, что онъ пре-
небрегалъ тѣми обрядами и церемоніями, въ соблюденіи которыхъ самъ священникъ
имѣлъ личный интересъ.
Неудивительно поэтому, что въ четырнадцатомъ столѣтіи, когда бѣдствія Шот-
1) «Исторія Цивилизаціи». Т. 1, стр. 47, 155.
2) Тамъ же. I. I, стр. 274.
4) Мы во должны смѣшивать недоумѣвающее удив-
леніе (’опсіег) съ удивленіемъ сознательнымъ (аПігіі-
гаііоп). Первое есть продуктъ невѣжрегва; второе—
продуктъ знанія. Невѣжество удивляется воображае-
мымъ неправильностямъ природы; паука удивляется
однообразной послѣдовательности въ ея явленіяхъ. Пи-
сатели ранняго времени рѣдко обращаютъ вниманіе на
это различіе, потому что ихъ обманываетъ этимологія
слова (абпГігаГюп). Римляне были поверхноствымн
мыслителями во всемъ, кромѣ юриспруденціи; ошибоч*
ное употребленіе у нпхъ слова <а4тігагІ» и подало
поводъ къ заблужденію, столь обыкновенному у на-
шихъ старинныхъ писателей, вслѣдствіе котораго они
употребляютъ «I абіпіге», вмѣсто <1 хѵовйет».
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ДО КОНЦА XIV СТОЛѢТІЯ.
457
лаждіи достигли высшей степени, духовенство ея болѣе чѣмъ когда-либо процвѣ-
тало; по мѣрѣ того какъ вся страна бѣднѣла, духовное сословіе становилось богаче,
сравнительно съ остальной частью націи. Даже въ пятнадцатомъ и въ первой по-
ловинѣ шестнадцатаго столѣтія, когда промышленность начинала нѣсколько подви-
гаться впередъ, при всемъ улучшеніи состоянія мірянъ, имущество всѣхъ сословій,
взятое вмѣстѣ, какъ увѣряютъ насъ, едва могло равняться богатству духовенства.
Если іерархія предавалась такому грабительству и имѣла такой успѣхъ въ періодъ
сравнительной безопасности, то трудно представить себѣ въ слишкомъ преувеличен-
номъ видѣ,-—какія громадныя жатвы она должна была собирать въ то раннее время,
когда опасность была болѣе близка, когда никто почти не умиралъ, не завѣщавъ
чего-либо церкви; всѣ старались заявить о своемъ уваженіи къ тѣмъ, которые знали
болѣе, чѣмъ ихъ собратія, и молитвы которыхъ могли отвратить зло въ настоящемъ
и обезпечить блаженство въ будущемъ х).
Другимъ послѣдствіемъ этихъ нескончаемыхъ войнъ было то, что большая чѣмъ
когда-либо пропорція населенія стала обращаться къ духовной профессіи, такъ какъ
въ ней одной представлялась какая-нибудь возможность спасенія; монастыри въ
особенности наполнялись людьми, надѣявшимися, хотя часто тщетно, укрыться
въ нихъ отъ огня и меча, которымъ подвергалась Шотландія. Когда въ пятнадцатомъ
столѣтіи страна начала оправляться отъ этихъ опустошеній, то при отсутствіи ма-
нуфактуръ и торговли лучшій путь къ богатству открывало духовное званіе. Слѣ-
довательно, люди мирные искали въ номъ безопасности, а честолюбцы—вѣрнѣйшаго
средства къ достиженію отличій.
Итакъ, отсутствіе болыцихъ городовъ и свойственной имъ отрасли промыш-
ленности сдѣлало духовное сословіе брлѣе-многочислснцѣімъ, чѣмъ оно было бы при
другихъ обстоятельствахъ; и вбёго замѣчательнѣе то,-ѵчто не только возрастала чи-
сленность духовенства, но увеличилось также й расположеніе народа повиноваться
ему. Земледѣльческій классъ, отъ природы и по самымъ условіямъ своей ежедневной
жизни, болѣе суевѣренъ, чѣмъ промышленный, потому, что явленія, съ которыми
онъ имѣетъ дѣло, болѣе таинственны, т. е. труднѣе обобщаются и предъусматрп-
ваются 2). Вотъ почему вообще жители земледѣльческихъ округовъ относятся съ боль-
шимъ уваженіемъ къ ученію своего духовенства, чѣмъ жители округовъ, занимаю-
щихся мануфактурной промышленностью. Поэтому-то возрастаніе городовъ было
главной причиной ослабленія власти духовенства; и тотъ фактъ, что до восемнад-
цатаго столѣтія въ Шотландіи не было ничего, что заслуживало бы имя города,
есть одно изъ многихъ обстоятельствъ, которыми объясняется преобладаніе въ ней
суевѣрія и чрезмѣрное вліяніе шотландскаго духовенства.
Къ этому мы должны прибавить еще одно довольно важное соображеніе. Частью
физическія условія страны, частью слабость короны, а частью и необходимость
для жителей быть постоянно вооруженными для отраженія нападеній извнѣ—спо-
собствовали развитію свойственныхъ первобытному состоянію общества, грабитель-
скихъ наклонностей и, слѣдовательно, упрочивали царство невѣжества. Учились
немногому, не знали ничего. До пятнадцатаго столѣтія въ Шотландіи не было даже
ни одного университета,—первый основанъ былъ въ С.- Андрюсѣ, въ 1412 г. Дво-
ряне въ промежутки времени, когда не бывало войны съ непріятелемъ, занимались
тѣмъ, что дрались между собою и захватывали другъ у друга стада 3). Такъ велико
Ч Они могли употреблять въ дѣло всѣ средства—
страхъ и надежду, устрашеніе и утѣшеніе,—которыя
особенно сильно дѣйствуютъ па человѣческій умъ. Они
посѣщали слабыхъ и легковѣрныхъ, осаждали по-
стели больныхъ и умирающихъ; немного кому удава-
лось покинуть сей міръ, не оставивъ церкви доказа-
тельствъ своей щедрости; духовные учили людей при-
миряться со Всевышнимъ за свои грѣхи, надѣляя бо-
| татствами тѣхъ, которые назывались Его служителями.
; Замѣчательна ровность, съ какою духовенство одного
псиовѣданія обличало всѣ ухищренія другого. Сравни-
, вая ихъ различныя показанія, міряне имѣютъ воз-
можность вполнѣ проникнуть вь ихъ замыслы.
2) Бокль,«Пстор. Цивилизаціи» ,т.І,стр. 157 нслѣд.
3) То были времена, когда, какъ деликатно вы-
ражается шотландскій законовѣдъ, «воровство не было
458
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
было ихъ невѣжество, что даже въ концѣ четырнадцатаго столѣтія не случалось,
говорятъ, примѣра, чтобы шотландскій баронъ былъ въ состояніи подписать свое
имя * *)• А такъ какъ ничего похожаго на среднее сословіе въ то время еще не обра-
зовалось, то изъ этого мы можемъ составить себѣ понятіе о той суммѣ знаній, какою
долженъ былъ обладать весь народъ 2). Всѣ умы должны были быть погружены въ
такой мракъ, который въ настоящее время мы съ трудомъ представляемъ себѣ.
Такъ какъ не занимались ни ремеслами, ни искусствами, требующими умѣнья или
сноровки, то не было ничего, что развивало бы умы людей. Они поэтому оставались
въ состояніи такой безсмысленности и грубости, что одинъ остроумный наблюдатель,
посѣтившій Шотландію въ 1360 году, сравниваетъ ихъ съ дикими,—такъ сильно
поразило его ихъ варварство и ихъ необщительность. Другой писатель въ началѣ
пятнадцатаго столѣтія говоритъ о нихъ то же самое, ставя ихъ на-ряду съ живот-
ными, которыхъ оаи пасли; онъ объявляетъ, что въ Шотландіи больше дикихъ лю-
дей, чѣмъ стадъ.
При такомъ сочетаніи событій и такомъ соединеніи невѣжества съ опасностью
духовенство въ пятнадцатомъ столѣтіи пріобрѣло въ Шотландіи больше вліянія, чѣмъ
въ какой-либо другой странѣ Европы, за исключеніемъ одной Испаніи. А такъ
какъ почти съ такой же быстротой возрастало и могущество дворянства, то есте-
ственно, что корона, совершенно затмеваемая сильными баронами, прибѣгла къ по-
мощи церкви. Въ теченіе пятнадцатаго, а частью и шестнадцатаго столѣтій союзъ этотъ
тщательно поддерживался, и политическая исторія Шотландіи представляетъ исторію
борьбы королей и духовенства противъ громаднаго авторитета дворянъ. Борьба эта,
продолжавшаяся около ста дпестидесяти лѣтъ, окончилц&ь въ 1560 году торжествомъ
аристократіи и ниспроверженіемъ церкви. Но въ силу обстоятельствъ, только-что
разсказанныхъ мною, суевѣріе такъ глубоко запало въ характеръ шотландскаго на-
рода, что духовное сословіе быстро оправилось и подъ новымъ именемъ протестан-
товъ стало не менѣе грозно, чѣмъ было подъ прежнимъ именемъ католиковъ. Спустя
сорокъ три года послѣ водворенія реформаціи въ Шотландіи, Іаковъ VI, вступивъ
на престолъ Англіи, имѣлъ возможность соединить силы южной Шотландіи противъ
непокорныхъ бароновъ сѣверной. Съ этой минуты шотландская аристократія стала
падать, а съ удаленіемъ силы, уравновѣшивавшей вліяніе духовенства, послѣднее
сдѣлалось такъ могущественно, что въ теченіе семнадцатаго и восемнадцатаго сто-
лѣтій было самымъ сильнымъ препятствіемъ прогрессу Шотландіи, и даже до сихъ
поръ оно пользуется такимъ преобладаніемъ, которое совершенно непостижимо для
того, кто не изучалъ тщательно длинный рядъ предшествовавшихъ обстоятельствъ.
Прослѣдить до малѣйшей подробности весь ходъ событій, приведшихъ къ этому
грустному результату, было бы несогласно съ планомъ настоящаго введенія, един-
ственная цѣль котораго—установить обширныя общія начала.
Но для того, чтобы читатель яснѣе представлялъ себѣ весь вопросъ, мнѣ
необходимо будетъ сдѣлать краткій очеркъ отношенія дворянства къ духовенству
въ теченіе пятнадцатаго и шестнадцатаго столѣтій и указать въ немъ, какимъ обра-
зомъ изъ относительнаго положенія этихъ сословій и ихъ непримиримой ненависти
другъ къ другу возникла реформація. Этимъ путемъ мы узнаемъ, что великое про-
тестантское движеніе, имѣвшее въ другихъ странахъ характеръ демократическій,
въ Шотландіи было чисто аристократическое; мы увидимъ также, что въ Шотландіи
реформація, не будучи дѣломъ народа, никогда не имѣла того дѣйствія, какого
наклонностью, свойственной однимъ только низшимъ
и неимущимъ классамъ, но часто входило также и въ
привычки липъ высшаго сословія и землевладѣльцевъ».
*) Въ началѣ XVI столѣтія я нахожу сдѣланное
вскользь замѣчаніе, что «Давидъ Стретонъ, младшій
изъ дома Лорестонъ... не умѣлъ читать». Знаменитый
военачальникъ Вальтеръ Скоттъ Гарденскій женился
| въ 1567 году, и «его брачный договоръ подписанъ но-
таріусомъ, потому что ни на, вв другая сторона не
| умѣла подписать своего именно.
| 2) Одинъ весьма ученый шотландецъ говорить:
і «Шотландія была но менѣе невѣжественна и суевѣрна
I въ началъ XV столѣтія, чѣмъ въ концѣ двѣнадцатаго».
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ДО КОНЦА XIV СТОЛѢТІЯ. 459
можно было ожидать отъ нея и какое она произвела въ Англіи. И въ самомъ дѣлѣ
болѣе чѣмъ очевидно, что между тѣмъ какъ въ Англіи протестантизмъ уменьшилъ
суевѣріе, ослабилъ духовенство, усилилъ вѣротерпимость, однимъ словомъ, доставилъ
торжество свѣтскимъ интересамъ надъ духовными,—въ Шотландіи онъ привелъ къ
результатамъ совершенно противоположнымъ; что въ этой странѣ церковь, измѣнивъ
форму, но не измѣнивъ духа, не только осталась вѣрна своимъ стариннымъ при-
тязаніямъ, но, къ несчастью, сохранила и свое прежнее могущество; и что хотя
могущество это теперь и исчезаетъ, но шотландскіе проповѣдники все-таки вы-
казываютъ вездѣ, гдѣ это только возможно, надменный властолюбивый духъ, свидѣ-
тельствующій о томъ, сколько скрывается еще дѣйствительной слабости въ народѣ,
у котораго такія нелѣпыя притязанія не замолкаютъ сразу, повинуясь голосу общаго
громкаго осмѣянія.
ГЛАВА III.
Состояніе Шотландіи в-ъ XV и XVI столѣтіяхъ»
Въ началѣ XV столѣтія существованіе союза между короной и церковью и
рѣшимость этого союза ниспровергнуть дворянство стали очевидны. Признаки этого
можно ясно прослѣдить въ политикѣ Альбани, который былъ правителемъ королев-
ства съ 1406 по 1419 годъ и поставилъ себѣ главной задачей—покровительство-
вать духовенству и поддерживать его вліяніе. Онъ же первый изъ всѣхъ правите-
лей осмѣлился нанести рѣшительный ударъ аристократіи. Дональдъ, который былъ
однимъ изъ могущественнѣйшихъ шотландскихъ вождей и по владѣнію западными
островами даже пользовался почти совершенной независимостью,—захватилъ граф-
ство Россъ, которое, еслибы онъ былъ въ силахъ удержать его за собой, давало бы
ему возможность открыто противиться коронѣ. Альбани, поддерживаемый церковью,
вступилъ въ его владѣнія въ 1411 году и заставилъ Дональда отказаться отъ за-
хваченнаго графства, лично "подчиниться 'коронѣ и дать заложниковъ въ своемъ бу-
дущемъ образѣ дѣйствій. Такая энергическая выходка со стороны исполнительной
власти была дѣломъ въ высшей степени непривычнымъ въ Шотландіи х); съ этого
начался цѣлый рядъ нападеній на дворянство, которыя окончились тѣмъ, что корона
пріобрѣла въ свою собственность не только Россъ, но и западные острова. Политикѣ,
введенной Альбани, слѣдовалъ съ еще большей энергіей Іаковъ I. Въ 1424 году
этотъ храбрый и дѣятельный государь выхлопоталъ парламентское постановленіе,
обязывавшее многихъ изъ дворянъ предъявить свои хартіи для приведенія въ извѣст-
ность? какія изъ ихъ земель принадлежали прежде коронѣ 2). А чтобы снискать лю-
бовь духовенства, онъ снабдилъ въ 1425 году епископа С.-Андрюсскаго полномочіемъ
возвращать церкви все, что было отчуждено изъ ея владѣній, и въ то же время по-
велѣлъ, чтобы суды оказывали съ своей стороны содѣйствіе къ приведенію въ испол-
неніе этого распоряженія. Это случилось въ іюнѣ, и что мѣра эта была въ связи
съ извѣстнымъ общимъ планомъ, видно изъ того, что предшествовавшей весной ко-
роль внезапно арестовалъ въ парламентѣ, собравшемся въ Пертѣ, слишкомъ два-
дцать человѣкъ знатнѣйшихъ дворянъ, изъ которыхъ четырехъ казнилъ, а у многихъ
конфисковалъ имѣнія. Два года спустя, потребовавъ съ такимъ же вѣроломствомъ
къ себѣ въ Инвернессъ вождей горной Шотландіи, онъ наложилъ и на нихъ ру-
ку,—троихъ казнилъ, а слишкомъ сорокъ человѣкъ подвергъ заключенію въ различ-
ныхъ мѣстахъ государства.
Съ помощью подобныхъ мѣръ и поддерживая церковь съ такимъ же усердіемъ,
Э Чалмерсъ о положеніи дѣлъ до Альбани гово-
ритъ: «Пѣтъ йи малѣйшаго слѣда какой-лпбо попытки
со стороны Роберта II къ ограниченію могущества дво-
рянъ, между тѣмъ какъ своими неосмотрительными
пожалованіями онъ значительно увеличилъ ихъ неза-
висимость. Онъ повидимому и не пробовалъ поднять
королевскую прерогативу изъ того ничтожества, до ко-
тораго довели ее неосторожность и несчастія Давида ІІ>.
О преемникѣ же его, Робертѣ Ш, онъ говорить: «Та-
1 кой кроткій государь и такой слабый человѣкъ не
очѳнь-то былъ способенъ посягнуть на власть другихъ,
если онъ едва могъ сохранить свою собственную».
2) Такъ какъ тѣ, которые имѣли земли отъ ко-
роны, были, если не въ дѣйствительности, то передъ
закономъ, королевскими арендаторами, то въ актѣ
! объявлялось, что «если угодно королю, онъ можетъ
। собрать всѣхъ держащихъ отъ него имѣнія въ казна*
| чѳшіыѳ день и мѣсто, чтобы они показали свои граматы».
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XV II XVI стол.
461
съ какимъ нападалъ на дворянъ,—король думалъ извратить порядокъ вещей, издавна
установившійся, и обезпечить верховное господство трона надъ аристократіей *). Но
онъ не разсчиталъ, что такое дѣло ему не по силамъ. Подобно почти всѣмъ поли-
тикамъ, онъ слишкомъ преувеличивалъ значеніе политическихъ средствъ. Законо-
датель и судья могутъ только на время парализировать зло. но не окончательно
излечить отъ него. Общіе недуги зависятъ отъ общихъ причинъ, а эти послѣднія не-
досягаемы для искусства политиковъ. Они могутъ дѣйствовать на симптомы болѣзни,
самая же болѣзнь не поддается ихъ усиліямъ и слишкомъ часто даже сильнѣе разы-
грывается отъ ихъ леченія. Въ Шотландіи могущество дворянъ было жестокой
язвой, съѣдавшей жизненныя силы націи; но оно подготовлялось задолго; это было
разстройство хроническое; оно вошло въ нравы и могло быть устранено только вре-
менемъ, но не насильственными средствами. Напротивъ того, въ этомъ дѣлѣ, какъ и
во всякомъ другомъ, какъ только политики станутъ стремиться къ великому благу,
они неизмѣнно причиняютъ великое зло. Избытокъ давленія съ одной стороны вы-
зываетъ сопротивленіе съ другой—и равновѣсіе механизма нарушается. Столкновеніе
враждебныхъ интересовъ угрожаетъ опасностью всему строю жизни. Возжигаются
новыя вражды, старыя разыгрываются съ большимъ ожесточеніемъ, и весьма есте-
ственныя несогласія и разногласія усиливаются единственно потому, что люди, при-
званные управлять человѣчествомъ, никакъ не хотятъ понять, что, управляя обшир-
ной страной, они имѣютъ дѣло съ организмомъ до такой степени тонкимъ, слож-
нымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ темнымъ, что какое бы они нп сдѣлали въ немъ измѣненіе,
оно легко можетъ оказаться ему несвойственнымъ. Въ то время какъ они употребляютъ
въ высшей степени рискованныя средства, чтобы защитить или подкрѣпить ту или
другую изъ частей этого организма, онъ обладаетъ несомнѣнной способностью самъ
исправлять свои поврежденія; и чтобы привести эту способность въ дѣйствіе, не-
обходимы только время и свобода, которыхъ слишкомъ часто лишаетъ ее вмѣша-
тельство могущественныхъ личностей.
Такъ было въ Шотландіи въ XV столѣтіи. Попытки Іакова I не удались, по-
тому что это были частныя мѣры, направленныя противъ общихъ золъ. Идеи и по-
нятія, порожденныя длиннымъ рядомъ событій и глубоко укоренившіяся во всѣхъ
умахъ, доставили аристократіи громадное значеніе; и еслибы всѣ до одного дво-
ряне въ Шотландіи были умерщвлены, всѣ замки ихъ срыты до основанія и всѣ
имѣнія конфискованы, то все-таки пришло бы безъ сомнѣнія такое время, когда
преемники ихъ сдѣлались бы болѣе чѣмъ когда-либо вліятельны, потому что привя-
занность къ нимъ ихъ вассаловъ и ихъ слугъ еще болѣе усилилась бы вслѣдствіе
постигшей ихъ несправедливости. Всякая страсть возбуждаетъ противоположное ей
чувство. Сегодняшняя жестокость завтра вызываетъ симпатію* Негодованіе, возбуж-
даемое несправедливостью, способствуетъ болѣе, чѣмъ что-либо другое, къ изглаже-
нію всякихъ неровностей въ жизни и къ поддержанію равновѣсія въ дѣлахъ. Это
отвращеніе къ тиранніи, возбуждая до крайней глубины самыя теплыя чувства чело-
вѣческаго сердца, дѣлаетъ именно невозможнымъ, чтобы тираннія когда-либо окон-
чательно восторжествовала. Вотъ истинно благородная сторона нашей природы, вотъ
то свойство наше, которое, будучи запечатлѣно божественной красотой, обличаетъ
свое неземное происхожденіе и, предохраняя насъ отъ самыхъ отдаленныхъ случай-
ностей, служитъ вѣрнѣйшимъ ручательствомъ, что насиліе никогда окончательно не
восторжествуетъ, что рано или поздно деспотизмъ будетъ всегда ниспровергнутъ и
*) Тайтлеръ подъ 1433 годомъ говоритъ: «Посреди
заботь объ умиротвореніи своихъ сѣверныхъ владѣній
и подавленіи ереси король не забывалъ своего вели-
каго плана ограниченія непомѣрнаго могущества дво-
рянъ». «Однимъ изъ принциповъ этого предпріимчиваго і
государя въ его планахъ возстановленія п упроченія |
своей власти было: поддерживать дружбу съ духовен-
ствомъ, на которое онъ смотрѣлъ, какъ на нѣчто ура-
вновѣшивающее вліяніе дворянства». Лордъ Сомервиллъ
говоритъ, что высшее дворянство «никогда не призы-
валось илп только изрѣдка было призываемо въ Со-
вѣтъ въ царствованіе этого короля».
462 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
что великіе неизмѣнные интересы рода человѣческаго никогда не пострадаютъ отъ
преступныхъ замысловъ людей несправедливыхъ.
Съ Іаковомъ I случилось такъ, что реакція наступила ранѣе, чѣмъ можно было
ожидать ее; она началась еще при его жизни и потому была столько же возмез-
діемъ, сколько и реакціею. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ продолжалъ онъ безнаказанно
угнетать дворянъ; но въ 1436 году они возстали противъ него, и онъ поплатился
жизнью за то обращеніе, которому подвергалъ многихъ изъ нихъ. Теперь могуще-
ство ихъ возрасло съ такой же быстротой, съ какой до того оно падало. На югѣ
Шотландіи были всесильны Дугласы, и одинъ графъ изъ этой фамиліи имѣлъ такіе
же доходы, какъ сама корона. Чтобы показать, что значеніе его равносильно его
доходамъ, онъ явился на свадьбу Іакова II со свитой изъ пяти тысячъ человѣкъ.
И все это были его собственные люди,—народъ вооруженный и рѣшительный, обя-
занный повиноваться малѣйшему приказанію его. И нельзя сказать, чтобы шотланд-
скій дворянинъ долженъ былъ прибѣгать къ какимъ-либо принужденіямъ для дости-
женія такого послушанія. Подчиненность эта была добровольная; она была совер-
шенно въ нравахъ шотландскаго народа. Въ то время и долго спустя считалось
столько же безчестнымъ, сколько и опаснымъ дѣломъ, не принадлежать къ какому-
нибудь обширному клану; и тѣ, которымъ не посчастливилось пристать къ какой-либо
изъ первѣйшихъ фамилій, имѣли обыкновеніе принимать имя какого-нибудь началь-
ника и снискивать его покровительство, посвящая себя его службѣ.
Чѣмъ былъ графъ Дугласъ на югѣ Шотландіи, тѣмъ же были графы Крофордъ
и Россъ на сѣверѣ. И самъ по себѣ каждый изъ нихъ былъ уже страшенъ, а когда
они дѣйствовали заодно, то, казалось, ничто не могло противиться имъ. Поэтому когда
къ половинѣ XV столѣтія бни дѣйствительно соединились, образовавъ тѣсный союзъ
противъ ихъ общихъ враговъ, то трудно было сказать, гдѣ былъ предѣлъ ихъ могу-
ществу и оставалось ли какое-нибудь другое средство для правительства, какъ по-
сѣять между ними раздоръ.
Но въ то же время расположеніе дворянства употребить открытую силу про-
тивъ правительства было еще болѣе увеличено новыми насиліями. Правительство,
вмѣсто того чтобы видѣть для себя предостереженіе въ участи, постигшей Іакова I,
подражало его безцеремоннымъ дѣйствіямъ п слѣдовало той самой политикѣ, которая
привела его къ погибели. Такъ какъ Дугласы были самые могущественные изъ всѣхъ
знатныхъ фамилій, то рѣшено было казнить смертью старшихъ изъ этого рода, а
какъ ихъ нельзя было взять открытой силой, то пришлось умертвить ихъ обманомъ.
Въ 1440 году графъ Дугласъ, пятнадцатилѣтній мальчикъ, и братъ его, еще моложе,
дружески приглашены были въ гости къ королю въ Эдинбургъ. Лишь только они
пріѣхали туда, какъ ихъ схватили по приказанію канцлера, подвергли ихъ будто бы
суду и, признавъ виновными, поволокли на дворъ эдинбургскаго замка, гдѣ бѣднымъ
мальчикамъ отрубили головы *).
Зная чувство пылкой привязанности шотландцевъ къ ихъ вождямъ, трудно
преувеличить послѣдствія этого варварскаго убійства для усиленія того класса, ко-
торый этимъ путемъ надѣялись запугать. Но это ужасное преступленіе было совер-
шено собственно правительствомъ, такъ какъ оно случилось во время несовергаенно-
лѣтія короля. Слѣдующее же затѣмъ убійство было уже дѣломъ самого короля.
Въ 1452 году графъ Дугласъ 2) приглашенъ былъ Іаковомъ П, съ соблюденіемъ
х) Интересный разсказъ объ этомь подломъ про- I
ступленін находится въ Юма «Исторіи дома Дугла- I
совъ», гдѣ выражено сильное, но совершенно ссте- 1
ствѳннов негодованіе. Съ другой стороны, Лесли, они- ;
скопъ Росскій, разсказываетъ о пемъ съ хладнокров-
нымъ равнодушіемъ, характеризующимъ то озлобленіе, ;
которое существовало между дворянами и духовенствомъ
и которое мѣшало ему видѣть преступленіе въ убій- !
ствѣ двоихъ дѣтей. «II послѣ того какъ онъ сѣлъ за
столъ съ правителемъ, канцлеромъ и другими нахо-
дившимися тугъ дворянами, кушанье было вдругъ уне-
сено и подана бычачья голова, которая въ тѣ вре-
мена была знакомъ казни; и немедленно вышесказан-
ный графъ, его братъ Давидъ и Малькольмъ Фле-
мингъ н Кёммерпальда были обезглавлены на дворѣ
эдинбургскаго замка».
2) Двоюродный братъ мальчиковъ, умерщвленныхъ
въ 1440 году.
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XV И XVI стол.
463
всѣхъ формъ вѣжливости, прибыть ко двору, собравшемуся тогда въ Стерлингѣ.
Графъ колебался, но Іаковъ преодолѣлъ его нерѣшимость, пославъ ему охранную
грамату съ королевскою подписью и за большою печатью. Такъ какъ въ этомъ дѣлѣ
замѣшана была честь короля, то всѣ опасенія Дугласа разсѣялись. Онъ поспѣшилъ
въ Стерлингъ, гдѣ и былъ принятъ со всевозможнымъ отличіемъ. Но вечеромъ того
же дня послѣ ужина король разразился противъ него упреками и, внезапно выхва-
тивъ свой кинжалъ, вонзилъ его въ грудь Дугласа. Затѣмъ Грей ударилъ его бер-
дышемъ, и онъ упалъ мертвый на землю въ-присутствіи своего короля, заманившаго
его ко двору, чтобы безнаказанно умертвить его х).
Свирѣпость шотландскаго характера, естественное послѣдствіе невѣжества и
бѣдности этой націи, была безъ сомнѣнія одной изъ причинъ, и весьма важною,
совершенія подобныхъ преступленій, и совершенія ихъ не въ тайнѣ, а средь бѣла
дня и при томъ самыми высшими лицами въ государствѣ. Нельзя однако отрицать,
что другой причиной было вліяніе духовенства; въ интересахъ этого сословія было
унизить дворянъ, и оно нисколько не стѣснялось въ выборѣ средствъ. Чѣмъ больше
отклонялась корона отъ аристократіи, тѣмъ тѣснѣе примыкала она къ церкви. Въ
1443 году изданъ былъ статутъ, имѣвшій цѣлью обезпечить церковную собствен-
ность отъ нападеній со стороны дворянства. И хотя въ тогдашнемъ состояніи обще-
ства легче было издавать законы, чѣмъ исполнять ихъ, но все-таки подобная мѣра
указывала на общее направленіе политики правительства и свидѣтельствовала о
существованіи союза между нимъ и церковью. И дѣйствительно, на счетъ этого
никто не могъ заблуждаться "). Въ теченіе около 20 лѣтъ признаннымъ и довѣреннымъ
совѣтникомъ короны былъ Кеннеди, епископъ С.-Андрюсскіы, который сохранялъ
свою власть до самой смерти своей, послѣдовавшей въ, 1466 году, во время несо-
вершеннолѣтія Іакова III 3). Онъ былъ злѣйшимъ врагомъ дворянъ; онъ питалъ къ
нимъ непримиримую ненависть, тѣмъ болѣе жестокую, что они и ему лично нано-
сили обиды: графъ Крофордъ разграбилъ его земли, а графъ Дугласъ пытался схва-
тить его самого и грозилъ заковать его въ оковы. Это легко могло ожесточить и
самаго кроткаго; а такъ какъ Іаковъ II въ то время, когда онъ убилъ Дугласа, на-
ходился болѣе всего подъ вліяніемъ Кеннеди, то очень можетъ быть, что епископъ
былъ не чуждъ этого гнуснаго дѣла. Во всякомъ случаѣ, онъ нисколько не выражалъ
неодобренія и, когда вслѣдствіе этого убійства, Дугласы и ихъ друзья открыто воз-
стали, Кеннеди подалъ королю ловкій и хитрый совѣтъ, чрезвычайно характеризующій
коварство его сословія. Взявъ въ руки связку стрѣлъ, онъ показалъ Іакову, что,
когда онѣ вмѣстѣ, ихъ переломить невозможно, раздѣленныя же онѣ легко ломаются.
Изъ этого онъ сдѣлалъ такой выводъ, что аристократія можетъ быть ниспровергнута,
если разъединить ея членовъ и затѣмъ уничтожить ихъ одного за другимъ.
Въ этомъ случаѣ онъ былъ совершенно нравъ, насколько дѣло шло объ инте-
ресахъ его сословія; но съ точки зрѣнія интересовъ всей націи очевидно, что мо-
гущество дворянства, несмотря на частое злоупотребленіе его, было вообще бла-
Юмъ, «Домъ Дугласовъ», ѵ. I, рр. 351—353.
Король «поразилъ его въ грудь кинжаломъ. Въ то же
самое мгновеніе Патрикъ Грей ударилъ его но головѣ
бердыпіемъ. Остальные, стоявшіе за дворыо, услыша
шумъ, вошли и также бросились на него; и, чтобы
показать свою привязанность къ королю, нанесли каж-
дый ло удару даже мертвомуСрав. ЬііЫзау оГ Рй-
зсоШе’з «СЬгопісІев оІ 8соі1ав4>, ѵ. I. р. 103. «Онъ
ироязіш» его насквозь; п послѣ того стража, услы-
хавъ въ комнатѣ шумъ, ворвалась и тотчасъ убпла
графа>.
2) Въ 1449 году Іаковъ II «пожаловалъ духо-
венству нѣкоторыя важныя привилегіи, съ тою при-
вязанностью и тѣмъ уваженіемъ, которыя не могъ пе
оказывать ему государь, такъ удачно воспользовав- |
: шіися ого поддержкою и совѣтами, чтобы избавиться
отъ тиранніи своихъ дворянъ> (Тайтлеръ, «Исторія
Шоіландіи», ѵ. Ш). Рядомъ со многими подобными
мѣрами опъ предоставилъ монахамъ Пасли нѣкото-
рыя важныя права по отправленію правосудія, при-
надлежавшія прежде коронѣ. Хартія 13-го января
1451 г.
3) Въ Сомервпля «Метоіге о( іЬе ЗотегѵіІІез»
говорится подъ 1452 годомъ, что страхъ, наведенный
знатными дворянами, «однажды внушалъ его величеству
мысль оставить отечество: по его отговорилъ отъ этого
епископъ Кеннеди, бывшій тогда архіепископомъ С.-
Андрюсскпмъ, совѣтовъ котораго въ то время и позже
опъ въ большей части случаевъ слушался,—чтб, на-
конецъ, п послужило къ большой пользѣ его величества».
464
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
годѣтельно. такъ какъ оно служило единственнымъ оплотомъ противъ деспотизма.
Зло, дѣйствительно причиняемое имъ, было конечно громадно, но зато сословіе это
устраняло другое зло, которое было бы еще страшнѣе. Порождая анархію въ на-
стоящемъ, оно обезпечивало свободу въ будущемъ. Такъ какъ средняго класса еще
не существовало, то въ государствѣ было только три сословія: правительство, духо-
венство и дворянство. Два первыя соединились противъ третьяго, и если бы побѣда
осталась за ними, то нѣть никакого сомнѣнія, что Шотландія подпала бы подъ самое
ужасное иго, какое только можетъ постигнуть какую-либо страну. Ею управляли бы
деспотическій монархъ и неограниченная церковь; держа сторону другъ друга, они
тиранствовали бы надъ народомъ, который хотя и былъ грубъ и невѣжественъ, но
все-таки любилъ извѣстнаго рода свободу, дикую, варварскую; обладать ею было для
него благомъ, а между тѣмъ при такомъ сочетаніи властей онъ навѣрно ли-
шился бы ея.
Но, по счастью, могущество дворянства слишкомъ глубоко укоренилось въ
понятіяхъ народа, чтобы допустить подобную катастрофу. Напрасно Іаковъ 111
старался унизить дворянъ *) и возвысить ихъ соперниковъ—духовенство 2). Ничто не
могло поколебать ихъ значенія; въ 1482 году, видя рѣшимость короля, они соеди-
нились, п такъ велико было ихъ вліяніе на окружающихъ, что они безъ труда овла-
дѣли особой короля и заключили его въ эдинбургскій замокъ.
По освобожденіи его начались новыя ссоры 3), и въ 1488 году знатнѣйшіе изъ
дворянъ собрали войска, сразились съ нимъ на открытомъ полѣ и, разбивъ его,
лишили его жизни. Ему наслѣдовалъ Іаковъ IV, при доторомъ дѣла пошли совер-
шенно тѣмъ же порядкомъ,\т. е. на одной сторонѣ бдѣіо дворянство, на другой—
корона и церковь. Король съ радостью дѣлалъ все, чтб только могло поддержать
духовенство. Въ 1493 году 'онъ провелъ постановленіе, обезпечившее привиле-
гіи епископовъ С.-Андрюсскагб и Глазгоскаго, двухъ важнѣйшихъ епископовъ въ
Шотландіи 4). Въ 1503 году онъ выхлопоталъ отмѣну всѣхъ пожалованій и даровъ,
невыгодныхъ для церкви, были ли они опредѣлены парламентомъ, или Тайнымъ
Совѣтомъ; а въ 1508 году онъ рѣшился, по совѣту Эльфинстона, епископа Абер-
динскаго, на мѣру еще болѣе смѣлую. Этотъ умный и честолюбивый прелатъ заста-
вилъ Іакова предъявить противъ дворянъ нѣкоторыя отжившія уже права, въ силу
которыхъ король могъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, завладѣвать ихъ имѣніями
и во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда владѣльцы имѣли земли отъ короны, получать
почти весь съ нихъ доходъ во время несовершеннолѣтія владѣльца.
Предъявить такія права было нетрудно, но привести ихъ въ дѣйствіе было
невозможно. Дѣйствительно, дворянство въ это время скорѣе усиливалось, чѣмъ
ослабѣвало; послѣ смерти Іакова IV (1513 г.), во время несовершеннолѣтія Іакова V,
оно сдѣлалось такъ могущественно, что правитель Альбани съ отчаянія два раза
слагалъ съ себя управленіе и, наконецъ, совершенно отказался оть него. Онъ окон-
чательно оставилъ Шотландію въ 1524 году, и съ нимъ исчезло повидимому всякое
значеніе исполнительнаго правительства. Дугласы вскорѣ овладѣли особою короля,
принудили Битона, архіепископа С.-Андрюсскаго, сложить съ себя званіе канцлера.
Все управленіе перешло теперь въ ихъ руки; всѣ мѣста были заняты ими или ихъ
приверженцами. Свѣтскіе интересы преобладали, а духовенство было совершенно
*) «Онъ не допускалъ въ себѣ дворянъ и не со-
вѣтовался съ ними объ управленіи королевствомъ >.
(Лесли «Исторія Шотландіи»).
3) См., напримѣръ, грамоту, которая получила
названіе золотой хартіи, вслѣдствіе обширныхъ при-
вилегій, пожалованныхъ ею архіепископу ІІІевецъ отъ
Іакова III, Э'ГО іюля 1480 г.
3) «Король и его министры наносили множество
оскорбленій дворянству... Издана была прокламація,
запрещающая кому бы то 11 было доказываться съ
оружіемъ въ предѣлахъ мѣстопребыванія двора,—чтб
въ то время, когда ни одинъ человѣкъ высшаго класса
пе выходилъ изъ дому безъ многочисленной вооружен-
ной свиты, значило собственно лишить дворянъ вся-
каго доступа къ королю... Его пренебреженіе къ да-
। рянамъ раздражило, не не ослабило ихъ> (Робертсонъ
«Исторія Шотландіи»).
4) Вышесказаннымъ аббатствамъ предписывается
но посылать никакой дани къ Римскому двору.
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XV И XVI стол.
465
отброшено въ тѣнь 1). Однако въ 1528 году случилось одно событіе, не только воз-
вратившее духовному сословію его прежнее положеніе, но даже поставившее его
на такую высоту, которая, какъ оказалось впослѣдствіи, была пагубна для самого
же духовенства. Архіепископъ Витонъ, выведенный изъ терпѣнія распоряженіями
въ высшей степени неблагопріятными для церкви, составилъ заговоръ, съ помощью
котораго Іакову удалось убѣжать отъ Дугласовъ и укрыться въ Стерлингскомъ замкѣ.
Эта внезапная реакція была если не настоящей, господствующей, то безъ сомнѣнія
ближайшей причиной введенія протестантизма въ Шотландіи. Теперь бразды прав-
ленія перешли въ руки церкви, и поэтому самые вліятельные изъ дворянъ были
преслѣдуемы, а нѣкоторые даже удалены изъ государства. Но хотя они лишились
политическаго вліянія, общественное значеніе ихъ сохранилось. У нихъ отняли
почести и богатство; они стали изгнанниками, измѣнниками, нищими, но все-таки
настоящее основаніе ихъ значенія не было потрясено, потому что значеніе это
было результатомъ цѣлаго ряда обстоятельствъ и опиралось на привязанности на-
рода. Вотъ почему дворяне, даже изгнанные и обвиняемые въ государственной -
измѣнѣ,—все-таки были въ состояніи вести трудную, по временамъ успѣшную, борьбуг
съ своими врагами. Жажда мщенія, возбуждая ихъ къ напряженной дѣятельности,
привела къ войнѣ на жизнь или смерть между шотландской аристократіей и шот-
ландской церковью. Этотъ замѣчательный споръ былъ въ нѣкоторой степени про-
долженіемъ того, который начался еще въ первыхъ годахъ XV столѣтія. Но онъ
отличался гораздо большимъ ожесточеніемъ; война продолжалась непрерывно въ те-
ченіе тридцати-двухъ лѣтъ и окончилась лишь торжествомъ дворянъ, которые въ
1560 году совершенно ниспровергли церковь и уничтожили почти однимъ ударомъ
всю шотландскую іерархію. \ \ /
Событія этой борьбы и тѣ превратности,'которымУ подвергались въ продолженіе
ея обѣ стороны, разсказаны, хотя впрочемъ нѣсколько" сбивчиво, въ обыкновенныхъ
нашихъ исторіяхъ, мнѣ же достаточно будетъ указать ыа нѣкоторыя наиболѣе вы-
дающіяся стороны и, не входя въ излишнія подробности, постараться пролить свѣтъ
на общій ходъ этого движенія. Такимъ образомъ намъ станетъ ясно единство всего
плана, и мы увидимъ, что разрушеніе католической церкви было естественнымъ
разложеніемъ ея и что послѣдній актъ этой блистательной драмы далеко не за-
ключалъ въ себѣ натянутой неправильной развязки, а, напротивъ, вполнѣ соотвѣт-
ствовалъ всему предшествовавшему развитію плана.
Когда Іаковъ убѣжалъ въ 1528 году изъ заключенія, ему было шестнадцать
лѣтъ и политика его, — насколько можно сказать, что онъ дѣйствовалъ своимъ
умомъ,—опредѣлялась собственно духовенствомъ, которому онъ былъ обязанъ своимъ
освобожденіемъ и въ которомъ онъ видѣлъ естественныхъ покровителей своихъ.
Главнѣйшимъ совѣтникомъ его былъ епископъ С.-Андрюсскій, и важный постъ канц-
лера, который при Дугласахъ былъ занятъ лицомъ свѣтскимъ, теперь былъ пору-
ченъ архіепископу Глазгоскому. Эти два прелата были всемогущи. Въ то же время
аббатъ Голирудскій былъ сдѣланъ казначеемъ, а епископъ Дёнкельдскій— храните-
лемъ королевской печати. Всѣмъ дворянамъ пзъ дома Дугласовъ, даже лицамъ, со-
стоявшимъ при нихъ, воспрещено было, подъ страхомъ обвиненія въ государствен-
ной измѣнѣ, подходить ближе какъ на двадцать миль къ мѣсту нахожденія двора.
Снаряжена была и послана экспедиція противъ графа Кетнессъ, который претер-
пѣлъ пораженіе и былъ убитъ. Не задолго до этого графъ Ангусъ былъ высланъ
изъ Шотландіи и имѣнія его конфискованы; Дугласы были признаны виновными въ
государственной измѣнѣ; кромѣ того, по распоряженію правительства, были схвачены
}) Полновластіе Дугласовъ продолжалось съ пре- і плѣнника, п въ это время онъ самъ, графъ Ленноксъ
вращенія регентства Альбани до бѣгства короля, въ і п Джорджъ Дугласъ, его внучатный братъ, свободно
1528 году. «Графъ Августъ сплою вступаетъ въ упра- | распоряжаются всѣми дѣлами церкви и государства»
нлеше и держитъ при себѣ короля, какъ какого-нибудь | (Бальфуръ).
Боклъ.—Ивд. Ф. Павлепкова. 30
466
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
и подвергнуты заключенію графъ Ботвель, Гомъ, Максвелль, два Керра и бароны
Бёкклю, Джонстонъ и Польвартъ.
Все это были довольно сильныя мѣры, свидѣтельствовавшія о возстановленіи
могущества церкви. Но готовились еще и другія, не менѣе рѣшительныя. Въ 1531 г.
король лишилъ графа Крофордъ большей части его имѣній, а графа Аргайль заклю-
чилъ въ тюрьму. Даже тѣ дворяне, которые были готовы держать его сторону, нахо-
дились теперь въ опалѣ. Король пользовался всякимъ случаемъ, чтобы оказывать имъ
холодность и въ то же время замѣщать высшія должности ихъ соперниками, ду-
ховными лицами ’). Наконецъ, въ 1532 году онъ задумалъ нанести смертельный
ударъ дворянскому сословію, лишивъ дворянъ значительной доли судебной власти,
которою они пользовались въ своихъ владѣніяхъ и которой они были въ довольно
сильной мѣрѣ обязаны своимъ могуществомъ. По настоянію архіепископа Глазго-
скаго, онъ учредилъ, такъ называемую, Коллегію Юстиціи, гдѣ должны были рѣ-
шаться дѣла, разсматривавшіяся до того времени баронами въ ихъ замкахъ. Поста-
новлено было, чтобы новый трибуналъ состоялъ изъ пятнадцати судей, въ числѣ ко-
торыхъ восемь должно было быть духовныхъ; а еще яснѣе видцы намѣренія короля изъ
того, что предсѣдательствовать въ этомъ судѣ должно было непремѣнно лицо духовное.
Этимъ уже все довершалось, и распоряженіе это вмѣстѣ съ предшествовав-
шими ему мѣрами довело дворянъ почти до изступленія. Ненависть ихъ къ духо-
венству перешла всякія границы; въ своей жаждѣ мщенія они не только бро-
сились въ объятія Англіи и поддерживали тайныя сношенія съ Генрихомъ VIII, но
многіе изъ нихъ зашли ецде далѣе и стали обнаруживать рѣшительную склонность
къ принципамъ реформацій^ Въ такой же точно мѣрѣ, въ какой возрастало ожесто-
ченіе дворянъ противъ духовенства, усиливалось и желаніе ихъ преобразовать
церковь.
Любовь къ новизнѣ, подстрекаемая корыстными побужденіями, дошла до того,
что въ какія-нибудь нѣсколько лѣтъ огромное большинство дворянъ приняло край-
нія протестантскія убѣжденія; они почтп не заботились о томъ, въ какую они впали
ересь, до тѣхъ поръ, пока съ помощью ея имѣли возможность наносить вредъ ду-
ховенству, отъ котораго только-что претерпѣли жесточайшія обиды и съ которымъ
они и отцы ихъ были въ постоянномъ спорѣ въ теченіе почтп полутораста лѣтъ.
Въ то же самое время Іаковъ V примкнулъ тѣснѣе чѣмъ когда-либо къ іерар-
хіи. Въ 1534 году онъ угодилъ церкви, лично присутствовавъ при судѣ надъ нѣко-
торыми еретиками, которые были призваны предъ епископомъ и сожжены. Въ слѣ-
дующемъ году ему предложили, и онъ охотно принялъ, титулъ защитника вѣры,
перенесенный на ного съ Генриха VIII, — послѣдняго считали потерявшимъ право
на такое отличіе по своему безбожію. Какъ бы то ни было, но Іаковъ вполнѣ за-
служивалъ такого названія. Онъ былъ твердой опорой церкви, и его Тайный Совѣтъ
былъ составленъ главнѣйшимъ образомъ изъ духовныхъ, такъ какъ онъ считалъ
опаснымъ давать свѣтскимъ лицамъ слишкомъ большое участіе въ управленіи 2). А въ
Причины, побуждавшія его къ этому, изложены
имъ самимъ въ любопытномъ письмѣ, написанномъ
имъ въ 1541 году къ Генриху ѴШ.— <Мы замѣчаемъ,
пишетъ Іаковъ,—изъ означенныхъ писемъ вашихъ, что,
по дошедшимъ до васъ свѣдѣніямъ, въ послѣднее время
сдѣланы были нѣкоторыя попытки со стороны пашего
духовенства, вредныя нашимъ интересамъ и против-
ныя нашимъ убѣжденіямъ и нашей волѣ. Мы не мо-
жемъ попять, чтб могло заставить васъ повѣрить
этому, и увѣряемъ васъ, что мы во всякое время
встрѣчали въ духовенствѣ пашемъ гнолько пре-
данность и послушаніе; и оно никогда и но доби-
валось ни судебной власти, ни такихъ привилегій,
которыми бы оно пе пользовалось сь самаго учре-
жденія шотландской церкви, которую мы, по совѣсти,
не можемъ нн передѣлывать, ни измѣнять вслѣдствіе
уваженія нашего къ Богу и святой церкви: и мы
сомнѣваемся, чтобы могло произойти отъ этого какое-
либо неудобство для насъ илп нашего королевства,
ибо съ тѣхъ поръ, какъ церковь была впервые учре-
ждена вь нашемъ государствѣ, положеніе духовенства
никогда не измѣнялось; а между тѣмъ оно (духовен-
ство) было всегда послушно нашимъ предкамъ,, а
въ наше время еще болѣе благодарно, чѣмъ было
когда-либо».
2) Сэръ Ральфъ Садлеръ во время своего по-
сольства въ Шотландію (1530—40 г.) пишетъ: «Ко-
роль, насколько я могу замѣтить, для управленія
своимъ королевствомъ по неволѣ долженъ избирать
свопхъ министровъ изъ епнекоповъ и прочаго духо-
венства. Изъ всѣхъ, кого я вижу здѣсь, они одни—люди
съ умомъ и политическимъ тактомъ; король ихъ ко
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XV И XVI стоя. 467
1538 году онъ еще болѣе выказалъ направленіе своей политики, вступивъ во вто-
рой бракъ съ Маріею де-Гизъ и ставъ, такимъ образомъ, въ близкія отношенія съ
самымъ могущественнымъ католическимъ домомъ въ Европѣ; фамилія эта, столько же
честолюбивая, какъ и сильная, поставила себѣ явной задачей поддерживать католи-
ческую вѣру и защищать ее отъ грубыхъ и безцеремонныхъ нападеній, которыя те-
перь направлялись противъ нея въ большей части Европы.
Церковь привѣтствовала это событіе., какъ залогъ добрыхъ намѣреній короля.
Такимъ оно и оказалось на самомъ дѣлѣ. Давидъ Витонъ, который устроилъ этотъ
бракъ, сдѣлался главнымъ совѣтникомъ Іакова на все остальное время его царство-
ванія. Онъ былъ возведенъ въ 1539 году въ званіе архіепископа С.-Андрюсскаго
и по его внушенію воздвигнуто было болѣе чѣмъ когда-либо жаркое гоненіе на про-
тестантовъ. Многіе изъ нихъ бѣжали въ Англію, гдѣ они увеличили собой число
тѣхъ изгнанниковъ, которые только выжидали удобнаго времени, чтобы смертельно
отомстить своимъ врагамъ. Они и ихъ приверженцы въ Шотландіи присоединились
къ недовольнымъ дворянамъ, особенно къ Дугласамъ, которые, далеко превосходя
могуществомъ остальную шотландскую аристократію, были при томъ связаны съ
большею частью знатныхъ родовъ или старинными дружескими отношеніями, или
еще болѣе тѣсными узами общаго интереса въ ограниченіи могущества церкви 1).
Въ этотъ критическій моментъ всѣ взоры были устремлены на Дугласовъ, ко-
торые, найдя пріютъ при дворѣ Генриха ѴІП, теперь обдумывали свои планы 2). Хотя
они еще не смѣли возвратиться въ Шотландію, но ихъ шпіоны и агенты доносили
имъ обо всемъ, что дѣлалось въ ней, и поддерживали ихъ связи съ отечествомъ.
Феодальные договоры, обязательства личнаго подчиненія и другія сдѣлки, отъ кото-
рыхъ, хотя они и не были законны, считалось печестньімъ отказываться,—остава-
лись въ полной силѣ и давали возможность Дугласамъ/Спокойно положиться на мно-
гихъ изъ могущественнѣйшихъ дворянъ; при томъ самимъ же этимъ дворянамъ уже
надоѣло преобладаніе духовенства, и они съ радостью привѣтствовали надежду на
какую-либо перемѣну, отъ которой можно было ожидать ослабленія его власти 3).
всемъ слушается. Л если опи проповѣдаютъ что-нибудь
такое, что хоть сколько-нибудь можетъ коснуться ихъ,
пли замѣтятъ, что король повидимому доволенъ чѣмъ-
нпбудь подобнымъ, то тотчасъ начинаютъ напоминать
ему. какимъ хорошимъ католикомъ былъ его отецъ, н
наговорятъ ему такъ много и все такихъ хорошихъ
вещей, что съ помощью этой политики (управляя также
и всѣми его дѣлами) опп вертятъ имъ, какъ хотятъ
’) Утверждаютъ о Дугласахъ, что въ началѣ
XVI столѣтія они «по своимъ связямъ и своему мо-
гуществу были равносильны половинѣ всего дворян-
ства Шотландіи».
Генрихъ VIII <въ і 532 году прямо требо-
валъ, въ числѣ другихъ условій мира, чтобы, согласно
его обѣщанію, Дугласъ былъ возвращенъ. Съ своей і
стороны, король Генрихъ осыпалъ ихъ всевозможными
благедѣніями и почестями, и сдѣлалъ обоихъ, графа
и сэра Джорджа, членами своего Тайнаго Совѣта»
(Юмъ, «Исторія дома Дугласовъ»). Іаковъ смотрѣлъ
съ неудовольствіемъ ва всякія сношенія, происходив-
шія .между Дугласами и другими его подданными; но
ему пеш зможно было воспрепятствовать имъ. См.
письмо, которое онъ написалъ къ сэру Томасу Эрскипу,
чачіін.ппщееея такъ: «Скажу вамъ чистосердечно, знаете
ли, что здѣсь поговариваютъ, будто вы имѣли разго-
воръ съ Джорджемъ и Арчибальдомъ Дугласами въ
Англіи, а эго иротшяіо тому, что я приказывалъ вамъ !
п что вы мнѣ обѣщати, когда мы разставались». і
«Дугласы ш:е еще пользова шсь большою ми- I
лостью н щедрымъ содержаніемъ въ Англіи; хотя по- |
мяпально могущество ихъ но существовало, по оно
далеко пе было сокрушено; пхъ шпіоны проникали
всюду, слѣдовали за королемъ во Францію и сооб-
щали о самыхъ негласныхъ дѣйствіяхъ ого; феодаль-
ные союзы и обязательства лпчяаго подчиненія все
еще существовали и связывали съ нпмп многихъ изъ
самыхъ сильныхъ дворянъ; между тѣмъ сила королев-
скаго правительства и предпочтеніе духовенства свѣт-
скимъ лордамъ надоѣли этимъ гордымъ вождямъ и за-
ставили пхъ надѣяться на возвращеніе ихъ вліянія,
, въ случаѣ если произойдетъ какая бы то ли была нѳ-
Цремѣна» (Тайтлеръ, «Исторія Шотландіи»). Эти обя-
зательства личнаго подчиненія, замѣченныя Тайтле-
I ромъ, были въ числѣ самыхъ дѣйствительныхъ средствъ,
которыми шотландскіе дворяне обезпечивали свою
1 власть. Безъ нихъ трудно было бы для аристократіи
। противостоять соединенной силѣ короны и церкви. По
этой причинѣ опи заслуживаютъ особеннаго вниманія.
Такъ какъ подобные «договоры» были чрезвычайно
полезны для сохраненія равновѣсія власти и не до-
пускали шотландскую монархію сдѣлаться деспотиче-
скою, то противъ нихъ бывали конечно парламентскія
постановленія. Подобныя узаконенія, не согласныя съ
духомъ времени и съ потребностями общества, не про-
извели никакого дѣйствія вообще на обычай, хотя въ
силу ихъ и подверглись наказанію многія отдѣльныя
личности. Обязательство личнаго подчиненія все ещз
часто встрѣчаюсь до 1620 или 1630 года, когда
быль довершенъ великій соціальный переворотъ, вслѣд-
ствіе котораго власть аристократіи была подчинена
власти церкви. Тогда вслѣдствіе измѣнившихся об-
стоя! ольегвъ безъ малѣйшаго труда, даже само собою,
совершилось то, чего тщетно пыталось достпгпуіь за-
30*
468
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
При такомъ сочетаніи партій въ странѣ, гдѣ вслѣдствіе отсутствія средняго
класса народъ ничего не значилъ и только шелъ всюду, куда бы ни повели его,—
ясно, что успѣхъ или неуспѣхъ реформаціи зависѣлъ чисто отъ успѣха или неуспѣха
дворянъ. Они жаждали мести, и весь вопросъ былъ только въ томъ, будутъ ли они
съ силахъ утолить эту жажду. Противъ нихъ была корона и церковь; за нихъ—
феодальныя преданія, духъ кланнаго быта, слѣпое повиновеніе ихъ безчисленныхъ
приверженцевъ и—что не менѣе было важно—та любовь къ извѣстнымъ именамъ и
семейнымъ связямъ, которая и теперь еще замѣчательно развита въ шотландскомъ
народѣ, а въ XVI столѣтіи имѣла непомѣрное вліяніе.
Но вотъ наступила минута дѣйствовать. Въ 1540 году правительство, во всемъ
подчиняясь духовенству, издало новые законы противъ протестантовъ, интересы ко-
торыхъ были въ то время тождественны съ интересами дворянъ. Въ силу этихъ ста-
тутовъ ни одно лицо, даже только подозрѣваемое въ ереси, не могло на будущее
время занять никакой должности; и всѣмъ католикамъ воспрещалось давать пріютъ
у себя или оказывать благосклонность къ людямъ, исповѣдовавшимъ новыя рели-
гіозныя убѣжденія. Духовенство, въ упоеніи отъ такой побѣды и томимое желаніемъ
скорѣе уничтожить своихъ давнишнихъ соперниковъ, теперь прибѣгло еще къ боль-
шимъ крайностямъ. Такъ непреклонна была его злоба, что въ томъ же самомъ году
оно представило Іакову списокъ, содержавшій слишкомъ триста именъ членовъ шот-
ландской аристократіи, которыхъ оно формально обвиняло въ ереси и на этомъ
основаніи признавало заслуживающими смертной казни щ предлагало коронѣ кон-
фисковать ихъ имѣнія х). х
Эти заносчивые и мстительные люди не знали/ какую бурю они вызывали
этимъ, и что буря эта должна была вскорѣ разразиться надъ ихъ же головами и
привести въ смятеніе ихъ самихъ и ихъ церковь. Мы не имѣемъ конечно повода
думать, чтобы болѣе благоразумный образъ дѣйствія могъ окончательно спасти шот-
ландскую іерархію; напротивъ, весьма вѣроятно, что судьба ея была уже рѣшена;
общія причины, управлявшія всѣмъ этимъ движеніемъ, дѣйствовали такъ долго, что
въ то время уже едва-ли была какая возможность совладать съ ними. Но если мы и
признаемъ за достовѣрноѳ, что надъ шотландскимъ духовенствомъ уже произнесенъ
былъ приговоръ, то тѣмъ не менѣе достовѣрно, что заносчивость его сдѣлала его
паденіе болѣе тяжкимъ, возбудивъ страсти его противниковъ. Правда, что пороховой
проводникъ былъ уже проложенъ къ нему; что враги его доставили горючіе матеріалы
и все было готово для взрыва,—но въ послѣдній моментъ само же духовенство
поднесло фитиль къ проводнику и взорвало мину на свою же погибель.
Въ 1542 году дворяне, видя, что духовенство и корона настойчиво стремятся
погубить ихъ, отважились на самый рѣшительный шагъ, какой имъ случалось когда-
либо дѣлать, и начали съ того, что отказались принять, по приказанію Іакова, участіе
въ войнѣ противъ Англіи. Они знали, что война, въ которую желали вовлечь ихъ,
была затѣяна духовенствомъ съ двоякою цѣлью: прервать всякія сношенія съ изгнан-
никами и остановить вторженіе въ Шотландію еретическихъ убѣжденій. Обоимъ на-
мѣреніямъ этимъ они рѣшились не давать осуществиться щ собравшись въ откры-
томъ полѣ, единогласно объявили, что они не вторгнутся въ Англію. Угрозы, увѣ-
щанія—все было напрасно. Іаковъ, взбѣшенный, возвратился восвояси и приказалъ
распустить войска. Но едва успѣлъ онъ удалиться, какъ духовенство попыталось со-
брать снова войска и заставить ихъ дѣйствовать противъ непріятеля. Нѣкоторые
изъ пэровъ, устыдившись того, что они какъ бы изъ трусости покинули короля,—
конодательстио. Дворяне, постепенно теряя свое зна-
ченіе, упали духомъ и перестали прибѣгать къ тѣмъ
изворотамъ, которыми они такъ долго поддерживали
значеніе своего сословія. Договоры лпчнаго подчине-
нія съ каждымъ годомъ становились рѣже, и едва-ли
быль хоть одинъ примѣръ ихъ послѣ 1661 года.
1) Этотъ документъ былъ найденъ между бумагами
короля послѣ его смерти: тогда же оказалось, что
изъ шестисотъ именъ на листѣ болѣе трехсотъ при-
надлежало къ знатнѣйшему дворянству. По словамъ
Ватсона, списокъ этотъ «былъ названъ кровавымъ
свиткомъ».
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XV И XVI стол.
469
повидимому, готовы были выступить въ походъ. Остальные же отказались; а пока
они находились въ этомъ состояніи нерѣшимости и смятенія, англичане, захвативъ
ихъ расплохъ, вдругъ напали на ихъ разстроенные ряды, окончательно разбили
ихъ и взяли огромное число плѣнныхъ. Въ этомъ безславномъ дѣлѣ десять тысячъ
человѣкъ шотландскаго войска бѣжали передъ тремя стами англійскими всадни-
ками. Извѣстіе объ этомъ, дошедшее до Іакова въ то время, когда онъ еще не могъ
опомниться отъ непослушанія дворянъ, слишкомъ сильно поразило его гордую и
впечатлительную натуру. Онъ не перенесъ этого двойного удара; изнурительная го-
рячка истощила его силы и онъ впалъ въ продолжительное безчувствіе и, не при-
нимая никакихъ средствъ успокоенія, умеръ въ декабрѣ 1542 г., оставивъ престолъ
малолѣтней дочери своей Маріи, въ царствованіе которой суждено было оконча-
тельно рѣшиться великому спору между аристократіей и духовенствомъ*
Вліяніе дворянства усилилось вслѣдствіе смерти Іакова V, а еще болѣе вслѣд-
ствіе того, что духовенство уронило себя во всеобщемъ мнѣніи, затѣявъ войну,
имѣвшую такой безславный исходъ *). Дворянская партія еще болѣе была подкрѣплена
присоединеніемъ къ пей изгнанниковъ, которые, лишь только дошли до нихъ добрыя
вѣсти, стали готовиться оставить Англію. Въ началѣ 1543 года Ангусъ и Дугласъ
возвратились въ Шотландію, а за ними вскорѣ послѣдовали и другіе дворяне, боль-
шая часть которыхъ выдавала себя за протестантовъ, хотя, какъ ясно доказали по-
слѣдствія, протестантизмъ былъ внушенъ имъ любовью къ грабежамъ и жаждою
мщенія. Покойный король въ завѣщаніи своемъ назначилъ кардинала Витона опе-
куномъ королевы и правителемъ государства. Витонъ, человѣкъ хотя безъ всякихъ
правилъ, но весьма способной, пользовался уваженіемъ, какъ глава шотландской
церкви; онъ былъ архіепискойрмъ С.-Андртосскимъ и /ітримасомъ королевства. Но
дворянская партія вдругъ арестовала его, лишила^вапія правителя и поставила на
его мѣсто графа Аррана, который выдалъ^ себя въ то время за рьянаго проте-
станта, хотя впослѣдствіи и перемѣнилъ свои убѣжденія, когда представился къ тому
удобный случай 2). Между сторонниками новаго ученія самыми могущественными
были графъ Ангусъ и Дугласы. Они высвободились теперь изъ пятнадцатилѣтняго
изгнанія, съ нихъ сняли обвиненіе въ государственной измѣнѣ и возвратили имъ
имѣнія и почести. Было очевидно, что не только исполнительная, но и законода-
тельная власть перешла отъ духовенства къ аристократіи; и тѣ, кому она досталась,
не особенно бережно обращались съ нею. Лордъ Максвелль, одинъ изъ самыхъ дѣя-
тельныхъ членовъ дворянской партіи, подобно многимъ дворянамъ, въ своемъ рвеніи
досадить іерархіи принялъ принципы реформаціи Весною 1543 года онъ по-
лучилъ соизволеніе графа Аррана, правителя Шотландіи, на одно предложеніе, сдѣ-
«Пораженіе это было до того постыдно, осо- |
бенно для духовенства, которое подговорило короля і
кь этой попыткѣ, обѣщая ему великій успѣхъ; въ немъ '
представлялось такое очевидное доказательство гнѣва
Всевышняго, Который посредствомъ своего провидѣ-
нія сражался противъ нихъ,—что всѣ люди были по-
ражены страхомъ и изумленіемъ; нѣкоторое время епи-
скопы стыдились показываться» (Стевопсоиъ, «Исто-
рія шотландской церкви»).
2) Опъ пе допускалъ духовенства къ власти, і
20-го марта 1543 г. сэръ Ральфъ Садлеръ пишетъ къ
Генриху ѴШ: Сэръ Джорджъ Дугласъ «ввелъ меня
въ присутствіе Совѣта, гдѣ я нашелъ большое число
дворянъ и другихъ за длиннымъ столомъ, а нѣкото-
рыхъ стоящими, яо между ними не было пи одного
епископа, ни священника. На верхнемъ копцѣ стола
сидѣлъ правитель».
8) Но онъ такъ же, какъ п другіе дворяне, не і
зналъ этихъ ученій, да и не заботился о нихъ; |
кромѣ того это былъ человѣкъ продажный. Въ апрѣлѣ |
1543 года сэръ Ральфъ Садлеръ пишетъ къ Генри-
ху ѴШ: «II лордъ Масквелль сказалъ мнѣ наединѣ,
что опъ въ саномъ дѣлѣ нуждается въ серебрѣ и
ни откуда по ждетъ помощи, кромѣ какъ отъ вашего
величества, о чемъ онъ и просилъ меия довести до
свѣдѣнія. Я спросилъ его, сколько ему нужно? п онъ
отвѣчалъ—300 фунтовъ; за это, сказалъ онъ,—такъ
какъ ваше величество, въ то время когда онъ былъ
у вашей милости, оказывали ему больше довѣрія, чѣмъ
другимъ плѣнникамъ вашего величества,—онъ надѣется
оказать вамъ не меньшую услугу, чѣмъ любой изъ
нихъ; что вмѣстѣ съ ними онъ окажетъ вамъ ту услугу,
что въ случаѣ удачной войвы вы легко завоюете ко-
ролевство; самъ же по себѣ онъ вручитъ вамъ,
при вступленіи вашей арміи, ключи королев-
ства съ западной границы, такъ какъ всѣ та-
мошніе укрѣпленныя мѣста находятся въ еш
завѣдываніи. Я тотчасъ предложилъ ему написать къ
лорду Сёффолкъ о присылкѣ ему 100 фунтовъ, но
онъ сказалъ мнѣ, что подождетъ до тѣхъ поръ, пока
пе получитъ на это отвѣта отъ вашего величества».
470
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
данное имъ лордамъ пунктовъ (Ьогсіз оГ ѢЬе Агіісіез), обязанностью которыхъ было
излагать по пунктамъ мѣры, подлежащія обсужденію парламента. Предложеніе за-
ключалось въ томъ, чтобы позволено было народу читать Библію въ шотландскомъ
или англійскомъ переводѣ. Духовенство направило всѣ свои силы противъ того, что
оно справедливо считало весьма опаснымъ для себя шагомъ, такъ какъ дѣло шло
объ уступкѣ одному изъ основныхъ принциповъ протестантизма. Но все было на-
прасно. Приливъ начался и отклонить его не было возможности. Предложеніе было
принято лордами пунктовъ и вліяніемъ ихъ внесено въ парламентъ. Оно прошло
въ немъ, получило согласіе правительства и было среди сѣтованій духовенства
объявлено со всевозможною формальностью у креста на рынкѣ Эдинбурга.
Но едва удалось дворянамъ достигнуть этого перевѣса, какъ они начали ссо-
риться между собой. Они рѣшились ограбить церковь, но не могли согласиться въ
томъ, какимъ образомъ они будутъ дѣлить награбленное. Они не могли также рѣ-
шить, какой лучшій планъ дѣйствія,—одни были въ пользу немедленнаго открытаго
раскола, между тѣмъ какъ другіе хотѣли подвигаться впередъ осторожно, выжидая
удобнаго времени и постепенно ослабляя іерархію. Самые дѣятельные и ревностные
изъ дворянъ были извѣстны подъ именемъ Англійской партіи, вслѣдствіе ихъ тѣсной
связи съ Генрихомъ VIII, отъ котораго они получали денежныя пособія. Но въ
1544 году возгорѣлась война между Англіей и Шотландіей, и духовенство, имѣя
во главѣ своей архіепископа Витона, такъ удачно пробудило старинное чувство на-
ціональной вражды къ англичанамъ, что дворянство было вынуждено на время
уступить и стало дѣйствовать въ пользу союза съ Франціей. Казалось даже въ те-
ченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, будто духовенство и аристократія, забывъ свою заста-
рѣлую вражду, готовы были соединить свои силы и дѣйствовать заодно.
Но это было не болѣе йакъ мимолетное обольщеніе. Вражда между этими двумя
сословіями была непримирима х). Весной 1545 года вліятельнѣйшіе изъ протестант-
скихъ дворянъ составили заговоръ съ цѣлью умертвить архіепископа Витона, кото-
раго они болѣе чѣмъ кого-либо ненавидѣли, частью потому, что онъ былъ главой
церкви, а частью и потому, что это былъ самый способный и самый беззастѣнчивый
изъ ихъ противниковъ. Лрошелъ однако цѣлый годъ прежде, чѣмъ имъ удалось осу-
ществить свое намѣреніе; только въ маѣ 1546 года Лесли, одинъ молодой баронъ,
въ сообществѣ съ лордомъ Грепджъ и нѣкоторыми другими, ворвался въ С.-Андрюсъ
и умертвилъ примаса въ его собственномъ замкѣ.
Легко можно представить себѣ, съ какимъ ужасомъ услыхало духовенство объ
этомъ варварскомъ поступкѣ. Но заговорщики, ничѣмъ не смущаемые и полагаясь
на поддержку могущественной партіи, оправдывали свой поступокъ, овладѣли С.-Ан-
дрюсскимъ замкомъ и готовились защищать его до послѣдней крайности. Въ рѣши-
мости этой они были поддерживаемы замѣчательнѣйшимъ человѣкомъ, теперь впервые
явившимся предъ лицо общества,—человѣкомъ, который удивительно соотвѣтствовалъ
духу своего времени и которому суждено было сдѣлаться одною изъ наиболѣе за-
мѣтныхъ личностей этой безпокойной эпохи.
Этотъ человѣкъ былъ Джонъ Ноксъ. Сказать, что онъ былъ неустрашимъ
и неподкупенъ, что онъ отстаивалъ съ неослабнымъ рвеніемъ то, въ чемъ видѣлъ
истину, и что онъ предавался съ
чемъ полагалъ высшую изъ всѣхъ
неутомимой энергіей преслѣдованію того, въ
цѣлей,—значитъ отдать лишь должную сира-
*) Бюкапанъ передаетъ весьма любопытный раз-
говоръ между регентомъ и Дугласомъ, происходившій
повидимому въ 1544 и 1545 году: «Когда правитель
сталъ плакаться па свое одиночество и жаловался,
что онъ покинутъ дворянствомъ, Дугласъ представилъ
ему, что въ этомъ его вина, а не дворянъ; что они
употребляютъ все имущество и жизнь на защиту об-
щественнаго блага, а онъ, презрѣвъ ихъ совѣтъ, во
всемъ руководится духовенствомъ, которое, въ лю-
дяхъ—робкое, а дома—безпокойное, не нрпвимая уча-
стія ни въ какихъ опасностяхъ, злоупотребляетъ пло-
дами чужого труда для своего удовольствія. «Изъ этого
источника произошло между тобою и знатью недораз-
умѣніо, которое (при взаимномъ недовѣріи) служитъ
самой большой помѣхой веденію дѣлъ».
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XV И XVI стол.
471
ведхивость многимъ благороднымъ свойствамъ, которыми онъ безспорно обладалъ*
Но съ другой стороны онъ былъ суровъ, непреклоненъ и нерѣдко грубъ; онъ не
только былъ нечувствителенъ къ человѣческому страданію, но даже могъ обращать
его въ шутку и упражнять надъ нимъ свой грубый, хотя и неистощимый юморъ;
при томъ онъ до такой степени любилъ повелѣвать, что, не будучи въ состояніи
перенести ни малѣйшаго сопротивленія, попиралъ ногами все, что преграждало ему
путь или хоть на минуту становилось препятствіемъ его дальнѣйшимъ стремленіямъ.
Конечно, вліяніе Нокса на успѣхъ реформаціи было грубо преувеличено исто-
риками, которые слишкомъ склонны приписывать громадные результаты дѣятель-
ности отдѣльныхъ личностей, упуская изъ виду тѣ важныя общія причины, безъ
которыхъ дѣятельность эта не принесла бы никакого плода. Но онъ все-таки сдѣлалъ
болѣе, чѣмъ кто-либо другой 1), хотя собственно важный для Шотландіи періодъ его
жизни объемлетъ 1559 годъ и послѣдующее за нимъ время, когда торжество проте-
стантизма было уже обезпечено и когда онъ только пожиналъ плоды того, что было
сдѣлано во время его продолжительнаго отсутствія изъ отечества. Самая первая по-
пытка его была чистымъ промахомъ съ его стороны и повредила его репутаціи
болѣе, чѣмъ какое-либо изъ его дѣйствій. Я говорю о данномъ имъ согласіи на же-
стокое убійство архіепископа Витона въ 1546 году. Онъ отправился въ Андрюсскій
замокъ, заперся въ немъ съ убійцами и готовился раздѣлить ихъ судьбу и въ на-
писанномъ имъ послѣ сочиненіи открыто оправдывалъ все сдѣланное ими 2). Въ этомъ
ничто не можетъ извинить его; и’ мы узнаемъ, не безъ чувства удовлетворенной
справедливости, что въ 1547 году, по взятіи замка французами, съ Ноксомъ было
поступлено чрезвычайно стрбго,—-его заставили работать на галерахъ, откуда онъ
былъ освобожденъ только въ 1549 году.
Слѣдующія пять лѣтъ Ноксъ провсліГ въ Англіи, откуда въ 1554 году отпра-
вился въ Діеппъ. Затѣмъ онъ путешествовалъ за границей и только осенью 1555 года
возвратился въ Шотландію, гдѣ былъ радушно встрѣченъ знатнѣйшими дворянами и
пхъ приверженцами. Но по какой-то причинѣ, которая не была достаточно выяс-
нена, вѣроятно вслѣдствіе нежеланія играть второстепенную роль между этими гор-
дыми повелителями,—въ іюнѣ 1556 года онъ снова оставилъ Шотландію и отпра-
вился въ Женеву, гдѣ ему предложили завѣдываніе одной конгрегаціей. Онъ остался
за границей до 1559 года. Къ этому времени борьба собственно была почти окон-
чена,—до такой степени дворяне успѣли подрыть основанія церкви.
Такъ какъ все было давно подготовлено, то теперь конечно дѣло шло быстро.
Бъ 1554 году вдовствующая королева наслѣдовала Аррану въ регентствѣ. То была
Марія де-Гизъ, на бракъ которой съ Іаковомч* V мы указывали выше, какъ на
одно изъ проявленій преобладавшей въ то время политики. Предоставленная самой
себѣ, она по всей вѣроятности мало сдѣлала бы зла; но ея вліятельное и нетерпимое
семейство уговаривало ее подавлять еретиковъ; а, слѣдовательно, въ связи съ тѣмъ же
планомъ и смирять дворянъ. По совѣту своихъ братьевъ, герцога де-Гизъ и карди-
нала де-Лорренъ, она вознамѣрилась въ 1555 году учредить постоянную армію,
чтобы замѣнить ею войска, состоявшія изъ феодальныхъ бароновъ и ихъ вассаловъ.
Подобная вооруженная сила, получая содержаніе отъ короны, была бы въ полномъ
ея распоряженіи; но дворяне, видя, къ чему это должно было повести, заставили
1) Незадолго до своей смерти онъ сказалъ съ
благородной и справедливой гордостью: «Хотя этотъ
неблагодарный вѣкъ не будетъ знать, чѣмъ я былъ
для моей родины, но грядущіе вѣка вынуждены бу-
дутъ засвидѣтельствовать объ истинѣ». Достойно со-
жалѣнія, что до сихъ поръ еще не издано ни одной
порядочной книги о жизни Нокса. Сочиненіе Макъ-Кри
есть безразличное неосновательное восхваленіе, которое,
вызвавъ реакцію мнѣнія, повредило репутаціи вели-
каго реформатора. Съ другой стороны, епископальная
секта въ Шотландіи чрезвычайно слѣпа къ истинному
величію этого человѣка и не въ состояніи различать
порывистую любовь къ истинѣ и врожденную въ немъ
благородную неустрашимость,
2) Въ своей «Исторіи реформаціи» онъ называетъ
дѣло это «богоугоднымъ* и говоритъ: «вотъ дѣянія
нашего Бога»; чтб по-просту значитъ называть Бога
убійцею. Но какъ бы ни было дурно это дѣло, я все-
таки соглашаюсь съ Макъ-Кри, что нѣтъ несомнѣннаго
основанія считать Нокса участникомъ этого убійства.
472 исторія цивилизаціи въ Англіи.
Марію отказаться отъ этого намѣренія на томъ основаніи, что они и вассалы ихъ
въ состояніи защищать Шотландію и безъ дальнѣйшей помощи. Слѣдующей попыт-
кой ея было упрочить интересы католической партіи, чего она достигла въ 1558 году,
выдавъ свою дочь за дофина. Это усилило вліяніе Гизовъ, которыхъ племянница,
бывшая уже въ то время королевой шотландской, должна была при обыкновенномъ
ходѣ дѣлъ сдѣлаться также и королевой французской. Они понуждали сестру свою
прибѣгнуть къ крайнимъ мѣрамъ, обѣщая ей помощь французскихъ войскъ. Съ дру-
гой стороны, шотландское дворянство держалось твердо и готовилось къ борьбѣ. Въ
декабрѣ 1557 года многіе изъ дворянъ заключили договоръ, которымъ обязывались
стоять другъ за друга и сопротивляться тиранніи, которою угрожали имъ х). Они
приняли теперь названіе лордовъ конгрегаціи и посылали всюду своихъ агентовъ
собирать подписи лицъ, желавшихъ преобразованія церкви. Кромѣ того они списа-
лись съ Ноксомъ, проповѣдь котораго, отличавшаяся популярнымъ слогомъ, могла,
по ихъ мнѣнію, быть полезна для возбужденія народа къ возстанію * 2). Онъ находился
въ то время въ Женевѣ и пріѣхалъ въ Шотландію только въ маѣ 1559 года, когда
исходъ предстоявшаго спора едва-ли подлежалъ уже какому-либо сомнѣнію,—такъ
успѣшно усиливали дворяне свою партію и такъ много имѣли они причинъ разсчи-
тывать на помощь Елизаветы.
Черезъ девять дней по прибытіи Нокса въ Шотландію нанесенъ былъ пер-
вый ударъ духовенству. 11-го мая 1559 года онъ говорилъ проповѣдь въ Пертѣ.
Послѣ проповѣди произошло смятеніе, и народъ’ сталъ, грабить церкви и разорять
монастыри. Королева-правительница, собравъ на скорую руку войска, двинулась къ
городу. Но дворянство бьъір уже наготовѣ. Графъ Глеикернъ присоединился къ кон-
грегаціи съ двумя тысячами*двумя стами'человѣкъ/ и кончилось тѣмъ, что заклю-
ченъ былъ трактатъ, по которому обѣ стороны согласились разоружиться, подъ усло-
віемъ, чтобы никто не былъ подвергнутъ наказанію за то, что случилось уже. Но
таково было всеобщее настроеніе умовъ, что миръ былъ невозможенъ. Черезъ нѣ-
сколько дней война снова возгорѣлась, и на этотъ разъ исходъ былъ болѣе рѣши-
тельный. Пертъ, Стерлингъ и Линлитго уже были въ ихъ рукахъ. Королева-прави-
тельница отступала передъ ними. Она очистила Эдинбургъ, и 29 іюня протестанты
торжественно вступили въ столицу.
Все это было сдѣлано въ семь недѣль, съ того дня, какъ первый разъ вспых-
нуло возмущеніе. Обѣ стороны теперь готовы были вступить въ переговоры для
выигрыша времени; королева-правительница—въ ожиданіи помощи отъ Франціи, а
лорды—отъ Англіи. Но Елизавета медлила высылкой помощи, и протестанты, про-
ждавъ нѣсколько мѣсяцевъ, пришли къ убѣжденію, что имъ слѣдуетъ предпринять
что-нибудь рѣшительное прежде, чѣмъ придетъ помощь. Въ октябрѣ знатнѣйшіе
пэры, имѣя во главѣ своей герцога Частельгерольтъ, графа Арранъ, графа Аргайль
и графа Гленкернъ, съѣхались въ Эдинбургъ. Собрался большой митингъ, предсѣ-
дателемъ котораго былъ назначенъ лордъ Рётвенъ, и на митингѣ этомъ королева-
правительница была торжественно устранена отъ управленія на томъ основаніи, что
она шла противъ «славы Всевышняго, противъ свободы королевства и противъ
благосостоянія дворянства» 3).
х) Этотъ договоръ, составляющій важную эпоху
въ исторій Шотландіи, помѣченъ 3-мъ числомъ де-
кабря 1557 года,
3) Китъ называетъ его «трубачомъ возмущенія»,
чѣмъ онъ несомнѣнно и былъ, п чтб дѣлаетъ ему боль-
шую честь, хотя вѣжливый еппскопъ и ставитъ ему
это въ упрекъ. Шотландцы, еелпбы не ихъ тогда
непокорный духъ, давно лишились бы уже своей сво-
боды».
3) При этомъ случаѣ «Джонъ Впллокъ», пропо-
вѣдникъ, сказалъ рѣчь въ пользу оя низложенія. Въ
числѣ другихъ аргументовъ, онъ сказалъ, «что въ
низложеніи государей и тѣхъ, кто былъ въ силѣ, Богъ
не всегда дѣйствовалъ своей непосредственной властью,
но иногда употреблялъ другія средства, которыя были
признаваемы за благія Его премудростью и одобряемы
Его справедливостью. Какъ посредствомъ Асы онъ
удалилъ Мааху, ого родную мать, отъ почестей и
власти, которой прежде она пользовалась: какъ по-
средствомъ Іиуіія истребилъ Іорама и все потомство
Ахаава». Поэтому «онъ (ораторъ) не видитъ никакой
причины, почему бы опи, по рожденію, совѣтники,
дворяне и бароны королевства, пе могли по справед-
ливости лишить ее всякаго участія въ управленіи».
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХА' И XVI стол. 473
Зимой англійскій флотъ вступилъ во Фритъ и остановился на якорѣ близъ
Эдинбурга. Въ январѣ 1560 года герцогъ Норфолкъ пріѣхалъ въ Бервикъ и заклю-
чилъ именемъ Елизаветы трактатъ съ лордами конгрегаціи, въ силу котораго англій -
ская армія 2 апрѣля вступила въ Шотландію х). Противъ этой комбинаціи шотланд-
ское правительство ничего не могло сдѣлать и было радо подписать въ іюлѣ мѣсяцѣ
миръ, по условіямъ котораго французскія войска должны были очистить Шотландію
и вся административная власть перешла въ сущности въ руки протестантскихъ
лордовъ.
Полный успѣхъ этой великой революціи и скорость, съ какой онъ былъ до-
стигнутъ, служатъ сами по себѣ рѣшительнымъ доказательствомъ силы тѣхъ общихъ
причинъ, которыя управляли всѣмъ этимъ движеніемъ. Въ теченіе слишкомъ ста пяти-
десяти лѣтъ длилась смертельная борьба между дворянствомъ и духовенствомъ, и
борьба эта кончилась введеніемъ реформаціи въ Шотландіи и торжествомъ аристо-
кратіи. Она достигла, наконецъ, своей цѣли. Іерархія была ниспровергнута и замѣ-
нена новыми, еще не испытанными людьми. Всѣ старыя понятія объ апостольскомъ
преемствѣ, о рукоположеніи и о божественномъ происхождепіи права посвященія въ
духовный санъ были вдругъ отложены въ сторону. Должности въ церкви были
исполняемы еретиками, большинство которыхъ пе получило даже посвященія 1 2). На-
конецъ, въ довершеніе всего, лѣтомъ того же 1560 года въ шотландскомъ парла-
ментѣ прошли два закона, совершенно ниспровергавшіе старый порядокъ вещей.
Однимъ изъ этихъ законовъ разомъ отмѣнялись всѣ статуты, когда-либо изданные
въ пользу церкви. Другимъ\постановлялось, что всякій, кто станетъ служить мессу
или будетъ присутствовать при ея служеніи, долженъ быть подверженъ: за первый
разъ—лишенію имѣній, за второй—ссылкѣ въ изгнаніе; а за третій—смертной казни.
Такимъ-то образомъ учрежденіе, продержавшееся слишкомъ тысячу лѣтъ, ра-
зомъ рухнуло и распалось на части. И многаго ожидали отъ его паденія. Думали,
что народъ просвѣтится, что глаза его начинаютъ раскрываться на его прежнія за-
блужденія и что царство суевѣрія близко къ своему концу. Но забыли объ одномъ—
о чемъ и теперь слишкомъ часто забываютъ, — что въ этого рода дѣлахъ суще-
ствуетъ извѣстный порядокъ, извѣстная естественная послѣдовательность, которую
никогда нельзя извратить. А именно, что всякое учрежденіе въ томъ видѣ, въ ка-
комъ оно оказывается въ самомъ дѣлѣ, какъ бы оно ни называлось и каковы бы
ни были его стремленія, - составляетъ скорѣе послѣдствіе, чѣмъ причину обществен-
наго мнѣнія; и ни къ чему не поведутъ нападки на то или другое учрежденіе, если
только нельзя будетъ сперва измѣнить это мнѣніе.
Въ Шотландіи церковь отличалась грубымъ суевѣріемъ; но изъ этого не слѣ-
довало, что съ ниспроверженіемъ церкви зло это уменьшится. Кто думаетъ, что суе-
вѣріе можетъ быть ослаблено этимъ путемъ, тотъ не знаетъ живучести этого темнаго
и зловѣщаго начала. Противъ него есть только одно средство, и это средство—зна-
ніе. Когда люди невѣжественны, они не могутъ не быть суевѣрны; и всюду, гдѣ
только существуетъ суевѣріе, оно непремѣнно вырабатывается въ извѣстнаго рода
систему, въ которой и гнѣздится. Изгоните его изъ одного мѣста—оно найдетъ другое.
Духъ этотъ переходитъ, онъ принимаетъ новую форму, но все-таки живетъ; слѣдова-
тельно, какъ безполезенъ образъ войны,-къ которому слишкомъ склонны прибѣгать
реформаторы,—убивать мертвое тѣло, а щадить жизнь! Скорлупу они конечно всегда
1) Такъ велико было вліяніе дворянъ, что англій- ,
скія войска были хорошо приняты народомъ, несмотря
на существовавшую между обѣими націями старинную,
жестокую вражду.
2) «Что самъ Ноксъ былъ священникомъ,—это
фактъ, который его біографъ, покойный Макъ-Крп, '
считалъ нѳподлежащимъ никакому сомнѣнію; и нѣко-
торые изъ другихъ вождей были также священниками-, ।
но большое число проповѣдниковъ, и всѣ, которые впо-
слѣдствіи сдѣлались пасторами, были совершенно безъ
всякаго посвященія, даже и безъ такого, какое могло
быть дано суперинтендентами; потому что предполагае-
мое собственное призваніе ихъ, избраніе парода и
гражданскій обрядъ введенія во владѣніе беяефиціою,—
вотъ все, чтб тогда считалось необходимымъ». (Сте-
фѳнъ, «Исторія шотландской церкви»).
474
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
находятъ и уничтожаютъ, но подъ этой скорлупой скрывается сѣмя смертельнаго яда,
жизненную силу котораго они не въ состояніи ослабить; выброшенное изъ одного
мѣста, оно начинаетъ приносить плодъ въ другомъ и произрастаетъ съ новымъ, часто
еще болѣе пагубнымъ плодородіемъ.
Дѣло въ томъ, что каждое учрежденіе, какъ политическое, такъ и религіозное,
дѣятельностью своею въ данное время выражаетъ характеръ этого времени и его
давленіе. Учрежденіе можетъ быть очень старо, можетъ носить почтенное имя, мо-
жетъ стремиться къ самымъ возвышеннымъ цѣлямъ,—тѣмъ не менѣе всякій, кто ста-
нетъ тщательно изучать его исторію, найдетъ, что на самомъ дѣлѣ оно измѣняется
съ каждымъ новымъ поколѣніемъ и, вмѣсто того чтобы вліять на общество, само на-
ходится подъ его вліяніемъ. Когда была произведена протестантская реформація,
шотландцы были крайне невѣжественны, и потому, несмотря на реформацію, они
остались крайне суевѣрны* Сколько времени продолжалось это невѣжество и къ ка-
кимъ оно привело результатамъ, это мы сейчасъ увидимъ; по прежде, чѣмъ присту-
пить къ этому изслѣдованію, не мѣшаетъ изобразить непосредственныя послѣдствія
самой реформаціи въ связи съ тѣмъ могущественнымъ сословіемъ, вліяніемъ кото-
раго она была введена въ Шотландіи.
Дворянство, ниспровергнувъ церковь и отнявъ у ней значительную часть ея
богатства, думало, что ему и слѣдуетъ воспользоваться плодами своего труда. Оно
убило врага и хотѣло дѣлить добычу. Но это не согласовалось съ видами протестант-
скихъ проповѣдниковъ. По ихъ мнѣнію, было нечестивымъ дѣломъ отчуждать въ
свѣтскія руки церковную собственность и употреблять ре для мірскихъ цѣлей. Они
находили, что лорды кояечйр хорошо сдѣлали, что огрцбили церковь; съ другой же
стороны они считали рѣшеннымъ дѣломъ, что награблённое должно служить къ обо-
гащенію ихъ самихъ. Они быіщ люди Божіи, а обязанностью господствующихъ клас-
совъ было надѣлить ихъ тѣми благами, которыя слѣдовало отнять у стараго, католи-
ческаго духовенства.
Руководствуясь этимъ мнѣніемъ, Ноксъ и его товарищи въ августѣ 1560 года
представили въ парламентъ прошеніе, которымъ приглашали дворянъ возвратить
церкви захваченную у нея собственность и обратить ее, какъ и слѣдуетъ, на со-
держаніе новыхъ пастырей. Па требованіе это могущественные вожди народа не
удостоили даже дать никакого отвѣта. Они были довольны настоящимъ порядкомъ
вещей и потому не имѣли желанія нарушать его, Они сражались, они побѣдили, они
и подѣлили добычу. Нельзя было предположить, чтобы они добровольно отдали то,
чтб такъ трудно досталось имъ. Нельзя было также ожидать, чтобы послѣ тяжкой
борьбы съ духовенствомъ, продолжавшейся сто пятьдесятъ лѣтъ, побѣдивъ, наконецъ,
своего давнишняго врага, они отказались отъ плодовъ своей побѣды ради нѣсколь-
кихъ проповѣдниковъ, которыхъ они лишь недавно призвали на помощь; ради этихъ
людей безъ рода, безъ извѣстности, которые собственно должны были считать для
себя за честь, что ихъ допустили къ участію въ одномъ общемъ дѣлѣ съ людьми,
стоящими выше ихъ, а никакъ не заключать изъ этого, что они, которые пришли на
поле сраженіе подъ самый конецъ, будутъ допущены къ дѣлежу добычи на сколько-
нибудь равныхъ условіяхъ.
Но шотландская аристократія мало знала людей, съ которыми имѣла дѣло. Еще
менѣе понимала она характеръ своего времени. Она не замѣчала, что въ тогдаш-
немъ состояніи общества суевѣріе было неизбѣжно, и что поэтому духовное сосло-
віе, хотя и подавленное на минуту, непремѣнно должно было вскорѣ снова поднять
голову. Дворяне ниспровергли церковь, но тѣ основныя начала, на которыхъ зиж-
дется могущество церкви, остались нетронутыми. Все, что они сдѣлали, это только
измѣнили названіе и форму. Быстро образовалась новая іерархія, которая замѣнила
старую въ привязанности народа. Она зашла даже еще далѣе. Протестантское ду-
ховенство, пренебрегаемое дворянствомъ и ничѣмъ не надѣленное отъ правитель-
ства, имѣло лишь жалкія средства къ существованію и по необходимости должно
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XV И XVI стол.
475
было броситься въ объятія народа, такъ какъ въ немъ одномъ могло оно найти по-
мощь и сочувствіе. Отсюда произошла болѣе тѣсная связь его съ народомъ, чѣмъ ка-
кая могла установиться при другихъ условіяхъ. Отсюда, какъ мы сейчасъ увидимъ,
произошло также и то, что пресвитеріанское духовенство, глубоко оскорбляемое ока-
зываемыми ему несправедливостями, развивало въ себѣ ту ненависть къ высшимъ
классамъ и то нерасположеніе къ монархическому правленію, которыя оно выказы-
вало при всякомъ удобномъ случаѣ. Съ своихъ каоедръ, въ своихъ пресвитеріяхъ,
въ генеральныхъ собраніяхъ оно поддерживало демократическій, независимый тонъ,
который по временамъ приводилъ къ благимъ результатамъ, пробуждая въ крити-
ческія минуты духъ свободы, но по этому самому заставлялъ высшія сословія про-
клинать тотъ день, когда несвоевременной и эгоистической бережливостью они озло-
били противъ себя такое могущественное и такое неумолимое сословіе.
Съ удаленіемъ французскихъ войскъ въ 1560 году управленіе осталось въ
рукахъ аристократіи; ей и предстояло рѣшить., въ какой мѣрѣ реформатское духо-
венство должно было быть надѣлено имуществомъ. Первое прошеніе, представлен-
ное Ноксомъ и его собратьями, встрѣтило презрительное молчаніе. Но не такъ легко
было отдѣлаться отъ пастырей. Слѣдующимъ шагомъ ихъ было представленіе въ
Тайный Совѣтъ, такъ называемой, «Первой книги ученія», въ которой они опять на-
стаивали на своемъ требованіи. Противъ догматовъ, содержавшихся въ этой книгѣ,
Совѣтъ не находилъ никакого возраженія, но отказался утвердить ее, такъ какъ это
значило бы дать санкцію принципу, что новая церковь имѣетъ право на доходы
старой х). Извѣстную долю этихъ доходовъ ой конечно готовы были предоставить; но
какая именно должна была быть эта доля, объ этомъ и/шелъ серьезный споръ, по-
родившій сильнѣйшее недоброжелательство между спорившими сторонами. Наконецъ,
дворянство прервало свое молчаніе, объявивъ въ декабрѣ 1561 года, что реформат-
ское духовенство получитъ только шестую долю собственности церкви, остальныя же
пять шестыхъ будутъ раздѣлены между правительствомъ и католическимъ духовен-
ствомъ 2). Понять настоящій смыслъ такого рѣшенія было нетрудно, такъ какъ ка-
толики стояли тогда въ совершенной зависимости отъ правительства, а правитель-
ство на дѣлѣ составили сами же дворяне, которые монополизировали въ то время
въ своихъ рукахъ все политическое вліяніе.
При такомъ положеніи дѣлъ естественно, что проповѣдники были сильно
взволнованы объявленіемъ подобнаго рѣшенія. Они видѣли, до какой степени оно
неблагопріятно для ихъ собственныхъ интересовъ, и потому считали его неблаго-
пріятнымъ и для интересовъ религіи. Такъ, по ихъ мнѣнію, мѣра эта была приду-
мана самимъ дьяволомъ, видамъ котораго она должна была способствовать; ибо те-
перь тѣмъ, которые работали въ виноградникѣ Господнемъ, приходилось переносить
униженіе и нужду ради того, чтобы законное достояніе ихъ пожирали праздныя
утробы. Дворяне, говорили проповѣдники, будутъ отъ этого нѣкоторое время въ
барышѣ, но Божья кара недалека, и она непремѣнно постигнетъ ихъ 3). Дѣйствія ихъ
«Форма устройства дѣлъ церкви, предложенная ’
въ «Первой книгѣ ученія», никогда не была иадлежа- 1
щимъ образомъ утверждена правительствомъ, главнѣй-
шѳ вслѣдствіе жадности дворянъ и джентри, которые
хлопотали объ упроченіи за собой доходовъ церкви».
(«Мізсеііапу о! іѣе ХѴойгоѵ Восіеіу»). Многіе изъ дво-
рянъ однако же подписали ее; но Споттлсвудъ говоритъ,
что «большая часть подписавшихся, разъ захвативъ въ
свои руки владѣнія церкви, уже ничѣмъ не могли быть
подвигнуты къ уступкѣ ихъ и сдѣлались, по вопросу о
наслѣдственномъ достояніи церкви, еще большими про-
тивниками ея, чѣмъ были нацисты илп кто-либо
другой». !
2) Это весьма ловко придуманное поминальное ।
соглашеніе состояло въ томъ, что одна треть церков-
ныхъ доходовъ должна была быть раздѣлена па двѣ |
части: одна предназначалась для правительства, дру-
гая—для проповѣдниковъ. Остальныя двѣ трети были
преважно назначены католическому духовенству, кото-
рое въ то же самое время подлежало, въ силу парла-
ментскаго постановленія, смертной казна за отправле-
ніе богослуженія по обрядамъ католической церкви.
Люди, жизнь которыхъ была въ рукахъ правительства,
вѣроятно не стали бы спорить съ тѣмъ же правитель-
ствомъ о денежныхъ дѣлахъ; и въ результатѣ оказа-
лось, что почти все перешло въ руки дворянъ.
3) Въ сентябрѣ 1571 года Джонъ Ро, говоря про-
повѣдь, объявилъ во всеуслышаніе съ каоедры лор-
дамъ, что за ихъ алчность и за то, что они не удо-
влетворяютъ справедливымъ просьбамъ церкви, пхъ
вскорѣ постигнетъ Божія кара, и прибавилъ: «мнѣ
пѣтъ дѣла, господа лорды, до вашего неудовольствія,
476 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
съ начала до конца не что иное, какъ грабежъ. Въ истинно христіанской странѣ до-
стояніе церкви оставалось бы нетронутымъ г). Но въ Шотландіи—увы!—сатана взялъ
верхъ, и христіанское милосердіе охладѣло. Въ Шотландіи то имущество, которое
слѣдовало бы считать священнымъ, было раздроблено и подѣлено; и дѣлежъ былъ
самаго плохого свойства, ибо, говоритъ Ноксъ, двѣ трети предоставлены дьяволу, а
остальная треть подѣлена между Богомъ и дьяволомъ. Это все равно, какъ еслибы
Іосифъ, будучи правителемъ Египта, отказалъ въ хлѣбѣ своимъ братьямъ и отпу-
стилъ ихъ домой съ пустыми мѣшками. Или, какъ утверждалъ другой проповѣдникъ,
церковь уподоблялась теперь древнимъ Маккавеямъ, подвергавшимся притѣсненіямъ
то со стороны ассиріанъ, то со стороны египтянъ. Но ни увѣщанія, ни угрозы не
производили никакого дѣйствія на закоснѣлые умы шотландскихъ дворянъ. Сердца
ихъ, вмѣсто того чтобы смягчиться, еще болѣе затвердѣли. Даже тѣ ограниченныя
стипендіи, какія назначены были протестантскому духовенству, не всегда исправно
выдавались ему, а употреблялись большею частью для другихъ цѣлей. Когда пасторы
жаловались на это, то получали въ отвѣтъ насмѣшки и оскорбленія со стороны
дворянъ, которые, достигнувъ своихъ собственныхъ цѣлей, думали, что могутъ
обойтись и безъ своихъ прежнихъ союзниковъ 2). Графъ Мортонъ, который, благодаря
своему уму и своимъ связямъ, сдѣлался самымъ могущественнымъ человѣкомъ въ
Шотландіи, питалъ особенную злобу противъ духовенства и двоихъ изъ проповѣд-
никовъ, провинившихся противъ него, казнилъ смертью съ замѣчательной жесто-
костью. Дворянство, глядѣвшее на него какъ на своего предводителя, избрало его
въ 1572 году правителемъ королевства. Имѣя теперь /въ своихъ рукахъ неогра-
ниченную власть, онъ употребилъ ее противъ церкви/ Онъ захватывалъ всѣ бене-
фиціи, дѣлавшіяся вакантными, и удерживалъ доходы съ нихъ въ свою пользу. Не-
нависть его къ проповѣдникамъ переходила всякія границы. Онъ публично объ-
явилъ, что до тѣхъ норъ не будетъ въ странѣ ни спокойствія, ни порядка, пока не
повѣсятъ нѣсколькихъ изъ нихъ, Онъ отказывался узаконить своимъ присутствіемъ
ихъ собранія; онъ хотѣлъ покончить съ ихъ привилегіями и даже съ самымъ име-
немъ ихъ; и съ такой рѣшимостью продолжалъ онъ принимать свои мѣры, что, но
мнѣнію историка шотландской церкви, одно только вмѣшательство Божества могло
сохранить существующее устройство ея.
Между церковью и государствомъ былъ теперь совершенный разрывъ. Оста-
валось только убѣдиться, которая сторона сильнѣе. Съ каждымъ годомъ духовенство
проникалось все болѣе и болѣе демократическимъ духомъ, и послѣ смерти Нокса,
ибо я говорю по совѣсти, предъ Богомъ, Который не
потерпитъ, чтобы такая злоба и такое презрѣніе оста-
лись безъ наказанія».
1) Въ 1576 году генеральное собраніе объявило,
что право духовенства на «наслѣдственное достояніе
церкви вытекаетъ изъ права Божественнаго». Спустя
слишкомъ сто лѣтъ одинъ шотландскій богословъ до-
казываетъ, какъ глубоко члены его сословія чувство-
вали такое ограбленіе церкви, тѣмъ, что рѣшительно
выходитъ изъ себя, упоминая объ этомъ. Но это сіцѳ
ничего въ сравненіи съ однимъ позднѣйшимъ писате-
лемъ г. Лайономъ, который сознательно утверждаетъ,
что такъ какъ эта и подобные имъ акты послѣдовали
въ царствованіе Маріи, то королеву эту и постигла
насильственная смерть, какъ справедливое наказаніе
за святотатство. «Обыкновеніе это (служить мессы
по умершимъ) прекратилось конечно съ реформаціей,
и деньги были переданы королевою Маріею граждан-
скимъ властямъ города. Это было безъ сомнѣнія свя-
тотатственнымъ дѣяніемъ; ибо хотя жертвовать на
мессы по умершимъ было заблужденіе, но хранители
денегъ, завѣщанныхъ на такой предметъ, были связаны
обязательствомъ употребить пхъ на благочестивыя на-
значенія. Это и другія святотатственныя дѣянія со
стороны Маріи, имѣвшія еще болѣе рѣши гольный и
важный характеръ, справедливо считались причиною
всѣхъ бѣдствій, постигшихъ ое впослѣдствіи». Въ дру-
! гомъ мѣстѣ тотъ же богословъ говориіъ, что свято-
татство обыкновенно наказывается лишеніемъ мужского
потомства. «Слѣдующіе примѣры, взятые изъ С.-Апдрюс-
ской опархіп, въ тѣхъ предѣлахъ, какіе она имѣла пе-
редъ реформаціею,—подтвердятъ доктрину, отстаиваемую
во всемъ этомъ сочиненіи:—что святотатство всегда
I наказывается въ сей жизни, преимущественно не-
имѣніемъ потомства мужского пола». Курсивъ нахо-
дится и въ подлинникѣ. Для будущаго историка обще-
ственнаго мнѣнія быть можетъ не излишне замѣтить,
чго сочиненіе, содержащее въ себѣ подобныя мнѣнія,
во есть перепечатка какой-нибудь старой книги, а из-
дано повидимому тотчасъ по написаніи, въ 1843 году.
2) «Пасторовъ называли спѣсивыми лакеями, и
оии слыхали много обидныхъ словъ отъ лордовъ, осо-
бенно отъ Мортона, который управлялъ всѣмъ. Онъ
сказалъ, что пособьетъ имъ свѣса и приведетъ пхъ
| въ порядокъ» (Кальдервудъ, «Исторія церкви).
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XV И XVI стол.
477
въ 1572 году, оно отважилось на такой образъ дѣйствія, который и самъ Ноксъ едва^
ли одобрилъ бы и который въ первыя времена реформаціи былъ бы рѣшительно
невозможенъ. Въ это время проповѣдники уже обезпечили себѣ поддержку со стороны
народа, а между тѣмъ обращеніе съ ними правительства и дворянства озлобило ихъ
и заставило прибѣгнуть къ отчаяннымъ средствамъ. Въ то время, когда планы ихъ
еще не созрѣли и когда будущее еще только смутно представлялось имъ,—явился
новый человѣкъ, имѣвшій всѣ необходимыя свойства, чтобы стать во главѣ ихъ;
онъ сразу занялъ мѣсто, оставшееся вакантнымъ съ смертью Нокса. Этотъ чело-
вѣкъ былъ Андрю Мельвилль. По своимъ замѣчательнымъ способностямъ, по своему
рѣшительному характеру и своей изворотливости онъ удивительно годился быть
вождемъ шотландской церкви въ той тяжкой борьбѣ, въ которую она вскорѣ должна
была вступить.
Въ 1574 году Мельвилль, окончивъ воспитаніе за границей, пріѣхалъ въ Шот-
ландію х). Онъ быстро собралъ вокругъ себя замѣчательнѣйшіе умы церкви, и подъ
его руководствомъ началась борьба съ гражданской властью, продолжавшаяся со
многими колебаніями до тѣхъ поръ, пока, шесть лѣтъ спустя, она не перешла въ
открытое возстаніе противъ Карла I. Разсказывать всѣ подробности этого спора
было бы несогласно съ планомъ настоящаго введенія, и потому, несмотря на жи-
вѣйшій интересъ, представляемый многими изъ послѣдовавшихъ затѣмъ событій,
большую часть ихъ мы должны выпустить; но мы постараемся указать на общій
ходъ ихъ и сообщить читателю факты, болѣе всего характеризующіе тотъ вѣкъ, въ
который они совершились.
Едва пробылъ Мельвилл^нѣсколько мѣсяцевъ въ Шотландіи, какъ онъ началъ
уже свою оппозицію,—сперва тайными интригами, а потомъ и открытыми враждебными
дѣйствіями * 2). При Ноксѣ епископы признавались;въічцелѣ учрежденій протестантской
церкви и званіе это получило свою санкціиГ й^^лавнѣйшихъ реформаторовъ. Но
такое учрежденіе не согласовалось съ тѣмъ демократическимъ духомъ, который
начиналъ теперь проявляться. Различіе степеней между епископами и низшимъ
духовенствомъ теперь не нравилось, и пасторы рѣшились положить ему конецъ 3).
Въ 1575 году одинъ изъ нихъ, по имени Джонъ Дюри, былъ подговоренъ Мельвиллсмъ
возбудить объ этомъ вопросъ въ генеральномъ собраніи, созванномъ въ Эдинбургѣ.
Послѣ того какъ Дюри выразилъ свой взглядъ, Мельвилль тоже высказался противъ
епископства, но, не будучи еще увѣренъ, въ настроеніи своихъ слушателей, онъ сперва
повелъ дѣло съ нѣкоторой осторожностью. По такая нерѣшительность едва-ли была
необходима, такъ какъ, благодаря разрыву между церковью и высшими классами,
пасторы начинали дѣлаться злѣйшими врагами тѣхъ самыхъ правилъ послушанія и
подчиненности, которыя они поддерживали бы, еслибы высшіе классы были на
сторонѣ духовенства- Теперь духовенство пользовалось только расположеніемъ на-
рода; поэтому оно старалось ввести систему равенства и было совершенно готово
на смѣлыя мѣры, предположенныя Мельвиллемъ и его послѣдователями. Яснымъ до-
казательствомъ этого служитъ быстрота начавшагося затѣмъ движенія. Въ 1575 году
первое нападеніе было сдѣлано на генеральномъ собраніи въ Эдинбургѣ. Въ апрѣлѣ
1578 года другое генеральное собраніе рѣшило, что на будущее время епископы
должны называться по ихъ именамъ, а не по ихъ титуламъ, Такое же собраніе
объявило также, что ни одна епископская каѳедра не должна быть замѣщена до
слѣдующаго собранія. Спустя два мѣсяца было объявлено, что распоряженіе это
распространяется на вѣчныя времена, и что не должно болѣе дѣлать новыхъ епи-
*) Онъ оставилъ Шотландію въ 1564 году де-
вятнадцати лѣтъ отъ роду и возвратился послѣ деся-
тилѣтняго отсутствія.
*) Онъ, кажется, впервые принялся за дѣло въ I
ноябрѣ 1574 года. ;
3) Немного спустя Давидъ Фергуссонъ, умершій |
въ 1598 году и бывшій пасторомъ въ Дёпфермлннѣ,
очень откровенію сказалъ Іоанну VI: «Да, государь,
вы можете имѣть здѣсь епископовъ, но помните., что
вы должны сдѣлать всѣхъ насъ равными, сдѣлать
всѣхъ насъ епископами, иначе вы никогда пе удовле-
твори ге насъ».
478
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
окоповъ. А въ 1580 году церковное собраніе въ Дёнди разрушило до основанія
всю систему, единодушно рѣшивъ, что должность епископа есть выдумка человѣ-
ческая, что учрежденіе это незаконно, что съ нимъ немедленно слѣдуетъ покон-
чить и что всѣ епископы должны прямо сложить съ себя этотъ санъ или, въ про-
тивномъ случаѣ, подвергнуться отлученію отъ церкви.
Пасторы и народъ сдѣлали теперь свое дѣло и, насколько оно касалось ихъ
самихъ, сдѣлали хорошо х). Но тѣ же самыя обстоятельства, которыя заставляли ихъ
желать равенства, побуждали въ то же время дворянство стремиться къ неравенству 2).
Поэтому столкновеніе было неизбѣжно, а смѣлый образъ дѣйствія церкви только
ускорилъ его. Дѣйствительно, проповѣдники скорѣе напрашивались на споръ, чѣмъ
избѣгали его. Они говорили въ самыхъ возмутительныхъ выраженіяхъ противъ епи-
скопства и незадолго до упраздненія этого званія окончили и представили въ парла-
ментъ «Вторую книгу ученія», въ которой грубо иротиворѣчили тому, что утверж-
дали въ цервой. За это ихъ часто упрекаютъ въ непослѣдовательности. Но такое
обвиненіе несправедливо. Они были совершенно послѣдовательны: они не болѣе
какъ измѣнили своп правила, чтобы сохранить свои принципы. У нихъ, какъ и у
всѣхъ, когда-либо существовавшихъ, корпорацій, духовныхъ или свѣтскихъ, преобла-
дающимъ принципомъ было поддерживать свое вліяніе. Хорошъ или нѣтъ такой
принципъ, это уже другое дѣло; но вся исторія доказываетъ, что принципъ этотъ
есть всеобщій. Такимъ образомъ, когда вожди шотландской церкви нашли, что на
очереди вопросъ о томъ, кому имѣть вліяніе, они съ совершенной послѣдователь-
ностью отказались отъ еврихъ прежнихъ мнѣній, увидѣвъ, что мнѣнія эти несо-
вмѣстны съ существованіемъ ихъ въ видѣ независимой корпораціи.
Когда появилась «Первая книга "ученія» въ’ 1560 году, управленіе было въ
рукахъ дворянства, которое трлько-что передъ тѣмъ сражалось заодно съ проте-
стантскими проповѣдниками и было готово опять сразиться въ однихъ рядахъ съ ними.
Когда же вышла «Вторая книга ученія» въ 1578 году, управленіе было по-преж-
нему въ рукахъ дворянства, но теперь честолюбивое сословіе это, сбросивъ съ себя
маску и достигнувъ задуманнаго имъ уничтоженія старой іерархіи, поворотило
назадъ и напало на новую. Измѣнились обстоятельства, а съ ними измѣнилась и
сама церковь; но въ этомъ измѣненіи ея не было ничего непослѣдовательнаго.
Папротпвъ, было бы верхомъ непослѣдовательности со стороны пасторовъ, еслибы
они сохранили свои прежнія понятія о повиновеніи и подчиненности; совершенно
было естественно, что въ этомъ кризисѣ они отстаивали демократическую идею
равенства точно такъ же, какъ прежде защищали аристократическую идею не-
равенства.
Вотъ почему въ «Первой книгѣ ученія» они установили правильно восходящую
іерархію, согласно съ этимъ, все духовенство вообще было обязано повиненіемъ
своимъ духовнымъ властямъ, которымъ было придано названіе суперинтендентовъ 3).
Джемсъ Мсльвилль въ «Автобіографіи» гово-
ритъ, что вслѣдствіе такого подвига дядя его Андрю
«получилъ названіе бича епископовъ*.
~) Таііглеръ замѣчаетъ, что въ то время, какъ
«большинство мѣщанъ и среднихъ и низшихъ клас-
совъ народа» были пресвитеріане, «значительная часть
дворянства поддерживала епископство*. Опъ но ошибся
бы, еслибъ, вмѣсто «значительная часть», сказалъ
«все». П дѣйствительно, «самъ Мельввллі, говоритъ,
что все сословіе пэровъ противъ пего». Форбсъ при-
писывалъ аристократическое движеніе противъ пре-
свитерства «нечестивымъ атеистамъ», которые настаи-
вали на томъ, «будто нпчто не можетъ быть такъ
противно сущности монархіи, какъ эго равиовластіе
между пасторами». «Эта демократія (какъ они назы-
ваютъ ее) была всегда готова сдѣлаться полною с.чуть
и безпокойства для аристократіи, а также, наконецъ,
и для монархіи2. Читатель замѣтитъ эту важную пе-
ремѣну въ относительномъ положеніи классовъ обще-
ства въ Шотландіи. Прежде духовенство было союз-
никомъ короны протовъ дворянства. Теперь дворянство
соединилось съ короною противъ духовенства. Духо-
венство же, по чувству самосохраненія, должно было
соединиться съ пародомъ.
3) Суперинтенденты должны были «избирать, по-
свящать и назначать пасторовъ». Кажется, что пн рдинь
। пасторъ не могъ быіь и смѣненъ безъ согласія супер-
। пктсчідепта. Во время своихъ объѣздовъ опп должны
I не только проповѣдывать, но также наблюдать за уче-
номъ. образомъ жизни, степенью прилежанія и обря-
іценіѳмъ пасторовъ, чтецовъ, старѣйшинъ п дьяко-
; новь». По свидѣтельству Спотгисвуда, «суперинтен-
I денты сохраняли свою должность пожизненно и имѣли
| власть описконскую, потому что онн избирали и но-
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XV И XVI стоя.
479
Во «Второй же книгѣ» всякій слѣдъ этого порядка изгладился, и было постановлено въ
самыхъ ясныхъ выраженіяхъ, что всѣ проповѣдники, какъ собратья по труду, поль-
зуются одинаковою властью, что пи одинъ изъ нихъ пе имѣетъ властіь надъ дру-
гимъ, и что добиваться такой власти или признавать превосходство однихъ надъ
другими есть затѣя человѣческая, которой нельзя допустить въ церкви, установлен-
ной на божественныхт> началахъ х).
Правительство, какъ можно себѣ представить, смотрѣло на это совершенно
иначе. Подобныя ученія высшіе классы считали анти-соціальными и извращающими
всякій порядокъ 3). Они не только не давали имъ освященія, но даже рѣшились,
если можно, ниспровергнуть ихъ; и черезъ годъ послѣ того, какъ генеральное со-
браніе уничтожило епископовъ, оказалось, что по этому самому поводу обѣ партіи
должны были помѣриться силами.
Въ 1581 году Робертъ Монгомери былъ назначенъ архіепископомъ въ Глазго.
Пасторы, составлявшіе тамошній капитулъ, отказались избрать его; вслѣдствіе этого
Тайный Совѣтъ объявилъ, что король, въ силу своей прерогативы, имѣетъ право
дѣлать подобныя назначенія. И вотъ начались смятенія и безпорядки. Генеральное
собраніе запретило архіепископу въѣздъ въ Глазго. По онъ не послушался такого
запрещенія и положился на помощь герцога Леннокса, который выхлопоталъ для
него это назначеніе и которому онъ уступилъ почти всѣ доходы архіепископства,
оставивъ себѣ только небольшую стипендію. Это обыкновеніе, вошедшее въ силу
въ теченіе нѣсколькихъ предшествовавшихъ лѣтъ, было однимъ изъ тѣхъ многихъ
ухищреній, къ которымъ прибѣгало дворянство, чтобы грабить церковь.
Но теперь вопросъ бы)ід> не въ этомъ; дѣло шло не о доходѣ, а о власти. Ибо
духовенство очень хорошо знцло, что если только оцб упрочитъ свою власть, то
доходы придутъ сами собой. Поэтому оно прибѣгло къ самымъ энергическимъ сред-
ствамъ. Въ 1582 году было созвано генеральное собраніе въ С.-Андрюсѣ, и Мель-
вилль былъ назначенъ предсѣдателемъ. Правительство, опасаясь всего худшаго, за-
претило членамъ собранія, подъ страхомъ отвѣтственности, какъ за возмущеніе,
касаться вопроса объ архіепископствѣ 3). Но представители церкви не смирялись.
Они потребовали къ себѣ Монгомери, постановили приговоръ объ устраненіи его
отъ исполненія духовныхъ обязанностей и объявили, что онъ подлежитъ наказанію
смѣщеніемъ и отлученіемъ отъ церкви.
Приговоръ объ отлученіи отъ церкви имѣлъ въ тѣ времена такія гибельныя
послѣдствія, что Монгомери былъ пораженъ ужасомъ въ виду этой опасности. Чтобы
свящали пасторовъ, предсѣдательствовали въ сѵнодахъ
и распоряжались всѣми церковными наказаніями, и
никто пе могъ быть приговоренъ къ отлученію отъ
церкви безъ ихъ согласія». «Наказаніе должно быть
назначаемо тѣмъ, которые окажутъ непослушаніе пли
неуваженіе суперинтендентамъ при отправленіи ими
своихъ обязанностей». «Если пасторы ослушаются су-
перинтендентовъ въ чемъ-либо относящемся до духов-
наго назиданія, то онп должны подлежать за это
исправительнымъ мѣрамъ».
«Ибо хотя церковь Божія и управляется Іису-
сомъ Христомъ, Который ея единственный царь, свя-
щенникъ и глава, но Оаъ дѣйствуетъ и чрезъ по-
средство людей, какъ самыхъ необходимыхъ посредни-
ковъ вь этомъ дѣлѣ... А чтобы устранить всякій по-
водъ къ тираинін, Ему угодно, чтобы они управляли
по общему согласію братіи и съ совершеннымъ ра-
венствомъ власти. каждый согласно съ своими обя-
занностями... Что же касается епископовъ* то если
принимать это слово въ настоящемъ его значеніи, они
все равно* что пасторы* какъ было уже объявлено.
Но имя это «е выражаетъ собою превосходства
и господства* а обозначаетъ должность, соединен-
ную съ обязанностью надзора». Чтобы попять все зна-
ченіе этого, должно замѣтить, что суперинтенденты,
установленные церковью въ 1560 году, нерѣдко при-
нимали титулъ «лордства» (БоМзЬір), какъ необхо-
димое добавленіе къ предоставленной имъ обширной
власти.
2) Точно такъ же. какъ въ Англіи, мы находимъ,
что высшіе классы большей частью принадлежатъ къ
епископальной церкви—пхъ умъ поддается, часто без-
сознательно, вліянію нравящагося имъ зрѣлища нера-
венства чиновъ, неравенства совершенно произволь-
наго, не зависящаго отъ способностей. Съ другой сто-
роны, вся сила диссентеровЪ“-въ среднихъ и низшихъ
классахъ, гдѣ энергія и умъ въ большемъ раженіи и
гдѣ естественно зарождается презрѣніе къ той системѣ,
при ко горой жалуются титулы и богатства лично-
стямъ, не предназначеннымъ отъ природы къ величію,
но къ величайшему изумленію современниковъ оказы-
вающимся вь искусственномъ величія.
3) Вооруженный гонецъ вошелъ въ домъ и заста-
вилъ предсѣдателя и членовъ собранія, подъ страхомъ
обвиненія въ возмущеніи, отложить въ сторону этотъ
вопросъ.
480
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
избѣгнуть такихъ послѣдствій, онъ предсталъ предъ собраніе и далъ торжественное
обѣщаніе не дѣлать болѣе никакихъ попытокъ къ полученію архіепископства. Этимъ
онъ спасъ по всей вѣроятности свою жизнь, ибо народъ, стоя заодно съ своимъ
духовенствомъ, былъ уже готовъ на злодѣяніе и рѣшился, во что бы то ни стало,
поддерживать то, чтб онъ считалъ правами церкви, въ противоположность къ за-
хватамъ государства.
Правительство съ другой стороны обнаруживало не меньшую рѣшимость. Тай-
ный Совѣтъ потребовалъ къ отвѣту многихъ изъ пасторовъ, и Дюри^ какъ одного
изъ самыхъ дѣятельныхъ, выслалъ изъ Эдинбурга. Готовились и еще болѣе сильныя
мѣры, какъ вдругъ все было прервано однимъ изъ тѣхъ странныхъ событій, которыя
нерѣдко случались въ Шотландіи и которыя служатъ разительнымъ доказательствомъ
слабости короны, несмотря на ея часто непомѣрныя притязанія.
Это было нападеніе Рётвена въ 1582 году, сопровождавшееся десятимѣсяч-
нымъ заключеніемъ Іакова VI, Духовенство, вѣрное руководившей имъ въ то время
политикѣ, громко одобряло плѣненіе короля, выставляя его какъ дѣло угодное Богу.
Дюри, который былъ лишенъ каѳедры, теперь въ тріумфѣ возвратился въ столицу х);
и генеральное собраніе, созванное въ Эдинбургѣ, приказало, чтобы всѣ пасторы,
каждый передъ своей конгрегаціей, оправдывали заключеніе короля.
Въ 1583 году король освободился изъ заключенія, и борьба сдѣлалась болѣе
чѣмъ когда-либо смертельной, такъ какъ съ обѣихъ сторонъ были до крайности
возбуждены страсти тѣми обидами, которыя каждая изъ нихъ нанесла другой. Когда
Рётвеновъ заговоръ признали за государственную измфну, чѣмъ онъ и былъ безъ
всякаго сомнѣнія, то Дюри дроповѣдывалъ въ ого подѣзу и открыто защищалъ его;
хотя потомъ, подъ вліяніемъ минутнаго страха, онъ и отказался отъ своего мнѣнія,
по все-таки было ясно изъ другихъ обстоятельствъ, что чувства его были раздѣляемы
его собратьями. Многіе изъ нихъ? будучи призваны къ отвѣту предъ королемъ за свои
возмутительныя рѣчи, сказали ему, чтобы онъ подумалъ о томъ, что дѣлаетъ, и на-
поминали ему, что еще никто изъ вѣнценосцевъ не наслаждался счастьемъ послѣ того,
какъ пастыри начинали угрожать ему. Мельвилль, имѣвшій огромное вліяніе какъ
на духовенство, такъ и на народъ, въ лицо смѣялся надъ королемъ, отказывался
дать ему отчетъ въ томъ, что говорилъ съ каѳедры, и сказалъ Іакову, что онъ
извращаетъ и Божескіе, и человѣческіе законы. Симсонъ уподобилъ его Каину и
стращалъ его гнѣвомъ Божіимъ Дѣйствительно, духъ, которымъ прониклась теперь
церковь, былъ до такой степени неумолимъ, что ей повидимому доставляло на-
слажденіе проявлять его въ самыхъ отвратительныхъ формахъ. Въ 1585 году одинъ
изъ духовныхъ, по имени Джибсонъ, въ проповѣди, сказанной имъ въ Эдинбургѣ,
произнесъ противъ короля Іеровоамово проклятіе,—что онъ умретъ бездѣтный и что
съ нимъ прекратится родъ его. Годъ спустя послѣ этого Іаковъ, видя, что Ели-
завета рѣшилась лишить жизни его мать, вспомнилъ о томъ, что считалось въ тѣ
времена самымъ вѣрнымъ средствомъ, и изъявилъ желаніе, чтобы духовенство мо-
лилось за Марію. Но оно почти единодушно отказало ему въ этомъ, и не только
само не стало молиться, но даже рѣшило, чтобы и никто другой не дѣлалъ того,
отъ чего оно уклонилось. Когда архіепископъ С.-Андрюсскій приготовился отправлять
богослуженіе въ присутствіи короля, духовенство подговорило нѣкоего Джона Коу-
\) «Когда онъ ѣхалъ изъ Лита въ Эдинбургъ, его
встрѣтила толпа въ двѣсти человѣкъ, которая посте-
пенно увеличивалась и начала пѣть 124-й псаломъ.
Толпа шла по улицѣ до самаго собора, все время съ
пѣшенъ, и возросла подъ конецъ до двухъ тысячъ.
Манифестанты были очень растроганы, а также и
всѢ зрители. Герцогъ былъ удивленъ и испуганъ этимъ
зрѣлищемъ болѣе нежели чѣмъ-лпбо, что до того слу-
чалось ему видѣть въ Шотландіи, и со злостп рвалъ
себѣ бороду» (Кальдервудъ, «Исторія церквиэ).
2) М-ръ Патрикъ Симсонъ, говоря въ присут-
ствіи короля проповѣдь на текстъ книги Бытія, IV,
9, сказалъ королю передъ всею конгрегаціею: «Господь
спросилъ Каина: гдѣ братъ твой Авель? Я увѣряю
васъ, государь, именемъ Бога, что Господь спроситъ
и у васъ, гдѣ вашъ братъ, графъ МорэЙ». На это ко-
роль возразилъ передъ всей конгрегаціей: «м-ръ Патрикъ,
дверь моя никогда пе была закрыта для васъ, вы могли
бы сказать мнѣ все, чтб вы думаете, негласно». Онъ
же, Симсонъ, отвѣчалъ: «государь, скандаль гласенъ*.
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XV И XVI стол.
481
пера стать заранѣе на каѳедру, чтобы не допустить на нее прелата. Наконецъ, ка-
питанъ королевской стражи погрозилъ Коуперу, что онъ сброситъ его съ насиль-
ственно занятаго имъ мѣста, и только тогда могла начаться служба и король могъ
услышать молитвы за свою родную мать, въ этотъ грустный переломъ въ ея судьбѣ,
когда не было еще извѣстно,—казнятъ ли ее публично, или же, какъ вообще скорѣе
полагали, она будетъ втайнѣ отравлена.
Въ 1594 году Джонъ Россъ утверждалъ съ каѳедры, что всѣ совѣтники короля—
измѣнники, что самъ король—также измѣнникъ и что кромѣ того онъ—бунтовщикъ
и безбожникъ; что этому нечего и удивляться, зная родственныя отношенія Іакова:
его мать, изъ фамиліи Гизовъ, гонительница святыхъ; что онъ самъ, хотя и из-
бѣгаетъ открыто преслѣдовать ихъ и почтителенъ къ нимъ на словахъ, но на дѣлѣ
противорѣчивъ своимъ словамъ; и что по своему притворству это—величайшій изъ
лицемѣровъ Шотландіи.
Въ 1596 году Давидъ Бланкъ, одинъ изъ вліятельнѣйшихъ протестантскихъ
пасторовъ, произнесъ проповѣдь, надѣлавшую много шума. Онъ сказалъ въ своей
рѣчи, что въ Шотландіи во главѣ двора стоитъ самъ сатана. Члены совѣта, при-
бавилъ онъ,—обжоры, а лорды сессіи—нехристи. Дворяне совсѣмъ переродились: это
безбожники, лицемѣры, враги церкви. Что же касается англійской королевы, то она
просто атеистка. О королевѣ же шотландской онъ сказалъ бы только одно, что на-
родъ можетъ, если хочетъ, молиться за нее, такъ какъ это въ модѣ, но что къ этому
нѣтъ никакого другого повода, ибо никому не дождаться отъ нея ничего хорошаго х).
За эту проповѣдь Блаккъ былъ потребованъ къ отвѣту въ Тайный Совѣтъ. Но
онъ отказался явиться туда ца томъ основаніи, что наблюдать за тѣмъ, что гово-
рится съ каѳедры, дѣло не свѣтскаго, а духовнаго судилища; церкви онъ конечно
послушался бы, но, получивъ свое призваніе отъ Бога, онъ долженъ выполнить его
до конца, и было бы съ его стороны упущеніемъ, 'ейибы онъ дозволилъ граждан-
ской власти судить этого рода дѣла. Король, страшно взбѣшенный, приказалъ заклю-
чить Блакка въ тюрьму; и трудно было рѣшить, что ему оставалось дѣлать, хотя
было достовѣрно, что нп эта, ни какая-либо другая мѣра не могла бы укротить
необузданный духъ шотландской церкви.
Въ декабрѣ того же года церковь объявила постъ, и Вэлыпъ говорилъ въ
Эдинбургѣ проповѣдь съ цѣлью возмутить народъ противъ его правителей. Король,
сказалъ онъ своимъ слушателямъ, былъ сперва одержимъ однимъ дьяволомъ, а когда
этого дьявола изгнали, на мѣсто его явилось семеро новыхъ, еще худшихъ. Поэтому
очевидно, что Іаковъ не въ своемъ умѣ, и будетъ совершенно законно, если отни-
мутъ у него изъ рукъ мечъ правосудія, точно такъ же, какъ было бы законно со
стороны дѣтей или домочадцевъ схватить главу семейства, котораго небу угодно
было бы поразить безуміемъ. Въ такомъ случаѣ, замѣтилъ проповѣдникъ, справед-
ливо было бы схватить сумасшедшаго и связать его по рукамъ и по ногамъ, чтобы
онъ не могъ болѣе дѣлать никакого вреда.
Ненависть духовенства къ правительству дошла до такого ожесточенія и до
того усилился въ этомъ сословіи демократическій духъ 2), что оно повидимому не въ
Опъ утверждалъ, что «лорды-паписты возвра-
тились въ страну съ дозволенія короля в что этимъ
король раскрылъ коварное лггіьемѣріе своей дугии;
что всѣ короли-исчадія дьявола, и что дьяволъ і
сидитъ въ дворѣ и руководителяхъ его. Въ мо- |
дптвѣ своей онъ употребилъ, говоря о королевѣ, слѣ- і
дующія пеприлпчныл выраженія: мы должны мо-
литься о ней ради моды, но мы очень могли- бы
и не дѣлать втого, потому что опа никогда не
сдѣлаетъ намъ никакого добра. Опъ назвалъ—ан-
глійскую королеву атеисткою, а лордовъ сессіи—ли- :
хоимиами; и сказалъ, что всѣ вообще дворяне—вы- I
родни, безбожники, лицемѣры и враги церкви». Говоря |
Нокль.—Изд. Ф. Павленкова.
о дворянахъ, онъ сказалъ, что они — выродки, не-
христи, лицемѣры и враги церкви. А равно, го-
воря о Совѣтѣ, назвалъ членовъ его пьяницами,
обжорами и людьми безъ всякой религіи,
2) Это пе ускользнуло отъ вниманія англійскаго
правительства, и Елизавета, которая замѣчательно хо-
рошо знала обо всомъ, чтб дѣлалось въ Шотландіи,
написала къ Іакову въ 1590 году предостереженіе,
которое едва-ли было нужно, по тѣмъ не менѣе должно
было увеличить его опасенія. <А чтобы благовидная
наружность, легко вводящая въ обманъ, не ослѣпляла
васъ на счетъ людей, пользующихся религіей какъ
предлогомъ или притворяющихся набожными, поз-
31
482 а исторія цивилизаціи въ Англіи.
силахъ было сдерживать себя; Андрю Мельвилль на одной аудіенціи у короля
въ 1596 году дошелъ даже до личныхъ оскорбленій и, схвативъ короля за рукавъ,
назвалъ его глупымъ слугой Божіимъ. Значительная доля правды, содержавшаяся
въ этомъ ругательствѣ, сдѣлала его еще болѣе язвительнымъ. Но пасторы не всегда
органичивались одними только словами. Участіе ихъ въ Рётвеновомъ заговорѣ не
подлежитъ никакому сомнѣнію; и по всей вѣроятности они знали также и о послѣд-
ней страшной опасности, какой подвергался Іаковъ, прежде чѣмъ вырвался изъ без-
покойной страны, которой онъ считался правителемъ. Достовѣрно, что графъ Гоури,
который въ 1600 году заманилъ въ свой замокъ короля съ намѣреніемъ умертвить
его, былъ главною опорой и надеждой пресвитеріанскаго духовенства и что онъ
близко зналъ всѣ его честолюбивые планы. Оно было до такой степени ослѣплено
на счетъ его, что, когда его заговоръ былъ разстроенъ и онъ самъ убитъ, многіе
изъ пасторовъ распространили слухъ, будто Гоури палъ жертвою вѣроломства короля,
и что если и былъ на самомъ дѣлѣ какой-нибудь заговоръ, то развѣ только заго-
воръ, съ убійственнымъ искусствомъ составленный королемъ противъ своего крот-
каго и невиннаго хозяипа.
Нелѣпости этой охотно вѣрили въ тотъ невѣжественный и по тому самому легко-
вѣрный вѣкъ. Что духовенство распространяло ее и что въ этомъ, какъ и во мно-
гихъ другихъ случаяхъ, оно съ злостнымъ стараніемъ трудилось надъ тѣмъ, чтобы
опорочить личность своего монарха *),—это не удивитъ того, кто знаетъ, какъ легко
было возбудить гнѣвъ этой церкви и какъ велика была всегда готовность духовнаго
сословія очернить, хотя бы самымъ нелѣпымъ злословіемъ, того, что стоить на его
пути. Изъ собранныхъ свидѣтельствъ видно, что пресвитеріанское духовенство про-
стирало свою ненависть къ установленнымъ властямъ до неприличныхъ, если только
не преступныхъ размѣровъ; и мы не можемъ защищать его противъ обвиненія въ
томъ, что это—безпокойная, безсовѣстная корпорація, жадная къ власти и до край-
ности нетерпимая ко всему, чтб только противно собственнымъ ея видамъ. Но все-
таки настоящая причина такого поведенія пресвитеріанскихъ проповѣдниковъ заклю-
чалась въ духѣ ихъ времени и въ особенностяхъ ихъ положенія. Никто изъ насъ
не можетъ быть увѣренъ, что еслибы и насъ поставили въ точно такое же поло-
женіе, то мы поступали бы иначе. Теперь, читая объ ихъ поступкахъ, какими они
представляются въ протоколахъ ихъ же собраній и у историковъ ихъ же церкви,
мы не можемъ конечно не испытывать какопьто болѣзненнаго чувства, почти можно
сказать отвращенія, при видѣ такого суевѣрія, такой ябеды, такихъ низкихъ, гряз-
ныхъ ухищреній и при всемъ этомъ дерзкаго, необузданнаго нахальства. Но дѣло
въ томъ, что въ Шотландіи самый вѣкъ этотъ былъ дуренъ,—вотъ это дурное и
вышло наружу. Времена выходили изъ обычной колеи и трудно было снова возвра-
тить ихъ въ нее. Долгое преобладаніе анархіи, невѣжества, бѣдности, насилія и
обмана, внутренняго смятенія и внѣшней опасности привело Шотландію въ такое
состояніе, которое мы съ трудомъ можемъ представить себѣ. Я приведу далѣе нѣко-
торыя данныя о томъ вліяніи, какое все это имѣло на національный характеръ, и
о происшедшемъ оттого серьезномъ вредѣ. Въ то же время мы должны отдать спра-
ведливость шотландскому духовенству въ томъ, что поведеніе его лучше всего
объясняетъ положеніе самой страны, въ которой оно жило. Все вокругъ него было
низко и грубо; привычки людей въ ихъ ежедневной жизни отличались насиліемъ,
рѣзкостью и совершеннымъ Невниманіемъ къ самымъ обыкновеннымъ приличіямъ;
вольте мнѣ предостеречь васъ, что какъ въ вашемъ
королевствѣ, такъ и въ моемъ возникла секта, угро-
жающая опасными послѣдствіями, которая желала бы,
чтобы вовсе не было королей, а только пресвитеріи,
и стремится занять наше мѣсто, отрицая въ то же
время наши привилегіи и прикрываясь словомъ Бо-
жіимъ, которому считается правильно слѣдующимъ
только тотъ, кто, по ея мнѣнію, слѣдуетъ ей. Да,
за нею намъ должно хорошенько смотрѣть».
г) Его рѣчи и вообще все его поведеніе до того
взбѣсили Іакова, что заставили его объявить въ серд-
цахъ въ 1592 г., что «не бывать добру, пока дво-
ряне и джентльмены не получатъ дозволенія разбивать
головы пасторамъ» (Кальдсрвудъ, «Исторія церкви»).
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XV И XVI стол.
483
и вслѣдствіе этого мѣрило человѣческихъ дѣяній было до такой степени узко, что
люди правдивые и благомыслящіе не гнушались дѣлать то, что въ нашемъ разви-
томъ состояніи общества кажется неимовѣрнымъ. Поэтому не будемъ слишкомъ скоры
въ сужденіяхъ нашихъ, не будемъ заходить слишкомъ далеко въ обвиненіи главныхъ
дѣятелей того великаго кризиса, черезъ который прошла Шотландія въ теченіе послѣд-
ней половины XVI столѣтія. Много они дѣлали такого, что возбуждаетъ въ насъ
сильнѣйшее отвращеніе. Но одно сдѣлали они, за что мы должны были бы уважать
ихъ память и провозгласить ихъ благодѣтелями рода человѣческаго. Въ самую опас-
ную минуту они сохранили духъ національной свободы х). Духовенство спасло то,
чему дворянство и корона угрожали опасностью. Его попеченіемъ потухшая искра
разгорѣлась въ пламя. Когда свѣтъ сталъ тускнѣть и уже замерцалъ на алтарѣ,
готовый погаснуть, рука духовенства поправила лампаду и поддержала священный
огонь. Вотъ въ чемъ его истинная слава, и оно имѣетъ полное право успокоиться
на этомъ. Протестантскіе проповѣдники были хранителями шотландской свободы, и
они остались вѣрны своему посту. Въ опасности они всегда были впереди. Своими
проповѣдями, своей дѣятельностью, какъ общественной, такъ и частной, рѣшеніями
своихъ собраній, своими смѣлыми и частыми нападеніями на людей, безъ различія
ихъ общественныхъ положеній, даже самою дерзостью своего обращенія съ высшими
лицами — они расшевеливали умы людей, пробуждали ихъ отъ летаргіи, развивали
въ нихъ привычку къ изслѣдованію и возбуждали тотъ пытливый демократическій
духъ, который составляетъ единственную надежную гарантію для народа противъ
тиранніи поставленныхъ надъ нимъ личностей. Это было дѣломъ шотландскаго духо-
венства, — честь и слава людямъ, совершившимъ его. Они научили своихъ сооте-
чественниковъ проникать пытливымъ, смѣлымъ взгдядом^/въ политику своихъ прави-
телей. Они-то указали презрительно пальцемъ на королей и дворянъ и вывели на-
ружу всю пустоту ---------------------------------------------------------------х
шались надъ ихъ
за нею продѣлки,
шихъ надъ ними,
ихъ притязаній. Они сдѣлали,смѣшными ихъ претензіи и потѣ-
мистеріями. Они прорвали завѣсу и изобличили всѣ скрывавшіяся
Они заклеймили презрѣніемъ сильныхъ міра сего, а людей, стояв-
низвергли съ этой высоты. Этимъ они сдѣлали такое дѣло, кото-
рое загладило бы всѣ пхъ вины, даже еслибъ онѣ были въ десять разъ больше,
поколебавъ то пагубное и унизительное уваженіе, которое люди слишкомъ склонны
бываютъ оказывать тѣмъ, кого случай, а не заслуги, поставилъ выше ихъ, — они
способствовали развитію гордой, стойкой независимости, которая всегда могла при-
годиться въ нуждѣ. А нужда эта пришла скорѣе,, чѣмъ могъ кто-либо ожидать. Очень
немного лѣтъ спустя, Іаковъ получилъ въ свое распоряженіе всѣ средства, которыми
располагала Англія, и съ помощью ихъ сталъ пытаться ниспровергнуть свободу
Шотландіи. Начатое имъ постыдное предпріятіе было продолжаемо его жестокимъ
и суевѣрнымъ сыномъ. Какимъ образомъ попытки ихъ не удались; какимъ образомъ
въ предпріятіи этомъ Карлъ I подвергъ крушенію свое счастье и вызвалъ возста-
ніе, приведшее на эшафотъ этого великаго преступника, который осмѣлился зло-
умышлять противъ народа и, какъ всеобщій врагъ и притѣснитель, снискалъ, нако-
нецъ, справедливую кару за свои грѣхи, — все это извѣстно всякому, кто читалъ
нашу исторію. Извѣстно также, что въ дѣлѣ веденія этой борьбы англичане были мно-
гимъ обязаны шотландцамъ, которые кромѣ этого имѣли еще и ту заслугу, что первые
«Въ періодъ, о которомъ мы говоримъ (около
1584 г.), каеедра проповѣдника была въ самомъ дѣлѣ
единственнымъ органомъ, посредствомъ котораго вы-
сказывалось пли могло высказываться общественное
мнѣніе, и церковные суды были единственными въ
отои націи собраніями, обладавшими хотя чѣмъ-ни-
будь, чтб имѣло право назваться свободою пли неза-
висимостью. Парламенту приходилось разсматривать
уже впередъ рѣшенныя дѣла, предлагавшіяся ему въ
формѣ актовъ, требовавшихъ только его согласія. Пре-
нія и свобода рѣчи были неизвѣстны въ его собра-
ніяхъ. Суды находились въ зависимости отъ воли мо-
нарха, и часто дѣлопроизводство въ япхъ было на-
правляемо и рѣшенія навязываемы пмъ письмами отъ
короля пли приказаніями, передаваемыми чрезъ послан-
ныхъ его. Проповѣдники первые научили народъ вы*
ражать мнѣнія объ образѣ дѣйствіи его правителей; и
собранія церкви подали пе-рвый примѣръ правильной и
твердой оппозиціи произвольнымъ и неконституціон-
нымъ мѣрамъ двора» (Макъ-Крп, «Жизнь Мельвилля»).
31*
484 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
подняли руку на тиранна. А что хотя менѣе извѣстно, но несомнѣнно справедливо,
такъ это то, что обѣ націи вмѣстѣ имѣютъ еще одинъ долгъ, который они никогда
не въ силахъ будутъ выплатить; это именно долгъ благодарности по отношенію къ
людямъ, распространявшимъ въ теченіе послѣдней половины XVI столѣтія съ каѳедры
и изъ своихъ собраній тѣ чувства, которыя народъ лелѣялъ потомъ въ своихъ серд-
цахъ и которыя въ удобную минуту снова пробудились на страхъ и, наконецъ, на
погибель тѣхъ, кто угрожалъ его свободѣ.
ГЛАВА IV.
Состояніе Шотландіи в-ь XVII и XVIII столѣтіяхъ».
Едва вступивъ на англійскій престолъ, Іаковъ началъ серьезно и въ широ-
кихъ размѣрахъ пытаться поработить шотландскую церковь, которая, какъ онъ ясно
видѣлъ, была главною преградою между нимъ и деспотической властью. Пока онъ
былъ только королемъ Шотландіи, его неоднократныя посягательства были постоянно
неудачны; но теперь, когда онъ обладалъ огромными средствами Англіи, побѣда ка-
залась легкой. Еще въ 1584 году достигъ онъ временнаго торжества, принудивъ
многихъ изъ духовныхъ лицъ признать епископство х)- Но это учрежденіе было такъ
противно ихъ анти іерархическимъ и демократическимъ принципамъ, что никакая
сила не могла преодолѣть ихъ отвращенія къ нему, и, совершенно запугавъ короля,
они заставили его уступить и попятиться. Вслѣдствіе этого въ 1592 году изданъ
былъ парламентскій актъ, низвергнувшій власть епискрповъ и установившій пре-
свитеріанство, — систему, основанную на идеѣ равенства и потому соотвѣтствовавшую
потребностямъ шотландской церкви.
На эту законодательную мѣру Іаковъ согласился съ величайшимъ отвраще-
ніемъ * 2). Въ самомъ дѣлѣ, его нерасположеніе къ ней было такъ сильно, что онъ
рѣшился при первомъ удобномъ случаѣ добиться отмѣны ея, хотя бы даже при-
шлось употребить для этого силу. Принятый имъ образъ дѣйствія характеризуетъ и
человѣка, и вѣкъ. Въ декабрѣ 1596 г. произошелъ въ Эдинбургѣ одинъ изъ тѣхъ
народныхъ мятежей, которые естественны въ грубыя времена, — мятежъ, который
по усмиреніи не оставилъ бы по себѣ никакого воспоминанія. Но Іаковъ вос-
пользовался имъ, чтобы нанести, какъ онъ полагалъ, рѣшительный ударъ. Онъ за-
думалъ просто-на-просто направить въ столицу своей державы огромныя шайки
вооруженной вольницы, которая угрозой разграбить городъ заставила бы духовныхъ
пастырей съ ихъ паствами согласиться на всѣ условія, какія ему вздумалось бы
предписать. Этотъ великодушный замыселъ, вполнѣ достойный сердца Іакова, былъ
Іаковъ, льстившій себя надеждой, что онъ те-
перь все устроилъ,—ознаменовалъ свое торжество лич-
нымъ оскорбленіемъ духовенства, назвавъ духовныхъ
мошенниками, мятежными трусами и т. п.
2) «Король раскаивался лотомъ, что далъ свое
согласіе». Но эті слова даютъ лишь слабое понятіе
объ истинныхъ чувствахъ короля. Выть можетъ и не
нужно приводить свидѣтельствъ о томъ, какія чувства
питалъ въ этомъ случаѣ государь, любимой поговор-
кой котораго было: «нѣтъ епископства—нѣтъ короля».
Тѣмъ не менѣе я выписываю здѣсь одно письмо
Карла I, которое стоитъ прочесть, потому что въ
немъ онъ откровенно сознается, что въ своей любви
къ епископству и ненависти къ пресвитеріанству онъ
руководствовался скорѣе политическими, чѣмъ рели-
гіозными побужденіями. Карлъ пишетъ: «Требованія
благоразумія въ какомъ бы то ни было соображеніи
никогда но окажутся противными требованіямъ совѣ-
сти; здѣсь же они даже идутъ рука объ руку; ибо
укажите мнѣ примѣръ, чтобы когда-либо пресвите-
ріанское правительство совмѣщалось съ королевскимъ
и не было при этомъ постоянныхъ возмущеній. Что
было причиной, побудившей короля, отца мо-
его, перемѣнить ото правительство въ Шот-
ландіи?» Привожу также слова одного шотландскаго
пресвитеріанина XVII столѣтія: «Причиною тому, что
король Іаковъ такъ горячился изъ-за епяскоповъ, пе
было ни божественное начало ихъ учрежденія (котораго
онъ не признавалъ за ними), ни польза, которую они
могли бы принести церкви (онъ хорошо зналъ и са-
михъ людей, и ихъ взгляды),~а просто онъ былъ увѣ-
ренъ, что это полезныя орудія для обращенія ограни-
ченной монархіи въ неограниченное господство, поддай*
ныхъ—въ рабовъ, т. е. для достиженія цѣли, къ ко-
торой онъ стремился болѣе всего на свѣтѣ*.
486
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
въ точности исполненъ. Съ сѣвера король призвалъ горскихъ князей, а съ юга —
пограничныхъ бароновъ, которые должны были явиться въ сопровожденіи своихъ
свирѣпыхъ вассаловъ, — людей, жившихъ грабежомъ и съ наслажденіемъ обагрявшихъ
руки въ крови. По именному указу Іакова, эти кровожадные разбойники явились
1 января 1597 г. на улицахъ Эдинбурга, радуясь предстоявшему дѣлу и готовые,
по первому слову своего государя, опустошить столицу и не оставить въ ней камня
на камнѣ. Сопротивленіе было безполезно. Всѣ требованія короля были исполнены,
и Іаковъ полагалъ, что, наконецъ, наступило время твердо установить власть еписко-
повъ и, обуздавъ съ ихъ помощью духовенство, сломить его непокорство1).
На это предпріятіе потрачено было три года. Для вящшаго успѣха его ко-
роль, поддерживаемый аристократами, опирался не только на силу, но и на хитрость,
которая была употреблена тогда чуть ли не въ первый разъ. Она состояла въ под-
тасовкѣ генеральныхъ собраній огромнымъ числомъ духовныхъ лицъ, вызванныхъ
изъ сѣверной Шотландіи, гдѣ при господствѣ стариннаго кданнаго и аристократи-
ческаго духа демократическій духъ, преобладавшій на югѣ, былъ не извѣстенъ. До
гѣхъ поръ эти сѣверные священники рѣдко посѣщали большія собранія шотландской
церкви, но въ 1597 г. Іаковъ послалъ сэра Патрика Мёррея съ особымъ поруче-
ніемъ къ нимъ, требуя, чтобы они присутствовали и подавали голосъ въ его пользу.
Крайне невѣжественные, незнакомые, или почти незнакомые, съ сущностью спор-
ныхъ вопросовъ и кромѣ того привыкшіе къ тому состоянію общества, въ кото-
ромъ люди, несмотря па свою необузданность, оказывали самое раболѣпное пови-
новеніе непосредственнымъ своимъ начальникамъ, — онц легко поддалпсь и согласи-
лись дѣлать то, что имъ было предложено. Съ ихъ прмощью корона и знать такъ
усилили свою партію, что вЬ> многихъ случаяхъ располагали большинствомъ голо-
совъ, и потому постепенно стали вводить новые порядки, цѣлью которыхъ было
уничтожить демократическій характеръ шотландской церкви.
Нововведенія начались въ 1597 г. Съ тѣхъ поръ до 1600 г. рядъ собраній
узаконилъ различныя перемѣны, отмѣченныя всѣ тѣмъ аристократическимъ направ-
леніемъ, которое, казалось, должно было все преодолѣть. Въ 1600 г. генеральное со-
браніе открылось въ Монтрозѣ, и правительство рѣшилось употребить послѣднее усиліе,
чтобы принудить церковь установить епископское устройство. Андрю Мельвилль,
безспорно самый вліятельный человѣкъ между духовенствомъ и предводитель демо-
кратической партіи, былъ, по обыкновенію, избранъ членомъ собранія; но король,
произвольно вмѣшавшись, отказался дозволить ему занять мѣсто члена* 2). Тѣмъ не
менѣе ни угрозами, ни силою, ни обѣщаніями не могъ дворъ добиться желаемаго.
Онъ достигъ только того, что нѣкоторымъ священникамъ дозволено было засѣдать
въ парламентѣ; но вмѣстѣ съ тѣмъ было постановлено, чтобы эти лица ежегодно
слагали передъ генеральнымъ собраніемъ свои полномочія и отдавали ему отчетъ
въ своихъ дѣйствіяхъ. Собраніе оставило за собой право низлагать ихъ; а для того,
чтобы еще болѣе удержать ихъ въ повиновеніи, оно запретило имъ называться епи-
скопами и предписало имъ довольствоваться менѣе значительнымъ титуломъ цер-
ковныхъ коммиссаровъ.
Послѣ этого отпора Іаковъ, кажется, струсилъ, потому что пе дѣлалъ никакихъ
дальнѣйшихъ попытокъ, хотя подъ рукой все еще старался о возстановленіи епи-
скопства. Еслибъ онъ упорствовалъ, упорство могло бы стоить ему короны. Его
Въ числѣ другихъ угрозъ было: «скрыть и
вспахать Эдинбургъ и засѣять его солью».
2) Это разсказываетъ его племянникъ, Джемсъ
Мельвилль. «М-ръ Андрю Мельвилль явился въ со-
браніе по порученію своей пресвитеріи, по ему при-
казано было идти домой; будучи призванъ частнымъ
образомъ къ королю и спрошенъ, почему онъ такъ не-
покоренъ, что явился въ собраніе, несмотря на то,
I что былъ смѣщенъ, — онъ отвѣчалъ, что имѣетъ свое
| назначеніе въ церкви Бога и Іисуса Христа, Царя
царей, которое готовъ выполнять во всѣхъ случаяхъ,
будучи законнымъ образомъ призванъ къ тому, какъ
теперь; п что онъ дѣлаетъ это подъ страхомъ боль-
шаго наказанія, чѣмъ то, какому можетъ подвергнуть
его кто-лпбо пзъ земныхъ царей*.
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII И XVIII стол. 487
средства были ограничены; онъ былъ чрезвычайно бѣденъ х); а послѣднія событія
показали, что духовенство было сильнѣе, чѣмъ онъ полагалъ. Когда онъ почти не
сомнѣвался въ успѣхѣ, оно заставило его испытать постыдное пораженіе, и это
пораженіе было тѣмъ болѣе замѣчательно, что оно было вполнѣ дѣломъ духовнаго
сословія, ибо духовенство въ то время совершенно разошлось со знатью, такъ что
не могло разсчитывать ни на одного члена этого могущественнаго сословія.
При такомъ положеніи дѣлъ, когда вольности Шотландіи, охранявшіяся цер-
ковью, находились на краю гибели, умерла Елизавета, и шотландскій король сдѣ-
лался кромѣ того королемъ англійскимъ. Іаковъ тотчасъ же рѣшился употребить
средства своего новаго королевства для обузданія стараго. Въ 1604 г., т. е. всего
черезъ годъ по восшествіи на англійскій престолъ, онъ вознамѣрился нанести смер-
тельный ударъ шотландской церкви нападеніемъ на независимость ея собраній и
собственной властью отсрочилъ абердинское генеральное собраніе. Въ 1605 году
онъ опять отсрочилъ его и для того, чтобы заявить свои намѣренія, отказался въ
этотъ разъ назначить день для будущей сходки. Тогда нѣкоторые изъ священно-
служителей, уполномоченные пресвитеріями, рѣшились сами созвать собраніе, на
что они имѣли несомнѣнное право, такъ какъ поступокъ короля былъ очевидно не-
законенъ. Въ назначенный день они сошлись въ абердинской судебной палатѣ. Имъ
было приказано разойтись. Достаточно, какъ они полагали, заявивъ самымъ фактомъ
сходки свои привилегіи, они повиновались. Но Іаковъ, опиравшійся теперь на мо-
гущество Англіи, рѣшился дать имъ почувствовать перемѣну своего, а слѣдовательно,
и ихъ положенія. Вслѣдствіе приказаній, присланныхъ имъ изъ Лондона, четырна-
дцать духовныхъ лицъ были "заключены въ тюрьму. Шестеро изъ нихъ, не призна-
вавшія власти Тайнаго Совѣѣц, были обвинены въ гобударственной измѣнѣ. Они
были немедленно преданы суду. Судъ призналъ ихъ виновными. Смертный приго-
воръ былъ только отсроченъ, чтобы напередъ узнать,7не благоугодно ли будетъ ко-
ролю удовлетвориться какимъ-нибудь другимъ наказаніемъ, которое бы не лишало
жизни этихъ несчастныхъ людей.
Ихъ жизнь дѣйствительно была пощажена; но они подверглись строгому за-
точенію, а потомъ были осуждены на вѣчное изгнаніе * 2). Въ другихъ частяхъ коро-
левства приняты были подобныя же мѣры. Почти во всей Шотландіи множество
духовныхъ лицъ были или заключены въ тюрьму, или принуждены бѣжать 3). Тер-
г) Іаковъ въ теченіе всего своего царствованія
находился въ зависимости главнѣйшимъ образомъ отъ
тѣхъ денегъ, которыя давала ему Елизавета, и давала
нѣсколько скупо. Онъ такъ нуждайся, что долженъ I
былъ заложить свои столовый сервизъ и при всемъ |
этомъ часто бывалъ не въ состояніи покрывать обык- ;
новенпыо домашніе расходы. |
2) Относительно этого дѣла сохранилось одно і
письмо въ <1Ѵіп\ѵоо(і Рарегз», которое слишкомъ любо- :
пытно, чтобы пройти его молчаніемъ. Оно написано
графомъ Сольсбёри къ сэру Чарльзу Корнвлллису и
помѣчено 12-мъ сентября 1605 года. Сольсбери, ко-
торый былъ тогда во главѣ управленія, пишетъ:
«Правда, что вслѣдствіе того, что его величество стре-
мился украситъ шотландское королевство та-
кими прелатами, какъ въ Англіи, нѣкоторые изъ
пасторовъ возстали противъ этого; и хотя его вели-
чество всегда обезпечивалъ имъ право созванія гене-
ральныхъ собраній, не полагая другихъ условій кромѣ
того, чтобы они давали знать о нихъ, получали его
разрѣшеніе и допускали уполномоченнаго отъ его ве-
личества къ засѣданію въ своихъ совѣтахъ,—тѣмъ I
не менѣе они (сопровождаемые бѣднымъ простона-
родіемъ) задумали созвать свое генеральное собраніе
въ какой-то части королевства, наперекоръ его пове-
лѣнію. На чтб его величество выразилъ неудоволь-
ствіе и призвалъ нѣкоторыхъ изъ нихъ къ отвѣту въ
свой совѣтъ». А между тѣмъ человѣкъ, который могъ
написать такую нелѣпость и который въ великомъ
демократическомъ движеніи шотландскаго ума могъ
видѣть не болѣе какъ нерасположеніе къ украшенію
епископства, — считался однимъ изъ замѣчательнѣй-
шихъ государственныхъ людей своего времени, и его
слава пережила его самого. Если великіе государствен-
ные люди такъ мало различаютъ, чтб происходитъ пе-
редъ ними и вокругъ ихъ, то намъ хотѣлось бы знать,
какое довѣріе можно имѣть къ мнѣніямъ тѣхъ средней
руки государственныхъ людей, которыми управляются
государства. Я съ своей стороны могу только сказать,
что я имѣлъ случай читать много тысячъ писемъ, пи-
санныхъ дипломатами и политиками, но едва-ли я на-
шелъ хоть одного, который понималъ бы духъ г. сгрем-
леніе своего времени.
3) Свобода рѣчи была до такой степени подав-
лена, что въ 1605 году, когда самые ретивые и ум-
ные изъ духовенства были изгнаны, отдано было стро-
гое приказаніе, судьямъ и другимъ должностнымъ ли-
цамъ бірговъ, чтобы въ случаѣ если какой-нибудь
проповѣдникъ станетъ говорить открыто противъ этого
изгнанія или въ защиту этого собранія, ми публично
молиться о его безопасности, то чтобы его отмѣчали,
сообщали о немъ Тайному Совѣту и подвергали его
исправленію за его вину.
488
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
роръ и проскрипціи были повсемѣстны. Паника была такова, что, по общему мнѣнію,
ничто не могло воспрепятствовать прочному утвержденію деспотизма, кромѣ непосред-
ственнаго вмѣшательства Провидѣнія въ пользу церкви и народа.
Нельзя отрицать того, что для этихъ основаній были уважительныя причины.
У народа не было друзей никого, кромѣ духовенства; а дѣльнѣйпгіе люди изъ ду-
ховенства находились или въ тюрьмѣ, или въ изгнаніи. Чтобы совершенно лишить
церковь вождей, Іаковъ въ 1606 г. потребовалъ въ Лондонъ Мельвилляи семерыхъ изъ
его товарищей подъ предлогомъ необходимости посовѣтоваться съ ними. Залучивши
ихъ къ себѣ, онъ задержалъ ихъ въ Англіи. Имъ было запрещено возвращаться въ
Шотландію; а Мельвилль, котораго правительство больше всего боялось, былъ отданъ
подъ стражу. Потомъ онъ былъ посаженъ въ Тоуэръ, гдѣ просидѣлъ четыре года, и
былъ выпущенъ только подъ условіемъ жить за границей и никогда не возвра-
щаться на родину 1). Семеро священнослужителей, сопровождавшихъ его въ Лондонъ,
были тоже посажены въ тюрьму; но такъ какъ они считались менѣе опасными, чѣмъ
ихъ предводитель, то имъ черезъ нѣсколько времени дозволено было возвратиться
домой. Племянникъ Мельвилля получилъ однако приказаніе не отлучаться никуда
далѣе двухъ миль отъ Ньюкэстля; а шестеро его товарищей были высланы на жи-
тельство въ различныя части Шотландіи,
Теперь, казалось, все уже было готово для уничтоженія тѣхъ идей равенства,
единственной представительницей которыхъ въ Шотландіи была церковь. Въ 1610 г.
открыто было генеральное собраніе въ Глазго, и такъ какъ члены его были на-
значены короной, то все, чего желало правительство, было исполнено. По ихъ рѣ-
шенію, епископство было установлено, и власть епископовъ надъ священнослужи-
телями была вполнѣ признана * 2). Немного ранѣе, но въ томъ же году, учреждены
были два суда верховной коммиссіи: одинъ—въ Сентъ-Андрюсѣ, а другой—въ Глазго.
Имъ подчинены были всѣ церковные суды. Они были облечены такою огромной
властью, что могли потребовать кого угодно къ отвѣту, могли допрашивать отвѣт-
чика насчетъ его религіозныхъ мнѣній, могли распоряжаться отлученіемъ его отъ
церкви, могли налагать на него пеню или заключать его въ тюрьму совершенно по
своему усмотрѣнію. Наконецъ, къ довершенію униженія Шотландіи, установленіе
епископства до тѣхъ поръ не считалось полнымъ, пока не совершился актъ, кото-
рый—не будь онъ такъ позоренъ—неизбѣжно былъ бы осмѣянъ, какъ пустой и ре-
бяческій фарсъ. Архіепископъ глазгоскій, епископъ бречинскій и епископъ голло-
вейскій должны были проѣхать все пространство до Лондона для того только, чтобы
къ нимъ прикоснулся кто-нибудь изъ англійскихъ епископовъ. Невѣроятнымъ мо-
жетъ показаться, а между тѣмъ дѣйствительно предполагалось, что въ Шотландіи
пѣтъ такой духовной власти, которая могла бы сдѣлать изъ шотландца прелата. Вотъ
почему архіепископъ глазгоскій и его товарищи совершили трудную по тогдашнему
времени поѣздку въ чужеземную и отдаленную столицу для пріобрѣтенія какой-то
тайной силы, которую они по возвращеніи домой могли бы сообщать своей братіи.
Къ прискорбію и изумленію соотечественниковъ, эти недостойные священнослужи-
тели, отступивъ отъ преданій родной земли и забывъ гордость, одушевлявшую ихъ
отцовъ, согласились отречься отъ своей независимости, смириться передъ англій-
ской церковью и подчиниться шутовскимъ обрядамъ, которые они въ душѣ должны
*) Этотъ истинно великій и безстрашный чело-
вѣкъ умеръ въ изгнаніи въ 1622 г.
2) Собраніе запретило даже защищать демократи-
ческую идею равенства: «Ибо неприлично, чтобы за-
коны и учрежденія, гражданскіе ли или церковные,
разъ установленные и получавшіе силу съ общаго со-
гласія, открыто выраженнаго,—были бы осуждаемы
и подвергаемы сомнѣнію какимъ-нибудь частнымъ ли-
цомъ; поэтому постановляется съ единодушнаго согла-
сія всего собранія, чтобы никто изъ пасторовъ ни въ
своей проповѣди сь каѳедры, ни въ публичной рѣчи,
не говорилъ и не разсуждалъ противно актамъ настоя-
щаго собранія, по ослушивался его,—подъ страхомъ
смѣщенія во суду и приговору; въ особенности жв^
чтобы вопросъ о равенствѣ и неравенствѣ въ
церкви не обсуждался съ каѳедры, подъ страхомъ
। того же наказанія».
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴП И XVIII стол.
489
были презирать, но которые теперь были предписаны имъ пхъ старинными и за-
коренѣлыми врагами.
Легко вообразить, какъ должны были дальше поступать люди, которые един-
ственно ради своего возвышенія и для того, чтобы угодить своему государю, могли
такимъ образомъ отказаться отъ дорогой независимости шотландской церкви. Кто
пресмыкается передъ высшими, тотъ всегда давитъ низшихъ. Немедленно по воз-
вращеніи въ Шотландію они сообщили полученное въ Англіи посвященіе своимъ
товарищамъ-епископамъ, которые были одного съ ними покроя, потому что всѣ они
помогали Іакову въ его попыткѣ подавить вольности ихъ родной земли. Рукополо-
женные теперь надлежащимъ образомъ, они вполнѣ устроили свою духовную жизнь;
но имъ оставалось еще упрочить благополучіе своей мірской жизни. Этого они до-
стигли, постепенно захватывая въ свои руки всю власть и относясь съ безпощадною
строгостью къ тѣмъ, кто противодѣйствовалъ имъ. Полное торжество епископовъ
послѣдовало въ царствованіе Карла I, когда многіе изъ нихъ получили мѣста въ
Тайномъ Совѣтѣ, гдѣ они вели себя съ такой высокомѣрной наглостью, что даже
Кларендонъ, несмотря на свое извѣстное пристрастіе къ ихъ сословію, порицаетъ
ихъ поведеніе. Впрочемъ, и при Іаковѣ они торжествовали почти во всѣхъ отно-
шеніяхъ х). Они отнимали у городовъ привилегіи п принуждали ихъ принимать на-
чальниковъ, которыхъ сами выбирали для нихъ. Они богатѣли и открыто чванились
своимъ богатствомъ, поступая тѣмъ безчестнѣе, что страна была чрезвычайно бѣдна
и ближніе ихъ кругомъ умирали съ голоду 2 3). Статейные лорды, безъ разрѣшенія
которыхъ нельзя было предложить никакой мѣры парламенту, до сихъ поръ избира-
лись мірянами; но епископы Произвели теперь перемѣну, въ силу которой право на-
значенія этихъ лордовъ перешло къ нимъ. Овладѣвши такимъ образомъ законодательною
властью, они добились узаконенія новыхъ наказаній для своихъ соотечественниковъ.
Многихъ изъ духовенства они отрѣшили отъ должностей, другихъ лишили бенефицій,
а нѣкоторыхъ заключили въ тюрьму. Такъ какъ городъ Эдинбургъ противился
нововведеннымъ обрядамъ и церемоніямъ и былъ, подобно остальной странѣ, враж-
дебенъ епископству, то епископы накинулись и на него, смѣстили многихъ изъ его
должностныхъ лицъ, арестовали нѣкоторыхъ изъ его именитыхъ гражданъ и грозили
лишить его судебныхъ палатъ и чести быть мѣстопребываніемъ правительства.
Между тѣмъ въ это самое время, когда положеніе дѣлъ казалось самымъ отча-
яннымъ, готовилась великая реакція. Объясненія этой реакціи надлежитъ искать въ
томъ широкомъ и плодотворномъ началѣ, на которое я часто указывалъ, но кото-
раго наши обыкновенные историки не умѣютъ понять, а именно—что дурное прави-
тельство, дурные законы или дурно исполняемые, хотя и бываютъ временно чрез-
вычайно вредны, однако не могутъ причинить постояннаго зла; другими словами,
они могутъ повредить странѣ, но никогда не могутъ погубить ее. Пока народъ здо-
ровъ, въ немъ есть жизнь, а пока въ немъ есть жизнь, реакція будетъ. Въ подоб-
номъ случаѣ тираннія вызываетъ бунтъ, деспотизмъ порождаете свободу. Но если
2) Еще въ 1613 году въ одномъ письмѣ Джемса
Инглиша высказываются жалобы на то, что «свобода
церкви Божіей значительно уменьшилась отъ гордости
епископовъ; и власть надъ нею съ каждымъ днемъ уве-
личивается». Гражданскія права были также обращены
въ ничто епископами; и въ числѣ другихъ постанов-
леній, которыя они выхлопотали, одно заключалось
въ томъ, чтобы никому но позволялось преподавать
медицину или лечить, если онъ сперва пе заявлялъ
удовлетворительнымъ образомъ передъ епархіальнымъ
епископомъ о своихъ религіозныхъ убѣжденіяхъ. Это
вдругъ поставило въ зависимость отъ нихъ все сосло-
віе врачей.
3) «Ихъ расточительность, говоритъ Кальдервудъ,
не уступала ихъ грабительству. Когда въ 1615 году
умеръ архіепископъ Гладстэпсъ, то оказалось, что, «не-
смотря на огромную ренту съ его епископства, опъ
оставилъ 20.000 фунтовъ долгу». Также было п съ
епископомъ Голловэй, умершимъ въ 1619 г.: «пола-
гаютъ, что если бы сдѣлать точное вычисленіе вся-
каго добра, награбленнаго имь съ епархіи усиленными
рентами, требованіемъ единовременныхъ взносовъ съ
арендаторовъ, наложеніемъ на нихъ особой за нѣко-
торыя статьи платы, десятинными сборами и другими
подобными мѣрами,—то стоимость всего итого пре-
высила бы 100.000 марокъ, а по мнѣнію другихъ
составила бы вдвое большую сумму; такъ что многіе
въ этой епархіи и причисленныхъ къ ней прелат-
ствахъ едва-ли во всю жизнь поправятъ свои дѣла».
490
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
народъ нездоровъ, положеніе безнадежно, и нація погибаетъ. Въ обоихъ случаяхъ
правительство, если взять долгій періодъ времени, не оказываетъ никакого дѣйствія
и никакъ не подлежитъ отвѣтственности за окончательный результатъ. Правящіе
классы имѣютъ временно огромную власть, которой неизмѣнно злоупотребляютъ,
если только не обуздываются страхомъ или стыдомъ. Народъ можетъ внушать имъ
страхъ; общественное мнѣніе можетъ внушать имъ стыдъ. Но осуществленіе или
неосуществленіе этой возможности зависитъ отъ духа народа й отъ состоянія обще-
ственнаго мнѣнія. Эти два условія сами управляются длиннымъ рядомъ предше-
ствующихъ обстоятельствъ, восходящихъ ко времени всегда очень далекому, а иногда
столь отдаленному, что наблюденіе становится невозможнымъ. Когда данныхъ доста-
точно, — эти предшествующія обстоятельства могутъ быть обобщаемы, и обобщеніе
ихъ приводитъ насъ къ извѣстнымъ крупнымъ п могущественнымъ причинамъ, отъ
которыхъ зависитъ все движеніе. Въ короткіе періоды дѣйствіе этихъ причинъ не-
примѣтно, но въ періоды долгіе оно ясно выступаетъ на первый планъ, окраши-
ваетъ національный характеръ и управляетъ всѣми явленіями народной жизни. Въ
Шотландіи, какъ я уже показалъ, общія причины заставили народъ любить духо-
венство, а духовенство—любить свободу. Пока эти два факта существовали вмѣстѣ,
участь шотландской націи была обезпечена. Націю эту можно было обижать,
оскорблять и давить; ей можно было вредить различными способами; но чѣмъ зна-
чительнѣе былъ вредъ, тѣмъ вѣрнѣе было возмездіе, потому что тѣмъ выше долженъ
былъ подняться общественный духъ. Нужно было только еще немного времени и
еще немного раздраженія. Мы, отдаленные жители, имѣющіе возможность разсма-
тривать эти предметы съ высшей точки зрѣнія и видѣдѣ, какъ событія тѣснились и
густѣли, мы не можемъ не замѣтить правильности ихъ послѣдовательнаго хода.
Несмотря на кажущійся безпорядокъ, тутъ все было стройно и послѣдовательно.
Для насъ весь планъ ясенъ. Передъ нами—матерія одного цвѣта и одного фасона.
Ея узоръ ясно обозначенъ и, къ счастью, вотканъ въ такую ткань, могучая связь
которой не могла быть разорвана нп хитростями, ни насиліемъ коварныхъ людей.
Ни къ чему поэтому не послужило то, что тираннія напрягала всѣ свои силы.
Ни къ чему не послужило то, что престолъ былъ занятъ деспотическимъ и безсовѣст-
нымъ королемъ, которому наслѣдовалъ другой, еще деспотичнѣе и еще безсовѣстнѣе
перваго. Ни къ чему не послужило и то, что нѣсколько пронырливыхъ и назойли-
выхъ епископовъ, получившихъ посвященіе въ Лондонѣ и опиравшихся на автори-
тетъ англійской церкви, сообща умышляли противъ вольностей родной земли. Они
играли роль шпіоновъ и предателей, но играли ее напрасно. А между тѣмъ все,
что правительство могло имъ дать, оно дало. На ихъ сторонѣ былъ законъ и право
исполненія закона. Они были законодателями, членами Тайнаго Совѣта и судьями.
У нихъ было богатство; у нихъ были громкіе титулы; у нихъ были вся пышность
и всѣ аттрпбуты, на которые они промѣняли свою независимость и которыми они
надѣялись обморочить толпу. Но они не могли отвратить потока; они не могли даже
остановить его; они не могли помѣшать ему нахлынуть и поглотить ихъ въ своемъ
теченіи. Не успѣло одно поколѣніе смѣниться другимъ, какъ эти пигмеи, въ над-
менности своей воображавшіе себя гигантами, пошатнулись и пали. Рука времени
отяжелѣла надъ ними, и они не могли устоять. Они были низвергнуты и унижены;
они лишились должностей, почестей и блеска; они потеряли все, чѣмъ подобные
люди наиболѣе дорожатъ. Судьба ихъ есть поучительный урокъ. Это урокъ и для
правителей народовъ, и для тѣхъ, кто пишетъ исторію народовъ. Для правителей
она представляетъ одно изъ множества доказательствъ того, какъ мало могутъ они
сдѣлать и какъ незначительна роль, которую они играютъ въ великой міровой драмѣ.
Для историковъ этотъ урокъ долженъ быть особенно назидателенъ, какъ убѣдитель-
ный примѣръ того, что событія, на которыхъ они сосредоточиваютъ свое вниманіе и
которыя и они считаютъ чрезвычайно важными, въ сущности ничтожны и не только не
могутъ занимать перваго мѣста, но даже должны быть подчинены тѣмъ крупнымъ и
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴП И ХѴШ стол.
491
широкимъ началамъ, путемъ изученія которыхъ только и можно открыть условія,
опредѣляющія поступательное движеніе и жребій народовъ.
Дальнѣйшія событія въ Шотландіи можно бѣгло разсказать. Терпѣніе страны
почти истощилось, и день возмездія близился. Въ 1637 году народъ началъ возста-
вать. Лѣтомъ этого года первый большой мятежъ вспыхнулъ въ Эдинбургѣ. Пламя
быстро распространилось, и ничто не могло остановить его. Къ октябрю возстала вся
нація, и представлено было обвиненіе противъ епископовъ, подписанное почти всѣми
корпораціями и людьми всякаго званія. Въ ноябрѣ шотландцы, наперекоръ коронѣ,
устроили собственную систему представительства, въ которой каждое сословіе имѣло
участіе. Въ началѣ 1638 года образовался національный конвентъ, и рвеніе, съ
какимъ всѣ присягнули ему, показало, что народъ рѣшился во что бы то ни стало
отстоять свои права. Теперь уже очевидно было, что все кончено. Въ теченіе лѣта
1638 г. приготовленія были покончены, и осенью буря разразилась. Въ ноябрѣ гене-
ральное собраніе, не виданное въ Шотландіи цѣлыхъ двадцать лѣтъ, открыло свои
засѣданіи въ Глазго. Королевскій коммиссаръ маркизъ Гамильтонъ приказалъ членамъ
разойтись. Они отказались и не расходились до тѣхъ поръ, пока не исполнили дѣла,
котораго ожидала отъ нихъ вся нація. Рѣшеніемъ ихъ демократическое учрежденіе
пресвитерій было возстановлено въ прежнемъ видѣ, обряды посвященія были отмѣ-
нены, епископы отрѣшены отъ должностей и епископство уничтожено.
Такимъ образомъ епископы пали скорѣе даже, чѣмъ возвысились х). Но такъ
какъ ихъ паденіе было только частнымъ проявленіемъ демократическаго движенія,
то дѣло не могло остановиться на этомъ1 2). Едва шотландцы прогнали епископовъ,
какъ они уже начали войну съ королемъ. Въ 1639 году они взялись за оружіе про-
тивъ Карла. Въ 1640 году они вторгнулись въ Англію. Въ 1641 году король въ
надеждѣ успокоить пхъ посѣтилъ Шотландію и согласился на большую часть ихъ
требованій. Но было поздно. Народъ разсвирѣпѣлъ іС повсемѣстно требовалъ крови.
Война снова вспыхнула. Шотландцы соединились съ англичанами, и Карлъ былъ
повсюду разбитъ. Доведенный до послѣдней крайности, онъ отдался на произволъ
своихъ сѣверныхъ подданныхъ. Но его преступленія были такъ велики и такъ мно-
гочисленъ!, что пхъ невозможно было простить. Шотландцы, вмѣсто того чтобы
помиловать его, извлекли изъ него пользу. Онъ не только попиралъ ихъ вольности,
но и ввелъ ихъ въ огромныя издержки. За обиды онъ не могъ предложить соот-
вѣтственнаго удовлетворенія; но за издержки, понесенныя ими, можно было полу-
чить вознагражденіе. И такъ какъ изстари существуетъ юридическое правило, что
тотъ, кто не можетъ платиться своей казной, долженъ платиться своей головой, то
шотландцы не имѣли причины, почему бы имъ было не извлечь пользы изъ лич-
ности государя, тѣмъ болѣе, что онъ до тѣхъ поръ причинялъ имъ только убытки
да хлопоты. Поэтому они отдали его англичанамъ и взамѣнъ получили огромную
сумму денегъ, которую потребовали, какъ плату, причитавшуюся имъ за веденіе
противъ него войны3). Эта сдѣлка была выгодна для обѣихъ сторонъ, заключившихъ
1-) Вь 1639 г. Говелль пишетъ изъ Эдинбурга: ।
«Епископы всѣ потерпѣли крушеніе и жалкія были '
ихъ похороны; самое имя ото сдѣлалось до того пре- I
зрительнымъ, что черную собаку, если на нсіі есть
какая-нибудь бѣлая отмѣтина, называюсь ВізЬор (епи-
скопъ). Милордъ Кеатерббррійскій здѣсь сталъ до та-
кой степени певавпстенъ, что его обыкновенно назы- ;
ваютъ съ каеедры жрецомъ Ваала, сыномъ Веліала».
2) Теперь впервые англійское правительство
пришло въ трепетъ. 13 декабря 1639 г. секретарь
Вайвдбанкъ пишетъ: «Его величество въ теченіе по- і
елѣдвихъ шесто недѣль почти постоянно совѣщался
съ особымъ комитетомъ, составленнымъ пзъ нѣкото- 1
рыхъ членовъ его совѣта (въ которомъ и я имѣлъ
честь находиться), о томъ, какъ поправить его дѣла
въ Шотландіи, такъ какъ пожаръ тамъ все продол-
жается и доходитъ до такихъ опасныхъ размѣровъ, что
угрожаетъ монархическому правленію не только
тамъ, но и въ нашемъ королевствѣ*. Это первый
намекъ, какой мнѣ случилось встрѣтить, па то, что
Карлъ и его совѣтники сознавали всю опасность, угро-
жавшую имъ. Однако, король, будучи способенъ къ
страху, не имѣлъ способности сознавать свою вину.
Нѣтъ и помину о чемъ-нибудь такомъ, изъ чего видно
было бы, что онъ чувствовалъ хоть угрызеніе со-
вѣсти. послѣ того, какъ задумалъ и привелъ въ испол-
неніе тѣ произвольныя и беззаконныя мѣры, кото-
рыми опъ причинилъ громадное зло Шотландіи и Ан-
гліи, но въ особенности Шотландіи.
3) «Шотландцы продали своего несчастнаго ко-
роля, бѣжавшаго подъ пхъ защиту, коммиссарамъ ан-
глійскаго парламента за 200.000 ф. ст.» (Сомервиллъ),
492
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
договоръ. Шотландцы, очень бѣдные, пріобрѣли то, въ чемъ наиболѣе нуждались.
Англичане, народъ богатый, должны были, правда, заплатить деньги, но были воз-
награждены тѣмъ, что овладѣли своимъ притѣснителемъ, противъ котораго пылали
мщеніемъ, и позаботились не выпускать его изъ рукъ, пока не взыскали съ него
послѣдней пени за его великія и многочисленныя преступленія 1).
Послѣ казни Карла I шотландцы признали его сына преемникомъ престола.
Но прежде, чѣмъ короновать новаго короля, они подвергли его такому униженію,
къ какому наслѣдственные государи не очень-то привыкли. Они заставили его под-
писать декларацію, въ которой онъ выражалъ сожалѣніе о томъ, что случилось, и
признавалъ, что его отецъ, побуждаемый дурными совѣтами, несправедливо проли-
валъ кровь своихъ подданныхъ. Онъ былъ вынужденъ также объявить, что происшед-
шія событія смирили его гордыню. Сверхъ того онъ долженъ былъ извиниться въ
собственныхъ своихъ ошибкахъ, которыя приписывалъ частью своей неопытности,
а частью своему дурному воспитанію 2). Для того, чтобы онъ доказалъ искренность
этой исповѣди, и для того, чтобы эта исповѣдь могла сдѣлаться общественной, ему
было приказано соблюдать день поста и покаянія, въ который вся нація должна была
плакать и молиться за него, да избѣгнетъ отъ послѣдствій грѣховъ, совершенныхъ
его домомъ.
Духъ, котораго подобныя дѣйствія служатъ только проявленіями, продолжалъ
одушевлять шотландцевъ во все остальное время XVII столѣтія. И это было къ
счастью для нихъ, потому что царствованія Карла II и Іакова II были только по-
втореніемъ царствованій Іакова I и Карла I. Съ 1660 по 1688 годъ Шотландія
снова подверглась тиранній, столь жестокой и столь Изнурительной, что отъ нея
сломилась бы энергія почти ѣсякой другой націи. Аристократы, могущество которыхъ
медленно, но постоянно ослабѣвало, не были въ состояніи противиться англичанамъ,
съ которыми они даже скорѣе готовы были соединиться для участія въ ограбленіи
и угнетеніи своего отечества. Въ этотъ періодъ, самый несчастный, какой пережила
Шотландія съ XIV столѣтія, правительство было чрезвычайно сильно; высшіе классы,
пресмыкавшіеся передъ нимъ, думали только о собственной своей безопасности;
суды были такъ продажны, что правосудіе но только отправлялось дурно, но даже
и совсѣмъ не отправлялось; а парламентъ, совершенно запуганный, утвердилъ такъ
называемый отмѣнительный актъ (гесіззогу асѣ), посредствомъ котораго разомъ были
отмѣнены всѣ законы, изданные съ 1633 года, при чемъ законодательное собраніе
руководилось тѣмъ соображеніемъ, что эти 28 лѣтъ составляли періодъ, память о
которомъ надлежало по возможности изгладить 3).
Но хотя высшіе классы позорно измѣнили своему долгу и уничтожили законы,
Вь одномъ письмѣ сэра Эдварда Гайда къ
лорду Гаттопу, отъ 12-го апрѣля 1649 года, говорится
о Кардѣ II, что шотландцы «продали его отца тѣмъ,
которые умертвили его>. Но это неправда. Карлъ I
хотя и былъ купленъ англичанами, но не умерщвленъ
ими. Опъ былъ сужденъ въ виду всѣхъ, признанъ
виновнымъ и казненъ. И конечно не проходило года,
чтобы люди, гораздо менѣе преступные, не подверга-
лись той же участи. Можетъ быть и правы тѣ, ко-
торые считаютъ всякое уголовное наказаніе ненуж-
нымъ. Но это еще не было доказано; а если слѣдуетъ
когда-либо примѣнять это послѣднее п самое ужасное
изъ наказаній, то я не въ состояніи рѣшить, гдѣ бы
можно было найти личность, заслуживающую ого бо-
лѣе, чѣмъ деспотъ, старающійся подавить свободу
парода, которымъ онъ призванъ управлять, подвер-
гающій жестокому и незаконному наказанію тѣхъ,
кто противится ему, и рѣшающійся, скорѣе чѣмъ
отказаться отъ свопхъ намѣреній,—начать междоусоб-
ную войну, которая вооружаетъ отцовъ противъ дѣ-
тей, приводитъ въ разстройство все общество и оба-
гряетъ кровью всю страну. Такіе люди—разбойники,
это — врага рода человѣческаго; кто удивится тому,
что онп падаютъ? кто станетъ сожалѣть о нпхъ послѣ
паденія?
2) Декларація была подписана Карломъ 16-го ав-
густа 1650 года. Въ деклараціи этой Карлъ говоритъ,
что «хотя его величество, какъ добрый сынъ, обя-
занъ чтить память своего царственнаго родителя и
уважать личность своей матери, но тѣмъ не менѣе онъ
желаетъ смириться и возскорбѣть духомъ предъ Богомъ
за то, что отецъ его внималъ и слѣдовалъ дурнымъ
совѣтамъ и противился дѣду реформаціи и торжествен-
ной лигѣ и ковенанту,—вслѣдствіе чего такъ много
крови люда Божьяго было пролито въ этой странѣ».
Далѣе опъ говорилъ, что хотя онъ и могъ бы привести
въ извиненіе своимъ собственнымъ дурнымъ поступ-
камъ «свое воспитаніе и свои лѣта», но онъ считаетъ
за лучшее «чистосердечно признать всѣ свои собствен-
ные грѣхи и грѣхи дома отца своего».
3) Такъ какъ мало кто побезпокоится прочесть
шотландскіе парламентскіе акты, то я выпишу изъ
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴП II XVIII стол. 493
поддерживавшіе вольности Шотландіи, послѣдствія доказали, что самыя вольности
были несокрушимы. Онѣ оказались несокрушимыми оттого, что оставался духъ, ко-
торымъ были пріобрѣтены эти вольности. Сердцевина націи была здорова; а пока
она была здорова, законодатели могли уничтожать только внѣшнія проявленія сво-
боды, но отнюдь не могли коснуться причинъ, отъ которыхъ свобода зависѣла. Сво-
бода была низвергнута, но все еще оставалась жива, и потому несомнѣнно должно
было наступить время, когда народъ, такъ горячо любившій ее, долженъ былъ воз-
становить свои права. Должно было наступить время, когда, по словамъ великаго
пѣвца англійской свободы, народъ воспрянетъ какъ богатырь отъ сна и, потрясая
своими побѣдоносными кудрями, встрепенется орломъ, который расправляетъ свои
могучія крылья, насыщаетъ свои зоркіе глаза полуденными лучами, очищаетъ и
изощряетъ свое зрѣніе въ небесномъ источникѣ, между тѣмъ какъ робкія птицы,
любящія сумракъ, мечутся кругомъ, испуганныя его намѣреніями.
Тѣмъ не менѣе кризисъ былъ труденъ и опасенъ. Народъ, покинутый всѣми,
кромѣ духовенства, подвергался безпощадному грабежу, убійству и гоненію, пре-
слѣдовавшему его, точно дикаго звѣря, изъ конца въ конецъ королевства. Страданія,
причиненныя ему тиранніей епископовъ, были еще такъ свѣжи, что онъ ненави-
дѣлъ епископство болѣе, чѣмъ когда-либо; а между тѣмъ правительство не только
навязало ему это учрежденіе, но и поставило во главѣ епископовъ Шарпа, жесто-
каго и алчнаго человѣка, который въ 1661 году былъ возведенъ въ санъ архіепи-
скопа С.-Андрюсскаго. Онъ учредилъ судъ церковной коммиссіи, которая биткомъ
набила тюрьмы; когда же въ нихъ не хватило мѣста, тогда она начала ссылать
жертвы въ Барбадосъ и другія нездоровыя колоніи1). Пародъ, рѣшившись не под-
чиняться предписанію правительства, касавшемуся его богослуженія, началъ соби-
раться въ частныхъ домахъ; а когда эти собранія были объявлены незаконными,
онъ сталъ уходить изъ своихъ домовъ въ поля. Но и тамъ епископы не давали ему
покоя 2). Лодердель, уже давно стоявшій во главѣ управленія, находился въ значитель-
этого акта его самое убѣдительное мѣсто. «Такъ какъ
теперь было угодно всемогущему Богу, силою Своей
десницы, столь чудеснымъ образомъ возстановить его
королевское величество въ управленіи его королев-
ствами и въ отправленіи его верховной власти надъ
ними, то сословія парламента считаютъ себя обязан-
ными, во исполненіе своего долга и требованія со-
вѣсти въ отношеніи къ Богу п королевскому вели-
честву, употребить всю свою власть и все стараніе,
чтобы оградить власть его величества отъ тѣхъ на-
паденій, какія были дѣлаемы на нее, п возможно да-
лѣе устранитъ съ пути все. что сколько-нибудь
можетъ напоминать о тѣхъ вещахъ, которыя
были такъ вредны его величеству н его «авторитету,
такъ пагубны и постыдны для королевства, и имѣли
такое разрушительное вліяніе на его истинные инте-
ресы... Не сохранить ни малѣйшаго воспоминанія о
нихъ, предать ихъ вѣчному забвенію». Актъ этотъ
помѣченъ 28 марта 1661 года. 1
г) Все управленіе было съ виду похоже скорѣе
на дѣйствія инквизиціи, чѣмъ на дѣйствія законныхъ :
судовъ: но Шарпъ все-таки не былъ еще доволенъ.
Такъ какъ отдѣльные случаи болѣе всего уясняютъ по-
добные предметы, то я выпишу изъ «Исторіи шотланд-
ской церкви» Крукшенка приговоры, произнесенные
при одномъ случаѣ судомъ епископскимъ. «Поведеніе |
нѣкоторыхъ прихожанъ Анкрёма не должно быть остав- '
лѳно безъ вниманія. Когда ихъ прекрасный пасторъ,
м-ръ Ливингстонъ, былъ взятъ отъ ппхъ, то на его |
мѣсто представили нѣкоего Джемса Скотта, состоящаго '
подъ приговоромъ къ отлученію отъ церкви. Въ день,
назначенный для его посвященія, собралось нѣсколько 1
человѣкъ, чтобы воспротивиться этому; въ особен-
ности жо одна деревенская женщина, желая погово-
рить съ нимъ, чтобы посовѣтовать ему пе идти на-
перекоръ настоятельнымъ требованіямъ народа, дер-
нула его за одежду, прося выслушать се; за это опъ
ударилъ ес посохомъ. Тогда двое пли трое мальчиковъ
бросили въ него нѣсколько камней, которые однако
но задѣли нп его, нп кого-либо изъ окружающихъ.
Тѣмъ не менѣе на это взглянули, какъ па мятежное
дѣйствіе, и шерифъ, и мировые судьп этого округа
оштрафовали и подвергли тюремному заключенію нѣ-
которыхъ изъ среды народа, чтб, казалось, было до-
статочнымъ возмездіемъ за такого рода преступленіе.
Но верховная коммиссія, пе удовлетворяясь этимъ, при-
казала представить преступниковъ къ ея суду. Вслѣд-
ствіе этого четыре мальчика и женщина съ двумя
братьями ея, по имени Тёрнбёлль, были отвезены
арестованными въ Эдинбургъ. Четыре мальчика при-
знались, что, когда Скоттъ ударилъ женщину, опи бро-
сили въ него каждый по камню. Одинъ членъ ком-
миссіп сказалъ имъ, что повѣсить ихъ было бы слиш-
комъ мало. Однако приговоръ этого безжалостнаго
суда заключался въ томъ, чтобы они были высѣчены
среди Эдинбурга, заклеймлены въ лицо раскаленнымъ
желѣзомъ и затѣмъ проданы въ рабство въ Барбадосъ.
Мальчики перенесли свое наказаніе, какъ взрослые
людп и христіане, къ удивленію толпы. Два брата
были сосланы въ Виргинію, а женщину приказано
было высѣчь среди города Джедберга. Когда замѣтили
Бёрпету, ѳппскопу глазгоскому, что ее можно было
бы пощадить, еслибы она была беременна, то онъ
кротко отвѣчалъ, что онъ только заставилъ бы поче-
сать ей плечи, чтобы съ нихъ сошла чесотка».
2) Они были облечены такой громадной властью,
494
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ной степени подъ вліяніемъ новыхъ прелатовъ и оказывалъ имъ содѣйствіе испол-
нительной власти. Съ общаго ихъ согласія принята была новая мѣра: отрядъ войскъ,
подъ начальствомъ Тернера, пьянаго и свирѣпаго солдата, былъ спущенъ на народъх).
Страдальцы, доведенные до изступленія, взялись за оружіе. Это послужило предло-
гомъ для производства въ 1667 году новыхъ военныхъ экзекуцій, при чемъ нѣко-
торыя изъ прекраснѣйшихъ частей западной Шотландіи были опустошены, дома
сожжены, мужчины подвергнуты пыткѣ, а женщины —изнасилованію 2). Въ 1670 году
изданъ былъ парламентскій актъ, гласившій, что всякій, кто станетъ безъ дозволе-
нія проповѣдовать на поляхъ, будетъ казненъ смертью. У нѣкоторыхъ юристовъ
достало смѣлости защищать невинныхъ людей, которымъ грозилъ смертный приго-
воръ; а потому рѣшено было заставить и ихъ замолчать, и въ 1674 году большая
часть адвокатовъ были изгнаны изъ Эдинбурга. Въ 1678 году, по особенному при-
казанію правительства, горцы спустились съ своихъ высотъ и, поощряемые мѣстными
властями, три мѣсяца безпрепятственно убивали, грабили и жгли обитателей самыхъ
населенныхъ и промышленныхъ областей Шотландіи. Между жителями сѣверной и
южной частей королевства искони существовала смертельная вражда, вслѣдствіе
чего правительство и вызвало дикихъ сѣверянъ изъ трущобъ, чтобы они вполнѣ
насытились местью. И, дѣйствительно, они утолили свою ярость досыта. Цѣлыхъ три
мѣсяца пользовались они необузданной свободой. 8.000 вооруженныхъ необузданныхъ
горцевъ, призванныхъ англійскимъ правительствомъ и заранѣе освобожденныхъ отъ
отвѣтственности за всѣ беззаконія, дѣлали все, что хотѣли, по городамъ и селамъ
западной Шотландіи. Они не щадили ни возраста, ни пола. Они лишали людей
имущества, отнимали у нихъ даже одежду и прогоняли ихъ умирать на открытомъ
полѣ. Многихъ они мучили 'самыми ужасными истязаніями. Дѣти, оторванныя отъ
матерей, дѣлались жертвами гнуснаго поруганія; а матери и дочери подвергались
такой участи, въ сравненіи съ которой смерть была бы радостнымъ исходомъ.
Такимъ-то образомъ старалось англійское правительство сломить духъ и пере-
дѣлать мнѣнія шотландскаго народа. Аристократы смотрѣли на эти попытки молча
и не только не противодѣйствовали имъ, но даже не осмѣливались протестовать
противъ нихъ. Парламентъ былъ точно такъ же раболѣпенъ и утверждалъ все, чего
требовало правительство. Народъ былъ однако твердъ. Его духовенство, вышедшее
изъ среднихъ классовъ, крѣпко держалось народа, а онъ крѣпко держался своего
духовенства, и оба были непоколебимы. Епископы возбуждали противъ себя нена-
висть, какъ союзники правительства, и основательно считались общественными вра-
гами. Они, какъ было извѣстно, одобряли и часто даже внушали тѣ злодѣянія, кото-
рыя совершались; они были такъ довольны наказаніемъ своихъ противниковъ, что
никто не удивился, когда спустя нѣсколько лѣтъ они объявили въ адресѣ Іакову II,
самому жестокому изъ всѣхъ Стюартовъ, что онъ—любимецъ неба, и выразили на-
дежду, что Богъ даруетъ ему сердца подданныхъ и выи враговъ.
что древній епископскій престолъ, установленный пар-
ламентомъ 1613 года, былъ бы пе болѣе какъ пиг-
меемъ въ сравненія съ теперешними высокопостав-
ленными и могущественными лордами. «Поэтому, го-
воритъ Дугласъ, неудивительно слышать жалобу про-
тивъ епископовъ, что ихъ мизинецъ толще поясницы
прежнихъ епископовъ».
г) «Эта метода посредствомъ солдатъ подчинять
пародъ церкви, какъ противная духу христіанства,
была чужда Шотландіи, пока епископъ Шарпъ и пре-
латы по ввели ее въ употребленіе» (Водровъ, «Исто-
рія шотландской церкви»),
Сэръ Джемсъ Тёрнеръ на страп. 144 свопхъ
«Мемуаровъ» говоритъ: «я по только не выходилъ изъ
предѣловъ данныхъ мнѣ полномочія и инструкцій, но
даже никогда ие исчерпывалъ пхъ до конца». Судя
по тѣмъ жестокостямъ, которыя онъ совершалъ, ка-
кія же инструкціи должны были давать ему его на-
чальники?
2) Приводимъ нѣсколько примѣровъ изъ «Исто-
ріи шотландской церкви», Водрова. Одна женщина
была привезена арестованною въ Кильмарнокъ, гдѣ
опа «была приговорена къ посаженію въ глубокую
яму подъ домомъ декана, наполненную жабами и дру-
гими дикими тварями. Вопли ея оттуда были слышны
на значительномъ разстояніи». Два поселянина «былп
связаны вмѣстѣ веревками и привѣшены къ дереву за
большіе пальцы рукъ на цѣлую ночь*. Солдаты сэра
Вилліама Баппатайна схватили одну женщину, связали
ес и вставили зажженные фитили между ея пальцами
па нѣсколько часовъ; она почтп сошла съ ума отъ
страданіи, лишилась одной изъ рукъ п черезъ нѣ-
сколько дней умерла».
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII И ХѴШ стол.
495
Личность государя, котораго епископы такъ усердно превозносили, въ настоя-
щее время достаточно разгадана. Какъ ни были ужасны прежде совершенныя пре-
ступленія, они ничего не значили въ сравненіи съ тѣмъ, что послѣдовало, когда онъ
въ 1680 году принялъ бразды правленія. Онъ дошелъ до такой степени бездушія, что
находилъ дѣйствительное наслажденіе въ зрѣлищѣ предсмертныхъ мукъ своихъ
ближнихъ. Это такая бездна злодѣйства, въ которую рѣдко впадаютъ даже самыя
испорченныя натуры. Было и всегда будутъ множество людей, ни мало не забо-
тящихся о человѣческихъ страданіяхъ и готовыхъ причинять другимъ людямъ всякія
муки для достиженія извѣстныхъ цѣлей. Но для того, чтобы наслаждаться зрѣли-
щемъ мукъ, нужна особенная и гнусная злоба. Іаковъ однако былъ такъ нечувстви-
теленъ къ стыду, что даже не старался скрывать своихъ ужасныхъ наклонностей.
Всякій разъ какъ производилась пытка, онъ непремѣнно присутствовалъ при ней,
услаждая свои взоры и радуясь дьявольской радостью х). Страшно даже подумать,
что такой человѣкъ» былъ правителемъ милліоновъ людей. Что же сказать о шотланд-
скихъ епископахъ, одобрявшихъ того, чьихъ дѣйствій они были ежедневными свидѣ-
телями? Гдѣ найти выраженія достаточно сильныя, чтобы заклеймить этихъ отступ-
никовъ-прелатовъ, которые послѣ многолѣтнихъ» попытокъ подавить вольности своей
отчизны, въ концѣ своей карьеры и почти наканунѣ окончательнаго своего паденія,
соединились между собой и воспользовались всѣмъ своимъ авторитетомъ служителей
святой, мирной религіи, чтобы публично восхвалить государя, возбуждавшаго нена-
висть современниковъ своей злобной жестокостью, — государя, возмутительныя на-
клонности котораго, если не приписать ихъ нездоровому мозгу, не только позорятъ
терпѣвшее ихт» время, но йч безчестятъ высшія свойства человѣческой природы?
Но правящіе классы въ Шотландш^были такъ глубоко испорчены, что подоб-
ныя преступленія, кажется, почти не возбуждали негодованія. Страдальцами были
непокорные подданные, а потому противънихъ всякія мѣры считались законными.
Обычная пытка, называвшаяся пыткою посредствомъ сапога (іогіиге оГ ѣііе Ъооіз),
состояла въ томъ, что нога подсудимаго вставлялась въ колодку, въ которую до тѣхъ
поръ вбивали клинья, пока не раздроблялись кости. Но когда Іаковъ посѣтилъ
Шотландію, начали поговаривать, что это истязаніе слишкомъ слабо и что надобно
придумать другія средства. Духъ, который опъ сообщилъ своимъ подчиненнымъ, во-
одушевилъ его непосредственныхъ преемниковъ, и въ 1684 г., во время его отсут-
ствія, введено было въ употребленіе новое орудіе, подъ названіемъ ІЬишЬікіпз.
Оно состояло изъ стальныхъ винтиковъ, расположенныхъ съ такимъ дьявольскимъ
искусствомъ, что ими можно было стискивать не только большой палецъ, но и цѣлую
руку. Орудіе это причиняло неслыханно жестокую боль и сверхъ того имѣло то
преимущество, что не подвергало жизнь опасности, такъ что пытка могла быть часто
повторяема надъ однимъ и тѣмъ же лицомъ 2).
Послѣ этого уже нечего болѣе распространяться. Отъ одного намека на по-
добныя вещи на душѣ становится гадко. Когда читаешь исторію того времени, кру-
жится голова и замираетъ сердце при мысли о тѣхъ средствахъ, которыми эти под-
лыя твари старались задушить общественное мнѣніе и навсегда погубить храбрый
и мужественный народъ. Но ихъ усилія были по-прежнему тщетны. Тѣмъ не менѣе
*) Это всѣмъ было извѣство въ Шотландіи, и
очевидно, что на это самое и намекаетъ одинъ писа-
тель того времена, который называетъ Іакова не че-
ловѣкомъ, а чудовищемъ. Онъ н былъ безспорно чу-
довищемъ. «Если — говоритъ Бернетъ—кто долженъ
быть подвергнутъ пыткѣ сапога (ножнымъ таскамъ),
то это дѣлается въ присутствіи совѣта, и въ этомъ
случаѣ почта всѣ стараются убѣжать. Зрѣлище это
до такой степени ужасно, что безъ особаго приказа-
нія, обязывающаго такое-то число лицъ оставаться,
весь совѣтъ разбѣжался бы. Но герцогъ, пока опъ на-
ходился въ Шотландіи, далеко не хотѣлъ удалиться,
а, напротивъ, смотрѣлъ на это все время съ невоз-
мутимымъ равнодушіемъ и съ такимъ вниманіемъ,
какъ-будто бы онъ смотрѣлъ на какой-нибудъ
любопытный опытъ. Это давало страшное о немъ
понятіе всѣмъ, какъ о человѣкѣ, у котораго нѣтъ ни
сердца, ни человѣчности».
2) Въ 1684 году Карстерсъ былъ подвергнуть
этой пыткѣ. Лѳнгъ («Исторія Шотландіи», т. IV, стр.
143) говоритъ: «тиски для пальцевъ, небольшіе сталь-
ные впнты, сдавливавшіе большой палецъ и всю кисть
руки съ необычайной мучительностью, “ изобрѣтеніе,
привезенное Дрѳмондомъ н Далзіелемъ изъ Россіи».
496
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
еще многое оставалось перенести. Короткое царствованіе Іакова II ознаменовалось
въ самомъ началѣ необычайно варварскимъ дѣломъ. Черезъ нѣсколько недѣль по вос-
шествіи этого злодѣя на престолъ всѣ дѣти въ Аннандэлѣ и Нитсдэлѣ, отъ 6-ти до
10-лѣтняго возраста, были схвачены солдатами, разлучены съ родителями и угро-
жаемы немедленной смертью. Дальнѣйшею мѣрой было поголовное изгнаніе цѣлой
массы взрослыхъ людей, отправленныхъ за море въ нездоровыя колоніи, при чемъ мно-
гимъ изъ мужчинъ предварительно обрубали уши, а женщинамъ налагали клейма, кому
па руку, кому на щеку. Но избѣжавшее ссылки населеніе не упало духомъ и готово
было на все, чтб требовалось для довершенія дѣла. Въ 1688 г., какъ и въ 1642,
шотландскій народъ и народъ англійскій соединились вмѣстѣ противъ общаго своего
притѣснителя, который спасся внезапнымъ и позорнымъ бѣгствомъ. Онъ былъ не
только деспотъ, но и трусъ, и съ его стороны уже не предстояло опасности. Епи-
скопы, правда, любили его, но они были незначительною корпораціей, и при томъ у
нихъ и собственныхъ заботъ было довольно. Единственными сильными друзьями его
были горцы. Эти дикари съ сожалѣніемъ помышляли о минувшихъ дняхъ, когда
правительство не только дозволяло, по и приказывало имъ грабить и угнетать южныхъ
сосѣдей. Для этой цѣли Карлъ II пользовался ихъ услугами, и едва-ли можно было
сомнѣваться въ томъ, что въ случаѣ возстановленія династіи Стюартовъ они были бы
снова употреблены въ дѣло и снова обогащались бы грабежемъ на счетъ южанъ.
Война была любимымъ ихъ препровожденіемъ времени; она была ихъ промысломъ
и единственнымъ дѣломъ, которое онп понимали. Кромѣ того одно то, что Іаковъ
уже не имѣлъ власти, поразительно усилило ихъ приверженность къ нему. Горцы
разживались разбоемъ и промышляли анархіей. Поэтбму они ненавидѣли всякое
правительство, достаточно сиіьное для наказанія преступленія; а такъ какъ Стюарты
были теперь далеко, то это вЬровское племя воспылало къ нимъ такой любовью,
которая могла быть вызвана только ихъ отсутствіемъ. Со стороны Вильгельма III
хищники боялись преслѣдованія; изгнанный же государь не могъ причинять имъ
никакого вреда и готовъ былъ смотрѣть на всѣ ихъ буйства, какъ на естественное
послѣдствіе усердія. Они впрочемъ не заботились о принципѣ монархическаго преем-
ничества и не помышляли о теоріи божественнаго права. Единственное преемни-
чество, которое интересовало ихъ, было преемничество ихъ вождей. Единственное
ихъ понятіе о правѣ выражалось исполненіемъ того, чтб приказывали эти вожди.
Нищенски бѣдные 2), они, начиная бунтовать, не рисковали ничѣмъ, кромѣ жизни,
которою люди при такихъ общественныхъ условіяхъ никогда не дорожатъ. Не удайся
имъ возстаніе, они встрѣчали скорую и, по ихъ понятіямъ, честную смерть. Удайся
оно,—они пріобрѣтали славу и богатство. Въ томъ и другомъ случаѣ они разсчиты-
вали навѣрное потѣшиться. Они были увѣрены въ возможности, по крайней мѣрѣ
временно, предаться грабежу и разбою и безпрепятственно совершать тѣ беззаконія,
которыя считались у нихъ лучшей наградой воинской карьеры.
Поэтому вмѣсто того, чтобы удивляться бунтамъ 1715 и 1745 г.г., надо удив-
ляться только тому, что они не вспыхнули раньше и не встрѣтили болѣе сильной
поддержки. Въ 1745 г., когда внезапное появленіе мятежниковъ поразило ужасомъ
Англію и когда они проникли въ самую глубь королевства, наибольшая численность
пхъ, со включеніемъ южно-шотландекихъ и англійскихъ соумышленниковъ, не со-
ставляла и 6.000 человѣкъ. Среднимъ числомъ ихъ было всего 5.000, и они такъ
мало заботились о дѣлѣ, за которое будто бы сражались, что въ 1715 г., когда ихъ
«Скотъ былъ главнымъ средствомъ существо-
ванія этого племени, а пріобрѣтете его — главнымъ
предметомъ его враждебныхъ набѣговъ. Ненадежныя
жатвы давали ему, изъ чего печь его овсяныя лепешки
или варить его эль, пли гнать ого водку. Когда этого
во доставало, то скученное населеніе страдало отъ
крайней нужды и лишеній. Одно время оно вынуж-
| дено было питаться отваромъ изъ крапивы, заправ-
леннымъ небольшимъ количествомъ овеяпой муки. Въ
другое же время тѣ, которые имѣли скотъ, должны
были прибѣгать къ такому средству: пускали ему
। кровь н, мѣшая ее съ овсяною мукою, рѣзала тѣсто
это на ломтпкп и жарили».
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII И XVIII стол.
497
сила была гораздо значительнѣе, чѣмъ въ 1745, они отказывались вступить въ Англію
и возстать противъ правительства, пока не соблазнились обѣщаніемъ добавочной платы.
Такимъ же образомъ въ 1745 г., послѣ того какъ они выиграли сраженіе при Пре-
стонъ-пансѣ, единственнымъ результатомъ этой великой побѣды было, что горцы,
вмѣсто того, чтобы нанести новый ударъ, дезертировали толпами съ цѣлью сохра-
нить добычу, которую пріобрѣли и которой одной только и дорожили. Они не за-
ботились о томъ, Стюартъ или Ганноверецъ выигралъ сраженіе, и въ этотъ крити-
ческій моментъ не могли, говоритъ историкъ, устоять противъ желанія возвратиться
въ свои ущелія и украсить награбленнымъ добромъ свои лачуги.
Немного найдется такихъ нелѣпостей, какъ тѣ романическія бредни, которыя
представляютъ возстаніе горцевъ взрывомъ вѣрноподданнической преданности. Ни-
чего подобнаго даже не грезилось горцамъ. На нихъ тяготѣетъ столько преступле-
ній, что нѣтъ надобности обременять ихъ напраслиной. Они были ворами и разбой-
никами; но такъ уже сложилась ихъ жизнь, и они не чувствовали ея позора. Не-
вѣжественные и свирѣпые, они однако не были настолько безумны, чтобы питать
личную привязанность къ той недостойной фамиліи, которая до воцаренія Виль-
гельма III занимала шотландскій престолъ. Любовь къ людямъ, подобнымъ Карлу II
и Іакову II, быть можетъ еще извинительна, какъ одна изъ тѣхъ особенностей
вкуса, о какихъ иногда случается слышать. Но любить всѣхъ ихъ потомковъ, пи-
тать привязанность, которая обнимала бы цѣлую династію, и для удовлетворенія
этой необычайной страсти не только переносить большія тягости, но и причинять
огромное зло двумъ королевствамъ,—было и порокомъ, и безуміемъ, и обличало бы
въ горцахъ особаго рода, чуждое ихъ натурѣ, помѣшательство. Они возставали, по-
тому что возстаніе соотвѣтствовало ихъ. привычкамъ и потому что они ненави-
дѣли всякое правительство и всякій порядокъ х). О монархѣ же они не заботились;
мало того, самый институтъ монархіи отталкивалъ ихъ. Онъ былъ противенъ тому
духу кланнаго устройства, которому они были преданы; они съ самаго ранняго дѣт-
ства привыкли не уважать никого, кромѣ своихъ вождей, которымъ оказывали добро-
вольное повиновеніе и которыхъ считали гораздо выше всѣхъ земныхъ властите-
лей. Никто изъ дѣйствительныхъ знатоковъ ихъ исторіи не подумаетъ, чтобы они
были способны проливать свою кровь за какого бы то пи было государя; еще менѣе
можно полагать, что они покидали родину и предпринимали долгіе и опасные по-
ходы, съ цѣлью возстановить ту порочную и деспотическую династію, преступленія
которой вопіяли къ небу и жестокости которой раздражили, наконецъ, даже покор-
ныхъ и кроткихъ людей.
Дѣло просто въ томъ, что возстанія 1715и1745 гг. были въ нашемъ отечествѣ
послѣдней борьбой варварства противъ цивилизаціи. Съ одной стороны были война и
неурядица; съ другой—миръ и благоденствіе. Вотъ интересы, за которые дѣйстви-
тельно люди сражались; о Стюартахъ же или о Ганноверцахъ не заботилась ни та, ни
другая сторона. Исходъ такой борьбы въ XVIII столѣтіи едва-ли могъ быть сомнитель-
нымъ. Въ тогдашнее время эти бунты производили сильную тревогу, какъ неожи-
данностью своей, такъ и страннымъ и свирѣпымъ видомъ мятежныхъ горцевъ2). Но
2) «Всякій, кто только хотѣлъ мечомъ разстроить '
плп ниспровергнуть устаповленкое правительство, былъ }
увѣренъ въ помощи начальниковъ горскихъ племенъ, і
ибо всякое прочное правительство было пагубно для пхъ
власні и почта враждебно ихъ существованію. Чѣмъ
болѣе опо развивало мирныя занятія и поощряло воз-
расіавіе трудомъ созидаемаго благосостоянія, тѣмъ ।
болѣе оно становилось во враждебныя отношенія къ |
тому народу, который не измѣняли своей природы, ко-
торый не дѣлалъ никакихъ успѣховъ въ промышлен-
ности и который жилъ мечомъ, добывавшимъ ему пло-
ды трудолюбія другихъ людей. Съ его интересами было
такъ же несовмѣстимо миролюбивое прочное правптель-
Бокль.— Йад. Ф. Павлепкова.
ство, какъ хорошо охраняемый овечій хлѣвъ—съ инте-
ресами волковъ» (Буртонъ, «Исторія Шотландіи»).
2) Это подало поводъ къ молвѣ, будто они кан-
нибалы. Въ англійскомъ народѣ распространено было
убѣжденіе, что горцы ѣдятъ дѣтей. Этой молвѣ, не-
смотря на ея нелѣпость, придавали нѣкоторое правдо-
подобіе возмутительные поступки горцевъ во время
перваго возстанія (1715 г.), когда опи страшно издѣ-
вались надъ мертвыми тѣлами, которыя выкапывали
изъ землп. Въ 1745 году они ознаменовали свое
вступленіе въ Англію слѣдующимъ образомъ: «мятеж-
ники во время своей стояпкп въ Карляйлѣ дѣлали
32
498 исторія цивилизаціи въ Англіи.
свѣдѣнія, которыми мы теперь обладаемъ, показываютъ намъ, что успѣхъ этихъ воз-
станій съ самаго начала былъ невозможенъ. Хотя правительство было крайне
оплошно и, несмотря на полученныя донесенія, позволило оба раза захватить себя
врасплохъ, тѣмъ не менѣе дѣйствительной опасности не было, Англичане, не отли-
чавшіеся особенной любовью ни къ горцамъ, ни къ Стюартамъ, отказались возстать;
а потому нельзя серьезно предполагать, чтобы нѣсколько тысячъ полунагихъ раз-
бойниковъ могли предписать англійскому народу, какому государю онъ долженъ по-
виноваться и подъ какимъ правительствомъ онъ долженъ жить.
Послѣ 1745 г, перерыва уже не было. Интересы цивилизаціи, т. е. интересы
знанія, свободы и богатства, мало-по-малу одержали верхъ и отняли у людей, по-
добныхъ горцамъ, всякое значеніе. Черезъ ихъ страну были проложены дороги, и
путешественники съ юга начали впервые проникать въ ихъ дотолѣ недоступныя
пустыни г)« Въ этихъ частяхъ государства движеніе было, правда, очень медленно;
зато въ низменной Шотландіи оно было гораздо быстрѣе. Торговцы и жители го-
родовъ, выдвигаясь теперь впередъ, начали вліяніемъ своимъ нейтралпзировать
старинныя воинственныя и анархическія привычки. Въ исходѣ ХѴШ столѣтія
появилась наклонность къ торговымъ предпріятіямъ, и огромная доля энергіи шот-
ланцевъ устремилась въ это новое русло. Въ началѣ ХѴШ столѣтія то же напра-
вленіе обнаружилось и въ литературѣ; сочиненія о торговыхъ и экономическихъ
предметахъ сдѣлались обыкновеннымъ явленіемъ. Перемѣна въ нравахъ тоже была
замѣтна. Около этого времени шотландцы начали нѣсколько утрачивать ту грубую
свирѣпость, которою искони отличались. Это улучшеніе обнаружилось различными
путями; однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ его проявдбній была перемѣна, впервые
подмѣченная въ 1710 г., когда оказалось, что мѣстные жители начали обходиться
безъ оружія, которое до тѣхъ'цоръ всякій, кто только могъ достать его, имѣлъ при
себѣ, какъ полезную предосторожность въ грубомъ и потому воинственномъ обществѣ.
Чтобы прослѣдить общее преуспѣяніе въ различныхъ его частностяхъ или
хотя указать его непосредственныя послѣдствія, пришлось бы написать отдѣльную
книгу. Одинъ изъ его результатовъ впрочемъ такъ рѣзко бросается въ глаза, что
о немъ нельзя умолчать, хотя онъ и не имѣетъ той важности, какую ему припи-
сывали. Это—уничтоженіе наслѣдственныхъ юрисдикцій, которое въ сущности было
только симптомомъ великаго движенія, а не причиной его, ибо само оно объясняется
частью развитіемъ промышленнаго духа, частью же тѣмъ уменьшеніемъ могущества
аристократіи, которое стадо замѣтно еще въ началѣ XVII столѣтія. Въ теченіе многихъ
вѣковъ нѣкоторыя лица знатнаго происхожденія пользовались привилегіей судить
преступленія и даже казнить преступниковъ потому только, что до нихъ то же
самое дѣлали ихъ предки, такъ что судебная власть была въ сущности частью
ихъ наслѣдія и переходила къ нимъ подобно остальной ихъ собственности. Учре-
жденіе этого рода, дѣлавшее человѣка судьею, не потому что онъ былъ способенъ
къ этой должности, а потому что онъ родился при извѣстныхъ условіяхъ, было не-
лѣпостью, и революціонное настроеніе ХѴШ столѣтія не могло пощадить его. Пре-
образовательный духъ, которымъ отличался этотъ вѣкъ, не могъ не напасть на такой
безсмысленный обычай, тѣмъ болѣе, что уничтоженіе его было облегчено какъ упад-
комъ аристократовъ, пользовавшихся этой привилегіей, такъ и возвышеніемъ ихъ
естественныхъ противниковъ—промышленнаго и торговаго классовъ. Упадокъ шот-
самыя отвратительныя и возмутительныя гнусности;
по довольствуясь тѣмъ, что отнимали у семействъ ихъ
наиболѣе цѣпныя вещи, ови имѣли еще безсовѣстность
проявлять свою скотскую наглость п надъ лично-
стями нѣкоторыхъ молодыхъ лэдп даже въ присут-
ствіи ихъ родственниковъ. Одинъ джентльмэнъ, въ
письмѣ къ своему другу въ Лондонъ, пишетъ, что
послѣ совершеннаго ограбленія, опъ имѣлъ пѳсчастье
видѣть, какъ три изъ его дочерей подверглись такому
| обращенію, о которомъ онъ не въ силахъ и разска-
। зывать».
і Э Проведеніе дорогъ причинило имъ большое не-
। удовольствіе. Пѳннантъ, посѣтившій Шотландію въ
I 1769 году, говоритъ: «эти общественныя сооруженія
были сперва очень непріятны старымъ военачальни-
камъ п значительно ослабили пхъ вліяніе, ибо когда
I между горцами стали появляться иностранцы, то кланы
| узнали, что пхъ лорды—по первые изъ людей».
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII И XVIII стол. 499
ландской аристократіи въ XVIII столѣтіи объясняется, кромѣ тѣхъ общихъ причинъ,
которыя ослабляли аристократію почти во всей Европѣ, еще двумя особенными
причинами, До общихъ причинъ, одинаковыхъ какъ въ Англіи, такъ и въ большей
части континентальныхъ государствъ, намъ теперь нѣтъ дѣла. Достаточно сказать,
что онѣ вполнѣ зависѣли отъ того развитія знанія, которое, усиливая вліяніе обра-
зованнаго класса, подрываетъ и въ концѣ концовъ должно ниспровергнуть исключи-
тельно наслѣдственныя и случайныя отличія. Но тѣ причины, которыя ограничивались
Шотландіей, имѣли болѣе политическій характеръ, и хотя были чисто мѣстными,
однако согласовались съ общимъ ходомъ событій; а потому онѣ и заслуживаютъ
вниманія, какъ звенья огромной цѣпи, связывающей настоящее состояніе этой замѣ-
чательной страны съ ея прошлой исторіей.
Первой причиной было соединеніе Шотландіи съ Англіей въ 1707 году, на-
несшее тяжелый ударъ шотландской аристократіи. Вслѣдствіе его законодательное
собраніе меньпіей страны было поглощено законодательнымъ собраніемъ большей,
и наслѣдственные законодатели вдругъ утратили прежнее свое значеніе. Въ шот-
ландскомъ парламентѣ было 145 пэровъ, п всѣ они, за исключеніемъ 16 человѣкъ,
лишились, по акту соединенія, права установлять законы. Эти 16 пэровъ были от-
правлены въ Лондонъ и заняли мѣста въ палатѣ лордовъ, гдѣ они составили ни-
чтожную и жалкую фракцію. По всякому вопросу, какъ бы онъ ни былъ важенъ
для ихъ отечества, они были легко побѣждаемы большинствомъ голосовъ; ихъ манеры,
жесты и въ особенности комическое произношеніе англійскихъ словъ открыто под-
нимались на смѣхъ; представители старинной и могущественной аристократіи очу-
тились, къ крайнему своему изумленію, ничего не значащими людьми и часто
должны были льстить и пресмыкаться въ пріемной у министра, чтобы выхлопотать
мѣсто какому-нибудь бѣдному кліенту. Друзья и родственники осаждали ихъ прось-
бами о должностяхъ, но большей частью это было напрасно. Въ самомъ дѣлѣ, шот-
ландскіе пэры, будучи очень бѣдны, требовали для себя болѣе, чѣмъ англійское
правительство расположено было давать, и назойливостью своихъ притязаній роняли и
достоинство свое, и репутацію. Они подвергались оскорбительнымъ отказамъ, и такъ
какъ вскорѣ сдѣлалось извѣстно, какое они дѣйствительно занимали положеніе, то отъ
этого ослабѣло ихъ вліяніе на родинѣ, въ народѣ, уже подготовленномъ къ низверженію
ихъ власти. Къ этому впрочемъ они относились довольно равнодушно, потому что
будущихъ благъ ожидали не отъ Шотландіи, а отъ Англіи. Лондонъ сдѣлался средо-
точіемъ ихъ интригъ и надеждъ, Тѣ изъ нихъ, которые не засѣдали въ палатѣ
лордовъ, стремились попасть туда, и всѣ знали, что любимой мечтой почти каждаго
шотландскаго аристократа было сдѣлаться англійскимъ пэромъ/ Съ перемѣной по-
прища ихъ честолюбія они мало-по-малу отдалились отъ старыхъ связей. Какъ только
это обнаружилось, основаніе ихъ власти рухнуло. Съ этой минуты исчезла дѣйстви-
тельная пхъ популярность. Очевидно стало, что патріотизмъ ихъ было просто эгоисти-
ческою страстью. Они перестали любить страну, которая ничего не могла имъ дать,
и потому естественно, что и страна въ свою очередь перестала любить ихъ.
Такимъ-то образомъ расторгнута была эта великая связь. Въ этомъ дѣлѣ,
какъ и во всѣхъ подобныхъ движеніяхъ, были, разумѣется, исключенія. Нѣкоторые
изъ аристократовъ оказались безкорыстными, а нѣкоторые изъ ихъ кліентовъ
остались вѣрными имъ. Но, разсматривая всю южную Шотландію какъ одно цѣлое,
нельзя сомнѣваться, что около половины XVIII столѣтія исчезли тѣ узы предан-
ности, вслѣдствіе которыхъ въ прежнія времена десятки тысячъ шотландцевъ готовы
были слѣдовать за своими вождями въ какое бы то ни было предпріятіе, жертвовать
жизнью но одному ихъ мановенію. Духъ этотъ, нѣкогда считавшійся пламеннымъ
и благороднымъ, но при болѣе внимательномъ разсмотрѣніи оказывающійся низкимъ
и рабскимъ, угасъ почти вездѣ, за исключеніемъ среды дикихъ горцевъ, которые,
благодаря своему невѣжеству, долгое время оставались внѣ вліянія потока событія.
Что ближайшей причиной такой перемѣны было соединеніе Шотландіи съ Англіей,
32*
500
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
этого вѣроятно не будетъ отрицать никто изъ людей, подробно изучавшихъ исторію
тогдашняго времени; а въ томъ, что перемѣна эта была благотворна,—могутъ сомнѣ-
ваться только сентиментальные мечтатели, для которыхъ жизнь есть дѣло скорѣе
чувства, чѣмъ разсудка, и которые, презирая дѣйствительные и осязательные инте-
ресы, ставятъ въ укоръ своему вѣку матеріальное благоденствіе и любовь къ
роскоши, какъ будто эти явленія — слѣдствіе низкихъ и грязныхъ побужденій,
неизвѣстныхъ болѣе возвышенному настроенію минувшихъ дней. Подобнаго рода
мечтателямъ легко можетъ показаться, что дикій и невѣжественный аристократъ,
окруженный толпой преданныхъ вассаловъ и живущій съ грубой простотой въ
своемъ мрачномъ и плохомъ замкѣ, представляетъ прекрасную картину тѣхъ безко-
рыстныхъ и безразсчетливыхъ временъ, когда люди, вмѣсто того, чтобы искать
знанія, богатства или удобствъ, довольствовались скромной умѣренностью своихъ
отцовъ и когда, благодаря тому, что одинъ классъ оказывалъ покровительство, а
другой чувствовалъ признательность,—поддерживалась общественная субординація и
различныя части общества связывались воедино взаимнымъ сочувствіемъ и силой
общихъ впечатлѣній, а не грубыми, какъ теперь, побужденіями пошлой выгоды.
Но люди, которымъ знаніе даетъ нѣкоторое понятіе о дѣйствительномъ ходѣ
человѣческихъ дѣлъ, увидятъ, что въ Шотландіи, какъ и во всѣхъ цивилизованныхъ
странахъ, упадокъ аристократической власти составляетъ необходимую принадлежность
общаго прогресса. Поэтому надо считать счастливымъ обстоятельствомъ, что между
шотландцами, гдѣ власть эта долгое время была громадна, она ослабла въ XVIII
столѣтіи, не только въ силу общихъ причинъ, дѣйствовавшихъ въ другихъ мѣстахъ,
но и по двумъ менѣе важнымъ, но особеннымъ причинамъ. Первою изъ этихъ второ-
степенныхъ причинъ было, какъ мы уже видѣли, соединеніе съ Англіей. Другая
причина была, сравнительно^ говоря, ничтожна, но тѣмъ не менѣе произвела рѣши-
тельное дѣйствіе, особенно въ сѣверныхъ округахъ. Она состояла въ томъ, что нѣ-
которые изъ самыхъ старинныхъ аристократовъ горной Шотландіи были замѣшаны
въ бунтѣ 1745 года и что тѣ изъ нихъ, которые по усмиреніи этого бунта избѣ-
жали кары закона, рады были спастись бѣгствомъ въ чужіе края, предоставивъ сво-
имъ вассаламъ самимъ вывертываться изъ бѣды* Они сдѣлались придворными пре-
тендента, или во всякомъ случаѣ интриговали въ его пользу. Интриги эти были
единственнымъ ихъ утѣшеніемъ, такъ какъ помѣстья ихъ на родинѣ были конфи-
скованы. Почти сорокъ лѣтъ многія знатныя фамиліи оставались въ изгнаніи и хотя
около 1784 года начали возвращаться х), но во время ихъ отсутствія образовались
новыя связи и возникли новыя понятія, какъ въ собственныхъ ихъ умахъ, такъ и
въ умахъ ихъ вассаловъ. Явилось новое поколѣніе и сложились новыя отношенія.
Посторонніе люди, къ которымъ народъ не чувствовалъ никакой симпатіи, завла-
дѣли помѣстьями знати, и хотя имъ и оказывалось повиновеніе, но это повиновеніе
не сопровождалось уваженіемъ. Истинное почтеніе изчезло; сердечной преданности
уже не было. Продолжаясь около сорока лѣтъ, это положеніе дѣлъ измѣнило весь
строй понятій; прежнія привычки до того измѣнились, что вожди шотландскаго на-
рода, получивъ обратно конфискованныя имущества, замѣтили, что была другая
часть наслѣдія, которой они уже но могли снова пріобрѣсти, и что они навсегда
лишились той безусловной власти, которая въ то время охотпо предоставлялась
ихъ отцамъ.
Благодаря этимъ обстоятельствамъ, ходъ дѣлъ въ Шотландіи въ ХѴШ сто-
лѣтіи, и особенно въ первой его половинѣ, ознаменовался болѣе быстрымъ упад-
комъ вліянія высшихъ классовъ, нежели въ какой-либо другой странѣ. Вотъ почему
для англійскаго правительства но трудно было провести законъ, которыя, уничто-
1) Въ 1784 году «въ парламентѣ прошелъ безъ Фоксъ сказалъ, что владѣльцы «были достаточно на-
оппозйціи бялль> о возвращеніи «конфискованныхъ казаны сорокалѣтнимъ лишеніемъ своихъ состояній за
имѣній» па сѣверѣ Шотландіи. При этомъ случаѣ проступки предковъ*.
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII и хѵш стол.
501
живъ наслѣдственныя юрисдикціи, лишилъ шотландскую аристократію въ 1748 г,
послѣдняго великаго аттрибута ея власти. Законъ этотъ, соотвѣтствовавшій духу вре-
мени, произвелъ хорошее дѣйствіе; въ особенности въ горной Шотландіи онъ былъ
одной изъ непосредственныхъ причинъ того, что тамъ установилось нѣчто въ родѣ
порядка благоустроеннаго государства х). Но въ этомъ, какъ и во всякомъ другомъ
случаѣ дѣйствительную и главную причину надлежитъ искать въ положеніи самаго
общества. За нѣсколько поколѣній передъ тѣмъ едва-ли кто-нибудь думалъ объ уни-
чтоженіи этихъ зловредныхъ юрисдикцій, которыя тогда считались благотворными и
уважались, какъ достояніе знатныхъ фамилій, принадлежащее имъ на основаніи
естественнаго и незыблемаго права. Такое мнѣніе было неизбѣжнымъ послѣдствіемъ
тогдашняго положенія дѣлъ; а потому, еслибы законодательное собраніе дерзнуло въ
то время наложить руку на этотъ предметъ національнаго уваженія, народъ про-
никся бы сочувствіемъ къ аристократамъ, и знать усилилась бы тѣмъ самымъ, что
имѣло бы цѣлью ослабить се. Но въ 1748 году обстоятельства были совершенно
иныя. Общественное мнѣніе перемѣнилось, и эта перемѣна мнѣнія была не только
причиной новаго закопа, но и основаніемъ его успѣха. Такъ оно всегда бываетъ.
Люди, знаніе которыхъ ограничивается почти исключительно тѣмъ, что они видятъ
кругомъ себя, которые вслѣдствіе своего невѣжества называются практическими
людьми, могутъ конечно толковать какъ угодно о преобразованіяхъ, вводимыхъ пра-
вительствомъ, и объ улучшеніяхъ, ожидаемыхъ отъ законодательства. Но всякій, кто
взглянетъ на дѣло съ болфе широкой и возвышенной точки зрѣнія, не замедлитъ
открыть нелѣпость подобныхъ надеждъ. Онъ убѣдится, чтр законодатели почти всегда
мѣшаютъ обществу, а не 11ойогаютъ ±.ему,_и_чтол ^крайне рѣдкихъ случаяхъ, когда
мѣры ихъ оказывались благотворнымиМонижбываЛиЖббязаны успѣхомъ тому, что,
вопреки своему обыкновенію, они слѣпо подчинялись духу времени и становились
тѣмъ, чѣмъ имъ всегда надлежало бы быть, т. е. простыми служителями народа,
желаніямъ котораго обязаны они давать публичную и легальную санкцію.
Другой поразительной особенностью Шотландіи въ теченіе этого замѣчательнаго
періода было внезапное возвышеніе торговаго и промышленнаго классовъ. Оно цѣ-
лымъ поколѣніемъ предшествовало знаменитому статуту 1748 года и было одною
изъ причинъ его, потому что ослабило знатныя фамиліи, противъ которыхъ напра-
вленъ былъ этотъ статутъ. Движеніе это, какъ я уже замѣтилъ, началось въ концѣ
XVII столѣтія и до истеченія первыхъ двадцати лѣтъ XVIII вѣка было уже въ
полномъ ходу. Торговый и промышленный духъ распространился въ небывалыхъ
прежде размѣрахъ, и такъ какъ люди стали цѣниться не по рожденію только, но и
по состоянію, то образовалось новое мѣрило отличія и на сценѣ появились новыя
дѣйствующія лица. До тѣхъ поръ уваженіе лицамъ оказывалось только по ихъ про-
исхожденію; теперь же оно стало оказываться имъ и по ихъ богатству. Старая ари-
стократія, встревоженная этой перемѣной, употребляла всѣ возможныя усилія, чтобы
не дать хода и помѣшать этимъ молодымъ и опаснымъ соперникамъ. Чувство раз-
дражденія съ ея стороны неудивительно. Стремленіе, которое тогда обнаруживалось,
грозило гибелью ея притязаніямъ. Вмѣсто того чтобы спрашивать: кто отецъ такого-то?
начали спрашивать: много ли у него денегъ? И конечно, если уже дѣлать одинъ
изъ этихъ вопросовъ, то послѣдній разумнѣе перваго. Богатство—дѣйствительная и
существенная вещь, которая доставляетъ намъ удовольствія, увеличиваетъ наше
благосостояніе, умножаетъ наши средства и нерѣдко облегчаетъ наши страданія.
Рожденіе же—мечта и призракъ; не принося пользы ни тѣлу, ни духу, оно только
надмеваетъ человѣка мнимымъ превосходствомъ и побуждаетъ его презирать того,
кому природа дала первенство надъ нимъ и кто—занимается ли онъ увеличиваніемъ
Макферсонъ говоритъ: «Этотъ прекрасный I новой великой хартіей, данной свободному народу
статутъ можетъ безъ преувеличенія быть названъ | Шотландіи».
502 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
нашего знанія или нашихъ богатствъ — во всякомъ случаѣ улучшаетъ положеніе
общества и оказываетъ ему истинную и полезную услугу.
Этотъ антагонизмъ между аристократическимъ и промышленнымъ духомъ за-
ключается въ самой природѣ вещей и, какъ бы онъ ни замаскировывался по вре-
менамъ, — представляетъ собой нѣчто неизбѣжное. Вотъ почему исторія торговли
имѣетъ по отношенію къ общественному развитію глубокое значеніе, совершенно
независимое отъ практическихъ соображеній. По этому поводу я и обратилъ вни-
маніе читателя на то обстоятельство, которое иначе было бы чуждо цѣлямъ настоя-
щаго введенія, и теперь очерчу, по возможности кратко, начало того великаго про-
мышленнаго движенія, распространенію котораго надлежитъ отчасти приписать па-
деніе шотландской аристократіи.
Соединеніе Шотландіи съ Англіей, совершившееся въ 1707 году, произвело
непосредственное и поразительное дѣйствіе на торговлю. Первымъ дѣломъ оно от-
крыло шотландцамъ новую и обширную торговлю съ англійскими колоніями въ Аме-
рикѣ. До соединенія нельзя было выгружать въ Шотландіи никакихъ товаровъ изъ
американскихъ плантацій, не выгрузивъ ихъ предварительно въ Англіи и не очи-
стивъ ихъ тамъ пошлиной; даже и въ этомъ случаѣ нельзя было перевозить ихъ
на шотландскихъ судахъ *). Это было одно изъ многихъ нелѣпыхъ распоряженій,
которыми наши законодатели нарушали естественный порядокъ вещей и вредили
интересамъ какъ своего отечества, такъ и своихъ сосѣдей. Прежде однако такіе
законы считались чрезвычайно мудрыми, и государственные люди постоянно придумы-
вали покровительственная мѣры подобнаго рода, которыя при самыхъ лучшихъ
намѣреніяхъ причиняли неисчислимый вредъ. По если/ какъ представляется вѣроят-
нымъ, одной изъ задачъ въ этомъ случаѣ было замедлить развитіе Шотландіи, то
законодатели достигли необідчайнаго успѣха въ осуществленіи того, къ чему стре-
мились. Весь западный берегъ Шотландіи, отрѣзанный отъ прямого сообщенія съ
американскими колоніями, былъ устраненъ отъ единственной выгодной для него
заграничной торговли, потому что европейскіе порты находятся на востокѣ, и жители
западной Шотландіи могли достичь ихъ не иначе, какъ послѣ долгаго объѣзда, что
препятствовало имъ соперничать на равныхъ условіяхъ съ пхъ соотечественниками,
которые, отплывая съ противоположной стороны, несравненно скорѣе достигали глав-
ныхъ коммерческихъ пунктовъ. Вслѣдствіе этого Глазго и другіе западные порты
почти не развивались: они имѣли сравнительно мало средствъ удовлетворять пред-
пріимчивому духу, возникшему между ними въ исходѣ XVII столѣтія, и не смѣли
торговать съ цвѣтущими колоніями, лежавшими прямо противъ нихъ за Атланти-
ческимъ океаномъ, но совершенно загражденными отъ нихъ ревнивыми предосто-
рожностями англійскаго парламента.
Когда же по акту соединенія обѣ страны слились въ одну,—предосторожности
эти были уничтожены, и Шотландія получила дозволеніе вступать въ прямыя сно-
шенія сгь Америкой и Вестъ-Индскими островами. Обстоятельство это повліяло на
народную промышленность почти мгновенно: оно дало просторъ тому духу, ко-
торый началъ проявляться между шотландцами въ исходѣ ХѴП столѣтія, и было
подкрѣплено тѣми болѣе общими причинами, которыя въ большей части Европы
предрасположили тогдашній вѣкъ къ усиленной промышленности. Западная Шот-
ландія, какъ самая близкая къ Америкѣ, первая почувствовала это движеніе. Въ
1707 году жители Гринока, безъ всякаго вмѣшательства со стороны правительства,
обложили себя добровольной податью для устройства гавани. Въ этомъ предпріятіи
*) Въ 1696 году мудрые люди въ нашемъ, ан-
глійскомъ, парламентѣ провели законъ, «чтобы ни
подъ какимъ предлогомъ никакого рода товары изъ
англійскихъ плантацій въ Америкѣ не были выгружаемы
ни въ Ирландіи, ни въ Шотландіи, пе побывавъ пред-
варительно на берегу Англіи, гдѣ за нихъ и платилась
пошлина,—подъ страхомъ конфискаціи кораблей и гру-
зовъ». Конечно, чѣмъ болѣе кто знакомъ съ исторіей
законодательства, тѣмъ болѣе будетъ удивляться, что
націи были въ состояніи подвигаться впередъ въ виду
тѣхъ страшныхъ преградъ, которыя ставили на ихъ
пути законодатели.
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII И ХѴШ стол.
503
они проявили такое рвеніе, что къ 1710 году всѣ работы были окончены, молъ и
вмѣстительная гавань были сооружены, и Гринокъ изъ ничтожнаго городишка вдругъ
поднялся на степень важнаго порта въ атлантической торговлѣ. Нѣкоторое время
купцы его довольствовались тѣмъ, что отправляли товары на корабляхъ, нанятыхъ
у англичанъ. Но вскорѣ они сдѣлались смѣлѣе, начали строить суда на собствен-
ный счетъ, и въ 1719 году первый гринокскій корабль отплылъ въ Америку. Съ
этого времени торговля ихъ возрастала такъ быстро, что къ 1740 году подать, ко-
торою граждане обложили себя, не только оказалась достаточною для покрытія сдѣ-
ланнаго долга, но и дала значительный остатокъ, послужившій средствомъ для удо-
влетворенія другихъ городскихъ потребностей. Въ то же время и вслѣдствіе тѣхъ же
причинъ поднялся изъ ничтожества и Глазго. Въ 1718 году его предпріимчивые
жители спустили на Клайдѣ первый шотландскій корабль, когда-либо переплывав-
шій Атлантическій океанъ, и такимъ образомъ опередили населеніе Гринока однимъ
годомъ. Глазго и Гринокъ сдѣлались двумя важными коммерческими портами Шот-
ландіи и главными центрами ея торговой дѣятельности 1). Предметы удобства и даже
роскоши, доступные прежде лишь за огромныя деньги, начали распространяться по
всему краю. Произведенія тропическихъ странъ стали получаться прямо изъ Новаго
Свѣта, который въ свою очередь представилъ богатый обширный рынокъ для ма-
нуфактурныхъ издѣлій. Это обстоятельство дало новый толчекъ шотландской промыш-
ленности, и послѣдствія ого но замедлили обнаружиться. Жители Глазго, найдя у
американцевъ большой спросъ на холстъ, ввели холщевое производство въ своемъ
городѣ въ 1725 году, откуда оно распространилось по другимъ мѣстамъ и въ ко-
роткое время дало работу цѣлымъ тысячамъ рукъ. Съ того же 1725 года начинается
возвышеніе Пэсли. Еще въ йачал^ХУІІІСстолѣті^Іхбтъ богатый городъ былъ уеди-
ненной деревушкой, состоявшей изъ одной только улицы. Но послѣ соединенія Шот-
ландіи съ Англіей бѣдные и до того времени праздные жители его зашевелились
въ виду повсемѣстной дѣятельности. Мало-ио-малу понятія ихъ расширились, и вве-
деніе у нихъ въ 1725 году обработки пряжи было первымъ ихъ шагомъ на томъ
великомъ поприщѣ, на которомъ они уже не останавливались, пока не сдѣлали сво-
его Пэсли обширнымъ промышленнымъ торжищемъ и успѣшнымъ двигателемъ всѣхъ
искусствъ, питающихъ промышленность.
Движеніе это проявлялось не на одномъ только запасѣ. Вообще въ Шотлан-
діи промышленный духъ созрѣлъ до того, что началъ вытѣснять старинное теоло-
гическое направленіе, которое долго преобладало. До тѣхъ поръ шотландцы почти
ни о чемъ не заботились, кромѣ религіозной полемики. Въ каждомъ обществѣ она
была главнымъ предметомъ бесѣды, и на нее люди тратили свои силы безъ малѣй-
шей пользы для себя пли для другихъ. Но около этого времени замѣчено было, что
общей темой разговоровъ сдѣлалось улучшеніе мануфактуръ 2). Такое заявленіе со
стороны весьма дѣльнаго писателя, который былъ свидѣтелемъ того, о чемъ разсказы-
ваетъ, служитъ любопытнымъ доказательствомъ перемѣны, начинавшей, хотя очень
слабо, проникать въ умы шотландцевъ. Оно показываетъ, что у шотландскаго на-
рода во всякомъ случаѣ было стремленіе отвернуться отъ недоступныхъ нашему
пониманію предметовъ, преніе о которыхъ только раздражаетъ спорящихъ и уси-
ливаетъ въ нихъ нетерпимость къ теологическимъ мнѣніямъ, несогласнымъ съ пхъ
собственными. Къ несчастью тутъ, какъ я не замедлю показать, дѣйствовали дру-
*) Успѣхи торговля были такъ быстры, что въ |
одномъ сочиненіи, напечатанномъ въ 1732 году, го- 1
ворнтся, что «городъ Глазго ость средоточіе обшпр- ।
нѣйшей торговли въ королевствѣ, въ особенности съ
плантаціями, откуда приходятъ ежегодно двадцать пли '
тридцать кораблей съ грузами табаку и сахару,—вы- ।
года, которой королевство это никогда пе пользова-
лось до соединенія (королевствъ). Торговцы Глазго |
нанимаютъ гавань на Фрптѣ п могутъ отправлять |
свой сахаръ п табакъ въ Голландію, Германію и Бал-
тійское море, не подвергаясь трудностямъ плаванія во-
кругъ Англіи пли Шотландіи».
2) Авторъ сочиненія <ТЬе Іпіегей о! Бсоііапй
Сопзійегей», ЕйіпЬ., 1733, говоритъ, что съ 1727 года
«мы по счастью обратили свои взоры на улучшеніе
нашихъ мануфактуръ, которое составляетъ теперь об-
щій предметъ разговора, а это не мало способствуетъ
успѣху».
504
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
гія причины, помѣшавшія этому стремленію произвести всѣ хорошіе результаты,
какихъ можно было ожидать. Все-таки даже и неполное его проявленіе было чи-
стымъ выигрышемъ. Какъ попытка занять человѣческій умъ чисто свѣтскими по-
мыслами, оно было ударомъ суевѣрію. Въ странѣ, подобной Шотландіи, и то уже
было чрезвычайно важно. Надлежитъ еще прибавить, что, хотя это движеніе было
послѣдствіемъ усиленной промышленности, тѣмъ не менѣе оно, какъ часто бываетъ,
подѣйствовало на свою причину и усилило ее. Уменьшая, насколько бы то ни было,
прежнее чрезмѣрное уваженіе къ теологическимъ занятіямъ, оно на столько же по-
буждало честолюбивыхъ и предпріимчивыхъ людей воздерживаться отъ этихъ заня-
тій и посвящать себя житейскимъ дѣламъ, гдѣ дарованія, будучи менѣе связаны
предразсудками, имѣютъ болѣе простора и пользуются ббльшей свободой дѣйствія.
Изъ этихъ людей одни достигли перваго мѣста въ литературѣ, а другіе, избравъ
иное, но равно полезное направленіе, прославились въ области промышленности.
Вслѣдствіе этого и Шотландія XVIII вѣка впервые увидѣла у себя два могуществен-
ные и дѣятельные класса, цѣль которыхъ была чисто свѣтская: мыслящій классъ и
классъ промышленный. До ХѴШ столѣтія ни одинъ изъ этихъ классовъ не оказы-
валъ независимаго вліянія; даже нельзя было сказать, чтобы тотъ или другой изъ
нихъ имѣлъ отдѣльное существованіе. Мыслящая часть страны была поглощена цер-
ковью; промышленность страны была подавлена знатью. Дѣйствіе, произведенное
этой перемѣной на шотландскую литературу, будетъ описано въ послѣдней главѣ
настоящаго тома. Ея дѣйствіе на промышленность было не менѣе замѣчательно и
не менѣе важно для благосостоянія народа. Но оно не имѣетъ того общаго науч-
наго интереса, какой связанъ съ умственныміидвиженіемъ, и потому, въ дополненіе
къ сказанному выше, я огранйчусьДШсбльІимЖФШтаміц поясняющими исторію
шотландской промышленности^р®іоловины<ХУШ столѣтія, когда уже не оставалось
сомнѣнія, что потокъ матеріальнаго благоденствія принялъ надлежащее направленіе.
Въ теченіе XVII столѣтія единственнымъ сколько-нибудь значительнымъ шот-
ландскимъ производствомъ было производство холста,—да и оно, подобно всѣмъ дру-
гимъ отраслямъ промышленности, развивалось очень туго и подвергалось всякаго
рода стѣсненіямъ. Но послѣ соединенія Шотландіи съ Англіей оно вдругъ быстро
двинулось впередъ по двумъ причинамъ. Одной изъ этихъ причинъ, какъ я уже
замѣтилъ, былъ спросъ7 изъ Америки, послѣдовавшій за открытіемъ атлантической
торговли. Другой причиной была отмѣна пошлины, наложенной Англіей на ввозъ
шотландскаго холста. Эти два обстоятельства, случившіяся почти одновременно,
произвели такое дѣйствіе на народную промышленность, что — по словамъ Дефо,
которому подробности дѣла были извѣстны лучше, чѣмъ кому-нибудь другому изъ
его современниковъ,—казалось, будто шотландскіе бѣдняки уже никогда не будутъ
испытывать недостатка въ работѣ. Къ несчастью, такого результата не было и ни-
когда не будетъ, пока общество не подвергнется коренному преобразованію. Но
движеніе, вызвавшее такое смѣлое замѣчаніе со стороны такого осторожнаго на-
блюдателя, какъ Дефо, конечно, было поразительно, и мы знаемъ изъ другихъ источ-
никовъ, что между 1728 и 1738 годами производство холста только для вывоза
удвоилось *). Позднѣе, какъ эта, такъ и другія отрасли шотландской промышленности
развивались съ постоянно возраставшей быстротой. Одинъ изъ современниковъ, по-
видимому хорошо знакомый съ дѣломъ, говоритъ между прочимъ, что съ 1715 по
1745 годъ шотландская торговля и промышленность увеличились болѣе, чѣмъ прежде
въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ. Такое показаніе, хотя и цѣнное, какъ подтвержденіе
другихъ свидѣтельствъ, слишкомъ неопредѣленно, чтобы вполнѣ на него положиться;
историки же, обыкновенно занимающіеся ничтожными подробностями о дворахъ, го-
сударяхъ и государственныхъ людяхъ, ничего не сообщаютъ намъ о предметахъ
г) Излишекъ полотна сверхъ потребленія составлялъ въ 1728 году 2.183.978 ярдовъ, а въ 1738—4.666.001.
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII И ХѴШ стоя.
505
дѣйствительно важныхъ, такъ что теперь почти невозможно возсоздать исторію шот-
ландскаго народа въ эту первую эпоху его матеріальнаго благосостоянія. Я впро-
чемъ собралъ нѣсколько фактовъ, которые, кажется, основаны на вѣрныхъ данныхъ
и представляютъ довольно точныя хронологическія указанія. Въ 1739 году произ-
водство холста было введено въ Кильбаркенѣ, а въ 1710 году-—въ Арбротѣ. Съ
1742 года ведутъ свое начало фабрики Кильмарнока. Въ 1748 году выдѣланы были
первыя полотна въ Келленѣ и въ томъ же году въ Инверери. Въ 1719 году эта
важная отрасль промышленности, служащая источникомъ богатства, была заведена
въ широкихъ размѣрахъ въ Абердинѣ, а около 1750 года она начала распростра-
няться въ Вэмиссѣ, чтб въ графствѣ Файфъ. Эти факты, случившіеся всего въ один-
надцать лѣтъ, въ разныхъ частяхъ страны, значительно отдаленныхъ одна отъ дру-
гой и ничѣмъ между собой не связанныхъ, указываютъ на существованіе общихъ
причинъ, управлявшихъ всѣмъ движеніемъ, — хотя и тутъ, какъ всегда, все при-
писывается вліянію немногихъ могущественныхъ лицъ. Мы имѣемъ однако и дру-
гія доказательства того, что это развитіе было существенно народнымъ дѣломъ. Даже
въ Эдинбургѣ, гдѣ до тѣхъ поръ уважались притязанія только дворянства и духо-
венства, началъ раздаваться голосъ новаго промышленнаго класса. Въ этой бѣдной
и воинственной столицѣ впервые учредилось тогда (1755 года) общество для по-
ощренія мануфактуръ, которое, по увѣренію историка того времени, было только
однимъ изъ проявленій всеобщаго энтузіазма по этому предмету. Рядомъ съ этимъ
движеніемъ, и какъ частное его выраженіе, можно замѣтить первые признаки соб-
ственно, такъ называемаго, денежнаго класса. Въ 1749 году учрежденъ былъ въ
Абердинѣ первый изъ шотлацдскихъ^провинціальныхъ ^бйнковъ, и въ томъ же году
основано было другое подобноЖучреждйіеТвѣтГлазго./Эти банки были представи-
телями востока и запада; каждІійТтДних/ьхвыдачеіУссудъ способствовалъ промыш-
ленности своего округа. С о о бщені е между восто чной и западной Шотландіей все
еще было трудно и дорого. Но и это неудобство должно было вскорѣ устраниться
помощью предпріятія, одинъ проектъ котораго возбудилъ бы прежде насмѣшки.
Послѣ 1707 года возникла мысль о соединеніи востока съ западомъ посредствомъ
канала, который бы связалѣ Фортъ съ Клайдомъ. Планъ чэтотъ былъ сочтенъ не-
сбыточнымъ и оставленъ. Но какъ только промышленный и торговый классы прі-
обрѣли достаточно вліянія, они взялись за него съ той энергіей, которая характе-
ризуетъ эти сословія и чаще встрѣчается между ними, чѣмъ между другими классами
общества. Такимъ образомъ въ 1768 году великое дѣло было положительно начато
и сдѣланъ былъ первый шагъ къ тому, что въ матеріальномъ отношеніи было пред-
пріятіемъ огромной важности, въ отношеніи же общественномъ и умственномъ имѣло
еще болѣе значенія: давая дешевый и удобный транзитъ чрезъ самую населенную
часть Шотландіи, оно прямо заставляло различные округа и различныя мѣстности
чувствовать взаимную надобность другъ въ другѣ и такимъ образомъ, внушая по-
нятіе о принадлежности всѣхъ ихъ къ одной системѣ, способствовало ослабленію
мѣстныхъ предразсудковъ и смягченію мѣстной вражды; вмѣстѣ съ тѣмъ, соблазняя
людей выходить изъ тѣснаго круга, въ которомъ они постоянно жили, оно подго-
товляло ихъ къ извѣстной степени умственнаго развитія, которая бываетъ естествен-
нымъ послѣдствіемъ ознакомленія съ разнообразными предметами и никогда не
встрѣчается въ тѣхъ странахъ, гдѣ средства сообщенія или очень ненадежны, или
невыгодны.
Таково было состояніе Шотландіи около половины ХѴШ столѣтія, и конечно ни
одной странѣ не представлялась лучшая будущность. Край наслаждался миромъ.
Ему нечего было страшиться ни иноплеменнаго нашествія, ни внутренняго деспо-
тизма. Искусства, увеличивающія довольство человѣка и содѣйствующія сто благо-
получію, прилежно воздѣлывались; богатство созидалось съ безпримѣрной быстротой,
и блага, идущія вслѣдъ за богатствомъ, широко распространялись; вмѣстѣ съ тѣмъ
надменность знати была такъ обуздана, что промышленный людъ сталъ впервые
506
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
чувствовать свою независимость, сталъ сознавать, что плоды его трудовъ — его
неотъемлемое достояніе, и сталъ держаться прямо, съ достоинствомъ въ присутствіи
сословія, предъ которымъ долгое время преклонялся въ унизительномъ смиреніи.
Кромѣ того возникла богатая литература рѣдкой поразительной красоты. Чтобы
разсказать умственные подвиги шотландцевъ ХѴШ столѣтія сколько-нибудь достой-
нымъ образомъ—потребовалось бы отдѣльное сочиненіе; я же не могу теперь оста-
новиться даже для бѣглаго обзора того, съ чѣмъ знакомы, по крайней мѣрѣ отчасти,
всѣ образованные люди, изъ которыхъ каждому извѣстно, какъ много сдѣлано по
его спеціальности. Въ послѣдней главѣ этого тома я попытаюсь впрочемъ дать
нѣкоторое понятіе о результатахъ всего этого, взятаго вмѣстѣ; теперь же достаточно
сказать, что по всѣмъ отраслямъ знанія этотъ нѣкогда бѣдный и невѣжественный
народъ произвелъ самобытныхъ и плодотворныхъ мыслителей. Явленіе это тѣмъ
болѣе замѣчательно, что оно находится въ совершенной противоположности съ
прежнимъ состояніемъ народа. До самаго начала XVIII столѣтія Шотландія могла
похвалиться только двумя писателями, сочиненія которыхъ принесли пользу чело-
вѣчеству. То были Бюкананъ п Непиръ. Бюкананъ былъ первымъ политическимъ
писателемъ, имѣвшимъ правильный взглядъ на правительство и ясно опредѣлившимъ
истинное отношеніе между народомъ и его правителями. Онъ поставилъ народныя
права на прочное основаніе и оправдалъ впередъ всѣ послѣдующіе перевороты.
Непиръ, столь же смѣлый въ другой области знанія, успѣлъ мощнымъ усиліемъ генія
открыть и довести до крайнихъ послѣдствій законъ прогрессіи чиселъ, который такъ
простъ и въ то же время такъ могучъ, что распутываемъ самыя утомительныя и
сложныя выкладки и, сокращая работу мозга, предотврціцаетъ огромную, несмѣтную
трату времени. Эти два человѣка были дѣйствительно великими благодѣтелями че-
ловѣческаго рода; но они стоятъ одиноко? и еслибы всѣ другіе писатели, которыхъ
Шотландія произвела до конца XVII столѣтія, никогда не рождались или, родившись,
никогда не писали, общество ничего бы не потеряло и находилось бы точно въ
такомъ же положеніи, въ какомъ оно теперь находится.
Но въ началѣ ХѴШ столѣтія почувствовалось движеніе во всей Европѣ, и
въ этомъ движеніи ШотланДія приняла участіе. Духъ изслѣдованія распространялся
такъ повсемѣстно и такъ /неотразимо, что никакая страйа не могла вполнѣ избѣжать
его дѣйствія. Люди пылкіе взволновались; даже степенные люди расшевелились.
Казалось, будто долгая ночь близится къ концу. Свѣтъ показался тамъ, гдѣ прежде
не было ничего кромѣ тьмы. Мнѣнія, освященныя вѣками, вдругъ подверглись кри-
тикѣ; повсюду возникли сомнѣнія и потребовались доказательства. Умъ человѣче-
скій, становясь смѣлѣе, не хотѣлъ удовлетворяться прежними свидѣтельствами. Ана-
лизъ проникалъ до корня вещей и тщательно разсматривалъ основаніе каждаго
вѣрованія. Нѣкоторое время движеніе ограничивалось умами высшаго полета; но
вскорѣ оно распространилось и въ наиболѣе развитыхъ странахъ охватило почти
всѣ классы. Въ Англіи и во Франціи послѣдствія были чрезвычайно благотворны.
Можно было надѣяться, что п въ Шотландіи народный умъ мало-по-малу просвѣ-
тится. Но вышло не такъ. Время текло, одно поколѣніе смѣнялось другимъ, прошло
ХѴШ столѣтіе, наступило XIX, а народъ почти не шевелился. Средневѣковой мракъ
продолжалъ тяготѣть надъ нимъ. Все кругомъ озарялось свѣтомъ, а шотландцы, оку-
танные туманомъ, по-прежнему плелись ощупью, угрюмо и боязливо. Другія націи
стряхивали съ себя старинные предразсудки, а этотъ странный народъ держался
своихъ суевѣрій съ неослабнымъ упорствомъ. Теперь конечно его неподатливость
мало-по-малу уменьшается, но чрезвычайно медленно, и опасныя реакціи повто-
ряются часто. Это обстоятельство, всегда тяготѣвшее и до сихъ поръ тяготѣющее
какимъ-то проклятіемъ надъ Шотландіей, составляетъ главное затрудненіе, съ ко-
торымъ приходится бороться ея историку. Въ другихъ мѣстахъ, когда возвышеніе
мыслящаго класса сопровождалось возвышеніемъ классовъ торговаго и промышлен-
наго, неизмѣннымъ слѣдствіемъ бывало уменьшеніе власти духовенства, а, слѣдова-
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII II ХѴШ стол.
507
телъно, и уменьшеніе вліянія суевѣрія. Особенность Шотландіи заключается въ томъ,
что здѣсь въ продолженіе ХѴШ и даже до половины XIX столѣтія промышленное
и умственное развитіе ни мало не потрясало авторитета духовныхъ х). Странное и без-
примѣрное сочетаніе! Отечество смѣлыхъ и предпріимчивыхъ купцовъ, ловкихъ фаб-
рикантовъ, дальновидныхъ промышленниковъ и искусныхъ ремесленниковъ, отече-
ство такихъ безстрашныхъ мыслителей, какъ Джоржъ Бюкананъ, Давидъ Юмъ и
Адамъ Смитъ, благоговѣетъ передъ нѣсколькими крикливыми и невѣжественными
проповѣдниками, давая имъ такую волю и оказывая такое повиновеніе, которыя
позорятъ вѣкъ и несовмѣстны съ самыми обыкновенными понятіями о свободѣ. На-
родъ, во многихъ отношеніяхъ очень развитой и разсуждающій здраво о полити-
ческихъ вопросахъ, обнаруживаетъ по всѣмъ вопросамъ религіознымъ ограничен-
ность ума, грубость чувства, запальчивость нрава и наклонность къ преслѣдованію
другихъ, показывающую, что протестантизмъ, которымъ шотландцы тщеславятся, не
принесъ имъ никакой пользы, что по отношенію къ самымъ важнымъ предметамъ
онъ оставилъ ихъ такими же ограниченными, какими’ засталъ, и что онъ не былъ
въ силахъ освободить ихъ отъ предразсудковъ, дѣлающихъ ихъ посмѣшищемъ Европы
и обратившихъ самое названіе шотландской кирки въ шутовское прозвище и уко-
ризненное слово между образованными людьми.
Теперь я постараюсь объяснить, какъ все это произошло и какъ примирить
эти видимыя несообразности. Что ихъ можно примирить и что онѣ только видимыя,
а не дѣйствительныя, съ этимъ тотчасъ согласится всякій, кто способенъ къ на-
учному пониманію всторіиХКакъ въ мірѣ физическомъ, такъ и въ мірѣ нравствен-
номъ нѣтъ ничего аномальнаго, ничего неестественнаго, ничего страннаго. Тутъ
всюду порядокъ, симметрія, законъ. Встрѣчаются противоположности, но нѣтъ про-
тиворѣчій. Въ характерѣ народа несообразность невозможна. Но таково еще от-
сталое состояніе ума человѣкаго и съ такимъ невѣрнымъ и мутнымъ взглядомъ
подходимъ мы къ величайшимъ задачамъ, что" не только дюжинные писатели, но
даже люди, отъ которыхъ можно бы ожидать лучшихъ результатовъ, находятся въ
этомъ случаѣ въ постоянномъ замѣшательствѣ, путая самихъ себя и своихъ чита-
телей толками о несообразности, какъ о свойствѣ изслѣдуемаго предмета, тогда какъ
въ дѣйствительности это просто доказательство собственнаго ихъ невѣжества. Дѣло
историка—устранить это заблужденіе, показавъ, что движенія народовъ совершенно
правильны и, подобно всѣмъ другимъ движеніямъ, опредѣляются единственно своимъ
предыдущимъ. Кто не можетъ этого сдѣлать, тотъ пе историкъ. Онъ можетъ быть
лѣтописцемъ, біографомъ, дѣеписателемъ, но выше этого ему не подняться, если
только онъ не проникнется духомъ науки, который возводитъ въ догматъ ученіе о
неизмѣнной послѣдовательности, другими словами,—ученіе о томъ, что если извѣстныя
событія совершились, то другія, соотвѣтствующія имъ, тоже произойдутъ. Твердо
овладѣть этой идеей и прилагать ее ко всѣмъ случаямъ безъ исключенія — чрезвы-
чайно трудно; но такъ долженъ поступать всякій, кто желаетъ поднять исторію изъ
ея теперешняго грубаго и безпорядочнаго состоянія и содѣйствовать, по мѣрѣ силъ,
къ возведенію ея на подобающее мѣсто главы и царицы всѣхъ паукъ. Даже и тогда
онъ не исполнитъ своей задачи, если только у него нѣтъ обильныхъ матеріаловъ,
заимствованныхъ изъ несомнѣнно достовѣрныхъ источниковъ. Но если фактовъ у
него достаточно, если они весьма разнообразны, если они собраны изъ такихъ разно-
родныхъ источниковъ, что могутъ быть взаимно повѣряемы и сличаемы, такъ что
устраняется всякое сомнѣніе въ настоящемъ ихъ значеніи, и если тотъ, кто поль-
зуется ш. обладаетъ способностью обобщенія, безъ которой невозможно совершить
х) Я приводу мѣсто, содержащее мнѣнія одного I цы кажутся ему народомъ, наиболѣе понукаемымъ
знаменитаго нѣмца, Георга Комба, и одного знамени- । духовенствомъ изъ всѣхъ націй Европы, пе исклю-
таго шотландца. «Докторъ Шнурцгепмъ при нос.іѣд- > чая даже испанцевъ и португальцевъ. Повидавъ лру-
немъ посѣщеніи Шотландіи замѣтилъ, что шотланд- і гія страны, я могу понять всю силу итого замѣчанія»
508
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ничего великаго,—въ такомъ случаѣ онъ почти навѣрное успѣетъ привести часть
своихъ трудовъ къ благополучному исходу, посвятивъ, разумѣется, всѣ свои силы
одному этому предпріятію, отложивъ для него всякій другой предметъ честолюбія и
пожертвовавъ ему многимъ изъ того, чѣмъ дорожатъ люди. Онъ долженъ пренебречь
нѣкоторыми изъ самыхъ пріятныхъ побужденій къ дѣятельности. Не для него тѣ
награды, которыя на другихъ поприщахъ заслужила бы та же энергія, не для него
сладости народнаго одобренія, не для него наслажденія власти, не для него участіе
въ государственныхъ совѣтахъ, не для него видное и почетное мѣсто въ обществен-
номъ быту. Какъ бы онъ ни сознавалъ свои силы, онъ не можетъ участвовать въ
великомъ состязаніи, не можетъ надѣяться на полученіе приза, не можетъ даже на-
сладиться волненіями борьбы. Для него арена закрыта, Его награда заключается
въ немъ самомъ, и онъ долженъ научиться не заботиться о сочувствіи своихъ ближ-
нихъ, ни о почестяхъ, ими раздаваемыхъ. Не помышляя объ этихъ вещахъ, онъ
долженъ скорѣе приготовиться къ поношенію, всегда ожидающему того, кто, откры-
вая новые пути мысли, тревожитъ предразсудки своихъ современниковъ. Между тѣмъ
какъ злоба приписываетъ ему невѣжество и даже хуже, чѣмъ невѣжество, между
тѣмъ какъ она перетолковываетъ его побужденія и заподозрѣваетъ его добросо-
вѣстность, между тѣмъ какъ она обвиняетъ его въ отрицаніи значенія нравствен-
ныхъ правилъ и въ нападкахъ на основу всякой религіи, точно онъ какой-то об-
щественный врагъ, поставившій себѣ задачей развратить общество и наслаждаю-
щійся картиною причиненнаго имъ зла,—между тѣмъ какъ всѣ эти нареканія раз-
даются вслухъ и переходятъ изъ устъ въ уста, онъ долщёнъ умѣть молча мѣрнымъ
шагомъ идти впередъ, не уклоняясь отъ цѣли, __ не останавливаясь на пути и не
сворачивая съ дороги, чтобы разобрать гнѣвные крики, которыхъ онъ не можетъ не
слышать и которые требуютъ ^нечеловѣческихъ усилій для того, чтобы не явилось
желанія обуздать ихъ. Вотъ кайіяПсачёства и какая твердая рѣшимость необходи-
мы тому, кто въ самомъ важномъ изъ предметовъ изслѣдованія, находя старый путь
никуда негоднымъ, старается проложить новую стезю и въ этой попыткѣ не только
быть можетъ истощаетъ своц силы, но и навѣрное навлекаетъ на себя ненависть
поборниковъ неприкосновенности стариннаго порядка. Чтобы разрѣшить великую
задачу дѣлъ человѣческихъ, чтобы открыть сокровенныя условія, опредѣляющія раз-
витіе и судьбу народовъ, и найти въ событіяхъ минувшаго ключъ къ таинствамъ
будущаго,—надобно по меньшой мѣрѣ соединить въ одну науку всѣ законы нрав-
ственнаго и физическаго міра. Кто сдѣлаетъ это, тотъ перестроитъ заново все зданіе
нашихъ знаній, иначе расположитъ ого различныя части и согласитъ его кажущіяся
несообразности. Быть можетъ, умъ человѣческій еще не готовъ къ такому громадному
предпріятію. Во всякомъ случаѣ тотъ, кто примется за подобное дѣло, встрѣтитъ
мало сочувствія и немного найдетъ помощниковъ. Мало того, какъ бы онъ ни тру-
дился, пройдутъ утро и полдень его жизни, наступитъ заката его дней, и самъ онъ
сойдетъ со сцены, а то, что онъ тщетно надѣялся совершить, останется неокон-
ченнымъ. Онъ можетъ заложить фундаментъ, но воздвигать зданіе будутъ уже его
преемники. Ихъ руки довершатъ начатое; они стяжаютъ славу; ихъ имена будутъ
памятны, когда его имя позабудется. Очевидно, что подобное дѣло требуетъ не
только многихъ умовъ, но и преемственной опытности многихъ поколѣній. Нѣкогда,
сознаюсь, я думалъ иначе. Нѣкогда, впервые окинувъ взоромъ все поле знанія и
вообразивъ, что я различаю, хотя и смутно, его отдѣльныя части и взаимное ихъ
соотношеніе, я былъ до того увлеченъ поразительной красотой зрѣлища, что разсу-
докъ измѣнилъ мнѣ, и я счелъ себя способнымъ не только обнять цѣлое, но и овла-
дѣть подробностями. Я плохо зналъ тогда, какъ, расширяясь, отступаетъ горизонтъ
и какъ тщетно стараемся мы схватить летучіе образы, которые ускользаютъ и уно-
сятся отъ насъ въ отдаленіе. Теперь я хорошо понимаю, что совершу только малую
часть того, чтб прежде надѣялся сдѣлать. Въ этихъ прежнихъ упованіяхъ было много
мечтательнаго, быть можетъ, много безумнаго. Въ нихъ былъ пожалуй и тотъ нрав-
СОСТОЯНІЕ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII И ХѴШ стол.
509
ственный недостатокъ, что они отзывались заносчивостью, свойственною силѣ, не
желающей признать своей слабости. Но даже и теперь, когда они разбиты и уни-
чтожены, я не могу раскаиваться, что лелѣялъ ихъ; напротивъ, я бы охотно пре-
дался имъ снова; еслибы могъ. Такія надежды — принадлежность того веселаго и
пылкаго возраста, когда только и бываемъ мы дѣйствительно счастливы, когда чув-
ство дѣятельнѣе разсудка, когда опытъ еще не закалилъ нашей натуры, когда при-
вязанности наши еще не ослаблены и не разрушены до основанія, когда, незна-
комые съ горечью разочарованія, мы не безпокоимся о трудностяхъ, не замѣчаемъ
препятствій, не страдаемъ, а наслаждаемся честолюбіемъ, и когда у насъ, благодаря
быстрому обращенію крови въ жилахъ, пульсъ бьется часто, а сердце трепещетъ
въ чаяніи будущаго. Славные это дни, но они уходятъ отъ насъ, и ничто не можетъ
замѣнить ихъ. Мнѣ они теперь кажутся скорѣе грезами разстроеннаго воображенія,
нежели трезвой дѣйствительностью, которая была, да миновала. Тяжело это при-
знаніе, но я обязанъ сдѣлать его читателю; мнѣ не хотѣлось бы оставить его при
той мысли, что я въ этомъ или въ будущихъ томахъ моей «Исторіи» сдержу свое
слово и исполню все, что обѣщано мной. Кое-что я надѣюсь совершить, что заин-
тересуетъ современныхъ мыслителей и на чемъ быть можетъ потомство будетъ въ
состояніи строить. Но это будетъ только отрывкомъ моего первоначальнаго плана.
Въ двухъ предшествующихъ главахъ я уже пытался и въ слѣдующихъ двухъ еще
попытаюсь рѣшить любопытную задачу въ исторіи Шотландіи, тѣсно связанную съ
другими еще болѣе важными задачами; но, хотя рѣшеніе, надѣюсь, будетъ полное,
доказательства рѣшенія будутъ навѣрное недостаточными. Къ сожалѣнію, я долженъ
прибавить, что такое несове]щіонство — отнынѣ неизбѣжная принадлежность моего
плана. Оно неизбѣжно, потому 1йотя<отчаяваюсь пополнить тѣ пробѣлы въ моемъ
знаніи, которые все болѣе и б о лѣ е ощущаю п о мѣрѣ то го, какъ расширяются мои
_____________________________________________внимательномъ соображеніи моихъ
силъ, вѣроятной продолжительности моей^жизни^и^прЪ^ѣловъ. до которыхъ безопасно
можетъ быть доведено прилежаніе, я пришелъ къ заключенію, что это введеніе,
задуманное мною какъ прочная основа, на которой впослѣдствіи можно было бы
воздвигнуть исторію Англіи/должно быть значительно сокращено и, слѣдовательно,
лишено своей силы; въ прбтивномъ же случаѣ я едва-ли успѣлъ бы разсказать съ
подобающей полнотой и обстоятельностью дѣянія той великой и блестящей націи,
съ которой я лучше всего знакомъ и которой я съ гордостыЬ считаю себя членомъ.
Съ свободнымъ, благороднымъ и великодушнымъ англійскимъ народомъ тѣснѣе всего
связаны мои симпатіи; на немъ естественно сосредоточиваются мои привязанности;
изъ его литературы и жизни почерпнуты лучшія мои познанія; а потому теперь
самое завѣтное, самое священное желаніе моего сердца- -успѣть написать его исто-
рію и раскрыть послѣдовательныя ступени его мощнаго развитія, пока задача эта
мнѣ еще по силамъ, пока не притупились мои способности и не начало ослабѣвать
напряженное вниманіе.
ГЛАВА V.
Изслѣдованіе умственнаго движенія в*ъ Шотландіи в*ъ теченіе XVII столѣтія.
Остальную часть этого тома я намѣренъ посвятить попыткѣ раскрыть еще пол-
нѣе тотъ двойной парадоксъ, который составляетъ выдающуюся особенность исторіи
Шотландіи. Парадоксъ этотъ заключается, какъ мы видѣли, во-первыхъ, въ томъ
фактѣ, что одинъ и тотъ же народъ былъ долгое время либераленъ въ политикѣ и
нелибераленъ въ религіи; и во-вторыхъ—въ томъ, что блестящая, пытливая и скеп-
тическая литература, которую произвела Шотландія въ XVII столѣтіи, была не въ
состояніи ослабить суевѣріе этого народа или привить ему болѣе разумныя и ши-
рокія правила въ дѣлѣ религіи. Съ самаго ранняго времени существовали, какъ я
уже пытался доказать, многія обстоятельства, предрасполагавшія шотландцевъ къ
суевѣрію и въ этомъ отноіценіи имѣвшія общую связь^ съ разсматриваемымъ нами
предметомъ. Но замѣчательноеявленіе, непосредственно занимающее насъ, можетъ,
мнѣ кажется, быть пр и пи сано двумъ разлн чнымъ причинамъ. Первая заключалась
въ томъ, что въ теченіе ста двадцати лѣтъ послѣ введенія протестантизма правители
Шотландіи или пренебрегали церковью, или преслѣдовали ее и тѣмъ какъ бы тол-
кали духовенство въ объятія народа, такъ какъ въ немъ одномъ оно могло найти
сочувствіе и поддержку. Отсюда произошелъ союзъ между обѣими сторонами, болѣе
тѣсный, чѣмъ могъ бы быть при другихъ условіяхъ; оѣсюда также возникъ тотъ де-
мократическій духъ, которВій былъ необходимымъ послѣХствіемъ подобнаго союза и
который духовенство поощряло вслѣдствіе своего антагонизма съ высшими классами.
Результатъ былъ въ высшей степени благодѣтельный въ томъ отношеніи, что это
породило любовь къ свободѣ и ненависть къ тиранніи, которыя дважды въ теченіе
XVII столѣтія спасали страну отъ ига жестокаго деспотизма. Но тѣ самыя обстоя-
тельства, которыя предохранили народъ отъ деспотизма политическаго, подвергли
его въ тѣмъ большей мѣрѣ деспотизму религіозному. Ие имѣя никого, кому бы онъ
могъ ввѣриться, кромѣ проповѣдниковъ, онъ ввѣрился имъ вполнѣ и во всѣхъ пред-
метахъ. Духовенство мало-по-малу пріобрѣло неограниченное вліяніе не только въ
дѣлахъ духовныхъ, но и свѣтскихъ. Въ концѣ XVI столѣтія оно было радо, что
нашло убѣжище у народа, въ половинѣ же ХѴП-го оно уже повелѣвало народомъ.
Какъ постыдно злоупотребляло оно своей властью и какъ, потворствуя самому худ-
шему виду суевѣрія, оно продолжало царство невѣжества и задерживало движеніе
общества,-—это будетъ разсказано въ настоящей главѣ; по должно отдать справедли-
вость этому сословію, что религіозное рабство, въ которое попали шотландцы въ
XVII столѣтіи, было вообще добровольное, и что, какой бы вредъ ни причинило это
рабство, оно все-таки имѣло благородный источникъ, такъ какъ вліяніе протестант-
скаго духовенства должно быть главнѣйшимъ образомъ приписано тому безстрашію,
съ какимъ оно выступало впередъ въ качествѣ предводителей народа въ такой пе-
ріодъ, когда постъ этотъ былъ полонъ опасности и когда высшіе классы готовы
были соединиться съ короной, чтобы уничтожить послѣдніе слѣды національной свободы.
Прослѣдить дѣйствіе этой причины шотландскаго суевѣрія — будетъ дѣломъ
настоящей главы; въ слѣдующей же п заключительной главѣ я буду разбирать
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ЪЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII СТОЛ.
511
другую причину, о которой я до сихъ поръ только едва упомянулъ. Этотъ послѣдній
разборъ приведетъ къ нѣкоторымъ соображеніямъ относительно философіи метода,
которыя у насъ еще не вполнѣ взвѣшены и на которыя исторія шотландскаго ума
прольетъ значительный свѣтъ. Окажется, что въ теченіе ХѴШ столѣтія способнѣйшіе
шотландцы почти всѣ безъ исключенія приняли такой методъ изслѣдованія истины,
который лишилъ ихъ всякаго сочувствія со стороны пхъ соотечественниковъ и не
далъ ихъ сочиненіямъ произвести то дѣйствіе, которое безъ этого они непремѣнно
имѣли бы. Въ результатѣ оказалось, что, несмотря на существованіе самой скепти-
ческой литературы, скептицизмъ не дѣлалъ никакихъ успѣховъ, а, слѣдовательно,
суевѣріе оставалось въ прежнемъ размѣрѣ. Правда, что высоко образованные умы
подпали вліянію новыхъ идей, но они составляли совершенно отдѣльный классъ и
между ними и народомъ не было никакихъ средствъ сообщенія. Что причиной тому
былъ именно методъ, избранный литераторами, это я надѣюсь доказать въ слѣдующей
главѣ; и если я успѣю въ атомъ, то будетъ ясно, что я не преувеличивалъ, называя
это обстоятельство второй важной причиной сохраненія шотландскаго суевѣрія, такъ
какъ оно имѣло достаточно силы, чтобы помѣшать мыслящимъ классамъ въ выпол-
неніи пхъ естественнаго призванія колебать устарѣлыя мнѣнія.
Мы уже видѣли, что почти непосредственно послѣ реформаціи возбудилось
недоброжелательство между высшими классами и духовными вождями протестантской
церкви, и что это недоброжелательство возрасло до того, что въ 1580 году оно раз-
разилось уничтоженіемъ епископства. Эта смѣлая, рѣшительная мѣра сдѣлала раз-
рывъ неисправимымъ. Процовѣдники зашли теперь слишкомъ далеко, чтобы отсту-
пать, еслибы даже и хотѣли этого; и съ этой минуты, чйстосердсчно примкнувъ къ
народу, они заняли позицію, Х^оторой^ннкргдалуже. бодѣе не покидали. Въ теченіе
остальныхъ двадцати лѣтъ пребыванія Іакова въ Шотландіи они занимались воз-
бужденіемъ народа противъ его правителей; и по мѣрѣ того, какъ проповѣдники
проникались демократическимъ духомъ, кбр^^и^дворянство становились все болѣе
и болѣе враждебны духовенству и проявили впервые расположеніе соединиться
между собой для отстаиваніяусвоихъ общихъ интересовъ. Въ 1603 году Іаковъ всту-
пилъ на престолъ Англіи, и борьба началась не на шутку. Она продолжалась съ
немногими перерывами восемьдесятъ пять лѣтъ, и во все продолженіе ея пресви-
теріанское духовенство ни разу не дрогнуло; оно всегда оставалось вѣрнымъ пра-
вому дѣлу, всегда на сторонѣ народа. Это значительно усилило его вліяніе; а чтб
еще болѣе благопріятствовало этому вліянію, такъ это то, что, являясь защитниками
свободы народа, духовные были въ то же время и защитниками національной не-
зависимости. Когда Іаковъ I и оба Карла пытались силой навязать Шотландіи
епископство, шотландцы отвергли его, пе только потому, что они ненавидѣли самое
это учрежденіе, но и потому, что онп смотрѣли на него какъ па признакъ чужезем-
наго господства, которому они рѣшились противиться. Ближайшимъ и опаснѣйшимъ
врагомъ ихъ была Англія, и они гнушались мысли принять епископовъ, которые
на первыхъ же порахъ должны были быть посвящены въ Лондонѣ; кромѣ того не
подлежало сомнѣнію, что они никогда не были бы приняты въ Шотландію, еслибы
Англія не была сильнѣйшей державой. Поэтому столько же политическія, какъ и
религіозныя причины заставляли шотландское духовенство бороться въ теченіе XVII
столѣтія противъ епископства и когда оно ниспровергло это учрежденіе въ 1638 г.,
Э Въ 1638 г. одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ лю-
дей между шотландскимъ духовенствомъ пишетъ: «нашъ
главный страхъэ заключается въ томъ, «чтобы намъ по і
лишиться нашей религій, чтобы намъ пе перерѣзали !
горла, чтобы несчастная страна пе сдѣлалась англій-
ской провипціон, предоставленной навсегда въ рас-
поряженіе какого-нибудь епископа кѳптербёррійскаго...
Эта церковь есть церковь свободная, независимая; не
мспѣе свободно п пезавнепмо и это королевство; п по-
добно тому, какь наши патріоты лучше всего могутъ
судить о томъ, чтб служитъ ко благу королевства, паши
собственные пасторы должны быть лучшими судьями
въ дѣлѣ выбора формы богослуженія, соотвѣтствую-
щей нашей реформаціи и ведущей ко благу народа».
Двумя поколѣніями позже однимъ изъ самыхъ попу-
лярныхъ аргументовъ противъ соединенія королевствъ
было то, что оно дастъ возможность англичанамъ на-
вязать Шотландіи епископство.
512
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
то его смѣлое и рѣшительное поведеніе сдѣлало то. что въ понятіяхъ народа лю-
бовь къ отечеству соединялась съ любовью къ церкви. Послѣдующія событія еще
тѣснѣе связали эти два чувства *). Въ 1650 году Кромвель вторгнулся въ Шот-
ландію, разбилъ шотландцевъ въ сраженіи при Дёнбарѣ и возложилъ на Монка обя-
занность сломить ихъ непокорный духъ посредствомъ сооруженія крѣпостей и устрой-
ства длинной цѣпи военныхъ постовъ. Нація, запуганная и изнеможенная, упала
духомъ и виервые, въ теченіе трехъ столѣтій, почувствовала давленіе чужеземнаго
ига. Одно духовенство осталось твердо * 2). Кромвель, который зналъ, что оно было
главнымъ препятствіемъ къ довершенію его побѣды, ненавидѣлъ это сословіе и сдѣ-
лалъ все, что могъ, чтобы погубить его 3). Но власть духовенства пустила слишкомъ
глубокіе корни, чтобы можно было потрясти ее. Съ своихъ каѳедръ проповѣдники
продолжали вліять на народъ и воодушевлять его. Въ глазахъ завоевателей и на-
перекоръ имъ шотландская церковь продолжала созывать свои генеральныя собранія
до лѣта 1653 года. Тогда конечно она должна была уступить грубой силѣ, и народъ,
къ своему неизъяснимому горю, увидалъ, какъ почтенные представители шотландской
церкви прямо съ мѣста ихъ собранія были взяты англійскими солдатами и ведены,
какъ преступники, по улицамъ Эдинбурга 4).
день сентября, каковой день опъ, возгородпвшпсь тѣмъ,
что разбилъ въ оный наши войска при Дёнбарѣ, на-
звалъ своимъ днемъ. Именно въ этотъ самый день
справедливый Судья/ призвалъ его къ отвѣту», и т. д.
4) Бальи въ /одномъ письмѣ къ Калями, помѣ-
ченномъ изъ Глазго отъ 27 іюля 1653 года, пишетъ:
«20-го минувшаго іюля, когда наше генеральное собра-
ніе засѣдало въ обыкновенный день и въ обыкновен-
номъ мѣстѣ, подполковникъ Котторалль окружилъ цер-
ковь нѣсколькими ротами стрѣлковъ и отрядомъ кон-
ницы; самъ онъ взошелъ въ домъ собранія и непосред-
ственно послѣ молитвы м-ра Диксона, предсѣдателя,
потребовалъ, чтобы его выслушали; при этомъ опъ
спросилъ, засѣдали ли мы тамъ съ дозволенія парла-
мента англійской республики? пли главнокомандующаго
англійскихъ войскъ? или англійскихъ судей въ Шот-
ландіи? Предсѣдатель отвѣчалъ, что мы составляемъ
церковный сѵнодъ, духовный судъ Іисуса Христа, ко-
торый по вмѣшивается ни во что гражтапское; что
ваша власть происходитъ отъ Бога и установлена за-
конами страны, до сихъ поръ еще пе отмѣненными;
что торжественною лпгою и ковенантомъ англійская
армія обязалась защищать наше генеральное собраніе.
Послѣ нѣсколькихъ рѣчей въ этомъ родѣ подполков-
никъ сказалъ намъ, что ему приказано заставить нась
разойтись; послѣ чего онъ приказалъ всѣмъ намъ слѣ-
довать за нимъ, грозя въ противномъ случаѣ выгнать
насъ. Заявивъ протестъ противъ такого неслыханнаго,
безпримѣрнаго насилія, мы встали съ мѣстъ п послѣ-
довали за пимъ. Опъ провелъ насъ всѣми улицами и
вывели па одну милю за городъ подъ конвоемъ нѣ-
сколькихъ ротъ пѣшихъ стрѣлковъ, безъ конницы, на
что весь народъ смотрѣлъ вь скорби, какъ на самое
грустное зрѣлище, какое ему случалось когда-либо ви-
дѣть. Выведя пасъ на разстояніе одной мили отъ го-
рода. онъ объявилъ намъ о томъ, что еще было пору-
і чепо ему сказать, а именно: чтобы мы не смѣли впредь
! сходиться болѣе, какъ по трое; и что къ 8 часамъ
| слѣдующаго дня мы должны выѣхать пзъ города, подъ
1 страхомъ обвиненія въ нарушеніи общественнаго спо-
. коііетвія. II на слѣдующій день звукомъ трубы вамъ
возвѣшено было, что мы должны оставить городъ, подь
страхомъ немедленнаго заключенія іи» тюрьму. Бткимъ
образомъ наше генеральное собраніе, ч^сп. и сила на-
і шей земной церкви, было сокрушено и стоптано ва-
шимъ солдатствомъ, безъ малѣйшаго въ то время съ
' нашей стороны повода пи въ словѣ, нп въ дѣлѣ».
г) Ненависть, которую естественно питали шот-
ландцы противъ англичанъ за причиненіе имъ столь-
кихъ страданій, была всѳ-такп очепь сильна около
половины XVII столѣтія, несмотря па времсниоѳ со-
единеніе обѣихъ націй противъ Карла, Въ 1652 г.
уголовные протоколы полны случаенъ убійства англій-
скихъ солдатъ. Народъ рѣзалъ пхъ всякій разъ, какъ
представлялся къ тому удобный поводъ, и пхъ, столько
же ненавидѣли въ Шотландіи, какъ ненавидѣли фран-
цузскихъ солдатъ въ Испаніи во время воііны^ на Пи-
ренейскомъ полуостровѣ.
2) Кларендонъ подъ 1655 годомъ говоритъ: «хотя
Шотландія и была побѣждена и подчинена до такой
степени, что не было нп одного мѣста, нп одного
лица, обнаруживающаго хотя малѣйшую тѣнь сопро-
тивленія Кромвелю, который посредствомъ управле-
нія Монка сдѣлалъ иго особенно тяжкимъ для вееіі
націи.—тѣмъ но менѣо проповѣдники сохраняли сво-
боду каѳедры и, скорѣе подъ вліяніемъ оскорбленія,
нанесеннаго пресвитерству, чѣмъ по чувству долга къ
королевскому величеству, многіе изъ нихъ вздумали
молиться за короля; и вообще хотя тайно, но воз-
становляли умы народа противъ настоящаго прави-
тельства».
3) А что имъ было особенно больно, такъ это
то, что онъ пе хотѣлъ слушать ихъ проповѣди. Одинъ
писатель того времени (Гордонъ) сообщаетъ намъ, что
даже въ 1648 году, когда Кромвель былъ въ Эдин-
бургѣ, «онъ пе ходилъ въ пхъ церковь; по постоянно
упоминается, что бывали проновѣдп у него на дому,
такъ какъ онъ самъ проиовѣдывалъ, когда на него
нисходило вдохновеніе, чтд случалось съ нимъ, точно
пароксизмы лихорадки, иногда по два, иногда по три
раза въ день». Въ 1650 году, по словамъ другого
современника, «онъ дѣлалъ конюшни для своихъ ло-
шадей пзъ всѣхъ церквей, всюду, куда бы ни при-
ходилъ, и жегъ въ пихъ всѣ кресла и скамьи, гра- і
билъ дома пасторовъ и захватывать пхъ хлѣбъ». Съ
другой стороны духовенство, употребляя г.ъ дѣло всѣ |
средства, какпмп оно всегда пользовалось, представляло 1
Кромвеля противящимся Провидѣнію тѣмъ именно, что >
онъ противился духовнымъ. Рётерфордъ («Веіі^іонз
БеНегз», гергіпіеіі (і1а.ч^охѵ, 1824, р. 346) говоритъ, ;
что онъ боролся противъ «повѣренныхъ тайнъ Все-
вышняго», а Ро подъ годомъ 1658 съ торжествомъ і
замѣчаетъ: «Въ началѣ сен тября сего года протекторъ,
эта старая лисица, умеръ. Замѣчено было какъ рѣдкое '
проявленіе Божескаго промысла, что онъ умеръ въ 3 ,
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII СТОЛ.
513
Такимъ образомъ въ Шотландіи послѣ второй половины XVI столѣтія всѣ
обстоятельства направлялись къ тому, чтобы поднять значеніе духовенства, выдви-
нувъ его въ передовые ряды защитниковъ отечества. И очень естественно, что
духовные, сознавая свое возвышеніе, вели споръ согласно съ видами своей про-
фессіи и скорѣе заботились о выгодахъ религіи, чѣмъ о свѣтскихъ интересахъ.
Война, которую затѣяли шотландцы противъ Карла I, имѣла въ большей мѣрѣ ха-
рактеръ крестоваго похода, чѣмъ какая-либо изъ войнъ, веденныхъ протестантскими
націями *)♦ Главною цѣлью было возвысить пресвитеровъ и низринуть епископовъ.
Прелатство сдѣлалось чѣмъ-то гнуснымъ, подлежащимъ искорененію во что бы то
ни стало. Всѣ остальныя соображенія были подчинены этому. Шотландцы любили
свободу и ненавидѣли Англію. Но даже и эти двѣ страсти, при всей ихъ силѣ,
были ничто въ сравненіи съ ихъ пылкимъ желаніемъ распространять, въ случаѣ
нужды даже мечемъ, свое пресвитеріанское церковное устройство. Это было ихъ
первымъ, важнѣйшимъ долгомъ. Они боролись конечно за свободу, но болѣе всего
боролись за религію. Въ ихъ глазахъ Карлъ былъ идолопоклонническій глава идоло-
поклоннической церкви, и эту церковь они рѣшили уничтожить* Они чувствовали,
что ихъ дѣло святое, и вступили впередъ въ полной увѣренности, что за нихъ
обнаженъ Гедеоновъ мечъ и что ихъ враги будутъ выданы имъ.
Итакъ, возстаніе противъ Карла, которое со стороны англичанъ было дѣломъ
существенно свѣтскимъ 2), являлось со стороны шотландцевъ чисто религіознымъ
предпріятіемъ. Это потому, что у насъ міряне были сильнѣе духовныхъ, между тѣмъ
какъ у нихъ духовные были сильнѣе мірянъ. Въ 1543 году, такъ какъ обѣ націи
соединились противъ короля, признано было полезнымъ, чтобы онѣ заключили между
собой тѣсный союзъ; но въ возникшихъ по этому поводу переговорахъ, какъ замѣ-
чаетъ одинъ современникъ, англичане хотѣли только гражданскаго союза, шотланды же
требовали религіознаго договора. Такъ ^акъ они соглашались продолжать войну
только при этомъ условіи, то англичане вынуждены были согласиться. Результатомъ
этого было заключеніе такъ называемаго «Зоіетп Ьеа§пе апсі Соѵепапі» (Торже-
ственная лига и Ковенантъ), которымъ устанавливалась повидимому искренняя связь
между двумя странами. Но/подобный договоръ конечно не могъ быть долговѣченъ,
такъ какъ обѣ стороны имѣли неодинаковые виды: англичанё имѣли цѣль политическую,
а шотландцы—религіозную^ Послѣдствія такого разномыслія не замедлили обнаружиться.
Въ январѣ 1645 г. открылись переговоры съ королемъ, и коммиссары съѣхались въ
Уксбриджѣ съ цѣлью заключить миръ. Попытка не удалась, какъ и слѣдовало ожи-
дать, въ виду того обстоятельства, что не только притязанія короля были неприми-
римы съ притязаніями его противниковъ, но и въ этихъ послѣднихъ не было взаим-
наго согласія между союзниками. Во время конференцій въ Уксбриджѣ шотландцы
выражали готовность уступить его требованіямъ, если онъ уступитъ имъ въ томъ,
что касается церкви; англичане же, говоритъ Кларендонъ, занимаясь гражданскимъ
и политическимъ вопросами, менѣе всего заботились о томъ, что касалось церкви.
Едва-ли можно найти лучшій примѣръ въ доказательство свѣтскаго характера
англійскаго возстанія сравнительно съ религіознымъ направленіемъ возстанія шот-
ландцевъ. Послѣдніе даже далеко не скрывали этого направленія, а, напротивъ,
хвастались имъ и очевидно думали, что оно доказываетъ, до какой степени они
Въ августѣ 1640 года армія вступила въ
Англію; и «очень отрадно было замѣтить, что, когда
мы остановились на ночлегъ, по всей арміи не было
слышно почти ничего другого, кромѣ пѣнія псалмовъ
п молитвъ и чтенія св. писанія солдатами во многихъ ।
шалашахъ». ('«Зеіесі Віо&гарЬісз» есШеі Ьу Мг. Тѵѵее-
Йіе Гог іѣе ІѴойпаѵ Зосіеіу). Въ 1644 году знамени-
тый проповѣдникъ Андрю Кантъ былъ назначенъ ком- !
миссарами генеральнаго собраніи «говорить проповѣдь I
при открытіи парламента, при чемъ онъ вполнѣ опра- |
вдалъ ихъ ожиданія. Ибо главнымъ предметомъ его
проповѣдп было указать на оппозицію короля Карла
царю Іисусу (такъ вздумалось ему выразиться) и вслѣд-
ствіе этого настаивать на сопротивленіи королю Карлу
во имя интересовъ царя Іисуса».
2) Междоусобная воина паша была не религіоз-
ная; это была борьба между короной и парламентомъ,
См. примѣчаніе въ «Исторіи Цивилизаціи^, Бокля,
Т. I, стр. 150, примѣчаніе 1.
Бокль.—Изд. Ф. Павленкова.
33
514
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
стоять выше своихъ свѣтски настроенныхъ сосѣдей. Въ февралѣ 1645 года гене-
ральное собраніе обратилось къ націи съ адресомъ, касавшимся не только гражданъ,
находившихся налицо въ Шотландіи, но и служившихъ въ войскахъ внѣ ея предѣ-
ловъ. Въ атомъ документѣ, который, исходя изъ такого источника, имѣлъ конечно
большое вліяніе,—соображеніямъ политическимъ, какъ касающимся лить временныхъ
благъ людей, не придавалось никакого значенія и упоминалось о нихъ почти съ
презрѣніемъ. Что Репортъ былъ разбитъ, а Іоркъ и Ныокестль взяты въ плѣнъ, это
считалось пустымъ дѣломъ. Они были только орудіями для достиженія извѣстной
цѣли, а цѣль ата — преобразованіе религіи въ Англіи и установленіе въ ней чисто
пресвитеріанскаго церковнаго устройства х).
Предполагалось, что въ войнѣ, предпринятой съ такими святыми намѣреніями
и задуманной въ такомъ возвышенномъ духѣ, шотландцы должны были находиться
подъ непосредственнымъ покровительствомъ Бога, во имя Котораго они воевали.
Говоря языкомъ того времени, это была война, веденная за Бога и за Божію цер-
ковь. Каждая побѣда, которая одерживалась, была пе результатомъ искусства пол-
ководца или мужества воиновъ, но отвѣтомъ на молитвы2). Когда сраженіе проигры-
валось. то это происходило или вслѣдствіе гнѣва Божія за грѣхи народа 3), или
для того, чтобы доказать людямъ, что они не должны полагаться на плотскія силы.
Ни одно событіе не признавалось естественнымъ—все было сверхъестественно. Ходъ
всего дѣла опредѣлялся не предшествующими обстоятельствами, но цѣлымъ рядомъ
чудесъ. Для пользы шотландцевъ вѣтры измѣнялись и бури утихали. Свѣдѣнія, ко-
торыя имъ нужно было получать, нерѣдко доставлялись моремъ, и въ этихъ случаяхъ
они ожидали, что если вѣтеръ неблагопріятенъ, Провидѣціе вступится и перегѣнитъ
его направленіе, а послѣ благополучнаго доставленія сйдѣній снова дозволитъ ему
возвратиться на прежній путц. , *
Такимъ-то образомъ въХШотландіи все содѣйствовало къ усиленію религіоз-
наго элемента, который по силѣ обстоятельствъ уже давно сдѣлался тамъ преобла-
дающимъ, а теперь угрожалъ поглотить всѣ остальные элементы національнаго ха-
рактера. Духовенство владычествовало неограниченно; и умственный складъ, свой-
ственный этому классу людей, распространялся и на йсѣ прочіе классы. Воззрѣнія
одного сословія перевѣшивали взгляды всѣхъ другихъ, и не только военное дѣло,
но и всѣ интересы торговли, литературы, науки и искусства считались совершенно
но и всѣ интересы торговли, литературы,
*) Въ этомъ адресѣ встрѣчается слѣдующее мѣсто:
«Что же касается пасъ, то наши вооруженныя силы,
отправленныя въ это королевство, во исполненіе озна-
ченнаго ковенанта, были такъ милостиво и такъ оче-
видно подкрѣпляемы и благословляемы свыше (среди
многихъ опасностей, бѣдствій, нуждъ и тягостей) п
способствовали въ такой сильной мѣрѣ къ разбитію и
разсѣянію двухъ главныхъ армій, сперва арміи мар-
киза Ньюксстльскаго, а потомъ соединенныхъ армій
принца Рёперта и его, а также ко взятію двухъ сильно
укрѣпленныхъ городовъ, Іорка и Ньюкестля,- -что намъ
есть чтб отвѣчать врагамъ, упрекающимъ насъ въ
этомъ дѣлѣ. и есть чѣмъ замазать ротъ сущей не-
правдѣ. А то дѣло, которое, по-нашему, важнѣе,
чѣмъ всѣ побѣды, или какія бы то ни было вре-
менныя блаіи, именно преобразованіе религіи въ
Англіи и установленіе единства въ этомъ отношеніи
между обоими королевствами (главнѣйшая цѣль этого
ковенанта),—до такой степени подвинуто впередъ, что
англійскій молитвенникъ, съ содержащимися въ немъ
праздниками и многими церемоніями, вмѣстѣ съ пре-
латствомъ, источникомъ всего этого, уничтожены п вы-
ведены изъ употребленія повелѣніемъ парламента, и
по вопросу объ управленіи дѣлами религіи во всѣхъ
трехъ королевствахъ послѣдовало соглашеніе въ со-
браніяхъ и парламентахъ обоихъ королевствъ безъ ма-
лѣйшаго въ которомъ-либо изъ нихъ возраженія, упра-
вленіе церковью посредствомъ старѣйшинъ конгрегаціи,
классныхъ пресвитерій, областныхъ и народныхъ со-
браній принято собраніемъ духовныхъ въ Вестминстерѣ
и рѣшено также большинствомъ голосовъ въ обѣихъ
палатахъ англійскаго парламента».
2) Въ 1684 году коммиссары генеральнаго собра-
нія въ адресѣ принцу Вельскому утверждали, что сБо-
жество сражалось за свой народъ», разумѣя подъ этимъ
народомъ — народъ шотландскій. Онп прибавляли, что
фактъ отраженія ихъ враговъ служитъ доказательствомъ,
«до какой степени Господь былъ недоволенъ ихъ об-
разомъ дѣйствій».
3) Передо мной теперь два шотландскихъ свидѣ-
тельства о роковомъ сраженіи при Дёнбарѣ. Согласно
одному, пораженіе это должно было свидѣтельствовать
о «великой грѣховности и порочности» народа. Со-
гласно же другому, оно происходило отъ гнѣва Бо-
. жѳетва на то, что пютландцы оказывали нѣкоторое
1 снисхожденіе приверженцамъ Карла. Мнѣнія эіи со-
. ставлялись послѣ сраженія. Передъ сраженіемъ строп-
I лись другого рода гипотезы. Сэръ Эдвардъ Вокеръ,
, который находился въ то время въ Шотландіи, гово-
і ритъ намъ, что духовенство увѣряло народъ, будто «на
его сторонѣ была армія святыхъ, и потому онъ не
I могъ быть разбитъ».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII СТОЛ.
515
ничтожными, если они не служили преобладающему настроенію націи. Такихъ узкихъ
и одностороннихъ понятій, какія тогда владычествовали въ Шотландіи, никогда не
бывало ни въ какой другой столь же цивилизованной странѣ, И повидимому не
представлялось почти никакой возможности къ уничтоженію этой странной монопо-
ліи. Между тѣмъ какъ семнадцатое столѣтіе подвигалось впередъ, въ Шотландіи
дѣла шли все по-прежнему; духовенство и народъ продолжали заодно бороться про-
тивъ королевской власти, и необходимость самосохраненія вынуждала ихъ только
тѣснѣе примкнуть другъ къ другу. Духовные пользовались этимъ’ для усиленія сво-
его вліянія, и болѣе ста лѣтъ вліяніе это останавливало всякое умственное разви-
тіе, убивало способность къ независимому изслѣдованію, внушало людямъ робость
и преувеличенную строгость въ дѣлѣ религіи и наконецъ придало всему характеру
націи тотъ мрачный оттѣнокъ, который въ немъ, несмотря на постеленное смягче-
ніе его, сохраняется и донынѣ.
Въ XVII вѣкѣ шотландцы вмѣсто того, чтобы заниматься пріобрѣтеніемъ жи-
тейскихъ познаній, развитіемъ своихъ умственныхъ силъ или увеличеніемъ своего
благосостоянія, проводили большую часть времени въ такъ называемомъ религіоз-
вомъ подвижничествѣ. Проповѣди были такъ продолжительны и ихъ произносилось
такъ много, что онѣ поглощали всѣ досуги народа, и однако же народъ никогда не
уставалъ слушать ихъ. Разъ проповѣдникъ входилъ на каоедру, то единственнымъ
предѣломъ его многорѣчивости было истощеніе физическихъ силъ. Будучи увѣренъ
въ терпѣніи и глубокомъ уваженіи своихъ слушателей, онъ продолжалъ говорить,
покуда могъ. Если онъ говорилъ два часа сряду, не останавливаясь, то его цѣнили
какъ ревностнаго пастыря, гірипимающаго къ сердцу преуспѣяніе своего стада; до-
лѣе этого обыкновенный пропІвѣдникъІпочтЖи не, могъ выдержать, такъ какъ пред-
полагалось, что онъ долженъ выражать свои чувства сильными порывами и доказы-
вать глубину своихъ убѣжденій, ^ббт&ІвсѣмШтѣ^Жъ и потѣя до изнеможенія *)•
Впрочемъ, тѣ, у которыхъ доставало силы^нерѣдко^выходили и изъ этого предѣла,
и напримѣръ Форбсу, который былъ столь же силенъ физически, какъ и многорѣ-
чивъ, было ни по чемъ проповѣдывать пять или шесть часовъ сряду. Но въ обыкно-
венномъ порядкѣ вещей такіе подвиги случалось рѣдко; а такъ какъ народъ былъ
въ этомъ отношеніи чрезвычайно ненасытенъ, то придумано было очень ловкое сред-
ство для удовлетворенія его желаній. Въ важныхъ случаяхъ въ одной и той же
церкви присутствовало нѣсколько проповѣдниковъ ст» тѣмъ, чтобы, когда одинъ уста-
нетъ,—онъ могъ оставить каѳедру и быть замѣненъ другимъ, за которымъ въ свою
очередь слѣдовалъ третій. Терпѣніе же слушателей было повидимому неистощимо 2).
Дѣйствительно, въ половинѣ XVII вѣка шотландцы привыкли смотрѣть на своего
пастора какъ на божество и съ восторгомъ принимать каждое слово, выходящее
изъ его устъ. Чтобы послушать любимаго проповѣдника, они готовы были подверг-
нуться какому угодно изнуренію и предпринимали съ этою цѣлью огромныя путе-
шествія, лишая себя при томъ сна и пищи3). Способность ихъ къ напряженію вни-
манія была невѣроятна. Одна конгрегація оставалась нерѣдко собранной въ теченіе
Никто можетъ быть не доводилъ этого до та-
кой крайности, какъ Джонъ Мензисъ, знаменитый про-
фессоръ богословія въ Абердинѣ. «Такъ необычайно
было сго рвеніе, когда онъ находился на каѳедрѣ, что,
какъ сказываютъ, онъ «мѣлъ обыкновенію всегда пе-
ремѣнять бѣлье послѣ проповѣди и за всякою пропо-
вѣдью смачивалъ по двѣ и по три салфетки слезами
(Водровъ)к
*) Бернетъ говоритъ: «Я помню, въ одинъ день
поста было шесть проповѣдей, сказанныхъ безъ про-
межутковъ. Я самъ находился при этомъ и не мало
былъ утомленъ такой скучной службой».
3) Когда Гётри проповѣдыкаль въ Фенвикѣ, цер-
ковь его, хотя и довольно обширная, бывала биткомъ
набита по воскреснымъ днямъ, и очень многіе стояли
за дверями, — прибывшіе изъ отдаленныхъ приходовъ;
они алкали услышать проповѣдь чистаго Евангелія п
находили пищу въ его словѣ. У нихъ вошло въ обык-
новеніе ходить въ Фѳпвпкъ по субботамъ, присутство-
вать на общѳетвенпомъ богуслуженіи въ воскресенье и
затѣмъ отправляться домой въ понедѣльникъ за 10, 12
пли 20 миль, безъ малѣйшаго ропота на отдаленность
пути пли на лишеніе спа или другихъ потребностей; п
опи не оказывались вслѣдствіе этого менѣе готовыми
къ другому какому-либо запятію въ теченіе іедѣлп.
Одна женщина пришла за 40 миль, чтобы слушать
проповѣдь Ливингстона.
33*
516
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
десяти часовъ сряду, внимая проповѣдямъ и молитвамъ въ перемежку съ пѣніемъ
псалмовъ и чтеніемъ духовныхъ книгъ. Одинъ писатель, изображая Шотландію въ
1670 году, говоритъ, что въ одной изъ эдинбургскихъ церквей каждую недѣлю про-
износилось тридцать проповѣдей,—и этому совсѣмъ не трудно повѣрить, зная пре-
обладавшій въ то время религіозный энтузіазмъ, подъ вліяніемъ котораго народъ съ
восторгомъ предавался самому изнурительному и аскетическому подвижничеству.
Такъ напримѣръ, въ 1653 году при совершеніи причащенія соблюденъ былъ слѣ-
дующій порядокъ. Въ среду всѣ постились и слушали молитвы и проповѣди болѣе
восьми часовъ сряду. Въ субботу они выслушали двѣ или три проповѣди, а въ вос-
кресенье было столько проповѣдей, что всѣ оставались въ церкви болѣе двѣнадцати
часовъ, и наконецъ въ понедѣльникъ, въ заключеніе всего, были произнесены еще
три или четыре добавочныя проповѣди въ видѣ благодаренія Богу.
Такое усердіе и такое терпѣніе указываютъ намъ на совершенно исключи-
тельное состояніе общества; ничего подобнаго мы не находимъ въ исторіи какой бы
то ни было образованной страны. Это пламенное желаніе слышать все, что только
угодно было проповѣдникамъ говорить, уже одно составляло самое лестное проявле-
ніе уваженія, и съ нимъ естественнымъ образомъ было сопряжено убѣжденіе въ
томъ, что всѣ духовные просвѣщены особеннымъ свѣтомъ благодати, въ кото-
ромъ менѣе даровитымъ соотечественникамъ ихъ отказано. Неудивительно, что ду-
ховенство, которое ни въ какое время и ни въ какой странѣ не отличалось осо-
беннымъ смиреніемъ или недостаткомъ самоувѣренности,—при обстоятельствахъ столь
благопріятныхъ его притязаніямъ нѣсколько возгордилось и7стало домогаться еще ббль-
шаго авторитета, чѣмъ тотъ, которымъ оно уже пользорѣлось. А такъ какъ это явле-
ніе весьма тѣсно связано со всей дальнѣйшей исторіей Шотландіи, то нужно будетъ
здѣсь привести нѣсколько свидѣтельствъ объ образѣ дѣйствія духовенства; это между
прочимъ раскроетъ намъ истинный характеръ владычества духовнаго класса и по-
кажетъ, какое оно имѣетъ вліяніе не только на умственную, но и на практическую
жизнь націи.
Согласно съ началами пресвитеріанскаго устройства церкви, которое въ ХУП
столѣтіи достигло своего высшаго развитія, пасторъ каждаго прихода избиралъ из-
вѣстное число мірянъ, на которыхъ онъ могъ положитьсй, и они йодъ именемъ ста-
рѣйшинъ были его совѣтниками или, лучше сказать, исполнителями его повелѣній.
Эти лица, будучи собраны вмѣстѣ, составляли такъ называемыя приходскія сессіи,
и это маленькое судилище, которое исполняло всѣ рѣшенія, произносимыя пасто-
ромъ съ каѳедры, такъ сильно поддерживалось суевѣрнымъ уваженіемъ народа, что
оно было могущественнѣе всякаго гражданскаго суда, Съ помощью его пасторъ
сдѣлался неограниченнымъ владыкой своего прихода. Всякій, кто осмѣливался ослу-
шаться его, былъ отлучаемъ отъ церкви, лишался собственности и признавался за-
служившимъ вѣчную кару *) въ будущей жизни. Противъ такого оружія и при та-
комъ устройствѣ общества сопротивленіе было невозможно. Духовенство вмѣшива-
лось въ частныя дѣла каждаго человѣка, предписывало ему, какимъ образомъ онъ
долженъ управлять своимъ семействомъ, и нерѣдко даже брало на себя личное рас-
поряженіе въ его домѣ2). Любимцы пастора, старѣйшины, были повсюду, такъ какъ
А) Справедливо говоритъ авторъ «Мемуаровъ
Лошейля»: «каждый приходъ имѣлъ тиранна, который
заставлялъ величайшаго изъ лордовъ своего округа
склоняться передъ его авторитетомъ. Церковь была
мѣстомъ засѣданія его суда; каѳедра была его тропомъ
или трибуналомъ, съ котораго онъ объявлялъ свои
грозные приговоры; и двѣнадцать или четырнадцать
суровыхъ невѣждъ, съ тигуломь старѣйшими, состав-
ляли его совѣтъ. Если кто-нибудь, какого бы опъ ни
былъ званія, имѣлъ смѣлость ослушаться сго приказа-
ній, то ужасный приговоръ объ отлученіи отъ церкви
разражался надъ інімъ, его имѣнія и движимость кон-
фисковались и захватывались, а на него самого смо-
трѣли, какъ на находящагося дѣйствительно во власти
дьявола и безвозвратно обреченнаго на вѣчную поги-
бель» .
2) Кларендонъ подъ годомъ 1640 напыщенно го-
воритъ: «Проповѣдникъ дѣлалъ выговоры мужу, управ-
лялъ женой, наказывалъ дѣтей п помыкалъ прислу-
гой въ домѣ величавшихъ изъ людей». Вь половинѣ
XVII столѣтія одинъ изъ извѣстнѣйшихъ шотланд-
; екпхъ проповѣдниковъ открыто защищалъ право своей
I профессіи вмѣшиваться въ дѣла семейныя па томъ
і основаніи, что таковъ быль обычай во времена Іисуса
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴП СТОЛ.
517
всякій приходъ раздѣлялся на нѣсколько кварталовъ и къ каждому изъ нихъ было
приставлено одно изъ этихъ лицъ съ тѣмъ, чтобы оно могло спеціально слѣдить за
всѣмъ, что дѣлалось во ввѣренномъ ему участкѣ. Сверхъ того были назначены осо-
бые шпіоны, и такимъ образомъ ничто не могло укрыться отъ наблюденія духовен-
ства. Не только улицы, но и частные дома осматривались и обыскивались, чтобы
узнать, не оставался ли кто-нибудь дома въ то время, когда пасторъ поучалъ на-
родъ въ церкви. Его всѣ должны были слушать и всѣ — ему повиноваться. Безъ
согласія подчиненнаго ему судилища никто не могъ наняться ни для домашней
услуги, ни для полевыхъ работъ1). Если кто навлекалъ на себя нерасположеніе ду-
ховенства, то оно не затруднялось потребовать его слугъ и заставить ихъ выска-
зать все, что они знали о немъ, и все, что они могли замѣтить въ сто домѣ. Гово-
рить непочтительно о пасторѣ считалось тяжкой виной, не согласиться съ нимъ во
мнѣніяхъ—ересью; даже если кто, встрѣтясь съ шімъ на улицѣ, не поклонился, то
наказывался за то, какъ за преступленіе. Самое имя пастора считалось священнымъ
и не должно было быть упоминаемо всуе. А чтобы это священное имя могло быть
надлежащимъ образомъ охранено, то собраніе церкви въ 1642 году воспретило упо-
минать имя какого-либо духовнаго лица въ общественныхъ изданіяхъ, если не было
впередъ испрошено согласіе самого святого мужа*
Эти и другія, подобныя имъ, распоряженія, будучи поддержаны общественнымъ
мнѣніемъ, вполнѣ достигали своей цѣли. Впрочемъ, иначе и не могло быть, такъ
какъ всѣ вообще вѣрили, что всякій, кто рѣшится идти противъ духовенства, под-
вергнется не только земному наказанію, но и божескому. За такое преступленіе
грозила казнь и въ этой жійди, и въ будущей. Проповѣдники охотно поддерживали
заблужденіе, приносившее им^т&Жмногоіпбльзы.' Онй говорили своимъ слушате-
лямъ, что всякое слово, произнесенное съ каѳедры, обязательно для всѣхъ вѣрую-
щихъ и должно быть признаваемо исходящимъ непосредственно отъ самого Боже-
ства. Разъ было принято такое положеніе, то за нимъ естественно слѣдовало нѣ-
сколько другихъ. Духовные считали себя однихъ посвященными въ тайны промысла
Божія, и что въ силу этого знанія они могутъ рѣшать, какая участь постигнетъ
каждаго человѣка въ будущей жизни2). Они заходили еще далѣе и приписывали
себѣ способность не только предсказывать это будущее состояніе, но и опредѣлять
его п смѣло утверждали, что они могутъ своими приговорами отверзать и закры-
вать человѣку врата царствія небеснаго. Но, не довольствуясь даже и этимъ, они
увѣряли, что слово, сказанное кѣмъ-либо изъ нихъ, можетъ приблизить часъ кон-
чины и, прервавъ жизнь грѣшника въ самомъ началѣ, немедленно поставить его
предъ судъ Всевышняго.
Навина, « Служители дома Божьяго не только вѣдаютъ |
священные предметы, какъ-то: слово Божіе и тапн- ;
ства, ввѣренныя ихъ попеченію, по и имѣютъ власть ।
церковнаго управленія принимать мѣры въ случаѣ скан-
даловъ внутри семействъ». Въ 1603 году Абердинская
пресвитерія сочла себя обязанной приказать, чтобы
каждый хозяинъ дома имѣлъ у себя прутъ, которымъ
можно было бы бить членовъ семейства, вь томъ числѣ
и прислугу, въ случаѣ употребленія нмп непристойныхъ
выраженій. Оказывается также, что въ 1674 году ду-
мали, что духовное лицо должно имѣть надзоръ за всѣми
лицами, посѣщающими частные дома, такъ какъ его
слѣдовало увѣдомить, «не принимается ли въ семей-
ствѣ какое-нибудь лицо безъ засвидѣтельствованія, пред-
ставленнаго пастору». Въ 1652 году церковная сессія
въ Глазго «сѣкла мальчиковъ и слугъ въ своемъ при-
сутствіи за несоблюденіе воскресныхъ дней и другіе
проступки»,
Э <ДРУГУЮ особенность составляло наблюденіе
за всѣми движеніями народа, доведенное до такой сте-
пени, что люди не могли пи пріискать квартиру,
ни найти занятіе, иначе какъ съ дозволенія отъ
церковной сессій, или подверглись за ослушаніе
этого полицейскаго суда штрафу и тюремному заклю-
ченію» (Ьа^’зоій «Воок оі* РегіЬ»).
2) «Подлинно, дерзость ихъ доходила до того, что
они, точно будто посвященные въ намѣренія Божіи
и предназначенные для исполненія надъ свѣтомъ Его
кары, — осмѣливались произносить приговоръ надъ
будущимъ состояніемъ людей и обрекать какъ пхъ
тѣла, такъ и пхъ души на вѣчныя мученія». (УѴізЬагі’з
сМешоігз оГ іЬе Магфііз оГ Мопігоке», р. 237). <Вы
услыхали отъ меня всю волю Божію*. (ЕніЬегГогй’з
і «Неіі^іопз Ееііегз», р. 16), «Я пе причастенъ къ крови
всѣхъ людей, потому что сообщилъ вамъ всю волю
Божію». (ІЬЫ., р. 191). «Таково великое призваніе
служителей Евангелія—объявлять всю волю Божію».
(ІІоІуЬнгІоіГз «бгеаі Сопсогп о! Заіѵаііоп», р. 4), «Увѣ-
| ряя, что опъ объявилъ всю волю Божію и ничего не
। утаилъ». («ЬіГе оГ ІЬе Кеѵегепй Аіехапсіег Рейеп»,
[ р. 41;— ѴИаІкег’з «Віо&гаріііа РгезЬуіегіана», ѵ. I).
518
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Какъ бы ужасно ни казалось намъ теперь такое притязаніе, но оно было дѣй-
ствительно заявляемо, и не только безнаказанно, но даже съ большою пользою для
духовенства; сохранилось множество примѣровъ, въ которыхъ народъ видѣлъ, до ка-
кой степени оно было основательно. Такъ разсказывали, что однажды знаменитый
Джонъ Вэлыпъ, сидя вечеромъ за столомъ, гдѣ нѣсколько человѣкъ ужинали, началъ
говорить всѣмъ присутствующимъ о состояніи ихъ душъ. Всѣ слушали со смире-
ніемъ, но въ этомъ общемъ чувствѣ было одно исключеніе. Случилось, что присут-
ствовалъ тутъ одинъ католикъ, который естественнымъ образомъ не раздѣлялъ
мнѣній, высказываемыхъ пресвитеріанскимъ богословомъ. Еслибы онъ былъ человѣкъ
осторожный, то онъ скрылъ бы свое неудовольствіе; но, какъ пылкій юноша, раз-
досадованный при томъ, что одно лицо овладѣло разговоромъ, онъ потерялъ терпѣніе
и не только насмѣхался надъ Большомъ, но даже сталъ дѣлать ему гримасы. Тогда
Вэлыпъ попросилъ все общество обратить вниманіе на него и замѣтить, что Господь
сотворитъ съ насмѣшникомъ. Едва была произнесена эта угроза, какъ уже она
исполнилась. Тотъ, который осмѣлился насмѣхаться надъ пасторомъ, внезапно упалъ
подъ столъ и умеръ тутъ же, въ присутствіи всего общества.
Этотъ случай произошелъ въ началѣ XVII столѣтія и, пущенный въ огласку,
послужилъ конечно сильной острасткой для беззаконниковъ. Но черезъ нѣсколько
времени впечатлѣніе этого событія, повидимому, ослабѣло, такъ какъ сорокъ или
пятьдесятъ лѣтъ спустя другой человѣкъ позволилъ себѣ такую же дерзость. Слу-
чилось, что когда шотландскій пасторъ съ довольно значительной извѣстностью,
Томасъ Гогъ, подобно Вэльшу, сидѣлъ за ужиномъ, слуга забылъ положить къ при-
борамъ ножи. Гогъ, считая это за благопріятный случай для поученія, замѣтилъ, что
подобная забывчивость ничёго не значитъ, и что вообще мы очень много заботимся
объ удобствахъ нашихъ въ этой жизни, между тѣмъ, какъ гораздо нужнѣе было бы
подумать о положеніи нашемъ въ будущей жизни. Одинъ изъ присутствующихъ, ко-
торому показались забавными манеры Гога или умѣнье его наводить рѣчь на пред-
меты, составляющіе спеціальность его профессіи, — не могъ удержаться и громко
расхохотался. Но пастора ничто не могло остановить, и онъ продолжалъ свою рѣчь
такимъ манеромъ, что хохотъ повторился громче прежняго. Наконецъ, Гогъ обер-
нулся и сказалъ своему веселому собесѣднику, что скоро ему придется искать по-
милованія и не находить его. Въ ту же ночь насмѣшникъ заболѣлъ и въ ужасномъ
страхѣ послалъ за Гогомъ. Но и это оказалось безполезнымъ. Прежде, чѣмъ пасторъ
успѣлъ дойти до его комнаты, грѣшникъ уже лежалъ мертвый и ввергнутый въ
вѣчную гибель.
И не только въ частныхъ домахъ бывали подобные примѣры, но иногда свя-
щенникъ съ каоедры обличалъ виноватаго и наказаніе совершалось такъ же публично,
какъ и преступленіе. Разсказываютъ, что Габріель Сэмпль имѣлъ странную при-
вычку, когда произносилъ проповѣдь, высовывать языкъ, и что это возбудило смѣхъ
пьянаго человѣка, который вошелъ церковь и въ видѣ насмѣшки также вы-
сунулъ языкъ. По къ ужасу его оказалось, что высунуть языкъ онъ могъ, а снова
втянуть его ему не удавалось. Вслѣдствіе этого языкъ одервенѣлъ и потерялъ всякую
чувствительность; затѣмъ произошелъ параличъ, и человѣкъ этотъ умеръ черезъ нѣ-
сколько дней послѣ совершеннаго имъ грѣха.
Иногда наказаніе бывало менѣе строго, хотя чудо было столько же очевидно.
Въ 1682 году одна женщина осмѣлилась разбранить знаменитаго проповѣдника
Педена, который справедливо былъ признаваемъ за одно изъ свѣтилъ шотландской
церкви. «Удивляюсь—сказалъ этотъ достойный мужъ—тому, какъ у васъ языкъ не
заболитъ отъ такого количества пустой болтовни». Она съ негодованіемъ отвѣчала,
что у нея никогда не болѣлъ ни языкъ, ни ротъ. Тогда онъ сказалъ, что скоро
будутъ болѣть, и вслѣдствіе этихъ словъ языкъ и десна распухли у нея до такой
степени, что въ продолженіе нѣсколькихъ дней она была не въ состояніи принимать
свою обыкновенную пищу.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴИ СТОЛ.
519
Этой женщинѣ, по крайней мѣрѣ, была оставлена жизнь, съ другими же лицами
было поступлено строже. Одинъ пасторъ былъ прерванъ посреди своей проповѣди
тѣмъ, что три господина вышли изъ церкви. Не сказано, чтобы въ ихъ манерѣ при
этомъ было что-нибудь обидное; извѣстно только, что они имѣли цѣлью повеселиться
на какой-то ярмаркѣ или на бѣгу, тогда какъ проповѣдникъ безъ сомнѣнія думалъ,
что они должны были довольствоваться наслажденіемъ слушать его. Какъ бы то ни
было, онъ остался недоволенъ, и когда проповѣдь кончилась, осудилъ ихъ поведеніе
и угрожалъ имъ гнѣвомъ Божіимъ. Его слова были замѣчены, и, къ ужасу всѣхъ
прихожанъ, предсказаніе исполнилось въ точности. Всѣ трое умерли насильственной
смертью: изъ нихъ одинъ сломилъ себѣ шею, упавъ съ лошади, другой найденъ
былъ въ своей комнатѣ съ перерѣзаннымъ горломъ.
Подобные случаи часто бывали въ XVII столѣтіи, и такъ какъ въ этотъ вѣкъ
легковѣрія, подобнымъ вещамъ люди твердо вѣрили и молва о нихъ далеко распро-
странялась, — то обстоятельство это еще болѣе усиливало могущество духовенства.
Лордъ Гильтонъ однажды осмѣлился стащить проповѣдника съ каоедры, которая
ему не принадлежала и на которую онъ взошелъ совершенно незаконно. «За ту
обиду, которую ты сдѣлалъ слугѣ Божіему, — воскликнулъ раздраженный проповѣд-
никъ,—ты будешь принесенъ въ эту церковь, какъ убитая свинья!». Такъ дѣйстви-
тельно и случилось. Черезъ нѣсколько времени Гильтонъ, вовлеченный въ ссору,
былъ смертельно раненъ, и тѣло его, все въ крови, принесено въ ту же церковь,
гдѣ имъ совершено было оскорбленіе,
Даже и тогда, когда духовное лицо было заключено въ тюрьму, оно сохраняло
ту же власть. Могущество этЬ, было даровано ему свыше, и никакое житейское не-
счастіе не могло уменьшить его. Въ 1673 г* достопочтенный Александръ Педенъ,
находясь въ заключеніи, услыхалъ, что одна молодая дѣвушка за дверями его ком-
наты смѣялась надъ нимъ въ то время, какъ онъ предавался тѣмъ громогласнымъ
моленіямъ, которыми былъ извѣстенъ. Веселость бѣднаго ребенка стоила ему до-
рого. Педенъ призвалъ на него судъ Божій. Вслѣдствіе этого призванія дѣвушку
сорвало вѣтромъ со скалы, на которой она гуляла, и сбросило въ море, гдѣ она тот-
часъ утонула.
Иногда мщеніе духовенства распространялось и на невинныхъ потомковъ про-
винившагося передъ нимъ человѣка, Одинъ пасторъ, имя котораго не дошло до
насъ, встрѣтивъ въ своемъ приходѣ оппозицію, впалъ въ денежныя и разныя другія
затрудненія. Онъ обратился за помощью къ одному торговцу, который, какъ чело-
вѣкъ богатый, обязанъ былъ, по его мнѣнію, помочь ему. Но торговецъ не раздѣлялъ
этого мнѣнія и потому отказалъ. Тогда пасторъ возвѣстилъ, что за это Богъ посѣ-
титъ его. Вслѣдъ затѣмъ не только дѣла этого купца пошли хуже, но и разсудокъ
его повредился, и онъ умеръ идіотомъ. У него были два сына и двѣ дочери. Оба
сына сошли съ ума: одна изъ дочерей также лишилась разсудка; у другой же до-
чери, замужней, разорился мужъ, и дѣти, родившіяся отъ этого супружества, стали
нищими—для того, чтобы ненавистное злодѣяніе дѣда было наказано даже въ третьемъ
поколѣніи.
Предъявить искъ на пастора или даже отстаивать свое право противъ него
передъ гражданскимъ судомъ—значило не только рисковать, но идти на вѣрную по-
гибель. Около 1665 года на Джемса Фрэзера былъ предъявленъ искъ въ значи-
тельную сумму, причитавшуюся къ уплатѣ съ имѣнія его отца. Какъ обыкновенно
бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, отвѣтчикъ находилъ, что съ нимъ поступаютъ не-
справедливо и домогательство его противника неосновательно. Все это еще
естественно. Но особенность заключалась въ томъ, что Фрэзеръ, на котораго
предъявленъ искъ, приготовлялся къ духовному сану и, слѣдовательно, считался
непосредственнымъ покровительствомъ Провидѣнія. Такого человѣка нельзя
безнаказанно раздражать; и самъ Фрэзеръ утверждаетъ, что Богъ именно вступился
за него, чтобы спасти его отъ разоренія; что одинъ изъ его противниковъ оказался
было
былъ
подъ
было
520
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
не въ состояніи явиться въ судъ, а на другихъ Господь наложилъ руку, пославъ
имъ смерть, чтобы такимъ образомъ сразу устранить всѣ затрудненія.
Когда такого рода разсказамъ всѣ вообще вѣрили, то совершенно естественно
должно было составиться мнѣніе, что весьма опасно имѣть столкновеніе съ пасторомъ
или какимъ-нибудь образомъ вмѣшаться въ его дѣйствія. Духовные, одуренные своимъ
могуществомъ, имѣли дерзость объявить, что всякій, кто почитаетъ Христа, долженъ
по тому же самому почитать и ихъ 1). Они призывали судъ Божій на всѣхъ тѣхъ,
которые отказывались слушать ученіе, преподаваемое имъ съ каѳедры. И это отно-
силось не къ однимъ только лицамъ, составлявшимъ обычный кругъ ихъ слушателей.
Такъ велика была ихъ самонадѣянность и жадность къ похваламъ, что они не поз-
воляли даже чужестранцу оставаться въ ихъ приходахъ иначе, какъ подъ тѣмъ
условіемъ, чтобы онъ также ходилъ слушать все, чтб имъ вздумается говорить 1 2).
Вслѣдствіе того, что они приняли пресвитеріанское устройство церкви, они стали
утверждать, что Богъ ни разу не примкнулъ наказать того, кто пытался ниспроверг-
нуть это устройство; что оно составляетъ идеалъ совершенства, и потому всѣ, не
сознающіе его превосходства, обречены гнѣву Божію и суть рабы сатаны. То же
духовенство, которое такимъ образомъ выражалось о своихъ противникахъ, расто-
чало самыя отборныя выраженія похвалы, распространяясь о себѣ самомъ и о сво-
ихъ дѣяніяхъ. Когда шотландскій пасторъ восходилъ на каѳедру или брался за перо,
казалось, будто онъ не можетъ найти словъ довольно сильныхъ, чтобы выразить свое
понятіе о чрезвычайной важности того класса, къ которому онъ самъ принадлежитъ.
Каждый изъ нихъ утверждалъ, что одному лишь духовенству извѣстна истина; что
только оно въ состояніи уйить и просвѣщать родъ челдѣѣческій; что ученіе его нис-
ходитъ непосредственно съ небесъ; что члены его суть по истинѣ посланные Христа,
отъ Котораго онп и получаютъ свое назначеніе; а такъ какъ никто, кромѣ Христа, не
можетъ награждать ихъ, то никто не имѣетъ права и управлять ими 3). Такъ какъ
они были посланные Всемогущаго Бога, то пхъ справедливо называли ангелами, и
обязанностью народа было внимать своему пастору, какъ будто бы то былъ дѣйстви-
тельно ангелъ, нисшедшій на землю 4). Поэтому прихожане должны были не только
1) Форгюссонь преспокойно говоритъ, что оскор- ]
бить духовное лицо, но повѣривъ его показанію, или I
(какъ онъ называетъ это) «посланію», значить «ока-
зывать неуваженіе Богу».
2) Слѣдующее приказаніе было обнародовано абер-
динскою церковной сессіеіі 12 іюля 1607 года. «Въ
означенный день донесено сессіи, что въ городъ при-
было нѣсколько деревенскихъ джентльменовъ п дру-
гихъ, которые живутъ въ помъ и пе ходятъ на про-
повѣдь ни въ воскресенье, ни въ какіе-либо дни; по-
этому приказывается, чтобы трое старѣйшинъ изъ
каждаго квартала сошлись съ пасторами въ домѣ сес-
сіи непосредственно послѣ окончанія проповѣди въ
слѣдующій вторникъ и тамъ собрали имена джентль-
меновъ и другихъ безпечныхъ людей, пребывающихъ
въ этомъ городѣ, которые ие бываютъ въ церкви и
но ходятъ слушать слово Божіе; когда имена ихъ бу-
дутъ собраны, то чтобы одинъ изъ пасторовъ съ го-
родскимъ старшиной пошелъ къ нимъ и увѣщевалъ ихъ
посѣщать проповѣди и бывать въ церкви, въ против-
номъ же случаѣ выслать ихъ изъ города». Недоста-
точно было ходить по временамъ въ церковь, должно
было постоянно бывать въ ней, иначе духовенство
оставалось недовольно и наказывало виновныхъ. Пи
разстояніе, ни болѣзнь не могли быть приняты въ
уваженіе. Ни йодъ какимъ видомъ проповѣдники не
потерпѣла бы такого оскорбленія, чтобы кто-либо про-
явилъ нежеланіе слушать пхъ проповѣди. Въ 1650 году
явился лордъ Олифантъ, потребованный къ отвѣту за
непосѣщеніе своей приходской церкви въ Аберчердорѣ,
и объявилъ, что его частое нездоровье п недостатокъ
домовъ для удобнаго помѣщенія его и его семейства,
такъ какъ церковь такъ далеко отъ нпхъ, —единствен-
ная причина тому, и что онъ загладитъ эту вину на
! будущее время. М-ръ Ридфёрдъ приказалъ донести объ
! этомъ пресвитеріи, а за его постоянное отсутствіе под-
вергнуть его суду.
3) «И пѣтъ ппкакой посредствующей власти между
Господомъ и посланными Его въ дѣлахъ, относящихся
до ихъ призванія; одинъ Онь посылаетъ ихъ; Опъ
одинъ назначаетъ ихъ быть пастырями и учителями;
Ему одному должны опп отдавать отчетъ въ исполне-
ніи своего назначенія; и Опъ самъ, одинъ непосред-
ственно, управляетъ ими съ помощью своего духа и
слова». (РогЬе§’§ «Сегіаіпе Ііесогбз Іоисіііп^ іЬѳ
Езіаіе оС іЬо Югѣ»). Въ силу этихъ забавныхъ при-
тязаній, шотландскіе духовные постоянно называли
; себя послами Божіими, ставя себя этимъ безконечно
выше всѣхъ другихъ людей.
4) «Пасторы называются ангелами, потому что
опп—посланные Бога, уполномоченные оть Него на
' великое, небесное дѣло; этотъ именно титулъ и дол-
женъ напоминать пасторамъ объ ихъ обязанности—
исполнять волю Божію на землѣ, какъ ангелы испол-
няютъ ее на небеси, въ духовномъ, небесномъ смыслѣ,
. весело, съ охотой, съ готовностью; и долженъ напо-
минать народу его обязанность—принимать это
слово отъ пасторовъ, какъ отъ ангеловъ». (Дур-
, гамъ). Кокбёрпъ говорить, что по этой именно при-
чинѣ «мы должны пристойно и почтительно держать
себя» въ церкви; «ибо если присутствіе короля дер-
житъ насъ въ страхѣ, то кольмп паче должно (имѣть
, то же дѣйствіе) присутствіе Бога и ангеловъ».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII СТОЛ.
521
признавать его и нещись о немъ, но также и повиноваться ему. Да и не могъ
никто отказать въ этомъ повиновеніи, зная, что такое духовные и какія они испол-
няютъ обязанности. То были не только посланные и ангелы, но также и стражи,
которые высматривали, гдѣ грозитъ опасность, и своей неусыпной бдительностью
охраняли вѣрующихъ. То была радость и отрада земли. То были музыканты, пѣвшіе
сладостныя пѣсни,—просто сирены, старавшіяся сманить людей съ недобраго пути
и не дать имъ погибнуть 1). То были отборныя стрѣлы въ колчанѣ Божіемъ 2). То
были горящіе свѣтильники, свѣтящіе факелы. Безъ нихъ преобладалъ бы мракъ,
а ихъ присутствіе озаряло міръ и дѣлало все яснымъ. Вотъ почему ихъ называли
свѣтилами, — именемъ, которое выражало также возвышенность ихъ призванія и
превосходство его надъ всѣми другими 3). А для того, чтобы это стало еще оче-
виднѣе, творились чудеса, и можно было по временамъ видѣть странный свѣтъ, ко-
торый, разливаясь вокругъ особы пастора, убѣждалъ въ его сверхъестественномъ
призваніи 4). Невѣрующій хотѣлъ бы посмѣяться надъ этими вещами, но онѣ были
слишкомъ очевидны, чтобы отвергать пхъ; какъ всѣмъ было извѣстно, случилось
однажды, что при смерти одного священника явилась чудеснымъ образомъ на небѣ
звѣзда и многіе видѣли ее, несмотря на то, что это было въ полдень
И это не былъ какой-нибудь единственный случай. Напротивъ, обыкновенно
такъ бывало, что когда шотландскій пасторъ разставался съ земной жизнью, собы-
тіе это сопровождалось чудными знаменіями, для того чтобы народъ почувствовалъ,
что происходитъ нѣчто ужасное и что его постигаетъ тяжкая, быть можетъ невоз-
вратимая потеря. Иногда таинственно гасли свѣчи безъ всякаго вѣтра и безъ того,
чтобы кто-либо прикоснулсяѵкъ нимъ. Бывало даже, чтб въ то время, когда духов-
ное лицо проповѣдывало, сверхъестественное появленіе какого-нибудь животнаго
возвѣщало приближающійся кокёцъ^пастыряЖиКгоТсЛучалось въ виду всей конгре-
гаціи, которой оставалось лишь тщетно скорбѣть о томъ, чего она не въ силахъ
была отвратить. Иногда тѣло такого"святогсГчеловѣка оставалось многіе годы неиз-
мѣннымъ, неразложившимся, такъ какъ смерть не имѣла на него того дѣйствія,
какое она произвела бы на тѣло обыкновенной личности. Въ иныхъ случаяхъ па-
стору давалось знать о его смерти за нѣсколько лѣтъ впередъ; а въ довершеніе
того благоговѣйнаго страха, который поражалъ всѣ умы, замѣчено было, что когда
умиралъ одинъ пасторъ, то съ пимъ одновременно бывали отзываемы и другіе для
того, чтобы на большемъ пространствѣ чувствовалось осиротѣніе и чтобы, подъ впе-
чатлѣніемъ громадности удара, люди дѣлались чувствительнѣе къ неоцѣненнымъ до-
стоинствамъ тѣхъ проповѣдниковъ, которые по счастью были пощажены.
Кромѣ того вообще предполагалось, что пасторъ» во время своего пребыванія
на этомъ свѣтѣ былъ» чудеснымъ образомъ охраняемъ и защищаемъ. Ему въ осо-
бенности покровительствовали ангелы, которые хотя и оказывали хорошія услуги
Одинъ изъ самыхъ популярныхъ шотландскихъ I
проповѣдниковъ XVII столѣтія, Бпшшпгъ, дѣйстви- |
тельно ставитъ себя въ атомъ отношеніи на-ряду съ ,
Сыномъ Божіимъ. «Христосъ и служители Его это —
музыканты, мѣняющіе своими пѣснями слухъ и сердца !
людей, чтобы тѣмъ задержать пхъ на пути и пе дать
погибнуть. Это блаженныя сирены».
2) Рётерфордъ называетъ себя «отборной стрѣ-
лой, скрытой въ Его (Бога) колчанѣ». Чтеніе этихъ
и другихъ мѣстъ, наполненныхъ такимъ грубымъ ма-
теріализмомъ, я знаю, должно непріятно поражать п
даже оскорблять многіе чистые и утонченные умы, :
которымъ я не хотѣлъ бы безъ нужды причинять стра- ।
даніе. Но тотъ по можетъ понять исторію шотландскаго і
ума, кто пе хочетъ входить въ эти подробности; и '
пусть самъ читатель рѣшитъ, слѣдуетъ ли ему, или (
пѣтъ, оставаться въ невѣдѣніи о томъ, чтб я, какъ ,
историкъ, обязанъ раскрывать. Помочь горю для него |
пе трудно. Ему стоитъ только пли закрыть книгу, плп
разомъ перейти къ слѣдующей главѣ.
3) «Пасторовъ — говоритъ Дургамъ — называютъ
свѣтилами по слѣдующимъ причинамъ: I. Чтобы этимъ
опредѣлить и выказать высокое положеніе и достоин-
ство этой должности, чтобы заявить, что должность
эта есть славная и блестящая. И. Чтобы указать,
какое спеціальное назначеніе этой должности; оно за-
ключается въ сообщеніи свѣта; подобно тому, какъ
свѣтила употребляются для освѣщенія вселенной, глав-
ная обязанность пасторовъ—сіять и удѣлять своего
свѣта другимъ; дѣлать такъ, чтобы міръ, являющій
собою темную ночь, становился свѣтлымъ».
4) Достопочтенный Джемсъ Керктонъ говоритъ о
достопочтенномъ Джонѣ Вэльшѣ, что кто-то, наблю-
давшій ого во время прогулки, «ясно видѣлъ какой-то
странный свѣтъ, окружавшій его>..
522
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
всѣмъ членамъ истинной церкви, но особенно любили духовенство; и всѣмъ извѣстно
было, что знаменитый Рётерфордъ въ то время, когда ему было не болѣе четырехъ
лѣтъ, упавъ въ колодезь, былъ вытащенъ изъ него ангеломъ, прибывшимъ туда съ
цѣлью снасти его жизнь. Другой духовный, имѣвшій привычку слишкомъ крѣпко
спать, обыкновенно бывалъ будимъ утромъ для исполненія своихъ обязанностей
тремя таинственными ударами въ его дверь, которые, если они не производили съ
перваго раза должнаго дѣйствія, повторялись по близости отъ его кровати. Они
неизмѣнно слышались всякое воскресенье и въ тѣ дни, когда онъ долженъ былъ
причащать, и продолжались во все время его служенія церкви; когда же онъ сталъ
старъ и немощенъ, они прекратились.
Вслѣдствіе распространенія этихъ и подобныхъ имъ разсказовъ въ странѣ, уже
готовой къ принятію ихъ, шотландскій умъ сталъ до такой степени пропитанъ вѣ-
рованіемъ въ сверхъестественное вмѣшательство, что это даже показалось бы рѣ-
шительно невѣроятнымъ, еслибы не имѣлось въ виду показаніи цѣлой массы совре-
менныхъ, безукоризненныхъ свидѣтелей. Духовенство, частью потому, что оно само
раздѣляло всеобщее обольщеніе, частью же ради извлекаемой имъ изъ этого
пользы, — дѣлало все, что могло, чтобы увеличить суевѣріе своихъ соотечествен-
никовъ и освоить ихъ съ такими понятіями о сверхъестественномъ мірѣ, кото-
рымъ можно найти нѣчто подобное лишь въ монашескихъ легендахъ среднихъ вѣ-
ковъ *). До какой степени оно старалось извратить умы страны и какъ успѣшно
оно выполняло это низкре призваніе,—до сихъ поръ еще не было извѣстно никому
изъ новѣйшихъ читателей, ибо никто не имѣлъ терпѣнія перелистывать безконеч-
ныя разсужденія, комментаріи _и__другія _процзводрщя д^іовной литературы, гдѣ со-
хранились взгляды этого сословія,-^НоТтакъ^какъ въ Щбтландіи проповѣдники имѣли
болѣе вліянія, чѣмъ всѣ остальныя сословія, взятыя вмѣстѣ, то лишь путемъ срав-
ненія ихъ показаній съ тѣмъ, чтб окажется въ общихъ мемуарахъ и перепискѣ того
времени, — можно успѣть сколько-нибудь воспроизвести исторію періода, который
исполненъ великаго, хотя и грустнаго, интереса для^ всякаго, кто изучаетъ съ фи-
лософской точки зрѣнія исторію человѣческаго ума. Поэтому я не стану извиняться,
если войду въ еще большія/подробности относительно этого рода вещей; я надѣюсь
представить читателю такіё факты, которые свяжутъ прошедшую исторію Шотлан-
діи съ настоящимъ состояніемъ ея, и дать ему возможность понять, какимъ обра-
зомъ случилось, что такой великій народъ во многихъ отношеніяхъ еще борется
съ мракомъ, единственно потому, что онъ еще живетъ въ тѣни той долгой и страш-
ной ночи, которая покрывала всю страну въ теченіе слишкомъ цѣлаго столѣтія. Ока-
жется также, что суровость и угрюмость характера этого народа, недостатокъ въ
немъ веселости и его равнодушіе ко многимъ изъ наслажденій жизни могутъ быть
приписаны той же причинѣ и составляютъ естественный продуктъ мрачныхъ и аске-
тическихъ понятій, привитыхъ ему его религіозными наставниками. Ибо въ этомъ
вѣкѣ, какъ и во всякомъ другомъ, духовные, разъ войдя въ силу, оказывались же-
стокими, безжалостными повелителями. Они держали народт» въ болѣе чѣмъ египет-
ской неволѣ, такъ какъ они поработили и умъ, и тѣло, и не только лишали людей
невинныхъ развлеченій, но и научали ихъ, что развлеченія эти грѣховны. Въ та-
кой совершенной мѣрѣ сдѣлали они свое дѣло, что прошло полтораста лѣтъ съ тѣхъ
поръ, какъ стало уменьшаться ихъ господство, и все-таки повсюду можно различить
Въ поясненіе этого можно было бы наполнить і
цѣлый томъ извлеченіями изъ сочиненій шотландскихъ !
теологовъ XVII вѣка; по пожалуй не хуже другихъ і
слѣдующее мѣсто, «Да, едва-ли можно найти примѣръ |
какой-нибудь великой перемѣны или переворота на
землѣ, которому не предшествовалъ бы такой необык- *
новенный предвѣстникъ. Можетъ ли свѣтъ отрицать
то, какъ иногда эти чудесные знаки принимали формы, ;
указывавшія на самый родъ угрожавшаго въ то время '
удара,—своимъ страннымъ сходствомъ съ нимъ; та-
ковы: огненный мечъ въ воздухѣ, появленіе сражаю-
щихся армій, иногда даже на землѣ, въ виду самыхъ
трезвыхъ и здравомыслящихъ зрителей, также крова-
вые дожди, звуки барабановъ и тому подобныя явленія,
которыя, какъ извѣстно, обыкновенно предшествуютъ
войнамъ и смятеніямъ». (Е1еішп$*§ сМйІіп^ о( ІЪе
Зсгіріиге», 1681).
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII СТОЛ.
523
отпечатокъ ихъ рукъ. Народъ все еще носитъ слѣды батога; память о его прежнемъ
рабствѣ еще не умерла въ нёмъ, и онъ пресмыкается передъ своимъ духовенствомъ,
какъ и въ былое время, отказываясь отъ своихъ правъ, жертвуя своей независи-
мостью и отдавая свою совѣсть на произволъ нетерпимыхъ и честолюбивыхъ духов-
ныхъ.
Изъ всѣхъ средствъ, какія употребляло шотландское духовенство, чтобы запу-
гать народъ, самымъ дѣйствительнымъ были тѣ ученія, которыя оно распространяло
относительно злыхъ духовъ и будущаго наказанія. Эти предметы постоянно вызы-
вали со стороны духовныхъ лицъ самыя ужасающія угрозы. Рѣчи, которыя они дер-
жали, могли свести людей съ ума отъ страха и повергнуть ихъ въ крайнее отчаяніе.
Что онѣ часто имѣли такое послѣдствіе и приводили къ самымъ пагубнымъ резуль-
татамъ, это мы сейчасъ увидимъ. Дѣйствіе ихъ еще болѣе усиливалось тѣмъ обсто-
ятельствомъ, что онѣ совершенно согласовались съ другими мрачными, аскетическими
понятіями, которыя также внушало духовенство и въ силу которыхъ наслажденія
считались за грѣхъ, а страданія — за состояніе праведности. Отсюда родилась та
любовь причинять страданіе и та способность находить наслажденіе въ ужасающихъ,
возмутительныхъ идеяхъ, которыя составляли отличительную черту шотландскаго
ума въ теченіе XVII столѣтія. Нѣсколько примѣровъ преобладавшихъ въ то время
мнѣній дадутъ возможность читателю понять настроеніе той эпохи и оцѣнить тѣ
средства, какими могло располагать шотландское духовенство, и тѣ матеріалы, изъ
которыхъ оно состроило зданіе своего могущества.
Всѣ вообще вѣрили, что свѣтъ наводненъ злыми духами, которые не только
ходятъ тамъ и сямъ на землф,^но живутъ также и въ воздухѣ, и занимаются тѣмъ,
что искушаютъ и тревожатъ человѣчество г); ихъ безчисленное множество и ихъ
можно найти во всякое время года. Во главѣ ихъ стоитъ самъ сатана, для котораго
составляетъ наслажденіе являться самолично и опутывать всякаго встрѣчнаго. Съ
этой цѣлью онъ принимаетъ различные образы. Одинъ день онъ является будто бы
на землѣ черной собакой, другой — ворономъ, третій — слышно въ отдаленіи его
мычаніе, похожее на бычачье. Иногда является онъ бѣлымъ человѣкомъ въ черной
одеждѣ, при чемъ было замѣчено, что у него гробовой голосъ, что онъ не носитъ
башмаковъ и что одна изъ ногъ его имѣетъ раздвоепіе. Ухищреніямъ его не было
конца. По мнѣнію теологовъ, ловкость его росла ст> годами, и такъ какъ онъ изо-
щрялся слишкомъ пять тысячъ лѣтъ, то поэтому онъ достигъ безпримѣрной изво-
ротливости. Онъ могъ хватать какъ мужчинъ, такъ и женщинъ, п летать съ ними
по воздуху. Обыкновенно онъ носилъ одежду мірянъ, но говорили, что не разъ слу-
чалось ему нахально являться и въ одѣяніи служителя Евангелія 2). Какъ бы то
Дёрамъ, упомянувъ «о древнихъ аббатствахъ
илп монастыряхъ, или замкахъ, когда стоятъ однѣ
стѣны и нпкто не животъ въ нихъ», присовокупляетъ:
<• еслибы кто спросилъ, бываетъ ли что-нибудь вродѣ
посѣщенія злыхъ духовъ въ этихъ запустѣлыхъ мѣ-
стахъ.—мы отвѣтимъ: 1) что есть злые духи, блуждаю-
щіе тамъ и сямъ но землѣ, это достовѣрно; хотя адъ
есть собственно ихъ мѣсто заключенія, тѣмъ не менѣе
они имѣютъ извѣстное господство и мѣстопребываніе
какъ на землѣ, такъ и въ воздухѣ; частью потому,
что въ проклятіе ихъ входитъ также блужданіе, частью і
же въ силу призванія своего искушать людей и при-
чинять имъ духовное пли временное зло» и нр. і
2) Си. разсказъ о томъ, какъ одинъ молодой про-
повѣдникъ былъ введенъ такимъ образомъ въ обманъ,—
въ ѴѴойго^’з «Апаіесіа». Достопочтенный Робертъ
Блеръ раскрылъ этотъ обманъ п «съ благоговѣйною
серьезностью, проявлявшеюся во всей его наружности, і
началъ говорить юношѣ, въ какой онъ быль опасности, ‘
и что человѣкъ, котораго онъ принялъ за пастора, былъ
дьяволъ, одурачившій его п завлекшій въ свои сѣти; ।
совѣтовалъ ему усердно молиться Богу п также по ;
предаваться отчаянію, ибо еще была надежда». Про-
повѣдникъ былъ въ этомъ случаѣ до такой степени
обманутъ, что далъ дьяволу «письменное обѣщаніе»
сдѣлать все, чтб отъ него требовали. Лишь только
достопочтенный м-ръ Блеръ удостовѣрился въ эгомъ
фактѣ, онъ привелъ молодого человѣка передъ пресви-
теріею п разсказалъ обстоятельство это членамъ. «Они
были всѣ страшно поражены этимъ и единодушно рѣ-
шили немедленно окончить дѣла пресвитеріи и остаться
всю ночь въ городѣ, а на утро собраться для молитвы
въ одну изъ самыхъ уединенныхъ церквей пресвитеріи,
нпкому не сообщая о своемъ дѣлѣ, (ио) водя всюду
за собой юношу, котораго опи во все время держали
близко при себѣ. Эго было исполнено, и послѣ» того
какъ они всѣ кругомъ помолились, кромѣ м-ра Блера,
который молился послѣдній, во время его молитвы
сильный вихрь набѣжалъ па церковь, такой сильный,
что они думали, что церковь обрушится на нихъ, и съ
этимъ вмѣстѣ бумага съ договоромъ юиоши (т. о. до-
говоромъ, подписаннымъ имъ по требованію сатаны)
надаетъ съ крыши церкви посреди пасторовъ».
524
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ни было, въ той или въ другой одеждѣ, но онъ часто являлся духовнымъ лицамъ
и пытался переманить ихъ на свою сторону. Это конечно не удавалось ему, но
кромѣ духовныхъ, по правдѣ сказать, не много кто могъ устоять противъ него. Онъ
могъ поднимать вѣтры и бури; онъ могъ дѣйствовать не только на духъ, но и на
органы тѣла, заставляя людей слышать и видѣть, что ему угодно. Однихъ изъ своихъ
жертвъ заставлялъ онъ совершить самоубійство, другихъ—убійство. Но какъ бы онъ
ни былъ страшенъ, все-таки ни одинъ христіанинъ не считался достигшимъ рели-
гіозной опытности, пока онъ буквально не видалъ его, не говорилъ и не боролся
съ нимъ. Духовенство постоянно проповѣдывало о немъ и подготовляло своихъ слуша-
телей къ свиданію съ великимъ врагомъ. Послѣдствіемъ этого было, что народъ
почти сходилъ съ ума оть страха. Всякій разъ, какъ проповѣдникъ упоминалъ о
сатанѣ, страхъ бывалъ такъ силенъ, что церковь оглашалась стенаніями и вздохами.
Намъ трудно даже и представить себѣ, какой видъ имѣла въ тѣ дни шотландская
конгрегація. Нерѣдко люди, оцѣпенѣвъ и обезумѣвъ отъ ужаса, оставались какъ бы
прикованными къ своимъ мѣстамъ страшнымъ очарованіемъ, которое заставляло
ихъ слушать, несмотря на то, что, какъ говорятъ, они задыхались и у нихъ ста-
новились дыбомъ волосы. Такія впечатлѣнія не легко изглаживались. Ужасные образы
оставались въ умахъ и преслѣдовали людей и дома, и въ ихъ ежедневныхъ за-
нятіяхъ. Они вѣрили, что дьяволъ былъ всегда буквально подъ рукою; что онъ
являлся имъ, говорилъ съ ними, искушалъ ихъ. Не было никакого спасенія. Куда бы
они ни пошли, вездѣ онъ находился. Внезапный шумъ, даже видъ какого-нибудь
неодушевленнаго предмета, напримѣръ камня, былъ въ состояніи оживить въ ихъ
умѣ ассоціаціи идей и воспроизвести въ памяти рѣчи, діышанныя съ каѳедры.
И въ этомъ нѣтъ ничего страннаго. По всей Шотландіи проповѣди, почти
всѣ безъ исключенія, слагались по одному и тому же плану и были направлены
къ одной и той же цѣли. Возбуждать^страхъ — было главной задачей Духовные
хвастали тѣмъ, что спеціальнымъ призваніемъ ихъ было громогласно возвѣщать
гнѣвъ и проклятія Господни. Въ ихъ глазахъ Божество было не благодѣтельнымъ
существомъ, а жестокимъ, безсовѣстнымъ тиранномъ. Они объявляли, что весь родъ
человѣческій, за весьма малымъ исключеніемъ, обреченъ на вѣчное бѣдствіе. А когда
они доходили до изображенія самаго бѣдствія, мрачноёу воображеніе ихъ разыгры-
валось и разгоралось. Въ картинахъ, которыя они рисовали, они воспроизводили, и
при томъ въ усиленной степени, варварскія грёзы варварскихъ вѣковъ. Они съ на-
слажденіемъ говорили своимъ слушателямъ, что ихъ будутъ жарить на страшномъ
огнѣ и вѣшать за языки. Ихъ станутъ жалить скорпіоны, а кругомъ они будутъ
видѣть истязанія своихъ сотоварищей и слышать ихъ вопли. Ихъ будутъ бросать
въ кипящее масло и въ растопленный свинецъ. Для нихъ приготовлена рѣка изъ
Только тотъ, кто чрезвычайно много читалъ
произведеній теологической литературы того времени,
можетъ составить себѣ понятіе объ этомъ, почти об-
щемъ, стремленіи ея. Въ теченіе около ста дѣть шот-
ландскія каѳедры оглашались этими ужаснѣйшими об-
личеніями. Грѣхи народа, Божія кара, бдительность
сатаны и адскія муки были главными темами. Па
этомъ свѣтѣ бѣдствія всякаго рода объявлялись не-
избѣжными; опи всегда были наготовѣ; не должно было
пройти поколѣнія, можетъ быть года, безъ того, чтобы
бѣдствія самаго худшаго свойства, какія только можно
представить себѣ, пе разразились надъ вееіі страной.
Я приведу только вступленіе одной проповѣди, которая
теперь у меня передъ глазами и которая была сказана
въ 1682 году нп болѣе, пи менѣе, какъ Александромъ
Педеномъ. «Три пли четыре вещи я имѣю сказать
вамъ сегодня; и вотъ первая: кровавый мечъ, крова-
вый мечъ, кровавый мечъ тебѣ, о Шотландія, кото-
рый поразитъ большую часть тебя въ самое сердце;
и вотъ вторая: много миль проѣдутъ по тебѣ, о Шот-
I лапдія! н ничего но увидятъ, кромѣ опустошенныхъ
мѣстностей. Вотъ третья: самыя плодородныя мѣста
въ тебѣ, о Шотландія! станутъ голы, какъ вершины
' горъ. II въ четвертыхъ: беременныя женщины въ тебѣ,
! о Шотландія! будутъ терзаемы въ куски. II вь пя-
। тыхъ: много было въ тебѣ еретическихъ сходокъ (Соп-
ѵепіісіез), о Шотландія! но незадолго Богь созоветъ
і въ тебѣ сходку, которая заставитъ тебя, Шотландія,
1 дрожать. Многими проповѣдями предостерегалъ тебя
; Господь, о Шотландія! но незадолго приговоры Божіи
I будутъ такъ же часты, какъ тѣ драгоцѣнныя собра-
। нія, въ которыя Онъ посылалъ Своихъ вѣрныхъ слугъ
і давать вѣрное предостереженіе, Его именемъ, о томъ
I рпскѣ, которому подвергались отступающіеся отъ Бога
I п нарушающіе Его дивные завѣты. Богъ посылалъ
Вэльшей, Камероновъ, Карджиллей п Сэмплей пропо-
вѣдывать тебѣ; но незадолго Богъ будетъ проповѣды-
вать тебѣ посредствомъ кроваваго меча».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII СТОЛ.
525
огня и сѣры, шириною превосходящая землю; въ нее-то и погрузятъ ихъ; ихъ кости,
ихъ легкія, ихъ печень будутъ кипѣть, никогда не сгорая. Въ то же время они
будутъ добычей червей, и пока эти послѣдніе будутъ точить ихъ тѣло, вокругъ нихъ
соберутся дьяволы и станутъ смѣяться и потѣшаться надъ ихъ страданіями. Таковы
были первыя степени страданій; но это были только первыя. Истязанія, кромѣ того
что они были безконечны, должны были еще постепенно ухудшаться. Такъ утон-
ченна была жестокость, что за однимъ адомъ слѣдовалъ другой; и чтобы страдалецъ
не отерпѣлся, его по прошествіи нѣкотораго времени переводили далѣе съ тѣмъ,
чтобы онъ испытывалъ новыя истязанія въ новыхъ мѣстахъ; и все было такъ
устроено, чтобы страданія пе притупляли чувствительности, но были столько же
разнообразны по своему характеру, сколько и безконечны по всей продолжительности.
Все это было дѣломъ Бога шотландскихъ духовныхъ *). Оно было не только
дѣломъ Его, но и наслажденіемъ, и гордостью. Согласно ихъ ученію, адъ созданъ
прежде, чѣмъ явился на свѣтъ человѣкъ, ибо Всемогущій Богъ—они не посовѣсти-
лись сказать это — употребилъ свой предшествовавшій досугъ на приготовленіе и
усовершенствованіе этого мѣста истязаній, такъ чтобы, когда явится родъ человѣ-
ческій, оно уже было готово принять его. Но какъ бы ни были громадны эти при-
способленія, ихъ оказалось недостаточно; такъ какъ адъ былъ не довольно великъ,
чтобы вмѣстить безчисленныя жертвы, безпрестанно ввергаемыя въ него, то послѣднее
время его расширили. Теперь стало довольно просторно. Но и въ этомъ обширномъ
пространствѣ не было пурто, ибо на всемъ его протяженіи раздавались стоны и
вопли нескончаемой агоніи. Они потрясали воздухъ ужасными звуками, а въ про-
межуткахъ между ними происходили другія сцены, еще цѣлѣе раздирающія. Громкіе
упреки наполняли воздухъ: дѣти упрекали родителей, слуги —- господъ. Тогда дѣй-
ствительно ужасъ былъ общій, широко распространявшійся во всѣ стороны. Въ то
время какъ дитя проклинало отца, отецъ, снѣдаемый угрызеніемъ совѣсти, самъ
чувствовалъ свою вину; и дѣти, и отцы оглашали адъ своими пронзительными кри-
ками, борясь въ судорожной агоніи съ переносимыми страданіями и зная, что имъ
готовились еще новыя страданія, болѣе мучительныя.
Даже теперь кровь стынетъ въ жилахъ отъ такихъ рѣчей, когда подумаешь,
чтб должно было происходить въ умахъ людей, которые могли дойти до того, чтобы
держать ихъ. Высказываніе подобныхъ идей изобличаетъ характеръ самыхъ лич-
ностей и обнажаетъ ихъ внутреннюю сторону. Мы содрогаемся при мысли о томъ,
какое мрачное, извращенное воображеніе, какіе мстительные помыслы, какія дикія
противозаконныя и смутныя представленія должны были вмѣщать въ себѣ люди,
которые были въ состояніи собрать и привести въ порядокъ различныя части этого
отвратительнаго цѣлаго. Ни малѣйшее раздумье, ни малѣйшее угрызеніе совѣсти,
ни малѣйшее состраданіе, повидимому, не закрадывались въ ихъ душу. Ясно, что ихъ
воззрѣнія были зрѣло обдуманы; ясно также, что они наслаждались ими. Они были
запечатлѣны единствомъ соображенія и подкрѣплены энергіей и силой рѣчи, которыя
доказываютъ, что они всѣмъ сердцемъ участвовали въ своемъ дѣлѣ. Но прежде,
чѣмъ дойти до этого, они должны были умереть для всякаго чувства жалости и
любви. А между тѣмъ они были наставниками великой націи и во всѣхъ отноше-
ніяхъ пользовались въ ней самымъ большимъ вліяніемъ. Народъ легковѣрный и
грубо-невѣжественный внималъ и вѣрилъ имъ. Мы, живя на такомъ разстояніи отъ
него по времени и вращаясь въ совершенно иномъ кругѣ мыслей, можемъ соста-
*) И, по пхъ мнѣнію, варварская жестокость была !
результатомъ Его всевѣдѣнія. Я съ прискорбіемъ вы-
писываю слѣдующія богохульныя мѣста: «Обратите |
вниманіе па то, кто придумываетъ эти истязанія. Очень ;
хороши бывали нѣкоторыя пытки, придуманныя чело-
вѣческимъ умомъ, одного названія которыхъ, если бы
вы понимали ихъ сущность, было бы уже достаточно,
чтобы наполнить сердца ваши страхомъ; но все это
настолько ничтожно въ сравненіи съ муками,
которыя вамъ предстоитъ испытать, насколько
ничтожна человѣческая мудрость въ сравненіи съ
премудростью Божіей... Безконечная премудрость
изобрѣтала это зло*. (ТЬе (хгеаі Сопсегп оГ 8а1-
ѵаііоп», Ьу іЬе Іаіе Кеѵ.М-г ТЬотаз Наіу ЬнгІоп,1722).
526
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
вить себѣ лишь слабое понятіе о томъ, какое дѣйствіе производили на народъ эти
страшныя воззрѣнія. Онъ былъ убѣжденъ, что на этомъ свѣтѣ его непрестанно
преслѣдуетъ дьяволъ и что онъ и другіе злые духи постоянно вращаются вокругъ
него въ вещественныхъ, видимыхъ образахъ, искушая и завлекая его въ погибель;
а на томъ свѣтѣ его ожидаютъ самыя ужасныя, неслыханныя наказанія;—при чемъ,
какъ этотъ, такъ и тотъ свѣтъ управляются мстительнымъ Божествомъ, гнѣвъ кото-
раго ничѣмъ невозможно смягчить. Когда людямъ постоянно присущи подобныя идеи,
удивительно ли, что разсудокъ ихъ часто не выдерживаетъ, что на нихъ нападаетъ
религіозная манія, подъ вліяніемъ которой они въ мрачномъ отчаяніи лишаютъ
себя жизни 1).
Мало въ самомъ дѣлѣ утѣшительнаго представляла въ то время людямъ ихъ
религія. Не только дьяволъ, какъ виновникъ всякаго зла, но даже и Тотъ, Кого мы
признаемъ за источникъ всякаго блага, былъ въ глазахъ шотландскихъ духовныхъ
существомъ жестокимъ, мстительнымъ, повинующимся, какъ и они сами, внушенію
гнѣва. Они заглядывали въ свое собственное сердце и тамъ находили изображеніе
своего Бога. Согласно ихъ воззрѣніямъ,—это былъ Богъ страха, а не Богъ любви.
Ему приписывали они самыя худшія страсти своей собственной сварливой и раз-
дражительной природы. Они приписывали Ему мстительность, хитрость и постоянное
расположеніе причинять кому-нибудь страданіе. Въ то самое время, какъ они объ-
являли, что всѣ люди—грѣшники, лишенные всякой надежды на спасеніе и предна-
значенные собственно для вѣчной погибели, — они безъ зазрѣнія совѣсти обвиняли
Божество въ томъ, будто оно прибѣгаетъ къ разнымъ ухищреніямъ противъ этихъ
несчастныхъ жертвъ, будто оно строитъ имъ засады, чтобы захватывать ихъ врас-
плохъ. Шотландскіе духовные учили своихъ слушателей, что Всемогущій Богъ до
такой степени кровожаденъ и до того склоненъ къ гнѣву, что онъ свирѣпствуетъ
даже противъ стѣнъ и домовѣ и безсмысленныхъ тварей, изливая свою злобу болѣе
чѣмъ когда-либо и распространяя повсюду опустошеніе. Скорѣе чѣмъ отказаться
отъ своей жестокой, злостной цѣли, Онъ рѣшился, говорили они, спустить анге-
ловъ-мстителей для того, чтобы они нападали на людей и ихъ семейства. Независимо
отъ этой мѣры, у Него были еще различныя другія средства, съ помощью которыхъ
Онъ могъ въ одно и то же время удовлетворять Самого Себя и казнить свои со-
зданія,—чтб видно въ особенности изъ тѣхъ уловокъ, къ которымъ Онъ прибѣгалъ,
чтобы наказать какой-нибудь народъ голодомъ 2), Когда какая-нибудь страна голо-
дала, это происходило оттого, что Вотъ въ своемъ гнѣвѣ изсушилъ почву, не далъ
облакамъ излить свою влагу и сдѣлалъ такимъ образомъ, что плоды земли завяли.
*) Вилліамъ Ветчъ, проповѣдуя въ городѣ Джед-
бургѣ передъ многочисленной конгрегаціей, сказалъ:
«васъ тугъ сегодня двѣ тысячи, но, я увѣренъ, и во-
семьдесятъ пзъ васъ на будутъ спасены». Послѣ этого
трое изъ его невѣжественныхъ слушателей, придя въ
отчаяніе, вскорѣ лишили себя жизни. То умственное
настроеніе, которому потворствовало ученіе духовенства
и которое приводило къ самоубійству, живо изображено
Самюэлемъ Регерфордомъ, самымъ популярпымь изъ
всѣхъ шотландскихъ теологовъ XVII столѣтія. «О! онъ
ложится (спать), и адъ съ нимъ ложится въ постель;
онъ спитъ—и адъ, п они видятъ вмѣстѣ сны; онъ
встаетъ, и адъ идетъ вмѣстѣ съ нимъ въ поле; онъ
идетъ въ свой садъ—и тамъ адъ... Человѣкъ идетъ
къ с голу.—О! онъ не смѣетъ ѣсть, онъ не имѣетъ ни-
какого права на созданіе; ѣсть—это грѣхъ и адъ; такъ
во всякомъ блюдѣ адъ. Онъ идетъ въ церковь, а передъ
его глазами собака величиною съ гору: вотъ гдѣ ужасы».
2) «У Бога много путей, которыми Онь можеть
тѣснить людей и найти себѣ удовлетвореніе. У
Бога множество средствъ къ тому, чтобы тѣснить лю-
дей и ниспосылать имъ всякія скорби, какія Онъ за-
| думаетъ противъ нихъ, и въ особенности у Пѳго много
і средствъ для ниспосланія голода. Онъ можетъ воору-
| жить всѣ свои твари, чтобы истребить всѣ жизненные
[ припасы людей, одинъ за другимъ. Онъ можетъ пропз-
; вести перемѣну въ воздухѣ, и мелкія насѣкомыя сдѣ-
лаютъ дѣло, когда Ему будетъ угодно» (Гстчесопъ).
Тотъ же самый теологъ положительнымъ образомъ при-
' ипсываетъ Божеству ощущеніе удовольствія при нане-
, сепіи вреда даже невинному. «Когда Богъ насылаетъ
I бичъ подъ видомъ меча, голода, заразы, чтобы вне-
запно низложить и истребить людей, то Онъ поражаетъ
1 не только виновныхъ (когорые имѣются при этомъ въ
I виду), но и невинныхъ, т. е. тѣхъ, которые правы и
' не подали грубаго повода къ тому; и во всякомъ дру-
гомъ смыслѣ ннкто не невиненъ и не свободенъ отъ
! грѣха въ этой жизни. Скажу болѣе, испытывая невин-
ныхъ этпми бичами, Господъ повидимому дѣй-
ствуетъ, какъ будто бы это доставляло Ему на-
। слижденіе, и мало соболѣзнуетъ о тѣхъ крайностяхъ,
| въ которыя они ввергаются... Господу нравится, что
। Онъ располагаетъ великимъ множествомъ средствъ для
। причиненія скорби сынамъ человѣческимъ» и пр.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII СТОЛ.
527
Всѣ невыносимыя страданія, причиняемыя недостаткомъ пищи,—медленная смерть,
предсмертныя муки, всеобщее бѣдствіе, преступленія, порождаемыя этимъ бѣдствіемъ,
томленіе матери, когда она видитъ своихъ дѣтей, изнемогающихъ отъ голода, и не мо-
жетъ дать имъ хлѣба, — все это было Его дѣяніемъ, дѣломъ рукъ Его. Въ своемъ
гнѣвѣ Онъ иногда наносилъ вредъ хлѣбамъ, посылая такую позднюю весну и такую
холодную и дождливую погоду, что жатва непремѣнно должна была оказаться пло-
хою. Иногда также Онъ обманываетъ людей, посылая имъ благопріятную погоду
и давъ имъ поработать въ потѣ лица въ надеждѣ на обильный сборъ хлѣба, въ
самый послѣдній моментъ вдругъ вмѣшивается и истребляетъ хлѣбъ, которому оста-
валось только быть сжатымъ. Богъ шотландской кирки (Кігк) это былъ Богъ, Кото-
рый столько же истязалъ свои созданія, сколько и наказывалъ ихъ; и когда Онъ
бывалъ прогнѣвленъ, то Онъ сперва старался разлакомить людей, поддерживая въ
нихъ надежды, чтобы такимъ образомъ сдѣлать для нихъ предстоящія бѣдствія тѣмъ
болѣе чувствительными.
Подъ вліяніемъ этого ужаснаго вѣрованія и вслѣдствіе неограниченнаго господ-
ства духовенства, которое поддерживало его, шотландскій умъ пришелъ въ такое состоя-
ніе, что въ теченіе XVII и части ХѴШ столѣтія нѣкоторыя изъ самыхъ благородныхъ
чувствъ, къ какимъ только способна наша природа, чувства надежды, любви, благодар-
ности, были отложены въ сторону и замѣнены внушеніями рабскаго, постыднаго страха.
Физическія страданія, которымъ вообще подверженъ человѣческій организмъ, даже
самыя случайности, иногда постигающія насъ, считались происходящими не отъ
нашего невѣдѣнія или нашей неосмотрительности, но отъ злобы Божества. Если
случался пожаръ въ Эдинбургѣ, то возбуждалась страшнѣйшая тревога, потому что
въ этомъ слышался голосъ ВЬев”ыпіняго*_взывающій противъ разврата и распущен-
ности этого города. Если на Ьлѣ’"ваш'емъ^^ЕзывалЙЗь вереда или язвы, то и это
было божескимъ наказаніемъ, и считалось болѣе чѣмъ сомнительнымъ, въ правѣ ли вы
лечиться отъ нихъ 9- Оспа, какъ одна из^самыхъ’ІУіасныхъ болѣзней, въ особенности
считалась посылаемою отъ Бога, и поэтому предупрежденіе ея посредствомъ приви-
ванія отвергалось, какъ нечестивая попытка идти наперекоръ Его волѣ 2). Другія раз-
стройства, хотя менѣе страшныя, но все-таки очень мучительныя, происходили также
изъ этого же источника; началомъ всѣхъ ихъ считался гнѣвъ Всемогущаго Бога.
Во всемъ проявлялось его" могущество, но не тѣмъ, что возрастало благоденствіе
людей или улучшалось ихъ благосостояніе, а тѣмъ, что всевозможными путями имъ
наносился вредъ и причинялись страданія. Рука Его, всегда поднятая на людей,
иногда лишала ихъ вина, посылая неурожай на виноградъ, иногда истребляла бурей
2) Рётерфордъ говоритъ: «Ни одинъ человѣкъ не
долженъ радоваться болѣзнямъ й недугамъ; но я по-
лагаю, мы можемъ ощущать извѣстнаго рода счастье
при вередахъ и язвахъ, ибо безъ нихъ персты Христа,
какъ убитаго (?) Господа, никогда не коснулись бы
нашей кожи». Не знаю, какое дѣйствіе произведутъ
эти мѣста на читателя; меня же морозъ по кожѣ по-
дираетъ, когда я привожу ихъ.
2) Не ранѣе, какъ въ концѣ ХѴШ столѣтія от-
рѣшилось шотландское духовенство отъ этихъ понятій.
Наконецъ, и на него возымѣли вліяніе тѣ насмѣшки,
которымъ оно подвергалось вслѣдствіе своего суевѣ-
рія и которыя подѣйствовали па него сильнѣе всякихъ
аргументовъ. Однако, тѣ ученія, которыя духовные эти
и ихъ предшественники долгое время вбивали въ го-
лову пароду, до такой степени извратили его понятія,
что, я увѣренъ, найдутся даже въ XIX столѣтіи при-
мѣры того, что шотландцы считаютъ за преступленіе
принимать предосторожности противъ оспы, или, какъ
они назвали это, вцѣпляться въ лицо Провидѣнію. По-
слѣднее свидѣтельство объ этомъ, какое я имѣю подъ
рукой, заключается въ одной книжкѣ, изданной въ
1797 году. Достопочтенный Джонъ Патерсонъ утверж-
даетъ, что въ приходѣ Ольдирнъ, къ графствѣ Нэрнъ,
«весьма немногіе пали жертвою оспы, хотя народъ пи-
таѳть вообще отвращеніе къ оспопрививанію вслѣдствіе
мрачности вообще его вѣры, которая научаетъ ого, что
всѣ недуги, поражающіе человѣческій организмъ, суть
проявленіе Божескаго заступничества, направленнаго
къ наказанію грѣха; поэтому всякое съ ихъ стороны
вмѣшательство они считаютъ посягательствомъ на пре-
рогативу Всемогущаго Бога», Совершенно справедливо.
Безъ всякаго сомнѣнія, такое гнусное и пагубное суе-
вѣріе въ народѣ было результатомъ «мрачности вообще
его вВры». Но достопочтенный Джонъ Патерсонъ по-
забылъ прибавить, что та мрачность, на котирую онъ
жалуется, строго согласовалась съ тѣмъ, чему научали
самые умные, самые энергическіе и наиболѣе уважае-
мые изъ членовъ шотландскаго духовенства. М-ръ Па-
терсонъ мало отдаетъ справедливости своимъ соотече-
ственникамъ; онъ скорѣе долженъ былъ бы похвалить
ту стойкость, съ какой опи придерживались тѣхъ на-
ставленій, которыя онп издавна привыкли получать.
528
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІЯ ВЪ АНГЛІИ.
ихъ стада 1), иногда, наконецъ, даже заставляла собакъ кусать ихъ за ноги, когда они
менѣе всего ожидали этого. Иногда выражалъ Онъ свой гнѣвъ, дѣлая погоду чрез-
мѣрно сухой, иногда же — дѣлая ее въ такой же степени мокрой. Онъ постоянно
каралъ, постоянно былъ занятъ увеличеніемъ суммы всеобщаго страданія, или —
употребляя языкъ того времени—тѣмъ, что заставлялъ созданіе изнывать подъ уда-
рами бича. Всякая новая война была результатомъ Его спеціальнаго Промысла; она
не происходила отъ неумѣстнаго вмѣшательства или нелѣпаго самолюбія государ-
ственныхъ людей, а была непосредственнымъ дѣломъ Божества, на которое и па-
дала такимъ образомъ отвѣтственность за всѣ опустошенія, убійства и другія еще
болѣе ужасныя преступленія, сопряженныя съ войной 1 2). Въ счастливые промежутки
мира, которые случались въ тѣ времена очень рѣдко, у Него были другія средства
тревожить человѣчество. Ударъ землетрясенія служилъ выраженіемъ Его недоволь-
ства, комета была предзнаменованіемъ угрожавшаго бѣдствія, а когда наступало
солнечное затменіе, то бывалъ такой всеобщій паническій страхъ, что люди всѣхъ
сословій поспѣшали въ церковь, чтобы смягчить гнѣвъ Божій* То, что они слышали
въ церкви, только усиливало ихъ страхъ, вмѣсто того чтобы успокоить ихъ. Духо-
венство учило своихъ слушателей, что даже такое обыкновенное явленіе, какъ громъ,
должно было возбуждать благоговѣйный страхъ и посылалось для того, чтобы на-
помнить людямъ, съ какимъ грознымъ повелителемъ они имѣли дѣло. Не трепетать
передъ громомъ считалось поэтому признакомъ безбожія; — и въ этомъ отношеніи
человѣкъ невыгодно противополагался низшимъ животнымъ, такъ какъ на этихъ
послѣднихъ всегда производило сильное дѣйствіе это проявленіе могущества Божія 3).
Эти Божескія посѣщенія, какъ-то: солнечныя затдёнія, кометы, землетрясенія,
громъ, голодъ, зараза, воина, болѣзнь, ржа въ воздухѣ неурожаи, холодныя зимы,
сухія лѣта, — эти и иодобньіц лімъ бѣдствія были, по мнѣнію шотландскихъ теоло-
говъ, проявленіями гнѣва Всемогущаго Бога за грѣхи людей; и что такія проявле-
нія бывали безпрестанно, это не удивительно, если принять въ соображеніе, что въ
томъ же вѣкѣ и согласно съ тѣмъ же вѣрованіемъ самые невинные и даже по-
хвальные поступки считались грѣшными и достойными наказанія. Образовавшіяся
по этому предмету мнѣнія не только любопытны, но и чрезвычайно назидательны.
Кромѣ того, что они составляютъ важную часть исторіи человѣческаго ума, они
служатъ также рѣшительнымъ доказательствомъ, опасности допущенія одной про-
фессіи до слишкомъ большого возвышенія надъ всѣми другими. Въ Шотландіи, какъ
и вездѣ, лишь только удалось духовенству обратить на себя болѣе чѣмъ обыкновен-
ную долю всеобщаго вниманія, оно тотчасъ же воспользовалось этимъ обстоятель-
ствомъ, чтобы распространять тѣ аскетическія ученія, которыя, поражая въ самомъ
корнѣ человѣческое счастье, никому не приносятъ пользы, кромѣ сословія, проповѣ-
дывающаго ихъ. И, дѣйствительно, сословіе это не можетъ но извлечь пользы изъ
такой политики, которая, усиливая опасенія, къ которымъ невѣжество и робость
людей дѣлаютъ и безъ того слишкомъ склонными, усиливаетъ также и ихъ го-
товность прибѣгать къ помощи своихъ духовныхъ совѣтниковъ. Чѣмъ сильнѣе опа-
сеніе, тѣмъ сильнѣе и эта готовность. Это очень хорошо знали шотландскіе духов-
ные, которые были совершеннѣйшіе мастера своего дѣла* Подъ ихъ вліяніемъ уста-
1) Понятіе это такъ глубоко укоренилось, что мы
дѣйствительно встрѣчаемъ наложеніе всеобщаго поста
и покаянія по случаю «нынѣшнихъ жестокихъ бурь,
морозовъ и снѣговъ, продолжавшихся столько времени,
что скотъ вымираете цѣлыми хлѣвами».
2) «Война есть одинъ пзъ жестокихъ бичей, ко-
торыми Богъ наказуетъ нечестивыя націи; и она по-
стегаетъ народъ не случайно, а по особому промыслу
Божьему, въ рукахъ Котораго и война, и миръ»...
«Справедливый Господь, терпѣливо переносящій нече-
стивость націй, наконецъ, возстаетъ въ прости...
1 Негодованіе Господне на все христіанство велико>.
(Пзъ Готчесона и Бальи).
, 3) «Тупоумія и безчувственности въ человѣкѣ
больше, чѣмъ въ дикихъ тваряхъ, на которыхъ во-
обще гро.ть производитъ болѣе сильное впечатлѣніе,
чѣмъ па сердца большей части людей». (ГИскзоіГз
«Ехріісаііоп оі‘ іЬе Еігзі РШу Рзаітз»). Гетчесонъ дѣ-
лаетъ подобное же замѣчаніе по поводу землетрясеній.
! «Потрясеніе и дрожаніе безсмысленныхъ тварей, въ
I виду гнѣва Божія, служитъ укоромъ для людей, кото-
рые нечувствительны къ этому и не хотятъ смириться
; предъ Его десницею».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII СТОЛ.
529
новилась система нравственности, которая, выдавая почти всякое дѣяніе за грѣшное,
держала людей въ вѣчномъ опасеніи того, чтобы имъ не совершить нечаянно какого-
нибудь тяжкаго проступка, который могъ бы навлечь на пхъ головы примѣрное,
поразительное наказаніе.
Согласно съ этимъ кодексомъ, всѣ врожденныя привязанности, всѣ обществен-
ныя удовольствія, всѣ забавы и всѣ радостныя побужденія человѣческаго сердца были
грѣховны и подлежали искорененію. Было грѣхомъ со стороны матери желать имѣть
сыновей; а если они у ней были, то было грѣшно заботиться о ихъ благѣ 1). Грѣшно
было дѣлать пріятное себѣ, и грѣшно же дѣлать пріятное другимъ, потому, что въ
томъ и другомъ случаѣ человѣкъ дѣлаетъ будто бы неугодное Богу 2). Поэтому слѣ-
довало тщательно избѣгать всякихъ удовольствій, какъ бы ни были оип сами по себѣ
незначительны и какъ бы ни казались законны. Находясь въ обществѣ, человѣкъ
долженъ былъ стараться назидать гостей, если обладалъ даромъ назиданія, но отнюдь
не долженъ былъ и помыслить о томъ, чтобы забавлять ихъ 3). Слѣдовало воздержи-
ваться отъ веселости, особенно же доходящей до смѣха; собесѣдниковъ надлежало
искать себѣ между людьми степенными и скорбными, которые не отдавались бы такой
пустой суетѣ. Улыбка могла быть дозволена изрѣдка, лишь бы она не переходила
въ смѣхъ; но такъ какъ это плотская утѣха, то грѣшно было даже улыбаться въ воскрес-
ный день 4). Люди, глубоко проникнутые религіозными убѣжденіями, даже въ будни
почти никогда не улыбались, а только вздыхали, стонали, плакали. Истинный хри-
стіанинъ долженъ былъ во всѣхъ своихъ движеніяхъ сохранять неизмѣнную важ-
ность, никогда не бѣгать, а ходить степенно, не дозволяя себѣ живой и бойкой
поступи, свойственной невѣрующимъ. Когда онъ писалъ/къ пріятелю, онъ долженъ
былъ остерегаться, чтобы въ Жйсьмахъ*сгоДпибыло ничего похожаго на шутливость,
потому, что шутка несовмѣстна съ достоинствомъ богобоязненной и серьезной жизни 5).
Предосудительно было находить наслажденіе въ созерцаніи красивой мѣстности,
потому, что благочестивый человѣкъ долженъ оставаться чуждъ такимъ недостойнымъ
его вещамъ и предоставить подобныя наслажденія необращеннымъ грѣшникамъ.
Пусть люди невозрожденные вѣрою предаются этимъ суетамъ; люди же, просвѣтлен-
:) Подъ вліяніемъ этого ужаснаго вѣрованія нѣж-
ная мать Дёпкапа Форбса, ниша къ нему о своемъ
собственномъ здоровьѣ и о здоровьѣ своего брата, го-
воритъ: «моя грѣшная, прогнѣвляющая Бога заботли-
вость какъ о душахъ, такъ и о тѣлахъ вашихъ». Тео-
логическая теорія, лежащая въ основаніи этого но- |
нятія и внушающая его, состояла въ томъ, что «чув- ।
ство благодати сдерживаетъ этого рода влеченія». От- I
сюда происходить строгое примѣненіе ея къ особымъ !
днямь для религіозныхъ цѣлей. Ляйонъ упоминаетъ, :
что нѣкоторые изъ шотландскаго духовенства, начер-
тывая правила для управленія одною колоніею, вклю-
чили въ нихъ слѣдующее условіе: «Ни одинъ мужъ
не долженъ цѣловать свою жену и ни одна мать не
должна цѣловать своего ребенка въ воскресный день».
2) «Чѣмъ болѣе вы угрожаете себѣ и міру, тѣмъ
далѣе вы отъ угожденія Богу»... «Пріязнь человѣка
къ себѣ самому есть непріязнь къ Богу».
3) По Гётчесону: «Ни въ какое время не бываетъ
человѣкъ такъ близокъ къ прегрѣшенію, къ обнару-
женію присущихъ въ немъ корней зла, какъ когда
онъ много обращается съ тварями и среди веселья и
радости». До чего развилось это ученіе, всего лучше
можно видѣть пзъ мыслей, высказанныхъ въ началѣ
уже ХѴШ столѣтія однимъ шотландцемъ, полковни-
комъ Блакедеромъ, человѣкомъ, получившимъ хорошее
воспитаніе, много обращавшимся въ свѣтѣ, п кото- ।
раго можно, до извѣстной степени, назвать свѣтскимъ >
человѣкомъ. Бъ декабрѣ 1714 года былъ онъ однажды I
на свадьбѣ и по возвращеніи домой пишетъ: «Былъ ;
веселъ п быть можетъ слишкомъ далъ волю насмѣ-
шливости; однако, думаю, что въ разговорѣ не вдавался
въ легкомысліе и суетность. Я всегда стараюсь, что-
бы рѣчь моя была надлежащимъ образомъ припра-
влена солью, и чтобы опа приносила пользу слуша-
телямъ. Засидѣлся поздно и былъ веселъ; надѣюсь
однако, что безгрѣшно; впрочемъ, но стану себя опра-
вдывать». Въ другой разъ, въ 1720 году, былъ онъ
вечеромъ въ гостяхъ: «Молодежь веселилась. Я сдер-
живалъ себя, чтобы не завлечься слишкомъ далеко,
и мало принималъ участія въ весельи, единственно
настолько, чтобы не показаться букою или человѣ-
комъ неблаговоспитаннымъ. Сидѣли до поздняго часа,
но бесѣда была безгрѣшная, и пили не больше, какъ
сколько кто желалъ. Однако, въ этомъ потрачиваѳтся
много времени, чего я не смѣю оправдывать. всемъ
человѣкъ согрѣшаетъ*. Далѣе онъ пишетъ: «Я же-
лалъ бы, чтобы къ рѣчамъ моимъ всегда примѣшива-
лось что-нибудь назидательное»; біографъ же его за-
мѣчаетъ: «какъ скоро бесѣда уклонялась отъ этой
цѣли, опа, но его мнѣнію, дѣлалась суетнымъ ѣре~
превожденіемъ времени, которое надлежало осуждать,
а никакъ не поощрять».
4) Въ 1650 году, когда Карлъ П былъ въ Шот-
ландіи, «духовенство, по свидѣтельству Кларендона,
дѣлало ему весьма строгіе выговоры, когда случалось
ему улыбаться въ эти дни» (въ воскресенье).
5) Даже для дѣтей, съ восьми лѣтъ и старше,
игрушки и игры почитались предосудительными и уда-
леніе отъ забавы почиталось добрымъ признакомъ.
Воклъ—Иад. Ф. Павленкова.
34
530
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ные истиннымъ религіознымъ ученіемъ, видятъ природу такой, какой она есть дѣй-
ствительно, они знаютъ, что природа въ непрестанномъ движеніи уже около 5000
лѣтъ, что силы ея почти истощены, что первоначальная мощь ея исчезла *)• Въ
глазахъ невѣжества она еще прекрасна и свѣжа; въ дѣйствительности же она вы-
жила изъ силъ и дряхла; она страждетъ старческой немощью; организмъ ея, утра-
тивъ прежнюю упругость, покосился на бокъ; она должна скоро умереть отъ дрях-
лости. Вслѣдствіе людскихъ грѣховъ все на свѣтѣ становится съ каждымъ днемъ
хуже, и природа вырождается съ такой быстротой, что лиліи уже утрачиваютъ свою
бѣлизну, а розы свое благоуханіе. Небесный сводъ дряхлъетъ; само солнце, освѣ-
щающее землю, становится безсильнымъ. Тяжело становится на душѣ, когда поду-
маешь объ этомъ вырожденіи всего въ мірѣ; но люди не просвѣтленные и не по-
дозрѣваютъ его. Иа ихъ нечестивые глаза все, что они видятъ, еще прекрасно.
Это послѣдствіе ихъ упорнаго потворства чувствамъ, которыя всѣ порочны,—а всѣхъ
ихъ порочнѣе безъ всякаго сравненія зрѣніе. Поэтому-то глазъ отмѣченъ по пре-
имуществу, какъ предметъ Божіей кары; такъ какъ онъ постоянно грѣшитъ, то онъ
и обреченъ пятидесяти двумъ недугамъ, то есть по одному недугу на каждую не-
дѣлю въ году 1 2).
Такимъ образомъ непозволительно было цѣнить какія бы то ни было красоты;
или, говоря точнѣе, никакой дѣйствительной красоты не существовало. Въ мірѣ не
было ничего, на что стоило бы смотрѣть, кромѣ шотландской кирки, которая была,
безъ всякаго сравненія, прекраснѣйшимъ созданіемъ во всей вселенной. Созерца-
ніе ея было единственнымъ законнымъ наслажденіемъ, всякое же другое удоволь-
ствіе было грѣховно. Такъ, напримѣръ, писать стихи считалось за тяжкій грѣхъ,
заслуживающій особеннаго осужденія 3). Слушать музыку было также предосудительно,
потому что человѣкъ не въ правѣ предаваться такимъ пустымъ развлеченіямъ. По-
этому духовенство запрещало музыку даже на свадебныхъ празднествахъ; ни подъ
какимъ предлогомъ не допускало даже національнаго увеселенія волынкой. Грѣшно
было смотрѣть на уличный кукольный театръ, хотя бы только изъ своего окна 4).
Танцы почитались за такой великій грѣхъ, что генеральное собраніе издало осо-
бое постановленіе, которымъ танцованіе положительно запрещалось и которое было
читано во всѣхъ эдинбургскихъ церквахъ. Вечеръ на Новый Годъ былъ издавна въ
Шотландіи, какъ и во всей остальной Европѣ, днемъ радости и веселья. Церковь
и на него наложила руку и повелѣла, чтобы никто не смѣлъ пѣть пѣсенъ, присвоен-
ныхъ обычаемъ этому дню, а также не смѣлъ бы пускать къ себѣ въ домъ такихъ
пѣвцовъ.
На крестины ребенка у шотландцевъ было въ обычаѣ созывать всю родню,
даже самую дальнюю, которой у нихъ тогда, какъ и теперь, насчитывалось очень
много. Но такое собраніе гостей доставляло удовольствіе, а всякое удовольствіе по-
читалось за грѣхъ. Поэтому обычай этотъ былъ запрещенъ, число гостей было огра-
1) «Настоящее время есть старческій вѣкъ міра;
міръ дряхлѣетъ, хотя иа глаза людей непонимающихъ
опъ красивъ и прелестенъ, а тѣмъ, которые лишь
вчера народились на свѣтъ и ничего не смыслятъ, ка-
жется, будто опъ созданъ со вчерашняго дня; на са-
момъ же дѣлѣ,—и люди вѣрующіе это знаютъ,-онъ
уже склоняется въ могилу». (Віппін^’з «Зегпіопз»).
2) Шотландское духовенство въ особенности об-
ратило свой гнѣвъ на глаза человѣка. Рётерфордъ
презрительно называетъ пхъ «бренными окнами персти».
Грей идетъ еще далѣе и восклицаетъ: «эти проклятые
глаза нашпіэ
3) Я встрѣтилъ одипъ примѣръ распространенія
и силы этого предразсудка въ Шотландіи, принадлежа-
щій къ очень позднему времени и поэтому весьма лю-
бопытный. Въ 1767 году открылась вакансія стар-
і шаго учителя классической гимназіи въ Гриновкѣ.
і Мѣсто было предложено Джону Вильсону, автору поэмы
і «Клайдъ». Но, присовокупляетъ его біографъ, сгринов-
і скія власти и пасторъ сочли долгомъ, прежде чѣмъ
і' ввѣрить Вильсону управленіе школою, поставить ему
। въ условіе, чтобы онъ бросилъ неблагочестивое и без-
I полезное искусство стихописапія».
4) Это понятіе продержалось вѣроятно до па-
! чала настоящаго, а во всякомъ случаѣ существовало
еще въ самомъ копцѣ минувшаго столѣтія. Въ одной
і книгѣ, изданной въ Шотландіи въ 1836 году, раз-
сказывается, что былъ еще въ живыхъ одинъ па-
। сторъ, который однажды подвергся «строжайшему вы-
। говору» за то только, что, увидѣвъ на улицѣ ку-
। кольцую комедію, опъ послалъ служанку пригласить
I ее нодъ окно, чтобы ему съ женою посмотрѣть на
і зрѣлище».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII СТОЛ.
531
ничено, и духовенство очень строго наблюдало, чтобы никто не могъ въ подобныхъ
случаяхъ радоваться свыше допускаемой пмъ мѣры *).
И не на однѣ крестины, но также и на свадьбы были распространены по-
добнаго рода распоряженія. Во всѣхъ странахъ искони заведено весело справлять
свадьбы, отчасти по естественному чувству радости, отчасти же можетъ быть вслѣд-
ствіе невольнаго размышленія, что при союзѣ, столь часто сопровождаемомъ одними
страданіями, желательно, чтобы хоть начало было радостно. Но шотландское духо-
венство смотрѣло иначе. На свадьбахъ людей бѣдныхъ оно просто запрещало всякое
веселье * 2); на свадьбы людей богатыхъ непремѣнно являлся одинъ изъ членовъ
мѣстнаго духовенства, нарочно для того отряженный, чтобы пе допускать излишней
веселости. Едва-ли возможно было придумать болѣе дѣйствительную мѣру. Но духо-
венство не ограничивалось ею. Для того чтобы вѣрнѣе сдерживать плоть, оно под-
чинило своему контролю кухню, опредѣляло выборъ яствъ и число блюдъ. До того
оно простирало свою заботливость по этимъ предметамъ, такъ боялось, чтобы сва-
дебный пиръ не былъ слишкомъ лакомъ, что ограничило даже его стоимость и ни-
кому не позволяло выходить изъ суммы, которую оно сочло приличнымъ назначить.
Ничто не могло укрыться отъ его бдительности; ибо, по его воззрѣнію, самый
лучшій человѣкъ въ лучшую пору своей жизни былъ такъ преисполненъ всякой
скверны, что дѣйствія его не могли не быть порочны. Человѣкъ, по увѣренію шот-
ландскаго духовенства, дня но можетъ прожить, чтобъ но согрѣшить, а самый не-
значительный изъ его грѣховъ заслуживаетъ вѣчнаго Божія гнѣва. Все—что онъ ни
дѣлаетъ — грѣшно, какъ бы ни были чисты его помышленія. Человѣкъ, послѣ пер-
ваго грѣхопаденія, постепенно падалъ ниже и ниже и? наконецъ, низошелъ на такую
степень нравственнаго упадка, что стоитъ ниже животныхъ, для которыхъ все кон-
чено съ окончаніемъ земной жизни, Еще до рожденія человѣка, еще въ утробѣ
матери начинается уже его виновность.^ Затѣмъ по мѣрѣ того, какъ онъ подро-
стаетъ, быстро умножаются и усиливаются его преступленія; однимъ изъ самыхъ
возмутительныхъ преступленій въ глазахъ духовенства было обученіе дѣтей новымъ
словамъ,—ужасный обычай, недаромъ взыскиваемый гнѣвомъ Божіимъ 3). Это впро-
2) Въ 1654 году пресвитерія города Септъ-Ап-
дрюса опредѣлила, «по причинѣ существующаго также
въ народѣ великаго злоупотребленія—приглашать толпу
гостей на крестины и на помолвки, священникамъ и
сессіямъ вмѣнить въ обязанность строго наблюдать за
прекращеніемъ таковыхъ злоупотребленій; чтобы гостей
бывало не болѣе шести или семи человѣкъ. А также
опредѣляетъ, чтобы трактирщикамъ, у которыхъ про-
исходятъ подобные пиры, были дѣлаемы сессіями стро-
гіе выговоры».
2) Въ Шотландіи, какъ и повсюду, справлять
свадьбу безъ пированья и веселья было для просто-
людина вещыо немыслимою. Бѣдность въ этомъ слу-
чаѣ не была помѣхой. Напротивъ, по исконному обы-
чаю, когда женихъ и невѣста были недостаточны,
они передъ свадьбой объѣзжали весь околотокъ и со-
зывали какъ можно болѣе гостей. Собственный пхъ
расходъ былъ очень по велнкъ: до отправленія въ
церковь — по стакану вина съ закускою ближайшимъ
родственникамъ и болѣе почетнымъ гостямъ, да на
вечоръ одинъ пли два музыканта. По возвращеніи же
пзъ церкви не только все собраніе (иногда до двухъ
сотъ человѣкъ) пировало и веселилось па собственный
счетъ обыкновенно въ ближайшемъ постояломъ домѣ,
иногда вь нарочно устроенномъ для того домѣ при
приходской церкви, но каждый изъ гостей считалъ
себя обязаннымъ участвовать въ обзаведеніи хозяйства
молодыхъ домашними про пасами, скотомъ, даже день-
гами; сборъ доходилъ нерѣдко до 50, иногда даже до
100 фунтовъ стерлинговъ. Приношеніе это считалось
но подаркомъ, а только ссудою, которой молодые велп
строгій счетъ и которую они обязапы были возвра-
тить такимъ же приношеніемъ въ случаѣ подобнаго
приглашенія дарителя или кого-либо изъ его родствен-
никовъ. Этотъ обычай существовалъ по всей Шотлан-
діи и во многихъ частяхъ Англіи подъ различными
наименованіями; реппу-ЬгійаІ, реппу-хѵѳййіп^, Ьіййіп^,
Ьгійе-^аіп (грошовыя свадьбы).
Духовенство запретило музыку и танцы и поста-
новило, чтобы число присугствующихъ никакъ не пре-
вышало двадцати четырехъ человѣкъ. Въ 1650 г.
пресвитерія, съ прискорбіемъ усматривая, что «по-
прежнему водятся грошовыя свадьбы, сопровождаемыя
чрезмѣрнымъ и безполезно многочисленнымъ стеченіемъ
народа и неприличнымъ и противозаконнымъ игра-
ніемъ на волынкахъ и пляскою, каковой обычай осо-
бенно производитъ соблазнъ и грѣшенъ въ настоящее
время, при плачевномъ состояніи нашей церкви; и опа-
саясь, что священнослужители и церковныя сессіи не
былп такъ бдительны и усердны, какъ бы имъ надле-
жало быть, въ преслѣдованіи этихъ злоупотребле-
ній,—посему напстрожайше предписываетъ священнослу-
жителямъ и церковнымъ сессіямъ прекратить оныя».
3) «И въ рѣчи нашей библейскія и старинныя
шотландскія названія выходятъ изъ употребленія; вмѣ-
сто отекъ и матъ — папа и мама; дѣтей учатъ
говорить безсмыслицу и то, чего опи не понимаютъ.
Эти немпогіе примѣры изъ огромнаго количества, ко-
торые можно бы привести, составляютъ еще новыя
причины гпѣва Божія».
34*
532
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
чемъ только одно изъ безчисленнаго множества безпрестанныхъ прегрѣшеній; такъ
что должно дивиться, какъ можетъ земля до сихъ поръ терпѣть гнусное зрѣлище,
представляемое человѣкомъ; какъ не разверзла она еще своей утробы, подобно
тому какъ бывало во времена ветхозавѣтныя, и не поглотила его среди его нече-
стивыхъ дѣлъ. Ибо безспорно то, что нѣтъ во всемъ мірозданіи ничего безобразнѣе
и чудовищнѣе человѣка.
При такомъ положеніи вещей прилично было духовенству выступить впередъ
и ограждать людей отъ собственныхъ пхъ пороковъ, принять на себя неусыпное
наблюденіе за всѣми ихъ дѣйствіями, самыми даже мелочными, и насильно напра-
влять ихъ на путь истины. Эту принятую на себя обязанность оно исполняло съ
неуклонной твердостью. При помощи старѣйшинъ, которые были орудіями и тво-
реніями его власти, оно образовало изч> себя по всей Шотландіи законодательныя
собранія и въ пихъ постановляло законы, которымъ всѣ должны были повиноваться.
И горе тому, кто вздумалъ бы отказать въ этомъ повиновеніи. Такихъ ослушниковъ
объявляли непокорными сынами церкви; ихт> сажали въ тюрьму, наказывали де-
нежными штрафами, сѣкли, клеймили раскаленнымъ желѣзомъ или же заставляли
приносить публично покаяніе передъ всей конгрегаціей; и они должны были являться
босые, съ остриженной на половину головой и повиниться, между тѣмъ какъ пресви-
теръ, подч» видомъ поученія имъ, тѣшился своимъ торжествомъ. Все это было дѣло
весьма естественное, ибо священнослужители почитались намѣстниками неба, истолко-
вателями его воли. Слѣдовательно, никто не могъ лучше ихъ судить о томъ, что
люди должны и чего п$ должны дѣлать, и подвергшій^ ихъ порицанію обязанъ
былъ покориться со смиреніемъ и покаяніемъ.
Эти произвольныя и безотвѣтственныя судилища, вбзникшія по всей Шотландіи,
соединяли въ себѣ власть щ законодательную, и исполнительную, и несли обязан-
ности той и другой одновременно. Постановивъ, что такое-то дѣйствіе не должно
быть совершаемо, они затѣмъ сами же приводили законъ въ исполненіе и наказы-
вали нарушителей его. По правиламъ этой самой юриспруденціи, созданной духо-
венствомъ, шотландцу стало грѣшно ѣздить въ католическую страну. Шотландскому
содержателю постоялаго двора грѣшно было пускать католика въ свое заведеніе.
Шотландскому городу грѣшно было допускать у себя, базаръ въ субботу или въ
понедѣльникъ, потому что оба дня смежны съ воскресеньемъ. Шотландкѣ грѣшно
было прислуживать въ трактирѣ; грѣшно ей было жить одной х) и грѣшно же было
жить у незамужнихъ сестеръ. Грѣшно было въ воскресенье ѣхать пзъ одного города
въ другой, какъ бы ни была настоятельна надобность въ этомъ 2). Грѣшно было въ
воскресенье навѣстить пріятеля; грѣшно было полить садъ или огородъ, грѣшно
было даже побриться 3). Такія вещи пе могли быть терпимы въ христіанской странѣ.
Въ воскресенье не позволительно было заботиться о своемъ здоровьѣ, не должно
было вовсе думать о своемъ тѣлѣ. Въ этотъ день грѣшно было ѣздить верхомъ;
грѣшно было прогуляться въ полѣ, или по лугу, или по улицамъ; грѣшно было даже
сѣсть у воротъ своего дома, чтобы подышать свѣжимъ воздухомъ. Лечь спать въ
воскресенье, прежде чѣмъ были окончены всѣ обязанности дня, почиталось также
Э «Такъ какъ разнесся слухъ, что Джапста Ват-
сонъ жпветъ свопмъ домомъ одна, при чемъ она мо-
жетъ подать поводъ къ дурной молвѣ, то пору-
чается старѣйшинѣ Патрику Ииткерну именемъ сес-
сіи уговорить ее, чтобы она или выходила замужъ,
или опредѣлилась въ услуженіе, иначе но будетъ ей
дозволено жить одной своимъ домомъ». і'Кігк-Зеззіоп
Кесопк оі РегШ),
*) «Явился ВпллІамъ Кпннеръ и сознался, что
онъ былъ въ пути въ воскресный день, присовоку-
пивъ, что рѣшился на это по крайней необходимости,
такъ какъ ему предстояло дважды переправляться
] черезъ воду, а день былъ ненастный, почему онъ п
опасался, что не успѣетъ переправиться, а черезъ
I это могъ бы быть подорвавъ его кредитъ. Сдѣлано
ему строгое увѣщаніе, п онъ обѣщалъ впередъ пе
| грѣшить» (Кеіесііопа Сгош Ше КссопЬ оГ іііе Кігк-
1 Зеззіоп оГ АЬегйееп).
3) Даже въ половинѣ уже восемнадцатаго вѣка
священники иногда подвергались нареканіямъ за то.
: что осмѣливались выбриться въ воскресный день. Прежде
I никому, даже изъ мірянъ, не позволено было побриться
въ этотъ день.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII СТОЛ.
533
за грѣхъ, достойный церковнаго осужденія Купанье, какъ вещь пріятная и по-
лезная для здоровья, составляло также великій грѣхъ, и купаться въ воскресенье
строго запрещалось 2). Впрочемъ, въ сущности, не рѣшенный вопросъ, позволи-
тельно ли христіанину плаванье въ какое бы то ни было время, даже въ будни;
по крайней мѣрѣ достовѣрно было то, что Богъ однажды явилъ, что дѣло это Ему
неугодно, лишивъ жизни одного мальчика въ то время, когда онъ предавался этой
плотской утѣхѣ.
Что грѣшно содержать свое тѣло въ чистотѣ, разумѣлось, пожалуй, само собою,
такъ какъ шотландское духовенство признавало за грѣхъ все, что служило къ жи-
тейскимъ удобствамъ, потому только, что оно составляло удобство. Единственной
великой задачей жизни было, чтобы человѣкъ находился безвыходно въ состояніи
страданія 3). На все, чтб было пріятно чувствамъ, слѣдовало смотрѣть съ недовѣр-
чивостью. Христіанинъ долженъ остерегаться, чтобы не находить удовольствія въ
своемъ обѣдѣ, потому что одни только нечестивые услаждаются пищею. По такому же
точно умозаключенію за грѣхъ ставилось человѣку стараться о благополучномъ
устройствѣ своей жизни, заботиться объ улучшеніи какимъ бы то ни было образомъ
своего положенія 4). Зарабатывать деньги, копить ихъ — было неприлично христіа-
нину; даже имѣть много денегъ было предосудительно, потому что деньги не только
служатъ къ доставленію человѣку удовольствій, но еще поощряютъ въ немъ преду-
смотрительность, заботливость о будущемъ, несовмѣстную съ полной покорностью
волѣ Провидѣнія. Желать большаго, чѣмъ сколько человѣку безусловно нужно для
того, чтобы не умереть, почиталось и за грѣхъ, и за безуміе; это было нарушеніе
того повиновенія, которымъ мы обязаны Богу. Что оно противно Его волѣ, оче-
видно при томъ и изъ того же4 факта, что Онъ щедро цѣдѣлясгь богатствомъ иныхъ
скрягъ и любостяжательныхъ людей,—замѣчательное явленіе, которое, но понятіямъ
шотландскаго духовенства, неоспоримо доказывало, что Богъ не любитъ богатства,
иначе Онъ
Быть
ваться съ , ____ -х г-,..? ______ - _______ х--
вздыхать и стонать, обливаться слезами и надрывать грудь рыданіями - словомъ,
быть удрученнымъ безъисходной скорбью и всяческими страданіями,—вотъ что, стало
быть, почиталось за признакъ благочестія, а все противное—за признакъ порочности.
Къ чему человѣкъ чувствовалъ влеченіе, объ этомъ и не спрашивалось; самый фактъ
влеченія дѣлалъ предметъ этого влеченія грѣшнымъ. Все, что было естественно, по
этому самому было зломъ Духовенство отняло у народа всѣ его праздники, его
забавы, его зрѣлища, его игры и развлеченія; оно подавляло всякое проявленіе
радости, запрещало всякое веселье, изгоняло всякія празднества; оно забило на-
глухо всѣ пути, которыми могъ проникнуть лучъ удовольствія, и повергло
въ глубокую тьму 5). И, дѣйствительно, тяжело налегъ мракъ на страну.
не посылалъ бы его такимъ низкимъ и скареднымъ людямъ.
грязнымъ и голоднымъ, бѣдствовать всю жизнь и со страхомъ разста-
жизныо, мучиться вередами, язвами и всякаго рода болѣзнями, вѣчно
[ и надрывать грудь рыданіями - словомъ,
весь
Всѣ,
край
даже
Ч Даже дѣтлмь ставилось въ грѣхъ, когда они
скучали нескончаемыми проповѣдями, которыя ііхъ
принуждали выслушивать. Га.шбёртонъ, обращаясь къ
юношеству своего прихода, говоритъ: «По радовались
ли вы, когда прошелъ деиь Господень, пли по крайней
мѣрѣ коіОа окончилась проповѣдь, помышляя, что
вы наконецъ освободились? не было ли вамъ въ тя-
гость сидѣть такъ долго въ церкви? А это великій
грѣхъ!»
Въ 1719 году эдинбургская пресвитерія съ не-
годованіемъ восклицаетъ: «Во испшу, пные люди до-
шли до такого безграничнаго нечестія, что но сгы-
дятсі купаться въ рѣкахъ и потѣшаться плаваньемъ
въ святой воскресныя деиь».
5 Грей, защищая ученіе о томъ, чго иіа землѣ
подобаетъ быть неисходно въ скорби», сводитъ свои і
доводы на слѣдующее размышленіе: сЯ думаю, чго са- I
мымъ сладостнымъ временемъ въ жизни царя Давида
было то время, когда его сынъ Авессаломъ преслѣдо-
валъ ого, какъ куропатку».
4) Ибо, говорить Абернети, «люди неохотно вни-
маютъ Слову, когда пользуются изобиліемъ». Такимъ
же образомъ Гётчесопъ говорить: «Такова слабость
даже богобоязненныхъ людей, что онп едва-ли могутъ
жпіь въ благоденствіи и но впадать до нѣкоторой сте-
пени въ безпечность, плотскую самонадѣянность или въ
иныя прогрѣшенія».
3) «Отсутствіе вь Шотландіи внѣшнихъ проявле-
ній радости, рѣзко противополагающееся столь частому
на материкѣ празднованію п ликованію, было замѣ-
чаемо не одпнь разъ. Въ актахъ церковнаго благочи-
нія видимъ мы ясныя указанія на процессъ, которымъ
было достигнуто это отличіе. По понятіямъ пуритан-
ской церкви шестнадцатаго и семнадцатаго столѣтій,
534
ИСТОРІЯ ЦИВИЛЗИАЦІИВЪ АНГЛІИ.
самыя обыденныя дѣйствія людей, ихъ взоры запечатлѣлись заботой, уныніемъ и
аскетизмомъ. Лица омрачились и поникли. Не только на образѣ мыслей, но и на
поступи, движеніяхъ, голосѣ, на всей наружности людей отразилось дѣйствіе мерт-
вящаго недуга, сгубившаго все, что есть въ жизни свѣтлаго и задушевнаго. Путь
жизни сталъ устилаться пожелтѣвшей, изсохшей листвой; съ каждымъ днемъ ста-
новился онъ мрачнѣе; цвѣтъ его поблекъ и опалъ; весна, свѣжесть и красота по-
кинули его; радость и любовь исчезли, или принуждены были укрываться въ тем-
ныхъ закоулкахъ, пока, наконецъ, прекраснѣйшія и самыя драгоцѣнныя стороны че-
ловѣческой природы подъ этимъ постояннымъ гнетомъ не перестали давать плодъ
и не были повидимому обречены на вѣчное безплодіе.
Такимъ образомъ въ семнадцатомъ столѣтіи былъ задержанъ въ своемъ ростѣ
и изувѣченъ національный характеръ шотландцевъ. Въ народѣ, какъ и въ отдѣль-
номъ человѣкѣ, гармоническое и свободное развитіе жизни возможно только при
смѣломъ и безбоязненномъ отправленіи ея дѣятельности во всѣхъ главнѣйшихъ ея
стремленіяхъ. Эти стремленія двояки; одни имѣютъ предметомъ увеличить счастье
духа, другія—увеличить счастье тѣла. Еслибъ мы могли представить себѣ человѣка
вполнѣ совершеннаго, мы должны бы предположить его соединяющимъ въ высшей
степени обѣ формы наслажденія, извлекающимъ какъ изъ тѣла, такъ и пзъ духа
высшую мѣру наслажденія, совмѣстную съ его собственнымъ счастьемъ и съ сча-
стьемъ другихъ людей. Но такъ какъ такого совершенства въ дѣйствительности не
существуетъ, то мы и видимъ постоянно, что даже и мудрѣйшіе изъ насъ не могутъ
сохранить надлежащаго равновѣсія между обоими стремленіями, а всегда уклоняются
въ одну какую-либо сторону; одни даютъ перевѣсъ уддѣлетворенію тѣла, другіе —
удовлетворенію духа. Когда сравнить между собою оба направленія, нѣтъ сомнѣнія,
что духовныя наслажденія вбЦппшихъ отношеніяхъ вйше физическихъ; они много-
численнѣе, разнообразнѣе, долговѣчнѣе, имѣютъ болѣе облагораживающее вліяніе;
они менѣе способны производить пресыщеніе въ отдѣльномъ человѣкѣ и приносятъ
болѣе пользы всему человѣчеству. Но на одного человѣка, способнаго къ духовному
наслажденію, приходится по крайней мѣрѣ сто способныхъ къ наслажденію физиче-
скими удовольствіями. Счастье, доставляемое физическимъ наслажденіемъ, имѣя
обширное примѣненіе, распространяясь въ данную минуту на большее число людей,
чѣмъ счастье, проистекающее изъ духовныхъ наслажденій, получаетъ черезъ это
большое значеніе, которое слишкомъ склонны не признавать нѣкоторые люди, назы-
вающіе себя философами. Много разъ отвлеченные мыслители, неразумно возставая
противъ такихъ наслажденій, употребляли всѣ усилія для того, чтобы уменьшить
мѣру счастья, къ какой способно человѣчество. Такіе писатели забываютъ, что
человѣкъ состоитъ не изъ одного духа, а изъ духа и тѣла; забываютъ также, что
въ огромномъ большинствѣ случаевъ тѣло являетъ большую дѣятельность, чѣмъ
духъ, могущественнѣе его, имѣетъ болѣе видное во всемъ участіе и способно къ
болѣе великимъ дѣяніямъ; вслѣдствіе такого забвенія они впадаютъ къ большую
ошибку, пренебрегая цѣлымъ рядомъ дѣяній, къ которымъ наиболѣе склонны и
наиболѣе способны девяносто девять человѣкъ изо ста. За эту ошибку они платятся
тѣмъ, что ихъ книгъ не читаютъ, что ихъ системы оставляются безъ вниманія,
что ихъ строй жизни принимается развѣ только немногочисленнымъ классомъ уеди-
нившихся ученыхъ, но остается чуждъ обширному міру дѣйствительности, для ко-
тораго онъ не пригоденъ и въ которомъ онъ причинилъ бы самый серьезный вредъ.
Поэтому, если мы станемъ разсматривать исторію мысли въ связи съ исторіей
дѣяній, мы можемъ съ полной вѣроятностью сказать, что аскетическія ученія фи-
лософовъ, въ родѣ, напримѣръ, ученія стоиковъ и тому подобныхъ теорій умерщ-
вленія плоти, не причинили того вреда, котораго можно бы было оть нихъ ожидать,
всякое внѣшнее выраженіе радости или естественнаго ' жизни была, такъ сказать, вытѣснена вонъ изъ обще-
веселья было чѣмъ-то въ родѣ грѣха, и его слѣдовало ства». (СЬатЬег’з «Аппаіз оГ 8соі1ап4>).
подавлять сколько возможно... Вся свѣтлая сторона !
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII СТОЛ.
535
и что имъ не удалось въ ощутительной степени уменьшить количество существен-
наго счастья человѣчества. Я полагаю, что этому неуспѣху ихъ были двѣ причины.
Во-первыхъ, эти философы, за очень немногими развѣ исключеніями, весьма мало
обладали дѣйствительнымъ знаніемъ человѣческой природы и не умѣли затрогивать
тѣ струны, дѣйствовать на тѣ тайныя пружины, на которыя долженъ дѣйствовать
человѣкъ для того, чтобы склонить другого человѣка къ своему образу мыслей. А
во-вторыхъ, они, къ счастью нашему, никогда не имѣли въ рукахъ власти, а слѣ-
довательно, не могли ни навязывать своихъ ученій страхомъ наказаній, ни замани-
вать къ нимъ посредствомъ наградъ.
Но если философамъ и не удалось отнять у человѣчества часть его радостей,
то есть за то другой классъ людей, который принялся за ту же задачу съ большимъ
успѣхомъ. Я разумѣю конечно теологовъ. Взятые въ цѣломъ, какъ сословіе, они
во всѣхъ странахъ и во всѣ времена обдуманно ратовали противъ такихъ удоволь-
ствій, которыя для огромнаго большинства людей составляютъ существенное условіе
счастья. Поставивъ Бога собственнаго своего изобрѣтенія, котораго они представ-
ляютъ любящимъ только наказаніе, жертвы и самоумерщвленія, они подъ этимъ пред-
логомъ запрещаютъ наслажденія не только невинныя, но даже похвальныя. Ибо
всякое наслажденіе, которымъ мы никому не причиняемъ вреда, невинно; а всякое
невинное наслажденіе заслуживаетъ похвалы, потому, что оно питаетъ въ человѣкѣ
чувство довольства, удовлетворенности, которое въ свою очередь располагаетъ его
желать добра и дѣлать добро ближнему. Теологи однако, по причинамъ, мною уже
объясненнымъ, стремились къ совершенно противоположному чувству, и когда только
бывала власть въ ихъ рукахъ, опи постоянно запрещадй множество дѣйствій, до-
ставляющихъ человѣку удовольствіе, на томъ основаній, что эти дѣйствія будто бы
неугодны Божеству. Что они не имѣли кт? тому никакого уважительнаго основанія
и что они позволяли себѣ такъ рѣшительно судить и рядить о такихъ предметахъ,
относительно которыхъ человѣкъ не имѣлъ никакихъ достовѣрныхъ свѣдѣній, это
знаетъ очень хорошо всякій, кто безпристрастно, но вдаваясь въ предвзятыя мнѣнія,
изслѣдовалъ ихъ аргументы и приводимые ими доводы. Объ этомъ впрочемъ мнѣ
нѣтъ надобности много распространяться; ибо совершенно въ той же мѣрѣ, въ ка-
кой люди почти съ каждымъ годомъ, и ужъ навѣрное съ каждымъ поколѣніемъ,
пріучаются къ болѣе строгому и точному мышленію, распространяется между ними
и убѣжденіе, что такіе теологи исходятъ изъ произвольныхъ предположеній, въ под-
крѣпленіе которыхъ они ничего не могутъ привести, кромѣ новыхъ предположеній,
столь же произвольныхъ и бездоказательныхъ, Вся система ихъ опирается на страхѣ, и
при томъ на страхѣ самаго худшаго рода; ибо по ихъ ученію великій виновникъ нашего
бытія употребилъ свое всемогущество самымъ жестокимъ образомъ, надѣливъ свое тво-
реніе наклонностями, инстинктами и влеченіями, которыхъ удовлетвореніе не только
Имъ же воспрещается, но еще должно, по Его волѣ, подвергать насъ вѣчной карѣ.
Что теологи въ кабинетѣ, то самое священники на проповѣднической каѳедрѣ.
Теологи дѣйствуютъ на людей, преданныхъ наукѣ, читающихъ; духовенство дѣй-
ствуетъ на людей незанятыхъ, слушающихъ. Имѣя однако въ виду, что одинъ и
тотъ же человѣкъ нерѣдко несетъ оба званія, и что къ тому же духъ и направленіе
того и другого званія совершенно одинаковы, мы можемъ съ практической точки
зрѣнія считать оба класса вполнѣ тождественными; а взявъ ихъ вмѣстѣ и разсматри-
вая дѣятельность обоихъ какъ одно общее дѣло, всякій, кто взглянетъ на совер-
шенное ими въ цѣломъ, долженъ признать, что они всегда были не только самыми
злыми, но и самыми ловкими противниками счастью человѣчества. Въ дни своего
могущества и славы, когда они властвовали надъ обществомъ, когда между людьми
господствовало легковѣріе и сомнѣніе не западало въ умы, они налагали на чело-
вѣчество всякаго рода истязанія: предписывали посты, покаянія, хожденія къ свя-
тынямъ; учили свои простодушныя и невѣжественныя жертвы всячески истязать
себя: бичевать свое тѣло, терзать свою плоть, умерщвлять въ себѣ самыя естествсн-
536
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ныя пожеланія. Таково было состояніе Европы въ средніе вѣка. Таково доселѣ состояніе
каждой страны, гдѣ духовенство пользуется неограниченной властью. Такіе аскетиче-
скіе, самоистязательные обычаи составляютъ неизбѣжный плодъ теологическаго духа,
когда онъ ничѣмъ не сдерживается. Въ наше время, благодаря быстрому развитію
знанія, онъ съ каждымъ днемъ утрачиваетъ свое вліяніе, потому, что духъ научный
и свѣтскій вытѣсняетъ его изъ занятой имъ когда-то области. Поэтому-то въ наше
время и въ особенности въ Англіи, наиболѣе возмутительныя черты его прикры-
ваются, онъ принужденъ маскировать свое природное безобразіе. Между нынѣшнимъ
англійскимъ духовенствомъ стараніе согласить противоположныя притязанія обду-
манной, приличной мировой сдѣлкой заступило мѣсто отважной и запальчивой борьбы,
которую предшественники его вели противъ погруженнаго въ чувственность и тьму
міра. Грозныя требованія его замѣтно притихли. Оно уже дозволяетъ людямъ искать
нѣкоторой доли удовольствія, нѣкоторой доли роскоши, небольшой доли счастья. Оно
не настаиваетъ уже на умерщвленіи всякаго пожеланія, на отреченіи отъ всякаго
житейскаго удобства. Оно не смѣетъ уже говорить языкомъ власти. Кое-гдѣ пока
зываются еще слѣды прежняго духа, но только между людьми необразованными и
когда они имѣютъ слушателями невѣжественную толпу. Высшее духовенство, кото-
рому страшна утрата доброй славы, стало осмотрительно; и какое бы ни было соб-
ственное его убѣжденіе, оно уже рѣдко рѣшается на тѣ грозныя карательныя рѣчи,
которыми оно прежде громило человѣчество со своихъ каоедръ, передъ которыми
въ былое время трепетали всѣ и каждый, подъ мощью .которыхъ обращались въ
персть и прахъ всѣ, кромѣ избранника, ихъ произносившаго.
Хотя въ настоящее время многое изъ этого уже исчезло, однако уцѣлѣвшихъ
остатковъ достаточно для того, чтобы показать, что такое теологическій духъ, и
убѣдить пасъ, что одна только сила общественнаго мнѣнія удерживаетъ его отъ воз-
вращенія къ прежнему изувѣрству. Многіе члены духовенства до сихъ поръ упор-
ствуютъ въ гоненіи всякихъ мірскихъ удовольствій, забывая, что какъ міръ, такъ
и все существующее въ мірѣ есть созданіе одного Всемогущаго Творца, и что тѣ
наклонности и желанія, которыя они осуждаютъ какъ богопротивныя, суть часть
даровъ, Имъ же данныхъ .человѣку. Ояи еще по сознали, что наши влеченія, со-
ставляющія часть насъ самихъ, точно такъ же, какъ всякое другое наше свойство,
должны быть удовлетворяемы, иначе невозможно цѣлостное развитіе человѣка. Отни-
мите у человѣка часть его самого, онъ останется существомъ неполнымъ, искалѣ-
ченнымъ. Настоящій предѣлъ самоугожденію тотъ, чтобы человѣкъ имъ не причи-
нялъ вреда ни себѣ самому, ни другимъ людямъ. До этого предѣла всякое само-
угожденіе законно; даже болѣе чѣмъ законно,—оно необходимо. Кто воздерживается
отъ безвреднаго, умѣреннаго удовлетворенія своихъ потребностей, тотъ обрекаетъ
на бездѣйствія нѣкоторыя изъ своихъ существенныхъ способностей, и нельзя не
видѣть въ немъ существа несовершеннаго, неоконченнаго. Такой человѣкъ непо-
лонъ, ненормаленъ; онъ никогда не достигалъ полнаго своего роста. Онъ можетъ
быть монахомъ, можетъ быть святымъ, но не человѣкомъ въ тѣсномъ смыслѣ. А
намъ, теперь болѣе чѣмъ когда-либо, нужны истинные люди, цѣликомъ люди. Ни
одному изъ предшествовавшихъ вѣковъ не предстояло такихъ трудовъ, какъ нашему;
для того чтобы совершить эти труды, намъ нужны крѣпкія и сильныя натуры, сво-
бодно и безпрепятственно развившія въ себѣ всѣ свойственныя имъ способности и
отправленія. Никогда еще практика жизни не была такъ трудна; никогда еще не
представлялось человѣческому уму такого множества и такихъ сложныхъ задачъ.
Каждое новое приращеніе къ нашему знанію, каждая новая идея раскрываетъ но-
выя трудности, приводитъ къ новымъ соображеніямъ. Мы безъ сомнѣнія пали бы
подъ бременемъ этого громаднаго труда, еслибъ послѣдовали примѣру легковѣрія
своихъ прадѣдовъ, которые позволили сковать и ослабить свои силы тѣми гибель-
ными понятіями, которыя духовенство, частью по невѣжеству, частью изъ корыст-
ныхъ видовъ, во всѣ вѣка навязывало народамъ, уменьшая тѣмъ счастье націй и
препятствуя развитію національнаго благосостоянія.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII СТОЛ.
537
На основаніи той же системы, намъ постоянно твердятъ о пагубности богат-
ства, о грѣховности любви къ деньгамъ, между тѣмъ не подлежитъ сомнѣнію, что
послѣ любви къ знанію ни одна страсть не принесла столько благъ человѣчеству,
какъ любовь къ деньгамъ. Любви къ деньгамъ обязаны мы всякой промышленностью
и торговлей; другими словами,—всѣми предметами удобства и роскоши, которыми
не могло бы снабжать насъ собственное наше отечество. Торговля и промыслы позна-
комили насъ съ произведеніями многихъ чужихъ странъ, пробудили въ насъ любо-
пытство, расширили кругъ нашихъ понятій, приведя насъ въ столкновеніе съ на-
родами, различными по нравамъ, языку и складу мысли, дали исходъ силамъ, кото-
рыя иначе пропали бы безъ пользы, не находя себѣ достаточнаго простора, прі-
учили людей къ предпріимчивости, разсчету и соображенію; наконецъ, открыли намъ
множество чрезвычайно полезныхъ искусствъ и доставили намъ многія изъ драго-
цѣннѣйшихъ средствъ, которыми мы обладаемъ для спасенія жизни человѣка или
по крайней мѣрѣ для облегченія его страданій. Всѣмъ этимъ мы обязаны любви къ
деньгамъ. Еслибъ теологи могли успѣть въ своихъ стараніяхъ, еслибъ они могли
уничтожить въ людяхъ эту любовь, то исчезли бы всѣ эти блага, и мы впали бы
сравнительно въ варварство. Любовь къ деньгамъ точно такъ же, какъ и всѣ другія
наши наклонности, можетъ быть обращена на зло; но возставать противъ нея,
какъ будто она уже сама по себѣ зло, въ особенности же представлять ее какъ
такое чувство, удовлетвореніе котораго вызываетъ гнѣвъ Божій, значитъ обнаружи-
вать невѣжество, понятное быть можетъ въ прежніе вѣка, но въ наше время по-
стыдное, особенно же когда оно проявляется въ людяхъ, выдающихъ себя за на-
ставниковъ общества и увѣряющихъ, что ихъ призванір—просвѣщать міръ.
Впрочемъ, какъ все это ни вредно для самыхъ дорогихъ интересовъ общества,
оно еще ничто въ сравненіи съ тѣми ученіями, которыя преподавало въ былое время
шотландское духовенство. Каковы были его воззрѣнія, я уже показалъ па его про-
повѣдяхъ, чтеніе которыхъ было для меня самой тяжкой работой, какую я когда-
либо предпринималъ, потому, что кромѣ узкостп взгляда и догматизма, неразлучныхъ
даже съ лучшими произведеніями этого рода, проповѣди эти представляютъ жест-
кость сердца и суровость нрава, такой недостатокъ сочувствія къ человѣческому
счастью и такую ненависть къ человѣческой природѣ, какія рѣдко проявлялись въ
какіе бы то ни было вѣка и, я думаю, никогда не проявлялись нп въ какой дру-
гой протестантской странѣ. Проповѣди эти я извлекъ изъ забвенія, которому онѣ
преданы, и сдѣлалъ это частью потому, что считалъ это нужнымъ для уразумѣнія исто-
ріи умственнаго развитія Шотландіи, частью же потому, что хотѣлъ показать—ка-
ковы бываютъ стремленія теологовъ, когда они ничѣмъ не сдерживаются. Проте-
станты вообще слишкомъ склонны воображать, что въ ихъ исповѣданіи есть нѣчто
такое, что предохраняетъ ихъ отъ тѣхъ вредныхъ крайностей, которыя были и до
нѣкоторой степени до сихъ поръ сохранились въ католической церкви Это вели-
чайшее самообольщеніе. Одно только существуетъ средство огражденія людей отъ
тиранніи какого бы то ни было сословія: оно заключается въ томъ, чтобы оставлять
этому сословію какъ можпо менѣе власти. Какія бы ни были заявленія данной кор-
пораціи людей, какъ бы мягокъ ни былъ ея языкъ и какъ бы ни были благовидны
ея притязанія, она непремѣнно употребитъ во зло свою власть, если только будетъ
ей дана власть въ обширныхъ размѣрахъ. Вся исторія міра не представляетъ нп
одного примѣра, которымъ опровергалась бы истина этого положенія. Въ католиче-
скихъ странахъ, за исключеніемъ одной только Франціи, духовенство пользуется
большей властью, чѣмъ въ странахъ протестантскихъ. Йогъ почему въ католическихъ
странахъ оно причиняетъ больше вреда, чѣмъ въ протестантскихъ, и сословныя его
воззрѣнія развиваются съ большей свободой. Различіе тутъ зависитъ не отъ свойствъ
исповѣданія, а отъ степени власти духовнаго класса. Это очевидно доказываетъ
примѣръ Шотландіи, гдѣ духовенство властвовало неограниченно и потому, несмотря
на свой протестантизмъ, преподавало то же аскетическое, нелюдимое и жестокое
538
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ученіе, которое въ католическихъ странахъ порождало монастыри, посты, бичеванія
и другія проявленія страннаго и мрачнаго суевѣрія.
Въ нѣкоторыхъ своихъ теоріяхъ шотландское духовенство зашло даже гораздо
далѣе любой католической церкви, кромѣ испанской. Оно силилось уничтожить не
только всѣ человѣческія радости, но и всѣ нѣжныя чувства человѣческаго сердца.
Оно утверждало, что всѣ наши привязанности неразрывно соединяются съ нашими
похотями, и что поэтому мы должны отрываться отъ нихъ, какъ отъ суеты земной.
Христіанину нѣтъ нужды въ любви или привязанности. Онъ долженъ спасать свою
душу,—этого съ него достаточно. Пусть онъ печется о себѣ самомъ. Въ воскресный
день въ особенности не долженъ онъ и помыслить о томъ, чтобы творить добро
другимъ людямъ; шотландское духовенство нисколько не колебалось учить народъ,
что въ этотъ день грѣшно подать помощь гибнущему на морѣ кораблю, и что дать
ему потонуть со всѣмъ экипажемъ значитъ явить благочестіе. Пусть себѣ тонутъ;
пострадаютъ только жены и дѣти, а это ровно ничего въ сравненіи съ несоблюде-
ніемъ дня Господня. Духовенство учило также, что ни подъ какимъ видомъ не
должно подать кусокъ хлѣба или дать пріютъ умирающему съ голоду человѣку, если
его образъ мыслей не вполнѣ правовѣрный. Какая нужда ому жить? грѣшно даже
терпѣть его убѣжденія и по-настоящему слѣдовало бы подвергнуть его немедленному
и жестокому наказанію *). Духовенство шло еще далѣе но этому пути. Оно разры-
вало всѣ семейныя узы и вооружало родителей противъ родныхъ дѣтей. Оно пове-
лѣвало отцу посягать на^ жизнь неправовѣрнаго сына/ учило, что отецъ долженъ
скорѣе убить родного сына, чѣмъ допустить его распространять заблужденіе. Не
довольствуясь даже и этимъ, оно пыталось вырвать изъ человѣческаго сердца дру-
гую привязанность, еще болѣе священную и самоотверженную Оно наложило свою
грубую и безпощадную руку па самое святое чувство^ къ какому способна человѣче-
ская природа,—на материнскую любовь. И въ это святилище дерзнуло оно проник-
нуть и внести свои изможденные, отвратительные образы. Если образъ мыслей ма-
тери былъ неугоденъ духовенству, то оно нисколько не затруднялось ворваться въ
ея домъ, отобрать у нея дѣтей и лишить се всякаго сообщенія съ ними. Если же
случалось, что сынъ ея навлекъ на себя гнѣвъ духовенства, то оно не довольство-
валось этимъ насильственнымъ разлученіемъ, а всѣми средствами старалось извра-
тить сердце матери, ожесточить ее противъ родного ея дитяти и такимъ образомъ
сдѣлать несчастную сообщницей своего гнуснаго дѣла. Въ одномъ изъ подобныхъ
случаевъ, занесенныхъ въ акты глазгоской церкви, церковная сессія этого города
призвала къ своему суду одну женщину за то только, что она принимала въ своемъ
домѣ родного сына, послѣ того какъ онъ былъ духовенствомъ отлученъ отъ церкви.
Сессія такъ успѣшно увѣщала ее, что довела ее до обѣщанія не только впредь не
впускать сына въ домъ, но и содѣйствовать къ поимкѣ и наказанію его. Она со-
грѣшила тѣмъ, что любила сына; согрѣшила тѣмъ, что дала ему пріютъ подъ своимъ
кровомъ; но, продолжаетъ протоколъ, «она обѣщала, что въ другой разъ не про-
винится, и что донесетъ властямъ въ первый разъ, что онъ придетъ къ ней».
Она обѣщала, что впередъ грѣшить не будетъ. Обѣщала забыть того, кого
она выносила въ своей утробѣ, выкормила своей грудью. Обѣщала забыть дитя,
которое она столько разъ держала на колѣняхъ, которое столько разъ засыпало на
ея груди, котораго нѣжную юность она такъ берегла и лелѣяла. Всѣ самыя дорогія
воспоминанія прошлаго, все, что только можетъ дать или воспринять эта самая див-
ная форма человѣческой любви, все, что услаждаетъ память и озаряетъ жизнь въ
*) <Мы думаемъ, говоритъ Рётерфордъ, что тер-
пимость, оказываемая всѣмъ религіямъ, весьма близко
подходитъ къ богохульству». Въ 1645 году Бальи,
находясь въ Лондонѣ, пишетъ: «Здѣшніе пндепенденты
хлопочутъ о вѣротерпимости для себя и для другихъ
секть. Мое вѣщаніе» подоспѣло очень кстати. Мы
надѣемся, что Богъ поможетъ намъ доказать нечести-
вость вѣротерпимости». Въ слѣдующемъ (1646) году
Бальи пишетъ по поводу желаніи ішдепендейгонъ оказы-
вать милосердіе людямъ, не раздѣлявшимъ ихъ образа
мыслей: «Изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ людей индепен-
денты являютъ наименѣе усердія къ истинѣ Божіей >.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII СТОЛ.
539
будущемъ, — все исчезло, все стерлось съ души бѣдной женщины велѣніемъ ея ду-
ховныхъ владыкъ. Все было вырвано однимъ нечеловѣческимъ махомъ. Такъ были
могущественны пріемы этихъ людей, что они убѣдили мать вступить вч> заговоръ
противъ сына и выдать его имъ. Они развратили ея душу, вырвавъ изъ нея лю-
бовь. Съ этого дня душа ея была осквернена. Она была потеряна для себя самой,
какъ была потеряна для сына. Слышать только о подобныхъ дѣлахъ уже достаточно,
чтобы взволновалась вся кровь въ человѣкѣ, чтобы онъ возмутился до самой глу-
бины души. Какъ же люди были ихъ свидѣтелями, жили среди нихъ и не возставали
противъ нихъ?—это для насъ непостижимо и доказываетъ только, подъ какимъ
сильнымъ гнетомъ были шотландцы и какъ глубоко они были порабощены не только
тѣломъ, но и душой.
Что еще говорить послѣ этого? Какими еще болѣе убѣдительными фактами
уяснить характеръ одной изъ возмутительнѣйшихъ тиранній, когда-либо существо-
вавшихъ на землѣ? Въ то время, когда шотландская кирка была на высшей сте-
пени своего могущества, мы напрасно стали бы искать въ исторіи другого какого-
нибудь учрежденія, которое могло бы съ ней соперничать, кромѣ испанской инкви-
зиціи. Между обоими учрежденіями существуетъ тѣсная и глубокая аналогія. Оба
были нетерпимы, оба были жестоки, оба упорно ратовали противъ благороднѣй-
шихъ сторонъ человѣческой природы, оба преслѣдовали всякое проявленіе религіоз-
ной свободы. Есть однако между ними одно различіе, и очень важное. Въ полити-
ческихъ вопросахъ церковь въ Испаніи раболѣпствовала, а въ Шотландіи крамоль-
ничала. Поэтому у шотландцевъ всегда оставалась одна область, въ которой они
могли говорить и дѣйствовать съ полной свободой. Въ политикѣ они могли давать
себѣ волю; тутъ умъ ихъ пользовался самымъ широкимъ просторомъ. И въ этомъ
было ихъ спасеніе. Это спасло ихъ отъ участи, постигшей Испанію, сохранивъ имъ
возможность упражнять и развивать способности, которымъ иначе пришлось бы дре-
мать въ полномъ бездѣйствіи, еслибъ только они не были окончательно убиты тѣмъ
долгимъ, разслабляющимъ рабствомъ, въ которомъ держало ихъ духовенство и изъ
котораго безъ этого благопріятнаго обстоятельства не было бы имъ никакого исхода.
ГЛАВА VI.
Изслѣдованіе умственнаго движенія в-ъ Шотландіи вт» восемнадцатомъ вѣкѣ.
Чтобы дополнить исторію и анализъ умственной жизни Шотландіи, мнѣ слѣ-
дуетъ теперь разсмотрѣть то своеобразное движете, которое обнаружилось въ во-
семнадцатомъ вѣкѣ и которое по разнымъ причинамъ заслуживаетъ внимательнаго
изученія. Движеніе это въ сущности было реакціей противъ теологическаго направ-
ленія, преобладавшаго въ семнадцатомъ столѣтіи. Такая реакція едва-ли была бы
возможна, еслибъ не то обстоятельство, мною ужо указанное, что политическая дѣя-
тельность, породившая возстаніе противъ Стюартовъ, спасла умственную жизнь Шот-
ландіи отъ застоя и не дала ей впасть въ ту глубокую дремоту, къ которой есте-
ственно должно было ирцвссти со усиленіе суевѣрія. Продолжительная и упорная
борьба съ деспотическимъ правительствомъ поддерживала/ нѣкоторую чуткость и энер-
гію разсудка, сохранившія^]! послѣ того, какъ ’мино?йлась самая борьба, ихъ по-
родившая. Когда споръ былъ окончательно рѣшенъ й въ странѣ снова водворился
миръ,—способности, въ продолженіе трехъ поколѣній изощрявшіяся въ сопротивленіи
исполнительной власти, стали искать себѣ другого занятія и нашли новое поприще,
на которомъ могли дѣйствовать на просторѣ. Такимъ образомъ та отвага, которая въ
XVII столѣтіи примѣнялась къ практической жизни, въ восемнадцатомъ вѣкѣ была
перенесена въ область отвлеченнаго мышленія и произвела литературу, стремившуюся
пошатнуть прежнія понятія и снести старыя межи человѣческаго ума. Движеніе было
революціонное и стало въ такое же отношеніе къ церковной тиранніи, въ какомъ
предшествовавшее движеніе было въ тиранніи политической. Но это новое возста-
ніе представляетъ одну поразительную, характеристическую особенность. Почти во
всѣхъ другихъ странахъ, когда разумъ рѣшительно возставалъ противъ исключи-
тельныхъ притязаній церкви, возникавшая вслѣдствіе того свѣтская философія была
философія индуктивная, принимавшая за основаніе индивидуальный, прямой опытъ
и старавшаяся этимъ путемъ ниспровергнуть общія и преемственныя понятія, на
которыхъ основывается всякая церковная власть. Планъ, который она себѣ начер-
тала, былъ такой: не принимать такихъ принциповъ, которые не могли бы быть
доказаны посредствомъ фактовъ; между тѣмъ какъ противоположный планъ, теоло-
гическій, заключается въ томъ, чтобы факты насильно подводить подъ принципы.
Въ первомъ случаѣ опытъ предшествуетъ теоріи, во второмъ теорія предшествуетъ
опыту и властвуетъ надъ нимъ. Въ теологіи извѣстныя начала принимаются за данныя
и непреложныя; усомниться въ нихъ—почитается противнымъ благочестію, и затѣмъ
остается намъ только умозаключать отъ нихъ къ частностямъ. Это методъ дедук-
тивный. Напротивъ того, индуктивный методъ ничего не принимаетъ на вѣру, а
настаиваетъ на томъ, чтобы вести умозаключеніе отъ частныхъ явленій къ общему
началу, и требуетъ, чтобы человѣку была предоставлена свобода самому доискиваться
до началъ. Въ завершенной системѣ человѣческаго знанія, когда всѣ наши средства
будутъ вполнѣ развиты и приведены въ стройный порядокъ, чтб и должно наконецъ
совершиться, эти два метода не будутъ уже враждебны другъ другу, а будутъ вза-
имно восполняться и соединяться въ одно цѣлое. Въ настоящее время однако мы
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
541
еще далеко не дошли до такого результата; и не только каждый отдѣльный умъ
обнаруживаетъ большую склонность къ тому или другому изъ двухъ методовъ, но и
въ исторіи мы находимъ, что разные вѣка и разныя страны характеризуются сте-
пенью преобладанія того или другого метода; находимъ также, что изученіе этого
антагонизма составляетъ самый вѣрный путь къ уразумѣнію умственнаго состоянія
народа въ данный періодъ.
Что индуктивная философія еще болѣе отличается своими свѣтскими стремле-
ніями, чѣмъ научными, это вещь очевидная для каждаго, кто наблюдалъ эпохи, въ
которыя она проявляла наибольшую дѣятельность и имѣла наиболѣе послѣдователей.
Отличный примѣръ въ этомъ отношеніи представляетъ исторія умственнаго движе-
нія во Франціи въ восемнадцатомъ вѣкѣ; тутъ, по смерти Людовика .XIV, можно
ясно прослѣдить связь между развитіемъ индуктивнаго метода и послѣдующимъ низ-
верженіемъ галликанской церкви. Точно также въ Англіи появленіе бэконовой фи-
лософіи, съ ея твердой рѣшимостью подчинить древніе принципы новѣйшему опыту,
составляетъ самый тяжелый ударъ, какой былъ когда-либо нанесенъ теологамъ, при-
нявшимъ за правило исходить не отъ опыта, а отъ началъ, которыя они признаютъ
неисповѣдимыми, и которыя человѣкъ обязанъ принимать на вѣру безъ дальнѣйшихъ
споровъ. II едва-ли нужно напоминать читателю, что, какъ только утвердилась у насъ
эта философія, она тотчасъ же породила тѣ смѣлыя изслѣдованія, которыя скоро
завершились паденіемъ англійской церкви при Карлѣ I. Духовенство наше на время
и отчасти оправилось было отъ этого ужаснаго пораженія; но кажущееся торжество
его въ царствованіе Карла II было послѣдствіемъ политическихъ перемѣнъ, а не
соціальныхъ, а потому духовенство и не въ силахъ быдб возвратить свою прежнюю
власть надъ обществомъ; да й нѣтъ возможности ему когда-либо воскресить эту
власть, если только не суждено націи пойти вспять. На низшій разрядъ умовъ оно
еще имѣетъ большое вліяніе; но бэкоповТ философія, подорвавъ довѣріе къ люби-
мому методу духовенства, подкопала его систему въ самомъ основаніи. Съ той ми-
нуты, какъ вѣра въ его способъ изслѣдованія была разрушена, исчезла и тайна сто
могущества. Съ той минуты, какъ люди начали настаивать на необходимости под-
вергать повѣркѣ основныя начала, вмѣсто того чтобы по-прежнему принимать пхъ
безъ разсужденія и смиренно подчиняться имъ какъ предметамъ обязательнаго вѣ-
рованія,—теологи, теряя позицію за позиціей и постоянно отступая передъ напо-
ромъ подвигающагося знанія, принуждены были бросать одну твердыню за другой,
пока не дошли, наконецъ, до того, что оставшаяся за ними часть ихъ прежней тер-
риторіи почти не стоитъ борьбы. Какъ къ послѣднему средству, рѣшились они
подъ конецъ восемнадцатаго вѣка прибѣгнуть къ оружію своихъ противниковъ;
Пэлей и его преемники, расширивъ планъ, лишь слабо набросанный Реемъ и Де-
рамомъ, пытались съ помощью ловкаго примѣненія индуктивнаго метода воз-
наградить своихъ сторонниковъ за неудачи метода дедуктивнаго. Это предпріятіе
однако, хотя и искусно задуманное, не привело къ желанному результату. Въ на-
стоящее время уже всѣми признано, что изъ него ничего и не можетъ выйти,
и что подпереть старыя теологическія посылки рядомъ индуктивныхъ умозаклю-
ченій— вещь невозможная. Въ этомъ отношеніи замѣчательнѣйшіе философы схо-
дятся съ замѣчательнѣйшими теологами; и со временъ Канта въ Германіи и Коль-
риджа въ Англіи ни одинъ изъ нашихъ наиболѣе способныхъ дѣятелей, даже изъ
числа духовенства, не возвращался уже къ тому плану, въ преслѣдованіи котораго
Пэлей дѣйствительно явилъ большую силу ума, но который въ нашихъ Вриджва-
терскихъ трактатахъ, въ нашихъ университетскихъ диссертаціяхъ и тому подобныхъ
ученическихъ произведеніяхъ находилъ только жалкія и безплодныя подражанія *).
х) Это, разумѣется, я говорю только относительно Белля, Бокланда и Проута, имѣли въ свое время боль-
ихъ богословскаго содержанія. Нѣкоторые изъ Брпдж- шое научное значеніе, да и теперь еще могутъ читать-
ватерскихъ трактатовъ, каковы, напримѣръ, сочиненія , ся съ пользою, по религіозная часть ихъ жалка до
542
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Теперь никто изъ великихъ мыслителей не слѣдуетъ этому направленію въ религіоз-
ныхъ вопросахъ. Напротивъ, они предпочитаютъ болѣе надежный и вмѣстѣ съ тѣмъ
болѣе философскій способъ: разсуждать объ этихъ предметахъ только путемъ транс-
цендентальнымъ, откровенно сознаваясь, что они избѣгаютъ столкновенія съ той
индуктивной философіей, которая одержала столько блистательныхъ побѣдъ въ области
науки.
При такой очевидной противоположности обоихъ методовъ и непримѣнимости
индуктивнаго метода къ изслѣдованіямъ теологовъ, нисколько не удивительно, что
шотландцы съ величайшей ревностью привязались къ одному изъ этихъ методовъ и
почти совершенно отвергли другой. Какъ страна существенно теологическая, Шот-
ландія пристала къ теологической системѣ. Исторія умственной ея жизни въ семна-
дцатомъ столѣтіи есть почти исключительно исторія теологіи. За исключеніемъ одного
только Непера, родившагося еще въ половинѣ шестнадцатаго вѣка, всѣ наиболѣе
замѣчательные мыслители принадлежали къ духовенству. По естественнымъ наукамъ
не дѣлалось почти ничего *), Не существовало также ни поэзіи, ни драмы, ни само-
бытной философіи, ни изящной словесности, ни свѣтской литературы, ничего такого,
что теперь стоило бы еще прочесть. Единственными людьми съ дѣйствительнымъ
вліяніемъ были духовные. Они управляли націей, и проповѣдническая каѳедра была
главнымъ орудіемъ ихъ власти. Съ проповѣднической каѳедры двигали они умами
всѣхъ родовъ и всѣхъ разрядовъ, отъ самыхъ высшихъ до самыхъ низшихъ. Съ нея
они наставляли ихъ, устрашали и говорили все, что хотѣли, зная, что все, что они
ни скажутъ,—будетъ принято на вѣру. Но всѣ ихъ проповѣди и всѣ ихъ ученыя
пренія представляютъ въ высшей степени дедуктивный характеръ; ни въ одномъ
не найдется и покушенія на индуктивный способъ доказательства. Даже мысль о
чемъ-либо подобномъ никогда не приходила въ голову этимъ писателямъ. Они утвер-
ждали голословно истину своих% религіозныхъ и нравственныхъ понятій, по большей
части заимствованныхъ у древнихъ; ставили эти понятія первыми посылками своихъ
силлогизмовъ и отъ нихъ вели умозаключеніе къ низу до тѣхъ поръ, пока не до-
ходили до искомыхъ выводовъ. Они и не подозрѣвали,, что посылки, заимствованныя
отъ древнихъ временъ, могли быть плодомъ индукцій тѣхъ временъ, и что съ раз-
витіемъ и умноженіемъ знанія самыя эти индукціи могли нуждаться въ провѣркѣ.
Они принимали за несомнѣнное, что Богъ открылъ намъ первыя начала и что если
Онъ самъ открылъ ихъ намъ, то нечестиво было бы подвергать ихъ изслѣдованію. Что
крайности и доказываетъ, или что у авторовъ сердце
не лежало къ предпринятому труду, или что предметъ
былъ имъ не по силамъ. Какъ бы то ни было, но
должно надѣяться, что намъ не придется больше ви-
дѣть примѣровъ, чтобы люди съ такими дарованіями
подряжались, какъ какіе-нибудь наемники и за деньги
брались защищать тѣ или другія мнѣнія. Не постыд-
ная ли вещь, что такіе важные философскіе вопросы,
которые должны бы быть предметомъ добросовѣстнаго
и безкорыстнаго обсужденія, имѣющаго цѣлью раскрыть
истину, могутъ дѣлаться предметомъ денежной сдѣлки,
въ которой всякій человѣкъ, хотя бы самаго ограни-
ченнаго ума, но съ деньгами, можетъ закупить сколько
ему угодно людей для того, чтобы онп направляли мы-
шленіе общества сообразно собственнымъ его теоріямъ.
1) «Вольно сознаться, что всѣ свѣдѣнія о коме-
тахъ, какія мы можемъ почерпать въ шотландскихъ
писателяхъ по это время (1682 годъ), не заклю"ають
къ себѣ ничего, кромѣ розсказней о народныхъ по-
вѣрьяхъ по этому предмету. Практическая астрономія
была тогда повидимому еще вовсе неизвѣстна; въ то
самое время, когда въ другихъ странахъ люди тща-
тельно наблюдали, дѣлали вычисленія и приближались
къ истиннымъ понятіямъ объ этихъ прославленныхъ
небесныхъ странницахъ, наши сочинители дневниковъ
умѣли только отмѣчать, насколько ярдовъ, казалось,
тянулся ихъ хвостъ, какихъ послѣдствій, въ родѣ
войны или моровой язвы, пародъ ожидалъ отъ пхъ по-
явленій, какъ нѣкоторые проповѣдники пользовались
ихъ появленіемъ для душеспасительныхъ поученій. Въ
началѣ столѣтія Шотландія произвела великаго фило-
софа, подарившаго своихъ собратій тѣмъ математиче-
скимъ орудіемъ, съ помощью котораго только и могли
быть разрѣшены такія сложныя задачи, каково движе-
ніе кометь. СлЬдоиало бы ожидать, что семьдесятъ
лѣтъ спустя послѣ Непера въ отечествѣ его найдется
много людей, умѣющихъ пользоваться его ключомъ къ
подобнымъ тайнамъ природы. Однако, не явилось ни
| одного, и потомъ прошло еще пятьдесятъ лѣтъ, прежде
чѣмъ Маклорепъ началъ наконецъ излагать въ Эдин-
бургскомъ университетѣ великое ученіе Ньютона. Не-
чего было бы и искать болѣе знаменательнаго при-
знака характера семнадцатаго вѣка въ Шотландіи. Не-
счастныя наши распри изъ-за внѣшнихъ религіозныхъ
формъ поглотили всѣ умственныя способности народа,
такъ что у насъ вѣкъ Коулея, Уоллера и Мильтона
; былъ такимъ же вѣкомъ безплодія въ изящной лите-
і ратурѣ, какъ вѣкъ Горрокса, Галлея и Ньютона»
; (СЬатЬге’з сНотезІіс аппаіз о( ВсоіІашЬ).
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVII СТОЛ.
543
Вотъ открылъ намъ эти начала, это было для нихъ положительной истиной и не
требовало доказательства х). Принявъ такимъ образомъ чисто дедуктивный методъ,
имъ оставалось заботиться объ одномъ только, чтобы не вкралось ошибки между
посылками и заключеніями. А эту часть задачи они исполняли съ рѣдкимъ мастер-
ствомъ, Они были тонкіе діалектики и рѣдко давали промахъ въ томъ, что назы-
вается формальной стороной логики. Въ обращеніи съ готовыми уже посылками они
отличались чрезвычайнымъ искусствомъ; а какимъ путемъ были добыты эти посылки,
объ этомъ они и не задумывались. Это былъ вопросъ, котораго они никогда не под-
вергали сколько*нибудь безпристрастному разсмотрѣнію. По ихъ методу требовалось
одного—дѣлать выводы изъ положеній, сообщенныхъ сверхъестественнымъ путемъ.
Индуктивный методъ, напротивъ, научилъ бы ихъ, что прежде всего надлежало спро-
сить, были ли эти положенія дѣйствительно сообщены сверхъестественнымъ путемъ,
или нѣтъ? Какъ дедуктивные діалектики, они принимали за непреложныя данныя
тѣ именно предварительныя положенія, которыя индуктивные мыслители стали бы
оспаривать. Они умозаключали отъ общаго къ частному, вмѣсто того, чтобы умоза-
ключать отъ частнаго къ общему. И ни себѣ, ни другимъ не позволяли они провѣ-
рять общія положенія, которыя должны были служить основой частнымъ фактамъ
и управлять ими; съ нихъ было достаточно того, что большія посылки были уже
поставлены и что съ ними оставалось только обращаться по правиламъ старой силло-
гистической логики. Они до того были убѣждены въ негодности индуктивнаго метода,
что, не запинаясь, утверждали, будто Божество сообщало человѣку свою волю посред-
ствомъ силлогизма.
Весьма естественно быДр ожидать, что духовенство, при такомъ взглядѣ на
надежнѣйшій способъ достиженія истины, употребитъ всѣ средства, какія были въ
его власти, для того чтобы склонить націю на свою сторону, будетъ всячески стараться
объ упроченіи повсюду своего меу^даЖсов|рЖвнномъ вытѣсненіи метода противопо-
ложнаго. Исполнить же эту задачу 'бшщ’^^піен^трудно. Господствовавшее въ
обществѣ легковѣріе было ему въ этомъ случаѣ весьма важнымъ задаткомъ успѣха,
такъ какъ оно дѣлало людей болѣе склонными принимать положенія на вѣру, чѣмъ
изслѣдовать пхъ. Когда положенія были разъ приняты, то принявшему ничего
больше не оставалось, какъ вести отъ нихъ умозаключенія; и самые дѣятельные
умы въ Шотландіи, постоянно упражняясь въ этой работѣ, достигли въ ней самаго
полнаго мастерства; а ловкость, съ какою они се исполняли, еще увеличивала ея
славу. Кромѣ того въ рукахъ усердныхъ поборниковъ этого метода, духовенства,
была монополія воспитанія и общественнаго, и домашняго. Ни въ какой другой
протестантской странѣ духовенство не имѣло такой власти надъ университетами, ибо
не только преподаваемое въ нихъ ученіе, но и самый способъ преподаванія его въ
Шотландіи былъ отданъ подъ надзоръ церкви 2). Этой властью духовенство конечно
пользовалось для того, чтобы распространять вездѣ свой способъ раскрытія истины;
и пока власть его оставалась въ прежней силѣ, противоположному, индуктивному,
методу едва-ли была какая возможность пробить себѣ дорогу. Надъ низшими учеб-
ными заведеніями духовенство имѣло такую же полную власть, какъ и надъ уни-
верситетами. Оно же назначало и удаляло, по своему усмотрѣнію, преподавателей
«Вѣрующее невѣжество, проповѣдывалъ Бин- і
пингъ, предпочтительнѣе опрометчивой и самонадѣян-
ной учености. Не добивайтесь причины этихъ вещей,
а лучше благоговѣйте и трепещите передъ пхъ таин-
ственностью и величіемъ». Воспрещалось даже изслѣ-
дованіе библейскихъ книгъ, и Диксонъ говоритъ о раз-
ныхъ книгахъ Ветхаго Завѣта: «Не слѣдуетъ намъ
доискиваться имени писавшаго или времени сочиненія
какой-либо части ихъ, тѣмъ болѣе, что Богъ въ иныхъ
случаяхъ съ намѣреніемъ скрылъ отъ насъ имя пи-
савшаго и время,, когда книга писана».
2) Боуэръ въ своей «Исторіи Эдинбургскаго уни- ;
вѳрситета» говоритъ: «Исторія университетовъ въ но-
вѣйшей Европѣ, а можетъ быть и во всѣхъ другихъ
образованныхъ странахъ свѣта, тѣсно связана съ исто-
ріей церкви. Вь Шотландіи связь эта тѣснѣе, чѣмъ
въ какой бы то пи было другой цивилизованной странѣ,
называющей себя протестантскою, потому что гене-
ральное собраніе имѣетъ право, основанное на законѣ,
контролировать всю дѣятельность этихъ учрежденій,
относительно не только способа преподаванія, по и са-
маго преподаваемаго ученія, какъ религіознаго и нрав-
ственнаго, такъ и по естественнымъ паукамъ».
544
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
всѣхъ степеней, отъ сельскаго учителя до домашняго наставника въ частномъ се-
мсйствѣ *). Стало быть, каждое поколѣніе, какъ только подростало, поступало подъ
вліяніе духовенства и воспитывалось въ его понятіяхъ. Овладѣвая умомъ каждаго
шотландца въ то время, когда онъ былъ еще молодъ и гибокъ, духовенство выгибало
его но своему методу. Такимъ образомъ этотъ методъ сдѣлался господствующимъ;
онъ царилъ повсюду; противъ него не возвышалось ни одного голоса, и никому не
приходило на мысль, что существуетъ и другой путь, которымъ можно дойти до
истины, и что человѣческій разсудокъ пригоденъ на что-нибудь другое, кромѣ дѣ-
ланія дедуктивныхъ выводовъ изъ посылокъ, которыя не позволялось изслѣдовать
индуктивно.
Послѣдствіемъ такого полнаго незнанія индуктивнаго или аналитическаго на-
правленія и исключительнаго развитія направленія дедуктивнаго или синтетическаго
было то, что когда въ началѣ восемнадцатаго столѣтія обстоятельства, о которыхъ
я уже упоминалъ, вызвали сильное умственное движеніе, это движеніе, хотя новое
по своимъ результатамъ, было не ново по методу, которымъ эти результаты добы-
вались. Явилась, правда, свѣтская философія, и способнѣйшіе люди стали посвящать
себя уже не теологіи, а свѣтскимъ наукамъ, но теологическій строй мышленія до
того охватилъ всѣ умы въ Шотландіи, что даже философы были не въ состояніи
отрѣшиться отъ теологическаго метода, и индуктивный методъ, какъ я покажу далѣе,
не имѣлъ на нихъ вліянія. Этотъ весьма любопытный фактъ составляетъ ключъ къ
исторіи Шотландіи въ воссмнадцатовъ вѣкѣ и объясняетъ многія явленія, которыя
иначе казались бы несовмѣстимыми другъ съ другомъ. Юнъ же наводитъ на нѣко-
торую аналогію Шотландіц съ Германіей, гдѣ дедуктивный методъ былъ также долгое
время господствующимъ послѣдствіе тѣхъ же самыхъ причинъ. Какъ въ той, такъ
и въ другой странѣ свѣтское движеніе восемнадцатаго вѣка не въ силахъ было
выйти на индуктивный путь; и это умственное сродство между двумя народами, столь
различными въ другихъ отношеніяхъ, составляетъ безъ сомнѣнія главную причину,
почему шотландская философія и нѣмецкая имѣли такое сильное вліяніе другъ на
друга; Кантъ и Гамильтонъ могутъ служить самыми полными образцами этого взаимо-
дѣйствія. Совершенную противоположность этому представляетъ Англія. Въ продол-
женіе слишкомъ полутораста лѣтъ по смерти Бэкона величайшіе англійскіе мысли-
тели, за исключеніемъ Ньютона и Гарвея, были мыслителями по преимуществу ин-
дуктивными; и только въ девятнадцатомъ вѣкѣ появились ясные признаки обратнаго
движенія и была сдѣлана попытка возвратиться до нѣкоторой степени къ методу
дедуктивному * 2). Совершая такой поворотъ, мы во многихъ отношеніяхъ правы, по-
тому что въ постепенномъ умноженіи нашего знанія мы длиннымъ рядомъ индук-
тивныхъ разсужденій дошли до многихъ заключеній, отъ которыхъ уже смѣло мо-
жемъ идти дедуктивнымъ путемъ, то есть можемъ принять ихъ за большія посылки
для новыхъ умозаключеній. Тотъ же процессъ совершился и во Франціи, гдѣ исклю-
чительно индуктивная философія восемнадцатаго вѣка предшествовала возстановленію
Одна запись между прочимъ гласитъ, что въ
январѣ 1648 года «пресвитерія постановила, что всѣ
молодые ученью, живущіе у разныхъ лордовъ и дво-
рянъ въ предѣлахъ пресвитеріи, въ званіи ли настав-
никовъ при ихъ дѣтяхъ, или же для домашнихъ ду-
шеспасительныхъ бесѣдъ и чтенія молитвъ, должны по-
сѣщать пресвитерію, дабы братія могла знать, что они
читаютъ и какіе успѣхи дѣлаютъ въ своихъ ученыхъ
занятіяхъ, а также судить о ихъ поведеніи въ тѣхъ
семействахъ и о степени пхъ приверженности къ ко-
венанту и теперешней религіи».
2) Возстановленіе старой логики служитъ важнымъ
признакомъ указаннаго движенія. Книги, въ родѣ сочи-
неній Вотли, Де-Моргана и Манселя, не могли бы по-
явиться въ ХУШ столѣтіи; по крайней мѣрѣ еслибъ
и явились по какому-либо чрезвычайному стеченію
1 обстоятельствъ, то пе нашлось бы для нихъ читате-
лей. Какъ бы то ни было, но онѣ имѣли очень обшир-
1 ное и благотворное вліяніе, и хотя архіепископъ Вэтли
не былъ достаточно знакомъ съ исторіей формальной
і логики, однако обыкновенные ея процессы изложены
! у него съ такой удивительной ясностью, что опъ безъ
' сомнѣнія болѣе чѣмъ кто-либо способствовалъ тому,
I чтобы уяснить своимъ современникамъ значеніе и важ-
ность дедуктивнаго способа мышленія. Опь впрочемъ
пе цѣнитъ, какъ бы слѣдовало, противоположную
школу и даже увлекся въ старое академическое за-
блужденіе, будто всякое умозаключеніе дѣлается по-
I средствомъ силлогизма. Это совершенно то же, какъ
1 еслибъ кто вздумалъ увѣрять, что всякое движеніе со-
і вершается путемъ нисхожденія.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
545
въ нѣкоторыхъ предѣлахъ дедуктивной философіи въ девятнадцатомъ. Въ Шотландіи
такихъ поворотовъ не было. Шотландцы всегда мыслили дедуктивно; даже наиболѣе
самобытные изъ ихъ мыслителей не въ силахъ были освободиться отъ общаго стре-
мленія и должны были принимать методъ, освященный временемъ и неразрывно
слившійся со всѣми представленіями національнаго ума.
Для того, чтобы понять изслѣдованіе, къ которому я намѣренъ сейчасъ при-
ступить, читатель долженъ хорошо усвоить и постоянно имѣть въ виду существен-
ное различіе между дедукціей, исходящей отъ началъ, и индукціей, восходящей къ
началамъ. Опъ долженъ помнить, что индукція, наведеніе, ведетъ отъ меньшаго къ
большему; дедукція же, выводъ—отъ большаго къ меньшему; индукція—отъ частнаго
къ общему и отъ чувственныхъ воспріятій къ идеямъ; дедукція — отъ общаго къ
частному и отъ идеи къ чувственнымъ воспріятіямъ. Посредствомъ индукціи мы
восходимъ отъ конкретнаго къ абстрактному; посредствомъ дедукціи нисходимъ отъ
абстрактнаго къ конкретному. Рядомъ съ этимъ различіемъ существуютъ извѣстныя
свойства ума, которыми всегда, за весьма немногими исключеніями, характеризуется
вѣкъ, народъ или отдѣльное лицо, въ которомъ тотъ или другой изъ этихъ методовъ
преобладаетъ. Индуктивный философъ отъ природы остороженъ, терпѣливъ, отчасти
идетъ ползкомъ; дедуктивный философъ, напротивъ, отличается смѣлостью, ловкостью,
не рѣдко также опрометчивой отвагой. Дедуктивный мыслитель постоянно прини-
маетъ за непреложное нѣкоторыя посылки, которыя совершенно отличны отъ гипо-
тезъ, составляющихъ существенную принадлежность самой строгой индукціи. По-
сылки эти иногда заимствованы у древности, иногда взяты изъ понятій, случайно
господствующихъ въ окружающемъ обществѣ; иногда онѣ суть результатъ особен-
ностей организаціи отдѣльнагдшчело.вѣші,миногда же, каѣъ мы увидимъ далѣе, со-
знательно избираются, для тогб1?июбы>достйчйЗпеЗистйны. а чего-то приближающа-
гося къ истинѣ. Однимъ словомг^Діыім(Цкем?ока^тй, что дедуктивный складъ мыш-
ленія. будучи существенно синтетйческтаъѴвсУгдаустремится умножить число пер-
выхъ началъ или законовъ, между тѣмъ какъ индуктивное мышленіе стремится по-
степеннымъ и послѣдовательнымъ анализомъ уменьшить число этихъ законовъ.
Имѣя въ виду это основное раздѣленіе всѣхъ способовъ человѣческаго изслѣ-
дованія на два коренные пути, нельзя не подивиться тому въ высшей степени за-
мѣчательному факту въ исторіи Шотландіи, что во все продолженіе восемнадцатаго
вѣка всѣ ея великіе мыслители шли по первому пути; и что въ тѣхъ весьма не-
многихъ случаяхъ индуктивнаго разсужденія, какіе встрѣчаются въ ихъ сочиненіяхъ,
изъ послѣдовательныхъ пріемовъ ихъ очевидно, что они смотрѣли на эти наведенія,
какъ на неимѣвшія сами по себѣ большой важности, и полезныя развѣ тѣмъ только,
что доставляли посылки для дальнѣйшаго дедуктивнаго изслѣдованія. Такъ какъ раз-
личныя отрасли человѣческаго знанія никогда еще не были приводимы въ стройное
цѣлое и разсматриваемы въ совокупности, то никто вѣроятно не подозрѣваетъ,
какъ всеобще было это движеніе въ Шотландіи, въ какой степени оно проникало
всѣ науки и направляло всякое движеніе мысли. Поэтому, чтобы показать, съ какой
силой оно дѣйствовало, я намѣренъ прослѣдить его проявленіе во всѣхъ главныхъ
отдѣлахъ умозрѣнія, какъ въ области физической, такъ и въ нравственной, и до-
казать, что во всѣхъ ихъ примѣнялся одинъ и тотъ же методъ. При этомъ я долженъ,
для ясности, держаться естественнаго порядка въ расположеніи предметовъ; но буду
также вездѣ, гдѣ только окажется возможно, слѣдовать и хронологическому порядку,
въ какомъ развивался умъ шотландскаго народа, такъ чтобы читатель могъ уразумѣть
не только характеръ этой замѣчательной литературы, но и различныя ступени ея
развитія и изумительную энергію, съ какой она высвобождалась изъ оковъ, нало-
женныхъ суевѣріемъ.
Начало великой свѣтской философіи Шотландіи должно безъ всякаго сомнѣ-
нія относить къ Франсису Гётчесону. Этотъ замѣчательный человѣкъ родился въ
Ирландіи, но происходилъ изъ шотландскаго семейства и получилъ образованіе въ
Воклъ.—Изі» Ф. Павленкова.
546
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Глазговскомъ университетѣ, гдѣ былъ назначенъ профессоромъ философіи въ 1729 году.
Своими лекціями и своими сочиненіями онъ распространилъ охоту къ смѣлымъ из-
слѣдованіямъ о предметахъ первой важности, о которыхъ издавна было рѣшено, что
относительно ихъ нельзя научиться ничему новому; ибо шотландцевъ до того вре-
мени учили, что всѣ существенныя истины, которыя необходимо человѣку знать
относительно собственной его природы, были ему уже сообщены откровеніемъ. Гёт-
чесонъ однако не побоялся построить систему нравственнаго ученія на чисто свѣт-
скихъ основаніяхъ, чему до него не было еще въ Шотландіи ни одного примѣра.
Начала, которыя онъ положилъ ей въ основу, были не теологическія, а метафизи-
ческія. Онъ почерпалъ ихъ изъ того, что считалъ естественнымъ строемъ духа, а
не изъ сообщеннаго сверхъестественнымъ откровеніемъ, какъ дѣлали прежде. Слѣ-
довательно, онъ перенесъ изслѣдованіе на другую почву. Хотя опъ твердо вѣровалъ
въ откровеніе, вмѣстѣ съ тѣмъ однако утверждалъ, что лучшія правила нравствен-
ныхъ дѣйствій могутъ быть познаны безъ его посредства, что человѣческій разумъ
можетъ дойти до нихъ безъ посторонней помощи, и что они, будучи получены та-
кимъ образомъ, должны въ своей совокупности почитаться за законъ природы г). Эта
вѣра въ силу человѣческаго разума была совершенной новостью въ Шотландіи, и
провозглашеніе ея образуетъ эпоху въ литературѣ этого народа. До того времени
людей учили, что разумъ опрометчивъ и ограниченъ, что его слѣдуетъ держать въ
уздѣ, что ему не совладать съ задачами, которыя ему представляются. Гётчесонъ,
напротивъ, утверждалъ, что разумъ совершенно въ силахъ справиться съ этими за-
дачами, но что для этого дружно дать ему свободу и снять съ него оковы. Поэтому
онъ настойчиво защищалъ право личнаго сужденія, которое шотландская церковь
не только осуждала, но и пбцти совершенно подавила. Онъ неотступно доказывалъ,
что каждое отдѣльное лицо имѣетъ право?составлять себѣ собственное мнѣніе на
основаніи тЬхъ доводовъ, какими оно располагаетъ; и такъ какъ это право неот-
чуждаемо, то только слабые умы могутъ отказаться отъ пользованія имъ * 2). Каждому,
продолжалъ онъ, должно быть предоставлено судить по собственному разумѣнію, и
нѣтъ никакой пользы заставлять людей держаться образа мыслей, противнаго пхъ
убѣжденіямъ 3). Между тѣмъ это такъ мало понимаютъ.ч что мы постоянно видимъ,
какъ всѣ мелкія секты ссорятся между собой и поносятъ другъ друга за то только,
что взгляды ихъ различны. Странно слышать, какъ послѣдователи одного исповѣ-
данія честятъ послѣдователей другихъ исповѣданій идолопоклонниками и домогаются
наказанія ихъ. На дѣлѣ въ нихъ во всѣхъ много хорошаго; единственное дѣйстви-
тельное вь нихъ зло составляетъ эта любовь къ гоненію 4). Но толпа считаетъ ере-
Ъ «Цѣль нравственной философіи (по Гётчесону) —
направлять людей на тотъ образъ дѣйствій, который
самымъ дѣйствительнымъ образомъ ведетъ ихъ къ наи-
большему счастію и совершенству, насколько это воз-
можно посредствомъ наблюденій и заключеніи, раскры-
ваемыхъ изъ существа самой природы, безъ помощи
какого-либо сверхъестественнаго откровенія; эти жи-
тейскія правила считаются поэтому законами при-
роды, а совокупность или собраніе пхъ называется
естественными правомъ».
2) «Такое же право—говоритъ Гётчесонъ—имѣетъ
отъ природы всякое разумное существо въ дѣлѣ своихъ
мнѣній о явленіяхъ отвлеченной пли практической
сферъ, судить по тѣмъ доводамъ, которые емѵ присущи.
Право это вытекаетъ изъ самаго строенія разума, кото-
рый пе иначе можетъ съ чѣмъ-либо соглашаться, какь
только сообразно съ представляемыми ему доводами, и
имѣетъ врожденное стремленіе къ познанію. Тѣ же со-
ображенія убѣждаютъ насъ, что это право не можетъ быть
отчуждаемо: оно не можетъ быть подчиняемо волѣ дру-
гого человѣка, хотя при существованіи уже прежде со-
ставившагося понятія о высшей мудрости другого чело-
вѣка или о непогрѣшимости его сужденія мнѣніе эгого
другого и можетъ для человѣка со слабымъ разсудкомъ
сдѣлаться достаточнымъ доводомъ. Касательно мнѣній
о Божествѣ, религіи и добродѣтели право это подтвер-
ждается еще всѣми благородными стремленіями души;
ибо когда человѣкъ не будетъ держаться тѣхъ мнѣній,
которыя считаетъ справедливыми, а станетъ псиовѣ-
дывать противное пмъ, въ этомъ не можетъ быть до-
бродѣтели; скорѣе это будетъ неучастіе».
3) «Такимъ образомъ пи одинъ человѣкъ не мо-
жетъ дѣйствительно перемѣнить своего образа мыслей,
| своего сужденія, своего внутренняго настроенія по
; приказанію другого человѣка, и никакого не будетъ
I добра пзъ того, что его заставятъ наружно держаться
I ученія, противнаго его внутреннему убѣжденію» (Гёт-
' чссонъ).
4) «Аріане и соцйніаве суть идолопоклонники п
; безбожники, говорятъ правовѣрные, а тѣ возражаютъ,
что правовѣрные троебожники; такъ постунаюіъ и дру-
і гія секты, и всѣ такимъ образомъ побуждаютъ прани-
тельства къ гоненію на противниковъ. А между тѣмъ
очевидно, что во всѣхъ сктахъ заключаются одона-
I новыя побужденія ко всѣмъ соціальнымъ добродѣте-
; лямъ, истекающія пзъ вѣрованія въ нравственный Про-
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVIII СТОЛ.
547
тикомъ всякаго, кто не вѣритъ тому, чему она вѣритъ; и этому образу мыслей слиш-
комъ потворствуетъ духовенство, котораго самолюбіе обижается мыслью, что міряне
хотятъ быть умнѣе своихъ духовныхъ учителей и осмѣливаются не соглашаться съ
тѣмъ, что они говорятъ.
Такое широкое понятіе о свободѣ опережало умственное развитіе страны, въ
которой оно преподавалось, и могло имѣть вліяніе развѣ только на немногихъ мы-
слящихъ людей. Эти и подобныя имъ ученія однако Гётчесонъ повторялъ въ своихъ
лекціяхъ каждый годъ. И странными конечно они должны были казаться слуша-
телямъ. Въ тйхъ, кто принималъ ихъ, они совершенно сокрушали преобладавшее
теологическое направленіе, для котораго вѣротерпимость была безбожіемъ и кото-
рое, стремясь запереть человѣческій умъ въ границы отжившихъ понятій, считало
долгомъ карать каждаго, кто переступалъ эти границы. Въ противоположность этому,
Гётчесонъ вводилъ начала изслѣдованія, обсужденія и сомнѣнія. Еще въ другомъ
отношеніи знаменательна его философія—какъ начало великаго умственнаго воз-
станія въ Шотландіи. Въ предыдущей главѣ мы видѣли, что духовенство успѣло раз-
вить въ умахъ народа понятія самаго мрачнаго аскетизма, и что это ученіе есте-
ственнымъ образомъ возникло изъ громадной власти, которою обладала церковь.
Гётчесонъ энергически возсталъ противъ такихъ понятій. Онъ справедливо полагалъ,
что почитаніе всякаго рода красоты не только не грѣховно, но даже составляетъ
существенно необходимый элементъ въ полномъ и гармоническомъ развитіи духа,
и самая оригинальная часть его философіи заключается именно въ его изслѣдова-
ніяхъ о дѣйствіи и происхожденіи нашихъ идей по этому предмету. До того вре-
мени шотландцевъ учили, что чувства, возбуждаемыя въ7насъ красотою, суть плодъ
испорченности нашей природы и что ихъіелѣдуетъ подавлять. Гётчесонъ же, напро-
тивъ, доказывалъ, что они сами по ісебѣ благи, что они составляютъ часть общаго
строя человѣческихъ явленій и заслуживаютъ спеціальнаго, научнаго изученія 1). И
онъ съ такимъ мастерствомъ принялся за это изученіе, что, по отзыву одного изъ
самыхъ свѣдущихъ судей нашего времени (Кузена), его должно считать родоначаль-
никомъ всѣхъ позднѣйшихъ изслѣдованій по этому предмету; ибо его сочиненіе было
первой попыткой независимаго, широкаго и всеобъемлющаго изученія идеи красоты.
Не только въ чисто умозрительныхъ вопросахъ, но и въ практическихъ настав-
леніяхъ обнаруживалъ Гётчесонъ то же стремленіе; во всемъ старался онъ низвергнуть
мрачное зданіе, воздвигнутое суевѣріемъ 3). Его предшественники, да и почти всѣ
наиболѣе вліятельные современники его представляли всякое наслажденіе противнымъ
нравственности и возставали противъ изящныхъ искусствъ, считая ихъ вредными
по той причинѣ, что они служатъ къ доставленію намъ наслажденія и чрезъ то
отвлекаютъ умы отъ серьезныхъ помысловъ. Гётчесонъ. напротивъ, провозглашалъ,
что изящныя искусства слѣдуетъ поощрять, потому что — говоритъ онъ — они не
только доставляютъ удовольствіе, но и заслуживаютъ уваженія и посвящать имъ
свое время есть дѣло похвальное. Въ наше время основательность этого сужденія
мысель; всѣ одинаково признаютъ, что благость Бо-
жія есть иссочникъ всѣхъ благъ, которыми мы поль-
зуемся или которыхъ ожидаемъ въ будущемъ; всѣ оди-
наково учатъ человѣка быть благодарнымъ и покор-
нымъ Богу. 1І нп одна пзъ нихъ пе возбуждаетъ лю- .
леи къ пороку, кромѣ одного только ученія, слишкомъ і
общаго почти всѣмъ имъ, которымъ онѣ ирисвопваютъ |
себг, право гоненія». (Гётчесонъ).
«Идея красоты и гармоніи, какъ и всѣ идеи,
пмПющія дегочппкомъ чувство, непремѣнно и пепо- I
средственно доставляютъ намъ наслажденіе»... «Суще- !
ствующее въ насъ чувство красоты назначено пови-
димому для того, чтобы доставлять намъ положи гель- ]
ное удовольствіе» .. «Красота внушаетъ благопріятное |
предположеніе относительно хорошихъ нравственныхъ ।
качествъ»... «Очевидно, что не въ нашеіі власти да- ।
вать форму своимъ чувствамъ и желаніямъ, приспо-
соблять пхъ къ какому-либо частному интересу; опи
опредѣлены для насъ Творцомъ пашой природы и под-
чинены интересамъ цѣлаго; такъ что каждое отдѣль-
ное лицо, еще до собственнаго своего выбора, состоитъ
уже членомъ обширнаго цѣлаго п принимаетъ участіе
вь общихъ его судьбахъ или по крайней мѣрѣ зна-
чительной части его, и по можетъ отложиться отъ этого
отношенія но своему произволу» (Онъ же).
2) Онъ такъ рѣзко идетъ противъ господствовав-
шихъ въ сго время понятій, что утверждаетъ, что
«ощущеніе нами удовольствія необходимо, и что полез-
нымъ или естественно благимъ для насъ можетъ быть
только то, чі6 способно, посредственно ила непосред-
ственно, возбуждать удовольствіе».
548
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
очевидна; но въ Шотландіи давно уже не было слыхано подобнаго ученія изъ устъ
общественнаго преподавателя, и оно прямо протпворѣчило всѣмъ господствовав-
шимъ понятіямъ. Гётчесонъ пошелъ еще далѣе. Не довольствуясь защитой богат-
ства х), которое шотландское духовенство осуждало, какъ одинъ изъ самыхъ пагуб-
ныхъ и плотскихъ предметовъ, онъ смѣло утверждалъ, что всѣ естественныя стрем-
ленія наши законны и что удовлетвореніе ихъ совмѣстно съ самой высокой добро-
дѣтелью 2). Въ его глазахъ они были законны, потому что имѣютъ начало въ при-
родѣ человѣка, между тѣмъ какъ по воззрѣнію теологической теоріи они по этой
именно причинѣ и были незаконны. Въ этомъ-то и заключается коренное различіе
между практическими выводами Гётчесона и тѣми, которые были въ ходу до него.
Подобно всѣмъ великимъ мыслителямъ съ семнадцатаго вѣка, онъ любилъ человѣ-
ческую природу и уважалъ се, но не любилъ и не уважалъ тѣхъ людей, которые
ее сковывали и тѣмъ ослабляли ея силу и нарушали ея красоту. Опъ питалъ болѣе
довѣрія къ человѣчеству, чѣмъ къ руководителямъ человѣчества... Его предшествен-
ники, шотландскіе духовные, доносили человѣка; они клеветали на весь человѣ-
ческій родъ. По ихъ увѣренію въ насъ нѣтъ ничего, кромѣ грѣха и порчи, и по-
тому всѣ паши стремленія слѣдуетъ подавлять. Гётчесону принадлежитъ не малая
честь, что онъ первый въ Шотландіи публично возсталъ противъ этихъ унизитель-
ныхъ для человѣчества понятій. Съ благородной и высокой цѣлью принялся онъ за
свое дѣло. Глубоко уважая человѣческій умъ, онъ поставилъ себѣ задачей отстаивать
его достоинство противъ тѣхъ, которые оспаривали его права. Къ сожалѣнію, онъ
не могъ имѣть полнаго успѣха: предразсудки его времени были слишкомъ сильны.
Однако же онъ сдѣлалъ все, что было возможно. Онъ /Противился теченію, котораго
не въ силахъ былъ остановить, неотступно громилъ то, чего нельзя еще было низ-
вергнуть, съ гнѣвомъ и презрѣніемъ выкинулъ изъ своей философіи тЬ гнусные
предразсудки, которые, оскверняя все великое и благородное, долго ослѣпляли со-
временниковъ и, снова выдвинувъ старое и пагубное ученіе о нравственномъ вы-
рожденіи, представляли человѣку собственную ого природу одной лишь бездной по-
рока и не позволяли ему видѣть, сколько въ немъ дѣйствительно присущихъ ему
добрыхъ качествъ, сколько всегда проявлялось въ мірѣ\ духа самоотверженія и сво-
бодной, безкорыстной доброжелательности, сколько сохраняется хорошаго даже въ
самыхъ худшихъ изъ людей, настолько между людьми обыкновенными, средняго
закала характера, составляющими большинство человѣчества, желаніе дѣлать ближ-
нему добро чаще встрѣчается, чѣмъ желаніе вредить ему, — мягкосердечіе обыкно-
веннѣе жестокости и число добрыхъ дѣлъ, въ общемъ итогѣ, превышаетъ число
дурныхъ.
До сихъ поръ мы говорили о направленіи Гётчесоновой философіи. Теперь
намъ слѣдуетъ разсмотрѣть его методъ, то есть способъ, избранный имъ для полу-
ченія своихъ выводовъ. Это составляетъ весьма важную часть въ настоящемъ на-
шемъ изслѣдованіи. Мы найдемъ при этомъ, что въ изученіи нравственной филосо-
фіи, какъ и въ изученіи всякой отрасли знанія, пе выработавшейся еще до сте-
пени науки, не только существуютъ два метода, но что эти два метода ведутъ къ
Э «Богатство и власть пстипно полезны но только
ради житейскихъ удобствъ и пріятностей, но и потому,
что даютъ средства къ совершенію добрыхъ дѣлъ»...
«Какъ несостоятельны также разсужденія нѣкоторыхъ
отшсльшіковъ-моралпстовъ, которые осуждаютъ вообще
всякое стремленіе къ богатству и власти, считая нхъ
недостойными истинно добродѣтельнаго человѣка, между
чѣмъ какъ богатство и власть суть самыя дѣйстви-
тельныя средства н самыя могучія орудія къ высо-
чайшимъ добродѣтелямъ п къ великодушнѣйшимъ дѣй-
ствіямъ > (Гётчесонъ).
2) «Величайшее счастіе всякаго существа должно
заключаться въ полномъ обладаніи всѣми благами, ко-
। торыхъ требуетъ его природа и къ которымъ опа спо-
; собна>... «Высшее чувственное наслажденіе доступно
! тѣмъ людямъ, которые душой и тѣломъ энергически
| трудятся иа поприщѣ доблестной общественной дѣя-
! тельности и всѣмъ естественнымъ стремленіями удо-
I влѳтворяютъ въ свое время»... «Такъ какъ на дѣлѣ благо
I цѣлой системы требуетъ, чтобы каждое вложенное въ
I васъ природою стремленіе и желаніе, даже низшаго раз-
ряда, было удовлетворяемо, насколько удовлетвореніе
і ихъ согласуется съ болѣе высокими наслажденіями и
; не выходя изъ предѣловъ справедливаго подчиненія
' этимъ послѣднимъ,—то можно скагаіь, что самою же
' природою связано съ ними нѣкоторое понятіе о правы*.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ стол. 549
различнымъ заключеніямъ. Идя путемъ наведенія, мы приходимъ къ одному заклю-
ченію; идя путемъ вывода — приходимъ къ другому. Это различіе въ результатахъ
всегда служитъ доказательствомъ, что предметъ изученія, въ которомъ предста-
вляется это различіе, еще недостаточно выработанъ для научнаго обращенія съ нимъ;
что требуется еще устранить нѣкоторыя предварительныя затрудненія, прежде чѣмъ
нужно будетъ перенести его со степени эмпирическаго знанія на степень науки.
Какъ скоро эти затрудненія устранены, результаты, получаемые путемъ наведенія,
будутъ совпадать съ результатами, получаемыми путемъ вывода, предполагая, разу-
мѣется, правильное употребленіе того и другого способа. Въ такомъ случаѣ нѣтъ
уже большой важности въ томъ, какъ мы мыслили, отъ частнаго къ общему, или
отъ общаго къ частному. Тотъ и другой образъ дѣйствія дастъ одни и тѣ же за-
ключенія, и это согласіе результатовъ служитъ доказательствомъ, что изслѣдованіе
есть въ строгомъ смыслѣ научное. Такъ, напримѣръ, въ химіи, еслибы, разсуждая
дедуктивнымъ путемъ отъ общихъ началъ, мы могли всегда съ точностью предска-
зать, что должно выйти изъ соединенія двухъ или большаго числа элементовъ,
хотя бы даже эти элементы были для насъ новы, и еслибы, разсуждая индуктивно
отъ каждаго элемента, мы могли приходить къ тому же самому заключенію, то оба
процесса подтверждали бы другъ друга, и чрезъ эту взаимную ихъ повѣрку наука
была бы завершена. Но мы въ химіи этого сдѣлать пе можемъ, и потому химія
еще не наука, хотя съ тѣхъ поръ, какъ Дальтонъ внесъ въ нее понятія вѣса и
числа, она на пути къ тому, чтобы сдѣлаться наукою. Напротивъ того, астрономія—
наука, потому что, употребляя дедуктивный пріемъ, математическія выкладки, мы
можемъ вычислить движеній и уклоненія тѣлъ; а обратившись къ индуктивному
пріему, наолюденно, мы съ помощью телескопа ^уоѣждаемся въ точности предше-
ствовавшихъ, такъ сказать примѣрно предпосланныхъ, нашихъ выводовъ. Фактъ
совершенно согласуется съ идеей; [частное явленіе подтверждаетъ общее начало, а
общее начало объясняетъ явленіе, ’ и совпаденіе ихъ даетъ намъ право вѣрить въ
совершенную точность нашего знанія; какимъ бы путемъ мы ни шли, мы приходимъ
къ одному и тому же заключенію, и результаты индуктивнаго мышленія, обобщенія
частностей, совершенно совпадаютъ съ результатами мышленія дедуктивнаго, умоза-
ключенія отъ идей.
Но въ изученіи нравственныхъ явленій нѣтъ такого согласія. Частью вслѣд-
ствіе силы предразсудковъ, частью по причинѣ многосложности самаго предмета, всѣ
попытки научнаго изслѣдованія нравственныхъ явленій оказывались неудачными.
Поэтому и неудивительно, что въ этой области знанія индуктивный изслѣдователь
приходитъ къ одному заключенію, а дедуктивный—къ другому. Индуктивный изслѣдо-
ватель старается достичь цѣли наблюденіемъ человѣческихъ поступковъ, подвергая
ихъ анализу, для того чтобы раскрыть въ нихъ начала, которыми они управляются.
Дедуктивный изслѣдователь, отправляясь съ противоположнаго конца, принимаетъ
извѣстныя начала за первобытныя, прирожденныя, и отъ нихъ ведетъ умозаключенія
къ фактамъ, дѣйствительно представляющимся въ жизни. Первый идетъ отъ конкрет-
наго къ абстрактному, второй •— отъ абстрактнаго къ конкретному. Индуктивный
моралистъ разсматривалъ исторію прежняго общества или состояніе современнаго,
и утверждаетъ, что первымъ дѣломъ должно быть собраніе фактовъ, а затѣмъ уже
обобщеніе ихъ. Дедуктивный изслѣдователь, напротивъ, пользуясь фактами болѣе въ
видѣ примѣровъ для уясненія своихъ началъ, чѣмъ для отысканія этихъ началъ,
опирается съ перваго шага не на внѣшнія явленія, а на внутреннія идеи, и ставитъ
эти идеи большою посылкою силлогистическаго разсужденія. Обѣ стороны согласны въ
томъ, что человѣкъ обладаетъ способностью признавать одни поступки хорошими,
другіе — дурными. Но лишь только дойдетъ до вопроса, какъ онъ пріобрѣтаетъ эту
способность, и чтб такое эта способность, тутъ они совершенно расходятся. Индук-
тивный мыслитель говоритъ, что эта способность имѣетъ цѣлью счастье человѣка,
что мы пріобрѣтаемъ ее путемъ общенія съ людьми и что она проистекаетъ изъ
550
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
взаимнодѣйствія соціальныхъ причинъ, доступныхъ анализу. Дедуктивный мыслитель
съ своей стороны говоритъ, что эта способность различенія между правымъ и не-
правымъ имѣетъ цѣлью не счастье человѣка, а истину; что источникъ ея заклю-
чается въ самой природѣ человѣка и недоступенъ анализу; что она есть прирожденное
человѣку, коренное убѣжденіе; что мы можемъ принять ее за основаніе и вести раз-
сужденіе отъ нея, но нѣтъ надежды когда-либо объяснить ее посредствомъ восхо-
дящихъ къ ней умозаключеній.
Достаточно лишь слегка ознакомиться съ сочиненіями Гётчесона, чтобы убѣ-
диться уже, что опъ принадлежитъ ко второй изъ этихъ двухъ школъ. Онъ предпо-
лагаетъ, что всѣ люди надѣлены способностью, которую онъ называетъ нравственною
способностью и которая, какъ первобытное, прирожденное начало, не допускаетъ
анализа х). Затѣмъ онъ предполагаетъ, что назначеніе этой способности—управлять
всѣми другими нашими способностями. Отъ этихъ двухъ предпосланныхъ положеній
онъ ведетъ разсужденіе къ видимымъ фактамъ образа дѣйствій людей и дедуктивно
слагаетъ общій строй жизни. Избравъ такую чисто синтетическую систему, онъ
презираетъ аналитическій методъ и сѣтуетъ на него, какъ на хитрое покушеніе
уменьшить число нашихъ познавательныхъ способностей. Дѣло въ томъ, что съ
каждымъ такимъ уменьшеніемъ отпималось бы у него которое-нибудь ихъ его корен-
ныхъ началъ, и онъ чрезъ то лишался бы возможности употреблять ихъ какъ большія
посылки для построенія отдѣльныхъ аргументовъ. Отнимите у дедуктивнаго мыслителя
его большія посылки и вы лишите его всякой опоры. Поэтому Гётчесонъ, какъ и
всѣ философы той же школы, очень ревниво смотрѣлъ на всякое вторженіе индук-
тивнаго направленія съ его постояннымъ стремленіемъ западать на то, что выдается
за коренныя убѣжденія, и разлагать эти; мнимыя убѣжденія на ихъ составные эле-
менты. Онъ чутко охранялъ хотъ такихъріокушеній свои большія посылки, потому
что сила и красота его метода проявлялись въ нисходящемъ разсужденіи отъ этихъ
посылокъ, а не въ восходящемъ разсужденіи къ нимъ. По его ученію, нравственная
способность и обнаруживаемая ею власть недоступны анализу; ихъ невозможно ни
прослѣдить до ихъ источника, ни разложить на простѣйшія составныя части; л
напрасно пытались иные относить ихъ къ вліянію условій, находящихся внѣ ихъ
самихъ, какъ-то: воспитанія, обычая или извѣстнаго сочетанія идей.
Такимъ образомъ сужденія, произносимыя людьми падъ дѣйствіями другихъ
людей или своими собственными, совершенно необъяснимы относительно ихъ источ-
ника, такъ какъ каждое сужденіе есть только особая форма одной главной нрав-
ственной способности. А такъ какъ эта способность недоступна наблюденію и по-
знается только по своимъ результатамъ, то очевидно, что для всякой аргументаціи
частныя сужденія приходится принимать за коренныя и отъ нихъ вести умозаклю-
ченія, какъ будто они суть послѣднія и высшія формы нашего существа. Такимъ
образомъ пришелъ Гётчесонъ къ той склонности размножать число коренныхъ началъ,
на которую справедливо указывалъ сэръ Джемсъ Макинтошъ, какъ на характери-
стическую черту его философіи и за нимъ всей вообще шотландской философіи;
хотя даровитый авторъ этого замѣчанія и не усмотрѣлъ, что эта черта составляетъ
только одну изъ сторонъ гораздо обширнѣйшаго цѣлаго и что она тѣсно связана
съ тѣми привычками дедуктивнаго мышленія, которыя цѣлый рядъ предшествовав-
шихъ обстоятельствъ неизгладимо привилъ шотландскому уму.
Въ Гетчесонѣ это направленіе было такъ сильно, что онъ былъ убѣжденъ въ
возможности, посредствомъ умозаключеній отъ извѣстнаго числа коренныхъ началъ,
построить теорію и объяснить ходъ человѣческихъ дѣлъ, вовсе или почти безъ по-
собія опыта прошлаго и даже настоящаго времени. Его воззрѣнія, напримѣръ, на
существо и цѣли законодательства, уголовнаго и гражданскаго, могли бы быть вы-
г) Въ своей «Могаі РІііІозорЬу» опъ называетъ ео І природѣ чутьемъ, котораго нельзя производить отъ
«первообразнымъ сужденіемъ или присущимъ пашей ! другихъ способностей воспріятія».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
551
ражеиы отшельникомъ, никогда не выходившимъ изъ своей пустыни, котораго не-
порочность никогда не осквернялась прикосновеніемъ житейской дѣйствительности*
Точкою исхода беретъ онъ, такъ называемую, природу вещей; первые его пріемы
чисто идеальны, и отъ нихъ онъ уже надѣется перейти къ дѣйствительности. При
обозрѣніи общежитейскихъ обязанностей, существовавшихъ до учрежденія прочной
верховной власти, онъ не дѣлаетъ никакихъ фактическихт» указаній на то, чтб дѣй-
ствительно происходило у варварскихъ племенъ, находившихся на этой степени
развитія, а довольствуется одними дедуктивными выводами изъ предполагаемыхъ
имъ началъ. Такимъ образомъ поступаетъ онъ съ трудными вопросами, относящи-
мися къ законамъ о собственности, — то есть свои заключенія касательно ихъ онъ
основываетъ на чистомъ умозрѣніи, а не выходитъ изъ сравнительнаго разсмотрѣнія
дѣйствія различныхъ законоположеній въ различныхъ странахъ. Опытъ онъ или
совершенно устраняетъ, или подчиняетъ теоріи; факты приводитъ только въ видѣ
примѣровъ для нагляднаго поясненія заключеній, а не за тѣмъ, чтобы въ нихъ
искать основы заключеніямъ. Точно также наиболѣе свойственное отношеніе между
народомъ и его правителями и то количество свободы, какимъ долженъ пользоваться
народъ, могутъ, по мнѣнію Гётчесояа, быть приведены въ извѣстность не путемъ
индуктивнаго обобщенія, основаннаго на историческомъ изслѣдованіи обстоятельствъ,
приводившихъ къ наибольшему благоденствію, а посредствомъ умозаключенія, исхо-
дящаго отъ существа верховной власти и отъ цѣлей, для которыхъ она была уста-
новлена.
Вторая значительная\попытка научнаго объясненія дѣяній людей и установ-
ленія общихъ началъ, котор\тми они управляются безъ' вмѣшательства сверхъесте-
ственныхъ идей, принадлежитъ Адаму Смиту, который въ 1759 году издалъ «Теорію
нравственныхъ чувствованій», а въ 1776—^Богатство народовъ». Для полнаго ура-
зумѣнія этого безъ сомнѣнія ІШОТйіпагоЖиз’СТвсѣхъ шотландскихъ мыслителей
должно взять оба сочиненія вмѣстѣ и разсматривать4 ихъ какъ одно цѣлое, потому
что въ сущности они составляютъ только два отдѣла одного и того же предмета.
Въ «Нравственныхъ чувствованіяхъ» авторъ изслѣдуетъ сочувственную сторону
человѣческой природы; въ ДБогатствѣ народовъ» — ея своекорыстную сторону. А
такъ какъ въ каждомъ изъ насъ дѣйствуетъ и сочувствіе, и своекорыстіе, или,
другими словами, каждый изъ насъ смотритъ и вокругъ себя, и внутрь себя, и
такъ какъ эта классификація есть самое коренное и вполнѣ исчерпывающее дѣленіе
нашихъ побужденій къ дѣятельности,—то очевидно, что еслибъ Адамъ Смитъ совер-
шенно закончилъ свое обширное предпріятіе, то онъ разомъ поставилъ бы изученіе
человѣческой природы на степень науки, оставивт> на долю позднѣйшихъ изслѣдо-
вателей только раскрывать второстепенныя пружины дѣйствій, которыя всѣ нашли бы
себѣ мѣсто въ общемъ планѣ и оказались бы подчиненными ему. Приступая къ
исполненію этой громадной задачи и готовясь пройти разстилавшееся передъ нимъ
необъятное поле, онъ скоро убѣдился, что индуктивное изслѣдованіе тутъ было невоз-
можно, потому что потребовалось бы труда многихъ человѣческихъ жизней на одно
только собраніе матеріаловъ, надъ которыми должна была производиться работа
обобщенія. Вслѣдствіе этого соображенія, а еще болѣе быть можетъ подчиняясь
господствовавшему вокругъ него складу мышленія, онъ рѣшился принять вмѣсто
индуктивнаго метода дедуктивный; но въ пріисканіи посылокъ, которыя ему слѣдовало
принять за точку исхода и на которыхъ онъ долженъ былъ построить все зданіе,—
онъ прибѣгнулъ къ особой уловкѣ, вполнѣ пригодной и безспорно позволительной,
хотя удачное примѣненіе ея предполагаетъ въ изслѣдователѣ такой чуткій тактъ и
требуетъ такъ много утонченностей, что какъ до Адама Смита, такъ и послѣ него,
очень немногіе писатели были въ состояніи успѣшно пользоваться ею въ примѣненіи
къ соціальнымъ вопросамъ.
Пріемъ, о которомъ я говорю, заключается въ томъ, что когда оказывается
невозможнымъ примѣнить къ изслѣдованію индуктивный методъ, по невозможности ли
552
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
дѣлать опыты надъ изслѣдуемымъ предметомъ, пли по чрезвычайной его многослож-
ности, или по огромному количеству сбивчивыхъ подробностей, его окружающихъ,—
мы можемъ въ такихъ случаяхъ мысленно раздѣлять нераздѣльные факты и умо-
заключать надъ цѣлымъ рядомъ явленій, не имѣющихъ дѣйствительнаго и самостоя-
тельнаго бытія, а существующихъ только въ умѣ изслѣдователя. Получаемый такимъ
путемъ результатъ не можетъ быть строго вѣренъ истинѣ, но если умозаключенія
ведены правильно, то онъ будетъ настолько же близокъ къ истинѣ, насколько близки
были къ ней посылки, отъ которыхъ мы исходили. Для того, чтобы сдѣлать его со-
вершенно вѣрнымъ, мы должны сравнить его съ другими результатами, добытыми
по тому же предмету такимъ же путемъ. Эти отдѣльные выводы могутъ потомъ быть
сведены въ одну общую систему, такъ что хотя каждый выводъ въ отдѣльности
будетъ представлять только приблизительную истину, но всѣ они, взятые въ сово-
купности, будутъ однако заключать полную истину.
Такая гипотетическая аргументація очевидно основывается на умышленномъ
устраненіи фактовъ; эта уловка необходима, потому что безъ такого устраненія не
было бы возможности совладать съ фактами. Каждый аргументъ въ отдѣльности
ведетъ къ заключенію, приближающемуся къ истинѣ; и, слѣдовательно, какъ скоро
количество посылокъ таково, что онѣ почти исчерпываютъ факты, къ которымъ
относятся, то заключеніе такъ близко подойдетъ къ полной истинѣ, что получитъ
величайшую важность даже само по себѣ, безъ сличенія съ другими заключеніями,
взятыми изъ той же области изслѣдованія.
Наиболѣе совершенный образецъ такой логической уловки представляетъ гео-
метрія. Цѣль геометра—обобщить законы пространства; Другими словами—раскрыть
необходимыя всеобщія охногіщнія различныхъ его частей. А такъ какъ пространство
не имѣетъ частей, пока пе будетъ. раздѣлено, то геометръ предполагаетъ такое дѣ-
леніе и беретъ возможно простѣйшую форму его—дѣленіе на линіи. Линія, разсма-
триваемая какъ фактъ, то есть въ томъ видѣ, какъ она встрѣчается въ дѣйствитель-
ности, всегда имѣетъ два свойства, длину и ширину. Какъ бы ни были эти свойства
малы, но непремѣнно они находятся оба въ каждой линіи. Но еслибы геометру при-
нимать въ соображеніе оба свойства, то ему представилась бы задача слишкомъ
сложная для того, чтобы при ограниченныхъ средствахъ4 человѣческаго ума или по
крайней мѣрѣ при настоящихъ средствахъ нашего знанія возможно было справиться
съ нею. Поэтому онъ прибѣгаетъ къ научной уловкѣ, — умышленно отбрасываетъ
одно изъ упомянутыхъ двухъ свойствъ и говоритъ, что линія есть одна только
длина, безъ ширины. Онъ знаетъ, что это положеніе ложно, но знаетъ также,
что оно ему необходимо, ибо если его не допустить, то опъ не можетъ ничего до-
казать. Какъ только вы станете требовать, чтобы онъ непремѣнно внесъ въ свои
посылки идею ширины, онъ пе въ состояніи будетъ идти далѣе, и все зданіе гео-
метріи распадается въ прахъ. Между тѣмъ ширина самой тонкой линіи такъ мала,
что не иначе можетъ быть измѣрена, какъ инструментомъ, употребляемымъ подъ
микроскопомъ; отсюда очевидно, что предположеніе существованія такихъ линій,
которыя вовсе не имѣютъ ширины, до того близко подходитъ къ истинѣ, что наши
внѣшнія чувства не могутъ открыть неточности его безъ помощи искусства. Въ
прежнее время, до изобрѣтенія въ семнадцатомъ вѣкѣ микрометра, открыть ее было
даже положительно невозможно. Слѣдовательно, и заключенія геометра будутъ такъ
близки къ истинѣ, что мы имѣемъ полное право принимать ихъ за совершенную
истину. Невѣрность слиткомъ мала для того, чтобы возможно было ее уловить. Но
что есть такая невѣрность, это, по моему мнѣнію, не подлежитъ спору. Мнѣ ка-
жется несомнѣннымъ, что какъ скоро что-нибудь опущено въ посылкахъ, непремѣнно
должно чего-нибудь недоставать и въ заключеніи. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ
поле изслѣдованія не все сполна обнято; и такъ какъ часть предварительныхъ
фактовъ опущена, то, я думаю, нельзя не согласиться, что не можетъ быть достиг-
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVIII СТОЛ.
553
нута полная истина, и что ни одна проблема въ геометріи пе рѣшена еще вполнѣ
исчерпывающимъ ее образомъ *)•
При всемъ томъ поразительные успѣхи, сдѣланные въ этой отрасли математики,
доказываютъ, какое могущественное оружіе представляетъ эта форма дедукціи, дѣй-
ствующая посредствомъ искусственнаго раздѣленія фактовъ, въ сущности не раздѣль-
ныхъ. Но философію метода такъ еще мало понимаютъ, что когда въ концѣ во-
семнадцатаго вѣка политическая экономія приняла научную форму, многіе весьма
образованные люди упрекали ея послѣдователей въ жестокосердіи; эти порицатели
не въ состояніи были понять, что не могла бы быть построена наука, еслибъ не-
обходимо требовалось включить въ нее всю область безкорыстныхъ и доброжелатель-
ныхъ стремленій человѣческой природы. Цѣль политико-эконома—раскрыть законы
богатства, которыхъ чрезвычайная многосложность но позволяетъ изслѣдовать ихъ
со всѣхъ точекъ зрѣнія. Поэтому онъ избираеть одну точку зрѣнія и выводитъ общіе
законы въ томъ видѣ, какъ они выражаются въ своекорыстныхъ проявленіяхъ чело-
вѣческой природы. И, поступая такимъ образомъ, онъ совершенно правъ, по той
уже простой причинѣ, что въ своемъ стремленіи къ богатству люди болѣе имѣютъ
въ виду удовлетвореніе себя самихъ, чѣмъ удовлетвореніе другихъ. Слѣдовательно,
политико-экономъ, подобно геометру, отбрасываетъ часть своихъ посылокъ для того,
чтобы легче ему было управиться съ остальной частью. По мы не должны никогда
упускать изъ виду, что политическая экономія, хотя наука глубокая и великая, есть
все таки наука одной только стороны жизни, и что она основывается на устраненіи
нѣкоторой части тѣхъ явленій, которыми изобилуетъ всякое обширное общество. Она
опускаетъ или — что приводитъ къ тому же—намѣренно не вѣдаетъ многія высокія
и безкорыстныя чувства, котбрыхъ^намъМтяжело^_быдб бы лишиться. Поэтому мы
не должны допускать исключительнаго господства ея выводовъ надъ всякими другими
выводами. Мы можемъ принимать ихъ въ наукѣ и въ то же время отвергать въ
практической жизни. Такъ, напри мѣръ, 'долити ко-экбн о мъ, заключившись въ своей
области, говоритъ, и вполнѣ основатсльпо, что безразсудно и вредно правительству
принимать на себя заботу о снабженіи рабочихъ классовъ работой. Какъ политико-
экономъ—онъ можетъ доказать правильность этого положенія; несмотря однако на
научную его истину, правительство можетъ быть на практикѣ право, поступивъ прямо
наперекоръ ему. Правительство будетъ пожалуй право, взявъ на себя доставленіе
занятій рабочимъ классамъ, когда народъ такъ невѣжественъ, что требуетъ этого,
и при томъ такъ силенъ, что можетъ ввергнуть страну въ анархію въ случаѣ не-
удовлетворенія его требованія. Тутъ политикъ принимаетъ въ соображеніе всѣ по-
сылки, между тѣмъ какъ политико-экономъ принималъ изъ нихъ въ соображеніе
только нѣкоторыя. Равнымъ образомъ съ точки зрѣнія экономической науки помо-
гать бѣднымъ есть дѣло предосудительное, потому что положительно доказано, что
милостыня только увеличиваетъ число бѣдныхъ, поощряя въ нихъ безпечность на
счетъ будущаго. Но противъ этого заключенія возстаетъ противоположное начало
сочувствія, и въ нѣкоторыхъ людяхъ дѣйствуетъ такъ сильно, что приходится же-
лать, чтобы тотъ, кто чувствуетъ въ себѣ потребность подавать милостыню, пода-
валъ ее, ибо, воздерживаясь отъ этого, онъ долженъ насиловать свою природу, а это
насиліе можетъ причинить ему самому больше вреда, чѣмъ подача имъ милостыни
причинила бы интересамъ общества.
Я надѣюсь, что эти замѣчанія не будутъ сочтены за отклоненіе отъ настоя-
х) То есть относительно только фактовъ. Геоме-
трія, разсматриваемая въ высшемъ ея значеніи, опи-
рается па идеи, и съ этой точки зрѣнія она несокру-
шима, пока не могутъ быть опровергнуты аксіомы.
Но когда геометры хотятъ имѣть не только аксіомы,
но и опредѣленія, они безъ сомнѣнія выигрываютъ
относительно ясности, но зато теряютъ относительно
точности. Мпѣ кажется, что безъ опредѣленій геоме-
трія но могла бы быть наукою о пространствѣ, а была
бы наукою о величинахъ, мыслимыхъ въ отвлеченій,
и слѣдовательно такъ чиста, какъ только могло бы
быть отвлеченное развитіе понятія. Это но касается
вопроса объ эмпирическомъ происхожденіи аксіомъ.
554 исторія цивилизаціи въ Англіи.
щаго предмета этой главы; ибо хотя я въ нихъ и имѣлъ въ виду разъяснить одинъ
общій вопросъ относительно сущности научныхъ доказательствъ, вмѣстѣ съ тѣмъ
однако я имѣлъ и другую, болѣе частную цѣль—пояснить философію Адама Смита,
указать методъ, которому слѣдовалъ этотъ замѣчательно глубокій и своеобразный мы-
слитель, Теперь намъ легко будетъ видѣть, въ какой совершенной степени его планъ
былъ чисто дедуктивенъ, и какую особую форму онъ далъ своей дедукціи. Въ обо-
ихъ свопхъ большихъ сочиненіяхъ онъ начинаетъ съ того, что задается извѣстными
общими идеями, и затѣмъ уже отъ нихъ идетъ къ явленіямъ внѣшняго міра. И въ
каждомъ изъ этихъ сочиненій онъ беретъ за основаніе одну только часть своихъ по-
сылокъ; остальную же часть ихъ добавляетъ въ другомъ сочиненіи. Ни одинъ чело-
вѣктэ не управляется въ своихч^ дѣйствіяхъ ни исключительно своекорыстіемъ, ни
исключительно сочувствіемъ. Но Адамъ Смитъ раздѣляетъ въ отвлеченномъ мышле-
ніи эти два свойства, въ дѣйствительности нераздѣльныя. Въ своей «Теоріи нрав-
ственныхъ чувствованій» онъ приписываетъ наши дѣйствія началу сочувствія; а въ
«Богатствѣ народовъ»—началу своекорыстія. Краткій обзоръ обоихъ сочиненій до-
кажетъ дѣйствительное существованіе въ нихъ этого основного различія и дастъ
намъ возможность удостовѣриться, что они дополняются одно другимъ, такъ что для
полнаго пониманія того или другого изъ нихъ необходимо изучать оба.
Въ «Теоріи нравственныхъ чувствованій» Адамъ Смитъ устанавливаетъ одно
великое начало, отъ котораго ведетъ свое разсужденіе и которому подчиняетъ всѣ
другія. Это начало заключается въ томъ, что къ правилами, которыя мы себѣ пред-
ппсываемъ и сообразно которымъ дѣйствуемъ, мы приводимъ единственно путемъ
наблюденія поступковъ друйіхъ людеіМ). ^1Ыксудішъо_србѣ потому только, что прежде
судили о другихъ. Свои понятія мы почерпаемъ извнѣ, а не изнутри. Поэтому еслибъ
мы жили въ совершенномъ оДиноч^твѣТ'мьГп^~ногл и бы имѣть никакого понятія о
похвальномъ пли нравственноЧіредосудительномъ и не могли бы составить себѣ
сужденія о томъ, правы ли наши помыслы, или неправы. Для того, чтобы достичь
этого знанія, мы должны наблюдать вокругъ себя. А такъ какъ мы не можемъ непо-
средственнымъ опытомъ узнать, что дѣйствительно чувствуютъ другіе люди, то намъ
остается только познать это, представивъ себѣ, что чувствовали бы мы сами, еслибъ
были на ихъ мѣстѣ. Такимъ образомъ каждый человѣкъ, въ своемъ воображеніи,
безпрестанно мѣняется положеніемъ съ другими людьми; и хотя эта мѣна совершается
только мысленно и на одно мгновеніе, однако она служитъ основаніемъ тому могу-
чему и всеобщему побужденію, которое называется сочувствіемъ.
Исходя отъ этихъ посылокъ, можно объяснить очень многія соціальныя явленія.
Мы весьма естественно болѣе сочувствуемъ радости^ чѣмъ горю. Отсюда чувство
уваженія къ людямъ счастливымъ и успѣвающимъ, совершенно независимое отъ ка-
кой-либо выгоды, которой мы могли бы ожидать отъ нихъ для себя; отсюда же су-
ществованіе различныхъ общественныхъ разрядовъ и отличій, которые всѣ происхо-
дятъ изъ этого же источника. Отсюда же чувство преданности высшимъ, котораго
корень не въ разумѣ, пе въ страхѣ и не въ сознаніи общественной потребности,
а скорѣе въ сочувствіи къ тѣмъ, кто стоитъ выше насъ, порождающемъ соболѣзно-
2) «Постоянныя наши наблюденія надъ поступ-
ками другихъ людей нечувствительно приводятъ насъ
къ составленію себѣ извѣстныхъ общихъ правила,
относительно того, чтб прилично и слѣдуетъ дѣлать,
а чего должно избѣгатьТакимъ-то путемъ обра-
зуются общія правила правственностп. Опп оконча-
тельно основываются на опытѣ, указывающемъ намъ,
чтб въ данныхъ частныхъ случаяхъ пашпмп нрав-
ственными способностями, нашимъ природнымъ чув-
ствомъ заслуги и приличія одобряется пли пе одо-
бряется. Первоначально мы одобряемъ или осуждаемъ
извѣстныя частныя дѣйствія пе потому, что опп, по
обсужденіи, оказываются согласными или несоглас-
| пымп съ какимъ-либо общимъ правиломъ. Напротивъ
і того, общее правило устанавливается вслѣдствіе того,
і что мы по опыту узнали, что всѣ дѣйствія извѣст-
наго рода или обставленныя извѣстнымъ образомъ
і одобряются или осуждаются... Мы одобряемъ или осуж-
і даемъ собственные свои поступки сообразно своему
і созпапію, что, поставивъ себя на мѣсто другого че-
ловѣка и глядя на свои поступки его глазами, съ
; его точки зрѣнія, мы могли бы пли пе могли вполнѣ
і согласиться и сь тѣмп побужденіями, подъ вліяніемъ
і которыхъ мы дѣйствовали такъ или иначе, н сочув-
І ствоваіь имь».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЯ.
555
ваніо свыше обыкновеннаго къ самымъ даже обыкновеннымъ ихъ страданіямъ. Обы-
чай и мода играютъ большую роль въ жизни, но они также обязаны своимъ про-
исхожденіемъ единственно сочувствію; точно такъ же и различныя процвѣтавшія въ
разныя времена системы философіи, которыхъ разногласіе между собой происходитъ
отъ того, что каждый изъ философовъ сочувствовалъ другой идеѣ—кто понятію при-
личія, сообразности, кто понятію благоразумія, кто понятію доброжелательства, и
каждый развивалъ то понятіе, которое первенствовало въ собственномъ его умѣ. Со-
чувствію также должны мы приписывать установленіе наградъ и наказаній, и вообще
всего зданія нашихъ уголовныхъ законовъ, изъ которыхъ не существовалъ бы ни
одинъ безъ нашего влеченія сочувствовать тѣмъ, кто дѣлаетъ добро или кто терпитъ
обиду, ибо соображеніе о томъ, что ими ограждается безопасность общества, явилось
уже позднѣе; это соображеніе подчиненное, которое усиливаетъ въ на<*ъ сознаніе
полезности этихъ законовъ, а не породило его. Изъ того же начала проистекаетъ
различіе характеровъ, представляющееся между разными классами общества, какъ
напримѣръ раздражительность поэта сравнительно съ хладнокровіемъ математика;
оно же производитъ такое соціальное различіе между обоими полами, вслѣдствіе
котораго мужчины болѣе отличаются великодушіемъ, а женщины—человѣколюбіемъ 1).
Всѣ эти явленія поясняютъ, какъ дѣйствуетъ въ человѣкѣ сочувствіе; они суть отда-
ленныя, но тѣмъ не менѣе прямыя послѣдствія этого начала. Дѣйствительно, мы
можемъ прослѣдить до этого источника нѣкоторые изъ самыхъ дробныхъ оттѣнковъ
въ характерахъ,—напримѣръ, происходящія изъ этого начала: гордость
віе,—хотя эти двѣ страсти часто встрѣчаются вмѣстѣ и иногда самымъ
образомъ сливаются въ одном%^и_домъ ^же лицѣ.___/
Итакъ, сочувствіе есть главная пружина чоловѣческихъ дѣйствій,
каетъ не столько изъ созерцанія страстей въ другихъ людяхъ, сколько
цанія положеній, возбуждающихъ^этиХстра^и^Этому^одному процессу
и тщесла-
страннымъ
Оно возни-
изъ созер-
мы обязаны
не только высшими нравственными началами,’но и "сокровеннѣйшими движеніями
души. Ибо самая сильная привязанность, къ какой мы способны, есть не что иное»
какъ сочувствіе, обратившееся въ привычку; и любовь, существующая между бли-
жайшими родными, вовсе не есть нѣчто заключающееся въ самомъ существѣ на-
шемъ, а проистекаетъ изъ того же мощнаго, надъ всѣмъ господствующаго начала,
которымъ управляется весь ходъ человѣческихъ дѣлъ.
Посредствомъ этой смѣлой гипотезы Адамъ Смитъ сразу ограничилъ поле изслѣ-
дованія, совершенно исключивъ изъ своихъ соображеній своекорыстіе, какъ основ-
ное начало, и принявъ только противоположное ему начало сочувствія. Существо-
ваніе антагонизма этихъ двухъ началъ онъ положительно признаетъ; ибо онъ на-
стоятельно отрицаетъ, чтобы можно было сочувствіе подъ какимъ-либо видомъ счи-
тать за начало своекорыстное. Хотя опъ зналъ, что оно доставляетъ удовольствіе
и что всякое удовольствіе содержитъ въ себѣ своекорыстный элементъ, однако не
въ его методѣ философіи было подвергать начало сочувствія такому индуктивному
анализу, который раскрылъ бы его составные элементы. Его дѣло было вести раз-
сужденіе отъ этого начала, а не восходить разсужденіемъ къ нему. Сосредоточивъ
а) Человѣколюбіе есть свойство женщины, ве-
ликодушіе -- свойство мужчины. Прекрасный полъ, !
обыкновенно отличающійся гораздо большимъ противъ
насъ мягкосердіемъ, рѣдко являетъ столько велико-
душія». ВтііІГв «Тііеогу оС Могаі Зепіііпсніз», томъ '
II, сір. 1В. Еще не собрано достаточнаго числа фак-
товъ для того, чтобы намъ имѣть возможность повѣ-
рить справедливость этого замѣчанія; а отрывочныя
замѣтки нѣкоторыхъ одиночныхъ наблюдателей имѣютъ (
мало значенія въ ятой обширной задачѣ. Тѣмъ ио 1
менѣе я позволю себѣ усомниться въ совершенной !
справедливости указаннаго Адамомъ Смитомъ разли-
чія. Мнѣ кажется, что вообще женщины не только
мягкосердечнѣе, но и великодушнѣе насъ. По для того,
чтобы подкрѣпить доказательствами такого рода по-
ложеніе, потребовались бы чрезвычайно обширныя
изысканія, сдѣланныя весьма тщательно и съ весьма
тонкимъ аналитическимъ умомъ: въ настоящее же
время не существуетъ пи одного сколько-нибудь цѣн-
наго сочиненія о нравственныхъ особенностяхъ, ха-
рактеризующихъ оба пола, да и не можетъ существо-
вать до тѣхъ поръ, пока къ біографіи пе присоеди-
нится физіологія.
556
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
всѣ свои силы на дедуктивномъ процессѣ и являя въ немъ то діалектическое искус-
ство, которое составляетъ какъ бы врожденное свойство его соотечественниковъ и
въ которомъ самъ онъ былъ однимъ изъ величайшихъ мастеровъ, когда-либо суще-
ствовавшихъ,—онъ построилъ систему философіи, конечно несовершенную, потому
что его посылки были неполны, но подходящую къ истинѣ такъ близко какъ только
могъ приблизиться къ ней мыслитель, сознательно исключавшій изъ своихъ сообра-
женій всю своекорыстную сторону человѣческой природы. Въ дѣйствіе ея сочувствен-
ной стороны онъ вникъ такъ подробно и дѣлалъ изъ нея выводы съ такой тон-
костью, что сочиненіе его безспорно занимаетъ первое мѣсто между всѣми, когда-либо
писанными но этому любопытному предмету. Но такъ какъ планъ его былъ построенъ
на умышленномъ опущеніи нѣкоторыхъ предварительныхъ и существенныхъ фактовъ,
то и получаемые имъ результаты не сходятся совершенно съ тѣми явленіями, кото-
рыя усматриваются въ дѣйствительномъ мірѣ. Это однако, какъ я уже показалъ, не
составляетъ существенно важнаго возраженія, потому что такое несогласіе между
идеальнымъ и дѣйствительнымъ, или абстрактнымъ и конкретнымъ, есть необходи-
мое послѣдствіе младенческаго еще состоянія, въ которомъ находится наше знаніе
и которое принуждаетъ насъ сложные вопросы изучать по частямъ и возводить ихъ
въ науки отдѣльными и отрывочными изслѣдованіями.
Что Адамъ Смитъ сознавалъ эту необходимость и что это сознаніе опредѣлило
методъ, которому онъ слѣдовалъ, это очевидно изъ того обстоятельства, что въ дру-
гомъ своемъ большомъ сочиненіи онъ держался того же метода и, принявъ въ осно-
ваніе новыя посылки, тщательно остерегался употребленія доводовъ, опиравшихся
на прежнія. Онъ былъ убѣжденъ, что въ своей «Теоріи нравственности» онъ съ воз-
можной точностью развилъ всѣ выводы, какіе могутъ дать начала, проистекающія
изъ сочувствія; и многообъемііющій, ненасытный умъ бго. находившій, что ничего
не сдѣлано, пока оставалось еще хоть что-нибудь додѣлать, побуждалъ его приняться
за противоположное начало своекорыстія и подвергнуть его такому полному изслѣ-
дованію, чтобы такимъ образомъ охватить всю область мысли. Онъ и исполнилъ это
въ своемъ «Богатствѣ народовъсочиненіи, имѣющемъ еще большее значеніе, чѣмъ
«Теорія нравственныхъ чувствованій», но подобно емуходностороннемъ относительно
началъ, на которыхъ оно построено. Въ немъ своекорыстіе принято за главный
двигатель всѣхъ человѣческихъ дѣйствій, точно такъ же, какъ въ первомъ сочиненіи
за таковой двигатель было принято сочувствіе. Между обоими сочиненіями прошло
семнадцать лѣтъ, ибо «Богатство народовъ» появилось только въ 1776 году. Но что
оба сочиненія, въ мысли автора, составляли только двѣ части одного цѣлаго, это
доказывается тѣмъ знаменательнымъ обстоятельствомъ, что начала, содержащіяся въ
позднѣйшемъ сочиненіи, онъ излагалъ еще на публичныхъ лекціяхъ въ Глазго въ
1753 году, то есть въ такое время, когда онъ еще только обдумывалъ первое сочи-
неніе и задолго до появленія его въ свѣтъ. Изъ этого очевидно, что изученіе имъ
сперва одного движущаго начала, а потомъ другого, ему противоположнаго, было
ничуть не дѣломъ прихоти или случая, а результатомъ той обширной идеи, которая
руководила имъ во всѣхч> его работахъ и которая придастъ имъ, когда ихъ пра-
вильно понимаютъ, такое дивное единство. И достойный то былъ предметъ често-
любія. Смѣлый, многообъемлющій геній мыслителя, проникая взоромъ до самаго отда-
леннаго горизонта и сразу обнявъ все заключенное въ немъ пространство, хотѣлъ
пройти всю эту почву въ двухъ различныхъ, независимыхъ одно отъ другого, на-
правленіяхъ, въ твердой надеждѣ, что когда посылки, недостающія въ одномъ рядѣ
выводовъ, будутъ введены въ другой, то получаемыя съ двухъ противоположныхъ
сторонъ заключенія не будутъ враждебны между собою, а скорѣе будутъ взаимно
восполняться и образуютъ широкое и надежное основаніе, на которомъ могла бы
быть прочно построена единая великая паука человѣческой природы.
«Богатство народовъ», какъ я уже замѣтилъ въ другомъ мѣстѣ, есть быть мо-
жетъ самая важная изъ всѣхъ книгъ, когда-либо писанныхъ, какъ по содержащейся
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
657
въ ней массѣ самобытныхъ мыслей, такъ и по практическому ея вліянію. Практи-
ческія наставленія ея чрезвычайно благопріятствовали возникшимъ въ восемнадца-
томъ вѣкѣ идеямъ свободы, и это обстоятельство обратило на нихъ такое вниманіе,
какое иначе не было бы имъ оказано. Поэтому если «Богатство народовъ» и было
ближайшей причиной значительныхъ перемѣнъ въ законодательствѣ, то съ другой сто-
роны болѣе глубокій анализъ покажетъ, что успѣхь книги, а, слѣдовательно, и измѣне-
нія въ законахъ были въ зависимости отъ болѣе отдаленныхъ и болѣе общихъ при-
чинъ. Должно также согласиться, что тѣ же причины предрасположили умъ самого
Адама Смита къ ученію о свободѣ и вселили въ него извѣстнаго рода предубѣжденіе въ
пользу выводовъ, ограничивающихъ вмѣшательство законодателя. Вотъ чѣмъ онъ по-
заимствовался отъ своего времени; по есть одно, чего онъ конечно не занималъ—это
обширный творческій умъ, который цѣликомъ принадлежалъ одному ему. Благодаря
этому уму, онъ былъ бы великимъ человѣкомъ при всякихъ обстоятельствахъ; для
того же, чтобы ему сдѣлаться могущественнымъ человѣкомъ, требовалось особенное
стеченіе событій. Такое стеченіе событій дѣйствительно настало для него, и онъ
хорошо воспользовался имъ. Вліянія современниковъ было достаточно для того, чтобы
дать ему либеральное направленіе; собственныхъ же способностей его было доста-
точно, чтобы дать ему широту воззрѣнія. Онъ былъ въ замѣчательной степени ода-
ренъ тою плодовитостью мысли, которая составляетъ одну изъ высшихъ формъ ге-
ніальности. но которая завлекаетъ людей, ею надѣленныхъ, въ далекія побочныя
изслѣдованія, хотя и связанныя единствомъ цѣли, но нерѣдко съ укоромъ назы-
ваемыя безполезными отступленіями, по той простой причинѣ, что порицатели не
въ состояніи услѣдить общайо основного начала, которымъ все проникнуто и всѣ
части сплачиваются въ одно цѣлое. Такъ было и^съ^Адамомъ Смитомъ, котораго
безсмертное сочиненіе много р азъ по д ве ргал о с ь и о д о б н ы мъ жалкимъ нападкамъ.
Дѣйствительно, въ своемъ «Богатствѣ народовъ» онъ такъ широко раздвинулъ пре-
дѣлы своего изслѣдованія, что эта обширность очень могла показаться смѣшной тому,
кто не раздѣлялъ его воззрѣнія. Всѣ явленія не одного только богатства, но и всей
общественной жизни, распредѣленныя на классы по различнымъ ихъ формамъ;
происхожденіе раздѣленія труда и послѣдствія этого раздѣленія; обстоятельства, вы-
звавшія изобрѣтеніе денегъ и имѣвшія вліяніе на послѣдующія измѣненія въ ихъ
цѣнности; исторія этихъ измѣненій въ различные вѣка и исторія относительной въ
разныя времена цѣнности различныхъ благородныхъ металловъ; изслѣдованіе соот-
ношенія, существующаго между заработной платой и барышами, и законовъ, кото-
рыми управляются ихъ возвышеніе и пониженіе; изслѣдованіе связи ихъ съ одной
стороны съ поземельной рентой, а съ другой—съ цѣнами на предметы потребленія;
изслѣдованіе причинъ, почему прибыли бываютъ различны въ разныхъ отрасляхъ
промышленности и въ разныя времена; краткій, но. несмотря на свою краткость,
полный очеркъ развитія городовъ въ Европѣ, съ паденія Римской имперіи; колеба-
нія въ продолженіе многихъ вѣковъ цѣнъ на предметы народной пищи и разъясне-
ніе, какъ и почему на разныхъ ступеняхъ развитія общества относительныя цѣны
на землю и на мясо являются различными; исторія законовъ о корпораціяхъ и му-
ниципальныхъ учрежденій и вліяніе ихъ на четыре обширныхъ класса: учениковъ,
фабричныхъ рабочихъ, торговцевъ и поземельныхъ собственниковъ; изслѣдованіе о
громадной власти и богатствахъ, которыми обладало въ прежнее время духовенство, и о
томъ, какимъ образомъ оно постепенно утрачиваетъ свои преимущества по мѣрѣ разви-
тія общества; объясненіе сущности религіозныхъ расколовъ и разсмотрѣніе причинъ, по-
чему духовенство господствующей церкви никогда не можетъ бороться съ ними какъ
равный съ равнымъ, а потому призываетъ на помощь государство и старается пре-
слѣдовать тѣхъ, кого не можетъ убѣдить; почему нѣкоторыя секты преподаютъ болѣе
аскетическую, а другія—болѣе свободную нравственность; какимъ образомъ дворян-
ство въ вѣка феодализма пріобрѣло себѣ власть, и какъ эта власть потомъ постепенно
уменьшалась; какъ возникло право суда поземельныхъ владѣльцевъ, и какъ оно
558
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
исчезло: какимъ путемъ европейскіе государи пріобрѣли свои доходы, гдѣ источники
этихъ доходовъ и на какіе классы преимущественно ложится ихъ тягость; почему
нѣкоторыя добродѣтели, какъ напримѣръ гостепріимство, процвѣтаютъ въ варвар-
скія времена и упадаютъ въ вѣка болѣе просвѣщенные; какимъ образомъ изобрѣ-
тенія и открытія вліяютъ на измѣненія въ распредѣленіи власти между различными
классами общества; смѣлый и мастерской очеркъ особаго рода выгодъ, доставлен-
ныхъ Европѣ открытіемъ Америки и морского пути вокругъ мыса Доброй Надежды;
начало университетовъ, ихъ уклоненіе отъ первоначальной мысли, постепенное ихъ
искаженіе и объясненіе причинъ, почему они таіеь неохотно принимаютъ полезныя
преобразованія, такъ мало заботятся о томъ, чтобы идти въ уровень съ потребно-
стями вѣка; сравненіе общественнаго воспитанія съ домашнимъ и оцѣнка относи-
тельныхъ преимуществъ того и другого;—всѣ эти и многіе другіе предметы, отно-
сящіеся къ устройству и развитію общества, какъ напримѣръ: феодальная система,
невольничество, уничтоженіе крѣпостного права, происхожденіе постоянныхъ армій
и наемныхъ войскъ, вліяніе церковной десятины, правъ первородства, законовъ,
ограничивающихч> роскошь, международные торговые трактаты, начало банковъ въ
Европѣ, государственные долги, вліяніе на общественное мнѣніе театровъ и загра-
ничныхъ путешествій, колоніи, законы о нищенствѣ,—вопросы самаго разнообраз-
наго характера, нерѣдко расходящіеся между собою въ самыхъ противоположныхъ
направленіяхъ—всѣ соединены въ одно громадное цѣлое и озарены лучами единаго
великаго генія. Въ эту сплошную, нестройную массу Адамъ Смитъ внесъ симметрію,
методъ, законъ. При его прикосновеніи исчезла неурядица, и тьма смѣнилась свѣ-
томъ. Много, разумѣется, заимствовалъ онъ у своихъ предшественниковъ, хотя да-
леко не такъ много, какъ обыкновенно^иолагаютъ. Возѣ такого рода позаимствова-
нія не могутъ обойтись и умнѣйшіе^и способнѣйшіе изъ насъ. Во всякомъ случаѣ,
какъ бы много ни отнести на долю заимствованнаго у другихъ, все-таки по совѣсти
можно сказать, что ни одинъ человѣкъ никогда пе совершалъ такого огромнаго
шага въ такомъ важномъ предметѣ и что ни одно дошедшее до насъ сочиненіе не
содержитъ въ себѣ такого множества соображеній, представлявшихъ въ свое время
новость, но подтвердившихся послѣдующимъ опытомъ Но для настоящей нашей
цѣли всего важнѣе замѣтить то, что до всѣхъ этихъ результатовъ онъ дошелъ вы-
водами изъ такихъ началъ, которыя онъ почерпалъ исключительно изъ своекоры-
стной стороны человѣческой природы; опъ сознательно устранялъ при этомъ всѣ со-
чувственныя стремленія, которыми надѣленъ непремѣнно, хотя бы въ самой малой
степени, каждый человѣкъ, но которыхъ онъ не могъ принять въ соображеніе, ибо
иначе изъ этого вышла бы задача съ множествомъ запутанностей, не представляю-
щихъ никакой возможности къ разрѣшенію.
Поэтому, чтобы избѣжать такого неуспѣха, онъ упросилъ задачу, исключивъ
изъ своего понятія о человѣческой природѣ тѣ посылки, которыя уже были имъ раз-
смотрѣны прежде въ «Теоріи нравственныхъ чувствованій». Въ началѣ своей книги
о «Богатствѣ пародовъ» онъ ставитъ два положенія: I) что всякое богатство имѣетъ
источникомъ не землю, а трудъ; и 2) что количество богатства зависитъ частью отъ
степени умѣнья, прилагаемаго къ труду, частью отъ отношенія между числомъ людей
трудящихся и числомъ пе трудящихся. Все остальное сочиненіе состоитъ въ примѣ-
неніи этихъ началъ къ объясненію развитія и механизма общества. Примѣняя ихъ,
онъ постоянно предполагаетъ, что единственной движущей силой во всѣхъ людяхъ,
во всѣхъ интересахъ, во всѣхъ классахъ, во всѣ вѣка и у всѣхъ народовъ служитъ
своекорыстіе. Противоположную силу сочувствія онъ совершенно исключаетъ, и я
не припомню даже, чтобы самое слово хоть разъ встрѣчалось во всемъ сочиненіи.
Основное положеніе его то, что человѣкъ во всемъ слѣдуетъ исключительно соб-
ственной выгодѣ или тому, въ чемъ видитъ собственную выгоду. ГІ особенно харак-
теристическую черту его книги составляетъ проводимая въ ней мысль, что если
взять общество какъ одно цѣлое, то почти всегда оказывается, что люди, заботясь
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
559
о своей собственной выгодѣ, неумышленно способствуетъ и выгодѣ другихъ. Отсюда
истекаетъ великое практическое правило, что своекорыстія не слѣдуетъ стѣснять, а
должно его только просвѣщать; потому что въ самой природѣ вещей лежитъ законъ,
въ силу котораго своекорыстныя стремленія отдѣльнаго человѣка способствуетъ успѣху
всего общества. При такомъ воззрѣніи благоденствіе страны зависитъ отъ количе-
ства ея капитала; а количество капитала зависитъ отъ привычки къ сбереженію,
то есть отъ скупости,—свойства, противоположнаго щедрости; привычка же къ сбе-
реженію въ свою очередь управляется свойственнымъ каждому изъ насъ желаніемъ
улучшить свое положеніе,—желаніемъ, до того тѣсно связаннымъ съ человѣческой
природой, что оно вмѣстѣ съ нами родится и сопровождаютъ насъ неотлучно до
самаго гроба і).
Это постоянное стремленіе каждаго отдѣльнаго человѣка улучшить свое поло-
женіе—такъ благотворно и при томъ такъ могущественно, что нерѣдко можетъ одно
поддерживать успѣхи общества, вопреки безразсудству и неразсчетливости правителей
человѣчества. Не будь этого стремленія, совершенствованіе было бы невозможно,
потому что учрежденія людскія безпрестанно задерживаютъ наше поступательное
движеніе, идя наперекоръ нашимъ естественнымъ наклонностямъ. И нѣтъ ничего
въ этомъ удивительнаго, когда вспомнишь, что люди, стоящіе во главѣ нашихъ дѣлъ
и изобрѣтающіе эти учрежденія, не лишены пожалуй нѣкоторой грубой практиче-
ской смышлености, но по узкости своихъ понятій, не будучи способны къ широ-
кимъ воззрѣніямъ, руководствуются въ своихъ рѣшеніяхъ преходящими случайно-
стями, которыя однѣ имъ понятны 2). Они не видятъ, что мы благоденствуемъ не
вслѣдствіе ихъ законодательныхъ распоряженій, а вопреки этимъ распоряженіямъ,
и что дѣйствительная причина нашего благоденствія заключается въ томъ обстоя-
тельствѣ, что мы можемъ спокойно пользоваться плодами своего труда 3). Какъ скоро
это право достаточно ограждено, каждый ^человѣкъ устремится къ тому, чтобы до-
ставить себѣ или наслажденіе въ настоящемъ, или выгоды въ будущемъ; если же
онъ не будетъ стараться о томъ или о другомъ, это значитъ, что онъ лишенъ даже
простого здраваго смысла. Если есть у него капиталъ, онъ по всей вѣроятности бу-
детъ домогаться того и другого; но при этомъ онъ нисколько не будетъ заботиться
о благѣ другихъ людей, единственнымъ его побужденіемъ будетъ своя личная польза.
И тѣмъ лучше, что оно такъ, потому что, домогаясь такимъ образомъ выгодъ для
себя лично, онъ гораздо болѣе содѣйствуетъ благу всего общества, чѣмъ когда бы
имѣлъ великодушные и возвышенные виды. Нѣкоторые люди увѣряютъ, будто они
занимаются торговлей для блага другихъ, но это просто самообольщеніе;—впрочемъ,
сказать правду, самообольщеніе это не слишкомъ часто встрѣчается между торгов-
цами, и не требуется очень умныхъ разсужденій для того, чтобы отговорить ихъ
отъ такихъ нелѣпыхъ притязаній 4).
Такимъ образомъ Адамъ Смитъ совершенно мѣняетъ посылки, предноставленныя
имъ въ первомъ сочиненіи. Здѣсь онъ предполагаетъ человѣка отъ природы свое-
корыстнымъ, тогда какъ прежде предполагалъ его отъ природы сочувственнымъ 5):
«Пе трудолюбіе, а бережливость составляетъ
непосредственную причину возрастанія капиталя. Тру-
долюбіе. правда, доставляетъ предметы, которые бе- .
режлпвость накопляетъ; но, сколько бы трудолюбіе
ни пріобрѣтало, капиталъ отъ этого нисколько бы ।
не увеличивался, еслибъ бережливость не сохраняла ।
п не копила».,.
2) «Эго хитрое и коварное животное, обыкно-
венно именуемое государственнымъ человѣкомъ или
политикомъ, котораго сужденія управляются обстоя-
тельствами данной минуты» («Богатство пародовъ», ч.
IV, гл. II)
3) «Одной увѣренности, доставляемой законами
Великобританіи каждому человѣку, въ томъ, что опъ ,
будетъ безопасно пользоваться плодами своего труда,
достаточно уже для того, чтобы весіи страну къ бла-
госостоянію, несмотря па эти и на двадцать другихъ
нелѣпыхъ законодательныхъ распоряженій относи іелыю
торговли» («Богатство народовъ», ч. IV, гл. V,).
4) «Заботясь только о своей собственной выгодѣ,
онъ нерѣдко гораздо дѣйствительнѣе способствуетъ
пользѣ всего общества, чѣмъ когда ставитъ себѣ цѣлью
эту послѣднюю. Я никогда пе видывалъ, чтобы много
выходило добра изъ притязанія нѣкоторыхъ людей за-
ниматься торговлей ради блага общества».
5) Вь ег.оеіі «ТЬсогу оГ Могаі 8епІітоий>, ч. I.
стр. 21. онь говорить, что «человѣкъ отъ природы скло-
ненъ кь сочувствію».
560
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
представляетъ людей гоняющимися за богатствомъ изъ низкихъ цѣлей, ради самаго
узкаго эгоистическаго наслажденія, между тѣмъ какъ прежде представлялъ ихъ домо-
гающимися богатства изъ уваженія къ чувствамъ другихъ людей, ради снисканія
ихъ сочувствія *). «Богатствѣ народовъ» нѣтъ уже и помину объ этомъ всесо-
глашающемъ, сочувственномъ стремленіи; эти умилительныя правила совсѣмъ забыты,
и управленіе дѣлами міра приписывается уже совершенно инымъ началамъ. Тутъ
оказывается, что доброжелательство и любовь къ ближнему не имѣютъ никакого
вліянія на наши дѣйствія, Адамъ Смитъ едва-ли даже допускаетъ въ свою теорію
побужденій самое простое чувство человѣколюбія. Если, говоритъ опъ, какой-нибудь
народъ освобождаетъ у себя рабовъ, то это нисколько не доказываетъ, что этотъ
народъ дѣйствуетъ по какимъ-либо высоко нравственнымъ соображеніямъ, или что
его чувства возмущаются жестокимъ положеніемъ, которому были обречены эти не-
счастныя существа. Ни чуть но бывало. Такія побужденія существуютъ чисто только
въ воображеніи; они въ дѣйствительности не имѣютъ никакого вліянія. Освобожде-
ніе рабовъ доказываетъ только одно, что рабовъ у этого народа было немного и,
слѣдовательно, они не представляли большой цѣнности. Иначе онъ бы ихъ не
освободилъ.
Точно также въ прежнемъ своемъ сочиненіи Адамъ Смитъ всѣ различныя
системы нравственности производилъ отъ силы сочувствія, а въ настоящемъ уже
производитъ ихъ исключительно отъ силы своекорыстія. Онъ замѣчаетъ, что въ
низшихъ классахъ общества разгульная жизнь гораздо гибельнѣе для отдѣльнаго лица,
чѣмъ въ высшихъ классахъ. Сопряженная съ ною расточительность можетъ причи-
нить ущербъ и состоянію богача, но обыкновенно ущербъ этотъ можетъ быть ис-
правленъ, или во всякомѣч случаѣ богачъ можетъ предаваться своимъ порокамъ
въ продолженіе большаго п.ііі меньшаго числа лѣтъ, нё разоряя въ конецъ своего со-
стоянія и не доводя себя до совершенной гибели. Работника же одна недѣля такой
поблажки можетъ сгубить безвозвратно; опа пе только доведетъ его до нищенства,
пожалуй до тюрьмы, но и загубитъ всю его будущность, лишивъ его добраго имени,
составляемаго трезвостью и исправностью и необходимаго ему для полученія ра-
боты. Поэтому-то лучшіе люди изъ простого народа, руководствуясь собственной
пользой, съ отвращеніемъ смотрятъ на невоздержаніе, пагубность котораго имъ
вполнѣ извѣстна; между тѣмъ какъ высшіе классы, видя, что нѣкоторая умѣренная
доля порока пе причиняетъ вреда ни ихъ карману, ни доброму имени, считаютъ
такую вольность нравовъ за одну изъ выгодъ, доставляемыхъ имъ богатствомъ, и
на возможность предаваться ей, не подвергаясь осужденію, смотрятъ какъ на одно
изъ преимуществъ, присвоенныхъ ихъ общественному положенію. Отсюда же проис-
ходитъ то, что диссиденты держатся болѣе чистыхъ или во всякомъ случаѣ болѣе
суровыхъ правилъ нравственности, чѣмъ люди, пребывающіе въ лонѣ господствующей
церкви. Ибо новыя религіозныя секты возникаютъ обыкновенно въ средѣ простого
народа, мыслящая часть котораго приводится своимъ интересомъ къ строгому воз-
зрѣнію на житейскія обязанности. Поэтому и проповѣдники новаго ученія препо-
даютъ такія же строгія нравственныя правила, видя въ томъ самое вѣрное средство
для умноженія числа его послѣдователей. Такимъ-то образомъ сектаторы и еретики,
побуждаемые скорѣе своей выгодой, чѣмъ какими-нибудь отвлеченными началами,
принимаютъ такую систему нравственности, которая наиболѣе соотвѣтствуетъ ихъ
личнымъ цѣлямъ и своей суровостью представляетъ разительную противополож-
ность съ болѣе распущенными нравами послѣдователей господствующей церкви 2).
х) <Это-то усаженіе къ чувствамъ людей глав- | 2) Въ каждомъ цивилизованномъ обществѣ, въ
пымъ образомъ и побуждаетъ пасъ гоняться за бо- каждомъ обществѣ, въ которомъ уже вполнѣ устапо-
гатствояъ п избѣгать бѣдности> («ТЬеогу оГ Могаі 8еп- вилось различіе сословій,—всегда существовали одио-
іішѵпіз», ч. I, стр. 66). <Сдѣлаться естественнымъ । временно двѣ различныя системы плп степени нрав-
иредметомъ радостныхъ поздравленій и сочувствующаго і ственности, изъ которыхъ одну можно назвать стро-
виимапія людей, — вотъ, слѣдовательно, что придаетъ ; гои или суровой, а другую — свободной ши иожа-
богатству его обаятельный блескъ» (стр. 78). ( луй распущенной. Первая вообще въ большой чести
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVIII СТОЛ.
561
Въ силу того же начала находимъ мы въ самой средѣ правовѣрныхъ, что духо-
венство держится болѣе строгой системы нравственности въ тѣхъ странахъ, гдѣ
церковныя бенефиціи приблизительно равны, чѣмъ тамъ, гдѣ между бенефиціями
существуетъ большое неравенство. Это происходитъ отъ того, что, когда всѣ бене-
фиціи приблизительно равны между собою, ни одна не можетъ быть очень богата,
и, слѣдовательно, знатнѣйшіе даже члены духовенства имѣютъ посредственные до-
ходы. Человѣкъ же, не имѣющій достаточнаго состоянія для того, чтобы жить ши-
роко, не можетъ имѣть вліянія иначе, какъ только при соблюденіи примѣрной нрав-
ственности. Какъ скоро онъ не обладаетъ богатствомъ, которое давало бы ему вѣсъ,
разгульная жизнь сдѣлаетъ его смѣшнымъ. Для того, чтобъ избѣжать презрѣнія, а
вмѣстѣ съ тѣмъ и оградить себя отъ расходовъ, которыхъ требуетъ распущенный
образъ жизни и которыхъ не допускаетъ ограниченность его средствъ, ему остается
одинъ только способъ, и за этотъ способъ онъ и хватается. Онъ упрочиваетъ свое
вліяніе и бережетъ карманъ, возставая противъ тѣхъ наслажденій, которыми ему
самому пользоваться было бы накладно. Тутъ, какъ и во всѣхъ другихъ случаяхъ,
человѣкъ идетъ тѣмъ путемъ къ жизни, который указываетъ ему собственная польза.
Въ этихъ поразительныхъ выводахъ, заключающихъ въ себѣ значительную
долю истины, но далеко еще не полную истину, не оставлено вовсе мѣста для дѣй-
ствія благороднѣйшихъ побужденій нашей природы; всякая система нравственности,
господствующая въ то пли другое время и въ томъ или другомъ классѣ общества,
выводится исключительно изъ внушеній своекорыстія, безъ всякой примѣси какого-
либо иного элемента. Разсуждая отъ этого начала съ той отмѣнной тонкостью, ко-
торой отличался его умъ, Адамъ Смитъ объясняетъ многія другія явленія, которыя
представляетъ общество и которыя на первый взглядъ кажутся ни съ чѣмъ несооб-
разными. По старымъ понятіямъ, который, признаться, и теперь не совсѣмъ еще
исчезли, всякій, кто получалъ отъ кого-либо жалованье, считался получившимъ личное
одолженіе отъ того, кто платилъ это жалованье; то есть, сверхъ обязанности испол-
нить извѣстныя послуги, на немъ еще оставался нравственный долгъ относительно
у простого парода, второй болѣе оказываетъ уваже-
нія п охоінѣе придерживается такъ называемое выс-
шее общество. Главное различіе между обѣими сис-
темами, составляетъ, повидимому, степень неодобре-
нія, съ какимъ люди относятся къ порокамъ верто-
прашества и порокамъ, нерѣдко возникающимъ изъ
большого богатства, изъ избытка веселости и изъ раз- |
сѣянной жизни. Свободная или распущенная система
очень снисходительно смотритъ па сластолюбіе, па
пустое п даже безпорядочное веселье, на жажду удо-
вольствій, доводимую до нѣкоторой степени невоздерж-
ности; на нарушеніе цѣломудрія, по крайней мѣрѣ
со стороны мужчины, — лишь бы ати пороки не со-
проволцались грубой непристойностью л не доводили •
человѣка до лживыхъ и насильственныхъ поступковъ;
все это свободная система легко извиняетъ и даже |
положительно прощаетъ, Суровая система, напротивъ,
смотритъ па такую невоздержность съ величайшимъ .
01 вращеніемъ и негодованіемъ. Для простолюдина по- •
добные пороки всегда гибельны; одной недѣли невоз- ।
депжкости п разгула бываетъ иногда достаточно для
того, чтобы въ копецъ сгубить бѣднаго работника и
довести его съ горя до самыхъ тяжкихъ преступле- I
ній. Поэтому благоразумнѣйшіе и лучшіе люди пзь |
простого народа всегда смотрятъ съ величайшимъ ужа-
сомъ и отвращеніемъ на подобныя увлеченія, зная по
опыту, что опи людямъ пхъ сословія грозятъ неми-
нуемой гибелью. Человѣка высшаго общества, напро-
тивъ, нѣсколько лѣтъ безпорядочной жизни и мотов-
ства но всегда разорятъ въ конецъ; и свѣтскіе люди
болѣо или менѣе склонны считать возможность пре-
даваться до нѣкоторой степени такимъ излишествамъ
за одну изъ выгодъ, доставляемыхъ имъ богатствомъ,
а въ возможности это дѣлать, не подвергаясь осужде-
нію илп парекапІю, видятъ одну изъ льготъ, ирисво-
еппыхъ пхъ общественному положенію. Поэтому въ
людяхъ себѣ равныхъ опи смотрятъ на подобные по-
роки только съ весьма легкимъ оттѣнкомъ неодобре-
нія и осуждаютъ ихъ съ большимъ снисхожденіемъ,
или даже вовсе пе осуждаютъ.
«Почти всѣ религіозныя секты возникали изъ
среды простого народа, п въ пемъ обыкновенно на-
ходили себѣ самыхъ первыхъ и многочисленныхъ по-
слѣдователей. Вслѣдствіе того эти секты почти всегда
принимали строгую систему нравственности; исклю-
ченія конечно бывали, по ихь очепъ немного. При-
нятіемъ этой системы опѣ могли всего лучше заре-
комендовать себя тому классу народа, къ которому
опѣ прежде всего обращались съ своими планами пре-
образованія существующаго порядка. Многія изъ нихъ,
пожалуй даже большая часть, старались перещеголять
другъ друга, еще болѣе усиливая эту строгость нрав-
ственныхъ правилъ и доводя пхъ до нѣкоторой сте-
пени безумія и чудовищности: и эта чрезмѣрная су-
ровость дѣйствительно болѣо чѣмъ что-либо иное
доставляла имъ почтеніе и благоговѣніе простого па-
рода... Вь мелкихъ религіозныхъ сектахъ поэтому
нравственность простого народа всегда почти отлича-
лась замѣчательной чистотой и строгостью; вообще
она была всегда гораздо строже, чѣмъ въ господствую-
щей церкви. Нерѣдко даже нравственное ученіе этихъ
мелкихъ сектъ доходило до крайней суровости и до
враждебнаго отношенія къ обществу» («Богатство па-
родовъ^, ч. V, гл. 1).
562
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
того лица. Полагали, что господинъ былъ властенъ не только принимать къ себѣ
въ услуженіе, кого хотѣлъ, но и платить служителямъ столько, сколько ему было
угодно, или по крайней мѣрѣ, что обычный средній размѣръ платы за услуги опре-
дѣлялся волей хозяевъ, какъ корпораціи. Слѣдовательно, низшіе классы должны
были почитать себя крайне обязанными высшимъ за то, что послѣдніе не давали
имъ меньше; и долгомъ каждаго человѣка, получавшаго плату, было принимать ее
съ покорной признательностью, съ чувствомъ благодарности за милость, оказываемую
великодушнымъ господиномъ.
Это ученіе, столь удобное для высшихъ классовъ общества и столь естественное
при господствовавшемъ въ прежнее время всеобщемъ невѣжествѣ по этимъ во-
просамъ, впервые начали подрывать отвлеченные мыслители семнадцатаго вѣка; но
только восемнадцатому столѣтію суждено было окончательно разрушить его, внеся
великую идею необходимости и доказавъ, что установленный въ данной странѣ раз-
мѣръ заработной платы есть неизбѣжный результатъ условій, въ которыхъ нахо-
дится страна, и что онъ нисколько не зависитъ ни отъ воли отдѣльныхъ лицъ, ни
даже отъ желаній какого-либо класса. Теперь это уже избитая истина для каждаго
образованнаго человѣка. Сознаніе ея исключило понятіе благодарности изъ денеж-
ныхъ отношеній между хозяевами и наемниками и привело людей къ уразумѣнію,
что слуги или рабочіе, получающіе плату, имѣютъ ничуть не болѣе причинъ быть
за нее благодарными, чѣмъ сами платящіе. Ибо такъ какъ назначеніе платы не
зависѣло отъ свободной воли нанимателя, то и производствомъ ея не оказывается
никакой милости. Все дѣло вынуждено необходимостью и обусловливается предше-
ствовавшими обстоятельствами. Едва миновалъ восемнадцатый вѣкъ, какъ это важное
открытіе было окончательно завершено неопровержимымъ доказательствомъ, что воз-
награжденіе за трудъ опредѣляется только двумя условіями, именно: размѣромъ на-
ціональнаго капитала, изъ котораго оплачивается весь трудъ страны, и числомъ
работниковъ, между которыми этотъ капиталъ долженъ дѣлиться.
Этимъ огромнымъ шагомъ въ нашемъ знаніи мы обязаны главнѣйшимъ обра-
зомъ, хотя не исключительно, Мальтусу; его сочиненіе о народонаселеніи, кромѣ
того, что оно составляетъ эпоху въ исторіи отвлеченнаго мышленія, уже привело
и къ нѣкоторымъ практическимъ результатамъ и, безъ сомнѣнія, приведетъ къ дру-
гимъ, еще болѣе важнымъ. Они появилось въ 1798 году, такъ что Адаму Смиту,
умершему въ 1790 году, не удалось видѣть результата, который не могъ бы не по-
радовать его; именно, что его воззрѣнія, при дальнѣйшей разработкѣ ихъ, не столько
собственно исправлялись, сколько расширялись. Не подлежитъ сомнѣнію, что, не будь
Адама Смита, не было бы и Мальтуса; то есть, еслибы Смитъ не положилъ осно-
ванія, Мальтусъ не могъ бы вывести зданіе. Адаму Смиту болѣе, чѣмъ кому бы то
ни было другому, должно приписать внесеніе понятія однообразной и необходимой
послѣдовательности въ столь произвольныя повидимому явленія богатства; онъ
изучилъ эти явленія съ помощью началъ, которыя почерпалъ исключительно изъ
основного принципа своекорыстія. По его воззрѣнію, хозяева не являютъ ни снис-
ходительности, ни сочувствія, и вообще никакой добродѣтели. Единственная ихъ
цѣль — собственный, эгоистическій интересъ. Между ними существуетъ постоянно
если не открытая, то безмолвно подразумѣваемая стачка, имѣющая предметомъ не
допускать выгоднаго для низшихъ классовъ возвышенія заработной платы; иногда
даже они входятъ и въ прямую стачку съ тѣмъ, чтобы понизить заработную плату
противъ настоящаго ея размѣра х). Въ нихъ нѣтъ сердца, они только думаютъ о
*) «Возражаютъ, что весьма рѣдко приходится
слышать о стачкахъ между хозяевами, между тѣмъ
какъ между работниками онѣ случаются очень часто.
По кто на этомъ основаніи вообразитъ, что стачки
между хозяевами рѣдкость, тотъ плохо знаетъ людей
и вовсе пе знакомъ съ дѣломъ. Между хозяевами вездѣ
и во всякое время существуетъ негласная, такъ ска-
зать подразумѣваемая, во постоянная и неизмѣнная
стачка—не возвышать заработной платы противъ су-
ществующаго въ данное время размѣра; нарушеніе
этого уговора считается измѣной и дѣлается для ви-
новнаго предметовъ нареканія со стороны его сосѣ-
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
563
себѣ самихъ. Мысль, будто они желаютъ сглаживать неравенства состояній, слѣдуетъ
откинуть, какъ одну изъ многихъ химеръ, созданныхъ протекціоннымъ духомъ, во-
ображавшимъ, что общество не могло бы держаться, еслибъ болѣе достаточные классы
не помогали бѣднѣйшимъ и не соболѣзновали о ихъ страданіяхъ. Это устарѣлое по-
нятіе опровергается уже тѣмъ фактомъ, что заработная плата всегда въ лѣтнее
время выше, чѣмъ въ зимнее, между тѣмъ какъ расходы, предстоящіе работнику
зимой, значительнѣе, чѣмъ лѣтомъ, и, слѣдовательно, человѣколюбіе требовало бы,
чтобы зимой, въ болѣе тяжелое время года, давали болѣе денегъ. Подобное же
явленіе представляютъ неурожайные годы, когда дороговизна на съѣстные припасы
многихъ людей заставляетъ идти въ услуженіе, чтобы имѣть возможность содержать
свои семейства. Хозяева, вмѣсто того, чтобы великодушно назначать такимъ служи-
телямъ большую плату, во вниманіе къ ихъ несчастному положенію, напротивъ,
еще пользуются этимъ положеніемъ для того, чтобы платить имъ меньше. Они вы-
говариваютъ болѣе выгодныя для себя условія, понижаютъ заработную плату въ то
именно время, когда состраданіе къ терпящимъ нужду и бѣдствіе должно бы побу-
ждать ихъ повышать ее. Мало этого, видя, что рабочіе, подъ гнетомъ бѣдности,
кромѣ того, что обходятся дешевле, дѣлаются еще болѣе покорными и сговорчивыми,
они смотрятъ на неурожай, какъ на благодать, и утверждаютъ, что годы дороговизны
благопріятнѣе для промышленности, чѣмъ дешевые годы.
Такимъ образомъ Адамъ Смитъ, хотя и не успѣлъ открыть болѣе отдаленной
причины, опредѣляющей размѣръ заработной платы, однако ясно видѣлъ, что бли-
жайшая причина заключается вовсе не въ великодушіи человѣческой природы, а,
напротивъ, въ ея своекорыстіи; что тутъ просто дѣло въ спросѣ и предложеніи, ибо
каждая сторона стремится пблучить отъ другой какъ/можно больше. Съ помощью
того же начала онъ объяснялъ другой любопытный фактъ, именно чрезвычайную
щедрость, съ какой награждаются нѣкоторые наиболѣе презрѣнные классы общества,
напримѣръ, балетные танцоры, которые постоянно получаютъ огромную плату за са-
мыя ничтожныя услуги. Онъ замѣчаетъ, что одну изъ причинъ, почему мы платимъ
имъ такъ щедро, составляетъ именно то, что мы ихъ презираемъ. Еслибъ ремесло
публичнаго танцора пользовалось уваженіемъ, то большее число людей обучалось бы
ему; предложеніе этого рода услугъ увеличилось бы, и конкуренція сбила бы плату
за нихъ. Но мы смотримъ на танцоровъ съ презрѣніемъ, и потому, взамѣнъ ува-
женія, должны давать имъ большія деньги, для того, чтобы заманивать ихъ на это
поприще 1). Тутъ оказывается, что вознагражденіе, которое одинъ классъ общества
даетъ другому, увеличивается не вслѣдствіе сочувствія, а, напротивъ, вслѣдствіе пре-
зрѣнія къ нему; такъ что чѣмъ менѣе мы уважаемъ занятія и образъ жизни ближ-
няго, тѣмъ щедрѣе его награждаемъ.
Затѣмъ, переходя къ совершенно иному классу людей, Адамъ Смитъ предста-
вляетъ въ новомъ свѣтѣ широкое гостепріимство, которымъ славилось духовенство въ
средніе вѣка и за которое воздавалась ему столь громкая хвала. Онъ доказываетъ,
что хотя духовенство безспорно облегчало въ то время многія нужды и страданія,
однако этого но слѣдуетъ ставить ему въ заслугу, такъ какъ это было просто ре-
деіі и сотоварищей. Правда, что до насъ очень рѣдко
доходятъ толки объ этой стачкѣ; но это происходитъ
отъ того, что опа есть обычное, такъ сказать есте-
ственное, положеніе дѣла, о которойь нечего и тол-
ковать». («Богатство народовъ», ч. I, гл VIII).
*) «На первый взглядъ кажется несообразностью,
что мы презираемъ ихъ самихъ и вь то же время съ
такою широкой щедростью награждаемъ пхъ искус-
ство. Однако второе ость необходимое послѣдствіе пер-
ваго. Если мнѣніе или предразсудокъ общества отно-
сительно подобнаго рода запятій когда-либо измѣнится,
то вслѣдъ затѣмъ уменьшится и денежное вознагра-
жденіе, которое за нихъ дается. Большее число людей
примется за это искусство, и конкуренція быстро по-
низитъ цѣну пхъ труда. Такіе таланты, хотя пе па
каждомъ шагу встрѣчаются, однако далеко но такая
рѣдкость, какъ мы воображаемъ. Много найдется та-
кпхъ людей, которые обладаютъ этимъ искусствомъ въ
замѣчательн »й степени, но считаютъ унизительнымъ
дѣлать пзъ него подобное употребленіе; и много бы
нашлось еще такихъ, которые безъ труда могли бы
пріобрѣсти его, еслибь можно было извлекать изъ
пого пользу, не утрачивая общаго уваженія* *. («Богат-
ство пародовъ», ч. I, гл. X).
564
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
зультатомъ особенностей его положенія; да притомъ же. дѣйствуя такимъ образомъ,
оно очевидно дѣйствовало въ видахъ собственной пользы. Духовенство въ средніе
вѣка обладало громаднымъ богатствомъ; но доходы свои оно по большей части по-
лучало не деньгами, а натурой, какъ-то: хлѣбомъ, виномъ, скотомъ. При совершен-
номъ почти несуществованіи торговли и мануфактурной промышленности ему больше
некуда было дѣвать эти продукты, какъ только обращать ихъ на прокормленіе по-
стороннихъ людей. Употребляя ихъ такимъ образомъ, оно получало прямую и поло-
жительную пользу отъ своего образа дѣйствій. Этимъ оно стяжало славу обширной
и щедрой благотворительности, упрочивало свое вліяніе, умножало число своихъ при-
верженцевъ, наконецъ, но только пролагало себѣ путь къ свѣтской власти, но и обез-
печивало духовнымъ своимъ угрозамъ такое благоговѣніе, какого имъ иначе никогда
бы не достигнуть.
Читатель теперь будетъ въ состояніи понять сущность способа изслѣдованія,
котораго держался авторъ «Богатства народовъ», и которому я не сталъ бы пред-
ставлять такого множества примѣровъ, еслибъ не то, съ одной стороны, что вопросъ
о методѣ мышленія лежитъ въ самомъ основаніи нашего знанія, а съ другой сто-
роны, что никто доселѣ не пытался анализировать характеръ ума .Адама Смита,
разсмотрѣвъ его два большія сочиненія, какъ противоположныя, но въ то же время
взаимно себя дополняющія части одного цѣлаго. А такъ какъ онъ. безъ всякаго срав-
ненія.—величайшій изъ всѣхъ мыслителей Шотландіи, то мнѣ едва-ли нужно изви-
няться въ томъ, что я въ исторіи умственнаго развитія этой страны удѣлилъ столько
вниманія его системѣ и старался изслѣдовать ее въ самомъ ея основаніи. Но за-
тѣмъ уже было бы совершенно безполезнымъ многословіемъ распространяться съ
такой же подробностью о произведеніяхъ другихъ замѣчательныхъ шотландскихъ писа-
телей того же времени, которые почти всѣ слѣдовали методу въ сущности одинаковому,
хотя п пе вполнѣ тождественному съ его методомъ; именно почти всѣ они предпо-
читали дедуктивный способъ разсужденія, исходящій отъ начать, индуктивному спо-
собы восхожденія къ началамъ. По своей особенной формѣ дедукціи, заключающейся
въ сознательной'!) устраненіи извѣстной части началъ, Адамъ Смитъ стоитъ совер-
шенно одиноко; ибо хотя нѣкоторые другіе мыслители и пытались пользоваться его
методомъ, но они не употребляли его послѣдовательно, а только обращались къ нему
но временамъ и не сознавали, подобно ему, какъ необходимо, при употребленіи
этого метода, слѣдовать ому съ величайшей строгостью, неуклонно воздерживаясь
отъ допущенія въ свои посылки такихъ соображеній, которыя могли бы усложнить
предстоящую къ разрѣшенію задачу.
Между современниками Адама Смита однимъ изъ первыхъ и по силѣ даро-
ванія, и по своей славѣ является Давидъ Юмъ. Его сужденія по разнымъ вопро-
самъ политической экономіи вышли въ свѣіт> въ 1752 году, то есть въ томъ самомъ
году, въ которомъ Адамъ Смитъ преподавалъ съ профессорской каѳедры начала,
впослѣдствіи развитыя имъ въ «Богатствѣ народовъ». По Юмъ, хотя превосходный
діалектикъ и при томъ глубокій и смѣлый мыслитель, пе имѣлъ всеобъемлющаго
взгляда Адама Смита; кромѣ того онъ не обладалъ тѣмъ неоцѣненнымъ свойствомъ
воображенія, безъ котораго человѣкъ не можетъ въ такой степени перенестись въ
минувшія эпохи, чтобы воспроизвести долгое поступательное движеніе общества,
находящагося въ постоянномъ колебаніи то въ ту. то въ другую сторону, но во всемъ
своемъ цѣлом'ь неизмѣнно идущаго впередъ. Какъ мало было у него воображенія—
видно не только изъ высказываемыхъ имъ воззрѣній, но также изъ многихъ слу-
чаевъ его частной жизни. Это видно и изъ колорита, и самаго строенія его рѣчи,
изъ того изящнаго, отчеканеннаго слога, которымъ онъ обыкновенно писалъ.—отпо-
лированнаго, какъ мраморъ, но л столь холоднаго, лишеннаго того пламеннаго
энтузіазма и тѣхъ взрывовъ бурнаго краснорѣчія. которые естественно возбуждаются
по временамъ величіемъ описываемыхъ предметовъ и которые волнуютъ людей до
глубины души. Вслѣдствіе этого именно отсутствія воображенія Юмъ въ своей
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
565
«Исторіи Англіи»,—въ этомъ превосходномъ произведеніи искусства, которому, не-
смотря на всѣ его погрѣшности, мы не перестанемъ дивиться до тѣхъ поръ, пока
будетъ въ насъ живо чувство прекраснаго,—не могъ сочувствовать тѣмъ смѣлымъ
и благороднымъ личностямъ, которыя въ семнадцатомъ столѣтіи жертвовали всѣмъ
для сохраненія свободы отечества. Его воображеніе было слишкомъ слабо для того,
чтобы нарисовать полную картину этого великаго вѣка съ его обширными откры-
тіями, его стремленіемъ къ разгадкѣ неизвѣданнаго, его роскошной литературой
и — что выше всего остального — его суровой рѣшимостью добыть свободу и поло-
жить конецъ тиранніи. Ясному и могучему разсудку Юма все это представлялось
порознь, разъединенными частями; слить же ихъ въ одинъ цѣлый образъ онъ не
могъ потому, что ему не дано было той особенной способности, съ помощью кото-
рой человѣкъ сближаетъ прошедшее съ настоящимъ и почти съ одинаковой легкостью
читаетъ и въ томъ, и въ другомъ. То великое возстаніе, которое онъ приписывалъ
духу крамолы, и вождей котораго онъ поднималъ па смѣхъ, было только продолже-
ніемъ того движенія, начало котораго можно ясно прослѣдить до двѣнадцатаго сто-
лѣтія и въ которомъ такія событія, какъ изобрѣтеніе книгопечатанія и введеніе
реформаціи, являются лишь послѣдовательными симптомами. До всего этого Юму
дѣла не было. Въ области философіи, въ изслѣдованіи чисто отвлеченной стороны
религіозныхъ ученій проницательный умъ его ясно видѣлъ, что тутъ ничего не
можетъ быть сдѣлано безъ духа безбоязненной и ничѣмъ не стѣсняемой свободы.
Тіо тутъ рѣчь шла о свободѣ собственнаго его класса: о свободѣ мыслителей, а не
практическихъ дѣятелей. Недостатокъ воображенія не позволялъ ему простирать свое
сочувствіе далѣе мыслящихъ\классо_въ,_съ^чувствами которыхъ онъ непосредственно
вѣдался. Изъ этого можно зайлючить^_чтоУеііо>политическія погрѣшности происхо-
дили не отъ недостаточности изслѣдованія, чему ихъ обыкновенно приписываютъ,
а скорѣе отъ свойственной ему холодности х). Она-то и была причиной тому, что
онъ остановился на точкѣ, на которой мы его видимъ, и что сочиненія его пред-
ставляютъ такое странное явленіе,-—глубокаго и оригинальнаго мыслителя, въ поло-
винѣ восемнадцатаго вѣка защищающаго въ практической области такія нелибе-
ральныя ученія, что осуществленіе ихъ повело бы къ деспотизму, и въ то же время
въ области отвлеченной мысли отстаивающаго ученія такія смѣлыя и просвѣщенныя,
что они далеко опережаютъ не только собственное его время, но отчасти даже и
нашъ вѣкъ.
Изъ воззрѣній его въ области отвлеченнаго мышленія наиболѣе важны: его
теорія причинности, исключающая идею власти, и его теорія законовъ ассоціаціи
идей. Нп та, ни другая изъ этихъ теорій въ основныхъ своихъ чертахъ не есть
что-либо совершенно оригинальное; но его обработка придала имъ столько цѣны,
что онѣ могутъ почитаться за его собственность. Его теорія чудесъ въ связи съ
одной стороны съ началами теоріи доказательствъ, а съ другой — съ законами
причинности, разработана имъ съ величайшимъ искусствомъ, и нынѣ, съ нѣкото-
рыми измѣненіями, сдѣланными въ ней впослѣдствіи Броуномъ, служитъ основаніемъ,
на которое опираются всѣ лучшія изслѣдованія по этому предмету. Сочиненіе его о на-
чалахъ нравственности, установивъ законы цѣлесообразности, проложило путь Бен-
!) Въ этомъ мнѣній особенно утверждаетъ меня
то обстоятельство, что по мѣрѣ того, какъ Юмъ ста-
рѣлъ, и чѣмъ болѣо онъ изучалъ исторію, тѣмъ упор-
нѣе привязывался онь къ своимъ ошибочнымъ воз-
зрѣніямъ,—чего по могло бы быть, еслибъ эти оши-
бочныя воззрѣнія происходили, какъ утверждаютъ мно-
гіе критики, пзъ недостаточнаго знакомства съ па-
мятниками. Вертокъ, сравненіемъ различныхъ изда-
ній его «Исторіи Англіи», доказываетъ, что суж-
денія его постепенно становились все болѣе и болѣе
неблагопріятными для народной свободы; что онъ въ
послѣдующихъ изданіяхъ постоянно умѣрялъ и даже
вовсе исключалъ всѣ тѣ выраженія, которыя клони-
лись въ пользу свободы. Самъ Юмъ въ своей авто-
біографіи говоритъ: «Измѣненія—ихъ больше сотни,—
которыя я находилъ нужнымъ сдѣлать въ своей исто-
ріи царствованія двухъ первыхъ Стюартовъ, вслѣд-
ствіе ближайшаго изученія, чтенія и размышленія,—
сдѣланы всѣ въ духѣ дорійской партіи», Въ одномъ
изъ своихъ мелкихъ трактатовъ онъ говоритъ, что «въ
мыслителяхъ не бываетъ энтузіазма»; — замѣчаніе
вполнѣ вѣрное въ примѣненіи къ нему самому, но
вовсе не основательное, если распространять его на
весь классъ людей, къ которому онъ его относитъ.
566
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
таму, который потомъ соединилъ съ ними оцѣнку болѣе отдаленныхъ послѣдствій
человѣческихъ поступковъ, между тѣмъ какъ Юмъ преимущественно ограничивался
болѣе непосредственными результатами ихъ. Ученіе о полезности было общее имъ
обоимъ, но Юмъ примѣнялъ его главнѣппіе къ отдѣльному человѣку, Бейтамъ же рас-
пространялъ на все окружающее общество. Бентамъ далъ этому ученію болѣе ши-
рокое значеніе; но Юмъ, какъ первый по времени, имѣетъ преимущество большей
оригинальности. Ту же честь оригинальности слѣдуетъ воздать его политико-эконо-
мическимъ теоріямъ, защищавшимъ тѣ начала свободной торговли, которыя поли-
тики начали принимать только много лѣтъ спустя послѣ его смерти *). Въ противо-
положность господствовавшимъ въ его время понятіямъ, онъ положительно утвер-
ждалъ, что всѣ товары хотя, повидимому, покупаются на деньги, но собственно прі-
обрѣтаются за трудъ. Деньги, слѣдовательно, не составляютъ предмета торговли, и
вся ихъ польза въ томъ только, что онѣ способствуютъ торговлѣ. Поэтому безраз-
судно государству хлопотать о торговомъ балансѣ или издавать законы для ограни-
ченія вывоза драгоцѣнныхъ металловъ. Равнымъ образомъ и средній размѣръ про-
цента на деньги зависитъ вовсе не отъ скудности или обилія ихъ, а отъ дѣйствія
болѣе общихъ причинъ * 2). Какч> необходимое послѣдствіе этихъ положеній, Юмъ
представлялъ ложность тогдашней политики, которая побуждала торговыя государ-
ства смотрѣть другъ на друга, какъ на соперниковъ, между тѣмъ какъ на самомъ
дѣлѣ, если взглянуть на вопросъ съ болѣе высокой точки зрѣнія, тутъ мѣсто не со-
перничеству, а взаимному содѣйствію, ибо каждая страна выигрываетъ отъ увели-
ченія богатства ея сосѣдей- Всякій, кто знакомъ съ характеромъ торговаго законо-
дательства и съ образомъ мыслей _самыхъ даже просвѣщенныхъ изъ государствен-
ныхъ людей за сто лѣтъ тому назадъ, согласится, что выраженіе такихъ воззрѣній
въ 1752 году составляетъ ^явленіе чрезвычайно Замѣчательное. Но еще замѣ-
чательнѣе то, что авторъ ихъ впослѣдствіи открылъ основную ошибку, въ кото-
рую впалъ Адамъ Смитъ, и которая вредитъ правильности многихъ изъ его вы-
водовъ. Ошибка эта заключается въ томъ, что онъ разлагалъ цѣну на три состав-
ныя части, именно: на заработную плату, прибыль ичренту, между тѣмъ какъ то-
/
2) Между тѣмъ какъ современные ему политики
ни во что пе ставили его воззрѣнія, политики нашего
времени, повидимому, расположены превозносить пхъ
выше дѣйствительнаго ихъ достоинства. Лордъ Брумъ,
напримѣръ, въ своей біографіи Юма говоритъ о ого
значеніи въ политической экономіи: «Юмъ, безъ вся-
каго сомнѣнія, есть родоначальникъ новѣйшихъ уче-
ній, нынѣ господствующихъ во всемъ ученомъ мірѣ».
Этотъ отзывь однако весьма далекъ отъ истины; на-
противъ, въ пауку политической экономіи со вре-
менъ Юма внесено столько новыхъ дополненій, что
этотъ знаменитый мыслитель, еслибъ возсталъ изъ мерт-
выхъ, едва-ли узналъ бы ее. Ему были совершенно
неизвѣстны многія изъ самыхъ широкихъ и основныхъ
ея началъ. Юмь ничего но зналъ о причинахъ, управ-
ляющихъ накопленіемъ богатства, и о томъ, почему
это накопленіе совершается съ различной степенью
быстроты, при различныхъ состояніяхъ общества. Ни-
чего не зналъ также Юмъ ни о законѣ взаимнаго отно-
шенія населенія и заработной платы, ни о взаимномъ
отношеніи заработной платы и прибылей. Онъ былъ
даже убѣжденъ, что чѣмъ богаче какая-либо страна
и чѣмъ значительнѣе ея торговля, тѣмъ легче дру-
гой, бѣдной странѣ продавать свои произведенія въ
подрывъ ея произведеніямъ, потому что бѣдная страна
имѣетъ передъ богатой преимущество низкой зара-
ботной платы; что внутреннее достоинство денегъ мо-
жетъ быть понижаемо безъ повышенія отъ того цѣнъ,
и что страна можетъ увеличить свое народонаселеніе
посредствомъ обложенія пошлинами иностранныхъ про-
дуктовъ.
\
«Если, напримѣръ—говорить опъ— перечеканить
всѣ наши деньги п убавить серебра на одинъ пенсъ
въ каждомъ шиллингѣ, то па такой новый шиллингъ
можно будетъ, но всѣмъ вѣроятіямъ, покупать все
то же, чтб покупалось на прежній; такимъ образомъ
цѣпы па всякаго рода вещи нечувствительно пони-
зятся, оживится внѣшняя торговля, а внутренняя про-
мышленность расширится и будетъ поощрена чрезъ
обращеніе большаго числа фунтовъ и шиллинговъ».
Все это ошибки капитальныя, подрывающія по-
литическую экономію въ самомъ основаніи; п если
добросовѣстно оцѣнить то, чтб сдѣлано въ наукѣ Маль-
тусомъ п Рикардо, то становится очевидно, что ІОмовы
ученія вовсе не «господствуютъ въ ученомъ мірѣ».
Этимъ нисколько не умаляются заслуги Юма, кото-
рый конечно совершилъ удивительныя вещи, если
і принять въ соображеніе состояніе науки вь его время.
I Вся ошибка на сторонѣ тѣхъ, которые воображаютъ,
I что паука, такъ быстро идущая впередъ, какъ нолп-
। тическая экономія, можегъ руководиться ученіями,
; высказанными слишкомъ за сто лѣтъ назадъ.
і 2) II въ послѣдующее время пониманіе этой
I истины было такъ еще мало распространено, что, когда
' началось въ Австраліи н въ Калифорніи добываніе
I золота въ огромныхъ количествахъ, повсюду стали хо-
і дить сильные толки, что проценты на деньги должны
I упасть вслѣдствіе этого происшествія, между тѣмъ
| какъ не подлежитъ никакому сомнѣнію, что, хотя бы
। золото было такъ же изобильно, какъ желѣзо, размѣръ
| прицептовь на деньги отъ этого нисколько бы не измѣ-
[ ннлея; все вліяніе отразилось бы только на цѣнахъ.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVIII СТОЛ.
567
перь признано, что цѣна слагается только изъ заработной платы и прибыли; рента
же есть не элементъ цѣны, а результатъ ея. Это открытіе составляетъ краеугольный
камень политической экономіи; но оно выводится изъ такой длинной и утонченной
аргументаціи, что только очень немногіе умы могутъ слѣдить за нею, не сбиваясь,
и большая часть людей, принимающихъ это положеніе, принимаютъ его только ради
авторитета великихъ писателей, которыхъ они уважаютъ и на мнѣніе которыхъ они
полагаются. Поэтому поразительнымъ свидѣтельствомъ о проницательности Юма
служитъ то, что онъ въ такое время, когда наука только-что зарождалась и когда
такъ мало можно было найти помощи у предшественниковъ, умѣлъ однакоже уло-
вить подобную ошибку, кроющуюся такъ глубоко подъ поверхностью изслѣдуемаго
предмета. Какъ только «Богатство народовъ» вышло въ спѣтъ, опъ писалъ къ Адаму
Смиту, опровергая его положеніе, что рента входитъ въ составъ цѣны произведе-
ній. Это письмо, писанное въ 1776 году, составляетъ первый намекъ на ту знаме-
нитую теорію ренты, которую нѣсколько позднЬе понимали, но не умѣли удовлетво-
рительно развить Андерсонъ, Мальтусъ и Вестъ и которую только генію Рикардо
суждено было окончательно построить на широкомъ и прочномъ основаніи.
Достойно вниманія то, что Юмъ и Адамъ Смитъ, два мыслителя, сдѣлавшіе
такія громадныя приращенія къ нашему знанію основныхъ началъ торговли, сами
не были практически знакомы съ торговымъ дѣломъ. Юмъ, правда, въ молодости
пробылъ нѣкоторое время въ купеческой конторѣ, но вскорѣ съ отвращеніемъ бро-
силъ это занятіе и удалился въ глушь провинціальнаго городка, чтобы предаться
болѣе размышленію, чѣмъ наблюденію. И дѣйствительно, одинъ изъ главныхъ не-
достатковъ его ума составляетъ пренебреженіе къ фактамъ. Но это пренебреженіе
къ фактамъ не происходило у него, какъ слишкомъ часто бываетъ, отъ равнодушія
къ истинѣ,—этой худшей форм^^^^^^^^^^^^^^ва; напротивъ, онъ былъ рев-
ностный поборникъ истины, и пріГтбм'ДчёловѣЖтсамой чистой и возвышенной души,
совершенно неспособный лгать или какимъ’бГтб нійбыло образомъ кривить душой.
Въ немъ пренебреженіе къ фактамъ было только плодомъ доведеннаго до крайности
уваженія къ идеямъ. Онъ не только былъ убѣжденъ,—и въ извѣстной мѣрѣ совер-
шенно справедливо,—что идеи важнѣе фактовъ, но и полагалъ, что онѣ въ порядкѣ
изученія должны занимать первое мѣсто; что мы должны развивать ихъ прежде,
чѣмъ приступимъ къ изслѣдованію фактовъ. Къ Бэконовой философіи, которая
хотя и допускаетъ предварительную, такъ сказать пробную, гипотезу, но вмѣстѣ
съ тѣмъ неуклонно настаиваетъ на необходимости сперва собрать факты, а потомъ
уже восходить къ идеямъ,—опъ питалъ отвращеніе, и этимъ безъ сомнѣнія должно
объяснять то обстоятельство, что онъ, обыкновенно столь мягкій въ своихъ сужде-
ніяхъ и столь ревностный почитатель умственнаго величія, такъ грубо несправед-
ливъ къ Бэкону, методу котораго ему невозможно было сочувствовать, хотя онъ
и не могъ отрицать пользу отъ употребленія такого метода въ естественныхъ
наукахъ х).
Еслибъ Юмъ слѣдовалъ Бэконову методу, то есть поставилъ себѣ за правило
всегда восходить отъ частнаго къ общему и отъ одного обобщенія къ другому, не-
посредственно за нимъ слѣдующему, то онъ едва-ли написалъ бы хоть одно изъ
свопхъ сочиненій. Конечно не написалъ бы онъ тогда своихъ политико-экономиче-
Онъ отзывается о немъ въ слѣдующихъ стран-
ныхъ выраженіяхъ: «Когда мы имѣемъ въ виду чрез-
вычайное разнообразіе способностей, которыми обла-
далъ этотъ человѣкъ; соображаемъ, что онъ былъ и
публичный ораторъ, и дѣлецъ, п острый свѣтскій
человѣкъ, и ловкій царедворецъ, и пріятный собе-
сѣдникъ, и писатель, и философъ,— тогда онъ по спра-
ведливости возбуждаетъ удивленіе. По если смотрѣть
на него только какъ на писателя п философа, въ ка-
ковомъ отношеніи мы въ настоящую минуту собственно
п судимъ о немъ, то онъ хотя и является* все-такп
человѣкомъ очень замѣчательнымъ, однако стоитъ
ниже своего современника Галилея, а пожалуй
даже и Кеплера.... Чувство національной гордо-
сти. сильно развитое у англичанъ и составляю-
щее источникъ пхъ счастія, побуждаетъ ихъ осы-
пать свопхъ замѣчательныхъ писателей, въ томъ
числѣ и Бэкона, такими восторженными хвалами,
которыя часто могутъ казаться пристрастными и пре-
увеличенными».
508
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
скихъ разсужденій, потому что политическая экономія—такая же по самому существу
своему дедуктивная наука, какъ и геометрія. Но онъ избралъ путь прямо обратный
индуктивному методу; онъ начиналъ съ того, что онъ называлъ общими аргументами,
и посредствомъ ихъ надѣялся доказать несостоятельность мнѣній, которыя почита-
лись доказанными изъ фактовъ. Онъ не трудился надъ изслѣдованіемъ фактовъ, изъ
которыхъ были выведены заключенія, а перевернулъ порядокъ, которымъ надлежало
добывать выводы. Ту же неохоту ставить факты торговли въ основаніе науки о
торговлѣ видимъ мы и у Адама Смита, который прямо высказываетъ свое недовѣріе
къ статистикѣ или, какъ ее тогда называли, къ политической ариѳметикѣ. Между
тѣмъ очевидно, что статистическіе факты такъ же надежны, какъ и всякіе другіе
факты, а благодаря своей математической формѣ, они очень опредѣлптельны х). Но
когда они касаются человѣческихъ дѣяній, они суть результатъ всѣхъ побужденій,
которыми обусловливаются эти дѣянія; въ другихъ словахъ, они суть результатъ не
одного только своекорыстія, но и сочувственнаго начала. А такъ какъ Адамъ Смитъ
въ «Богатствѣ народовъ» имѣлъ въ виду одно только изъ этихъ побужденій, именно
своекорыстіе, то ему было бы невозможно вести свое обобщеніе отъ статистиче-
скихъ данныхъ, которыя необходимо заимствуются отъ явленій, составляющихъ про-
дуктъ обоихъ побужденій. Такіе статистическіе факты были бы по своему проис-
хожденію слишкомъ сложны для обобщенія, тѣмъ болѣе, что ихъ нельзя было под-
вергнуть произвольному опыту, а можно было только наблюдать и располагать въ томъ
или другомъ порядкѣ. Адамъ Смитъ, усматривая невозможность совладать съ ними,
очень благоразумно уклонился отъ принятія ихъ въ основаніе своей науки и пользо-
вался ими только въ видѣ примѣровъ для поясненія, при чемъ могъ изъ нихъ выби-
рать, что ему было угодно. То же замѣчаніе относится и къ другимъ фактамъ, ко-
торые онъ почерпалъ изъ иЬторіи торговли или даже изъ общей исторіи человѣ-
ческаго общества. Всѣ эти факты у него! въ сущности слѣдуютъ за теоретическимъ
положеніемъ. Онп уясняютъ положеніе, но нисколько не придаютъ ему большей
твердости. Ибо можно сказать безъ преувеличенія, что еслибъ всѣ торговые и исто-
рическіе факты, собранные въ «Богатствѣ пародовъ», оказались ложными, книга
все-таки уцѣлѣла бы, и выводы ея нисколько не утратили бы своей прочности, а
только стали бы менѣе заманчивы. Все въ ней зиждется на общихъ началахъ; эти же
общія начала, какъ мы видѣли, были уже выработаны въ 1752 году, то есть за
двадцать четыре года до выхода въ свѣтъ сочиненія, въ которомъ они примѣнены.
Слѣдовательно, они очевидно были выработаны независимо отъ фактовъ, которые
Адамъ Смитъ впослѣдствіи присоединилъ къ нимъ и которые онъ собиралъ въ про-
долженіе этихъ цѣлыхъ двадцати четырехъ лѣтъ. При томъ же десять лѣтъ, употреб-
ленныя имъ собственно на сочиненіе своей книги, онъ провелъ вовсе не въ одномъ
изъ тѣхъ средоточій людской дѣловой жизни, въ которыхъ онъ могъ бы наблюдать
разнообразныя явленія промышленности и изучать дѣйствіе торговли на нравъ чело-
вѣка и вліяніе послѣдняго на нее. Онъ не поселился на одномъ изъ тѣхъ обшир-
ныхъ рынковъ, въ одномъ изъ тѣхъ центровъ торговли, гдѣ преимущественно совер-
шались тѣ событія и явленія, которыя онъ пытался объяснить. Не таковъ былъ его
методъ. Напротивъ, десять лѣтъ, посвященныхъ имъ на возведеніе въ науку самой
дѣятельной отрасли человѣческой жизни, онъ прожилъ совершеннымъ отшельникомъ
въ Керкальди, въ своемъ мирномъ родномъ городѣ. Онъ всегда отличался необык-
дицина не допускаетъ примѣненія математическаго ме-
тода. Па дѣлѣ же единственное дѣйствительное пре-
пятствіе къ тому заключается въ жалкомъ состояніи
клинической и патологической терминологіи, въ ко-
торой такая путаница, что приходятся сомнѣваться
въ точности всякихъ обширныхъ числовыхъ данныхъ
| касательно болѣзней.
’) «Дѣйствительно, одно, чтд можно противъ нихъ
возражать, это то, что способъ выраженія ихъ собн- I
ратѳлей бываетъ иногда сбивчивъ, такъ что подъ однимъ
и тѣмъ же показаніемъ одинъ статистикъ разумѣетъ
одно, а другой—нѣчто совершенно иное. Это особенно
бросается въ глаза во врачебной статистикѣ; изъ чего
нѣкоторые писатели, незнакомые съ сущностью на-
учныхъ доказательствъ, вывели заключеніе, будто ме-
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVIII СТОЛ.
569
новепной разсѣянностью и былъ такъ мало склоненъ къ наблюденію, что нерѣдко
забывалъ все, что дѣлалось непосредственно около него. Удалившись въ Керкальди,
въ тихій пріютъ своего дѣтства, онъ могъ безопасно предаться этой забывчивости.
Тутъ, услаждаясь обществомъ одной только своей матери, не имѣя никакихъ слу-
чаевъ наблюдать человѣческую природу въ широкихъ размѣрахъ, удаленный отъ
шума большихъ городовъ,—могучій мыслитель одною силою своего ума разгадывалъ
многочисленныя и многосложныя явленія богатства, проникалъ въ побужденія, кото-
рыми управляются дѣйствія самой трудолюбивой и энергической части человѣчества,
раскрывалъ всѣ стремленія и тайныя пружины той житейской дѣятельности, отъ ко-
торой онъ загородилъ себя; то есть, запершись въ совершенное почти одиночество,
онъ лишилъ себя возможности созерцать тѣ именно факты, которые онъ же такъ
успѣшно разъяснилъ.
Ту же рѣшимость предпосылать изученіе началъ изученію фактовъ находимъ
мы у Юма въ одномъ изъ наиболѣе оригинальныхъ его сочиненій, въ «Естествен-
ной Исторіи Религіи». Относительно названія этого трактата должно замѣтить, что,
по понятіямъ шотландскихъ философовъ, естественный ходъ какого-либо движенія
отнюдь не одно и то же, что дѣйствительный ходъ его. Этотъ разладъ между идеаль-
нымъ и дѣйствительнымъ есть необходимый результатъ ихъ метода х). Ибо, мысля де-
дуктивно отъ предвзятыхъ посылокъ, они не могли принимать въ разсчетъ уклоне-
нія, которымъ подвергались ихъ выводы, вслѣдствіе движенія окружающаго общества
и столкновеній съ нимъ. Для этого потребовалось бы особое изслѣдованіе. Необхо-
димо было бы изслѣдовать обстоятельства;, которыя приводили къ этимъ столкнове-
ніямъ и чрезъ то не позволяли ихъ выводамъ быть тѣмъ же въ сферѣ фактовъ, чѣмъ
они были въ сферѣ умозрѣнія4.. Такъ называемыя случайности встрѣчаются на каж-
домъ шагу, и онѣ-то и не позволяютъ дѣйствительному ходу дѣлъ совпадать съ
естественнымъ ихъ ходомъ. И пока мы не будемъ въ состояніи предсказывать эти
случайности, до тЬхъ поръ не будетъ и полнаго согласія между выводами дедуктив-
ной науки п явленіями дѣйствительной жизни; другими словами, наши выводы бу-
дутъ только приближаться къ истинѣ, но не будутъ вполнѣ совпадать съ нею.
Поэтому Юмъ совершенно основательно назвалъ свое сочиненіе «Естествен-
ною Исторіею Религіи». Это превосходный образецъ дедуктивнаго метода. Един-
ственный въ немъ недостатокъ—тотъ, что авторъ съ слишкомъ большой увѣренностью
говоритъ о точности результатовъ, которыхъ можно по такому предмету достигнуть
этимъ путемъ. Онъ вѣрилъ, что посредствомъ наблюденія основныхъ началъ чело-
вѣческой природы, какими они являлись въ собственномъ его умѣ, возможно было
объяснить весь ходъ явленій, и нравственныхъ, и физическихъ2). Этихъ началъ можно
было достигнуть посредствомъ опыта надъ самимъ собою; затѣмъ по достиженіи ихъ
слѣдовало умозаключить отъ нихъ дедуктивнымъ путемъ и такимъ образомъ построить
всю систему. Этотъ пріемъ онъ противопоставляетъ индуктивному методу, называя
послѣдній процессомъ скучнымъ и мѣшкотнымъ; другимъ предоставляетъ онъ обра-
*) Одинъ шотлапдекій философъ очень ясно и і
точно выразилъ сущность этого любимаго пріема сво- і
нхъ соотечественниковъ. «При разсмотрѣніи исторіи I
человѣчества, равно какъ и при разсмотрѣніи явле-
ній физическаго міра, въ тѣхъ случаяхъ, когда мы >
не можемъ прослѣдить процесса, которымъ произве-
дено событіе, весьма важна бываетъ иногда возмож- I
ность показать, какимъ образомъ оно могло бытъ
произведено естественными причинами... Такого рода |
философское изслѣдованіе, по имѣющее названія на !
нашемъ языкѣ, я позволю себѣ назвать іЬеогеііса! I
или соіі|есіііга1 Ьізіогу (тсоргтггческою или гада- |
тельною гіеторіей), — словомъ, значеніе котораго
весьма близко подходитъ къ выраженію естествен- (
пая исторія въ томъ смыслѣ, въ какомъ употре- ,
бляхъ его Юмъ, и къ тому, что нѣкоторые француз- |
скіе писатели называю гь Ьізіоіге г а і 8 о п п ё е».
Отсюда «въ большей части случаевъ гораздо важнѣе
бываетъ раскрыть самый простоя ходъ (событія или
явленія), чѣмъ ходъ его, наиболѣе согласный съ дѣй-
ствительностью, ибо, какъ бы такое положеніе ни
смахивало на парадоксъ, не подлежитъ спору, что
дѣйствительный ходъ пе вееіда есть самый есте-
ственный. Онъ могъ быть обусловленъ особенными
случайностями, которыхъ новторсніс мало вѣроятно
и которыя не могутъ почитаться за непремѣнную
часть того общаго порядка, который природа устано-
вила для совершенствованія человѣческаго рода».
2) И наоборотъ, что «какъ скоро что-либо изъ
умозрѣнія оказывается ложнымъ», оно «никогда но
могло быть ясно сознано умомъ». .
570
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
титься къ этому медлительному и кропотливому методу и постепенно прокладывать
себѣ дорогу къ основнымъ началамъ, самъ же хочетъ обнять ихъ сразу, или,
какъ онъ самъ выражается, не останавливаться на границахъ, а идти прямо на
столичный городъ, по овладѣніи которымъ ему уже легко будетъ преодолѣть всѣ
остальныя трудности и распространить свои завоеванія на всю область науки. По
мысли Юма, не требуется разсуждать для того, чтобы вырабатывать идеи, а прежде
чѣмъ разсуждать, нужно имѣть ясныя идеи *). Этимъ путемъ приходимъ мы къ фи-
лософіи, которой выводовъ нельзя оспаривать, хотя бы они даже противорѣчили
наукѣ. Напротивъ, ея авторитетъ есть самый высшій авторитетъ, и ея приговоры,
какъ безусловно вѣрные, должно всегда предпочитать всякимъ выводамъ изъ фак-
товъ, представляемыхъ внѣшнимъ міромъ.
Юмъ, слѣдовательно, думалъ, что всѣ тайны внѣшняго міра скрыты въ человѣ-
ческомъ умѣ. Умъ представлялся ему не только ключомъ, которымъ можно отомкнуть
сокровищницу, но и самой сокровищницей. Ученость и наука могутъ служить къ
уясненію нашего умственнаго достоянія, могутъ придать ему красоты, но не могутъ
доставить дѣйствительнаго знанія; они не могутъ ни дать первыхъ матеріаловъ, ни
научить плану, по которому эти матеріалы должны быть разрабатываемы.
Сообразно этимъ воззрѣніямъ написана «Естественная Исторія Религіи».
Сочиняя эту книгу, Юмъ имѣлъ цѣлью раскрыть происхожденіе и развитіе рели-
гіозныхъ идей, и онъ приходитъ къ тому заключенію, что поклоненіе многимъ бо-
гамъ должно было вездѣ предшествовать поклоненію единому Богу. Это онъ при-
знаетъ за законъ человѣческаго духа, за фактъ, который 7 не только всегда и вездѣ
являлся, но и необходимо Долженъ былъ всегда и вездѣ являться. Его способъ
доказательства чисто умозрительный. Онъ представляете, что первоначальное по-
ложеніе человѣка есть необходимое состояніе дикости; что дикаря не можетъ за-
нимать обыденная дѣятельность природы, и не можетъ въ немъ зародиться жела-
ніе изучить законы, управляющіе этой дѣятельностью; что такіе люди должны
быть чужды всякаго любопытства относительно предметовъ, которые не причи-
няютъ имъ непосредственнаго безпокойства; и что, слѣдовательно, они не забо-
тятся объ обыкновенныхъ явленіяхъ природы, но устремляютъ всѣ мысли къ необы-
чайнымъ ея явленіямъ. Страшная буря, рожденіе урода, чрезмѣрная стужа, необык-
новенно сильный дождь, внезапныя и гибельныя болѣзни, — вотъ на какого рода
предметы исключительно направлено вниманіе дикаря; только причины этихъ явленій
желательно ему узнать. И какъ скоро онъ убѣдится, что онъ не властенъ надъ
этими причинами, онъ признаетъ ихъ за нѣчто высшее, чѣмъ онъ самъ, и, не будучи
въ силахъ понять ихъ въ отвлеченіи, олицетворяетъ ихъ. Онъ возводитъ ихъ въ
божества, и многобожіе готово; первымъ вѣрованіямъ рода человѣческаго дана
форма, которая уже но можетъ измѣниться до тѣхъ поръ, пока люди остаются въ
состояніи первобытнаго невѣжества 2).
2) «Никакое умствованіе по можетъ породить та-
кой повой идеи, какова идея власти; по когда мы при-
нимаемся разсуждать, мы должны предварительно
имѣть ясныя идеи, которыя могли бы быть предме-
томъ нашего разсужденія.,. Мы достигаемъ познанія
причинъ помощью какого-то чутья или фантазіи». По-
этому болѣе широкое воззрѣніе, предшествуя поня-
тію болѣе тѣсному и будучи отъ него существенно
независимо, постоянно находится съ нимъ въ проти-
ворѣчіи; и Юмъ, напримѣръ, сѣтуетъ па то, что
«трудности, которыя въ теоріи кажутся непреодоли-
мыми, легко преодолѣваются на практикѣ», а въ дру-
гомъ мѣстѣ — на усиліе потребное для того, «чтобы
примирить разумъ съ опытомъ». Собственно говоря,
уразумѣть его методъ можно только изъ тщательнаго
изученія его сочиненій въ цѣломъ, а не пзъ какихъ-
нибудь отдѣльно приводимыхъ мѣстъ. Впрочемъ, пзъ
двухъ приведенныхъ фразъ читатель усмотритъ, что
теорія и разумъ представляютъ у него болѣе широ-
кое, а практика и опытъ- болѣе тѣсное воззрѣніе.
*) «Мало-по-малу дѣятельное воображеніе чело-
вѣка, не находя успокоенія въ этомъ воспріятіи отвле-
ченныхъ понятіи, надъ которымъ оно безпрестанно
работаетъ, начинаетъ давать имъ большую опредѣ-
ленность, облекать ихъ въ образы, болѣе соотвѣт-
ствующіе его природному пониманію. Оно предста-
вляетъ ихъ существами сознательными и разумными,
подобно человѣку, способными къ любви и ненависти,
склоняющимися на подарки и просьбы, молитвы и
жертвоприношенія... Тутъ начало религіи; тутъ же на-
чало идолопоклонства или многобожія... Первоначаль-
ная религія человѣка возникаетъ главнымъ образомъ
изъ страха и опасенія за будущее» (Юмъ).
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ. 571
Эти положенія, не только правдоподобныя,’ но по всему вѣроятію и вполнѣ
вѣрныя, надлежало бы, по требованію индуктивной философіи, вывести путемъ
обобщенія изъ разсмотрѣнія фактовъ, то есть изъ собранія данныхъ, свидѣтель-
ствующихъ о состояніи религіи у дикихъ народовъ и о степени способности этихъ
народовъ къ отвлеченному мышленію. Юмъ этого не дѣлаетъ. Онъ пе ссылается ни
на одного изъ многочисленныхъ путешественниковъ, посѣщавшихъ такія племена;
онъ ни разу даже во всемъ своемъ сочиненіи не упоминаетъ нп объ одной книгѣ,
въ которой содержались бы свѣдѣнія о бытѣ дикарей. Съ него достаточно было, что
это восхожденіе отъ вѣрованія во многихъ боговъ къ вѣрованію въ единаго Бога
есть естественный ходъ развитія, то есть, другими словами, что оно собственному
его уму представлялось естественнымъ ходомъ Ч Этимъ онъ былъ вполнѣ удовле-
творенъ. Въ другихъ частяхъ своего трактата, гдѣ опъ говоритъ о религіозныхъ по-
нятіяхъ древнихъ грековъ и римлянъ, онъ обнаруживаетъ порядочную, хотя далеко
не замѣчательную, начитанность, но приводимыя имъ цитаты вовсе не относятся къ
тому совершенно варварскому состоянію общества, при которомъ, какъ самъ онъ
полагаетъ, впервые возникло многобожіе. Слѣдовательно, посылки своего умозаклю-
ченія онъ почерпаетъ изъ собственнаго ума. Онъ умозаключаетъ дедуктивнымъ
путемъ отъ идей, которыми снабжаетъ его собственный могучій умъ, вмѣсто того
чтобы восходить индуктивно отъ фактовъ, свойственныхъ предмету изслѣдованія.
Точно также и въ остальныхъ частяхъ своего сочиненія, полнаго тонкихъ
и любопытныхъ умозрѣній, онъ обращается къ фактамъ не для доказательства сво-
ихъ заключеній, а только, для нагляднаго поясненія цхъ. Поэтому онъ избралъ
только тѣ факты, которые были пригодны для его цѣли, а прочіе оставлялъ совер-
шенно въ сторонѣ. Многіе критики назоветъ это пожаіуй недобросовѣстнымъ, но у
него тутъ не было никакой недобросовѣстности, потому что онъ былъ убѣжденъ, что
уже твердо установилъ свои начала и безъ помощи этихъ фактовъ. Факты могли
принести пользу читателю, уясняя аргументъ, но не могли прибавить ему силы.
Ими имѣлось въ виду скорѣе убѣждать, чѣмъ доказывать; они имѣли значеніе скорѣе
реторическое, чѣмъ логическое. Поэтому критикъ сталъ бы только напрасно тратить
время, когда бы вздумалъ/разбирать ихъ съ тою подробностью и мелочностью, какія
были бы нужны, еслибъ Юмъ строилъ на этихъ фактахъ индуктивный аргументъ.
Еслибъ не то, любопытно было бы, не пускаясь въ очень дальніе поиски, сравнить
эти факты съ совершенно иными фактами, которые еще за восемьдесятъ лѣтъ до
Юма заимствовалъ изъ того же источника и по тому же предмету Кёдвортъ. Кёд-
вортъ, далеко превосходившій Юма ученостью, но стоявшій гораздо ниже его по
способностямъ, обнаруживаетъ въ своемъ большомъ сочиненіи объ ^Интеллекту-
альной системѣ Вселенной'» громадную начитанность, которую онъ употребляетъ
на то, чтобы доказать, что въ древнемъ мірѣ преобладало вѣрованіе въ единаго
«Можно, кажется, принятъ за несомнѣн- I
ное, что, по естественному ходу человѣческой I
мысли, невѣжественная толпа должна составить себѣ |
грубое и ребяческое понятіе о высшихъ силахъ, прежде ।
чѣмъ дойдетъ до понятія о томъ совершеннѣйшемъ |
Существѣ, Которое установило законы для всего строя і
природы. Воображать, что люди жили въ рос-
когиныхъ палатахъ, прежде чѣмъ стали стро- і
ить себѣ шалаши и избы, пли принялись за из-
ученіе геометріи, прежде чѣмъ научились земледѣлію, I
было бы точно такъ же разумно, какъ утвер- !
ждать, что Божество представлялось имъ чистымъ, все- ;
вѣдущимъ, всемогущимъ и вездѣсущимъ духомъ, прежде ;
чѣмъ они стали бояться его какъ могучаго, но огра- (
ничейнаго существа, надѣленнаго человѣческими стра- ,
стями и наклонностями и человѣческими же членами
и органами. Умъ постепенно восходитъ отъ низшихъ
понятій къ высшимъ. Путемъ отвлеченія отъ несо-
вершеннаго вырабатываетъ онъ идею о совершенствѣ
и медленнымъ отдѣленіемъ въ себѣ самомъ болѣе воз-
вышенныхъ сторонъ отъ болѣе грубыхъ паучается.
еще возвысивъ и очистивъ первыя, возводить ихъ себѣ
въ Божество. Ничто не могло нарушить о тою есте-
ственнаго хода мысли, кромѣ какого-нибудь оче-
виднаго и несокрушимаго аргумента, который непо-
средственно привелъ бы разумъ къ чистымъ нача-
ламъ теизма и заставилъ оы его однимъ махомъ пе-
рескочить все громадное разстояніе, отдѣляющее че-
ловѣческую природу отъ божосгвеппой. Но хотя я и
признаю, что порядокъ и строй вселенной ори вни-
мательномъ наблюденіи пхъ дѣйствительно предста-
вляютъ такой аргументъ, однако я не могу допу-
ститъ, чтобы это соображеніе имѣло вліяніе на лю-
дей при созданіи ими своихъ первыхъ грубыхъ по-
нятій о религіи» (Юмъ).
572
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Бога. Юмъ, никогда не ссылающійся на Кёдворта, приходитъ къ прямо противопо-
ложному заключенію. Оба ссылались на древнихъ писателей; но Кёдвортъ выводилъ
свои заключенія изъ того, что находилъ у этихъ писателей; Юмъ же свои заклю-
ченія выводилъ изъ того, что находилъ въ собственномъ умѣ. Кёдвортъ, учившійся
въ школѣ Бэкона, сперва собиралъ факты и затѣмъ уже приступалъ къ сужденію.
Юмъ, воспитанный въ совершенно иной школѣ, думалъ, что проницательность судьи
гораздо важнѣе, чѣмъ количество доказательствъ; что свидѣтели легко могутъ лже-
свидѣтельствовать, и что онъ въ собственномъ умѣ обладалъ самыми надежными
матеріалами для того, чтобы придти къ вѣрному заключенію. Неудивительно послѣ
этого, что Кёдвортъ и Юмъ, слѣдуя противоположнымъ методамъ, пришли къ про-
тивоположнымъ результатамъ; такое разногласіе, какъ я уже замѣтилъ выше, неиз-
бѣжно, когда люди путемъ различныхъ методовъ изслѣдуютъ такой предметъ, кото-
рый при состояніи нашего знанія въ данное время пе допускаетъ строго-научной
разработки.
Настоящая глава разрослась уже до такихъ размѣровъ и такъ много о чемъ
еще мнѣ остается сказать, что мнѣ невозможно подробно разобрать философію Рида,
замѣчательнѣйшаго изъ чисто умозрительныхъ шотландскихъ философовъ послѣ Юма
и Адама Смита, хотя стоящаго далеко ниже ихъ по достоинствамъ, такъ какъ онъ
пе имѣлъ ни всеобъемлющаго взгляда Смита, ни смѣлости мысли Юма. Онъ обла-
далъ достаточно обширнымъ знаніемъ для того, чтобы имѣть всеобъемлющій взглядъ,
а робость, почти доходившая до нравственной трусости, заставляла его отступать
передъ тѣми воззрѣніями, которыя защищалъ Юмъ, и при томъ не столько потому,
что считалъ ихъ ложными, сколь ко потому собственно, что находилъ ихъ опасными.
Между тѣмъ не подлежитъ бпору, что тотъ не можетъ стать высоко въ ряду фило-
софовъ, кто позволитъ сковывать свою мысль такого рода соображеніями. Философъ
долженъ стремиться къ одной только истинѣ, безъ всякаго уваженія къ практиче-
скимъ послѣдствіямъ своихъ умозрѣній. Если они истинны, пусть удержатся; если
ложны, — пусть падутъ. А пріятны ли они или непріятны, утѣшительны или при-
скорбны, безвредны или пагубны—это вопросъ, касающійся не философовъ, а прак-
тическихъ людей. Всякая новая истина, до сихъ поръ когда-либо высказывавшаяся,
на первое время оказывала вредное вліяніе; она порождала неудобства, нерѣдко
даже несчастіе, иногда тѣмъ, что колебала установленные общественные и религіоз-
ные порядки, иногда просто тѣмъ, что разрывала издавна установившійся и потому
милый строй мысли. Только по прошествіи нѣкотораго времени, когда строй жизни
приладится къ новой истинѣ, начинаютъ преобладать ея благія послѣдствія, и это
преобладаніе затѣмъ все возрастаетъ, такъ что, наконецъ, истина даетъ одни благіе
плоды. На первое же время всегда бываетъ вредъ. И если истина очень велика и
очень нова, то и вредъ отъ нея бываетъ очень значителенъ. Люди встревожены,
имъ страшно; они не могутъ вынести внезапнаго свѣта; всѣми овладѣваетъ сильное
безпокойство, поверхность общества мутится или даже подергивается судорогами;
старые интересы, старыя вѣрованія разрушаются, прежде чѣмъ успѣютъ создаться
новые. Такіе симптомы служатъ предвѣстниками переворота; они предшествовали
всѣмъ великимъ перемѣнамъ, черезъ которыя проходилъ міръ; являясь въ умѣрен-
ныхъ предѣлахъ, они предвѣщаютъ прогрессъ; когда же переходятъ за эти предѣлы,
то грозятъ анархіей. Задача практическихъ людей — умѣрять эти симптомы, забо-
титься о томъ, чтобы открываемыя философами истины не были примѣняемы съ
безразсудной поспѣшностью, при которой они могутъ расшатать весь общественный
строй, вмѣсто того, чтобы укрѣпить его. Но дѣло философа только открывать истину
и распространять ее. и это уже достаточный трудъ для одного человѣка, какъ бы ни
были велики его способности. Это раздѣленіе труда между мыслителями и практи-
ческими дѣятелями ведетъ къ сбереженію силъ, предохраняетъ оба класса людей
отъ траты своихъ дарованій. Оно устанавливаетъ различіе между наукою, раскрываю-
щей намъ начала, и искусствомъ, примѣняющимъ эти начала. Оно признаетъ также,
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
573
что философъ и практическій дѣятель имѣютъ каждый свой особый кругъ дѣйствія
и что каждый изъ нихъ полновластенъ въ своей сферѣ. Вмѣшательство же котораго-
либо въ кругъ дѣйствія другого влечетъ за собою вредное смятеніе. Дѣйствуя ка-
ждый въ своей отдѣльной сферѣ, они оба независимы и оба заслуживаютъ уваженія.
Но какъ практическіе дѣятели никогда не должны допускать, чтобы умозрительные
выводы философовъ, какъ бы ни были они истинны, примѣнялись къ дѣйствитель-
ной жизни, пока общество до извѣстной степени не созрѣетъ для принятія ихъ,
такъ точно съ другой стороны и философы не должны колебаться, пе должны пу-
гаться и останавливаться въ своемъ пути изъ-за того только, что ихъ умъ ведетъ
пхъ къ заключеніямъ, подрывающимъ существующіе интересы. Задача философа ясна.
Путь его лежитъ прямо передъ нимъ. Онъ долженъ прилагать всѣ старанія къ рас-
крытію истины; когда же придетъ къ заключенію, не только пе долженъ передъ
нимъ отступать ради того, что оно непріятно или кажется опаснымъ, но, напротивъ,
по этимъ именно причинамъ долженъ тѣмъ крѣпче привязываться къ нему, долженъ
заключеніе это при враждебномъ настроеніи противъ него общаго мнѣнія отстаи-
вать еще ревностнѣе, чѣмъ стала? бы его защищать, когда бы общее мнѣніе было
въ его пользу; долженъ разглашать его всюду и во всеуслышаніе, вовсе не заботясь
о томъ, какія мнѣнія будутъ имъ оскорблены и какимъ интересамъ оно угрожаетъ;
обязанъ ради этого заключенія идти на вражду и пренебрегать презрѣніемъ въ пол-
ной увѣренности, что если заключеніе ложно, то оно умретъ само собой, если же
истинно, то принесетъ наконецъ пользу, не взирая па то, что оно быть можетъ и
не допускаетъ практическаго примѣненія въ томъ вѣкѣ и той страмѣ, гдѣ впервые
высказывается.
Но Ридъ, несмотря на свой свѣтлый умъ щ замѣчательную способность аргу-
ментаціи, былъ такъ чуждъ истиннаго философскаго духа, что любилъ истину не
ради самой истины, а ради ея пепосредствонныхъі практическихъ результатовъ. Онъ
самъ разсказываетъ, что принялся за изученіе философіи потому только, что былъ
возмущенъ выводами, къ которымъ пришли философы. Пока умозрительныя поло-
женія Локка и Бсрклся не доводились до крайнихъ своихъ логическихъ послѣдствій,
Ридъ соглашался съ ними, и они казались ему справедливыми. Пока они были без-
вредны и до извѣстной степени правовѣрны, онъ не слишкомъ былъ взыскателенъ
относительно ихъ основательности. Но въ рукахъ Юма философія стала смѣлѣе и
пытливѣе; опа начала подрывать разныя мнѣнія, которыя установились съ давнихъ
временъ и которыхъ пріятно было держаться; она начала доискиваться самаго на-
чала вещей и, понуждая людей къ сомнѣнію и изслѣдованію, оказала этимъ огром-
ную услугу для истины. Но это именно направленіе и не нравилось Риду. Онъ
видѣлъ въ этомъ потрясеніи неудобство; онъ видѣлъ въ немъ опасность и потому
пытался доказать, что оно неосновательно. Смѣшивая съ вопросомъ о научной истинѣ
совершенно различный съ нимъ вопросъ о практическихъ послѣдствіяхъ, онъ при-
нялъ за несомнѣнное, что если для собственнаго его вѣка непосредственное при-
мѣненіе этихъ послѣдствій было бы вредно, то это значило, что они должны быть
ложны. Противъ глубокихъ воззрѣній Юма иа причинность онъ преважно возра-
жаетъ, что примѣненіе ихъ должно неминуемо подорвать дѣйствіе уголовныхъ за-
коновъ. Па разсужденія того же мыслителя касательно метафизическаго основанія
теоріи договоровъ оиъ возражаетъ, что такія разсужденія спутываютъ понятія людей
и ослабляютъ въ нихъ сознаніе долга, а потому слѣдуетъ ихъ осуждать, ради ихч?
послѣдствій. У Рида главный вопросъ всегда заключается пе въ томъ, вѣрно ли
данное заключеніе, а въ томъ, что послѣдуетъ въ томъ случаѣ, если опо вѣрно? Онъ
говоритъ, что о всякомъ ученіи должно судить по его плодамъ, забывая, что одно
и то же ученіе даетъ совершенно иные плоды въ разные вѣка, и что послѣдствія
извѣстной теоріи при одномъ состояніи общества часто бываютъ діаметрально про-
тивоположны послѣдствіямъ той же теоріи при другомъ состояніи общества. Опъ
такимъ образомъ ставилъ свой вѣкъ мѣриломъ для всѣхъ будущихъ вѣковъ; онъ
574
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
опутывалъ также философію практическими соображеніями, отвлекая мыслителей
отъ преслѣдованія истины, составляющаго настоящую ихъ область, къ заботѣ и прак-
тической пользѣ, которая вовсе не ихъ дѣло. Ридъ постоянно останавливался на
вопросѣ не о томъ, вѣрно ли выведена та или другая теорія, а благоразумно ли
принять ее, способствуетъ ли она развитію патріотизма, или великодушія, или дру-
желюбія 1)? однимъ словомъ, представляется ли она практически удобною и такова ли,
что въ нее охотно бы вѣрилось въ настоящее время? Иногда онъ спускался на
точку зрѣнія еще низшую, еще менѣе достойную философа. Возставая напримѣръ
противъ ученія, что наши способности вводятъ насъ иногда въ заблужденіе—ученія,
котораго, какъ ему было извѣстно, держались иные люди, нисколько не уступавшіе
ему въ чистотѣ намѣреній и превосходившіе его дарованіями,—онъ не колеблется
искать поддержки въ предубѣжденіяхъ невѣжественнаго суевѣрія и пытается очер-
нить положеніе, котораго не можетъ опровергнуть. Онъ положительно утверждаетъ,
что защитники этого ученія оскорбляютъ Божество, ибо позволяютъ будто бы себѣ
заподозрить Его во лжи. Въ виду такого вывода, истекающаго изъ этого ученія,
очевидно, что ученіе это должно быть отвергнуто безъ дальнѣйшаго изслѣдованія,
ибо принятіе его должно имѣть самое пагубное вліяніе на нашъ образъ дѣйствій и
неминуемо ниспровергнетъ всякую религію, всякія нравственныя убѣжденія и вся-
кое знаніе.
Въ 1754 году Ридъ издалъ свое «Изслѣдованіе о человѣческомъ умѣ», въ кото-
ромъ, равно какъ и въ послѣдующемъ своемъ сочиненіи подъ названіемъ «Раз-
сужденіе о способностяхъ ума*, онъ старался уничтожить философію Локка, Берк-
лея и Юма. А такъ какъ изъ нихъ троихъ Юмъ былъ самый смѣлый, то противъ его
философіи преимущественно4 были направлены удары Рида. Выше я указалъ на ха-
рактеръ этихъ нападеній; но они касались собственно его цѣли и побужденій, теперь
же намъ слѣдуетъ взглянуть на его методъ, то есть на тактику, которую онъ упо-
треблялъ для веденія своей войны. Онъ ясно видѣлъ, что Юмъ принималъ на вѣру
извѣстныя начала и отъ нихъ дедуктивнымъ порядкомъ умозаключалъ къ фактамъ,
вмѣсто того, чтобы умозаключать индуктивно отъ фактовъ къ началамъ. Онъ сильно,
и пожалуй справедливо, возстаетъ противъ этого метода. Онъ признаетъ, что Юмъ
въ логическомъ отношеніи7 заключалъ непогрѣшимо вѣрно, такъ что если допустить
его начала, то нельзя не допустить равнымъ образомъ и его выводовъ. Но, говоритъ
онъ, Юмъ не имѣлъ никакого права идти такимъ путемъ. Онъ не имѣлъ права
принимать па вѣру начала и умозаключать отъ нихъ. Познанія законовъ природы
можно достигать не путемъ такихъ предположеній, а только посредствомъ тщатель-
ной и терпѣливой индукціи отъ фактовъ. Открытія дѣлаются только съ помощью
наблюденія и опытовъ; всякій другой способъ можетъ породить однѣ только теоріи,
пожалуй, очень замысловатыя и правдоподобныя, но ни къ чему не годныя; ибо тео-
рія должна подчиняться фактамъ, а не факты подводиться подъ теорію. Умозри-
тельные мыслители могутъ себѣ, пожалуй, разсуждать объ основныхъ началахъ и
строить на нихъ цѣлыя системы. Но дѣло въ томъ, что не существуетъ согласія
относительно того, по чему должно познаваться основное начало; и одно и то же
начало одинъ человѣкъ признаетъ очевиднымъ и разумѣющимся само собою, другой
считаетъ требующимъ доказательства, а третій отвергаетъ вовсе 2).
«Епископъ Берклей безъ сомнѣнія но сообра-
зилъ, какъ бы слѣдовало, что чрезъ посредство ма-
теріальнаго міра сообщаемся мы съ мыслящими су-
ществами и сознаемъ ихъ существованіе, и что, отни-
мая у насъ матеріальный міръ, онь въ то же время
отнимаетъ у насъ семейство, друзей, отечество и вся-
кое человѣческое существо; лишаетъ насъ всѣхъ пред-
метовъ любви, уваженія или участія, кромѣ насъ са-
михъ. Не таково было конечно намѣреніе почтен-
наго епископа. Онъ былъ самъ слишкомъ преданный
| другъ, слишкомъ ревностный патріотъ и слишкомъ доб-
| рый христіанинъ, чтобы такая мысль могла придти
1 ому на умъ. Онъ не сознавалъ послѣдствій сво й
I системы* (бѣдный простачокъ Берклей!), <а потому
I пхь и не слѣдуетъ ставить въ вину ему, пхъ должно
' ставить въ вину самой системѣ. Она душитъ всякія
I безкорыстныя и общительныя стремленія» (Ридъ).
| 2) «Между тѣмъ философы, какъ видно, значи-
і тельно расходятся въ своихъ мнѣніяхъ относительно
і основныхъ началъ. Чтб одинъ признаетъ за очовпд-
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
575
Тутъ отлично выставлены трудности, которыя встрѣчаетъ мыслитель, слѣдую-
щій дедуктивному методу. Послѣ этого можно бы ожидать, что Ридъ собственную
фихссофік) построитъ по методу индуктивному; что онъ не захочетъ опираться на
какія бы то ни было предвзятыя основныя начала, въ чемъ онъ такъ рѣзко упре-
калъ своихъ противниковъ. На дѣлѣ, однако, мы видимъ, — и это одно изъ любо-
пытнѣйшихъ явленій въ исторіи метафизики, — что Ридъ, строго осудивъ методъ
Юма, самъ слѣдуетъ этому же самому методу. Пока онъ ратуетъ противъ филосо-
фіи Юма, дедуктивный методъ кажется ему негоднымъ; когда же самъ принимается
строить свою систему, то признаетъ его правильнымъ. Нѣкоторыя заключенія онъ
находилъ опасными и порицаетъ поборниковъ ихъ за то. что они въ своихъ умо-
заключеніяхъ исходили отъ началъ, вмѣсто того чтобы исходить отъ фактовъ, и
утверждали, будто они обладаютъ основными началами истины, тогда какъ люди
совершенно расходятся въ томъ, что именно составляетъ существенные признаки
основного начала. Возраженіе очень дѣльное, и на которое трудно было отвѣчать.
Между тѣмъ, странно сказать, при выводѣ собственныхъ своихъ заключеній Ридъ
исходитъ отъ предвзятыхъ основныхъ началъ и пользуется этимъ пріемомъ въ го-
раздо обширнѣйшихъ размѣрахъ, чѣмъ кто-лпбо пзъ писателей противнаго лагеря.
Отъ этихъ основныхъ началъ ведетъ онъ свои умозаключенія; весь строй его умо-
зрѣнія есть строй чисто дедуктивный; и во всѣхъ его сочиненіяхъ едва отыщется
одинъ примѣръ той индуктивной логики, на которую онъ считалъ нужнымъ указы-
вать въ своихъ ратованіяхъ съ противниками. Трудно было бы придумать болѣе
разительный примѣръ особенностей шотландскаго ума въ восемнадцатомъ вѣкѣ и
той силы, съ какой господствовалъ надъ нимъ методъ, который можно назвать анти-
бэконовскимъ. Ридъ былъ человѣкъ съ замѣчательнымъ дарованіемъ, человѣкъ без-
укоризненной честности и искренно убѣжденный, что для блага общества надлежало
ниспровергать господствовавшее въ то время философское ученіе. Выполненію этой
задачи посвятилъ онъ свою долгую и трудолюбивую жизнь; онъ видѣлъ, что слабой
стороной системы противниковъ былъ ея методъ; опъ указывалъ на недостатки этого
метода и утверждалъ, можетъ быть ошибочно, но во всякомъ случаѣ чистосердечно,
что такой методъ не можетъ привести къ истинѣ. При всемъ этомъ, однако, таково
было давленіе среды, въ которой онъ жилъ, и обстоятельства въ такой степени
обусловливали направленіе его ума. что въ собственныхъ сочиненіяхъ онъ не могъ
отрѣшиться отъ того же способа изслѣдованія, который онъ осуждалъ въ другихъ.
Дѣйствительно, онъ не только не избѣжалъ его, но былъ совершенно его рабомъ.
Я намѣренъ привести этому доказательства, потому что независимо отъ значенія,
какое имѣетъ это обстоятельство въ исторіи умственнаго развитія Шотландіи, оно
весьма важно еще, какъ одинъ изъ тѣхъ многочисленныхъ фактовъ, которые ука-
зываютъ намъ, въ какой тѣсной зависимости находится строй нашей мысли отъ
окружающаго насъ общества; какъ самыя даже энергическія дѣйствія наши обу-
словливаются общими причинами, которыхъ мы часто вовсе не знаемъ, и которыя
только немногіе изъ насъ пытаются изучить; наконецъ, какъ слабы мы и немощны,
когда вздумаемъ, каждый по одиночкѣ, удержать общечеловѣческое стремленіе, про-
тивясь великому движенію, вмѣсто того, чтобы ему содѣйствовать, и тщетно проти-
вопоставляя свои ничтожныя желанія мощному теченію событій, которое не допу-
скаетъ перерыва, а несется своимъ путемъ, величественное и грозное, между тѣмъ
какъ поколѣнія за поколѣніями исчезаютъ, поглощаемыя однимъ громаднымъ водо-
воротомъ.
Какъ только Ридъ, покончивъ съ опроверженіемъ философіи Юма, принялся.
за построеніе собственной своей системы, онъ тотчасъ безсознательно подчинился
ное само по себь, то другой силится доказать аргу-
ментами, а третій рѣшительно отрицаетъ». (Кеій’з
Еззауз», т. II, стр. 218). «Локкъ, повидимому, пола-
гаеть, что въ основныхъ началахъ весьма мало пользы»,
(Тамъ же, стр. 219).
576
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
господствующему методу. Тутъ онъ утверждаетъ, что всякое умозаключеніе должно
исходить отъ основныхъ началъ, и что мы должны, нисколько не помышляя о вос-
хожденіи къ этимъ началамъ, прямо принять ихъ и положить въ основаніе всей
послѣдующей аргументаціи Какъ скоро они приняты, они становятся для послѣ-
дователя путеводной нитью сквозь лабиринтъ мысли. Противникамъ своимъ Ридъ
не позволялъ опираться на нихъ, но себѣ самому присвоивалъ это право, потому
что онъ познавалъ эти основныя начала непосредственнымъ умосозерцаніемъ. Кто
вздумалъ бы ихъ отрицать, съ тѣмъ нечего было и разсуждать. Изслѣдовать ихъ, пы-
таться пхъ анализировать считалъ онъ столько же непозволительнымъ, сколько без-
разсуднымъ, потому что онп принадлежатъ къ существу вещей, а существу вещей
нельзя найти другого объясненія, кромѣ того, что такова воля Божія.
Получая свои основныя начала съ такой легкостью и тщательно ограждая ихъ
запрещеніемъ всякой попытки разложить ихъ на простѣйшіе элементы, Ридъ дол-
женъ былъ подвергаться сильному искушенію умножать ихъ почти до безконечности
для того, чтобы посредствомъ умозаключенія отъ нихъ создать полную и стройную
систему человѣческаго духа. Этому искушенію онъ поддался съ готовностью, которая
должна показаться по истинѣ изумительной, когда припомнимъ, какъ онъ за тотъ же
самый образъ дѣйствія осуждалъ своихъ противниковъ. Въ ряду многочисленныхъ
основныхъ началъ, которыя онъ считаетъ не только не объясненными и необъясни-
мыми, являются вѣра въ личное тождество, вѣра во внѣшній міръ, вѣра въ единообразіе
природы, вѣра въ существованіе жизни въ другихъ, вѣра въ свидѣтельство, также
вѣра въ способность распознавать истину отъ заблужденія и даже въ соотношеніе
лица и голоса съ мыслью. О вѣрѣ вообще онъ утверждалъ, что она имѣетъ много
основныхъ началъ, и сожалѣетъ томъ”что" иные мыслители опрометчиво покуша-
лись объяснить ихъ. Эти вещи суть тайны, и ихъ йе слѣдуетъ пытать. Мы имѣ-
емъ еще и другія способностп.Ткоторыя, какъ первообразныя и неразложимыя, не
допускаютъ дедуктивнаго изслѣдованія и которыхъ невозможно ни разложить на
простѣйшіе элементы, ни подвести подъ болѣе общіе законы. Къ этому разряду Ридъ
причисляетъ память, воспріятіе, потребность самоодобренія и наконецъ не только
инстинктъ, но даже и привычку. Многія изъ нашихъ представленій, напримѣръ,
представленія о пространствѣ и времени, онъ считаетъ ѣакже за прирожденныя по-
нятія; есть еще, по его мнѣнію, другія основныя начала, которыя не исчислены, но
которыя могутъ быть принимаемы за исходъ для умозаключенія. Всѣ они, стало быть,
составляютъ первыя посылки умозаключенія; такъ какъ имъ не найдено еще осно-
ваній, то они должны быть начала простыя, а такъ какъ они еще не объяснены,
то онп, разумѣется, и необъяснимы.
Все это въ значительной мѣрѣ произвольно. Чтобы отдать полную справедли-
вость Риду, должно однако сказать, что, принявъ эти основныя начала, онъ обна-
руживаетъ замѣчательное искусство въ своихъ умозаключеніяхъ отъ нихъ, и что,
опровергая философію своего времени, онъ подвергать ее критическому разбору,
принесшему огромную пользу. По своему свѣтлому взгляду, по своей діалектиче-
ской ловкости, силѣ и остротѣ своего мужественнаго слога онъ былъ страшнымъ
противникомъ, и всѣ его возраженія должны были приниматься съ уваженіемъ. Мнѣ,
одпако, кажется, что, несмотря на попытки, сначала Кузэна, а йотомъ сэра Вил-
ліама Гамильтона, поддержать его упадающую славу, философія его, какъ самостоя-
1) «Всякое умозаключеніе должно исходить огь
основныхъ началъ; существованіе же основныхъ на-
чалъ нельзя объяснить иначе, какъ тѣмъ только, что
мы но самому существу своей природы принуждены
принять пхъ». ШейТв «Іпдпігу^. стр. 140). «Всякое
умозаключеніе исходить отъ основныхъ начать... По-
этому начала эти по всей справедливости но под-
чиняются обсужденію разумомъ и отбиваютъ всѣ ору-
дія логики, направляемыя на нихъ мыслителемъ»
(стр. 372). «Всякое званіе, добываемое умозаклю’н-
ніемь, должно опираться на оентиняи начала*. (Еепі’з
«Еззауз». т. II, стр. 220/) «Во всякой отрасли дѣйстви-
тельнаго знанія доіжны быть осногшыя начала, ко-
торыхъ истина познается непосредствеіщычь умосо-
зерцаіііемъ, безъ гсякпхъ разсужденій, теоретиче-
скихъ или практическихъ. Онп не опираются на раз-
сужденіе, но всякое разсужденіе оннраеіея на нихта
(стр. 360).
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
577
тельная система, не выдерживаетъ строгой критики и не будетъ долговѣчна. Въ
этомъ я впрочемъ могу ошибаться; но совершенно положительно можно сказать, что
верхъ нелѣпости полагать, какъ полагали нѣкоторые писатели, будто онъ принялъ
индуктивный или, какъ его обыкновенно называютъ, бэконовскій методъ. Бэконъ
навѣрное усмѣхнулся бы такому послѣдователю, который принимаетъ на вѣру вся-
каго рода первыя посылки, съ величайшей безразборчивостью предполагаетъ раз-
ныя общія начала, какъ нѣчто само собою разумѣющееся, и все свое умѣнье бе-
режетъ на процессъ умозаключенія отъ положеній, въ истинѣ которыхъ онъ не
имѣетъ никакихъ доказательствъ, кромѣ того, что на поверхностный его взглядъ или,
какъ онъ выражается, его здравому смыслу они показались истинами *)* Это созна-
тельное уклоненіе отъ анализированія предвзятыхъ понятій подходитъ подъ то, что
Бэконъ называлъ апіісіраііо паіпгае, и что онъ осуждалъ, какъ величайшее пре-
пятствіе знанію, по причинѣ порождаемой имъ въ человѣкѣ пагубной наклонности
полагаться на первыя, не провѣренныя, заключенія ума. Поэтому, когда мы видимъ,
что Ридъ превозноситъ Бэконову философію, какъ образецъ, которымъ должны руко-
водствоваться всѣ изслѣдователи, я когда, вдобавокъ, Дугальдъ Стюартъ, мысли-
тель, правда, нѣсколько поверхностный, но въ то же время осмотрительный писа-
тель, увѣряетъ насъ, что Ридъ слѣдовалъ этой философіи,—это можетъ служить намъ
новымъ доказательствомъ того, какъ трудно было шотландцамъ минувшаго столѣтія
усвоить себѣ истинный духъ индуктивной логики, если систему, явно идущую на
перекоръ ея правиламъ, они могли считать строго построенной по нимъ.
Отъ философіи духа церейду теперь къ естествознанію, въ которомъ именно,
болѣе чѣмъ гдѣ-либо, можно ,бы ожидать преобладанія индуктивнаго метода, и даже
господства его надъ противбположнымъЩсдуктивнымч/методомъ. На сколько это
ожиданіе оправдывается на дѣлѣ, я постараюсь уяснить разсмотрѣніемъ важнѣйшихъ
открытій, сдѣланныхъ шотландцами въ Области органическаго и неорганическаго
міра. А такъ какъ я имѣю цѣлью показать только складъ и направленіе шотландскаго
ума, то я оставлю въ сторонѣ всѣ подробности, касающіяся практическихъ послѣд-
ствіи этихъ открытій, и ограничусь изложеніемъ одной чисто научной пхъ стороны,
такъ чтобы читатель могъ видѣть, что именно черезъ нихъ прибавилось къ нашему
знанію законовъ природы и какимъ путемъ были сдѣланы эти прибавленія. Я объ-
ясню только характеръ и ходъ каждаго открытія, и больше ничего. Ни здѣсь, ни
въ какой-либо другой части настоящаго введенія я не намѣренъ входить въ раз-
смотрѣніе вопроса о практической пользѣ пли изслѣдовать связь между открытіями
науки и ихъ примѣненіемъ къ житейскимъ задачамъ. Это я предполагаю сдѣлать
въ самомъ сочиненіи, гдѣ надѣюсь объяснить многія соціальныя явленія, изъ кото-
рыхъ иныя почитаются изолированными, чтобы но сказать не имѣющими никакого
разумнаго основанія. Здѣсь единственная моя цѣль—выяснить тѣ широкія начала,
которыя, отмѣчая эпохи въ развитіи мысли, лежатъ въ основаніи всего зданія обще-
ства и которыя необходимо ясно разумѣть для того, чтобы исторія не оставалась
і) Въ весьма замѣчаі«льномъ сочиненіи Вэна, I
(«Оп іііе Зепзез апсі іЬс ІпЫІесІ») приводится при- і
мѣръ того, пакъ произвольно Ридъ принималъ за '
неоспоримую истину, что извѣстныя явленія суть
основныя начала, для того чтобы имѣть право
не анализировать ихъ, а полагать пхъ въ основаніе
своихь умозаключеній. «Докторъ Ридъ, не колеблясь,
огласитъ къ числу инстинктовъ произвольное употре-
бленіе. нашихъ органовъ, то есть послѣдовательность
ощущенія и дѣйствія, заключающуюся въ каждомъ про- ,
явленіи нашей воля. По его мнѣнію, способность под-
нести кусокъ ішщн ко рту есть ипстшшгпвпое или
предусіановленное сочетаніе желанія съ дѣйствіемъ;
то есть ощущеніе голода въ сочетаніи съ видомъ
куска хлѣба соединяется связью, существующею въ
нашемъ умѣ по самой его природѣ, съ различными ,
движеніями пальцевъ, руки и рта, составляющими
актъ ѣды. Это утвержденіе, доктора Рида можно
опровергнуть просто. противопоставивъ ему
факты. Несправедливо предположеніе, будто чело-
вѣкъ при самомъ рожденіи обладаетъ способностью
произвольно пользоваться своими членами. Двухмѣ-
сячный ребенокъ пе можетъ дѣйствовать руками со-
образно своимъ желаніямъ, Младенецъ ничего но мо-
жетъ ухватить, ничего но можетъ держать; онъ едва
можеть опредѣленно смотрѣть на какой-либо пред-
метъ... Если совершеннѣйшее управленіе произволь-
ными нашими движеніями, предполагаемое каждымъ
искусствомъ, есть пріобрѣтеніе, то пріобрѣтеніемъ же
должно считать и менѣе совершенное управленіе этими
движеніями, постепенно достигаемое ребеикомь въ пер-
вый годъ его жизни».
Бокль.—Пзд. Ф. Павленкова,
37
578
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
навсегда простымъ эмпирическимъ сборникомъ фактовъ, которыхъ научная основа
не опредѣлена, а потому и истинный порядокъ и связь должны быть неизвѣстны.
Между предметами знанія, относящимися къ области неорганическаго міра,
видное мѣсто занимаютъ законы теплоты. Съ одной стороны они соприкасаются съ
геологіей, ибо находятся въ самой тѣсной и непремѣнной связи со всѣми ученіями
объ измѣненіяхъ и настоящемъ состояніи земной коры. Съ другой стороны они
соприкасаются съ важнѣйшими вопросами о жизни, какъ животной, такъ и расти-
тельной; они имѣютъ связь съ теоріей видовъ и породъ; имѣютъ вліяніе на измѣне-
ніе почвы, пищи и организаціи; наконецъ, въ нихъ же должны мы искать глав-
нѣйшей помощи для разрѣшенія тѣхъ великихъ задачъ біологіи, на которыя въ
послѣдніе-годы преимущественно было обращено вниманіе самыхъ смѣлыхъ и пере-
довыхъ изслѣдователей.
Настоящія познанія наши въ законахъ теплоты можно свести къ пяти глав-
нымъ отдѣламъ. Эти отдѣлы суть: скрытая теплота, удѣльная теплота, теплопровод-
ность, лучистая теплота и, наконецъ, теорія волнообразнаго распространенія теплоты.
Подъ вліяніемъ этой послѣдней теоріи мы мало-по-малу бросаемъ свои старыя ма-
теріальныя понятія и пріучаемся видѣть въ теплотѣ не что иное, какъ одну изъ
тѣхъ формъ силы, которыя всѣ, какъ-то: свѣтъ, электричество, магнетизмъ, движе-
ніе, тяготѣніе, химическое сродство, безпрестанно переходятъ одна въ другую, но
которыхъ совокупная сумма не можетъ пи увеличиться, ни уменьшиться1)- Какъ
ни велика научная важность высокаго понятія, ставящаго неуничтожаемость силы
рядомъ съ уничтожаемостью матеріи, но оно имѣетъ еще гораздо болѣе высокое
значеніе. Научая насъ, что ничто не погибаетъ,
малѣйшаго тѣла въ самой отдаленной области
существуютъ нескончаемо, развиваются по всс>
а, нацфотивъ, малѣйшее движеніе
порождаетъ послѣдствія, которыя
_________________________________по всему пространству, могутъ видоизмѣ-
няться, но не могутъ никогдаТунйчтожиться, — оно вселяетъ въ насъ такую возвы-
шенную идею о правильномъ и непреложномъ ходѣ физическихъ явленій, что
должно вліять и на другія, высшія отрасли изслѣдованія. Всѣ наши мысли нахо-
дятся въ такой тѣсной связи, такъ переплетаются между собой, что понятіе закона
и необходимаго соотношенія явленій, внесенное въ одну область мышленія, не мо-
жетъ не затронуть и другихъ, смежныхъ съ нею областей. Поэтому, какъ скоро съ
прежнимъ ученіемъ о неуничтожаемости матеріи будетъ прочно соединено новѣйшее
ученіе о неуничтожаемости силы, мы можемъ быть увѣрены, что человѣческій умъ
на этомъ не остановится, но что онъ примѣнитъ къ изученію человѣка заключенія,
подобныя тѣмъ, которыя уже приняты въ изученіи природы. Убѣдившись однажды,
что состояніе матеріальной вселенной въ каждый данный моментъ есть не что иное,
какъ результатъ всего, чтб совершилось во всѣ предшествовавшіе моменты, что
самое ничтожное частное уклоненіе нарушило бы весь строй и повело бы неиз-
бѣжно къ хаосу, и что отдѣлить отъ общей массы малѣйшую даже частицу значило
бы раскачать цѣлое зданіе и повергнуть его въ одну общую развалину; видя, съ
какой дивной точностью пригнаны и сплочены между собою всѣ части, и въ самой
красотѣ и совершенствѣ цѣлаго строя усматривая лучшее доказательство, что онъ
никогда не былъ нарушаемъ Божественнымъ Строителемъ, Который вызвалъ его къ
2) Теорія неуничтожаемости силы примѣнена къ
закону тяготѣнія профессоромъ Фарадеемъ въ его
«Візсоигйе он Ше Сопзегѵаііои о! Гогсе», 1857,—трак-
татѣ, исполненномъ глубины и силы мысли, который
слѣдовало бы тщательно изучить всякому, кто же-
лаетъ понять направленіе, которое приняли въ по-
слѣднее время изслѣдованія въ высшихъ областяхъ
естествознанія. Я приведу одно только мѣсто пзъ
вступленія, для того чтобы дать читателю понятіе
объ общемъ его характерѣ, независимо отъ спеціаль-
наго вопроса о тяготѣніи. «Благодаря успѣхамъ въ
послѣднее время точнаго знанія, все болѣе п болѣе
утверждается убѣжденіе, что силу нельзя іш создать,
ни уничтожить; и съ каждымъ днемъ очевиднѣе ста-
новится польза познанія этой истины для опытныхъ
' изслѣдованій... Вполнѣ соглашаясь съ тѣми, которые
| признаютъ сохраненіе силы за одно изъ началъ есте-
ствознанія, такое же широкое и неопровержимое.
1 какъ п неуничтожаемомъ матеріи иди неизмѣнность
і тяготѣнія, я полагаю, что никакое особенное поня-
I тіе о силѣ не можетъ быть допускаемо безусловно и
I безъ ограниченій, еслп оно не заключаетъ въ себѣ
| признанія этого начала».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVIII стол. 579
бытію и всевѣдѣнію Котораго и планъ, и осуществленію плана были присущи съ
такой ясностью и неуклонной точностью, что ни одного камня не двинулось въ
этомъ величественномъ и стройномъ зданіи съ тѣхъ поръ, какъ положено ему осно-
ваніе; поднимаясь на такую высоту мысли, мы безъ сомнѣнія приближаемся къ еще
болѣе высокой точкѣ, на которую предоставлено стать нашему потомству и съ кото-
рой воззрѣніе его такъ уяснится, что навѣрное приведетъ къ окончательному отвер-
женію старыхъ и противныхъ разуму понятій о сверхъестественномъ вмѣшательствѣ
во всѣ земныя дѣла,—понятій, изобрѣтенныхъ суевѣріемъ, завѣщаемыхъ отъ одного
поколѣнія къ другому, невѣжествомъ и существованіемъ своимъ въ настоящее время
доказывающихъ малое еще развитіе нашего знанія, скудность нашихъ умственныхъ
средствъ и застарѣлость предразсудковъ, въ которые мы до сихъ поръ погружены.
Весьма естественно поэтому, что ученіе о неуничтожаемое™ какъ матеріи,
такъ и силы есть въ строгомъ смыслѣ созданіе настоящаго вѣка, хотя и встрѣ-
чаются кой-какіе намеки на него у нѣкоторыхъ прежнихъ мыслителей, которые
однако всѣ шли ощупью и безъ опредѣленной общей цѣли. Ни одинъ изъ прежнихъ
вѣковъ не былъ достаточно смѣлъ для того, чтобы обнять такое широкое воззрѣніе
въ его цѣлости, и ни одинъ изъ прежнихъ ученыхъ, даже еслибъ хотѣлъ принять
такое воззрѣніе, не былъ достаточно знакомъ съ законами природы для того, чтобы
отстоять его. Такъ, въ настоящемъ случаѣ очевидно, что пока теплота почиталась
за матерію, не могла она быть постигнута какъ сила, а слѣдовательно не могъ
никто придти къ теоріи перехода ея въ другія силы, хотя есть мѣста въ сочине-
ніяхъ Бэкона, доказывающія^ что онъ думалъ объ отождествленіи ея съ движеніемъ.
Необходимо было сперва понять теплоту въ отвлеченіи, діакъ свойство или состояніе
матеріи, а это было невозможно до тѣх^ поръ, пока/не были болѣе уяснены ея
непосредственныя условія, то есть покаЦе были, съ помощью математики, рас-
крыты ея ближайшіе законы. Между тѣнѣ! за исключеніемъ одного только Ньютона,
котораго попытки по этому предмету, при всей громадности его способностей, были
неудовлетворительны, и который при томъ рѣшительно склонялся къ матеріальной
теоріи,—никто не пытался разгадать математическіе законы теплоты до самой второй
половины восемнадцатаго вѣка, когда Ламбсръ и Влеккъ принялись за дѣло, кото-
рое потомъ продолжали Прево и Фурье. Человѣческій умъ, довольно медленно справ-
лявшійся съ предварительными работами, съ передовыми укрѣпленіями изслѣдованія,
не былъ готовъ къ несравненно болѣе трудной задачѣ возвести самую теплоту въ
идею, — въ такое отвлеченіе, чтобы отъ нея отпали всѣ матеріальные аттрибуты и
оставалось только одно умозрительное представленіе невещественной силы.
Изъ этихъ соображеній, безъ которыхъ читатель не былъ бы въ состояніи
оцѣнить важность результатовъ, достигнутыхъ въ Шотландіи, — можно видѣть, до
какой степени было необходимо, чтобы законы движенія теплоты изучались, прежде
чѣмъ стали изслѣдовать ея существо и прежде чѣмъ стало возможно такъ сильно
напасть на теорію истеченія, чтобы могло возникнуть великое ученіе о неуничто-
жаемое™ силы, которому, я ни малѣйше не сомнѣваюсь въ томъ, суждено произ-
вести переворотъ въ цѣломъ строѣ нашего мышленія и придать будущимъ умозрѣ-
ніямъ болѣе широкую основу, чѣмъ имѣли прежнія. Что касается движенія теплоты,
то мы обязаны законами теплопроводности и лучеиспусканія теплоты Франціи и
Женевѣ; законы же удѣльной теплоты и скрытаго теплорода открыты въ Шотландіи.
Ученіе объ удѣльной теплотѣ, хотя любопытное, не имѣетъ такой важности, какъ
прочія части этого обширнаго предмета; но ученіе о скрытой теплотѣ чрезвычайно
любопытно не только само себѣ, но и ради тѣхъ аналогій съ разными другими
отраслями естествознанія, на которыя она наводитъ.
Что называется скрытой теплотой, это видно изъ слѣдующаго. Когда твердое
тѣло, вслѣдствіе приложенія къ нему теплоты, переходитъ въ жидкое состояніе, на-
примѣръ ледъ превращается въ воду, продолжительность времени, потребнаго на это
превращеніе, пе можетъ объясниться ни одною изъ теорій, предлагавшихся до по-
580
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ловины восемнадцатаго вѣка. Невозможно было также объяснить, какимъ образомъ
температура льда никогда но поднимается выше 0° до тѣхъ поръ, пока онъ не
растаетъ окончательно, какая бы то ни была степень теплоты окружающихъ предме-
товъ. Не представлялось никакого средства къ разъясненію этихъ обстоятельствъ.
И хотя явленія эти, повторяясь ежедневно, не удивляли уже людей практическихъ,
успѣвшихъ присмотрѣться къ нимъ, тѣмъ не менѣе они поражали мыслителей, при-
выкшихъ анализировать всякое явленіе и доискиваться причинъ въ простыхъ, обы-
денныхъ вещахъ.
Въ самомъ началѣ второй половины восемнадцатаго столѣтія обратилъ вни-
маніе на этотъ предметъ Блеккъ, бывшій въ то время профессоромъ въ Глазков-
скомъ университетѣ. Онъ предложилъ теорію, которая ио своей новости и ориги-
нальности вызвала тогда сильныя нападенія, но которая теперь принята всѣми.
Съ рѣдкой смѣлостью и глубиной мысли пришелъ онъ къ заключенію, что когда
какое-либо тѣло утрачиваетъ часть своей плотности, какъ напримѣръ, когда ледъ
превращается въ воду пли вода въ паръ, тѣло это принимаетъ въ себя извѣстное
количество теплоты, котораго наши чувства не могутъ открыть даже при помощи
самаго чуткаго термометра, потому что эта теплота поглощается, ускользаетъ отъ
насъ, не производить осязаемаго дѣйствія на вещественный міръ, дѣлается, такъ
сказать, скрытымъ свойствомъ. Поэтому Блеккъ и назвалъ ее скрытой теплотой на
томъ основаніи, что хотя мы и сознаемъ мысленно ея присутствіе, однако не мо-
жемъ услѣдить ее, какъ фактъ. Тѣло, собственно говоря, стало теплѣе, а между тѣмъ
температура его не поднялась. При обратномъ процессѣ, то есть какъ скоро паръ
сгущается въ воду или вода превращается въ ледъ, теплота возвращается въ область
пашихъ чувствъ, перестаетъ быть скрытой, сообщаете^ окружающимъ предметамъ.
При этомъ не было произведено новой теплоты; правда, что теплота явилась и
исчезла для нашихъ внѣшнихъ чувствъ, но это былъ только обманъ чувствъ, по-
тому, что въ дѣйствительности не послѣдовало ни увеличенія, ни уменьшенія коли-
чества теплоты х). Что эта замѣчательная теорія проложила путь ученію о неуничто-
жаемости силы, очевидно каждому, кто размышлялъ о томъ, какимъ образомъ въ
исторіи человѣческаго ума рождаются и развиваются научныя понятія. Процессъ
ихъ развитія такъ медленъ, что никогда ни одно открытіе не совершалось иначе,
какъ совокупнымъ трудомъ нѣсколькихъ послѣдовательныхъ поколѣній. Поэтому, при
сужденіи о томъ, что именно совершено каждымъ отдѣльнымъ человѣкомъ, мы
должны судить о немъ пе по ошибкамъ, которыхъ онъ не уберегся, а по истинамъ,
которыя онъ предложилъ. Большая часть его ошибокъ принадлежитъ собственно не
ему, онъ ихъ наслѣдуетъ отъ своихъ предшественниковъ, и если онъ успѣетъ устра-
нить нѣкоторыя изъ нихъ, мы должны быть ему благодарны за это, а не винить
его за то. что онъ пе устранилъ ихъ всѣхъ. Блеккъ конечно впалъ въ ошибку
въ томъ отношеніи, что смотрѣлъ на теплоту, какъ на матерію, подчиненную зако-
намъ химическаго соединенія. Но это была только гипотеза, завѣщанная ему пред-
шественниками, которую современное ему состояніе умственнаго развитія принудило
его вплести въ свою теорію. Опъ наслѣдовалъ гипотезу и не могъ освободиться
отъ этого неудобнаго достоянія. Дѣйствительная услуга, оказанная имъ, заключается
въ томъ, что, по взирая на помянутую гипотезу, отъ которой онъ не могъ отдѣлаться
Докторъ Робинсонъ, издавшій лекціи Блекка, го-
воритъ (стр. 513): «Ничего не могло быть проще его
ученія о скрытой теплотѣ. Слишкомъ сто лѣтъ опыта
пріучили насъ смотрѣть на термометръ, какъ па
вполнѣ надежный и точный указатель теплоты и всѣхъ
ея измѣненій. Мы привыкли пе довѣрять никакимъ
другимъ указаніямъ. Между тѣмъ переходъ тѣлъ въ
жидкое или въ парообразное состояніе неопровержимо
доказывалъ намъ, что теплота входитъ вь эти тѣла.
Мы могли даже, носрсдсівомъ приспособленныхъ къ
! тому процессовъ, опять извлечь ео изъ нихъ. Док-
торъ Влекиь говорилъ, что опа въ нпхъ скрывается,
। 1а(е(; опа тутъ скрывалась точно такъ же, какъ скры-
: вается углекислота въ мраморѣ; она скрывалась, пока
докторъ Блеккь пе открылъ ея. Онъ называлъ се скры-
тою теплотою. Этимъ выражепІемь онь шшуть не
хотѣлъ сказать, что эта теплота отличная отъ той,
' которая расширяетъ тѣла; опъ разумѣлъ только, что
опа скрывается отъ нашего осязанія п отъ термо-
метра^.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVIII СТОЛ.
581
число силъ
легче стало примѣнить ко всей совокупности силы
которое до того времени было примѣнено ко всей
едва-ли было возможно достигнуть, пока теплота
на половинѣ дороги между силою и матеріею, и
до самаго конца, онъ болѣе кого-либо изъ своихъ современниковъ содѣйствовалъ
зарожденію великой мысли идеализировать теплоту, и такимъ образомъ далъ воз-
можность своимъ преемникамъ включить ее въ разрядъ невещественныхъ и сверх-
чувственныхъ силъ. Какъ скоро она была отнесена въ этотъ разрядъ,
было завершено, и сравнительно
то же понятіе неуничтожаемости,
совокупности матеріи. Но этого
была поставлена, такъ сказать,
давала различнымъ чувствамъ противоположные результаты: была доступна чув-
ству осязанія и незрима глазу. Требовались поставить ее совершенно внѣ области
нашихъ внѣшнихъ чувствъ и признать, что хотя мы и ощущаемъ ея дѣйствіе,
однако сознаемъ ея существованіе только мыслью. Блеккъ сдѣлалъ огромный шагъ
къ этому. Можетъ быть и не*сознавая отдаленнѣйшихъ результатовъ своихъ тру-
довъ, онъ подрывалъ то самое ученіе о матеріальности теплоты., которое онъ по-
видимому поддерживалъ. Ибо, защищая скрытую теплоту, онъ училъ, что движенія
теплоты безпрестанно обманываютъ не только нѣкоторыя изъ нашихъ чувствъ, но
и всѣ наши чувства; и что въ то самое время, когда ощущеніе говоритъ намъ, что
теплота пропала, разсудокъ заставляетъ насъ убѣдиться, что она не пропала. Тутъ
являются кажущаяся уничтожаемость и дѣйствительная неуничтожаемое™. Утвер-
ждать, что тѣло приняло въ себя теплоту, когда его температура не возвысилась,
значило возложить на разсудокъ исправленіе впечатлѣній осязанія, отвергать пока-
занія послѣдняго. Это былъ смѣлый и прекрасный парадоксъ, для созданія котораго
требовались какъ проницательный умъ, такъ и мужество, и принятіемъ котораго
хрсѵѵоидѵх» іъсііѵи іірѵи*іід,слі ѵ.іолхихі хиіъіх хі ші?ѵюѵ, хі ирнплііѵщ иѵіѵриіѵ
отмѣчается эпоха въ развитіи человѣческаго ума, потому что оно составляетъ огром-
ный шагъ къ идеализированію матеріи въ силу. Нѣкоторые говорили, правда, о
невидимой матеріи; но тутъ было явное противорѣчіе въ сочетаніи словъ, которое
никогда не будетъ допущено, пока не измѣнятся формы рѣчи. Ничто не можетъ
быть невидимо, кромѣ силы, духа и Верховной Причины всего существующаго. Мы
должны поэтому признать за Блеккомъ великую заслугу, что онъ первый въ изслѣ-
дованіи теплоты отвергъ авторитетъ внѣшнихъ чувствъ и этимъ положилъ основаніе
всему, что совершено послѣ него. Независимо отъ отношенія его открытія къ ученію
о неуничтожаемое™ силы,7 оно находится также въ связи съ однимъ изъ самыхъ бле-
стящихъ результатовъ, добытыхъ уже настоящимъ поколѣніемъ, въ знаніи неорганиче-
скаго міра, именно съ дознаніемъ торжества свѣта и теплоты. Нашимъ внѣшнимъ чув-
ствамъ свѣтъ и теплота являются въ нѣкоторыхъ, немногихъ, отношеніяхъ несходными.
Свѣтъ, напримѣръ,, дѣйствуетъ на зрѣніе, но не дѣйствуетъ на осязаніе; теплота же
дѣйствуетъ на осязаніе, но при обыкновенныхъ условіяхъ не дѣйствуетъ на зрѣніе.
Но самое главное различіе между ними есть то, что теплота обладаетъ свойствомъ
температуры, которымъ не обладаетъ свѣтъ; и свойство это такъ характеристично,
что пока наше пониманіе не подкрѣплено наукою, мы не въ состояніи постичь
теплоту отдѣльно отъ температуры, и вынуждены смѣшивать ту и другую. Но съ
той минуты, какъ люди стали понимать методъ, которому слѣдовалъ Блеккъ, и рѣ-
шились смотрѣть на теплоту, какъ на
путь, который долженъ былъ привести ихъ къ открытію, что свѣтъ и теплота суть
только различныя проявленія одной и топ же силы. Такъ какъ они оставили въ
сторонѣ дѣйствіе теплоты на человѣка или на какую бы то ни было часть творенія,
способную ощущать ея температуру и, слѣдовательно, даваться ей въ обманъ, то имъ
ничего болѣе не оставалось, какъ только изучать ея дѣйствіе на міръ неодушевленный.
Тогда все стало ясно; путь открытій былъ расчищенъ, и аналогіи между свѣтомъ и теп-
лотой, которыя прежде едва подозрѣвала самая смѣлая фантазія, были поставлены внѣ
всякаго сомнѣнія. Къ отраженію теплоты, которое было уже извѣстно и прежде, теперь
были прибавлены ея преломленіе и двойное преломленіе, поляризація и деполяризація
и круговая поляризація, интерференція ея лучей и ихъ задержка; и--чтЬ всего замѣ-
явленіе сверхчувственное, они ступили на
583
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
чательнѣе,—знаніе наше по этимъ вопросамъ развивалось такъ быстро, что еще до
истеченія 1836 года вся цѣпь доказательствъ была закончена эмпирическими из-
слѣдованіями Форбса и Меллони, которые сами при этомъ почти не догадывались,
что все, что они дѣлали, было подготовлено еще до рожденія ихъ; что они были
только слугами и послѣдователями человѣка, указавшаго путь, по которому они тли,
и что опыты ихъ, при всей ихъ оригинальности и всемъ ихъ значеніи, были только
прямое практическое послѣдствіе одной изъ тѣхъ дивныхъ идей, которыми Шотлан-
дія подарила міръ и воспоминаніе о которыхъ почти способно закупить наше суж-
деніе и заставить насъ забыть, что въ то время, какъ передовые умы націи были
заняты такими возвышенными предметами, сама нація оставалась имъ чуждою,
относилась къ этимъ людямъ съ холоднымъ и презрительнымъ равнодушіемъ, будучи
погружена въ то мертвящее суевѣріе, которое глухо ко всему разумному и не внем-
летъ голосу чародѣя, какъ бы ни были мудры его чары.
Только разсмотрѣвъ такимъ образомъ происхожденіе и сродство научныхъ идей,
можемъ мы уразумѣть, какъ много мы дѣйствительно обязаны сдѣланному Блеккомъ
открытію скрытой теплоты. Относительно метода, которымъ онъ дошелъ до этого
открытія, нечего много говорить, потому что каждый, изучавшій Бэконову филосо-
фію, тотчасъ увидитъ, что открытіе было такого рода, къ которому не пріурочи-
вается ни одно изъ правилъ этой системы. Такъ какъ скрытая теплота не подле-
житъ нашимъ внѣшнимъ чувствамъ, то и нельзя было подвести ее подъ законы
философской системы, которая основанія всякой истины ищетъ исключительно въ
наблюденіи и непосредственномъ опытѣ. Предметъ изслѣдованія былъ сверхчувствен-
ный, слѣдовательно, и не могъ быть подвергнутъ тому, что Бэконъ называлъ перекре-
стными опытами и выдѣленіемъ сущности явленій. Истина заключалась въ самой идеѣ;
поэтому опыты могли только Уяспйть^ееГ/вывести наружу и такимъ образомъ дать
людямъ возможность ее уловить, но не могли доказать ее. Все это очевидно съ
перваго взгляда на открытіе и подтверждается при томъ прямымъ свидѣтельствомъ
доктора Томсона, который зналъ Блекка лично и былъ даже однимъ изъ самыхъ
замѣчательныхъ его учениковъ. Этотъ неопровержимый свидѣтель увѣряетъ насъ,
что Блеккъ принялся за умозрительное изученіе теплоты около 1759 года, что пло-
домъ его размышленій была теорія скрытой теплоты, что въ 1761 году онъ уже
публично преподавалъ эту теорію, но что опыты, требовавшіеся для убѣжденія міра
въ ея истинѣ, были произведены не ранѣе 1764 года. При этомъ едва-ли нужно
мнѣ присовокуплять, что удовлетворяться такимъ образомъ теоріею за три года до
произведенія опытовъ значило идти на перекоръ всѣмъ правиламъ индуктивной
философіи, а тѣмъ болѣе не только удовлетворяться ею, но даже публично препо-
давать ее, какъ новую и неоспоримую истину, новымъ способомъ объясняющую весь
строй вещественнаго міра,
Умъ Блекка принадлежалъ къ тѣмъ умамъ, которые въ ХѴПІ столѣтіи въ
Шотландіи почтп исключительно преобладали, въ Англіи же едва-ли вовсе встрѣча-
лись, и которые, за неимѣніемъ лучшаго слова, мы вынуждены назвать умами де-
дуктивными, хотя и допускаемъ вполнѣ, что и самые дедуктивные умы имѣютъ зна-
чительную долю индуктивности, такъ какъ безъ индукціи нельзя собственно вести
даже обыкновенныя житейскія дѣла. Но съ точки зрѣнія научной классификаціи
мы можемъ сказать, что какой-нибудь мыслитель пли какой-нибудь вѣкъ дедукти-
венъ, когда его любимымъ процессомъ мышленія оказывается умозаключеніе отъ
основныхъ началъ, а не къ этимъ началамъ, и когда въ немъ обнаруживается стрем-
леніе придавать слишкомъ мало цѣны прямому опыту. Что такъ именно и было съ
знаменитымъ виновникомъ открытія скрытой теплоты, это мы видѣли какъ изъ
сущности самаго открытія, такъ и изъ рѣшительнаго свидѣтельства его ученика и
друга. Дальнѣйшее же подтвержденіе можно найти въ томъ обстоятельствѣ, что, разъ
заявивъ о своей великой идеѣ, онъ вмѣсто того чтобы начать длинный рядъ тща-
тельныхъ ОПЫТОВЪ, ПОСреДСТВОМЧ) которыхъ можно было бы повѣрить эту мысль въ
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ стол. 583
ея различныхъ развѣтвленіяхъ,—предпочелъ вести умозаключеніе отъ нея по общимъ
правиламъ діалектики,—чѣмъ собственно довелъ ее до крайнихъ логическихъ по-
слѣдствій, а не перенесъ въ ту область, гдѣ бы она могла быть подтверждена или
опровергнута свидѣтельствомъ чувствъ. Слѣдуя этому процессу мышленія, опъ при-
шелъ къ нѣкоторымъ дивнымъ умозрѣніямъ, которыя такъ далеки отъ опыта, что
даже теперь, со всѣми добавочными средствами нашего знанія, мы все-таки не мо-
жемъ сказать, вѣрны они, или невѣрны. Въ этомъ родѣ были его воззрѣнія и на при-
чины сохраненія человѣческой природы, существованію которой, какъ онт> полагалъ,
угрожала бы опасность, еслибъ не то свойство, какое имѣетъ теплота, оставаться
скрытой, незамѣтной. Такъ, напримѣръ, когда за продолжительной и суровой зимой
наступаетъ внезапно тепло, то казалось бы естественнымъ, чтобы снѣгъ и ледъ
растаяли съ соотвѣтствующей быстротой; а если бы это случилось, то результатомъ
было бы такое страшное наводненіе, что человѣкъ едва-ли могъ бы спастись отъ
его опустошительнаго дѣйствія. Если бы даже онъ самъ и спасся, то труды его, т. е.
матеріальные результаты его цивилизаціи, во всякомъ случаѣ погибли бы. Отъ этой
катастрофы спасаетъ его одна только скрываемость теплоты. Благодаря этому свой-
ству теплоты, ледъ и снѣгъ начинаютъ непосредственно таять только на своей поверх-
ности; теплота проникаетъ въ ихъ строеніе, гдѣ большая часть ея остается въ без-
дѣйствіи и оттого въ значительной мѣрѣ утрачиваетъ силу,—чрезъ что и замедляется
процессъ таянія. Эта страшная сила становится вялою и приходитъ въ усыпленіе. Она
ослабѣваетъ при самомъ началѣ своего дѣйствія и поступаетъ какъ бы въ особый складъ,
откуда выдѣляется потомъ постепенно и совершенно безопасно для человѣческой породы.
Такимъ образомъ въ теченіе лѣта накопляется обширный запасъ теплоты и со-
храняется въ водѣ, гдѣ теплота эта не можетъ принести никакого вреда человѣку,
такъ какъ чувства его не въ состояніи воспринимать ея впечатлѣніе. Тамъ она
остается погребенной до тѣхъ ігоръ^прдсДвздЙбрядкѣ временъ года не наступитъ
снова зима и вода обратится въ ледъ. Вб^врёмя^Процесса замерзанія это сокро-
вище теплоты, остававшееся затаеннымъ въ теченіе всего лѣта, снова выходитъ
наружу; она перестаетъ быть скрытой, и теперь, впервые подѣйствовавъ на чувства
человѣка, умѣряетъ для него суровость зимы. Чѣмъ скорѣе замерзаетъ вода, тѣмъ
скорѣе освобождается изъ нея теплота, такъ что въ силу этого великаго закона
природы оказывается, чтб холодъ порождаетъ тепло, и суровость всякаго времени
года хотя и не можетъ быть совершенно устранена, но смягчается въ той самой
мѣрѣ, въ какой возрастаетъ угрожающая отъ нея опасность.
Опять, съ другой стороны, такъ какъ теплота становится скрытой и усколь-
заетъ отъ нашихъ чувствъ, не только когда ледъ переходитъ въ воду, но и когда
вода обращается въ пары,—то мы находимъ въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ
одну изъ причинъ того, почему человѣкъ и другія животныя могутъ жить на тро-
пикахъ, которые иначе оставались бы незаселенными. Люди и животныя постоянно
страдаютъ отъ накопляющейся въ ихъ тѣлахъ теплоты, которой одной уже было бы
достаточно, чтобы разрушить пхъ, но теплота эта возбуждаетъ жажду, и онп вслѣд-
ствіе того поглощаютъ въ большихъ количествахъ жидкость, значительная часть
которой выпотѣваетъ сквозь поры кожи въ видѣ испареній. А такъ какъ, согласно
съ теоріей скрытой теплоты, испаренія образуются не иначе, какъ съ огромнымъ
содержаніемъ въ нихъ теплоты, то они поглощаютъ въ себя и уносятъ изъ тѣла то
именно, что, будучи оставлено въ немъ, имѣло бы пагубное дѣйствіе. Къ этому
мы должны прибавить, что на тропикахъ испареніе воды происходитъ по необходи-
мости быстро, и образующіеся отъ этого пары становятся новымъ теплоёмомъ, но-
вымъ орудіемъ освобожденія теплоты изъ земли и предупрежденія вреднаго дѣйствія
ея на отправленія жизни.
Путемъ этихъ и многихъ другихъ доводовъ, которые всѣ имѣли такой суще-
ственно умозрительный характеръ и относились къ такимъ сокровеннымъ отправле-
ніямъ природы, что даже и теперь мы не имѣемъ достаточнаго основанія ни без-
584
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
условно принять, ни положительно отвергнуть ихъ,—Блеккъ пришелъ къ тому ве-
ликому ученію о неуничтожаемости теплоты, которое вмѣстѣ съ теоріей неуни-
чтожаемости силы имѣетъ, какъ я уже замѣтилъ, еще большее нравственное и
соціальное значеніе, чѣмъ научную важность. Хотя данныя, которыя онъ имѣлъ
въ виду, гораздо скуднѣе тѣхъ, какими мы теперь обладаемъ, тѣмъ не менѣе, воо-
руженный скорѣе зоркостью своего мощнаго ума, чѣмъ числомъ и точностью со-
бранныхъ фактовъ, онъ до такой степени проникся убѣжденіемъ въ постоянствѣ
всего существующаго въ природѣ, что примѣнилъ эту мысль не только къ тонкимъ
явленіямъ теплоты, но даже, — что было гораздо труднѣе сдѣлать — къ тѣмъ слу-
чаямъ, въ которыхъ теплота до такой степени ускользаетъ отъ нашихъ чувствъ,
что человѣкъ не можетъ познать ее иначе, какъ съ помощью воображенія. Со-
гласно съ его взглядомъ, теплота проходитъ чрезъ безчисленное множество из-
мѣненій, въ теченіе которыхъ она кажется утратившейся; измѣненій этихъ никакой
глазъ не замѣтитъ, никакое осязаніе не ощутитъ, никакой приборъ не измѣритъ.
Но среди всѣхъ этихъ перемѣнъ она все-таки остается неприкосновенной. Ничто
не убавится и ничто не прибудетъ въ ней. Въ одномъ изъ тѣхъ дивныхъ мѣстъ
въ его лекціяхъ,—которыя какъ ни дурно онѣ намъ переданы, носятъ все-таки от-
печатокъ его возвышеннаго генія, — Блеккъ, объяснивъ слушателямъ, что произо-
шло бы по всей вѣроятности, еслибы уменьшился общій итогъ теплоты, существую-
щей въ мірѣ,—переходивъ затѣмъ къ умозрѣніямъ на тотъ случай, когда бы итогъ
этотъ увеличился. Еслибъч какая-либо сила была въ состояніи хоть что-нибудь при-
бавить къ этой теплотѣ, то она разомъ вышла бы изъ своихъ предѣловъ; равно-
вѣсіе было бы нарушено, и все зданіе природы распалцйь бы на части. Зло это
такъ быстро возрастало бы и свирѣпствовало бы съ такой сосредоточенной силой,
что ничто не могло бы остановить его опустошительное дѣйствіе. Теплота должна
идти все далѣе и далѣе, пока нЩлоглотитъ и не пересилитъ всѣ другія начала.
Такъ какъ она все истребляетъ на пути своемъ, не зная ни преградъ, ни сопро-
тивленія, то животныя должны гибнуть, растенія — исчезать, воды обращаться въ
паръ, а твердая земля — расплавляться, пока, наконецъ, все это дивное зданіе
природы, разслабленное и расшатанное, не рухнется и не возвратится въ то со-
стояніе хаоса, изъ котораго оно первоначально возникло. \
Эти, какъ и многія другія изъ умозрѣній этого великаго мыслителя не
бенно понравятся тѣмъ чисто индуктивнымъ философамъ, которые не только
осо-
ду-
маютъ—пожалуй справедливо, что все наше знаніе первоначально зиждется на фак-
тахъ, но и утверждаютъ — мнѣніе по-моему весьма опасное, — что всякому умноже-
нію знанія должно предшествовать умноженіе фактовъ. Такимъ людямъ покажется,
что лучше бы Блеккъ занялся дѣланіемъ новыхъ наблюденій иди придумываніемъ
новыхъ опытовъ, чѣмъ давать разыгрываться своему воображенію въ дикихъ, ни къ
чему не ведущихъ мечтаніяхъ. Они найдутъ, что такіе полеты фантазіи пожалуй
пристойны поэту, но что они пе достойны той строгой точности и той вниматель-
ности къ фактамъ, которыя должны быть отличительной чертой философа. Въ Англіи,
въ особенности между изслѣдователями природы, явно преобладаетъ рѣшимость
отдѣлять философію отъ поэзіи и смотрѣть на нихъ, какъ на предметы не только
различные, но и враждебные другъ къ другу. Между этимъ классомъ мыслителей, усер-
діе и дарованія которыхъ выше всякой похвалы, и которымъ мы почти безгранично
обязаны,—существуетъ конечно въ весьма сильной степени убѣжденіе, что въ ихъ
родѣ занятій воображеніе чрезвычайно опасно, такъ какъ оно приводитъ къ умо-
зрѣніямъ, основанія которыхъ еще не упрочены, и порождаетъ желаніе слишкомъ
торопливо заглядывать въ даль, прежде чѣмъ извѣдано промежуточное пространство.
Что воображеніе имѣетъ такого рода стремленіе — это безспорно. Но тѣ, которые
возстаютъ противъ него за это и потому хотѣли бы отдѣлить поэзію отъ философіи,
смотрятъ, мнѣ кажется, слишкомъ узкимъ взглядомъ на отправленія человѣческаго
ума и на то, какимъ образомъ достигается истина. Есть въ поэзіи извѣстная боже-
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
585
ственная, пророческая сила, извѣстное ясновидѣніе относительно сущности и при-
роды вещей, которое, если его должнымъ образомъ употребить въ дѣло, сдѣлало бы
изъ нея не врага, а союзника науки. Поэтъ разсматриваетъ природу со стороны
душевныхъ движеній, а мужъ науки—со стороны разума. Но душевныя движенія
составляютъ такую же часть нашей природы, какъ и разумъ; они одинаково истинны,
одинаково могутъ быть правы. Хотя эти воззрѣнія различны, но они не произвольны.
Они повинуются постояннымъ законамъ, идутъ правильнымъ однообразнымъ путемъ,
сохраняютъ извѣстную послѣдовательность, имѣютъ свою логику, свой методъ для вы-
вода заключеній. И такъ, поэзія есть часть философіи, просто потому, что душев-
ныя движенія составляютъ часть нашей духовной природы. Если мужъ науки пре-
небрегаетъ ихъ внушеніями, то тѣмъ хуже для него. Онъ располагаетъ только поло-
виной необходимаго оружія; арсеналъ его неполонъ. Онъ можетъ, конечно, одержи-
вать побѣды, потому что его природная сила можетъ вознаграждать недостатки его
вооруженія. Но онъ имѣлъ бы болѣе полный и скрытый успѣхъ, еслибы онъ былъ
всѣмъ достаточно снабженъ и приготовленъ къ битвѣ. И я не могу не видѣть одинъ
изъ худшихъ умственныхъ признаковъ нашей великой страны въ томъ, что я поз-
волю себѣ назвать неполнымъ воспитаніемъ естествоиспытателей, проявляющимся
какъ въ ихъ сочиненіяхъ, такъ и въ процессѣ ихъ мышленія. Это тѣмъ болѣе
серьезный недостатокъ, что они, взятые какъ цѣлая корпорація, образуютъ самый
важный классъ въ Англіи, — посмотримъ ли мы на ихъ дарованія, или на оказан-
ныя ими услуги, или наконецъ на то вліяніе, которое они имѣютъ и по всей вѣ-
роятности будутъ и всегда имѣть на преуспѣяніе общества.. Нельзя однако скрыть,
что они обнаруживаютъ слишкомъ несвойственное уваженіе къ опытамъ, болѣе чѣмъ
должную любовь къ мелкимъ Подробностямъ и склонцбсть преувеличивать заслуги
изобрѣтателей новыхъ приборовъ и людей* открывающихъ новые, хотя часто ничего
не значащіе, факты. Предшественники ихъ въ XVII столѣтіи, смѣлѣе прибѣгая къ
гипотезамъ и чаще давая волю своему воображенію, конечно сдѣлали болѣе, по
тогдашнему состоянію знапія, чѣмъ могли сдѣлать наши современники, располагаю-
щіе болѣе совершенными вспомогательными средствами. Дивныя обобщенія, сдѣлан-
ныя Ньютономъ и Гарвеемъ, никогда не могли бы быть довершены въ вѣкъ, по-
груженный въ одинъ неизмѣнный кругъ наблюденій и опытовъ. Мы находимся въ
такомъ положеніи, что у насъ факты опередили знаніе и затрудняютъ теперь его
движеніе впередъ. Изданія нашихъ ученыхъ учрежденій п нашихъ ученыхъ писа-
телей переполнены безчисленными мелкими подробностями, которыя только спуты-
ваютъ сужденіе и которыхч> никакая память не въ силахъ удержать въ себѣ. На-
прасно просимъ мы, чтобы ихъ обобщили и привели въ порядокъ. Вмѣсто того
куча все продолжаетъ рости. Намъ нужны идеи, а намъ даютъ все болѣе и болѣе
фактовъ. Мы постоянно мыслимъ о томъ, что дѣлаетъ природа, но рѣдко узнаемъ
о томъ, что мыслитъ человѣкъ. Благодаря неутомимой дѣятельности нынѣшняго и
прошедшаго столѣтій, мы обладаемъ теперь громадной безсвязной массой наблю-
деній, которыя были накоплены съ большой заботливостью, но останутся совершенно
безполезными до тѣхъ поръ, пока не будутъ связаны какой-япбудь господствующей
идеей. Лучшимъ средствомъ для извлеченія изъ нихъ пользы было бы дать болѣе
простора воображенію и совмѣстить духъ поэзіи съ духомъ науки. Этимъ путемъ
наши философы удвоили бы свои средства, вмѣсто того чтобы дѣйствовать, какъ
въ настоящее время, подъ вліяніемъ этого нравственнаго увѣчья, только одною
половиной своего существа. Они боятся воображенія вслѣдствіе его склонности
слишкомъ поспѣшно строить теоріи. Но, конечно, всѣ наши способности необходимы
въ дѣлѣ преслѣдованія истины, и нѣтъ оправданія нашему недовѣрію къ той или
другой части духовной природы человѣка. И я почти не сомнѣваюсь, что одна изъ
причинъ, по которымъ мы въ Англіи сдѣлали такія дивныя открытія въ теченіе
XVII столѣтія, заключалась въ томъ, что столѣтіе это было также великимъ време-
немъ англійской поэзіи. Два самые мощные ума, какихъ произвела Англія, были
586
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Шекспиръ и Ньютонъ; и что Шекспиръ предшествовалъ Ньютону, это не было, я
увѣренъ въ томъ, обстоятельствомъ случайнымъ, безразличнымъ. Шекспиръ и поэты
сѣяли сѣмена, а Ньютонъ и философы собирали жатву. Оставивъ въ сторонѣ ста-
рыя схоластическія и теологическія стремленія, они обратили вниманіе на природу
и сдѣлались такимъ образомъ истинными основателями естествознанія. Они сдѣлали
еще болѣе: они первые привили англійскому уму смѣлыя и возвышенныя сообра-
женія. Они научили людей своего поколѣнія стремиться къ невидимому. Они на-
учили ихъ пылать любовью къ идеальному и возвышаться надъ видимымъ міромъ
чувственности. Такимъ образомъ, возбуждая душевныя движенія, они открывали
одинъ изъ путей, ведущихъ къ истинѣ. Сообщенное ими направленіе пережило ихъ
время и, какъ всякое великое движеніе, отразилось на всѣхъ областяхъ мысли.
Но теперь это направленіе исчезло и, если я не очень ошибаюсь, естественныя
науки страдаютъ въ настоящее время отъ его отсутствія, Съ XVII столѣтія мы не
имѣли ни одного поэта высшаго разряда, хотя Шелли, если бы онъ жилъ дольше, сдѣ-
лался бы такимъ поэтомъ. Онъ имѣлъ извѣстную долю той пылающей страсти, того
священнаго огня, который воспламеняетъ душу, какъ бы прямо нисходя съ алтаря
боговъ. Но онъ умеръ во цвѣтѣ лѣтъ, на самой зарѣ своего блестящаго генія. Если
мы исключимъ незрѣлыя, но все-таки дивныя попытки этого юнаго поэта, то мы
рѣшительно можемъ сказать, что въ теченіе почти двухсотъ лѣтъ Англія не про-
извела по части поэзіи ничего такого, чтб имѣло бы тѣ несомнѣнные признаки
вдохновенія, которые мы находимъ въ Спенсерѣ, въ Шекспирѣ, въ Мильтонѣ. Въ
результатѣ оказывается, что мы, которые отдѣлены такимъ широкимъ промежуткомъ
времени отъ этихъ великикъ людей, питавшихъ воображеніе нашихъ предковъ, и
которые не можемъ вполнѣ вникнуть въ чувства поэтовъ, писавшихъ въ то время,
когда почти всѣ убѣжденія, послѣдовательно, и почти всѣ виды душевныхъ движе-
ній, были совершенно не то, чтб теперь,—мы по всей вѣроятности не можемъ со-
чувствовать тЬмъ великимъ произведеніямъ въ такой полной мѣрѣ, какъ могли со-
чувствовать ихъ современники. Дивная англійская поэзія шестнадцатаго и семнад-
цатаго столѣтій читается теперь болѣе чѣмъ когда-либо, но она не сообщаетъ осо-
баго оттѣнка нашимъ мыслямъ, не имѣетъ того образовательнаго дѣйствія на ваши
умы, какое имѣла на умы нашихъ предковъ. Между нами и ими находится про-
пасть, за которую мы не можемъ вполнѣ перенестись. Мы такъ удалены отъ того
круга мыслей, среди котораго сложились эти поэмы, что онѣ не блистаютъ передъ
нами той дѣйствительностью, той ясностью цѣли, какую онѣ представляли бы намъ,
еслибъ мы жили въ то время, когда онѣ были написаны. Вся ихъ обстановка странна
и принадлежитъ другому времени. Не только ихъ нарѣчіе и одѣяніе, но даже ихъ
строеніе и ихъ самыя завѣтныя мысли, — все говоритъ о дняхъ минувшихъ, кото-
рыхъ мы не можемъ вполнѣ усвоить себѣ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что люди съ
самымъ высшимъ образованіемъ пріобрѣтаютъ отъ литературы прошедшаго извѣст-
наго рода полировку, заключающуюся иногда въ развитіи большей утонченности вкуса,
а иногда и въ расширеніи круга идей; но настоящая образованность великаго народа,
та образованность, которою особенно крѣпко каждое поколѣніе, заключается именно
въ томъ, чтб оно пріобрѣтаетъ отъ поколѣнія, непосредственно предшествующаго.
Хотя часто безсознательно, по мы строимъ почти всѣ наши соображенія на осно-
ваніяхъ, признанныхъ тѣми, кто прямо предшествовалъ намъ. Самыя близкія отно-
шенія наши — не къ праотцамъ, а къ отцамъ. Съ ними связаны мы неподдѣль-
нымъ сродствомъ, которое, возникая само собою, не требуетъ съ нашей стороны ни
малѣйшаго усилія, и отъ котораго мы не властны даже отрѣшиться. Мы наслѣдуемъ
ихъ понятія п измѣняемъ ихъ потомъ точно такъ же, какъ они измѣняли понятія
своихъ предшественниковъ. Съ каждымъ послѣдовательнымъ измѣненіемъ кое-что
утрачивается и кое-что прибавляется, пока, наконецъ, не изгладится совершенно пер-
воначальный типъ. Поэтому-то идеи, господствовавшія нѣсколько поколѣній тому
назадъ, имѣютъ къ намъ почти такое же отношеніе, какъ и идеи, сохранившіяся
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
587
въ иностранной литературѣ. Въ обоихъ случаяхъ такія идеи могутъ послужить къ
украшенію нашего знанія, но никогда не сроднятся въ такой совершенной степени
съ нашимъ умомъ, чтобы составлять самое знаніе. Усвоеніе нами этихъ идей не
полно, потому что наше сочувствіе къ нимъ неполно. У насъ теперь нѣтъ великихъ
поэтовъ, и паша бѣдность въ этомъ отношеніи не вознаграждается тѣмъ фактомъ,
что у насъ они были когда-то и что мы можемъ читать и дѣйствительно читаемъ
ихъ сочиненія. Движеніе прекратилось, очарованіе прервано, связующее звено хотя
не разорвано, но значительно ослаблено. Вотъ почему нашъ вѣкъ, какъ бы онъ
ни былъ великъ и какъ бы онъ ни превосходилъ во всѣхъ почти отношеніяхъ
любой изъ вѣковъ, какіе видывалъ до сихъ поръ свѣтъ, имѣетъ — несмотря на
широко преобладающія въ немъ благородныя чувства, па безпримѣрную терпимость,
любовь къ свободѣ и щедрую, почти расточительную благотворительность — какой-
то матеріальный, бѣдный воображеніемъ и лишенный героизма характеръ, который
не разъ заставилъ наблюдателя трепетать за будущность. Па сколько я могу понять
настоящее состояніе наше, я не раздѣляю этихъ опасеній; я увѣренъ, что все хо-
рошее, уже пріобрѣтенное нами, безъ всякаго сравненія выше того, чего мы лиши-
лись. Но что мы лишились чего-то, это безспорно. Мы лишились въ значительной
мѣрѣ той дѣятельности воображенія, которая хотя часто не приводитъ къ добру
въ практической жизни, но въ жизни умозрительной составляетъ одно изъ важнѣй-
шихъ качествъ, такъ какъ оно и наводитъ на мысль, и имѣетъ творческую силу.
Даже и съ практической дочки зрѣнія мы должны бы дорожить этою способностью,
потому что отъ нея главнѣйшимъ образомъ зависитъ обмѣнъ чувствъ. Тѣмъ не менѣе
она приходитъ въ упадокъ, и въ то же самое время развивающаяся утонченность
общества пріучаетъ насъ все болѣе и болѣе подавлять паши душевныя движенія,
чтобы онп не сдѣлались непріятными для^другихъ. Л такъ какъ проявленія душев-
ныхъ движеній и составляютъ главный предметъ изученія для поэта, то мы видимъ
въ этомъ обстоятельствѣ новую причину того, почему трудно соперничать съ вели-
кой корпораціей поэтовъ, которыхъ имѣли наши предки. И такъ, для естествоиспы-
тателей вдвойнѣ необходимо развивать въ себѣ воображеніе. Это обязанность, нала-
гаемая на нихъ самыми ихъ запятіями, которыя должны сдѣлаться богаче резуль-
татами и надежнѣе вслѣдствіе такого расширенія круга вспомогательныхъ средствъ.
Это также обязанность ихъ по отношенію къ цѣлому обществу, ибо они, которыхъ
умственное вліяніе уже сильнѣе, чѣмъ вліяніе какого-либо другого класса, и авто-
ритетъ которыхъ видимо возрастаетъ,—могли бы имѣть достаточно силы, чтобы испра-
вить одинъ изъ самыхъ серьезныхъ недостатковъ нынѣшняго вѣка и вознаградить
отчасти нашу неспособность произвести такую блестящую изящную литературу, какъ
та. которую создали наши предки, и въ которой, если могу такъ выразиться, жили
и вращались отборнѣйшіе умы семнадцатаго столѣтія.
И такъ, еслибы Блеккъ не сдѣлалъ ничего болѣе, какъ только показалъ при-
мѣръ великаго естествоиспытателя, дающаго полную свободу своему воображенію,
то и этимъ онъ уже оказалъ бы намъ такое благодѣяніе, которое невозможно слиш-
комъ высоко оцѣнить. II весьма замѣчательно то, что еще до его смерти за ту же
отрасль неорганической физики, которую онъ разрабатывалъ съ такимъ успѣхомъ,
взялся другой замѣчательный шотландецъ, слѣдовавшій рѣшительно тому же плану,
хотя съ нѣсколько меньшимъ дарованіемъ. Я, конечно, разумѣю Лесли, котораго
изслѣдованія о теплотѣ хорошо извѣстны всякому, кто занимается этимъ предметомъ;
для насъ же въ настояніемъ случаѣ они имѣютъ главнѣйшимъ образомъ тотъ инте-
ресъ, что служатъ пояснительнымъ примѣромъ того особаго метода, который въ XVIII
столѣтіи казался существенной принадлежностью шотландскаго ума.
Спустя около тридцати лѣтъ послѣ того, какъ Блеккъ предъявилъ свою зна-
менитую теорію теплоты, Лесли началъ заниматься изслѣдованіемъ того же пред-
мета и въ 1805 году издалъ спеціальную о немъ диссертацію. Въ этомъ сочине-
ніи и въ нѣкогорыхъ изъ его трактатовъ о философі/и изложены его взгляды, изъ
588
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
которыхъ иные теперь оказались невѣрными, другіе же имѣютъ достаточно цѣнности,
чтобы составить эпоху въ исторіи науки. Таковб было его обобщеніе относительно
лучеиспусканія, а именно, что тѣла, наиболѣе отражающія теплоту, лучеиспускаютъ
ее всего менѣе, а наиболѣе лучеиспускающія отражаютъ наименѣе. Таковъ также
былъ другой широкій выводъ его, подтвержденный съ тѣхъ поръ лучшими изслѣдо-
вателями; онъ заключался въ томъ, что когда какое-нибудь тѣло лучеиспускаетъ
теплоту, то напряженіе каждаго луча пропорціонально синусу угла, образуемаго имъ
съ поверхностью тѣла.
Это важные шаги, и они были результатомъ опытовъ, которымъ предшество-
вали обширныя и здраво задуманныя гипотезы. Однако, въ отношеніи экономіи при-
роды, разсматриваемой во всей ея цѣлости, они мало имѣютъ цѣны сравнительно
съ тѣмъ, что сдѣлалъ Лесли для упроченія великой мысли, что свѣтъ и теплота
тождественны, и, слѣдовательно, для приготовленія своихъ современниковъ къ той
теоріи взаимнаго перехода одной силы въ другую, которая составляетъ главнѣйшій
умственный подвигъ девятнадцатаго столѣтія. Но любопытно замѣтить, что при всемъ
своемъ рвеніи онъ не могъ перейти за извѣстный предѣлъ. Онъ былъ такъ связанъ
матеріальными стремленіями своего времени, что не могъ дойти до того, чтобы пред-
ставить себѣ теилоту, каігь чисто недосягаемую для чувствъ силу, внѣшнее проявле-
ніе которой составляетъ температура. Для этого то время еще плохо созрѣло. Вотъ
почему мы находимъ у Лесли утвержденіе, что теплота—это упругая жидкость, чрез-
вычайно тонкая, но все-таки жидкость. Истинной заслугой его было, что, несмотря
на всѣ трудности, заграждавшія его путь, онъ нарочно усвоилъ себѣ великую истину,
что нѣтъ никакого коренного различія между свѣтомъ и теплотой. Какъ онъ выра-
жается, обѣ эти силы суть ^ольіюпревращенія одна другой. Теплота—это свѣтъ въ
состояніи совершеннаго покоя; а свѣтъ—это теплота въ состояніи быстраго движе-
нія. Какъ только свѣтъ соединяется съ какимъ-нибудь тѣломъ, онъ становится теп-
лотой; отброшенный же отъ этого тѣла, онъ снова дѣлается свѣтомъ.
Вѣрно это, или невѣрно, мы сказать не можемъ; и много пройдетъ лѣтъ, а
можетъ быть и много поколѣній, прежде чѣмъ мы будемъ въ состояніи рѣшить это.
Но услуга, оказанная Лесли, нисколько не зависитъ отъ вѣрности его мнѣнія отно-
сительно того, какимъ именно образомт, свѣтъ и теплота взаимно переходятъ другъ
въ друга. Что силы эти переходятъ одна въ другую, вотъ существенная, самая важная
мысль. И мы не должны забывать, что онъ положилъ эту мысль въ основаніе своихъ из-
слѣдованій въ такой періодъ, когда нѣкоторые весьма важные или, скажу скорѣе,
весьма замѣтные факты говорили противъ нея, между тѣмъ какъ главные факты, свидѣ-
тельствующіе въ ея пользу, еще не были извѣстны. Въ то время какъ онъ писалъ свое
сочиненіе, тѣ аналогіи между свѣтомъ и теплотою, которыя мы теперь знаемъ, еще не
были открыты; никто еще не зналъ, что двойное преломленіе, поляризація и другія
любопытныя свойства общи имъ обоимъ. Постичь такую широкую мысль, въ виду
такихъ препятствій, было замѣчательной чертой смѣлости. Но изъ-за этихъ препят-
ствіи индуктивный англійскій умъ отказался признать эту истину, такъ какъ она
не была общимъ выводомъ пзъ обзора всѣхъ фактовъ. И Лесли по несчастью умеръ
слишкомъ рано, чтобы испытать ни съ чѣмъ несравнимую радость быть очевидцемъ
эмпирическаго подтвержденія своей теоріи прямымъ опытомъ, хотя онъ ясно видѣлъ,
что открытія, относящіяся къ поляризаціи, вели ученый міръ къ той точкѣ, которой
свойства его зоркій глазъ уже различалъ въ то время, когда для другихъ она была
еще почти незамѣтнымъ пятнышкомъ въ туманной дали г),
Въ 1814 году, т. е. черезъ десять дѣть по | въ Англіи смотрѣли, какъ на мечтанія, между іѣмъ
изданіи его великаго сочиненія, или около двадцати | какъ недавнія открытія касательно ноляризаша свѣта
лѣтъ послѣ того, какъ от> приступилъ къ нему, — ' подтвердили ихъ». Лесли умеръ въ 1832 году, а рѣ-
онъ пишетъ пзъ Парижа: сМоя книга о теплотѣ бо- । тигельные опыты Форбса и Меллояи были произве-
лѣѳ извѣстна здѣсь, чѣмъ въ Англіи. Мнѣ даже на- ; доны между 1834 н 1836 годами,
помнили о нѣкоторыхъ мѣстахъ въ ной, па которыя
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
589
Что касается метода, принятаго Лесли, то авторъ его увѣряетъ насъ, что въ
выборѣ основныхъ началъ, отъ которыхъ онъ велъ свое умозаключеніе, ему много по-
могала поэзія; ибо онъ зналъ, что поэты въ своемъ родѣ превосходнѣйшіе наблю-
датели, и что ихъ соединенныя наблюденія составляютъ сокровище истинъ, которыя
ни въ чемъ не уступаютъ истинамъ научнымъ и которыми наука должна пользо-
ваться или не можетъ безнаказанно пренебрегать. Правильно примѣнять эти истины
и приспособлять ихъ къ требованіямъ физическаго изслѣдованія — задача безъ со-
мнѣнія чрезвычайно трудная, такъ какъ она требуетъ ни болѣе, ни менѣе, какъ
удержанія равновѣсія между сталкивающимися притязаніями душевныхъ движеній
и разума. Какъ и всѣ великія предпріятія, дѣло это полно опасности, и если за
него возьмется умъ обыкновенный, то оно конечно не удастся. По есть два обстоя-
тельства, которыя дѣлаютъ его менѣе опаснымъ въ наше время, чѣмъ въ какой-
либо болѣе ранній періодъ. Первое обстоятельство заключается въ томъ, что вер-
ховное преобладаніе человѣческаго разума и его право судить о всѣхъ теоріяхъ по-
своему теперь, болѣе чѣмъ когда-либо, всѣми признается; такъ что едва-ли можно
опасаться, что мы уклонимся въ противоположную сторону и дадимъ поэзіи дѣлать
захваты въ области науки. Другое обстоятельство заключается въ томъ, что наше
знаніе законовъ природы гораздо обширнѣе того, какимъ обладалъ любой изъ пред-
шествовавшихъ вѣковъ, и, слѣдовательно, менѣе представляется для насъ опасности
быть введенными въ заблужденіе воображеніемъ; мы имѣемъ множество хорошо
изслѣдованныхъ истинъ, которыя мы можемъ сличать со всякимъ умозрѣніемъ,—все
равно, какъ бы оно ни казалось правдоподобно или остроумно
По обѣимъ этимъ причинамъ, Лесли, мнѣ кажется, имѣлъ полное право избрать
тотъ путь, которому онъ послѣдовалъ. Всг всякомъ случаѣ, то достовѣрно, что, идя
этимъ путемъ, онъ подошелъ ближе, чѣм^.было бы возможно въ другомъ направ-
леніи, къ идеямъ самыхъ передовыхъ мыслителей пауки нашего времени. Онъ ясно
сознавалъ, что въ мірѣ вещественномъ нѣтъ ни промежутковъ, ни перерывовъ, и
что, слѣдовательно, такъ называемыя дѣленія природы существуетъ только въ на-
шемъ умѣ. Онч> даже былъ почти готовъ покончить съ тѣмъ воображаемымъ разли-
чіемъ между органическимъ^ и неорганическимъ міромъ, которое еще смущаетъ мно-
гихъ изъ нашихъ естествоиспытателей и не дастъ имъ познать единство и непре-
рывность движенія въ природѣ. Они съ своими устарѣлыми понятіями о неодушев-
ленной матеріи не въ состояніи замѣтить, что всякая матерія живетъ и что такъ
называемая смерть есть не болѣе какъ выраженіе, которымъ мы обозначаемъ новый
видъ жизни. Къ этому заключенію теперь склоняется все наше знаніе; и конечно
не малая заслуга со стороны Лесли, что онъ въ то время, когда истинно широкіе
взгляды, объемлющіе все твореніе, были почти неизвѣстны между учеными,— сильно
настаивалъ на томъ, что всѣ силы однородны и что мы пе въ правѣ полагать между
ними различіе, — какъ будто бы однѣ пзъ нихъ были живыя, а другія мертвыя.
Мы много обязаны тому, кто проводилъ подобные взгляды. Но они до такой
степени выходили въ то время, да и теперь, хотя въ меньшей мѣрѣ, еще выходятъ
изъ области физическаго опыта, что Лесли никогда не дошелъ бы до нихъ тѣмъ
путемъ обобщенія, который указываетъ индуктивная философія. Его великое сочи-
неніе о теплотѣ было выполнено, также какъ и задумано, по противоположному
плану; и такъ сильно было предубѣжденіе сто въ эту сторону, что, какъ увѣряетъ
насъ его біографъ, онъ не признавалъ никакой заслуги за Бэкономъ, который воз-
велъ индуктивный методъ въ систему и передъ авторитетомъ котораго мы, въ
Англіи, добровольно и, почти можно сказать, рабски преклоняемся.
Другой любопытный примѣръ того умѣнья, съ какимъ шотландскій умъ, разъ
ухватившись за какое-нибудь основное начало, вырабатывалъ его далѣе путемъ
дедуктивнымъ, — представляется въ геологическихъ воззрѣніяхъ Гёттона въ концѣ
ХѴШ столѣтія. Хорошо извѣстно, что двй великія силы, измѣнившія состояніе на-
шей планеты и сдѣлавшія изъ нея то, чѣмъ она представляется теперь,—суть огонь
590
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
и вода. Каждая изъ нихъ принимала въ этомъ дѣлѣ такое значительное участіе, что
мы едва-ли можемъ опредѣлить ихъ относительную важность. Судя однако по тепе-
решнему виду земной коры, есть поводъ думать, что древнія каменныя породы суть
главнѣйшимъ образомъ результатъ плавленія, а новѣйшія—осадка отъ воды. Поэтому
не лишено вѣроятности, что въ томъ порядкѣ, въ какомъ проявлялись силы при-
роды, огонь шелъ впереди воды и былъ ея необходимымъ предшественникомъ \). Но
мы теперь въ правѣ утверждать только одно,— что эти двѣ причины, огонь и вода,
были въ полномъ дѣйствіи задолго до существованія человѣка и до сихъ поръ еще
отличаются большой дѣятельностью. Быть можетъ, они готовятъ новую перемѣну въ
обитаемой нами землѣ, приспособленную къ новымъ формамъ жизни, настолько выс-
шимъ, чѣмъ человѣкъ, насколько человѣкъ выше существъ, занимавшихъ землю до
него. Какъ бы то ни было, но огонь и вода — два самыя важныя и самыя общія
начала, съ какими имѣютъ дѣло геологи; и хотя, при поверхностномъ взглядѣ, каж-
дое изъ нихъ представляется въ высшей степени разрушительнымъ, но то досто-
вѣрно, что въ дѣйствительности они ничего не разрушаютъ, а могутъ только раз-
лагать и снова слагать, измѣняя наружный видъ природы, но оставляя самую при-
роду неприкосновенной, Возьметъ ли когда-либо верхъ одна изъ этихъ стихій
надъ другой, противной ей, это въ высшей степени интересный предметъ для умо-
зрѣнія. Есть поводъ думать, что въ одинъ періодъ огонь былъ дѣятельнѣе воды, а
въ другой—вода была дѣятельнѣе огня. Что они находятся въ постоянной борьбѣ,
эго фактъ, съ которымъ геологи совершенно освоились, хотя въ этомъ, какъ и во
многихъ другихъ случаяхъ, поэты первые различили истину. Въ глазахъ геологовъ
вода постоянно силится привести всѣ неровности земли къ одному уровню; между
тѣмъ какъ огонь съ своимъХдзулкмическимъ^дѣйствіем/ въ той же мѣрѣ старается
возстановлять эти неровности, выбрасывая матерію на поверхность и всякими
средствами приводя въ безпорядокъ'земную кору2). А такъ какъ красота матері-
альнаго міра главнѣйшимъ образомъ зависитъ отъ этой неправильности наружнаго
вида, безъ которой въ зрѣлищахъ природы вовсе не было бы разнообразія формъ
и очень мало представлялось бы разнообразія цвѣтовъ, то я полагаю, что мы не
погрѣшимъ слишкомъ утонченной изысканностью, если скажемъ, что огонь, спасая
насъ отъ того однообразія;7 на которое обрекла бы насъ вода, былъ отдаленной при-
чиной того развитія воображенія, которое дало намъ нашу поэзію, нашу живопись,
нашу скульптуру и черезъ это не только удивительнымъ образомъ увеличило число
Предположеніе, что вулканическія силы были
прежде могущественнѣе, чѣмъ теперь, нисколько не
протпворѣчитъ научной теоріи однообразія, хотя п
считаютъ вообще, что существуетъ такое противо-
рѣчіе: утверждать объ однообразіи законовъ природы
п объ однообразіи естественныхъ причинъ суть двѣ
вещи совершенно различныя. Очепъ можетъ быть,
что теплота нѣкогда производила гораздо большее
дѣйствіе, чѣмъ можетъ производить теперь, п что
все-таки законы природы не измѣнились п порядокъ
п послѣдовательность событій пе были прерваны.
Одно я осмѣлился бы замѣтить геологамъ, это именно, '
что они не приняли достаточно въ соображеніе теорію ।
замѣны силъ одной другою, которая даетъ, повидимому, ]
разрѣшепіе по крайней мѣрѣ части задачи. Ибо по
этой теоріи значительная часть теплоты, существо- ।
вавшей прежде, могла превратиться въ другія силы,
такія, напримѣръ, какъ свѣтъ, химическое сродство
и тяготѣніе. Увеличеніе эгнхъ силъ, послѣдовавшее ;
за уменьшеніемъ теплоты, могло облегчить отвердѣ-
ніе матеріи; и пока эіп силы имѣли извѣстную энер-
гію, вода, взявшая потомъ такой верхъ, могла не
образоваться. Еслибы, напримѣръ, сп.та химическаго
сродства была слабѣе, чѣмъ опа теперь, то вода не-
премѣнно разложилась бы па составляющіе се газы.
Не желая придавать слишкомъ много важности этому
умозрѣнію, я повергаю его на усмотрѣніе свѣдущихъ
судей; я убѣжденъ, что любая гипотеза, но совер-
шенно противорѣчащая извѣстнымъ законамъ при-
роды, можетъ быть предпочтена тому принципу вмѣ-
шательства, который чудесная^ такъ сказать, школа
геологовъ хочетъ навязать намъ, въ совершенномъ
певѣдѣніи о его несообразности съ выводами самыхъ
передовыхъ умовъ по другимъ отраслямъ мышленія.
2) с Великіе двигатели перемѣнъ въ неорганиче-
скомъ мірѣ могутъ быть раздѣлены на два главныхъ
! класса, на водныхъ и огневыхъ. Къ воднымъ прп-
। надлежать: дождь, рѣки, ручьи, источники, теченія,
[ приливы и отлпвы; къ огневымъ - - вулканы и землѳ-
। трясенія. Оба эти класса суть орудія разрушенія
столько же, сколько и возстановленія; но на нихъ
можно также смотрѣть, какъ па силы враждебныя
другъ къ другу. Ибо водные дѣятели постоянно си-
। ля гея привести неровности земли къ одному уровню,
между тѣмъ какъ огневые столь же дѣятельны въ
возстановленіи неровностей внѣшней коры, частью
насыпая новыя вещества въ извѣстныхъ мѣстно-
стяхъ. частью же вдавливая одну и заставляя вы-
даться другую часть земной оболочки». (Ляйелль,
«Основы геологіи»).
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴГП СТОЛ.
591
наслажденій жизни, но и сообщило человѣческому духу ту полноту отправленій,
которой, безъ этого возбужденія, онъ не могъ бы достигнуть.
Когда геологи начали изучать законы, по которымъ огонь и вода измѣняли
строеніе земли, то имъ представились два различные пути, именно: индуктивный и
дедуктивный. Дедуктивный планъ заключался въ томъ, чтобы опредѣлить вѣроятныя
послѣдствія дѣйствія огня и воды, умозаключая отъ наукъ термотики и гидродина-
мики, и, проведя каждую изъ этихъ стихіи чрезъ самостоятельный рядъ умозаклю-
ченіи, свести потомъ въ одну систему порознь полученные результаты. Тогда оста-
валось бы только изслѣдовать, до какой степени эта воображаемая система согла-
суется съ настоящимъ порядкомъ вещей, и еслибы несогласіе между идеальнымъ
и дѣйствительнымъ оказалось не болѣе того, какого слѣдовало ожидать оть помѣхъ,
производимыхъ другими причинами, то умозаключеніе было бы полно, и геологія
въ ея неорганической отрасли сдѣлалась бы наукою дедуктивною. Чтобы наше
знаніе уже достаточно созрѣло для такого процесса, этого я, конечно, далеко не
могу предположить; по этимъ именно путемъ пошелъ бы дедуктивный умъ, насколько
это ему было бы возможно. Съ другой стороны индуктивный умъ, вмѣсто того
чтобы начать съ огня и воды, началъ бы съ дѣйствія, произведеннаго огнемъ и
водой, и изучалъ бы сперва эти двѣ силы пе въ отдѣльныхъ, къ нимъ именно
относящихся наукахъ, а въ ихъ совокупномъ дѣйствіи, проявившемся на земной
корѣ. Этого рода изслѣдователь нашелъ бы, что лучшій путь къ истинѣ—восходить
отъ дѣйствія къ причинамъ, наблюдая то, что дѣйствительно произошло, п возвы-
шаясь отъ сложныхъ результатовъ къ познанію простыхъ, причинъ, въ силу кото-
рыхъ результаты эти произошли. = _
Если читатель слѣдилъ за ходомъ мысли, которую я старался провести въ этой
главѣ и въ части предшествовавшаго тома, то опъ будетъ готовъ предположить, что,
когда въ послѣдней половинѣ ХѴШ столѣтія начали впервые серьезно изучать
геологію, индуктивный планъ восхожденія Ютъ^хѣйствій къ причинамъ сдѣлался лю-
бимымъ планомъ въ Англіи, а дедуктивный методъ нисхожденія отъ причинъ къ дѣй-
ствіямъ былъ принятъ въ Шотландіи и Германіи. Такъ оно и было на самомъ дѣлѣ.
Всѣми признано, что въ Англіи научная геологія обязана своимъ происхожденіемъ
Вилліаму Смиту, умъ котоваго питалъ особенное отвращеніе къ системѣ; находя,
что лучшій путь къ уразумѣнію прежнихъ причинъ представляется въ изученіи на-
стоящихъ дѣйствій, Смитъ занимался между 1790 и 1815 годами трудолюбивымъ
изслѣдованіемъ различныхъ земныхъ пластовъ. Въ 1815 году, пройдя всю Англію
пѣшкомъ, онъ издалъ первую полную геологическую карту, какая когда-либо появля-
лась. и тѣмъ сдѣлалъ первый важный шагъ къ накопленію матеріаловъ для индук-
тивнаго обобщенія. Въ 1807 году, слѣдовательно, прежде чѣмъ онъ окончилъ свою
трудную работу, образовалось въ Лондонѣ Геологическое Общество, прямой цѣлью
котораго было., какъ увѣряютъ насъ, наблюдать состояніе земли, но нп въ какомъ
случаѣ не обобщать причины, приведшія къ этому состоянію. Рѣшимость эта была
пожалуй мудрая; во всякомъ случаѣ она въ высшей степени характеризовала трез-
вое и терпѣливое направленіе англійскаго ума. Съ какой энергіей и какимъ неусып-
нымъ трудомъ была выполняема эта задача, и какъ именитѣйшіе члены Геологи-
ческаго Общества въ преслѣдованіи истины не только извѣдали всѣ части Европы,
но даже изучили земную кору въ Америкѣ и сѣверной Азіи,—это хорошо извѣстно
всякому, кто интересуется этого рода вещами; нельзя также отрицать, что великія
сочиненія Лайелля и Мерчисона служатъ доказательствомъ, что люди, способные къ
такимъ трудолюбивымъ предпріятіямъ, способны и на еще болѣе трудный подвигъ—
обобщить собранные ими факты и возвести ихъ въ идеи. Они отправились на эти
изысканія не простыми только наблюдателями, а съ благородной цѣлью сдѣлать свои
наблюденія пригодными для открытія законовъ природы. Такова была ихъ цѣль,
и честь и слава имъ за это. Тѣмъ не менѣе очевидно, что ихъ процессъ изслѣдо-
ванія существенно индуктивный; это переходъ отъ наблюденія сложныхъ явленій къ
592
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
простымъ началамъ, отъ которыхъ явленія эти произошли; другими словами, это из-
ученіе естественныхъ послѣдствій съ цѣлью узнать дѣйствіе естественныхъ причинъ.
Совершенно иной былъ процессъ въ Германіи и Шотландіи. Въ 1787 году,
то есть только за три года до того, какъ началъ свою работу Вилліамъ Смитъ, —
Вернеръ своимъ сочиненіемъ о классификаціи горъ положилъ основаніе герман-
ской школѣ геологіи. Вліяніе его было громадно, и въ ряду его учениковъ мы встрѣ-
чаемъ имена Моса, Раумера, Фонъ-Буха, и даже имя Александра Гумбольдта. Но
преподанная имъ геологическая теорія опредѣлялась исключительно рядомъ умоза-
ключеній отъ причины къ послѣдствію. Онъ предположилъ, что всѣ великія пере-
мѣны, чрезъ которыя проходила земля, зависѣли отъ дѣйствія воды. Принявъ это
предположеніе за доказанное, онъ умозаключалъ затѣмъ дедуктивно отъ тѣхъ посы-
локъ, какія давало ему его знаніе воды. Не входя въ подробности относительно
его системы, достаточно сказать, что согласно съ нею въ началѣ было одно обшир-
ное первобытное море, изъ осадковъ котораго образовались съ теченіемъ времени
первыя скалы. Основаніемъ всего былъ гранитъ, за нимъ слѣдовалъ гнейсъ, а далѣе
шли другія породы по порядку. Въ нѣдрахъ воды, находившихся сперва въ покоѣ,
мало-по-малу стали подниматься волненія, которыя, разрушивъ часть самыхъ раннихъ
осадковъ, образовали изъ ихъ обломковъ новыя скалы. Наслоенныя слѣдовали та-
кимъ образомъ за ненаслоенными, и установилось въ нѣкоторомъ родѣ разнообразіе.
Затѣмъ наступилъ другой періодъ, въ которомъ поверхность водъ, вмѣсто простого
колебанія, стала раздираема бурями, и въ ихъ разгарѣ, зародилась жизнь и яви-
лись на свѣтъ растенія и животныя. Обширная пустыня мало-по-малу населялась,
море постепенно отступало^ и положено было основаніе' той эпохѣ, въ теченіе ко-
торой выступилъ на сцену Человѣкъ. принеся съ собоіо зачатки благоустройства и
общежитія.
Таковы были главнѣйшія воззрѣнія системы, которая, не должно забывать
этого, произвела сильное впечатлѣніе въ ученомъ мірѣ и привлекла па свою сто-
рону умы. пользовавшіеся значительнымъ вліяніемъ. При всей своей ошибочности
и натянутости опа имѣла ту заслугу, что обратила вниманіе на одно изъ двухъ
главнѣйшихъ началъ, опредѣлившихъ настоящее состокніе нашей планеты. Другой
заслугой ея было то, что она вызвала споръ, который былъ въ высшей степени
полезенъ для интересовъ истины, ибо злѣйшій врагъ знанія—не заблужденіе, а без-
дѣйствіе. Намъ нужно только одного-—это изслѣдованія, и тогда мы можемъ быть
увѣрены, что дѣло пойдетъ на ладъ, все равно, какія бы мы ни дѣлали ошибки. Одно
заблужденіе приходитъ въ столкновеніе съ другимъ, противоположнымъ ему; они
взаимно уничтожаются, и въ результатѣ получается истина. Таковъ ходъ умствен-
наго развитія человѣчества, и съ этой именно точки зрѣнія виновники новыхъ идей,
новыхъ положеній, новыхъ ересей являются благодѣтелями своей породы. Правы
они или неправы,—это послѣднее дѣло; но они способствуютъ къ возбужденію ума,
вызываютъ къ дѣятельности способности, подстрекаютъ насъ къ новому изслѣдова-
нію, выставляютъ старые предметы въ новомъ свѣтѣ, нарушаютъ всеобщее бездѣй-
ствіе п прерываютъ рѣзко, но самымъ спасительнымъ образомъ, ту любовь къ ру-
тинѣ, которая, заставляя людей идти ползкомъ по слѣдамт» своихъ предковъ, стоитъ
поперекч» дороги всякому усовершенствованію, какъ постоянное, неумѣстное и очень
часто пагубное препятствіе.
Методъ, принятый Вернеромъ, былъ очевидно дедуктивный, такъ какъ онъ
исходилъ отъ предполагаемой причины и отъ нея умозаключалъ къ послѣдствіямъ.
Въ этой причинѣ опъ находікть свою большую посылку, отъ которой шелъ внизъ къ
своему заключенію, пока не достигалъ, наконецъ, области чувствъ и дѣйствительности.
Онъ ввѣрялся одной своей великой идеѣ и вырабатывалъ эту идею съ полнымъ умѣ-
ніемъ. По этому самому онъ мало обращалъ вниманія на существующіе факты. Еслибъ
онъ хотѣлъ, то и онъ, не хуже другихъ, могъ бы собрать ихъ и подчинить индук-
тивному обобщенію. Но онъ предпочелъ противоположный путь. Упрекать его за это
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
593
нѣть основанія, потому что въ своихъ поискахъ за истиной онъ избралъ одинъ
изъ двухъ только путей, открытыхъ для человѣческаго ума. Правда, въ Англіи мы
склонны принимать за рѣшенное дѣло, что одинъ путь несравненно предпочтительнѣе
другого. Оно можетъ быть и такъ; но объ этомъ, какъ и о многихъ другихъ пред-
метахъ, высказываются мнѣнія, которыя никогда еще не были доказаны. Какъ бы
то ни было, но Вернеръ былъ до такой степени доволенъ своимъ методомъ, что не
хотѣлъ давать себѣ трудъ изучать положеніе скалъ и ихъ пластовъ въ тѣхъ разно-
образныхъ формахъ, въ какихъ они представляются въ различныхъ странахъ; онъ
не изслѣдовалъ даже своей собственной страны, но, ограничиваясь однимъ уголкомъ
Германіи, въ немъ задумалъ и въ немъ и довершилъ свою знаменитую систему,
не подвергая изслѣдованію фактовъ, на которыхъ, согласно индуктивному методу,
должна была быть построена эта система х).
Точно такой же процессъ, по тому же самому предмету и въ то же самое
время, происходилъ въ Шотландіи. Гёттонъ, бывшій основателемъ шотландской ге-
ологіи и издавшій въ 1788 году свою * Теорію земли*, велъ свое изслѣдованіе
совершенно такъ, какъ Вернеръ, хотя въ то время, когда онъ началъ свои умо-
зрѣнія, онъ не зналъ того, чтб дѣлалъ Вернеръ. Единственная разница между ними
была та, что Вернеръ исходилъ въ своихъ умозаключеніяхъ отъ дѣйствія воды,
Гёттонъ же—отъ дѣйствія огня. Причину этого, мнѣ кажется, не трудно объяснить.
Гёттонъ жилъ въ странѣ, гдѣ впервые были обобщены нѣкоторые изъ важнѣйшихъ
законовъ теплоты и гдѣ, слѣдовательно, этотъ отдѣлъ неорганической физики прі-
обрѣлъ большую извѣстность. Поэтому намъ нечего удивляться, что Гёттонъ, чув-
ствовавшій, подобно всѣмъ людямъ, умственное давленіе того времени, въ которое
онъ жилъ.—подчинился тому вліянію.<крт.ора^бшъ можетъ и не сознавалъ. Вѣрный
общему умственному настроенію^ своей страны, онъ послѣдовалъ методу дедуктив-
ному. Подъ вліяніемъ же болѣе частныхъ обстоятельствъ, связанныхъ собственно съ
его непосредственными занятіями, онъ заимствовалъ тѣ основныя начала, отъ ко-
торыхъ велъ свое умозаключеніе, изъ ученія объ огнѣ, вмѣсто того чтобы, подобно
Вернеру, заимствовать ихъ изъ пауки о водѣ.
Поэтому-то въ исторіи/геологіи послѣдователи Вернера извѣстны подъ именемъ
Нептунистовъ, а послѣдователи Гёттопа—подъ именемъ Плутонистовъ. И въ этихъ
названіяхъ выражается единственное различіе между двумя великими учителями.
Въ самыхъ важныхъ отношеніяхъ, именно въ методѣ, они были совершенно согласны.
Оба они были люди существенно односторонніе; оба обращали слишкомъ исключи-
тельное вниманіе на одну изъ двухъ главнѣйшихъ силъ, которыя измѣняли и до сихъ
поръ еще измѣняютъ земную кору; оба вели умозаключеніе отъ этихъ силъ, вмѣсто
того, чтобы къ нимъ вести ого; оба наконецъ построили свои системы, не изучивъ
достаточно дѣйствительныхъ, налицо находящихся фактовъ, и впали такимъ обра-
зомъ въ ошибку, которую впервые исправили англійскіе геологи,
Такъ какъ я пишу не исторію науки, а исторію научнаго метода, то я могу
бросить лишь краткій взглядъ на сущность тѣхъ услугъ, которыя Гёттонъ оказалъ
геологіи и которыя такъ значительны, что его система была названа настоящимъ
основаніемъ этой науки 2). Однако такое выраженіе уже слишкомъ, сильно, потому
г) «Если справедливо, что образъ выраженія есть !
первое необходимое свойство въ популярномъ ораторѣ,
то по менѣе достовѣрно, что путешествовать есть
предметъ первой важности для тѣхъ, кто желаетъ
со/.даіь вѣрные п широкіе взгляды па строеніе зем-
ного шара, Вотъ Вернеръ, тотъ по предпринималъ
путешествій въ отдаленныя страны; онъ извѣдалъ
только небольшую часть Германіи и уже смекнулъ
самъ и заставилъ другихъ повВрпть, чю вся поверх-
ность пашей планеты п всѣ горныя цѣпи въ мірѣ
созданы по образу его провинціи... Теперь оказы-
вается. что опъ невѣрно истолковалъ многія изъ са-
Г.окль -Пзд. Ф Павленко на.
мыхъ важныхъ явленій даже въ непосредственномъ
сосѣдствѣ съ Фрей бортомъ. Такъ напримѣръ, па раз-
стояніи одного дня пути отъ его школы порфиръ,
названный имъ первобытнымъ, оказался пе только
пускающимъ жилы въ пласты угольной формаціи, но
даже лежащимъ цѣлыми массами поверхъ ихъ>.
(Ляііелль. «Основы геологіи».)
2) «Она но только вытѣснила систему Вернера,
но и легла въ основаніе изслѣдованій и сочиненій на-
шихъ самыхъ просвѣщенпыхь наблюдателей и спра-
ведливо признается за краеугольный камень великой»
здравой геологіи нашего времени ) (Ричардсонъ)
38
594
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
что Гёттонъ хотя далеко не отвергалъ вліянія воды, но недостаточно придавалъ ей
значенія; п многіе геологи склонны допустить, что система Вернера, разсматриваемая
какъ теорія, исходящая отъ воды, содержитъ въ себѣ болѣе истины, чѣмъ сколько
согласны признать въ ней защитники остроумной теоріи, основанной на огнѣ. Все-
таки то, что сдѣлалъ Гёттонъ, было въ высшей степени достойно вниманія, въ осо-
бенности въ отношеніи такъ называемыхъ метаморфическихъ скалъ, теорію обра-
зованія которыхъ онъ первый постигъ. Въ подробности этой теоріи и въ ея связь
съ одной стороны съ осадочными скалами, а съ другой—съ тѣми скалами, происхо-
жденіе которыхъ можетъ быть чисто вулканическое,—мнѣ нельзя войти, не ступивъ
на спорную почву. Но, оставляя въ сторонѣ то, что еще не доказано, я упомяну
о двухъ обстоятельствахъ относительно Гёттона, которыя никѣмъ не оспорены и
которыя дадутъ нѣкоторое понятіе о его методѣ и о складѣ его ума. Первое обстоя-
тельство заключается въ томъ, что хотя онъ приписывалъ подземной теплотѣ, про-
являющейся въ вулканическомъ дѣйствіи, большую и болѣе постоянную силу, чѣмъ
рѣшались приписать ей прежніе изслѣдователи, опъ предпочиталъ, однако, умозри-
тельные выводы относительно вѣроятныхъ послѣдствій такого ея дѣйствія выводамъ
изъ представившихся уже фактовъ его и былъ въ этомъ отношеніи до такой сте-
пени равнодушенъ, что пришелъ къ своимъ заключеніямъ, не изслѣдовавъ ни одной
области дѣйствующихъ вулкановъ, гдѣ бы опъ могъ наблюсти отправленія природы
и увидать, что происходитъ на самомъ дѣлѣ. Другое обстоятельство не менѣе характе-
ристично. Гёттонъ въ своихъ умозрѣніяхъ относительно^ геологическаго дѣйствія
теплоты естественнымъ образомъ пользовался законами, раскрытыми Блеккомъ.
Однимъ изъ этихъ законовъ было, что извѣстныя землп/обязаны своею плавимостыо
присутствію въ нихъ постояннаго воздуха (Ііхосі аіг) до тѣхъ поръ, пока огонь не
выгонитъ его; такъ что еслибы было возможно сдѣлать, чтобы онѣ удержали въ себѣ
этотъ постоянный воздухъ, или, какъ мы теперь называемъ его, углекислый газъ,
то никакое количество теплоты пе могло бы лишить ихъ способности плавиться.
Плодотворный умъ Гёттона видѣлъ въ этомъ открытіи основное начало, пзъ котораго
ему можно было сдѣлать геологическое умозаключеніе. Ему пришло на мысль, что
большое давленіе могло бы предупредить освобожденіе постояннаго воздуха пзъ
нагрѣтыхъ скалъ и сдѣлать ихъ способными сплавиться/, несмотря на ихъ высокую
температуру. Вотъ онъ и предположилъ, что въ періодъ, предшествовавшій суще-
ствованію человѣка, такой именно процессъ совершился подъ поверхностью моря,
и что тяжесть такого большого столба воды не давала скаламъ разлагаться въ то
время, какъ онѣ подвергались дѣйствію огня. Такимъ образомъ летучія части ихъ
были удерживаемы, и сами опѣ могли плавиться, чего не могло бы случиться, еслибъ
не это непомѣрное давленіе. Слѣдуя такому порядку умозаключенія, онъ объясняетъ
отвердѣніе пластовъ отъ жара; ибо, согласно съ посылками, отъ которыхъ онъ
исходитъ, маслянистыя или смолистыя части должны были оставаться, несмотря на
усиліе жара заставить ихъ улетучиться. Это поразительное умозрѣніе привело къ
заключенію, что летучія составныя части матеріи и постоянныя части ея можно
заставить слиться, прямо наперекоръ той, кажущейся непреодолимою, силѣ, на-
значеніе которой — способствовать ихъ раздѣленію. Такой выводъ былъ противенъ
всякому опыту, или по крайней мѣрѣ никто еще не видалъ такого примѣра. Дѣй-
ствительно, только предполагалось, что это можетъ произойти въ силу извѣстныхъ
обстоятельствъ, которыя еще не встрѣчались па поверхности земли п, слѣдовательно,
выходили изъ предѣловъ всякаго человѣческаго наблюденія. Самое большее, чего
можно было ожидать, это, что съ помощью имѣющихся у насъ приборовъ мы будемъ,
пожалуй, въ состояніи, въ маломъ размѣрѣ, устроить подражаніе предположенному
Гёттономъ процессу. Могло случиться, что прямо на опытѣ были бы искусственно
соединены большое давленіе съ большимъ жаромъ, и что это повело бы къ удосто-
вѣренію чувствами въ томъ, что сообразилъ умъ. Но такого опыта еще никогда не
дѣлали, а отъ Гёттона, находившаго наслажденіе скорѣе въ умозаключеніи оть идей,
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
595
чѣмъ отъ фактовъ, нельзя было ожидать, чтобы онъ самъ предпринялъ его. Онъ
пустилъ по свѣту свои умозрѣнія и бросилъ ихъ на произволъ судьбы. Но по счастью
для признанія ого системы одинъ очень умный и ловкій экспериментаторъ того
времени, сэръ Джемсъ Голлъ, рѣшился провѣрить его умозрѣніе обращеніемъ къ
фактамъ, и такъ какъ природа не представила тѣхъ фактовъ, какіе ему были
нужны, то онъ самъ создалъ ихъ. Онъ направилъ дѣйствіе жара на обращенный въ
порошокъ мѣлъ и въ то же время съ большою осмотрительностью въ пріемахъ
подвергнулъ этотъ мѣлъ давленію, почти равному вѣсу водяного столба вышиною въ
полъ-мили. Въ результатѣ оказалось, что подъ этимъ давленіемъ летучія части мѣла
были удержаны въ немъ; углекислый газъ не могъ освободиться, образованіе жженой
извести не состоялось, обыкновенныя отправленія природы были обойдены, и весь
составъ, сохранившись неприкосновеннымъ, расплавился и потомъ, при охлажденіи,
дѣйствительно окристаллизовался въ твердый мраморъ. Болѣе полной побѣды еще
не бывало. Никогда еще фактъ не подтверждалъ полнѣе идею. Но въ умѣ Гёттона
идея предшествовала факту на значительномъ разстояніи; прежде, чѣмъ сталъ извѣ-
стенъ фактъ, теорія была построена, и даже воздвигнутая на ней система уже нѣ-
сколько лѣтъ обнародована. И такъ оказывается, что одна изъ главнѣйшихъ частей
Гёттоновской теоріи, и конечно самая удачная часть ея, была задумана въ против-
ность всякому предшествовавшему опыту; что она впередъ предположила такое со-
четаніе явленій, какого никто никогда еще не наблюдалъ и самую возможность
котораго можно повѣрить однимъ только искусственнымъ опытомъ; и, наконецъ, что
Гёттонъ былъ до такой степени увѣренъ въ дѣйствительности своего метода изслѣ-
дованія. что не считалъ нужнымъ самъ дѣлать опытъ, а предоставилъ другому уму
заняться этой эмпирической частью изслѣдованія, которую онъ считалъ не важной,
но которую въ Англіи насъ научили считать единственнымъ надежнымъ основаніемъ
фи з и че скаго и зслѣдов а н і я. V
Я представилъ теперь очеркъ важнѣйшихъ открытій, сдѣланныхъ Шотландіей
въ ХѴШ столѣтіи по части законовъ неорганическаго міра. Я ничего не сказалъ
о Уаттѣ, потому что паровая машина, которой мы обязаны ему, хотя и имѣетъ
громадную важность, но составляетъ не открытіе, а изобрѣтеніе. Ее можно по спра-
ведливости назвать скорѣе изобрѣтеніемъ, чѣмъ усовершенствованіемъ г). Несмотря
на все, что было сдѣлано въ XVII столѣтіи Каусомъ, Ворчестеромъ, Папиномъ и
Савари, и несмотря на позднѣйшія добавленія, сдѣланныя Ньюкоменомъ и другими,
дѣйствительная оригинальность Уатта не подлежитъ никакому спору. Его машина
была существенно новымъ изобрѣтеніемъ; но съ научной точки зрѣнія она оказы-
валась не болѣе, какъ искуснымъ примѣненіемъ законовъ, уже прежде извѣстныхъ;
и одна изъ самыхъ важныхъ сторонъ ея, именно сбереженіе теплоты, составляла
практическое примѣненіе идей, распространенныхъ Блсккомъ. Единственнымъ откры-
тіемъ, какое сдѣлалъ Уаттъ, былъ составъ воды. Хотя его права на это открытіе
и оспариваются друзьями Кавендиша, но, какъ кажется, оиъ первый привелъ въ
извѣстность, что вода не ость простое тѣло, а состоитъ изъ двухъ газовъ. Это открытіе
было значительнымъ шагомъ въ исторіи химическаго анализа, но оно не заключало
въ себѣ ни новаго закона, ни намека на новый законъ, и потому не имѣетъ ни-
какихъ правъ на то, чтобы составить новую эпоху въ исторіи человѣческаго ума.
Есть однако одно связанное съ нимъ обстоятельство, которое слишкомъ своеобразно,
чтобы пройти его молчаніемъ. Открытіе это было сдѣлано въ 1783 году Уаттомъ,
шотландцемъ, и Кавендишемъ, англичаниномъ, — и ни одинъ пзъ нихъ не имѣлъ
понятія о томъ, что дѣлалъ другой 2). Но между ними было различіе. Уаттъ въ
Его можно несомнѣнно прослѣдить назадъ до
начала XVII столѣтія. а можемъ п еще далѣе. По
повидимому справедливо общсраспросіраненное мнѣ-
ніе. чго настоящимъ виновникомъ этого открытія
былъ Уаттъ, хотя конечно оиъ не могъ бы сдѣлать
того, чтб сдѣлаль, безь помощи своихъ предшествен-
никовъ. Эго впрочемъ можно сказать обо всѣхъ лю-
дяхъ, огь самыхъ замѣчательныхъ и имѣвшихъ наи-
болѣе успѣха до самыхь обыкновенныхъ.
'') Что со стороны Уатга ис было никакой кражи
38*
596
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
теченіе нѣсколькихъ лѣтъ передъ тѣмъ строилъ умозрѣнія относительно связи воды
съ воздухомъ, и когда онъ связалъ ихъ между собою посредствомъ Б.іеккова закона
скрытаго теплорода, то онъ уже готовъ былъ увѣровать, что эти тѣла могутъ быть
обращаемы одно въ другое. Идея о близкомъ сходствѣ между водой и воздухомъ,
разъ проникнувъ въ его сознаніе, постепенно созрѣвала; и когда онъ, наконецъ,
довершилъ открытіе, то достигъ этого только путемъ умозаключенія отъ тѣхъ дан-
ныхъ, которыя, кромѣ ого, были извѣстны и другимъ. Вмѣсто того, чтобы выводить
на свѣтъ новые факты, онъ выводилъ новыя заключенія изъ прежнихъ идей. Кавен-
дишъ съ другой стороны дошелъ до своего результата посредствомъ метода, свой-
ственнаго англичанину. Онъ не рѣшался дѣлать новый выводъ, пока не привелъ
въ извѣстность новыхъ фактовъ. Дѣйствительно, его открытіе было въ такой совер-
шенной мѣрѣ выводомъ изъ его собственныхъ опытовъ, что онъ упустилъ изъ виду
принять въ соображеніе теорію скрытой теплоты, отъ которой исходитъ Уаттъ и
въ которой этотъ замѣчательный шотландецъ находилъ посылки для своего умоза-
ключенія. Оба эти великіе изслѣдователя пришли къ истинѣ, по каждый изъ нихъ
шелъ особой дорогой. И эта противоположность съ большой точностью выражена
однимъ изъ знаменитѣйшихъ химиковъ, который въ своихъ замѣчаніяхъ о составѣ
воды справедливо говоритъ, что въ то время, какъ Кавендишъ установлялъ факты.
Уаттъ установлялъ идею *).
Вотъ, что было сдѣлано шотландцами въ области науки о неорганическомъ
мірѣ. Если мы теперь обратимся къ наукѣ о мірѣ органическомъ, то найдемъ, что
и тамъ также труды ихъ были весьма замѣчательны. Тѣмъ, которые способны под-
няться до извѣстной высоты и широты мысли, покажетй въ высшей степени правдо-
подобнымъ, что между органическимъ и неорганическимъ міромъ пѣтъ никакого
существеннаго различія. Что опи разграничены, какъ обыкновенно утверждаютъ,
рѣзкой раздѣльной чертой, которая обозначаетъ, гді* внезапно кончается одинъ и
столь же внезапно начинается другой,—это повидимому предположеніе, рѣшительно
ни на чемъ не основанное. Природа не дѣлаетъ остановокъ, не прерывается такимъ
причудливымъ, неправильнымъ образомъ. Въ ея произведеніяхъ нѣтъ пустыхъ мѣстъ,
нѣтъ пробѣловъ. Истинно научпому уму матеріальный міръ представляется однимъ
длиннымъ, непрерывнымъ рядомъ, постепенно возвышающимся отъ низшихъ формъ
къ высшимъ, но нигдѣ пе кончающимся. Въ одной части этого ряда мы находимъ
особаго рода строеніе, котораго, на сколько мы могли до сихъ поръ наблюсти, нельзя
найти въ другой части его. Мы замѣчаемъ также особаго рода отправленія, соотвѣт-
ствующія строенію и, какъ мы полагаемъ, вытекающія изъ него. Вотъ все, что мы
знаемъ. Тѣмъ не менѣе отъ насъ требуютъ, чтобы и пзъ этихъ скудныхъ фактовъ
мы, которые находимся еще въ младенчествѣ знанія и которые только слегка кос-
нулись самой поверхности вещей,—сдѣлали выводъ, что должна быть такая точка
въ цѣпи бытія, на которой и строеніе, и отправленія внезапно прерываются и
далѣе которой мы тщетно стали бы искать признаковъ жизни. Трудно было бы
придумать заключеніе болѣе противное всему ходу, всей аналогіи новѣйшаго мыш-
чужнхъ идеи, эго мы знаемъ изъ положительнаго источ-
ника; а что не было ничего подобнаго и со стороны
Кавендиша, это смѣло можно предположить, какъ на
основаніи характера самого человѣка, такъ л пзъ того
факта, что при тогдашнемъ сосіояніп химическихъ
знаній такое открытіе было кси.лбѣжно и не могло
слишкомъ замедляться. Можно было впередъ предпо-
ложить, что составъ воды будетъ приведенъ въ из-
вѣстность разными липами въ одно и то же время,
какъ мы это видѣли во мпогпхь другихъ открытіяхъ,
которыя были сдѣланы одновременно, когда человѣ-
ческій умъ въ опредѣленной оірас.іи изслѣдованія
дошелъ до извѣстной точки. Мы слишкомъ склонны
заподозривать философовъ въ кражѣ Другъ у друга
1 такихъ идей, которыя каждый изъ нихъ самъ доста-
, точно способенъ выработать. Тѣмъ не- менѣе досто-
вѣрно, что Уатть считалъ, что Кавендишъ быль ви-
I новаіъ передъ нимъ.
I г) «II Кавендишъ, и Уаттъ, оба открыли составъ
воды. Кавендишъ установилъ факты. Уаттъ—идею...
придаваніе слишкомъ высокой цѣны голымъ фак-
; тамъ есть часто признакъ недостатка идеи-.
I (Либихъ). Послѣднее сужденіе этого знаменитаго уче-
наго, помѣщенное мною курсивомъ, слѣдовало бы хо-
рошенько взвѣсить въ Англіи. Еслибъ была моя
воля, то я начерталъ бы ихъ золотыми буквами па
порталахъ Королевскаго Общества и Королевскаго
ІІпстп гута.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVIII СТОЛ.
597
ленія. По всѣмъ отраслямъ наблюденія умозрѣнія величайшихъ мыслителей по-
стоянно стремятся къ тому, чтобы подвести всѣ явленія подъ’ извѣстный порядокъ
и смотрѣть иа нихъ какъ на различныя конечно по степени, но ни въ какомъ
случаѣ не различныя но роду. Прежде люди довольствовались тѣмъ, что основывали
свое убѣжденіе въ существованіи различія по роду на свидѣтельствѣ глаза, который,
при бѣгломъ взглядѣ, въ однихъ тѣлахъ видѣлъ организацію, а въ другихъ—нѣтъ.
Изъ организаціи они заключали о жизни и предполагали, что напримѣръ растенія
имѣютъ жизнь, а минералы—нѣтъ. Такого рода умозаключеніе долго считалось удо-
влетворительнымъ; но съ теченіемъ времени оно оказалось несостоятельно; потребо-
валось больше доказательствъ, и съ половины XVII столѣтія было всѣми вообще
признано, что глазъ—самъ по себѣ свидѣтель, не заслуживающій довѣрія, и что мы
должны употреблять микроскопъ, а не полагаться на ничѣмъ не подкрѣпленное пока-
заніе нашихъ слабыхъ ненадежныхъ чувствъ. Но микроскопъ постоянно совершен-
ствуется, и мы не можемъ сказать, какой предѣлъ этой способности его къ усовер-
шенствованію; не можемъ, слѣдовательно, сказать, какія новыя тайны онъ еще
откроетъ намъ. Мы но можемъ также сказать, что онъ не будетъ совершенно замѣ-
ненъ какимъ-нибудь новымъ искусственнымъ сродствомъ, которое доставитъ намъ
свидѣтельство, на столько совершеннѣе того, какое мы теперь имѣемъ, на сколько
это послѣднее совершеннѣе показанія невооруженнаго глаза. Даже теперь, несмотря
на то, что микроскопъ еще такъ недавно сдѣлался дѣйствительно полезнымъ при-
боромъ, онъ уже открылъ Памъ такія организаціи, существованія которыхъ никто
прежде и не подозрѣвалъ. Онъ доказалъ, что предметы, считавшіеся цѣлыя тысячи
лѣтъ не болѣе какъ клочками неодушевленной матеріи, .суть на самомъ дѣлѣ жи-
вотныя, имѣющія большую часть тѣхъ отправленій, какія и мы имѣемъ, воспроиз-
водящія свою породу съ постоянной, правильной послѣдовательностью и снабжен-
ныя нервной системой, обнаруживающей въ нихъ способность къ ощущенію стра-
данія и наслажденія Онъ открылъ жизнь въ ледникахъ Швейцаріи, нашелъ ее
гнѣздящеюся въ полярныхъ льдахъ; а если она тамъ можетъ преуспѣвать, то трудно
сказать, въ какой мѣстности можетъ не быть ея. Такъ неохотно однако отстаетъ
большинство людей отъ старйхъ понятій, что призвана была на помощь химія для
удостовѣренія въ предполагаемомъ различіи между органической и неорганической
матеріей; утверждаютъ, что въ органическомъ мірѣ замѣчается большая сложность
частичныхъ соединеній, чѣмъ въ неорганическомъ. Далѣе химики увѣряютъ, что въ
органической природѣ преобладаетъ углеродъ, а въ неорганической кремній. Но
химическій анализъ, какъ и микроскопическое наблюденіе, дѣлаетъ такіе быстрые
успѣхи, что каждое поколѣніе — я почти могъ бы сказать каждый годъ—подрываетъ
какой-нибудь изъ прежнихъ выводовъ; такъ что теперь, и еще довольно долгое
время, мы должны смотрѣть на такіе выводы, какъ на эмпирическіе и даже какъ
на однѣ только попытки. Конечно нельзя сдѣлать прочнаго, всеобщаго вывода изъ
перемѣнчивыхъ и шаткихъ фактовъ, которые сегодня признаются, а завтра могутъ
быть опровергнуты. Поэтому казалось бы, что въ пользу мнѣнія, что одни тѣла
живыя, а другія мертвыя, мы не можемъ ничего привести, кромѣ того обстоятель-
ства, что наши изысканія въ предѣлахъ, до которыхъ они до сихъ поръ простирались,
обнаружили, что извѣстное строеніе, ростъ и способность воспроизведенія не суть
непремѣнныя свойства матеріи, а, напротивъ, въ значительной части видимаго міра
вовсе не замѣчаются, вслѣдствіе чего мы и называемъ ее міромъ неодушевленнымъ.
Вотъ все, чтб имѣется изъ доказательствъ на этой сторонѣ вопроса. Съ другой сто-
роны мы имѣемъ фактъ, что наше зрѣніе и тѣ искусственныя орудія, съ помощью
которыхъ мы пришли къ этому выводу, явно несовершенны; и далѣе тотъ фактъ,
что при всемъ своемъ несовершенствѣ они доказали, что органическое царство про-
стирается безконечно далѣе, чѣмъ представлялъ себѣ когда-либо самый смѣлый мечта-
тель; между тѣмъ какъ предѣлы неорганическаго царства они не были въ состояніи
расширить въ размѣрѣ, сколько-нибудь соотвѣтствующемъ этому. Это доказываетъ,
598
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
что, на сколько дѣло идётъ о нашихъ мнѣніяхъ, вѣсы постоянно склоняются въ одну
извѣстную сторону; другими словами, что по мѣрѣ успѣховъ нашего знанія вѣра
въ органическое дѣлаетъ все болѣе и болѣе захватовъ въ области вѣры въ неорга-
ническое х). Если мы еще прибавимъ къ этому, что всякая наука явно клонится въ
сторону одной простой, общей теоріи, которая будетъ обнимать весь кругъ матері-
альныхъ явленій, и что съ каждымъ послѣдовательнымъ шагомъ какія-нибудь не-
правильности разъясняются и какія-нибудь неуравнительности сглаживаются,—то
едва-ли можно сомнѣваться въ томъ, что такое движеніе стремится ослабить тѣ раз-
личія, дѣйствительность существованія которыхъ была слишкомъ торопливо признана,
и что на мѣсто ихъ мы рано пли поздно должны подставить болѣе широкій взглядъ,
согласно съ которымъ жизнь есть принадлежность всякой матеріи, и классификація
тѣлъ на одушевленныя и неодушевленныя, или органическія и неорганическія, есть
только временное дѣленіе, которое годится, пожалуй, для настоящихъ цѣлей нашихъ,
но должно, наконецъ, какъ и всѣ подобныя дѣленія, исчезнутъ въ болѣе возвышенной
и широкой системѣ.
Но пока не будетъ сдѣлано этого шага, мы должны довольствоваться умо-
заключеніемъ, основаннымъ на показаніяхъ нашихъ несовершенныхъ приборовъ или
еще менѣе совершенныхъ чувствъ. Поэтому мы признаемъ различіе между органи-
ческой и неорганической природой пе въ качествѣ научной истины, а какъ науч-
ный пріемъ, съ помощью котораго мы раздѣляемъ въ идеѣ то, чтб нераздѣльно въ
фактѣ, надѣясь этимъ способомъ облегчить свой путь и достигнуть наконецъ тЬхъ
результатовъ, которые сдѣлаютъ уже подобное ухищреніо/ненужнымъ. Принимая та-
кимъ образомъ это дѣленіе, мы можемъ привести всѣ /Изслѣдованія органическихъ
тѣлъ къ одной изъ двухъ цѣлей. Первая цѣль ’ -* привести въ извѣстность законъ,
управляющій этими тѣлами въ ихъ обычномъ, здоровомъ или, какъ мы иногда оши-
бочно называемъ это, нормальномъ состояніи. Другая цѣль—узнать законъ, кото-
рому они подчиняются въ своемъ необычномъ, нездоровомъ или ненормальномъ
состояніи. Когда мы пытаемся достигнуть первой цѣли, то мы являемся физіологами;
стремясь же ко второй—патологами.
Такимъ образомъ физіологія и патологія составляютъ два основныхъ дѣленія
всякой огранической науки 3). Каждый изъ этихъ отдѣловъ тѣсно связанъ съ дру-
х) Я конечно отношу замѣчаніе это только къ
обитаемой нами планетѣ, а но къ внѣ-звмнымъ явле-
ніямъ. Относительно организаціи пли пеорганпзаціп
того, что существуетъ внѣ нашей земли, мы пе
имѣемъ никакихъ данныхъ и едва-ли можемъ надѣяться
имѣть ихъ даже черезъ нѣсколько столѣтій. Правда,
были выводимы нѣкоторыя заключенія изъ телеско-
пическихъ наблюденій; и за границею дѣлаются те-
перь попытки опредѣлить посредствомъ еще болѣо
утонченнаго процесса физическій составъ нѣкоторыхъ
изъ небесныхъ тѣлъ. По но рѣшаясь въ этой за-
мѣткѣ входить въ разсмотрѣніе подобнаго рода раз-
сужденій, ни взвѣшивать ихъ достоинство, я могу
только сказать, что трудность повѣрки будетъ долго ।
еще непреодолимымъ препятствіемъ къ узнанію, вѣрны
пли невѣрны тѣ или другіе результаты, какіо мо-
гутъ быть получены.
2) Въ предыдущемъ томѣ моего сочиненія я при-
нималъ общеупотребительное дѣленіе на органическую .
статику и органическую динамику, при чемъ статику
составляла анатомія, а динамику—физіологія. Но те-
перь я полагаю, что знаніе наше не довольно подви- !
нулось впередъ, чтобы подобное дѣленіе было такъ 1
же удобно, какъ дѣленіе па физіологическую и па-
тологическую, или на нормальную и анормальную,— і
при чемъ, разумѣется, мы должны помнить, что I
вь дѣйствительности пѣтъ ничего анормальнаго.
Практически полезное, но рѣшительно ненаучное
мнѣніе, — что возможно измѣненіе въ отправленіи
безъ измѣненія въ строеніи, сгладило нѣкоторыя
изъ самыхъ существенныхъ различій между ана-
томіей и физіологіей, и въ особенности между пато-
логической анатоміей и патологической физіологіей.
До тѣхъ поръ, вока не будутъ признаны эти различія,
научныя воззрѣнія ппсатедей-сііеціалпстовъ должны
оставаться неясными, какъ бы ни были цѣнны ихъ
практическія назиданія. Пека люди способны вѣрить,
что измѣненія въ отправленіи могутъ происходить
оть какой-ипбудь другой причины, кромѣ измѣненій
въ строеніи, научное значеніе анатоміи не будеі ь
вполнѣ оцѣнено, и истинное отношеніе ея къ физіо-
логіи останется неопредѣленнымъ. Но такъ какъ при
настоящихъ средствахъ нашихъ самая тщательная дис-
секція бываетъ часто не въ состояніи открыть (на-
примѣръ въ случаяхъ сумасшествія) тѣ измѣненія
въ строеніи, которыя производятъ измѣненія въ от-
правленіи, то поверхностные мыслители вводятся въ
сильное искушеніе — отрицать существованіе постоян-
ной связи между тѣми и другими измѣненіями: и
пока микроскопъ еще такъ несовершененъ и химія
еще находится вь такомъ отсталомъ состояніи, не воз-
можно, чтобы опыты всегда убѣждали ихъ въ пхъ
ошибкѣ. Вотъ почему я увѣренъ, что если только
наши средства къ эмпирическимъ изысканіямъ не бу-
дутъ значительно улучшены, то всѣ подобныя изслѣ-
дованія, несмотря на ихъ громадную цѣнность ьъ
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
599
гимъ, и нѣтъ никакого сомнѣнія, что они сольются, наконецъ, въ одинъ предметъ
изученія, открывъ законы, изъ которыхъ окажется, что ни тутъ, ни тамъ нѣтъ ни-
чего дѣйствительно анормальнаго или неправильнаго. До сихъ поръ однако физіо-
логи неизмѣримо опередили патологовъ широтою своихъ воззрѣній и по этому самому
и достоинствомъ своихъ выводовъ. Такъ, лучшіе физіологи положительнымъ образомъ
признаютъ, что пхъ паука, въ ея основаніяхъ, должна обнимать не только живот-
ныхъ, стоящихъ ниже человѣка, но также и все растительное царство; и что, не
окинувъ такимъ общимъ взглядомъ всей области органической природы, мы по всей
вѣроятности не въ состояніи понимать даже физіологію человѣка, а еще менѣе
всеобщую физіологію. Каталоги съ другой стороны до такой степени отстали, что
болѣзни низшихъ животныхъ рѣдко входятъ въ. ихъ планъ изученія; болѣзни же
растеній находятся у нихъ почти въ совершенномъ пренебреженіи; между тѣмъ какъ
достовѣрно, что, пока всѣ эти явленія не будутъ изучаемы и пока не будетъ сдѣ-
лано кое-какихъ попытокъ къ обобщенію ихъ, всякій патологическій выводъ будетъ
по преимуществу эмпирическимъ, вслѣдствіе ограниченности того круга, въ которомъ
дѣлались наблюденія.
Наука патологіи находится до сихъ поръ въ такомъ отсталомъ состояніи какъ
относительно плана, по которому она задумана, такъ и относительно самаго выпол-
ненія, что даже истинно даровитые люди думаютъ, будто она можетъ быть построена
на простомъ изученіи человѣческаго тѣла; поэтому едва-ли кто предположитъ, чтобы
шотландцы, несмотря на удивительную смѣлость своихъ умозрѣній, были въ со-
стояніи въ ХѴШ столѣтіи упредить тотъ методъ, который девятнадцатому столѣтію
теперь впервые приходится употребить въ дѣло. А между тѣмъ они произвели двухъ
патологовъ съ большимъ дарованіемъ, которымъ мы въ значительной мѣрѣ обязаны.
Это были Келленъ и Джонъ Гёптеръ. Келленъ былъ замѣчателенъ только какъ па-
тологъ; Гёнтеръ же, обнявшій своимъ дивнымъ, многостороннимъ геніемъ гораздо
большее пространство, былъ великъ и какъ филіологъ, и какъ патологъ. Краткій
очеркъ сдѣланныхъ ими обобщеній въ наукѣ объ органическомъ мірѣ будетъ не
лишнимъ добавленіемъ къ сказанному уже мною выше \О томъ, что было сдѣлано
въ тотъ же періодъ пхъ соотечественниками для науки о мірѣ неорганическомъ.
Это пополнитъ нашъ обзоръ умственнаго движенія въ Шотландіи и дастъ возмож-
ность читателю составить себѣ нѣкоторое понятіе о блестящихъ умственныхъ по-
двигахъ этого въ высшей степени замѣчательнаго парода, который въ противополож-
ность тому, что было со всѣми другими новѣйшими націями, доказалъ, что науч-
ныя открытія не ведутъ непремѣнно къ ослабленію суевѣрія и что два враждебныя
начала могутъ преуспѣвать рядомъ, никогда пе приходя въ столкновеніе на самомъ
дѣлѣ и не ослабляя другъ друга замѣтнымъ образомъ.
Въ 1751 году Келленъ былъ назначенъ профессоромъ медицины въ Глазгов-
скій университетъ, откуда однако въ 1756 г. былъ переведенъ въ Эдинбургскій,
гдѣ и читалъ тѣ знаменитыя лекціи, на которыхъ и основывается теперь его слава.
Въ началѣ своей ученой карьеры онъ обратилъ особенное вниманіе на неорганиче-
скую отрасль естествознанія и предъявилъ нѣкоторыя замѣчательныя умозрѣнія,
которыя, какъ полагаютъ, навели Блекка, его ученика, на теорію скрытой теплоты.
Но для того, чтобы далѣе прослѣдить эти воззрѣнія, потребовалось бы произвести
множество тщательныхъ опытовъ, — что не согласовалось съ его умственнымъ
складомъ. Поэтому, пустивъ въ ходъ свои идеи, онъ оставилъ ихъ затѣмъ укоре-
няться и перешелъ къ своей трудной попыткѣ обобщать законы болѣзни въ томъ
другихъ отношеніяхъ, будутъ способствовать къ вве-
денію въ обманъ часто индуктивныхъ умовъ, застав-
ляя пхъ слишкомъ много полагаться на то. что опп
называютъ фактами даннаго случая, въ ущербъ здра-
вому смыслу. Это именно я и разумѣю, говоря, что
наше знаніе не довольно ушло впередъ, чтобы можно
было дѣлить пауки объ органическихъ тѣлахъ па фи-
зіологическія и анатомическія. Теперь, а по всей вѣ-
роятности и еще нѣкоторое время, болѣе скромное дѣ-
леніе на физіологическія и патологическія можетъ счи-
таться болѣе безопаснымъ п болѣе способнымъ при-
вести къ прочнымъ результатамъ.
600
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
видѣ, въ какомъ онѣ проявляются въ человѣческомъ тѣлѣ. Въ изученіи болѣзни,
явленія которой болѣе темны и менѣе подлежатъ опыту, представлялся большій
просторъ для умозрѣнія; поэтому ему легче было предаться любви къ теоріи, являв-
шейся въ немъ преобладающею страстью, чрезмѣрное потворство которой ему ста-
вили въ упрекъ. Что упрекъ этотъ не совсѣмъ несправедливъ, съ этимъ, мнѣ ка-
жется, нельзя не согласиться. Мы находимъ напримѣръ у него слѣдующее уче-
ніе: такъ какъ въ леченіи болѣзни теорію нельзя отдѣлить отъ практики, то все
равно, которая изъ нихъ должна идти впередъ. Это значило сказать, что медикъ-
практикъ можетъ подчинять свои наблюденія своимъ теоріямъ; ибо достовѣрно, что
въ огромномъ большинствѣ случаевъ люди такъ крѣпко держатся усвоиваемыхъ ими
мнѣній, что то, чѣмъ съ самаго начала проникается ихъ умъ въ какомъ бы то ни
было изученіи, легко обращается въ форму, въ которую отливается и все послѣ-
дующее. Въ обыкновенныхъ умахъ извѣстное соединеніе понятій, разъ твердо уста-
новившееся, дѣлается неразрывнымъ; и способность раздѣлить ихъ и составлять изъ
нихъ новыя сочетанія есть одно изъ самыхъ рѣдкихъ дарованій нашихъ. Умъ сред-
няго разряда, какъ скоро имъ овладѣетъ какая-нибудь теорія, едва-ли можетъ когда-
либо избавиться отъ нея. Поэтому въ практическихъ вопросахъ слѣдуетъ ровно
столько же бояться теоріи, сколько въ научныхъ—дорожить ею; ибо практической
дѣятельности предается главнѣйшимъ образомъ низшій разрядъ умовъ, въ которомъ
ассоціаціи идей и предразсудки необыкновенно стойки; между тѣмъ какъ научныя
занятія достаются на долю умовъ высшаго полета, въ которыхъ такія предубѣжденія
сравнительно слабы, и тѣсныя соединенія понятій легче всего разрываются. Для
самыхъ мощныхъ умовъ наиболѣе привычное дѣло — усваивать себѣ новый строй
мыслей, и потому они болѣе всего способны разрушать^ старый. Въ нихъ слабо гнѣз-
дится всякое вѣрованіе, потому что они хорошо знаютъ, какъ мало мы имѣемъ до-
казательствъ для многихъ, даже самыхъ древнихъ, вѣрованій. Но умы средняго или,
не въ обиду будь сказано, низшаго разряда не тревожатся подобными тонкостями.
Разъ они чистосердечно приняли какія-нибудь теоріи, имъ едва-ли возможно когда-
либо отрѣшиться отъ нихъ, и они не рѣдко удостаиваютъ ихъ названія первѣйшихъ
истинъ и принимаютъ всяцбе нападеніе на нихъ за личную обиду. Наслѣдовавъ такія
теоріи отъ своихъ отцовъ/ они смотрятъ на нихъ съ какою-то сыновней набожной
привязанностью и ухватываются за нихъ, какъ за какія-нибудь богатыя пріобрѣ-
тенія, къ которымъ никто не имѣетъ права прикоснуться.
Къ этому послѣднему классу принадлежатъ почти всѣ люди, преданные болѣе
практическимъ, чѣмъ умозрительнымъ занятіямъ. Между ними находятся обыкновен-
ные практики, по медицинѣ ли, или по другой части, изъ которыхъ весьма немногіе
согласятся нарушить ту послѣдовательность мыслей, въ которыхъ они закоснѣли *)•
Хотя они объявляютъ, что презираютъ теорію, но на самомъ дѣлѣ они порабощены
ею. Все, что они могутъ сдѣлать, это скрывать свою подчиненность, называя свою
теорію необходимымъ вѣрованіемъ. Поэтому слѣдуетъ считать замѣчательнымъ дока-
зательствомъ любви Келлена къ дедуктивному умозаключенію то, что онъ при всей
своей смѣтливости и прозорливости, могъ предположить, будто въ такомъ практиче-
скомъ искусствѣ, какъ медицина, теорія можетъ безнаказанно предшествовать прак-
тикѣ; ибо въ высшей степени справедливо, если брать средній выводъ, что умы
людей такъ устроены, что одна не можетъ предшествовать другой, не получая пре-
обладанія надъ ней. Не менѣе справедливо и то, что такое преобладаніе должно
имѣть вредное дѣйствіе. Даже въ настоящее время, несмотря на великіе шаги, сдѣ-
1) Даже самъ Келленъ говоритъ довольно дерзко: | стома Галена безопасно господствовала въ недпцип-
< великая корпорація медиковъ—это рабскіе нодража- | скихъ школахъ, пока вторженіе готовъ и вандаловъ
тели, которые пе въ состояніи пи замѣчать, ни не- । но истребило всякихъ слѣдовъ литературы въ запад-
правлять погрѣшности своеіі системы и всегда го- пыхъ частяхъ Европы и не заставило все то, что
товы облаять и даже растерзать геніальнаго человѣка, | уцѣлѣло изъ нея, искать слабой защиты въ Констаи-
которын отважился бы на это. Такимъ образомъ си- , тппонолѣ».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
601
данные въ патологической анатоміи, въ животной химіи и въ микроскопическомъ из-
слѣдованіи какъ жидкихъ, такъ и твердыхъ составныхъ частей человѣческаго тѣла,—
леченіе болѣзней все-таки гораздо болѣе дѣло искусства, чѣмъ науки. Что составляетъ
главную отличительную черту замѣчательнѣйшихъ медиковъ и даетъ имъ рѣшитель-
ное превосходство,--это не столько объемъ пхъ теоретическаго знанія,—хотя и оно
также бываетъ часто значительно,—сколько та утонченная вѣрность взгляда, кото-
рою они обязаны частью опыту, а частью и врожденной способности быстро замѣ-
чать аналогіи и различія, ускользающія отъ обыкновеннаго наблюдателя. Процессъ,
которому они слѣдуютъ, есть процессъ быстрой и въ нѣкоторой степени безсозна-
тельной индукціи. И вотъ причина, почему величайшіе физіологи и химики между
медиками не бываютъ въ естественномъ порядкѣ вещей лучшими практическими
врачами. Если бы медицина была наукой, то они были бы лучшими медиками. Но
медицина еще въ сущности искусство; она зависитъ главнѣйшимъ образомъ отъ тѣхъ
качествъ, которыя каждый практическій врачъ долженъ самъ развивать въ себѣ и
которыхъ не можетъ дать ему никакая теорія. Теперь еще не настало время для
установленія общей теоріи, и по всей вѣроятности еще много пройдетъ поколѣній,
прежде чѣмъ оно наступитъ, И такъ предположить, что теорія болѣзни должна въ
дѣлѣ воспитанія предшествовать леченію болѣзни, не только опасно въ практиче-
скомъ отношеніи, но и логически несправедливо. До практической опасности такого
взгляда мнѣ въ настоящее время нѣтъ дѣла; но логическая сторона его составляетъ
любопытный примѣръ той страсти къ систематическому и діалектическому способу
умозаключенія, которая была отличительной чертой Шотландіи. Изъ этого видно,
что Келленъ въ своемъ стремленіи умозаключать отъ основныхъ началъ къ фактамъ,
а не отъ фактовъ къ началами, былъ въ_состояніи въ сайомъ важномъ изъ искусствъ
предложить такой методъ, для котораго^ даже наше знаніе не довольно зрѣло; въ
его же время подобный методѣ; былътакъ страненъ и несвоевремененъ, что при-
нятіе его такпмъ мощнымъ умомъ можно объяснить развѣ тѣмъ только обстоя-
тельствомъ, что онъ жилъ въ странѣ, гдѣ этотъ особенный методъ имѣлъ верховное
преобладаніе.
Должно однако согласиться, что Кёлленъ владѣлъ этимъ методомъ съ необык-
новеннымъ талантомъ, въ особенности въ примѣненіи его къ наукѣ патологіи, для
которой онъ гораздо болѣе годился, чѣмъ для искусства терапевтики. Ибо мы должны
всегда помнить, что наука, изслѣдующая законы болѣзни, есть нѣчто совершенно
отличное отъ искусства лечить ее, Наука эта имѣетъ интересъ умозрительный, не за-
висящій ни отъ какихъ практическихъ соображеній, а опредѣляемый единственно
тѣмъ фактомъ, что, когда она будетъ завершена, она объяснитъ уклоненія отъ пра-
вильности въ цѣломъ органическомъ мірѣ. Патологія имѣетъ цѣлью привести въ
извѣстность причины, опредѣляющія всякое уклоненіе отъ естественнаго типа, про-
явится ли оно въ формѣ, или въ отправленіи. Поэтому никто не можетъ обнять ши-
рокимъ взглядомъ настоящее состояніе знанія, не изучивъ теоретическое отношеніе
между патологіей и другими отраслями изслѣдованія. Но это дѣло не практиковъ,
а собственно такъ называемыхъ философовъ. Патологъ-философъ столько же разли-
чается отъ медика, сколько правовѣдъ различается отъ адвоката, или химикъ-агро-
номъ отъ фермера, или политико-экономъ отъ государственнаго человѣка, или астро-
номъ, обобщающій законы небесныхъ тѣлъ, отъ шкипера, который, направляя свой
корабль, руководствуется на практикѣ этими законами. Оба рода обязанностей мо-
гутъ быть соединены въ одномъ лицѣ, и это бываетъ по временамъ, хотя очень
рѣдко, но въ этомъ нѣтъ никакой необходимости. Итакъ, хотя и было бы нелѣпой
самонадѣянностью со стороны неспеціалиста по части медицины произносить судъ
надъ терапевтической системой Келлена, но совершенно позволительно всякому,
кто изучалъ теорію этого рода предметовъ, разобрать патологическую систему его;
потому что эта, какъ и всѣ вообще научныя системы, должна подчиняться тѣмъ
общимъ соображеніямъ, какія могутъ быть заимствованы частью отъ смежныхъ
наукъ, а частью и отъ всеобщей логики философскаго метода.
602
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Съ этой послѣдней или логической точки зрѣнія Кёллепова патологія и пред-
ставляетъ именно интересный предметъ для настоящей главы. Характеръ его изслѣ-
дованій вполнѣ выяснится, если сказать, что методъ, принятый имъ въ патологіи,
сходенъ съ тѣмъ, которому слѣдовалъ въ то же самое время Адамъ Смитъ, хотя на
совершенно другомъ поприщѣ. Оба были дедуктивны и оба, прежде чѣмъ начать
дедуктивное умозаключеніе, откинули нѣкоторыя изъ посылокъ, отъ которыхъ они
умозаключали. Что этотъ именно пріемъ есть ключъ къ методу Адама Смита, и что
онъ былъ съ намѣреніемъ введенъ въ его планъ, это уже было мною доказано,
равно какъ и то, что въ каждое изъ своихъ сочиненій онъ вводитъ посылки, не-
достававіпія въ другомъ. Въ этомъ отношеніи онъ далеко превосходилъ Келлена.
Ибо хотя Келленъ, какъ и Смитъ, началъ съ того, что урѣзалъ свою задачу съ цѣлью
удобнѣе разрѣшить ее, но онъ не усмотрѣлъ, подобно Смиту, необходимости провести
рядомъ другое, параллельное изслѣдованіе, которое пополняло бы систему, исходя
отъ посылокъ, первоначально опущенныхъ.
То, что я назвалъ урѣзываніемъ задачи, было сдѣлано Келленомъ слѣдующимъ
образомъ. Цѣлью его было обобщить явленія болѣзни въ томъ видѣ, въ какомъ они
замѣчаются въ человѣческомъ тѣлѣ; и для него, какъ и для всякаго другого, было
ясно, что человѣческое тѣло состоитъ частью изъ твердыхъ и частью изъ жидкихъ
веществъ. Особенность его патологіи составляетъ то, что онъ умозаключаетъ почти
исключительно отъ законовъ твердыхъ веществъ и такъ мало принимаетъ въ раз-
счетъ жидкія вещества, что видитъ въ нихъ только косвенныя причины болѣзни,
которыя съ научной точки зрѣнія должны считаться строго7 подчиненными прямымъ
причинамъ, представляющимся въ твердыхъ составныхъ частяхъ нашего тѣла. Такое
допущеніе, хотя и невѣрное, ѵбылододпако совершенно извинительно, такъ какъ, урѣ-
зывая задачу, оиъ упрощалъ Тфбцсссъ^ея^разрѣшенія точно такъ же, какъ Адамъ
Смитъ въ своемъ «Богатствѣ народовъ» упростилъ изученіе человѣческой природы,
откинувъ всякую сочувственную сторону ея. Но этотъ въ высшей степени дально-
видный мыслитель озаботился возстановленіемъ въ своей «Теоріи нравственныхъ
чувствованій» того свойства /іеловѣческой природы, Хотораго онъ не признавалъ
за ней въ «Богатствѣ народовъ», и, установивъ такшгь образомъ двѣ различныя
цѣпи умозаключеній, полнѣе обнялъ весь предметъ. ТочнЦ также и на Келленѣ ле-
жала обязанность, построивъ теорію болѣзни путемъ умозаключенія отъ твердыхъ
составныхъ частей человѣческаго тѣла, построить затѣмъ другую теорію, основан-
ную на умозаключеніи отъ жидкихъ частей, такъ чтобы изъ сопоставленія двухъ
теорій могла возникнуть наука патологіи, на столько совершенная, на сколько позво-
ляло тогдашнее состояніе знанія. Но* это было не подъ силу его уму. При всей его
даровитости ему недоставало той сообразительности, которой отличался Адамъ
Смитъ и въ силу которой этотъ великій человѣкъ понялъ, что всякое дедуктивное умо-
заключеніе, основанное на опущеніи нѣкоторыхъ посылокъ, должно быть восполнено
другимъ параллельнымъ умозаключеніемъ, въ которомъ посылки эти были бы прини-
маемы въ разсчетъ *). Такъ мало однако сознавалъ это Келленъ, что. построивъ ту
систему патологіи, которая извѣстна у писателей-медиковъ подъ именемъ солидизма,
онъ никогда не давалъ себѣ труда провести рядомъ съ нею другую систему, въ
которой первое мѣсто предоставлено было бы жидкимъ составнымъ частямъ чело-
вѣческаго тѣла. Напротивъ, онъ былъ убѣжденъ, что планъ его полонъ и исчерпы-
ваетъ всѣ стороны вопроса, и что такъ называемая патологія соковъ есть фикція,
слишкомъ долго несправедливо пользовавшаяся значеніемъ истины.
Многія пзъ воззрѣній, проводимыхъ Келленомъ, были взяты у Гоффмана,
а многіе изъ фактовъ - у Гаубіуса; но что патологія его, взятая въ цѣлости,
была существенно оригинальнымъ произведеніемъ, это ясно изъ нѣкотораго един-
1) Развѣ что опущенныя посылки, какъ бываетъ вь геометріи, такъ незначительны, что почти не-
замѣтны.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVIII СТОЛ.
603
ства въ общемъ начертаніи, которое несовмѣстимо съ позаимствованіемъ въ широ-
кихъ размѣрахъ и которое доказываетъ, что онъ самъ цѣликомъ обдумалъ свой
предметъ. Не останавливаясь однако на изслѣдованіи того, вь какой мѣрѣ онъ по-
заимствовался отъ другихъ, я укажу вкратцѣ на наиболѣе выдающіяся стороны его
системы для того, чтобы дать возможность читателю попять общій характеръ ея.
По ученію Келлена, всѣ твердыя части человѣческаго тѣла суть или простыя,
или жизненныя. Простыя твердыя части сохраняютъ послѣ смерти тѣ свойства,
какія имѣли при жизни. Жизненныя же, составляющія основу нервной системы,
отличаются такими свойствами, которыя исчезаютъ прямо послѣ смерти. Такимъ
образомъ простыя твердыя составныя части тѣла, имѣя менѣе отправленій, чѣмъ
жизненныя, имѣютъ также и менѣе болѣзней; и тѣ болѣзни, которымъ онѣ подвер-
жены, представляютъ болѣе удобства для классификаціи. Дѣйствительная трудность
оказывается относительно жизненныхъ твердыхъ частей, потому что отъ пхъ осо-
бенностей зависитъ вся нервная система, и почти всѣ разстройства должны быть
приписаны происходившимъ въ нихъ перемѣнамъ. Поэтому Келленъ принялъ нерв-
ную систему за основаніе своей патологіи и въ умозрѣніяхъ своихъ относительно
ея отправленіи поставилъ на первомъ планѣ скрытое начало, которое онъ назвалъ
животною силой, пли энергіей мозга х). Это начало дѣйствуетъ на жизненныя твер-
дыя части. Когда оно дѣйствуетъ исправно, то тѣло здорово; въ противномъ же
случаѣ — оно нездорово. Тати* какъ состояніе жизненныхъ твердыхъ частей есть
главная причина всякаго разстройства, а энергія мозга—-главная причина того или
другого состоянія этихъ частей, то становится важнымъ знать, какія именно вліянія
дѣйствуютъ на самую эту энергію, потому что въ нихъ мы и найдемъ напало нити.
Вліянія эти Келленъ дѣлилъ на физическія и умственныя. Физическія заключались
въ теплотѣ, холодѣ и испареніяхъ, трехъ могущественнѣйшихъ причинахъ раз-
стройствъ въ человѣческомъ тѣлѣ. Умственныя вліянія, побуждающія мозгъ дѣйство-
вать на твердыя части, подраздѣлялись на шесть различныхъ категорій, а именно:
іюлю, душевныя движенія, похоти, склонности и, наконецъ, два великихъ начала- -
привычку и подражаніе, въ которыхъ Келленъ весьма основательно полагалъ зна-
чительную важность. Умозаключая отъ этихъ умственныхъ причинъ и обобщая отно-
шенія между ними и ощущеніями тѣла, онъ, вѣрный любимому своему методу, исхо-
дилъ дедутивно отъ метафизическихъ началъ, бывшихъ тогда въ ходу, не удосто-
вѣрившись индуктивнымъ путемъ въ ихъ состоятельности, такъ какъ онъ думалъ,
что подобная индукція пе его дѣло. Онъ слишкомъ былъ озабоченъ продолженіемъ
своей діалектики, чтобы развлекаться такимъ вздоромъ, какъ вопросъ о томъ, вѣрны
или невѣрны посылки, на которыхъ опиралось его умозаключеніе. То, что онъ сдѣ-
лалъ въ метафизической части своей патологіи, повторилось и въ физической части
ея. Хотя кровь и нервы суть двѣ главнѣйшія черты въ экономіи человѣческаго
тѣла, онъ не изслѣдовалъ ихъ особой индукціей; онъ не подвергъ пхъ нп химиче-
скимъ опытамъ для узнанія ихъ состава, нп микроскопическимъ наблюденіями» для
приведенія въ извѣстность пхъ строенія * 2). Это тѣмъ болѣо замѣчательно, что, хотя
Я долженъ сказать, что Келленъ подъ сло-
вомъ «мозгъ» разумѣлъ столько же содержаніе поз-
воночнаго столба, какъ и черепа.
2) Кёлленъ съ топ удивительной прямотой, ко-
торая была одной изъ самыхъ привлекательныхъ
особенностей его ума. сознается въ своемъ недостаткѣ
знакомства съ микроскопомъ: <Я, который пе опы-
тенъ въ этого рода наблюденіяхъ, остаюсь въ совер-
шенномъ недоумѣніи насчсгь точнаго свойства этой
части крови». Патологъ безъ микроскопа эго—просто
человѣкъ безоружный. Что касается его животной хи-
міи, то можно привести одно мѣсто, какь образчикъ
того, какимъ образомъ омъ приходи.!ь къ заключеніямъ
путемъ умозрѣній, вмѣсто того чтобы подвергать
| явленія изслѣдованію на опытѣ. «Мы можемъ замѣ-
| тпть, какъ вещь въ высшей степени правдоподобную.
1 что всякое животное вещество образуется перпопа-
I чально изъ растительнаго, ибо всѣ животныя ии-
। таіотся пли непосредственно и исключительно расте-
ніями, или же тЬміі животными, которыя дѣлаютъ
это. Итакъ, правдоподобно, что во всѣхъ животныхъ
веществахъ можно прослѣдить начало растительное:
; поэтому, еслибы мы захотѣли изслѣдовать образо-
ваніе животной матеріи, то мы должны сперва
। узнать, какимъ образомъ растительная матерія мо-
жетъ быть обращена въ животную?» Слова поэтому
, и должны въ выводѣ пзь одной лишь предшество-
і вавшеп правдоподобности характеризуютъ тотъ избы-
604
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
мы и должны допустить, что животная химія была тогда вообще въ пренебреженіи
и что настоящее значеніе ея было едва-ли извѣстно до того времени, какъ труды
Берцеліуса открыли всю ея важность, — все-таки микроскопъ былъ уже готовъ къ
услугамъ Кёллена; онъ былъ изобрѣтенъ на полтораста лѣтъ до того, какъ Кёлленъ
окончилъ свою патологію, и уже около ста лѣтъ былъ употребляемъ для научныхъ
цѣлей. Но его любовь къ синтезу взяла верхъ. Его система построена путемъ
умозаключенія отъ общихъ началъ; и этимъ процессомъ онъ конечно владѣлъ въ
совершенствѣ. Между посылками и заключеніемъ у него едва-ли когда-либо вкра-
дывается ошибка. Что же касается результатовъ его умозрѣній, то въ этомъ отно-
шеніи онъ имѣлъ одну громадную заслугу, которая навсегда обезпечитъ за нимъ
видное мѣсто въ исторіи патологіи. Настаивая на важномъ значеніи твердыхъ со-
ставныхъ частей тѣла, онъ, несмотря на то, что самъ былъ одностороненъ, испра-
вилъ такую же односторонность своихъ предшественниковъ; ибо, за весьма немно-
гими исключеніями, всѣ лучшіе патологи, начиная съ Галена, грѣшили тѣмъ, что
слишкомъ много придавали важности жидкимъ составнымъ частямъ и поддерживали
чисто патологію соковъ. Кёлленъ направилъ умы людей въ другую сторону, и хотя,
научая ихъ, что нервная система есть единственное коренное мѣстопребываніе
болѣзни, онъ сдѣлалъ грубую ошибку, но это была ошибка самаго спасительнаго
свойства. Налегая на эту сторону, онъ возстановлялъ равновѣсіе. Этимъ, я увѣренъ,
онъ косвеннымъ образомъ поощрялъ тѣ подробныя изысканія надъ нервами, изъ-за
которыхъ онъ самъ бы не сталъ останавливаться, но которыя въ слѣдующемъ по-
колѣніи привели къ капитальнымъ открытіямъ Бэлла, Шоу, Мэйо и Маршала Голла.
Въ то же время старая патологія соковъ, преобладавшая въ теченіе многихъ сто-
лѣтій, была на практикѣ пагубна, ибо, предполагая, что всѣ болѣзни въ крови, она
привела къ тому постоянному, неразборчивому кровопусканію, которое разрушило
безчисленное множество жизней, независимо уже отъ того неисправимаго вреда,
который оно постоянно причиняло и тѣлу, и духу, ослабляя тѣхъ, кого не было въ
состояніи убить. Противъ этой пемилосердой напасти, которая дѣлала изъ медицины
какое-то проклятіе для человѣчества, солидарная патологія была первымъ дѣйстви-
тельнымъ оплотомъ 1). Поэтому, какъ съ практической,'такъ и съ отвлеченной точки
зрѣнія, мы должны привѣтствовать Кёллена, какъ великого благодѣтеля своей по-
роды, и должны смотрѣть на его появленіе, какъ на эпоху въ исторіи человѣческаго
благосостоянія столько же, сколько и въ исторіи человѣческой мысли.
Читатель неспеціалистъ можетъ быть легче усвоитъ себѣ все сказанное выше,
если я представлю, въ возможно краткихъ словахъ, образчикъ того, какимъ обра-
зомъ Кёлленъ примѣнялъ свой методъ къ изслѣдованію теоріи одного какого-нибудь
класса болѣзней. Для этой цѣли я возьму его ученіе о лихорадкѣ,—ученіе, хотя и
оставленное всѣми въ настоящее время, но имѣвшее нѣкогда болѣе вліянія, чѣмъ какая-
либо другая часть ого патологіи. Тутъ, какъ и вездѣ, онъ умозаключаетъ отъ твер-
токъ смѣлости, въ какой склонна переходить дедукція
и который составляетъ разительную противополож-
ность съ избыткомъ робости, отличающимъ индук-
тивныхъ мыслителей.
*) Д-ръ Ватсопъ говоритъ о патологіи соковъ,
что «нелѣпость гипотезъ, а еще болѣе опасность,
пораждаемая на практикѣ этимъ ученіемъ, на-
чинали становиться очевидными и повели къ совер-
шенному оставленію его». Но при всемъ уваженіи
къ этому извѣстному авторитету, я осмѣлюсь замѣ-
тить, что такое предположеніе д-ра Ватсона противо-
рѣчивъ всей исторіи человѣческаго ума. Пѣтъ ни од-
ного вполнѣ достовѣрнаго случая, въ которомъ бы
какая-нибудь теорія была покинута, потому что опа
приводила къ опаснымъ результатамъ. До тѣхъ поръ,
вока люди вѣрятъ въ теорію, онп будутъ приписы-
| вать ея дурныя послѣдствіи всякой другой причинѣ,
кромѣ настоящей. И теоріи, разъ установившейся,
! всегда будутъ вѣрить, — если только не произойдетъ
I какой-либо перемѣны въ знаніи, которая пошатнетъ
! ея основанія. Всякая практическая перемѣна, если
। только тщательно разобрать ее, можетъ быть прежде
і всего объяснена какою-нибудь перемѣною въ умозри-
, тельныхъ взглядахъ. Даже въ настоящее время въ
| самыхъ цивилизованныхъ странахъ держатся вообще
। много такихъ ученій, которыя приводятъ къ опас-
: нымъ практическимъ послѣдствіямъ и приводили къ
; нимъ въ теченіе цѣлыхъ столѣтій. Но зло, порождае-
1 мое ученіемъ, не ослабляетъ самаго ученія. Ничто
I не можетъ ослабить его, кромѣ общихъ успѣховъ
I знанія, которые, измѣняя прежнія мнѣнія, измѣняютъ
, и будущій образъ дѣйствія.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVIII СТОЛ.
(505
дыхъ составныхъ частей тѣла. Не обращая никакого вниманія на состояніе крови,
онъ говоритъ, что причина всякой лихорадки есть уменьшеніе энергіи мозга. Умень-
шеніе это можетъ быть произведено разными разслабляющими средствами, между
которыми самыя обыкновенныя: испаренія, болотныя или человѣческія, невоздерж-
ность, страхъ и холодъ. Лишь только ослабнетъ энергія мозга, какъ начинается уже
болѣзнь. Она быстро распространяется по нервной системѣ, и первымъ ощутительнымъ
дѣйствіемъ ея бываетъ дрожь или ознобъ, сопровождаемый судорогою въ оконеч-
ностяхъ артерій, въ особенности же тамъ, гдѣ онѣ касаются поверхности тѣла. Эта
судорога въ оконечностяхъ сосудовъ производитъ раздраженіе въ сердцѣ и артеріяхъ,
и раздраженіе это продолжается, пока не пройдетъ судорога. Въ то же время уси-
лившаяся дѣятельность сердца возстановляетъ энергію мозга; вся система оправ-
ляется; оконечности сосудовъ получаютъ облегченіе, и, какъ результатъ всего этого
движенія, выдѣляется йотъ и лихорадка утихаетъ. Итакъ, откинувъ всякія сообра-
женія о жидкпхчт составныхъ частяхъ тѣла, послѣдовательные переходы болѣзни-
томленіе, ознобъ и жаръ, можно, по мнѣнію Келлена, обобщить посредствомъ умо-
заключенія отъ однѣхъ только твердыхъ частей; на этомъ кромѣ того основывалось
хорошо извѣстное различіе, полагаемое имъ между лихорадками, продолжительность
которыхъ зависитъ отъ слишкомъ большой силы судорогъ, и тѣми, продолжительность
которыхъ происходитъ отъ избытка слабости.
Изъ подобнаго же процесса мысли возникла его «Носологія» или общая клас-
сификація болѣзней, которую нѣкоторые считали за самую цѣнную часть его сочи-
неній, хотя, по причинамъ,\ уже упомянутымъ нами, мы должны, я полагаю, отвер-
гать всякія этого рода попытки, какъ преждевременныя7 и могущія сдѣлать болѣе
зла, чѣмъ добра;—развѣ что бнІ^буд^ь^уцбтребляуьс^ въ дѣло чисто какъ пріемы,
служащіе для облегченія памяти. Какъ бы то ни было, но Кёллонова «Носологія»,
хотя въ ней и видны ясные слѣДьтТёТОчЬТбщна^бХбб^азовательнаго ума, быстро утра-
чиваетъ извѣстность, и мы можемъ быть^вѣ^ёньГ^что долгое время подобная же
участь будетъ постигать и его преемниковъ. Наше знаніе патологіи еще слишкомъ
молодо для такого предпріятія. Мы имѣемъ всѣ причины ожидать, что съ помощью
химіи и микроскопа опо будетъ возрастать все быстрѣе и быстрѣе. Не пытаясь
опредѣлять впередъ, до каѣихъ опо дойдетъ размѣровъ, мы можемъ однако соста-
вить себѣ нѣкоторое понятіе объ этомъ по тому уже, что было сдѣлано съ гораздо
меньшими средствами, чѣмъ тѣ, которыми мы теперь располагаемъ. Въ одномъ
сочиненіи, пользующемся большимъ авторитетомъ, которое было издано въ 1848 г.,
говорится, что со времени появленія въ свѣтъ Кёлленовой «Носологіи» самый уже
нашъ списокъ болѣзней почти что удвоился, между тѣмъ какъ наше знаніе фак-
товъ, относящихся къ болѣзнямъ, болѣе чѣмъ удвоилось.
Мнѣ остается еще прибавить только одно имя къ блестящему каталогу вели-
кихъ шотландцевъ ХѴШ столѣтія. Но это имя человѣка, который, по объему и ори-
гинальности своего генія, слѣдуетъ непосредственно за Адамомъ Смитомъ и долженъ
быть поставленъ гораздо выше всякаго другого изъ философовъ, какихъ произвела
Шотландія. Я разумѣю конечно Джона Гёнтера. единственнымъ недостаткомъ кото-
раго была по временамъ неясность не только слога, но и мысли. Въ этомъ отношеніи,
и пожалуй въ этомъ только одномъ, Адамъ Смитъ пмѣлъ передъ нимъ преимуще-
ство, потому что умъ Смита былъ такъ гибокъ и такъ свободенъ въ своихъ движе-
ніяхъ, что и самыя обширныя задачи не были въ состояніи пересилить его. Съ
Гёнтеромъ бывало противное: казалось иногда, какъ будто бы умъ его озадачивался
величіемъ своихъ собственныхъ предначертаній и недоумѣвалъ, по какому пути ему
устремиться. Онъ колебался; выраженіе его мысли бывало неопредѣлительпо 0* Все-
Г. Огтлп говоритъ: «Вь сочиненіяхъ его ?іы ' чепіяхъ и неправильность въ слогѣ. происходящіе
ио временамъ находимъ темноту въ выраженіи мыс- 1 огь плохого воспитанія Но недостатокъ восшігашя
лей, недостатокъ логической вѣрпоетп въ умоваклю- । никогда не сдѣлаоть писателя темнымъ, а хорошее
606
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
таки способности его были такъ необычайны, что между мастерами органической науки
онъ принадлежитъ, я полагаю, къ одному разряду съ Аристотелемъ, Гарвеемъ и Биша,
и стоитъ выше какъ Галлера, такъ и Кювьё. Относительно этой классификаціи люди
будутъ различнаго мнѣнія, смотря по тѣмъ понятіямъ, какія они имѣютъ о сущности
науки, и вт> особенности смотря по тому, въ какой мѣрѣ они сознаютъ важность
философскаго метода. Съ этой послѣдней точки зрѣнія мнѣ и предстоитъ теперь
разсмотрѣть характеръ Джона Гёнтера. Слѣдя за движеніями его въ высшей сте-
пени замѣчательнаго ума, мы найдемъ, что въ немъ дедукція и индукція соединя-
лись тѣснѣе, чѣмъ въ какомъ-либо другомъ шотландскомъ умѣ семнадцатаго или
восемнадцатаго столѣтія. Причины этого необычайнаго сочетанія я теперь попытаюсь
привести въ извѣстность. Когда онѣ будутъ поняты, то онѣ не только объяснятъ
многія особенности, встрѣчающіяся въ его сочиненіяхъ, но и доставятъ матеріалы
для умозрѣнія тѣмъ, которые любятъ слѣдить за развитіемъ идей и которые спо-
собны понять, какимъ образомъ различные склады мысли націй придали различныя
формы національному характеру и тѣмъ вліяли на весь ходъ дѣлъ человѣческихъ
въ такой сильной степени, какой обыкновенные компиляторы въ исторіи нисколько
и не подозрѣваютъ.
Гёнтеръ (род. 1728 г.) оставался въ Шотландіи до двадцати лѣтняго возраста,
а потомъ, въ 1748 г., поселился въ Лондонѣ, и хотя пробылъ за границей около
трехъ лѣтъ, но совершенно забылъ свою родину и сдѣлался, въ соціальномъ и
умственномъ отношеніи, природнымъ англичаниномъ. Слѣдовательно, первыя ассоціа-
ціи идей въ его умѣ возникли среди дедуктивной націи, а позднѣйшія—среди индук-
тивной. Въ теченіе двадцати лѣтъ опъ жилъ среди парода, который оказывается едва-ли
не самымъ тонкимъ мыслителемъ .въ Европѣ, если согласиться съ нимъ въ тѣхъ
основныхъ началахъ, отъ которыхъ онъ умозаключаетъ; но съ другой стороны, бла-
годаря своей склонности къ эюму методу, онъ такъ жаденъ къ общимъ началамъ,
что принимаетъ ихъ почти безъ разбора доказательствъ и является такимъ обра-
зомъ въ одно и то же время и весьма легковѣрнымъ, и весьма логичнымъ. Въ
этой школѣ и въ такихъ привычкахъ воспитывался умъ Джона Гёнтера въ періодъ
самой сильной впечатлительности его. Затѣмъ произошла внезапная перемѣна де-
корацій. Прибывъ въ Англію, онъ провелъ сорокъ лѣтъ среди самой эмпирической
націи въ Европѣ—націи, питающей полнѣйшее отвращеніе ко всякимъ общимъ на-
чаламъ, гордящейся своимъ здравымъ смысломъ, хвастающей, и не безъ основанія,
своей практической сообразительностью, громко провозглашающей превосходство
фактовъ надъ идеями и презирающей всякую теорію, если только отъ нея нельзя
ожидать непосредственной, прямой выгоды. Молодой и пылкій шотландецъ увидѣлъ
себя перенесеннымъ въ страну совершенно отличную отъ той, которую онъ только-
что оставилъ; и различіе это не могло не повліять на его умъ. Онъ видѣлъ со
всѣхъ сторонъ признаки благоденствія и долгаго непрерывнаго успѣха не только
въ практической, но и въ умозрительной жизни; и ему говорили, что все это плодъ
системы, ставящей выше всего факты. Онъ жаждалъ славы, но и въ то же время
понималъ, что путь къ пей въ Англіи не тотъ же самый, чтё въ Шотландіи. Въ
Шотландіи великаго логика сочли бы за великаго человѣка; въ Англіи же мало
обратили бы вниманія на прелесть его логики, еслибы онъ не озаботился, чтобы
посылки, отъ которыхъ онъ исходилъ, заслуживали довѣрія, были провѣрены опы-
томъ. Новая машина, новый опытъ, открытіе какой-нибудь соли или какой-нибудь
воспитаніе - яснымъ. Единственная причина ясности
выраженія - - ясность мысли; а ясность мысли это
природный даръ, который самое- закопченное и систе-
матическое воспитаніе яожеть лишь нѣсколько улуч-
шить: люш безъ воспитанія, не имѣющіе и тысячной
доли ума Гёнтера, бываю гь часто довольно ясны. Съ
другой стороны, такъ же часто случается, что люди,
получившіе превосходное пос,питаніе, пе могутъ выска-
зать пли наиисаіь къ ряду десяти предложеній, вь
которыхъ бы не оказалось какой-нвбудь сбивчивой дву-
смысленности. Вь сочиненіяхъ Гёнтера такія двусмы-
сленности изобилують; и эго составляетъ по всей вѣро-
ятности одну изъ причинъ, по когорымь никто до сихъ
норъ еще не изложили въ должной связи его систему.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
607
кости были бы встрѣчены въ Англіи съ большимъ уваженіемъ, чѣмъ какое-нибудь
глубокое умозрѣніе, изъ котораго нельзя было бы усмотрѣть очевидныхъ результа-
товъ. Что такой образъ воззрѣнія на вещи сдѣлалъ много хорошаго, это достовѣрно.
Но такъ же достовѣрнб, что онъ одностороненъ и удовлетворяетъ только одну часть
человѣческаго ума. Многіе изъ возвышеннѣйшихъ умовъ стремятся къ чему-то. чего
нельзя достигнуть при такомъ взглядѣ. Въ Англіи однако въ теченіе значительной
части ХѴШ столѣтія взглядъ этотъ имѣлъ еще большее преобладаніе, чѣмъ имѣетъ
въ настоящее время, и былъ до такой степени всеобщимъ, что съ 1727 г. почти
до конца столѣтія страна паша не имѣла, ни по одной отрасли науки, такого мы-
слителя, который былъ бы въ силахъ подняться выше тѣхъ узкихъ взглядовъ, какіе
считались тогда совершенствомъ мудрости х). Многое было прибавлено къ нашему
знанію, но отдаленные предѣлы его не были расширены; хотя прибавилось много
любопытныхъ и цѣнныхъ подробностей, хотя было сообщено много мелкихъ, ближай-
шихъ законовъ природы, нельзя однако не согласиться, что тѣ возвышенныя обоб-
щенія, которыми мы обязаны семнадцатому столѣтію, оставались неподвижны, и что
не было сдѣлано никакой попытки перейти за ихъ предѣлы. Когда Джонъ Гёнтеръ
прибылъ въ Лондонъ въ 1748 году, то уже прошло слиткомъ двадцать лѣтъ со
смерти Ньютона, и англійскій пародъ, погруженный въ практическія заботы и
только начинавшій вступать на поприще политической жизни, проникся большимъ,
чѣмъ когда-либо, отвращеніемъ къ изслѣдованіямъ, которыя стремились къ истинѣ,
не имѣя въ виду пользы, и привыкъ дорожить наукой главнѣйшимъ образомъ ради
прямой осязательной выгоды, какую онъ могъ надѣяться, извлечь изъ нея.
Что на Гёнтера должны были повліять эти обстоятельства, это будетъ ясно
для всякаго, кто собразптъ, какъ трудноДдля отдѣльнаго ума избѣгнуть давленія
современныхъ мнѣніи. Но такъ какъ его раннія ассоціаціи идей склоняли его въ
другую сторону, то мы и замѣчаемъ, что Дъ теченіе своего долгаго пребыванія въ
Англіи онъ находился подъ вліяніемъ двухъ сталкивающихся силъ. Родная страна
дѣлала его дедуктивнымъ, отечество же по усыновленію — индуктивнымъ. Какъ
шотландецъ, онъ предпочиталъ умозаключеніе отъ обоихъ началъ къ частнымъ
фактамъ; какъ житель Англіи, опъ пріобрѣлъ привычку къ противоположному по-
рядку умозаключенія отъ частныхъ фактовъ къ общимъ началамъ. Во всякой странѣ
люди естественнымъ обраѣомъ отдаютъ преимущество тому, что больше цѣнится.
Англичане уважаютъ факты больше, чѣмъ общія начала, и потому начинаютъ съ
фактовъ. Шотландцы полагаютъ большую важность въ общихъ началахъ. И я ни-
сколько не сомнѣваюсь, что одна изъ причинъ, по которымъ Гёнтеръ въ изслѣдо-
ваніи какого-нибудь предмета часто бываетъ неясенъ, заключается въ томъ, что
въ подобныхъ случаяхъ ого умъ дѣлился между этими двумя враждебными методами
и, склоняясь разъ къ одному, другой разъ къ другому, но былъ въ состояніи рѣ-
шить, которому изъ нихъ онъ долженъ послѣдовать. Эта борьба затемняла его умъ.
Адамъ Смитъ съ другой стороны, какъ и всѣ вообще шотландцы, остававшіеся въ
Шотландіи, былъ замѣчательно ясенъ. Онъ, подобно Юму, Блекку и Кёллену, ни-
когда не сбивался съ своего метода. Эти замѣчательные люди не подпадали англій-
скому вліянію. Изъ всѣхъ знаменитѣйшихъ шотландцевъ XVIII столѣтія одинъ
Гёнтеръ поддался этому вліянію, и одинъ онъ выказалъ извѣстную шаткость, из-
вѣстную сбивчивость мысли, которая, повидимому, неестественна въ такомъ великомъ
умѣ и. какъ мнѣ кажется, лучше всего можетъ быть объяснена исключительными
обстоятельствами, въ которыя онъ былъ поставленъ.
Одинъ изъ даровитѣйшпхъ комментаторовъ Гёнтера справедливо замѣтилъ, что
врожденною склонностью его было строить догадки относительно законовъ природы
и затѣмъ отъ нихъ уже вести умозаключеніе къ низу, вмѣсто того чтобы восходить
къ нимъ путемъ медленной и постепенной индукціи. Этотъ процессъ дедукціи былъ,
О Си. Бондъ, «Исторія цивилизаціи въ Англіи», т. I, стр. 362—363.
608
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
какъ я уже доказалъ, любимымъ методомъ всѣхъ шотландцевъ, и потому его именно
намъ слѣдовало бы ожидать и отъ Гёнтера. Но такъ какъ онъ былъ окруженъ по-
слѣдователями Бэкона 1), то эта врожденная склонность была пересилена въ немъ,
и онъ посвятилъ значительную часть своей дивной дѣятельности такимъ наблюде-
ніямъ и опытамъ, въ какіе никогда не вдался бы ни одинъ шотландскій мысли-
тель, живущій въ Шотландіи. Онъ самъ объявилъ, что его наслажденіе—мыслить,
и не можетъ быть никакого сомнѣнія, что еслибы онъ былъ иначе поставленъ, то
мыслить было бы и его главнымъ занятіемъ; какъ бы то ни было, но трудолюбіе,
съ какимъ онъ собиралъ факты, составляютъ одну изъ самыхъ замѣтныхъ чертъ въ
его жизни. Изысканія его обнимали всю область животнаго царства и производились
съ такимъ неутомимымъ рвеніемъ, что онъ анатомировалъ слишкомъ пятьсотъ различ-
ныхъ видовъ, независимо отъ диссекцій различныхъ индивидуумовъ и независимо
также отъ диссекцій огромнаго числа растеній. Результаты такихъ работъ были
тщательно приведены въ порядокъ и собраны имъ въ ту дивную коллекцію, о гро-
мадности которой мы можемъ составить себѣ нѣкоторое понятіе изъ свидѣтельства,
что передъ его смертью въ ней было слишкомъ 10.000 препаратовъ, служащихъ
къ объясненію явленій природы. Этимъ путемъ онъ такъ близко ознакомился съ
животнымъ царствомъ, что сдѣлалъ множество открытій, которыя и сами по себѣ
уже любопытны, а взятыя въ совокупности, образуютъ неоцѣненное сокровище
истинъ. Изъ нихъ наиболѣе важныя: открытіе истинныхъ свойствъ кровообращенія
ракообразныхъ животныхъ и насѣкомыхъ, открытіе органа слуха у головоногихъ,
открытіе способности моллюсковъ всасывать свои ракорины, открытіе факта, что
пчелы не собираютъ воска, а выдѣляютъ его изъ себя, открытіе полукружныхъ ка-
наловъ у китообразныхъ, лифматическихъ сосудовъ у птицъ и воздушныхъ клѣто-
чекъ въ костяхъ птицъ. Нас^увѣряютъ’также, что онъ упредилъ недавнія открытія
относительно зародыша двуутрЪбкщ а изданныя сочиненія его доказываютъ, что у
человѣка онъ открылъ мускульность артерій, мускульность радужной оболочки и пи-
щевареніе, совершаемое желудкомъ, послѣ смерти, съ помощью собственнаго его
сока. Хотя въ его время животная химія еще не была возведена въ систему и
потому мало обращала на себя вниманіе физіологовъ, Гёнтеръ все-таки попытался
съ помощью ея изслѣдовать качества крови для того, чтобы привести въ извѣст-
ность свойства ея составныхъ частей. Онъ также изучалъ ее на различныхъ сту-
пеняхъ жизни зародыша и, тщательно прослѣдивъ за нею во всѣ періоды его раз-
витія, сдѣлалъ капитальное открытіе, что красные шарики крови образуются позже
другихъ составныхъ частей ея. Однако современники его такъ мало сознавали важ-
ность этой великой физіологической истины, что она была мертва для нпхъ; о ней
позабыли, и спустя около пятидесяти лѣтъ послѣ этого она снова была открыта и
въ 1832 году возвѣщена Дельпе и Постомъ во французской академіи наукъ, какъ
законъ природы, только-что приведенный въ извѣстность. Это одинъ изъ многихъ
примѣровъ въ исторіи нашего знанія, доказывающій, какъ безполезно для человѣка
слишкомъ далеко уходить впередъ того времени, въ которое опъ живетъ. По Гён-
теръ кромѣ того, что сдѣлалъ открытіе, понялъ также и его смыслъ. Онъ заклю-
чилъ изъ него, что назначеніе красныхъ шариковъ—скорѣе служить для укрѣпленія
системы, чѣмъ для возстановленія ея. Теперь эта истина всѣми признана, но ее
!) Чтобы меня не .могли заподозрить въ преуве-
личеніи, я приведу то, чтб сказалъ объ этомъ пред-
метѣ ІПиренгсдь, величайшій изъ всѣхъ историковъ
медицины. «Большинство медиковъ, утверждавшихъ,
будто опп образовались но Бэкону, — наслѣдовали отъ
него только пеонрео доли мое о і вращеніе кь гипотезамъ
и системамъ, большое уваженіе къ опыту и необык-
новенное желаніе умножать число наблюденіи. Именно
между англичанами эмпирическій методъ въ медицинѣ
нашелъ наиболѣе приверженцевъ, п у нихъ-то опъ
главнѣйшимъ образомъ и распространялся до самаго
близкаго къ намь времени. Распространенію его тамъ
благопріятствовало не только то глубокое уваженіе,
ко трое всс еще питаютъ англичане къ безсмертному
канцлеру, ио и та особенная важность, которую при-
даетъ вся нація простому смыслу, «сошшоп «еп§е^;
вотъ онь (эмпирическій методъ) и оставался тамь
непримиримымъ врагомъ всѣхъ системъ, пе опираю-
щихся на наблюденіи».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
609
признали лить долгое время спустя послѣ его смерти. Признаніемъ своимъ она обя-
зана главнѣйшимъ образомъ быстрымъ успѣхамъ животной химіи и усовершенство-
ванію микроскопа. Ибо съ употребленіемъ въ дѣло этихъ средствъ стало очевид-
нымъ, что красные шарики, процессъ дыханія, произведенія животной теплоты и
энергія органовъ произвольнаго движенія суть только различныя части одной и той
же системы. Ихъ взаимная связь подтверждается не только сравненіемъ различныхъ
видовъ, но также и сравненіемъ различныхъ членовъ одного и того же вида.
Въ человѣческомъ существѣ, напримѣръ, отправленіе движенія и другія животныя
отправленія бываютъ дѣятельнѣе въ личностяхъ сангвиническаго темперамента, чѣмъ
у лимфатиковъ, и въ то же время у людей сангвиническаго темперамента болѣе и
красныхъ шариковъ, чѣмъ у людей темперамента лимфатическаго. Познаніемъ этого
факта мы обязаны Леканю; ему также мы обязаны подобнымъ же фактомъ, под-
крѣпляющимъ то же самое воззрѣніе. Онъ доказалъ, что въ крови женщинъ содер-
жится болѣе воды и менѣе красныхъ шариковъ, чѣмъ въ крови мужчинъ, такъ что
и въ этомъ опять мы усматриваемъ соотношеніе между этими шариками и энергіею
животной жизни. Но такъ какъ эти изысканія были сдѣланы лишь много лѣтъ спустя
по смерти Гёнтера, то совпаденіе ихъ съ его умозрительными выводами служитъ
разительнымъ доказательствомъ его способности къ обобщенію и неслыханнаго знанія
сравнительной анатоміи, доставившаго ему матеріалы, изъ которыхъ, несмотря на
отсталость животной химіи, онъ былъ въ состояніи вывести заключеніе, положитель-
нымъ образомъ подтвержденное позднѣйшими, болѣе подробными изысканіями 1).
Найдя такимъ образомъ съ помощью широкаго обзора царства животныхъ
соотношеніе между ихъ замѣчательной способностью къ движенію и состояніемъ ихъ
крови, Гёнтеръ обратилъ затѣмъ вниманіе на другую сторону вопроса и принялъ
въ соображеніе движенія растительнаго царства, въ той надеждѣ, что, сравнивая
эти два отдѣла природы, онъ откроетъ как’ой-нибудь законъ, который, будучи общимъ
для ихъ обоихъ, сольетъ въ одинъ предметъ изученія всѣ основныя начала орга-
ническаго движенія. Хотя онъ и не имѣлъ успѣха въ этомъ великомъ предпріятіи,
все-таки нѣкоторыя изъ его обобщеній чрезвычайно знаменательны и прекрасно
характеризуютъ силу и прбницательпость его ума. Смотря на органическій міръ,
какъ на одно цѣлое, онъ предположилъ, что его способность къ дѣятельности—какъ
въ животномъ, такъ и въ растеніяхъ—троякаго рода. Къ первому роду относится
дѣйствіе каждаго индивидуума на содержавшіеся уже въ немъ матеріалы, отчего
происходитъ ростъ, отдѣленія и другія отправленія, въ которыхъ сокъ растеній соот-
вѣтствуетъ крови животныхъ. Второй родъ дѣйствія имѣетъ цѣлью увеличивать ко-
личество этихъ матеріаловъ; онъ всегда вызывается нуждой, и результатомъ его бы-
ваетъ питаніе и сохраненіе недѣлимаго. Третій родъ совершенно зависитъ отъ внѣш-
нихъ причинъ, обнимающихъ весь матеріальный міръ, каждое явленіе котораго слу-
житъ возбужденіемъ къ какому-нибудь дѣйствію. Дѣлая разныя сочетанія этихъ раз-
личныхъ источниковъ движенія и изучая всякое возбужденіе къ дѣятельности во-
первыхъ по отношенію къ одному изъ только-что указанныхъ нами трехъ дѣленій,
а во-вторыхъ но отношенію къ силѣ дѣйствія, различаемой отъ количества его,—
Гёнтеръ вѣрилъ, что этимъ путемъ могутъ быть открыты какія-шібудь основныя
Гёнтеръ умеръ въ 1793 году. Изысканія Ле-
каню были изданы въ 1831 году.
Другое, еще болѣе замѣчательное доказательство
того, до какой степени Гёнтеръ опередилъ свой вѣкъ,
представляется въ слѣдующемъ мѣстѣ, находящемся
въ только-что изданныхъ посмертныхъ сочиненіяхъ <
его, гдѣ онъ упреждаетъ самую великую и знамена-
тельную изъ всѣхъ идей въ физіологіи XIX столѣ-
тія. «Еслибы мы были въ состояніи прослѣдить за
ходомъ увеличенія числа частей самаго совершеннаго |
животнаго, но мѣрѣ ихъ образованія, съ самаго на- |
чала и до состоянія полнаго совершенства, — то мы
вѣроятно могли бы сравнить его съ какимъ-нибудь
даже пзъ несовершенныхъ животныхъ, изъ всякаго
разряда животныхъ въ природѣ, такъ какъ пи на одной
изъ степеней они не различаются отъ какого-нибудь
пзъ нашихъ разрядовъ. Пли, другими словами, если-
бы мы взяли рядъ животныхъ, отъ менѣе совершен-
наго до совершеннаго, то мы вѣроятно нашли бы не-
совершенное животное соотвѣтствующимъ какоЙ-пи-
будь пзъ степеней самыхъ совершенныхъ животныхъ».
Бокль.— Иад. Ф. Павленкова..
39
610 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
истины, если пе имъ самимъ, то, по крайней мѣрѣ, его преемниками. Онъ думалъ,
что, хотя животныя могутъ дѣлать многое, чего растенія дѣлать не въ состояніи,
все-таки непосредственная причина дѣйствія какъ у тѣхъ, такъ и у другихъ бываетъ
одна и та же. Въ животныхъ больше разнообразія движенія, въ растеніяхъ же
больше истинной силы. Лошадь конечно сильнѣе человѣка, а между тѣмъ виноград-
ная лоза можетъ не только содержать на себѣ, но и двигать къ верху столбъ жидкости
въ пятеро большей вышины, чѣмъ тотъ, какой по силамъ лошади. Самая та сила,
которую проявляетъ растеніе, когда оно держитъ листъ выпрямленнымъ цѣлый день,
безъ отдыха и безъ утомленія, — представляетъ собою удивительное напряженіе и
служитъ однимъ изъ многихъ доказательствъ, что тутъ дѣйствуетъ начало воспол-
ненія, и что, слѣдовательно, та же энергія, которая въ животномъ мірѣ ослабляется
направленіемъ ея на многіе предметы, въ мірѣ растительномъ крѣпнетъ отъ сосре-
доточенія на маломъ числѣ ихъ.
Преслѣдуя эти умозрѣнія, въ которыхъ рядомъ со многими недостовѣрными
вещами содержится, я вполнѣ убѣжденъ въ этомъ, и значительное количество важ-
ныхъ, хотя и оставленныхъ безъ вниманія, истинъ,—Гёнтеръ дошелъ до вопроса о
томъ, какимъ образомъ производится движеніе разными такими силами, какъ магне-
тизмъ, электричество, тяготѣніе и химическое притяженіе. Это завело его въ область
неорганической науки, которая, какъ онъ ясно видѣлъ, должна лежать въ осно-
ваніи всякой науки о мірѣ органическомъ. Какъ съ одной стороны невозможно
было бы съ успѣхомъ изучать человѣческое тѣло безъ прмощи общихъ началъ, вы-
веденныхъ изъ изслѣдованія низшихъ животныхъ, точно такъ же съ другой, говоритъ
Гёнтеръ, къ законамъ, которымъ подчинены самыя эти животныя, должно пролагать
путь чрезъ законы простой,\рсррганическрйвматеріи ^Слѣдовательно, цѣлью его было
ни болѣе, ни менѣе, какъ дрединить всѣ отрасли естествознанія въ порядкѣ, опре-
дѣляемомъ ихъ относительной, сложностью, начиная съ самой простой и переходя
постепенно къ самой запутанной. Въ этихъ видахъ онъ разсматривалъ строеніе
ископаемаго царства и путемъ обширнаго сравненія кристалловъ пытался обобщить
основныя начала формы, точно такъ же, какъ изъ сравненія животныхъ онъ ста-
рался вывести общія начала отправленій. И при этомъ онъ принималъ въ сообра-
женіе не только правильные кристаллы, по и неправильные; ибо онъ зналъ, что
въ природѣ нѣтъ собственно ничего неправильнаго, нестройнаго, хотя несовершен-
ство нашей познавательной способности или скорѣе отсталость нашего знанія не
даетъ намъ различать симметріи всего зданія природы. Красота плана и необходи-
мость послѣдовательности не всегда бываютъ замѣтны. Вотъ почему мы слишкомъ
склонны воображать, что цѣпь перервана, когда но бываемъ въ состояніи различать
всѣ ея звенья. Отъ этой важной ошибки Гёнтеръ былъ огражденъ своимъ геніемъ
еще болѣе, чѣмъ своими познаніями. Успокоившись на той мысли, что все совер-
шающееся въ матеріальномъ мірѣ такъ тѣсно связано съ своимъ предыдущимъ, что
составляетъ неизбѣжное послѣдствіе его,—онъ смотрѣлъ истинно научнымъ взгля-
домъ на самыя странныя и самыя причудливыя формы, которыя въ его глазахъ
имѣли свое значеніе, свою необходимую цѣль. Ему онѣ не казались ни странны, ни
причудливы. Онъ видѣлъ въ нихъ уклоненія отъ естественнаго хода; но основной
2) «Прежде чѣмъ мы попытаемся дать понятіе о
животномъ, — говоритъ Гёнтеръ, — необходимо узнать
свойства той матеріи, изъ которой животное состав-
лено; а чтобы лучше узнать животную матерію, необ-
ходимо понимать свойства простой матеріи; ина’щ мы
будемъ часто примѣнять паши понятія о простой ма-
теріи, съ которой мы коротко знакомы, къ матеріи
животной, — ошибка, до сихъ норъ слишкомъ часто
встрѣчавшаяся, которой мы однако должны тщательно
избѣгать»... «Поэтому въ естественной исторіи ра-
стеній н животныхъ необходимо будетъ возвратиться
назадъ къ первоначальной или простой матеріи зем-
ного шара и объяснить ея общія свойства; потомъ
посмотрѣть, въ какой мѣрѣ этп свойства переходятъ
въ растительные и животные организмы, или скорѣе,
пожалуй, въ какой мѣрѣ они пригодны и полезны
і для пхъ дѣятельности»... «Каждое свойство въ чело-
і вѣкѣ уподобляется какому-ппбудь свойству, находя-
' щемуся или въ другомъ животномъ, пли, пожалуй, въ
растеніи, пли даже въ неживой матеріи. Такпмъ обра-
зомъ (человѣкъ) оказывается подходящимъ подъ одинъ
пзь этихъ разрядовъ, въ нѣкоторыхъ частяхъ своихъ».
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ. 611
мыслью его философіи было, что природа даже среди подобныхъ уклоненій все-таки
сохраняетъ своего рода правильность, или, какъ онъ выражается въ другомъ мѣстѣ,
что уклоненіе входитъ при извѣстныхъ обстоятельствахъ въ законъ природы.
Обобщить такія неправильности или, другими словами, доказать, что это вовсе не
неправильности,—было главною задачей всей жизни Гёнтера, прекраснѣйшей частью
его призванія. Вотъ почему, несмотря на его обширные труды по части физіологіи,
любимымъ предметомъ его была патологія, въ которой разсматриваемыя явленія
болѣе сложны и потому представляютъ болѣе простора для ума. На этомъ обширномъ
полѣ онъ изучалъ уклоненія отъ правильности въ формѣ и въ отправленіи какъ въ
растительномъ, такъ и въ животномъ царствѣ 1), и въ то же время при разсмотрѣніи
уклоненій въ формѣ, составляющихъ внѣшнее проявленіе извращеннаго строенія,
онъ принималъ въ разсчетъ явленія, представляемыя царствомъ ископаемымъ. Тамъ
главною чертою является сила кристаллизаціи, а нарушенія симметріи составляютъ
существенный безпорядокъ, утратилъ ли кристаллъ свою форму уже послѣ своего
образованія, или же эта неправильность формы, будучи результатомъ обстоятельствъ,
предшествовавшихъ образованію кристалла, составляетъ въ немъ первоначальный
или, если можно такъ выразиться, врожденный недостатокъ. Въ обоихъ случаяхъ
явленіе это составляетъ уклоненіе отъ нормальнаго типа и имѣетъ, слѣдовательно,
аналогію со всѣми уродливостями какъ животнаго, такъ и растительнаго царства.
Умъ Гёнтера, извѣдавъ такое громадное поле мысли, дошелъ до такой высоты взгля-
довъ въ теоріи болѣзни, что по этой отрасли знанія ому конечно нѣтъ равнаго. Въ
физіологіи съ нимъ равнялся и пожалуй превосходилъ его Аристотель, но, какъ па-
тологъ, онъ остается единственнымъ въ своемъ родѣ, если принять въ соображеніе,
въ какомъ видѣ онъ засталъ патологію никакою она осталась послѣ него. Со вре-
мени его смерти быстрые успѣхи патологической анатоміи и химіи измѣнили нѣко-
торыя изъ его ученій, а иныя и вовсе ниспровергли. Это было дѣломъ людей низ-
шаго разряда, но пользовавшихся болѣе совершенными вспомогательными средствами
химіи и микроскопа. Сказать, что преемники Джона Гёнтера стоятъ ниже его,—ни-
чуть не значитъ дурно отзываться объ ихъ способностяхъ, такъ какъ онъ былъ
одной изъ тѣхъ чрезвычайно рѣдкихъ личностей, которыя появляются послѣ дол-
гихъ промежутковъ времени, и когда появляются, то перестраиваютъ на новый
ладъ все зданіе науки. Онѣ производятъ революцію въ нашемъ образѣ мыслей,
онѣ подстрекаютъ умъ къ возстанію; это—возмутители и демагоги въ наукѣ. Хотя
патологи ХІХ-го столѣтія избрали болѣе скромный путь, это не должно однако
заслонять отъ насъ ихъ заслуги, ни мѣшать нашей благодарности за все, сдѣ-
ланное ими. Тѣмъ не менѣе никогда не будетъ лишнимъ напомнить намъ, что
истинно великіе люди, единственные вѣчные благодѣтели своей породы, это не
великіе производители опытовъ, не великіе наблюдатели, не люди съ большой на-
читанностью, не великіе ученые, — а великіе мыслители. Мысль — это творче-
ское и живительное начало во всѣхъ дѣлахъ человѣческихъ. Дѣянія, факты, вся-
каго рода внѣшнія проявленія часто торжествуютъ па время, но только успѣхъ
идей окончательно рѣшаетъ преуспѣяніе свѣта. Пока онѣ не измѣнятся, всякая
другая перемѣна будетъ* поверхностной и всякое улучшеніе непрочнымъ. Очевидно,
однако, что при настоящемъ состояніи нашего знанія всѣ идеи касательно природы
должны относиться или къ нормальному, или къ анормальному, т. е. должны имѣть дѣло
или съ тѣмъ, что правильно, однообразно и вѣрно признаннымъ началамъ, или же
Ъ Его сочиненія содержатъ нѣсколько любопыт-
ныхъ доказательствъ желанія сго установить связь
между жпвошоп п растительной патологіей; таковы
напримѣръ его замѣчанія: о «мѣстныхъ болѣзняхъ»,
о вліяніи временъ года па зарожденіе болѣзней и о
теоріи воспаленія, обнаруживающагося въ дубовомъ
листѣ. По даже п теперь еще слишкомъ мало знаютъ
! о болѣзняхъ въ растительномъ мірѣ, чтобы можно
I было слить изученіе пхъ съ наукою о болѣзняхъ въ
I мірѣ животномъ; во времена же Гёнтера подобная
попытка еще мепѣс обѣщала успѣха. Все-таки самое
стремленіе показываетъ уже величіе п широкій по-
летъ ума этого человѣка; п хотя онъ не многаго до-
стигъ, по методъ сго быль вѣренъ.
612
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
съ тѣмъ, что неправильно, непослѣдовательно и несогласно съ общими началами.
Изъ этихъ двухъ категорій идей первая принадлежитъ наукѣ, вторая—суевѣрію.
Джонъ Гёнтеръ задумалъ великое дѣло — слить оба рода идей въ одинъ, доказавъ,
что нѣтъ ничего неправильнаго, ничего непослѣдовательнаго, ничего несогласнаго
съ общими началами. Пройдутъ можетъ быть цѣлыя столѣтія, прежде чѣмъ осуще-
ствится этотъ планъ, но то, чтб сдѣлалъ для этого Гёнтеръ, уже ставитъ его во главѣ
всѣхъ патологовъ, какъ древнихъ, такъ и новыхъ. Ибо у него подъ наукой патологіи
разумѣлись законы болѣзни не въ одномъ человѣкѣ, ни въ животныхъ вообще, ни даже
въ цѣломъ органическомъ мірѣ, а законы болѣзни и уродства во всемъ матеріальномъ
мірѣ, какъ органическомъ, такъ и неорганическомъ. Великой задачей его было—по-
строить науку объ анормальномъ. Онъ постановилъ себѣ за правило смотрѣть на при-
роду, какъ на одно громадное цѣлое, представляющее конечно въ различныя времена
различныя явленія, но сохраняющее среди всякихъ перемѣнъ основное начало одно-
образнаго и непрерывнаго порядка, не допускающее никакого уклоненія, не подвер-
гающееся никакому разстройству и не проявляющее никакой дѣйствительной непра-
вильности, хотя для простого глаза неправильности изобилуютъ со всѣхъ сторонъ.
Такъ какъ патологія была наукой, которой наиболѣе предался Гёнтеръ, то въ
ней сильнѣе всего проявлялась и его врожденная страсть къ дедукціи. Здѣсь гораздо
болѣе, чѣмъ въ его физіологическихъ изслѣдованіяхъ, замѣчаемъ мы желаніе съ его
стороны умножать число основныхъ началъ, отъ которыхъ онъ могъ бы вести умо-
заключеніе, въ противность индуктивному методу, всегда стремящемуся уменьшить
число такихъ началъ, посредствомъ постепеннаго, послѣдовательнаго анализа. Такъ,
напримѣръ, въ своей живртной патологіи онъ пытадёя провести, какъ конечное
начало, отъ котораго онъ могъ бы умозаключать далфё, ту мысль, что всѣ болѣзни
(кромѣ рака) развиваются гораздо быстрѣе въ сторойу кожи, чѣмъ въ сторону вну-
треннихъ частей, повинуясь кйкой-то скрытой силѣ, которая заставляетъ также ра-
стенія приближаться къ поверхности земли. Другимъ любимымъ положеніемъ его,
которое онъ часто употреблялъ какъ большую посылку и съ помощью котораго онъ
строилъ дедуктивно патологическое умозаключеніе,—было, что ни въ какомъ веще-
ствѣ, какое бы оно ни было, не могутъ совершаться два процесса въ одной и той
же части въ одно и то же время. Примѣняя это всеобщее положеніе къ болѣе
ограниченнымъ явленіямъ животной жизни, онъ пришелъ къ тому выводу, что
двѣ общія болѣзни не могутъ существовать одновременно въ томъ же недѣлимомъ;
и онъ такъ сильно полагался па это умозаключеніе, что не хотѣлъ вѣрить никакому
свидѣтельству противъ него. Есть однако поводъ думать, что его выводъ ошибоченъ
и что различныя болѣзни могутъ такимъ образомъ сопровождать одна другую, чтобы
совмѣщаться въ одномъ и томъ же недѣлимомъ, въ одно и то же время и въ одной
и той же части его х). Такъ ли оно дѣйствительно, или нѣтъ, но тѣмъ не менѣе инте-
ресно замѣтить тотъ процессъ мышленія, въ силу котораго -Гёнтеръ несравненно
болѣе трудился надъ умозаключеніемъ отъ общей теоріи, чѣмъ надъ умозаключе-
ніемъ, восходящимъ къ ней. Едва-ли даже можно сказать, чтобы онъ вовсе умо-
заключалъ къ теоріи, такъ какъ онъ приходилъ къ ней путемъ рѣзкаго и торопли-
ваго вывода изъ того, что казалось ему очевиднымъ свойствомъ неорганической
матеріи. Прійдя къ ней такимъ образомъ, онъ примѣнилъ ее къ патологическимъ
*) Докторъ Р. Вплліамсъ говоритъ: «различать
подагру отъ ревматизма часто бываетъ чрезвычайно
трудно, до такой стенснн трудно, что посологи устано-
вили смѣшанный классъ—ревматическую подагру. Гёп-
теръ горячо возставалъ противъ этого сложнаго назва-
нія, ибо, по его мнѣнію, никакія двѣ различныя бо-
лѣзни, ни даже различныя расположенія къ болѣзнямъ,
но могутъ совмѣщаться въ одномъ организмѣ,—закопъ,
который, должно еознаться въ томъ, допускаетъ много
исключеній». По мнѣнію другого авторитета, «трудно
сомнѣваться въ томъ, что два и болѣе процесса броже-
I нія часто происходятъ одновременно въ крови и тѣлѣ,—
I фактъ, имѣющій глубокій интересъ для патолога и за-
; служпвающіи внимательнаго изслѣдованія». Паджетъ
1 сдѣлалъ насколько интересныхъ замѣчаній па счетъ
одной части теоріи совмѣщенія дѣйствій; и замѣча-
, нія его, на сколько онъ развилъ ихъ, клонятся къ
і подтвержденію взгляда Гентера, Онъ очень настойчиво
і приводилъ противоположность между ракомъ и дру-
і гими специфическими болѣзнями, и въ особенности
' между расположеніемъ къ раку и расположеніемъ къ
і туберкуламъ.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ. 613
явленіямъ органическаго міра и въ особенности міра животнаго. Что онъ избралъ
такой именно путь, это служитъ любопытнымъ доказательствомъ силы его дедук-
тивныхъ привычекъ и энергіи его ума, давшихъ ему возможность до такой степени
ни во что не ставить преданія своихъ современниковъ въ Англіи, чтобы слѣдовать
методу, который, по мнѣнію всѣхъ окружавшихъ его, не только былъ исполненъ
опасности, но и не могъ никогда привести къ истинѣ.
Другія части его патологіи изобилуютъ подобными же примѣрами, показываю-
щими, до какой степени онъ озабочивался предвзятіемъ основныхъ началъ, на ко-
торыхъ ему можно было бы строить умозаключенія. Въ такомъ родѣ были его идеи
относительно связи между сочувствіемъ и дѣятельностью. Онъ проводилъ мысль, что
самыя простыя формы сочувствія вѣроятно оказались бы въ мірѣ растительномъ,
потому что въ немъ общій строй менѣе запутанъ, чѣмъ въ мірѣ животномъ. На
этомъ предположеніи онъ построилъ цѣлый рядъ любопытныхъ и утонченныхъ умо-
зрѣній, изъ которыхъ однако я долженъ ограничиться лишь весьма краткимъ извле-
ченіемъ. Въ животныхъ болѣе сочувствія^ чѣмъ въ растеніяхъ; изъ этого намъ легко
понять, почему и движенія ихъ многочисленнѣе. Ибо сочувствіе есть воспріимчи-
вость къ впечатлѣнію, а, слѣдовательно, и побудительная причина къ дѣйствію. Какъ
и всѣ другія причины дѣйствія, сочувствіе можетъ быть или естественное, или бо-
лѣзненное. Но какое бы оно ни было, развитіе его въ растеніяхъ возможно только
однимъ путемъ, ибо въ нихъ на него могутъ имѣть вліяніе только возбужденія,
между тѣмъ какъ въ животныхъ, способныхъ къ ощущенію, оно по необходимости
развивается троякимъ путемъ: отъ возбужденій, отъ ощуіценія и отъ того и другого
вмѣстѣ. Это самыя широкія Дѣленія сочувствія, представдйющіяся намъ при взглядѣ
на органическій міръ, какъ на ддноэдѣлоел-Въ отдѣльныхъ случаяхъ однако со-
чувствіе допускаетъ и дальнѣйшія подраздѣленія. Мы можемъ умозаключать отъ
него, соображаясь съ возрастомъ индивидуума, можемъ также умозаключать, сообра-
жаясь съ темпераментомъ, ибо на самомъ дѣлѣ темпераментъ есть не что иное, какъ
воспріимчивость къ дѣйствію. И когда сочувствіе находится въ дѣйствіи, мы мо-
жемъ, анализируя наше представленіе о немъ, подвести его подъ пять различныхъ
категорій, можемъ признать его: или непрерывнымъ, илич смежнымъ, или отдален-
нымъ, или сходнымъ, или несходнымъ. Все это давало Гёптеру общія начала, исходя
отъ которыхъ, путемъ дедуктивнаго умозаключенія, онъ пытался объяснить факты
болѣзни; ибо, по его мнѣнію, болѣзнь есть не болѣе какъ недостатокъ должнаго
сочетанія дѣйствій. Подъ вліяніемъ этого процесса мысли онъ пренебрегъ тѣми
предрасполагающими причинами, на которыя индуктивные патологи обращаютъ боль-
шое вниманіе и которыя занимали важное мѣсто въ сочиненіяхъ его современни-
ковъ въ Англіи. Такія причины могли быть обобщены только путемъ наблюденія, и
Гёнтеръ нисколько не принималъ ихъ въ разсчетъ. Онъ даже отрицаетъ существованіе
ихъ въ дѣйствительности и утверждаетъ, что предрасполагающая причина это не
болѣе какъ усиленная воспріимчивость къ полученію расположенія къ дѣйствію.
Умозаключая отъ этихъ двухъ идей,—отъ идеи дѣйствія и идеи сочувствія,—
Гёнтеръ построилъ дедуктивную или синтетическую часть своей патологіи. Онъ по-
ступилъ въ этомъ случаѣ, какъ шотландецъ; и еслибъ онъ всегда жилъ въ Шотлан-
діи, то онъ вѣроятно на этомъ и остановился бы. Но, проведя сорокъ лѣтъ въ кругу
англичанъ и набравшись умомъ англійскихъ привычекъ, онъ пріобрѣлъ отчасти и
англійскій складъ мысли. Поэтому мы находимъ, что значительная часть его пато-
логіи такъ индуктивна, какъ только могъ желать этого и самый ревностный ученикъ
Бэкона, и представляетъ въ этомъ отношеніи разительную противоположность съ
чисто синтетическимъ методомъ Кёллена, другого великаго шотландскаго патолога.
Однако этой попыткой смѣшать оба метода Гёнтеръ одинаково сбивалъ съ толку
и самого себя, и своихъ читателей. Отсюда происходила та темнота мысли, которую
замѣчали и самые жаркіе поклонники его, хотя они и не сознавали ея причины.
Какъ ни были велики его силы, онъ все-таки не могъ достигнуть полнаго сліянія
индукціи; и никто не удивится этому, если только припомнить, какую неудачу пре-
614
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
терпѣли въ этомъ труднѣйшемъ изъ всѣхъ предпріятій нѣкоторые изъ величайшихъ
мыслителей. Между древними Платону, а съ нимъ и всѣмъ его послѣдователямъ
не далась индукція; никто изъ нпхъ не имѣлъ достаточнаго довѣрія къ фактамъ и
къ процессу умозаключенія отъ частнаго къ общему. Между новѣйшими же мысли-
телями Бэкону не доставало дедукціи, и тотъ же недостатокъ замѣчался во всѣхъ
бэконіанцахъ; существенно слабой стороной этой школы было то, что она гнуша-
лась умозаключенія отъ общихъ положеній и слишкомъ низко ставила силлогизмъ.
Можно даже усомниться въ томъ, найдется ли во всемірной исторіи болѣе двухъ
примѣровъ того, чтобы естествоиспытатель былъ одинаково великъ и въ томъ, и
въ другомъ образѣ изслѣдованія. Эти двое были Аристотель и Ньютонъ; они вла-
дѣли обоими методами съ одинаковой легкостью, соединяя ловкость и смѣлость де-
дукціи съ осмотрительностью и выдержанностью индукціи; они одинаково мастерски
справлялись какъ съ синтезомъ, такъ и съ анализомъ, одинаково были способны
какъ къ нисхожденію отъ общаго къ частному, такъ и къ восхожденію отъ частнаго
къ общему, то предпосылая идеи фактамъ, то факты—идеямъ, но никогда не колеб-
лясь, никогда не сомнѣваясь въ выборѣ пути и никогда не допуская, чтобы кото-
рая-либо изъ двухъ системъ умозаключенія брала недолжный перевѣсъ надъ проти-
воположною ей. Что Гейтеръ не былъ въ состояніи сдѣлать то же самое, это только
служитъ доказательствомъ, что онъ не доросъ до этихъ двухъ мыслителей, изъ ко-
торыхъ каждый, по своимъ почти неимовѣрнымъ дѣяніямъ, имѣетъ право назваться
чудомъ человѣческой породы. Но и то, чтб сдѣлалъ Гёнтеръ, было удивительно, и
ему также въ его отрасли изслѣдованія еще не было до сихъ поръ равнаго.
Очеркъ характера и объейа его изысканій, представлецйый мною выше, при всемъ
несовершенствѣ своемъ можетъ все-таки послужить къ/уяспслію антагонизма между
шотландскимъ и аиглійскпмъЧумами, показавъ, какимѣ образомъ методы, свойствен-
ные каждой изъ этихъ двухъ націй, оспаривали другъ у друга право на преобла-
даніе въ этомъ великомъ умѣ, находившемся подъ вліяніемъ обѣихъ системъ. Какой
именно изъ методовъ преобладалъ у Гёнтера, сказать довольно трудно, но то до-
стовѣрно, что борьба между ними смущала его умъ. Достовѣрно также, что, благо-
даря своей любви къ дедукціи или къ умозаключенію отъ общихъ идей, опъ имѣлъ
гораздо менѣе вліянія на своихъ современниковъ въ Англіи, чѣмъ имѣлъ бы въ
томъ случаѣ, если бы онѣ исключительно слѣдовалъ ихъ любимому методу умозаклю-
ченія отъ частныхъ фактовъ. Отсюда происходила несоразмѣрность между его зна-
ченіемъ и его заслугами. Что касается его заслугъ, то теперь признано, что, неза-
висимо отъ его физіологическихъ открытій и предложенныхъ имъ важныхъ патоло-
гическихъ воззрѣніи, мы можемъ приписать ему почти всѣ усовершенствованія,
какія были сдѣланы въ хирургіи въ теченіе около сорока дѣтъ по сго смерти (у 1793 г.).
Онъ первый объяснилъ и даже первый призналъ болѣзнь воспаленія венъ, которая
случается довольно часто и была послѣднее время очень много изучаема подъ име-
неміэ РЫеЪіііз, до него же была приписываема совершенно ложнымъ причинамъ.
На воспаленіе вообще онъ пролилъ такой свѣтъ, что ученія, которыя онъ защи-
щалъ и которыя были тогда поднимаемы на смѣхъ, какъ причудливыя нововведе-
нія, теперь преподаются въ школахъ и перешли въ число обыкновенныхъ преданій
медицинской профессіи *). Онъ ввелъ кромѣ того вч> хирургію едва-ли не самое ка-
Э «Обращеніе къ философскимъ началамъ въ
сочиненіяхъ Гйнтера было, правда, причиною того,
что они оказывались нераскрытою книгою для его
менѣе просвѣщенныхъ современниковъ; но хотя общія
начала, предполагаемыя плп прямо высказанныя въ
этихъ сочиненіяхъ, навлекли на нихъ презрѣніе лю-
дей, менѣе проникнутыхъ духомъ философіи, все-таки
выводы изъ этихъ началъ, какъ оправданные фактами,
постепенно и нечувствительно проникали въ убѣ-
жденіе писателей спеціалистовъ; хотя опп принимали
ихъ молча, безъ прямого признанія, какъ будто бы
сами не знали, откуда брали пхъ, тѣмъ пе менѣе
выводы эти составляютъ теперь главное основаніе
всѣхъ книгъ, трактатовъ и лекцій по медицинскимъ
предметамъ». (Сгееп’$ «Ѵйаі Въ заключе-
ніе приведу свидѣтельство Симона, который въ своемъ
мастерскомъ, превосходномъ изслѣдованіи о воспале-
ніи не только свелъ въ одно мѣсто почти все, ччо
извѣстно объ этомъ интересномъ предметѣ, но и до-
казалъ, что опъ самъ владѣетъ силой обобщенія,
рѣдкою въ медикахъ и даже въ любой профессіи.
«Англичанинъ можетъ съ радостью сказать безъ
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
615
витальное усовершенствованіе, какое случалось когда-либо сдѣлать одному человѣку,
а именно перевязываніе, въ аневризмЬ, артеріи на нѣкоторомъ разстояніи отъ по-
раженнаго мѣста. Одна эта догадка спасла жизнь тысячи людей; и какъ самой до-
гадкой, такъ и первымъ удачнымъ примѣненіемъ ея мы вполнѣ обязаны Джону Гён-
теру, который, еслибы даже не сдѣлалъ ничего другого, то уже за это одно имѣлъ бы
право быть причисленнымъ къ величайшимъ благодѣтелямъ рода человѣческаго *)•
Но собственно для непосредственной репутаціи его все это было напрасно.
Онъ жилъ среди людей, не имѣвшихъ никакого сочувствія къ тому процессу мыш-
ленія, который былъ наиболѣе свойственъ ему. Они ни во что не ставили идей,
если только идеи эти не согласовались съ видами прямой, осязательной пользы; онъ
же дорожилъ идеями ради ихъ самихъ, ради заключающейся въ нихъ истины, не-
зависимо отъ всякихъ другихъ соображеній. Современники его въ Англіи, люди
благоразумные и смѣтливые, но близорукіе, видящіе не много вещей заразъ, но
видящіе ихъ съ удивительною ясностью, были не въ состояніи оцѣнить его много-
объемлющія умозрѣнія* Поэтому въ ихъ глазахъ онъ былъ не болѣе, какъ ново-
вводитсль, какъ человѣкъ восторженный. По этому самому даже введенныя имъ
практическія усовершенствованія были приняты холодно, какъ проистекающія изъ
такого подозрительнаго источника. Великій шотландецъ, брошенный въ среду на-
рода, умственныя привычки котораго не подходили къ его привычкамъ, стоялъ, го-
воритъ одинъ изъ знаменитѣйшихъ учениковъ его, въ положеніи одинокаго, без-
отраднаго превосходства 2). Дѣйствительно, такъ мало обращали на него вниманія
даже люди той самой профессіи, которой онъ былъ лучшимъ украшеніемъ, что
въ продолженіе многихъ лѣтъ, когда онъ читалъ лекціи въ Лондонѣ объ анатоміи и
хирургіи, число его слушателей ни разу пе доходило дб двадцати человѣкъ.
Я окончилъ теперь свой разборъ умственнаго движенія въ Шотландіи въ XVII
и XVIII столѣтіяхъ. Различіе между этими двумя періодами должно поразить вся-
каго читателя. Въ ХѴШ столѣтіи способнѣйшіе шотландцы тратили свои силы на
излишняго пристрастія, что спеціальное изученіе вос-
паленія начинается съ трудовъ Джона Гёнтера. Бу-
дучи неутомимымъ наблюдателемъ/ свободнымъ отъ
вліянія школьной рутины, и совершеннымъ скепти-
комъ по своему методу изученія, и обладая обшир-
нымъ умомъ, — пашъ хирургъ приступилъ къ изслѣ-
дованію воспаленія съ полнымъ сознаніемъ физіоло-
гической важности своей задачи. Онъ видѣлъ, что
для того, чтобы понять воспаленіе, онъ долженъ раз-
сматривать его пе какъ одиночный фактъ болѣзни, а
въ связи съ однородными явленіями, изъ которыхъ
иныя имѣютъ дѣйствительно болѣзненный характеръ,
многія же соединяются и съ здоровымъ состояніемъ.
Онъ видѣлъ, что для всякаго, кто бы захотѣлъ объяс-
нить воспаленіе, всѣ неуравнительностп въ снабженіи
кровью, всѣ періодическія явленія роста, всѣ дѣй-
ствія сочувствія, — все это входитъ въ задачу, подле-
жащую разрѣшенію г...
«Его нельзя понять, если но вдуматься въ него
болѣе, чѣмъ сколько способны къ тому обыкновен-
ные читатели: и только тѣ, которые рады добиваться
сквозь оболочку неяснаго слога того именно, что опъ
дѣйствительно хотѣлъ сказать, — могутъ узнать, съ
какимъ великимъ мастеромъ опи имѣютъ дѣло... Не-
сомнѣнно, что онъ былъ великъ по своимъ откры-
тіямъ. Но англійская хирургія навѣки обязана ему
именно за тотъ духъ, которымъ проникнуты его труды,
п даже въ большей мѣрѣ, чѣмъ за введеніе новыхъ
ученій. Но части фактовъ патологіи, онъ, пожалуй,
не можетъ быть постоянно учителемъ, но для изу-
чающихъ медппппу онъ всегда останется благород-
нымъ образцомъ для подражанія. Можно сказать о
немъ, выражаясь нѣсколько изысканно, что опъ былъ
физіологъ-хирургъ. Другіе до него (Галенъ, напри-
мѣръ, въ особенности) были въ одно и то же время
физіологами п практическими врачами, по у нихъ
наука мало приходила въ соприкосновеніе съ практи-
кою. Никогда еще физіологія не была такъ слита съ
хирургіей, никогда не была опа такъ примѣняема къ
изслѣдованію болѣзни и къ преподанію средствъ ле-
ченія, какъ у этого великаго нашего мастера. II ему
именно (насколько можно быть лично кому-либо обя-
заннымъ въ этого рода вещахъ) мы конечно обязаны
тѣмъ, что въ основаніе англійской хирургіи легла
вмѣсто эмпиризма паука».
' *) Г. Бауманъ въ своихъ «Ргіпсіріез оГ Зиг^егу»
1 говоритъ: «до Гёнтера операція въ аневризмѣ со-
। стояла въ томъ, что дѣлали разрѣзъ самаго вздутія
и перевязывали сосудъ сверху и снизу. Этотъ образъ
дѣйствія былъ такъ страшенъ по свопмъ послѣд-
ствіямъ, что часто предпочитали отнятіе самаго члена,
какъ мѣру менѣе опасную и гибельную. Геній же
Гёнтера навелъ ого на мысль: въ подколѣнномъ анев-
ризмѣ перевязывать бедряпую артерію, пе касаясь
самаго вздутія. Безопасность и дѣйствительность этого
способа дѣлать операцію теперь вполнѣ доказаны, п
правило это распространено на всѣ операціи, имѣю-
щія предметомъ излеченіе отъ этой страшной бо-
лѣзни ».
2) «Тѣ, которые далеко опережаютъ другихъ,
должны но необходимости стоять одинокими; и дѣй-
ствія ихъ часто кажутся необъяснимыми, даже сума-
і сбродными для тѣхъ, которые слѣдуютъ позади пхъ
і па большомъ разстояніи, которые пе знаютъ ни по-
I родившей эти дѣйствія причины, ни имѣющихъ нрои-
; зоіігп отъ нихъ послѣдствій. Въ такомъ положеніи
стоялъ д-ръ Гёнтеръ относительно своихъ современ-
никовъ. То было безотрадное передовое положеніе,
| ибо оно лишало его сочувствія и содѣйствія со сто-
роны общества» (АЬегпеіІіу’з «Ишііегіап Огаііоп»).
616
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
теологическіе предметы, относительно которыхъ мы не имѣемъ достовѣрныхъ свѣ-
дѣній, ни возможности собрать ихъ. По этого рода вопросамъ разныя лица и раз-
ныя націи, одинаково честныя, одинаково просвѣщенныя и одинаково способныя
судить о нихъ, — имѣли и теперь еще имѣютъ самыя различныя мнѣнія, которыя
они защищаютъ съ величайшей увѣренностью и подкрѣпляютъ доводами, вполнѣ
удовлетворительными для нихъ самихъ, но презрительно отвергаемыми ихъ против-
никами. Каждая изъ спорящихъ сторонъ признаетъ истину за собой; поэтому без-
пристрастному изслѣдователю, т. е. тому, кто дѣйствительно любитъ истину и знаетъ,
какъ трудно она достается, — приходится искать какихъ-нибудь средствъ добросо-
вѣстно разобрать эти сталкивающіяся притязанія и рѣшить, которыя изъ нихъ правы,
а которыя нѣтъ. Чѣмъ далѣе онъ заходитъ въ своихъ розыскахъ, тѣмъ болѣе онъ
убѣждается, что такихъ средствъ не существуетъ и что этого рода вопросы если
и не выходятъ вообще изъ границъ человѣческаго разума, то во всякомъ случаѣ
превышаютъ его настоящія средства и не подаютъ никакой надежды на разрѣше-
ніе, до тѣхъ поръ, пока еще не рѣшены другія, болѣе простыя задачи. Странно
было бы въ самомъ дѣлѣ, еслибы мы, незнакомые со столькими вещами меньшей,
второстепенной важности, были въ состояніи открыть и разгадать эти отдаленныя
и сложныя тайны. Странно было бы, если бы намъ, которые, несмотря на всѣ
сдѣланные нами успѣхи, находимся еще только въ началѣ нашего пути и которые,
подобно дѣтямъ, можемъ ходить только не твердою поступью и едва въ состояніи
двигаться, не спотыкаясь, даже по гладкой и ровной почвѣ,—еслибы намъ все-таки
удалось взобраться на тѣ одуряющія высоты, которыя, нависая надъ нашей доро-
гой, манятъ насъ туда, гдѣ\насъ ждетъ вѣрное паденіе/ Но, по несчастью, люди
во всѣ времена такъ мало сознаютъ свои слабости^ что не только берутся за это
невозможное дѣло, но даже быраютъ^увѣрены^ что совершили его. Между людьми,
сдѣлавшимися добычей подобнаго обольщенія, есть всегда извѣстное число такихъ,
которые, ставъ на эту воображаемую высоту, до такой степени увлекаются своимъ
мнимымъ превосходствомъ, что берутся поучать, увѣщевать и порицать остальное
человѣчество. Выдавая себя за духовныхъ совѣтниковъ, за преподавателей того,
что они сами еще не изучили, они представляютъ собойч самое прочное изъ соче-
таній—соединеніе страшнаго невѣжества съ страшнымъ высокомѣріемъ. Изъ этого
неизбѣжно вытекаютъ другія два зла. Невѣжество порождаетъ суевѣріе, а высоко-
мѣріе порождаетъ тираннію* Вотъ почему въ странѣ, какъ Шотландія, гдѣ подъ
продолжительнымъ гнетомъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ окрѣпла власть этихъ
мнимыхъ мудрецовъ,—во всемъ замѣчаются такія грустныя послѣдствія. Не только
національный характеръ, но и національная литература отзываются ихъ вліяніемъ,
носятъ на себѣ ихъ отпечатокъ. Поэтому естественно, что въ Шотландіи въ XVII
столѣтіи, когда власть духовенства была совершенно неоргапиченна, послѣдствія
такого порядка вещей обнаружились особенно явственно. Естественно, что образо-
валась такая литература, какъ та, которой характеръ я изобразилъ уже выше;—
литература, поощрявшая суевѣріе, вѣронетерпимость и ханжество; — литература,
полная мрачныхъ опасеній и еще болѣе мрачныхъ угрозъ; — литература, поучав-
шая людей, что грѣшно наслаждаться настоящимъ и праведно трепетать передъ
будущимъ; словомъ,—литература, которая, разливая повсюду мракъ, окисляла нравъ,
извращала чувства, обезпечивала умъ и совершенно роняла въ глазахъ людей тѣ смѣ-
лыя и оригинальныя изслѣдованія, безъ которыхъ невозможенъ успѣхъ въ человѣче-
скомъ знаніи, а, слѣдовательно, невозможно и увеличеніе человѣческаго благосостоянія.
Всему этому литература ХѴШ столѣтія представляла разительную противополож-
ность. Казалось, будто все мгновенно измѣнилось. Бальи, Бинипги, Диксоны, Дёрамы,
Флеминги, Фрэзеры, Джиллеспи, Гёттри, Галибёртоны, Гендерсоны, Рётерфорды и вся
эта монашеская братія были смѣнены замѣчательными, смѣлыми мыслителями; ихъ
геній озарилъ всѣ отрасли знанія, ихъ умы, свѣжіе и бодрые, какъ утро, нашли себѣ
новое поприще и обезпечили своему отечеству почетное мѣсто въ лѣтописяхъ евро-
пейскаго ума. Кое-что изъ сдѣланнаго ими я уже пытался разсказать; многое однако
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ XVIII СТОЛ.
617
осталось недосказаннымъ. Но я достаточно привелъ доказательствъ, чтобы убѣдить
даже читателя съ особенно скептическимъ настроеніемъ въ блистательности ихъ по-
двиговъ и въ существованіи различія между созданной ими дивной литературой и
жалкими произведеніями, обезобразившими предшествовавшее столѣтіе.
Но какъ ни велико было различіе между этими двумя литературами, все-таки
онѣ имѣли, какъ я уже доказалъ, одну важную черту, общую имъ обѣимъ. Обѣ были
существенно дедуктивны; и доказывая это, я вдавался въ довольно большія подроб-
ности, потому что, сколько мнѣ извѣстно, обстоятельство это ускользнуло отъ внима-
нія всѣхъ предшествовавшихъ изслѣдователей, а между тѣмъ послѣдствія его имѣли
первостепенную важность для судьбы Шотландіи, и кромѣ того оно исполнено инте-
реса для тѣхъ, которые въ изслѣдованіи дѣлъ человѣческихъ желаютъ проникнуть
нѣсколько глубже самой поверхности, самыхъ наружныхъ признаковъ вещей.
Если мы бросимъ общій взглядъ на тѣ страны, въ которыхъ разрабатывалась
наука, то найдемъ, что вездѣ, гдѣ только преобладалъ дедуктивный методъ изслѣ-
дованія, знаніе хотя часто возрастало и накоплялось, но никогда не бывало ши-
роко распространено. Мы найдемъ съ другой стороны, что когда преобладалъ индук-
тивный методъ, то знаніе бывало значительно распространено или по крайней мѣрѣ
несравненно болѣе, чѣмъ во время перевѣса дедукціи. Замѣчаніе это вѣрно не
только для различныхъ странъ, но и для различныхъ періодовъ въ одной и той же
странѣ. Оно вѣрно даже для различныхъ индивидуумовъ, живущихъ въ одинъ и
тотъ же періодъ въ одной и той жо странѣ. Еслибы въ какой-нибудь цивилизо-
ванной націи два человѣка, одинаково даровитые, предъявили какой-нибудь новый
поразительный выводъ, и одинъ изъ этихъ людей сталт/защищать свой выводъ по-
средствомъ умозаключенія отъ идей или общихъ началъ, а другой — посредствомъ
умозаключенія отъ частныхъ, видимыхъ фактовъ, —то не можетъ быть никакого
сомнѣнія, что при равенствѣ всѣхъ другихъ условій послѣдній пріобрѣлъ бы болѣе
сторонниковъ. Его выводъ легче распространился бы единственно потому, что пря-
мое обращеніе съ перваго же раза къ осязательнымъ фактамъ производитъ не-
медленное дѣйствіе на массу; между тѣмъ какъ обращеніе къ началамъ выходитъ
изъ круга ея понятій, и такъ какъ опа не сочувствуетъ подобному пріему, то она
склонна поднять его на смѣхъ. Факты, повидимому, для всякаго ясны,—они непре-
ложны. Начала же не такъ очевидны и, будучи часто оспариваемы, становятся для
тѣхъ, кто не усвоиваетъ ихъ себѣ, чѣмъ-то недѣйствительнымъ, какимъ-то обольще-
ніемъ,—и это ослабляетъ ихъ вліяніе. Вотъ почему индуктивная наука, въ которой
первое мѣсто вездѣ занимаютъ факты, бываетъ по преимуществу популярна и
имѣетъ на своей сторонѣ безчисленное множество такихъ людей, которые не ста-
нутъ слушать самыхъ хитрыхъ и тонкихъ доводовъ дедуктивной науки. Вотъ почему
также мы видимъ изъ исторіи, что введеніе новѣйшей индуктивной философіи, съ
ея разнообразными и заманчивыми опытами, ея матеріальными примѣненіями и ея
постояннымъ обращеніемъ къ чувствамъ, было тѣсно связано съ пробужденіемъ
общественнаго духа и совпадало съ возникновеніемъ того духа изслѣдованія и той
любви къ свободѣ, которые, начиная съ XVI столѣтія, постоянно развивались. Мы
можемъ съ увѣренностью сказать, что скептицизмъ и демократическое направленіе
составляютъ двѣ главнѣйшія черты этого великаго научнаго движенія, Семнадцатое
столѣтіе, которое ввело бэконовскую философію, было замѣчательно своимъ духомъ
неподчиненности, въ особенности въ странѣ, гдѣ родилась эта философія и гдѣ она
наиболѣе процвѣтала. Въ слѣдующемъ вѣкѣ она была перенесена во Францію и
тамъ также подѣйствовала на духъ народа, и была, какъ я уже замѣтилъ, одною
изъ главнѣйшихъ причинъ французской революціи.
Если мы вникнемъ еще глубже въ этотъ интересный вопросъ, то найдемъ
дальнѣйшее подтвержденіе того взгляда, что выводы индуктивной философіи легче
распространяются въ массѣ, чѣмъ заключенія дедуктивныя. Индуктивная наука опи-
рается прямо на испытаніе или по крайней мѣрѣ на научный опытъ, который
есть не что иное, какъ искусственно устроенное испытаніе. Затѣмъ огромное боль-
618
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ніинство людей даже въ самыхъ передовыхъ странахъ бываетъ по своему умствен-
ному складу неспособно усвоивать себѣ общія начала и примѣнять ихъ къ еже-
дневнымъ дѣламъ, не причиняя серьезнаго вреда ни себѣ самимъ, ни кому-либо дру-
гому. Такое примѣненіе требуетъ не только большого искусства, но также и знанія
тѣхъ постороннихъ причинъ, которыя бываютъ помѣхой дѣйствію всякаго общаго
закона. На такое трудное дѣло рѣдко кто рѣшается; и люди средней руки, обла-
дающіе мало-мальски здравымъ смысломъ, полагаются главнѣйшимъ образомъ на
опытъ, который служить имъ болѣе надежнымъ и полезнымъ руководителемъ, чѣмъ
какое-либо общее правило, какъ бы оно ни было точно и согласно съ наукой. Это
порождаетъ въ нихъ предубѣжденіе въ пользу изслѣдованія на опытѣ и соотвѣт-
ствующее нерасположеніе къ методу противоположному, болѣе умозрительному. И,
мнѣ кажется, едва-ли можно сомнѣваться, что одною изъ причинъ торжества бэко-
новской философіи было возрастаніе промышленныхъ классовъ, дѣловое, положи-
тельное направленіе которыхъ въ высшей степени благопріятно для эмпирическихъ
наблюденій надъ однообразіемъ послѣдствій, такъ какъ отъ точности подобныхъ наблю-
деній зависитъ дѣйствительно успѣхъ во всѣхъ практическихъ дѣлахъ. Мы находимъ,
конечно, что паденіе чисто дедуктивнаго схоластицизма среднихъ вѣковъ вездѣ сопро-
вождалось распространеніемъ торговли; и всякій, кто станетъ тщательно изучать исто-
рію Европы, найдетъ много слѣдовъ существованія связи между этими двумя движе-
ніями, которыя оба отмѣчены возрастающимъ уваженіемъ къ матеріальнымъ, эмпири-
ческимъ интересамъ и пренебреженіемъ къ занятіямъ идеальнымъ, умозрительнымъ.
п-------— ----- — -давленіемъ индукціи—оче-
ѣгся по малой мѣрѣ сто че-
Точпые наблюдатели конечно рѣдки, но точные
Отношеніе между всѣмъ этимъ и популярнымъ напр;
видно. На одного человѣка, способнаго мыслить, приходуй
ловѣкъ, способныхъ наблюдать. _________
мыслители еще рѣже. Это подтверждается такимъ множествомъ доказательствъ, что
тутъ не можетъ быть и спораДДѢйствительно, всякій, кому только случалось встрѣ-
чаться съ своими собратіями, долженъ былъ впдѣть, до какой степени имъ свой-
ственнѣе наблюдать, чѣмъ размышлять, и какъ рѣдко случается встрѣтить кого-ни-
будь, чей разговоръ или чьи сочиненія носили бы отпечатокъ терпѣливаго, свое-
образнаго мышленія. И такѣ какъ мыслители болѣе дклонны накоплять идеи, а
наблюдатели—накоплять факты, то рѣшительное преобладаніе наблюдающихъ клас-
совъ составляетъ положительную причину того, что индукція, начинающая съ фак-
товъ, всегда популярнѣе дедукціи, начинающей съ идей* Часто говорятъ, и по всей
вѣроятности не безъ основанія, что всякой дедукціи предшествуетъ индукція; такъ
что въ каждомъ силлогизмѣ большая посылка, какъ бы она ни казалась очевидной
и необходимой, есть не болѣе какъ обобщеніе фактовъ или выводъ изъ того, что
было уже наблюдено чувствами. Но это мнѣніе, справедливо оно, или несправедливо,
нисколько не относится къ только-что сказанному мною, такъ какъ оно касается
происхожденія нашего знанія, а пе дальнѣйшей разработки его, т, е. составляетъ
скорѣе метафизическое, чѣмъ логическое мнѣніе. Ибо, если даже предположить, что
всякая дедукція на повѣрку оказывается опирающеюся па индукцію,—все-таки досто-
вѣрно, что въ безчисленномъ множествѣ случаевъ подобная индукція происходитъ
въ такой ранній періодъ жизни, что мы не сознаемъ ея и никакъ не можемъ вос-
произвести ея процессъ. Геометрическія аксіомы представляютъ лучшій образчикъ
этого. Никто не въ состояніи сказать, когда и какъ онъ впервые убѣдился, что
цѣлое больше своей части илп что вещи равныя одному и тому же—равны и между
собой. Всѣ эти предварительные шаги сокрыты отъ насъ, а сила и ловкость дедукціи
проявляется уже въ послѣдующихъ пріемахъ, съ помощью которыхъ большая по-
сылка приспособляется и какъ бы пригоняется къ меньшей. Для этого часто тре-
буется большая тонкость мысли, и при всякомъ такомъ случаѣ внѣшній міръ отла-
гается въ сторону и теряется пзъ виду. Процессъ этотъ, будучи идеальнымъ, не
имѣетъ ничего общаго ни съ наблюденіями, ни съ опытами. Внушенія чувствъ тутъ
не допускаются, а между тѣмъ умъ проходитъ черезъ рядъ послѣдовательныхъ сил-
логизмовъ, въ которомъ каждое заключеніе обращается въ большую посылку новаго
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ Х^Ш СТОЛ. 619
аргумента, пока наконецъ не получится дедуктивно такой выводъ, который всякому,
кто только услышитъ его, покажется не имѣющимъ никакой связи съ первыми по-
сылками, хотя въ дѣйствительности будетъ необходимымъ послѣдствіемъ ихъ.
Методъ, такой таинственный, до такой степени скрывающійся отъ всеобщаго
взора, никогда но можть вызвать всеобщаго сочувствія. Поэтому^ если только не
произойдетъ какой-нибудь замѣчательной перемѣны въ самомъ существѣ человѣче-
скаго ума или въ тѣхъ средствахъ, ноторъххп онъ располагаетъ, — чувственный,
наглядный процессъ восхожденія отъ частныхъ фактовъ къ общимъ ШММЖ
ѣудстъ идеальнаго процесса нисхожденія отъ началъ къ фактамъ. Въ
обоихъ случаяхъ строится конечно рядъ умозаключеній, существенно идеальныхъ;
въ обоихъ также случаяхъ образуется совокупность фактовъ существенно чувствен-
ныхъ, наглядныхъ. Нп одинъ изъ этихъ методовъ не есть чисто своеобразный. Но
такъ какъ въ индукціи факты болѣе выдаются впередъ, чѣмъ идеи, а въ дедукціи идеи
болѣе бросаются въ глаза, чѣмъ факты, то очевидно, что выводы, получаемые пер-
вымъ путемъ, встрѣтятъ, вообще говоря, болѣе полное одобреніе, чѣмъ получаемые
вторымъ. Встрѣтивъ болѣе полное одобреніе, они произведутъ и болѣе рѣшительное
дѣйствіе и скорѣе повліяютъ на характеръ націи и отразятся на ходѣ ея дѣлъ.
Единственное исключеніе изъ этого составляетъ теологія. Въ ней, какъ я уже
замѣтилъ, индуктивный методъ непримѣнимъ, и одна только дедукція можетъ удо-
влетворять цѣлямъ теолога. У него есть особый источникъ, снабжающій его общими
началами, отъ которыхъ онъ можетъ умозаключать, и обладаніе этимъ вспомогатель-
нымъ средствомъ составляетъ основное различіе между нимъ и человѣкомъ науки.
Наука есть результатъ изслѣдованія; теологія — результатъ вѣры. Въ одной — духъ
сомнѣнія, въ другой — духъ вѣры. Въ наукѣ своеобразность воззрѣнія ведетъ къ
открытію и составляетъ, слѣдовательно*, заслугу; въ теологіи же она ведетъ къ ереси
и поэтому составляетъ преступленіе/ Всѣ системы 'религіи, какія видалъ до сихъ
поръ свѣтъ, признаютъ вѣру за непремѣнную обязанность; въ системахъ же науки
приниманіе на вѣру — не обязанность, а помѣха, такъ какъ оно не даетъ устано-
виться той привычкѣ къ изслѣдованію и нововведеніямъ, отъ которой зависитъ вся-
кій умственный прогрессъ. Такимъ образомъ теологъ, возводящій легковѣріе въ за-
слугу и цѣнящій людей по ихъ простотѣ и склонности всему вѣрить, мало имѣетъ
нужды безпокоиться о фактахъ, съ которыми опъ даже прямо идетъ въ разрѣзъ,
въ своемъ рвеніи повѣствовать чудовищныя п нерѣдко чудесныя явленія. Индук-
тивному же философу это не позволяется. Онъ обязанъ основывать свои выводы
на фактахъ, которые никѣмъ но оспорены или которые по крайней мѣрѣ всякій
можетъ повѣрить самъ лично или чрезъ посредство другихъ. А если онъ не послѣ-
дуетъ этому пути, то его выводы, будь опи сколько угодны вѣрны, съ большимъ тру-
домъ проникнутъ въ сознаніе народа, потому что они будутъ отзываться тою утончен-
ностью и изысканностью мысли, которая болѣе чѣмъ что-либо другое предраспо-
лагаетъ обыкновенные умы отвергать заключенія, выведенныя философами.
Изъ фактовъ и аргументовъ, содержащихся въ настоящей главѣ и въ преды-
дущей, читатели, я надѣюсь, будутъ въ состояніи усмотрѣть, почему направленіе
шотландскаго ума въ семнадцатомъ и въ восемнадцатомъ столѣтіяхъ было по пре-
имуществу дедуктивное; а также почему въ восемнадцатомъ вѣкѣ шотландская ли-
тература при всемъ своемъ блестящемъ развитіи и при всей своей силѣ, несмотря
на величіе и важность выработанныхъ въ ней открытій, имѣла весьма мало или
даже вовсе пе имѣла вліянія на массу народа. По своей смѣлости и своему нова-
торскому характеру литература эта была, повидимому, особенно приспособлена къ
тому, чтобы разбивать устарѣлые предразсудки и возбуждать духъ пытливости. По
въ ней способъ изслѣдованія и доказательства былъ слишкомъ утонченъ для умовъ
средней руки и потому не имѣлъ дѣйствія на такіе умы. Въ Шотландіи, точно
такъ же, какъ въ древней Греціи и какъ въ новѣйшей Германіи, мыслящіе классы
вслѣдствіе своего чисто дедуктивнаго строя мышленія не въ состояніи были имѣть
вліяніе на массу общества. Опи смотрѣли на вещи съ слишкомъ высокой точки
620
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
зрѣнія, съ слишкомъ дальняго разстоянія. Въ Греціи одинъ только Аристотель имѣлъ
вѣрное понятіе о томъ, что такое въ сущности индукція. Но даже и онъ ничего
не зналъ о перекрестныхъ опытахъ и о теоріи среднихъ выводовъ, то-есть о двухъ
главнѣйшихъ пособіяхъ той индуктивной философіи, какую мы имѣемъ въ настоящее
время. Но пи онъ, ни кто-либо изъ великихъ германскихъ или шотландскихъ фи-
лософовъ, не придавалъ достаточной важности медленному и осторожному методу,
постепенно восходящему отъ каждаго низшаго обобщенія къ непосредственно слѣ-
дующему за нимъ высшему, не пропуская ни одного промежуточнаго обобщенія.
Правда, что Бэконъ слиткомъ уже настаиваетъ на этомъ методѣ: многія весьма
важныя открытія сдѣланы не только помимо его, но, можно даже сказать, вопреки
ему. Тѣмъ не менѣе онъ представляетъ дивное орудіе, и только люди истинно ге-
ніальные могутъ обойтись безъ него. Да и онп, уклоняясь отъ употребленія этого
орудія, лишаютъ себя всеобщаго сочувствія своего вѣка и своей страны. Ибо мень-
шія и ближайшія обобщенія, которыми они пренебрегаютъ, составляютъ именно тѣ
стороны философіи, которыя, будучи менѣе удалены отъ области осязательныхъ фак-
товъ, всего болѣе понятны народу и, слѣдовательно, образуютъ единственную общую
почву для мыслителей и для практическихъ людей. Это родъ средней посылки, по-
нимаемой обоими классами и доступной тому и другому. Во всякомъ дедуктивномъ
разсужденіи эта посредствующая или, если можно такъ выразиться, нейтральная
область исчезаетъ, и обоимъ классамъ негдѣ сходиться. Вотъ почему шотландская
философія, точно такъ же, какъ нѣмецкая и какъ въ древности греческая, вовсе не
имѣла вліянія на націю Напротивъ того, въ Англіи съ семнадцатаго и во Франціи
съ восемнадцатаго вѣка гбсподствующая философія была индуктивная, а потому она
имѣла вліяніе не на одни только образованные классы, но двигала мыслью всего
народа. Нѣмецкіе философы ^относительно' глубины и широты мысли далеко превос-
ходятъ и французскихъ, и англійскихъ. А между тѣмъ они своими глубокими изы-
сканіями такъ мало сдѣлали для страны, что нѣмецкій пародъ до сихъ поръ во всѣхъ
отношеніяхъ менѣе развитъ, чѣмъ пародъ французскій или англійскій. Точно такъ же
въ философіи древней Греціи мы находимъ громадный запасъ крупныхъ ориги-
нальныхъ мыслей, и, что несравненно важнѣе, находимѣ смѣлость изысканія и пла-
менную любовь къ истинѣ/ въ которыхъ не превзошла Грецію ни одна изъ новѣй-
шихъ націй и развѣ только немногія съ нею сравнились. Но методъ этой филосо-
фіи ставилъ непреодолимую преграду ея распространенію. Народа она не косну-
лась, онъ все пресмыкался въ прежнемъ невѣжествѣ и былъ жертвой суевѣрій, изъ
которыхъ большую часть великіе мыслители презирали, даже часто прямо преслѣ-
довали, но никакими средствами не могли искоренить. Впрочемъ, какъ ни дурны
были эти суевѣрія, мы смѣло можемъ сказать, что они менѣе дѣлали вреда, то-есть
имѣли менѣе разрушительное вліяніе на счастье людей, чѣмъ тѣ отвратительныя и
возмутительныя понятія, которыя защищало шотландское духовенство и которыя
были приняты шотландскимъ пародомъ. А на эти понятія шотландская философія
не могла произвести никакого дѣйствія. Въ Шотландіи во все продолженіе восем-
надцатаго вѣка суевѣріе и наука, эти два непримиримые врага, процвѣтали ря-
домъ, нисколько не ослабляя другъ друга, не имѣя даже возможности приходить въ
столкновеніе; — это было совмѣстное существованіе, но безъ соприкосновенія. Обѣ
силы держались въ сторонѣ другъ отъ друга, и въ результатѣ оказалось, что въ то
самое время, какъ шотландскіе мыслители создавали могучую и въ высшей степени
просвѣщенную литературу, шотландскій народъ не внималъ великимъ учителямъ
мудрости, появившимся въ его отечествѣ, и упорно оставался во мракѣ, предоставляя
слѣпцамъ водить такихъ же слѣпцовъ и не допуская никого въ помощь имъ.
Истинно любопытно взглянуть, какъ мало вліянія оказывали многія замѣча-
тельныя творенія, написанныя шотландцами въ восемнадцатомъ вѣкѣ. За исключе-
ніемъ Смитова «Богатства народовъ», я едва-ли могу припомнить хоть одну книгу,
которой вліяніе ощутительнымъ образомъ отразилось бы на общественномъ мнѣніи.
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
621
Причина этого изъятія объясняется весьма легко. Книга о «Богатствѣ народовъ»
заключала дѣятельность правительства въ болѣе тѣсныя границы, чѣмъ какія поставля-
лись ей когда-либо и какимъ бы то ни было другимъ знаменитымъ сочиненіемъ. Ни
одинъ изъ прежнихъ политическихъ писателей съ несомнѣннымъ дарованіемъ не
оставлялъ такъ много на долю самого народа, не требовалъ для него такого коли-
чества свободы въ устройствѣ собственныхъ дѣлъ, какъ Адамъ Смитъ. Поэтому книга
о «Богатствѣ народовъ», какъ книга въ высшей степени демократическая, должна
была непремѣнно встрѣтить благопріятный пріемъ въ Шотландіи,—странѣ по пре-
имуществу демократической. Слыша о выводахъ ея, люди были уже заранѣе пред-
расположены въ пользу ея доводовъ. Точно также и въ Англіи та любовь къ
свободѣ, которая съ давнихъ вѣковъ составляла нашу отличительную черту и кото-
рая въ сущности приноситъ намъ болѣе чести, чѣмъ всѣ наши завоеванія, чѣмъ
вся наша литература и вся наша философія, взятая вмѣстѣ,—постоянно настраи-
ваетъ общественное мнѣніе въ пользу всего, въ чемъ высказывается какое-нибудь
требованіе свободы. Поэтому, несмотря на борьбу заинтересованныхъ партій, Англія
была предрасположена въ пользу ученія о свободѣ торговли, какъ одного изъ
средствъ предоставить каждому поступать съ собственнымъ добромъ, какъ ему угодно.
Но воображать, что обыкновенные умы въ состояніи совладать съ такимъ сочине-
ніемъ, какъ книга о «Богатствѣ народовъ*, и въ состояніи слѣдить, не путаясь, за
его длинной и многосложной аргументаціей,—было бы просто нелѣпо. Десятки ты-
сячъ людей, прочтя эту книгу, принимаютъ ея положенія/ потому только, что они
приходятся имъ по душѣ, то-есть, другими словами, потому только, что къ тому же
идетъ движеніе вѣка. Другое великое твореніе Адама Смита, именно его «Теорія
нравственныхъ чувствованій», если и имѣло какое-лцбо вліяніе, то развѣ только
на весьма небольшой кружокъ метафизиковъ, хотя по своему изложенію оно, какъ
иные находятъ, гораздо выше «Богатства народовъ» и конечно гораздо доступнѣе
общему пониманію. Къ тому же оно значительно короче, — что для большинства
читателей также не малое достоинство, — и трактуетъ о предметахъ весьма инте-
ресныхъ и близкихъ сердцу/каждаго изъ насъ. Но вѣкъ не дорожилъ положеніями,
которыя развивались въ книгѣ, а потому оставлялъ безъ вниманія и ея аргумен-
таціи. «Богатство народовъ», напротивъ,. подходило подъ общее настроеніе и по-
тому имѣло громадный успѣхъ. Оно быстро увлекало не только философовъ, но
также и государственныхъ людей и политиковъ; они въ нѣкоторыхъ случаяхъ да-
вали примѣненіе главнѣйшимъ сго положеніямъ, хотя, какъ доказываютъ издан-
ные ими законы и ихъ рѣчи, они никогда не могли усвоить себѣ тѣ великія на-
чала, которыя лежатъ въ основаніи этихъ положеній и къ которымъ свобода тор-
говли относится только какъ второстепенная, придаточная часть.
Если оставить въ сторонѣ «Богатство народовъ», то окажется, что шотланд-
ская литература восемнадцатаго вѣка едва-ли сдѣлала что-нибудь для Шотландіи.
Что она не достигла своей великой цѣли—ослабленія суевѣрія,-—это очевидно для
всякаго, кто бывалъ въ этой странѣ и наблюдалъ господствующія въ ней до сихъ
поръ понятія и складъ мыслей. Многія даровитые и образованные люди, живущіе
въ Шотландіи, такъ запуганы общественнымъ мнѣніемъ, что ради собственнаго спо-
койствія и спокойствія своихъ семействъ не оказываютъ никакого сопротивленія и
безмолвно подчиняются тому, что въ душѣ презираютъ. Дѣйствуя такимъ образомъ,
они, по моему твердому убѣжденію, неправы, хотя я и знаю, что многіе добросо-
вѣстные и во всѣхъ отношеніяхъ свѣдущіе судьи полагаютъ, что никто не обязанъ
обоскать себя мученичеству пли подвергать опасности свои личные интересы, если
только не имѣетъ въ виду очевидной отъ этого пользы для общества. Мнѣ однако
кажется, что это узкое воззрѣніе, и что первый долгъ каждаго человѣка—прямо и
открыто стать противъ того, что онъ признаетъ ложнымъ, и затѣмъ предоставить
послѣдствія своего образа дѣйствій собственному ихъ теченію. Правда, что искуше-
ніе сдѣлать наоборотъ—всегда очень сильно, и въ такой странѣ, какъ Шотландія,
622
•ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
можетъ даже почитаться непреодолимымъ. Нѣтъ ни одной протестантской страны,
нѣтъ даже ни одной страны католической, кромѣ Испаніи, гдѣ бы человѣку, дер-
жащемуся образа мыслей несогласнаго съ ученіемъ установленной церкви, прихо-
дилось платиться за это столькими непріятностями и неудобствами въ жизни, какъ
въ Шотландіи. Въ нѣкоторыхъ большихъ городахъ онъ, пожалуй, еще можетъ оста-
ваться безнаказаннымъ, если убѣжденія его не слишкомъ смѣлы и если онъ не
будетъ слишкомъ открыто высказывать ихъ. Если онъ—человѣкъ робкій и молчали-
вый, неправовѣрность его быть можетъ пройдетъ незамѣченной. Но и въ большихъ
городахъ такіе случаи безнаказанности составляютъ лишь исключенія, а никакъ не
общее правило. Въ самой даже столицѣ Шотландіи, въ этомъ средоточіи умственнаго
развитія, нѣкогда гордившемся названіемъ «Новѣйшихъ Аѳинъ», тотчасъ пронесется
шопотъ, что съ такимъ-то не должно водиться, потому что онъ слишкомъ свое-
образно мыслптъ;~какъ будто имѣть свой взглядъ есть преступленіе, а лучше рабски
слѣдовать чужому. Въ другихъ же мѣстахъ, то есть но всей Шотландіи, положеніе
дѣлъ еще гораздо хуже. Я говорю это не на основаніи какихъ-нибудь несвязныхъ
толковъ, а на основаніи того, что, какъ мнѣ извѣстно, дѣйствительно существуетъ
въ настоящее время; за вѣрность такого показанія я ручаюсь и готовъ отвѣчать.
Пусть кто-нибудь попробуетъ поспорить со мной, когда я скажу, что въ настоящую
минуту почти во всей Шотландіи съ презрѣніемъ указываютъ пальцемъ на всякаго,
кто, пользуясь своимъ священнымъ п неотъемлемымъ правомъ свободнаго сужденія,
не захочетъ согласиться съ тѣми религіозными понятіями и подчиниться тѣмъ ре-
лигіознымъ обычаямъ, которые, правда, освящены временемъ, но изъ которыхъ
многіе противны здравому смыслу, хотя, несмотря па всю пхъ неразумность, на-
родъ ко всѣмъ имъ прилѣпляется съ мрачнымъ и непреклоннымъ упорствомъ.
Я знаю, что настоящія 4 слова мои будутъ читаться и повторяться по всей
Шотландіи, и конечно не желалъ бы навлечь на себя вражду цѣлой націи, къ мно-
гимъ высокимъ и неоцѣненнымъ достоинствамъ которой я питаю искреннее и глу-
бокое уваженіе; но я тѣмъ не менѣе положительно утверждаю, что нѣтъ другой
образованной страны, въ которой такъ мало понималась бы вѣротерпимость и въ
которой былъ бы такъ широко распространенъ духъ ханжества и гоненія. И никто
этому не удивится, кто только наблюдалъ, что тамъ дѣлается. Въ церквахъ посто-
янно такая же толпа народа, какъ бывало въ средніе вѣка; тысячи усердныхъ и
невѣжественныхъ молельщиковъ собираются въ нихъ слушать поученія, вполнѣ до-
стойныя среднихъ вѣковъ. Преподаваемыя имъ понятія они принимаютъ съ благо-
говѣніемъ и, возвращаясь въ семью или принимаясь за свои ежедневныя, житей-
скія дѣла, примѣняютъ эти ученія на практикѣ. Результатъ же всего этого тотъ, что
по всей странѣ господствуютъ такой духъ угрюмаго фанатизма, такое отвращеніе
отъ самаго даже невиннаго веселья, такое стремленіе стѣснять наслажденія другихъ
людей, наконецъ такая страсть вмѣшиваться въ образъ мысли ближняго, какихъ мы
не встрѣчаемъ ни въ какой другой странѣ; и среди всего этого процвѣтаетъ націо-
нальная религія въ высшей степени мрачная и суровая, — религія полная всякаго
рода зловѣщихъ предзнаменованій, угрозъ и ужасовъ, ставящая себѣ въ отраду
твердить людямъ, какъ они гадки и жалки, какое ничтожное число изъ нихъ обрѣ-
тетъ спасеніе и какая огромная масса ихъ неизбѣжно обречена невыразимо страш-
нымъ, вѣчнымъ мукамъ.
Прежде чѣмъ я заключу настоящій томъ, кстати будетъ, мнѣ кажется, припо-
мнить одно происшествіе, которое, хотя случилось очень недавно и въ свое время
возбудило большое вниманіе, однако съ тѣхъ поръ почти забыто подъ вліяніемъ
другихъ, болѣе важныхъ событій; а между тѣмъ оно чрезвычайно любопытно для
людей, изучающихъ многоразличныя проявленія народнаго характера, и при томъ
представляетъ разительный примѣръ глубокой противоположности, существующей
между шотландскимъ умомъ и англійскимъ,—противоположности, тѣмъ болѣе замѣча-
тельной, что она является между двумя народами, которые не только занимаютъ
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
623
смежныя области и находятся въ постоянныхъ сношеніяхъ между собой, но даже
говорятъ однимъ языкомъ, читаютъ однѣ и тѣ же книги, принадлежатъ къ одному
и тому же государству, имѣютъ одинаковые интересы и въ то же время оказы-
ваются во многихъ и весьма важныхъ отношеніяхъ такъ различны между собой,
какъ будто они никогда не имѣли ни случаевъ, ни средствъ вліять другъ на друга,
какъ будто никогда не бывало между ними ничего общаго.
Въ 1853 году холера, произведя сильныя опустошенія въ разныхъ частяхъ
Европы, пришла и въ Шотландію. Тутъ она очевидно должна была найти себѣ
обильную добычу среди народа, живущаго въ скверныхъ жильяхъ и не слишкомъ
опрятно. Ибо если мы и можемъ сказать что-либо положительнаго о холерѣ, такъ
именно то, что она всегда съ наибольшей силой поражаетъ тѣ классы населенія,
которые, по бѣдности или по лѣности, плохо кормятся, небрежны въ содержаніи
своего тѣла и живутъ въ грязныхъ, сырыхъ и плохо провѣтриваемыхъ домахъ. Въ
Шотландіи эти классы очень многочисленны. Поэтому въ Шотландіи холера непре-
мѣнно должна была оказаться особенно гибельной. Въ этомъ не было ничего непости-
жимаго. Напротивъ, чудо было бы, еслибъ эпидемія, въ родѣ азіатской холеры, пощадила
страну, подобную Шотландіи, гдѣ было собрано и подготовлено все, чѣмъ поддерживается
зараза; гдѣ на каждомъ шагу представлялись грязь, нищета и безпорядочность.
При такихъ условіяхъ не только люди ученые, но и люди съ простымъ здра-
вымъ смысломъ, смотрящіе на вещи безъ предразсудковъ, должны бы понять, что
шотландцамъ представлялось одно только средство успѣшно бороться со своимъ страш-
нымъ врагомъ. Имъ слѣдовало кормить своихъ бѣдныхъ, убрать нечистоты, очистить
воздухъ въ жильяхъ. Еслибъ, они это сдѣлали, не теряя времени, тысячи жертвъ
были бы спасены. Но онп объ этомъ нисколько пе позаботились, и вся страна была
повергнута въ скорбь. Мало того что они не приняли этихъ мѣръ, но, движимые
мрачнымъ суевѣріемъ, которое постоянно давитъ ихъ, какъ чудовище, они задумали
мѣру, которая, еслибъ была вполнѣ приведена въ исполненіе, довела бы бѣдствіе
до самыхъ ужасныхъ размѣровъ. Всѣмъ очень хорошо извѣстно, что, когда свирѣп-
ствуетъ эпидемія, физическое истощеніе и нравственное удрученіе предраспола-
гаютъ человѣческій организмъ къ воспріятію болѣзни, и что. слѣдовательно, ихъ-то
преимущественно должно устранять. По какъ ни общеизвѣстенъ этотъ фактъ, шот-
ландское духовенство, поддерживаемое —* прискорбно сказать — общимъ голосомъ
шотландскаго народа, требовало, чтобы общественныя власти приняли мѣру, которая
неминуемо и очевидно должна была произвести физическое истощеніе и усилить
упадокъ духа. Злоупотребляя религіей и извращая ее во вредъ людямъ, вмѣсто
того чтобы пользоваться ею ко благу ихъ, духовенство именемъ религіи настаивало
на необходимости назначить всенародный постъ, который въ такой суевѣрной странѣ,
какова Шотландія, былъ бы безъ сомнѣнія соблюдаемъ во всей строгости, а при
строгомъ соблюденіи неминуемо долженъ былъ истощить тысячи людей слабаго сло-
женія и въ однѣ сутки приготовить къ дѣйствію яда. которымъ они были уже окру-
жены и къ сопротивленію которому у нихъ и безъ того едва только хватало силы.
Всенародный постъ долженъ былъ сопровождаться всенароднымъ покаяніемъ, такъ
что ничего не было упущено, для того чтобы разстроить духъ людей и поразить его
ужасомъ. Проповѣдники при этомъ стали бы гремѣть съ кэеедръ и обличать грѣхи
страны, а бѣдный, блуждающій во тьмѣ и запуганный народъ долженъ былъ бы съ бла-
гоговѣніемъ и страхомъ внимать своимъ учителямъ, проводить цѣлые дай безъ необхо-
димой пищи и вечеромъ ложиться въ рыданьяхъ и съ голодомъ. Послѣ этого, полагали,
Богъ умилостивится, и моръ прекратится. Предполагалось, что. какъ скоро народъ избе-
ретъ тотъ образъ дѣйствія, который вѣрнѣе всякаго другого долженъ вести къ увеличе-
нію смертности, то есть когда опъ все сдѣлаетъ для того, чтобы испортить свое поло-
женіе,- —тогда Всемогущій самъ вмѣшается въ дѣло, остановитъ законы природы и,
сотворивъ чудо, спасетъ свою тварь отъ участи, которая безъ этого чуда должна бы
быть непремѣннымъ послѣдствіемъ ея же собственныхъ сознательныхъ поступковъ.
624
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
Таковъ былъ планъ, задуманный шотландскимъ духовенствомъ, и оно рѣшилось
привести его въ исполненіе. А для того, чтобы придать ему болѣе величія и силы,
оно обратилось къ содѣйствію Англіи, и осенью 1853 года Эдинбургская пресви-
терія, убѣжденная, что по ея положенію ей надлежало стать во главѣ этого дви-
женія, поручила своему предсѣдателю обратиться съ посланіемъ повидимому къ
англійскому министру. Въ этомъ рѣдкостномъ произведеніи, экземпляръ котораго у
меня теперь подъ рукой, представлялось министру внутреннихъ дѣлъ, что члены
пресвитеріи не хотѣли слишкомъ поспѣшно назначить, собственной своей духовной
властью, день общаго поста и покаянія, въ томъ предположеніи, что по всей вѣ-
роятности будетъ назначенъ такой день королевской властью. Но такъ какъ такого пред-
писанія еще не послѣдовало, то пресвитерія почтительнѣйше просила увѣдомить ее
о томъ, предполагается ли сдѣлать такое распоряженіе. Пресвитерія просила изви-
ненія въ пріемлемой смѣлости, увѣряя, что она отнюдь не желаетъ неумѣстно вмѣ-
шиваться въ распоряженія правительства и даже не требуетъ отъ министра вну-
треннихъ дѣлъ отвѣта на свой вопросъ, если только онъ самъ не признаетъ себя
въ правѣ и обязаннымъ дать отвѣтъ. Ей было бы очень пріятно, еслибъ онъ имѣлъ
возможность почтить ее отвѣтомъ* Ибо нѣть никакого сомнѣнія, что азіатская холера
появилась въ странѣ; а въ виду этого обстоятельства Эдинбургской пресвитеріи
весьма желательно было бы знать, предполагается ли назначеніе, властью королевы,
всенароднаго поста и покаянія.
На этотъ разъ однако нечего было бояться, что правительство опять впадетъ
въ такую пагубную ошибку. Лордъ Пальмерстонъ, знавшій, что здравый смыслъ
англійскаго народа поддержитъ его въ томъ, что онъ задумалъ, приказалъ написать
къ Эдинбургской пресвитеріи письмо, на которое. если я не ошибаюсь, совремс-
немъ будутъ указывать, какъ^наТлюбопытнййчіамятнйкъ, объясняющій исторію раз-
витія общественнаго мнѣнія. Стсулѣтъ тому назадъ такое письмо вызвало бы взрывъ
общаго негодованія противъ государственнаго человѣка, который осмѣлился бы его
написать, и онъ былъ бы вынужденъ оставить министерство; двѣсти лѣтъ тому на-
задъ онъ поплатился бы занего еще дороже; оно испортило бы и его положеніе
въ обществѣ, и его политическую карьеру. Ибо въ этомъ письмѣ онъ явно идетъ
наперекоръ тѣмъ суевѣрнымъ понятіямъ относительно происхожденія болѣзней,
которыя нѣкогда были повсемѣстно въ ходу и почитались за существенную принад-
лежность всякаго религіознаго вѣрованія. Проданія, память о которыхъ сохранилась
въ богословской литературѣ всѣхъ языческихъ, римско-католическихъ и протестант-
скихъ націй,—преспокойно оставляются въ сторонѣ, какъ вещи, не имѣющія ника-
кой важности и о которыхъ не стоитъ и говорить. Шотландское духовенство, смотря
съ старой точки зрѣнія, съ которой искони привыкли смотрѣть всѣ члены этого со-
словія, принимало за неоспоримую истину, что холера есть слѣдствіе Божія гнѣва
и что она ниспослана въ наказаніе за наши грѣхи. Въ отвѣтѣ же, данномъ ему
англійскимъ правительствомъ, выражалось совершенно иное воззрѣніе, которое англи-
чанамъ казалось вполнѣ основательнымъ и здравымъ, но въ глазахъ шотландцевъ
было крайне нечестиво. Пресвитеріи сообщалось, что дѣлами міра сего управляютъ
естественные закопы, и что отъ соблюденія ихъ или пренебреженія ими зависятъ
благополучіе или бѣдствіе человѣчества. Однимъ изъ такихъ законовъ установлена
связь между болѣзнями и испареніями отъ разлагающихся тѣлъ; и въ силу этого-то
закона зараза распространяется или въ многолюдныхъ городахъ, или въ такихъ
мѣстахъ, гдѣ совершается разложеніе растительныхъ веществъ. Человѣкъ своими
усиліями можетъ разсѣять эти вредныя вліянія или уничтожить ихъ дѣйствіе. По-
явленіе холеры доказываетъ, что онъ не употребилъ этихъ стараній. Города не
были содержимъ! въ надлежащей чистотѣ,—вотъ гдѣ корень зла. Поэтому министръ
внутреннихъ дѣлъ внушалъ Эдинбургской пресвитеріи, что лучше позаботиться объ
очисткѣ огородовъ, чѣмъ поститься. Онъ полагалъ, что, когда эпидемія уже появилась,
нужно было дѣйствовать, а не каяться. Это было осенью, и до возвращенія жаркихъ
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
625
дней долженъ былъ пройти значительный промежутокъ времени. Этимъ промежут-
комъ слѣдовало воспользоваться для устраненія источниковъ болѣзни, и именно для
улучшенія жилищъ бѣдныхъ классовъ. Будетъ это сдѣлано,—и все пойдетъ хорошо.
Въ противномъ случаѣ — не миновать возвращенія заразы, «несмотря», — привожу
собственныя слова англійскаго министра,—«несмотря ни на какіе молитвы и посты
соединеннаго, но бездѣйствующаго народа».
На этотъ обмѣнъ писемъ между шотландскимъ духовенствомъ и англійскимъ
министромъ не должно смотрѣть, какъ на мимолетный эпизодъ, представляющій
лишь слабый временный интересъ. Напротивъ, въ немъ выразилась та упорная
борьба теологіи съ наукой, которая, начавшись гоненіемъ на науку и мучениче-
ствомъ дѣятелей ея, въ послѣднее время приняла болѣе отрадный оборотъ и нынѣ
уже явно идетъ къ уничтоженію древняго теологическаго духа, причинившаго міру
столько бѣдствій и гибели. Древнее суевѣріе, нѣкогда всюду владычествовавшее, а
теперь хотя и медленно, но безвозвратно исчезающее, представляло Божество су-
ществомъ постоянно гнѣвнымъ, которое услаждалось будто бы зрѣлищемъ самоуни-
чиженія и самоумерщвленія своихъ твореній, тѣшилось ихъ жертвоприношеніями и
ихъ аскетизмомъ и, что бы они ни дѣлали, безпрерывно насылало на нихъ тяж-
кія кары, однимъ изъ главнѣйшихъ видовъ которыхъ были моровыя повѣтрія. Наука,
и одна только наука, постепенно уничтожаетъ эти возмутительныя заблужденія. Бла-
годаря ей, явленія, которыя прежде считались посланными свыше богами, теперь
признаются происходящими отъ естественныхъ причинъ и уступающими естествен-
нымъ же средствамъ противодѣйствія. Человѣкъ можетъ ихъ предсказывать и можетъ
съ ними бороться. А какъ скоро они суть неизбѣжный результатъ предшествовав-
шихъ имъ явленій, то не можетъ уже быть и рѣчи о нихъ, какъ о намѣренно
насылаемыхъ карахъ. Эта велиіщяоере^^^Цъднаійихъ понятіяхъ гибельна для
теологіи, но благодѣтельна для религіи; ибо наука такимъ образомъ становится
уже не врагомъ религіи, а ея союзникомъ. Религія въ каждомъ отдѣльномъ чело-
вѣкѣ слагается сообразно тому внутреннему свѣту, которымъ онъ надѣленъ. По-
этому она въ различныхъ характерахъ принимаетъ различныя формы и не можетъ
быть подведена подъ одно' общее для всѣхъ и произвольно установленное пра-
вило. Теологія же, напротивъ, требуетъ себѣ власти надъ4 всѣми умами, не при-
знаетъ природнаго ихъ разнообразія и стремится подчинить ихъ всѣхъ одному
общему вѣрованію; она ставитъ извѣстную норму абсолютной истины, къ которой
пригоняетъ образъ мыслей каждаго отдѣльнаго лица, и самонадѣянно осуждаетъ всѣ
тѣ понятія, которыя не подходятъ подъ эту норму. Такія надменныя притязанія
нуждаются въ средствахъ къ своей поддержкѣ. Такими средствами служатъ имъ
угрозы, которыя въ невѣжественныя времена принимаются всѣми на вѣру и ко-
торыя побуждаютъ къ покорности посредствомъ наведенія страха. Вотъ почему
книги всякой теологической системы повѣствуютъ о дѣяніяхъ самой возмутительной
жестокости, которыя онѣ, нисколько не колеблясь, приписываютъ непосредственному
участію Божества. Мягкія, любящія натуры возмущаются этими жестокостями, хотя
въ то же время силятся имъ вѣрить. Задача науки—очистить теологію, показать,
что тутъ не было жестокости, потому что не было вмѣшательства. Наука приводитъ
къ естественнымъ причинамъ то, что теологія приписываетъ причинамъ сверхъ-
естественнымъ. По толкованію науки, бѣдствія, поражающія міръ, суть плодъ невѣ-
жества людей, а вовсе не намѣренія Божества. Поэтому мы но должны приписы-
вать Ему того, чѣмъ мы обязаны только неразумію и собственнымъ порокамъ. Мы
не должны клеветать на всемудрое и всеблагое Существо, не должны надѣлять Его
тѣми же мелкими страстями, которыя движутъ нами самими, представлять его спо-
собнымъ къ злобѣ, ревности, мщенію, воображать Его съ вѣчно простертою караю-
щею десницею, вѣчно помышляющимъ о томъ, чтобы усилить бѣдствія человѣка, сдѣ-
лать страданія рода человѣческаго болѣе жестокими, чѣмъ они были бы сами по себѣ.
Что это замѣчательное очищеніе религіозныхъ понятій есть слѣдствіе успѣ-
Бокль.—Изх. Ф. Павленкова
-10
626
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
ховъ естествознанія,—очевидно не только изъ тѣхъ общихъ соображеній, которыя
заставляютъ насъ предположить, что дѣло и не могло быть иначе, но и изъ того исто-
рическаго факта, что постепенному паденію старой теологіи вездѣ предшествуетъ
выработка и распространеніе естественно-научныхъ истинъ. Чѣмъ болѣе мы познаемъ
законы природы, тѣмъ яснѣе понимаемъ, что все совершающееся въ физическомъ
мірѣ,—эпидеміи, землетрясенія, голодъ и что бы то ни было другое,—есть необхо-
димое послѣдствіе чего-нибудь случившагося прежде. Причина производитъ послѣд-
ствіе, а это послѣдствіе въ свою очередь становится причиною другихъ послѣдствій.
Мы не видимъ ни одного пробѣла въ этой послѣдовательности и не допускаемъ
никакой остановки. Цѣпь является намъ непрерывной; постоянство природы—нена-
рушимымъ. Умъ нашъ пріучается видѣть всѣ физическія явленія въ стройномъ,
однообразномъ и самобытномъ теченіи, въ правильной и непрерывной послѣдова-
тельности. Таково научное воззрѣніе. Таково же и воззрѣніе религіи. Совершенно
противоположно ему воззрѣніе теологическое; но то, что уже утратило власть надъ
умами людей, теряетъ ее и надъ ихъ чувствами; и это воззрѣніе такъ явно выми-
раетъ, что ни одинъ образованный человѣкъ теперь пе рѣшится его защищать, не
обставивъ своего мнѣнія такими оговорками и ограниченіями, которыя почти равно-
сильны уступкѣ на всѣхъ существенныхъ пунктахъ.
Письмо это, которое посредствомъ журналовъ должно было получить огромную
гласность и читаться повсюду, очевидно имѣло цѣлью подѣйствовать на обществен-
ное мнѣніе въ Англіи. Подъ нимъ въ сущности скрывался упрекъ англійскому
правительству за оказываемое имъ пренебреженіе къ своимъ духовнымъ обязанно-
стямъ, за непониманіе того, что постъ—самое дѣйствительное средство для прекра-
щенія эпидеміи. Въ Шотландіи оно было п
смотрѣли, какъ на заслуженный упрекъ ан
ѣто съ одобреніемъ, на него
за ихъ недостаточную рели-
гіозность, за то, что, видя холбру у своего порога, они заботились только о врачеб-
ныхъ мѣрахъ, объ охраненіи общественнаго здравія плотскими средствами, ясно
показывая этимъ, что они возлагали надежду преимущественно на оружіе плоти.
Въ Англіи, напротивъ, заявленіе шотландскаго духовенства было встрѣчено почти
общимъ смѣхомъ и нашло себѣ развѣ немногихъ только, ревнителей въ самой невѣ-
жественной и легковѣрной части націи. Министръ, которому было адресовано письмо,
былъ лордъ Пальмерстонъ,—-человѣкъ съ громадной опытностью, знавшій'обществен-
ное мнѣніе можетъ быть лучше, чѣмъ кто-либо изъ политическихъ дѣятелей его
времени. Отлично понимая различіе между Шотландіей и Англіей, онъ зналъ, что
то, что годится для одной страны, негодно для другой, и что понятія, слывшія ре-
лигіозными у шотландцевъ, были фанатизмомъ въ глазахъ англичанъ. Въ прежнее
время великобританское правительство однажды, уступая требованіямъ, возбужден-
нымъ немногими дѣятельными и заинтересованными людьми, имѣло безразсудство
поступить, въ подобномъ же дѣлѣ, наперекоръ направленію вѣка, предписавъ все-
народный постъ; къ счастью, впрочемъ, этотъ постъ не слишкомъ строго соблю-
дался; но насколько онъ соблюдался, настолько же усилилъ онъ общій страхъ,
присоединивъ къ естественнымъ опасеніямъ еще сверхъестественный ужасъ, и та-
кимъ образомъ разстраивая нервную систему, увеличилъ смертность отъ заразы.
Моръ и безъ того—великое бѣдствіе для страны, ибо, что бы мы ни дѣлали, онъ
все-таки сразитъ много жертвъ. Но тяжелая отвѣтственность падетъ на тѣхъ, кото-
рые во время эпидеміи, вмѣсто того, чтобы стараться по возможности остановить ея
опустошенія, посредствомъ ли предохранительныхъ мѣръ, или же успокоивая народъ
и поддерживая въ немъ бодрость,—дѣлаютъ все, что могутъ, для усиленія бѣдствія,
поощряя суевѣрный страхъ, ослабляющій въ народѣ энергію въ то именно время,
когда энергія ему всего нужнѣе, и уничтожающій то хладнокровіе, ту самодѣятель-
ность и то самообладаніе, безъ которыхъ не можетъ быть отражена никакая обще-
народная опасность.
Но между тѣмъ, какъ прежнія узкія понятія въ отношеніи матеріальнаго міра
УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ШОТЛАНДІИ ВЪ ХѴШ СТОЛ.
627
въ большей части образованныхъ странъ почти уже исчезли, должно сознаться, что
относительно духовнаго міра успѣхи ума далеко не такъ быстры. Тѣ же люди, ко-
торые признаютъ, что нѣтъ сверхъестественнаго вмѣшательства въ природѣ, не
хотятъ вѣрить, чтобы не было такого вмѣшательства и въ жизни человѣка. Въ пер-
вомъ случаѣ они принимаютъ научную теорію правильности; во второмъ случаѣ
держатся теологической теоріи неправильности. Причина такого противорѣчія въ
понятіяхъ та, что движенія, наблюдаемыя въ природѣ, не такъ сложны, какъ дви-
женія, наблюдаемыя въ человѣкѣ. По меньшей ихъ сложности ихъ легче изучить
и они быстрѣе постигаются. Отсюда и происходитъ то, что естественныя науки
разрабатываются уже съ давняго времени, а наука исторіи еще только-что заро-
ждается. Наши свѣдѣнія объ условіяхъ, опредѣляющихъ развитіе человѣчества, такъ
еще неточны и такъ плохо разработаны, что они едва могли имѣть какое-либо
вліяніе на поднятіе общества. Философы знаютъ, правда, что въ этой области, какъ
и во всякой другой, должна существовать непремѣнная связь между самыми отдален-
ными и самыми разнообразными явленіями. Они знаютъ, что всякому противорѣчію
есть оправданіе, хотя бы мы, при теперешнемъ состояти нашего знанія, и не могли
отыскать это оправданіе. Въ этомъ они убѣждены, и ничто не въ силахъ поколе-
бать это убѣжденіе. Но масса разсуждаетъ совсѣмъ иначе. Она вѣритъ, что если
какое явленіе не объяснено, то это значитъ, что оно и не объяснимо; а что необъ-
яснимо, то непремѣнно сверхъестественно. Наука объяснила большое число физи-
ческихъ явленій, и потому эти явленія, даже въ глазахъ толпы, уже не сверхъесте-
ственны, а приписываются естественнымъ причинамъ. Напротивъ того, наука не
объяснила еще явленій исторіи, а потому теологическій духъ завладѣлъ ими и гнетъ
ихъ въ сторону своихъ воззрѣній. Такимъ образомъ возникла давняя и пресловутая
теорія нравственнаго управленія міромъ. Это звонкое /названіе, и обаянію его под-
дается множество такихъ людей, которыі никогда не дались бы ему въ обманъ,
еслибъ хорошо вникли въ притязанія самой теоріи. Ибо подобно другому понятію,
которое мы разсматривали передъ этимъ, оно не только не научно, но и крайне
не религіозно. Это въ сущности посягательство на одно изъ возвышеннѣйшихъ
свойствъ божества, это поношеніе Его всевѣдѣнія. Ученіе это утверждаетъ, что
судьба народовъ не есть результатъ предшествовавшихъ и окружающихъ ихъ со-
бытій, а управляется отдѣльно произволомъ и вмѣшательствомъ Провидѣнія; что
есть такіе великіе общественные вопросы, въ которыхъ подобное вмѣшательство
необходимо; что безъ этого вмѣшательства дѣла не могли бы идти правильнымъ по-
рядкомъ; что они путались бы и приходили въ разладъ; что нарушались бы строй
и гармонія цѣлаго. Такимъ образомъ тѣ самые люди, которые въ данное время
провозглашаютъ всевѣдѣніе Божіе, вслѣдъ за тѣмъ защищаютъ теорію, которая уни-
чтожатъ это всевѣдѣніе, взводя на премудрое Существо обвиненіе въ томъ, что по-
рядокъ дѣлъ человѣческихъ, котораго всѣ исходы и всѣ послѣдствія. Оно должно было
предусмотрѣть съ самаго начала, такъ плохо задуманъ, что можетъ быть нарушаемъ;
что порядокъ этотъ вышелъ не такимъ, какимъ. Оно предполагало; что онъ раз-
строенъ собственными Его тварями, и что для сохраненія его цѣлости приходится Ему
направлять его движенія и исправлять случающіяся въ немъ разстройства. Такимъ
образомъ Великій Строитель вселенной, Творецъ и начертатель всего существую-
щаго уподобляется какому-нибудь жалкому ремесленнику, который такъ плохо знаетъ
свое дѣло, что постоянно приходится призывать его для того, чтобы онъ перестраи-
валъ собственную свою машину, устранялъ ея недостатки, пополнялъ недосмотры,
направлялъ ея ходъ.
Пора положить конецъ такимъ непристойнымъ понятіямъ, пора историкамъ
усвоить себѣ то, что давно уже знаютъ философы, и перестать загромождать исто-
рію человѣчества такими вещами, которыя человѣку, проникнутому духомъ науки,
должны казаться сущимъ вздоромъ. Избирайте одно изъ двухъ: или отрицайте все-
вѣдѣніе Создателя, или признавайте его. Если вы его отрицаете, вы отрицаете то,
40*
628
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
что для моего по крайней мѣрѣ разсудка составляетъ основную истину, и въ такомъ
случаѣ мы не можемъ понимать другъ друга. Если же вы признаете всевѣдѣніе
Божіе, то не порочьте же того, что вы беретесь защищать. Принимая теорію такъ
называемаго нравственнаго управленія міромъ, вы поносите Всевѣдѣніе, ибо вы
этимъ утверждаете, что начертанный безпредѣльною Мудростью строй всей вселен-
ной, включая въ него дѣятельность и природы, и человѣка, не въ состояніи вы-
полнить даннаго ему назначенія, если та же Премудрость не будетъ по временамъ
вмѣшиваться въ дѣло. Вы въ сущности утверждаете, что или Всевѣдѣніе ошиблось,
или Всемогущество было осилено. Людямъ, которые вѣруютъ и которые горды и
счастливы своимъ вѣрованіемъ въ существованіе Силы, стоящей выше всего и впе-
реди всего, всевѣдущей и всетворящей, не слѣдовало бы конечно впадать въ по-
добную ошибку. Люди, но довольствующіеся нашимъ тѣснымъ чувственнымъ міромъ
и стремящіеся вознестись мыслью къ чему-то, чего не могутъ уловить чувства, вду-
мавшись глубже въ дѣло, безъ сомнѣнія тотчасъ же поймутъ, какъ грубо и какъ
матеріально теологическое воззрѣніе, которое возлагаетъ на эту Силу мелкія отправ-
ленія земной власти, облекаютъ ее въ образъ земного правителя и представляютъ ее
во все и всюду вмѣшивающейся, гремящей угрозами, налагающей кары и воздаю-
щей награды. Это низкія и недостойныя представленія, порожденныя невѣжествомъ
и мракомъ. Такія грубыя и жалкія понятія пе далеко ушли отъ положительнаго идо-
лопоклонства. Это обломки отжившаго вѣка, и они но должны лежать на нашемъ
пути. Они были приличны тѣмъ древнимъ, варварскимъ временамъ, когда люди еще
не въ состояніи были очйртить своихъ мыслей, а слѣдовательно не въ состояніи
были очистить своихъ вѣрованій. Теперь же опп поражаютъ насъ фальшью. Они
въ разладѣ съ другими частями нашего знанія; они ни съ чѣмъ уже не вяжутся.
Все окружающее находится въх противорѣчіи съ пими. Они стоятъ особнякомъ; во-
кругъ не осталось уже ничего, съ чѣмъ бы они гармонировали. Весь строй и все
направленіе новѣйшей мысли невольно приводятъ насъ къ понятіямъ правильности
и закона, которымъ эти воззрѣнія прямо противоположны. Сами тѣ, которые еще
упорно цѣпляются за нихъ, Дѣйствуютъ скорѣе подъ вліяніемъ преданія, чѣмъ вслѣд-
ствіе полнаго и твердаго вѣрованія. Дѣтская и безграничная вѣра, съ которой нѣ-
когда принималось ученіе/о вмѣшательствѣ, теперь смѣнилась холоднымъ и без-
жизненнымъ признаніемъ его, нисколько не похожимъ на энтузіазма, прежнихъ вре-
менъ. Скоро и это исчезнетъ, и люди перестанутъ тревожиться призраками, создан-
ными ихъ же собственнымъ невѣжествомъ. Нашъ вѣкъ быть можетъ не увидитъ
этого освобожденія; но какъ вѣрно то, что умъ человѣческій идетъ впередъ, такъ же
вѣрно и то, что наступитъ для него часъ освобожденія. Выть можетъ, онч. придетъ
скорѣе, чѣмъ кто-либо думаетъ, ибо мы идемъ впередъ скоро и большими шагами.
Знаменія времени всюду вокругъ насъ, и кто хочетъ читать—да читаетъ. Письмена
горятъ на стѣнѣ, приговоръ произнесенъ; древнее царство должно пасть; владыче-
ство суевѣрія, уже распадающееся, должно рухнуться и разсыпаться прахомъ, новая
жизнь вдохнется въ нестройную, хаотическую массу и ясно покажетъ, что отъ на-
чала созданія не было ни въ чемъ ни противорѣчія, ни разлада, ни безпорядка, ни
перерывовъ, ни вмѣшательства; но что все совершающееся вокругъ насъ, до отда-
леннѣйшихъ предѣловъ матеріальной вселенной, представляетъ только различныя
части единаго цѣлаго, которое все проникнуто единымъ великимъ началомъ всеоб-
щей и неуклонной правильности.
подробный указатель содержанія
ГЛАВА I.
СТР.
Обзоръ вспомогательныхъ средствъ для изученія исторіи. Доказательства правильности чело-
вѣческихъ дѣйствій. Дѣйствія эти управляются духовными и физическими законами, отчего
необходимо изученіе и тѣхъ, и другихъ, и не можетъ быть исторіи безъ естественныхъ
наукъ.......................
Матеріалы для исторіи.—Ограниченность по-
знаній, замѣчаемая въ обыкновенныхъ исто-
рикахъ.—Цѣль настоящаго сочиненія.—Дѣянія
человѣческія, если они не опредѣляются не-
измѣнными законами, должны зависѣть отъ слѣ-
пого случая или отъ сверхъестественнаго вмѣша-
тельства.—Вѣроятное происхожденіе идей сво-
боды воли и предопредѣленія.—Теологическое
основаніе предопредѣленія и метафизическое
основаніе свободы воли.—Дѣянія человѣческія
зависятъ отъ побудительныхъ къ нимъ причинъ,
заключающихся или внутри человѣческаго духа;
или во внѣшнемъ мірѣ.—Извлеченіе изъ Кантаі
............................1 — 15
о свободѣ воли п необходимости.—Итакъ, пред-
метъ исторіи—дѣйствіе природы на человѣка и
человѣка на природу.—Статистика доказываетъ
правильность человѣческихъ дѣйствій относи-
тельно убійства и другихъ преступленій.—По-
добныя же доказательства относительно само-
убійствъ,—То же относительно числа ежегодно
заключаемыхъ браковъ.—То же относительно
числа писемъ без/ означенія адреса.—Задача
।историка—приверти въ извѣстность, что болѣе
всего имѣлолвліянія на дѣянія человѣческія—
природа или духъ человѣка? Поэтому не мо-
жетъ быть исторіи безъ естествознанія.
/ Г Л А В А II. \
Вліяніе физическихъ законовъ/на организацію общества и характеръ отдѣльныхъ лицъ . . 16—57
На человѣка вліяютъ четыре рода физическихъ I такихъ условіяхъ находились древнѣйшія ци-
дѣятелеп, а именно: климатъ, пища, почва и । вплизаціп.—Воображеніе возбуждается земле-
общій видъ природы.—Вліяніе этихъ дѣятелей трясеніями и изверженіями вулкановъ. — II
па накопленіе богатства.—Вліяніе ихъ па рас- і вообще опасностями. — Также * нездоровымъ
предѣленіе богатства.—Поясненіе этихъ об-1 климатомъ, дѣлающимъ жизнь ненадежною.—
щихъ началъ примѣромъ Ирландіи. — Индо-1 По этимъ причинамъ впѣ-евроиейскія цивили-
стапа.— Египта. - Центральной Америки. — ’ заціи находятся главнѣйшимъ образомъ подъ
Мексики и Перу.—Дѣйствіе физическихъ за-1 вліяніемъ воображеніи, а европейскія — йодъ
коновъ въ Бразиліи.—Вліяніе общаго вида вліяніемъ разсудка.—Поясненіе этого поло-
природы на воображеніе и разумъ.—При од- женія сравненіемъ между Индостаномъ и Гре-
ной обстановкѣ природа беретъ верхъ надъ че- ціею.—Дальнѣйшее поясненіе примѣромъ Цен-
ловѣкомъ, при другой—человѣкъ падъ прпро-. тральной Америки.—Химическая и физіологи-
дою.—Въ первомъ случаѣ болѣе усиливается I чсская замѣтки о связи между пищею и жи-
дѣятелыюсть воображенія. чѣмъ разсудка; въ ! вотною теплотою.
двухъ метафизическихъ методовъ, употребляе-
мыхъ для вывода законовъ ума. — Безуспѣш-
ность обоихъ методовъ.
ГЛАВ А III.
Разборъ метода, употребляемаго метафизиками для открытія законовъ ума ....... 58—64
Въ послѣдней главѣ были установлены два Европы имѣютъ закопы умственные.—Разборъ
главные факта, значительно отличающіе Еврои у
отъ другихъ странъ свѣта.—Оказывается, что
изъ двухъ разрядовъ закоповъ, физическихъ и
умственныхъ, большее значеніе для исторіи
ГЛАВА IV.
Законы духа человѣческаго раздѣляются на нравственные и умственные. Сравненіе законовъ
нравственныхъ съ умственными и изслѣдованіе дѣйствія, производимаго тѣми и другими
на развитіе общества........................................ 65—91
Историческій методъ изученія законовъ ума | бываетъ двоякій — нравственный и умствен-
лучіпе метафизическаго.—Прогрессъ общества | иый. — Сравненіе нравственнаго элемента съ
и
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
умственнымъ.—Нѣтъ никакого доказательства
тому, что врожденныя способности человѣка
улучшаются. — Поэтому прогрессъ зависитъ
отъ улучшенія той обстановки, при которой
способности начинаютъ дѣйствовать.—Норма
человѣческихъ дѣяній была различна въ раз-
ныя времена, слѣдовательно и причины этихъ
дѣяній подвержены измѣненію. — Но нрав-
ственныя истины не измѣнились. — Умствен-
ныя же истины постоянно измѣняются.—
Умственныя истины-опричина прогресса.—Не-
вѣжественные люди, чѣмъ искреннѣе, тѣмъ
болѣе дѣлаютъ зла.—Поясненіе этого примѣ-
рами изъ исторіи Рима и Испаніи. — Умень-
шеніе религіозныхъ преслѣдованій зависитъ
отъ успѣховъ знанія. — Отъ той же причины
происходитъ и ослабленіе воинственнаго духа.—
Примѣръ Россіи и Турціи.—По мѣрѣ развитія
цивилизаціи, люди способные начинаютъ из-
бѣгать военной службы.—Поясненія этого при-
мѣрами изъ исторіи Греціи и новѣйшей Евро-
пы.—Три главнѣйшіе пути, которыми дѣйство-
вали успѣхи знанія на ослабленіе воинственна-
го духа, суть: 1. Изобрѣтеніе огнестрѣльнаго по-
роха.—2. Открытія, сдѣланныя нолитико-эконо-
мами.—3. Примѣненіе пара къ средствамъ со-
общенія.—Какіе изъ этого можно сдѣлать выво-
ды относительно причинъ прогресса общества.
ГЛАВА V.
О вліяніи религіи,^литературы и правительства
92—121
Перечисленіе предшествовавшихъ выводовъ.—
Нравственныя чувства имѣютъ вліяніе па от-
дѣльныя личности, но не дѣйствуютъ на цѣлое
общество въ совокупности.—Это до сихъ поръ
было мало сознаваемо, и потому историки не
собрали должныхъ матеріаловъ для исторіи.—
Причины по которымъ настоящее сочиненіе
ограничивается одною Англіею. “ Сравненіе
исторіи Англіи съ исторіею Франціи. — Съ
исторіею Германіи.—Съ исторіею Соединенныхъ
Штатовъ.— Необходимость приведенія въ из-
вѣстность основныхъ законовъ умственнаго про-
гресса.—Въ этомъ отношеніи большую пользу
можетъ принести изученіе истрріи "Германіи,
Америки, Франціи, Испаніи и ГЙЪтлапдіи.—Де-
дуктивный духъ въ Шотландіи.—Вліяніе рели-
гіи на прогрессъ общества.—Примѣръ миссіо-
неровъ.—Примѣръ пзъ исторіи евреевъ.—При-
мѣръ изъ ранней исторіи христіанства.—При-
I мѣръ изъ исторіи Швеціи п Шотландіи.—Влія-
' ніе литературы на прогрессъ общества.—Влія-
ніе правительства на прогрессъ общества.—При-
мѣръ—отмѣна законовъ о зерновомъ хлѣбѣ,—
Лучшее законодательство то, которое отмѣ-
няетъ прежнія законодательства.—Вмѣшатель-
ство государственныхъ людей въ дѣла торговли
повредило торговлѣ,—Законодатели были ви-
новниками развитія контрабанды со всѣми со-
провождающими се преступленіями.—Они бы-
ли также виновниками развитія лицемѣрія и
клятвопреступлейія.—Своими постановленіями
противъ лихвы они усилили лихву.—Другими
постановленіями они замедлили успѣхи знанія.-
Подобныхъ вмѣшательствъ въ Англіи было ме-
нѣе, чѣмъ въ другихъ странахъ, и потому она
пользуется большимъ благосостояніемъ.
ГЛАВА VI.
Начало исторіи и состояніе исторической литературы въ средніе вѣка......122- 138
Выводы, сдѣланные изъ предыдущихъ пзслѣ- I венства. — Нелѣпости, которымъ въ разныя
дованін. — Разсмотрѣніе перемѣнъ, ироис-1 времена вѣрили.— Примѣръ, представляемый
шедшихъ въ историческихъ изслѣдованіяхъ, і «Исторіею Карла Великаго» Турпина.—Такой
прольетъ свѣтъ на перемѣны, происшедшія въ I же примѣръ представляетъ «Исторія Брѵт-
самомъ обществѣ.—Самыя раннія историческія і товъ» Джоффрея.—Первые слѣды улучшенія
сочиненія—это баллады.—Одною изъ причинъ въ образѣ описанія исторіи находимъ мы въ
ошибокъ, вкравшихся въ исторію, было изобрѣ- четырнадцатомъ и пятнадцатомъ столѣтіяхъ.—
теніе письма. — Перемѣна религіи въ каждой Но легковѣріе все еще преобладаетъ, какъ вид-
странѣ способствовала также искаженію ея ' ио пзъ записокъ Комина.—Это же видно и
ранней исторіи. — Но самою дѣятельною при-' изъ предсказаній Стёффлера о потопѣ. — II
чиною было въ этомъ случаѣ вліяніе духо-! изъ сочиненія доктора Горста о золотомъ зубѣ.
ГЛАВА VII.
Очеркъ исторіи умственнаго движенія въ Англіи съ XVI до конца ХѴШ столѣтія. . . . 139-204
Нелѣпый образъ писанія исторіи былъ есте-
ственнымъ послѣдствіемъ тогдашняго состоянія
общества.—Духъ сомнѣнія былъ необходимымъ
предшественникомъ прогресса. — Отсюда гро-
мадная важность скептицизма. — Начало ре-
лигіозной терпимости въ Англіи.—Противопо-
ложность между Гукеромъ и Джювелсмъ.—
Скептицизмъ и духъ изслѣдованія, проявляю-
щіеся и въ другихъ предметахъ. — Направле-
ніе, проявившееся въ Чиллингвортѣ.—Сравне-
ніе Чиллингворта съ Гукеромъ и Джювелемъ.—
Дальнѣйшее движеніе въ томъ же направле-
ніе и шфшаше равнодушіе къ теологи-
ческимъ вопросамъ. — Значительная польза
такого движенія. — Въ царствованіе Іакова I
Карла 1 это сопротивленіе авторитету при-
нимаетъ политическій характеръ.—При Карлѣ
II оно обращается въ модное направленіе
двора.—Вліяніе этого духа на сэра Томаса
Броуна. — Вліяніе того же духа на Бойля.—
Послѣдствіемъ этого направленія является
у чр еждев і е Кор о л евскаго Общества.—То л ч о къ.
сообщенный этимъ естествознанію, и попытки
духовенства противодѣйствовать ему.—Духо-
венство конечно смотритъ враждебно па рас-
; прострапеніс естествознанія, потому что оно
ослабляетъ вліяніе этого сословія.—Поясненіе
этого сравненіемъ относительно суевѣрія мо-
, раковъ и земледѣльцевъ съ солдатами и ре-
і мссленппками. — Благія законодательныя ре-
формы царствованія Карла ІТ совершившіяся,
I несмотря на упадокъ политическаго значенія
ПОДРОБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНІЯ.
ІИ
государства. — Улучшенія эти были плодомъ
скептическаго, пытливаго духа.--Имъ способ-
ствовали пороки короля.—Имъ помогало также
нерасположеніе короля къ духовенству.—Онъ і
покровительствовалъ Гоббсу и оказывалъ пре-
небреженіе самымъ даровитымъ личностямъ
изъ духовенства. — Духовенство, чтобы со-
хранить свое прежнее значеніе, примкнуло къ
Іакову II. — Союзъ этотъ былъ разрушенъ
изданіемъ „Весіагаііоп о! Ішіііі^епсе44.—Тогда
духовенство соединилось съ диссентерами и
произвело возстаніе 1688 года. -Важное зна-
ченіе этого возстанія.—Но духовенство вскорѣ
стало раскаиваться въ своемъ поступкѣ.—
Враждебныя отношенія этого сословія къ Виль-
гельму III.—Происшедшій вслѣдствіе этого
расколъ въ самой церкви.—Это дало новую
пищу скептицизму.—Конвокація сперва ста-
новится предметомъ всеобщаго презрѣнія, а
затѣмъ и совершенно отмѣняется.—Послѣ ре-
волюціи самые способные люди стали исклю-
чительно обращаться къ свѣтскимъ профес-
сіямъ и избѣгать духовной. — Духовенство
утратило всѣ мѣста, которыя оно занимало
внѣ церкви, и число духовныхъ членовъ умень-
шилось въ обѣихъ палатахъ парламента.—
Духовенство оправилось па время въ цар-
ствованіе Анны.—Но оно было ослаблено дис-
сентерами, во главѣ которыхъ стояли Веслей
и Вайтфильдъ.—Отдѣленіе теологіи отъ нрав-
ственности и политики.—Быстрая послѣдова-
тельность скептическихъ споровъ.—Знаніе на-
чинаетъ распространяться въ массѣ народа
и принимаетъ популярную форму.—Полити-
ческіе митинги и печатаніе парламентскихъ
преній.—Ученіео личномъ представительствѣ и
идея о независимости. — Соотвѣтствующая пере-
мѣна въ тонѣ и образѣ выраженія писателей.—
Вслѣдствіе всѣхъ этихъ перемѣнъ стали не-
избѣжны великія реформы. — Направленію
этому благопріятствовали личныя свойства
Георга I и Георга II.—Но ему повредило цар-
ствованіе Георга III, при которомъ началась
опасная политическая реакція.—Невѣжество
Георга III. —Угодливость Питта. —Неспособ-
ность другихъ государственныхъ людей и не-
нависть короля къ великимъ людямъ.—Палата
лордовъ падаетъ въ общественномъ мнѣніи.—
Умъ и познанія Бёрка.—Онъ противился ви-
дамъ Георга III и потому очень низко стоялъ
во мнѣніи короля. — Его раздражительность
подъ конецъ жизни. — Король начинаетъ по-
кровительствовать ему.—Политика Георга III
относительно Америки.—Политика эта отра-
зилась на Англіи.—Политика относительно
Франціи. — И эта политика также отрази-
лась па Англіи.—Плодомъ ея были произ-
вольныя мѣры, направленныя противъ свобо-
ды Англіи.—Эти стѣснительныя мѣры стано-
вились еще тягостнѣе вслѣдствіе особаго рве-
нія ихъ исполнителей. — Грустная будущ-
ность, представлявшаяся Англіи въ концѣ
восемнадцатаго столѣтія. — Но, благодаря
успѣхамъ знанія, стала готовиться контръ-
реакція,—Этой реакціи и усилившемуся влі-
янію общественнаго мнѣнія Англія обязана
своими великими реформами девятнадцатаго
± ; столѣтія.
* і
Г'ЛАВІА ѴШ.
Очеркъ исторіи умственнаго движенія во Франціи, съ половины шестнадцатаго вѣка до всту-
пленія на престолъ Людовика XIV . . .
Важность вопроса о томъ, слѣдуетъ ли исто-
рику начинать съ изученія нормальнаго со-
стоянія общества, или же съ аномальнаго.—
Большее значеніе духовенствавоФранціп,чѣмъ
въ Англіи. — Поэтому во Франціи въ теченіе
шестнадцатаго столѣтія теологическое напра-
вленіе отражалось на всемъ сильнѣе, чѣмъ въ
Англіи. — Поэтому также во Франціи была
невозможна религіозная терпимость. — По въ
концѣ шестнадцатаго столѣтія во Фрапціи по-
явился скептицизмъ, а съ нимъ вмѣстѣ явилась
и религіозная терпимость, какъ можно было ви-
дѣть изъ Нантскаго Эдикта.—Первымъ скеп-
тикомъ во французской литературѣ былъ не
Рабле, а Монтэпь —То же направленіе под-
держивалъ Шарронъ. — Генрихъ IV покрови-
тельствовалъ протестантамъ.—Даже королева-
правительница оказывала имъ терпимость во
время несовершепнолѣтія Людовика XIII. - -
Но самыя замѣчательныя мѣры въ пользу ре-
лигіозной терпимости были приняты карди-
наломъ Ришельё, который дѣйствительно сми-
рилъ духовенство. — Онъ отстаивалъ новую
свѣтскую систему управленія государствомъ
противъ старой, духовной системы.—Либераль-
ный образъ дѣйствія Ришельё относительно
французскихъ протестантовъ.—Свѣтскіе вожди
................................... 205—249
покидаютъ ихъ, и управленіе протестантскою
партіею попадаетъ въ руки духовенства.—
Поэтому французскіе протестанты, имѣя во
главѣ своей духовенство, стали отличаться
большею нетерпимостью, чѣмъ французскіе ка-
толики, предводительствуемые государствен-
ными людьми.—Доказательство нелибералыіаго
направленія французскихъ протестантовъ. —
Они затѣваютъ междоусобную войну, которая
была скорѣе борьбою между сословіями, чѣмъ
борьбою между вѣрованіями. —Ришельё .по-
давилъ возмущеніе, но все-таки воздержался
отъ преслѣдованія протестантовъ.—Эта либе-
ральная политика со стороны правительства
была только однимъ изъ проявленій болѣе
обширнаго движенія.—Поясненіе этого прп-
і мѣромъ философіи Декарта.—Аналогія между
I Декартомъ и Ришелье.—Этотъ же враждебный
। церкви духъ проявился и въ пхъ современ-
никахъ.—Дому же вліянію подпалъ и Маза-
рпнп. — Оно же проявлялось и въ войнахъ
Фронды. — Несмотря на сходство меледу Ан-
гл іею п Франціей), проявившееся въ этихъ со-
временныхъ возстаніяхъ, было все-таки боль-
шое различіе между обѣими странами; пре-
обладаніе во Франціи духа покровительства
помѣшало ей сдѣлаться свободною.
ГЛАВА IX.
Исторія духа покровительства и сравненіе проявленій его во Франціи и въ Англіи. . . 250“ 265
Около одиннадцатаго столѣтія духъ изслѣдова-' Въ то же время возникла феодальная система
нія сталъ ослаблять могущество духовенства.— и явилась наслѣдственная арпстократія.—Дво-
IV
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІЯ ВЪ АНГЛІИ.
рянство вытѣсняетъ духовенство, и началу
безбрачія противопоставляется начало наслѣд-
ственности званія. — Въ Англіи дворянство
было менѣе могущественно, чѣмъ во Франціи.—
Опо радо было соединиться съ народомъ про-
тивъ монархической власти.—Отсюда родился
въ англійскомъ пародѣ тотъ духъ независи-
мости, котораго не знали во Франціи, гдѣ дво-
рянство было слишкомъ могущественно, чтобы
нуждаться въ помощи со стороны народа.—
Послѣдствія такого различія меледу этими
двумя странами, обнаружившіяся въ четыр-
надцатомъ столѣтіи. — Централизація была
во Франціи естественною преемницею феода-
лизма.—Противоположность между этимъ по-
рядкомъ вещей и тѣмъ, который оказался въ
Англіи. Могущество французской аристо-
кратіи.—Примѣръ изъ исторіи рыцарства.—
Тщеславіе французовъ и гордость англичанъ.—
Обыкновеніе дуэлей.—Гордость англичанъ бла
гопріятствовала введенію Реформаціи.—Анало-
гія между Реформаціею и революціями семна-
дцатаго столѣтія. —Въ обоихъ случаяхъ против-
никами нововведеній являлись дворянство и
духовенство. Естественный союзъ между этими
двумя сословіями,—Въ царствованіе Елизаветы
оба сословія ослабѣли.—Іаковъ 1 и Карлъ I
тщетно пытались возстановить пхъ могущество.
ГЛАВА X.
Сила, которою обладалъ духъ покровительства во Франціи, служитъ объясненіемъ неуспѣха
Фронды. Сравненіе Фронды съ современнымъ ей англійскимъ возстаніемъ.................. 266—276
Различіе между Фрондою п великимъ возста-
ніемъ Англіи.-Англійское возстаніе было вой-
ною между сословіями.—Но во Франціи энер-
гія духа покровительства и могущество дво-
рянства сдѣлали воину между сословіями не-
возможною.— Тщеславіе и пустота француз-
скихъ дворянъ. — Такъ какъ подобные люди
были вождями Фронды, то возстаніе естественно
не удалось.—Англійское же возстаніе удалось,
потому что это было демократическое движе-
ніе, во главѣ котораго стояли вожди изъ
народа.
ГЛАВА XI.
Духъ покровительства, перенесенный Людовикомъ XIV въ литературу. Обзоръ послѣдствій
союза умственно-трудящагбся сословія съ правительствующемъ.......................
Духъ покровительства во Франціи, породившій
столько политическихъ золъ, былъ перенесенъ
въ литературу при Людовикѣ XIV, вслѣдствіе
чего образовался союзъ между литературою и
правительствомъ. — Деспотическій характеръ
царствованія Людовика XIV.—Писатели пи-
таютъ благодарность къ Людовику XIV,—Но
его система покровительства лцтературѣ была
вредна.—Первымъ послѣдствіемъ ея было то,
что великое движеніе, сообщённое всѣмъ от-
этого
. 277- 292
чего сдѣлано въ это царствованіе даже по
частп механическихъ искусствъ.—Упадокъ фи-
зіологіи, хирургіи и медицины.—Также зооло-
гіи и химіи. —Не было также ничего сдѣлано
п по части ботаники. — Умственный упадокъ
при Людовикѣ XIV замѣчался по всѣмъ отрас-
лямъ мысли п былъ естественнымъ послѣдствіемъ
покровительства.—Доказательства этого, заим-
ствованныя изъ исторіи искусства во Франціи. —
ли„тѵ...ѵ, ох Также изъ всѣхъ отраслей литературы. — У по-
раслянъ знанія въ управленіе Ришельёи Ми-। докъ Франціи ко всѣхъ отношеніяхъ въ послѣд-
заринп, внезапно остановилось.—Не было ни-1 нее время царствованія Людовика XIV.
ГЛАВА XII,
Смерть Людовика XIV.—Реакція противъ духа покровительства и подготовленіе Французской
Революціи....................................................................... 293—312
Англійская литература была неизвѣстна во
Франціи въ царствованіе Людовика XIV.—Но
еѳ начали изучать по смерти этого короля,
когда замѣчательнѣйшіе пзъ французовъ посѣ-
тили Англію. Это повело къ общенію между
французскимъ и англійскимъ умами. — Удив-
леніе,-возбужденное во французахъ Англіею.—
Отсюда распространеніе во Франціи либераль-1
ныхъ идей, которыя правительство пыталось |
подавить.—Происшедшее отъ этого прсслѣдо-1
ваніе литераторовъ французскимъ правитель-
ствомъ.— Насильственныя дѣйствія этого пра-
вительства.—Во Франціи литература была по-
слѣднимъ убѣжищемъ свободы. - Причины, по
которымъ литераторы сначала нападали на цер-
ковь, а не на правительство.—Потомъ они стали
нападать на христіанство.—Но до половины
царствованія Людовика XV еще можно было
спасти политическія учрежденія Франціи;
послѣ же этого періода все было уже кончено.
ГЛАВА XIII.
Состояніе исторической литературы во Франціи съ конца шестнадцатаго до конца восемнадца-
таго столѣтія . . ..................................... 313 340
Историческая литература во Франціи до конца I ное движеніе при Людовикѣ XIV. — Доказа-
шестнадцатаго столѣтія.—Улучшеніе въ методѣ | тсльство этого видно въ сочиненіи Одижьё.—
писанія исторіи, обнаружившееся въ концѣ ' А также въ сочиненіи Боссюэта.—Громадное
шестнадцатаго столѣтія?—Еще большій про- | улучшеніе, введенное Вольтеромъ.—Его Ліето»
прессъ въ началѣ семнадцатаго столѣтія.— ; рія Карла XII»,—Его« Вѣкъ Людовика XI Г».—
Онъ особенно замѣтенъ въ * Исторіи Франціи* Его трактатъ «О нравственности^ обычаяхъ
Мѳзѳрэ, вышедшей въ 1643 году.—Ретроград-' и характерѣ націй»,—Его воззрѣнія приняли
ПОДРОБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНІЯ.
Мал.іё, Маблн, Вэлли, Вплляре, Дюкло и; вторившихъ самыя дѣтскія нелѣпости отно-
Гепо.—Его обыкновеніе обращать вниманіе на ’ сптельно ранней исторіи Рима.—Нападеніемъ
характеръ эпохъ.—Его замѣчаніе, принятое ! на эти нелѣпости Вольтеръ упреждалъ Ннбу-
впослѣдствіиКонстаномъ.—Онъ защищалъ сво-1 ра.—Невѣжественное предубѣжденіе противъ
боду торговли. “ Онъ упредилъ идеи Маль-1 Вольтера въ Англіи.—Успѣху обширныхъ тру-
туса. — Его нападеніе на средніе вѣка. — АІдовъ Вольтера много способствовалъ Монте-
также на педантическихъ поклонниковъ древ- скьё.—Сочиненія Монтескьё и достоинство его
ности.—Онъ ослабилъ авторитетъ ученыхъ и метода. — Лекціи Тюрго п ихъ вліяніе.—Все
теологовъ. — Ослабилъ авторитетъ людей, по- это приближало Французскую Революцію.
ГЛАВА XIV.
Ближайшія причины Французской Революціи, начиная съ половины восемнадцатаго сто-
лѣтія .......................................................... ................ 341—384-
Пересмотръ предыдущихъ выводовъ.—Различіе
между достовѣрностыо и точностью.—Мысля-1
щая часть Франціи стала нападать на иравп-:
тельсіво около 1750 года.—Начинаются изслѣ-
дованія по части политической экономіи.—
Вліяніе Руссо.—Въ то же самое время фран-
цузское правительство стало нападать па цер-
ковь.—Эно стало также покровительствовать
ученію о религіозной свободѣ.—Уничтожеиіе
ордена іезуитовъ.—Кальвинизмъ имѣетъ демо-
кратическій, а арминіанизмъ — аристократи-
ческій Аірактеръ.—Такъ какъ япсспизмъ сое-
диняете! съ кальвинизмомъ, то возрожденіе
его во <1 ранціп помогло демократическому дви-
женію и обезпечило ниспроверженіе іезуитовъ,
ученія которыхъ армпніанскія.—Послѣ ниспро-
верженія іезуитовъ, паденіе французскаго ду-
ховенства было неизбѣжно.—Но Ьио было на
время отвращено тѣмъ, что именитѣйшіе фран-
цузы направили свои враждебныя дѣйствія
скорѣе противъ государства, чѣмъ противъ
церкви,—Связь между этимъ движеніемъ п
развитьемъ атеизма.—То же самое направле-
ніе проявляется въ Гельвеціи.—Оно же про-
явилось и въ Кондильякѣ.—Способнѣйшіе изъ
французовъ сосредоточиваютъ все свое вни-
маніе па изученіе внѣшняго міра.—Послѣд-
ствія этого для наукъ о теплотѣ, свѣтѣ и
электричествѣ.—А также для химіи и геоло-
гіи. — Въ Англіи въ тотъ же самый періодъ
великіе мыслители былп рѣдки.—Во Франціи
сообщенъ былъ непомѣрный толчокъ зоологіи
изслѣдованіями Кювье и Бпша. — Воззрѣнія
Бпшй относительно тканей. — Связь между
этпми воззрѣніями и послѣдующими откры-
тіями.—Отношеніе между изобрѣтеніями, от-
крытіями и методомъ; огромная важность ме-
тода Би иі А—Сочиненія Биша о жизни.—Ве-
ликія п удачныя попытки, сдѣланныя фран-
цузами въ ботаникѣ.—Заслуги Де-Лиля и Гаюй
по части минералогіи.—Аналогія между воз-
зрѣніями Гаюп п сочиненіемъ Пинэля о сума-
сшествіи.—Всѣ этцТромадные результаты вхо-
дили въ число причинъ Французской Револю-
ціи.—Естествознаніе есть знаніе существенно
демократическое.—То же демократическое на-
правленіе можно было замѣтить въ измѣненіи
одежды.—А также въ учрежденіи клубовъ.—
Вліяніе, произведенное на Францію возстаніемъ
въ Америкѣ.—Перечень причинъ Французской
Революціи.—Общія размышленія/
Т О Зх/Е XX.
ГЛАВА I.
СТР.
Очеркъ исторіи умственнаго движенія въ Испаніи съ пятаго до половины девятнадцатаго
столѣтія....................................................... 387—443
Въ предыдущемъ томѣ былп доказаны четыре
главныхъ положенія. — Справедливость ихъ
можетъ быть еще провѣрена изученіемъ исто-
ріи Испаніи.—Въ Испаніи физическія явленія
способствуютъ развитію суевѣрія.—Ему также
благопріятствовала великая Аріанская война
съ Фрапцісю.—А потомъ война съ магомета-
нами.—Этп три причины имѣли вліяніе на
политику Фердинанда и Изабеллы.—Продол-
женіе той же политики Карломъ V и Филип-
помъ ІГ—Филиппъ И, при всѣхъ своихъ от-
вратительныхъ свойствахъ, былъ любимъ на-
родомъ.—Привязанность къ нему народа была
результатомъ всѣхъ общихъ причинъ, которыя
въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій дѣлали изъ
испанцевъ пародъ самый вѣрноподданный въ
Европѣ. — Происхожденіе вѣрноподданниче-
ской преданности испанцевъ и доказательства
этого. — Преданность монарху была связана
съ суевѣріемъ и одна держалась другимъ.—
Въ силу этой связи сдѣланы были большія
внѣшнія завоеванія и развился сильный воин-
ственный духъ.—Ио этого рода прогрессъ, какъ
елпшкоімъ зависящій отъ отдѣльныхъ лично-
стей, по необходимости ненадеженъ.—Напро-
тивъ, прогрессъ Англіи зависитъ отъ способ-
ностей всей націи и потому продолжается, не
взирая па то, способны пли неспособны ея
правители. — Въ Испаніи правительствующіе
классы были всесильны; народъ ни во что
пе ставился; это было причиною тому, что
величіе страны, воздвигнутое даровитыми го-
сударями шестнадцатаго столѣтія, было столь
же быстро разрушено слабыми монархами
семнадцатаго вѣка.— Упадокъ Испаніи въ сем-
надцатомъ столѣтіи былъ тѣсно связанъ съ
VI
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
усиленіемъ вліянія духовенства.—Первымъ дѣ-
ломъ, для котораго воспользовалось духовен-
ство своей властью, было изгнаніе всѣхъ мав-
ровъ. — Вліяніе этого изгнанія на обѣднѣніе
Испаніи; упадокъ мануфактуръ, уменьшеніе
народонаселенія и увеличеніе бѣдности.—Въ
1700 году, когда дѣла были въ самомъ худ-
шемъ положеніи, австрійскому дому въ Испа-
ніи наслѣдовали Бурбоны.—Теперь Испаніею
управляли иностранцы.—Они пытались попра-
вить положеніе страны, ослабивъ духовен-
ство. — Но авторитетъ духовенства до того
растлилъ умственныя силы страны, что на-
родъ, погрязшій въ невѣжество, оставался не-
подвижнымъ. — Правительство пыталось по-
править это зло* обратившись за помощью къ
иностранцамъ.—Вліяніе иностранцевъ въ Испа-
ніи выразилось въ изгнаній іезуитовъ въ
1767 году. — II въ нападеніяхъ, сдѣланныхъ
на инквизицію.—Оно проявилось также и во
внѣшней политикѣ Испаніи. — Все это было
плодомъ личнаго авторитета Карла Ш п воз-
вышенныхъ свойствъ его характера.—Но оно
ни къ чему не послужило, ибо политики ни-
чего не могутъ сдѣлать, когда духъ націи не-
согласенъ съ нпмп,—Все-таки Карлъ III сдѣ-
лалъ много улучшеній, отъ которыхъ, какъ
казалось съ перваго взгляда, можно было ожи-
дать положительной пользы.—Перечень всего,
что было сдѣлано для Испаніи между 1700 и
1788 годами.—Но такъ какъ эти улучшенія
были противны складу національнаго ха-
рактера, то реакція была неизбѣжна. — Въ
1788 году Карлу III наслѣдовалъ Карлъ IV;
онъ былъ истый испанецъ и потому началась
реакція.—Въ девятнадцатомъ столѣтіи поли-
тическіе преобразователи снова пытались улуч-
шить положеніе Испаніи.—Но по причинамъ,
уже приведеннымъ выше, усилія ихъ остались
безплодны, несмотря на раннее введеніе въ
этой странѣ муниципальныхъ привилегій и
народнаго представительства.—Такимъ обра-
зомъ общія причины всегда торжествуютъ
надъ частными дѣйствіями,—Эти общія при-
чины предрасположили страну къ суевѣрію,
и отдѣльнымъ лицамъ невозможно было проти-
водѣйствовать имъ.—Ничто, кромѣ знанія, не
можетъ ослабить суевѣріе.—Все это тѣмъ бо-
лѣе замѣчательно, что Испанія пользуется гро-
мадными естественными преимуществами.—У
ней были великіе патріоты и великіе законо-
датели.—Кромѣ того испанцы долго славились
своею честью, храбростью, воздержанностью,
человѣчностью и искренностью въ религіи.—
Но во всемъ, что касается національнаго про-
гресса, эти благородныя качества не прино-
сятъ никакой пользы до тѣхъ поръ, пока не-
вѣжество такъ грубо и такъ всеобще.— Эти
именно обстоятельства, разобщая Испанію съ
остальнымъ цивилизованнымъ свѣтомъ, поддер-
живаютъ въ ней тотъ духъ суевѣрія, то благо-
говѣніе къ древности и ту слѣпую, рабскую
преданность, которые, до тѣхъ поръ, пока опи
существуютъ, будутъ дѣлать невозможнымъ
всякоо улучшепіе/а существовать онп должны
до тѣхъ иоръ^дцйа не устранится невѣжество.
• ГЛАВА II.
Состояніе Шотландіи до конца четырнадцатаго столѣтія .............................. 444—459
Шотландія п Испанія весьма не похожи ме-
жду собою относительно вѣрноподданниче-
скихъ чувствъ. — Но онѣ очень похожи. от-
носительно суевѣрія.—Шотландцы соединяютъ
либерализмъ въ политикѣ съ иЛлиберализмомъ
въ религіи. Это самый крупный и важный
фактъ въ пхъ исторіи, и вся остальная часть
тома будетъ посвящена изслѣдованію причинъ
этого явленія. — Вліяніе физической геогра-
фіи. — Вторженіе римлянъ въ Шотландію. —
Вторженіе ирландцевъ. — Вторженіе норвеж-
цевъ.—Вторженіе англичанъ.—Вредъ, нане-
сенный Шотландіи этими вторженіями, оста-
новилъ развитіе городовъ и тѣмъ благопріят-
ствовалъ развитію могущества дворянъ,—Мо-
гуществу дворянъ еще* болѣе благопріятство-
вало физическое образованіе страны. — А также
слабость коропы. — Вслѣдствіе всего этого дворянству. Причины
вліяніе дворянъ къ концу четырнадцатаго сто-1 духов
лѣтія стало непомѣрно велико. Коропа, со-
вершенно заслоняемая ими, не могла найти
нпкакой иомощи'цъ горожанахъ, ибо, благодаря
только-что упомянутымъ обстоятельствамъ, го-
родовъ не было. —Промышленность была не-
возможна п самыя обыкновенныя искусства
не были извѣстны. — Данныя относительно
скуднаго населенія шотландскихъ городовъ.—
Опп были слишкомъ слабы и ничтожны, чтобы
самимъ выбирать своихъ должностныхъ лицъ.—
Такъ какъ муниципальный элементъ былъ въ
такомъ несовершенномъ состояніи, то един-
ственнымъ союзникомъ, какого могла найти
корона, было духовенство. — Отсюда произо-
шелъ союзъ между королями и духовенствомъ
противъ дворянства.—Духовенство было един-
ственной корпораціей, способноппротпвостоять
—................... значительнаго вліянія
духовенства.
ГЛАВА Ш.
Состояніе Шотландіи въ пятнадцатомъ и шестнадцатомъ столѣтіяхъ. ....... . 460 — 484
Въ началѣ пятнадцатаго столѣтія существова- ропа въ своихъ усиліяхъ, направленныхъ пре-
ніе союза между короною и церковью противъ тивъ дворянства, была поддерживаема духо-
дворянства стало очевидно. — Іаковъ I па- венствомъ; и еще до половины пятнадцатаго
падалъ па дворянство и покровительствовалъ I столѣтія церковь и аристократія стали уже
церкви, надѣясь этимъ путемъ упрочить вер-' совершенно чужды другъ друга,—Іаковъ III,
ховное преобладаніе трона.—Но эта политика! подобно Іакову II п Іакову X соединялся съ
не имѣла успѣха, потому что ей протпводѣй-! духовенствомъ противъ дворянства,—Но могу-
ствовали обіція причины.—Она не только не ( щество дворянъ слишкомъ глубоко пустило
имѣла успѣха, но и погубила самого Іакова.— ; корни, чтобы можно было потрясти его; въ
Могущество Дугласовъ, стоявшихъ во главѣ । 1488 году онп умертвили короля. — Все-таки,
южнаго дворянства. — Іаковъ II умертвилъ' несмотря на эти послѣдовательныя неудачи,
старшихъ представителей этого рода. -- Ко-; Іаковъ IV слѣдовалъ той же политикѣ, какой
ПОДРОБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНІЯ.
держались его предшественники.—Такъ же по-
ступалъ п Іаковъ V. Вслѣдствіе этого дво-
ряне подвергли его заключенію и отставили
духовныхъ лицъ отъ всѣхъ государственныхъ
должностей. ™Въ 1528 году Іаковъ V убѣжалъ;
корона и церковь снова взяли верхъ, и глав-
нѣйшіе представители дворянства были из-
гнаны изъ отечества.™ Съ этой минуты дво-
ряне возненавидѣли духовенство болѣе чѣмъ
когда-либо; эта ненависть ихъ привела къ
Реформаціи. — Дѣятельныя мѣры, принятыя
правительствомъ противъ дворянъ.—Дворяне
мстили тѣмъ, что дѣлались реформаторами.—
Іаковъ V съ своей стороны цѣликомъ бро-
сился въ объятія духовенства. — Такъ какъ
дворяне перешли на противную сторону, а на-
родъ не имѣлъ никакого вліянія, то успѣхъ или
неуспѣхъ Реформацій въ Шотландіи зависѣлъ
чисто отъ успѣха пли неуспѣха аристокра-
тіи.—Въ 1542 году дворяне явно отказали въ
повиновеніи Іакову V; и такой поступокъ ихъ
съ нимъ въ этотъ критическій моментъ его
жизни привелъ его въ отчаяніе.—Лишь только
онъ скончался, какъ дворянство снова прі-
обрѣло власть; духовные лишились своихъ
мѣстъ, и приняты были мѣры, благопріятныя
протестантизму. — Въ 1546 году кардиналъ
Витонъ былъ умерщвленъ и на сцену высту-
пилъ Ноксъ. — Дальнѣйшій образъ дѣйствій
Нокса.—Пока Ноксъ б ылъ за границею, дворяне
ввели Реформацію.—Онъ возвратился въ Шот-
ландію въ 1559 году, когда борК$а была уже
почти окончена.—Въ 1559 году кдролева-пра-
вительница была лишена власти, діюряшс сдѣ-
лались всесильны, и въ 1560 году церковь
была ниспровергнута.—Лишь только былъ до-
вершенъ этотъ переворотъ, какъ дворяне и
проповѣдники стали ссориться изъ-за богатства
церкви.—Дворяне, думая, что оно слѣдуетъ
г л 1.
Состояніе Шотландіи въ семнадцатомъ и
VII
имъ, взяли его въ свои руки.—Вслѣдствіе
этого проповѣдники стали говорить, что дво-
рянство дѣйствуетъ по дьявольскому навожде-
нію. — Графъ Мортонъ, стоявшій во главѣ
дворянства, былъ взбѣшенъ образомъ дѣй-
ствія новаго духовенства и сталъ преслѣдо-
вать его.—Совершенный разрывъ между этими
двумя сословіями.—Духовные, видя сеЬя пре-
зираемыми правительствующимъ сословіемъ,
соединились чистосердечно съ народомъ и стали
защищать демократическія начала.™Въ 1574
году вождемъ духовенства сдѣлался Мель-
виллъ. Подъ его руководствомъ началась та
великая борьба, которая продолжалась без-
остановочно до тѣхъ поръ, пока пе произвела,
спустя шестьдесятъ лѣтъ, возстаніе противъ
Карла I.—Первымъ проявленіемъ этого мя-
тежнаго духа были нападенія на епископовъ.—
Въ 1575 году началось пападеніе. Въ 1580 го-
ду епископство было уничтожено. —Но дво-
ряне поддерживали это учрежденіе, потому
что они любили неравенство по той самой
причинѣ, которая заставляла духовенство лю-
бить равенство.—Борьба между высшими клас-
сами и духовенствомъ изъ-за епископства.—
Въ 1582 году Іаковъ VI былъ подвергнутъ
заключенію, и плѣненіе его было оправдывае-
мо духовенствомъ, которое теперь открыто
провозглашало свои демократическія убѣжде-
нія.™ Заносчивыя рѣчи духовенства противъ
короля и противъ дворянства.—Предводитель
духовной партіи/ Мельвилль нанесъ личное
оскорбленіе королю; духовенство по всей вѣ-
роятностп принимало также участіе въ заго-
ворѣ графа Гоури въ 1600 году. Тѣмъ не ме-
гнѣе|духовАн(й,во, несмотря на непристойность
своего поведенія, оказало величайшее благо-
дѣяніе Шотландіи, сохранивъ и поддержавъ
духъ свободы.
В А IV.
\
восемнадцатомъ столѣтіяхъ............. 485—509
Въ 1603 году шотландскій король сдѣлался
также королемъ англійскимъ и рѣшился вос-
пользоваться вновь пріобрѣтенными средства-
ми, чтобы смирить и наказать шотландское
духовенство. — Жестокое обращеніе его съ
этимъ сословіемъ. Въ 1610 году Іаковъ, опи-
раясь на могущество Англіи, навязалъ Шот-
ландіи епископство. Былп также учреждены
суды Верховной коммпссіп.— Тиранническій
образъ дѣйствія епископовъ.—Въ то же самое
время готовилась реакція.™Въ 1637 году ре-
акція обнаружилась, а въ 1638 г. епископы были
ниспровергнуты. — Движеніе, будучи суще-
ственно демократическимъ, не могло остано-
виться па этомъ, а быстро перешло отъ церкви
къ государству; въ 1639 году шотландцы по-
шли войною гіа Карла I и. одержавъ побѣду
надъ королемъ, продали его англичанамъ, ко-
торые казнили его.—Шотландцы, прежде чѣмъ
короновать Карла И, заставили его смириться
и сознать свои собственныя заблужденія и за-
блужденія своего дома.™ Но когда Карлъ II
вступилъ на престолъ Англіи, онъ сталъ до-
вольно могущественъ, чтобы восторжествовать
надъ шотландцами. Онъ воспользовался этимъ
могуществомъ, чтобы угнести Шотландію еще
сильнѣе, чѣмъ угнетали ее два предшествен-
ника его.—По, по счастью, духъ свободы былъ
довольно силенъ, чтобы сдѣлать тщетными всѣ
его попытки утвердить деспотизмъ па проч-
номъ основаніи.—Все-таки кризисъ былъ ужа-
сенъ, п народъ, и его духовенство подвергались
всякаго рода обидамъ.—Теперь, какъ и въ
прежнее время, епископы поддерживали прави-
тельство въ его усиліяхъ поработить Шотлан-
дію. Будучи ненавидимы пародомъ, они соеди-
нились съ короною и выказывали самыя теп-
лыя чувства къ Іакову II, въ царствованіе ко-
тораго продѣлывались такія жестокости, ка-
кихъ не знали и въ прежнее время.—Въ 1688
году настала новая реакція, въ которой шот-
ландцы снова освободились отъ своихъ при-
тѣснителей.—Единственными могущественны-
ми друзьями эт'ого дурного правительства были
горцы.—Причины, побудившія горцевъ къ воз-
станію въ пользу Стюартовъ.—Горскія воз-
станія 1715 и 1745 годовъ не былп результа-
томъ вѣрноподданнической преданности.—По-
слѣ 1745 года горцы потерялп всякое значе-
ніе, и прогрессъ Шотландіп ничѣмъ не былъ
прерываемъ.—Начало духа торговли.—Связь
между возникновеніемъ духа торговли и уни-
чтоженіемъ въ 1748 году наслѣдственныхъ
юрисдикцій.—Уничтоженіе этихъ юрисдикцій
было признакомъ упадка могущества шотланд-
скихъ дворянъ, по не причиною ого.—Одною
изъ причинъ упадка ихъ могущества былъ
союзъ пхъ съ Англіею въ 1707 году.—Другою
причиною былъ неуспѣхъ возстанія 1745 года.—
Дворяне, ослабленные такимъ образомъ, былп
ѵш
ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.
легко лишены пхъ права юрисдикціи. Итакъ,
они лишились послѣдней эмблемы своего дре-
вняго могущества.—Этому великому демокра-
тическому движенію способствовало возраста-
ніе промышленныхъ и мануфактурныхъ клас-
совъ.—А самому возрастанію этихъ классот>
благопріятствовало соединеніе съ Англіею.—
Доказательства быстрыхъ успѣховъ промы-
шленныхъ классовъ въ первой половинѣ восем-
надцатаго столѣтія.—Въ тотъ же самый пе-
ріодъ возникла въ Шотландіи новая, блестящая
литература.—Но, по несчастью, эта литера-
тура, несмотря на свой смѣлый, пытливый
| духъ, была не въ состояніи ослабить суевѣріе
націи.—Дѣло историка привести въ извѣст-
' постъ причины такой неудачи. Если онъ не
I можетъ сдѣлать этого, то опъ не можетъ по-
нимать исторію Шотландіи,—Первымъ и са-
, мымъ важнымъ свойствомъ историка должно
I быть ясное пониманіе великаго ученія о за-
' конѣ. Но всякій, кто старается примѣнить это
। ученіе ко всему ходу исторіи и выяснить
! съ помощью его ходъ и теорію всѣхъ дѣлъ,
I встрѣчаетъ препятствія, которыя никакой оди-
I почный умъ устранить пе можетъ.
і
ГЛАВА V.
Изслѣдованіе умственнаго движенія въ Шотландіи въ теченіе семнадцатаго столѣтія . 510—539
Остальная часть этого тома будетъ посвящена
еще болѣе близкому изслѣдованію двойного па-
радокса, представляемаго исторіею Шотлан-
діи, а именно: 1) что одинъ и тотъ же на-
родъ либераленъ въ политикѣ и нелпбералепъ
въ религіи; п 2) что свободная и скептиче-
ская литература, которую произвелъ этотъ на-
родъ въ восемнадцатомъ столѣтіи, была не въ
состояніи умѣрить его религіозную нелпбе-
ральность.—Религіозная нелиберальность шот-
ландцевъ была результатомъ непомѣрнаго мо-
гущества пхъ духовенства въ семнадцатомъ
столѣтіи. Причины этого могущества будутъ
изслѣдованы въ настоящей главѣ.—Несостоя-
тельность ихъ литературы въ дѣлѣ уменьше-
нія этой нелпберальностп въ восемнадцатомъ
столѣтія была послѣдствіемъ особаго’метода,
принятаго шотландскими философами. Причи-
ны всеобщаго распространенія этого метода,
сущность самаго метода и результаты его бу-
дутъ разсмотрѣны въ слѣдующей главѣ, кото-
рою и заключится этотъ томъ./Обстоятель-
ства, благопріятствовавшія въ .семнадцатомъ
столѣтіи установленію вліянія/ шотландскаго
духовенства.—Въ то время какъ война ан-
гличанъ противъ Карла I имѣла существенно
политическій характеръ, война шотландцевъ
противъ него была существенно религіозною
войною.—Хотя это обстоятельство было по-
слѣдствіемъ шотландскаго суевѣрія, но оно въ
свою очередь сдѣлалось причиною дальнѣй-
шаго развитія того же суевѣрія. — Такимъ
образомъ въ семнадцатомъ* столѣтіи свѣтскіе
интересы находились въ пренебреженіи, а тео-
логическіе получили верховное преобладаніе.
Поясненіе этого тѣмъ усердіемъ, съ какимъ
народъ слушалъ проповѣди, необыкновенно ча-
стыя п страшно длинныя, такъ что опъ про-
водилъ большую часть своей жизни въ томъ,
что ошибочно называлось отправленіемъ рели-
гіозныхъ обязанностей.- Духовенство пользо-
валось этими привычками народа, чтобы рас-
ширить и упрочить свое вліяніе.—Великимъ
орудіемъ пхъ могущества была церковная сес-
сія. Тираннія церковной сессіи.—Чудовищныя
притязанія духовенства. — Случаи, въ кото-
рыхъ полагали, будто притязанія эти поддер-
живались и оправдывались чудесами. —Ду-
ховные, возгордись своимъ могуществомъ, поз-
воляютъ себѣ говорить необыкновенно над-
меннымъ топомъ.— Они утверждаютъ, будто
чудеса творятся ради пхъ и часто надъ ихъ
личностями. — Вліяніе такого образа дѣй-
ствія на шотландскій умъ. — Духовенство,
чтобы запугать народъ п вполнѣ забрать его
въ руки, поддерживало ужаснѣйшія понятія
относительно злыхъ духовъ и наказаній въ
будущей жизни.—Съ тою же цѣлью оно рас-
пространяло еще 0олѣе ужасныя понятія о
Божествѣ, которое оно представляло суще-
ствомъ жестокимъ/раздражительнымъ и крово-
жаднымъ.— Оно /кромѣ того объявляло, что
безвредныя п ^йже похвальныя дѣйствія грѣ-
ховны и навлекаютъ гнѣвъ Божій.—Въ пред-
упрежденіе такихъ воображаемыхъ грѣховъ,
духовенство .постановило произвольныя пра-
вила и наказывало тѣхъ, которые не повино-
вались имъ, иногда розгами, а иногда при-
пеканіемъ-раеккіепнымъ желѣзомъ, иногда же
и другими средствами. —Образчики грѣховъ,
сочиненныхъ духовенствомъ. — Результатомъ
этого было, что всякая радость, всякое не-
винное веселье, всякое проявленіе счастья и
почти всѣ физическія наслажденія были уни-
чтожены въ Шотландіи —Отъ этого испор-
тился національный характеръ. Ибо наслаж-
денія -тѣла составляютъ въ настоящемъ со-
стояніи нашемъ такую же существенную часть
великаго плана жизни и такъ же необходимы въ
общемъ ходѣ дѣлъ человѣческихъ, какъ и на-
слажденія духа.—Но духовенство, обличая эти
чувственныя наслажденія, старается но возмож-
ности во всѣхъ странахъ уменьшить общій итогъ
счастья, къ которому способно человѣчество и
па которое оно имѣетъ право.—Ни въ какой дру-
гой протестантской странѣ духовенство по про-
стирало такъ далеко этихъ узкихъ и нелюди-
мыхъ взглядовъ, какъ въ Шотландіи.—Въ нѣко-
торыхъ отношеніяхъ шотландское духовенство
являлось даже болѣе аскетическимъ, чѣмъ ду-
ховенство любой изъ отраслей католической
церкви, кромѣ испанской. Оно пыталось уни-
чтожить всякую привязанность п разорвать
священнѣйшія узы семейной жизни.
ГЛАВА VI.
Изслѣдованіе умственнаго движенія въ Шотландіи въ восемнадцатомъ вѣкѣ
540—624
Шотландская научная литература восемнадца-
таго столѣтія составляла реакцію противъ
теологическаго духа семнадцатаго вѣка —Но
особенность возникшей теперь философіи со-
ставляетъ то, что, вмѣсто того, чтобы быть
индуктивною, опа оказывается дедуктивною.—
Это вполнѣ достойно вниманія. Такъ какъ ин-
дуктивный методъ есть методъ, по существу