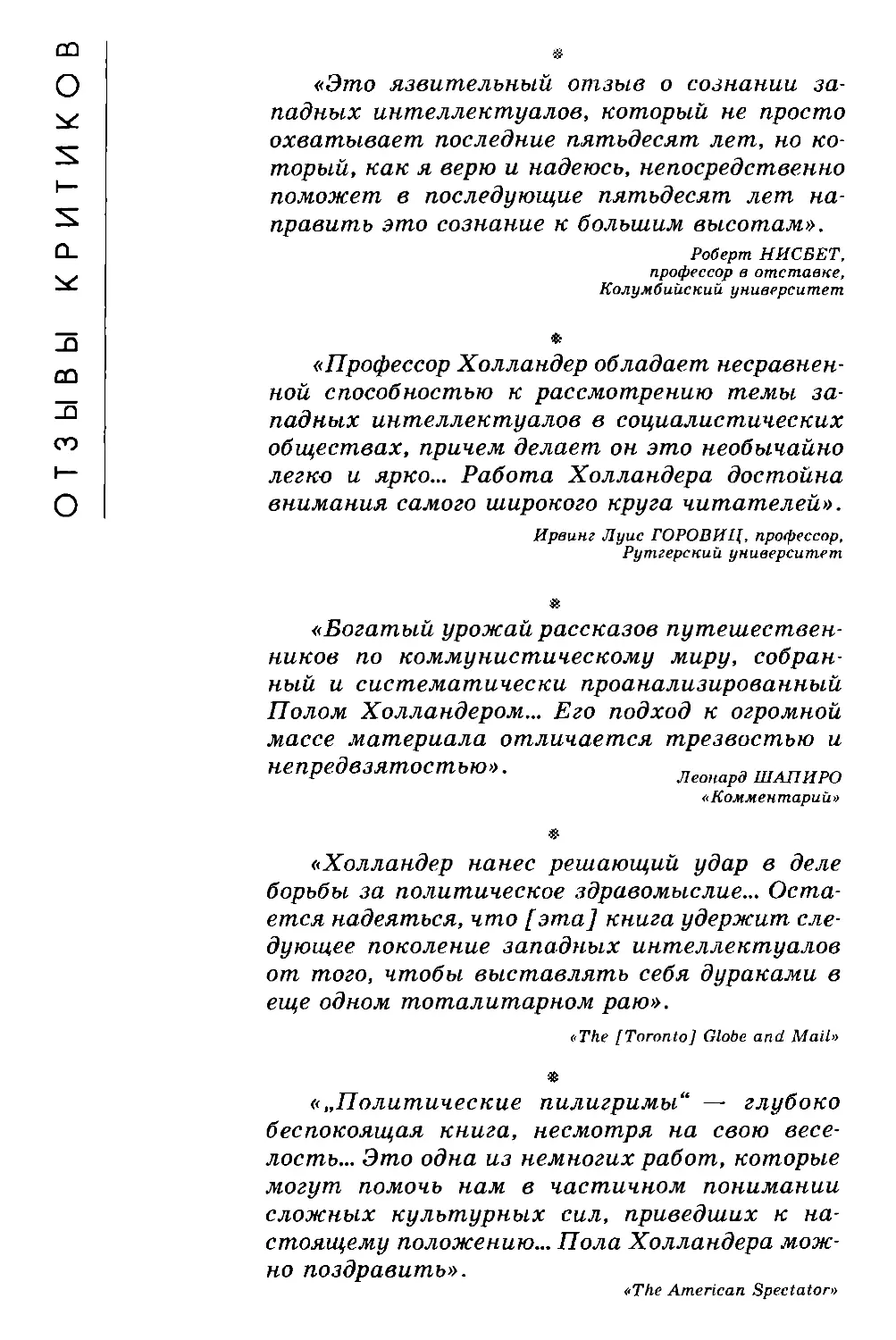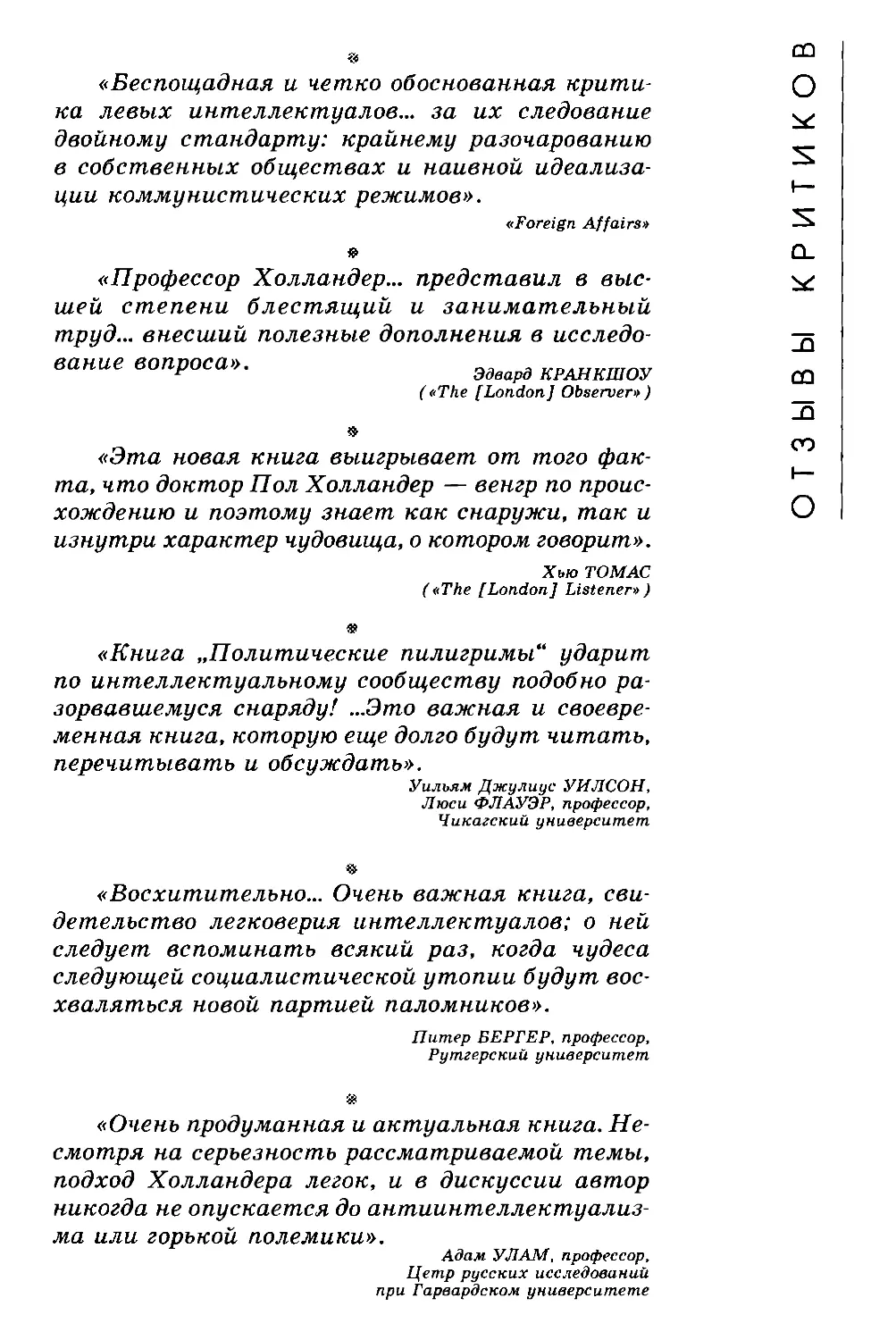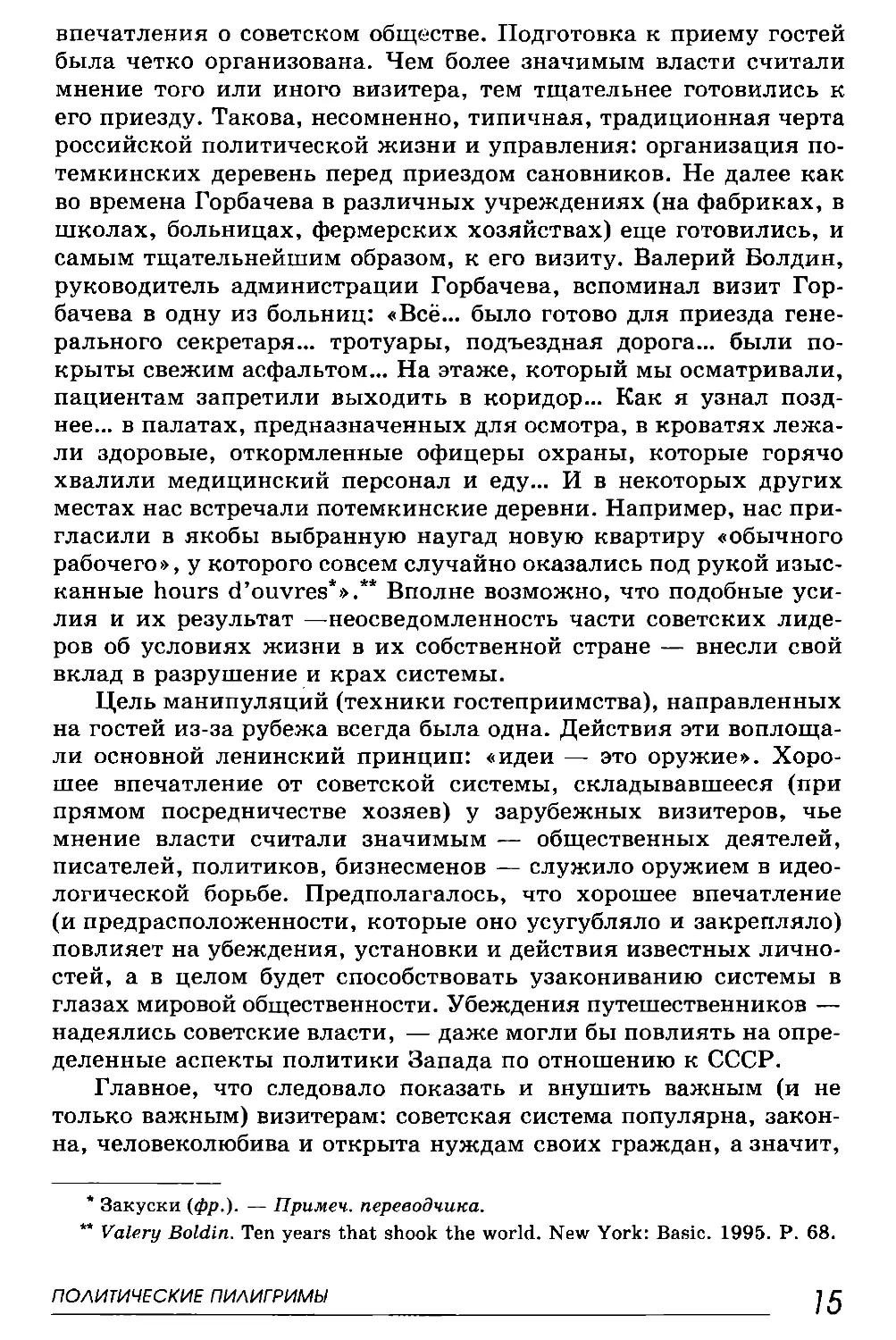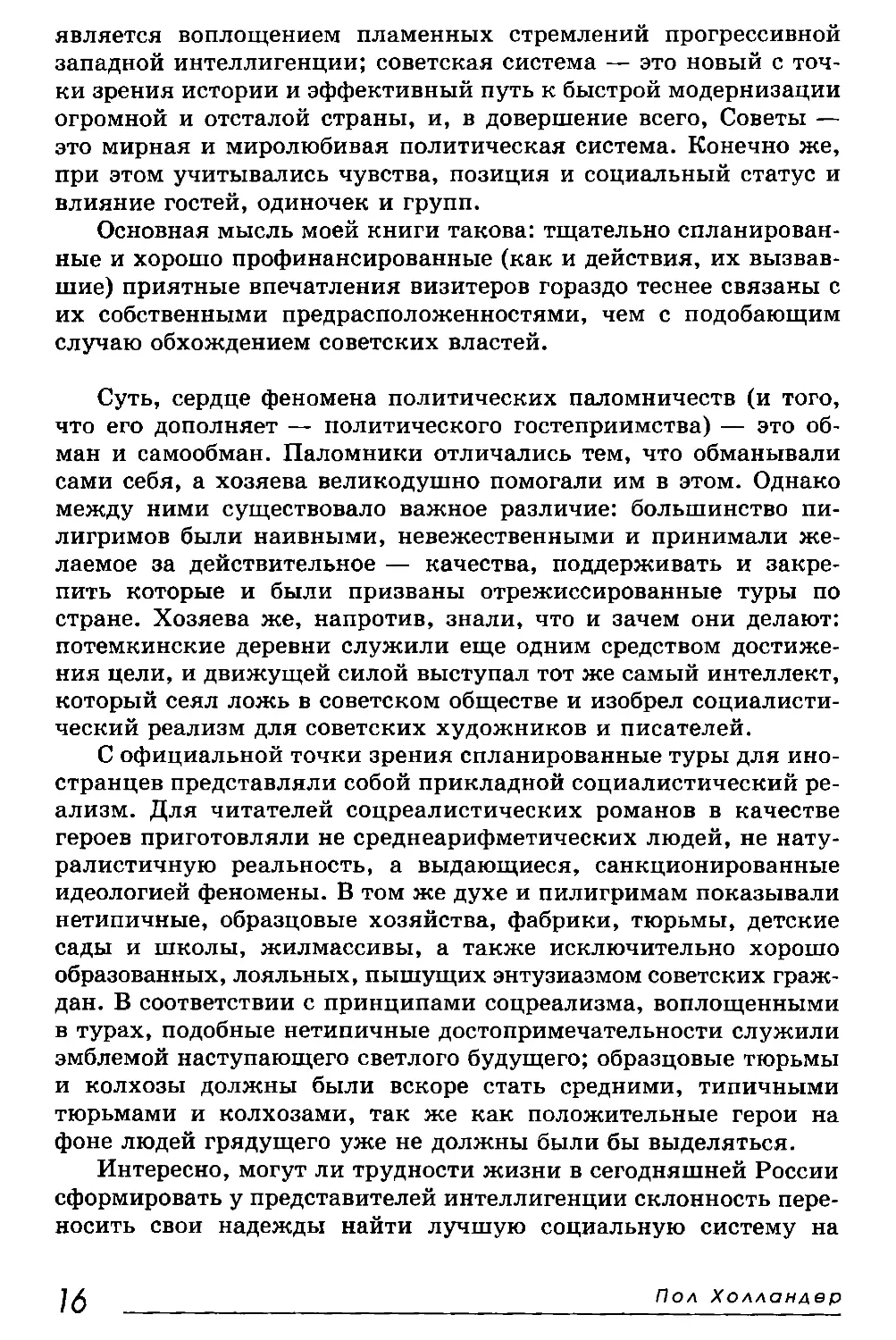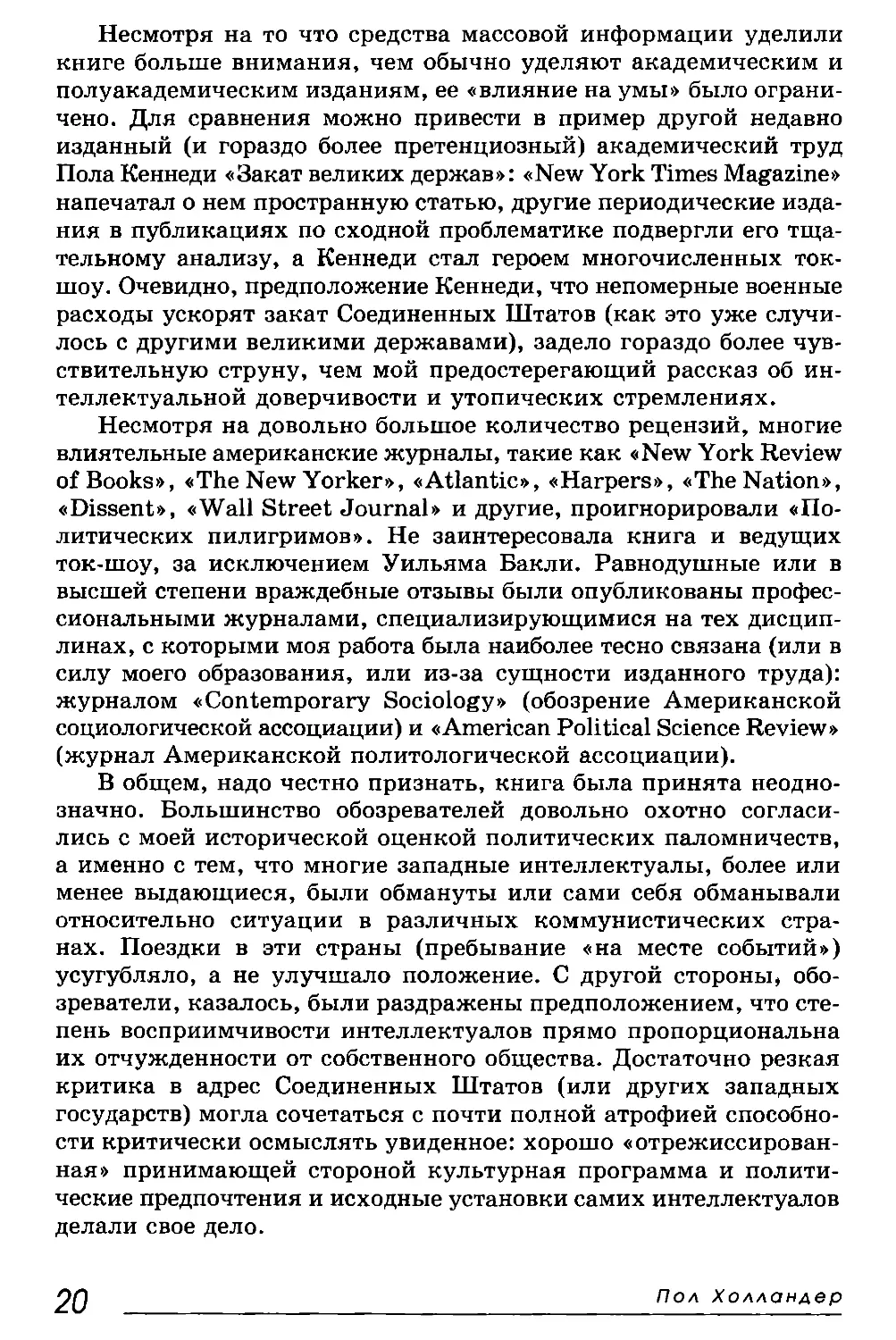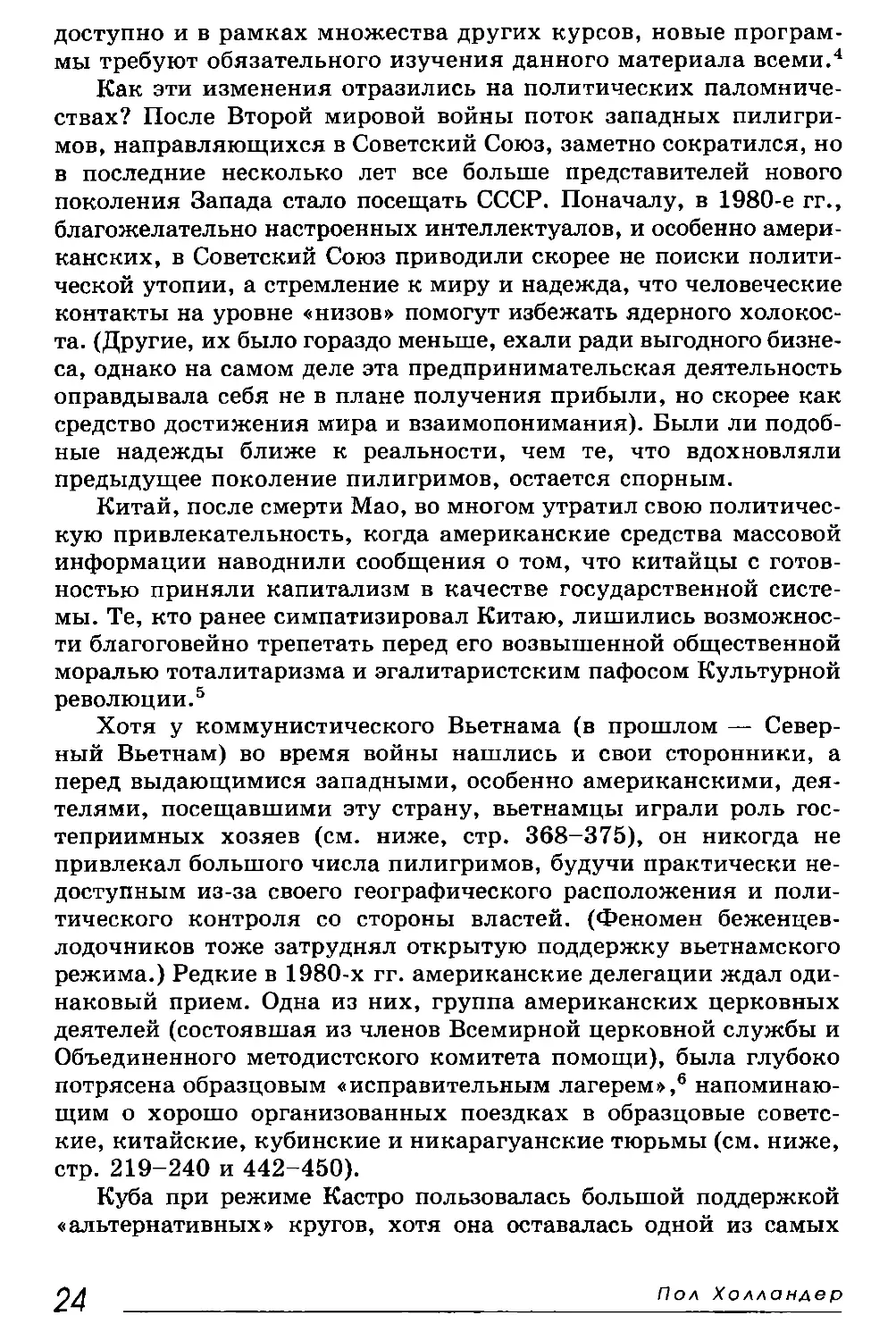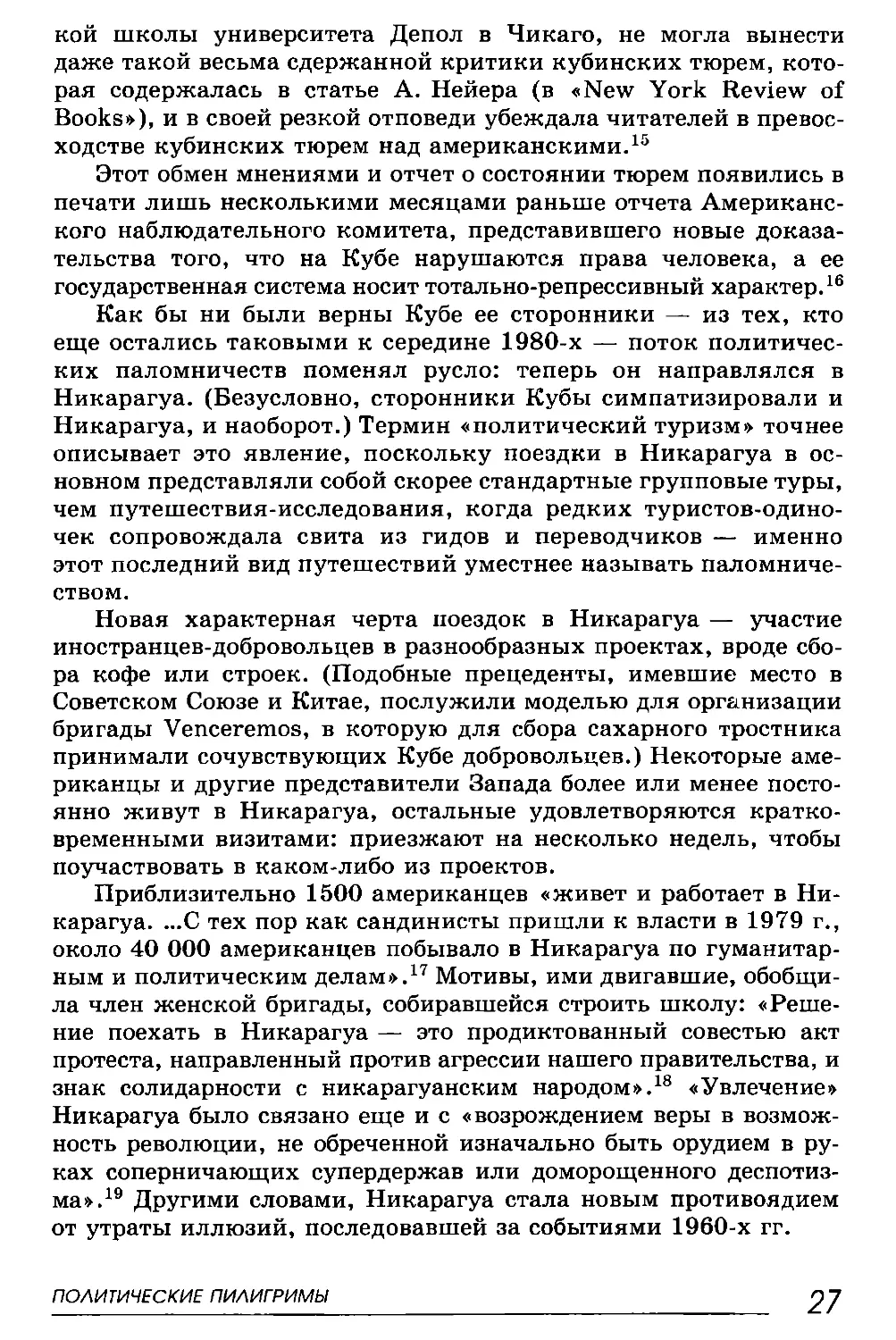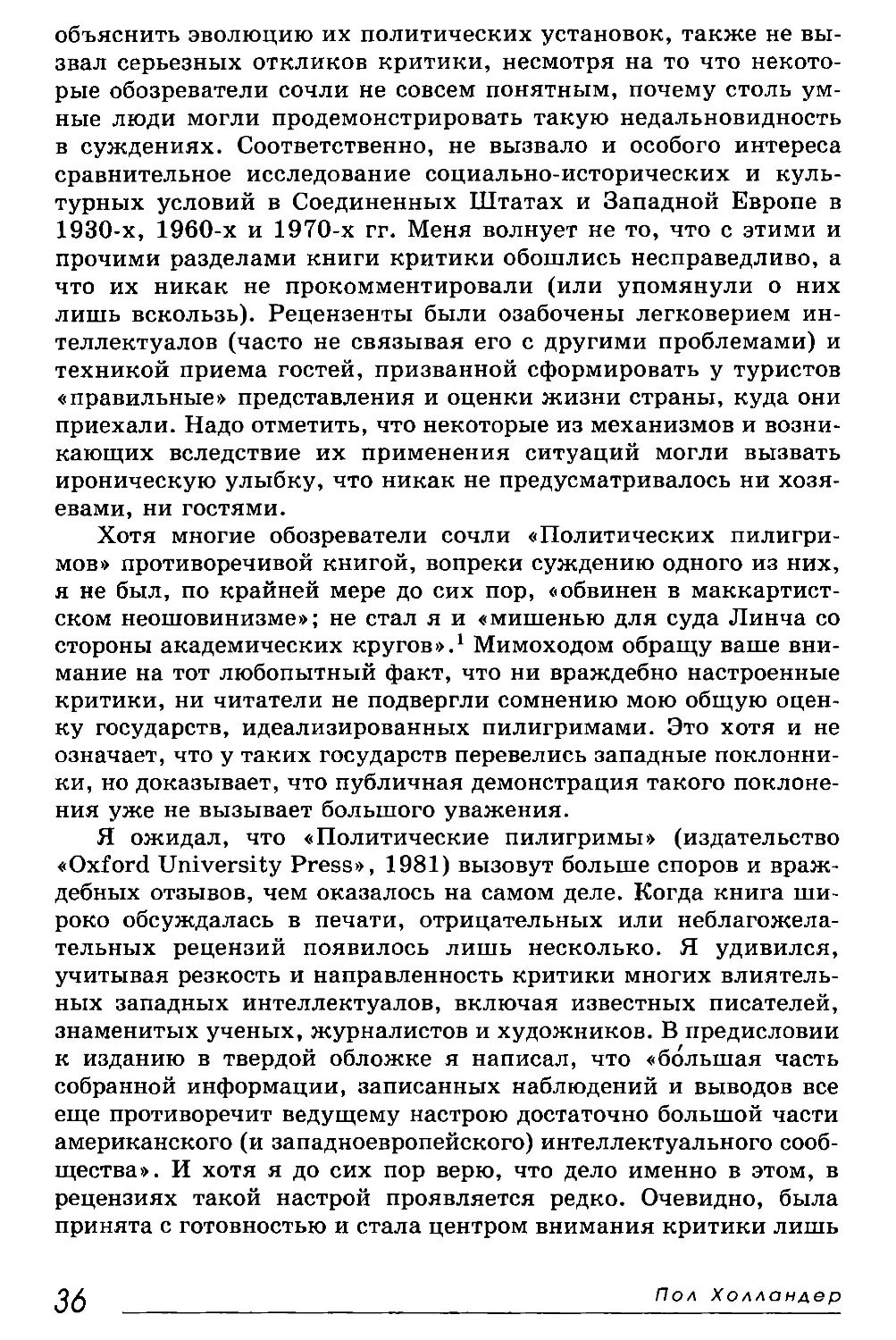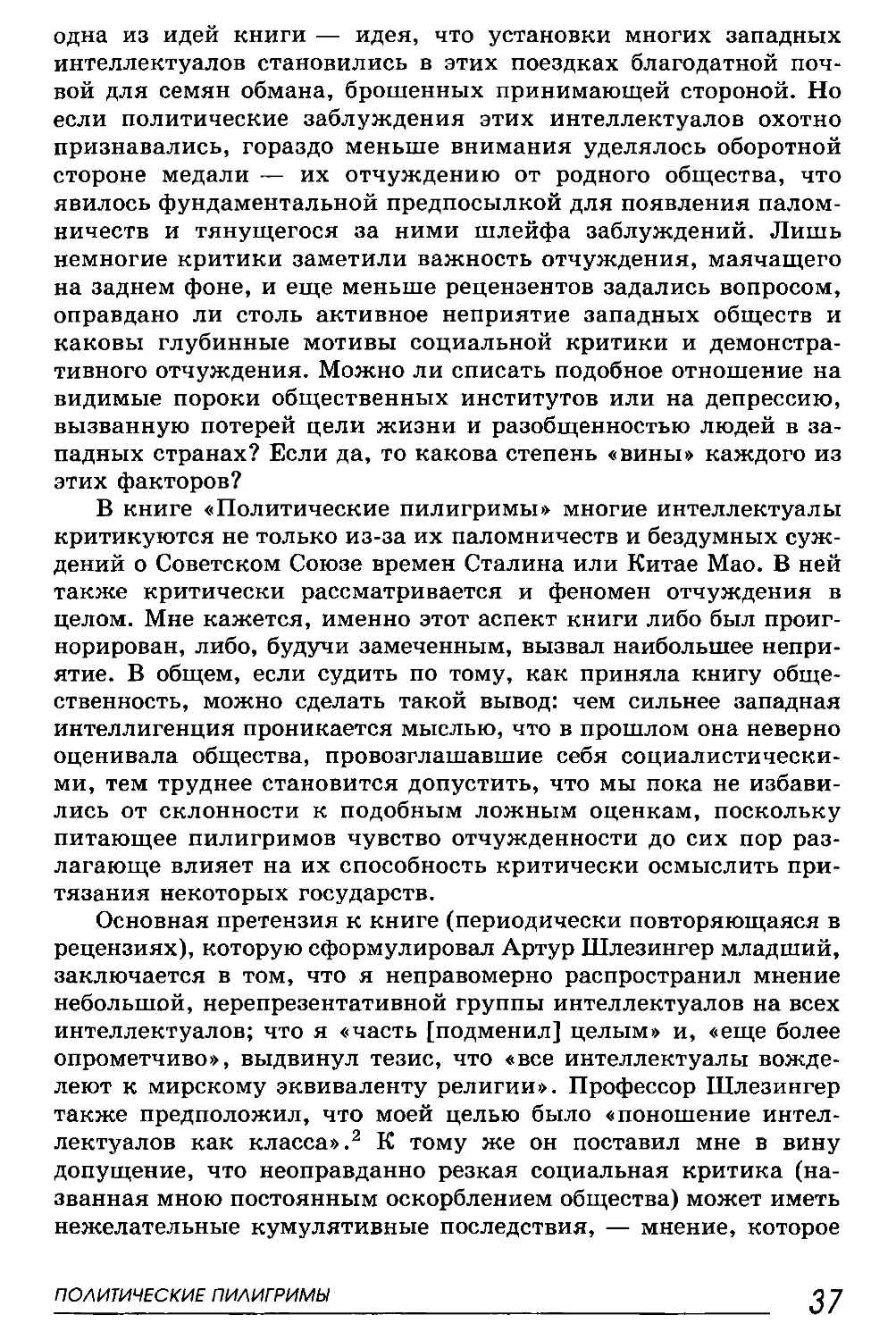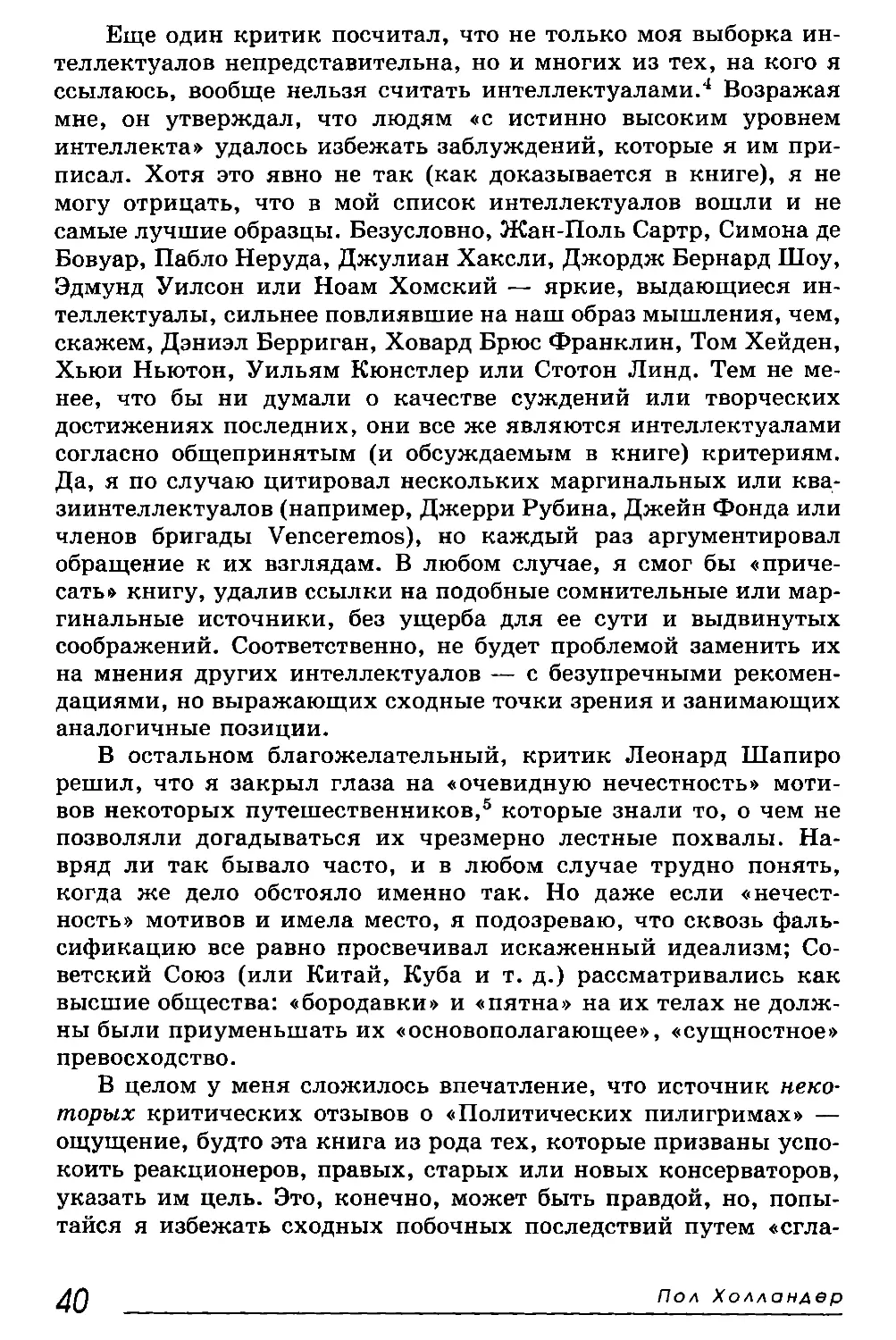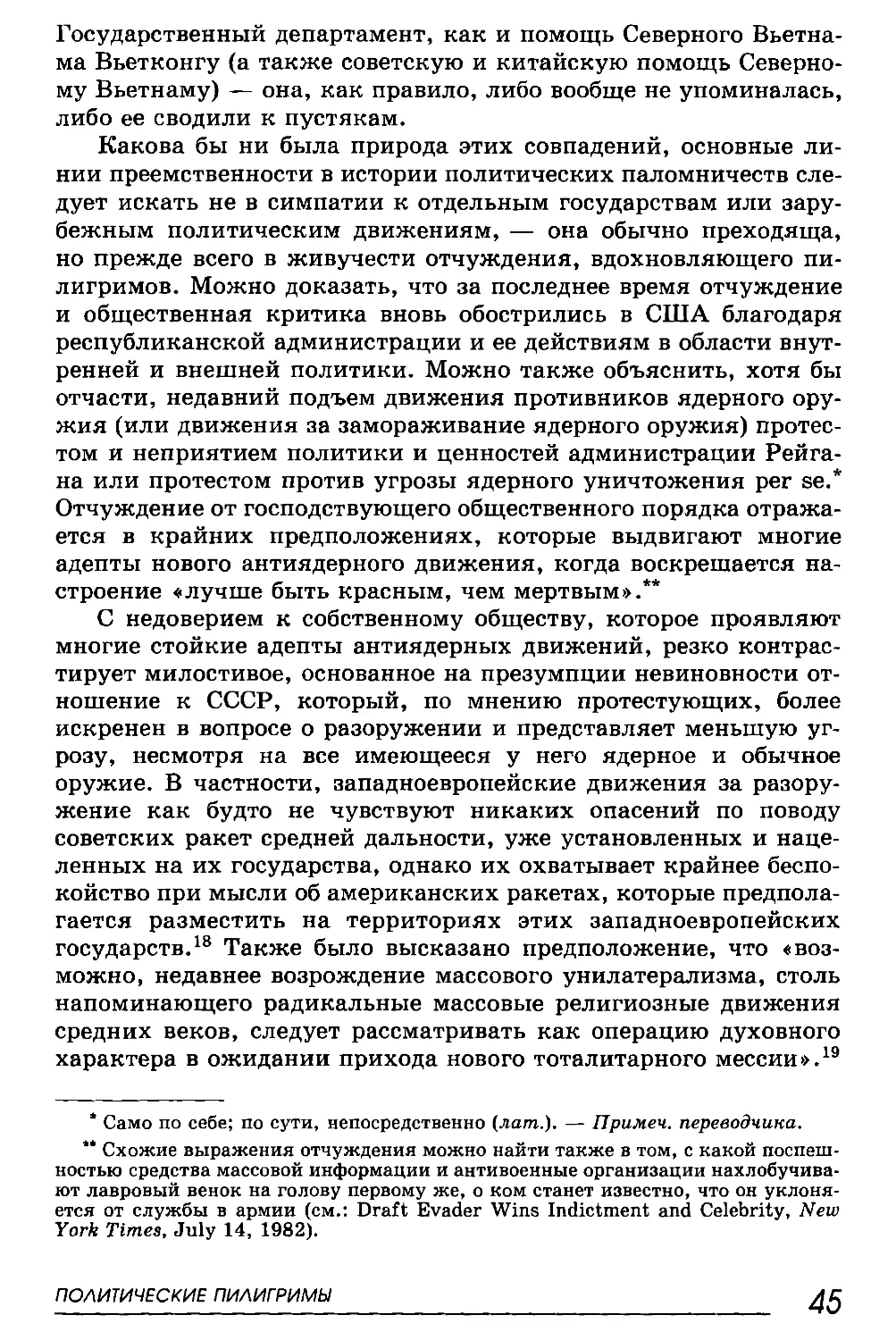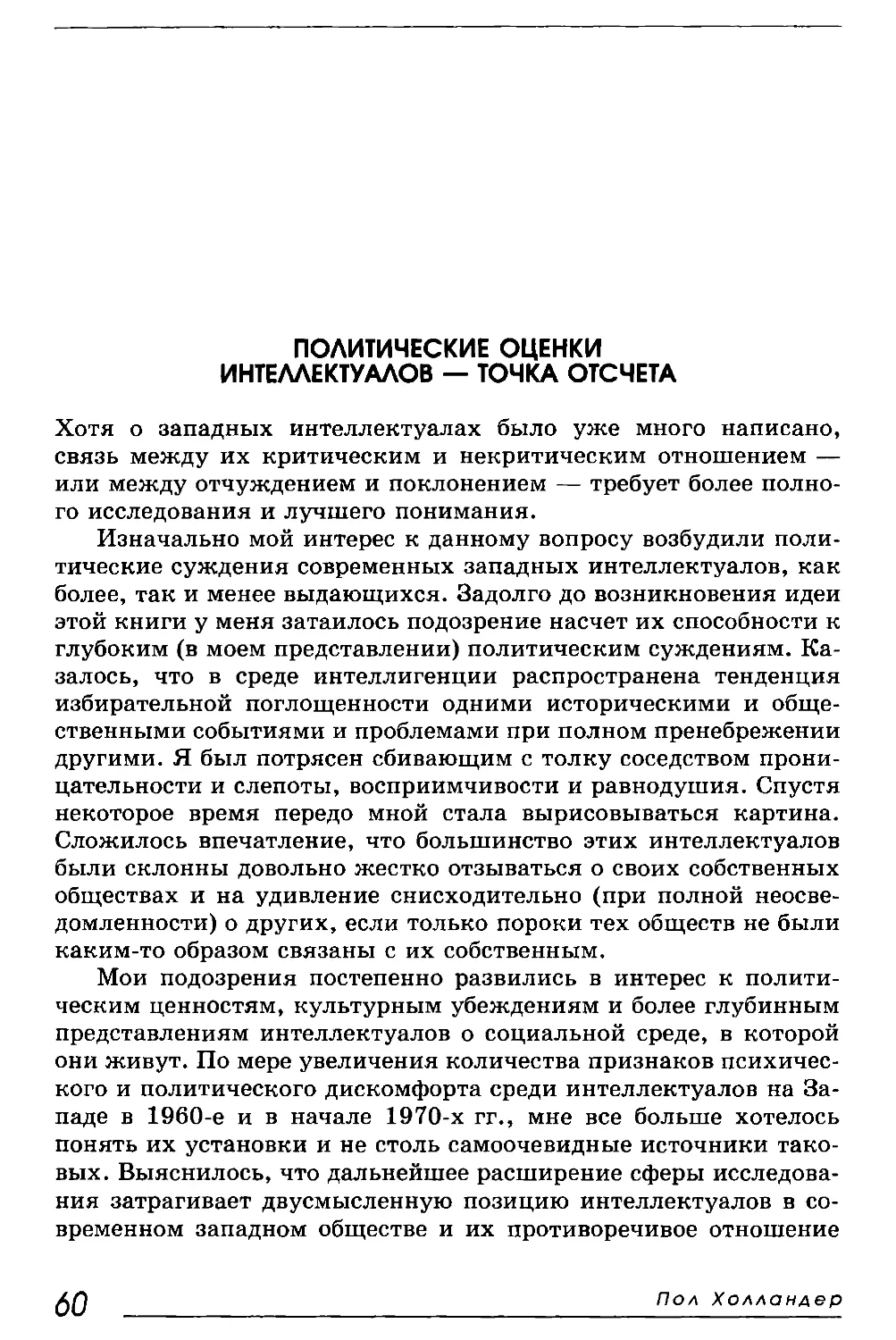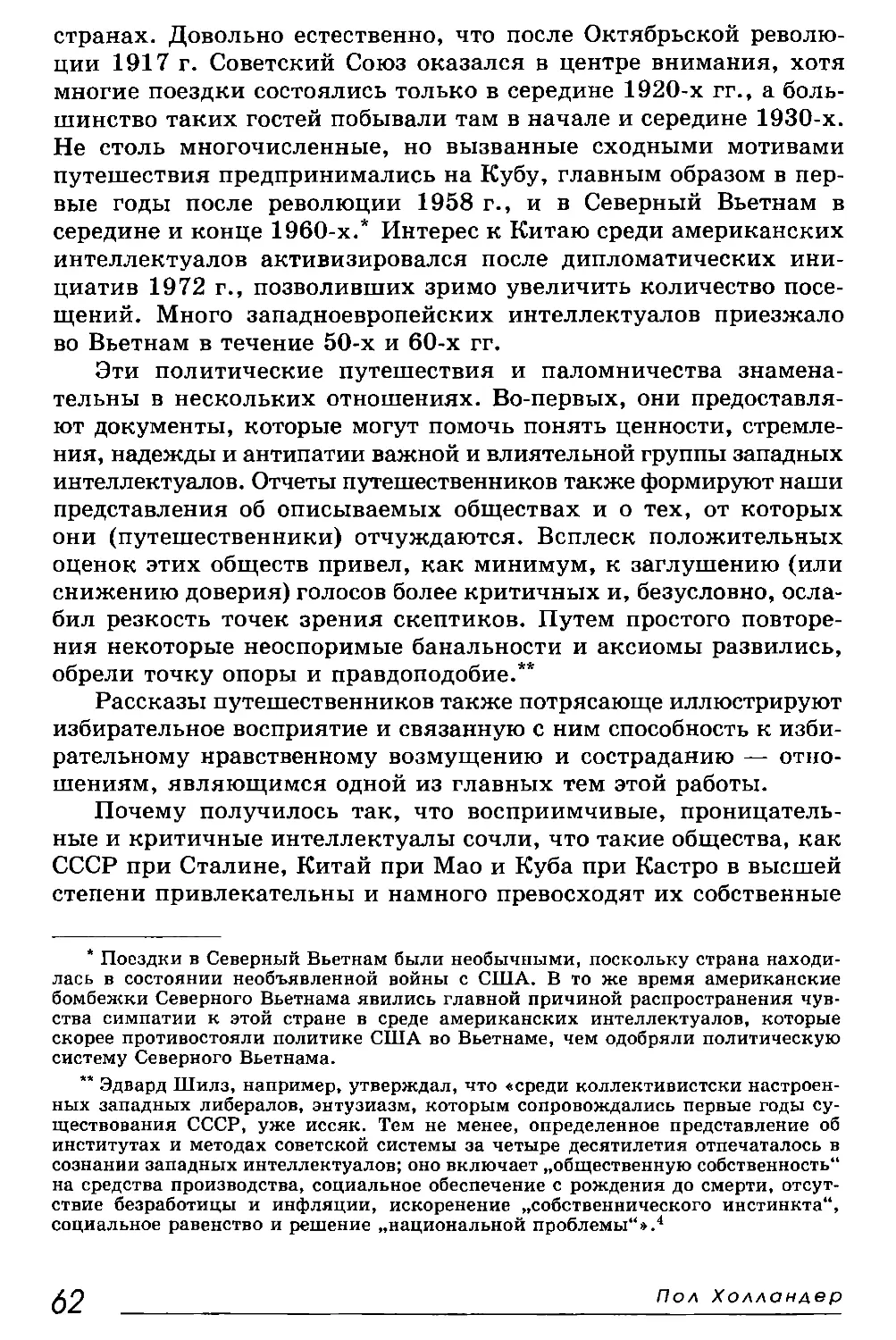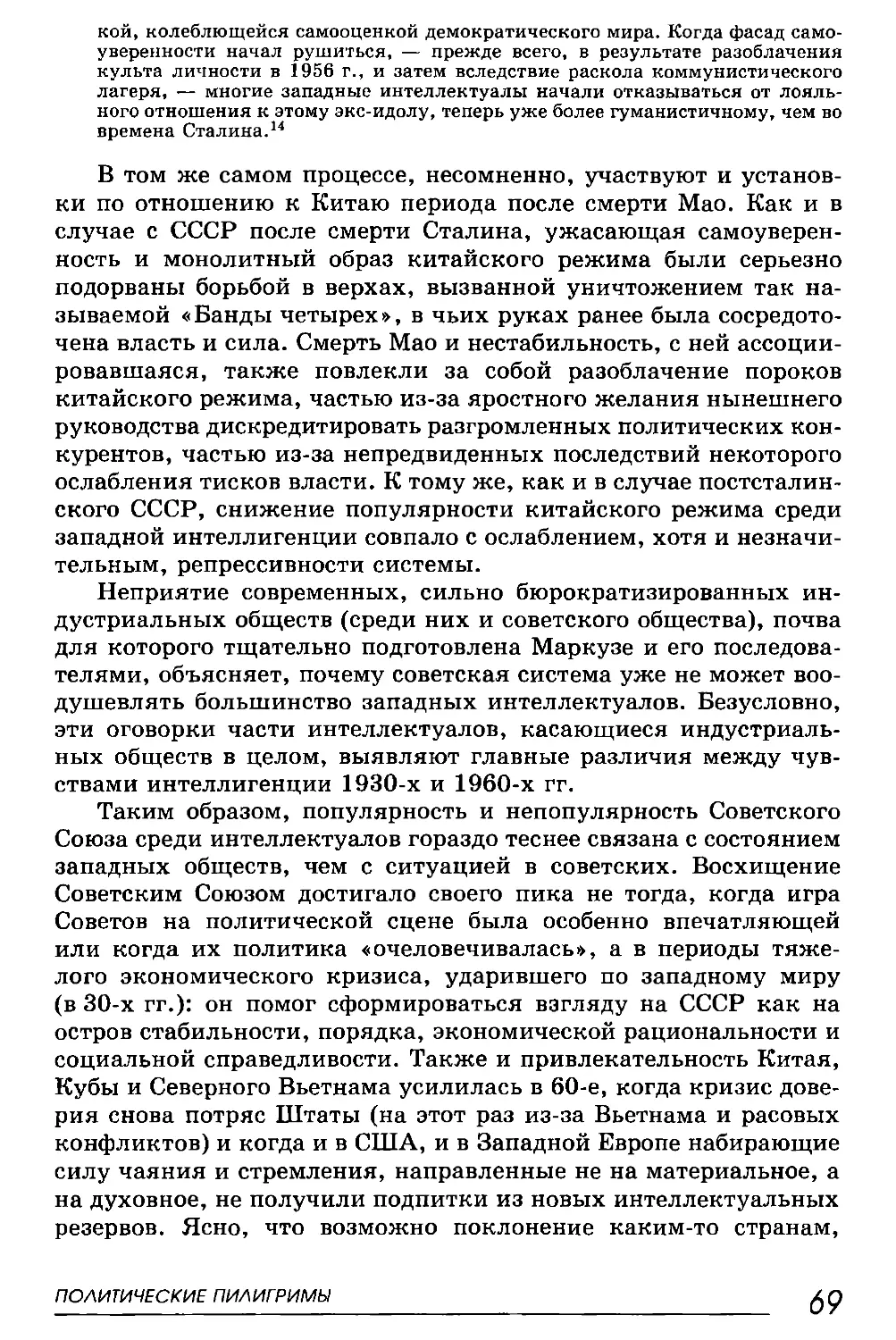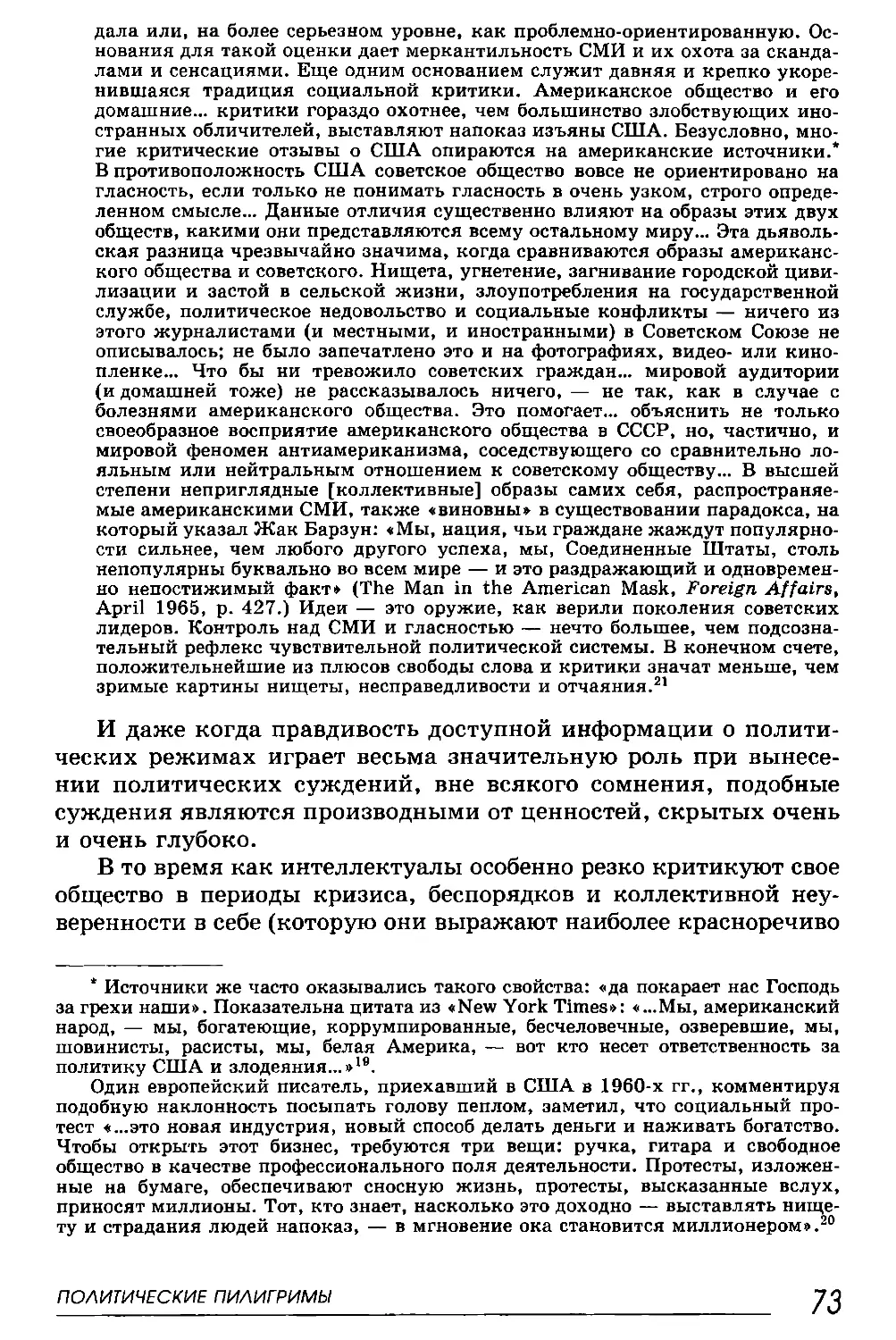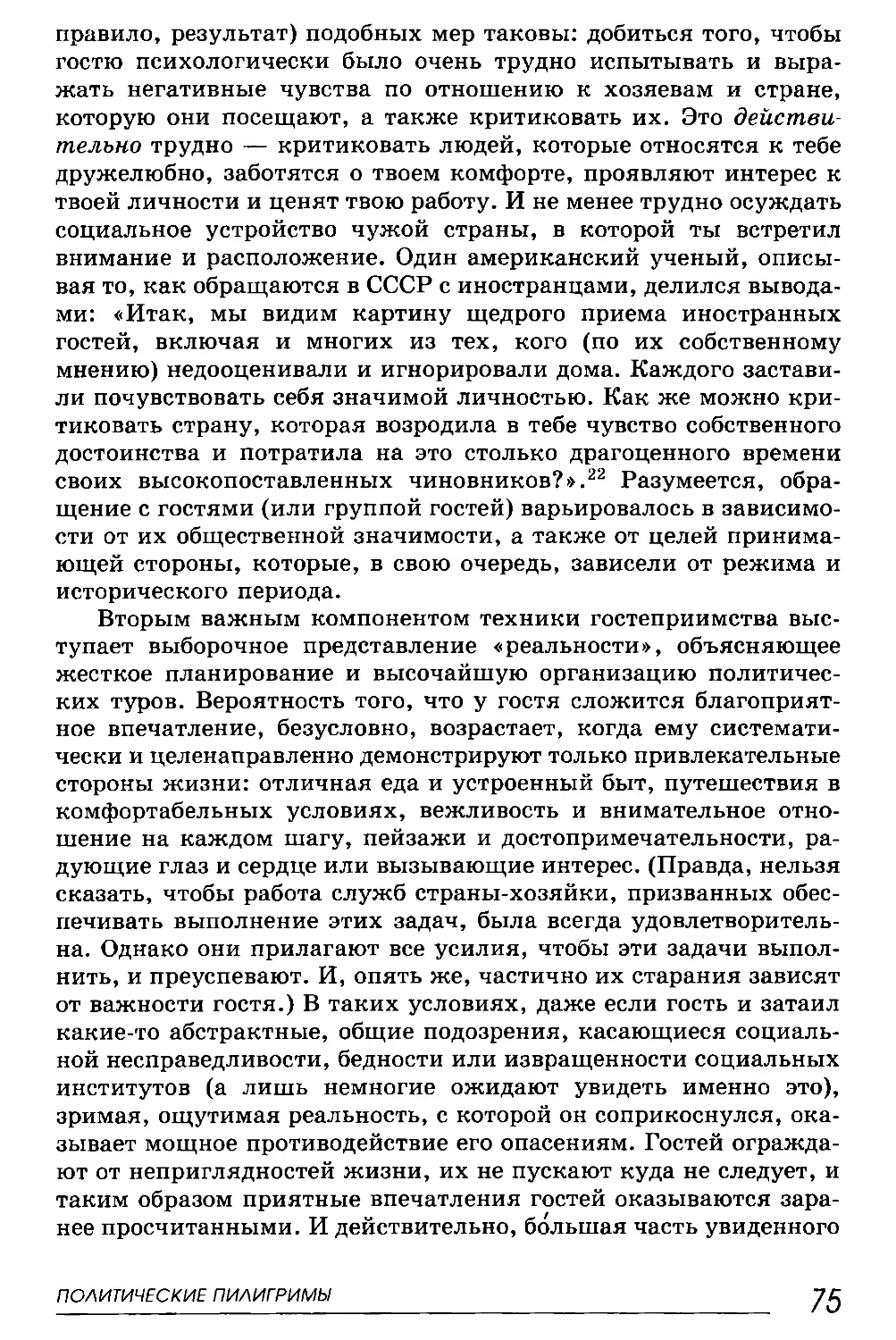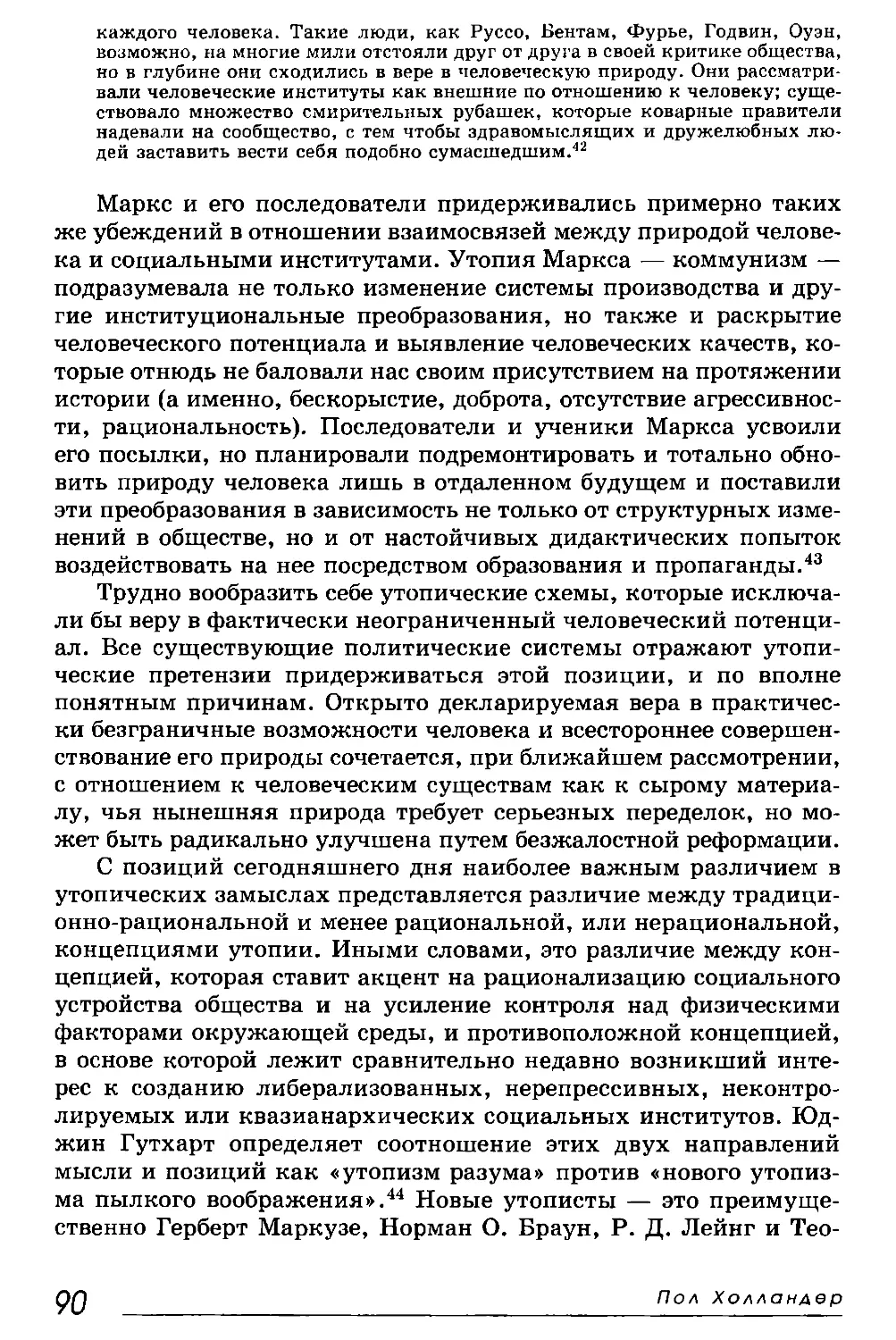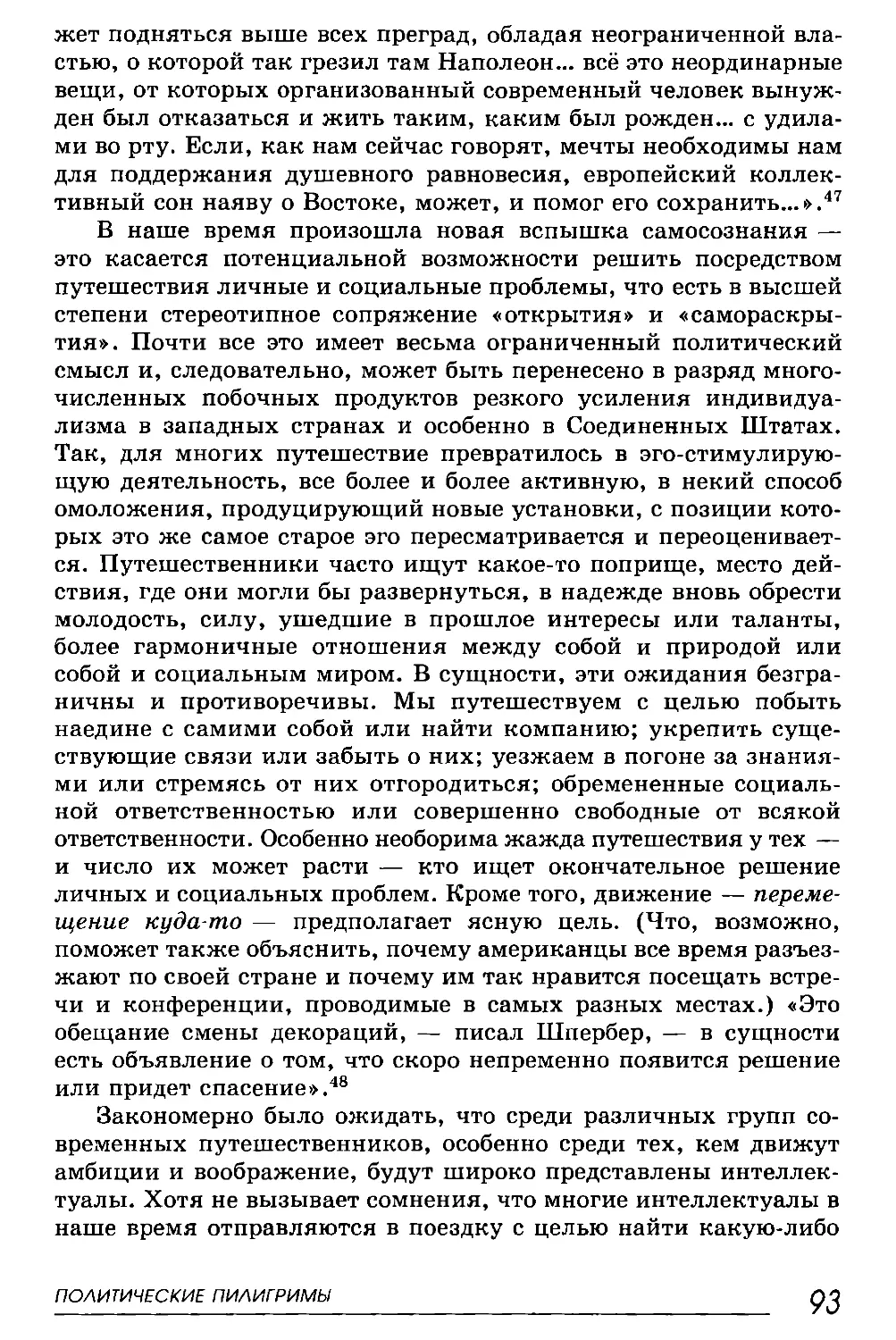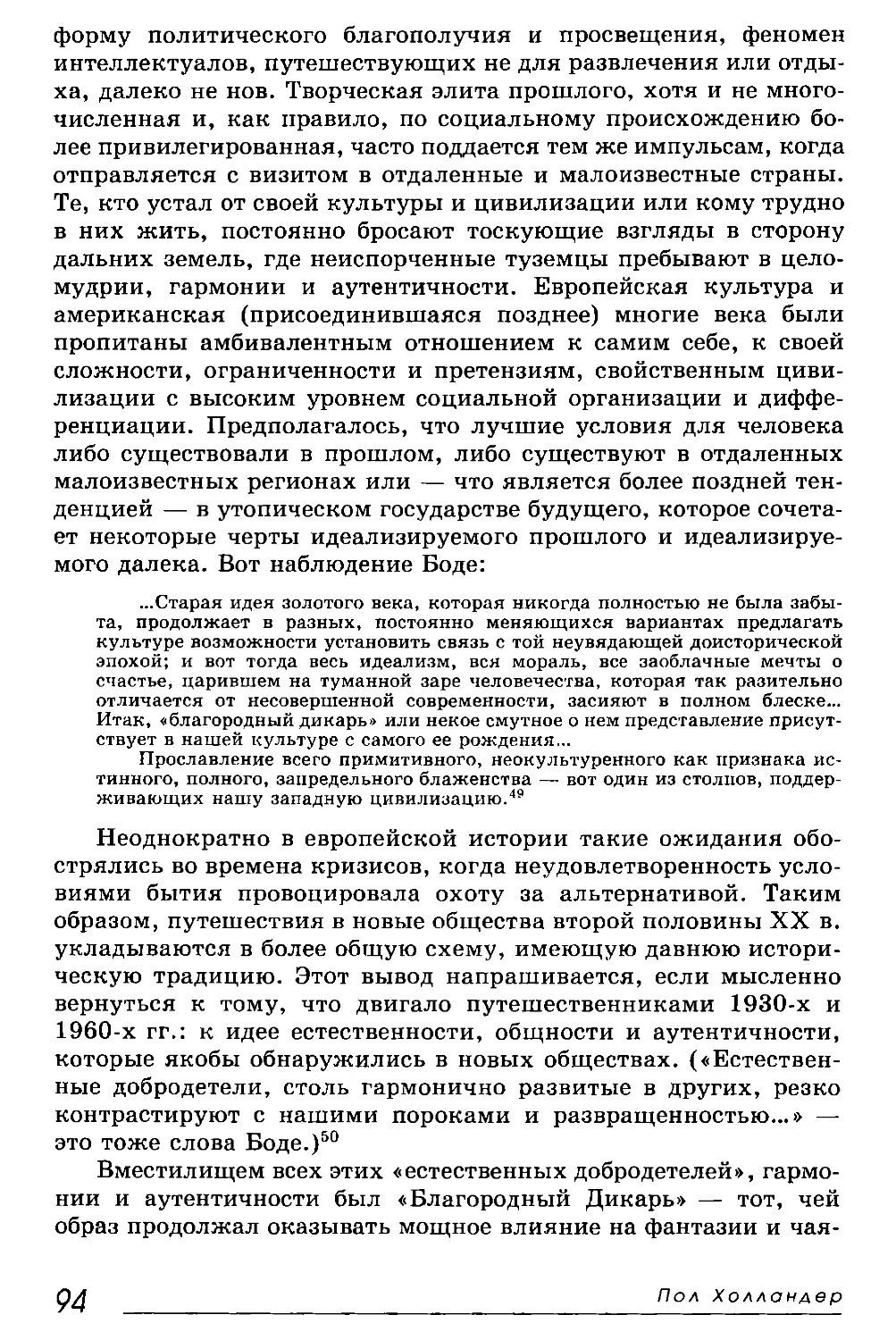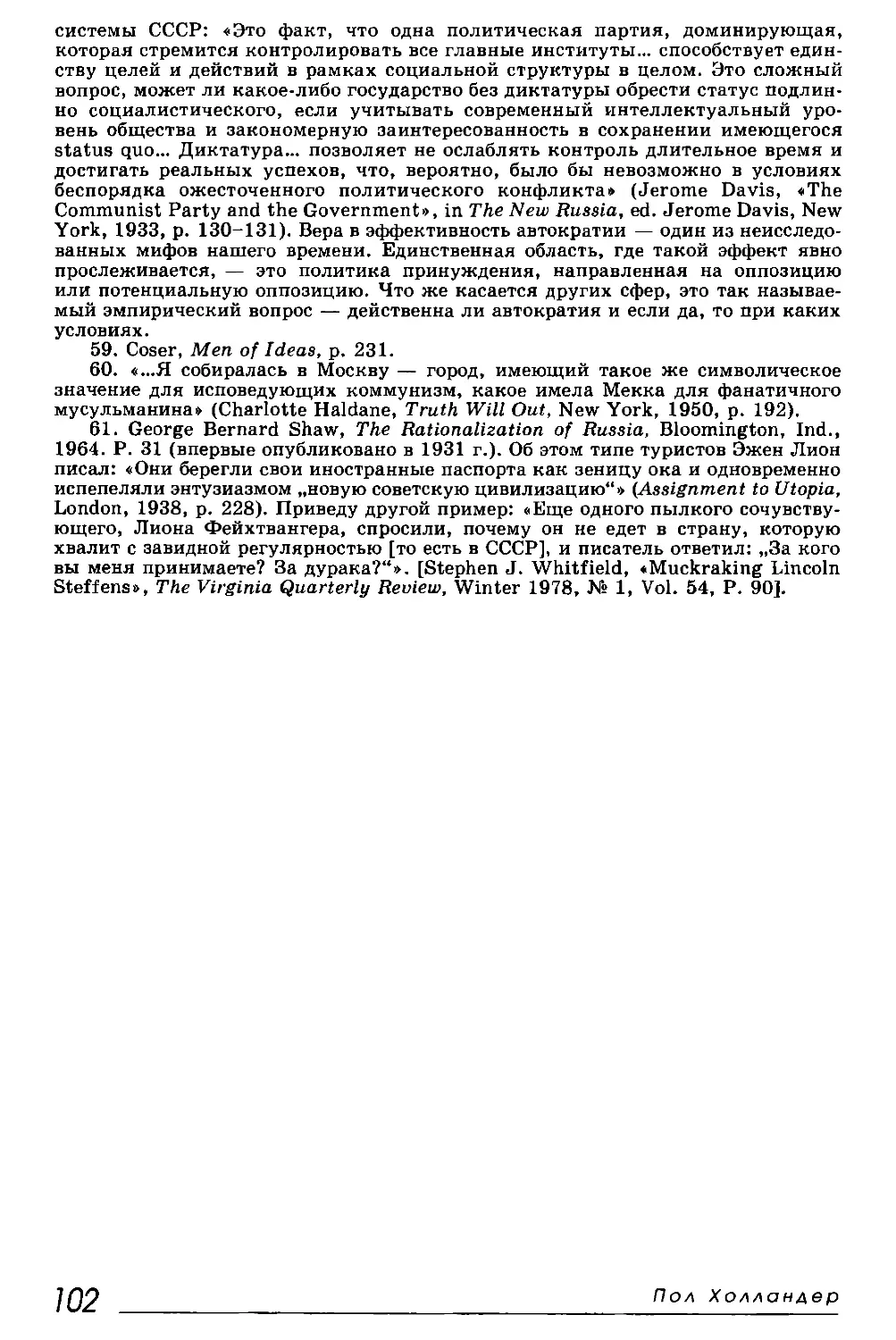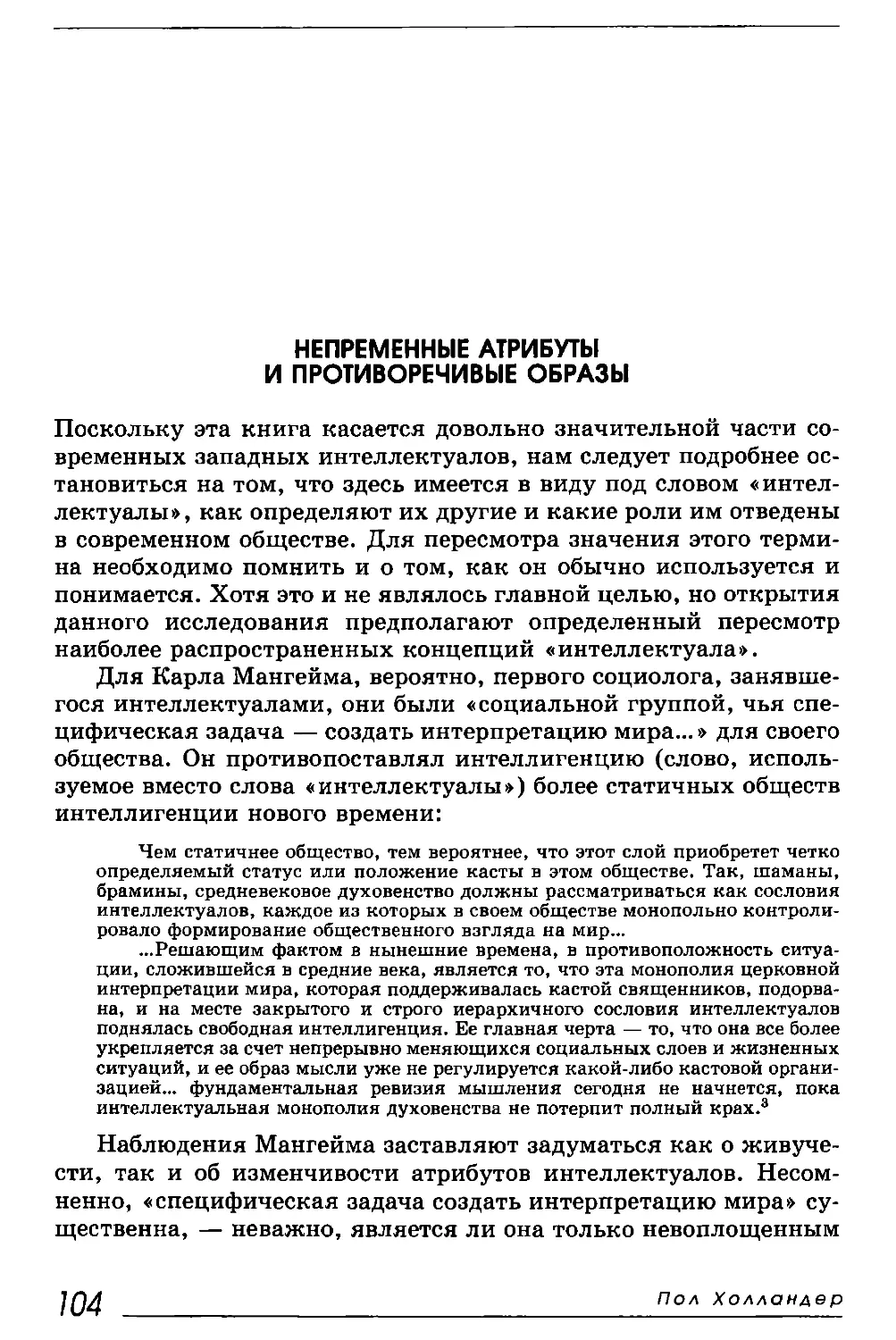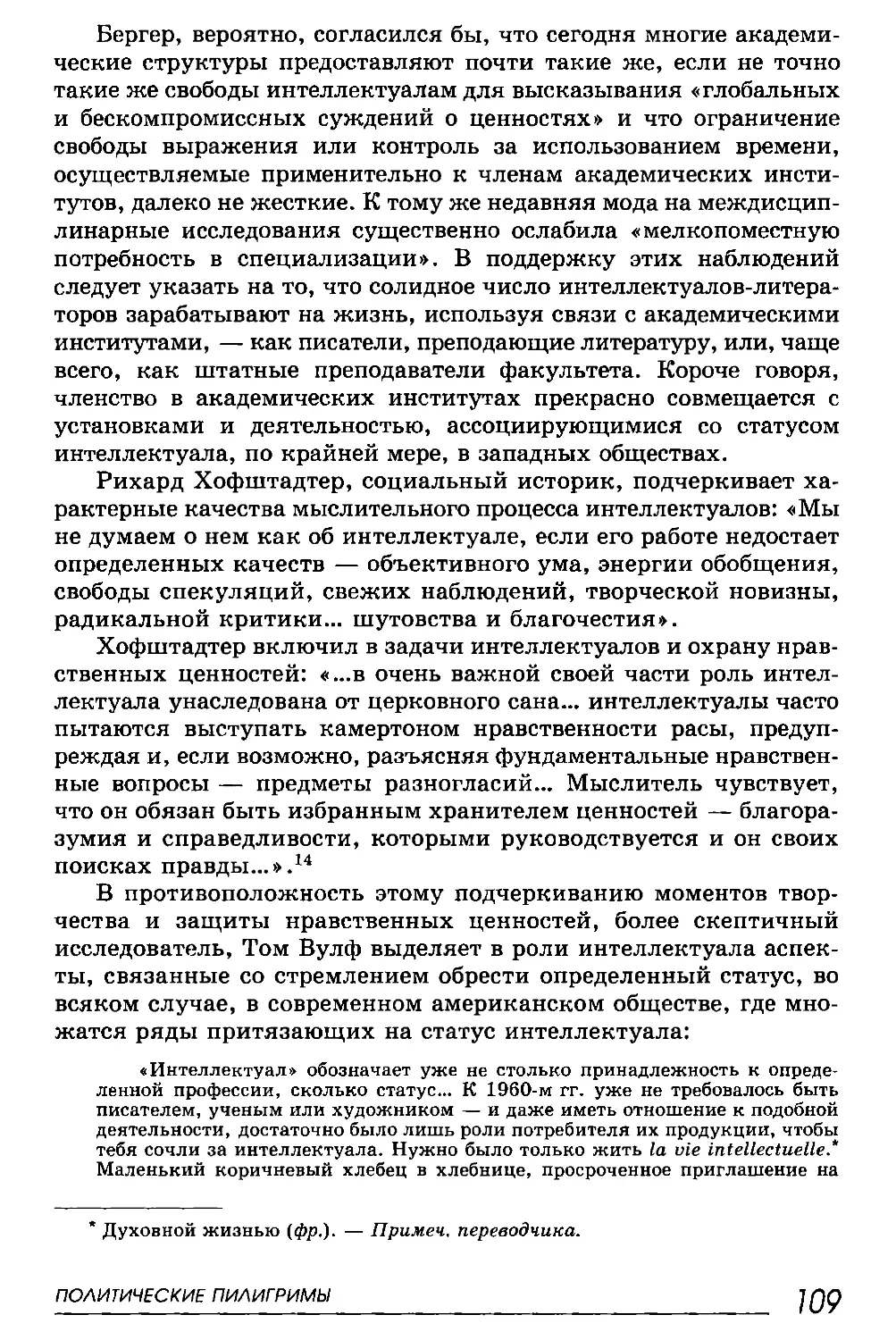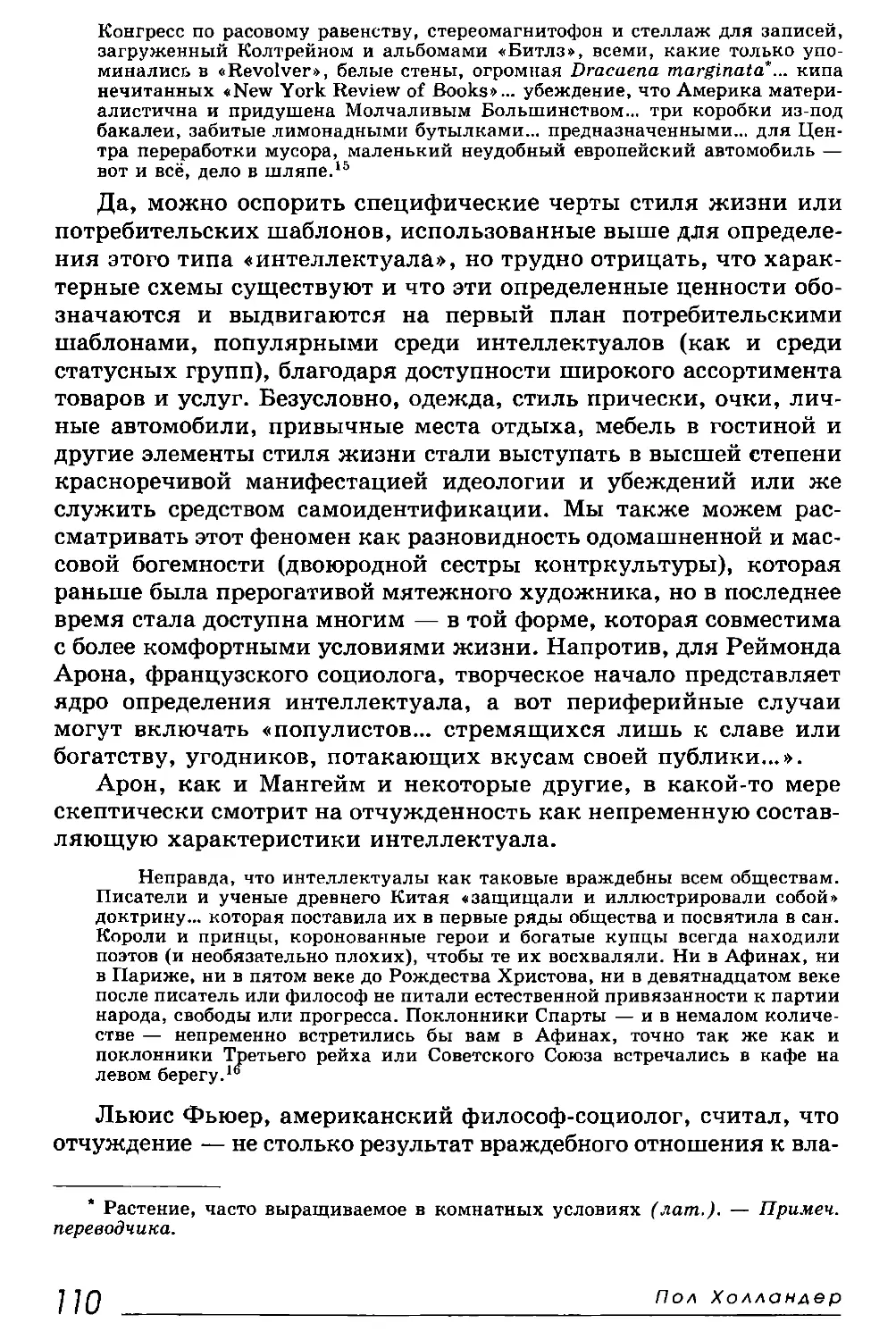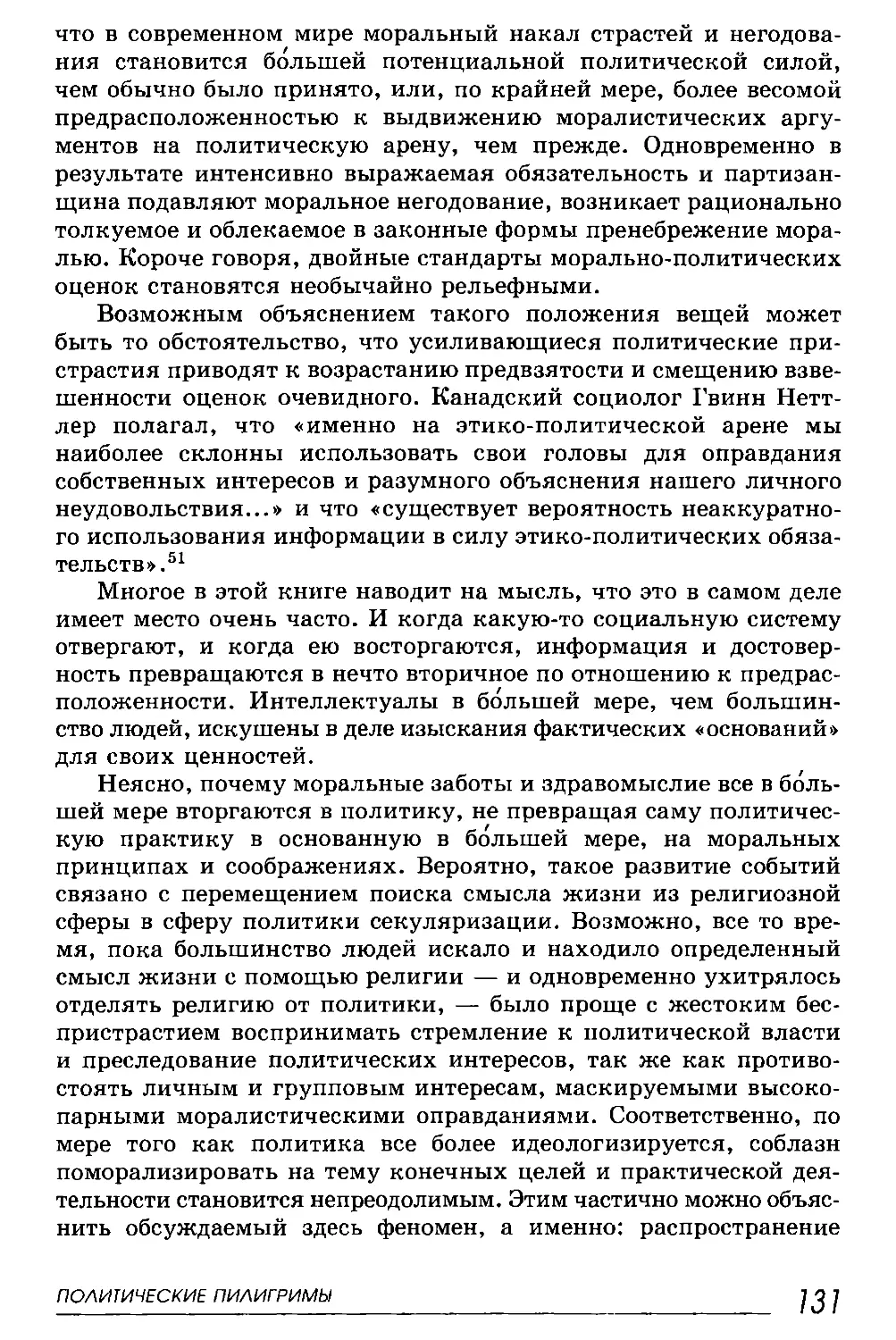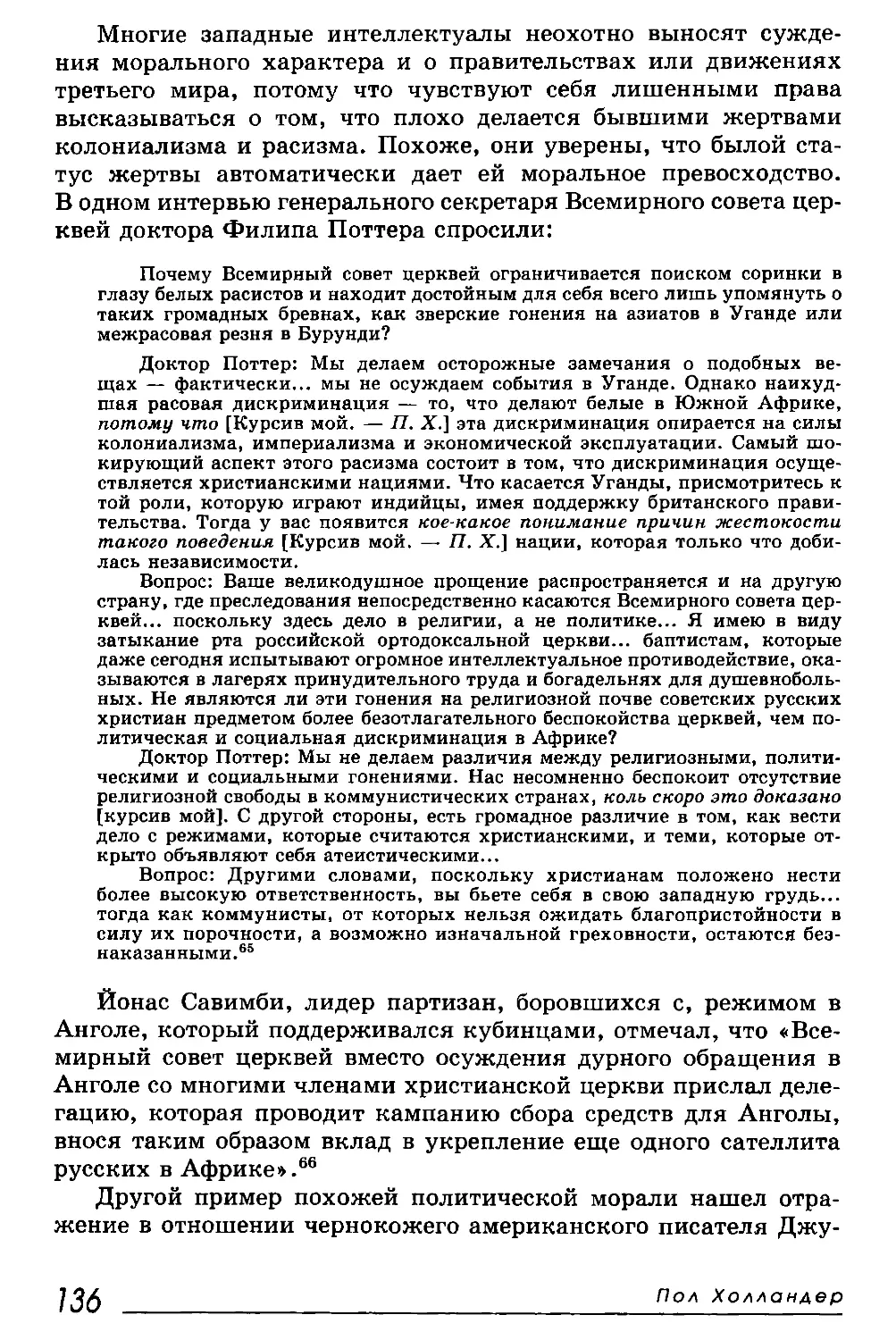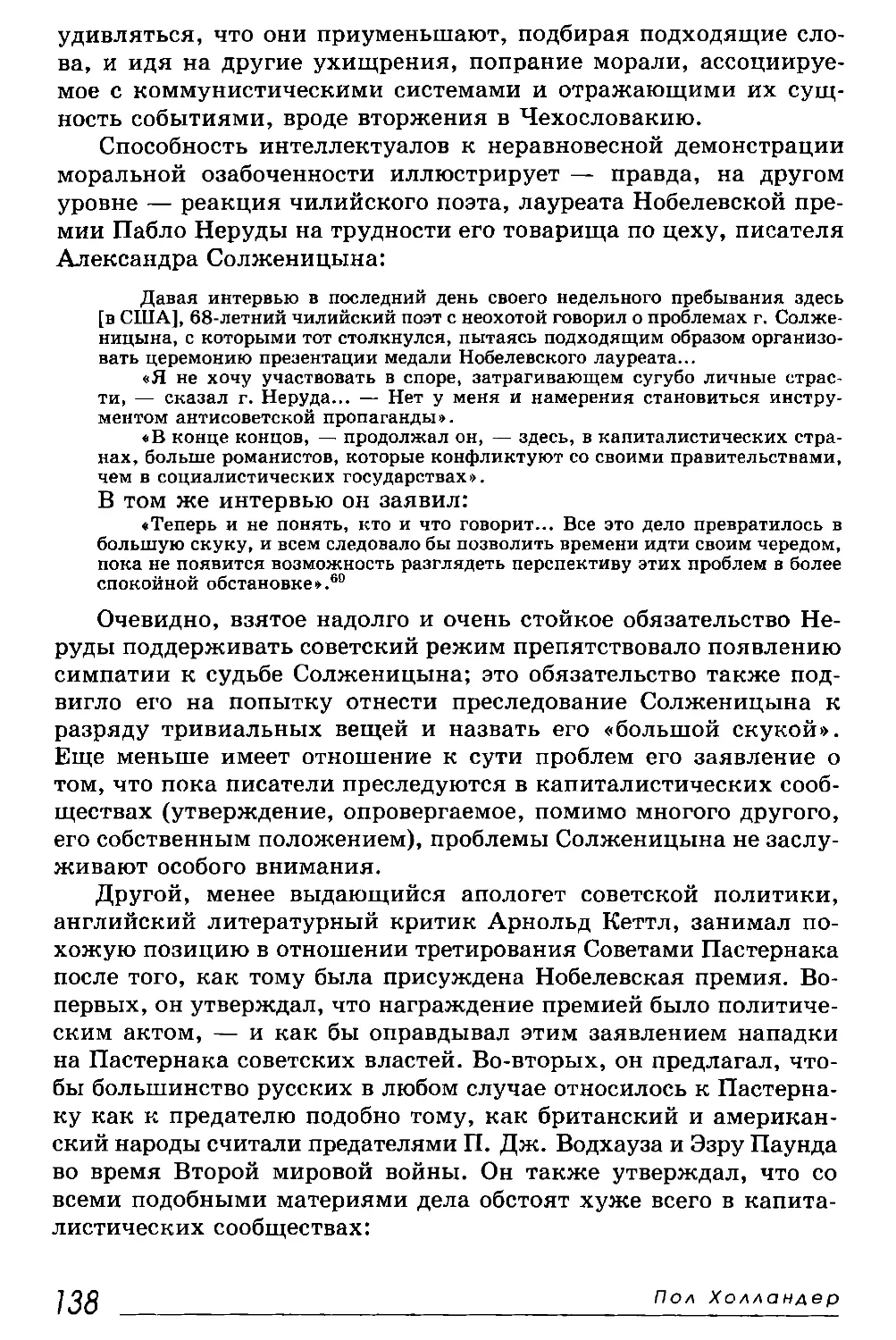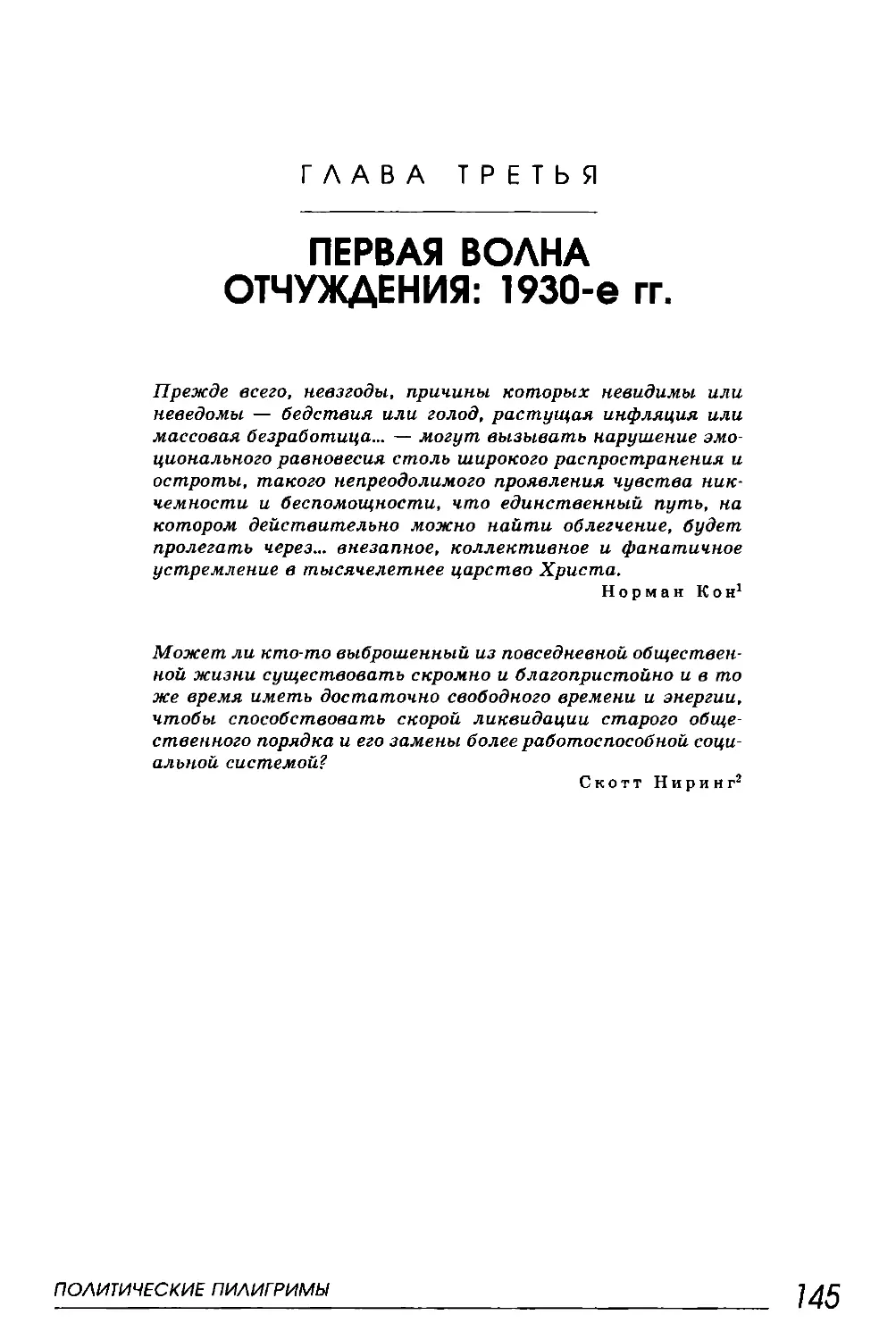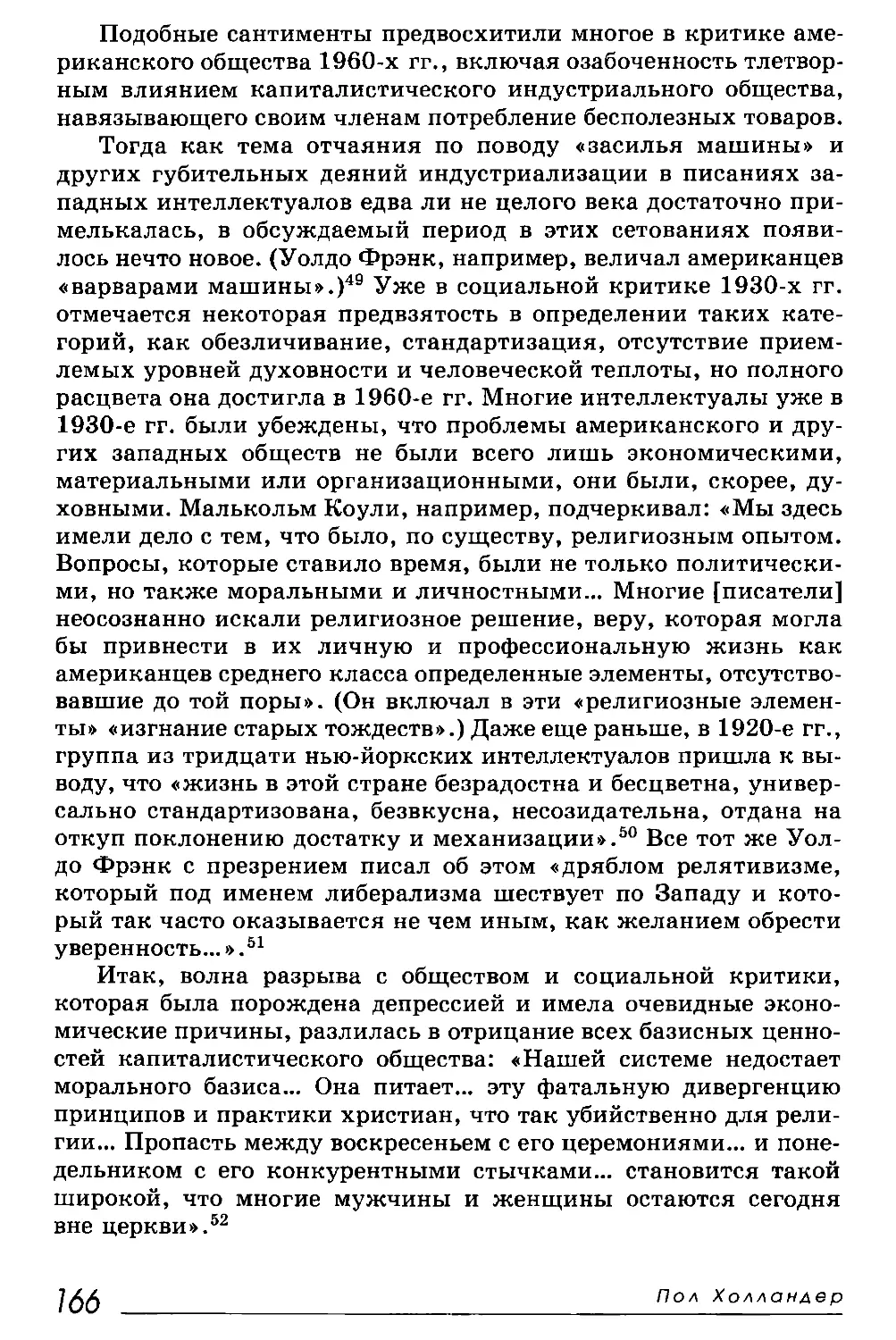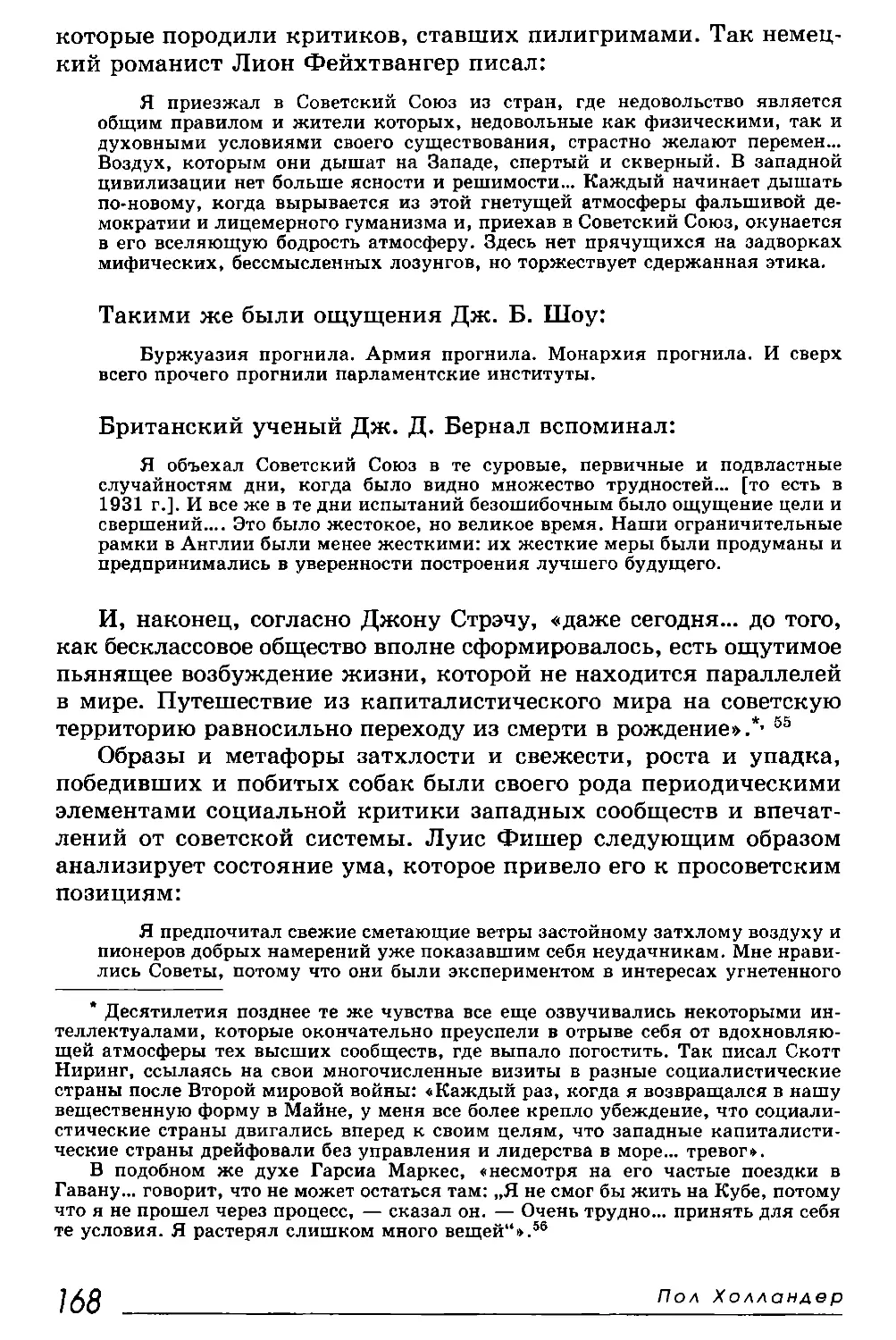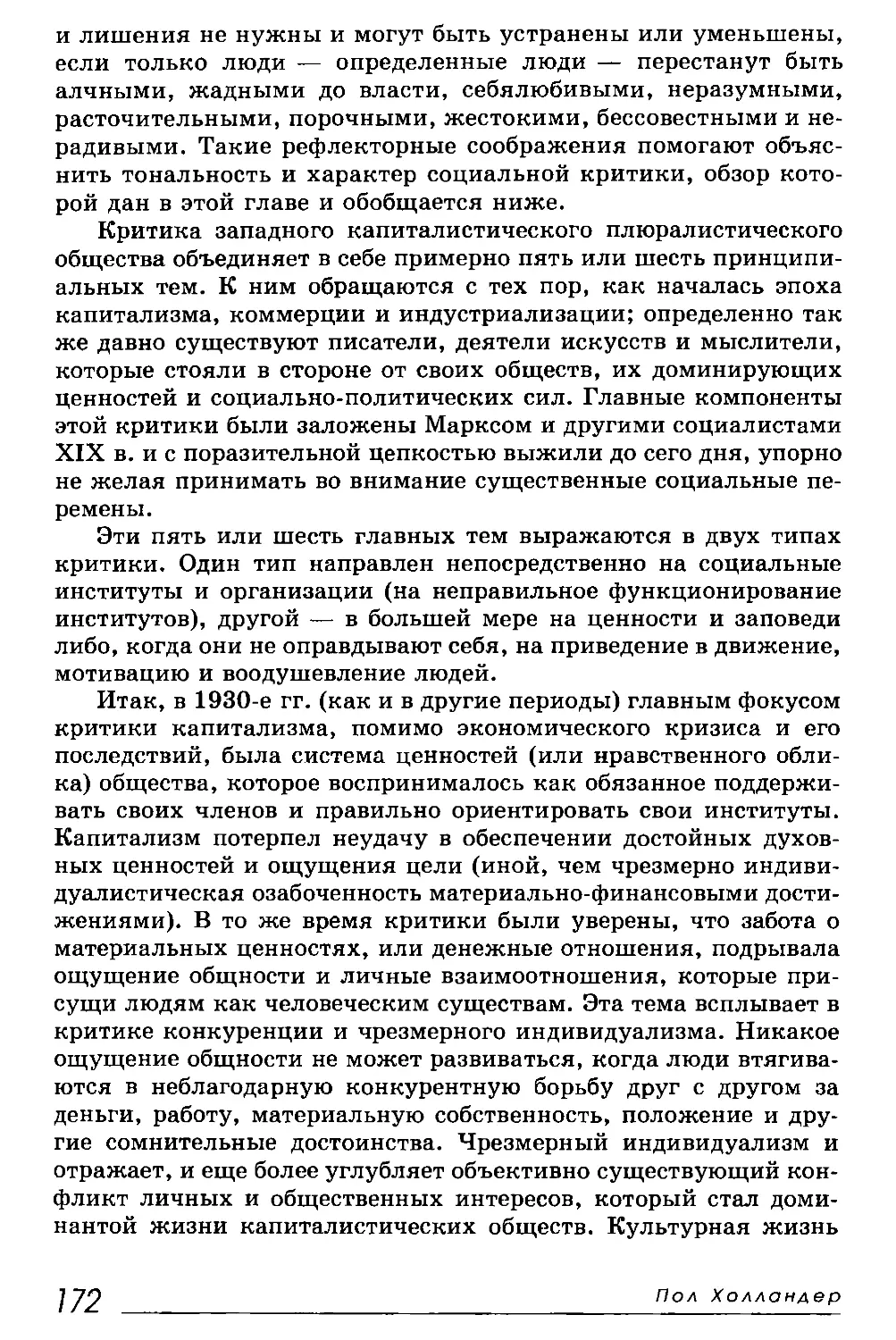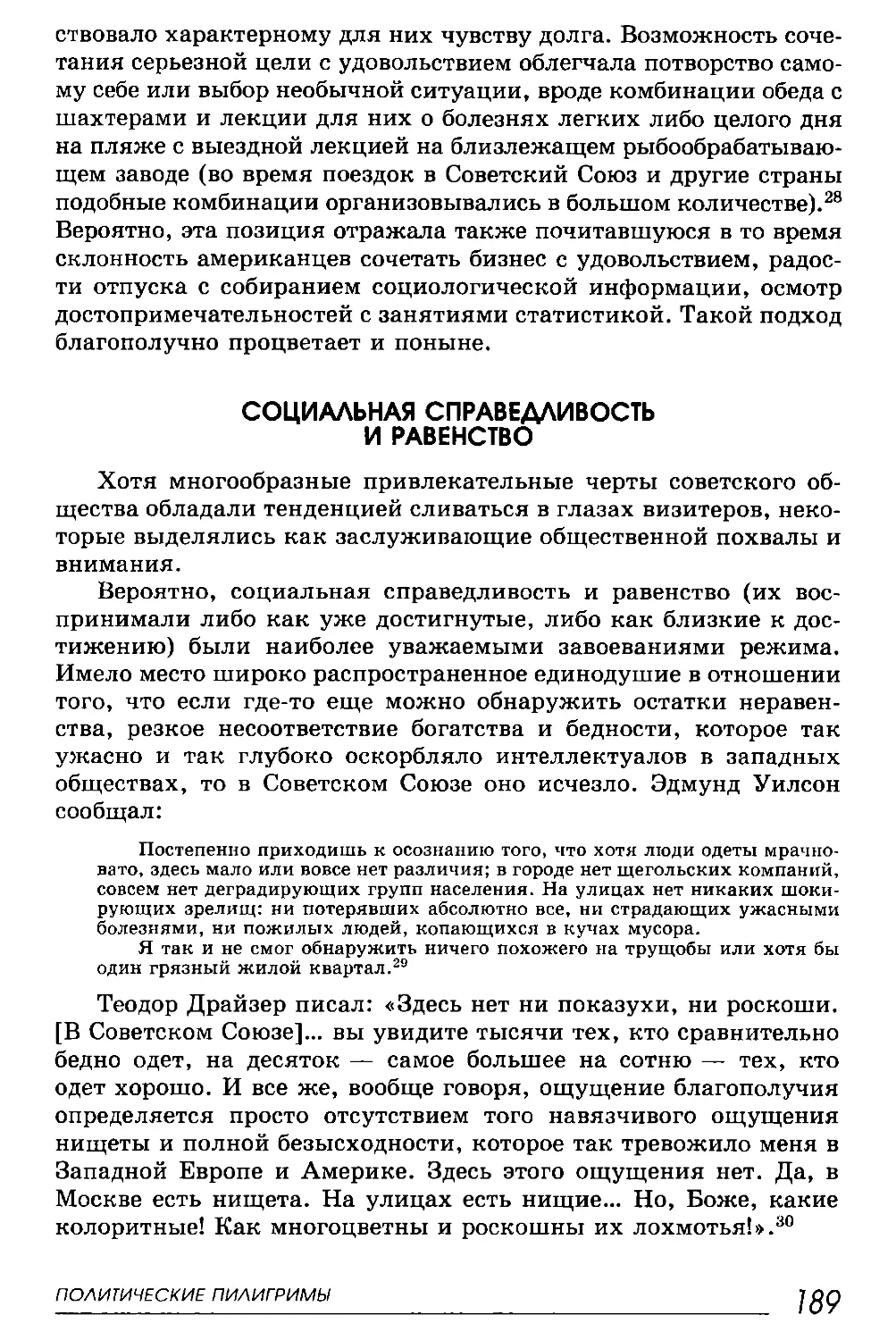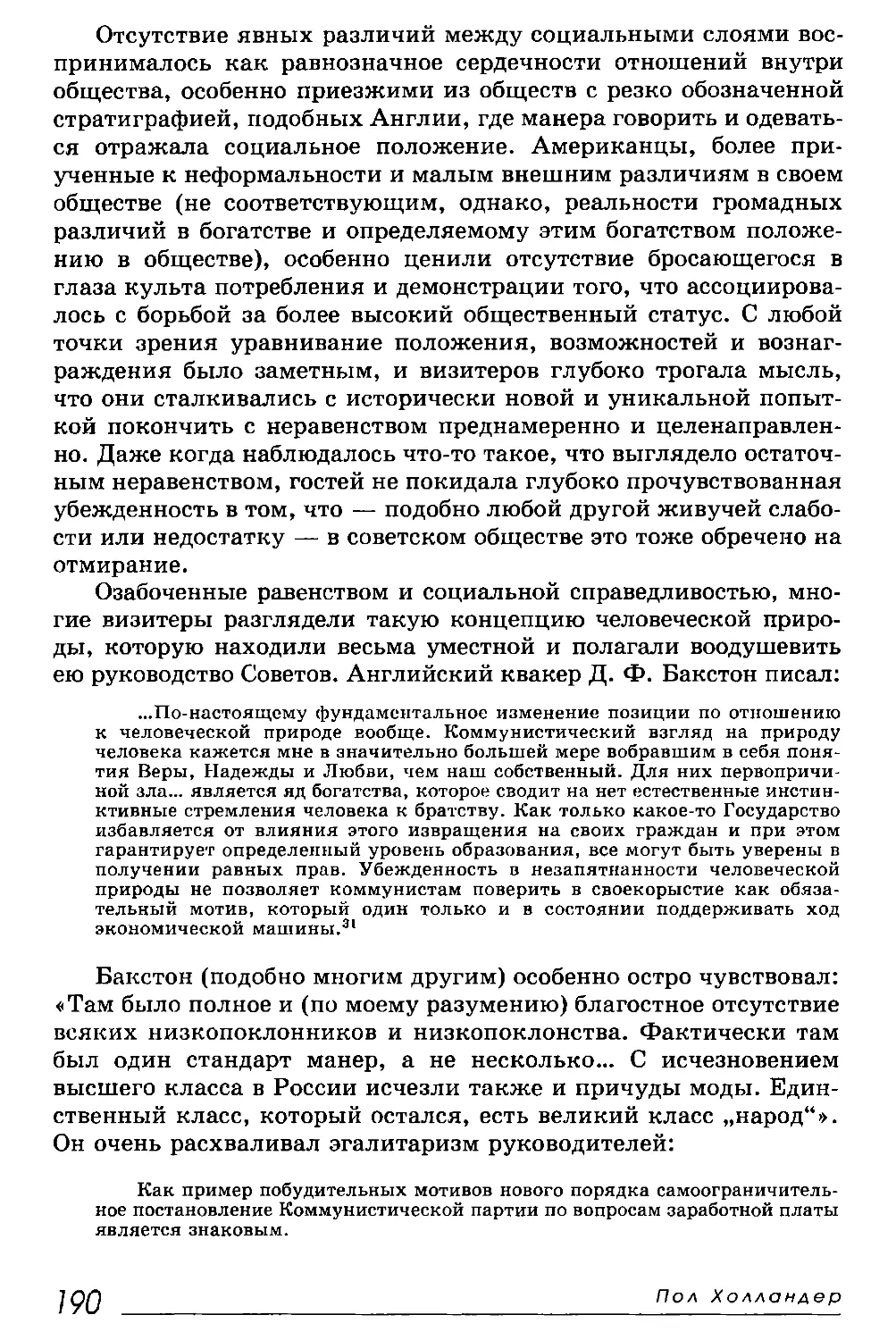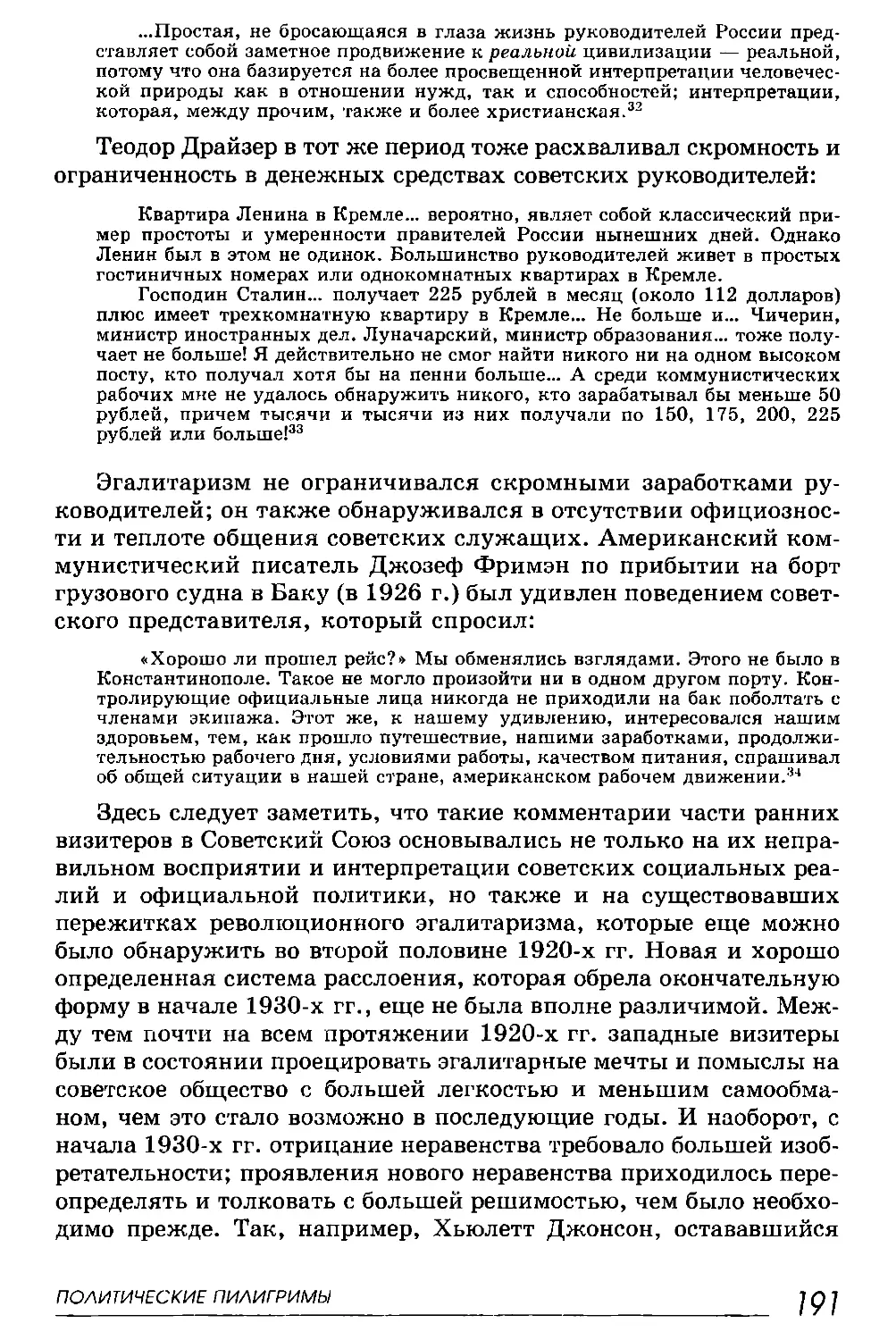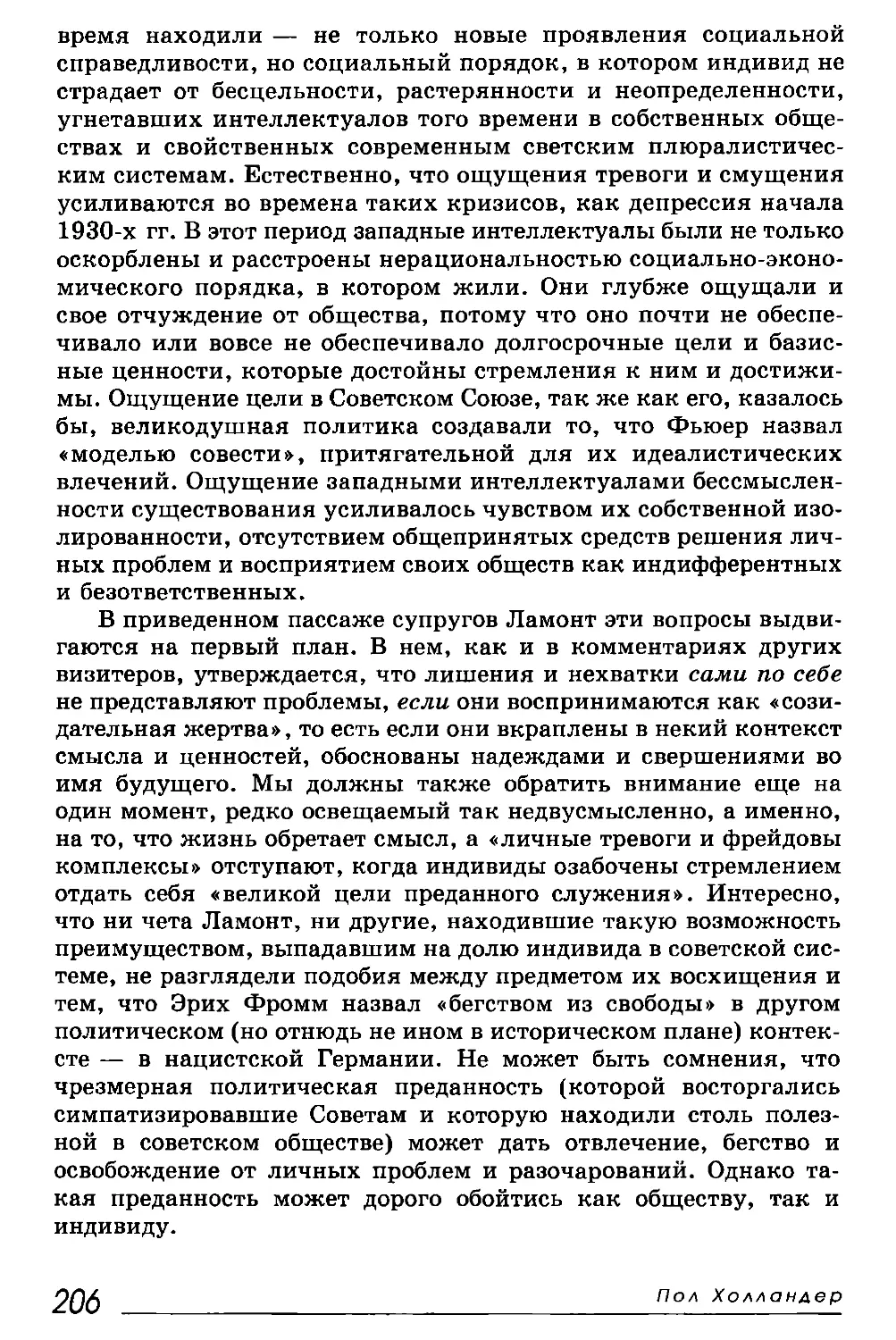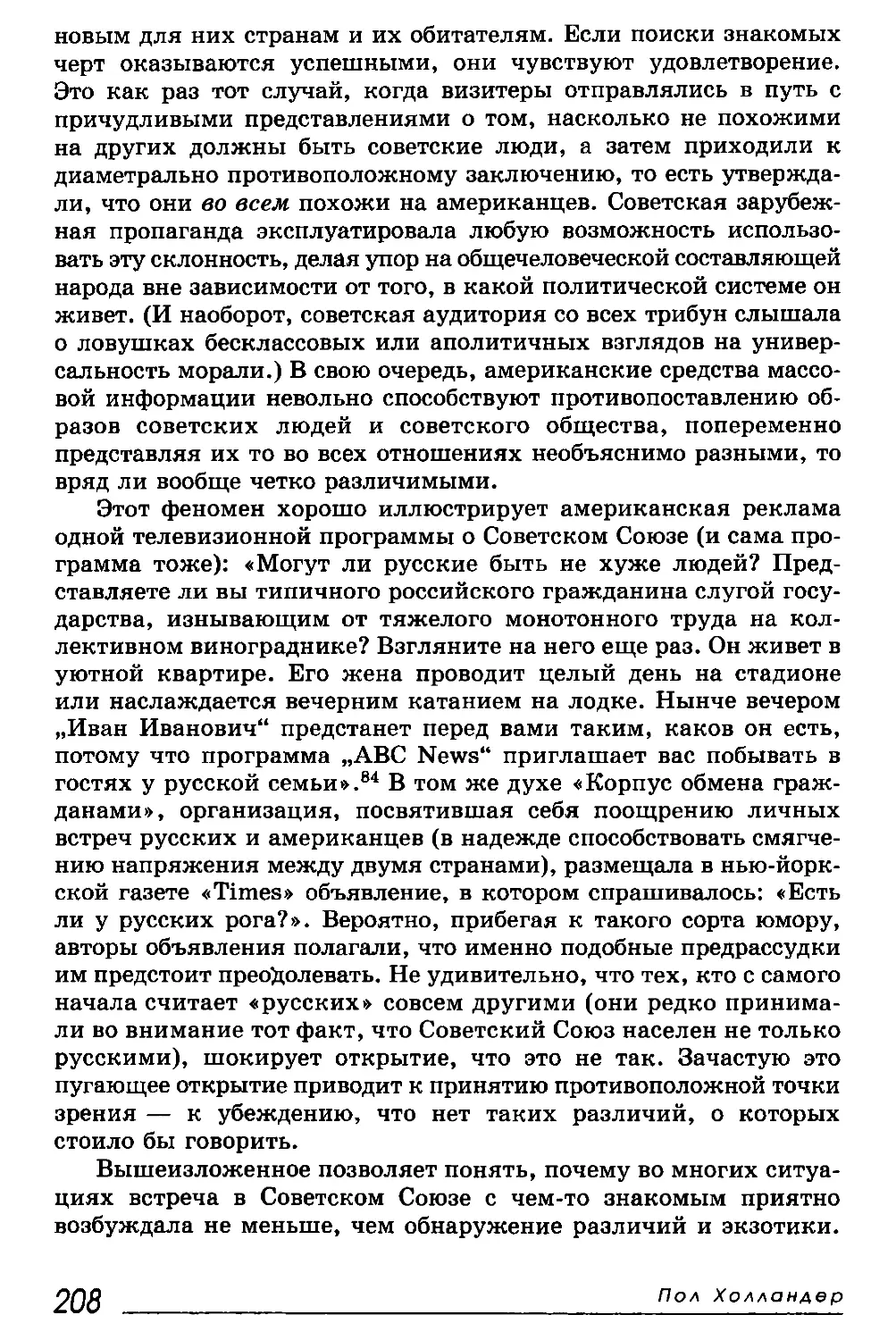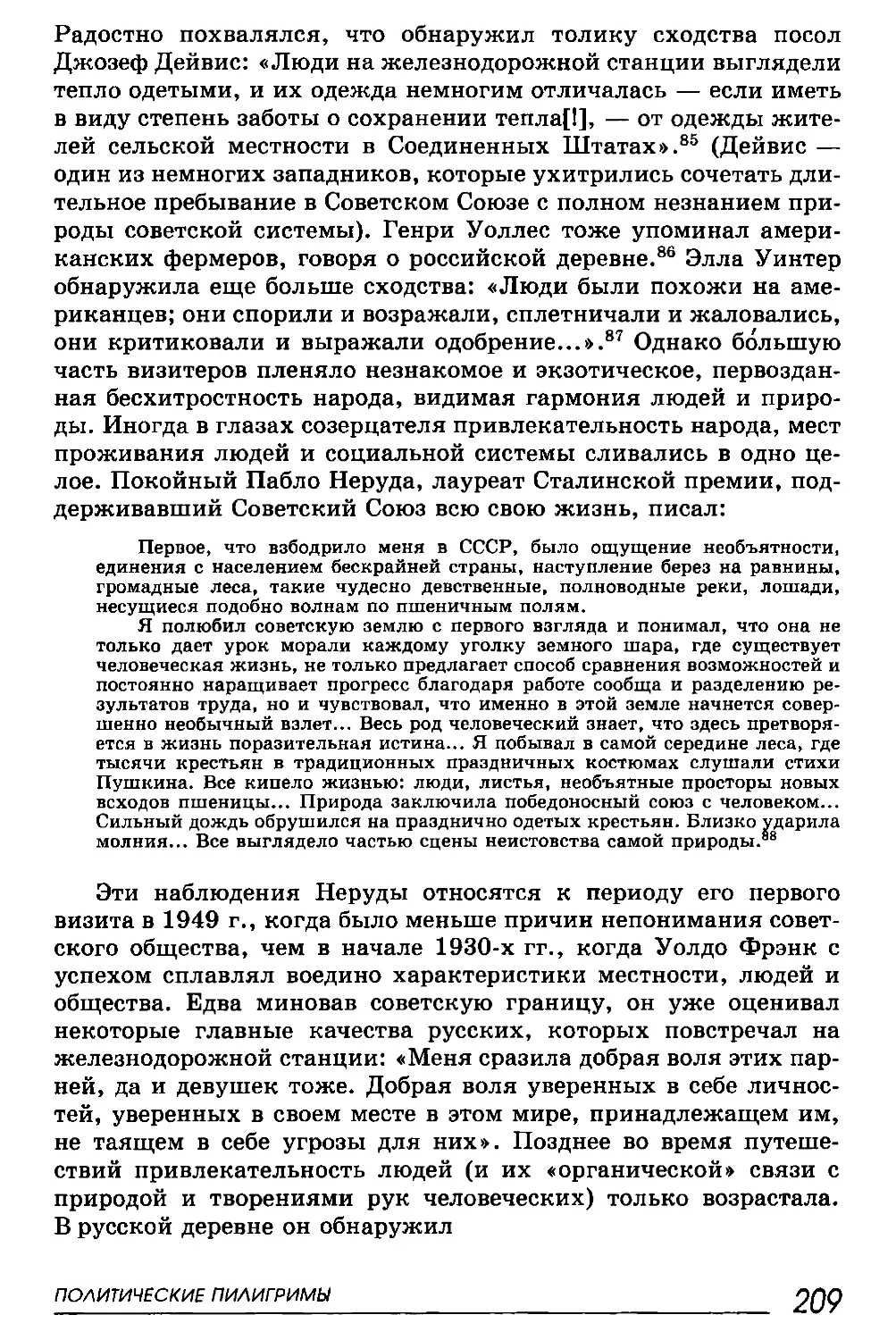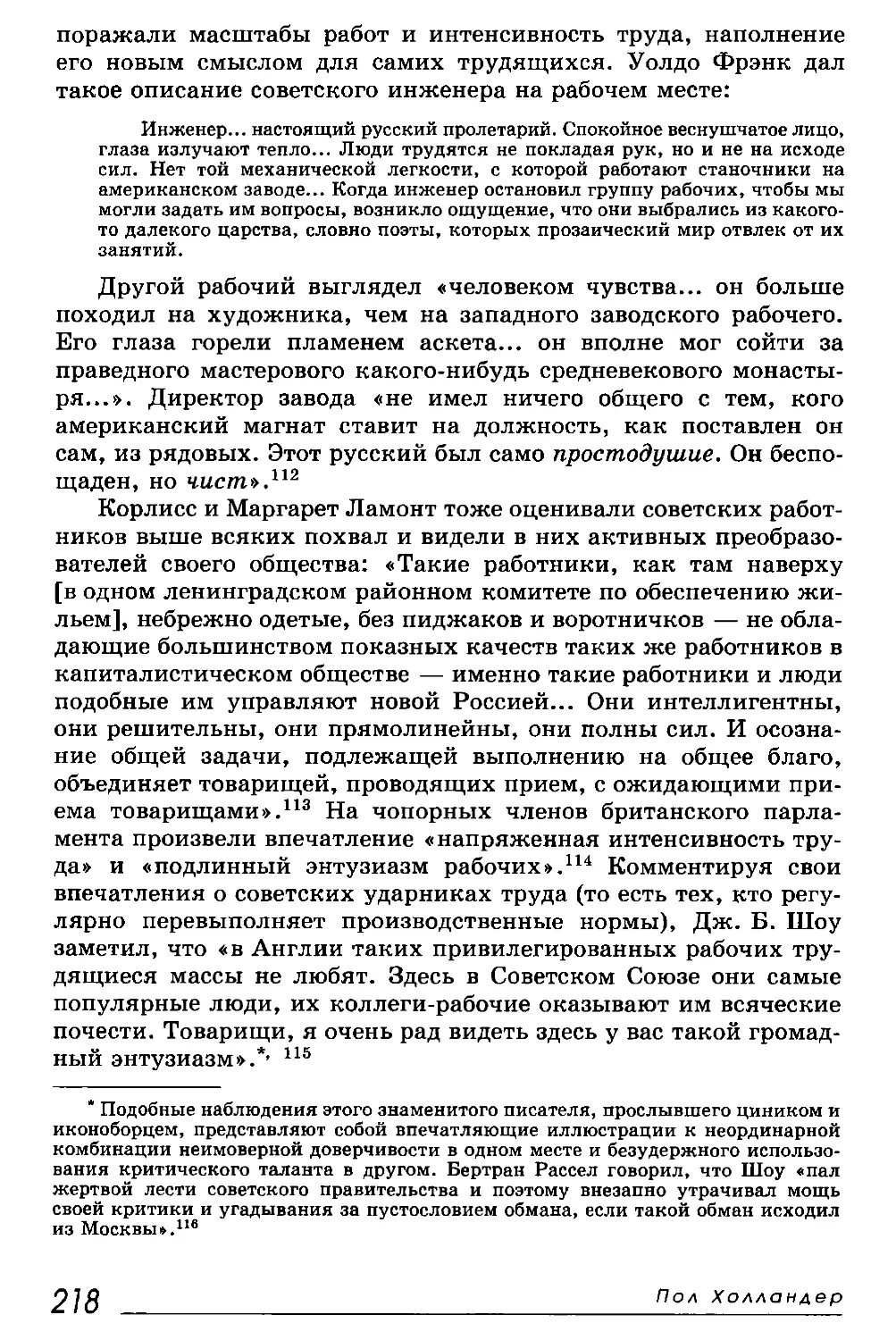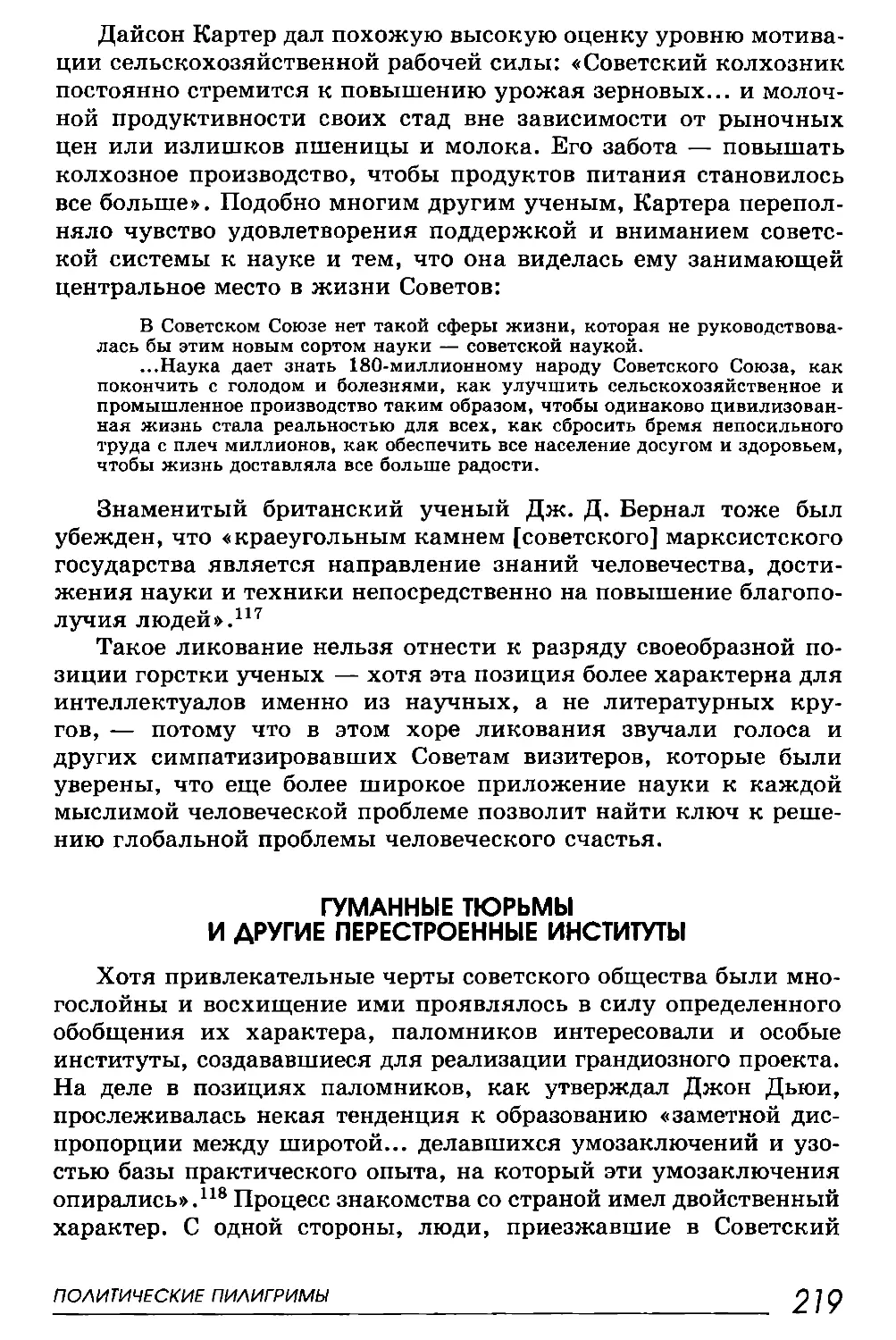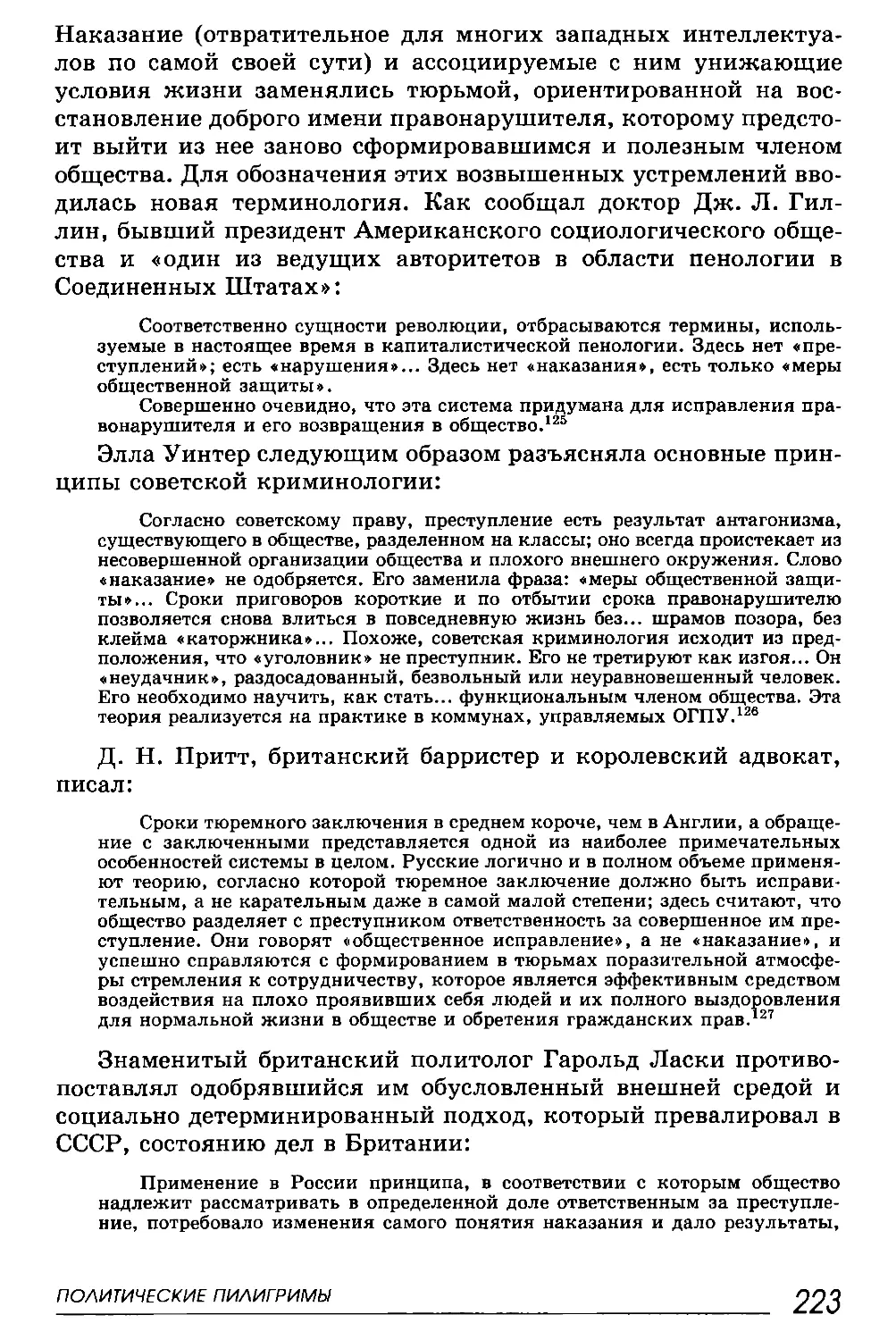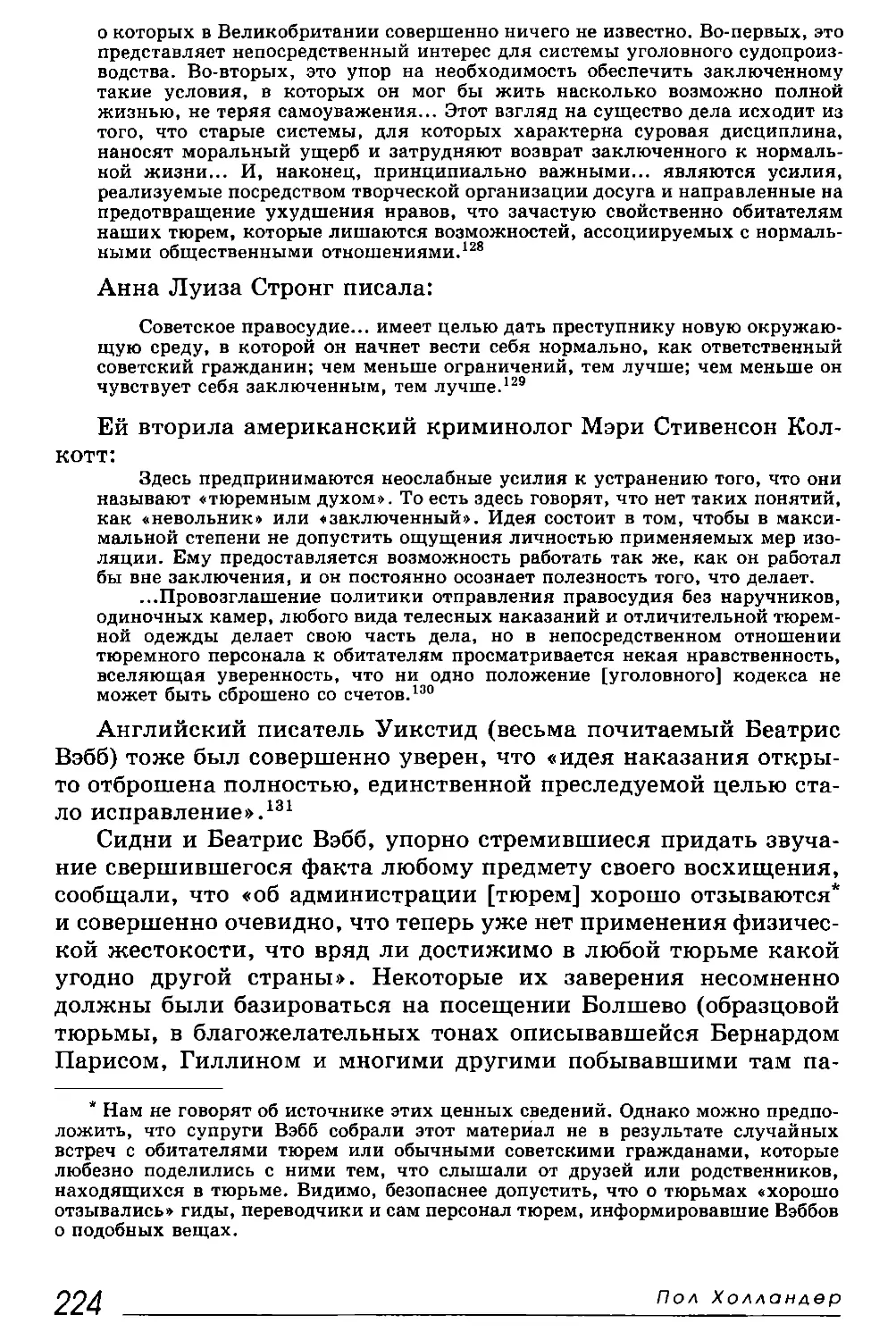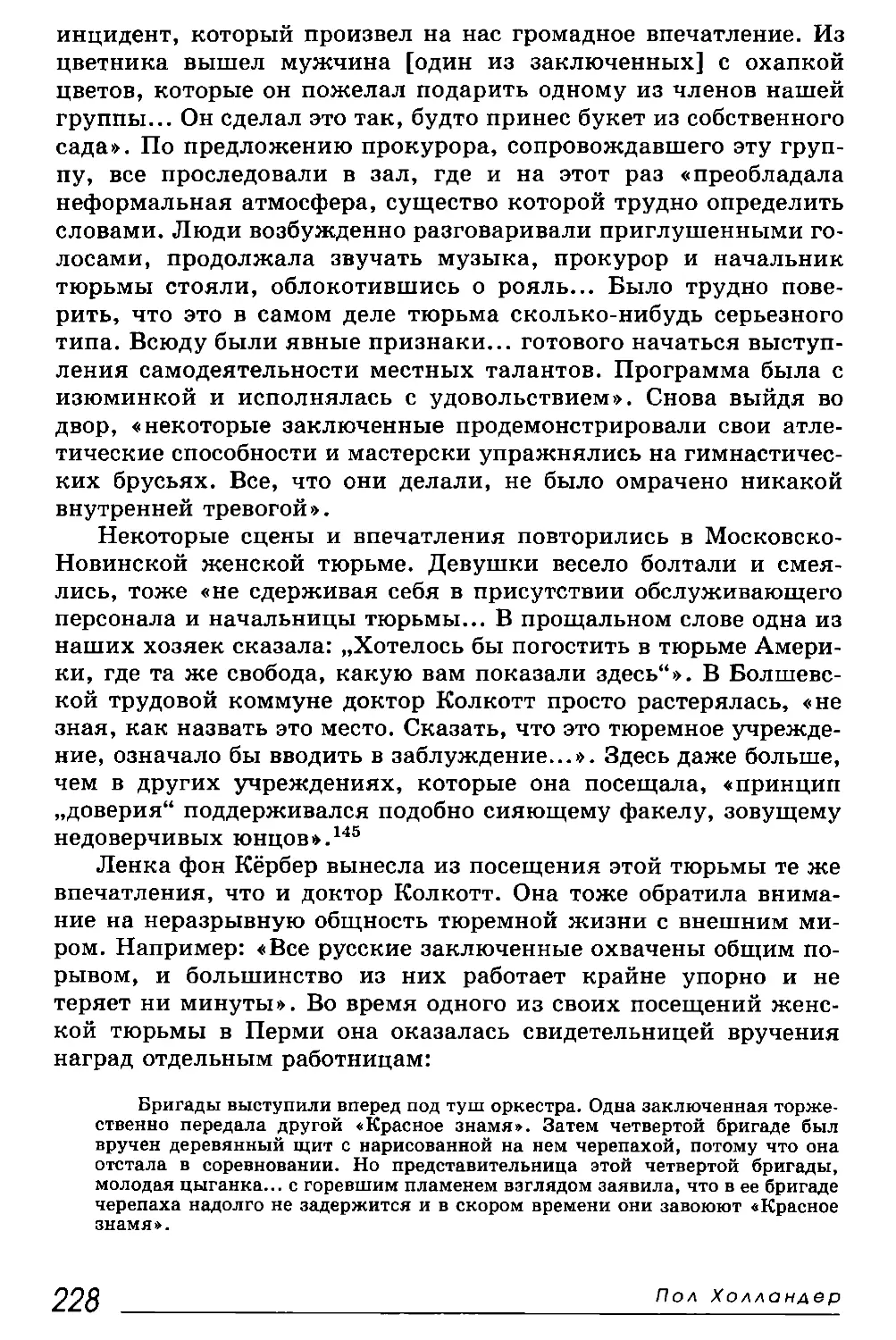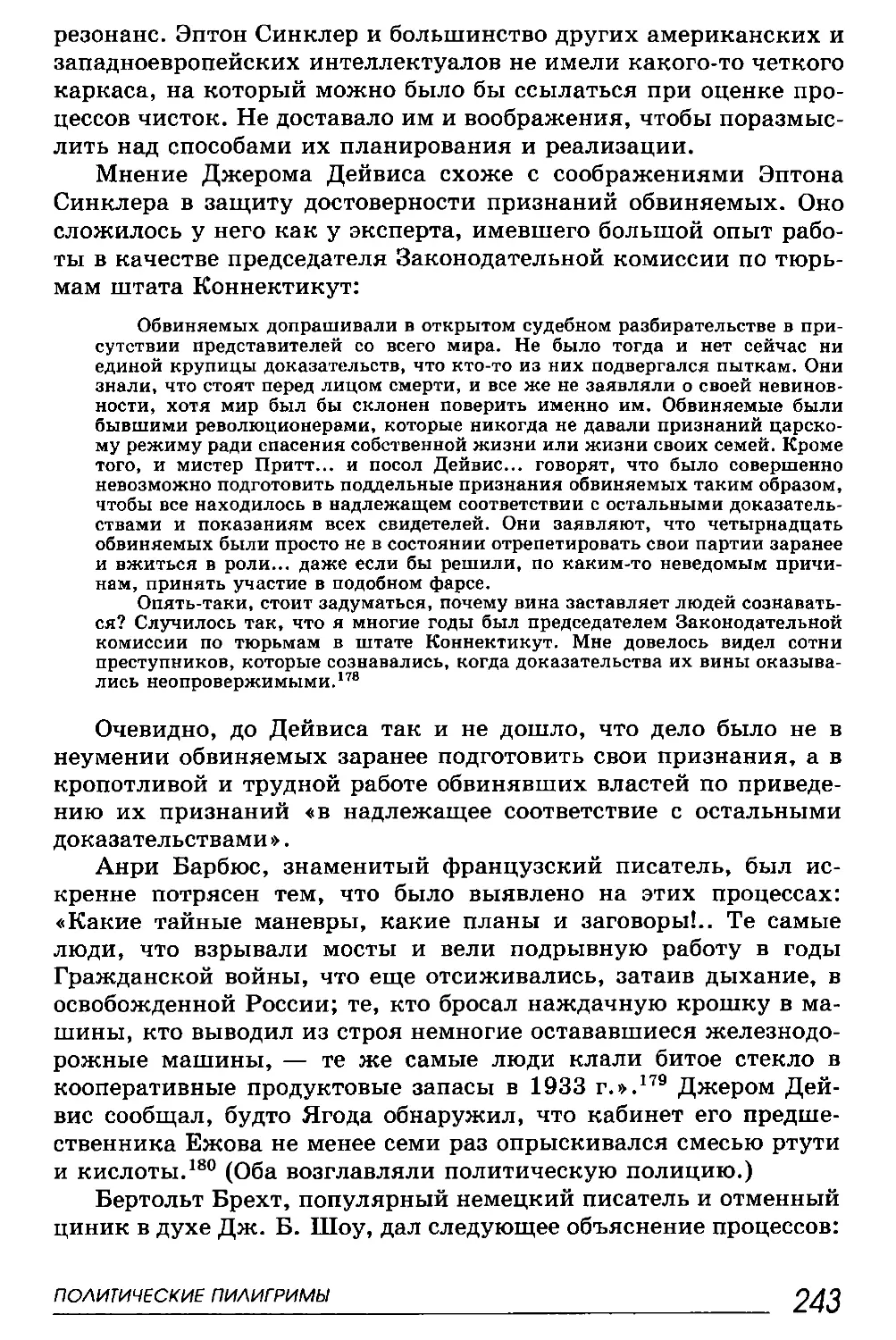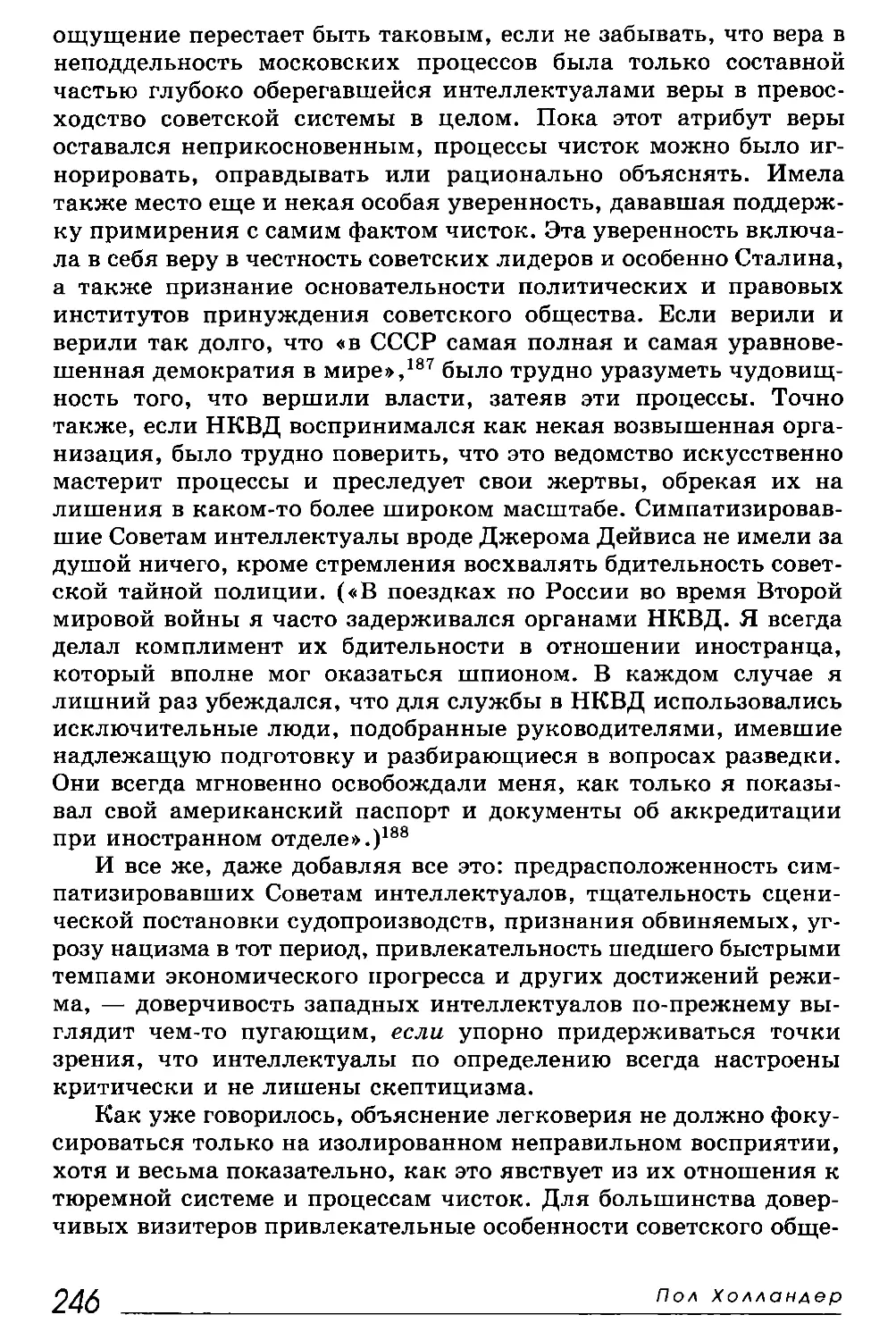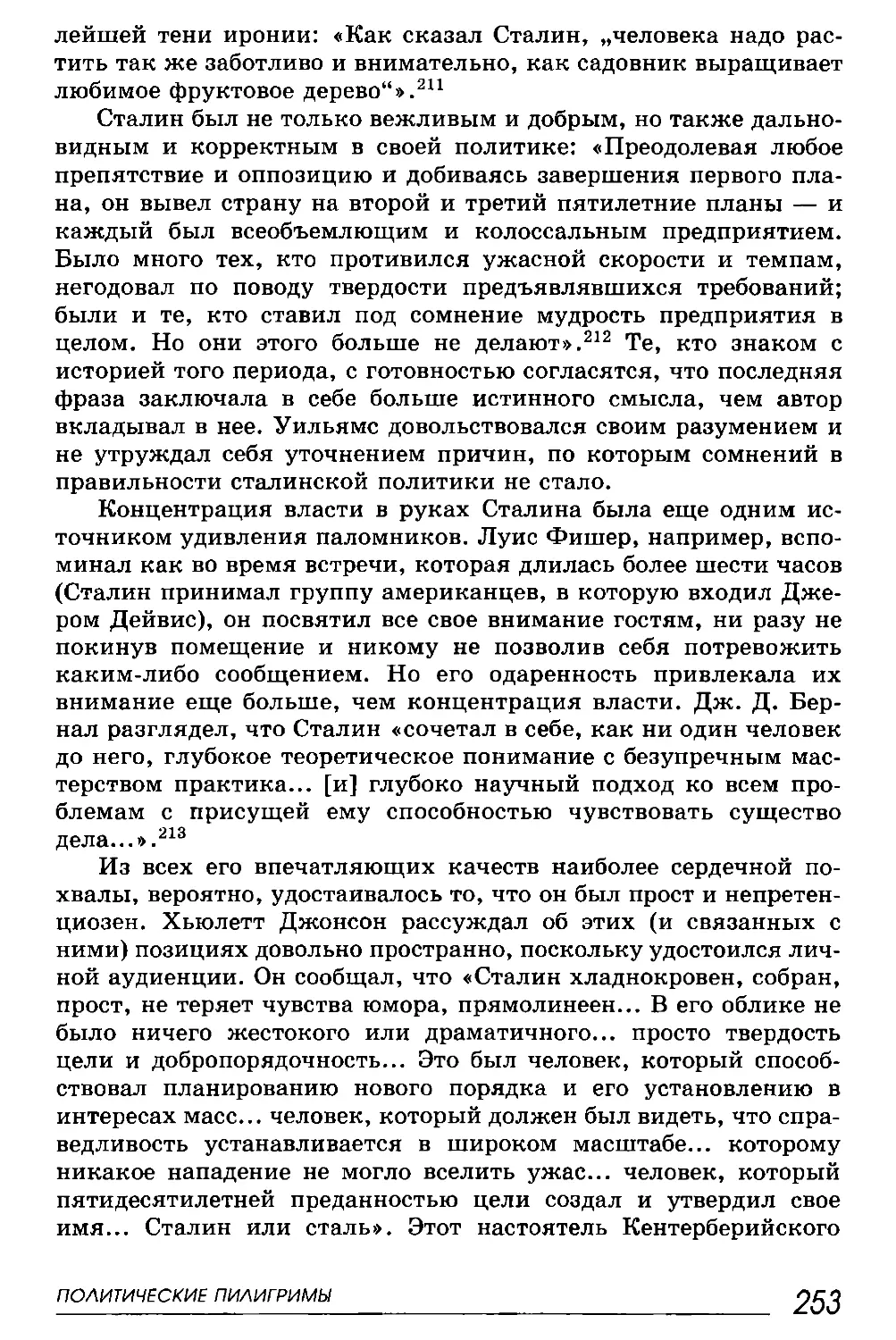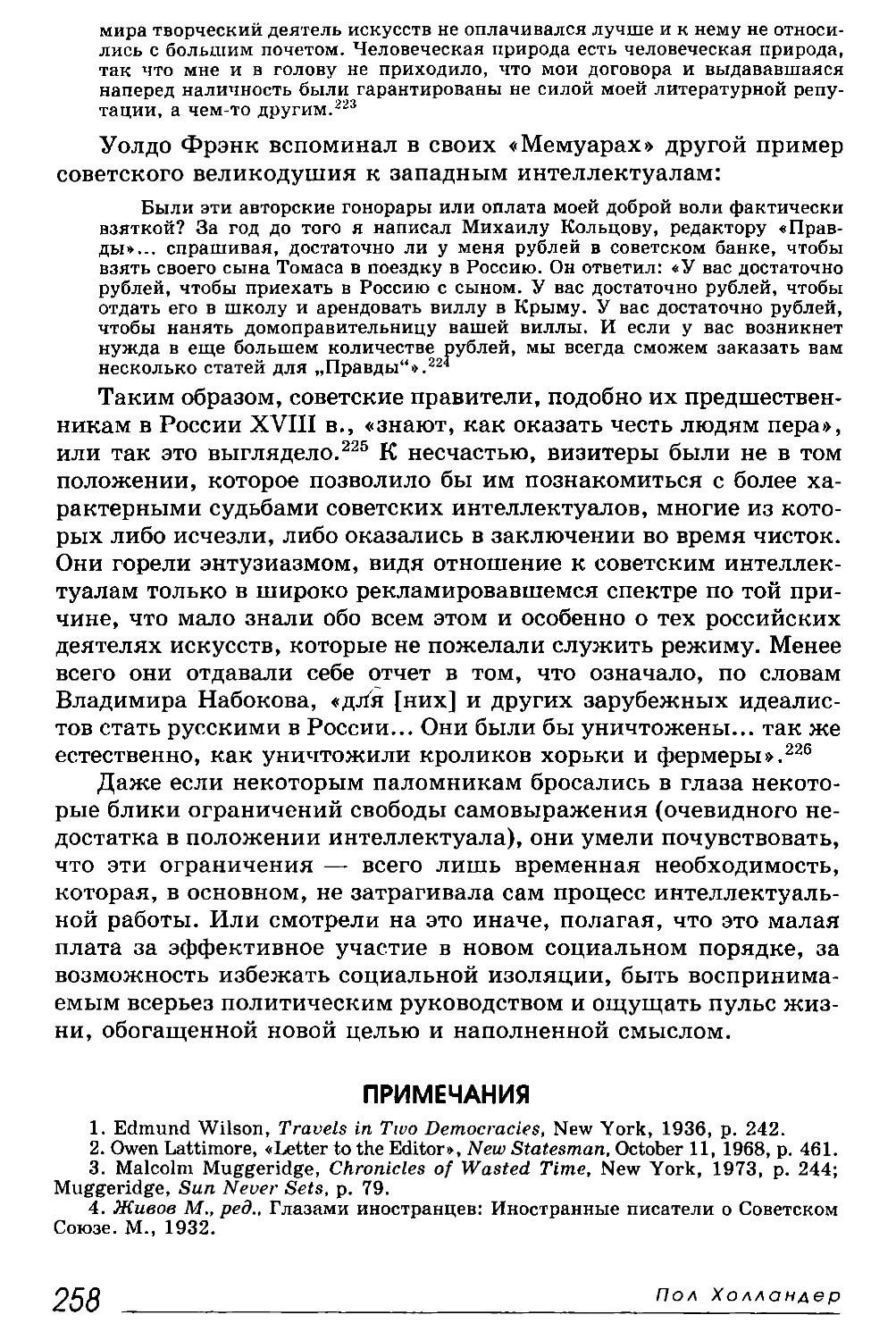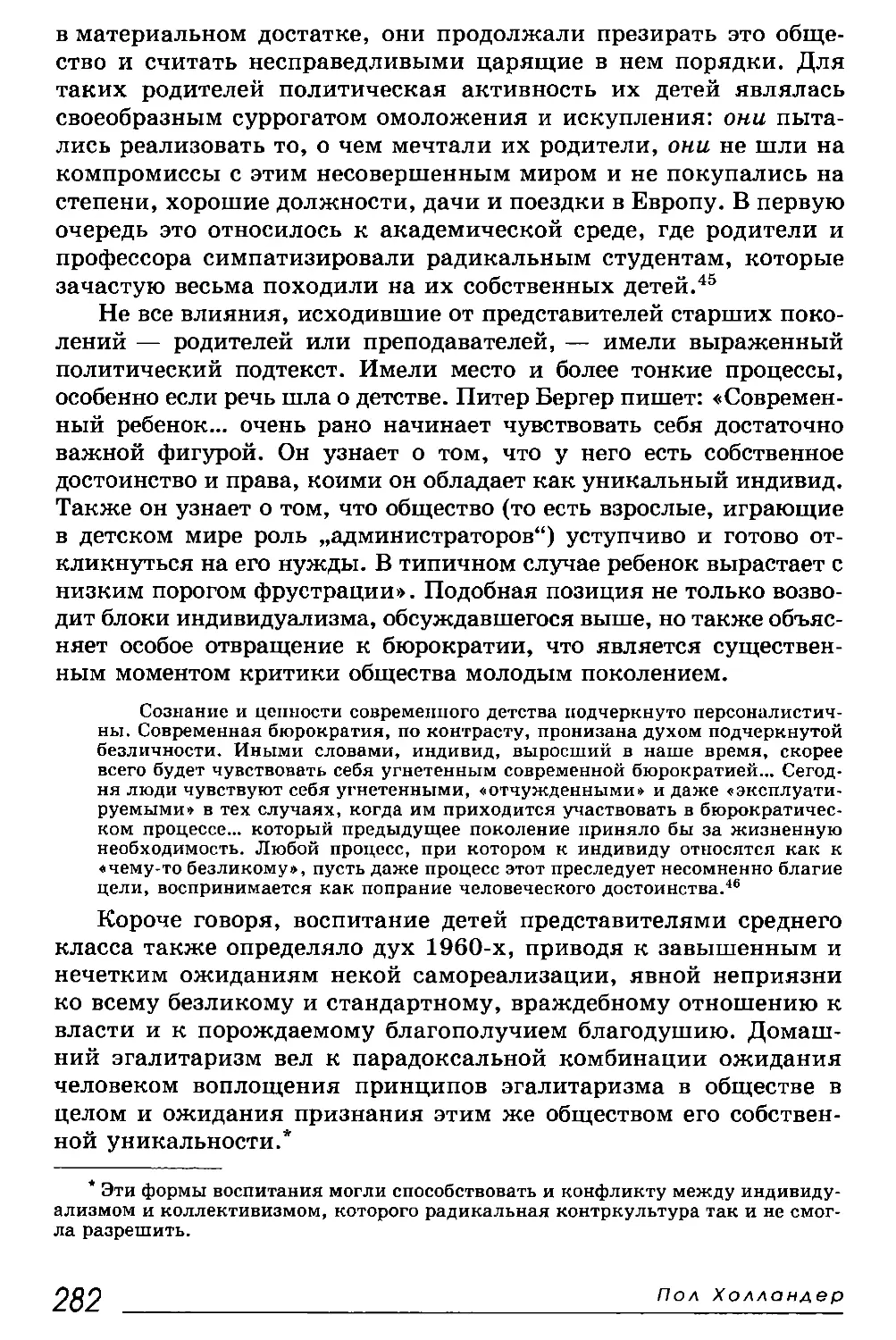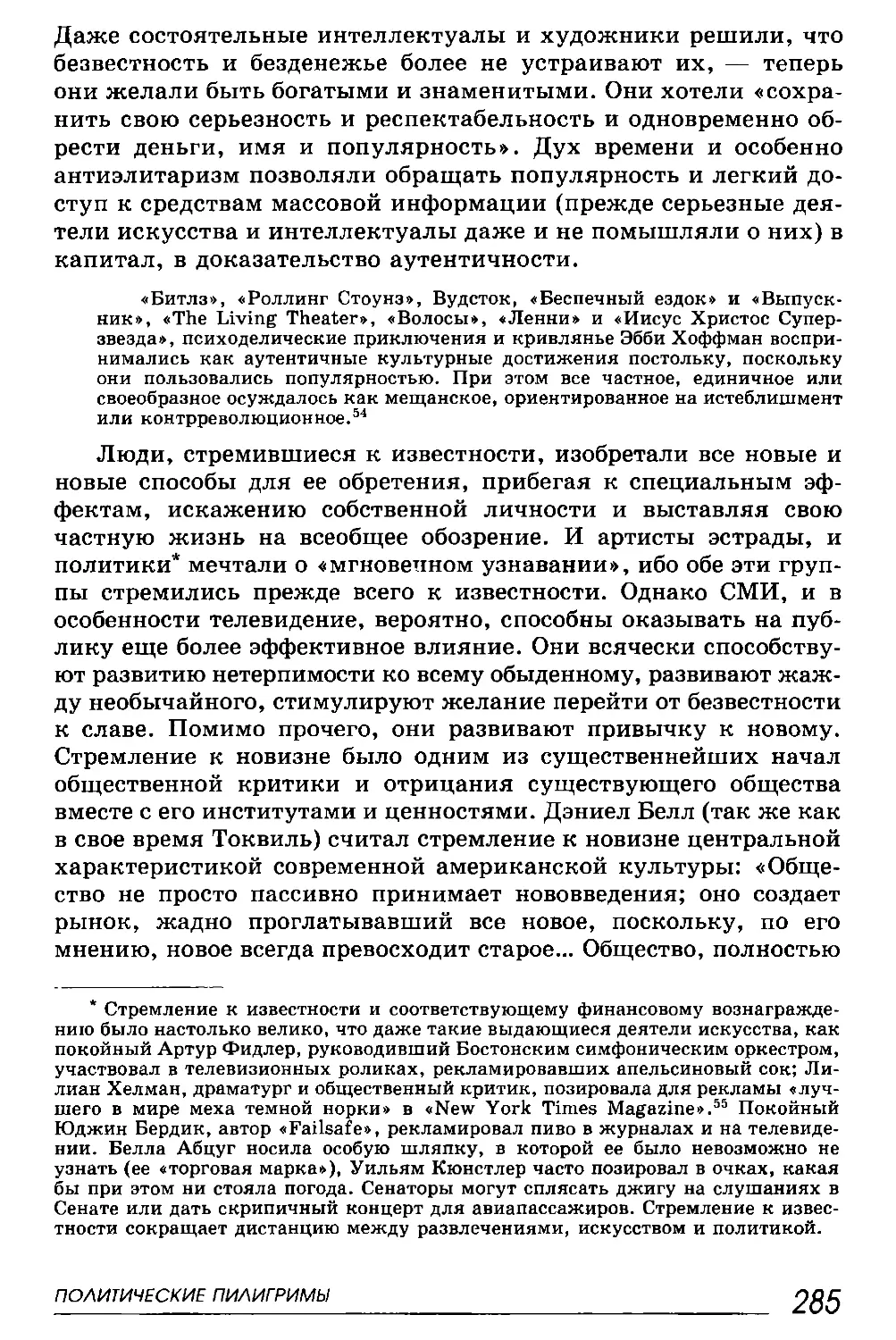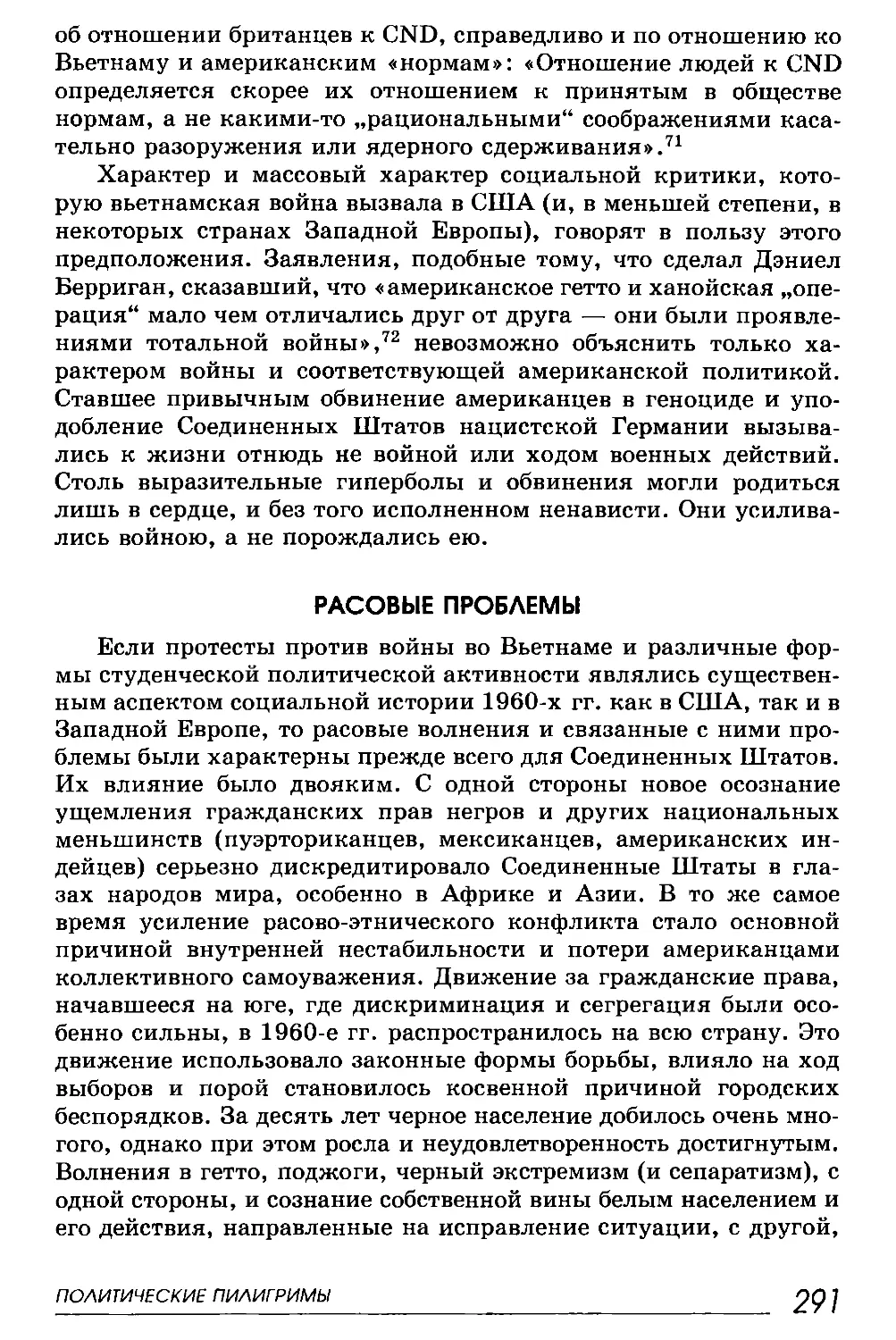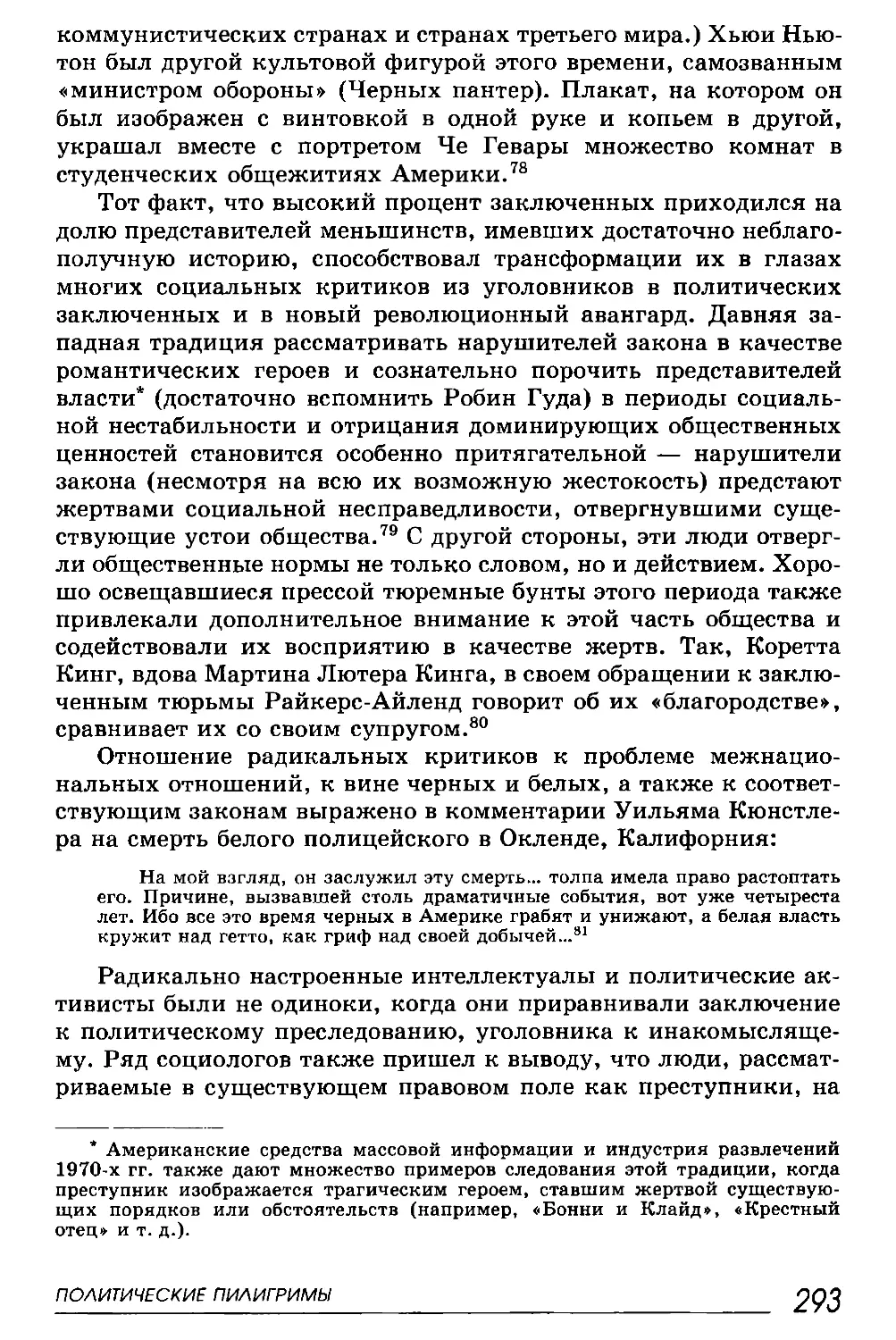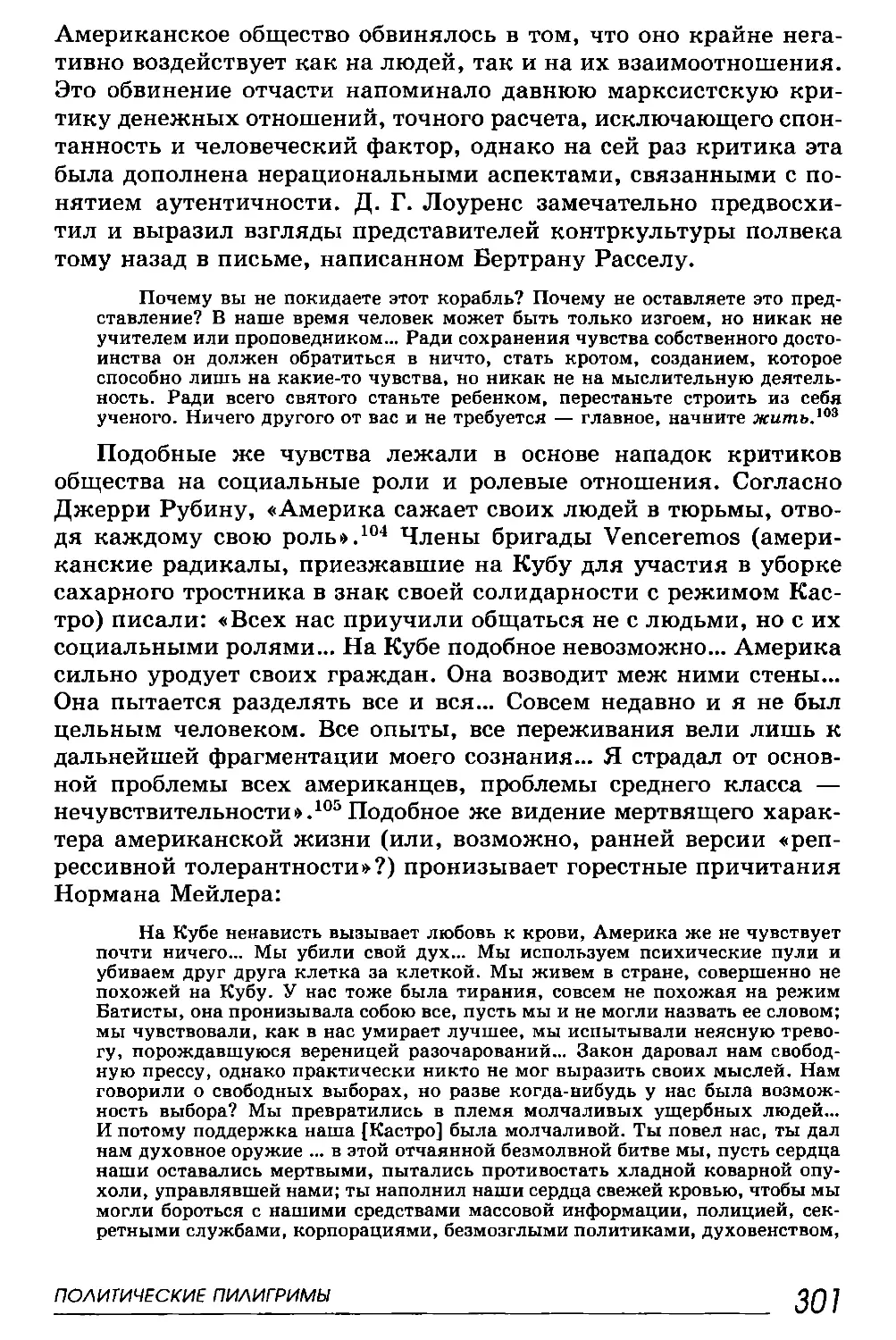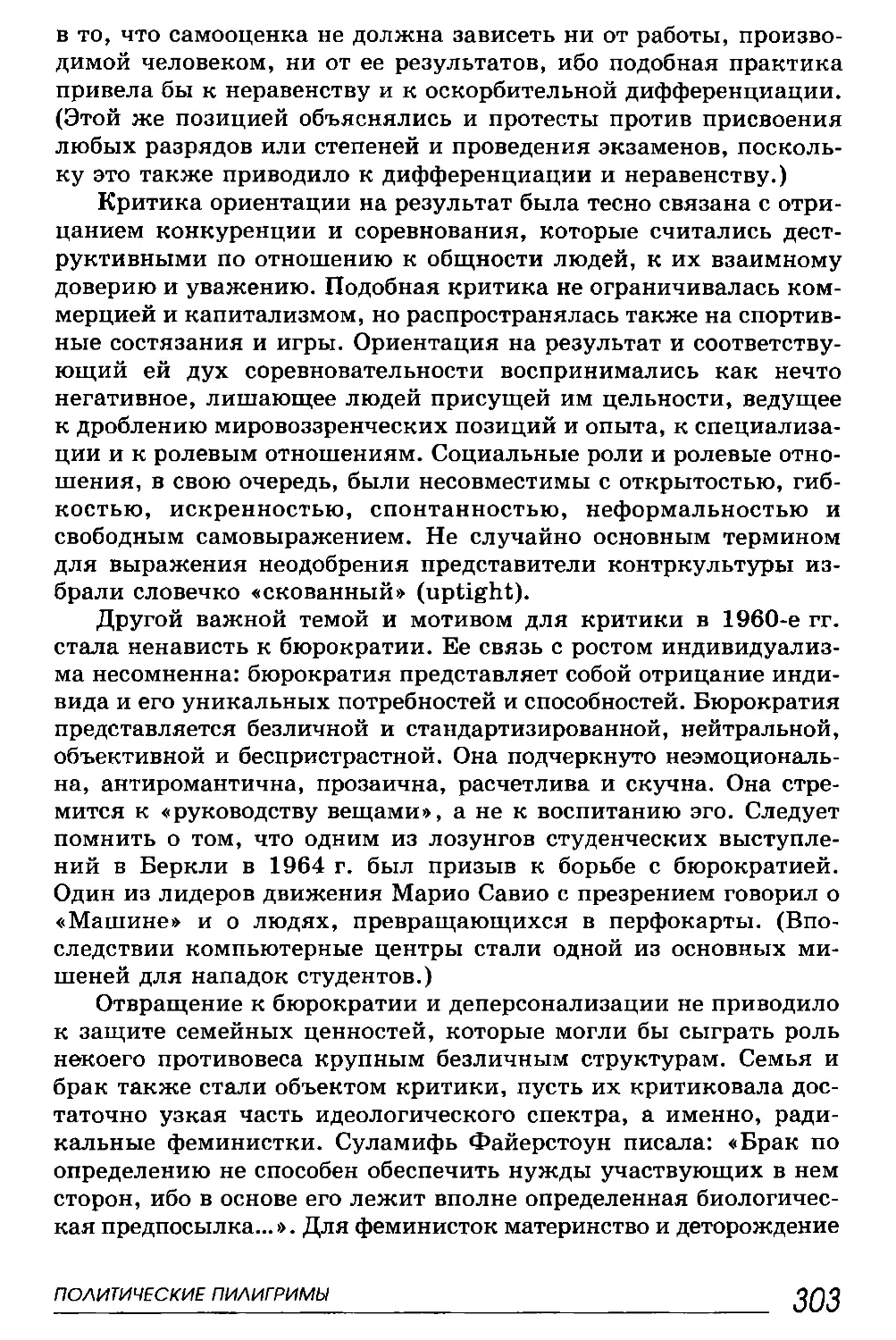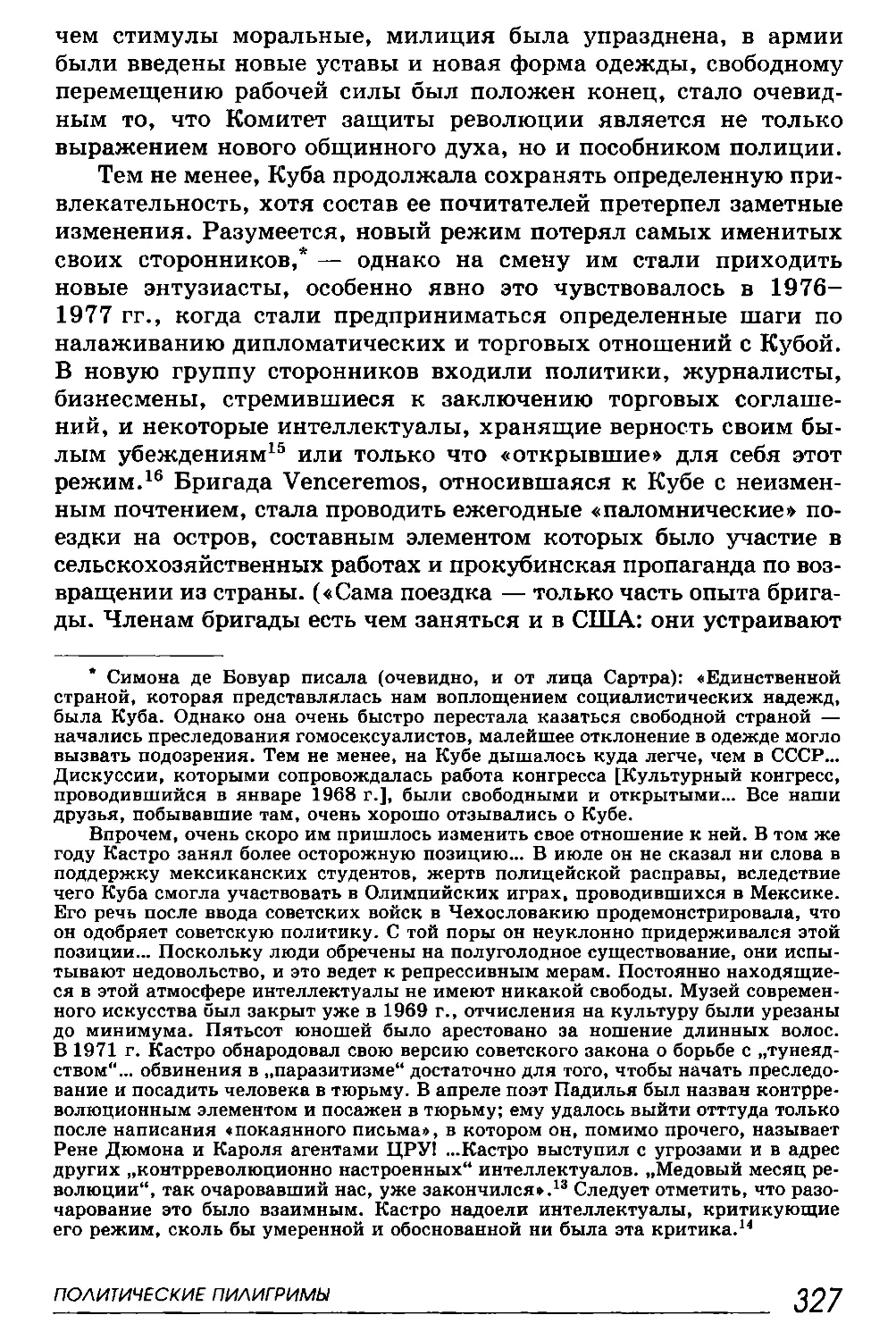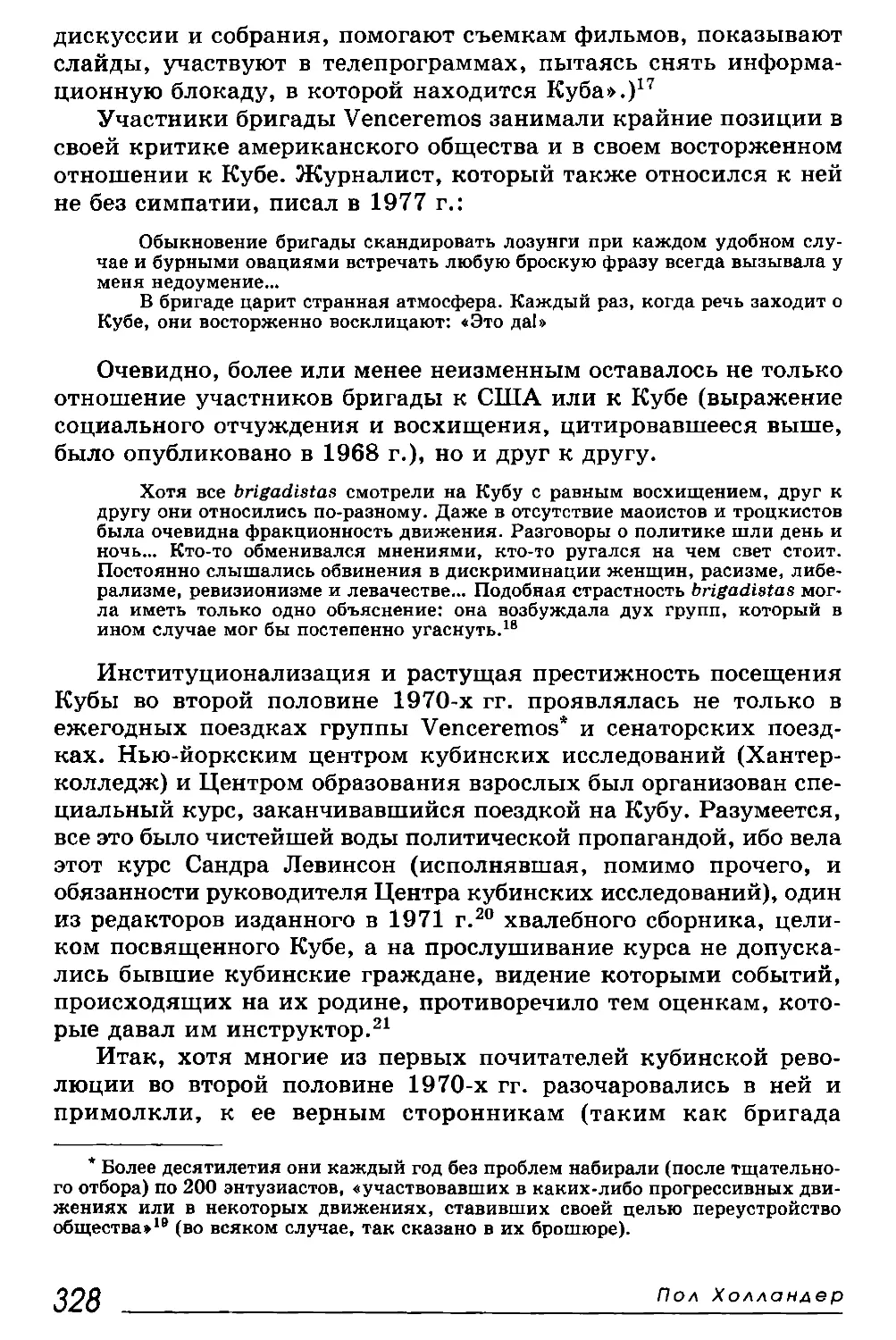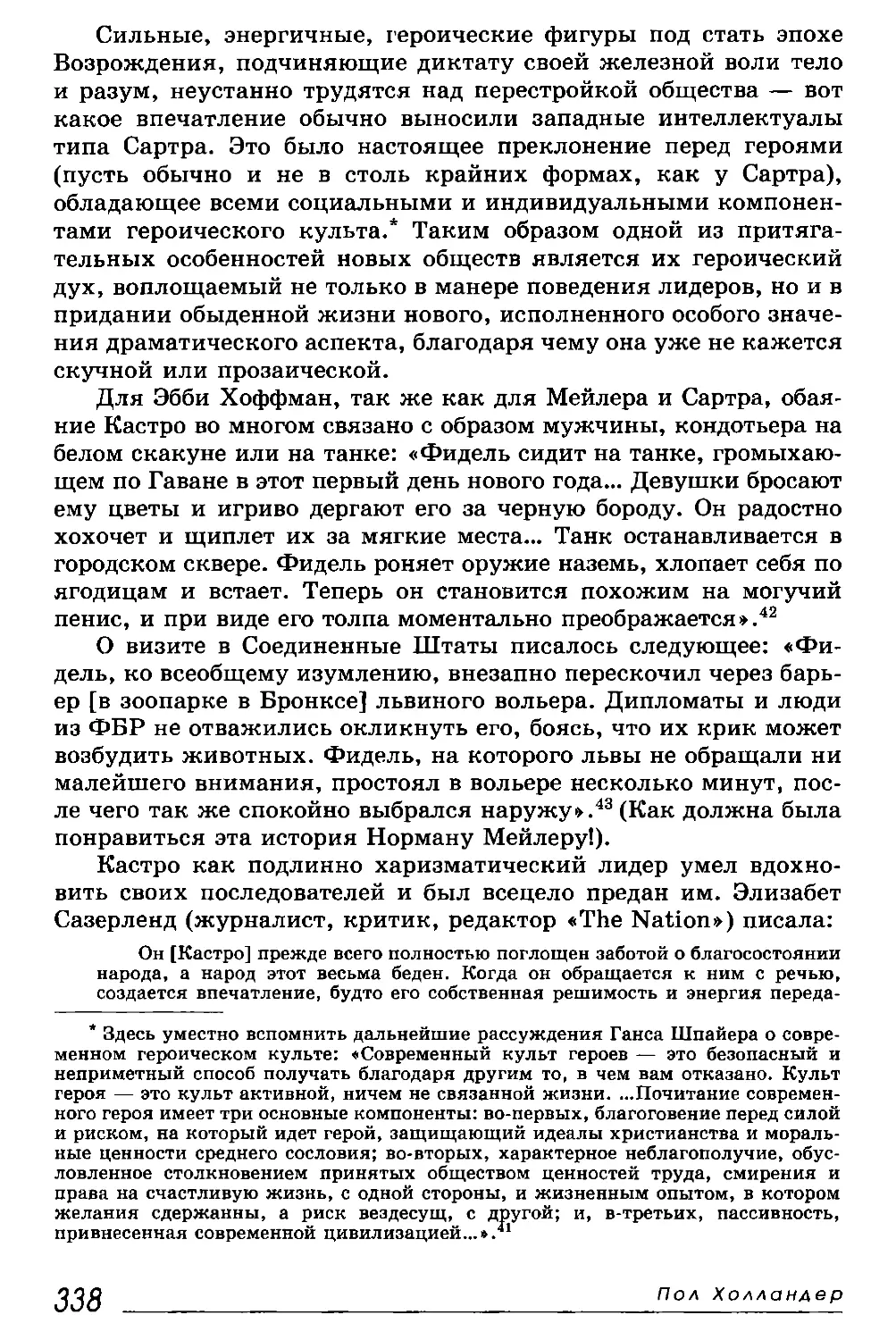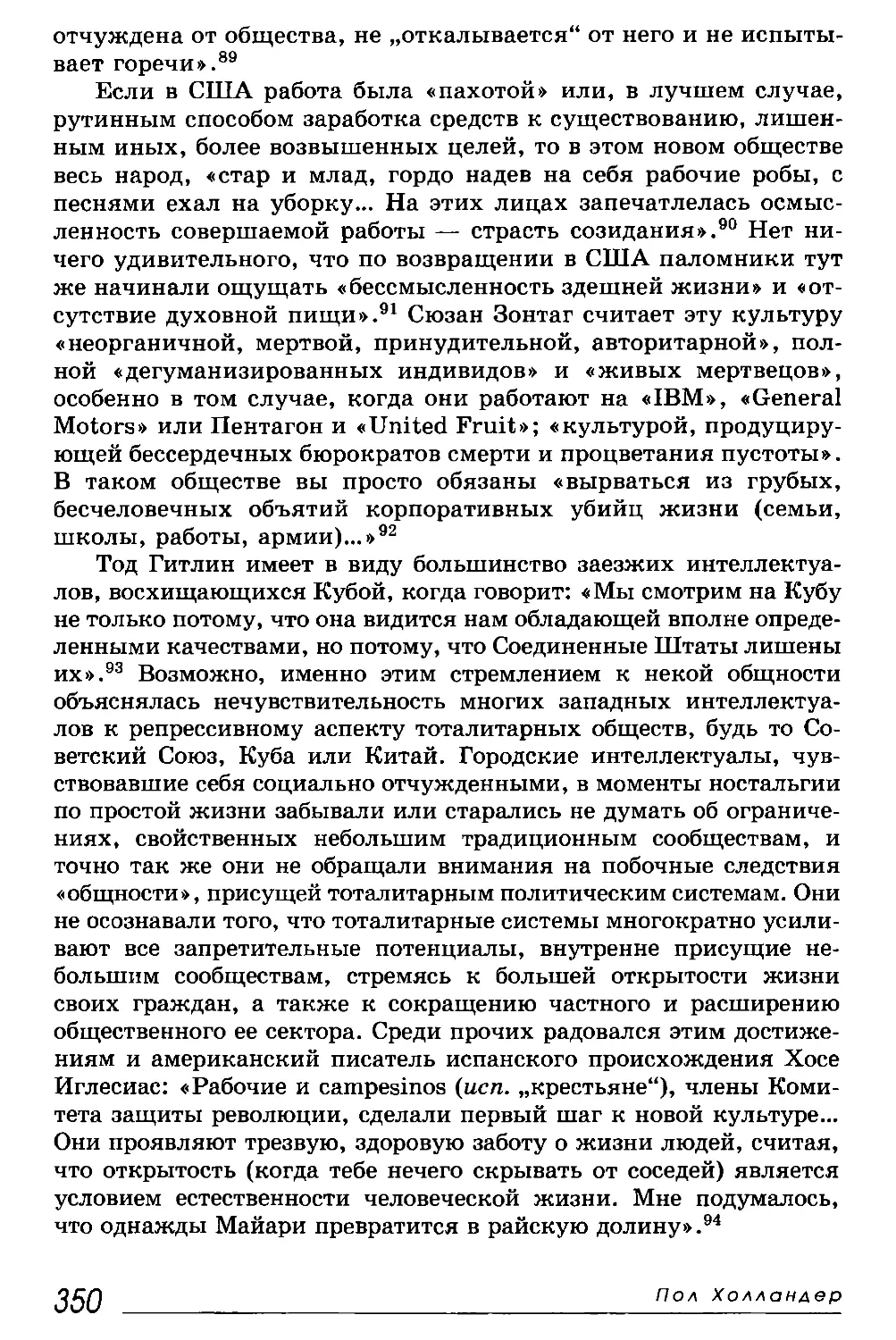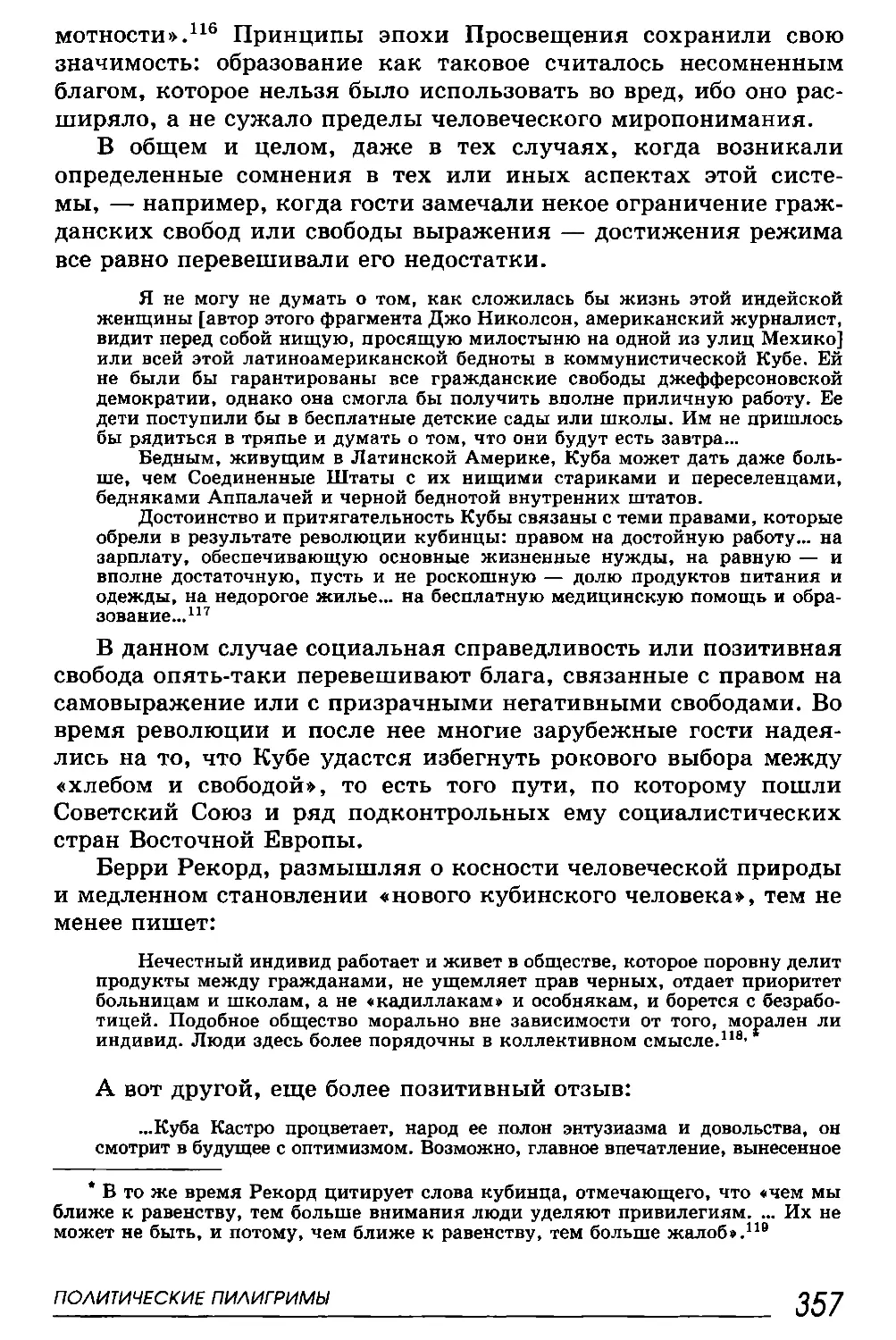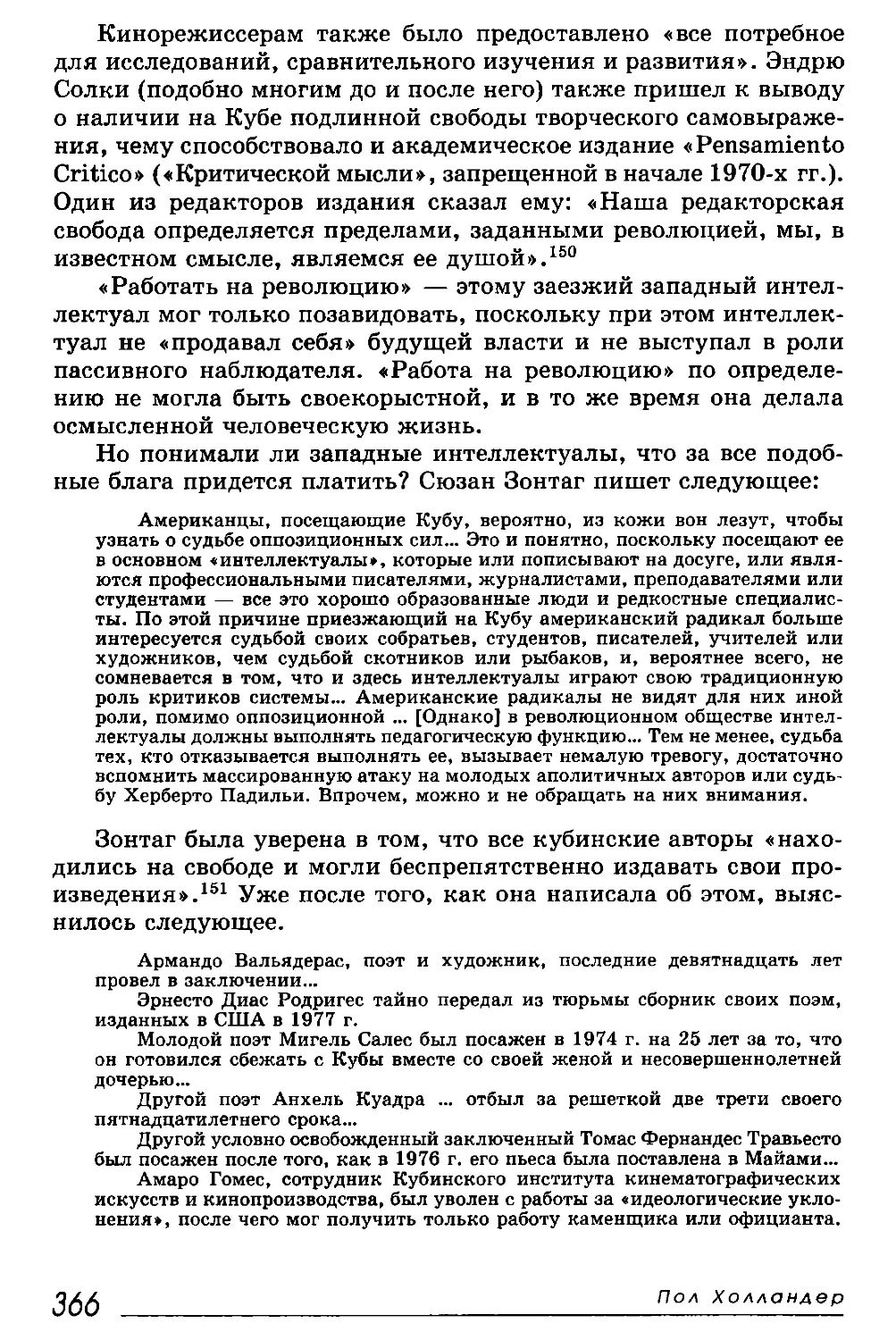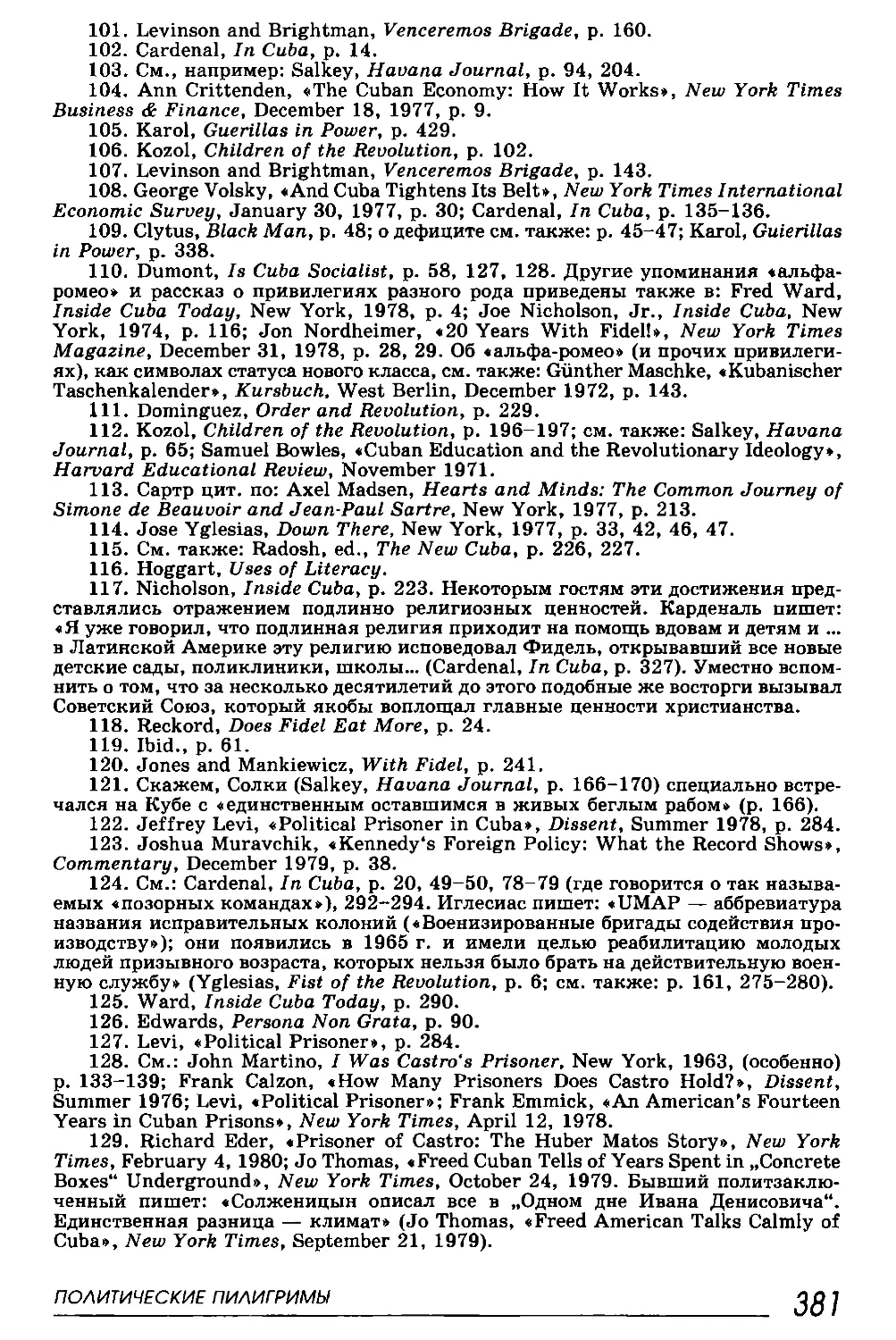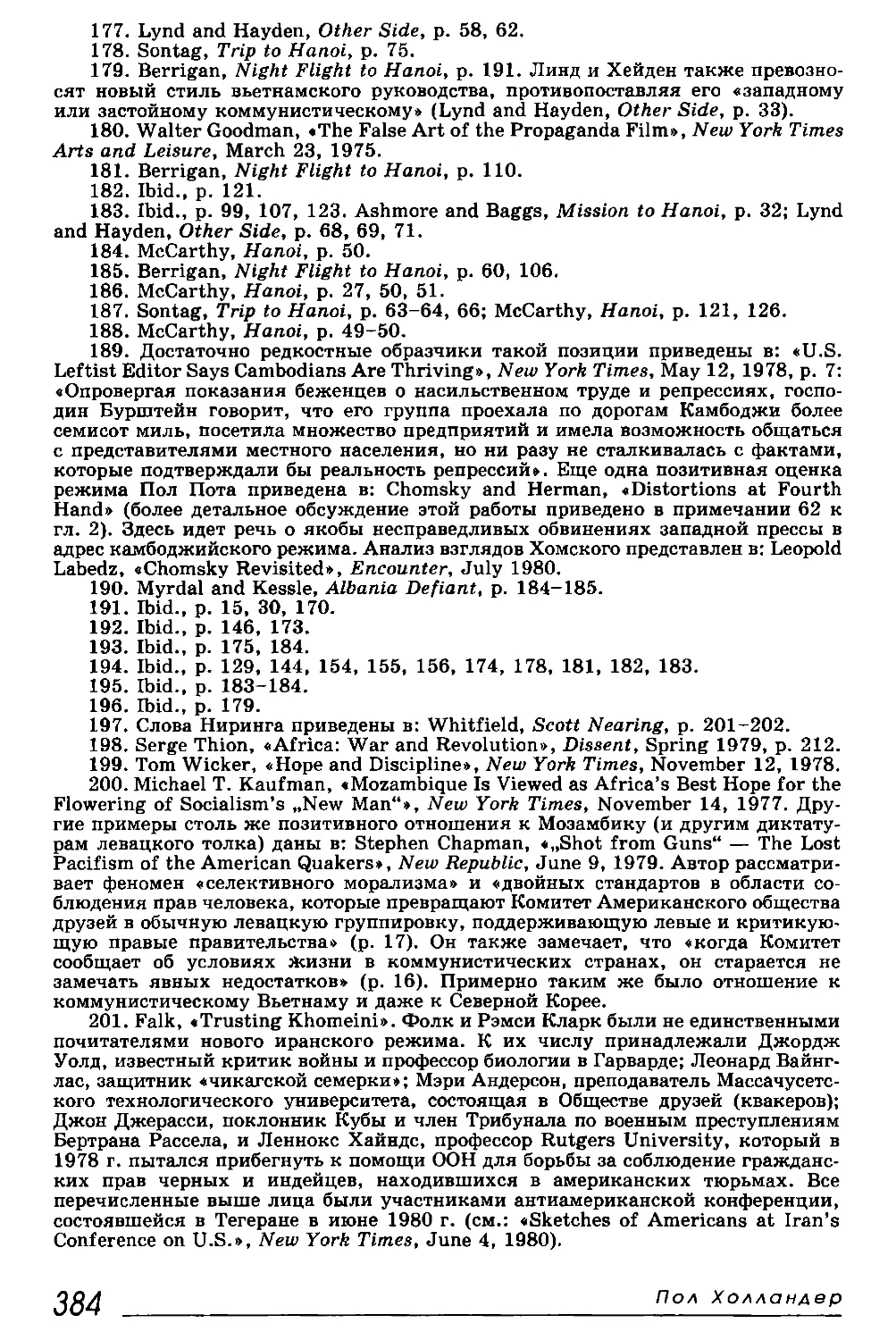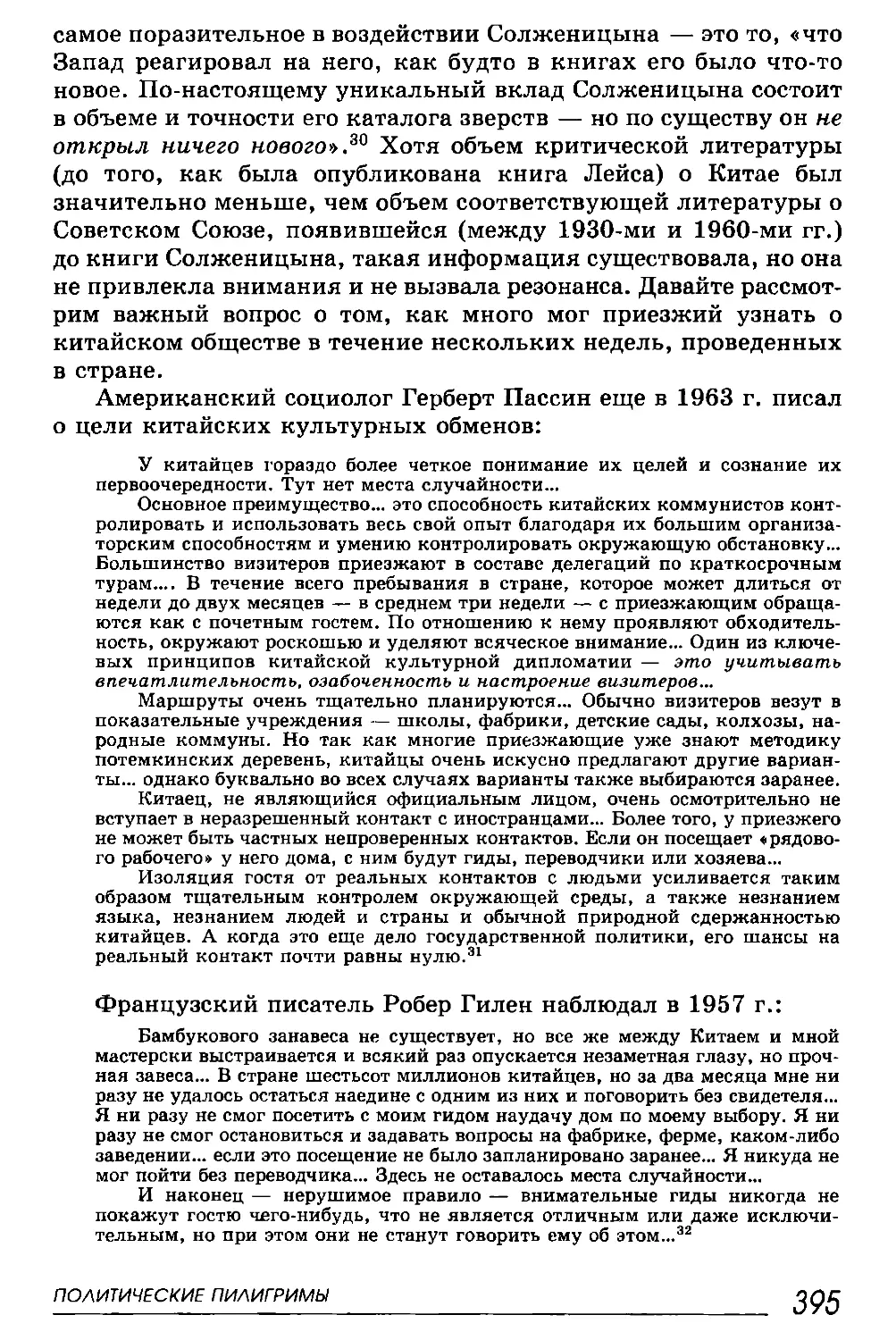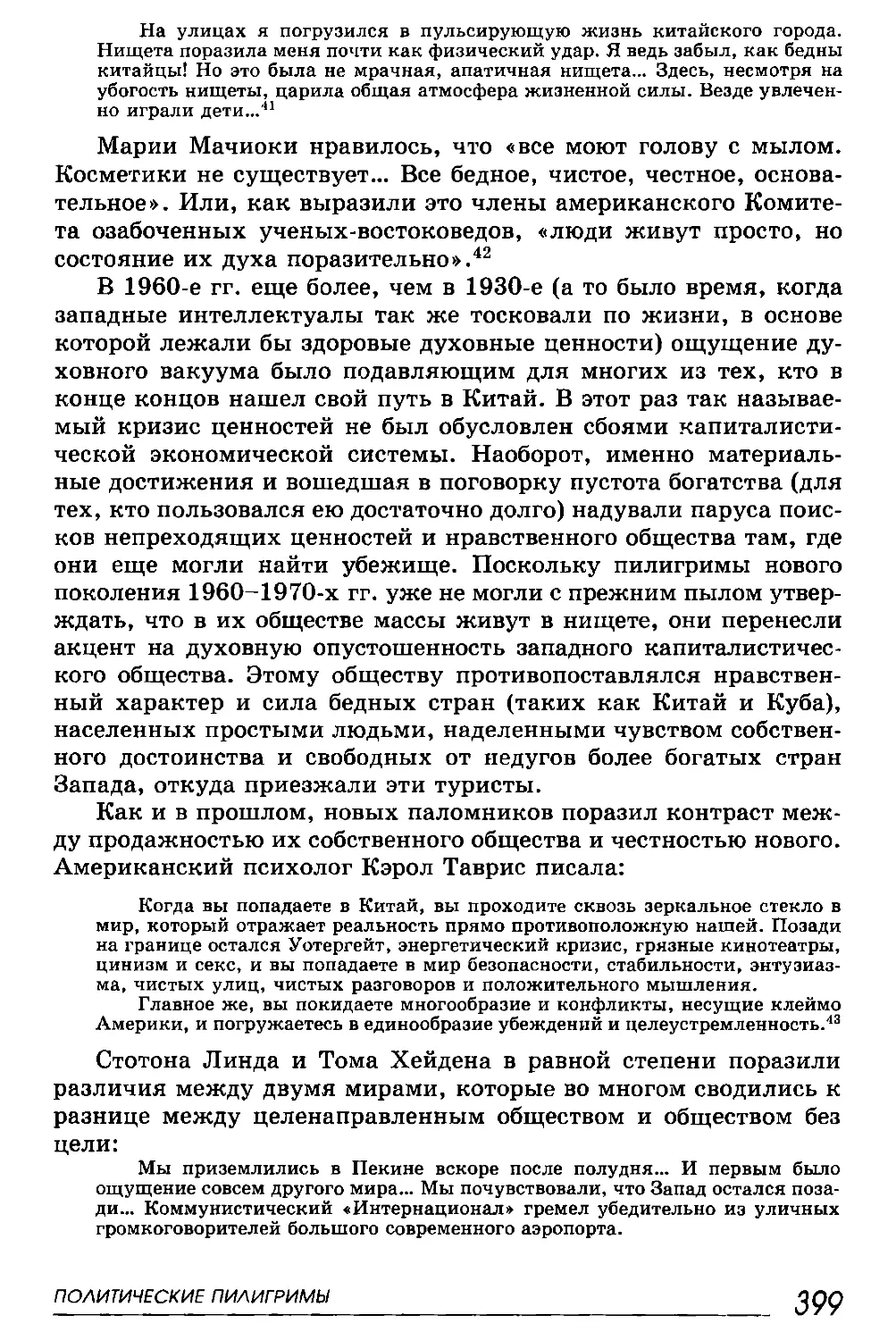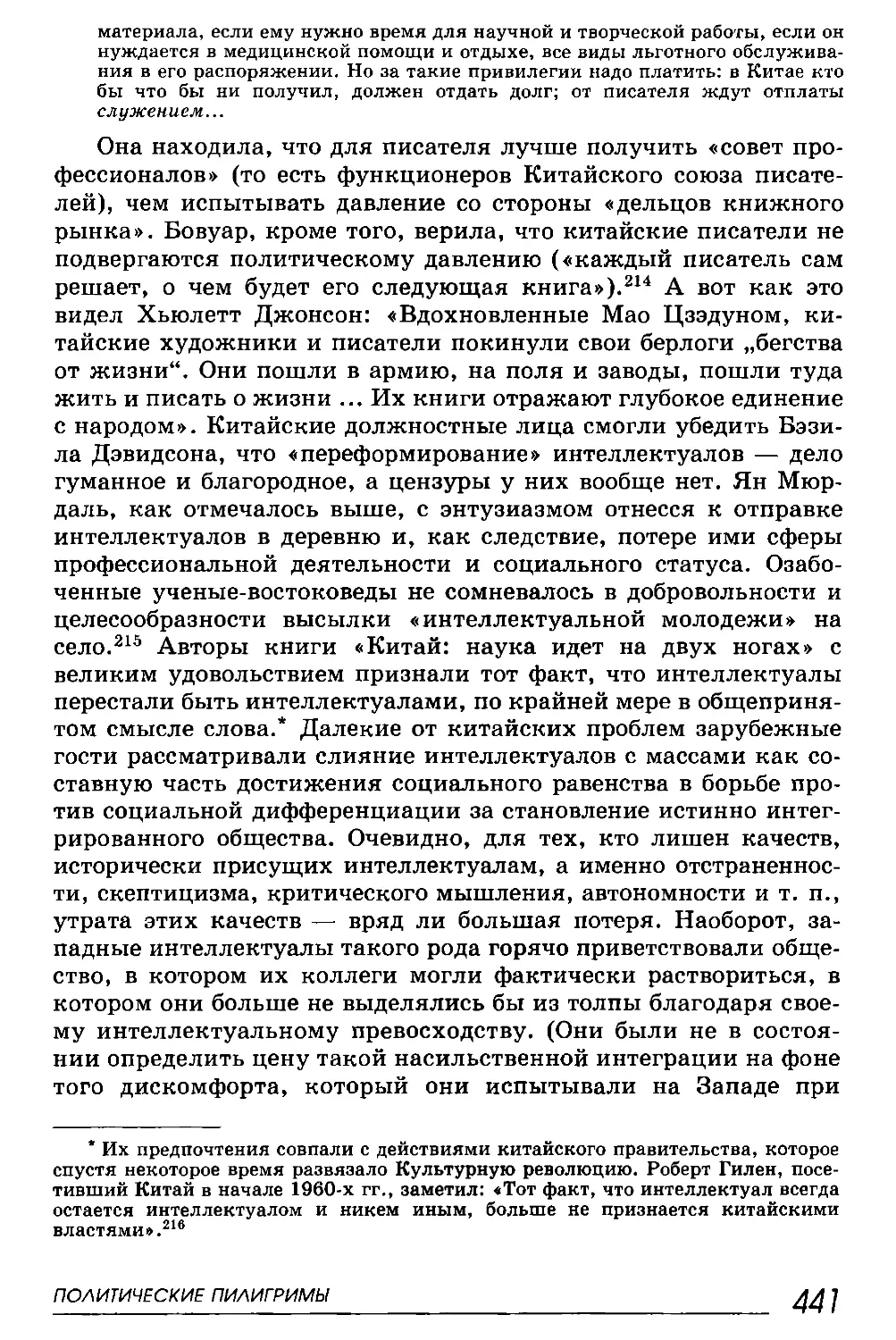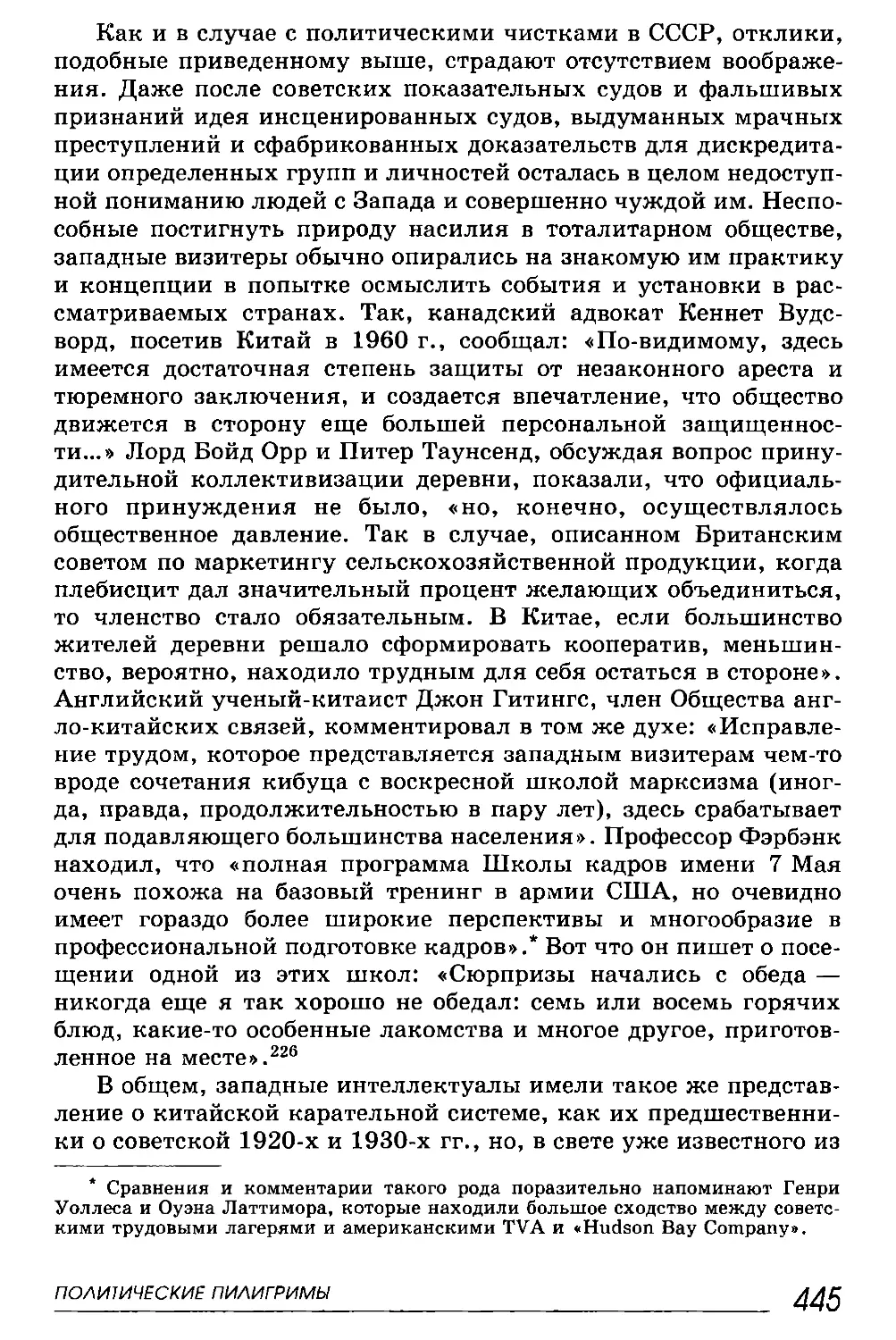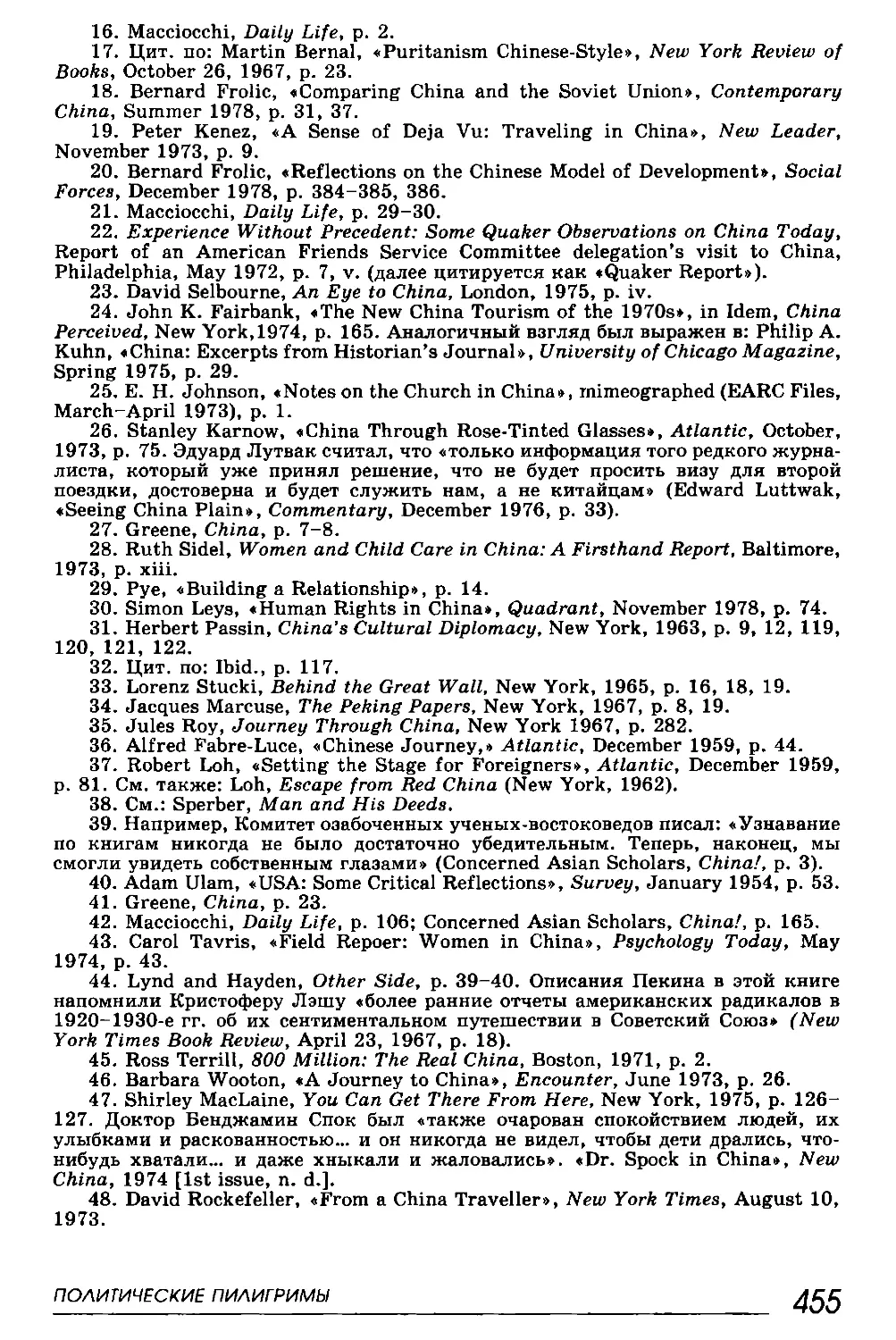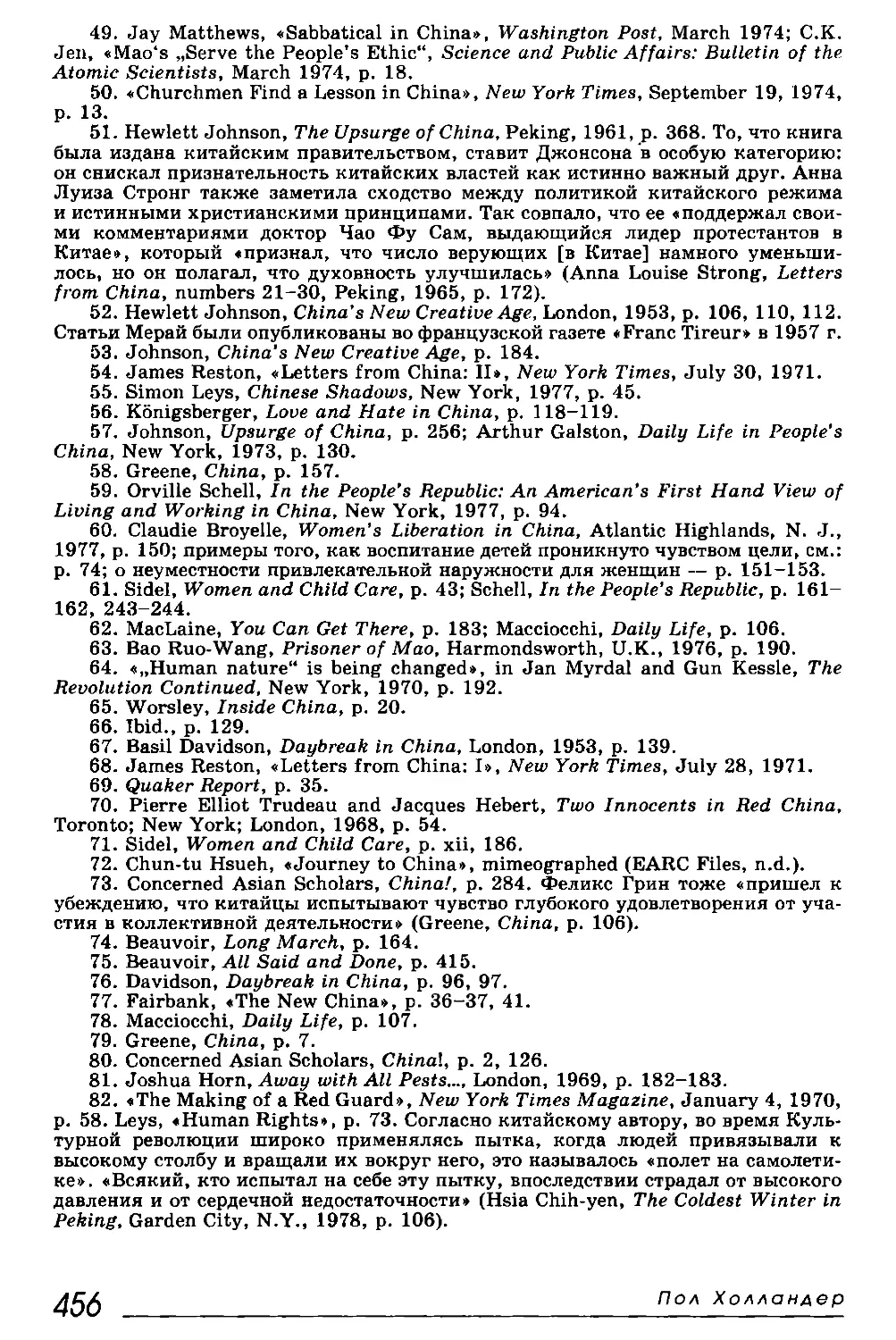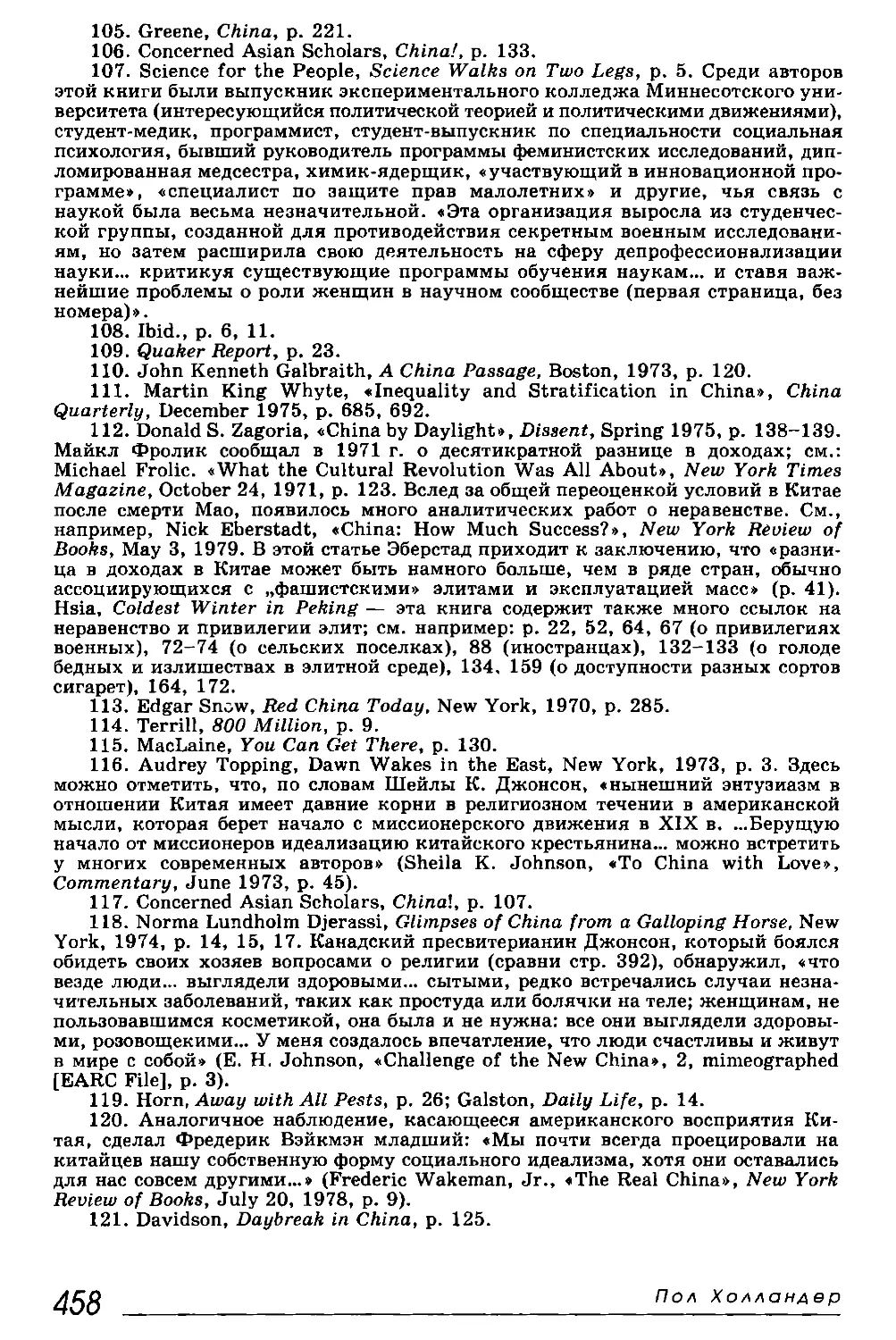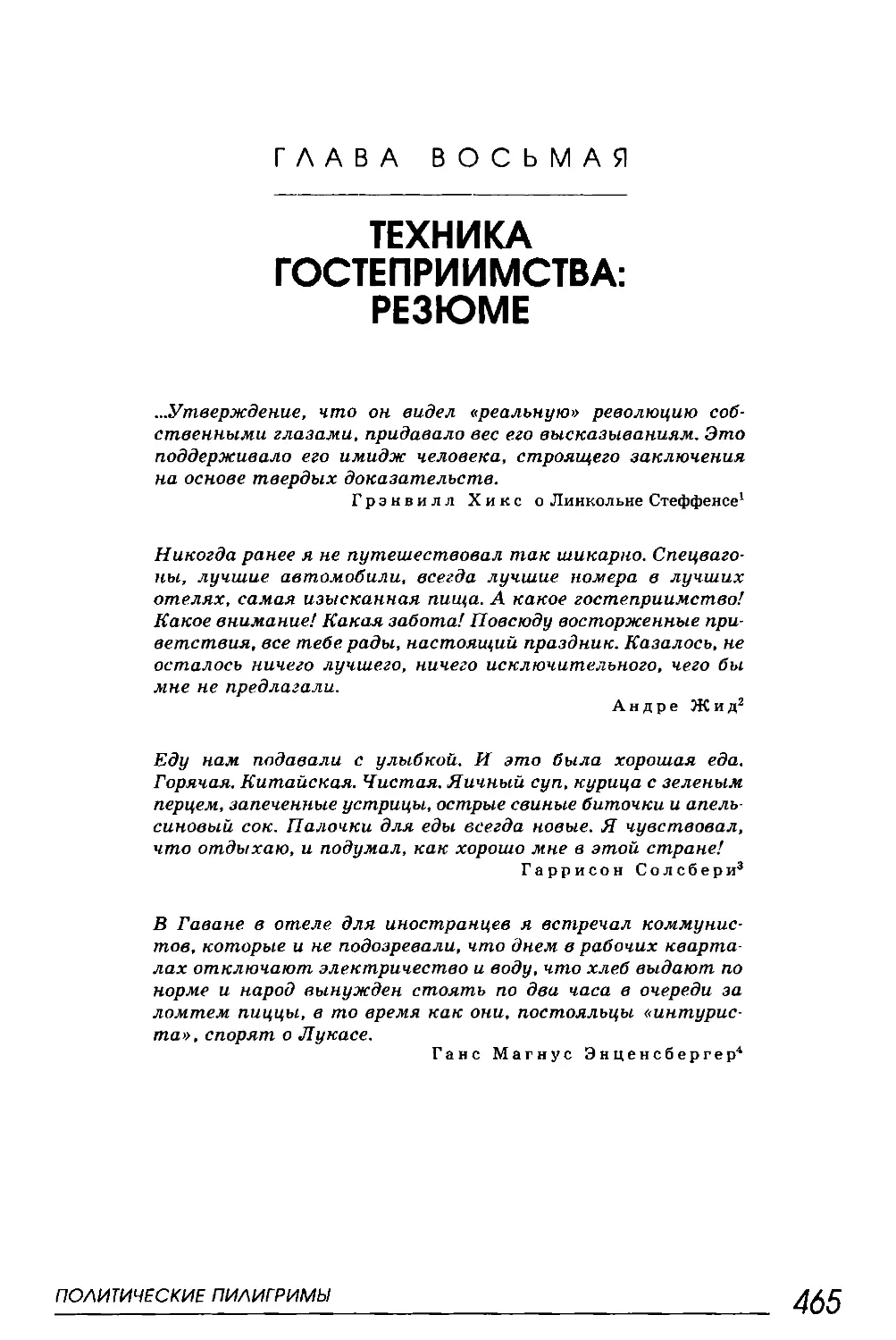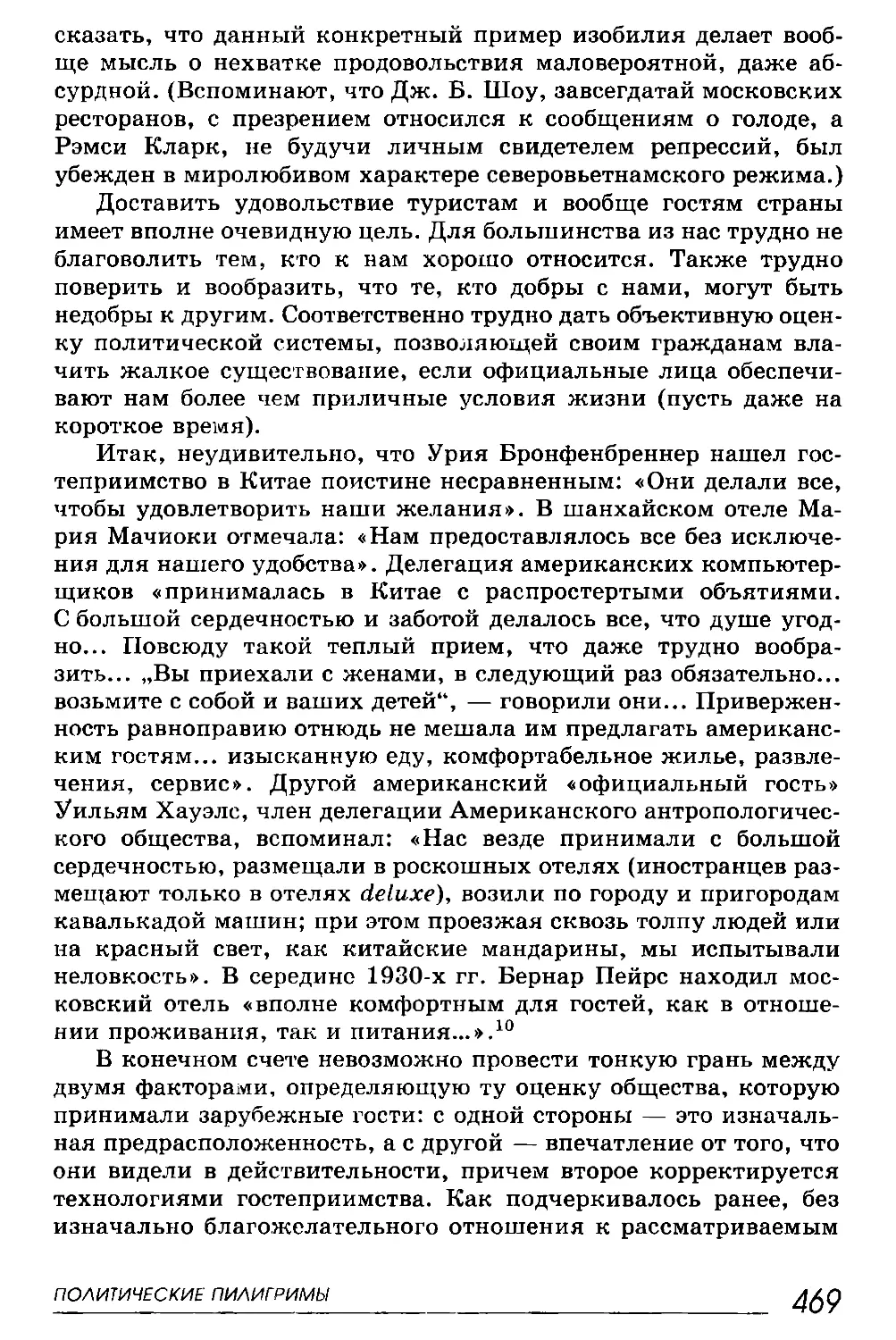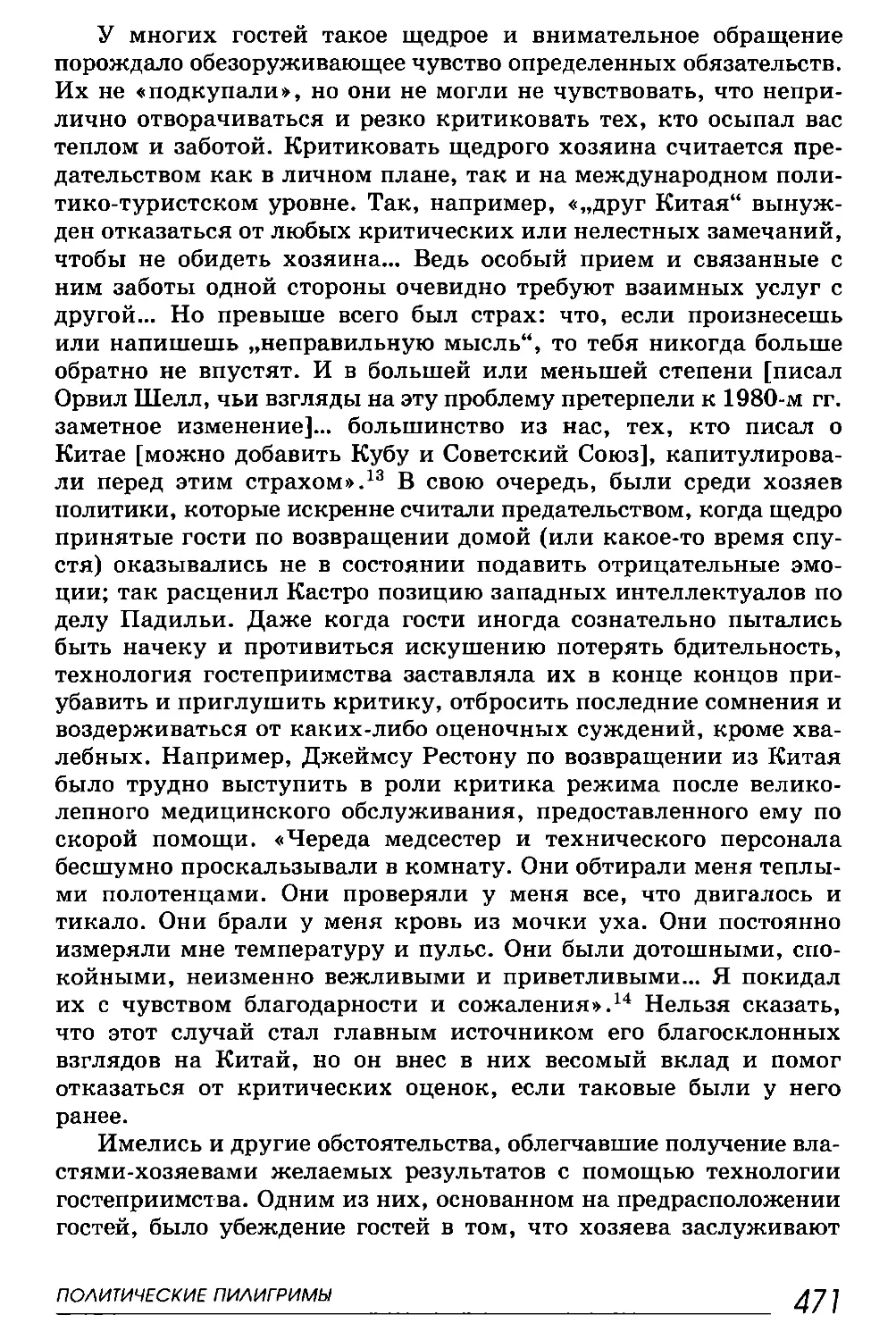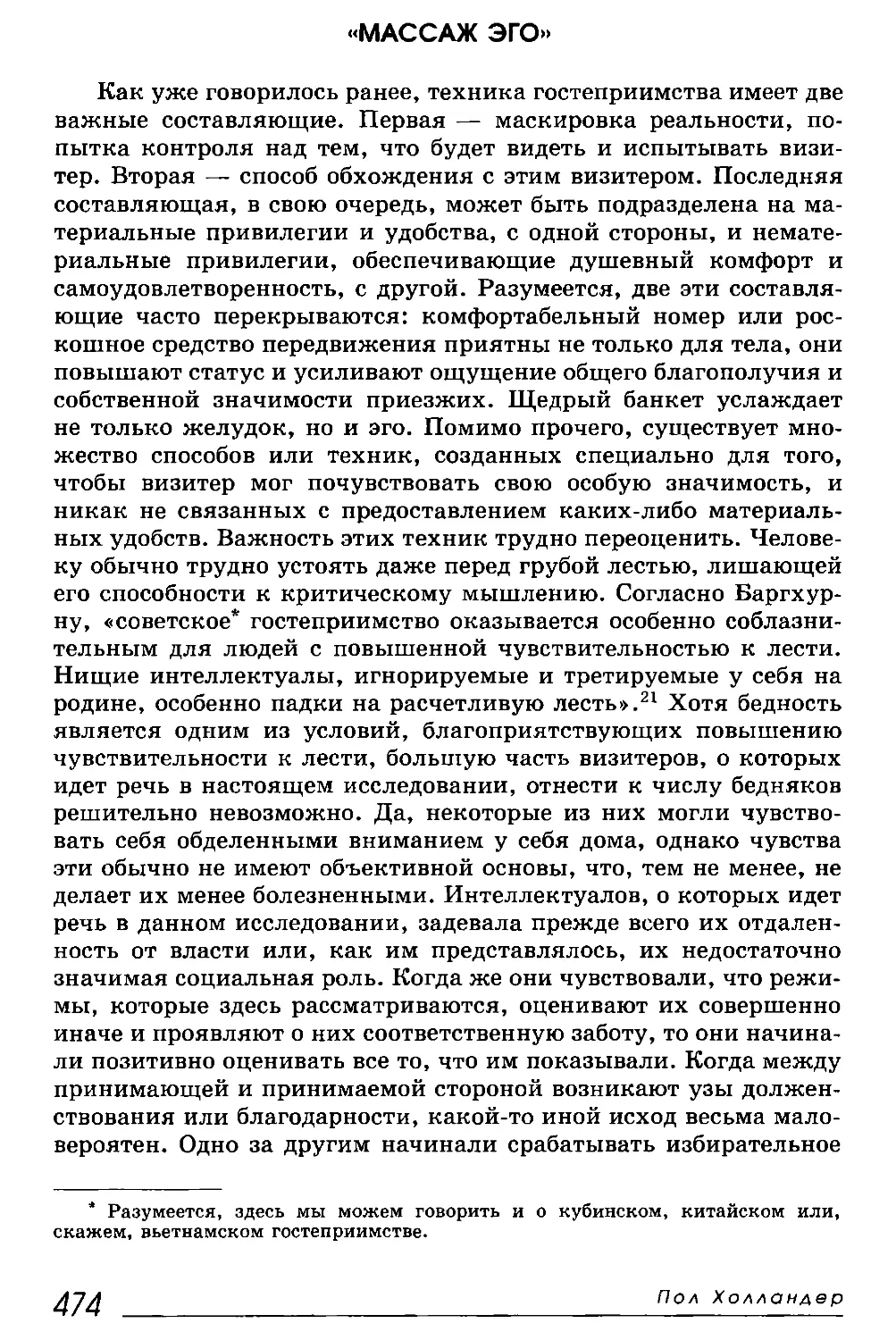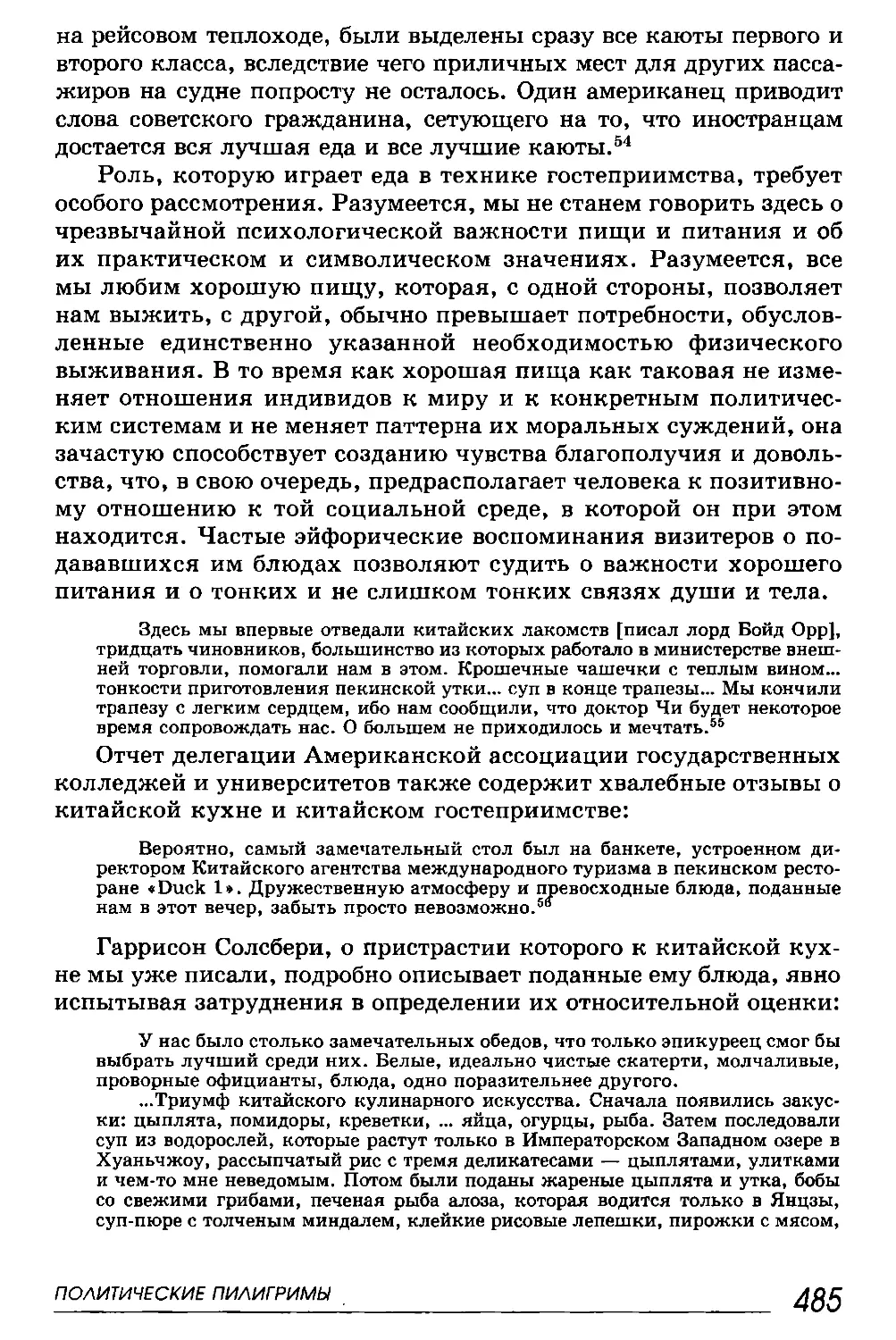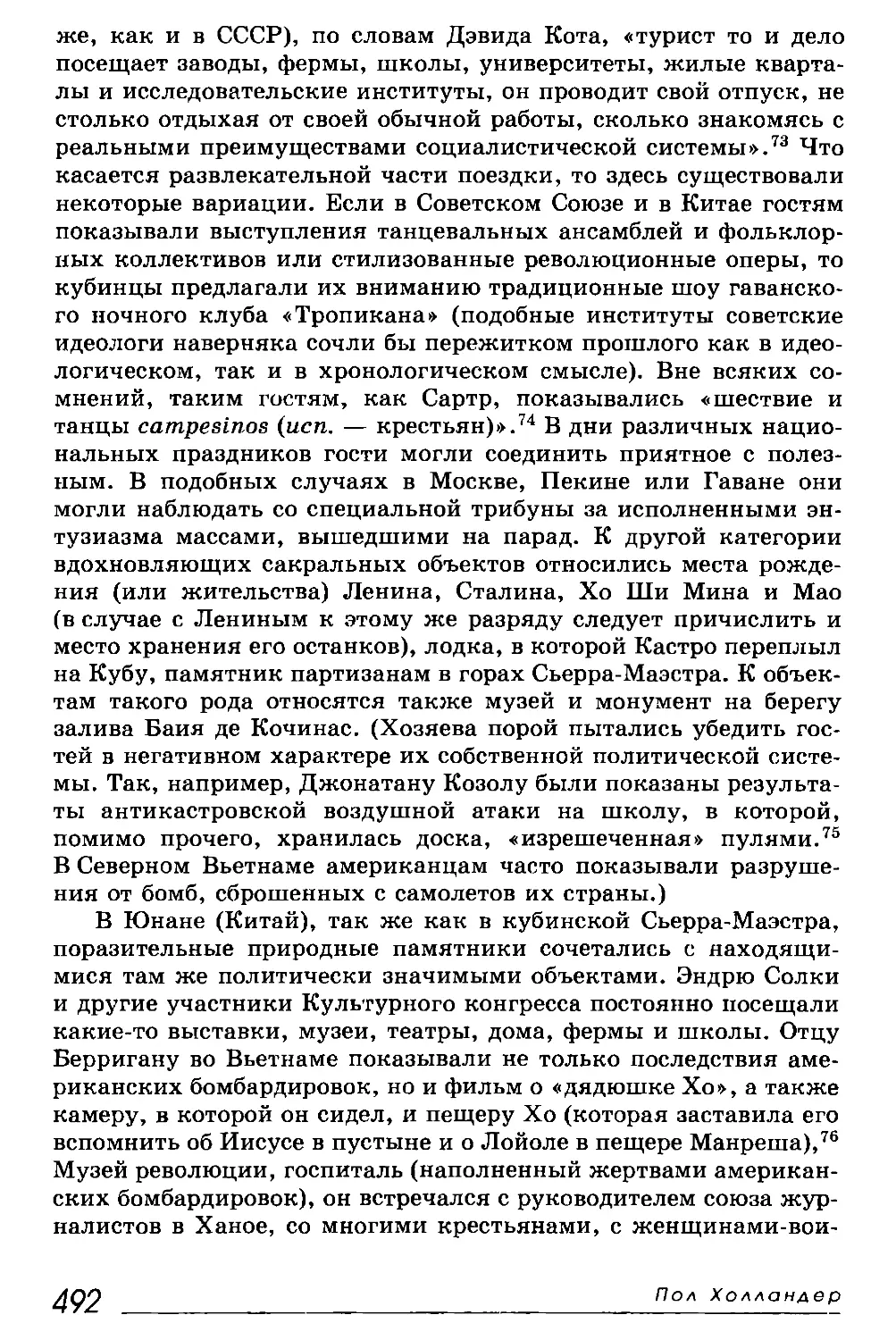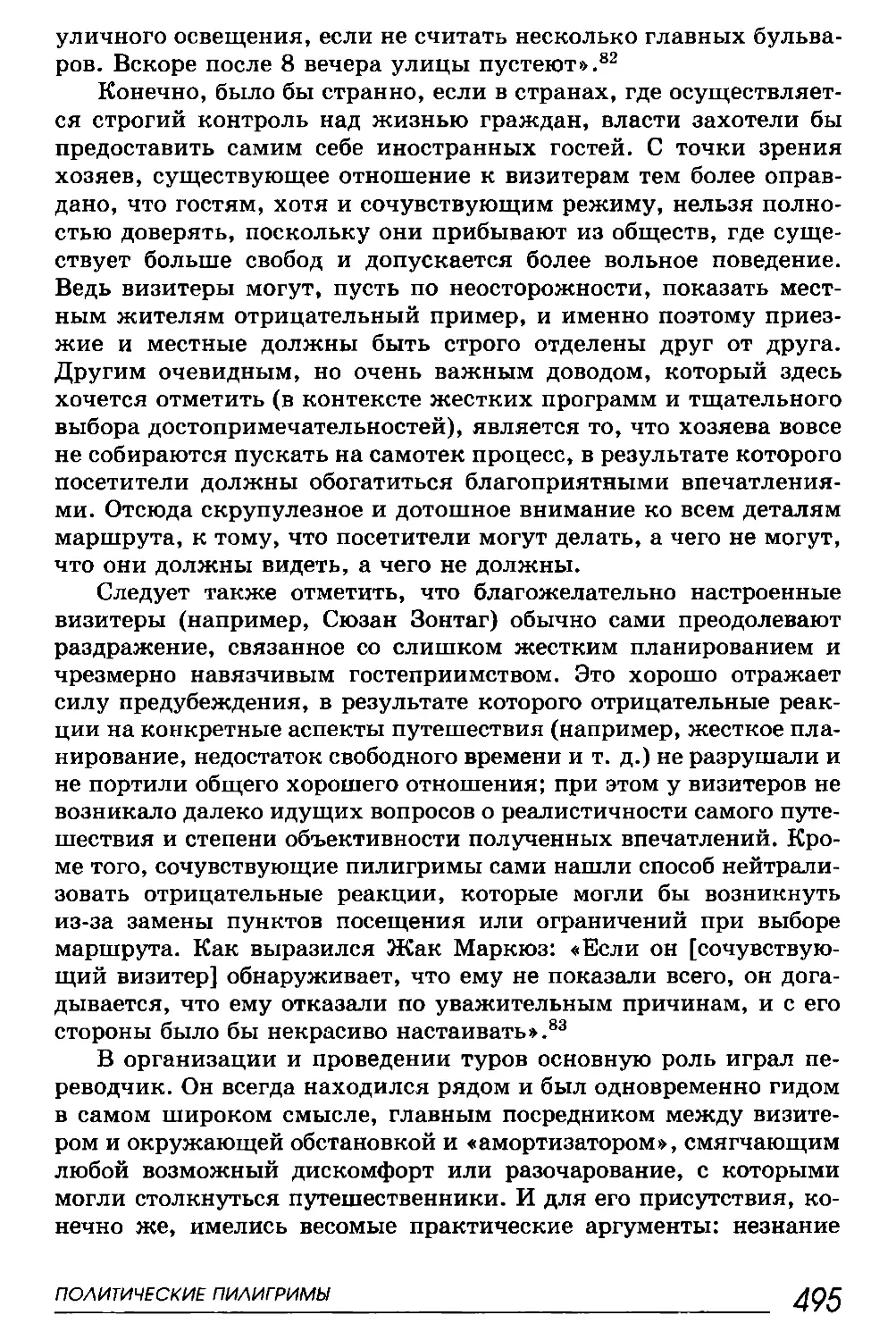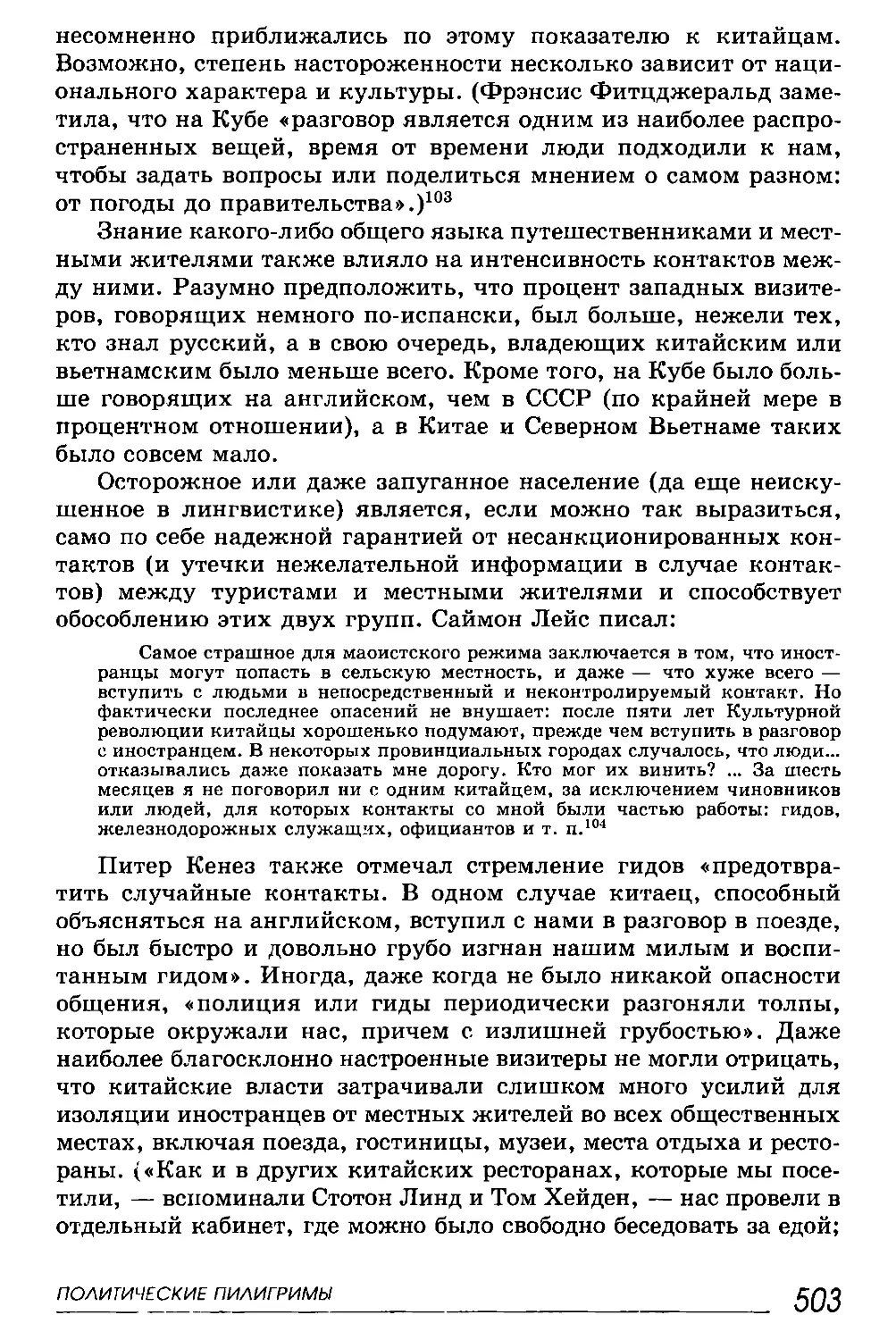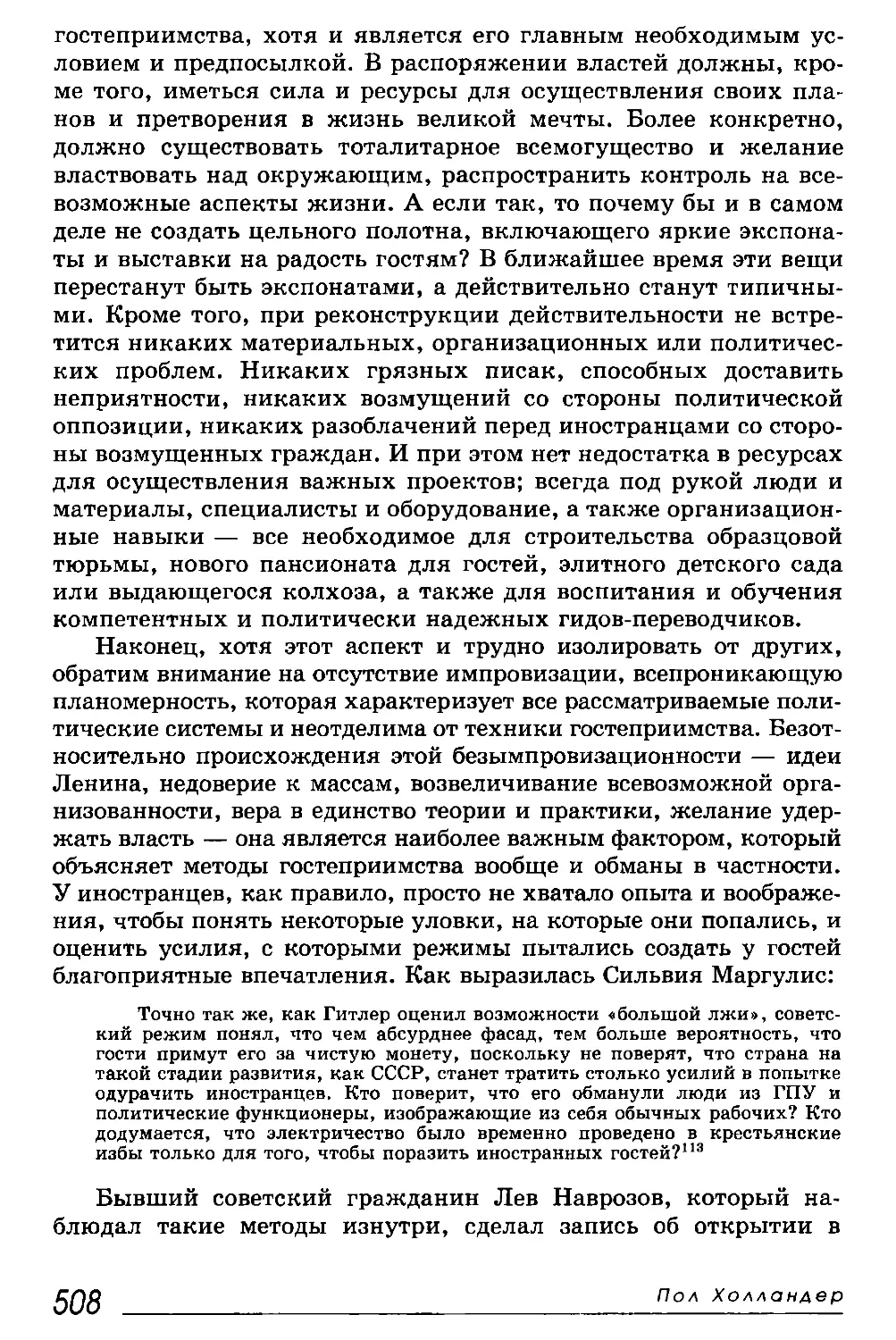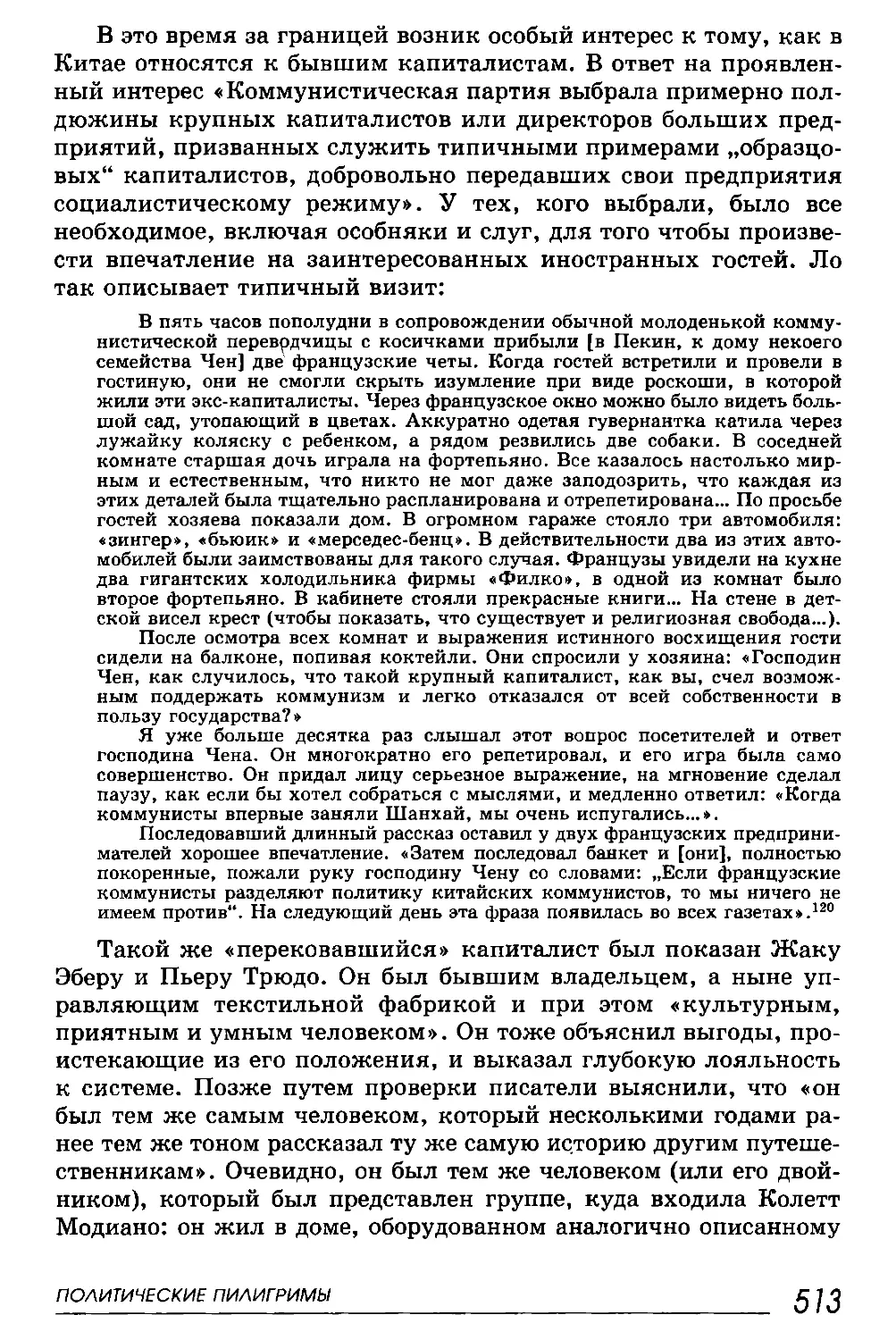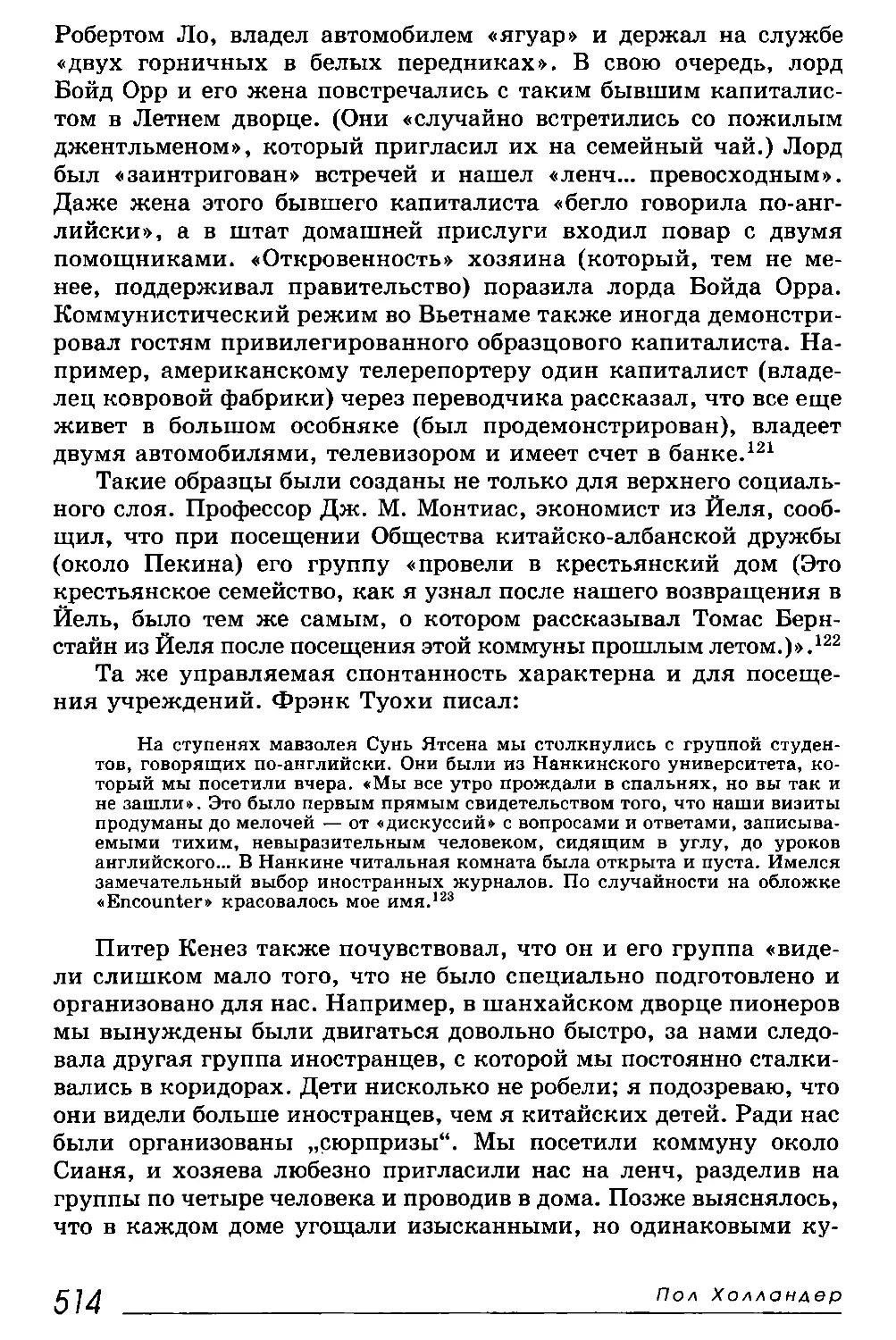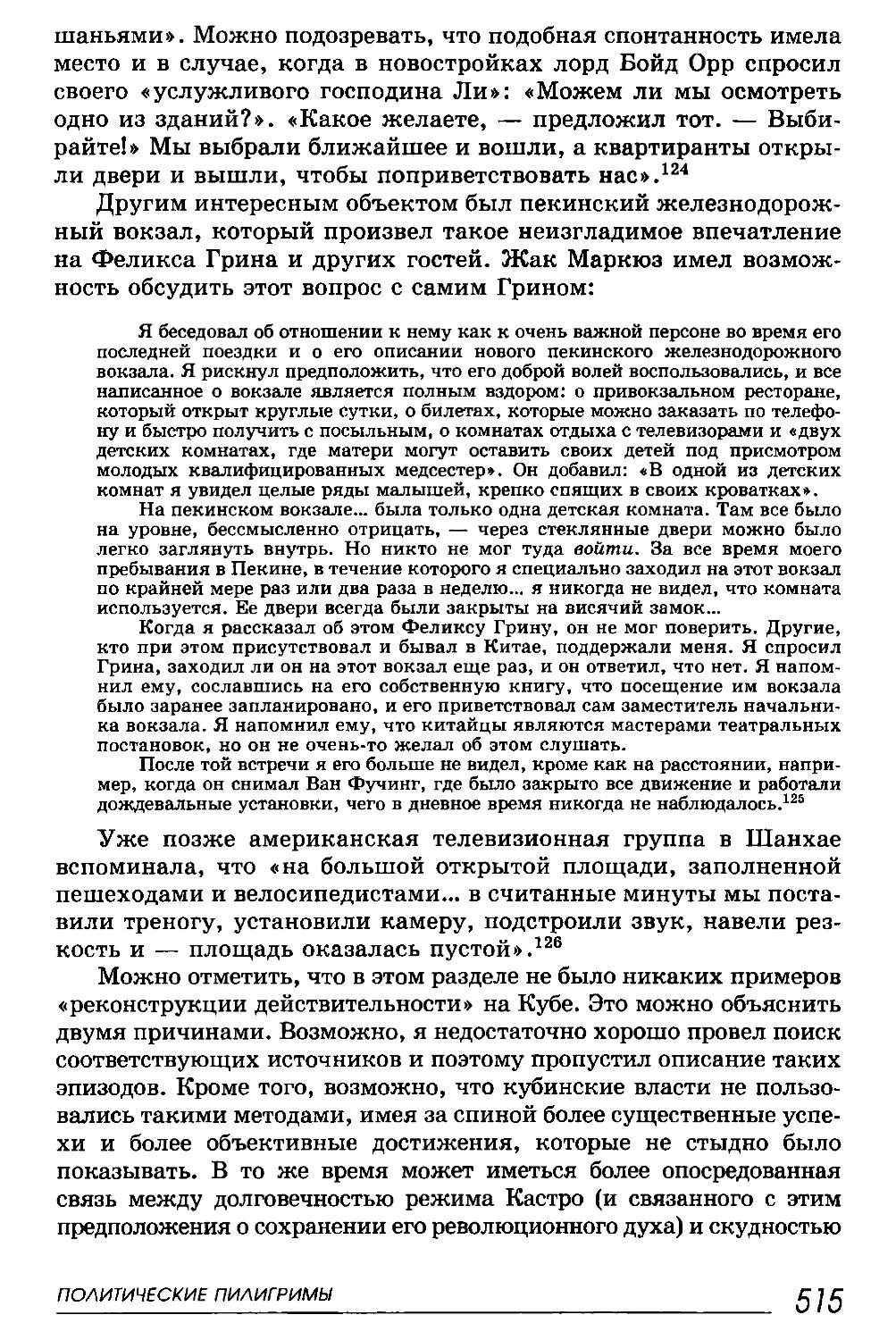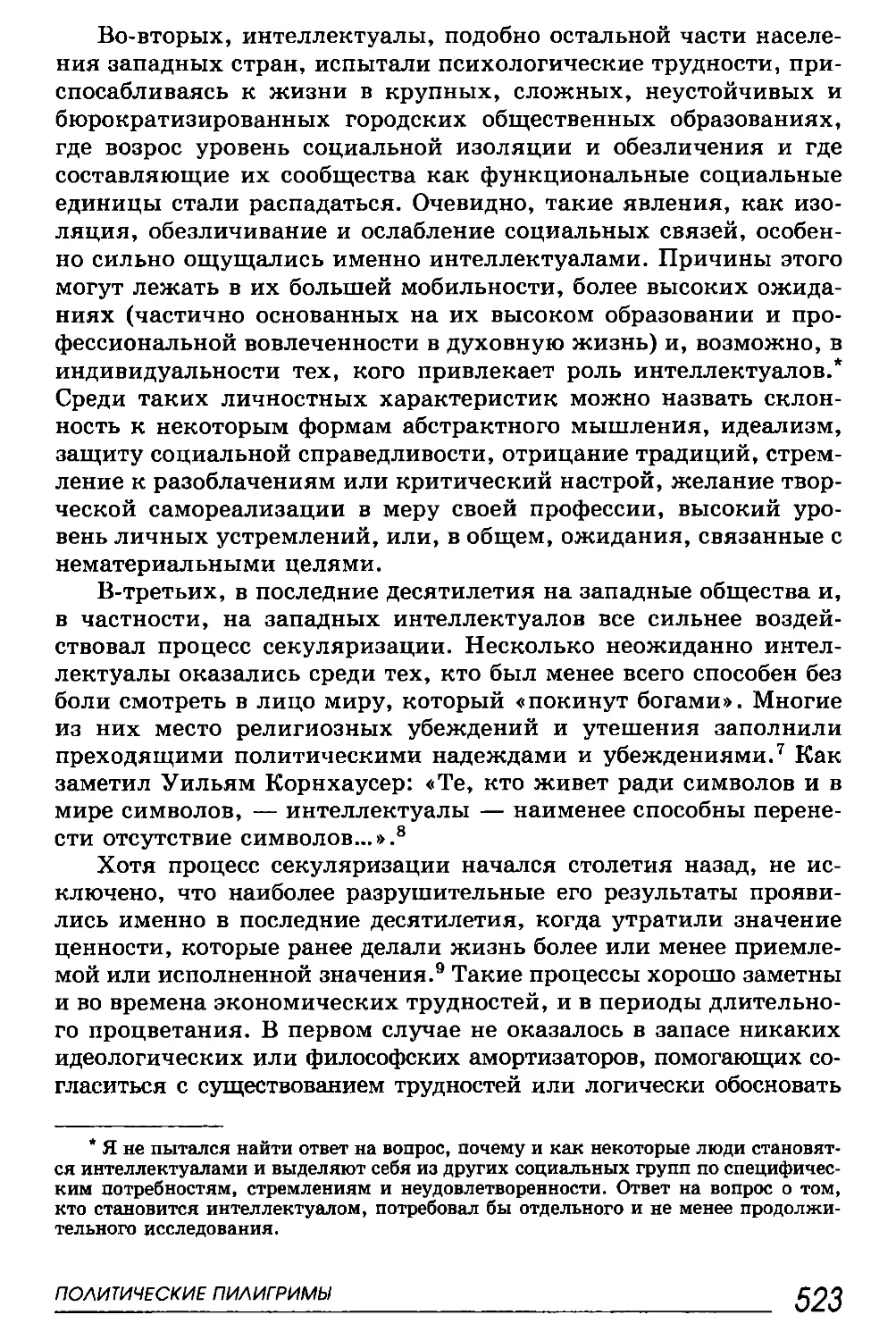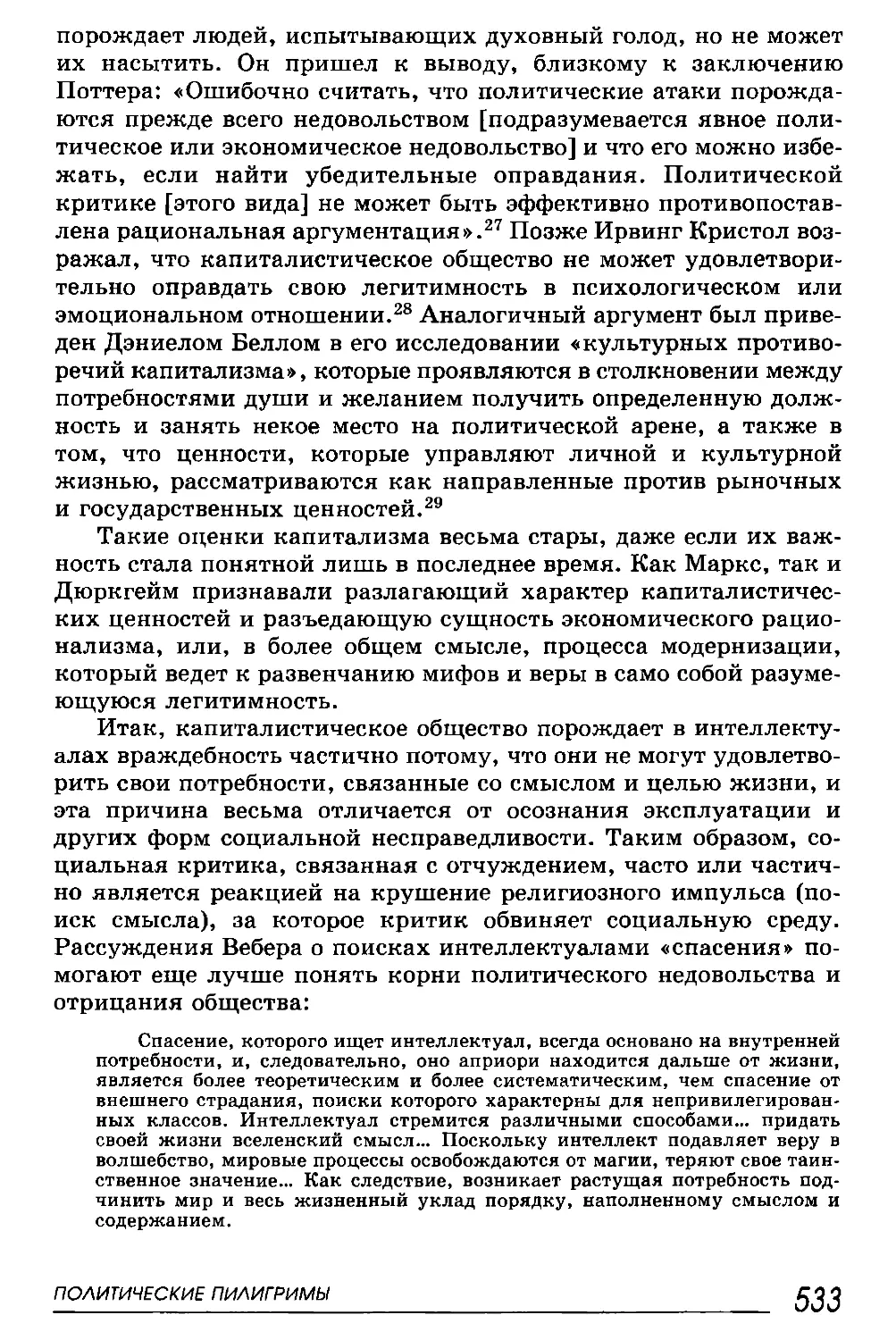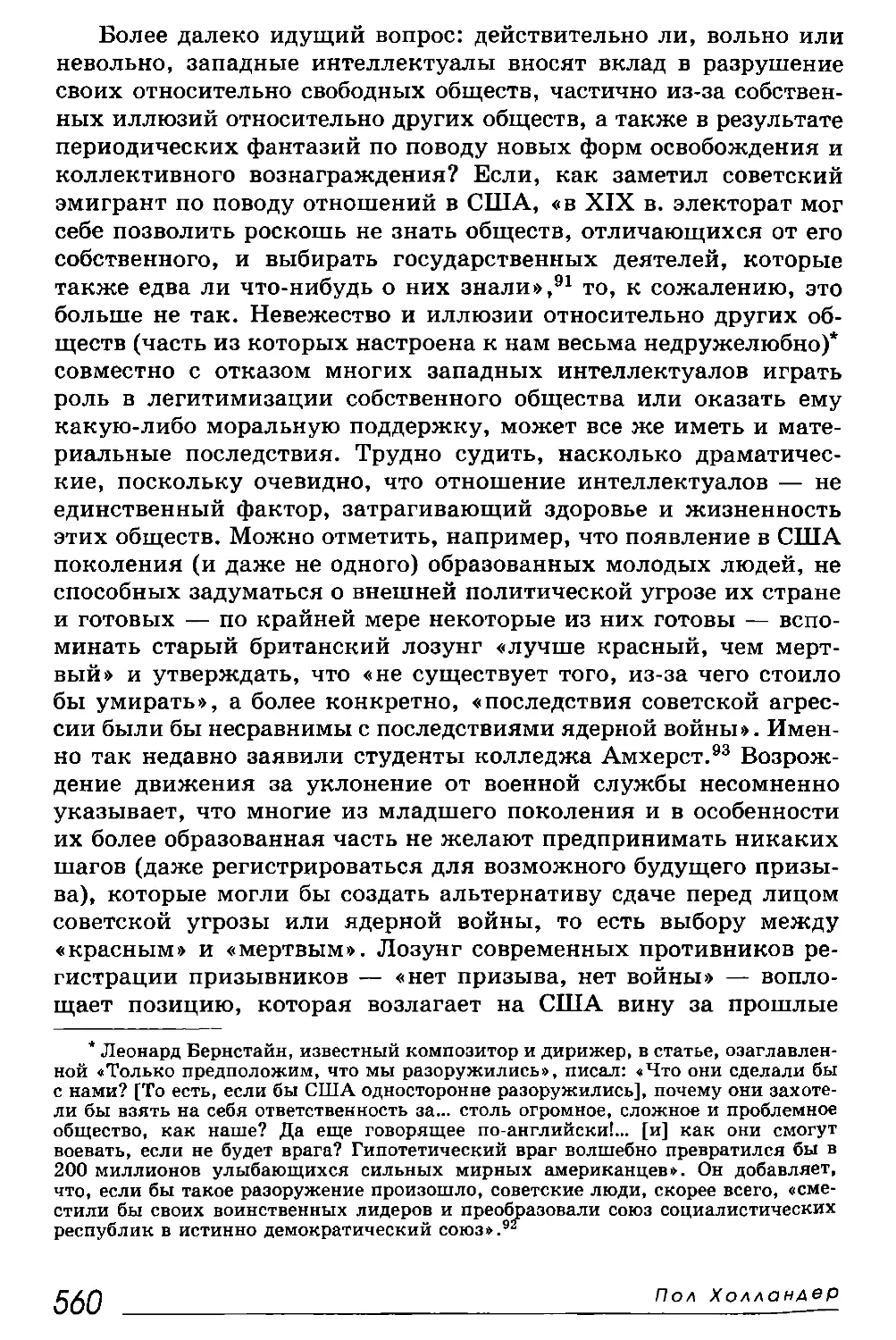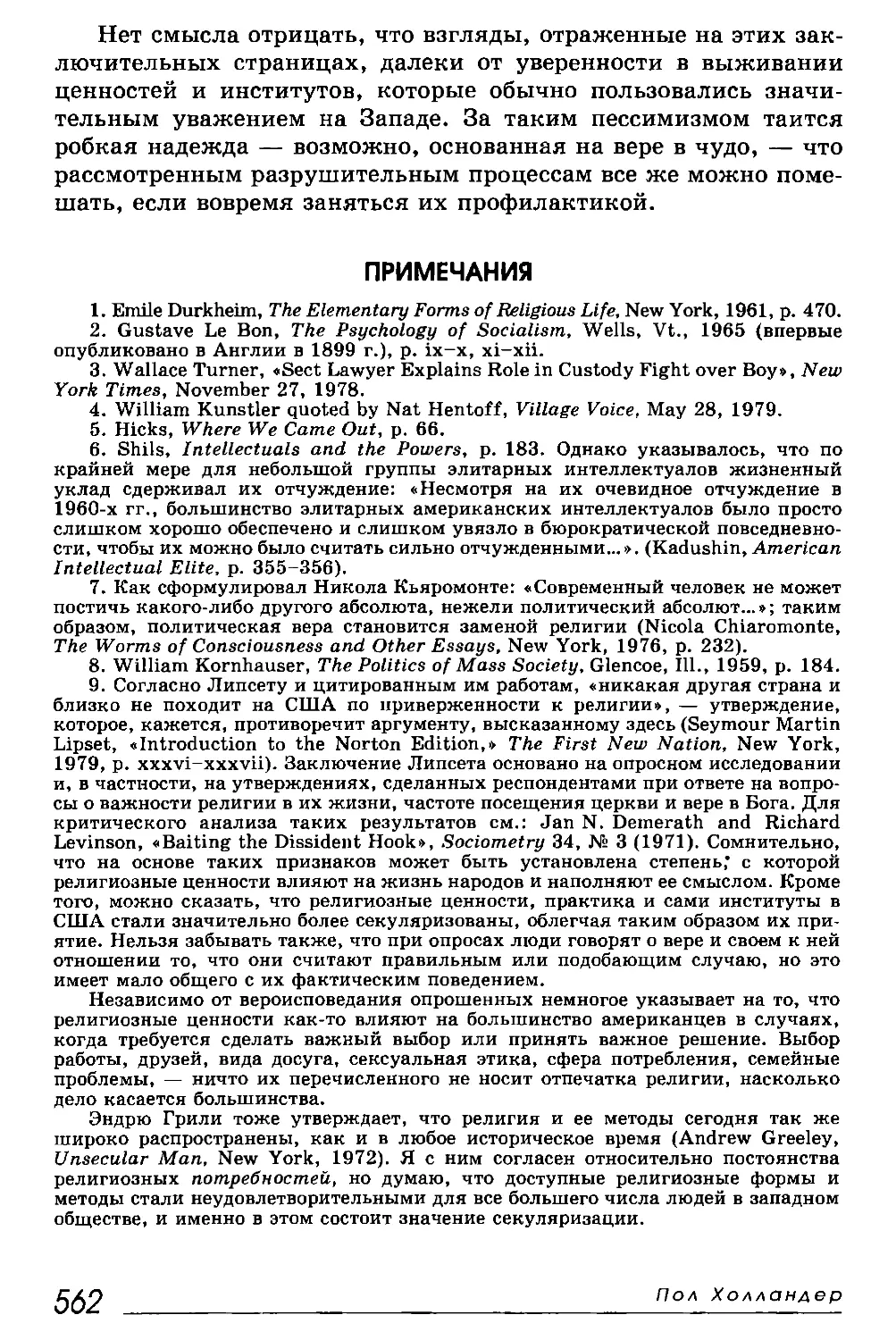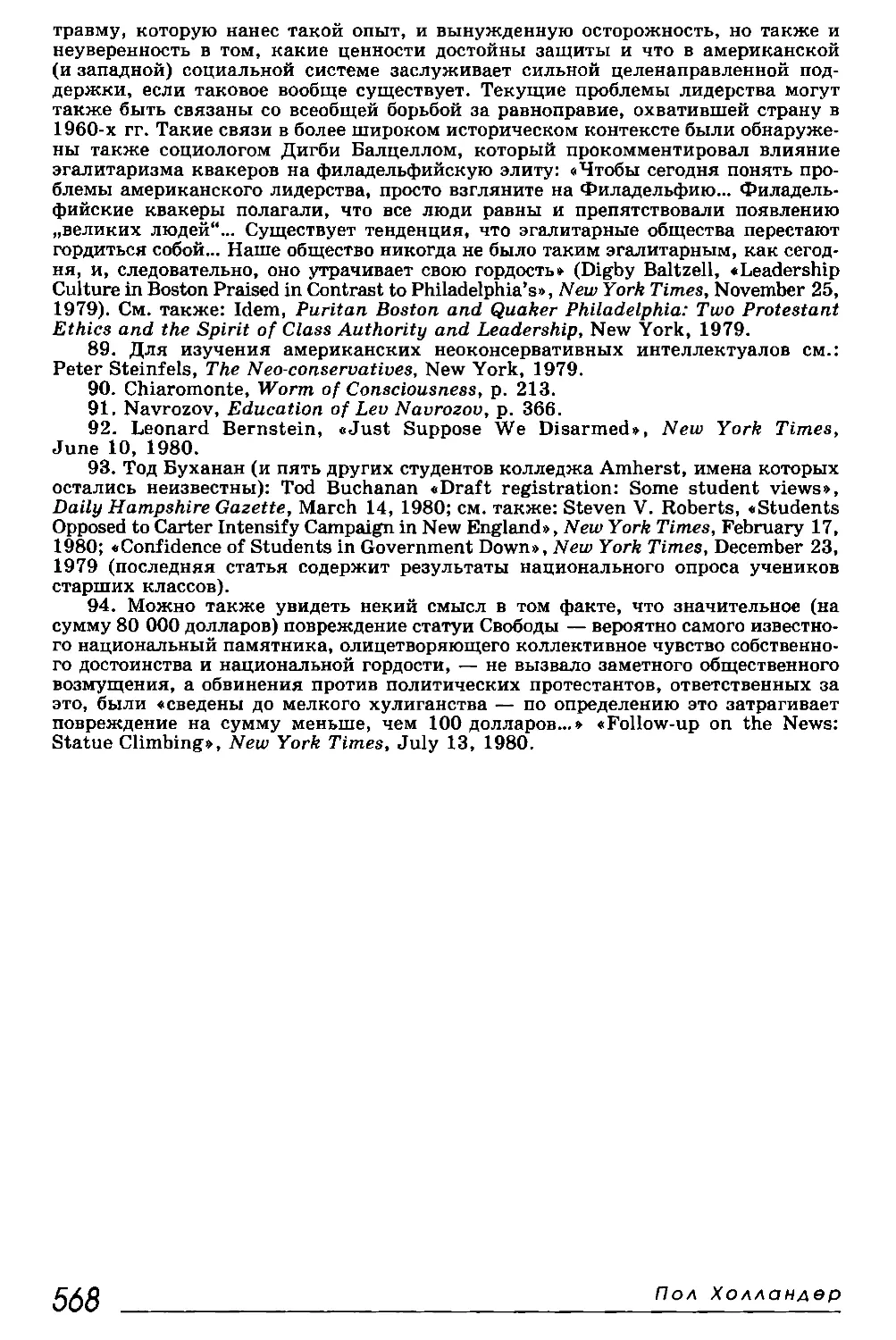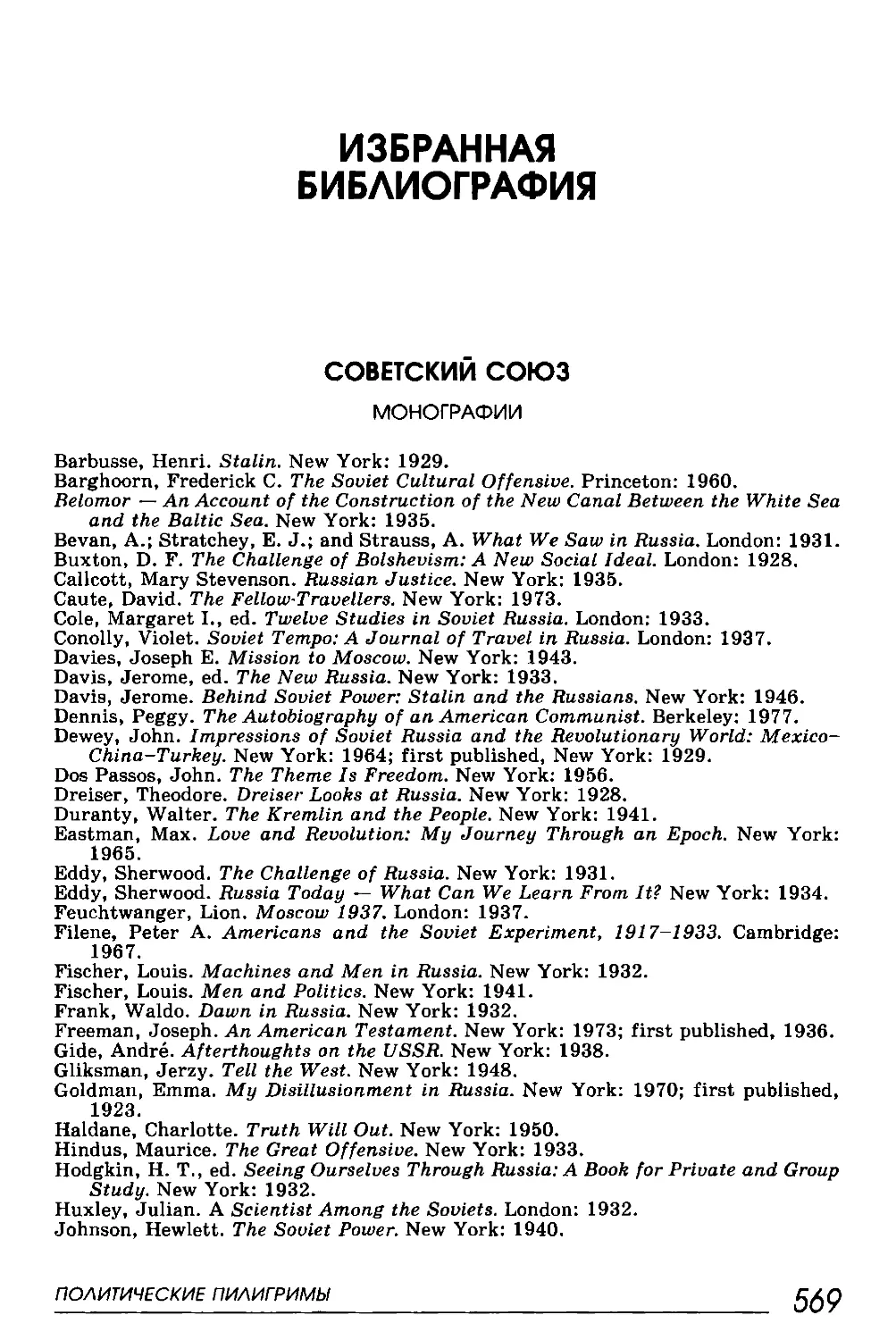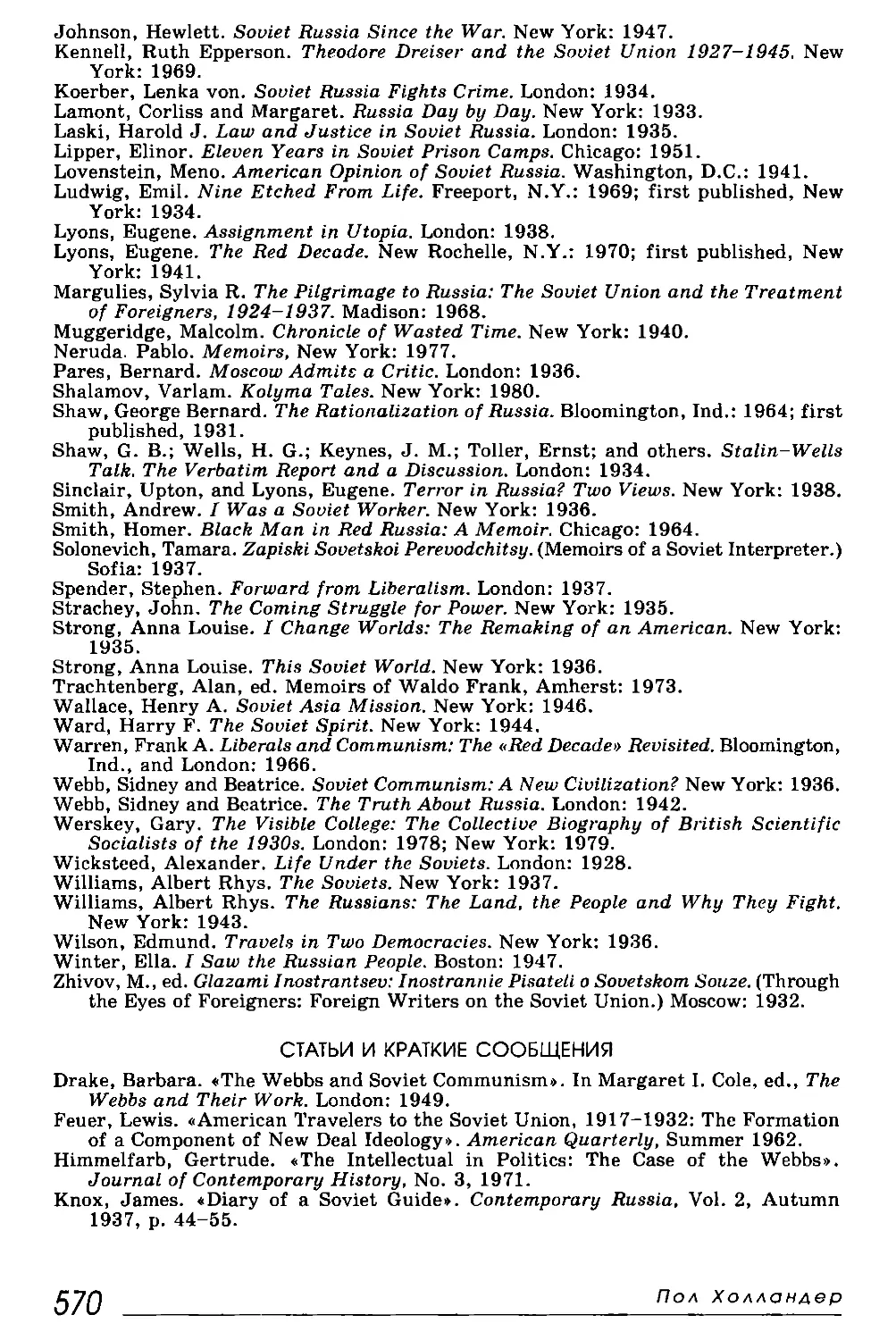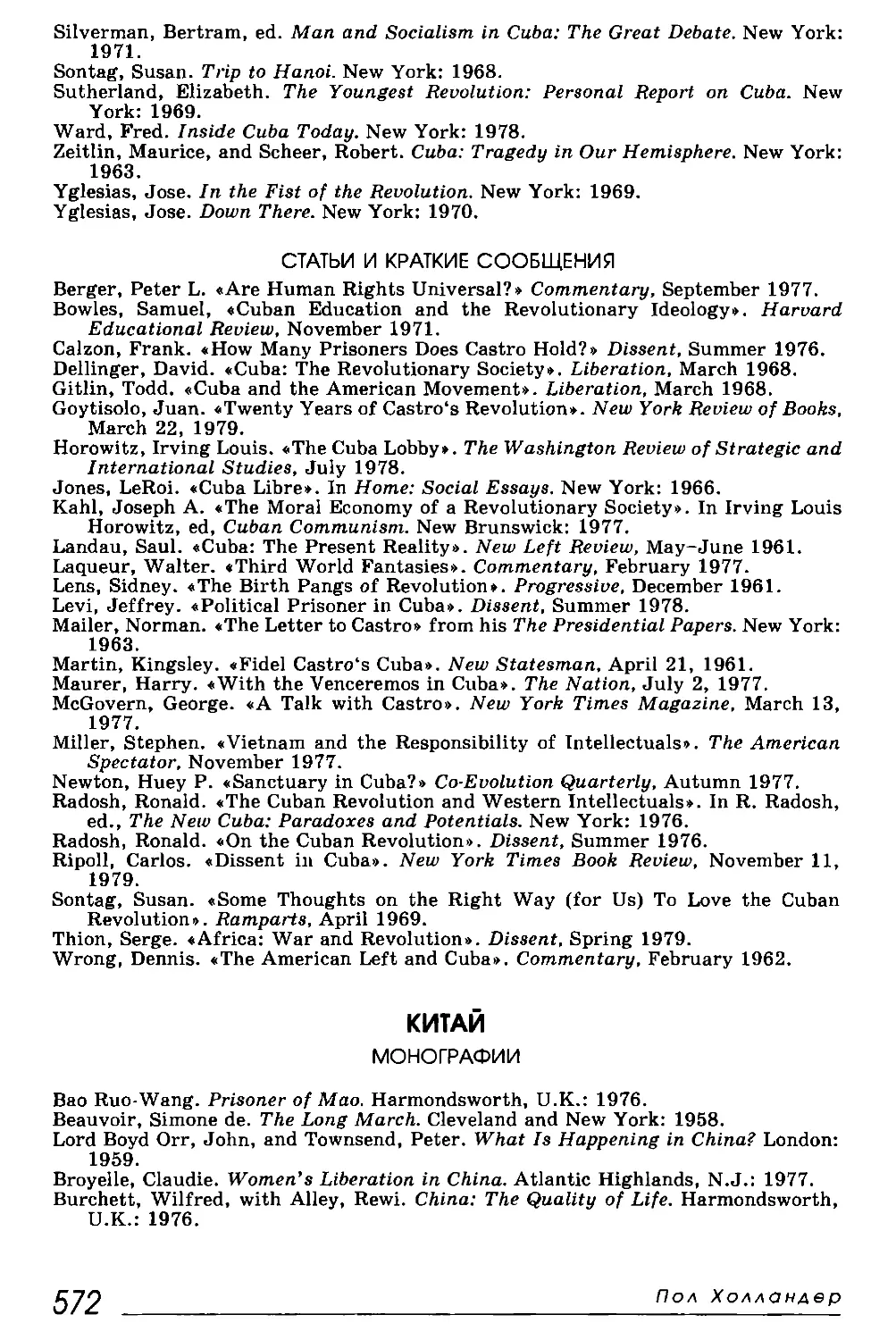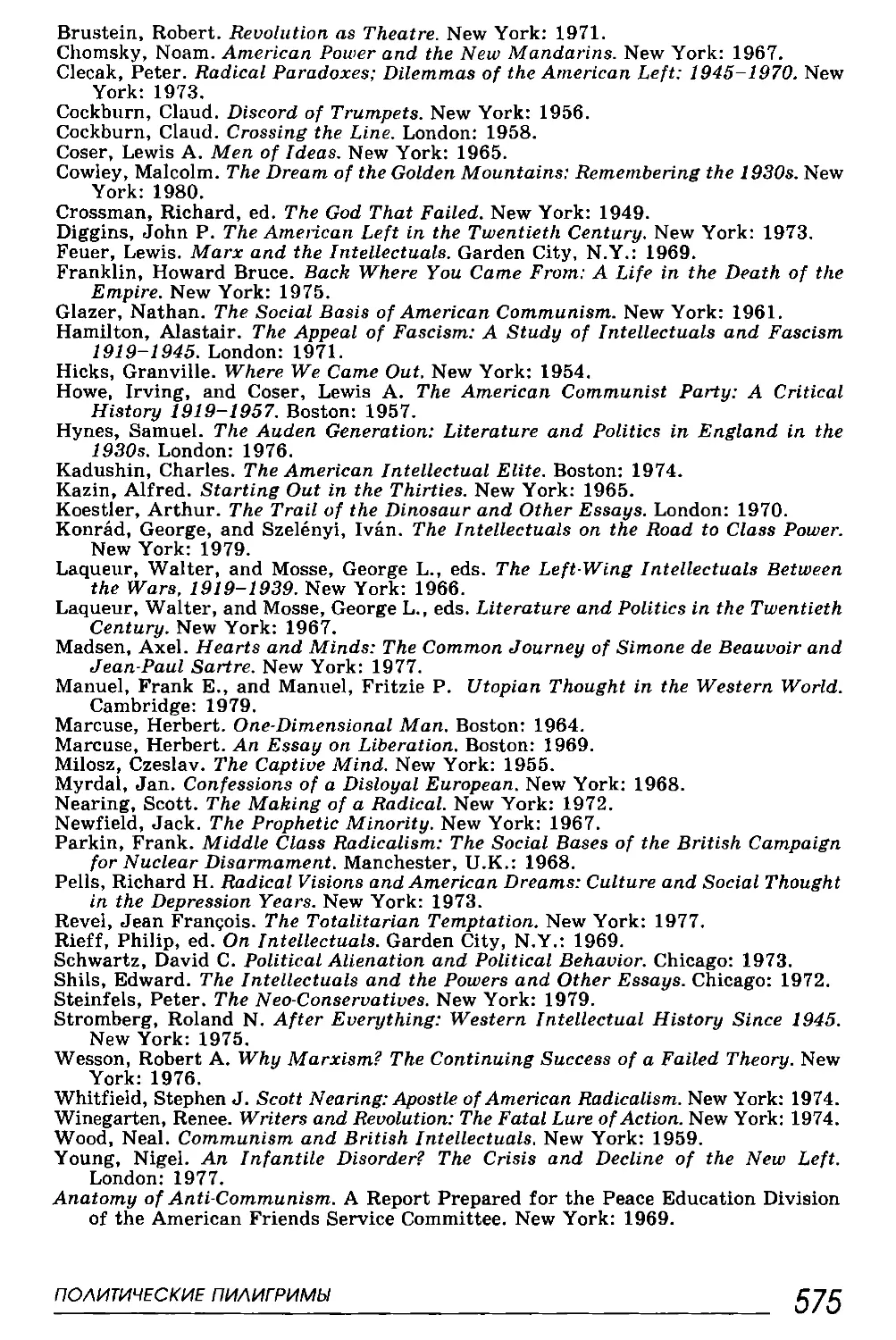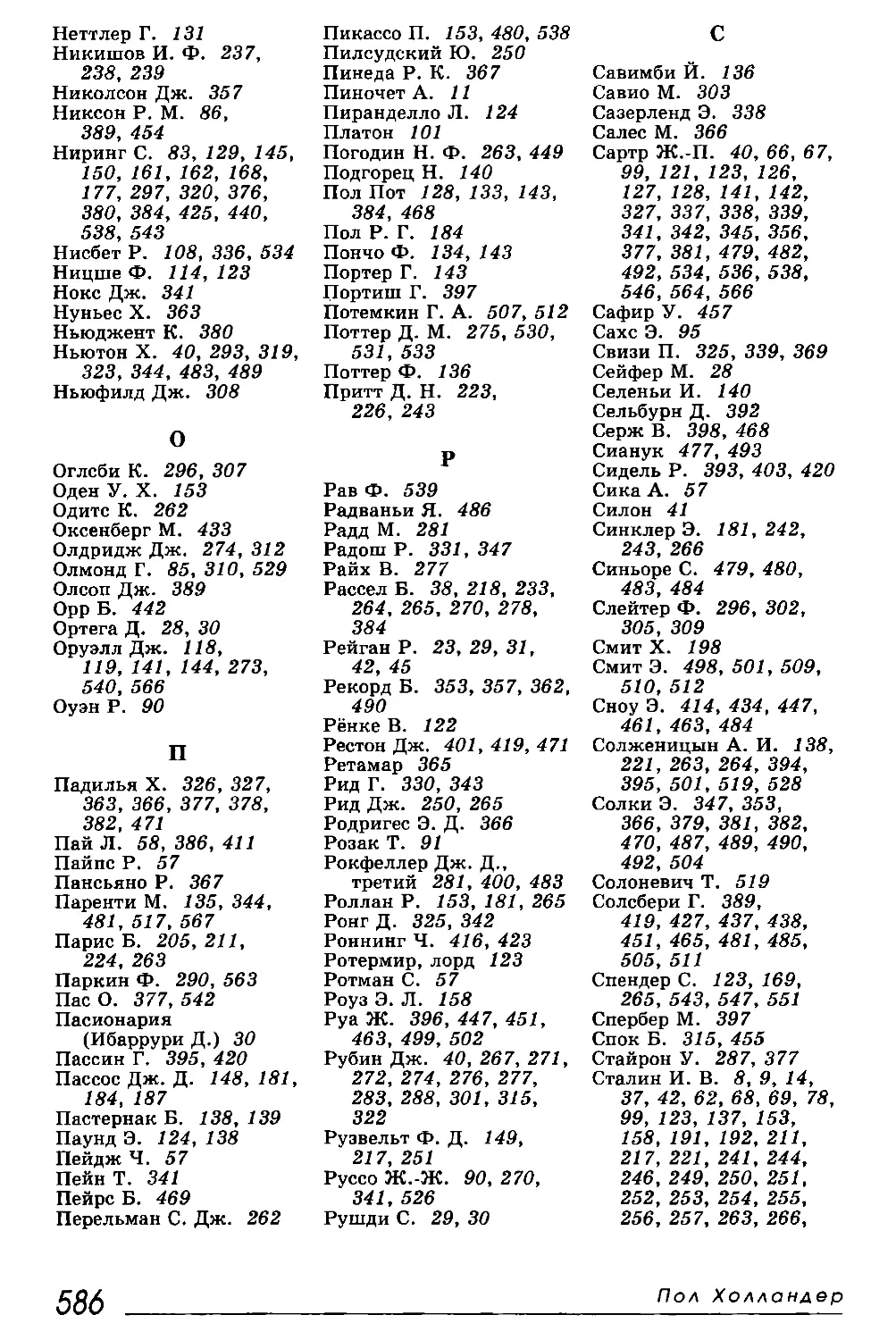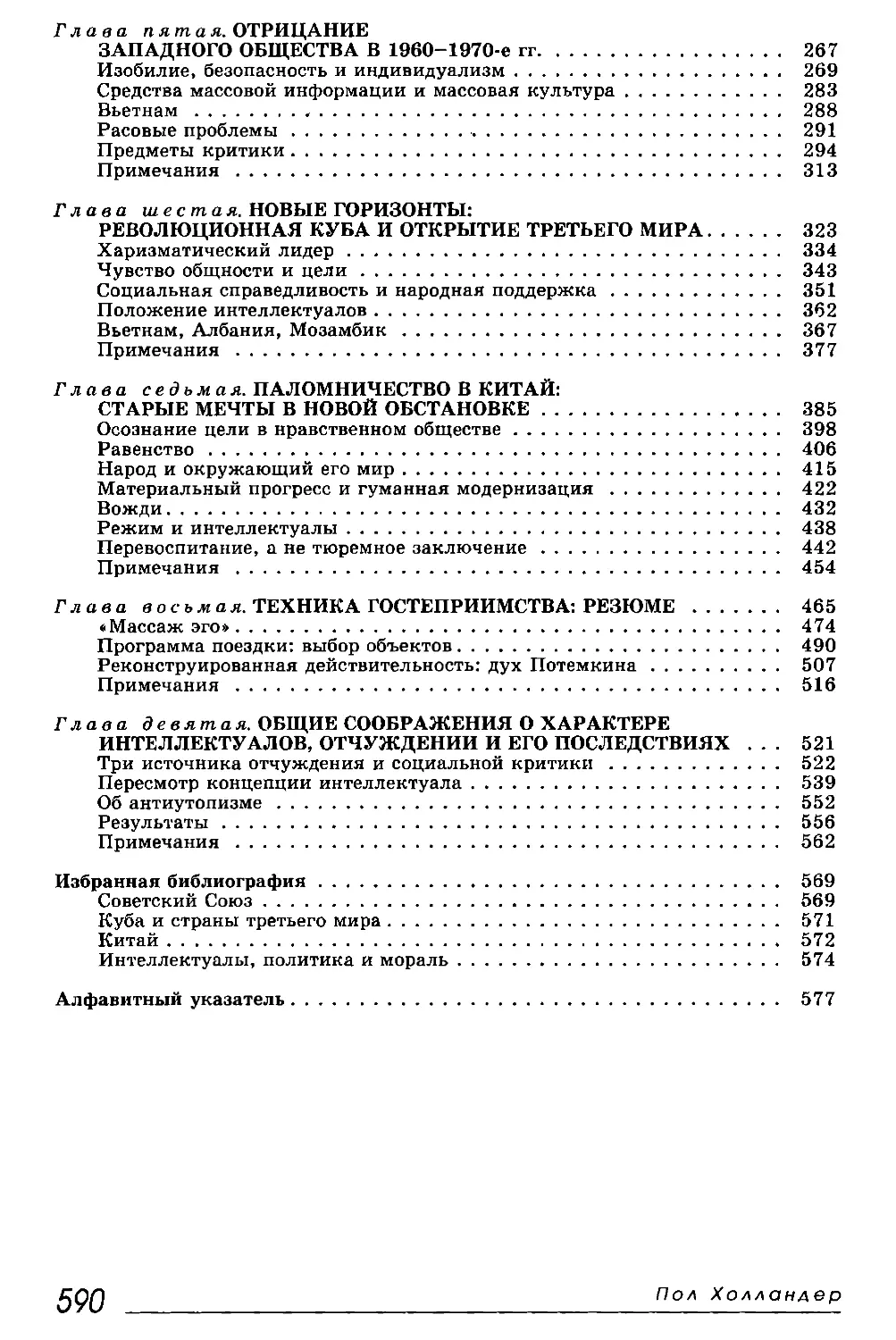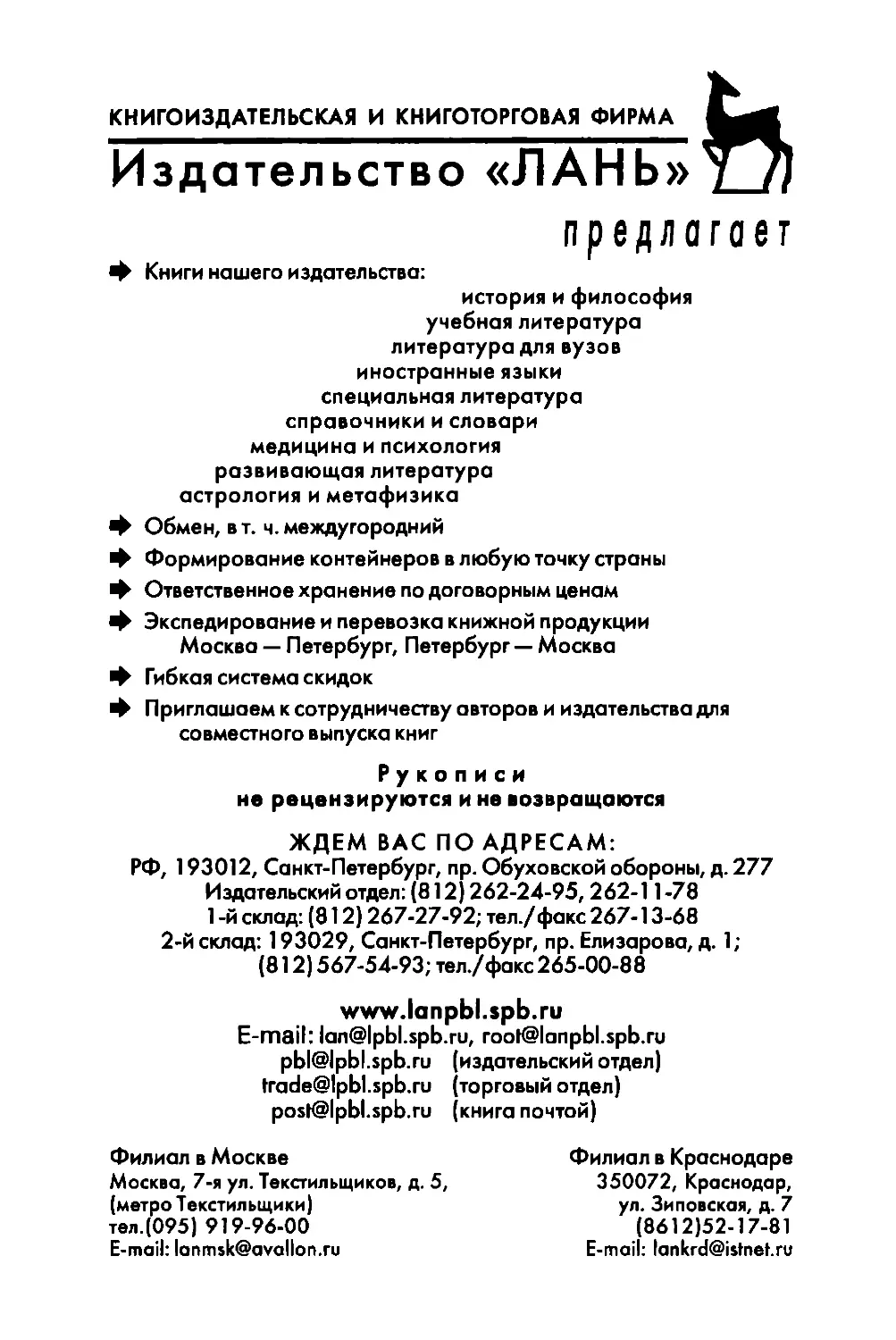Автор: Холландер П.
Теги: общественные науки в целом политика политическая история
ISBN: 5-8114-0366-6
Год: 2001
Текст
GO
О
Cl
«Это язвительный отзыв о сознании западных интеллектуалов, который не просто охватывает последние пятьдесят лет, но который, как я верю и надеюсь, непосредственно поможет в последующие пятьдесят лет направить это сознание к большим высотам».
Роберт НИСБЕТ, профессор в отставке. Колумбийский университет
_о
СО
!□
со
t—
о
«Профессор Холландер обладает несравненной способностью к рассмотрению темы западных интеллектуалов в социалистических обществах, причем делает он это необычайно легко и ярко... Работа Холландера достойна внимания самого широкого круга читателей».
Ирвинг Луис ГОРОВИЦ, профессор, Рутгерский университет
«Богатый урожай рассказов путешественников по коммунистическому миру, собранный и систематически проанализированный Полом Холландером... Его подход к огромной массе материала отличается трезвостью и непредвзятостью». Лешард ШАПИРО
«Комментарий»
«Холландер нанес решающий удар в деле борьбы за политическое здравомыслие... Остается надеяться, что [эта] книга удержит следующее поколение западных интеллектуалов от того, чтобы выставлять себя дураками в еще одном тоталитарном раю».
«The [Toronto] Globe and Май»
«„Политические пилигримы“ — глубоко беспокоящая книга, несмотря на свою веселость... Это одна из немногих работ, которые могут помочь нам в частичном понимании сложных культурных сил, приведших к настоящему положению... Пола Холландера можно поздравить».
«The American Spectator»
GO
&
«Беспощадная и четко обоснованная критика левых интеллектуалов... за их следование двойному стандарту: крайнему разочарованию в собственных обществах и наивной идеализации коммунистических режимов».
«Foreign Affairs»
«Профессор Холландер... представил в высшей степени блестящий и занимательный труд... внесший полезные дополнения в исследо- вание вопроса». э*чй КРАНКШОУ
( «The [London] Observer» )
«Эта новая книга выигрывает от того факта, что доктор Пол Холландер — венгр по происхождению и поэтому знает как снаружи, так и изнутри характер чудовища, о котором говорит».
Хью ТОМАС («The [London] Listener»)
О
о_
25
со
25
со
(—
О
«Книга „Политические пилигримы“ ударит по интеллектуальному сообществу подобно разорвавшемуся снаряду! ...Это важная и своевременная книга, которую еще долго будут читать, перечитывать и обсуждать».
Уильям Джулиус УИЛСОН, Люси ФЛАУЭР, профессор, Чикагский университет
«Восхитительно... Очень важная книга, свидетельство легковерия интеллектуалов; о ней следует вспоминать всякий раз, когда чудеса следующей социалистической утопии будут восхваляться новой партией паломников».
Питер БЕРГЕР, профессор, Рутгерский университет
&
«Очень продуманная и актуальная книга. Несмотря на серьезность рассматриваемой темы, подход Холландера легок, и в дискуссии автор никогда не опускается до антиинтеллектуализма или горькой полемики».
Адам УЛАМ, профессор, Цетр русских исследований при Гарвардском университете
ПОЛ ХОЛЛАНДЕР
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПИЛИГРИМЫ
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЗАПАДНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ, КИТАЮ И КУБЕ 1928-1978
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2001
ББК 60.05 X 72
Холландер П.
X 72 Политические пилигримы (путешествия западных интеллектуалов по Советскому Союзу, Китаю и Кубе 1928-1978). — СПб.: Издательство «Лань», 2001. — 592 с. — (Мир культуры, истории и философии).
181Ш 5-8114-0366-6
Книга Пола Холландера посвящена феномену восприятия утопии. Фактически это история поиска идеального общества западными интеллектуалами. По их мнению, альтернативой бесчеловечной и бездуховной капиталистической системе являлись страны социалистического лагеря. Во время посещения Кубы, Китая, СССР и Вьетнама западные гости, проглядев сущность тоталитарных режимов этих стран, восхищались энтузиазмом народа, образцово-показательными больницами, яслями, фабриками, заводами и даже тюрьмами, не подозревая, что стали всего-навсего участниками мастерски срежиссированного спектакля, называемого «техникой гостеприимства» — гостеприимства потемкинских деревень.
По мнению автора, причиной подобного самообмана западных интеллектуалов прошлого были не только реальные проблемы их собственного общества (такие как депрессия конца 1920-х — начала 1930-х гг., Вьетнамская война, расовые конфликты в Америке в 1960-х), но и идеалистические, неосуществимые ожидания и надежды найти социальную систему, где царят гармония, счастье и равенство. Пол Холландер развенчивает утопию как таковую: «Мое исследование подтверждает, прямо или косвенно, что ни одна политическая партия, ни одна идеология не способна решить все проблемы человека, хотя есть искушение восхищаться далекими странами, претендующими на то, что они-де способны решить все».
Книга представляет интерес для социологов, политологов и философов, а также для всех, кого привлекают блеск интеллекта и изящество стиля.
ББК 60.05
Издание данной книги осуществлено при финансовой поддержке американского фонда «ATLAS ECONOMIC RESEARCH FOUNDATION»
Ответственны.й редактор кандидат философских наук, профессор кафедры политологии и. социологии Санкт-Петербургского юридического университета МВД РФ
ю. а. сан Дулов'
Оформление обложки С. ШАПИРО, А.ОЛЕКСЕНКО
Охраняется законом, РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
© Издательство «Лань», 2001 © П. Холландер, 2001 © Издательство «Лань»,
художественное оформление, 2001
Русское издание книги посвящается памяти моего дяди, Шандора ХОЛЛАНДЕРА, который принял советское гражданство. Он стал жертвой репрессий 1937 года
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Мне доставляет огромное удовольствие писать предисловие к русскому изданию «Политических пилигримов».* И удовольствие это выходит далеко за рамки того чувства, которое испытывает любой автор, когда его книга выходит в переводе на один из самых великих языков мира.
Да позволит мне читатель раскрыть источник этого чувства и рассказать кое-что из моей биографии, которая во многом была связана с Советским Союзом (Россией) и которая поможет понять, почему и зачем написана эта книга.
Вероятно, первое, о чем стоит упомянуть, это то, что я не коренной американец, хотя и провел большую часть жизни в США. Я приехал в Америку из Лондона в 1959 г., чтобы поступить в аспирантуру. В 1968 г. я стал американским гражданином.
Родился я в Будапеште и детство провел в Венгрии. В Будапеште я пережил Вторую мировую войну, встречал на родной земле советских воинов-освободителей (мне было тогда 12 лет). Их приход (в 1945 г.) и последовавшие за ним политические события сильно повлияли на мою жизнь.
В 1945-1951 гг. в Будапеште я учился в гимназии, где начал изучать русский язык и приобрел довольно обширные познания в советско-русской истории, литературе и географии.
В юности, пришедшейся на послевоенные годы, я придерживался просоветских и прокоммунистических взглядов, но постепенно, по мере того как Венгрия, по образцу сталинского Советского Союза, превращалась в тоталитарное государство, мое отношение к СССР менялось. Русским читателям не нужно объяснять,
* Пользуюсь возможность поблагодарить «Atlas and Earhart Foundation» за финансовую поддержку проекта издания «Пилигримов» на русском языке. Помощь Фонда позволила мне познакомить с этой книгой и российского читателя.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
7
почему я посчитал жизнь в Венгрии конца 1940 — начала 1950-х гг. непривлекательной и трудной.
Заканчивая гимназию, я хотел изучать английскую и венгерскую литературу в университете, но английский язык и литература в то время были «не в чести». В качестве альтернативы мне посоветовали поступать в Будапештский университет на факультет русской и венгерской литературы. Казалось, мое поступление — дело уже решенное, но в июне 1951 г. наша семья была выслана из Будапешта. «Виной» тому оказалось социальное происхождение моего деда по линии матери (он жил вместе с нами), который до 1945 г. был предпринимателем (после 1945 г. его имущество конфисковали). Летом 1951 г. десятки тысяч людей были выселены из Будапешта и, на том или ином основании, объявлены, как и мой дед, «врагами народа» или политически неблагонадежными. Их поселили в деревнях на востоке страны и запретили куда-либо из деревень выезжать. (Вероятно, причиной этих мер и «руководством к действию» послужили взятые за образец официальные выселения и переселения больших групп людей в Советском Союзе.) Прожив два года в деревне, в 1953 г. я был призван в армию, но из-за социального происхождения, а также из-за того, что я был «ссыльный», меня отправили не в регулярную армию, а в так называемые «строительные батальоны», которые не обучались военному делу, а работали на различных строительных объектах. Я, например, строил военную базу для бронетанковых частей, здание Центра ядерных исследований и ферму. Весной 1955 г. я демобилизовался и мне сразу разрешили жить в Будапеште, поскольку я устроился там чернорабочим на одну из строек. Надежды поступить в университет оставались призрачными.
После Венгерской Октябрьской революции (1956 г.) я уехал в Австрию, а оттуда в Англию, где получил возможность продолжить образование в высшей школе. Учился я в Лондонской школе экономики (Лондонский университет), которую закончил в 1959 г., получив степень бакалавра по специальности «социология». В том же году я уехал в США, чтобы продолжить обучение в качестве аспиранта, и в 1963 г. окончил Принстонский университет, получив степень доктора философии по той же специальности. Моя диссертация на соискание степени доктора философии называлась «Новый человек и его враги: исследование персонификаций сталинистских понятий Добра и Зла». В качестве материала исследования я взял романы советских и венгерских писателей-реалистов, написанные в период правления Сталина. Я анализировал манифестируемые в этих романах «официально принятые» понятия добра и зла, которые персонифици¬
8
Пол Холландер
ровались в лице положительного и отрицательного героев. Меня интересовало, как высокопоставленные чиновники от литературы пытались использовать произведения социалистического реализма, чтобы идейно сплотить общество, вживить в подсознание каждого коммунистические идеи; также я изучал и то, как отражаются в искусстве социалистического реализма официальные ценности и установки.
Завершив работу над докторской диссертацией, я был приглашен на должность младшего преподавателя в Гарвардский университет. Один из курсов, который я читал, назывался «Советское общество»; этот курс я вел вплоть до начала 1990-х гг. В 1968 г. я занял постоянную должность в Университете в городе Амхерсте, штат Массачусетс, где и преподаю в настоящее время.
Также я написал курс лекций «Социальные проблемы при социализме»; проблемы эти касались не только социалистического (советского) государства, но и маосистского Китая и Кубы при Кастро. Еще один мой курс назывался «Политическая социология», в котором главное внимание уделялось политическому насилию в XX в. В основном я рассматривал три системы: нацистскую Германию, Советский Союз при Сталине и Китай Мао. Тему аспирантского семинара я предложил такую: «Социология идей и интеллектуалы», эта тема отражала мои интересы, наиболее полно выраженные в книге «Политические пилигримы».
В 1960-х и 1970-х гг. я написал много статей и несколько книг, тематически связанных с некоторыми аспектами советской системы, в их числе работа «Советское и американское общества: сравнение» (1973, 1978).
Кроме профессиональных интересов, я связан с Россией (СССР) и в личном плане. Мой дядя Шандор Холландер был советским гражданином. Во время Первой мировой войны он был офицером и военным инструктором армии Австро-Венгерской монархии. Взятый в плен русскими войсками, он остался в России, впоследствии женился на русской, вступил в партию, участвовал в Гражданской войне и занимал различные должности в каком- то министерстве. Как я узнал, он строил московское метро, Харьковский тракторный завод и нефтяной трубопровод Баку-Гроз- ный. Весной 1937 г. его направили в Испанию, на Гражданскую войну, но накануне отъезда арестовали, обвинили в шпионаже и шесть месяцев спустя расстреляли. Две его дочери живут в России, и одну из них я встретил в 1998 г. в Санкт-Петербурге, во время моего первого и единственного визита в эту страну. Она рассказала, что после того как его посмертно реабилитировали,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
9
офицер КГБ в разговоре с ней высказал предположение, что на судьбу ее отца несчастливо повлияло его знакомство с Троцким и Бухариным.
Все то время, что я живу на Западе (большей частью в США), широко распространенное здесь непонимание или неправильное понимание природы коммунистических обществ* было главным формирующим — ив интеллектуальном, и в профессиональном плане — опытом, оказавшим сильное влияние как на мои исследования, так и на преподавание. Многие годы меня удивляло и приводило в смятение то, насколько скудны знания представителей Запада, особенно американцев, пусть даже самых образованных, о Советском Союзе и других коммунистических системах. Это главная причина моего стремления в научной работе содействовать более глубокому пониманию этих систем и их идеологий. Я не стеснялся публично высказывать оценочные суждения, касающиеся свойств политических систем — как западной демократии, так и коммунистического общества в СССР. Я критиковал так называемую «теорию конвергенции», — слабо завуалированную форму экономического детерминизма, последователи которого утверждали, что как только советская система станет экономически более продуктивна, она начнет все более и более походить на западные общества и политически, и экономически, и будет толерантнее, либеральнее и демократичнее. Именно эта точка зрения игнорирует или недооценивает характерные мощные культурные, политические и идеологические силы, формирующие советское общество и ему подобные. В последующие годы еще резче я критиковал идею «морального равенства» двух суперсил — демократического капитализма и государственного социализма. Она была равносильна утверждению, что эти две системы мало отличаются друг от друга, что Соединенные Штаты (или Запад) не имеют никакого морально-этического превосходства над Советским Союзом. Это мнение привело к абсурдному уравниванию разительно отличающихся феноменов, таких, например, как советские «чистки» 1930-х гг. и маккартизм в Соединенных Штатах. Вера в «моральное равенство» широко распространилась и утвердилась в обществе в конце 1960-х гг.; фактически, ее вызвала к жизни социальная критика периода Вьетнамской войны и расовые беспорядки.
* Под «коммунистическими системами» я подразумеваю политические системы, удовлетворяющие сразу четырем условиям: 1) однопартийная система; партия, как правило, коммунистическая; 2) легитимация того или иного варианта марксизма-ленинизма как официальной идеологии; 3) государственный контроль над экономикой и средствами массовой информации; 4) многочисленные и строго иерархичные формирования политической полиции, защищающие систему от любых проявлений «ереси» и критики.
10
Пол Холландер
Парадокс, но теория морального равенства и двойные политические стандарты часто сосуществуют: те, кто верили, что США или Запад никоим образом не превосходили коммунистический мир, проводили резкую грань между политическими репрессиями, которые чинили полицейские силы правых и левых. Показательный пример недавних лет — отношение большей части западной интеллигенции, СМИ и даже правительств к диктатору Чили генералу Пиночету и к Фиделю Кастро. Пиночета (к нему я еще вернусь) арестовали в 1999 г. в Англии по просьбе правительства Испании, которое хотело арестовать и судить его за чудовищное нарушение прав человека в Чили, целиком возложив на него ответственность за убийство нескольких тысяч людей. А Кастро же, напротив, может поехать в любую точку земного шара, ничуть не беспокоясь о том, что его могут арестовать и судить за попрание им человеческих прав и свобод; его не считают ответственным за жертвы кампаний террора, унесших столько же человеческих жизней, что и пиночетовские, если не больше. Репрессии на Кубе, хотя и менее масштабные и жестокие, продолжаются и поныне. Какова же разница между ситуациями в Чили и на Кубе, как это представляется интеллектуалам и официальным кругам Запада? Кастро начал проводить политику насилия с целью захватить власть, а затем, когда власть будет в его руках, построить то, что обычно называют прогрессивным, социалистическим обществом. А Пиночет убивал своих врагов (так звучит этот аргумент), чтобы уничтожить социалистическую систему (С. Альенде) и предотвратить ее возрождение. Его цели — в глазах этих созерцателей — не могли служить оправданием убийств. Но жестокость Кастро во время и после революции была «узаконена» его намерениями создать лучшее общество, социалистическое.
Хотя моя профессиональная карьера и началась с изучения советской России, меня все больше интересовало американское общество, западные интеллектуалы, их «влияние на умы», социальная и политическая роль и особенно их установки (в прошлом и настоящем) по отношению к коммунистическим системам. Чем дольше я жил на Западе, чем дольше вращался в различных академических кругах, тем больше узнавал о том, что меня так поразило — о специфических противоречивых установках и убеждениях многих западных интеллектуалов. Это были люди, как предполагалось, посвятившие жизнь борьбе за права и свободы человека, но яростно критиковавшие западные общества, которые создали социальные институты, включавшие широкий круг личных и коллективных свобод; в то же самое время они проявляли
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
П
лояльность, если не прямо восхищались в высшей степени жесткими репрессивными системами, претендовавшими на обладание верительными грамотами социализма. Мне было трудно понять, почему они резко отрицательно настроены против капиталистических демократий и сочувственно, благожелательно и толерант- но — по отношению к коммунистическим государствам, отрицая, преуменьшая или игнорируя пороки последних.
Следы этих установок можно найти еще том времени, когда Советский Союз только-только образовался; они тянутся почти через весь XX век — это восхищение Китаем Мао, коммунистической Кубой, Вьетнамом и, наконец, просоветской, прокастров- ской Никарагуа, последней страной-кумиром. Понятие «антиантикоммунизм» помогает постичь феномен, который я описываю. В конце 1960-х гг. такая установка была чрезвычайно важна и широко распространена на Западе. Это значит, что респектабельный интеллектуал (или добропорядочный гражданин) хотя и не исповедует коммунизм, но, тем не менее, находится в глубокой оппозиции к антикоммунистическим настроениям или политике, которые расценивались как противоречащая здравому смыслу, опасная и позорная точка зрения, ассоциировавшаяся с крайне правыми взглядами. При таком раскладе быть антикоммунистом хуже, чем прокоммунистом.
Большинству русских читателей, вероятно, трудно понять, насколько широко, начиная с конца 1960-х гг., были распространены в академических кругах США, особенно среди гуманитариев и социологов, подобные убеждения, включая и появившуюся сравнительно недавно «политическую корректность» (ПК).* Эти убеждения и установки тесно связаны с феноменом, рассматриваемым в этой книге, хотя сегодня, из-за недостатка подходящих для визитов мест, они редко выражаются через политические паломничества. Установки эти не ограничиваются академическими кругами, распространяясь также и среди других групп интеллектуальной элиты: журналистов, популярных телеведущих, издателей, представителей влиятельных фондов, среди значительной части духовенства (священников), а также среди представителей левого крыла партии демократов.
Поведение электората отражает эти убеждения лишь частично. «Левее» Демократической партии нет ни одного серьезного
* ПК включает ряд леволиберальных убеждений и установок, центральная из которых — культивация преференциального отношения к определенным этническим или расовым меньшинствам (к чернокожему населению, испанцам, другим небелым), к женщинам, к сексуальным меньшинствам. ПК также предполагает девальвацию западной культуры и традиций, возложение вины на США и Запад за проблемы третьего мира, за «корпоративную жадность» в том, что касается проблем окружающей среды, и т. п.
12
Пол Холландер
политического движения или партии, которые имели бы хоть какой-нибудь вес в национальной политике; обсуждаемые здесь крайне левые убеждения оказывают весьма ограниченное влияние на состав Конгресса, законодательные органы или власти штатов, на позицию и политику президентов. И наоборот, подобные тенденции насквозь пронизывают субкультуры университетов, многих церквей, части издательских корпораций и масс- медиа, а также околоуниверситетские объединения.*
«Политические пилигримы» впервые вышли в свет в 1981 г. и трижды переиздавались в США. Книга была переведена на испанский, итальянский и венгерский языки и вызвала множество критических отзывов, в большинстве своем доброжелательных (я говорю об этом в предисловии к изданию 1990 г.). Анализируя их, я был поражен тем фактом, что многие западные интеллектуалы в большей степени были очарованы Советским Союзом времен самых жестоких репрессий (1930-х гг.), Советским Союзом времен коллективизации, голода, чисток, судов. Похожая волна восхищения Китаем затопила умы в конце 1960-х гг., когда там шла так называемая Культурная революция, отмеченная беспредельной жестокостью, массовой истерией и террором. Как такое стало возможным? Размышления вынудили меня допустить вероятность того, что само понятие «интеллектуал» нуждается в переосмыслении и что ходячие идеалистические представления о морали и мышлении интеллектуалов должны быть пересмотрены. Особенно двусмысленным кажется представление о том, что принципиальными, определяющими характеристиками интеллектуалов являются ясный критический взгляд, любовь к свободе и свободному выражению мыслей и способность за ложью и подделками видеть правду.
Возможно, русские читатели сочтут эту проблему достойной внимания. Конечно же, разница между бытом, социальными, политическими и историческими условиями жизни русских (советских) интеллектуалов и западных огромная. Тем не менее, определенные сущностные характеристики, относящиеся равно и к тем и к другим (речь идет о XX в.), могут быть сформулированы, и в особенности потому, что на западное представление о том, кто и что есть интеллектуал, существенно повлияли идеи, установки и социальная позиция предреволюционной русской интеллигенции.
Таким образом, «Пилигримы» также могут, хотя бы косвенно, подвести русских читателей к необходимости осмыслить роль
* Эти субкультуры подробно анализируются в моей книге «Антиамериканизм» (перевод на русский язык — СПб: Лань, 2000).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
13
русской интеллигенции в советское время. Жили ли советские интеллектуалы в соответствии с возвышенными идеалами той, дореволюционной русской интеллигенции? Многие — да, и в результате погибли, а многие и нет. Советская система подвергала интеллектуалов испытаниям куда как более суровым и драматическим, чем западные демократии. И если под жесточайшим давлением и угрозой благополучию, карьере, свободе и даже жизни многие советские интеллектуалы не выдерживали и вступали на путь содействия режиму, — это легче понять и простить, по моему мнению, чем добровольное отречение от критического осмысления реальности, свойственное значительной части западных интеллектуалов (среди них и «политические пилигримы»), и бурно выражаемое восхищение репрессивными политическими системами и диктаторами, их возглавляющими, например, Советским Союзом при Сталине или Китаем при Мао. Но даже в СССР не все интеллектуалы выбрали подчинение и безопасность, некоторые из них стали диссидентами, открыто критиковали систему — и заплатили за свои взгляды высокую цену.
Еще один аспект книги, который явно заинтересует русских читателей, — это объемистая выборка наблюдений, а также анализ и оценки жизни России в самые «темные» ее годы. Им будет интересно и то, в чем эти суждения и оценки сходны с суждениями и оценками, касающимися других коммунистических государств (например, Китая, Кубы, Вьетнама), которые высказывались видными западными деятелями в последние десятилетия, когда их взоры обратились к этим странам.
Я предполагаю, что к подобной информации доступ получить было нелегко, и русские читатели плохо знакомы с высказываниями — как устными, так и опубликованными — интеллектуалов из разных стран, делившихся своими впечатлениями после возвращения. Небезынтересно будет узнать, сколько советских граждан узнавали — сразу или спустя некоторое время после визитов — о сердечных излияниях западных визитеров в адрес их политической системы, и, если вообще узнавали, то какова было их реакция? И особенно важно было бы узнать, как критики и жертвы системы отзывались или отозвались бы на панегирики их системе, произносимые известными и высокопоставленными иностранными гостями? Отзывы эти должны быть (или должны были быть) в высшей степени жесткими и неутешительными.
Русских читателей не удивит тот факт, что советские власти задействовали значительные средства и ресурсы на то, что я называю в книге «техникой гостеприимства» — на создание у иностранных гостей благоприятного, и только благоприятного,
14
Пол Холландер
впечатления о советском обществе. Подготовка к приему гостей была четко организована. Чем более значимым власти считали мнение того или иного визитера, тем тщательнее готовились к его приезду. Такова, несомненно, типичная, традиционная черта российской политической жизни и управления: организация потемкинских деревень перед приездом сановников. Не далее как во времена Горбачева в различных учреждениях (на фабриках, в школах, больницах, фермерских хозяйствах) еще готовились, и самым тщательнейшим образом, к его визиту. Валерий Болдин, руководитель администрации Горбачева, вспоминал визит Горбачева в одну из больниц: «Всё... было готово для приезда генерального секретаря... тротуары, подъездная дорога... были покрыты свежим асфальтом... На этаже, который мы осматривали, пациентам запретили выходить в коридор... Как я узнал позднее... в палатах, предназначенных для осмотра, в кроватях лежали здоровые, откормленные офицеры охраны, которые горячо хвалили медицинский персонал и еду... И в некоторых других местах нас встречали потемкинские деревни. Например, нас пригласили в якобы выбранную наугад новую квартиру «обычного рабочего», у которого совсем случайно оказались под рукой изысканные hours d’ouvres*».** Вполне возможно, что подобные усилия и их результат —неосведомленность части советских лидеров об условиях жизни в их собственной стране — внесли свой вклад в разрушение и крах системы.
Цель манипуляций (техники гостеприимства), направленных на гостей из-за рубежа всегда была одна. Действия эти воплощали основной ленинский принцип: «идеи — это оружие». Хорошее впечатление от советской системы, складывавшееся (при прямом посредничестве хозяев) у зарубежных визитеров, чье мнение власти считали значимым — общественных деятелей, писателей, политиков, бизнесменов — служило оружием в идеологической борьбе. Предполагалось, что хорошее впечатление (и предрасположенности, которые оно усугубляло и закрепляло) повлияет на убеждения, установки и действия известных личностей, а в целом будет способствовать узакониванию системы в глазах мировой общественности. Убеждения путешественников — надеялись советские власти, — даже могли бы повлиять на определенные аспекты политики Запада по отношению к СССР.
Главное, что следовало показать и внушить важным (и не только важным) визитерам: советская система популярна, законна, человеколюбива и открыта нуждам своих граждан, а значит,
* Закуски (фр.). — Примеч. переводчика.
** Valery Boldin. Ten years that shook the world. New York: Basic. 1995. P. 68.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
15
является воплощением пламенных стремлений прогрессивной западной интеллигенции; советская система — это новый с точки зрения истории и эффективный путь к быстрой модернизации огромной и отсталой страны, и, в довершение всего, Советы — это мирная и миролюбивая политическая система. Конечно же, при этом учитывались чувства, позиция и социальный статус и влияние гостей, одиночек и групп.
Основная мысль моей книги такова: тщательно спланированные и хорошо профинансированные (как и действия, их вызвавшие) приятные впечатления визитеров гораздо теснее связаны с их собственными предрасположенностями, чем с подобающим случаю обхождением советских властей.
Суть, сердце феномена политических паломничеств (и того, что его дополняет — политического гостеприимства) — это обман и самообман. Паломники отличались тем, что обманывали сами себя, а хозяева великодушно помогали им в этом. Однако между ними существовало важное различие: большинство пилигримов были наивными, невежественными и принимали желаемое за действительное — качества, поддерживать и закрепить которые и были призваны отрежиссированные туры по стране. Хозяева же, напротив, знали, что и зачем они делают: потемкинские деревни служили еще одним средством достижения цели, и движущей силой выступал тот же самый интеллект, который сеял ложь в советском обществе и изобрел социалистический реализм для советских художников и писателей.
С официальной точки зрения спланированные туры для иностранцев представляли собой прикладной социалистический реализм. Для читателей соцреалистических романов в качестве героев приготовляли не среднеарифметических людей, не натуралистичную реальность, а выдающиеся, санкционированные идеологией феномены. В том же духе и пилигримам показывали нетипичные, образцовые хозяйства, фабрики, тюрьмы, детские сады и школы, жилмассивы, а также исключительно хорошо образованных, лояльных, пышущих энтузиазмом советских граждан. В соответствии с принципами соцреализма, воплощенными в турах, подобные нетипичные достопримечательности служили эмблемой наступающего светлого будущего; образцовые тюрьмы и колхозы должны были вскоре стать средними, типичными тюрьмами и колхозами, так же как положительные герои на фоне людей грядущего уже не должны были бы выделяться.
Интересно, могут ли трудности жизни в сегодняшней России сформировать у представителей интеллигенции склонность переносить свои надежды найти лучшую социальную систему на
16
Пол Холландвр
какие-либо общества или страны? Подозреваю, что если в советские времена некоторые советские интеллектуалы, да и простые люди идеализировали какую-либо конкретную страну, то этой страной были США или Запад в целом. С крахом советской системы и появлением новых трудностей посткоммунистической эры идеализированные образы США и Запада поблекли, а восхищение и идеализм заместило разочарование. Я не думаю, что русская интеллигенция сегодня расположена возвести в ранг кумира хоть какую-нибудь страну или политическую систему мира или готова поддаться утопическим стремлениям, которые двигали западными политическими пилигримами прошлого. Возможно, некоторые русские интеллектуалы и склонны идеализировать далекие дореволюционные годы — частично реальную, частично воображаемую духовность благотворных русских традиций и отношений старины. И, возможно даже, небольшая группа людей живет советским прошлым или его истинными, на поверхностный взгляд, революционными истоками. Но для большинства — как для интеллектуалов, так и для неинтеллектуалов — опыт, накопленный в советские годы (если только не забыт), обеспечивает своего рода защиту, а то и вообще иммунитет к искушению политической утопией, к стремлению ее отыскать.
Если, как это сразу увидит читатель, обсуждаемые здесь западные оценки советской системы все почти как одна были ошибочны и часто нелепы, то почему же, возникает вопрос, они должны привлекать внимание сегодня? Представляют ли они только исторический интерес или это уроки, которые следует усвоить на будущее?
Надеюсь, русские читатели не сочтут мои выводы и предположения, высказанные в этой книге, устаревшими или недостойными внимания. Среди таковых напоминание, что если ты интеллектуал — не важно, насколько выдающийся, знающий или знаменитый, — то одно это еще не обеспечивает иммунитета от желания выдавать мечты за реальность, от легковерия и самообмана. Кроме того, мое исследование подтверждает, прямо или косвенно, что ни одна политическая партия, ни одна идеология не способна решить все проблемы человека, хотя есть искушение восхищаться далекими странами, претендующими на то, что они-то способны решить всё. В частности, идеи марксизма-ленинизма, привлекшие стольких пилигримов (по крайней мере, на какое-то время), дали глубокую трещину, несмотря на то, что смогли вдохновить небольшую группу людей (в коммунистических государствах), пытавшихся воплотить их в жизнь, но даже не задумывавшихся о цене таких попыток. В том, что эти
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
17
идеалы неосуществимы, виноваты вовсе не обычные человеческие недостатки «правоверных»,’' — порочны сами идеалы и породившая их теория.
Важно помнить, что причиной, вызвавшей к жизни поклонение коммунистическим государствам, явились реальные и хорошо осознаваемые пилигримами черты их собственных обществ. Пути паломников определяли серьезные проблемы стран Запада (например, депрессия конца 1920-х — начала 1930-х гг., Вьетнамская война, расовые конфликты в Америке в 1960-х), побуждавшие многих интеллектуалов искать решения в других странах, однако не менее мощной направляющей силой послужили их идеалистические и неосуществимые ожидания и надежды найти социальную систему, где царят гармония, счастье, равенство, социальная справедливость и есть возможность личностной самореализации. Но ни одна социально-политическая система не способна решить фундаментальные проблемы человеческого бытия, хотя некоторые системы могут значительно ухудшить жизнь людей или как-то улучшить ее. Именно по этой причине важно не переступать и охранять границу, разделяющую частную, личную сферу, публичную, политическую жизнь и проблемы, за которые каждый несет ответственность индивидуально.
В целом же «Политические пилигримы» — это рассказ, предостерегающий от разрушительных иллюзий (подобных иллюзиям, овладевшим пилигримами), которые принесли жестокие страдания русским (и не только русским) людям в XX веке.
«Правоверный» («The True Believer») — так называется хорошо известная книга Эрика Хоффера (Eric Hoffer), опубликованная в 1951 г.
Пол ХОЛЛЛНДЕР 2000 г.
18
Пол ХолланАвр
Эта книга
посвящается памяти моего отца
Йене ХОЛЛАНДЕРА
КОНЕЦ
ПОЛИТИЧЕСКОМУ
ПАЛОМНИЧЕСТВУ?
(ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1990 г.)
Книга «Политические пилигримы» вышла в свет в 1981 г. в издательстве «Oxford University Press» в Нью-Йорке. Она вызвала широкий и, в основном, положительный отклик, однако многие отзывы содержали и значительные оговорки (см. предисловие к изданию 1983 г., с. 35-49). Появилось более ста рецензий, и не только в Соединенных Штатах, но и в Великобритании, Канаде, Австралии, Гонконге, Индии, Голландии, Дании, Швеции, Финляндии, Германии, Швейцарии, Италии и Франции. После того как тираж издания «Oxford University Press» в твердой обложке был распродан, издательство «Harper & Row» выпустило в 1983 г. книгу в мягкой обложке. К 1988 г. этот тираж тоже разошелся, но новых изданий не намечалось. (Оба эти тиража были невелики, возможно, 15 000-20 000 экземпляров за 8 лет). Тогда Центр этики и социальной политики взял на себя труд найти нового издателя, и «University Press of America» любезно согласилось ее переиздать.
Испанский перевод книги был опубликован в двух томах издательством «Editorial Playor» в Мадриде в 1986-1987 гг., итальянский — «Mulino Publishing Company» в Болонье в 1988 г. (Итальянское издание включало в себя дополнительную главу «Политические паломничества итальянских интеллектуалов», написанную итальянским ученым Лорето де Нуччи.)
Отрывки из книги публиковались в английском ежемесячном журнале «Encounter» в 1981 и 1982 гг.; мексиканском «Diálogos» в 1982 г., а также в «Pensamientos Centroamericanos», издаваемом в Коста-Рике, в 1988 г. Венгерский перевод отрывка из книги сейчас готовится к изданию в подпольном будапештском журнале.*
* Предисловие написано в 1989 г. — Примеч. переводчика.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
19
Несмотря на то что средства массовой информации уделили книге больше внимания, чем обычно уделяют академическим и пол у академическим изданиям, ее «влияние на умы» было ограничено. Для сравнения можно привести в пример другой недавно изданный (и гораздо более претенциозный) академический труд Пола Кеннеди «Закат великих держав»: «New York Times Magazine» напечатал о нем пространную статью, другие периодические издания в публикациях по сходной проблематике подвергли его тщательному анализу, а Кеннеди стал героем многочисленных ток- шоу. Очевидно, предположение Кеннеди, что непомерные военные расходы ускорят закат Соединенных Штатов (как это уже случилось с другими великими державами), задело гораздо более чувствительную струну, чем мой предостерегающий рассказ об интеллектуальной доверчивости и утопических стремлениях.
Несмотря на довольно большое количество рецензий, многие влиятельные американские журналы, такие как «New York Review of Books», «The New Yorker», «Atlantic», «Harpers», «The Nation», «Dissent», «Wall Street Journal» и другие, проигнорировали «Политических пилигримов». Не заинтересовала книга и ведущих ток-шоу, за исключением Уильяма Бакли. Равнодушные или в высшей степени враждебные отзывы были опубликованы профессиональными журналами, специализирующимися на тех дисциплинах, с которыми моя работа была наиболее тесно связана (или в силу моего образования, или из-за сущности изданного труда): журналом «Contemporary Sociology» (обозрение Американской социологической ассоциации) и «American Political Science Review» (журнал Американской политологической ассоциации).
В общем, надо честно признать, книга была принята неоднозначно. Большинство обозревателей довольно охотно согласились с моей исторической оценкой политических паломничеств, а именно с тем, что многие западные интеллектуалы, более или менее выдающиеся, были обмануты или сами себя обманывали относительно ситуации в различных коммунистических странах. Поездки в эти страны (пребывание «на месте событий») усугубляло, а не улучшало положение. С другой стороны, обозреватели, казалось, были раздражены предположением, что степень восприимчивости интеллектуалов прямо пропорциональна их отчужденности от собственного общества. Достаточно резкая критика в адрес Соединенных Штатов (или других западных государств) могла сочетаться с почти полной атрофией способности критически осмыслять увиденное: хорошо «отрежиссированная» принимающей стороной культурная программа и политические предпочтения и исходные установки самих интеллектуалов делали свое дело.
20
Пол ХолланАвр
Что же можно сказать об этом явлении спустя десять лет? Стали ли политические паломничества только предметом исторического изучения или они продолжают существовать? Если да, то в какой форме? Этот вопрос уже затрагивался в предисловии к изданию в мягкой обложке. История, однако, не стоит на месте; изменения, сравнительно недавно произошедшие в советском блоке, или «социалистическом содружестве», как его было принято называть, требуют дальнейших размышлений на эту тему. Есть веские причины для переосмысления не только самого явления паломничеств, но и лежащих в его основе установок.
Самым потрясающим политико-интеллектуальным феноменом последних лет является тот факт, что, несмотря на идеологическую неопределенность и беспорядок внутри коммунистического блока, среди тех, кого традиционно привлекал политический туризм, сохраняются определенные западные политические установки. Последнее время, говоря о «выживании альтернативной культуры»1, я ссылаюсь именно на этот феномен. В «Политических пилигримах» я подробно аргументировал свое утверждение, что западными интеллектуалами, ищущими достойную альтернативу собственному порочному обществу, двигало враждебное к нему отношение, установка на противостояние — восприимчивость отчуждения. Отношение это не изменилось, хотя из-за перемен в социалистических странах стало крайне трудным рассматривать их в качестве альтернативы западной упаднической идеологии. Стремление отправиться в новые паломничества не угасает, но число стран, куда имело бы смысл ехать, значительно сократилось.
К середине 1980-х гг. преобразования внутри коммунистического блока пошли гораздо интенсивнее, особенно увеличилось количество саморазоблачений. С точки зрения потенциальных пилигримов, наиболее важно здесь то, что общество стало тщательно себя анализировать и началась, теперь уже одобряемая властями, переоценка ценностей. В результате в Китае, как и во всех других странах Восточного блока, очень мало что осталось от внешней уверенности и самодовольства, которые раньше так потрясали зарубежных гостей, жаждущих найти здесь политическую честность и прямоту, коллективную целеустремленность, образец идеального общества.
Появилась гласность, а это подразумевало, что критики старой системы, ранее преследовавшиеся, теперь могли свободно высказываться как в официальных средствах массовой информации, так и в новых полуофициальных источниках. Их разоблачения выставили на посмешище то, что представлялось основной привлекательной стороной этих систем. К середине 1980-х гг.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
21
даже самый отчаянный и мечтательный пилигрим (или потенциальный пилигрим) не смог бы обнаружить целеустремленность, сплоченность общества, социальную справедливость, равноправие, не говоря уже о фантастическом материальном прогрессе, в прошлом столь притягательном.
Идеализацию теперь затрудняли не просто неблагоприятные свидетельства относительно гражданских свобод (включая и свободу слова) в этих обществах. Откровения горбачевской эры показали, что социалистические системы столкнулись лицом к лицу с серьезными внутренними кризисами и их претензии на колоссальный материальный прогресс (в прошлом — оправдание отсутствия личной свободы) были необоснованны. Преступность, алкоголизм, коррупция, загрязнение окружающей среды, низкий уровень здравоохранения, разрушение семей, нехватка питания, почти полное отсутствие основных удобств, снижение уровня жизни и «старомодная» бедность — все эти проблемы, которые, как считалось, характерны только для капитализма, существовали и в социалистических странах, причем в более тяжелой форме.2 При социализме как государственной системе во власти отчуждения находились не только питающие радужные надежды интеллектуалы-идеалисты (как это обычно случается на Западе), но и массы простых людей. Атмосфера застоя и упадка, даже разложения, но никак не целеустремленности и оптимизма, стала клеймом этих стран.
Пока западные интеллектуалы причитали по поводу разрушительного влияния и несправедливостей капитализма, социалистические системы все глубже осознавали, что государственный контроль над экономикой грешит серьезными недостатками, многие отрасли производства малоэффективны, производительность труда низкая, а государство неспособно удовлетворять человеческие потребности. Лидеры этих стран все настойчивее искали пути восстановления частного предпринимательства.
Все это походило на фарс. Западные академические интеллектуалы продолжали воздавать хвалу марксизму. В странах же, где марксизм был центром официальной системы ценностей — своеобразной «вазой посередине обеденного стола», руководством к практическим действиям и главным источником законности, он дискредитировал себя в глазах не только народных масс (которые никогда не понимали и не принимали его), но даже и интеллигенции.
Как правило, отчужденные от общества, противостоящие ему западные интеллектуалы и квазинтеллектуалы отворачивались от этих перемен, словно не замечая в социалистических системах пороков как морального, так и материального плана, которые
22
Пол Холланлер
множились, как эхо. Особенно они не были склонны обнаруживать какую-либо связь между идеями и идеалами марксизма- ленинизма и плачевным состоянием обществ, попытавшихся воплотить эти идеи.
Фанатичность веры в марксизм на Западе скорее всего следует отнести на счет институционализации системы ценностей, провозглашенной движениями протеста 1960-х гг., которые и дали жизнь альтернативной культуре.3 Трудно не заметить, что эти политические и культурные ценности выжили. Так, например, кандидатура Джесси Джексона на президентских выборах 1984 и 1988 гг. получила поддержку не только среди чернокожего населения, но и среди леволиберальных слоев белых американцев (особенно высокообразованной интеллигенции). Поддержка Джексона была в этих кругах доказательством принадлежности к «правильно думающей», просвещенной прослойке американского общества, знаком, что ты являешься поборником идеи критического взгляда на мир и «озабочен» его проблемами.
Другим примером влияния альтернативной культуры стал крах попыток администрации Рейгана поддержать антикоммунистические герильи в Никарагуа.
Третьим показателем распространения альтернативного взгляда на мир явилась победа в обществе идеи моральной эквивалентности — веры, что нет серьезных различий между моралью американской и советской политических систем и что обе они в равной степени заслуживают скептического к себе отношения (при ближайшем рассмотрении выяснилось, что сторонники этой теории более критично настроены по отношению к Соединенным Штатам, чем к Советскому Союзу).
Четвертым видимым проявлением живучести таких установок можно считать постоянный рост и укрепление демографическо-муниципальных анклавов альтернативной культуры: городов с преобладанием леворадикальных групп; в основном это университетские города типа Беркли, Санта-Крус и Санта-Моника в Калифорнии; Анн-Арбор в Мичигане; Мэдисон в Висконсине; Берлингтон в Вермонте; Амхерст в Массачусетсе и т. д.
Недавно возникшее движение за изменение образовательных программ в колледжах и университетах, целью которого было усилить «незападную» направленность вузов, также может служить отражением обсуждаемой нами установки. «Муль- тикультурные» курсы и учебные программы обычно основаны на материалах, содержащих критику западных ценностей и институтов с точки зрения марксизма, третьего мира или воинствующего феминизма. Несмотря на то что ранее все это было
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
23
доступно и в рамках множества других курсов, новые программы требуют обязательного изучения данного материала всеми.4
Как эти изменения отразились на политических паломничествах? После Второй мировой войны поток западных пилигримов, направляющихся в Советский Союз, заметно сократился, но в последние несколько лет все больше представителей нового поколения Запада стало посещать СССР. Поначалу, в 1980-е гг., благожелательно настроенных интеллектуалов, и особенно американских, в Советский Союз приводили скорее не поиски политической утопии, а стремление к миру и надежда, что человеческие контакты на уровне «низов» помогут избежать ядерного холокоста. (Другие, их было гораздо меньше, ехали ради выгодного бизнеса, однако на самом деле эта предпринимательская деятельность оправдывала себя не в плане получения прибыли, но скорее как средство достижения мира и взаимопонимания). Были ли подобные надежды ближе к реальности, чем те, что вдохновляли предыдущее поколение пилигримов, остается спорным.
Китай, после смерти Мао, во многом утратил свою политическую привлекательность, когда американские средства массовой информации наводнили сообщения о том, что китайцы с готовностью приняли капитализм в качестве государственной системы. Те, кто ранее симпатизировал Китаю, лишились возможности благоговейно трепетать перед его возвышенной общественной моралью тоталитаризма и эгалитаристским пафосом Культурной революции.5
Хотя у коммунистического Вьетнама (в прошлом — Северный Вьетнам) во время войны нашлись и свои сторонники, а перед выдающимися западными, особенно американскими, деятелями, посещавшими эту страну, вьетнамцы играли роль гостеприимных хозяев (см. ниже, стр. 368-375), он никогда не привлекал большого числа пилигримов, будучи практически недоступным из-за своего географического расположения и политического контроля со стороны властей. (Феномен беженцев- лодочников тоже затруднял открытую поддержку вьетнамского режима.) Редкие в 1980-х гг. американские делегации ждал одинаковый прием. Одна из них, группа американских церковных деятелей (состоявшая из членов Всемирной церковной службы и Объединенного методистского комитета помощи), была глубоко потрясена образцовым «исправительным лагерем»,6 напоминающим о хорошо организованных поездках в образцовые советские, китайские, кубинские и никарагуанские тюрьмы (см. ниже, стр. 219-240 и 442-450).
Куба при режиме Кастро пользовалась большой поддержкой «альтернативных» кругов, хотя она оставалась одной из самых
24
Пол Холланлер
жестких, нетерпимых, милитаристски настроенных и экономически неразвитых среди коммунистических систем. Из этой страны предпочли уехать 10% ее жителей (часто преодолевая большие трудности и рискуя жизнью) как по экономическим, так и по политическим причинам. Сочувствующие Кубе не замечали подобные факты — отчасти потому, что кубинский режим, олицетворением которого был Кастро, никогда не утрачивал внешней самоуверенности и всегда утверждал свое моральное превосходство над Соединенными Штатами и другими капиталистическими системами. Возможно, харизма и упорство Кастро сыграли свою роль в том, что лояльно настроенные по отношению к Кубе иностранцы оставались ей преданны: перед ними был настоящий герой революции, который продолжал крепко держать руль власти и не желал порочить девственный революционный идеал уступками «буржуазным свободам» или капиталистической жажде наживы.
Так сложилось, что среди левых американских и западноевропейских интеллектуалов не принято выражать возмущение по отношению к Кубе. Как заметил изгнанный с родины кубинский писатель Рейналдо Аренас, «не модно нападать на Фиделя Кастро; это не прогрессивно... [На Западе] трудно продвинуться, будучи противником режима, подобного кубинскому... Я все время сталкиваюсь с этим в академических кругах. В Гарварде меня попросили не говорить о политике во время лекции. В то же самое время, таким коммунистическим писателям, как Синтио Витиер и Мигель Барнет, была предоставлена полная свобода только об этом и говорить».7
Джесси Джексон — один из друзей Кубы. Как отметил журналист Фред Барнс, его отношение к Кубе «подобно отношению Ширли Маклейн к Китаю в 1970-е гг., или отношению четы Вэбб к Советскому Союзу в 1930-е... Джексон посещает школы на Острове молодежи* и находит их „творческими“». По сути, они являются квинтэссенцией тоталитаризма, где кубинские дети избавляются от того, что один прокубински настроенный американец в разговорах со мной называет „отсталыми представлениями“».8 Во время визита на Кубу Джексон посетил перестроенную тюрьму и наблюдал за заключенными, которых заставили играть в бейсбол (они были одеты в новую бейсбольную форму, купленную специально для этого случая).9
Среди безоговорочных сторонников Кубы выделяются церковные делегации. Представитель одной из методистских церквей увидел «страну, где подавляющее большинство верит, что
* Остров в составе Республики Куба (другое название — Хувентуд). — При- меч. переводчика.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
25
они являются хозяевами нового общества... Весьма характерным для кубинцев является горячее желание, чтобы и остальные люди на Земле обрели свободу, которую так недавно завоевали сами кубинцы».10 Методистские епископы были убеждены, что в тюрьмах Кубы сидят сплошь одни оппозиционеры, выступающие против политики, направленной на уничтожение неравенства. Такой повод для ареста показался им гораздо более уважительным, чем обвинение, на основании которого заключают в тюрьму в Чили и Бразилии, где, как они утверждали, в застенке томятся сторонники социальной справедливости.11
В брошюре Национального совета церквей восхваляется образовательная система Кубы: «Кубинская практика в области образования пронизана идеей, что новый тип общества взрастит нового человека... для которого труд — это творческий центр жизни и который связан с другими членами общества чувством солидарности, товарищества и любви».12 В другой публикации Национального совета церквей утверждалось, что «кубинцы заново обрели у себя дома чувство собственного достоинства... В международном масштабе... этот островной народ стал для всего третьего мира символом революционных надежд и мужества». Вот еще один отклик, из соседней Латинской Америки: архиепископ г. Сан-Паулу заверил Кастро в тридцатую годовщину революции, что «ежедневно поминает его в [своих] молитвах», и что «христианская вера обнаруживает в достижениях революции знамения Царствия Божьего».13
Твердая поддержка Кубы также нашла свое выражение в сочувственном (но не лишенном критических замечаний) отчете делегации, организованной Институтом политических исследований для оценки условий жизни в тюрьмах. Члены делегации неожиданно для себя «обнаружили, что большинство служителей тюрем были полны сознанием важности своей миссии. Они демонстрировали твердую веру в систему и... были настроены упорно работать над своим планом по перевоспитанию заключенных и вовлечению их в трудовую жизнь свободного общества... Основные помещения тюрем, в которых мы побывали, содержались в чистоте в соответствии с правилами гигиены, и мы не слышали серьезных жалоб на этот счет. Не слышали мы жалоб и на то, что заключенных пытают... не сталкивались с практикой расправы „без суда и следствия“ или со случаями исчезновения людей».14 Такие утверждения напоминают слова посетившего Советский Союз в 1930-е гг. Вэббов, отмечавших, что «об администрации [тюрем] отзываются хорошо, и тюрьмы свободны от физического насилия, насколько это вообще когда-либо было возможно в тюрьме любой страны» (см. стр. 223-225). Дебра Эвенсон, профессор юридичес¬
26
Пол Холланлер
кой школы университета Депол в Чикаго, не могла вынести даже такой весьма сдержанной критики кубинских тюрем, которая содержалась в статье А. Нейера (в «New York Review of Books»), и в своей резкой отповеди убеждала читателей в превосходстве кубинских тюрем над американскими.15
Этот обмен мнениями и отчет о состоянии тюрем появились в печати лишь несколькими месяцами раньше отчета Американского наблюдательного комитета, представившего новые доказательства того, что на Кубе нарушаются права человека, а ее государственная система носит тотально-репрессивный характер.16
Как бы ни были верны Кубе ее сторонники — из тех, кто еще остались таковыми к середине 1980-х — поток политических паломничеств поменял русло: теперь он направлялся в Никарагуа. (Безусловно, сторонники Кубы симпатизировали и Никарагуа, и наоборот.) Термин «политический туризм» точнее описывает это явление, поскольку поездки в Никарагуа в основном представляли собой скорее стандартные групповые туры, чем путешествия-исследования, когда редких туристов-одино- чек сопровождала свита из гидов и переводчиков — именно этот последний вид путешествий уместнее называть паломничеством.
Новая характерная черта поездок в Никарагуа — участие иностранцев-добровольцев в разнообразных проектах, вроде сбора кофе или строек. (Подобные прецеденты, имевшие место в Советском Союзе и Китае, послужили моделью для организации бригады Venceremos, в которую для сбора сахарного тростника принимали сочувствующих Кубе добровольцев.) Некоторые американцы и другие представители Запада более или менее постоянно живут в Никарагуа, остальные удовлетворяются кратковременными визитами: приезжают на несколько недель, чтобы поучаствовать в каком-либо из проектов.
Приблизительно 1500 американцев «живет и работает в Никарагуа. ...С тех пор как сандинисты пришли к власти в 1979 г., около 40 000 американцев побывало в Никарагуа по гуманитарным и политическим делам».17 Мотивы, ими двигавшие, обобщила член женской бригады, собиравшейся строить школу: «Решение поехать в Никарагуа — это продиктованный совестью акт протеста, направленный против агрессии нашего правительства, и знак солидарности с никарагуанским народом».18 «Увлечение» Никарагуа было связано еще и с «возрождением веры в возможность революции, не обреченной изначально быть орудием в руках соперничающих супердержав или доморощенного деспотизма».19 Другими словами, Никарагуа стала новым противоядием от утраты иллюзий, последовавшей за событиями 1960-х гг.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
27
За один только год, по официальным сведениям никарагуанского правительства, страну посетило 100 000 иностранцев, из них 40% — американцы. Как цитируется в статье, откуда взяты эти цифры, многие из них ехали не «полюбоваться красотами природы, а посмотреть на Сандинистскую революцию. Большинство из них... имеет отношение к церквям, профсоюзам, университетам — основным группам, симпатизирующим сандинистам».20
Сочувствие марксистско-ленинскому правительству Никарагуа проявлялось и в других формах. Городской совет Бостона объявил 3 ноября 1988 г. днем Эрнесто Карденаля — в честь сандинистского министра культуры, поэта и священника.21 Города Берлингтон, штат Вермонт, и Беркли, штат Калифорния, объявили себя городами-побратимами Манагуа. По всей стране группы поддержки, особенно связанные с церквями, собрали внушительную сумму денег и продовольствие. В 1987 г. была объявлена всенародная кампания по сбору средств. Собрали 60 миллионов долларов, в дополнение к уже собранным в 1986 г. 40 миллионам.22 На проходившем в Вашингтоне (округ Колумбия) антиинаугурационном концерте, устроенном в знак протеста против вступления Буша в должность, Крис Кристофферсон исполнил оду сандинистам, в которой есть следующие строки: «Ты жил достойно своего имени... Пусть дух твой никогда не умрет! Освети мрак! Ты — хранитель огня!».23
Даниель Ортега во время своего визита в Нью-Йорк был удостоен приема в церкви Riverside Church (тогда настоятелем там был преподобный Уильям Слоун Коффин, сам совершавший паломничества в Северный Вьетнам и Никарагуа (см. стр. 368 и 371-372)), где он просто купался в восхищении собравшихся знаменитостей, таких как Морли Сейфер, Бетти Фрейдан, Юджин Маккарти, Бьянка Джаггер, Бернадин Дорн, бывший активист организации «Weather Underground». Ортега также выступил перед паствой методистской церкви (Park Slope Methodist Church) в Бруклине.24
Ошибочные суждения о никарагуанской политической системе и ее представителях и похвалы в их адрес впечатляют тем, что множатся без конца и очень похожи на панегирики другим коммунистическим системам, описанным в этой книге. Существовала тенденция намеренно, вооружившись восторженным оптимизмом, не обращать внимания ни на противоречивость свидетельств, раскрывающих природу этой политической системы, ни на уроки истории, уже преподанные к 1980-м гг. Мой читатель, несомненно, заметит, что поездки по Никарагуа и отчеты о них воспроизводят почти с невероятной точностью все иллюзии, идеалы, проекции и недопонимания, характерные для рассказов путешественников 1930-х, 1960-х и 1970-х гг.
28
Пол ХолланАвр
Салман Рушди, ныне очень известный британский писатель (милостью аятоллы Хомейни в Иране) не делал секрета из своего расположения к Никарагуа, вызванного антипатией к политике Соединенных Штатов: «Когда администрация Рейгана развязала войну против Никарагуа, я обнаружил в себе глубокую симпатию к этой небольшой стране... Я поехал туда не как нейтральный наблюдатель. Я не был „чистым листом“». Он им действительно не был. Его визит в Никарагуа и все характерные черты более ранних поездок туда западных интеллектуалов описаны в этой книге. Рушди пригласили поехать в блестяще организованный тур, включавший как роскошные пиры (среди «деликатесов» было мясо черепахи, «оказавшееся неожиданно сочным и вкусным, чем-то средним между говядиной и олениной»), так и скромные, но не менее гостеприимные крестьянские трапезы, красочные фиесты, поэтические чтения, посещение крестьянских хозяйств и прогулки на катере по живописным лагунам. Доступ к высокопоставленным лицам государства был всегда открыт, они часто составляли Рушди компанию в его инспекционных поездках. Они оказались близкими ему по духу интеллектуалами, даже более того, дружественными писателями и поэтами, чьей единственной заботой была помощь бедным и возвращение независимости государству. Он «не мог вспомнить ни одного западного политика, который был бы способен говорить столь же откровенно» с толпой, и не мог вообразить себе Рейгана или Тэтчер, «соглашающихся на ежемесячный допрос с пристрастием со стороны представителей общественности». Однако Рушди не заметил, что эти лидеры, ведущие себя так открыто и непринужденно, даже не собирались покидать свои кабинеты, намереваясь исполнить исторический наказ, выпавший на их долю. Видимо, не заметил Рушди и различий в образе жизни руководителей и масс, которым они стремились служить, хотя он, например, обратил внимание на «содержащиеся в отличном состоянии тропические сады» министра иностранных дел Мигеля д’Эското, бывшие его «второй большой любовью» (первая — коллекция предметов никарагуанского искусства).
Рушди признался: «Впервые в своей жизни... я увидел правительство, которое мог бы поддержать». Он решил, что никарагуанская конституция «ничем не уступает Биллю о правах», и он «был бы не прочь увидеть ее в списке законов Британии». Главное — эта страна и образ жизни в ней не походили на презренный «Запад, набитый деньгами, властью и вещами»25 — напротив, там было ощущение цели и общности. Конечно, народ жил в бедности, а материальный прогресс практически отсутствовал, но это можно было списать на прошлое, Соединенные Штаты и контрас.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
29
Мимолетную тревогу у него вызвала цензура, но и цензуру можно было отнести на счет тяжелых времен. Существенным было то, что система посвятила себя социальной справедливости, а люди были просты и естественны. Как подытожил обозреватель, «господин Рушди, по-видимому, отправился в это паломничество, прежде всего, чтобы утвердиться в своей вере в такую Никарагуа, какой он хотел бы ее видеть, и спроецировать на нее собственные мучительные надежды, которые в жизни он не смог реализовать».26 Рушди был лишь одним из многих пилигримов и политических туристов, готовых открывать и восхвалять новые социалистические добродетели Никарагуа.
По мнению Элис Уолкер, американской писательницы, Никарагуа — «рай для литератора».27 Профессор философии Массачусетского университета в Амхерсте, частый гость в Никарагуа, считал, что никарагуанское правительство «честно предано бедным и может служить примером для других латиноамериканских государств...».28 Один из авторов журнала «Village Voice» отметил, что приезжающие в Никарагуа «вновь обретают веру... Никарагуа возвращает международным волонтерам надежду...».29 Бывший пресвитерианский священник из Атланты свидетельствовал, что сандинисты «совершили дела, которые я, как христианин, высоко ценю. Они провели одну из наиболее сенсационных в истории кампаний по ликвидации безграмотности... с христианскими ценностями согласуются программы оказания медицинской помощи в сельской местности. Они дали землю крестьянам. Как христианин, я приветствую это».30 Даже журнал «Vanity Fair» нашел, что в Никарагуа многое достойно похвалы, в том числе и семья главы государства. Говорилось, что Розарио Мурильо, супруга Даниеля Ортеги, обладает «очарованием революции, совершенной молодыми, смелыми и красивыми...» (читатель может сопоставить это наблюдение с приведенным ниже мнением Джулиана Хаксли, который отдал дань «прекрасному сложению» русских: ему бросилось в глаза, что все они были «высоки, сильны, здоровы» и близки к греческому идеалу телесного совершенства (см. стр. 213)). Но госпожа Мурильо отличалась не просто очарованием — «мечтательная поэтесса, обозревающая свои владения решительным взглядом; поборница равноправия, первая леди скромной маленькой страны...» Ее также характеризовали как «среднее между Пасионарией (Долорес Ибаррури, испанской коммунисткой-сталинисткой 1930-х гг.) и Бьянкой Джаггер».31
Политические туристы последних лет, так же как и туристы прежних поколений, были уверены, что граждане государств, которые они так почитали, с радостью принимают все невзгоды,
30
Пол Холланлер
сладостно предвкушая светлое будущее и испытывая признательность за добрые намерения своих руководителей. Представитель лейбористской партии в Британском парламенте писал: «...Никарагуанцы мирятся со всеми трудностями... потому что... большинство граждан понимает, что их правительство делает все возможное в исключительно сложных условиях и честно разделяет их трудности и лишения».32 Откуда это известно господину Кауфману? Как и другие до него, он, вероятно, слишком доверял информации, предоставленной гостеприимными хозяевами, которые, несомненно, «оберегали» его, не давая сравнивать их еду, условия жизни и средства передвижения с тем, что доступно широким слоям населения.
Эти любопытные наблюдения за жизнью в Никарагуа во многом определялись тенденцией гостей (как и в паломничествах прошлого) подчеркивать лишь положительные моменты. Ректор теологической семинарии в Калифорнии советовал попытаться «...избавиться от наших американских идеологических линз ... и вступить в доверительные взаимоотношения». Ему, видимо, это удалось, поскольку он заключил, что «Никарагуа достигла большей степени свободы, справедливости и народной демократии, чем любое из соседних государств (за исключением Коста-Рики) за пятьсот лет».33
Церкви шли в авангарде сторонников Никарагуа и организаторов туристических групп. Самыми активными из них были квакеры и их деятельный орган, Американский комитет дружеской помощи (его подразделение «Свидетели за мир»), Национальный совет церквей в целом и методисты в частности, католическая организация «Магуknoll» и группа левых евангелистов «Sojourners».
Если президентство Рейгана (и неприятие его левоцентристски настроенными гражданами) выпестовало симпатию к Никарагуа, то правление Буша, возможно, приведет к похожему результату, только в более мягком варианте. Растущее недовольство граждан положением дел внутри страны, скорее всего, останется главной причиной восприимчивости к политическим системам, предъявляющим смелые идеалистические требования, и заслужит благосклонность местных общественных критиков, ратующих за скептическое отношение к США.
Остается узнать, повлечет ли за собой прекращение партизанской войны в Никарагуа какие бы то ни было отдаленные последствия для сочувствующих и ее сторонников. Пока война продолжалась, она служила наиболее удовлетворительным объяснением (и оправданием) как ужасных экономических условий, так и господства системы политических репрессий. (В конце
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
31
концов, война охватила всю страну, и ограничение гражданских свобод со стороны властей было оправдано. Что касается экономики, она была разрушена саботажем контрас и истощена: война «съедала» огромные ресурсы). Боевые действия закончились, но экономические условия продолжали катастрофически ухудшаться, едва ли лучше обстояло дело и с соблюдением прав человека — это все же может так или иначе повлиять на стремление идеализировать систему, все еще имеющее место быть. Никарагуа узнала спокойные дни, и осуждать США за вмешательство во внутренние дела Никарагуа (как и утверждать, что никарагуанские власти не несут ответственности за положение дел в стране) стало не так-то просто.
Казалось бы, эти размышления подразумевают, что благожелательное отношение к Никарагуа имеет под собой реальную почву, и, когда она начинает «проседать», восторги умеряются. К сожалению, сведения о паломничествах последних лет бросают тень сомнения на подобные предположения. Например, ревностная поддержка советской системы достигла апогея в период, когда страна жила в наихудших тоталитарных условиях, а сталинский террор приобрел ужасающие масштабы, когда в стране шли показательные судебные процессы и миллионы голодали. Точно так же преклонение перед коммунистическим Китаем проявлялось ярче всего во время безумных кампаний Мао, в том числе Культурной революции, оплаченной колоссальными материальными и человеческими потерями. Ни в том, ни в другом случае объективная реальность не повлияла на формирование отношения к этим государствам и их политическим системам.
Можно предсказать, что, если со временем очарование санди- нистского режима потускнеет или новые пристрастия пересилят старые, появятся другие политические системы или движения, которые будут на тех же основаниях идеализированы — например леворадикальные герильи в Сальвадоре, вне зависимости от того, придут их руководители к власти или нет. Герильи эти уже привлекли красноречивых и хорошо организованных сторонников из голливудских актеров, таких как Эдвард Эснер, который надеется, что они получат власть, и, «ссылаясь на достоверные источники», уверенно утверждает, что «силы восставших являются сейчас в Сальвадоре самой эффективной структурой, посвятившей себя улучшению благосостояния нации».34
Непрекращающиеся излияния дружеских чувств в адрес никарагуанских властей (и сходных антизападных движений в других точках мира) наводят на мысль, что внутри альтернативной культуры время остановилось: сохранился весь комплекс верований, установок и ценностей, которым сопутствуют подозритель-
32
Пол Холланлер
ность, неприятие или враждебность по отношению к американскому обществу, его основным ценностям и институтам. Сторонники альтернативной культуры не задумались над собственной отчужденностью, не пересмотрели свои идеалы в свете изменений, происходящих в социалистическом мире в 1980-х гг., и главным образом после 1985 г., когда к власти пришел Горбачев. Они ухитрились проигнорировать не только бурный прилив откровений, вскрывающих неполадки и трудноизлечимые социальные проблемы этих систем, но и пороки экономической системы социалистических стран как таковой.
Но есть предел как самообману, так и воздействию «чар» искусно организованного обмана, практиковавшегося маркси- стами-ленинцами (см. о «политическом гостеприимстве» ниже) по отношению к тем, кто был склонен восхищаться ими.
Западной интеллигенции потребовалось несколько десятилетий, чтобы начать впитывать факты, обнажающие природу советской системы. Может потребоваться еще больше, чтобы осознать более общую и куда более возмутительную (с их точки зрения) идею, что политические структуры, вдохновляемые марксизмом-ленинизмом, неспособны осуществить мечты западных искателей справедливости, социальной гармонии и самореализации индивидов.
Пол ХОЛЛАНДЕР, Нортгемптон, штат Массачусетс, Март 1989 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Paul Hollander: The Survival of the Adversary Culture: Social Criticism and Political Escapism in American Society, New Brunswick: Transaction Books, 1988.
2. Пример отражения этих проблем в советских СМИ см.: Т. Anthony Jones ed. «Social Deviance and Social Problems», Soviet Sociology, 1989, Vol. 27, № 4.
3. О дискуссии по поводу этого понятия см.: Hollander. Op. cit., р. 10-13.
4. См., например: Thomas Short: «„Diversity“ and „Breaking the Disciplines“», Academic Questions. Summer 1988.
5. И, если Китай больше не провоцировал на восторженные репортажи, это не значит, что общественность обязательно получала информацию о продолжении политики репрессий. Огромным пробелом в информационном плане остается, например, акт массового насилия в Тибете 5 марта 1988 г., когда «...сотни китайских полицейских ворвались в священные коридоры [Храма Джоканг, „наиболее почитаемой святыни современного китайского буддизма“], избив дубинками и застрелив 30 монахов в наказание за невооруженную демонстрацию в поддержку независимости. Сотни монахов и тибетцев-мирян... были арестованы и заключены в местные тюрьмы Лхасы, где они подвергались жестоким избиениям...». См.: J. Michael Luhan. «How the Chinese Rule Tibet», Dissent. Winter 1989. p. 21.
6. Cm.: «Joint Statement by Dr. Cleary and Ms. Meinertz», отрывки из которой приводятся в: Time for Candor: Mainline Churches and Radical Social Witness. Institute for Religion and Democracy, Washington, D. C., 1983, p. 63-67.
7. Octavio Roca, «An Exile’s Home Away from Home», Insight. October 10, 1988, p. 61.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
33
8. Fred Barnes, «The Jackson Tour», New Republic, July 30, 1984, p. 21.
9. См., например: S. L. Nall, «Prisoners Say Cubans Fooled Jackson on Jail», Washington Times, July 2, 1984.
10. Rusty Davenport. «Cuba: A Land of Contrast», Common Ground, Summer 1981. Цит. no: A Time for Candor... p. 85.
11. Time for Candor... p. 81.
12. Цит. no: Joshua Muravchik, «Pliant Protestants», New Republic, June 13, 1983.
13. Time for Candor... p. 90; Alan Riding. «Brazil Cardinal’s Praise of Castro Stirs Protest», NY Times, February 5, 1989, p. 20.
14. «Cuban Prisons: A Preliminary Report», Institute for Policy Studies, Social Justice, Summer 1988, p. 58, 59.
15. Debra Evenson, «„In Cuban Prisons“: An Exchange», NY Review of Books, September 29, 1988.
16. Joseph B. Treaster, «Rights Group Reports Continued Abuses in Cuba», NY Times, January 29, 1988.
17. Cheryl Sullivan, «U.S. Volunteers head for Nicaragua», Christian Science Monitor, June 2, 1987, p. 3-4.
18. Margaret Lobenstein, «Brigada Companeras builds hope», Valley Womens Voice, February 1987.
19. Tom Carson, «The Long Way Back», Village Voice, May 12, 1987. p. 5, 7.
20. Marjorie Miller, «Nicaragua’s Tourism Up Despite War», Los Angeles Times, March 12, 1986.
21. «Sandinista Holiday», New Republic, November 21, 1988.
22. Sullivan. Op. cit., p. 3.
23. Alex Heard, «Inaugural Anthropology», New Republic, February 13, 1989, p. 14.
24. Jim Motavalli, «Ortega Takes Manhattan», Valley Advocate, November 6, 1985; «Sandinista Makes His Case on a Brooklyn Church Visit», NY Times, July 28.
25. Salman Rushdie, The Jaguar Smile: A Nicaraguan Journey, New York: Viking, 1987, p. 12, 32, 36, 63, 70, 96, 119, 170.
26. James LeMoyne, «Three Weeks in Managua», NY Times Book Review, March 18, 1987.
27. Harriet Rohmer, «Managua’s First Book Fair», Publisher’s Weekly, September 4, 1987, p. 19.
28. John Brentlinger, «Needed: a clear impression», The Collegian, November 7, 1985.
29. Carson, Op. cit., p. 28.
30. Steven Donziger, «The Nicaragua Connection», Atlanta, February 1988, p. 99.
31. Lloyd Grove, «Rosario’s Revolution», Vanity Fair, July 1986, p. 58, 98.
32. Gerald Kaufman, «А makeshift toast to Nicaragua Libre», New Statesman, September 11, 1987, p. 16.
33. Ross F. Kinsler, «Observing Nicaragua Through Different Lenses», Monday Morning (журнал пресвитерианского священства), March 10, 1986, p. 16-17.
34. «TV actors attack U.S. over Salvadorian policy». (Associated Press), Daily Hampshire Gazette, February 16, 1982, p. 11.
34
Пол ХолланАвр
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ И ОТЧУЖДЕНИЕ СЕГОДНЯ
(ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1983 г.)
С тех пор как опубликованы «Пилигримы», общественно- политическая ситуация в мире изменилась. Преимуществом второго издания является то, что оно дает мне возможность пересмотреть в свете этого свои прежние взгляды,* ответить на критику и внести в новое предисловие некоторые дополнения.
Отклики, полученные до сих пор, как правило, вызывали у меня двоякую реакцию. Во-первых, мне было приятно внимание критики и ее по большей части благожелательный тон; во-вторых, я жалел, что отзывы в основном охватывали узкий круг проблем, затронутых в книге. Пожертвовав множеством других тем, критики, как правило, дотошно разбирали красочные описания того, в чем проявлялось искаженное восприятие интеллектуалами государств, ими идеализируемых. Лишь у немногих обозревателей нашлось, что сказать о том, что собственно привлекало этих интеллектуалов (хотя я уделил достаточно внимания этим проблемам), или о механизмах и процессах перетекания «домашней» критики своей системы в доверчивость и утверждающий энтузиазм, сопровождавшие зарубежные поездки. Причины отчуждения западных интеллектуалов (разбор этих причин также занимает немало места в книге, поскольку они являются основным и изначальным условием возникновения паломничеств) были проигнорированы. Та же участь постигла и социальный критицизм западных интеллектуалов, направляемый ими на свое же общество, — вызывающая удивление оборотная сторона похвал, которые пилигримы, надев розовые очки, в изобилии расточали в адрес зарубежных альтернатив. Мой анализ общественного положения западных интеллектуалов, позволивший
Материалы настоящего издания не пересматривались мною основательно, так как книга переиздается всего лишь спустя полтора года после первой ее публикации.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
35
объяснить эволюцию их политических установок, также не вызвал серьезных откликов критики, несмотря на то что некоторые обозреватели сочли не совсем понятным, почему столь умные люди могли продемонстрировать такую недальновидность в суждениях. Соответственно, не вызвало и особого интереса сравнительное исследование социально-исторических и культурных условий в Соединенных Штатах и Западной Европе в 1930-х, 1960-х и 1970-х гг. Меня волнует не то, что с этими и прочими разделами книги критики обошлись несправедливо, а что их никак не прокомментировали (или упомянули о них лишь вскользь). Рецензенты были озабочены легковерием интеллектуалов (часто не связывая его с другими проблемами) и техникой приема гостей, призванной сформировать у туристов «правильные» представления и оценки жизни страны, куда они приехали. Надо отметить, что некоторые из механизмов и возникающих вследствие их применения ситуаций могли вызвать ироническую улыбку, что никак не предусматривалось ни хозяевами, ни гостями.
Хотя многие обозреватели сочли «Политических пилигримов» противоречивой книгой, вопреки суждению одного из них, я не был, по крайней мере до сих пор, «обвинен в маккартистском неошовинизме»; не стал я и «мишенью для суда Линча со стороны академических кругов».1 Мимоходом обращу ваше внимание на тот любопытный факт, что ни враждебно настроенные критики, ни читатели не подвергли сомнению мою общую оценку государств, идеализированных пилигримами. Это хотя и не означает, что у таких государств перевелись западные поклонники, но доказывает, что публичная демонстрация такого поклонения уже не вызывает большого уважения.
Я ожидал, что «Политические пилигримы» (издательство «Oxford University Press», 1981) вызовут больше споров и враждебных отзывов, чем оказалось на самом деле. Когда книга широко обсуждалась в печати, отрицательных или неблагожелательных рецензий появилось лишь несколько. Я удивился, учитывая резкость и направленность критики многих влиятельных западных интеллектуалов, включая известных писателей, знаменитых ученых, журналистов и художников. В предисловии к изданию в твердой обложке я написал, что «большая часть собранной информации, записанных наблюдений и выводов все еще противоречит ведущему настрою достаточно большой части американского (и западноевропейского) интеллектуального сообщества». И хотя я до сих пор верю, что дело именно в этом, в рецензиях такой настрой проявляется редко. Очевидно, была принята с готовностью и стала центром внимания критики лишь
36
Пол Холланлер
одна из идей книги — идея, что установки многих западных интеллектуалов становились в этих поездках благодатной почвой для семян обмана, брошенных принимающей стороной. Но если политические заблуждения этих интеллектуалов охотно признавались, гораздо меньше внимания уделялось оборотной стороне медали — их отчуждению от родного общества, что явилось фундаментальной предпосылкой для появления паломничеств и тянущегося за ними шлейфа заблуждений. Лишь немногие критики заметили важность отчуждения, маячащего на заднем фоне, и еще меньше рецензентов задались вопросом, оправдано ли столь активное неприятие западных обществ и каковы глубинные мотивы социальной критики и демонстративного отчуждения. Можно ли списать подобное отношение на видимые пороки общественных институтов или на депрессию, вызванную потерей цели жизни и разобщенностью людей в западных странах? Если да, то какова степень «вины» каждого из этих факторов?
В книге «Политические пилигримы» многие интеллектуалы критикуются не только из-за их паломничеств и бездумных суждений о Советском Союзе времен Сталина или Китае Мао. В ней также критически рассматривается и феномен отчуждения в целом. Мне кажется, именно этот аспект книги либо был проигнорирован, либо, будучи замеченным, вызвал наибольшее неприятие. В общем, если судить по тому, как приняла книгу общественность, можно сделать такой вывод: чем сильнее западная интеллигенция проникается мыслью, что в прошлом она неверно оценивала общества, провозглашавшие себя социалистическими, тем труднее становится допустить, что мы пока не избавились от склонности к подобным ложным оценкам, поскольку питающее пилигримов чувство отчужденности до сих пор разлагающе влияет на их способность критически осмыслить притязания некоторых государств.
Основная претензия к книге (периодически повторяющаяся в рецензиях), которую сформулировал Артур Шлезингер младший, заключается в том, что я неправомерно распространил мнение небольшой, нерепрезентативной группы интеллектуалов на всех интеллектуалов; что я «часть [подменил] целым» и, «еще более опрометчиво», выдвинул тезис, что «все интеллектуалы вожделеют к мирскому эквиваленту религии». Профессор Шлезингер также предположил, что моей целью было «поношение интеллектуалов как класса».2 К тому же он поставил мне в вину допущение, что неоправданно резкая социальная критика (названная мною постоянным оскорблением общества) может иметь нежелательные кумулятивные последствия, — мнение, которое
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
37
он истолковал как оппозиционное социальной критике как таковой. Я ответил письмом в разделе книжного обозрения газеты «New York Times», которое, наверное, стоит процитировать:
Не было ничего необычного в том, что я определил современных интеллектуалов через их антагонизм по отношению к обществу, в котором они живут... Что касается чрезмерной универсализации «части целого», в мои намерения не входило «исследование разновидностей интеллектуального опыта». Напротив, я хотел рассмотреть отношение между отчуждением и стремлением к утопизму и колебанием критических и некритических импульсов среди известных групп интеллектуалов. Моя позиция заключалась в том, что «значительная часть западных интеллектуалов, в особенности наиболее известных и влиятельных, в тот или иной период демонстрировала отчужденность от собственного общества в сочетании с благорасположением и надеждой в отношении определенных ... революционных обществ. По всей вероятности, такие интеллектуалы составляют меньшинство среди тех, кого называют „западными интеллектуалами“, но определенно значимое меньшинство, чей голос весом» ... (С. IX).
Я задавался целью не «поносить интеллектуалов как класс», а пересмотреть некоторые преобладающие их идеи. Я критиковал не их нападки на власть, а их отказ применить критические способности, их безразличие к преимуществам политического плюрализма и, главным образом, к интеллектуальной свободе. Я отмечал — следуя за утверждением Эмиля Дюркгейма («общество... прежде всего является представлением, которое оно формирует о самом себе») — что такие идеи в этой стране действовали какое-то время слишком разрушительно и что это трудное положение, в котором виноваты многие интеллектуалы. Подобный взгляд нельзя назвать несовместимым с идеей критики несправедливости в собственном обществе. Существует что-то еще между восхвалением общества и его рефлексивной дискредитацией.
В целом, работая над книгой, я надеялся, «напомнив об очевидной неправомерности политических суждений прошлого, стимулировать способность некоторых западных интеллектуалов осознавать достоинства и недостатки различных политических систем».3
Профессор Шлезингер, как и некоторые другие рецензенты, отметил, что я обошел вниманием тех интеллектуалов, которые не проявили легковерия и, побывав в СССР, критически оценивали советскую систему, — таких как Андре Жид, Бертран Рассел, Малькольм Магеридж. Мне прекрасно известны высказывания этих деятелей, и я цитировал их в разных контекстах. Но они оказались в меньшинстве, у большинства же посещение Советского Союза не вызвало отрицательной реакции (или вызвало, но с большим опозданием, через годы, что связано с общей переоценкой советской — или всей коммунистической — системы). Это, однако, не ответ на поднятый некоторыми критиками вопрос — почему одних интеллектуалов политические паломничества влекли сильнее, чем других?
Я и не стремился ответить на него. Моя книга основывалась на посылке, что описываемый феномен был довольно широко распространен в определенные периоды времени и что интеллектуалы, захваченные идеей паломничеств, не были тем эксцентричным, инакомыслящим меньшинством, чье поведение требовало специального пояснения, расходясь с поведением более
38
Пол Холланлер
трезвого большинства. Более того, я говорил только о тех интеллектуалах, которые описывали собственные впечатления; несомненно, многие другие ездили в интересующие нас страны и возвращались оттуда не такими уж очарованными, не утруждая себя, однако, письменным изложением собственных иллюзий или ощущений от их утраты. У нас нет возможности узнать, сколько могло быть таких людей. Одно мы можем утверждать вполне: на каждого Андре Жида приходилось десять Б. Шоу, если не больше. Конечно, было бы интересно выяснить, почему некоторые западные интеллектуалы 1930-х гг. не желали стать просоветски ориентированными и почему другие в 1960-е гг. не пускали в ход собственные критические способности, когда речь заходила о Кубе, Китае или Северном Вьетнаме. Интеллектуалы, не поддавшиеся чувству симпатии, преобладающему в обществе по отношению к этим странам (или, по крайней мере, не считавшие их идеальность аксиомой), составляли, мне кажется, меньшинство или, возможно, «молчаливое большинство». Верно ли это, — способа узнать у нас нет, раз мы можем судить о таких установках только на основании их публичного или письменного выражения.* Атмосфера тех лет и умонастроения в этих государствах формировались под воздействием красноречивых «пилигримов», действительных или потенциальных, несмотря на то что многие из них со временем перестали преклоняться перед этими странами.
На вопрос, почему одни становились пилигримами, а другие нет, можно рискнуть дать лишь один ответ: чем больше западный интеллектуал был отчужден от своего общества, тем больше вероятность того, что он в конце концов начал поклоняться другим общественно-политическим системам, альтернативным его собственной. Тогда закономерно возникает другой вопрос: почему одни интеллектуалы более отчуждены, чем другие, и почему некоторые не отчуждены вовсе (если, конечно, это совместимо с понятием об истинном интеллектуале)? В «Политических пилигримах» я не пытался ответить на этот вопрос. Однако, работая над книгой, я исходил из очевидного наблюдения, что отчуждение захватило многих (степень его и продолжительность варьировались) и что такое положение вещей часто приводит к идеализации других общественных устройств.
* Опросы общественного мнения теоретически могли бы пролить свет на эти проблемы, но я не знаком ни с одним, специально ориентированным на «интеллектуалов» (в отличие, скажем, от ориентированных на ученых или представителей других профессий). Об опросах, посвященных отношению к Советскому Союзу в 1930-е гг., к Кубе, Китаю и Северному Вьетнаму в 1960-е и 1970-е гг., я вообще не слышал.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
39
Еще один критик посчитал, что не только моя выборка интеллектуалов непредставительна, но и многих из тех, на кого я ссылаюсь, вообще нельзя считать интеллектуалами.4 Возражая мне, он утверждал, что людям «с истинно высоким уровнем интеллекта» удалось избежать заблуждений, которые я им приписал. Хотя это явно не так (как доказывается в книге), я не могу отрицать, что в мой список интеллектуалов вошли и не самые лучшие образцы. Безусловно, Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Пабло Неруда, Джулиан Хаксли, Джордж Бернард Шоу, Эдмунд Уилсон или Ноам Хомский — яркие, выдающиеся интеллектуалы, сильнее повлиявшие на наш образ мышления, чем, скажем, Дэниэл Берриган, Ховард Брюс Франклин, Том Хейден, Хьюи Ньютон, Уильям Кюнстлер или Стотон Линд. Тем не менее, что бы ни думали о качестве суждений или творческих достижениях последних, они все же являются интеллектуалами согласно общепринятым (и обсуждаемым в книге) критериям. Да, я по случаю цитировал нескольких маргинальных или квазиинтеллектуалов (например, Джерри Рубина, Джейн Фонда или членов бригады Venceremos), но каждый раз аргументировал обращение к их взглядам. В любом случае, я смог бы «причесать» книгу, удалив ссылки на подобные сомнительные или маргинальные источники, без ущерба для ее сути и выдвинутых соображений. Соответственно, не будет проблемой заменить их на мнения других интеллектуалов — с безупречными рекомендациями, но выражающих сходные точки зрения и занимающих аналогичные позиции.
В остальном благожелательный, критик Леонард Шапиро решил, что я закрыл глаза на «очевидную нечестность» мотивов некоторых путешественников,5 которые знали то, о чем не позволяли догадываться их чрезмерно лестные похвалы. Навряд ли так бывало часто, и в любом случае трудно понять, когда же дело обстояло именно так. Но даже если «нечестность» мотивов и имела место, я подозреваю, что сквозь фальсификацию все равно просвечивал искаженный идеализм; Советский Союз (или Китай, Куба и т. д.) рассматривались как высшие общества: «бородавки» и «пятна» на их телах не должны были приуменьшать их «основополагающее», «сущностное» превосходство.
В целом у меня сложилось впечатление, что источник некоторых критических отзывов о «Политических пилигримах» — ощущение, будто эта книга из рода тех, которые призваны успокоить реакционеров, правых, старых или новых консерваторов, указать им цель. Это, конечно, может быть правдой, но, попытайся я избежать сходных побочных последствий путем «сгла¬
40
Пол Холландер
живания углов» основной идеи, я встал бы на позицию, аналогичную позиции многих путешественников и паломников (а ее то я как раз и критиковал), которые, как выяснилось позже, не говорили правду, опасаясь быть обвиненными в поддержке дискредитировавших себя политических группировок и в сотрудничестве с ними.
•к к к
Критик Ричард Греньер,6 автор одного из тех отзывов, которые сильнее других заставляют задуматься, обратил внимание на контраст между поведением пилигримов 1930-х гг. и пилигримов последнего поколения 1960-х и 70-х гг. Если первые (такие как Говард Фаст, Жид, Кёстлер, Мальро, Силон и им подобные), лишившись иллюзий, серьезно задумались и начали самокритично анализировать, почему же им не удалось распознать истинную сущность советской системы, большинство поклонников Кубы, Китая или коммунистического Вьетнама не предпринимают подобных интеллектуальных усилий. («Сегодняшние политические пилигримы не считают себя ответственными за свои прежние заблуждения».) Если самокритика и имела место, то она всегда была осторожной, с оговорками и, в любом случае, редкой.7
Ранее я не останавливался на этом важном различии, поэтому теперь пользуюсь возможностью предположить, каковы же его причины. Прежде всего, я думаю, что просоветски настроенные энтузиасты, радикально пересмотревшие собственные взгляды, долгое время сталкивались с такой мощной волной свидетельств, дискредитирующих советский режим, что их прежняя позиция стала казаться особенно постыдной и неуместной, а это создавало серьезные основания для ее пересмотра. Материалы (объем их столь же впечатляющ), которые разоблачают государства, идеализируемые в последнее время, недоступны широкой общественности, хотя и быстро накапливаются. Однако это не вполне исчерпывающее объяснение, ибо поклонники Советского Союза устояли перед накатывающими одна за другой волнами разоблачающих откровений.8 Новые свидетельства сами по себе не объясняют ни то, когда и почему происходят перемены в сознании, ни желание (или нежелание) открыто заявить о таких переменах. Мне кажется, что, во всяком случае в США, главной помехой для публичного анализа своего отношения к Кубе, Китаю и Вьетнаму служила постоянная боязнь получить на лоб клеймо антикоммуниста. В кругу интеллигенции антикоммунизм оценивается резко отрицательно, и такое к нему отношение практически неискоренимо, — здесь Джозеф Маккарти хорошо
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
41
постарался. Поэтому подобный анализ в наше время противен многим интеллектуалам, особенно с тех пор как то, что я назвал субкультурой отчуждения, уже не требует непременно критиковать коммунистические режимы и с легкостью прощает ошибочную их оценку. Такие ошибки лишь показывают, что сердца сочувствующих «со-чувствовали», как и положено сердцам, или же витали в эмпиреях собственного идеализма. Альтернативная культура озабочена недостатками своего общества, поэтому критика других государств для нее неактуальна. Похоже, немного репутаций пострадало из-за высказываний, даже самых нелепых, по поводу Китая, Кубы, Вьетнама или третьего мира. Во многих кругах прощается «мягкость» по отношению к этим режимам, но не по отношению к Соединенным Штатам.*
Итак, многих современных пилигримов отчуждение освобождает от необходимости самокритики, ибо гарантирует искупление или отпущение «грехов», иными словами, одно лишь неприятие ими (вне всякой связи с неверной оценкой других обществ) собственного общества вполне оправдывает их идеализм.
Большинство обозревателей, кажется, не склонны задумываться, какие выводы можно (и можно ли) извлечь из этих паломничеств. И это, как любят говорить наши советские друзья, не случайно. Как только мы начинаем задумываться над уроками истории, мы тут же должны говорить об отчуждении: к западным интеллектуалам до сих пор предъявляется требование (добровольно, кстати, ими признаваемое), чтобы они — в той или иной степени, в том или ином виде, — но были отчуждены от общества. Некоторые критики спрашивают, может ли такое произойти вновь? Каким образом интеллектуалы могут хранить «как зеницу ока» целостность своего критического взгляда (которую Сталин сравнил по важности со сплоченностью партии)? В какой же ситуации нужно оказаться или какую следует предотвратить, чтобы избавить интеллектуалов от подобных когнитивных и этических затруднений, настоящих несчастий? Ввиду деликатности темы немного было сказано и выдвинуто гипотез о связи между отчуждением, с одной стороны, и двойными стандартами и расщеплением способности критически мыслить — с другой. Нечасто обсуждался и вопрос, почему интеллектуалы не вняли урокам истории, ведь всего лишь два десятилетия спустя после разоблачения паломничеств в Советский Союз они пусти-
Примерами тому могут служить враждебный прием, оказанный Сюзан Зонтаг, — следствие переоценки ею своих взглядов, и ее разоблачения (носившие ритуальный характер) американской внешней политики и администрации Рейгана (после кризиса в обществе левых идей она занялась критикой коммунистических систем на примере Польши).9
42
Пол XолландеР
лись в новые, родственные по духу, — на Кубу, в Китай и Вьетнам. Еще поразительнее, что сразу за этой второй волной пилигримов, наступая им на пятки, уже накатывает еще одна: толпы пилигримов бросаются в Никарагуа или в объятия многочисленных марксистско-ленинских герилий в Центральной Америке и других странах третьего мира.
Активное отчуждение — единственный действенный фактор, во все периоды провоцировавший паломничества и сопутствующее им разрушение целостности критического взгляда; пока существует отчуждение, эмоции будут властвовать над разумом. Причина этого — отрицание собственного общества, ведущее к такой злобе, отчаянию и враждебности (или влекущее их за собой), что возникает крайняя необходимость отыскать альтернативу социальной системе, в которой живет критикующий, — отсюда обострение восприимчивости к призывам других общественных систем, противостоящих той, которую он так презирает.
Представляется, что сегодня политические пристрастия западных интеллектуалов, отчужденных от своих обществ, отличаются большей разбросанностью.10 С одной стороны, нерасчленяе- мое и аморфное образование под названием «третий мир» продолжает вызывать благоговение, в основном потому, что рассматривается этими интеллектуалами как жертва Запада, то есть их собственного общества. Однако в целом эти рассеянные политические симпатии уступают по остроте и пылу прежним, свойственным предыдущей волне преклонения перед Советским Союзом, Китаем или Кубой в истинно революционные периоды.
Вдобавок к тому, что существует отчасти поверхностное благоговение перед третьим миром как неким непонятным целым, явственно обозначился и центр современных политических предпочтений — это Никарагуа и герильи Сальвадора, — вожделенные объекты идеализации. («...В каждый конкретный момент времени должно существовать хотя бы одно всеми признанное левое повстанческое движение, и тогда такое движение имело место в Сальвадоре», или, как выразился Уолтер Гудмен, «...верующие воистину нуждаются в объекте поклонения, к которому вера их могла бы прилепиться».)11 Герильи Сальвадора тем более привлекательны, что до сих пор олицетворяют революционные надежды и чуть ли не возможность их осуществления и не запятнаны связями с реалиями существующего порядка. Что касается Никарагуа, она превратилась (как я уже писал в предисловии к первому изданию) в «исключительно сильного конкурента на рынке революционных обещаний и непорочности». Так, например, Рэмси Кларк, не обнаруживший в 1974 г., во время своего визита, внутреннего конфликта в Северном Вьетнаме и ощутивший
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
43
«единство духа», рапортовал из Никарагуа: «Вы не найдете в нашу эпоху другого революционного движения, столь приверженного борьбе за права человека».12 Другие сочувствующие наблюдатели ревностно обосновывали отказ нового никарагуанского правительства проводить выборы,13 а поклонник Кубы со стажем, Сол Ландау, помогал организовать на общественном телевидении программу-панегирик этому решению.14 Не только многие американские интеллектуалы и студенты объединились вокруг этого последнего воплощения революционных надежд: «Манагуа сегодня заполнено армией румяных юнцов с рюкзаками, в шортах и туристских ботинках. Это левые студенты, приехали сюда из Европы на каникулы, чтобы своими глазами увидеть революцию».15 Корреспондент «New York Times» озаглавил свою сочувственную статью «Никарагуанская революция ломает устои».16
Сальвадорские герильи и их победоносные братья в Никарагуа вновь зажгли огонь воспоминаний, образов и ассоциаций, связанных с Вьетнамом. Как и Вьетконг, центральноамериканские герильи представлялись героическими, популярными в народе, альтруистическими, а их участники — идеалистами высшей пробы, борющимися с порочными, коррумпированными, непопулярными режимами. Конечно, определенные параллели с Вьетнамом прослеживались, хотя и не обязательно те, которые проводили и подчеркивали сторонники сальвадорских герилий. В 1960-е гг., как и в начале 1980-х, протест против американского вмешательства произрастал не только из антипатии к США, которые «завязли» в отдаленной части мира, где «нам нечего было делать» (в конце концов, Сальвадор был гораздо ближе Индокитая), но из симпатий к герильям. Их сторонники, как и сторонники Вьетконга, желали им победы. В начале 1980-х, как и в конце 1960-х, почти любое движение или режим, активно выступавшие против внешней политики и влияния США, — к ним относились не только правительство Никарагуа и герильи Сальвадора, но и Организация Освобождения Палестины и режим Хомейни в Иране, — тепло принимались и поддерживались отчужденными интеллектуалами.17
Прослеживаются параллели и в отношении прессы к герильям Центральной Америки и Индокитая. Зверства воевавших против них получили широкую огласку, а вот информация о жестокости герильи была весьма скудной. И в далеком, и в недалеком прошлом утверждения по поводу иностранной помощи отвергались и высмеивались: герильи Центральной Америки совершенно самостоятельны и автономны; Куба или Советский Союз никому не помогали, а если и помогали, то размеры этой помощи были сильно раздуты, — короче говоря, ее выдумал
44
Пол Холланлер
Государственный департамент, как и помощь Северного Вьетнама Вьетконгу (а также советскую и китайскую помощь Северному Вьетнаму) — она, как правило, либо вообще не упоминалась, либо ее сводили к пустякам.
Какова бы ни была природа этих совпадений, основные линии преемственности в истории политических паломничеств следует искать не в симпатии к отдельным государствам или зарубежным политическим движениям, — она обычно преходяща, но прежде всего в живучести отчуждения, вдохновляющего пилигримов. Можно доказать, что за последнее время отчуждение и общественная критика вновь обострились в США благодаря республиканской администрации и ее действиям в области внутренней и внешней политики. Можно также объяснить, хотя бы отчасти, недавний подъем движения противников ядерного оружия (или движения за замораживание ядерного оружия) протестом и неприятием политики и ценностей администрации Рейгана или протестом против угрозы ядерного уничтожения per se.* Отчуждение от господствующего общественного порядка отражается в крайних предположениях, которые выдвигают многие адепты нового антиядерного движения, когда воскрешается настроение «лучше быть красным, чем мертвым».**
С недоверием к собственному обществу, которое проявляют многие стойкие адепты антиядерных движений, резко контрастирует милостивое, основанное на презумпции невиновности отношение к СССР, который, по мнению протестующих, более искренен в вопросе о разоружении и представляет меньшую угрозу, несмотря на все имеющееся у него ядерное и обычное оружие. В частности, западноевропейские движения за разоружение как будто не чувствуют никаких опасений по поводу советских ракет средней дальности, уже установленных и нацеленных на их государства, однако их охватывает крайнее беспокойство при мысли об американских ракетах, которые предполагается разместить на территориях этих западноевропейских государств.18 Также было высказано предположение, что «возможно, недавнее возрождение массового унилатерализма, столь напоминающего радикальные массовые религиозные движения средних веков, следует рассматривать как операцию духовного характера в ожидании прихода нового тоталитарного мессии».19
* Само по себе; по сути, непосредственно (лат.). — Примеч. переводчика.
** Схожие выражения отчуждения можно найти также в том, с какой поспешностью средства массовой информации и антивоенные организации нахлобучивают лавровый венок на голову первому же, о ком станет известно, что он уклоняется от службы в армии (см.: Draft Evader Wins Indictment and Celebrity, New York Times, July 14, 1982).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
45
Я уверен, что подобно тому как движение против войны во Вьетнаме раскупорило явно или скрыто существовавшие ранее сосуды отчуждения и общественной критики, так и протест против помощи США режиму в Сальвадоре (даже возглавляемому умеренным лидером христианских демократов Дуарте) и выступления против западного, по преимуществу ядерного, оружия имеют те же корни.
Есть сходство и преемственность не только между общими предрасположенностями и установками отчуждения, скрытыми за протестами и паломничествами, но и между разными видами политического туризма, их организации, а в некоторых случаях и влияния. Другими словами, политический туризм все еще процветает и его устроители надеются собрать урожай. Нью-йоркская туристическая компания «Guardian Tours» (связанная с радикальным еженедельником «TheGuardian») организует поездки на Кубу, во Вьетнам, Гренаду, Никарагуа, которые, судя по проспектам, в точности повторяют сценарии, рассматриваемые мной в «Политических пилигримах».20 Журнал «Nation» выступал одним из спонсоров поездок в СССР, предлагавших путешественнику «самому узнать, что происходит в Советском Союзе... каждую ночь — встречи с ведущими американскими и советскими специалистами... расслабиться в уютной и товарищеской обстановке... посетить место рождения Ленина...».21 Неопросветители — организаторы туров на Кубу, устраиваемых «в пользу» студентов колледжей, также обещали: «Поездка на Кубу позволяет увидеть самому» и предлагали совместить удовольствие от отдыха на Карибском море с посещением Музея кампании по ликвидации безграмотности и встречами с африканскими учащимися на острове Хувентуд.22
Самым ярким, из недавних, примером манипулирования впечатлениями гостей, приносящего особенно богатый урожай хозяевам, стал визит преподобного Билли Грэма в Советский Союз в мае 1982 г. Его визит обнаруживает несколько поразительно сходных черт с поездками многочисленных священников, интеллектуалов и политиков, которые совершали кратковременные вылазки в СССР, либо движимые идеалистическими побуждениями, либо руководствуясь прагматическими политическими целями. Как и другие до него, Билли Грэм казался уверенным в том, что для каких бы собственных целей ни использовала его принимающая сторона, он тоже использовал ее для своих. («Я понимаю, что меня могут использовать в пропагандистских целях... но я верю, что моя пропаганда, Евангелие Христа, действеннее».) По возвращении он удовлетворенно отметил в том же духе, что, хотя его поездка и вызвала споры, она «позволила собирать большие толпы» в США. И, как это часто случается, его
46
Пол Холландер
уступчивость по отношению к советскому правительству тоже мотивировалась желанием приехать еще раз («его помощники заявили, что евангелист был предусмотрителен в надежде когда- нибудь вернуться в Советский Союз»).23
Наиболее поразительным и, пожалуй, единственным существенным отличием прошлых поездок и рассказов прелатов и преподобного Билли Грэма является то, что первые, одалживавшие себя советской пропаганде, обычно приезжали в СССР с явно благожелательным настроем (например, Хьюлетт Джонсон, настоятель Кентерберийского собора, или Шервуд Эдди, глава американских протестантов), в противоположность антикоммунистическим верительным грамотам Билли Грэма.
Главным сходством между высказываниями Билли Грэма и знаменитостей прошлого было полное отсутствие сдержанности при обобщениях, базирующихся на поразительно ограниченном опыте — результате высокопрофессиональных манипуляций (Билли Грэм не заметил «признаков религиозных репрессий», — неужели он ожидал, что его пригласят в путешествие по лагерям, где сидят баптисты?). Джордж Бернард Шоу тоже не обнаружил недостатка продовольствия в 1931 г. в первоклассном ресторане, куда его водили тактичные хозяева. Ситуация переходит в фарс, когда Билли Грэм отзывается в том же духе о еде: «Предложенные блюда были из лучших, которые я когда-либо ел»; и еще где-то: «В Соединенных Штатах, чтобы есть черную икру, надо быть миллионером, но я ел икру почти во время каждой трапезы» (будучи в СССР).24
Это замечание говорит еще об одном сходстве в схеме отзывов об обслуживании У1Р’ов в прошлом и настоящем. Очевидно, что техника гостеприимства (включающая регулярные и обильные поставки черной икры и прочих высококачественных продуктов) работает во многих, если не во всех, случаях. Преподобный явно был тронут встречей его как главного духовного лица и уважаемого гостя, и, вероятно, ежедневные порции черной икры внесли свой вклад в формирование благоприятного впечатления, которым он с такой готовностью делился с принимавшими его хозяевами и всем миром. Самое же главное, он был готов без колебаний присоединиться к односторонней и фанатичной пропагандистской кампании «за мир», проводимой Советским Союзом. Принимающая сторона также умудрилась убедить его снять с советского режима все обвинения в антирелигиозной политике и преследованиях; Грэм даже нашел возможным сравнить степень религиозной свободы и участия граждан в церковной жизни в США и СССР.25 Это можно считать великими достижениями советской стороны, особенно учитывая, что Билли Грэм, будучи баптистом, мог быть лично обеспокоен или хотя бы заинтересован судьбой
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
47
этой религиозной группы в СССР, жестоко преследовавшейся в последние годы. В конечном счете, трудно решить, что за смесь неведения, тщеславия, оппортунизма и сознательного отрицания реальности привела к подобным взглядам и нелепо однообразным высказываниям, сделавшим поездку преподобного Билли Грэма запоминающейся и удручающей одновременно.
Случай с Билли Грэмом является иллюстрацией скорее могущества техники гостеприимства и политического оппортунизма, чем погони за политическими идеалами в далекой, загадочно привлекательной стране. Как отмечалось выше, истинные политические пилигримы последних лет избегают СССР; их цель — третий мир. Но дело не в том, куда едут эти люди, а в том, что жажда отправиться в политическое турне, политическое паломничество не угасла до сих пор. Их увлечение этими государствами, более или менее скоротечное, есть противовес разочарованию и горечи в отношении к собственному обществу. Для многих таких интеллектуалов роль социального критика дома стала главным основанием личной, профессиональной и этической самоидентификации, дающим возможность обрести чувство собственной добродетельности и правоты. Чем глубже человек осознает порочность и несправедливость окружающего мира, тем сильнее в нем ощущение, что он не является частью этого мира; показывать пальцем на зло — не только социальная функция, но и источник глубокого личного удовлетворения. Парадокс нашего времени состоит в том, что для многих интеллектуалов такая позиция и образ действия продолжают оставаться строго ограниченными и односторонними.
Хотя более полное представление об отдаленных странах, идеализируемых пилигримами, могло бы уничтожить их привлекательность (как это иногда и случается), такая информация — даже после ее обнародования — имеет тенденцию быть нейтрализованной пороками собственного общества, которые хорошо знакомы и принимаются близко к сердцу. Интеллектуалы, как и большинство людей, могут по-настоящему разочароваться только в том, что им известно. Это простое наблюдение до сих пор объясняет сохраняющуюся связь между политическим разочарованием и политическими мечтаниями западных интеллектуалов.
Июль 1982 г.
П.Х.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Gladwin Hill, Los Angeles Times, November 1, 1981.
2. New York Times Booh Review, October 11, 1981.
3. New York Times Book Review, November 8, 1981.
4. The New Leader, November 30, 1981.
5. Commentary, December 1981.
6. The New Republic, January 27, 1982.
48
Пол Холланлвр
7. См. сноски в настоящем предисловии, касающиеся высказываний Сюзан Зонтаг (о Кубе и Вьетнаме), Мэри Маккарти (о Вьетнаме) и Джонатана Мирски и Орвила Шелла о Китае. Зонтаг и Маккарти входили в число тех, кто довольно осторожно пересматривал свои взгляды на упомянутые страны, Мирски же и Шелл пересмотрели их радикально. Джон Кинг Фэрбэнк, известный синолог, явно не воспользовался представившейся ему возможностью в своих воспоминаниях произвести «переоценку ценностей» в отношении Китая Мао. (См., например: John Fraser. «The Mandarin of Chinese Studies*, Washington Post, February 14, 1982; Miriam and Ivan D. London. «Peking Duck», The American Spectator, July 1982.)
8. Позиция Корлиса Ламонта — показательный пример подобной стойкости. См.: Paul Hollander. «Selective Affinities», The New Republic, October 18, 1982.
9. Ее заметки и относящиеся к ним несколько письменных критических замечаний были опубликованы в «The Nation» под заголовком «Communism and the Left», February 27, 1982. См. также: Peter Shaw, and Seymour Martin Lipset. Two afterthoughts on Susan Sontag, Encounter, June-July 1982.
10. Некоторые из обсуждаемых ниже вопросов тесно соприкасаются с выводами, сделанными мною в сборнике эссе «The Faces of Socialism — Essays in Comparative Sociology and Politics* (New Brunswick, 1983).
11. Peter Shaw in Encounter, p. 40; Walter Goodman. «Hard to digest», Harper’s, June 1982, p. 67.
12. См. стр. 371 настоящего издания; его высказывания о Никарагуа цитируются также в: George F. Will. «Again, the Fact Finders», Newsweek, March 1, 1982.
13. См., например: Eldon Kenworthy. «Troubled Nicaragua», The New York Times, February 18, 1982.
14. Contentions, April-May, 1982, p. 2; см. также: «Nicaragua Film on PBS Is Called „Propaganda“», New York Times, April 9, 1982. В пример можно привести Беркли (штат Калифорния). Публикацию, посвященную восхвалению марксистско-ленинской Никарагуа, см. в «Nicaraguan Perspectives* (например, Fall 1981). Раз издатели поблагодарили «Отдел совместных проектов Калифорнийского университета в Беркли за то, что он поддерживал и вдохновлял этот проект», то можно предположить, как и в случае с программой на общественном телевидении, что деньги налогоплательщиков были вложены в проникарагуанскую пропаганду.
15. Warren Hoge. «Nicaraguan Scene: Fiery Slogans, Designer Jeans», The New York Times, January 6, 1982.
16. Warren Hoge. «Nicaragua’s Revolution Breaks the Mold», New York Times, December 30, 1981.
17. Например, Рэмси Кларк сочувствовал не только режимам Северного Вьетнама и аятоллы Хомейни (см. стр. 135, 370), — позднее он с дружескими визитами посещал в Бейруте лидера ООП Арафата. (См.: Bernard Weintraub. «Israelis Charge Palestinian Use of Mercenaries», New York Times, July 11, 1982. В этой статье цитируются захваченные израильскими военными документы, в которых Арафат множество раз ссылается на визит Кларка и его дружеское расположение.)
18. См. также: Vladimir Bukovsky. «The Peace Movement and the Soviet Union», Commentary, May 1982.
19. Paul Johnson. «Through Pink-Coloured Spectacles», Times [London] Literary Supplement, December 25, 1981, p. 1486.
20. «New Destinations», New York Times, September 21, 1981.
21. По сообщению в: «Washington diarist», The New Republic, March 31, 1982.
22. «Cuba Trip Allows One to See for Self», Massachusetts Daily Collegian, March 9, 1982.
23. «Mission in Moscow», The New York Times, May 17, 1982; «Graham Says Soviet Trip Increased His Crowds», The New York Times, May 28, 1982; «Graham Preaches at Church in Moscow», The New York Times, May 10, 1982.
24. «Graham Offers Positive View of Religion in Soviet», The New York Times, May 13, 1982; см. также: «Billy Graham Rebuffs Criticism of Soviet Trip», The New York Times, May 18, 1982; «Billy Graham, Back Home, Defends Remarks», The New York Times, May 20, 1982.
25. Cm.: The New York Times, May 18, 1982.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
49
ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1981 г.
В конце 1960-х гг. я впервые задумал написать что-нибудь о тоталитарных обществах на основе свидетельств иностранных визитеров. Такие путевые заметки, подумал я, могли бы быть интересным материалом «из первых рук» о полностью засекреченных, «закрытых» обществах, которые правдивой информации о себе выдают очень мало.
Немного потребовалось времени для осознания того, что из путевых заметок, описывающих эти общества, скорее, можно больше узнать о намерениях их авторов, чем о собственно самих странах. Постепенно мои интересы переместились на социальные роли и политические установки западных интеллектуалов, многие из которых входили в число авторов подобных «записок путешественников». В конце концов мои интересы сплавились и кристаллизовались в сильное желание лучше понять многоплановые отношения между западными интеллектуалами, политиками и моралью.
Феномен политического паломничества — иначе говоря, феномен пропитанных духом благоговения поездок в политически привлекательные страны, что стало чрезвычайно популярно в нашем веке, — сделал возможным объединить интересующие меня явления и выстроить из них логически связанную концепцию. Я выбрал период времени в 50 лет — с 1928 по 1978 г., что обеспечило достаточно широкие перспективы, чтобы пронаблюдать взлеты и падения различных паломничеств и лежащий в их основе энтузиазм по отношению к разным политическим системам, подвигающим на такие путешествия. В начале рассматриваемого хронологического периода, в 1928-1929 гг., случился всплеск интереса к Советскому Союзу; в конце его, полвека
50
Пол Холланлер
спустя, к 1976-1978 гг., похожая волна интереса медленно сползала уже с берегов Китая, наиболее популярной в последнее время цели политических паломничеств.
Хотя впервые я занялся этой темой еще в конце 1960-х гг., только в 1973 г. я начал работать над книгой. Прошли годы, и она стала — и, вероятно, это неизбежно, учитывая объект анализа, — сочетанием истории мысли, социальной психологии и исследованием социологических корней идей. Не считая ее, у меня опубликован лишь фрагмент работы на данную тему — статья 1973 г., озаглавленная «Идеологический пилигрим — вчера и сегодня».
Мне кажется, что большая часть собранной инфюрмации, задокументированных точек зрения и выводов, сделанных здесь, до сих пор «гладят против шерсти» довольно значительную часть американского (и западноевропейского) интеллектуального сообщества, придерживающегося, в основном, вполне определенных позиций. Более того, я ссылался, критикуя их, на мнения конкретных людей (многие из них — фигуры хорошо известные, с солидными репутациями), от которых нельзя ждать аплодисментов красочным напоминаниям об их высказываниях, поскольку они, возможно, предпочли бы их забыть. У тех же, кто с прежним энтузиазмом смотрит на свои паломничества, тем более найдется что возразить. Так, будет честным признать, что большинство бывших пилигримов, каковы бы ни были их цели, не отнесутся к моей книге как к возможности публично пересмотреть свои прежние обязательства и присоединиться к автору, чтобы прозондировать политические и психологические корни своих верований. Это, конечно, сугубо человеческое свойство — не задумываться над прошлыми ошибками и неохотно отказываться от ценностей и суждений, которые отражают многолетние и существенные затраты психической и интеллектуальной энергии.
В то же время люди не обязательно склонны отказываться пересматривать свои прошлые привязанности или отстаивать свои политические убеждения любой ценой, невзирая на все новые доказательства и опыт. Многие «пилигримы», упоминающиеся в этой книге, возможно и перестали восхищаться обществами, перед которыми ранее преклонялись, однако предпочитают скрывать от общественности подробности изменения своей точки зрения. Можно предположить, что другие экс-энтузиасты сохранили ядро своих убеждений и симпатии к упоминаемым политическим системам, но стали более сдержанны в их выражении. Видимо, лишь маленькая горстка открыто занимается самоанализом и сдержанно критикует свои прежние убеждения,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
51
при этом уважая их. К этой группе принадлежит и Сюзан Зон- таг, ссылавшаяся в данном недавно интервью на свои «иллюзии и ложные представления о том, что может происходить в остальном мире». Анализируя свои установки 1960-х гг., она добавила: «Многим из нас, когда мы говорили об американском империализме, не было так ясно, как мало имелось альтернатив у этих стран кроме советского империализма, который, возможно, был еще хуже... Когда я была на Кубе и в Северном Вьетнаме, я еще не думала, что они станут советскими сателлитами, но история очень жестока...»1 Мэри Маккарти тоже недовольна переменами во Вьетнаме:
Когда я думаю о Вьетнаме сегодня, меня все это очень устрашает. Несколько раз я собиралась написать откровенное письмо Фам Ван Донгу (каждый год я получаю от него рождественскую открытку), чтобы спросить, почему он не прекращает это, как возможно, что такие люди, как он, допускают происходящее?... Но я так и не написала это письмо... Я могла бы подписаться под письмом протеста Джоан Баэз о беженцах-лодочниках, но мне никто не предлагал.
Социализм с человеческим лицом остается моим идеалом. Чтобы жить при такой системе, пришлось бы приспосабливаться, но это было бы так здорово, что я надеюсь, каждый с радостью пожертвовал бы привычными жизненными удобствами. Мне кажется, эта радость стоит того...2
Среди тех, кто в печати признался в своих иллюзиях в отношении маоистского Китая, можно упомянуть Орвила Шелла и Джонатана Мирски. В 1979 г. Мирски писал о своей позиции 1972 г.: «На протяжении всей поездки мы держали зачехленными критические способности, направленные ранее на наше правительство, и... покорно помогали продеть кольца нам в носы». Он цитировал одного из своих гидов, которого вновь встретил в 1979 г.: «Мы хотели обмануть вас. Но вы хотели быть обманутыми».3 Были, безусловно, и другие — те, что десятилетиями раньше перестали увлекаться советской системой.
Можно возразить, что я переоценил глубину отчуждения среди западных интеллектуалов как в 1930-х гг., так и в сравнительно недавний период (1960-х и 1970-х). Признаюсь, я не задумывал количественный анализ политических позиций западных интеллектуалов. Однако предлагаемое мною исследование не нуждается в подобном цифровом обосновании. Я утверждаю, что значительная доля западных интеллектуалов, в особенности самые известные и влиятельные из них, демонстрировала в то или иное время знаки политического отчуждения от своего общества в сочетании с оптимистическим и благожелательным отношением к некоторым мнимо или истинно революционным обществам. По всей видимости, такие личности составляли меньшинство тех, кого можно назвать «западными интеллектуалами», но определенно важное и авторитетное мень¬
52
Пол Холланлвр
шинство, к голосу которого прислушивались и которое в значительной мере задавало тон времени и формировало принятые разновидности социальной критики.
Другое возражение на взгляды, выраженные в этой книге, может состоять в том, что какие бы левые позиции ни доминировали среди западных интеллектуалов в прошлом — в 1930-е и 1960-е гг. — они становились все менее характерными для интеллектуального сообщества к середине-концу 1970-х гг., и особенно нетипичны для начала 1980-х. Если это так, то моя работа может претендовать только на то, чтобы быть интересной лишь с исторической точки зрения.
Мне представляется, что характерные установки, анализируемые в контексте паломничеств, выжили среди западных интеллектуалов вне зависимости от того, утрачены ли иллюзии, связанные с обществами, которые ранее идеализировались, и несмотря на изменения политического климата в целом, ознаменованные такими событиями, как победа республиканцев на выборах в США в 1980 г. и консерваторов в Англии в 1978 г. Поэтому я сомневаюсь, что феномен, являющийся главной темой книги, — сплав отчуждения и поиска утопии, свойственный многим западным интеллектуалам, — сошел со сцены. Безусловно, в настоящее время в Соединенных Штатах существует четко выделяемая и громко заявляющая о себе группа интеллектуалов, так называемые «неоконсерваторы», а во Франции — «новые философы»; и те и другие настроены крайне оппозиционно к установкам и убеждениям, ассоциирующимся с политическими пилигримами и группами их поддержки. Также бесспорно и то, что паломничества в Советский Союз отошли в прошлое и увлечение Китаем сошло на нет так же быстро, как и возникло, однако Куба остается для некоторых западных интеллектуалов символом настоящей революции, лишь слегка потускневшим.
На пороге 1980-х гг. в мире нет страны, занимающей столь же почетное и заслуживающее благоговейного отношения место, какое было отведено СССР в 1930-х, Китаю — в начале 1970-х и Кубе — в конце 1950-х и начале 1960-х. В то же время нельзя не заметить, что в меньших масштабах старый сценарий сохранился и повторяется в других частях земного шара. Для одних, как было сказано выше, таким местом остается Куба; для других небольших групп им может быть Мозамбик, Албания или Ангола.4 Так, например, один британский путешественник обнаружил сходство атмосферы современной Анголы, революционного Петрограда 1917 г. и Барселоны времен Гражданской войны в Испании и пришел к заключению, что
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
53
«...ангольская революция имеет все шансы поставить своих врагов в тупик...». Примерно в том же духе корреспондент «New York Times» Энтони Льюис настойчиво призывал в своих четырех сочувственных статьях правительство Соединенных Штатов дипломатически признать Анголу и развивать с ней торговлю.5 Никарагуа тоже является теперь исключительно сильным конкурентом на рынке революционных обещаний и непорочности.6 Нью-Йоркская туристическая фирма «Guardian Tours», связанная с радикальным еженедельником «The Guardian», несомненно уверена, что политический туризм просуществует еще долго, и специализируется на турах для «путешественников, тяготеющих к политике» (определенного рода, можно добавить), которым предлагаются «поездки в Никарагуа, Гренаду, Вьетнам и на Кубу». Для едущих в Никарагуа (как и для многих других, посещавших ранее иные места) в «маршрут включены... встречи с работниками бригад грамотности, женскими организациями и Сандинистским Комитетом обороны, а также остановки в одном из сельскохозяйственных кооперативов, в школе и на заводе». Во Вьетнаме «в маршрут входят: фермерский кооператив, новая экономическая зона, школа, заводы и могила Хо Ши Мина».7
Но по сравнению с этими формами возрождающегося, хоть и изолированного, энтузиазма по отношению к последним олицетворениям социальной справедливости и революционного пыла более значим тот факт, что угасание идеализации отдаленных обществ не сопровождалось со стороны большой части западных интеллектуалов сколь бы то ни было существенным изменением их отношения к собственным обществам. В Соединенных Штатах, да и повсюду сохраняются могущественные интеллектуальные группировки, лобби, институты и издания, для которых основными формами отношения к собственному обществу остаются подозрительность и враждебность.8 Многие западные интеллектуалы продолжают верить, что Соединенные Штаты и другие страны Запада не имеют моральных полномочий в мире и поэтому должны отойти в сторону, в то время пока Советский Союз и его «суррогаты» и союзники навязывают свою концепцию вожделенного общественного устройства на территории от Афганистана до Анголы, от Никарагуа до Индокитая.
Большинство стран Запада с радостью продолжают торговать с Советским Союзом и закрывают глаза на передачу технологий, приносящих большую пользу советскому оборонному комплексу. Западные бизнесмены, живущие в соответствии со старыми стереотипами, действительно хотят «продать веревку» (на кото¬
54
Пол Холланлер
рой предполагается их повесить), как самоуверенно предсказывал Ленин.9 И даже если советское вторжение в Афганистан и раскрыло глаза экс-президенту Картеру, что привело к эмбарго на торговлю зерном и бойкоту Соединенными Штатами Олимпийских игр в Москве, слабо обоснованной остается общепризнанная мудрость, что Советский Союз «заплатил высокую цену» за принятие Афганистана в «социалистическое содружество». Легко предвидеть, что советское вторжение в Польшу тоже не вызвало бы разительно отличающейся реакции, хотя поток скорбного словоблудия (вокруг дальнейшей угрозы «разрядке») мог бы временно усилиться.
Стоит ли искать связь между низким уровнем коллективного самоуважения, по-видимому, господствующим на Западе, и позицией и проявлениями отчуждения со стороны западных интеллектуалов, конечно, остается вопросом открытым и спорным, но таким, который, по крайней мере косвенно, связывает это исследование с политическими драмами и дилеммами нашего времени.
Трудно сказать, избегая утверждений общего характера, чего хочет достичь автор подобного исследования. Я, безусловно, надеюсь, что удастся извлечь какие-то уроки из того, что можно назвать расследованием полувекового политического сна наяву. Я был бы особенно рад, если бы смог, напомнив о явных неудачах политических суждений прошлого, внести хоть какой-нибудь вклад в совершенствование способностей некоторых западных интеллектуалов понимать достоинства и недостатки различных политических систем. Конечно, наиболее вдохновляющим результатом стала бы закалка критических способностей, которая в конце концов привела бы к обузданию порывов и фантазий, из которых и произрастают политические паломничества.
п. X.
Февраль 1981 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Michiko Kakutani. «For Susan Sontag, the Illusions of the 60’s Have Been Dissipated», New York Times, November 11, 1980, p. C5.
2. Mary McCarthy . «А world out of joint», The Observer, October 14, 1979, p. 8. (Ее высказанный ранее взгляд на Вьетнам обсуждается в гл. 6).
3. Jonathan Mirsky. «Back to the land of little red lies», The Observer, October 28, 1979, p. 9. Высказывания Шелла о своих изменившихся взглядах цитируются в гл. 8, с. 470. См. также его книгу «Watch Out for the Foreign Guests!» (New York, 1981).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
55
4. Примеры идеализации Албании и Мозамбика можно найти в конце гл. 6.
5. Christopher Hitchens. «Bukharin could have approved», The New Statesman, July 25, 1980. Статьи Энтони Льюиса: «Choices in Angola», New York Times, January 22, 1981.; «Linkage in Africa», New York Times, News of the Week section, January 25, 1981; «Angola Tries Pragmatic Policy», New York Times, Business Day, February 2, 1981.; «After Mistakes, Angola Turns Toward „Realism“», New York Times, News of the Week section, February 8, 1981.
6. Нынешняя привлекательность Никарагуа подтверждается одной из телевизионных программ, которая так сильно сочувствует новому режиму, что, согласно критическому отзыву в «New York Times», «она и не претендовала на „беспристрастность“». См.: John O’Connor. «Oil Rig Thriller, Nicaragua Revolution», New York Times, February 20, 1981, p. C26.
7. «New Destinations», New York Times, Travel Section, September 21, 1980.
8. Институт политических исследований в Вашингтоне — один из самых показательных примеров институционализированного и живучего отражения американского общества. См.: Rael Jean Isaac. «America the Enemy-Profile of a Revolutionary Think Tank», Midstream, June/July 1980 (перепечатано в репринтной серии Центра этики и социальной политики, Washington, D.C., July 1980).
9. Последний обзор подобных западных установок и политических взглядов см. в: Arnaud de Borchgrave and Michael Ledeen. «Selling Russia the Rope», New Republic, December 12, 1980.
56
Пол Холланлер
ВЫРАЖЕНИЯ
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Множество людей разных поколений, научных специализаций, политических принципов и интеллектуальных мировоззрений читали рукопись (или ее части) и предлагали свои устные или письменные замечания. Некоторые, прочитав всю монографию, передали мне свои письменные отзывы, — они оказались очень полезны и помогли доработать книгу. Среди этих людей — Питер Бергер из Бостонского колледжа; Гюнтер Леви, мой коллега по Массачусетскому университету в Амхерсте; Чарльз Пейдж, мой бывший учитель и коллега; Стэнли Милгрэм из Образовательного центра Городского университета Нью-Йорка; Алан Сика из Канзасского университета; Адам Улам, Ричард Пайпс из Гарвардского университета. Я особенно благодарен за подробные и пространные письменные ответы, полученные от Чарльза Пейджа, Гюнтера Леви и Алана Сики. Моя жена Майна Харрисон также прочитала всю рукопись и сделала много полезных замечаний, как по стилю, так и существу вопроса.
Стараясь беречь чужое время, я попросил некоторых ученых и друзей прочесть только отдельные главы, отобранные мной исходя из их интересов и специализации. Так, Питер Кинез, специалист по истории СССР из Калифорнийского университета в Санта-Крус, ознакомился с главами, посвященными Советскому Союзу; Хорхе Домингес из Гарварда и Ольга Мандель (уроженцы Кубы) — с главами о Кубе, как и Джулиус Лестер (Массачусетский университет), одним из первых посетивший Кубу режима Кастро, и Стэнли Ротман из Смитсонианского колледжа (не бывавший на Кубе). Глава о Китае только выиграла благодаря пространным комментариям таких видных специалистов, как Эзра Фогель из Гарварда и Мартин Уайт из Мичиганского университета в Анн-Арбор, а также устным отзывам Стивена Голдштай- на из Смитсонианского колледжа. Плодотворным был разговор
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
57
о паломничествах в Китай и технике гостеприимства с Джеромом Аланом Коэном, Росс Террил (Гарвард) и Люсиан Пай (Массачусетский Технологический институт). В свою очередь, я глубже понял интеллектуальную и политическую жизнь в США 1930-х гг. после долгой беседы с Арчибальдом Маклишем. Я получил продуманные ответы на заключительную главу от моих коллег по факультету Кристофера Хёрна и Рэндалла Стоукса, а также от Беннета Бергера из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Дженет Вейлант из Гарварда. Шелдон Мейер, первый вице-президент издательства «Oxford University Press», прочитав рукопись целиком, дал очень полезный письменный комментарий. Мне он кажется приятным символом постоянства, — его помощью я уже однажды воспользовался в начале 1970-х гг., когда в издательстве выходила моя книга «Советское и американское общество». Вики Биджер из Оксфорда предоставил профессиональную редакторскую поддержку. Илва Фанк из Нортгемптона обеспечила самый продуманный, квалифицированный и тщательный из виденных мной ранее набор текста, о чем свидетельствует окончательный вариант книги.
Мне была выделена для проведения этого исследования гу- генхеймовская стипендия за 1974/75 академический год. И даже если бы этих денег не хватило на весь период работы над книгой, стипендия была бы ценной формой поддержки и поощрения, позволившей посвятить все время проекту. Массачусетский университет в Амхерсте очень помог мне, предоставив оплачиваемый отпуск на весь осенний семестр 1976 г., а также исследовательский грант в 1978 г., покрывший все расходы на типографский набор и ксерокопирование. Центр русских исследований при Гарвардском университете, с которым я сотрудничал с 1963 г., выделил мне личный кабинет в период с осени 1974 г. по весну 1977 г. Среди других преимуществ этого сотрудничества можно упомянуть пользование гарвардскими библиотеками и плодотворное общение с многими знающими учеными.
Также полезным на разных стадиях исследования было изложение идей данной книги перед различными аудиториями в Гарварде (в Центре русских исследований, на факультете социологии, в Центре изучения законодательства Восточной Азии), на семинаре по славистским исследованиям в Нортгемптоне, штат Массачусетс, в Центре русских и восточноевропейских исследований Стэнфордского университета, на факультете социологии Калифорнийского университета в Сан-Диего и в Ла Джолле.
58
Пол Холландер
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
Мир, очищенный от всякого зла, —мир, в котором истории суждено найти свое завершение, — мы все еще не избавились от подобных древних фантазий.
Норман Кон1
Много ума может быть вложено в невежество, когда есть глубокая потребность в иллюзии.
Сол Белло у2
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
59
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ — ТОЧКА ОТСЧЕТА
Хотя о западных интеллектуалах было уже много написано, связь между их критическим и некритическим отношением — или между отчуждением и поклонением — требует более полного исследования и лучшего понимания.
Изначально мой интерес к данному вопросу возбудили политические суждения современных западных интеллектуалов, как более, так и менее выдающихся. Задолго до возникновения идеи этой книги у меня затаилось подозрение насчет их способности к глубоким (в моем представлении) политическим суждениям. Казалось, что в среде интеллигенции распространена тенденция избирательной поглощенности одними историческими и общественными событиями и проблемами при полном пренебрежении другими. Я был потрясен сбивающим с толку соседством проницательности и слепоты, восприимчивости и равнодушия. Спустя некоторое время передо мной стала вырисовываться картина. Сложилось впечатление, что большинство этих интеллектуалов были склонны довольно жестко отзываться о своих собственных обществах и на удивление снисходительно (при полной неосведомленности) о других, если только пороки тех обществ не были каким-то образом связаны с их собственным.
Мои подозрения постепенно развились в интерес к политическим ценностям, культурным убеждениям и более глубинным представлениям интеллектуалов о социальной среде, в которой они живут. По мере увеличения количества признаков психического и политического дискомфорта среди интеллектуалов на Западе в 1960-е и в начале 1970-х гг., мне все больше хотелось понять их установки и не столь самоочевидные источники таковых. Выяснилось, что дальнейшее расширение сферы исследования затрагивает двусмысленную позицию интеллектуалов в современном западном обществе и их противоречивое отношение
60
Пол Холландер
к власти и безвластию, вере и недоверию, общественному порядку и беспорядку. Интеллектуалы в западном обществе моментально формулируют, время от времени пытаются решать и иногда сами создают определенные социальные проблемы и конфликты. Их представления о себе порой также двусмысленны и парадоксальны, ибо в них сочетается неуверенность в себе и чувство, что ты призван воздействовать на окружающих, заявления о безвластии и претензии на власть, смирение и самодовольство. Многие западные интеллектуалы рассматривают себя как истинную элиту нашего времени, особенно это касается их способности к формированию мнений; есть среди них и такие, кто согласился бы с присвоением им звания «инженеров душ».3
Я пришел к убеждению, что наиболее отличительной чертой значительной части современных западных интеллектуалов является колебание их убеждений между отчуждением и поклонением. Также я понял, что более упорядоченное изучение отношения между этими двумя установками может послужить лучшему пониманию не только интеллектуалов, но и некоторых социокультурных проблем в современных западных обществах.
Я обнаружил, что существует масса литературы, которая могла бы стать источником информации, необходимой для изучения связей между отчуждением и поклонением, верой и недоверием: рассказы интеллектуалов об их поездках в страны, социальное устройство которых их привлекало. Такие писания одновременно содержат пространные рассуждения о преимуществах чужих стран и подробную критику общественного устройства «родных». Эти книги и статьи предлагают больше, чем описание политических ценностей строго определенной группы западных интеллектуалов: они содержат их представления о хорошем и плохом обществе, социальной справедливости и несправедливости. Почти все время в них противопоставляются пороки «родных» обществ и добродетели чужих. Не удивительно, что эти записи больше говорят об их авторах и обществах, их взрастивших, если так можно выразиться, чем о странах, послуживших предлогом для рассказа.
Феномен политического туризма и написанное о нем предоставили прекрасную возможность исследовать подход к действительности, здравый смысл и политический «инстинкт» таких туристов. Кроме того, изучение взглядов политически ориентированных туристов неизбежно пересеклось бы с более широкой темой соотношения отчуждения и склонности к утопиям в современных западных обществах.
В последнее время интеллектуалы, стремящиеся к политическим утопиям, были особенного заинтересованы в четырех
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
61
странах. Довольно естественно, что после Октябрьской революции 1917 г. Советский Союз оказался в центре внимания, хотя многие поездки состоялись только в середине 1920-х гг., а большинство таких гостей побывали там в начале и середине 1930-х. Не столь многочисленные, но вызванные сходными мотивами путешествия предпринимались на Кубу, главным образом в первые годы после революции 1958 г., и в Северный Вьетнам в середине и конце 1960-х.* Интерес к Китаю среди американских интеллектуалов активизировался после дипломатических инициатив 1972 г., позволивших зримо увеличить количество посещений. Много западноевропейских интеллектуалов приезжало во Вьетнам в течение 50-х и 60-х гг.
Эти политические путешествия и паломничества знаменательны в нескольких отношениях. Во-первых, они предоставляют документы, которые могут помочь понять ценности, стремления, надежды и антипатии важной и влиятельной группы западных интеллектуалов. Отчеты путешественников также формируют наши представления об описываемых обществах и о тех, от которых они (путешественники) отчуждаются. Всплеск положительных оценок этих обществ привел, как минимум, к заглушению (или снижению доверия) голосов более критичных и, безусловно, ослабил резкость точек зрения скептиков. Путем простого повторения некоторые неоспоримые банальности и аксиомы развились, обрели точку опоры и правдоподобие.**
Рассказы путешественников также потрясающе иллюстрируют избирательное восприятие и связанную с ним способность к избирательному нравственному возмущению и состраданию — отношениям, являющимся одной из главных тем этой работы.
Почему получилось так, что восприимчивые, проницательные и критичные интеллектуалы сочли, что такие общества, как СССР при Сталине, Китай при Мао и Куба при Кастро в высшей степени привлекательны и намного превосходят их собственные
* Поездки в Северный Вьетнам были необычными, поскольку страна находилась в состоянии необъявленной войны с США. В то же время американские бомбежки Северного Вьетнама явились главной причиной распространения чувства симпатии к этой стране в среде американских интеллектуалов, которые скорее противостояли политике США во Вьетнаме, чем одобряли политическую систему Северного Вьетнама.
** Эдвард Шилз, например, утверждал, что «среди коллективистски настроенных западных либералов, энтузиазм, которым сопровождались первые годы существования СССР, уже иссяк. Тем не менее, определенное представление об институтах и методах советской системы за четыре десятилетия отпечаталось в сознании западных интеллектуалов; оно включает „общественную собственность“ на средства производства, социальное обеспечение с рождения до смерти, отсутствие безработицы и инфляции, искоренение „собственнического инстинкта“, социальное равенство и решение „национальной проблемы“».4
62
Пол Холланлвр
общества, а на их пороки можно и не обращать внимания (или, если изучить их подробно, можно легко простить)? Почему же многие, посетив эти страны в исторические периоды жесточайшего деспотизма (как это было в СССР в 1930-е гг. и в Китае во время Культурной революции), тем не менее деспотичности режимов не заметили? Или, если и заметили, какие психологические или идеологические механизмы заставили их занять позицию терпимости?* Недоумение усугубляется еще и тем, что по традиции ключевой характеристикой интеллектуалов принято считать острый критический ум, четко улавливающий всякое противоречие, несправедливость и недостатки общественного окружения.
Интеллектуалы, критичные по отношению к своему обществу, оказались слишком восприимчивы к призывам руководителей и идеологов стран, инспектируемых в ходе поездок. Они были склонны оправдывать эти общественные системы за недостатком улик и преуспевали в том, чтобы не замечать те черты, которые могли бы повредить положительному их видению. Как могли такие противоречивые установки сосуществовать и уживаться друг с другом столь высокохудожественным образом? Как сочетаются глубоко критические (даже подозрительные) умонастроения с крайне тенденциозными и некритическими? Составляют ли такие противоположные умонастроения некоторое «диалектическое» единство? Взаимообусловлены ли они или находятся между собой в непримиримом противоречии?6 Или, вероятно, такое соседство возможно потому, что кажущийся сначала беспощадным, но реалистическим критический порыв, направленный интеллектуалами на собственное общество, тоже извращен, ибо они тенденциозно приписывают худшие черты знакомой общественной среде и систематически игнорируют ее положительные качества? В какой степени благоприятные образы и суждения были вызваны тем, как принимающая сторона контролировала гостей и манипулировала их впечатлениями?
И хотя манипуляции впечатлениями гостей — я называю их техникой гостеприимства — несомненно повлияли на суждения (как посредством выборочного представления действительности, так и чрезвычайно льстивым вниманием к персонам самих гостей),
* Ганс Магнус Энценсбергер, немецкий радикальный общественный критик, поставил, по существу, тот же вопрос, когда писал: «Такой анализ [этих установок] должен пойти дальше индивидуальных особенностей и отыскать исторически обусловленные составляющие их готовность выдавать желаемое за действительное, их невидения действительности, их испорченности. Задача состоит не в том, чтобы обнаружить, что „человек зол“, но выяснить, почему мнимые социалисты позволяют себя политически шантажировать, нравственно подкупать и теоретически ослеплять, причем не нескольких человек, а целые толпы... „Туризм революционеров“ — лишь один из симптомов».5
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
63
я не думаю, что они играли решающую роль. Определяющей была сама предрасположенность интеллектуалов. Что снова возвращает нас к ключевому вопросу: при каких обстоятельствах и по каким мотивам «критичные интеллектуалы» превратились в некритичных? Какое давление повлекло за собой очевидный отказ от способности критически судить в некоторых ситуациях? Как может восприимчивость к социальной несправедливости и возмущение злоупотреблением политической властью так внезапно уступить место радостному принятию или отрицанию сходных недостатков в других социальных системах?
Ответ на эти вопросы заключается в осознании того, что интеллектуалы, как и большинство людей, пользуются двойными стандартами и что направленность их нравственного возмущения и сострадания определяется их идеологическими установками и фанатичными пристрастиями.
Я надеюсь, что это исследование внесет свой вклад в пересмотр некоторых общепринятых взглядов на интеллектуалов. Во всяком случае, оно продемонстрирует, что их политические установки и нравственные приверженности более противоречивы и сложны, чем это обычно представляется. Она также покажет, что их критические импульсы не являются ни безупречными, ни последовательными, — а прежде всего, что критический настрой как таковой может и не быть главной определяющей характеристикой западных интеллектуалов, а, напротив, атрибутом их идеального, или скорее идеализированного, образа.
ОТЧУЖДЕНИЕ,
ПОИСКИ УТОПИИ,
ВЫБОР ОБРАЗЦОВЫХ ОБЩЕСТВ
Наиболее потрясающим парадоксом в политических суждениях интеллектуалов является контраст между их взглядами на собственное общество и на общества, которые время от времени провозглашаются землей обетованной или местом исторических свершений. Соответственно, в промежутках и переходах между этими двумя установками — отчуждением и поклонением — располагаются ценности, лелеемые западными интеллектуалами, их понятия о добре и зле в политике и истории.
Не удивительно, что мое исследование обнаружило очень тесную связь между отчуждением от собственного общества и восприимчивостью к привлекательности (реальной или вымышленной) других обществ. Конец 1920-х — начало 1930-х гг. — прекрасный тому пример. Далее, в 1960-е и в начале 1970-х гг., западные интеллектуалы ответили на кризисы и проблемы их
64
Пол Холландер
обществ усиленной критикой и возросшим интересом к альтернативным вариантам. Советский пример предложил самую многообещающую альтернативу экономическому и социальному хаосу первого периода. В последние годы проблемы западных стран были по своей природе скорее духовными и политическими, нежели экономическими. В 1960-е и начале 1970-х гг. предполагаемая бессмысленность изобилия и материальных удобств сформировала широкую базу, на которой формулировались особые причины для недовольства и социальной критики: Вьетнам, расовые проблемы, корпоративный капитализм, потребительская политика или бюрократизация жизни. В целом, я утверждаю, в последнее время рост темпов секуляризации сыграл важную роль в развитии склонности многих интеллектуалов к восхищению такими обществами, как Китай при Мао или Куба при Кастро. Эти социальные системы излучали чувство целеустремленности и, казалось, наполняли жизнь своих граждан смыслом. Конечно, социальная критика покоится на представлении об альтернативах. Отсюда следует, что отчуждение от собственного общества неизбежно предшествует или сопровождает проецирование надежд и уверенности на другие. Этот обоюдный процесс обостряется обстоятельством, что страны, которые склонны идеализировать западные интеллектуалы, в ответ обвиняют Запад (в трудах идеологов и средствах массовой информации) почти на тех же основаниях, что и отчужденные интеллектуалы. Казалось бы, из-за разных географических и идеологических границ раздаются схожие голоса, разоблачающие капиталистическую жажду наживы и расточительство, чрезмерные военные расходы, расизм, бедность, безработицу, разрушение человеческих отношений, разобщенность, вульгарную рекламу, грубость торговых операций, — практически все, что так ненавистно западному интеллектуалу. Как же ему не испытывать чувства родства с теми, кто, по-видимому, разделяет его ценности, склонности и антипатии?
Замечания Тома Хейдена и Стотона Линда хорошо иллюстрируют такую позицию:
...Мы также обнаружили, что мы сочувствовали наиболее „другим“ на той стороне, представителям коммунистического мира в Праге и Москве, Пекине и Ханое. В конце концов, мы называем себя в некотором смысле революционерами. Как и они. В конце концов, мы разделяем взгляды бедных и угнетаемых. Как и они.7
Итак, благоприятное отношение к этим обществам частично базировалось на уверенности, что они отстаивали ценности, лелеемые интеллектуалами. Более того, само их существование означало для западных интеллектуалов, что им не надо обращаться к чисто утопическим альтернативам тому злу, по поводу
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
65
которого они сокрушались. Интеллектуалы, критичные по отношению к своему обществу, должны верить, что возможно создание социальных институтов, превосходящих их собственные. Они должны иметь возможность предъявить доказательства, хотя бы пробно, реализации их идеалов в каком-нибудь современном обществе, для того чтобы придать силу своей социальной критике дома. Если другие общества не лучше хорошо им известного, как могут они возмущаться его пороками? Если и возможно отвергнуть собственное общество, не принимая при этом никакое другое, это психологически трудно и редко осуществимо, так как рождает ощущение безнадежности. Исследования по сходным темам показывают, что большинство людей, отчужденных от своего общества, обычно переходят к идеализации других — или, скорее, они не могут идеализировать другие без предварительного отчуждения от собственного. Признание или понимание того, что другие социальные системы не намного лучше собственной, притупляет нравственное негодование; если социальные пороки и несправедливость присущи даже «новым» революционным обществам, приверженность яростной критике собственного общества оказывается проблематичной. Большинство из нас неспособно страстно и продолжительно критиковать пороки, которые повсеместно распространены, не поддаются искоренению и представляются обусловленными скорее безличными силами, чем идентифицируемыми человеческими существами. Напротив, когда определенные пороки кажутся легко излечимыми и существуют системы, на которые можно указать как на иллюстрацию таких улучшений, создается новое и преимущественное основание для критики собственного общества.
Именно эта потребность в альтернативе — наряду с определенными историческими фактами и новыми сведениями, которые становилось все труднее игнорировать — объясняет, почему западные интеллектуалы со временем отказались от приверженности советскому образцу. К концу 1950-х гг. не только накопилось впечатляющее количество информации, связанной с отходом СССР от революционных истоков и идеалов, но и появились новые и гораздо более аутентичные революционные общества, такие как Куба, Китай и Вьетнам, готовые принять чувства и симпатии, ранее предназначавшиеся СССР.* Высказывание Стюарта Хью о покойном Ж.-П. Сартре (одном из немногих «старых» интеллектуалов, чьи политические убеждения и приверженности связали
* Это еще одно свидетельство того, что историк Джеймс Хитчкок охарактеризовал как «загадочный процесс, когда люди умирающей и слабеющей культуры начинают восхищаться жизнеспособностью и самоутверждением культуры, находящейся на подъеме».8
66
Пол Холлам Авр
два периода и поколения: они сменились с просоветских на про- кубинские и прочие более неопределенные симпатии к третьему миру) легко можно приложить ко многим левым радикалам 1960-х гг., искавшим новые образцы политической правильности: «Сартр, как и Ленин до него, обнаружил развивающийся мир, когда он был ему нужен для подкрепления фактами веры, все менее подходящей к европейским условиям».9
Ханна Аренд в критическом разборе популярности Мао, Кастро, Че Гевары и Хо Ши Мина также отметила, что незнание отдаленных стран добавляет им и их руководителям привлекательности, а вот по отношению к гораздо более доступной системе Югославии и ее лидеру Тито интереса и энтузиазма не наблюдается.10 Следует, однако, подчеркнуть, что географическое расстояние как таковое не является решающим критерием при наделении государства ореолом таинственности, надежды или экзотической притягательности. Недавно зародившаяся в среде западноевропейских радикалов популярность Албании доказывает, что географическая близость может работать на политическую привлекательность, если об интересующей стране известно мало. Так, например:
Недавний гость одного скандинавского университета после горячего спора с группой студентов, горько жаловавшихся на отсутствие свободы в своих государствах и на Западе в целом, спросил их, какой страной в мире они больше всего восхищаются. Ответ был — Албанией. Ни у кого из студентов не было ни представления об условиях жизни в Албании, ни малейшего желания туда поехать, но, несмотря на это, Албания была их утопией.11
Джордж Кеннан рассказывает о схожем случае:
Недавно я спросил у одного норвежского студента, чем больше всего восхищаются радикальные студенты Университета Осло, что для них является обнадеживающим примером цивилизации? После долгих и тяжелых раздумий он сказал, что это... Албания! Можно ли представить что-либо более убогое, чем албанский режим? Очевидно, в этой точке зрения нет и крупицы реальности, никакой заинтересованности в объективной информации об Албании. Албания выбрана просто потому, что она представляется дубинкой с довольно острым гвоздем на конце, которой можно колотить собственное общество, традиции, родителей. Видимо, для них критерием предпочтения является степень ненависти... к Западу, и особенно к их собственным обществам.12
Несомненно, решение этих скандинавских студентов — крайность, но в чем-то очень последовательная: выбор совершенно незнакомого государства, каковым является Албания, подтверждает символическую природу поисков модели совершенного общественного устройства.
Есть и другая альтернатива для интеллектуалов, не желающих проецировать свои надежды на современные им политические системы и выражать симпатию по отношению к ним, ибо
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
67
они руководствуются уроками истории или здравым смыслом. Альтернатива эта — идеализация неудавшихся революций или общественных движений, не имевших возможности оказаться в застое или стать деспотическими. Пример — восстание студентов во Франции в 1968 г., которое один американский общественный критик счел «самым значительным событием в западной политике за все поколение».13 Восхищение провалившимися революциями несет в себе те же преимущества, что и поклонение на расстоянии прекрасной женщине (или мужчине), чье очарование никогда не подвергалось испытанию в одной постели, ванной или на кухне.
Очевидно, привлекательность политических систем (революционных и не только) определяется не объемом доступной о них информации, не их реальными достижениями и не степенью личной близости к ним. По крайней мере, правдоподобно предположение, что нужды наблюдателя (как подсказывает мнение поклонников Албании) часто опережают оценку социально-политических реалий. Советский Союз был наиболее престижен в среде западных интеллектуалов во времена жесточайших репрессий, тяжелейших материальных потерь и личного диктата Сталина, то есть в начале и середине 1930-х гг. К тому времени, когда СССР избавился от самых непривлекательных своих черт — после смерти Сталина, при Хрущеве, — он уже не вызывал былого интереса и одобрения у западных интеллектуалов. Конечно, после смерти Сталина появилось больше информации о советском обществе, как правило, нелестной. Но изменение отношения нельзя объяснить только как рациональный ответ на появление возможности знать о СССР больше. Нельзя оспорить и то, что в 1930-е гг., время, когда Советский Союз был так популярен среди западных интеллектуалов, информация о чистках и других отнюдь не привлекательных результатах деятельности советской системы полностью отсутствовала. Такие данные хоть и поступали (например, через Троцкого и его приверженцев), но широко не распространялись, да и интеллектуалы ее не принимали, в то время Советский Союз и его сторонники распространяли обильную контринформацию (скорее, ее можно назвать дезинформацией или пропагандой) с целью нейтрализовать компрометирующие систему данные.
Наиболее убедительное объяснение снижения популярности советской системы среди западных интеллектуалов предложил Адам У лам:
...Интеллектуал часто находит определенное нездоровое очарование в
пуританстве и репрессивности советского режима, а также в его чудовищной
внешней самонадеянности, разительно контрастирующей с апологетичес-
68
Пол ХолланАвр
кой, колеблющейся самооценкой демократического мира. Когда фасад самоуверенности начал рушиться, — прежде всего, в результате разоблачения культа личности в 1956 г., и затем вследствие раскола коммунистического лагеря, — многие западные интеллектуалы начали отказываться от лояльного отношения к этому экс-идолу, теперь уже более гуманистичному, чем во времена Сталина.14
В том же самом процессе, несомненно, участвуют и установки по отношению к Китаю периода после смерти Мао. Как и в случае с СССР после смерти Сталина, ужасающая самоуверенность и монолитный образ китайского режима были серьезно подорваны борьбой в верхах, вызванной уничтожением так называемой «Банды четырех», в чьих руках ранее была сосредоточена власть и сила. Смерть Мао и нестабильность, с ней ассоциировавшаяся, также повлекли за собой разоблачение пороков китайского режима, частью из-за яростного желания нынешнего руководства дискредитировать разгромленных политических конкурентов, частью из-за непредвиденных последствий некоторого ослабления тисков власти. К тому же, как и в случае постсталинского СССР, снижение популярности китайского режима среди западной интеллигенции совпало с ослаблением, хотя и незначительным, репрессивности системы.
Неприятие современных, сильно бюрократизированных индустриальных обществ (среди них и советского общества), почва для которого тщательно подготовлена Маркузе и его последователями, объясняет, почему советская система уже не может воодушевлять большинство западных интеллектуалов. Безусловно, эти оговорки части интеллектуалов, касающиеся индустриальных обществ в целом, выявляют главные различия между чувствами интеллигенции 1930-х и 1960-х гг.
Таким образом, популярность и непопулярность Советского Союза среди интеллектуалов гораздо теснее связана с состоянием западных обществ, чем с ситуацией в советских. Восхищение Советским Союзом достигало своего пика не тогда, когда игра Советов на политической сцене была особенно впечатляющей или когда их политика «очеловечивалась», а в периоды тяжелого экономического кризиса, ударившего по западному миру (в 30-х гг.): он помог сформироваться взгляду на СССР как на остров стабильности, порядка, экономической рациональности и социальной справедливости. Также и привлекательность Китая, Кубы и Северного Вьетнама усилилась в 60-е, когда кризис доверия снова потряс Штаты (на этот раз из-за Вьетнама и расовых конфликтов) и когда и в США, и в Западной Европе набирающие силу чаяния и стремления, направленные не на материальное, а на духовное, не получили подпитки из новых интеллектуальных резервов. Ясно, что возможно поклонение каким-то странам,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
69
если мало о них знаешь; аналогично и политические системы могут вызывать отторжение, если сведения о них скудны.*
Объем информации может и не быть важным или решающим фактором в формировании мнения, но есть другие факторы, играющие гораздо более существенную роль при зарождении установок, — они делают информацию зримой, животрепещущей и драматической. Артур Кёстлер заметил: «Собака, которую переехал автомобиль, вызывает у нас всплеск сострадания... три миллиона евреев, убитых в Польше, — лишь некоторую неловкость. Статистика не кровоточит, — вот деталь, которая имеет значение».16
Коль скоро мы коснулись «деталей, имеющих значение», поговорим о недоступности правдивой информации, касающейся наиболее репрессивных политических образований (особенно с однопартийной системой левого толка**), и о резко контрастирующем на этом фоне изобилии подобных сведений, выявляющих непривлекательные черты американского или иного западного общества. Этот дисбаланс показателен, раз наличие или отсутствие ясной и четкой информации о различных социально-политических разногласиях выступает главным фактором в создании стереотипов, как негативных, так и позитивных. Отталкивающие черты западных обществ, особенно США, увидеть можно, — конечно же, о них с завидной регулярностью рассказывают — по телевизору, в кинофильмах, журналах и газетах.17 Перед западной и, опять же, преимущественно американской аудиторией СМИ разоблачали — ясно, четко, живо — наихудшие пороки ее страны. Мы все можем их видеть: трущо¬
* Так, например, США превратились в символ зла и в мирового козла отпущения в глазах многих интеллектуалов третьего мира, которые об Америке мало что знали. Исследование антиамериканизма и причин, по которым США сегодня стали символом чуть ли не вселенского грешника, оказалось бы не менее захватывающим, чем работа над этой книгой. Подобные установки представляют оборотную сторону медали, поскольку их исток — скорее некритическое, бездумное неприятие, а не слепое одобрение. Столь широко распространенная враждебность к США, на мой взгляд, вызвана четырьмя их характеристиками: 1) материальное изобилие; 2) глобальное распространение всепроникающей американской культуры и ее притягательность; 3) сочетание силы и слабоволия в ее использовании, что формирует образ США как трусливого хулигана, которого в конце концов можно поддеть и обругать относительно безнаказанно; 4) и, наконец, склонность американцев к самообвинению и самокритике тоже ведет к враждебности, ибо люди плохо думают о тех, кто сам о себе невысокого мнения.*5
Я подчеркиваю недоступность таких свидетельств о государствах с левой политической ориентацией, так как правые, или, точнее, неленинистские, диктатуры в целом имеют тенденцию не слишком жестко контролировать СМИ и социальные связи. Поскольку они не относятся так серьезно к идеям как к оружию, их система пропаганды и цензура менее изощренные. Несколько правдивых кинохроник и документальных фильмов было сделано о режимах в Южной Африке, Южном Вьетнаме, Испании при Франко и т. д. И чрезвычайно затруднительно было бы достать аналогичные материалы или хотя бы отдельные фотографии о жизни в СССР, Китае, на Кубе, в Северном Вьетнаме, Албании и т. д.
70
Пол Холландер
бы, населенные этническими меньшинствами; уличные банды; контраст между богатыми, благоденствующими гражданами и нищими безработными; обозленные забастовщики; политические протесты в университетах и на улицах; ветхие здания школ; переполненные больницы; мрачные тюрьмы; разгон полицией демонстрантов; горе матерей, потерявших сыновей во Вьетнамской войне; сцены кровавого насилия и жестокости во Вьетнаме (или в других местах); красующиеся перед фотокамерами экстремисты и изуверы разных мастей; фермеры, уничтожающие урожаи; физический ущерб живой природе; горы мусора на городских улицах; сцены насилия, страданий, человеческие потери, разруха и жестокость — перечислять можно бесконечно. Да, у нас есть тщательно задокументированный живописный перечень болезней нашего общества.
А что же по другую сторону границы? Навряд ли новость, что полицейские государства — среди них СССР, Китай, Куба, Северный Вьетнам, Северная Корея, Камбоджа, Албания и многие другие — отнюдь не взяли в привычку демонстрировать себя в столь неприглядном виде или же предоставлять иностранцам возможность для сбора компрометирующих документальных свидетельств. Они не приглашают иностранных журналистов снимать на видеопленку изнанку жизни их страны, зато время от времени позволяют им записывать видеопанегирики в ее адрес. Западная аудитория видела (если вообще видела) мало материалов, рассказывающих о советских, китайских или кубинских тюрьмах; о гражданах, томящихся в очередях за продуктами; тяжелом, унизительном и утомительном труде женщин;* о плохих жилищных условиях; переполненном транспорте; обысках, арестах на рассвете; о депортации (или насильственных переселениях групп граждан); о заводах, почти не имеющих средств обеспечения техники безопасности; гниющих на корню урожаях; станках, ржавеющих под открытым небом; халтурно построенных жилых домах; о пустых прилавках магазинов. Столь же редко иностранцы могут увидеть и со свистом пролетающие мимо лимузины с занавешенными стеклами; в них — члены элитных групп, едущие на свои частные дачи (или дома). Не угощали западную аудиторию и интервью с обычными гражданами Кубы, Китая или СССР, которые могли раскритиковать практически любую сферу жизни в системе, которой они принадлежали.
До недавнего времени не только видео- и фотоматериалы но даже графические зарисовки пороков этих странах были
* Исключение — случайные фотографии советских женщин, подметающих улицы. Такая съемка в СССР не одобряется, но не всегда запрещается.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
71
недоступны или редки.* Важность таких свидетельств подтверждается воздействием романов Солженицына: его реалистичные и выпуклые описания помогли миллионам людей из разных уголков Земли если не представить наяву советские концентрационные лагеря, то, по крайней мере, понять, что они из себя представляют.
То, что я писал почти десятилетие назад, противопоставляя американские и советские установки по отношению к гласности и самодемонстрации, можно отнести и к другим закрытым обществам, обсуждаемым здесь (к Кубе, Китаю или Северному Вьетнаму). К тому же большая часть сказанного об американском взгляде на гласность может быть спроецирована, с некоторыми уточнениями, и на другие западные общества и их СМИ. Так, не ошибусь, если скажу, что на образы всех обществ, о которых говорится в этой книге, повлияли их разительно отличающиеся институты цензуры, политического давления, а также культурные различия, касающиеся гласности и самодемонстрации. (Однако культурные факторы вытесняются на задний план политическими запросами, если они противостоят политике революционных систем.)** Вот что я писал о контрасте между американским и советским обществами в плане гласности:
...США — общество, где гласность возведена в ранг принципа. Не столь острое чувство личного «privacy» имеет своего зеркального двойника в публичной сфере, однобоко ориентированной на сенсацию и демонстрацию. В большинстве случаев специфическую американскую гласность в том, что касается американского общества, можно охарактеризовать как жажду скан¬
* Например, недавний обзор положения дел с правами человека в мире привел к такому выводу относительно Китая: «Нам так мало известно о том, что происходит с самой многочисленной нацией Азии, китайцами, что внешним наблюдателям остается лишь предполагать, какова же там ситуация с правами человека».18 Столь мягкое суждение отражает не только реальный недостаток информации, но, в какой-то мере, и неверный душевный настрой безоглядно «раздавать» презумпцию невиновности. Если господин Гвертцман сказал, что мы слишком мало знаем для того, чтобы судить о степени нарушения прав человека, можно на этом и остановиться. Но считать, что наши знания, по причине их скудости, вообще не позволяют рассуждать (разрешено лишь строить предположения), — это уже чересчур. Как бы там ни было, эта цитата и выраженные в ней установку иллюстрируют позицию, о которой я говорю. Многие западные интеллектуалы или известные в социуме фигуры требуют горы доказательств порочности левых диктатур, прежде чем отказаться от своих слепых приверженностей. Фактически, в этом плане существует четкая параллель между СССР и Китаем. В 1930-х гг. мало кто из западных интеллектуалов и общественных лидеров был расположен верить в существование советских концлагерей, и сегодня они тоже отрицают, что в Китае нарушаются права человека. И никогда информация не была настолько скудной, а свидетельства столь неочевидными, как это хотят представить «отпускающие все грехи».
** В подобных случаях главенство политических факторов над культурными хорошо иллюстрируется тем фактом, что кубинская цензура не особенно отличается от советской, а кубинские СМИ едва ли более охотно и живописно, чем советские, стали бы разоблачать непривлекательные стороны жизни Кубы. А ведь если посмотреть на латиноамериканские культурные черты и стереотипы — радушие, экспрессивность, многословие и т. д. — ожидать следовало бы совсем иного.
72
Пол Xолланлер
дала или, на более серьезном уровне, как проблемно-ориентированную. Основания для такой оценки дает меркантильность СМИ и их охота за скандалами и сенсациями. Еще одним основанием служит давняя и крепко укоренившаяся традиция социальной критики. Американское общество и его домашние... критики гораздо охотнее, чем большинство злобствующих иностранных обличителей, выставляют напоказ изъяны США. Безусловно, многие критические отзывы о США опираются на американские источники.* В противоположность США советское общество вовсе не ориентировано на гласность, если только не понимать гласность в очень узком, строго определенном смысле... Данные отличия существенно влияют на образы этих двух обществ, какими они представляются всему остальному миру... Эта дьявольская разница чрезвычайно значима, когда сравниваются образы американского общества и советского. Нищета, угнетение, загнивание городской цивилизации и застой в сельской жизни, злоупотребления на государственной службе, политическое недовольство и социальные конфликты — ничего из этого журналистами (и местными, и иностранными) в Советском Союзе не описывалось; не было запечатлено это и на фотографиях, видео- или кинопленке... Что бы ни тревожило советских граждан... мировой аудитории (и домашней тоже) не рассказывалось ничего, — не так, как в случае с болезнями американского общества. Это помогает... объяснить не только своеобразное восприятие американского общества в СССР, но, частично, и мировой феномен антиамериканизма, соседствующего со сравнительно лояльным или нейтральным отношением к советскому обществу... В высшей степени неприглядные [коллективные] образы самих себя, распространяемые американскими СМИ, также «виновны» в существовании парадокса, на который указал Жак Барзун: «Мы, нация, чьи граждане жаждут популярности сильнее, чем любого другого успеха, мы, Соединенные Штаты, столь непопулярны буквально во всем мире — и это раздражающий и одновременно непостижимый факт» (The Man in the American Mask, Foreign Affairs, April 1965, p. 427.) Идеи — это оружие, как верили поколения советских лидеров. Контроль над СМИ и гласностью — нечто большее, чем подсознательный рефлекс чувствительной политической системы. В конечном счете, положительнейшие из плюсов свободы слова и критики значат меньше, чем зримые картины нищеты, несправедливости и отчаяния.21
И даже когда правдивость доступной информации о политических режимах играет весьма значительную роль при вынесении политических суждений, вне всякого сомнения, подобные суждения являются производными от ценностей, скрытых очень и очень глубоко.
В то время как интеллектуалы особенно резко критикуют свое общество в периоды кризиса, беспорядков и коллективной неуверенности в себе (которую они выражают наиболее красноречиво
* Источники же часто оказывались такого свойства: «да покарает нас Господь за грехи наши». Показательна цитата из «New York Times»: «...Мы, американский народ, — мы, богатеющие, коррумпированные, бесчеловечные, озверевшие, мы, шовинисты, расисты, мы, белая Америка, — вот кто несет ответственность за политику США и злодеяния...»1®.
Один европейский писатель, приехавший в США в 1960-х гг., комментируя подобную наклонность посыпать голову пеплом, заметил, что социальный протест «...это новая индустрия, новый способ делать деньги и наживать богатство. Чтобы открыть этот бизнес, требуются три вещи: ручка, гитара и свободное общество в качестве профессионального поля деятельности. Протесты, изложенные на бумаге, обеспечивают сносную жизнь, протесты, высказанные вслух, приносят миллионы. Тот, кто знает, насколько это доходно — выставлять нищету и страдания людей напоказ, — в мгновение ока становится миллионером».20
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
73
и иногда преувеличивают), идеалистам, для того чтобы у них усилилась восприимчивость к порокам своего общества, вовсе не требуются подобные бури. Даже в периоды относительной стабильности многие интеллектуалы отыскивают повод для разочарования в социальной среде,* которая не сулит удовлетворение их духовным притязаниям и тем более не сулит освобождение от бремени, которое несет на себе род человеческий.
ТЕХНИКА
ГОСТЕПРИИМСТВА
Хотя я и убежден в том, что в формировании суждений о вышеназванных странах установки интеллектуалов играют роль гораздо более значимую, чем их реальный опыт паломников, природа этих паломничеств требует пристального рассмотрения. С одной стороны, без некоторой доли благосклонности в установках гостей эти организованные туры могли бы в перспективе оказаться бесплодными или привести к противоположным выводам. С другой стороны, определенные проявления гостеприимства — как действенное средство убеждения — были рассчитаны скорее на тех, кто занимал нейтральную позицию или слепо, не требуя доказательств, верил хозяевам, чем на энтузиастов с их оптимистическими ожиданиями и эмоциональными порывами. И даже на тех, кто приезжал с самыми радужными надеждами, увиденное производило сильное положительное впечатление, ибо подтверждало эти надежды. Таким образом, независимо от предрасположенностей паломников, реальный опыт (за несколькими редкими исключениями) редко приводил к разочарованию. Убеждения тех, кто изначально был настроен благосклонно, после такой подпитки лишь твердели, а сомневающиеся начинали проникаться симпатией к стране пребывания.
Далее я подробно анализирую и иллюстрирую примерами технику гостеприимства в отдельных странах. Пока же хочу заметить, что техника гостеприимства состоит из двух взаимодополняющих компонентов. Первый — это подобающее отношение лично к гостю: следует обеспечить его комфорт, благополучие и сделать так, чтобы он чувствовал себя лицом значительным, уважаемым, дать ему понять, что его ценят и любят. Цель (и, как
* Многие критически настроенные интеллектуалы заметно сникают в спокойные периоды, когда отсутствие социальных беспорядков и политического кризиса ослабляет общественный резонанс и снижает восприимчивость к их критике. Вот откуда с середины 1960-х гг. пошли ретроспективные обвинения Америки 1950-х гг. в «самодовольстве», «самоуверенности» и бездействии. Но даже в течение самого этого периода многие интеллектуалы явно «заболевали» по причине стабильности в стране.
74
Пол Холландер
правило, результат) подобных мер таковы: добиться того, чтобы гостю психологически было очень трудно испытывать и выражать негативные чувства по отношению к хозяевам и стране, которую они посещают, а также критиковать их. Это действительно трудно — критиковать людей, которые относятся к тебе дружелюбно, заботятся о твоем комфорте, проявляют интерес к твоей личности и ценят твою работу. И не менее трудно осуждать социальное устройство чужой страны, в которой ты встретил внимание и расположение. Один американский ученый, описывая то, как обращаются в СССР с иностранцами, делился выводами: «Итак, мы видим картину щедрого приема иностранных гостей, включая и многих из тех, кого (по их собственному мнению) недооценивали и игнорировали дома. Каждого заставили почувствовать себя значимой личностью. Как же можно критиковать страну, которая возродила в тебе чувство собственного достоинства и потратила на это столько драгоценного времени своих высокопоставленных чиновников?».22 Разумеется, обращение с гостями (или группой гостей) варьировалось в зависимости от их общественной значимости, а также от целей принимающей стороны, которые, в свою очередь, зависели от режима и исторического периода.
Вторым важным компонентом техники гостеприимства выступает выборочное представление «реальности», объясняющее жесткое планирование и высочайшую организацию политических туров. Вероятность того, что у гостя сложится благоприятное впечатление, безусловно, возрастает, когда ему систематически и целенаправленно демонстрируют только привлекательные стороны жизни: отличная еда и устроенный быт, путешествия в комфортабельных условиях, вежливость и внимательное отношение на каждом шагу, пейзажи и достопримечательности, радующие глаз и сердце или вызывающие интерес. (Правда, нельзя сказать, чтобы работа служб страны-хозяйки, призванных обеспечивать выполнение этих задач, была всегда удовлетворительна. Однако они прилагают все усилия, чтобы эти задачи выполнить, и преуспевают. И, опять же, частично их старания зависят от важности гостя.) В таких условиях, даже если гость и затаил какие-то абстрактные, общие подозрения, касающиеся социальной несправедливости, бедности или извращенности социальных институтов (а лишь немногие ожидают увидеть именно это), зримая, ощутимая реальность, с которой он соприкоснулся, оказывает мощное противодействие его опасениям. Гостей ограждают от неприглядностей жизни, их не пускают куда не следует, и таким образом приятные впечатления гостей оказываются заранее просчитанными. И действительно, большая часть увиденного
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
75
гостями свидетельствует:* да, в этих странах (как и во многих других) есть достаточно примеров искусной инженерной мысли, впечатляющие культурные институты, красоты природы, исторические памятники и притягательные и интересные личности. Но вот что гости совершенно не в состоянии понять — это то, насколько типичны или характерны эти достопримечательности и производимое ими впечатление и насколько адекватно они отражают жизнь страны в целом.
И важнее здесь кумулятивное воздействие, а не конкретные детали. Теплый прием, прекрасные бытовые условия, приятные путешествия, хорошая еда, интересные памятники культуры, встречи с влиятельными и очень занятыми политическими деятелями — из всего этого, вместе взятого, и складывается приятное впечатление, которое хозяева просчитывают заранее с целью расположить к себе гостей и затем убедить их в чем-либо. В результате, при таком сочетании благожелательных (более или менее) установок, льстивого обращения, физического комфорта, тщательно выверенного видеоряда и искусно организованных «случайных» личных встреч было бы удивительно, если бы идеалистические ожидания гостей не оправдались или если бы к ним не прибавились оптимистические наблюдения и выводы.
Даже если большинство визитеров и согласилось бы с тем, что их хозяева заботились о хорошем впечатлении, мало кто из них признал бы результаты такой заботы. Конечно, многие возразили бы, что никакие проявления гостеприимства не способны подкупить или ослепить их. И доказать им обратное на их же примере невозможно. Остается говорить лишь одно: хозяева намеревались произвести хорошее впечатление, и иностранцы, действительно, уезжали с таким впечатлением в кармане, как это они и описывают в отчетах о своих поездках.
Что касается Советского Союза, то теперь уже очевидно, что путешественники 1930-х гг. были введены в заблуждение — и не обязательно инсценированными событиями, поддельными декорациями или нехарактерными образцами реальности — но, главным образом, представлением о Советском Союзе в целом, которое старательно им внушали. Пример СССР, во всяком случае, помогает осознать, что «я сам там был» и «я видел собственными глазами» — это не гарантия и не достаточное условие верного понимания и оценки страны и природы ее социальной организации.
* Говорю «большая часть» потому, что есть и исключения — случаи тотальной лжи: здания, построенные специально для иностранцев, или какие-то вещи, специально для них предназначенные. Другого назначения, кроме как быть предметом с выставки, они не имеют. Примеры подобных «достопримечательностей», этакие современные потемкинские деревни, обсуждаются ниже.
76
Пол Холландер
Если смотреть в целом, одним из парадоксов нашего времени является тот факт, что наличие физической возможности посещать разные страны (то есть свободный доступ и развитая транспортная сеть) не обязательно гарантирует, что мы расширим и углубим свое понимание стран и людей, в них живущих. Этот феномен иллюстрируется следующим примером: миллионы обычных туристов ухитрились посетить самые отдаленные уголки земного шара и не узнать о них ничего существенного. Конечно, большинство обычных, неполитических туристов путешествуют не за тем, чтобы расширить свои представления о мире, — они просто-напросто желают получить в незнакомой обстановке знакомые удовольствия.23 И, в лучшем случае, их интересует жалкий набор стереотипов из «чужих земель» — тех, с которыми их познакомили СМИ и туристические буклеты (например, гондолы в Венеции, Эйфелева башня в Париже, смена караула у Букингемского дворца в Лондоне, музыка калипсо в Вест-Индии и т. п.). Таким образом, место, где турист «сам был», может на поверку оказаться жалким пятачком, а на то, что он «видел собственными глазами», возможно, и смотреть не стоит.
Или, как не без иронии рассказал один путешественник, посетивший Китай:
Несколько лет назад на основе тщательного исследования я вывел теорему, которая, если ее слегка упростить, гласит: всё, что можно узнать во время путешествия, гораздо быстрее, дешевле и лучше можно узнать в хорошей библиотеке. И сейчас коллекция доказательств, подтверждающих верность теоремы, просто ошеломляет своими размерами. И что можно сказать о Китае после 19-дневного пребывания там? На основании увиденного — очень мало...24
Хотя он, наверное, и преувеличивает, его точка зрения заслуживает того, чтобы к ней присмотреться, коль скоро впечатления паломников, а часто и огульные выводы из увиденного покоятся как раз на противоположной посылке, а именно: то, что им показали, и есть настоящие, типичные и красноречивые образцы социального устройства и жизни данной страны. Если в их головы и закрадывалась мысль, что им продемонстрировали тщательно отобранные куски действительности, события или людей, они обычно отмахивались от нее. Большей частью наши интеллектуалы умудрились поверить или постепенно убедить самих себя в том, что увиденное ими не является чем-то необычным или исключением. Причина этого — их ощущение, что они вольны делать общие выводы — о состоянии здравоохранения в стране в целом на примере одной-двух больниц, о системе образования — после осмотра двух-трех классов, и что о политической системе можно судить, поболтав с несколькими гражданами,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
77
отобранными самими хозяевами. Они слишком редко чувствовали очевидную ограниченность своего опыта и скрытые в нем намеки, для того чтобы обобщать то, что они не видели и видеть не могли. Одно из таких ограничений — языковой барьер: многие иностранцы не знали местного языка, и к тому же обычно их контакты с «туземцами» оказывались неполноценны — из-за того, что разговаривали они через переводчиков (иногда они общались с теми, кто знал их язык, однако эти последние едва ли были людьми случайными). Характерно, что они ездили по стране группами, с эскортом гидов-переводчиков. Обычно даже туристов-одиночек сопровождает «прикрепленный» к ним гид. Часто это люди, приезжающие по приглашению правительства (или каких-либо официальных организаций и служб), и им компенсируют путевые расходы. (Иногда расходы, полностью или частично, оплачивают организации в их собственной стране.) Как правило, эти визитеры приезжают в страну впервые и, если говорить в общем (хотя бывают и примечательные исключения), их знания о стране, ее истории и культуре скудные.
Неудивительно, что тех, кто публично выразил свое критическое отношение к стране, туда не приглашали. Иногда, узнав об их намерении приехать, им отказывали во въезде.
Хотя методы приема гостей в СССР, Китае, Северном Вьетнаме и на Кубе во многом схожи, это само по себе не доказывает, что приезжающих в Китай, Северный Вьетнам или на Кубу обманывали такими же способами, как их предшественников в Советском Союзе времен Сталина.*
Однако есть причины подозревать, что и ныне разница между действительностью, которую разрешено видеть туристу, и той, увидеть которую у него нет никаких шансов, огромна, и следовательно, туры представляют собой благодатную почву для превратного понимания характера политической системы. Урок, преподанный советскими отрежиссированными турами, таков: подобная техника гостеприимства в сочетании с благостным расположением гостей могут вызвать к жизни извращенное представление о политическом и социальном устройстве страны. Разоблачения постмаоистского Китая — официальные и неофициальные — укрепили подозрение, что гостям Китая предлагали в высшей степени нерепрезентативные и искажающие действительность квазифакты, впечатление от которых явилось источником неверных суждений и восхищения этим обществом.
* До того как Сталин пришел к власти и после его смерти, туристы имели возможность куда больше узнать о советской действительности, чем в годы его правления.
78
Пол Холландер
Чтобы объективно оценить роль техники гостеприимства в создании позитивных образов Китая, Кубы и Северного Вьетнама, следует подождать, пока не накопится достаточное количество достоверных сведений об этих обществах. В настоящее время мы можем только строить предположения относительно размеров пропасти, лежащей между возвышенными образами этих стран и их земными и нередко отталкивающими чертами.
ИСТОЧНИКИ:
ВЫБОРОЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И КОНТЕКСТ
Источники, использованные в данной книге, в большей или меньшей степени общедоступны. С тех пор как меня заинтересовали взгляды и открыто манифестируемые ценности современных интеллектуалов, известных мировой общественности, я обратился к их работам, в частности к тем, в которых описываются поездки в прокоммунистические страны. Вероятно, высказывания, меня интересовавшие, можно было бы услышать, проведя интервью с этими людьми. Но письменные источники предпочтительнее, ибо они предназначались более широкой аудитории и, следовательно, их авторы уделили своим исследованиям больше внимания и энергии, чем уделили бы интервью (предполагается, что они согласились бы отвечать на вопросы). В любом случае, интервью по необходимости ограничено временными рамками и из него можно скорее больше узнать о том, кто спрашивает — по его вопросам, чем о респонденте. И особой пользы оно не принесет, ведь с тех пор как состоялась поездка, прошли годы и десятилетия. Со временем взгляды и установки пересматриваются, впечатления блекнут, воспоминания стираются. Меня интересовали письменные свидетельства, потому что это документы, они полнее, богаче, подробнее любого интервью, и в них глубже анализируются убеждения автора и опыт, приобретенный в поездке.
Путевые заметки оказались прекрасным материалом-источником, поскольку содержали подробный свод и установок интеллектуалов на отчуждение (или их критических отзывов), и примеров поклонения и энтузиазма. Взятые вместе, эти свидетельства предоставили прекрасную возможность глубоко проникнуть в природу ценностей, которые придавали силы авторам воспоминаний. Очень скоро стало очевидно, что выбор политически привлекательных стран происходил всегда по одной и той же сильно стандартизованной схеме. Во-первых, страна должна находиться очень далеко и/или должна быть малоизученной. Во-вторых, режим там должен быть революционный или постреволюционный,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
79
по-видимому, преследующий почти утопические цели, стремящийся переустроить общество. В-третьих, она должна провозгласить себя наследницей идеологии, близкой к марксистской.* В-четвертых, она должна враждебно относиться к США и большинству западных стран. В-пятых, и это, возможно, самое важное, у страны должен быть образ жертвы, обездоленной жертвы несправедливости. (Образ этот иногда не меркнет долгое время, если на то имеются рациональные, объективные или исторические основания. Образы жертвы и притесняющего ее тирана навеки застыли в умах многих обозревателей.) Каждая страна во время визита рассматривалась как жертва Запада или определенной силы, порожденной Западом: Россия, которая на протяжении своей истории часто подвергалась нападениям со стороны западных стран; Китай, эксплуатировавшийся колониальными властями и оклеветанный после Второй мировой войны американскими СМИ; Куба — жертва американского экономического империализма; Северный Вьетнам, разрушенный американскими Военно-воздушными силами. Соответственно, к середине 1950-х гг. очарование Советского Союза потускнело, частью потому, что стало довольно трудно держать его за жертву несправедливости, когда он превратился во вторую в мире военную и индустриальную супердержаву. С другой стороны, следует заметить также, что образ бывшей жертвы в сочетании с образом опасной и мстительной силы — то есть процесс превращения слабого во властелина — был по-своему притягателен. Например, революционные общества, поигрывающие военными мускулами, волновали, будоражили кровь, в то время как свой, домашний милитаризм вызывал у западных интеллектуалов омерзение.
Наконец, собственную притягательность, не похожую на ту, с которой ассоциировался статус жертвы, имела и отсталость, неразвитость per se. Все четыре страны, выбранные мной для анализа, во времена наибольшей их популярности были технологически и индустриально отсталыми, хотя Советский Союз в 1930-х гг. сделал значительный экономический скачок, да и другие три страны тоже развивались в той или иной форме. Но факт
* Пресловутая «левизна» западных интеллектуалов и их стойкая (или периодически возрождающаяся) приверженность марксизму (или одному из его вариантов) стала одним из моих открытий в этом исследовании. Также я обнаружил, что почти любой набор призывов, лозунгов и терминов, хотя бы смутно напоминающих марксистские, оказывался привлекательным. Как будет показано ниже, и старые и новые левые были объединены — несмотря на все различия — эмоциональной тягой к идеологии, похожей на марксизм или включающей элементы марксизма. Я часто задавался тем же вопросом, что и Сол Беллоу: «Почему люди с кровью отрывают марксизм от сердца? Сколько времени нужно, чтобы погасить надежды, зажженные Октябрьской революцией? Сколько еще нужно узнать интеллектуалам о СССР?».25
80
Пол ХолланАвр
остается фактом: в периоды, когда путевые репортажи об этих странах прямо-таки дышали оптимизмом, ни одна из них не являлась высокоразвитым индустриальным обществом, зато от каждой несло добродетелями — настоящими или мнимыми — аморфного образования, которое принято называть третьим миром. Разумеется, привлекательность, которой обладали в глазах западных интеллектуалов Китай, Куба и Северный Вьетнам, была лишь одним из составляющих очарования третьего мира как целого. Отсталость означала для интеллектуалов-созерцателей чистоту и невинность, ибо она не коррумпирована, не затронута пороками индустриализации и урбанизации и запутанными противоречиями современной жизни, не заражена болезнями торговли, коммерции и промышленности. Таким образом, статусы неразвитого государства и третьего мира, подобно детству, легко ассоциировались со свежестью, неограниченными возможностями и здоровой простотой и невинностью.* Сочувствующие паломники, как правило, не вполне осознавали противоречие, заключающееся в том, что почти не запятнанные грехами, присущими индустриализации, страны яростно пытались расширять и развивать производство. В любом случае, поклонники этих стран торжественно заверяли, что они [страны] усвоили урок и не собираются наследовать изъяны и пороки экономики западного образца. Это и есть краеугольный камень мифа под названием «социализм» — обещание совместить модернизацию с социальной сплоченностью и стойкой жизнеспособностью общества.27
Эти две волны интеллектуалов-паломников — 1930-х и 1960- 1970-х гг. — принадлежали, за редким исключением, к разным поколениям и придерживались, в некоторых аспектах, разных политических убеждений. Как отмечалось выше, одним из наиболее очевидных различий между ними было то, что к 1960-м гг. отчужденные западные интеллектуалы уже не смотрели в сторону СССР (или на страны советского блока) в ожидании вдохновенных идей.** Как правило, не были они и приверженцами,
* Питер Бергер считает, что «возможно, здесь задействован архаический мифологический мотив — что далеко-далеко есть первозданные, целомудренные земли, где можно обрести тайну исцеления».26
** Было и несколько неординарных исключений. Например, Анджела Дэвис, посетившая СССР в 1973 г., восхваляла его в стиле 1930-х, и принимали ее соответствующе — как У1Р-гостью, что включало и публикацию 60-страничной брошюры, в которой описывался ее визит, тиражом 45 000 экземпляров. Объяснение ее несвоевременной привязанности кроется не только в том, что она член просоветской Коммунистической партии США, но, возможно, и в ее принадлежности к числу тех интеллектуалов, которые не могли не сочувствовать любому авторитарному режиму, если он пожаловал самому себе титул «социалистический». (Анджела Дэвис с большим воодушевлением описывала в автобиографии и свой визит на Кубу.) Не менее примечателен энтузиазм (возможно, и эфемерный)
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
81
членами или последователями прокоммунистических партий собственных стран. Таким образом, сравнение этих двух групп или поколений равносильно сравнению «старых» и «новых» левых и, в особенности, социальных критических позиций, сформулированных этими поколениями.
Различия между двумя поколениями особенно резко выступают в случае с американскими интеллектуалами. Представляется, что отчужденные интеллектуалы 1960-х гг. значительно превосходили числом интеллектуалов 1930-х и что они гораздо сильнее были отчуждены от общества, чем их предшественники. Кроме того, второе поколение критически настроенных американских интеллектуалов — в сравнении со своими английскими, французскими, немецкими и скандинавскими двойниками — было более отчужденным. Если данное наблюдение верно, то объяснение этому можно найти во вьетнамо-американском и расовом конфликтах — проблемах, не имеющих аналогов в Западной Европе.
Явное усиление отчуждения* в США могло быть и следствием того, что людей, притязающих на звание интеллектуала и на установки, с ним ассоциирующиеся, стало гораздо больше. В 1960-х гг. в США (для других западных стран это менее характерно) среди американских интеллектуалов и тех, кто домогался этого статуса, определенная степень публично манифестируемого отчуждения от главных ценностей и общественных институтов стала неофициальной нормой: от интеллектуалов ожидали отчуждения. В те годы, вероятно впервые в истории, одинокие голоса осажденных со всех сторон интеллектуалов, составлявших маленький, изолированный, критически настроенный авангард, сменил — во всяком случае в США — многочисленный, хорошо спевшийся хор нигилистов, порожденный таким явлени-
д-ра Ральфа Абернети, активиста борьбы за гражданские права. Его вдохновила Восточная Германия — один из наиболее репрессивных режимов советского типа. В конце своего двухдневного визита Абернети сказал: «Каждая минута моего пребывания в вашей замечательной стране была наполнена радостью и несла в себе ценный политический опыт. Я возвращаюсь в свою страну обогащенный, ибо научился понимать и ценить Германскую Демократическую Республику». В свою очередь, Скотт Ниринг, американский общественный критик, посетив Восточную Германию, нашел, что власти там совершенно никого ни к чему не принуждают.28
* Различные аспекты отчуждения будут обсуждаться в следующей главе. Существенным психологическим компонентом концепции отчуждения, как я ее вижу, является чувство, что в обществе мало можно найти (если вообще можно) ценного и достойного уважения, причем чувство это сопровождается глубоким пессимизмом в отношении перспектив развития общества. Сегодня в дискуссии об отчуждении можно было бы выделить две тенденции, часто переплетающиеся. Первая — марксистская, вторая — веберианская. Обе виновны в отчуждении, главным образом в связи с потерей традиции; первая ставит акцент на экономические факторы, вторая — на процесс секуляризации и бюрократизации.29
82
Пол Холланлер
ем, как массовая субкультура отчуждения. К концу 1960-х уже стало непонятно, какая из двух позиций — традиционная поддержка существующих социальных институтов и ценностей или рефлексивное пренебрежение ими — является ортодоксальной. Повсеместное распространение высшего образования, несомненно, связано с этим феноменом:
Стремительная экспансия высшего образования... означает, что теперь мы имеем класс людей... которые хотя и не подходят под определение интеллектуала (и часто даже не обладают интеллектуальными способностями), но, тем не менее, считают себя интеллектуалами... В стране, например такой, как сегодняшняя Америка...[найдется]... несколько миллионов «интеллектуалов», которые смотрят на свое общество строгим критическим взглядом и легко встают в оппозицию по отношению к нему.30
Определенные качественные изменения в убеждениях отстраненных американских интеллектуалов (и западноевропейских тоже, хотя и менее глубокие) повлияли как на характер их социальной критики, так и на их восприимчивость к призывам чужих обществ. В первую очередь я имею в виду «революцию восставших надежд», которая, вопреки расхожим представлениям, была скорее западным феноменом, чем феноменом третьего мира.* Ясно, что подъем индивидуалистических ожиданий и их следствие — нежелание мириться с любыми лишениями и потерями — внесли свой вклад в укрепление социальной критической позиции как интеллектуалов, так и социальных групп, выразителями мнения которых стремились быть интеллектуалы.
Распространение подобных убеждений связано не только с тем, что высшее образование стало общедоступным, но и с изменением его качества и содержания. Специфические тенденции, инновации и движения в системе американского образования сильно укрепили веру в неограниченность потенциала и уникальность личных качеств и потребностей каждого индивида. Конечно, эти установки всегда были частью американской культуры, богатой эгалитаристскими традициями, но в 1960-х гг. их заново и более конкретно попытались воплотить в жизнь.
Устанавливая хронологические границы исследования, обозначить период между 1930-ми и 1960-ми гг. было довольно легко, а вот отобрать конкретные работы в качестве материалов- источников оказалось трудно. Требовалось решить, кто из западных интеллектуалов люди значимые и влиятельные в обществе. По каким критериям следует выбирать из многих достойных? Очевидно, выбирать следовало среди тех, кто в какой-либо период своей жизни резко критически относился к своему обществу
* К концу 1970-х гг. стало модно говорить об угасании ожиданий в США и на Западе в целом в связи с экономическими трудностями.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
83
и благожелательно — к одному из упомянутых выше и, вдобавок, выражал свои чувства публично и в письменном виде. Меня не заботили ни живучесть этих установок, ни процентный состав тех авторов, которые впоследствии сменили свои политические симпатии. Процесс политического разочарования сам по себе достоин отдельного исследования и заслуживает подробного анализа не менее, чем проблемы, с которыми мы столкнулись в этой книге. Меня интересовало укрепление политической веры и ее конкретные проявления, а не сам процесс разочарования, хотя первое часто является следствием второго.
Коль скоро упоминалось гражданство «западных» интеллектуалов, следует заметить, что в этом исследовании их круг ограничивается главным образом американцами,31 британцами и французами. Их было больше, среди них было больше примечательных личностей, и они больше других написали о своих политических поездках. Что, однако, не исключало привлечение интересных и существенно важных работ, написанных интеллектуалами из других стран.
Можно предположить, что я «сгустил тучи», «выдергивая» только тех авторов, чьи убеждения и работы иллюстрируют мои рассуждения. Хотя это в каком-то смысле и правда, решающим фактом является то, что такую группу можно было собрать безо всякого труда: достаточно отыщется влиятельных интеллектуалов, которые ездили в политические турне и написали нечто вроде «записок путешественника», подтверждающих мои соображения по поводу западных интеллектуалов. Я глубоко сомневаюсь, что было бы легко сделать столь же внушительную контрвыборку выдающихся западных интеллектуалов, которые посетили те же страны и по возвращении негодующе их разоблачали. Исторический факт, что значительное число известных (и менее известных) западных интеллектуалов сочувствуют (или сочувствовали) — в той или иной степени — режимам, которые они сочли социалистическими и которые, по их мнению, стремятся воплотить в жизнь самые идеалистические постулаты марксизма.
Не все путешественники, выбранные для этого исследования, искали утопии. Тем не менее, они являются выразителями целой палитры установок, подразумевающих охоту за утопией и определенную степень благосклонности и восприимчивости по отношению к привлекательным сторонам новых обществ. Не каждый отправлялся в путешествие с целью найти страну, соответствующую его идеалам и страстным стремлениям, но многие ехали именно с такой целью. Другие пускались в дорогу из любопытства или влекомые чувством, что очень важно самим оценить общества, которые СМИ родной страны часто выставляют в не¬
84
Пол Холланлер
приглядном виде. Многочисленные путешественники отправлялись в туры, руководимые специфическими побуждениями и интересами, желанием узнать, как решаются проблемы, не решенные в их стране. Круг интересов был широк: от национальных отношений до благосостояния нации, от индустриализации и государственной поддержки сценического искусства до состояния поликлиник и тюрем. Таким образом, пока одни интеллектуалы проецировали нелепые надежды на прокоммунистические страны, предвкушая обнаружить там радикально новое течение жизни и бесповоротный разрыв со всеми известными пороками прошлого и изъянами структурированного общественного бытия, другие концентрировались на более вещественных и конкретных достоинствах, на новых формах организации экономики или технологиях управления, на различных более рациональных (или кажущихся рациональными) решениях вековых проблем. Здравый смысл подсказывает, что и от личных качеств и социального статуса визитеров, а не только от конкретных исторических условий и духа времени зависело, какие черты страны они считали привлекательными. Разных людей притягивало разное. Безусловно, и профессиональная деятельность играла важную роль в предпочтительном выборе той или иной особенности страны в качестве примера для подражания.
Можно ли отнести политических пилигримов к «сочувствующим»? Безусловно, между концептами «политического пилигрима» и «сочувствующего» сходство есть. Оба критически относятся к западным обществам и с симпатией — к «социализму». Многие сочувствующие даже побывали в СССР. Однако слово «сочувствующие» имело более узкий смысл — оно относилось к тем, кто в 1930-х и 1940-х гг. симпатизировали Советам и коммунистам, но формально не брал на себя никаких политических обязательств и по разным причинам не вступал в Коммунистическую партию. И компартия, и СССР активно пользовались услугами сочувствующих, раз их символический нейтралитет придавал коммунистическим идеям вес и усиливал воздействие пропаганды. Сочувствующие не входили ни в одну организованную структуру и, следовательно, имели свободу действий и слова. В целом, взгляды сочувствующих представляли собой легкие модификации или вариации официальной политической линии, или ее измененную версию.* Этот термин частично утратил свой денотат после Второй мировой войны, когда природный их вид —
* Сочувствующие обычно выступали проводниками «экзотерического», по определению Габриеля Олмонда, взгляда на линию партии, который, как правило, привлекал наибольшее число людей и при этом почти ничьих чувств не оскорблял — пожалуй, наиболее разбавленная и приятная версия партийной линии.32
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
85
преданный помощник Советов, легко растворившись в рядах Коммунистической партии (при посредничестве фронтовых организаций), постепенно исчез. Этот термин подразумевает, несмотря на некую неопределенность, более строгое и твердое политическое предпочтение, которое западные интеллектуалы 1960-х и 1970-х гг. имели редко. Представляется, что цикл поклонение-разочарование в наши дни проходит быстрее. Интеллектуалы могут приехать на Кубу или в Китай благожелательно настроенные, написать книгу или несколько статей, выражающих эти чувства, но всего лишь несколько месяцев или год-два спустя их энтузиазм угасает. И они вольны готовиться к поискам нового объекта поклонения. В конце концов, пока Кастро преследовал гомосексуалистов, Мао обменялся рукопожатием с Никсоном, и китайский режим снова ввел в университетах конкурсный экзамен. В Албании или Мозамбике дела могут обстоять иначе. В общем, может поменяться место действия — объект интересов сочувствующих, но не сущность отчуждения, которое и движет их «мобильными» чувствами. В отличие от Дэвида Кота, английского писателя и академика, мне было трудно редуцировать феномен утопической восприимчивости современных западных интеллектуалов до «постскриптума к просвещению» — таковы подзаголовок и главная тема книги Кота.33 Он сводит сущность такого явления, как поездки сочувствующих, к ценностям и установкам, берущим свое начало в Просвещении, которое предполагало рациональность, веру в прогресс, благотворное влияние науки и техники, планирование или, говоря в общем, плодотворное вмешательство в социальную жизнь. Если поездки сочувствующих (и поиски политической утопии) и были постскриптумом к чему-либо, то скорее к романтизму XIX в., чем к рационализму XVII, хотя на первый взгляд рационализм в них и преобладал. Я присоединяюсь к критическому отзыву Льюиса Фьюера на это утверждение Кота:
Люди эпохи Просвещения... были готовы осуждать подавление свобод, от кого бы оно ни исходило; они были врагами любой формы деспотизма. Им нравилось воображать себя властными монархами, но они никогда не писали апологий прусскому или российскому крепостному праву. Они тоже не переставали скептически смотреть на грандиозные политические заявления... Сочувствующие же были не столько детьми Просвещения, сколько наследниками, унаследовавшими платоническую страсть к статусу философов-иросветителей.31
Вопреки предположению Кота, привлекательность социалистических систем, рассматриваемых здесь (включая и Советский Союз 1930-х гг.), выходит за рамки рационального. Одна из главных мыслей моего исследования заключается в том, что основные привлекательные черты этих новых обществ не были политическими, по крайней мере, не в таком, сравнительно узком и общеупотребительном значении этого слова, хотя на первый взгляд все
<96
Пол Холландер
свидетельствует об обратном. Я обнаружил, что основное внимание к себе притягивали две темы. Одна из них — это, конечно же, социальная справедливость и ее многочисленные вещественные воплощения — материальные, экономические, политические, культурные и организационные. Вторая скорее относится к сфере духовной и не столь осязаема, но, возможно, более важна. Она заключается в достижении или в стремлении достичь «цельности» — чувства идентичности и общности, смысла и цели жизни. Повышенное внимание к этой стороне жизни общества есть симптом болезни, которая тяжелее и серьезнее, чем просто неудовлетворенность определенными политическими мерами, пороки капитализма и конкретные формы социальной несправедливости, имеющие место в западных обществах. Эта болезнь коренится в «цивилизации и ее отрицательных воздействиях», причем одни из них эндемические, тогда как другие усугубляются в секуляризированном обществе, уже не способном ни легитимировать обуздание индивидуалистических порывов и фантазий, ни предложить полнокровный социальный миф или ценности, которые могли бы отвлечь внимание личности от все углубляющейся самоозабо- ченности. За метафорами цельности, идентичности и общности скрыта мольба об универсуме, имеющем смысл, цель и путь. Несомненно, такая мольба, вопреки возможным ожиданиям некоторых, громче звучала из уст интеллектуалов, чем «простых людей». Первые в отличие от вторых, как кажется в последнее время, считают более невыносимым и мучительным жить в мире «разочарования», из которого «ушли истинные и возвышенные ценности», как Макс Вебер охарактеризовал коррозионный процесс секуляризации. Один из парадоксов нашего времени заключается в том, что интеллектуалы, шедшие в авангарде секуляризации, оказались, как представляется, ее жертвами, борющимися против нее же, не желающими или не способными примириться с бытием, индивидуальным или общественным, которое предлагает столь мало аутентичных толкований «разочарования».
ЗАПАДНЫЕ ТРАДИЦИИ ПОИСКА УТОПИИ
Утопические устремления современных западных интеллектуалов являются частью древней традиции искать рай на земле, которая приобрела более специфическую форму, когда вера западного человека в Царствие Небесное начала слабеть. Нельзя сказать, чтобы утопические и религиозные цели были антитетическими, — первые часто питаются или берут свое начало от религиозных импульсов. Если между глубинным желанием обрести рай
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
87
на земле и стремлением к духовному удовлетворению можно обнаружить сходство, то между ориентацией на сиюминутное, «здесь и сейчас» удовольствие и тягой к жизни, отрешенной от мирского, существуют эмпирические, зримые различия.
Утопии различаются специфическими целями и способами их достижения, но все утопии надеются обрести одни и те же блага.35 Все они планируют или предполагают радикальные, коренные перемены и преобразования условий человеческого бытия, с тем чтобы снять овладевшее многими чувство фрустрации и неудовлетворенности. Утопии отличаются от иных планов подобных преобразований своей глобальностью — они принципиально прилагаются ко всему роду человеческому, — а также тем, что их цели всеобъемлющи. Как заметил Адам Улам, они «должны обещать не просто больше, но абсолютно другой и к тому же чудесный мир...».36 Часто именно из-за своих чудовищно грандиозных замыслов и амбиций утопии рассматриваются как нереалистичные.
Утопии объединяют и темы, свойственные только определенным историческим периодам с их разочарованиями, и элементы — как религиозные, так и мирские, —которые присущи многим культурам и эпохам. Исайя Берлин четко выделил эти элементы — универсальную суть, ядро всех утопических убеждений и чаяний:
...Вера, что где-то, в прошлом или будущем, в Божественном откровении или в уме какого-нибудь мыслителя, в исторических или научных изысканиях или в простом сердце некоррумпированного, хорошего человека есть окончательное решение. Эта древняя вера покоится на убежденности в том, что все позитивные ценности, в которые верят люди, должны, в итоге, быть совместимыми и даже наследовать одна другой.37
Замечание Берлина проникает в самое сердце концепции утопии, а сердце утопии — гармония: гармония между различными ценностями и намерениями, между индивидами, группами, между обществом и индивидом, человеческим сообществом и природой, между общественными и личными интересами, между надеждами и обретениями, желаниями и возможностями. То есть утопия — это форма социальной организации, которая изживает недовольство, фрустрацию и конфликты, несет счастье, свободу, способствует самореализации через комбинирование общественных связей и создание материальных и институциональных возможностей для саморазвития. Утопия, безусловно, не совместима с бедностью, убогостью, неравенством, принуждением или репрессиями. Это государство, в котором потребности каждого индивида и группы скорее совпадают, чем конфликтуют.
Еще один компонент ядра утопической идеи — это уверенность в том, что общество (или сообщество) просто обязано нести полную ответственность за индивида. Утопии не верят, что «об¬
88
Пол Холлам Авр
ретение счастья следует оставить нашим личным усилиям».38 Они предпочитают считать, что большинство людей не знают, что для них хорошо, им неведомо, что погоня отдельно взятого индивида за счастьем не приносит плодов и часто ведет к столкновению желаний разных индивидов (желаний, которые, как подразумевается, могут осуществиться в рамках идей). Из принудительного характера многих утопических схем неизбежно следует, что они, нацеленные на решительное воплощение утопий в жизнь, просто не могут исключить применение силы, для того чтобы утвердить или поддерживать утопические намерения.39
Фактически, большинство утопий строят планы и призывают провести их в жизнь, что избавляет их от репутации мифа или коллективной фантазии. Кроме того, отчасти противоречивая смесь рациональных и религиозных элементов, включая и ориентацию на перемены, напоминает нам, что утопическое мышление — относительно новый феномен, родившийся никак не ранее Ренессанса и получивший новый импульс от французского Просвещения и поощрение — от достижений науки XIX века.40 («Искать спасение на этой земле, достичь человеку совершенства в этой жизни было бы немыслимо до начала эпохи рационализма».)41
Мыслители-утописты (и деятели) были склонны считать природу и потребности человека более или менее неизменными, допуская возможность полного примирения разнородных человеческих ценностей и желаний. Такая перспектива создает напряжение между действительной природой человека (и поведением) — такой, какая она есть «здесь и сейчас» — и «истинной», или «реальной», природой человека, которая, как подразумевается, проявляется в каждом, когда эта позитивная, универсальная сущность выявлена и может проявиться вовне, благодаря усилиям утопического учителя, революционного вождя или мыс- лителя-просветителя. Утописты, как правило, видят свою задачу в том, чтобы убрать преграды с пути самореализации или создать для нее необходимые условия. На практике это ведет к таким программам и политике, которые нацелены на модификацию и изменение человеческой природы или на то, чтобы поведение человека, по крайней мере, можно было предсказать, что связано с далеко идущими намерениями, заложенными в утопических планах. Льюис Мамфорд определил фундаментальную схему, по которой построены концепции человеческой природы и утопические тенденции:
Если средневековые мыслители были убеждены в том, что, в целом, человеческие институты никак исправить нельзя, то их последователи в XIX веке совершили противоположную ошибку, дойдя до абсурда: они полагали, что человеческая природа асоциальна и необузданна только потому, что церковь, государство или институты собственности извратили побуждения
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
89
каждого человека. Такие люди, как Руссо, Бентам, Фурье, Годвин, Оуэн, возможно, на многие мили отстояли друг от друга в своей критике общества, но в глубине они сходились в вере в человеческую природу. Они рассматривали человеческие институты как внешние по отношению к человеку; существовало множество смирительных рубашек, которые коварные правители надевали на сообщество, с тем чтобы здравомыслящих и дружелюбных людей заставить вести себя подобно сумасшедшим.42
Маркс и его последователи придерживались примерно таких же убеждений в отношении взаимосвязей между природой человека и социальными институтами. Утопия Маркса — коммунизм — подразумевала не только изменение системы производства и другие институциональные преобразования, но также и раскрытие человеческого потенциала и выявление человеческих качеств, которые отнюдь не баловали нас своим присутствием на протяжении истории (а именно, бескорыстие, доброта, отсутствие агрессивности, рациональность). Последователи и ученики Маркса усвоили его посылки, но планировали подремонтировать и тотально обновить природу человека лишь в отдаленном будущем и поставили эти преобразования в зависимость не только от структурных изменений в обществе, но и от настойчивых дидактических попыток воздействовать на нее посредством образования и пропаганды.43
Трудно вообразить себе утопические схемы, которые исключали бы веру в фактически неограниченный человеческий потенциал. Все существующие политические системы отражают утопические претензии придерживаться этой позиции, и по вполне понятным причинам. Открыто декларируемая вера в практически безграничные возможности человека и всестороннее совершенствование его природы сочетается, при ближайшем рассмотрении, с отношением к человеческим существам как к сырому материалу, чья нынешняя природа требует серьезных переделок, но может быть радикально улучшена путем безжалостной реформации.
С позиций сегодняшнего дня наиболее важным различием в утопических замыслах представляется различие между традиционно-рациональной и менее рациональной, или нерациональной, концепциями утопии. Иными словами, это различие между концепцией, которая ставит акцент на рационализацию социального устройства общества и на усиление контроля над физическими факторами окружающей среды, и противоположной концепцией, в основе которой лежит сравнительно недавно возникший интерес к созданию либерализованных, нерепрессивных, неконтролируемых или квазианархических социальных институтов. Юджин Гутхарт определяет соотношение этих двух направлений мысли и позиций как «утопизм разума» против «нового утопизма пылкого воображения».44 Новые утописты — это преимущественно Герберт Маркузе, Норман О. Браун, Р. Д. Лейнг и Тео¬
90
Пол ХолланАвр
дор Розак. Различие между этими двумя утопическими течениями имеет некоторое отношение к нашему исследованию, поскольку оно лежит в основе определенных различий между «пилигримами» 1930-х и их последователями недавних лет. Можно предположить, если слегка упростить проблему, что первая волна утопических исканий ближе к «утопизму разума», вторая же — к «утопизму пылкого воображения», ибо в центре ее внимания — свобода от социальных и сексуальных репрессий и освобождение от всех «ненужных» ограничений. Новый утопизм включает и элементы антиинтеллектуализма, в том числе и враждебность к науке, промышленности и технике. Так, в 1930-х советское общество притягивало к себе внимание рациональностью, планированием и широким внедрением технологий и научных достижений, в то время как эти факторы уже не столь привлекали в 1960-х гг., когда акценты сместились: появилась тоска по простоте, аутентичности и общности, которые обнаружились в недавно открытых обществах.
Если основные принципы утопий весьма сходны, таковыми являются и различные формы утопических исканий. Наименее трудна та, которую можно назвать кабинетным поиском утопии, то есть теоретизирование и спекуляции безо всяких попыток применить выработанные схемы на практике. Более серьезная охота за утопией — это основание малочисленных утопических общин, отрезанных от остального мира, например, утопические общины XIX в. в США, американские коммуны 1960-х, кибуци в Израиле (последние отличаются от прочих тем, что не выступают оппозицией обществу, а напротив, поддерживают его как целое, хотя численность населения там и ограничена). Основание небольших утопических общин также может сочетаться с территориальной миграцией из страны в страну или даже с континента на континент. Конечно, таково было происхождение многих американских утопических общин, пример из недавних — Народный храм в Гайане.
Погоня за утопией может принимать и недвусмысленно политические формы, когда делается попытка посредством революции или восстания создать социальный порядок, настолько не похожий на уже известные общества, чтобы утопические призывы получили оправдание.
В последнее время распространены паломничества в отдаленные земли, питающиеся ожиданием найти утопические социальные институты в местах незнакомых или малознакомых. Надежды на такое открытие могут ярко пылать или ослабевать, мотивы — варьироваться от простого любопытства (может, найдется что-нибудь получше, чем столь знакомые социальные
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
91
институты?) до более серьезных ожиданий и даже твердой уверенности в том, что социальные системы, много достойнее уже известных, должны существовать и могут быть найдены. Данное исследование уделяет основное внимание именно последней форме утопических исканий. Мотивы, лежащие в основе политических паломничеств, в определенных аспектах подобны тем, которые побуждали путешествовать людей, имевших и не столь ясные цели. Существенный мотив, двигавший многими пилигримами, — это желание приобрести новый опыт и преодолеть старый. Погоня за необычным, экзотическим или чудесным на протяжении веков являлась частью традиции путешествий, особенно практиковавшейся выходцами из высших слоев общества — авантюристами, творческой богемой и интеллектуалами — категории, частично перекрывающие друг друга. Жажда приключений, обогащения и, сверх этого, новый личностный опыт всегда были элементами соблазна путешествия. В этом плане паломничество и революция схожи. Оба разрушают заведенный порядок, кажутся перспективными и ведут к какой-то, весьма смутно представляемой, трансформации жизни индивида. К тому же, путешествие часто рождает надежду на то, что «туземцы» дадут дидактический урок, научат, как зажить полнокровной, богатой жизнью. Подобные побуждения рассматривались некоторыми авторами в качестве составляющей поисков утерянного рая или безгрешности. Манес Шпербер писал, что «жажда рая включает как охоту к перемене мест, так и тоску по родине, по ушедшему детству, потерянной юности, по жаркому дыханию страстей, уже отпылавших. Чтобы мы ни потеряли в прошлом, что бы ни тщились обрести, все это мы стремимся искать в отдаленной земле — в Утопии».45
Компенсаторная функция поисков утопии в путешествиях является также главной темой работы Боде о представлениях европейца о неевропейце. В своем предисловии Франклин Л. Бау- мер писал: «Представления европейца о неевропейском человеке — это, в основном, не описания реальных людей, но, скорее, проекции его собственной ностальгии и чувства неполноценности... Иноземец, примитивный или цивилизованный, представляется образцом того, кем он (европеец) был в счастливейшие дни свои или кем он хотел бы и, возможно, в один прекрасный день мог бы снова стать».46
Взгляд английского историка В. Г. Кирнана на роль, которую играл Восток в представлении западных людей XIX в., можно обобщить и приложить к другим эпохам и странам: «Для коренного его жителя — царство необходимости и судьбы, а для западной фантазии Восток — царство свободы, где человек мо¬
92
Пол Холландер
жет подняться выше всех преград, обладая неограниченной властью, о которой так грезил там Наполеон... всё это неординарные вещи, от которых организованный современный человек вынужден был отказаться и жить таким, каким был рожден... с удилами во рту. Если, как нам сейчас говорят, мечты необходимы нам для поддержания душевного равновесия, европейский коллективный сон наяву о Востоке, может, и помог его сохранить...».47
В наше время произошла новая вспышка самосознания — это касается потенциальной возможности решить посредством путешествия личные и социальные проблемы, что есть в высшей степени стереотипное сопряжение «открытия» и «самораскрытия». Почти все это имеет весьма ограниченный политический смысл и, следовательно, может быть перенесено в разряд многочисленных побочных продуктов резкого усиления индивидуализма в западных странах и особенно в Соединенных Штатах. Так, для многих путешествие превратилось в эго-стимулирую- щую деятельность, все более и более активную, в некий способ омоложения, продуцирующий новые установки, с позиции которых это же самое старое эго пересматривается и переоценивается. Путешественники часто ищут какое-то поприще, место действия, где они могли бы развернуться, в надежде вновь обрести молодость, силу, ушедшие в прошлое интересы или таланты, более гармоничные отношения между собой и природой или собой и социальным миром. В сущности, эти ожидания безграничны и противоречивы. Мы путешествуем с целью побыть наедине с самими собой или найти компанию; укрепить существующие связи или забыть о них; уезжаем в погоне за знаниями или стремясь от них отгородиться; обремененные социальной ответственностью или совершенно свободные от всякой ответственности. Особенно необорима жажда путешествия у тех — и число их может расти — кто ищет окончательное решение личных и социальных проблем. Кроме того, движение — перемещение куда-то — предполагает ясную цель. (Что, возможно, поможет также объяснить, почему американцы все время разъезжают по своей стране и почему им так нравится посещать встречи и конференции, проводимые в самых разных местах.) «Это обещание смены декораций, — писал Шпербер, — в сущности есть объявление о том, что скоро непременно появится решение или придет спасение».48
Закономерно было ожидать, что среди различных групп современных путешественников, особенно среди тех, кем движут амбиции и воображение, будут широко представлены интеллектуалы. Хотя не вызывает сомнения, что многие интеллектуалы в наше время отправляются в поездку с целью найти какую-либо
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
93
форму политического благополучия и просвещения, феномен интеллектуалов, путешествующих не для развлечения или отдыха, далеко не нов. Творческая элита прошлого, хотя и не многочисленная и, как правило, по социальному происхождению более привилегированная, часто поддается тем же импульсам, когда отправляется с визитом в отдаленные и малоизвестные страны. Те, кто устал от своей культуры и цивилизации или кому трудно в них жить, постоянно бросают тоскующие взгляды в сторону дальних земель, где неиспорченные туземцы пребывают в целомудрии, гармонии и аутентичности. Европейская культура и американская (присоединившаяся позднее) многие века были пропитаны амбивалентным отношением к самим себе, к своей сложности, ограниченности и претензиям, свойственным цивилизации с высоким уровнем социальной организации и дифференциации. Предполагалось, что лучшие условия для человека либо существовали в прошлом, либо существуют в отдаленных малоизвестных регионах или — что является более поздней тенденцией — в утопическом государстве будущего, которое сочетает некоторые черты идеализируемого прошлого и идеализируемого далека. Вот наблюдение Боде:
...Старая идея золотого века, которая никогда полностью не была забыта, продолжает в разных, постоянно меняющихся вариантах предлагать культуре возможности установить связь с той неувядающей доисторической эпохой; и вот тогда весь идеализм, вся мораль, все заоблачные мечты о счастье, царившем на туманной заре человечества, которая так разительно отличается от несовершенной современности, засияют в полном блеске... Итак, «благородный дикарь» или некое смутное о нем представление присутствует в нашей культуре с самого ее рождения...
Прославление всего примитивного, неокультуренного как признака истинного, полного, запредельного блаженства — вот один из столпов, поддерживающих нашу западную цивилизацию.49
Неоднократно в европейской истории такие ожидания обострялись во времена кризисов, когда неудовлетворенность условиями бытия провоцировала охоту за альтернативой. Таким образом, путешествия в новые общества второй половины XX в. укладываются в более общую схему, имеющую давнюю историческую традицию. Этот вывод напрашивается, если мысленно вернуться к тому, что двигало путешественниками 1930-х и 1960-х гг.: к идее естественности, общности и аутентичности, которые якобы обнаружились в новых обществах. («Естественные добродетели, столь гармонично развитые в других, резко контрастируют с нашими пороками и развращенностью...» — это тоже слова Боде.)50
Вместилищем всех этих «естественных добродетелей», гармонии и аутентичности был «Благородный Дикарь» — тот, чей образ продолжал оказывать мощное влияние на фантазии и чая¬
94
Пол Холланлер
ния жителей Запада и кто вечно возрождается в новых инкарнациях, каждый раз другой, но сохраняющий свое ядро — будь он первобытным «туземцем», грубым пролетарием, крестьянином «от сохи» или мужественным партизаном герильи третьего мира. Благородный Дикарь был всем тем, чем путешествующий аристократ, представитель творческой элиты или интеллектуал не был. Судя по примечательной живучести и неизменности этого образа, основные причины, вызывающие неудовлетворенность и фрустрацию в западной цивилизации, из века в век почти не меняются, по крайней мере, как показал опыт этих путешественников и исследователей. В. Г. Кирнан считает, что Благородный Дикарь характеризует «как широту кругозора, так и глубину самообмана» века, его породившего (по крайней мере, наиболее продуманный вариант этого образа во Франции XVIII в.), и что «он соответствует настроению среднего класса, тоскующего по „свободе“, и настроению Европейского мира, обремененного своей сложностью. Обыкновенно, простой человек — в Европе или за ее пределами — считался „прирожденным Калибаном“*, грубым животным, исправить которого может только отцовский контроль. Но, возможно, наоборот, причиной его страданий был слишком жесткий контроль, слишком сильное принуждение и классовая дифференциация. А если так, то следует ожидать, что в примитивном человеке с его примитивными условиями естественным образом проявятся те добродетели, которые цивилизованному человеку достаются болезненно тяжким трудом. Эта идея претерпела множество метаморфоз, и Благородный Дикарь объявился в совершенно разных местах...»51
Эгнацы Сахе, еще один исследователь, изучающий западный взгляд на незападный мир, подчеркивает более новые элементы амбивалентности в подобного рода восприятии:
Средние европейцы продолжают воспринимать жителей третьего мира... через призму двух противоречащих друг другу стереотипов, которые, однако, часто связываются в самых разных комбинациях. Этот «другой» теперь является в виде каннибала, Антихриста, всеразрушающего демона, готовящегося затопить развитые страны демографической волной «проголосовавших за него», и вот — как правильное, традиционное существо — дитя природы, создатель совершенных культур достоин нашего величайшего ува-
м.' оиии 52
Погоня за непорочной простотой не была единственным источником традиции образованных людей тосковать по отдаленным землям. При близком рассмотрении обнаруживается и еще один привлекательный фактор, во многом диаметрально
* Калибан — персонаж трагикомедии Шекспира «Буря».— Примеч. переводчика.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
95
противоположный простоте, естественности, ничем не регулируемой жизни, которые ассоциировались с Благородным Дикарем. С этой точки зрения, порядок и рациональность предписаны просвещенными верхами и контрастируют с хорошо знакомыми всем явлениями беспорядка и ограниченности и с преследованием противоречивых групповых интересов, которые мешают реализации высших целей в их собственных обществах. Французские интеллектуалы XVIII в. были примечательными предшественниками современных интеллектуалов, которых восхитили просвещенные, четко организованные социалистические системы, например, советская или китайская. Такое убеждение не редкость. Токвиль сделал ряд уместных замечаний по поводу феномена, который сохранился и до наших дней:
Не находя ничего, что соответствовало бы их идеалам, они отправились в самое сердце Азии искать это нечто. Не будет преувеличением сказать, что каждый из них так или иначе включал в свой отчет выразительную хвалебную речь о Китае... Это слабоумное и варварское правительство... представлялось им самым совершенным образцом, достойным того, чтобы ему подражали все нации.53
Аббат Бодо, живший в XVIII в., поклонник Китая, писал:
Более 320 миллионов людей живут здесь — настолько мудрые, счастливые и свободные, насколько только могут быть люди. Они живут под самой неограниченной, но самой справедливой властью; под богатейшей, самой сильной, самой человечной и самой понимающей монархией.54
Еще один писатель XVIII в., Пуавр, заявил, что «Китай предлагает пленительную картину того, чем мир мог бы стать, если бы законы той империи стали бы законами всех наций». Вольтер тоже был убежден, что китайская империя «есть истинно лучшая из всех, какие только видел мир, и, более того, единственная основанная на авторитете отца».55 Среди французских литераторов того периода Россия пользовалась таким же уважением. Их восхищение тоже предвещало преклонение перед Советским Союзом в XX веке и особенно перед его способностью преодолевать отсталость и модернизироваться с таким рвением и скоростью. Они полагали, согласно Льюису Козеру, что:
Всё... возможно, если бы в стране, которая до недавнего времени была полностью варварской, один человек, направляемый верной целью, мог бы изменить целый народ. Россия сделала огромный скачок за короткий промежуток времени в несколько десятилетий... Она шла вперед так быстро, что во многих аспектах уже стала образцом для других стран, чья цивилизация гораздо старше. И что же, как не просвещенный деспотизм, позволило России сделать такой гигантский шаг вперед?... Прогресс России возродил дух разочарованных анархией и очевидной безнадежностью, царивших на политической сцене дома... В просвещенной России, в противоположность Западной Европе, сопротивление всего старого и отживающего не мешало правителю в его благотворных для нации действиях. Здесь можно было широкими, свободными мазками писать на холсте будущего.56
96
Пол Холландер
Кирнан весьма убедительно объяснил, чем просвещенный деспотизм притягивал интеллектуалов XVIII в.: «То, что интеллектуалы аристократического общества были предрасположены искать и чем восхищаться, — это нечто, похожее на них же самих, — класс людей мудрых и сочувствующих, направляющий и благотворно влияющий на остальное человечество, простых людей».57
Точно так же, как французские интеллектуалы XVII в. восторгались мощной централизованной властью России и Китая, способной вызвать необходимые социальные изменения, их двойники в XX в. обнаружили много притягательного в методах управления и решительности, которые демонстрировали правители современных им Китая и России. Убеждения, здесь обрисованные, отражают неприязнь к политическому плюрализму, разделяемую многими интеллектуалами как XVIII, так и XX в. Или, по словам Козера,
страдая от путаницы в законах и властях, от раздробленности политических устремлений, от отсутствия согласованных планов в делах управления и всех привилегий, полагающихся избранным сословиям и слоям общества, философы тосковали по государству, которое эффективно управлялось бы централизованной властью... Нельзя было ожидать, что в обществе, расколотом автономными, воюющими силами, будет преобладать разум...58
Наконец, определенные модели почитания Китая и России в XVIII в. предвосхитили появление и еще одного источника симпатии к этим странам среди части западных интеллектуалов — высокой оценки того, как власти обращались с интеллектуалами: «Китай и Россия для философов различались во многих отношениях, но одно у них было общее, и это самое важное: в обеих огромных империях образованные люди занимали высокое положение, находились в самом центре жизни... Там власть знала, как отдать долг уважения образованным людям».59
Установки по отношению к далеким странам, существовавшим в прошлом или в настоящем, можно рассмотреть через метафоры романтического любовника и религиозного паломника. Параллель с последним более очевидна. Политическим паломником, как и религиозным, движет вера и надежда, что он посетит святые для его секуляризованной религии места. Таковыми могут оказаться мавзолеи Ленина или Мао (довольно буквальная параллель), стены Кремля — символического сердца социализма (каковым принято считать Москву),60 коммуна в Китае, плантация сахарного тростника на Кубе, школа для исправившихся проституток, образцовая тюрьма, новый завод, фестиваль народных танцев, политическое собрание или любое другое мероприятие, событие или учреждение, которое
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
97
символизирует реализацию мечты и ценностей пилигрима. Из поездки он возвращается в свою родную землю духовно обновленный и помолодевший. Роль паломничества — это подтверждение и аутентизация убеждений уже существующих, или, если они еще слишком слабы, продуцирование опыта, их порождающего.
Политический пилигрим также напоминает и романтического любовника теми его страстями, которые пылают благодаря недоступности объекта любви и намеренно не разрушаемым препятствиям на пути к исполнению его желания. Он знает, что не будет жить в обществе, которым восхищается, а вернется к скуке и рутине общества, им презираемого.
Б. Шоу выступил от лица многих путешественников, когда в 1931 г. сказал накануне отъезда из Советского Союза: «Завтра я покидаю эту землю надежды и возвращаюсь в наш западный мир разочарования».61 Несмотря на то что путешествующий интеллектуал стремится причаститься обществу своих идеалов, он не станет его частью. Дистанция сохраняется, и это помогает поддерживать мечты. Как правило, он не знает ни языка, ни отталкивающих черт страны пребывания, и хозяева ограждают его от тесного контакта с объектом его поклонения. Тайны остаются, хотя, возможно, ему и удастся убедить себя, что он знает все, что нужно знать. И институты, и люди, представляющие столь желаемый социальный порядок, останутся частично- или малоизученными. Он может продолжать идеализировать и пылать страстью.
Процесс элиминации сыграл свою роль в том, что утопические искания оказываются направленными на определенные исторические общества, которые становятся объектом «искупительных ожиданий», как их назвал Питер Бергер.
В наше время традиционные религиозные убеждения, как правило, не поставляют психологической пищи для интеллектуалов. Религиозные инновации, хотя они и широко осуществляются различными церквями и религиозными организациями, особенно в США, тоже имеют лишь ограниченное и временное влияние. Более традиционные мирские ценности — например, вера американцев в успех, упорный труд, социальная мобильность и материальное благополучие — тоже были в дефиците в 1930-х и, позднее, в 1960-х гг. Политические идеологии предлагают альтернативы, но их проведение в жизнь в условиях домашнего контекста оказалось затруднено. И напротив, отдаленные страны предоставляют примеры явного осуществления политических стремлений, привлекательных для многих западных интеллектуалов.
98
Пол Холландер
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Norman Colm, The Pursuit of Millennium, New York, 1957, p. 308.
2. Saul Bellow, To Jerusalem and Back, New York, 1976, p. 127.
3. Этот показательный термин использовал Сталин, называя так советских писателей, которые должны были формировать у читателей идеологические представления, соответствующие официальным, в духе социалистического реализма. Сегодня на Западе есть левые интеллектуалы, которые продолжают питать скрытые симпатии к социалистическому реализму. Недавно возникший в гуманитарных науках и СМИ США спрос на «ролевые модели» является реминисценцией соцреализма и его положительных героев. Современные ролевые модели на Западе предназначены для того, чтобы легитимизировать права женщин и чернокожего населения, гомосексуалистов и некоторых других меньшинств.
4. Edward Shils, «The Burden of 1917», Survey, Summer-Autumn 1976, p. 141. Можно процитировать еще много сходных (и более свежих) высказываний о Китае и Кубе, содержащих подобные убеждения.
5. Hans Magnus Enzensberger, «Tourists of the Revolution», in The Consciousness Industry, New York, 1974, p. 140.
6. В высшей степени полезна для понимания того, как в людях могут соседствовать противоречивые и конфликтующие убеждения и впечатления, книга: Leon Festinger. A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford, 1957.
7. Staughton Lyndand Tom Hayden, The Other Side. New York, 1966, p. 17-18.
8. James Hitchcock, «Review of G. Lewy: Religion and Revolution», Commentary, November 1974, p. 94.
9. «Jean-Paul Sartre: The Marxist Phase», Ramparts, March 1967, p. 47. В погоне за более аутентичным социализмом в середине 1970-х гг. Сартр также посетил Португалию и восхищался ее левым военным режимом. (George F. Will, The Pursuit of Happiness and Other Sobering Thoughts, New York, 1978, p. 20-21.)
10. Hannah Arendt. On Violence, New York, 1969, p. 21.
11. Walter Laqueur. «Third World Fantasies», Commentary, February 1977, p. 43. Оду Албании, длиною в книгу, см. в: Jan Myrdal and Gun Kessle. Albania Defiant, New York and London, 1976.
12. George Urban, «А Conversation with George F. Kennan», Encounter, September 1976, p. 33-34, 35.
13. Norman Birnbaum, The Crisis of Industrial Society, New York, 1969, p. viii. Развитие кастровской Кубы, возможно, поспособствовало тому, что Бернбаум отдавал предпочтение неудавшимся революциям. Сомнительно, чтобы он долгое время упорствовал в своих ранних оценках «либерального завоевания», предпринятого кубинским режимом. (Цит. по: Theodore Draper, Castro’s Revolution, New York, 1962, p. 165.)
14. Adam Ulam, «„The Essential Love“ of Simone de Beauvoir«, Problems of Communism, March-April 1966, p. 63. Стойкая «чудовищная внешняя самоуверенность» режима Кастро может послужить лучшим объяснением того, почему он до сих пор пользуется весьма большой популярностью среди западных радикалов, в то время как у Китая «фасад самоуверенности» уже основательно потрескался.
15. Дальнейшую дискуссию на эту тему см. в: Paul Hollander, «Reflections on Anti-Americanism in Our Times», Worldview, June 1978.
16. Arthur Koestler, «On Disbelieving Atrocities», in The Yogi and the Commissar and Other Essays, New York, 1961, p. 88.
17. Влияние и важность зрительных впечатлений иллюстрируются в следующем критическом комментарии, касающемся американского общества: «Все заявления Торговой палаты о нашем прогрессе, модные графики в „Fortune Magazine“, самонадеянное Государство Государственных Речей разваливаются на глазах, если пройтись по любому большому американскому городу: через Гарлем, или Роксбери, или по южной части Чикаго». (Howard Zinn, «Marxism and the New Left», in The New Left, ed. Priscilla Long. Boston, 1969, p. 65.) Излишне говорить, что аналогичные зрительные впечатления от Москвы, Гаваны или Пекина с тем же успехом служат контрастом к официальным утверждениям и могли бы привести к похожим выводам.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
99
18. Bernard Gwertzman, «Human Rights: The Rest of the World Sees Them Differently», New York Times, March 6, 1977.
19. New York Times, News of the Week section. November 30, 1969, p. 6.
20. Leopold Tyrmand, Notebooks of a Dilettante, New York, 1970, p. 70.
21. Paul Hollander, Soviet and American Society: A Comparison, New York, 1973, p. 35-36.
22. Sylvia R.Margulies, The Pilgrimage to Russia: The Soviet Union and the Treatment of Foreigners, 1924-1937, Madison, Wise., 1968, p. 89. Это прекрасное исследование отличается от данного в трех аспектах: 1) оно ограничивается рамками Советского Союза; 2) оно не ограничивается путешествующими интеллектуалами; 3) оно посвящено периоду 1925-1937 гг. Позднее вышел том о Германии, который также включает эссе о западных интеллектуалах, ездивших в Советский Союз (Klaus Kaltenbrunner, ed., Radicale Touristen, Munich, 1976).
23. Более детальный обзор этих аспектов современного туризма, особенно что касается американцев, см.: Boorstin Daniel J. «The Image — A Guide to Pseudoevents in America», New York, 1961.
24. Herbert A. Simon, «Mao's China in 1972», Social Science Research Council, Items 27, № 1, (March 1973) : 1.
25. Bellow, To Jerusalem..., p. 44. О притягательности марксизма сегодня см.: Adam Ulam. The Unfinished Revolution, New York, 1960; Robert G. Wesson, Why Marxism? The Continuing Success of a Failed Theory, New York, 1976; Raymond Aron, The Opium of Intellectuals, London, 1957.
26. Peter Berger, Pyramids of Sacrifice, Garden City, N. Y., 1976, p. 17. Сюзан Зонтаг тоже осознавала эти особенности идеализации стран третьего мира: «Понятно, что существует боязнь не устоять перед уцененной симпатией к таким странам, как Вьетнам, который, не поддаваясь никакому реальному историческому или психологическому объяснению, становится еще одним примером идеологии примитивизма. Революционные политические убеждения многих граждан капиталистических стран — всего лишь новая личина старого консервативного культурного критицизма: противополагать сверхсложное, лицемерное, нежизнеспособное урбанистическое общество, зацикленное на богатстве, идее простых людей, живущих простой жизнью в децентрализованном, естественном, живом обществе со скромными материальными потребностями. Так же как философы XVIII в. рисовали пасторальную идиллию островов Тихого океана или жизни американских индейцев, а немецкие поэты-романтики предполагали ее существование в Древней Греции, так и в конце XX века интеллектуалы в Нью-Йорке и Париже, вероятнее всего, перенесут ее на экзотические революционные общества третьего мира...» [Trip to Hanoi, New York, 1968, p. 72]. Как показано ниже, эти озарения не уберегли Сюзан Зонтаг от искушения теми же самыми убеждениями во время ее визита в Северный Вьетнам.
27. Peter Berger, «The Socialist Myth», Public Interest, Summer 1976.
28. Чечеткина Ольга. Анджела в Советском Союзе. М., 1973. Еще один любопытный пример оригинальных просоветских настроений наших дней представил Мухаммед Али, который был глубоко тронут личной встречей с Леонидом Брежневым в Москве. Захлебываясь похвалами в адрес и Брежнева, и советского общества, он по возвращении в США делился впечатлениями: «Я видел только одного милиционера. Я не видел никакого оружия. Ни преступлений. Ни проституции. Ни одного гомосексуалиста» («Sparring with Justice», New York Times, editorial. June 25, 1978). Слова Ральфа Абернети цит. по: William F. Buckley, «А Parable of Our Time», National Review, January 19, 1973, p. 110; Stephen J. Whitfield, Scott Nearing: Apostle of American Radicalism, New York, 1974, p. 201. Обзор столь же поразительных высказываний американских ученых по поводу Восточной Германии см.: Norman М. Naimark, «Is It True What They’re Saying About East Germany?», Orbis, Fall 1979.
29. Дальнейшее обсуждение концепции отчуждения см.: John Torrance. Estrangement, Alienation and Exploitation, New York, 1977.
30. Irving Kristol, «About Equality», Commentary, November 1972, p. 42-43.
31. В 1930-х гг. среди гостей СССР преобладали американцы. Согласно Эжену Лиону, они составляли 85% от общего числа туристов (The Red Decade, New Rochelle, 1970, p. 93; first published New York, 1941). Американцы, возможно,
100
Пол Холландер
были единственной многочисленной группой среди гостей Китая в 1970-е гг. Я не слышал, чтобы кто-нибудь подтверждал или опровергал это заключение.
32. Gabriel A. Almond, The Appeals of Communism, Princeton, 1954. См. также: Sidney Hook, «The Psychology of the Fellow-Travellers», in Sidney Hook, Political Power and Personal Freedom, New York, 1959; Philip Selznick, The Organizational Weapon, Glencoe, 111., 1960.
33. David Caute, The Fellow-Travellers, New York, 1973.
34. Lewis S. Feuer, «The Fellow-Travellers», Survey, Spring 1974, p. 207.
35. Определение понятий утопии и утопизма см.: George Kateb, «Utopianism», in International Encyclopedia of the Social Sciences, New York, 1968; Northrop Frye, «Varieties of Literary Utopias», in Utopias and Utopian Thought, ed. Frank E. Manuel, Boston, 1966, p. 31; Rosabeth Moss Kanter, Commitment and Community, Cambridge, 1972, p. 1; George Kateb, Utopia and Its Enemies, New York, 1972, esp. p. 7, 9, 17.
36. Adam Ulam, «Socialism and Utopia», in Manuel, Utopias, p. 133.
37. Isaiah Berlin. «Two Concepts of Liberty», in Four Essays on Liberty, New York, 1969, p. 167.
38. Karl Popper, «Utopia and Violence», in Karl Popper. Conjectures and Refutations. London, 1969, p. 361.
39. Crane Brinton, «Utopia and Democracy», in Manuel, Utopias, p. 50.
40. Платон — единственное важное исключение из этого общего правила, поскольку он жил намного раньше.
41. Adam Ulam, «Socialism and Utopia», p. 116. См. также: Frank E. Manuel and Fritzie P. Manuel, Utopian Thought in the Western World, Cambridge, 1979, p. 33.
42. Lewis Mumford, The Story of Utopias, New York, 1922 and 1962, p. 247.
43. Размышления Ленина по поводу человеческой природы, какая она есть «здесь и сейчас», и ее якобы безграничного потенциала, который раскроется в будущем, проблемны. Пессимизм в отношении этой проблемы прекрасно проанализирован в книге: Alfred G. Meyer, Leninism, Cambridge, 1967.
44. См.: Eugene Goodheart, «Utopia and the Irony of History», in Goodheart. Culture and Radical Conscience, Cambridge, 1973.
45. Manes Sperber. «Pilgrims to Utopia», in Sperber. Man and His Deeds, New York, 1970, p. 1.
46. Henri Baudet. Paradise on Earth: Some Thoughts on European Images of Non-European Man, New Haven, 1965, p. vii. См. также: Gerard Evans. «Paradises lost: or, Where are you, Fidel, when I need you?», New Society (London), February 22, 1979. Эванс писал: «В концепции рая глубоко заложена убежденность в том, что рай отличается от нашего собственного общества именно в тех областях, где, как мы чувствуем, общество не оправдывает наших ожиданий». И еще: «Существовал... соблазн верить в то, что где-то, в каком-нибудь отдаленном уголке земного шара, возможно, все-таки есть условия для создания совершенного общества» (р. 412).
47. V. G. Kiernan, The Lords of Human Kind: European Attitudes to the Outside World in the Imperial Age, Harmondsworth, Middlesex, England, 1972, p. 136.
48. Sperber, Man and His Deeds, p. 2.
49. Baudet, Paradise on Earth... p. 10-11. Исследование, в котором анализируются подобные убеждения в отношении Америки, см.: Hugh Honor. The New Golden Land: European Images of America from the Discoveries to the Present Time, New York, 1976.
50. Baudet, Paradise on Earth, p. 51.
51. Kiernan, The Lords of Human Kind, p. 22-23.
52. Ignacy Sachs, The Discovery of the Third World, Cambridge, Mass., 1976, p. 72.
53. Токвиль, цит. no: Lewis M. Coser, Men of Ideas, New York, 1970, p. 227.
54. Цит. no: Lewis M. Coser. Men of Ideas, p. 228.
55. Ibid.
56. Ibid.
57. Kiernan, The Lords of Human Kind... p. 21.
58. Coser, Lewis M. Men of Ideas. P. 230. Сходные чувства владели и поклонником автократических действий, когда он спорил о преимуществах однопартийной
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
101
системы СССР: «Это факт, что одна политическая партия, доминирующая, которая стремится контролировать все главные институты... способствует единству целей и действий в рамках социальной структуры в целом. Это сложный вопрос, может ли какое-либо государство без диктатуры обрести статус подлинно социалистического, если учитывать современный интеллектуальный уровень общества и закономерную заинтересованность в сохранении имеющегося status quo... Диктатура... позволяет не ослаблять контроль длительное время и достигать реальных успехов, что, вероятно, было бы невозможно в условиях беспорядка ожесточенного политического конфликта» (Jerome Davis, «The Communist Party and the Government», in The New Russia, ed. Jerome Davis, New York, 1933, p. 130-131). Вера в эффективность автократии — один из неисследованных мифов нашего времени. Единственная область, где такой эффект явно прослеживается, — это политика принуждения, направленная на оппозицию или потенциальную оппозицию. Что же касается других сфер, это так называемый эмпирический вопрос — действенна ли автократия и если да, то при каких условиях.
59. Coser, Men of Ideas, p. 231.
60. «...Я собиралась в Москву — город, имеющий такое же символическое значение для исповедующих коммунизм, какое имела Мекка для фанатичного мусульманина» (Charlotte Haldane, Truth Will Out, New York, 1950, p. 192).
61. George Bernard Shaw, The Rationalization of Russia, Bloomington, Ind., 1964. P. 31 (впервые опубликовано в 1931 г.). Об этом типе туристов Эжен Лион писал: «Они берегли свои иностранные паспорта как зеницу ока и одновременно испепеляли энтузиазмом „новую советскую цивилизацию“» (Assignment to Utopia, London, 1938, p. 228). Приведу другой пример: «Еще одного пылкого сочувствующего, Лиона Фейхтвангера, спросили, почему он не едет в страну, которую хвалит с завидной регулярностью [то есть в СССР], и писатель ответил: „За кого вы меня принимаете? За дурака?“». [Stephen J. Whitfield, «Muckraking Lincoln Steffens», The Virginia Quarterly Review, Winter 1978, № 1, Vol. 54, P. 90].
102
Пол Холланлер
ГЛАВА ВТОРАЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ, ПОЛИТИКА И МОРАЛЬ
В каждом обществе... есть несколько человек, необычайно восприимчивых к духовному, с редкой рефлексией по поводу природы их универсума и законов, управляющих их обществом. В каждом обществе есть горстка людей, жаждущих... постоянного причащения символам, глобальному, а не сиюминутной конкретной ситуации каждодневной жизни. ...У этого меньшинства есть нужда воплощать свой поиск в устном или письменном дискурсе, в поэзии или пластике, в исторических мемуарах или работах, в ритуальных действах или актах поклонения. Этой внутренней потребностью проникать за занавес сиюминутного конкретного опыта отмечено бытие интеллектуалов любого общества.
Эдвард Шила1
...Неспособные обидеть муху, [они] способны стать жестокими во имя идеи.
Жюльен Бенда2
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
ЮЗ
НЕПРЕМЕННЫЕ АТРИБУТЫ И ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ОБРАЗЫ
Поскольку эта книга касается довольно значительной части современных западных интеллектуалов, нам следует подробнее остановиться на том, что здесь имеется в виду под словом «интеллектуалы», как определяют их другие и какие роли им отведены в современном обществе. Для пересмотра значения этого термина необходимо помнить и о том, как он обычно используется и понимается. Хотя это и не являлось главной целью, но открытия данного исследования предполагают определенный пересмотр наиболее распространенных концепций «интеллектуала».
Для Карла Мангейма, вероятно, первого социолога, занявшегося интеллектуалами, они были «социальной группой, чья специфическая задача — создать интерпретацию мира...» для своего общества. Он противопоставлял интеллигенцию (слово, используемое вместо слова «интеллектуалы») более статичных обществ интеллигенции нового времени:
Чем статичнее общество, тем вероятнее, что этот слой приобретет четко определяемый статус или положение касты в этом обществе. Так, шаманы, брамины, средневековое духовенство должны рассматриваться как сословия интеллектуалов, каждое из которых в своем обществе монопольно контролировало формирование общественного взгляда на мир...
...Решающим фактом в нынешние времена, в противоположность ситуации, сложившейся в средние века, является то, что эта монополия церковной интерпретации мира, которая поддерживалась кастой священников, подорвана, и на месте закрытого и строго иерархичного сословия интеллектуалов поднялась свободная интеллигенция. Ее главная черта — то, что она все более укрепляется за счет непрерывно меняющихся социальных слоев и жизненных ситуаций, и ее образ мысли уже не регулируется какой-либо кастовой организацией... фундаментальная ревизия мышления сегодня не начнется, пока интеллектуальная монополия духовенства не потерпит полный крах.3
Наблюдения Мангейма заставляют задуматься как о живучести, так и об изменчивости атрибутов интеллектуалов. Несомненно, «специфическая задача создать интерпретацию мира» существенна, — неважно, является ли она только невоплощенным
104
Пол Холланлер
устремлением (части интеллектуалов), или фактом их социального бытия в реальном обществе. Интеллектуалам понравилось бы создавать такие интерпретации, что они часто и делают. Принимаются ли они, игнорируются, высмеиваются или определяются как авторитетные — зависит от конкретной исторической ситуации и типа общества. Полезно, в контексте исследования, помнить, что интеллигенция (или интеллектуалы) исторически гораздо дольше выступала в качестве проводника традиционного взгляда на мир и сторонника власти, чем в качестве исполнителя своей социальной роли (каковая определилась не так давно), которая предусматривала спор с властью, маргинальность и высокоразвитые критические способности.* Как увидим ниже, не все согласились бы с заключением Мангейма, когда он определил священнослужителей, браминов и шаманов как интеллектуалов. Однако если согласиться с тем, что интеллектуалы — это группа, специализирующаяся на интерпретации мира, тогда служителей церкви исключить нельзя, а если так, то сомнению подвергается общепризнанная, универсальная роль интеллектуалов — критиковать общество.
Слова Мангейма могут послужить напоминанием, что эта старая традиция ни в коем случае не умерла и, фактически, проявила поразительную живучесть, сохранившись с 1930-х гг., когда он писал работу «Идеология и утопия», до наших дней. Сегодня и в последние несколько десятилетий во многих странах мира растет новый тип интеллектуала, чьи функции и роли сравнимы функциями и ролями средневековых церковных групп, которые «монопольно контролировали формирование общественного взгляда на мир». Здесь я ссылаюсь на тех, кого в тоталитарных странах можно назвать партийными интеллектуалами, — они могут занимать важные посты в партийном аппарате и особенно в отделах агитации и пропаганды, или в министерствах культуры и подобных структурах. В то время как эти интеллектуалы могут почти не иметь автономии, они непременно выступают проводниками официальной интерпретации мира, поддерживаемой властью предержащей их общества. Иногда интеллектуалы определенного сорта (или псевдоинтеллектуалы) поддерживают даже верховную политическую власть, как в случае с Лениным, Мао или Кастро. Не нужно говорить, что «фундаментальная
«Смотреть на них иначе, как на бунтарей или еретиков, сосредоточиваться на их значительности, поскольку они „создатели и хранители традиции“ — значит представлять интеллектуалов в непривычной для них роли». Гораздо реже замечалось, что «...все ниспровержители имеют стыдливо спрятанную педагогическую жилку». Кёстлер — один из немногих интеллектуалов, кто комментировал эту двойственность «бунтарского и педагогического, деструктивного и конструктивного...».4
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
105
ревизия мышления» вовсе не является задачей или склонностью таких интеллектуалов. Интеллектуальные революционеры или революционные интеллектуалы (например, Ленин или Кастро), также охотно распространяют свою подрывную роль критиков и подрывные стремления на область идей, как и на сферу политических действий и становятся секуляризованными священнослужителями нового социального порядка, хранителями официальной догмы и палачами критических тенденций. Конечно, нет ничего необычного в вечной перемене ролей, связанной с движением от безвластия к власти. Необычна — в случае с революционным интеллектуалом — та очевидная легкость и основательность, с которыми одна перспектива жизни, образ мыслей и система ценностей отвергаются и заменяются другими, более подходящими уже для укрепления власти, а не для борьбы за власть или критики предшественников. Эта трансформация особенно поразительна, если она захватывает марксистов, и ее качество может быть объяснено специфической пригодностью марксизма выступать идеологией как революции, так и status quo, что точно подметил Адам Улам:
Правящий марксизм — прямая противоположность марксизму революционному. ...Можно счесть марксизм двухступенчатой идеологией. Революционная ступень отбрасывается после революции. Демократические полутона марксизма убираются, революционный анархизм искореняется, и выдвигается задача созидать — в духе, противоположном революционному, и такими же средствами. Этот процесс не плавный и не автоматический. Он реализуется в несколько этапов... Точное следование принципам, благодаря которым партия, их провозгласившая, была приведена к власти, мешало бы в постреволюционную эпоху и сделало бы невозможным строительство социализма.5
Появление еще одной исторической перспективы, приведшей к современному пониманию этого термина, вызвано эволюцией понятия «интеллигенция» во второй половине XIX в. в России, где группы образованных людей из средних и высших слоев общества являли собой образцовые примеры того, что сегодня мы имеем в виду, говоря «интеллектуалы». Безусловно, я не вижу причины не использовать оба этих термина — «интеллектуалы» и «интеллигенция» — в качестве взаимозаменяемых, за исключением одного тонкого различия, вызванного историческими факторами: «интеллигенция» подразумевает (что обусловлено специфической обстановкой в России, которые и «вырастили» это понятие) более серьезные идеологические обязательства и более непосредственное отношение к положению дел в мире.6 Таким образом, можно утверждать, что нынешние перегруженные ценностными ориентирами коннотации, конструирующие образ интеллектуала (или «истинного» интеллектуала), — преимущественно есть порождение исторического контекста России XIX в., который
106
Пол Холланлер
подготовил удивительно плодородную почву для появления убеждений, сочетающих в себе отрицание и утверждение.
Джеймс Биллингтон, изучавший историю России, описал этот период и порожденные им установки следующим образом:
...Эти отчужденные городские интеллектуалы имперской России создали нечто, что может быть описано только как новая религия... Предшественником и стимулом для этих убеждений была
...почти физиологическая конвульсия отрицания, сотрясшая все поколение молодых студентов в пятилетие между 1858 и 1863 г. Несмотря на то, что эти пять лет видели, как волна реформ достигла своего пика, основной реакцией была не благодарность, а резкое неудовольствие.
Что же касается собственно понятия,
...мировая [интеллигенция] почувствовала себя к 60-м гг. [то есть 1860-м] и группой, отделенной от человечества, от простых людей, и надличностной силой, активно действующей в истории, имеющей... «критически мыслящих индивидов» в качестве своих агентов.7
В те десятилетия понятие «интеллигенция» оказалось связано с ощущением исторической миссии, которое до сих пор подспудно сокрыто в концепциях (даже и в самых современных) образа интеллектуала.
Известный научный труд Жюльена Бенда предлагает еще одну классическую точку отсчета для определения, кто же такие интеллектуалы:
Я имею в виду тот класс людей, которых я называю «клириками», подразумевая под этим термином всех тех, чья деятельность по сути не преследует практические цели, всех тех, кто ищет удовольствие в занятиях искусством, наукой или метафизическими спекуляциями, то есть в обладании нематериальными благами и, значит, говорит: «Мое царство не от мира сего». Несомненно, через всю историю, на протяжении более двух тысяч лет и до нашего времени, тянется непрерывающийся ряд философов, религиозных деятелей, писателей, художников, ученых... чье влияние, жизнь являли собой прямую противоположность реализму толпы.8
Для Бенда (и многих других после него) интеллектуалы составляли отрешенную, идеалистическую элиту, не связанную с практическими делами и материальным благополучием, погруженную в идеи, в искусство, науку, литературу и рефлексию.
Льюис Козер, современный социолог и специалист в этом предмете, приходит к тем же выводам, что и Мангейм и Бенда:
Интеллектуалы, скорее, живут для, а не вне идей... [они] демонстрируют своими действиями явную связь с основополагающими ценностями общества. Они... стремятся разрабатывать моральные нормы и создавать значимые универсальные символы... современные интеллектуалы — это потомки религиозных сторонников сакральной традиции, но в то же самое время они потомки библейских пророков — тех вдохновенных безумцев, которые проповедовали в пустыне, далекой от институционализированного благочестия двора и синагоги, сурово осуждая власть предержащую за неправедность ее пути. Интеллектуалы — это люди, которые, как кажется, никогда не удовлетворены миром таким, каков он есть, с его тягой к привычному
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
107
и общеупотребительному. Они подвергают сомнению сиюминутную правду на языке высшей правды; они противополагают притягательное действительности, молясь о «духовном богатстве». Они считают себя избранными хранителями абстрактных идей, таких как благоразумие, справедливость и правда, ревнивыми стражами нравственных норм...
В то же самое время и в дополнение к подобным весомым связям,
современный интеллектуал сродни шуту9 не только потому, что притязает на полную свободу критики, но и потому, что он демонстрирует... так называемое «шутовство»... Идеи для него нечто гораздо большее, чем простые ценности-инструменты: они имеют высшую ценность. Интеллектуалы могут и не быть любознательнее других людей, но их любопытство, как его верно назвал Веблен, есть праздное любопытство.10
Это, вероятно, лучшее определение интеллектуала, поскольку оно подчеркивает его нравственную прямоту, его роль совести общества, его ничем не сдерживаемые критические импульсы, шутовство и творческое любопытство.
Сходные, но только в чем-то более абстрактные определения предлагают и другие современные социологи. Согласно Эдварду Шилзу,
интеллектуалы в любом обществе есть совокупность личностей, которые используют в своих коммуникациях и речи — чаще, чем большинство членов их общества — универсальные и связанные со сферой абстрактного символы, касающиеся человека, общества, природы и космоса... Интересы интеллектуала проистекают из потребности воспринимать, накапливать в качестве опыта и выражать — словами, красками, формами или звуками — универсальный смысл в определенных, конкретных событиях.11
Интерпретация этого термина Робертом Нисбетом чуть проще, он использует его, говоря «...о тех индивидах, которые чуть ли не буквально живут только своим умом или питаясь запасами знаний — скудных или глубоких — о некоторых аспектах жизни мира, общества или человека. К тому же у них есть определенный статус противников культуры и социального порядка, скрытая полемическая, критическая и даже воинственная установка по отношению к нормам и догмам, которыми живет большинство из нас».12
Было высказано и утверждение, что «современный образ интеллектуала... по существу есть образ литератора». Хотя это понятие и размылось из-за включения в число интеллектуалов тех, кто не принадлежит миру литературы, есть весьма близкое сходство между профессией литератора и качествами и атрибутами, которые чаще всего ассоциируются с интеллектуалами. Беннет Бергер классифицирует его заявление так: «В наше время литераторы раньше других присвоили себе роль интеллектуалов благодаря максимальной свободе (в рамках своего статуса литератора) высказывать глобальные и бескомпромиссные суждения о ценностях и благодаря максимальной свободе от институциональных уз».13
108
Пол Холланлер
Бергер, вероятно, согласился бы, что сегодня многие академические структуры предоставляют почти такие же, если не точно такие же свободы интеллектуалам для высказывания «глобальных и бескомпромиссных суждений о ценностях» и что ограничение свободы выражения или контроль за использованием времени, осуществляемые применительно к членам академических институтов, далеко не жесткие. К тому же недавняя мода на междисциплинарные исследования существенно ослабила «мелкопоместную потребность в специализации». В поддержку этих наблюдений следует указать на то, что солидное число интеллектуалов-литера- торов зарабатывают на жизнь, используя связи с академическими институтами, — как писатели, преподающие литературу, или, чаще всего, как штатные преподаватели факультета. Короче говоря, членство в академических институтах прекрасно совмещается с установками и деятельностью, ассоциирующимися со статусом интеллектуала, по крайней мере, в западных обществах.
Рихард Хофштадтер, социальный историк, подчеркивает характерные качества мыслительного процесса интеллектуалов: «Мы не думаем о нем как об интеллектуале, если его работе недостает определенных качеств — объективного ума, энергии обобщения, свободы спекуляций, свежих наблюдений, творческой новизны, радикальной критики... шутовства и благочестия».
Хофштадтер включил в задачи интеллектуалов и охрану нравственных ценностей: «...в очень важной своей части роль интеллектуала унаследована от церковного сана... интеллектуалы часто пытаются выступать камертоном нравственности расы, предупреждая и, если возможно, разъясняя фундаментальные нравственные вопросы — предметы разногласий... Мыслитель чувствует, что он обязан быть избранным хранителем ценностей — благоразумия и справедливости, которыми руководствуется и он своих поисках правды...».14
В противоположность этому подчеркиванию моментов творчества и защиты нравственных ценностей, более скептичный исследователь, Том Вулф выделяет в роли интеллектуала аспекты, связанные со стремлением обрести определенный статус, во всяком случае, в современном американском обществе, где множатся ряды притязающих на статус интеллектуала:
«Интеллектуал» обозначает уже не столько принадлежность к определенной профессии, сколько статус... К 1960-м гг. уже не требовалось быть писателем, ученым или художником — и даже иметь отношение к подобной деятельности, достаточно было лишь роли потребителя их продукции, чтобы тебя сочли за интеллектуала. Нужно было только жить la vie intellectuelle.* Маленький коричневый хлебец в хлебнице, просроченное приглашение на
* Духовной жизнью (фр.). — Примеч. переводчика.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
109
Конгресс по расовому равенству, стереомагнитофон и стеллаж для записей, загруженный Колтрейном и альбомами «Битлз», всеми, какие только упоминались в «Revolver», белые стены, огромная Dracaena marginata*... кипа нечитанных «New York Review of Books»... убеждение, что Америка материалистична и придушена Молчаливым Большинством... три коробки из-под бакалеи, забитые лимонадными бутылками... предназначенными... для Центра переработки мусора, маленький неудобный европейский автомобиль — вот и всё, дело в шляпе.15
Да, можно оспорить специфические черты стиля жизни или потребительских шаблонов, использованные выше для определения этого типа «интеллектуала», но трудно отрицать, что характерные схемы существуют и что эти определенные ценности обозначаются и выдвигаются на первый план потребительскими шаблонами, популярными среди интеллектуалов (как и среди статусных групп), благодаря доступности широкого ассортимента товаров и услуг. Безусловно, одежда, стиль прически, очки, личные автомобили, привычные места отдыха, мебель в гостиной и другие элементы стиля жизни стали выступать в высшей степени красноречивой манифестацией идеологии и убеждений или же служить средством самоидентификации. Мы также можем рассматривать этот феномен как разновидность одомашненной и массовой богемности (двоюродной сестры контркультуры), которая раньше была прерогативой мятежного художника, но в последнее время стала доступна многим — в той форме, которая совместима с более комфортными условиями жизни. Напротив, для Реймонда Арона, французского социолога, творческое начало представляет ядро определения интеллектуала, а вот периферийные случаи могут включать «популистов... стремящихся лишь к славе или богатству, угодников, потакающих вкусам своей публики...».
Арон, как и Мангейм и некоторые другие, в какой-то мере скептически смотрит на отчужденность как непременную составляющую характеристики интеллектуала.
Неправда, что интеллектуалы как таковые враждебны всем обществам. Писатели и ученые древнего Китая «защищали и иллюстрировали собой» доктрину... которая поставила их в первые ряды общества и посвятила в сан. Короли и принцы, коронованные герои и богатые купцы всегда находили поэтов (и необязательно плохих), чтобы те их восхваляли. Ни в Афинах, ни в Париже, ни в пятом веке до Рождества Христова, ни в девятнадцатом веке после писатель или философ не питали естественной привязанности к партии народа, свободы или прогресса. Поклонники Спарты — ив немалом количестве — непременно встретились бы вам в Афинах, точно так же как и поклонники Третьего рейха или Советского Союза встречались в кафе на левом берегу.15
Льюис Фьюер, американский философ-социолог, считал, что отчуждение — не столько результат враждебного отношения к вла¬
Растение, часто выращиваемое в комнатных условиях (лат.). — Примеч. переводчика.
ПО
Пол Холлонлер
сти, сколько следствие неудовлетворенности тем, что она не в твоих руках. Он писал: «Вызывающее фрустрацию неудовлетворенное желание управлять — глубоко скрытый подсознательный источник отчужденности интеллектуалов. Плюс жажда слиться с физической энергией людей — крестьянства, пролетариата, примитивных народов, цветных рас или отсталых наций».17
Раз политическая ориентация и критерии учитываются в определениях интеллектуала, возникает двусмысленность. Сеймур Мартин Липсет, в числе других, поднимает такой вопрос: «Проблема дефиниции обостряется из-за того, что в нацистской Германии и Советском Союзе есть интеллектуалы, которые поставили инструменты и знания, ассоциирующиеся с интеллигенцией, на службу антиинтеллектуальным ценностям. Интеллектуалы ли они на самом деле?»18
Как мы видим, одни подчеркивают те качества и связи интеллектуала, которые свидетельствуют о его отстраненности от общества, другие считают важной его роль стража основополагающих ценностей. Очевидно, что есть расхождение между теми, кто смотрит на него как на обособленного, часто маргинального и отчужденного критика превалирующих в обществе ценностей и институтов, и теми, кто видит его защитником и выразителем главных социальных и моральных ценностей.
Питер Вирек, автор консервативный, определяет интеллектуалов
как всех тех, кто является полноправным слугой Слова и слова. То есть просветителей в самом широком смысле: философов, служителей церкви, художников, профессоров, поэтов, а также... редакторов и других толкователей. Выполняя свою функцию цивилизаторов, интеллектуалы являются этическими счетчиками Гейгера для общества, предупредительными сигналами совести... Косвенно и в целом их влияние может стать решающим... Тем более сегодня, раз не существует единой государственной церкви, которая выступала бы хранителем ценностей.19
Следовательно, что для некоторых обозревателей соответствует критериям, определяющим человека как «этический счетчик Гейгера» и «камертон нравственности», для других является дешевой распродажей и «предательством клерков». Безусловно, главный предмет спора при определении интеллектуала и его социальной роли имеет отношение к универсальности или существенности оппозиционной роли.
Совместима ли защита сущностных ценностей общества с функцией критика? В какой степени роль защитника подразумевает, что он должен напоминать народу о расхождении между традиционными ценностями и реалиями, о пропасти между идеальным и действительным? Насколько подобное расхождение оправдывает роль оппозиционера? Каково должно быть соотношение
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
111
социальной критики и лояльности (если они вообще совместимы), чтобы интеллектуал остался верен своей роли критика?
Каковы бы ни были идеалы и чаяния интеллектуалов и какие бы социальные роли ни приписывали им ученые и широкая общественность, их деятельность и установки сильно зависят от конкретных «объективных реалий», от социально-политических условий их жизни, которые они, вполне возможно, бессильны изменить. Это особенно верно по отношению к их способности стать или оставаться критиками общества. Историки, такие как Мартин Малья, острее осознают этот факт, чем те, кто не привык обращаться к сравнительно-исторической перспективе. Он писал: «Существование интеллектуалов-кри- тиков... предполагает преимущественно секуляризованную, плюралистическую и либеральную культуру, превращающую в ценность свободу выражения и интеллектуальную конкуренцию на „рынке идей“».20
Теперь можно суммировать главные спорные моменты в рассмотренных дефинициях.
В целом, определения интеллектуалов выводятся скорее на основе разделяемых ими установок, интересов и склонностей, чем на основе профессиональной специализации или реального содержания идей, которых они придерживаются. Ударение ставится именно на умонастроении. Интеллектуалов обычно видят не специалистами, а генерализаторами, прежде всех имеющими к идеям такое отношение, характер которого непременно коренится в обособленности (эта связь с идеями может быть и частью их профессии), поскольку они — в разной степени — люди творческие, ироничные, восприимчивые, пытливые и где-то не от мира сего.
В плане морально-этическом их изображают идеалистами, критически настроенными, действующими «невзирая на лица», борцами с предрассудками, вдохновенными альтруистами и преобразователями, движимыми глубоко нравственными обязательствами.
Что же касается их социальных ролей и позиций, то интеллектуалов, как правило, считают аутсайдерами, продолжающими быть совестью общества, поддерживающими его истинные ценности и идеалы. Возникает очевидное несоответствие между ролью стражей традиционных, или основополагающих, ценностей общества и некоторыми атрибутами, рассмотренными выше. Интеллектуал не может быть одновременно отчужденным социальным критиком, возмущенной совестью общества и потенциальным революционером, с одной стороны, а с другой — защитником превалирующих ценностей и традиционной (или офици¬
112
Пол Холланлер
альной) власти.* Таким образом вопрос сводится к следующему: может ли интеллектуал одобрять или легитимизировать данный социальный порядок без того, чтобы перестать быть «истинным интеллектуалом»? В глазах некоторых —-нет, по мнению же других, все зависит от социального порядка. Как мы увидим далее, интеллектуалы, чьи политические установки и ценности разбираются в данном исследовании, не находят никакой трудности в том, чтобы поддерживать и легитимизировать определенные социальные системы — только не свою собственную.
Тем не менее, не будет ошибкой сказать, что существует традиция с подозрением смотреть на интеллектуала, если он сильно интегрирован в свое родное общество, имеет больше, чем ему полагается по статусу, влиятелен, получает доступ к материальным благам и близок к сильным мира сего. Во времена Вьетнамской войны они «Новые мандарины» в глазах Ноама Хомского и его сторонников.21 Во времена «нового курса» (или Кеннеди) центры власти более доступны. Некоторые западные интеллектуалы способны аплодировать тем своим коллегам из дальних революционных стран, которые хватаются за оружие и потом становятся во главе департаментов образования, пропаганды или планирования. Есть такие, кто настаивает на том, что истинный интеллектуал должен при любых условиях оставаться целомудренным, незапятнанным властью, есть и те, кто считает, что сотрудничество с властью предержащей иногда приемлемо и даже приветствуют таковое. Две эти позиции примирить нельзя.22
Идеализм и жажда власти, невовлеченность и обязательства, легитимизация социального порядка и его ниспровержение, автономия и готовность к сотрудничеству, выражение критических взглядов и их подчиненность идеологическим задачам, глубокая рефлексия и ориентация на действие — всё это элементы конфликтующих между собой образов интеллектуалов.
В данном исследовании главное внимание уделено тем из вышеописанных контрастов и несоответствий, которые сопровождают напряжение, существующее между критическими и некритическими установками западных интеллектуалов, а также колебание между ними — от недоверия к вере.
* Напряжение, возникающее между этими двумя позициями, в какой-то степени ослабляется, если мы подменяем традиционные или подлинные ценности и идеалы иными. Раз большая часть обществ все время отклоняется от своих базовых, сущностных ценностей, для интеллектуалов не составляет особого труда указывать на пропасть, разделяющую теорию и практику, идеал и реальность, — одно из их любимых занятий. Указание на подобные несоответствия есть деятельность, подходящая и озлобленным критикам социального порядка, и тем, кто стремится его поддерживать. Первыми движет желание дискредитировать систему (выставляя напоказ ее лицемерие), вторыми — желание сделать ее более аутентичной и устойчивой путем заполнения пробела между «должно быть» и «есть».
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
ИЗ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И ВЛАСТЬ
Я уже несколько раз касался политических ролей и установок интеллектуалов. Напомню, что эта книга родилась из интереса к (или сомнений по поводу) политических суждений современных западных интеллектуалов. Некоторые из авторов, пытающихся определить сущностные атрибуты интеллектуалов, ссылались на их двусмысленные установки по отношению к власти. В то время как большинство авторов пристально изучали маргинальную позицию и критическую роль интеллектуалов, нашлись и такие (например, Фьюер), которые предположили, что интеллектуалы скрыто вожделеют к власти и что неосуществление этого стремления, вызывающее фрустрацию, во многом объясняет их установки и поведение, включая и повторяющиеся ошибки в их политических суждениях.
Далее я буду анализировать наиболее важные критические отзывы об интеллектуалах, касающиеся их политической роли. Хотя в каком-то смысле вся книга является анализом политических суждений интеллектуалов и их установок, связанных с политикой (в широком смысле этого слова), будет полезно взглянуть и на некоторые из характерных критических оценок отношения интеллектуалов к власти. Конечно же, многие критические обзоры принадлежат перу интеллектуалов.
Начнем с того, что рассмотрим следующий факт: та самая деятельность или позиция, которая недавно была главным источником чувства собственного достоинства интеллектуалов, — а именно, позиция критика, анализатора или разоблачителя, — не всегда понималась в недвусмысленно позитивном смысле. Ницше, к примеру, писал, что «...теоретический человек, какового я и считаю интеллектуалом, наслаждается, срывая покровы, и находит высшее удовлетворение в процессе разоблачения как таковом, который придает ему ощущение, что и он властен».23
Токвиль увидел очевидную связь между общей «разоблачительной позицией» и более узким социальным критицизмом:
Непрерывный анализ основ общества, в котором они жили, привел их к необходимости как критически пересматривать элементы его структуры, так и критиковать саму структуру в целом.
В этом утверждении кроется фундаментальное социологическое положение (воскрешенное и распространенное Дюркгеймом). Заключается оно в следующем: раз природу социального устройства перестают считать само собой разумеющейся, раз его базовые предпосылки пристально изучаются и пересматриваются (один процесс неизменно подразумевает другой), социальная структу¬
114
Пол Холландер
ра начинает распадаться, а социальные связи рваться. Иными словами, постановка фундаментальных вопросов о социальном устройстве в самом своем существе несет гибельный смысл, поскольку ни социальный порядок, ни общность не покоятся на чисто рациональном или на преимущественно рациональном фундаменте. Таким образом, разумное обоснование — ключевая деятельность интеллектуалов — даже помимо их воли подрывает социальный порядок. Токвиль далее указывает (говоря об интеллектуалах предреволюционной Франции, проводниках ценностей Просвещения), что «их отправной точкой во всех случаях было одно и то же; это убеждение в том, что желание-то было заменить совокупность традиционных обычаев, управляющих существующим социальным порядком, на простые, элементарные правила, которые выводятся из применения человеческого разума и естественного закона».24, *
Критика Токвилем политических установок интеллектуалов стала образцом для многих современных критиков. С его точки зрения, чрезмерная вера в разум и рациональность почти что неотвратимо ведет к противному: к отрыву от реальности и иррациональности. Токвиль писал:
Именно их образ жизни привел этих писателей к тому, что они увлеклись абстрактными теориями и обобщениями в вопросе о природе власти, и слепо им доверились. Живя так, как они жили, весьма далекие от практической политики, они упустили опыт, который мог бы умерить их энтузиазм. Таким образом им не удалось осознать самые что ни на есть реальные препятствия, стоящие на пути реформ, пусть и заслуживающих наивысшей похвалы, и оценить опасности, скрытые в революциях, пусть даже и самых благотворных... В результате наши литераторы стали гораздо самоувереннее в своих спекуляциях и все глубже уходили в общие идеи и системы...
Почти идентичные наблюдения были сделаны и в отношении русской интеллигенции, ее обособленности от политики, неопытности и, как следствие, ее предрасположенности к великим иллюзиям и убеждениям, расходящимся с социальными и политическими реалиями. Это стоит подчеркнуть, поскольку эти две группы — интеллектуалы французского Просвещения и русская интеллигенция XIX в. — представляют ядро исторической традиции и принципиальные модели, к которым обратились, сознательно или бессознательно, чувства современного западного интеллектуала. Из этого следует, согласно Токвилю, что интеллектуалы склонны компенсировать хаос их социального мира путем создания миров воображаемых:
* Даже Ленин, не совсем дитя Просвещения и поборник разума, был восприимчив к необоримой привлекательности таких «простых, элементарных правил», о чем свидетельствует его работа «Государство и революция».20
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
115
Так, рядом с традиционной и запутанной, если не сказать хаотичной социальной системой в людских головах постепенно выстроилось новое, воображаемое, идеальное общество, в котором все просто, постоянно, последовательно, справедливо и рационально в полном смысле слова.
Люди от литературы, жаловался Токвиль, «вынесли литературные склонности на политическую сцену»26, * В том же духе некоторые современные интеллектуалы думали выделить и приветствовали размывание границ между политикой и искусством в странах, которые они посетили во время своих политических паломничеств.
Следующий примеры утраты реализма «людьми от литературы», приведенный Токвилем, — это их вера (она и поныне живет, в измененных формах) в то, что «единственная защита от тирании государства, о которой они могли думать, — это всеобщее образование».28
Токвиль был лишь одним из многих, кто счел центральной проблемой интеллектуалов их двусмысленное отношение к политической власти. Интеллектуалы, лелеявшие великие либеральные идеи и придумывавшие альтернативы существующему социальному и политическому устройству, находили праздное времяпрепровождение на обочине жизни неудовлетворительным. Взращивать грандиозные идеи безо всякой надежды приложить их к реальности — затея безоговорочно ведущая к фрустрации. В то же самое время случайное и ограниченное причащение власти тоже вызывает фрустрацию и часто разлагает интеллектуала. Его могут обвинить в пособничестве далеко не безупречному правительству, в поддержании сомнительного status quo. Стать полноправным помощником или наемным служащим правительства для западных интеллектуалов даже труднее, чем служить ему в качестве лишь частично занятого временного консультанта. Вследствие этого власть остается вечным соблазном — ее невозможно ни тотально отвергать, ни всецело принять, по крайней мере в западных обществах.
В западном обществе, где исторически сложилось так, что интеллектуалу обеспечены максимальная свобода выражения
* Современный социальный философ Исайя Берлин тоже заметил, что существует опасность столкновения между литературно-артистическим характером и политикой, а также опасность приложения артистических ощущений к делам социальным и политическим: «...Я могу вообразить себя вдохновенным художником, который создает из людей узоры в свете своего уникального видения, как художники сочетают краски или композиторы — звуки; человечество есть сырой материал, которому я навязываю свою творческую волю; хотя люди страдают и, страдая, умирают, страдание поднимает их к таким высотам, которых они никогда бы не смогли достигнуть без моего насильственного — но созидательного — вмешательства в их жизни. Вот аргумент, используемый каждым диктатором, инквизитором и бандитом, ищущим моральное и даже эстетическое оправдание своему поведению».27
116
Пол ХолламАвр
и самый широкий простор для работы, наиболее естественным образом он берет на себя роль общественного критика, «разоблачителя», «придиры», «дискредитатора». Неспособность выработать нормальные отношения с властью предержащей заставляет его вставать по любому поводу в позу отчуждения. По словам Рихарда Хофштадтера, «жизнь интеллектуалов сводится к тому, чтобы сетовать на то, как они обделены богатством, успехом, репутацией, или чтобы мучиться виной, когда эту обделенность удается преодолеть. Так, например, их беспокоит, что власть пренебрегает советом интеллекта, но страх быть заподозренным в продажности заставляет их беспокоиться еще сильнее, когда власть приходит к интеллекту за советом». Такое отчуждение становится своего рода обязательством — моральным, общественным и политическим. Хофштадтер также указывает, что данная традиция по происхождению может быть не только политической, но и богемно-художественной. («Их убеждение, что отчужденность есть самоценное достоинство, порождена как романтическим индивидуализмом, так и марксизмом. В течение более чем полутора веков повсюду в буржуазном мире творческий талант уверял нас в постоянстве конфликта между ним и требованиями общества».)29
Эта «вынужденная мораль отчуждения», возможно, — наиболее очевидный источник политических просчетов и ошибок восприятия реальности, характерных для западных интеллектуалов — по крайней мере, для значительной их части. Льюис Фьюер, едва ли не наиболее откровенный современный критик интеллектуалов, считает что
интеллектуальная элита, американская и европейская, неоднократно ошибалась в оценках и восприятии социальной реальности. Ее представители сплошь и рядом выдавали желаемое за действительное, проявляли эмоциональную несдержанность и даже неискренность, в то же время провозглашая во всеуслышание, что руководствуются исключительно научной логикой. И слишком часто на поверку они оказывались склонны скорее к авторитаризму, нежели к демократии.*
Фьюер также полагает, что отчуждение таких интеллектуалов порождено «...главным образом, заблокированной волей к власти».31 Однако высказывалось и противоположное мнение —
* Аналогичный взгляд высказывал Роберт Конквест: «Интеллигенции с давних пор не везло в том плане, что за ее типичных и полномочных представителей принимали наиболее крикливых. Как было неоднократно продемонстрировано, именно эта прослойка ошибается в оценке международной обстановки чаще всего и серьезнее всего. Нынешние списки подписантов пласт за пластом содержат имена, известные не склонному к излишней щепетильности историку от политики как имена виновных — тех, кто находил доводы в пользу московских процессов, поддерживал движение 1940 г. за мир с Гитлером, подписывал сталинское „мирное воззвание“, оправдывал северокорейскую агрессию, распространял утку о биологическом оружии и так далее...».3"
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
117
будто демонстрируемый западными интеллектуалами антагонизм не столько результат их политического бессилия, маргинального статуса или особенностей полученного ими образования, сколько самой природы общества, к которому они принадлежат, то есть капиталистического общества, породившего этос, благоприятный для критического мышления и разочарования в иллюзиях. Так, Джозеф Шумпетер считает, что «капитализм порождает критические умонастроения, которые, разрушив множество других моральных авторитетов, обрушиваются в конце концов и на собственный; к вящему своему изумлению буржуа обнаруживает, что рационалистический подход угрожает не только тиаре и короне, но также частной собственности и всей системе буржуазных ценностей».32
Налицо достаточно явственная параллель между взглядами Шумпетера (капитализм как собственный могильщик, все и вся подвергающий безжалостному рационально-критическому анализу) и Маркса, который видел в капитализме беспощадную демистифицирующую силу, лишающую священного ореола все социальные институты и связи, систему, в конечном счете подрывающую собственные основы своей же непреклонной направленностью на секуляризацию, на борьбу со всякой священной традицией.* Впрочем, Маркс не заходил настолько далеко, чтобы предположить, будто общественная система способна рухнуть в результате одного лишь «подрыва основ», утраты идеологическо-духовного стержня, — во главу угла Маркс предпочитал ставить экономические противоречия.
Одним из тех, кто полагал, что политические пристрастия (и ошибки) интеллектуалов коренятся в их политическом бессилии, был Джордж Оруэлл: «Вся левая идеология, научная и утопическая, была выработана людьми, не имевшими ни малейших реальных шансов прийти к власти».34 Другими словами, политическое бессилие питало собой невежество, иллюзии и неуместные политические симпатии — поддержку Советского Со¬
Маркс писал: «Буржуазия... разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его „естественным повелителям“, и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного „чистогана“. В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость... Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались почетными и на которые смотрели с благоговейным трепетом... Буржуазия сорвала с семейных отношений их трогательно-сентиментальный покров... Все застывшие, покрывшиеся ржавчиной отношения вместе с сопутствующими им, веками освященными представлениями и воззрениями, разрушаются, все возникающие вновь оказываются устарелыми, прежде чем успевают окостенеть. Все сословное и застойное исчезает, вся священное оскверняется...».33
118
Пол Холландер
юза и соответствующих кампаний, развязанных левыми. Оруэлл был непревзойденным знатоком политической наивности (если не сказать хуже) западных интеллектуалов и неутомимым критиком двойного стандарта, практикуемого ими в оценке западного и советского общества. Он пришел к горькому выводу, что свобода выражения волнует западных интеллектуалов меньше, чем простых, обыкновенных людей.
Другим выдающимся критиком политической близорукости западных интеллектуалов был Артур Кёстлер. И Оруэлл, и Кёст- лер пришли к своим критическим взглядам не сразу, а после довольно продолжительного периода левых увлечений; оба они участвовали в Гражданской войне в Испании на стороне республиканцев. Разница в том, что Оруэлл никогда не состоял в коммунистической партии, а Кёстлер состоял. Вдобавок Оруэлл ни разу не был в Советском Союзе, а Кёстлер был.
Кёстлера (подобно Оруэллу) возмущала готовность левых интеллектуалов поддерживать режимы и движения (то есть Советский Союз и находившиеся под его контролем коммунистические партии), направленные на уничтожение свободы слова и других интеллектуальных свобод. Как и Оруэлла, Кёстлера не могло оставить равнодушным зрелище западных интеллектуалов, которые, пользуясь всей полнотой предоставленных им свобод, в том числе свободой самовыражения, из своей уютной ниши отчужденности восторгались режимами и движениями, где этих прав не существовало в принципе.35
Кёстлер составил список «смертных заблуждений» западных интеллектуалов в политике. Список этот включал утверждение, будто советская система является социалистической (в настоящее время данное заблуждение распространено не столь широко); тягу к «переоценке ценностей», препятствующую западному интеллектуалу критически относиться к советской системе до тех пор, пока западная демократия не лишена изъянов; уравнивание недостатков и отрицательных проявлений двух систем (например, голливудские «чистки» как аналог московских); «анти-антипозицию» (известную в последнее время как анти-антикоммунизм),3(3 то есть страх прослыть антикоммунистом, приводящий к тому, что либеральный западный интеллектуал идентифицируется в обществе с политически сомнительными элементами (эта позиция до сих пор встречается достаточно часто).37
Было бы серьезным упущением не указать, что Вьетнамская война и участие США в ней значительно изменили терминологию подобной дискуссии. В 1960-х гг. многие отчужденные западные интеллектуалы отказывались принимать контраст между
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
119
тоталитаризмом и западной демократией в формулировке, предложенной Кёстлером. В те годы внутренние оппоненты нередко уподобляли сами Соединенные Штаты фашистскому, тоталитарному режиму. И чем дальше, тем больше слабела способность производить то, что в критической методологии именуют тонкими различиями. Таким образом в глазах многих вопрос стоял уже не о выборе меньшего из двух зол, не о выборе между выносимым и невыносимым — но о выборе между двумя в равной степени (хотя и несколько по-разному) непривлекательными системами, либо же о том, какая из двух противостоящих Западу систем более привлекательна хотя бы теоретически. Так, например, хотя Маркузе и не придерживался просоветских убеждений, он полагал, что потенциальные возможности у советского строя выше.38
В 1960-е гг., во всяком случае в Соединенных Штатах, выявилось более четко очерченное разделение между интеллектуалами, работавшими на правительство (обычно в объеме рекомендательной и консультативной поддержки), и социальными критиками, «не замаранными» такими связями. В результате часть интеллектуалов, ассоциируемых с правительством, не признавалась представителями отторгнутой интеллектуальной субкультуры, так как почти любая форма работы на правительство или с ним определялась этой субкультурой как недостойная. Вторичное проявление «охоты на ведьм» во многих университетах фокусировалось на финансовых источниках субсидирования исследований.
В этот период наблюдалось также усиление критики одних интеллектуалов другими за корыстный переход на сторону сильных мира сего, а именно за оказание помощи правительству в разработке и реализации его внешней политики во Вьетнаме и где угодно еще. Кооперация академического персонала с военными или ЦРУ сурово порицалась. Короче говоря, часть интеллектуального сообщества каралась другой его частью за то, что она не сохраняла разрыв с системой.
Ноам Хомский был, вероятно, наиболее заметным выразителем этих взглядов, отраженных в получившим большой резонанс эссе об ответственности интеллектуалов.39 Не уделив особого внимания определению того, какова эта ответственность, он посвятил эту публикацию почти исключительно нападкам на сравнительно небольшое число американских интеллектуалов, которые поддерживали политику правительства США во Вьетнаме, давали рекомендации и обеспечивали легитимизацию этой политики. Хомский был также разгневан (едва ли не в равной мере) на тех, кто, хотя и не работал на правительство, но стоял
120
Пол Холланлер
в стороне, оставаясь сравнительно равнодушным, и не помышлял о протесте.* Основу этого эссе составляет открытая и глубокая вражда к интеллектуалу, который, прекратив «свободное плавание», поступает «в продажу», становясь каким-нибудь советником, вроде «ученого-эксперта», «академического апологета» или «благополучного технического специалиста» в услужении у правительства, а также полутона неумолимая вражда к технологии, поведенческой социальной науке и, что более важно, к американским интеллектуалам, которые не отчуждены или недостаточно отчуждены от своего правительства и общества и которые «добились власти и влияния». Хотя Хомский без какой- либо аргументации возлагает на интеллектуалов обязанность «говорить правду и обнажать ложь», в его эссе нет ничего о том, что мишенью такой деятельности должно быть еще что-то помимо правительства Соединенных Штатов. Его целенаправленная озабоченность Соединенными Штатами как источником всего зла этого мира — разделяемая многими западными (и незападными) интеллектуалами — отражала дух времени (1960-е гг. и протест против Вьетнамской войны), но также и неприкрытую неспособность хотя бы допустить, что какая-то страна, кроме США, способна на исторически значимый произвол или проведение агрессивной политики.
Рассуждения Хомского наводят на мысль о трех возможных позициях интеллектуалов по отношению к политической власти. Первая, которой большинство интеллектуалов 70-х гг. уделяли внимание, состояла в том, чтобы никогда в нее не вмешиваться; любая ассоциация себя с властью портит и подрывает целостность мнения и критический настрой интеллектуала. Для выполнения своих истинных функций и обязанностей подлинный интеллектуал должен стоять в стороне; он обязан оставаться не связанным с осуществлением власти (и соблазнами этой рыночной площади). Его задача — наблюдать, обнажать и анализировать, находясь на расстоянии.
* Подобно Сартру (взгляды которого будут обсуждаться ниже), Хомский демонстрирует, что он вынужден стирать различие между фактическим злодеянием и пассивностью. Таким образом, если вы не боретесь с определенной несправедливостью, то в той же мере виновны, как если бы потворствовали ей. Этот пылкий отказ придерживаться более дифференцированных политических взглядов является своего рода пробирным клеймом многих современных интеллектуалов и зачастую проявляется вместе с признанием коллективной вины. Похоже, Хомский упустил из вида, что когда все равно ответственны за конкретное злодеяние, или когда установлено различие между «делать» и «не делать», от самой идеи ответственности ничего не остается. Когда виновны все, не виновен никто в любом имеющем значение смысле. В период увлечения радикальными идеями, эту мысль пропагандировал Элдридж Кливер, полагая, что «если вы не составная часть решения, то являетесь частью проблемы».
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
121
Вторая позиция, хотя в ней и признаются как первостепенно важные достоинства оторванность от власти и отказ от участия в ней, допускает сдержанное, тщательно ограничиваемое соприкосновение с властью предержащей (если она всецело и очевидно погрязла во зле и нет надежд на ее исправление). Интеллектуал в такой ассоциации с властью, ограничивающейся рекомендательными услугами, мог бы способствовать очищению, смягчению и просвещению практики власти изнутри, оставаясь в резерве. Это позиция сопричастия в оговоренных пределах, не позволяющих идентифицировать интеллектуала как действующего заодно с носителями власти.
Приверженцы третьей позиции просто предлагают интеллектуалам ни при каких обстоятельствах не смешиваться с порочными политическими системами, но ничто не должно удерживать их от полной отдачи достойному политическому начинанию или хорошей системе, где их профессиональный опыт и таланты должны стать доступными власти в полном объеме. В наши дни эта рекомендация исходит, как правило, от тех, кто определяет как порочные системы западные плюралистические, капиталистические, индустриальные сообщества, а те, которые привержены определенному типу революционной доктрины левого крыла ленинской ориентации, относят в разряд хороших.
Хотя здесь, как и вдругих работах, приводится много материала о политических позициях и ошибках западных интеллектуалов, симпатизировавших марксистским движениям и режимам (особенно раннего, просоветского толка), много меньше известно и сказано о политической близорукости противоположного характера. В наши дни, например, в западных странах очень ограничено понимание (и особенно в среде молодых поколений) причин популярности нацизма, с воодушевлением принимавшегося студентами университетов Германии в 1920-е и 1930-е гг., а также солидной моральной и политической поддержки, обеспеченной немецкими интеллектуалами нацистскому движению и режиму. Вильгельм Рёнке, например, заявлял, что «едва ли есть еще один класс в Германии, который в сопротивлении нацизму потерпел такую фатальную неудачу, как интеллектуалы... и что ...факультеты социальных наук создали особенно благоприятные условия для практического интеллектуального предательства и расчистки дороги нацизму».40 Точно так же, немногие из наших современников знают или стараются не забыть, что
по мере того, как приверженцы левого политического крыла отправлялись в СССР, чтобы выражать признательность и восторгаться всем, что им
там показывали, политики правого крыла, соответственно нашли своего
122
Пол Холланлер
героя в Гитлере, а рай в Третьем рейхе. Если преподобный Хьюлетт Джонсон расценил советский режим как высочайшую из существовавших реализаций христианских принципов, то майор Йетс-Браун... высказался в защиту понравившегося ему режима еще более решительно в том смысле, что для него было «высочайшим откровением наличие в нынешней Германии более реального христианства, чем даже было в Веймарской республике»... В противовес дамам, которые встречались с русскими, чьи глаза светились гордостью, когда произносилось имя Сталина, были другие дамы, которые встречались с немцами, глаза которых сверкали тем же блеском при имени Гитлера... преподобному лорду Пассфильду [Сидни Вэббу] в Москве можно предложить в пару преподобного лорда Ротермира в Мюнхене.41
И хотя привлекательность нацизма и фашизма была более краткосрочной, но все же совсем немногим отличалась от привлекательности коммунизма. Стефан Спендер, наряду с другими, отмечал, что «фашизм предлагал политические ответы на критику современного технологического общества...», с позиции, которую Спендер соотносил в большей мере с той, что заняли «новые левые» в 1960-е гг., чем с традиционным левым движением. Симпатии новых левых к режимам и движениям левого крыла в сравнительно близкое нам время напоминали позиции интеллектуалов первой половины столетия, «...они поддерживали фашизм... скорее потому, что были против иной по-
и АО
литики, чем тяготели к этой».
Аластейр Гамильтон, один из немногих студентов, считавших фашизм привлекательным для интеллектуалов, думал, что «барьер между теми, кто выбрал коммунизм, и теми, кто предпочитал фашизм, казался мне во многих случаям таким несущественным, что мы вряд ли имели право говорить, что определенный тип людей или определенный тип философии тяготеет к фашизму». Он был уверен, что объединяющим началом для многих интеллектуалов, которые на крайних полюсах определялись как законченные фашисты или коммунисты, была их антидемократическая или авторитарная ориентация. «Это бунтари, главным врагом которых было статус-кво, спокойное, мирное, самодовольное и в чем-то лицемерное либеральное государство». Другим атрибутом фашизма, который интеллектуалы находили привлекательным (и который, в свою очередь, напоминает привлекательность коммунизма), «была надежда на „нового человека“, элиту героических суперменов, „мастеров тирании“, о которых мечтал Ницше...* Миф о „новом человеке“ был, в свою очередь, связан с желанием обновления, оживления, воодушевления...» И наконец, фашизм был привлекателен для интеллектуалов еще и потому,
* Как будет показано далее, образы героических суперменов были привлекательны и для западных интеллектуалов левого крыла в 1960-е гг., и среди них в особенности для Сартра, самые последние воплощения которого были обнаружены в числе вождей Кубы Фиделя Кастро.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
123
что он предлагал решение проблемы анонимности, которая начала преследовать интеллектуалов в этом столетии. Он обещал решить проблему неудовлетворенной потребности в самооценке и индивидуальном отличии, при сохранении сопричастности и общности в едином порыве.43
В мои намерения не входило обсуждать или документировать здесь сходство привлекательности фашизма и коммунизма для определенных кругов западных интеллектуалов. Я лишь хотел напомнить читателю, что восхищение заметного числа известных западных интеллектуалов* фашизмом не следует считать ни явлением вовсе незначительным, ни явлением, не заслуживающим внимания для желающих лучше понять политические позиции, изучению которых посвящено это исследование. Симпатия к фашизму, существовавшая, правда, недолго, стала выражением взглядов на политику тогдашних западных интеллектуалов, о которых нельзя не упомянуть в исследовании, посвященном задаче хотя бы частично объяснить истоки их ошибочных политических суждений.
Одним из факторов, которые объясняют отношение интеллектуалов к политической власти, является безысходность их напряженного метания между элитаризмом и эгалитаризмом (или индивидуализмом и коллективизмом). Хотя это редко проявляется открыто, многие современные западные интеллектуалы страдают от столкновения своей заявляемой приверженности равенству и ощущения принадлежности к некой группе избранных. Интеллектуалы зачастую уверены, что заслуживают власти, хотя и не готовы в этом признаться или заявить об этом открыто. Жажда власти или ощущение права на нее проистекает из убеждения интеллктуалов в своем превосходстве, в элитарности своего статуса. Эта претензия на превосходство является отчасти следствием значимости знаний, которая им придается в современных сообществах, но еще в большей степени следствием необходимости членораздельного определения социальных ценностей и растущей уверенности интеллектуалов в том, что решение этой задачи — их функция. Как определил это Эндрю Грили, «Из основных ценностей [интеллектуалов] самая главная заключается в их убеждении, что честное выражение идей — это наиболее величественная форма человеческой деятельности; а с этим тесно связано
* В число этих интеллектуалов входили такие заметные фигуры, как У. Б. Итс, Эзра Паунд, Т. С. Элиот, Дж. Б. Шоу (впоследствии он обратил свои взоры на Советский Союз), Генри Уильямсон, Джеймс Бернхем, Линкольн Стеффене (который, подобно Шоу, тоже отвернулся от фашизма в пользу коммунизма) Освальд Шпенглер, Эрнст Юнгер, Мартин Хайдеггер, Чарльз Мауррас, Луис Челин, Жан Кокто, Филиппо Маринетти, Бенедетто Кроче, Луиджи Пиранделло, Габриеле д’Аннуцио и Джованни Джентиле.
124
Пол Холланлер
представление о том, что те, на кого обществом возложена роль выразителей идей, являются не только самыми важными членами этого общества, но и действительно готовы направлять его».44
Интеллектуал, будь он в роли морально увлеченного социального критика, творческого художника-мыслителя, или — от случая к случаю — в роли специалиста-советчика, имеет определенные основания верить, что о некоторых вещах он знает больше, чем основная масса его сограждан. Такое ощущение превосходства или элитарного сознания особенно сильно, когда представление интеллектуала о самом себе подкрепляется либо определенной формой доверия, либо общественным признанием, либо тем и другим вместе. Парадоксально, что даже наиболее озлобленные и непримиримо критичные западные интеллектуалы принимали подобное признание и награды. Большинство западных интеллектуалов, с которыми мы имеем дело в данном исследовании, наслаждались своим высоким социальным статусом, получали существенное финансовое вознаграждение за свою работу и поднимались на высокие посты различного рода иерархических структур (академических, литературных, художественных, публицистических и пр.). Такие награды и признание очевидно усиливает ощущение собственной значимости современного западного интеллектуала, которое, в свою очередь, определяет форму конфликта между его эгалитарными ценностями и ощущением превосходства над массами и их безликими политическими представителями. (Презрение к демократическим политикам особенно резко выражено среди американских интеллектуалов.) Как мы более подробно обсудим позднее, приверженность равенству является краеугольным камнем системы ценностей интеллектуалов; она отражается в критике неравенства в собственных сообществах и восхвалении обществ, которые уже предпринимают значительные меры для достижения равенства либо заняты поиском таким мер. И все же как раз во время политических турне интеллектуалы находились под большим впечатлением важности своей роли в собственных странах, своей близости к верхушке властью предержащей в принимавшей их стране, очевидной невозможности самого существования этих режимов без интеллектуальных ценностей, а иногда также и под впечатлением привилегий, гарантируемых такими режимами интеллектуалам.
Напряженность конфликта между открыто признаваемым эгалитаризмом и благожелательным, отеческим элитаризмом са- моизбранных вождей (часто с интеллектуальной подоплекой) заслуживает особого внимания в революционных ситуациях и режимах. Революционер заранее должен быть уверен в своей миссии и высшего качества профессионализме, но также и в ограниченной
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
125
способности масс к совершенствованию. Поскольку он не может не думать о себе как о спасителе, правителе и самоотверженном вдохновителе масс, он также и не может вообразить себя одним из них или не считать себя лучше них. Быть в составе лидеров и одновременно чувствовать себя равным ведомым — психологически трудный подвиг.
На начальных фазах становления советская система удовлетворяла этим противоречивым устремлениям, разделявшимся многими западными интеллектуалами:
Каждый [то есть тот, кто приезжал в СССР] находил то, что желал найти больше всего, и ощущение превосходства в придачу. Легко было почувствовать превосходство над толпами людей, стоявших в очередях; над стаями налетчиков на поезда; над теми, кто разглядывал твидовый костюм или авторучку словно чудо; над теми, кого кормили по рациону, ликвидировали и мобилизовали на парады. Единственное место в мире, где вы могли стоять на вершине рядом с диктаторами и одновременно сливаться в экстазе с массами: синтез абсолютной власти и абсолютной гуманности, благодать, которая до той поры снисходила лишь на редких мистиков и мучеников.46
Такому синтезу невозможно, конечно, противостоять, во всяком случае, в советском окружении. Тем не менее, многие западные интеллектуалы оказывались перед дилеммой одновременной приверженности элитаризму и эгалитаризму, предпринимая настойчивые усилия разрешить конфликт путем смирения перед лицом мифических масс* и фантазирования на тему их подлинного существования. В одном интервью 1971 г. Сартр сказал:
Сегодня это поистине негодное, а следовательно и контрреволюционное, убеждение, будто интеллектуалу следует размышлять о собственных проблемах, забыв, что он является интеллектуалом именно благодаря массам и через массы; [он глубоко не задумывается над таинственным состоянием дел, существо которых в том], что интеллектуал владеет знаниями для них... что он должен посвятить себя решению их проблем, а не своих собственных.
...Я был только рупором шахтеров...
В том же интервью он выражал надежду на то, что «имена будут вовсе исключены» из революционной прессы, публикации которой он способствовал. И все же в этом была безудержная и неосознанная отеческая забота: «Каждый раз, когда, например,
Следует заметить, что социологические компоненты мифического понятия «массы» довольно неустойчивы. Тогда как на протяжении почти столетия пошедшие на разрыв со своим обществом западные интеллектуалы идентифицировали массы с пролетариатом или промышленными рабочими, с 1960-х гг. акцент был смещен на другие варианты понимания масс. Новый идеализированный вариант масс зачастую включает в себя, особенно в Соединенных Штатах, небелых обитателей трущоб, заключенных и студентов. Особое место в нынешних понятиях прогрессивных масс (надежду на которые лелеял Сартр) отводится молодежи, включая подростков, а иногда даже детей, которые пока не испорчены взрослыми. Что касается озабоченности незападными странами, то в этой категории находится место и бедным крестьянам (возможно, даже племенными образованиями).
126
Пол Холланлер
происходит захват завода рабочими, наша задача состоит в том, чтобы создать уверенность, будто сами рабочие объясняют, зачем они это сделали, что при этом чувствовали и чему в результате этого научились. Наша задача — помогать им и т. п., но никогда не вмешиваться, никогда не говорить им, что они должны делать». Стараясь еще доходчивее объяснить свою связь с массами или рабочими, он добавил: «В расчет идет то, что я с рабочими в их действиях, а не тот факт, что могу позволить себе жить в Париже иначе и лучше, чем они. Нет, язык — много более серьезная проблема... Видите ли, философу значительно проще объяснить новую мысль другому философу, чем ребенку. Потому что ребенок, при всей своей наивности, задает реальные вопросы. То же самое и с рабочим». Базис веры Сартра в массы и его убеждение, что интеллектуалы находятся у них в долгу, остается непонятным. Масса для Сартра, как и для многих других интеллектуалов, — абстракция, явно сооруженная из равно воображаемых частей достоверности, целомудрия, силы и бесхитростности, т. е. качеств, которые сами интеллектуалы либо редко проявляют, либо не обладают которыми в достаточной мере.
В течение всей дискуссии Сартр демонстрировал враждебность по отношению к своему брату интеллектуалу. Похоже, его позиция состояла в том, что интеллектуалы виновны и достойны презрения, пока ведут себя как интеллектуалы; они могут искупить свою вину лишь «свершением», политической деятельностью и ассоциацией себя с мифическими рабочими. Он сказал, например: «Интеллектуал, который всю свою борьбу ведет из кабинета, сегодня контрреволюционен, что бы он ни писал». Сартр также придерживался гротескно преувеличенного и совершенно недифференцированного взгляда на ответственность интеллектуалов, которые являют собой лишь зеркальное отражение, соответствующее их напыщенному представлению о собственной политической и социальной важности:
Крайне левый интеллектуал... отказывается от своих привилегий или пытается расстаться с ними, действуя... Белый самый левый интеллектуал в Америке, как я полагаю, понимает, что, поскольку он белый, у него есть определенные привилегии, которые он должен уничтожить, включаясь в действие [эвфемизм насилия по Сартру]. Не делать этого означает быть виновным в убийстве чернокожих сограждан — точно так же, как если бы действительно нажимать на курок... «Черные пантеры» истребляются полицией, системой... Интеллектуал, который не выталкивает свое тело, так же как и разум, на линию борьбы с системой, основательно поддерживает эту систему — соответственно и должен быть осужден.
...Когда молодежь противостоит полиции, наша задача заключается не только в том, чтобы показать, что именно полиция чинит насилие, но и присоединиться к молодежи в ее контрнасилии.
...Интеллектуал, больше чем кто угодно другой... должен понимать и действовать согласованно, потому что есть всего два типа людей: невинные и виновные...46
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
127
Отказ Сартра воспринимать различия тоньше, чем деление на виновных и невиновных, и его компенсаторная озабоченность действием и свершением отражают определенного рода неумеренность, которой зачастую характеризуется отношение интеллектуала к политике и власти. Он (подобно Хомскому) презирает интеллектуалов, которые не разделяют его политические заповеди и не склонны к участию в любимых им символических политических действиях (таких как распространение «революционных» газет или участие в демонстрациях).
Вспышки почтения к физическому труду в политических системах, управляемых интеллектуалами (или бывшими интеллектуалами), также имеют отношение к поднимаемым здесь вопросам. Вряд ли можно считать случайностью, что на Кубе, управляемой полуинтеллектуалами вроде Кастро (прежде вместе с Че Геварой) в необычайной степени подчеркивались искупительные достоинства физического труда — проводилась почти компенсаторная по стилю политика. То же самое имело место в Китае, особенно во время Культурной революции. Кстати сказать, псевдоинтеллектуальная подоплека и устремления Мао тоже могут дать некий ключ к разгадке почтения к физическому труду и веры в его очищающие качества.* И наоборот, в стране подобной Советскому Союзу, которым в течение определенного времени управляли бывшие крестьяне и рабочие, упор на искупительных достоинствах такого труда имел заметно более молчаливый характер, а попытки отлынивать от него прощались гораздо охотнее. Возможно, отношение к физическому труду дает ключ к разгадке конфликтов, которые рвут на части психику интеллектуала. Чем больше тяготение к жизни умом и больше ощущение вины за привилегии, которые умственный труд может дать, тем существеннее внешний акцент на достоинствах физических форм труда. Следовательно, не исключена вероятность, что об относительном политическом весе интеллектуалов (или бывших интеллектуалов) в революционных системах можно догадываться по тому, насколько твердо ими официально подчеркивается значимость физического труда.
Меняющееся равновесие между элитаризмом и эгалитаризмом в послереволюционный период иллюстрируется рассуждением Че Гевары о лидерстве. Он говорил: «Революционные ситуации... открывают дорогу естественному отбору тех, кому
* Одержимость высокообразованных — в прошлом франкофилов — правителей Камбоджи идеей превращения всего населения в сельскохозяйственных рабочих является более близким по времени примером этого же явления. (Я имею в виду режим Пол Пота, изгнанный вьетнамцами.)
128
Пол Холландер
предназначено маршировать в авангарде, и тех, кому предназначено награждать и наказывать тех, кто выполняет свои обязанности или действует против строящегося общества».47 Такой откровенный элитаризм — и раскрывающая его терминология (естественный отбор, предназначение, марширующий авангард), больше подходящая по духу и поклонению герою фашистского движения и идеологии, чем марксисту, — это еще одно напоминание о явно непреодолимых проблемах революционных (и многих нереволюционных) интеллектуалов, вглядывающихся в лицо своей связи с массами и пытающихся разрешить конфликт между собственным элитаризмом и эгалитаризмом. В новейшей истории этот конфликт все чаще и чаще разрешался в пользу импульсов элитаризма, ведущих к власти. Политолог Эрик Хансен пишет:
Как показывают все руководимые интеллектуалами движения от Мартина Лютера до Мао Цзэдуна, симпатии интеллектуалов, помолвленных с массами, заметно охладевают с приходом к власти. Весьма обращенная внутрь природа интеллектуальности, сравнительно слабая способность поставить себя на место другого... определяют тенденцию подменять диалог и демократию догмами, полемикой и принуждением. Интеллектуал, в силу дефицита такого качества, как сочувствие, за исключением поэтического чувства, стремится любить все человечество в общем и в то же время непримирим к недостаткам и несовершенству людей в частности.48
Наблюдения Хансена точно определяют еще одну характерную форму элитаризма интеллектуалов, а именно: их тенденцию отвергать потребность обычных людей в определенных свободах, исходя из предположения, что такая потребность присуща немногим, а массы позаботятся о себе сами, если будут удовлетворены их главные материальные нужды. От Линкольна Стеффенса до Джорджа Бернарда Шоу, от Скотта Ниринга (долговечного американского радикала) и до Сюзан Зонтаг они образуют неразрывную череду. Все они, как и многие другие, не оставили сомнения в том, что сами не смогли бы жить в обществах ограниченных возможностей, которые интеллектуалы посещали и которыми восторгались. Тем не менее, они настойчиво рекомендовали их другим, и особенно соотечественникам. Линкольн Стеффене говорил своим товарищам по паломничеству и последователям:
...Я патриот России; здесь Будущее; Россия победит и спасет мир. Это моя вера. Но я не хочу жить здесь.
Скотт Ниринг так объяснял свое решение остаться в Соединенных Штатах, не стесняясь при этом в выражении своего глубокого отвращения к американскому обществу:
...Я решил, что, принимая на себя задачу социализации планеты Земля, должен исполнять свои обязанности в Соединенных Штатах, как бы трудно в них ни жилось... Я бывал в социалистических странах и продолжаю
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
129
посещать их, но база моих операций должна оставаться на Западе, поскольку здесь мои корни, а также возможности, которые по-прежнему позволяют мне вносить определенный вклад в образ мышления и подходы хотя бы немногих коллег-американцев.49
Открытое навязывание собственных культурных ценностей и стандартов другим сообществам зачастую служило оправданием таких парадоксальных позиций и укрепляло веру в то, что незападные массы с радостью принимают лишения, которые западные интеллектуалы находят мучительными. Излишне говорить, что такие заверения базируются на слабом эмпирическом фундаменте. Как показывает Питер Бергер, те, кто принимает их в расчет, не осознают, что многие базисные ценности незападных сообществ тоже поддерживаются важными личными и групповыми свободами и правами.50
Хотя неразрешенный конфликт между элитаризмом и эгалитаризмом лежит в основе подхода многих интеллектуалов к политической власти, им зачастую еще труднее занять удовлетворительную позицию по отношению к обладанию самой властью. Хотя у меня нет сомнения, что найдется немало интеллектуалов, страстно желающих власти и получающих удовольствие, когда добираются до нее, значительно большее их число — ив этом у меня тоже нет сомнения — продолжают разрываться между желанием власти и осознанием моральных дилемм, создаваемых обладанием ею.
МОРАЛЬНЫЕ ИМПУЛЬСЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Как ранее было показано, ключевым компонентом представлений интеллектуала является его высокоразвитая моральная чувствительность, озабоченность моральными ценностями и их социально-политическим приложением. Соответственно, подлинные интеллектуалы характеризуются крепкой привязанностью к ценностям и решительным выражением их обязательности. Моральные импульсы и политические установки интеллектуалов объединяет, надо полагать, не какой-то личный интерес, но более высокая цель.
Создается впечатление, что в наше время новые обильные излияния морального пыла связаны с громадным разнообразием политических обязательств и дроблением ценностей в западных сообществах. Интеллектуалы привыкли находиться на передовых рубежах артикуляции моральных сантиментов и их приложения к вопросам политики. Зачастую создается впечатление,
130
Пол Xолландер
что в современном мире моральный накал страстей и негодования становится большей потенциальной политической силой, чем обычно было принято, или, по крайней мере, более весомой предрасположенностью к выдвижению моралистических аргументов на политическую арену, чем прежде. Одновременно в результате интенсивно выражаемая обязательность и партизанщина подавляют моральное негодование, возникает рационально толкуемое и облекаемое в законные формы пренебрежение моралью. Короче говоря, двойные стандарты морально-политических оценок становятся необычайно рельефными.
Возможным объяснением такого положения вещей может быть то обстоятельство, что усиливающиеся политические пристрастия приводят к возрастанию предвзятости и смещению взвешенности оценок очевидного. Канадский социолог Гвинн Нетт- лер полагал, что «именно на этико-политической арене мы наиболее склонны использовать свои головы для оправдания собственных интересов и разумного объяснения нашего личного неудовольствия...» и что «существует вероятность неаккуратного использования информации в силу этико-политических обязательств».51
Многое в этой книге наводит на мысль, что это в самом деле имеет место очень часто. И когда какую-то социальную систему отвергают, и когда ею восторгаются, информация и достоверность превращаются в нечто вторичное по отношению к предрасположенности. Интеллектуалы в большей мере, чем большинство людей, искушены в деле изыскания фактических «оснований» для своих ценностей.
Неясно, почему моральные заботы и здравомыслие все в большей мере вторгаются в политику, не превращая саму политическую практику в основанную в большей мере, на моральных принципах и соображениях. Вероятно, такое развитие событий связано с перемещением поиска смысла жизни из религиозной сферы в сферу политики секуляризации. Возможно, все то время, пока большинство людей искало и находило определенный смысл жизни с помощью религии — и одновременно ухитрялось отделять религию от политики, — было проще с жестоким беспристрастием воспринимать стремление к политической власти и преследование политических интересов, так же как противостоять личным и групповым интересам, маскируемыми высокопарными моралистическими оправданиями. Соответственно, по мере того как политика все более идеологизируется, соблазн поморализировать на тему конечных целей и практической деятельности становится непреодолимым. Этим частично можно объяснить обсуждаемый здесь феномен, а именно: распространение
131
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
моральных стандартов и суждений на часть интеллектуалов, а также широкое многообразие способов морального узаконивания безапелляционной политической практики.
К тем мотивам, которые заставили меня заняться этим исследованием, действительно можно добавить «переоткрытие» того факта, что интенсивность (или степень) морального накала невозможно адекватно объяснить качеством действий, которые этот накал провоцируют. Другими словами, я заметил, что абсолютная величина попрания морали (которая определялась, например, числом преданных смерти людей на основании какого-то приоритета, абстрактной схемы или критерия) не имела, что достаточно странно, соответствующего отношения к тому, каким образом люди, и особенно интеллектуалы, реагировали на сам факт такого попрания. Принимая во внимание то обстоятельство, что моральные сантименты, негодование и сострадание живы, играют большую роль в общественных и политических делах, вопрос показался мне достойным исследования и размышлений.
Связь ситуаций, когда в разных частях мира законы морали игнорируются, с разнообразием реакции на них со стороны общественности дают поразительные примеры как своеобразия образцов морального негодования и безразличия, так и множества двойных стандартов. Произвол и жестокость в гигантских пропорциях зачастую просто не замечают, смиренно оплакивают или вяло опротестовывают, тогда как другие деяния или события, морально нежелательные, но более умеренные по масштабам, вызывают громогласный и долго не утихающий протест. Если предположить, что число людей и особенно граждан, с которыми дурно обошлись в каком-то конкретном конфликте, позволяет предопределить или предсказать интенсивность морального негодования, то легко опровергнуть событиями недавнего прошлого и ответной реакцией на них.
«Селективный геноцид» в Бурунди в начале 1970-х гг., случай попрания прав недавнего времени, возбудил слабый протест интеллектуалов, правительств или церквей в Африке и западном мире.52 Несколькими годами позднее получившая большую огласку резня в Уганде не привлекла внимания (пусть даже не действия) ни Организации Объединенный Наций, ни Организации африканских государств.53 Один диктатор африканского государства Гвинея гордо заявлял, что «донос в его стране мог привести к аресту в течение пяти минут кого угодно и где угодно»; было и много другого, что свидетельствовало об исключительной жестокости этого полицейского государства, щедро выносившего смертные приговоры.54 Слабый отклик общественной критики вызвали как другие подобные события, так и ситуации
132
Пол Холландер
в Экваториальной Гвинее, где, согласно сообщению Джека Андерсона, правил еще более неограниченный диктатор «...Франциско Масье... казнивший каждого, кого считал своим противником. Однажды он отпраздновал канун Рождества, повесив и расстреляв 150 соотечественников на футбольном стадионе...».55 Ни западные интеллектуалы, ни интеллектуалы третьего мира, ни общественное мнение не проявили интереса к судьбе курдов, которых Ирак и Иран жгли напалмом, бомбили и другими действиями демонстрировали непризнание их самоопределения.56 Члены племен Лаоса могли бы выставить счет за массовое международное безразличие к своей судьбе, когда они были оставлены на заботливую милость своих вьетнамских соседей и их советских покровителей, горевших желанием испытать новое оружие (в данном случае химическое) на этих врагах прогресса.57 По мере путешествия назад во времени, забытые жертвы истории и властной политики множатся. Западными интеллектуалами было пролито совсем мало слез о тех, кто прошел через «протаскивание под килем», как озаглавил свою книгу Джулиус Эпштейн о «принудительной репатриации перемещенных советских граждан», исчислявшихся сотнями тысяч после Второй мировой войны.58 В то время как мощный протест клеймил позором злодеяния американских войск во Вьетнаме, совсем мало говорилось о жестокостях другой воевавшей стороны. Американская писательница Мэри Маккарти не могла, например, поверить, что северо- вьетнамцы были способны на плохое обращение с пленными американцами; согласно ее уверениям, они заботились о том, чтобы соблюдалось четкое различие между личностью пленного и его преступлением. Что касается резни в Хюэ, то она не могла согласиться с тем, что ее была способна учинить другая сторона: «Нет способа узнать, что произошло в действительности... Я предпочитаю думать, что это дело рук американцев...».59
В другой главе этой книги описывается долгая история избирательного негодования и сострадания многих бывших чемпионов политического морализирования в связи с сотнями тысяч беженцев с Индокитайского полуострова, снова «голосовавших ногами», как уже много раз это делали обыкновенные люди во второй половине века. Радикальный адвокат Уильям Кюнстлер с симпатией относился к незавидному положению людей, отправлявшихся в океан в лодках, но добавлял, что «эта проблема была неизбежным следствием переворота, учиненного США...».60 Даже режим Пол Пота в Камбодже, которому приписывалось убийство миллионов людей, нашел защитников среди западных интеллектуалов, как только всплыл на поверхность Ноам Хомский, чтобы предложить самое поразительное воплощение избирательного
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
133
отношения к попранию морали. Его попытки свести к минимуму жестокости в Камбодже напоминали потуги защитников последнего окопа сталинской России, которым всегда недоставало твердых доказательств чисток и советских концентрационных лагерей. С неистовым презрением и определенностью Хомский отвергал «сказки о жестокостях коммунистов» (они для него оставались сказками и в 1977 г.), перечисляя, принимая и отвергая свидетельства в соответствии с требованиями избирательности. Ссылаясь на результаты не называемых по имени, но «высококвалифицированных специалистов»* (он не цитировал их в силу «ограниченности места» в статье объемом добрых 6000 слов, кишевшей кавычками), «которые изучили весь спектр свидетельств» — то есть осуществили труд, который он зарезервировал для тех, чьи взгляды находил близкими своим, — Хомский заявлял, будто эти эксперты пришли к заключению, что «казни, исчислялись самое большее тысячами; что они были локализованы районами ограниченного влияния красных кхмеров и необычайно сильного недовольства крестьян, где жестокие убийства на почве мести усугублялись угрозой голодной смерти, как результата совершенных американцами разрушений и убийств». В другом месте этой статьи с пугающим возвратом к скептицизму в отношении подсчета числа беженцев («крайне ненадежных») он предпочел принять объяснение, данное революционным правительством по поводу эвакуации Пномпеня (нехватка продуктов питания) и критиковал Франко Пончо за его доводы в пользу политико-идеологических причин.62
Хомский являет собой пример морально избирательного интеллектуала, который не способен пересмотреть или видоизменить свои политические обязательства — в данном случае очень глубокое и эмоциональное неприятие Соединенных Штатов и всего, на чем они стоят. Все выглядит вытекающим из этого его обязательства, из самих основ его враждебности. Социальный критик этого типа будет защищать врагов своих врагов (в данном случае Камбоджу), которые, по определению, становятся его друзьями и союзниками. Он не в состоянии признать зло в мире — или искренне возмущаться им, — если нет способа вовлечь в дискуссию главный предмет ненависти Соединенные Штаты. И наоборот, он проявит громадное прилежание и чистосердечие, что¬
* О Хомском говорили, что «он выезжал на коньке своей выучки в области лингвистики, создавая впечатление скрупулезного обоснования и педантичной учености; внешне его политические статьи несли на себе все признаки ответственного научного трактата, включая — всегда включая — громадное количество подстраничных примечаний».61
134
Пол Холландер
бы продемонстрировать, что Соединенные Штаты заслуживают наказания за все заметные случаи попрания морали в сегодняшнем мире.* Хомский, подобно многим другим, имеет в голове жестко фиксированный сценарий, героями которого являются представители и воплощения добра и зла нашего времени. История с Камбоджей не вполне умещалась во вселенной его морали, но он изо всех сил пытался втиснуть в нее и этот случай. Соки его морального негодования изливались, только когда ему удавалось возложить ответственность на своих кандидатов в злодеи.
Одним из факторов, которые препятствуют более беспристрастному выражению моральных порывов со стороны западных интеллектуалов, является почти непроверенный и неисследованный догмат веры нашего времени, на который особенно полагаются автократические режимы левого крыла в деле улучшения материальных условий жизни масс. Тогда как те, кто симпатизирует им, могут допускать, что улучшения достигаются за счет определенных гражданских свобод, существует широко распространенная уверенность, будто бедных людей не интересует личная свобода. Согласно исследованию, опубликованному Комитетом американских друзей (квакеров), «те, кто в беде кричат «Хлеба!», и не получают его, не откликаются и не станут откликаться на наш лозунг «Свободу!», пока у них не будет хлеба».64 Процитированная точка зрения глубоко засела в умах интеллектуалов и упорно поддерживается несмотря на то, что десятки миллионов людей сбросили диктат левых режимов столько же по экономическим, сколько и по политическим причинам. Последнее обстоятельство показывает, что выбор альтернативы не сводится к «хлебу» или «свободе», потому что такие политические системы имеют тенденцию недодавать и того и другого. (Массовое бегство из Кубы в 1980 г. —недавнее тому доказательство.)
* Придерживаясь похожего образа мыслей, американский политолог Майкл Паренти не смог допустить даже предположения о невиновности США в физических репрессиях в советском стиле по отношению к пленным; Кора Вейс, социальный критик и активистка, была убеждена, что нападение Китая на Вьетнам в 1979 г. на совести США; преподобный Слоун Коффин неуютно себя чувствовал, слушая американскую критику в адрес взявших заложников иранцев без привычного аккомпанемента ссылок на злодеяния в его собственной стране, а РЕГ«1-клуб (Клуб пера: Международная ассоциация поэтов, драматургов, редакторов, эссеистов и романистов. — Примеч. переводчика.) США продемонстрировал беспристрастность, включив в число «репрессированных» мира американских порнографов и оставшихся в живых советских политических заключенных. Не так давно (Двадцать лет назад, в 1980 гг. — Примеч. переводчика.), во время своего паломничества в Тегеран, Рэмси Кларк воспользовался возможностью заклеймить США позором и фактически оправдать иранцев, ответственных за взятие заложников. Очевидно, он не смог совладать с ощущением симпатии к враждебному США режиму и воспринимал его не иначе, как ускользнувшую из лап США жертву.63
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
135
Многие западные интеллектуалы неохотно выносят суждения морального характера и о правительствах или движениях третьего мира, потому что чувствуют себя лишенными права высказываться о том, что плохо делается бывшими жертвами колониализма и расизма. Похоже, они уверены, что былой статус жертвы автоматически дает ей моральное превосходство. В одном интервью генерального секретаря Всемирного совета церквей доктора Филипа Поттера спросили:
Почему Всемирный совет церквей ограничивается поиском соринки в глазу белых расистов и находит достойным для себя всего лишь упомянуть о таких громадных бревнах, как зверские гонения на азиатов в Уганде или межрасовая резня в Бурунди?
Доктор Поттер: Мы делаем осторожные замечания о подобных вещах — фактически... мы не осуждаем события в Уганде. Однако наихудшая расовая дискриминация — то, что делают белые в Южной Африке, потому что [Курсив мой. — П. X.] эта дискриминация опирается на силы колониализма, империализма и экономической эксплуатации. Самый шокирующий аспект этого расизма состоит в том, что дискриминация осуществляется христианскими нациями. Что касается Уганды, присмотритесь к той роли, которую играют индийцы, имея поддержку британского правительства. Тогда у вас появится кое-какое понимание причин жестокости такого поведения [Курсив мой. — П. X.] нации, которая только что добилась независимости.
Вопрос: Ваше великодушное прощение распространяется и на другую страну, где преследования непосредственно касаются Всемирного совета церквей... поскольку здесь дело в религии, а не политике... Я имею в виду затыкание рта российской ортодоксальной церкви... баптистам, которые даже сегодня испытывают огромное интеллектуальное противодействие, оказываются в лагерях принудительного труда и богадельнях для душевнобольных. Не являются ли эти гонения на религиозной почве советских русских христиан предметом более безотлагательного беспокойства церквей, чем политическая и социальная дискриминация в Африке?
Доктор Поттер: Мы не делаем различия между религиозными, политическими и социальными гонениями. Нас несомненно беспокоит отсутствие религиозной свободы в коммунистических странах, коль скоро это доказано [курсив мой]. С другой стороны, есть громадное различие в том, как вести дело с режимами, которые считаются христианскими, и теми, которые открыто объявляют себя атеистическими...
Вопрос: Другими словами, поскольку христианам положено нести более высокую ответственность, вы бьете себя в свою западную грудь... тогда как коммунисты, от которых нельзя ожидать благопристойности в силу их порочности, а возможно изначальной греховности, остаются безнаказанными.65
Йонас Савимби, лидер партизан, боровшихся с, режимом в Анголе, который поддерживался кубинцами, отмечал, что «Всемирный совет церквей вместо осуждения дурного обращения в Анголе со многими членами христианской церкви прислал делегацию, которая проводит кампанию сбора средств для Анголы, внося таким образом вклад в укрепление еще одного сателлита русских в Африке».66
Другой пример похожей политической морали нашел отражение в отношении чернокожего американского писателя Джу¬
736
Пол Холландер
лиуса Лестера* к советскому вторжению в Чехословакию в 1968 г. и в его же отношении к тем радикалам, которые это вторжение не одобрили:
Многих радикалов расстроило и смутило русское вторжение... Почти все чувствовали, что должны выбрать, кто прав и кто неправ в этой ситуации, а когда [в борьбе за симпатии] победа досталась чехам... каждый смахнул несколько сентиментальных слезинок, узнав об оккупации Праги.
Такого рода реакция на недавние события в Восточной Европе — в большей мере отражение нашего юношеского, не подвергнутого испытаниям идеализма, чем отражение того, что бы там ни происходило. Какой была бы наша реакция, пошли Фидель войска в студенческий городок университета Гаваны на подавление выступления студентов? Какой была наша реакция на решительное устранение Хо Ши Мином тысяч политических недругов в середине 50-х гг.?.. Да и наша реакция на чистки под властью Сталина несомненно негативна, хотя мы ничего о них не знаем.
Без всякого сомнения это будет интерпретировано некоторыми, как завуалированное одобрение действий русских против Чехословакии. Это не так. Но это и не неодобрение. Возможно, правильная позиция по этому вопросу была занята Китаем и Кубой — осуждение и России и Чехословакии. Ни одна из этих стран не является моделью социализма... и перед любой из них может быть всерьез поставлен вопрос, достойны ли они называться социалистическими в целом. Но все это не имеет отношения к нашему инфантильному порыву встать на чью-либо сторону, потому что мы видим картинки входящих в город танков и, подобно хорошо выдрессированным животным, начинаем вопить, что плохо тому, на кого этот танк нацелен. Такого рода реакция обнажает типично американский синдром — аполитичность морали.67
Одна группа интеллектуалов-квакеров в том же духе удерживала в определенных границах свое осуждение советского вторжения, заметив, что «...еще слишком рано давать адекватный анализ происходящего события». В отличие от Хомского и Всемирного союза церквей, они нашли имевшуюся информацию недостаточной для выражения сожалений по поводу того, о чем были не склонны сожалеть с самого начала. В другом месте того же тома они называют весь диапазон советского (и коммунистического китайского) политического насилия с 1920-х по 1960-е гг., «эпизодами репрессий».68 В этом примере, как и в других, подбор слов обнажает стоящие за ними сантименты морального толка. Поскольку квакеров значительно в большей мере выводил из себя антикоммунизм, чем коммунизм (как видно из существа тома в целом, цитату из которого я привел), вряд ли стоит
* Следует заметить, что в последующие годы политическая мораль Лестера претерпела существенное и, по-моему, достойное похвалы изменение. Спустя десятилетие после того, как он написал цитируемое выше, Лестер сурово осудил тех, кого не привык подвергать критике в период своего новолевацкого радикализма, включая американских чернокожих лидеров, демонстрировавших все более почтительное отношение к Организации Освобождения Палестины. Вознаграждением за такую позицию и подобные ей позиции по другим вопросам стала его заметная непопулярность среди коллег отделения афроамериканских исследований Массачусетского университета, которые хотели отстранить его от чтения курса лекций по проблемам чернокожих и евреев.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
137
удивляться, что они приуменьшают, подбирая подходящие слова, и идя на другие ухищрения, попрание морали, ассоциируемое с коммунистическими системами и отражающими их сущность событиями, вроде вторжения в Чехословакию.
Способность интеллектуалов к неравновесной демонстрации моральной озабоченности иллюстрирует — правда, на другом уровне — реакция чилийского поэта, лауреата Нобелевской премии Пабло Неруды на трудности его товарища по цеху, писателя Александра Солженицына:
Давая интервью в последний день своего недельного пребывания здесь [в США], 68-летний чилийский поэт с неохотой говорил о проблемах г. Солженицына, с которыми тот столкнулся, пытаясь подходящим образом организовать церемонию презентации медали Нобелевского лауреата...
«Я не хочу участвовать в споре, затрагивающем сугубо личные страсти, — сказал г. Неруда... — Нет у меня и намерения становиться инструментом антисоветской пропаганды».
«В конце концов, — продолжал он, — здесь, в капиталистических странах, больше романистов, которые конфликтуют со своими правительствами, чем в социалистических государствах».
В том же интервью он заявил:
«Теперь и не понять, кто и что говорит... Все это дело превратилось в большую скуку, и всем следовало бы позволить времени идти своим чередом, пока не появится возможность разглядеть перспективу этих проблем в более спокойной обстановке».69
Очевидно, взятое надолго и очень стойкое обязательство Неруды поддерживать советский режим препятствовало появлению симпатии к судьбе Солженицына; это обязательство также подвигло его на попытку отнести преследование Солженицына к разряду тривиальных вещей и назвать его «большой скукой». Еще меньше имеет отношение к сути проблем его заявление о том, что пока писатели преследуются в капиталистических сообществах (утверждение, опровергаемое, помимо многого другого, его собственным положением), проблемы Солженицына не заслуживают особого внимания.
Другой, менее выдающийся апологет советской политики, английский литературный критик Арнольд Кеттл, занимал похожую позицию в отношении третирования Советами Пастернака после того, как тому была присуждена Нобелевская премия. Во- первых, он утверждал, что награждение премией было политическим актом, — и как бы оправдывал этим заявлением нападки на Пастернака советских властей. Во-вторых, он предлагал, чтобы большинство русских в любом случае относилось к Пастернаку как к предателю подобно тому, как британский и американский народы считали предателями П. Дж. Водхауза и Эзру Паунда во время Второй мировой войны. Он также утверждал, что со всеми подобными материями дела обстоят хуже всего в капиталистических сообществах:
138
Пол Холла НАв р
Может быть кто-то действительно воображает, что выход из нынешнего ужасающего состояния культуры в этой стране, во всяком случае более ужасающего, чем ее экономическое состояние, может быть найден посредством невмешательства? Одно из первостепеннейших различий между социалистическим и капиталистическим обществами состоит в том, что в первом ношу полной ответственности возлагают на себя его лидеры... Ответственность сопряжена с ошибками и злоупотреблениями; но это не менее возвышенный и более гуманный подход, чем безответственность. Большинство западных интеллектуалов практически умывают руки, не желая касаться 90% того, что определяет культуру их стран...70
В защите советского третирования Пастернака Кеттл, в сущности, апеллировал к более высоким ценностям и чувству ответственности советских лидеров за дела культуры. Он также доказывал, что вопрос в целом — культурного, так сказать, толка и может подвергаться критике только с позиций буржуазных стандартов и ценностей. Все это в действительности не объясняло, почему Пастернака предостерегали от получения Нобелевской премии, запрещали его книги в СССР и обливали грязью. И Кеттл, и Неруда принадлежали к многочисленной когорте западных интеллектуалов, которые считали свободное выражение взглядов своим неотъемлемым правом и вместе с тем с готовностью давали глубокомысленное обоснование целесообразности его отсутствия в других сообществах, к которым относились с одобрением.
Из этого краткого предварительного обзора моральных импульсов и политических предпочтений многих западных интеллектуалов можно заключить, что жар их морального пыла в значительно большей степени определяется идентификацией действующих лиц сомнительного с точки зрения морали поведения, чем самим их поведением.71
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Edward Shils, The Intellectuals and the Powers, Chicago, 1972, p. 3.
2. Жюльен Бенда, цит. no: Lewis A. Coser, «Julien Benda», Encounter, April 1973, p. 33.
3. Karl Mannheim, Ideology and Utopia, New York: Harvest Book, n. d. (впервые опубликована в Германии, 1929 и в США, 1936).
4. Stephen R. Graubard, «Preface to the Issue „Intellectuals and Tradition“», Daedalus, Spring 1972. p. v.; Arthur Koestler, «The Intelligentsia», in Idem, Yogi and the Commissar, p. 63, 65.
5. Ulam, Unfinished Revolution, p. 195, 200. Об интеллектуалах, находящихся у власти при социализме, см.: George Konrad and Ivan Szelényi. The Intellectuals on the Road to Class Power, New York, 1979.
6. Согласно в некоторой степени спорному определению, предложенному «Concise Oxford Dictionary», «интеллектуал — это личность, обнаруживающая глубокое понимание, просвещенная личность», а интеллигенция — «часть нации, которая стремится к независимому мышлению». Если эти определения поменять местами, то немногие из наших современников сегодня раскритиковали бы их или даже заметили бы разницу.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
139
7. Janies H. Billington, «The Intelligentsia and the Religion of Humanity», American Historical Review, July 1960, p. 808, 809, 812. Согласно Набокову, «основными чертами русской интеллигенции... были: дух самопожертвования, активное участие в политической жизни и политическом мышлении, активное сочувствие жертвам несправедливости... фанатичная честность, трагическая неспособность пойти на компромисс...» («Selection: Dear Volodya, Dear Bunny», New York Times Book Review, February 4, 1979, p. 26). Новые характеристики русской интеллигенции см.: Isaiah Berlin, Russian Thinkers, New York, 1978.
8. Julien Benda, The Treason of Intellectuals, New York, 1969, p. 43-44 (в США впервые опубликовано в 1928 г.).
9. Взгляд на интеллектуалов как на придворных шутов разделяет и Ральф Дарендорф: «Как придворные шуты современного общества все интеллектуалы имеют моральный долг — подвергать сомнению все очевидное, представлять любой авторитет относительным, задавать все те вопросы, которые никто, кроме них, не отважится задать» («The Intellectual and Society», in On Intellectuals, ed. Philip Rieff, Garden City, N.Y., 1969, p. 51).
10. Coser, Men of Ideas, p. viii, ix.
11. Edward Shils, «Intellectuals», in Encyclopedia, p. 399. Конрад и Селеньи подчеркивали «культурно-созидательную активность» интеллектуалов, отметили их превращение из «жреческих персонажей в мирских экспертов» (Road to Class Power, p. 11, 12) и обозначили качественную ясность интеллектуального знания, там где оно касается «ценностей, которые общество воспринимает как часть своей культуры» (р. 30). Норман Подгорец классифицировал интеллектуалов как «специалистов в идеологических конфликтах» (Breaking Ranks, New York, 1979, p. 83).
12. Robert Nisbet, Sociology as an Art Form, New York, 1976, p. 86. Другие определения интеллектуалов, подчеркивающие критичность, обособленность и маргинальность, см.: S. М. Lipset, Political Man, Garden City, N.Y., 1963, p. 333; Stanislav Andreski, «Freedom, Influence and the Prestige of Intellectuals», in Idem, Comparative Sociology, Berkeley, Cal., 1964, p. 201, 223.
13. Bennet Berger. «Sociology and the Intellectuals: An Analysis of a Stereotype», Antioch Review 17, September 1957, p. 283.
14. Richard Hofstadter, Anti-Intellectualism in American Life, New York, 1962, p. 27, 29.
15. Tom Wolfe, Mauve Gloves and Madmen, Clutter and Vine, New York, 1977. P. 105-106. Конрад и Селеньи подмечают другие, более извращенные формы охоты за статусом интеллектуала, когда «...звание интеллектуала... становится знаком отличия, который отдельные интеллектуалы жалуют друг другу... нечто вроде морализаторского титула „благородного“...» (Road to Class Power, p. 8).
16. Aron, Opium of Intellectuals, p. 206-209.
17. Lewis Feuer, Marx and the Intellectuals, Garden City, N.Y., 1969, p. 2.
18. Lipset, Political Man, p. 333-334. Другой исследователь идет даже дальше, предполагая, что «любая полноценная концепция интеллектуала... должна быть свободна от любых форм институциональной принадлежности» («Ideas, Intellectuals and Structures of Dissent», in Rieff, On Intellectuals, p. 55, 81). Томас Мольнер утверждает, что интеллектуал должен не только интерпретировать, но также и влиять на мир. См.: Molnar. The Decline of the Intellectual, Cleveland; New York, 1961, p. 8.
19. Peter Viereck, Shame and Glory of the Intellectuals, Boston, 1953, p. 13.
20. Martin E. Malia, «The Intellectuals: Adversaries or Clerisy?», Daedalus, Summer 1972, p. 209.
21. Noam Chomsky, American Power and the New Mandarins, New York, 1967.
22. Но, возможно, образ стражи, охраняющей сущностные ценности, и критику общества можно примирить, если согласиться с замечанием Эйзенш- тадта: «Интеллектуалов часто считали стражами или потенциальными стражами общественной совести, но лишь в тех случаях, когда совесть противополагали существующему порядку» («Intellectuals and Tradition», Daedalus, Spring 1972, p. 1).
23. Friedrich Nietzsche, The Birth of the Tragedy, Garden City, N.Y., 1956, p. 92. Некоторые из объяснений того, что мы называем «разоблачительной тенденцией», см.: Lionel Trilling, Sincerity and Authenticity, Cambridge, 1971, p. 141-142.
140
Пол Холланлер
24. Alexis de Tocqueville, The Old Regime and the French Revolution, New York, 1955, p. 139.
25. Ленин В. И. Государство и революция. М., б/г. С. 163.
26. Tocqueville, Old Regime, p. 140-141, 146, 147.
27. Berlin, Four Essays, p. 150-151.
28. Tocqueville, Old Regime, p. 160.
29. Hofstadter, Anti-Intellectualism, p. 417, 423.
30. Robert Conquest, «Intellectuals and Just Causes: A Symposium», Encounter, October 1967, p. 47.
31. Lewis Feuer, «The Elite of the Alienated», New York Times Magazine, March 26, 1967, p. 74, 75.
32. Joseph Schumpeter, Democracy, Capitalism, Socialism, New York, 1950, p. 144.
33. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. М., 1955. С. 56-57, 58.
34. George Orwell, «Writers and Leviathan», in The Intellectuals, ed. George Huszar, Glencoe, 111., 1960, p. 269. Дальнейшее обсуждение взглядов Оруэлла на этот предмет см.: Alex Zwerdling, Orwell and the Left, New Haven, 1974 (в особенности гл. 1 и 2).
35. Arthur Koestler, «The Little Flirts of St. Germain des Prés», The Trail of the Dinosaur and Other Essays, London, 1970, p. 62.
36. Подробное исследование этого феномена см.: «Liberal Anti-Communism Revisited: A Symposium», Commentary, September 1967.
37. «The Seven Deadly Fallacies*, in Koestler, The Trail of the Dinosaur, p. 48- 52. Похожий аргумент, касающийся исторического выбора американских интеллектуалов между «одобрением системы тотального террора и критической поддержкой нашей собственной несовершенной демократической культуры», см.: Sidney Hook, «From Alienation to Critical Integrity: The Vocation of the American Intellectuals», in Huszar, Intellectuals, p. 528. Еще одно, более обширное исследование, в котором критикуются (исторический период тот же самый) просоветские убеждения американских интеллектуалов: Peter Viereck, «„Bloody-minded Professors“: Shame of the Intellectuals, in Viereck, Shame and Glory, p. 109-126. Обсуждение политических промахов интеллектуалов в 1930-е, подчеркивающих их неспособность осознать угрозу нацизма, см.: Archibald MacLeish, The Irresponsible, New York, 1940. Критический отзыв советского диссидента о западных интеллектуалах см. в: Andrei Sakharov, Му Country and the World, New York, 1975, ch. 5. Более свежий и достаточно исчерпывающий критический анализ толкований явления «сочувствующие» содержится в кн.: Jean-François Revel, The Totalitarian Temptation, New York, 1977.
38. Это мнение цит. no: George Kaleb, «The Political Thought of Herbert Marcuse», Commentary, January 1970, p. 57.
39. «The Responsibility of Intellectuals», in Chomsky, American Power.
40. William Röpke, «National Socialism and Intellectuals», in Huszar, Intellectuals, p. 346, 348.
41. Malcolm Muggeridge, The Sun Never Sets: The Story of England in the 1930s, New York, 1940, p. 281-282.
42. Stephen Spender, in Alastair Hamilton, The Appeal of Fascism: A Study of Intellectuals and Fascism, 1919-1945, London, 1971, p. x, xi. См. также: Richard Griffiths, Fellow Travelers of the Right: British Enthusiasts for Nazi Germany, 1933-1938, London, 1980.
43. Hamilton, Appeal of Fascism, p. xvi, xvii, xxi, xxii.
44. Andrew Greeley, Why Can’t They Be Like Us? America’s White Ethnic Groups, New York, 1971, p. 123.
45. Lyons, Assignment, p. 329 (Курсив мой. — П. X.).
46. «Sartre Accuses the Intellectuals of Bad Faith», New York Times Magazine, October 17, 1971, p. 38, 116, 118, 119. Более подходящий к теме анализ позиций Сартра с обращением особого внимания на привлекательность для него насилия см.: Maurice Cranston, «Sartre and Violence», Encounter, July 1967. См. также: Lionel Abel, «Metaphysical Stalinism», Dissent, Spring 1961. Частично объяснение отношения Сартра к «массам», обсуждавшееся ранее, могло быть тем, что один писатель определил, как «универсальную искренность нашего времени, отсеченную
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
141
почти от всего того, что есть обыкновенный человек» (Roland N. Stromberg, After Everything: Western Intellectual History Since 1945, New York, 1975, p. 80).
47. Цит. no: Barry Reckord, Does Fidel Eat More Than Your Father?, London, 1971, p. 119 (Курсив мой. — II. X.).
48. C. Eric Hansen, «The Intellectual as a Political Type», Journal of Politics, May 1969, p. 324. Вероятно, Сартр и Маркес в чистом являют собой современные воплощения позиций, зарисовка которых сделана Хансеном. О любви к абстракциям в противовес любви к конкретным человеческим существам см. также: Bruce Mazlish, The Revolutionary Ascetic, New York, 1976, p. 23-25.
49. Цит. no: Peter G. Filene, Americans and the Soviet Experiment, 1917-1933, Cambridge, 1967, p. 146; Scott Nearing, The Making of a Radical, New York, 1972, p. 209-210.
50. Peter L. Berger, «Are Human Rights Universal?», Commentary, September 1977.
51. Gwynn Nettler, «Using Our Heads», American Sociologist, August 1968,
p. 201.
52. См.: C. L. Sulzberger, «To Be Obscurely Massacred», New York Times, July 2, 1972; William Korey, «The Genocide Convention: Time To Sign», New York Times, December 8, 1973; Roger Morris, «The Triumph of Money and Power», New York Times, March 3, 1974.
53. «Nordic Bloc Puts Off Bid for UN Criticism of Uganda», New York Times, December 8, 1977. Более общий анализ этого двусмысленного протокола Объединенных Наций по правам человека см.: Leon Gordenker, «Symbols and Substance in the United Nations», New Society, February 1976.
54. «Guineans Are Militant and Suspicious», New York Times, June 7, 1972; см. также: Correspondence в New York Times, February 19, 1971.
55. Jack Anderson, «Genocide Continues in Asia and Africa», Daily Hampshire Gazette (Northampton, Mass.) (перепечатано из Washington Post), June 12, 1978; см. также: Smith Hempstone, «Awakening from a Nightmare: A Bloodbath the World Forgot To Notice», Daily Hampshire Gazette, August 11, 1979. Еще одним проигнорированным попранием прав была резня народа ибо в Нигерии, которая, согласно Симоне де Бовуар, привела «к ликвидации двух миллионов человек, включая все поколение детей. Это безразличие вызывает подозрение в искренности негодования, которое они демонстрируют, когда дело касается детей —жертв вьетнамской войны. Едва хотя бы однажды в эти ушедшие годы я испытывала такое изнеможение, как при виде масштабов... этой резни — убийств, встречаемых с воодушевлением, предаваемых забвению или спокойно воспринимаемых почти всеми «прогрессивно мыслящими» во Франции и в остальном мире». (АН Said and Done, New York, 1974, p. 417). Об американской реакции на страдания народа ибо см.: «Black Americans Response: Like Whites», New York Times, January 14, 1970.
56. «Kurd Chief Asks UN for Aid Against Iraq», New York Times, June 8, 1974, p. 18; см. также William Safire, «Of Kurds and Conscience», New York Times, December 13, 1976.
57. William Safire, «Yellow Rain», New York Times, December 13, 1979. О похожем развитии событий в Афганистане см.: Richard Halloran, «U.S. Told of Soviet Lethal Gas Use», New York Times, January 24, 1980; Jack Anderson, «Russians Use Poison Gases in Afghanistan», Daily Hampshire Gazette, March 5, 1980; William Safire, «The Other Gas Crisis», New York Times, January 28, 1980.
58. Julius Epstein, «А Case for Suppression», New York Times, December 18, 1970, p. 39. См. также: Julius Epstein, Operation Keelhaul: The Story of Forced Repatriation, Old Greenwich, Conn., 1973; Nicholas Bethell, The Last Secret: The Delivery to Stalin of Over Two Million Russians by Britain and the United States, London, 1974.
59. Цит. no: Joan Colebrook, «Prisoners of War», Commentary, January 1974, p. 36.
60. «Activist Lawyer Criticizes U.S. For Violating Human Rights», Harvard Crimson, September 28, 1979, p. 1, 4.
61. Podhoretz, Breaking Ranks, p. 234.
62. Noam Chomsky and Edward S. Herman, «Distortions at Fourth Hand», Nation, June 25, 1977, p. 789, 791, 792. Хомский и Герман также критиковали
142
Пол Холланлер
Пончо за «небрежное» и «безграничное» доверие подсчетам числа беженцев (р. 792). Они писали об этих подсчетах: «Они [беженцы], естественно, стремятся сообщать то, что, по их убеждению, желают услышать их собеседники. Их сообщения должны рассматриваться со всей серьезностью, но при этом необходимы тщательность и внимание. Особенно это касается беженцев, отвечавших на вопросы граждан стран Запада и тайцев, которые проявляли исключительный интерес к сообщением о жестокостях камбоджийских революционеров, поскольку ни один серьезный репортер не примет в расчет полученные таким образом цифры», (р. 791). Давая эту оценку надежности подсчетов числа беженцев, как они могли рассчитывать на серьезное отношение к самим себе? Остается только удивляться, почему в самом начале своего обсуждения книги Пончо они заявляют, что «она серьезна и достойна прочтения», из чего должно бы следовать, что им не о чем говорить ни в плане обсуждения, ни в порядке претензий. Как может быть достойной прочтения книга, «достоверность сведений* которой «трудно подтвердить», автор которой «поспешно и свободно жонглирует цитатами и цифрами», которая «в лучшем случае небрежно написана, местами слишком небрежно», которая «страдает перекосом в сторону антикоммунизма и проповеди», и «добилась признания» только благодаря «искажениям в добавленной к ней статье» (р. 792, 797)? Можно только предполагать, что, как и в отношении к подсчетам числа беженцев, Хомский и Герман полагали разумным добавить некую ритуальную отповедь к своему и без того явному неприятию, некое подобие объективности, чтобы уравновесить свои неизменно негативные оценки любого значимого аспекта как подсчетов числа беженцев, так и самой книги Пончо (Ponchaud, Cambodia: Zero Hour, New York, 1977).
Хомский и его соавтор чувствовали неловкость параллелей между Камбоджей Пол Пота и нацистской Германией и предпочли сравнение с послевоенной Францией, «где много тысяч людей вырезали за считанные месяцы в значительно менее жестоких условиях, чем оставленные американской войной...» (то есть в Камбодже) (р. 793).
Не трудно понять, почему Хомский был озабочен стремлением умалить достоинства книги Пончо, который не старался ни преуменьшить размеры страданий камбоджийцев, ни возложить основную долю вины за них на Соединенные Штаты. Предложенное Пончо объяснение этих страданий было Хомскому особенно не по вкусу: «...эта тотальная чистка была, прежде всего, воплощением в действие особого взгляда на человека...» И тогда как Пончо подтверждает, что французы и американцы «несут часть ответственности за камбоджийскую драму», он недвусмысленно винит, главным образом, камбоджийское руководство и, в особенности, его негибкую идеологию, [которая] привела к изобретению радикально нового сорта человека в радикально новом обществе» (р. 50, xvi).
Взгляд Хомского на поляризованный мир был замечен и одним симпатизировавшим ему обозревателем, который называл его политические творения «исступленно бесхитростными» и находил трудным читать их «без подобострастия» (Paul Robinson, «The Chomsky Problem», New York Times Book Review, February 25, 1979, p. 3). Жан Лакотье, тоже раскритикованный Хомским в одной статье в «Nation», выразил отчаяние по поводу определенных попыток Хомского уклониться от критики в адрес камбоджийского режима («The Revolution That Destroyed Itself», Encounter, May 1979, p. 57).
Хомский — наиболее известный апологет ныне свергнутого режима Пол Пота, но были и другие. Гарет Портер (книгу которого Хомский хвалил) деликатно описывал жестокости режима Пол Пота, как «политику самоуверенности... зашедшую так далеко, что это ложится не вызванными необходимостью издержками на все население Камбоджи» (New York Review of Books, correspondence, July
20, 1978). Можно также заметить, что, по крайней мере, один член Комитета американских друзей (организации, которая любое сомнении неизменно обращает в пользу государств марксистской политической ориентации) тоже нашел необходимым оспорить правдивость подсчетов числа беженцев («печально прослывших ненадежными»), поскольку они не вязались с его симпатией к режиму, установленному Вьетнамом (см.: Jerry Elmer, «Food for Cambodians Getting Through», Daily Hampshire Gazette, January 11, 1980). Дополнительные сообщения и комментарии по Камбодже см. в: Jack Anderson in Washington Post, July
21, 1977, May 2, 3, 4, 10 and June 1, 1978. См. также знаменитую статью: Sydney
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
143
H. Schanberg, «Old and Sick Included; Economy Is at Standstill — Cambodian Reds Uprooting Millions as They Impose „Peasant Revolution“», New York Times, May 9, 1974. См. также; New York Times, «Cambodian Refugees Report Growing Hunger and Terror, Even Reaching Ruling Elite», «Refugees Depict Cambodia as Grim, Work-Gang Land», May 13, 1978; New York Times, October 31, 1977. Одну пространную обзорную статью о тех последних книгах о Камбодже см.: William Shawcross, «The Third Indochina War», New York Review of Books, April 6, 1978.
Тогда как история с Камбоджей интересна не потому, что стала объектом паломничества, а скорее ошеломляющим примером избирательности морального возмущения многих западных интеллектуалов (которые не могли позволить себе протестовать, хотя репортажи о попрании морали поступали регулярно), была по меньшей мере одна делегация американских сторонников левого движения, которая возвратилась с блистательным репортажем. См.: «U. S. Leftist Editor Says Cambodians Are Thriving», New York Times, May 12, 1978, p. 12. Означенный редактор Дэниел Бернштейн появился также в программе CBS, посвященной Камбодже, в июне 1978 г., став, очевидно, единственным пожелавшим говорить апологетом, которого CBS удалось разыскать. См. также: Joseph J. Zasloff and McAlister Brown, «The Passion of Kampuchea», Problems of Communism, January- February 1979.
63. Michael Parenti, «Psychiatry and Politics» (letter), New York Review of Books, March 9, 1978; Cora Weiss in «Vietnam War Days Comment on Invasion by China», New York Times, February 22, 1979; «Excerpts from Coffin's Sermon at Riverside Church on Trip to Iran», New York Times, December 24, 1979; Walter Goodman, «Dissenters and Pornographers», New York Times, November 22, 1977. О несомненно равном американском и советском неподчинении Хельсинскому соглашению о правах человека см.: Stephen J. Whitfield in New York Times, March 5, 1979; Ramsey Clark, «Treating Iran Fairly», New York Times, June 16, 1980. Контрастно иной обзор репрессивных качеств той же политической системы см.: Jack Anderson, «What About the Ayatollah’s Many Crimes?», Daily Hampshire Gazette, June 21, 1980.
64. Anatomy of Anti-Communism, Report prepared for the Peace Education Division of the American Friends Service Committe, New York, 1969, p. vi.
65. Encounter, December 1972, p. 59-60. См. также: Ernst W. Lefever, Amsterdam to Nairobi: The World Council of Churches and the Third World, Washington, D.C., 1979.
66. Jonas M. Savimbi, «А Refusal to Become „Black Russians" or „African Cubans“», New York Times, December 8, 1976.
67. Julius Lester, Revolutionary Notes, New York, 1968, p. 161-162.
68. Anatomy of Anti-Communism, p. vii, 72. В высшей степени шаблонные политические позы квакеров и избирательность их моральной озабоченности рассмотрены в: Marvin Maurer, «Quakers in Politics: Israel, PLO and Social Revolution», Midstream, November, 1977.
69. New York Times, April 16, 1972, p. 10.
70. Arnold Kettle, letter in Manchester Guardian, 1958.
71. Такие позиции были не внове для Джорджа Оруэлла: «Действиям положено быть хорошими или плохими не по самим их качествам, но соответственно тому, кто действует, и почти невозможно найти какого-то сорта попрание прав — пытки, использование заложников, принудительные работы, массовые депортации, заключения в тюрьму без суда, подлоги, убийства по политическим мотивам, бомбардировки мирных граждан, — которое не меняло бы свою моральную окраску, когда оно совершается «нашими». («Notes on Nationalism», in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, ed. Sonia Orwell and Ian Angus, New York, 1968, Vol. 3, p. 369.) Этот вопрос — т. e. влияние личности политических протагонистов на моральную реакцию в отношении их поведения — будет с большей полнотой рассмотрен в гл. 9.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ПЕРВАЯ ВОЛНА ОТЧУЖДЕНИЯ: 1930-е гг.
Прежде всего, невзгоды, причины которых невидимы или неведомы — бедствия или голод, растущая инфляция или массовая безработица... — могут вызывать нарушение эмоционального равновесия столь широкого распространения и остроты, такого непреодолимого проявления чувства никчемности и беспомощности, что единственный путь, на котором действительно можно найти облегчение, будет пролегать через... внезапное, коллективное и фанатичное устремление в тысячелетнее царство Христа.
Норман Кон1
Может ли кто-то выброшенный из повседневной общественной жизни существовать скромно и благопристойно и в то же время иметь достаточно свободного времени и энергии, чтобы способствовать скорой ликвидации старого общественного порядка и его замены более работоспособной социальной системой?
Скотт Ниринг2
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
145
Впечатлительный и критически настроенный интеллектуал, который всерьез воспринимает задачу выявления несоответствия между общественными идеалами и ограниченностью их претворения в жизнь, всегда находит в обществе что-то неправильное. Но признавать такого рода предрасположенность не означает отрицать, что в определенные моменты истории существуют более веские причины видимого разлада интеллектуалов с обществом, чем в другие. Если отчуждение — это результат комбинации внутреннего напряжения и ответной реакции на внешние обстоятельства, то необходимо признать изменчивость баланса этих двух сил. Существуют также разные пути воздействия внешних обстоятельств на впечатлительность интеллектуала. Он может освободиться от чар социального порядка, потому что этот порядок не смог дать ему ощущение цели и смысла жизни или потому что вокруг оказалось слишком много голодных людей. Эти два побудительных мотива отчуждения могут временами сходиться воедино, хотя более типична ситуация, когда один исключает другой. Острота поиска смысла жизни обычно притупляется, когда приходится иметь дело с обилием более очевидных утрат.
Первая заметная волна отчуждения XX столетия охватила западные общества и их интеллектуалов в начале 1930-х гг. Чтобы выявить исток этого явления, в психологию интеллектуалов необходимо углубляться меньше, чем в экономические, социальные и политические проблемы того периода. Для того чтобы стать в позу критика тогдашних западных сообществ, не требовались какие-то необычайные или чрезмерно развитые способности, изощренная впечатлительность или красочные неврозы. Дэниел Аарон писал: «Великая депрессия с ее голодными маршами, гувервиллами (трущобы, построенные из ящиков, коробок и пр.), деморализованными фермерами, безрадостной молодежью и обан¬
146
Пол Холландер
кротившимися предпринимателями была отнюдь не плодами воображения психически неполноценных личностей».3
Материально-экономические измерения кризиса тонули в более глубоком, более непреходящем ощущении отсутствия безопасности (позднее открывшем путь тому типу безопасности, который базировался на твердых политических обязательствах): «... К 1931 г. многие люди в Англии стали смотреть на кризис, в котором жили, как на нечто большее, чем временный экономический откат, — в нем видели, скорее, крушение унаследованной системы ценностей и конец безопасной жизни».4
Здесь не будет предприниматься попытка пересказать историю 1930-х гг. в Соединенных Штатах и Западной Европе, о которой во всеобъемлющей полноте говорилось неоднократно.* Мой интерес к 1930-м гг. ограничивается теми особенностями этого периода, которые, как мне кажется, создали предпосылки или внесли вклад в отчуждение интеллектуалов и которые нашли отголоски в письмах путешественников, живописавших контраст недостатков своего общества и достижений Советского Союза.
Интересно поразмышлять над тем, почему отчуждение американских интеллектуалов (и, как его следствие, одобрительный интерес в СССР) не было сильнее развито до 1930-х гг. и почему Первая мировая война не оставила больше остаточной горечи и цинизма; почему запрещение спиртных напитков и его провал, судебный процесс Сакко и Ванцетти, как и другие домашние проблемы, не смогли заметно поднять уровень общественной критики интеллектуалов. Почему не возникало чувство разочарования из-за того, что идеалу демократии для всего мира — оправданию Вильсоном американского вступления в Первую мировую войну — так и не удавалось материализоваться?
Пытаясь ответить на эти вопросы, следует прежде всего заметить, что знание и озабоченность американских интеллектуалов происходящим в разных частях мира были в то время
* В последние годы вновь оживает интерес к 1930-м гг. Множество ностальгических взглядов обращается назад, к тому периоду, когда, казалось, политические вопросы охватывались легче, союзы были более четко очерчены, а приверженность интеллектуалов истокам добра воспринималась, как готовое свершиться грядущее, — или так может выглядеть в ретроспективе. К тому же жесткие ограничения того периода, при всей их большей масштабности и очевидности, преодолевались проще. Тогда было мало двусмысленности в определении материального благополучия или «подверженности влияниям», таким как развивавшиеся с 1960-х гг., когда влияния стали ассоциироваться с пустотой, духовной апатией, скукой, поиском положения в обществе и расточительным потреблением. Ретроспектива 1930-х гг. впечатляет художественно-интеллектуальным брожением и творческим началом, которые мы склонны ассоциировать с тем десятилетием. И, наконец, недавнее оживление интереса к этому периоду, вероятно, объясняется без труда обнаруживаемыми параллелями политических страстей и беспорядков 1960-х и 1930-х гг.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
147
ограничены, особенно по той причине, что в личной жизни они не сталкивались с далекими от них событиями. Общественные и политические последствия Первой мировой войны не представляли для них большого различия. Более важным оказалось то обстоятельство, что 1920-е гг. были временем материального процветания и ослабления моральных ограничений. В этот период многие интеллектуалы группировались в аполитичных богемных субкультурах или становились временными экспатриантами в Западной Европе. Казалось, они были больше озабочены тем, что в 1960-е гг. получило название «самовыражение», либо занимались больше поиском идентичности и культурного радикализма, чем социальными и политическими вопросами. Развивавшиеся в те годы позиции, хотя и явно аполитичные, нельзя назвать не имеющими отношения к последовавшему возрождению политических выступлений и более активному и политизированному неприятию системы. Как напомнил им Дос Пассос: «Американская богема восстала против „главной улицы“ против власти денег, против викторианской морали. Ее темой была свобода. Свобода от жестких воротничков, десяти заповедей, родительских наставлений... Бизнесмену этого никогда не понять... Когда художники и писатели находят затруднительным ограничить себя какой-то нишей в индустриальном обществе, они отходят от дела целиком».5 (Здесь можно заметить, что тенденция «отказа от дела целиком» прекрасно выжила и после того, как художники, писатели и другие интеллектуалы нашли больше чем «нишу» в индустриальном обществе, что стало очевидно в 1960-е и 1970-е гг.) Так или иначе, в 1920-е гг. потрясения уверенности в статус-кво других элитных групп, таких как бизнесмены и политики, еще только предстояли. Ни одна из серьезных отечественных травм не побуждала интеллектуалов обратить внимание на другие общества. В 1920-е гг. о Советском Союзе было известно сравнительно мало; Октябрьская революция не вызвала большого любопытства у значительной части интеллектуалов. Возможно также, что для тех интеллектуалов, кто был склонен к большему радикализму, многое в Советском Союзе 1920-х гг. не выглядело особенно вдохновляющим или героическим в связи с периодом перехода от революционной политики к нэпу (новой экономической политике), который длился с 1921 по 1928 г. Это один из парадоксов в восприятии американских, да и других западных интеллектуалов (которые будут исследованы более полно), находивших советское общество менее интересным и менее привлекательным и во время сравнительно бескровной, но, тем не менее, драматической Октябрьской революции, и в 1920-е гг., когда для реконструкции общества предпринимались более рациональные и гуманные по¬
148
Пол Холланлер
пытки, чем в 1930-е гг., когда сталинский террор достиг высшей точки, свирепствовал голод, а результатом кампании по коллективизации явилось введение безмерно жестких ограничений.6
Фрэнк А. Уоррен писал: «Большинство либералов в общем симпатизировали России в 1920-е гг., но ее непосредственного влияния не ощущали. Показательно, что пятилетний план не вызывал сильного восторга вплоть до 1930 г. — в течение двух лет с момента его провозглашения. Поводом для появления этого восторга явились 1929 г. и депрессия, оказавшаяся истинным толчком обращения взоров либералов на восток, к России».7 В том же духе это комментировал историк Питер Файлин: «...Преобладающей составляющей чувств американца к Советской России в 1933 г. была более решительно выражаемая благожелательность, чем это имело место в 1920-е гг. и, конечно, в 1918-1919 гг.». Дипломатическое признание Советского Союза Рузвельтом в 1933 г. состоялось, возможно, по той причине, что «...к началу 1930-х гг. открытое расположение пересилило, наконец, враждебность к СССР».8 Юджин Лайонс дал иное толкование смещению американских подходов:
Где были все эти энтузиасты до 1930 г., в течение 13 лет большевистской революции? Все эти годы несомненно преобладал элемент искреннего идеализма с небольшой примесью ужаса. Не менее определенно и то, что советский режим в большей мере нуждался в их энтузиазме на более ранних стадиях своего становления. Эти американцы стали псевдокоммунистами, ...когда Россия становилась менее коммунистической, ...более жестоко тоталитарной. ...Этот великий эксперимент притягивал их своей масштабностью и кажущейся силой. Под личиной благородной, самоотверженной преданности этому делу, в сущности, они отождествляли себя с властью.
Сделал он и еще одно наблюдение: «В первые годы российского эксперимента американских благожелателей было сравнительно мало. Их книги говорят о романтическом, почти лирическом принятии революции. Факты, какими бы жестокими они ни были, как правило, признаются допустимыми и оправдываются как составляющие родовых мук. ...Но в обсуждаемые здесь годы [1930-е] подход был совершенно иным. Наибольшую часть составляют литературные творения апологетов, диапазон интересов которых простирается от панического рационализма и самообмана до преднамеренного сокрытия фактов».9
На протяжении 1920-х гг. многие американские интеллектуалы разочаровались в собственном обществе: в этике его бизнеса, бескомпромиссной одержимости материальными ценностями, — и в результате они более склонялись к эстетическому критицизму, чем к политизации. Однако косвенно аполитичное отчуждение американских интеллектуалов в 1920-е гг. мостило дорогу страстной приверженности 1930-х гг. восприятию привлекательных
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
149
сторон советского общества. Как видел это историк-социолог: «Десятилетие 1920-х... лишило их [интеллектуалов] старых изношенных ценностей, не дав взамен новых. Это сделало их циничными критиками капитализма, но не вооружило цинизмом по отношению ко всякой власти».10
Депрессия, начавшаяся в 1929 году, внезапно драматизировала все болезни и грехи капитализма, и отчуждение интеллектуалов и деятелей искусств стало политизированным. Когда люди теряют работу, сбережения или сделанные инвестиции, как могло быть в данной ситуации, дефекты капиталистической системы перестают быть абстрактными или восприниматься главным образом в эстетическом плане. «Противоречия капитализма» становились осязаемыми и неоспоримыми, когда кто угодно мог сопоставить зрелище американских фермеров, уничтожавших продукты питания, с голодными маршами или очередями у дверей благотворительных организаций. Не только многие были доведены до нищеты, но и бедность как таковая стала слишком бросающейся в глаза.
Как часто случается, некоторые интеллектуалы черпали в этом несчастье чувство удовлетворения и ощущение бодрости. Для многих оно оказалось подтверждением гнилости общества, в котором они жили, тогда как других распад нормального хода вещей и крушение чаяний впечатляли самой своей новизной. «Не было надобности помогать в обретении бодрости, — писал Эдмунд Уилсон, — когда вдруг неожиданно разрушился этот громадный тупой обман. Это давало нам новое ощущение свободы; и новое ощущение власти...»11 Примерно так же Скотт Ни- ринг был уверен, что «...Великая депрессия была не каким-то несчастным случаем, а... логическим результатом экономики частного предпринимательства...».*’12
Среди прочего, безработица обеспечила потенциальный источник для морального обвинения капитализма, поскольку вряд ли
* Отрицание случайностей — излюбленное дело интеллектуалов, пропагандистов и демагогов, но их мотивы в чем-то разнятся. Пропагандисты и демагоги отрицают случайности, чтобы максимизировать прегрешения конкретных групп или индивидов и таким образом возбудить и интенсифицировать негодование, стимулировать враждебность. Это также дает возможность проще интерпретировать социальный мир как управляемый дурной или доброй волей соответственно, а не определяемый обезличенными общественными силами и несущий на себе печать непредвиденных последствий человеческих намерений и взаимодействий. Ставшие чуждыми своему обществу критики, включая интеллектуалов, могут пасть жертвами тех же самых импульсов, когда отправляются на поиски морального здоровья во вселенной социально-политических проблем. Интеллектуалы склонны также к принятию чрезмерно целостного взгляда на общество — он представляет собой некое выражение аналитических размышлений и проникнут желанием вместить в себя смысл и упорядоченность самого социального феномена. Пылкие общественные критики всегда придерживаются той точки зрения, что дефекты общества проистекают из некоего сонма взаимосвязанных грехов и однозначно идентифицируемых грешников.
150
Пол Холланлер
можно много дискутировать на тему о том, что право на труд есть самое основное и элементарное человеческое право. Более того, в силу невозможности обеспечить работой всех, кто желал трудиться, американский капитализм оказался также уязвимым для критики в том смысле, что равенство возможностей не более чем миф. Когда работа стала недоступной для миллионов желающих работать, не нашлось никакого способа оправдать или узаконить неравенство. Безработный едва ли в состоянии конкурировать в экономике свободного предпринимательства, и, следовательно, бедных нельзя упрекать за то, что они оказались в таком состоянии в силу мнимой недостаточности квалификации, честолюбия или усердия. И, уж если такие упреки более несостоятельны, значит не остается сомнений, что упреки должны быть адресованы социальной системе. Не оставалось никакого правдоподобного способа разумного оправдания контрастов бедности и богатства, а путаница в давшей сбой экономике все в большей мере обретала моральную и этическую окраску. Весь социальный порядок стал банкротом из- за его экономической нерациональности, неэффективности и расточительности. Подтвердились все наихудшие подозрения интеллектуалов в отношении капитализма и цивилизованности американского бизнеса. Система стала восприниматься как предосудительная не только по эстетическим и моральным соображениям, но теперь под огнем оказались и ее экономические дефекты.
В 1932 г. Грэнвилл Хикс так описал превращение аполитичного отчуждения в крайне политизированный разрыв: «Как легко было двигаться по течению в 1927, 1928 и 1929 годах! Хотя социальный порядок по-прежнему казался порочно неэффективным и непристойно коррумпированным, с этим, утешал я себя, ничего не поделаешь. Я был очень занят личными проблемами и работой на поприще литературной критики, и мне удавалось забывать о том мире, в котором я жил... И вдруг все рухнуло!.. Депрессия стирала иллюзию безопасности, по мере того как на моих глазах друзья и даже родственники теряли работу, по мере того как я, выходя на улицу, каждый раз оказывался свидетелем зрелища разгула безработицы. Больше я не пытался таить от себя тот факт, что система была гнилой...».13
Тот же процесс политизации и прихода к радикализму в среде интеллектуалов под ударами экономического кризиса имел место и в Британии.
...Между 1928 н 1933 гг, происходило изменение их [интеллектуалов] точки зрения... Их стремление к удовольствию оказалось невозможно удовлетворить. На смену былым joies de vivre (радости жизни) на передний план вышли новые важные вещи. Возрастающее внимание уделялось политике. Там, где секс и эстетика были главными темами разговоров, теперь все стали говорить о политике. Со временем политические пристрастия интеллектуалов
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
151
смещались влево — к социализму и коммунизму. То, что начиналось как политическое пробуждение, перерастало в крайний радикализм. На почве, подготовленной катастрофой, расцветали радикальные политики. Великобритания 1930-х претерпела ряд разрушительных отечественных и международных кризисов. Наиболее жестоким был удар Великой депрессии.14
Хотя именно экономический кризис создал почву для негодования морального толка, социального критицизма и все более политизированного отторжения в среде интеллектуалов, социальные несправедливости капитализма не были единственными факторами, поддерживавшими дух разрыва со своим обществом и являвшегося результатом этого разрыва позитивного восприятия Советского Союза и политических организаций, которые представляли его интересы за границей. Тень нацизма и фашизма надвигалась на Европу, усугубляла этот разрыв и симпатию к Советскому Союзу. Тогда как британское и французское правительства мало что делали для предотвращения распространения нацизма, Советский Союз и коммунисты в целом успешно вписывались в образ единственного шлюза на пути нацизма и фашизма и их четко определившегося противника. Это впечатление было усилено гражданской войной в Испании, где коммунисты, поддержанные Советским Союзом, выглядели наилучшим образом организованной силой, полагавшейся еще и на поддержку приверженцев существовавшего режима, а западноевропейские правительства стояли в стороне и ничего не предпринимали, чтобы помешать триумфу Франко. Пабло Неруда, который жил в то время в Западной Европе, говорил: «Коммунисты были единственной организованной группой [имеется в виду в Испании] и собрали целую армию для противостояния итальянцам, немцам, мавританцам и фалангистам. Они были также моральной силой, которая поддерживала сопротивление и продолжение антифашистской борьбы».15
Бессилие британского и французского правительств, не остановивших фашизм и даже не воспрепятствовавших его распространению фашизма, могло быть более важным фактором отчуждения западноевропейских интеллектуалов, чем соответствующая бездеятельность американского правительства, если иметь в виду расстояние и традиции изоляционизма американской внешней политики.
Европейские демократии не смогли помешать и нападению Муссолини на Абиссинию в 1935 г., а еще раньше японскому вторжению в Маньчжурию. Таким образом, не только экономический хаос, но и беспомощность в международных делах внесли свой вклад в формирование представления о немощи и упадке западных демократий. И если интеллектуалы так или иначе могут прийти к согласию с социальной системой, которая авторитарна, но обещает социальную справедливость, или с такой, которую
152
Пол Холландер
справедливость не заботит, но сама она выглядит прочной, то комбинация немощи и социальной несправедливости располагает самым многообещающим потенциалом для возбуждения негодования моральной окраски и враждебного отчуждения.
Нацистская опасность внесла, в частности, вклад в более терпимое отношение к коммунистам и Советскому Союзу; как бы непривлекательны они ни были, это меркло перед чудовищностью фашистского движения и идеологии. Типична точка зрения Элфрида Казина:
Опасность представляли собой Гитлер, Муссолини, Франко... Я находил себя более симпатизирующим коммунистам. У них, казалось, по-прежнему были Мальро, Хемингуэй, Жид, Роллан, Горький, Арагон, Пикассо, Элюар, Оден, Барбюс, Драйзер, Фаррелл, тогда как у социалистов осталась только их собственная добродетель. Я устал от добродетели и теперь хотел видеть какое-то действие... Фашизм был главным врагом, и я боялся любого разногласия на левом фланге...
Англичанин Малькольм Магеридж, который вел хронику этого периода, далее так характеризует подобные позиции:
Беспокойно оглядывая поле битвы, они видели, как им думалось, по меньшей мере одного решительно настроенного врага. Против вскинутых рук [нацистского приветствия] демонстративно поднимались сжатые кулаки. Давайте же поднимем сжатый кулак на защиту свободы и культуры, мира и счастья... Сталин стал их противоядием против Гитлера; марксистская ненависть должна уничтожить нацистскую ненависть, а марксистские фальсификации подправить нацистские... Даже герцогиня Этол стала относиться с симпатией к тому, что однажды предала анафеме; даже Гарвину, преданному поклоннику Муссолини, пришлось смириться с тем фактом, что более твердого союзника в борьбе за свободу, чем Россия, не было».16
В некоторых случаях эти позиции привели ряд интеллектуалов (особенно в Британии) к крайне радикальному умозаключению о добровольном оказании услуг советским шпионским организациям. Энтони Блант, английский историк-искусствовед, впоследствии изобличенный как шпион с большим стажем (и член группы Бюргес-Маклин-Филби), заявлял: «В середине 1930-х гг. мне и многим моим современникам казалось, что коммунистическая партия и Россия образуют единственный крепкий бастион против фашизма, поскольку западные демократии занимали по отношению к Германии неопределенную и компромиссную позицию. Гай Бюргес убедил меня в том, что я смогу наилучшим образом послужить антифашистскому движению, присоединившись к его работе на русских».17 История вербовки Бланта аппаратом советской разведки относится к разряду современных притч о добрых намерениях и идеализме. Его услуги и услуги его друзей определенно не предоставлялись за деньги или как результат шантажа. Не было их превращение в советских шпионов и отражением личных или классовых интересов. Они стали шпионами, чтобы помочь Советскому Союзу, «бастиону,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
153
противостоящему фашизму», и контрапункту всему тому, что они отвергали в своем обществе. Случай с Блантом, в частности, показывает, что роль интеллектуала и погружение в мир идей, искусства и эстетики не обеспечивают иммунитета или защиты от серьезных политических заблуждений и неправильного поведения.
Близкая встреча западных интеллектуалов с марксизмом в этот период была также значимой для глубины их отчуждения и для расстановки акцентов их социальной критики. Марксистское видение мира давало впечатляюще цельное объяснение всех разрушительных явлений того времени: депрессии, безработицы, бедности и подъема нацистского движения. Для многих интеллектуалов их ограниченное приобщение к марксизму явилось откровением; внезапно все оказалось на своих местах. («В нем, по крайней мере, были ответы... на большинство вопросов, поставленных депрессией...»)18 Хаос на собственном опыте постигаемой социальной реальности упорядочивался недоступными пониманию штампами, законами и правилами регулирования. Отсутствие порядка порождало озабоченность противоречиями и проблемами людей, их экономической и социальной организации. Наиболее важно, что все происходящее выглядело требующим взаимной увязки и обретения таким образом смысла. Марксизм явился, чтобы удовлетворить подгоняемую временем нужду в целостности и осмыслении:
Депрессия делала больше, чем просто разрушала их жизнь; она рвала на части ткань их ценностей и верований, оставляя мерзнуть и дрожать под напором ветров неопределенности. Интеллектуалы умеют профессионально подойти к идеям, то есть могут иметь дело с проблемами, но, как и остальной части человечества, им трудно удержаться от наркотика определенности; немногие способны страдать от длительного мира с режимом жизни, который проблематичен по своей сути. Новообращенные... ринулись на поиск системы... они хотели почувствовать, что нашли ключ к определению смысла миропорядка, хотя этот мир мог разбиться вдребезги в любое мгновение.19
Воздействие марксизма все более усиливалось, поскольку многие его новые приверженцы прежде были всецело аполитичны и совершенно наивны по части политических материй; они, так сказать, выскочили из состояния полного неучастия в политике, чтобы без остатка отдать себя делу марксизма.20 Грэнвилл Хикс писал: «Как только я понемногу стал читать работы Маркса и его последователей, мне один за другим открывались ответы на беспокоившие меня вопросы».21 Марксизм помогал превращению аполитичного эстетизма и индивидуализма, как и базирующегося на них неприятия общества, в более систематизированную социальную критику. Он также способствовал преодолению пессимизма и в основе своей пассивной политической позиции:
154
Пол ХолланАер
Интеллектуалы верили, что марксистский диагноз умирающего капитализма был точным, что история на их стороне. В их обращении к политике было ощущение цели, вдохновения, восторженного опьянения. Они чувствовали, что пошли в наступление — против войны, фашизма и экономической эксплуатации.
Достаточно интересно, что марксизм, взлелеянный британскими интеллектуалами 1930-х гг., похож на вариации, воскрешенные их потомками, новыми левыми, в 1960-е гг. Марксизм или коммунизм стали означать философию личного действия, моральную силу добра: «Модель марксизма в Англии 1930-х была не традиционно понимаемой детерминированной доктриной... но скорее идеей взаимоотношений между человеком и окружающей его средой, в которую человек вкладывает какое-то действие, прилагая усилие».22 Не было доктринерских оснований и в привлекательности марксизма для американских интеллектуалов, воспринимавших его по-другому, как писал историк- интеллектуал Джон П. Диггинс:
...Марксизм казался решением извечного дуализма фактов и ценностей, науки и эстетики, реальности и чаяний. Марксизм также представлялся способным решить... как достичь совершенного сообщества несовершенных человеческих существ.
...Марксизм восстанавливал смысл и цель жизни, предлагая ощущение исторического направления... и органичный вариант того, что посмело быть монистическим. В том возрасте, когда всякая истина кажется относительной и фрагментарной, марксизм мог дать редкий проблеск целостности бытия, обеспечить вдохновенный синтез проявлений классического дуализма между мной и обществом, идеализмом и реализмом, намерением и действием, искусством и жизнью.23
Для очень немногих из этих интеллектуалов привлекательной была не только теория марксизма, их привлекали и его профессиональные деятели, коммунисты (причем не только в России). Клод Кокберн, сочувствующий коммунистам английский журналист, почитал их не только за то, что они были самыми воинственными антифашистами, но еще больше по той причине, что «они были группой, стоявшей ближе к тому, чтобы стать творческой силой британской политики, чем любые другие, которые я видел. Были они также и силой, которая мала, бедна и предприимчива, а дистанция между их мыслями и действиями обещала стать много более короткой, чем она была, когда вы, „прогрессивные интеллектуалы“, ходили к трудовому народу».24
Многие американские интеллектуалы, ставшие сочувствующими или членами партии, сходным образом воспринимали американских коммунистов. Грэнвилл Хикс был одним из них: «Социализм деяний, а не слов был тем, что мы искали, и правдой было то, что коммунисты принимали участие в каждой забастовке и каждой демонстрации безработных, правдой было и то, что их били и сажали в тюрьмы, а иногда и убивали. По
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
155
сравнению с ними социалисты выглядели прирученными и бесплодными... „Никто в мире, — писал [Линкольн] Стеффене, — не предлагает ничего основательного и реального, за исключением коммунистов“». Вообще говоря, еще в большей мере интеллектуалы были привлекательны для партии:
Что касается коммунизма [писал Малькольм Коули], то он не только предлагал ясные ответы на вопросы, поднятые проблемами депрессии... и не только обещал вытащить писателей из их изоляции, создав им новую живую аудиторию... но казался также способным на поддержку моральных качеств, которые писатели растеряли в буржуазном обществе: товарищества в борьбе, самодисциплины, цели... благоприятных возможностей для проявления героизма и человеческого достоинства.25
Даже в ретроспективе Пабло Неруда не отказался от прежнего образа мысли и ощущения, что поддержка коммунистической партии была правильным выбором в превалировавших тогда исторических обстоятельствах:
Мы, поэты этой эпохи, сделали выбор. Этот выбор не был устлан розами...
В моей партии, коммунистической партии Чили, я нашел большую группу простых людей, которые давно оставили позади личное тщеславие, произвол и материальные интересы, я был счастлив знакомству с честными людьми, которые боролись за общее благополучие, справедливость.26
Самоочевидная иррациональность природы западных экономических проблем сузила альтернативы и для Луиса Фишера, американского политического писателя и журналиста: «Кроме России в те годы, отсчет которым был начат в 1929 г., все правительства находились в тупике глубокого кризиса со стоявшим в очередях за хлебом трудоспособным населением, фермерами, на глазах которых запахивались или обращались в тлен их бесценные урожаи, и интеллектуалами, оказавшимися в затруднительном положении. Нескончаемый поток жаждущих умов полился в Россию с капиталистического Запада. Как это удается России? Не в плановой ли экономике дело?.. В чем секрет большевистского успеха и капиталистической неудачи? Книги о пятилетием плане возглавили список бестселлеров».27
Некоторые современники упоминали еще одну форму отчуждения того периода — она проявлялась в чрезмерной симпатии к побежденным во Второй мировой войне, «побитым собакам» тех лет. Клод Кокберн писал:
По явно психологическим причинам... у массы молодых мужчин моего поколения был какой-то вынужденный мотив любить и лелеять людей, побитых нашими отцами. В бесчисленных поездках между Оксфордом и Будапештом я останавливался в Германии, Земле Рейн, Гейдельберге, Баварии, почти не встречаясь с людьми, но каждый раз ощущая пьянящее очарование тех мест, а когда я смотрел на людей, они мне виделись сквозь дымку какого-то политического мистицизма, которой я сам их обволакивал.28
156
Пол Холландер
Сантименты такого сорта пробуждают в памяти 1960-е гг., когда в среде молодежи Запада разрастался в чем-то похожий политический мистицизм по отношению к «людям третьего мира», в значительной мере неизвестного молодым людям. В 1960-е гг. (так же как в 1920-е и 1930-е гг.) многие молодые западные интеллектуалы чувствовали нечто подобное, рефлекторную симпатию к тем, кого могло считать врагами поколение их родителей: кубинским, вьетнамским или китайским коммунистам, палестинским арабам и другим группам.
Чтобы понять этот феномен, нет необходимости искать объяснение во враждебном отношении к родителям. Все значительно проще: если развивается состояние отчуждения от превалирующего общественно-политического порядка (по многим отмеченным выше причинам, которые не обязательно включают в себя конфликт поколений), позиции по определенным вопросам зачастую оказываются рефлекторными. Так, если доминантная общественно-политическая система определяет немцев (вьетнамцев, китайцев или кубинцев) как врагов, то враги моего врага становятся моими друзьями.
В 1930-е гг. это особенно интенсивно проявлялось в отношении к Советскому Союзу: «Мы были обязаны смотреть с симпатией на Советскую Россию, хотя бы по той причине, что защитники статус-кво так были ею напуганы и говорили о ней такую неправомерную ложь».29 Интеллектуалы левого крыла на Западе упорно придерживаются этой позиции до настоящего времени, и это помогает объяснить, почему столь многие из них не могут заставить себя критиковать неправомерные деяния, предпринимаемые мнимо социалистическими режимами, когда это критикуется также политическими группами и властями, которые этими интеллектуалами презираются.* И, если им удается (хотя и неохотно) занять определенную позицию против таких систем (скажем, после того как свидетельство существования советских концентрационных лагерей стало далее невозможно отвергать как ненадежное), они делают это ценой великих мучений, что проиллюстрировано, среди прочего, ретроспективной переэкзаменовкой Лилиан Хелман своих просоветских позиций в ее «Подлом времени». Такие западные интеллектуалы явно не удосужились уделить внимание совету Троцкого: «...Тупость и бесчестие ваших врагов не есть оправдание вашей слепоты».31
Так Гарсиа Маркес, колумбийский писатель, недавно признался, что он написал критическую книгу о Кубе, но отказался от ее публикации, потому что «она могла быть использована против Кубы».30
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
157
Западные позиции того времени по отношению к тотальной угрозе нацизма также напоминали сравнительно недавнее отношение к Советскому Союзу. При всех существенных различиях между советскими и нацистскими лидерами, режимами, политикой, тактикой и ценностями, определенное сходство остается: в оба периода западные страны находились перед лицом недружественных милитаризованных сил (Германии и Италии в 1930-е гг., Советского Союза, его союзников и государств, пользовавшихся их покровительством, в 1960-е гг.), причем и в той и в другой ситуации многие западные политики, выражающие мнение интеллектуалов и некоторых слоев общества, пытались убедить себя и своих избирателей в том, что за проявлением недру- жественности и угрожающими жестами можно обнаружить благоразумие и стремление к примирению. Тогда, как и сейчас, угрожающие голоса зачастую воспринимались всего лишь как риторика, а отсутствие понимания всерьез оправдывалось обидами потенциальных агрессоров. Тогда, как и совсем недавно, недостаток информации и отсутствие воображения сыграли существенную роль в неправильном восприятии стран, враждебно настроенных по отношению к Западу. Согласно британскому историку Э. Л. Роузу, в 1930-е гг. британцы были «слишком порядочны, чтобы представить себе, будто в мире есть такие люди» (как нацисты), а тенденция отдавать предпочтение в пользу сомнения сочеталась с нежеланием знакомиться с их идеями и заповедями32 — эти наблюдения в равной мере приложимы к позициям многих американцев по отношению к Советскому Союзу и большинству поддерживавшихся Советами правительств и движений в 60-е и 70-е гг.
Тогда, как и теперь, многие на Западе поддавались непреодолимому соблазну воспринимать личности и позиции тоталитарных лидеров через призму позиций западных лидеров, причем и те и другие считались одинаково способными «давать и брать», даже если то, что давалось от случая к случаю, сводилось к пламенной риторике. На практике прагматичным западным либералам было трудно постигать людей, которые принимали идеи всерьез и которые пытались сделать идеологию релевантной своей политике. Тогда, как и в более поздние времена, многое откладывалось до встреч мировых лидеров лицом к лицу; Чемберлен, казалось, был уверен, писал Магеридж, что «болтовня с Муссолини или Гитлером, даже дружественный кивок Сталину помогли бы все изменить».
Попытки компромисса с Гитлером и Муссолини играли против рьяного, пусть даже от случая к случаю проявляемого и непоследовательного пацифизма как широкой ответной реакции
158
Пол Холла нлер
на кровопролития Первой мировой войны. В 1935 г. 150 000 американских студентов приняли участие в «Студенческой забастовке против войны»33. Знаменитый обет Оксфордского союза студентов не сражаться за короля и страну опять-таки напоминает один из недавних открытых вызовов американских студентов («Черт побери, нет, мы не пойдем»), отказывавшихся сражаться во Вьетнаме или регистрироваться для военного призыва 1980 г. Конечно, хотя настроения в эти два периода и выглядят одинаковыми, результаты одинаковыми не оказались. Британские и американские студенты отправились сражаться, когда их призвала Вторая мировая война, — большинство же американских студентов 1960-х гг. не воевали либо по той причине, что не были призваны, либо, если были, потому что тем или иным способом уклонились от регистрации.
Так выглядели некоторые главные события и таковы характеристики времени, которое породило первую большую волну отчуждения в среде западных интеллектуалов.
Социальная критика интеллектуалов в те годы не была направлена исключительно на очевидные жесткие экономические меры, материальные утраты и неправильное функционирование легко идентифицируемых социальных институтов. Достаточно скоро всплыли другие цели и более широкий круг тем; восприятие очевидных изъянов приводило к обнаружению новых, более смутно различимых и замыкающихся в самих себе. Выяснилось, например, что бедность и присущие ей лишения особенно расстраивали интеллектуалов в том случае, когда ее страдания проистекают не из добрых начал или высокой цели. Как будет показано ниже, интеллектуалы способны на отношение к бедности как осознанному условию, если она ассоциируется с нравственной чистотой, эгалитаризмом и подчинением материальных нужд более высокой духовной цели. Путевые заметки многих из них показывают, что в обществах, которыми восторгались непоседливые интеллектуалы, бедность они видели как преходящее наследие прошлого или как достойную жертву, либо просто переопределяли ее как непорочный образ жизни. Коротко говоря, отношение интеллектуалов к бедности во многом зависело от ее контекстуального определения. Вне всякого сомнения, «бедность посреди изобилия» оценивалась как большая несправедливость, чем бедность в качестве общего условия.34 Однако подразумеваемое различие между осмысленной (социалистической) и бессмысленной (капиталистической) бедностью выглядело столь же проблематичным, сколь и оправдание социалистической бедности грядущим, которое трудно предсказать. Другая проблема состояла в том, что «смысл» невзгод может быть понятен не тем,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
159
кто их переносит, а лишь тем, кто доносит его до бедных, — планировщикам, лидерам, идеологам.35 Такая контекстуальная оценка бедности дает возможность интеллектуалам переоценивать другие обстоятельства, ассоциируемые с ней, например детский труд. При капитализме детский труд — это признак деградации, и он несопоставим с понятиями счастливого и здорового детства. Однако в революционных обществах он может символизировать социальное единение, общее усилие к созиданию добра в обществе, отражает раннюю социализацию отношения к труду, возможно, даже устранение барьеров между поколениями.36 Точно так же физический труд при капитализме обычно видится как унижение, особенно когда речь идет о грязной и утомительной работе; при социализме безрадостный рутинный труд на сборочном конвейере или в поле приобретает новый смысл: кули, таскающие на головах корзины с землей, превращаются из несчастных забитых рабов в доблестных строителей нового общества; даже звание мусорщика и сборщика нечистот (как в Чили) становится почетным, когда такой труд приносится на алтарь коллективного благополучия. Короче говоря, здесь кроются истоки большей (или меньшей) озабоченности интеллектуалов бедностью и лишениями, чем зачастую бросается в глаза.
Контекстуальная оценка различных социальных явлений превалировала как в отношении Советского Союза, так и Соединенных Штатов. Можно еще раз подчеркнуть, что, хотя именно депрессия и ассоциируемые с ней жесткие материальные ограничения открыли шлюзы социальному критицизму, за критикой экономических неурядиц всплывали другие, более фундаментальные недостатки социальной системы, с которыми интеллектуалы знакомились на собственном опыте. Бедность, воспринимавшаяся как порождение депрессии, несомненно была нетерпимым условием, особенно в сочетании с неравенством. Но и бедность, и неравенство были частью более широкого, более глубокого, более общего нездоровья общества. Следует заметить, что большинство интеллектуалов, чьи взгляды здесь обсуждаются, не потеряли, несмотря на депрессию, работу или доходы и в той или иной мере сохранили материальное благополучие. Следовательно, их озабоченность бедностью была сострадательной, не похожей на обиду от понесенной ими самими утраты, воспринимавшейся много более непосредственно из-за отсутствия смысла и цели в их обществе.
Социальная критика этого периода установила связь между бедностью и неравенством, с одной стороны, и препятствиями для самореализации — с другой. Концепция самореализации
160
Пол ХолланАвр
оказалась достаточно широкой для того, чтобы охватить и наиболее явные формы лишений — недостаток полноценного питания, отсутствие крова, одежды, медицинской помощи и т. д., — и менее очевидный дефицит умственно-духовной пищи и соответствующих условий. Беспокойство о самовыражении среди прочих забот, приводивших интеллектуалов 1930-х к разладу с обществом, подхватили их последователи в 1960-е гг. Их пренебрежительное отношение ко всему материальному еще более воспламенялось видением того, что лишения распределялись не единообразно, что их было трудно, если вообще возможно, оправдать.37
Как будет показано далее, социальная критика 1930-х гг. провозгласила отказ от приоритета материальных ценностей. Сетования по поводу погони за деньгами, тупого торгашества и относительного бессилия духовно-этических сторон жизни не были, конечно, чем-то совершенно новым. Критика повсеместного проникновения «денежных отношений» возникла, по крайней мере, с момента опубликования «Коммунистического манифеста», главного документа социальной критики, оседланного западными интеллектуалами. Среди привлекательных черт новых обществ, таких как Советы, было то, что они казались свободными от поглощенности деньгами («Впервые в жизни я вместе с народом дышал воздухом большого города, который не был запачкан вечным фимиамом культа денег»,38 — восторженно делился своими наблюдениями Уолдо Фрэнк после поездки в Ленинград в 1932 г.).
Достаточно определенно выразил морально-духовные следствия бедности, неравенства и денежных отношений настоятель Кентерберийского собора Хьюлетт Джонсон:
...Наша система — это конкурентная борьба каждого человека за себя, главный стимул — выгода, а то, что в человеке сверх того, забирает дьявол; люди используются как средства, а не конечная цель... Кульминация этого безумия — отбросы человеческого материала. Результат — заторможенные и ограниченные жизни.
...Спады — и бумы, безработица вкупе с неправильным использованием пособий по безработице — и мультимиллионеры: чаша весов, склоненная в пользу финансистов и против рабочих...39
Скотт Ниринг, американский писатель-радикал и активист, давал отповедь всей западной цивилизации на тех же основаниях: «Я впервые попрощался с западной цивилизацией по той причине, что мне стали омерзительны ее заверения в преданности христианской доктрине „люби Господа и служи ближнему“ в сочетании с ее лицемерной практикой „каждый за себя, а упавшего забирает дьявол“».40
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
161
Неравенство, расточительность и бедность — атрибуты, которые для многих интеллектуалов определяют капитализм как бездушную, безответственную социальную систему. (Но тому же признаку, как будет показано ниже, общества, подобные Советам, привлекательны для них, в частности, благодаря видимости заботы и ответственности. Зачастую в оценках наших авторов трудно отделить выражение возмущения одной системой от восхищения и одобрения другой.) Скотт Ниринг стал «пацифистом, вегетарианцем и социалистом» в силу «удручающего несоответствия между богатыми и бедными, неравенства в эксплуатации и злодейства преднамеренного массового разорения и убийства».41
Анна Луиза Стронг жаждала мира, «в котором общество организовало обеспечение работой... и заботу о всех рабочих», «в котором устранены хаос и расточительство». И в то же время она признавалась, что «пришла к осуждению капитализма не вследствие угнетения, перенесенного лично, но вследствие того, что обожествляла эффективность, которой научил меня капитализм». Стронг, подобно многим другим западным интеллектуалам, так и не заподозрила, что культ эффективности присущ и социалистическим индустриальным обществам, которые точно так же, как капиталистическая индустриальная машина, способны обращаться с людьми подобно тому, как обращаются со взаимозаменяемыми деталями. Она была убеждена, что как только такие болезни капиталистической эксплуатации и жажды наживы будут устранены, изобилие незамедлительно возвестит о себе, и поэтому была немало удивлена, когда впервые приехала в Россию в начале 1920-х гг.: «Моя Утопия... лежала в руинах; голод и эпидемия гуляли по земле. Наблюдая за капитализмом с его взяточничеством и эксплуатацией у себя в Сиэтле, мы строили умозаключения и полагали, что едва они будут устранены, как разольется благоденствие».42
И хотя критика американского общества со стороны Стронг не носила всеобъемлющего характера — большая часть ее зрелой жизни прошла в Советском Союзе и позднее в Китае, — она формулировала позиции и отражала опыт, широко распространенный в среде отчужденных интеллектуалов, и особенно американцев. Я отношу это на счет идеализма, высоких ожиданий и надежд, причем надеж заведомо тщетных. Она писала: «Я росла, ожидая справедливости и доброты как естественных прав человека: если кто-то третировал меня недобрым отношением, я полагала, что в этом моя вина».43 Хотя не все упоминаемые здесь интеллектуалы признавались в таких настроениях или выражали их в той же манере, большинство из них, похоже, вынашива¬
162
Пол Холландер
ли те же идеи и питали такие же надежды. Вполне можно было бы задаться вопросом, каким образом капиталистическое общество, несмотря на господство денежных отношений, культ продуктивности, обезличивание, жажду наживы и алчность, допускало возникновение ценностей и позиций, так очевидно противоположных его духу, таких гибельных для цивилизации, построенной на бизнесе? Если руководящие идеи и ценности любой исторической эпохи — это идеи правителей (в данном случае капиталистов), значит, эти правители потерпели явную неудачу в попытке донести эти идеи до общества, или, если те же правители допустили, чтобы возникла весьма состоятельная автономия людей, поддерживающих идеи, противоположные своим идеям, то реальное положение дел в неладах с предвидением Маркса и Энгельса. Они писали:
Идеи правящего класса в каждую эпоху являются руководящими, то есть класс, который правит материальными силами общества, является в то же время его руководящей интеллектуальной силой. Класс, в распоряжении которого находятся средства материального производства, обладает одновременно и контролем над средствами умственного производства... Руководящие идеи — это не более чем идеальное выражение преобладающих материальных отношений.44
Очень немногие из этих утверждений стали менее приложимы к современным плюралистическим сообществам. В более общем смысле слова эта посылка несомненно применима к любому обществу, поскольку дает установку или приближенное определение ситуации, в которой идеи оказываются «руководящими» — то есть определяет, какой уровень раскола или критики в правящих классах совместим с утверждением, что их идеи являются руководящими. Существуют, например, идеи корпоративного капитализма, «руководящие» сегодня американским обществом, хотя фактически эти идеи отвергаются или осмеиваются значительной частью, если не подавляющим большинством, влиятельных интеллектуалов и законодателей мнений, а также являются объектом сатиры в произведениях искусства, в литературе и даже в популярных развлекательных программах.
Объяснение неприятия предположительно руководящих идей общества можно найти — во всяком случае в Соединенных Штатах — в определенных исторических факторах скорее, чем в преобладающих способах производства и формах собственности. То, что стало Соединенными Штатами, было учреждено людьми высоких ожиданий, и некоторые из их ожиданий могут быть, по крайней мере частично, реализованы. Многие иммигранты увидели и ощутили не только экономические, но также религиозные, политические и культурные благоприятные возможности. История Соединенных Штатов — это одно из многих новейших
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
163
начинаний. Даже многие американские капиталисты ухитрились выработать своеобразную американскую комбинацию твер- долобости в бизнесе с некоторой долей социальной совести и сентиментальности.'15
Задолго до кризисных лет начала 1930-х гг. было совершенно ясно, что этика капитализма не показала себя настолько повсеместно проникающей и доминантной, как мыслилось Марксу и пропагандировалось его последователями. В отличие от того, что предвидел Маркс, социальное становление идей фрагментарно — во всяком случае, в крупномасштабных, сложных сообществах — и подвержено не только экономическим влияниям. Современное общество создано способным и на значительно большую вариативность своей культурной продукции, чем было позволено всеми теми, кто переоценивал степень протяженности его интеграции, независимо от того, опирались они на экономическую или политическую почву.
И хотя трудно выяснить, каким в рассматриваемый период в точности был характер «руководящих идей», имевших социальное чутье интеллектуалов существо таких идей тревожило меньше, чем несоответствие социальных идей и общественной практики. И опять-таки это была особая американская озабоченность, возможно, некая форма исторической невинности, давшая американским интеллектуалам возможность наблюдать, причем с болезненным удивлением констатируя, что «почти в каждой ветви американской жизни присутствует острая дихотомия между проповедью и повседневной практикой»,46 — как если бы такое расхождение между идеями и их воплощением в жизнь было уникальным провалом американского общества.
Поставленный в 1934 г. Малькольмом Коули диагноз американскому обществу сохранил потрясающую чистоту и актуальность для 1960-х и начала 1970-х гг. В этой архетипичной критике американского общества и культуры фокус внимания сдвинут с бедности и неравенства на неаутентичность, на разрыв между идеалом и фактом, теорией и практикой, открыто признаваемыми ценностями и наблюдаемым поведением. Он писал:
...Почти вся американская культура становилась ложной и неосновательной. Сценическое искусство ставило проблемы, которые не имели смысла с точки зрения повседневной жизни; кино предлагало мечты о невозможной роскоши... популярные журналы были лишь носителями рекламы, а популярные газеты эффективно лишали своих читателей привилегий, так как не умели дать им информацию, в которой они нуждались как избиратели... Хуже всего... было лицемерие, которое пропитывало систему целиком: с ее бизнесменами, говорящими о служении, когда они имеют в виду наживу; с государственными деятелями, которые заявляли о своей любви к простому человеку, одновременно принимая заказы Уолл-Стрит (и время от времени деньги нефтяных производств...).
164
Пол Холландер
В те дни едва ли кто-то, казалось, верил в то, чем занимался — ни рабочий на производственном конвейере, ни дилер, вынужденный продавать больше единиц продукции... все более и более не желающим приобретать ее покупателям... ни торговец, колотящий ногой в дверь и повторяющий выученные наизусть аргументы, ни газетчик... презирающий своих читателей — ни даже люди, стоящие во главе системы, банкиры и учредители фондов, политики... каждый был в деле ради денег... Деятели рекламы, служившие как священники и поэты американского процветания, были наибольшими циниками из всех.
Подобно рекламодателям... они [писатели] страдали от ощущения дискомфорта реальности. Что-то угнетало их... Они не понимали природу этого дискомфорта, но пытались изгнать его, давая определения — это было Тупостью толпы... это было Массовым производством, Мещанством, Нашей цивилизацией бизнеса; или, может быть, это было Машиной, которую создали для удовлетворения нужд людей, но которая теперь управляла этими нуждами и навязывала нам свою стандартную продукцию... Тот же социальный механизм, который кормил и прикрывал тело, заставлял голодать эмоции, закрывал все пути к творчеству и самовыражению.47
Поразительно похожий обзор дефектов американской жизни был дан в 1960-е гг. в одном из кратких творений Мейлера, что указывает на неизбывность тем, определяющих неприятие американского общества. Неприятие этой «Машины» в 1920-е и 1930-е гг. едва ли отличалось по духу от ненависти к компьютерам и всему тому, для чего они устанавливались, в 1960-е гг. В свою очередь, сравнительно аполитичное отчуждение интеллектуалов эры машин в 1920-е гг. подготовило почву для большей политизации, огульного неприятия ими капитализма 1930-х гг.
Воспоминания Джозефа Фримэна (видного коммуниста-ин- теллектуала в 1920-х и 1930-х гг.) о жизни в Гринвич Виллидж в начале 1920-х вызывают в памяти образы не столь давних поисков аутентичности и «альтернативных стилей жизни»:
В Деревне — с ее энтузиазмом ручной керамики Варнума Пура — восстание против машины было полнейшим. Окруженный самой машинизированной индустриальной страной в мире, этот маленький остров зажигал свечи с обоих концов не только символически, но и буквально. Его обитатели носили блузы из ткани ручного крашения вместо фабричного платья, щеголяли в сандалиях вместо ботинок. Они были, по крайней мере духовно, разрушителями машин. Для многих из них искусство было не попыткой выразить современную цивилизацию, но бегством от нее в мечту о неиндустриальном мире, наполненном покоем, красотой и любовью.
Вспоминая 1930-е гг., Элфрид Казин дает дополнительное подтверждение схожести феномена «выпадения из времени» тогда и в 1960-е гг.:
Я должен был находиться вечерами в коммунистических общественных залах в окружении братьев по классу, которые вышли в «пролетарии», взялись за работу подавальщиков в кафетериях и... гордились своей агрессивной «классовой» твердостью, восхищавшей меня. Они порвали со студийными штампами, в которых все мы выросли; они всерьез отказались от попыток карабкаться вверх по карьерной лестнице. Они порвали с буржуазным миром и его ложными устремлениями.48
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
165
Подобные сантименты предвосхитили многое в критике американского общества 1960-х гг., включая озабоченность тлетворным влиянием капиталистического индустриального общества, навязывающего своим членам потребление бесполезных товаров.
Тогда как тема отчаяния по поводу «засилья машины» и других губительных деяний индустриализации в писаниях западных интеллектуалов едва ли не целого века достаточно примелькалась, в обсуждаемый период в этих сетованиях появилось нечто новое. (Уолдо Фрэнк, например, величал американцев «варварами машины».)49 Уже в социальной критике 1930-х гг. отмечается некоторая предвзятость в определении таких категорий, как обезличивание, стандартизация, отсутствие приемлемых уровней духовности и человеческой теплоты, но полного расцвета она достигла в 1960-е гг. Многие интеллектуалы уже в 1930-е гг. были убеждены, что проблемы американского и других западных обществ не были всего лишь экономическими, материальными или организационными, они были, скорее, духовными. Малькольм Коули, например, подчеркивал: «Мы здесь имели дело с тем, что было, по существу, религиозным опытом. Вопросы, которые ставило время, были не только политическими, но также моральными и личностными... Многие [писатели] неосознанно искали религиозное решение, веру, которая могла бы привнести в их личную и профессиональную жизнь как американцев среднего класса определенные элементы, отсутствовавшие до той поры». (Он включал в эти «религиозные элементы» «изгнание старых тождеств».) Даже еще раньше, в 1920-е гг., группа из тридцати нью-йоркских интеллектуалов пришла к выводу, что «жизнь в этой стране безрадостна и бесцветна, универсально стандартизована, безвкусна, несозидательна, отдана на откуп поклонению достатку и механизации».50 Все тот же Уолдо Фрэнк с презрением писал об этом «дряблом релятивизме, который под именем либерализма шествует по Западу и который так часто оказывается не чем иным, как желанием обрести уверенность...»,51
Итак, волна разрыва с обществом и социальной критики, которая была порождена депрессией и имела очевидные экономические причины, разлилась в отрицание всех базисных ценностей капиталистического общества: «Нашей системе недостает морального базиса... Она питает... эту фатальную дивергенцию принципов и практики христиан, что так убийственно для религии... Пропасть между воскресеньем с его церемониями... и понедельником с его конкурентными стычками... становится такой широкой, что многие мужчины и женщины остаются сегодня вне церкви».52
166
Пол Xолланлер
Однако то, что было сказано в предшествующем материале, ни в коем случае нельзя расценивать как утверждение, что вся критика западного общества и капитализма фокусировалась на духовном нездоровье, негодных ценностях, отсутствии цели. Моя аргументация скорее состоит в том, что даже критика узко определяемых изъянов и специальных институтов формировалась и была пропитана чувством неприятия системы в целом и утраты веры в нее — то есть, в конце концов, именно тем, что мы понимаем под отчуждением.
Интеллектуалы, которые доказывали необходимость существенных улучшений в существующей и модернизируемой учрежденческой работе — например, правительственное обеспечение занятости, расширение возможностей образования, забота о здоровье и т. д., — в действительности не рвали с системой, даже если критически относились к проблемам и несправедливости, имевшим место в их обществе.
Во всяком случае очевидно, что многие концентрировались на критике западных обществ, зачастую дополняя ее восхвалением советских политики, практики или институтов. Так, например, если Уолдо Фрэнк бичевал американскую правовую систему за «уничтожение барьера между разрешением спора по-человечески и формальным судебным решением»,53 то это подавалось в контрасте с высшим гуманизмом и неформальным характером советской системы. Британский ученый Джулиан Хаксли был настроен критически к британскому обществу за скудную поддержку научных исследований, отсутствие планирования, контрасты безработицы и перепроизводства, удушение групп, преследующих вполне законные интересы, и в противовес всем этим недостаткам неизменно находил положительные черты в Советском Союзе. Он также ощущал необходимость связывать специфические недомогания английского общества с более широкими проблемами ценностей, такими как преобладание чрезмерного индивидуализма.54
Ощущение каких-то фундаментальных изъянов в устройстве западных сообществ, переходящих в более специфические и легко распознаваемые болезни (такие как бедность, безработица, отсутствие планирования), несомненно было широко распространено, хотя, вероятно, пустило не такие сильные корни, как в похожих настроениях 1960-х гг. Есть также различие в терминологии, облюбованной социальной критикой, и, кроме прочего, в 1930-е гг. критики реже соотносили свои личные проблемы с пороками общества. Тем не менее, оставалось немало примеров похожих ощущений неизлечимых общественных болезней, упадка и бесцельности существования, превалировавших в кругах,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
167
которые породили критиков, ставших пилигримами. Так немецкий романист Лион Фейхтвангер писал:
Я приезжал в Советский Союз из стран, где недовольство является общим правилом и жители которых, недовольные как физическими, так и духовными условиями своего существования, страстно желают перемен... Воздух, которым они дышат на Западе, спертый и скверный. В западной цивилизации нет больше ясности и решимости... Каждый начинает дышать по-новому, когда вырывается из этой гнетущей атмосферы фальшивой демократии и лицемерного гуманизма и, приехав в Советский Союз, окунается в его вселяющую бодрость атмосферу. Здесь нет прячущихся на задворках мифических, бессмысленных лозунгов, но торжествует сдержанная этика.
Такими же были ощущения Дж. Б. Шоу:
Буржуазия прогнила. Армия прогнила. Монархия прогнила. И сверх всего прочего прогнили парламентские институты.
Британский ученый Дж. Д. Бернал вспоминал:
Я объехал Советский Союз в те суровые, первичные и подвластные случайностям дни, когда было видно множество трудностей... [то есть в 1931 г.]. И все же в те дни испытаний безошибочным было ощущение цели и свершений.... Это было жестокое, но великое время. Наши ограничительные рамки в Англии были менее жесткими: их жесткие меры были продуманы и предпринимались в уверенности построения лучшего будущего.
И, наконец, согласно Джону Стрэчу, «даже сегодня... до того, как бесклассовое общество вполне сформировалось, есть ощутимое пьянящее возбуждение жизни, которой не находится параллелей в мире. Путешествие из капиталистического мира на советскую территорию равносильно переходу из смерти в рождение».* 55 Образы и метафоры затхлости и свежести, роста и упадка, победивших и побитых собак были своего рода периодическими элементами социальной критики западных сообществ и впечатлений от советской системы. Луис Фишер следующим образом анализирует состояние ума, которое привело его к просоветским позициям:
Я предпочитал свежие сметающие ветры застойному затхлому воздуху и пионеров добрых намерений уже показавшим себя неудачникам. Мне нравились Советы, потому что они были экспериментом в интересах угнетенного
* Десятилетия позднее те же чувства все еще озвучивались некоторыми интеллектуалами, которые окончательно преуспели в отрыве себя от вдохновляющей атмосферы тех высших сообществ, где выпало погостить. Так писал Скотт Ниринг, ссылаясь на свои многочисленные визиты в разные социалистические страны после Второй мировой войны: «Каждый раз, когда я возвращался в нашу вещественную форму в Майне, у меня все более крепло убеждение, что социалистические страны двигались вперед к своим целям, что западные капиталистические страны дрейфовали без управления и лидерства в море... тревог».
В подобном же духе Гарсиа Маркес, «несмотря на его частые поездки в Гавану... говорит, что не может остаться там: „Я не смог бы жить на Кубе, потому что я не прошел через процесс, — сказал он. — Очень трудно... принять для себя те условия. Я растерял слишком много вещей“».56
168
Пол Холланлер
большинства, потому что они разрушили привилегии могущественного меньшинства, потому что они слабы и потому что им противостояли консервативные и реакционные силы мира.57
Даже когда некоторые интеллектуалы осознавали некоторые изъяны и предрасположенности советского общества, они обычно приуменьшали или нивелировали их значимость, сравнивая с явно более серьезными дефектами собственных обществ. И в этом всегда присутствовало ощущение (во всяком случае, в начале и середине 1930-х гг.), будто болезни капитализма ему присущи и неизлечимы, тогда как изъяны Советов — это эфемерные, преходящие болезни роста, а не признаки упадка и разложения. Так, например, когда подтвердилось, что Россия не вполне свободна политически, Стивен Спендер, тем не менее, заключил: «...В то время как Россия идет вперед к большим свободам, Британская империя вынуждена выбирать между дезинтеграцией и репрессивностью».58 Обсуждая приемлемые и неприемлемые взгляды на советскую систему, Джозеф Фримэн писал:
Можно было поехать в Россию... и написать тома об отсталости и трудностях, которые вы заметили... Даже если каждый факт, который вы зафиксировали, сам по себе несомненно правдив, ваша картина Советского Союза как целого оказывалась неправдой... Когда люди смотрели только на негативную сторону Октябрьской революции... и в то же время игнорировали великие перемены, строительство, громадное движение вперед — они лгали.59
Фримэн и другие, разделявшие его уверенность, пытались исправить эту ситуацию, занимая диаметрально противоположную позицию. Вместо игнорирования или принижения позитивных качеств режима, они игнорировали и приуменьшали все, что являлось негативным. И более того: они пылко отрицали, отвергали, разуверяли и пытались дать разумное толкование тех «деталей», которые отвлекали от восприятия блистательного целого; они шли к другому экстремуму, отказываясь признавать или обсуждать любое несовершенство. В тех немногих случаях, когда они сугубо поверхностно признавали какой-то недостаток, им не хотелось видеть никакой связи между изъяном в конкретных деталях великого плана и качеством системы в целом.60 Такого рода контекстуальный рационализм (уже упоминавшийся выше) был главным детерминантом метода осмысления нашими интеллектуалами собственных обществ и противопоставляемой им модели. Таким образом, поскольку они рассматривали свои социальные системы как исторически обреченные, даже привлекательные аспекты этих систем (например, свобода самовыражения) девальвировались или переопределялись как тривиальные, бессмысленные и не имеющие важного значения. По тому же самому признаку (редко обосновываемому) недостатки
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
169
советского общества могли быть отвергнуты на контекстуальной основе: в свете фундаментально прогрессивной и желательной природы советской системы недостатки, определяемые как второстепенные, мало что значили и в любом случае обречены иссякнуть и отмереть. Такая позиция позволяла многим критикам и почитателям обоих типов обществ сэкономить время и избавиться от сомнений. Раз уж их умы были настроены на восприятие одного из них как по сути своей испорченного, а другого — как по сути своей доброкачественного, детали переставали быть важными и не заслуживали внимания. Если они не вписывались в целое (и того и другого типа), их можно было отрицать или игнорировать. Или, как определил это современный социальный критик Э. Дж. Хобсбаум: «Современный политический выбор не есть постоянный процесс выбора людей или мер, но одноразовое (или нечастое) предпочтение одной упаковки по сравнению с другой, а в самих упаковках мы приобретаем неприемлемую часть общего содержимого, поскольку нет другого способа добраться до целого и уж во всяком случае нет иного способа быть политически эффективным... интеллектуалом-коммунистом, делающим выбор в пользу СССР... поскольку на имеющихся в его распоряжении весах хорошее перевешивает плохое».61 В сказанном мало что добавлено к трюизму «цели определяют средства» (который может звучать как не менее избитая мудрость: невозможно приготовить омлет, не разбив яйца). С другой стороны, окончательное крушение веры в Советский Союз у большой части интеллектуалов происходило по той же причине — из-за их неспособности ассимилировать все более и более ширившееся несоответствие деталей тому целому, каким оно в действительности было, либо потому, что продолжала расти их уверенность в том, что непривлекательным деталям в желаемой «упаковке» не должно быть места. Свидетельства крушения веры лишившихся иллюзий интеллектуалов, собранные в книге «The God that Failed»62 и подобных ей, дают живое описание этого мучительного процесса.
В большинстве случаев приобщение к социальной критике влекло за собой уверенность в том, что существует связь между представлением о личном счастье и его достижении (или недостижении), с одной стороны, и природой социального мира — с другой; что личная жизнь, в ее более широком понимании, предопределена; и что общество должно помогать людям жить лучше и делать их жизнь более осмысленной и растрачиваемой на добрые дела. Большая часть критики также несла в себе убеждение в том, что болезни общества излечимы и что некоторые люди или группы людей могут целенаправленно стремить¬
170
Пол Холландер
ся их сохранить. Без таких верований социальная критика была бы философски трудна и имела бы не больше смысла, чем критика природы.
Ведь не существует «критика природы», хотя природа всегда задавала жесткие рамки ограничений людям и насылала на них лишения, вступала с ними в конфронтацию, нимало не заботясь о них, а зачастую и окружая суровыми внешними условиями. Многие земли неплодородны, и на них можно перебиться с большим трудом. Погода во многих частях мира (и по несколько раз в году) либо слишком жаркая, либо слишком холодная, слишком сырая или слишком сухая. На море бывают штормы, горы скалисты, нагорья труднодоступны. Наводнения, землетрясения и засухи часто угрожают жизни более непосредственно и гораздо драматичнее, чем социальные беды. Многие растения и животные недружественно настроены к человеку. Легко заболеть. Мы все смертны. «Борьба с природой» — не пустая фраза, какой бы возросшей ни казалась цена человеческих побед над ней в наше время.
И все же, надо думать, немногие из нас отважатся указывать пальцем на природу — будь мы религиозными людьми или атеистами, правда, по разным причинам. И наоборот, мы клянем общество и возлагаем на него ответственность за все те условия, которые не клянем и не критикуем в природе. Дело в том, что мы не в состоянии что-либо восхвалять или порицать, от всей ли души или сдержанно, не имея определенных концепций добра и зла, принимаемых в расчет даже на первый взгляд бесстрастным, вооруженным социальной наукой, решительно настроенным наблюдателем. Мы критикуем общество и возлагаем на него ответственность, потому что полагаем, что существующим (или былым) социальным порядкам и институтам могут быть найдены альтернативы, которые могли бы уменьшить жесткость ограничительных рамок, нехватку необходимого и лишения, поскольку уверены, что такие альтернативы более удовлетворяли бы человечество. Социальная критика может процветать, потому что она глубоко проникнута ощущением того, что человек должен сыграть определяющую роль в установлении социальных порядков, несмотря на все разговоры о слепоте, безликости или неумолимости социальных сил и исторических процессов.63 Дух критики пороков социальных порядков и систем совершенно отличен от полных печали путевых заметок тех, кто путешествовал среди бесплодных ландшафтов, где обитатели едва сводят концы с концами. Социальная критика обладает тенденцией проявляться страстно в силу лежащей в ее основе убежденности в том, что многое может быть лучше и по-другому; что страдания
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
171
и лишения не нужны и могут быть устранены или уменьшены, если только люди — определенные люди — перестанут быть алчными, жадными до власти, себялюбивыми, неразумными, расточительными, порочными, жестокими, бессовестными и нерадивыми. Такие рефлекторные соображения помогают объяснить тональность и характер социальной критики, обзор которой дан в этой главе и обобщается ниже.
Критика западного капиталистического плюралистического общества объединяет в себе примерно пять или шесть принципиальных тем. К ним обращаются с тех пор, как началась эпоха капитализма, коммерции и индустриализации; определенно так же давно существуют писатели, деятели искусств и мыслители, которые стояли в стороне от своих обществ, их доминирующих ценностей и социально-политических сил. Главные компоненты этой критики были заложены Марксом и другими социалистами XIX в. и с поразительной цепкостью выжили до сего дня, упорно не желая принимать во внимание существенные социальные перемены.
Эти пять или шесть главных тем выражаются в двух типах критики. Один тип направлен непосредственно на социальные институты и организации (на неправильное функционирование институтов), другой — в большей мере на ценности и заповеди либо, когда они не оправдывают себя, на приведение в движение, мотивацию и воодушевление людей.
Итак, в 1930-е гг. (как и в другие периоды) главным фокусом критики капитализма, помимо экономического кризиса и его последствий, была система ценностей (или нравственного облика) общества, которое воспринималось как обязанное поддерживать своих членов и правильно ориентировать свои институты. Капитализм потерпел неудачу в обеспечении достойных духовных ценностей и ощущения цели (иной, чем чрезмерно индивидуалистическая озабоченность материально-финансовыми достижениями). В то же время критики были уверены, что забота о материальных ценностях, или денежные отношения, подрывала ощущение общности и личные взаимоотношения, которые присущи людям как человеческим существам. Эта тема всплывает в критике конкуренции и чрезмерного индивидуализма. Никакое ощущение общности не может развиваться, когда люди втягиваются в неблагодарную конкурентную борьбу друг с другом за деньги, работу, материальную собственность, положение и другие сомнительные достоинства. Чрезмерный индивидуализм и отражает, и еще более углубляет объективно существующий конфликт личных и общественных интересов, который стал доминантой жизни капиталистических обществ. Культурная жизнь
172
Пол Холланлер
тоже становится бессильной и ориентируется на дешевые развлечения и не желающее взрослеть человечество, бегущее от проблем бытия. Стремление к выгоде разлагает все.
Неравенство, не окупаемое никакими более высокими целями или будущими компенсациями — контрасты между широтой желаний и узостью привилегий, — было следующим критикуемым фиаско капиталистических систем.
Кроме того, капиталистические общества подвергались критике на политической почве. Немногие из интеллектуалов-кри- тиков, если таковые вообще были, желали признавать, что, несмотря на экономические неудачи, угрожающее неравенство, множество социальных проблем и несправедливостей, при капитализме существовала хотя бы какая-то политическая и культурная свобода. Большинство критиков занимало позицию, суть которой состояла в том, что какие бы политические свободы ни существовали, они бессмысленны при громадных несоответствиях между богатыми и бедными; что действовал отказ допустить любую независимость или автономию царства политики и культуры. Деньги означали власть, а отсутствие денег — полную политическую беспомощность. Богатые могли купить власть, образование, справедливость и общественное признание.
Права, теоретически предоставленные бедным, использовались мало. Каждый имел равное право спать под мостом, участвовать в президентской гонке или попытаться стать членом парламента.* Короче говоря, экономическое неравенство виделось единственным детерминантом политической власти. При таких условиях номинальное существование политических прав не может вызвать ничего, кроме стыда. Правительства — это не более чем исполнительные комитеты наиболее влиятельных капиталистов.
К политическим дефектам капитализма также относились расизм и колонизация (дискриминация по половому признаку была добавлена в 1960-е гг. как еще одно порождение капитализма).
* Отчужденные интеллектуалы не смогли осознать в 1930-е гг., так же как в другие периоды истории, что существовала, и всегда существует, связь между политическими правами и экономическим благополучием и что так называемые буржуазные свободы или формальные права не так бессмысленны или второстепенны, как огульно заявляют многие марксисты. Роза Люксембург, кстати сказать, очень давно продемонстрировала понимание этого вопроса: «Лекарство, которое прописали Троцкий и Ленин, устранение демократии... хуже самой болезни, которую они намерены лечить; оно останавливает источник жизни, из которого только и может прийти излечение всех врожденных уродств социальных институтов... Социалистическая демократия — это не что-то такое, что начинается лишь в земле обетованной после того, как будут созданы основы социалистической экономики; это не придет как некий сорт рождественского подарка достойным людям, которые тем временем лояльно поддерживают горстку социалистических диктаторов».64
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
173
Иногда в критике содержалась уступка в том плане, что капиталистический политический порядок менее репрессивен в сердцах капиталистических систем (то есть в Англии и Франции), но это достигалось за счет большего угнетения и эксплуатации масс колонизированных территорий. При отсутствии колоний наличие формальных прав или буржуазных свобод в США объяснялось особенно жестокой эксплуатацией негритянского населения, за счет которого все слои белых граждан имели возможность наслаждаться некоторыми правами и определенным положением.
Наконец, как мы видели, имела место критика неразумности, неэффективности и расточительности, базирующихся как на институтах и организационной практике капитализма, так и на ценностях, которые допускали существование такого состояния дел. Опять-таки, именно экономический кризис высветил все другие недостатки социальной системы.
Социальная критика того времени, особенно американских интеллектуалов, характеризовалась также самокритичным настроем, который вновь всплыл на поверхность в 1960-х гг. и который препятствовал переносу этих социально-критических импульсов и их приложению к другим обществам. Например, писатель-квакер Генри Т. Ходжкин, симпатизировавший Советскому Союзу, был уверен — как и многие его современники, — что не только капитализму, но также и христианству не удалось «создать мир, где человеческие отношения счастливо отрегулированы и где мужчины и женщины имеют шансы достичь полного совершенства». Его взгляды на советское общество были обусловлены критическими вопросами к собственному обществу: «Все ли у нас хорошо? Есть ли свобода слова? Негры действительно освобождены?». Ответ был обязан быть неизменным — «Нет». Далее он сетовал в том же духе: «Наши коммунистические друзья в самом деле могут поставить перед нами эти очень неудобные вопросы, и мы не посмеем уклониться от ответов».65
Как отмечалось ранее, в 1930-е гг., да и в другие времена, квакеры дружно выступали в первых рядах тех, кто устраивал такой самокритичный экзамен Соединенным Штатам, неизменно выливавшийся в девальвацию американского общества и отдачу, в случаях любого сомнения, преимущества в пользу обществ, которые называли себя социалистическими. Нет сомнения, что исторические обстоятельства и, в частности, долгая традиция «неослабной заботы... о чистоте собственных душ...» способствовали принятию квакерами подобных позиций. В более общем плане также отмечалось, что многие социальные критики рассмотренного периода «сохранили в памяти достаточную каль¬
174
Пол Холландер
винистскую подоплеку, заставлявшую их ощущать личную вину за печали безработицы».66
Конечно, сочетание религиозной и политической позиций вносило свою лепту в более емкие резервуары разрыва с обществом и утопического мировоззрения, но американцы, вероятно в большей степени, чем любой другой народ, проявляли тенденцию к тому, чтобы быть поруганными за любое отступление социальных порядков и реалий жизни от социальных идей, которые им внушались, так же как за каждое свидетельство неудачи в реализации церемониальных ценностей и общественных заповедей основателей их страны.67 Осознание того, что их общество потерпело неудачу в организации жизни на уровне его стержневых ценностей, оставалось для многих интеллектуалов бесконечным, неиссякаемым источником вины или, по крайней мере, двойственного отношения к собственной стране. Такая предрасположенность к самокритике просто не может не усиливаться во времена кризисов, таких как кризис 1930-х гг.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Cohn, Pursuit of Millennium, p. 314.
2. Nearing, Making of a Radical, p. 210.
3. Daniel Aaron, Writers on the Left, New York, 1965, p. 168. Детальный и панорамный обзор этого периода см. также: Daniel Aaron and Robert Bendiner, eds., The Strenuous Decade, Garden City, N. Y., 1970.
4. Samuel Hynes, The Auden Generation: Literature and Politics in England in the 1930s, London, 1976, p. 66. См. также: Richard H. Pells, Radical Visions and American Dreams: Culture and Social Thought in the Depression Years, New York, 1973, p. 97-98, 366.
5. John Dos Passos, The Theme Is Freedom, New York, 1956, p. 2-3.
6. Та же точка зрения высказана в: Lyons, Assignment, р. 226.
7. Frank A. Warren, Liberals and Communism: The «Red» Decade Revisited, Bloomington, Ind., 1966, p. 65.
8 Filene, Soviet Experiment, p. 273.
9. Lyons, Red Decade, p. 101, 111. Лайонс также рисует первых энтузиастов в большей мере «вдохновенными пророками готовой к бою революции», чем «агентами прессы уже вершащегося и скорее всего неприятного дела» — последнее определение было им зарезервировано для сторонников Советского Союза 1930-х гг. На мой взгляд, различие не было столь резко очерченным. Многие визитеры 1930-х гг. ухитрились остаться такими же наивными энтузиастами, как и те, кто побывал в России в 1920-е гг., правда, у них были более приличные основания. Можно не сомневаться, что для некритичной поддержки режима в 1930-е гг. требовалось больше веры и самообмана (или, мягко говоря, избирательного восприятия), чем прежде.
10. Warren, Liberals and Communism, p. 10.
11. Edmund Wilson, in John P. Diggins, The American Left in the Twentieth Century, New York, 1973, p. 110.
12. Nearing, Making of a Radical, p. 180.
13. Granville Hicks, «How I Came to Communism», New Masses, September 1932, p. 8.
14. Neal Wood, Communism and British Intellectuals, New York, 1959, p. 38. Дальнейшее обсуждение аполитичного эстетизма 1920-х гг. можно найти на р. 100-105.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
175
15. Pablo Neruda, Memoirs, New York, 1977, p. 136.
16. Alfred Kazin, Starting Out in the Thirties, Boston, 1965, p. 85, 138; Muggeridge, Sun Never Sets, p. 291.
17. «Text of Statement by Briton Who Spied for Russians», New York Times, November 21, 1979; см. также: Andrew Boyle, «Britain’s Establishment Spies», New York Times Magazine, December 9, 1979; Hilton Kramer, «The Blunt Case: A Life Devoted to Beauty and Treachery», New York Times, December 2, 1979.
18. Malcolm Cowley, The Dream of the Golden Mountains: Remembering the 1930s, New York, 1980, p. 33. О власти марксистских взглядов см. также: Kazin, Starting Out, р. 87.
19. Lewis Coser and Irving Howe, The American Communist Party, 1914-1957, Boston, 1957, p. 283-284.
20. Neal Wood, Communism and British Intellectuals, p. 103.
Нил Вуд писал: «Чтобы понять, каким образом пустошь фарфоровых мандаринов 1920-х могла стать буржуазным распадом, проросшим интеллектуалами- коммунистами 1930-х, необходимо присмотреться к одной из важных особенностей видов на будущее интеллектуалов 1920-х; к отсутствию у них интереса к политике. Политическая софистика 1930-х была результатом политической безграмотности 1920-х» (Курсив мой. — П. X.).
21. Hicks, «How I Came to Communism», p. 7.
22. Stuart Samuels, «English Intellectuals and Politics in the 1930’s», in Rieff, On Intellectuals, p. 244. См. также: Wood, Communism and British Intellectuals, p. 110-114; Samuels, «English Intellectuals», p. 208-209.
23. Diggins, American Left, p. 102, 116.
24. Claud Cockburn, Discord of Trumpets, New York, 1956, p. 276.
25. Granville Hicks, Where We Came Out, New York, 1954, p. 35, 36. Cm. также: Coser and Howe, American Communist Party, p. 280. По наблюдению Макса Шахтмана, «одно время казалось, что коммунистическая партия может завоевать и удержать монополию в царстве интеллектуалов...» (Rita Simon, ed., As We Saw the Thirties, Urbana, 111., 1967, p. 14). Cowley, Dream of the Golden Mountains, p. 43.
26. Neruda, Memoirs, p. 319-320.
27. Louis Fischer, Men and Politics, New York, 1941, p. 189-190.
28. Cockburn, Discord, p. 107-108.
29. Hicks, Where We Came Out, p. 25.
30. Alan Riding, «For Garcia Marquez, Revolution is a Major Theme», New York Times, May 22, 1980.
31. Leon Trotsky, The Revolution Betrayed, New York, 1972; first published 1937, p. 305.
32. A. L. Rowse, Appeasement: A Study in Political Decline, 1933-1939, New York, 1963, p. 30, 31.
33. Muggeridge, Sun Never Sets, p. 350; Simon, As We Saw the Thirties, p. 171.
34. Согласно этим критикам, изобилие американской экономики было таким, что «социализм в Америке мог в ускоренном порядке обеспечить каждой семье благополучие, эквивалентное 25 000 долларов годового дохода»; в этом были уверены Корлисс и Маргарет Ламонт (см.: Corliss and Margaret Lamont, Russia Day by Day — A Travel Diary, New York, 1933, p. 256).
35. Berger, Pyramids, — обращение именно к этим вопросам.
36. Телевизионный репортаж CBS в апреле 1978 г. о детском труде в Камбодже (снимавшемся югославской бригадой) вызвал совсем немного возгласов возмущения этим насилием среди тех, кто был уверен, что в контексте решительного построения социализма нет места оценке таких вопросов, как детский труд, низкая заработная плата или плохие условия труда.
37. По наблюдению Ирвинга Кристола, «буржуазное общество кажется неспособным объяснить и оправдать свое неравенство... то, какой вклад вносят различные виды неравенства или как они согласуются с общим благом» (Irving Kristol, About Equality, p. 45).
38. Waldo Frank, Dawn in Russia, New York, 1932, p. 22.
39. Hewlett Johnson, The Soviet Power, (New York, 1940), p. xiii, xiv. Я дебатировал по поводу того, могут или нет церковные деятели квалифицироваться как интеллектуалы, и пришел к заключению, что некоторые из них да, но болыпин-
176
Пол ХолланАвр
ство, вероятно, нет, точно так же, как некоторые журналисты, инженеры или микробиологи могут быть так квалифицированы, а другие не могут. Решающим критерием во всех подобных случаях является степень, в какой индивид переступает границы своей конкретной специализации и проявляет какую-то минимально действенную озабоченность идеями и широкими вопросами социального существования. «Минимально действенную» по той причине, что если подобная озабоченность остается всецело пассивной и личной, ее никак невозможно обнаружить и оценить. По этому критерию Хьюлетта Джонсона можно считать интеллектуалом, особенно после выражения им своей социальной, политической и этической озабоченности в ряде книг.
40. Nearing, Making of a Radical, р. 202.
41. Ibid., р. 122. Перемещаясь между пацифизмом, вегетарианством и социализмом, Скотт Ниринг некоторым образом послужил прообразом упорного поиска решений радикалами шестидесятых. В то же время, он также напоминал Линкольна Стеффенса, одного из первых пилигримов, о котором было сказано: «Если в образе мышления Стеффенса и был один-единственный штамп, то это его поиск решения... он никогда не терял терпение, которое было своего рода абсолютным... [он] исключал одно социальное решение за другим... Но это должно было быть именно решение». (Granville Hicks, «Lincoln Steffens: He Covered the Future — The Prototype of a Fellow-Traveler», Commentary, February 1952, p. 154.
42. Anna Louise Strong, I Change Worlds: The Remaking of an American, New York, 1935, p. 40, 41, 97.
43. Ibid., p. 5.
44. Marx and Engels, The German Ideology, New York, 1960, p. 39. Марксистское положение нечетко также в том, что не сообщает нам, что именно заключают в себе эти руководящие идеи. Заповеди о цели и смысле жизни? Правильное отношение к труду? Концепции семейной жизни и личной морали? Основы правовой системы? Природу искусства? Приходится полагать, что Маркс и Энгельс имели в виду все это.
Однако остается мучительный вопрос, существо которого заключается в том, что они не говорят нам, какими подобные доминирующие, преобладающие или влиятельные идеи и заповеди должны быть, чтобы их можно было назвать «руководящими». До какой степени они должны исключать и ставить вне закона все остальные, не руководящие идеи? До какой степени сосуществование идей правителей и неправителей совместимы с положением о том, что идеи правителей являются руководящими идеями? Вне зависимости от того, насколько твердо в последнее время группы западных интеллектуалов пытаются воскресить марксизм, заигрывая и разбавляя его экономическим детерминизмом, от ответов невозможно отмахнуться, так как проблема руководящих идей тоже возникает. Склонность видеть капиталистическое общество как экономически детерминированный монолит интерферирует с пониманием современных плюралистических обществ как имеющих вместо одного четко определяемого правящего класса несколько элит, которые зачастую действуют, преследуя противоположные цели.
Вероятно, единственным типом общества, где эти заявление из «Немецкой идеологии» могут быть применимы, является номинально марксистское общество. В Советском Союзе или Китае идеи правящего класса в самом деле определяются как руководящие, но даже там можно найти аспекты и сферы жизни, где это не так.
В конечном счете приходит осознание того, что находящиеся у власти не всегда могут донести свои идеи до общества, а зачастую могут быть не заинтересованы даже пытаться делать это.
45. Я имею в виду людей вроде Сайруса Итона, Арманда Хаммера и других, чьи симпатии к Советскому Союзу длиной в жизнь были продиктованы не только видением выгод бизнеса или благоприятных торговых возможностей. Что касается портрета Итона, см.: The New Yorker, October 10, 17, 1977. Конечно, можно было бы привести и другие примеры, в которых этого типа сентиментальность не имела ничего общего с просоветскими позициями.
46. Malcolm Cowley, Exile’s Return, New York, 1934, p. 77.
47. Ibid., p. 216-217.
48. Joseph Freeman, American Testament: A Narrative of Rebels and Romantics, New York, 1973; first published 1936, p. 288; Kazin, Starting Out, p. 88.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
177
49. Frank, Dawn in Russia, p. 112.
50. Cowley, Dream of the Golden Mountains, p. 36-37, 118; цит. no: Cowley, Exile's Return, p. 77.
51. Frank, Dawn in Russia, p. 164.
52. Johnson, Soviet Power, p. xiii.
53. Frank, Dawn in Russia, p. 42.
54. Julian Huxley, A Scientist Among the Soviets, London, 1932, p. 51, 55, 59, 86, 93.
55. Lion Feuchtwanger, Moscow 1937, New York, 1937, p. 3, 149, 150; Shaw, Rationalization of Russia, p. 102; Lamont, Russia Day by Day, p. 257-258; Бернал цит. no: Gary Werskey, The Visible College: The Collective Biography of British Scientific Socialists of the 1930s, New York, 1979, p. 148; John Strachey, The Coming Struggle for Power, New York, 1935, p. 360.
56. Nearing, Making of a Radical, p. 253; Riding, «Garcia Marquez».
57. Louis Fischer in Richard Crossman, ed., The God that Failed, New York, 1949, p. 203.
58. Stephen Spender, Forward From Liberalism, London, 1937, p. 261-262.
59. Freeman, American Testament, p. 570.
60. Артур Кёстлер дал анализ этой ментальности и различных приемов из арсенала твердолобых защитников советской системы, которые продолжают жить и пользуются популярностью у интеллектуалов в приложении к другим тоталитарным обществам. См.: «The Soviet Myth and Reality» in Yogi and the Commissar, p. 111-175.
61. E. J. Hobsbawm, «Intellectuals and Communism», in Idem, Revolutionaries, New York, 1973, p. 27.
62. Crossman, God that Failed.
63. Яркую критику социального и исторического детерминизма см.: Isaiah Berlin, «Historical Inevitability», in Four Essays.
64. Rosa Luxemburg, The Russian Revolution and Leninism or Marxism, Ann Arbor, 1961, p. 62, 77. He так давно один хорошо известный американский социолог дал комментарий по тем же вопросам: «Там, где власть монополизируется крохотной элитой, как это имеет место во всех однопартийных и других авторитарных системах, вне зависимости от того, изображают они себя крайне левыми или крайне правыми... громадная масса людей будет располагать слабым либо вовсе не иметь никакого способа воспрепятствовать тем, кто контролирует экономику, диктовать им, как они должны жить. Следовательно... любое движение, вне зависимости от провозглашаемых целей, которое подрывает существующие институты, которое способствует оппозиции властью предержащей, каким бы несоразмерным оно ни было, есть усилие в пользу авторитарного правления и в пользу повышения, а не уменьшения степени неравенства. Где бы небольшие элиты ни командовали ресурсами общества и политики... их можно только удерживать от... эксплуатации неэлиты способностью части последней оказывать посильное давление на тех, кто во власти». S. М. Lipset, «Ideology and Mythology: Reply to Coleman Romalis (and other critics)», in Perspectives in Political Sociology, ed. Andrew Effrat, Indianapolis, 1973, p. 254. Эти вопросы далее поясняются в: «The Two Concepts of Liberty» in Berlin, Four Essays.
65. Henry T. Hodgkin, ed., Seeing Ourselves Through Russia, New York, 1932, p. 3, 54, 92.
66. Daniel Boorstin, The Americans: The Colonial Experience, New York, 1958, p. 63. Бурстин добавил, что «всякий раз квакеры выбирали решение, которое позволяло им сохранить себя в чистоте, даже если за это приходилось поплатиться чем-то другим»; Cowley, Dream of the Golden Mountains, p. 41.
67. О давней традиции и множестве вариаций (эстетических, моральных, аристократических, богемных, социалистических) разрыва американских интеллектуалов с обществом см.: Edward Shils, «Intellectuals and the Center of Society in the United States», in Intellectuals and the Powers, (особенно) p. 178-179.
178
Пол Холланлер
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА: ПЕРВЫЕ ПИЛИГРИМЫ
Конечно, ото не хуже Голливуда (хотя отрицательных сторон — смерти и депортации — больше).
Эдмунд Уилсон1
Не предполагается ли, что визит такого сорта дает идеальную возможность сунуть нос в дела хозяев?
Оуэн Латтимор2
Они несомненно одно из чудес эпохи, и я по крупицам, словно сокровище, соберу... картину их жизни, с лучезарным оптимизмом путешествуя по голодной сельской местности, странствуя в счастливых ватагах по убогим, запруженным толпами городам, с непоколебимой верой вслушиваясь в бессмысленные штампы тщательно натасканных и напичканных доктринерскими бреднями гидов, повторяющих, будто школьники таблицу умножения, цифры поддельной статистики и глупые лозунги, бесконечным речитативом напеваемые им самим.
Их восторг по поводу всего того, что они видели и что им говорили, и экспрессия, с которой они выражали этот восторг, несомненно одно из чудес нашей эпохи. Это были искренние заступники гуманного забоя скота, которые поднимали взгляды на массивную штаб-квартиру ОГПУ со слезами благодарности на глазах; искренние заступники пропорционального представительства, которые энергично согласились, когда им была объяснена необходимость диктатуры пролетариата; искренние церковные деятели, которые благоговейно ходили по атеистическим музеям и благоговейно листали страницы атеистической литературы; искренние пацифисты, которые с восторгом наблюдали за ползущими по Красной площади танками и затемняющими небо бомбардировщиками; искренние специалисты градостроительства, которые стояли снаружи перенаселенных полуразрушенных жилищ и бормотали: «Если бы у нас в Англии было что-то подобное!». Почти невероятная доверчивость этих туристов, главным образом с университетским образованием, изумляла даже советских должностных лиц, привыкших иметь дело с зарубежными визитерами...
Малькольм Магеридж3
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
179
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ И ВОСПРИЯТИЕ
Процесс, в результате которого определенные общества постепенно или неожиданно резко оказываются в фокусе интересов и полных надежд ожиданий, — не просто вопрос появления доступа к большему объему информации об их достижениях. На самом деле заслуживающая доверия информация может оказаться помехой такому процессу.
Ситуация с Советским Союзом — одна из лучших иллюстраций этого феномена. Более глубокое его изучение мало что добавило к объяснению взлета популярности Советского Союза в Соединенных Штатах и Западной Европе в 1920-х и 1930-х гг. Скорее неожиданно возникшую привлекательность Советов предвосхитило и определило изменение позиции по отношению к западным сообществам. Это упрощает понимание того, почему сама Октябрьская революция оказала сравнительно ограниченное воздействие на западных интеллектуалов, несмотря на свою историческую и символическую значимость как шага к устранению несправедливости, неравенства и традиционной автократии. В то время и на протяжении 1920-х гг. Соединенные Штаты и страны Западной Европы вели себя более самонадеянно, находились в большей экономической безопасности и были политически более стабильны, чем в последующие годы. Отсюда и меньший интерес к поиску модели страны, которая могла бы послужить примером для решения различных социальных и экономических проблем. Таким образом, отчуждение интеллектуалов от западных обществ и их восхищение Советами представляли собой нечто, почти целиком сплавленное воедино. Для многих из тех, кто выбрал путь отчуждения, советское общество рано или поздно становилось привлекательным; очарованные Советами неизменно рвали со своим обществом и обрушивались на него с критикой. Эти две позиции редко существуют независимо одна
180
Пол Холландер
от другой, хотя в теории это возможно: разрыв не обязательно должен был приводить к восхищению Советским Союзом, а люди, ощущавшие себя комфортно в собственном обществе, могли находить Советский Союз привлекательным. Но здесь речь идет не о такой ситуации. Очевидно, у людей не может внезапно появиться интерес к другим обществам и культурам, тем более подтверждаемый таким громадным количеством примеров, если в их собственном обществе или культуре что-то не оказывается настолько проблематичным, что они с тревогой бросаются изучать социальное устройство где-нибудь в другом месте.
Трудно понять сегодня, когда Советский Союз в значительной мере дискредитирован в глазах большинства западных интеллектуалов, почему столь широко распространенным было ощущение его привлекательности в конце 1920-х, в 1930-е гг.* и во время Второй мировой войны. В этом замечании нет ни отрицания, ни стремления не заметить то, что для многих интеллектуалов эта привлекательность оказалась недолгой, что многие меняли мнение после того или другого исторического события или разоблачения советской системы. Знаковым остается то обстоятельство, что многие западные интеллектуалы проходили в своей жизни напряженную просоветскую фазу, демонстрируя высокой степени шаблонные, фактически единые позиции восхищения и энтузиазма по отношению к Советскому Союзу, пусть даже в течение ограниченного периода времени (обычно несколько лет).
Рекомендация Джулиана Хаксли в отношении того, каким образом следует смотреть на советское общество, была широко принята симпатизировавшими Советам визитерами, так как позволяла им с чистой совестью освободиться от балласта своих критических способностей. Он писал: «Нехорошо смотреть на все русское сквозь свою импортную атмосферу, поскольку она действует лишь как искажающая факты линза... Гость России должен попытаться отбросить некоторые из своих буржуазных представлений о демократии, религии и традиционной морали, свой романтический индивидуализм, свои классовые чувства, свои суждения о том, что определяет успех, и пропитаться, насколько сможет, атмосферой, в которую погружены русские».5
Например, один сборник писем западных интеллектуалов о Советском Союзе, опубликованный в 1932 г., содержал образчики восторгов более сотни выдающихся писателей (наибольший контингент составляли немцы, американцы, французы и англичане), включая такие фигуры, как Генрих и Томас Манны, Иоганнес Бехер, Эгон Эрвин Киш, Герхарт Гауптман, Эрнст Толлер, Анатоль Франс, Анри Барбюс, Ромен Роллан, Андре Моруа, Дж. Б. Шоу, Г. Дж. Уэллс, Теодор Драйзер, Стюарт Чейз, Шервуд Эдди, Анна Луиза Стронг, Майкл Голд, Альберт Райс Уильямс, Джон Дос Пассос, Эптон Синклер, Флойд Дел, Мартин Андерсен-Нексё и Дьёрдь Лукач.4
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
181
Как уже отмечалось, предрасположенность играла главную роль в положительном восприятии Советского Союза. Это восприятие держалось, в основном, на чувстве разочарования в собственном обществе, разочарования по многим причинам. Представленный ранее обзор социальной критики дает наиболее доступное пониманию объяснение. Более сложным, но не менее важным могли быть конкретный жизненный опыт и черты личности паломников, которые здесь не анализируются. Достаточно сказать, что большинство из них были идеалистами, переполненными надеждами и готовыми верить, что в деле изменения организационной модели общества возможны радикально новые пути и что социальная политика и личные нужды вполне могут быть сгармонизированы.
Сегодня трудно воспроизвести дух радостного предвосхищения, в котором многие путешественники начала 1930-х гг. отправлялись на экскурсии по Советскому Союзу. Малькольм Ма- геридж наблюдал за некоторыми из них на борту судна:
На пути в Советский Союз они были в праздничном настроении; словно болельщики розыгрыша кубка по дороге на матч, снаряженные погремушками, цветными шарфами и отличительными знаками. Каждый таил про себя какую-нибудь особенную надежду; встретиться со Сталиным или, в качестве альтернативы, не ударить в грязь лицом перед комсомолкой, блеснув шарфом в красный горошек и черными как смоль волосами в танце карманьола; но прежде всего, весьма просвещенными взглядами на проблему полов, и свободу, и легкие пути. И уж во всяком случае, запастись специальными, авторитетными знаниями, которые могли бы помочь им украсить свои статьи и лекции...
В своих отношениях с членами экипажа и официантами они пунктуально культивировали эгалитарный подход; слово «товарищ» всегда было готово сорваться с их губ... Эти пассажиры-попутчики дали мне первый опыт общения с прогрессивной элитой со всех концов мира, приторочившей себя к советскому режиму, решившей верить всему, что говорили его представители. По большей части это были академические работники и писатели — клерки из «Измены клерков» (La Trahison des clercs) Жюльена Бенда; все сторонники прогрессивных дел и члены прогрессивных организаций, составляющие что-то вроде Брехтова непристойного хора в драме XX столетия. Готовые в любое мгновение ринуться на сцену, аплодируя и жестикулируя... западная версия ревностных поклонников Кришны, которые бросаются под колеса повозки громадного Джаггернаута.6
Энтузиазм туристов упорно сохранялся и по прибытии. Американец К. Уайт, живший в то время в Москве, писал о них:
Они с большим энтузиазмом относились ко всему, что видели, но это не всегда определялось логикой; этот энтузиазм возник еще до того, как они приехали, и сам визит только удваивал их убежденность. Одна школьная учительница из Бруклина побывала на экскурсии в газетную типографию. Она увидела машину, которая творила чудеса с подаваемой на нее бумагой. «Такое восхитительное изобретение могло быть сделано только в такой стране, как ваша, где труд свободен, нет эксплуатации и все работают ради одной конечной цели. Я напишу книгу о том, что смогла увидеть». Эта женщина немного смутилась, когда, зайдя с задней стороны машины, увидела табличку «Сделано в Бруклине, штат Нью-Йорк».7
182
Пол Холланлер
Те, кто считал СССР страной поистине благоприятных возможностей и свершений, были уверены, что их конкретные (а иногда и особенные) взгляды будут там востребованы. Иногда за уверенностью следовало разочарование: «и был один американец, который чувствовал, что вселенское спасение пролегает через коммунизм плюс эсперанто и питание всех людей орехами; он уехал, расставшись с иллюзиями, когда его предложения о большем потреблении пролетариатом ореха-пекана и отказе от мясной пищи были отвергнуты».8
Было много других, менее экзотических мотивов посещения Советского Союза. Согласно Льюису Фьюеру, определенная часть американцев отправлялась в Советский Союз на поиски вдохновения и особых лекарств для врачевания проблем, которые в их обществе маячили все отчетливее и казались в то время почти неразрешимыми:
Социальный работник был готов видеть в Советском Союзе своего рода пустой дом для целой нации, землю общественного здоровья и умственной гигиены; прогрессивный деятель образования был готов видеть советский эксперимент как школу-лабораторию национального масштаба, счастливо освобожденную от надзора университетских президентов и попечительских советов; религиозный лидер, который уже насмотрелся на то, как игнорируется и обсуждается Социальное Евангелие в Америке Кулиджа, вполне различал свидетельства собственного кредо в партии посвященных политических миссионеров, которые, несмотря на свой атеизм, были движимы явно бескорыстными эмоциями... крестоносец контроля рождаемости и либеральных законов о разводах, который находил, что ему чинили препятствия, а иногда сажали в тюрьму в его повязанной пуританами и ограниченной католиками Америке, видел землю, где сексуальная любовь была в заметной мере освобождена от оков; радикальные лидеры трудового народа, в памяти которых были свежи предписания судов, штыки милиционеров и дубинки полицейских, находили себя желанными гостями земли, политический вождь которой говорил с ними несколько часов и обращался к ним не иначе как «товарищи»; ученые-социологи чувствовали себя словно дома в обществе, которое направлялось их коллегами уче- ными-социологами, поставившими себе целью построить рациональный, планируемый мир.9
Юджин Лайонс, наблюдавший в то время за пилигримами прямо там, в Советском Союзе, тоже называл в своих комментариях множество сторон его привлекательности:
Прожженные капиталисты нашли зрелище по своему вкусу: ни забастовок, ни дерзости, тяжелая работа за хлеб и воду; а один пристальный взгляд на советскую фабрику излечивал их от страха русской конкуренции. Чувственные идеалисты обнаружили знакомые лозунги, детские ясли, образцовые тюрьмы, все больший и больший духовный подъем. Бледные защи гники бескровных убеждений — контроля рождаемости, эсперанто, новых календарей, равенства полов, тюремной реформы, больших семей, футуристических танцев, современного образования — нашли отдых от неуважительного отношения к себе. Каждый... кто считал себя просвещенным и передовым, направлялся в «Интурист» с приятной сердцу иллюзией, что большевизм — это новая, более величественная, не идущая ни на какие компромиссы богема.10
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
183
Такие пилигримы не смогли уразуметь, что советская система была пуританской, напряженно дисциплинированной и само- ограничиваемой, во всех отношениях нерасположенной к богеме или свободной самореализации, как это понималось западниками. От случая к случаю в связи с этим возникали проблемы:
Наконец-то здесь есть те, кто приехал почувствовать, что Советский Союз — это рай для бунтарей; такие люди, уставшие от буржуазного лицемерия или не удовлетворенные жизнью при капитализме, читали о Советской России и витали в мечтах. Одна молодая пара из Нью-Йорка продала все, чем владела, и поехала в Москву, чтобы «реализовать себя!»*... Они узнали, что щи и черный хлеб — довольно однообразная диета... Хуже того, жена заболела и через две недели ухитрилась угодить в больницу. Через три дня она отказалась принимать пищу и находиться в переполненной палате.
Между тем муж то и дело обнаруживал, что Советский Союз не таков, о каком он мечтал; восхваляя его социальные цели, он, пацифист... не одобрял крутые и целенаправленные меры, которые часто использовались для достижения этих целей. «Нам не нужна такая сентиментальность», — сказал ему один коммунист... Эта пара вернулась в Нью-Йорк...11
Американский историк-социолог Ричард Г. Пол подразделял симпатизировавших Советам американцев на три главные группы. Были такие, которых он называл «прирожденными бунтарями против всех типов тирании» (приводя в качестве примеров писателей, подобных Досу Пассосу и Эдмунду Уилсону); были те, кто неправильно определял советский режим как «современный вариант христианского братства» (группа, в которую им включены Уолдо Фрэнк и Грэнвилл Хикс); и, наконец, те, кто восторгался советской системой в значительной мере в результате ответной реакции на хаос и непродуктивность собственного общества.12
В целом имело место заметное сходство разных нужд и связанной с ними предрасположенности состоявшихся (и потенциальных) путешественников, с одной стороны, и целями советского правительства — с другой: «Позитивный образ, который желали распространить советские власти, был многогранным, — писала Сильвия Маргулис. — Было в нем что-то привлекательное для каждого. Рабочего Советский Союз влек к себе как революционная крепость, земля благоприятных возможностей, единственная обитель мирового пролетариата. Для интеллектуалов это общество стало гуманистическим... посвятившим себя прогрессу человечества. А для бизнесмена — преуспевающим обществом, жаждущим экономической кооперации с капиталистическим миром во взаимовыгодном согласии».13
Хотя советский режим старался из прагматических целей максимизировать свою привлекательность в различных слоях западной публики, такие усилия оказались наиболее успешными
Их духовным наследникам 1960-х гг. на пути к самовыражению было достаточно ввязаться либо в чисто отечественные эксперименты, либо ограничивать набеги в обетованные земли своего времени несколькими неделями.
184
Пол Холланлер
в среде интеллектуалов. В их глазах советская система выглядела противоречивой и все же непреодолимо влекла к себе. По словам Льюиса Козера, «восхищение Россией могло... одновременно соответствовать двум явно противоположным желаниям: страстному стремлению к порядку и столь же страстной поддержке революции».14 Тем не менее следует заметить, что подъем интереса к советской системе и ее одобрение частью интеллектуалов в начале 1930-х гг. имели место на фоне более солидного общего улучшения отношения к Советскому Союзу. Все более благосклонное восприятие этой страны в значительной мере держалось на экономических достижениях Советов или на том, что один тогдашний наблюдатель назвал «уважением и почтением к усилиям плановой экономики».15
Прежде чем перейти к более пристальному рассмотрению различных привлекательных сторон советского общества, я хотел бы дополнительно прокомментировать исключительно тесную взаимосвязь предрасположенности и восприятия. Не будет преувеличением утверждение, что большое число гостей, приезжавших в Советский Союз с волнующими позитивными ожиданиями, преуспели в обнаружении именно того, что ожидали и желали обнаружить.* Мы никогда не сможем узнать, что это за более могучая сила, формировавшая столь избирательное восприятие: внутренние побудительные мотивы и желания гостей или помощь, оказанная услужливыми хозяевами в выборе объекта для приложения эмоций. Эти два фактора обязательно взаимодействовали, но, как отмечалось ранее, без предрасположенности усилия официальных лиц по формированию впечатления приезжих оказались бы безуспешными. Связь предрасположенности и восприятия была настолько тесной, что в Союзе переоценивалось и переопределялось даже увиденное или испытанное лично,
Удивительно малое число паломников прилагало усилия для организации защиты против приемов радушия или выказывало осознание проблемы контрастирующей или колеблющейся перцепции, над которой размышлял венгерский писатель Бела Иллиш в своем географическом фильме, относящемся к началу 1930-х гг.: «Разум путешествующего по России, из какого бы места он ни приехал, оказывается в плену подозрительности, и ко времени пересечения границы у него вырабатывается устойчивый потемкинский комплекс... Первый симптом этого комплекса состоит в том, что временами глаз превращается в линзу, которая делает из мухи слона, тогда как в другие моменты может превратить корову в крота...
...Вначале вы таращитесь с расширенными зрачками на что-то потрясшее вас, но почти незаметное, а затем всматриваетесь, пока оба превращения не появляются одновременно: одно зрелище приятно на вид и выглядит добротно скроенным, другое имеет отталкивающий вид и, похоже, вот-вот рассыплется. Этот мираж можно переносить в реальность, а фотография потрясшего вас зрелища может оказаться либо одного, либо другого сорта в зависимости от того, публикуется она в воскресном приложении к антикоммунистической или коммунистической газете».16
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
185
что в любом другом контексте было бы воспринято как непривлекательное и маловажное. Юджин Лайонс писал по прибытии в Советский Союз в 1928 г.: «Ни выглядевшая заброшенной станция, ни холод, ни темнота не могли погасить наш настрой на встречу с ожидаемым... Где-то в другом месте подобная обстановка могла бы подавлять. Здесь она казалась нам романтически пролетарской...».17 В том же духе выражала свое ликование Анна Стронг, приближаясь к границе Советов в 1921 г.: «Истощение, паразиты, дизентерия были родовыми муками, несущими радость, пересечение границы ожидалось, как вхождение в хаос, где рождался новый мир».18
В то время как убогость и унылость иногда переопределялись как нечто восхитительное и бодрящее, в других случаях наблюдателя приводило в восторг что-то совершенно ординарное, чему в собственной стране он уделил бы мало внимания или не уделил бы вовсе. Так Джулиан Хаксли нашел необычайное удовольствие в созерцании толп людей летом во время уик-энда на Москве-реке и даже ухитрился наделить их чертами физического превосходства над своими соотечественниками: «Вся [сцена] выглядела простой, естественной и приятной взгляду, но, вероятно, такое зрелище не станет приятным в Англии, пока телосложение среднего мужчины и женщины не достигнет тех же физических данных, которыми обладают русские».19 Такое восприятие и подобные сантименты подкрепляют известное наблюдение: путешествие, как приключение и источник бодрости, не только открывает возможность обнаруживать что-то необычное, но и превращать ординарное в нечто выдающееся. Многие интеллектуалы, которые посетили Советский Союз в 1930-е гг., преуспели в трансформациях такого рода. Уолдо Фрэнк обнаружил достоинства в одном русском поезде, которые был бы не в состоянии найти в таком же железнодорожном составе, курсирующем по капиталистическим рельсам: «Есть что-то трепетное в русском поезде, стоящем на станции... Небольшой локомотив — это человеческое существо.* Закопченные вагоны тоже человеческие существа...». В вагонах этого волшебного поезда тоже нашлось нечто, вызвавшее у него экстаз: «Купе было грязным, всюду отбросы пищи, разлитая вода, пропитанная влагой сажа; одежда и мешки в беспорядке лежали на полу... воздух был насыщен
* Возможно, обаяние паровых машин подвигло его не только на идеологическую трансформацию целей и взглядов, но и дало ощущение понесенной американцами утраты непосредственного опыта общения с подобными машинами, которые они заменили менее романтическими дизельными локомотивами. Доброжелательно настроенные путешественники в Китай начала 1970-х гг. тоже восторгались поездами, а в революционной Кубе Ле-Рой Джонс отмечал, что «все в этом поезде, казалось, разговаривали возбужденно и каждый пережил какое-то бурное время».20
186
Пол Холламлер
табачным дымом». Монотонная работа на фабрике тоже становилась поводом для ликования полного энтузиазма наблюдателя, если он был не из рабочих: «Эти рабочие счастливы, потому что они полноценные мужчины и женщины... Мечта, мысль, любовь соединяются в утомительном изготовлении электрических деталей, поскольку эти труженики работают не на какого-нибудь босса — даже не ради жизненных благ».21 Юджин Лайонс поделился наблюдением: «БОКС [Всесоюзное общество культурной связи с заграницей] продает великолепие массового производства какой-то паре калифорнийских чудаков, помешавшихся на возврате к природе и ручных ткацких станках... Вегетарианцы... падают в обморок в восторженном экстазе от советских скотобоен».22
Избирательное восприятие в комбинации с психологической проекцией позволяло почти полностью отрицать то, чем была объективная реальность. То, что происходило, было не столько прямым искажением реальности — в конце концов Уолдо Фрэнк не заявлял, что купе железнодорожных вагонов были чистыми или что изготовление электрических деталей не было утомительным занятием, — но скорее переосмыслением ситуаций или событий в определенном контексте, который, как предполагалось, наделял все окружающее новым смыслом. Такие контекстуальные переопределения облегчали, в свою очередь, селективное восприятие. Так, Корлисс и Маргарет Ламонт смогли примириться с проявлениями милитаризма в советских детских садах: «Разве при становлении социалистического государства все это не может иметь несколько иной аспект?».23 Фейхтвангер в том же духе приписывал советскому народу природное долготерпение: «Граждане Москвы обычно, если не всегда, добродушно отшучиваются по поводу второстепенных неудобств, но они и не подумают позволить этим недостаткам ослепить себя в отношении более серьезных вещей, которые сама жизнь в Советском Союзе только и может предложить...».24
Доброжелательная предрасположенность и ассоциируемое с ней избирательное восприятие были не единственным объяснением ошеломляюще благосклонных отзывов паломников. Имело место еще и мощное давление опасения, что будь их обзоры неодобрительными, им автоматически (и «по объективным причинам») пришлось бы оказаться в одной шеренге с силами реакции и зла собственных стран, — опасение, которое продолжает преследовать часть либеральных интеллектуалов и окрашивать их публичные суждения о мнимо социалистических режимах даже в наши дни. Вспоминая интеллектуальный климат того времени, Дос Пассос писал: «Другим препятствием [для правдивых репортажей из Советского Союза в конце 1920-х гг.] был страх написать
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
187
что-нибудь такое, что могло быть подхвачено на Западе антисоветской пропагандой. Это был период, когда американский капитализм казался более опасным для русского эксперимента, чем что- либо иное». (Несколькими десятилетиями позднее те же мотивы не позволили поклоннику Кубы немцу Гансу Магнусу Энценсбер- геру опубликовать критический отчет о своем визите,25 так же как в свое время не смог этого сделать Гарсиа Маркес.)
Луис Фишер предложил другое знакомое объяснение подобных позиций: «Почему, вместо того чтобы держать язык за зубами, я не выступил в 1937 или 1938 г. с критикой советского режима? Не так легко отбросить представление, которого придерживался в течение пятнадцати лет. Кроме того, в 1938 г. международная политика советского правительства была миротворческой и антифашистской, причем более эффективной, чем английского, французского или американского правительств. Советский Союз помогал Китаю... Он помогал Испании оружием в борьбе с нацистами и Муссолини. Он вдохновил Чехословакию на занятие твердой позиции... Я сомневаюсь, что стоило бросать в публику камни...».26
Выражение критических позиций по отношению к Советскому Союзу тормозилось не только такими тактическими соображениями — то есть тем, что это могло бы сыграть на руку врагам прогресса и наиболее рьяным критикам советской системы, — но, как отмечалось ранее, и более размытой позицией сдержанности, особенно заметной среди американцев, поскольку она предопределялась преследующими их дурными предчувствиями в отношении собственного общества. Генри Т. Ходжкин разъяснял эти позиции примерами и убеждал, «что, вероятно, нельзя ограничиваться только порицанием насильственных и ужасных мер, используемых для становления большевистского режима. Можно обнаружить достаточно зла, и не пытаясь разглядеть его по ту сторону Атлантического или Тихого океанов».27, *
Следует также напомнить, что еще одну привлекательную сторону поездок в Советский Союз (как позднее в Китай и на Кубу) можно обнаружить в комбинации самых обыкновенных мотивов (например, тяга к перемене мест, беспокойство, жажда приключений и т. п.) с более серьезной целью, то есть желанием ознакомиться с новой системой правления и формами социальной организации. Последнее было особенно интересно для образованных и серьезно мысливших американцев, поскольку вполне соответ¬
* По этому поводу можно заметить, что ни подобное ограничение, ни самокритичная сдержанность не рекомендуются писателями вроде Ходжкина, когда они выражают ощущение подлинного морального возмущения «насильственными и ужасными мерами» в других частях мира.
188
Пол Холланлер
ствовало характерному для них чувству долга. Возможность сочетания серьезной цели с удовольствием облегчала потворство самому себе или выбор необычной ситуации, вроде комбинации обеда с шахтерами и лекции для них о болезнях легких либо целого дня на пляже с выездной лекцией на близлежащем рыбообрабатывающем заводе (во время поездок в Советский Союз и другие страны подобные комбинации организовывались в большом количестве).28 Вероятно, эта позиция отражала также почитавшуюся в то время склонность американцев сочетать бизнес с удовольствием, радости отпуска с собиранием социологической информации, осмотр достопримечательностей с занятиями статистикой. Такой подход благополучно процветает и поныне.
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И РАВЕНСТВО
Хотя многообразные привлекательные черты советского общества обладали тенденцией сливаться в глазах визитеров, некоторые выделялись как заслуживающие общественной похвалы и внимания.
Вероятно, социальная справедливость и равенство (их воспринимали либо как уже достигнутые, либо как близкие к достижению) были наиболее уважаемыми завоеваниями режима. Имело место широко распространенное единодушие в отношении того, что если где-то еще можно обнаружить остатки неравенства, резкое несоответствие богатства и бедности, которое так ужасно и так глубоко оскорбляло интеллектуалов в западных обществах, то в Советском Союзе оно исчезло. Эдмунд Уилсон сообщал:
Постепенно приходишь к осознанию того, что хотя люди одеты мрачновато, здесь мало или вовсе нет различия; в городе нет щегольских компаний, совсем нет деградирующих групп населения. На улицах нет никаких шокирующих зрелищ: ни потерявших абсолютно все, ни страдающих ужасными болезнями, ни пожилых людей, копающихся в кучах мусора.
Я так и не смог обнаружить ничего похожего на трущобы или хотя бы один грязный жилой квартал.29
Теодор Драйзер писал: «Здесь нет ни показухи, ни роскоши. [В Советском Союзе]... вы увидите тысячи тех, кто сравнительно бедно одет, на десяток — самое большее на сотню — тех, кто одет хорошо. И все же, вообще говоря, ощущение благополучия определяется просто отсутствием того навязчивого ощущения нищеты и полной безысходности, которое так тревожило меня в Западной Европе и Америке. Здесь этого ощущения нет. Да, в Москве есть нищета. На улицах есть нищие... Но, Боже, какие колоритные! Как многоцветны и роскошны их лохмотья!».30
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
189
Отсутствие явных различий между социальными слоями воспринималось как равнозначное сердечности отношений внутри общества, особенно приезжими из обществ с резко обозначенной стратиграфией, подобных Англии, где манера говорить и одеваться отражала социальное положение. Американцы, более приученные к неформальности и малым внешним различиям в своем обществе (не соответствующим, однако, реальности громадных различий в богатстве и определяемому этим богатством положению в обществе), особенно ценили отсутствие бросающегося в глаза культа потребления и демонстрации того, что ассоциировалось с борьбой за более высокий общественный статус. С любой точки зрения уравнивание положения, возможностей и вознаграждения было заметным, и визитеров глубоко трогала мысль, что они сталкивались с исторически новой и уникальной попыткой покончить с неравенством преднамеренно и целенаправленно. Даже когда наблюдалось что-то такое, что выглядело остаточным неравенством, гостей не покидала глубоко прочувствованная убежденность в том, что — подобно любой другой живучей слабости или недостатку — в советском обществе это тоже обречено на отмирание.
Озабоченные равенством и социальной справедливостью, многие визитеры разглядели такую концепцию человеческой природы, которую находили весьма уместной и полагали воодушевить ею руководство Советов. Английский квакер Д. Ф. Бакстон писал:
...По-настоящому фундаментальное изменение позиции по отношению к человеческой природе иообще. Коммунистический взгляд на природу человека кажется мне в значительно большей мере вобравшим в себя понятия Веры, Надежды и Любви, чем наш собственный. Для них первопричиной зла... является яд богатства, которое сводит на нет естественные инстинктивные стремления человека к братству. Как только какое-то Государство избавляется от влияния этого извращения на своих граждан и при этом гарантирует определенный уровень образования, все могут быть уверены в получении равных прав. Убежденность в незапятнанности человеческой природы не позволяет коммунистам поверить в своекорыстие как обязательный мотив, который один только и в состоянии поддерживать ход экономической машины.31
Бакстон (подобно многим другим) особенно остро чувствовал: «Там было полное и (по моему разумению) благостное отсутствие всяких низкопоклонников и низкопоклонства. Фактически там был один стандарт манер, а не несколько... С исчезновением высшего класса в России исчезли также и причуды моды. Единственный класс, который остался, есть великий класс „народ“». Он очень расхваливал эгалитаризм руководителей:
Как пример побудительных мотивов нового порядка самоограничитель- ное постановление Коммунистической партии по вопросам заработной платы является знаковым.
190
Пол Холланлер
...Простая, не бросающаяся в глаза жизнь руководителей России представляет собой заметное продвижение к реальной цивилизации — реальной, потому что она базируется на более просвещенной интерпретации человеческой природы как в отношении нужд, так и способностей; интерпретации, которая, между прочим, также и более христианская.32
Теодор Драйзер в тот же период тоже расхваливал скромность и ограниченность в денежных средствах советских руководителей:
Квартира Ленина в Кремле... вероятно, являет собой классический пример простоты и умеренности правителей России нынешних дней. Однако Ленин был в этом не одинок. Большинство руководителей живет в простых гостиничных номерах или однокомнатных квартирах в Кремле.
Господин Сталин... получает 225 рублей в месяц (около 112 долларов) плюс имеет трехкомнатную квартиру в Кремле... Не больше и... Чичерин, министр иностранных дел. Луначарский, министр образования... тоже получает не больше! Я действительно не смог найти никого ни на одном высоком посту, кто получал хотя бы на пенни больше... А среди коммунистических рабочих мне не удалось обнаружить никого, кто зарабатывал бы меньше 50 рублей, причем тысячи и тысячи из них получали по 150, 175, 200, 225 рублей или больше!33
Эгалитаризм не ограничивался скромными заработками руководителей; он также обнаруживался в отсутствии официозности и теплоте общения советских служащих. Американский коммунистический писатель Джозеф Фримэн по прибытии на борт грузового судна в Баку (в 1926 г.) был удивлен поведением советского представителя, который спросил:
«Хорошо ли прошел рейс?» Мы обменялись взглядами. Этого не было в Константинополе. Такое не могло произойти ни в одном другом порту. Контролирующие официальные лица никогда не приходили на бак поболтать с членами экипажа. Этот же, к нашему удивлению, интересовался нашим здоровьем, тем, как прошло путешествие, нашими заработками, продолжительностью рабочего дня, условиями работы, качеством питания, спрашивал об общей ситуации в нашей стране, американском рабочем движении.34
Здесь следует заметить, что такие комментарии части ранних визитеров в Советский Союз основывались не только на их неправильном восприятии и интерпретации советских социальных реалий и официальной политики, но также и на существовавших пережитках революционного эгалитаризма, которые еще можно было обнаружить во второй половине 1920-х гг. Новая и хорошо определенная система расслоения, которая обрела окончательную форму в начале 1930-х гг., еще не была вполне различимой. Между тем почти на всем протяжении 1920-х гг. западные визитеры были в состоянии проецировать эгалитарные мечты и помыслы на советское общество с большей легкостью и меньшим самообманом, чем это стало возможно в последующие годы. И наоборот, с начала 1930-х гг. отрицание неравенства требовало большей изобретательности; проявления нового неравенства приходилось переопределять и толковать с большей решимостью, чем было необходимо прежде. Так, например, Хьюлетт Джонсон, остававшийся
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
191
поклонником Советского Союза всю жизнь, признавал (в 1940 г.), что неравенство доходов существовало, но не было в свое время разоблачено им, поскольку это неравенство базировалось на «тщательно продуманном плане» и действовало как побудительный стимул. Он ощущал уверенность в том, что такая дифференциация не могла привести к «установлению классовых различий».35 Фейхтвангер тоже разобрался в существовании неравенства, но находил его проявления «крайне разумными», базирующимися на принципе «каждому по достигнутому результату».36 Гарри Ф. Уорд, профессор христианской этики нью-йоркской семинарии, и другие давние друзья советского режима тоже находили немало аргументов для оправдания различия доходов в Советах. Во-первых, это различия переходного периода. Во-вторых, они шли на благо обществу. И, наконец, работа в Советском Союзе выполнялась на пользу (по определению) обществу в целом. Следовательно, чем больше работы и выше ее качество, тем это выгоднее для общества. Последнее, в свою очередь, оправдывало принцип более высокого вознаграждения за более производительный труд. В общем, ничего страшного, ведь нападки Сталина на мелкобуржуазный эгалитаризм «в достаточной мере подкреплялись цитатами из Маркса и Ленина». Кроме того, «...стимул повышенного денежного вознаграждения... в социалистическом обществе, где общественное неодобрение обрушивается на „хапугу“ более тяжелым грузом, чем в капиталистическом мире, работал по-другому». Уорд даже ухитрился оправдать введение платы за обучение и ограничение стипендий, что некоторые люди ошибочно считали «сужением возможностей». Это тоже было «временным средством», запланированным «для повышения среднего образовательного уровня и искоренения некомпетентности». Простая разгадка, как ни старайся возразить, состояла в том, что как бы упорно кто-то ни старался противиться, система была сконструирована так, чтобы работа оказывалась выгодной обществу, тогда как антиобщественным проявлениям в полном смысле слова не находилось выхода: «В общем, ситуация в Советском Союзе предлагает возможности удовлетворения честолюбия только на условиях служения обществу. Она соблазняет на творческий авантюризм: дает шанс стать первооткрывателем в деле улучшения человеческой организации... Молодежи предлагает удовлетворение ее общественно оправданных амбиций без необходимости карабкаться по карьерной лестнице, топча менее способных. Эта лестница упразднена насовсем. Все поднимаются вместе или не поднимается ни один».37 Апологеты нового неравенства редко возражали, если вообще возражали, против того обстоятельства, что коль скоро дифференциация доходов должна вводиться как стимул для достижения боль-
792
Пол Холланлер
шей продуктивности или как вознаграждение за приобретение более высокой квалификации, то морально-духовные или ориентированные на служение стимулы очевидно не обеспечивают достаточную мотивацию более упорного труда или, в более общем смысле, мотивацию усердия на благо обществу. Оправдания советского неравенства частью симпатизировавших Советам интеллектуалов шли в кильватере официальной правительственной линии, что было равнозначно принятию советской версии балльной системы оценок. То обстоятельство, что столь многие визитеры оказались способными сохранить свой энтузиазм по отношению к советскому режиму даже после возрождения расслоения в советском обществе, еще раз показывает, что совесть многих западных интеллектуалов беспокоило попрание чего-то иного, а вовсе не неравенство как таковое. Скорее их беспокоило плохое оправдание неравенства, не преследующего какую-то весомую цель, такого неравенства, против которого они выступали в своем обществе.
Для солидного контингента этих визитеров общественная собственность на средства производства (или то, что называлось общественной собственностью, то есть государственный контроль) была достаточной гарантией социальной справедливости и прочным фундаментом для построения эгалитарного общества. И в 1932 г. Джулиана Хаксли по-прежнему не покидало ощущение, что социальная справедливость воплощалась в жизнь в «системе, где результаты труда идут, главным образом, на подъем общего уровня благополучия, а не растекаются по частным каналам...».38 Интеллектуалы, симпатизировавшие Советам, не коле- баясь, ставили знак равенства между этими новыми формами контроля над экономикой и ощущением массами своего господства и участия в принятии решений. Джозеф Фримэн писал:
Здесь, где предполагалось, что индивид подчиняет себя групповым интересам общества как целого, человек фактически нравственно вырастал до размеров чего-то большего, чем был в действительности. За исключением остатков бывших привилегированных классов, каждый действовал так, как если бы общее благо было его личной пользой, как если бы его личные трудности могли быть разрешены победой над общими трудностями. Дома, в Америке, «средний» человек — рабочий, фермер, канцелярский наемный работник... — презираем и отвергаем; у него нет реального голоса в управлении национальной экономикой или общественными делами... Здесь «средний» человек ощущает себя хозяином всего...39
Эдмунд Уилсон тоже чувствовал, что «здесь гуляющие в парке люди действительно считают его своим и заботятся о нем, как о своем парке. В умах этих толп поселился новый сорт общественного сознания...». И далее: «Толпы двигались подобно медленным потокам воды — не напрягаясь, не тревожась, как наши люди, не противясь какому-то чуждому окружению; они вели себя так, будто им принадлежал целый город...».40
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
193
Александр Уикстид, английский гость того периода, имел идентичную точку зрения: «Впервые в истории обыкновенный человек чувствует, что страна принадлежит ему и что нет привилегированного класса его хозяев». Его тоже восхищало отсутствие различий:
Далее я хотел бы упомянуть полное равенство, которое каждый обнаруживает в России... в экономической плоскости марксистский идеал бесклассового общества, возможно, так и останется чем-то из будущего, но его социальная сторона уже реализована до такой степени, что это чудесным образом освежает любого англичанина демократических устремлений.41
Итак, было множество способов разобраться с проблемой неравенства, которые зависели от конкретного периода времени и изобретательности наблюдателя. В 1920-е гг. неравенство трактовалось как еще остававшееся наследие прошлого; в 1930-е (и позднее) как некие временные меры, вводившиеся с прагматическими целями. В любом случае, допускавшееся неравенство было совместимо с отсутствием чинопочитания, социальной справедливостью, добрым товариществом, ощущением общности, отсутствием классовых различий и классового антагонизма. Неравенство смягчалось также чувством национального единства и постоянным стиранием граней между общественными и личными интересами. Легенд об общественном духе советского гражданина были легионы, так же как сказок о принесении себя в жертву на алтарь мирного строительства, а позднее на алтарь противостояния фашистскому нашествию. (Мы знаем, например, о «добровольных» пожертвованиях Красной Армии — кампании, почин которой, среди других, дал пчеловод Ферапонт Головатый, пожертвовавший сэкономленные за всю жизнь 100 000 рублей на постройку самолета».)42
Другим важным компонентом социальной справедливости была гарантия занятости. Вряд ли стоит удивляться, что отсутствие безработицы должно было впечатлять визитеров, которые насмотрелись на ее разрушительное действие в Соединенных Штатах и Западной Европе. Корлисс и Маргарет Ламонт разглядели взаимосвязь между полной занятостью и нежеланием советских рабочих откладывать какую-то часть своего дохода на «черный день»: «В самом деле, зачем русским сбережения, если они не боятся безработицы и если все общество целиком торжественно клянется заботиться о них и их семьях в случае болезни и в пожилом возрасте?»43 (Они не принимали во внимание другие возможные интерпретации этого феномена, такие как слишком умеренные заработки советских рабочих, не позволявшие что-то откладывать впрок.) Фейхтвангер комментировал это как «спокойную уверенность [гражданина] в том, что государство здесь действительно принадлежит ему, а не он государству».44
794
Пол Холланлер
Выгодные эффекты столь основательной безопасности не оставались для визитеров незамеченными. Уорд, поговорив со многими, пришел к заключению: «Те, кто вырос в советской стране, никогда не знают страха, который тенью следует за людьми на дорогах хищнического сообщества... Этот обзор показывает, что люди, которые выросли без мучительного страха перед опасностью остаться без работы, без свободы, радости и такой власти, которой просто не может быть, когда естественное стремление человека творить ограничивается страхом и нуждой».45
Канадский ученый Дайсон Картер делился такими раздумьями о благодатной судьбе тех, кто достиг в Советском Союзе преклонного возраста:
Возможно, мы должны называть советских стариков вторым привилегированным классом. [Первым он считал детей]. Тем, кто отошел от активной жизни, предоставляется всяческая забота и комфорт. Введением пенсий для всех страх нищеты в преклонном возрасте уничтожен полностью. Для больных и немощных здесь есть дома отдыха и санатории, располагающиеся в красивейших местах. Для тех, кто по-прежнему чувствует себя молодым телом и умом, здесь есть досуг для наслаждения бесконечным множеством впечатлений в разных местах могущественной новой земли Советов.
Заключение к размышлению о триумфе социальной справедливости и материальной безопасности он облек в следующие слова:
Никаких разграничительных линий по цвету кожи, никаких «грязных иностранцев», никаких омерзительных перенаселенных трущоб, никаких оставленных без присмотра заболеваний, никаких криминальных пороков и проституции, никакого пожизненного тяжелого труда под вечной тенью отсутствия гарантии занятости... Советы устранили все эти виды зла...46
Популярность советской системы среди церковных деятелей и квакеров была одним из парадоксов того времени не только по той причине, что от слуг Господа и этих набожных святош следовало бы ожидать сочувствия к жертвам политических репрессий, но также и вследствие того, что им не пристало восторгаться режимом, которой посвятил себя словом и делом искоренению религии. И в данном случае опять-таки вера в достижение Советами социальной справедливости помогала смотреть сквозь пальцы на какие угодно проблемы, создаваемые антирелигиозной установкой режима. Хьюлетт Джонсон был одним из многих подобных слуг Господа, которых непреодолимо тянули к Советскому Союзу его материальные успехи. Они с энтузиазмом изображали социальную систему этой страны как такую, которая, несмотря на свою открыто нерелигиозную природу, подошла к идеалам христианства ближе, чем западные общества, где признание религиозных ценностей — лишь пустые слова:
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
/95
В основе эксперимента, проводимого на шестой части суши Земли, лежит новая организация экономической жизни, базирующаяся на четко определенных принципах, которые всем понятны и с радостью принимаются всеми... Наша система теряет моральный базис... Это приводит... к фатальному расхождению между принципами христианства и практикой христианских народов, которые так привлекает религия... В этом моральный аспект современного экономического общества. Его научный аспект — совершенно нерациональное обесценивание богатства, искусственно вводимые нехватки, нищета посреди изобилия... Противоположность этому взгляду на организацию экономической жизни представляет собой Советский Союз, где кооперация заменила хаос конкуренции, а план пришел на смену буйству беспорядка... Общность, а не добываемые своекорыстием личные места в центре картины... благополучия класса или классов избранных. Исключение мотива выгоды уступило место более высокому мотиву служения... Новый подход к человеческой жизни является естественной неотъемлемой частью новой экономической морали. Индивиды — все индивиды — становятся конечными целями, оставаясь также и средствами. Развитие человеческого потенциала каждого индивида получает самые полные благоприятные возможности и воодушевление...47
Это утверждение Джонсона типично для многих симпатизировавших Советам западных визитеров — как церковных деятелей, так и тех, кто не имел к церкви никакого отношения.* Характерной чертой таких заявлений является комбинация прославления советских достижений с выражением сильного чувства стыда за дефекты западных обществ. (Те же базисные позиции дожили, нимало не изменившись, до 1960-х гг., хотя в это десятилетие величальные голоса звучали в адрес других стран.)
Те, кто смотрел на Советский Союз как на самое выдающееся современное воплощение социальной справедливости, одним из самых важных считали вопрос о материальных нуждах и особенно о недостатках продуктов питания. Трудно достичь социальной справедливости в обществе, в котором превалируют эти уродливые явления и в котором проблематично удовлетворение насущных жизненных потребностей. Многие приезжали в Советский Союз, чтобы развеять «неверную информацию» о неурядицах, упоминавшихся в западной прессе в 1920-е и 1930-е гг., хотя их истинные размеры в то время не были известны даже диктаторам Советского Союза.48 Не удивительно, что гости не имели возможности на собственном опыте ощутить дефицит материальных благ. Примером такой предрасположенности к Советскому Союзу в этом аспекте был жест Дж. Б. Шоу, который «...прежде чем пересечь советскую границу... выбросил из поезда запас провизии, потому что был, якобы, уверен, что никаких нехваток
* Отказом номинально признать антирелигиозную цель советских заявлений Джонсон и другие предвосхитили тенденцию, особенно явно проявляющуюся в наши дни среди сторонников ослабления напряженности, а именно, восприятие советских выражений угрозы в адрес США и других западных обществ как « риторических ».
196
Пол Холланлер
в России нет».49, * На Джулиана Хаксли «произвело впечатление, что население вовсе и не голодает, а уровень физического и общего здоровья даже выше, чем в Англии».51 Фейхтвангер обнаружил громадное разнообразие продуктов питания, доступных и по низким ценам, и «людей с умеренными доходами, проявляющих нежданное гостеприимство с поразительной щедростью».52
Луис Фишер, как журналист информированный лучше, но не меньше симпатизировавший советской системе, делился своими наблюдениями более осторожно. «Сколь бы ложным ни было впечатление, можно утверждать, что никто не голодает. Однако население всей страны страдает от низкого качества продуктов питания и отсутствия разнообразия». Он также отмечал: «Несмотря на повсеместную нехватку материальных благ, русские теперь меньше жалуются на условия жизни, чем прежде».53 Он воздерживался от размышлений о любой другой причине меньшего недовольства русских условиями жизни, как и о любых других делах начала 1930-х гг.
Существование проблемы голода — а в более общем плане неспособности режима удовлетворить насущные материальные нужды населения в начале 1930-х гг. — подтверждается большим количеством примеров и неправильного восприятия реальности частью визитеров и умением режима скрывать существо дела. Малькольма Магериджа следует отнести к горстке тех сторонних наблюдателей, которые обнаруживали острую нехватку продуктов питания и сообщали об этом в то время. (Он был одним из немногих симпатизировавших в тот период Советам, чья благоприятная предрасположенность не была подорвана тем, что пришлось пережить на собственном опыте, живя в Советском Союзе. Будучи корреспондентом «Manchester Guardian», он, несомненно, провел там больше времени, чем основная часть паломников,
* Юджин Лайонс, находившийся в это время в Советском Союзе, тоже вспоминал этот знаменательный эпизод и реакцию на него в Советах: «Зрелище выбрасываемых в Польше доброкачественных английских продуктов [он сделал это до пересечения советской границы] было осмеяно регулярно недоедавшими зрителями. Шоу слушали с изумленно открытыми ртами... Еще не добравшись до России, Шоу уверял их, что, как ему доподлинно известно, все эти разговоры о трудностях с продуктами питания — пустая болтовня. Зачем ему было затариваться продуктами? И уже в Москве... во время завтрака в ресторане „Метрополь“ на следующий день миссис Уильям Генри Чемберлен [жена другого постоянного корреспондента] заметила Шоу, что русские огорчены его поспешностью; они считают, что он мог подождать и выбросить свои продукты на советской земле. Шоу оглядел ресторан и лукаво спросил: „Где вы видите нехватку продуктов питания?“ Миссис Чемберлен попыталась растолковать ему существо дела. „У меня есть четырехлетняя дочь, — сказала она. — Как иностранка я могу купить необходимое ей количество молока, но будь я на молочном рационе русских, моя маленькая девочка страдала бы ужасно“. „Почему же вы не кормите ее грудью?“ — отпарировал Шоу. „Но ей четыре года, она для этого слишком большая...“ „Вздор! Одна эскимоска кормила своих детей до двадцатилетнего возраста“».50
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
197
но и на таких, как Уолтер Дюрант, Луис Фишер или Анна Луиза Стронг, длительное пребывание в СССР повлияло мало.) Маге- ридж писал:
...Я останавливался во время поездки несколько раз и никогда не смогу забыть то, что видел. Это был не просто голод... Это особое испытание голодом было запланированным и преднамеренным; он возник не из-за какой-то природной катастрофы вроде отсутствия дождей, урагана или наводнения. Административный голод принесла принудительная коллективизация сельского хозяйства; набег на деревню партийных аппаратчиков — настоящих мужчин, с которыми я так любезно болтал в поезде, — поддержанных хорошо вооруженными отрядами военных и милиции...
Пока это происходило, ни один другой зарубежный журналист не побывал в голодающих областях СССР, не считая поездок под официальным покровительством и наблюдением, так что мой репортаж следует считать эксклюзивным.* Он не принес мне признания, но дал повод для множества обвинений во лжи... Для получения официального признания мне пришлось... дожидаться появления Хрущева. То, о чем я сообщал, действительно не дотягивало до того, что было заявлено им. Если этот вопрос остается спорным до сих пор, то громким голосом с другой стороны можно считать выступление Дюранта, освещенное в «NY Times», где он настойчиво твердил об амбарах, переполненных зерном, этих краснощеких доярках и полновесных коровах, не упоминавшихся ни Шоу, ни другими выдающимися визитерами, которые свидетельствовали, что в СССР не было и не могло быть недостатка продуктов питания.55
Однако находились и такие, кто мог согласиться с возможностью голода как еще одной временной необходимостью или временным отступлением. Морис Хиндус, американский писатель и один из первых специалистов по Советскому Союзу, писал:
«А если в России голод, —■ продолжал мой собеседник, американский бизнесмен, — ...что будет тогда?» «Люди будут умирать, конечно», — ответил я. «А если вымрет три или четыре миллиона человек?» — «Революция будет продолжаться».56
Анну Луизу Стронг, занимавшую должность штатного пропагандиста советского правительства (она писала и редактировала как для зарубежного, так и для внутреннего использования), обуревали сомнения по поводу запрета сообщений о голоде: «Я высказала протест Бородину. „Почему все набрали в рот воды? Любой коммунист, при котором заговариваешь о голоде, бросает на тебя такой взгляд, будто ты говоришь об измене... Почему мы не позволяем освещать факты?“».57 Она, очевидно, была убеждена, что ее «журналистская страсть говорить о конкретных вещах» не обладала приоритетом над интересами партии.
Для интеллектуалов, симпатизирующих Советам, до сих пор остается пунктиком веры тезис о том, что Советский Союз подни¬
* Юджин Лайонс достаточно пространно обсуждает это под заголовком «Корпус прессы скрывает голод», глава 15 книги «Командировка в Утопию».
Другое редкое замечание о голоде принадлежит Хомеру Смиту, американскому негру, который имел тогда статус временного переселенца в СССР. Он сообщил об своих наблюдениях «из первых рук» в книге, опубликованной по возвращению в США.54
198
Пол Холланлер
мал уровень жизни всего населения способом, не имевшим параллелей в истории, и этот способ, даже если он не вполне укладывался в рамки эгалитаризма, позволял строить социальную справедливость, обеспечивая адекватный минимум благосостояния и равенство возможностей для всех. Хотя западные интеллектуалы, плененные советской системой, в наши дни не многочисленны и не громкоголосы, от предшественников в них осталась упорная настойчивость в верности этим посылкам. Так, например, Рут Эпперсон Кеннелл, которая выполняла роль гида Теодора Драйзера в 1920-е гг., писала в 1969 г., что «их [Советов] социалистическое общество обеспечивает некий уровень жизни для всех людей, и этот стандарт приближается к среднему уровню американской семьи среднего класса — без крайностей богатства и нищеты».58
ОЩУЩЕНИЕ ЦЕЛИ И ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ ЦЕННОСТИ
Среди главных привлекательных черт советского общества ощущение цели и поддерживающие его общественные ценности предстают почти как равные по важности социальной справедливости и эгалитаризму. Привлекательность целенаправленности и единства ценностей была в значительной мере аполитичной и духовной. Нет ничего удивительного в том, что советская система обладала определенными привлекательными чертами духовного характера и что привлекательность этой (и других) особенности советского общества достигла кульминации в то время, когда западные общества сотрясал скорее экономический, нежели духовный кризис, когда противоположная модель советского экономического рационализма производила самое благоприятное впечатление.
Здесь нам снова необходимо вспомнить, что реакция визитеров на привлекательность советского общества была избирательной и определялась она как индивидуальной впечатлительностью, так и профессиональной ориентацией. Скажем, ученых, экономистов и инженеров определенно меньше трогали привлекательные черты духовного свойства, их в большей мере впечатляло планирование, очевидное рациональное использование ресурсов и способность режима практически решать проблемы. Тем не менее, даже признавая различие подходов, мы не должны забывать, что для большинства визитеров материально-экономические достижения, важные сами по себе, означали нечто более глубокое и указывающее на первостепенное достижение «советского эксперимента», а именно, на построение общества, проникнутого связанными воедино и поддерживающими его ценностями, а также ощущением цели, без которой, как они чувствовали,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
199
гигантская поступь экономики была бы невозможной. Как экономический кризис Запада был неотделим — в глазах интеллектуалов — от кризиса ценностей и верований, так и советские экономические достижения казались единым целым с устойчивой системой ценностей. Вот как выразил это Луис Козер:
Возможно, не сама экономическая депрессия стала причиной недовольства интеллектуалов, а сопровождавшее ее отсутствие социального порядка. Нить времен была разорвана и, казалось, никто не в состоянии соединить ее концы вновь. Многим интеллектуалам представлялось, что западный мир лежал в дрейфе, не имея ни плана, ни руководства, ни цели. Депрессия сделала очевидным крушение исходных предпосылок и ценностей Запада. Все здание либеральной цивилизации... казалось, вот-вот рухнет. Что проку во всем этом каркасе гарантий для индивида, в заботе о верховенстве закона, царстве свободы и демократическом процессе... когда люди голодают и живут без надежды и цели... Что пользы во всех пунктах гражданских свобод и политической свободе, когда молодые талантливые писатели не могут публиковаться, когда невозможно найти работу, даже имея наивысшую степень в своей профессии, когда, кажется, никто не в состоянии ответить на настойчиво повторяемый вопрос: «Что же завтра?».59
Для Беатрис и Сидни Вэбб (как и для многих других интеллектуалов) было важно, что достижения определялись не столько усилиями специальных учреждений, сколько лежащей в их основе более высокой целью: «Чудо состояло не в том, что там будут парки, больницы, фабрики; в конце концов, их можно найти и в Англии. Чудо было в том, что там все должно быть проникнуто, как думали супруги Вэбб, духом коллективного идеала, одной нравственной целью».60
Джон Мейнард Кейнс в манере пророческой настойчивости доказывал, что в привлекательности коммунизма и советской системы, особенно для интеллектуалов, экономика далеко не главное. Его наблюдения даже в большей мере подходят для понимания 1960-х и 1970-х гг., чем 1930-х: «Коммунизм — это не просто реакция на неудачу XIX столетия в деле организации оптимального производства. Это реакция на его относительный успех. Это протест против пустоты экономического благосостояния, обращенный к эстетическому чувству в нас... Священник из Уэльса, очень далекий от того, чтобы над священником в нем возобладал ученый, едет поглядеть на Москву... Склонная к идеализму молодость играет в коммунизм, потому что она ощущает его как единственное духовное влечение современности...».61
Джон Дьюи был убежден, что «наиболее важный аспект изменений в России носит скорее психологический и моральный, нежели политический характер...». Он продолжал:
Я придерживался мнения, что социалистический коммунизм был по сути своей чисто экономической схемой...
Я слышал, что движение в России по сути своей религиозно, считал это понятным и верил этому. Но, когда я оказался лицом к лицу с действительностью, мне пришлось воочию убедиться в том, что я вовсе ничего не пони¬
200
Пол Холландер
мал... и тому было две причины... Одна состояла в том, что не будучи никогда прежде свидетелем широко распространенной и подвижной религиозной реальности, я оказался не в состоянии представить, на что это в действительности могло быть похоже. Другой было то, что в моем представлении советский коммунизм, как любая религия, во многом ассоциировался с интеллектуальной идеологией, существом догм марксизма со всем его открыто провозглашаемым материализмом, и слишком мало с движущими силами человеческого стремления и предназначения. Как бы там ни было, я чувствовал себя так, будто впервые мог получить хотя бы намек на то, какими могли быть движения духа и сила первых шагов христианства.62
Американский церковный деятель Шервуд Эдди, автор нескольких книг об СССР и руководитель УМСА*, писал:
Россия приобрела то, что до сих пор встречалось лишь в редкие периоды истории, — опыт жизни почти целого народа в рамках унифицированной философии жизни. Вся жизнь фокусируется здесь на главной цели. Эту цель определяет единственный конечный результат и заряжает энергией таких могучих и сияющих мотивов, что жизнь, похоже, обретает высший смысл. Это открывает шлюзы потоку радостной и напряженной деятельности.63
Эдмунд Уилсон придерживался мнения, что, несмотря на недостатки советской системы (ряд которых он даже отмечал в своем полном энтузиазма пассаже), «в Советском Союзе вы чувствуете себя на моральной вершине мира, где действительно никогда не гаснет свет...».64 Духовные завоевания, приписываемые системе, действительно широко комментировались. Даже такая сравнительно прагматичная обожательница Советского Союза, как Беатрис Вэбб, интересовавшаяся, главным образом, различными социальными и экономическими институтами и доказавшая их эффективность, не устояла перед соблазном подчеркнуть ощущение цели и более высокие ценности, которые претворяли в жизнь советские вожди: «Новые правители России, провозглашающие грубый научный материализм, делают больше для души, чем для тела!». Она также отмечала их «бесстрастное упорство, с которым они подчеркивали важность духовной стороны жизни, не менее чем материальной».65 Беатрис Вэбб была одной из многих интеллектуалов-визитеров, которые получали удовольствие от осознания очевидного парадоксального несоответствия между якобы безбожной, материалистической политической системой и ее склонными к идеализму, пуритански настроенными лидерами, которые действовали с не вызывавшей сомнения ориентацией на многие моральные заповеди и принципы западных религий, провозглашенные, но не реализованные. В отличие от капиталиста, который мог бы от всего сердца одобрить ряд аспектов советской системы, такие как отсутствие забастовок и непререкаемый авторитет управления, церковные деятели умели отфильтровывать те составные части системы, которые могли бы
* Христианский союз молодых людей. — Примеч. переводчика.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
201
вывести их из равновесия. «Многие деятели церкви находили взыскательную общественную мораль Советов ободряющей — противодействие злоупотреблению алкоголем; акцент на „чистых“ фильмах, снимавшихся не ради денег или для развлечения, а в целях образования; новые стандарты в вопросах равноправия полов...» Уже в 1930-е гг. (и в конце 1920-х) многие члены американского духовенства были полны страха потерять контакт со своей паствой, быть не вполне в русле требований дня, как теперь принято говорить, оказаться не вполне «парнем что надо»: «Многие церковные деятели питали отвращение к популярному стереотипу благочестивого священника не от мира сего, и их стремление ассоциировать себя с радикалами... отчасти проистекало из противопоставления себя этому стереотипу».66 Причастность к процессам, происходившим в Советском Союзе, или к идеологии коммунизма предлагала состояние этакой всемирной духовности, своего рода витрину общественной совести, новый путь возрождения старых ценностей. Такие же позиции в ускоренном темпе занимали деятели церкви и в 1960-е гг., когда такую же почву для единения священников-активистов обеспечило движение против войны.
Похвалами в адрес советской комбинации светского и духовного начал пестрели творения и тех, кого вдохновляли религиозные порывы и обязанности, и тех, у кого их не было. Так, Драйзер с явным одобрением цитировал одного своего русского друга, который настаивал, что «эти коммунисты, хотя и называют себя материалистами, в величайшей степени утописты и фантасты современной эпохи; они еще дети, ненавидящие своих родителей — старых российских идеалистов...».'
Д. Ф. Бакстон посвятил этому благосклонно приветствовавшемуся им парадоксу множество серьезных пассажей:
Я пришел к заключению, что наибольшее впечатление в России произвело на меня ощущение прогресса морали, определяющей новый общественный порядок, который коммунисты пытаются установить...
Делая акцент на духе служения, коммунисты всем сердцем принимают некоторые из наиболее важных максим Нового Завета...
Нет сомнения, что в свой идеал общества коммунисты вводят нормы этики там, где нам вполне достаточно снобизма...
Коммунисты, конечно, отрекаются от языка религии, но их действия настолько важнее слов, что у меня не возникает ощущения необходимости воспринимать эти заявления всерьез...
Коммунисты фактически возрождают и практически принимают то, что исторически составляло существо христианских идей; прилагают эти идеи как раз к тому, что всегда и было местом их приложения, то есть к обществу и нашим общественным обязанностям... Несмотря на весь антирелигиозный жаргон, их общество более христианское, чем наше.68
На ту же тему высказывался американский квакер Генри Ходжкин: «Когда мы видим великий российский эксперимент становления братства, нам может показаться, что его вдохновля¬
202
Пол Холландер
ет какое-то совершенно неведомое, очень смутное восприятие пути Господня...».69
Шервуд Эдди (он организовал ежегодные семинары-туры в Советский Союз для деятелей образования, религиозных лидеров и бизнесменов) тоже был поражен новыми советскими формами братства: «Коммунистическая философия занимается поиском порядка, бесклассового общества нерушимого братства, которое еврейские пророки назвали бы царством праведности на Земле».70
Ключевой привлекательной стороной советского общества, выступающей в восторженных замечаниях, ряд которых приведен выше, была его кажущаяся неподдельность. Это общество пребывало в процессе, которому предстояло стать очень долгим, — в процессе сближения сторон пропасти между общественными идеалами и их реализацией, реализацией старого как мир идеала цивилизации и религий Запада. Западным интеллектуалам была невыносима их очевидная беспомощность в воплощении в жизнь своих идеалов, раздражали фальшь и лицемерие, которые они обнаруживали в своих сообществах. Им казалось, что в Советском Союзе от подобных несуразностей вот-вот не останется и следа. Советский режим преуспел в комбинации высочайшего уровня идеализации и вдохновения с трезвыми практическими мерами. В одном из современных обществ решалась важнейшая проблема достижения неподдельности, которая целиком поглощала мысли западноевропейских интеллектуалов, как поглощала она российских в XIX в. Во всем этом ощущалось предвидение грядущего единения теории и практики, виделось противоядие от хронического страха интеллектуалов перед своей склонностью мало делать, но много говорить, писать, теоретизировать и критиковать. В Советском Союзе (как и в других более поздних революционных обществах) перекидывался мост через неприятную пропасть между идеальным и реальным, между мыслью и делом; возможно, эта пропасть даже ликвидировалась или так, по крайней мере, казалось. Ощущением цели и высоким моральным вдохновением был наполнен каждый уголок советского общества, поскольку оно отказывалось идти на компромисс с несовершенством общественного существования («В конце концов, хорошо хотя бы то, что Запад соглашается взглянуть на достижение, которому человек от всего сердца может сказать: да, да, да...»).71
Понятие неподдельности проникло и в политику. Эдмунд Уилсон полагал, что, несмотря на искажение от случая к случаю истины, «коммунисты... в долгосрочной перспективе... всегда пойдут на уступки любому серьезному давлению со стороны народа: ведь они посвятили себя творению добра. Когда вы задали головомойку прошлому, когда вы избавились от всех систем личной выгоды,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
203
которые стояли между людьми и удовлетворением их потребностей, словесные отговорки становятся затруднительными. Подумайте о кладовых обмана и ложных ценностей, которые наводняют наши головы дома...».72 Согласно Фрэнквуду Уильямсу (одному из ведущих психиатров Соединенных Штатов» и бывшему главному врачу Национального комитета ментальной гигиены),73 советские дети тоже извлекали пользу из этой атмосферы совершенно бесплатного лицемерия и несообразности: «Принципы, которые ребенок впитывает в яслях, детском саду и школе, в точности те же, следование которым ему приходится наблюдать в среде окружающих его взрослых людей. Подрастая, он не приобретает ничего такого, от чего его следовало бы отучать. Время, когда ему пора „набираться ума- разума“, когда ему необходимо делать выбор между тем, что он считает правильным, и тем, что выгодно, так и не наступает».74
Строго говоря, в похвалах визитеров в адрес советской системы за ее успехи в соединении идеалов с реальностью встречались редкие случаи, когда они допускали существование расхождений теории и практики, но симпатизирующий западный интеллектуал всегда находил способ не дать воли сомнениям, напоминая себе, что в его собственном обществе изобилуют много большие расхождения того же сорта.75 Восхищение советским обществом, какие бы аспекты ни вызывали озабоченность, вряд ли можно отделить от стенаний по поводу всего того, что плохо в западном мире. Так, Хьюлетт Джонсон восклицал:
Из этого капиталистического мира шторма и стресса, где древние колонны здания общества рушатся, где попираются нормы морали, где тормозится наука, сдерживается производство и не обуздывается обнищание, мы обращаем, наконец, взоры к советскому миру.
Опять-таки, как это ни парадоксально, советский мир приводил его в восторг в значительной мере в силу исповедуемых им христианских духовных ценностей:
Там было что-то совершенно новое. Было что-то положенное в основу как некая программа людей, ставших во главе дел громадной страны, дел, которые мы, христиане, привыкли называть нашими сугубо человеческими делами. Было что-то приятное, похожее на идеалистическую мечту, которая возможно даже реализуется в далеком будущем, но в целом непрактична для такого мира, каков он сегодня... Эта советская программа видит в людях личности и определяет им планы как братьям. Есть что-то необыкновенно христианское в этом подходе и этих намерениях...
Хьюлетт Джонсон сталкивался с проявлением советской моральной цели и в других формах:
...Я понял, что Россия — самая моральная страна в мире. За многие месяцы пребывания в России, в ее больших и маленьких городах, в сельских районах и на морском курорте, в боковых улочках и на центральных проспектах, в любой час дня и ночи, в книжных магазинах и на железнодорожных полустанках, в театре и кинотеатре, я ни разу не заметил ничего такого, что могло бы заставить меня укрыться от взгляда молодой девицы.76
204
Пол Холланлер
Морис Хиндус отыскал моральную цель и в новой советской литературе: «Замечательная особенность всех этих новых книг состоит в том, что они преследуют позитивную цель. Ни в тематике, ни в их названиях нет ничего наводящего мысль на сомнение, скептицизм, сожаление или раскаяние».77 Английский историк Бернард Парис обнаружил «более целеустремленный взгляд» даже на лицах обыкновенных граждан.78 Лион Фейхтвангер открыл целенаправленность в жизни советской молодежи:
Как открыто и с какой спокойной уверенностью смотрят они в лицо жизни, ощущая себя органичной частью целенаправленного целого. Будущее лежит перед ними, подобно заботливо ухоженной и верно проложенной тропе в прекрасном ландшафте.
Разглядел он и в планах будущей застройки Москвы «более целенаправленное единство, чем где бы то ни было в мире».79
У. Э. Б. Дюбуа после посещения Советского Союза в 1936 г. высказал мысль, что «это больше не народ, который борется за выживание, а уверенная в себе нация».80
Ощущение цели, пронизывавшее советское общество, в контрасте с хаосом западного мира (экономическим или духовным) рисовалось чаще всего, но иногда усматривалось и в положении дел, которое выгодно отличало Россию в годы после Октябрьской революции. Анну Луизу Стронг притягивал к советской системе именно этот впечатляющий процесс наведения порядка. Она признавалась: «Меня влекли туда хаос и зрелище творцов посреди хаоса... Я всматривалась в Россию и ее коммунистов с волшебным чувством лицезрения творцов в самом центре хаоса... Я готова была воспринимать любого русского коммуниста как не только оракула революции, но и провидца планов и деталей личной жизни».81
Другие устанавливали рождавшую глубокое удовлетворение связь между ощущением цели и будущим. Ощущение цели делало будущее безоблачным, безопасным и отчетливо видимым. Согласно Корлиссу и Маргарет Ламонт:
Многое из того, что в России еще вызывает напряжение и требует усилий, оправдано в свете зовущей вперед великой цели. Народные массы несут тяжесть того, что можно назвать созидательными жертвами, на которые они идут ради осознанной и постоянно сохраняемой в памяти сияющей цели. Здесь все иначе, чем в остальном мире. Потому что целеустремленная отдача всего себя может приносить счастье не только в будущем, но и в настоящем. И мы уверены, что в России сегодня много счастья. Здесь люди без остатка отдают себя великой цели преданного служения, отодвигающего на задний план все их личные тревоги и фрейдовы комплексы.82
Точка зрения, выраженная господином и госпожой Ламонт, определенно подкрепляет довод, суть которого в том, что западные интеллектуалы искали в Советском Союзе — и на некоторое
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
205
время находили — не только новые проявления социальной справедливости, но социальный порядок, в котором индивид не страдает от бесцельности, растерянности и неопределенности, угнетавших интеллектуалов того времени в собственных обществах и свойственных современным светским плюралистическим системам. Естественно, что ощущения тревоги и смущения усиливаются во времена таких кризисов, как депрессия начала 1930-х гг. В этот период западные интеллектуалы были не только оскорблены и расстроены нерациональностью социально-экономического порядка, в котором жили. Они глубже ощущали и свое отчуждение от общества, потому что оно почти не обеспечивало или вовсе не обеспечивало долгосрочные цели и базисные ценности, которые достойны стремления к ним и достижимы. Ощущение цели в Советском Союзе, так же как его, казалось бы, великодушная политика создавали то, что Фьюер назвал «моделью совести», притягательной для их идеалистических влечений. Ощущение западными интеллектуалами бессмысленности существования усиливалось чувством их собственной изолированности, отсутствием общепринятых средств решения личных проблем и восприятием своих обществ как индифферентных и безответственных.
В приведенном пассаже супругов Ламонт эти вопросы выдвигаются на первый план. В нем, как и в комментариях других визитеров, утверждается, что лишения и нехватки сами по себе не представляют проблемы, если они воспринимаются как «созидательная жертва», то есть если они вкраплены в некий контекст смысла и ценностей, обоснованы надеждами и свершениями во имя будущего. Мы должны также обратить внимание еще на один момент, редко освещаемый так недвусмысленно, а именно, на то, что жизнь обретает смысл, а «личные тревоги и фрейдовы комплексы» отступают, когда индивиды озабочены стремлением отдать себя «великой цели преданного служения». Интересно, что ни чета Ламонт, ни другие, находившие такую возможность преимуществом, выпадавшим на долю индивида в советской системе, не разглядели подобия между предметом их восхищения и тем, что Эрих Фромм назвал «бегством из свободы» в другом политическом (но отнюдь не ином в историческом плане) контексте — в нацистской Германии. Не может быть сомнения, что чрезмерная политическая преданность (которой восторгались симпатизировавшие Советам и которую находили столь полезной в советском обществе) может дать отвлечение, бегство и освобождение от личных проблем и разочарований. Однако такая преданность может дорого обойтись как обществу, так и индивиду.
206
Пол Холланлер
НАРОД И ОБЩЕСТВО
Хотя западных интеллектуалов влекли в Советский Союз прежде всего новизна социальной системы и кажущееся превосходство ее институтов, во время визитов они не обходили вниманием «народ», включая как получавшие блага массы, так и творцов этих благ. В одних случаях качества людей восхвалялись без упоминания системы, в которой те жили, в других люди и система преподносились как нечто единое: чудеса системы в значительной мере определялись достойными восхищения качествами народа, а система, пользовавшаяся доверием, извлекала выгоду из этих превосходных качеств и обращала ее во благо народа. Джонсон Дьюи считал «квинтэссенцией революции... высвобождение ею отваги, энергии и уверенности людей в жизни». Он также писал: «Люди приходят в движение, словно освободились от какого-то непомерного гнетущего груза, словно, пробудившись от сна, ощутили прилив свежей энергии». Он говорил об «этой свершившейся революции как силе, окончательно обусловившей их судьбу».83 Трудно остаться равнодушным при встрече с людьми, взгляды которых являются отражением добротности передовых институтов и норм их общества. И все же в ряде случаев можно обнаружить такое благоговение перед народом, в котором не прослеживается явная или необходимая связь с восторженным отношением к политической системе. Создается впечатление, что многие гости просто восторгались русским народом (и особенно крестьянами) как в дореволюционную эпоху, так и после революции. Вневременные добродетели русских — часто встречающийся элемент в общей картине восторга визитера. Было трудно не выразить восхищения, потому что этот народ достоин того, чтобы им восхищаться во всякое время и в любом месте, какая бы политическая система ни господствовала в его стране.* Хотя в основе высокой оценки народа в большинстве случаев лежало признание его своеобразия и экзотичности (даже если под экзотикой понималась простота и подлинность чувств), американские визитеры радовались, когда видели знакомые черты. Многим американцам свойственно определять свое отношение к чему- то иностранному степенью близости с тем, что они приписывают
На самом деле получается так, что многие общепринятые и достойные похвал позиции обыкновенных россиян имеют много общего с соответствующими позициями обыкновенных китайцев, кубинцев и северовьетнамцев. Это одно из открытий данного исследования. Оно исходит из того, что такого рода перцепция может в равной мере зависеть как от стремлений и предубеждений, так и от эмпирических наблюдений. С другой стороны, вероятнее всего справедливо утверждение, что все доброе в людях и все то, что доступно поверхностному наблюдению, всюду одинаковы.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
207
новым для них странам и их обитателям. Если поиски знакомых черт оказываются успешными, они чувствуют удовлетворение. Это как раз тот случай, когда визитеры отправлялись в путь с причудливыми представлениями о том, насколько не похожими на других должны быть советские люди, а затем приходили к диаметрально противоположному заключению, то есть утверждали, что они во всем похожи на американцев. Советская зарубежная пропаганда эксплуатировала любую возможность использовать эту склонность, делая упор на общечеловеческой составляющей народа вне зависимости от того, в какой политической системе он живет. (И наоборот, советская аудитория со всех трибун слышала о ловушках бесклассовых или аполитичных взглядов на универсальность морали.) В свою очередь, американские средства массовой информации невольно способствуют противопоставлению образов советских людей и советского общества, попеременно представляя их то во всех отношениях необъяснимо разными, то вряд ли вообще четко различимыми.
Этот феномен хорошо иллюстрирует американская реклама одной телевизионной программы о Советском Союзе (и сама программа тоже): «Могут ли русские быть не хуже людей? Представляете ли вы типичного российского гражданина слугой государства, изнывающим от тяжелого монотонного труда на коллективном винограднике? Взгляните на него еще раз. Он живет в уютной квартире. Его жена проводит целый день на стадионе или наслаждается вечерним катанием на лодке. Нынче вечером „Иван Иванович“ предстанет перед вами таким, каков он есть, потому что программа „АВС News“ приглашает вас побывать в гостях у русской семьи».84 В том же духе «Корпус обмена гражданами», организация, посвятившая себя поощрению личных встреч русских и американцев (в надежде способствовать смягчению напряжения между двумя странами), размещала в нью-йоркской газете «Times» объявление, в котором спрашивалось: «Есть ли у русских рога?». Вероятно, прибегая к такого сорта юмору, авторы объявления полагали, что именно подобные предрассудки им предстоит преодолевать. Не удивительно, что тех, кто с самого начала считает «русских» совсем другими (они редко принимали во внимание тот факт, что Советский Союз населен не только русскими), шокирует открытие, что это не так. Зачастую это пугающее открытие приводит к принятию противоположной точки зрения — к убеждению, что нет таких различий, о которых стоило бы говорить.
Вышеизложенное позволяет понять, почему во многих ситуациях встреча в Советском Союзе с чем-то знакомым приятно возбуждала не меньше, чем обнаружение различий и экзотики.
208
Пол Холландер
Радостно похвалялся, что обнаружил толику сходства посол Джозеф Дейвис: «Люди на железнодорожной станции выглядели тепло одетыми, и их одежда немногим отличалась — если иметь в виду степень заботы о сохранении тепла[!], — от одежды жителей сельской местности в Соединенных Штатах».85 (Дейвис — один из немногих западников, которые ухитрились сочетать длительное пребывание в Советском Союзе с полном незнанием природы советской системы). Генри Уоллес тоже упоминал американских фермеров, говоря о российской деревне.86 Элла Уинтер обнаружила еще больше сходства: «Люди были похожи на американцев; они спорили и возражали, сплетничали и жаловались, они критиковали и выражали одобрение...».87 Однако большую часть визитеров пленяло незнакомое и экзотическое, первозданная бесхитростность народа, видимая гармония людей и природы. Иногда в глазах созерцателя привлекательность народа, мест проживания людей и социальной системы сливались в одно целое. Покойный Пабло Неруда, лауреат Сталинской премии, поддерживавший Советский Союз всю свою жизнь, писал:
Первое, что взбодрило меня в СССР, было ощущение необъятности, единения с населением бескрайней страны, наступление берез на равнины, громадные леса, такие чудесно девственные, полноводные реки, лошади, несущиеся подобно волнам по пшеничным полям.
Я полюбил советскую землю с первого взгляда и понимал, что она не только дает урок морали каждому уголку земного шара, где существует человеческая жизнь, не только предлагает способ сравнения возможностей и постоянно наращивает прогресс благодаря работе сообща и разделению результатов труда, но и чувствовал, что именно в этой земле начнется совершенно необычный взлет... Весь род человеческий знает, что здесь претворяется в жизнь поразительная истина... Я побывал в самой середине леса, где тысячи крестьян в традиционных праздничных костюмах слушали стихи Пушкина. Все кипело жизнью: люди, листья, необъятные просторы новых всходов пшеницы... Природа заключила победоносный союз с человеком... Сильный дождь обрушился на празднично одетых крестьян. Близко ударила молния... Все выглядело частью сцены неистовства самой природы. 8
Эти наблюдения Неруды относятся к периоду его первого визита в 1949 г., когда было меньше причин непонимания советского общества, чем в начале 1930-х гг., когда Уолдо Фрэнк с успехом сплавлял воедино характеристики местности, людей и общества. Едва миновав советскую границу, он уже оценивал некоторые главные качества русских, которых повстречал на железнодорожной станции: «Меня сразила добрая воля этих парней, да и девушек тоже. Добрая воля уверенных в себе личностей, уверенных в своем месте в этом мире, принадлежащем им, не таящем в себе угрозы для них». Позднее во время путешествий привлекательность людей (и их «органической» связи с природой и творениями рук человеческих) только возрастала. В русской деревне он обнаружил
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
209
однородный мир: люди, животные и плоды природы; воздух, деревья и земля были единой сущностью, отдельные части которой с неторопливым трепетом теснились вокруг своего центра — солнца.
...Я стоял в деревенской грязи и ощущал органический ритм этого земного мира — единый пульс земли, зверя и человека. Крестьянин, простой труженик, обладает неким внутренним знанием, скромным, но неподдельным. Эта наша западная культура — всего лишь оболочка, подпорченная патиной лжи. Вот почему здесь больше надеются на некультурных рабочих всех рас...
Его воодушевление стало еще более глубоким на борту волжского парохода, куда он попал в качестве пассажира:
Долгое спокойствие ночи опустилось на судно. Мы оказались вне времени... Я пробовал на вкус сущность людей. Мужчины и женщины неподвижно сидели на палубе, дети дремали, пары теснее прижались друг к другу... песни медленно текли вниз по реке... Неторопливо, сладостно, полнокровно мы покачивались на весах жизни... все вместе.* И в тот момент я понял, в чем целебная сила того, что делало Россию счастливой. Была рождена новая душа, она полна и непорочна.
Подобно столь многим другим интеллектуалам до и после него, Фрэнк оказался в плену картины целостности: «просто ближайший к вам человек, отсутствие стереотипов — вот что трогает душу в России. В этой стране нет каких-то отдельных вещей, отдельных личностей... каждая личность в полной мере раскрывается в действии вместе с народом, ее окружающим. Полнота жизни личности — в полноте жизнедеятельности всей России».
Созерцание вдохновенных, энергично поющих и танцующих масс привело Фрэнка к заключению, что «это максимально глубокое подтверждение — музыка и народный танец не лгут — того, что коммунистическая революция является революцией русской»,90 так сказать органической, подлинной связью настоящего с прошлым, революционного с традиционным, характера народа с его новыми институтами. Шарм таких картин впечатлял также Корлисс и Маргарет Ламонт: «Когда мы поужинали... комсомольцы коммуны собрались снаружи и спели для нас». Песни были «могучими, бодрыми, без тени сентиментальности».** 91 Даже Джулиан Хаксли, ученый и вряд ли возможный кандидат на роль созерцателя, поддающегося коллективному
* Это настроение вряд ли сильно отличается от охватившего отца Берригана спустя несколько десятилетий в Ханое: «Казалось, в похожее на ласковый сон состояние экстаза впали люди, деревья и животные».89
Здесь стоит обратить внимание читателя на примечательное единообразие современных стран разной политической ориентации и систем правления в деле использования народного искусства, особенно танца и песнопения, в политических целях. Революционные и консервативные режимы едины в стремлении внушить, особенно визитерам, ощущение органической связи с прошлым и высокой одаренности обыкновенных людей. В сущности, они тем самым говорят, что правительства, которые уважают и бережно сохраняют подобные прочно укоренившиеся и повсеместно принятые традиции, не могут быть плохими.
210
Пол Холландер
экстазу, присоединился к группе танцующих на улице и получил огромное удовольствие от этого «недолгого погружения» в радостную общность душевного порыва простого народа: «Все мы, от студентов-медиков до специалистов с Харли-стрит и профессоров, испытали истинное удовольствие от нашего недолгого погружения в это действо организованных масс, разделив его с четырьмя или шестью сотнями других людей».92
Джозеф Фримэн оказался в плену этого ощущения расслабленности и удовольствия в несколько более широком плане: «Чувство изоляции, которое преследовало деклассированного интеллектуала [очевидно и не деклассированного тоже], эксплуатация, которая омрачала повседневную жизнь рабочего, преследование, которому подвергались воинственный пролетарий и революционер, представлялись в сознании какой-то ужасной химерой, быстро исчезавшей в свете утренней зари... впервые увиденного мною воплощения величайших чаяний человечества. Мужчины, женщины и дети объединяли свои усилия в гигантский поток энергии, направляемой на искоренение зла в жизни, на создание того, что есть благо и добро для всех».93 Более понятное толкование единства было предложено Бернардом Парисом, который писал: «Во всем, что я видел здесь, определенно не было и намека на досаду или неудовольствие народа...», — и добавлял, что «правительство и народ одной породы». Он обнаружил, что это единение простирается даже дальше, чем «нынешняя реально осуществляемая коллективизация» крестьянства. Парис находил Сталина верным хранителем духа времени, когда с одобрением цитировал его слова: «„Теперь, товарищи, жить стало лучше, жить стало веселее“, и это соответствует духу времени».94 Ощущение общности и гармонии народа и правительства не преминул отметить и Фейхтвангер:
Сначала меня удивило и повергло в сомнение то обстоятельство, что все люди, с которыми мне приходилось вступать в контакт... как один понимали общее положение вещей, даже если иногда критиковали какие-то второстепенные моменты. Всюду в этом громадном городе Москве в самом деле ощущалась атмосфера гармонии и удовлетворения, даже счастья.95
Хотя благожелательность позиции гостя и ощущение им общности советских людей чаще всего связывались с незаурядностью русского характера и проникновением полезных социальных преобразований в массы, время от времени предлагались и более специфические объяснения. Фрэнквуд Э. Уильямс сосредоточил внимание на новых методах воспитания. Он нашел ключ к фактическому исчезновению ментальных заболеваний и умножению хорошего настроя народа в комбинации родительского счастья и самых просвещенных форм общественной заботы о детях: «Вряд ли
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
211
стоит сомневаться, что родители ребенка должны иметь крепкое здоровье и телосложение взрослых людей к возрасту от начала до середины третьего десятка лет жизни... Они хорошо информированы по всем вопросам отношения полов, включая гигиену беременности... Ребенок живет и подрастает в тесном общении со своими сверстниками. Он много видится с родителями — однако не слишком много. Вероятно важно, чтобы родители, которых он видит, были счастливыми людьми, способными служить для него примером, а не людьми, подавленными тревогой, беспокойством, расстройством планов или разбитыми иллюзиями...». Уильямс был также уверен, что еще одним источником успеха советской практики заботы о подрастающем поколении, счастливой жизни, низкой детской преступности и искоренении алкоголизма* было отсутствие эксплуатации во всех сферах жизни. Он подвел следующий итог своим открытиям:
Желанный ребенок в доме целеустремленных, живущих в безопасности, не обремененных тревогой, не имеющих поводов для расстройства взрослых, ребенок, которому прививается понимание того, что он желанный, необходимый член семьи... его безопасность прочно закреплена в составе группы, его личному честолюбию гарантирована реализация в рамках более широкой цели — это для него и есть ментальная гигиена! Ментальная гигиена, ставшая неотъемлемой частью социальной организации...96
Беатрис Вэбб предложила другое объяснение безукоризненного характера нового советского поколения: «Будь я вынуждена выделить какой-то один институт Советской России как поражающий своим оптимизмом, то остановила бы выбор на комсомоле вместе со следующими за ним по пятам пионерами. Сочетание в этой организации коммунистической молодежи... страстного влечения к самосовершенствованию и самодисциплине с таким же страстным влечением к служению обществу и, следовательно, росту личной инициативы и ответственности молодого поколения — один из прекраснейших примеров дисциплины, какой видел мир...».97
Нередко внимание визитеров приковывала не только привлекательность личных качеств и эмоционального здоровья населения, но также физическая стать и внешняя красота этих граждан нового общества. Джулиан Хаксли удивлялся: «Есть здесь, в России, что-то предопределяющее развитие нового подхода к совершенству человеческого тела, более напоминающего идеал древних греков, чем что-то характерное для страны, тяготеющей к христианству?». Наблюдая за людьми на берегах Москвы- реки, он находил, что почти у всех хороший бронзовый загар и
* «Алкоголизм... был очень серьезной проблемой всего десяток лет назад. Это все еще проблема, но ее острота быстро убывает».
212
Пол Холланлер
что большинство отдыхавших отличала прекрасная физическая форма... Никаких наших мальчишеского вида фигур-тростинок [насколько известно, это заботит женщин] — ладные, крепкие, здоровые, они плавали, принимали солнечные ванны и радовались жизни...».98 Такие сцены на Москве-реке не оставили равнодушным и Мориса Хиндуса: «Их тела почернели от солнечного загара, и пот катит с них поблескивающими ручейками... их голод по солнцу ненасытен... Наблюдая за этим множеством молодых людей, восхищаешься их превосходным обликом».* 99 Фрэнквуд Уильямс тоже обнаружил в поведении советских людей доказательство их внутренней безмятежности: «Видишь это отсутствие нервного напряжения у тысяч взрослых людей, которые по вечерам заполняют улицы таких городов, как Ростов или Ялта... либо парки культуры и отдыха в Ленинграде, Москве, Сталинграде, Тбилиси, Одессе, Киеве. Эти молодые мужчины и женщины... жизнерадостны, их движения быстры. В них нет ничего флегматичного... Они вышли, чтобы хорошо провести время, и явно хорошо проведут его, просто прогуливаясь туда и обратно, но здесь нет спешки и толкотни, нет громкого смеха и резких воплей наших молодых людей, гуляющих на Кони-Айленд или в каком-нибудь общественном парке».101
Этот простой, здоровый, неподдельный, открытый народ объединяли благодатные личные взаимосвязи и наполненная положительными эмоциями жизнь. Уолдо Фрэнк видел это так: «Жизнь личности в России напряженна и эмоциональна. Женщины здесь действительно женщины... В сексуальные отношения они [женщины] вступают с мужчинами свободно — душа с душой, не вооруженные и не ограниченные условностями». Русские мужчины и женщины «по-детски доверчивы и мудры». Люди разных полов и социализм встретились и соединились наиболее удовлетворительным образом: «Весь их разум, вся их воля, все их эмоции отданы единственному мотиву, который заключил в своих сложных частях мотивы всех их отдельных поступков — мотив социализма. Но сами их поступки обретают зрелость в осознании сексуального раскрепощения, которое действует внутри них подобно смазке».102
Элла Уинтер обобщила свое доброжелательное впечатление от знакомства с русскими следующим образом: «Россия! Честный, беспечный, гостеприимный, по-детски доверчивый народ;
* Несомненно, именно общий настрой преувеличивать физическую красоту населения подвигнул Эдмунда Уилсона на такое сообщение о салоне красоты в колхозе: «В число коллективных услуг входил и собственный деревенский салон красоты [в колхозе, где он был гостем]. Похоже, теперь они есть во всех колхозах, поэтому женщинам не составляет труда выглядеть привлекательными».100
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
213
их гордость, энтузиазм, беззаветность... Я мало видела избалованности и подлости. Их преданность и их энергия... В годину тревог они [русские] знают, чего хотят».103
И, наконец, противоречивое, но глубокое и таинственное видение Эдмунда Уилсона:
Я могу понять, каким образом люди очаровываются Россией: исстари нечетко различимая пограничная земля между Западом и Востоком, не включенная в схемы, не изученная, не размежеванная, никому не принадлежащая, никем не учтенная вплоть до нынешней цивилизации. Люди представляются ресурсом, который лежит в глубине этой земли подобно минералам Кузнецка и Урала... Что кроется под журчанием этой необъятной и аморфной жизни, которая здесь всюду вокруг меня?104
Вариации на тему того, каким образом советские люди привлекали к себе внимание и каким образом идентифицировались их характеристики, не должны быть препятствием для констатации того, что этот народ обладал несколькими доминирующими качествами, такими как хорошее умственное и физическое здоровье, сильное чувство общности, обязательность в отношении общественной деятельности, доброта, великодушие, мудрость и неподдельная простота. Это был образ, который соединил в себе освященные временем черты благородного варвара, крепко стоящего на земле крестьянина, счастливого бедняка, могучего пролетария и тусклый призрак гражданина Утопии эпохи Возрождения.
ПОБЕДА НАД ПРОШЛЫМ
Одним из наиболее очевидных и, по крайней мере, несомненных свершений советской системы было уменьшение экономической отсталости и разнообразных связанных с ней обязательств перед прошлым. Усилия по преодолению отсталости находились в числе наиболее привлекательных сторон режима, и визитеры с готовностью и энтузиазмом откликались на их проявление. Они восхваляли социальные перемены, особенно приложение научных принципов и методов к общественным и экономическим делам, и безусловную готовность режима браться за разрешение проблем, которые оставались нерешенными многие столетия. Некоторые аспекты советского общества действительно могли трактоваться как имеющие отношение к ценностям и идеям эпохи Просвещения,105 рационализму и вере в прогресс XIX столетия, предрасположенности к новому, экспериментальному и первопроходческому.
Экономические и материальные преобразования несомненно входили в число наиболее легко осознаваемых и впечатляющих аспектов перемен в Советском Союзе. Гостям неизменно пока¬
214
Пол Холланлер
зывали планы гигантского строительства, заводы, дамбы, каналы, гидроэлектростанции, новые колхозы, школы, жилые дома и все прочее. Видимое невооруженным глазом преобразование ландшафта, лицезрение новых городов, промышленных предприятий, дорог, мостов, вновь освоенных земель, планов обуздания наводнений — все это было наглядным и неоспоримым доказательством того, что великие перемены действительно происходят.
Джулиан Хаксли отмечал, что в Сибири «города расцветают почти в одну ночь, поднимаясь к жизни посреди бесплодных степей словно по мановению волшебной палочки центральных властей, но на самом деле благодаря расчету на природные ресурсы региона и планированию строительства линий связи и электрификации». Для Хаксли, как и многих других, Советский Союз 1930-х гг. был «грандиозным экспериментом», который отличался «двумя фундаментальными особенностями от любого другого цивилизованного общества. Он организован, насколько максимально возможно, не на индивидуалистической, а на коммунальной или коллективной основе, главным образом, в интересах всего рабочего класса, а доля стимулирования индивидуального вклада сокращена до наименьших пропорций. Его экономика повсеместно плановая». Хаксли также обнаружил, что «наука... первостепенно важная часть русского плана. Марксистская философия в значительной мере базируется на естественных науках».106 Фейхтвангер обобщил чувства многих визитеров, когда написал: «Я отношусь с неизменной симпатией к этому эксперименту строительства гигантского государства на основе одного только здравого смысла». 1
В 1930-е гг. западные интеллектуалы еще верили в успех приложения здравого смысла к делам человеческим.* В той мере, в какой Советский Союз мог восприниматься как общество, находящееся в состоянии войны с прошлым, с его традиционными ценностями, неравенством и материальной отсталостью, он встречал теплую поддержку. Характерен пример группы видных американских интеллектуалов, защищавших советскую систему от обвинений в диктаторстве и включивших в свой список атрибутов наивысшего достоинства заявление о том, что «она заменяет мифы и предрассудки старой России истинами
* Как будет показано ниже, к этой вере больше не было возврата в 60-е и 70-е гг., когда рационализм играл незначительную роль, если не отвергался вовсе, среди прочих привлекательных черт прославлявшихся в те годы обществ. В соответствии с этим внутренний социальный критицизм вобрал в себя неприятие того, что воспринималось как чрезмерно рациональное, следовательно, объективно присущее современному индустриальному обществу.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
215
и методами экспериментальной науки, простирая научные подходы во все сферы деятельности от экономики до общественного здравоохранения».108
Хотя высокая оценка материальных достижений советского режима была понятна (особенно до той поры, пока социальная и человеческая составляющие их стоимости были неизвестны или игнорировались), время от времени она граничила с благоговейным экстазом, по накалу страстей оставлявшим далеко позади даже самое сердечное признание успехов индустриализации. Такие позиции явно были частью поклонения власти и господству: господству над природой, прошлым, традициями, инерцией, сопротивлением переменам. В глазах многих визитеров советские программы строительства символизировали возможность созидания выше человеческих возможностей, преодоления любых известных ограничений. Пабло Неруда писал в мемуарах: «Никогда не забуду посещение этой гидроэлектростанции, господствовавшей над озером, чистая вода которого отражала голубое небо Армении. Когда журналисты попросили меня поделиться впечатлениями от посещения церквей и монастырей древней Армении, я ответил им, немного приукрасив суть вещей: „Церковь, которая мне понравилась больше всего, — гидроэлектростанция, тот замок возле озера“».109 Чудеса советской индустриализации породили множество подобных комментариев. Многие западные визитеры, казалось, забывали, что дают описания самых ординарных объектов — заводов, гидроэлектростанций, мостов, школьных зданий или кинотеатров (даже если некоторые из них громадны, вроде плотины на реке Днепр или сталелитейного завода в Магнитогорске), — которые в капиталистической стране не вызвали бы много восторга. Все такие заведомо ординарные или прозаические программы и стройки трансформировались в глазах очевидцев соответственно их новому предназначению и окружающей ситуации. Масштабность способствовала этому, но главным было другое. Луис Фишер писал:
Во всем Советском Союзе ощущалось вдохновение самого присутствия на этом зрелище созидания и самопожертвования. Оно захватило и меня... Воображение рисовало целую страну на марше... В России завод был завоеванием... Я жил в украинских селах. Я стоял у окон в поездах в ночные часы... колеся по равнинной глади России. Ни огонька. Сотни миль темноты. Люди жили в ней всю жизнь... И вот электрическая лампочка ополчилась на мрачную темную деревню; сталь и чугун побеждают деревянную цивилизацию России. Я лишь перевел статистику пятилетнего плана на язык человеческих ценностей.110
Это было еще в те времена, когда западные визитеры могли без тени сомнения расхваливать индустриализацию и урбанизацию, не испытывая двойственного чувства, не помышляя о крестовых
216
Пол Холланлер
походах на собственное внешнее окружение и не горюя о том, что города и заводы наступают на природу. Дымовые трубы, запестревшие в сельской местности, и дамбы, воздвигавшиеся над реками, еще были символами благодеяния и целеустремленности, а не загрязнения, расточительности и безрассудства. Паломники второго периода иногда находили для себя затруднительным соразмерять похвалу индустриализации на Кубе или в Китае с критикой индустриальной жизни в собственных странах.
Некоторые визитеры даже ухитрялись находить подобие (а следовательно, и уже знакомое) между советским плановым строительством и «Новым курсом» в Соединенных Штатах. Г. Дж. Уэллс сказал в беседе со Сталиным: «Мне кажется, что происходящее в США носит характер глубокой реорганизации, создания плановой, то есть социалистической экономики. Вы [Сталин] и Рузвельт начали с двух разных стартовых позиций. Но разве в этом нет идейной связи, родства идей и нужд Москвы и Вашингтона?».*’ 111
Так или иначе, материальные преобразования советского общества и динамизм, символизируемый программами громадного строительства, были особенно привлекательны в начале 1930-х гг., потому что контрастировали с экономическом спадом на Западе. Даже стимулируемые и финансируемые федеральным правительством Соединенных Штатов программы создания рабочих мест (которые ассоциировались с «Новым курсом») не шли ни в какое сравнение по грандиозности, масштабам и размаху с программами, проводившимися в жизнь в Советском Союзе в конце 1920-х и в течение 1930-х гг. Можно также напомнить, что индустриализация в Советском Союзе повлекла за собой строительство поселений в районах этой страны с небольшой плотностью населения либо вовсе незаселенных, что в некоторых случаях изменило сам образ жизни первобытных племен и принесло современную технологию и связь в ряд самых удаленных частей мира. Короче говоря, это были поистине впечатляющие и первопроходческие усилия, которым западная сторона мало что смогла противопоставить в XX столетии.
Наблюдаемые и восхваляемые большие социально-экономические преобразования были неотделимы от рационального и энергичного приложения труда и его организации. Западных паломников
* Такой была ранняя рудиментарная версия теории конвергенции. Во времена ее более формального толкования, где-то в 1960-е гг., редко отмечалось, что она далеко отошла от первоначальных идей, но во всем, что касалось уменьшения советско-американских различий и напряженности в отношениях, не продвинулась дальше стремления выдавать желаемое за действительное. Советский подход к подобным идеям в 1930-е гг. был тем же, что и в 1960-е и 1970-е гг.; они были неприемлемы для Сталина в той же мере, что и для его преемников.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
217
поражали масштабы работ и интенсивность труда, наполнение его новым смыслом для самих трудящихся. Уолдо Фрэнк дал такое описание советского инженера на рабочем месте:
Инженер... настоящий русский пролетарий. Спокойное веснушчатое лицо, глаза излучают тепло... Люди трудятся не покладая рук, но и не на исходе сил. Нет той механической легкости, с которой работают станочники на американском заводе... Когда инженер остановил группу рабочих, чтобы мы могли задать им вопросы, возникло ощущение, что они выбрались из какого- то далекого царства, словно поэты, которых прозаический мир отвлек от их занятий.
Другой рабочий выглядел «человеком чувства... он больше походил на художника, чем на западного заводского рабочего. Его глаза горели пламенем аскета... он вполне мог сойти за праведного мастерового какого-нибудь средневекового монастыря...». Директор завода «не имел ничего общего с тем, кого американский магнат ставит на должность, как поставлен он сам, из рядовых. Этот русский был само простодушие. Он беспощаден, но чист».112
Корлисс и Маргарет Ламонт тоже оценивали советских работников выше всяких похвал и видели в них активных преобразователей своего общества: «Такие работники, как там наверху [в одном ленинградском районном комитете по обеспечению жильем], небрежно одетые, без пиджаков и воротничков — не обладающие большинством показных качеств таких же работников в капиталистическом обществе — именно такие работники и люди подобные им управляют новой Россией... Они интеллигентны, они решительны, они прямолинейны, они полны сил. И осознание общей задачи, подлежащей выполнению на общее благо, объединяет товарищей, проводящих прием, с ожидающими приема товарищами».113 На чопорных членов британского парламента произвели впечатление «напряженная интенсивность труда» и «подлинный энтузиазм рабочих».114 Комментируя свои впечатления о советских ударниках труда (то есть тех, кто регулярно перевыполняет производственные нормы), Дж. Б. Шоу заметил, что «в Англии таких привилегированных рабочих трудящиеся массы не любят. Здесь в Советском Союзе они самые популярные люди, их коллеги-рабочие оказывают им всяческие почести. Товарищи, я очень рад видеть здесь у вас такой громадный энтузиазм».* 115
* Подобные наблюдения этого знаменитого писателя, прослывшего циником и иконоборцем, представляют собой впечатляющие иллюстрации к неординарной комбинации неимоверной доверчивости в одном месте и безудержного использования критического таланта в другом. Бертран Рассел говорил, что Шоу «пал жертвой лести советского правительства и поэтому внезапно утрачивал мощь своей критики и угадывания за пустословием обмана, если такой обман исходил из Москвы».116
218
Пол Холлам дер
Дайсон Картер дал похожую высокую оценку уровню мотивации сельскохозяйственной рабочей силы: «Советский колхозник постоянно стремится к повышению урожая зерновых... и молочной продуктивности своих стад вне зависимости от рыночных цен или излишков пшеницы и молока. Его забота — повышать колхозное производство, чтобы продуктов питания становилось все больше». Подобно многим другим ученым, Картера переполняло чувство удовлетворения поддержкой и вниманием советской системы к науке и тем, что она виделась ему занимающей центральное место в жизни Советов:
В Советском Союзе нет такой сферы жизни, которая не руководствовалась бы этим новым сортом науки — советской наукой.
...Наука дает знать 180-миллионному народу Советского Союза, как покончить с голодом и болезнями, как улучшить сельскохозяйственное и промышленное производство таким образом, чтобы одинаково цивилизованная жизнь стала реальностью для всех, как сбросить бремя непосильного труда с плеч миллионов, как обеспечить все население досугом и здоровьем, чтобы жизнь доставляла все больше радости.
Знаменитый британский ученый Дж. Д. Бернал тоже был убежден, что «краеугольным камнем [советского] марксистского государства является направление знаний человечества, достижения науки и техники непосредственно на повышение благополучия людей».117
Такое ликование нельзя отнести к разряду своеобразной позиции горстки ученых — хотя эта позиция более характерна для интеллектуалов именно из научных, а не литературных кругов, — потому что в этом хоре ликования звучали голоса и других симпатизировавших Советам визитеров, которые были уверены, что еще более широкое приложение науки к каждой мыслимой человеческой проблеме позволит найти ключ к решению глобальной проблемы человеческого счастья.
ГУМАННЫЕ ТЮРЬМЫ И ДРУГИЕ ПЕРЕСТРОЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ
Хотя привлекательные черты советского общества были многослойны и восхищение ими проявлялось в силу определенного обобщения их характера, паломников интересовали и особые институты, создававшиеся для реализации грандиозного проекта. На деле в позициях паломников, как утверждал Джон Дьюи, прослеживалась некая тенденция к образованию «заметной диспропорции между широтой... делавшихся умозаключений и узостью базы практического опыта, на который эти умозаключения опирались».118 Процесс знакомства со страной имел двойственный характер. С одной стороны, люди, приезжавшие в Советский
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
219
Союз с каким-то представлением о нем, каким-то огульно составленным мнением, наполняли это свое представление деталями того, что удавалось постичь собственным опытом. При этом не имело значения, насколько узким мог быть постигаемый ими образчик реальности. С другой стороны, в головах паломников, не имевших определенного представления и сформировавшегося мнения, без труда возникал образ грандиозного проекта на базе все того же конкретного опыта, который они получали возможность обрести. Большая часть этого опыта ограничивалась поверхностным и неосновательным созерцанием определенных институтов, сферой деятельности которых были труд, здравоохранение, образование или отправление правосудия.
Не удивительно, что интеллектуалы в силу своей профессиональной подготовки живо интересовались учреждениями образования и распространением знаний и культуры в массах. Наблюдавшиеся в этой сфере улучшения неизменно оставались весьма привлекательными и потому, что они ассоциировались с равенством (в наше время стало аксиомой, что образование является главным шатким мостиком на пути к равенству возможностей), и потому, что возникли перспективы раскрытия потенциальных способностей людей, что сделает их лучше, добрее, более чувственными и духовно богатыми. Следующий комментарий был типичен для того времени: «В какой бы ленинградский музей мы ни попали, всюду приходилось пробираться сквозь группы экс- курсантов-рабочих, жадно впитывавших знания, которые предлагали им экскурсоводы, специально подготовленные для этой цели... Вглядываясь в их лица, обнаруживаешь, что у всех одинаково целеустремленный и внимательный взгляд».119
Дайсон Картер писал: «В Советском Союзе каждый ребенок, независимо от национальности, района проживания или дохода родителей, получает образование в пределах своих способностей. Каждый молодой человек или девушка уверены в получении работы по окончании школы. Студентам выплачивается стипендия, и они могут вступать в браки, еще не окончив обучение. Нам это кажется похожим на волшебную сказку, чем-то из мира снов».120
Режим с успехом провозгласил свое содействие тем направлениям культурной деятельности дореволюционного периода, которые не имели непосредственной связи с его политикой. Юджин Лайонс вспоминал: «Я упивался русским театром, балетом и оперой. От всего сердца, пусть это нелогично, я признавал заслуги революции в поддержке всего культурного наследия эпохи царизма».121 Это была широко распространенная позиция. Советский режим щедро восхвалялся за поддержку всех видов
220
Пол Холланлер
культурной и образовательной деятельности — драматические труппы, народные танцы, обучение живописи и рукоделию, расширение книгопечатания, школы вечернего и заочного обучения, даже просвещение с помощью средств массовой информации. Элла Уинтер была поражена образовательной ролью советской прессы: «То, что они печатают, непосредственно направлено на формирование активного, созидательного, ответственного человека. Журналистика в России, подобно всем другим средствам общения, посвящена, в самом полном смысле этого слова, повышению образования всего народа».122
Улучшения в сфере общественного здравоохранения и заботы о детях тоже производили глубокое впечатление на визитеров. Заботливую, гуманную позицию режима в наибольшей мере символизировало развитие различных учреждений, созданных для заботы о детях: ясли, детские садики, предродовые клиники и многое в том же роде. Несомненно, были сделаны гигантские шаги в деле улучшения общественного здравоохранения и, в частности, уменьшении детской смертности. (Кто-то настроенный менее доброжелательно мог заметить, что наряду со снижением детской смертности резко возросла смертность взрослого населения, во всяком случае в 1930-е гг.) Визитеров неизменно знакомили с рядом детских учреждений, поэтому в их заметках обычно находилось место для описания поведения здоровых, жизнерадостных и счастливых детей.* 123
Школы и детские сады были не единственными советскими учреждениями, производившими на визитеров благоприятное впечатление. Читателей этих страниц может ошеломить известие, что в числе советских институтов, к которым зарубежные гости Советского Союза обнаруживали повышенный интерес, не на последнем месте были тюрьмы. Человеку, узнавшему о беззакониях, чинившихся системой в годы правления Сталина, из разоблачений Хрущева и гневного их осуждения Солженицыным и другими бывшими обитателями советских трудовых лагерей, трудно сегодня поверить, что многие западные паломники, и особенно интеллектуалы, находили институты уголовного права и соответствующую этому праву политику Советов достижениями, достойными особого внимания. Еще труднее поверить, что они с удовольствием противопоставляли советские тюрьмы
* Существует параллель между использованием детей и народного искусства в качестве средств легитимации. Опять-таки, как и в случае с народным искусством и даже более эффективно, режим стремится уверить очевидца в том, что если его политическая система хороша для детей, то она и в общем гуманна. Большинству людей трудно допустить мысль, что какая-то социальная система может создавать как прекрасные детские лагеря, так и концентрационные лагеря, доводящие взрослых до полной деградации.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
221
западным и находили, что советская тюремная система может служить примером неослабной заботы о гуманных ценностях.
Восприятие западными интеллектуалами советских тюрем и их суждения о советской тюремной системе — это один из самых впечатляющих аспектов паломничества. Это более всего требует осмысления и более всего приводит в уныние. Позитивная оценка советских институтов уголовного права служит примером как самых крайних пределов легковерия (коренившегося в благоприятной предрасположенности), так и того, каким образом на разумность суждения может воздействовать профессионально выстроенное, избирательное представление реальности. Что бы ни играло превалирующую роль, предрасположенность доверять или избирательная демонстрация, результат вызывает самые серьезные сомнения и в отношение цены опыта обретения фактов- открытий прямо на месте, и в отношении способности многих интеллектуалов критически мыслить.
Можно особо подчеркнуть, что восхищение системой тюрем было только частью более общего энтузиазма, возбуждавшегося всеми советскими институтами, якобы предназначенными заново сформировать или переучить индивида, особенно ликвидировать нежелательные взгляды, оставшиеся от прошлого.* Институты, вовлеченные в процесс творения новых человеческих существ, охватили все учреждения образования от яслей до университетов, дома культуры на заводах и в колхозах, клубы, предназначенные культивировать те или иные таланты. В этом отношении тюрьмы производили особенно большое впечатление, поскольку представлялись почти невероятным местом для улучшения человеческой природы. Тюрьмы, конечно, ассоциировались со злом, деградацией и лишениями, но на другую чашу весов было положено несомненно новое использование этих учреждений для такой высокой цели, как переплавка человеческих существ — такая драматическая и такая замечательная в глазах визитеров. Этой диалектике изготовления чего-то хорошего из чего-то плохого было трудно противиться. Если здесь даже тюрьмы могут быть усовершенствованы и превращены нечто гуманное, каких же рукоплесканий достойны заверения режима о других свершениях и институтах! Насколько будет легче поверить в проекты строительства и цели других менее одиозных институтов!
Вот иллюстрация нового гуманизма советской системы и ее способности рационального и бесхитростного решения проблем.
* Анна Луиза Стронг писала, что «эта переделка криминальных элементов — только одна из специализированных форм процесса переделки человеческих существ, которая ныне осознанно осуществляется в Советском Союзе».124
222
Пол Холландер
Наказание (отвратительное для многих западных интеллектуалов по самой своей сути) и ассоциируемые с ним унижающие условия жизни заменялись тюрьмой, ориентированной на восстановление доброго имени правонарушителя, которому предстоит выйти из нее заново сформировавшимся и полезным членом общества. Для обозначения этих возвышенных устремлений вводилась новая терминология. Как сообщал доктор Дж. Л. Гил- лин, бывший президент Американского социологического общества и «один из ведущих авторитетов в области пенологии в Соединенных Штатах»:
Соответственно сущности революции, отбрасываются термины, используемые в настоящее время в капиталистической пенологии. Здесь нет «преступлений»; есть «нарушения»... Здесь нет «наказания», есть только «меры общественной защиты».
Совершенно очевидно, что эта система придумана для исправления правонарушителя и его возвращения в общество.125
Элла Уинтер следующим образом разъясняла основные принципы советской криминологии:
Согласно советскому праву, преступление есть результат антагонизма, существующего в обществе, разделенном на классы; оно всегда проистекает из несовершенной организации общества и плохого внешнего окружения. Слово «наказание» не одобряется. Его заменила фраза: «меры общественной защиты»... Сроки приговоров короткие и по отбытии срока правонарушителю позволяется снова влиться в повседневную жизнь без... шрамов позора, без клейма «каторжника»... Похоже, советская криминология исходит из предположения, что «уголовник» не преступник. Его не третируют как изгоя... Он «неудачник», раздосадованный, безвольный или неуравновешенный человек. Его необходимо научить, как стать... функциональным членом общества. Эта теория реализуется на практике в коммунах, управляемых ОГПУ.126
Д. Н. Притт, британский барристер и королевский адвокат, писал:
Сроки тюремного заключения в среднем короче, чем в Англии, а обращение с заключенными представляется одной из наиболее примечательных особенностей системы в целом. Русские логично и в полном объеме применяют теорию, согласно которой тюремное заключение должно быть исправительным, а не карательным даже в самой малой степени; здесь считают, что общество разделяет с преступником ответственность за совершенное им преступление. Они говорят «общественное исправление», а не «наказание», и успешно справляются с формированием в тюрьмах поразительной атмосферы стремления к сотрудничеству, которое является эффективным средством воздействия на плохо проявивших себя людей и их полного выздоровления для нормальной жизни в обществе и обретения гражданских прав.127
Знаменитый британский политолог Гарольд Ласки противопоставлял одобрявшийся им обусловленный внешней средой и социально детерминированный подход, который превалировал в СССР, состоянию дел в Британии:
Применение в России принципа, в соответствии с которым общество надлежит рассматривать в определенной доле ответственным за преступление, потребовало изменения самого понятия наказания и дало результаты,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
223
о которых в Великобритании совершенно ничего не известно. Во-первых, это представляет непосредственный интерес для системы уголовного судопроизводства. Во-вторых, это упор на необходимость обеспечить заключенному такие условия, в которых он мог бы жить насколько возможно полной жизнью, не теряя самоуважения... Этот взгляд на существо дела исходит из того, что старые системы, для которых характерна суровая дисциплина, наносят моральный ущерб и затрудняют возврат заключенного к нормальной жизни... И, наконец, принципиально важными... являются усилия, реализуемые посредством творческой организации досуга и направленные на предотвращение ухудшения нравов, что зачастую свойственно обитателям наших тюрем, которые лишаются возможностей, ассоциируемых с нормальными общественными отношениями.128
Анна Луиза Стронг писала:
Советское правосудие... имеет целью дать преступнику новую окружающую среду, в которой он начнет вести себя нормально, как ответственный советский гражданин; чем меньше ограничений, тем лучше; чем меньше он чувствует себя заключенным, тем лучше.129
Ей вторила американский криминолог Мэри Стивенсон Кол- котт:
Здесь предпринимаются неослабные усилия к устранению того, что они называют «тюремным духом». То есть здесь говорят, что нет таких понятий, как «невольник» или «заключенный». Идея состоит в том, чтобы в максимальной степени не допустить ощущения личностью применяемых мер изоляции. Ему предоставляется возможность работать так же, как он работал бы вне заключения, и он постоянно осознает полезность того, что делает.
...Провозглашение политики отправления правосудия без наручников, одиночных камер, любого вида телесных наказаний и отличительной тюремной одежды делает свою часть дела, но в непосредственном отношении тюремного персонала к обитателям просматривается некая нравственность, вселяющая уверенность, что ни одно положение [уголовного] кодекса не может быть сброшено со счетов.130
Английский писатель Уикстид (весьма почитаемый Беатрис Вэбб) тоже был совершенно уверен, что «идея наказания открыто отброшена полностью, единственной преследуемой целью стало исправление».131
Сидни и Беатрис Вэбб, упорно стремившиеся придать звучание свершившегося факта любому предмету своего восхищения, сообщали, что «об администрации [тюрем] хорошо отзываются* и совершенно очевидно, что теперь уже нет применения физической жестокости, что вряд ли достижимо в любой тюрьме какой угодно другой страны». Некоторые их заверения несомненно должны были базироваться на посещении Болшево (образцовой тюрьмы, в благожелательных тонах описывавшейся Бернардом Парисом, Гиллином и многими другими побывавшими там па-
* Нам не говорят об источнике этих ценных сведений. Однако можно предположить, что супруги Вэбб собрали этот материал не в результате случайных встреч с обитателями тюрем или обычными советскими гражданами, которые любезно поделились с ними тем, что слышали от друзей или родственников, находящихся в тюрьме. Видимо, безопаснее допустить, что о тюрьмах «хорошо отзывались» гиды, переводчики и сам персонал тюрем, информировавшие Вэббов о подобных вещах.
224
Пол Холландер
ломниками). Они находили Болшево «замечательным исправительным поселением, которое выглядит шагающим в будущее в ногу с предначертаниями и достижениями, к идеалу такого обращения с правонарушителями, которому нет подобия нигде в мире». Они чувствовали, что обитателям болшевской тюрьмы постоянно «демонстрируют, насколько регулярная жизнь, наполненная прилежным трудом и способствующая исправлению в условиях практически полной свободы, приятнее жизни преступника и нищего».132
Морис Хиндус, ветеран репортажей о состоянии дел в Советах, использовал более сильные выражения:
Мщению, наказанию, пытке, жестокости, унижению в этой системе нет места. Советы действуют, исходя из предположения, что не преступник что- то должен обществу, а само общество находится в долгу перед преступником. Непримиримые сторонники необходимости внимания к внешнему окружению, они уверены, что в нормальных условиях жизни животное по имени человек... не будет совершать антиобщественные действия.
...При хорошем поведении, правила которого в советских тюрьмах просты, так же просты, как и в советских школах, срок приговора сокращается. Постоянные амнистии по случаю революционных праздников дают дополнительное сокращение. В период заключения преступники не подвергаются иным лишениям, кроме принудительной разлуки с домом. Если они не противятся соблюдению далеко не жесткой дисциплины, то никогда не почувствуют на себе ярмо позора тюремной жизни. Здесь нет скованных цепью бригад. Здесь нет сурового принуждения. Здесь нет стереотипов. Нет полосатой или какой-то другой единообразной одежды. Здесь нет ограничений на количество литературы или корреспонденции, которую они могут получать. Тюрьма здесь действительно существует не для наказания, а для оказания помощи.133
В исправительном труде виделось некое центральное звено амбициозной программы восстановления в правах. По словам Анны Луизы Стронг: «Трудовой лагерь — предпочтительный способ работы с серьезными правонарушителями любого сорта, будь правонарушения уголовными или политическими... Трудовые лагеря пользуются хорошей репутацией повсюду в Советском Союзе как места, где уже исправились десятки тысяч людей».134 Согласно же Мэри Стивенсон Колкотт, «власти изыскивают возможности использования заключенных на такой работе, которая созидательна по характеру и полезна экономически, а не на работе унизительного или раздражающего свойства, к которой принуждают в качестве наказания или дисциплинарной меры».135
Свое видение успешного применения методов советского восстановления в гражданских правах Джордж Бернард Шоу нарисовал более яркими красками:
В Англии провинившийся входит [имеется в виду, в тюрьму] как обычный человек, а выходит как «уголовный тип», тогда как в России он входит... как уголовный тип и должен выйти обычным человеком, но проблема в том, что его трудно убедить вообще выходить оттуда. Насколько я себе представляю, они могут оставаться там сколько пожелают.136
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
225
Не только Шоу был уверен в том, что советские заключенные находят условия в тюрьме настолько приятными, что неохотно покидают ее после отбытия срока заключения. «Советский метод переделки человеческих существ так хорошо известен и эффективен, — писала Анна Луиза Стронг, — что теперь уголовники от случая к случаю сами обращаются с просьбой о признании их виновными ».137
Д. Н. Притт сообщал, что «существует несколько типов тюрем, большинство которых практически нельзя называть тюрьмами, потому что они представляют собой открытые или полуоткрытые лагеря, либо совершенно открытые коммуны или колонии. Закрытая тюрьма... станет, как ожидается, воспоминанием прошлого уже через несколько лет». Как и большинство его заезжих соотечественников, Притт находил, что «здесь нет ни одного ограничения или сколько-нибудь серьезной меры, проистекающих из чрезмерной регламентации жизни множества английских заключенных...». В таких условиях проявление рецидивов опускается до «пренебрежимо малых долей» и никакое пятно позора не ложится на освобожденного заключенного. Контингент наиболее прогрессивных тюремных поселений едва ли можно было отличить от обычных деревенских жителей, и многие заключенные относились к освобождению с неохотой: «Мало удивительного в том, что основная часть населения такой „тюрьмы“... предпочитала продолжать жить в ней, воспитывая собственных детей в том окружении, которое помогло им вернуться к нормальной жизни... Мало удивительного даже в том, что один видный чиновник Министерства юстиции провел три месяца в одной из этих „тюрем“ в качестве обычного ее обитателя, чтобы собственными глазами посмотреть, насколько это ему понравится».138
Мэри Колкотт побывала в трудовом лагере, учрежденном в районе строительства канала Москва-Волга и писала: «Я так и не заметила, что могло удержать людей в этом лагере, если бы они не пожелали в нем остаться. Насколько я знаю, любой каторжник мог сбежать оттуда без труда, если бы захотел».139
Таким образом, в советских тюрьмах была не только необычайная свобода, но и убежать из них было очень легко. Вряд ли визитеры видели какую-то охрану, а если случайно им на глаза и попадался кто-то из охранников, то при нем не было оружия. Многие посещавшиеся паломниками тюремные учреждения не имели стен, не были окружены заборами и сторожевыми башнями. Система тюрем всячески демонстрировала доверие к себе. Пребывание в советских исправительных учреждениях считалось полезным для становления характера, обретения умения жить разумом, оздоровления тела и получения переполняемого
226
Пол Холланлер
радостью опыта жизни для каждого, кто бы в них временно ни содержался. После осмотра одной женской тюрьмы Дж. Б. Шоу высказал мнение, что «ни одной из этих женщин не было бы лучше, будь она невиновной личностью, вынужденной зарабатывать на жизнь на английской фабрике», и утверждал, что пребывание в советской тюрьме — «привилегия» по сравнению с заключением в тюрьмах капиталистических стран.140 Господину и госпоже Ламонт встречались заключенные, которые уверили их в том, что вовсе не ощущают себя живущими в тюрьме.141
Могло ли заключенным прийти в голову жаловаться, отбывая срок в таких изумительных условиях? Принимая во внимание отличительные качества человеческой натуры и умение некоторых людей находить изъяны в чем угодно, вероятность этого исключать было нельзя. Немецкая студентка Ленка фон Кёрбер, изучавшая советские тюрьмы, задала одному штатному тюремному служащему вопрос: «Выражают ли заключенные неудовольствие?» Ей ответили: «Естественно, они бывают чем-то немного недовольны, но очень редко. Наши заключенные не ограничиваются в праве подавать жалобы».142
Реальный опыт посещения советских тюрем, трудовых лагерей или исправительных трудовых колоний был не чем иным, как моментальными кадрами идиллии. Зачастую у визитеров возникало ощущение — в этом нет и намека на иронию, — что все-таки существовало небольшое различие условий существования внутри тюремного учреждения и вне его пределов.143
Мэри Колкотт увидела в тюрьме в Сокольниках заключенных, которые «разговаривали и смеялись во время работы, явно чему-то радуясь. Это было первое мимолетное впечатление от той неформальной атмосферы, которая преобладала повсюду и которая заставляла нас с некоторым удивлением всматриваться в подобные случайные сцены, то и дело обращавшие на себя внимание. Это ощущение усилилось, когда мы вошли в зал, где играл хороший пианист, а поодаль от него или облокотившись о рояль непринужденно стояли люди, наслаждавшиеся музыкой». В ходе посещения тюрьмы она обратила внимание на взаимоотношения «обслуживающего персонала» (охранников) и заключенных: «Казалось, их присутствие воспринималось заключенными не как напоминание об ограничениях, а как демонстрация товарищества».* «Когда мы покидали двор, произошел
* Примерно так же внимание Ласки «привлекли изумительные отношения между заключенными и тюремными надзирателями и общее настроение людей, которые жили полезной жизнью, не ограниченной этой пыткой отделения от права считать себя личностью, пытки, которая является доминантной особенностью нашей собственной системы».144
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
227
инцидент, который произвел на нас громадное впечатление. Из цветника вышел мужчина [один из заключенных] с охапкой цветов, которые он пожелал подарить одному из членов нашей группы... Он сделал это так, будто принес букет из собственного сада». По предложению прокурора, сопровождавшего эту группу, все проследовали в зал, где и на этот раз «преобладала неформальная атмосфера, существо которой трудно определить словами. Люди возбужденно разговаривали приглушенными голосами, продолжала звучать музыка, прокурор и начальник тюрьмы стояли, облокотившись о рояль... Было трудно поверить, что это в самом деле тюрьма сколько-нибудь серьезного типа. Всюду были явные признаки... готового начаться выступления самодеятельности местных талантов. Программа была с изюминкой и исполнялась с удовольствием». Снова выйдя во двор, «некоторые заключенные продемонстрировали свои атлетические способности и мастерски упражнялись на гимнастических брусьях. Все, что они делали, не было омрачено никакой внутренней тревогой».
Некоторые сцены и впечатления повторились в Московско- Новинской женской тюрьме. Девушки весело болтали и смеялись, тоже «не сдерживая себя в присутствии обслуживающего персонала и начальницы тюрьмы... В прощальном слове одна из наших хозяек сказала: „Хотелось бы погостить в тюрьме Америки, где та же свобода, какую вам показали здесь“». В Болшевской трудовой коммуне доктор Колкотт просто растерялась, «не зная, как назвать это место. Сказать, что это тюремное учреждение, означало бы вводить в заблуждение...». Здесь даже больше, чем в других учреждениях, которые она посещала, «принцип „доверия“ поддерживался подобно сияющему факелу, зовущему недоверчивых юнцов».145
Ленка фон Кёрбер вынесла из посещения этой тюрьмы те же впечатления, что и доктор Колкотт. Она тоже обратила внимание на неразрывную общность тюремной жизни с внешним миром. Например: «Все русские заключенные охвачены общим порывом, и большинство из них работает крайне упорно и не теряет ни минуты». Во время одного из своих посещений женской тюрьмы в Перми она оказалась свидетельницей вручения наград отдельным работницам:
Бригады выступили вперед под туш оркестра. Одна заключенная торжественно передала другой «Красное знамя». Затем четвертой бригаде был вручен деревянный щит с нарисованной на нем черепахой, потому что она отстала в соревновании. Но представительница этой четвертой бригады, молодая цыганка... с горевшим пламенем взглядом заявила, что в ее бригаде черепаха надолго не задержится и в скором времени они завоюют «Красное знамя».
228
Пол Холланлер
Даже в Тюменской тюрьме, неподалеку от Свердловска, Кёр- бер обнаружила, что «большинство заключенных... вовсе не выглядели унылыми, что меня озадачило, потому что это закрытое учреждение и, кроме того, пересылочный пункт для заключенных... подлежащих отправке в дальние колонии Сибири. Несмотря на проводимую образовательную работу и элементы самоуправления, в закрытых тюрьмах неизменно встречаются люди, которые выглядят подавленными и явно страдают под гнетом мыслей о заключении. Возможно к отсутствию видимой подавленности заключенных Тюменской тюрьмы какое-то отношение имел удивительно чистый, бодрящий воздух».146
Гарольд Ласки тоже восхищался не только основополагающими принципами тюремной политики, но и их отражением в условиях жизни заключенных, которых ему довелось видеть во время поездки:
Заключенный... должен жить полной жизнью, жизнью, позволяющей не терять самоуважение. Все заключенные заняты нормальной производственной работой, и все получают заработную плату. Они имеют право на выходные; им щедро дозволяются посещения; их привилегия писать и получать письма практически не ограничена и не подвергается цензуре... Ни у кого из тех, кому довелось увидеть русскую тюрьму и сравнить этот опыт с посещением тюрьмы в Англии, не оставалось сомнения в том, что преимущество целиком на стороне русских. Заключенные, с которыми я разговаривал, были... людьми, преодолевающими самих себя... Они не выглядели дисциплинированными машинами. Они постигали значимость регулярного труда. Их не заставляли чувствовать себя отторгнутыми от внешнего мира. У них не было ощущения постоянного надзора недружественного глаза. В них не было ни скрытности, ни страха. Я полагаю, как ни посмотри, это великое завоевание, которое много говорит в пользу теории, положенной в основу такого отношения к заключенным.
Он отмечал, что
степень, до которой здесь полагаются на честность заключенных, тоже дает превосходный эффект. Отпуск домой без сопровождающего, отсутствие цензуры переписки, право принимать посетителей без надзора, устранение всего, что создает постоянное ощущение унижения, которое, как я уверен, является одним из наиболее пагубных качеств нашей собственной системы.147
Фактически не было ни одного аспекта тюремных условий и политики уголовного права, который не принимался бы такими визитерами с энтузиазмом. Культурные, образовательные и оздоровительные стороны были в числе одобрявшихся наиболее высоко. Например:
Заключенные имеют возможность погрузиться в абсолютную тишину читален, где их ждет богатое разнообразие газет, периодики и книг.
В тюрьме на Таганке один из сотрудников с большой гордостью показал громадное поле диких цветов, которые украшали спортивную площадку.
...Заключенные-зрители настроены весьма критически, и, если пьеса скучная, организаторы призываются к ответу... Далее претензия предъявляется драматическому кружку, который сделал неудачный выбор, их просят впредь относиться к этому более внимательно.148
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
229
Радио, классы повышения культурного уровня и профессионального обучения, занятия спортом, книги, драматические кружки, концерты для заключенных и представления самих заключенных, собственная газета, непременной особенностью которой является право заключенных выражать свои претензии, — и все это носит универсальный харакет.149
Много похвал доставалось вовлечению заключенных в общественную деятельность:
Администрации тюрем, так же как другие власти, ответственные за политику уголовного права Советского Союза, придерживаются мнения, что развитие общественной деятельности в среде заключенных дает блестящие результаты социальной природы. Они подчеркивают успех «книжного субботника» (отчисления дневного заработка на книги), который принес 100 000 рублей... Другим примером, демонстрирующим дух добрых устремлений, был сбор среди узников тюрем 31 818 рублей на строительство самолета, который они подарили воздушному флоту.*’ 150
Поскольку паломники считали советские попытки исправить заключенных успешными, нет ничего удивительного в том, что в 1930-е гг. многое из официальной точки зрения Советов получило одобрительное толкование:
Советские власти ожидают постепенного исчезновения преступности по мере того, как в жизни советских людей все более прочное место будет занимать менталитет, вырабатываемый социальной системой. Поскольку преступность, с марксистской точки зрения, возникает на почве конфликтов классов эксплуататорского общества, она канет в забвении следом за разделением на классы и эксплуатацией... Трудовые лагеря, которые вытеснили тюрьмы, изживают сами себя, потому что уже «излечивают» своих обитателей, но еще больше по той причине, что нормальная свободная жизнь советского общества становится прочной и достаточно процветающей, чтобы оказывать непосредственное регенеративное влияние на людей, которые остаются социально неприспособленными.151
Надеюсь, нет надобности аргументировать или документально доказывать, что советские власти преуспели в деле создания у многих визитеров впечатления, которое почти целиком противоположно тому, что мы узнали о контингенте советских тюрем от самих бывших обитателей этих учреждений. Это их достижение было результатом не только тщательно организуемого обмана (на котором более детально мы остановимся ниже), но и наивности паломников, их предрасположенности видеть в советском обществе только хорошее — именно этими факторами объясняется большинство полученных ими впечатлений. Следовало бы рассмотреть и некоторые другие факторы, хотя точно определить их воздействие нелегко. Во-первых, необходимо заметить, что ряд посещений мест заключения, о которых сообщалось, относится к началу 1930-х гг., когда получившая наибольшее
* Имей доктор Колкотт более тесное знакомство с различными средствами и проявлениями «добровольности» в Советском Союзе — будь то «добровольное» жертвование денег или бесплатный труд, — она могла бы вынести из «книжного субботника» иные заключения.
230
Пол Холланлер
освещение политика уголовного права 1920-х гг. еще полностью не отметалась, поскольку дело касалось неполитических правонарушений,152 (Серьезные попытки реабилитации политических заключенных или обращения с ними в рамках минимума приличия так никогда и не предпринимались.) Во-вторых, визитерам, как правило, показывали неполитических правонарушителей (хотя они обычно верили, что их условия жизни не отличались от тех, в которых находились политические узники),153 обращение с которыми всегда было лучше, чем с политическими заключенными.
Необходимо отметить одно важное исключение. Строительство Беломорканала было тем местом, где политические заключенные работали и которое показывали зарубежным гостям. Это был проект, потребовавший от советских властей приложения максимума усилий для публичного представления миру отдельно взятого примера реабилитации посредством труда. На эту тему была написана не только советская пьеса,154 но и еще тридцать четыре советских писателя (включая такие знаменитости, как Горький, Вера Инбер, Катаев, Алексей Толстой, Зощенко и другие) коллективно сотворили то, что в наши дни могло бы быть названо документальным романом. В предисловии к его английскому переводу редактор Амабел Уильямс-Эллис писала: «Мы впервые рассказываем о том, что происходит в русском трудовом лагере...» И далее: «Эта повесть о выполнении трудной инженерной задачи посреди девственных лесов десятками тысяч врагов государства, охранявшихся, если это можно назвать охраной, всего тридцатью семью офицерами ГПУ, — одно из превосходнейших произведений такого рода, когда-либо появлявшихся в печати».155
Супруги Вэбб тоже ощутили зов необходимости прокомментировать строительство Беломорканала и сделать ряд общих выводов:
Этот самый последний пример конструктивной работы ОГПУ поразит британского или американского студента, изучающего общественные институты, еще в большей мере, чем проведенная этим ведомством реформа тюрем или его работа по спасению детей...
Эти каторжники, отбывающие свои сроки наказания, оказались на высоте положения. Понимая, что им доверена работа громадной общественной значимости, они втянулись в «социалистическое соревнование»... в том, кто переместит больше земли, спрямит наибольшую длину гранитной стены... за определенное количество часов или дней...
Приятно думать, что успеху ОГПУ было официально выражено самое теплое признание не только за осуществление грандиозного инженерного подвига, но и за достижение победы в деле полного обновления человека.156
В этом проявилось неподражаемое сюрреалистическое качество глубокомысленных наблюдений четы Вэбб. Этому качеству
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
231
они обязаны своими более серьезными заблуждениями в отношении советского общества, чем заблуждения других паломников. Их видение ОГПУ (советской политической полиции, ныне именуемой КГБ) представляло собой некую уникальную смесь невинности и непреднамеренного умаления карательной роли этого ведомства. Вот лишь несколько иллюстраций проявления этого их качества. Испытывая трепет перед «крепким и профессионально квалифицированным правовым департаментом», они утверждали, что «когда они [работники ОГПУ] наносят удар, то бьют наверняка и крепко. Их судебное решение практически непотопляемо».* Они без колебаний приписывали свои оценки этой уникальной полицейской силы и большинству населения Советов: «Здесь теперь, как мы думаем, мало или вовсе нет признаков общего неодобрения [ОГПУ] у 4/5 народа, который состоит из рабочих, собственными руками поднимающих промышленность или сельское хозяйство, ни в отношении продолжения его существования, ни в отношении решительности его действий...» Они с готовностью заключают свой анализ этой многоцелевой организации не чем иным, как напоминанием, что в число «других функций этого обширного правительственного управления входят важные социальные сферы деятельности, обслуживаемые его облаченным в форму штатом, а на достижения в деле реформирования характера граждан ныне направляется более солидная доля работы, чем на уголовное преследование или вынесение смертных приговоров».158 И все же супруги Вэбб принимались всерьез не только в то время, когда писали приведенный выше отчет, но и по истечении десятилетия, а их влияние не ограничивалось соратниками-фабианцами. Владимир Де- дье, югославский писатель и бывший помощник Тито, вспоминал о воздействии их творчества на его политическое мышление во время процессов чисток, когда он впервые усомнился в советской системе: «[Я] цеплялся за надежду, что все хорошо кончится. Как раз в это время, в 1938 г., Сидни и Беатрис Вэбб опубликовали новую редакцию своего большого исследования Советского Союза. Подзаголовок первого издания был таким: „Новая циви¬
* Примерно в то же время Магеридж сообщил о следующем разговоре американского репортера Ральфа Барниса с советским представителем ГПУ: «Другой удачный ход Барниса... состоял в том, чтобы добиться интервью с кем-нибудь из тех, кто предположительно занимал высокий пост в ГПУ. В ходе беседы Барнис задал наивный, но фундаментальный вопрос: «Почему получалось так, что в СССР брали под арест невинных людей?» Работника ГПУ это повергло в такой, казалось, неестественный хохот, что он довольно долго не мог успокоиться, чтобы ответить без смеха. «Конечно мы арестовывали невиновных людей, — заговорил он наконец, — иначе никто бы не боялся. Если людей арестовывать только за особо скверное поведение, то все остальные будут чувствовать себя в безопасности и дозреют до государственной измены».157
232
Пол Холланлвр
лизация?“ Во втором издании он был напечатан без знака вопроса. Я корил себя за собственный образ мыслей: „Видишь, какой ты подозрительный интеллектуал. Тебе преподают урок — и не кто-нибудь, а демократы-социалисты... — значит, не может быть сомнений относительно перспектив развития демократии в Советском Союзе“».159
Нет нужды говорить, что влияние Вэббов было громаднейшим и в собственной стране, где, несмотря на квазирадикалист- ские взгляды, они занимали прочное положение в обществе, а их останки покоятся в Вестминстерском аббатстве вместе с останками других великих сынов и дочерей британской нации.*
Восхищение хорошей работой ОГПУ (или его предшественниками и преемниками) не было привилегией только супругов Вэбб. Их друг Дж. Б. Шоу от всей души одобрял даже его нереформаторские деяния: «Мы не можем позволить себе моралистическую манерность, когда наш самый предприимчивый сосед [СССР]... гуманно и справедливо ликвидирует горстку эксплуататоров и спекулянтов, чтобы сделать мир безопасным для честного человека».161
Джером Дэвис, социолог, профессор Йельской школы богословия, всю жизнь остававшийся другом Советского Союза, дал приведенную ниже характеристику главе этой замечательной организации:
Лаврентий Берия, бывший до недавнего времени комиссаром внутренних дел, руководил работой полиции безопасности, аналогичной нашему ФБР. Лысый, в очках, он похож на бывшего архитектора. При его относительной недоступности и редком согласии на интервью понимание того, насколько он успешный администратор, зависит от вашей осведомленности о том, сколь незначительными были диверсии и шпионаж в Советском Союзе в военное время.162
Ошибочное суждение о характере советских тюремных учреждений и политике уголовного права было не только результатом благоприятной предрасположенности, сколь бы определяющей она ни была. Паломникам фактически показывали ряд оставлявших хорошее впечатление исправительных учреждений, в результате чего их познавательные ожидания обретали вещественную форму; их доверие и полученный опыт приятным образом соединились. Могли ли они подозревать, что им демонстрировали исключение, а не правило, причем вряд ли типичное для тюремной системы в целом? Они не были склонны в чем-то подозревать своих хозяев или «совать нос в их дела», как называл это
* Высокое положение и влияние Вэббов отражает также факт выхода в свет сборника хвалебных статей вскоре после их смерти. См.: Margaret Cole, ed., The Webbs and Their Work, London, 1949. Более непочтительными были воспоминания Малькольма Магериджа и Бертрана Рассела.160
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
233
Оуэн Латтимор. Они хорошо относились к режиму, и поэтому им было нелегко допустить, что они стали жертвами тщательно спланированного обмана. Применявшиеся в таком масштабе приемы гостеприимства, включавшие в себя посещение образцовых тюрем, были новинкой в историческом плане. Хорошо организованные усилия советского режима на создание у иностранцев хорошего впечатления, были поистине новаторством, направляемым громадным аппаратом пропаганды, а его дотошное внимание к деталям — явлением и незнакомым, и непостижимым для большинства гостей.163 Хотя студенты, изучавшие русскую историю, знали о потемкинских деревнях (сооружавшихся не для иностранцев, а для монаршей персоны), идея столь тщательно продуманных манипуляций была в то время чуждой как западным интеллектуалам, так и более широкому общественному мнению. Особенно трудно было представить себе, что образцовые тюрьмы или трудовые колонии могли быть всего лишь моделями, предназначенными не для обычного использования, а в качестве специальных экспозиций, ориентированных на создание общественного мнения за границей и в собственном отечестве. Возможно, такие учреждения-выставки отчасти создавались и для удовлетворения более идеалистических представлений самих советских лидеров, для доказательства того, что новаторство в деле создания гуманных институтов, в конечном счете, имело место. Подобные факторы могли приниматься в расчет различными западными интерпретаторами московских судебных процессов. Какими бы неправдоподобными, фактически абсурдными ни были эти заговоры и признания, многие западные интеллектуалы не были готовы постичь суть этих тщательно продуманных, сценически прекрасно поставленных, нравоучительных, показательных судебных процессов.
В конце концов никто, во всяком случае никто из интеллектуалов, гордившихся своим умением разглядеть любую подтасовку, не хотел признать себя способным не заметить обман. Для большинства паломников было невыносимо даже представить себе возможность того, что их справедливые оценки, формировавшиеся во время их поездок за фактами-открытиями, были продуктом циничных манипуляций тем, что они видели собственными глазами, и тем, что им предлагалось испытать на собственном опыте. Таким образом, доверять или не доверять было еще и вопросом сохранения самоуважения.
Дополнительный свет на этот процесс восприятия проливает необычная, но обнажающая суть вещей история с польским социалистом, которому довелось увидеть сценическое представление советских исправительных учреждений, дававшееся в угоду
234
Пол Хо лла нде р
иностранцам, и взглянуть изнутри, со стороны обитателей этих учреждений. Ежи Гликсман побывал в Советском Союзе в 1935 г. в составе группы, принимавшейся «Интуристом». Несколькими годами позже, после германо-советского договора и совместной нацистской и советской оккупации Польши, он оказался в числе десятков тысяч поляков, отправленных в советские трудовые лагеря. Многое в его книге посвящено описанию лагерного опыта, но есть одно отступление, возвращающее читателя к поездке 1935 г., когда он побывал на экскурсии в образцовую тюрьму в Болшево под Москвой. Эти его воспоминания заслуживают более пространного цитирования, так как они уникальны в двух отношениях. Во-первых, не исключено, что Гликсман — единственный человек, которому выпало ощутить на себе двойное воздействие советской тюремной системы: сначала в качестве гостя, которому показали витрину, а затем в роли обитателя «реального воплощения» этой системы. Во-вторых, его отношение к своему посещению, вероятно, уникально в том смысле, что содержит в себе критику, хотя и задним числом, а также аналитическое описание самой экскурсии. Кроме того, это и одно из наиболее детальных сообщений такого рода, которое помогает нам получить более общее представление о технике гостеприимства, причем не только в том, что имело отношение к контингенту тюрем.
Я ждал поездки в лагерь-тюрьму в Болшево с огромным нетерпением. Ни «Интурист», ни БОКС обычно не включали такие визиты в планы своих экскурсий. Я был уверен, что удостоился особой привилегии.
И в самом деле, я поехал в лагерь с группой без труда узнаваемых людей, включая корреспондентов крупных зарубежных газет, нескольких писателей, художников, руководителей рабочего движения и других... Моим непосредственным соседом в шикарном автобусе «Интуриста»... был известный мексиканский художник. Большая часть разговоров во время поездки касалась того, как хорошо, что советские власти не боятся показывать иностранцам даже места заключения уголовников. Какое другое правительство в мире с такой легкостью согласилось бы на организацию подобного визита?..
Мы добрались до Болшево довольно быстро... Наш автобус въехал в очень милый парк с бесчисленным множеством деревьев и цветочных клумб...
Наш осмотр начался с того здания, где находились спальные помещения обитателей тюрьмы. Мы увидели прекрасные кровати и белое постельное белье, замечательные умывальные помещения.
Все было безукоризненно чистым...
Затем мы побывали в разных производственных цехах... В каждом из них выполнялась своя работа, заключенные делали выбор по собственной воле...
Молодые люди работали энергично и с интересом. Наше появление не производило на них никакого впечатления — они явно привыкли к таким визитам...
Наконец, нас привели в большой обеденный зал. На обед нам подали ту же пищу, которая была приготовлена для обитателей лагеря; она была вкусной и питательной...
Как бы невероятно это ни звучало, лагерь не охранялся, и ворота стояли открытыми.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
235
Слушая речь экскурсовода, подчеркивавшего два основных принципа, следованию которым проникнута вся деятельность этого учреждения, а именно, самоуправление и добровольность, автор
заметил слезы на глазах пожилой английской леди. Это были слезы признательности и радости. «Поразительно! Поразительно!» — не переставала она повторять.
«Каким красивым может быть мир!» — шепнул мне на ухо сидевший подле меня французский кинорежиссер.
Наш гид предложил нам нечто еще большее. «Я хочу, чтобы вы поверили моим уверениям, — сказал он нам. — Я приглашу в эту комнату группу молодых людей и оставлю их здесь с вами одних!»...
Обитатели лагеря повторили почти все, что нам только что говорил наш гид. Мы счастливы в этом лагере, говорили они. Здесь все идеально, ничего лучшего и не может быть...
Наш визит в Болшево занял почти целый день. На обратном пути участники экскурсии живо обменивались мнениями об этом удивительном учреждении. Лицо экскурсовода светилось радостью.
«Если вы не устали, — сказал он нам, — сегодня мы можем посетить еще одно учреждение, причем такое, которое позволит вам составить полную картину наших воспитательных домов. Я предлагаю посетить такой дом для бывших проституток».
Мы, конечно, с энтузиазмом приняли предложение.
Заведовавшая этим воспитательным домом пожилая, полноватая, интеллигентного вида женщина приняла нас крайне дружелюбно. И какой доброй оказалась судьба! Она говорила на английском, немецком и французском языках.
Она давала нам пояснения о работе своего воспитательного дома с предельной деликатностью.
«Таким способом Советский Союз борется с этой чумой и стыдом человечества, проституцией». Представитель БОКС города подчеркнул: «И не с помощью грубых полицейских методов, к которым прибегают в ваших капиталистических странах, а исключительно посредством надлежащего образования!»
Гликсман и некоторые другие экскурсанты недоуменно поинтересовались, нет ли у этих некогда павших женщин ощущения униженности перед пристально разглядывающими их визитерами. «Одна молодая женщина из числа обслуживающего персонала заверила нас: „Это не имеет значения. Они привыкли к таким визитам. Иностранные туристы бывают здесь почти каждый вечер“».164
К счастью, у нас есть и другие опубликованные сведения о советских трудовых лагерях, которые освещают различие между взглядом снаружи и изнутри. В предлагаемом примере об этих двух ракурсах видения сообщает не одно и то же лицо, однако речь ведут об одном и том же тюремном учреждении два побывавших в нем визитера и одна заключенная, которой запомнился их визит. Дело было в 1944 г., а место действия — Магадан (областной город, «столица» Колымы на севере советского Дальнего Востока), одно из мест заключения и принудительных работ, пользовавшееся наиболее дурной славой.165 В отличие от
236
Пол Холланлер
Болшево, в этом городе не планировалось строить образцовый тюремный лагерь, поэтому в угоду важным гостям было необходимо превратить его в таковой либо сделать, по крайней мере, достаточно представительным. Важными гостями были Генри Уоллес, вице-президент Соединенных Штатов, и сопровождавший его Оуэн Латтимор, профессор университета Джонса Хопкинса. Их опыт знакомства с действительность оказался иным, чем обычно приобретали другие визитеры (которые осматривали и благосклонно комментировали тщательно подобранные исправительные учреждения), в том отношении, что во время своего визита Уоллес и Латтимор так и не поняли, что находились в самой середине громадного комплекса трудовых лагерей. (Подобное произошло еще ранее с Дж. Б. Шоу, которого доставили в район лесозаготовок под Архангельском, где он должен был удостовериться, что на этих работах не использовался рабский труд. «Метод убеждения заключался в снятии колючей проволоки, демонтаже башен для часовых и отправке заключенных в глубь леса на несколько дней... Метод оказался эффективным».)166 Уоллес писал:
В Магадане я познакомился с Иваном Федоровичем Никишовым, русским, директором «Дальстроя» (строительного треста Дальнего Севера), который представляет собой что-то вроде комбинации TVA и «Hudson’s Вау Company». На стеллаже в его кабинете были разложены образцы рудоносных скальных пород этого региона... Никишов сиял энтузиазмом [говоря о камнях], и Гоглидзе [его помощник] шутливо заметил: «Он сам не свой от всего, что находит вокруг. С ресурсами „Дальстроя“ под своей командой, он — настоящий миллионер». «Мы с огромным трудом вгрызались в это место, чтобы заставить его работать, — сказал Никишов. — Двенадцать лет назад сюда прибыли первые поселенцы и поставили восемь разборных домиков. Сегодня в Магадане 40 тысяч жителей и у всех хорошее жилье».
После этого знакомства группа Уоллеса «двинулась на север по Колымскому тракту до Берельяка, где нам показали два золотых прииска. Предприятие произвело на нас большое впечатление. Оно развивалось значительно энергичнее, чем в Фейрбэнксе [на Аляске], хотя условия здесь были более трудными...». Он продолжал:
Мы отправились пешком в тайгу... Лиственницы только что выбросили свои первые зеленые перья, а Никишов резвился словно ребенок, наслаждаясь удивительным великолепием воздуха... Колымские шахтеры-золотоискатели — крепкие молодые здоровяки, приехавшие на Дальний Восток из Европейской России. С некоторыми из них я поговорил.
Уоллес также вспоминал, как был приглашен в Магадане на «необычную выставку картин-вышивок... выполненных группой местных женщин, которые регулярно собирались суровой зимой по вечерам, чтобы обучаться работе иглой...». Уровень информации, которую он получил об области и ее жителях, не позволил
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
237
Уоллесу догадаться, что эти женщины были заключенными. Что касается служащих войск НКВД (еще одного воплощения политической полиции), приписанных к его группе, то он сообщил следующее: «В путешествии по Сибири нас сопровождали «бывалые солдаты», носившие фуражки с голубым верхом. Все относились к ним с величайшим уважением. Они — работники НКВД... Мне очень полюбился их командир майор Михаил Черемышенов, который сопровождал и группу Уилки».167 Впечатление от Магадана Оуэна Латтимора почти не отличалось от полученного Уоллесом:
Магадан является также частью владения замечательного концерна «Дальстрой» (строительной компания Дальнего Севера), которую можно грубо сравнить с комбинацией «Hudson’s Bay Company» и TVA. Она строит и эксплуатирует порты, шоссейные и железные дороги, эксплуатирует золотоносные шахты и управляет муниципальным хозяйством, включая хозяйство Магадана, где есть первоклассный оркестр и хорошая труппа оперетты.
Во время нашего пребывания Магадан принимал еще и прекрасную балетную труппу из Полтавы... Как заметил один американец, высокий уровень возможностей для приятного времяпрепровождения кажется таким естественным рядом с золотодобычей и при таких больших властных полномочиях.
Грудь господина Никишова, главы «Дальстроя», только что украсила звезда Героя Советского Союза, которой он был награжден за выдающиеся достижения. И он, и его жена разбираются в искусстве и музыке, проявляют к ней одухотворенный интерес, присуще им и глубокое чувство гражданской ответственности.188
Едва ли удивительно, что все эти вещи выглядели совершенно иначе для тех, кто длительное время оставался постоянным жителем тех мест. Элинора Липпер, бывшая заключенная, несколько страниц своей книги посвятила воспоминаниям об этом визите Уоллеса и Латтимора, отчеты которых прочитала с некоторым опозданием.
Он [Уоллес] не упоминает, — или не знает, — что этот город был построен исключительно заключенными, работавшими в нечеловеческих условиях... Он не говорит — или не знает, — что магистраль [о которой Уоллес говорит с восхищением] строилась только заключенными и что десятки тысяч этих людей отдали этому строительству свою жизнь...
О задевшем ее самолюбие замечании «Никишов резвился» она говорит:
Очень жаль, что Уоллес никогда не видел его «резвящимся» во время пьяных буйств в лагерях для заключенных, где он сыпал град отвратительных ругательств на головы изможденных, голодающих людей, запирал их в одиночные камеры без всякой на то причины и назначал на работы в золотоносных шахтах по 14 и 16 часов в день...
О картинах-вышивках, выполняемых местными женщинами в долгие зимние вечера, она замечает, что
«группой местных женщин» были заключенные, в большинстве своем бывшие монахини, которых эксплуатировали на этой работе для услады таких высокопоставленных леди, как жена Никишова.
238
Пол Холланлер
В отношении сравнения «Дальстроя» с TVA и «Hudson’s Вау Company» она замечает, что одним из различий было то, что ни в одном из этих двух мест не использовался принудительный труд и рабочих не расстреливали за то, что они отказывались выходить на работу.169
Уоллеса и Латтимора нельзя в полной мере корить за то, что они не разглядели окружавшую их реальность.* Дело не только в том, что они не имели никакого заведомого представления о советской тюремной системе. Их хозяева предприняли совершенно определенные и успешные усилия, чтобы устранить любой намек на истинные обстоятельства жизни в Магадане и на Колыме в целом. Они отнеслись к решению этой задачи со свойственной им тщательностью, и эта их деятельность — один из лучших примеров использования техники гостеприимства. Лип- пер пишет:
Уоллес путешествовал по азиатским уголкам Советского Союза, имея задачу ознакомиться с возможностями советской индустрии. Я не знаю, что он видел в остальной Советской Азии, но на Колыме НКВД справился со своей работой так хорошо, что впору вызывать на бис и осыпать цветами. Уоллес вообще ничего не разглядел в этом морозном аду с его сотнями тысяч обреченных.
Подъездные дороги к Магадану обрамляли деревянные сторожевые башни. В честь Уоллеса эти башни в одну ночь были снесены до оснований.
На окраине города находилось несколько лагерей заключенных, среди которых был большой женский лагерь с несколькими тысячами обитательниц... Каждый заключенный, который отбывал там в то время срок, оказался в долгу у мистера Уоллеса. Потому что благодаря его визиту, заключенные в первый и последний раз имели три выходных подряд. Один в день его прибытия, второй в день его визита и третий в день его отбытия, но заключенным не позволили покидать лагеря. Этого запрета показалось недостаточно. Хотя маршрут для мистера Уоллеса и его свиты был заранее тщательно подготовлен, все же оставалась какая-то вероятность, что визитер случайно заметит заключенных во дворе лагеря, а это могло бы испортить поучительный спектакль. Поэтому, по приказу свыше, все эти три дня заключенным с утра до вечера показывали кинофильмы. Ни один во дворе не появился.
В определенной степени заключенные Магадана рассчитались с мистером Уоллесом, но он, вероятнее всего, об этом не знает. Могло ли ему прийти в голову, что актерами, игрой которых он наслаждался как-то вечером
* В последующем Оуэн Латтимор негодовал по поводу критики его и Уоллеса отчетов об этой поездке в Колымский край. В письме, написанном в 1968 г. в «New Statesman», он не был настроен заниматься самокритикой («Неужели можно предположить, что поездка такого рода — как раз тот идеальный случай, когда полезно сунуть нос в дела хозяев? Может ли кто-то, возвратившийся из такой поездки, быть уверенным настолько, чтобы написать достойный уважения отчет с описанием того, что не увидел?»). Он пошел еще дальше, небрежно высказав предположение, что начальник лагеря Никишов не такой уж тиран («этот „отвратительный Никишов“ ... должен был совершать ошибки, осуществляя контроль»), поскольку Элинор Липпер осталась жива и смогла написать свою книгу. Похоже, он утверждал, что их миссия доброй воли и союзнические отношения с Советским Союзом — достаточно хорошее объяснение для эйфории, отразившейся в составленных им и Уоллесом отчетов. И, наконец, будто предостерегая от дальнейшей критики своего отчета, он попытался напугать возможностью вызова духа «второй волны маккартизма» — исключительно неточное предсказание для конца 1960-х гг.170
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
239
в Горьковском театре Магадана, были, главным образом, заключенные? Он не встретился ни с одним из этих актеров, потому что сразу же после закрытия занавеса их погрузили в грузовики и развезли по лагерям. Встреча с ними могла помешать главному представлению, если бы кто-нибудь из актеров случайно знал английский язык и намекнул мистеру Уоллесу, что он один из сотен тысяч невиновных заключенных, отбывающих десятилетние сроки на Колыме.
И откуда было мистеру Уоллесу узнать, что город Магадан, так быстро возникший в этой дикой местности, был построен исключительно трудом заключенных; что женщины-заключенные таскали балки и кирпичи к строительным площадкам? Он, вероятно, даже не догадывался, что посеял смущение среди мило одетых девушек-свинарок на образцовой ферме в двадцати трех километрах от Магадана, задав им безобидный вопрос о свиньях. Ведь эти девушки вовсе не были свинарками; это была бригада миловидных канцелярских девиц, которым приказали сыграть роль свинарок специально для ожидавшегося в гости мистера Уоллеса. Они просто временно заняли места заключенных, которые постоянно заботились об этих свиньях. Неловкость ситуации исправил сопровождавший Уоллеса переводчик, и визит прошел гладко.
Мистер Уоллес почувствовал удовлетворение, заметив богатый ассортимент русских товаров в витринах магазинов Магадана. Он даже сделал остановку, чтобы осмотреть российскую продукции в магазине и что-нибудь купить. Жителей Магадана появление в одну ночь российских товаров в витринах магазинов удивило больше, чем Уоллеса, потому что в течение предыдущих двух лет весь строго ограниченный ассортимент товаров, которые можно было купить, был только американского производства. Видимо, НКВД пришлось преодолевать неимоверные трудности, чтобы откопать эти товары на самых дальних и строго охраняемых, тайных складах, лишь бы произвести впечатление на мистера Уоллеса... Потом мистер Уоллес уехал домой и опубликовал свой полный энтузиазма отчет о Советской Азии. Сторожевые башни были поставлены снова, заключенные снова отправлены на работу, а в пустых витринах магазинов не осталось ничего, кроме нескольких уныло разложенных грязных спичечных коробков.171
Неправильное, сюрреалистическое видение советского общества визитерами достигает своей высшей точки на фоне приведенного выше образчика освещения тех же событий заключенными. Очевидно, существует не так уж много способов защиты от хорошо спланированного надувательства вне зависимости от того, насколько неординарны сфера его приложения или целевая направленность, но остерегаться предрасположенности, видимо, стоит.
СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЧИСТОК
Неправильность суждений многих западных интеллектуалов о судебных процессах чисток сопоставима по своим масштабам с их неправильным представлением о советских тюремных учреждениях и политике уголовного права. Процессы восприятия действительности были одинаковы в обоих случаях, чем и предопределялось искреннее заблуждение относительно того, что им становилось известно. Их отношение к процессам ничуть не отличалось от отношения к тюремной системе, потому что возни¬
240
Пол Холланлер
кало на общем фоне симпатии к советской системе, включая и симпатию к ее судебным учреждениям. Комментарии Уолдо Фрэнка о судебных (неполитических) разбирательствах, свидетелем которых он был в Ленинграде, демонстрируют сам дух этой симпатии: «Толпа здесь совсем другая. Здесь нет узнаваемых адвокатов; нет судей с тяжелыми подбородками, которые, подметая пыль черными мантиями, чинно удаляются в свои кабинеты в сопровождении плешивых клерков с подобострастно поджатыми губами; нет никаких прилизанных понятых тяжущихся сторон в гражданских костюмах, представляющих одного за другим свидетелей, подкормленных долларами представляемой ими стороны и вышколенных профессиональными манипуляторами человеческими слабостями... Мне стало ясно, что это был первый из всех судов человеческой справедливости, какие я знал».172
Даже когда московские процессы вызывали хотя бы слабое оцепенение или какую-то неловкость, симпатизировавшие Советам интеллектуалы старались ассимилировать такое не очень привлекательное явление (судебный процесс) с общим доброжелательным видением советского общества и затушевать диссонанс между этой досадной частностью и общим целым. Использовалось несколько способов. Джером Дейвис, как и другие, утверждал, что интерес к чисткам и судебным процессам раздут в невозможных пропорциях, тогда как они оказывают мало влияния на уравновешенную и все более утверждающуюся жизнь законопослушных советских граждан:
Всему прочему миру в то время казалось, что Россия окунулась в сплошную атмосферу заговоров, кровавых расправ и чисток. На самом деле это была поверхностная точка зрения, поскольку, хотя остальной мир проявлял болезненный интерес исключительно к этим процессам и ничему другому в России, в них был вовлечен очень крохотный процент населения. Те же годы, на которые пришлись судебные процессы над изменниками, видели ряд величайших побед советского планового хозяйства. Завинчиванию гаек подвергалось крохотное меньшинство, тогда как большинство советских людей радовалось грядущим перспективам и громадной свободе.173
Процессам придавался вид основательных судебных слушаний, поэтому доказательства приводились довольно часто, но даже если их не было, интеллектуалы не позволяли себе умалять великие достижения режима. Дейвис, очевидно, верил, что те, кто «подвергался закручиванию гаек», вполне заслужили такой дискомфорт, но даже если судьба оказалась к ним несколько суровой, это была небольшая плата за приливный подъем удовлетворения всем, что наблюдалось вокруг. (Разве сам Сталин не говорил в то же самое время, что жизнь становится счастливее и радостней?) В том же духе «по случаю обеда, данного в его честь газетой „The Nation“» Андре Мальро заявил: «Так же как
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
241
инквизиция не повлияла на достоинство христианства, московские процессы не умаляют фундаментальное достоинство коммунизма».174
Другие глубокомысленно утверждали, что для поношений состоятельности судебных слушаний не было достаточно твердых доказательств, но даже соглашаясь, что определенные аспекты этих процессов им не очень нравились, они спешили перейти в своих комментариях к заключению, не заботясь о неоспоримости собственных доказательств. Тем, кто поддерживал режим, приходилось также заявлять, что очевидная жестокость и возможные нарушения процессуальных правил были следствием обстоятельств и условий того времени: серьезные внешние угрозы и беспрецедентное напряжение, требовавшееся для быстрой модернизации; необходимость решительных мер против оппонентов правительства. Обвиняемые на процессах, как правило, не тешили себя надеждой отвести обвинение и, в конце концов, во всем полностью признавались.175 Размышления Эптона Синклера о подлинности их признаний были весьма типичными, что видно из его критики точки зрения Юджина Лайонса:
Вы говорите в своем письме об «очевидной фальши этих процессов». Это, конечно, как посмотреть. То, что процессы были «фальшью», вам кажется очевидным, но мне очевидным представляется совершенно противоположное. Я спрашиваю и спрашиваю себя: Какая пытка, какой террор, физический, душевный или моральный заставил их делать такие вещи?
Эти люди вынесли наихудшее из того, что могло с ними сделать царское правительство... Я уверен, что такие большевики скорее позволили бы агентам ГПУ медленно рвать себя на мелкие кусочки, чем признали себя виновными в действиях, которых не совершали.176
Синклер сумел убедить себя и в том, что голод и насилие, ассоциировавшиеся с коллективизацией сельского хозяйства в начале 1930-х гг., были необходимы для предотвращения больших зол в будущем: «Они сгоняли богатых крестьян с земли и отправляли их целыми партиями работать в лагерях на лесозаготовках и на строительстве железных дорог. Возможно, это стоило миллиона жизней — может быть, пяти миллионов, — но этого не постичь разумом, пока не спросишь себя, скольких миллионов мог бы стоить отказ от осуществленных перемен». Он добавляет: «Кое-кто может сказать, что это выглядит, как стремление закрывать глаза на массовые убийства. Неправда. Это всего лишь попытка не мешать развитию революции. В истории человечества никогда не было великих социальных перемен без убийства. Французская революция стоила миллионов [sic] жизней...»177
Дело всего лишь в пылком желании истолковать в пользу советской системы любое сомнение, которое вызывает подобный
242
Пол Холланлер
резонанс. Эптон Синклер и большинство других американских и западноевропейских интеллектуалов не имели какого-то четкого каркаса, на который можно было бы ссылаться при оценке процессов чисток. Не доставало им и воображения, чтобы поразмыслить над способами их планирования и реализации.
Мнение Джерома Дейвиса схоже с соображениями Эптона Синклера в защиту достоверности признаний обвиняемых. Оно сложилось у него как у эксперта, имевшего большой опыт работы в качестве председателя Законодательной комиссии по тюрьмам штата Коннектикут:
Обвиняемых допрашивали в открытом судебном разбирательстве в присутствии представителей со всего мира. Не было тогда и нет сейчас ни единой крупицы доказательств, что кто-то из них подвергался пыткам. Они знали, что стоят перед лицом смерти, и все же не заявляли о своей невиновности, хотя мир был бы склонен поверить именно им. Обвиняемые были бывшими революционерами, которые никогда не давали признаний царскому режиму ради спасения собственной жизни или жизни своих семей. Кроме того, и мистер Притт... и посол Дейвис... говорят, что было совершенно невозможно подготовить поддельные признания обвиняемых таким образом, чтобы все находилось в надлежащем соответствии с остальными доказательствами и показаниям всех свидетелей. Они заявляют, что четырнадцать обвиняемых были просто не в состоянии отрепетировать свои партии заранее и вжиться в роли... даже если бы решили, по каким-то неведомым причинам, принять участие в подобном фарсе.
Опять-таки, стоит задуматься, почему вина заставляет людей сознаваться? Случилось так, что я многие годы был председателем Законодательной комиссии по тюрьмам в штате Коннектикут. Мне довелось видел сотни преступников, которые сознавались, когда доказательства их вины оказывались неопровержимыми.178
Очевидно, до Дейвиса так и не дошло, что дело было не в неумении обвиняемых заранее подготовить свои признания, а в кропотливой и трудной работе обвинявших властей по приведению их признаний «в надлежащее соответствие с остальными доказательствами ».
Анри Барбюс, знаменитый французский писатель, был искренне потрясен тем, что было выявлено на этих процессах: «Какие тайные маневры, какие планы и заговоры!.. Те самые люди, что взрывали мосты и вели подрывную работу в годы Гражданской войны, что еще отсиживались, затаив дыхание, в освобожденной России; те, кто бросал наждачную крошку в машины, кто выводил из строя немногие остававшиеся железнодорожные машины, — те же самые люди клали битое стекло в кооперативные продуктовые запасы в 1933 г.».179 Джером Дейвис сообщал, будто Ягода обнаружил, что кабинет его предшественника Ежова не менее семи раз опрыскивался смесью ртути и кислоты.180 (Оба возглавляли политическую полицию.)
Бертольт Брехт, популярный немецкий писатель и отменный циник в духе Дж. Б. Шоу, дал следующее объяснение процессов:
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
243
Даже по мнению самых заклятых врагов Советского Союза и его правительства, эти процессы отчетливо продемонстрировали существование подполья, активно действовавшего против режима... Мы должны попытаться разглядеть за действиями обвиняемых то, что могло быть их мыслимой политической концепцией, — концепцией, которая завела их в трясину постыдных преступлений... В результате этой ложной политической концепции они оказались в глубокой изоляции и погрязли в постыдных преступлениях. Вся накипь, отечественная и зарубежная, все паразиты, профессиональные преступники и наушники нашли у них пристанище. Цели этой разношерстной толпы оказались идентичными целям обвиняемых. Я убежден, что это правда, и я убежден, что это прозвучит правдой даже в Западной Европе, даже для враждебно настроенного читателя.181
Прекрасную дань советской системе справедливости предложил и Фейхтвангер, лично наблюдавший за процессом Пятако- ва-Радека:
Пока я оставался в Западной Европе, обвинения, предъявлявшиеся на процессе Зиновьева, казались мне совершенно невероятными... Но когда я присутствовал на втором процессе в Москве... я был вынужден согласиться с очевидностью собственных ощущений, и мои сомнения растаяли так же естественно, как растворяется в воде соль.
Невозможно отрицать, что самой отличительной особенностью признаний обвиняемых является их точность и связность...
Не было никаких оправданий, которые позволили бы вообразить, будто что-то на этих судебных слушаниях фабриковалось, искусственно подстраивалось или хотя бы благоговейно воодушевлялось или подогревалось эмоционально. Если существовал постановщик этой сцены суда, то ему нужны были годы репетиций и тщательного натаскивания, чтобы добиться от заключенных точной координации проявления страстей в мельчайших деталях и точного дозирования сдержанности, которая была присуща обвиняемым в выражении своих эмоций.
Из желания еще больше прояснить аспекты этих судебных разбирательств, которые действительно могли озадачить западного наблюдателя, он прибег к использованию блистательной параллели:
Имело место некое общее чувство, которое давало судьям и обвиняемым возможность действовать заодно в стремлении к единодушно признаваемой цели, — чувство в чем-то родственное тому, которое в Англии связывает правительство с оппозицией настолько тесно, что лидер оппозиции получает от государства заработную плату в сумме двух тысяч фунтов стерлингов.182
Такую же убежденность обнаружил Уолтер Дюранти (репортер нью-йоркской газеты «Times»):
Ни у кого, кто слышал Пятакова или Муралова, не могло ни на мгновение возникнуть сомнение, будто то, что они говорили, было неправдой или говорилось под нажимом какой-то внешней силы... В их словах звучала истина, и абсурдно полагать или воображать, что люди, подобные этим обвиняемым, могут быть подвержены какому-то влиянию вопреки силе их собственных сердец. Немыслимо, чтобы Сталин, Ворошилов, Буденный и военный трибунал могли приговорить своих друзей к смерти, не имей они неопровержимых доказательств их вины.183
Джозеф Дейвис, бывший в то время послом Соединенных Штатов, тоже присутствовал на процессах и был более чем удовлетворен их неподдельностью:
244
Пол Холланлер
Предполагая, что это слушание — процесс Пятакова-Радека — было подстроено и инсценировано... следует предполагать и творческий гений драматурга на уровне Шекспира, и сценический гений на уровне Веласко.
Что касается процесса Бухарина (на котором он присутствовал без переводчика), то он полагал вину установленной «без всякого сомнения». Эти судебные слушания также показали ему, что «не могло быть сомнения... что кремлевские власти сильно встревожены этими разоблачениями и признаниями обвиняемых». Дейвис верил, что чистки действительно «очистили страну» и «избавили ее от предательства», чем и объясняется, что во время германского вторжения не оказалось пятой колонны. (Он, очевидно, не знал, что немцы без труда завербовали целую армию под командованием генерала Власова). Его замечания о государственном обвинителе напоминают высказывания Гарольда Ласки, который считал этого прокурора много выше его британских коллег и был уверен, что страстью этого человека была правовая реформа. «Генеральный прокурор — мужчина около шестидесяти и во многом напоминает Хомера Каммингса: спокойный, бесстрастный, интеллигентный, способный и мудрый. Он проводит процесс над изменниками в манере, которая завоевала мое уважение и достойна восхищения им, как адвокатом», — писал Дейвис. Кроме того, его подход к обвинению «был лишен всякого запугивания. Было видно, что в этом не было необходимости... [он] вел дело спокойно и в целом с восхитительной сдержанностью».* 184
Джером Дейвис защищал подлинность судебных процессов, даже соглашаясь, что не все признания были искренними. Он писал: «Главное, что эти процессы честны, и эти люди виновны, — и добавлял: «Конечно... в процессах такого рода бывает масса лживых свидетельских показаний. Ничего другого и не следовало ожидать». В конце концов, согласно Оуэну Латтимору, «чистка высших лиц государства показала обычным гражданам их силу даже в способности разоблачать самих себя, и он [Латти- мор] заключает: „Это звучит для меня очень демократично“».186
Хотя образцы реакции на чистки и московские процессы могут показаться ничего не выявляющими, в ретроспективе это
Он имеет в виду именно того Вышинского, который то и дело называл обвиняемых собаками, гадами, крысами, бандитами, дегенератами, паразитами и т. д. Пабло Неруда в своих «Мемуарах» вспоминал о его похоронах следующим образом: «Я выглянул в окно. На улице стоял почетный караул. Что случилось? Даже падающий снег выглядел неподвижным. Это были похороны великого Вышинского. Улицы были безукоризненно чисты, ничто не мешало движению процессии. Внизу установилась глубокая тишина, мирный покой в самом сердце зимы ради великого солдата. Жар Вышинского возвращался к корням его матери, страны Советов».185
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
245
ощущение перестает быть таковым, если не забывать, что вера в неподдельность московских процессов была только составной частью глубоко оберегавшейся интеллектуалами веры в превосходство советской системы в целом. Пока этот атрибут веры оставался неприкосновенным, процессы чисток можно было игнорировать, оправдывать или рационально объяснять. Имела также место еще и некая особая уверенность, дававшая поддержку примирения с самим фактом чисток. Эта уверенность включала в себя веру в честность советских лидеров и особенно Сталина, а также признание основательности политических и правовых институтов принуждения советского общества. Если верили и верили так долго, что «в СССР самая полная и самая уравновешенная демократия в мире»,187 было трудно уразуметь чудовищность того, что вершили власти, затеяв эти процессы. Точно также, если НКВД воспринимался как некая возвышенная организация, было трудно поверить, что это ведомство искусственно мастерит процессы и преследует свои жертвы, обрекая их на лишения в каком-то более широком масштабе. Симпатизировавшие Советам интеллектуалы вроде Джерома Дейвиса не имели за душой ничего, кроме стремления восхвалять бдительность советской тайной полиции. («В поездках по России во время Второй мировой войны я часто задерживался органами НКВД. Я всегда делал комплимент их бдительности в отношении иностранца, который вполне мог оказаться шпионом. В каждом случае я лишний раз убеждался, что для службы в НКВД использовались исключительные люди, подобранные руководителями, имевшие надлежащую подготовку и разбирающиеся в вопросах разведки. Они всегда мгновенно освобождали меня, как только я показывал свой американский паспорт и документы об аккредитации при иностранном отделе».)188
И все же, даже добавляя все это: предрасположенность симпатизировавших Советам интеллектуалов, тщательность сценической постановки судопроизводств, признания обвиняемых, угрозу нацизма в тот период, привлекательность шедшего быстрыми темпами экономического прогресса и других достижений режима, — доверчивость западных интеллектуалов по-прежнему выглядит чем-то пугающим, если упорно придерживаться точки зрения, что интеллектуалы по определению всегда настроены критически и не лишены скептицизма.
Как уже говорилось, объяснение легковерия не должно фокусироваться только на изолированном неправильном восприятии, хотя и весьма показательно, как это явствует из их отношения к тюремной системе и процессам чисток. Для большинства доверчивых визитеров привлекательные особенности советского обще¬
246
Пол Холланлер
ства формировали некий цельный «пакет», который было трудно разделить на части. Они не могли заставить себя думать или говорить, что, например, снижение заболеваемости или детской смертности достойно похвалы, но одновременно дали ясно понять, что чистки и политический террор — вещи недостойные. Тот же, кто восхищался снижением детской смертности, убеждал себя (допуская ряд примечательных оговорок), что судебные процессы тоже имели привлекательные стороны. В некоторых крайних случаях, характерным примером которых является позиция Джерома Дейвиса (и других, таких как Шоу, Хьюлетт Джонсон, супруги Вэбб, Корлисс Ламонт, Гарри Ф. Уорд, посол Дейвис), верующим не приходилось заставлять себя перестать верить.* Они превратились в наркоманов дурных политических пристрастий. Подобно алкоголику, который не может избавиться от тяги к этой социальной выпивке, большинство легковерных из числа симпатизировавших Советам были неспособны потянуть за нужную веревочку. Если он верил в X, почему также не верит в У? Если Джером Дейвис мог верить, что те, кто признавался в преступлениях на московских процессах, были виновны, почему точно так же не поверит, что прибалтийские народы приветствовали аннексию своих территорий Советским Союзом? Почему не считать Советы невиновными в массовых убийствах поляков в Котане? Почему не принять советскую версию того, почему Советская армия остановилась у ворот Варшавы в 1944 г. и позволила нацистам устроить резню некоммунистических борцов польского сопротивления?
* Даже в 1957 и 1959 гг. (вера Джерома Дейвисав советское превосходство над Западной Европой пережила берлинское восстание 1953 г., события в Познани и Венгрии в 1956 г., «закрытое письмо Хрущева 1956 г.) он по-прежнему принимал участие в организации туристических групп, направлявшихся в Советский Союз, и в организации семинаров, на которых советская система приветствовалась надлежащим образом.189 Однако такая цепкость веры была редкостью. Многие другие, мыслившие подобным образом, были склонны находить новые страны для почитания. Уолдо Фрэнк открыл Кубу, другие Китай; Хьюлетт Джонсон во вселенском масштабе поклонялся и Советскому Союзу, и Китаю, а также другим возглавлявшимся коммунистами режимам в Восточной Европе. Точно также У. Э. Б. Дюбуа наносил дружественные визиты в Советский Союз, Восточную Германию, Чехословакию, Польшу, Румынию и Китай.
Имели место и другие признаки полной молодого задора решимости на политические свершения, признаки, которые сродни дурным привычкам — их трудно преодолеть, с ними трудно покончить без церемоний. Самые упорные тенденции в сохранении или тоскливом воздаянии почестей прошлым политическим пристрастиям включают в себя сентиментальное забвение фактов, смущенное оправдание добрыми намерениями результатов, оказавшихся недобрыми, добродушные, сквозящие чистотой усмешки по поводу серьезности грубых ошибок морального свойства, непризнание информации и ряд других приемов.
Эти новые тенденции в представлении политического прошлого этаким милым переживанием в разной степени и различных комбинациях отражены в книгах Вивиан Горник, Джессики Митфорд, Пегги Деннис и других.190
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
247
Пока в общем благосклонные позиции отношения к режиму оставались у интеллектуалов прочными, советская версия всегда пользовалась большим доверием, а недостатки, обнаруживаемые в советском обществе и советской политике, можно было рассмотреть в разрезе «общей ситуации»,* сопоставляя их с (якобы) более исторически значимым попранием свобод где-то в другом месте, которое спокойно воспринимается миром. Конечно, аккумуляция «недостатков», в конце концов, приводила к крушению веры у многих людей или заставляла многих отречься от благожелательной предрасположенности. Но, когда это происходило, никакая часть системы не оставалась далее привлекательной, будь то впечатляющая статистика снижения детской смертности или строительство новой гидроэлектростанции — все это больше не имело никакого значения. Но это другая история. Здесь нас интересуют привлекательные стороны советского общества, что бы это ни было, как бы они ни были связаны друг с другом и как бы долго они ни продолжали существовать.
Неправильное восприятие и неправильное суждение о конкретных институтах или событиях, какими бы колоссальными они ни были, не могут рассматриваться и быть поняты в изоляции от проявления энтузиазма по отношению к системе в целом. Те, кто искал альтернативу своему дряхлеющему и бездушному обществу, оказывались не в силах примириться с пороками противоположной ему модели: либо Советский Союз оставался непогрешимым, невообразимо привлекательным и вселяющим бодрость духа, либо переставал быть интересным во всех своих проявлениях.
МУДРОСТЬ И ЗАБОТА ВОЖДЕЙ
Нет ничего удивительного в том, что те, кто восхищался советской системой, с энтузиазмом воспринимали и ее вождей. Даже интеллектуалы, проявлявшие умеренность в восхвалении главного достижения советского режима, интуитивно чувствовали, что в эгалитарной системе должны быть и лидеры, способные вдохновлять многих. Представляется, что привлекательность вождей оказывала не менее сильное воздействие, чем привлекательность специальных институтов.
* Даже журналу «Life» не составило труда огласить знакомый аргумент: «Если принимать в расчет то, чего СССР достиг за двадцать лет своего существования, позволительно допустить существование определенных недостатков, пусть даже прискорбных». И такие допущения, несомненно, делались. В той же редакторской статье «Life» уверяет своих читателей: «Если советские лидеры говорят, что контроль информации был необходим, чтобы данная работа была выполнена, можно позволить себе принять их слова на веру просто по той причине, что таково было время».191
248
Пол Холландер
Опять-таки, это особенно понятно в разрезе исторических обстоятельств. Хаотическое, «неуправляемое» состояние западных обществ в 1930-е гг. порождало жажду не только ощущения цели, но также и необходимости лидеров, способных обеспечивать движение к цели и персонифицировать ее саму. Среди пилигримов не было согласия в том, какой именно лидер необходим этой системе, но существовало широко распространенное общее представление о его роли и качествах его личности.
Хотя в контексте 1930-х гг. Сталин был ключевым лидером, некоторые паломники высказывались и о Ленине, обычно в связи с обязательным посещением мавзолея. Корлисс и Маргарет Ламонт «[отдавали должное] почтение величайшему вождю России и [черпали] силы в его беспристрастно красивом и решительном лице...».192 Эдмунд Уилсон в не меньшей мере был вдохновлен осмотром мавзолея и обнаружил у Ленина «красивое, изысканно тонкое лицо; и, — что является достаточным доказательством его подлинности, — оно глубоко аристократично... Но это лицо принадлежало аристократу, который аристократом не был, поэту, который не был поэтом, ученому, который не выбрал для себя жизнь ученого».193
Аристократические черты Ленина произвели впечатление и на Шоу. После своего посещения мавзолея он заявил: «Чисто интеллектуальный тип... вот настоящая аристократия...»194 Уверенность в привлекательности черт Ленина усиливалась и четко очерчивалась в силу того обстоятельства, что его не было в живых, поскольку смерть отдаляет человека от его ошибок (или не очень привлекательных качеств), делая то, в чем он преуспел, более видимыми, чем совершенные им ошибки. Кроме того, он был неоспоримым отцом-основателем, личный и организационный вклад которого обогатил фундамент нового общества и стал неиссякаемым источником его законного права на существование. Посредством демонстрации телесных останков вождя-осно- вателя режим проявлял заботу о нем в буквальном смысле слова и канонизировал его. Официальный материализм не противился этому, его преемники старались изо всех сил, чтобы превратить забальзамированное тело в символ вечной жизни его духа. Поэт Маяковский был не единственным, кто носился с этой идей. Среди западных интеллектуалов Пабло Неруда сравнительно недавно так выразил непреходящее «присутствие» Ленина: «Утром 7 ноября я наблюдал демонстрацию народа... Они маршировали уверенным и твердым шагом по Красной площади. Они шагали под присмотром острого взгляда человека, который умер много лет назад, основателя этой их безопасности, этой их радости, этой их силы: Владимира Ильича Ульянова, бессмертного Ленина».196
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
249
Почти неминуемо привлекательность живого вождя, который находился на посту, непосредственно руководил всеми потрясающими социальными преобразованиями, была осенена незримым присутствием этого покойного отца. По этой причине большая часть комментариев отводилась Сталину, а не Ленину, особенно в связи с тем, что некоторые наиболее важные паломники получали возможность встретиться с ним лично. Другие могли видеть его на приемах или хотя бы трибуне, где он стоял так, будто раздавал блага двигавшимся внизу массам.
Сталин сочетал в себе великую силу с очевидной скромностью и простотой, что восхищало многих интеллектуалов (возможно, по той причине, что у них самих и того и другого было мало). Он виделся им возвышающимся над массами, обладающим поистине сверхчеловеческими качествами и все же каким-то образом ухитрявшимся быть с массами и посвящать им всю свою жизнь. Он был персонификацией разрешения конфликта между элитаризмом и эгалитаризмом, обсуждавшегося ранее. Сталин сам говорил об этом так: «Искусство лидерства — серьезный вопрос. Необходимо вести борьбу рядом с движением, не забегая вперед и не отставая, потому что и в том и в другом случае отделяешь себя от масс. Тот, кто хочет вести вперед и в то же время поддерживать контакт с массами, должен бороться на два фронта; против тех, кто задержался позади, и тех, кто поспешил вперед»,196 — формулировка, которая производила впечатление на многих симпатизировавших режиму своей справедливостью, если не точностью.
Во всяком случае, симпатизирующих интеллектуалов не слишком беспокоила опасность концентрации власти до той поры, пока она находится в правильных руках и используется для достижения возвышенных целей. Их первейшей заботой была политическая система, в которой «делается дело». А в Советском Союзе оно определенно делалось. Дж. Б. Шоу писал: «Муссолини, Кемаль, Пилсудский, Гитлер и остальные могут рассчитывать на мое положительное суждение в зависимости от их способности делать что-то хорошее, а не умения округло рассуждать о свободе. Сталин делал хорошее в таких масштабах, какие были невозможны десять лет назад; и соответственно именно перед ним я снимаю шляпу».*’ 197
* Здесь, как и где угодно в других комментариях, Шоу обнаруживает не только свое восхищением Сталиным, но и отношение к диктаторам в более общем плане вне зависимости от их идеологических пристрастий, лишь бы диктатор делал дело. Шоу демонстрирует ничем не прикрытое косвенное приветствие «сильных людей», которые умеют использовать власть практически и со вкусом, не очень ограничивая себя. Линкольн Стеффене и Джон Рид тоже были среди тех, кто переключил свое восхищение с Муссолини на Сталина (или, возможно, дали свою индульгенцию обоим, видя их соответствие друг другу в целом).198
250
Пол Холландер
Хотя власть Сталина производила впечатление на интеллектуалов (не на всех столь же безмятежное, как на Шоу), они зачастую прилагали максимум усилий, чтобы настоять на том, что он не автократор и не деспот. Супруги Вэбб выступали в этом ключе наиболее пылко:
Он [Сталин] не имел даже той широкой власти, которой конгресс Соединенных Штатов временно наделил президента Рузвельта или какую американская конституция доверяет на четыре года каждому следующему президенту.
Далее они утверждали, что «...Сталин не диктатор... он должным образом избранный представитель одного из избирательных округов Москвы в Верховном Совете СССР. Самой этой ассамблеей он избран одним из тридцати членов Президиума Верховного Совета СССР, уполномоченного представлять ассамблею во всех видах деятельности... [Сталин] настойчиво утверждает в своих письменных выступлениях и речах, что как член Президиума Верховного Совета СССР он всего лишь коллега тридцати других его членов и что пока Коммунистическая партия заинтересована в этом, он действует как Генеральный секретарь соответственно уставу партии».199
Такими же были убеждения Хьюлетта Джонсона: «Сталин — не восточный деспот. Его новая конституция доказывает это. Это доказывает его готовность оставить власть. Это доказывает его отказ обрести больше власти, чем он уже имеет. Это доказывает его воля вести свой народ новыми и незнакомыми путями демократии. Было бы легче добавить себе власти и создать автократическое правление».200 Фейхтвангер был уверен, что «реализация социалистической демократии» была «определяющей целью» Сталина.201 Посол Дейвис считал Сталина упорным демократом, не желавшим идти ни на какую уступку автократическим способам правления: «Сталин, как сообщалось,* настаивал на либерализме конституции, несмотря на то, что это было связано с риском для его власти и контроля над партией... Было заявлено, что Сталин сам решил вопросы, касавшиеся планов введения фактически тайного и всеобщего голосования, о котором заявлено в новой конституция».202 Посол несомненно должен бы был согласиться с оценкой И. Ф. Стоуном значения всеобщего голосования: «Здесь только одна партия, но введение тайного баллотирования предлагает рабочим и крестьянам оружие против бюрократических и неэффективных должностных лиц и их политики».203 Согласно Альберту Райсу Уильямсу, американскому писателю, Сталин не проявлял инициативы в деле обретения
* Мы никогда не узнаем, кем это сообщалось, так же как не сможем идентифицировать тех, кто уверял чету Вэбб в том, что тюремная система удовлетворяла народ.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
251
власти: «Никаким государственным переворотом Сталин не захватывал бразды правления, не осуществлял он и произвольного присвоения себе той громадной власти, которую практически осуществляет. Она была дарована ему как Генеральному секретарю коммунистической партии».204 Видимо, Сталин по самому своему темпераменту был неспособен практически осуществлять автократическое правление: «Было бы ошибкой считать, что этот советский лидер настолько своенравный человек, что верит в возможность принудительного навязывания другим своих идей, — писал Джером Дейвис. — Все что он делает, в огромной степени отражает желания и надежды масс». У. Э. Б. Дюбуа думал, что «он [Сталин] не жаждал ни лести, ни мщения. Он был рассудительным и дружелюбным».205
Уникальная комбинация полновластия без автократии была не единственной чертой Сталина, вызывавшей восхищение паломников. Он был еще и хорошим человеком, что давало ему право обладать властью: добрым, простым, хорошего природного склада, непретенциозным и способным на самопожертвование. «У него добрая манера вести себя. Простота его манер едва ли не осуждается, весьма примечательны качества его личности, такие как сдержанность, сила и самообладание в выражении».206
Эмиль Людвиг, немецкий писатель, попав на прием к Сталину, «обнаружил одинокого человека, который не подвержен влиянию ни денег, ни удовольствий, ни даже амбиций. Несмотря на сохранение за собой непомерной власти, он не гордится этим, но это должно давать ему какое-то удовлетворения победы над своими противникам».207 Фейхтвангер считал Сталина «самым непретенциозным» из всех людей, которых знал из числа властителей; советские лидеры в целом «так же хороши, как их мир», они готовы воспринимать критику и «вести себя честно в обмен на честность».208
Посол Дейвис так подчеркивал убедительные аспекты личности Сталина: «Его карие глаза чрезвычайно мудры и доброжелательны. Ребенок был бы рад посидеть на его коленях, а собака украдкой подползти, чтобы он приласкал ее».209 Он был не единственным, кто находил привлекательными исключительно отеческие качества Сталина. Эмиль Людвиг признался: «Я ожидал встретить великого герцога старого режима, сурового, грубого и недружественного. Но вместо этого... я впервые обнаружил себя лицом к лицу с диктатором, заботе которого с готовностью доверил бы воспитание собственных детей».210 Бэббы в том же духе получили примерно такое же глубокое впечатление от того, что мы сегодня могли бы назвать заботливым отношением Сталина. Они цитировали его с откровенной признательностью и без ма¬
252
Пол Холландер
лейшей тени иронии: «Как сказал Сталин, „человека надо растить так же заботливо и внимательно, как садовник выращивает любимое фруктовое дерево“».211
Сталин был не только вежливым и добрым, но также дальновидным и корректным в своей политике: «Преодолевая любое препятствие и оппозицию и добиваясь завершения первого плана, он вывел страну на второй и третий пятилетние планы — и каждый был всеобъемлющим и колоссальным предприятием. Было много тех, кто противился ужасной скорости и темпам, негодовал по поводу твердости предъявлявшихся требований; были и те, кто ставил под сомнение мудрость предприятия в целом. Но они этого больше не делают».212 Те, кто знаком с историей того периода, с готовностью согласятся, что последняя фраза заключала в себе больше истинного смысла, чем автор вкладывал в нее. Уильямс довольствовался своим разумением и не утруждал себя уточнением причин, по которым сомнений в правильности сталинской политики не стало.
Концентрация власти в руках Сталина была еще одним источником удивления паломников. Луис Фишер, например, вспоминал как во время встречи, которая длилась более шести часов (Сталин принимал группу американцев, в которую входил Джером Дейвис), он посвятил все свое внимание гостям, ни разу не покинув помещение и никому не позволив себя потревожить каким-либо сообщением. Но его одаренность привлекала их внимание еще больше, чем концентрация власти. Дж. Д. Бернал разглядел, что Сталин «сочетал в себе, как ни один человек до него, глубокое теоретическое понимание с безупречным мастерством практика... [и] глубоко научный подход ко всем проблемам с присущей ему способностью чувствовать существо дела...».213
Из всех его впечатляющих качеств наиболее сердечной похвалы, вероятно, удостаивалось то, что он был прост и непретенциозен. Хьюлетт Джонсон рассуждал об этих (и связанных с ними) позициях довольно пространно, поскольку удостоился личной аудиенции. Он сообщал, что «Сталин хладнокровен, собран, прост, не теряет чувства юмора, прямолинеен... В его облике не было ничего жестокого или драматичного... просто твердость цели и добропорядочность... Это был человек, который способствовал планированию нового порядка и его установлению в интересах масс... человек, который должен был видеть, что справедливость устанавливается в широком масштабе... которому никакое нападение не могло вселить ужас... человек, который пятидесятилетней преданностью цели создал и утвердил свое имя... Сталин или сталь». Этот настоятель Кентерберийского
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
253
собора скромно и витиевато рассказывал Сталину о своем паломничестве по определенным памятным местам в Грузии:
«Я побывал в Гори... и посетил домик, где вы, ваше превосходительство, родились. Новая постройка из мрамора, которая защищает ваш старый дом, не идет ни в какое сравнение с маленьким домиком, которому оно дало приют.* Сады были во всем цвету. Мне подарили огромный букет роз. Затем я посетил семинарию в Тбилиси, где вы учились, и маленький пригородный дом, в глубине погреба которого вы тайком готовили вашу нелегальную литературу... И, наконец... я стоял с непокрытой головой перед могилой вашей матушки в церкви на крутом склоне, возвышающемся над Тбилиси».
«Моя мать была простой женщиной», — [возразил Сталин].
«Хорошей женщиной», — добавил я.
«Простой женщиной», — повторил он с дружеской улыбкой, которая стала еще шире, когда я добавил: «Часто портрет матери видится в характере ребенка».
Такого тона почитание не был свойственно Джонсону,** хотя он и превзошел партнеров-паломников, но, возможно, по той причине, что, будучи привержен требованиям смирения перед божественным, в данном разговоре перенес эти требования на мирское божество. В ходе той же аудиенции он набрался, наконец, смелости спросить Сталина о 30 русских девушках, которые во время войны вышли замуж за англичан, но им не позволяли воссоединиться с мужьями. Он приступил к этой деликатной теме следующим образом:
«Я говорю, не будучи вполне уверен, и меня одолевают сомнения, потому что мне хотелось бы избежать даже намека на вмешательство в ваши внутренние дела; но этот вопрос, совсем небольшой по сравнению со значительно более крупными делами, однако уместный в силу возникновения болезненного чувства вне пропорций истинного размера самого вопроса, что беспокоит нас, тогда как мы заинтересованы в том, чтобы устранить любую и каждую не определяемую необходимостью причину трений между нашими народами...»
Сталин обменялся многозначительными взглядами с Молотовым (который присутствовал во время этой встречи) и доверительно намекнул, что в эту проблему может быть внесена ясность, хотя, как он сказал, «вопрос будет решать Верховный Совет».215 Настоятель Кентерберийского собора покидал помещение для аудиенции в некотором оцепенении (как явствует из его
* Самое удивительное заверение, поскольку над этим крестьянским домишкой был воздвигнут поистине древнегреческий храм.
** Джером Дейвис тоже распространял почитание с сына на мать. Он действительно встречался с ней (в 1927 г.) и имел длинный разговор о мальчишеских годах Сталина. О ней он говорил: «В ее лице были заметны сила, властная воля и безмятежное спокойствие. Очевидно, она очень гордилась своим сыном...» Среди его ранних свершений она вспоминала, что «однажды он продемонстрировал свое превосходство, обойдя кругом группу деревьев, цепляясь руками за ветки и не касаясь земли ногами; этот подвиг не смог повторить ни один другой мальчишка. Он был очень чувствителен к несправедливости по отношению ко всем нам».214
254
Пол Холландер
воспоминаний), оставшемся от встречи с мудрым, стальным и все же сердечным человеком.
Пабло Неруда в своих «Мемуарах» пытался обобщить значимость Сталина в исторической ретроспективе: «Вот на чем я твердо стою: над темнотой неведомой людям сталинской эры, Сталин поднимался у меня на глазах, добрый от природы человек принципов, сурово воздержанный, какими бывают только отшельники, титанический борец русской революции. Более того, этот человек небольшого роста с громадными усами стал гигантом в военное время».216
Таким был консенсус позиций симпатизировавших Советскому Союзу паломников и 1930-х, и начала 1940-х гг. в отношении кардинальных добродетелей Сталина. Его привлекательные черты были той же высокой пробы, что и черты системы, которую он пестовал. В этом его облике ни один ингредиент не был продуктом неправильного видения или подделки. Сталин действительно обладал громадной концентрацией власти, его манеры были просты, и он хорошо знал предмет, о котором говорил со своими собеседниками из-за границы. Что касается доброты, скромности, терпимости и мягкости, впечатления визитеров были менее чем точны, как явствует из исторических материалов и воспоминаний более близких к нему помощников и современников.217
ОТНОШЕНИЕ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛАМ
Привлекательные черты советского общества, рассмотренные выше, имели совсем незначительное отношение к так называемым личным (или групповым) интересам в том смысле, как эти интересы принято определять. Следовательно, я в праве утверждать, что западных интеллектуалов Советский Союз привлекал, в широком смысле слова, по идеалистическим причинам, за которыми не было личной заинтересованности. Была только одна особенность советского общества, привлекательность которой невозможно объяснить одной только ссылкой на идеализм и альтруистические порывы приезжавших интеллектуалов. Речь пойдет об отношении в Советском Союзе к интеллектуалам в свете его привлекательности для паломников.
Одобрение таких туристов распространялось на несколько обстоятельств. Их заботило положение интеллектуалов в стране и отношение к ним. Важнее всего было то, что их принимали всерьез. Джон Стрэчи писал: «Никому из нынешнего поколения коммунизм не предлагает билет в Утопию. Но он предлагает интеллектуальным работникам любого сорта дорогу к ней,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
255
позволяющую сбежать из парализующей атмосферы капиталистического загнивания в социалистическое окружение, которое даст безграничные стимулы человеческому уму».218 В обществе, где идеи уважались и использовались как оружие, интеллектуалы были ближе к местам при власти, их совета искали, они даже, казалось, разделяли власть. Они были хорошо интегрированы в общество, не жили на самом его краю, словно надутые, зачастую игнорируемые эксцентрики, какими они от случая к случаю представляли себя в западных обществах, где их положение было более двусмысленным. Уолдо Фрэнк чувствовал, что советские деятели искусств и интеллектуалы не были «отрезаны от стержня национальной жизни», как это можно наблюдать во многих странах Запада. Пролетарские писатели, с которыми он встретился на одной писательской конференции, отличались даже своим внешним видом: «В отличие от интеллектуальных писателей эти мальчики и девочки обладали гибкими телами, в их глазах и на устах был знак воли».219
Интеграция в обществе и значимость интеллектуалов осознавал и Эдмунд Уилсон:
В наше время нет параллели... положению Горького в Советском Союзе. В прошлом близкий друг Ленина, он в настоящее время своего рода комиссар литературных дел; и, возможно, ближе к разделению славы со Сталиным, чем любой другой общественно видный человек.
Поездка писателя в Россию и льстит ему, и воздействует отрезвляюще. Нигде в другом месте мира писателю не оказывается такая большая честь; нигде в другом месте до такой степени не доведено осознание им ответственности.220
Не все осознавалось как символ. Многие визитеры с тоской наблюдали, что материальные обстоятельства деятелей искусств и интеллектуалов были вполне соразмерны их социальной значимости. Фейхтвангер писал: «Их высоко ценят, воодушевляют и даже балуют как престижным положением, так и солидными доходами... Книги благосклонно воспринимаемых авторов печатаются тиражами, которые заставляют зарубежного издателя затаить дыхание».221 Большие тиражи и авторские гонорары были не единственными индикаторами исключительного материального положения писателей и других интеллектуалов. Писатели и деятели искусств, поддерживавшие режим, обеспечивались также хорошими квартирами в городе и домиками в сельской местности; специальными домами отдыха, санаториями, клубами, доступом к дефицитным товарам и привилегией путешествовать. Они явно входили в элиту и получали благодаря этому признание своих заслуг, не только символическое, но и материальное.
Моральное и материальное признание, так же как награды, вручавшиеся лояльным интеллектуалам, — это далеко не все,
256
Пол Холландер
что давалось за их функциональную значимость, вклад в строительство нового общества или стремление стать «инженером человеческих душ». В этом обществе существовала также настоящая близость между политическими лидерами и интеллектуалами, или так, по крайней мере, казалось многим приезжавшим интеллектуалам. В конце концов, многие лидеры были интеллектуалами или имели интеллектуальные наклонности. Сам Сталин был ненасытным читателем с широким кругом интересов; обладал незаурядным умом; был глубоко озабочен проблемами искусства и литературы и впечатляющим образом тяготел к их познанию; слыл главным теоретиком политической экономии и философом; обогатил и далее развил марксизм-ленинизм нашего времени. Был он также сведущ в науках, особенно в биологии, и даже мастерски разобрался (несколько позднее) в запутанных вопросах лингвистики. Он был в задушевных отношениях со многими писателями и деятелями искусств, часто читал их рукописи до публикации, заранее просматривал их фильмы, говорил с ними по телефону или лично.222 О более зловещем значении этого пристального внимания и о том, чем это грозило в будущем автономии искусств и интеллектуальной деятельности, паломники обычно избегали задумываться. Было приятнее думать о Сталине как о короле философов, мыслителе и деятеле, великом теоретике и практике продолжающейся социальной и политической революции. Он был просто обязан иметь глубокое духовное родство с интеллектуалами.
Иногда использовались более непосредственные способы ублажения заезжих интеллектуалов. Перед ними не только обнажались прелести хорошей жизни их коллег, советских интеллектуалов, но и сами они становились объектами великодушия режима в качестве щедро принимаемых гостей или в результате повышенного внимания к их творениям. Описание Артуром Кёст- лером его хорошей литературной судьбы в СССР, когда он еще был просоветским писателем из Германии, обнажает существо происходившего. Вот, например, как он повествует о своем прибытии в одну провинциальную столицу:
Редактор журнала заявил, что много лет горел желанием опубликовать мой рассказ... Директор государственного издательского треста испросил у меня привилегию на публикацию грузинского перевода книги, которую я собирался написать. Я, таким образом, продал один и тот же короткий рассказ восьми или десяти разным журналам от Ленинграда до Ташкента и еще продал право на издание на русском, немецком, украинском, грузинском и армянском языках моей ненаписанной книги, получив предварительную оплату в сумме, эквивалентной небольшому состоянию. И по мере того, как я занимался всем этим при официальном одобрении и как тем же самым занимались другие писатели, я с готовностью и от всей души подтверждал, что Советская Россия была писательским раем и что нигде в другом месте
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
257
мира творческий деятель искусств не оплачивался лучше и к нему не относились с большим почетом. Человеческая природа есть человеческая природа, так что мне и в голову не приходило, что мои договора и выдававшаяся наперед наличность были гарантированы не силой моей литературной репу- тации, а чем-то другим.^
Уолдо Фрэнк вспоминал в своих «Мемуарах» другой пример советского великодушия к западным интеллектуалам:
Были эти авторские гонорары или оплата моей доброй воли фактически взяткой? За год до того я написал Михаилу Кольцову, редактору «Правды»... спрашивая, достаточно ли у меня рублей в советском банке, чтобы взять своего сына Томаса в поездку в Россию. Он ответил: «У вас достаточно рублей, чтобы приехать в Россию с сыном. У вас достаточно рублей, чтобы отдать его в школу и арендовать виллу в Крыму. У вас достаточно рублей, чтобы нанять домоправительницу вашей виллы. И если у вас возникнет нужда в еще большем количестве рублей, мы всегда сможем заказать вам несколько статей для „Правды“».22*
Таким образом, советские правители, подобно их предшественникам в России XVIII в., «знают, как оказать честь людям пера», или так это выглядело.225 К несчастью, визитеры были не в том положении, которое позволило бы им познакомиться с более характерными судьбами советских интеллектуалов, многие из которых либо исчезли, либо оказались в заключении во время чисток. Они горели энтузиазмом, видя отношение к советским интеллектуалам только в широко рекламировавшемся спектре по той причине, что мало знали обо всем этом и особенно о тех российских деятелях искусств, которые не пожелали служить режиму. Менее всего они отдавали себе отчет в том, что означало, по словам Владимира Набокова, «для [них] и других зарубежных идеалистов стать русскими в России... Они были бы уничтожены... так же естественно, как уничтожили кроликов хорьки и фермеры».226
Даже если некоторым паломникам бросались в глаза некоторые блики ограничений свободы самовыражения (очевидного недостатка в положении интеллектуала), они умели почувствовать, что эти ограничения — всего лишь временная необходимость, которая, в основном, не затрагивала сам процесс интеллектуальной работы. Или смотрели на это иначе, полагая, что это малая плата за эффективное участие в новом социальном порядке, за возможность избежать социальной изоляции, быть воспринимаемым всерьез политическим руководством и ощущать пульс жизни, обогащенной новой целью и наполненной смыслом.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Edmund Wilson, Travels in Two Democracies, New York, 1936, p. 242.
2. Owen Lattimore, «Letter to the Editor», New Statesman, October 11, 1968, p. 461.
3. Malcolm Muggeridge, Chronicles of Wasted Time, New York, 1973, p. 244; Muggeridge, Sun Never Sets, p. 79.
4. Живов M., ред.. Глазами иностранцев: Иностранные писатели о Советском Союзе. М., 1932.
258
Пол Холландер
5. Huxley, A Scientist Among the Soviets, p. 4-5. См. также: Feuchtwanger, Moscow 1937, p. 145-146.
6. Muggeridge, Chronicles of Wasted Time, p. 211, 212-213; другие зарисовки подобных настроений и предвкушения на борту судна см. также в: Wilson, Travels in Two Democracies, p. 150-152; Violet Conolly, Soviet Tempo: A Journal of Travel in Russia, New York, 1937. Она писала о своих товарищах по путешествию: «Большинство американцев путешествовали группой под покровительством «Universal Travel». Они замарали судовую регистрационную книгу экспансивными приветствиями в адрес своего советского отечества (где ни один из них никогда не бывал), едва взойдя на борт» (р. 8). Насколько «английские товарищи на борту» были осведомлены, «ни один из них не бывал в России прежде, и все же они сверлили вас остекленевшим и непроницаемым взглядом, стоило лишь попытаться критически отозваться о СССР... Каждый на борту чувствовал себя прекрасно, потому что это было советское судно...» (р. 12).
7. William С. White, «American Travelers to the Soviet Russia», Scribner’s Magazine 89, February 1931, p. 171.
8. Ibid.
9. Lewis Feuer, «American in Soviet Union, 1917-1932: The Formation of a Component of New Deal Ideology», American Quarterly, Summer 1962, p. 121.
10. Lyons, Assignment, p. 329.
11. White, «Americans in Soviet Russia», p. 173.
12. Pells, Radical Visions, p. 355.
13. Margulies, The Pilgrimage to Russia, p. 16. Похожие наблюдения описаны в: Frederick С. Barghoorn, The Soviet Cultural Offensive, Princeton, 1960, p. 333.
14. Coser, Men of Ideas, p. 239-240.
15. Meno Lowenstein, American Opinion of Soviet Russia, Washington, D.C., 1941, p. 157. Более детальное обсуждение подоплеки поездок и волны интереса к Советскому Союзу см. также: «Soviet Russia: Lodestone of the American Liberal» in Warren, Liberals and Communism; Daniel Aaron, «American Writers in Russia: The Three Faces of Lenin», Survey, April 1962; Lewis Coser, «Riding the Waves of the Future in the Thirties», in Coser, Men of Ideas. Портреты заметных западных визитеров того времени см. в: Louis Fischer, «The Revolution Comes Into Its Own*, ch. 10 in Idem, Men and Politics.
16. Gyula Illyés, «Oroszország 1934» [Russia 1934], in Szives Kalauz: Utijegyzeteh, Külföld [The Cordial Guide: Travel Notes Abroad] Budapest, 1966, p. 21-22. Специфичность черт избирательного и желаемого восприятия была также отмечена двумя другими венграми, посещавшими Советский Союз в 1951 г. в составе делегации писателей: «Писатели пересекали границу с душевным настроем полной отдачи предстоящей встрече и открытыми сердцами; покидая поезд, они были движимы этим настроем. Вот, наконец-то, и воплотилась их самая затаенная мечта: они ступили на землю самого передового социалистического общества... Их водили по художественным галереям и фабрикам, музеям и школам, но, к их разочарованию, — хотя они и просили об этом — не позволили побывать в домах обычных москвичей. Это неважно; чего бы ни хотелось или о чем бы ни просили, неприятный осадок от отказа проходил быстро, — все хорошее и привлекательное обсуждалось долго и с огромным энтузиазмом. Они осматривали универмаги, заполненные товарами низкого качества, а затем рассказывали друг другу об удивительных витринах. Нет, они не лгали. Они были преданными членами партии, которым по определению положено видеть в Советском Союзе страну чудес, и они с успехом справились с этой задачей». (Aczel Tamas and Meray Tibor, Tisztító Vihar [The Cleansing Storm], Munich, 1978, p. 128-129).
17. Lyons, Assignment, p. 54. Или, как определил это другой турист, «каждая подробность имела особое значение» (Peggy Dennis, The Autobiography of an American Communist, Berkeley, 1977, p. 58).
18. Strong, I Change Worlds, p. 91.
19. Huxley, Scientist, p. 26.
20. Committee of Concerned Asian Scholars, China! Inside the People’s Republic, New York, 1972, p. 9; LeRoi Jones, Home: Social Essays, New York, 1966, p. 41.
21. Frank, Dawn in Russia, p. 121, 127, 135.
22. Lyons, Assignment, p. 329.
23. Lamont, Russia Day by Day, p. 72.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
259
24. Feuchtwanger, Moscow 1937, p. 8.
25. Dos Passos, Theme is Freedom, p. 67-68. О разоблачении, сделанном Эн- ценсбергером, сообщалось в: Richard Eder, «The Literati Discuss Censorship», New York Times, February 14, 1980, p. C-19.
26. Fischer, Men and Politics, p. 530.
27. Hodgkin, Seeing Ourselves, p. 55.
28. Поездки в Испанию или пограничные районы в тот же период представляли собой еще одну комбинацию бизнеса и удовольствия или созидания и развлечения. В этих случаях приятное возбуждение повышалось ощущением угроз, сопряженных с гражданской войной. Как можно судить по одному из репортажей Малькольма Магериджа, участниками таких поездок были главным образом британцы и французы: «Организовывались светские группы для поездок на франкоиспанскую границу, чтобы на месте понаблюдать за исходящими из этого региона угрозами; и литераторы, и политики, и те, кто считал себя тем и другим, утомленные просмотрами книг, размышлениями, частыми возвратами к одним и тем же мыслям; от обедов в ресторанах, где так прекрасно готовили... и от встреч друг с другом в битком набитых и прокуренных номерах, от постоянных коктейлей и бесконечных разговоров — остановка в Барселоне давала им прилив возбуждения и бодрости духа. Там была реальность, там было нечто серьезное, нечто живое». (Muggeridge, Sun Never Sets, p. 295-296). Необходимо заметить, что визиты в Испанию в тот период зачастую решительно не соответствовали картине, представленной Магериджем, отличались твердостью намерений и были сопряжены с опасностью. «Пилигримы», направлявшиеся во владения испанского режима, находятся вне темы данного исследования, поскольку, наряду с другими причинами, режим лоялистов не располагал средствами на оказание гостеприимства.
29. Edmund Wilson, Travels in Two Democracies, p. 197, 207.
30. Theodore Dreiser, Dreiser Looks at Russia, London, 1928, p. 26. Реакция Уолдо Фрэнка была в том же духе: «Волжские мужики... их лохмотья, их ноги в пропитанных потом лыковых или соломенных лаптях, их грязные шапки и платки, слякоть их дорог, сажа в их избах...» (Frank, Dawn in Russia, p. 229).
31. D. F. Buxton, The Challenge of Bolshevism: A New Social Ideal, London, 1928, p. 71.
32. Ibid., p. 29, 30, 76.
33. Dreiser, Looks at Russia, p. 48, 78. Шервуд Эдди фактически пришел к идентичным выводам: «Здесь едва ли ни впервые в истории... мы имеем вождей целой страны... разделяющих чуть ли не все, что имеют сами, с народом... Вместо того, чтобы испрашивать себе привилегии, они сами идут на жертвы... сыновья бедных крестьян и рабочих часто принимаются в университеты и пользуются другими привилегиями прежде детей членов партии и должностных лиц. Даже советский президент Калинин обязан жить простой жизнью и носит фланелевую гимнастерку. Рассказы о роскоши и экстравагантности вождей в большинстве своем грубая ложь». (Sherwood Eddy, The Challenge of Russia, New York, 1931, p. 220-221).
34. Freeman, American Testament, p. 456.
35. Hewlett Johnson, Soviet Russia Since the War, New York, 1947, p. 176-177.
36. Feuchtwanger, Moscow 1937, p. 35.
37. Harry F. Ward, The Soviet Spirit, New York, 1944, p. 113, 115, 116, 117 (мой пример). Другие комментарии на эту тему см. также: р. 44, 107.
38. Huxley, Scientist, p. 97.
39. Freeman, American Testament, p. 461.
40. Wilson, Travel in Two Democracies, p. 163, 204-205.
41. Alexander Wicksteed, Life Under the Soviets, London, 1928, p. 189.
42. Ward, Soviet Spirit, p. 42.
43. Lamont, Russia Day by Day, p. 115.
44. Feuchtwanger, Moscow 1937, p. 13.
45. Ward, Soviet Spirit, p. 20, 24.
46. Dyson Carter, Russia’s Secret Weapon, Winnipeg, Manitoba, 1942, p. 87, 110; см. также: John A. Kingsbury, «Russian Medicine: A Social Challenge», New Republic, April 5, 1933.
47. Johnson, Soviet Power, p. xiii, xiv.
48. Шервуд Эдди — один из тех, кто был готов рассеять эту неверную информацию и «дикие слухи». См.: Russia Today — What Can We Learn From It?, New York,
260
Пол Холланлер
1934, p. xiv. Необходимо заметить, что в этом томе он дал больше критических комментариев о советской системе, чем в цитировавшемся выше в примечании 33.
49. Shaw, Rationalization of Russia, p. 26.
50. Lyons, Assignment, p. 430.
51. Huxley, Scientist, p. 67.
52. Feuchtwanger, Moscow 1937, p. 5.
53. Fischer, Men and Politics, p. 9, 10.
54. Homer Smith, Black Man in Russia, Chicago, 1964, p. 19-21.
55. Muggeridge, Chronicles, p. 257, 258.
56. Maurice Hindus, The Great Offensive, New York, 1933, p. v.
57. Strong, I Change Worlds, p. 373.
58. Ruth Epperson Kennell, Theodore Dreiser and the Soviet Union, 1927-1945, New York, 1969, p. 11.
59. Coser, Men of Ideas, p. 236.
60. Gertrude Himmelfarb, «The Intellectual in Politics: The Case of the Webbs», Journal of Contemporary History, № 3., 1971, p. 11.
61. Stalin-Wells Talk. The Verbatim Report and a Discussion by G. B. Shaw, H. G. Wells, J. M. Keynes, Ernst Toller and Others, London, 1934, p. 35-36.
62. John Dewey, John Dewey's Impressions of Soviet Russia and the Revolutionary World: Mexico, China, Turkey, 1929, New York, 1964, p. 100, 104, 105.
63. Eddy, Russia Today, p. 177.
64. Wilson, Travel in Two Democracies, p. 321.
65. Beatrice Webb, введение к книге: Wicksteed, Life Under the Soviets, p. x, xi. См. также: Francis A. Hanson, «What the Soviets Live By», in Davis, New Russia. Хансон указан в перечне авторов этого тома как «исполнительный секретарь Национального религиозного и трудового фонда» Нью-Хейвена (р. xi).
66. Ralph Lord Roy, Communism and the Churches, New York, 1960, p. 70, 424.
67. Dreiser, Looks at Russia, p. 87.
68. Buxton, Challenge of Bolshevism, p. 7, 27, 28, 81, 82, 85.
69. Hodgkin, Seeing Ourselves, p. 27.
70. Цит. no: Roy, Communism and Churches, p. 69.
71. Feuchtwanger, Moscow 1937, p. 151.
72. Wilson, Travel in Two Democracies, p. 235-236.
73. Davis, New Russia, p. xii.
74. Frankwood E. Williams, «The Psychologic Bases of Soviet Successes», in Davis, New Russia, p. 26-27. Похожую оценку ментального здоровья и социальных проблем см.: Е. С. Lindeman, «Is Human Nature Changing in Russia?», New Republic, March 8, 1933. Линдеман уверен, что она действительно менялась. Он также сообщал о решительном снижении уровня проституции и гомосексуализма, а также утверждал, что самоубийства «прекратились вовсе» (р. 96). Автор был социальным работником.
75. Альберт Райс Уильямс, например, комментировал разрыв между принципами, зафиксированными в обеих конституциях, американской и советской, и неспособностью претворять их в жизнь. См.: Albert Rhys Williams, The Russians, New York, 1943, p. 235.
76. Johnson, Soviet Power, p. 4, 5, 63; Johnson, Russia Since the War, p. 89.
77. Hindus, Great Offensive, p. 20.
78. Bernard Pares, Moscow Admits a Critic, London, 1936, p. 42.
79. Feuchtwanger, Moscow 1937, p. 15, 23.
80. Цит. по: Уильям Дюбуа. Ученый, гуманист, борец за свободу. М., 1971. С. 24.
81. Strong, I Change Worlds, р. 126, 226.
82. Lamont, Russia Day by Day, p. 258.
83. Dewey, Impressions, p. 45, 46.
84. New York Times, February 27, 1967, p. 47. Где-то в другом месте отмечалось, что «иначе мыслящие американцы... от случая к случаю отправляются на поиски в земли безбожия, где дети играют в парках, а пешеходам, идущим по своим делам, не препятствуют железные шары и цепи» (Lawrence Nevins, «Politics Through Tinted Glass (Brightly)», Worldview, November 1977, p. 25).
85. Joseph E. Davies, Mission to Moscow, New York, 1943, p. 9.
86. Henry A. Wallace, Soviet Asia Mission, New York, 1946, p. 21.
87. Ella Winter, I Saw the Russian People, Boston, 1947, p. 294.
261
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
88. Pablo Neruda, Memoirs, p. 194.
89. Daniel Berrigan, Night Flight to Hanoi, New York, 1968, p. 45.
90. Frank, Dawn in Russia, p. 10, 98, 99, 111, 113, 121, 230.
91. Lamont, Russia Day by Day, p. 185, 186.
92. Huxley, Scientist, p. 16-17.
93. Freeman, American Testament, p. 461.
94. Pares, Moscow Admits a Critic, p. 35, 36, 41, 91.
95. Feuchtwanger, Moscow 1937, p. 3-4.
96. Frankwood E. Williams in Davis, New Russia, p. 11, 17, 19-20, 28.
97. Цит. no: Barbara Drake, «The Webbs and Soviet Communism* in The Webbs and Their Work, ed. Margaret Cole, London, 1949, p. 226.
98. Huxley, Scientist, p. 11-12.
99. Hindus, Great Offensive, p. 15.
100. Wilson, Travel in Two Democracies, p. 200.
101. Frankwood Williams in Davis, New Russia, p. 23.
102. Frank, Dawn in Russia, p. 51, 52, 186.
103. Winter, I Saw the Russian People, p. 294, 298.
104. Wilson, Travel in Two Democracies, p. 211.
105. Аргументация Дэвида Кота в «Fellow-Travellers* апеллирует именно к этим привлекательным чертам советского общества. Однако он чрезмерно подчеркивает их, фактически исключая другие.
106. Huxley, Scientist, р. 2, 52, 77.
107. Feuchtwanger, Moscow 1937, р. viii.
108. «То All Active Supporters of Democracy and Peace* (letter to the editor), The Nation, August 19, 1939. Это письмо подписали около четырехсот американских интеллектуалов и деятелей искусства, в том числе Уолдо Фрэнк, Дэшилл Хаммит, Грэнвилл Хикс, Рокуэлл Кент, Корлисс Ламонт, Макс Лернер, Клиффорд Одитс, С. Дж. Перельман, Фредерик Л. Шуман, Винсент Шин, Луис Унтермейер, Джеймс Тёрбер, Гарри Ф. Уорд, Уильям Карлос Уильямс и многие другие видные представители академических кругов, мастера слова, мужчины и женщины. По иронии судьбы публикация этого заявления, задуманная с целью засвидетельствовать различие между Советским Союзом и нацистской Германией, менее чем на неделю опередила подписание нацистско-советского пакта от 24 августа 1939 г.
109. Neruda, Memoirs, р. 242. Наблюдения Артура Кёстлера апеллируют к подходам Неруды: «Днепровская плотина, Туркестано-Сибирская железная дорога, Беломорский канал, московское метро и т. д. виделись, таким образом, не как достойные уважения технические достижения, вполне сравнимые с такими же достижениями в Англии и Америке, но как нечто уникальное, доселе невиданное в мире, само существо, расцвет и свершение социализма» (Koestler, «Soviet Myth and Reality* in Yogi and the Commissar, p. 130).
110. Fischer, Men and Politics, p. 189.
111. Stalin-Wells Talk, p. 4.
112. Frank, Dawn in Russia, p. 134, 136, 139.
113. Lamont, Russia Day by Day, p. 43, 44.
114. Aneurin Bevan, E. J. Strachey and George Straus, What We Saw in Russia, London, 1931, p. 18.
115. Shaw, Rationalization of Russia, p. 21.
116. Bertrand Russell, Portraits from Memory, New York, 1956, p. 79.
117. Carter, Russia’s Secret Weapon, p. 91, 6, 94. Бернал цит. no: Werskey, Visible College, p. 193.
118. Dewey, Impressions, p. 58.
119. Lamont, Russia Day by Day, p. 39.
120. Carter, Russia’s Secret Weapon, p. 92-93.
121. Lyons, Assignment, p. 63.
122. Winter, I Saw the Russian People, p. 119.
123. См., например: Margaret I. Cole, «Women and Children», in Twelve Studies in Russia, ed. Margaret I. Cole, London, 1933.
124. Anna Louise Strong, This Soviet World, New York, 1936, p. 250.
125. J. L. Gillin, «The Prison System», in Davis, New Russia, p. xi, 220, 227.
126. Ella Winter, Red Virtue, New York, 1933, p. 206. ОГПУ — это аббревиатура названия советских органов государственной безопасности или политической
262
Пол Холланлер
полиции. В последнем отчете о поездке, предпринятой в 1944 г., Уинтер возвращалась к той же теме, сообщая, что «Советский Союз, как я чувствую, заинтересован в средствах лечения, а не признании осужденных виновными; в восстановлении в гражданских правах, а не наказании. Дело не в гордом заявлении политических амбиций государственным обвинителем, а в том будущем, которое ждет немного заблудившихся советских граждан» (Winter, I Saw the Russian People, p. 203). Бернард Парис тоже находил исправление, а не наказание целью советской политики в уголовном праве; см.: Pares, «Moscow Admits a Critic», р. 91. Шервуд Эдди настаивал, что «в результате тщательного исследования будет, вероятно, установлено, что эта [советская] тюремная система является самой передовой, наиболее современной и исправительной в мире... Человека, на котором капиталистическое общество ставит клеймо преступника, они считают младшим братом, который поступил неправильно, возможно, даже не по собственной вине, а в силу бедности, невежества, халатности или социальной несправедливости. Его никогда не называют преступником...» (Eddy, Challenge of Russia, p. 104, 147). При всем уважении к Эдди, необходимо подчеркнуть, что он осознавал различие между обращением с «классовыми врагами, к которым часто жестоко несправедливы» (р. 147), и «девяти десятых населения».
127. Pritt, «The Russian Legal System», in Cole, Twelve Studies, p. 161.
128. Harold J. Laski, Law and Justice in Soviet Russia, London, 1935, p. 25.
129. Strong, This Soviet World, p. 254.
130. Mary Stevenson Callcott, Russian Justice (New York, 1935), p. 161, 236-237.
131. Wicksteed, Life Under the Soviets, p. 78.
132. Sidney and Beatrice Webb, Soviet Communism: A New Civilization? New York, 1936, p. 587, 588. Благожелательные комментарии о Болшево см. также: Pares, Moscow Admits a Critic, р. 50; Gillin, «Prison System», p. 228.
133. Hindus, Great Offensive, p. 305, 306.
134. Strong, Soviet World, p. 256.
135. Callcott, Russian Justice, p. 35.
136. Shaw, Rationalization of Russia, p. 91.
137. Strong, Soviet World, p. 262.
138. Pritt, «Russian Legal System», p. 161, 162, 163, 164.
139. Цит. no: Strong, Soviet World, p. 258.
140. Shaw, Rationalization of Russia, p. 73, 92.
141. Lamont, Russia Day by Day, p. 142.
142. Lenka von Koerber, Soviet Russia Fights Crime, London, 1934, p. 179.
143. Колкотт отмечала, что «когда заключенный занят трудом, он работает в тех же условиях и в условиях той же защищенности, что и вне трудовой деятельности» (Callcott, Russian Justice, р. 165; см. также: р. ix).
144. Laski, Law and Justice, p. 28.
145. Callcott, Russian Justice, p. 186-187, 189-190, 190-191, 192, 201, 221, 224.
146. Koerber, Russia Fights Crime, p. 17, 19, 197.
147. Laski, Law and Justice, p. 27, 28.
148. Koerber, Russia Fights Crime, p. 40, 43, 44-45.
149. Laski, Law and Justice, p. 28.
150. Callcott, Russian Justice, p. 173.
151. Strong, Soviet World, p. 264-265.
152. Как явствует из документальных свидетельств Александра Солженицына и других, жестокое обращение с политическими заключенными началось не при Сталине; см. «Архипелаг Гулаг». Для получения дополнительной информации о политических заключенных в начале 1920-х гг. см. также материалы Международного комитета политических узников «Letters from Russian Prisons» с введением Роджера Н. Болдуина (London, 1925).
153. См., например: Strong, Soviet World, р. 257.
154. Н. Ф. Погодин, «Аристократы». М., 1936; Edmund Wilson, in Travels in Two Democracies, — автор сообщал, что видел пьесу в Москве (р. 245). На Андре Мальро тоже произвело впечатление восстановление в гражданских правах заключенных на Беломорской стройке; см.: Malraux, «Literature in Two Worlds», Partisan Review, January 1935, p. 18.
155. Belomor: An Account of the Construction of the New Canal Between the White Sea and the Baltic Sea, New York, 1935, p. vi, vii. Поскольку Александр
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
263
Солженицын посвятил большой раздел своего исследования советским тюремным институтам в Беломорском проекте, читатель может найти ужасающие подробности, если обратиться за справкой к его «Gulag Archipelago II» (New York, 1975), где противоположной точке зрения на это предприятие отведены р. 80-102.
156. Webb, Soviet Communism, р. 589, 590, 591.
157. Muggeridge, Chronicles, p. 234-235.
158. Webb, Soviet Communism, p. 579, 585, 586, 591, 594.
159. Vladimir Dedijer, The Battle Stalin Lost, New York, 1970, p. 38.
160. Muggeridge, Chronicles, p. 141, 146-151, 206-210. Бертран Рассел писал: «Оба они были основательно недемократичны и считали функцией государственного деятеля одурачивание и терроризирование простого народа» (Russell, Portraits from Memory, p. 109). Троцкий тоже презирал их; см.: Trotsky, Revolution Betrayed, p. 302-305.
161. Shaw, Rationalization of Russia, p. 112.
162. Jerome Davis, Behind Soviet Power: Stalin and the Russians, New York, 1946, p. 41.
163. В своей книге «The First Circle» (New York, 1968) Солженицын предлагает фантастическую сатиру чрезмерной доверчивости западников на примере экскурсии в тюрьму и советских приемов их использования; см.: р. 327-337.
164. Jerzy Gliksman, Tell the West, New York, 1948, p. 163-178.
165. Обсуждение лагерей и условий в этих (и других) районах см.: Robert Conquest, Kolyma: The Arctic Death Camp, New York, 1978; Alexander Solzhenitsyn, Gulag Archipelago I and II, New York, 1974, 1975; David J. Dallin and B. N. Nicolaevsky, Forced Labor in Soviet Russia, New Haven, 1947.
166. Conquest, Kolyma, p. 204.
167. Wallace, Soviet Asia Mission, p. 33-35, 84, 217.
168. Owen Lattimore, «New Road to Asia», National Geographic Magazine, December 1944, p. 657.
169. Elinor Lipper, Eleven Years in Soviet Prison Camps, Chicago, 1951, p. 111- 112, 113, 115.
170. Lattimore, «Letter», p. 461.
171. Lipper, Eleven Year, p. 266-269.
172. Frank, Dawn in Russia, p. 37, 41. Подобные наблюдения вынесли и супруги Ламонт: Lamont, Russia Day by Day, p. 124-125.
173. Jerome Davis, Behind Soviet Power, p. 30.
174. Цит. no: Jean Lacouture, André Malraux, New York, 1975, p. 230.
175. Макс Шахтман писал: «Традиционные журналисты американского либерализма, „The Nation“ и „The New Republic“, одобряли московские процессы с едва заметной меньшей страстностью и цепкостью, чем сами сталинисты. Они поддерживали их с помощью аргументов, которые должны бы были лечь несмываемой краской стыда на лицах американских либералов». Даже мир развлечений, или большая его часть, был политизирован и поддерживал эти процессы: «Колония киношников была в это время буквально наводнена сталинистским радикализмом... Как и их противники по всей стране, они в любой момент были готовы выступить против любой несправедливости в Соединенных Штатах и где угодно в мире... В защиту жертв сталинистской несправедливости ни одна живая душа не находила ни слова». Насколько радикальные интеллектуалы были озабочены тем, чтобы «их толпа раболепно, не допуская критики, некоторые из них даже позоря себя, были заодно с гонителями... В условиях преобладания такого климата требовались громадная честность, интеллект и решимость, чтобы выступить в защиту Троцкого или даже доброжелательно и с участием прислушаться к русскому обвиняемому» (Max Shachtman, «Radicalism in the Thirties: The Trotskyist View», in Simon, As We Saw the Thirties (p. 39, 41-42). О других позициях в отношение процессов чисток см.: «Western Images of the Soviet Union», Survey, April 1962, (особенно) p. 86-95; Robert Conquest, The Great Terror (New York, 1968), p. 499-513. Согласно Джорджу Уотсону, «между 1933 и 1939 гг. многие (а возможно, большинство) британских интеллектуалов в возрасте до пятидесяти и достаточно много из других западных стран сознательно поддерживали величайший акт массового убийства в человеческой истории» (Watson, «Were the Intellectuals Duped?», Encounter, December 1973, p. 30). Моя интерпретация этих подходов, которой я уделяю место в основном материале, несколько иная.
264
Пол Холланлер
176. Upton Sinclair and Eugene Lyons, Terror in Russia? Two Views, New York, 1938, p. 60-61.
177. Sinclair in Sinclair and Lyons, Terror in Russia, p. 11, 12.
178. Davis, Behind Soviet Power, p. 31.
179. Henri Barbusse, in Davis, Behind Soviet Power, p. 28. Ромен Роллан тоже верил в подлинность московских процессов и вину обвиняемых. См.: Walter Laqueur and George L. Mosse, eds., Literature and Politics in the Twentieth Century, New York, 1967, p. 209.
180. Davis, Behind Soviet Power, p. 30.
181. Цит. no: Sidney Hook in «Bert Brecht, Sidney Hook and Stalin», (letter) Encounter, March 1978, p. 93. Стефен Спендер тоже был убежден в существовании «гигантского заговора против советского правительства»; см.: Stephen Spender, The Thirties and After, New York, 1978, p. 59.
182. Feuchtwanger, Moscow 1937, p. 114, 121, 122-123, 132-133.
183. Walter Duranty, The Kremlin and the People, New York, 1941, p. 49, 65.
184. Davies, Mission to Moscow, p. 25, 26, 29, 46, 163, 168, 169. Уверенность, что чистки предотвратили деятельность пятой колонны, разделял также Альберт Райс Уильямс. См.: Williams, The Russians, р. 72; Davis, Behind Soviet Power, p. 30. Дайсон Картер пошел еще дальше, заявив, что «Россия является единственной страной в Европе, где предатели были пойманы [то есть во время чисток Красной Армии] и расстреляны, прежде чем смогли осуществить свою подлую измену»: Carter, Russia’s Secret Weapon, p. 56.
185. Neruda, Memoirs, p. 197. На Гарольда Ласки Вышинский тоже произвел впечатление: «Я нашел человека, страстью которого была правовая реформа... Он делал то, что делал бы идеальный министр юстиции, будь у нас в Великобритании такая личность... Он принес в исследование права... энергию, какой мы не видели в этой стране со времен Иеремии Бентама» (Laski, Law and Justice, p. 24).
186. Jerome Davis, in Sinclair and Lyons, Terror in Russia, p. 40-41; Lattimore, in Conquest, Kolyma, p. 212.
187. Sidney and Beatrice Webb, The Truth About Soviet Russia, London, 1942, p. 19.
188. Jerome Davis, Behind Soviet Power, p. 29.
189. Barghoorn, Soviet Cultural Offensive, p. 324; см. также: «Dr. Jerome Davis Is Dead at 87; Educator Espoused World Peace» (некролог), New York Times, October 24, 1979. Корлисс Ламонт, который демонстрировал подобное упорство в «принятии» просоветской стороны вплоть до наших дней, озаглавил сборник своих эссе «The Independent Mind*. Этот и другие аспекты его политического профиля обсуждаются в: Hicks, Where We Came Out, p. 166-169.
190. Cm.: Vivian Gornick, The Romance of American Communism, New York, 1977; Jessica Mitford, A Fine Old Conflict, New York, 1977; Peggy Dennis, The Autobiography of an American Communist. Клод Кокберн и Лилиан Хелман тоже принадлежат к этой категории.
191. «Editorial: The USSR», Life, March 29, 1943, p. 20.
192. Lamont, Russia Day by Day, p. 63.
193. Wilson, Travels in Two Democracies, p. 322.
194. Shaw, Rationalization of Russia, p. 18.
195. Neruda, Memoirs, p. 250.
196. Цит. no: Davis, Behind Soviet Power, p. 13.
197. Цит. no: Stalin-Wells Talk, p. 47.
198. Бертран Рассел писал: «Поклонение государству... завело обоих Вэббов а также Шоу в то, что полагаю чрезмерной терпимостью по отношению к Муссолини и Гитлеру, а в конечном счете в еще более абсурдное дурное пристрастие к восхвалению советского правительства» (Russell, Portraits from Memory, p. 107- 108). Восхищение Муссолини, испытывавшееся Джоном Ридом, было отмечено в: Bertram D. Wolfe, Strange Communists I Have Known, New York, 1965, p. 30.
199. Webb, Truth. About Soviet Russia, p. 16, 18.
200. Johnson, Soviet Power, p. 309.
201. Feuchtwanger, Moscow 1937, p. 78.
202. Davies, Mission to Moscow, p. 72, 82.
203. I. F. Stone, «1937 Is Not 1914», in Aaron and Bendiner, Strenuous Decade, p. 465.
204. Williams, The Russians, p. 78.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
265
205. Davis, Behind Soviet Power, p. 12; Julius Lester, ed., The Seventh Son — The Thought and Writings of W. E. B. Du Bois, 2 vols., New York, 1971, Vol. 2, p. 619.
206. Davies, Mission to Moscow, p. 208.
207. Emil Ludwig, Nine Etched From Life, Freeport, 1969; впервые опубликовано: New York, 1934, p. 348.
208. Feuchtwanger, Moscow 1937, p. 76, ii, xi.
209. Davies, Mission to Moscow, p. 217. Быть объектом видимой привязанности детей и животных выглядит доказательством подлинности и является многократно тиражируемым приемом придания законной силы, что подтверждается склонностью диктаторов (и других политических лидеров) фотографироваться с детьми и собаками. Идея состоит в том, что те, кто любит детей и определенных домашних животных и любим ими, не могут быть плохими людьми. Более того, власть обретает новый блеск благодаря непосредственному соседству с невинными и относительно счастливыми детьми.
210. Ludwig, Nine Etched From Life, p. 346-347.
211. Webb, Soviet Communism, p. 804. Это часто повторяемое поучение оставляет только удивляться складу ума, в котором оно созрело. Возможно, это было всего лишь циничное замечание, даже некая форма черного юмора. С другой стороны, оно могло быть искренним, но предполагало приложение поучения к тем, кто достоин и извлечет пользу из такой заботы, и неприложимым к сорнякам да к тому же еще и ядовитым, таким, кто должен быть безжалостно уничтожен.
212. Williams, The Russians, p. 72.
213. Fischer, Men and Politics, p. 89-90; Бернал цит. по: Werskey, Visible College, p. 318.
214. Davis, Behind Soviet Power, p. 15.
215. Johnson, Russia Since the War, p. 65, 66-67, 71.
216. Neruda, Memoirs, p. 319. Неруда довольно долго не признавал никакой своей связи со Сталиным и своего им восхищения, утверждая, что видел этого человека только «издалека». И все же с явным удовлетворением замечает, как Сталин беспокоился о том, чтобы ему, Неруде, была присуждена Сталинская премия. Из всех его стихов, говорит он нам, только одно было посвящено Сталину! (р. 316, 319).
217. См., например: N. S. Khrushchev, «Report to the 20th Party Congress», in The Anti-Stalin Campaign and International Communism: A Selection of Documents, New York, 1956; Milovan Djilas, Conversations with Stalin, New York, 1962.
218. John Strachey, The Coming Struggle for Power, New York, 1935, p. 358. Андре Мальро выражает похожие взгляды в своей статье в «Partisan Review», цитировавшиеся в примечании 154.
219. Frank, Dawn in Russia, p. 173-174, 177.
220. Wilson, Travels in Two Democracies, p. 212.
221. Feuchtwanger, Moscow 1937, p. 45, 46; подобные признательные комментарии были также сделаны Эптоном Синклером, книги которого издавались в Советском Союзе большими тиражами (см.: Sinclair and Lyons, Terror in Russia, p. 21). Венгерский писатель Дьюла Ильеш, еще один визитер начала 1930-х гг. (цитировавшийся ранее), проявил несколько более критичную реакцию на отношение к писателям: «В те дни Советская [система] одерживала победы над писателями другими способами. Во-первых, вознаграждения писателям были ощутимо хорошими. Где угодно в другом месте можно было наблюдать бедность писателей, сюда же их влекла хорошая литературная судьба. Писатели и художники вместе с учеными занимали высочайшие ступеньки в иерархии, иногда они возвышались над партийными лидерами.
Поэт мог жить месяц за одно стихотворение. Сначала оно будет напечатано в заводской газете, затем в ежедневной, ежемесячной и в книге; следом за этим оно будет переведено на несколько национальных языков Советов...» (Illyés, «Oroszország 1934», p. 237-238).
222. См., например, описание Ильей Эренбургом интереса Сталина к одному из его романов в: Ilya Ehrenburg, Eve of War, 1933-1941, London, 1963, p. 274.
223. Arthur Koestler in Crossman, God that Failed, p. 57. Такие приемы более полно обсуждаются на р. 56-59 того же тома.
224. Memoirs of Waldo Frank, ed. Alan Trachtenberg, Amherst, 1973, p. 186-187.
225. Coser, Men of Ideas, p. 230.
226. Vladimir Nabokov, Speak, Memory, New York, 1966, p. 262-263.
266
Пол Холланлер
ГЛАВА ПЯТАЯ
ОТРИЦАНИЕ
ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА в 1960-1970-е гг.
Мы, человеческие существа, развивались как часть Земли, которая обладает всем необходимым для удовлетворения наших материальных нужд и которая одарила нас чувствами, позволяющими оценить красоту воды, неба, земли, жизни и друг друга. Эта планета, в буквальном смысле слова кружащая по небесам, потенциально может стать тем самым раем, о котором мечтает большинство наших религий. Ныне нам противостоит последний класс людей, считающих эту планету своей частной собственностью и обрекающих большинство из нас на тяжелый труд... Мы живем на заре человеческой истории, когда нам начинает видеться возможность коммунизма — исполненного мира, достатка, творческой энергии и свободы.
Брюс Франклин1
Существует реальная техническая возможность создания практически бесшумных и достаточно комфортабельных поездов метро: в одних вагонах вас могут развлекать, в других может стоять полная тишина — здесь можно отдаться чтению или раздумьям...
Разумеется, мы хотим, чтобы каждый район был обеспечен всем необходимым для занятий музыкой, спортом, живописью, скульптурой, вязанием, вышивкой, макраме и тому подобным. В каждом районе должно иметься оборудование для съемки фильмов, проведения концертов, постановки пьес, а также для печати брошюр, поэтических сборников, книг и местных газет...
Мы должны развивать новые потребности. И одной из этих новых, развиваемых в ходе революции потребностей должна стать потребность во всесторонней самореализации.
Майкл П. Лернер2
Жизнь была проще некуда. Постоянно стояла теплынь, погода не менялась... Всегда можно было подзаработать, торгуя наркотиками. Толкнешь в выходной чуток барбитуры и живешь на вырученные деньги всю неделю. Стыдливые профессора просили милостыню, кто-то занимался рукоделием... прямо на Авеню. С улиц Беркли исчезли голодные люди.
Джерри Рубин3
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
267
Термин «эпоха шестидесятых» требует некоторого уточнения. Обычно ассоциируемый с этим хронологическим понятием цельный комплекс событий, позиций и мнений на деле соотносится не только с этим десятилетием. Многие важные положения общественной критики, сформулированные в этот период, угадывались уже в 1950-е гг.,4 хотя тогда они и не имели существенного влияния. «Шестидесятые» — в том виде, в котором они запечатлелись в массовом сознании и в истории общества — начались не в конце 1950-х и закончились не с началом 1970-х. Период общественных волнений, политических беспорядков, культурных перемен и массовой политической активности начался около 1964 г. Появление «Berkeley Free Speech Movement» («Движение за свободу слова Беркли») и демонстрации, начавшиеся в этом году, могут рассматриваться как первые серьезные события, в известном смысле задавшие тон десятилетию и повторявшиеся раз за разом в студенческих кампусах по всей Америке в течение последующих шести или даже восьми лет. Разумеется, наиболее драматичные и яркие проявления духа, которым был проникнут весь этот период — демонстрации, беспорядки, гражданское неповиновение, взрывы бомб, — стали сходить на нет только к середине 1970-х гг. С другой стороны, многие ассоциирующиеся у нас с этим периодом ценности и взгляды, казавшиеся в свое время чем-то дерзким и ненормальным, стали расхожими истинами 70-х, о чем не без удовольствия напоминает нам Том Хейден.5
При ретроспективном рассмотрении этого феномена мы можем сравнительно легко найти объяснение политическим столкновениям и усиленной критике общества, которыми тот период характеризовался как в Америке, так и в Западной Европе. С высоты начала 1980-х гг. дух 60-х видится достаточно ясно. Тем не менее в конце 1950-х и в начале 1960-х гг. многое из того,
268
Пол Холландер
что стало понятным впоследствии, представлялось чем-то совершенно неожиданным.
Рассмотрение социальных условий, течений и тревог 1960-х гг. позволяет выявить связь между недовольством, свойственным этому периоду, и возрождением тенденций, выражающихся в идеализации нового набора социальных моделей, а также склонности, проявившейся в новом паломничестве, — на сей раз в направлении Кубы, Вьетнама и Китая.
ИЗОБИЛИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛИЗМ
Характер 1960-х гг. в Соединенных Штатах может оцениваться на двух уровнях. С одной стороны, возможно ориентироваться на реальные исторические и культурные события и видеть в них объяснение происходящего. Здесь следует вспомнить Вьетнамскую войну, движение за гражданские права, волнения в гетто, рост наркомании, усиливающееся влияние средств массовой информации. Иными словами, мы можем говорить о наличии реальных социальных проблем и ситуаций, которые вызывают определенные реакции у различных групп населения. В то же время 1960-е гг. могут рассматриваться и оцениваться как отражение менее явных тенденций и событий. Мне представляется, что получившие широкое распространение именно в этот период взгляды, позиции и мнения возникли бы и в отсутствие Вьетнамской войны или расовых волнений. Они могли бы принять несколько иные формы и, вероятно, имели бы другие временные рамки; отрицание же существующего общества значительной частью представителей средних классов, и прежде всего молодежью, было, что называется, предопределено судьбой. Вьетнамская война способствовала разве что направлению этих импульсов и тенденций в некое единое русло и выведению их на поверхность, но никоим образом не являлась причиной их возникновения.
Великое множество обстоятельств, имеющих различные степени «осязаемости» или реальности (как возможности их реального отслеживания), образуют Zeitgeist (дух времени), который я и пытаюсь уловить. Если бы я располагал их в соответствии с их относительной важностью, я бы начал с того, что было названо «изобилием», а также со связанного с ним чувства безопасности. Разумеется, в современной истории комбинация легкого удовлетворения материальных нужд и связанного с ним чувства безопасности уже не единожды приводила к беспокойству, тревоге, бунтарским настроениям и, как следствие, к бурной политической активности или к искательству приключений. Описывая
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
269
предысторию романтического движения в Европе, Бертран Рассел замечает: «Ко времени Руссо многие люди, тяготясь ощущением безопасности, возжелали чего-то волнительного... Романтики искали вовсе не мира или покоя, они стремились к индивидуальной жизни, исполненной силы и страсти...».6
Где-то в конце 1950-х гг. изобилие стало не просто означать высокий уровень жизни — оно вдруг подпало под подозрение, у него появился изъян, порок. «Обществу Изобилия»,7 отмеченному богатством отдельных лиц и общественным запустеньем, гордиться было нечем, как об этом писал Джон Гэлбрейт в книге, которая одной из первых посеяла сомнение в той пока еще благостной удовлетворенности, что была порождена личным потреблением у миллионов американцев — представителей среднего класса и мелкой буржуазии. Хотя Гэлбрейт вовсе не пытался дискредитировать потребление или связанные с ним ценности материального порядка, он — действуя в манере, ставшей обычной в следующем десятилетии, — способствовал ниспровержению мифа о невинности и естественности удовольствий, порождаемых личным потреблением. Общественные критики перенесли акцент с дисбаланса личных и общественных расходов (и с сопутствующей этому социальной несправедливости) на нежелательные духовные последствия материального достатка, оборачивающегося эгоцентризмом, невосприимчивостью и застоем. Со временем само слово «изобилие», которому зачастую предшествовал эпитет «пустое», приобрело явно негативный оттенок. Важность этой концепции, на фоне которой происходили едва ли не все баталии 1960-х гг., трудно переоценить.
Вероятно, самым значимым для 1960-х гг. (особенно для их начала) стало возникшее у большого числа молодых людей осознание того, что вопреки всем прежним убеждениям, ожиданиям и (подразумеваемым или выраженным явно) родительским заверениям, деньги и материальная обеспеченность не делают человека счастливым и не гарантируют того, что человек этот сможет обрести истинные жизненные цели. Вот что пишет об этом Хобс- баум: «Возрождению революционности в 1960-е гг. ... способствовало открытие того, что капиталистическое решение проблемы материальной нужды обнажает или, возможно, порождает новые проблемы (или, как говорят марксисты, «противоречия»), являющиеся центральными как для этой системы, так, возможно, и для всего индустриального общества».8 Согласно Кеннету Кенистону, молодежь требовала ответов на вопросы типа: «что находится за изобилием?» или «если не изобилие и не свобода, то что?». Эти молодые люди «воспитывались в таких семьях, где достаток, относительная экономическая стабильность, полити¬
270
Пол Холланлер
ческая свобода и изобилие являются простыми фактами жизни, а не целями, к которым надлежит стремиться».9
Данный феномен был характерен не только для американского общества, хотя представленный сценарий отрабатывался здесь куда чаще и вызывал куда больший интерес со стороны журналистов, литераторов и социологов, чем в других странах Запада. Шведский радикал Ян Мюрдаль (сын знаменитого социолога Гуннара Мюрда- ля), почитатель третьего мира и паломник в Китай и Албанию, писал: «Я видел семейную жизнь предместий и их любовную жизнь, лишенную любви... Тогда же я сказал себе, что в моей жизни будет совсем другая любовь. Я никогда не стану аскетом, и я никогда не клюну на однообразие рутинной семейной жизни... Я решил не приспосабливаться, пусть даже мне дадут гараж на два автомобиля, подарят модель железной дороги или же как-то иначе задобрят».10
В ту пору было принято корить поколение «родителей», принадлежащих к среднему классу, за то, что ему недостает идеализма и эмоций, а также за его поглощенность материальными заботами и ограниченность. И действительно, в послевоенный период многие семьи стали приобретать пресловутые пригородные домики с гаражом на две машины и обзаводиться посудомоечными и стиральными машинами и телевизорами. Вне всяких сомнений, наступила пора «материализма», эпоха материального изобилия, которая вызывала протест так же, как и холодная война, маккартизм, родительские сказки о Великой депрессии, Вторая мировая война, необходимость регулярного посещения колледжа и жесткая система воспитания.
Итак, изобилие не могло даровать человеку чувства довольства и сделать его жизнь полноценной и осмысленной, но при этом оно производило чувство безопасности, так или иначе сказывавшееся на поведении сотен тысяч молодых представителей среднего класса Америки. Оно способствовало развитию бунтарских настроений и отрицанию законной власти, поскольку никто не мог вообразить, что те способны вызвать сколько-нибудь серьезные репрессии. Лишь очень немногие протестанты и диссиденты чувствовали, что система, называвшаяся ими «репрессивной», таит в себе реальную угрозу* Даже находившиеся в первых рядах протестантов рьяные бунтари вроде Джерри Рубина часто считали попытки «системы» совладать с беспорядками шуточными. Он писал:
* Я подозреваю, что под «репрессиями» они понимали не такую деятельность, которая ассоциируется у нас с полицейскими государствами, но, скорее, любого рода принуждение. Такая интерпретация позволяет объяснить, почему радикалы применяли данный термин к столь широкому кругу ситуаций и институтов, так или иначе налагающих определенные ограничения на поведение индивида, — к этому разряду могли быть отнесены нуклеарная семья, школа, университет, место работы, экзамены, правила правописания и прочее.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
271
Люди, получившие повестки, становились героями. Прочие же завидовали им. Все это странным образом походило на секс. «У кого больше?» «Я тоже хочу». «Дай посмотреть».
Телефон-автомат... Хочу позвонить в особый отряд, узнать, не пришла ли повестка и мне. Стоило опустить монетку, как кто-то похлопал меня по плечу. Чик Харрисон из особого отряда Беркли: «Джерри Рубин. Это вам. Повестка из Комитета по антиамериканской деятельности».
Я вырвал повестку из его рук и понесся к Студенческому Союзу, подпрыгивая от радости. Вот это повестка, всем повесткам повестка!
Через два часа я уже стоял на ступенях здания городского совета Сан- Франциско перед 4 кинокамерами, 5 фотографами, 4 газетными репортерами и 7 представителями радиостанций, называющих Комитет по антиамериканской деятельности не иначе, как «охотником за ведьмами».11
Сьюзен Штерн, бывшая активистка «Weatherman», член «Си- этльской семерки» и участница «Дней гнева» в Чикаго, пишет:
Когда меня арестовали в первый раз, я нисколько не испугалась, скорее, мне было интересно. Все происходившее представлялось мне безумным приключением. Тюрьма была его частью...
Мне предъявили три обвинения в оскорблении личности и физическом насилии при отягчающих обстоятельствах и одно обвинение в физическом насилии с использованием смертоносного оружия. По каждому из пунктов я могла получить до десяти лет. Я была донельзя взволнована самим фактом ареста, перспектива же получить сорокалетний срок меня особенно не страшила. Я просто не верила, что подобное может со мной произойти... [дальнейшие события показали, что она не ошиблась]. Я смотрела на свою накрашенную и богато одетую мать, смотрела и думала: «Как хорошо будет улететь от всех этих чикагских дел в Нью-Йорк, где меня будет баловать мамуля». Потом я вспомнила об одной чернокожей женщине, которая так и осталась в камере... И тогда я почувствовала то, чего моя мама не смогла бы понять во веки вечные, — мне был ненавистен цвет моей кожи...
А вот не менее характерный эпизод, в котором речь идет уже о судебном заседании:
Нам было жутко скучно... На следующий день мы принесли вина и влили его в кувшин для воды. Мы набрались в комнате для защиты до бесчувствия. Нам было наплевать на то, что от нас страшно разит и что все эти судьи, федеральные чиновники и прочие свиньи чувствуют этот запах.12
Причина того, что Джерри Рубин, Сьюзен Штерн и другие представители их поколения нисколько не боялись и презирали тех, кто стоит на страже закона и порядка, от уличного полицейского до членов комитетов конгресса и судей, заключалась не только в их осознанном программном отрицании любой власти, но и в их неспособности поверить в реальность наказания. Судебные заседания рассматривались, скорее, не как прелюдия к тюремному заключению, но как возможность лишний раз подвергнуть «систему» критике и высмеять ее.
Сознательная постановка себя вне общества была еще одним проявлением этого подспудного ощущения безопасности, которое, согласно Сюзан Зонтаг, имеет революционное значение.
Америка — это общество, пораженное раком, для которого характерны бешеные темпы производства, заваливающего Америку совершенно ненуж¬
272
Пол ХолланАер
ными товарами... Эта страна обладает избыточной энергией, требующей высвобождения. Выход из социума имеет революционное значение, в какой бы форме он ни проявлялся — в приеме наркотиков (вызывающих снижение эффективности, ясности, продуктивности), в разрушении системы образования (поставляющей экономическим структурам послушный персонал), в сосредоточении на непродуктивной, гедонистической активности типа занятий сексом или слушания музыки.13
Кто знает, имел ли выход из социума революционное значение, но молодые люди уходили из университетов и колледжей, бросали работу, инстинктивно (и совершенно справедливо) считая, что они не потеряют при этом того, что представлялось им предметами первой необходимости, к которым они относили пищу, жилье, марихуану, одежду, стереоустановки, гитары и возможность пользоваться автомобилем. Они практически не сомневались в том, что кто-то и как-то о них в любом случае побеспокоится.14 Голодных людей на улицах Беркли или Кембриджа действительно не было (во всяком случае их было весьма немного). Существовали временные работы, благотворительные организации, друзья (студенты и не только), «ночлежки», коммуны и, наконец, на худой конец, родители.
Чувство безопасности сильно повлияло и на протесты, вызванные участием американцев во Вьетнамской войне. Хотя для большинства студентов перспектива быть призванным была достаточно отдаленной, она самим своим наличием обращала в ничто былое ощущение безопасности. Выросшее и воспитывавшееся в тиши и покое 1950-х гг. поколение, уставшее от «риторики холодной войны», характерной для старших поколений, потерявшее доверие к ее идеям и выразителям (к Маккарти и компании, а также к их духовным наследникам) и познавшее мощь американской техники, считало внешнюю угрозу чем-то нереальным. Вторая мировая война представлялась им давней историей, одним из отцовских рассказов, таким же занудным, как и все прочие его байки о былых трудностях и лишениях (скажем, о Великой депрессии). Таким образом, это чувство безопасности и игнорирование исторической правды не могли не оказать сильного влияния на антивоенную кампанию. Очевидно, отсутствие соответствующего исторического опыта оказывало подобное же влияние и на старшие поколения, — вспомним, к примеру, английских интеллектуалов 1930-х гг. Оруэлл писал:
Если вы выросли в такой атмосфере, вам будет крайне трудно понять, что такое деспотический режим. Почти все видные писатели 1930-х гг. принадлежали к чувствительному, эмансипированному среднему классу и были слишком молоды для того, чтобы ясно помнить события Первой мировой. Для этих людей такие вещи, как чистки, тайная полиция, расправы на месте, заключение без судебного разбирательства и так далее, и так далее, и так далее представлялись чем-то весьма далеким и потому нисколько не страшили их.15
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
273
Если американская сила и мир были такими незыблемыми, то чем можно было оправдать эту войну? Подобные вещи могли объяснить только безумные теории заговорщиков. («Вьетнам и существующая система образования суть два основных фронта американской кампании, направленной против молодежи. Не следует забывать также о тюрьмах и психиатрических лечебницах».)16
В 50-е и ранние 60-е гг. многие надежды и ожидания молодых представителей среднего класса Америки остались нереализованными. Следует заметить, что между безопасностью и скукой, с одной стороны, и политической активностью — с другой, существует явная связь, которая по ряду причин не получила должного рассмотрения. Роланд Стромберг, английский автор, пишет: «Молодые радикалы... представляли... первое поколение людей, которым было абсолютно не во что верить и которые располагали для этого массой времени».17Сочетание материальной безопасности, свободного времени, малого числа обязанностей (или их полного отсутствия), стимулирования самовыражения (со стороны родителей и образовательной системы) и порядка жизни в пригородах и студенческих кампусах привело к возникновению устойчивого комплекса обстоятельств, которые легко могли породить бунтарскую активность. Джон Олдридж пишет об этом так:
Возможно, решающим фактором оказалась скука... от которой страдало подавляющее большинство студентов... Не имея выраженных амбиций и интересов, которые были бы хоть как-то связаны с университетом, обычные студенты, подобно всем обычным людям, оказываются полностью зависимыми от внешних стимулов, которые отвлекали бы их и тем самым делали бы их жизнь сносной. Чем больше интеллектуальный вакуум, тем сильнее нужда в отвлечении внимания; вакуум в человеческом сознании, вероятно, еще более отвратителен, чем вакуум в природе...
Они были напрочь лишены возможности хоть как-то проявить себя. Двадцатью годами раньше они могли бы принять участие во Второй мировой войне, которая теперь представляется их сентиментальным отцам эдаким рыцарским походом. Они не пережили депрессии и потому не изведали и голода. Более того, единственной доступной им войны они не могли принять по моральным соображениям...18
Джерри Рубин жалуется: «Мы хотим быть такими же героями, как те, о которых пишут в книгах по истории. Мы пропустили первую [sic] американскую революцию. Мы не попали на Вторую мировую войну. Мы прозевали революции в Китае и на Кубе. Так что же суждено нам? Или мы так и просидим всю жизнь перед телевизорами?»19
Путей к более полноценному существованию доискивались не только юные обитатели кампусов, но зачастую и жившие рядом с ними представители академической науки. Приведенное ниже частное объявление из «New York Review of Books» отражает дух того времени:
274
Пол Холланлер
Двадцати лет в академических джунглях более чем достаточно. Преподаватель университета, печатающийся ученый, сочетание качеств живших в XIX в. Бёртона и Торо, приглашает к серьезной переписке человека, надеющегося на изменение своей жизни и способного осуществить это изменение, общий котел, способности, уважение к природным и человеческим качествам, новый стиль жизни, простой и бесхитростный, на Гавайях или где- либо еще в ближайшем будущем. Возраст, национальность и пол не имеют значения. Восприимчивость, решительность, настойчивость обязательны.20
Если мы будем ориентироваться на сравнительно-исторические стандарты, жизнь в Соединенных Штатах в 60-70-е гг. была ничуть не менее благополучной, чем в большинстве других обществ. Тем не менее материальная и политическая безопасность порождала потребность в стимуляции и приключениях или же способствовала ее возникновению. Рутинная деятельность воспринималась как невыносимая и тягостная — 1960-е гг. были декадой растущих ожиданий прежде всего на Западе, а не в развивающихся странах, к которым вначале и была приложена эта концепция (концепция революции растущих ожиданий). Политическая активность стала своеобразной ареной новой жизни, приключений, стремления к возвышенным целям и обеспечения социальной справедливости. Весьма непросто понять, какое именно сочетание идеалистических, альтруистических и авантюрных мотивов лежало в основе политических выступлений, направленных против войны и несправедливости американского общества.21 Генри Фейрли, англичанин, внимательно следивший за событиями в Америке, пишет: «Когда они [активисты] возжелали представить себя классом угнетенных, им пришлось расширить сферу своего опыта и превратиться в „белых негров“, утверждавших, что длинные волосы — это их черная кожа и что „ощущают“ они себя индусами, неграми и вьетнамцами».22’* Недостоверность политической идентификации молодых белых радикалов, которые в большинстве своем принадлежали к среднему классу, являлась характерным побочным следствием их попыток выйти за пределы безопасного существования и опыта, присущего среднему классу.23
Более развернутое объяснение данного феномена было предложено историком Дэвидом М. Поттером:
* Любопытное выражение духа времени состояло в том, что различные группы активно состязались друг с другом, претендуя на статус самых несчастных жертв существующего строя. Студенты университетов, представительницы среднего класса, молодежь в целом, заключенные, пациенты психиатрических лечебниц, клиенты благотворительных обществ, гомосексуалисты, разного рода меньшинства — все соперничали друг с другом, желая добиться статуса самой несчастной, самой угнетенной социальной группы. Подобные притязания позволяли не только атрибутировать критику «системы», но — при условии официального признания ее справедливости — и осуществлять адресную помощь заявителям.
Вероятно, следует согласиться с тем, что группы и индивиды не будут претендовать на статус жертвы или говорить о нем во всеуслышание, если таковым их действиям не будет предшествовать надежда на некое духовное, политическое или экономическое вознаграждение.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
275
Характерное для нашего времени стремление прослыть несчастнейшим на свете может содержать в себе элемент альтруистического сострадания, однако вы вправе заподозрить, что оно основана на негативной идентификации... Негативная идентификация представляет собой нацеленную на компенсацию форму социального остранения с ярко выраженной мотивацией. Порог! потеря этой личностной идентификации может приводить к чрезвычайной психологической опустошенности, для преодоления которой люди, не способные к установлению подлинных межличностных отношений, начинают отождествлять себя с некой абстракцией. Важным историческим примером отождествления с абстрактным началом является активная поддержка тоталитарных режимов.24
Политическая активность, присущая этому периоду, получила свое наиболее характерное выражение в так называемой «конфронтационной политике», в которой идеализм сочетается с жаждой приключений, неповиновением властям, а также с элементами политической прагматики. Эскалация гражданского неповиновения, словесные или физические атаки на представителей власти и предъявление «непереуступаемых требований» являлись основными техниками, понуждавшими систему проявлять свое истинное лицо.25 Противостояние властям подталкивало протестующих к спонтанным рискованным активным действиям и вырабатывало у них чувство сплоченности. Активистка группы «Weatherman» вспоминает:
Женщины сгорали от нетерпения, ожидая начала выступления... Мы хотели сражаться ... толпа в массе своей была настроена несерьезно, люди веселились... Бунт являлся подлинным выражением нашего разочарования... хотя о таких целях, как свержение правительства, речь идти, конечно же, не могла. Свиньи в полицейских касках представляли власть, которая была запретительной и односторонней... После выступления мы провели женское собрание, которое буквально искрилось энергией. Все это было так возвышенно... Только действия, только уличные выступления и схватки с этими свиньями могли высвободить эту потаенную энергию... Мы смотрели друг на друга с любовью, глаза наши горели.26
Конфронтационная политика способствовала также «развенчанию» власти непочтительным к ней отношением. Джерри Рубин, главный теоретик и практик конфронтационной тактики, писал:
Выполните наши требования, и мы тут же выдвинем дюжину новых... Мы выдвигаем на этих собраниях именно такие требования, которые заведомо не могут быть исполнены истеблишментом... Демонстранты никогда не бывают «разумными». Мы всегда выдвигаем свои требования в столь оскорбительной манере, что властные структуры никогда не могут удовлетворить нас. Если же наши требования не выполняются, мы кричим, мы орем, исполнившись праведного гнева... Цель не имеет никакого значения. Тактика, реальные действия — вот что важно.27
Хотя мы привыкли ассоциировать 1960-е гг. с бунтарством, нонконформизмом, необычными формами самовыражения, специалисты, занимающиеся историей общества, замечают, что в этот же период возникают и новые формы конформизма и регламентации. Объявление в «New York Times» (реклама универмага «Macy’s») хорошо передает дух того времени. На картинке вы видите улыба¬
276
Пол Холланлер
ющегося молодого человека, одетого на армейский манер. Подпись гласит: «Как прикольно носить хаки, когда ты можешь не делать этого...»28 Объявление «Масу’в» нашло своих читателей, портные стали шить одежду новых фасонов.* Голубые джинсы, одежда фермера, ботинки и прочее обязаны своим появлением стремлению отождествить себя с беднотой, которой ошибочно был приписан названный стиль. С другой стороны, дикий вид позволял шокировать окружающих и выражать свое отношение к нормам и понятиям о респектабельности, характерным для среднего класса. Джерри Рубин, как всегда, выражает самую суть этого явления:
Грязные, вонючие, угрюмые, шумные, свихнуые от наркоты, безрассудные, одетые в кожаные куртки, мы являли публике образ грязи и убогости, воплощая в себе отрицание стандартов, принятых средним классом.
Мы испражнялись и занимались любовью на глазах у всех, мы переходили улицы на красный свет, мы открывали зубами бутылки «кока-колы».
Мы торчали на всех наркотиках, известных людям.
Мы были отрядом американских изгоев, взобравшихся на всемирные подмостки и заявивших о себе во всеуслышание.30
В то же время знание того, что ты носишь лохмотья не потому, что тебе больше нечего надеть, а потому, что тебе так заблагорассудилось, должно было действовать успокаивающе. Большинство деятелей контркультуры и политических активистов, выходцев из среднего класса, не понимало и не могло понять проблемы бедности. Эта невосприимчивость являлась неотъемлемой чертой социальной критики данного периода, при этом она обычно сочеталась с неожиданным осознанием ущемления гражданских прав темнокожего населения и некоторых других меньшинств. Если материальное неравенство, о котором этому поколению говорили средства массовой информации и университетские преподаватели, хоть как-то объяснялось, все доводы ограничивались разного рода иррациональными причинами и злой волей.
Отказ от рассмотрения проблемы бедности получил теоретическое подтверждение и развитие в работах Маркузе, Роззака, Райха и других. Отрицание нужды как одного из неизбежных условий человеческого существования имеет свои материальные и нематериальные аспекты. Неверие в неизбежность материального недостатка обусловлено технологическими достижениями США
* Борясь за свою долю прибыли на рынке радикальной моды, «В1оотп^с1а1е’з» предложил вниманию потребителей китайские рабочие костюмы: «Все люди... чего-то ждут. Жить в мире и радоваться жизни. Когда-нибудь. Не символично ли это? Народный костюм... Время от времени в мире происходит нечто поразительное. Нечто такое, о чем мечтают все. Именно это и произошло сейчас. Перед вами рабочий костюм из Китая».
В 1930 г. Малькольм Коули наблюдал подобный же феномен. «Коммунисты той поры были, по большей части, интеллектуалами и политиками, одеты же они были по-рабочему (кепка, синяя или клетчатая рубаха, армейские ботинки, кожаная куртка)».29
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
277
и Западной Европы, которые в сочетании с менее расточительным и более рациональным использованием ресурсов и с дальнейшей автоматизацией могли бы снять эту проблему. Отрицание серьезности проблемы бедности нематериального характера основано на убеждении, что эмоциональные ресурсы человека и потенциал «роста» также безграничны. Неверие в бедность и безудержный рост индивидуализма идут рука об руку. Разумеется, развитие индивидуализма имеет свою достаточно долгую историю, причем процесс этот после Второй мировой войны явно ускорился благодаря сочетанию трех факторов: значительному повышению жизненного уровня (вследствие чего обеспеченность предметами первой необходимости уже не вызывала у людей такого беспокойства), распространению высшего образования (наделившего образованных людей новыми идеями, касающимися различных форм самореализации и постановки жизненных целей), а также политических свобод и плюрализма, обеспечивших стабильную институциональную основу для выражения и реализации потребности в новом социальном выборе.31 Том Вулф считал, что «десятилетие „я“» —термин, которым он обозначал 1970-е гг., — началось в 1960-х, с их программным гедонизмом, культом наркотиков, сексуальными экспериментами, рок-музыкой, отказом от выполнения рутинной работы, торжеством безделья и верой в беспредельные возможности самовыражения в искусстве, политике и в общинной жизни. Конечно, акцент как на общине, так и на индивидуальности маскировал приоритет индивидуализма над общинными исканиями и деяниями. Хотя в этот период появились сотни, а возможно, и тысячи коммун, из них смогли уцелеть только единицы, что свидетельствует о силе индивидуализма и неспособности индивидов подчиняться хоть какой-то дисциплине, авторитету или порядку, без чего коммуна попросту не может существовать. Многое в контркультуре было повторением в более широких масштабах романтического индивидуализма, дополненного марксистской риторикой.32 Контркультура воскресила и впитала старые формы романтизма, невинно представляя их себе и миру чем-то вроде новейших культурных достижений. Наблюдения Бертрана Рассела, относящиеся к романтизму XVIII- XIX столетий, приложимы и в данном случае:
Сильные чувства приводят их в восхищение вне зависимости от природы этих чувств и возможных социальных последствий... Обычай сдерживать себя, памятуя о возможных последствиях, скучен; когда чувства пробуждаются, следовать нормам социального поведения порой бывает весьма непросто. Люди, забывающие о них в подобных ситуациях, обретают новую энергию и ощущение силы... и, хотя все может закончиться катастрофой, они до времени испытывают блаженство божественной экзальтации... ибо романтик предпочитает страсть расчету... Романтическое движение, по сути своей, имело целью освободить человеческую личность от уз социальных конвенций и морали.33
278
Пол Xолланлер
Именно возрождение индивидуализма вызвало к жизни новое толкование понятия «подавление»: с ним отождествлялась практически любая ситуация, сопряженная с недостатком средств. Эдвард Шилз замечает: «Все препятствующее исполнению того, что в данный момент представляется желанным — будь это ограничение посещаемости студенческих общежитий, или экзамен, или условности моды, или запрет на занятие сексом в общественных местах, — должно быть отнесено к категории репрессивного». Подобное распространение понятия «репрессивный» на сферу чувств или переопределение этого понятия были бы невозможны без нового, более амбициозного понимания личных прав, нужд и предпосылок, необходимых для саморазвития и самовыражения. Соответственно, тогда же проявилась и тенденция рассматривать любое пришедшее извне требование как неспонтанное, неаутентичное и репрессивное.34 Эндрю Хэкер обращает особое внимание на распространение подобной «чувствительности», во всяком случае в американском контексте.
В прошлом обычные люди были достаточно непретенциозными, они осознавали собственную ограниченность и занимали посты, примерно соответствовавшие их возможностям. Развитие же индивидуализма изменило понятие человека о себе самом, породило неудовлетворенность... которая была немыслима прежде. Уверившись однажды в том, что он являет собой «индивида», имеющего право реализовывать «свои» потенции, гражданин тут же приходил к мысли о крайней бедственности своего положения... Отчуждение, бессилие, кризис самоидентификации возникают лишь в тех случаях, когда граждане решают обогатить собственную персону потенциями, ждущими своего высвобождения...“5
Возросший уровень индивидуальных запросов или ожиданий делает понятными не только общий тон, свойственный этому времени, но также и некоторые конкретные социальные движения, такие, например, как движение за освобождение женщин, в котором участвовали главным образом представительницы среднего класса и студентки университетов. В основе феминизма 60- 70-х гг. лежала растущая потребность в самореализации, самовыражении, освобождении, автономии, отрицании (преимущественно антииндивидуалистических) социальных ролей и ролевых отношений. Даже в лучших учебных заведениях читались курсы и проводились семинары (такие как «Project Self» в Массачусетском университете в Амхерсте), на которых слушателей призывали к повышению уровня личных запросов и к их реализации. Занятия женских групп обычно сводились к внимательному рассмотрению личных проблем, неудач и помех, наличие которых препятствует осуществлению желаемого. Группы поддержки и расширения сознания занимались взращиванием и культивированием этих разрастающихся эго. Популярные школы психотерапии и новые религиозные культы, а также ряд существующих
279
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
церквей всячески превозносили развитие, наслаждение, освобождение. Книги типа «помоги себе сам» призывали людей стать эгоцентриками.36 Том Вулф суммирует:
Древние алхимики мечтали о превращении обычных металлов в золото. Сегодня у алхимиков появилась новая мечта: изменить человеческую личность — перекроить, перемоделировать, возвысить и отполировать собственное «Я»... наблюдать за ним, изучать его, следить за ним... (Я!) Прежде этим правом обладали лишь аристократы... ибо лишь представители самых богатых классов обладали временем и средствами, необходимыми для этого приятнейшего и пустейшего занятия... К середине 1960-х гг. былая роскошь обратилась в некий стандартный вариант... Сторонние люди, слышавшие об этих занятиях, изумлялись их притягательности. Причина же этой притягательности была достаточно тривиальной. Все объяснялось одной фразой: «Давайте поговорим обо Мне». Неважно, собирались или не собирались вы обновлять свою самость, в любом случае все ваше внимание и все ваши энергии фокусировались на самой потрясающей вещи на свете: на вашем собственном «Я». Мало того, вы представляли свое «Я» живой аудитории, выводили его на сцену... Вы только представьте себе ...моя жизнь становится драмой, имеющей универсальное значение... она анализируется подобно «Гам- лету», выясняется ее значимость для прочего человечества... '
Один из парадоксов этого времени заключался в том, что рост индивидуализма и повышение уровня личностных запросов сопровождались широким распространением веры в социальнокультурную детерминированность личности, или в «системную» обусловленность личностных проблем и фрустраций.38
Изобилие, новые образовательные возможности и отличающаяся терпимостью политико-институциональная среда были не единственными причинами нового расцвета индивидуализма, которым отмечены 1960-е гг. Специфика воспитания, которое получали выходцы из среднего класса, и сопутствующий культ молодого поколения также сыграли свою роль. Чем больше превозносится молодежь, тем меньше авторитет «взрослых». Культ молодости отражал потерю доверия к старшим поколениям. Не было ничего удивительного в том, что молодежь столь часто отрицала авторитет взрослых (или то, что от него осталось); когда же к критике власти39 присоединялись «властные фигуры», они пытались сигнализировать словами, бородами или джинсами о своей общности с молодежью, которой не могли помешать ни возраст, ни социальное положение, ни образование. В кампусах находилось немало взрослых людей, которые после определенных исканий приходили к мысли о том, что им следует равняться на молодежь, и которые не могли устоять перед ее требованиями, исполненными мистики преобразования, которая всегда находит отклик в сердцах американцев. Роберт Хатчинс, бывший ректор Чикагского университета, пишет:
Весной 1968 г. студентам следовало бы не только простить захват пяти университетских зданий, удерживавшихся ими в течение шести дней [в Колумбийском университете], их следовало бы поблагодарить на выпускной церемо¬
280
Пол Холла илер
нии за то, что они распахнули двери для университетской реформы... «Вместо того чтобы думать о подавлении молодежной революции, нам, старшему поколению, следовало бы подумать о ее поддержке, — советует Джон Д. Рокфеллер третий. — Студенческие активисты быстро лишили нас былого самодовольства. В эти непростые времена нам просто не обойтись без их таланта и энергии».40
Проблема отождествления была составной частью осознающего себя индивидуализма, над которым насмехался Том Вулф, и отражала нежелание все большего числа людей определять собственную самость в системе таких безликих и стандартных критериев, как социальные роли, возраст, пол, национальность или класс. Принятая у среднего класса система воспитания играла в этом не меньшую роль, чем то, что Питер Бергер назвал «плюрализацией социального опыта».41 Иначе говоря, передача отцовских ценностей также способствовала молодежному отчуждению и критическому отношению к обществу. Конфликт между поколениями был преувеличен порой настолько, что превращался в миф, как указывали на это наиболее радикальные студенты.42 Дайана Триллинг замечает:
Изрядное количество благопристойных американских матерей и отцов этих молодых людей, принадлежащих к среднему классу, а также ряд других активных поборников прогресса поддерживали своих потомков. Господин Радд, отец Марка, расхаживал по кампусу, испытывая гордость за сына, госпожа Радд, мать Марка, дала «Times» исполненное нежности и гордости интервью, в котором она рассказывала, как ее сынок-бунтарь выращивал тюльпаны в их садике. Около двухсот матерей и отцов студентов Колумбийского университета создали особый Комитет озабоченных родителей, поддерживавший требования их детей. Дуайт Макдональд, испытывавший отвращение к любого рода насилию, послал друзьям письмо с призывом оказать финансовую помощь SDS... Местные священники с горячими сердцами и пламенными душами тоже решили участвовать в этом новом движении молодых идеалистов...43
Влияние семьи на молодых радикалов легче всего отслеживается, когда родители — известные люди. Примером могут служить гордые родители Марка Радда, Герберт и Беттина Аптекер (отец — известный функционер коммунистической партии, дочь — один из лидеров студенческого движения в Беркли, руководитель клуба Дюбойса), Леонард Будин, юрист, известный своими радикальными взглядами, и его еще более радикальная дочь Катя, активистка боевой революционной организации «Weather Underground» (прославившаяся созданием подпольной фабрики по производству бомб в Гринвич-Виллидж). «Как сказал один из близких друзей Будинов, его дети росли в этом ультралевом мире, и потому на них не могли не повлиять все эти люди, разговоры, процессы...»44 Политическая поддержка детей иными родителями часто была обусловлена стремлением последних реализовать себя— принимая социальную систему как таковую, отказываясь от своих юношеских политических убеждений, вписываясь в пространство жизни среднего класса и живя
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
281
в материальном достатке, они продолжали презирать это общество и считать несправедливыми царящие в нем порядки. Для таких родителей политическая активность их детей являлась своеобразным суррогатом омоложения и искупления: они пытались реализовать то, о чем мечтали их родители, они не шли на компромиссы с этим несовершенным миром и не покупались на степени, хорошие должности, дачи и поездки в Европу. В первую очередь это относилось к академической среде, где родители и профессора симпатизировали радикальным студентам, которые зачастую весьма походили на их собственных детей.45
Не все влияния, исходившие от представителей старших поколений — родителей или преподавателей, — имели выраженный политический подтекст. Имели место и более тонкие процессы, особенно если речь шла о детстве. Питер Бергер пишет: «Современный ребенок... очень рано начинает чувствовать себя достаточно важной фигурой. Он узнает о том, что у него есть собственное достоинство и права, коими он обладает как уникальный индивид. Также он узнает о том, что общество (то есть взрослые, играющие в детском мире роль „администраторов“) уступчиво и готово откликнуться на его нужды. В типичном случае ребенок вырастает с низким порогом фрустрации». Подобная позиция не только возводит блоки индивидуализма, обсуждавшегося выше, но также объясняет особое отвращение к бюрократии, что является существенным моментом критики общества молодым поколением.
Сознание и ценности современного детства подчеркнуто персоналистич- ны. Современная бюрократия, по контрасту, пронизана духом подчеркнутой безличности. Иными словами, индивид, выросший в наше время, скорее всего будет чувствовать себя угнетенным современной бюрократией... Сегодня люди чувствуют себя угнетенными, «отчужденными» и даже «эксплуатируемыми» в тех случаях, когда им приходится участвовать в бюрократическом процессе... который предыдущее поколение приняло бы за жизненную необходимость. Любой процесс, при котором к индивиду относятся как к «чему-то безликому», пусть даже процесс этот преследует несомненно благие цели, воспринимается как попрание человеческого достоинства.46
Короче говоря, воспитание детей представителями среднего класса также определяло дух 1960-х, приводя к завышенным и нечетким ожиданиям некой самореализации, явной неприязни ко всему безликому и стандартному, враждебному отношению к власти и к порождаемому благополучием благодушию. Домашний эгалитаризм вел к парадоксальной комбинации ожидания человеком воплощения принципов эгалитаризма в обществе в целом и ожидания признания этим же обществом его собственной уникальности.*
* Эти формы воспитания могли способствовать и конфликту между индивидуализмом и коллективизмом, которого радикальная контркультура так и не смогла разрешить.
282
Пол Холландер
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАССОВАЯ КУЛЬТУРА
Социальные проблемы, конфликты и политические протесты становились известными миру благодаря средствам массовой информации. «Революция» не превратилась бы в «театр»47 без телевидения; участники и создатели этого революционного театра всегда осознавали важность гласности (особенно визуального ряда) и понимали, что она позволяет им драматизировать политическое недовольство тех ли иных групп населения. Джерри Рубин достаточно точен в своем анализе использования средств массовой информации.
Телевидение воспитывает поколение детей, которые хотят стать взрослыми и пойти на демонстрацию. Вы когда-нибудь видели на экране скучную демонстрацию? Одно то, что тебя показывают по телевизору, уже действует возбуждающе... Телевидение созидает миф, заслоняющий собою реальность... Сама идея «сценария» представляется революционной, поскольку «сценарий» предполагает вмешательство в нормальный ход событий. Каждый репортер является драматургом, превращающим жизнь в театр. Преступление, произошедшее на улице,— новость; законность и порядок — нет. Революция — новость; существующий порядок вещей — нет.
Средства массовой информации не сообщают о новостях, они производят их. Событие происходит, когда оно транслируется по телевидению и становится мифом.
Средства массовой информации не «нейтральны». Присутствие камеры преображает демонстрантов, превращает их в героев. Если рядом пресса, мы ведем себя несколько иначе...4®
Критик Рената Адлер также обратила внимание на тесную связь, существующую между СМИ и манерой поведения и риторикой революционеров. «Призывы отвергнуть этот мир — прекрасные типажи, прекрасная сцена. Манера держаться и риторика бунтарей как нельзя лучше устраивают масс-медиа — этого властного поводыря до безумия непоследовательных избирателей».49
Вот что пишет о масс-медиа и благах, даруемых гласностью, Сьюзен Штерн:
Я вдруг кем-то стала. Я была уверена в этом, потому что меня окружало столько людей, задававших мне вопросы и ожидавших ответа... поворачивавших меня так и эдак, переставлявших прожектора. Меня посетило с полдюжины адвокатов, предлагавших свои услуги. По всей стране газеты печатали мои фотографии рядом с фотографиями других обвиняемых. В камеру то и дело наведывались репортеры, желавшие взять у меня интервью. Меня утешал священник, студенты юридического факультета пытались получить разрешение на свидание со мной... Соседи по камере угощали меня и говорили другим: «Я сижу в одной камере с Сьюзен Штерн. Помните дело о „Сиэтльской семерке“? Это она и есть».50
Материалы, которые Рубин называл «рекламными роликами революции» множились в ту пору день ото дня, что объяснялось не только природой СМИ, но и известной симпатией журналистов
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
283
к участникам протестов, вследствие чего они подавали материал не в критической, но скорее в благоприятной для революционеров манере. Да и возможно ли было критиковать молодых образованных людей или представителей угнетенных меньшинств?51 Все это способствовало распространению идеологии раскола и придавало ему более респектабельный вид, ибо эта тема присутствовала практически во всех выпусках новостей, и это, помимо прочего, привлекало внимание зрителей к тем или иным социальным проблемам.
Телевизионное освещение Вьетнамской войны также оказало существенное влияние на характерный тон этой эпохи. Каждодневный показ реальных страданий реальных людей придавал антивоенному движению особую моральную силу и косвенно способствовал легитимации любой критики американского общества.
Высказывалось и предположение о том, что СМИ, в частности телевидение, во многом способствуют развитию у молодых людей стремления к мгновенному удовлетворению желаний, от чего они могут мгновенно впадать в скуку, и соответствующего искания ими легкодоступных источников стимуляции и возбуждения.52 Рената Адлер пишет: «Новым врагом стала скука, то есть отсутствие драматических коллизий. Новой валютой стала слава».53 В довершение всего, стать «знаменитостью» теперь было куда легче; это была эпоха появлявшихся в одночасье (пусть и несколько эфемерных) знаменитостей из мира уличной политики, дешевых массовых увеселений, политических протестов, преступлений или любого рода эксцентричных поступков. Убийцы, похитители людей, террористы — политические и обычные — испытывали немалое удовлетворение от того, что их действия становились известными всей стране. Они могли рассчитывать на то, что средства массовой информации вознаградят их за сенсационное или возмутительное поведение благоприятным освещением событий, не зависящим от их расы, вероисповедания, пола, возраста, национальности или морали. Страсть к известности пронизала всю социальную жизнь. Актеры, артисты эстрады, академические мудрецы, литературные интеллектуалы, политики, члены уличных банд — все желали известности. Стремление к достижению статуса знаменитости сочеталось с различными политическими убеждениями. В эру щеголяния радикализмом политические радикалы и герои контркультуры пользовались СМИ так же охотно, как поп-музыканты и телевизионные звезды. Роберт Бруштейн замечает, что «новые политические радикалы демонстрировали возможность сочетания авангардистских взглядов, популярности и богатства».
284
Пол Холланлер
Даже состоятельные интеллектуалы и художники решили, что безвестность и безденежье более не устраивают их, — теперь они желали быть богатыми и знаменитыми. Они хотели «сохранить свою серьезность и респектабельность и одновременно обрести деньги, имя и популярность». Дух времени и особенно антиэлитаризм позволяли обращать популярность и легкий доступ к средствам массовой информации (прежде серьезные деятели искусства и интеллектуалы даже и не помышляли о них) в капитал, в доказательство аутентичности.
«Битлз», «Роллинг Стоунз», Вудсток, «Беспечный ездок» и «Выпускник», «The Living Theater», «Волосы», «Ленни» и «Иисус Христос Суперзвезда», психоделические приключения и кривлянье Эбби Хоффман воспринимались как аутентичные культурные достижения постольку, поскольку они пользовались популярностью. При этом все частное, единичное или своеобразное осуждалось как мещанское, ориентированное на истеблишмент или контрреволюционное.54
Люди, стремившиеся к известности, изобретали все новые и новые способы для ее обретения, прибегая к специальным эффектам, искажению собственной личности и выставляя свою частную жизнь на всеобщее обозрение. И артисты эстрады, и политики* мечтали о «мгновенном узнавании», ибо обе эти группы стремились прежде всего к известности. Однако СМИ, и в особенности телевидение, вероятно, способны оказывать на публику еще более эффективное влияние. Они всячески способствуют развитию нетерпимости ко всему обыденному, развивают жажду необычайного, стимулируют желание перейти от безвестности к славе. Помимо прочего, они развивают привычку к новому. Стремление к новизне было одним из существеннейших начал общественной критики и отрицания существующего общества вместе с его институтами и ценностями. Дэниел Белл (так же как в свое время Токвиль) считал стремление к новизне центральной характеристикой современной американской культуры: «Общество не просто пассивно принимает нововведения; оно создает рынок, жадно проглатывавший все новое, поскольку, по его мнению, новое всегда превосходит старое... Общество, полностью
* Стремление к известности и соответствующему финансовому вознаграждению было настолько велико, что даже такие выдающиеся деятели искусства, как покойный Артур Фидлер, руководивший Бостонским симфоническим оркестром, участвовал в телевизионных роликах, рекламировавших апельсиновый сок; Лилиан Хелман, драматург и общественный критик, позировала для рекламы «лучшего в мире меха темной норки» в «New York Times Magazine».55 Покойный Юджин Бердик, автор «Failsafe», рекламировал пиво в журналах и на телевидении. Белла Абцуг носила особую шляпку, в которой ее было невозможно не узнать (ее «торговая марка»), Уильям Кюнстлер часто позировал в очках, какая бы при этом ни стояла погода. Сенаторы могут сплясать джигу на слушаниях в Сенате или дать скрипичный концерт для авиапассажиров. Стремление к известности сокращает дистанцию между развлечениями, искусством и политикой.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
285
отдавшееся обновлению и жаждущее перемен, на деле превращает авангард в один из своих институтов...»56
Один из аспектов сложного и противоречивого феномена проблемы «отцов и детей» связан со средствами массовой информации и массовой культурой, а также с быстрым изменением моды и увлечений.
Часто обсуждаемая проблема «отцов и детей» являлась во многом... следствием неофилии, одного из неврозов современной жизни. Мода во всех областях меняется так стремительно, что определенная культурная общность может сохраняться только у людей примерно одного возраста, в данном случае мы говорим о песнях, шутках, книгах и лексике, которые играют роль средств личностного взаимопонимания. Некогда юность и зрелость, несмотря на все отличие своих жизненных позиций, имели общую классическую литературу, живопись, музыку, танцы, романы и фигуры речи. Безумная смена всех стилей каждые несколько лет затрудняет взаимодействие и усиливает степень изоляции современных людей.'”
Телевидение критиковалось за расшатывание культурных устоев общества, за косвенное участие в снижении образовательных стандартов и в насаждении безграмотности. Уильям В. Шеннон замечает: «Самая тонкая опасность, связанная с телевидением, заключается в том, что оно делает аудиторию пассивной и приучает ее к получению мгновенного вознаграждения».58 Похоже, что существует связь между призывающими к «уместности» криками, раздающимися в колледжах и университетах, и этим выпестованным телевидением нетерпимым отношением ко всему неизвестному и несовременному. Действительно, для 1960-х гг. или, точнее, для групп, определивших их атмосферу, было весьма характерно забвение истории или отсутствие интереса к ней. Многие критические замечания по поводу формального образования также стимулировались моделью отношений между телевизором и аудиторией и основывались на ней. Период сосредоточенного внимания студентов сокращался, преподаватели же боялись утомить свою аудиторию.
Оставаясь по преимуществу эскапистскими, СМИ и массовая культура в этот период испытали заметное влияние культурного радикализма и определенных форм социального сознания. Это привело к возникновению западного социалистического реализма (дополняющего оригинальный советский), призванного доносить до зрителей политические воззвания. Составным элементом политических демонстраций часто становился «партизанский театр», наиболее упрощенная форма соцреализма. Многие писатели и литературные критики участвовали в обсуждении вопроса о том, как литература и искусство должны реагировать на новые социальные и политические проблемы. Принципиальным моментом для этих западных форм социалистического реализма являлось обязательное наличие «ролевых моделей»: иными сло¬
286
Пол Холла иле р
вами, по мысли адептов этого течения, литература (и СМИ) должна была показывать вещи не такими, каковы они есть, но такими, какими они должны быть.59 Так пьеса Ричарда Левинсона и Уильяма Линка «Тем самым летом» была раскритикована представителем Союза геев за то, что в ней был изображен снедаемый сомнениями гомосексуалист, который никак не мог понять, что такое гомосексуализм — норма или патология. Критик полагает, что авторам следовало бы списать своего героя «с одного из бесчисленных здоровых и [счастливых] геев — мужчин или женщин», а не показывать образ несчастного гомосексуалиста и не смущать тем самым «массу молодых зрителей, пытающихся скрывать свою сексуальную ориентацию». Другой корреспондент критикует пьесу за то, что гомосексуализм в ней «столь же уместен и интересен, как выдохшаяся газировка», а также за то, что она подталкивает «молодежь и тех, кто ищет ответа», к осуществлению выбора между гетеросексуальностью и гомосексуальностью.60 Подобным же образом писатель Уильям Стайрон критиковался за то, что созданный им Нат Тернер обладал рядом совершенно негероических черт и проявлял вполне определенный интерес к белой женщине.61 Нет ничего удивительного в том, что на собрании черных актеров было провозглашено: «Наше искусство должно стать составной частью общей борьбы, частью мировой социальной революции...», «искусство — всегда пропаганда, и потому мы должны идти в массы, учиться у них и питаться от них».62 Феминистки, в свою очередь, жаловались на недостаточное количество впечатляющих ролевых моделей в СМИ и на неудовлетворительное представление нового типа женщины с продвинутым сознанием, с необычной для ее пола специальностью и с пониженным интересом к мужчинам и семейной жизни. Авторы доклада, посвященного проблемам пропорционального представления «меньшинств» (включая женщин) на экране, зашли так далеко, что предложили использовать принцип квот и в этой области.63 Музеи также должны были служить политическим целям (или быть «релевантными»), и для достижения этого использовались примерно такие же методы, как и те, что были столь популярны в кампусах. Например, участники акции «Художники Нью-Йорка против расизма, сексизма, репрессий и войны» ворвались на заседание Американской ассоциации музеев и сорвали его.64 Луис Кампф, профессор литературы в Массачусетском технологическом институте и президент Ассоциации современного языка, так выражает отношение радикалов к культуре:
Движение должно начать свои действия с Линкольн-центра. Следует срывать все постановки. Заткнем известкой фонтаны, помочимся на скульптуры, распишем стены дерьмом.65
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
287
Те же тенденции повлияли и на театр, оказавшийся самой уязвимой целью. Вот что пишет Роберт Бруштейн: «Театр привлекает [молодых активистов, стремящихся к обладанию новыми значениями и средствами] в силу своей коммунальной природы, близкой к природе Т-групп, коммун, групповой психотерапии, групп расширения сознания и прочих видов квазиплеменного самовыражения» .66
Возможно подобная позиция, состоявшая в сознательном нежелании хоть как-то различать искусство и политику, религию и терапию, обучение и развлечение, политические свободы и репрессии, психические здоровье и болезнь и так далее, являлась одной из характернейших примет этого периода и его наиболее ярких культурных феноменов.
ВЬЕТНАМ
Говоря о 1960-х гг., невозможно обойти вниманием страстные протесты против американского участия во вьетнамской кампании, университетские диспуты, сжигание повесток и бесконечные дебаты, вызванные войной. Политическая активность этого периода во многом связана с антивоенным движением; многие положения социальной критики, появившиеся в это время, были либо связаны с критикой несправедливой войны, которую развязало несправедливое общество, либо являлись составной ее частью. Почти десятилетие Вьетнам находился в центре общественного внимания, и более всего эта тема заботила студентов, преподавателей и других интеллектуалов. Вероятно, эта война освещалась лучше и подробнее, чем любая другая война в истории. Она породила огромное количество книг, статей, исследований, документальных фильмов и даже пьес.*
Антивоенные выступления редко ограничивались протестом против участия Америки в войне и избранной ею тактики, почти всегда они становились основанием для более широкой критики американского общества и системы управления. Сюзан Зонтаг пишет: «Вьетнам позволил начать систематическую критику Америки». Джерри Рубин вторит ей: «Если бы Вьетнамской войны не было, ее следовало бы изобрести. Если она закончится, мы найдем другую войну».69 Как явствует из этих заявлений,
Питер Вайс назвал свою пьесу «Повествование о ранней истории и ходе продолжительной войны по освобождению Вьетнама, свидетельствующей о необходимости вооруженного сопротивления угнетенных угнетателям, а также о попытках Соединенных Штатов Америки разрушить революционные основы».67 В университете Скарсдейла (Нью-Йорк) студентам был предложен курс по ведению партизанской войны (на вьетнамском материале).88
288
Пол Холланлер
возмущение американским вторжением во Вьетнам имело своей главной причиной отнюдь не обеспокоенность возможными последствиями этой войны. Вьетнам лишь усилил настроения, выражавшиеся в отрицании и критике американского общества и, в данном случае, в ненависти к ней, которые до времени были либо скрыты, либо выражены лишь частично. Война придала социальным критикам, которые чахли в мирной атмосфере 1950-х гг., лишенной сколько-нибудь значимых событий, которые дали бы повод начать «систематическую критику Америки», немыслимую прежде страстность и уверенность. Вьетнам являлся скорее катализатором, чем причиной отрицания американского общества в 1960-е гг. Он подтвердил все тайные подозрения, вынашивавшиеся критически настроенными членами общества.
Возмущение американским вмешательством во Вьетнаме было связано и с ослаблением уверенности в том, что Советский Союз и другие коммунистические страны являются врагами и потому сопротивление их экспансии оправдано. (Впоследствии подобное отношение к Советскому Союзу и его союзникам было приписано действию «мифов» холодной войны.) Прежняя оценка Советского Союза и его глобальных намерений также объясняет отсутствие протестов против участия американцев в корейской войне, хотя она в известном смысле была ничуть не менее предосудительной. В Корее американцы тоже поддерживали антидемократический режим, война велась на территориях, не входивших в сферу жизненных интересов США, широко использовался напалм, жертвами войны становилось гражданское население. Несмотря на столь значительные совпадения, война не вызывала никаких протестов, поскольку мысль о том, что американцы должны с оружием в руках защищать себя от коммунистов, в ту пору не казалась столь уж абсурдной. Иллюзиям и надеждам постсталинского периода еще только суждено было возродиться; еще не изгладилась память о блокаде Берлина и советских завоеваниях в Восточной Европе; советско-китайский конфликт еще не разгорелся, вера в мощь Америки была еще очень сильна. Холодная война являлась реальностью, а не фантазией, вызванной взаимным непониманием или злой волей Америки (как стали считать впоследствии многие историки-ревизионисты и их последователи), вследствие чего стремление противостать экспансии Советского Союза даже в столь отдаленных районах, как Корея, можно считать вполне оправданным. Воспоминания о Второй мировой войне и предшествовавшая ей политика умиротворения также еще не изгладились из памяти. Мысль о том, что Соединенным Штатам могут угрожать извне, впоследствии стала представляться молодому поколению совершенно абсурдной,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
289
тогда же подобную угрозу считали реальностью. Мало того, корейский конфликт отличался от вьетнамского и своей определенностью. Война эта не носила характера партизанской. Северокорейские войска, одетые в военную форму, переходили границу и шли в наступление. Партизан же, поддерживавших северян, на юге не существовало. И, наконец, последнее и, возможно, наиболее серьезное обстоятельство состоит в том, что война эта не показывалась по телевидению, и о страданиях, вызванных ею, можно было не думать или не помнить.
В конце 1960-х гг. жители Америки и западной Европы увидели холодную войну в новом свете и изменили отношение к ней едва ли не на противоположное. Растущее недовольство связанными с ней издержками и конфликтами и отсутствие сколько- нибудь серьезных агрессивных действий со стороны Советского Союза способствовало ослаблению тревог, вызываемых гипотетическими глобалистскими планами СССР. Этот процесс сопровождался повышением внимания к таким внутренним проблемам, как бедность, равноправие наций, феминизм и «качество жизни», которые в известных случаях были связаны с духом изобилия и безопасности, обсуждавшимся выше. Число людей, веривших в то, что Соединенные Штаты выполняют особую миссию или обладают неким моральным мандатом, стало сокращаться; угроза коммунизма, нависшая над далекими странами, представлялась чем-то весьма неубедительным, дискредитации антикоммунистических настроений немало способствовала и деятельность покойного сенатора Маккарти.70 В этих условиях война во Вьетнаме и связанные с нею неизбежные потери просто не могли не вызвать бури протестов, особенно со стороны представителей среднего класса.
Точка зрения, в согласии с которой Вьетнам являлся как катализатором, так и независимым источником социальной критики, подтверждается и опытом других современных западных обществ. В Великобритании процессы отчуждения также были связаны с конкретными причинами и объектами критики. Скажем, внимательное исследование взглядов и позиций сторонников Британского движения за ядерное разоружение (СКБ), произведенное английским социологом Фрэнком Паркином, показало, что «...СМБ следует рассматривать не как выражение протеста против Бомбы, но как более сложное явление. Можно утверждать, что своей притягательностью движение во многом обязано тому, что оно представило объединяющий принцип для различных групп и индивидов, не принимавших тех или иных особенностей британского общества, никак не связанных с Бомбой, ставшей для них своеобразным символом». Сказанное Паркином
290
Пол Холланлер
об отношении британцев к СЫБ, справедливо и по отношению ко Вьетнаму и американским «нормам»: «Отношение людей к СКБ определяется скорее их отношением к принятым в обществе нормам, а не какими-то „рациональными“ соображениями касательно разоружения или ядерного сдерживания».71
Характер и массовый характер социальной критики, которую вьетнамская война вызвала в США (и, в меньшей степени, в некоторых странах Западной Европы), говорят в пользу этого предположения. Заявления, подобные тому, что сделал Дэниел Берриган, сказавший, что «американское гетто и ханойская „операция“ мало чем отличались друг от друга — они были проявлениями тотальной войны»,72 невозможно объяснить только характером войны и соответствующей американской политикой. Ставшее привычным обвинение американцев в геноциде и уподобление Соединенных Штатов нацистской Германии вызывались к жизни отнюдь не войной или ходом военных действий. Столь выразительные гиперболы и обвинения могли родиться лишь в сердце, и без того исполненном ненависти. Они усиливались войною, а не порождались ею.
РАСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Если протесты против войны во Вьетнаме и различные формы студенческой политической активности являлись существенным аспектом социальной истории 1960-х гг. как в США, так и в Западной Европе, то расовые волнения и связанные с ними проблемы были характерны прежде всего для Соединенных Штатов. Их влияние было двояким. С одной стороны новое осознание ущемления гражданских прав негров и других национальных меньшинств (пуэрториканцев, мексиканцев, американских индейцев) серьезно дискредитировало Соединенные Штаты в глазах народов мира, особенно в Африке и Азии. В то же самое время усиление расово-этнического конфликта стало основной причиной внутренней нестабильности и потери американцами коллективного самоуважения. Движение за гражданские права, начавшееся на юге, где дискриминация и сегрегация были особенно сильны, в 1960-е гг. распространилось на всю страну. Это движение использовало законные формы борьбы, влияло на ход выборов и порой становилось косвенной причиной городских беспорядков. За десять лет черное население добилось очень многого, однако при этом росла и неудовлетворенность достигнутым. Волнения в гетто, поджоги, черный экстремизм (и сепаратизм), с одной стороны, и сознание собственной вины белым населением и его действия, направленные на исправление ситуации, с другой,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
291
существенно повлияли на характер этого десятилетия. Поскольку бунты не ограничивались городами, в которых черное население испытывало особенно сильную материальную нужду, можно предположить, что здесь сыграло роль не только реальное ущемление гражданских прав, но и возросший уровень претензий.73
Чувство вины, испытываемое широкими слоями белых представителей среднего класса, так или иначе находило отражение в действиях и в политике федерального правительства. Так, например, правительство никак не отреагировало на погром, учиненный индейцами в правительственном здании (Бюро по проблемам индейцев), — оно не пыталось ни предупредить разграбление здания, ни наказать злоумышленников. Хотя за шесть дней пребывания индейцев в здании они нанесли ему существенный урон, им было обещано, что ни один из участников акции не будет наказан, а американское правительство выделило 60 000 долларов на оплату их дорожных расходов.74
Факты ущемления гражданских прав негров (или индейцев), которые были отнюдь не мифом, обеспечивали в 1960-е гг. надежную основу для социальной критики. Следует заметить, что несправедливость в отношении национальных меньшинств практически не влияла на социальную критику в 1930-е гг., когда правительство отказывалось признавать факт их дискриминации, а широкие массы населения не выражали никакого интереса к этой проблеме. Подобная историческая несправедливость привлекла внимание уже в ту пору, когда положение начало исправляться (или все, что могло произойти, уже произошло), то есть в 1960-е гг., когда чувство вины перед чернокожим населением, которое испытывали белые либералы, стало усугубляться по причинам иного свойства.75 Разумеется, это беспокойство имело и позитивные следствия: юридические, политические, экономические. Более противоречивой была политика обратной дискриминации, рассматривавшаяся как позитивная мера.76
Популярность черных активистов и заключенных среди белых интеллектуалов и студентов колледжей также может быть названа одной из характерных черт этого времени — по сути, это была своеобразная форма социального протеста. Чернокожий Элдридж Кливер превратился в культовую фигуру еще и потому, что он сидел в тюрьме, придерживался радикальных взглядов и был писателем-самоучкой.77 Ссылки на его книгу «Душа на льду» («Soul on Ice») в 1960-е гг. встречались едва ли не в любом курсе социологии. (Популярность Кливера стала резко падать после того, как его изгнание закончилось, и он в середине 1970-х гг. вернулся в Америку, будучи уверенным в том, что американская общественность заинтересуется материалами, собранными им в
292
Пол Холландер
коммунистических странах и странах третьего мира.) Хьюи Ньютон был другой культовой фигурой этого времени, самозванным «министром обороны» (Черных пантер). Плакат, на котором он был изображен с винтовкой в одной руке и копьем в другой, украшал вместе с портретом Че Гевары множество комнат в студенческих общежитиях Америки.78
Тот факт, что высокий процент заключенных приходился на долю представителей меньшинств, имевших достаточно неблагополучную историю, способствовал трансформации их в глазах многих социальных критиков из уголовников в политических заключенных и в новый революционный авангард. Давняя западная традиция рассматривать нарушителей закона в качестве романтических героев и сознательно порочить представителей власти* (достаточно вспомнить Робин Гуда) в периоды социальной нестабильности и отрицания доминирующих общественных ценностей становится особенно притягательной — нарушители закона (несмотря на всю их возможную жестокость) предстают жертвами социальной несправедливости, отвергнувшими существующие устои общества.79 С другой стороны, эти люди отвергли общественные нормы не только словом, но и действием. Хорошо освещавшиеся прессой тюремные бунты этого периода также привлекали дополнительное внимание к этой часть общества и содействовали их восприятию в качестве жертв. Так, Коретта Кинг, вдова Мартина Лютера Кинга, в своем обращении к заключенным тюрьмы Райкерс-Айленд говорит об их «благородстве», сравнивает их со своим супругом.80
Отношение радикальных критиков к проблеме межнациональных отношений, к вине черных и белых, а также к соответствующим законам выражено в комментарии Уильяма Кюнстле- ра на смерть белого полицейского в Окленде, Калифорния:
На мой взгляд, он заслужил эту смерть... толпа имела право растоптать его. Причине, вызвавшей столь драматичные события, вот уже четыреста лет. Ибо все это время черных в Америке грабят и унижают, а белая власть кружит над гетто, как гриф над своей добычей...81
Радикально настроенные интеллектуалы и политические активисты были не одиноки, когда они приравнивали заключение к политическому преследованию, уголовника к инакомыслящему. Ряд социологов также пришел к выводу, что люди, рассматриваемые в существующем правовом поле как преступники, на
* Американские средства массовой информации и индустрия развлечений 1970-х гг. также дают множество примеров следования этой традиции, когда преступник изображается трагическим героем, ставшим жертвой существующих порядков или обстоятельств (например, «Бонни и Клайд», «Крестный отец» и т. д.).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
293
деле являются жертвами тех сил общества, которые вынудили их нарушить законы, произвольные и несправедливые. Подобные законы служат интересам элитных групп и не позволяют оценить степень вины или невиновности, а также рассмотреть моральные аспекты поведения человека, обвиняемого в нарушении законов.82
Этот феномен не ограничивался одним только американским обществом. Западноевропейские студенты, занимающиеся изучением криминологии, слишком часто предпочитают ассоциировать себя с теми, кто нарушает закон, а не с теми, кто защищает его. Скандинавский криминалист Нильс Кристи писал: «Следует сразу заметить, что наша роль как криминологов заключается прежде всего в постановке проблему а не в их разрешении...» (социальные работники в Скандинавии помогают организации союзов заключенных). В Великобритании три криминолога, Иен Тейлор, Пол Уолтон и Джек Янг, пришли к такому выводу:
Политизация преступлений и криминологии представляется неизбежной. Криминология, не рассматривающая проблемы ликвидации неравенства, порождаемого богатством и властью, ... неизбежно вырождается в кор- рекционизм... Для нас, так же как для Маркса и других новых криминологов, отклонение нормально в том смысле, что ныне все люди (в тюрьме современного общества и в реальных тюрьмах) сознательно отстаивают свою человеческую самобытность.83
Базовый импульс отчуждения, присущего этому периоду, состоял в симпатии ко всем группам, находящимся вне пределов доминирующих культурных ценностей и институтов, будь это черные, пуэрториканцы, гомосексуалисты, заключенные или пациенты психиатрических клиник. Черные являлись наиболее заметной изо всех групп обездоленных и наиболее очевидной жертвой социальной несправедливости, симпатия же к ним была составной частью более общего паттерна идентификации с любой группой, которую возможно было рассматривать как жертву «системы».
ПРЕДМЕТЫ КРИТИКИ
Социальные критики рассматривают болезни общества (в Соединенных Штатах и в Западной Европе) как составные части полностью взаимосвязанной и всеохватной системы. Сюзан Зон- таг пишет: «Для нас очевидно, что „Reader’s Digest“ и Лоуренс Уэлк и отели „Хилтон“ органически связаны с частями особого назначения, заливавшими напалмом гватемальские деревни...».84 Все дурное — от сексуального подавления до загрязнения воздуха, рекламы или расовой дискриминации — объяснялось действием неких поддающихся опознанию общественных сил и их
294
Пол Холландер
человеческих агентов. Американское общество контролировалось Элитой власти, Военно-промышленным комплексом, Гигантскими корпорациями или Корпоративными (порой либеральными) фашистами.85 Такие критики политической системы, несмотря на их новую терминологию, являлись продолжателями марксистской концепции взаимодействия государства и экономики, обогащенной понятием «репрессивной толерантности», то есть репрессивной политики, внешне представляющейся вполне толерантной и тем самым вводящей в заблуждение репрессированных.86
Если в 1930-е гг. основным предметом и целью социальной критики была бедность, то в 1960-е гг. видение основных болезней американского и любого другого западного общества претерпело разительные изменения. Бедность как таковая перестала быть основным направлением критики, хотя протесты против тех или иных ее проявлений раздавались, как и прежде. Наметилась тенденция к выделению бедности черных и других меньшинств. Разумеется, в Соединенных Штатах бедность в общем смысле этого слова, и особенно бедность белого населения, никогда не являлась основным объектом социальной критики. Мало того, здесь возникла новая идеализация бедности и бедных, почти всегда связанная с идеализацией определенных меньшинств — главным образом, черных и пуэрториканцев. В обществе вновь возник стереотип духовного богатства бедных. Бедные были «настоящими» людьми, при всей своей видимой грубости они являлись носителями подлинного гуманизма; они обладали мужеством и чувством коллективизма, были способны к сильным чувствам и негативно относились к существующей власти. Они умели петь, плясать и испытывать подлинную радость, несмотря на всю безрадостность своей жизни.87 Порой радикальные социальные критики смешивали бедность с сознательным отказом от мира материальных удовольствий и вещей. Бедные представали свободными от изначального греха потребления, грубого материализма и суетного карьеризма, поразившего весь прочий мир. Человек оценивался следующим образом: чем беднее, тем лучше. Безработные, живущие на пособие, подростки, люмпены (или «низший класс») считались носителями более развитого сознания, чем рабочие, принявшие ценности системы и стремящиеся к получению назначенного им вознаграждения. Этот феномен объяснялся переходом от критики бедности к критике изобилия.
В 1960-е гг. массированная фронтальная атака на капитализм, подобная атаке 1930-х гг., проходившей под лозунгами борьбы с бедностью и неустроенностью, была уже невозможна.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
295
Постольку, поскольку атаки капитализма на таких чисто экономических основаниях стали терять смысл, новым базисом для его отрицания были избраны именно его экономические достижения. Основанием для социальной критики стали негативные последствия материального достатка, бездуховность и соревновательный индивидуализм.88 Отрицание общества уже не могло строиться на основе ухудшения жизненных условий, которое было столь явным в 1930-е гг.
Подобная же тенденция наблюдалась и в отношении к работе. Если в 1930-е гг. социальная критика была сконцентрирована на безработице, то в 1960-х, когда проблема безработицы уже не стояла так остро, особый акцент переместился на качество работы. Критике подвергались рутинные, бесмысленные, унижающие человеческое достоинство виды труда. Хотя, вне всяких сомнений, подобных работ существовало множество, они не являлись характерной приметой именно Соединенных Штатов или Западной Европы. В данном случае мы вновь имеем дело с завышенными ожиданиями все большего и большего числа людей.
Американский литературный критик Моррис Дикштейн приписывает 1960-м гг. своеобразную форму религиозного мышления, отличительными особенностями которого являются «предъявление к жизни завышенных апокалиптических требований и призыв к переходу от безрадостных форм будничного существования к светозарной общности и цельности».89 Известный социолог Филипп Слейтер завершает свою книгу таким ярким пассажем:
Все былые попытки построения утопических обществ потерпели неудачу, поскольку они основывались на самоограничении. Ограничение, как стало ясно теперь, не является чем-то обязательным ... Нам не нужно воспитывать молодежь новых утопий, которая бы считала, что подобные жизненные условия являются залогом жизненной состоятельности. Единственное препятствие на пути к утопии — наличие соревновательных мотивационных паттернов, вызванных к жизни былым самоограничением. Нам мешает разве что наша постыдная мечта о славе...90
Суламифь Файерстоун видит будущее таким образом: «При кибернетическом социализме радикальная перестройка экономики приведет к исчезновению рабочей силы, к тому, что „работа“ или оплачиваемый труд потеряет всяческий смысл ... [а также] к свободе, выражающейся в праве всех женщин и детей реализовывать свои сексуальные желания».91
Заявление Карла Оглсби, одного из первых лидеров движения «Студенты за демократическое общество» также отражает завышенные ожидания и надежды этого периода: «Прежде всего, мы должны стремиться... к любви. Мы не хотим жить в обществе, угрожающем и мешающем ей, в обществе, исполнен¬
296
Пол Холландер
ном несправедливости, ведущей к подлинным страданиям и всеобщему недоверию. Бедность. Расизм. Университетский конвейер... Губительная тяга к изобилию».92
В 1930-е гг. говорить о революции возросших надежд не приходилось, скорее, люди пытались сберечь то, чем они уже обладали: работу, деньги, социальный статус. Они хотели иметь возможность прокормить своих детей, оплатить арендную плату и закладные, защитить себя от всяческих потрясений и катаклизмов. Любая работа была лучше, чем отсутствие работы. Дом в пригороде был мечтой, а не кошмаром. Реальная необходимость самоограничения ни у кого не вызывала сомнения. Это не значит, что в тот период не существовало критики общества изобилия и потребления, которая обычно ассоциируется у нас с именем Герберта Маркузе. Уже в начале 1930-х гг. Скотт Ниринг подверг американское общество критике именно за его технологическую развитость, материализм и ориентацию на потребление. Он презирал «капиталистическое общество, ... основанное на вековой привычке пользоваться разного рода приспособлени-
о и п о
ями» и «отошедшее от путей западной цивилизации», вследствие чего вернулся на свою ферму в Вермонт и позднее переехал в Мэн.* Ниринговская критика американского общества также способствовала выработке ряда ценностей альтернативной культуры, так или иначе связанных с преимуществами простой сельской жизни.
Хотя идея о том, что богатство и материальный комфорт являются причиной духовного разложения,95 была достаточно давней, она приобрела особую популярность только в 1960-е гг., когда ей стали сопутствовать разного рода опасения, связанные с развитием технологии. Маркузе был основным глашатаем и теоретиком тех духовных ужасов, которые несли с собой массовое производство, массовая культура, высокие технологии, капитализм и политические институты Запада. В его трудах критика капитализма часто смешивается с более общей критикой
* Ниринг был одним из тех критиков общества, воззрения которых были приложимы как к тридцатым, так и к 1960-м гг. Поездки в Советский Союз и Китай, на Кубу и в восточноевропейские «социалистические» страны, включая Албанию, преисполнили его еще большего энтузиазма. Ниринг заявлял: «Я стал гражданином мира, но в кармане моем во время путешествий лежал американский паспорт, который мне было стыдно показывать интеллигентным, чувствительным, внимательным людям, окружавшим меня за границей. Впрочем, я могу сказать в свое оправдание, — американское общество стало чужим для меня. Я живу в Америке только потому, что так велит мне долг. Я имею этот унизительный документ только потому, что он дает мне возможность выезжать за границу и дышать там свежим чистым воздухом. Я стыжусь своей связи с олигархией, которая ныне так дурно правит страной, эксплуатирует, грабит и губит Соединенные Штаты и весь мир».®4
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
297
современного индустриального общества. Тем не менее, даже в тех случаях, когда Маркузе говорит о самых страшных и абсурдных воплощениях современного индустриального общества, его моделью всегда являются Соединенные Штаты. Его и других критиков шестидесятых годов особенно раздражают и заботят два аспекта американского (и в меньшей степени западноевропейского) общества. Один из них — это его производственные мощности, позволяющие удовлетворять материальные нужды большинства населения и тем самым подрывающие их планы переустройства общества и человека. Маркузе использует ленинскую концепцию «профсоюзного сознания», исправленную им с учетом новых побудительных мотивов, с помощью которых капитализм пытается обезоружить массы. Второй аспект — «репрессивная толерантность». Толерантность, подобно изобилию, репрессивна, ибо вызывает у людей иллюзию свободы, так же как удовлетворение материальных потребностей вызывает у человека иллюзию благополучия.
Социальная критика Маркузе являет собой классический образчик элитизма. Если массы не были согласны с его воззрениями на то, что следует считать хорошей жизнью и реализацией потенциальных возможностей, он тут же заявлял, что они являются носителями ложного сознания:
Если индивиды чувствуют себя удовлетворенными и счастливыми, получая товары и услуги, спускаемые им руководством, то разве им понадобятся другие институты для другого производства других товаров и услуг? Если же индивиды будут приучены к тому, что в число этих товаров входят мысли, чувства, стремления, то разве возникнет у них потребность в собственных мыслях, чувствах и воображении? Да, предлагаемые материальные и ментальные товары могут оказаться низкокачественной чепухой — однако Geist [дух] и знание не относятся к числу решающих аргументов при удовлетворении потребностей.96
Вследствие этого Маркузе начинает возмущаться некоторыми существенными фактами культурной социализации, совершенно забывая о том, что исторически подобная социализация всегда происходит с молчаливого согласия людей, живущих в рамках данной социальной системы. Идея о том, что Америка являет собой уникальное или чрезвычайно удачливое в собственной легитимации общество, представляется насквозь лживой по всем стандартам исторического сравнения, и это особенно ярко проявляется в 1960-е гг. Наверняка, «Одномерный человек» Маркузе все еще был реакцией на относительно стабильные и спокойные 1950-е гг., тем не менее, его занимала и расстраивала поразительная способность американского общества утихомиривать, соблазнять и откупаться от критики и инакомыслия.
298
Пол Холландер
Хотя Маркузе признает существование бедности за пределами западного мира, его акцент на решении этой проблемы на Западе и отождествление изобилия с расточительностью, коррупцией и неаутентичностью становится основной темой социальной критики данного периода. Суть проблемы, возможно, сводится к следующему:
В нашу эру решение проблемы недостатка все еще ограничивается небольшими островками развитого индустриального общества. Их процветание прикрывает ад в пределах их границ и за их пределами; оно же приводит к распространению регрессивной производительности и «ложных потребностей». Она регрессивна ровно настолько, насколько ей удается удовлетворять нужды, требующие постоянной подпитки...97
Социально-политическая стабильность обеспечивается «технологией усмирения» (термин Маркузе). Например: «Маленький человек, работающий на заводе по восемь часов в день и выполняющий тупую и не свойственную человеку работу, садится в уик-энд за руль огромной машины, которая куда как мощнее его самого, и отрабатывает всю свою антисоциальную агрессивность... Если бы он не мог сублимировать оную агрессивность, реализуя ее в скорости и мощи автомобиля, она, возможно, оказалась бы направленной против доминирующих сил общества».98 Маркузе считал также, что второй основой стабильности в репрессивном обществе является телевидение и средства массовой информации. «Сам факт отсутствия любого рода рекламы и всех средств внушения информационного и развлекательного характера вызывает у индивида состояние болезненной опустошенности ... подобная ситуация представляется ему непереносимым кошмаром... Прекращение работы телевидения и других средств массовой информации могут сделать то, на что не способны внутренние противоречия капитализма, — они могут привести к распаду системы».99
Вообще говоря, социальная критика 1960-х гг. отличалась от критики 1930-х гг. своим возросшим элитизмом и патернализмом. Маркузе был озабочен не только отсутствием подлинной свободы в современном индустриальном обществе (то есть, в США), его раздражала и излишняя вседозволенность в определенных сферах жизни. Так, он замечает, что «отрицание свободы ... сопровождается дарованием свобод там, где они могут вызвать усиление репрессий. То, до какой степени населению разрешено нарушать мир и покой, безобразить себя и предметы, фамильярничать и протестовать против здравых вещей, не может не ужасать».100
Несмотря на такое высокомерие и элитизм, идеи Маркузе возымели большое влияние и стали составной частью образа
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
299
мыслей, характерного для 1960-1970-х гг. Так, его враждебное отношение к науке и технике было воспринято не только антивоенным движением, лидеры которого неоднократно говорили о том, что именно использование современных технологий сделало столь отталкивающими методы ведения войны американцами, но и движениями, призывавшими вернуться к природе или к земле, а также контркультурой в целом (за редким исключением). Одна из целей движения возврата к земле (существовавшего и в 1970-е гг.) звучала так: «Меньше техники, меньше технологии, меньше всего того, что так или иначе связано с крупным бизнесом... Тысячи новых сельских семей отапливают свои жилища и готовят пищу, используя в качестве топлива дрова. К „трудосберегающим устройствам“, типа трактора следует прибегать как можно реже. В скором времени место тракторов могут вновь занять мулы».101
Движения, ратовавшие за возврат к природе, очень характерны для 1960-х гг., проникнутых духом социальной отчужденности. Они отрицали изобилие, прелести городской жизни, материальный комфорт, хотя, с другой стороны, не могли бы возникнуть, не существуй названного изобилия. Выезд из городов и основание коммун или небольших студий, мастерских, предприятий предполагал наличие денег, необходимых для покупки земли, домов, оборудования, инструментов. Помимо отрицания технологии и рутинной бюрократической работы для этого движения, призывавшего своих адептов селиться вне городов, была характерна «забота» о защите окружающей среды. До известной степени, она являлась отражением эстетических предпочтений, движения предшественников. Сельская местность с ее естественными красотами казалась более привлекательной средой обитания, чем города и пригороды, для тех, кому не приходилось особенно заботиться о предметах жизненной необходимости.*
Отвращение к технологии и городской жизни было отнюдь не единственной новой чертой социальной критики 1960-1970-х гг. Была рассмотрена и сфера межличностных взаимоотношений.
В прежние времена, включая 20-е и 30-е гг., именно городская богема (Гринвич-Виллидж, отдельные районы Лондона, Парижа и других западных столиц) играла роль субкультурных островков, которые были не настолько оторваны от общества в целом, как коммунальные (или индивидуальные) фермы более поздних времен где-нибудь в Вермонте. Джозеф Фримэн писал в 1920-е гг. об обитателях Гринвич-Виллидж: «Радикальные представители богемы ... с детским нетерпением ожидали того, что Золотая Страна “искусства и революции” придаст капитализму, все еще доминирующему в мире, некоторые черты бесклассового общества. Там не будет денег, кредиторов и должников; нам назначено жить на маленьком утопическом островке „коммунизма“ в Южном море, окруженном ярящимися водами капитализма; и на этом счастливом островке мы выполним завет Маркса: от каждого по способностям, каждому по потребностям».102
300
Пол Холландер
Американское общество обвинялось в том, что оно крайне негативно воздействует как на людей, так и на их взаимоотношения. Это обвинение отчасти напоминало давнюю марксистскую критику денежных отношений, точного расчета, исключающего спонтанность и человеческий фактор, однако на сей раз критика эта была дополнена нерациональными аспектами, связанными с понятием аутентичности. Д. Г. Лоуренс замечательно предвосхитил и выразил взгляды представителей контркультуры полвека тому назад в письме, написанном Бертрану Расселу.
Почему вы не покидаете этот корабль? Почему не оставляете это представление? В наше время человек может быть только изгоем, но никак не учителем или проповедником... Ради сохранения чувства собственного достоинства он должен обратиться в ничто, стать кротом, созданием, которое способно лишь на какие-то чувства, но никак не на мыслительную деятельность. Ради всего святого станьте ребенком, перестаньте строить из себя ученого. Ничего другого от вас и не требуется — главное, начните жить.103
Подобные же чувства лежали в основе нападок критиков общества на социальные роли и ролевые отношения. Согласно Джерри Рубину, «Америка сажает своих людей в тюрьмы, отводя каждому свою роль».104 Члены бригады Venceremos (американские радикалы, приезжавшие на Кубу для участия в уборке сахарного тростника в знак своей солидарности с режимом Кастро) писали: «Всех нас приучили общаться не с людьми, но с их социальными ролями... На Кубе подобное невозможно... Америка сильно уродует своих граждан. Она возводит меж ними стены... Она пытается разделять все и вся... Совсем недавно и я не был цельным человеком. Все опыты, все переживания вели лишь к дальнейшей фрагментации моего сознания... Я страдал от основной проблемы всех американцев, проблемы среднего класса — нечувствительности».105 Подобное же видение мертвящего характера американской жизни (или, возможно, ранней версии «репрессивной толерантности»?) пронизывает горестные причитания Нормана Мейлера:
На Кубе ненависть вызывает любовь к крови, Америка же не чувствует почти ничего... Мы убили свой дух... Мы используем психические пули и убиваем друг друга клетка за клеткой. Мы живем в стране, совершенно не похожей на Кубу. У нас тоже была тирания, совсем не похожая на режим Батисты, она пронизывала собою все, пусть мы и не могли назвать ее словом; мы чувствовали, как в нас умирает лучшее, мы испытывали неясную тревогу, порождавшуюся вереницей разочарований... Закон даровал нам свободную прессу, однако практически никто не мог выразить своих мыслей. Нам говорили о свободных выборах, но разве когда-нибудь у нас была возможность выбора? Мы превратились в племя молчаливых ущербных людей... И потому поддержка наша [Кастро] была молчаливой. Ты повел нас, ты дал нам духовное оружие ... в этой отчаянной безмолвной битве мы, пусть сердца наши оставались мертвыми, пытались противостать хладной коварной опухоли, управлявшей нами; ты наполнил наши сердца свежей кровью, чтобы мы могли бороться с нашими средствами массовой информации, полицией, секретными службами, корпорациями, безмозглыми политиками, духовенством,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
301
редакторами, обезумевшими подонками, управляющими машиной, собранной из людей, которых они уже не смогут понять; ты дал нам надежду на то, что на сей раз они могут и проиграть.1*
Подобная критика уже не была перепевами старого спора о денежных отношениях. Охватившая общество деперсонализация ширилась и углублялась, ее уже нельзя было объяснить одними алчностью, жаждой наживы или материальным расчетом. Объектом критики становилась чрезмерная, патологическая рациональность и «культурное искажение человеческой эмоциональности» (термин Филиппа Слейтера), которые представлялись критикам сугубо американским явлением. Слейтер считал, что американская культура исполнена «уникального по своей глубине разочарования» в человеческих желаниях и нуждах. Он предложил следующий образ иллюзорности и эмоционального бесплодия американской жизни: «Эта жизнь вызывает странное тягостное чувство: вам кажется, что вы на веки вечные заперты в стоящем на месте неуправляемом автомобиле с работающим кондиционером и телефоном. Наш мир — не более чем отражение, и все наши усилия — бой с тенью...».107 Слейтер также озвучил немало критических положений, свойственных представителям американской альтернативной культуры: американское общество обвиняется им в чрезмерном пуританизме, тотальном контроле над личностью и «отчуждении человека от самого себя» — последнее обвинение было одним из основных культурных и терапевтических клише, свойственных тому времени (оно сохранило свою актуальность и поныне). В этом положении сходился ряд моментов социальной критики. Начало, скреплявшее их, именовалось волшебным словом «подавление». Людей подавляли не только сексуально и эмоционально, но также политически и экономически. Внутреннее и внешнее подавление накладывались и усиливали друг друга.
К парадоксам этого времени следует отнести и то, что, несмотря на расцвет индивидуализма (в данном случае под индивидуализмом понимается отказ каким-либо образом ограничивать личную свободу), представители контркультуры и радикалы, критиковавшие американское общество, выражали сожаление по поводу индивидуалистической ориентации на результат. Этот момент также отсутствовал в общественной критике 1930-х гг. В 1960-е гг. многие критики культуры почувствовали, что старая этика (или этика протестантская) не просто превратилась в анахронизм, но стала главной причиной любого рода подавления, которое так или иначе было сопряжено со столь же старой концепцией самоограничения.108 Страстность, с которой критиковалась ориентация на результат, была отчасти обусловлена верой
302
Пол Холландер
в то, что самооценка не должна зависеть ни от работы, производимой человеком, ни от ее результатов, ибо подобная практика привела бы к неравенству и к оскорбительной дифференциации. (Этой же позицией объяснялись и протесты против присвоения любых разрядов или степеней и проведения экзаменов, поскольку это также приводило к дифференциации и неравенству.)
Критика ориентации на результат была тесно связана с отрицанием конкуренции и соревнования, которые считались деструктивными по отношению к общности людей, к их взаимному доверию и уважению. Подобная критика не ограничивалась коммерцией и капитализмом, но распространялась также на спортивные состязания и игры. Ориентация на результат и соответствующий ей дух соревновательности воспринимались как нечто негативное, лишающее людей присущей им цельности, ведущее к дроблению мировоззренческих позиций и опыта, к специализации и к ролевым отношениям. Социальные роли и ролевые отношения, в свою очередь, были несовместимы с открытостью, гибкостью, искренностью, спонтанностью, неформальностью и свободным самовыражением. Не случайно основным термином для выражения неодобрения представители контркультуры избрали словечко «скованный» (uptight).
Другой важной темой и мотивом для критики в 1960-е гг. стала ненависть к бюрократии. Ее связь с ростом индивидуализма несомненна: бюрократия представляет собой отрицание индивида и его уникальных потребностей и способностей. Бюрократия представляется безличной и стандартизированной, нейтральной, объективной и беспристрастной. Она подчеркнуто неэмоциональна, антиромантична, прозаична, расчетлива и скучна. Она стремится к «руководству вещами», а не к воспитанию эго. Следует помнить о том, что одним из лозунгов студенческих выступлений в Беркли в 1964 г. был призыв к борьбе с бюрократией. Один из лидеров движения Марио Савио с презрением говорил о «Машине» и о людях, превращающихся в перфокарты. (Впоследствии компьютерные центры стали одной из основных мишеней для нападок студентов.)
Отвращение к бюрократии и деперсонализации не приводило к защите семейных ценностей, которые могли бы сыграть роль некоего противовеса крупным безличным структурам. Семья и брак также стали объектом критики, пусть их критиковала достаточно узкая часть идеологического спектра, а именно, радикальные феминистки. Суламифь Файерстоун писала: «Брак по определению не способен обеспечить нужды участвующих в нем сторон, ибо в основе его лежит вполне определенная биологическая предпосылка...». Для феминисток материнство и деторождение
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
303
также были чем-то достаточно подозрительным. («Беременность представляется нам варварством ... временной деформацией тела, обусловленной интересами вида. Мало того, деторождение болезненно... В нем нет ни малейшей радости...).109 Хотя большинство феминисток не заходило так далеко, как Суламифь Файерстоун, они выступали против статуса женщины в нуклеарной семье и определенных аспектов моногамии. Критика нуклеарной семьи основывалась и на том, что она ассоциировалась с неприемлемыми для радикалов частным потреблением и механическим существованием.
Нет ничего удивительного в том, что основной темой социальной критики 1960-х гг. вновь стала борьба с неравенством, хотя она имела существенно иные аспекты по сравнению с аналогичной кампанией 30-х гг. В обществе изобилия неравенство имело иные размеры и следствия, чем в обществе, страдавшем от безработицы и экономической депрессии. Как уже было замечено выше, речь шла уже не о бедности как таковой; главным объектом критики скорее стало ущемление прав расово-этнических меньшинств и, в меньшей степени, женщин. Понятие неравенство стало разом и уже, и шире: уже, поскольку оно прилагалось почти исключительно к меньшинствам; шире, оттого что теперь рассматривался не только материальный его аспект. Под неравенством часто стали понимать любое препятствие на пути самоосуществления и реализации человеческого потенциала. В то же самое время неравенство оставалось особенно болезненным явлением в жизни американского общества еще и потому, что многие продолжали считать его обществом равных возможностей. Очевидно, в Западной Европе, где социальное расслоение воспринималось как нечто само собой разумеющееся, неравенство не вызывало столь болезненных чувств — очень немногие люди, имевшие самые разные уровни благосостояния, верили в возможность достижения полного равенства возможностей, уже не говоря о равенстве условий или результатов. Требование пропорционального представления определенных меньшинств и женщин в тех или иных сферах деятельности, в образовательных заведениях и в государственных учреждениях было следствием принятия новой концепции равенства, отличной от аналогичной концепции 1930-х гг.
Отличие меж этими концепциями касалось и понимания того, кто или что повинно в неравенстве. В 1930-е гг. этот вопрос рассматривался с позиций марксизма. Неравенство было внутренне присуще самому капиталистическому способу производства, предполагавшему частную собственность на средства производства. Оно определялось экономически и, при необходимости,
304
Пол Холланлер
получало политическую поддержку. Опыт Советского Союза и других подобных режимов — в той мере, в какой он был известен студентам и интеллектуалам 60-х — свидетельствовал об известной условности этой схемы. Неравенство разного рода и уровня было присуще и тем обществам, в которых частной собственности на средства производства не существовало, обществам, называвшим себя социалистическими и уж в любом случае не являвшимися капиталистическими.
Неэкономические обоснования неравенства теперь исходили из таких посылок, как удовольствие, испытываемое человеком при подавлении других людей или при обидных для других разграничениях. Филипп Слейтер считает, что стремление к обретению некоего статуса или «известности, силы или богатства ... может реализовываться только за счет других».110Майкл Льюис, другой американский социолог, развивает эту идею, говоря о стремлении к завоеванию определенного статуса и к самореализации как о причинах неравенства:
Пробуждая эгоцентрическую чувствительность,* многие американцы начинают относиться к своим тривиальным успехам, как к значимым достижениям, а к неудачам, как к следствию недостаточности прилагаемых усилий, порождаемой моральной неустойчивостью или некомпетентностью... Культура неравенства рассматривает неудачи и, соответственно, наличие серьезных социальных проблем, как закономерное явление... она строится на продолжающемся истязании обездоленных...111
Иными словами, неравенство — это не только и не столько следствие недостаточности ресурсов и несправедливого и/или нерационального их распределения; неравенство столь живуче потому, что оно позволяет большому количеству людей смотреть сверху вниз на себе подобных. Самоутверждение завистливо еще и потому, что ни один из нас не реализовал всех своих устремлений, порождаемых американской культурой. Этот аргумент при рассмотрении нами условий жизни тех или иных людей представляется достаточно убедительным. С другой стороны, предположение о том, что живущие рядом с нами бедные и ущемленные в своих правах люди таковы постольку, поскольку они оценивают свою позицию, как вполне устраивающую их, и потому не стремятся к ее изменению, представляется нам уже куда как менее убедительным. (Автор книги также считает, что преступления обусловлены подобными же причинами: «Наша реакция на преступность, на деле, больше способствует ее сохранению в качестве зримой компоненты американского опыта, чем выражаемому явно желанию уменьшить ее влияние на нашу жизнь ... ибо для многих американцев преступники являются
* Иными словами, крайний, непомерный эгоизм.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
305
членами негативной референтной группы, нарушение которыми общественного порядка сообщает последнему особую ценность»).112
Среди новых течений социальной критики 1960-х и 1970-х гг. преобладала феминистская критика американского общества, не имевшая аналогов в 1930-е гг. Здесь опять-таки следует вспомнить о принципиальном различии материальных обстоятельств двух этих эпох. В первую эпоху социальная критика была прямым следствием экономического кризиса и материальных лишений. События и лишения 1930-х гг. не оставляли места для феминизма, особенно такого, который возник в конце 1960-х гг. Как уже отмечалось выше, в женском освободительном движении 1960-х гг. принимали участие главным образом белые женщины, принадлежавшие к среднему классу и имевшие университетское образование. Движение 60-х гг. ставило главной целью борьбу с ущемлением прав женщин не столько в материальной, сколько в психо-эмоциональной и духовной сфере. Естественно, феминистки требовали и равной с мужчинами оплаты за равный труд, но эти требования никоим образом не являлись основными. Феминистское движение стремилось, прежде всего, к снятию препон, мешавших самореализации женщины. Женщин призывали к освобождению от всех и всяческих ограничений: заботы о детях, обязанностей домохозяйки, неинтересных или унижающих человеческое достоинство работ, проживания в определенном месте, рутинных обязанностей, ярма моногамии и даже от гетеросексуальных отношений. Феминистское движение разделяло многие ценности альтернативной культуры. Участницы групп поддержки призывали друг друга следовать импульсам, делать то, что представляется им «правильным» или «хорошим», быть спонтанными, торить новые пути. Основой женского движения являлась потребность реализации скрытого потенциала. Во всем остальном новые феминистки разделяли радикальную критику новыми левыми американского (или западного) общества и ассоциировали дискриминацию женщин с капитализмом. Женское движение разделяло с новыми левыми тяготение к экспрессивным методам выражения и символам, что проявилось в появлении идеологически выдержанной одежды, языка и форм обращения («chairperson» вместо «chairman», «personhood» вместо «manhood», «herstory» вместо «history» и так далее).
Роль марксизма в социальной критике 1960-х гг. была не столь велика, как в 1930-е гг., когда это учение представлялось американским интеллектуалам новым, любопытным и, что немаловажно, таящим в себе сладость запретного плода. В ту пору Советский Союз еще не поблек в глазах западных интеллектуалов, при этом он был единственным обществом, претендовавшим
306
Пол Холландер
на воплощение принципов марксизма и использовавшим его в качестве законодательной основы. Советский пример скорее повышал, чем умалял престиж марксизма. К 1960-м же годам ситуация серьезно изменилась, Советский Союз успел дискредитировать себя,* и западные марксисты уже не могли подтверждать правильность марксизма, ссылаясь на советский опыт, — напротив, они умудрялись сохранять верность марксизму вопреки этому опыту. Появление ряда обществ, каждое из которых именовалось марксистским, мало что меняло в этом смысле. В свою очередь, коммунистические партии и движения раскололись, что являлось отражением конфликтов между идеологиями и различными социалистическими странами, и в первую очередь, между Советским Союзом и Китаем. На Западе появилось множество школ марксизма, ревизионисты различных мастей занимались спасением, интерпретацией, выделением и принижением различных его аспектов. Понятие марксизма по сравнению с 1930-ми гг. приобрело ряд новых смыслов и множество новых сторонников. Все это не значит, что марксизм не повлиял и не окрасил определенным образом социальную критику этого времени. Во всех критических выступлениях новых левых и деятелей контркультуры чувствовалась выраженная, пусть и несколько романтическая антикапиталистическая жилка. При этом представляется весьма важным то обстоятельство, что концепция отчуждения и ее различные вариации сохранили свое значение и здесь. Язык марксизма — его страстный дух протеста, полемики и осуждения — привлекал к себе. Мало того, определенные базовые положения марксизма, такие как осуждение жажды наживы, стяжательства и полнейшего безразличия к судьбам ближних, также сохраняли свое значение и привлекательность. Слова «живы без наживы» стали своего рода лозунгом (подобно знаменитому «занимайтесь любовью, а не войнами»). Антивоенные протесты также хотелось связать с критикой капитализма, — ведь корпорации получали благодаря войне сверхприбыли. Некоторые критики заявляли, что Соединенные Штаты пришли в Индокитай только для того, чтобы завладеть здешним сырьем и минералами, в которых испытывали потребность американские корпорации.114 Благодаря этому многие интеллектуалы в 1960-е гг. раз за разом открывали для себя марксистские истины. Сюзан Зонтаг ликовала: «То, что я вновь стала прибегать к некоторым элементам марксистского или неомарксистского языка,
* Существовали и некоторые исключения. К примеру, по словам Карла Оглсби, многие члены вБЭ считали сталинизм верным учением. Американский политолог замечает, что «марксизм, воспринятый Движением, являлся достаточно резким, догматически выверенным его вариантом».113
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
307
представляется мне едва ли не чудом, неожиданной ремиссией исторической немоты, новой возможностью обратиться к проблемам, которых я прежде вообще не могла понять».115 Анджела Дэвис воспринимает марксизм скорее в духе 30-х гг.:
Когда на уроках истории я впервые услышала о социализме, передо мною разом открылся целый мир. Впервые в жизни я столкнулась с мыслью о том, что возможно создать идеальную социально-экономическую структуру...
Коммунистический манифест поразил меня словно удар молнии. Я читала его жадно, находя в нем ответы на многие мучившие меня вопросы... Подобно опытному хирургу, этот документ удалил катаракту с моих глаз ... все тут же встало на место...
Последние слова манифеста вызвали во мне непреодолимое желание посвятить себя коммунистическому движению...110
Судя по всему, Анджела Дэвис являлась исключением из общего правила и не только потому, что марксизм привел ее в такое возбуждение, но и потому, что она стала стойкой и активной сторонницей просоветской Американской коммунистической партии и большой поклонницей Страны Советов.117
Ослабление роли марксизма как основы и источника социальной критики связано, помимо прочего, и с тем обстоятельством, что критики 60-х гг. или новые левые, как правило, не очень-то интересовались теоретической стороной дела и этим серьезно отличались от старых левых. Радикалы 60-х гг. были ориентированы скорее на действие и стремились к мгновенному удовлетворению своих требований, чем отчасти определялись использовавшиеся ими формы политической активности. Скажем, подавляющее большинство сторонников Движения за ядерное разоружение (достаточно типичной английской организации новых левых) заявляло, что они придерживаются политики, при которой «достижение определенных целей не является первоочередной задачей. В политике важен принцип, важны жесты, производящие ощущение морального превосходства, которые могут и не обладать особой практической значимостью».118 «Жесты, производящие ощущение морального превосходства», составляли основу политики новых радикалов. Ориентация на действие часто граничила с антиинтеллектуализмом. Джек Ньюфилд, некогда почитатель и активный участник движения новых левых, с болью в сердце отмечает:
Среди новых членов вБЭ царит ужасающий антиинтеллектуализм. [Это написано в 1967 г.] Мало того, что они не слишком-то любят романы и практически не читают научной и философской литературы, они не читают и книг радикальной направленности. Из двадцати пяти опрошенных художников ни один не читал работ Розы Люксембург, Макса Вебера, Эдварда Бернштейна, Джона Дьюи, Петра Кропоткина или Джона Стюарта Милля. Пятеро читали Ленина или Троцкого, несколько большее число — Маркса. Почти все читали Ч. Райта Миллса и Камю, примерно половина — Гудмена, Франца Фэнона и Герберта Маркузе... Большинство опрошенных оправдывало отсутствие привычки к чтению тем, что им нечему учиться у прошлого, или тем, что они отдают политической деятельности почти все свое время.119
308
Пол ХолланАер
Основной теоретической предпосылкой социальной критики этого периода был не столько марксизм, сколько его неоригинальные версии, интерпретации, модификации и адаптации марксизма и ленинизма. Разумеется, популярными были Маркузе, Миллс и Гудмен, а также Фэнон, Че Гевара и Мао. Однако книги этих авторов рассматривались не как теоретические труды, но как источники лозунгов и «ролевых моделей». Социальная критика 1960-х гг. была менее рациональной, порой сознательно искаженной, неразвитой и подчеркнуто атеоретичной.120 В эпоху, когда превыше всего ценились глубина чувства и спонтанность, словесные теоретические построения и представления не вызывали особого внимания и интереса.
Некоторые отличия в качестве и тоне социальной критики 1930-х и 1960-х гг. могут быть связаны и с тем, что в более поздний период критика эта стала массовой, она превратилась в субкультурный феномен, в то время как в 1930-е гг. она была скорее элитарной активностью «сертифицированных интеллектуалов», писателей и журналистов.
В 1960-е гг. изменилась не только тематика социальной критики, другим стал и лежащий в ее основе характер отчуждения или отхода от социума.121 В отличие от 1930-х гг., в позднейшие времена вовлеченность в политику приобрела более личностный аспект, особенно в Соединенных Штатах. Возможно, это было следствием возрождения «привычки американцев оценивать политические идеи нарциссически, ибо они привыкли видеть себя владеющими всем миром...»122 Если это так, то в 1960-е гг. людей с такой привычкой стало куда больше.
В 1960-е гг. многие критики считали, что в американском обществе просто невозможно жить честно, настолько губительным было действие коррумпированных социальных институтов и принятых обществом ценностей. Филипп Слейтер утверждает, что «хотя мы живем в самом богатом изо всех известных обществ, этой жизни постоянно сопутствует столь же беспрецедентное ощущение ущемления прав и дискомфорта».123 Вновь возникает ощущение тесной взаимозависимости социальной и личной сфер. В трудах американских социальных критиков 1960-х гг. куда больше личной боли, разочарования и негодования, чем в работах их предшественников 1930-х гг.124 Например, представители старшего поколения редко жаловались на то, что общество парализует их способность испытывать полноценные чувства (между прочим, подобные жалобы поколения 1960-х гг. зачастую сопровождались эмоциональными всплесками
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
309
и криками отчаяния).* Критики 1930-х гг. никогда не винили общество в своих личных или душевных невзгодах и испытываемом ими дискомфорте и не считали общество повинным в появлении у них чувства собственной неадекватности. Старшее поколение редко плакалось по поводу «фрагментации» и нечасто тосковало по большей интенсивности чувств. Работы критиков 1930-х гг. лишены подобной надрывности и мучительного искания смысла жизни, утраченного в существующем социальном контексте. В 1960-е гг. (и 1970-е) многих социальных критиков стали подозревать в использовании политики как средства для решения собственных проблем.* ** Подобная ситуация была далеко не нова: во все века можно было найти определенную связь между личными невзгодами и определенными формами политического протеста, между глубоко личными мотивами для недовольства и недовольством теми или иными аспектами общества. В то же самое время установить природу подобной связи или характер причинно-следственной зависимости не так- то просто, непросто связать и мотивы последователей какого-то политического движения с характерной для него критикой существующего общества и с целями движения. Общество может представляться деспотическим, а социальные институты коррумпированными по причине полученных в детстве душевных травм, отсутствия родительской заботы, детской ревности, физического дефекта или какой-то личной неудачи или трагедии. Впрочем, несомненным представляется то, что характер социальной критики и отчуждения, порожденной собственным опытом, существенно отличен от характера критики, основанной на теоретических суждениях о социально-политической несправедливости и несовершенстве социальных институтов. Отчуждение, связанное с личными проблемами, имеет более мучительный и болезненный характер, чем отчуждение «молодых» скитальцев моего исследования. Если отчуждение имеет лично¬
Этот парадокс подобен другому, когда критики американского общества утверждают, что все американцы стали жертвами «промывки мозгов», производимой средствами массовой информации. Если это так, то становится непонятным, каким образом они смогли сохранить свое критическое отношение к американскому обществу. Этих критиков не смущает и то, что жертвы «промывки мозгов» обычно либо не осознают этого, либо не признаются в этом с такой готовностью.
** Следует отметить, что связь политических интересов с личными и прежде была характерна для многих людей, привлеченных компартиями Западной Европы и Соединенных Штатов. Гэбриел Олмонд пишет: «Более половины респондентов (58%) в момент вступления в партию видели в ней средство для решения личных проблем и достижения собственных целей... Существенно большее количество американских респондентов (73%) видели в партии средство для достижения неполитических целей».125
310
Пол Холландер
стный характер, потребность в доказательстве несостоятельности существующих социальных институтов становится более насущной и значимой. Сомневающийся же в себе самом индивид может испытывать чувство вины, вызываемое самыми разными причинами (например, привилегированным социальным положением, принадлежностью к среднему классу или к его верхушке, белым цветом кожи, мужским полом, американским или европейским гражданством, хорошим образованием и так далее), что отражается и на характере критики, в которой находят отражения все сомнения и терзания такого рода. По контрасту, социальная критика, выражаемая черными и представителями других групп, действительно ущемляемых в правах, не имеет выраженной личностной окраски, в меньшей степени связана с поисками смысла жизни и в куда большей степени сосредоточена на характерных поддающихся исправлению болезнях общества.
Для радикальных социальных критиков, принадлежащих к привилегированному классу, характерно выражаемое внешне почтение по отношению к группам действительно обездоленных людей: к черным, к индейцам, к партизанам из третьего мира, к заключенным и прочим. Прекрасной иллюстрацией таких позиций и особенно своеобразного характера подобного варианта социального отчуждения могут быть откровения членов бригады Venceremos:
Белые прибыли на Кубу, ... чувствуя себя не совсем людьми... их то и дело охватывал стыд или чувство отчаяния, вызванные теми ценностями, что привила им исполненная духа конкуренции, индивидуализма и расизма культура среднего класса.
Разочаровавшись в программе борьбы с бедностью, она примерно год путешествовала по Европе... Потом она попала в Беркли... Связывать себя с тамошними политиками она не стала. Она надеется, что ее самоличное путешествие закончится в бригаде...
Утром началось общее женское собрание. Большинство белых «мы виноваты...», черные же атакуют. Вокруг них все ходят на цыпочках — с черными иначе нельзя, иначе тебя обвинят в расизме. Другой ход белых — атаковать других «либеральных» белых, став, соответственно, союзником черных... Смысл сводится к одному, — какие, мол, мы лентяи. Кубинцам очень не нравится царящий у нас беспорядок и количество воды, которую мы расходуем в душевой. Кубинцы убирают за нами душевую, мы же начинаем искать виновных.
Я жутко устала. Постоянно приходится сталкиваться с какими-то проблемами. Я ужасно эгоистична... И разве могли мы стать иными в условиях капиталистического общества? Мне очень трудно заставить себя каждый день выходить на это самое тростниковое поле. Может быть, коммунизм не более, чем волевой акт?
Люди на собрании говорили такие разные вещи, что это выглядело очень впечатляюще. Некоторые говорили о лидерстве стран третьего мира... В бригаде масса неразберихи и откровенной вражды. Черные плохо уживаются с белыми. На феминисток все смотрят с явным сарказмом... Как все недружны... Кто-то написал на палатках «Прочь!» и «Прочь, девицы!». Представляю, как трудно кубинцам.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
311
Самым устрашающим и болезненным изо всех виденных мною собраний было собрание белых. Основная тема — страх. Все боятся и себя, и друг друга... Какая-то девушка, заливаясь слезами, умоляла собравшихся оставить ненависть... Она едва не впала в истерику... Впервые в жизни мне стало стыдно из-за того, что я тоже белая. Чувство, скажу я вам, не из приятных.
[До прибытия на Кубу] мне было стыдно от того, что я торчу на наркоте и только и делаю, что валяю дурака — как и все в Америке.
Мы беседовали с ними очень уважительно [во время встречи с вьетнамской делегацией] и с интересом выслушивали их ответы. Какой-то американец спросил, какой рис едят партизаны — шлифованный или неочищенный.
Я начинаю понимать, сколь тонка грань меж неврозом и угнетением. В конечном счете, проблемы, которые совсем недавно представлялись нам сугубо личными, тоже относятся к сфере политики.
Я могу бороться с системой, потому что я ненавижу ее. Я ненавижу ее уже за то, что она так изуродовала наших людей. Она пытается сделать то же самое и с нами... Америка, мы вспорем тебя изнутри.120
Что могло привести людей к столь серьезному социальному отчуждению? Что сделало его столь интенсивным и личным? Естественно, в основной своей массе эти люди не знали, что такое расовая дискриминация, жестокость полиции, униженное положение бедных, безработица, плохие жилищные условия, отсутствие нормального медицинского обслуживания и возможности получить нормальное образование.
Негативное отношение к себе, характерное для членов бригады Venceremos (и некоторых других интеллектуалов, принадлежавших к среднему классу), не имело параллелей в 1930-е гг., когда явное отчуждение и социальная критика могли сосуществовать с более сбалансированной концепцией влияния общества на индивида и когда социальная критика отличалась большей избирательностью. В 1960-е гг. все основные социальные институты и ценности были дискредитированы в глазах этих критиков, причем речь шла уже не просто о политической или экономической системе: по их мнению, школы, университеты, психиатрические лечебницы, тюрьмы стали адом (адом стало даже детство);127 средства массовой информации предназначались единственно для промывки мозгов; массовая культура не стоила ломаного гроша; полиция превратилась в новое гестапо, работа в рабство, семья в угнетателя. Коррупция, несправедливость и притеснение приняли такие масштабы, что, согласно этим критикам, человеку теперь было просто некуда податься.128 При подобном видении общества тон и психологические корреляты критической позиции не могли не отличаться от прежних, как это и было показано выше. В то же самое время чрезвычайно общий, огульный и в значительной степени ритуалистический характер подобной социальной критики придавал ей известную условность. Джон Олдридж привлек внимание к «нечеткости понятий, посредством которых они описывают социальные пороки. Они страстно говорят о таинственных «силовых структурах», «си¬
312
Пол Холланлер
стемах», «истеблишменте», «бюрократии», «технологии»... Расплывчатость этих понятий, не позволяющая описывать с их помощью реальные явления и события, превращает их в пустые уничижительные метафоры, которыми обозначаются проблемы, не касающиеся непосредственно лиц, к ним прибегающих».129
Возможно, стандартизация языка социальной критики являлась отражением виртуальной институционализации самих антагонистических позиций (особенно, академических) по мере перехода их из разряда вызывающих в разряд стандартных.
Теперь мы должны кратко рассмотреть возможную связь характера отчуждения с неудачным ходом вьетнамской войны и с поражением в ней, при этом здесь мы говорим не о критике целей войны и методов ведения боевых действий. Подобная возможность учитывается не всеми, мне же представляется, что военные неудачи и поражение сыграли существенную роль в общем делегитимировании американского общества. Система была не просто плохой, она оказывалась еще и бессильной. Эдвард Шилз был одним из тех немногих наблюдателей, которые понимали, что первостепенное значение имеет сам факт проигрыша войны, а не то, справедливой она была или же нет. Он писал:
Война — предприятие, во многом обусловленное самосознанием нации, и потому она затрагивает глубинные корни признания ею легитимности существующей власти. Проигрыш в войне угрожает реальному и символическому существованию целого национального сообщества и, соответственно, ослабляет готовность граждан признать за власть имущими, принявшими на себя заботу о самом этом сообществе и о его безопасности, право быть 1 ол
таковыми. А*и
Я представил в этой главе ряд наиболее заметных социальных и политических явлений, культурных тенденций и воззрений, характерных для Соединенных Штатов и Западной Европы конца 1960-х и начала 1970-х гг. При этом я пытался уловить дух времени и тематику социальной критики, обусловившую благоприятное отношение к странам, ставшим новыми — и такими же эфемерными, как и прежде — символами социальной справедливости и политической честности.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Howard Bruce Franklin, Back Where You Came From: A Life in the Death of the Empire, New York, 1975, p. 219. Франклин демонстрирует ряд атрибутов архетипического неофита. Прежде, чем стать лидером стэнфордских радикалов и почитателем Сталина (он готовил к печати книгу: The Essential Stalin, Garden City, N.Y., 1972), он посещает колледж в Амхерсте, изучает американскую литературу, проходит курсы подготовки резервистов и летает на бомбардировщиках стратегического авиационного командования. (В течение какого-то времени он считал себя представителем белой рабочей аристократии, поскольку имел опыт работы на буксире). Юношеские «блуждания во мраке» приводят его к
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
313
новому «просветлению» и к осознанию того, что Соединенные Штаты являют собой средоточие мирового зла.
2. Michael Р. Lerner, The New Socialist Revolution, New York, 1973, p. 245, 310, 311.
3. Jerry Rubin, Do It, New York, 1970, p. 24.
4. Согласно Джозефу Адельсону, «знакомое всем критическое отношение к американскому обществу сложилось уже тогда, в безмятежные, сонные 50-е гг. Современные радикалы ... заимствовали свои идеи из работ Ч. Райта Миллса, Г. Маркузе, Гудмена и прочих и, с другой стороны, из писаний Нормана Брауна, Мейлера и Аллена Гинзберга (Joseph Adelson, «What Generation Gap?», New York Times Magazine, January 18, 1970, p. 36). Подобным же образом Чарльз Каду- шин замечает, что неодобрительное отношение к внешней политике Соединенных Штатов возникло уже в конце 1950-х гг. и было связано с изменением восприятия холодной войны и, в более широком смысле, советской угрозы; см.: Charles Kadushin, The American Intellectual Elite, Boston, 1974, p. 214-215. В этой же работе он пишет: «[Вьетнамская] война стала лишь катализатором, ускорившим „полевение“ интеллектуалов» (р. 124).
5. Цит. по: Carl Gershman, «New Left — New Face», Freedom at Issue, March- April, 1979, p. 3.
6. Bertrand Russell, A History of Western Philosophy, London, 1946, p. 703.
7. John K. Galbraith, The Affluent Society, New York, 1958.
8. Hobsbawm, Revolutionaries, p. 254.
9. Kenneth Keniston, «You Have to Grow Up in Scarsdale to Know How Bad Things Really Are», New York Times Magazine, April 27, 1969, p. 124, 130. Более детальная характеристика подобной позиции (и данного периода в целом) представлена в: Stanislav Andreski, Prospects of a Revolution in the USA, New York, 1973.
10. Jan Myrdal, Confessions of a Disloyal European, New York, 1968, p. 20. Мюрдаль, судя по его автобиографии, был достаточно типичным представителем радикальной европейской контркультуры. Его детство прошло в Швеции, при этом он практически не видел своих либеральных родителей, постоянно занятых работой в ООН и в других организациях. Молодой Мюрдаль раз в два-три года также отправлялся в путешествие вместе со своим сыном. Его «признания» во многом сводятся к рассказам о попойках и любовных похождениях. Он много путешествовал автостопом и частенько оказывался в полицейских участках. Мюрдаль стыдился своей принадлежности к европейцам (его американские сверстники стыдились того, что они американцы, что они белые, что они принадлежат к среднему классу). Он был идеалистом, не интересовавшимся ни деньгами, ни властью, и защитником тех, кого он считал обездоленными (Китай, Албания и полпотовский режим после его крушения).
11. Rubin, Dolt, р. 57.
12. Susan Stern, With the Weathermen, New York, 1975, p. 142, 143, 145, 291. Другое восприятие американских порядков представлено в: Abbie Hoffman [or Free], Revolution for the Hell of It, New York, 1968, p. 19-20, 46 («Jail is a goof»). Живые ностальгические воспоминания о знаменитом процессе чикагских конспираторов (принадлежащие защищавшейся стороне) приведены в: J. Ahthony Lukas, «Bobby Seale’s Birthday Cake (Oh, Far Out!)», New York Times Magazine, October 31, 1971. Анджела Дэвис, много говорившая о политических репрессиях в США, однажды замечает: «Я знала, что они не могут задержать меня, не дозволив мне предварительно связаться со своим юристом» (Angela Davis, Autobiography, New York, 1974, p. 16).
13. Susan Sontag, «Some Thoughts on the Right Way (for Us) To Love the Cuban Revolution», Ramparts, April 1969, p. 16.
14. Интересное обсуждение проблемы «ухода из социума», как «успешной несостоятельности» и культивации такового статуса приведено в: Stephen Spender, «Anti-Americanism», New York Times, June 11, 1972.
15. George Orwell, «Inside the Whale», in Collected Essays, Journalism and Letters 1920-1940, New York, 1968, vol. 1, p. 515-516.
16. Rubin, Do It, p. 87. Существенно иная мотивация американских политических лидеров представлена в: Guenter Lewy, America in Vietnam, New York, 1978, особенно, в первой ее главе и в эпилоге.
314
Пол Холландер
17. Stromberg, After Everything, p. 77.
18. John W. Aldridge, In the Country of the Young, New York, 1969, p. 79-80.
19. Rubin, Do It, p. 87.
20. New York Review of Books, February 24, 1972, p. 47.
21. См. также: Peter L. Berger and Richard John Neuhaus, Movement and Revolution, New York, 1970, p. 60.
22. Henry Fairlie, The Spoiled Child of the Western World, Garden City, N.Y., 1976, p. 23. Эбби Хоффман пишет: «Хочешь понять, как чувствует себя негр? Отпусти длинные волосы». И в другом месте: «Пятнадцатилетний парнишка, решивший оставить жизнь, привычную для представителей американского среднего класса, похож на беглого раба, перешедшего линию Мэйсон-Диксон» (Hoffman, Revolution for the Hell of It, p. 71, 74). Еще один образец стремления к обретению статуса жертвы представлен в: Jerry Farber, The Student as Nigger, North Hollywood, 1969.
23. См. также: David Zane Mairowitz, The Radical Soap Opera: An Impression of the American Left from 1917 to the Present, London, 1974, p. 227. Попытки подобного отождествления с аутентичными героями находят отражение в восторженном отношении Джерри Рубина к Че Геваре и в желании его «партизанить в горах» (Do It, р. 20). Эбби Хоффман тоже восхищается кубинскими революционерами. Характерным для этой позиции и для духа, свойственного тому времени, представляется, например, то, что вполне миролюбивый доктор Спок, согласно «New York Times», «носил на процессе «Черных пантер» значок, на котором была изображена рука, сжимающая винтовку» (Mairowitz, Radical Soap Opera, p. 255).
24. David M. Potter, History and American Society, New York, 1973, p. 381.
25. Критический анализ такой тактики можно найти в: Irving Howe, «The New „Confrontation Politics“ Is a Dangerous Game», New York Times Magazine, October 20, 1968; Irving Howe, «Political Terrorism: Hysteria on the Left», New York Times Magazine, April 12, 1970; см. также: George F. Kennan, «Rebels Without a Program», New York Times Magazine, January 21, 1968. Более детальное описание конфронтационной политики и связанных с ней установок приведено в: «Desperadoes in Wargasm», ch. 6, in Mairowitz, p. 239-281.
26. Stern, With the Weathermen, p. 76-79. Беседа Роберта Коула с полицейским отражает другую точку зрения. Офицер полиции говорит: «Вы когда-нибудь видели, чтобы студенты кричали так на полицию? Я никогда не сталкивался с такой низостью и подлостью. А на каком они при этом говорили языке ... они просто обезумели, увидев нас. При виде нашей униформы в них что-то сработало. Они стали грязными, откровенно грязными. Таких скверных слов я не слышал еще никогда. Кроме слов были и оскорбительные жесты. Они выражали желание убить нас... Не то чтобы они говорили об этом вслух, нет, но они были страшно возбуждены». Robert Coles, «А Policeman Complains: Between gangsters and hoodlums, the Negroes and drunks, the college crowd and the crazy ones, it’s a miracle more of us don’t get killed», New York Times Magazine, June 13, 1971, p. 11, 75.
27. Rubin, Do It, p. 125.
28. New York Times, August 30, 1971, p. 5.
29. New York Times, November 21, 1971, p. 48. В том же духе выдержана и реклама в «Glamour Magazine» (см.: «Commitment and Involvement Is In», in New York Times, February 6, 1968). Одежда, рекламируемая в Канзасе: «прекрасные куртки для участников движения ... мгновенное узнавание» (Massachusetts Daily Collegian, November 23, 1970, p. 10); Cowley, Dream of the Golden Mountains, p. 42.
30. Rubin, Do It, p. 169. Нечто подобное пишет и Эбби Хоффман: «Делай то, что хочешь. Используй свой шанс. Раздвинь свои пределы. Забудь о нормах и законах. Протестовать можно против чего угодно... Мы — банда горлопанов...» (Hoffman, Revolution for the Hell of It, p. 157).
31. Наблюдения Эдварда Шилза еще больше проясняют картину: «Новые методы педагогики и уход с рынка труда — разумеется, речь идет о представителях среднего класса — существенно сократило пределы опыта, в котором находилось бы место для иерархических или репрессивных институтов. Тем самым они утратили прямой контакт с чрезвычайно болезненными фактами жизни, с которыми сталкиваются неимущие...» (Shils, «Plenitude and Scarcity», in Intellectuals and the Powers, p. 278).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИЕРИМЫ
315
32. Об этом пишет и Стромберг: «Юные бунтари, что бы они там не говорили, стремятся вовсе не к социализму, но к безумнейшему индивидуализму; не к безопасности, но к угрозе; не к рациональной организации общества, но к тайнам и приключениям» (Stromberg, After Everything, р. 239).
33. Russell, History of Western Philosophy, p. 707, 709.
34. Shils, Intellectuals and the Powers, p. 275; смотри также его комментарий: р. 278. Стромберг также замечает, что «люди привыкли к тому, что их желания священны и они вправе удовлетворять их. Любая помеха на этом пути представляется им страшным оскорблением... Они уже не желают ограничивать свои желания в интересах группы» (Stromberg, After Everything, р. 240). См. также: Daniel Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism, New York, 1976, p. 14-17.
35. Andrew Hacker, The End of the American Era, New York, 1972, p. 167-168.
36. См., например: Robert J. Ringer (автор «Winning Through Intimidation»), Looking Out for Number One, Beverly Hills, 1977; New York Times, June 16, 1977, p. 7.
37. Wolfe, Mauve Gloves, p. 126, 128, 129.
38. Paul Hollander, «Sociology, Selective Determinism, and the Rise of Expectations», American Sociologist, November 1973; схожие проблемы обсуждаются и в: Gwynn Nettler, «Shifting the Load», American Behavioral Scientist, January-February 1972.
39. См., например: Harold Taylor, «We Need Radicals», New York Times, February 27, 1971, p. 27; George Wald, «The Cure for Student Unrest Is Adult Unrest», New York Times, April 26, 1969. Другие явно идеализированные образы юных радикалов представлены в: Kenneth Keniston, Young Radicals, New York, 1968; Robert Jay Lifton, «Protean Man», Partisan Review, Winter 1968. Критика подобных взглядов дана в: Stanley Rothman et al., «Ethnic Variations in Student Radicalism: Some New Perspectives» in Radicalism in the Contemporary Age, ed. Severyn Bialer and Sophia Sluzar, Boulder, Colo., 1977, vol. 1; Idem., «Intellectuals and the Student Movement: A Post Mortem», Journal of Psychohistory, Spring 1978; S. M. Lipset and Gerald M. Schaflander, Passion and Politics, Boston, 1971. См. также: «The Crisis of Authority in American Education and Society», in Hollander, Soviet and American Society, p. 173-178.
40. Цит. no: Ethel Grodzins Romm, The Open Conspiracy: What America's Angry Generation is Saying, Harrisburg, Pa., 1970, p. 195. Эдвард Шилз пишет: «Враждебное отношение студентов к власти ... усиливалось благодаря постоянно звучавшему хору их родителей, требовавших осуждения любой власти, включая их собственную... Элиты трепещут, боясь обвинений в элитизме...» (Shils, «Intellectuals and the Center of Society in the United States», in Intellectuals and the Powers, p. 182, 184).
41. Питер Бергер далее замечает: «Поскольку индивид теряет уверенность в мире, он с необходимостью теряет уверенность в себе, поскольку его „я“ сохраняет свою субъективную реальность только при его подтверждении другими. Иначе говоря, при усилении фрагментации идентификационных процессов, субъективный опыт самоидентификации приобретает все большую сомнительность» (Berger, «„Sincerity“ and „Authenticity“ in Modern Society», Public Interest, Spring 1973, p. 8).
42. Rothman et al., «Ethnic Variations»; Adelson, «What Generation Gap?»; Podhoretz, Breaking Ranks, p. 288. Другое язвительное исследование различных мифов о молодежи приведено в: Joseph Adelson, «Inventing the Young», Commentary, May 1971; James Hitchcock, «Comes the Cultural Revolution», New York Times Magazine, July 27, 1969.
43. Diana Trilling, We Must March My Darlings, New York, 1977, p. 113-114. Речь идет о студенческих волнениях 1968 г. в Колумбийском университете (Нью- Йорк). В конце того же академического года состоялась встреча, на которой радикалы диссиденты получили «благословение» таких авторитетных фигур, как Дуайт Макдональд, Эрих Фромм, Гарольд Тейлор (бывший президент Sarah Lawrence College) и Роберт Лоуэлл (р. 139, 144-153).
44. Paul Wilkes, «Leonard Boudin: The Left’s Lawyer’s Lawyer», New York Times Magazine, November 14, 1971, p. 48. Более подробное описание данного феномена представлено в: Midge Decter, Liberal Parents, Radical Children, New York, 1975.
316
Пол ХолламАвр
45. Джеймс Хичкок писал: «Хотя подобно большинству профессоров радикалы обычно считали, что отклик на их призывы неадекватен, они испытывали и определенное чувство вины за свой статус, позволявший им заниматься анализом и критикой общества, а не „производственной деятельностью“... Старый интеллектуал дал юным бунтарям возможность систематизировать их зачастую неясные настроения ... и подвести их под рубрику морали и политики. ...Он придал им и определенную респектабельность, продемонстрировав их большую рациональность по сравнению со взглядами „трезвых“ либералов и умеренных. (При этом совершенно игнорировался случайный элемент социальной реальности и постулировалось существование гигантской хорошо скоординированной „системы“, включавшей в себя все: от войны во Вьетнаме до изучения поэзии.)
Глубинный и, возможно, неисправимый цинизм „студентов“ в отношении всей культуры (не только американской, но, вообще, западной) ... постоянно подпитывался их сознанием того, что многие из наиболее привлекательных фигур старшего поколения — интеллигентных, честных родителей, преподавателей, представителей духовенства — испытывали глубокие, граничащие с презрением сомнения в ее состоятельности... Молодежь, регулярно общавшаяся с людьми такого рода, вряд ли могла помыслить о „системе“ что-либо доброе, поскольку наиболее уважаемые ею представители старшего поколения более чем охотно присоединялись к критике этой системы» (James Hitchcock, «А Short Course in the Three Types of Radical Professors», New York Times Magazine, February 21,
1971, p. 34-35, 44).
46. Berger and Neuhaus, Movement and Revolution, p. 35, 37. См. также: Robert Nisbet, «Who Killed the Student Movement?», Encounter, February 1970, p. 11-12. Генри Фэйрли сравнивает гнев молодежи 60-х со «страстным желанием ребенка сберечь собственную ограниченность в этом неподатливом мире» (Fairlie, Spoiled Child, р. 174). В вопросе о роли семьи в формировании подобной позиции Ричард Флэк согласен с критиками: «Эти идеи [психоанализ, прогрессивное обучение и т. д.] плюс феминизм и укрепление статуса женщины должны были привести к созданию новой семьи у представителей среднего класса — менее авторитарной и иерархичной, более чадолюбивой и демократичной, более сознательной в своем отношении к детям» (Richard Flack, «Revolt of the Young Intelligentsia», in The New American Revolution, ed. Roderick Aya and Norman Miller, New York, 1971, p. 229). См. также: Aldridge, Country of the Young, p. 66-67.
47. Cm.: Robert Brustein, Revolution as Theatre, New York, 1971.
48. Rubin, Do It, p. 106-107; см. также: Boorstin, The Image.
49. Renata Adler, Toward a Radical Middle, New York, 1971, p. xxi.
50. Stern, With the Weathermen, p. 155.
51. См., например: Stanley Rothman, «Intellectuals and the American Political System», in Emerging Coalitions in American Politics, ed. S. M. Lipset (San Francisco, 1978), p. 343-345.
52. См., например: Marie Winn, The Plug-In Drug, New York, 1978, p. 15-16, 102-116.
53. Adler, Radical Middle, p. xxii.
54. Robert Brustein, «If An Artist Wants To Be Serious and Respected and Rich, Famous and Popular. He Is Suffering from Cultural Schizophrenia», New York Times Magazine, September 26, 1971, p. 12, 85.
55. См., например: New York Times Magazine, November 21, 1976.
56. Bell, Cultural Contradictions, p. 34, 35.
57. Stromberg, After Everything, p. 116. См. также: ch. 4 («The Disease of Modernism»).
58. William V. Shannon, «The Death of Time», New York Times, July 8, 1971.
59. О том, как социалистический реализм задает «ролевые модели» (или модели поведения), см.: Paul Hollander, «Models of Behavior in Stalinist Literature», American Sociological Review, June 1966.
60. «Offensive to Gay Liberation: TV Mailbag», New York Times, November 19,
1972.
61. John Leo, «Styron’s Turner Irks Negroes Who Call It Racist, Distorted», New York Times, February 1, 1968. Критика пьесы о Лумумбе, написанной в подобном же духе, представлена в: Clayton Riley, «А „Murderous“ Portrait of a Black Patriot?», New York Times, January 2, 1972.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
317
62. «Black Panelists Link Art to Politics», New York Times, May 29, 1972, p. 29.
63. Kevin Philips, «Networks Are Under Fire for Racism, Sexism and Ageism», TV Guide, September 3-9, 1977; см. также: Grace and Fred M. Hechinger, «There Are No Sexists on „Sesame Street“», New York Times, January 30, 1972. Критика феминистского социалистического реализма, проникнутая «духом дидактического подъема» и «идеологического экстаза» дана в: Pearl К. Bell, «Her Life As a Rebel» (review of Alix Kates Shulman, Burning Questions), New York Times, Book Review Section, March 26, 1978; подобный же дух ощущается в: John Leonard, «Shirley MacLaine — Revisited», New York Times, November 6, 1970.
64. Grace Glueck, «Art Group Disrupts Museum Parley», New York Times, June 20, 1970.
65. Louis Kampf, «Notes Toward a Radical Culture», в Long, New Left, p. 426. В том же эссе Кампф также признает, что «трудно не смеяться при слове „культура“» (р. 420). Эссе проникнуто чувством стыда, вызванного его былым (до просветления) преклонением перед культурой (р. 424).
66. Robert Brustein, «New Fads, Ancient Truths», New York Times, August 17, 1969. Другой рассказ об абсурдных аспектах движения «living theatre» представлен в: Frank Moses, «Freedom? Boredom? Fascism?», New York Times, March 30, 1969.
67. Это название приводится в: David Caute, The Illusion, London, 1971, p. 45.
68. Nancy Moran, «Scarsdale Course Teaches Guerrilla War Tactics», New York Times, August 15, 1969; см. также: «Vietnam in Scarsdale» in New York Times, August 16, 1969.
69. Sontag, Trip to Hanoi, p. 87; см. также: Stromberg, After Everything, p. 55; Rubin, Do It, p. 105. Ирвинг Хоув пишет: «За границей возникает ведомое и мне ощущение того, что даже в случае окончания Вьетнамской войны, перестройки наших городов и разрешения наших этнических конфликтов над нами по-прежнему будет довлеть тяжкое бремя, относящееся не столько к личной или социальной сфере, сколько к сфере глубинного, пусть и неправильно локализованного, опыта...» (Irwing Howe and Michael Harrington, eds., The Seventies, New York, 1973, p. 53). Ясный анализ позиций, связанных с протестами против войны, и некоторых их уроков представлен в: Peter L. Berger, «Indochina and the American Conscience», Commentary, February 1980.
70. В 1960-е гг. новая и достаточно своеобразная анти-антикоммунистическая позиция разделялась многими интеллектуалами, которые хотя и не были коммунистами, но решительно выступали против антикоммунистических взглядов и политики. Помимо прочего, подобная позиция являлась реакцией на маккартизм и, в более общем случае, на доморощенный крайне правый антикоммунизм. В то же время она была реакцией на вьетнамскую войну, которая рассматривалась как наиболее прискорбная демонстрация последствий антикоммунистической политики. Появление анти-антикоммунизма сопровождалось возрождением взглядов старых левых, с отвращением относившихся к «охоте на ведьм» и не видящих врага «на левом фланге». Помимо прочего, анти-антикоммунизм, непосредственно связанный с новым духом социальной критики и отчуждения, являлся выражением протеста против господствовавшего мнения (являвшегося составной частью антикоммунизма) о превосходстве западных обществ над коммунистическими. О превратностях судьбы «либерального антикоммунизма» см.: «Liberal Anti-Communism Revisited. Symposium». Достаточно характерным и популярным выражением антиантикоммунизма является книга Лилиан Хелман «Scoundrel Time» (New York, 1976). Критику этой книги и изложенных в ней взглядов можно найти в статьях: Alfred Kazin, «The Legend of Lillian Heilman», Esquire, August 1977; Irving Howe, «Lillian Hellmann and The McCarthy Years», Dissent, Fall 1976.
71. Frank Parkin, Middle Class Radicalism: The Social Basis of the British Campaign for Nuclear Disarmament, Manchester, England, 1968, p. 5, 32 (Курсив мой. — П. X.). Он замечал также, что «протест против Бомбы зачастую являлся почти не завуалированным протестом против каких-то иных аспектов социального порядка... (р. 108).
72. Berrigan, Night Flight to Hanoi, p. xiv. Подобные гиперболы были в ту пору частым явлением. Замечательный документ этого периода, составленный участниками бригады Venceremos, в котором речь идет о «тотальном фашизме, с которым в США мы сталкиваемся каждодневно»: Sandra Levinson and Carol
318
Пол Холланлер
Brightman, eds., Venceremos Brigade: Young Americans Sharing the Life and Work of Revolutionary Cuba, New York, 1971, p. 219.
73. Например, было установлено, что «города, в которых вероятность бунтов была наибольшей, имели следующие особенности: (1) структура занятости черного населения близка к аналогичной структуре для белых; (2) уровни ббезработи- цы у черных и белых примерно равны; (3) уровень доходов черных приближается к соответствующему уровню для белых ...» (James A. Geschwender, ed., The Black Revolt, Englewood Cliffs, N.J., 1971, p. 321).
74. «Indians Ripped Up Federal Building», New York Times, November 10, 1972, p. 17.
75. См., например: Walter Goodman, «When Black Power Runs the New Left», New York Times Magazine, September 24, 1967; Renata Adler, «Radicalism in Debacle: The Palmer House», in Radical Middle; Martin Peretz, «The American Left and Israel», Commentary, November 1967. Временный наплыв белых радикалов в черные трущобы для «организации общин», был еще одним типом активности, призванным загладить вину перед черным населением. Так, например, Том Хейден «остро чувствовал греховность богатого „квазифашистского“ общества; создание общины бездомных в Ньюарке представлялось ему чем-то вроде искупления грехов за содомский грех высокого общественного положения» (Jack Newfield, The Prophetic Minority, New York, 1967, p. 89).
76. Критический обзор практик такого рода представлен в: Nathan Glazer, Affirmative Discrimination, New York, 1975.
77. Определенные комментарии к этому феномену можно найти в: Ronald Berman, America in the Sixties, New York, 1968, p. 281-282. Эссе Нормана Мейлера «The White Negro» (San Francisco, 1957) стало своего рода предвестником обсуждаемого культа.
78. Эта фотография была опубликована (помимо прочего) в «New York Times», (February 5, 1968, p. 70). Здесь же сообщалось, что «Хьюи Ньютон, замечательный человек, находится в тюрьме лишь потому, что он черен, сострадателен, чувствителен, смел и не желает сотрудничать со своими вероятными палачами» (Carl Oglesby, ed., The New Left Reader, New York, 1969, p. 223).
79. Например: Howard Bruce Franklin, The Victim As Criminal and Artist, New York, 1978. Различные оценки Джорджа Джексона, вызывавшего всеобщее восхищение черного заключенного, убитого при попытке побега, даны в: Tad Szulc, «George Jackson Radicalizes the Brothers in Soledad and San Quentin», New York Times Magazine, August 1, 1971; Roger Wilkins, «My Brother, George», New York Times, August 21, 1971, p. 31. Различные точки зрения на статус Джорджа Джексона как политического заключенного, представлены в: Malcolm Braly, «They’re Not Political Prisoners», New York Times, October 11, 1971, p. 35; в рубрике писем в редакцию: «George Jackson: A Hero-Victim?», New York Times, September 15, 1971; «Political Prisoners or Criminals», New York Times, October 26, 1971. Среди его почитателей была и Джессика Митфорд, см.: Jessica Mitford, «АTalk with George Jackson», in Poison Penmanship, New York, 1979.
80. Цит. no: «„On Prisoners“ Nobility», New York Times (correspondence), January 25, 1972.
81. Цит. no: Victor Navasky, «Right On! With Lawyer William Kunstler», New York Times Magazine, April 19, 1970. Более подробное обсуждение проблемы «репрессивного морализма» представлено в: Oscar Glantz, «The New Left Radicalism and Punitive Moralism», Polity, Spring 1975.
82. См., например: Alex Thio, «Class Bias in the Sociology of Deviance», American Sociologist, February 1973. Последнее возражение ответчика представлено в: Kurt Tausky, «Comment on „Class Bias in the Sociology of Deviance“», American Sociologist, February 1974.
83. Цит. no: Paul Johnson, Enemies of Society, New York, 1977, p. 203-204.
84. Sontag, «Some Thoughts», p. 16.
85. C. Wright Mills, The Power Elite, New York, 1956; William G. Domhoff, Who Rules America? Englewood Cliffs, N.J., 1967; Idem, Higher Circles: The Governing Class in America, New York, 1970.
86. Robert Paul Wolff, Barrington Moore, Jr., and Herbert Marcuse, Critique of Pure Tolerance, Boston, 1965. В 1980 г. Ноам Хомский представил подобную концепцию относительно более утонченных способов подавления, характерных
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
319
для США. См.: George de Stefano, Jr., «Brainwashing under Freedom», Valley Advocate, February 13, 1980, p. 16A.
87. Это же относится и к детям: «Ускользнуть от этой кошмарной слежки могут лишь жители гетто и дети рабочих, которые так же, как это было принято и в средние века, практически живут на улице... На детей-одиночек никто не обращает особенного внимания, и, тем более, не надзирает за ними; дети могут бродить вдали от дома и играть часами... В школе же они дики и непослушны, и они должны быть именно такими...» Так описывает детство детей представителей низших сословий Суламифь Файерстоун. См.: Shulamith Firestone, Dialectic of Sex, New York, 1971 p. 100-101.
88. См. также: Podhoretz, Breaking Ranks, p. 74. Сатирическое представление позиций такого рода дано в: Wolfe, Mauve Gloves-, Cyra McFadden, The Serial, New York, 1978. Основные ценности контркультуры представлены в работах: Theodore Roszack, The Making of a Counterculture, Garden City, N.Y., 1969; Charles Reich, The Greening of America, New York, 1970. Критическое рассмотрение нового радикализма и различных аспектов контркультуры приведено в: Irving Louis Horowitz, Radicalism and the Revolt Against Reason; the Social Theories of George Sorel, Carbondale, 111., 1968. О распространении все более иррациональных воззрений и позиций см. также: George Steiner, «The Lollipopping of the West», New York Times, December 9, 1977. Характерной приметой времени можно считать и то, что на своих семинарах 1978 г. Американская антропологическая ассоциация «отдала предпочтение симпозиумам по проблемам колдовства, шаманизма, паранормальных феноменов и экстрасенсорного восприятия» (Marvin Harris, «No End to Messiahs», New York Times, November 26, 1978).
89. Morris Dickstein, Gates of Eden, New York, 1977, p. vii.
90. Philip Slater, The Pursuit of Loneliness, Boston, 1970, p. 150.
91. Firestone, Dialectic of Sex, p. 208, 209.
92. Цит. no: Newfield, Prophetic Minority, p. 90.
93. Nearing, Making of a Radical, p. 193, 262. Джозеф Фримэн, лично знавший Ниринга, писал о нем: «Его всегдашняя фланелевая рубашка была символом власяницы, которую он надел на свою душу. Многие его политические воззрения основывались на возникшей прежде убежденности в том, что богатство, роскошь, избыток лишили человека инициативы... Ниринг пришел в ряды революционного движения, будучи уверенным в том, что психология собственника дурна... Он разделял и толстовские идеи о том, что человек должен делать все собственными руками, и ленинскую идею организованного планового индустриального общества, управляемого коллективно его членами. Он был противником пролития крови коров и цыплят и потому ел исключительно сырую капусту, морковь и яблоки; вместе с тем он мечтал о социализме и потому приветствовал победу Красной армии над Белой армией и диктатуру пролетариата» (Freeman, American Testament, p. 332 333).
94. Nearing, Making of a Radical, p. 199.
95. Токвиль писал: «Таким образом, в мире может быть установлен своего рода добродетельный материализм, который будет не развращать, но расслаблять душу и бесшумно распрямлять приводящие ее в действие пружины». Цит. по: Richard Hoggart, The Uses of Literacy, Boston, 1961, p. 141.
96. Herbert Marcuse, One Dimensional Man, Boston, 1964, p. 50.
97. Ibid., p. 241.
98. «Marcuse Defines His New Left Line», New York Times Magazine, October 27, 1968, p. 92.
99. Marcuse, One-Dimensional Man, p. 245-246.
100. Ibid., p. 244-245 (Курсив мой. — П. X.). Совсем не сложно визуализировать ситуации и личные переживания, способные спровоцировать такого рода критику жизни в Америке, где постоянно включены телевизоры и приемники, где люди заняты украшательством своих жилищ, где не знают, что такое хороший вкус, где полицейские или таксисты могут обратиться к профессору «Мак», а кассир в универсаме может с подчеркнутой фамильярностью поинтересоваться вашим самочувствием.
При этом можно только поражаться тому, что Маркузе принял молодежную культуру с ее хриплой «новой чувствительностью», проявлявшей себя в шуме и непристойном поведении. Тем не менее, он с явной симпатией пишет о «смеше-
320
Пол Холланлер
нии баррикад и танцплощадки, любовных игр и героизма» (An Essay on Liberation, Boston, 1969, p. 26). (Впрочем, буквально через пару страниц он молит «хоть о какой-то защите от шума и грязи»). Критика воззрений Маркузе содержится в: Maurice Cranston, «Herbert Marcuse», Encounter, March 1969; Alasdair MacIntyre, Herbert Marcuse: An Exposition and Polemic, New York, 1970.
101. Roy Reed, «Back to Land Movement Seeks Self-Sufficiency», New York Times, June 9, 1975, p. 19.
102. Freeman, American Testament, p. 276.
103. Цит. no: Russell, Portraits from Memory, p. 113.
104. Rubin, Do It, p. 127. Более общее рассмотрение проблемы отвержения ролевых отношений представлено в: Richard Lowenthal, «Unreason and Revolution», Encounter, November 1969, (особенно) p. 31.
105. Levinson and Brightman, Venceremos Brigade, p. 311, 373.
106. Norman Mailer, The Presidential Papers, New York, 1963, p. 69-70. Почти такие же чувства относительно разложения сознания в условиях американской действительности выражены в: LeRoi Jones, Ноте: Social Essays, p. 61.
107. Slater, Pursuit of Loneliness, p. 3, 18.
108. Ibid., p. 103. Несколько позже Слейтер приходит (Slater, Wealth Addiction, New York, 1980) к тому, что, говоря словами критика, «корень всех зол, во всяком случае в Америке, это любовь к деньгам» (Christopher Lehmann-Haupt, New York Times, March 14, 1980).
109. Firestone, Dialectic of Sex, p. 198-199, 226.
110. Slater, Pursuit of Loneliness, p. 88.
111. Michael Lewis, The Culture of Inequality, Amherst, 1978, p. 88, 192.
112. Ibid. Это положение более чем спорно, поскольку преступность существует во всех современных странах, в том числе тех, к которым неприложимо понятие «эгоцентрическая чувствительность». Более того, американское общество стало терять свой репрессивный характер, усиливая при этом релятивизм и социальный детерминизм. На деле преступления перестают вызывать моральный протест, когда они превращаются в привычное явление. Помимо прочего, возможно задаться вопросом, при каком уровне преступности обычные граждане почувствуют себя достаточно добропорядочными?
113. Цит. по: Nigel Young, An Infantile Disorder? The Crisis and the Decline of the New Left, London, 1977, p. 309; Arthur Liebman, Jews and the Left, New York, 1979, p. 563.
114. Например, Стокли Кармайкл утверждает, что « „подлинной“ причиной, побудившей Америку начать войну во Вьетнаме, было „служение экономическим интересам американских бизнесменов, которых привлекали вьетнамский вольфрам, олово и нефть“» (цит. по: «Carmichael То Take Part in WarPritest April 15th», New York Times, March 30, 1967).
115. Sontag, Trip to Hanoi, p. 18.
116. Davis, Autobiography, p. 109, 110, 111.
117. Очевидно, подобная позиция связана с ранним влиянием Беттины Апте- кер, дочери Герберта Аптекера, старого партийного ^функционера. Анджела Дэвис пишет: «Впервые я столкнулась с Беттиной в Нью-Йорке, когда мы обе были еще студентками... Я вступила в молодежную организацию „Advance“, лидером которой была Беттина... Эта организация поддерживала братские отношения с компартией. Что запомнилось мне больше всего, так это взволнованный рассказ Беттины о ее поездке в Советский Союз. Меня страшно поразил тот эгалитаризм, свидетелем которого, как говорила Беттина, она стала. Она побывала в квартире рабочего и врача, — врач жил ничуть не лучше рабочего» (Ibid., р. 304). Эти воспоминания свидетельствуют о том, что даже чужой рассказ способен укрепить веру адепта.
Пример Анджелы Дэвис и Аптекеров и масса подобных же примеров свидетельствуют о том, что, говоря словами Артура Либмана, «новые левые возникли не на пустом месте и имели связи со старыми левыми» (Liebman, Jews and the Left, p. 539).
118. Parkin, Middle Class Radicalism, p. 36 (Курсив мой. — П. X.); о «политике жеста» см. также: Mairowitz, Radical Soap Opera, p. 261.
119. Newfield, Prophetic Minority, p. 87-88. Другим заметным (пусть и неубедительным) выражением антиинтеллектуализма, присущего этому периоду, является эссе Сюзан Зонтаг: Against Interpretation, New York, 1966.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
321
120. Лучшими образчиками этого жанра являются работы Эбби Хоффман и Джерри Рубина.
121. Исследование новых форм отчуждения, в котором особая роль отводится ожиданиям и восприятию, представлено в: David С. Schwartz, Political Alienation and Political Behavior, Chicago, 1973, (особенно) p. 3-21, 233-246.
122. Quentin Anderson, «On the Middle of the Journey», in Art, Politics and Will: Essays in Honor of Lionel Trilling, ed. Quentin Anderson, Stephen Donadio and Steven Marcus, New York, 1977, p. 254. О ссылках на радикалов и «само-драматизации» см.: Christopher Lasch, The Culture of Narcissism, New York, 1978, p. 81-83.
123. Slater, Pursuit of Loneliness, p. 83.
124. Британское видение этого феномена дано в: Robert Conquest, «The American Psychodrama Called „Everyone HatesUs“», New York Times Magazine, May 10, 1970.
125. Almond, Appeals of Communism, p. 103.
126. Levinson and Brightman, Venceremos Brigade, p. 2, 50, 69, 125-127, 170, 219, 317, 328, 388, 385, 392. Анджела Дэвис также считает кубинцев стоящими выше нее: «Будучи североамериканцами, мы должны постоянно демонстрировать, что мы хоть чего-то стоим» (Davis, Autobiography, р. 204).
Использование воспоминаний членов бригады Venceremos может показаться противоречащим настоящему исследованию, в основу которого положены сочинения интеллектуалов. Члены бригады не относились к числу писателей, художников или ученых, по большей части, они были студентами и выпускниками университетов. Для того чтобы ввести их, пусть и условно, в разряд маргинальных интеллектуалов я сделаю две оговорки. Первая состоит в том, что они живо интересовались миром идей, идеологий и социальной критики, вторая — в том, что они были студентами и, тем самым, не будучи творческими или вполне компетентными интеллектуалами, представляли псевдоинтеллектуальную субкультуру, неразрывно связанную с субкультурой академической.
127. Firestone, Dialectic of Sex, p. 103.
128. Например, популярный учебник по социальным проблемам включает помимо прочих следующие темы: неравенство, расизм, власть корпораций, милитаризация, образование, здравоохранение, благосостояние, полиция, уголовное право и система применения наказаний. См.: Jerome Н. Skolnick and Elliot Currie, eds., Crisis in American Institutions, Boston, 1970. В течение 1960-х и в начале 1970-х гг. социологические курсы по проблемам расовых отношений и социальным проблемам достигли пика своей популярности. В этот период были опубликованы сотни (если не тысячи) книг на эту тему.
129. Aldridge, Country of the Young, p. 115.
130. Shils, Intellectuals and the Powers, p. 190.
322
Пол Холланлер
ГЛАВА ШЕСТАЯ
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ: РЕВОЛЮЦИОННАЯ КУБА И ОТКРЫТИЕ ТРЕТЬЕГО МИРА
Здесь есть определенное направление... Здесь мы имеем дело с единственной целью — из университета прямиком на тростниковое поле.
Хьюи Ньютон1
Куба — первое целеустремленное общество, появившееся в Западном полушарии за долгое время, это первая страна, где к людям относятся именно как к людям и где люди обладают определенным достоинством, которое гарантируется им обществом.
Сол Ландау2
...Все друг другу братья. На свете нет другого места, кроме, возможно, Парижа в день освобождения, которое было бы исполнено такой же надежды и славы, как Куба. Сам факт пребывания здесь приводит нас в восторг, ведь мы находимся в самом центре Истории.
Уоррен Миллер3
...Порой кажется, что вся эта страна наелась благостного амфетамина и «торчит» уже несколько лет.
Сюзан Зонта г4
Каждая из двух моих поездок на Кубу была разом и паломничеством, и приключением.
Джонатан Козол6
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
323
Социальное отчуждение 1960-х гг. и открытие Кубы как источника политического вдохновения или социальной модели, противоположной американской (западной), не вполне совпадают по времени. Вначале энтузиазм, вызывавшийся Кубой, являлся не столько следствием социального кризиса (как это было в начале 1930-х гг., в период Великой депрессии, когда Советский Союз вызывал всеобщее восхищение), сколько формой ухода от удушающей атмосферы и стагнации (по выражению критиков) 1950-х гг. Куба виделась долгожданным избавлением из-под власти постоянных фрустраций, контрапунктом достаточно нереволюционному периоду истории Соединенных Штатов (и Западной Европы). Она являла собой альтернативу не измученному кризисами и ослабевшему капитализму, а самоуверенному, статичному, искусственному общественному устройству (особенно в США). Многие интеллектуалы обращались к Кубе (во всяком случае, в первые революционные годы) не потому, что видели в ней альтернативу собственной социальной системе, но скорее потому, что не замечали признаков скорого ее крушения. («Молодой интеллектуал, живущий в США, находится в ужасающей пустоте,— писал Лерой Джонс.— Он не может ни воспользоваться тем, что окружает его, ни воспротивиться этому окружению».)6 Не менее важной была и другая роль Кубы, являвшей собой пример того, что социалистические преобразования, о которых некогда мечтал Маркс, могут идти не только по советскому сценарию, который ко времени революции Кастро совершенно дискредитировал себя даже среди левых интеллектуалов. Таким исповедовавшим марксизм интеллектуалам было крайне важно обрести новое, безукоризненное воплощение их чаяний. Экономист Пол Верен был одним из них.
«Кубинская революция,— заявляет Пол Верен,— родилась под счастливой звездой». Придя к власти при чрезвычайно ши¬
324
Пол Холландер
рокой поддержке населения и сравнительно немногочисленной внутренней оппозиции, кубинские революционеры, по его мнению, были готовы к любым испытаниям. В этом «райском саду» сельскохозяйственные проблемы должны были быстро решиться за счет «огромных» экономических излишков. «Благодаря возможности быстрого улучшения условий жизни народных масс кубинская революция может избегнуть мучительного, но неизбежного соблазна, перед которым не устояли все предыдущие социалистические революции: затянуть пояса сегодня для того, чтобы заложить основу для лучшего будущего».7, *
Пол Свизи, специалист в области политической экономии, поверил не только в возможность построения более совершенного варианта социализма, но и в человека как такового:
Быть рядом с этими людьми, видеть собственными глазами, как они восстанавливают и трансформируют целый народ, участвовать в обсуждении грандиозных проектов и планов на будущее — значит, становиться чище и свободнее. Вы покидаете их с верой в человечество.9
Таким образом, Куба была «открыта» еще до того, как социальное отчуждение и отрицание общества стали массовым феноменом, характерным для западных обществ. На то имелись очевидные исторические причины: кубинская революция восторжествовала в конце 1958 г., и расцвет ее романтической славы приходился на 1960-1961 гг. Деннис Ронг заметил, что «триумф Кастро пришелся на последние годы работы администрации Эйзенхауэра...», которая представлялась многим либеральным и потенциальным радикальным интеллектуалам блеклой, конформистской, лишенной любого рода идеалистических устремлений и общественного взаимопонимания.10 Куба же являла собою полный контраст и потому особенно привлекала людей, которые жаждали драматизма, героизма и новых путей в политике.
Куба была «первой» по целому ряду позиций: первой пользовавшейся популярностью социальной революцией, влияние которой на мир ощущалось в течение многих лет; первым за несколько десятилетий политическим событием в Латинской Америке, которое серьезно повлияло на Соединенные Штаты; первой развивающейся страной, лидер которой смог привлечь к себе такое внимание западных интеллектуалов; первой страной, географически удаленной от стран коммунистического блока, но связанной с ним тесными узами; первой страной, ставшей жертвой американской агрессии с начала холодной войны.11
* На деле затягивания поясов избежать не удалось, как не удалось прийти и к изобилию продовольствия и потребительских товаров (в момент написания этой книги в стране продолжала действовать карточная система). Недавно (1980) появились сообщения о появлении в Гаване граффити, в которых выражено недовольство нехваткой продуктов питания. Помимо характерного для кубинской экономики дефицита, налицо и определенные проявления неравенства между элитой и массами, иностранными туристами и местным населением, а также гражданами стран советского блока, находящимися на Кубе, и кубинцами. Обе категории иностранцев пользуются услугами специальных магазинов и гостиниц, они могут приобретать продукты и пользоваться услугами, не доступными для обычных людей.8
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
325
Короче говоря, кубинская революция стала «новой силой», нисколько не походившей на государственные социалистические бюрократии Восточной Европы и Советского Союза, которые были очередной раз дискредитированы разоблачениями, сделанными Хрущевым в 1956 г. Впрочем, хотя интеллектуалы, которые издавна причисляли себя к левым, с удовлетворением отмечали отличие кубинского общества от строя советского типа, их предрасположенность к вере в подлинность и долговременный характер этих отличий мало чем отличалась от аналогичных позиций нового поколения молодых радикалов.12 В общем и целом, характер и динамика отношений в случае с Кубой были менее однозначными, чем в случае с Советским Союзом. Если пик интереса и энтузиазма по отношению к Советскому Союзу приходился на начало 1930-х гг., более чем на десятилетие отстоявших от революции 1917 г., то в этом случае внимание западных интеллектуалов и в США, и в Западной Европе было приковано к Кубе с самого начала революционных событий. Новый режим вызывал значительный интерес и в первые годы своего существования, и в течение всех 1960-х гг. Даже при утрате интереса к нему (с разными людьми это происходило в разное время), крушение иллюзий не носило столь же массового и драматичного характера, как в случае с Советским Союзом. Это было скорее тихое разочарование, а не гневное осуждение или болезненное неприятие. Многие интеллектуалы, некогда с энтузиазмом приветствовавшие новый режим, предпочитали хранить свое изменившееся мнение при себе и пытались сохранить хотя бы толику былого восхищения.
Уменьшение притягательности Кубы в конце 1960-х — начале 1970-х гг. обусловлено рядом процессов и событий. Че Гевара, ассоциировавшийся с наиболее идеалистическими аспектами революции и уступавший в популярности только Кастро, умер в 1967 г. Советское влияние постоянно усиливалось, — оно нашло отражение и в том, что Кастро поддержал советское вторжение в Чехословакию (1968) и в Афганистан. 1971 г. ознаменовался арестом и публичным покаянием поэта Падильи и преследованиями гомосексуалистов. Урожай сахарного тростника в 10 миллионов тонн в 1970 г. так и не был собран, в то время как стремление к достижению этого показателя серьезно повредило экономике страны, становившейся чисто дотационной. Дефицит и рационирование не исчезали. В 1970-е гг. стал наблюдаться постепенный, но достаточно явный отход от наиболее идеалистических и революционных положений, характерных для режима Кастро: после продолжительных бурных споров было решено, что материальные стимулы имеют в процессе производства большее значение,
326
Пол Холландер
чем стимулы моральные, милиция была упразднена, в армии были введены новые уставы и новая форма одежды, свободному перемещению рабочей силы был положен конец, стало очевидным то, что Комитет защиты революции является не только выражением нового общинного духа, но и пособником полиции.
Тем не менее, Куба продолжала сохранять определенную привлекательность, хотя состав ее почитателей претерпел заметные изменения. Разумеется, новый режим потерял самых именитых своих сторонников,* — однако на смену им стали приходить новые энтузиасты, особенно явно это чувствовалось в 1976- 1977 гг., когда стали предприниматься определенные шаги по налаживанию дипломатических и торговых отношений с Кубой. В новую группу сторонников входили политики, журналисты, бизнесмены, стремившиеся к заключению торговых соглашений, и некоторые интеллектуалы, хранящие верность своим былым убеждениям15 или только что «открывшие» для себя этот режим.16 Бригада Venceremos, относившаяся к Кубе с неизменным почтением, стала проводить ежегодные «паломнические» поездки на остров, составным элементом которых было участие в сельскохозяйственных работах и прокубинская пропаганда по возвращении из страны. («Сама поездка — только часть опыта бригады. Членам бригады есть чем заняться и в США: они устраивают
Симона де Бовуар писала (очевидно, и от лица Сартра): «Единственной страной, которая представлялась нам воплощением социалистических надежд, была Куба. Однако она очень быстро перестала казаться свободной страной — начались преследования гомосексуалистов, малейшее отклонение в одежде могло вызвать подозрения. Тем не менее, на Кубе дышалось куда легче, чем в СССР... Дискуссии, которыми сопровождалась работа конгресса [Культурный конгресс, проводившийся в январе 1968 г.], были свободными и открытыми... Все наши друзья, побывавшие там, очень хорошо отзывались о Кубе.
Впрочем, очень скоро им пришлось изменить свое отношение к ней. В том же году Кастро занял более осторожную позицию... В июле он не сказал ни слова в поддержку мексиканских студентов, жертв полицейской расправы, вследствие чего Куба смогла участвовать в Олимпийских играх, проводившихся в Мексике. Его речь после ввода советских войск в Чехословакию продемонстрировала, что он одобряет советскую политику. С той поры он неуклонно придерживался этой позиции... Поскольку люди обречены на полуголодное существование, они испытывают недовольство, и это ведет к репрессивным мерам. Постоянно находящиеся в этой атмосфере интеллектуалы не имеют никакой свободы. Музей современного искусства был закрыт уже в 1969 г., отчисления на культуру были урезаны до минимума. Пятьсот юношей было арестовано за ношение длинных волос. В 1971 г. Кастро обнародовал свою версию советского закона о борьбе с „тунеядством“... обвинения в „паразитизме“ достаточно для того, чтобы начать преследование и посадить человека в тюрьму. В апреле поэт Падилья был назван контрреволюционным элементом и посажен в тюрьму; ему удалось выйти отттуда только после написания «покаянного письма», в котором он, помимо прочего, называет Рене Дюмона и Кароля агентами ЦРУ! ...Кастро выступил с угрозами и в адрес других „контрреволюционно настроенных“ интеллектуалов. „Медовый месяц революции“, так очаровавший нас, уже закончился».13 Следует отметить, что разочарование это было взаимным. Кастро надоели интеллектуалы, критикующие его режим, сколь бы умеренной и обоснованной ни была эта критика.14
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
327
дискуссии и собрания, помогают съемкам фильмов, показывают слайды, участвуют в телепрограммах, пытаясь снять информационную блокаду, в которой находится Куба».)17
Участники бригады Venceremos занимали крайние позиции в своей критике американского общества и в своем восторженном отношении к Кубе. Журналист, который также относился к ней не без симпатии, писал в 1977 г.:
Обыкновение бригады скандировать лозунги при каждом удобном случае и бурными овациями встречать любую броскую фразу всегда вызывала у меня недоумение...
В бригаде царит странная атмосфера. Каждый раз, когда речь заходит о Кубе, они восторженно восклицают: «Это да!»
Очевидно, более или менее неизменным оставалось не только отношение участников бригады к США или к Кубе (выражение социального отчуждения и восхищения, цитировавшееся выше, было опубликовано в 1968 г.), но и друг к другу.
Хотя все brigadistas смотрели на Кубу с равным восхищением, друг к другу они относились по-разному. Даже в отсутствие маоистов и троцкистов была очевидна фракционность движения. Разговоры о политике шли день и ночь... Кто-то обменивался мнениями, кто-то ругался на чем свет стоит. Постоянно слышались обвинения в дискриминации женщин, расизме, либерализме, ревизионизме и левачестве... Подобная страстность brigadistas могла иметь только одно объяснение: она возбуждала дух групп, который в ином случае мог бы постепенно угаснуть.18
Институционализация и растущая престижность посещения Кубы во второй половине 1970-х гг. проявлялась не только в ежегодных поездках группы Venceremos* и сенаторских поездках. Нью-йоркским центром кубинских исследований (Хантер- колледж) и Центром образования взрослых был организован специальный курс, заканчивавшийся поездкой на Кубу. Разумеется, все это было чистейшей воды политической пропагандой, ибо вела этот курс Сандра Левинсон (исполнявшая, помимо прочего, и обязанности руководителя Центра кубинских исследований), один из редакторов изданного в 1971 г.20 хвалебного сборника, целиком посвященного Кубе, а на прослушивание курса не допускались бывшие кубинские граждане, видение которыми событий, происходящих на их родине, противоречило тем оценкам, которые давал им инструктор.21
Итак, хотя многие из первых почитателей кубинской революции во второй половине 1970-х гг. разочаровались в ней и примолкли, к ее верным сторонникам (таким как бригада
* Более десятилетия они каждый год без проблем набирали (после тщательного отбора) по 200 энтузиастов, «участвовавших в каких-либо прогрессивных движениях или в некоторых движениях, ставивших своей целью переустройство общества»19 (во всяком случае, так сказано в их брошюре).
328
Пол Xолланлер
Venceremos) присоединились новые политики и бизнесмены. (В случае с Советским Союзом эти три процесса шли более или менее одновременно: интеллектуалы испытывали наибольший энтузиазм в период восстановления дипломатических отношений, бизнесмены же стали обращать внимание на Россию с конца 1920-х гг.). Ирвинг Луис Горовиц, известный социолог, некогда относившийся к Кубе с чрезвычайной симпатией, прокомментировал эти процессы следующим образом:
Кубинское лобби представлено, главным образом, двумя элементами: либеральными сенаторами и консервативными бизнесменами...
Тщеславие членов Конгресса и бизнесменов таково, что склонить на свою сторону их нынешнему кубинскому лидеру ничего не стоит: поесть- попить, пригласить на званый ужин — и дело сделано. Сенатор Джордж Макговерн, главная фигура кубинского лобби ... редко упускает случай заметить: «Кастро это что-то вроде кубинского Хо Ши Мина»...*
Во всем, что говорит Макговерн, чувствуется отголосок вьетнамской темы: крошечный Вьетнам, крошечная Куба...
Отношение Макговерна к Кубе и Вьетнаму свидетельствует о живучести странного стереотипа, когда образ обездоленного вне зависимости от сопутствующих исторических обстоятельств становится объектом политических симпатий. Вьетнам, выстоявший в войне с Америкой, занявший часть Лаоса и Камбоджи и угрожавший Таиланду, ничуть не худший кандидат на звание обездоленного, чем Куба, обладающая самой сильной армией в Латинской Америке и посылающая в Африку экспедиционный корпус численностью в 50 000 человек. Вероятно, для Макговерна и ему подобных единственным критерием обездоленности является сам факт наличия конфликта в отношениях такой страны с Соединенными Штатами, поскольку те, несмотря ни на что, продолжают восприниматься как всесильная ведущая держава мира.
Что касается американских (и любых других) бизнесменов, то, похоже, Горовиц не ошибается, когда он говорит о том, что «единственная политика, ведомая бизнесменам, — это бизнес...». Тем не менее, у любых бизнесменов и уж тем более у бизнесменов американских сотрудничество с диктаторскими режимами порой, что называется, не вызывает особого энтузиазма. Именно по этой причине поиски деловых контактов с Кубой сопровождались попытками журналистов и специалистов по общественным связям представить кубинский режим в наилучшем свете и в известной степени приукрасить его. Керби Джонс и Фрэнк Ман- кевич, авторы книги, переполненной весьма благоприятными отзывами о ней, бравшие некогда интервью у Кастро, были одними
* Можно подумать, что подобные замечания будут способствовать скорейшему признанию режима Кастро и оправдают проводимую им политику.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
329
из самых активных участников этой кампании.* Возможно, врожденная щепетильность американских бизнесменов понуждает их уверять себя — или искать сторонних уверений — в том, что репрессивный режим, с которым они собираются сотрудничать, обладает некими позитивными качествами. Господин Кендалл, руководитель компании «Пепси» и главный поборник торговли с Советским Союзом, являет собой пример подобного отношения к торговому партнеру, с которым у Америки существуют еще большие разногласия. Надо заметить, что американская публика стала менее восприимчивой к позитивной переоценке Советского Союза, — ее куда больше интересует Куба. Найти журналистов или интеллектуалов, которые пожелали бы представить Советский Союз в более выгодном свете, также куда сложнее.
В меньших масштабах и менее явно подобный же сценарий существует и в академическом мире. Для ученых, пытающихся установить или восстановить связи с Кубой, сохранение (или развитие) критического подхода является помехой.23
В общем и целом привлекательность кубинской системы не изменялась так значительно, как привлекательность Советского Союза, которая постепенно зрела в 1920-х гг., достигла максимума в начале 1930-х гг., пошла на спад с началом чисток, возродилась вновь во время Второй мировой войны, начала ослабевать после ее окончания и стала еще меньшей после речи Хрущева, произнесенной в 1956 г. Максимальная привлекательность Кубы — с момента победы кубинской революции в 1958 г. и по 1961 г. — затем стала лишь относительно меньшей. В 1968 г., когда на Кубе проводился Культурный конгресс, стало очевидно, что у нее есть множество влиятельных друзей среди интеллектуалов как на Западе, так и в других регионах мира. Среди участников конгресса были Дэвид Деллинджер, Дэвид Купер (английский писатель и психиатр), Жюль Файфер, Эрик Хобсбаум, Ганс Магнус Энценсбергер, Сюзан Зонтаг, сэр Герберт Рид, Арнольд Уэскер и масса других столь же влиятельных и известных фигур.24
Возрождение и сохранение известных симпатий к режиму Кастро, особенно в Соединенных Штатах, было, помимо прочего, обусловлено и сложностью поддержания эмоциональных и идео¬
Горовиц отозвался об их деятельности так: «Посредники между деловой и политической сторонами кубинского лобби — это офисы Керби Джонса и возглавляемой им организации, называемой „Alamar Associates“. Сам Джонс — ветеран президентских кампаний Кеннеди и Макговерна, работавший пресс- секретарем во время избирательной кампании 1972 г. ...Еще один посредник — офисы Фрэнка Манкевича, бывшего руководителя избирательной кампании Макговерна, основавшего вместе с Джонсом Национальный исполнительный комитет. Данная организация проводит семинары для политиков и бизнесменов и устраивает поездки на Кубу...».22
330
Пол Холланлер
логических связей с Китаем после смерти Мао. Отход от принципов революционного идеализма в Китае был куда более явным, чем аналогичные процессы, происходившие на Кубе. Власть в лице самого Кастро воспринималась восходящей к дням революционного героизма, китайское же правительство после смерти Мао больше походило на группку «безликих [партийных] функционеров». Мало того, новые китайские лидеры открыто пересмотрели и тайно отреклись от вдохновляющей революционной политики своего великого предшественника. Изменения, происходящие на Кубе, были не столь значимы и не столь заметны извне. Тем, кто желал видеть Кубу в романтическом идеальном свете, она могла видеться именно таковой, — для этого достаточно было вспомнить технику и систему оценок, посредством которых в 1930-е гг. созидался образ Советского Союза. Рональд Радош, относившийся к Кубе с явным расположением, писал:
Многие североамериканские радикалы игнорируют противоречивость кубинской политики или не замечают ее. Их отношение к Кубе вызывает в памяти отношение многих западных людей, посетивших Советский Союз в 1920-1930-е гг. Именно в этот период сложилась модель проведения поездок по социалистическим странам. Радикалы, утомленные образом жизни и политикой Америки, искали ответов на свои вопросы вовне. Грандиозный советский эксперимент стал для них залогом спасения от бессилия, овладевавшего ими у себя на родине. Любая критика России, любое открытое обсуждение советских проблем ... воспринималось ими как зерно на мельницу прогерманских и реакционных сил... Подобно этим «старым левым», многие «новые левые» стали идеализировать те или иные социалистические страны. Этот феномен был истолкован Тодом Гитлином еще в 1968 г.: «Уже не одно поколение американских левых видит благое только вовне: мы должны связать свою судьбу с кем-то или с чем-то таким, что даст шанс на построение действительно гуманного общества». Подобным местом для многих новых левых стала Куба.
Поскольку она была избрана для таковой цели, бесстрастное восприятие процесса революции стало невозможным. Подобно русским, кубинцы стали устраивать специальные тщательно продуманные туры... Впрочем, искаженное восприятие было обусловлено даже не ими. Каждый видел только то, что он или она желали увидеть...
Подобно путешественникам, побывавшим в России в 1920-е гг.,* участники групп, путешествовавшие по Кубе вместе со мной, выказывали одну и ту же психологическую позицию. По их мнению, критиковать Кубу значило помогать врагам революции... Долг североамериканских радикалов состоял в «политической поддержке», а не в буржуазной роскоши вольных суждений...
Аргумент неизменно был одним и тем же: воздержитесь от критики, иначе вы окажетесь в хищных лапах реакционных сил.25
Эти наблюдения вызывают в памяти положение, уже звучавшее в этой книге и состоящее в том, что отрицание собственного общества и восхищение неким иным обществом неразрывно связаны между собой, отрицание предвосхищает проекцию надежд вовне. Эта точка зрения может показаться очевидной, тем не менее мы должны постоянно напоминать себе о наличии таковой
* Более рельефную форму это явление приняло в 1930-е гг.
331
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
связи для того, чтобы ясно видеть характерное нежелание отдавать себе отчет в тех реалиях новых обществ, которые находятся в конфликте с изначальными надеждами и чаяниями. (Мужчина, знающий о том, что он не сможет найти себе лучшего спутника жизни, чем его супруга, вряд ли станет разводиться с ней. Вера в наличие альтернатив является существенным условием неприятия современных условий или существующей ситуации. Пропагандистские кампании и строгая цензура во многих «социалистических» странах должны интерпретироваться скорее не как стремление убедить население в достоинствах существующей социальной системы, но как попытка оградить их от мыслей о существовании неких альтернатив ей.)
Френсис Фитцджеральд, другой «поклонник» кубинской революции (лучше известный как критик войны во Вьетнаме), замечает также: «Многие североамериканские радикалы, посещавшие Кубу или живущие там, как будто производят своеобразную хирургическую операцию, лишающую их критических способностей и превращающую их речи в детский лепет. Их восхищает решительно все: неработающие элеваторы и парадные колонны советских танков, „находящихся в руках народа“».26 Хорхе Эдвардс, чилийский писатель, представлявший при режиме Альенде свою страну на Кубе, также раздумывает над подавлением критических настроений среди интеллектуалов:
Мы проявили, возможно, более серьезную и зловещую интеллектуальную уступчивость диктату Гаваны. Причины, по которым мы должны были хранить молчание, были уже знакомы: слабость революционного острова и ужасное кольцо блокады, которое могло сравниться разве что с блокадой единственной социалистической страны, которой правил Сталин; мы же, новые, по-юношески упрямые латиноамериканские писатели, так и не смогли усвоить этих исторических уроков.27
Для тех, кто решил не критиковать режим ни при каких обстоятельствах, все сводилось к проблеме приоритетов. Теодор Дрейпер писал: «Для данной концепции [социализма] важна лишь национализация экономики. Национализированное ее состояние может быть убийственным, лживым, лицемерным, жестоким и деспотичным, но она при этом остается „социалистической“».28 Следует заметить, что фетиш национализации представляется тем, кто наделяет ее столь большим значением, неразрывно связанным со стремлением к социальному равенству и равнозначным свержению капитализма. Главное, чтобы было покончено с этим «злом», все прочее уже неважно. Соответственно, режимы, ликвидирующие частный контроль над средствами производства, тем самым уже «находятся на верном пути».
В иных случаях подобная приостановка критики и поддержка некритических оценок являются следствием преимуществен¬
332
Пол Холландер
ного внимания к форме, а не к содержанию, к самому факту перемен, а не к существу их. Горовиц пишет о такой позиции: «Да, школы существуют повсюду, образование является всеобщим, но никто не говорит о том, чему учат в этих школах. Дети действительно занимаются сельскохозяйственным трудом по пятнадцать часов в неделю, но восторгаться этим фактом использования детского труда на Кубе не принято, портить же из-за этого дипломатические отношения с ней неразумно».29
Как и в случае с Советским Союзом, контекстуальный пересмотр ценностей, базирующийся на столь благоприятных предпосылках, кардинально меняет восприятие приезжими социально- политического ландшафта страны. Так, Анджела Дэвис замечает, что «уборка сахарного тростника качественно изменилась после революции» не потому, что эта работа стала менее трудной, но потому, что «в работе стали принимать участие все» (при этом степень участия в ней тех или иных групп населения не учитывается), а с эксплуатацией рабочих было покончено. Соответственно, огромные рекламные щиты, которые вызывают презрение, если они служат для рекламы капиталистической продукции, мгновенно трансформируются в исполненные всяческого достоинства и красоты предметы, если они превозносят блага политической системы («многие из этих щитов в прошлом использовались для рекламы американской продукции... Мне было очень приятно сознавать, что кубинцы сорвали эти приметы глобальной эксплуатации и заменили их теплыми и волнующими символами, обладающими для людей вполне реальным значением. Во всем чувствуется уважение к человеческому достоинству»).30 Она же жалуется на «бюрократическую систему, с которой то и дело приходится сталкиваться обычному человеку» в западных странах, совершенно забывая о том, что в таких странах, как Куба (или Советский Союз), которыми она привыкла восхищаться, бюрократические установления, «с которыми то и дело приходится сталкиваться обычному человеку»,31 куда как сложнее и запутаннее. Вероятно, она согласилась бы и с фактом существования бюрократии при социализме, но тут же приписала бы ей благожелательность или сочла бы ее проявлением переходного периода, а не характерной особенностью рассматриваемой социальной системы.
Кубу за сравнительно короткий промежуток времени покинуло около 120 000 человек (за весну 1980 г.), и это обстоятельство не могло остаться незамеченным. Большую часть беженцев составляли люди, выросшие уже при режиме Кастро, которых никак нельзя было назвать наследием былой эпохи или средним классом, развращенным капиталистическими ценностями и не способным адаптироваться к новой системе. Среди миллиона
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
333
кубинцев, покинувших остров после 1958 г., можно было найти и тех и других, но их не было в последней волне эмиграции. Подобно своим предшественникам, люди бежали от материальных трудностей и политических репрессий.32
Несмотря на столь очевидные выражения недовольства народа политической системой, уже появились подтверждения того, что ее всегдашние защитники и на сей раз остались верны своим взглядам. Так, например, Филипп Бреннер из Института политических исследований в Вашингтоне счел этих эмигрантов людьми, не удовлетворенными своим материальным положением, недовольство которых никоим образом не бросало тени на кубинский режим; мало того, несмотря на их возраст, они «испытывали ностальгию по режиму Батисты». Более недавний сторонник режима Кастро Эндрю Цимбалист, экономист из Smith College, напротив предположил, что новые беженцы («которым было немногим за двадцать») оставили страну именно потому, что не испытали всех тех зол, с которыми было связано правление Батисты, и не понимали, что они теряют.33 При подобном объяснении исхода число кубинцев, способных должным образом оценить преимущества существующего общественного строя, становится весьма небольшим. Попытки примирить феномен беженцев с преимуществами оставляемой ими системы были характерны не только для Кубы, нечто подобное происходило и в Индокитае, откуда то и дело бежали люди. Позиция, на которой основаны подобные истолкования, лишний раз свидетельствует о том, что привлекательность этих обществ была связана не столько с их достижениями и проистекающим отсюда довольством народа, сколько отчуждением от собственного общества.
ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР
Из всех политических систем, рассматриваемых в этой книге и вызывавших широкое (пусть и преходящее) одобрение среди западных интеллектуалов, фигура лидера имела первостепенное значение только для Кубы. Лидеры других стран, такие как Сталин, Мао, Хо Ши Мин, Энвер Ходжа или Ким Ир Сен, имели чрезвычайный политический вес, однако лишь на Кубе вся социально-политическая система отождествлялась с ее уникальным лидером и легитимировалась им. Короче говоря, самым привлекательным аспектом кубинской системы являлась фигура ее лидера — Фиделя Кастро. Существует множество объяснений этого феномена, при этом одни связывают популярность кубинского лидера с личностью и наклонностями Кастро, другие пытаются объяснять ее духом времени. Начнем с последнего.
334
Пол Холландер
К концу 1950-х гг. многие люди на Западе, в особенности интеллектуалы, были готовы к восприятию харизматического лидера как в рамках их собственных сообществ, так и вне их. В предыдущие десятилетия большинство политических лидеров с героическими наклонностями либо оказались злодеями, либо утратили свою харизму в ходе политических баталий. К этому числу относились Гитлер, Муссолини и Сталин (как ни странно, но доблестный Тито никогда — даже на ранних этапах своей деятельности — не привлекал к себе внимания западных интеллектуалов). Де Голль обладал явной харизмой, но не был революционером. Другим политикам, обладавшим некоторыми из потребных качеств, не хватало динамики или умения руководить массами.
В конце 1940-х и в начале 1950-х гг. отсутствие героического элемента в западных обществах создало предпосылки для поисков его в самых неожиданных местах: среди трюкачей, спортсменов, гангстеров. Исчезновение героического начала из жизни западных обществ не означало того, что исчезла и жажда героического. Новые формы героики и их персонификация носили несколько условный, искусственный характер без моральных основ, характерных для прошлого. «Герой» нашего времени зачастую оказывался временной знаменитостью, порождаемой скорее жаждой нового и необычного, а не моральными импульсами и вдохновением.34 Подобная ситуация отчасти объясняется интересами средств массовой информации, штамповавших новых героев и знаменитостей для привлечения внимания аудитории. При этом различия между знаменитостями и героями в значительной степени стерлись. Дэниел Бурстин обращает внимание на то, что эти проявления могут объясняться также расплывчатостью морали и смешением интеллектуальных ценностей, которыми и определяется, на что следует обращать внимание и чем надлежит восхищаться.
То, что было сказано несколько десятилетий назад Гансом Шпайером об истоках культа героев, сохраняет свою верность и поныне:
Существует резкий контраст между героическим обществом и современной социальной организацией. Власть стала централизованной и, во многом, анонимной; закон утратил свою самодостаточность... Крайняя профессиональная специализация... породила паутину взаимозависимости, которая разрастается нашими трудами и сковывает нас по рукам и ногам... Мы крайне далеки от наивной жизнеутверждающей позиции...
Современный культ героев — это ужасающий неартикулируемый критицизм изъянов цивилизации, социально одобряемые цели в рамках которой трудно достижимы, а платой за конформизм является возможность потаенного отказа от ограничений, налагаемых на конформистов... Современный человек, стремящийся к обретению взыскуемого им счастья, обретает нечто другое — «радость» подменяется «развлеченьем». Он может не осознавать этой подмены, однако глубинная потребность в освобождении из- под гнета цивилизации не может не выражать себя в героическом культе.35
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
335
Несколько позже Роберт Нисбет заметил: «Почти повсеместно признано, что наш век — век посредственных лидеров, причем говорю я здесь не только о политике...». Рассмотрев различные сферы современной жизни, включая политику, искусство, науку, образование и т. д., Нисбет приходит к выводу, что «мы постепенно лишались героев... Героизм и современность несовместимы друг с другом. Яды современности, к числу которых относятся эгалитаризм, скептицизм и насмешливый тон современных популярных искусств, разъели ту основу, на которой строится героизм».36
Исчезновение героического начала из жизни современного Запада имеет множество причин. Из нашего мира исчезли даже злые герои. После Второй мировой войны усилилась тенденция относиться к тому, что прежде почиталось злом, как к чему-то болезненному, неприспособленному или социально нежелательному. Эйхман явил собою пример «банальности зла»,37 и нравственное значение его деяний тут же стало существенно меньшим. Чрезвычайный интерес к опытам Стенли Милгрэма по подчинению власти38 и патологическая завороженность ими являются отражением расхожей позиции, в соответствии с которой при определенных обстоятельствах любой человек способен совершить самые что ни на есть отвратительные поступки. Падение веры в личную ответственность приводит и к обессмысливанию понятий добра и зла. Стало невозможным классифицировать определенным образом даже поведение таких типов, как Эйхман; если самые чудовищные формы жестокости и бесчеловечности могут быть следствием подчинения власти, если, как считается, при определенных условиях любой человек способен на любые сколь угодно ужасные деяния, если, наконец, зло воспринимается как нечто банальное, обыденное и безличное, тогда оно, разумеется, не может вырасти и до демонических размеров.
Таким образом, исчезновение героического элемента из современной жизни неразрывно связано с усиливающимся морально-этическим релятивизмом, который, в свою очередь, является очевидным побочным продуктом растущей секуляризации западного общества. По мере усыхания религиозных корней морали и обессмысливания религиозных определений добра и зла единственным альтернативным источником такого рода определений становится развитая политическая идеология и система взглядов, подобные тем, которые существуют в далеких революционных обществах. Среди притягательных сторон этих обществ одно из главнейших мест занимает именно этот героический аспект, привлекающий к себе многих интеллектуалов.
Характерным выражением импульсов и потребностей, лежащих в основе культа Кастро, может служить признание Нормана
336
Пол Холланлвр
Мейлера. Он пишет: «Итак, Фидель Кастро, я объявляю всему городу Нью-Йорку, что ты вернул всем нам, одиноко живущим в этой стране ... веру в то, что в этом мире существуют герои. Люди читают в газетах репортажи о твоем визите и чувствуют, что в их жилах течет настоящая кровь... Словно дух Кортеса, оседлавший белого скакуна Запаты, пришел в наше столетие. Ты был первым и величайшим героем, пришедшим в мир после Второй мировой». Мейлер надеется на то, что историческая миссия Кастро будет иметь продолжение. «Ты придал сил самым лучшим и самым страстным мужчинам и женщинам по всему миру. Ты стал ответом на утверждение комиссаров и политиков о том, что революции не продолжаются, что они тонут в грязи, терпят крах или пожирают самое себя».39
Рассказ Сартра о встречах с Кастро и с другими лидерами является еще более примечательной иллюстрацией реакции западных интеллектуалов на сильных, необычных, харизматических лидеров. В этих заметках виден прежде всего сам Сартр, а не люди, которых он изображает, тем не менее, мы находим в них непроизвольные свидетельства о тех или иных надеждах и чаяниях западных интеллектуалов. Естественно, более всего Сартра поразила искренность Кастро, единство его слова и дела, теории и практики, олицетворяемой им. Сартр приводит ответ Кастро на вопрос, что значит быть профессиональным революционером.
«Я не терплю несправедливости». Что более всего покорило меня в ответе этого человека,— который сражался и прежде и теперь за целый народ и не имел помимо этого никаких интересов, — так это его личный характер.
...Он познал легковесность слов.
Сартр не просто восхищается самозабвенной работой на благо других и социальной справедливостью, олицетворяемыми Кастро. Кастро и его приближенные оказывали на него магнетическое, почти гипнотическое влияние и возрождали в нем надежду на превосходство обычной человечности, они представлялись ему новым воплощением извечной мечты о победе разума над телом, духа над плотью. Они представлялись в его воображении вестниками бессмертия и обновления. Вот как описывает Сартр свой ночной визит в кабинет Че Гевары.
Я услышал, как у меня за спиной закрылась дверь, и тут же забыл о прежних страхах и потерял чувство времени. Похоже, для этих бодрых, неутомимых людей сон перестал быть необходимостью и превратился в нечто такое, от чего им более или менее удалось освободиться. [Сартр пишет, что он также поддался всеобщему возбуждению и почти не спал все эти дни.] ... Обычные в нашем понимании завтраки и обеды также исчезли из их жизни.
Самый бодрый из всех ночных стражей это, конечно же, Кастро. Он может съесть больше, чем другие, но он же дольше других может обходиться без пищи. [Они] ... правят своими чувствами подобно диктаторам... они расширили пределы возможного.40
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
337
Сильные, энергичные, героические фигуры под стать эпохе Возрождения, подчиняющие диктату своей железной воли тело и разум, неустанно трудятся над перестройкой общества — вот какое впечатление обычно выносили западные интеллектуалы типа Сартра. Это было настоящее преклонение перед героями (пусть обычно и не в столь крайних формах, как у Сартра), обладающее всеми социальными и индивидуальными компонентами героического культа.* Таким образом одной из притягательных особенностей новых обществ является их героический дух, воплощаемый не только в манере поведения лидеров, но и в придании обыденной жизни нового, исполненного особого значения драматического аспекта, благодаря чему она уже не кажется скучной или прозаической.
Для Эбби Хоффман, так же как для Мейлера и Сартра, обаяние Кастро во многом связано с образом мужчины, кондотьера на белом скакуне или на танке: «Фидель сидит на танке, громыхающем по Гаване в этот первый день нового года... Девушки бросают ему цветы и игриво дергают его за черную бороду. Он радостно хохочет и щиплет их за мягкие места... Танк останавливается в городском сквере. Фидель роняет оружие наземь, хлопает себя по ягодицам и встает. Теперь он становится похожим на могучий пенис, и при виде его толпа моментально преображается».42
О визите в Соединенные Штаты писалось следующее: «Фидель, ко всеобщему изумлению, внезапно перескочил через барьер [в зоопарке в Бронксе] львиного вольера. Дипломаты и люди из ФБР не отважились окликнуть его, боясь, что их крик может возбудить животных. Фидель, на которого львы не обращали ни малейшего внимания, простоял в вольере несколько минут, после чего так же спокойно выбрался наружу».43 (Как должна была понравиться эта история Норману Мейлеру!).
Кастро как подлинно харизматический лидер умел вдохновить своих последователей и был всецело предан им. Элизабет Сазерленд (журналист, критик, редактор «The Nation») писала:
Он [Кастро] прежде всего полностью поглощен заботой о благосостоянии народа, а народ этот весьма беден. Когда он обращается к ним с речью, создается впечатление, будто его собственная решимость и энергия переда¬
* Здесь уместно вспомнить дальнейшие рассуждения Ганса Шпайера о современном героическом культе: «Современный культ героев — это безопасный и неприметный способ получать благодаря другим то, в чем вам отказано. Культ героя — это культ активной, ничем не связанной жизни. ...Почитание современного героя имеет три основные компоненты: во-первых, благоговение перед силой и риском, на который идет герой, защищающий идеалы христианства и моральные ценности среднего сословия; во-вторых, характерное неблагополучие, обусловленное столкновением принятых обществом ценностей труда, смирения и права на счастливую жизнь, с одной стороны, и жизненным опытом, в котором желания сдержанны, а риск вездесущ, с другой; и, в-третьих, пассивность, привнесенная современной цивилизацией...». 1
338
Пол Холланлер
ются слушателям едва ли не физически.* Обладая экстраординарным чувством ритма и тембром голоса, он выстраивает свои речи подобно длинным поэмам.45
Фрэнк Манкевич и Керби Джонс пишут следующее:
Это один из самых очаровательных и забавных людей, которых мы когда-либо видели... Кастро неотразим, американские политологи называют это обычной [s/c] харизмой, но в данном случае речь идет о чем-то большем. Политические лидеры часто обладают именно политической харизмой, которая никак не отражается на их частной жизни. С Фиделем Кастро все обстоит иначе. Он остается одной из самых «заряженных» фигур в мире, рядом с которой все прочие фигуры кажутся тусклыми и скучными.46
Разные наблюдатели выделяют различные аспекты личности Кастро и его удивительного обаяния или же переносят на него различные атрибуты. Если Сартра, Мейлера или Эбби Хоффман более всего поражали его физическая сила и мужество, то других деятелей более анархической или антиэлитистской направленности больше пленяли новые формы лидерства, ассоциировавшиеся с Кастро. Джулиус Лестер, чернокожий писатель, замечает:
Для того чтобы стать заметной фигурой в западном обществе, нужно стать заложником имиджа, созданного средствами массовой информации. Для того чтобы стать заметной фигурой в обществе революционном, необходимо сжиться с народом настолько, чтобы они неосознанно видели тебя в себе, а ты видел себя в них. Запад считает, что «культ личности» связан с такими фигурами, как Мао и Фидель. Это неправда. Революционное сознание и революционная убежденность разрушили эго в сознании Мао и Фиделя, благодаря чему они стали свободными людьми. Мао — это Китай. Фидель — это Куба. Китай — это Мао. Куба — это Кастро.47
Солу Ландау Кастро представлялся «погруженным в демократию... скромным человеком...».48
Одни гости делали особый акцент на героизме, другие — на скромности кубинского лидера, который представал и тем и другим очень добрым, сострадательным и гуманным человеком. Лео Губерман и Пол Свизи писали: «Прежде всего, Фидель — это страстный филантроп ... в том смысле, что он сочувствует человеческим страданиям, ненавидит несправедливость, порождающую ненужные страдания, и стремится к построению на Кубе общества, в котором бедные и обездоленные смогли бы, наконец, забыть о своих былых лишениях... Именно с этих позиций он и оценивает людей, становясь то добрым, то строгим, то неумолимым в зависимости от той реальной или потенциальной роли, которую они играют или могут сыграть в деле строительства нового общества».49 Анджела Дэвис пишет: «Разговаривая практически с любым кубинцем о Фиделе, вы вскоре понимаете,
* Теодор Дрейпер дает более мрачную оценку таким представлениям: «Лица, участвующие в уличных спектаклях, связаны только с Кастро, но никак не друг с другом. Эти демонстрации так же «демократичны», как нюрнбергские сборища или речи, произносившиеся Муссолини с балкона».44
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
339
что они считают его очень умным, всецело преданным своему делу и чрезвычайно добрым человеком, обладающим, помимо прочего, несомненным талантом лидера. Он совершает ошибки, ошибки сугубо человеческие, и люди во многом любят его еще и за то, что он откровенен с ними. Фидель был их лидером, но, что куда важнее, он был и их братом в самом широком значении этого слова».50, * Сенатор Макговерн находил его, «во всяком случае, в частной беседе тихим, скромным и чувствительным», а Джулиан Бонд, ознакомившись со взглядами Кастро, задумался о возможной «связи социализма с христианством».52
Кастро (и Че Гевара) в большей степени, чем любые другие лидеры современности, поражали встречавшихся с ними интеллектуалов, ибо те видели в них своих собратьев-интеллектуалов, но не мечтателей или критиков, а деятелей и творцов истории. После Ленина этому образу так удачно не соответствовал еще ни один политик. В этом смысле Кастро обладал уникальными качествами. Во-первых, он был настоящим революционером, имевшим опыт партизанской войны в горах, молодым, сильным, высоким, хорошо сложенным, непосредственным и скромным. Он являл собой образ человека, у которого слова не расходились с делом, человека, способного вернуть социализму, дискредитированному сталинизмом и бюрократической государственностью, доброе имя. Во-вторых, он был не просто деятелем, он обладал и даром оратора, способного говорить (часами) на любую тему. С большим искусством он склонял (во всяком случае, на первых этапах своего правления) на свою сторону видных западных интеллектуалов. Да и кто из них смог бы устоять перед таким напором, которым он подкупил, скажем, Ч. Р. Миллса.
Однажды к нему в отель явился сам Фидель Кастро, с ходу заявивший, что «Властная элита» Миллса стала для большинства партизан в Сьерра-Маэстра настольной книгой. Кастро пригласил его в путешествие по стране — una vuelta (исп. — прогулка). Они провели вместе три с половиной дня, причем на разговоры у них уходило в среднем по восемнадцать часов в сутки.53
* Подобное отношение к Кастро, как к равному и скромному брату, разделялось далеко не всеми его почитателями. Согласно Дэвиду Коту, «Кастро похож на любящего, умного и властного отца, который, решив единожды, как лучше жить его детям, сажает их к себе на колени и ласково интересуется их собственными желаниями... Выслушав их, он „убеждает“ их в том, почему они на деле желают того же, чего желает для них и он». К. С. Кэрол рассматривает вопрос, действительно ли Кастро присуща «аристократическая концепция политической власти и лидерства: „лучшие специалисты“, „люди, заслуживающие доверия“...». Он не согласен с тем, что Кастро является «непогрешимым специалистом во всех областях технических знаний...». Он пишет следующее: «Все его [Кастро] доводы опровергают дух аристократизма, веру в роль элиты, он, скорее, является сторонником общения равных, в плодотворный обмен идеями между обычными людьми и их лидерами». В свою очередь, Рене Дюмон замечает: «Путешествуя по Кубе вместе с Кастро, я порой ловил себя на мысли, что меня сопровождает хозяин Кубы, показывающий мне ее земли и поля, скот и даже, возможно, людей».61
340
Пол Холландер
Он прочел книгу Кэрола и «хотел обсудить ее».54 Уолдо Фрэнк, Сартр, сенатор Макговерн, Эрнесто Карденаль и многие другие приняли участие в головокружительных путешествиях на вертолетах и джипах, которыми зачастую управлял сам Кастро. Согласно сенатору Макговерну, «этот человек полностью соответствовал известному образу. Обычно он был одет в свежевыг- лаженную армейскую форму. Моложавый, несмотря на свои сорок восемь лет, с черными как смоль шевелюрой и бородой, с непременной сигарой в руке, он был хладнокровным, уверенным в себе и любопытным... Он выказывал познания практически во всех сферах: от методов ведения сельского хозяйства до марксистской диалектики и американской политики».55
Он обладал всем тем, чем восхищались и к чему стремились западные интеллектуалы (определенного толка). Ему, сыну землевладельца, был не чужд известный аристократизм, он закончил юридическую школу, затем стал настоящим партизаном и, наконец, сосредоточил в своих руках огромную власть, на которую не посягали ни партии, ни парламенты, ни своекорыстные политические группы или отдельные политики. Он обладал развитым воображением и возможностью воплощать свои мечты в жизнь. Помимо прочего, он был весьма начитан. (Дэвид Кот сообщает, что, находясь в тюрьме, «он читал жадно и без разбора книги всех сколько-нибудь значительных авторов, попадавшие ему в руки: святого Фомы Аквинского, Иоанна Солсберийского, Лютера, Нокса, Мильтона, Руссо и Тома Пейна».)56 Как пишет один из американских почитателей Кастро, он «пытался образовывать свой народ и постоянно занимался самообразованием. Когда он обращался к аудитории, та становилась похожей на огромный притихший класс... Его поучения часто затрагивали проблемы морали и порядочности».57
Он самолично проверял состояние дел в различных сферах, отвечал на письма обычных людей, заглядывал на заводы, останавливался на пляжах, проверял качество продававшегося на улице мороженого, пытался понять без посредников, как живут его подданные и как выполняются его приказы и планы. Подобно сказочным королям и принцам, он внезапно появлялся в разных местах своего королевства с тем, чтобы помочь бедным.
Давайте пронаблюдаем за его инспекционной поездкой. Он обнаруживает мост, находящийся в плачевном состоянии, и тут же отдает распоряжение немедленно отремонтировать его. Он проезжает еще пятьдесят миль, и тут его джип начинает вязнуть в грязи... «Здесь должна быть построена нормальная асфальтированная дорога». В другой раз ( в сухой сезон) он обнаруживает жухнущие без воды поля. «В этом месте нужно соорудить небольшую запруду». В другом месте кукурузные поля имеют запущенный вид. «Нужно открыть здесь сельскохозяйственную школу».58
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
341
Внимание Кастро к деталям роднит его с другими подобными лидерами (такими как Сталин, Мао и Гитлер), но, в отличие от них, Кастро любит неформальное общение и обладает чувством юмора. Его познания не могут не поражать.
Он знал, к примеру... плановые темпы строительства школ, жилья, заводов и больниц. Ему было известно количество построенных и строящихся объектов, сроки завершения строительства и планы на ближайшие пять или десять лет. Он знал общее количество студентов на каждом этапе учебного процесса, был знаком с их учебными программами, знал, сколько студентов будет выпущено в этом, в 1980 или в 1985 г. Ему были известны требования для перевода учащегося на следующий образовательный уровень... Он знал среднемесячную температуру воды в рыболовецких портах и сезон ловли для каждого вида рыбы. Он знал, каким должна быть максимальная длина бетонного пролета. Знал, возможно, лучше всех в мире сахар... Ему всегда были известны мировые цены на сахар и их колебания...
Следует заметить, что его энциклопедические познания не ограничивались только Кубой.59*
Энергичный, привлекательный, страстный, неформальный, адогматичный, открытый, гуманный, в высшей степени доступный и в то же время чрезвычайно могущественный, равно заинтересованный в разрешении мелких и крупных проблем, специалист по скотоводству и международным отношениям, вооружению и качеству лимонада, продающегося на популярных курортах, — он являл собой явно располагавший к себе образ лидера. Ему ничего не стоило (в нужном случае) взять в руки мачете и присоединиться к народу, занятому рубкой тростника.61
Кастро и его образ как нельзя лучше соответствуют духу времени и несбывшимся чаяниям многих западных интеллектуалов этого периода. Вот что пишет Деннис Ронг:
Фидель Кастро с самого начала стал героем новых левых... самым что ни на есть настоящим героем, живущим в эпоху бесцветных бюрократических лидеров. Мало того, он и его люди были молоды и носили непокорные бороды — новый символ мятежной юности. Свойственный ему дух непринужденности и творческой импровизации ... выгодно выделял его среди всех политических лидеров века телевидения ... [Он намеревался] осуществить без проволочек подлинно эгалитарные реформы... Сартр и Миллс вернулись с Кубы с вестью, что под солнцем появилось нечто новое...62
У этого была и оборотная сторона. К. С. Кэрол пишет: «Один человек не может быть непогрешимым специалистом во всех областях технических знаний, не может знать всех тонкостей скотоводства и ирригации, оптимального способа уборки сахарного тростника и особенностей кофейных плантаций Cordon de la Habana, уже и не говоря о тысяче прочих сфер, требующих знания специальных дисциплин и политических реалий». Еще более взыскательным в этом смысле оказывается Рене Дюмон (французский ученый-аграрий, приглашенный Кастро на Кубу и впоследствии изгнанный им же): «Кастро уже мало военной или политической славы и его несомненной ценности как человеческого существа. Теперь он хочет стать признанным авторитетом в сфере научных исследований и сельскохозяйственной практики. Он — человек, которому известно решительно все... Длительное пребывание у власти убедило его в том, что он понимает любую проблему лучше, чем кто-либо другой».60
342
Пол ХолланАер
Кубинская революция и вызванный ею к жизни режим серьезно отличались от прочих режимов, считавшихся социалистическими (в особенности от Советского Союза и его восточноевропейских сателлитов), и точно так же Кастро был совершенно не похож ни на того «реального» Сталина, о котором мир узнал только после его смерти, ни на других социалистических лидеров, подражавших Сталину.
Не только Кастро, но и Че Гевара вызывал совершенно особые симпатии сторонников кубинского режима. При жизни он считался самым идеалистически настроенным, самоотверженным и строгим кубинским лидером. Герберт Рид, британский историк искусств, сравнивает его с Толстым.63 Он погиб в самом расцвете сил, сражаясь за свободу боливийских крестьян. Ричард Левенталь в этой связи замечает: «Аскетизм и героическая жертвенность Че Гевары привели к тому, что он превратился в человека-легенду, соединившего в себе христианские добродетели и черты военачальника».64
Такие человеческие качества, разумеется, не могли не повлиять на общее отношение гостей к революционной Кубе, в их глазах они придавали ее политике и стратегии развития куда большую привлекательность.
ЧУВСТВО ОБЩНОСТИ И ЦЕЛИ
На Кубе чувства общности и цели так переплетены, что притягательность их практически невозможно рассматривать в отрыве этих аспектов друг от друга. Их сродство обусловлено самим духом 1960-х гг. и характерными особенностями и устремлениями нового поколения пилигримов. Их фактическая взаимозаменяемость отражает специфику социального отчуждения в 1960-е гг., для которого характерен упадок теоретической мысли и идеологически обедненный взгляд на проблемы социального недовольства. Можно уверенно сказать, что в 60-е гг. (да и в 70-е) марксизм использовался скорее как миф, а не как рабочая теория, как лозунг (или набор лозунгов), а не как идеология, и, если политическая активность действительно стала чаще основываться на эмоциональных импульсах, а не на теоретических программах, если спонтанность и сиюминутная ориентация действий действительно подменили собой политические программы, если все это так, то нет ничего удивительного в том, что чувство цели затмило собой конкретные ее компоненты и впоследствии смешалось с чувством общности, столь же страстно взыскуемым впоследствии.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
343
На Кубе, по крайней мере вначале, эти чувства не могли не смешаться. Кубинская революция и ее лидеры были молоды, подвижны, смелы, независимы, свободны от мертвящего наследия прошлого; они никоим образом не являлись частью движения старых левых и потому не наследовали ни их ошибок, ни их догматики. (Дэвид Деллинджер пишет о «беспокойном идеализме» кубинских революционеров и рассматривает «возможность подлинно свободного коммунизма».) 65 Для участников бригады Venceremos Куба была «столь же реальной, сколь реален мир ребенка — свежий, исполненный жизни и посюсторонний. Это магнит доисторического опыта, притягивающий сердца гостей... Это образ, раскрывающий смысл целого...»66 Прагматический идеализм был одним из самых ярких достоинств этой новой революции, тем более привлекательным, что он не требовал явного задания целей и потому чаровал своими безграничными возможностями. Впрочем, определенные моменты были ясны с самого начала. Денежные проблемы, деформирующие отношения между людьми в капиталистическом обществе, не должны были сказываться на новом обществе. Майкл Паренти писал:
Что более всего поразило меня и других участников группы в жителях Гаваны, так это отсутствие «напряжения», свойственного североамериканским городам... Кубинцев не заботят денежные проблемы, снедающие большинство американцев; отсутствие денежных проблем и связанных с ними духа соперничества, персональных страхов и агрессии оказывают заметное влияние на социальные отношения.67
Эрнесто Карденаль, никарагуанский монах и поэт, пишет примерно о том же:
Улицы Гаваны были полны людьми, но они ничего не покупали и ничего не продавали. Люди просто-напросто прогуливались, даже и не помышляя о деньгах. Я не видел среди них нищих. Здесь не было... ни проституток, ни чистильщиков сапог, ни просящих милостыню.68
С самого начала гости ощущали чувство общности, характерное для отношений лидеров и обычных граждан. Эта общность являлась наиболее притягательным моментом кубинского социализма (отличавшим его даже от социализма советского). Подобно тому, как в 1930-е гг. Советский Союз рассматривался в качестве антипода хаосу и «бесконтрольности» западных обществ, в 1960-е гг. Куба стала восприниматься как нечто противоположное отчуждению, социальной изоляции, обезличиванию и другим болезням массового общества. Хьюи Ньютон (часто рассматриваемый как «главный теоретик» «Черных пантер» и поэтому предстающий как видный интеллектуал и политический деятель) видит главное отличие между американским и кубинским обществом в том, что в последнем «все представляют собой одну большую семью, в которой всем есть дело до всех... У них с ложи¬
344
Пол Холланлер
лись подлинно братские отношения».69 Подобным же образом члены бригады Venceremos убедились в том, что «люди могут любить друг друга. Это просто уму непостижимо».70
Такое развитие общественно-коммунальных отношений стало возможным благодаря ряду факторов. Здесь явно сказывались условия победы революции: небольшой, героический, романтический отряд партизан, среди которых было немало интеллектуалов, выступил вместе с крестьянами и освободил их от былой неволи. Немалое значение имели и размеры Кубы: этой относительно небольшой, компактной стране чувство общности было достаточно органично. Еще более важными могли оказаться латино-испанские аспекты и ностальгические стереотипы, порождавшиеся ими у североамериканцев и европейцев. Чувство общности, присущее Кубе, определялось не только политическим устройством и идеологией системы, оно имело и свои тайные источники в стереотипе радостной, жизнеутверждающей позиции, приписываемой обычно музыкальным, любящим петь и танцевать местным жителям, отличающимся своей естественной, политически обусловленной витальностью. Сюзан Зонтаг пишет: «Кубинцы знают, что такое непосредственность, веселье, чувственность и опьянение. Они нисколько не похожи на прямолинейные, высушенные порождения печатной культуры... Всплеск энергии вызван тем, что они сумели обрести новую точку ее сосредоточения: общность». Далее она пишет: «Приезжих, вероятно, чрезвычайно поражает здешняя энергетика. С момента революции прошло уже десять лет, но люди и поныне могут обходиться без сна: они могут трудиться или дискутировать несколько ночей напролет».71 Тод Гитлин, писатель и журналист, известный радикальными взглядами, приводит свой разговор с семнадцатилетним трактористом, который говорит, что порой ему приходится работать круглые сутки («И ты совсем не спишь?» «Нет, не сплю»).72
Как мы уже говорили, отсутствие или малая продолжительность сна произвела глубокое впечатление и на Сартра, наблюдавшего за жизнью молодых кубинских лидеров. В общем случае сторонних людей привлекает именно это сочетание необычайной энергичности и непривычного образа жизни, характерное для революционных ситуаций и периодов. Участники бригады Venceremos не переставали изумляться: «Может ли кубинец утомиться? Четыре, пять, шесть часов сна — все остальное время они убирают тростник или танцуют. Они поют, работая в поле, они танцуют со шваброй, когда подметают пол... Кубинцы похожи на людей с переразвитой щитовидкой, которые не выносят покоя, — они то музицируют, то танцуют, то болтаются без дела,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
345
пытаясь хоть чем-то себя занять».73 Подобное видение нового общества приводит к снятию репрессивных моментов и искусственных барьеров между людьми и к экстатическому растворению личности в коллективе. Нижеследующий рассказ являет собой замечательный контрапункт социальной изоляции и отчуждению, от которых страдали многие визитеры Кубы (и других новых обществ); он лишний раз подтверждает предположение, что привлекательность чувства общности (и связанных с ним самоотречения и потери индивидуальности) обусловлена стремлениями и импульсами, не имеющими к политике никакого отношения.
В конце выступления вся наша толпа — выступавшие, руководство лагеря, все компаньерос — обратилась в счастливое, танцующее, поющее, дурачащееся стадо [sic], преисполненное колоссальной коллективной энергии. Мы топотали и орали, мы носились по лагерю, мы выбивали дробь на барабанах, ящиках, ложках, бутылках и на всем, что только попадалось под руку.
... Здесь люди постоянно радуются жизни. Вперед выступила группа «Los Bravos»: басовый барабан, колокольчик, гитара и палочки, выраженный ритм. Все словно обезумели... Казалось, что помещение стало наполняться флюидами физической силы: мужчины танцевали с мужчинами, женщины с женщинами, руки на плечах партнера; по залу поползла, извиваясь огромная змея, состоявшая из юристов, переводчиков, водителей, рубщиков тростника, студентов, официантов, охваченных повальным безумием братания...
В обед вся потная толпа хлынула на лужайку и с гиканьем понеслась к подножию холма... Я стал понимать, что значит быть частицей потока; я понял, что в процессе революции вы разом все и ничто... Мы говорим о чем- то таком, что больше всех нас вместе взятых, что связано с трансформацией всего народа, высвобождением энергии, подобным тому, что было испытано нами, с началом сотворения нового человека... Выше голову, люди! Эгеге-е-ей!74
Исполненный примерно таких же чувств Уолдо Фрэнк (перенесший свое восхищение Советским Союзом на Кубу) замечает: «В этих молодых мужчинах и женщинах чувствуется животная энергия».75 Разумеется, это «повальное безумие братания» охватывало далеко не всех гостей Кубы, однако вид охваченных энтузиазмом масс не мог не впечатлять их. Даже такой спокойный и уравновешенный (впрочем, не лишенный известных симпатий к Кубе) английский писатель, как Дэвид Кот, замечает: «Но почему эта гигантская демонстрация солидарности кажется мне такой странной и непонятной? ...Это первая на моей памяти демонстрация, спонсором которой выступает само (будь оно проклято) правительство!» Далее он пишет: «Потом все стали расходиться по домам ... демонстранты стали рассаживаться по своим грузовикам и автобусам, они были такими счастливыми и гордыми, какими бывают на праздниках только дети. Куба оправдала и наши ожидания, ибо счастливы были и мы».76 Лерой Джонс также восторгается массовыми шествиями: «В каждом городе мы видели поющих людей. Чувствовали их немыслимую радость
346
Пол ХолланАер
и возбуждение. Это делало людей необычайно красивыми. Люди двигались, все они были донельзя тронуты происходящим. Я испытывал возбуждение и страх. Происходило нечто совершенно немыслимое».77
Но почему интеллектуалов так поражали все эти толпы, митинги, марши и собрания?* Реакция на кубинские манифестации была уникальной. Прежде подобные же чувства вызывали сначала советские, затем китайские массовые демонстрации. Реакция на массовые выступления в неведомом, идеализируемом обществе существенно отличается от аналогичных выступлений, происходящих дома. Интеллектуалы, находясь в собственной среде обитания, вели себя как индивидуалисты, дорожили своей независимостью, требовали больших «свобод», без которых они не могли чувствовать себя комфортно; они избегали участия в коллективных увеселениях и развлечениях и старались не смешиваться с толпой ни при каких обстоятельствах.
Благоприятная реакция интеллектуалов на массовые манифестации на Кубе (и в других подобных обществах) была обусловлена как контекстуальным пересмотром позиций, так и ложной интерпретацией происходящего. Как будет показано, объектами контекстуального пересмотра позиций могут быть товарный дефицит, тяжелый физический труд, физический дискомфорт и прочие недостатки, которые ни во что не ставятся и переносятся с достоинством в контексте возвышенных целей или перед лицом великих грядущих свершений.** Потная, неистовствующая толпа
* Я говорю не о всех, но о большинстве интеллектуалов. Случались и исключения. Например, Рональд Рэдош «не испытывал [во время одного из таких собраний, проходивших в окрестностях Гаваны] никакой радости, но видел лишь сотни скучающих людей, недовольных тем, что их заставили собраться здесь после работы. Это был еще один пример того, что революция требует массового участия, но никак не становится образчиком социалистической демократии».78
** Например: «...Гавана запущена, но это вас нисколько не печалит, скорее, ее обшарпанность придает ей особый шарм».79 Касательно отказа Кубы предпринять определенные шаги к искоренению последствий расизма: «Кубинский профсоюзный деятель с черным цветом кожи говорит, что предпочитать черных белым, не учитывая при этом различия квалификации и опыта, было бы несправедливо, он считает, что время и равные права на получение образования решат все подобные проблемы. В США такая позиция тут же была бы объявлена либеральной банальностью... он же считает ее единственно верной».80 То же самое, судя по всему, можно сказать и о самом Тоде Гитлине. Эндрю Солки говорит, что представление с кордебалетом в ночном клубе «Havana Tropicana» (по типу того, что даются в Лас-Вегасе) «не просто эрзац североамериканских варьете... Немыслимый напор, абсолютный вкус и очарование смогут обезоружить самого строгого критика».81 Кто знает... То же самое представление стало предметом идеологических споров (прекрасно иллюстрирующих процесс контекстуального пересмотра позиций) членов группы, к которой принадлежал Рональд Радош. «Были высказаны две позиции [речь идет о том же шоу]. Кому-то оно показалось унижающим достоинство женщины, кому-то — нет. „Унизительным? — изумилась одна из участниц нашей группы. — Разве женщина не может
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
347
на футбольном матче вряд ли тронет интеллектуала, точно такая же толпа на политической манифестации в стране, стремящейся к более возвышенным целям, будет восприниматься им как трогательная и достойная всяческого восхищения.
Помимо этого контекстуального пересмотра позиций, часто неправильно понимаются и обстоятельства сбора людей на политические манифестации в обществах с высокой степенью регламентации: видимая спонтанность принимается за спонтанность подлинную; энтузиазм по поводу того, что можно не работать целый день или несколько часов (в связи с проведением манифестации или парада), легко спутать с энтузиазмом, вызванным самим политическим событием; тщательно срежиссированная атмосфера праздника (вплоть до одобрительных возгласов и приветствий) может казаться спонтанным изъявлением чувств. Мало того, охваченные энтузиазмом толпы призваны символизировать подлинную народную демократию, единство лидеров и простых людей, они — лучшее доказательство состоятельности системы, куда более наглядное, чем заполнение выборных бюллетеней, куда более непосредственное, чем тайное лоббирование, закулисные схватки и борьба влияний, которые характерны для плюралистической политики, в рамках которой народ крайне редко собирается в толпы, дабы радостно внимать своим лидерам. Возможно, именно такие политические спектакли, демонстрирующие кубинские народные массы или отношение оных масс к Кастро, и убедили визитеров типа Ч. Райта Миллса в легитимации режима «его восторженной поддержкой подавляющим большинством населения Кубы»85 (другой интеллектуал Уолдо Фрэнк писал: «Сила такой революции в непосредственной смычке лидеров и народа»).86
Восторг, вызываемый массовыми манифестациями у интеллектуалов, следует признать удивительнейшим феноменом, даже если предположить, что виденные ими политические сборища были спонтанными и исполненными подлинного, а не напускного энтузиазма. Ведь существует множество исторических примеров того, что интеллектуалов нисколько не впечатляли некоторые политические режимы и их лидеры, пусть при этом народные
показывать свое тело и двигаться по сцене?“ Во время визита в «впечатляющую» (еще один постоянный эпитет) гаванскую психиатрическую лечебницу «сопровождавший нас администратор сообщил нам, что для лечения пациентов широко применяются транквилизаторы и шоковая терапия... Этот факт поразил лишь одного участника группы, все прочие не обратили на него никакого внимания».82 Карденаль называет подобное заведение «местом, где становится явной мягкость революции».83
Возможно, лучше других охарактеризовал контекстуальное изменение позиции Дэвид Деллинджер, назвавший его способностью «соотносить даже простейшие события с целями революции».84
348
Пол Холландвр
массы действительно впадали в массовое безумие,— примером этого могут служить нацистская Германия и фашистская Италия. В этих случаях интеллектуалы понимали, что массовый энтузиазм может быть эфемерным, изменчивым, иррациональным и, наконец, разыгранным. Если же интеллектуалы убеждались в том, что социально-политическая система, организующая эти спектакли, имеет здоровую основу и благие намерения, они воздерживались от критического рассмотрения поведения масс. Подобное воздержание от постановки неудобных вопросов, касающихся оценки поведения толпы и ее зависимости от отношения к соответствующей политической системе, может быть объяснено стремлением искать и находить ожидаемую общность. Именно поэтому восторженное, возбужденное поведение толпы часто путают с общностью. Об этом пишет и Лерой Джонс: «Это что, цирк? Эта дикая, безумная толпа. Социальные идеи? Неужели этот восторг может пронизывать всех? Проклятье, да, ведь эти люди все еще живы! Не мы, но этот народ. С нами подобное не произойдет уже никогда».87 «Мы», североамериканцы, интеллектуалы, мертвы, общинный экстаз и групповой энтузиазм не про нас. Они — свежие, новые, молодые люди, способные генерировать его. Формы поведения, исчезнувшие из американской жизни, пышно расцвели на Кубе. Лерой Джонс так же, как и Норман Мейлер, был озабочен проблемой витальности и полагал, что американское общество стало нездоровым, безжизненным, лишенным страсти и глубины.
Бывшие бунтари превратились в таких же заурядных людей, как я [пишет Лерой Джонс в своем очерке о поездке на Кубу], отпустивших бороды и отошедших от политики. Наркотики, подростковая преступность, полная изоляция от невнятицы общественной жизни — вот основные пути отхода. Но что-то может и не стать ложью. Что-то может не погрязнуть в либеральной благоглупости или в подлинной грязи имущественных прав... Но нет. Уже слишком поздно. Мы слишком стары. Даже энергия нашего искусства скорее походит на яркие цветочки, прорастающие через наш гниющий костяк.88
Ликующие, марширующие, неистовые толпы кубинцев, излучающие целеустремленность и солидарность, являли собой разительный контраст подобным чувствам. Ощущение контраста между тем, что было утрачено собственным обществом, и тем, что возродилось в кубинском (или советском, или китайском), присутствовало в сознании гостей едва ли не постоянно. Социолог Джозеф Кэл писал в своем эссе «The Moral of a Revolutionary Society»: «Молодые активисты убеждены в том, что они строят лучшее общество... Говорить с ними — одно удовольствие еще и потому, что они являют собой полный контраст разочарованным и циничным молодым американцам. Кубинская молодежь не
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
349
отчуждена от общества, не „откалывается“ от него и не испытывает горечи».89
Если в США работа была «пахотой» или, в лучшем случае, рутинным способом заработка средств к существованию, лишенным иных, более возвышенных целей, то в этом новом обществе весь народ, «стар и млад, гордо надев на себя рабочие робы, с песнями ехал на уборку... На этих лицах запечатлелась осмысленность совершаемой работы — страсть созидания».90 Нет ничего удивительного, что по возвращении в США паломники тут же начинали ощущать «бессмысленность здешней жизни» и «отсутствие духовной пищи».91 Сюзан Зонтаг считает эту культуру «неорганичной, мертвой, принудительной, авторитарной», полной «дегуманизированных индивидов» и «живых мертвецов», особенно в том случае, когда они работают на «IBM», «General Motors» или Пентагон и «United Fruit»; «культурой, продуцирующей бессердечных бюрократов смерти и процветания пустоты». В таком обществе вы просто обязаны «вырваться из грубых, бесчеловечных объятий корпоративных убийц жизни (семьи, школы, работы, армии)...»92
Тод Гитлин имеет в виду большинство заезжих интеллектуалов, восхищающихся Кубой, когда говорит: «Мы смотрим на Кубу не только потому, что она видится нам обладающей вполне определенными качествами, но потому, что Соединенные Штаты лишены их».93 Возможно, именно этим стремлением к некой общности объяснялась нечувствительность многих западных интеллектуалов к репрессивному аспекту тоталитарных обществ, будь то Советский Союз, Куба или Китай. Городские интеллектуалы, чувствовавшие себя социально отчужденными, в моменты ностальгии по простой жизни забывали или старались не думать об ограничениях, свойственных небольшим традиционным сообществам, и точно так же они не обращали внимания на побочные следствия «общности», присущей тоталитарным политическим системам. Они не осознавали того, что тоталитарные системы многократно усиливают все запретительные потенциалы, внутренне присущие небольшим сообществам, стремясь к большей открытости жизни своих граждан, а также к сокращению частного и расширению общественного ее сектора. Среди прочих радовался этим достижениям и американский писатель испанского происхождения Хосе Иглесиас: «Рабочие и campesinos (исп. „крестьяне“), члены Комитета защиты революции, сделали первый шаг к новой культуре... Они проявляют трезвую, здоровую заботу о жизни людей, считая, что открытость (когда тебе нечего скрывать от соседей) является условием естественности человеческой жизни. Мне подумалось, что однажды Майари превратится в райскую долину».94
350
Пол Холланлер
Совсем не случайно отдельные привлекательные стороны тоталитарных режимов напоминают аналогичные стороны традиционных сообществ, — дело в том, что между традиционными и тоталитарными сообществами существует непосредственная связь, о которой обычно забывают. Тоталитарные режимы зачастую строятся на останках традиционного общества, — таких, как уважительное отношение к власти, неуважение к частной жизни граждан, широкое распространение неформальных способов социального контроля (осуществляемого соседями), убежденность в том, что пределы свободы и автономии обычных людей должны быть строго ограничены, а также в том, что главные силы в этом мире — как религиозного, так и секулярно-политического характера — недоступны для этих обычных людей и непонятны им.
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА
Притягательность Кубы, обусловленная естественной привлекательностью социальной справедливости, мало чем отличается от аналогичного аспекта притягательности Советского Союза. Кубинский режим добился определенных успехов: с нищетой, особенно среди беднейшей части крестьянства, было покончено. Была развернута широкая программа действий по развитию здравоохранения: построены новые больницы и клиники, в сельских районах появились свои врачи, лекарства стали доступны для всех, при этом особая забота проявлялась о здоровье детей. Успехом увенчалась программа борьбы с неграмотностью; особняки, прежде принадлежавшие богатым семьям, были превращены в детские дома или в санатории.
Борьба с сельской отсталостью и нищетой была особенно привлекательным моментом социальной программы нового правительства, ибо они требовали принятия срочных неотложных мер. Серьезность проблемы нищеты в сельских районах Кубы не подлежала никакому сомнению,95 хотя уровень жизни в стране в целом до революции был не настолько низким, как обычно полагали западные туристы.96 Более того, особый упор на развитии села и забота о благосостоянии крестьян выгодно контрастировали с советской политикой в области сельского хозяйства, которая являлась одной из самых отталкивающих особенностей советской системы.* Таким образом, подобная забота о селянах
* В данном случае я говорю о насильственной коллективизации, проводившейся в начале 1930-х гг., о притеснениях крестьянства, происходивших на фоне развернувшейся индустриализации страны, а также об общей отсталости и заброшенности села.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
351
могла служить наглядной иллюстрацией того, что Куба не стала повторять ошибок советского режима. И, наконец, кубинская программа развития сельского хозяйства отвечала позициям интеллектуалов, многие из которых в 1960-е гг. выражали все большее недовольство жизнью людей в современном индустриальном обществе. Они ратовали за возврат к природе, к простой сельской жизни, к занятию крестьянским трудом. Кубинский же режим, по сути, был не чем иным, как модернизацией сельского хозяйства. Эта политика была менее централизованной и более гуманной, чем строительство гигантских промышленных предприятий по советскому образцу и принятое в Советском Союзе преимущественное развитие города, а не села.
Символом особого внимания кубинского режима к сельскому хозяйству являлась забота Кастро о развитии мясомолочного скотоводства и его обращение к любительской генетике, призванной улучшить породы местного скота. Он любил показывать важным гостям экспериментальные фермы и скотоводческие станции. Ни одно из достижений режима не демонстрировалось гостям так часто и регулярно, как эти образцовые фермы. (Кроме них, показывались также школы, больницы и новые жилые дома.)
Новые эгалитарные социальные отношения ярче всего проявлялись в кубинском отношении к физическому труду и в рассмотрении его в качестве универсальной практики. Эта политика, прилагавшаяся прежде всего к уборке тростника, имела очевидные экономические и идеологические цели. Участие в уборке тростника превозносилось многими сторонниками режима как высшее проявление социальной солидарности и равенства, а также как начало наступления на «первородный грех» разделения труда. Всенародное участие в уборке отражало как решимость правительства разделить наиболее обременительный труд между всеми членами общества, так и решимость народа участвовать в построении нового общества, внося свой вклад в развитие его экономики. Видимая добровольность происходящего поражала сторонних наблюдателей более всего. Анджела Дэвис пишет: «На поля вышло, пожалуй, все трудоспособное население Гаваны, которому происходящее представлялось чем-то вроде веселого карнавала».97 Берри Рекорд, писатель с Ямайки, спрашивает у своего кубинского друга, зачем он участвует в уборке тростника:
Потому что на него оказывается соответствующее моральное давление. Именно моральное. Если он аморален, он может не ходить туда. Он может остаться в своем офисе, получая свою обычную зарплату. На поля требуется выходить всего раз в неделю. Однако большинство людей работает там и каждое второе воскресенье, а также, помимо этого, целый месяц или даже два месяца в году.98
352
Пол Холланлер
Эндрю Солки, еще один писатель и поэт из Вест-Индии (эмигрант, живший сначала в Лондоне и затем переехавший в Соединенные Штаты) общался с подобными добровольцами в окрестностях Гаваны.
Я поговорил также и с молодой женщиной-психиатром, сидевшей в узкой канаве между двумя длинными грядами красноватой земли. Ее потное лицо было перепачкано грязью. «Работают все, — сказала она мне, — и студенты, и специалисты, и люди из правительства, и домохозяйки, и школьники, — словом, все. Эту работу все равно необходимо выполнить, вот мы ею и занимаемся. Проще некуда*.99, *
Итак, мобилизация всего населения на работы — вне зависимости от возраста, пола, воинского звания или социального статуса, опыта или квалификации — являлась важным свидетельством соблюдения принципа равенства. Подобно китайской культурной революции, целью которой была дестабилизация привилегированных социальных позиций и иерархий, «добровольный» труд на Кубе призван был если не снять, то, во всяком случае, уменьшить разрыв между умственным и физическим трудом, легкой и тяжелой работой, привилегированными и непривилегированными группами населения, между лидерами и массами. Время от времени в работе вместе с народом принимал участие и сам Фидель. («Никакого снисхождения. Это обстоятельство представляется самым замечательным. В работе принимает участие каждый, кем бы он ни был и чем бы он ни занимался. Каждый мужчина и каждая женщина — Фидель постоянно подчеркивает это — обладают точно таким же значением, как и он сам»).101
Приемлемым и даже похвальным казалось даже строгое повсеместное рационирование, которое представлялось гостям еще одной разумной мерой, обеспечивающей всех жителей Кубы
* Другая интерпретация добровольной работы была представлена Джоном Клайтусом, черным американцем, прожившим на Кубе три года и уехавшим оттуда отчасти в силу разочарования расовой политикой режима: «Поля, сады и заводы нуждались в воскресные дни в их [служащих] „добровольной помощи“. Мне и самому то и дело приходилось участвовать в таких работах. Никто не вынуждал меня к этому, но работников всех офисов то и дело спрашивали, примут ли они участие в этом „патриотическом“ мероприятии... Любой был вправе отказаться, но это было бы воспринято как враждебное отношение к революции. Его перестали бы продвигать по службе и, как только рядом появился бы специалист, способный выполнять ту же работу, уволили бы*. Еще более резкую характеристику подобных работ на кубинском заводе дает французский журналист: «Любой человек, отказывающийся от дополнительной работы или требующий за нее плату, будет обвинен в организации контрреволюционного заговора. Затем за дело примется С-2 [политическая полиция], которая начнет чинить ему всяческие препятствия, может запросто заявиться в его дом, начать расспросы соседей или заняться изучением его прошлого. Если непослушный работник будет упорствовать, профсоюзный лидер призовет рабочих „проголосовать“ за его увольнение*.100
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
353
неким прожиточным минимумом. Некоторые усматривали в этой практике и духовную пользу. Карденаль говорит своему кубинскому другу: «Эта система, которая нравится тебе как коммунисту, нравится и мне, поскольку она не противоречит евангельским заповедям. Я предпочитаю недостаток избытку, ибо я монах. И потому, я надеюсь, что слишком большого избытка не будет и у вас».102 Вначале товарный дефицит и карточная система обычно объяснялись американской блокадой103 (что имело определенные основания лишь в начале 60-х). Можно было подумать, что снятие ее позволит кубинскому правительству организовать импортные поставки достаточных объемов потребительских товаров. Затем Кастро дал понять, что этого в любом случае не произойдет. «В своей этапной речи, произнесенной в сентябре (1977), президент Кастро предупредил, что в случае возобновления торговли [с Западом] Куба не станет тратить свои скудные ресурсы на „барахло и безделушки“, имея в виду импортируемые потребительские товары ».104
Среди гостей, симпатизировавших режиму, дефицит не столько критиковался (впрочем, это отчасти зависело от времени визита), сколько получал позитивную интерпретацию, при которой карточная распределительная система рассматривалась как инструмент социально-экономического равенства. Оставалось каким-то образом примирить данную точку зрения с «недостатками системы снабжения, понуждавшими людей выстраиваться в очереди за продуктами и одеждой. В Гаване, где магазины открываются в шесть утра, домохозяйки вынуждены простаивать в очередях всю ночь».105 Джонатана Козола, американского специалиста в сфере образования, чрезвычайно впечатляло то, что «бесконечные очереди... карточки и другие формы ущемления гражданских прав ничуть не огорчают большинство местных жителей...».106 Иные туристы предсказывают скорое решение проблемы дефицита:
Каждый год на все большем количестве рабочих мест отказываются от табельных часов и других форм учета посещаемости; все большее количество предприятий полностью оплачивает больничные листы; в городах и на фермах, на заводах и в школах предоставляется бесплатное питание, одежда и жилье. Уже появились экспериментальные зоны, такие как Остров Юности, где деньги не играют практически никакой роли.107
Этого не произошло: «Бесплатные телефоны, водоснабжение и другие бесплатные социальные услуги — все это закончилось еще в прошлом году» (в 1976). В свою очередь, необходимость экономии электроэнергии стала столь насущной, что «так называемым „патрулям“ было предоставлено право входить в любой дом и в любое заведение и отключать по своему усмотрению
354
Пол Холланлер
лишние осветительные приборы». Трудовое законодательство 1970-х гг. не только не отменило старые, но и ввело новые формы учета труда, а эксперимент на Острове Юности пришлось отложить до лучших времен.108
В общем и целом процесс осознания (если таковое вообще происходило) материального и социального неравенства западными сторонниками режима был крайне медленным, хотя определенная информация стала накапливаться уже с начала 1970-х гг. Джон Клайтус, к примеру, уже в 1970 г. писал о специальных магазинах для привилегированных иностранцев. К. С. Кэрол характеризовал разницу в окладах как «чудовищную»: в 1970 г. инженеры получали в месяц в среднем около 1700 песо, а «средний рабочий» — всего лишь порядка 100 песо.109 Рене Дюмон пишет о том, что размер месячных окладов колеблется в пределах от 85 до 900 песо.
Для групп политической элиты, характерных для любой однопартийной социалистической системы, существовал и ряд привилегий иного рода.
Кастро, le grand seigneur, жил весьма и весьма комфортабельно; он понимал, что немалые запросы присущи и его помощникам, и потому время от времени одаривал их буквально по-царски. Он мог наградить своих верных слуг бесплатными «альфа-ромео», что можно рассматривать как современный вариант феодального пожалования землей... В июле 1969 г. в стране находилось около шестисот таких автомобилей. Список их владельцев совпадал со списком лиц, которые на деле и правили страной. Если ректор Гаванского университета продолжал приезжать на работу в советском джипе, то делал он это единственно для того, чтобы не раздражать студентов видом своего красавца «альфа-ромео»...
Впрочем, тут следовало бы вести речь не только об автомобилях. Помимо прочего, существовали прекрасные виллы руководства и роскошные пляжи Варадеро, где совершенно бесплатно отдыхали государственные чиновники и члены их семей.110
Со временем отход от принципов эгалитаризма только усилился. Все это очень походило на изменение политики сталинского режима в конце 1920-х-начале 1930-х гг., когда официально было восстановлено неравенство, рассматривавшееся как один из побудительных мотивов. Хорхе Домингес, американский специалист по Кубе, комментировал это следующим образом:
В начале 1970-х гг. эгалитаризму пришел конец. Премьер-министр Кастро заявил об этом на тринадцатом конгрессе рабочих, состоявшемся осенью 1973 г., поскольку заработная плата и доля заработной платы в общем продукте продолжали снижаться. Помимо прочего, появились другие признаки неравенства доходов населения. Новым материальным стимулом производства был объявлен преимущественный подход, которым дополнялась прежняя распределительная система. В 1973 г. лучшим работникам в соответствии с решениями трудовых конференций, а также по рекомендациям партии и профсоюзов было вручено около ста тысяч телевизоров. Подобным же образом распределялись холодильники и прочие электрические бытовые приборы. Инженерам, врачам и профсоюзным лидерам было предоставлено
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
355
преимущественное право на приобретение машины... Система рационирования, некогда являвшаяся инструментом равенства, превратилась в средство обогащения элиты...111
Если в 1970-е гг. некоторые наблюдатели стали критически относиться к системе распределения материальных благ, то оспаривать успехи режима в деле народного образования им было куда сложнее.
Джонатан Козол пишет:
В Библии есть такие слова: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения». В кубинских школах нет места невежеству, — дух их жив и цели ясны. Здесь возникает ощущение, что человек трудится ради достижения определенной цели, и цель эта куда более возвышенна и важна, нежели эгоистическое удовольствие получения индивидуального вознаграждения. Цель эта состоит в том, чтобы стать активным участником общей кампании и возыметь стремления этические.112
Первые кампании по борьбе с неграмотностью производили особенно сильное впечатление. «В интервью телевидению Сартр сказал, что более всего его поразила в кубинской революции идея, в соответствии с которой каждый грамотный кубинец должен обучить пятерых неграмотных чтению и письму, а также отсутствие любого рода предзаданной идеологии, предохраняющее кубинский опыт от догм и тем отличающее его от традиционных коммунистических революций».113 Хосе Иглесиаса также немало тронула политика режима в области образования. Вот что он говорит о вечерней школе для взрослых: «В классе царила поразительная атмосфера, заставлявшая вспомнить картинку вековой давности, на которой был изображен Эйб Линкольн, зачитывающий законы при свете костра». А вот что он пишет об исправительной школе для малолетних преступников: «Я просто не ожидал от шестиклассников такого поведения и такой активности... После занятий ребята сгрудились вкруг меня... трудно было поверить, что с ними возможны какие-то проблемы...» Образование было частью заботы о юных: «Революция совершалась для молодежи... Характер ее идеологии и ее экономические достижения ... зависели от участия в ней молодежи».114 Зарубежных визитеров впечатляла и социально-политическая роль молодежи, ее активное участие в управлении страной и в принятии важных решений. Молодость кубинской революции, ее лидеров и ее наиболее рьяных сторонников была, на деле, одним из наиболее привлекательных ее аспектов. Она символизировала собой обновление социализма, революционного мифа и идей марксизма.115
Масштабы образовательных программ обращали на себя куда большее внимание, чем содержание образования или то, что было названо одним английским писателем «применением гра¬
356
Пол Холланлер
мотности».116 Принципы эпохи Просвещения сохранили свою значимость: образование как таковое считалось несомненным благом, которое нельзя было использовать во вред, ибо оно расширяло, а не сужало пределы человеческого миропонимания.
В общем и целом, даже в тех случаях, когда возникали определенные сомнения в тех или иных аспектах этой системы, — например, когда гости замечали некое ограничение гражданских свобод или свободы выражения — достижения режима все равно перевешивали его недостатки.
Я не могу не думать о том, как сложилась бы жизнь этой индейской женщины [автор этого фрагмента Джо Николсон, американский журналист, видит перед собой нищую, просящую милостыню на одной из улиц Мехико] или всей этой латиноамериканской бедноты в коммунистической Кубе. Ей не были бы гарантированы все гражданские свободы джефферсоновской демократии, однако она смогла бы получить вполне приличную работу. Ее дети поступили бы в бесплатные детские сады или школы. Им не пришлось бы рядиться в тряпье и думать о том, что они будут есть завтра...
Бедным, живущим в Латинской Америке, Куба может дать даже больше, чем Соединенные Штаты с их нищими стариками и переселенцами, бедняками Аппалачей и черной беднотой внутренних штатов.
Достоинство и притягательность Кубы связаны с теми правами, которые обрели в результате революции кубинцы: правом на достойную работу... на зарплату, обеспечивающую основные жизненные нужды, на равную — и вполне достаточную, пусть и не роскошную — долю продуктов питания и одежды, на недорогое жилье... на бесплатную медицинскую помощь и образование...117
В данном случае социальная справедливость или позитивная свобода опять-таки перевешивают блага, связанные с правом на самовыражение или с призрачными негативными свободами. Во время революции и после нее многие зарубежные гости надеялись на то, что Кубе удастся избегнуть рокового выбора между «хлебом и свободой», то есть того пути, по которому пошли Советский Союз и ряд подконтрольных ему социалистических стран Восточной Европы.
Берри Рекорд, размышляя о косности человеческой природы и медленном становлении «нового кубинского человека», тем не менее пишет:
Нечестный индивид работает и живет в обществе, которое поровну делит продукты между гражданами, не ущемляет прав черных, отдает приоритет больницам и школам, а не «кадиллакам» и особнякам, и борется с безработицей. Подобное общество морально вне зависимости от того, морален ли индивид. Люди здесь более порядочны в коллективном смысле.118,
А вот другой, еще более позитивный отзыв:
...Куба Кастро процветает, народ ее полон энтузиазма и довольства, он смотрит в будущее с оптимизмом. Возможно, главное впечатление, вынесенное ** В то же время Рекорд цитирует слова кубинца, отмечающего, что «чем мы ближе к равенству, тем больше внимания люди уделяют привилегиям. ... Их не может не быть, и потому, чем ближе к равенству, тем больше жалоб».110
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
357
из трех поездок на Кубу, связано именно с этими энтузиазмом и единством кубинского народа. Они гордятся своими достижениями и поют песни о себе и о своей стране, в которых слышится эта гордость... Люди работают сообща и работают усердно, ибо видят в такой работе залог процветания других людей и всей страны в целом.120
Каким бы ни был на деле реальный уровень этой пресловутой народной гордости, режим постоянно понуждает граждан сравнивать нынешние достижения с былыми недостатками и предлагает гостям в полной мере оценить их различие.121
Здесь не учитывается то, что успехи кубинской системы при Кастро в решении проблемы бедности и в улучшении здоровья граждан могут оказаться весьма спорными. Однопартийные системы, подобные кубинской, инспирированные и легитимированные той или иной версией или вариантом марксизма-ленинизма, смогли устранить определенные формы отсталости и ущемления гражданских прав (такие как неграмотность, высокий уровень детской смертности, голод и тому подобное). В то же самое время, многие из этих претензий не могут быть перепроверены и порой оказываются фальсификациями, обнаруживаемыми через годы или даже десятилетия (как это было, скажем, с советскими уверениями, что условия жизни в стране в начале 1930-х гг. существенно улучшились, в то время как в стране царил голод; или с китайскими утверждениями о позитивном характере Культурной революции).
Существуют и проблемы цены, которую необходимо заплатить за все эти завоевания в сферах перераспределения национального богатства, образования или повышения благосостояния народа, и мер, предпринимаемых к тем группам населения, которые противодействуют этим программам или политике режима. Кубинское правительство, в отличие от советского режима начального периода, практически никогда не включало в программу визитов посещение образцовых тюрем.* Некоторым гостям показывались бывшие тюрьмы, превращенные в менее грозные учреждения, скажем, в исправительные колонии для малолетних преступников или проституток. Сотрудникам сенатора Эдварда Кеннеди были показаны «зоны пониженной безопасности», условия содержания в которых показались им «вполне адекватными».123 Часть гостей впоследствии узнавала о суще- ** Я не уверен в том, что подобных отчетов вообще не существует. Тем не менее, в исследованной мною литературе их не было. Говорилось лишь о «переходе в новые тюрьмы, осуществлявшемся из косметических соображений: иностранным гостям необходимо было показать, что тюрьмы режима Батисты закрыты, при этом заключенных, естественно, должны были перевести в какое-то новое место. На публике заключенные всегда появлялись в гражданской одежде и без наручников, что, судя по всему, должно было свидетельствовать о хорошем с ними обращении».122
358
Пол Холландер
ствовании системы принудительного труда, которая используется в отношении «паразитов» и политически неблагонадежных элементов.124 Армейские и реальные пенитенциарные институты, особенно те, в которых содержались политзаключенные, не показывались ни интеллектуалам, ни прочим зарубежным визитерам. Это отсутствие «гуманных тюрем» в программе визитов не так-то легко объяснить. Разумеется, режиму ничего не стоило организовать по крайней мере несколько таких показательных учреждений. Возможно, причиной данного явления было нежелание знакомить гостей с недостаточно послушным тюремным населением, особенно с политзаключенными, которые, судя по некоторым сообщениям, отказывались от политического переучивания. Возможно также, что состояние тюрем было слишком ужасным, а режим просто не хотел заниматься их улучшением. Куба никогда не позволяла проводить инспекцию своих тюрем представителям Красного Креста, «Международной Амнистии» или ООН; в 1977 г. Кастро в очередной раз заявил, что это чисто внутренняя проблема.125 Можно допустить также, что политические и уголовные преступления представлялись настолько тонкой — в силу подчеркнутого идеализма и моральных претензий режима — материей, что любое открытое напоминание о его неспособности ликвидировать или склонить на свою сторону политических противников или перевоспитать уголовников было попросту воспрещено. Разумеется, подобным спекуляциям немало способствовали те скудные сведения о кубинских тюрьмах и политзаключенных, которые все-таки становились достоянием гласности. Хотя сведений о них имелось куда меньше, чем о советских исправительных учреждениях, можно было уверенно сказать, что с теми, кого считали политическими противниками режима, на Кубе обращались примерно так же, как и в Советском Союзе. Во-первых, на Кубе также существовала тайная или политическая полиция или, иначе, служба безопасности 0-2. Подобно КГБ, советским органам государственной безопасности, их кубинский собрат (или отпрыск?) 0-2 также являлся необычайно эффективной составляющей системы. Хорхе Эдвардс пишет:
Обслуживание было совершенно безобразным, завтрак часто задерживался на час, вместо чая подавали кофе, одну чашку на двоих или три чашки на одного, молочный кувшин обычно был пуст, хлеб черств, а яйца холодны как камень, однако во всем том, что касалось машины [то есть тайной полиции], все обстояло как нельзя лучше, — она работала так точно и четко, словно летаргии тропиков и отлынивания не существовало вовсе.126
Подобно Советам при Сталине и Китаю при Мао «обвиняемый должен был признать свою вину; он подвергался допросам до той поры, пока не выступал с приемлемой [для судей] критикой своих деяний и не каялся во всех своих преступлениях
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
359
против революции».127 С начала 1960-х гг. появлялось немало сообщений о дурном физическом и психологическом обращении с заключенными кубинских тюрем, однако все они, включая свидетельства очевидцев и воспоминания, не получали широкой известности ни в США, ни в Западной Европе. Говорилось о переполненных камерах, исключительно антисанитарных условиях содержания, голодной диете, физическом насилии со стороны охранников и следователей, лишении сна, специальных камерах для наказания, отсутствии медицинской помощи и дополнительных наказаниях для тех, кто отказывался от участия в идеологическом переучивании.128 Хубер Матос, один из бывших лидеров революции, посаженный Кастро на 20 лет, вспоминает, что с ним обращались «либо жестоко, либо бесчеловечно»; несколько лет он провел в одиночных подземных камерах или бетонных боксах (один «в два с половиной метра шириной и в три фута длиной», другой в три фута шириной), его часто избивали, в течение целого года не давали одежды, оставив его в одном нижнем белье».129 Такое отношение к политическим заключенным вряд ли можно считать проявлением революционного насилия или излишне острой реакцией на саботаж, осуществляемый антикастровскими изгоями, хотя этот фактор также нельзя не учитывать. В 1970-е гг. политические репрессии было уже невозможно оправдать или объяснить упреждающими действиями режима, защищающего себя таким образом от внутренних и внешних врагов. К 1976 г. «в тюрьмах оставалось сравнительно немного представителей режима Батисты... Здесь были, в основном, бывшие соратники Фиделя по Движению 26 июля и молодые крестьяне, которые были совсем еще детьми во время осуществленного Кастро переворота».130 Согласно Хорхе Домингесу, «процент политзаключенных на Кубе куда выше, чем в любой латиноамериканской стране с авторитарным режимом».131
Отношения кубинских властей с крестьянством постепенно ухудшались, хотя вначале их политика по отношению к крестьянству была куда более благожелательной.
Хотя вначале революция пользовалась поддержкой у сельского населения, в начале 1960-х гг., когда правительство отказалось от своего обещания «отдать землю тем, кто ее обрабатывает», режим начал испытывать трудности в реализации своей политики коллективизации. В 1967 г. Ли Локвуд, очень позитивно отозвавшийся о революции, отметил, что «большинство интернированных лиц составляют не жители городских задворков, но campesinos (крестьяне)... По большей части срок их ссылки составляет от 2 до 20 лет...». С той поры революционное правительство только усилило контроль, запретив крестьянам забивать собственных животных и потребовав, чтобы они продавали свой урожай зерна государству.
Попытки режима ужесточить производственную дисциплину стали еще одним поводом для репрессий.
360
Пол Холланлвр
Многие «политические дела» на Кубе связаны с нарушениями трудового законодательства. После 1970 г. режим издал ряд указов, запрещающих «прогулы» и «тунеядство». Правительство также ввело в обращение так называемую «трудовую биографию» — нечто вроде трудовой книжки, в которой, помимо прочего, фиксировалось поведение работника, его позиции и трудовые показатели.132
Необычайно активное преследование гомосексуалистов было еще одним проявлением репрессий и характерной чертой кубинского режима. Вот что пишет один из зарубежных гостей, симпатизирующих новому режиму:
Революция привела к появлению нового класса отверженных — гомосексуалистов. ...Они официально классифицируются как «антисоциальные» элементы, их запрещено принимать в массовые политические организации, к ним относятся как к гражданам второго сорта или — дабы не задевать черных жителей Америки — как к лицам, объявленным вне закона. На Кубе жизнь любого человека зависит от его поддержки революции или, по крайней мере, от его согласия с ее идеями; таковая позиция является необходимым условием получения хорошей работы, поступления в университет и даже покупки дефицитных потребительских товаров: холодильника, радиоприемника, наручных часов. Для гомосексуалистов многие подобные вещи невозможны, все остальные — крайне затруднительны.133
Кастро заявлял, что «гомосексуалисты не должны занимать постов, которые позволили бы им оказывать определенное влияние на молодежь». Другие высшие кубинские функционеры описывали гомосексуалистов как «слабохарактерных» людей, совершающих «аморальные поступки». Гомосексуалистов исключали из списков жильцов новостроек,134 они были широко представлены в исправительных трудовых бригадах (ГГМАР или Военизированные бригады содействия производству).135 Очевидно, преследование гомосексуалистов объяснялось не только культурными традициями или мужским шовинизмом — при всей его видимой благовидности, — но и свойственным новому режиму тоталитаристским пуританизмом и его стремлением к традиционализму во всех сферах жизни. Очевидно, до революции подобные массовые и систематические репрессивные меры против них были немыслимы.136
Другой новой техникой проведения репрессий и слежения за простыми людьми стали Комитеты защиты революции, которые порой принимали вид благотворительных организаций, организующих развозку лекарств старым одиноким людям или уход за парковыми клумбами, но обычно занимались поручаемыми им полицией более темными делишками типа слежки за частной жизнью сограждан. К. С. Кэрол считает, что эти комитеты «имели чисто репрессивную функцию» и являлись не более, чем «придатками полиции».137 Согласно Хосе Иглесиасу,
комитеты должны были хранить постоянную бдительность, их членам надлежало следить за людьми, живущими рядом с ними, особенно за теми, которые, по их сведениям, не испытывали особых симпатий к революции.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
361
Вся информация поступала на муниципальный уровень и затем попадала в тайную полицию. Если полиция узнавала о том, что проблемный гражданин пришел домой в неурочное время да еще и со странным свертком, она тут же приступала к расследованию данного инцидента.138
Хотя комитеты занимались подобной деятельностью, главным образом, в период возможного вторжения извне или контрреволюционного саботажа, некоторые сообщения свидетельствуют о том, что они продолжали вмешиваться в частную жизнь граждан, которых они хотели видеть законопослушными, и после этого. Один из критиков режима сообщает Берри Рекорду: «Они знают, кто ходит ко мне и к кому хожу я... При господине Кастро главной обязанностью моего соседа становится слежка за мною... Здесь, на Кубе, любой болван может постучать в твою дверь и сказать, с кем ты можешь спокойно видеться, а кто представляет собой опасность».139
Итоговое сравнение состояния гражданских прав и свободы самовыражения в современной Кубе и в период правления Батисты было произведено Хью Томасом, занимающимся историей Кубы:
Основное различие между Батистой и Кастро состоит не в том, что первый был безжалостен, а второй справедлив; нет, все обстоит совершенно иначе. С позиций сегодняшнего дня тирания Батисты представляется мягкотелой и расхлябанной,* — разумеется, она не могла не оскорблять чувств приличных граждан, но ей было далеко до железной хватки Кастро.141
Тем не менее, большинство гостей либо не знало о фактах репрессий, либо видело в последних временную меру или временное зло, полностью оправданное некими преимуществами нового режима.
ПОЛОЖЕНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
Как и в случае с Советским Союзом, положение интеллектуалов на Кубе было одной из самых притягательных особенностей нового режима в глазах приезжавших туда интеллектуалов, — во всяком случае, до конца 1960-х — начала 1970-х гг., когда многие сторонники режима Кастро стали испытывать разочаро¬
* В этом смысле символичным является то наказание, которое Кастро понес за организацию вооруженного восстания против Батисты. Менее чем через два года он был освобожден по амнистии, при этом в тюрьме ему была предоставлена возможность читать и писать в комфортных условиях. Сам же Кастро с необычайной жестокостью расправлялся даже со своими бывшими союзниками (такими как Хубер Матос), имевшими с ним политические расхождения.140 Подобные же отличия можно обнаружить при рассмотрении отношения к политическим заключенным в царской и в советской России.
362
Пол Xолландер
вание в нем, как об этом уже было сказано ранее. (История с поэтом Падильей и гонения на гомосексуалистов сыграли роль катализаторов этого процесса).
Вера в то, что кубинский режим равносилен власти интеллектуалов, основывалась отчасти на восприятии лидеров революции как собратьев-интеллектуалов или бывших интеллектуалов, имеющих высокую степень родства с интеллектуалами западными. Кастро не просто получил юридическое образование, помимо прочего, он представляется ненасытным читателем, дилетантом- генетиком, специалистом в области сельского хозяйства, военным гением, ярким государственным деятелем, человеком с весьма разносторонними интересами (этим он похож на Сталина, который, впрочем, был куда менее скромным) и, говоря словами его почитателей, «не лидером, но учителем... и наставником. Его речи столь длинны именно потому, что они являются уроками, которые он дает народу Кубы».142 Уолдо Фрэнк пишет, что он хотел устроить «писательскую общину» на острове Пинес, и проект этот «представлялся ему столь же важным, как и решение проблемы сахарной монокультуры».143 (Очевидно, ни одна из этих проблем так и не была решена к моменту написания этой книги: писательской общины на острове Пинес как не было, так и нет, а сахарный тростник продолжает оставаться основой кубинской экономики.) Че Гевара предстает в его описании тоже как интеллектуал, хотя и более необычный: практикующий врач, професссиональный революционер, читающий Гёте в перерывах между боями,144 он стал видным теоретиком революционной борьбы.
Функционеры меньшего масштаба, такие как исполнительный директор Национального института аграрных реформ доктор Нуньес, являли собой похожий образ, в котором сочетались развитый интеллект и революционность: «Он был просто прекрасен. Черноволосый и чернобородый высокий человек, имеющий вид ученого, он мог говорить едва ли не на любую тему, подчеркивая сказанное медленными движениями рук наподобие тех, что характерны для английских университетских профессоров. Он носил армейскую форму с черно-красной капитанской нашивкой на погонах. За один из эполетов был аккуратно заложен его черный берет. При нем всегда был его пистолет 45 калибра с мощной квадратной рукояткой». У Лероя Джонса сложилось «дикое впечатление, что [страна] управляется группой молодых радикально настроенных интеллектуалов».145 Женщина, занимавшаяся в правительстве средним образованием для взрослых, была, согласно Джонатану Козолу, «одной из самых взрывных, беспокойных, необычайных человеческих динамо-машин,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
363
которые только можно встретить в любом правительстве и в любом народе...». Министр образования, «подняв за меня свой бокал, выпила его содержимое одним залпом. Атмосфера в этом кабинете была легкой и непринужденной. Я подумал, что ни в одной стране мира нет таких министров, как Феррер».146 Эти люди вызывали у приезжих доверительные чувства, ибо представлялись им такими же, как они сами, интеллектуалами, говорившими на том же языке и обеспокоенными теми же проблемами.
Что касается позиции интеллектуалов в кубинском обществе, то они, казалось, обладали всем тем, к чему стремились социально отчужденные западные интеллектуалы. Во-первых, их статус был официально признан. К ним относились достаточно серьезно и в случае их лояльности режиму предоставляли возможность участвовать в управлении новым обществом. Им предоставлялись такие возможности, о которых приезжие в своем обществе не могли и мечтать. По большей части, говоря словами Сюзан Зонтаг, это были «педагогические функции» и «определяющая роль в деле подъема общего уровня сознания».147 Ликование части визитеров при виде кубинских интеллектуалов, занимающих те или иные властные позиции, свидетельствовало об облегчении, которое они испытывали в связи с тем, что интеллектуалы могли, наконец, оставить свои традиционные роли социальных критиков и посторонних и принять участие в строительстве новой социальной системы. Наконец-то исчезала болезненная дихотомия мысли и действия; кубинские интеллектуалы были людьми действия, часть из которых участвовала даже в партизанском движении, они становились революционными руководителями университетов, революционными сотрудниками министерств образования, культуры или пропаганды, революционными писателями, режиссерами, учеными. Большинство из них периодически участвовали в физической работе вместе со всем остальным населением. Самым важным представлялся факт их полной интеграции в общество, лишавшей их прежней маргинальности.
В этих условиях можно было с чистой совестью принять материальные блага и привилегии, которыми их одаривал режим; в западных же обществах материальные привилегии и высокий статус становились для обладавших ими социально отчужденных интеллектуалов источниками внутренних конфликтов, терзаний и презрения к себе. Стремясь к роли строгих социальных критиков собственного общества и исполнившись готовности пострадать за свои убеждения, они, как правило, попросту игнорировались властью предержащей или, что еще ужасней, становились влиятельными фигурами и обретали высокий социальный статус, вопреки безжалостному бичеванию ими социальной системы, кото¬
364
Пол Холланлвр
рая едва ли не бездумно продолжала вскармливать своих кусачих чад. Столь мягкое обхождение вызывало у многих социальных критиков Запада ощущение собственной несостоятельности: тот факт, что они не смогли отказаться от материальных благ и социального статуса (не говоря уже о политической свободе), являлся доказательством того, что они не представляли опасности для системы. Тут же возникало подозрение: уж не запродались ли они ненароком? По контрасту на Кубе (а также в Советском Союзе или, скажем, в Китае) можно было радоваться жизненным благам, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести, ибо системы эти были рациональными, человеколюбивыми и эгалитарными. Каждому по способностям и по вкладу в совокупное общественное благо — так определялся социализм для ряда поколений. Режим считал вклад интеллектуалов весьма значимым и потому относился к ним соответствующим образом. Клуб кубинских писателей и деятелей искусства (1ЩЕАС) являлся одним из символов такого общественного признания:
Клуб находится в некогда модном Ведадо, в большом красивом доме: просторный зал для приемов, гостиная с баром, эспланада-веранда с деревянной садовой мебелью в колониальном стиле, комнаты для заседаний, выставочный и офисный блок; в зданиях, находящихся поблизости, весьма впечатляющая клубная библиотека, книжный магазин, студии и мастерские. Мы видели на выставке множество авторских книг, сделанные со вкусом литографии и линогравюры, открытки и книжные иллюстрации. Прекрасная атмосфера для поддержки молодых неустоявшихся писателей и художников. Сюда могут приходить не только они (соответственно, нет здесь и затхлости ПЕН-клуба)...148
Молодой кубинский поэт (всецело преданный режиму) сказал Карденалю: «Некоторые писатели вовсю пользуются благами, предоставляемыми им революцией: Гильен всю жизнь был коммунистом, а теперь возле его двери стоит автомобиль с личным шофером, он же то и дело летает в Париж... Или Ретамар, который тоже постоянно путешествует по миру, у него совершенно замечательный дом и стол».149
Многие приезжие иностранцы чувствовали, что куда более важным, чем материальные привилегии, являлась возникшая у интеллектуалов уникальная историческая возможность внутренней консолидации, а также консолидации с народом и обществом. Интеллектуалы теперь не были расколоты. Политика и искусство могли гармонично уживаться друг с другом:
Я задал ей вопрос о возможном противоречии ее политической деятельности и артистической карьеры. Разве их нужды не различны? Разве их энергии не противоположны и едва ли совместимы?
«У меня есть выбор,— отвечала она.— Мы вольны решать, чем мы будем заниматься. Я хочу быть одновременно и художником, и партийным активистом. Мне это нравится. Мне это подходит. Я смогу использовать свой творческий дар и там, и там».
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
365
Кинорежиссерам также было предоставлено «все потребное для исследований, сравнительного изучения и развития». Эндрю Солки (подобно многим до и после него) также пришел к выводу о наличии на Кубе подлинной свободы творческого самовыражения, чему способствовало и академическое издание «Pensamiento Critico» («Критической мысли», запрещенной в начале 1970-х гг.). Один из редакторов издания сказал ему: «Наша редакторская свобода определяется пределами, заданными революцией, мы, в известном смысле, являемся ее душой».1™
«Работать на революцию» — этому заезжий западный интеллектуал мог только позавидовать, поскольку при этом интеллектуал не «продавал себя» будущей власти и не выступал в роли пассивного наблюдателя. «Работа на революцию» по определению не могла быть своекорыстной, и в то же время она делала осмысленной человеческую жизнь.
Но понимали ли западные интеллектуалы, что за все подобные блага придется платить? Сюзан Зонтаг пишет следующее:
Американцы, посещающие Кубу, вероятно, из кожи вон лезут, чтобы узнать о судьбе оппозиционных сил... Это и понятно, поскольку посещают ее в основном «интеллектуалы», которые или пописывают на досуге, или являются профессиональными писателями, журналистами, преподавателями или студентами — все это хорошо образованные люди и редкостные специалисты. По этой причине приезжающий на Кубу американский радикал больше интересуется судьбой своих собратьев, студентов, писателей, учителей или художников, чем судьбой скотников или рыбаков, и, вероятнее всего, не сомневается в том, что и здесь интеллектуалы играют свою традиционную роль критиков системы... Американские радикалы не видят для них иной роли, помимо оппозиционной ... [Однако] в революционном обществе интеллектуалы должны выполнять педагогическую функцию... Тем не менее, судьба тех, кто отказывается выполнять ее, вызывает немалую тревогу, достаточно вспомнить массированную атаку на молодых аполитичных авторов или судьбу Херберто Падильи. Впрочем, можно и не обращать на них внимания.
Зонтаг была уверена в том, что все кубинские авторы «находились на свободе и могли беспрепятственно издавать свои произведения».151 Уже после того, как она написала об этом, выяснилось следующее.
Армандо Вальядерас, поэт и художник, последние девятнадцать лет провел в заключении...
Эрнесто Диас Родригес тайно передал из тюрьмы сборник своих поэм, изданных в США в 1977 г.
Молодой поэт Мигель Салес был посажен в 1974 г. на 25 лет за то, что он готовился сбежать с Кубы вместе со своей женой и несовершеннолетней дочерью...
Другой поэт Анхель Куадра ... отбыл за решеткой две трети своего пятнадцатилетнего срока...
Другой условно освобожденный заключенный Томас Фернандес Травьесто был посажен после того, как в 1976 г. его пьеса была поставлена в Майами...
Амаро Гомес, сотрудник Кубинского института кинематографических искусств и кинопроизводства, был уволен с работы за «идеологические уклонения», после чего мог получить только работу каменщика или официанта.
366
Пол Холландер
После того как в его доме во время обыска были обнаружены как его собственные произведения, так и копия книги «Архипелаг Гулаг», он был арестован и приговорен к восьмилетнему сроку заключения. Точно так же Рене Ариза, лауреат премии Союза писателей Кубы 1967 г., получил восемь лет за клеветнические измышления о революции, содержащиеся в его стихах, пьесе и романе, обнаруженных во время обыска...
Рауль Артега Мартинес, основатель Ассоциации свободных поэтов и прозаиков Кубы, подпольной организации, занимавшейся распространением самиздата, ... уже должен был выйти из тюрьмы, отбыв там пятнадцатилетний срок заключения, но тут в его камере был обнаружен сборник отступнической поэзии, и в феврале 1979 г. он получил новый срок...
Роберто Пансьяно сбежал с острова на самодельном плоту, прихватив с собой рукописи своих произведений. Он был взят уже в открытом море и получил в общей сложности семь лет: три года за попытку побега и четыре года за свои литературные труды...
Отчаявшись получить официальное разрешение на выезд из страны, молодые черные авторы Эстебан Луис Кардена Хунквера и Ренальдо Колас Пинеда 21 марта 1978 г. вынуждены были просить о предоставлении им политического убежища в посольстве Аргентины в Гаване...
Кубинские законы предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет за «создание, распространение и хранение» письменной или устной «пропаганды», направленной «против социалистического строя*...
...Преданных делу революции художников хоть пруд пруди. А вот диссидентов на острове нет.152
Многие западные интеллектуалы, не знакомые с этими фактами или предпочитающие не обращать на них внимания и, соответственно, довольные положением кубинских интеллектуалов, похоже, занимают позицию, в соответствии с которой, несмотря на известные ограничения интеллектуальной свободы (понимание которой меняется в зависимости от степени эмоциональной поддержки режима), «независимый интеллектуал, критикующий все существующие общества и все позиции — это роскошь, которую он [кубинский режим] не может себе позволить».153
Показательна двойственность такого рода позиции, при которой интеллектуалы воспринимают свою наиболее характерную и значимую активность как «роскошь», без которой может обойтись общество, идущее к определенной цели.
ВЬЕТНАМ, АЛБАНИЯ, МОЗАМБИК
Из всех стран третьего мира наибольшего внимания и восторгов западных интеллектуалов в конце 1960-х гг. удостоился Северный Вьетнам. Поездки в Северный Вьетнам следовали по очевидным историческим причинам за поездками на Кубу. Как вы помните, Куба привлекла к себе внимание благодаря революции 1958 г. В Северном Вьетнаме революция произошла еще в 1940-е гг. и с той поры там существовала «революционная система». Западные интеллектуалы стали обращать на нее внимание только после того, как вьетнамский Давид противостоял Голиафу Соединенных Штатов в середине 1960-х гг. Как пишет Сюзан
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
367
Зонтаг, «все последние годы образ Вьетнама существует в моем сознании, как квинтэссенция страданий и героизма „слабого“. Но мучает меня не он, а „сильная“ Америка — американская сила, американская жестокость, американское самодовольство».154 Эта ремарка вновь наглядно продемонстрировала наличие связи между отрицанием собственного общества и непреодолимым ростом симпатий к тем, кто находится с ним в конфликте. Весьма сомнительно, чтобы паломничество во Вьетнам началось в отсутствие этой конфронтации; это подтверждается и тем, что после окончания войны в 1975 г. количество западных делегаций, посещающих эту страну, резко упало.
Своей привлекательностью Вьетнам даже в большей степени, чем Советский Союз, Куба и Китай, был обязан тому отвращению, которое Соединенные Штаты вызывали как у американцев, так и у европейцев. В отличие от этих идеализируемых стран, он был настоящей жертвой Соединенных Штатов и их грубой военной силы.
Причин для симпатий было немало. Мэри Маккарти писала: «Борьба с агрессором, очевидно, является более отчетливой и насущной целью, нежели построение социализма, которое порой не вызывает особого энтузиазма; здесь же построение социализма это не цель, которая словно мираж отступает все дальше и дальше, но средство; все здесь понимают, ради чего они идут на жертвы».155 Преподобный Уильям Слоун Коффин, движимый подобными же чувствами, отправляясь в свою поездку по Вьетнаму, говорил, что его сострадание «росло от бомбежки к бомбежке».156 Чем более несправедливой и абсурдной казалась американская интервенция, тем теплее было отношение к Северному Вьетнаму (и к его южным союзникам-вьетконговцам). В то же время, чем очевиднее становилось то, что Соединенные Штаты не смогут подчинить себе Северный Вьетнам, тем чаще симпатизировавшие ему интеллектуалы говорили о «моральном» превосходстве системы, вышедшей из этой войны победителем.
Следует помнить о том, что большинство визитов в Северный Вьетнам пришлось именно на период военных действий — что отличало их от поездок в СССР, на Кубу и в Китай. По этой причине они были сопряжены с известной опасностью и, соответственно, вызывали более сильные чувства. Американское правительство призывало своих граждан не совершать подобных поездок, и это, опять-таки, придавало им особый колорит (как оказалось впоследствии, связанные с этим опасения были беспочвенными). Сам факт «нахождения в зоне боевых действий» вызывал, говоря словами одного из визитеров, «своего рода ностальгию». Мэри Маккарти «отчасти хотелось испытать настоящее потрясение, хотелось, чтобы бомбы падали поближе и взрывались погромче».157
368
Пол Холланлвр
Окончание войны и исчезновение связанных с нею чувств, вероятно, является не единственной причиной прекращения политических туров по Вьетнаму. С официальной вьетнамской точки зрения, визиты зарубежных групп преследовали вполне определенную цель: по возвращении в свои страны участники этих групп, выносившие из поездок по стране вполне определенные впечатления, могли оказывать существенное влияние на общественное мнение и государственных политиков, склоняя их к мысли о необходимости скорейшего окончания войны.158 С окончанием войны подобная необходимость отпала. С западной и в особенности с американской точки зрения, потребность в визитах такого рода также исчезла, ибо теперь не существовало уже ни жертвы, ни агрессора. Была еще одна причина известного снижения энтузиазма, вызывавшегося прежде северовьетнамским режимом и тем типом общества, которое строилось на Юге. Поток беженцев из Вьетнама никак не вязался с прежним имиджем вьетнамских коммунистов и их мнимой популярностью в народе. Прекратить критику победителей можно было двумя способами: объявить повинными в тяжелом положении народа и, соответственно, в его исходе Соединенные Штаты, или же обвинить самих беженцев в непонимании проводимой правительством политики или в неких проступках.
В заявлении 1977 г., подписанном многими видными критиками войны во Вьетнаме (включая Ричарда Барнета, Дэвида Деллинджера, Ричарда Фолка — выражавшего в свое время восторги по поводу политики аятоллы Хомейни,159 Корлисса Ла- монта, Пола Свизи и Коры Вейс), американцам говорилось о том, что «нынешнее бедственное состояние вьетнамского народа во многом является следствием войны, ответственность за которую несут американцы». Что касается репрессий, в которых обвиняли новый режим, то о них говорилось следующее:
Мы исследовали эти случаи [нарушения прав человека] и пришли к выводу, что сообщения о них содержат неточности и преувеличения. Да, часть пособников сайгонского режима действительно была заключена в исправительные лагеря, общая их численность в настоящее время составляет около 40 000 человек. Это количество крайне незначительно... Многие из заключенных совершили преступления против собственного народа... Оценивая этот факт, необходимо помнить об ужасных трудностях, с которыми столкнулась страна после войны и которые усугубляются нынешним враждебным отношением к ней Америки. Можно только приветствовать попытки нынешнего правительства Вьетнама достигнуть примирения... На деле практически все вьетнамцы, работавшие на сайгоновский режим, уже вернулись к своим семьям и к нормальной жизни.160
Двумя годами позже существенно уменьшившаяся в размерах, но сохранившая самоуверенность группа критиков войны (в которую по-прежнему входил Корлисс Ламонт), выступила
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
369
с нападками на Джоан Баэз за ее публичную критику нового вьетнамского режима и заявила, что «положение с правами человека во Вьетнаме никогда не было лучше, чем сейчас», приведя в подтверждение резолюцию Национальной гильдии юристов:
Программа реабилитации бывших сайгоновских сотрудников, реализуемая Социалистической Республикой Вьетнам, была абсолютно необходимой; Гильдия отмечает замечательную умеренность, сдержанность и снисходительность, с которыми выполняется эта программа.161
Несмотря на такую оценку ситуации, несколько сот тысяч человек покинули Вьетнам, рискуя при этом жизнью, пытаясь бежать не столько от войны, сколько от условий, насаждавшихся новым режимом. Они не только не обвиняли США в своих бедах, но даже пытались найти там прибежище. Те, кто продолжал симпатизировать режиму, включая группы квакеров и мен- нонитов, предпочитали лишний раз не входить в рассмотрение причин, побуждавших вьетнамцев бежать из своей страны.
Ни господин Эдигер [социальный работник меннонитов], ни группа квакеров, путешествовавшая по стране в феврале, даже и не думали интересоваться реабилитационными центрами, в которых власти удерживали десятки тысяч человек...
Уоллес Коллетт, бизнесмен из Цинциннати, возглавлявший группу шестерых квакеров, заявил, что члены его группы не станут заниматься расследованием и проверкой таких сообщений о репрессиях... По его словам, квакерам дали понять, что будь такие сообщения правдивыми, религиозные лидеры и все остальные [вьетнамцы] и сами стали бы протестовать против них.163
Здесь уместно вспомнить слова господина Латтимора, который невежественно или наивно не замечал репрессий, происходивших в Советском Союзе, сказавшего, что он находит неприличным «шпионить» за хозяевами (см. стр. 179, 239).
Привлекательность Северного Вьетнама во время войны была ничуть не меньшей, чем у других стран, о которых идет речь в этой книге. Разумеется, на нее сильно влияла атмосфера военного конфликта, вследствие чего легко можно было просмотреть или оправдать многие малопривлекательные аспекты северовьетнамского общества. Зарубежных гостей прежде всего поражала удивительная стойкость, единство и сплоченность этого взятого в кольцо осады народа. Ремси Кларк, бывший главный прокурор штата, писал в 1972 г.:
Опыт показывает, что, как говорил Аристотель, главная и универсальная причина революционного импульса — это стремление к равенству. В этой стране нет внутренних конфликтов. По крайней мере, я их не заметил.* Вы чувствуете их единство. Я очень сомневаюсь, что в Сайгоне или в других городах и в деревнях Южного Вьетнама я чувствовал бы себя в такой же безопасности, ибо там царят сумятица, отчаяние и безверие.163
* Это замечание вызывает в памяти слова Шоу, заявлявшего в 1931 г. (во время своего визита в Советский Союз), что он ни разу не видел там голодных людей (см. стр. 197).
370
Пол Холланлер
Сюзан Зонтаг с удивлением отмечает, что «феномен экзистенциальной агонии или отчуждения не свойствен вьетнамцам...», и, что «вьетнамцы суть „цельные“, а не „расщепленные“, подобно нам, человеческие существа».164 Взыскание цельности, конечно же, являлось одной из самых характерных особенностей 1960-х гг., когда лишенное духовной составляющей изобилие стало казаться особенно тягостным. Люди, посещавшие Вьетнам или Кубу (или, подобно Зонтаг, и Вьетнам, и Кубу), пытались найти социальные системы, в которых были бы решены проблемы цельности и самобытности.
Еще до прибытия в Ханой нас поразили доброжелательность, многообразие и самобытность вьетнамцев... Пока мы летели над границей Вьетнама с Китаем, наше впечатление о нем как об эффективно организованном обществе, имеющем свой неповторимый дух, только усилилось. Под нами миля за милей стелились лоскутки возделанных полей.165
Если у Стотона Линда и Тома Хейдена аккуратно возделанные поля вызывали ощущение национальной самобытности Вьетнама, то Дэниелу Берригану казалось, что в Ханое (мы уже говорили об этом прежде) «все и вся охвачено легким трансом — люди, деревья, животные...». Этим необычным состоянием может отчасти объясняться и его ощущение, что Хо Ши Мин похож на святых и мучеников его церкви, а «наивная вера в доброту человека пронизывает в Северном Вьетнаме все общество».166
Американцы, с одной стороны, видели во вьетнамцах крайне необычный, экзотический народ, с другой, выражали серьезную обеспокоенность возможными гуманитарными последствиями американских бомбардировок,* и потому, возможно, обращали особое внимание на личные характеристики и поведение вьетнамцев. Вот наблюдения Сюзан Зонтаг:
Я была просто поражена необычностью вьетнамцев, которых мы просто не способны понять... Мы видели очаровательных, гордых людей, живущих в условиях крайней материальной бедности, людей, от которых требовалась полная самоотдача и терпение.
...Во Вьетнаме вы имеете дело с народом, свято верящим в то, что Лоуренс назвал «неприметным неизбывным присутствием героического импульса»...168
Объяснение этого (и некоторых других) впечатлений и мнений может быть связано с психологическим напряжением и его катарсическим разрешением, проявлявшемся в снятии груза вины (несуществующей) при буквальном и фигуральном братании с теми, кто пострадал от сограждан визитеров. Преподобный Уильям
* Наивность испытывавших чувство вины иностранных визитеров проявлялась в том, что многие из них поражались отсутствию у местного населения ненависти к ним167 (местное население понимало, что важные иностранные гости приглашались сюда правительством, которое, помимо прочего, приставляло к ним постоянную охрану).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
371
Слоун Коффин младший пишет: «Я стал испытывать к вьетнамцам совершенно особое чувство, приписываемое мною тому обстоятельству, что мы стали друзьями постольку, поскольку сознательно перестали быть врагами».169 Преподобный и его спутники Кора Вейс и Дэвид Деллинджер даже обнимались с самым ярким из вьетнамских лидеров премьером Фам Ван Донгом. «Особое чувство»* по отношению к вьетнамцам находило отражение и в прилагавшихся к ним и к лидерам революционно настроенных лаотян эпитетах: так, отец Берриган пишет о «поразительной страстности» одного из лаотян, которой лишены те «потухшие лидеры, с которыми мы имеем дело дома»; у председателя сельской коммуны «доброе, обветренное, интеллигентное лицо», прочие крестьяне здесь «улыбчивые смуглолицые старики». Отец Берриган говорит и о «здоровых, резвых ребятишках, стоявших вдоль стенки и готовых спеть для нас».171 И люди, и ландшафт часто описываются как «утонченные» (порой даже «самые утонченные из всех людей, которых мы когда-либо видели»).172 Сюзан Зонтаг (вместе с Мэри Маккарти) была уверена, что эти изящные и добрые люди «всячески заботились о попавших к ним в плен пилотах».173 Доктор Коффин нашел вьетнамского чиновника «спокойным и исполненным достоинства», вьетнамского судью он называет «живым», а председателя «комитета солидарности» — «сообразительным остроумным мужчиной средних лет». Премьер-министр был не просто «необычайно энергичен», «он смеялся заразительным смехом».174 Отцу Берригану он показался «чрезвычайно мудрым», «сострадательным», «гуманным в эту исключительно негуманную эпоху».175 Мэри Маккарти пишет, что он был «очень обаятельным, подтянутым человеком с глубоко посаженными горящими глазами, коротко остриженными седыми волосами и с полными, печально сомкнутыми губами... Во взгляде его черных глаз странным образом сочетались горячность и известная меланхолия... Я тут же решила, что передо мной находится эмоциональный, впечатлительный и в то же самое время чрезвычайно умный человек».176 Том Хейден и Стотон Линд (который то и дело слышал на улицах Ханоя «разнообразную поэзию и музыку») объясняют достоинства людей достоинствами системы:
Мы понимали, в чем будет состоять вклад Вьетнама в дело построения социализма. Это чувствовалось в их уверенных рукоплесканиях, в стихах и
* Вьетнамцы вызывали особое уважение и трепет даже за пределами своей страны. «Только подумать,— мы сидели с ними в одной комнате и занимались рубкой тростника вместе с этими людьми, символизировавшими силу и сознание, которых нам явно не хватало, мы могли разговаривать с ними, задавать вопросы, давать ответы, чувствуя, что вьетнамцы видят в нас товарищей по борьбе.™
372
Пол Холландер
песнях, без которых немыслимы отношения мужчины и женщины, в открытом плаче... в их словах о своей стране... Только здесь мы стали понимать, что такое социализм сердца.177
Трансформировалась даже сама однопартийная система. «Когда любовь становится сущностью социальных отношений, связь людей с единственной партией перестает обесчеловечивать их»,— писала Сюзан Зонтаг;178 в свою очередь, Дэниел Берриган считает, что «тайна выносливости и крепости этого народа» может быть объяснена только «его политическим руководством, управляющим народом совершенно по-новому».179
Эти и подобные им комментарии свидетельствуют о том, что зарубежные визитеры, особенно американцы, проецировали на Вьетнам свои идеальные представления и желания и вследствие этого совершенно не понимали истинной природы этого общества (аналогичные причины привели к искаженному восприятию советского общества на раннем его этапе). Здесь также имел место контекстуальный пересмотр ценностей. Скажем, здоровые и счастливые дети в американском детском саду вряд ли стали бы рассматриваться как одно из доказательств преимущества капитализма над социализмом, когда же речь шла о Северном Вьетнаме, делалось следующее заключение: «Присутствие красивых детей ... может служить свидетельством позитивности режима».180
Вероятно, важным обстоятельством является и то, что, говоря о Вьетнаме, гости куда чаще восторгаются духовностью людей и системы, нежели в том случае, когда речь идет о Кубе или Советском Союзе. Это уже не просто прогрессивное, справедливое и продвинутое общество, оно совершенно отлично от всего бывшего до него, исполнено чувства собственного достоинства и по-своему возвышенно, и народ, и правительство пребывают в состоянии постоянного блаженства. Несомненно, и на сей раз подобные восприятия и описания связаны с экзотическим характером самого этого места и живущих в нем людей, комплексом вины многих заезжих интеллектуалов и атмосферой войны со всеми присущими ей лишениями и опасностями, усиливающей любые ощущения и симпатии. Отец Берриган говорит об этом со свойственным ему красноречием:
Со мною происходит нечто совершенно необычайное, причем сейчас я явно не в состоянии анализировать происходящее. Я удостоился дара, которого сподобились считанные американцы. Странным образом я чувствую себя как дома в этом новом мире, где мифы рассыпаются на глазах, не в состоянии устоять пред данностью страданий и необходимостью выживания... Верующий человек видит в этом переживании отражение Божьего промысла о нем...181
Реалии войны придавали паломничеству во Вьетнам не только особый колорит, а определенным чертам вьетнамского режима особое очарование (таким как общность целей, чувство единства
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
373
и социальная сплоченность), они же подчеркивали общественный эгалитаризм и справедливый характер распределения. Социально-экономические трансформации выглядели особенно впечатляюще на фоне продолжающейся войны: несмотря на то, что ведение боевых действий было связано с огромными расходами, периодически делались попытки хоть как-то улучшить жизнь человека. Дэниел Берриган восхищается людьми, которые, «невзирая на град смертоносных бомб, думают о создании художественных музеев...».182 Естественно, гости прежде всего отмечали достижения системы в сфере образования (включая образование для взрослых и борьбу с неграмотностью),183 здравоохранения,184 строительства жилья в сельской местности,185 а также в обеспечении чистоты и порядка,186 которые обычно принято ассоциировать с пуританскими элементами социальной системы. Некоторых гостей впечатлила также бережливость, простота и ограниченное применение развитых промышленных технологий. Сюзан Зонтаг пишет об этом так: «Общество, базирующееся на принципе полного использования, особенно впечатляет людей, прибывших сюда из обществ, в которых господствует принцип максимального расходования».187
И, наконец, в Северном Вьетнаме (так же, как на Кубе и в Китае) достижения режима представлялись особенно впечатляющими не только на фоне продолжающейся войны, но и по контрасту с былыми ущемлением гражданских прав и общей отсталостью страны.188
Вьетнам и Куба были не единственными странами третьего мира, идеализировавшимися западными интеллектуалами, хотя они и привлекали к себе наибольшее внимание. С окончанием войны и появлением множества беженцев, пытавшихся покинуть страну на лодках, привлекательность Северного Вьетнама стала уменьшаться; нечто подобное происходило и с Кубой (по причинам, указанным выше). К двадцатой годовщине кубинской революции она утратила былую новизну и революционную свежесть. Поэтому у некоторых западных интеллектуалов появились основания для переноса внимания на другие страны третьего мира. Они пытались заигрывать не только с Китаем, но и с Алжиром, Албанией, Северной Кореей, Танзанией, Мозамбиком и даже с Камбоджей.189 Особой популярностью среди радикально настроенных западных интеллектуалов пользовались в течение некоторого времени Албания и Мозамбик. Согласно Яну Мюрдалю:
Благодаря своей принципиальной борьбе маленький албанский народ
вызвал особое внимание профсоюзных активистов в шведских горняцких
районах, польских докеров, отстаивающих социализм в борьбе со своими
374
Пол Холланлер
новыми боссами, африканских студентов, руководителей подпольного сопротивления фашистской диктатуре в Чили и многих других. Тирана, которая некогда была глухим албанским городом, неожиданно стала местом для проведения дискуссий и обмена опытом.190
Если Ян Мюрдаль, возможно, преувеличил влияние Албании на внешний мир, сам он, вне всяких сомнений, стал самым известным ее почитателем (до этого он восхвалял Китай). Яну Мюрдалю Албания представлялась крошечной сверхобездоленной страной, которой угрожали как западные империалисты, так и новые псевдосоциалистические хищники, такие как Югославия и Советский Союз.191 Мюрдаль, с одной стороны, пытавшийся реабилитировать Албанию и, так сказать, защитить ее от советской и западной клеветы, с другой стороны, похоже, с пониманием относился к албанской позиции в отношении Сталина и сталинизма.192 Албания импонировала Мюрдалю своими крошечными размерами и полной независимостью от основных мировых сил (подобными причинами объяснялась и притягательность Кубы, которая, как представлялось, призвана была восстановить доброе имя социализма, скомпрометированного советской бюрократической неэгалитарной системой правления).193 В Албании господствовал подлинный коллективизм и эгалитаризм, бюрократия получала удар за ударом, армейские офицеры «не имели знаков отличия», физический и умственный труд не были отделены друг от друга, разница в доходах была исчезающе малой, господствовала партийная демократия. («Партия не возвышается над народом. Правит рабочий класс, партия же лишь служит рабочим массам»). Этот взятый в кольцо народ обладал, помимо прочего, впечатляющим и подлинным ощущением общности. Были преодолены — хотя и не без сопротивления — все индивидуалистические методы хозяйствования. Албанское централизованное планирование учитывало принцип гармонии с природой. Существенное развитие получили народное образование и здравоохранение.194 Подобно другим странам, вызывавшим восхищение, Албания имела мудрого, пламенного, сильного, популярного и выносливого руководителя: Энвер Ходжа, «один из величайших лидеров рабочего класса и марксистов-ленинистов нашей эпохи», «одна из основных фигур албанской истории и один из самых выдающихся коммунистов современности. Именно за это его уважают и любят. Но он не подвержен влиянию культа личности: он не ставит себя над народом или вне его... Ему аплодируют не как личности, но как основателю партии и ее преданному работнику».195 Мюрдаль и сам понимает, что его описание Албании имеет слишком уж знакомое звучание: «Все это чрезвычайно похоже на описание Советского Союза 1930-х гг. СССР строится, пусть и в куда меньших масштабах, на берегах Адриатики».196
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
375
Кроме Яна Мюрдаля и группы скандинавских студентов (о которых шла речь в гл. 1), Албания имела по крайней мере одного видного американского почитателя — Скотта Ниринга, говорившего, что ее народ, «исполненный покоя, уверенности, надежд и оптимизма», живет в стране, не знающей нищеты, и «занят строительством лучшего будущего».197
Албания была не единственной страной, привлекавшей в недавнее время представителей различных поколений искателей. Согласно французскому автору Сержу Тиону, «очень немногие люди в Европе и в Африке испытывали увлечение революционным Мозамбиком. Речи президента Саморы Машела не слишком- то ценились на рынке революционных теоретиков. Нам известно достаточно примеров подобного ослепления, когда политизирующая интеллигенция начинает видеть именно то, что она хочет видеть...».198
К числу таких людей, вероятно, принадлежал и Том Уикер из «New York Times», который за время своего «краткого, но напряженного визита» решил, что основное в современном Мозамбике — это «надежда и порядок». Найдя, что жилищные проекты превосходят многие американские аналоги, и обнаружив коммунальные деревни, в которые «сельское население никто не сгоняет — оно идет туда само», он решает, что «результат перемен — надежда и порядок; люди всех рас строят новое общество на обломках колониализма и войн». В глазах этого наблюдателя Мозамбик, подобно Кубе и Албании, являл собой нечто совершенно новое, но никак не «копию».199
Очевидно, Том Уикер был не одинок. «New York Times» писала следующее:
Левые идеалисты в Африке, Европе и Америке с надеждой смотрят на эту страну [Мозамбик], как некогда они смотрели на Гану, Алжир и несколько позже Танзанию, которые виделись им благодатной почвой для построения социализма «нового человека»...
...Приток людей с Запада лишний раз подчеркивает особую роль Мозамбика в апробировании идеи, состоящей в том, что семена научного социализма могут взрасти в Африке без репрессий или экономического хаоса.
В Мозамбике репортер «New York Times» обнаружил «социальные нововведения, ... посредством которых страна должна превратиться в нерасистское, неплеменное, неэксплуататорское и самостоятельное общество». За время своего двухнедельного визита репортер выявил также массовые организации, социальное единство, прагматизм, «заботу о личных нуждах представителей различных коллективов» и «видимость движения и порядка». Ему было совершенно «ясно», что правительство президента Саморы Машела «пользуется поддержкой и любовью народа». Напоследок следует заметить, что публикация Исполнительного
376
Пол Xолландер
комитета квакерского Общества друзей («Письма из Мозамбика») также «рисует картину мозамбикского общества, которая не менее привлекательна, чем представленная Брэггом [другой активист квакеров] картина нового Вьетнама».200
Даже новая иранская система, возглавляемая аятоллой Хо- мейни, вызвала массу восторгов. Ричард Фолк пишет: «Создав новую модель народной революции, основанной по большей части на ненасильственной тактике, Иран, возможно, задает прообраз столь нужной странам третьего мира модели гуманной власти».201
Весьма маловероятно, что интерес к Албании или к Мозамбику будет сколько-нибудь широким или продолжительным. Тем не менее, пусть количество почитателей этих систем весьма невелико, отчеты о поездках в эти страны свидетельствуют о том, что причины их привлекательности для западных интеллектуалов практически не изменились с 1930-х по 1960-е и с 1960-х по 1970-е гг.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Huey Р. Newton, «Sanctuary in Cuba?», CoEvolution Quarterly, Fall 1977,
p. 28.
2. Saul Landau, «Cuba: The Present Reality», New Left Review, May-June 1961,
p. 22.
3. Warren Miller, Ninety Miles from Home, Boston, 1961, p. 8.
4. Susan Sontag, «Some Thoughts», p. 10.
5. Jonathan Kozol, Children of the Revolution: A Yankee Teacher in the Cuban Schools, New York, 1978, p. xx.
6. LeRoi Jones, «Cuba Libre», in Home: Social Essays, p. 39.
7. Слова Пола Берена приведены в: Peter Clecak, Radical Paradoxes (New York, 1973), p. 93. Кингсли Мартин, редактор «New Statesman», также был убежден в том, что Кастро «не станет лишать нынешнее поколение радостей ради гипотетического благоденствия будущих поколений» (Kingsley Martin, «Fidel Castro‘s Cuba», New Statesman, April 21, 1961, p. 614).
8. Более свежий материал о неравенстве такого рода можно найти в: Jon Nordheimer, «Reporter’s Notebook: How Willing Are Cuba’s Volunteers?», New York Times, June 27, 1978. О граффити и недавних экономических трудностях пишется также в: «Castro’s Sea of Troubles», Newsweek, March 3, 1980, p. 39-40.
9. Цит. no: Clecak, Radical Paradoxes, p. 152.
10. Образчик подобного негативного суждения представлен в: Norman Birnbaum, «America, A Partial View», Commentary, July 1958.
11. Dennis Wrong, «The American Left and Cuba», Commentary, February 1962, p. 95.
12. Philip Abbot Luce, The New Left Today, Washington, D.C., 1971, p. 51.
13. Beauvoir, All Said and Done, p. 409-410. Более подробное изложение дела Падильи представлено в: Jose Yglesias, «The Case of Herberto Padilla», New York Review of Books, June 3, 1971. В 1978 г. ряд известных западных интеллектуалов и почитателей Кастро выразили свое несогласие с двадцатидевятилетним сроком заключения доктора Марты Фрэйд, обвиненной в шпионаже, в своем письме, написанном от имени «революционного идеалиста», не согласного с просоветской политикой Кастро. Среди подписавших письмо были Симона де Бовуар, Мишель Фуко, Хуан Гойтисоло, Норман Мейлер, Октавио Пас, Жан-Поль Сартр и Уильям Стайрон (см.: New York Review of Books, December 7, 1978). В 1980 г.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
377
Падилья эмигрировал в США («Havana Permits a Censured Poet to Move to U.S.», New York Times, March 17, 1980).
14. Jorge Edwards, Persona Non Grata, New York, 1977, p. 44.
15. См., например: Saul Landau, «The U.S. Cannot Dictate Terms», In These Times [«The Independent Socialist Newspaper»], April 6-12, 1977. Стивен Бинг- хем, юрист-радикал, посетивший Кубу в 1969 г., оставался верным сторонником этого режима и в 1974 г. (см.: «Bingham, Lawyer Hunted in Six Prison Killings, Is Active in Hiding», New York Times, September 22, 1974). Сохраняли верность режиму Кастро и квакеры — см.: Ten Years After: A Quaker Visit to the [Cuban] Revolution in Maurer, «Quakers in Politics», p. 42.
16. Подобно Козолу, Джим Джонс также относился к числу таких «новообращенных» энтузиастов, посетивших Кубу (он побывал там в 1977 г.). См.: Robert Levering, «Rev. Jim Jones», Valley Advocate, December 6, 1978, p. 8A. Сообщалось также, что незадолго до массового самоубийства он обдумывал возможность переправки группы на Кубу (или в Советский Союз). См.: Joseph В. Treaser, «Jim Jones‘ Visit to Cuba Recounted», New York Times, March 25, 1979.
17. Брошюра бригады Venceremos, без даты. См. также: Venceremos [«А Publication of the Venceremos Brigade»], February 1976 — о наборе участников и мотивировке их решений.
18. Harry Maurer, «With the Venceremos in Cuba», Nation, July 2, 1977, p. 8.
19. Брошюра «Venceremos».
20. Levinson and Brightman, Venceremos Brigade.
21. E. J. Dionne, Jr., «City University Teachers Union Assails a Travel Course for Barring Cuban-born», New York Times, October 9, 1977.
22. Irving Louis Horowitz, «The Cuba Lobby», Washington Review of Strategic and International Studies, July 1978, p. 60, 61, 66, 67.
23. См., например: Louis Wolf Goodman, «The Social Sciences in Cuba», Social Science Research Council Items, December 1976; «Lowell U. president says Cuba relaxed», Massachusetts Teacher, January-February, 1979, p. 23.
24. Andrew Salkey, Havana Journal, Harmondsworth, U.K., 1971, p. 81, 91, 140, 150, 151, 194.
25. Ronald Radosh, «The Cuban Revolution and Western Intellectuals», in Radosh, ed., The New Cuba: Paradoxes and Potentials, New York, 1976, p. 40, 41, 42. Хуан Гойтисоло пишет о таких же позициях у европейских и латиноамериканских интеллектуалов (Juan Goytisolo, «20 Years of Castro's Revolution», New York Review of Books, March 2, 1979, p. 17).
26. Фрэнсис Фитцджеральд в: Radosh, p. 171.
27. Edwards, Persona Non Grata, p. 48-49.
28. Draper, Castro's Revolution, p. 48. Более свежие оценки кубинского социализма и его растущего сходства с советской моделью представлены в: Carmelo Mesa-Lago, Cuba in the 1970s: Pragmatism and Institutionalization, Albuquerque, 1978.
29. Horowitz, «Cuba Lobby», p. 61.
30. Davis, Autobiography, p. 203, 208. Карденаль, никарагуанский поэт и монах, во время посещения Кубы очень похожим образом отреагировал на контраст между коммерческой и политической рекламой. См.: Ernesto Cardenal, In Cuba, New York, 1974, p. 37.
31. Davis, Autobiography, p. 141.
32. См., например: Jo Thomas, «10 000 Cubans Said To Be Crowded into Peruvian Embassy in Havana», New York Times, April 7, 1980; «230 Cuban Refugees Arrive in Costa Rica», New York Times, April 17, 1980; Jo Thomas, «Amid Tension of Exodus to U.S., Havana Attacks Vast Social Ills», New York Times, June 8, 1980.
33. Филипп Бреннер говорит об этом в интервью «MacNeil/Lehrer Report», приведенном в: Joseph Sobran, «Communism can’t stifle yen for freedom», Daily Hampshire Gazette, April 18, 1980; взгляды Цимбалиста приведены также в «Daily Hampshire Gazette» (May 13, 1980) под заголовком «Scholars here assess the exodus from Cuba». Джонетта Коул, антрополог из Массачусетского университета (Амхерст), также разделяет мнение, что Кубу пытались покинуть асоциальные элементы, люди, «которые могли заниматься только преступной деятельностью и проституцией».
34. См. также: Boorstin, The Image.
378
Пол Холландер
35. Hans Speier, «Risk, Security and Modern Hero Worship», in Social Order and the Risk of War, New York, 1952, p. 125, 126.
36. Robert Nisbet, Twilight of Authority, New York, 1975, p. 102, 109.
37. Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, New York, 1964. Критика ее главного тезиса приведена в: Norman Podhoretz, «On the Banality of Evil», Commentary, September 1963.
38. Stanley Milgram, Obedience to Authority, New York, 1974.
39. Norman Mailer, «The Letter to Castro», in Presidential Papers, p. 67, 68, 75.
40. Jean-Paul Sartre, Sartre on Cuba, New York, 1961, p. 44, 99, 102, 103; cm. также: James Higgins, «Episodes in Revolutionary Cuba», Liberation, March 1968, p. 20 — о том, как мало спит Кастро.
41. Speier, «Risk, Security and Modern Hero Worship», p. 126, 127-128.
42. Hoffman, Revolution for the Hell of It, p. 13; см. также: Luce, New Left Today, p. 52.
43. Cardenal, In Cuba, p. 131.
44. Draper, Castro's Revolution, p. 27.
45. Elizabeth Sutherland, «Cuban’s Faith in Castro», Manchester Guardian Weekly, December 7, 1961.
46. Kirby Jones and Frank Mankiewicz, With Fidel: A Portrait of Castro and Cuba, Chicago, 1975, p. 9, 10.
47. Lester, Revolutionary Notes, p. 177.
48. Landau, «Cuba: The Present Reality», p. 15.
49. Leo Huberman and Paul Sweezy, Cuba: Anatomy of a Revolution, New York, 1961, p. 176.
50. Davis, Autobiography, p. 207.
51. David Caute, Cuba, Yes? New York, 1974, p. 138; K.S. Karol, Guerillas in Power, New York, 1970, p. 451, 459; René Dumont, Is Cuba Socialist? New York, 1974, p. 57.
52. George McGovern, «A Talk with Castro», New York Times Magazine, March 13, 1977, p. 20. Выдержки из интервью, взятого Макговерном у кубинского лидера, приведены в: «McGovern’s Mission to Havana», New America, December 1977, p. 5. Слова Джулиана Бонда приведены в интервью, опубликованном в: Daily Hampshire Gazette, October 23, 1979, p. 9,
53. Karol, Guerillas in Power, p. 58.
54. Ibid., p. 342.
55. George McGovern, Grassroots: The Autobiography of George McGovern, New York, 1977, p. 276-277.
56. Caute, Cuba, Yes?, p. 134.
57. Elizabeth Sutherland, The Youngest Revolution: Personal Report on Cuba, New York, 1969, p. 112.
58. Dumont, Is Cuba Socialist?, p. 106; см. также: Cardenal, In Cuba, p. 112 — о вездесущести Кастро.
59. Jones and Mankiewicz, With Fidel, p. 217-218.
60. Karol, Guerillas in Power, p. 459; Dumont, Is Cuba Socialist? p. 133.
61. Levinson and Brightman, Venceremos Brigade, p. 113; Cardenal, In Cuba, p. 170.
62. Wrong, «American Left and Cuba», p. 99. Дальнейшее обсуждение феномена Кастро как культурного героя см. в: Berman, America in the Sixties, p. 267-272.
63. Цит. no: Malcolm Muggeridge, «The Protesters’ Pin-up», Observer, August 18, 1968.
64. Richard Lowenthal, «Unreason and Revolution», Encounter, November 1969, p. 32. Рене Вингартен также пишет о христоподобной харизме Гевары в: Renee Winegarten, Writers and Revolution, New York, 1974, p. 324-325.
65. David Dellinger, «Cuba: The Revolutionary Society», Liberation, March 1968, p. 9, 11.
66. Levinson and Brightman, Venceremos Brigade, p. 375.
67. Michael Parenti in Radosh, ed., The New Cuba, p. 41.
68. Cardenal, In Cuba, p. 6. Примерно в том же духе пишет о людях на улицах Гаваны Эндрю Солки: «Человеческие лица без следа угрюмости обездоленных... Без тупого высокомерия... Без мелочности... Без гримас и ужимок, выказывающих саможаление. Общество строится для них...» (Salkey, Havana Journal, p. 24).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
379
69. Newton, «Sanctuary in Cuba?», p. 28. Дэвид Деллинджер подобным же образом выделяет «целую новую систему ценностей и взглядов, в рамках которой процветание одного неразрывно связано с процветанием всех» (Dellinger, «Cuba: Revolutionary Society», p. 12).
70. Levinson and Brightman, Venceremos Brigade, p. 398.
71. Sontag, «Some Thoughts», p. 10, 14.
72. Todd Gitlin, «Cuba and the American Movement», Liberation, March 1968, p. 13.
73. Levinson and Brightman, Venceremos Brigade, p. 318.
74. Ibid., p. 308, 310, 318-319.
75. Waldo Frank, Cuba: Prophetic Island, New York, 1961, p. 163. Уолдо Фрэнк был не единственным интеллектуалом, симпатии которого к Советскому Союзу трансформировались в симпатии к Кубе. Скотт Ниринг, видный социальный критик 1930-х гг., также побывал на Кубе в 1960-1961 гг. и был «весьма впечатлен увиденным» (см.: Nearing, Making of a Radical, р. 240-241).
76. Caute, Cuba, Yes?, p. 84, 85.
77. LeRoi Jones, Home, p. 44; об атмосфере карнавала см. также: Luce, New Left Today, p. 54.
78. Ronald Radosh, «On the Cuban Revolution», Dissent, Summer 1976, p. 315.
79. Конн Ньюджент (изучавший в Гарварде историю и право, бывший волонтер Корпуса мира и руководитель двух бостонских частных фондов) замечает это в: CoEvolution, Fall 1977, р. 30.
80. Gitlin, «Cuba and the American Movement*, p. 16. Джонетта Коул, чернокожий антрополог, восхищается тем, что на Кубе университеты открыты для всех тех, «кто способен сдать вступительные экзамены» («Cole Reports on Cuba», Massachusetts Daily Collegian, March 8, 1973). Если бы проблему обеспечения адекватного количества черных студентов в университетах США решали точно таким же способом, это вряд ли удовлетворило бы ее.
81. Salkey, Havana Journal, р. 52.
82. Radosh, ed., The New Cuba, p. 64, 65.
83. Cardenal, In Cuba, p. 125.
84. Dellinger, «Revolutionary Society», p. 12.
85. C. Wright Mills, Listen Yankee, New York, 1960, p. 182, 183.
86. Frank, Prophetic Island, p. 149. Морис Цейтлин и Роберт Шеер также пускаются в долгие объяснения по поводу того, почему на Кубе нет выборов; см.: Maurice Zeitlin and Robert Scheer, Cuba: Tragedy in Our Hemisphere, New York, 1963, p. 186-187. См. также: Sidney Lens, «The Birth Pangs of Revolution», Progressive, December 1961.
87. LeRoi Jones, Home, p. 43, 55.
88. Ibid., p. 61-62.
89. Joseph A. Kahl, «The Moral Economy of a Revolutionary Society», in Cuban Communism, ed. I. L. Horowitz, 3d ed., New Brunswick, 1977, p. 111.
90. Davis, Autobiography, p. 204.
91. Levinson and Brightman, Venceremos Brigade, p. 399.
92. Sontag, «Some Thoughts», p. 6, 14.
93. Gitlin, «Cuba and the American Movement», p. 13.
94. Jose Yglesias, In the Fist of the Revolution, New York, 1969, p. 307.
95. Некоторые ее показатели представлены в: Zeitlin and Scheer, Tragedy in Our Hemisphere, p. 15-19.
96. Согласно Дрейперу, «Куба до Кастро действительно была страной с серьезными социальными проблемами, однако она не относилась к категории аграрных или «слаборазвитых». Большая часть населения жила в городах (57% против 43% сельского населения)... Люди, жившие сельским хозяйством, составляли не более 40%, причем к категории фермеров относилось не более четверти от этого количества* (Draper, Castro's Revolution, р. 21, 22, 23, где представлены другие показатели). О развитии здравоохранения в предреволюционные годы см.: Jorge I. Dominguez, Cuba: Order and Revolution, Cambridge, 1978, p. 75-76.
97. Davis, Autobiography, p. 204.
98. Reckord, Does Fidel Eat More, p. 25.
99. Salkey, Havana Journal, p. 48.
100. John Clytus, Black Man in Red Cuba, Coral Gables, 1970, p. 53; Victor Franco, The Morning After, New York, 1963, p. 180.
380
Пол Холланлвр
101. Levinson and Brightman, Venceremos Brigade, p. 160.
102. Cardenal, In Cuba, p. 14.
103. См., например: Salkey, Havana Journal, p. 94, 204.
104. Ann Crittenden, «The Cuban Economy: How It Works», New York Times Business & Finance, December 18, 1977, p. 9.
105. Karol, Guerillas in Power, p. 429.
106. Kozol, Children of the Revolution, p. 102.
107. Levinson and Brightman, Venceremos Brigade, p. 143.
108. George Volsky, «And Cuba Tightens Its Belt», New York Times International Economic Survey, January 30, 1977, p. 30; Cardenal, In Cuba, p. 135-136.
109. Clytus, Black Man, p. 48; о дефиците см. также: р. 45-47; Karol, Guierillas in Power, p. 338.
110. Dumont, Is Cuba Socialist, p. 58, 127, 128. Другие упоминания «альфа- ромео» и рассказ о привилегиях разного рода приведены также в: Fred Ward, Inside Cuba Today, New York, 1978, p. 4; Joe Nicholson, Jr., Inside Cuba, New York, 1974, p. 116; Jon Nordheimer, «20 Years With Fidel!», New York Times Magazine, December 31, 1978, p. 28, 29. Об «альфа-ромео» (и прочих привилегиях), как символах статуса нового класса, см. также: Günther Maschke, «Kubanischer Taschenkalender*, Kursbuch, West Berlin, December 1972, p. 143.
111. Dominguez, Order and Revolution, p. 229.
112. Kozol, Children of the Revolution, p. 196-197; см. также: Salkey, Havana Journal, p. 65; Samuel Bowles, «Cuban Education and the Revolutionary Ideology*, Harvard Educational Review, November 1971.
113. Сартр цит. no: Axel Madsen, Hearts and Minds: The Common Journey of Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre, New York, 1977, p. 213.
114. Jose Yglesias, Down There, New York, 1977, p. 33, 42, 46, 47.
115. См. также: Radosh, ed., The New Cuba, p. 226, 227.
116. Hoggart, Uses of Literacy.
117. Nicholson, Inside Cuba, p. 223. Некоторым гостям эти достижения представлялись отражением подлинно религиозных ценностей. Карденаль пишет: «Я уже говорил, что подлинная религия приходит на помощь вдовам и детям и ... в Латинской Америке эту религию исповедовал Фидель, открывавший все новые детские сады, поликлиники, школы... (Cardenal, In Cuba, р. 327). Уместно вспомнить о том, что за несколько десятилетий до этого подобные же восторги вызывал Советский Союз, который якобы воплощал главные ценности христианства.
118. Reckord, Does Fidel Eat More, p. 24.
119. Ibid., p. 61.
120. Jones and Mankiewicz, With Fidel, p. 241.
121. Скажем, Солки (Salkey, Havana Journal, p. 166-170) специально встречался на Кубе с «единственным оставшимся в живых беглым рабом» (р. 166).
122. Jeffrey Levi, «Political Prisoner in Cuba», Dissent, Summer 1978, p. 284.
123. Joshua Muravchik, «Kennedy's Foreign Policy: What the Record Shows», Commentary, December 1979, p. 38.
124. Cm.: Cardenal, In Cuba, p. 20, 49-50, 78-79 (где говорится о так называемых «позорных командах»), 292-294. Иглесиас пишет: «UMAP — аббревиатура названия исправительных колоний («Военизированные бригады содействия производству»); они появились в 1965 г. и имели целью реабилитацию молодых людей призывного возраста, которых нельзя было брать на действительную военную службу» (Yglesias, Fist of the Revolution, p. 6; см. также: p. 161, 275-280).
125. Ward, Inside Cuba Today, p. 290.
126. Edwards, Persona Non Grata, p. 90.
127. Levi, «Political Prisoner», p. 284.
128. Cm.: John Martino, I Was Castro's Prisoner, New York, 1963, (особенно) p. 133-139; Frank Calzon, «How Many Prisoners Does Castro Hold?», Dissent, Summer 1976; Levi, «Political Prisoner»; Frank Emmick, «An American’s Fourteen Years in Cuban Prisons*, New York Times, April 12, 1978.
129. Richard Eder, «Prisoner of Castro: The Huber Matos Story», New York Times, February 4, 1980; Jo Thomas, «Freed Cuban Tells of Years Spent in „Concrete Boxes“ Underground», New York Times, October 24, 1979. Бывший политзаключенный пишет: «Солженицын описал все в „Одном дне Ивана Денисовича“. Единственная разница — климат» (Jo Thomas, «Freed American Talks Calmly of Cuba», New York Times, September 21, 1979).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
381
130. Calzón, «How Many Prisoners», p. 241.
131. Dominguez, Order and Revolution, p. 253-254.
132. Calzón, «How Many Prisoners», p. 242.
133. Nicholson, Inside Cuba, p. Ill; см. также: Caute, Cuba, Yes?, p. 73.
134. Nicholson, Inside Cuba, p. 119, 120, 121.
135. Yglesias, Fist of the Revolution, p. 6, 275; Cardenal, In Cuba, p. 21, 85. UMAP был распущен в 1967 г. (см.: Dominguez, Order and Revolution, p. 367).
136. Calzón, «How Many Prisoners», p. 243.
137. Karol, Guerillas in Power, p. 45. Очевидно, принадлежность к Комитету защиты революции в некоторых случаях давала и материальные преимущества, как в случае с семьей, которая, судя по сообщению, владела двумя автомобилями и двумя телевизорами, и, к изумлению и гневу соседей, все-таки решила покинуть Кубу (Jo Thomas, «Behind Barred Doors in Havana, Would-Be Exiles Wait Fearfully» (New York Times, May 2, 1980).
138. Yglesias, Fist of the Revolution, p. 283. Более подробно о репрессивных функциях комитетов см.: Dumont, Is Cuba Socialist?, p. 119.
139. Reckord, Does Fidel Eat More, p. 60.
140. Draper, Castro's Revolution, p. 151. Импульсивная мстительность Кастро может быть проиллюстрирована следующим рассказом. «Молодой сторож, охранявший новые рисовые плантации, не заметил, как ночью на поле забрели коровы. Кастро требовал, чтобы сторожа расстреляли. Его с трудом переубедили, напомнив, что после этого растения могут ускорить свой рост. Он унял свой гнев и согласился заменить расстрел на пятнадцатилетнее заключение» (Dumont, Is Cuba Socialist?, p. 115).
141. Hugh Thomas, «Castro plus Twenty», Encounter, October 1978, p. 115.
142. Cardenal, In Cuba, p. 23.
143. Frank, Prophetic Island, p. 18.
144. Cardenal, In Cuba, p. 68.
145. LeRoi Jones, Home, p. 33, 38.
146. Kozol, Children of the Revolution, p. 92, 104.
147. Sontag, «Some Thoughts», p. 16.
148. Salkey, Havana Journal, p. 36, 37.
149. Cardenal, In Cuba, p. 22. Впоследствии Карденаль пришел к выводу, что информация, полученная им от кубинца, была недостоверной (р. 34-36).
150. Salkey, Havana Journal, p. 27, 57, 272. Наивность гостей иллюстрируется вопросом спутника Солки о том, «полностью ли финансируется правительством» обсуждаемое «свободное» издание (р. 57).
151. Sontag, «Some Thoughts», p. 16. Впоследствии ее вера в кубинский режим пошатнулась, что было связано с арестом, унижением и покаянием Падильи. Вместе с другими западными интеллектуалами она выступила с протестом против этой кампании.
152. Carlos Ripoll, «Dissent in Cuba», New York Times Book Review, November 11, 1979, p. 11, 31.
153. Kahl, «Moral Economy», p. 113. Мэри Маккарти выражает подобное же мнение во время своей поездки по Северному Вьетнаму. «Право на критику было еще одной капиталистической роскошью, побочным продуктом системы. Это действительно так» (McCarthy, Hanoi, New York, 1968, p. 126). Об упадке интеллектуальной свободы в кубинской академической среде позволяет судить разговор Дэвида Кота с преподавателем одного провинциального университета, который уверял его в том, что политических расхождений по этому вопросу среди студентов не существует, ибо все они считают «асоциальным» такого поэта, который «пишет стихи исключительно для себя» (см.: Caute, Cuba, Yes? p. 155- 159 — этот разговор приведен полностью).
154. Sontag, Trip to Hanoi, p. 86. Явное преимущество Америки также было одним из важных факторов, способствовавших росту провьетнамских настроений. Не случайно Уильям Слоун Коффин считал, что «Давид сражается с Голиафом» (William Sloan Coffin, Once to Every Man, New York, 1977, p. 314).
155. McCarthy, Hanoi, p. 34. Вот что она пишет о своих поездках по Вьетнаму: «Каждая из них была сопряжена с опасностью» (р. 36).
156. Coffin, Once to Every Man, p. 308, 309.
157. Harry S. Ashmore and William C. Baggs, Mission to Hanoi, New York, 1968, p. 13. McCarthy, Hanoi, p. 16. Она пишет: «Нельзя не поражаться этим
382
Пол Холланлер
стоящим прямо посреди рисовых полей противовоздушным установкам, по которым лазает счастливая детвора...» (р. 89-90).
158. В ряде случаев хозяева преследовали вполне определенные цели; например, они предложили обратиться к американским войскам по Радио-Ханой, что среди прочих согласилась сделать и Джейн Фонда. Коффин, Кора Вейс и другие согласились участвовать в переговорах об освобождении пленных. Мэри Маккарти просила президента Фам Ван Донга написать книгу о Севере (McCarthy, Hanoi, р. 130). Эшмор и Бэггс вызвались передать послания вьетнамских властей правительству Соединенных Штатов.
159. Фолк, профессор международного права Принстонского университета, считал, что аятолла Хомейни был «ославлен» американскими средствами массовой информации, представившими его «религиозным фундаменталистом». Он пишет, что «к счастью, все обвинения его в религиозном фанатизме и в приверженности реакционным взглядам оказались ложными». Фолк находит «обнадеживающим» и тот факт, что в ближайшем окружении Хомейни есть «ряд умеренных, прогрессивно мыслящих личностей*. См.: Richard Falk, «Trusting Khomeini», New York Times, February 16, 1979. См. также: Anthony Lewis, «Trusting in Illusions», New York Times, March 12, 1979, где автор размышляет о всегдашней готовности американских интеллектуалов отдаться политическим иллюзиям, ярким примером чего может служить Фолк. Очевидно, Фолк идеализирует аятоллу постольку, поскольку тот являет собой противоположность шаху, поддерживавшемуся американским правительством. Это еще одно подтверждение живучести принципа «враги моих врагов — мои друзья». Фолк в сопровождении Рэмси Кларка встречался с аятоллой в Париже незадолго до его возвращения в Иран.
160. «Vietnam: A Time for Healing and Compassion», advertisement, New York Times, January 30, 1977. Критическое рассмотрение нежелания некоторых интеллектуалов изменить свое отношение к Северному Вьетнаму даже в связи с появившимися в последнее время сообщениями дано в: Stephen Miller, «Vietnam and the Responsibility of Intellectuals», American Spectator, November 1977. Миллер писал: «Последнее, чем интересуются эти критики [американской политики], так это реальными условиями существования вьетнамцев. В известном смысле, народ Вьетнама был для них лишь водой, которая лилась на их мельницу» (р. 14).
161. «The Truth About Vietnam», New York Times, June 24, 1979. Заметка Джоан Баэз была озаглавлена: «Ап Ореп Letter to the Socialist Republic of Vietnam», New York Times, May 30, 1979.
162. Kathleen Teltsch, «Visitors to Vietnam Report Farming Gain», New York Times, March 11, 1977, p. 9.
163. «Clark‘s Hanoi Comments», New York Times, October 25, 1974. Кларк пишет, что во время своего посещения Ханоя в 1972 году он убедился, что «пленные американские солдаты выглядели здоровее, чем он сам» (Will, Pursuit of Happiness, p. 158).
164. Sontag, Trip to Hanoi, p. 69, 77.
165. Lynd and Hayden, Other Side, p. 57.
166. Berrigan, Night Flight to Hanoi, p. 45, 48, 79.
167. Коффина потрясло заверение его в том, что «во Вьетнаме ему бояться некого» (Coffin, Once to Every Man, p. 319). Эшмора и Бэггса поразило «вежливое обращение, которому нисколько не мешал наш подозрительный вид» (Ashmore and Baggs, Mission to Hanoi, p. 30), и тот факт, что они «ни разу не столкнулись с какими-либо проявлениями враждебности в адрес лояльных граждан государства, армия которого сеяла здесь смерть и разрушение» (р. 33). См. также: Berrigan, Night Flight to Hanoi, p. 41.
168. Sontag, Trip to Hanoi, p. 69, 77.
169. Coffin, Once to Every Man, p. 316.
170. Levinson and Brightman, Venceremos Brigade, p. 327.
171. Berrigan, Night Flight to Hanoi, p. 32, 105, 106, 107.
172. Lynd and Haden, Other Side, p. 164.
173. Sontag, Trip to Hanoi, p. 71.
174. Coffin, Once to Every Man, p. 312, 314, 315, 325.
175. Berrigan, Night Flight to Hanoi, p. 125, 130.
176. McCarthy, Hanoi, p. 115-116.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
383
177. Lynd and Hayden, Other Side, p. 58, 62.
178. Sontag, Trip to Hanoi, p. 75.
179. Berrigan, Night Flight to Hanoi, p. 191. Линд и Хейден также превозносят новый стиль вьетнамского руководства, противопоставляя его «западному или застойному коммунистическому» (Lynd and Hayden, Other Side, p. 33).
180. Walter Goodman, «The False Art of the Propaganda Film», New York Times Arts and Leisure, March 23, 1975.
181. Berrigan, Night Flight to Hanoi, p. 110.
182. Ibid., p. 121.
183. Ibid., p. 99, 107, 123. Ashmore and Baggs, Mission to Hanoi, p. 32; Lynd and Hayden, Other Side, p. 68, 69, 71.
184. McCarthy, Hanoi, p. 50.
185. Berrigan, Night Flight to Hanoi, p. 60, 106.
186. McCarthy, Hanoi, p. 27, 50, 51.
187. Sontag, Trip to Hanoi, p. 63-64, 66; McCarthy, Hanoi, p. 121, 126.
188. McCarthy, Hanoi, p. 49-50.
189. Достаточно редкостные образчики такой позиции приведены в: «U.S. Leftist Editor Says Cambodians Are Thriving», New York Times, May 12, 1978, p. 7: «Опровергая показания беженцев о насильственном труде и репрессиях, господин Бурштейн говорит, что его группа проехала по дорогам Камбоджи более семисот миль, посетила множество предприятий и имела возможность общаться с представителями местного населения, но ни разу не сталкивалась с фактами, которые подтверждали бы реальность репрессий». Еще одна позитивная оценка режима Пол Пота приведена в: Chomsky and Herman, «Distortions at Fourth Hand» (более детальное обсуждение этой работы приведено в примечании 62 к гл. 2). Здесь идет речь о якобы несправедливых обвинениях западной прессы в адрес камбоджийского режима. Анализ взглядов Хомского представлен в: Leopold Labedz, «Chomsky Revisited», Encounter, July 1980.
190. Myrdal and Kessle, Albania Defiant, p. 184-185.
191. Ibid., p. 15, 30, 170.
192. Ibid., p. 146, 173.
193. Ibid., p. 175, 184.
194. Ibid., p. 129, 144, 154, 155, 156, 174, 178, 181, 182, 183.
195. Ibid., p. 183-184.
196. Ibid., p. 179.
197. Слова Ниринга приведены в: Whitfield, Scott Nearing, p. 201-202.
198. Serge Thion, «Africa: War and Revolution», Dissent, Spring 1979, p. 212.
199. Tom Wicker, «Hope and Discipline», New York Times, November 12, 1978.
200. Michael T. Kaufman, «Mozambique Is Viewed as Africa’s Best Hope for the Flowering of Socialism’s „New Man“», New York Times, November 14, 1977. Другие примеры столь же позитивного отношения к Мозамбику (и другим диктатурам левацкого толка) даны в: Stephen Chapman, «„Shot from Guns“ — The Lost Pacifism of the American Quakers», New Republic, June 9, 1979. Автор рассматривает феномен «селективного морализма» и «двойных стандартов в области соблюдения прав человека, которые превращают Комитет Американского общества друзей в обычную левацкую группировку, поддерживающую левые и критикующую правые правительства» (р. 17). Он также замечает, что «когда Комитет сообщает об условиях Жизни в коммунистических странах, он старается не замечать явных недостатков» (р. 16). Примерно таким же было отношение к коммунистическому Вьетнаму и даже к Северной Корее.
201. Falk, «Trusting Khomeini». Фолк и Рэмси Кларк были не единственными почитателями нового иранского режима. К их числу принадлежали Джордж Уолд, известный критик войны и профессор биологии в Гарварде; Леонард Вайнг- лас, защитник «чикагской семерки»; Мэри Андерсон, преподаватель Массачусетского технологического университета, состоящая в Обществе друзей (квакеров); Джон Джерасси, поклонник Кубы и член Трибунала по военным преступлениям Бертрана Рассела, и Леннокс Хайндс, профессор Rutgers University, который в 1978 г. пытался прибегнуть к помощи ООН для борьбы за соблюдение гражданских прав черных и индейцев, находившихся в американских тюрьмах. Все перечисленные выше лица были участниками антиамериканской конференции, состоявшейся в Тегеране в июне 1980 г. (см.: «Sketches of Americans at Iran’s Conference on U.S.», New York Times, June 4, 1980).
384
Пол Холланлеp
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ПАЛОМНИЧЕСТВО В КИТАЙ: СТАРЫЕ МЕЧТЫ В НОВОЙ ОБСТАНОВКЕ
Мне Китай представлялся своего рода доброжелательной монархией, управляемой императором-жрецом, снискавшим самозабвенную любовь своих подданных. Короче говоря, религиозным и высоко моралистическим обществом.
Урия Бронфенбреннер1
...Народ шагает легко, с энтузиазмом встречая будущее. Этот народ может стать воплощением новой мировой цивилизации. Китай совершил беспрецедентный прыжок в истории.
Мария Антониетта Маниоки2
...Жить в Китае удивительно приятно... Многие заветные мечты освящены идеей страны, где правительство прокладывает путь народу — путь образования, где генералы и государственные деятели являются учеными и поэтами.
Симона де Бовуар3
Люди выглядят здоровыми и сытыми и говорят о своей роли граждан нового Китая под водительством председателя Мао... Перемены в сельской местности удивительны... Вообще маоистская революция — это самое замечательное, что произошло с китайским народом за многие столетия. Маоизм... добился результатов...
Джон К. Фэрбэнк4
...Страна, в которой почти так же заботливо относятся к человеку, как в Новой Зеландии.
Ганс Кёнигсбергер5
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
385
Паломничество в Китай — это один из последних примеров бесконечных поисков западными интеллектуалами лучших социальных систем.
Что касается поездок в Китай, можно отметить более заметные различия между отношением американцев и европейцев, чем в случае Советского Союза и Кубы. Европейцы стали ездить в коммунистический Китай раньше американцев — с начала 1950-х гг., тогда как очень немногие американцы побывали в Китае до 1972 г. из-за разрыва дипломатических и политических отношений. Между тем после 1972 г. по числу поездок американцы, вероятно, перегнали европейцев, поскольку поездка в Китай вдруг стала возможна и в высшей степени желанна для интеллектуальной элиты и многих политиков.* Для жителей Западной Европы, правительства которых дипломатически признали Китай задолго до США, посещение этой страны не вызывало того ощущения отважного приключения или восхитительной новизны, с которой оно ассоциировалось у американцев. В отличие от американцев европейские интеллектуалы, путешествуя по Китаю, не чувствовали необходимости искупить грехи своей страны и в меньшей степени ощущали надвигающийся кризис собственного общества. Их поездки начались намного раньше американских; поездки американцев совпали с началом 1970-х гг. Хотя духом 1960-х гг. проникнуты многие поездки и европей¬
* Люсиан Пай замечает, что «символом общественного положения людей, формирующих общественное мнение, стала поездка в Китай... Делегация за делегацией, возвращаясь, сообщают, что они тоже посетили Великую китайскую стену, гробницы императоров династии Мин, Запретный город... посетили те же коммуны, фабрики, окружные комитеты, ясли и промышленные выставки; посещали одинаковые брифинги по экономическому планированию, политике в области народного образования и по разительным переменам в уровне жизни народа после „освобождения“».6
386
Пол Холлам дер
цев, и американцев, для Америки 1960-е гг. были более беспокойными и более опустошительными для коллективного самосознания, чем для Европы. США глубоко увязли в войне в Индокитае, их терзали расовые конфликты. Раскол в обществе США был шире, если и не столь глубоким, как в Западной Европе, не только по причинам, отмеченным выше, но также потому, что студенчество в США составляет больший процент населения.
Во многих отношениях общественно-политические (если не экономические) условия в США конца 1960-х — начала 1970-х гг. напоминали конец 1920-х — начало 1930-х гг. И в том и в другом случае они способствовали поискам духовных и политических альтернатив. Как и в 1930-е гг., разочарование в американском обществе привело интеллектуалов (и многих неинтеллектуалов) на берега нового общества, на этот раз в Китай, еще более таинственный, далекий и неизвестный, чем когда-то был Советский Союз. Эти два периода схожи по ощущению кризиса, болезни, хотя конкретные источники и выражение недовольства были разными.
Для многих интеллектуалов на Западе Китай еще более, чем Советский Союз начала 1930-х гг., представлялся непознанной страной, поносимой средствами массовой информации и обижаемой политиками. Очень многие из визитеров, и особенно американцы, приезжали в Китай с намерением исправить такое положение дел. Они хотели разоблачить дезинформацию, положить конец враждебным стереотипам, устранить недоразумения, «пробить стену неосведомленности»7 и исправить ложное представление о стране.8 Очень важно также, что большинство таких поездок (во всяком случае американцев) совершалось в конце войны во Вьетнаме или же вскоре после ее окончания, когда разочарование во взглядах и позициях истеблишмента — особенно в отношении коммунизма, в частности со стороны интеллектуалов, достигло высшей точки. Если до тех пор лица, определявшие политику, и их сторонники относились к Китаю критически, то это ipso facto {лат. — в силу самого факта) требовало опровержения. Если представления о Китае до тех пор были выдержаны в духе холодной войны и антикоммунизма, дискредитировавшего себя американским вмешательством во Вьетнаме, это требовало решительной реакции и разоблачения. Если в американских средствах массовой информации и в некоторых изданиях коммунистический Китай представляли как несвободное, регламентированное и тоталитарное общество, то поколение новых посетителей считало своим долгом доказать несостоятельность таких взглядов или изменить их. Новая правда о Китае обязательно должна была отличаться от прежней.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
387
В новом американском восприятии Китая сыграло роль и другое обстоятельство, связанное с последствиями Вьетнама, но не сводимое к ним. Всеобщее разочарование американским обществом, охватившее интеллектуалов в конце 1960-х и начале 1970-х гг., не позволяло им критически относиться к другим обществам.* В эти годы набирал силу тезис: «Кто мы сами такие, чтобы учить других», сравнимое с отрицательным самоедским настроением, господствовавшим среди интеллектуалов в начале 1930-х гг. Например, Ганс Кёнигсбергер, американский писатель, спрашивал:
Какое право имеем мы на Западе, грабившие мир в течение четырех столетий, разъевшиеся, богатые и озабоченные своими калориями, какого нахальства, право, нужно нам набраться, чтобы совать свой нос без спросу и проверять, нет ли пыли на политическом пианино, и проявлять столь благородную заботу о том, имеют ли эти люди (китайцы), судьба которых никого не занимала, когда они гибли миллионами от голода и наводнений, достаточно демократических прав?9
В отличие от 1930-х гг. причиной, повлекшей расшатывание самонадеянности общества и отчуждение интеллектуалов в конце 1960-х и начале 1970-х гг., не была экономическая депрессия. Как отмечалось в главе 5, это был скорее духовный кризис, кризис ценностей, веры и критериев культуры.
Посещения Китая происходили на другом фоне, чем поездки на Кубу. Необходимо вспомнить, что пик интереса к Кубе приходился на время Кубинской революции и сразу после нее и отражал обстановку в Соединенных Штатах 1950-х гг., которая была совсем иной, чем в начале 1970-х гг. Более того, поездки на Кубу по массовости и вниманию прессы никогда не могли претендовать на сравнение с поездками в Китай. Восхищение Кубой всегда было уделом немногих интеллектуалов. Восторженный интерес к Китаю можно сравнить с лавиной; она увлекла всех: от самых изысканных интеллектуалов с их высказываниями до массовых изданий, полных энтузиазма. После многих лет изоляции Китай нес в себе больше новизны и был страной огромной и более важной, чем Куба. Интерес к Китаю проявлялся в разных формах: в увеличении числа желающих изучать Китай в колледжах, в интересе к китайскому театру, музыке, балету, медицине и даже моде. «New York Times» отмечала, что
Вероника Яп... менеджер по продажам и маркетингу в «Dragon Ladies» (компании, импортирующей одежду из Китая), говорит: «Интерес фантасти¬
* За исключением стран, которые считались каким-либо образом связанными с Соединенными Штатами или зависимыми от них, например Тайваня, Южной Кореи, Греции (режим военной диктатуры) или Южной Африки. В этих и других аналогичных случаях критика, направленная против этих обществ, черпала свой пыл из возможности как-либо связать достойные сожаления условия, существовавшие в этих странах, с американской политикой.
388
Пол Холландер
ческий. Покупатели берут все подряд. Это просто невероятно». Даже госпожа Ричард М. Никсон не избежала увлечения Китаем. На обложке февральского номера «Ladies’ Home Journal» появилась фотография первой леди в халате китайского покроя... Описывая эту ситуацию, миссис Яп сказала: «Мы стараемся представить американцам реальный сегодняшний Китай — одежду, которую носят рабочие и крестьяне». Она сказала, что костюмы, которые продаются по цене 130 долларов, популярны в колледжах... Профессор Александр Экстайн... специалист по китайской экономике, прокомментировал это так: «Тут какая-то фантастическая загадка. Я поражен... Я никогда не ожидал, что пинг-понг вызовет такую реакцию. В этом ощущается огромное любопытство, добрая воля и симпатия».10
Хотя в фокусе этой книги остаются интеллектуалы, необходимо отметить, что ехали в Китай не только они, не только люди, которые и ранее относились к Китаю с сочувствием. Джозеф Олсоп, известный американский газетный комментатор, ранее враждебно настроенный, был приглашен в Китай, и его «комментарии, перепечатанные в 250 газетах, были полны чувствами удивления и восторга по отношению к тому, что он назвал „новым Китаем“». В его репортажах о месячном путешествии «отразился новый, проникнутый теплотой образ Китая в глазах американцев».11 Это настроение характерно и для Гаррисона Солсбери, другого известного журналиста, который ранее писал репортажи о Советском Союзе: «Мне казалось, — писал он, — что не может быть более важной задачи, чем как-то постичь плотность, скорость, вязкость и истинное величие китайского духа».12 Даже некоторые калеки встали и пошли, о чем свидетельствуют «Наблюдения путешественника по Китаю в инвалидной коляске».13 Британский социолог Питер Ворсли так комментировал новую волну интереса к Китаю и ее массовый характер:
Люди хотят больше знать, поскольку они чувствуют, что Китай олицетворяет, во-первых, возрождение надежды на возможность перемен, в том числе радикальных и революционных перемен, а во-вторых, интерес к подробностям самой китайской модели...
Что поразительно... в новой волне энтузиазма по отношению к Китаю, так это то, что... он находит отклик не только среди молодежи; пожилые люди, и не только левые, интересуются не меньше.1,1
Таким образом, для многих интеллектуалов как в Америке, так и в Западной Европе Китай важен (ранее это была Куба) как образец нового типа социализма, которого не удалось достичь горьким опытом и перекосами, связанными с советской моделью. Дэвид Колодный писал в «Ramparts»:
В то же время китайская модель революционной чистоты стала для нас политическим оселком... она влекла нас как источник энергии и надежды. Китай служил для нас доказательством того, что революционный процесс может быть совсем иным, что он сможет изменить образ коренных общественных перемен... Непреклонность Китая подавала нам надежду... Реальное значение китайской революции для американских левых заключалось... в широко распространенном убеждении, что... эта революция была действительно революционной.16
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
389
Мария Мачиоки, итальянская писательница и журналистка, советовала, чтобы «мы не цеплялись так слепо за китайский опыт, как мы это делали в отношении Советского Союза... или переносили на Китай надежды, возлагавшиеся ранее на Советский Союз. Одну историческую ошибку невозможно исправить другой».16 Несмотря на эти предупреждения, она продолжала свой в высшей степени некритический отчет о том, что увидела.
К. С. Кэрол (бывший житель Советского Союза) «видел, как обманывали иностранных туристов: людей в лохмотьях убирали с глаз долой, в магазинах по случаю появлялись продукты... Он также знал, что не владея языком и не имея возможности общаться с людьми, кроме как через переводчика, он не сможет хорошо узнать жизнь Китая». И несмотря на это, «он пришел к заключению: все, что происходило в Китае на самом деле, мало чем отличалось от того, что ему представлялось раньше... что китайское общество по существу более честное и менее лицемерное, чем то, которое он знал в СССР».17
Подобная и аналогичные оценки Китая претерпели значительные изменения после воцарения «Банды четырех», последовавшего за смертью Мао. И тем не менее можно с уверенностью сказать, что в течение всех 1960-х и начала 1970-х гг. притягательность Китая, равно как и Кубы, проистекала в большой степени из убеждения в том, что Китай успешно избегает ошибок Советского Союза, которые включали чрезмерный упор на индустриализацию за счет развития сельского хозяйства, обусловленный с этим недостаток продуктов питания и дурное обращение с крестьянами, кровавые чистки и вообще террор и принуждение, связанные с именем Сталина.* К концу 1960-х гг. многие уже не были так в этом уверены. Канадец Бернард Фролик, изучавший и Китай, и Советский Союз, пришел к заключению, что «между сталинскими 1930-ми гг. и Китаем времен Большого скачка и Культурной революции много общего» и что «китайский опыт во многом сродни тому, что происходило в Советском Союзе в 1920-х и 1930-х гг. (и в настоящее время)»18 в отношениях элиты и народных масс, бюрократизации и эгалитаризма. Посетивший Китай Питер Кинез (историк, занимавшийся Советским Союзом) также нашел очень много сходства:
Я был не готов к такому ограничению возможных тем для обсуждения, фактов и событий, которые разрешалось публично упоминать.
Китай в этом отношении является карикатурой Советского Союза 1930-х и 1940-х гг. Там тоже факты становились фактами после того, как они
* Считалось, что они, в свою очередь, проявляли меньше чувствительности к тем неприятным сторонам китайского режима, которые не были производными режима советского.
390
Пол Холланлер
получали официальное признание... Даже там (то есть в СССР) никогда не случалось, чтобы о съезде партии объявили через два дня после его закрытия. Даже Сталин никогда не пренебрегал народом в такой степени, чтобы держать в секрете место проведения съезда.19
Такие комментарии и параллели были, однако, очень редки и не только потому, что очень немногие из тех, кто посещал Китай, были хорошо информированы о советском обществе, но также из-за желания найти в Китае добродетели, которых уже нельзя было найти в Советском Союзе. Фролик дал ретроспективное резюме позиций, о которых шла речь:
Из событий 1966-1971 гг. раскрылась китайская концепция развития, которая пленила наше воображение своей простотой и перспективами. Китайцы собирались строить без хаоса и раскола общества, которые раньше были неизменными спутниками модернизации во всем остальном мире, как в капиталистическом, так и социалистическом. Советский Союз не устоял перед пороками индустриализации и вестернизации, но необходим ли такой путь для китайцев?
...На «развитом» Западе идея появления китайской модели была привлекательна для многих из нас по ряду причин. В это время как раз произошла оккупация Чехословакии... Мы поэтому были более склонны слушать китайцев и более симпатизировали их делу, хотя бы только потому, что они были настроены столь агрессивно антисоветски. (Мы знали слишком много о русских и, как оказалось, по-видимому, слишком мало о китайцах). Во-вторых, Китай для многих из нас был экзотической страной, хранилищем чудесных тайн непостижимого Востока. Так почему же не принять предположение, что эта чуждая культура могла на деле найти лучший путь модернизации?.. В-третьих, обязательства по отношению к новому Китаю были своего рода искуплением для некоторых людей на Западе, которые чувствовали, что Запад в прошлом поступал несправедливо по отношению к Китаю и эксплуатировал его... В-четвертых, для многих интеллектуалов, старавшихся справиться с моральным кризисом 1960-х гг., китайская модель была маяком спасения, указывающим, что для человечества еще остается надежда... И, наконец, для радикалов во всем мире китайский пример был последней попыткой создать утопию, более правдоподобный синтез социалистических идей, чем что-либо предпринимавшееся в прошлом.20
Каким бы ни было сходство и различие между тем, чем был привлекателен Китай 1970-х гг. и Советский Союз 1930-х, общее направление ума у интеллектуалов, направлявшихся в свои поездки, было в обоих случаях сходным.
Теперь, как и прежде, визитеры стремились не судить о действительности по критериям и ценностям, которые могли бы привести к критическим выводам. Как утверждает Мачиоки, «путешественник, который судит о Китае по западным критериям, ничего в нем не поймет и совершенно растеряется».21 Такая позиция была парадоксальна по двум пунктам. Во-первых, западные критерии были единственными критериями, которыми западные визитеры могли бы оперировать, как бы они ни пытались их избегать. Во-вторых, такими обществами, как коммунистический Китай, можно было восхищаться только в свете западных
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
39]
моделей — социальной справедливости, равенства и радикальных перемен — в той степени, в какой оказывалось, что они живут по этим моделям.
Делегация квакеров размышляла об этой же проблеме:
Как должны люди на Западе смотреть на Китай и его народ?
Американский социальный опыт плюрализма и многообразия и относительно свободной экономики в США не создает того увеличительного стекла, с помощью которого американцы смогли бы успешно исследовать основы китайского общества.
...Нас заботили вопросы мира и дружбы в мире... Мы были полны решимости смотреть на все по-дружески, но в то же время с той объективной проницательностью, какую давала наша национальная и культурная подготовка.22
Английский драматург Дэвид Сельбурн предложил сценарий поездки в духе социалистического реализма:
Несмотря на богатство деталей, которые можно увидеть, структуры и процессы, которые привели народные массы в Китае к их «настоящему» и которые ведут их в будущее, столь отличное во всех отношениях от того, с чем сталкивается западная цивилизация, не видны, и их невозможно увидеть «невооруженным глазом». ...Для того чтобы увидеть то, что кроется за лежащим на поверхности, увидеть внутреннее устройство этого великого исторического движения, нам нужно изменить фокус, сменить объектив, манеру письма так, чтобы не задерживаться на непосредственных впечатлениях, которые только создают натуралистическую иллюзию.23
Короче говоря, как объяснял Жданов, советский авторитет в области искусства, нужно схватывать не ту действительность, что лежит на поверхности, но в процессе ее раскрытия улавливать сущность явления — объяснение, цель которого — стереть различие между тем, что происходит в действительности, и тем, что должно быть согласно идеологическим требованиям.
Некоторые визитеры, стараясь «понять», что совершил новый режим, чуть ли не одобряют ту самую политику, которая ограничила им доступ к людям и стране. Гарвардский синолог профессор Джон К. Фэрбэнк писал: «В глазах китайцев сегодняшние строгие ограничения доступа в Китай представляются живительным контрастом по сравнению с раболепием времен кабальных договоров. Поколение революционеров считает только уместным, чтобы контакты иностранцев были под разумным и целенаправленным контролем».24 Е. И. Джонсон, секретарь по исследованиям и планированию Совета Всемирной миссии пресвитерианской церкви Канады, писал о подготовке своей поездки:
При планировании нашего визита... мы намеренно исключили контакты с церковью как одну из целей нашего визита. С одной стороны, мы хотели сосредоточиться на развитии современного Китая так, чтобы мы смогли сконцентрировать все внимание на понимании китайского эксперимента в том свете, в каком сами китайцы хотели бы его представить. С другой стороны, мы чувствовали, что лучше не искать контактов с церковью, чтобы не создать затруднений китайским христианам, которые стараются спокойно заниматься церковной деятельностью.26
392
Пол Холландер
Такая позиция нередко встречалась у визитеров, полных решимости избегать ситуаций, которые смогли бы отвлечь их от миссии доброй воли и одобрения, с которой они приехали. К счастью, намерения господина Джонсона и хозяев совпали: он был готов впитывать положительные впечатления, а они делиться ими.
У журналистов же произошло слияние профессиональных и сентиментальных факторов, результатом чего была самоцензура и готовность сотрудничать с хозяевами. Стенли Карноу писал:
Большинство американских журналистов стараются не задавать трудных вопросов... Например, мы не решались задавать вопросы о китайских вооруженных силах... и мы не делали попыток искать встреч с диссидентами... Не жаловались мы и в том случае, когда китайцы отказывались показать нам такие безобидные места, как газетную редакцию или телевизионную станцию... Я думаю, что наша мягкость мотивировалась отчасти оппортунистическим опасением, что мы можем попасть в черный список и не сможем вернуться в Китай... Но важнее было то, что мы, пожалуй, были достаточно сентиментальными и считали, будто мы не имеем права быть невежливыми. Вероятно, подсознательно мы считали китайцев жертвами несправедливости, и у нас перед ними был моральный долг сочувствия; так что мы из вежливости кланялись прошлому.2®
Подобно сочувствующим гостям Советского Союза и Кубы, многие путешественники по Китаю также были готовы видеть происходящее в лучшем свете в связи с конкретными обстоятельствами их визита. Феликс Грин писал: «Ни одно событие в моей жизни не потрясло меня так, как мое первое посещение Китая. Я не был слеп, чтобы не видеть ошибки, которые они делали, или степень нищеты, которая все еще существовала. Я знал также о страданиях и кровопролитии, которые сопровождали рождение современного Китая. Но все это приобрело новый смысл в свете свершений, которые я смог увидеть вокруг себя...».27
Иногда преувеличенно нереалистические и невероятно отрицательные ожидания вели к таким же неверным оценкам с переменой знака. Рут Сидель, американский специалист в социальной сфере, признавалась: «Мы ожидали увидеть бедную страну с типичными признаками нищеты — многолюдные города с нищими на улицах... сильно милитаризованную страну с марширующими солдатами, с армией, бросающейся в глаза повсюду...».28 Не встретив ни того, ни другого, она написала восторженный и весьма некритический отчет.
Вообще говоря, поколение американских политических туристов начала 1970-х гг. отправлялось в путешествие по Китаю, переполненное такими чувствами, как почтительность, стремление проявлять заботу, чувство вины. Такой букет эмоций редко стимулирует проявление критических способностей. Аналогичное отношение встречается и при культурных обменах:
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
393
Для американских граждан культурные обмены дают увлекательную возможность узнать больше о стране, которая длительное время была под запретом. Для многих американцев, по-видимому, существует еще одно измерение: чувство, что необходимо как-то загладить вину за годы вражды между двумя странами. Для некоторых американцев энтузиазм но поводу почти любого аспекта обмена становится формой mea culpa (лат. — моя вина) за то, что, по их мнению, было неправильно во времена Маккарти. Поэтому существует широко распространенное американское табу на любого рода критику не только того, что они увидели в Китае, но также и того, как китайцы выполняют свои обязанности по обменам.29
Китай особенно хорошо подходил на роль добродетельной нации, жертвы несправедливости в глазах американцев. Во-первых, США грешили против коммунистического режима, помогая Чан Кайши во время гражданской войны; затем отказавшись установить дипломатические отношения и препятствуя вступлению Китая в ООН. Более того, такие действия резко противоречили прежней, более доброжелательной, если не патерналистской позиции по отношению к Китаю — особому подопечному Соединенных Штатов, кишащему американскими миссионерами, воспитателями, советниками.
Как и Советский Союз в 1930-х гг., Китай предлагал что-то привлекательное для каждого: для пуританина — образ работящей, простой, эффективно модернизирующейся страны; для знатока культуры — тысячи лет китайской культуры; для не- состоявшегося левого — марксистско-ленинский режим, восстанавливающий доброе имя марксизма; и сверх всего, для большинства визитеров это была страна тайн, красоты, целеустремленности и порядка, бывшая жертва, приобретающая мощь и достоинство, нация, как казалось, обладающая всеми добродетелями, которых американцам так мучительно не хватало в их собственном обществе во время войны во Вьетнаме и после ее окончания.
Однако при всем том, что было сказано и сделано, примечательна степень, с какой такая предрасположенность меняла восприятие и суждения, особенно потому, что это происходило и раньше (с Советским Союзом) и также потому, что к 1970-м гг. уже существовало большое количество объективной литературы по Китаю: таких американских специалистов, как Док Барнет, Джером Коэн, Мартин Уайт и Эзра Фогель, и многочисленные книги европейских авторов. И только когда климат общественного мнения после смерти Мао изменился, впервые за более чем десятилетие резко критическая книга о Китае «Китайские тени» бельгийского синолога Саймона Лейса привлекла широкое внимание и получила благожелательный отклик. Замечание Лейса о Солженицыне (сделанное в другом месте) можно было бы отнести и к влиянию его собственной работы:
394
Пол ХолланАер
самое поразительное в воздействии Солженицына — это то, «что Запад реагировал на него, как будто в книгах его было что-то новое. По-настоящему уникальный вклад Солженицына состоит в объеме и точности его каталога зверств — но по существу он не открыл ничего нового».30 Хотя объем критической литературы (до того, как была опубликована книга Лейса) о Китае был значительно меньше, чем объем соответствующей литературы о Советском Союзе, появившейся (между 1930-ми и 1960-ми гг.) до книги Солженицына, такая информация существовала, но она не привлекла внимания и не вызвала резонанса. Давайте рассмотрим важный вопрос о том, как много мог приезжий узнать о китайском обществе в течение нескольких недель, проведенных в стране.
Американский социолог Герберт Пассин еще в 1963 г. писал о цели китайских культурных обменов:
У китайцев гораздо более четкое понимание их целей и сознание их первоочередности. Тут нет места случайности...
Основное преимущество... это способность китайских коммунистов контролировать и использовать весь свой опыт благодаря их большим организаторским способностям и умению контролировать окружающую обстановку... Большинство визитеров приезжают в составе делегаций по краткосрочным турам.... В течение всего пребывания в стране, которое может длиться от недели до двух месяцев — в среднем три недели — с приезжающим обращаются как с почетным гостем. По отношению к нему проявляют обходительность, окружают роскошью и уделяют всяческое внимание... Один из ключевых принципов китайской культурной дипломатии — это учитывать впечатлительность, озабоченность и настроение визитеров...
Маршруты очень тщательно планируются... Обычно визитеров везут в показательные учреждения — школы, фабрики, детские сады, колхозы, народные коммуны. Но так как многие приезжающие уже знают методику потемкинских деревень, китайцы очень искусно предлагают другие варианты... однако буквально во всех случаях варианты также выбираются заранее.
Китаец, не являющийся официальным лицом, очень осмотрительно не вступает в неразрешенный контакт с иностранцами... Более того, у приезжего не может быть частных непроверенных контактов. Если он посещает «рядового рабочего» у него дома, с ним будут гиды, переводчики или хозяева...
Изоляция гостя от реальных контактов с людьми усиливается таким образом тщательным контролем окружающей среды, а также незнанием языка, незнанием людей и страны и обычной природной сдержанностью китайцев. А когда это еще дело государственной политики, его шансы на реальный контакт почти равны нулю.31
Французский писатель Робер Гилен наблюдал в 1957 г.:
Бамбукового занавеса не существует, но все же между Китаем и мной мастерски выстраивается и всякий раз опускается незаметная глазу, но прочная завеса... В стране шестьсот миллионов китайцев, но за два месяца мне ни разу не удалось остаться наедине с одним из них и поговорить без свидетеля... Я ни разу не смог посетить с моим гидом наудачу дом по моему выбору. Я ни разу не смог остановиться и задавать вопросы на фабрике, ферме, каком-либо заведении... если это посещение не было запланировано заранее... Я никуда не мог пойти без переводчика... Здесь не оставалось места случайности...
И наконец — нерушимое правило — внимательные гиды никогда не покажут гостю чего-нибудь, что не является отличным или даже исключительным, но при этом они не станут говорить ему об этом...32
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
395
Лоренц Штуки, швейцарский политический комментатор и корреспондент «Neue Züricher Zeitung», писал в 1965 г.:
Еще более запретным, чем стены в стенах, является официальное Китайское туристическое агенство... Иностранного гостя делают полностью зависимым от него; он не может уклониться от его забот и вскоре понимает, что внимание, которым его окружают, это средство изолировать его от повседневного Китая.
Что бы визитер ни посещал — школу или университет, фабрику, больницу или народную коммуну, порядок неизменно один и тот же: гостя ведут в комнату для приемов, где главный администратор или его заместитель в присутствии по крайней мере двух мужчин или женщин проводит стандартную беседу...
Посещения школ, фабрик, больниц, лавок ремесленников и т. д. ничего не открывают. Напротив, воздвигая блестящие подпорки, они изолируют... Невозможно разузнать или даже почувствовать, что на уме у людей...»Нет личных контактов, редко встретишь взгляд, улыбку или жест. Вы не испытаете, не откроете, не узнаете ничего, что было бы спонтанным, незаученным, естественным и открытым...33
Французский журналист Жак Маркюз писал в 1967 г.:
Со специальным корреспондентом обращаются как с VIP (очень важным потенциальным пропагандистом)... Его везут, так сказать, прямо на рынок, где ему предлагают что-нибудь выбрать и сделать профессиональную покупку. Он не всегда осознает, что это специальный рынок, бутафорский рынок... Вообще говоря, чем короче его пребывание, тем более благожелательным будет его отчет.
В Шанхае очаровательная простота системы поразила меня еще больше: гостям не позволяют видеть ничего, кроме того, что им хотят показать.34
Жюль Руа, французский писатель, после поездки отмечал в 1967 г.:
Я трудился шесть месяцев и еще до того, как отправиться в Китай, накопил двадцать фунтов заметок, и все равно я ничего не знал; а сегодня я знаю немногим больше... Я только ездил из одной гостиницы в другую, из одного города в другой, всегда в сопровождении моей маленькой группы мандаринов... наши разговоры не содержали ничего, кроме общих мест...35
Другой французский автор и постоянный сотрудник «Le Monde» Альфред Фабр-Люс писал в 1959 г.:
Как по мановению волшебной палочки, все вокруг меня становилось на свои места... окруженный вниманием, но лишенный всякой инициативы, молчаливый путешественник, одновременно и принц, и заключенный....
Подобно фокусникам, способным извлечь кроликов из шляпы, они готовы были предложить вам фабрику, цирк, лавку древностей, доктора, рабочий клуб и даже капиталиста.36
Еще в 1959 г. бывший китайский гид Роберт Ло, бежавший из Китая, сообщил массу информации о подноготной изощренных методов, которые китайский режим использовал, чтобы произвести благоприятное впечатление на визитеров. Например:
Партия подбирала определенные города, где туристы могли «свободно выбирать», куда пойти... В этих городах лучшие гостиницы становились официальными домами для приезжих... Потребительские товары высшего качества, такие как чай, шелк, парча и ремесленные изделия, которых не было на открытом рынке, продавались приезжим по до смешного низким
396
Пол Холла нле Р
ценам... В каждом городе власти делали тщательные приготовления для
того, чтобы создать иллюзию, будто ничто заранее не готовилось и не
инсценировалось.37
В 1960-х гг. издавались и другие книги, критически рассматривавшие различные аспекты системы, но их воздействие на общественное мнение (особенно американское) и на взгляды интеллектуалов было незначительно; им, несомненно, не удалось загасить энтузиазм тех людей, которые несколько лет спустя отправлялись в свои поездки. Среди этих книг была книга «Кризис в Китае» Свена Линдквиста (1963), основанная на его студенческом опыте, и «Красная книга и Великая стена» Альберто Моравия (1968), где среди прочего выражается отвращение к подавлению свободного выражения в искусстве и литературе. В 1966 г. на английском языке была издана книга немецкого журналиста Гуго Портиша «Красный Китай сегодня» и книга «Китай» другого немецкого корреспондента, Гарри Хамма. Появилась и книга «Муравейник» Сьюзан Лэйбин, опубликованная в 1960 г., в основу которой были положены интервью с беженцами в Гонконге. Этой и другой информацией, предоставляемой беженцами, часто не доверяли сочувствующие (хотя в их число не входили исследователи Китая): поскольку беженцы враждебно относились к системе, их сведения не заслуживали доверия. Не обратили внимания и на очерк Мэнса Спербера «Пилигримы в утопию».38 Был даже рассказ разочарованного африканского студента Эммануэля Джона Хеви (опубликованный в 1963 г.), на который также обратили мало внимания. Восторженные «делегации» американских визитеров, налетевшие в Китай в начале 1970-х гг., действовали так, как будто до их приезда в Китай не существовало никаких достойных внимания сведений об этой стране. (Нечего и говорить, что такое отношение не разделяют большинство специалистов по Китаю). Еще одним свидетельством того, какую роль играют предубеждения в выработке политических суждений, является то, как новое поколение политических туристов не замечало или отметало напрочь буквально всю информацию, представляющую Китай в неблагоприятном свете. По иронии судьбы больше веры было тем, кто «сам был на месте» и «все видел собственными глазами».39 Загадочное обаяние личного опыта как единственно достоверного проявлялось особенно сильно в начале 1970-х гг., когда еще были живы ценности 1960-х, подчеркивавших важность ощущения и непосредственного опыта.
Пройдут годы, прежде чем установится общее мнение и станет очевидной «истина» или множество истин о Китае. Однако в конце 1970-х гг. (когда писалась эта книга) стоит вспомнить, что
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
397
многое из того, что выплыло на поверхность после падения «Банды четырех», было уже известно и отмечалось многими еще в 1960-х гг. И, может статься, найдет применение в изучении китайской политики и общества при Мао то, что Адам Улам сказал об исследовании Советского Союза при Сталине:
У нас, у тех, кто изучает советские дела, есть... в картотечном шкафу скелет. Чтобы описать этот скелет, позвольте мне обратиться к одному вымышленному случаю с двумя вымышленными героями X и У. Стараясь узнать как можно больше о Советском Союзе, X примерно с 1930 по 1950 г. не читал ничего, кроме работ признанных некоммунистических авторов. Он основывался на работах Вэбба и сэра Джона Мэйнарда. Обращаясь к трудам американских академиков, он изучал работы о советском правительстве... которые, возможно, вышли из-под пера профессора Чикагского, Колумбийского, Гарвардского университетов. У его друга У было не меньше желания познавать, но его вкусы вели его к ненаучному, мелодраматическому... Он пытался найти ключ к советской политике в сочинениях общепризнанных врагов режима, таких как бывшие меньшевики; художественные рассказы типа Кёстлера, Виктора Сержа приводили его в восторг. Копая глубже, У перешел к низкопробным и сенсационным историям типа «Я был узником красного террора». Он привел бы в ярость X, утверждая, что есть некоторые аспекты советской политики, которые легче понять, изучая борьбу между Аль Капоне и Дан Торрио, чем между Лениным и Мартовым или «спором о построении социализма в одной стране». Какой из этих вымышленных персонажей смог бы лучше разобраться в природе советской политики при Сталине?40
ОСОЗНАНИЕ ЦЕЛИ В НРАВСТВЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Найти источник счастья и вдохновения в нематериальных сферах жизни было давней мечтой человека на Западе, все более вовлекаемого в материальный мир с его комфортом, чувством безопасности и зависимого от него. Свобода от искушений материального мира была также сердцевиной основных религиозных верований. Быть бедным и счастливым стало желанием, которое росло пропорционально отступлению нищеты и росту застенчивой неудовлетворенности материально обеспеченной, но духовно нереализованной жизнью. У разного рода групп и отдельных личностей — монахов, нищих, отшельников, художественной богемы, политических деятелей, хиппи и коммунаров более близких нам времен — есть одно общее непреодолимое желание быть бедными и счастливыми, не обремененными жадностью, собственностью и страстью к обладанию ею.
Китаю было что предложить для удовлетворения таких стремлений. Китай был несомненно бедной страной, но его бедность была возвышенной по своей природе. Английский писатель Феликс Грин верно уловил чувства, испытываемые многими западными туристами при встрече с такого рода нищетой:
398
Пол ХолланАвр
На улицах я погрузился в пульсирующую жизнь китайского города. Нищета поразила меня почти как физический удар. Я ведь забыл, как бедны китайцы! Но это была не мрачная, апатичная нищета... Здесь, несмотря на убогость нищеты, царила общая атмосфера жизненной силы. Везде увлеченно играли дети...41
Марии Маниоки нравилось, что «все моют голову с мылом. Косметики не существует... Все бедное, чистое, честное, основательное». Или, как выразили это члены американского Комитета озабоченных ученых-востоковедов, «люди живут просто, но состояние их духа поразительно».42
В 1960-е гг. еще более, чем в 1930-е (а то было время, когда западные интеллектуалы так же тосковали по жизни, в основе которой лежали бы здоровые духовные ценности) ощущение духовного вакуума было подавляющим для многих из тех, кто в конце концов нашел свой путь в Китай. В этот раз так называемый кризис ценностей не был обусловлен сбоями капиталистической экономической системы. Наоборот, именно материальные достижения и вошедшая в поговорку пустота богатства (для тех, кто пользовался ею достаточно долго) надували паруса поисков непреходящих ценностей и нравственного общества там, где они еще могли найти убежище. Поскольку пилигримы нового поколения 1960-1970-х гг. уже не могли с прежним пылом утверждать, что в их обществе массы живут в нищете, они перенесли акцент на духовную опустошенность западного капиталистического общества. Этому обществу противопоставлялся нравственный характер и сила бедных стран (таких как Китай и Куба), населенных простыми людьми, наделенными чувством собственного достоинства и свободных от недугов более богатых стран Запада, откуда приезжали эти туристы.
Как и в прошлом, новых паломников поразил контраст между продажностью их собственного общества и честностью нового. Американский психолог Кэрол Таврис писала:
Когда вы попадаете в Китай, вы проходите сквозь зеркальное стекло в мир, который отражает реальность прямо противоположную нашей. Позади на границе остался Уотергейт, энергетический кризис, грязные кинотеатры, цинизм и секс, и вы попадаете в мир безопасности, стабильности, энтузиазма, чистых улиц, чистых разговоров и положительного мышления.
Главное же, вы покидаете многообразие и конфликты, несущие клеймо Америки, и погружаетесь в единообразие убеждений и целеустремленность.43
Стотона Линда и Тома Хейдена в равной степени поразили различия между двумя мирами, которые во многом сводились к разнице между целенаправленным обществом и обществом без цели:
Мы приземлились в Пекине вскоре после полудня... И первым было ощущение совсем другого мира... Мы почувствовали, что Запад остался позади... Коммунистический «Интернационал» гремел убедительно из уличных громкоговорителей большого современного аэропорта.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
399
...Гуляя до завтрака... мы проходили мимо женщин, энергично певших перед началом рабочего дня. Везде бил пульс целенаправленной деятельности.44
Развращенности Гонконга (через который большинство приезжающих попадает в Китай) часто противопоставляют чистоту нового некоммерческого мира, куда не проникли денежные отношения: «Позади меня агрессивные продавцы, броские одежды, кока-кола, — отмечала Росс Террил, австралийский специалист по Китаю. — Впереди мир, более суровый по своим политическим императивам, но по-человечески, возможно, более простой и более расслабленный».45 Хотя «более расслабленный» может показаться сомнительным словом в этом контексте, все же жизнь и в самом деле проще в обществе, спаянном единством цели. Таким образом переплетаются притягательность целеустремленности и более простой жизни. Как сформулировала британский социолог Барбара Вутон, «для всякого, кто приезжает из мира, который угрожают задушить собственные запутанные проблемы, очевидная простота китайской жизни имеет непреодолимую притягательность».46 Прилетев в Китай, актриса Ширли Маклейн* радовалась: «Не было уличных продавцов со своими товарами, не было яростных споров о цене. Никто не продавал, никто не покупал... Не было кричащих рекламных столбов с их фальшивыми обещаниями, не было трущоб... Как спокойно, сказала я себе. Это самое подходящее слово. Спокойно».47
Реакция капиталиста Дэвида Рокфеллера не отличается от впечатлений радикалов и социальных критиков:
Первое, что поражает — это ощущение национального согласия. Начиная с громкой патриотической музыки на границе, повсюду встречаешь посвящения председателю Мао и маоистским принципам. Какой бы ни была цена китайской революции, она, очевидно, преуспела не только в том, что создана более эффективная и преданная своему делу администрация, но также в воспитании высокой нравственности и общности цели.
Не менее поразительны успехи в экономической и социальной области... Сегодня, по-видимому, почти каждый имеет достаточно непритязательной еды, одежду и жилье. Улицы и дома безупречно чисты, а медицинское обслуживание намного улучшилось. Преступность, наркомания, проституция и венерические болезни практически исчезли. Двери обычно оставляют незапертыми.48
* Надо признаться, Ширли Маклейн является сомнительным выбором в качестве «интеллектуала». Однако актеров и актрис (а также других людей искусства) можно отнести к интеллектуалам, если только они не поглощены всецело своими ролями и продемонстрировали способность размышлять о серьезных вопросах и идеях и четко формулировать их и если они занимают определенную позицию в общественной жизни. На этих основаниях и Ширли Маклейн, и Джейн Фонда могут считаться интеллектуалами, если воздержаться от оценки их размышлений и забот. Во всяком случае, и та и другая были яростными и популярными социальными критиками, имея широкий доступ к средствам массовой информации для выражения своих идей. Ширли Маклейн, кроме того, написала две книги.
400
Пол ХОЛЛОНАвр
Для студентки пребывание в Китае явилось «разительной переменой по сравнению с ее бесцельной жизнью на последнем курсе Йельского университета, сделало ее существование более осмысленным». Для физика из университета Джона Гопкинса «нравственное обновление» является главным достижением режима.49 Духовенство открыло для себя нравственные ценности, которым можно поучиться у Китая:
Если бы доклады на конференции имели общую тему, то этой темой была бы необходимость для христианства извлечь уроки из социальных преобразований в Китае...
Многие теологи видели в том, что происходит в Китае, промысел Божий. «Китай оказал определенное влияние на наше понимание и опыт спасительной Господней любви»,50 — утверждается в одном из докладов.
Стоит вспомнить, что в 1930-е гг. тоже считали, что Советский Союз воплощает лучшие ценности христианства, несмотря на его антирелигиозный фасад и лозунги. И в самом деле, для Хьюлетта Джонсона, одного из тех, кто утверждал такое о Советском Союзе, не составило труда через несколько десятилетий распространить свои утверждения и на Китай. «Китай, я чувствую, — писал он, — выполняет по существу религиозное действо, полностью сопоставимое с христианским отвращением к алчности... освобождая человека от рабства инстинкта стяжательства и прокладывая путь для новой организации жизни на более высоком уровне существования».51 Он был убежден в том, «что правительство не санкционировало преследование миссионеров и христиан...»* и находил, что китайская практика критики и самокритики «напоминает обеты смирения и покаяния первых христиан, а также... соборное прощение первых христианских общин... взгляд на жизнь, несущий огромный моральный потенциал».53 Джеймс Рестон полагал, что китайские коммунистические доктрины имеют много общего с протестантской этикой, и его поразила «атмосфера разумного и целенаправленного труда».54 Это была атмосфера добродетели. Ганс Кёнигсбер- гер писал, что ему уже не казалось «странным или невероятным ... что сборщики государственных налогов стали неподкупными,
* Он «вернулся в Англию с очень важными документами, представленными с соблюдением всех формальностей христианами Китая исключительно по их инициативе; эти документы предназначались для христиан Англии и призывали их присоединиться к Христианским церквам Китая в осуждении акта жестокости, не имевшего прецедента ранее», а именно, «заражения смертельной болезнью массы китайцев». Это была ссылка на сфабрикованные сообщения о «бактериологическом оружии» в период войны в Корее, которой поверил также архиепископ Кентерберийский. Этот обман был позднее разоблачен, наряду с другими, бывшим венгерским коммунистическим корреспондентом в Корее Тибором Мерай.52
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
401
что официанты в самом деле не хотят брать чаевых, что потерянный бумажник всегда вернут хозяину, что двери в доме не нужно запирать,* а некоторые интеллигенты, чтобы доказать, что они больше не испытывают презрение к крестьянам, в свободное время волокут ведра с навозом».56 Еще в 1952 г. Хьюлетт Джонсон увидел действие «нового кодекса чести» в том, что, например, в книжных киосках не было продавцов и люди оставляли деньги за свои покупки в коробке. Вторя ему, американский ученый Артур Галстон полагал, что «закон и порядок ... поддерживаются больше господствующим моральным кодексом, чем угрозой действий полиции».57
Другое выражение высоких нравственных норм обнаружили в сексуальных отношениях, которые, по сообщениям, были исключительно в пределах брачных союзов. Феликс Грин сообщал: «Китай сегодня — это чрезмерно, почти принудительно „нравственное“ общество. Во всех коммунах, которые я посетил, кроме одной, утверждали, что у них нет внебрачных детей».58 Наружность не играла почти никакой роли в межличностной привлекательности, поскольку «в определенном смысле китайцам удалось коренным образом изменить понятие привлекательности, заменив некоторые физические ее признаки на революционные...»59 — писал американский писатель Орвил Шелл. Поглощенность работой также уменьшала сексуальную озабоченность и гедонизм в целом. «Преимущество длительного безбрачия в том виде, как оно осуществлялось в Китае», заключалось в том, что оно помогало «избежать приватизации любви»,60 отмечала сочувствующая француженка Клоди Бруайель. В целом сексуальности не придают большого значения, а люди трогательно, если даже не странно, скромны.61 Согласно Ширли Маклейн, «у женщин невелика потребность и даже желание иметь такие несерьезные вещи, как разукрашенную одежду и косметику, детям нравилось работать, и они были уверены в себе. Отношения, казалось, были свободны от ревности и неверности». Мачиоки видела китайцев, «излучающих чистоту... мужчин без греха...».62, **
* Симон Лейс заметил: «Что касается иностранцев, которые утверждают, что в Народной Республике уже нет воровства, боюсь, они никогда не были на велосипедной стоянке: на большинстве из них... есть сторожа; на велосипедах есть цепи, и сторожа всегда напоминают вам, что их нужно запереть».35
** Более того, грех был наказуем. «После революции многие певцы преследовались за то, что на сцене они играли женские роли. За гомосексуализм и изнасилование могли приговорить к смерти. Женщин осуждали на пять лет за добрачные и внебрачные связи. Женатый мужчина, соблазнивший замужнюю женщину, получал десять лет. Женатого мужчину, соблазнившего незамужнюю женщину, ожидало тяжелое наказание, но меньшее, чем в предыдущем случае, а его партнершу только легкое наказание... Нетерпимо стали относиться к гомосексуализму, который раньше был широко распространен в Китае»,63 — сообщает Бао Руо-Ванг.
402
Пол Холланлер
Эти комментарии еще раз показывают: больше всего поражало приезжающих то, что часто выходило за рамки улучшения материальных условий или политических перемен. Было отмечено ни много ни мало — изменение человеческой природы, о чем среди прочих нам поведал Ян Мюрдаль.64 В свою очередь, Питеру Ворсли, по-видимому, больше всего понравилась «попытка китайцев изменить человеческие ценности и личные отношения на уровне повседневной жизни, бросить вызов утверждениям, что условия жизни в промышленном городе обязательно влекут за собой определенные типы поведения... что какая-то форма классовой системы... неизбежна... что привлекательность материального вознаграждения должна в конце концов подтвердиться...».65 По существу, китайцы вновь открыли пути к возрождению утопической надежды и утопического мышления. Как и в случае с Кубой, новая надежда социализма была основана на вере в то, что преобразования, которые попытались осуществить в Китае, происходили независимо от изменения социальных институтов (хотя эти изменения были коренными) и должны были привести к «возрождению общества в новых положительных, гуманистических социальных ценностях...». Ворсли, подобно многим другим интеллектуалам на Западе, искал такой тип «социализма, который озабочен не только формами собственности, но и общностью людей, демократией и альтруизмом: человеческой стороной жизни».66
Ранее английский визитер Вэзил Дэвидсон, писатель, пишущий о политике, размышлял, что китайцы верят «в добро и мирное будущее человечества» и эта вера была «движущей силой их революции, сообщая ей чувство единства и единство энтузиазма... которое переживали и другие народы в великие моменты их истории».67
Для Джеймса Рестона
самой наглядной характеристикой Китая является портрет юноши... стройность, грация мускулов, упорная тяжелая работа и оптимистический и даже приветливый взгляд на будущее... Люди кажутся не только юными, но и воспринимают с энтузиазмом перемены в своей жизни.
Он также верил, что молодые горожане, занимавшиеся физическим трудом в сельской местности, «относились к этому как к бегству из города на природу, как загородную прогулку».68 Американский комитет друзей отмечал, что молодежь, «казалось, была пропитана юным революционным энтузиазмом. Они выражали полную преданность целям и задачам революции...».69 Даже скептически настроенные канадские наблюдатели были тронуты и говорили об «уверенности китайского народа в будущем и активной вере в собственную судьбу».70 В том же духе Рут Сидель
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
403
писала, что «люди делают свою повседневную работу целенаправленно и даже с чувством выполнения своего долга... Чувство, которое проявляется особенно ясно и которое нам показалось особенно трогательным — это ощущение своего призвания, это чувство участия и посвящения себя идеалу возвышеннее, чем собственный».71 Американский политолог китайского происхождения соглашается с ней: «Когда я спрашивал ребенка, кого он любит больше всех, ответ неизменно был „председателя Мао“. Родитель был на втором месте. Когда я спрашивал девушку, каким самым важным качеством должен обладать мужчина, за которого она хотела бы выйти замуж, она неизменно отвечала: „Правильное политическое мышление“...».72 Члены Комитета озабоченных ученых-востоковедов получили уверения в том, что китайцы ничего не имели против того, чтобы быть оторванными от семьи в течение длительного времени, и без колебаний ставили работу и интересы общества (указанные их вождями) выше личных и семейных интересов.73 У Симоны де Бовуар было простое объяснение таким взглядам: «Отнюдь не противореча друг другу, личные стремления и долг перед страной совпадают....»74, *
При таком положении дел, считал Бэзил Дэвидсон, «рабочим больше нет смысла бастовать».76 И в самом деле, такая акция была бы немыслима в условиях согласия, единства цели и преданности интересам общества, которые наблюдали он и другие визитеры.
Нравственность и политика слились воедино: «Под руководством Мао Китайская революция — это не только прогресс в развитии ремесел... но также нравственный крестовый поход с далеко идущими целями изменить саму личность китайца в направлении самопожертвования и служения другим людям. ...Политика и нравственность... переплелись между собой... политическое поведение — это проявление нравственных качеств...», — писал профессор Фэрбэнк. Этот желанный союз политики и нравственности нашел свое воплощение в Китае, которым правят «достойные подражания нравственные люди, а не законы». Он чувствовал, что «американцы смогут найти в коллективной жизни современного Китая такую составную часть, как нравственная забота о соседе, которая является примером для подражания всем нам».77 Для Мачиоки Китай представлял «самую порази¬
* В последующих размышлениях о Китае она проявила больше скептицизма по этим вопросам: «Когда мне говорят, что рабочие имеют право на трехнедельный отпуск, но отказываются от него в порыве социалистического энтузиазма, я осознаю только то, что они остаются без отпуска; энтузиазм нельзя назначать сверху».76
404
Пол Холландер
тельную политическую лабораторию в мире», где политика пропитана нравственностью и таким образом «политика означает жертву, мужество, альтруизм, скромность и бережливость».78
Подобным образом и на Кубе сочувствующие путешественники нашли целеустремленность и связанную с ней жизненную силу. «Нельзя пробыть на Кубе несколько часов и не почувствовать почти ощутимую физически жизненную силу и огромный оптимизм», — писал Феликс Грин. «Я увидел в людях жизнерадостность и уверенность, чего я совсем не ожидал».79 Десятилетие спустя молодые американские ученые-востоковеды сообщали, что «самое большое впечатление в Китае на них произвела жизненная сила — энтузиазм, юмор и беззаветная преданность народа этому новому Китаю». На них также произвели впечатление такие выражения политической преданности и целеустремленности, какие они встретили у кондукторов автобусов в Кантоне: «проходя по автобусу и продавая пассажирам билеты, они декламировали цитаты из высказываний Мао, пели революционные песни и выкрикивали лозунги...».80
Для многих сочувствующих иностранцев Культурная революция была самым драматическим и благородным проявлением осознания цели, высшим проявлением идеализма и духовным обновлением всего общества. Вот как описал это Джошуа Горн, британский врач, поселившийся в Китае:
Трудно писать о Культурной революции и обойтись без множества превосходных степеней... Она поставила себе задачу ни много ни мало — открыть, как Человек может совершить скачок из прошедших тысячелетий классового общества в коммунистическое общество будущего...
Это беспрецедентное движение с целью дезинфицировать общество, вычистить всех паразитов, выявить политических дегенератов... выявить шпионов, ренегатов, предателей, всех тех, кого китайцы так выразительно называют «демонами и монстрами». Это грандиозная операция по сносу покрытого вековой ржавчиной здания учреждений, обычаев, ценностей и морали, пожиравшего людей прошлого, расчистке завалов, закладки фундамента для общества будущего... Это поиски форм организации и управления, стойких против коррозии бюрократизма и семейственности...
История может рассматривать ее как предвестника появления Коммунистического Человека, как фанфары, возвещающие приход будущего на сцену настоящего.81, *
* Позже оказалось, что «дезинфекция и чистка» общества, осуществленные Культурной революцией, предусматривали принуждение «Демонов и Монстров» есть «нечистоты или насекомых, их мучили электрическим током, заставляли стоять на коленях на битом стекле, подвешивали за руки и за ноги». Сообщалось также, что, «по признанию самого Пекина, потери были тяжелые... Имеются неполные цифры: Хан Сюнь ...признает 90 000 жертв только в провинции Сычуань (это цифра, вероятно, включает только часть реальных жертв). Ли Ю-Ци в своем манифесте утверждает, что только в провинции Квантуй репрессии Линь Бяо в 1968 г. стоили жизни 40 000 жертвам...».82
Вообще в последних оценках Культурной революции подчеркивается огромный ущерб, который она нанесла китайской экономике, системе образования, развитию науки и техники и культурной жизни, не говоря уже о развязывании фанатизма, квазипуританского насилия и репрессий.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
405
Интеллектуалы (и неинтеллектуалы), посещавшие Китай в 1960-х и 1970-х гг., в разной степени разделяли чувство разочарования чрезмерным индивидуализмом, моральным релятивизмом и этическими неопределенностями их собственного общества. Четко очерченные и обязательные ценности китайского общества казались живительно надежными вехами, указывающими путь к свободе от бремени мучительного выбора, от неопределенности в жизни. Здесь не было морального вакуума, столь болезненно ощущаемого на Западе. Осознание цели производило тем большее впечатление, что, как казалось, оно характерно для большинства людей.
В китайском пуританизме тоже была своя привлекательность. Для тех, кто приехал из стран, где распространена порнография, сексуальная одержимость и патология, где процветали средства массовой информации и индустрия развлечений самого низкого пошиба, где гедонизм принял угрожающие размеры, где не выносить ценностные суждения, не иметь собственного мнения стало нормой культуры, он был очень желанным. Высокий моральный тонус Китая был для многих приезжавших буквально духовным возрождением, а для большинства очищающим опытом, волнующим нравственным подъемом.* Снова оказалось, что далекое и малоизвестное общество обладает и предлагает интеллектуалам на Западе что-то очень важное, чего у себя дома они были лишены.
РАВЕНСТВО
Одной из главных причин, почему целое поколение политических туристов так стремилось в Китай, была надежда, что Китаю удалось то, в чем Советский Союз потерпел неудачу, а именно, в достижении равенства и социальной справедливости. Сознание неудачи Советского Союза увеличило привлекательность Китая, а не явилось источником скептицизма относительно перспектив крупномасштабных социальных технологий и экспериментирования, роста сомнений или появления иммунитета к утопическим мечтам. Надежды, не оправдавшиеся из-за неудачи советского эксперимента, многие интеллектуалы перенесли на Китай. Несомненно, эту «перебежку» осуществило главным образом новое поколение, вряд ли знакомое с событиями, кото¬
Ширли Маклейн бросила курить на второй день своего визита, а также прекратила ковырять все пальцами и кусать ногти. Теперь она «стала любоваться заходом солнца, деревьями, наслаждаться едой вместо того, чтобы каждый день нестись куда-то, держа в голове, что время — деньги». Она также меньше спала, так как «чувствовала себя намного бодрее бодрствуя».83
406
Пол Холланлер
рые означали конец революционного идеализма и эгалитаризма в Советском Союзе. Таким образом, у западных интеллектуалов не угасла безумная надежда найти общество, посвятившее себя достижению социального равенства, а китайская политика подтвердила веру в то, что неудача Советского Союза в достижении этой цели и отсутствие решимости продолжать не обрекли на неудачу аналогичные попытки в других частях света. Питер Ворсли проницательно охарактеризовал эту страстную надежду: «На почти невидимом уровне, я подозреваю, есть еще глубоко скрытое остаточное, неугасшее страстное человеческое убеждение, что главные коммунистические добродетели — равенство и братство — являются, несмотря ни на что, добродетелями и как раз теми добродетелями, которых нам не хватает».84
Китайский эксперимент не только возродил эти надежды, но также помог визитерам лучше осознать связь между неискоренимостью неравенства и определенными социальными ценностями, поддерживающими его. Американский ученый Артур Галстон, подобно Ворсли и многим другим, размышлял: «Посещение Китая заставило меня задуматься, является ли человеческая природа, как мы понимаем ее на Западе с его конкуренцией, единственной моделью развития, возможной для человечества. Китай пробудил во мне мой юношеский идеализм и заставил меня поставить под сомнение глубоко укоренившийся цинизм, преобладающий в нашем обществе».85
Как сообщали визитеры, китайская борьба с неравенством шла, по-видимому, в двух формах. Одной из них была попытка преодолеть ценности и отношения конкуренции, индивидуализма, приобретательства путем воспитания и пропаганды. Другая, может быть более важная, относилась к условиям труда, поскольку китайский режим занялся не только пересмотром ценностей (и денежных вознаграждений), связанных с трудом, но также и фактическим положением в области труда. Это произвело глубокое впечатление на визитеров с Запада, которым хорошо было известно, что социальное неравенство связано с оценкой различных видов труда и с отражением этой оценки в сознании. Западные интеллектуалы знали слишком хорошо и были очень обеспокоены тем, что в большинстве обществ не только к разным видам труда относились по-разному, но, вопреки элементарному понятию справедливости, наиболее тяжелая, унизительная и отупляющая работа обычно также хуже всего оплачивалась, отчасти потому, что требовала наименьшей подготовки и могла выполняться кем угодно. Ни в одном обществе не предлагали одинаковую зарплату инженеру и землекопу, ученому-ядерщику и уборщику улиц, генералу и солдату, пилоту реактивного самолета
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
407
и велорикше — но в Китае, по крайней мере, разница в заработке оказалась меньше. Более того, китайцы пересмотрели значение и престиж различных видов труда, в частности физического, пойдя по этому пути гораздо дальше Советского Союза, где физический труд славили только на словах. Многим визитерам показалось, что китайская система добилась больших успехов в придании нового значения многим видам труда, ранее непрестижного и не приносящего радости. Галстон, например, наблюдал, что «работники в сфере обслуживания в городах — лифтеры, служащие в отелях, водители машин, уборщики улиц — все они выполняли свою работу, радостно принимая то, что им предложила жизнь. Каждый работник окрылен знанием того, что его труд вносит вклад в благосостояние страны, и это знание дает ему чувство собственного достоинства и удовлетворение даже от самой простой работы».86
Рассуждая в том же ключе, Симона де Бовуар не нашла ничего плохого в возрождении профессии велорикш при социализме, предполагая, что раз выполняемая ими работа полезна для общества, то она перестала быть унизительной.87 Многие западные интеллектуалы пришли к убеждению (даже в большей степени, чем в отношении Советского Союза и Кубы), что были сделаны большие успехи в облегчении неприятных форм труда. Озабоченные ученые-востоковеды сообщили о замечаниях старой женщины, которой приходилось на работе счищать металлическую стружку с промасленных тряпок. Руки этой женщины были «покрыты порезами от стружки». Когда женщину спросили, не причиняет ли ей боль такая работа, она ответила: «Когда работаешь для революции, то боли не чувствуешь».88 Таким образом, даже работа, причинявшая боль, изменила свой характер в контексте новых целей, то есть в осознанной или якобы осознанной работе на благо общества. Такая переоценка работ, считавшихся изнурительными или унижающими (при других обстоятельствах, в другом контексте), была еще более поразительной при утилизации мусора или человеческих нечистот,89 широко используемых в Китае в качестве удобрения. Ничто не могло бы быть более символическим в попытке переосмыслить значение труда, чем политика более справедливого перераспределения его непривлекательных видов, принятая во время Культурной революции. Это означало привлечение бывших горожан, белых воротничков и бюрократов к выполнению таких работ. Мария Мачиоки назвала это «победой над отвращением», и на нее произвело сильное впечатление самоперевоспитание путем сбора мусора и нечистот в школе имени 7 мая для руководящих работников, которую она посетила.90
408
Пол Холланлер
Вполне вероятно, что специалистам и управленцам, которых режим посчитал действительно незаменимыми на своем рабочем месте (например, тем, кто занят в исследованиях и разработке вооружений), разрешили избежать этой формы выработки характера. С точки зрения газетного обозревателя Джозефа Крафта, посылать высококвалифицированных людей в школы типа школы имени 7 мая было занятием сомнительным с точки зрения экономики, но молодая женщина-ученый в одной из этих школ уверяла его в пользе работы вместе с крестьянами и необходимости такого рода ротации работников.91 Ясно, что в основе таких опытов лежали идеологические, а не экономические соображения, поскольку едва ли можно было утверждать, что в сельской местности не хватало рабочих рук или что горожане могли повысить эффективность производства сельскохозяйственных продуктов.92 Ян Мюрдаль видел в отправке интеллигенции в деревню форму их перевоспитания: «Сегодня интеллигенты и просто горожане находятся в деревнях Китая для перевоспитания трудом с помощью беднейших крестьян для преодоления представлений, что умственная работа более почетна, чем физический труд...».
Переселение интеллигенции в сельскую местность означало далеко идущее изменение всей социальной структуры. Согласно Мюрдалю, «в Китае сейчас происходит то, что культурные барьеры, которые раньше отделяли „интеллектуалов“ от простых людей, теперь разрушаются, подобно барьерам, отделявшим когда-то город от села».93 Озабоченные ученые-востоковеды также одобрили переселение «образованных молодых людей» и полагали, что те из них, с кем они встречались, были типичными по тому, как они радовались своему новому назначению. Эти американцы уверенно утверждали, что «огромное большинство [переселенцев] надеются прожить в деревне до конца своих дней, стать крестьянами и вносить здесь свой вклад в общее дело». Они верили не только в то, что большинство этих вырванных из своей среды интеллектуалов нашли счастье в деревне, но также и в то, что их отъезд из города был добровольным.94 Хотя в это никогда не верилось, после смерти Мао стало широко известно, что эти переселения в сельскую местность были непопулярны и принудительны. Например, Клоди и Жак Бруайель, двое разочаровавшихся сторонников режима, сообщали: «Часто слышишь о местных партийных чиновниках... которые, получив взятку от образованных молодых людей... позволяют им вернуться... в город. Наш друг рассказал нам: „Ребята могут купить местного партийного чиновника, заплатив ему деньгами или талонами за сданное зерно, но чаще... добровольно работают на него. Например,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
409
чиновник заявляет, что собирается строить себе новый дом. Ребята ... добровольно подряжаются строить его... Что же касается девушек, они чаще всего платят своим телом“».95
Визитеры также отмечали видимые проявления социального равенства. Мачиоки писала: «Моими первыми впечатлениями в Китае о Китае были роскошные рестораны, заполненными не богатыми клиентами, а простыми людьми». Бовуар увидела равенство в том, как выглядят толпы на улице: «Что больше всего поражает в спокойной и веселой толпе рядом с вами, так это ее однородность. Люди в Китае занимают разное положение в обществе, но Пекин предлагает вам прекрасный образ бесклассового общества. Невозможно отличить интеллектуала от рабочего... единство этой толпы проистекает из более глубокого источника, чем кажется на первый взгляд: здесь нет надменных лиц, нет и пешек, никто здесь не чувствует себя выше или ниже других...».96
Орвил Шелл разглядел разнообразие в этой однородности: «Все одеты в практичную мужскую одежду... Эти мешковатые, похожие на военную форму костюмы, состоящие из брюк, кителя и фуражки, отнюдь не делают людей одинаковыми, они, наоборот, выделяют их лица».97
В большинстве своем визитеры принимали как само собой разумеющееся то, что однородность одежды была показателем равенства. Им обычно не удавалось заметить более тонких различий, скрывавшихся за одинаковым покроем одежды. По словам Саймона Лейса,
Культурная революция лицемерно маскировала некоторые из наиболее очевидных форм классового деления, не меняя их сущности. В поездах, например, первый, второй и третий классы исчезли по названию, но зато теперь появились «сидячий жесткий»... «спальный жесткий»... «спальный мягкий», которые являются точно такими же классами, как и прежде,* и с той же разницей в стоимости билета в три раза между первым и третьим классом. В армии почти исчезли внешние знаки различия; вместо них появился свободный китель с четырьмя карманами для офицеров и двумя карманами для рядовых... В городе можно различить людей с четырьмя карманами в джипе, с четырьмя карманами в лимузине с занавесками. А также людей в черном лимузине с занавесками с сопровождающим джипом впереди.98
Среди американских гостей Эдвард Лутвак был, вероятно, первым, кто заметил, что, «пожалуй, самой прозрачной из симуляций социального равенства... было мнимое равенство одежды.
Это точно такое же средство, как в СССР и странах Восточной Европы, находящихся под властью Советов, где отказались от обозначения классов в поездах. Этот тип магического мышления (если мы что-нибудь переименуем, то оно исчезнет) не обошел и Соединенные Штаты, где в 1960-х гг. деятели народного образования, решившие покончить с элитарностью и конкуренцией в школах, решили, что именно школьные оценки символизируют и увековечивают это зло, и заменили их на словесные оценки, которые продолжали характеризовать успехи и способности учеников, но только в более громоздкой форме.
4/0
Пол Холланлер
Почти на каждом форма Мао. Но у некоторых она сшита из грубой хлопчатобумажной ткани, у других из тонкого габардина, а у третьих из хорошей шерсти. Высшие партийные бонзы носят свое великолепно сшитое „равенство“ из камвольной ткани... так непохожее на синюю хлопчатобумажную форму простых людей».99
Необходимо заметить, что эти иконоборческие открытия были сделаны и широко опубликованы главным образом в постмаоистский период, когда Китай стал приглашать таких неудобных гостей, как Лутвак, при условии, что они придерживаются антисоветских взглядов. Люсиан Пай, другая критически настроенная гостья, указывала, что «выравнивание доходов, по моим наблюдениям, как это ни странно, подчеркивало разницу в положении и могуществе. В любой группе людей не представляло труда отличить чиновника от простого человека. Власть, по- видимому, больше выделяет человека, чем разница в доходах...».100
В связи с эгалитарной привлекательностью Китая необходимо также отметить восприятие очевидного отсутствия бюрократизации, в чем Китай выгодно отличался от Советского Союза с его развитой и деспотической бюрократией. Можно вспомнить, что в 1960-е гг. интеллектуалы на Западе, а среди них особенно молодые американцы, испытывали глубокое отвращение к бюрократии и всему тому, что символизировало ее в их глазах — к иерархии, неравенству, сведению всего к строгим правилам, обезличиванию, формализму. Главной причиной непопулярности Советского Союза среди этого поколения было понимание того, что он представлял в высшей степени обюрократившееся общество. Китай, как полагали, был другим, и Культурная революция, в частности, указывала на то, что этот режим не склонен был терпеть рост бюрократии. Мачиоки, как и другие визитеры, была совершенно убеждена в том, что «иерархический и бюрократический менталитет совершенно исчезли».101 Другим аспектом эгалитарных общественных отношений стало отсутствие почтительности, поскольку слово «товарищ» стало универсальной формой обращения.102 Подобострастие перед начальством* на работе
* С тех пор мы также узнали больше отличительных признаков, характеризующих бюрократов и чинуш в Китае. Например, Саймон Лейс обратил внимание западных читателей на то, что в маоистском Китае «существует 30 классов бюрократии, каждый из которых имеет свои привилегии и прерогативы». Кроме того, «различные гастрономические привилегии отличают чиновников от простых смертных... Если требуется точная фраза для характеристики новых мандаринов, то самой подходящей была бы: „Те, кто ездит в машине“... Так как все машины служебные, то сам факт восседания на заднем кресле лимузина служит своего рода laissez-passer (пропуск)... Если вы приезжаете на машине... многочисленные охранники широко распахнут железную решетку ворот, даже не предложив вам притормозить...».
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
411
также искоренялось: «Китайцы решили сломать эти традиции, которые делают работу на американских предприятиях столь неприятной». Например, подверглось критике «традиционное дистанцирование „руководства“ от „рабочих“...». По мнению Озабоченных ученых-востоковедов, «разгром элитарности (особенно во время Культурной революции) оказал благотворное влияние на саму культуру... впервые каждый может петь, танцевать, участвовать в спектаклях, и все делают это с энтузиазмом!» В других местах отмечалось, что «идея состоит в том, что каждый человек может быть художником...». Такое участие было «соучастием».104 У Феликса Грина возникло чувство, что происходит «интеллектуальное возрождение» и «культурный взрыв».105
Демократизация художественного творчества имеет много общего с попыткой демократизации и коллективизации научной деятельности, горячо поддержанной Озабоченными учеными. При посещении ими Нанкинской обсерватории им сказали: «Теперь люди в обсерватории трудятся вместе... индивидуальных исследований больше не проводится».106 Борьба с индивидуализмом была важным элементом нового эгалитаризма. К ней оказались особенно восприимчивы молодые американцы, приехавшие из общества индивидуалистов, проникнутого духом конкуренции и исповедовавшие антикультурный и политический коллективизм 1960-х гг.* (В то время увлечение коммуной держалось на прочном политическом фундаменте; в 1970-е же годы те же порывы нашли лечебно-религиозное выражение.)
Людям на Западе, которые, будучи детьми 1960-х гг., питали отвращение к «элитарности» (или к любой форме неравенства),
Последовавшие за смертью Мао разоблачения привилегий высших чиновников содержали информацию, что «высшие чиновники могут покупать товары по низкой цене», а также дефицитные товары, о чем нам поведала листовка в Пекинском университете, которая вскоре после появления была сорвана... У чиновников есть даже специальная марка сигарет с фильтром, которую бесполезно искать в китайских магазинах. Сообщалось также о существовании специальных магазинов, обслуживающих иностранцев и китайских чиновников. Показать, как живут правители Китая, удалось Роксане Витке. Когда она брала интервью у Цзянь-Цинь, жены Мао, она была поражена роскошью покоев, одежды, еды и развлечений, которые не только были недоступны китайцам, но и не одобрялись господствующей идеологией (например, западные кинофильмы, юбки).
До смерти Мао рассказы о материальных благах и роскоши касались лишь бывших капиталистов, которых иногда показывали визитерам. Так, группу Модиано пригласили к такому человеку (бывшему хозяину хлопчатобумажной фабрики, а ныне ее управляющему), он продемонстрировал им свой черный блестящий «ягуар» самой последней модели и угощал гостей чаем с пирожными, который в его просторной гостиной подавали «две служанки в белых передниках».103
* Примером увлеченности коллективизмом было предпочтение коллективного авторства книги, изданной Комитетом озабоченных ученых-востоковедов, и нежелание выдвигать кого-нибудь на роль автора или редактора.
412
Пол Холланлер
уравнительная политика, которая ворвалась в Китай с Культурной революцией, была особенно созвучна. Даже занятия наукой нужно было очистить и лишить таинственности, и другая группа молодых американцев (называвших себя «Наука для народа») посвятила свой визит выяснению того, как китайцам удалось этого добиться. Их коллективное произведение (аналогичное по вдохновению труду Озабоченных ученых-востоковедов) сообщало читателям в предисловии: «Мы видели Китай таким, каким показали его нам китайцы, и охотно признаемся, что мы поверили всему, что видели и слышали. Читателю может показаться, что в нашем отчете не хватает элемента объективности и скептицизма. Если это и так, то, вероятно, причиной тому было глубокое впечатление, которое произвел на нас новый Китай, и, несомненно, то, что эти впечатления были окрашены нашими политическими пристрастиями».107 Несмотря на название, в группе было мало ученых-профессионалов, и неудивительно, что ее главной заботой была депрофессионализация науки, то есть устранение ее «элитарности» и иерархии. Группа также хотела изменить приоритеты американской науки, которая, по их мнению, «следовала логике прибыли». Ввиду такой позиции члены группы во время своего визита в Китай нашли много достойных восхищения явлений:
Наука в Китае... становится собственностью всего народа и интегрирует все проблемы в научную методологию... В китайской модели наука не является исключительным уделом людей со специальным образованием...
Короче говоря, наука в Китае лишается таинственности... По всему Китаю проводится широкий эксперимент по превращению науки в часть массовой культуры.108
Остается рассмотреть более осязаемое проявление политики эгалитаризма в экономике, которую проводил режим. По этим вопросам наблюдалось почти полное единодушие визитеров, которые нашли, что разница в доходах была исключительно незначительной. Более того, некоторые отмечали, что «даже люди с большим доходом не проявляют, по их мнению, интереса к повышению уровня жизни».109 Можно, наверное, с уверенностью сказать, что Гэлбрейт выражал мнение большинства визитеров с Запада, когда он заявил:
Где-нибудь в тайниках государственного механизма может быть привилегированная Партия и чиновничья иерархия. Но, несомненно, это наименее афиширующий себя правящий класс в истории. Если судить по тому, что открывается взору и слуху визитера, у рабочего, техника, инженера, ученого, менеджера на предприятии, местного чиновника, даже, подозреваю, у игрока в настольный теннис поистине удивительный подход к равенству доходов... Совершенно ясно, что разница между богатыми и бедными очень незначительна.110
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
413
Хотя такие впечатления были широко распространены, существовало меньшинство, особенно среди специалистов по Китаю, которые разглядели большее неравенство даже при жизни Мао. Мартин Уайт, например, отмечал, что «чиновники и служащие в государственной бюрократической системе были разделены на категории от высших руководителей государства (первая категория) до самых низших (тридцатая категория) и разница в зарплате между высшей и низшей составляла 28 : 1... Для технического персонала существовала шестнадцатиуровневая шкала, где разница в зарплате была примерно 10 : 1. Таким образом, по разнице в доходах видно, что на самом деле ситуация сильно отличалась от того впечатления, которое создавала эгалитарная риторика Культурной революции или же одинаково одетые люди на улицах».111 По словам Дональда Загория, «в Китае существует большее неравенство, чем это обычно себе представляют... существует неравенство между коммунами, расположенными вблизи городов, и коммунами в отдаленных районах... между богатыми и бедными бригадами, между рабочими бригадами в одной и той же коммуне... Имеется значительное различие между доходами в городах и в сельской местности... В китайской промышленности отношение высшей зарплаты к низшей составляет 3 : 1, от 40 юаней в месяц до 110 юаней для высшей категории. Инженеры могут заработать... 150 юаней. Преподаватели в университетах зарабатывают от 70 до 350 юаней... Высшие правительственные чиновники могут получать до 450 юаней...».112 Эдгар Сноу сообщал, что военным выплачивают от эквивалента 2,5 долларов рядовым до 24 долларов капитанам, 62-64 долларов полковникам, 192-236 долларов полным генералам, 360-400 долларов маршалам.113
Несмотря на такую информацию, большая часть приезжавших, по-видимому, верила в гораздо более высокую степень равенства, чем та, что существовала на самом деле. Это было обусловлено целым рядом факторов: желанием доверять, ограниченному доступу к объективной информации и необходимостью уравновесить — для тех, кто обращал на это внимание — отсутствие политических свобод выигрышем в других областях жизни.
Привлекательность социальной справедливости и равенства была одинаковой в отношении и Советского Союза, и Китая, хотя пристрастия к тому и другому менялись со временем. В 1930-е гг. советская политика в этой области казалась историческим прорывом, поиском новых путей на фоне экономического хаоса, неурядиц и кризиса, царивших на Западе. В эти годы гостей, приезжавших в СССР с Запада, особенно поражало, что
414
Пол Холланлер
система смогла обеспечить полную занятость. Напротив, посещавших Китай в 1960-е и начале 1970-х гг. меньше интересовали проблемы занятости и безработицы в их странах, а поэтому они не считали полную занятость per se особенно выдающимся достижением; во всяком случае, они меньше обращали на это внимание. С другой стороны, на фоне неудач Советского Союза популярность китайского эгалитаризма возросла. Как указывалось выше, к 1960-м гг. многие западные интеллектуалы, направлявшиеся в Китай, уже знали о пороках советского общества и его бюрократической, иерархической и классовой природе, а поэтому высоко оценили общество, которое позволяло им возродить надежды предыдущего поколения или надежды своей молодости.
Это поколение путешественников смотрело на равенство шире, чем их предшественники, так как акцент сместился с его материальной базы на заботы о конкурентоспособности, равенстве возможностей и на более общие вопросы социальной дифференциации.
Западных интеллектуалов в 1960-1970-е гг. проблема социального равенства беспокоила потому, что у себя дома они считали прогресс в этой области недостаточным. Немногие из них были готовы сказать о своей стране то, что один из них, Росс Террил сказал о Китае: «Замечательно, как он исцелил больных, накормил голодных и дал чувство безопасности простому человеку...».114
НАРОД
И ОКРУЖАЮЩИМ ЕГО МИР
Оказавшись в Китае, Ширли Маклейн писала: «Я вступила в ту таинственную среду, которая неотступно преследовала меня на протяжении всей моей взрослой жизни», в страну, о которой она «мечтала с детства».115 Одри Топпинг, американская журналистка и фотограф, после того как они в третий раз миновали мост из Гонконга в Китай, почувствовала, что это происходит с ней снова: «Я ощутила, как очарование Китая проникает во все мое существо. Весь мир стал казаться мне новым и более красочным». Для нее это было возвращение домой, что усиливало волнующее, берущее за душу впечатление и эмоциональную притягательность поездки. Она снова приехала в страну, или, как она формулировала это, «в мир, который притягивал к себе мою семью с конца 80-х гг. и который заинтересовал меня с тех пор, как я себя помню».116 Тяга к Китаю тех, кто побывал там до установления коммунистического режима, это целая глава в истории
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
415
западного и особенно американского отношения к Китаю. Сначала это были миссионеры или дипломаты (и их дети), и их воспоминания и впечатления (как упомянутые выше) отражают впечатления, никак не связанные с политикой. Тяга к Китаю для этой категории людей была ностальгией по их юности, по старым друзьям; в их благодарной памяти смешались жизненные тяготы и радости. Одри Топпинг своими детскими воспоминаниями обязана тому, что ее отец, Честер Роннинг до Второй мировой войны провел длительный период в Китае в качестве канадского дипломата.
Многие гости сразу по приезде отмечали, что им там нравится. «Как только мы вышли из поезда в Кантоне, мы были глубоко потрясены тем, что увидели, — вспоминают члены Комитета озабоченных ученых востоковедов. — После гонконгских толп, суетливых, шумных, деловые улицы Кантона казались просто тихими и спокойными. Люди попросту прогуливались не спеша. Они шли по делам, но двигались непринужденно. Выглядели все здоровыми, на людях не было лохмотьев, никто не побирался, никто не толкал вас локтями... Люди болтали, смеялись, слышались звонки велосипедов, порой гудки автобусов, а еще шепот и смешок, относящийся к нам. Но никаких пронзительных гудков автомобилей и воплей уличных продавцов...»117 Норма Лунд- хольм Дьерасси, американская поэтесса, сочла, что «люди в Кантоне, где она сама обливалась потом от жары... были свежими и чистыми...»; смех и голоса в Пекине сдержанные. Люди там производят впечатление деликатных, ненавязчивых и добрых. Они охотно улыбаются... «Самое главное — не встречались позеры и нахалы, которых я столь не люблю в своей стране. Люди естественны и счастливы быть полезными обществу».118 «Буквально с момента приземления Джошуа Хорн и его семья были согреты теплом осеннего солнца и дружелюбием людей. Подумать только! Никаких стюардесс на немыслимых каблуках с дежурной улыбкой! Просто розовощекие девушки с косичками, улыбающиеся оттого, что им хорошо...». Артур Галстон с семьей в самолете китайской внутренней линии «влились в группу дружелюбных людей, подхватив их песню».119
Несмотря на существенные различия в культуре и характере между китайцами и русскими, те качества, которые привлекали западных гостей в Китае, мало чем отличались от того, что так восхищало их предшественников в России. Это в основном были искренность, простота, мужество, терпение, гостеприимство, готовность прийти на помощь и цельность натуры. И все же китайцы были другими: более экзотичные, более загадочные и более необычные по внешнему облику. Это их своеобразие облегчало
416
Пол Xолланлер
возможность наделять их приятными качествами. Китайцы даже в большей степени, чем русские или кубинцы, обрели свои восхитительные особенности в своеобразном процессе восприятия, когда эмоциональное напряжение создавалось слиянием знакомого и экзотического, обычного и необычного.120 Примером такого процесса служит восприятие китайских солдат и железнодорожников Бэзилом Дэвидсоном:
Возможно, они не отличались от любой другой группы нынешних китайских солдат. И все же они совсем не были похожи на солдат любой другой известной мне китайской армии... они выглядели как люди, которым доверили служить. И это впечатление, я думаю, в высшей степени субъективное, возникло у меня несомненно благодаря сочетанию солнечного утра, возможности размять ноги, прогуливаясь по платформе после многочасового сидения в вагоне. Десятки солдат, улыбаясь, уступали мне дорогу, и расступались, чтобы дать мне возможность купить что-то на перроне...
Вероятно, это было субъективное впечатление. Железнодорожники, признаюсь, произвели на меня такое же впечатление; в них чувствовалась такая уверенность, что они владеют своими железными дорогами, и готовность сделать все, чтобы эти железные дороги хорошо работали...121
Замечания Питера Таунсенда, британского студента в Китае, что он предпочитает путешествовать по стране третьим классом, отражает также привлекательность, которую могут приобретать при определенных условиях обычные предметы и определенная обстановка: «Я шел по вагонам третьего класса. Третий класс означает жесткие сидения, но там все дышало жизнью. Детишки толпились в коридорах и спали на багажных полках. Группа солдат играла в карты, и весь вагон гудел от разговоров и пения...».122
Больше всего были очарованы поездами американские путешественники, у которых они вызывали чувство ностальгии по допромышленным временам.
На Озабоченных ученых-востоковедов произвел огромное впечатление увиденный ими первый китайский поезд, вероятно, благодаря странному для них обстоятельству: состав тянул паровоз. ** Можно отметить, что наши путешественники разделились в оценках; одних более привлекала живописная нищета, других — идеологически похвальная чистота. Уолдо Фрэнк принадлежал к тому, вероятно, меньшинству, которое определенно было привержено грязи и беспорядку, поскольку они ассоциировались с непосредственностью, безропотным приятием трудностей, человеческим теплом, простотой и спайкой членов коммуны. Для Фрэнка и кое-кого еще (особенно американцев, предшественников или приверженцев контркультуры), определенное количество грязи и беспорядка было более привлекательно и достоверно, чем антисептическая, лишенная человеческого тепла чистота, которая у них ассоциировалась с жизнью среднего класса. Многим из них не удавалось разрешить противоречивые чувства в этом вопросе. (Например, члены бригады Venceremos чувствовали себя виноватыми, поскольку тратили слишком много воды в душе.) В целом с долей уверенности можно сказать, что большую часть посетителей поразила исторически прогрессивная чистота, особенно в Китае и Северном Вьетнаме, а не живописное и подлинное убожество.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
417
«У поезда был паровоз; он был новенький и блестел, как будто его то и дело мыли. Вагоны были без кондиционеров, а окна все открыты...». Ширли Маклейн назвала первый китайский поезд, в котором она ехала, «нечто прекрасное», а для Артура Галстона «сам поезд был просто чудом и достоин был выдержать конкуренцию с американскими железными дорогами».124
Привлекательность китайцев и мест, где они обитают, часто невозможно было разделить. Особенно трудно было устоять перед поэтичностью китайских сельских пейзажей. Для многих посетителей было непостижимо, как может существовать дисгармония между этим красочным пейзажем, доброжелательными людьми и навязанным им политическим режимом. Симона де Бовуар писала:
Из воспоминаний, которые я сохраняю о Китае, самые незабываемые — это сельская местность, по которой я ехала на поезде от Ханчжоу до Кантона... До того, как опускаются сумерки, мимо вас проплывает неизменный пейзаж на фоне отдаленных гор... Деревеньки ютятся под купами деревьев... в каждой деревне есть пруд; дома там с черепичными крышами, стены из побеленного кирпича... Эти горы на горизонте, редкая листва над крышами домов, вода, блеклый свет — это и есть Китай, наконец, знакомый мне по гравюрам: многие художники эпохи Сун изображали такие пейзажи.125
Вид из окна вагона произвел на Феликса Грина аналогичное впечатление:
Вид из окна напоминал гравюру эпохи Сун... Старые деревни, теснящиеся друг к другу, с их изогнутыми крышами среди террас рисовых полей. Крошечные, сверкающие серебром водопады, сбегающие с террасы на террасу, все еще действующая система ирригации двухтысячелетней давности. Крестьяне на полях в своих широких конусообразных шляпах... И буйволы, качающие воду. И заросли бамбука и банановых деревьев; все зеленое и сочное.126
Для Бэзила Дэвидсона «с закатом пришло чувство мира и спокойствия на бескрайней земле; и последнее, что я помню перед тем, как заснуть, это промелькнувшие джонки, спускающиеся вниз по реке с их высоко поднятыми, провисшими парусами,..». Даже Гэлбрейт впал в лирическое настроение, глядя на китайский пейзаж: «Вид из окна божественный; рисовые поля золотые, другие злаки зеленые... хлопковые поля с их первыми белыми коробочками... и множество гордо возвышающихся подсолнечников, столь необходимых в хозяйстве».127
Нетрудно понять, почему безмятежность китайского сельского пейзажа произвела такое впечатление на высоко урбанизированных жителей Запада. Для многих из них общественный порядок Китая в меньшей степени символизировал новый способ индустриализации, нежели был экскурсом в пасторальное прошлое, где вечные сельские ценности сливались и служили прообразом гуманной сути марксизма. Иногда корни подобного пред¬
418
Пол Холландер
расположения замечали и сами гости. Так Ян Мюрдаль объяснял, почему он так привержен к сельской жизни в Китае и китайскому крестьянству: «Этой книгой о Китае я заплатил долг своим предкам. Только впоследствии я полностью осознал, что вдохновляло меня в этой работе. Так что в какой-то мере я написал книгу о нашей деревне, хотя писал я о деревне в Китае».128
Впечатления Гаррисона Солсбери от китайской деревни и ее людей напоминают такие же впечатления Уолдо Фрэнка от России за четыре десятилетия до этого и так же наводят на мысль, что эти впечатления почерпнуты из того же глубокого источника:
По мере того, как мы продвигались по сельской местности, во мне росло ощущение, что я вижу вокруг не столько образ мира будущего, сколько, оглядываясь назад, вижу наше собственное американское и европейское прошлое; мир, где мужчины и женщины трудились сами, имея небольшое количество домашнего скота и примитивные орудия труда, наблюдая жизнь столь простую, столь слившуюся с землей, погодой и растительностью, что эта соразмерность казалась почти чудом.129
Перед соблазном увидеть в современном Китае добрые старые деньки (американского) прошлого не устоял и Джеймс Рестон, который заметил: «То, что появляется перед глазами, постоянно напоминает, какова должна была, по всей вероятности, быть жизнь на рубеже в прошлом веке. Опора во всем только на себя, тяжелый труд, дух новаторства и сотрудничества в создании чего-то лучшего и большего, чем им было известно ранее».130 Для Пола Дадли Уайта (выдающегося профессора кардиолога), «быть в Пекине было подобно возвращению в пуританские дни моей юности, когда можно было спокойно ходить по улицам Бостона даже в темноте и когда воровство было сравнительно редким явлением».131
Гармония ландшафта и общественной системы, обнаруженная некоторыми посетителями, вызвала дальнейшие ассоциации с гармонией между нравственным обликом народа и создающимся социально-политическим режимом. Это была система без какого-либо намека на конфликты на любом уровне, в том числе и между людьми. Ширли Маклейн «не встретила никаких проявлений враждебности в Китае... и ей даже ни разу не случилось наблюдать перебранку между водителем автобуса и пассажирами». (Пробывший в Китае шесть месяцев почти в то же самое время, когда там была Ширли Маклейн, Саймон Лейс «видел больше уличных ссор и потасовок, чем за пять лет в Гонконге, который уж никак не назовешь воплощением миролюбия и вежливости».) Артур Галстон заметил (по поводу коммуны, где он и его семья провели некоторое время): «Такое впечатление, что никто никому не должен объяснять, что он должен делать в этом гармоничном мире».132
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
419
Гармония китайского характера и межличностных отношений нашла свое отражение (и поддержку) в воспитании и поведении детей. Посетители при этом непременно отмечали, что дети, которых им довелось увидеть, были счастливыми, здоровыми, ухоженными, что детские сады были превосходны, воспитатели заботливы и преданы делу, а родители, в свою очередь, добры и заботливы. Рут Сидель (в числе прочих) утверждала, что есть прямая связь между счастьем людей и успехами, достигнутыми в воспитании детей. Она признавала, что «многое в этой книге звучит излишне оптимистично, создается впечатление, что люди непомерно счастливы; можно подумать, что там нет места конфликтам».133
По словам Джошуа Хорна, «дети были воплощением радости и веселья. В Пекине почти не встретишь дерущихся детей, а тем паче, чтобы их бранили и били». Он полагал, что падение уровня детской преступности произошло потому, что «был положен конец эксплуатации, [что] резко снизило уровень социального напряжения и повысило уровень социальной безопасности».134 Урия Бронфенбреннер, американский специалист в области детского развития, заявил, что «самая мысль о том, что это автоматы, лишенные детской непосредственности и тепла, мгновенно развеялась, как только эти малыши бросились к нам и ухватили нас за руки...». Не на всех посетителей эти проявления тепла и непосредственности произвели впечатление. Эбер и Трюдо, нынешний премьер-министр Канады, вспоминают свое посещение Дворца детей в Шанхае: «Их было около сотни, ожидающих нас, тех, кому было поручено поразить нас своим настойчивым дружелюбием. Они приучены к этому, поскольку любой иностранец посещает этот дворец... Бросается в глаза, что к каждому из нас прикрепили мальчика и девочку. С изысканной любезностью эти маленькие парочки берут нас за руки и ведут из зала в зал».135
Наконец, гармонию, счастье, радость и прочие привлекательные личные качества можно было также наблюдать, так сказать, в совокупности, когда часть огромного населения страны собиралась по случаю какого-нибудь события. Нелюбовь западных интеллектуалов к толпе обсуждалась в предыдущей главе и многое из того, что там было сказано, вполне уместно и здесь. Если речь шла о Китае (Советском Союзе, Кубе), двойственное отношение к толпе сменялось восхищением, поскольку данные толпы собирались ради высокой цели в достойных похвалы ситуациях. В Китае (как и на Кубе) подобные толпы выражали дух общности и символизировали осознание цели, объединяющей все общество. Китайские власти, в свою очередь, наживали капитал на подобном восприятии и стремились показывать такие зрелища своим гостям, особенно высокопоставленным. Герберт Пассин отмечал,
420
Пол Холланлер
что «поскольку большинство визитов носят политический или строго официальный характер, нам демонстрируют большие скопления народа в дни национальных праздников, особенно в день 1 мая и в день провозглашения Китайской Народной Республики (1 октября). В такие дни, как никогда, китайцы могут произвести впечатление динамизма, национального единства и мощи...».136
В большинстве случаев реакция посетителей оправдывала ожидания властей. Джошуа Хорн, наблюдавший парад в день провозглашения КНР, «никогда раньше не видел такого массового проявления единства, радости и уверенности». Что же касается участников парада, «румяные, в красных шарфах, громко ликующие, воплощение бодрости и счастья. Они устремились вперед подобно волне прилива...».137 Для Дэвида и Нэнси Милтон, молодых американцев, преподававших в Китае английский язык, парад в день провозглашения КНР «был чудом сочетания бесконечного многолюдия с абсолютным порядком... Длинные ряды безупречно прямые, их заразительное воодушевление и серьезность... их целеустремленность придавали праздненству характер волеизъявления народа, осознавшего свое предназначение».138 Симона де Бовуар отразила изначально двойственное отношение (западных индивидуалистов и интеллектуалов) к массовым спектаклям, которое вскоре рассеялось:
Парад продолжается... Мы обмениваемся взглядам; поляки, французы, итальянцы — во всех нас с детства заложена ирония, и мы держим свои чувства на поводке... И каждый из нас про себя недоумевает, один ли он чувствует себя растроганным подлинным ликованием этой марширующей толпы. С чувством облегчения слышишь бормотание Инфилда: «Когда видишь такое, не слишком хочется оставаться циником...». А теперь очередь Нэнни выразить наше всеобщее раскаяние, когда, покачав головой, она бормочет: «Не представляю себе, чтобы такое было возможно в Риме или Париже... Для этого нужно обладать душевной свежестью. А наши души зачерствели».13®
Несмотря на невозможность общаться с людьми без посредничества переводчиков (или без их присутствия), гости часто делали огульные выводы о характере и личных взглядах китайцев и считали себя вправе обобщать свои впечатления. Ирэн Доусон, канадский консультант по части библиотек и музеев, писала: «За время своего короткого визита я прониклась чувством глубокого восхищения и полюбила этих беззаветно преданных и умственно дисциплинированных людей. Их скромность и любовное отношение друг к другу само по себе являлось уроком, который я надеялась не забыть и использовать в дальнейшей деятельности».140 Ширли Маклейн обнаружила «прославление бескорыстия (в яслях), мягкие наставления тем, кто этому не соответствовал, и нежелание подвергать бойкоту провинившегося...». На протяжении всего своего визита она «неизменно испытывала трепет при виде бесчисленных, безымянных, пышущих здоровьем людей,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
421
называемых китайским народом».141 Профессор Фэрбэнк дал аналогичную оценку господствующих отношений между людьми: «Очень важную роль в китайской жизни играет человеческая теплота личных контактов. Китайцы очень тесно связаны друг с другом... Личные качества членов китайского правительства станут очевидными, если сравнить ауру очень человечных мыслей председателя Мао, вершителя судеб, с весьма безликой юридической концепцией американской конституции».142 Не удивительно, что все посетители-интеллектуалы были убеждены в упразднении отчужденности в Китае. Как писала Мачиоки, «в Китае не осталось и следа отчужденности, неврозов, распада личности, господствующих в тех странах, где царит потребительское отношение к жизни. Китай представляет собой сплоченный, нераздельный и представляющий единое целое мир».143 Ее соотечественник Альберто Джакобелло, редактор иностранного отдела газеты «Unita», пришел к такому же заключению: «Самое поразительное наблюдение — это полное отсутствия того, что в нашем обществе называют отчужденностью, а в других аполитичностью. В Китае нет отчужденности. И не только нет аполитичности, а наоборот, общая страсть к политике, какой я не встречал ни в одной другой стране в мире».144 Отсутствие отчужденности, чувство соучастия и целостности были ключевыми характеристиками обстановки, в которой китайский народ смог «расти и развиваться, превращаясь в совершенных и гармоничных людей».145 В конечном счете достоинства общественного строя проявились на уровне отдельной личности.
МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС И ГУМАННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
До недавней вспышки озабоченности состоянием окружающей среды и связанного с этим двойственного отношения к промышленности, науке, технике и покорению природы на человека легко было произвести впечатление материальным прогрессом. По крайней мере, еще в эпоху французского Просвещения существовала твердая надежда, что материальный прогресс повлечет за собой также и духовные обретения и что грандиозные наглядные свершения человека преобразуют не только природу, но также и самого человека к лучшему.
Во всех странах, которые посещали западные интеллектуалы, о которых идет речь в этом томе, материальный прогресс встречал всеобщее одобрение, объединяя позиции многих посетителей, которые могли расходиться во мнениях по другим вопросам. Трудно было бы не одобрять рост количества школ, новое жилищное строительство, общественную систему здравоохране¬
422
Пол Холланлер
ния, меры по защите от наводнений, использование природных ресурсов на благо человека, рост благосостояния населения. Более того, все такого рода достижения были наиболее наглядными и неоспоримыми. Честер Роннинг, родившийся в Китае, писал: «Голые вершины китайских гор были вновь засажены лесом. Пшеничные и рисовые поля дают неслыханные урожаи. Промышленность набирает силу. Китайский народ накормлен, одет и имеет кров над головой. Он решает свои проблемы путем сотрудничества и опоры на собственные силы».146
Эндрю Марч, американский профессор географии, также очень живо обрисовал достигнутый материальный прогресс: «В долинах рек Желтой и Янцзы живут люди здоровые, накормленные, обеспеченные приемлемым жильем, большей частью грамотные, способные четко выражать свои мысли и радующиеся тому, что живут при социализме». Сеймур Топпинг, корреспондент газеты «New York Times», сообщал, что «повсеместное строительство, пышная растительность, хорошо ухоженные поля, рынки, полные продуктов питания и потребительских товаров, и всюду ощущаемая энергия создают впечатление, что удовлетворяются основные потребности людей и что заложен фундамент современной индустриальной державы».147
Таким образом, гости видели «собственными глазами» новое жилищное строительство, школы, каналы, промышленные предприятия и другие строительные объекты, но там, где речь шла о других вещах, таких как осознание цели, любви к правительству и различных свойствах китайских граждан, им в основном приходилось полагаться на собственные домыслы и интуицию.
Грандиозные преобразования были тем более внушительны, поскольку выполнялись при отсутствии современной техники, главным образом ручным трудом огромных масс народа. Буквально горы перемещались вручную, и обычно посетители предполагали, что движущей силой этих грандиозных свершений был энтузиазм всего народа: «Никто из нас не сможет забыть этих обожженных солнцем и обветренных крестьян, которые с оптимизмом как бы противостояли грозным силам природы»,148 писали члены общества «Народ за науку». Знаменитый Краснознаменный канал буквально был прорублен в сплошной скале «весьма примитивными орудиями труда».149 Как полагал Лейс, считалось, что «Красный канал был построен для экономических, сельскохозяйственных и гидротехнических целей, но истинное его назначение было служить объектом религиозного поклонения... Монументы, подобные Великой китайской стене или пирамидам, покоряют воображение миллионов...». В том же духе Мария Мачиоки считала «Нанкинский мост... местом поклонения».150 Таким образом
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
423
сравнительно рядовые объекты приобретали новое звучание благодаря их высшему предназначению, явление, отмеченное ранее в связи с Советским Союзом. Для Урии Бронфенбреннера зрелище строительства плотины было незабываемым, когда перед его взором открылся «ландшафт, кишащий людьми всех возрастов, толкающих тачки, копающих, выравнивающих, помогающих друг другу». Стотон Линд и Том Хейден видели «прогресс... повсюду. Миллионы китайцев участвуют в созидании. В Пекине мы видели, как тысячи людей роют канал под звуки музыки, несущейся из громкоговорителей...».151
Хотя надежда на материальный прогресс сохранила свою привлекательность, заложенную еще в эпоху Просвещения, для тех, кто был способен к состраданию по отношению к бедным, однако, по крайней мере, начиная с 1960-х гг., хлынули новые идеи, которые повлияли на отношение западных интеллектуалов к модернизации. Жажда материального прогресса, модернизации несколько поумерилась в связи с двумя новыми соображениями. Одним из них было растущее осознание того, что это болезненный и разрушительный процесс, при каких бы политических обстоятельствах он ни происходил, во всяком случае, таковым он был в Советском Союзе. Второй сдерживающий момент возник в последнее время из-за озабоченности последствиями его для окружающей среды и проблемой утилизации отходов материального «прогресса». Как мы увидим дальше, большинство посетителей Китая считало явным достижением китайского режима то, что ему удалось избежать обеих этих ошибок.
Западные интеллектуалы, озабоченные и огорченные разобщенностью своего общества, надеялись, что третьему миру удастся избежать этого губительного процесса. Они полагали, что Китаю удалось сочетать материальное усовершенствование (модернизацию) с ощущением обновления общества. Такое понимание — это ключ к тому, почему социалистические идеалы и режимы столь привлекательны для западных интеллектуалов. Питер Бергер отмечал, что «социализм — это мирской образец par excellence проецирования спасительной общности в будущее... его мирская эсхатология воплощает помимо основных надежд на модернизацию, новый рациональный миропорядок, упразднение нужды, социального неравенства и полное освобождение личности. Иными словами, социализм сулит все блага современного общества и освобождение от необходимости платить за это... в том числе платить разобщенностью общества».152
При социализме, таком, какой им виделся в Китае, могли быть созданы гармоничные отношения между человеком и его орудиями производства. Согласно Курту Мендельсону, британскому физику,
424
Пол Холланлер
для рабочих на Западе... индустриализация всегда влечет за собой порабощение и эксплуатацию. Промышленная революция оставила горький привкус. В Китае же дело обстоит иначе. Там коммунисты, в отличие от наших (коммунистов), не являются силой, которая пытается разрушить прочно установившийся порядок общества. Напротив, они привнесли мир и порядок... Технический прогресс —■ это великий и радостный опыт, приключение, в которое они пустились с огромным энтузиазмом.153
В том же духе Хьюлетт Джонсон приходит к заключению, что «китайский коммунизм продемонстрировал то, как даже холодную технику можно воодушевить теплом жизненно важных связей между людьми. Итак, человек отправляется в лабораторию, на поле, на фабрику с совершенно новым пониманием своей роли в жизни и обществе. Он и его сотоварищи являются частью бьющегося пульса жизни. Их маленького эго больше нет. Настало то, о чем мы мечтали как о насущной основе истинной религии». Профессор Фэрбэнк был уверен, что «Китай не будет подражать американской автомобильной цивилизации, но на свой лад создаст новое равновесие между человеком и машиной».154
Достижения китайской системы в материальной и духовной сферах казались еще грандиознее на фоне, с одной стороны, контраста между настоящим и прошлым, а с другой стороны, контраста между Китаем и Западом. Все эти изменения происходили на фоне ошеломительной демографии. Квакеры отмечали, что «по числу охваченных людей китайский эксперимент беспрецедентен... Он в равной мере затронул почти все несметное население страны».155 Что касается прошлого и настоящего, Скотт Ниринг (который за свою долгую жизнь посетил почти все страны, называющие себя социалистическими, и восторгался ими) «нашел, что Китай полностью преобразился [зимой 1957/58 г.] после моей первой поездки в 1927 г. Коммунисты устранили все бедствия, которые терзали страну за тридцать лет до этого... Индустриализация проходила в атмосфере энтузиазма... Для умонастроений в Китае этого времени характерны проявления бурлящей энергии, идеализм и высокие устремления».156 Джошуа Хорн вспоминал: «Кишащие всюду нищие* всех возрастов.... Всех их объединяли бедность и деградация... Проститутки... Распухшие от голода люди... Люди, роющиеся в мусорных баках...»,
* Устранение попрошайничества — одно из самых значительных психологических достижений левых диктатур, которое можно полностью оценить, противопоставив зримый образ города, кишащего нищими, городу, где таковых нет. Для западных посетителей, а особенно интеллектуалов, ничто не было более отвратительно, чем зрелище нищих — символ деградации, лишений и крайнего неравенства. И в то же время нельзя делать далеко идущих выводов об уровне жизни страны по наличию или отсутствию нищих на улицах; попрошайничество зависит от административного контроля и от степени культуры, а не просто показатель распределения благ и степени нищеты.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
425
и этому он противопоставлял «полное отсутствие нищих, бродяг, стиляг и проституток. А в послереволюционном Шанхае в магазинах твердые цены, никакого приставания, безупречная честность, отсутствие бартера».157
Материальный прогресс и устранение различных социальных проблем шли рука об руку, делегация Американской ассоциации государственных колледжей и университетов сообщала, что «наша группа не нашла и следов голода, бродяжничества или пьянства. Люди трудолюбивы. Как будто перед каждым поставлена задача и он занят выполнением этой задачи».158
Часто достижения Китая оценивались в свете неудач Запада:
Уверенность в успехе доминирует в умонастроениях китайцев в настоящее время [писала Кэрол Теврис]. Их достижения принимают фантастические размеры в свете холодного американского дня. Они фактически устранили множество социальных проблем, унаследованных народами: проституцию, наркоманию, воровство, насилие, убийства и замусоренные улицы. Они покончили со многими болезнями, которые унаследовала плоть человека... Никто не умирает с голоду, никто не ходит с протянутой рукой. Старики не ощущают своей ненужности, а молодежь своей беспомощности.159
Порой успехи китайцев противопоставляли недостаткам других азиатских стран: «Трудно передать наше растущее изумление по мере того, как мы исследовали Шанхай. Китай преодолел почти все трагические проблемы азиатских городов». Имелись в виду трущобы, отсутствие электричества, канализации и общественного городского транспорта.160 У Пола Дадли Уайта сложилось аналогичное впечатление: «Высокие ответственные лица заверили нас, что проблемы алкоголизма и наркомании решены, что венерические болезни... больше не встречаются и что повальные заболевания и эпидемии находятся под контролем... Их проблемы загрязнения окружающей среды ничто по сравнению с нашими...».161 (Хвалиться чистотой улиц, отсутствием транспортных проблем в Китае, по словам Лейса, все равно, что «хвалить безногого человека за то, что у него чистые ноги».)162 Корлисс Ламонт, который восхищался и Советским Союзом, и Китаем, был убежден, что «китайские коммунисты исполнены решимости не допустить наличия вредных отходов в современной технологии, которые привели к загрязнению окружающей среды и причинили много вреда в Соединенных Штатах и других капиталистических странах».163 Были среди посетителей и такие, которые противопоставляли законный материальный прогресс и пороки потребительского общества и выражали одобрение по поводу того, что Китай полностью с ними разделался. Один из них был Питер Ворсли: «Китайцы... не желают создавать общество потребления. Они не пытались наладить широкомасштабное производство автомобилей, телевизоров и телефонов; они просто этого
426
Пол ХолланАер
не желают. К счастью, бульвары Пекина никогда не будут задыхаться от выхлопных газов тысяч частных машин... Вместо этого два миллиона велосипедов, современные дешевые автобусы и новое метро обеспечат людей транспортом».164
Таким образом, к 1970-м гг. посетители с Запада были меньше склонны глазеть на малейшие признаки индустриализации и технических достижений, чем в 1930-е гг., когда дымовые трубы в глубокой русской глуши вызвали потоки восхищения, а не крики ужаса. Сам по себе промышленный рост теперь больше не производил впечатления, а вместо этого простота, бережливость, безотходное производство находили глубокий отклик, особенно у американцев, приезжавших из весьма расточительной страны. Предписание Культурной революции, докладывали Озабоченные ученые-востоковеды, гласило: «ничего не расточайте, используйте все».165 Журналист Эдвард П. Морган описывал в «Sierra Club Bulletin», как китайцы используют нечистоты:
Чем Шанхай может хвастаться, если здесь уместно это слово, это переработка человеческих отходов в драгоценные удобрения... Компания по производству удобрений собирает 9000 т нечистот в сутки и отправляет их в сельскую местность. Каждый район несет ответственность за обеспечение соответствующих емкостей на соответствующих канализационных коллекторах. Если в доме нет канализации, жители используют горшки... и компания собирает их содержимое тоже.166
Это поколение посетителей было, вероятно, больше заинтересовано в усовершенствованиях в сельской местности, а не в городах, поскольку они приезжали сюда с двойственным отношением к городской жизни в современном индустриальном обществе. Они также надеялись, что материальный прогресс в сельской местности не нарушит ее особого очарования и самобытности. Гаррисон Солсбери в числе прочих был потрясен образами сельской жизни, которые он зафиксировал во время своего визита в провинцию Хунань — он «словно бы прямиком попал в конец XVIII — начало XIX в.». Он видел в «полях склоненные фигуры мужчин и женщин, которые быстро передвигались среди высоких золотых колосьев и, срезая их косами, быстро вязали снопы пучками стеблей, как это делали американцы в пору до появления механических косилок Маккормика».167 После путешествия в Китай доктор Норман Е. Борлог, Нобелевский лауреат по селекции растений, сказал: «Нужно было очень постараться, чтобы найти неухоженное поле... Всюду, где мы путешествовали, все зеленело и ласкало глаз».168 Симона де Бовуар вспоминала: «Я обошла всю деревню. Нигде никакого мусора, ни одного прудика с застоявшейся водой. Воздух пахнет свежестью — я никогда не думала, что деревня может быть такой чистой и ухоженной». Не только деревни были такими чистыми. Артур
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
427
Галстон отметил, что «самое поразительное в этих городах — царящие там порядок и чистота, ощущение благополучия и надежды, отсутствие преступности и раздоров». Чистота еще возрастала в результате кампании против собак, воробьев, мух и всяких других насекомых.169 Это было хорошо управляемое общество. «Нет никакого сомнения, — писал Гэлбрейт, — что в Китае разрабатывается весьма эффективная промышленная система... Есть многочисленные свидетельства непрерывного прогресса — новое жилищное строительство, новые заводы, реконструкция старых заводов, внушительные цифры роста промышленности и сельскохозяйственного производства». Система распределения потребительских товаров была, по его мнению, весьма эффективной.170
Какова же была цена этого прогресса? Сколько же пришлось заплатить за то, чтобы китайскому режиму отдали должное? По этому вопросу почти не встречается разногласий в позиции более ранних и более поздних поколений интеллектуалов, тех, кого вдохновлял опыт Советского Союза, с одной стороны, и Кубы и Китая, с другой. Если и замечали какие-то жертвы, то легко приходили к заключению, что достижения намного перевешивали потери. Так Росс Терилл, в числе других, подвел внушающий доверие итог подобным взглядам:
Легко плюралистической Америке, где живет всего 6% населения земного шара и в которой сосредоточено 35% мировых богатств, нападать на строгую регламентацию жизни в Китае, где проживает 25% населения земного шара и которому принадлежит всего 4% мирового богатства.171
Только после смерти Мао стали возникать другого рода вопросы, хотя и робкие, и появился целый ряд нравственных дилемм, с которыми пришлось столкнуться западным интеллектуалам. Новая проблема заключалась отнюдь не в том, насколько утрата личной свободы возмещается совершенствованием системы распределения (победа над голодом, забота об общественном здравоохранении и т. д.), а скорее в том, в какой мере материальные достижения режима были подлинными, а в какой фикцией. Сколь велик на самом деле был тот материальный прогресс, который был достигнут за счет утраты гражданских свобод?
Как и в случае с Советским Союзом (до смерти Сталина), сомнения относительно дееспособности китайского режима большей частью отвергались, пока не поступило подтверждение этого от новых правителей, пришедших на смену Мао и его окружения. Любопытно, что далеко не сразу оценили значительность новой информации. Скорее, многое из уже известного предстало в новом свете и на него обратили внимание. Как и Советском Союзе, саморазоблачение режима, собственное признание лидеров страны, что многое в их политике было неправильным и что
428
Пол Холланлер
многие из их бывших вождей (особенно «Банда четырех») были порочны и некомпетентны — все это изменило климат общественного мнения на Западе. Как отмечал ранее Адам Улам в отношении Советского Союза, по мере того, как фасад самоуверенности и некритического самовосхваления начал разрушаться, доверие западных интеллектуалов стало падать. Так как режим сам санкционировал более критическую оценку собственной политики, или точнее, тех, кто был ранее у власти, стало удобнее критиковать Китай. «New York Review of Books» приводит длинные цитаты из иконоборческого и горького разоблачения Саймоном Лейсом Китая времен Мао и осуждения западных путешественников, которые возвращались из хорошо организованных туров с рассказами о сказочной стране. «New York Times» начала публиковать все больше статей и репортажей, подвергающих сомнению «экономическое чудо», созданное этим режимом.172 Все в большей мере Культурная революция воспринималась как разрушительное и кровавое буйство, а не как возвышенный подъем радикального идеализма, преследующий цель восстановить революционную чистоту системы. («Стараясь быть радикальной, Культурная революция и в самом деле преуспела в создании радикального упадка в производстве, влекущего за собой падение уровня жизни людей».)173 Одно за другим чрезмерные притязания как китайских властей, так и паломников с Запада стали подвергаться сомнению, если не были полностью развенчаны. Появившееся в Китае желание закупать на Западе все что возможно — продукты питания, технику, технологии, вооружение — наводило на мысль, что самообеспеченности нет и в помине. Несколько примеров проиллюстрируют, как изменился характер общественного мнения в отношении не подвергавшегося до этого сомнению материального (и нравственного) прогресса, достигнутого, по мнению многих западных интеллектуалов, в Китае.
Технология сельского хозяйства в Китае настолько отстала, что, грубо говоря, 75% его девятисотмиллионного населения должны до сих пор заниматься землепашеством.
Учитывая плохое управление, часто некачественное выполнение работы, Китай может оказаться не в состоянии освоить всю новую технику, которую он уже начал импортировать. Газета коммунистической партии «Женьминь жибао» недавно сообщала, что из сельскохозяйственной техники стоимостью 4 миллиарда долларов, имеющейся на складах, одна треть не находит спроса из-за ее низкого качества... Сможет ли Китай возродить традиционное трудолюбие среди городских рабочих, разочарованных годами работы при отсутствии материального стимула? Американские бизнесмены... часто удивляются, обнаружив, что китайские бюрократы отправляются завтракать в 11.45 и возвращаются на работу не ранее двух часов... Как сможет Китай заплатить более 70 миллиардов долларов по своим международным обязательствам, вот что обсуждают в настоящее время в Пекине.171
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
429
Изъяны в китайском коллективизированном сельском хозяйстве оказались удивительно похожими на таковые в Советском Союзе: китайские крестьяне, по-видимому, тоже не были заинтересованы обрабатывать колхозные земли и рвались работать на собственных участках:
Низкая производительность труда в сельском хозяйстве (писал Бруай- ель) просто поразительна и сравнима, пожалуй, только с Советским Союзом; наиболее наглядной иллюстрацией этого провала в «социалистическом» сельском хозяйстве является статья в газете «People’s Daily», где недавно сообщали, что 25% незерновой сельскохозяйственной продукции продавали государству владельцы семейных участков, которым принадлежит только 5% обрабатываемой земли... Эта цифра не включает в себя производство семейных участков, реализуемое на свободном рынке... и продукции, проданной на черном рынке, не говоря уже о той части продукции, которую потребляют они сами.1^5
В серии статей в газете «New York Review of Books», задачей которых была переоценка эффективности китайской системы, Ник Эберстад, научный работник Гарвардской школы здравоохранения, приходит к аналогичному выводу: «Посетители всегда бывают растроганы самоотдачей и бескорыстием рабочих коммуны, которых они встречали, но факт остается фактом, что 5% обрабатываемой земли, которую предоставили в частное владение, производит примерно пятую часть продуктов питания в Китае». (Статистика Советского Союза, иллюстрирующая вклад частных земельных участков в производство продовольствия в стране, поразительно совпадает.)
Теперь также оказалось, что «было бы неправильно утверждать, будто Китай — это бедная страна, где народ сыт»: по существу такие страны, как Тайвань, Южная Корея и Шри Ланка, не только предоставляют своему населению больше гражданских прав (разумеется, не будучи демократиями западного типа), но также больше продуктов питания и добились большей продолжительности жизни народонаселения. В вопросах регулирования рождаемости — еще одной области, где считалось, что Китай совершил чудо — теперь оказалось, что «темпы роста населения в Китае мало чем отличаются от аналогичных показателей во многих других частях неимущего мира», таких как Бангладеш, Индонезия, Пакистан и Африканский континент. Что касается грамотности и положения женщин, Эберстад пришел к заключению, что «китайские... достижения весьма преувеличены». Подобным же образом недооценивался масштаб голода, а достижения в области здравоохранения преувеличивались.176 Что касается последнего, Клоди и Жак Бруайель заявили следующее:
Вопреки широко распространенному на Западе заблуждению, в Китае нет бесплатного здравоохранения даже для рабочих. Плата или такса за каждую медицинскую консультацию один мао (одна десятая юаня). Жена и
430
Пол Холланлер
дети застрахованного человека должны оплачивать половину медицинских расходов, страховка почти не включает услуги дантистов и окулистов. За витамины и тоники нужно платить 100% их стоимости...
Нашего латиноамериканского приятеля госпитализировали в 4 утра. Когда его машина подъехала к больнице, он увидел огромную плотную толпу людей... выстроившихся в очередь перед воротами больницы... В 8 часов утра они смогли получить талончик с номером, который давал им право прийти позже днем.
Однако не все были обязаны сносить это. Пройдитесь по Чанг-Ань авеню на запад; это уже окрестности города... и вы увидите в этом тихом предместье некое очень большое, современное здание закрытого типа, охраняемое солдатом, чей примкнутый штык блестит на солнце... Это тоже больница — но никаких очередей! Вежливая, но бдительная проверка пропуска — вот и все, что требуется, чтобы попасть внутрь. Внутри царят роскошь, тишина и безупречная чистота; отдельные палаты, бесшумные коридоры, медсестры в элегантных, безупречно чистых халатах... Доступ в эту больницу строго ограничен. За исключением нескольких привилегированных «иностранных друзей», только высшие партийные и военные чины имеют доступ сюда. В Пекине большинство иностранцев ходят в эту большую больницу. Им отведено особое крыло... Раз или два нам удалось заблудиться, и мы оказались «в отделении для „рядовых“ китайцев»; здесь мы столкнулись с не поддающимся описанию беспорядком и убожеством. Общие палаты были набиты людьми, в коридорах полно коек... гигиена ужасающая... Сама больница обеспечивает только медицинским обслуживанием, а все остальное — постельное белье, стирка, еда — об этом должны позаботиться родственники.177
Когда после смерти Мао официальная цензура ослабла, открылись вдруг самые неожиданные недостатки. Кто, например, мог бы подумать, что по материалам самой китайской прессы «скудные лесные ресурсы Китая очень пострадали за последние годы из-за незаконных массовых вырубок» и «ущерб был столь велик, что в некоторых районах изменился климат. Желтая река несет больше ила, чем когда-либо раньше, и от этого пострадало сельскохозяйственное производство».178 И это происходило в той сфере, где, по общему мнению, китайцы традиционно были сильны: в трудолюбивом возделывании склонов холмов и гор, в посадке деревьев вдоль железных дорог и городских улиц, повсеместной общественной дисциплине, а также в строгости властей, которые должны бы встать на пути «массовых незаконных вырубок».
Оценить эффективность китайской экономики было нелегким делом для посетителей, с чем не соглашался Гэлбрейт, который писал: «Безусловно, нам рассказывали и показывали лучшее. Но путешествуя, видишь многое из того, что не показывают, и Потемкину... пришлось бы очень трудно, имей он дело с опытным экономистом». Большим реалистом оказался индийский экономист Падмай Десаи, который заявил: «Я отказываюсь верить, что, посетив фабрику или коммуну, вы... видели там все».179 Кроме того, более критически настроенные наблюдатели указывали, что высоко централизованные экономические системы склонны давать больше сбоев, которые трудно исправить.180
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
431
Таким образом, в постмаоистском Китае мы являемся свидетелями критической переоценки материального прогресса в стране. Сегодня уже почти не вызывает сомнения, что его явно переоценили, но вот насколько, станет известно еще нескоро. Пришедшие на смену новые правители Китая вряд ли осудят ошибки своих предшественников (равно как и свои), тем самым показав, сколь велик разрыв между теорией и практикой, поскольку такие шаги могут подорвать правопреемственность власти и привести к массовым беспорядкам.
Сверхэнтузиазм посетителей по поводу материального прогресса в Китае можно отчасти объяснить тем, что они связывали этот прогресс с высокой целью. Хотя, как отмечалось выше, некоторые развивающиеся страны догнали и перегнали Китай по успехам в сфере экономики, им не удалось вызвать ликование по этому поводу. Успехи таких стран, как Тайвань и Южная Корея, почти не замечали, поскольку они были достигнуты под покровительством политических и идеологических режимов, неприемлемых для западных интеллектуалов. В южнокорейских дорогах, тайваньских гидроэлектростанциях, пакистанских проектах общественного здравоохранения не было той высшей цели. Более того, на Западе знали очень мало о недостатках материального прогресса в Китае: изъянах системы китайского здравоохранения, скромных успехах в производстве продуктов питания, неэффективности промышленности, многочисленных отсталых, экономически слаборазвитых районах. Питер Бергер, возможно, был прав, предположив, что «нам только кажется, что диктатуры третьего мира решили свои проблемы развития, поскольку они контролируют поступающую к нам информацию по этим проблемам».181
ВОЖДИ
Своей притягательностью для иностранцев Китай во многом обязан вождям, поскольку руководители тех стран, откуда приезжали гости, казались им в лучшем случае невыразительными, а в худшем коррумпированными и недоброжелательными. Хотя Мао, верховный правитель, воплощающий в себе основные достоинства нового китайского общества, главным образом вызывал их восхищение, Чжоу Эньлай, второе лицо в иерархии руководства, также вызывал уважение посетителей, отчасти потому, что уделял им гораздо больше времени, чем Мао. Он прилагал всяческие усилия — это, очевидно, входило в его этикет гостеприимства — чтобы создать дружескую обстановку, произвести впечатление на гостей, во всяком случае, на самых влиятельных.182
432
Пол Холландер
Чжоу был более доступен, с ним можно было вести разговор, он был человеком широкой культуры и хорошо знал, как живут люди в других странах за пределами Китая. Встречи же с Мао сводились к благоговейному выслушиванию речей отстраненного от жизни оракула, загадочного и непостижимого.183
Сравнивая привлекательность разных вождей, обсуждаемых в этой книге, мы находим удивительное сходство в поведении и восприятии Сталина и Мао. (Кастро же в отличие от них другой: бесспорно харизматическая личность, сравнительно молодой и романтичный в западном духе.) Мао, как и Сталин, был стар, исполнен чувства собственного достоинства и в какой-то мере недоступен (даже когда вы встречались с ним). Сталин и Мао мало знали внешний мир, и он мало их интересовал. И тот и другой мало времени проводили с людьми и не обращались к толпам — это были очевидные изъяны их харизмы. Можно спорить, в какой мере Мао был харизматическим лидером;184 он был слишком обожествленной личностью, далекой от масс и не мог вдохновлять их и вести непосредственно. «Красная книжечка» (или любая другая книжка) не может заменить живое общение харизматического вождя с массами, хотя в случае Китая сделана была серьезная попытка превратить его труды в источник божественного вдохновения на все случаи жизни.* Представители организации «Наука для народа» сообщали, что труды Мао применяли «для решения повседневных вопросов и что даже слепые и глухонемые читали и получали пользу от его идей. По словам Дика Уилкинсона, британского специалиста по Китаю, Мао «хотел остаться в памяти людей прежде всего как учитель». Ян Мюрдаль пошел еще дальше, предположив, что «обсуждение идей Мао — вот что сплотило Китай в единое целое».186
Мао, как и другие вожди, которыми восхищались западные интеллектуалы, был для них воплощением человека Возрождения, короля-философа. «Философ и политик... он сочетал в себе качества, которые редко проявляются в одном человеке. Он был пытливым мыслителем, который наслаждался властью, мечтателем, остававшимся деятельным, подвижным как ртуть и вместе с тем дисциплинированным, доброжелательным и вместе с тем беспощадным, заботливым человеком и вместе с тем тираном», — писал Мишель Оксенберг, американский политолог. Помимо
* Сообщают, что в период с 1966 по 1968 г. разошлось 740 миллионов экземпляров «Красной книжечки»; вышел также 150-миллионным тиражом его четырехтомник «Избранные труды», 140-миллионным тиражом его «Избранные выступления» и 96-миллионным тиражом сборники его стихотворений. Здесь следует заметить, что культ Мао не был среди перегибов Культурной революции, хотя и усилился в процессе Революции, но относился он скорее к первым годам коммунистического режима.185
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
433
всего, считал Эдгар Сноу, «Мао, вероятно, лучше знал западную классическую литературу, которую он читал в переводах, чем любой европейский правитель знал китайскую... Он как-то поразил французского посетителя удачной ссылкой на характер Маргариты Готье из «Дамы с камелиями».187
Напоминая чем-то Сталина, Мао все же имел и свойства, выгодно отличавшие его. Мао Цзэдун в числе прочего был поэтом, чего даже самые низкопоклонные льстецы не могли сказать о Сталине. Жизнь Мао и его борьба до того, как он пришел к власти, были тоже более драматичны, чем у Сталина: Великий поход и Яньанский период были куда более волнующими главами в жизни Мао; Сталин не мог похвастаться ничем подобным до захвата власти. Более того, Мао, так сказать, воплощал в себе Ленина и Сталина в Китайской революции; никогда не было сомнения относительно того, кто придет к власти, в одном человеке воплотился теоретик-основоположник и лицо, захватившее власть и удержавшее ее. Несмотря на подобные расхождения, многие личные качества, приписываемые Мао, мало чем отличались от тех, которыми наделяли (или, вероятно, правильно приписывали) Сталина, как это будет видно ниже. Мао к тому же был не похож на образ Сталина, лишенный ореола и дискредитированный в глазах общественности после разоблачений Хрущева в 1956 г.; «Сталин был человеком, который торопился и верил в физическую ликвидацию. Мао — это человек, который движется быстро, но чрезвычайно терпелив и верит в дискуссии и перевоспитание». Кроме того, в отличие от Сталина Мао постоянно «был озабочен осуществлением демократии на практике».188, * Таково было мнение Хан Си-Ян. (Писательница, наполовину китаянка, она постоянно посещала Китай и много о нем писала.) В подобном же духе Эдуард Фридман, американский китаист-политолог, утверждал, что «Мао почти всегда реагировал своеобразно, творчески и глубоко этично на крупные политические кризисы».190
Несмотря на его безграничную и неоспоримую власть, многие западные интеллектуалы не могли себя заставить думать о Мао как об автократе. Как и в случае с Советским Союзом и Кубой,
* Здесь следует вспомнить, что подобные оценки давались сталинской приверженности к демократическому и терпимому способу правления страной в 1930-е гг.; например, Анна Луиза Стронг отмечала, что сталинские «методы вести заседания Центрального Комитета в какой-то мере напомнили ей о Джейн Эдамс... или Лилиан де Волд... У них были те же демократические методы, но они оказывали большее давление, чем Сталин».189 Аналогичные высказывания встречаются у Вэббов, посла Дейвиса и других. А. Л. Стронг завершила свой творческий путь в Китае, оказав почти такие же услуги китайскому правительству (публикуя «Письма из Китая» для западного читателя), как до того в Советском Союзе, где она занималась публикациями на английском языке для западных читателей.
434
Пол Холландер
утверждалось, что китайские вожди используют свою власть по- новому. Феликс Грин писал: «Руководит Китаем не группа людей, жаждущих личной власти, которые навязали себя негодующему населению. Они скорее выступают в роли вождей, искренне озабоченных благосостоянием народа. Хотя время от времени и происходит смена вождей, ничто, однако, не говорит о борьбе за власть или о личном соперничестве, каковые мы так часто наблюдали в Кремле».191 (Разумеется, это постсталинский взгляд на советскую политику.) Мао (подобно другим вождям, обсуждаемым в этой книге) представал как человек, сочетавший в себе самоотверженность, пуританство, идеализм и неподкупность192 — качества, которые редко встретишь у западных политиков. Такая характеристика, вероятно, и является главным объяснением удивительного безразличия, с которым западные интеллектуалы относились к проявлениям политической нетерпимости и усиления государственной власти. Попросту говоря, власть у хороших людей, которым можно доверять и которые не собираются злоупотреблять этой властью; такая политическая система не может выродиться в борьбу за власть ради власти (или ради материальных привилегий). Таким образом, нет необходимости беспокоиться о контроле над властью, пока она в правильных руках и пока носители власти были (казались) порядочными, доброжелательными идеалистами-пуританами. По сути большинство посе- тителей-интеллектуалов полагали, не говоря об этом вслух, что защита от коррупции и злоупотребление властью нужны только тогда, когда страной правят плохие люди. Политические учреждения не нужны, когда власть у хороших людей.
Вскоре после смерти Мао Орвил Шелл оценил его значение для Китая:
Меня в высшей степени поразило, что еще до своей смерти Мао вышел за пределы своей личности... Ибо Мао превратил свое существо и даже свою личность в ряд тщательно продуманных и упорядоченных идей. Мао был не только вершителем, но и мыслителем. Он замыслил Китайскую революцию и затем сделал все, чтобы она произошла. В процессе этого мысли председателя Мао внедрились почти в каждого китайца. Слово почти реально обрело плоть. И даже до того, как Мао умер, казалось очевидным, что смерть его не изгладит из памяти то, что вселилось в сознание людей.193
Целью выставления его останков на обозрение, как в свое время останков Ленина было дать китайскому народу в какой-то мере более абстрактное и более ощутимое напоминание о его «бессмертии», сохранить легенду об отце-основателе как постоянный и зримый источник его увековечения, сколь бы его последователи ни отклонялись от проводившейся им политики.
Ян Мюрдаль был уверен, что Мао «третьим, после Маркса и Ленина решил проблему, как после революции народ сможет
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
435
сохранить ее завоевания... Как можно сохранить революционный дух от перерождения...». Джон К. Фэрбэнк также полагал, что Китаем правят в «высшей степени нравственные люди».194 Поскольку не возникало сомнений в высоте нравственных устоев Мао (и его соратников), было непостижимо, что они будут злоупотреблять этой властью. Более того, Мао правил по «мандату» народа. Хьюлетт Джонсон описывал отношение народа к Мао:
Когда вы общались с председателем Мао, легко было понять, почему народ испытывал глубокую любовь к этому человеку... Все люди — интеллектуалы, крестьяне, купцы — видят в Мао символ своего освобождения, человека, который делит с ними их тяготы и невзгоды. Крестьянин видит в земле, которую он обрабатывает, дар Мао. Рабочие считают свою зарплату в 100 фунтов риса вместо прежних 10 фунтов даром Мао. Интеллектуалы, радуясь своей свободе от военной цензуры, рассматривают это как дар Мао.195
Следовало бы задать вопрос: как могли западные интеллектуалы примириться с массовым религиозным преклонением перед Мао, которое даже превосходило развенчанный «культ личности», который окружал Сталина? Как могли они примирить свою концепцию Китая как рационального, «истинно демократического» и глубоко эгалитарного общества с обожествлением Мао и всеобщим самоуничижением перед ним, — что стало в Китае общественной нормой?196 В глазах некоторых западных посетителей явная популярность Мао нейтрализовала их потенциально отрицательную реакцию на его курс.197 Большей частью культ Мао (и Сталина и, Кастро) рассматривался, как отражение популярности великого вождя, мало чем отличавшейся от славы могущественного политика на Западе. Если они, с другой стороны, допускали, что культ Мао был качественно иным явлением, чем слава, которую часто стремятся обрести и часто обретают западные политики, тогда готовы были допустить, что самому Мао претил его культ и он делал все возможное, чтобы ограничить это чрезмерное выражение почтения и популярности. Лорд Бойд Орр, высокопоставленное лицо во Всемирной организации здравоохранения, и Питер Таунсенд полагали, к примеру, что Мао не желал, «чтоб его именем называли улицы и площади или вообще воздавали ему какие-либо почести» и даже возражал против всенародного празднования его дня рождения.198, * По словам Дика Уилсона, «он часто проявлял трогательное самоуничижение». Озабоченные ученые-востоковеды сообщали, что «Мао сам говорил, что ему претит культ личности и сопутствую¬
* Напротив, Роберт Джей Лифтон во всяком случае ощутил, что в процессе Культурной революции «активное участие Мао в создании собственного культа стало особенно очевидным».199 Можно вспомнить, что неотъемлемой частью культа личности почти во всех случаях было приписывание скромности этим упивающимся своим культом вождям.
436
Пол Холланлер
щее ему преклонение...».200 Вполне вероятно, некоторым западным интеллектуалам не трудно было разглядеть патерналисти- ческий элемент, входящий в культ: в конце концов, обычным людям необходим образ вождя.
Драматический эффект встречи с Мао и Чжоу Эньлаем усиливался из-за китайского обычая заставлять тех, кто удостоился этой чести, дожидаться у себя в гостинице таинственного телефонного звонка в самое неподходящее время суток, за чем следовало «умыкание» их в заранее выбранное место встречи.201 Хью- летт Джонсон был в числе относительно немногих западных посетителей, кто лично встречался с Мао (равно как и со Сталиным). Что поразило его больше всего, так это то, что невозможно обнаружить ни на одном портрете выражение необычайной доброты, сочувствия и явной озабоченности проблемами других людей: их трудностями, невзгодами, борьбой за существование — вот что на самом деле таилось в глубине его мыслей. Малейший звук или слово могли вызвать это неповторимое выражение сочувствия на его лице. По мнению Дэвида и Нэнси Милтон, которым тоже удалось встретиться с ним лично, «Мао обращался с ними с удивительной, почти отеческой теплотой», а Чжоу Эньлай произвел на них впечатление «из ряда вон выходящего государственного деятеля и дипломата, наделенного высочайшей тонкостью... Но что приводит к нему множество людей, так это его понимание их личных проблем».202 Симона де Бовуар тоже включила в свое повествование обоих — Мао и Чжоу:
Мы все сидим за маленькими столиками. На столиках чайные чашки, сигареты, фрукты, свечи... Чжоу Эньлай ходит между столиками, обмениваясь с гостями фразами и рукопожатиями; затем в равной степени непринужденно и ненавязчиво обходит столы сам Мао Цзэдун. Особенно покоряет в китайских вождях то, что они ничего не изображают. Они одеты так же, как и все... На их лицах нет ни малейшей печати манерности или напряжения... Это просто лица, простые человеческие лица.203
Как уже отмечалось, дипломатичность Чжоу Эньлая сделала его в высшей степени выдающейся фигурой среди китайских вождей; он всегда стремился, и всегда успешно, произвести наиболее благоприятное впечатление на самых важных гостей. Одри Топпинг была среди тех, кого принимали по высшему разряду:
Обед с премьером Китая — это восторг не только для гурмана. Там слышишь мудрые и остроумные речи. У каждого посетителя свое впечатление от Чжоу, но мнение всех совпадает в одном — что он излучает ум и светское очарование. Он был словно хрусталик, льющий свет во всех направлениях, однако в нем было спокойное достоинство и внутренняя сила, в которых, на мой взгляд, отразился облик нового Китая.
Более того, «премьер Чжоу казался непринужденным, очень красивым и намного моложе своих семидесяти трех лет».204 Чжоу вызвал такое же воодушевление и у Гаррисона Солсбери: «Он
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
437
двигался легкой походкой, ноги его как бы опережали его самого. Я подумал, что эта походка выработалась у него во время Великого похода, и я представил себе, что даже сейчас он может ступить на тропу утром и двигаться до поздней ночи, оставаясь все таким же свежим и неутомимым».205 Хьюлетт Джонсон описывал его так: «Красивый, обходительный, с мягкой манерой говорить. За скромной внешностью горожанина скрывалось стальное мужество и разум быстрый и разящий как рапира... Стоило раз увидеть это лицо, и его нельзя было забыть. Живое, доброжелательное, моложавое, почти мальчишеское... И к тому же эта теплая улыбка и глаза, которые смотрят прямо на вас. Мне трудно представить себе менее напористое лицо и при этом менее мягкое... Чжоу интеллектуал. У него утонченный ум и все приметы литературного таланта». Норма Лундхолм Дьерасси отметила его «прекрасные руки» и «доброе и мягкое лицо».206
Связывать личность и даже внешний облик вождей со свойствами режима было частью слияния особенностей отдельных вождей с притягательными свойствами общественной системы, которую они создали или вдохновляли своими идеями. Просто невозможно представить себе прекрасный общественный порядок, который не мог бы похвастаться выдающимися вождями.
Эта связь является частью той гармонии, которую пытаются обрести и постичь между обществом и личностью, вождем и массами, теорией и практикой.
РЕЖИМ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
Одним из парадоксов нашего времени является то, что именно положение интеллектуалов в коммунистическом Китае в значительной степени сделало Китай привлекательным для западных интеллектуалов. Немногие общества в наше время, включая СССР, так сурово обращаются с интеллектуалами и деятелями искусства, так унижают их, так лишают самостоятельности, как это было в маоистском Китае, особенно во время Культурной революции и после нее. Как обнаружилось позднее, интеллектуалов и разного рода деятелей искусства заставляли молчать, сажали в тюрьмы, пытали, отправляли на принудительные работы.* Писателей, которым разрешали публиковаться, втискивали
* Гарри Солсбери сообщал: «Загадка отсутствия писателей и художников в 1972 г. разрешилась. Почти все, с кем я встретился в 1977 г., в 1972-м сидели в тюрьме, или находились под домашним арестом, или были сосланы в деревню, или просто были в опале». Академические ученые, в свою очередь, по словам американского политолога Фридмана, тоже пали жертвой «Маккартизма по Марксу», нескончаемыми унизительными допросами их принуждали к признанию своих ошибок и многих привели к самоубийству.207
438
Пол Холландер
в жесткие формы примитивного соцреализма,* книги не только запрещались, но и буквально уничтожались, как и многие памятники и произведения искусства. В книжных магазинах ничего не было, кроме работ Мао, Сталина, Ким Ир Сена и Энвера Ходжи. В Национальной библиотеке Пекина «простыл и след литературы XX в. и исторической литературы, которая не соответствовала ортодоксальному маоизму». Что же касается монументов, то «если непослушный турист отрывается от гида, то за пределами „потемкинской деревни“ он видит лишь безлюдие и руины там, где раньше стояли знаменитые здания». Хотя, в основном, эта разруха в области литературы и искусства связана с Культурной революцией, но «смертный приговор китайской культурной жизни», по образному выражению Саймона Лейса, был вынесен еще в 1942 г., в Янаньской речи Мао «об искусстве и литературе». Последующая политика привела к «почти полному вымиранию китайских интеллектуалов как таковых. Выжили только пропагандисты, ученые и технические специалисты; остальных послали на перевоспитание в поле и на производство. А непокорное меньшинство кончало самоубийством или уничтожалось».210 То же самое наблюдал и Роберт Гилен в 1956-м: «Старой интеллигенции с ее либерализмом и общей культурой нет места в обществе, где повторение и имитация в порядке вещей, где свободная мысль и свободная информация запрещены».211 Как неоднократно утверждалось после падения «Банды четырех», которая определяла интеллектуальную жизнь Китая при Мао: «Как можно теперь рассчитывать на благорасположение сочувствующих нам западных интеллектуалов?».
Те же самые факторы объясняют неправильное понимание западными гостями этой проблемы, как и многих других. Во- первых, стойкая предрасположенность найти достоинства в Китае, включая достойное отношение к интеллектуалам. Во-вторых, горькое разочарование в западном обществе, и в том числе положением собственных интеллектуалов в этом обществе. И, наконец, в-третьих, неосведомленность, возможно, более сильная, чем в случае с СССР и Кубой, об условиях интеллектуальной жизни в Китае. Причем последний фактор подкреплялся
* Например, Чанг Тинг указывал, что в фильмах можно изображать только положительных героев (все фильмы, выпущенные до 1966 г., были запрещены) и героям фильмов не разрешалось умирать.208 К рукописям предъявлялись следующие условия: «Вся беллетристика, эссе, статьи, произведения искусства должны: 1) с глубоким и теплым пролетарским чувством прославлять великого председателя Мао; прославлять великую, могучую и непобедимую Китайскую Коммунистическую партию; прославлять великую победу пролетарской революционной линии председателя Мао; 2) следуя образцам революционных опер, усердно творить рабоче-крестьянских героев...»209
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
439
техникой супергостеприимства. В некоторых случаях уважительное отношение китайского руководства к работам зарубежных гостей укрепляло их уверенность в том, что ничего плохого в интеллектуальной жизни Китая нет и быть не может. Так, например, Скотт Ниринг вспоминал: «Во время моей последней поездки в Китай мне рассказывал Рю Элли, новозеландец, живущий в Китае уже 20 лет, что его книга о Китае [написанная, кажется, в 1927-м] все еще занимает достойное место в истории и развитии Китайской революции». Что касается Рю Элли, то он жил в Китае с 1927 г., стал выдающимся пропагандистом режима (сравнялся в статусе с Анной Луизой Стронг), играл активную роль при встречах и сопровождении важных иностранцев.212
Обсуждая положение интеллектуалов, следует заметить, что отношение к ним в десятилетия, которые описывают западные обозреватели Китая, не всегда было таким суровым, как во время Культурной революции. Впрочем, положение их всегда было хуже, чем хотелось видеть визитерам.
Позиция интеллектуалов в Китае получила истинное расположение и одобрение властей по тем же самым причинам, что и в Советском Союзе в 30-х и на Кубе в 60-х гг. Казалось, что китайские интеллектуалы станут полноценными полезными членами общества, заслуживающими доверие высоких властей. Это нередко случалось — к ним хорошо относились, многие сами входили во власть, пользовались покровительством и материальным обеспечением. В отчете Феликса Грина имеются некоторые замечания насчет этих привилегий:
Ассоциация писателей в Шанхае... располагалась в величественном здании с богато отделанными комнатами, широкими лестницами, обширным садом. Я узнал, что прежде этот дом принадлежал шанхайскому капиталисту...
Что касается мистера Ху (китайский писатель, с которым он встречался) то он, совершенно ясно, является восходящей звездой на литературном небосклоне... он носит шелковые рубашки, новые ботинки, держится скромно, но уверенно ... Это китайская версия успеха по Джеку Лондону.
Я спросил его, верно ли, что китайские писатели гораздо более состоятельны, чем сталевары. Он ответил утвердительно. «Есть предложение уменьшить писательские гонорары, — сказал он. — Один автор недавно заработал 140 000 юаней за один роман; сейчас считают, что надо понизить гонорары писателей. Писать нужно не ради денег, — констатировал он, — а чтобы помочь людям понять, для чего они работают».213
Симона де Бовуар в одном из своих ранних китайских репортажей с одобрением сообщала о других характеристиках положения интеллектуалов:
Политика Компартии по отношению к старой интеллигенции состоит в том, чтобы никто из них не плыл по течению. Им всем дали подходящую работу... средние и крупные китайские писатели никогда не имели такого материального благосостояния... Авторские гонорары очень высокие. Примерно 10-15%. Кроме того, если писатель желает путешествовать для сбора
440
Пол Холландер
материала, если ему нужно время для научной и творческой работы, если он нуждается в медицинской помощи и отдыхе, все виды льготного обслуживания в его распоряжении. Но за такие привилегии надо платить: в Китае кто бы что бы ни получил, должен отдать долг; от писателя ждут отплаты служением...
Она находила, что для писателя лучше получить «совет профессионалов» (то есть функционеров Китайского союза писателей), чем испытывать давление со стороны «дельцов книжного рынка». Бовуар, кроме того, верила, что китайские писатели не подвергаются политическому давлению («каждый писатель сам решает, о чем будет его следующая книга»).214 А вот как это видел Хьюлетт Джонсон: «Вдохновленные Мао Цзэдуном, китайские художники и писатели покинули свои берлоги „бегства от жизни“. Они пошли в армию, на поля и заводы, пошли туда жить и писать о жизни ... Их книги отражают глубокое единение с народом». Китайские должностные лица смогли убедить Бэзила Дэвидсона, что «переформирование» интеллектуалов — дело гуманное и благородное, а цензуры у них вообще нет. Ян Мюр- даль, как отмечалось выше, с энтузиазмом отнесся к отправке интеллектуалов в деревню и, как следствие, потере ими сферы профессиональной деятельности и социального статуса. Озабоченные ученые-востоковеды не сомневалось в добровольности и целесообразности высылки «интеллектуальной молодежи» на село.215 Авторы книги «Китай: наука идет на двух ногах» с великим удовольствием признали тот факт, что интеллектуалы перестали быть интеллектуалами, по крайней мере в общепринятом смысле слова.* Далекие от китайских проблем зарубежные гости рассматривали слияние интеллектуалов с массами как составную часть достижения социального равенства в борьбе против социальной дифференциации за становление истинно интегрированного общества. Очевидно, для тех, кто лишен качеств, исторически присущих интеллектуалам, а именно отстраненности, скептицизма, критического мышления, автономности и т. п., утрата этих качеств — вряд ли большая потеря. Наоборот, западные интеллектуалы такого рода горячо приветствовали общество, в котором их коллеги могли фактически раствориться, в котором они больше не выделялись бы из толпы благодаря своему интеллектуальному превосходству. (Они были не в состоянии определить цену такой насильственной интеграции на фоне того дискомфорта, который они испытывали на Западе при
* Их предпочтения совпали с действиями китайского правительства, которое спустя некоторое время развязало Культурную революцию. Роберт Гилен, посетивший Китай в начале 1960-х гг., заметил: «Тот факт, что интеллектуал всегда остается интеллектуалом и никем иным, больше не признается китайскими властями».216
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
441
какой-либо социальной изоляции.) В любом случае, в Китае имелась высшая цель, искупающая все переоценки, включая изменение стиля жизни и утрату автономии. Альберто Джако- белло, редактор газеты «Unita», писал: «На Западе поговаривают о притеснении интеллектуалов [в Китае]. На самом деле, все интеллектуалы, с которыми мы встречались, говорили нам, что контакты с народом и работа с людьми изменяют их к лучшему. Другими словами, это делает их людьми среди людей, все нацелены на строительство нового социалистического Китая». С его точки зрения, «Китай — это страна философов».217
Размышляя об отношении части западных интеллектуалов, на которых произвело благоприятное впечатление положение их китайских коллег, следует учитывать еще два фактора. Вполне возможно, что открытое восхищение процессом интеграции (или субординации) китайских интеллектуалов у западных коллег переплелось в их подсознании с чувством, что с ними ничего подобного не случится. Следовательно, они остались непричастны и могли не дрожать от страха, а восторгаться «интеграцией» своих китайских коллег с безопасного расстояния, которое разделяло гостей и интеллектуалов — жителей Поднебесной.
Что же касается деструктивных импульсов западных интеллектуалов, которые находили условия жизни своих китайских собратьев завидными, то мы можем стряхнуть пыль с этой застарелой клеветы. Разумеется, одобрение и поддержка политической системы частью интеллигенции, приводящие к разрушению ее как группы, предполагают весьма слабую волю к жизни и ставят под сомнение успешность выполнения ее общественной роли — быть голосом разума и критического сознания народа.
ПЕРЕВОСПИТАНИЕ,
А НЕ ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благожелательно настроенные иностранные визитеры в Китай, подобно их предшественникам в СССР 1930-х гг., получили весьма благоприятное впечатление от пенитенциарной системы в стране и обосновывающей ее идеологии. Их взгляды обусловливались не только ограниченным и избирательным доступом к местам заключения, но и их относительным безразличием к гражданским свободам.
Так, например, лорд Бойд Орр и Питер Таунсенд в самом начале своей книги сообщают своим читателям: «В этой книге мы не касались проблемы гражданских свобод, которой озабоче¬
442
Пол Холландер
ны некоторые писатели в Китае». Они прямо заявляли: «Для Запада не так важна политическая система, как промышленное и экономическое развитие».218 Свою позицию они обосновывали привычным двойным стандартом: поскольку подавляющее большинство населения никогда не имело таких свобод, оно и сейчас без них не страдает, а материальные достижения компенсируют кое-какие потери в области политических прав.* Спустя почти 20 лет эхом отозвался Роберт Барнет, бывший чиновник Госдепартамента и директор Вашингтонского центра Общества народов Азии, в статье под названием «Соблюдаются ли права человека в Китае? Нет» он считал невмешательство в проблему прав человека в Китае правильным курсом правительства США и объяснял это так:
Не стоит без колебания обвинять их в недостатке нравственности только потому, что они другие... Суровая национальная необходимость Китая ограничивает применение «прав человека»... В Китае другие права, и мы должны их уважать, в противном случае нам придется оправдываться за вмешательство в их внутренние дела...220
Во многих случаях затертый штамп культурного релятивизма позволял игнорировать (или спускать на тормозах) репрессивные действия китайского правительства, в других случаях придумывались факторы, якобы компенсировавшие правовые ограничения. Артур Галстон писал: «По крайней мере номинально, они [китайцы] не свободны поменять место жительства и работу, их политическая и интеллектуальная свобода ограничены, зато китайские народные массы, по-видимому, в гораздо большей степени, чем западные рабочие, могут контролировать органы, обеспечивающие их повседневную жизнь».221
Как всегда, контекст оказался определяющим моментом в сравнительной оценке принуждения и личной свободы. Поскольку социальная система в целом определялась как благополучная и справедливая, оставалось только несколько серьезных вопросов относительно методов, которые используются для укрепления власти. Симона де Бовуар, например, так оправдывала использование доносчиков:
* Симон Лейс предложил свою типологию людей, выдвигающих такие же или сходные аргументы: «В Китае сформировалась своеобразная коалиция по вопросу о правах человека. В нее входят „старые китайские чинуши“, оставшиеся от колониально-империалистической эры; маоистская молодежь с горящими глазами; блестящие амбициозные технократы; робкие ученые-китаисты, всегда осторожные из боязни не получить новую визу в Китай; некоторые зарубежные китайцы, которые любят издалека заявлять о своем патриотизме, но совсем не желают разделить участь своих соотечественников на родине. Основная позиция этого странного лобби выражалась двумя тезисами: 1. Есть или нет в Китае проблема прав человека, доподлинно неизвестно: „мы просто не знаем“; 2. Если даже такая проблема и существует, нас это не касается».219
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
443
Призывая людей к бдительности, правительство фактически убеждало их сообщать о контрреволюционной деятельности, но мы не должны забывать, что такая деятельность нередко выражалась в поджогах, саботаже, разрушении мостов и плотин, убийствах...*
Такое сотрудничество с полицией, как донос, кажется мне более шокирующим в нашей стране, где закон защищает классовые интересы, чем там, где правосудие обеспечивает благополучие людей.223
Бэзил Дэвидсон просто не верил, что в Китае сложился тоталитарный режим, по его представлениям, Китай — это «государство, которое авторитарно только по отношению к меньшинству, причем это меньшинство не рабочие и не крестьяне. Это неприятно слышать тем, кто дурачит себя мыслью, что Китай успешно развивается благодаря диктаторским методам. На самом деле успехи Китая достигаются (и только так, а не иначе могут быть достигнуты) добровольным энергичным трудом подавляющего большинства народа». Поэтому неудивительно, что он принял поверхностную официальную версию дела «пяти зарубежных монахинь... которых судили в Кантоне за дурное обращение с детьми, находящимися на их попечении, и за преступную халатность, повлекшую смерть многих детей». Он узнал, что в этом интернате была «поразительно высокая» смертность, а в близлежащей братской могиле «обнаружено более тысячи детских трупов». Ему даже позволили опросить «девушку Ванг Ян-Чанг... которой поручали закапывать маленькие детские тельца в братскую могилу...», и, наконец, ему показали эту братскую могилу («глубокие черные ямы»).224, **
* Напомним, что в 1930-х гг. Советский Союз использовал аналогичный повод для репрессий; действительно, немногие кампании террора развязывались без призывов к оправданной самообороне. Мы пока еще слишком мало знаем новейшую историю Китая, чтобы говорить о том, что китайский режим был лучше других в оправдании террора. Что касается использования информаторов, оно, безусловно, было гораздо шире, чем требовали интересы государственной безопасности. В результате доносительство стало характерной чертой жизни в тоталитарном обществе. Приведем пример: «М., учитель из Гуаньчжоу, рассказывал мне (Симону Лейсу), что никто никогда не обсуждает политику с малознакомыми людьми и даже с близкими друзьями, если они являются членами той же самой политической ячейки. На политические темы разговаривают только с близкими друзьями, входящими в другие ячейки. Дело в том, что члены одной ячейки попадают в рискованное положение взаимодоносительства. Поэтому каждый старается не только как можно меньше открыться потенциальному доносчику, но, прежде всего, узнать как можно меньше о своих друзьях, которых рано или поздно ему придется заложить». Мы узнали от бывшего китайского заключенного Вао Руо-Ванга о вездесущих ящиках для доносов, изобильно развешанных в каждом городе. Иностранцы, бывало, путали их с почтовыми ящиками. Они были выкрашены в веселенький красный цвет со щелью сверху и замком снизу. Под ящиком место для стандартных бланков, а на самом ящике мелкая надпись иероглифами: „Для доносов“».222
Необходимо напомнить, что как раз в это время (в начале 1950-х гг.) китайское правительство проводило кампанию против западных церквей и их миссий в Китае, что подтверждается в книге Хьюлетта Джонсона.225
444
Пол Холландер
Как и в случае с политическими чистками в СССР, отклики, подобные приведенному выше, страдают отсутствием воображения. Даже после советских показательных судов и фальшивых признаний идея инсценированных судов, выдуманных мрачных преступлений и сфабрикованных доказательств для дискредитации определенных групп и личностей осталась в целом недоступной пониманию людей с Запада и совершенно чуждой им. Неспособные постигнуть природу насилия в тоталитарном обществе, западные визитеры обычно опирались на знакомую им практику и концепции в попытке осмыслить события и установки в рассматриваемых странах. Так, канадский адвокат Кеннет Вудс- ворд, посетив Китай в 1960 г., сообщал: «По-видимому, здесь имеется достаточная степень защиты от незаконного ареста и тюремного заключения, и создается впечатление, что общество движется в сторону еще большей персональной защищенности...» Лорд Бойд Орр и Питер Таунсенд, обсуждая вопрос принудительной коллективизации деревни, показали, что официального принуждения не было, «но, конечно, осуществлялось общественное давление. Так в случае, описанном Британским советом по маркетингу сельскохозяйственной продукции, когда плебисцит дал значительный процент желающих объединиться, то членство стало обязательным. В Китае, если большинство жителей деревни решало сформировать кооператив, меньшинство, вероятно, находило трудным для себя остаться в стороне». Английский ученый-китаист Джон Гитингс, член Общества англо-китайских связей, комментировал в том же духе: «Исправление трудом, которое представляется западным визитерам чем-то вроде сочетания кибуца с воскресной школой марксизма (иногда, правда, продолжительностью в пару лет), здесь срабатывает для подавляющего большинства населения». Профессор Фэрбэнк находил, что «полная программа Школы кадров имени 7 Мая очень похожа на базовый тренинг в армии США, но очевидно имеет гораздо более широкие перспективы и многообразие в профессиональной подготовке кадров».* Вот что он пишет о посещении одной из этих школ: «Сюрпризы начались с обеда — никогда еще я так хорошо не обедал: семь или восемь горячих блюд, какие-то особенные лакомства и многое другое, приготовленное на месте».226
В общем, западные интеллектуалы имели такое же представление о китайской карательной системе, как их предшественники о советской 1920-х и 1930-х гг., но, в свете уже известного из
Сравнения и комментарии такого рода поразительно напоминают Генри Уоллеса и Оуэна Латтимора, которые находили большое сходство между советскими трудовыми лагерями и американскими TVA и «Hudson Вау Company».
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
445
советской практики, китайская казалась им на порядок выше. В Китае не было ни кровавых чисток, ни Гулага, ни вынужденных признаний, ни показательных судов. Согласно Симоне де Бовуар, «китайцы тщательно изучили опыт предшественников (русской революции в целом), чтобы не повторять их ошибок... Несходство со сталинской системой очевидно, поскольку в Китае не существует практики административного интернирования».227 Бывший китайский заключенный Бао Руо-Ванг находил и другие различия; он полагал, что советские лагеря «были более жестокими, бесчеловечными и неэффективными... Русские никогда не понимали, а китайские коммунисты знали с самого начала, что труд заключенных в принципе не может стать продуктивным или прибыльным, так как носит принудительный характер. Китайцы первыми освоили искусство мотивации заключенных».228 Саймон Лейс разделял эту точку зрения; он рассматривал китайские лагеря как изобретение «развитого тоталитаризма» par excellence: «В некотором смысле лагерь представляет собой модель развития, проекцию будущего идеального общества. Таким должно стать общество, когда его руководство сможет преодолеть многочисленные препятствия и таящуюся повсюду инерцию, чтобы сплотить нацию для осуществления определенной концептуальной модели общества... Обитатели лагеря избавлены от той жалкой свободы, на которую обречены простые смертные...».229
Китайские реформаторы, подобно их советским предшественникам, насильственно заменили вынужденную безработицу трудовой терапией, перевоспитанием через наказание. Как советские, так и китайские должностные лица с жаром доказывали, что их главной целью является полная реинтеграция в общество бывших узников и что в тюрьмах и лагерях заключенные действительно перевоспитываются. Отбросив риторику, попытаемся доказать, что китайцы понимали идею перевоспитания более серьезно, чем когда-либо в Советском Союзе, невзирая на груп- поЕое давление и другие препятствия, как мы узнали из нескольких доступных нам источников о жизни внутри китайской исправительной системы.230 Корлисс Ламонт без труда перевел на китайский свой благожелательный взгляд на советскую исправительную систему и, что особенно интересно, заслужил горячее одобрение обеих сторон за свой профессионализм. «В Китае, — писал он, — хотя и диктатура, но они не убивают своих диссидентов, а „перевоспитывают“ их. И этой процедуре подвергаются даже высокие должностные лица... В том же духе перевоспитания и исправления ведется работа с преступниками и инакомыслящими среди китайского народа».231
446
Пол Холландер
Хотя западные визитеры старались взглянуть на китайскую исправительную систему благожелательно, большинство из них не имело никакого представления даже о каких-то частностях, поскольку китайцы не слишком жаждали продемонстрировать свои исправительные заведения, особенно в последнее время. Например, делегация квакеров в 1972 г. «нашла китайцев весьма сдержанными, когда речь заходила о таких проблемах, как преступление и наказание». Питер Ворсли сообщал, что он «не видел ни судов, ни тюрем, а филиппинской делегации недавно сказали, что правовые органы — не место для экскурсий. Существует очень мало свидетельств из первых рук о процедуре наказания, включая посещение тюрем. Но генеральная линия и ключевой принцип известны — это исправление посредством труда».232 Леону Липсону, профессору права в Йельском университете, во время его визита не удалось организовать встречи с «судьями, адвокатами, прокурорами, сотрудниками полиции и другими служителями закона».233 В общем, изучение карательной системы, особенно посещение тюрем, за исключением школ имени 7 Мая, стало трудным во время и после Культурной революции. Поэтому документальные свидетельства очевидцев, посещавших китайские карательные учреждения, обычно датируются 1950-ми или началом 1960-х гг. Доклад с комментариями Симоны де Бовуар является одним из наиболее детальных и заслуживает подробного цитирования. Ниже приводится длинная цитата, в которой открывается ее взгляд на западные тюрьмы.
Я лично видела одну тюрьму [в Китае]. А несколько лет назад я посетила образцовую тюрьму в Чикаго. Пекинская была не образцовой*, а единственной в области, а значит, и во всей провинции. Все центральные тюрьмы в Китае такие же. Какое огромное отличие от американской системы! В Чикаго охранники обыскали мою сумку, чтобы я не смогла передать заключенным
* Это утверждение многие оспаривают. Ее соотечественник Жюль Руа писал: «Это была образцовая тюрьма. Ее показывали всем теле- и газетным репортерам ... 1800 заключенных, политических и общего режима, находились здесь на перевоспитании. Вряд ли она вообще запиралась. Во дворах росли тщательно ухоженные цветы... Несколько бывших заключенных получили привилегию остаться здесь и продолжали работать за стол и кров, и, кроме того, получали небольшое жалованье. Все сверкало чистотой. На спортплощадке играли в баскетбол и волейбол. В открытом театре проходила репетиция... Работники больницы проводили рентгеновское обследование пациентов. Здесь не было ни решеток на окнах, ни замков на дверях камер». Эдгар Сноу тоже посетил пекинскую тюрьму. Бао Руо-Ванг, который отбывал срок в этом достойном заведении (как, впрочем, и во многих других, не воспетых визитерами), писал: «... Тюрьма Номер один остается до сих пор одной из достопримечательностей, включаемых в стандартный Пекинский тур для иностранцев; их реакция предсказуема. Сколько страниц восторженных отзывов прочел я после освобождения о мудрости и гуманности китайской тюремной системы, и все потому, что в тюрьме Номер один подобрался хороший персонал».234
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
447
сигареты или губную помаду; стальные двери коридоров и камер крепко заперты... Здесь же тюрьма расположена в глубине некоего подобия парка; при главном входе стоят два вооруженных часовых, но внутри вы не увидите ни охранников, ни тюремщиков, ни конвоя, никого в форме, и — весьма примечательный факт — здешние охранники не вооружены. Они выполняют функции прорабов, культработников и политинструкторов. Заключенные не носят спецодежды, одеты, как все, и ничем особенно не отличаются от служащих, десятников и контролеров. Мастерские расположены среди большого сада, засаженного подсолнухами. Если бы не сторожевая башня — кстати... пустая, — это можно принять за обычную фабрику... Рабочий день основан на девятичасовой смене; каждый человек имеет один выходной в неделю. Восемь часов в сутки отведено на сон, три на классные занятия, два на идеологические занятия, один — на общую культуру. Если отнять время на еду и личную гигиену, у заключенных еще остается достаточно свободного времени. В их распоряжении спортплощадка, большой двор с открытым театром, где раз в неделю бывает кино или спектакль; при мне там репетировали самодеятельную постановку. Имеется также читальный зал с большим книжным фондом и периодикой, где можно посидеть и отдохнуть. Мы посетили сначала библиотеку, потом кухни-столовые, потом прачечную... Дверь была открыта, и мы заглянули в комнату, где на койках спали мужчины, вернувшиеся с ночной смены. Тюрьму построили при Гоминьдане. Тогда каждая одиночная камера имела зарешеченное окно. Впоследствии межкамерные перегородки разрушили, и сейчас по восемь-девять заключенных живут в довольно просторных комнатах, которые одной стороной выходят в сад, а другой в широкий коридор, закрывающийся на ночь решеткой.235
Очевидно Трюдо и Эбера возили в ту же самую тюрьму, где стоял только один часовой, а территория представляла собой «гостеприимный цветущий сад, засаженный зелеными кустарниками и изящными деревьями. Неужели это тюрьма?». Они также сообщали об отсутствии засовов и решеток. Они получили подробную информацию о ходе процесса перевоспитания.236 По- видимому, Джеймса Камерона, британского журналиста, водили в ту же самую пекинскую тюрьму в 1954 г.237 Он нашел это заведение «удручающим». Тюрьма предназначалась для «обработки диссидентов» и «исправления» неблагонадежных. На самом деле это оказалась текстильная фабрика, «предназначенная скорее для выпуска продукции, чем для исправления людей... Казалось, каждый был занят непосильным трудом». Камерону пояснили, что таким трудом они искупают свою вину... исправляются трудом... «Начальник тюрьмы уверял, что большинство заключенных вполне удовлетворены действующим порядком. Немногие нарушители наказывались „общественным порицанием“, что означает критику нарушителя более прогрессивными товарищами и проявляется во всеобщем неодобрении». Если же такие меры не срабатывают, заключенных могут лишить свиданий с родственниками или увеличить срок заключения. Из этой тюрьмы не было побегов. «На самом деле, — сказал начальник, — некоторые не хотят выходить на свободу. Когда их срок кончается, они просят остаться».238 (Напомним, что Джордж Бернард Шоу, в свое время посетивший советские тюрьмы, при-
448
Пол Холланлер
шел к заключению, что заключенные настолько наслаждались жизнью в неволе, что многие из них неохотно выходили на волю и вознаграждались привилегией оставаться в лагере «сколь угодно долго».)
Бэзил Дэвидсон со своей группой тоже побывал в пекинской и шанхайской тюрьмах в начале 1950-х гг. Он предположил, что в Китае с контрреволюционерами обходятся более снисходительно, чем с отпетыми преступниками в Британии. «Некоторые заключенные еще вчера были наркодельцами, другие — раскулаченные землевладельцы. Мало-помалу они снова втянутся в повседневную нормальную жизнь Китая»,239 — писал он. Рассказ Питера Таунсенда о китайских методах перевоспитания в значительной степени касался спектаклей самодеятельной театральной группы, состоящей из бывших агентов* секретной службы Гоминьдана: «Корпус Чистой Реки прокладывал дорогу между Пекином и Цзяньцзином в местности под названием... Чистая Река. Сотни людей, работая по 8-9 часов в день, постепенно превращали пустыню в цветущий сад... У них было трехразовое питание с обилием рыбы и крупы и мясом раз в две недели. В сезон они ловили крабов в ирригационных каналах. Они получали „с воли“ кое-что по своему желанию. У них было много развлечений... Не все освободившиеся хотели покинуть корпус... Но когда человек выходил на свободу, ему усердно помогали найти работу и приспособиться к жизни в обществе...»,240
Феликс Грин был еще одним западным гостем, получившим привилегию бросить несколько раз беглый взгляд на китайские места заключения в начале 1960-х гг. Подобно своим известным соотечественникам (таким как Д. Б. Шоу, Вэббы, Гарольд Ласки), находившим советскую исправительную систему эффективнее английской, Грин при аналогичном сравнении отдал предпочтение китайской:
Я побывал в единственной пекинской тюрьме... Интересуясь английской реформой уголовного права, я обнаружил, что здесь в Китае делается именно то, чего мы годами безуспешно добиваемся от наших английских чиновников от юстиции. В первую очередь необходимо исключить из тюремной практики фактор позора, нравственного клейма.
Его, как и других, приятно удивило фактическое отсутствие охраны, открытые ворота, невысокая ограда, отсутствие всяких засовов, оконных решеток и, главное, всеобщая спокойная доброжелательная атмосфера. («В одном цеху... я спросил, где
* Эти пьесы напоминают сюжетом пьесу советского писателя Погодина «Аристократы» (упомянутую в гл. 4), где речь идет о хорошей жизни и работе различных политических преступников на строительстве Беломорканала в 30-е гг.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
449
охранник, и меня подвели к улыбающемуся юнцу в спортивной рубашке...».) Тем не менее он нашел порядки в шанхайской тюрьме более строгими, чем в местах временного содержания. Но даже там «начальник тюрьмы... казался удивительно неуместным... Молодой человек в белой рубашке с короткими рукавами и расстегнутым воротом. Лицо открытое, но решительное и приятное. Определенно, здесь служат преимущественно молодые люди».241
Одри Топпинг в 70-е гг. оказалась одной из немногих западных посетительниц, кому удалось выразить свое мнение о китайских местах заключения и порядках в них по личным впечатлениям после посещения Нанкинской тюрьмы:
Китайцы боролись с преступностью с тем же энергичным, политически ориентированным энтузиазмом, с каким они преодолевали голод... Маоистская идеология решительно осудила преступность как нанесение вреда государству в целом. Следовательно, потенциальный грешник оказывается перед альтернативой — либо получить срок, если он попадется, либо заслужить презрение друзей. И второе: если нет организованного преступного мира, нет и места сбыту краденого, нет места побегам...
Китайцы пытаются исправить своих правонарушителей, помогают им стать полезными членами общества... По словам комиссара [Нанкинской тюрьмы], китайцы уверены, что человека, совершившего преступление, только тюремный срок не исправит. Они понимают, что нужно вообще перестроить сознание преступника. А это не делается путем наказания, а только путем политического образования и труда...
«Бывает, что бывшие преступники попадают к нам снова, но редко, — [сказал комиссар]. — Государство дает им работу, и они довольны жизнью на свободе»... «А что, если заключенный попытается бежать?» — спросила я. — «Бежать? — ответил он — Да куда же он побежит? Если его идеология неправильная, люди выдадут его. Некуда ему бежать».242
И, наконец, на примере различного подхода членов японской делегации к китайской практике отложенного смертного приговора покажем, как влияет предвзятое мнение на оценку:
Делегация Японской социалистической партии, почувствовав смелость, настаивала на посещении тюрьмы типа исправления трудом. Они посетили... тюрьму, где находились преступники со смертным приговором, отложенным на два года. Приведение в исполнение или смягчение приговора по истечении данного срока зависело от продвижения судебной реформы. (Правое крыло было шокировано, как, впрочем, и большинство западных наблюдателей; пацифисты, убежденные противники высшей меры, уповали на вероятность гуманного решения; а левые пришли в восторг от такого интеллигентного и «передового» метода обращения с антисоциальными элементами)... Эту же тюрьму посетила по крайней мере еще дюжина зарубежных гостей.242
Остается спорным вопрос о школах имени 7 Мая, возникших во время Культурной революции и их новаторском вкладе в развитие принципа исправления трудом. Цель этих школ состояла в перевоспитании физическим трудом государственных чиновников, белых воротничков из рабочих, учителей, менеджеров
450
Пол Холланлер
и других людей всех социальных слоев, не занимающихся физическим трудом. Профессор Фэрбэнк видел в них механизм, предотвращающий «ужасное возрождение специальных привилегий для нового правящего класса, оторвавшегося от народа» или «место, куда белых воротничков присылают посменно перевоспитываться, занимаясь физическим трудом и изучением работ Мао». Бернар Фролик сравнивал их со «скаутским лагерем для взрослых или, возможно, с Корпусом Гражданского Спасения во время Великой депрессии». Гаррисон Солсбери считал их «комбинацией молодежной летней школы (YMCA camp) и католического монастыря».244 Школы имени 7 Мая определенно отличались от тюрем тем, что в них люди попадали не по юридическим или полицейским каналам, а посредством менее понятной процедуры по месту работы. Школы имени 7 Мая считались своеобразной «командировкой»; командированные получали свою зарплату и могли периодически посещать свои семьи. Продолжительность пребывания в этих школах точно не определялась, но всегда была короче, чем в тюрьме и в лагерях; по нашим данным, этот срок был от шести месяцев до двух лет. С официальной точки зрения направление в школы считалось не наказанием, а возможностью самоусовершенствоваться для тех, кто утратил контакт с массами и имел опасную тенденцию развития элитарного сознания в силу профессионального превосходства. Физический труд стал универсальным средством от таких тенденций. Во всем этом предприятии был сильный религиозный оттенок: боль и страдание постепенно, капля за каплей прививают душе смирение и покорность судьбе. Клаус Меннер привел в пример женщи- ну-врача, которая внутренне очистилась путем погружения в мир простых крестьян, которых она, горожанка, раньше презирала: «Когда одна из крестьянок заболела, врач перебралась к ней и стала за ней ухаживать. Она делала всю грязную работу по дому и тем избавилась от своих предубеждений». Одним словом, самой лучшей терапией считалась самая грязная неприятная работа и прежде всего очистка выгребных ям. Меннеру сообщили о некоем руководящем работнике, «который пришел к пониманию... что чистка уборных — это не грязная работа, а благородный труд».245 Мачиоки ощущала «необыкновенное братство, невиданную гуманность, которые пропитывают весь дух этой школы — откуда все это?».246
Жюль Руа нашел более прозаичное объяснение действенности таких методов: «Всякий хотя бы чуть-чуть заподозренный в прохладном отношении к партии немедленно направлялся в одну из народных коммун на перевоспитание: копаться в земле или выносить ведра с нечистотами. Редко требовалось много времени,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
451
прежде чем непокорный не мог думать больше ни о чем, кроме как о возвращении домой, и торопился представить все доказательства своей преданности революции».247
После смерти Мао из Китая начала поступать новая информация о политике и практике государственного насилия, расцветших в стране при Мао. Здесь уместно вспомнить о развитии событий в Советском Союзе после смерти Сталина. Как и Сталина в Советском Союзе, «Банду четырех» обвинили в злоупотреблении властью и во всех явных и скрытых изъянах системы, включая ее репрессивные методы и насилие, связанные с Культурной революцией, самой известной и самой близкой по времени в ряду кампаний, которые периодически повышали уровень политического насилия.*
Так же как и в Советском Союзе после смерти Сталина, в Китае со смертью Мао что-то нарушилось в заведенном порядке, что привело к большей политической терпимости со стороны властей и, в свою очередь, к росту социального протеста, критики и атмосфере общественного недовольства как прошлым, так и настоящим.249 Вопреки широко распространенному на Западе убеждению, обнаружились доказательства поразительного сходства между советской и китайской практикой содержания мест заключения. В конце концов оказалось, что не все китайские методы подавления и контроля заключенных были такими уж благородными и ненасильственными. Недавно появились данные об избиениях, в том числе ногами, о пытках огнем, лишении пищи и сна (даже правило внутреннего распорядка, идентичное тому, о котором сообщали многие советские заключенные, что спать полагалось лицом к двери камеры, и их будили при несоблюдении этого правила), о людях, сошедших с ума, ставших калеками в результате пыток, о людях, пропавших без следа на годы или десятилетия (или навсегда), о секретных тюрьмах, о длительном одиночном заключении, о самых невероятных причинах ареста.250 Была еще и такая мера
* Между 1949 и 1953 гг. имели место и другие кампании, унесшие жизнь многих людей: с целью ликвидации контрреволюционеров казнили 5 миллионов; результатом кампании против «правых» в 1957 г. была высылка миллионов в сельскую местность на «перевоспитание», а еще на 1,7 миллиона были заведены следственные дела в полиции; между 1966 и 1969 гг. Культурная революция стоила жизни еще нескольким сотням тысяч людей; во время кампании против Линь Бяо и против конфуцианства в период с 1973 по 1975 гг. только в Пекине 1000 работников Министерства культуры «подверглись преследованиям, тюремному заключению, пыткам и убийствам». Чтобы подвести итог, следует также вспомнить, что китайские чиновники часто относят к «плохим элементам» 5% (примерно 40 миллионов человек), которых считают второсортными гражданами и соответственно с ними обращаются. 48
452
Пол Холландер
наказания, как ссылка, которая применялась к освобожденным из тюремного заключения. Помимо перечисленного, сходство состояло и в том, что в Китае, так же как и в Советском союзе при Сталине, и многие наиболее преданные сторонники режима пали жертвой внутренней борьбы за власть. Как говорилось в одной настенной листовке о политзаключенных, «парадокс в том, что очень незаурядные люди вступали в Коммунистическую партию для борьбы за свободу и благосостояние Китая и всего человечества и посвятили лучшую часть своей жизни делу развития и укрепления господства партии».251 Мы также недавно узнали, что политическое клеймо, когда-то приклеенное, следует за людьми десятилетия: крестьяне (в России их назвали бы кулаками), «которые тридцать лет назад потеряли свою собственность, сохранили свой статус классовых врагов», о «списках, разоблачающих классовое происхождение, которые сопровождают китайца повсюду»,252 о доносчиках, писавших свои доносы не только из чувства патриотического долга, но и из личной обиды.253 Кроме листовок, появились и более солидные критические документы, включая два литературных произведения (основанных на личном опыте авторов), которые передают удушающую атмосферу повседневной жизни, слежку друг за другом, опустошения, произведенные Культурной революцией, повальное недоверие, коррупцию, неравенство и беспощадность политической элиты.254
Пока еще рано утверждать, что западные визитеры столь же обманывались в своей оценке китайской карательной системы и уровне государственного насилия при Мао, как в отношении репрессий при Сталине, вероятность справедливости таких утверждений возросла после смерти Мао.
В заключение необходимо сделать несколько пояснений. Во- первых, в мои намерения не входило показать, что Китай при Мао был очень похож на Советский Союз при Сталине, хотя я хотел привлечь внимание читателя к ряду аналогий, в том числе к пониманию и непониманию этих двух систем ее поклонниками.
Приводя многочисленные примеры того, как различного рода интеллектуалы (а также представители средств массовой информации) неправильно понимали происходящее в Китае, я был далек от мысли, что ученые-китаеведы и специалисты в правительстве США не обладали более правильной информацией, или что до смерти Мао не хватало научных данных, доказывающих несостоятельность утверждений политических пилигримов.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
453
Такая информация имелась, но не была широко известна и востребована и не распространялась средствами массовой информации, в отличие от восторженных репортажей, широко публиковавшихся после Культурной революции и особенно в начале 1970-х гг.
Следует также заметить, что характер данной работы не предусматривает систематическое исследование Китая на разных этапах его развития, а, напротив, стремится сосредоточить внимание на восприятии Китая извне в разные периоды.
И последнее: я не собирался опровергать все неправильные представления, а предпочитал сопоставить противоположные взгляды в тех случаях, когда неправильное понимание не было явно невероятным или абсурдным или когда представлялись особенно убедительные свидетельства, показывающие несостоятельность идеализированных образов.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Urie Bronfenbrenner, «From Another Planet», Human Ecology Extra (East Asia Research Center Files, Harvard University, n.d.), p. 6 (далее цитируется как «EARC Files»).
2. Maria Antonietta Macciocchi, Daily Life in Revolutionary China, New York, 1972, p. 466.
3. Simone de Beauvoir, The Long March, Cleveland, 1958, p. 10.
4. John K. Fairbank, «The New China and the American Connection», Foreign Affairs, October 1972, p. 31, 36.
5. Hans Königsberger, Love and Hate in China, New York, 1966, p. 26.
6. Lucian W. Pye, «Building a Relationship on the Sands of Cultural Exchanges», in William J. Barnds, ed., China and America: The Search for a New Relationship, New York, 1977, p. 118.
7. Concerned Asian Scholars, China!, p. 1; Felix Greene, China: The Country Americans Are Not Allowed to Know, New York, 1961, p. 19.
8. Даже фельдмаршал виконт Монтгомери хотел внести свой вклад, чтобы устранить недоразумения: «Слышишь, как говорят, что детей в коммунах отделяют от их родителей. Я расследовал это и нашел, что все это абсолютно неверно. В западном мире есть много неверной информации об этом новом Китае, особенно в Соединенных Штатах...» (цит. по: Greene, China, р. 147).
9. Königsberger, Love and Hate in China, p. 25.
10. Цит. no: Frank Ching, «China: It’s the Latest American Thing», New York Times, February 16, 1972. Была даже отчеканена специальная медаль, чтобы отметить встречу Никсона с Чжоу Эньлаем в феврале 1972 г. Она была сделана из чистого золота и серебра и изображала Никсона и Чжоу, пожимающих друг другу руки (см. рекламу: New York Times, February 20, 1972). Непостоянство американского общественного мнения по отношению к Китаю было также отражено в опросе общественного мнения: «Mainland Chinese Have Risen in Favor in U.S., Poll Finds», New York Times, March 12, 1972, p. 5 (этот сдвиг произошел после визита Никсона).
11. David К. Shipler, «Alsop Looks Back on China Stories», New York Times, February 4, 1973.
12. Harrison E. Salisbury, To Peking — and Beyond, New York, 1973, p. 12
13. Evelyn Wiener, published in Rehabilitation World, Winter 1976.
14. Peter Worsley, Inside China, London, 1975, p. 12-13.
15. David Kolodney, *Et tu China?», Ramparts, May 1972, p. 8, 10, 12.
454
Пол Xолландеp
16. Macciocchi, Daily Life, p. 2.
17. Цит. no: Martin Bernal, «Puritanism Chinese-Style», New York Review of Books, October 26, 1967, p. 23.
18. Bernard Frolic, «Comparing China and the Soviet Union», Contemporary China, Summer 1978, p. 31, 37.
19. Peter Kenez, «А Sense of Deja Vu: Traveling in China», New Leader, November 1973, p. 9.
20. Bernard Frolic, «Reflections on the Chinese Model of Development», Social Forces, December 1978, p. 384-385, 386.
21. Macciocchi, Daily Life, p. 29-30.
22. Experience Without Precedent: Some Quaker Observations on China Today, Report of an American Friends Service Committee delegation’s visit to China, Philadelphia, May 1972, p. 7, v. (далее цитируется как «Quaker Report»).
23. David Selbourne, An Eye to China, London, 1975, p. iv.
24. John K. Fairbank, «The New China Tourism of the 1970s*, in Idem, China Perceived, New York, 1974, p. 165. Аналогичный взгляд был выражен в: Philip А. Kuhn, «China: Excerpts from Historian’s Journal», University of Chicago Magazine, Spring 1975, p. 29.
25. E. H. Johnson, «Notes on the Church in China», mimeographed (EARC Files, March-April 1973), p. 1.
26. Stanley Karnow, «China Through Rose-Tinted Glasses», Atlantic, October, 1973, p. 75. Эдуард Лутвак считал, что «только информация того редкого журналиста, который уже принял решение, что не будет просить визу для второй поездки, достоверна и будет служить нам, а не китайцам» (Edward Luttwak, ♦Seeing China Plain», Commentary, December 1976, p. 33).
27. Greene, China, p. 7-8.
28. Ruth Sidel, Women and Child Care in China: A Firsthand Report, Baltimore,
1973, p. xiii.
29. Pye, «Building a Relationship», p. 14.
30. Simon Leys, «Human Rights in China», Quadrant, November 1978, p. 74.
31. Herbert Passin, China’s Cultural Diplomacy, New York, 1963, p. 9, 12, 119,
120, 121, 122.
32. Цит. no: Ibid., p. 117.
33. Lorenz Stucki, Behind the Great Wall, New York, 1965, p. 16, 18, 19.
34. Jacques Marcuse, The Peking Papers, New York, 1967, p. 8, 19.
35. Jules Roy, Journey Through China, New York 1967, p. 282.
36. Alfred Fabre-Luce, «Chinese Journey,» Atlantic, December 1959, p. 44.
37. Robert Loh, «Setting the Stage for Foreigners», Atlantic, December 1959, p. 81. См. также: Loh, Escape from Red China (New York, 1962).
38. Cm.: Sperber, Man and His Deeds,
39. Например, Комитет озабоченных ученых-востоковедов писал: «Узнавание по книгам никогда не было достаточно убедительным. Теперь, наконец, мы смогли увидеть собственным глазами» (Concerned Asian Scholars, China!, p. 3).
40. Adam Ulam, «USA: Some Critical Reflections», Survey, January 1954, p. 53.
41. Greene, China, p. 23.
42. Macciocchi, Daily Life, p. 106; Concerned Asian Scholars, China!, p. 165.
43. Carol Tavris, «Field Repoer: Women in China», Psychology Today, May
1974, p. 43.
44. Lynd and Hayden, Other Side, p. 39-40. Описания Пекина в этой книге напомнили Кристоферу Лэшу «более ранние отчеты американских радикалов в 1920-1930-е гг. об их сентиментальном путешествии в Советский Союз» (New York Times Book Review, April 23, 1967, p. 18).
45. Ross Terrill, 800 Million: The Real China, Boston, 1971, p. 2.
46. Barbara Wooton, *A Journey to China», Encounter, June 1973, p. 26.
47. Shirley MacLaine, You Can Get There From Here, New York, 1975, p. 126- 127. Доктор Бенджамин Спок был «также очарован спокойствием людей, их улыбками и раскованностью... и он никогда не видел, чтобы дети дрались, что- нибудь хватали... и даже хныкали и жаловались». «Dr. Spock in China», New China, 1974 [1st issue, n. d.].
48. David Rockefeller, «From a China Traveller», New York Times, August 10, 1973.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
455
49. Jay Matthews, «Sabbatical in China», Washington Post, March 1974; C.K. Jen, «Mao‘s „Serve the People’s Ethic“, Science and Public Affairs: Bulletin of the Atomic Scientists, March 1974, p. 18.
50. «Churchmen Find a Lesson in China», New York Times, September 19, 1974, p. 13.
51. Hewlett Johnson, The Upsurge of China, Peking, 1961, p. 368. To, что книга была издана китайским правительством, ставит Джонсона в особую категорию: он снискал признательность китайских властей как истинно важный друг. Анна Луиза Стронг также заметила сходство между политикой китайского режима и истинными христианскими принципами. Так совпало, что ее «поддержал своими комментариями доктор Чао Фу Сам, выдающийся лидер протестантов в Китае», который «признал, что число верующих [в Китае] намного уменьшилось, но он полагал, что духовность улучшилась» (Anna Louise Strong, Letters from China, numbers 21-30, Peking, 1965, p. 172).
52. Hewlett Johnson, China’s New Creative Age, London, 1953, p. 106, 110, 112. Статьи Мерай были опубликованы во французской газете «Franc Tireur» в 1957 г.
53. Johnson, China's New Creative Age, p. 184.
54. James Reston, «Letters from China: II», New York Times, July 30, 1971.
55. Simon Leys, Chinese Shadows, New York, 1977, p. 45.
56. Königsberger, Love and Hate in China, p. 118-119.
57. Johnson, Upsurge of China, p. 256; Arthur Galston, Daily Life in People’s China, New York, 1973, p. 130.
58. Greene, China, p. 157.
59. Orville Schell, In the People’s Republic: An American’s First Hand View of Living and Working in China, New York, 1977, p. 94.
60. Claudie Broyelle, Women’s Liberation in China, Atlantic Highlands, N. J., 1977, p. 150; примеры того, как воспитание детей проникнуто чувством цели, см.: р. 74; о неуместности привлекательной наружности для женщин — р. 151-153.
61. Sidel, Women and Child Care, p. 43; Schell, In the People’s Republic, p. 161- 162, 243-244.
62. MacLaine, You Can Get There, p. 183; Macciocchi, Daily Life, p. 106.
63. Bao Ruo-Wang, Prisoner of Mao, Harmondsworth, U.K., 1976, p. 190.
64. «„Human nature“ is being changed», in Jan Myrdal and Gun Kessle, The Revolution Continued, New York, 1970, p. 192.
65. Worsley, Inside China, p. 20.
66. Ibid., p. 129.
67. Basil Davidson, Daybreak in China, London, 1953, p. 139.
68. James Reston, «Letters from China: I», New York Times, July 28, 1971.
69. Quaker Report, p. 35.
70. Pierre Elliot Trudeau and Jacques Hebert, Two Innocents in Red China, Toronto; New York; London, 1968, p. 54.
71. Sidel, Women and Child Care, p. xii, 186.
72. Chun-tu Hsueh, «Journey to China», mimeographed (EARC Files, n.d.).
73. Concerned Asian Scholars, China!, p. 284. Феликс Грин тоже «пришел к убеждению, что китайцы испытывают чувство глубокого удовлетворения от участия в коллективной деятельности» (Greene, China, р. 106).
74. Beauvoir, Long March, p. 164.
75. Beauvoir, All Said and Done, p. 415.
76. Davidson, Daybreak in China, p. 96, 97.
77. Fairbank, «The New China», p. 36-37, 41.
78. Macciocchi, Daily Life, p. 107.
79. Greene, China, p. 7.
80. Concerned Asian Scholars, Chinal, p. 2, 126.
81. Joshua Horn, Away with All Pests..., London, 1969, p. 182-183.
82. «The Making of a Red Guard», New York Times Magazine, January 4, 1970, p. 58. Leys, «Human Rights», p. 73. Согласно китайскому автору, во время Культурной революции широко применялись пытка, когда людей привязывали к высокому столбу и вращали их вокруг него, это называлось «полет на самолетике». «Всякий, кто испытал на себе эту пытку, впоследствии страдал от высокого давления и от сердечной недостаточности» (Hsia Chih-yen, The Coldest Winter in Peking, Garden City, N.Y., 1978, p. 106).
456
Пол Холланлер
83. MacLaine, You Can Get There, p. 245; см. также: Macciocchi, Daily Life, p. 107 (о процессе «перевоспитания», который испытали на себе иностранцы в Китае).
84. Worsley, Inside China, р. 13.
85. Galaton, Daily Life, p. 240.
86. Ibid., p. 233.
87. Beauvoir, Long March, p. 49. Озабоченных ученых-востоковедов власти, очевидно, успокоили по поводу возрождения таких форм физического труда (Concerned Asian Scholars, Chinal, p. 125).
88. Concerned Asian Scholars, China!, p. 278-279. Примером такого же отношения к работе служит следующая история, рассказанная группой американских туристов: «Хотя он был калекой от рождения, он был полон решимости внести свой вклад в производство... Он собирал металлический лом вокруг деревни и в пещере, где он жил, превращал его в терки для турнепса... он стал образцом инициативы и самодостаточности». Вообще «скрупулезная работа по интеграции калек в это огромное и пока еще бедное общество является еще одним впечатляющим показателем того, что современный Китай — это страна, в которой преодолено понятие отбросов как человеческих, так и материальных; все и всё считаются полезными» (Report from Science for the People, China: Science Walks on Two Legs, New York, 1974, p. 90, 108).
89. См.: Жак Маркюз о некоторых официальных попытках сделать сбор нечистот более привлекательным и об устойчивом народном отвращении к тем, кто занимается этим делом (Peking Papers, р. 216-223).
90. Macciocchi, Daily Life, p. 88-89, 97.
91. Joseph Kraft, The Chinese Difference, New York, 1973, p. 82-83.
92. Согласно одному туристу, говорившему о таких заданиях, «стало ясно, что смыслом физического труда было не внести вклад в производство, а исправить характер» (Kenez, «Sense of Deja Vu», p. 9).
93. Myrdal and Kessle, Revolution Continued, p. 139, 168, 171.
94. Concerned Asian Scholars, China!, p. 171.
95. Claudie and Jacques Broyelle, «Everyday Life in the People’s Republic», Quadrant, November 1978, p. 15. Статья была написана после того, как авторы разочаровались в коммунистическом Китае, где они провели несколько лет; см. р. 14. Имеется также много ссылок на аналогичную практику и на тяжесть сельского труда, см. в: Hsia, Coldest Winter in Peking.
96. Macciocchi, Daily Life, p. 34; Beauvoir, Long March, p. 53, 54.
97. Schell, In the People's Republic, p. 21-22.
98. Leys, Chinese Shadows, p. 117. Число карманов как показатель общественного положения человека отмечал также Уильям Сафир: William Safire, «China: The New Mysteries», New York Times Magazine, June 19, 1977, p. 48.
99. Luttwak, «Seeing China Plain», p. 30.
100. Lucian Pye, China Revisited, Center for International Studies, M.I.T., Cambridge, 1973, p. 153.
101. Macciocchi, Daily Life, p. 314.
102. John S. Service, «Life in China Is „Obviously Better“», New York Times, January 26, 1972.
103. Leys, Chinese Shadows, p. 113,115-116; «Top China Aides Enjoy Luxuries Others Can’t Get», New York Times, November 27, 1977; «The Rise and Fall of Mao’s Empress», Time Magazine, March 21, 1977 (см. также: Roxane Witke, Comrade Chiang Ching, Boston, 1977); Colette Modiano, Twenty Snobs and Mao: Travelling de Luxe in Communist China, London, 1969, p. 154, 155. О коррупции и непотизме см. также: Fox Butterfield, «In China, Austerity Is Less Austere If One Has Friends in Right Places», New York Times, December 11, 1977; cm.: Idem, «Peking Presses Campaign Against Official Corruption and High Living», New York Times, May 7, 1978; «Discipline, Favoritism Are Problems for Peking», New York Times, June 24, 1979; «Peking Preparing Drive Against Corrupt Officials», New York Times, August 1, 1979.
104. Concerned Asian Scholars, China!, p. 102, 195, 253, 257, 265. Согласно Софии Делза, искусство танца также процветало (Sophia Delza, «The Dance-Arts in the People’s Republic of China: The Contemporary Scene», Asian Music, March 1974, p. 39).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
457
105. Greene, China, p. 221.
106. Concerned Asian Scholars, China!, p. 133.
107. Science for the People, Science Walks on Two Legs, p. 5. Среди авторов этой книги были выпускник экспериментального колледжа Миннесотского университета (интересующийся политической теорией и политическими движениями), студент-медик, программист, студент-выпускник по специальности социальная психология, бывший руководитель программы феминистских исследований, дипломированная медсестра, химик-ядерщик, «участвующий в инновационной программе», «специалист по защите прав малолетних» и другие, чья связь с наукой была весьма незначительной. «Эта организация выросла из студенческой группы, созданной для противодействия секретным военным исследованиям, но затем расширила свою деятельность на сферу депрофессионализации науки... критикуя существующие программы обучения наукам... и ставя важнейшие проблемы о роли женщин в научном сообществе (первая страница, без номера)».
108. Ibid., р. 6, 11.
109. Quaker Report, p. 23.
110. John Kenneth Galbraith, A China Passage, Boston, 1973, p. 120.
111. Martin King Whyte, «Inequality and Stratification in China», China Quarterly, December 1975, p. 685, 692.
112. Donald S. Zagoria, «China by Daylight», Dissent, Spring 1975, p. 138-139. Майкл Фролик сообщал в 1971 г. о десятикратной разнице в доходах; см.: Michael Frolic. «What the Cultural Revolution Was All About», New York Times Magazine, October 24, 1971, p. 123. Вслед за общей переоценкой условий в Китае после смерти Мао, появилось много аналитических работ о неравенстве. См., например, Nick Eberstadt, «China: How Much Success?», New York Review of Books, May 3, 1979. В этой статье Эберстад приходит к заключению, что «разница в доходах в Китае может быть намного больше, чем в ряде стран, обычно ассоциирующихся с „фашистскими» элитами и эксплуатацией масс» (р. 41). Hsia, Coldest Winter in Peking — эта книга содержит также много ссылок на неравенство и привилегии элит; см. например: р. 22, 52, 64, 67 (о привилегиях военных), 72-74 (о сельских поселках), 88 (иностранцах), 132-133 (о голоде бедных и излишествах в элитной среде), 134. 159 (о доступности разных сортов сигарет), 164, 172.
113. Edgar Snow, Red China Today, New York, 1970, p. 285.
114. Terrill, 800 Million, p. 9.
115. MacLaine, You Can Get There, p. 130.
116. Audrey Topping, Dawn Wakes in the East, New York, 1973, p. 3. Здесь можно отметить, что, по словам Шейлы К. Джонсон, «нынешний энтузиазм в отношении Китая имеет давние корни в религиозном течении в американской мысли, которая берет начало с миссионерского движения в XIX в. ...Берущую начало от миссионеров идеализацию китайского крестьянина... можно встретить у многих современных авторов» (Sheila К. Johnson, «То China with Love», Commentary, June 1973, p. 45).
117. Concerned Asian Scholars, Chinai, p. 107.
118. Norma Lundholm Djerassi, Glimpses of China from a Galloping Horse, New York, 1974, p. 14, 15, 17. Канадский пресвитерианин Джонсон, который боялся обидеть своих хозяев вопросами о религии (сравни стр. 392), обнаружил, «что везде люди... выглядели здоровыми... сытыми, редко встречались случаи незначительных заболеваний, таких как простуда или болячки на теле; женщинам, не пользовавшимся косметикой, она была и не нужна: все они выглядели здоровыми, розовощекими... У меня создалось впечатление, что люди счастливы и живут в мире с собой» (Е. Н. Johnson, «Challenge of the New China», 2, mimeographed [EARC File], p. 3).
119. Horn, Away with All Pests, p. 26; Galston, Daily Life, p. 14.
120. Аналогичное наблюдение, касающееся американского восприятия Китая, сделал Фредерик Вэйкмэн младший: «Мы почти всегда проецировали на китайцев нашу собственную форму социального идеализма, хотя они оставались для нас совсем другими...» (Frederic Wakeman, Jr., «The Real China», New York Review of Books, July 20, 1978, p. 9).
121. Davidson, Daybreak in China, p. 125.
458
Пол Холландер
122. Peter Townsend, China Phoenix: The Revolution in China, London, 1955,
p. 202.
123. Frank, Dawn in Russia, p. 121, 127.
124. Concerned Asian Scholars, China!, p. 9; MacLaine, You Can Get There, p. 127; Galston, Daily Life, p. 32. Орвил Шелл также хорошо отозвался о китайских поездах (Orville Schell, In the People’s Republic, p. 199), как и Хьюлетт Джонсон (Hewlett Johnson, China’s New Creative Age, ch. 8).
125. Beauvoir, Long March, p. 459.
126. Greene, China, p. 21-22.
127. Davidson, Daybreak in China, p. 51; Galbraight, China Passage, p. 71. Поэт Джерасси признавался: «Соприкосновение с природой здесь в Ханчжоу рождает в моем сердце чувство ностальгии.... Здесь я ощущаю чувство безмятежности...» (Djerassi, Glimpses of China, p. 104).
128. Jan Myrdal, Report from a Chinese Village, New York, 1972, p. xvi.
129. Salisbury, To Peking, p. 73-74. Аналогичные комментарии о России есть у Уолдо Фрэнка, Пабло Неруды и у других.
130. James Reston, «Letters from China: I».
131. Paul Dudley White, «China’s Heart Is in the Right Place», New York Times, December 5, 1971.
132. MacLaine, You Can Get There, p. 206; Leys, Chinese Shadows, p. 47; Galston, Daily Life, p. 64.
133. Sidel, Women and Child Care, p. xii.
134. Horn, Away with All Pests, p. 31-32.
135. Urie Bronfenbrenner, «Child-Watching in a Chinese Classroom», New York Times, Education Abroad Supplement, January 15, 1975, p. 95; Trudeau and Hebert, Two Innocents, p. 105.
136. Passin, China’s Cultural Diplomacy, p. 4.
137. Horn, Away with All Pests, p. 27, 28; см. также: Townsend, China Phoenix, p. 217-218.
138. David and Nancy Dali Milton, The Wind Will Not Subside, New York, 1976,
p. 12.
139. Beauvoir, Long March, p. 428.
140. Irene Dawson, «Lifelong Learning in China», Ontario Library Review, September 1974, p. 170.
141. MacLaine, You Can Get There, p. 245.
142. Fairbank, «New China», p. 40.
143. Macciocchi, Daily Life, p. 372.
144. Alberto Jacoviello, «А Communist Looks at China», New York Times, January 25, 1971.
145. Concerned Asian Scholars, China!, p. 194.
146. Chester Ronning, «China’s 700 Million Are On the Way», New York Times, June 7, 1971.
147. Andrew L. March, «China: Image and Reality», New York Times, September 12, 1975; Seymour Topping, «China: Economic Policy Stresses Local Self-Help», New York Times, June 27, 1971, p. 20.
148. Science for the People, Science Walks on Two Legs, p. 16.
149. Corliss Lamont, Trip to Communist China, New York, Basic Pamphlets, 1976, p. 13.
150. Leys, Chinese Shadows, p. 76; Macciocchi, Daily Life, p. 230.
151. Bronfenbrenner, «From Another Planet», p. 4-5; Lynd and Hayden, Other Side, p. 45.
152. Berger, «Socialist Myth», p. 8-9.
153. Цит. no: Greene, China, p. 102-103.
154. Hewlett Johnson, Upsurge of China, p. 369; Fairbank, «New China», p. 38.
155. Quaker Report, p. 21.
156. Nearing, Making of a Radical, p. 247-248.
157. Horn, Away with All Pests, p. 18-19, 32.
158. «Report of the Delegation of the American Association of State Colleges and Universities», mimeographed, EARC Files, April 1975, p. 3.
159. Tavris, «Field Report», p. 98.
160. Concerned Asian Scholars, China!, p. 122.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
459
161. Dudley White, «China’s Heart».
162. Leys, Chinese Shadows, p. 201.
163. Lamont, Trip to Communist China, p. 21.
164. Worsley, Inside China, p. 185.
165. Concerned Asian Scholars, China], p. 155.
166. Edward P. Morgan, «Smokestacks and Pagodas: One Man’s Impressions of China», Sierra Club Bulletin, October 1977, p. 21; см также: Fox Butterfield, «China Wakes up to Dangers of Industrial Pollution», New York Times, April 6, 1980.
167. Harrison Salisbury, «Once Arid Region of China Blooms», New York Times, June 27, 1972.
168. Joseph Lelyveld, «„Everything Was Green and Nice“, U.S. Crop Expert Says of China’s Farms», New York Times, September 24, 1974
169. Beauvoir, Long March, p. 108; Galston, Daily Life, p. 129-130. Джерасси также нахваливал «безупречную чистоту улиц» (Djerassi, Glimpses of China, p. 44). Об этих кампаниях см. напр.: Johnson, China's New Creative Age, p. 78-79; Davidson, Daybreak in China, p. 76-77.
170. Galbraith, China Passage, p. 104, 115.
171. Terrill, 800 Million, p. 233. В книге «Pyramids of Sacrifice* Питер Бергер обсуждает узаконение политических репрессий при экономическом прогрессе.
172. См., например: UPI, «China Says Mao’s Errors Resulted in Vast Hunger», October 7, 1979, Fox Butterfield, «Official in Peking Concedes 60’s Moves Led to Catastrophe: Yeh Describes Cultural Revolution as „Appaling“...», New York Times, September 30, 1979; Idem, «In Peking Two Miles of Botched New Housing», New York Times, August 14, 1979. Даже образцовое коммунистическое хозяйство Дажай (по более ранней транслитерации Тахай) — входившее в маршрут каждой иностранной делегации — не избежало критики (UPI, «Farm Unit Praised by Mao Is Assailed by Chinese Party», New York Times, October 4, 1979). Также стали осознавать, что Соединенные Штаты могут почерпнуть много нового из опыта китайской практической медицины (сравни: М. J. Halberstam, «Suggestions for the Reorientation of American Physicians», Modern Medicine, November-December 1979).
173. Broyelle and Broyelle, «Everyday Life», p. 15. Культурную революцию осудили также сами китайские власти за молодежную преступность и упадок системы народного образования. См. например: James Р. Sterba, «China Says Its Rising Juvenile Crime Stems from Cultural Revolution», New York Times, December 26, 1979; Fox Butterfield, «Schools in China Still Lag», New York Times, February 12, 1980; Fred M. Hechinger, «In China the Pendulum Is Swinging», New York Times, July 17, 1979.
174. Fox Butterfield, «China’s Road to Progress Is Mostly Uphill», New York Times, February 4, 1979; Malcolm W. Browne, «Visitors’ Views of China’s Gains Seen as Overstated», New York Times, March 27, 1979.
175. Broyelle and Broyelle, «Everyday Life», p. 15.
176. Nick Eberstadt, «Has China Failed?» New York Review of Books, April 5, 1979, p. 34, 36, 39; Idem, «Women and Education in China: How Much Progress?», New York Review of Books, April 19, 1979, p. 39.
177. Broyelle and Broyelle, «Everyday Life», p. 16.
178. Fox Butterfield, «Tree Loss in China Affecting Climate», New York Times, April 18, 1979; Idem, «Chinese Ecology Upset by Food Drive», New York Times, April 7, 1980.
179. Galbraith, China Passage, p. 104; Padma Desai, «China and India: Development During the Last 25 Years», American Economic Review, May 1975, p. 367.
180. Zagoria, «China by Daylight», p. 138. Дополнительные комментарии по модернизации и регламентации см.: Ben J. Wattenberg, «Mao’s Funeral», Harpers’s, February 1977, p. 32-33.
181. Peter L. Berger, «Good News from India?», Worldview, October 1976, p. 27. После смерти Мао власти Китая признали, что в прессе постоянно преувеличивали успехи в экономике («Press in China Admits to Lies, Boasts and Puffery», New York Times, August 29, 1979).
460
Пол Холландер
182. Например он сопровождал декана кентерберийского Хьюлетта Джонсона в специальном поезде для осмотра плотины Miiyun Dam (см.: Johnson, Upsurge of China, p. 336). Эдгару Сноу устроили подобную встречу (Snow, Red China Today, p. 102).
183. Очевидно, до прихода к власти Мао был более доступен и менее официален. В конце 1903-х — начале 1940-х гг. он «вызывал восторг у корреспондентов: простой в обращении, щедрый на интервью, умело ведущий разговоры... [он] обычно назначал интервью... на позднее время... в лессовой пещере. Они продолжались до двух-трех часов ночи, когда корреспондент уходил со слипающимися глазами от еще свежего хозяина» (Kenneth Е. Shewmaker, Americans and Chinese Communists, 1927-1945, Ithaca, N.Y., 1971, p. 184. Такой образ Мао более напоминает Кастро в его революционный период, чем Сталина, с которым его позднее сравнивали (р. 188).
184. Здесь снова впечатления первых посетителей были совсем не похожи на тот образ, который сложился после завоевания власти: «Харизматическая сила Мао Цзэдуна действительно поразительна. В очерках американцев и европейцев Мао стал легендой своего времени. Эдгар Сноу увидел в нем пророка в пещере... Сноу ощущал „определенную силу судьбы...стихийную жизненную энергию“... Элен Сноу вышла из темной пещеры Мао, вспоминая „олимпийскую фигуру, изрекающую речи подобно дельфийскому оракулу“» (Ibid., р. 188).
185. Klaus Mehnert, China Returns, New York, 1972, p. 241. См., например: Richard L. Walker, «Chinese Supermen», New York Times Book Review, February 18, 1962. Согасно Уолкеру, культ Мао только ослаб вскоре после «секретной» речи Хрущева в 1956 г., но в 1957 г. снова усилился.
186. Science for the People, Science Walks on Two Legs, p. 21. Dick Wilson, ed., Mao Tse-Tung in the Scales of History, Cambridge, 1977, p. 8; Myrdal and Kessle, Revolution Continued, p. 191.
187. Michel Oksenberg in Wilson, Mao Tse-tung, p. 70; Snow, Red China Today, p. 177.
188. Han Suyin, China in the Year 2001, New York, 1967, p. 186, 199. Критический обзор работы Хан Сюнь см.: Orville Schell, «А Friend of China,» New York Times Book Review, July 20, 1980.
189. Цит. no: Whitfield, Scott Nearing, p. 185.
190. Edward Friedman in Wilson, Mao Tse-tung, p. 300.
191. Greene, China, p. 143-144. Позднее профессор Фэрбэнк высказал аналогичные мысли и высмеял идею, что после смерти Мао китайские вожди смогут вступить в борьбу за власть. Он писал, что, называя это борьбой за власть «мы просто проецируем собственные представления на то, что делается в далеком Китае», а также высказал мысль, что борьба «Форда против Картера за президентское кресло — это более откровенная борьба, чем то, что происходит в Пекине». Он подчеркнул, что в Пекине расходятся по принципиальным вопросам политики, а не по личностям; короче говоря, в китайской политике будто бы нет места отвратительной борьбе за власть (New York Review of Books, October 14, 1976, p. 3).
192. См., например: Davidson, Daybreak in China, p. 138.
193. Schell, In the People’s Republic, p. vii-viii. В подобном духе советский писатель Леонов утверждал, что Сталин «вложил частицу своей воли в каждого советского мужчину, в каждую советскую женщину и как бы растворился в них» (цит. по: Paul Hollander, «The New Man and His Enemies», Ph. D. dissertation, Princeton, 1963, p. 171).
194. Myrdal and Kessle, Revolution Continued, p. 187; Fairbank, «New China,» p. 41.
195. Johnson, China’s New Creative Age, p. 153; см. также: Concerned Asian Scholars, China!, p. 46, 48.
196. Исчерпывающие документы по этому культу можно найти в: George Urban, ed.. The Miracles of Chairman Mao: A Compendium of Devotional Literature, 1966-1970, London, 1971; см. также: Mehnert, China Returns, p. 113 — о других «чудесах».
197. См., например: William Hinton, Fanshen, New York, 1966, p. 183.
198. Lord Boyd Orr and Peter Townsend, What Is Happening in China?, London, 1959, p. 57, 58.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
461
199. Robert Jay Lifton, Revolutionary Immortality: Mao Tse-Tung and the Chinese Cultural Revolution, New York, 1968, p. 91.
200. Wilson, Mao Tse-Tung, p. 2; Concerned Asian Scholars, China!, p. 46.
201. Julie Nixon Eisenhower, «Chairman Mao Says Good-Bye,» Ladies' Home Journal, January 1977, p. 67; Djerassi, Glimpses of China, p. 21; Concerned Asian Scholars, China!, p. 21.
202. Johnson, China's New Creative Age, p. 153; Milton and Milton, Wind Will Not Subside, p. 103, 108.
203. Beauvoir, Long March, p. 429.
204. Topping, Dawn Wakes in the East, p. 42.
205. Salisbury, To Peking, p. 250.
206. Johnson, China’s New Creative Age, p. 145-146; Djerassi, Glimpses of China, p. 22.
207. Harrison E. Salisbury, «Now It’s China’s Cultural Thaw», New York Times Magazine, December 4, 1977, p. 108; Edward Friedman, «McCarthyism in China», New York Times, February 21, 1979.
208. Salisbury, «Now It’s China’s Cultural Thaw», p. 24.
209. Цитируется по официальной китайской публикации предисловия Саймона Лейса к книге: Chen Jo-hsi, The Execution of Mayor Yin, Bloomington, Ind., 1978, p. xxvii. Дополнительные исследования о китайском социалистическом реализме см. также: Paul Hollander, «Socialist Realism in a Comparative and Historical Perspective», Studies in Comparative Communism, Autumn 1976.
210. Leys, Chinese Shadows, p. 129, 134, 136.
211. Robert Guillain, The Blue Ants, London, 1957, p. 99. См также: Charles Mohr, «Peking Propagating Contempt for Intellectuals and Experts», New York Times, November 3, 1968.
212. Nearing, Making of a Radical, p. 141. Rewi Alley co-authored with Wilfred Burchett, China: The Quality of Life, Harmondsworth, U.K., 1976. Хьюлетт Джонсон, Милтон и Анна Луиза Стронг в числе других иностранцев ссылались на Элли.
213. Greene, China, р. 241.
214. Beauvoir, Long March, p. 310-311, 313.
215. Johnson, China’s New Creative Age, p. 94-95; Davidson, Daybreak in China, p. 134-135, 148; Myrdal and Kessle, Revolution Continued, p. 139, 168, 171; Concerned Asian Scholars, China!, p. 170-171.
216. Robert Guillain, When China Wakes, New York, 1966, p. 224.
217. Jacoviello, «Communist Looks at China».
218. Boyd Orr and Townsend, What Is Happening, p. vi.
219. Leys, «Human Rights», p. 70.
220. Robert W. Barnett, «Make An Issue of Human Rights? No», New York Times, April 2, 1978.
221. Galston, Daily Life, p. 160.
222. Simon Leys, «Broken Images», Dissent, Fall 1976, p. 361; Bao Ruo-Wang, Prisoner of Mao, p. 61.
223. Beauvoir, Long March, p. 388-389.
224. Davidson, Daybreak in China, p. 98, 176, 177.
225. Нужно вспомнить, что среди жертв, описанных в: Robert Jay Lifton, Thought Reform and the Psychology of Totalism: A Study of „Brainwashing" in China, New York, 1961, — были миссионеры и священники.
226. Цит. по: Greene, China, р. 192; Boyd Orr and Townsend, What Is Happening, p. 73; John Gittings, «Pine and Willow,» Manchester Guardian Weekly, May 3, 1971; John K. Fairbank, «Travel Notes», mimeographed, EARC Files, May 30, 1972, p. 2, 3. Сравнивались также молодые китайцы, посланные в сельские районы во время Культурной революции с молодыми людьми, вступившими в Корпус мира в Соединенных Штатах. «Как показал опыт Корпуса мира, молодые люди способны добровольно пойти на службу, которая требует самопожертвования. Так же, как многие американцы добровольно поехали в отдаленные районы... в ответ на призыв президента Кеннеди, так и молодые китайцы добровольно решили помочь слаборазвитым районам Китая повысить уровень образования и культуры в ответ на призыв председателя Мао», — писал Франк Ф. Вонг,
462
Пол Холланлвр
адъюнкт-профессор истории в Антиохийском колледже (Frank F. Wong, Letter to the editor, New York Times Magazine, September 15, 1974).
227. Beauvoir, Long March, p. 388.
228. Bao Ruo-Wang, Prisoner of Mao, p. 10. Подобные комментприи о разнице м!жду советским и китайским подходом к проблеме политического контроля см.: David Erdal, «I Worked in Mao's China», Worldview, November 1977, esp. p. 7. Более ранний, но ценный рассказ о неофициальном общественном контроле в повседневной жизни и особенно в школах см.: Sansan and Bette Lord, Eighth Moon, New York, 1964, (особенно) p. 54, 56, 59, 63, 65, 71, 95-96, 98, 114, 132, 134-135.
229. Leys, «Broken Images», p. 374-375.
230. Нельзя сказать, что не применялись и другие методы. Широко использовалось лишение пищи. Бао Руо-Ванг писал: «Нормирование пищи было введено, как часть процесса следствия. Не было более эффективного оружия, чтобы вызвать у допрашиваемого готовность сотрудничать... После такого рациона я готов был признаться в чем угодно, лишь бы получить больше еды» (Bao Ruo-Wang, Prisoner of Мао, р. 46).
231. Lamont, Trip to Communist China, p. 20-21.
232. Quaker Report, p. iv-v; Worsley, Inside China, p. 214.
233. Leon Lipson, «Impressions of China: Law», Yale Alumni Magazine, October 1974. Коэн сообщал об аналогичных трудностях (Jerome Alan Cohen, «Chinese Justice: It’s a Puzzlement», Washington Post, July 4, 1972).
234. Roy, Journey Through China, p. 53; Bao Ruo-Wang, Prisoner of Mao, p. 99. Эдгар Сноу также посетил Пекинскую тюрьму (Snow, Red China Today, p. 357-360).
235. Beauvoir, Long March, p. 385.
236. Trudeau and Hebert, Two Innocents, p. 21-23.
237. О наличии в Пекине только одной тюрьмы можно предполагать не только по утверждениям Бовуар (Beauvoir, Long March, р. 386), но по аналогичным цифрам о количестве узников, приводимых также Камероном, Бовуар и Жюлем Руа. Такие совпадения, однако, не объясняют различия во внешности заключенных, замеченные Камероном. Возможно, после посещения Камерона состав тюрьмы обновился.
238. James Cameron, Mandarin Red: A Journey Behind the «Bamboo Curtain», London, 1955, p. 95, 96, 97, 99.
239. Davidson, Daybreak in China, p. 183.
240. Townsend, China Phoenix, p. 318, 319, 320, 321. Что касается стараний облегчить процесс реабилитации вышедших из тюрьмы на свободу, Бао Руо-Ванг сообщал об одном случае (он не утверждал, насколько он типичен), когда узник после освобождения был буквально подвергнут остракизму, в том числе и в своей семье и был вынужден попроситься обратно в тюрьму (Bao Ruo-Wang, Prisoner of Мао, р. 308).
241. Greene, China, р. 55-56, 208-209.
242. Audrey Topping, Dawn Wakes in the East, p. 66-67.
243. Passin, China’s Cultural Diplomacy, p. 119-120.
244. Fairbank, «New China», p. 40; Michael Frolic, «Wide-eyed in Peking: A Diplomat’s Diary», New York Times Magazine, January 11, 1976, p. 32; цит. no: Sheila Johnson, «To China with Love», p. 44. Мартин Уайт назвал школы имени 7 Мая «псевдоисправительными заведениями»; см.: Martin Whyte, «Corrective Labor Camps in China», Asian Survey, March 1973, p. 256. В его статье также рассматриваются сходства и различия между китайским и советским концлагерем.
245. Mehnert, China Returns, р. 63.
246. Macchiocchi, Daily Life, p. 96.
247. Roy, Journey Through China, p. 164.
248. Leys, «Human Rights», p. 73; Safire, «China: New Mysteries», p. 34, По оценкам профессора Ричарда Л. Уолкера, китайский коммунистический режим повинен в гибели по крайней мере 34 миллионов, а возможно, и почти 50 миллионов своих граждан (Richard Walker, «Death of 34 Million Laid to Chinese Reds», New York Times, August 13, 1971).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
463
249. См.: Harold С. Schonberg, «Shanghai Youth Use Boston Symphony Visit for Protest», New York Times, March 16, 1979.
250. Fox Butterfield, «Peking Dissident in Rare Account Tells of Political Prisoners’ Torture,» New York Times, May 7, 1979; см. тамже: «Excerpts from the Wall Poster Describing How Detainees Are Treated» (о цитируемых правилах о положении заключенного во время сна см.: р. 10). Впоследствии автор этого редкого «рассказа» и листовки, на которую мы ссылались, Вэй Джишен, был приговорен к пятнадцатилетнему тюремному заключению. (Fox Butterfield, «Leading Chinese Dissident Gets Fifteen-Year Prison Term», New York Times, October 17, 1979; отрывки из стенограммы этого судебного процесса см.: «Excerpts from Peking Trial Transcript», New York Times, November 15, 1979).
Более подробное описание условий политического заключения см.: Political Imprisonment in the People's Republlic of China, London, Amnesty International Publications, 1978. «О судьбе освобожденных и „реабилитированных“ (некоторых из них посмертно) после смерти Мао см.: Fox Butterfield, «China’s Purge Victims Don’t Exactly Get a Warm Welcome,» New York Times, July 15, 1979. В этой статье приводится цитата из официального китайского источника о том, что от 40 до 70% осужденных за контрреволюционную деятельность оказались невиновны. О жестоком обращении с писательницей см.: Fox Butterfield, «Peking Honors Mao’s Second Wife, Long in Eclipse», New York Times, June 7, 1979. Другие примеры условия содержания в тюрьме см.: Broyelle and Broyelle, «Everyday Life», p. 17.
251. «Excerpts from the Wall Poster», p. 10.
252. Ross H. Munro, «China is Still Stigmatizing „Rich Peasants“ of the 1940s», New York Times, October 13, 1977, p. 10.
253. Ross H. Munro, «In China, Tight Curbs Woven into Social Fabric Limit Rights», New York Times, October 11, 1977.
254. Hsia, Coldest Winter in Peking; Chen, Execution of Mayor Yin.
464
Пол Холланлвр
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ТЕХНИКА
ГОСТЕПРИИМСТВА:
РЕЗЮМЕ
...Утверждение, что он видел «реальную» революцию собственными глазами, придавало вес его высказываниям. Это поддерживало его имидж человека, строящего заключения на основе твердых доказательств.
Грэнвилл Хикс о Линкольне Стеффенсе1
Никогда ранее я не путешествовал так шикарно. Спецваго- пы, лучшие автомобили, всегда лучшие номера в лучших отелях, самая изысканная пища. А какое гостеприимство! Какое внимание! Какая забота! Повсюду восторженные приветствия, все тебе рады, настоящий праздник. Казалось, не осталось ничего лучшего, ничего исключительного, чего бы мне не предлагали.
Андре Жид2
Еду нам подавали с улыбкой. И это была хорошая еда. Горячая. Китайская. Чистая. Яичный суп, курица с зеленым перцем, запеченные устрицы, острые свиные биточки и апельсиновый сок. Палочки для еды всегда новые. Я чувствовал, что отдыхаю, и подумал, как хорошо мне в этой стране!
Гаррисон Солсбери3
В Гаване в отеле для иностранцев я встречал коммунистов, которые и не подозревали, что днем в рабочих кварталах отключают электричество и воду, что хлеб выдают по норме и народ вынужден стоять по два часа в очереди за ломтем пиццы, в то время как они, постояльцы «интуриста», спорят о Лукасе.
Ганс Магнус Энценсбергер4
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
465
Техника гостеприимства включает в себя полный набор методов и приемов, предназначенных для воздействия на гостей с целью оставить у них благоприятное впечатление от пребывания в стране и оправдать их ожидания; это по сути форма убеждения путем «чувственных доказательств». Таким образом, эта техника является концентрированным усилием максимального контроля над реальным опытом визитеров. Разумеется, чем сильнее и центра- лизованнее государство, чем больше оно контролирует своих граждан и свои ресурсы, тем успешнее осуществляется контроль и за поведением гостей. Следовательно, чем более тоталитарна5 каждая из четырех рассматриваемых стран, тем больше у нее оказывалось возможностей влиять на формирование хорошего мнения у гостей. Значит, необходимы как определенные структуры, так и идеологические условия для желательной обработки визитеров. С идеологической точки зрения, хозяева должны уделять особое внимание управлению впечатлениями, которые получают избранные иностранцы, что, в свою очередь, основано на вере в важность идей для завоевания политического превосходства страны. Даже такие относительно бедные страны, как Китай, Куба, Северный Вьетнам и ряд стран советского блока, стремились инвестировать значительные ресурсы в технику гостеприимства (так же, как ранее в другие престижные проекты, например общественные здания, стадионы, монументы и т. п.). Те, кто стоит у власти в этих режимах, верят, что идеи — это оружие, а чтобы влиятельные визитеры опубликовали свои хорошие впечатления о стране, их надо тщательно пестовать. Благоприятные впечатления известных интеллектуалов, журналистов, политиков, специалистов, а также отобранных VIP всего мира — это хорошая реклама страны и даже больше чем реклама. Они могут внести свой вклад в создание позитивного мнения в своем обще¬
466
Пол Холланлер
стве об экономике, культуре, обороноспособности страны и благосклонного отношения к ней со стороны элиты этих стран. Объекты такой политики гостеприимства могут быть разные: либо это различные специфические элитные группы, например ученые, писатели, политики, деятели искусства, либо определенный круг выразителей общественного мнения (например, лидеры общественных организаций, профсоюзные деятели и т. п.), или же это избранные ключевые фигуры.
Развитые технологии и политика гостеприимства связаны с определенными структурными условиями, упомянутыми выше. Очевидно, что они существуют в большинстве высоко централизованных и регламентированных обществ, где такие ресурсы, как обслуживание туристов, гостиницы, средства массовой информации, культурная деятельность и всякого рода учреждения находятся под строгим и полным контролем государства. Государственный контроль, или, точнее, монополия, на упомянутые ресурсы идет рука об руку с подозрительным отношением к части населения. Граждане таких обществ должны, по крайней мере пассивно, содействовать официальному обращению с иностранцами: они не должны, как правило, при личных контактах с иностранцами опровергать официальную версию реальности или прибегать к этому крайне редко, только по необходимости. Особенно это относится к гидам и переводчикам, сопровождающим гостей, поскольку они не просто гиды и переводчики, но фактически госчиновники с определенной властью, о чем гражданам хорошо известно. Именно в тоталитарных обществах искусство управления впечатлениями расцвело пышным цветом в результате господствующего убеждения власти предержащей в необходимости подконтрольности и взаимозависимости всех сторон жизни, а соответствующая политика направлена на обеспечение максимального контроля над всеми областями общественной жизни.
Поскольку Советский Союз был первопроходцем в практике и политике, описываемой термином «техника гостеприимства», и считал их достаточно важными, чтобы направлять в эту сферу значительные ресурсы сразу же после установления режима, другие политические системы, выстроенные по советской модели, приняли и ревностно и энергично следовали тем же самым методам.6 Так, уже в 1920 г. Эмма Голдман отметила во время пребывания в Советской России, что «британскую миссию принимали по-царски: театр, опера, балет, экскурсии. Она утопала в роскоши, в то время как народ рабски трудился и голодал. Советская власть делала все, чтобы создать о себе хорошее впечатление, а все неприятное держалось подальше от гостей». В том
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
467
же году Виктор Серж, в то время сторонник советской власти, писал: «Единственный город, который иностранным делегатам не удалось узнать... это живая Москва с ее голодным рационом, ее арестами... Изысканная еда при всеобщей нищете... Сопровождаемые по музеям и показательным детским садам, делегаты мирового социализма производили впечатление отдыхающих...».7
Разумеется, все государства предпочитают предстать перед иностранцами с лучшей стороны (как и любой хозяин перед своими гостями), но рвение и настойчивость в этом деле возрастают с расширением тех регионов и тех аспектов жизни, на которые государство простерло свою власть и ответственность. Как указывалось выше, могущественные государства такого типа считают идеи и убеждения (включая и то, какое впечатление они оказывают на иностранцев) важным политическим ресурсом. Более того, их внутренняя политика направлена на контроль за любыми действиями как собственных граждан, так и зарубежных гостей. Иногда даже политически отсталые государства, такие как Уганда при Иди-Амине, пытались, и небезуспешно, соревноваться в достойном приеме иностранных гостей и даже заслужили их похвалу. Бежим Пол Пота в Камбодже, уже после того, как потерпел поражение от Вьетнама, пытался в подконтрольных ему районах поразить иностранцев так называемой «роскошью джунглей». («Тарелки с фруктами, привезенными из Бангкока, стояли на каждом столе. Новые куски мыла и свежие полотенца в каждом номере. Гамаки для сиесты развешаны среди молодых деревьев». Несомненно, такой комфорт был к услугам чиновников режима, в той же мере как и иностранцев.) А «широко разрекламированный пропагандистский тур», предпринятый Эндрю Янгом (представителем США в ООН) по требованию алжирских властей, достиг своей цели: его убедили принять точку зрения этого правительства.8
Базовые предпосылки технологии гостеприимства крайне просты. Поскольку накопление и обобщение личного жизненного опыта является (для человека) основной формой обучения, понимания и развития — необходимо целенаправленно формировать этот опыт, чтобы он оказался приятным и имел четкую установку. Для интеллектуалов в частности, собственный жизненный опыт, зачастую весьма ограниченный, является предметом профессии, интереса. Учитывая это, можно понять, например, почему Кеннет Гэлбрейт, которому показали кухню-столовую на пекинском заводе, сделал вывод, что «если и есть где-то недостаток продуктов, то судя по столовой, это незаметно».9 Хотя буквально такое утверждение справедливо, но Гэлбрейт, очевидно, хотел
468
Пол Холлам лер
сказать, что данный конкретный пример изобилия делает вообще мысль о нехватке продовольствия маловероятной, даже абсурдной. (Вспоминают, что Дж. Б. Шоу, завсегдатай московских ресторанов, с презрением относился к сообщениям о голоде, а Рэмси Кларк, не будучи личным свидетелем репрессий, был убежден в миролюбивом характере северовьетнамского режима.)
Доставить удовольствие туристам и вообще гостям страны имеет вполне очевидную цель. Для большинства из нас трудно не благоволить тем, кто к нам хорошо относится. Также трудно поверить и вообразить, что те, кто добры с нами, могут быть недобры к другим. Соответственно трудно дать объективную оценку политической системы, позволяющей своим гражданам влачить жалкое существование, если официальные лица обеспечивают нам более чем приличные условия жизни (пусть даже на короткое время).
Итак, неудивительно, что Урия Бронфенбреннер нашел гостеприимство в Китае поистине несравненным: «Они делали все, чтобы удовлетворить наши желания». В шанхайском отеле Мария Мачиоки отмечала: «Нам предоставлялось все без исключения для нашего удобства». Делегация американских компьютерщиков «принималась в Китае с распростертыми объятиями. С большой сердечностью и заботой делалось все, что душе угодно... Повсюду такой теплый прием, что даже трудно вообразить... „Вы приехали с женами, в следующий раз обязательно... возьмите с собой и ваших детей“, — говорили они... Приверженность равноправию отнюдь не мешала им предлагать американским гостям... изысканную еду, комфортабельное жилье, развлечения, сервис». Другой американский «официальный гость» Уильям Хауэлс, член делегации Американского антропологического общества, вспоминал: «Нас везде принимали с большой сердечностью, размещали в роскошных отелях (иностранцев размещают только в отелях deluxe), возили по городу и пригородам кавалькадой машин; при этом проезжая сквозь толпу людей или на красный свет, как китайские мандарины, мы испытывали неловкость». В середине 1930-х гг. Бернар Пейрс находил московский отель «вполне комфортным для гостей, как в отношении проживания, так и питания...».10
В конечном счете невозможно провести тонкую грань между двумя факторами, определяющую ту оценку общества, которую принимали зарубежные гости: с одной стороны — это изначальная предрасположенность, а с другой — впечатление от того, что они видели в действительности, причем второе корректируется технологиями гостеприимства. Как подчеркивалось ранее, без изначально благожелательного отношения к рассматриваемым
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
469
странам восторги от личных впечатлений были бы намного меньше, как уже иллюстрировалось на примере эйфории по поводу объектов, самих по себе ничем не примечательных и имеющихся в собственных странах гостей. Таким образом, выявилось сходство в позиции у зарубежных интеллектуалов и хозяев: первые желали получить из первых рук подтверждение своим восторгам относительно общественных систем посещаемых стран, а последние были готовы их им предоставить. (Например, Сюзан Зонтаг убеждена, что «Северный Вьетнам [был] тем местом, которое во многих отношениях заслуживает идеализации».)11 Редко случалось, чтобы техника гостеприимства вызывала в благожелательно расположенных гостях обратную реакцию (как случилось с Андре Жидом в 1930-х гг.). В большинстве случаев гости успешно оправдывали (или объясняли) великолепное обращение с ними и преодолевали неловкость, которую некоторые из них испытывали, когда иногда вдруг ощущали контраст между собственным комфортом и условиями жизни в стране.
Сюзан Зонтаг оказалась среди тех немногих, кто иногда испытывал сомнения, что, впрочем, не сказалось на ее в целом некритических и порой восторженных репортажах. Например, ее беспокоила изысканная еда, которую ей подавали в Северном Вьетнаме, а также то, что ее везде и даже на короткие расстояния возили на машине. («Почему нам не разрешают ходить пешком...?») Для Мэри Маккарти «было также очевидно, что иностранцы... живут лучше, чем местное население... Понимание того, что они живут намного лучше, чем другие (нас очень хорошо кормили), причем за счет правительства бедного государства... создавало определенное чувство неловкости, которое, впрочем, быстро улетучилось». Эндрю Солки говорил гиду на Кубе о своих сомнениях: «Все бесплатно, все есть, шикарный отель для делегатов; едва ли кто-нибудь из нас... мог [этого] ожидать... Выбор из четырех огромных ресторанных залов в ночном клубе, интернациональное меню, каждый день новое, бесплатная стирка, бесплатный телефон, бесплатное такси, служебные машины конгресса и автобусы, бесплатно три ежедневные газеты и воскресные журналы на трех языках, бесплатное посещение театров и выставок... добавим к этому бесплатный авиабилет в оба конца... плюс оплаченный лишний багаж... Много, слишком много, чтобы все это принять». Но в конце концов он все это принял, возможно отчасти потому, что его уговорили, объяснив: «Горячее любвеобильное гостеприимство — это свойство кубинцев, да еще результат наших достижений в идеологии...».12
470
Пол Холланлер
У многих гостей такое щедрое и внимательное обращение порождало обезоруживающее чувство определенных обязательств. Их не «подкупали», но они не могли не чувствовать, что неприлично отворачиваться и резко критиковать тех, кто осыпал вас теплом и заботой. Критиковать щедрого хозяина считается предательством как в личном плане, так и на международном политико-туристском уровне. Так, например, «„друг Китая“ вынужден отказаться от любых критических или нелестных замечаний, чтобы не обидеть хозяина... Ведь особый прием и связанные с ним заботы одной стороны очевидно требуют взаимных услуг с другой... Но превыше всего был страх: что, если произнесешь или напишешь „неправильную мысль“, то тебя никогда больше обратно не впустят. И в большей или меньшей степени [писал Орвил Шелл, чьи взгляды на эту проблему претерпели к 1980-м гг. заметное изменение]... большинство из нас, тех, кто писал о Китае [можно добавить Кубу и Советский Союз], капитулировали перед этим страхом».13 В свою очередь, были среди хозяев политики, которые искренне считали предательством, когда щедро принятые гости по возвращении домой (или какое-то время спустя) оказывались не в состоянии подавить отрицательные эмоции; так расценил Кастро позицию западных интеллектуалов по делу Падильи. Даже когда гости иногда сознательно пытались быть начеку и противиться искушению потерять бдительность, технология гостеприимства заставляла их в конце концов приубавить и приглушить критику, отбросить последние сомнения и воздерживаться от каких-либо оценочных суждений, кроме хвалебных. Например, Джеймсу Рестону по возвращении из Китая было трудно выступить в роли критика режима после великолепного медицинского обслуживания, предоставленного ему по скорой помощи. «Череда медсестер и технического персонала бесшумно проскальзывали в комнату. Они обтирали меня теплыми полотенцами. Они проверяли у меня все, что двигалось и тикало. Они брали у меня кровь из мочки уха. Они постоянно измеряли мне температуру и пульс. Они были дотошными, спокойными, неизменно вежливыми и приветливыми... Я покидал их с чувством благодарности и сожаления».14 Нельзя сказать, что этот случай стал главным источником его благосклонных взглядов на Китай, но он внес в них весомый вклад и помог отказаться от критических оценок, если таковые были у него ранее.
Имелись и другие обстоятельства, облегчавшие получение вла- стями-хозяевами желаемых результатов с помощью технологии гостеприимства. Одним из них, основанном на предрасположении гостей, было убеждение гостей в том, что хозяева заслуживают
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
471
доверия и не пытаются манипулировать их сознанием, произвести впечатление, демонстрируя им лишь исключительное, показное и фальшивое. Иными словами, гости, как правило, доверяли хозяевам. Например, семья Вебб не имела никаких сомнений не только относительно типичности того, что им показывали, но и насчет достоверности документов, предоставленных властями. («Советское правительство предоставило нам для серьезного изучения невероятное количество документов из своих ведомств...», — писали они.) Если некоторые, подобно Вэббам и другим, полностью доверяли предоставленной им властями информации, Сюзан Зонтаг, например, призналась, что «если бы я приехала сюда, то не для того, чтобы найти какую-то информацию (по крайней мере в обычном смысле слова)». Уверенность Дэниела Берригана не поколебалась, когда его северовьетнамские осведомители сообщили ему, что прежних коллаборационистов [людей, сотрудничавших с французскими властями] простили и перевоспитали «путем духовной перестройки», и что американские военнопленные, показанные ему в Северном Вьетнаме, сообщили «без подсказки» (в присутствии своих тюремщиков!), как хорошо их содержат и кормят, и что единственная причина того, что он ни разу не встретил католических священников, была в том, что «они очень заняты». Гарри Эшмор утверждал, что постоянное присутствие «англоговорящих сопровождающих, которые не отставали ни на шаг, было знаком уважения, а не слежкой». Лион Фейхтвангер полагал, что моральные и материальные недостатки советской системы легко обнаружить, «так как их не скрывают».15 Были и такие визитеры, которые настаивали, что их не могли бы повезти на исключительные, заранее подобранные объекты, поскольку они сами могли выбирать свой маршрут и выбирали объекты посещения наугад. От них скрывали только то, что «выбирали» они объект из заранее отобранных, и то, что казалось выбором «наугад», было, по большей части, искусно спланировано.16
Мистика личного опыта и убежденность в превосходстве опыта очевидца над всеми другими способами узнать реальное положение вещей или получить доступ к источникам информации также были факторами, облегчавшими задачи хозяев.*
Все мы заинтересованы в том, чтобы наши ощущения и переживания, как сенсорные, так и все прочие, были достоверными.
Эта позиция особенно характерна для журналистов. Как замечает Стэнли Карноу, «несмотря на очевидную организацию информации новостей, многие посещающие Кубу журналисты продолжают руководствоваться стародавним репортерским принципом: видишь — значит, веришь. Редакторы только усиливают эту тенденцию рассматривать присутствие как достаточное условие достоверности, придавая чрезвычайное внимание выходным данным.1’'
472
Пол Холландер
Нам кажется ужасной перспектива низведения нас до статуса легковерного туриста, которого провозят по отработанному маршруту и который не может понять, где в рассказах гидов правда и где ложь, кто из его гидов законченный враль и кто опытный пропагандист.
Любому человеку, особенно если это интеллектуал, будет в высшей степени неприятно узнать о том, что им манипулировали, что его обманывали, причем обманывали не в мелочах. Интеллектуалы, видимо, обладают самой сильной защитой, которая способна оградить их от открытий такого рода, и потому они так горды своими критическими способностями, своим умением «развенчивать мифы» и отличать подделки. Однако очень непросто воспользоваться этими качествами и избегнуть при восприятии социально-политических реалий страны тщательно срежиссированного и совершенно нерепрезентативного набора впечатлений и ощущений. Подобные случаи достаточно редки. Как правило, посещающие страну интеллектуалы тут же убеждают себя в том, что виденное ими не слишком-то отличается от того, чего они не видели, или что они смогли увидеть больше, чем им хотели показать. Гэлбрейт, например, как уже говорилось выше, пришел к выводу, что «за время путешествия можно увидеть куда больше, чем тебе показывают; Потемкин, при всей своей искусности, вряд ли сумел бы обмануть экономистов с приличным образованием».18 Артур Галстон понимал, что принимавшая сторона в Китае «из кожи вон лезет, чтобы не ударить в грязь лицом», и считал, что он (и его семья) «не даст полностью сбить себя с толку». Далее он пишет: «Взвесив и обдумав всю информацию, я пришел к выводу, что наше представление точно отражает реальную картину современного китайского общества».19 Даже в тех случаях, когда гость осознает, что ему показывают нечто исключительное, он выносит из подобных опытов благоприятное впечатление. Дэвид Кот пишет о проекте жилой застройки: «Вполне возможно, это чистая показуха, предназначенная специально для иностранцев, но, с другой стороны, это не мираж и не «волшебный фонарь», и здания эти возведены явно не только для того, чтобы впечатлять проезжающих туристов».20 Аргумент вполне резонный, однако нужно выяснить, насколько репрезентативен подобный стиль застройки и каково рядовое строительство.
Осознавая то обстоятельство, что мы не сможем точно определить сравнительную важность факторов собственной предрасположенности и техники гостеприимства в формировании у гостей определенного впечатления о стране, мы несколько облегчим эту задачу, представив более детальное рассмотрение этих техник.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
473
МАССАЖ ЭГО
Как уже говорилось ранее, техника гостеприимства имеет две важные составляющие. Первая — маскировка реальности, попытка контроля над тем, что будет видеть и испытывать визитер. Вторая — способ обхождения с этим визитером. Последняя составляющая, в свою очередь, может быть подразделена на материальные привилегии и удобства, с одной стороны, и нематериальные привилегии, обеспечивающие душевный комфорт и самоудовлетворенность, с другой. Разумеется, две эти составляющие часто перекрываются: комфортабельный номер или роскошное средство передвижения приятны не только для тела, они повышают статус и усиливают ощущение общего благополучия и собственной значимости приезжих. Щедрый банкет услаждает не только желудок, но и эго. Помимо прочего, существует множество способов или техник, созданных специально для того, чтобы визитер мог почувствовать свою особую значимость, и никак не связанных с предоставлением каких-либо материальных удобств. Важность этих техник трудно переоценить. Человеку обычно трудно устоять даже перед грубой лестью, лишающей его способности к критическому мышлению. Согласно Баргхур- ну, «советское* гостеприимство оказывается особенно соблазнительным для людей с повышенной чувствительностью к лести. Нищие интеллектуалы, игнорируемые и третируемые у себя на родине, особенно падки на расчетливую лесть».21 Хотя бедность является одним из условий, благоприятствующих повышению чувствительности к лести, большую часть визитеров, о которых идет речь в настоящем исследовании, отнести к числу бедняков решительно невозможно. Да, некоторые из них могли чувствовать себя обделенными вниманием у себя дома, однако чувства эти обычно не имеют объективной основы, что, тем не менее, не делает их менее болезненными. Интеллектуалов, о которых идет речь в данном исследовании, задевала прежде всего их отдаленность от власти или, как им представлялось, их недостаточно значимая социальная роль. Когда же они чувствовали, что режимы, которые здесь рассматриваются, оценивают их совершенно иначе и проявляют о них соответственную заботу, то они начинали позитивно оценивать все то, что им показывали. Когда между принимающей и принимаемой стороной возникают узы долженствования или благодарности, какой-то иной исход весьма маловероятен. Одно за другим начинали срабатывать избирательное
* Разумеется, здесь мы можем говорить и о кубинском, китайском или, скажем, вьетнамском гостеприимстве.
474
Пол Холландер
восприятие, контекстуальная смена позиций и применение двойных стандартов, при этом сама объективная зримая реальность отступала на задний план. По этой причине обхождение с гостями могло бы быть одной из главнейших составляющих техники гостеприимства, более важной, чем селективная презентация различных аспектов социальной системы. Если гостю давали понять, что его любят и ценят, он также исполнялся чувством довольства собою, что само по себе уже располагало его к принимавшей его стране. Процесс этот начинался с самого момента прибытия.
Едва Дж. Б. Шоу и его окружение пересекли границу, им был предоставлен специальный спальный вагон.* Пока локомотив заправлялся, «проводник представил его двум официанткам, работавшим в вагоне-ресторане, которые давно мечтали познакомиться с великим Бернардом Шоу. По немыслимому стечению обстоятельств обе официантки оказались большими знатоками его творчества. Шоу, будучи чрезвычайно тронутым этим проявлением русской образованности, заметил, что английские официантки далеко не столь начитанны, как их советские сестры». Многотысячная толпа встречала поезд в Москве приветственными возгласами и транспарантами. Драматурга привезли в театр, поставивший его пьесу. «Перед началом спектакля на сцену вышла маршем вся труппа. Впереди артисты несли ярко- красный лозунг с написанным на нем по-английски приветствием: „Замечательному мастеру Бернарду Шоу — добро пожаловать на советскую землю!“».23 Несколько десятилетий спустя и несколькими тысячами миль восточнее подобная же встреча была устроена Симоне де Бовуар, которой было сказано, что «китайский народ с нетерпением ждет ее прибытия». В ханойском аэропорту Мэри Маккарти встречали представители Вьетнамского Совета мира «с букетами львиного зева, розового душистого горошка, дельфиниума и маленьких африканских маргариток».24 (О том, что ее приезда с нетерпением ждал весь вьетнамский народ, ей, кажется, сказано не было, — во всяком случае, сама она об этом не сообщает.) А вот свидетельство Стотона Линда и Тома Хейдена: «Маленькие девочки, одетые в яркую форму, робко приветствовали нас и дарили нам букеты цветов». Подобная же «трогательная встреча» была устроена в Ханое Гарри Эшмору и Уильяму Бэггсу. Цветы при встрече крайне тронули отца Бер- ригана: «Но самым замечательным было одно внешне малозначимое обстоятельство, — нас встречали цветами...». Цветы ему
* Согласно одному источнику, «класс поезда, встречавшего их [имеются в виду иностранные делегации] на советской границе, зависел от значимости прибывшей группы».22
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
475
подарили и на прощание. Отец Берриган с удовлетворением отмечает, что не обманул ожиданий вьетнамцев, которых он теперь величает не иначе как «учителями»: «Да, мы не подвели их,— об этом свидетельствовали улыбки наших учителей».25 Прибытие на Кубу также обычно ознаменовывалось яркими праздничными впечатлениями. «На палубе подходившего к нам корабля стояли люди в оранжевых футболках со значками бригады Venceremos. Корабль плыл по кругу... Весь причал был усеян людьми. Кубинцы улыбались, махали нам руками и поднимали в знак приветствия сжатый кулак — символ революционной солидарности. Мы прибыли на Кубу, живую легенду западного полушария. Все были вне себя от радости». Встреча самолетов обставлялась еще более пышно. «Как только самолет приземлился и мы вышли наружу, нас приветствовали дружными, радостными возгласами. Мы впервые оказались на свободной земле... Улыбки кубинцев, вспышки камер кубинских репортеров... Трио музыкантов исполняло латиноамериканскую музыку, со стены на нас улыбаясь смотрел Че Гевара, тем временем нам подали дайкири и закуски. Мы находились в гаванском аэропорту имени Хосе Марти».26 Эрнесто Карденаль проходил через таможню отдельно от других. «Меня привели в маленькую комнатку, где меня приветствовала делегация Дома Америк... Здесь вновь были репортер „Гранмы“ и дайкири ...».27 Лорд Бойд Орр с опаской ожидал прибытия в Китай. «Эти вечные страхи... Будут ли нас встречать? Заказан ли номер? Многие ли владеют английским? Можно ли будет довериться нашему гиду?». Оказалось, что тревожиться не о чем. «Едва дверь самолета открылась, к нам подошел человек в голубой униформе. Улыбаясь, он вручил букеты мне и моей супруге и сказал, что нас ждет автомобиль».28 Артура Галстона и его спутников встречала на пекинском вокзале «целая делегация». Багаж «чудесным образом поехал отдельно от нас. Нас же посадили в сверкающие черные лимузины „Шанхай“ и повезли в комфортабельный отель „Шинь Чао“». В аэропорту во время внутреннего рейса китайцам разрешили подниматься на борт самолета только после того, как заняли свои места члены иностранной делегации («мы были буквально поражены таким обхожденьем»).29 Фрэнка Туохи, английского писателя, «пригласили к специальному входу для иностранцев, где было множество цветущих растений в фарфоровых горшочках, а оттуда к двухуровневому вагону (еще больше салфеток и цветов в горшочках), где, кроме меня, находилось всего два пассажира, чета пожилых заокеанских китайцев».30 Визиты же знаменитостей обставлялись куда более пышно. Вот что пишет Анна Луиза Стронг:
476
Пол Холландер
Это был сплошной праздник. Несколько недель мы жили в атмосфере бесконечных банкетов и знамен... Каждое утро начиналось с барабанов, цимбал и массы людей, проникавших в тихий тенистый двор Китайского Комитета защиты мира, где я жила. Я слышала, как на соседнем бульваре триста тысяч человек приветствуют руководителей государств: принца Сианука из Камбоджи или президента Мали Кейту, или президента Конго (Браззавиль) Массамбу-Деба, или товарища Чоя, председателя президиума Корейской Народной Демократической Республики... Сюда прибыло около 2600 официальных гостей более чем из 80 стран... К этому числу нужно было добавить тысячу туристов, покупавших билеты самостоятельно, и две или три тысячи заокеанских китайцев, — и всех их вмещал гостеприимный Пекин. Банкеты, приемы, балеты шли один за одним. За три дня я приняла участие в шести: начиная с журналистского коктейля и кончая государственным банкетом с большим парадом и фейерверками...31, *
Подобный прием, оказываемый главам государств, не кажется чем-то необычным. Однако примерно так же порой принимали и видных интеллектуалов (и многих других иностранцев), пусть ради них на улицах и не собирали стотысячных толп. Такие привилегии служили не только для того, чтобы вызвать у гостя чувство чрезвычайной собственной значимости, но и для выделения его из числа обычных граждан. Барбара Тухман, американская писательница, вспоминает:
Иностранцы чувствовали себя элитой. Они останавливались в особых отелях, обедали в особых или отделенных перегородкой от китайской части залах, путешествовали в особых купе, ждали поездов в особых залах ожидания, получали медицинскую помощь в особых больницах. Во время антракта в театре нам не позволили смешиваться с толпой, но отвели в особый зал для иностранцев. На озере возле Летнего дворца им не позволили самим управлять весельной лодкой, но посадили в большую крытую лодку со столиками,
* Саймон Лейс дает иную оценку происходящего: «Маоистский режим достиг такой искусности в управлении массами и так свыкся с ним, что устроители всех этих церемоний перестали осознавать цинизм происходящего... Функция, выполняемая в этом случае обычными людьми, состоит в... приветствии зарубежных государственных деятелей, которых маоистские власти хотят впечатлить... Для каждой подобной акции пекинские власти выделяют то или иное число участников — сто тысяч для одного, двести тысяч для другого, пятьсот тысяч для третьего — и определяют степень энтузиазма, который должны выражать встречающие... Эти демонстрации всегда происходят по одному и тому же отработанному сценарию. Ранним утром рабочие начинают украшать проспект Чань-ань ... участники встречи прибывают на грузовиках или пешими колоннами. Они занимают заранее отведенные для них места... Сидя на корточках, гигантская толпа ждет — час, два, три — пребывая в состоянии полнейшей апатии. Внезапно раздается команда: встать ... занять заданные позиции... Раздается свисток. Толпа, унылая и безмолвная всего мгновение назад, начинает скандировать: «Добро пожаловать!» ... пока между двумя ее рядами проносится тридцать лимузинов... Иностранный гость навсегда запоминает это человеческое море, охваченное бурей энтузиазма».
Воспоминания бывшего участника подобных акций совпадают с описанием Лейса: «Лихорадочные приготовления начались за много недель до его [Сукарно] прибытия... Я входил в число тех 500 000 человек, отобранных в школах, госучреждениях, заводах и других организациях, которые должны были его приветствовать... Всем нам были даны инструкции, в соответствии с которыми мы должны были надеть самую нарядную свою одежду и снять значки, чтобы Сукарно ничего не заметил и не заподозрил того, что встреча эта была вовсе не стихийной...32
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
477
скатертями и чаем, которой управляли два гребца. В музеях наши гиды просили китайских посетителей расступиться и отойти от витрин, дабы не мешать нам; на мосту в Ухане было даже остановлено движение, чтобы мы могли полюбоваться рекой... по парку нас возили не иначе как по пешеходным дорожкам; на вокзале нас по сигналу гудка провели к поезду через особый вход. В одной из бывших резиденций председателя Мао в Юнане (туда приходят так, словно это остановки Дороги скорби в Иерусалиме) группе из пятидесяти студентов, сидевших на земле, при нашем появлении была дана команда расступиться и пропустить нас.33
Барбара Тухман, понимавшая (подобно Андре Жиду пятьюдесятью годами ранее), что она имеет дело не с проявлением дружественных чувств, но с обычными манипуляциями, была, в известном смысле исключением, — в большинстве случаев лесть такого рода приводила к нужному результату. «Многие иностранцы не просто привыкают к приветственным крикам и аплодисментам, — а их приветствуют всюду: в школах, больницах, на заводах и даже просто на улицах, — им начинает это нравиться... Они привыкают к тому, что кто-то заботится об их билетах на поезд, на самолет или в театр, их встречают, провожают, выбирают для них отели и составляют для них расписание»,34 — пишет Лейс.
Барбара Тухман приводит еще одну иллюстрацию подобного обхождения с иностранцами.
«Друзей китайского народа» всячески балуют. Во время вечерних представлений в отелях для нас всегда резервировались места в первом ряду; при нашем появлении и уходе люди поднимались со своих мест и стоя приветствовали нас аплодисментами; нам был подан особый, состоявший всего из одного вагона поезд, которого не было в расписании; специальная лодка с экипажем из двенадцати человек и чайными столиками в течение часа катала нас по Желтой реке. В Сучоу ... нас поселили в отдельном крыле отеля с двумя номерами класса «люкс», отдельной столовой и прислугой ... Помимо обычного термоса с чаем, сигарет и фруктов, в спальню ежедневно подавались конфеты и маленькие букетики жасминовых бутонов в форме броши. Я жила словно королева Виктория, не думая о билетах и не тратя ни пенса.35
В распоряжении гостей постоянно находилась прислуга.* Как замечает Гэлбрейт, «нас обслуживали на удивление симпатичные и учтивые официанты...». Впрочем, учтивыми и симпатичными были не только официанты. Гэлбрейт пишет: «Все, кого мы встречали, находились в прекрасном настроении». В данном случае он пишет об улицах и заводе, где «решительно все работники» встречали его группу улыбками. Дэвид и Нэнси Милтон вспоминают банкет, на котором «безупречно приготовленные блюда с поразительным изяществом и легкостью подавались на стол молодыми людьми в белых курточках...», деликатно избегая слов «официант» или «официантка».36
* Разумеется, качество прислуги менялось от страны к стране; вне всяких сомнений, в этом смысле Китай опережал и Советский Союз, и Кубу.
478
Пол Холланлер
Встречи с лидером (лидерами) была другим способом польстить гостю и подчеркнуть его значимость. В своих странах ведущие политики или главы государств редко встречаются с интеллектуалами или деятелями культуры с тем, чтобы услышать их советы или обсудить с ними некие проблемы. (Помимо прочего, с лидерами такого рода наши интеллектуалы вряд ли захотят вступать в общение.) Что здесь особенно подкупает, так это полная добровольность этих встреч, ведь лидеры иностранных государств вовсе не обязаны встречаться с частными лицами из других стран. Соответственно, интерес, который эти лидеры проявляют к приехавшим в их страну интеллектуалам, кажется последним искренним и бескорыстным.37 Создается впечатление, что они хотят просто-напросто обменяться мнениями, пообщаться, поделиться своими тревогами о будущности человечества. Подобные встречи часто предоставляют лидерам возможность высказать свое отношение к трудам гостя. Разумеется, частная встреча с высшим руководителем была привилегией только наиболее значительных и влиятельных визитеров. (Гости меньшего масштаба принимались группами или же встречались с руководителями меньшего масштаба). Так, Сталин, например, лично встречался с Шоу, Фейхтвангером, Уэллсом, Эмилем Людвигом и Хьюлеттом Джонсоном. Кастро дозволял восхищавшимся им интеллектуалам, таким как Ч. Райт Миллс, Сартр, а также К. С. Кэрол и Дюмон (до того, как последние впали в немилость) сопровождать его в инспекционных поездках.38 Среди прочих пассажиров его джипа был и сенатор Макговерн. Хо Ши Мин или Фам Ван Донг регулярно встречались с важными зарубежными гостями, которых они принимали как группами, так и поодиночке. Подобная же привычка была у Чжоу Эньлая и, в меньшей степени, у Мао Цзэдуна. Симона Синьоре и Ив Монтан, французские актеры, были приняты Хрущевым и практически всем Политбюро. Симона де Бовуар, Сартр, Энгюс Уилсон, Магнус Энценсбергер и другие европейские писатели летали «на специальном самолете» на «дачу Хрущева в Грузии... возле которой росли самые редкие и самые красивые деревья в Союзе. Хрущев встречал нас очень радушно... Он показал нам огромный плавательный бассейн, сооруженный по его указанию. Бассейн был окружен стеклянными стенами, которые исчезали при нажатии кнопки. Он несколько раз с видимым удовольствием нажимал на нее».39
Зачастую целью и следствием подобных встреч была отправка специфических политических посланий через избранных лиц (в обход существующих правительственных каналов, что особенно любили делать обсуждаемые руководители) или же создание продолжительного благоприятного впечатления у деятелей, позиция
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
479
которых, по мысли устроителей таких встреч, могла существенно повлиять на общественное мнение в их странах.
Другим очевидным способом расположения к себе интеллектуалов и деятелей искусства являлась высокая оценка их трудов. Артур Кёстлер, вспоминая, как его встречали в Советском Союзе в 1932 г., пишет: «Люди, которых они [зарубежные авторы средней руки] встречают на банкетах и вечерах, знают их произведения едва ли не наизусть; считать же, что они специально подготовились к встрече, могли бы только мазохисты, одержимые вдобавок ко всему манией преследования». Дж. Б. Шоу впечатлил бы уже и сам факт постановки его пьесы в Москве, без парада труппы и приветственных лозунгов. Трудно понять, как Пикассо смог избежать симпатий к послевоенному просоветскому Движению в защиту мира, использовавшему (и размножившему в миллионах экземпляров) нарисованного им голубя. Многотысячные приветствия и овации, устраивавшиеся в Советском Союзе Иву Монтану (и его супруге Симоне Синьоре), также не могли изменить их отношения к советскому режиму. Нет ничего удивительного в том, что Лион Фейхтвангер высоко оценивал культурные достижения советского режима, если он видел в библиотеках собственные произведения и однажды столкнулся с «молодым человеком из глубинки», крестьянином, сказавшим ему: «Четыре года назад я не мог ни читать, ни писать, а сегодня могу обсуждать с Фейхтвангером его произведения».40 Здесь уместно вспомнить и Дж. Б. Шоу, столкнувшегося с официантками, знакомыми с его произведениями. Другие визитеры также «обнаруживали к своему вящему изумлению, что люди, с которыми они встречались в Советском Союзе, знали их имена и были знакомы с их произведениями... Все люди, встречавшиеся на пути Джона Дьюи, знали его имя, которое служило ему своего рода „пропуском“ в школы, в дома, на заводы и в государственные учреждения. Писатели вне зависимости от количества и качества написанных ими книг, казалось, были известны всем и каждому. Люди, встречавшиеся им, знали их книги наизусть, а окололитературные деятели то и дело заговаривали о том, что они хотят опубликовать их романы... Художникам и скульпторам, чьи работы порой выставлялись разве что на независимых выставках и в кафе, откровенно льстили...».41 Произведения некоторых зарубежных авторов публиковались большими тиражами. На Кубе Эрнесто Карденаль (впоследствии ставший министром культуры в революционном Никарагуа) к собственному изумлению обнаружил: «Изданный „Домом Америк“ тиражом десять тысяч сборник моих произведений был распродан в течение одной недели». Уолдо Фрэнк получил заказ кубинского пра-
480
Пол Холланлер
вительства на написание книги о своем путешествии. Несколько позже кубинцы опубликовали книгу Майкла Паренти о репрессиях в Соединенных Штатах.42
Каким же был психологический эффект всех этих привилегий и удобств? Какое влияние оказывали вкусная еда, номера класса люкс и роскошные лимузины? С одной стороны, они были частью общей лести, символами статуса, отражавшими важность гостя.* В то же время они приводили к общему благодушию, чувству довольства и к восприятию мира сквозь розовые очки. (Нечто подобное Гаррисон Солсбери испытал после превосходного обеда, поданного ему в Китае: страна, где так кормят, просто не может не быть замечательной.)
Необходимо вновь подчеркнуть, что имела значение не какая-то особая форма такого гостеприимства — еда, условия проживания, лимузины, отдельные входы и специальные залы ожидания на вокзалах или «церемонии» встречи и прощания — а их общий совокупный эффект, как материальный, так и психологический. При кратких визитах подобное гостеприимство вкупе с благоприятной предрасположенностью практически всегда обеспечивало нужный результат. (Позднейшее разочарование могло стать следствием определенного развития событий или процессов, не имевших никакого отношения ни к природе этого общества, ни к причинам, обусловившим первоначальное появление симпатий к нему.)
Значение материальных аспектов гостеприимства находит отражение и в том, сколь часто сами визитеры останавливаются на деталях такого рода. Симона де Бовуар писала:
Моя комната [в отеле «Пекин»] имела совершенно немыслимые размеры: здесь на меня одну было целых две отделанных медью двуспальных кровати с покрывалами, сшитыми из светло-розового шелка... К моим услугам здесь был зеркальный шкаф, стол с полным письменным набором, туалетный столик, кушетка, кресла, низенький кофейный столик, две тумбочки, приемник; на ковре, перед кроватью стояла пара комнатных туфель... Меню было составлено на английском, и все заказы исполнялись поразительно скоро.44
Лорд Бойд Орр также испытывал удовлетворение от «своего прекрасного шестиэтажного отеля с лифтами, мраморными полами и ванными при каждой спальне». С известным сожалением
* Например, на Кубе «Фидель лично осуществлял контроль над всеми обильными ресурсами, что позволяло ему определять их меру, потребную ... для того или иного гостя. Я жил на восемнадцатом этаже „Гаванской Ривьеры“ в номере с неработающими кондиционерами и с опозданием завтраков на час. Дон Балта, бывший недолгое время героем торговой блокады Чили и личным другом Фиделя Кастро, занимал один из самых роскошных номеров на двадцатом этаже. В каждом из таких номеров был бар и небольшая гостиная для приема гостей, а также прекрасно работающий кондиционер. Этим номерам уступали даже тихие «протокольные» особняки политической элиты, что были окружены зеленью и находились в центре самого красивого района Гаваны».43
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
481
и достойным уважения смирением Гэлбрейт пишет: «Отель „Нанкин“ находится в очень приятном парке; он весьма неплох, но это все-таки не дворец. В моем распоряжении спальня, гостиная, ванная и кондиционер. Впрочем, достаточно и этого» (к счастью, в шанхайском отеле «Прекрасная Река» он уже не имеет особых претензий: «Я занимаю настолько роскошный номер, что спутники величают меня теперь не иначе как председателем»).45 Согласно Роберту Лоу, бывшему гиду-переводчику, в городах, входивших в число туристических центров, «лучшие отели предназначались для официальных гостей. Местное население допускалось в эти здания только по специальным пропускам. Обслуживавшие первый класс служители, повара, парикмахеры и косметологи принимались на работу только после тщательной проверки и разрешения со стороны органов госбезопасности».46
Сартр пишет, что в Гаване он жил «в отеле для миллионеров», представлявшем собою настоящую «цитадель роскоши». Анджела Дэвис, очевидно, тоже была довольна своим номером: «Гаванский отель „Либре“, бывший „Хилтон“, освободился от хищных лап разлагающихся старых капиталистов. Я впервые видела такую роскошь. Впрочем, она умерялась составом приезжих, — это были рабочие, находившиеся в отпусках... — и compañeros, работавшие здесь в качестве обслуги, — в них не было и тени подобострастия, свойственного обычно посыльным, горничным и официантам...». Даже в истерзанном войной Ханое были созданы особые условия для важных гостей. Мэри Маккарти, «к своему изумлению», убедилась, что у нее не будет проблем с горячей водой. «Помимо этого, в номере отеля „Thong Nhat“ [она] увидела разложенные веером листы туалетной бумаги, термос с горячей водой для заварки чая, пачку чая, чашки и блюдца, свечи, сигареты и москитную сетку, натянутую над кроватью. В Сайгоне [ее] заели бы москиты».47, *
Джерси Гликсман, который вовсе не относился к разряду важных персон, а был всего лишь одним из членов туристической группы, пишет: «Мы путешествовали [по СССР] в комфортабельных спальных вагонах международного экспресса и жили в хороших отелях. При этом в номере у каждого туриста была своя ванна. В этих отелях были очень недурные, обставленные дорогой мебелью гостиные... Кормили нас вкусно и сытно: мы не знали недостатка ни во вкусных крымских фруктах, ни в знаменитой русской рыбе, ни в превосходной икре... Во время обедов всегда исполнялась какая-то музыка, по вечерам же устраивались танцы на западный манер. Мы могли купить все, что только могло нам заблагорассудиться, в специальном магазине для иностранцев».48
* Остается неясным, как повлияли укусы москитов на производимое ею сравнение политических систем Северного и Южного Вьетнама.
482
Пол Холландер
Симона де Бовуар вспоминает о том, как в Китае подают машины:
Шоферы подают машины уже рано утром; они смахивают с них пыль красными перьевыми опахалами на длинных рукоятках и доводят машины как снаружи, так и внутри до идеального блеска и чистоты. Дважды или трижды в день мы совершали выезды на одной из них.
Более чем десять лет спустя Барбара Тухман пишет:
В распоряжении гостя постоянно находится машина, которая может понадобиться ему и вне рамок планируемой программы: скажем, в б утра гость может захотеть полюбоваться просыпающимся городом, в 10 вечера его нужно будет отвезти домой после балетного спектакля, возможны и какие-то иные частные визиты или поездки за покупками, которые могут занять несколько часов. Водитель терпеливо ждет указаний, подобно старинным шоферам. С ним никто не сообразуется, а рабочий день его так же неограничен, каким он был бы, например, у водителя Джона Рокфеллера в 1920-е гг.49
Питер Ворсли явно стыдится привилегий такого рода («Мы поехали на машине. Ворота специально раскрыли, и мне стало неприятно, что я как привилегированный турист наблюдаю за тем, как рабочие выходят с фабрики»), однако от этого его суждения об обществе, вызывающем у него восхищение, не становятся более критичными. Корлисс и Маргарет Ламонт (их встретил на Ленинградском вокзале новенький восьмой «линкольн») выражают некоторое удивление контрастом между жизнью масс и туристов, но не испытывают при этом ни малейших угрызений совести. Вместо этого они пускаются в такие объяснения: «Русские и не претендуют на то, что они могли бы снабдить „линкольнами“ сколько-нибудь большое число местных жителей, как не претендуют и на то, что могли бы обеспечить населению такие же жизненные условия, в которых находятся туристы даже третьего класса. Они не случайно столь внимательны к последним...» Несколько позже Симона Синьоре, «надев на себя норковую шубу и шапку, разъезжала по Москве в невероятных размеров „ЗИМе“ с серыми шелковыми занавесками. До этого момента [она] считала, что машины с занавесками были изобретением американских режиссеров, снимавших антисоветские фильмы».50 Доступ к лучшим транспортным средствам являлся важной привилегией и на Кубе. Хьюи Ньютон (проведший там больше времени, чем большинство визитеров) пишет: «Я был разом постоянным жителем и почетным гостем правительства. Соответственно, у меня был ряд привилегий, в том числе и возможность вызывать машину с водителем. Транспортная система на Кубе работает из рук вон плохо... Помимо прочего, я имел право занять столик в любом ресторане даже в уик-энд, поскольку имел статус депутата...». Он вспоминает также, что после его прибытия на остров «ему был устроен „большой тур“ по всем кубинским провинциям».51
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
483
Роскошные и комфортабельные транспортные средства не ограничивались автомобилями с водителями: гости пользовались особо комфортабельными вагонами и при поездках по железной дороге. Мы уже говорили о том, что благочинный Кентербери (Хьюлетт Джонсон) и Эдгар Сноу путешествовали по Китаю в особом поезде (в компании Чжоу Эньлая). Власти обычно не соглашались с тем, что качество обслуживания иностранных пассажиров серьезно отличается от обычного обслуживания. Эбер и Трюдо пишут: «Нам указали наше купе в спальном вагоне первого класса. Наш переводчик господин Хо заметил, что теперь нет разных классов, есть только разные вагоны». Феликса Грина «посадили в открытый вагон с большими окнами, находившийся в самом хвосте поезда. О нашем багаже уже побеспокоились. Это был весьма необычный вагон. Кожаные кресла были повернуты друг к другу, и места для ног было предостаточно. В конце вагона стояло дерево и несколько кустиков в кадках, словно мы находились в оранжерее. Живые цветы и папоротники стояли и на столах... Две розовощекие девицы с косичками то и дело что-то убирали и время от времени поили нас чаем».52
А вот как обстояло дело в Советском Союзе. «Одна из главных привилегий иностранных туристов заключается в том, что они пользуются совершенно иным транспортом, нежели сами советские граждане... Особые спальные вагоны и вагоны-рестораны предоставляются иностранным делегациям любого уровня...». Иностранцам разрешено также «заходить в трамвай не через ту дверь... ГПУ распорядилось, чтобы бензозаправочные станции обслуживали иностранцев, путешествующих на автомобилях, в выходные дни и в любое время суток». ГПУ резервирует также особые «мягкие купе» (которые, порой, избирал даже Уолдо Фрэнк) в поездах дальнего следования. Оно помогает почетным гостям (таким как Ламонты) и в других вопросах («Тогда „Интурист“ обратился за лекарством в ГПУ. Естественно, там оно имелось, и мы вскоре получили его»).53, *
Особая забота об иностранных гостях проявлялась на всех без исключения видах транспорта. Однажды самолет, находившийся в распоряжении высшего руководителя Советского Союза, был предоставлен особым гостям — Симоне Синьоре и Иву Монтану, с которыми Хрущев всячески хотел подружиться. На речных судах лучшие места опять-таки отдавались важным иностранцам (или иностранным делегациям). «Одной делегации, плывшей по Волге
* Можно решить, что участие ГПУ в таком благородном деле, как поиск лекарства, рассматривается Ламонтами как еще один пример превосходства социалистической системы (и ее служб безопасности) над системой капиталистической.
484
Пол Холландер
на рейсовом теплоходе, были выделены сразу все каюты первого и второго класса, вследствие чего приличных мест для других пассажиров на судне попросту не осталось. Один американец приводит слова советского гражданина, сетующего на то, что иностранцам достается вся лучшая еда и все лучшие каюты.54
Роль, которую играет еда в технике гостеприимства, требует особого рассмотрения. Разумеется, мы не станем говорить здесь о чрезвычайной психологической важности пищи и питания и об их практическом и символическом значениях. Разумеется, все мы любим хорошую пищу, которая, с одной стороны, позволяет нам выжить, с другой, обычно превышает потребности, обусловленные единственно указанной необходимостью физического выживания. В то время как хорошая пища как таковая не изменяет отношения индивидов к миру и к конкретным политическим системам и не меняет паттерна их моральных суждений, она зачастую способствует созданию чувства благополучия и довольства, что, в свою очередь, предрасполагает человека к позитивному отношению к той социальной среде, в которой он при этом находится. Частые эйфорические воспоминания визитеров о подававшихся им блюдах позволяют судить о важности хорошего питания и о тонких и не слишком тонких связях души и тела.
Здесь мы впервые отведали китайских лакомств [писал лорд Бойд Орр], тридцать чиновников, большинство из которых работало в министерстве внешней торговли, помогали нам в этом. Крошечные чашечки с теплым вином... тонкости приготовления пекинской утки... суп в конце трапезы... Мы кончили трапезу с легким сердцем, ибо нам сообщили, что доктор Чи будет некоторое время сопровождать нас. О большем не приходилось и мечтать.55
Отчет делегации Американской ассоциации государственных колледжей и университетов также содержит хвалебные отзывы о китайской кухне и китайском гостеприимстве:
Вероятно, самый замечательный стол был на банкете, устроенном директором Китайского агентства международного туризма в пекинском ресторане «Duck 1». Дружественную атмосферу и превосходные блюда, поданные нам в этот вечер, забыть просто невозможно.5tf
Гаррисон Солсбери, о пристрастии которого к китайской кухне мы уже писали, подробно описывает поданные ему блюда, явно испытывая затруднения в определении их относительной оценки:
У нас было столько замечательных обедов, что только эпикуреец смог бы выбрать лучший среди них. Белые, идеально чистые скатерти, молчаливые, проворные официанты, блюда, одно поразительнее другого.
...Триумф китайского кулинарного искусства. Сначала появились закуски: цыплята, помидоры, креветки, ... яйца, огурцы, рыба. Затем последовали суп из водорослей, которые растут только в Императорском Западном озере в Хуаньчжоу, рассыпчатый рис с тремя деликатесами — цыплятами, улитками и чем-то мне неведомым. Потом были поданы жареные цыплята и утка, бобы со свежими грибами, печеная рыба алоза, которая водится только в Янцзы, суп-пюре с толченым миндалем, клейкие рисовые лепешки, пирожки с мясом,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
485
хлеб с маслом, простой рис в чашке и арбуз. Затем последовали три ликера ... огромные креветки и пекинская рыба — кажется, ее называли мандариновой — под сладким и кислым соусом... Обед [на другой раз] состоял из множества замечательных блюд. Пекинская утка, что-то вроде картофельного салата, несколько других вегетарианских блюд, молоденькие огурчики, нежная зеленая фасоль, миндальное молочко, пудинг с восемью видами начинки... и, наконец, кантонские апельсины, тяньцзинские яблоки и замечательные груши.57
Джон Кеннет Гэлбрейт, другой любитель вкусно поесть, также не скупится на похвалы. «Обед в старом китайском ресторане ... возможно, самый изысканный из всех. Была подана только утка...» Во время посещения ткацкой фабрики он насчитал на столе «пятнадцать блюд. Вслед за тем были поданы новые блюда. Устоять перед ними было невозможно...». Он пишет о ленче, «превосходившем щедростью вчерашний обед на ткацкой фабрике», о «воистину гаргантюанском» обеде, об «экзотических яствах, одно лучше другого». В конце поездки последовал «торжественный обед, устроенный Шанхайской научно-технической ассоциацией, где салфетки имели форму цветов, а одно из блюд было украшено вырезанной из тыквы фигуркой соловья. Суп подавали в арбузах с резными краями. За ним следовало пятнадцать или двадцать блюд, каждое следующее сложнее, чем предыдущее».58 По всему маршруту следования визитеров на кухню обращалось особое внимание. Урия Бронфенбреннер заказывает на железнодорожном вокзале «превосходный завтрак из пяти блюд» и затем «столь же превосходный обед из семи блюд ... который смотрится так странно на этом простом столе». В Тахаи, на Конференции азиатских ученых, гостей потчевали самыми разнообразными яствами.59, * На прощальном банкете были удовлетворены «все кулинарные фантазии» Росса Террила. Практически нет рассказов о поездках в Китай, где не говорилось бы о прелестях тамошней кухни. Но не следует думать, что этот аспект гостеприимства был характерен только для Китая. Отец Берриган, находившийся в Северном Вьетнаме во время войны, рассказывает о «замечательном праздничном банкете», «монументальных» завтраках и «изысканных» ужинах. Янош Радваньи, венгерский дипломат, изумляется блю¬
* О кулинарных и прочих прелестях Тахаи Саймон Лейс пишет следующее: «Гостиница в Тахаи стилизована под сельский дом, иностранные капиталисты и прочие туристы, «осматривающие» Китай, походят здесь на Марию-Антуанетту, изображающую из себя пастушку; стол же здесь не менее изыскан и изобилен, чем в пекинских, кантонских или шанхайских дворцах для иностранцев, с той разницей, что он отмечен здесь тонким примитивизмом и трогательной наивностью. Обычный набор блюд разнообразился неожиданными диссонансами — дюжина сваренных вкрутую яиц на оловянном блюде, миска с овсянкой, вонючий самогон, подающийся вместе с обычным набором вин, пива и прохладительных напитков. Гурмана, который решится отведать его, тут же бросит в пот, он испытает чувство сродни тому, что, вероятно, знакомо только строителям социализма, размышляющим о величии предстоящих свершений.60
486
Пол Холландер
дам, приготовленным учившимися у французов поварами, и пишет: «Французские вина и коньяки „Наполеон“ подавались практически к каждому обеду, на банкетах же на столе появлялось даже шампанское „Cordon Rouge“».61 В провинциальной гостинице в Северном Вьетнаме Мэри Маккарти подают на обед «замечательного карпа, только что выловленного в соседнем пруду, с укропом, помидорами и нарезанной кружками морковью». Вице- президент провинции, вид которого заставил ее вспомнить «о неукротимом русском бунтаре Стеньке Разине», то и дело подливает ей мандариновую настойку, очень вкусную, но слишком уж сладкую». Сюзан Зонтаг, в отличие от Мэри Маккарти, чувствующей себя «сытой и довольной», подобное положение дел не слишком- то радует. Ее «расстроили рыбные и мясные деликатесы», поскольку она знала о том, что «99% вьетнамцев ест сейчас рис с соей».62 Хотя Куба по понятным причинам не могла бы тягаться в этой области с Китаем, гости были весьма довольны и тамошней кухней. Так, Эндрю Солки пишет о «замечательной креольской свинине с рисом и диким салатом» и прочих приятностях, в том числе об идеально приготовленной телятине. Эрнесто Карденаль пишет о «роскошном ресторане» в гаванском отеле «Националь», где, помимо прочего, гостям были предложены «омар „термидор“, лягушачьи лапки и французское вино» и где «официанты не заискивали перед посетителями и называли их не „господами“, а „товарищами“». Эта смена терминологии представилась Кардена- лю убедительным свидетельством масштабности происходящих на Кубе социальных перемен. Хорхе Эдвардс обратил внимание на то, что наличие или отсутствие свежего молока в отеле было связано со статусом и, соответственно, с размещением гостей.63 Фрэнсис Фитцджеральд описывает некоторые кубинские техники и их воздействие на избалованных гостей.
Нам неловко что-либо просить [в смысле возможности совершения тех или иных поездок], поскольку правительство видит в нас гостей и предоставляет нам то, чего лишены даже кубинские официальные лица. После празднования годовщины каждому из нас был предоставлен автомобиль с водителем. Наши номера в отеле «Капри» оснащены кондиционерами, на стол подается пиво и вино и столько мяса, сколько кубинцы не получают и в неделю.*
Она замечает также, что «иностранным гостям не разрешалось платить ни за что, даже за напитки; время от времени в номерах появлялись бутылки лучшего кубинского рома с приветом от коммунистов провинции Ориенте».64
* Надо сказать, что многие визитеры не знали о том, что они питаются куда лучше, чем местные жители. Они либо не задумывались об этом, либо считали (подобно Солки), что ломящиеся от яств столы иностранцев — проявление традиционного для кубинцев гостеприимства.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
487
О выраженном стремлении кубинских властей охватить сетями гостеприимства важных гостей могут свидетельствовать, например, меры, принятые в связи с проведением Культурного конгресса 1968 г. Вот что сообщали кубинские средства массовой информации:
Обслуживало делегатов и представителей прессы более 900 человек: стенографистов, переводчиков, гидов, водителей, поваров. Большую часть расходов иностранных делегаций, включая оплату билетов, кубинское правительство взяло на себя. Гостей очень хорошо кормили... Фидель никогда не скупился, когда речь шла о приеме гостей. Жители же Гаваны вспоминают, что пайки на продовольствие были урезаны за три или четыре недели до начала Конгресса, а также после него.65
Даже в лесных укрытиях полпотовского режима иностранцев ждала обильная пища.
Обильные запасы продовольствия, прибывшие сюда из Бангкока, заставляют забыть о голоде, который царит в Камбодже и столь явно проявляет себя в приграничных областях. В основном подавались французские блюда, лишь банкет, данный премьер-министром, отличался разнообразием камбоджийских, китайских и западных блюд. Лучшее тайское пиво, американские прохладительные напитки, виски «Джонни Уокер» и «Блэк Лейбл», разлитая по бутылкам вода, сода и лед, — все поступало сюда из Бангкока, находившегося на расстоянии в несколько сот миль.
Контраст между камбоджийской реальностью и атмосферой курорта... созданной режимом, известным своими радикальными, деструктивными действиями... свидетельствует о попытках режима принять некий облик, приемлемый для внешнего мира.66
Советское правительство также умудрялось даже в пору великих лишений щедро кормить тех, кого оно почитало важным, то есть элитные группы собственного населения и зарубежных гостей. Существуют рассказы о банкетах в честь зарубежных гостей «с серебряными тарелками и хрустальными блюдами, цветами и льняными скатертями, со множеством смен блюд и обилием вин и ликеров». Еду, которую подавали на этих проводившихся «за счет правительства» обедах, пролетарии считали давно исчезнувшей, она была для них такой же химерой, как и вино урожая 1916 г. Шарлотта Хэлдейн вспоминает, что стоило ей сказать о своей слабости к икре, как ей тут же прислали икру высшего сорта. Даже в годы Второй мировой войны во время поездки в боевую часть (с журналистами) «в сыром лесу неведомо откуда появились горячие блюда; на столах мы увидели водку, шампанское, вино, сигареты хорошего качества и шоколад».67
Изысканность блюд во многом способствовала разочарованию Андре Жида как в людях, пригласивших его в страну, так и в ее политической системе, — как видно из вышесказанного, его реакция была весьма нетипичной. Большинство визитеров, пусть ими даже осознавалась привилегированность своего положения, нисколько не возражало против этого. Жид писал:
488
Пол Холланлер
Когда мне все-таки удалось отказаться от официальных приемов и надзора, я смог пообщаться с рабочими, доходы которых составляли всего четыре-пять рублей в день. И как же после этого я должен был отнестись к устроенному в честь моего приезда банкету, на котором я просто не мог не присутствовать? Он длился едва ли не целый день, и одних закусок там было столько, что можно было трижды насытить себя еще до начала основной части обеда. Последняя длилась два часа и состояла из шести смен блюд, после чего ты окончательно терял всяческую чувствительность. А стоимость! Мне трудно оценивать подобные вещи, но один из моих спутников, хорошо разбиравшийся в ценах, пришел к выводу, что при таких банкетах с вином и ликерами на каждого человека тратится никак не меньше трехсот рублей. Нас было шестеро, с хозяином — семеро; зачастую же хозяев столько же, сколько гостей, а порой и куда больше. 8
К привилегиям иностранных гостей относилось и право пользоваться услугами особых магазинов, где цены были куда ниже, чем всюду, и где можно было купить продукты, отсутствовавшие в других магазинах. («Все магазины, находящиеся возле отелей, считаются туристскими. Кубинцев туда не пускают», — рассказывает Хьюи Ньютон). Уже в начале 1930-х гг. в Советском Союзе появились магазины, в которых принималась только иностранная валюта. («...Русские завистливо поглядывают в витрины этих магазинов, в которых выставлен старый фарфор, ковры и серебро, попавшие сюда неведомо откуда, а также произведения искусства, отсутствующие в свободной продаже; и все это продается за смехотворные цены»).69 Порой гостям не просто дозволялось приобретать товары по низким ценам, им, помимо этого, вручались некие подарки. Например, «когда в 1929 г. делегация Форда отправлялась из Москвы в Ленинград, всем ее участникам дарили икру, сигареты и вино. То же самое повторилось... когда они покидали Ленинград». Порой подарки были более «личными», менее утилитарными и рассчитанными скорее на эмоциональный эффект. Так, отцу Берригану была подарена пара простых сандалий (наподобие тех, в которых обычно ходят вьетнамцы) и сборник поэм Хо Ши Мина. Стотону Линду дважды вручалось двадцатитомное собрание сочинений Хо Ши Мина (поскольку первый комплект был им утрачен). Кроме того, директор Музея революции в Ханое подарил ему и Тому Хейдену маленькую бронзовую стрелу «приблизительно тысячелетней давности, — в напоминание о том, что Вьетнам издавна воюет с захватчиками». Зонтаг жалуется на то, что ее «заваливают подарками и цветами, и ...уделяют [ей] слишком большое внимание...». Эндрю Солки обнаруживает в своем номере в Гаване «массу подарков от устроителей Конгресса... Они были щедрыми и прекрасными; множество книг, открытки и пластинки; огромная коробка сигар с колечком, на котором была изображена символика Конгресса, сигаретница, сделанная из различных пород деревьев, три больших и шесть маленьких бутылок рома.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
489
И такие же подарки были вручены каждому делегату! Говорили, что это еще не все... Как тут возразишь против такой щедрости?» Помимо всего, перечисленного выше, в подарочный комплект входила также «большая круглая коробка шоколадных конфет с ликером».70 Глядя на все эти подарки, Солки чувствовал себя весьма и весьма неловко, поскольку он осознавал контраст между рационом тех, кто находился за пределами отеля, и роскошью, которой были окружены делегаты. Тем не менее, эти чувства никак не повлияли на его позитивное отношение к кубинской системе и не вызвали у него сомнений в моральности официальной политики или в искренности оказываемого иностранцам гостеприимства. Отличие лиц, приглашенных правительством, от обычных туристов на Кубе часто было весьма заметным. Бэрри Рекорд пишет: «Один человек [бюрократ], решив, что я приглашен кубинским правительством, предложил мне свою машину, для того чтобы я мог встретить свою жену в аэропорту, рассказал мне о своем недо- писанном романе, спросил, счастлив ли я, хорошо ли я устроился, не испытываю ли я недостатка в чем-либо, всячески демонстрируя мне свое дружелюбие и человечность. Дождавшись того момента, когда он, наконец, замолк, я сказал, что не отношусь к числу приглашенных гостей, и это едва ли не взбесило его. Через пять секунд не было уже ни машины, ни романа, ничего».71
Первый существенный этап реализации техники гостеприимства состоит в создании комфортных условий для гостя, который в связи с этим исполняется благодушия и начинает чувствовать себя важной персоной. Следующий этап — программа поездки: показ гостю определенных объектов, событий, институтов, групп и индивидов и изоляция его от всего того, что может негативно повлиять на его отношение к представляемой социальной системе.
ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ:
ВЫБОР ОБЪЕКТОВ
В каждой стране все перемещения гостей тщательно планировались. Обычно программа поездок включала в себя строящиеся объекты (дамбы, каналы, мосты или заводы), новые или реконструируемые учреждения (например, детские сады, школы,* больницы или коллективные хозяйства), эстетически при¬
* Практически все визиты сопровождались посещением яслей, детских садов или школ. Приезжих не мог не тронуть вид сытых, здоровых, счастливых и дружелюбных детей. ?азве может быть плоха та страна, где детям уделяется такая забота? Общение взрослых с детьми имело и то преимущество, что те, в отличие от взрослых, казались более непосредственными.
490
Пол Холланлер
влекательные объекты и зоны искусственного и естественного характера (например, монументы, музеи, старые дворцы, озера, водопады, произведения сценического искусства) и, наконец, посещение групп или индивидов, символизирующих те или иные аспекты новой социальной системы и, соответственно, ассоциирующихся с определенными идеями (например, ударников труда, старых крестьян, артистов, ветеранов партизанской войны, рядовых партийных работников). Составление подобных программ принимающей стороной обеспечивалось подконтрольностью ей всех ресурсов и атрибутов представляемой экономической системы. Хорхе Эдвардс сказал, имея в виду Кубу: «Социалистическая экономика может сконцентрировать все свои усилия в узком секторе и прийти, вследствие этого, к замечательным результатам, которые обычно очень впечатляют иностранцев...»72 Тип групп или индивидов, показываемых иностранцам, зависит отчасти от уровня и интересов гостей. Как уже говорилось выше, встречи с высшими лидерами или официальными лицами высокого уровня резервировались для наиболее значительных из них. Поскольку в любой из рассматриваемых стран программы поездок были стандартизованы, достаточно привести всего несколько их примеров и представить читателю типичные их образчики.
Вот некоторые пункты программы поездки Корлисса и Маргарет Ламонт: посещение антирелигиозного музея (в Ленинграде), большой клиники (также в Ленинграде), Музея революции (в Москве), Парка культуры и отдыха (Москва), крупного резинотехнического предприятия, встреча с представителем Комитета по вопросам образования, посещение храма Василия Блаженного, Дворца бракосочетаний, студенческого общежития, пионерского лагеря, встреча с Анной Луизой Стронг, работником комиссариата тяжелой промышленности, посещение правления Военноатеистического союза, исправительной колонии для бывших проституток, встреча с представителем комиссариата финансов, посещение колхоза в Подмосковье, консервного и тракторного заводов (в Сталинграде), экспериментальной фермы (под Ростовом), рабочего общежития, народного комиссара по вопросам социального обеспечения (в Тбилиси), пионерского лагеря «Артек» (близ Ялты), плотины Днепростроя, детской коммуны для «беспризорных» и монастыря под Киевом. Джулиану Хаксли, помимо прочего, были показаны: государственная ферма, дом отдыха рабочих, народный суд в Москве, очистительные сооружения на Москве-реке, Институт аграрного производства (сельскохозяйственная экспериментальная станция), департамент научного планирования Верховного экономического совета, детский городок и больницы, как взрослые, так и детские. На Кубе (так
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
491
же, как и в СССР), по словам Дэвида Кота, «турист то и дело посещает заводы, фермы, школы, университеты, жилые кварталы и исследовательские институты, он проводит свой отпуск, не столько отдыхая от своей обычной работы, сколько знакомясь с реальными преимуществами социалистической системы».73 Что касается развлекательной части поездки, то здесь существовали некоторые вариации. Если в Советском Союзе и в Китае гостям показывали выступления танцевальных ансамблей и фольклорных коллективов или стилизованные революционные оперы, то кубинцы предлагали их вниманию традиционные шоу гаванского ночного клуба «Тропикана» (подобные институты советские идеологи наверняка сочли бы пережитком прошлого как в идеологическом, так и в хронологическом смысле). Вне всяких сомнений, таким гостям, как Сартр, показывались «шествие и танцы campesinos (исп. — крестьян)».74 В дни различных национальных праздников гости могли соединить приятное с полезным. В подобных случаях в Москве, Пекине или Гаване они могли наблюдать со специальной трибуны за исполненными энтузиазма массами, вышедшими на парад. К другой категории вдохновляющих сакральных объектов относились места рождения (или жительства) Ленина, Сталина, Хо Ши Мина и Мао (в случае с Лениным к этому же разряду следует причислить и место хранения его останков), лодка, в которой Кастро переплыл на Кубу, памятник партизанам в горах Сьерра-Маэстра. К объектам такого рода относятся также музей и монумент на берегу залива Байя де Кочинас. (Хозяева порой пытались убедить гостей в негативном характере их собственной политической системы. Так, например, Джонатану Козолу были показаны результаты антикастровской воздушной атаки на школу, в которой, помимо прочего, хранилась доска, «изрешеченная» пулями.75 В Северном Вьетнаме американцам часто показывали разрушения от бомб, сброшенных с самолетов их страны.)
В Юнане (Китай), так же как в кубинской Сьерра-Маэстра, поразительные природные памятники сочетались с находящимися там же политически значимыми объектами. Эндрю Солки и другие участники Культурного конгресса постоянно посещали какие-то выставки, музеи, театры, дома, фермы и школы. Отцу Берригану во Вьетнаме показывали не только последствия американских бомбардировок, но и фильм о «дядюшке Хо», а также камеру, в которой он сидел, и пещеру Хо (которая заставила его вспомнить об Иисусе в пустыне и о Лойоле в пещере Манреша),76 Музей революции, госпиталь (наполненный жертвами американских бомбардировок), он встречался с руководителем союза журналистов в Ханое, со многими крестьянами, с женщинами-вои-
492
Пол Холландер
нами и с католиками-мирянами; он также побывал в сельской коммуне, посетил новые жилые кварталы, ханойский Музей искусств и центры дополнительного образования. Маршрут поездок участников Конференции озабоченных ученых-востоковедов включал посещение сельскохозяйственных коммун возле Кантона и Шанхая, школы для глухонемых в Кантоне, Шанхайской промышленной выставки, форума, посвященного Великой китайской культурной революции, Шанхайского инструментального завода, новых домов для рабочих, женщины — члена ЦК КПК, вышивальной фабрики, сада эпохи Мин, госпиталя, руководителя зернохранилища № 57 в Сучжоу и нескольких тамошних рабочих, пагоды на Тигровой горе и Западного сада, членов Революционного комитета Сучжоу, моста через реку Янцзы, постановки «Красный женский отряд», начальной школы в Нанкине, учений нанкинской народной милиции, мавзолея Сунь Ятсена, Нанкинской астрономической обсерватории, Летнего дворца (Пекин). Молодые кубинцы посетили Пекин, Пекинский университет, коммуну в Тачае, Тайанский завод тяжелого машиностроения, археологические раскопки в Сиане, постановку «Девушки с седыми волосами» Сианьского Государственного театра Красной Армии, дом Мао в Юнане, встретились с делегацией из Северной Кореи и с принцем Сиануком, посетили вышедшего на пенсию рабочего («рассказывавшего о своем участии в волне забастовок, прокатившихся по Китаю в 1921-1923 гг.»),77 побывали на операции в госпитале при Пекинском медицинском училище, в пекинской средней школе, в пекинском зоопарке, в Школе кадров имени 7 Мая близ Пекина, на Великой китайской стене, во Дворце народов, в университете Синьхуа и т. д.
В Китае подобные поездки были формализованы до предела и могли сопровождаться истолкованием увиденного в нужном ключе. Процедуры, о которых Симона де Бовуар писала в 1950-х гг., были такими же и в 1970-х.
Куда бы вы ни приезжали, — на завод, в школу или в деревню, которые могли находиться хоть в Пекине, хоть в Кантоне, — ритуал не изменялся ни на йоту. Вы входите в большую комнату, стены которой покрыты красными транспарантами с золотыми письменами; это либо дружеские приветствия, либо правительственные послания... Вас усаживают на диванчик перед низким столиком, на котором лежат сигареты и стоят чашки, в которые официант наливает зеленый чай... Некое официальное лицо управляет ситуацией. Затем вас знакомят с самим объектом. После его осмотра вы снова пьете чай; это время вопросов и ответов. Официальное лицо просит нас задавать вопросы, нам же, как обычно, ничего не приходит в голову.78
Важным моментом техники гостеприимства является не только подбор определенных объектов, но и определение их количества и порядка следования. Обычно программные туры перегружены, и потому у гостя практически не остается времени даже на
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
493
раздумья, не говоря уже о самостоятельном знакомстве со страной. «...Важного потенциального пропагандиста не оставляют ни на мгновенье, — пишет Жак Маркюз. — Его постоянно пасут и сопровождают, доводя до крайнего телесного и интеллектуального изнеможения. Его водят повсюду, и он, в конце концов, приходит к выводу, что, если бы ему позволили остаться здесь подольше, он смог бы ознакомиться со всем тем, что его интересует... После того как улыбчивые хозяева вежливо распрощаются с ним, он вернется в свою страну настолько переполненным впечатлениями и не поддающимися проверке фактами, что не сможет написать уже ничего сколько-нибудь вразумительного».79 Это заметила во время своего пребывания во Вьетнаме и Сюзан Зонтаг: «Мы действительно много где бываем и много что видим; ни одно утро и день не обходятся без каких-либо визитов или встреч, порой они случаются и по вечерам... Мы попали в руки к искусным бюрократам, специализирующимся на работе с иностранцами».
Ее раздражало, что к ней «относились как к малому ребенку: жесткое расписание, хождение за ручку, поучения, непрерывная суета вокруг и постоянная опека. Даже не просто как к отдельному ребенку, но как к одному из группы детей».80 Схожей была реакция на организацию таких туров и чрезмерную заботу хозяев у немецкого радикального писателя Магнуса Энценсбергера:
О делегате всегда заботится организация. Ему не следует — просто не позволят! — ни о чем беспокоиться. Обычно за ним закрепляют персонального гида, который выполняет роль переводчика, няньки и сторожевого пса. Почти весь контакт с принимающей страной происходит при посредстве этого компаньона, что явно указывает на изоляцию делегата от реальной жизни окружающего общества. Компаньон отвечает за программу визита. Путешествие без программы просто немыслимо. При ее составлении гость может высказать свои пожелания, однако он остается заложником организации, которая его пригласила. При этом с ним обращаются как с малолетним. Ощущение обмана и собственного бессилия очень напоминает ситуации из детства.81
Артур Галетой, хотя и был благодарен за «непрестанную заботу гостеприимных китайцев... вскоре понял, что ситуация, при которой жизнь заранее расписана по минутам, лишает человека некоторых более простых, непринужденных удовольствий, которые можно получить при самостоятельных непосредственных контактах с китайцами». И на Кубе путешественник отмечает: «Большую часть суток кубинцы работали с нами по сильно уплотненной программе, оставляя лишь немного свободного времени». Эдвард Лутвак заметил, что «непрерывная череда визитов с 8 утра до 8 вечера... теоретически... все еще оставляет поздний вечер свободным для индивидуальных экскурсий, но даже в Пекине это свободное время бессмысленно, поскольку ночью абсолютно некуда пойти и не на что смотреть... ни открытых чайных или магазинов... ни ресторанов или баров... ни даже
494
Пол ХолланАвр
уличного освещения, если не считать несколько главных бульваров. Вскоре после 8 вечера улицы пустеют».82
Конечно, было бы странно, если в странах, где осуществляется строгий контроль над жизнью граждан, власти захотели бы предоставить самим себе иностранных гостей. С точки зрения хозяев, существующее отношение к визитерам тем более оправдано, что гостям, хотя и сочувствующим режиму, нельзя полностью доверять, поскольку они прибывают из обществ, где существует больше свобод и допускается более вольное поведение. Ведь визитеры могут, пусть по неосторожности, показать местным жителям отрицательный пример, и именно поэтому приезжие и местные должны быть строго отделены друг от друга. Другим очевидным, но очень важным доводом, который здесь хочется отметить (в контексте жестких программ и тщательного выбора достопримечательностей), является то, что хозяева вовсе не собираются пускать на самотек процесс, в результате которого посетители должны обогатиться благоприятными впечатлениями. Отсюда скрупулезное и дотошное внимание ко всем деталям маршрута, к тому, что посетители могут делать, а чего не могут, что они должны видеть, а чего не должны.
Следует также отметить, что благожелательно настроенные визитеры (например, Сюзан Зонтаг) обычно сами преодолевают раздражение, связанное со слишком жестким планированием и чрезмерно навязчивым гостеприимством. Это хорошо отражает силу предубеждения, в результате которого отрицательные реакции на конкретные аспекты путешествия (например, жесткое планирование, недостаток свободного времени и т. д.) не разрушали и не портили общего хорошего отношения; при этом у визитеров не возникало далеко идущих вопросов о реалистичности самого путешествия и степени объективности полученных впечатлений. Кроме того, сочувствующие пилигримы сами нашли способ нейтрализовать отрицательные реакции, которые могли бы возникнуть из-за замены пунктов посещения или ограничений при выборе маршрута. Как выразился Жак Маркюз: «Если он [сочувствующий визитер] обнаруживает, что ему не показали всего, он догадывается, что ему отказали по уважительным причинам, и с его стороны было бы некрасиво настаивать».83
В организации и проведении туров основную роль играл переводчик. Он всегда находился рядом и был одновременно гидом в самом широком смысле, главным посредником между визитером и окружающей обстановкой и «амортизатором», смягчающим любой возможный дискомфорт или разочарование, с которыми могли столкнуться путешественники. И для его присутствия, конечно же, имелись весомые практические аргументы: незнание
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
495
языка большинством визитеров и слабое развитие туризма в данной стране. Предоставленные самим себе гости не смогли бы без проблем получить номер в гостинице, поесть, сесть на поезд, самолет или автобус и добраться до нужного места — скорее всего, они вообще не смогли бы совершить ничего подобного. Конечно, в странах, подобных Советскому Союзу в 1930-х гг. и Китаю после 1949 г., наличие услужливого переводчика было оправдано, даже если он и не решал одновременно политических задач. А поскольку были поставлены и политические цели, то наличие переводчиков стало просто необходимым. Их основной целью было убедиться, что иностранец не остался без надзора, и проконтролировать связи с местными жителями. Кроме того, считалось, что гиды должны контролировать и направлять действия посетителей, не допуская, чтобы последние увидели нежелательные стороны действительности или встретились с гражданами, не входящими в специально отобранную для этой цели группу. В общем, гиды должны были служить интерпретаторами действительности и обеспечивать, чтобы гости в максимальной степени извлекали уроки из экскурсии и приходили к соответствующим политическим выводам. Эта работа требовала не только знания иностранных языков и свидетельства о политической благонадежности, но и готовности участвовать в политической пропаганде. Роберт Ло, который сам был таким переводчиком, поделился некоторой информацией об организации, выборе и официальных функциях переводчика-гида:
[Их] необходимые качества в порядке важности: 1) членство в Коммунистической партии или в союзе молодежи, искренняя преданность социализму и политическая бдительность, 2) хорошие наружность и манеры, 3) знание по крайней мере одного иностранного языка.
После того как их зачисляли на службу, они часто посещали политзанятия... Ранним утром они были обязаны получить инструкции от комитета по приему; каждый вечер после пожеланий спокойной ночи визитеру... они были обязаны представить письменный и устный отчет комитету и обсудить любую проблему, которая могла возникнуть в течение дня, например неприязненное отношение, вопросы иностранцев или недостойное поведение какого-нибудь китайца.84
Иногда предпринимались дополнительные усилия, чтобы найти хороших гидов для конкретных посетителей и тем самым повысить восприимчивость последних. Так однажды Симону де Бовуар «сопровождала писательница мадам Ченг; в юности ... она пятнадцать лет провела во Франции и знала французскую литературу, как свои пять пальцев... Чрезвычайно интеллигентная, утонченная и очень наблюдательная, она дарила мне драгоценную информацию по любому предмету. С ее губ никогда не слетала глупость или пропагандистское словечко; она так твердо убеждена в преимуществах режима и его необходимости, что ей
496
Пол Xолланлер
не нужно в чем-то уговаривать себя или кого-либо еще... ей неведома самоцензура». На Кубе переводчик Джонатана Козола был «замечательным человеком, который с чрезвычайной ловкостью разрешал наиболее сложные ситуации...». Лорд Бойд Орр назвал своего гида «виртуозом, эффективным менеджером, идеальным секретарем...». В коммунистической Венгрии к Джессике Митфорд была «прикреплена переводчица, восторженная энергичная молодая женщина, которая должна быть нашим гидом. С кем мы хотим встретиться? Что мы хотим увидеть? Только скажите. Быстро была составлена программа, включающая поездку в сельскую местность и посещение колхоза, дома отдыха рабочих, нового города металлургов Сталинвароша [города Сталина]... средних школ... Пионерской железной дороги... Венгерского народного балета и других мест отдыха».85
Западные визитеры обычно не отдавали себе отчета в политических обязанностях, которые взвалили на себя их гиды, и в некоторой специфике их работы. Роберт Ло пишет, как однажды экскурсант донимал его, выпытывая, действительно ли его энтузиазм по отношению к режиму является неподдельным или же только симулируется. Ло вспоминает свои ощущения в тот момент:
Меня просто бесила его наивность или эгоизм. Он был наивным, если считал, что я или кто-либо еще мог позволить себе какие-нибудь высказывания против партии или правительства, или если не знал, что каждого китайца, говорившего с иностранцами, тщательно допрашивают. Он был эгоистом, если... планировал по возвращении в Англию написать, что некий прогрессивный китаец, мистер Ло, в действительности является ярым антикоммунистом. Моей задачей было не подставить шею под петлю. Поэтому я решительно ему заявил: «Я люблю Коммунистическую партию и правительство больше жизни». Наша доверительная беседа резко оборвалась. Мне показалось, что он во мне разочаровался... Я не понимаю, как действительно умный иностранец мог рассчитывать на доверительный разговор с кем-либо в материковом Китае.86' *
В Северном Вьетнаме война дала дополнительное оправдание постоянному присутствию переводчиков. Мэри Маккарти писала:
Если с вами, пока вы находитесь на попечении гидов, что-нибудь случится, последние несут ответственность перед представителями властей. Особо это справедливо для гостей, приглашенных северовьетнамскими организациями...
* Наблюдения Саймона Лейса о политических и аполитических беседах дают некий базис для понимания описанного выше: «Вообще говоря, можно утверждать, что теперь у китайцев имеются два разговорных языка: один, человеческий и естественный, на котором они могут говорить в полный голос и на котором они разговаривают о здоровье, погоде, еде, результатах последнего баскетбольного матча ит. п., и другой, механический и визгливый, для разговоров о политике... В процессе одной и той же беседы в зависимости от темы человек, с которым вы разговариваете, способен быстро переключиться несколько раз от нормальной речи до своего рода идеологического чревовещания».
Почти полстолетия назад Кёстлер писал: «Обычный советский гражданин знает, что быть уличенным в беседе с иностранцем так же вредно для здоровья, как и дотронуться до прокаженного. Те, кто разговаривал со мной в ресторанах и в купе вагона, использовали стереотипные клише из передовиц «Правды»; можно было подумать, что они просто цитируют фрагменты диалогов из разговорника».87
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
497
Конечно, это ограничивает личную свободу, но я с этим смирилась... Всякий раз во время переездов один из товарищей из Комитета сторонников мира проверял, что я надела шлем, лично принося его мне. Я никогда не оставалась одна, только в постели или когда писала в своей комнате. В провинции- каждый раз, когда я шла в расположенный вне здания туалет, молодая переводчица сопровождала меня до двери, неся мой шлем и несколько листов коричневой туалетной бумаги... а ночью еще и надежный фонарик. Она терпеливо ждала, когда я выйду, а затем спокойно отводила меня назад.88
Важной задачей переводчика было оградить посетителей от тех аспектов действительности, которые противоречили лозунгам и заявлениям режима. Среди таких заявлений была ликвидация чрезвычайных форм бедности, и, следовательно, посетителей держали подальше от свидетельств вопиющей нищеты. Жак Маркюз сомневался в этих заявлениях; а кроме того, он знал, где находятся некоторые пекинские трущобы:
Итак, наконец, мы отправились в Хунчжао и проехали через наиболее кошмарную трущобу, которую я когда-либо видел в Китае.
...Ночью в Пекине я видел стариков — и детей — копошащихся в поисках еды в кучах отбросов около хутунг... Но такой нищеты, как по дороге в Хунчжао, я просто не мог вообразить: отвратительные деревянные лачуги, сделанные из старых досок и не защищающие ни от дождя, ни от ветра; изнуренные дети; люди всех возрастов, сидящие в жалких тряпках на порогах (если такое слово здесь уместно) или просто стоящие по щиколотку в грязи. И конечно же, высоченные горы мусора и люди, копающиеся в отбросах с настойчивостью и прилежанием старателей с золотых приисков... Зловоние было невыносимым. Все это тянулось приблизительно на две мили, и самым трудным было заставить водителя ехать по этой дороге. На каждом перекрестке он пытался свернуть налево и уехать от этого явно запретного зрелища, и я был вынужден настойчиво повторять, что пойду пешком, если меня не отвезут, куда я хочу. Эта мысль, — что таким способом мне удалось бы увидеть даже больше того, что я, как считалось, видеть не должен... наконец его убедила, и мы поехали прямо, но гораздо быстрее, чем раньше...
«Как же живут эти люди?» — спросил я мистера Ли [переводчика]. Но мистер Ли потерял дар речи...89
О похожем инциденте сообщил бывший американский коммунист Эндрю Смит, который жил в СССР в начале 1930-х гг. в качестве привилегированного иностранного рабочего. Во время экскурсионной поездки на пароходе по Волге, организованной для таких рабочих, группа должна была сделать остановку и посетить местный колхоз. «Но когда мы приблизились к городу, берег был наводнен голодными людьми, ожидающими прибытия нашего парохода. Нам ни слова не сказали, но судно внезапно изменило курс и вышло на середину реки. В Сызрани остановки не было».90
Большая часть посетителей и не пыталась увидеть то, чего нельзя, не спорила с гидами и не противодействовала им.* И все
* Гораздо чаще гости сами облегчали задачу хозяев. Мэри Маккарти считала, что «будет как-то невежливо проявить любопытство, задавая прямые вопросы; в Ханое есть многое, о чем не хочется спрашивать». Кроме того, она считала, что «подвергать сомнению факты и цифры, ловить на мелких противоречиях»... значило бы «злоупотреблять доверием».91
498
Пол Холландер
же похоже, что, как заметил Жюль Руа, «наши гиды обретали покой только тогда, когда твердо знали, что мы находимся в комнатах отеля или в купе поезда, а наши фотоаппараты зачехлены на ночь...».92
Часто визитеров ограждали не только от вида полной нищеты, но и от гораздо более невинных зрелищ, которые с точки зрения властей противоречили заявлениям о триумфальных преобразованиях. Например, Жюль Руа сообщил, что ему и его группе запретили фотографировать владельца живописных уток на том основании, что это было бы вторжением в личную жизнь. С той поры очень часто большие группы туристов осматривали интерьер частных домов или наблюдали пациентов больниц прямо на операционном столе (что едва ли совместимо с уважением к личности); поэтому гораздо вероятнее, что, как сказал Руа, «показать, как он живет в хижине из плетеной соломы, как он перегоняет свое стадо с одного рисового поля на другое и как его утки едят зернышки риса, головастиков и мелкую рыбешку, — значило бы оказать слишком большую честь профессии, существование которой в Китае долгое время просто не хотели признавать».93 Не позволяя западным туристам видеть или фотографировать такие сцены, связанные с традиционной жизнью, хозяева в таком случае неправильно истолковывали желание посетителей. Далекие от того, чтобы считать примитивные способы выживания и зарабатывания на жизнь недостойными или отталкивающими, многие западные туристы просто радовались и восхищались простотой и естественностью сельской жизни и доиндустриальными технологиями, особенно в 60-е и 70-е гг. Стремление гида-переводчика оградить себя и своих подопечных от зрелищ и фактов, которые посетитель мог бы посчитать непривлекательными, иллюстрируется также воспоминаниями Рут Эпперсон Кеннелл, которая была в СССР в свите Теодора Драйзера в качестве его личного секретаря. Желая скрыть от Драйзера информацию об энергичной антирелигиозной пропаганде, она была «обрадована, что во время визита Музей атеизма оказался закрыт». С другой стороны, однажды она «неосторожно заметила, что в высоких правительственных кругах продолжаются дебаты по вопросу разрушения храма Христа Спасителя. Он [Драйзер] был потрясен... Я сказала, что Сталин и его сторонники утверждают, что церковь недостойна занимать лучшее место в столице...». Отношение к Драйзеру было подробнее раскрыто официальным советским переводчиком, который выразил надежду (в присутствии Кеннел), что «между нами, мы сможем управиться со стариканом, не так ли?». Как и в других случаях, в то время как было предпринято все, чтобы изолировать Драйзера от
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
499
неприятных сцен, его политически безвредные желания быстро удовлетворялись, включая, например, желание посетить в Ленинградской Публичной библиотеке фонд книг о колдовстве.94
Кроме того, визитеры часто забывали о том, что задача переводчика заключалась буквально в «интерпретации» действительности, включая перевод (или недобросовестный перевод) бесед с местными жителями. Как правило, имелось три барьера для естественных бесед между иностранными посетителями и местными жителями. Во-первых, последние вообще были заранее отобраны властями; во-вторых, контакт между ними и визитерами осуществлялся и контролировался переводчиком, само присутствие которого разрушало непосредственный обмен мыслями, даже если не имелось никакого языкового барьера;* в-третьих, в большинстве случаев эти беседы, уже заранее распланированные и ограниченные этими обстоятельствами, разрешалось вести только через интерпретатора-переводчика. Маргулис приводит множество примеров преднамеренного неправильного перевода советскими переводчиками, относящихся к далеким 1920-м гг.96 Американскому историку Сэмюэлу Н. Харперу (среди немногих других) удалось сравнить свои впечатления как туриста и не туриста (в 1930 и 1934 гг. соответственно) и ярко продемонстрировать приемы и методы гостеприимства на примере контактов между визитерами и местными жителями:
В течение трех недель [в 1930 г.] я жил жизнью советского гражданина... Одно из преимуществ такой жизни [в общей спальне совместно с советскими служащими] перед жизнью в одной из гостиниц состояло в том, что мои советские друзья теперь могли свободно заходить ко мне... я всегда понимал, что реальную жизнь невозможно увидеть из окна гостиницы...
И совсем при других обстоятельствах приехал он в 1934 г.:
Эти три дня в Ленинграде я провел, главным образом, как турист-экскурсант, непрерывно совершая поездки в музеи, фабрики, больницы, школы. Я не рекламировал свое знание русского языка и старался подавить улыбку, когда переводчик разливался соловьем, переводя появившиеся повсюду лозунги и транспаранты, призывающие к мировой революции или атеизму.
К этому времени он уже больше не мог «отправиться куда глаза глядят на собственный страх и риск» — купить железнодорожные билеты можно было только через «Интурист»...97
* Иногда одного присутствия переводчика было достаточно, чтобы препятствовать использованию известного собеседникам иностранного языка, который мог бы протянуть между иностранцами и местными ниточку понимания. Это случилось в эпизоде, описанном Колетт Модиано, когда группа франкоговорящих туристов со знающим французский переводчиком встретила китайца, который мог превосходно говорить по-английски (так же, как и автор), но отказался это сделать, очевидно потому, что в таком случае их беседа не могла бы контролироваться переводчиком.95
500
Пол Холланлер
Даже в более близкие к нам времена высокообразованные западные визитеры не возражали против использования официальных переводчиков при посещении заключенных советских диссидентов, что живо напоминает сцену, описанную Солженицыным в его романе «В круге первом». Кроме того, Андрей Григоренко, сын известного диссидента генерала Григоренко, писал:
К сожалению, люди на Западе не всегда достаточно ясно представляют себе ситуацию в СССР и положение человека за решеткой. Тот факт, что западные психиатры, посетившие отца в психиатрической больнице, не беспокоились за объективность перевода и собрались вести беседу через официального советского переводчика, можно объяснить только удивительным непониманием. Очевидно, им и в голову не могло прийти, что перевод мог не соответствовать тому, что сказано. И еще одно. После беседы в тюремных стенах человек остается полностью во власти администрации...98
Иногда гидом может быть политически надежный иностранец, как было в группе, в которой находился Дэвид Кот. Фран- цузженка-гид работала рука об руку с переводчиком-кубинцем, чтобы была уверенность, что посетителям дана правильная политическая интерпретация всего увиденного. («На Кубе нет политических заключенных, — резко сказала Николь [французский гид]. — Террористы, шпионы и контрреволюционеры — это не политические заключенные, а просто преступники».) Кроме того, группу убеждали, что кубинские рабочие имеют право на забастовку, но, согласно официальной формулировке, «в социалистической системе, — говорит Николь, — рабочие понимают, что когда они бастуют, то бастуют против себя».99
Иногда интерпретация действительности принимала более изощренные формы. Когда два репортера (ЮПИ и «Нью-Йорк Таймс») разглядели с холма в Баку (в СССР) «шесть маленьких серых военных кораблей, стоящих в береговых доках, она [гид] переспросила: „Какие военные корабли?“ Мы показали, нарисовали на листочке, убеждали ее, но — она не видела никаких кораблей. Ее отказ признать присутствие этих четко видимых кораблей хорошо согласуется с изобретательностью нашего гида в столице Армении Ереване. Когда его спросили про ряд сгнивших лачуг, он ответил: „Правительство специально сохранило их, чтобы туристы видели, как раньше выглядели трущобы“». Когда Эндрю Смит попросил, чтобы его переводчица объяснила присутствие «массы оборванных нищих, главным образом женщин и детей», около железнодорожного вокзала в Ленинграде, та «сказала, что это ни на что не годные алкоголики», для которых «правительство не может ничего сделать».100 Честность гида поставил под сомнение и Питер Кенез, когда однажды вместе с группой они «осматривали фабрику [и] гид, повернувшись к нам, заметил: „Все здешние станки сделаны в Китае“. Это удивило
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
501
меня, поскольку в предыдущем цехе я заметил, что приблизительно половина станков была сделана в Чехословакии или в СССР». Переводчики не чуждались и обычного ухода от ответа. Например, когда Жюль Руа «спросил, существуют ли другие мосты через Янцзы [в дополнение к тому, который они рассматривали], все улыбнулись, так как гиды ответили, что не знают».101
При реконструкции (и опровержении) действительности главной задачей гида — и ключевым аспектом техники гостеприимства — является изоляция визитеров от местных жителей и предупреждение спонтанных, незапланированных или случайных контактов. Было бы неправильно считать, что хозяева всегда в этом преуспевают, но уж обвинять их в отсутствии стремления не приходится. Местные условия, особенности страны и время обусловливают некоторые отличия. Понятно, что легче было отделить туристов от местных жителей в странах, где население явно отличается от западных визитеров по физическим признакам, особенно в Китае и Вьетнаме. Многое зависело от отношения населения: советские граждане в 30-е, 40-е и 50-е гг. больше опасались встреч с иностранцами, чем в 60-е или 70-е гг. Некоторые китайцы стали менее напуганными после смерти Мао Цзэдуна. Все же в целом для режима отношение населения является могучим благоприятным фактором, способствующим изоляции туристов от местных жителей. Здесь снова следует подчеркнуть, что гиды-переводчики, сопровождавшие визитеров, считались, и справедливо, представителями власти, к тому же связанными с государственными службами безопасности.102 Со своей стороны, рядовые граждане также знали, что иностранцы являются либо друзьями режима, либо при заботливом уходе постепенно превращаются в таких друзей. Они прекрасно понимали, что власти не жалеют никаких усилий, чтобы произвести на этих визитеров благоприятное впечатление, и что любое действие, направленное против этой цели, будет расценено властями как враждебное режиму. Кроме того, если даже критика системы в среде самих граждан расценивается как подрывная, такая же критика в присутствии иностранцев является гораздо более серьезным проступком. Секретность политических систем, обсуждаемых здесь, также способствовала подозрительности граждан и сдержанности даже в своей кампании, не говоря уже о присутствии посторонних. Лучше всего просто избегать иностранцев, если только власти тебя специально не уполномочили с ними общаться. Правда, и здесь заметны некоторые различия. Среди обсуждаемых стран (в пределах указанных периодов), вероятно, наиболее опасались контактов с иностранцами в Китае, а меньше всего на Кубе, в то время как советские граждане времен сталинской эры
502
Пол Холландер
несомненно приближались по этому показателю к китайцам. Возможно, степень настороженности несколько зависит от национального характера и культуры. (Фрэнсис Фитцджеральд заметила, что на Кубе «разговор является одним из наиболее распространенных вещей, время от времени люди подходили к нам, чтобы задать вопросы или поделиться мнением о самом разном: от погоды до правительства».)103
Знание какого-либо общего языка путешественниками и местными жителями также влияло на интенсивность контактов между ними. Разумно предположить, что процент западных визитеров, говорящих немного по-испански, был больше, нежели тех, кто знал русский, а в свою очередь, владеющих китайским или вьетнамским было меньше всего. Кроме того, на Кубе было больше говорящих на английском, чем в СССР (по крайней мере в процентном отношении), а в Китае и Северном Вьетнаме таких было совсем мало.
Осторожное или даже запуганное население (да еще неискушенное в лингвистике) является, если можно так выразиться, само по себе надежной гарантией от несанкционированных контактов (и утечки нежелательной информации в случае контактов) между туристами и местными жителями и способствует обособлению этих двух групп. Саймон Лейс писал:
Самое страшное для маоистского режима заключается в том, что иностранцы могут попасть в сельскую местность, и даже — что хуже всего — вступить с людьми в непосредственный и неконтролируемый контакт. Но фактически последнее опасений не внушает: после пяти лет Культурной революции китайцы хорошенько подумают, прежде чем вступить в разговор с иностранцем. В некоторых провинциальных городах случалось, что люди... отказывались даже показать мне дорогу. Кто мог их винить? ... За шесть месяцев я не поговорил ни с одним китайцем, за исключением чиновников или людей, для которых контакты со мной были частью работы: гидов, железнодорожных служащих, официантов и т. п.104
Питер Кенез также отмечал стремление гидов «предотвратить случайные контакты. В одном случае китаец, способный объясняться на английском, вступил с нами в разговор в поезде, но был быстро и довольно грубо изгнан нашим милым и воспитанным гидом». Иногда, даже когда не было никакой опасности общения, «полиция или гиды периодически разгоняли толпы, которые окружали нас, причем с излишней грубостью». Даже наиболее благосклонно настроенные визитеры не могли отрицать, что китайские власти затрачивали слишком много усилий для изоляции иностранцев от местных жителей во всех общественных местах, включая поезда, гостиницы, музеи, места отдыха и рестораны. («Как и в других китайских ресторанах, которые мы посетили, — вспоминали Стотон Линд и Том Хейден, — нас провели в отдельный кабинет, где можно было свободно беседовать за едой;
503
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
нам сказали, что рестораны доступны всем, еда одинакова для всех, а цены низкие».) Вопреки такому мнению, репортер «Нью- Йорк Таймс» отметил, что в известном ресторанчике «Утка по- пекински» официантка проводила его и другого иностранца в «верхний обеденный зал, куда вел отдельный запираемый проход. В то время, как местные жители сидели внизу за простыми деревянными столами, в особой комнате наверху имелись скатерти, кружевные занавески на окнах и картины на стенах. И в Шанхае в большом книжном магазине на проспекте Нанкин наверху имелся отдел, куда местным китайцам вход запрещен... Наверху даже упаковочная бумага была лучшего качества».105
Остается только догадываться о самых важных мотивах или совокупности мотивов для такой политики сегрегации. Конечно, главным фактором было желание контролировать впечатления посетителей. Другим было желание услышать похвалу («самодовольство»), так как, вопреки мнению Линда и Хейдена, в их описании речь идет не только об изоляции, но и о лучших условиях. Кроме того, частично власти стремились скрыть от местных жителей масштаб и детали привилегий, которыми пользуются иностранцы. Но наиболее важно, что система сегрегации функционировала для того, чтобы сохранить замкнутый мирок, в котором приехавшие иностранцы вращались и, как считалось, формировали свое мнение. Магнус Энценсбергер нашел эту систему эффективной, что и прокомментировал в контексте Кубы: «Контакты ограничены только встречами с выбранными функционерами и иностранцами, живущими в таких отелях. Этот зонтик настолько эффективен, что большинство политических туристов даже после нескольких недель или месяцев пребывания в стране-хозяине не имеет ни малейшего представления об условиях, в которых живут рабочие».106
Хотя, как отмечалось раньше, скорее всего, нигде по сравнению с другими странами не было больше неконтролируемых контактов между туристами и местными жителями, чем на Кубе (частично из-за меньшего языкового барьера), некоторые факты указывают, что непредвиденные и незапланированные контакты далеко не приветствовались как властями, так и их представителями — гидами-переводчиками. Эндрю Солки описал горе своего гида, когда однажды вечером около гостиницы к ним приблизился молодой кубинец, говорящий по-английски; последний ушел лишь после приказа милиционера. Хотя иностранцам было сравнительно просто передвигаться и вступать в более спонтанные контакты с кубинцами в Гаване, другие части страны и ее жители были гораздо менее доступны. Поэтому, например, Фрэнсис Фитцджеральд и другие журналисты «не могли организовать поездку за пределы Гаваны на срок больше часа».107
504
Пол Холланлер
В СССР, в дополнение к самой атмосфере 1930-х гг., когда была распространена ассоциация «иностранец-шпион», ответственные за прием иностранцев предпринимали множество шагов, чтобы убедиться в невозможности несанкционированных контактов или общения между местные жителями и туристами. Как сказала Маргулис: «Российским гражданам было приказано хранить молчание или предписывалось, что говорить в присутствии иностранных гостей или делегаций», и «советские гиды, сопровождающие иностранные делегации или отдельных туристов, выказывали явное раздражение при попытках их подопечных заговорить с русскими или даже с иностранными рабочими и специалистами, работающими на советских фабриках». Понятно, что «присутствие на собраниях с участием как иностранцев, так и советских граждан, агентов ГПУ еще больше затрудняло контакты...».108
Особой разновидностью контактов между туристами и местными были контакты между приезжими китайцами и местными китайцами, и политика гостеприимства, простиравшегося на эту группу, периодически претерпевала заметные колебания. Конечно, это тоже была важная группа, которую режим стремился завоевать; но при этом имелись проблемы, связанные с внешним сходством, знанием китайского языка и наличием личных связей. Хотя после смерти Мао Цзэдуна этим людям стало легче встречаться с родственниками и им иногда даже разрешалось неконтролируемое посещение сельских районов, более ранние документы указывают, что должностные лица были, мягко говоря, озабочены контактами между этими двумя группами. Таким образом, про местных китайцев мы узнаем, что
перед тем, как войти в обеденный зал в отеле, они должны были предъявить документ, содержащий их имя, адрес, место работы и степень родства с посетителем из США. Когда приходило сразу несколько членов семейства, каждый должен был предъявить свой документ. Эта информация регистрировалась гостиничным клерком, который затем выдавал пропуск. Этот пропуск, отбираемый лифтером, давал право на посещение только одного этажа а отеле, например этажа, где расположен ресторан. После ресторана китаец не имеет права пройти в номер родственника до тех пор, пока не спустится в фойе, чтобы заполнить еще несколько формуляров и получить еще один пропуск.109
При таких мерах предосторожности было неудивительно, что, как сообщила одна такая гостья из США, «ее родственники „казались параноиками“, боялись с ней разговаривать и вообще, похоже, были расстроены ее визитом».110
Наиболее сильные ограничения, налагаемые на посетителей в последнее время, были отмечены в Северной Корее, и они являются хорошим примером тоталитаризма чистой воды. Как свидетельствует Гаррисон Солсбери:
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
505
В течение 16 дней интервью, осмотров достопримечательностей, посещения фабрик, школ, детских садов, университета, театров и музеев я только однажды шел один по северокорейской улице — и то лишь приблизительно 150 ярдов — до тех пор, пока меня не догнал запыхавшийся переводчик... Я никогда не говорил с крестьянином в поле или в его доме... Я никогда не разговаривал с рабочим на фабрике, за исключением одной группы, которая так отрепетировала свое выступление, что было просто смешно... Я никогда не посещал квартиру рабочего. Я никогда не посещал магазина. Я никогда не ел в рес’11)ране... Я жил в красивых правительственных гостевых домиках... окруженных стенами из колючей проволоки с вооруженным часовым у ворот...111
Конечно, можно предположить, что такие крайности отражают просто начальную стадию в развитии гостеприимства, характеризуемую нехваткой стандартных достопримечательностей или специальных экспонатов: духовных, материальных или социальных.
Новая глава в использовании методов гостеприимства в массовом масштабе была написана в Москве во время Олимпийских игр 1980 г. Власти прежде всего позаботились об изоляции посетителей от местных жителей. Например, «для полной уверенности, что советские граждане не смогут проникнуть, швейцары были усилены милиционерами в форме и сотрудниками в штатском, причем в каждой гостинице действовал свой пропуск... Американские туристы сообщали, что их единственный контакт с обычными советскими людьми был на соревнованиях и состоял в немного большим, чем простом обмене приветствиями». Советский гражданин в письме, тайно вывезенном из СССР за несколько месяцев до Олимпиады, обращался к потенциальным иностранным гостям и участникам:
Позвольте мне объяснить, как идут официальные приготовления к вашему приезду... Каждая ваша свободная минутка тщательно распланирована. Вы будете приглашены на официальные приемы, где водка и шампанское потекут рекой. Ваши хозяева поведут вас за ручку в театры, музеи и дворцы культуры. Вас будут возить в экскурсионных автобусах по историческим достопримечательностям...
...Вы рассчитываете встретиться с русской молодежью? И не надейтесь. Наша молодежь направлена на лето на отдаленные стройки, в деревни и колхозы. Даже даты выпускных и вступительных экзаменов в институтах и университетах сдвинуты, чтобы облегчить эту эвакуацию.
Даже в то время, как я пишу это письмо, Москву очищают от «вредных элементов»... Их выселяют из города, убирают с глаз долой, распихивают по закуткам. Или арестовывают. Ваши будущие хозяева готовят для вас «образцовый город».
Столица нашей страны превращена в закрытый город... Невозможно проникнуть через 100-километровый барьер ни на самолете, ни на поезде, ни на автомобиле, ни на автобусе или теплоходе. Строгий [внутренний] паспортный контроль повсюду.
...Любой москвич скажет вам, что вы будете жить не в Олимпийской деревне, а в Потемкинских деревнях с фальшивым фасадом и переносными декорациями. Все это строительство — одно гигантское надувательство, насколько это касается советских людей. Это не имеет никакого отношения к тому, как мы фактически живем.112
506
Пол Холландер
Выборочная демонстрация социальной действительности близка к обману, но не есть прямой обман. Показывать посетителям явления, которые нетипичны, необычны и выходят за привычные рамки, значит вводить в заблуждение, но здесь не идет речь о сплошном вымысле или фабрикации фактов. Примеры постановки и демонстрации некоторых событий, организованных исключительно ради гостей, немногочисленны. Они также являются частью техники гостеприимства, к ним мы сейчас и обратимся.
РЕКОНСТРУИРОВАННАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ:
ДУХ ПОТЕМКИНА
Обман, являющийся составной частью техники гостеприимства, может объясняться теми же мотивами, которые определяют политику и способы гостеприимства в целом. Политические лидеры, которые искренне полагают, что идеи — это оружие, целенаправленно стремятся создать условия, в которых эти идеи оказывают максимальное воздействие, а кроме того, они хотят убедиться, что социальная система, которую они контролируют, показана в самом выгодном свете. В такой ситуации понятна необходимость безотлагательного убеждения посторонних в достоинствах и достижениях этой системы. Уверенные в подавляющем превосходстве своего режима лидеры не жалеют ничего для демонстрации этого превосходства. Они искренне полагают, что пятна и «временные недостатки» не нужно показывать, а можно просто отрицать. Все равно они в ближайшем будущем исчезнут, так почему бы не приблизить это будущее с помощью техники гостеприимства? Как в искусстве социалистического реализма, типичное является не средним статистическим, а производной, наполненной ожиданием будущего. Посетители должны видеть вещи такими, какими они должны быть или будут, а не такими, каковы они есть. А поскольку нет моральных абсолютов, никаких универсальных моральных стандартов, «правда» и «действительность» являются относительными, а значит, моральным является все, что способствует триумфу «социализма», включая средства, помогающие распространению его хорошей репутации на страны, где прогрессивным силам еще только предстоит победить. Следовательно, при реконструкции действительности не может быть никаких моральных сомнений. Обман безнравственен, когда в капиталистических странах дети умирают от голода (или, по крайней мере, так обычно говорят); почему же изо всех сил не пропагандировать достижения и цели более прогрессивной системы?
Такое в высшей степени утилитарное отношение к правде и морали само по себе не порождает обман, связанный с техникой
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
507
гостеприимства, хотя и является его главным необходимым условием и предпосылкой. В распоряжении властей должны, кроме того, иметься сила и ресурсы для осуществления своих планов и претворения в жизнь великой мечты. Более конкретно, должно существовать тоталитарное всемогущество и желание властвовать над окружающим, распространить контроль на всевозможные аспекты жизни. А если так, то почему бы и в самом деле не создать цельного полотна, включающего яркие экспонаты и выставки на радость гостям? В ближайшее время эти вещи перестанут быть экспонатами, а действительно станут типичными. Кроме того, при реконструкции действительности не встретится никаких материальных, организационных или политических проблем. Никаких грязных писак, способных доставить неприятности, никаких возмущений со стороны политической оппозиции, никаких разоблачений перед иностранцами со стороны возмущенных граждан. И при этом нет недостатка в ресурсах для осуществления важных проектов; всегда под рукой люди и материалы, специалисты и оборудование, а также организационные навыки — все необходимое для строительства образцовой тюрьмы, нового пансионата для гостей, элитного детского сада или выдающегося колхоза, а также для воспитания и обучения компетентных и политически надежных гидов-переводчиков.
Наконец, хотя этот аспект и трудно изолировать от других, обратим внимание на отсутствие импровизации, всепроникающую планомерность, которая характеризует все рассматриваемые политические системы и неотделима от техники гостеприимства. Безотносительно происхождения этой безымпровизационности — идеи Ленина, недоверие к массам, возвеличивание всевозможной организованности, вера в единство теории и практики, желание удержать власть — она является наиболее важным фактором, который объясняет методы гостеприимства вообще и обманы в частности. У иностранцев, как правило, просто не хватало опыта и воображения, чтобы понять некоторые уловки, на которые они попались, и оценить усилия, с которыми режимы пытались создать у гостей благоприятные впечатления. Как выразилась Сильвия Маргулис:
Точно так же, как Гитлер оценил возможности «большой лжи», советский режим понял, что чем абсурднее фасад, тем больше вероятность, что гости примут его за чистую монету, поскольку не поверят, что страна на такой стадии развития, как СССР, станет тратить столько усилий в попытке одурачить иностранцев. Кто поверит, что его обманули люди из ГПУ и политические функционеры, изображающие из себя обычных рабочих? Кто додумается, что электричество было временно проведено в крестьянские избы только для того, чтобы поразить иностранных гостей?113
Бывший советский гражданин Лев Наврозов, который наблюдал такие методы изнутри, сделал запись об открытии в
508
Пол Холландер
Москве в 1935 г. «образцового рыбного магазина», где на прилавках было выставлено «две сотни высококачественных изделий из рыбы», чтобы пустить пыль в глаза иностранцам:
Цена должна быть достаточно высокой, чтобы отпугнуть большую часть москвичей... но достаточно низкой, чтобы спокойно шла довольно оживленная торговля. Иностранец должен был увидеть, что живая рыба раскупается хорошо, но без нездорового ажиотажа...114
За время Олимпийских игр 1980 г. продукты и потребительские товары, обычно отсутствующие или редко бывающие в продаже, внезапно вновь появились в московских магазинах:
«Во время Олимпиады будет замечательно, — сказала бабушка несколько месяцев назад. — Магазины будут полны, людей из других городов сюда не пустят, и все будет хорошо». Теперь накануне церемонии открытия- мечта стала сбываться—
На улице Горького... внезапно вновь появился сыр— в восхитительном многообразии—
Быстро выстраивались очереди за импортной венгерской уткой... ветчиной и ярко-красными помидорами из Румынии...
Внезапно... Москва превратилась в рай...
За это и за другие достижения Москвы приходилось платить остальным. Снова обратимся к неофициальному советскому источнику:
...сотни тысяч наших людей все еще живут в сырых подвалах и полуподвалах или в коммунальных квартирах... Наш город [то есть Москва] страдает от острой нехватки основных медицинских препаратов и средств для занятий спортом. Для строительства новых роскошных гостиниц и специальных комплексов власти резко сократили строительство жилья—
Эти примеры — еще цветочки. Во многих советских городах в течение многих лет мясо и масло продаются по карточкам... В продовольственных магазинах часто можно видеть объявления: «Мясо продается только по талонам. Норма — полтора килограмма на человека в месяц». Это приблизительно три фунта или одна десятая фунта в день. Разве вы не испытаете неловкости, кладя в рот кусок шашлыка и зная при этом, что он буквально вынут из рта кого-то, живущего в 10 километрах от олимпийского ресторана?115
Ежи Гликсман (чей уникальный двойной опыт как привилегированного посетителя образцовой тюрьмы и узника нескольких обычных уже обсуждался в главе 4), не был единственным иностранцем, кто наблюдал обе стороны советской системы. Эндрю Смит также имел возможность увидеть советскую жизнь с различных точек. В первом случае он был членом делегации американских рабочих в СССР, отобранной Коммунистической партией США. Шел 1929 г.:
1 ноября мы прибыли в Белоостров, расположенный на финско-советской границе. На советской стороне все было готово для нашего приема. Отборные яства в больших количествах громоздились на столах, покрытых белоснежными скатертями; мясо, рыба, пироги, фрукты и вина — все было в изобилии. Нас приветствовали так, будто мы были дипломатами иностранной державы. На границе в нашу честь построили подразделение красноармейцев...
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
509
Делегацию отвезли в отель «Европа», который, как нам сказали, используется исключительно для рабочих. У нас было все, чего душа пожелает, причем бесплатно. У нас была прекрасная еда, наши костюмы были починены и отутюжены, наши ботинки сияли, сигары и сигареты, бритье и стрижка, стирка и пользование первоклассным автомобилем для разъездов... После ужина нас повезли в театр, где мы смотрели революционную пьесу. И вновь ораторы с энтузиазмом приветствовали нас под гром аплодисментов. В перерыве нам были предложены фрукты и легкая закуска. Затем назад в отель, и снова на автомобиле.
Впоследствии Смит решил пожертвовать все свои сбережения Коммунистической партии и переехать в СССР, чтобы помочь построению социализма. Во второй свой приезд он уже не был членом делегации, но одним из группы рабочих, которые решили жить и трудиться в стране, где отсутствует безработица. Шел 1932 г.:
Мы прибыли на финскую сторону границы утром. На вокзале имелся ресторан, в котором подавались превосходные блюда... было чисто, современно и цены приемлемы. Однако я отсоветовал группе что-либо покупать. «Не покупайте здесь, — сказал я. — На другой стороне... где вы видите развевающийся красный флаг, вы купите еду получше и намного дешевле». Мы все были очень голодны, но ждали, пока не пересечем границу.
На сей раз в Белоострове не было никакой встречающей делегации. Никаких духовых оркестров и никаких ораторов. Все, что мы увидели, это несколько бедных и, судя по их виду, изнуренных крестьян, рассматривающих нас не очень-то дружелюбно. Мы обратились к ним со словами «Да здравствует Советский Союз! Да здравствует Красная Армия!». Но они тяжелой походкой прошли мимо, оставив нас без ответа... Мы поспешили в привокзальный ресторан. На самом пороге нас встретило ужасное зловоние. Столы не были покрыты, а на выцветших облупившихся столешницах были разбросаны остатки гниющей рыбы... Некоторые из нас побоялись что-либо заказывать, напуганные видом этого места... Нам сказали, что имеется только рыбный суп...
Впоследствии Смит начал работать на большом заводе по производству электрических машин в Москве и изнутри увидел технику показухи, используемую для приезжих делегаций:
Множество иностранных делегаций прибыло на празднование 1 Мая 1932 г. Некоторые делегаты посетили наш завод, и я имел возможность увидеть из-за кулис, что этих людей обманывали, в точности как раньше меня...
Нас проинструктировали, как демонстрировать свой энтузиазм и нашу промышленность. Мы должны были заниматься только своими станками. Прежде всего, мы не должны были открывать рта. Это право предоставлялось должностным лицам...
В тот день потребовалось четыре-пять часов напряженной работы, чтобы подготовиться к приему гостей. Рабочие сквозь зубы бормотали проклятия по адресу делегации, поскольку вынуждены были работать сверхурочно...
На следующее утро в 10 часов на наш завод прибыла делегация, состоящая из пятнадцати рабочих из Германии, Чехословакии, США, Франции и других стран. Ее возглавлял Вернер, партийный инструктор из иностранного отдела и начальник всех переводчиков и пропагандистов, через которых осуществлялась тщательная фильтрация информации о заводе... После осмотра завода делегацию повели в столовую. Только за это событие рабочие могли сказать спасибо делегации. Пропали грязные передники официанток... Столы были накрыты белыми скатертями. Никаких котлет из заплесневелого хлеба, никаких щей. Вместо этого имелся цыпленок, овощи, компот и другие деликатесы, никогда ранее здесь не виданные. На столе, подчеркивая величие момента, блестели чистые тарелки... сверкали ножи, вилки и ложки. Рабочие были непривычны к таким приборам, но это не помешало им отдать должное
Пол Холландер
необычному и желанному банкету... Они слишком хорошо знали, что как только делегация уедет, они вернутся к традиционным щам...*
Один из делегатов, проникшись увиденным, убедил переводчика спросить ближайшего рабочего, сколько тот заплатил за обед. Рабочий ответил: «2 рубля 30 копеек». Переводчик повернулся к делегату и не моргнув глазом сказал: «30 копеек»... «А какую зарплату он получает?» — поинтересовался делегат. В ответ на вопрос переводчика рабочий ответил: «75 рублей в месяц». Переводчик бойко сообщил эту информацию делегату: «275 рублей».
После встречи, на которой «рабочие» (фактически функционеры и партийные пропагандисты) ответили на вопросы делегации, гостей
повели в ресторан для дирекции и высоких должностных лиц — другую рабочую столовую, как им объяснили, — где подавали множество блюд: рыбу, суп, жареного цыпленка, всевозможные свежие овощи, компот и выпечку. На каждом столе были вино и сигареты. На столах были даже цветы. Обычный обед для рабочих... так им сказали...
После этой роскошной трапезы делегатов повезли в заводской детский сад, где содержатся дети «рабочих»... Это были дети нарумяненных и накрашенных ударниц, с которыми они встречались на заводе, любимиц директоров и пропагандистов. Но делегаты с открытым ртом глядели, как дети «рабочих» демонстрировали гимнастические упражнения, русские народные танцы и игры... Из детского сада делегаты направились на дачи, расположенные в районе Измайловского парка. Это были красивые домики, занимаемые... заводскими чиновниками. В каждом домике было... от четырех до шести комнат. Вокруг каждого дома росли красивые цветы и деревья, под сенью которых вились дорожки. Каждый делегат был приглашен одним из «рабочих» зайти в дом и посмотреть, как он живет.117
Гаррисон Солсбери, который к СССР относился гораздо прохладнее, чем к Китаю, также пришел к выводу (попозже), что типичные посещения заводов в СССР были тщательно организованы, чтобы произвести впечатление на иностранцев. Он писал:
За 25 лет своего изучения России я увидел, вероятно, 200 или больше заводов... Я знал, как организуются такие посещения... Я видел, насколько тщательно выметенными и вычищенными были цеха, как хорошо одеты рабочие, как эффективно работали машины. Я слышал, как директора рассказывает о достижениях.. Энтузиазм рабочих достиг новых высот. Их техническим инновациям не было равных...
Когда начинались вопросы, директор всегда был настороже... Когда он неожиданно останавливался около станка, я знал, что все это хорошо отрепетировано заранее. Всегда рядом оказывалась симпатичная, слегка взволнованная девушка-механик... Или старый рабочий с натруженными мозолистыми ладонями, потемневшими от машинного масла...
Не то чтобы заводы были ненастоящими... Но все происходящее при прибытии гостя было тщательно подготовленной показухой... Столько времени тратить на мойку, доставку новых растений в кадках для кабинета директора и заводской столовой; развешивание на стенах новых плакатов и лозунгов ... Завод и конторские помещения должны быть вымыты и выметены, иногда перекрашены. Маршрут посещения всегда тщательно разработан так, чтобы за нарядной косметикой нельзя было разглядеть устаревшие или мрачные цеха. Рабочие проинструктированы о том, что говорить (и, что более важно, чего не говорить), а с теми, у кого должны брать интервью, проводят тщательные репетиции. Остальных строго предупреждают, чтобы не
Позже в оккупированной вьетнамцами Камбодже, «по словам беженцев, днем вьетнамцы в качестве гуманитарной помощи раздают рис „в присутствии работников международных организаций, а затем, когда сотрудники уходят“, отбирают этот рис или заменяют его на пшеницу».116
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
511
заговаривали с иностранцем (обычно ненужная предосторожность, так как последний, вероятно не знает русского). Тем, кто владеет английским, французским или немецким, напоминают, что если заметят, как они заговорят с иностранцем на одном из этих языков, последствия будут весьма серьезными...
В сущности, принципы посещения советской фабрики были заложены еще 200 лет назад графом Потемкиным.118
Хотя при посещении такого завода участниками спектакля обычно были настоящие заводские рабочие (правда, проинструктированные не раскрывать рта или наученные, что говорить), имелось по крайней мере несколько сообщений о случаях, когда ради иностранцев сотрудники учреждения или жители области были заменены другими. Один из таких случаев уже упоминался, а именно: удаление или замена некоторых заключенных в районе Магадана на охранников или конторских служащих, чтобы произвести благоприятное впечатление на Генри Уоллеса и сопровождающих его лиц. Аналогичный случай был организован и заснят для Эндрю Смита и других иностранных рабочих, которые должны были встретиться в колхозах с немцами Поволжья. Оказалось, что «немецкие» рабочие колхоза имени Энгельса (предположительно, часть немецкой колонии в районе Волги) «говорили только на ломаном немецком, причем у некоторых немецкий явно напоминал идиш. Они были одеты слишком хорошо для сельскохозяйственных рабочих и щеголяли в основном в спортивной одежде...». Кроме того, они не были знакомы с немецкими мелодиями и танцами. Позже Смит узнал: «Вся группа, состоящая из ударников и пропагандистов, была прислана для нас из Самары, в то время как реальных колонистов держали от нас на безопасном расстоянии...».119 Хотя этот случай кажется нетипичным, дальнейшее развитие техники гостеприимства создает условия для постановки таких презентаций (или организаций «случайных» встреч) на поток и для формирования групп и индивидуумов, исполняющих конкретные социальные роли и специализирующихся на донесении до гостей определенной политической информации.* Подходящим случаем был «перековавшийся» капиталист в Китае. Роберт Ло описывает эту технику в ее проявлении:
Идя навстречу пожеланиям заграничных «друзей» встретиться с частными китайскими предпринимателями, комитет по приему предусмотрел, чтобы гости смогли посетить человека любого жизненного уклада... Эти образцовые дома ученых, заводских рабочих, крестьян и капиталистов являлись витринами социализма...
* Советский вклад в так называемую Программу обмена (со штаб-квартирой в Нью-Йорке), состоял из таких групп и индивидуумов. Эта программа предусматривала встречи типичных советских и американских семей, этаких срезов каждого общества. С советской стороны этим занималось правительство, в то время как работа с американской стороны зависела от добровольцев, от интереса отдельных граждан к советскому обществу и их готовности нести расходы. Для советских же участников интерес к США сам по себе являлся наименее значимым фактором.
512
Пол Холланлер
В это время за границей возник особый интерес к тому, как в Китае относятся к бывшим капиталистам. В ответ на проявленный интерес «Коммунистическая партия выбрала примерно полдюжины крупных капиталистов или директоров больших предприятий, призванных служить типичными примерами „образцовых“ капиталистов, добровольно передавших свои предприятия социалистическому режиму». У тех, кого выбрали, было все необходимое, включая особняки и слуг, для того чтобы произвести впечатление на заинтересованных иностранных гостей. Ло так описывает типичный визит:
В пять часов пополудни в сопровождении обычной молоденькой коммунистической переврдчицы с косичками прибыли [в Пекин, к дому некоего семейства Чен] две французские четы. Когда гостей встретили и провели в гостиную, они не смогли скрыть изумление при виде роскоши, в которой жили эти экс-капиталисты. Через французское окно можно было видеть большой сад, утопающий в цветах. Аккуратно одетая гувернантка катила через лужайку коляску с ребенком, а рядом резвились две собаки. В соседней комнате старшая дочь играла на фортепьяно. Все казалось настолько мирным и естественным, что никто не мог даже заподозрить, что каждая из этих деталей была тщательно распланирована и отрепетирована... По просьбе гостей хозяева показали дом. В огромном гараже стояло три автомобиля: «зингер», «бьюик» и «мерседес-бенц». В действительности два из этих автомобилей были заимствованы для такого случая. Французы увидели на кухне два гигантских холодильника фирмы «Филко», в одной из комнат было второе фортепьяно. В кабинете стояли прекрасные книги... На стене в детской висел крест (чтобы показать, что существует и религиозная свобода...).
После осмотра всех комнат и выражения истинного восхищения гости сидели на балконе, попивая коктейли. Они спросили у хозяина: «Господин Чен, как случилось, что такой крупный капиталист, как вы, счел возможным поддержать коммунизм и легко отказался от всей собственности в пользу государства?»
Я уже больше десятка раз слышал этот вопрос посетителей и ответ господина Чена. Он многократно его репетировал, и его игра была само совершенство. Он придал лицу серьезное выражение, на мгновение сделал паузу, как если бы хотел собраться с мыслями, и медленно ответил: «Когда коммунисты впервые заняли Шанхай, мы очень испугались...».
Последовавший длинный рассказ оставил у двух французских предпринимателей хорошее впечатление. «Затем последовал банкет и [они], полностью покоренные, пожали руку господину Чену со словами: „Если французские коммунисты разделяют политику китайских коммунистов, то мы ничего не имеем против“. На следующий день эта фраза появилась во всех газетах».120
Такой же «перековавшийся» капиталист был показан Жаку Эберу и Пьеру Трюдо. Он был бывшим владельцем, а ныне управляющим текстильной фабрикой и при этом «культурным, приятным и умным человеком». Он тоже объяснил выгоды, проистекающие из его положения, и выказал глубокую лояльность к системе. Позже путем проверки писатели выяснили, что «он был тем же самым человеком, который несколькими годами ранее тем же тоном рассказал ту же самую историю другим путешественникам». Очевидно, он был тем же человеком (или его двойником), который был представлен группе, куда входила Колетт Модиано: он жил в доме, оборудованном аналогично описанному
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
513
Робертом Л о, владел автомобилем «ягуар» и держал на службе «двух горничных в белых передниках». В свою очередь, лорд Бойд Орр и его жена повстречались с таким бывшим капиталистом в Летнем дворце. (Они «случайно встретились со пожилым джентльменом», который пригласил их на семейный чай.) Лорд был «заинтригован» встречей и нашел «ленч... превосходным». Даже жена этого бывшего капиталиста «бегло говорила по-английски», а в штат домашней прислуги входил повар с двумя помощниками. «Откровенность» хозяина (который, тем не менее, поддерживал правительство) поразила лорда Бойда Орра. Коммунистический режим во Вьетнаме также иногда демонстрировал гостям привилегированного образцового капиталиста. Например, американскому телерепортеру один капиталист (владелец ковровой фабрики) через переводчика рассказал, что все еще живет в большом особняке (был продемонстрирован), владеет двумя автомобилями, телевизором и имеет счет в банке.121
Такие образцы были созданы не только для верхнего социального слоя. Профессор Дж. М. Монтиас, экономист из Йеля, сообщил, что при посещении Общества китайско-албанской дружбы (около Пекина) его группу «провели в крестьянский дом (Это крестьянское семейство, как я узнал после нашего возвращения в Йель, было тем же самым, о котором рассказывал Томас Бернстайн из Йеля после посещения этой коммуны прошлым летом.)».122
Та же управляемая спонтанность характерна и для посещения учреждений. Фрэнк Туохи писал:
На ступенях мавзолея Сунь Ятсена мы столкнулись с группой студентов, говорящих по-английски. Они были из Нанкинского университета, который мы посетили вчера. «Мы все утро прождали в спальнях, но вы так и не зашли». Это было первым прямым свидетельством того, что наши визиты продуманы до мелочей — от «дискуссий» с вопросами и ответами, записываемыми тихим, невыразительным человеком, сидящим в углу, до уроков английского... В Нанкине читальная комната была открыта и пуста. Имелся замечательный выбор иностранных журналов. По случайности на обложке «Encounter» красовалось мое имя.123
Питер Кенез также почувствовал, что он и его группа «видели слишком мало того, что не было специально подготовлено и организовано для нас. Например, в шанхайском дворце пионеров мы вынуждены были двигаться довольно быстро, за нами следовала другая группа иностранцев, с которой мы постоянно сталкивались в коридорах. Дети нисколько не робели; я подозреваю, что они видели больше иностранцев, чем я китайских детей. Ради нас были организованы „сюрпризы“. Мы посетили коммуну около Сианя, и хозяева любезно пригласили нас на ленч, разделив на группы по четыре человека и проводив в дома. Позже выяснялось, что в каждом доме угощали изысканными, но одинаковыми ку¬
514
Пол Холландер
шаньями». Можно подозревать, что подобная спонтанность имела место и в случае, когда в новостройках лорд Бойд Орр спросил своего «услужливого господина Ли»: «Можем ли мы осмотреть одно из зданий?». «Какое желаете, — предложил тот. — Выбирайте!» Мы выбрали ближайшее и вошли, а квартиранты открыли двери и вышли, чтобы поприветствовать нас».124
Другим интересным объектом был пекинский железнодорожный вокзал, который произвел такое неизгладимое впечатление на Феликса Грина и других гостей. Жак Маркюз имел возможность обсудить этот вопрос с самим Грином:
Я беседовал об отношении к нему как к очень важной персоне во время его последней поездки и о его описании нового пекинского железнодорожного вокзала. Я рискнул предположить, что его доброй волей воспользовались, и все написанное о вокзале является полным вздором: о привокзальном ресторане, который открыт круглые сутки, о билетах, которые можно заказать по телефону и быстро получить с посыльным, о комнатах отдыха с телевизорами и «двух детских комнатах, где матери могут оставить своих детей под присмотром молодых квалифицированных медсестер». Он добавил: «В одной из детских комнат я увидел целые ряды малышей, крепко спящих в своих кроватках».
На пекинском вокзале... была только одна детская комната. Там все было на уровне, бессмысленно отрицать, — через стеклянные двери можно было легко заглянуть внутрь. Но никто не мог туда войти. За все время моего пребывания в Пекине, в течение которого я специально заходил на этот вокзал по крайней мере раз или два раза в неделю... я никогда не видел, что комната используется. Ее двери всегда были закрыты на висячий замок...
Когда я рассказал об этом Феликсу Грину, он не мог поверить. Другие, кто при этом присутствовал и бывал в Китае, поддержали меня. Я спросил Грина, заходил ли он на этот вокзал еще раз, и он ответил, что нет. Я напомнил ему, сославшись на его собственную книгу, что посещение им вокзала было заранее запланировано, и его приветствовал сам заместитель начальника вокзала. Я напомнил ему, что китайцы являются мастерами театральных постановок, но он не очень-то желал об этом слушать.
После той встречи я его больше не видел, кроме как на расстоянии, например, когда он снимал Ван Фучинг, где было закрыто все движение и работали дождевальные установки, чего в дневное время никогда не наблюдалось.125
Уже позже американская телевизионная группа в Шанхае вспоминала, что «на большой открытой площади, заполненной пешеходами и велосипедистами... в считанные минуты мы поставили треногу, установили камеру, подстроили звук, навели резкость и — площадь оказалась пустой».126
Можно отметить, что в этом разделе не было никаких примеров «реконструкции действительности» на Кубе. Это можно объяснить двумя причинами. Возможно, я недостаточно хорошо провел поиск соответствующих источников и поэтому пропустил описание таких эпизодов. Кроме того, возможно, что кубинские власти не пользовались такими методами, имея за спиной более существенные успехи и более объективные достижения, которые не стыдно было показывать. В то же время может иметься более опосредованная связь между долговечностью режима Кастро (и связанного с этим предположения о сохранении его революционного духа) и скудностью
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
515
информации о его потемкинских деревнях. Сама длительность пребывания у власти, возможно, сдерживает явное выражение разочарования — со стороны как граждан, так и иностранных поклонников — которое обычно наступает за нарушением непрерывности (и легитимности) власти и приводит к неприятным выводам относительно функционировании политической системы, что заставляет власти заниматься пропагандой среди иностранных гостей.
Все, что ранее говорилось относительно принятия интеллектуалами в штыки идеи, будто ими можно управлять и будто их можно обмануть, особенно применимо к технике, которая описана в этом разделе. Для тех, кто гордится своей способностью видеть насквозь, беспощадно критиковать, обличать и бороться с предрассудками, очень трудно допустить, что бывают ситуации, когда все эти таланты бессильны.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Hicks, «Lincoln Steffens», р. 152.
2. Andre Gide, Afterthoughts on the USSR, New York, 1938, p. 60.
3. Salisbury, To Peking, p. 17.
4. Enzensberger, «Tourists of the Revolution», p. 152.
5. Новое определение тоталитаризма, предложенное Баррингтоном Муром младшим, включает в основном позицию, которую другие авторы все чаще считают устаревшей, как недостаточно научную: «Тоталитарное общество — это общество, где правящая элита контролирует средства принуждения и убеждения во имя каких-то идеалов, использует полицию и пропаганду для подавления инакомыслящих и сведения к минимуму свободного социального и культурного пространства» (Barrington Moore, Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt, White Plains, N.Y., 1978, p. 483).
6. Cm.: Passin, China's Cultural Diplomacy; см. также: Hebert and Trudeau, Two Innocents, p. 65-66. Ричард Л. Уолкер отмечал, что китайский режим при Мао «применял те же методы, что были разработаны советскими коммунистами за сорок лет до того» (Richard L. Walker, «Guided Tourism in China», Problems of Communism, September-October 1957, p. 31). Кот отмечал, что для кубинского режима «туризм служил, главным образом, для пропаганды. Они считают, что у них есть что показать и они хотят это показать» (Caute, Cuba, Yes?, р. 48).
7. Emma Goldman, My Disillusionment in Russia, New York, 1970, p. 59; Виктор Серж цит. no: Enzensberger, «Tourists of the Revolution», p. 137.
8. На Роя Инниса, афроамериканского активиста, и некоторых афроамериканских журналистов, равно как и на преподобного Ральфа Уилкинсона, калифорнийского евангелиста, произвело впечатление их путешествие в Уганду (см.: Jack Anderson, «Amin’s Newest Ploys», Daily Hampshire Gazette, July 26, 1978, p. 6; Henry Kamm, «Pol Pot Living in Jungle Luxury In Midst of Deprived Cambodia», New York Times, March 4, 1980; «Andrew Young’s Wrong Algerian Tour» (correspondence), New York Times, February 21, 1980).
9. Galbraith, China Passage, p. 54.
10. Bronfenbrenner, «From Another Planet», p. 1; Macciocchi, Daily Life, p. 305; «Computing in China: A Travel Report», EARC Files, July 1972, p. 2; William W. Howells, «А Visit to China», News About Peabody Museum, Autumn 1975; Pares, Moscow Admits a Critic, p. 27.
11. Sontag, Trip to Hanoi, p. 72.
12. Ibid., p. 33; McCarthy, Hanoi, p. 14; Salkey, Havana Journal, p. 25.
13. Schell, «Friend of China», p. 10. Кубинский переводчик Дэвида Кота воспринимал его критику как вероломную неблагодарность в ответ на проявленное гостеприимство (Caute, Cuba, Yes?, р. 161).
516
Пол Холланлвр
14. James Reston, «Now, About My Operation in Peking», New York Times, July 26, 1971, p. 6. Реакция Дэниеля Берригана на прикомандирование доктора к его группе в Северном Вьетнаме была аналогичной: «Это было еще одним проявлением неизвестно чьей доброты, которую мы испытали во время этой долгой недели всеобщей обходительности и открытий» (Berrigan, Night Flight to Hanoi, p. 109-110).
15. Webb, Soviet Communism, p. x; Sontag, Trip to Hanoi, p. 6; Berrigan, Night Flight to Hanoi, p. 78-79, 86, 111; Ashmore and Baggs, Mission to Hanoi; Feuchtwanger, Moscow 1937, p. 147.
16. Huxley, Scientist, p. 72; Margulies, Pilgrimage to Russia, p. 116; см. также: Walker, «Guided Tourism in China», p. 34.
17. Karnow, «China Through Rose-Tinted Glasses», p. 76. См. также: Accuracy in Media Report, Washington, D.C., January 11, 1979, p. 3.
18. Galbraith, China Passage, p. 104.
19. Galston, Daily Life, p. 8.
20. Caute, Cuba, Yes?, p. 121.
21. Barghoorn, Soviet Cultural Offensive, p. 127. Более подробно это влияние лести освещено в: Sperber, Man and His Deeds, p. 9; Margulies, Pilgrimages to Russia, p. 89.
22. White, «Americans in Soviet Russia», p. 173.
23. Shaw, Rationalization of Russia, p. 16, 17, 19.
24. Beauvoir, Long March, p. 12; McCarthy, Hanoi, p. 4.
25. Lynd and Hayden, Other Side, p. 57; Ashmore and Baggs, Mission to Hanoi, p. 14; Berrigan, Night Flight to Hanoi, p. 38, 134.
26. Levinson and Brightman, Venceremos Brigade, p. 74-75, 90.
27. Cardenal, In Cuba, p. 2.
28. Boyd Orr and Townsend, What Is Happening, p. 32.
29. Galston, Daily Life, p. 32, 13.
30. Frank Tuohy, «From a China Diary», Encounter, December 1966, p. 8.
31. Strong, Letters from China, № 21-30, p. 2-3.
32. Leys, Chinese Shadows, p. 185-186; Loh, «Setting the Stage for Foreigners»,
p. 80-81.
33. Barbara Tuchman, Notes From China, New York, 1972, p. 58-59, 62.
34. Leys, Chinese Shadows, p. 21.
35. Tuchman, Notes From China, p. 61-62.
36. Galbraith, China Passage, p. 32, 29, 53; Milton and Milton, Wind Will Not Subside, p. 10.
37. Реакция Джонатана Козола на предложение министра образования Кубы посетить школы является хорошей иллюстрацией этого. «Я не сразу поверил, что меня будут сопровождать, — и кто! — человек, работа которого состоит именно в том, чтобы обеспечивать нормальную работу кубинских школ. Иными словами, меня должен был сопровождать один из трех или четырех подлинных лидеров кубинской революции» (Kozol, Children of the Revolution, p. 130-131).
38. Эрнесто Карденаль также встречался с Кастро и обсуждал с ним общие моменты в христианстве и в том варианте марксизма, который был принят на Кубе (Cardenal, In Cuba, р. 326-327). Об умении Кастро очаровывать женщин и бизнесменов см.: «Castro Regales New Englanders», New York Times, October 28, 1977, p. 2; «Castro Dazzles Visitors», Daily Hampshire Gazette, October 31, 1977 (оба сообщения «Associated Press»). Ранее в 1977 г. Кастро очаровал госпожу Хемингуэй. «Кастро так похож на Эрнеста — борода, посадка головы, рост... Мне нравятся именно такие мужчины» (АР, Daily Hampshire Gazette, July 19, 1977).
39. Simone Signoret, Nostalgia Is Not What It Used to Be, New York, 1978, p. 166-169; Beauvoir, All Said and Done, p. 290. Роберт Фрост также встречался с Хрущевым. (F. D. Reeve, Robert Frost in Russia, Boston, 1963, p. 110).
40. Koestler in Crossman, God that Failed, p. 58; Feuchtwanger, Moscow 1937, p. 15-16, 17. Во время визита Фроста в СССР «его стихи практически ежедневно печатались в [советских] газетах» (Reeve cited, р. 30).
41. Margulies, Pilgrimage to Russia, p. 86-87, 88.
42. Cardenal, In Cuba, p. 76; Frank, Prophetic Island, p. 1. О публикации книги Паренти сообщалось в: Fox Butterfield, «Peking Surveys Students and Find They Lack Zeal for Communism*, New York Times, May 6, 1979. О занятии Карденалем поста министра культуры Никарагуа сообщалось в: New York Times, August 1, 1980, p. 2.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
517
43. Edwards, Persona Non Grata, p. 210-211.
44. Beauvoir, Long March, p. 16, 17.
45. Boyd Orr and Townsend, What Is Happening, p. 34; Galbraith, China Passage, p. 76, 85.
46. Loh, «Setting the Stage», p. 81.
47. Sartre, Sartre on Cuba, p. 7; Davis, Autobiography, p. 203; McCarthy, Hanoi, p. 13-14.
48. Gliksman, Tell the West, p. 163-64.
49. Beauvoir, Long March, p. 16; Tuchman, Notes from China, p. 57-58.
50. Worsley, Inside China, p. 62; Lamont, Russia Day by Day, p. 24, 25; Signorét, Nostalgia, p. 163. Уже в 1931 г. Уильям Уайт писал: «Советы предоставляют новенькие „роллс-ройсы“ и дорогие американские автомобили в распоряжение иностранцев...» («Americans in Soviet Russia», p. 175).
51. Newton, «Sanctuary in Cuba?», p. 27; Robert Trumbull, «Newton Plans to Resume Control of Black Panthers», New York Times, June 28, 1977.
52. Hebert and Trudeau, Two Innocents, p. 34; Greene, China, p. 21. Лорд Бойд Opp и Питер Таунсенд также весьма высоко отзывались о китайских поездах: «В ночном экспрессе „Пекин-Нанкин“ было тепло и уютно. Поезд не успел покинуть Тяньцин, как мы уже стали засыпать...» (Boyd Orr and Townsend, What Is Happening, p. 109).
53. Margulies, Pilgrimage to Russia, p. 94, 95; Frank, Dawn in Russia, p. 120; Lamont, Russia Day by Day, p. 238.
54. Signorét, Nostalgia, p. 186-187; White, «Americans in Soviet Russia», p. 171. Когда Драйзеру стало нехорошо, помощь стали искать у сотрудников ОГПУ. См.: Kennell, Dreiser and the Soviet Union, p. 150.
55. Boyd Orr and Townsend, What Is Happening, p. 34, 35.
56. «Report by the Delegation of American Association of State Colleges and Universities», p. 1.
57. Salisbury, To Peking, p. 41, 255-256, 284.
58. Galbraith, China Passage, p. 40, 55, 60, 61, 75, 101.
59. Bronfenbrenner, «From Another Planet», p. 2; Concerned Asian Scholars, China!, p. 158, 160.
60. Leys, Chinese Shadows, p. 75.
61. Terrill, 800 Million, p. 116; Berrigan, Night Flight to Hanoi, p. 100, 108, 132; Janos Radvanyi, Delusion and Reality, South Bend, Ind., 1978, p. 16.
62. McCarthy, Hanoi, p. 60, 35. Sontag, Trip to Hanoi, p. 33.
63. Salkey, Havana Journal, p. 195, 218; Cardenal, In Cuba, p. 4; Edwards, Persona Non Grata, p. 188.
64. Frances Fitzgerald, «А Reporter at Large: Slightly Exaggerated Enthusiasm», in Radosh, ed., New Cuba, p. 144; а также в: New Yorker, February 18, 1974, p. 41. Другой пример подобной техники (агрессивной) гостеприимства см. в: Victor Franco, Morning After, p. 29.
65. Цит. no: Radosh, ed., New Cuba, p. 201-202. Желая угодить зарубежным гостям, устроители совещания неприсоединившихся стран, происходившего в 1979 г. в Гаване, подготовили к их приезду множество советских машин и 115 новых «мерседесов» (Flora Lewis, «Havana Parley: Long on Oratory», New York Times, September 5, 1979).
66. Kamm, «Pol Pot».
67. Margulies, Pilgrimage to Russia, p. 84; White, «Americans in Soviet Russia», p. 174; Haldane, Truth Will Out, p. 42, 215.
68. Gide, Afterthoughts, p. 60-61.
69. Newton, «Sanctuary in Cuba?», p. 28; White, «Americans in Soviet Russia», p. 173.
70. Margulies, Pilgrimage to Russia, p. 84; Berrigan, Night Flight to Hanoi, p. 40, 46; Lynd and Hayden, Other Side, p. 64, 67; Sontag, Trip to Hanoi, p. 6; Salkey, Havana Journal, p. 210.
71. Reckord, Does Fidel Eat More, p. 45-46.
72. Edwards, Persona Non Grata, p. 198.
73. Caute, Cuba, Yes?, p. 49. Более свежий список стандартных кубинских демонстрационных объектов представлен в: John Womack, Jr., «The Regime Tightens Its Belt», New Republic, May 31, 1980, p. 20.
74. Sartre, Sartre on Cuba, p. 120.
518
Пол Холланлвр
75. Kozol, Children of the Revolution, p. 44. Козолу была показана также «школа кентских мучеников», названная так в честь четырех американских студентов, убитых национальной гвардией во время демонстрации в конце 1960-х гг. Козол пишет, что «Фидель в последний момент поддался уговорам учеников и преподавателей назвать так первую новую сельскую школу в знак уважения к тем американцам, которые боролись за прекращение войны во Вьетнаме» (р. 164).
76. Berrigan, Night Flight to Hanoi, p. 46.
77. Concerned Asian Scholars, China!, p. 21.
78. Beauvoir, Long March, p. 20-21.
79. Marcuse, Peking Papers, p. 9; см. также: Walker, «Guided Tourism in China», p. 34. Обсуждение этих же техник в советском контексте дано в: Margulies, Pilgrimage to Russia, p. 123-124.
80. Sontag, Trip to Hanoi, p. 12.
81. Enzensberger, «Tourists of the Revolution», p. 135-136.
82. Galston, Daily Life, p. 6; Radosh, ed., New Cuba, p. 66; Luttwak, «Seeing China Plain», p. 29. О других свидетельствах техники гостеприимства на Кубе см.: Marjorie Hunter, «А Programmed Look at Cuba: Fascinating and Frustrating», New York Times, February 26, 1978.
83. Marcuse, Peking Papers, p. 118.
84. Loh, «Setting the Stage», p. 80. Для взгляда изнутри на политические функции и работу советских переводчиков в конце 1920-х и в начале 1930-х гг. см.: Тамара Солоневич, Записки советской переводчицы. София, 1937.
85. Beauvoir, Long March, р. 26. Шпербер расценил ее комментарии по поводу этого переводчика, как пример «решительного самообмана» (Sperber, Man and his Deeds, p. 3-4). Kozol, Children of the Revolution, p. xviii; Boyd Orr and Townsend, What Is Happening, p. 149; Mitford, Fine Old Conflict, p. 241.
86. Loh, «Setting the Stage», p. 84.
87. Leys, Chinese Shadows, p. 168, Koestler in Crossman, God that Failed, p. 60.
88. McCarthy, Hanoi, p. 7-8.
89. Marcuse, Peking Papers, p. 204.
90. Andrew Smith, I Was a Soviet Worker, New York, 1936, p. 146.
91. McCarthy, Hanoi, p. 6, 124.
92. Roy, Journey Through China, p. 282.
93. Ibid, p. 242. Пожилые и плохо одетые также были скрыты от съемочной бригады Антониони (см.: John J. O’Connor, «Whose China Is Nearer the Truth?», New York Times, January 28, 1973).
94. Kennell, Dreiser and the Soviet Union, p. 81, 82, 88, 107.
95. Modiano, Twenty Snobs and Mao, p. 155.
96. Margulies, Pilgrimage to Russia, p. 142-144.
97. Samuel N. Harper, The Russia I Believe In: Memoirs, ed. Paul V. Harper, Chicago, 1945, p. 176, 209, 213.
98. Andrei Grigorenko, «In Time of Trouble: The Life of P. G. Grigorenko’s Family During his Persecution», in The Grigorenko Papers: Writings by General P. G. Grigorenko and Documents on his Case, Boulder, Colo., 1976. Части, упомянутые в книге «В круге первом» Солженицына, охватывают некоторые из наиболее ярких и комичных эпизодов по реконструкции реальности, проведенной в тюрьме ради американских визитеров.
99. Caute, Cuba, Yes?, р. 50, 155.
100. Gail Gregg and A. O. Sulzberger, «The Long Way Home», New York Times Magazine, July 1, 1979, p. 26. Smith, Soviet Worker, p. 35 (150, 151 — где описывается аналогичный эпизод).
101. Kenez, «Sense of Deja Vu», p. 8; Roy, Journey Through China, p. 120.
102. Даже некоторые из визитеров знали о связях гидов с политической полицией; см., например: Waldo Frank, Dawn in Russia, p. 63.
103. Fitzgerald, New Yorker, February 18, 1974, p. 41.
104. Leys, Chinese Shadows, 1977, p. 19. Американский эксперт по китайскому законодательству Джером Алан Коэн писал, что китайский гражданин отказался даже сообщить ему название супа в ресторане, когда Коэн, бывший без гида, попытался завести беседу (Jerome Alan Cohen, «Up Against the Great Wall», Pacific/The Traveler’s Magazine 4, № 4 (1975): 22.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
519
105. Kenez, «Travel Notes from China», mimeographed, p. 11; Kenez, «Sense of Deja Vu», p. 9. Frank Ching, «For Some U.S. Chinese in China, the Best of Everything is a Bit Much», New York Times, August 18, 1973.
106. Enzensberger, «Tourists of the Revolution», p. 110.
107. Salkey, Havana Journal, p. 42-43. Fitzgerald, New Yorker, February 18, 1974, p. 41. Джессике Митфорд также препятствовали в ее попытках осуществления «неподготовленных контактов» с местными жителями в Венгрии (Jessica Mitford, Fine Old Conflict, p. 244).
108. Margulies, Pilgrimage to Russia, p. 124, 127, 129.
109. Ching, «U.S. Chinese in China».
110. Harrison E. Salisbury, «Student Visitors Learn That In China Boy Meets Girl Shoulder-to-Shoulder», New York Times, June 26, 1976.
111. Salisbury, To Peking, p. 192.
112. Anthony Austin, «U.S. Tourists’ View: Impressive but Grim», New York Times, July 23, 1980, p B-9; «The Potemkin Olympics», New York Times, July 17, 1980.
113. Margulies, Pilgrimage to Russia, p. 155.
114. Lev Navrozov, The Education of Lev Navrozov, New York, 1975, p. 519.
115. Craig R. Whitney, «For Olympics, Deprived Moscow Gets Taste of Consumer Paradise», New York Times, July 17, 1980, p. 5; «Potemkin Olympics».
116. Jack Anderson, «Viets Take Rescue Food of Victims», Daily Hampshire Gazette, April 4, 1980.
117. Smith, Soviet Worker, p. 19-20, 31-32, 74-78; смотри также еще один пример обмана, связанного с жильем (р. 21). Разговору между советским рабочим и иностранными делегатами (о котором написано выше) по поводу зарплаты соответствовал китайский вариант в рассказе Бойда Орра и Таунсенда, когда они интересовались доходами рабочих на строительстве резервуара: «Те, у кого мы спрашивали „о зарплате“, говорили, что получают достаточно...» (Boyd Orr and Townsend, What Is Happening, p. 104).
118. Salisbury, To Peking, p. 101. Реконструкция действительности была ощутима также во время его короткого визита в Северную Корею: «Мои посещения часто напоминали нечто в стиле старой комедии о кейстонском полицейском, но поставленной по очень плохому сценарию: сотрудники службы безопасности рыщут по всем углам и подготавливают рабочих в следующем цехе к приему посетителей... заводы, где размещены поспешно выполненные плакаты для того, чтобы американские гости получили оптимальную дозу антиамериканской пропаганды, и где немногочисленные группы рабочих (часто полностью состоящие из полицейских, срочно переодетых в новенькие рабочие комбинезоны) подходят к гостям, чтобы попрекнуть их грехами американского империализма» (р. 202).
119. Smith, Soviet Worker, р. 183, 184, 186.
120. Loh, «Setting the Stage», p. 82, 83, 84.
121. Hebert and Trudeau, Two Innocents, p. 99, 100; Modiano, Twenty Snobs and Mao, p. 154-158; Boyd Orr and Townsend, What Is Happening, p. 141-142. Сравни: «Vietnam: Picking Up the Pieces», Public Television, Hartford, Conn., April 11, 1978, 9 p. m.
122. J. M. Montias, «Travel Notes From China», mimeographed (1973), p. 54.
123. Tuohy, «China Diary», p. 10. Реконструкция действительности в Китае была недавно темой двух коротких рассказов, в одном из которых описывается внезапное прибытие на местный рынок необычно большого количества продовольствия «не для продажи» по случаю прибытия на этот рынок иностранцев; другой рассказ связан с требованием партийных функционеров, чтобы жители города, в который приедут американские журналисты, убрали не только веревки для белья, но и все устройства для их крепления. См.: «The Big Fish» and «Nixon’s Press Corps» in Chen, Execution of Mayor Yin.
124. Kenez, «Sense of Deja Vu», p. 8; Boyd Orr and Townsend, What Is Happening, p. 133.
125. Marcuse, Peking Papers, p. 106-107.
126. Irv Drasnin, «The Welcome Mat Was Slippery», TV Guide, November 12, 1977, p. 14.
520
Пол Холланлвр
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ, ОТЧУЖДЕНИИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ
...Общество... прежде всего является представлением, которое оно формирует о самом себе.
Эмиль Дюркгейм1
Благодаря этим обещаниям возрождения... социализм становится верой религиозного характера... До сих пор человек не может жить без объектов поклонения. Часто их сметают с трона, но этот трон никогда не остается пустым... Человек обладает замечательной способностью подгонять факты так, чтобы они лучше соответствовали его желаниям... в результате чего мы видим мир таким, каким хощим его видеть. Каждый в меру своих мечтаний, амбиций и надежд находит в социализме то, что основатели этой новой веры никогда и не собирались в него вкладывать... Он — сумма всех таких мечтаний, всех таких недовольств, всех таких надежд, которые наделяют новую веру несокрушимой силой.
Густав Лебон2
Мистер Гарри все еще рассуждает по поводу порядков [в Джонстауне]. Он сказал, что сидящий в нем социалист был глубоко тронут при виде людей, которые работают вместе, причем каждый имеет свою долю. Это значит, были джунгли. Обилие плодов. Спокойные ночи. Счастье. Он воспринимал все именно так. «Нью-Йорк Таймс»»
Я не верю критике социалистических стран, представляющей дело так, что в них могут нарушаться права человека.
Уильям Кюнстлер4
...Интеллектуал в свою защиту никогда не скажет, что был обманут, поскольку, будучи интеллектуалом, он просто не допускает, что с ним такое может произойти.
Грэнвил Хикс6
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
521
ТРИ ИСТОЧНИКА ОТЧУЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ КРИТИКИ
Поскольку для объяснения политических паломничеств и всего диапазона отношений, связанных с социальной ролью интеллектуалов, концепция отчуждения является важнейшей, нам не обойтись без заключительного обзора ее источников. Хотя ранее (и мы к этому еще вернемся) больше внимания уделялось прямым конкретным историческим предпосылкам, ведущим к неприятию общества, в этой главе я хочу рассмотреть некоторые более широкие социальные, культурные и исторические условия, которые вызывают отчуждение уже в наше время. Это те же самые условия, что порождают политических паломников и достаточное количество сочувствующих им интеллектуалов (или квазиинтеллектуалов), которые формируют соответствующую субкультуру и отзывчивую аудиторию.
Мы можем начать с напоминания о традиционной социальной роли интеллектуалов в западных обществах или, что ближе к истине, о том, в чем интеллектуалы видели свою социальную роль. На протяжении ста лет и более известные западные интеллектуалы считали себя сторонними наблюдателями и критиками (особенно в США), поскольку были обойдены признанием, наградами и лишены власти. Хотя объективные социальные условия значительно изменились — что ставит под сомнение справедливость такой самооценки — в результате увеличения числа людей с высшим образованием, развития средств массовой информации и повышения доверия правительства к способностям самих интеллектуалов, восприятие своей роли в обществе и соответствующее отношение к нему оказались довольно стойкими. Однако «от ощущения своей отверженности и невостребованности интеллектуалы перешли... к убежденности в своей незаменимости... полностью совместимой с враждебностью к тем, кто, по-видимому, отрицал права, которые обусловлены этой незаменимостью».6
522
Пол Холландер
Во-вторых, интеллектуалы, подобно остальной части населения западных стран, испытали психологические трудности, приспосабливаясь к жизни в крупных, сложных, неустойчивых и бюрократизированных городских общественных образованиях, где возрос уровень социальной изоляции и обезличения и где составляющие их сообщества как функциональные социальные единицы стали распадаться. Очевидно, такие явления, как изоляция, обезличивание и ослабление социальных связей, особенно сильно ощущались именно интеллектуалами. Причины этого могут лежать в их большей мобильности, более высоких ожиданиях (частично основанных на их высоком образовании и профессиональной вовлеченности в духовную жизнь) и, возможно, в индивидуальности тех, кого привлекает роль интеллектуалов.* Среди таких личностных характеристик можно назвать склонность к некоторым формам абстрактного мышления, идеализм, защиту социальной справедливости, отрицание традиций, стремление к разоблачениям или критический настрой, желание творческой самореализации в меру своей профессии, высокий уровень личных устремлений, или, в общем, ожидания, связанные с нематериальными целями.
В-третьих, в последние десятилетия на западные общества и, в частности, на западных интеллектуалов все сильнее воздействовал процесс секуляризации. Несколько неожиданно интеллектуалы оказались среди тех, кто был менее всего способен без боли смотреть в лицо миру, который «покинут богами». Многие из них место религиозных убеждений и утешения заполнили преходящими политическими надеждами и убеждениями.7 Как заметил Уильям Корнхаусер: «Те, кто живет ради символов и в мире символов, — интеллектуалы — наименее способны перенести отсутствие символов...».8
Хотя процесс секуляризации начался столетия назад, не исключено, что наиболее разрушительные его результаты проявились именно в последние десятилетия, когда утратили значение ценности, которые ранее делали жизнь более или менее приемлемой или исполненной значения.9 Такие процессы хорошо заметны и во времена экономических трудностей, и в периоды длительного процветания. В первом случае не оказалось в запасе никаких идеологических или философских амортизаторов, помогающих согласиться с существованием трудностей или логически обосновать
* Я не пытался найти ответ на вопрос, почему и как некоторые люди становятся интеллектуалами и выделяют себя из других социальных групп по специфическим потребностям, стремлениям и неудовлетворенности. Ответ на вопрос о том, кто становится интеллектуалом, потребовал бы отдельного и не менее продолжительного исследования.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
523
их. Во втором же удовлетворение наиболее неотложных материальных потребностей и достижение физической безопасности открыло новые возможности для того, чтобы задаться вопросом о смысле и бессмысленности жизни, но уже без необходимости борьбы за хлеб насущный и без привычных мифов, придававших силы индивиду.
В-четвертых, вклад в отчуждение внесло также относительно привилегированное положение и праздность многих интеллектуалов. Систематическое разжигание в себе и выпячивание неудовлетворенности и разочарования, вынянчивание и выращивание идеалов и альтернатив требуют времени и свободы от неотложных материальных забот и продолжительных рутинных занятий.
В-пятых, уровень неудовлетворенности конкретным обществом и знакомым общественным порядком просто не может не возрасти и оставаться высоким, если средства массовой информации как коммерческие предприятия, заинтересованные в получении прибыли, постоянно привлекают внимание к недостаткам общества и смакуют их. Сами интеллектуалы, используемые средствами массовой информации, тоже ковыряются в грязи по менее меркантильным соображениям, связанным с идеологией.10
В-шестых, в большей части западных стран, и особенно в США, отчуждение углубляется при явном упадке и ослаблении власти. На первый взгляд это суждение может показаться парадоксальным, поскольку можно возразить, что власть (и особенно общественная или политическая власть) была ослаблена именно из-за роста отчуждения, которое повлекло за собой отрицание легитимности этой власти. Конечно, эти два процесса трудно разделить, особенно в более длительной исторической перспективе. Однако первая формулировка кажется более обоснованной, поскольку слабость власти, особенно на уровне национальной политики, продемонстрировали конкретные события.
В частности, в течение 1960-х и 1970-х гг. политическая элита в США часто демонстрировала колебания, нерешительность и недостаточную уверенность в себе. Как отметил Шилз, «элита, которая колеблется и отказывается от ответственности... становится неуверенной в своей легитимности. Если она не может декларировать легитимность своих действий, то эти действия будут неэффективными. Неэффективность элиты порождает непочтительность к ней и отказ в признании ее легитимности».11 Несомненно, одним из факторов, ослабляющих легитимность американской политической власти, была некая незавершенность войны во Вьетнаме. Правительство, проводящее безнравственную или несправедливую политику эффективно и целеустрем¬
524
Пол ХолланАвр
ленно, часто вызывает меньше враждебности и критики, чем то, которое проводит сомнительную в нравственном отношении политику неэффективно и нерешительно. Существует тенденция, что успешная политика оправдывает себя сама независимо от того, насколько сомнительной она может быть в нравственном отношении. Это подтверждается множеством исторических примеров. Война во Вьетнаме в дополнение к своим нравственно сомнительным аспектам показала неэффективность правительства и его, возможно, наиболее мощного орудия — вооруженных сил. Убийство президента Кеннеди столь же убедительно продемонстрировало уязвимость фигур, стоящих на самой вершине власти, и сопровождалось потоком убийств других общественных деятелей. Это были отдельные конкретные события, но они углубляли или создавали отчуждение власти и презрение к ней в большей мере, чем та общественная обстановка, результатом которой стало предшествующее отчуждение или презрение к власти.* Нет никакого сомнения, что потеря контроля сама по себе является фактором, снижающим легитимность любого института.
Бросим заключительный взгляд на различные аспекты отчуждения и его связь с критикой общества.
Ранее говорилось, что среди характерных черт интеллектуала можно отметить резко критический настрой. Когда же такой настрой и связанное с ним политическое недовольство получают ярлык отчуждения? Четкой границы не существует. Можно согласиться, что мы тогда входим в царство отчуждения, когда социальная критика и политическое недовольство приводят к безусловному неприятию общества. Сегодня об отчуждении рассуждают с симпатией. Чем более отчужденным является индивид, тем более он считается свободным, разорвавшим путы, поднявшимся над деградирующим обществом, отбросившим иллюзии, видящим вещи такими, каковы они есть, свободным от потребности в самообмане. Многие полагают, что дистанцироваться от коррумпированного общества и от репрессивных социальных институтов просто необходимо.
Эрих Фромм, наряду с другими философами, популяризировал мысль, что лучше не уметь приспосабливаться к неправедным социальным учреждениям, чем уметь, — то есть когда само
* Позднее слабость американской политической власти была продемонстрирована беспомощностью перед фактом взятия американских заложников в Тегеране (чему предшествовали убийства и похищения многих других американских дипломатов за границей). Неспособность управлять инфляцией также может рассматриваться как проявление бессилия правительства.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
525
общество является больным, конфликт между индивидом и обществом предпочтительней, чем гармония и душевное здоровье.12 Такие взгляды напоминают веру Руссо в превосходство глубинной человеческой натуры над удушающими социальными институтами, они также подразумевают наличие невыразимой сущности, внутренней святая святых, которой угрожают и на которую посягают внешние силы. Кроме того, существует исходная предпосылка о прошлом, неотчужденном (в марксистском смысле) государстве.13 Таким образом, как это ни парадоксально, концепция отчуждения, несмотря на свое явно отрицательное содержание, может привести к глубокому, почти религиозному оптимистическому пониманию человеческой натуры. С этим соглашались многие мыслители, которые во всем остальном не ждали от современного общества и человечества ничего хорошего. Например, «Маркузе, подобно Руссо, Марксу, Моррису и другим предшествующим утопистам, желал, чтобы мы поверили в чистую, неразвращенную человеческую сущность, которая заново явится подобно золотому камню старых Оксфордских колледжей, как только столетняя грязь будет смыта».14 Дэвид Кот очень точно отметил, что отчуждение выполняет «в современной идеологии ту же функцию, что и грехопадение в христианской мифологии».15
В последние десятилетия концепция отчуждения приобрела подтексты, которые, по-видимому, связаны с недовольством и трудностями, специфическими для жизни в современном западном и, в особенности, американском обществе. Давайте вновь обратимся к Эриху Фромму (чьи идеи по этим вопросам очень близки к взглядам Маркузе):
Сегодня мы сталкиваемся с человеком, который действует и чувствует подобно автомату... он полностью ощущает себя таким, каким он, по его собственному мнению, должен быть в глазах других; человеком, чья искусственная улыбка заменила подлинный смех, чья бессмысленная болтовня заменила коммуникативную речь; чье притупленное отчаяние заняло место подлинной боли... Каково отношение современного человека к своему собрату? Это отношение между двумя абстракциями, двумя живыми машинами, которые используют друг друга... Для каждого любой другой является товаром, к которому следует относиться с некоторым дружелюбием, потому что, даже если в настоящий момент он не используется, то может понадобиться в дальнейшем. В наши дни в человеческих отношениях немного можно встретить любви или ненависти.16
В этой версии отчуждения много общего с заторможенностью, выполнением некой роли, потерей независимости, конформизмом, стандартизацией и особенно с недостатком аутентичности. Идея отчуждения человека у Фромма напоминает более современную социологическую концепцию так называемого «сверхсоциализированного» человека, также лишенного спон¬
526
Пол Холландер
танности, индивидуальности, автономии и аутентичности.17 В последнее время на антропологическом языке «отчуждение» перешло в тему «культуры, враждебной человеку»,18 что опять-таки отражает древнюю веру, будто в человеческих существах скрываются подлинные потребности и стремления, удовлетворению которых одни социальные планы и мероприятия способствуют, в то время как другие — мешают.
Из этих наблюдений можно сделать два вывода. Первый заключается в том, что когда концепция отчуждения охватывает такой широкий диапазон значений и ведет к описанию таких разнообразных человеческих состояний, за нее непременно ухватятся, причем найдут ей множество применений, часть из которых может противоречить самой идее. Во-вторых, сами модификации значения и внутренней сущности концепции могут зависеть от того, к каким социальным группам она применяется. Такое впечатление, что все использующие эту концепцию молчаливо соглашаются, что «отчуждение» подразумевает одно, когда это понятие применяется к интеллектуалам или художникам, и нечто другое, когда оно относится к рабочим, продавцам или коммивояжерам. Когда речь идет об описании состояния интеллектуалов, отчуждение совместимо с аутентичностью и другими положительными качествами. Когда речь заходит о массах, ассоциации становятся менее позитивными. Таким образом, понятие «отчужденный человек» может означать весьма разные качества: например, положительные, обычно приписываемые интеллектуалам, включают способность проникать в суть социально-политического процесса и высокий уровень сознания. Напротив, нежелательные аспекты отчуждения означают апатию, покорность, принятие статус-кво и религиозное (или какое-либо другое) бегство от действительности, что обычно и приписывается массам. Кроме того, отчужденные интеллектуалы видят себя стоящими над соблазнами со стороны власть имущих и искушений, связанных с деньгами, положением и легкой интеграцией в общество, за подверженность чему обычно резко критикуют рабочих. Поэтому слово «отчужденный» частично является синонимом понятий «неразвращенный», «идеалистический» и «честный».
Все положительные концепции и ассоциации «отчуждения» подразумевают, что оно развивается в ответ на объективные социальные условия, то есть для его появления имеются серьезные причины. Отчужденный интеллектуал полностью оправдан за нежелание отождествлять себя с обществом; социальный критик критикует общество потому, что есть многое, достойное критики. Этот взгляд на отчуждение совпадает как с марксистской,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
527
так и с веберианской традициями, которые стремятся объяснить его некоторыми объективными характеристиками современного общества: либо экономическими факторами, либо бюрократизацией и рационализацией. Обе эти теории и традиции содержат общую предпосылку, которая состоит в том, что в природе социального фона, институтов или окружающей среды имеется нечто, внешнее по отношению к индивиду, вызывающее напряженность и недовольство. Короче говоря, интеллектуалы не рождаются социальными критиками, они становятся ими вследствие воздействия социального мира, в котором живут.19 Как описывает это социальный психолог Джозеф Адель- сон, «сила всегда является внешней; резкий гнев, к примеру, в значительной степени является реакцией на моральное смятение там, в мире».20
Однако имеется другая, диаметрально противоположная точка зрения (которую часто связывают с враждебностью к интеллектуалам). Ее сторонники считают, что отчуждение и социальная критика существуют не потому, что что-то не в порядке в обществе, а потому, что что-то неладно с критиками. Последние, как утверждается, экстраполируют или проецируют собственные проблемы и недовольство на общество, ищут козлов отпущения за личные обиды и преднамеренно (или невольно) размывают границы между индивидуальными и социальными сферами и проблемами. В некоторых незападных обществах последняя точка зрения нашла законченное выражение: то, что считается личной неудовлетворенностью или другими отклонениями, непозволительно выражать в обществе. В СССР некоторые непокорные критики общественного строя были официально объявлены психически неуравновешенными и нуждающимися в психиатрическом лечении или, по крайней мере, в изоляции в психиатрических лечебницах.*
Хотя такие попытки выдать социальных критиков за психически неуравновешенных людей или невротиков обычно связаны с желанием дискредитировать их и заставить замолчать, можно задать законные вопросы о более субъективных или аполитичных источниках отчуждения и социальной критики, не приписывая самим критикам эмоциональные или психические расстройства. Объяснения интенсивной социальной критики не следует сводить лишь к вере, что такая критика является вполне рациональным ответом на очевидные недостатки общества, или
* Солженицын писал: «Его [социального критика] обостренная чувствительность к несправедливости, к глупости была выдана за болезненное отклонение, плохую адаптацию к общественному окружению... По-видимому, иметь другие мысли, нежели те, которые предписаны, означает быть ненормальным...».21
528
Пол Холланлер
убеждению в том, что социальная критика — это продукт больного воображения, возникший в результате попытки уйти от проблем личного характера. Именно такие альтернативы подразумевает британский левый социальный историк Е. Дж. Хобсба- ум, когда критикует взгляд, согласно которому «такие [коммунистические] партии привлекают к себе только ненормальных, людей с психическими отклонениями или тех, кто ищет для себя некую светскую религию — „опиум интеллектуалов“».22 Эта резкая критика, очевидно нацеленная на авторов, подобных Габриэлю Олмонду и Реймонду Арону, излишне ограничивает возможности объяснения привлекательности коммунистических партий и других связанных с этим явлений. Конечно, когда дело касается интеллектуалов, привлекательность коммунизма или социализма (и неприятие несоциалистического общества) не может и не должна быть принудительно загнана в рамки «рационального» или «иррационального». Можно отрицать, что отчуждение и соответствующая поддержка марксистских идей и режимов — продукты темных психологических сил и подозрительных эмоциональных потребностей, не утверждая при этом, что такая позиция является просто ответом на социальное окружение. Просто нет четкой корреляции между объемом и интенсивностью социальной критики, с одной стороны, и интенсивностью болезней общества, выставляемых напоказ и осуждаемых, с другой.
Пытаясь лучше понять отношения между количеством и качеством критики и наблюдаемыми социально-политическими реалиями, на которые она направлена, нельзя не заметить некоторые характерные особенности критиков и их биографий. В частности, все попытки объяснить природу социальной критики, не учитывая условия, которые имеются для ее выражения или стимулы и награды, связанные с ней, будут совершенно неадекватными. И хотя это очевидно, все же часто забывают, что объем и интенсивность социальной критики являются показателями не только бедствий в протестующем обществе, но также и возможностей для выражения такого протеста. Независимо от того, насколько больна и несправедлива социальная система и какое количество потенциальных критиков она может скрывать в своих глубинах, если недовольные люди запуганы или подавлены, если они не имеют никаких средств для выражения своих мнений и убеждений, маловероятно, что социальная критика выйдет на поверхность.
Наиболее жизненно важным условием, необходимым для существования социальной критики, является не несправедливость, которую нужно порицать, а терпимость общества к критике. Если люди не могут критиковать социально-политические условия, не
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
529
рискуя подвергнуться остракизму или потерять жизнь, имущество, свободу, работу, жилище; если нет газет или телевизионных каналов, способных донести их слова (или нет даже доступных копировальных машин); если критики не могут выступать перед общественными собраниями — тогда, независимо от того, насколько плохи политический режим или социальная система, об их пороках общество не услышит ни от кого, кроме тех, кто смог убежать или передать информацию иностранцам. Таким образом, хотя отсутствие или наличие гласности помогает сформировать картину общества, само по себе это еще недостаточно, чтобы определить, насколько порочной является социальная система.
В течение последних двух десятилетий интенсивность социальной критики в западных странах росла быстрее, чем усиливалась социальная несправедливость, требующая столь энергичного осуждения. В частности, в американском обществе происходят социальные процессы, которые не только все больше разрешают, но даже поощряют критику социальных учреждений и облегчают участие в такой критике. В результате возникает тенденция даже некоторые личные проблемы трактовать как социальные. Однако это не значит, что можно сделать вывод, будто критики являются оппозиционерами-невротиками, чья горечь — отражение их личных проблем, а не дефектов социальной среды. Предложенный здесь аргумент является социологическим (и социально-психологическим): он учитывает как состояние социальных институтов, так и условия для социальной критики. Покойный Дэвид М. Поттер предложил схожую интерпретацию:
Люди из предыдущих столетий были угнетенными людьми... Но даже будучи угнетенными, люди прошлого воздерживались от действий по открытому сопротивлению «системе» или из-за отчетливого понимания, что такие действия вызовут быстрое и жестокое наказание, или, что более вероятно, из-за того, что эти люди морально смирились с угнетением, усвоив его через систему запретов.
...Есть множество источников недовольства. Один из них — это социальная несправедливость, которую можно назвать общественным источником недовольства. Но существует и множество других, часть из которых можно назвать личными...
...Этот вид недовольства порожден эмоциями; он не осознает собственного источника и поэтому явно не направлен на этот источник и представляет собой недовольство в некоем свободном плавании, всегда готовое разрядиться в виде агрессии против любого объекта, который не защищен превосходящими силами или психологическими табу... Из изложенного следует, что степень недовольства в любом обществе не обязательно соответствует степени несправедливости или зла в общественных институтах...
Поттер полагает также, что «меры, которые делали американское общество нечувствительным к атакам на него, ослабли, а отрицание общества стало выглядеть более привлекательным».
530
Пол Холланлер
То же самое можно сказать о других западных обществах — британском, немецком, итальянском, французском и т. д., — где проявляются аналогичные тенденции, хотя, возможно, и не в такой степени. Поттер полагает, что система воспитания и интенсивность социальной критики взаимосвязаны, особенно начиная с 1960-х гг.:
Вопрос о процессе формирования личности тесно связан с проблемой отрицания общества, поскольку кажется, что традиционные процессы развития социальной личности способствуют созданию большой доли мужчин и женщин, которые становятся тем, кто они есть, легко принимая на себя те роли, исполнения которых общество от них ожидает...
Имеется достаточно свидетельств, что сегодня множество людей по самым различным причинам не берут на себя ожидаемой роли и что они даже отрицательно реагируют на то поведение, которого требует от них взятая ими роль. Если характер межличностных отношений изменился так, что каким-либо образом ослабил способность людей находить и формировать образы, совместимые с требованиями общества, в котором они живут, это лучше всего объяснило бы количество людей в США, которые отрицают господствующее общество.
Формирование дефектной личности может создавать проблемы и в отношениях с властью: «Сейчас общество производит больше людей, которых не удовлетворяет собственная личность и которые ненавидят власть, не желая участвовать во властных структурах сами и не позволяя делать этого кому-либо еще».23
Хотя нет никаких оснований предполагать, что различные социальные процессы, которые вообще могут подорвать формирование личности, особенно сильно затрагивают именно интеллектуалов, можно отметить, что интеллектуалы часто испытывают особое отвращение к навязыванию им социальных ролей, считая их удушающими, искусственными и прямо противоположными цельности и аутентичности.
Кроме того, может быть обнаружена связь между нежеланием принять социально заданную роль, проблемами личности и ростом индивидуализма. Когда множество людей, перечисляя свои социальные роли, хотя бы частично затрудняется с ответом на вопрос «Кто я есть?» и когда общество разрешает своим членам и даже поощряет эксперимент с примеркой на человека различных «личностей» (что в некоторой степени приводит к замене и путанице в социальных ролях), результатом является дискомфорт. При таких условиях после того, как обществу задан вопрос «Кто я есть?», вскоре последует отрицание самого общества, поскольку именно ему будет поставлена в вину трудность ответа. Ричард Лоуенталь, обсуждая неудовлетворенность западных интеллектуалов и культурный кризис нашего времени, также отметил «прогрессирующее ухудшение процессов формирования личности и вхождения ее в общество». Последнее он объяснил «потерей традиционных связей... [которые] создают
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
531
разрыв в личности. В результате лишенного корней индивида привлекают фиктивные связи, например с несуществующим „революционным мировым пролетариатом“ или с „освободительным движением“ в бывших колониях».24 Американский политолог Эрик Хансен выявил другую связь между поисками интеллектуалом собственной личности и политическими отношениями: «Его [интеллектуала] весьма навязчивая идея власти, как продолжения поисков собственной личности, стремится превратить личную озабоченность в политическую активность... интеллектуал стремится видеть мир как грандиозный театр морали, и ей он должен „присягнуть на верность“...».25
Подведем итоги: в настоящее время социальные условия в американском обществе (как и в других западных обществах) благоприятствуют публичным выражениям недовольства и социальной критике, какие бы источники их ни порождали. При таких обстоятельствах усиливается тенденция пересмотра источников недовольства и разочарования, причем общественные (социальные или политические) причины приписываются тому, что раньше рассматривалось как частное и личное (и неполитическое).* Эти тенденции с середины 1960-х гг. проявлялись особенно ярко у тех, кто примыкал к радикальным движениям, что, например, отметил Кристофер Лэш: «Радикальная политика заполняет пустоту жизни, давая ощущение значимости и цели...», «левые слишком часто служили убежищем от ужасов внутренней жизни».26
Можно обнаружить и другие источники социальной критики и отчуждения, которые имеют мало общего с социальной несправедливостью или распределением в обществе добра и зла. Шумпетер, например, полагает (как было отмечено раньше), что капиталистическое общество провоцирует критику, поскольку
* Например, хотя еще не так давно брачные споры обычно рассматривались как преимущественно личные проблемы, сегодня мы склонны считать их отражением широко распространенных социальных и даже политических условий, связанных, помимо прочего, с неравенством женщин и их стремлением это неравенство преодолеть. Подобным образом, гомосексуализм обычно рассматривался скорее как сексуальная ориентация, нежели политическое явление. Тенденция к деперсонализации (или политизации) личных проблем и конфликтов (отметим, например, феминистский термин «политический аспект работы по дому») также связана с современным стремлением привлекать социальные факторы и даже социальный детерминизм для объяснения все более и более широкого диапазона личных проблем. А всего парадоксальнее современная комбинация веры в социальное предопределение и одновременного утверждения индивидуализма и прав личности, и прежде всего права на самовыражение. Пересмотрено и само понятие самовыражения. Таким образом, самовыражение, двоюродный брат индивидуализма, стало, в свою очередь, новым и важным оправданием многих форм поведения, которые в другие времена сохранялись только за аристократией (титулованной или денежной), богемой и «официально признанными» ненормальными.
532
Пол Xолландер
порождает людей, испытывающих духовный голод, но не может их насытить. Он пришел к выводу, близкому к заключению Поттера: «Ошибочно считать, что политические атаки порождаются прежде всего недовольством [подразумевается явное политическое или экономическое недовольство] и что его можно избежать, если найти убедительные оправдания. Политической критике [этого вида] не может быть эффективно противопоставлена рациональная аргументация».27 Позже Ирвинг Кристол возражал, что капиталистическое общество не может удовлетворительно оправдать свою легитимность в психологическом или эмоциональном отношении.28 Аналогичный аргумент был приведен Дэниелом Беллом в его исследовании «культурных противоречий капитализма», которые проявляются в столкновении между потребностями души и желанием получить определенную должность и занять некое место на политической арене, а также в том, что ценности, которые управляют личной и культурной жизнью, рассматриваются как направленные против рыночных и государственных ценностей.29
Такие оценки капитализма весьма стары, даже если их важность стала понятной лишь в последнее время. Как Маркс, так и Дюркгейм признавали разлагающий характер капиталистических ценностей и разъедающую сущность экономического рационализма, или, в более общем смысле, процесса модернизации, который ведет к развенчанию мифов и веры в само собой разумеющуюся легитимность.
Итак, капиталистическое общество порождает в интеллектуалах враждебность частично потому, что они не могут удовлетворить свои потребности, связанные со смыслом и целью жизни, и эта причина весьма отличается от осознания эксплуатации и других форм социальной несправедливости. Таким образом, социальная критика, связанная с отчуждением, часто или частично является реакцией на крушение религиозного импульса (поиск смысла), за которое критик обвиняет социальную среду. Рассуждения Вебера о поисках интеллектуалами «спасения» помогают еще лучше понять корни политического недовольства и отрицания общества:
Спасение, которого ищет интеллектуал, всегда основано на внутренней потребности, и, следовательно, оно априори находится дальше от жизни, является более теоретическим и более систематическим, чем спасение от внешнего страдания, поиски которого характерны для непривилегированных классов. Интеллектуал стремится различными способами... придать своей жизни вселенский смысл... Поскольку интеллект подавляет веру в волшебство, мировые процессы освобождаются от магии, теряют свое таинственное значение... Как следствие, возникает растущая потребность подчинить мир и весь жизненный уклад порядку, наполненному смыслом и содержанием.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
533
Конфликт этого требования значимости с эмпирическими реалиями нашего мира и его институтов... объясняет характерные атаки интеллектуала на этот мир.30
Развитие критического отношения вследствие того, что общество не удовлетворяет потребности в значимой жизни, не является политической мотивацией социальной критики в обычном смысле. Другими словами, повторяю, современное отрицание западных обществ многими интеллектуалами — это один из отсроченных результатов секуляризации,* которая создала предрасположение к социально-политической критике, даже когда социальные и политические факторы сами по себе не являются основным источником этой критики. Связи между секуляризацией и отчуждением (и сопутствующей восприимчивостью к светской религиозности) ярче видны в комментариях Лоуенталя:
Крушение уверенности в материально-ориентированном историческом процессе означает больше, чем просто потерю великой надежды. Он ставит индивида лицом к лицу с миром, который стал еще более непостижимым и угрожающим... и без поддержки, которую мог бы дать упрощенный взгляд на этот мир.
...Это беспокойство — непосредственная причина готовности отчаянно искать утраченную уверенность в доктрине, которая выражает веру в светское спасение в рационально замаскированной форме...32
Шумпетер привлекает внимание к другой стороне секуляризации: «Прогрессивность секуляризации считают само собой разумеющейся и объединяют с ощущением личной незащищенности, которая в обостренной форме несомненно является лучшим фактором для усиления социального волнения». В свою очередь, Роберт Нисбет утверждает, что различные формы политического отчуждения (и убеждений) имеют скорее моральные, чем материальные источники: «Типичный сторонник коммунизма [на западе] — это человек, для которого процессы обычного существования кажутся нравственно пустыми и духовно невыносимыми. Его собственное отчуждение переносится в ощущаемое отчуждение многих».33
Здесь можно отметить, что явно недостаточное отчуждение западных масс, обычных людей и в особенности рабочего класса, является в течение некоторого времени источником огорчения для отчужденных социальных критиков (безотносительно объяснения, которое они предлагали), включая такие фигуры, как Ленин, Сартр, Маркузе и Ч. Райт Миллс.34
* Отсроченный, поскольку, как указывает Лоуенталь, «секуляризация не сразу вызывает ощущение потери смысла, потому что в самом начале трансцендентная вера с ее функцией придания смысла повседневной жизни была заменена на светскую веру в мировой прогресс...».31
534
Пол Холландер
Хотя ощущение духовной пустоты и неудовлетворенность поисками смысла жизни у интеллектуалов несомненно связаны с отрицанием общества, было высказано предположение, что определенную роль в этом процессе играют и менее достойные поводы. Например, Эрик Хоффер писал: «Существует глубоко укоренившееся стремление, присущее почти всем людям слова и определяющее их отношение к господствующему порядку. Это жажда признания, жажда достижения такого статуса, который значительно выше, чем у обычного человека».35 Хоффер полагает, что интеллектуалы оценивают общество по мере того признания, которое это общество им дарит. Возможно, что неудовлетворенное стремление к власти влияет на интенсивность отчуждения интеллектуала и придает ему дополнительные оттенки, поскольку оно олицетворяет его неспособность реализовать массу идей и осуществить множество благородных проектов. Хоффер не был одинок в предположении, что интеллектуалы чувствуют себя отчужденными, когда их таланты не признаны и не оценены, когда эти люди чувствуют себя одинокими, не интегрированными в общество, маргинальными, лишенными положения, влияния или даже приличной работы. Рациональным ответом на статус таких интеллектуалов становится социальная критика, причем благодаря своему положению они делаются чувствительными к другим недостаткам общества, которые могут быть, а могут и не быть связаны с их личной судьбой.
Правда, такое объяснение не слишком подходит для большинства интеллектуалов, рассмотренных в этой книге, и для многих других, чьи высказывания не цитировались. Немногие из наших интеллектуалов были одинокими, маргинальными, недостаточно интегрированными в общество или терпели в чем- либо заметную нужду. Как правило, это были известные писатели, академики, влиятельные журналисты, некоторые из них даже были знаменитостями, удостоенными премий в своих областях. И уж никак не скажешь, что их работа и взгляды игнорировались, а таланты недооценивались. Если они и ощущали недостаток внимания к себе и чувствовали себя маргиналами, дело обычно заключалось лишь в относительном недостатке внимания и относительной маргинальности. У политических паломников недовольство своим положением и маргинальность (более объективная) не являлись существенными факторами для возникновения недовольства, социальной критики и отчуждения.36 Напротив, иногда кажется, что многие критически настроенные интеллектуалы видят дополнительный источник неловкости и морального бремени именно в своем высоком социальном статусе и превосходных материальных условиях, и эту неловкость они
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
535
пробуют компенсировать удвоенной критикой социального порядка, который так хорошо «их кормит», словно стараясь уговорить себя, что никто не посмеет обвинить их в том, что они «продались». Аргументы, подчеркивающие маргинальность интеллектуалов (как причину их отчуждения), оказались подорванными также развитием за последние десятилетия больших влиятельных субкультур отчуждения (обычно в академических кругах), которые обеспечили надежный базис для солидарности с отчужденными интеллектуалами в западных обществах и их поддержки. В таких условиях все труднее связывать и объяснить позицию интеллектуалов социальной изоляцией, защитными мерами и маргинальностью. Современные критики существующего порядка (во всяком случае в западных обществах) по меньшей мере столь же влиятельны, как и его защитники. Отчуждение и нонконформизм разошлись примерно в 1960-х гг., если не раньше.
Эрик Хансен в своих рассуждениях о политической позиции интеллектуалов дает дополнительный ключ для лучшего понимания их неприятия существующего мира. Он пишет: «Стиль жизни интеллектуалов отмечен относительным недостатком интереса (и даже презрением) к сиюминутному, практическому и конкретному. Интеллектуалы предпочитают иметь целевую ориентацию». Их идеализм, или «целевая ориентация», ведет к некоторому нарушению равновесия, к тому, что Хансен называет «склонностью смешивать реальное с идеальным», — склонность, имеющая особое значение при восприятии идеализируемых ими обществ. Но умение смешивать реальное и идеальное важно также для развития социальной критики и отчуждения. Хорошо знакомое собственное общество интеллектуала превращается в отрицательный идеал, в полную противоположность социального и политического совершенства, которого он жаждет. Он проецирует на собственное общество все уродство реального мира и преувеличивает присущие ему недостатки.
Эти стремления также тесно связаны с отрицанием эмпирических фрагментов жизни и способностью, в интеллектуалах иногда гипертрофированной, иметь «более широкий взгляд» на ** Некоторые интеллектуалы испытывают неловкость также из-за контраста между собственным образом союзника растоптанных масс и часто привилегированными и комфортабельными условиями жизни. Это может привести к наблюдаемому типу компенсационного поведения, описанному, например, в гл. 2, когда речь идет о Сартре и его стремлении, говоря символически, расстелиться перед массами, пролетариатом, крестьянством третьего мира, социальными меньшинствами или Людьми. (Напомним также, что в 1960-х гг. слова «Вся власть народу!» были любимым лозунгом буржуазных радикалов американского среднего класса и его верхушки.)
536
Пол Холлам лер
вещи, интегрировать — и «сверхинтегрировать» — социальные реалии до тех пор, пока они не станут соответствовать более старым и логически обусловленным рамкам:
Поиски «святости» (цельности) особенно часто отмечаются среди тех, чья жизнь разрывается между умом и рассудком, между интравертностью и экстравертностью, между реальным и идеальным. Ориентация на священное является императивом тех, чей метаболизм с действительностью наиболее слаб...37
Предрасположенность интеллектуалов к синтезу, объединению, выявлению различных связей и взаимозависимости (даже там, где таковых может и не быть), их нелюбовь к разделению и желание иметь «органическое» представление о жизни (которое подразумевает, что вещи, собранные вместе, дадут что-то новое) — все это является попытками придать миру хоть какой-нибудь смысл. Такие склонности отражают отвращение к беспорядку, фрагментации и тому, что они олицетворяют собой —бессмыслице. За этой позицией также стоит намерение не быть простаком, принимая мир, каким он кажется. Сверхинтегрированное и «органическое» восприятие мира выражает поиски интеллектуалами в нем не только смысла, но и гармонии. Эта позиция иллюстрируются резким утверждением Дэниела Берригана (которого мы цитировали раньше в другом контексте), что «американское гетто и Ханойская „операция“ были по сути одним предприятием...»; или словами Сюзан Зонтаг, считающей «самоочевидной» «органическую связь» между журналом «Reader’s Digest», телевизионной программой Lawrence Welk, отелями Hilton и напалмом; или цитатой из Нормана Мейлера, у которого кусок безвкусного хлеба вызвал следующее видение:
Разрезанный хлеб, наполовину раскрошенный в вощеной бумаге, являлся сейчас комическим воплощением дюжины мелких мыслей о корпоративной стране, которая лишила хлеб вкуса и аппетитной корочки и завернула остатки в вощеную бумагу; этот хлеб был, если продолжить наши рассуждения, той ментальностью, которая была привезена из Азии с ее эскалацией войны и дефолиантами... белый хлеб был также телевидением... белый хлеб был просочившимся врагом, который захватил все.38
Изучение того, что Хансен назвал «целевой ориентацией», помогает также объяснить характерную враждебность многих интеллектуалов к плюралистическому, демократическому и капиталистическому обществам, три признака которых исторически оказались объединенными. «Демократия не имеет целевой ориентации» и неспособна дать гражданам, и интеллектуалам в том числе, объединяющие рекомендации, касающиеся смысла жизни. «Интеллектуал не доверяет [демократическим] политике и политикам, потому что те способны лишь на частичные и противоречивые решения».39 По этим же причинам многие интеллектуалы
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
537
восхищаются политическими лидерами тоталитарных обществ, которые предлагают окончательные решения, а не компромиссы или сделки. (Английский экономист, социолог и философ Дж. Коул писал: «Намного лучше жить под управлением Сталина, чем кучки слабоумных и нерешительных социал-демократов».)40
Хансен — один из тех, кто среди аполитичных (и нерациональных) компонентов отчуждения интеллектуалов ощущает импульс самоликвидации, самоубийства: «Кажется, что интеллектуал одержим желанием смерти: он жаждет общества, где его творческая, критическая роль будет бесполезна... Интеллектуалы, подобные Сартру и Пикассо, сочувствуют коммунистической системе, которая первая обойдется без их гениальности».41 Скотт Ниринг, почтенный американский радикал, был охарактеризован как «человек, который приветствовал собственных палачей», признав, что «если бы коммунисты пришли к власти в этой стране, [он] был бы одним из первых казненных».42
Я попытался разграничить источники отчуждения, которые могут быть найдены в природе самого общества — особенно в его моральных пороках, — и те, которые вытекают из предрасположенности и некоторых характерных черт самих интеллектуалов. По моему мнению, главные движущие силы отчуждения и соответствующего социального критицизма не всегда являются результатом выявленных пороков в социальных учреждениях, но во многом связаны также с легкостью, с которой критика может быть высказана, и с культурным (или субкультурным) вознаграждением за такую критическую позицию. Кроме того, я предположил, что социальная критика со стороны интеллектуалов по причинам, отмеченным выше, отличается от критики со стороны других, менее привилегированных групп. Наконец, я хотел донести до читателя, что хотя у недовольства интеллектуалов есть социальные корни, не следует утверждать, что они всего лишь реагируют на наблюдаемые болезни общества. Источники их недовольства лежат гораздо глубже и разбросаны шире, чем для других слоев общества. Возможно, Герцог Сола Беллоу попал в точку, когда заметил, что «главная двусмысленность, беспокоящая интеллектуалов... заключается в том, что цивилизованные индивиды порицают и ненавидят цивилизацию, которая делает возможной саму их жизнь. То, что они действительно любят, — это воображаемое человеческое общество, которое порождено их собственным гением и которое, как они верят, является единственной истиной и единственной социальной реальностью. Как странно!».43 Многое в этой книге можно рассматривать как исследование некоторых попыток современных интеллектуалов преодолеть эту двусмысленность.
538
Пол Холланлер
ПЕРЕСМОТР КОНЦЕПЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛА
Подкрепляют ли результаты этого исследования сделанное в начале данной книги предположение, что концепция интеллектуала нуждается в пересмотре? Едва ли имеются сомнения, что отчеты о политических паломничествах в 1930-е гг., а также в 1960-е гг. (и 1970-е) показали несостоятельность широко распространенного представления, что неотъемлемым атрибутом интеллектуалов является критический ум или, как выразился Эдвард Шилз, что им присуща «внутренняя потребность проникать за завесу непосредственного конкретного опыта...».44 Напротив, в эти периоды имел место слишком охотный временный отказ от критического недоверия, характерного для многих западных интеллектуалов, когда они с легкостью меняли свою более привычную роль упрямого социального критика на роль доверчивого обожателя и когда их более привычная позиция скептического недоверия уступала место активному поддакиванию. Сейчас уже должно быть понятно, что желание верить так же характерно для интеллектуалов, как и потребность критиковать, отрицать или отвергать. Именно чередование этих двух диаметрально противоположных позиций, а вовсе не доминирование критического импульса является характерным для интеллектуалов. В настоящей работе имеется вполне достаточно свидетельств, чтобы предположить, что критический компонент в облике интеллектуалов был сильно преувеличен и что его проявление так же зависит от основных принимаемых ими ценностей, как и для прочих смертных. Конечно, в том социальном устройстве, которое они предрасположены ненавидеть или подозревать во всех мыслимых грехах (обычно это их собственное общество), интеллектуалы настроены сильно критически и часто весьма проницательны. Но критические способности не обязательно распространяются на другие социальные устройства, как бы соблазнительны те ни были для демонстрации этих критических способностей.
В данном исследовании утверждается, что именно привлекательность и ценности социализма обеспечили наиболее мощный стимул для приостановки критических размышлений в среде большого числа западных интеллектуалов во второй половине нашего века.45 Похоже, что такие интеллектуалы занимают одобряющую, благосклонную позицию, лишь только политическая система (или движение) достаточно настойчиво заявит о себе как о социалистической.* Филип Рав задался вопросом: «Возможно ли,
* Привлекательность социализма частично объясняет также прочность чувств, обозначаемых термином «анти-антикоммунизм». В той мере, в какой концепции социализма и коммунизма близко связаны друг с другом, и в той мере,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
539
чтобы все эти годы радикалы во всем мире были обмануты, элементарно обознались?... Может быть, они приняли нечто за социализм просто потому, что оно так себя называло и потому что оно казалось другим?*.41 Слово «социализм», несмотря на все исторические разочарования, связанные с режимами, называющими себя социалистическими, сохранило известное очарование, которое лишь в редких случаях неспособно разоружить или обаять интеллектуалов и которое питает новые надежды, что в следующем, более современном воплощении, явится подлинный социализм или, по крайней мере, более подлинный, чем предыдущие.48 (Немного найдется свидетельств, что интеллектуалы, или — и это важно — неинтеллектуалы, живущие в странах, считающихся социалистическими, также очарованы или обезоружены социалистической идеей.)
Сама идея социализма продолжает и сегодня привлекать к себе множество недовольных, как это имело место на рубеже столетия, когда Эмиль Дюркгейм писал: «Именно страсть вдохновила все эти системы [духовные, связанные с социализмом]; то, что дало им жизнь и силу, — это жажда большей справедливости... Социализм — не наука... это крик скорби, а иногда гнева, изданный теми, кто наиболее остро ощущает наш коллективный недуг».49 Позже Оруэлл в более шутливой форме писал: «Иногда создается впечатление, что простые слова „социализм“ и „коммунизм“ притягивают к себе в Англии всех противников алкоголя, нудистов, любителей шокировать общество, сексуальных маньяков, квакеров, шарлатанов, пацифистов и феминисток».50 Конечно, каждая из стран, чья притягательность исследована в настоящей книге, претендует на право называться «социалистической», и в каждом случае интеллектуалы уступают искушению и проецируют на эти системы политические признаки, которые тем не присущи, но которые связаны с идеалами социализма.
Главной притягательной стороной социализма является обещание и ожидание, что он сможет принести, и обязательно принесет, лучшие материальные условия жизни при сохранении
в какой социализм продолжает входить в понятие возвышенного (или самоотверженного — в противоположность «приземленному» капитализму), антикоммунизм отвратителен... В то время как антикоммунизм вызывает сильное моральное отвращение, различные воплощения коммунизма могут вызвать лишь умеренное отвращение или некое абстрактное отрицание. Хотя с расширением антикоммунистического спектра моральный пыл его адептов возрастает, сам коммунизм остается какой-то тусклой абстракцией, неподвластной шельмованию со стороны политических противников. Или, как выразился Лайонель Триллинг, хотя «не обязательно быть за коммунизм, но если вы против него, то будете морально скомпрометированы, так сказать, отвернетесь от добра и повернетесь в сторону зла».46
540
Пол Холланлер
(или восстановлении) общественной собственности и, таким образом, обеспечит расцвет технологий, промышленности и городов без надрывов, конфликтов и тревог, характерных для капитализма.51 Американский историк и социолог Питер Клесак прокомментировал эти давнишние лозунги социализма:
[Социализм] был прежде всего мечтой, направленной против границ, периодическим протестом против разделения, размежевания, выделения. За каждой манифестацией лежало желание восстановить утерянное единство, стать выше болезненных разногласий внутри себя и конфликтов с другими. Социализм реализует желание возвратиться в состояние цельности, которое существовало — или верилось, что оно существовало, — до грехопадения, до погружения в историю. Являясь в конечном счете психологической и эстетической в своем отношении к порядку, гармонии и единству, социалистическая мечта проявилась особенно ярко в теологических терминах, прежде всего через иудейско-христианские образы.
Один из «новых философов» Франции, Бернар Анри Леви, пришел к заключению (как и его старший товарищ, француз Раймон Арон, заявивший подобное десятилетиями ранее), что «марксизм является религией нашего времени...» и что «не достаточно сказать, что марксизм — это карикатура на христианство. Марксизм, что более существенно, стал современной заменой христианству...».52
При социализме (или коммунизме) даже избыточное потребление не является виной, поскольку клеймо эгоизма с таких удовольствий смыто в обществе, очищенном от индивидуализма, жадности, расчетливости и погони за материальными благами и высоким положением. Восприимчивость ко всяким обещаниям, раздаваемым социализмом, предполагает безудержный оптимизм по отношению к совершенствованию как человеческой природы, так и социальных институтов, оптимизм, который резко контрастирует с унынием и пессимизмом, пронизывающими западных интеллектуалов, когда они рассматривают поведение людей и социальные институты в собственных странах.
Любая система веры или набор доктрин, которые можно интерпретировать или проецировать в указанном смысле, становятся особенно сильными во времена, когда традиционные религии не в состоянии удовлетворять потребность в смысле и цели жизни. Как отметил Густав Лебон почти столетие назад, для того чтобы «социализм... смог так быстро принять религиозную форму, которая составляет тайну его силы, было необходимо, чтобы он появился в один из тех редких моментов в истории, когда старые религии теряют свою силу... и он просуществует только до тех пор, пока ему на смену не придет новая вера». Непрерывные теоретические попытки многих современных западных интеллектуалов, направленные на пересмотр, омолаживание или реабилитацию марксизма, главного духовного источника социализма,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
541
столько же свидетельствуют о его силе и привлекательности, сколько политические паломничества в страны, называющие себя социалистическими. Бернар Анри Леви писал: «У нас есть марксистский урбанизм, марксистский психоанализ, марксистская эстетика, марксистская нумизматика. Не осталось ни одной отрасли знания, в которую бы не проник марксизм, для него не существует границ, запретных территорий... никаких культурных барьеров, за которые он не смог бы послать когорты исследователей...».53
Таким образом, в наше время желание интеллектуалов во что- нибудь верить нашло свое наиболее характерное выражение в желании верить в некоторую разновидность марксизма или воплощения социализма. Известный мексиканский писатель Октавио Пас отметил, что «марксизм стал интеллектуальным пороком. Это суеверие XX в.».54
Способность обменять свой критический дар на доверчивость и безудержное восхищение — не единственная черта, которая должна быть введена в пересмотренную концепцию интеллектуала. В свете свидетельств, представленных в этой книге или в других работах, могут найтись новые поводы для изучения признаков идеализма и безразличия.* Безусловно, идеализм интеллектуалов обсуждался и прежде. По словам американского социолога Ирвинга Луиса Горовица, западные интеллектуалы занялись «близорукой моральной бухгалтерией», корни которой ведут к эгоизму.56 Английский литератор и историк Джордж Уотсон высказал еще большие сомнения относительно как идеализма, так и честности многих западных интеллектуалов, анализируя их отношение к сталинскому произволу. Он доказывает, что такие интеллектуалы одобряли советское общество в 1930-х гг. не из-за непонимания его истинного характера, но хорошо представляя себе репрессии и политическое насилие того времени. Они стремились дать рациональное объяснение такой политики и событий частично из-за того, что не испытали всего этого на собственной шкуре, а частично из-за некоторой склонности к политическому насилию, — заметному также в 1960-х гг., когда довольно многие интеллектуалы рассматривали насилие как форму подлинного самовыражения и окончательного доказательства серьезной приверженности высоким целям.57
* Довольно часто сами интеллектуалы склонны к таким лестным самопри- писываниям. Например, Дэниел Берриган написал о себе и Говарде Цинне, другом антивоенном активисте и профессоре Бостонского университета: «Подобно всем борцам, мы неизлечимо больны идеализмом, про который в нашей истории приходится читать слишком часто». Он считал себя и Цинна «правдивыми людьми, которые постоянно копаются в собственных побуждениях и сердцах...».55
542
Пол Холланлер
Кроме того, следует пересмотреть признаки идеализма и безразличия, когда интеллектуалы мгновенно переходят от неистового морального возмущения и морального абсолютизма (вооб- ще-то приберегаемых для собственного общества) к удивительно прагматическому моральному релятивизму, применяемому при оценке политики тех стран, которые они намерены поддержать. Как сказал о советской политике один из персонажей романа Лайонеля Триллинга: «Некоторые вещи нельзя оценивать по примитивным либеральным стандартам».58 Скотт Ниринг, «который в ноябре часто покидал свой дом в штате Мэн, чтобы не видеть, как охотники травят оленей, защищал ввод советских танков в Будапешт [в 1956 г.]. „Венгерские белогвардейцы, — объяснял он, — изгнанные на десятилетия из своей родины, объединили мятежников, чтобы бороться за восстановление утраченной собственности“».59 Такие некорректные суждения и моральная «двойная бухгалтерия» (или двойные стандарты) частично возникают из-за готовности верить «другой стороне», в данном случае советским россказням о белогвардейцах, как бы неправдоподобно они ни выглядели в свете всего объема другой информации о восстании. Поскольку Ниринг хотел дать рациональное объяснение поведению СССР, ему было легче это сделать, приняв советскую точку зрения на эти события. Очевидно, он не ощущал никакой потребности подвергнуть эти взгляды такому же исследованию, которое он проводил при анализе американских сообщений и интерпретации различных политических событий. Моральный максимализм Ниринга вел его к отрицанию американского общества, в то время как моральный прагматизм позволял ему умерить критику политических режимов, которые он в основном одобрял. Таким образом, круг замкнулся: моральные принципы и сомнения, которые у него были вначале, можно было благополучно притушить, раз преследовались с виду моральные цели, — теперь моральный релятивизм мог быть заменен моральным абсолютизмом. Стивен Спендер объяснял такое отношение предположением, что «всем людям присуще чрезвычайно неустойчивое восприятие действительности. Для них реальны только несколько вещей, которые отражают их собственные интересы и идеи; другие вещи, которые фактически так же реальны, воспринимаются как абстракции».60 Если это так, то ключом к выборочному восприятию может быть личный интерес.
Другим мифом, который следует отправить на покой, является вера в решительное стремление интеллектуалов к свободе и особенно к свободе волеизъявления. Обзор привлекательности стран, обсуждаемых в предыдущих главах, весьма четко демонстрирует, что отсутствие свобод в обычном значении этого понятия
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
543
едва ли задевало визитеров или мешало восторгаться прелестями этих обществ. В той степени, в какой недостаток свободного волеизъявления наблюдался — само по себе примечательно, как часто его вообще не замечали, — у режимов, о которых шла речь, его оправдывали или давали ему рациональное объяснение с использованием знакомых аргументов о временной необходимости, достаточной компенсации за счет различных достижений. Как выразился итальянский критик Никола Кьяромонте: «Интеллектуалы на Западе или игнорируют, или просто не видят огромную важность требования свободы именно тогда, когда теоретически проблемы просто больше не должно существовать из- за замены просто свободы „конкретными свободами“». Многие западные интеллектуалы предпочитают такие «конкретные» или, как говорил Исайя Берлин, «позитивные» свободы, и принижают важность «негативной» свободы, включающей свободу волеизъявления, в обществах, которыми они восхищаются на расстоянии или во время визита. Частично это можно приписать некоторому проявлению культурного релятивизма. И все же Кьяромонте прав, утверждая, что «худшее оскорбление, которое мы можем нанести индивиду, который беден и угнетен, это предположить, будто все, чего он хочет, — это работа, еда, одежда, жилье и развлечения».61 Западные интеллектуалы недооценивают отрицательных свобод, включающих свободу волеизъявления, частично потому, что последняя для них доступна, и, таким образом, они могут считать ее само собой разумеющейся, а частично потому, что они не в состоянии понять ее необходимость.
Конечно, погоня за исполненной смысла жизнью на базе индивидуализма и без помощи внешних организаций или властей в капиталистическом, коммерческом, полностью погрязшем в грехе обществе трудна и бесперспективна. Очевидно, интеллектуалы испытывают особенно сильную потребность уйти от этого греха. Социализм или то, что называют социализмом, даже после множества разочарований все еще предлагает миф, некий выход. Трава кажется зеленее на другой стороне — в обществах, которые сделали себя легитимными с помощью провозглашения высоких идеалов и призывов (с соответствующими обещаниями) к общности, братству, единству, социальной справедливости, равенству и самоотверженности; они предлагают некоторые общие формы самоутверждения. Для восточноевропейских интеллектуалов соблазны социализма обычно были очень схожими:
С научной точки зрения общество, подчиненное определенному порядку, таит в себе большие соблазны для восточноевропейской интеллигенции [писали два венгерских социолога Джордж Конрад и Иван Шелены], так же как и факт, что интеллектуалов призывали для использования их знаний и опыта в построении нового социального порядка... Будто бы впредь прини-
544
Пол Холландер
мать решения станут люди, обладающие необходимыми профессиональными знаниями. Им льстило, что именно знания, а не собственность узаконят право человека принимать решения... Интеллектуалы приветствовали свою новую роль как воплощение собственного превосходства. Они смогли наконец подняться выше обслуживания специфических интересов... их работа... приобрела выдающееся значение. Все было облагорожено, вознесено над обычной работой ради денег и поднято до уровня призвания.62
Фактически все предложения по пересмотру концепции интеллектуала вращаются вокруг неустойчивого равновесия между его критическими и позитивными импульсами и деяниями. Напомним, что один из первых вопросов, поднятых в настоящей работе, и одна из отправных точек были связаны именно с этими контрастами. Мы должны вновь вернуться к понятию двойных стандартов, которое лежит в основе колебаний между критическим и некритическим отношениями, верой и неверием, моральным абсолютизмом и моральным релятивизмом (или, как выразился немецкий экс-коммунист Эрнст Фишер, «пределом, до которого может дойти человек, не глупый и не порочный, преднамеренно не желающий видеть, слышать, критически думать... чтобы не подвергнуть сомнению цель, которой он служит...»)63 и помогает понять это явление.
Здесь не утверждалось, что отстранившиеся интеллектуалы более склонны к использованию двойных стандартов, чем кто- либо другой. Однако я полагаю, что у них эта склонность более заметна и более последовательна, поскольку они могут яснее и четче выразить свои мысли и больше тяготеют к высказыванию моральных суждений, чем большинство других людей, а кроме того, у них имеется лучший доступ к средствам массовой информации для распространения таких суждений. Использование двойных стандартов не является единственным признаком и одновременно недостатком либерально-радикальных интеллектуалов, однако эти люди показывают выдающийся пример современной тенденции, которая глубоко присуща каждому из нас.
Итак, какими же способами действуют эти двойные стандарты? Различия в степени выражения морального негодования или возмущения — особенно в случаях, когда в необходимости такого выражения, казалось бы, нет сомнений — требуют тщательного изучения способов, используемых для сведения на нет критических импульсов. Похоже, одни затрачивают на подавление своего возмущения или сострадания столько же сил, сколько другие — на выражение такого возмущения. И в этом процессе применение двойных стандартов является ключевым.
Вероятно, основной техникой, или первой линией обороны, является отрицание информации.64 Как отмечено выше, когда люди не желают возмущаться каким-либо злодеянием, то прежде
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
545
всего они отрицают сам факт его существования, приуменьшают его или подвергают сомнению надежность источников информации, — как например, Ноам Хомский подвергал сомнению сообщения беженца о злодеяниях в Камбодже, о которых предпочел бы не слышать. Кроме того, люди систематически пытаются (и часто успешно) уходить от информации, которая могла бы вызвать возмущение и создать конфликт между идеологическими (или ценностными) взглядами и конкретными инцидентами или фактами, подрывающими такие воззрения. (Конечно же, Джейн Фонда и Мэри Маккарти не одобряли пыток, но сочувствовали Северному Вьетнаму и повстанцам в Южном Вьетнаме и поддерживали их; такую поддержку было бы труднее оказать, если бы все злодеяния, совершенные там, действительно дошли до сознания.)65 Строго говоря, отрицание информации не требует использования двойных стандартов, так как изъятие или опровержение нравственно проблематичной информации избавляет и от необходимости оценивать такие события по различным стандартам. Единственный смысл использования двойных стандартов в этом контексте относится к оценке свидетельств, которая будет то строгой и скептической (например, в случае антикоммунистических беженцев из Камбоджи), то мягкой и доверительной, когда свидетельство подтверждает существующие предубеждения или предрасположения (когда, скажем, другие группы беженцев сообщают о некоей зверской военной акции, предпринятой вооруженными силами США). Роберт Конквест отметил такое отношение в другом историческом контексте, когда Сартр явно считал надежными свидетельства жертв пыток в Алжире со стороны Франции, но требовал официального советского подтверждения репрессий, проводимых Сталиным. Более раннее заявление Сартра помогает понять его двойной стандарт: «Поскольку мы не были ни членами партии, ни признанными сочувствующими, мы не были обязаны писать о советских трудовых лагерях; мы имели право стать в стороне от споров относительно характера этой системы при условии, что не произошло никаких событий социологического значения».66
Отказ от информации следует отличать от простого неведения. Нельзя переоценить значение простого незнания интеллектуалами политических систем для оценок, которые значительно способствовали формированию неправильного массового представления о фактическом характере таких систем. Большинство путешественников очень мало знало о фактах политического насилия и принуждения, о привилегиях элитарных групп, потоке репрессивной пропаганды, огромной и сводящей все на нет бюрократии, пропастью между теорией и практикой — то есть
546
Пол Холланлер
о том, что так сильно беспокоило их в собственных обществах. Недостаток информации и недостаток воображения часто идут рука об руку. Непросто узнать о вещах, которые трудно себе представить: показательные суды, крупномасштабные принудительные перемещения населения, всепроникающий контроль в повседневной жизни, тщательно продуманное искажение действительности пропагандой или возможность всеобщего запугивания без откровенного, заметного насилия. Даже если наши интеллектуалы воспользовались бы тем, что Кёстлер назвал «шоковой терапией фактами»,67 интересно, какое воздействие это оказало бы на них без возможности образного узнавания, необходимого для надлежащей оценки? Однако такой «терапии» обычно не было, и неведение мостило дорожку к вере и восхищению. Немного усилий было затрачено, чтобы нарушить гармонию веры и «знания». Большинство людей, включая интеллектуалов, не стремилось вызывать неприятное противостояние (или «диссонанс») между установившимися и поддерживаемыми представлениями и фактами или информацией, которая подвергла бы эту веру сомнениям.68
Как отмечалось выше, другим основным способом преодоления таких затруднений является контекстное переопределение конкретной малопривлекательной политики или действий в остальном симпатичных режимов или политических актеров.* Этот способ иногда объединяют с попыткой «понять» нравственно сомнительный инцидент — попыткой, само собой разумеется, весьма изощренной. (Радикальный адвокат Уильям М. Кюнстлер сказал, что «он думает, что может „понять движущие мотивы“, лежащие за решением правительства Вьетнама заставить так называемых „военных преступников“ искать мины, оставшиеся после войны. „Это — часть ужасного, ужасного времени“, — добавил он».)70
Когда эти механизмы вступают в игру, доброжелательный наблюдатель воздерживается от прямого одобрения, но смягчает или нейтрализует ощущение произвола, указывая на весь контекст, в котором нравственно неприемлемые действия имели место. Обычно в основе такого оправдания лежат целесообразность и ссылки на будущее. Как описал это Стивен Спендер: «Когда-нибудь, где-нибудь все сольется в одно счастливое целое... В мозгу засел довод, опирающийся на абстрактную сумму, и ради него отбрасываются все более мелкие соображения...».71
* Например, Стотон Линд и Том Хейден так объясняли злодеяния, совершенные в Северном Вьетнаме в период коллективизации сельского хозяйства (изящно упомянутые, как «события 1950 г.»): «Мы полагаем, что этот эпизод следует рассматривать как продолжение войны против Франции, и имевшее место насилие нужно оценивать в том же контексте, что и террор при сопротивлении».69
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
547
Если политическая система «в основном» хороша или «ведет в правильном направлении», то есть если весь контекст достоин похвалы (обстоятельство, обычно выводимое из декларирования хороших намерений), противоречащие ему детали нужно оправдать и подогнать; если можно, то отрицать и выбросить из головы, если нет, то неохотно рассмотреть, но помещая в «надлежащий контекст», то есть лишая его какого-либо значения для формирования морального осуждения. Многие интеллектуалы очень восприимчивы к добрым намерениям, которые режимы, называющие себя «социалистическими», регулярно провозглашают. Когда обращаются к контекстным оправданиям, моральная ответственность уменьшается в основном не из-за непосредственного опровержения нравственно неприемлемых качеств, действий или политики, но за счет подчеркивания сопутствующих обстоятельств. Точно так же прошлое или будущее могут обеспечить некоторую контекстную защиту. Замечательно, что многие западные интеллектуалы, похоже, разделяют склонность, приписанную Ленину и его последователям, а именно: отделять сомнительные средства от безупречности целей, к которым они, как считалось, вели.72
В наше время, когда многие люди, в особенности интеллектуалы, часто опасаются встретить неискренность, моральный произвол, творимый истово и искренне, легче оправдывается, чем столь же отталкивающие действия, творимые с недостаточным убеждением. И вновь при таких обстоятельствах благие намерения кажутся более важными, чем неприятные последствия, а идеалистические мотивы служат защитой от резкого морального осуждения. В частности, магия революционного (или очищающего) насилия, то есть насилия из лучших побуждений, была для западных интеллектуалов очень привлекательна и, соответственно, не носила яркого морального клейма.73
Другой почтенный и хорошо известный метод приглушения потенциального морального возмущения состоит в шельмовании жертвы. При этом безнравственные действия не отрицаются, но становятся «несущественными» — их не следует принимать в расчет, поскольку сами жертвы находятся вне морали и к ним моральные соображения или критерии попросту неприменимы, а творящие моральный произвол освобождаются от ответственности и осуждения, ибо в их жертвах нет ничего или почти ничего человеческого. Современная история и в особенности кампании по пропаганде и террору в тоталитарных государствах дают множество примеров массового убийства, которому предшествует шельмование. Сущность этого метода состоит в замене живых людей абстракцией — процесс, увиденный Олдосом Хаксли (и другими) еще десятилетия назад. Он писал:
548
Пол Холландер
Когда о конкретных мужчинах и женщинах думают просто как о представителях некоего класса, которому до этого был навешен ярлык зла... тогда нежелание мучить или убивать пропадает. Браун, Джонс и Робинсон больше не являются Брауном, Джонсом и Робинсоном, но рассматриваются как еретики, язычники, жиды, черномазые, варвары, гунны, коммунисты, капиталисты, фашисты, либералы — в зависимости от повода. Когда они получили такие определения и отнесены к ненавистному классу, Браун, Джонс и Робинсон больше не обозначают тех, кем они являются на самом деле, — людей — а становятся для тех, кто говорит на этом в высшей степени неподходящем языке, просто паразитами или и того хуже, демонами, которых можно и нужно уничтожать... Везде, где затронуты люди, присутствуют вопросы этики морали...74
(Еще один пример этого явления — мода, распространенная в 1960-е гг. среди многих западных радикалов, называть полицейских «свиньями».)
И наконец имеется механизм выборочного детерминизма,75 который за последнее время стал играть видную роль в формировании выборочного морального возмущения (и сочувствия) и прекрасно иллюстрирует использование двойных стандартов. Выборочный социальный детерминизм может рассматриваться как вариант контекстного оправдания, поскольку он также стремится уменьшить ответственность грешника (предполагается, что некоторые деяния все-таки считаются «грехом»).
Хотя некоторые аспекты социально-культурного (или зависящего от окружения) детерминизма человеческого поведения всегда были одной из главных проблем, рассматриваемых общественными науками, относительно новым для американского и других западных обществ в настоящее время является степень популярности этой темы, легкость, с которой ее применяют к проблемам личности, и селективность ее использования. Детерминизм, столь популярный среди множества современных интеллектуалов, предполагает (или подразумевает), что детерминировано лишь поведение «проигравших» и, следовательно, их ответственность за свои действия и соответствующая моральная ответственность снижены. Таким образом, для оправдания, смягчения или осуждения сомнительных в моральном плане деяний со стороны различных групп детерминизм применяется выборочно. Так как моральный произвол предполагает свободу выбора со стороны тех, кто вызывает наше возмущение, вероятная схема агрессор-жертва нуждается в некоем вспомогательном устройстве вроде выборочного социального детерминизма, который освобождает от ответственности за свое поведение одни группы, но не освобождает другие, тем самым вновь вводя двойные стандарты. Не удивительно, что «риторика угнетенных групп всегда принимается по номинальной стоимости; их обиды таковы, как они сами их чувствуют, их мотивы всегда совпадают с декларируемыми». При этом считается, что те, кто не относится
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
549
к категории проигравшего-жертвы, «скрывают свои истинные намерения, кои следует выводить на чистую воду...».76
Хотя выборочный детерминизм и использование двойных стандартов могут быть прослежены по способам идентификации жертвы или проигравшего, в среде западных интеллектуалов больше нет консенсуса по поводу распознания истинных проигравших и подлинных жертв. Такие определение и идентификация не всегда основаны на бесспорном историко-политическом свидетельстве, но часто являются слишком индивидуальными, эмоциональными или устаревшими. Проигравший для одного эксперта является триумфатором для другого, а многочисленные споры способствуют формированию весьма приемлемых иерархий угнетатель-жертва .
Письмо, опубликованное на страницах «Нью-Йорк Таймс», иллюстрирует эту проблему в несколько другом контексте:
Когда слушаешь истории, связанные с угонами [самолетов], каждый раз возникает тема крушения надежд: кажется, что для угонщика налет представляется последним, отчаянным усилием выражения личной порядочности... Мне горько слушать этих напуганных, подавленных людей, приговоренных к 20 годам еще большего отчаяния. Возможно, понимание побудительных сил в человеке, стоящем за этим актом, успокоит наше негодование в надежде, что потенциальный налетчик ощутит сочувствие людей данной нации ему, его экономическому и личному краху и его отчаянию.77
Выборочный детерминизм является относительно новым и сложным механизмом нейтрализации морального возмущения (или роста сострадания), который возник как вследствие популяризации социальных наук, так и благодаря склонности людей к социальной критике. Социальный критицизм, ощущаемый и выражаемый с неистовым пылом, должен четко сосредоточиться как на тех, кто отвечает за пороки общества, так и на тех, кто принижает значение таких пороков.
Анализ двойных стандартов может привести к выводу, что сама идея морального произвола и сочувствия ему требует дополнительного изучения, коль скоро она может иметь так много выражений, и когда в столь многих случаях моральный импульс можно подавить или разжечь, смягчить, рационализовать, оправдать или поставить вне закона все более изощренными способами. Конечно, это исследование не слишком способствует укреплению веры в универсальный, чистый или беспристрастный моральный импульс. Напротив, кажется, что интенсивность моральных чувств, и особенно морального возмущения и сочувствия гораздо больше определяются личностью актеров, занятых в нравственно предосудительных действиях (и личностями жертв), чем непосредственно самими действиями. В зависимости от того, вызывают ли эти актеры симпатию или нена¬
550
Пол Холланлер
висть, подобные действия будут восприняты и оценены по-разному, и им припишут большее или меньшее зло. Как интеллектуалы, так и неинтеллектуалы одинаково склонны к такой позиции.78
А вот для сравнения ретроспективное самокопание Стивена Спендера, которое иллюстрирует, что может означать непредубежденная моральная восприимчивость:
Когда я увидел фотографии детей, убитых фашистами, я почувствовал неистовую жалость. Когда сторонники Франко говорили о жестокости красных, я был просто возмущен, что люди могут говорить такую ложь. В первом случае я видел трупы, в втором — только слова. Однако... постепенно я пришел в ужас, поняв, как работает мой ум. Мне стало понятно, что если меня не заботит участь каждого убитого ребенка, мне вообще наплевать на убиваемых детей.79
Утверждать, будто то, чему мы являемся свидетелями в связи с быстрым увеличением роли двойных стандартов, есть просто оживление релятивизма светской этики или же все это является частью современной фрагментации ценностей, кажется несколько неадекватным объяснением таких позиций. Неадекватным, поскольку наряду с релятивизмом может наблюдаться решительный поиск моральных абсолютов и истин.80 Кажется, моральный релятивизм на Западе вызвал новые поиски моральных истин (иногда через революционную политику, иногда через религиозные культы), которые, в свою очередь, во всех ситуациях, представляющих классическую дилемму целей и средств, создают новые формы морального релятивизма.
Предложенная ревизия житейской мудрости интеллектуалов базировалась на трех подходах, не всем из которых уделено равное и достаточное внимание в обширной литературе, посвященной интеллектуалам.
Многое было написано о маргинальности, плохой интеграции или отчуждении интеллектуалов в западных обществах. Я заметил, что эти наблюдения относятся к конкретным историческим периодам и выражают некое культурное отставание, поскольку интеллектуалы в западных обществах больше не являются маргиналами или одиночками, хотя часто продолжают считать себя таковыми.
Некоторое внимание было уделено предполагаемой жажде власти со стороны интеллектуалов, или синдрому «король-философ». Конечно, желание если не власти, то хотя бы возможности оказывать влияние на формирование социальных институтов и политики часто возникало в умах многих западных интеллектуалов и повлияло на их позицию и убеждения, которые мы рассмотрели в этой книге.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
551
И наконец, мы рассмотрели процесс секуляризации и его последствия для западных интеллектуалов, процесс, который был наименее исследован и признан в качестве источника позиций, являющихся главной темой настоящего исследования. Возможно, преобладающие до наших дней представления, что интеллектуалы тяготеют к рационализму, скепсису, критицизму и обособленности, привели к недооценке их потребности верить, которая, конечно же, у них никак не слабее, а возможно, гораздо сильнее соответствующих потребностей «обычных» людей. (Эта точка зрения, в свою очередь, опирается на предположение, сделанное Карлом Мангеймом, что поскольку интеллектуалы свободны от классовых интересов, — так строится аргументация — они лучше понимают действительность, ибо их восприятие и суждение не искажены такими интересами.)81 Избыточно рационалистическое изображение интеллектуалов также затенило смысл той потери, которую они испытали, когда в нашем веке созрели плоды секуляризации. Это было, как я полагаю, растущее стремление найти цель и смысл жизни, которое вело интеллектуалов к позиции, описанной в этой книге. Политика дала новые объекты поклонения, поскольку, по словам Макса Вебера, боги ушли из жизни западных обществ. В течение некоторого времени многие западные интеллектуалы находили этот объект поклонения в советской социальной системе, ее лидерах и официальных доктринах. Их длительная привязанность к подобным «объектам» в более поздние времена этого столетия (например Куба, Китай, страны третьего мира) прекрасно подтверждает аргумент, что имеется не зависящая ни от чего потребность в поиске удовлетворения, и что хотя найденное удовлетворение было явно политическим, его поиски определяются более глубокими аполитическими источниками.
ОБ АНТИУТОПИЗМЕ
Даже при том, что обращение читателя в антиутопическую веру не было главной целью настоящей книги, безусловно, в своей основе она имеет антиутопическую направленность. Однако именно среди фактов, изложенных в книге, мы видим политические режимы, которые боролись за радикальное, можно было бы сказать, утопическое, и, казалось, благотворное преобразование социальных институтов и населения, но оказались далеко от намеченных целей, хотя наши знания деталей этих неудач значительно разнятся от страны к стране, а степень несоответствия между идеалами и их воплощением остается
552
Пол Холландер
спорной. Соответственно, интеллектуалы, стремящиеся к утопии, были объектами нашей критики (иногда даже сарказма), поскольку было четко показано, что идеализация ими некоторых стран и их политических систем, — которые они наделяли утопическими возможностями — была иллюзорной. Например, коллективизация сельского хозяйства в СССР привела к голоду в 1930-е гг. и к последующей хронической нехватке продовольствия, а революционные октябрьские лозунги о всеобщем равенстве уступили место жесткой иерархии и новому неравенству в распределении как власти, так и материальных привилегий. На Кубе при Кастро стремление к моральным стимулам в работе не дало эффекта. Предполагаемый идеализм и антибюрократические цели Культурной революции в Китае привели к развалу экономики и культуры, а также к репрессиям. Список таких примеров можно было бы продолжить, поскольку рассматриваемый период времени дает исчерпывающую информацию в поддержку утверждения, что радостные ожидания, порожденные этими обществами, в значительной степени были ошибочны. Утопические или квазиутопические образы этих стран, продемонстрированные на страницах путевых дневников, были рождены выборочным восприятием визитеров, помноженным на широкое гостеприимство принимающей стороны. Желание поверить было главной движущей силой политически ошибочных представлений и неправильных оценок, обсужденных выше. В частности, новые формы принуждения, всепроникающая политическая дисциплина и быстрое возрождение неравенства вкупе с непоколебимым официальным самодовольством, существующим в каждой из внушающих благоговение стран, еще раз показали, что реализация утопических амбиций уводит в сторону тех, кто намерен их осуществить. Без учета таких отходов от утопических заявлений и провозглашаемых целей, а также без откладывания сроков их достижения или фиктивных заявлений о таких достижениях, было бы трудно доказать, что путешественники ошиблись в оценке анализируемых политических систем.
Возможно, большая часть этих наблюдений в наши дни вызовет мало споров; действительно, различные исторические и политические события свидетельствуют в пользу точки зрения, высказанной в этом исследовании. Немногие из тех, чьи мысли цитировались в этой книге, и сегодня все еще будут упорствовать в своей привязанности к СССР. Точно так же, но более неожиданно, в умах многих бывших поклонников неуверенность пришла на смену восхищению Китаем и Северным Вьетнамом — странами, которые в конце 1970-х гг. стали практически
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
553
врагами.4 К тому же, появление беженцев на лодках мешает считать Вьетнам примером политической добродетели, а вьетнамское вторжение в Камбоджу не дает права рассматривать вьетнамский режим как «осуществление власти новыми способами». Позже (весной 1980 г.) образ Кубы также сильно пострадал от неожиданного массового бегства приблизительно 120 000 ее граждан, большинство из которых выросло при режиме Кастро, но, похоже, не стало приверженцами распределения по группам и откладывания материального вознаграждения на более поздние сроки, — качеств, которые эти политические системы стремятся воспитать. (В то же самое время кубинские военные авантюры в Африке и растущая близость Кубы к СССР, казалось, не тревожили твердых сторонников кубинского социализма. Как и освобождение после двадцати лет заключения бывшего революционного лидера Хубера Матоса не смогло заставить сочувствующих обратить свое внимание к менее утопическим чертам кубинской системы.)
Остается поподробнее поговорить об антиутопических корнях, о которых я уже упоминал. Несомненно, эти замечания не претендуют на оригинальность. Помимо прочего, они основаны на наблюдении, что крупномасштабные утопические схемы для своего осуществления, кроме политического воздействия, требуют мощного принуждения и соответствующей утраты населением личной и групповой свободы. Как выразился один чешский писатель: «Вы не можете строить утопию без террора и... вскоре все, что останется, это террор». Террор может не быть единственным, что осталось, но уж конечно, из того, на что уповали, останется немного. Недавно Бернар Анри Леви по сходному вопросу заметил: «Гулаг — это не грубая ошибка или случайность, не язва или побочный эффект сталинизма, но необходимое следствие социализма, который... может стремиться к всеобщему, только удаляя мятежников, неисправимых индивидуалистов, подальше из общества во тьму... Мы должны добавить: ...нет бесклассового общества без своей террористической правды».82 (В то же самое время можно творить утопию без террора где- нибудь на общественной ферме в Вермонте или Калифорнии, если такие попытки осуществляются малым числом подходящих индивидов, свободных уйти в любое время и обычно имеющих возможность найти себя в чем-то другом в случае, если здесь их постигнет неудача или им просто надоест.) ** В частности, начиная работу над этой книгой, я не мог предположить, что после смерти Мао Цзэдуна сами китайские власти предоставят аргументы против восторженных выводов путешественников и новые основания для сомнений по поводу их объективности.
554
Пол Холландер
Отрицание крупномасштабного принуждения при стремлении к иллюзорным и, вероятно, недостижимым целям не является единственным основанием для высказанных здесь утверждений. Существует также глубокое недоверие к организационным, систематизированным, самоорганизующимся схемам, призванным наполнить жизнь отдельных личностей большим смыслом и увеличить личное счастье политическими средствами. (Само собой разумеется, что такие опасения не распространяются на усилия облегчить политическими средствами жизнь или повысить материальный достаток.) Хотя личная жизнь политическими средствами может быть до некоторой степени улучшена, политические утопии, нацелившиеся на окончательное уничтожение конфликта, неудовлетворенности или несчастья, вызывают подозрения.83 Кроме того, я считаю утопическое восприятие непривлекательным, поскольку его трудно совместить с регулярной и энергичной критикой.
Хотя в человеческой жизни имеют место периоды неверия, оно относится скорее к религиозной (или эстетической), чем к политической области. Кроме того, как показано в настоящем исследовании, имеется слишком большое сходство между высокими утопическими надеждами и ожиданиями, с одной стороны, и легковерием, рационализацией репрессий и двойными стандартами, с другой стороны.
Западные интеллектуалы, с которыми мы имели дело в данной книге (и другие, подобные им), не имели возможности инициировать современные политические утопии или внести вклад в их реализацию. Таким образом, они убереглись от вышеупомянутых соблазнов и в особенности от соблазнов устранения человеческих препятствий на пути исторического прогресса (иногда такой процесс наблюдается) и рассматривания различных групп людей как объектов для перемещения, понукания и мобилизации.
Таковы вкратце основные предпосылки моей антиутопичес- кой позиции и убеждения, что как усилия по созданию утопии политическими средствами, так и овации с безопасного расстояния в честь таких попыток в лучшем случае являются сомнительными. В то же время я должен сделать несколько замечаний относительно собственной позиции. В конце концов, быть законченным антиутопистом означает слишком близко подойти к прозаическому пессимизму или разъедающему скептицизму по отношению к любому проекту значительного социального совершенствования. Неподготовленный антиутопист может легко прийти к принятию существующего положения, к полной покорности, замыканию в себе и цинизму. Что еще хуже, он может
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
555
прийти к заключению, что и не должно существовать никакой коллективной мечты, раз она так легко может превратиться в кошмар. Авторы недавнего исследования западных утопий уподобляют их мечтам, без которых психическое здоровье общества может подвергнуться такой же опасности, как и здоровье индивида, и они одобряют мудрое культивирование «древнего искусства мечтать».84 Трудно привести доводы против привлекательности мечты, против желания общественной гармонии. Безотносительно их исторических последствий, мечты о социальном совершенствовании и человеческом освобождении являются привлекательными, и жизнь без них была бы значительно беднее. Пожалуй, можно сделать вывод, что утопии безопасны до тех пор, пока не сделаны попытки насильственного их осуществления.*
Антиутопичность не следует лишать моральной озабоченности, как это иллюстрируется размышлениями советского интеллектуала, живущего в СССР:
Тогда что же важно?
Это звучит банально. Самосовершенствование. Личные усилия. Изучение и раздумья для собственного морального развития. Классические либеральные ценности. Честность, лояльность и доброта к десятку самых близких для меня людей, а не выражение своих добрых намерений к мировой истории или социальным движениям. И для страны в целом — ежедневная рутинная работа в экономической и социальной сферах и прекращение оценки того, что работает. Оценка реальной заработной платы вместо изрекания марксистских лозунгов. Оценка реальной свободы и благосостояния вместо разговоров о классовой борьбе и «социалистической» свободе. Другими словами, прагматизм. И конец марксизму и всем прочим «измам».
Мы предполагали, что социализм сам по себе создает лучшее общество и лучших людей... Но, очевидно, это не так. Сам по себе социализм не создает хороших людей, хороших зданий, вообще что-либо хорошее. И уж конечно, не доброжелательность.86
РЕЗУЛЬТАТЫ
И наконец мы должны задаться вопросом, каковы были результаты позиции, занимаемой западными интеллектуалами и рассмотренной в настоящей книге? Имеет ли хоть какое-то значение, что многие западные интеллектуалы, более или менее видные, думают и чувствуют относительно некоторых идеализируемых обществ? Являются ли их поездки, их политические паломничества просто преходящими эпизодами современной социальной и интеллектуальной истории, или они дают более стойкий эффект? Являются ли эти паломничества свидетельством кризиса ценностей, суждения и здравого смысла в среде одной из
* Трудно было обсуждать эти вопросы, не ссылаясь на Джонстаун (в Гайане). Все же даже эта утопическая схема была оправдана как ответ на отчуждение и дискриминацию.85
556
Пол Холланлер
важных элитарных групп? Должны ли политические (и моральные) ошибки в восприятии и неправильные суждения таких интеллектуалов привести нас к заключению, что несмотря на их погруженность в идеи, превосходное образование и (предположительно) идеалистическое мировоззрение, интеллектуалы не способны лучше ухватить правду и действительность, чем те, кто не обладает такими качествами? И если так, то должны ли творцы политики в западных обществах обращать внимание на их взгляды, призывы и советы?
Значение явления, которое было главным предметом этой книги, — а именно, отчуждения большого количества западных интеллектуалов — в значительной степени определяется предпосылкой, что эти мужчины и женщины, политические паломники, выражают позиции и склонности, которые разделяются многими их менее известными собратьями и современниками. Авторы таких путевых заметок лишь более радикально и более явно выражают широко распространенную позицию разочарования и замешательства и, несколько менее явно, готовность видеть добродетели в удаленных обществах.
Однако остается вопрос: ну и каков результат? Какое имеет значение, что западные интеллектуалы в разное время были очарованы СССР, Китаем, Кубой и Северным Вьетнамом? Будет ли иметь значение, если следующая волна паломников начнет превозносить достоинства Албании, Мозамбика или Никарагуа? Ясно, что паломничества следует рассматривать скорее как симптомы отчуждения, нежели как отражение поддержки конкретных политических систем. Можно возразить, что паломничества все же дали несколько существенных результатов, особенно если мы обратимся к случаю с СССР: за «Красным десятилетием» последовала холодная война и рост враждебности к СССР и коммунистическим движениям; симпатии, которые ранее преобладали во многих кругах интеллектуалов и общественном мнении, в период после Второй мировой войны улетучились, особенно в США. За немногим исключением, сами интеллектуалы, те, кто ранее одобрял Советский Союз, умерили свой просоветский пыл или предпочли хранить молчание по данному вопросу; некоторые из них покинули политику (независимо от того, действительно ли они изменили свое мнение).87, * Подобным же образом, слепое восхищение Китаем в начале 1970-х гг. сменилось после
* Некоторые из этих ранее просоветских или старых левых интеллектуалов вновь проявились в общественной жизни в 1960-х гг., поддерживая студенческие волнения и приветствуя новую волну разочарования в американском обществе, что, казалось, подтверждало их прежнее отчуждение. Большинство их, однако, не пыталось вновь разбудить свои просоветские симпатии.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
557
смерти Мао Цзэдуна на более критическое и недоверчивое отношение. Однако положительные оценки в начале 1970-х гг. внесли вклад в более благожелательную политику США в отношении Китая и к широкому принятию такой политики обществом. Безусловно, восторженные отчеты о визитах в Северный Вьетнам во время войны усилили антивоенное движение, а также имели некоторые практические последствия, хотя понятно, что сила антивоенного движения больше связана с отрицательными оценками США и их внешней политики, чем с положительными оценками их врага. Что касается позиции и политики по отношению к Кубе, то тут не совсем ясно, каким был результат воздействия восторженных визитеров. Куба все еще пользуется приличной репутацией у многих левых интеллектуалов, но эта репутация является результатом, по крайней мере частично, страстных речей большинства ее защитников, голоса которых несомненно продолжают заглушать критические высказывания, включая свидетельства кубинских эмигрантов. С другой стороны, в течение 1960-х и 1970-х гг. ни одна из этих благоприятных оценок не вызвала и трещинки в американской внешней политике по отношению к Кубе или в осуществлении блокады. А присутствие Кастро в западных средствах массовой информации, где его представляют с некоторым сочувствием, объясняется скорее его броской внешностью и яркой индивидуальностью, нежели одобрением его политики со стороны отчужденных интеллектуалов.
Мне кажется, что самым важным было не конкретное восхваление конкретных стран и политических систем в конкретный момент. Гораздо важнее совокупное воздействие клеветы, которую интеллектуалы вылили на собственное общество и которая, как мы видели, почти неизменно сопровождалась преклонением перед другими обществами. Даже если предположить, что вся или большая часть критики западных социальных систем полностью справедлива, совокупный эффект этого постоянного разоблачения и озабоченность бедами общества усиливает ощущение болезни и отчуждения, проистекающих из проблем и разочарований, многие из которых едва ли можно разрешить. Они включают, прежде всего, отсутствие смысла жизни и слабые связи в секуляризованных индивидуалистических обществах, а также бессилие, которое сегодня ощущает большинство граждан в таких сложных массовых сообществах. Глубокое воздействие осуждения интеллектуалами своего общества, их почти инстинктивное, рефлексивное умаление его важнейших ценностей и их отказ отождествить себя с его институтами может иметь и другие последствия. Такая позиция может вносить вклад не только в общественное замешательство, но и в понижение морального уровня, а также в потерю
558
Пол ХолланАвр
воли политическими элитами88 — и, в конечном счете, к отказу от поддержки западных политических институтов как со стороны народа, так и со стороны элит. Много раз говорилось, что современные общества не смогут долго прожить без поддержки интеллектуалов. Хотя сегодня похоже, что ожесточенное и безоговорочное отрицание западных обществ стало меньше, чем в 1960-е и начале 1970-х гг., доброжелательности отнюдь ни прибавилось; немногие из западных интеллектуалов даже среди тех, кто не особенно враждебен социальной системе, спешат заявить о своей поддержке западных ценностей и институтов или об их легитимности. Формы отчуждения, тщательно исследуемого в этой книге, важны, даже если они не всегда говорят об открытой враждебности, а лишь свидетельствуют о пассивном отказе в поддержке; такой отказ является одним из многих факторов, которые снижают тонус и живучесть западных обществ.*
Позиции и действия многих современных западных интеллектуалов свидетельствуют об их вере в возможность сохранения своего сравнительно чудесного существования, которое позволяет им быть критиками и врагами социальной системы, но одновременно оставаться в привилегированном положении в материальном отношении, иметь высокий профессиональный статус и пользоваться свободой выражения своих мыслей. Короче говоря, похоже, они считают, будто «репрессивная терпимость» сохранится, а ее степень останется весьма высокой. Прежде всего, они считают свободу выражения само собой разумеющейся. Как отмечал Никола Кьяромонте: «Мы на Западе больше не знаем и не хотим знать, что такое свобода, и более или менее придерживаемся мнения, что политическая свобода... является своего рода товаром. Это один из многочисленных предметов потребления, которые наше высокоразвитое общество тратит на нас, а мы используем его, поскольку он под рукой, как мы могли бы использовать автомобиль или стиральную машину. Но даже если бы его рядом не было, не беда».90 Существует множество интеллектуалов, кто отверг бы мысль, что политическая система, которая гарантирует им (и другим) свободу выражения, — которая является краеугольным камнем их профессионального и морального существования — заслуживает хоть толики поддержки. Напротив, несмотря на зависимость от такой свободы, они, по-видимому, думают о ней очень мало и, как демонстрировалось выше, способны восхищаться обществами, где такой свободы не существует.
* Я не верю, что возникновение так называемого неоконсервативного интеллектуализма®9 в США или «новых философов» во Франции существенно изменило уровень и вид обсуждаемого здесь отчуждения.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
559
Более далеко идущий вопрос: действительно ли, вольно или невольно, западные интеллектуалы вносят вклад в разрушение своих относительно свободных обществ, частично из-за собственных иллюзий относительно других обществ, а также в результате периодических фантазий по поводу новых форм освобождения и коллективного вознаграждения? Если, как заметил советский эмигрант по поводу отношений в США, «в XIX в. электорат мог себе позволить роскошь не знать обществ, отличающихся от его собственного, и выбирать государственных деятелей, которые также едва ли что-нибудь о них знали»,91 то, к сожалению, это больше не так. Невежество и иллюзии относительно других обществ (часть из которых настроена к нам весьма недружелюбно)* совместно с отказом многих западных интеллектуалов играть роль в легитимизации собственного общества или оказать ему какую-либо моральную поддержку, может все же иметь и материальные последствия. Трудно судить, насколько драматические, поскольку очевидно, что отношение интеллектуалов — не единственный фактор, затрагивающий здоровье и жизненность этих обществ. Можно отметить, например, что появление в США поколения (и даже не одного) образованных молодых людей, не способных задуматься о внешней политической угрозе их стране и готовых — по крайней мере некоторые из них готовы — вспоминать старый британский лозунг «лучше красный, чем мертвый» и утверждать, что «не существует того, из-за чего стоило бы умирать», а более конкретно, «последствия советской агрессии были бы несравнимы с последствиями ядерной войны». Именно так недавно заявили студенты колледжа Амхерст.93 Возрождение движения за уклонение от военной службы несомненно указывает, что многие из младшего поколения и в особенности их более образованная часть не желают предпринимать никаких шагов (даже регистрироваться для возможного будущего призыва), которые могли бы создать альтернативу сдаче перед лицом советской угрозы или ядерной войны, то есть выбору между «красным» и «мертвым». Лозунг современных противников регистрации призывников — «нет призыва, нет войны» — воплощает позицию, которая возлагает на США вину за прошлые
* Леонард Бернстайн, известный композитор и дирижер, в статье, озаглавленной «Только предположим, что мы разоружились», писал: «Что они сделали бы с нами? [То есть, если бы США односторонне разоружились], почему они захотели бы взять на себя ответственность за... столь огромное, сложное и проблемное общество, как наше? Да еще говорящее по-английски!... [и] как они смогут воевать, если не будет врага? Гипотетический враг волшебно превратился бы в 200 миллионов улыбающихся сильных мирных американцев». Он добавляет, что, если бы такое разоружение произошло, советские люди, скорее всего, «сместили бы своих воинственных лидеров и преобразовали союз социалистических республик в истинно демократический союз».
560
Пол ХолланАвр
и будущие военные конфликты и неизменно отказывается признать, что в мире существуют враждебные силы, которые, вопреки взглядам Бернстайна, не выказывают склонности компенсировать военную слабость моральной или политической силой.
Если молодые привилегированные американцы не желают регистрироваться для призыва на военную службу, то это не просто потому, что они являются эгоистами или трусами, но также и потому, что они испытывают немного симпатий к своему обществу и его относительным преимуществам, если испытывают их вообще. Начиная с 1960-х гг. для многих подобное отношение сменилось некой неловкостью за прошлые преступления своей страны, с истребления индейцев до порабощения чернокожих, от бомбежек Вьетнама до разграбления слаборазвитых стран многонациональными корпорациями, и за резко контрастирующий жизненный уровень американцев по сравнению с уровнем жизни многих людей из остального мира. Отчуждение институтских профессоров по общественным наукам (или гуманитариев) перешло на преподавателей общественных наук в школах и на их учеников. Недоверие и скептицизм академиков, писателей, журналистов, создателей фильмов и актеров проникает в широкую публику. Изображения американского общества, отраженные в средствах массовой информации, популярной литературе, социологических работах и курсах, и проповеди «прогрессивных» министров в течение почти двух десятилетий были исключительно неблагоприятными. В последние годы тон и проявление отчуждения, возможно, несколько изменились, но не по существу.
Как сказал Дюркгейм, общество прежде всего является представлением, которое оно формирует о самом себе. Представление, которое американское общество сформировало о себе в последние десятилетия, — с помощью тех, кто наиболее систематически был вовлечен в формулировку соответствующих идей, то есть интеллектуалов, — не слишком ободряюще. Если чувство собственного достоинства столь же важно для функционирования общества, как самоуважение для процветания индивида, то наши перспективы не радужны.94
Можно возразить, что данная оценка результатов, обусловленных обсуждаемой в книге позицией западных интеллектуалов, не только неприятно мрачна, но и преувеличивает значение идей в социально-политических делах. Здесь не место для организации последнего редута, призванного защитить важность идей в общем смысле или в связи с рассматриваемым вопросом. Читатель сам должен рассудить — а собраны еще не все свидетельства, — насколько важными являются идеи, которые анализировались в настоящем исследовании.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
561
Нет смысла отрицать, что взгляды, отраженные на этих заключительных страницах, далеки от уверенности в выживании ценностей и институтов, которые обычно пользовались значительным уважением на Западе. За таким пессимизмом таится робкая надежда — возможно, основанная на вере в чудо, — что рассмотренным разрушительным процессам все же можно помешать, если вовремя заняться их профилактикой.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Emile Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life, New York, 1961, p. 470.
2. Gustave Le Bon, The Psychology of Socialism, Wells, Vt., 1965 (впервые опубликовано в Англии в 1899 г.), p. ix-x, xi-xii.
3. Wallace Turner, «Sect Lawyer Explains Role in Custody Fight over Boy», New York Times, November 27, 1978.
4. William Künstler quoted by Nat Hentoff, Village Voice, May 28, 1979.
5. Hicks, Where We Came Out, p. 66.
6. Shils, Intellectuals and the Powers, p. 183. Однако указывалось, что по крайней мере для небольшой группы элитарных интеллектуалов жизненный уклад сдерживал их отчуждение: «Несмотря на их очевидное отчуждение в 1960-х гг., большинство элитарных американских интеллектуалов было просто слишком хорошо обеспечено и слишком увязло в бюрократической повседневности, чтобы их можно было считать сильно отчужденными... ». (Kadushin, American Intellectual Elite, p. 355-356).
7. Как сформулировал Никола Кьяромонте: «Современный человек не может постичь какого-либо другого абсолюта, нежели политический абсолют... » ; таким образом, политическая вера становится заменой религии (Nicola Chiaromonte, The Worms of Consciousness and Other Essays, New York, 1976, p. 232).
8. William Kornhauser, The Politics of Mass Society, Glencoe, 111., 1959, p. 184.
9. Согласно Липсету и цитированным им работам, «никакая другая страна и близко не походит на США по приверженности к религии», — утверждение, которое, кажется, противоречит аргументу, высказанному здесь (Seymour Martin Lipset, «Introduction to the Norton Edition,» The First New Nation, New York, 1979, p. xxxvi-xxxvii). Заключение Липсета основано на опросном исследовании и, в частности, на утверждениях, сделанных респондентами при ответе на вопросы о важности религии в их жизни, частоте посещения церкви и вере в Бога. Для критического анализа таких результатов см.: Jan N. Demerath and Richard Levinson, «Baiting the Dissident Hook», Sociometry 34, № 3 (1971). Сомнительно, что на основе таких признаков может быть установлена степень; с которой религиозные ценности влияют на жизнь народов и наполняют ее смыслом. Кроме того, можно сказать, что религиозные ценности, практика и сами институты в США стали значительно более секуляризованы, облегчая таким образом их приятие. Нельзя забывать также, что при опросах люди говорят о вере и своем к ней отношении то, что они считают правильным или подобающим случаю, но это имеет мало общего с их фактическим поведением.
Независимо от вероисповедания опрошенных немногое указывает на то, что религиозные ценности как-то влияют на большинство американцев в случаях, когда требуется сделать важный выбор или принять важное решение. Выбор работы, друзей, вида досуга, сексуальная этика, сфера потребления, семейные проблемы, — ничто их перечисленного не носит отпечатка религии, насколько дело касается большинства.
Эндрю Грили тоже утверждает, что религия и ее методы сегодня так же широко распространены, как и в любое историческое время (Andrew Greeley, Unsecular Man, New York, 1972). Я с ним согласен относительно постоянства религиозных потребностей, но думаю, что доступные религиозные формы и методы стали неудовлетворительными для все большего числа людей в западном обществе, и именно в этом состоит значение секуляризации.
562
Пол Холланлер
10. Шилз писал: «В общественном мнении существует ... очень яркий образ оскорбленного интеллектуала. На телевидении существует аналогичная ситуация. Профессиональная традиция разгребания грязи, традиция репортерского нахрапа, традиция сенсационности и принципа, что „хорошие новости — это отсутствие новостей“, — все это означает, что беспорядки, неудача, катастрофа займут самое видное место. Восхищение беспорядками, нескрываемая симпатия к их организаторам и породившей их причине приводят к тому, что в средствах массовой информации беспорядкам всегда уделяется много места» (Shils, Intellectuals and the Powers, p. 186).
Дальнейшее свидетельство «демистификации» этого типа может быть найдено в недавней публикации о перетряхивании грязного белья в Верховном суде США, до настоящего времени наиболее уважаемом светском учреждении в американском обществе и фактически свободном от критики. Говоря символически, эта книга завершает полную профанацию всех американских учреждений (Robert Woodward and Scott Armstrong, The Brethren, New York, 1979).
11. Shils, Intellectuals and the Powers, p. 189; см. также p. 180, 190.
12. Erich Fromm, The Sane Society, New York, 1955, ch. 2: «Can a Society Be Sick? The Pathology of Normalcy».
13. «Понятие „падения“ из состояния совершенства было сохранено в концепции предшествующей стадии, когда люди еще не были подчинены тому „отчуждению“, которое породило для них последующее разделение рабочей силы в результате капиталистической эксплуатации» (George Lichtheim, «Alienation», in Encyclopedia, p. 264).
14. David Caute, «Two Types of Alienation», in Illusion, p. 169.
15. Ibid., p. 172.
16. Fromm, Sane Society, p. 16, 139. Норман Мейлер выражал аналогичные чувства в: Mailer, «Letter to Castro« Presidential Papers.
17. Dennis Wrong, «The Oversocialized Image of Man in Sociology,» in Skeptical Sociology, New York, 1977 (впервые опубликовано 1961).
18. Jules Henry, Culture Against Man, New York, 1963.
19. Отчуждение, которое выражается в интенсивной социальной критике, подпадает под категорию «отчуждения от доминантных социальных ценностей», которое в схеме Фрэнка Паркина определяет «радикализм среднего класса». Паркин различал три основных типа: отчуждение как социальная изоляция, отчуждение как бессилие и отчуждение от доминантных социальных ценностей. Обсуждаемые здесь интеллектуалы не были ни изолированными, ни бессильными; в интересующее нас время они могли ощущать себя бессильными, но уж, конечно, не изолированными. Frank Parkin, Middle Class Radicalism, p. 11-32.
20. Adelson, «Inventing the Young», p. 46.
21. Цит. no: Zhores Medvedev, A Question of Madness, New York, 1971, p. 135-136.
22. Hobsbawm, Revolutionaries, p. 26.
23. Potter, History and American Society, p. 343, 358, 360, 361, 362, 363- 364, 385.
24. Richard Lowenthal, «On the Disaffection of Western Intellectuals», Encounter, July 1977, p. 10, 11, 12.
25. C. Eric Hansen, «Intellect and Power: Some Notes on the Intellectual as a Political Type», The Journal of Politics, May 1969, p. 325.
26. Lasch, Culture of Narcissism, p. 7, 15. В истории имелись другие прецеденты. Кэри Макуильямс в начале 1930-х гг. стремился к радикальной политической активности частично от скуки и «личной неудовлетворенности», как он сообщил в своей автобиографии (The Education of Carey McWilliams, New York, 1978, p. 66).
27. Schumpeter, Democracy, Capitalism, Socialism, p. 144.
28. Kristol, «About Equality*.
29. Bell, Cultural Contradictions of Capitalism.
30. Max Weber, The Sociology of Religion, Boston, 1963, p. 124-25.
31. Lowenthal, «Disaffection of Western Intellectuals», p. 11.
32. Ibid.
33. Schumpeter, Democracy, Capitalism, Socialism, p. 145; Robert Nisbet, The Quest for Community, New York, 1953, p. 34.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
563
34. Для обсуждения этого вопроса см.: Milovan Djilas, «On Alienation — Thoughts on a Marxist Myth», Encounter, May 1971, (особенно) p. 13.
35. Eric Hoffer, The True Believer, New York, 1951, p. 131, 132. Некий персонаж американского романа также сделал наводящие на размышления замечания относительно отношения интеллектуалов к власти и некоторым ее источникам: «Демократия и свобода... в самом сокровенном уголке сердца каждого интеллектуала... притаилась реальная надежда, которая скрывается за этими словами. Это надежда на получение власти, желание воплотить свои идеи в жизнь, испытав их на своем собрате. Все мы... маленькие дети Великого Инквизитора... Как же можем мы быть виновны, если имеем в виду счастье других, причем стольких многих других?» (Lionel Trilling, The Middle of the Journey, New York, 1976, p. 219).
36. По контрасту, опросные исследования свидетельствуют, что политическое недовольство и отстранение (определяемое как отчуждение) являются характерным ответом на различные реальные трудности. Таким образом, например, чернокожее население в США отчуждено в этом смысле больше, чем белое. Однако такое исследование не выделяет интеллектуалов из остальной части населения и, следовательно, немного может нам сказать об их отчуждении. См., например, James Wright, «Political Disaffection», in The Handbook of Political Behavior, ed. Samuel Long, New York, 1980.
37. Hansen, «Intellect and Power», p. 316, 319; см. также: Frank Parkin, Middle Class Radicalism, p. 96.
38. Berrigan, Night Flight to Hanoi, p. xiv; Sontag, «Some Thoughts», p. 16; Norman Mailer, The Armies of the Night, New York, 1968, p. 77 (Курсив мой. — П. X.).
39. Hansen, «Intellect and Power», p. 322. Сартр демонстрирует многие из таких позиций предельно ясно, что признается все более широкими кругами. Различные французские интеллектуалы, оценивающие его значение после недавней кончины, вынуждены были сказать следующее:
«Он говорил, что вы всегда должны стоять за революцию... Он сказал: „Если все окончится ужасно, если я обманусь, тогда я изменю свое мнение“». — Geismar.
«Сартр не менял своих идеалов в угоду фактам. Все было как раз наоборот: он видел только факты, которые соответствовали его идеям. Он был совершенно нетерпим к любому, кто с ним не соглашался, и не знал никакой меры». — Manent.
«В своих тезисах он был против любой признанной власти, но в действительности он презирал демократию и в высшей степени раболепствовал перед диктаторами...» — Gauchet.
«Сартр не пытался понять тоталитаризм. Он был против только буржуазного духа... В действительности Сартр жил в башне из слоновой кости. С реальным миром он не соприкасался...» — Manent.
«Он хвалил палестинский терроризм. Мы осуждали резню на Мюнхенских Олимпийских играх, и он был за. Он сказал, что терроризм — оружие бедных». — Geismar.
Цит. по: Flora Lewis, «Sartre Tradition: Role of the Master and the Void He Left», New York Times, June 14, 1980.
40. Цит. no: Watson, «Were the Intellectuals Duped?», p. 29.
41. Hansen, «Intellect and Power», p. 324.
42. Whitfield, Scott Nearing, p. 192.
43. Saul Bellow, Herzog, New York, 1965, p. 370.
44. Shils, Intellectuals and the Powers, p. 3.
45. Как отмечает Зигмунд Бауман: «Социализм был, и до некоторой степени все еще остается, утопией современной эпохи» (Zygmunt Bauman, Socialism: The Active Utopia, London, 1976, p. 36). См. также: Eugène Ionesco, «Of Utopianism and Intellectuals», Encounter, February 1978.
46. Цит. no: Arthur Schlesinger, Jr., «The Making of a Social Conscience», New York Times Book Review, June 24, 1979.
47. Philip Rahv, Essays on Literature and Politics, 1932-1972, Boston, 1978,
p. 288.
48. Питер Бергер писал: «Основная формула, необходимая, чтобы справиться с различными разочарованиями, — всегда одна и та же (разумеется, эта формула
564
Пол Холландер
применяется уже после обычного первоначального отрицания того, что вообще имеется хоть какой-либо повод для разочарования): разочаровывающая страна просто не воплощает „истинный социализм“; поэтому она не принижает идеал социализма; „истинный социализм“ или явится здесь в будущем, или же его следует искать в другом месте, если не в России, то в Китае, если не в Китае, то во Вьетнаме, и так далее до бесконечности» (Berger, «Socialist Myth», р. 11).
49. Emilé Durkheim, Socialism, New York, 1962, p. 41.
50. George Orwell, The Road to Wigan Pier, New York, 1958 (впервые опубликовано в 1937 г.), р. 206. Ранее подобные черты наблюдались у другой группы отчужденных англичан: «Возьмем тривиальный пример: ношение бород показалось мне более распространенным среди сторонников Кампании за ядерное разоружение... кроме того, многие опрошенные указали, что они вегетарианцы... 8% опрошенных женщин прошли через официальный развод (и кроме того, еще у 4% семья фактически распалась) — цифра, которую следует сравнить с менее чем 1% таких женщин в общем населении. Это говорит, что отчуждение от некоторых основополагающих ценностей может сопровождаться отклонениями в широком диапазоне социального поведения» (Parkin, Middle Class Radicalism, p. 29).
51. Как Питер Бергер (Berger, «Socialist Myth»), так и Адам Улам (Ulam, Unfinished Revolution) подчеркивают эту двойную привлекательность и обещания социализма.
52. Peter Clecak, Crooked Paths, New York, 1977, p. 26; Bemard Henri Levy, Barbarism with a Humán Face, New York, 1979, p. 168, 170.
53. Le Bon, Psychology of Socialism, p. xii; Levy, Barbarism with a Humán Face, p. 172.
54. Цит. no: Alán Riding, «Fór Octavio Paz, A Solitude or His Own as a Political Rebel», New York Times, May 3, 1979; см. также: Raymond Áron, In Defense of Decadent Europe, South Bend, Ind., 1977, p. xiii. Книга Арона «Ópium of Intellectuals», впервые опубликованная в 1955 г., остается главной работой на эту тему.
55. Berrigan, Night Flight to Hanoi, p. 136. Со ссылкой на Берригана было высказано утверждение, что может существовать связь между чувством морального превосходства и чувством вины: «Ощущение вины ищет выхода через боль, и этот выход достигнут через самобичевание... результатом которого является искупление... и человек самостоятельно переходит от ощущения греховности к моральному превосходству... Те, кто винят себя, превращаются в новых людей, в этическую элиту... Конечным итогом такого впрыскивания религиозной энергии в политику является высокомерное тщеславие. И действительно, самоуничижение является предшественником самодовольства...» (Dalé Vree, «„Stripped Clean“: The Berrigans and the Politics of Guilt and Martyrdom», Ethics, July 1975, p. 285, 286, 287).
56. Например, Горовиц пишет: «Не было никаких вопросов относительно разрушения российского общества до 1938 г., поскольку интеллигенция не была непосредственной жертвой. Когда дело касалось крестьянства, не было никаких протестов. Когда это был городской пролетариат, было вполне приемлемо, что людей гонят на пытки. Когда дело доходило до одного этнического меньшинства за другим, всему находилось рациональное объяснение с использованием терминов „прогресс“ и „национализм“. Но когда в 1938 г. интеллигенция почувствовала плеть, встали вопросы о советском геноциде. Геноцид становится проблемой только тогда, когда затронуты интеллектуалы; а до этого они чрезвычайно умело исповедуют близорукую двойную мораль». (Irving Louis Horowitz, Genocide: State Power and Mass Murder, New Brunswick, N.J., 1977, p. 82).
57. Watson, «Were the Intellectuals Duped?». Что касается призывов к насилию со стороны интеллектуалов, Питер Бергер отметил контраст между их жизненным стилем «безмятежного покоя» и мечтами о насилии (Berger, Pyramids of Sacrifice, p. 77). Кёстлер предлагает другое объяснение призывов к революционному насилию: «Исполнению пророчеств должны предшествовать жестокие потрясения; страшный суд, появление кометы и т. д. Отсюда инстинктивное отбрасывание истинными коммунистами всех реформистских идей о плавном переходе в социализм. Чтобы произошло пришествие, необходим революционный апокалипсис». (Koestler, Yogi and the Commissar, p. 118).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
565
58. Trilling, Middle of the Journey, p. 227. Рене Вингартен также прокомментировал такие переходы от морального абсолютизма к моральному релятивизму в: Winegarten, Writers and Revolution, p. 319.
59. Whitfield, Scott Nearing, p. 199.
60. Stephen Spender in Crossman, God that Failed, p. 253. Аналогичное заключение было сделано в недавней статье о приверженцах Сталина, «не способных воспринимать информацию, которая несовместима с их политическим настроем». Автор также отметил, что «истинно критическое состояние... неудобно» (Nevins, «Politics Through Tinted Glass (Brightly)», p. 24, 35).
61. Chiaromonte, Worms of Consciousness, p. 217, 224.
62. Konrad and Szelényi, Road to Class Power, p. 204-205. Дальнейшая интерпретация соблазнов социализма предложена Джорджем Оруэллом: «Я верю, что главным мотивом для многих социалистов является просто гипертрофированное чувство порядка. Существующее состояние дел оскорбляет их не потому, что приносит нищету, еще меньше потому, что делает свободу невозможной, но потому, что оно неопрятно; то, чего они хотят, это в основном уменьшить мир до размеров чего-то вроде шахматной доски» (Orwell, Road to Wigan Pier, p. 211).
63. Цит. no: Sidney Hook, «Will to Illusion», New Republic, November 16, 1974, p. 27.
64. Для детального обсуждения таких методов в контексте советского общества см.: Arthur Koestler, «Soviet Myth and Reality», in Yogi and the Commissar.
65. Мэри Маккарти предпочитала верить (как была отмечено в гл. 2), что США, а вовсе не Северный Вьетнам были ответственны за резню в Хюэ.
66. Conquest, Great Terror, p. 513. Сартр цитируется в: Laqueur и Mosse, Literature and Politics, p. 25.
67. Кёстлер использовал это выражение в эссе, в котором утверждается, что очарованные советской системой могли бы вылечиться, если их приговорить к одному году принудительного чтения различных советских материалов, предназначенных для домашнего употребления (Koestler, «The Candles of Truth», in Trail of the Dinosaur).
68. Это явление помогает объяснить концепция познавательного диссонанса (см.: Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance). Наблюдения Кёстлера также уместны: «Такая безоговорочная утрата критических способностей всегда указывает на присутствие фактора, который априори находится за пределами рассуждения... Если глубоко укоренившиеся исходные верования станут подвергаться сомнениям, возможен невроз. Чтобы отбросить сомнения, строится эластичная система обороны» (Koestler, Yogi and the Commissar, p. 120).
69. Lynd and Hayden, Other Side, p. 179. Для дальнейших примеров контекстной рационализации репрессий см. также: р. 169, 176-177, 183.
70. «Activist Lawyer Criticizes U.S. for Violating Human Rights», p. 1, 4.
71. Spender, in Crossman, God that Failed, p. 255, 256.
72. Американский политолог Натан Лайте писал по поводу такого менталитета: «Большевики не рассматривают возможность достижения конкретных целей, приниженных... длительным и широким использованием средств, которые для них не подходят; фактически проблема даже не ставится». (Nathan Leites, A Study of Bolshevism, Glencoe, 111., 1953, p. 105, 109, 141). В том же духе Сартр высказал предложение, что свидетельства о советских принудительных трудовых лагерях нужно игнорировать, чтобы французский пролетариат не «впал в отчаяние» после того, как обнаружит, что советская альтернатива не намного лучше условий в их собственном обществе (Conquest, Great Terror, p. 509). Связь между целесообразностью и верой в благородное дело наблюдалась также в предыдущих конфликтах на религиозной почве: «Оправдание варварств пуританства также могло базироваться на предположении, что пуритане боролись за правое дело против неправедных роялистов. Конечно, именно в это пуритане фактически и верили и на этом основании они могли бы считать себя оправданными за многие деяния, которые у роялистов они осудили бы как возмутительные преступления, и при этом не чувствовать никакой вины за непоследовательность... Они безоговорочно верили, что их дело правое и поэтому угодно Богу, хотя они негодовали на аналогичные, но ложные выражения веры их противников» (Svend Ranulf, Moral Indignation and Middle Class Psychology, New York, 1964, p. 91; впервые опубликовано в 1938 г.).
566
Пол Холланлер
73. Вингартен писал: «Сегодня не только молодые горячие головы, но и выдающиеся писатели, и критики зрелых лет находятся среди тех, кто втянут в наиболее сильный миф о религии в революции, мечту о полной переделке человечества вослед за общим разрушением... В течение последних двух столетий... много эстетических, героических и религиозных потоков слились, чтобы помочь сделать слова „революция“ и „революционер“ священными...» (Winegarten, Writers and Revolution, p. 322, 325).
74. Aldous Huxley, «Words and Behavior», Collected Essays, New York, 1953, p. 254-255.
75. Для более широкого обсуждения этой концепции см.: Hollander, «Sociology, Selective Determinism and the Rise of Expectations».
76. James Hitchcock, «The Intellectuals and the People», Commentary, March 1973, p. 66. Для обсуждения того, что я назвал выборочным детерминизмом (и моральными двойными стандартами) в работах братьев Берриган см.: Vree, «Stripped Clean», p. 280-281.
77. Correspondence, New York Times, July 16, 1972.
78. Точно так же забота о правах человека «определяется не тем, что происходит, а тем, кто это делает», что иллюстрируется безразличием к таким нарушениям в Китае и в то же время беспокойством о значительно меньших нарушениях на Филиппинах (Robert В. Goldman, letter, Commentary, September 1979, p. 32) См. также: Jeanne Kirkpatrick, «Dictatorship and Double Standards», Commentary, November 1979. Майкл Паренти, которого ранее мы упоминали как заявлявшего, что злоупотребления психиатрией в политических целях в США не отличается от приводимых в СССР, утверждал в другом случае, что в американской прессе была поднята слишком большая шумиха по поводу жертв иранской революции и недостаточно писалось о жертвах режима шаха (Michael Parentit Letter, New York Times, May 10, 1979). А анонимный автор колонки в «Нью-Йорк Таймс», комментирующий защиту Ричардом Фалком режима Хомейни в Иране, писал: «Оправдания репрессиям можно найти всегда, если желание их найти достаточно сильно» («Comedians», New York Times, April 1, 1979). Применение двойных стандартов в политике было также выявлено в исследовании Гланца (Glantz, «New Left Radicalism and Punitive Moralism»).
79. Spender in Crossman, God that Failed, p. 253-254.
80. Баррингтон Мур младший сделал схожее наблюдение: «В течение двадцатого столетия происходил как быстрый распад традиционных моральных стандартов, так и резкое возрастание конфликтов, имеющих сильный моральный компонент» (Moore, Jr., Injustice, p. 435-436).
81. Mannheim, Ideology and Utopia, p. 155-158.
82. Erazim V. Kohak, «Requiem for Utopia», Dissent, January 1969, p. 41; Levy, Barbarism with a Human Face, p. 158. По поводу трудностей и непреднамеренных следствий создания утопии обычными средствами см.: Leszek Kolakowski, «Marxist Roots of Stalinism», in Stalinism, ed. Robert C. Tucker, New York, 1977, p. 297.
83. Эти возражения сосредоточены в значительной степени на том, что Джорж Катеб назвал «миром... беззаботной добродетели». Он отмечает, что общество мира, изобилия и беззаботной добродетели, если таковое когда-либо будет создано, было бы обедненным обществом. В частности, в нем не будет «борьбы против значительного неравенства, против дефицита, против слабости воли, не будет шанса сделать многое немногими средствами, случая продемонстрировать некоторые добродетели, порядки и характерные черты, которые может дать только подлый мир, — всего этого, в теории, в утопическом обществе не будет». (Kateb, Utopia and Its Enemies, p. 230).
84. Manuel and Manuel, Utopian Thought, p. 814.
85. Bernard D. Davis, «Of Jonestown and the Search for Utopias», Letter, New York Times, December 17, 1978.
86. An Observer, Message from Moscow, New York, 1968, p. 238-239.
87. Это не так справедливо для западной Европы и особенно Франции, где большее количество просоветских и прокоммунистических интеллектуалов сохранило не только такую лояльность, но и членство в Коммунистической партии. См.: David Caute, The French Left, New York, 1964, p. 361.
88. Вероятно, потеря воли и способность к лидерству также связаны. Снижение глобальной агрессивности США в поствьетнамскую эру отражает не только
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
567
травму, которую нанес такой опыт, и вынужденную осторожность, но также и неуверенность в том, какие ценности достойны защиты и что в американской (и западной) социальной системе заслуживает сильной целенаправленной поддержки, если таковое вообще существует. Текущие проблемы лидерства могут также быть связаны со всеобщей борьбой за равноправие, охватившей страну в 1960-х гг. Такие связи в более широком историческом контексте были обнаружены также социологом Дигби Балцеллом, который прокомментировал влияние эгалитаризма квакеров на филадельфийскую элиту: «Чтобы сегодня понять проблемы американского лидерства, просто взгляните на Филадельфию... Филадельфийские квакеры полагали, что все люди равны и препятствовали появлению „великих людей“... Существует тенденция, что эгалитарные общества перестают гордиться собой... Наше общество никогда не было таким эгалитарным, как сегодня, и, следовательно, оно утрачивает свою гордость» (Digby Baltzell, «Leadership Culture in Boston Praised in Contrast to Philadelphia’s», New York Times, November 25, 1979). См. также: Idem, Puritan Boston and Quaker Philadelphia: Two Protestant Ethics and the Spirit of Class Authority and Leadership, New York, 1979.
89. Для изучения американских неоконсервативных интеллектуалов см.: Peter Steinfels, The Neo-conservatives, New York, 1979.
90. Chiaromonte, Worm of Consciousness, p. 213.
91. Navrozov, Education of Lev Navrozov, p. 366.
92. Leonard Bernstein, «Just Suppose We Disarmed», New York Times, June 10, 1980.
93. Тод Буханан (и пять других студентов колледжа Amherst, имена которых остались неизвестны): Tod Buchanan «Draft registration: Some student views», Daily Hampshire Gazette, March 14, 1980; см. также: Steven V. Roberts, «Students Opposed to Carter Intensify Campaign in New England», New York Times, February 17, 1980; «Confidence of Students in Government Down», New York Times, December 23, 1979 (последняя статья содержит результаты национального опроса учеников старших классов).
94. Можно также увидеть некий смысл в том факте, что значительное (на сумму 80 000 долларов) повреждение статуи Свободы — вероятно самого известного национальный памятника, олицетворяющего коллективное чувство собственного достоинства и национальной гордости, — не вызвало заметного общественного возмущения, а обвинения против политических протестантов, ответственных за это, были «сведены до мелкого хулиганства — по определению это затрагивает повреждение на сумму меньше, чем 100 долларов...» «Follow-up on the News: Statue Climbing», New York Times, July 13, 1980.
568
Пол Холландер
ИЗБРАННАЯ
БИБЛИОГРАФИЯ
СОВЕТСКИЙ союз
МОНОГРАФИИ
Barbusse, Henri. Stalin. New York: 1929.
Barghoorn, Frederick C. The Soviet Cultural Offensive. Princeton: 1960.
Belomor — An Account of the Construction of the New Canal Between the White Sea and the Baltic Sea. New York: 1935.
Bevan, A.; Stratchey, E. J.; and Strauss, A. What We Saw in Russia. London: 1931. Buxton, D. F. The Challenge of Bolshevism: A New Social Ideal. London: 1928. Callcott, Mary Stevenson. Russian Justice. New York: 1935.
Caute, David. The Fellow-Travellers. New York: 1973.
Cole, Margaret L, ed. Twelve Studies in Soviet Russia. London: 1933.
Conolly, Violet. Soviet Tempo: A Journal of Travel in Russia. London: 1937.
Davies, Joseph E. Mission to Moscow. New York: 1943.
Davis, Jerome, ed. The New Russia. New York: 1933.
Davis, Jerome. Behind Soviet Power: Stalin and the Russians. New York: 1946. Dennis, Peggy. The Autobiography of an American Communist. Berkeley: 1977. Dewey, John. Impressions of Soviet Russia and the Revolutionary World: Mexico- China-Turkey. New York: 1964; first published, New York: 1929.
Dos Passos, John. The Theme Is Freedom. New York: 1956.
Dreiser, Theodore. Dreiser Looks at Russia. New York: 1928.
Duranty, Walter. The Kremlin and the People. New York: 1941.
Eastman, Max. Love and Revolution: My Journey Through an Epoch. New York: 1965.
Eddy, Sherwood. The Challenge of Russia. New York: 1931.
Eddy, Sherwood. Russia Today — What Can We Learn From It? New York: 1934. Feuchtwanger, Lion. Moscow 1937. London: 1937.
Filene, Peter A. Americans and the Soviet Experiment, 1917-1933. Cambridge: 1967.
Fischer, Louis. Machines and Men in Russia. New York: 1932.
Fischer, Louis. Men and Politics. New York: 1941.
Frank, Waldo. Dawn in Russia. New York: 1932.
Freeman, Joseph. An American Testament. New York: 1973; first published, 1936. Gide, André. Afterthoughts on the USSR. New York: 1938.
Gliksman, Jerzy. Tell the West. New York: 1948.
Goldman, Emma. Mu Disillusionment in Russia. New York: 1970; first published, 1923.
Haldane, Charlotte. Truth Will Out. New York: 1950.
Hindus, Maurice. The Great Offensive. New York: 1933.
Hodgkin, H. T., ed. Seeing Ourselves Through Russia: A Book for Private and Group Study. New York: 1932.
Huxley, Julian. A Scientist Among the Soviets. London: 1932.
Johnson, Hewlett. The Soviet Power. New York: 1940.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
569
Johnson, Hewlett. Soviet Russia Since the War. New York: 1947.
Kennell, Ruth Epperson. Theodore Dreiser and the Soviet Union 1927-1945. New York: 1969.
Koerber, Lenka von. Soviet Russia Fights Crime. London: 1934.
Lamont, Corliss and Margaret. Russia Day by Day. New York: 1933.
Laski, Harold J. Law and Justice in Soviet Russia. London: 1935.
Lipper, Elinor. Eleven Years in Soviet Prison Camps. Chicago: 1951.
Lovenstein, Meno. American Opinion of Soviet Russia. Washington, D.C.: 1941.
Ludwig, Emil. Nine Etched From Life. Freeport, N.Y.: 1969; first published, New York: 1934.
Lyons, Eugene. Assignment in Utopia. London: 1938.
Lyons, Eugene. The Red Decade. New Rochelle, N.Y.: 1970; first published, New York: 1941.
Margulies, Sylvia R. The Pilgrimage to Russia: The Soviet Union and the Treatment of Foreigners, 1924-1937. Madison: 1968.
Muggeridge, Malcolm. Chronicle of Wasted Time. New York: 1940.
Neruda. Pablo. Memoirs, New York: 1977.
Pares, Bernard. Moscow Admits a Critic. London: 1936.
Shalamov, Varlam. Kolyma Tales. New York: 1980.
Shaw, George Bernard. The Rationalization of Russia. Bloomington, Ind.: 1964; first published, 1931.
Shaw, G. B.; Wells, H. G.; Keynes, J. M.; Toller, Ernst; and others. Stalin-Wells Talk. The Verbatim Report and a Discussion. London: 1934.
Sinclair, Upton, and Lyons, Eugene. Terror in Russia? Two Views. New York: 1938.
Smith, Andrew. I Was a Soviet Worker. New York: 1936.
Smith, Homer. Black Man in Red Russia: A Memoir. Chicago: 1964.
Solonevich, Tamara. Zapiski Sovetskoi Perevodchitsy. (Memoirs of a Soviet Interpreter.) Sofia: 1937.
Spender, Stephen. Forward from Liberalism. London: 1937.
Strachey, John. The Coming Struggle for Power. New York: 1935.
Strong, Anna Louise. I Change Worlds: The Remaking of an American. New York: 1935.
Strong, Anna Louise. This Soviet World. New York: 1936.
Trachtenberg, Alan, ed. Memoirs of Waldo Frank, Amherst: 1973.
Wallace, Henry A. Soviet Asia Mission. New York: 1946.
Ward, Harry F. The Soviet Spirit. New York: 1944.
Warren, Frank A. Liberals and Communism: The «Red Decade» Revisited. Bloomington, Ind., and London: 1966.
Webb, Sidney and Beatrice. Soviet Communism: A New Civilization? New York: 1936.
Webb, Sidney and Beatrice. The Truth About Russia. London: 1942.
Werskey, Gary. The Visible College: The Collective Biography of British Scientific Socialists of the 1930s. London: 1978; New York: 1979.
Wicksteed, Alexander. Life Under the Soviets. London: 1928.
Williams, Albert Rhys. The Soviets. New York: 1937.
Williams, Albert Rhys. The Russians: The Land, the People and Why They Fight. New York: 1943.
Wilson, Edmund. Travels in Two Democracies. New York: 1936.
Winter, Ella. I Saw the Russian People. Boston: 1947.
Zhivov, M., ed. Glazami Inostrantsev: Inostrannie Pisateli о Sovetskom Souze. (Through the Eyes of Foreigners: Foreign Writers on the Soviet Union.) Moscow: 1932.
СТАТЬИ И КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Drake, Barbara. «The Webbs and Soviet Communism». In Margaret I. Cole, ed., The Webbs and Their Work. London: 1949.
Feuer, Lewis. «American Travelers to the Soviet Union, 1917-1932: The Formation of a Component of New Deal Ideology». American Quarterly, Summer 1962.
Himmelfarb, Gertrude. «The Intellectual in Politics: The Case of the Webbs». Journal of Contemporary History, No. 3, 1971.
Knox, James. «Diary of a Soviet Guide». Contemporary Russia, Vol. 2, Autumn 1937, p. 44-55.
570
Пол Холландер
Koestler, Arthur. «Soviet Myth and Reality». In Yogi and the Commissar. New York: 1961.
Lattimore, Owen. «New Road to Asia». National Geographic Magazine, December 1944.
Malraux, André. «Literature in Two Worlds». Partisan Review, January-February, 1935.
White, William C. «Americans in Soviet Russia». Scribner’s Magazine, Vol. 89, February 1931.
«How I Came to Communism — A Symposium». New Masses, Vol. 8, September 1932.
КУБА И СТРАНЫ ТРЕТЬЕГО МИРА
МОНОГРАФИИ
Ashmore, Harry S., and Baggs, William C. Mission to Hanoi. New York: 1968. Baudet, Henri. Paradise on Earth: Some Thoughts on European Images of Non- European Man. New Haven: 1965.
Berger, Peter L. Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change. Garden City, N.Y.: 1976.
Berrigan, Daniel. Night Flight to Hanoi. New York: 1969.
Cardenal, Ernesto. In Cuba. New York: 1974.
Caute, David. Cuba, Yes? New York: 1974.
Clytus, John. Black Man in Red Cuba. Coral Gables, Fla.: 1969.
Coffin, William Sloan, Jr. Once to Every Man — A Memoir. New York: 1977. Davis, Angela. An Autobiography. New York: 1974.
Dominguez, Jorge I. Cuba: Order and Revolution. Cambridge: 1978.
Draper, Theodore. Castro's Revolution: Myths and Realities. New York: 1962. Dumont, René. Is Cuba Socialist? New York: 1974.
Edwards, Jorge. Persona Non Grata. New York: 1977.
Franco, Victor. The Morning After: A French Journalist’s Impression of Cuba Under Castro. New York: 1963.
Frank, Waldo. Cuba: Prophetic Island. New York: 1961.
Huberman, Leo, and Sweezy, Paul M. Cuba: Anatomy of a Revolution. New York: 1960.
Huberman, Leo, and Sweezy, Paul M. Socialism in Cuba. New York: 1968.
Jones, Kirby, and Mankiewicz, Frank. With Fidel: A Portrait of Castro and Cuba. Chicago: 1975.
Karol, K. S. Guerrillas in Power: The Course of the Cuban Revolution. New York: 1970.
Kozol, Jonathan. Children of the Revolution: A Yankee Teacher in Cuban Schools, New York: 1978.
Lefever, Ernest W. Amsterdam to Nairobi: The World Council of Churches and the Third World. Washington, D.C.: 1979.
Levinson, Sandra, and Brightman, Carol, eds. Venceremos Brigade. New York: 1971. Lewis, Oscar; Lewis, Ruth M.; and Rigdon, Susan M. Four Men: Living the Revolution: An Oral History of Contemporary Cuba. Urbana, 111.: 1977.
Lockwood, Lee. Castro's Cuba, Cuba's Fidel. New York: 1967.
Lynd, Staughton, and Hayden, Tom. The Other Side. New York: 1966.
McCarthy, Mary. Hanoi. New York: 1968.
Mesa-Lago, Carmelo. Cuba in the 1970s: Pragmatism and Institutionalization. Albuquerque: 1978.
Miller, Warren. Ninety Miles From Home. Boston: 1961.
Mills, C. Wright. Listen Yankee. New York: 1960.
Myrdal, Jan, and Kessle, Gun. Albania Defiant. New York: 1976.
Nicholson, Joe, Jr. Inside Cuba. New York: 1974.
Radosh, Ronald, ed. The New Cuba: Paradoxes and Potentials. New York: 1976. Reckord, Barry. Does Fidel Eat More Than Your Father? New York: 1971.
Sachs, Ignacy. The Discovery of the Third World. Cambridge: 1976.
Salkey, Andrew. Havana Journal. Harmondsworth, U.K.: 1971.
Sartre, Jean-Paul. Sartre on Cuba. New York: 1961.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
571
Silverman, Bertram, ed. Man and Socialism in Cuba: The Great Debate. New York: 1971.
Sontag, Susan. Trip to Hanoi. New York: 1968.
Sutherland, Elizabeth. The Youngest Revolution: Personal Report on Cuba. New York: 1969.
Ward, Fred. Inside Cuba Today. New York: 1978.
Zeitlin, Maurice, and Scheer, Robert. Cuba: Tragedy in Our Hemisphere. New York: 1963.
Yglesias, Jose. In the Fist of the Revolution. New York: 1969.
Yglesias, Jose. Down There. New York: 1970.
СТАТЬИ И КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Berger, Peter L. «Are Human Rights Universal?» Commentary, September 1977.
Bowles, Samuel, «Cuban Education and the Revolutionary Ideology». Harvard Educational Review, November 1971.
Calzon, Frank. «How Many Prisoners Does Castro Hold?» Dissent, Summer 1976.
Dellinger, David. «Cuba: The Revolutionary Society». Liberation, March 1968.
Gitlin, Todd. «Cuba and the American Movement». Liberation, March 1968.
Goytisolo, Juan. «Twenty Years of Castro's Revolution». New York Review of Books, March 22, 1979.
Horowitz, Irving Louis. «The Cuba Lobby». The Washington Review of Strategic and International Studies, July 1978.
Jones, LeRoi. «Cuba Libre». In Home: Social Essays. New York: 1966.
Kahl, Joseph A. «The Moral Economy of a Revolutionary Society». In Irving Louis Horowitz, ed, Cuban Communism. New Brunswick: 1977.
Landau, Saul. «Cuba: The Present Reality». New Left Review, May-June 1961.
Laqueur, Walter. «Third World Fantasies». Commentary, February 1977.
Lens, Sidney. «The Birth Pangs of Revolution». Progressive, December 1961.
Levi, Jeffrey. «Political Prisoner in Cuba». Dissent, Summer 1978.
Mailer, Norman. «The Letter to Castro» from his The Presidential Papers. New York: 1963.
Martin, Kingsley. «Fidel Castro's Cuba». New Statesman, April 21, 1961.
Maurer, Harry. «With the Venceremos in Cuba». The Nation, July 2, 1977.
McGovern, George. «А Talk with Castro». New York Times Magazine, March 13, 1977.
Miller, Stephen. «Vietnam and the Responsibility of Intellectuals». The American Spectator. November 1977.
Newton, Huey P. «Sanctuary in Cuba?» Co-Evolution Quarterly, Autumn 1977.
Radosh, Ronald. «The Cuban Revolution and Western Intellectuals». In R. Radosh, ed., The New Cuba: Paradoxes and Potentials. New York: 1976.
Radosh, Ronald. «On the Cuban Revolution». Dissent, Summer 1976.
Ripoll, Carlos. «Dissent in Cuba». New York Times Book Review, November 11, 1979.
Sontag, Susan. «Some Thoughts on the Right Way (for Us) To Love the Cuban Revolution». Ramparts, April 1969.
Thion, Serge. «Africa: War and Revolution». Dissent, Spring 1979.
Wrong, Dennis. «The American Left and Cuba». Commentary, February 1962.
КИТАЙ
МОНОГРАФИИ
Bao Ruo-Wang. Prisoner of Mao. Harmondsworth, U.K.: 1976.
Beauvoir, Simone de. The Long March. Cleveland and New York: 1958.
Lord Boyd Orr, John, and Townsend, Peter. What Is Happening in China? London: 1959.
Broyelle, Claudie. Women’s Liberation in China. Atlantic Highlands, N.J.: 1977. Burchett, Wilfred, with Alley, Rewi. China: The Quality of Life. Harmondsworth, U.K.: 1976.
572
Пол Холландер
Cameron, James. Mandarin Red: A Journey Behind the «Bamboo Curtain». London: 1955.
Chen, Jo-hsi. Execution of Mayor Yin. Bloomington, Ind.: 1978.
Davidson, Basil. Daybreak in China. London: 1953.
Galbraith, John K. China Passage. Boston: 1973.
Galston, Arthur W. Daily Life in People's China. New York: 1973.
Greene, Felix. China: The Country Americans Are Not Allowed To Know. New York: 1961.
Guillain, Robert. The Blue Ants. London: 1957.
Hebert, Jacques, and Trudeau, Pierre Elliot. Two Innocents in Red China. Toronto, New York, London: 1968.
Hevi, Emmanuel John. An African Student in China. New York: 1962.
Horn, Dr. Joshua S. Away with All Pests: An English Surgeon in People's China, 1954-1969. London: 1969.
Hsia, Chih-yen. Coldest Winter in Peking. Garden City: 1978.
Johnson, Hewlett. China's New Creative Age. London: 1953.
Johnson, Hewlett. The Upsurge of China. Peking: 1961.
Königsberger, Hans. Love and Hate in China. New York: 1966.
Kraft, Joseph. The Chinese Difference. New York: 1973.
Leys, Simon. Chinese Shadows. New York: 1977.
Loh, Robert. Escape From Red China. New York: 1962.
Macciocchi, Maria Antonietta. Daily Life in Revolutionary China. New York: 1972. Mehnert, Klaus. China Returns. New York: 1972.
Marcuse, Jacques. The Peking Papers. New York: 1967.
Milton, David, and Milton, Nancy Dali. The Wind Will Not Subside. New York: 1976. Modiano, Colette. Twenty Snobs and Mao: Travelling Deluxe in Communist China. London: 1969.
Moravia, Alberto. The Red Book and the Great Wall. New York: 1968.
Myrdal, Jan. Report From a Chinese Village. New York: 1965.
Myrdal, Jan, and Kessle, Gun. China: The Revolution Continued. New York: 1970. Passin, Herbert. China's Cultural Diplomacy. New York: 1962.
Portisch, Hugo. Red China Today. Chicago: 1966.
Roy, Jules. Journey Through China. New York: 1966.
Salisbury, Harrison E. To Peking — and Beyond. A Report on the New Asia. New York: 1973.
Schell, Orville. In the People's Republic: An American’s First-Hand View of Living and Working in China. New York: 1977.
Selbourne, David et al. An Eye to China. London: 1975.
Shewmaker, Kenneth E. Americans and Chinese Communists, 1927-1945. Ithaca, N.Y.: 1971.
Sidel, Ruth. Women and Child Care in China — A Firsthand Report. New York: 1972. Snow, Edgar. Red China Today. New York: 1970.
Strong, Anna Louise. Letters From China. Peking: 1965.
Stucki, Lorenz. Behind the Great Wall. New York: 1965.
Suyin, Han. China in the Year 2001. New York: 1967.
Terrill, Ross. 800 000 000 — The Real China. Boston: 1971.
Topping, Audrey. Dawn Wakes in the East. New York: 1973.
Townsend, Peter. China Phoenix: The Revolution in China. London: 1955.
Tuchman, Barbara W. Notes From China. New York: 1972.
Urban, George, ed. The Miracles of Chairman Mao. A Compendium of Devotional Literature 1966—1970. London: 1971.
Wilson, Dick, ed. Mao Tse-Tung in the Scales of History. Cambridge, U.K.: 1977. Worsley, Peter. Inside China. London: 1975.
China! Inside The Peoples Republic. By the Committee of Concerned Asian Scholars. New York: 1972.
China — Science Walks on Two Legs. A Report from Science for the People. New York: 1974.
Experience Without Precedent: Some Quaker Observations on China Today. Report of an American Friends Service Committee Delegation’s Visit to China. Philadelphia: 1972.
Political Imprisonment in the People's Republic of China. London: 1978.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
573
СТАТЬИ И КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Broyelle, Claudie and Jacques. «Everyday Life in The People’s Republic». Quadrant (Sydney, Australia), November 1978.
Desai, Padma. «China and India: Development During the Last 25 Years. Discussion». American Economic Review, May 1975.
Eberstadt, Nick. «Has China Failed?» New York Review of Books, April 5, 1979.
Eberstadt, Nick. «China: How Much Success?» New York Review of Books, May 3, 1979.
Fabre-Luce, Alfred. «Chinese Journey». The Atlantic, December 1959.
Fairbank, John K. «The New China and the American Connection». Foreign Affairs, October 1972.
Fairbank, John K. «The New China Tourism of the 1970s». In his China Perceived. New York: 1974.
Fairbank, John K. «On the Death of Mao». New York Review of Books, October 14, 1976.
Frolic, Bernard. «Comparing China and the Soviet Union». Contemporary China, Summer 1978.
Frolic, Bernard. «Reflections on the Chinese Model of Development». Social Forces, December 1978.
Johnson, Sheila K. «To China with Love». Commentary, June 1973.
Karnow, Stanley. «China Through Rose-Tinted Glasses». The Atlantic, October 1973.
Kenez, Peter. «A Sense of Déjà Vu—Traveling in China». New Leader, November 1973.
Kolodney, David. «Et Tu China?» Ramparts, May 1972.
Lamont, Corliss. Trip to Communist China: An Informal Report. (Pamphlet.) New York: 1976.
Leys, Simon. «Human Rights in China». Quadrant (Sydney, Australia), November 1978.
Loh, Robert. «Setting the Stage for Foreigners» The Atlantic, December 1959.
Luttwak, Edward N. «Seeing China Plain». Commentary, December 1976.
Pye, Lucien W. «Building a Relationship on the Sands of Cultural Exchanges». In William J. Barnds, ed., China and America: The Search for a New Relationship. New York: 1977.
Pye, Lucien W. China Revisited. (Monograph.) Center for International Studies, Massachusetts Institute of Technology. Cambridge: 1973.
«Dr. Spock in China». New China, Issue 1, 1974.
Tavris, Carol. «Field Report: Women in China». Psychology Today, May 1974.
Walker, Richard L. «Guided Tourism in China». Problems of Communism, September- October 1957.
Whyte, Martin King. «Inequality and Stratification in China». The China Quarterly, December 1975.
Whyte, Martin King. «Corrective Labor Camps in China». Asian Survey, March 1973.
Wooton, Barbara. «A Journey to China». Encounter, June 1973.
Zagoria, Donald S. «China by Daylight». Dissent, Spring 1975.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ,
ПОЛИТИКА И МОРАЛЬ
МОНОГРАФИИ
Aaron, Daniel. Writers on the Left: Episodes in American Literary Communism. New York: 1961.
Aaron, Daniel, and Bendiner, R., eds. The Strenuous Decade: A Social and Intellectual Record of the 1930s. Garden City, N.Y.: 1970.
Aldridge, John W. In the Country of the Young. New York: 1969.
Almond, Gabriel A. The Appeals of Communism. Princeton: 1954.
Aron, Raymond. The Opium of Intellectuals. London: 1957.
Bauman, Zygmunt. Socialism: The Active Utopia. London: 1976.
Beauvoir, Simone de. Force of Circumstance. New York: 1965.
Beauvoir, Simone de. All Said and Done. New York: 1974.
Bell, Daniel. The Cultural Contradictions of Capitalism. New York: 1976.
Berman, Ronald. America in the Sixties. New York: 1968.
574
Пол Холланлер
Brustein, Robert. Revolution as Theatre. New York: 1971.
Chomsky, Noam. American Power and the New Mandarins. New York: 1967.
Clecak, Peter. Radical Paradoxes; Dilemmas of the American Left: 1945-1970. New York: 1973.
Cockburn, Claud. Discord of Trumpets. New York: 1956.
Cockburn, Claud. Crossing the Line. London: 1958.
Coser, Lewis A. Men of Ideas. New York: 1965.
Cowley, Malcolm. The Dream of the Golden Mountains: Remembering the 1930s. New York: 1980.
Crossman, Richard, ed. The God That Failed. New York: 1949.
Diggins, John P. The American Left in the Twentieth Century. New York: 1973.
Feuer, Lewis. Marx and the Intellectuals. Garden City, N.Y.: 1969.
Franklin, Howard Bruce. Back Where You Came From: A Life in the Death of the Empire. New York: 1975.
Glazer, Nathan. The Social Basis of American Communism. New York: 1961.
Hamilton, Alastair. The Appeal of Fascism: A Study of Intellectuals and Fascism 1919-1945. London: 1971.
Hicks, Granville. Where We Came Out. New York: 1954.
Howe, Irving, and Coser, Lewis A. The American Communist Party: A Critical History 1919-1957. Boston: 1957.
Hynes, Samuel. The Auden Generation: Literature and Politics in England in the 1930s. London: 1976.
Kadushin, Charles. The American Intellectual Elite. Boston: 1974.
Kazin, Alfred. Starting Out in the Thirties. New York: 1965.
Koestler, Arthur. The Trail of the Dinosaur and Other Essays. London: 1970.
Konrád, George, and Szelényi, Iván. The Intellectuals on the Road to Class Power. New York: 1979.
Laqueur, Walter, and Mosse, George L., eds. The Left-Wing Intellectuals Between the Wars, 1919-1939. New York: 1966.
Laqueur, Walter, and Mosse, George L., eds. Literature and Politics in the Twentieth Century. New York: 1967.
Madsen, Axel. Hearts and Minds: The Common Journey of Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre. New York: 1977.
Manuel, Frank E., and Manuel, Fritzie P. Utopian Thought in the Western World. Cambridge: 1979.
Marcuse, Herbert. One-Dimensional Man. Boston: 1964.
Marcuse, Herbert. An Essay on Liberation. Boston: 1969.
Milosz, Czeslav. The Captive Mind. New York: 1955.
Myrdal, Jan. Confessions of a Disloyal European. New York: 1968.
Nearing, Scott. The Making of a Radical. New York: 1972.
Newfield, Jack. The Prophetic Minority. New York: 1967.
Parkin, Frank. Middle Class Radicalism: The Social Bases of the British Campaign for Nuclear Disarmament. Manchester, U.K.: 1968.
Pells, Richard H. Radical Visions and American Dreams: Culture and Social Thought in the Depression Years. New York: 1973.
Revel, Jean François. The Totalitarian Temptation. New York: 1977.
Rieff, Philip, ed. On Intellectuals. Garden City, N.Y.: 1969.
Schwartz, David C. Political Alienation and Political Behavior. Chicago: 1973.
Shils, Edward. The Intellectuals and the Powers and Other Essays. Chicago: 1972.
Steinfels, Peter. The Neo-Conservatives. New York: 1979.
Stromberg, Roland N. After Everything: Western Intellectual History Since 1945. New York: 1975.
Wesson, Robert A. Why Marxism? The Continuing Success of a Failed Theory. New York: 1976.
Whitfield, Stephen J. Scott N earing: Apostle of American Radicalism. New York: 1974.
Winegarten, Renee. Writers and Revolution: The Fatal Lure of Action. New York: 1974.
Wood, Neal. Communism and British Intellectuals. New York: 1959.
Young, Nigel. An Infantile Disorder? The Crisis and Decline of the New Left. London: 1977.
Anatomy of Anti-Communism. A Report Prepared for the Peace Education Division of the American Friends Service Committee. New York: 1969.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
575
СТАТЬИ И КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Adelson, Joseph. «Inventing the Young». Commentary, May 1971.
Berger, Peter L. «The Socialist Myth». Public Interest, Summer 1976.
Billington, James H. «The Intelligentsia and the Religion of Humanity». The American Historical Review, July 1960.
Caute, David. «Two Types of Alienation». In The Illusion. London: 1971.
Chomsky, Noam, and Herman, Edward S. «Distortions at Fourth Hand». The Nation, June 25, 1977.
Conquest, Robert. In «The Intellectuals and Just Causes — A Symposium». Encounter, October 1967.
Enzensberger, Hans Magnus. «Tourists of the Revolution». In Consciousness Industry. New York: 1974.
Evans, Gerard. «Paradises Lost: Or Where Are You, Fidel, When I Need You?» New Society (London), February 22, 1979.
Glantz, Oscar. «The New Left Radicalism and Punitive Moralism». Polity, Spring 1975.
Hansen, A. Eric. «Intellect and Power: Notes on the Intellectual as a Political Type». Journal of Politics, Vol. 31, May 1969.
Hicks, Granville. «How I Came to Communism». New Masses, September 1932.
Hobsbawm, E. J. «Intellectuals and Communism». In Revolutionaries. New York: 1973.
Hollander, Paul. «Sociology, Selective Determinism and the Rise of Expectations*. The American Sociologist, November 1973.
Hollander, Paul. «Reflections on Anti-Americanism in Our Times». Worldview, June 1978.
Koestler, Arthur. «On Disbelieving Atrocities». In Yogi and the Commissar. New York: 1961.
Koestler, Arthur. «The Intelligentsia*. In Yogi and the Commissar.
Kohak, Erazim V. «Requiem for Utopia». Dissent, Winter 1969.
Kolakowski, Leszek. «Intellectuals Against Intellect». Daedalus, Summer 1972.
Labedz, Leopold. «Chomsky Revisited*. Encounter, July 1980.
«Liberal Anti-Communism Revisited*. Symposium, Commentary, September 1967.
Lowenthal, Richard. «On the Disaffection of Western Intellectuals*. Encounter, July 1977.
Maurer, Marvin. «Quakers in Politics: Israel, PLO and Social Revolution*. Midstream, November 1977.
Morris, Stephen. «Chomsky on U.S. Foreign Policy». Harvard International Review, December-January 1981.
Nettler, Gwynn. «Shifting the Load*. American Behavioral Scientist, January- February 1972.
Paz, Octavio. «Sartre in Our Time». Dissent, Autumn 1980.
Potter, David M. «The Roots of American Alienation» and «Rejection of the Prevailing American Society*. In History and American Society. New York: 1973.
«Sartre Accuses the Intellectuals of Bad Faith*. New York Times Magazine, October 17, 1971.
«The Last Words of Jean-Paul Sartre«. Dissent, Autumn 1980.
Sperber, Manes. «Pilgrims to Utopia*. In Man and His Deeds. New York: 1970.
Ulam, Adam. «Socialism and Utopia*. In Frank E. Manuel, ed., Utopias and Utopian Thought. Boston: 1966.
Vree, Dale. «„Stripped Clean“: The Berrigans and the Politics of Guilt and Martyrdom*. Ethics, July 1975.
Watson, George. «Were the Intellectuals Duped? The 1930s Revisited». Encounter, December 1973.
576
llOA XOAAQHAep
ИМЕННОМ
УКАЗАТЕЛЬ
A
Aaron, Daniel 175, 259, 265, 574 Abel, Lionel 141 Adelson, Joseph 316,
563, 576
Adler, Renata 317 Aldridge, John W. 317, 574
Alley, Rewi 462, 572 Almond, Gabriel 101, 574 Anderson, Jack 142,
143, 144, 516, 520 Andreski, Stanislav 140, 314
Arendt, Hannah 99, 379 Armstrong, Scott 563 Aron, Raymond 100,
140, 565, 574 Ashmore, Harry S. 382, 383, 384, 517, 571 Auden, W. H. 575
B
Baggs, William C. 382, 383, 384, 517, 571 Baltzell, Digby 568 Bao, Ruo-Wang 456,
462, 463, 572 Barbusse, Henri 265, 569 Barghoorn, Frederick C.
259, 265, 517, 569 Barnds, William J. 454, 574
Barnes, Fred 34 Barnett, Robert 462 Baudet, Henri 101, 571 Bauman, Zygmunt 564, 574
Beauvoir, Simone de 99, 377, 381, 454, 456, 457, 459, 460, 462, 463, 517, 518, 519, 572, 574, 575 Bell, Daniel 316,317, 318, 563, 574 Bellow, Saul 99, 100,
564
Benda, Julien 139, 140 Bendiner, Robert 175, 265, 574
Berger, Bennet 140 Berger, Peter 100, 142, 176, 315, 317, 459, 460, 565, 571, 572, 576
Berlin, Isaiah 101, 140, 141, 178
Berman, Ronald 379, 574 Bernstein, Leonard 568 Berrigan, Daniel 262, 383, 384, 517,
518, 519, 564,
565 571
Bethell, Nicholas 142 Bevan, Aneurin 262, 569 Billington, James H.
140, 576
Birnbaum, Norman 99, 377
Boorstin, Daniel J. 100, 178, 317, 378 Borchgrave, Arnaud de 56 Boudin, Leonard 316 Bowles, Samuel 381, 572 Boyd Orr, John 461,
462, 517, 518, 519, 520, 572
Boyle, Andrew 176 Brecht, Bertolt 265
Brightman, Carol 378, 379, 380, 381, 383, 517, 571
Brinton, Crane 101 Bronfenbrenner, Urie 454, 459, 516, 518 Broyelle, Claudie 456, 457, 460, 464, 572, 574
Broyelle, Jacques 457, 460, 464, 574 Brustein, Robert 317, 318, 575
Buckley, William F. 100 Burchett, Wilfred 462, 572
Butterfield, Fox 457, 460, 464, 517 Buxton, D. F. 260, 261, 569
C
Callcott, Mary Stevenson 263, 569
Calzón, Frank 381,
382, 572
Cameron, James 463, 73 Cardenal, Ernesto 378, 379, 380, 381, 382, 517, 518, 571 Carter, Dyson 260, 262, 265
Castro, Fidel 34, 377,
378, 379, 380, 381, 382, 517, 563, 571, 572
Caute, David 101, 318,
379, 380, 382, 516, 517, 518, 519, 563, 567, 569, 571,576
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
577
Chapman, Stephen 384 Chen, Jo-hsi 462, 464, 520, 573
Chiang Ching 457 Chiaromonte, Nicola 562,
566, 568
Chomsky, Noam 140,
141, 142, 143, 384, 575, 576
Clark, Ramsey 144, 383 Clecak, Peter 565, 575 Clytus, John 380, 381, 571
Cockburn, Claud 176,
575
Coffin, William Sloan, Jr.
144, 382, 383, 571 Cohen, Jerome Alan 463, 519
Cohn, Norman 99, 175 Cole, Margaret 233, 262,
263, 569, 570 Colebrook, Joan 142 Coles, Robert 315 Conolly, Violet 259, 569 Conquest, Robert 141,
264, 265, 566, 576 Coser, Lewis 101, 102,
139, 140, 176, 259,
261, 266, 575 Cowley, Malcolm 176,
177, 178, 315, 575 Cranston, Maurice 141 Crossman, Richard H. S.
178, 266, 519, 566,
567, 575
D
Dallin, David J. 264 Davidson, Basil 456,
458, 459, 460, 461, 462, 463, 573 Davies, Joseph E. 261,
265, 266, 569 Davis, Angela 378, 571 Davis, Bernard 567 Davis, Jerome 102, 261,
262, 265, 569 Dawson, Irene 459 Decter, Midge 316 Dellinger, David 379,
380, 572
Demerath, Jan N. 562 Dennis, Peggy 259,
265, 569
Desai, Padma 460, 574 Dewey, John 261,
262, 569
Diggins, John P. 175, 176, 575
Djerassi, Norma Lund- holni 458, 459, 460, 462
Djilas, Milovan 266,
564
Dominguez, Jorge I. 380,
381, 382, 571
Dos Passos, John 175, 260, 569
Drake, Barbara 262, 570 Draper, Theodore 99,
378, 379, 382, 571 Du Bois, W. E. B. 266 Dumont, René 379, 381,
382, 571
Duranty, Walter 265,
569
Durkheim, Emile 562,
565
E
Eberstadt, Nick 458, 574 Edwards, Jorge 378,
381, 518, 571 Ehrenburg, Ilya 266 Eisenhower, Julie Nixon 462
Engels, Friedrich 177 Enzensberger, Hans Magnus 99, 516, 519, 520, 576
Epstein, Julius 142 Erdal, David 463 Evans, Gerard 101, 576
F
Fabre-Luce, Alfred 455,
574
Fairbank, John K. 454, 455, 456, 459, 461, 462, 463, 574 Fairlie, Henry 315 Falk, Richard 383, 384 Färber, Jerry 315 Feuchtwanger, Lion 178, 260, 261, 262, 265, 266, 517, 569 Feuer, Lewis S. 101,
140, 141, 259, 570,
575
Filene, Peter G. 142,
175, 569
Fischer, Louis 176,
178, 259, 260, 261, 266, 569
Fitzgerald, Frances 518, 519, 520
Franco, Victor 380,
518, 571
Frank, Moses 318 Frank, Waldo 175,
176, 178, 259, 260, 262, 264, 266, 379, 380, 382, 454, 459,
517, 518, 519, 569, 570, 571
Franklin, Howard Bruce 313, 575
Freeman, Joseph 177,
178, 260, 262, 569 Friedman, Edward 461, 462
Frolic, Bernard 455, 574 Frolic, Michael 463 Fromm, Erich 563 Frost, Robert 517 Frye, Northrop 101
G
Galbraith, John K. 314, 458, 460, 516, 517,
518, 573
Galston, Arthur 456, 457, 458, 459, 460, 462, 517, 519, 573 Garcia Marquez, Gabriel 176, 178
Gershman, Carl 314 Gide, André 516, 518, 569
Gillin, J. L. 262, 263 Gitlin, Todd 380, 572 Gittings, John 462 * Glantz, Oscar 567, 576 Glazer, Nathan 575 Gliksman, Jerzy 264, 518, 569
Goldman, Emma 516, 69 Goldman, Robert B. 567 Goodheart, Eugene 101 Goodman, Louis 378 Goodman, Walter 49, 144, 384
Gornick, Vivian 265 Goytisolo, Juan 572 Graubard, Stephen R. 139 Greeley, Andrew 141, 562 Greene, Felix 454, 459, 461, 462, 518, 573 Guillain, Robert 462, 573 Gwertzman, Bernard 100
H
Hacker, Andrew 316 Haldane, Charlotte 102, 518, 569
Hamilton, Alastair 141, 575
578
Il O A XOAAQHAep
Han Suyin 461 Hansen, Eric 142, 563, 564, 576
Hanson, Francis A. 261 Harper, Samuel N. 519 Hayden, Tom 99, 455, 517, 518, 566, 571 Henry, Jules 563 Hentoff, Nat 562 Herman, Edward S. 142, 384, 576
Hevi, Emmanuel John 573 Hicks, Granville 175, 176, 177, 265, 516,
562, 575, 576 Himmelfarb, Gertrude
261, 570
Hindus, Maurice 261,
262, 263, 569 Hinton, William 461 Hitchcock, James 99,
316, 567
Hitchens, Christopher 56 Hobsbawm, E. J. 314,
563, 576
Hodgkin, Henry T. 178, 260, 261, 569 Hoffer, Eric 18, 564 Hofstadter, Richard 140, 141
Hoggart, Richard 381 Hollander, Paul 33, 49, 99, 100, 316, 317,
461, 462, 567, 576 Hook, Sidney 101, 141, 265, 566
Horn, Joshua 456, 458, 459, 573
Horowitz, Irving Louis 378, 380, 565, 572 Howe, Irving 176, 315, 575
Howells, William W. 516 Hsia Chih-yen 456, 457, 458, 464, 573 Huberman, Leo 379, 571 Huszar, George 141 Huxley, Aldous 567 Huxley, Julian 178, 259, 260, 261, 262, 517, 569 Hynes, Samuel 175, 575
I
Ionesco, Eugène 564 Isaac, Rael Jean 56
J
Jacoviello, Alberto 459, 462
Johnson, E. H. 261,
455, 458
Johnson, Hewlett 176, 178, 260, 261, 265, 266, 456, 459, 460, 461, 462, 569,
570, 573
Johnson, Paul 49 Johnson, Sheila 463, 574 Jones, Jim 378 Jones, Kirby 379, 381 571
Jones, LeRoi 259, 377, 380, 382, 572
K
Kadushin, Charles 562, 575
Kahl, Joseph, A. 380, 382, 572
Kaltenbrunner, Klaus 100
Kamm, Henry 516, 518 Kampf, Louis 318 Kanter, Rosabeth Moss 101
Karnow, Stanley 455, 517, 574
Karol, K. S. 379, 381,
382, 571
Kateb, George 101, 567 Kazin, Alfred 176, 177,
575
Kenez, Peter 455, 457, 519, 520, 574 Keniston, Kenneth 314, 316
Kennan, George F. 67,
99, 315
Kennedy, John F. 381 Kennell, Ruth Epperson 261, 518, 519, 570 Kessle, Gun 99, 384,
456, 457, 461, 462, 571 573
Kettle, Arnold 144 Keynes, John Maynard 570
Khomeini, Ayatollah
383, 384
Kiernan, V. G. 101 Kingsbury, John A. 260 Koerber, Lenka von 263, 570
Koestler, Arthur 99,
139, 141, 262, 266, 517, 519, 565, 566,
571, 575, 576 Kohak Erazim, V. 567,
576
Kolakowski, Leszek 567, 576
Kolodney, David 454,
574
Königsberger, Hans 573 Kornhauser, William 562 Kozol, Jonathan 377,
381, 382, 519, 571 Kraft, Joseph 457, 573 Kramer, Hilton 176 Kristol, Irving 100, 176, 563
Kuhn, Philip A. 455 Künstler, William M. 562 Königsberger, Hans 454, 456
L
Labedz, Leopold 384, 576
Lacouture, Jean 264 Lamont, Corliss 176,
178, 259, 262, 263, 264, 265, 459, 460, 463, 518, 570, 574 Lamont, Margaret 176, 178, 259, 262, 263,
264, 265, 518, 570 Landau, Saul 377, 378,
379, 572
Laqueur, Walter 99,
265, 566, 572, 575 Lasch, Christopher 563 Laski, Harold 570 Lattimore, Owen 258,
264, 265, 571 Ledeen, Michael 56 Lefever, Ernst W. 144, 571
Leites, Nathan 566 Lenin, V. I. 259 Lens, Sidney 380, 572 Lerner, Michael 314 Levi, Jeffrey 381, 572 Levinson, Richard 562 Levinson, Sandra 378, 379, 380, 381, 383, 517, 571
Levy, Bernard Henri 565, 567
Lewis, Anthony 383 Lewis, Flora 518 Lewis, Oscar 571 Lewis, Ruth M. 571 Lewy, Guenter 314 Leys, Simon 455,
456, 459, 460, 462, 463, 517, 518, 519, 573, 574
Lichtheim, George 563 Lifton, Robert Jay 316, 462
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
579
Lindeman, E. C. 261 Lipper, Elinor 264, 570 Lipset, Seymour Martin 49, 140, 178, 316,
317, 562
Lipson, Leon 463 Lockwood, Lee 571 Loh, Robert 455,
517, 518, 519, 520, 573, 574
Long, Priscilla 99, 318 Lord, Sansan and Betty 463 Lowenstein, Meno 259 Lowenthal, Richard 563, 576
Luce, Philip Abbot 377, 379, 380
Ludwig, Emil 266, 570 Luttwak, Edward 457, 519, 574
Luxemburg, Rosa 178 Lynd, Staughton 99, 383, 384, 455,
459, 517, 518,
566, 571
Lyons, Eugene 141,
175, 259, 261, 262, 265, 266, 570
M
Macciocchi, Maria Antonietta 454,
455, 456, 457, 459, 516, 573
MacLeish, Archibald 141 Madsen, Axel 381, 575 Mailer, Norman 379,
564, 572
Mairowitz, David Zane 315
Malia, Martin E. 140 Malraux, André 264, 571 Mankiewicz, Frank 379, 381, 571
Mannheim, Karl 139,
567
Manuel, Frank 101, 567, 575, 576
Manuel, Fritzie 101,
567, 575
Mao Tse-tung 100, 456, 457, 460, 461, 462, 463, 464, 519, 520, 572, 573, 574 March, Andrew L. 459 Marcuse, Herbert 141, 575
Marcuse, Jacques 455, 519, 520, 573
Margulies, Sylvia R.
100, 259, 517, 518, 519, 520, 570 Martin, Kingsley 377, 572
Marx, Karl 140, 177,
575
Matos, Huber 381 Maurer, Harry 378, 572 Maurer, Marvin 144, 576 Mazlish, Bruce 142 McCarthy, Mary 55,
382, 383, 384, 516, 517, 518, 519, 571 McGovern, George 379,
572
Medvedev, Zhores 563 Mehnert, Klaus 461,
463, 573
Meray, Tibor 259 Mesa-Lago, Carmelo 378, 571
Meyer, Alfred G. 101 Milgram, Stanley 379 Miller, Stephen 383, 572 Miller, Warren 377, 571 Mills, C. Wright 380,
571
Milton, David and Nancy Dali 459, 462, 517,
573
Mirsky, Jonathan 55 Mitford, Jessica 265,
519, 520
Modiano, Colette 457, 519, 520, 573 Montias, J. M. 520 Moore, Barrington, Jr. 516, 567
Moravia, Alberto 573 Morgan, Edward P. 460 Mosse, George L. 265, 566, 575
Muggeridge, Malcolm 141, 176, 258,
259, 260, 261, 264, 379, 570
Mumford, Lewis 101 Muravchik, Joshua 34, 381
Myrdal, Jan 99,
314, 384, 457,
459, 461, 462, 571, 573, 575
N
Nabokov, Vladimir 266 Naimark, Norman M.
100
Navrozov, Lev 520, 568
Nearing, Scott 100, 142, 175, 177, 178, 384, 459, 461, 462, 564, 566, 575
Neruda, Pablo 176, 262, 265, 266, 570 Nettler, Gwynn 142,
316, 576
Neuhaus, Richard John 315, 317
Nevins, Lawrence 261, 566
Newfield, Jack 575 Newton, Huey P. 377, 380, 518, 572 Nicholson, Joe 381, 382, 571
Nicolaevsky, B. N. 264 Nietzsche, Friedrich 140 Nisbet, Robert 140,317, 379, 563
О
Oksenberg, Michel 461 Orwell, George 141, 144, 314, 565, 566
P
Padilla, Herberto 377 Parenti, Michael 144, 379, 567
Pares, Bernard 261, 262, 263, 516, 570 Parkin, Frank 563, 564, 565, 575
Passin, Herbert 455,
459, 463, 516, 573 Paz, Octavio 565, 576 Pells, Richard H. 175, 259, 575
Podhoretz, Norman 142, 379
Pol Pot 516, 518 Popper, Karl 101 Portisch, Hugo 573 Potter, David M. 315, 563, 576 Pritt, D. N. 263 Pye, Lucien W. 454,
455, 457, 574
R
Radosh, Ronald 378, 379, 380, 381, 518, 519, 571, 572 Radvanyi, Janos 518 Rahv, Philip 564 Ranulf, Svend 566
580
riOA XOAAOHAep
Reckord, Barry 142, 380, 381, 382, 518, 571 Reeve, F. D. 517 Reston, James 456,
459, 517
Revel, Jean-François 141, 575
Rieff, Philip 140,176, 575
Ripoll, Carlos 382, 572 Robinson, Paul 143 Romm, Ethel Grodzins
316
Ronning, Chester 459 Röpke, Wilhelm 141 Rothman, Stanley 316,
317
Rowse, A. L. 176 Roy, Jules 455, 463,
519, 573 Roy, Ralph 261 Rubin, Jerry 314, 315, 317
Russell, Bertrand 262, 316
S
Sachs, Ignacy 101, 571 Safire, William 142, 463 Sakharov, Andrei 141 Salisbury, Harrison E. 454, 459, 460, 462, 516, 518, 520, 573 Salkey, Andrew 378,
380, 381, 382, 516, 518, 520, 571 Samuels, Stuart 176 Sartre, Jean-Paul 99,
141, 379, 381, 518, 564, 571, 575, 576 Savimbi, Jonas M. 144 Scheer, Robert 380, 572 Schell, Orville 461,
516, 573
Schlesinger, Arthur, Jr. 564
Schumpeter, Joseph 141, 563
Schwartz, David C. 575 Selbourne, David 455, 573
Selznick, Philip 101 Shannon, William V. 317 Shaw, George Bernard 102, 261, 517, 570 Shaw, Peter 49 Shewmaker, Kenneth E. 461, 573
Shils, Edward 99, 139, 140, 178, 316 , 562, 563, 564, 575
Short, Thomas 33 Sidel, Ruth 455, 456, 459, 573
Signorét, Simone 517,
518
Simon, Herbert 100, 264 Simon, Rita 176 Sinclair, Upton 265,
266, 570
Smith, Andrew 519, 570 Smith, Homer 261, 570 Snow, Edgar 458, 461, 463, 573
Solonevich, Tamara 570 Sontag, Susan 49, 55,
314, 377, 380, 382, 383, 384, 516, 517, 518, 519, 564, 572
Speier, Hans 379 Spender, Stephen 141, 178, 265, 314, 566, 567, 570
Sperber, Manes 101, 455, 517, 519, 576 Spock, Benjamin 455,
574
Stalin, J. V. 142,
264, 265, 266,
313, 569
Steffens, Lincoln 102, 177, 516
Steinfels, Peter 568, 575 Stern, Susan 314,
315, 317 Stone, I. F. 265 Strachey, E. J. 262 Strachey, John 178, 266,
570
Straus, George 262 Stromberg, Roland N.
142, 315, 317, 575 Strong, Anna Louise 177, 259, 261, 262, 263, 456, 517, 570, 573
Stucki, Lorenz 455, 573 Sulzberger, A. O. 142,
519
Sutherland, Elizabeth 379, 572
Sweezy, Paul 379, 571
T
Tavris, Carol 455,
459 574
Taylor, Harold 316 Terrill, Ross 458, 460, 518, 573
Thion, Serge 384, 572 Thomas, Hugh 382
Thomas, Jo 378,
381, 382
Tocqueville, Alexis de 141
Toller, Ernst 261, 570 Topping, Audrey 458, 462, 463, 573 Topping, Seymour 459 Torrance, John 100 Townsend, Peter
459, 461, 462, 463,
517, 518, 519, 520, 572, 573
Trachtenberg, Alan 266, 570
Trilling, Diana 316 Trilling, Lionel 564, 566 Trotsky, Leon 176, 264 Trudeau, Pierre Elliot 456, 459, 463, 516,
518, 520, 573 Tuchman, Barbara 517,
518, 573
Tuohy, Frank 517,520 Tyrmand, Leopold 100
U
Ulam, Adam 99, 100, 101, 139, 455, 565, 576
Urban, George 99, 461, 573
V
Viereck, Peter 140, 141 Vree, Dale 565, 567, 576
W
Wakeman, Frederic, Jr. 458
Wald, George 316 Walker, Richard L. 461, 463, 516, 517, 519, 574
Wallace, Henry 261, 570 Wallace, Turner 562 Ward, Fred 381, 572 Ward, Harry F. 260, 570 Warren, Frank A. 175, 259, 570
Watson, George 264,
564, 565, 576 Wattenberg, Ben J. 460 Webb, Beatrice 261, 263,
264, 265, 266, 517, 570
Webb, Sidney 263, 264,
265, 266, 517, 570
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
581
Weber, Max 563 Weiss, Cora 144 Wells, H. G. 261, 570 Werskey, Gary 178, 262, 266, 570
Wesson, Robert G. 100, 575
White, Paul Dudley 459, 460
White, William C. 259, 517, 518, 571 Whitfield, Stephen J.
100, 102, 144, 384, 461, 564, 566, 575 Whyte, Martin King 458, 463, 574 Wicker, Tom 384 Wicksteed, Alexander
260, 261, 263, 570 Will, George F. 49, 99,
383, 517, 569 Williams, Albert Rhys
261, 265, 266, 570 Williams, Frankwood E.
261, 262
Wilson, Dick 461, 462,
573
Wilson, Edmund
175, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 570
Winegarten, Renee 566, 567, 575
Winn, Marie 317 Winter, Ella 261, 262, 454, 570, 573, 576 Witke, Roxane 457 Wolfe, Tom 140, 316 Wood, Neal 175,176, 575
Woodward, Robert 563 Wooton, Barbara 455,
574
Worsley, Peter 454, 456, 460, 463, 518, 573 Wright, James 564 Wrong, Dennis 377, 379, 563, 572
Y
Yglesias, Jose 377, 380, 381, 382, 572 Young, Nigel 575
z
Zagoria, Donald S. 458, 460, 574
Zeitlin, Maurice 380,
572
Zhivov, M. 570 Zinn, Howard 99 Zwerdling, Alex 141
A
Аарон Д. 146 Абернети P. 83, 100 Абцуг Б. 285 Адельсон Дж. 314, 528 Адлер Р. 283, 284 Али М. 100 Альенде С. 11, 332 Андерсен-Нексё М. 181 Андерсон Дж. 133 Андерсон М. 384 Антониони М. 519 Аптекер Б. 281, 321 Аптекер Г. 281, 321 Арагон Л. 153 Арафат Я. 49 Аренас Р. 25 Аренд X. 67 Ариза Р. 367 Аристотель 370 Арон Р. 110, 529, 541
Б
Бакли У. 20 Бакстон Д. Ф. 190, 202 Балта Д. 481 Балцелл Д. 568 Бао Руо-Ванг 402, 444, 446, 447, 463 БарбюсА. 153,181,243 Баргхурн 474 Барзун Ж. 73 Барнет Д. 394 Барнет М. 25 Барнет Р. 369, 443 Барнис Р. 232 Барнс Ф. 25 Батиста-и-Сальдивар Р. Ф. 301, 334, 358,
360, 362 Бауман 3. 564 Баумер Ф. Л. 92 Баэз Дж. 52, 370, 383 Беласко Д. 245 Белл Д. 285, 533 Беллоу С. 59, 80, 538 Бенда Ж. 103, 107, 139, 182
Бентам Дж. 90 Бергер Б. 58, 108, 109 Бергер П. 57, 81, 98, 130, 281, 282, 316, 424, 432, 460, 564, 565
Бердик Ю. 285
Верен П. 324, 377 Берия Л. П. 233 Берлин И. 88, 116,
544
Бернал Дж. Д. 168, 178, 219, 253, 262, 266 Бернбаум Н. 99 Бернстайн Л. 560, 561 Бернстайн Т. 514 Бернхем Дж. 124 Бернштейн Д. 144 Бернштейн Э. 308 Берриган Д. 40,
210, 291, 371, 372, 373, 374, 472, 475, 476, 486, 489, 492, 517, 537, 542, 565 Берриган, братья 567 Бёртон Р. Ф. 275 Бехер И. 181 Биджер В. 58 Биллингтон Дж. 107 Бингхем С. 378 Блант Э. 153, 154 Боде Г. 92, 94 Бодо, аббат 96 Бойд Орр Дж. 436, 445, 476 , 481, 485, 497, 514, 515, 518, 520 Болдин В. 15 Болдуин Р. Н. 263 Бонд Дж. 340, 379 Борлог Н. Е. 427 Браун Н. О. 90, 314 Брежнев Л. И. 100 Бреннер Ф. 334, 378 Брехт Б. 243 Бронфенбреннер У.
385, 420, 424,
469, 486
Бруайель Ж. 409, 430 Бруайель К. 402, 409, 430
Бруштейн Р. 284, 288 Брэгг П. 377 Буденный С. М. 244 Будин Л. 281 Бурстин Д. 178, 335 Буханан Т. 568 Бухарин Н. И. 10, 245 Буш Дж. 28, 31 Бэггс У. 383, 475 Бюргес Г. 153
В
Вайнглас Л. 384 Вайс П. 288 Вальядерас А. 366 Вебер М. 87, 308, 533, 552
582
Пол ХолланАвр
Веблен Т. 108 Вейлант Дж. 58 Вейс К. 135, 369,
372, 383 Вернер 510
Виктория, королева 478 Вильсон Т. В. 147 Вингартен Р. 379,
566, 567 Вирек П. 111 Витиер С. 25 Витке Р. 412 Власов А. А. 245 Водхауз П. Дж, 138 Вонг Ф. Ф. 462 Ворошилов К. Е. 244 Ворсли П. 389, 403,
407, 426, 447, 483 ВудН. 176 Вудсворд К. 445 Вулф Т. 109, 278,
280, 281 Вутон Б. 400 Вышинский А. Я. 245, 265
Вэбб Б. 25, 26, 200, 201, 212, 224, 231, 232, 233, 247, 251, 252, 265, 434, 449, 472 Вэбб С. 25, 26. 123, 200, 224, 231, 232, 233, 247, 251, 252, 265, 398, 434, 449, 472 Вэй Джишен 464 Вэйкмэн Ф., младший 458
Г
Галетой А. 402, 407, 408, 416, 418, 419', 428, 443, 473, 47В, 494
Гамильтон А. 123 Гарвин 153 Гауптман Г. 181 Гевара Э. (Че) 67, 128, 129, 293, 309, 315, 326, 337, 340, 343, 363, 379, 476 Гейгер X. 111 Герман Э. 142, 143 Гёте 363
Гилен Р. 395, 439, 441 Гиллин Дж. Л. 223, 224 Гильен Н. 365 Гинзберг А. 314 Гитингс Дж. 445 Гитлер А. 123, 153,
158, 250, 265, 335, 342, 508
Гитлин Т. 331, 345,
347, 350 Гланд О. 567 Гликсман Дж. 482 Гликсман Е. 235, 236, 509
Годвин У. 90 Гойтисоло X. 377, 378 Голд М. 181 Голдман Э. 467 Голдштайн С. 57 Гомес А. 366 Гопкинс Дж. 401 Горбачев М. С. 15, 33 Горн Дж. 405 Горник В. 247 Горовиц И. Л. 329, 333, 542, 565
Горький А. М. 153, 231, 256
Греньер Р. 41 Григоренко А. 501 Грили Э. 124, 562 Грин Ф. 393, 398, 402, 405, 412, 418, 435, 440, 449, 456, 484, 515
Грэм Б. 46, 47, 48 Губерман Л. 339 Гудмен У. 43, 308, 309, 314
Гутхарт Ю. 90 Гэлбрейт Дж. К. 270, 413, 418, 428, 431, 468, 473, 478, 482, 486
д
д’Аннуцио Г. 124 Дарендорф Р. 140 Де Бовуар С. 40, 142, 327, 377, 385, 404, 408, 410, 418, 421, 427, 437, 440, 441, 443, 446, 447, 463, 475, 479, 481, 483, 493, 496 Де Волд Л. 434 Де Голль Ш. 335 Дедье В. 232 Дейвис Джером 233, 241, 243, 246, 247, 252, 253, 254, 265 Дейвис Джозеф 209, 243, 244, 246, 247, 251, 252, 265, 434 ДелФ. 181 Делза С. 457 Деллинджер Д. 330, 344, 348, 369, 372, 380
Деннис П. 247 Десаи П. 431 Джаггер Б. 28, 30 Джакобелло А. 422, 442 Джексон Дж. 23, 25, 319 Джентиле Дж. 124 Джерасси Дж. 384 Джерасси Н. 459, 460 Джонс Дж. 378 Джонс К. 329, 330, 339 Джонс Л. 186, 324, 346, 349, 363
Джонсон Е. И. 392, 393 Джонсон X. 47, 123,
161, 177, 191, 195, 196, 204, 247, 251, 253, 254, 401, 402, 425, 436, 437, 438, 441, 444, 456, 459, 461, 462, 479, 484 Джонсон Ш. К. 458 Диггинс Дж. П. 155 Дикштейн М. 296 Домингес X. 57, 355, 360 Дорн Б. 28 Доусон И. 421 Драйзер Т. 153, 181,
189, 191, 199, 202, 499, 518
Дрейпер Т. 332, 339, 380 Дуарте X. П. 46 Дьерасси Н. Л. 416, 438 Дьюи Дж. 200, 207,
219, 308, 480 Дэвидсон Б. 403,
404, 417, 418, 441, 444, 449
Дэвис А. 81, 100, 308, 314, 321, 322, 333, 339, 353, 482 Дэвис Дж. 233, 434 д’Эското М. 29 Дюбуа У. Э. Б. 205, 247, 252, 261 Дюмон 479
Дюмон Р. 327, 340, 342, 355, 479
Дгаранта У. 198, 244 Дюркгейм Э. 38, 114, 521, 533, 540, 561
Е
Ежов Н. И. 243
Mf
Л\
Жданов А. А. 392 Живов М. 258 Жид А. 38,39,41,153, 465, 470, 478, 488
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
583
3
Загория Д. 414 Зиновьев Г. В. 244 Зонтаг С. 42, 49,
52, 100, 129, 272, 288, 294, 307, 321, 323, 330, 345, 350, 364, 366, 368, 371, 372, 373, 374, 470, 472, 487, 489, 494, 495, 537
Зощенко М. М. 231
И
Иглесиас X. 350, 356, 361, 381 Иди-Амин 468 Иисус Христос 492 Иллиш Б. 185 Ильеш Д. 266 Инбер В. 231 Иннис Р. 516 Иоанн Солсберийский 341
ИтонС. 177 Итс У. Б. 124
й
Йетс-Браун, майор 123
К
Кадушин Ч. 314 Казин Э. 153, 165 Калинин М. И. 260 Камерон Дж. 448, 463 Каммингс X. 245 Кампф Л. 287, 318 Камю А. 308 Карденаль Э. 28, 341, 344, 348, 354, 365, 378, 381, 382, 476, 480, 487, 517 Кармайкл С. 321 Карноу С. 393, 472 Картер Д. 195, 219,
220, 265, 461 Кастро Ф. 9, 11,
25, 26, 57, 62, 65, 67, 86, 99, 105, 106, 123, 128, 137, 301, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 348, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 377,
378, 379, 380, 381, 382, 433, 436, 461, 471, 479, 481, 488, 492, 515, 517, 519, 553, 554, 558 Катаев В. 231 Катеб Дж. 567 Кауфман 31 Кейту, президент 477 Кейнс Дж. М. 200 Кемаль Б. 250 Кендалл 330 Кенез П. 501,503,514 Кёнигсбергер Г. 385, 388, 401
Кенистон К. 270 Кеннан Дж. 67 Кеннеди Дж. 330, 462, 525
Кеннеди П. 20 Кеннеди Э. 358 Кеннел Р. Э. 199, 499 Кент Р. 262 Кёрбер Л. фон 227, 228, 229
Кёстлер А. 41, 70, 105, 119, 120, 178, 257, 262, 398, 480, 497, 547, 565, 566 Кеттл А. 138, 139 Ким Ир Сен 334, 439 Кинг К. 293 Кинг М. Л. 293 Кинез П. 57, 390 Кирнан В. Г. 92, 95, 97 Киш Э. Э. 181 Клайтус Дж. 352, 355 Кларк Р. 43, 49,
135, 370, 383,
384, 469 Клесак П. 541 Кливер Э. 121, 292 Козер Л. 96, 97, 107, 185, 200
Козол Дж. 323, 354, 356, 363, 378, 492, 497, 517, 519 Кокберн К. 155, 156, 265
Кокто Ж. 124 Колкотт М. С. 224,
225, 226, 227, 228, 230, 263 Коллетт У. 370 Колодный Д. 389 Кольцов М. 258 Кон Н. 59, 145 Конквест Р. 117, 546 Конрад Дж. 140, 544 Корнхаусер У. 523 Кортес Э. 337
Кот Д. 86, 262, 340, 341, 346, 382, 473, 492, 501, 516, 526 Коул Дж. 378, 380, 538 Коул Р. 315 Коули М. 156, 164,
166, 277
Коффин У. С. 28, 135, 368, 372, 382, 383 Коэн Дж. А. 58, 394, 463, 519 Крафт Дж. 409 Кристи Н. 294 Кристол И. 176, 533 Кристофферсон К. 28 Кропоткин П. 308 Кроче Б. 124 Куадра А. 366 Купер Д. 330 Кьяромонте Н. 544,
559, 562 Кэл Дж. 349 Кэрол К. С. 340, 342, 355, 361, 390, 479 Кюнстлер У. М. 40, 133, 285, 293, 521, 547
Л
Лайонс Д. 175 Лайонс Ю. 149, 183, 186, 187, 197, 198, 220, 242 Лайте Н. 566 Лакотье Ж. 143 Ламонт К. 49,
176, 187, 194, 205, 206, 210, 218, 227, 247, 249, 262, 265,
369, 426, 446, 483, 484, 491
Ламонт М. 176, 187, 194, 205, 206, 210, 218, 227, 249, 483, 484, 491
Ландау С. 44, 323, 339 Ласки Г. 223, 227, 229, 245, 265
Латтимор О. 179, 234, 237, 238, 239, 245,
370, 445
Лебон Г. 521, 541 Левенталь Р. 343 Леви Б. А. 541,
542, 554 Леви Г. 57 Левинсон Р. 287 Левинсон С. 328 Лейнг Р. Д, 90 Лейс С. 394, 395, 402, 410, 411, 419, 423,
584
Пол Холланлер
426, 429, 439, 443, 444, 446, 462, 477, 478, 486, 497, 503 Ленин В. И. 46, 55, 67, 97, 101, 105, 106,
115, 141, 173, 191, 192, 249, 250, 256, 308, 340, 398, 434, 435, 492, 508, 534, 548
Леонов Н. 461 Лернер М. П. 262, 267 Лестер Дж. 57, 137, 339 Ли Ю-Ци 405 Ли, переводчик 498 Либман А. 321 Линд С. 40, 65, 371,
372, 384, 399, 424, 475, 503, 504, 547 Линдеман Э. К. 261 Линдквист С. 397 Линк У. 287 Линкольн А. 356 Линь Бяо 405, 452 Лион Э. 100, 102 Липпер Э. 238, 239 Липсет С. М. 111, 562 Липсон Л. 447 Лифтон Р. Д. 436 Ло Р. 396, 482, 496,
497, 512, 513, 514 Лойола И. 492 Локвуд Л. 360 Лондон Дж. 440 Лоуенталь Р. 531, 534 Лоуренс 371 Лоуэлл Р. 316 Лукач Д. 181 Лумумба П. 317 Луначарский А. В. 191 Лутвак Э. 410, 411,
455, 494 Льюис М. 305 Льюис Э. 54, 56 Лэйбин С. 397 Лэш К. 455, 532 Людвиг Э. 252, 479 Люксембург Р. 173, 308 Лютер М. 129, 341
М
Магеридж М. 38, 153, 158, 179, 182, 197, 198, 232, 233, 260 Макговерн Дж.
329, 330, 340, 341, 379, 479
Макдональд Д. 281, 316 Маккарти Дж. 41,
273, 290
Маккарти М. 49,
52, 133, 368, 372, 382, 383, 470, 475, 482, 487, 497, 499, 546, 566
Маккарти Ю. 28 Маклейн Ш. 25, 400, 402, 406, 415, 418, 419, 421 Маклиш А. 58 Макуильямс К. 563 Мальро А. 41, 153, 241, 263, 266 Малья М. 112 Мангейм К. 104, 105, 107, 110, 552 Мандель О. 57 Манкевич Ф. 329, 330, ччо
Манн Г. 181 Манн Т. 181 Мао Цзэдун 9, 12, 14, 24, 32, 37, 49, 62, 65, 67, 69, 86, 97, 105, 128, 129, 309, 331, 334, 339, 342, 359, 385, 390, 394, 398, 400, 404, 405, 409, 411, 412, 414, 422, 428, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 441, 451, 452, 453, 458, 460, 461, 462, 464, 478, 479, 492, 493, 502, 505, 516, 554, 558 Маргулис С. 184, 500, 505, 508
Маринетти Ф. 124 Мария-Антуанетта 486 Маркес Г. 142, 157,
168, 188
Маркс К. 90, 118, 141, 154, 163, 164, 172, 177, 192, 308, 324, 435, 438, 526, 533 Маркузе Г. 69, 90, 120, 277, 297, 298, 299, 308, 309, 314, 320, 321, 526, 534 Маркюз Ж. 396, 457, 494, 495, 498, 515 Мартин К. 57, 181, 377, 394, 414
Мартинес Р. А. 367 Мартов Л. 398 Марч Э. 423 Массамбу-Деба 477 Масье Ф. 133 Матос X. 360, 362, 554 Мауррас Ч. 124
Мачиоки М. 385, 390, 391, 399, 402, 404, 408, 410, 411, 422, 423, 451, 469 Машел С. 376 Маяковский В. В. 249 Мейер Ш. 58 Мейлер Н. 165,
301, 314, 319, 337, 338, 339, 349, 377, 537, 563
Мендельсон К. 424 Меннер К. 451 Мерай Т. 401, 456 Милгрэм С. 57, 336 Миллер С. 383 Миллер У. 323 Миллс Ч. Р. 308, 309, 314, 340, 342, 348, 479, 534
Милль Дж. С. 308 Милтон Д. 421, 437, 478 Милтон Н. 421, 437, 478 Мильтон Дж. 341 Мирски Дж. 49, 52 Митфорд Дж. 247, 319, 497, 520
Модиано К. 412, 500, 513
Молотов В. М. 254 Мольнер Т. 140 Монтан И. 479, 480, 484 Монтгомери Б. 454 Монтиас Дж. М. 514 Моравия А. 397 Морган Э. П. 427 Моррис У. 526 Моруа А. 181 Мур Б., младший 516, 567
Мурильо Р. 30 Муссолини Б. 152, 153, 158, 188, 250, 265, 335, 339
Мэйнард Дж. 398 Мюрдаль Г. 271 Мюрдаль Я. 271,
314, 374, 375, 376, 403, 409, 419, 433, 435, 441
Н
Набоков В. 140, 258 Наврозов Л. 508 Наполеон 93 Нейера А. 27 Неруда П. 40, 138, 139, 152, 156, 209, 216, 245, 249, 255, 262, 266, 459
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
585
Неттлер Г. 131 Никишов И. Ф. 237, 238, 239
Николсон Дж. 357 Никсон Р. М. 86,
389, 454
Ниринг С. 83, 129, 145, 150, 161, 162, 168, 177, 297, 320, 376, 380, 384, 425, 440, 538, 543
Нисбет Р. 108, 336, 534 Ницше Ф. 114,123 Нокс Дж. 341 Нуньес X. 363 Ньюджент К. 380 Ньютон X. 40, 293, 319, 323, 344, 483, 489 Ньюфилд Дж. 308
О
Оглсби К. 296, 307 Оден У. X. 153 Одитс К. 262 Оксенберг М. 433 Олдридж Дж. 274, 312 Олмонд Г. 85, 310, 529 Олсоп Дж. 389 Орр Б. 442 Ортега Д. 28, 30 Оруэлл Дж. 118,
119, 141, 144, 273, 540, 566 Оуэн Р. 90
П
Падилья X. 326, 327, 363, 366, 377, 378, 382, 471
Пай Л. 58,386,411 Пайпс Р. 57 Пансьяно Р. 367 Паренти М. 135, 344, 481, 517, 567 Парис Б. 205, 211,
224, 263
Паркин Ф. 290, 563 Пас О. 377, 542 Пасионария
(Ибаррури Д.) 30 Пассин Г. 395, 420 Пассос Дж. Д. 148, 181, 184, 187
Пастернак Б. 138, 139 Паунд Э. 124, 138 Пейдж Ч. 57 Пейн Т. 341 Пейрс Б. 469 Перельман С. Дж. 262
Пикассо П. 153, 480, 538 Пилсудский Ю. 250 Пинеда Р. К. 367 Пиночет А. 11 Пиранделло Л. 124 Платон 101
Погодин Н. Ф. 263, 449 Подгорец Н. 140 Пол Пот 128, 133, 143, 384, 468 Пол Р. Г. 184 Пончо Ф. 134, 143 Портер Г. 143 Портиш Г. 397 Потемкин Г. А. 507, 512 Поттер Д. М. 275, 530, 531, 533 Поттер Ф. 136 Притт Д. Н. 223,
226, 243
Р
Рав Ф. 539 Радваньи Я. 486 Радд М. 281 Радош Р. 331, 347 Райх В. 277 Рассел Б. 38, 218, 233, 264, 265, 270, 278, 384
Рейган Р. 23, 29, 31,
42, 45
Рекорд Б. 353, 357, 362, 490
Рёнке В. 122 Рестон Дж. 401, 419, 471 Ретамар 365 Рид Г. 330, 343 Рид Дж. 250, 265 Родригес Э. Д. 366 Розак Т. 91 Рокфеллер Дж. Д.,
третий 281, 400, 483 Роллан Р. 153,181,265 Ронг Д. 325, 342 Роннинг Ч. 416, 423 Ротермир, лорд 123 Ротман С. 57 Роуз Э. Л. 158 РуаЖ. 396,447,451, 463, 499, 502 Рубин Дж. 40,267,271, 272, 274, 276, 277, 283, 288, 301, 315, 322
Рузвельт Ф. Д. 149,
217, 251
Руссо Ж.-Ж. 90, 270, 341, 526
Рушди С. 29, 30
С
Савимби Й. 136 Савио М. 303 Сазерленд Э. 338 Салес М. 366 Сартр Ж.-П. 40, 66, 67, 99, 121, 123, 126,
127, 128, 141, 142, 327, 337, 338, 339, 341, 342, 345, 356, 377, 381, 479, 482, 492, 534, 536, 538, 546, 564, 566 Сафир У. 457 Сахе Э. 95
Свизи П. 325, 339, 369 Сейфер М. 28 Селеньи И. 140 Сельбурн Д. 392 Серж В. 398, 468 Сианук 477, 493 Сидель Р. 393, 403, 420 Сика А. 57 Силон 41
Синклер Э. 181,242, 243, 266
Синьоре С. 479, 480, 483, 484
Слейтер Ф. 296, 302, 305, 309 Смит X. 198 СмитЭ. 498, 501, 509, 510, 512
Сноу Э. 414, 434, 447, 461, 463, 484 Солженицын А. И. 138, 221, 263, 264, 394, 395, 501, 519, 528 Солки Э. 347, 353,
366, 379, 381, 382, 470, 487, 489, 490, 492, 504
Солоневич Т. 519 Солсбери Г. 389,
419, 427, 437, 438, 451, 465, 481, 485, 505, 511
Спендер С. 123, 169, 265, 543, 547, 551 Спербер М. 397 Спок Б. 315, 455 Стайрон У. 287, 377 Сталин И. В. 8, 9, 14, 37, 42, 62, 68, 69, 78, 99, 123, 137, 153,
158, 191, 192, 211, 217, 221, 241, 244, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 263, 266,
586
Пол Холланлер
313, 332, 334, 335, 342, 343, 359, 363, 375, 390, 391, 398, 428, 433, 434, 436, 437, 439, 452, 453, 461, 479, 492, 497, 499, 538, 546, 566 Стеффене Л. 124, 129, 156, 177, 250, 465 Стоукс Р. 58 Стоун И. Ф. 251 Стромберг Р. 274 , 316 Стронг А. Л. 162,
181, 186, 198, 205, 222, 224, 225, 226, 434, 440, 456, 462, 476, 491
Стрэчи Дж. 168, 255 Сукарно 477
Т
Таврис К. 399 Таунсенд П. 417,
436, 442, 445, 449, 518, 520
Теврис К. 426 Тейлор Г. 316 Тейлор И. 294 Тёрбер Дж. 262 Террил Р. 58, 400, 415, 428, 486 Тион С. 376 Тито И. Б. 67, 232, 335 Токвиль А. 96, 101, 114, 115, 116, 285, 320 Толлер Э. 181 Толстой А. 231 Толстой Л. Н. 343 Томас X. 362 Топпинг С. 423 Топпинг О. 415, 416,
437, 450 Торо Г. Д. 275 Травьесто Т. Ф. 366 Триллинг Д. 281 Триллинг Л. 540, 543 Троцкий Л. Д. 10, 68,
157,173, 264, 308 Трюдо П. 420, 448,
484, 513
Туохи Ф. 476, 514 Тухман Б. 478, 483 Тэтчер М. 29
У
Уайт К. 182 Уайт М. 57, 394, 414, 463
Уайт П. Д. 419, 426
Уайт У. 518 Уикер Т. 376 Уикстид А. 194, 224 Уилкинсон Д. 433 Уилкинсон Р. 516 Уилсон Д. 436 Уилсон Э. 40, 147, 150, 179, 184, 189, 193, 201, 203, 213, 214, 249, 256, 479 Уильямс А. Р. 181, 251, 253, 261, 265 Уильямс У. К. 262 Уильямс Ф. Э. 204, 211, 212, 213
Уильямсон Г. 124 Уильямс-Эллис А. 231 Уинтер Э. 209, 213,
221, 223, 263 Улам А. 57,
68, 88, 106, 398,
429, 565
Унтермейер Л. 262 Уолд Дж. 384 Уолкер Р. Л. 461,
463, 516 Уолкер Э. 30 Уоллес Г. 209,
237, 238, 239,
240, 445, 512 Уолтон П. 294 Уорд Г. Ф. 192, 195, 247, 262
Уоррен Ф. А. 149 Уотсон Дж. 264, 542 Уэлк Л. 294 Уэллс Г. Дж. 181,
217, 479 Уэскер А. 330
Ф
Фабр-Люс А. 396 Файерстоун С. 296, 303, 304, 320 Файлин П. 149 Файфер Ж. 330 Фалк Р. 567 Фам Ван Донг 52, 372, 383, 479 Фанк И. 58 Фаррелл Дж. 153 Фаст Г. 41 Фейрли Г. 275, 317 Фейхтвангер Л. 102,
168, 187, 192, 194, 197, 205, 211, 215, 244, 251, 252, 256, 472, 479, 480 Феррер, министр 364 Фидлер А. 285
Фитцджеральд Ф. 332, 378, 487, 503, 504 Фишер Л. 156,
168, 188, 197, 198, 216, 253
Фишер Э. 545 Флэк Р. 317 Фогель Э. 57, 394 Фолк Р. 369, 377,
383, 384
Фома Аквинский 341 Фонда Дж. 40, 383,
400, 546 Форд 461
Франклин X. Б. 40,
267, 313
Франко Б. Ф. 70, 152, 153, 551 Франс А. 181 Фрей дан Б. 28 Фридман Э. 434, 438 Фримэн Дж. 165,
169, 191, 193, 211, 300, 320
Фролик Б. 390,
391, 451 Фролик М. 458 Фромм Э. 206, 316,
525, 526 Фрост Р. 517 Фрэйд М. 377 ФрэнкУ. 161,166,
167, 184, 186, 187,
209, 210, 213, 218, 241, 247, 256, 258, 260, 262, 341, 346, 348, 363, 380, 417, 419, 459, 480, 484
Фуко М. 377 Фурье Ш. 90 Фьюер Л. 86, 110, 114, 117, 183, 206 Фэнон Ф. 308, 309 Фэрбэнк Дж. К.
49, 385, 392, 404,
422, 425, 436, 445, 451, 461
X
Хайдеггер М. 124 Хайндс Л. 384 Хаксли Дж. 30, 40, 167, 181, 186, 193, 197,
210, 212, 215, 491 Хаксли О. 548 Хамм Г. 397 Хаммер А. 177 Хаммит Д. 262 Хан Си-Ян 434 Хан Сюнь 405, 461
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
587
Хансен Э. 129, 142,
532, 536, 537 Хансон Ф. 261 Харпер С. Н. 500 Харрисон М. 57 Харрисон Ч. 272 Хатчинс Р. 280 Хауэлс У. 469 Хеви Э. Дж. 397 Хейден Т. 40, 65, 268, 319, 371, 372, 384, 399, 424, 475, 489, 503, 504, 547 Хелман Л. 157, 265,
285, 318
Хемингуэй Э. 153, 517 Хемингуэй, госпожа 517 Хёрн К. 58 Хикс Г. 151,
154, 155, 184,
262, 465, 521 Хиндус М. 198, 205,
213, 225
Хитчкок Дж. 66 Хо Ши Мин 54, 67,
137, 329, 334, 371, 479, 489
Хобсбаум Э. Дж. 170, 270, 330, 529 Ходжа Э. 334, 375, 439 Ходжкин Г. Т. 174,
188, 202
Холландер Й. 19 Холландер П. 2,3,
18, 33
Холландер Ш. 7, 9 Хомейни 29, 44, 49,
369, 377, 383, 567 Хомский Н. 40, 113,
120, 121, 128, 133, 134, 135, 137, 142, 143, 319, 384, 546 Хопкинс Дж. 237 Хорн Дж. 416, 420,
421, 425 Хоув И. 318 Хоффер Э. 18, 535 Хоффман Э. 285, 322, 338, 339
Хофштадтер Р. 109,117 Хрущев Н. С. 68, 198, 221, 247, 326, 434, 461, 479, 484, 517
Ху, писатель 440 Хунквера Э. Л. К. 367 Хью С. 66 Хэкер Э. 279 Хэлдейн Ш. 488
ц
Цейтлин М. 380 Цимбалист Э. 334, 378 Цинн Г. 542
Чан Кайши 394 Чанг Тинг 439 Чао Фу Сам 456 Чейз С. 181 Челин Л. 124 Чемберлен Н. 158 Чемберлен У. Г. 197 Чен 513
Ченг, писательница 496 Черемышенов М. 238 Чжоу Эньлай 432,
433, 437, 438, 454, 479, 484
Чичерин Г. В. 191 Чоя 477
Ш
Шапиро Л. 40 Шахтман М. 176, 264 Шеер Р. 380 Шекспир У. 95, 245 Шелены И. 544 Шелл О. 49, 52, 55,
402, 410, 435, 459, 471
Шеннон У. В. 286 Шилз Э. 62, 103, 108, 279, 313, 315, 316, 524, 539, 563 Шин В. 262 Шлезингер А., младший 37 38
Шоу Дж. Б. 39, 40, 47,
98, 124, 129, 168,
181,
196,
197,
218,
225,
226,
227,
233,
237,
243,
247,
249,
250,
251,
265,
370,
448,
449,
469,
475,
479,
480
Шпайер Г. 335, 338 Шпенглер О. 124 Шпербер М. 92, 93, 519 Штерн С. 272, 283 Штуки Л. 396 Шуман Ф. Л. 262 Шумпетер Дж. 118,
532, 534
э
Эбер Ж. 420,
448, 484, 513 Эберстадт Н. 430, 458 Эванс Г. 101 Эвенсон Д. 26 Эдамс Дж. 434 Эдвардс X. 332, 359, 487, 491 Эдди Ш. 47,
181, 201, 203, 2 60, 263
Эдигер, социальный работник меннонитов 370
Эйзенхауэр Д. Д. 325 Эйзенштадт С. 140 Эйхман А. 336 Экстайн А. 389 Элиот Т. С. 124 Элли Р. 440, 462 Элюар П. 153 Энгельс Ф. 141,
163, 177
Энценсбергер Г. М. 63, 188, 260, 330, 465, 479, 494, 504 Эпштейн Дж. 133 Эренбург И. 266 Эснер Э. 32 Этол, герцогиня 153 Эшмор Г. 383, 472, 475
Ю
Юнгер Э. 124
Я
Ягода Г. Г. 243 Янг Дж. 294 Янг Э. 468 Яп В. 388, 389
588
Пол Холланлер
ОГЛАВЛЕНИЕ
Отзывы критиков 2
Предисловие к русскому изданию 7
Конец политическому паломничеству?
(Предисловие к изданию 1990 г.) 19
Примечания 33
Политические пилигримы и отчуждение сегодня
(Предисловие к изданию 1983 г.) 35
Примечания 48
Предисловие к изданию 1981 г 50
Примечания 55
Выражения признательности 57
Глава первая. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 59
Политические оценки интеллектуалов — точка отсчета 60
Отчуждение, поиски утопии, выбор образцовых обществ 64
Техника гостеприимства 74
Источники: выборочное исследование и контекст 79
Западные традиции поиска утопии 87
Примечания 99
Глава вторая. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ, ПОЛИТИКА И МОРАЛЬ 103
Непременные атрибуты
и противоречивые образы 104
Интеллектуалы
и власть 114
Моральные импульсы
и политические предпочтения 130
Примечания 139
Глава третья. ПЕРВАЯ ВОЛНА ОТЧУЖДЕНИЯ: 1930-е гг 145
Примечания 175
Глава четвертая. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА: ПЕРВЫЕ ПИЛИГРИМЫ 179
Предрасположенность и восприятие 180
Социальная справедливость и равенство 189
Ощущение цели и объединяющие ценности 199
Народ и общество 207
Победа над прошлым 214
Гуманные тюрьмы и другие перестроенные институты 219
Судебные процессы чисток 240
Мудрость и забота вождей 248
Отношение к интеллектуалам 255
Примечания 258
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ
589
Глава пятая. ОТРИЦАНИЕ
ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА В 1960-1970-е гг 267
Изобилие, безопасность и индивидуализм 269
Средства массовой информации и массовая культура 283
Вьетнам 288
Расовые проблемы 291
Предметы критики 294
Примечания 313
Глава шестая. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ:
РЕВОЛЮЦИОННАЯ КУБА И ОТКРЫТИЕ ТРЕТЬЕГО МИРА 323
Харизматический лидер 334
Чувство общности и цели 343
Социальная справедливость и народная поддержка 351
Положение интеллектуалов 362
Вьетнам, Албания, Мозамбик 367
Примечания 377
Глава седьмая. ПАЛОМНИЧЕСТВО В КИТАЙ:
СТАРЫЕ МЕЧТЫ В НОВОЙ ОБСТАНОВКЕ 385
Осознание цели в нравственном обществе 398
Равенство 406
Народ и окружающий его мир 415
Материальный прогресс и гуманная модернизация 422
Вожди 432
Режим и интеллектуалы 438
Перевоспитание, а не тюремное заключение 442
Примечания 454
Глава восьмая. ТЕХНИКА ГОСТЕПРИИМСТВА: РЕЗЮМЕ 465
«Массаж эго» 474
Программа поездки: выбор объектов 490
Реконструированная действительность: дух Потемкина 507
Примечания 516
Глава девятая. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ, ОТЧУЖДЕНИИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ ... 521
Три источника отчуждения и социальной критики 522
Пересмотр концепции интеллектуала 539
Об антиутопизме 552
Результаты 556
Примечания 562
Избранная библиография 569
Советский Союз 569
Куба и страны третьего мира 571
Китай 572
Интеллектуалы, политика и мораль 574
Алфавитный указатель 577
590
Пол Холланлер
Пол ХОЛЛАНДЕР
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПИЛИГРИМЫ
Путешествия
западных интеллектуалов по Советскому Союзу,
Китаю и Кубе 1928-1978
Генеральный директор А. Л. Кноп Директор издательства О. В. Смирнова Главный редактор Ю. А. Сандулов Художественный редактор С. Л. Шапиро Литературный редактор В. С. Волкова Корректоры У. А. Елькина, О. В. Афанасьева Верстальщик С. Ю. Малахов Выпускающие Н. К. Белякова, А. В. Яковлев
ЛР № 065466 от 21.10.97
Гигиенический сертификат
78.01.07.952.Т. 11666.01.99 от 19.01.99, выдан ЦГСЭН в СПб
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛАНЬ»
lan@lpbl.spb.ru
www.lanpbl.spb.ru
193012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 277 издательство: тел.: (812) 262-2495, 262-1178; pbl@lpbl.spb.ru (издательский отдел).
склад № 1: факс: (812) 267-2792, 267-1368; trade@lpbl.spb.ru (торговый отдел).
193029, пр. Елизарова, 1 склад № 2: (812) 265-0088, 567-5493, 567-1445; root@lanpbl.spb. ш
Филиал в Москве:
Москва, 7-я ул. Текстильщиков, 5, тел.: (095) 919-96-00. Филиал в Краснодаре:
350072, Краснодар, ул. Зиповская, 7, тел.: (8612) 52-17-81.
Сдано в набор 12.05.2000. Подписано в печать 15.02.2001. Бумага типографская. Формат 60x88 ‘/ш.
Гарнитура Школьная. Печать офсетная.
Уел. п. л. 37. Уч.-изд. л. 42,49.
Тираж 3000 экз.
Заказ № 40.
Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии ИПК «Бионт»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр., В. О., д. 86.
КНИГОИЗДАТЕЛЬСКАЯ И КНИГОТОРГОВАЯ ФИРМА
Издательство «ЛАНЬ»
предлагает
Ф Книги нашего издательства:
история и философия учебная литература литература для вузов иностранные языки специальная литература справочники и словари медицина и психология развивающая литература астрология и метафизика
Ф Обмен, вт. ч. междугородний Ф Формирование контейнеров в любую точку страны Ф Ответственное хранение по договорным ценам
ф Экспедирование и перевозка книжной продукции Москва — Петербург, Петербург — Москва
Ф Гибкая система скидок
Ф Приглашаем к сотрудничеству авторов и издательства для совместного выпуска книг
Рукописи
не рецензируются и не возвращаются
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ:
РФ, 193012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 277 Издательский отдел: (812) 262-24-95, 262-11 -78 1 -й склад: (812) 267-27-92; тел./ факс 267-13-68 2-й склад: 193029, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 1;
(812) 567-54-93; тел./факс 265-00-88
www.lanpbl.spb.ru
E-mail: lan@lpbl.spb.ru, root@lanpbl.spb.ru pbl@lpbl.spb.ru (издательский отдел) trade@lpbl.spb.ru (торговый отдел) post@lpbl.spb.ru (книга почтой)
Филиал в Москве Филиал в Краснодаре
Москва, 7-я ул. Текстильщиков, д. 5, 350072, Краснодар,
(метро Текстильщики) ул. Зиповская, д. 7
тел.(095) 919-96-00 (8612)52-17-81
E-mail: lanmsk@avallon.ru E-mail: lankrd@istnet.ru