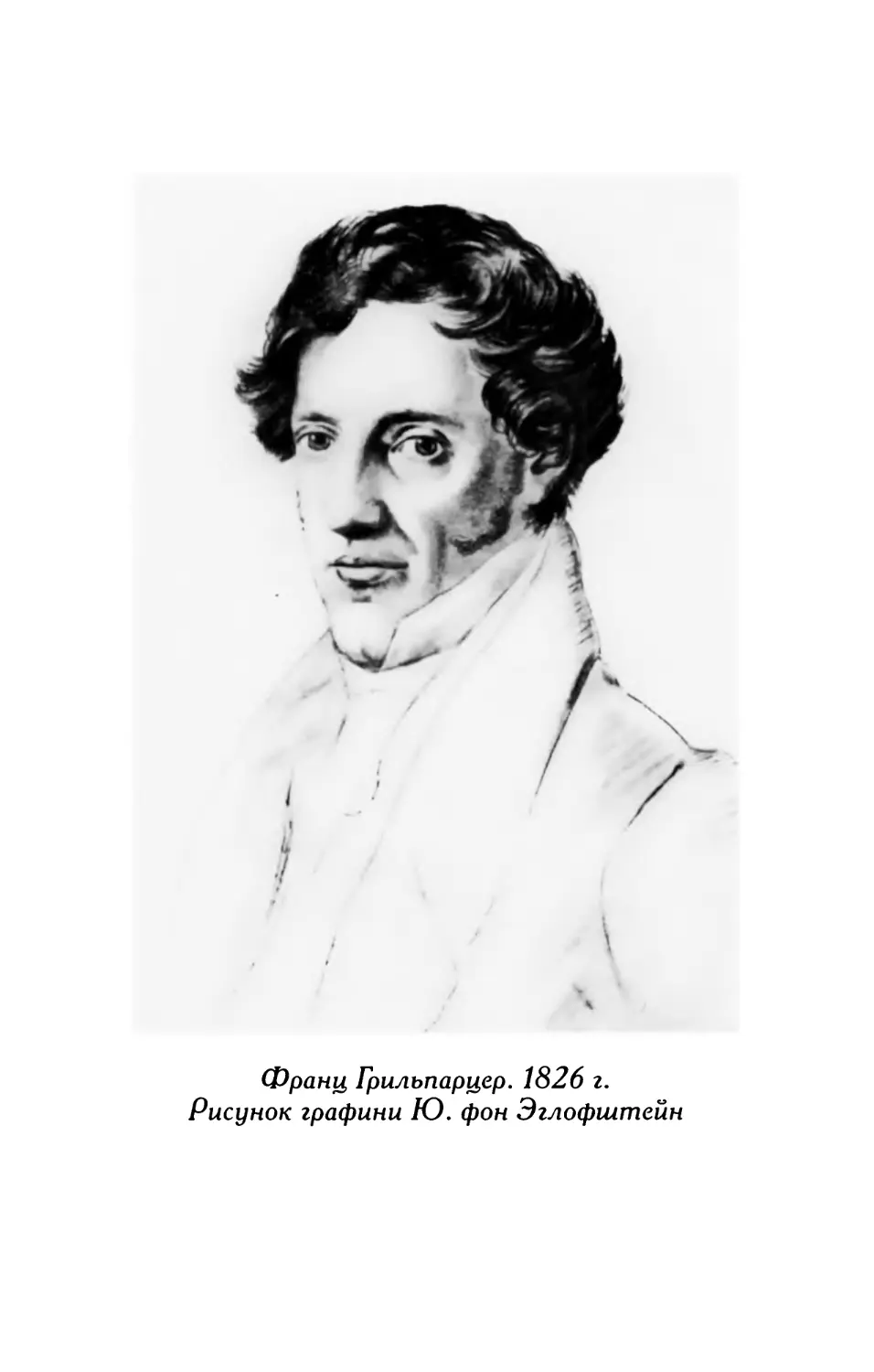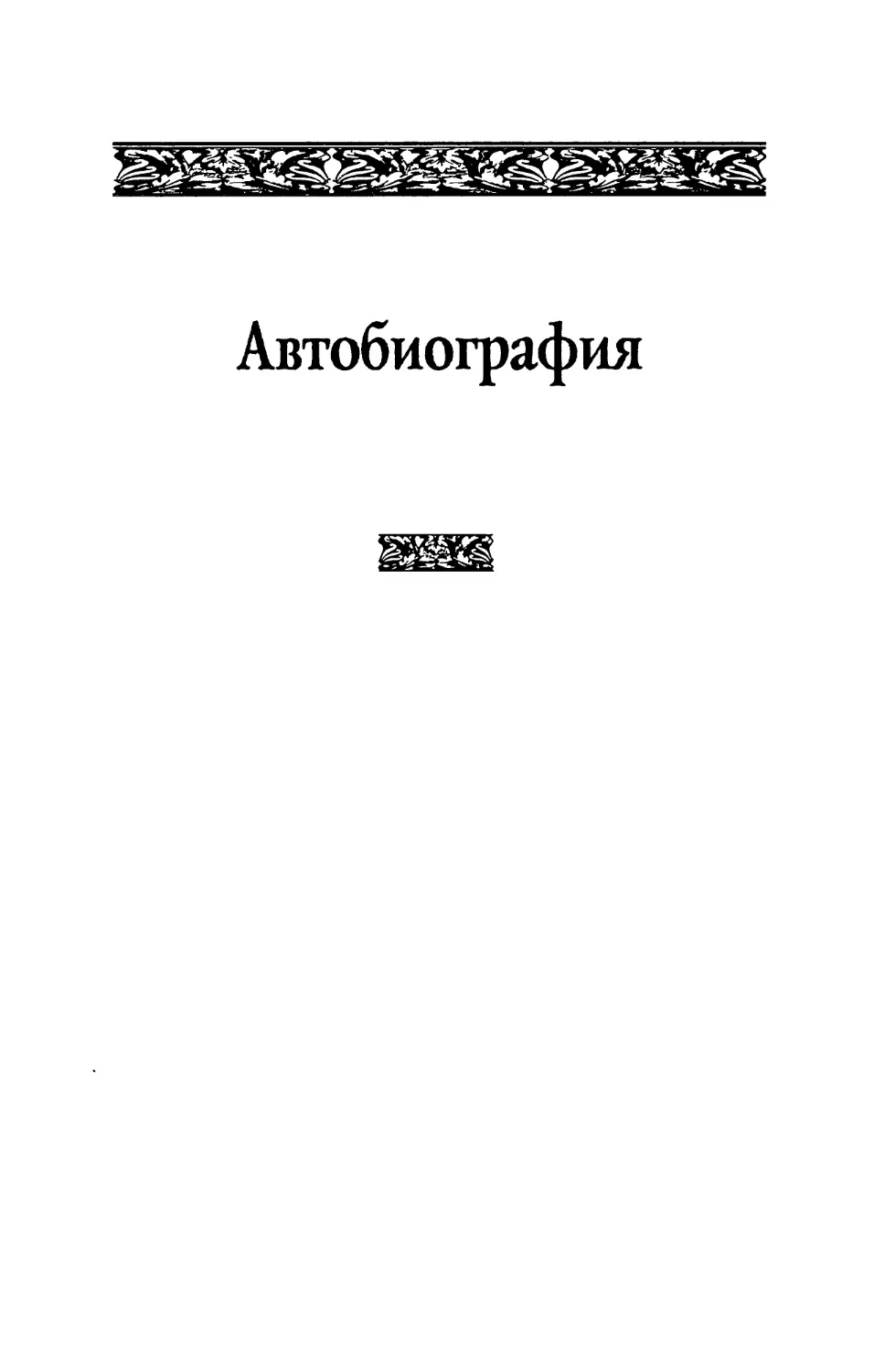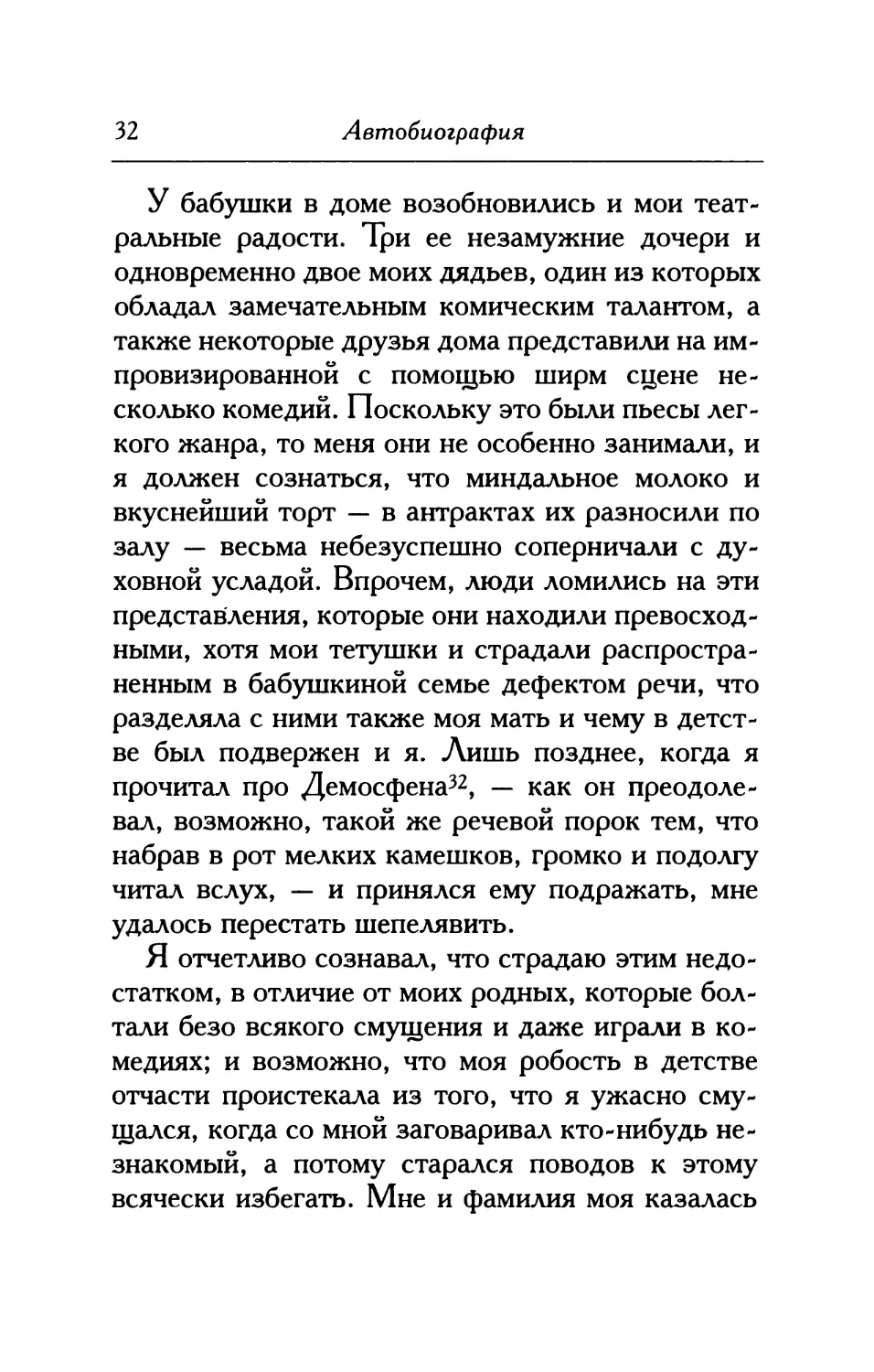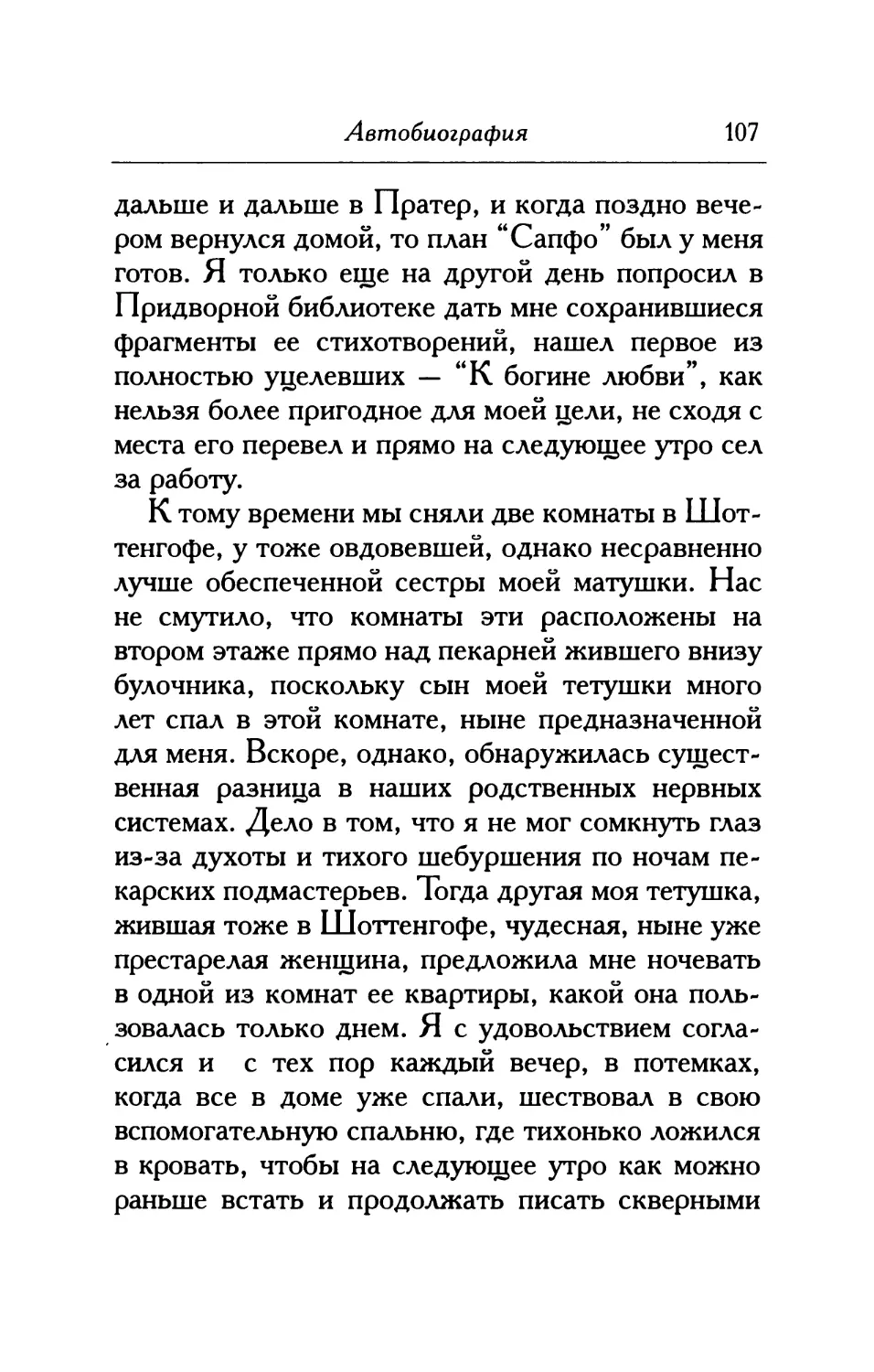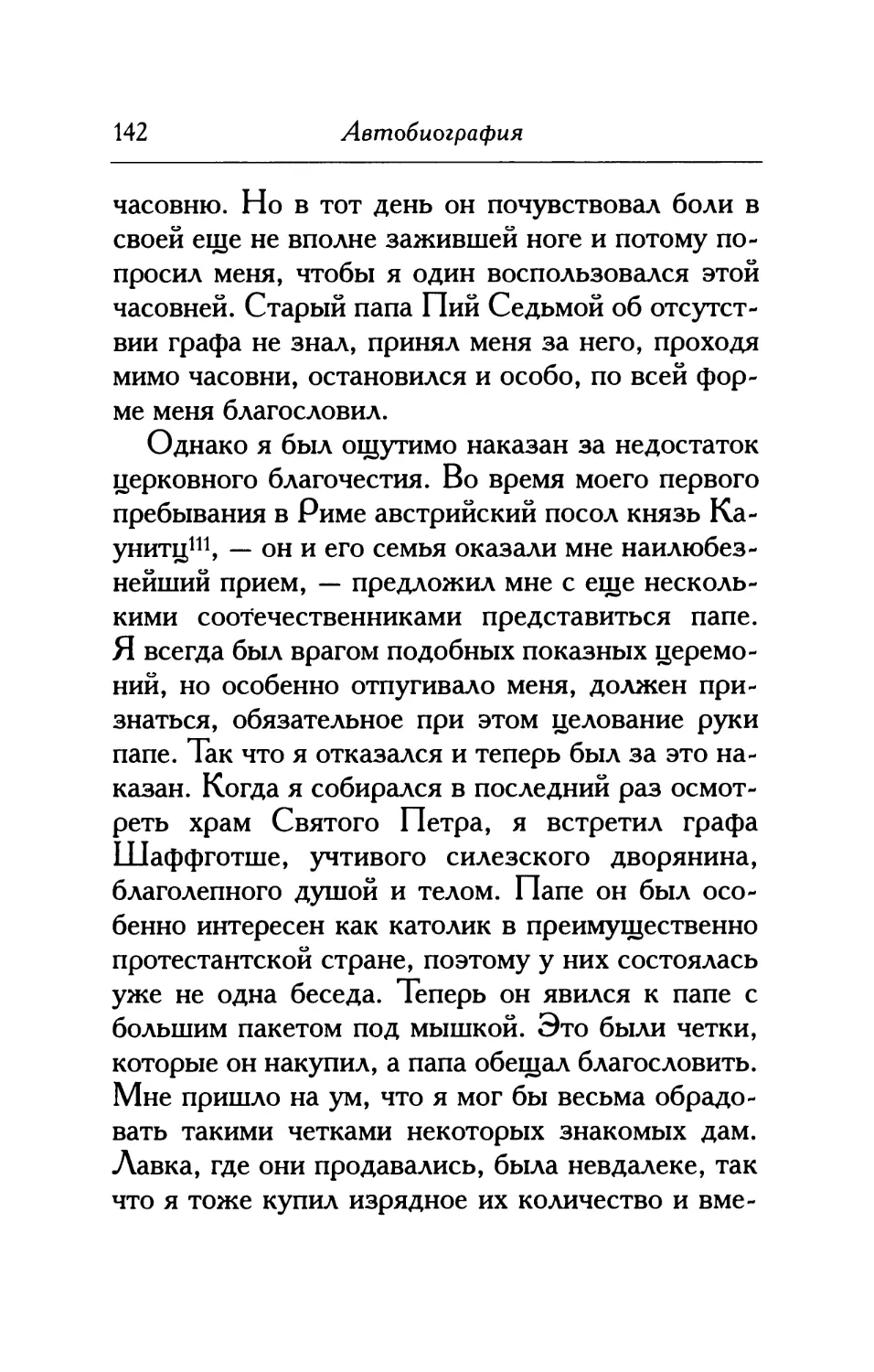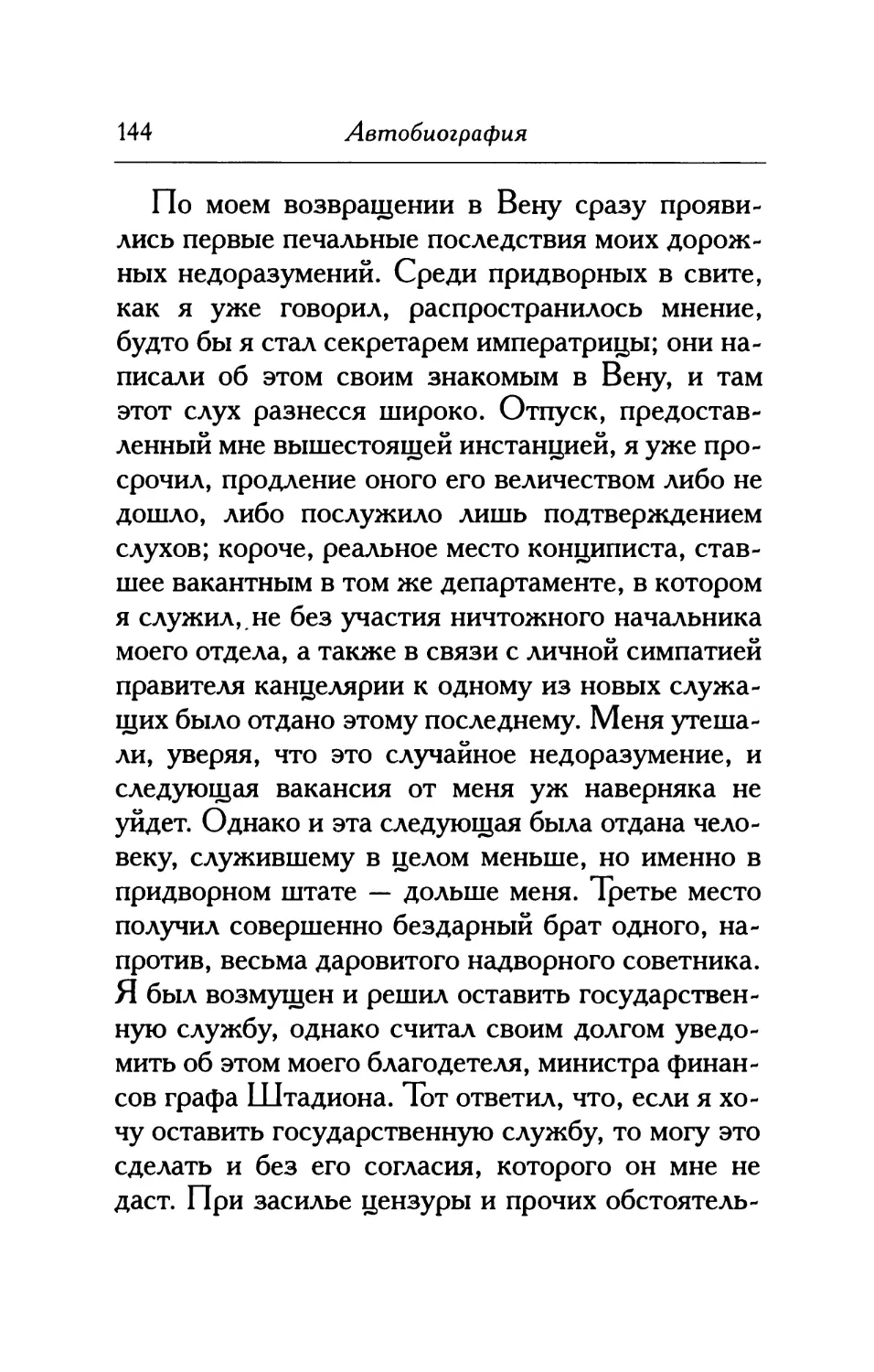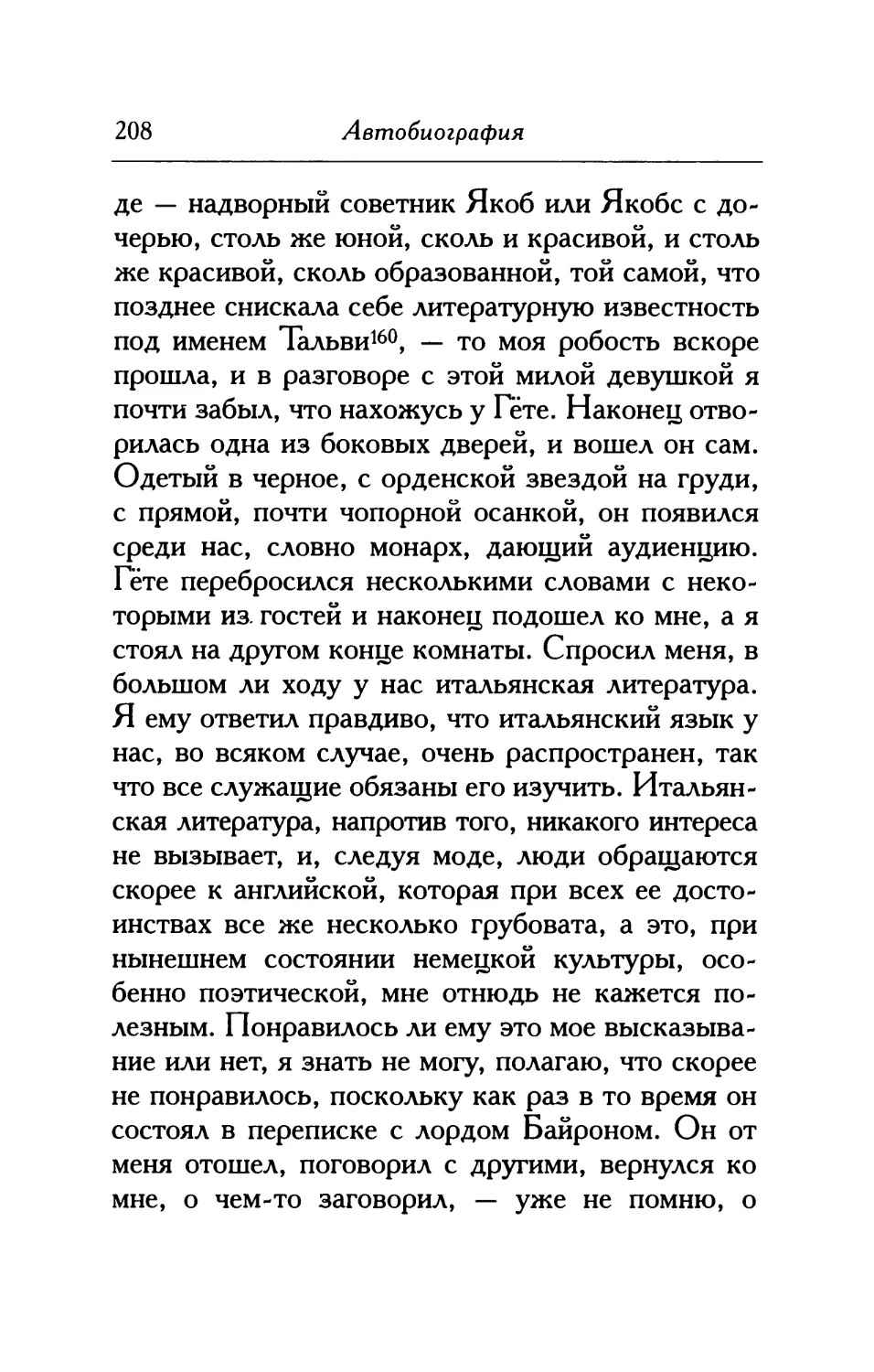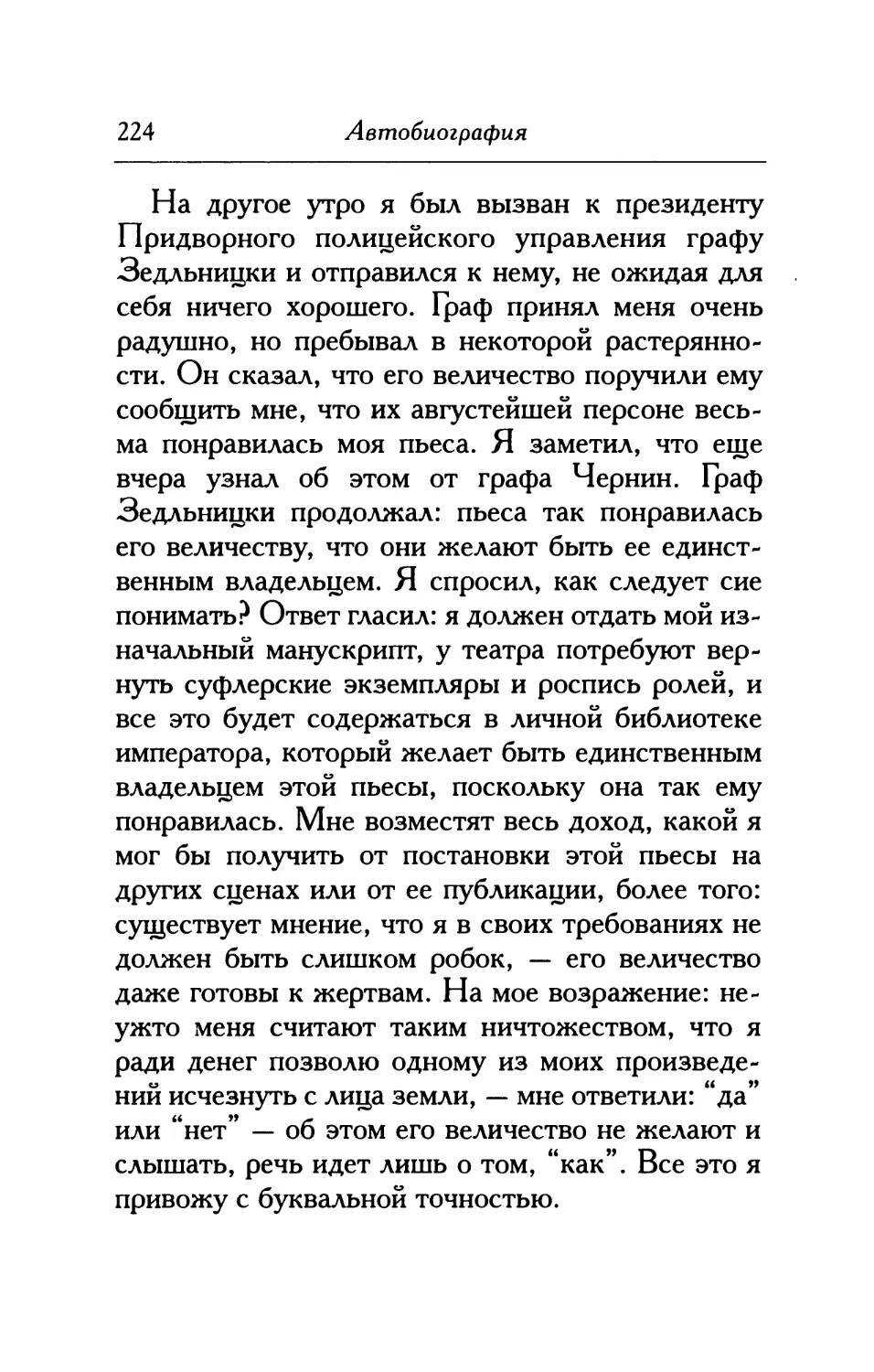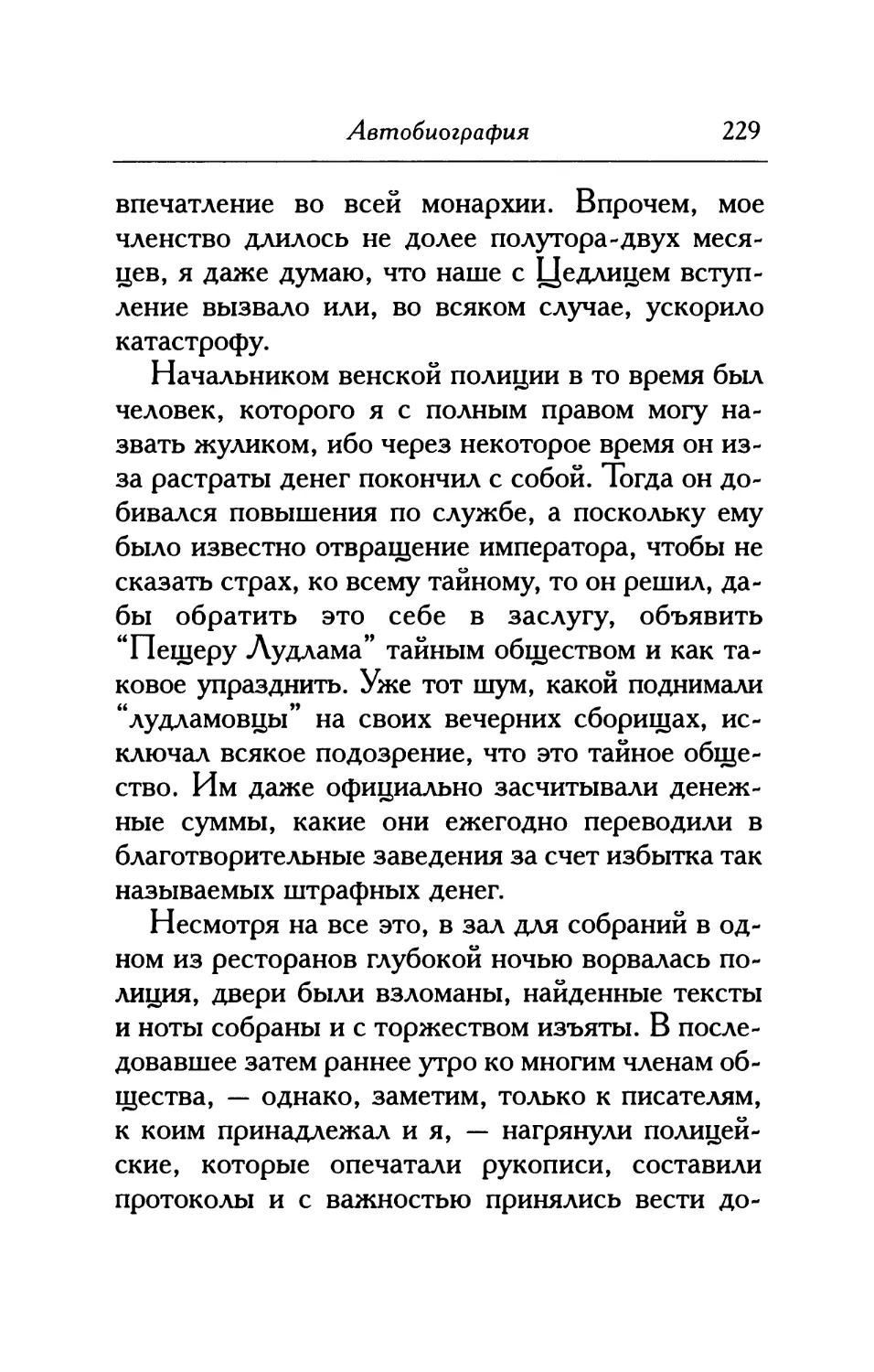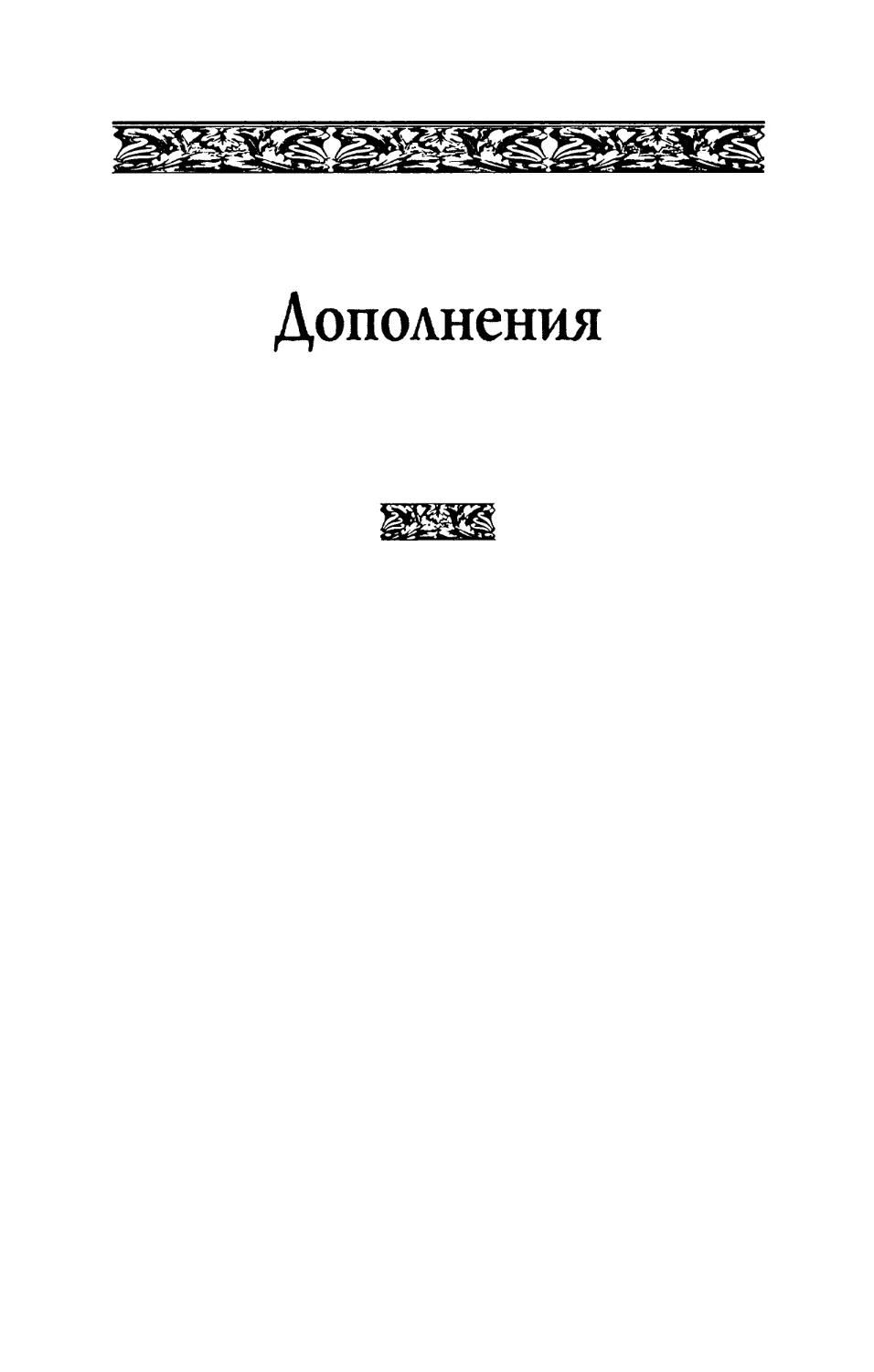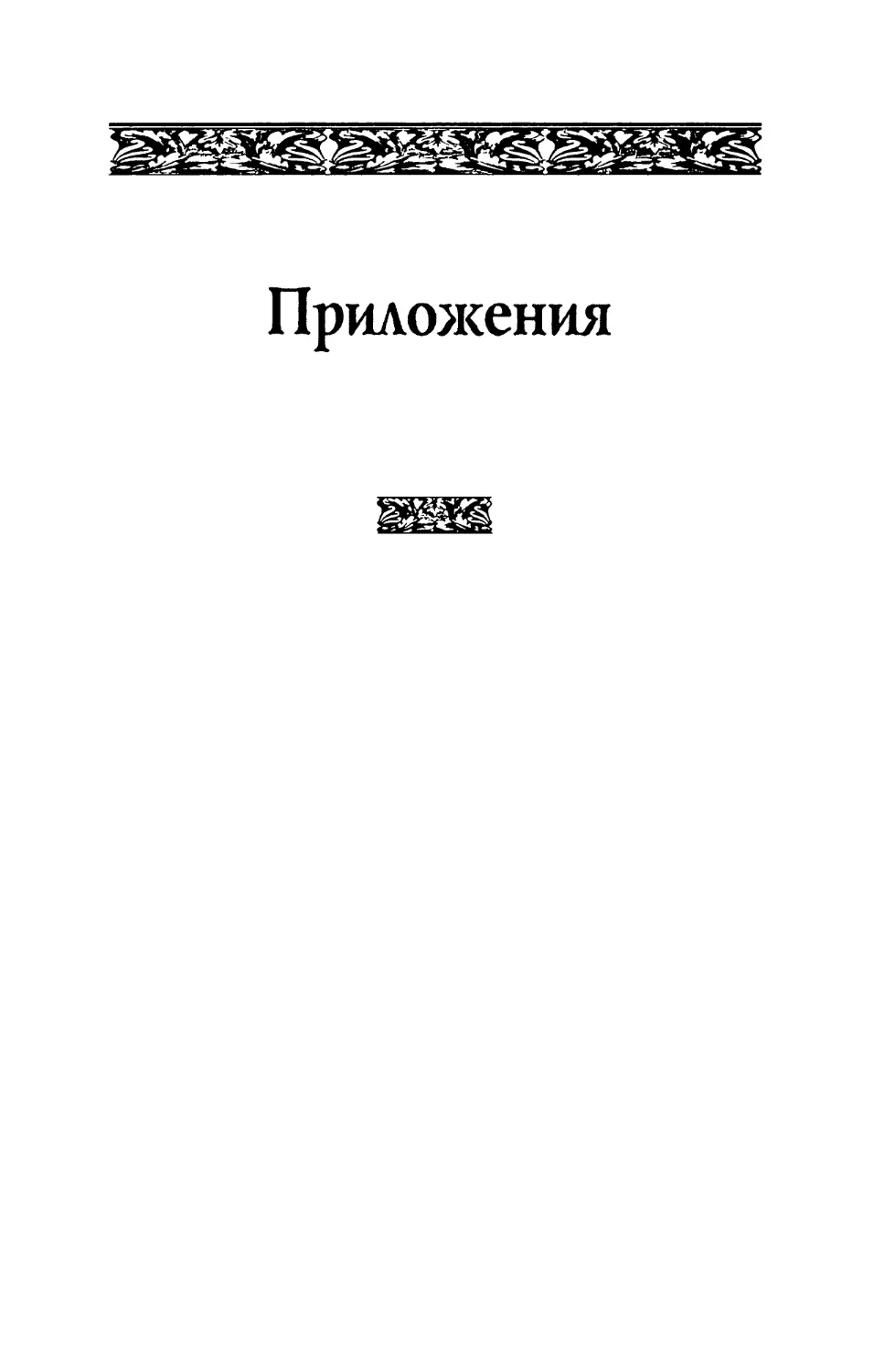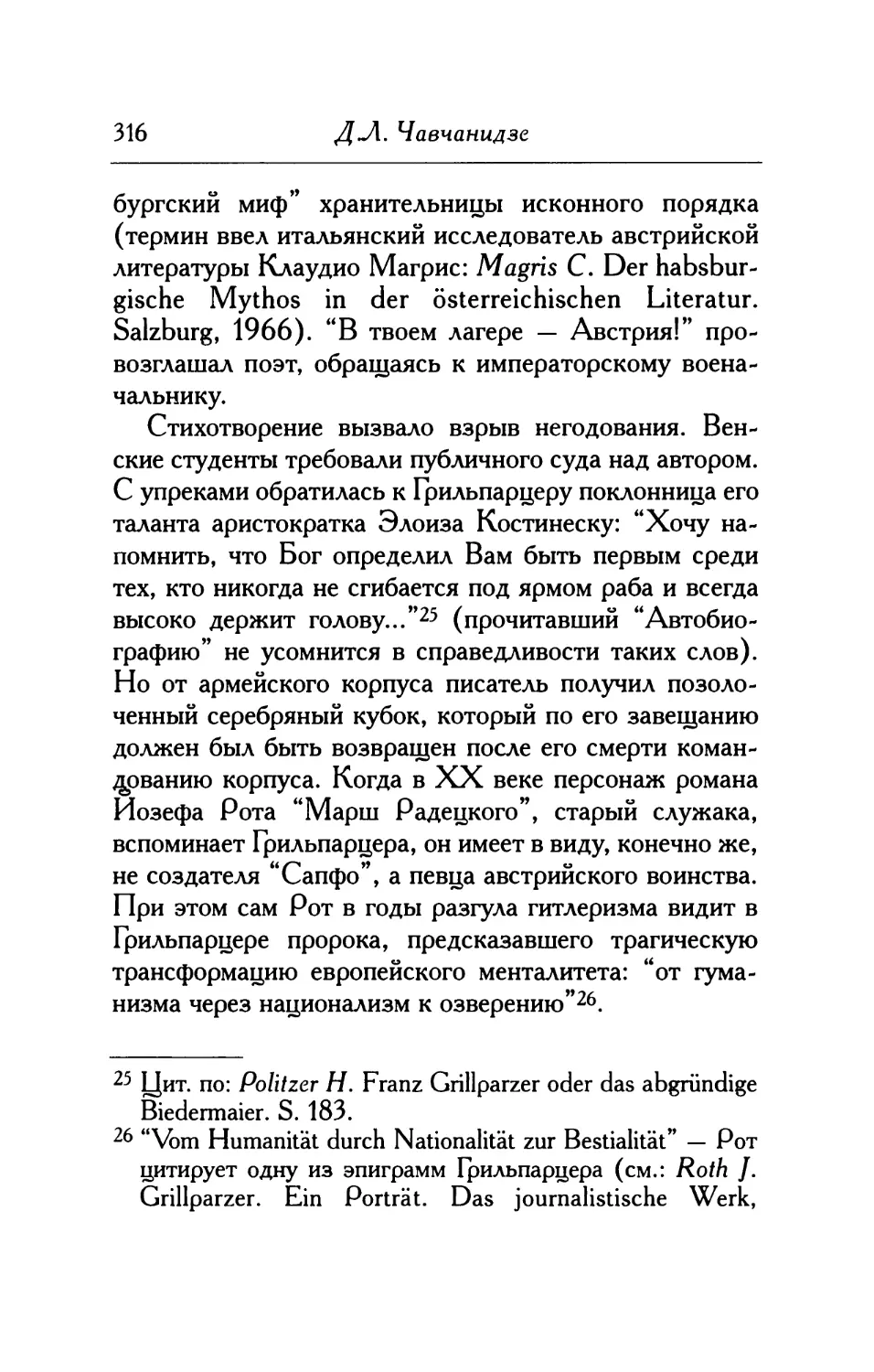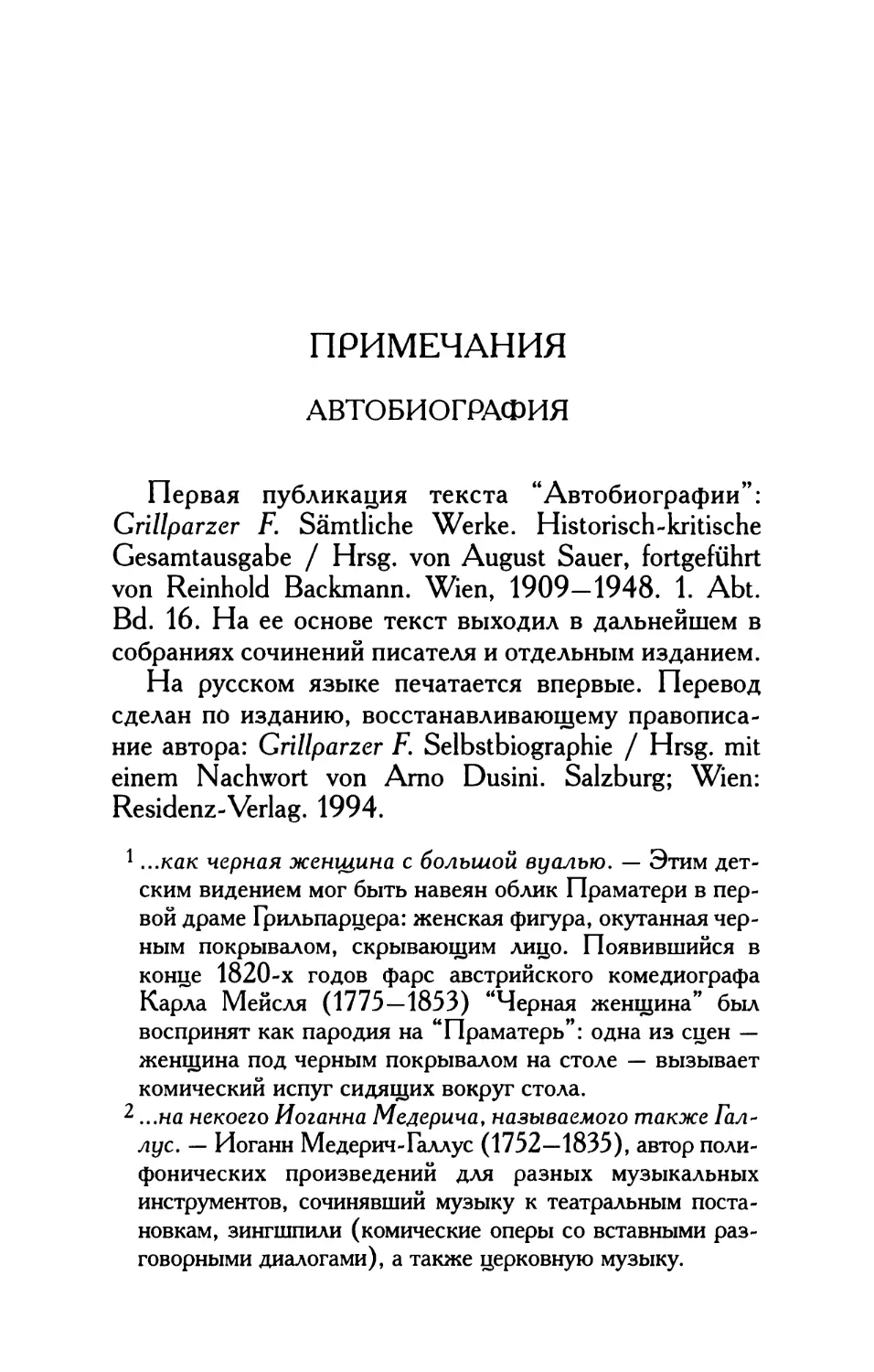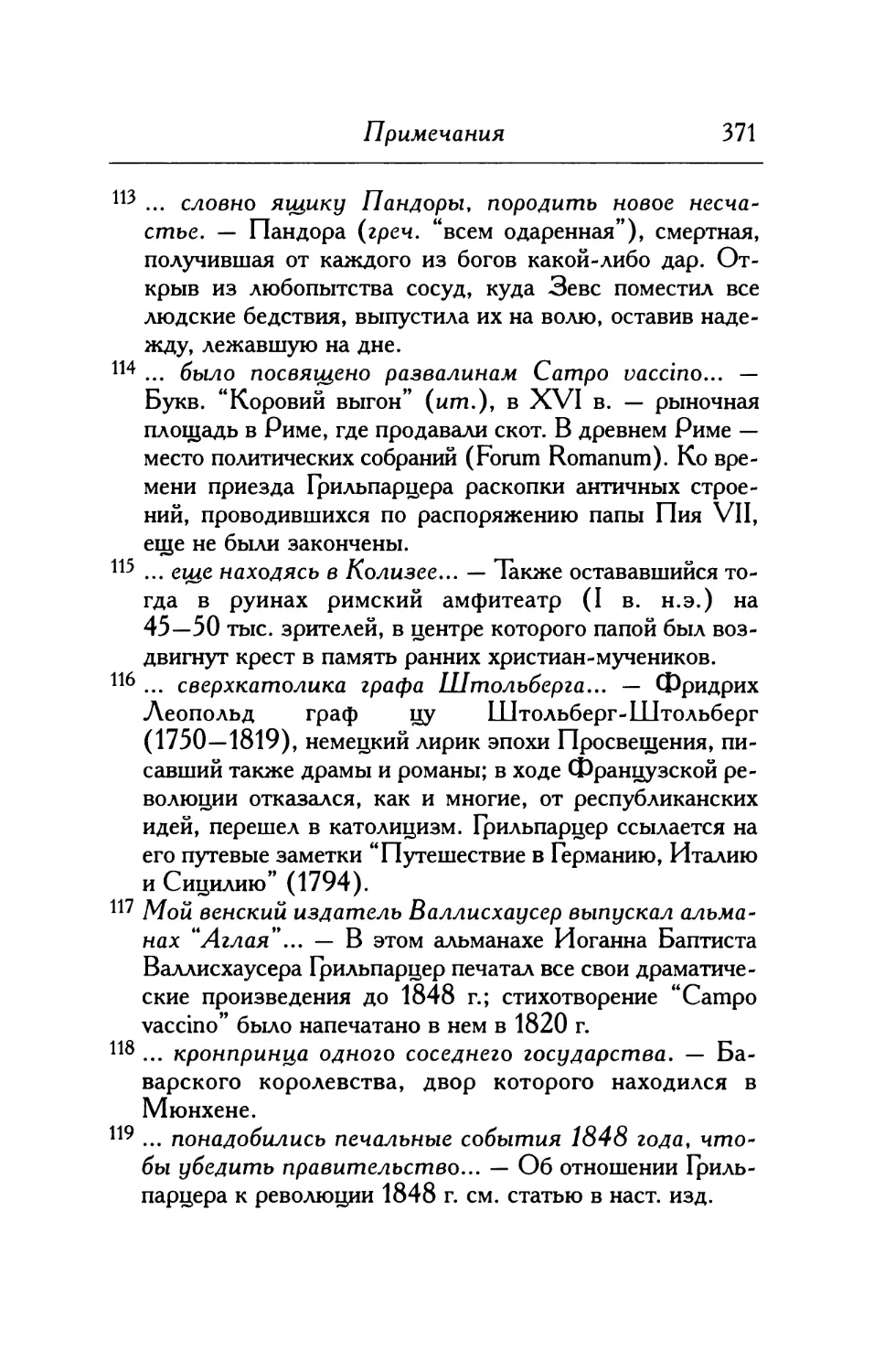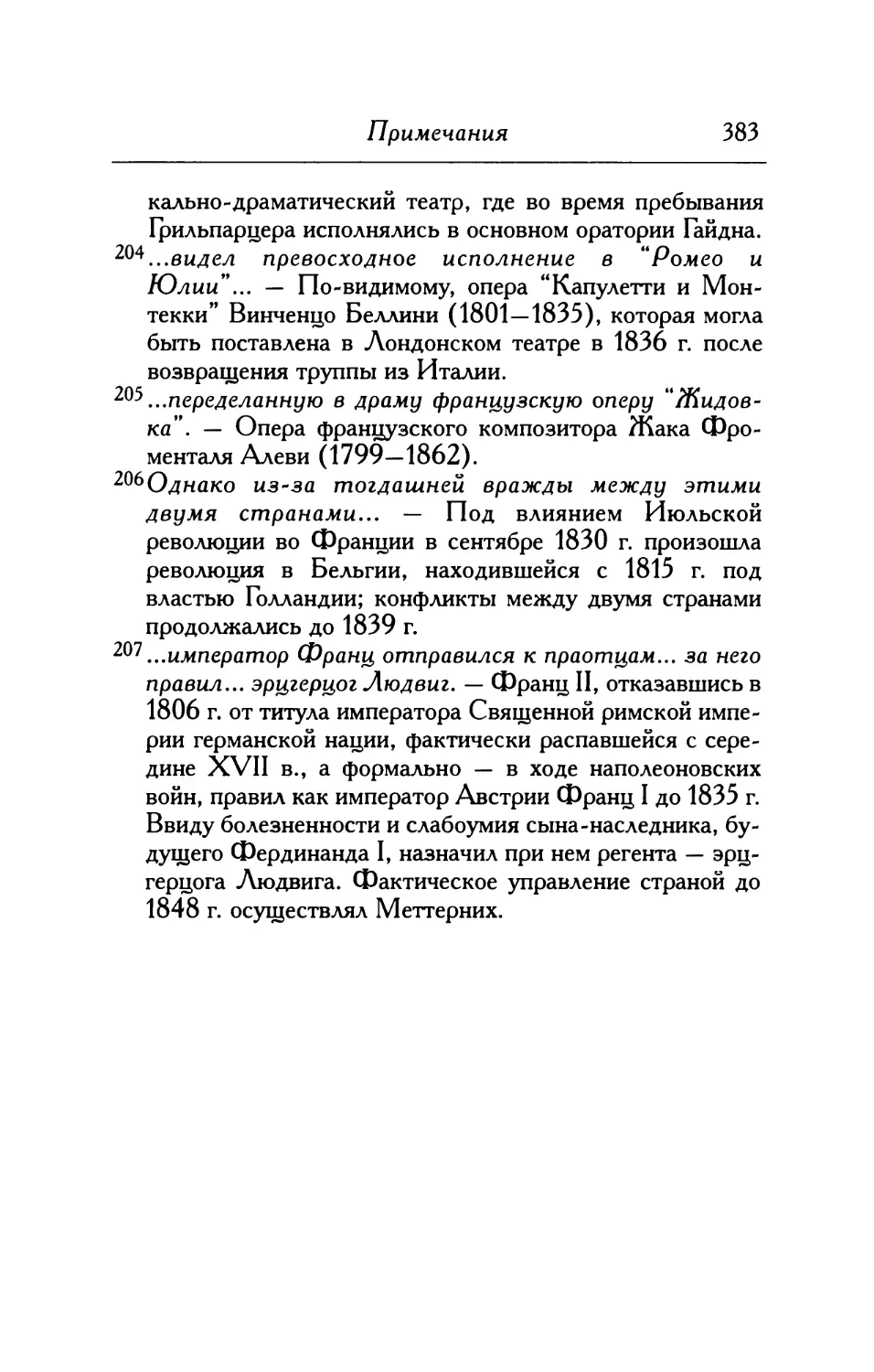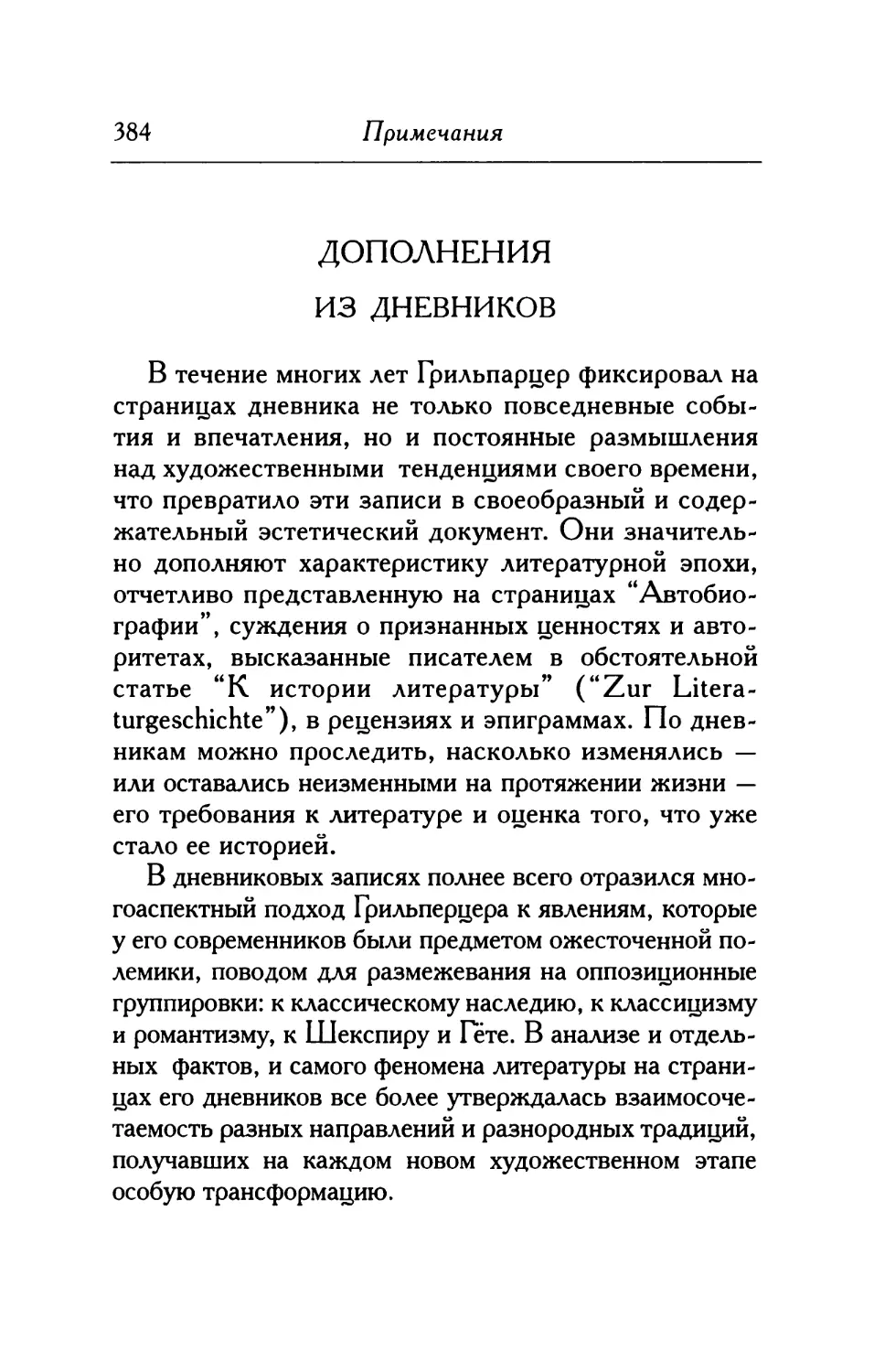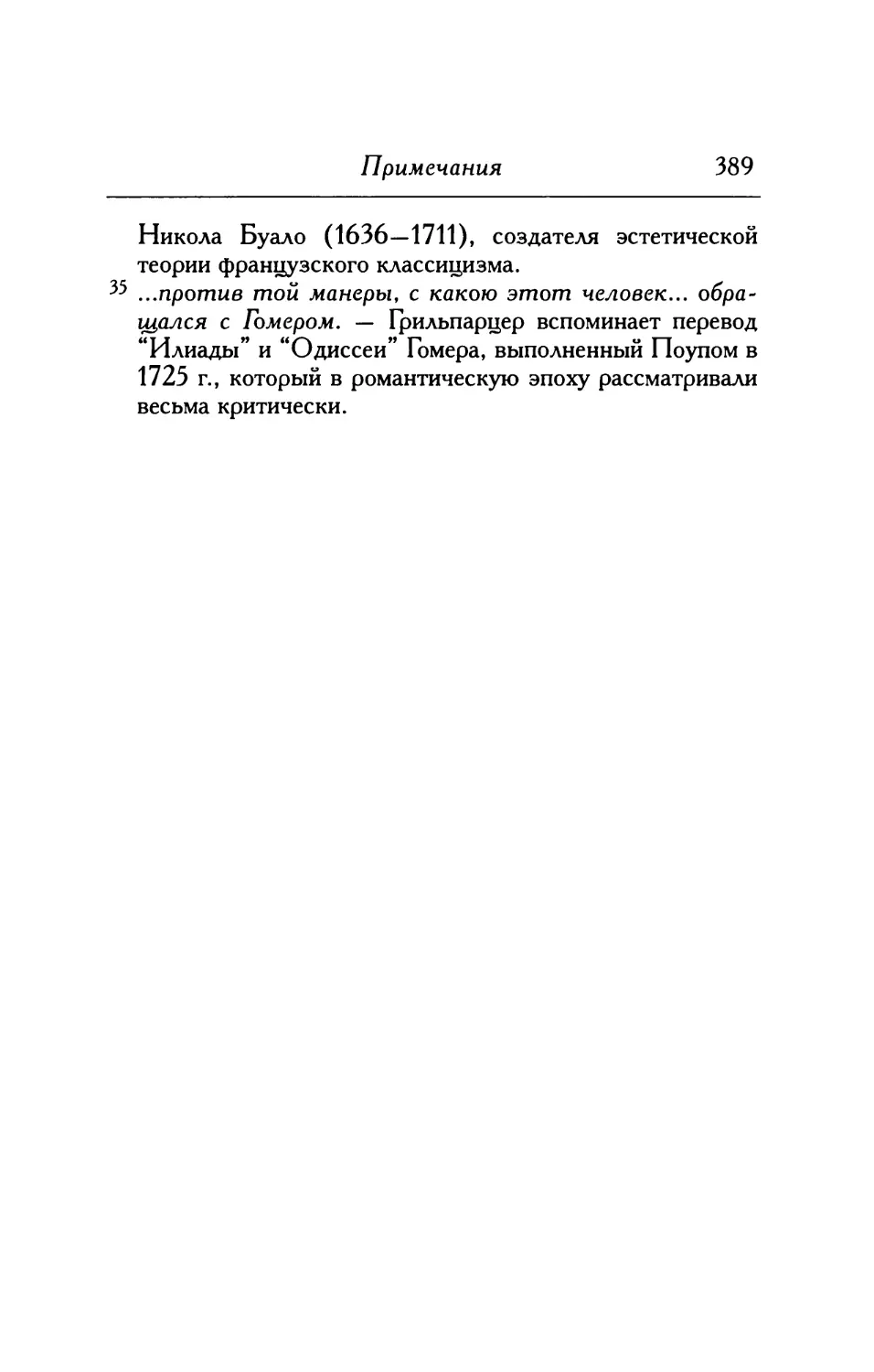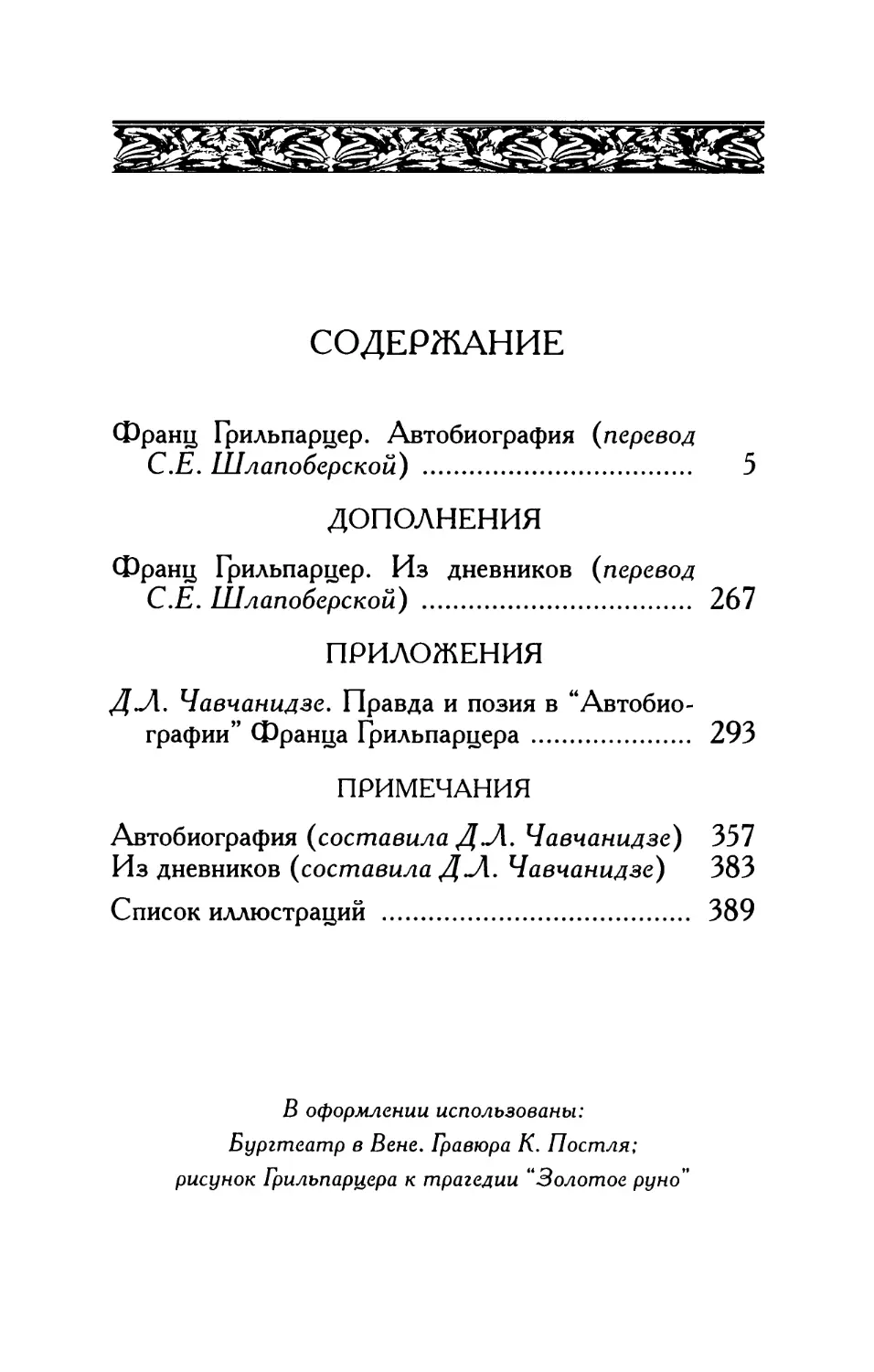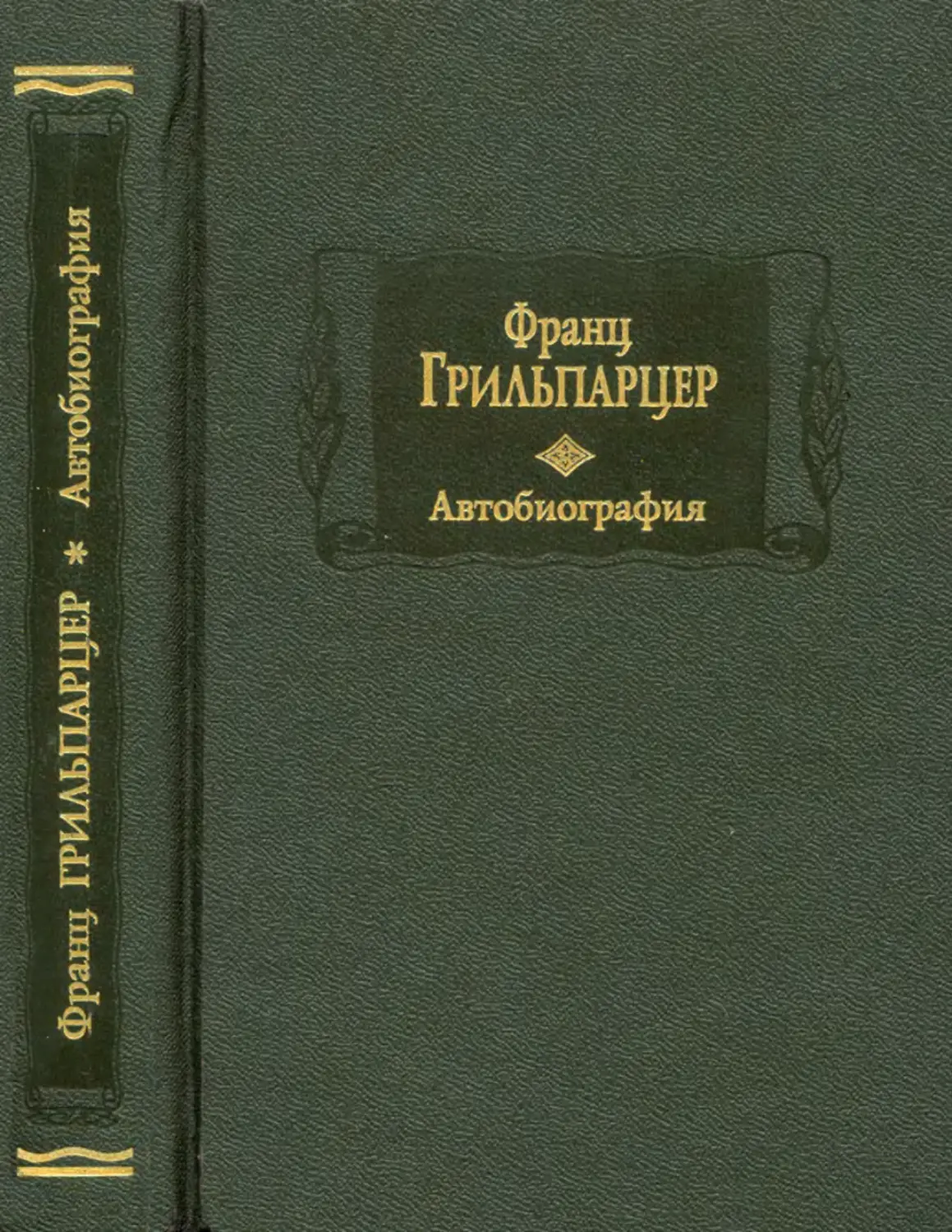Автор: Грильпарцер Ф.
Теги: художественная литература на немецком языке художественная литература автобиография литературные памятники издательство наука грильпарцер
ISBN: 5-02-010216-4
Год: 2005
Текст
Франц Грильпарцер. 1826 г.
Рисунок графини Ю. фон Эглофштейн
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
Franz
Grillparzer
Selbstbiographie
Франц
Грилытарцер
Автобиография
Издание подготовили
Д.Л.ЧАВЧАНИДЗЕ,
СЕ.ШЛАПОБЕРСКАЯ
МОСКВА НАУКА 2005
УДК 821.112.2
ББК84(4Авс)
Г82
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
"ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ"
В.Е. Багно, H.H. Балашов (председатель),
МЛ. Гаспаров, А.Н. Горбунов, АЛ. Гришунин,
Р.Ю. Данилевский, Н.Я. Дьяконова,
Б.Ф. Егоров (заместитель председателя),
Н.В. Корниенко, Г.К. Косиков, А.Б. Куделин,
A.B. Лавров, АД. Михайлов (заместитель председателя),
Ю.С. Осипов, МЛ. Островский,
И.Г. Птушкина (ученый секретарь),
ЮА. Рыжов, И.М. Стеблин-Каменский, СО. Шмидт
Ответственный редактор
Д.Л. ЧАВЧАНИДЗЕ
ТП-2004-Н-№ 162
ISBN 5-02-010216-4 © СЕ. Шлапоберская (перевод),
2005
©Д.Л. Чавчанидзе (составление,
статья, примечания), 2005
© Российская академия наук
и издательство "Наука", серия
"Литературные памятники",
1948 (год основания), 2005
Автобиография
Академия просит меня (вот уже в третий раз)
сообщить ей для использования в ее альманахе,
как сложилась моя жизнь. Я попытаюсь это
сделать, боюсь только, что раз уж моя биография
вызывает интерес, я примусь излагать ее
слишком пространно. Впрочем, потом можно будет
сократить написанное.
Я родился в Вене 15 января 1791 года. Отец
мой был адвокат, человек неукоснительно
честный и замкнутый. Поскольку его дела и его
природная скрытность не позволяли ему подолгу
заниматься с детьми, к тому же он умер раньше,
чем мне исполнилось восемнадцать лет, а на
закате его жизни болезнь, ужасные годы войны и
вызванный этими причинами упадок его домашнего
благосостояния только усугубили эту
замкнутость, я не могу ни себе, ни другим дать отчет в
том, каково было у него на душе. В его
обхождении с людьми сквозило что-то холодное и резкое,
всякого общества он избегал, зато был страстным
любителем природы. Едва ли не единственным
его развлечением было самостоятельно
обрабатывать поначалу собственный, а позднее взятый в
аренду сад и выращивать там всевозможные
цветы. Только на прогулках, порой невероятно даль-
8
Автобиография
них, куда он брал с собой всю семью, а зачастую
одного только меня, пока я был еще ребенком,
становился он веселым и общительным. Когда я
вспоминаю, что в часы таких прогулок по берегу
Дуная ему доставляло удовольствие давать
придуманные им названия речным островам, как
делали знаменитые путешественники, плавая
вокруг света, то мне невольно думается, что должно
быть раньше ему не чужды были порывы
фантазии, ведь даже позднее, когда я стал
зачитываться книгами, я не мог доставить ему большего
удовольствия, нежели принести домой романы,
притом исключительно истории про рыцарей и
привидения, которые этот суровый человек затем
читал до глубокой ночи, стоя у шведской печки и
отхлебывая пиво из стакана. Более новые
повести были ему не по душе по причине их избитых
сюжетов.
Моя мать была добрейшая женщина; она
возилась со своими детьми, пыталась установить в
доме порядок, каковой, по правде говоря, сама не
очень-то соблюдала, и жила и дышала музыкой,
которой занималась и которую страстно любила.
Я был старший из трех братьев, к коим
позднее, когда я был уже довольно взрослый,
присоединился четвертый. Меня считали любимцем
отца, хотя он никогда мне этого не показывал.
Напротив: охотнее всего занимался он с третьим
из нас — этот мальчик, по мере того как он рос,
увеселял отца, устававшего от дел, всякими безо-
Автобиография
9
бидными причудами. Второй брат из-за своего
упрямого и неуступчивого характера был отцу
почти противен.
Вообще невозможно представить себе более
разные характеры, нежели эти три брата. О
втором речь уже шла. Третий был писаный
красавчик и потому заласкан женщинами. Поскольку к
тому же наша матушка, когда мы слишком
шумели, не ведала иного средства, кроме как призвать
виновных к себе и в виде наказания велеть им
вязать "подвязку для чулок", то младшенький
принимал это веление всерьез и вязал, и вышивал,
словно девочка. В трех углах комнаты он поселил
трех придуманных им женщин, которым даже дал
имена, и по очереди наносил визиты. Отец,
вечерами расхаживавший взад-вперед по комнате,
пытался навязать ему еще и четвертую, однако
мальчик решительно ее отверг, потому что в
предложенном отцом имени слишком явно звучала
насмешка.
Сильно отличаясь от братьев и потому держась
от них на расстоянии, да и оттого еще, что наш
отец в то время чурался всяких знакомств, я рос в
полном одиночестве. Чтобы дать понятие о
неровном настроении и мрачности моих ранних лет,
я непременно должен описать нашу квартиру.
Мой отец, вознамерясь жениться, принялся
искать жилье. Однажды вечером, будучи в гостях
у знакомого, он не переставая нахваливал его
квартиру. Две огромные залоподобные комнаты;
10
Автобиография
перед ними — комната поменьше, вполне
пригодная для конторы адвоката, далее вглубь еще
несколько покоев — спальня и все прочее. Услышав
о пожелании моего отца, жилец этой квартиры
ему заявляет, что нет ничего проще, чем все это
заполучить. Сам он от этой квартиры уже
отказался, а среди его гостей сейчас находится
домовладелец, с коим можно безотлагательно
поговорить. Сказано — сделано. Мужчины ударили по
рукам, и вот уже у моего отца есть то, что он
хотел. Он заметил, что окна квартиры выходят на
разные стороны. А коли так, то самым
естественным было бы, если бы одна ее половина
выходила на улицу — на Бауэрнмаркт, а другая — на
довольно просторный двор дома. Однако при
дальнейшем рассмотрении оказалось, что вид во двор
действительно есть, а вот другая половина
выходит в узкий и грязный проулок — тупик, о
существовании коего многие люди в Вене и понятия не
имеют.
В этом доме я и родился и провел свои первые
детские годы. Громадные комнаты были темными
и хмурыми. Лишь в самые долгие летние дни
единичные солнечные лучи в полдень падали в
кабинет нашего отца, и мы, дети, стояли там и
радовались, глядя на отдельные полосы света на полу.
Да и в расположении комнат было нечто,
достойное удивления. Подобно другим старинным
домам этот был построен с большой
пространственной расточительностью. В детскую, столь ог-
Автобиография
11
ромную, что стоявшие в ней четыре кровати и
несколько шкафов, казалось, ничуть ее не умаляли,
свет попадал через ряд окон и застекленную
дверь лишь с небольшого двора, расположенного
на том же уровне, что и комнаты первого этажа.
Доступ в этот двор был нам строго воспрещен,
вероятно, вследствие договоренности с угрюмым
домохозяином, который опасался шума,
поднимаемого детьми. Сюда мы в воображении
переносили наши прогулки и летние игры.
Возле кухни находился так называемый
дровяной подвал, такой большой, что в нем без
сомнения мог бы поместиться дом средней величины.
Туда можно было входить только со свечой, свет
которой, впрочем, даже не достигал стен. Там
лежали сложенные штабелями дрова. Деревянная
лестница вела оттуда в помещение повыше, где
хранились предметы убранства и прочие вещи не
первой необходимости. Ничто не мешало нам
воображать, будто эти жуткие места населены
разбойниками, цыганами, а то и привидениями.
Между тем ощущение жути усиливало
настоящее, живое население, а именно — крысы, коих
несметное количество шмыгало туда-сюда, а
некоторые даже отыскали дорогу на кухню.
Живший у нас отцовский племянник, а с ним и мой
второй брат иногда, вооружившись сапожными
колодками, затевали охоту на крыс, сам же я
лишь раз-другой отважился войти в этот подвал,
где набрался страха и ужаса.
12
Автобиография
Второй длинный коридор вел из кухни в
отдаленную, уже примыкавшую к соседнему дому
комнату, где жила кухарка, на которой вследствие
собственной оплошности женился один слуга,
исполнявший также обязанности писца. Эта чета
вела там свое, отдельное хозяйство. У них был
ребенок и для ухода за ним — девочка-подросток,
как служанка служанки. Входить в эту комнату
нам также было запрещено, и если, бывало,
замызганная девочка с неопрятным ребенком на
руках появлялась, хотя бы мимоходом, в поле
нашего зрения, то они казались нам жителями иной
части света.
В те годы, когда я начал входить в разум,
печальный дух нашей квартиры смягчался тем, что
мой отец вместе с тещей и с одним из зятьев
купил большой дом в Энцерсдорфе, у подножия
гор, дом, достаточно поместительный для того,
чтобы в нем могли совершенно обособленно друг
от друга проживать три семьи. Самым лучшим
там был обширный сад, где мой отец, приезжая
туда в субботу вечером и оставаясь до утра
понедельника, мог отдаться своей любви к
садоводству. Для нас, детей, радость от этого сада была
омрачена очень большим, как нам тогда казалось,
прудом, который находился на самом краю сада
и, хоть и был обнесен шатким барьером, грозил
нам постоянной опасностью в него свалиться. Тут
конца не было обетам и запретам, а о том, чтобы
бегать вокруг пруда без присмотра, не могло быть
Автобиография
13
и речи. Чем-то особенно таинственным казался
мне дальний берег этого пруда, доходивший до
садовой стены, куда никто не забирался, и, не
имея в виду ничего определенного, я помещал под
широкие листья росшего там латука и в густой
кустарник все те ужасы и тайны, которыми в нашей
городской квартире был населен дровяной под г
вал. Никакими привидениями нам не грозили и
нас не пугали. Невзирая на это, однажды, когда я
и мой второй брат совсем одни играли, забравшись
под бильярд в общей зале, мы оба одновременно
закричали. Когда на крик сбежались люди, мы им
сообщили, что видели привидение. На вопрос, как
оно выглядело, я сказал: как черная женщина с
большой вуалью1. А мой брат: как жук-олень.
Радость от этой загородной квартиры вскоре
была омрачена. Отец разводил в общем саду
цветы и делал это с особым тщанием. Однако мои
тогда еще незамужние тетушки мыслили себе
лишь одно предназначение для цветов: выходя в
сад, их рвать и либо прикалывать к груди в виде
букета, либо ставить на подоконник в вазу с
водой. Еще хуже вели себя уже не такие маленькие
и не ведавшие никаких запретов дети моего дяди.
Они без зазрения совести бегали по клумбам и
затаптывали растения задолго до того, как те
начинали цвести. По этому поводу раздавались
нескончаемые жалобы, дом опротивел всем его трем
владельцам, и они были рады, найдя на него
покупателя. Лишь несколько лет спустя отец взял в
14
Автобиография
аренду дом в Хернальсе, где мы с тех пор
проводили каждое лето и где он, как единственный
хозяин, мог уберечь свои любимые цветы от всякой
порчи.
Как нечто характерное для образа мыслей
моего отца я вспоминаю еще, что однажды он
сделал нам, троим своим сыновьям, кнуты. Мои
братья получили совсем простые, удобные в
обращении кнутики, которыми они щелкали в свое
удовольствие. Для меня же, по общему мнению,
своего любимца, отец выбрал такую здоровенную
палку и такую толстую веревку, что я и не знал, с
какого боку взяться за эту плетку, хотя он сам
показал мне, как пользоваться этим чудовищным
орудием, и производил им звучные щелчки. Он не
умел по-настоящему вникнуть в натуру ребенка.
Про Энценсдорф я помню еще только, что
тамошний старый школьный учитель преподал мне
начатки грамоты и научил читать по складам. Это
был весьма почтенный человек, но кроме его
наружного вида я помню еще только, что борьбу с
капризами и упрямством он обозначал
причудливым выражением: "повязать осла".
Вероятно, еще в Энценсдорфе началось, а в
городе продолжилось то, что составило мученье
моих детских лет. Еще прежде, чем я научился
вполне владеть своими членами, моя увлеченная
музыкой матушка поставила себе целью
посвятить меня в тайны игры на фортепиано. В моих
ушах до сих пор звучит резкий голос, каким эта
Автобиография
15
вообще-то снисходительная женщина упорно
вбивала в меня расположение нот: над
линейками, под линейками, на линейках, между
линейками. А когда я делал попытку что-то сыграть, то
при каждой неверно взятой мною ноте она
сдергивала мои руки с клавиатуры, и я испытывал
адские муки.
Когда мы возвратились в город, для меня был
нанят настоящий учитель музыки. К сожалению,
с выбором учителя матушке не повезло. Она
напала на некоего Иоганна Медерича, называемого
также Галлус2. Как я узнал позднее, он был
превосходным контрапунктистом, но вследствие
легкомыслия и лени не смог довести свое искусство
до надлежащего уровня. Люди, заказавшие ему
работу, не могли у него ее получить; начатую им
оперу пришлось заканчивать капельмейстеру
Винтеру, а будучи некоторое время на службе у
последнего польского короля3, он взял за
привычку выходить через заднюю дверь всякий раз,
когда карета короля въезжала в парадные ворота,
за что тот его уволил, так и не сподобившись
услышать, как он играет. Чтобы не умереть с
голоду, он был вынужден давать уроки музыки, хотя
ему это было достаточно противно. Меня он
полюбил, но его преподавание было серией детских
забав. Пальцы обозначались смешными
прозвищами: "замарашка", "увалень". Мы больше ползали
под клавиром, чем на нем играли. Мою матушку,
которая при сем присутствовала, он умиротворял
16
Автобиография
тем, что вторую половину часа, а нередко и
дольше, фантазировал и фугировал так, что у нее
таяло сердце. Вместо того чтобы обучать меня
аппликатуре4 и беглости, он развлекался тем, что
заставлял меня играть цифрованный бас5, а один
раз этот ленивец даже сочинил для меня концерт
с участием всех инструментов, который я должен
был исполнять у него дома, при том что я
совершенно ничего не умел; на клавире, помнится,
брались только отдельные звуки и аккорды, в то время
как другие инструменты делали все остальное.
Ради забавы он способен был даже себя
утруждать; заставить же его делать что-либо серьезное
было совершенно невозможно. И все-таки этот
человек, скорее ребячливый, чем склонный к
шутовству, паяцем не был. Так как расписания
уроков он совершенно не соблюдал, то иногда вместо
него приходила его сестра, долговязая, весьма
некрасивая, но в остальном превосходная женщина.
В игре на клавире я и у нее заметных успехов не
сделал, зато во время слишком частых перерывов
на отдых она обучила меня мало известному в ту
пору, а ныне, как я слышу, часто применяемому
звуковому методу, складывать буквы и читать, и
делать это, поскольку буквы я уже знал, сидя за
клавиром, без книги. Уж не знаю, как это
получилось, но долгое время никто и не догадывался, что
я умею читать.
И вот было принято решение отправить меня в
школу. Выбор пал на частное учебное заведение,
Автобиография
17
находившееся напротив нашей квартиры на Бау-
эрнмаркте и пользовавшееся всеми
преимуществами государственной школы. Поскольку я умел
делать главное — свободно читать, то в школе не
посмотрели на недостаток моих познаний в
арифметике и грамматике и определили меня сразу во
второй класс. Здесь я продолжал делать то, что,
к сожалению, делал всегда: не без усердия
занимался тем, что меня увлекало, остальным же
пренебрегал. Таблицу умножения я толком не знаю и
по сей день. Часть вины за это несет мой отец,
который всегда толкал меня вперед и считал, что
пропущенные азы уж как-нибудь сами собой на-
верстаются. Позднее, в латинской школе, все
продолжалось в том же духе. Ведь нет ничего
труднее, чем наверстать азы. В этой школе я
продержался два года, балансируя между хвалой и
порицанием; выучился вполне хорошо писать,
однако отставал в счете и в грамматике.
Пробелы в последней я практически восполнял
безмерной любовью к чтению, которая
распространялась на все книги, какие я только мог
раздобыть. Под рукой у меня оказались библейские
истории Нового Завета в изложении для детей.
Что еще подвернулось мне в то время, я уже не
помню.
Одной из первых книг, какие я прочел, было
либретто "Волшебной флейты". Оно имелось у
горничной моей матушки, и эта девушка хранила
его как святыню. Дело в том, что в детстве она
18
Автобиография
играла в этой опере обезьянку и усматривала в
этом событии звездный час своей жизни. Других
книг, кроме молитвенника и оперного текста, у
нее не было, и она так высоко его ценила, что,
когда первые его страницы где-то затерялись, она с
великим трудом собственноручно их переписала и
приложила к книге. Сидя у нее на коленях, я по
очереди с нею читал вслух рассказы о
поразительных чудесах, причем оба мы не сомневались в
том, что это — наивысшее из всего, до чего мог
воспарить человеческий дух.
Несколько позднее ко мне в руки попал какой-
то древний перевод Квинта Курция6, вероятно
валявшийся как брошенная за ненадобностью
вещь среди старого хлама на чердаке нашей
загородной квартиры, который хозяин дома, столяр и
профессиональный пьяница, охотно предоставил
в мое распоряжение. Я уже не помню, сколько
раз, с неизменным восторгом, прочитал я с
начала до конца эту толстенную книгу, напечатанную
крупными буквами. Чего я не понимал, то
оставлял без внимания, тем более, что ни матушка, ни
горничная мне этого объяснить не могли, а
спросить отца я не решался, опасаясь, что он отберет
у меня книгу как не подходящую мне по
возрасту, — такое уже случалось. Больше всего меня
мучило первое слово, напечатанное латинскими
буквами, которым переводчик или первый
издатель восполнял утраченный текст Курция. Слово
это звучало как "паралипомена"7 или как что-то
Автобиография
19
похожее. Часами бился я над тем, чтобы извлечь
какой-то смысл из этого волшебного слова, но все
было напрасно. Я чувствовал себя несчастным.
Также за городом, возможно на том же
чердаке, я наткнулся на жития святых и рассказы о
чудесах патера Кохема8, которые у меня в голове
очень хорошо уживались с македонскими
героями, разве что подвиги этих последних не
вызывали у меня желания им подражать, между тем я
полагал, что мог бы так же стойко претерпеть
страдания и пытки, выпавшие на долю
мучеников, как эти ревнители веры. Я решил стать
священником, но при этом брал за образец только
отшельников и мучеников. Вернувшись в город, я
изготовил себе ризу из золотой бумаги. Я читал
мессу, а мой младший брат охотно мне
прислуживал, радуясь тому, что может звонить в
колокольчик. Проповедовал я, взобравшись на спинку
стула, правда, единственной слушательницей при
этом была наша старая кухарка, которую мои
дурачества приводили в полный восторг. Она же
была моей публикой, когда я играл на клавире,
однако слушать желала только одну пьесу, какую
я должен был играть снова и снова. У людей
тогда было еще живо воспоминание о казни
Людовика XVI9. В числе учебных пьес мне задали
некий марш, о котором говорили, будто бы его
играли во время этой казни; во второй его части
надо было делать глиссандо10 по целой октаве — это
должно было означать падение ножа гильотины.
20
Автобиография
В этом месте старушка-кухарка лила горючие
слезы и не могла вдоволь наслушаться.
Впрочем, мои церковные устремления ни в
коей мере не объяснялись религиозностью. Отец
мой вырос в период йозефинизма11 и не склонен
был придавать большое значение молитвам.
Матушка каждое воскресенье ходила к мессе в
сопровождении слуги, который нес за нею
молитвенник, а мы, дети, церковь никогда не посещали.
Я еще помню, что позднее, в гимназии, где
каждый учебный день начинался с мессы, я, словно
дикарь, вынужден был смотреть на своих
товарищей, чтобы по их поведению понять, когда
надобно встать, когда опуститься на колени или бить
себя в грудь.
Вскоре за тем нам пришла охота сыграть
комедию. Откуда она взялась и кто нам ее внушил, я
не помню. Мы, мальчики, в театре бывали
крайне редко. Что касается меня, то я в первый раз,
еще ребенком, слушал итальянскую оперу вместе
с родителями, которым один венгерский граф,
клиент моего отца, уступил на тот вечер свою
ложу. Помню только, что я ужасно скучал и что
позабавила меня только одна сцена, где люди, сидя
в беседке, пили шоколад, и один из них, игравший
щеголя, раскачиваясь на стуле, упал навзничь
вместе с чашкою и бокалом. За оперой следовал
балет, название которого — "Свадьба в
деревне"12 — я помню до сих пор. Это было немножко
веселее, и прежде всего меня поразило, что в за-
Автобиография
21
ключительном общем танце артисты одним
прыжком вскакивали в отверстие наподобие
окна, устроенное на сцене в половину ее высоты.
Вообще нас, детей, в лучшем случае в дни наших
именин водили в театр Леопольдштадта13, где мы
с истинным увлечением смотрели пьесы про
рыцарей и привидения с участием Кесперле —
Лароша14. По сей день вижу перед собой сцену из
"Двенадцати спящих дев"15, в которой рыцарь
Вилибальд спасает одну деву из бушующего огня.
Горящее здание изображала узкая боковая
кулиса, а пламя — ярко горевшая канифоль, но тогда
мне все это казалось ужасающе достоверным.
Более всего, однако, изумляло меня превращение
старца, облаченного в волочащиеся одежды и с
факелом в руке, в рыцаря, одетого во все красное,
причем самым поразительным казалось мне то,
что и красный рыцарь держал в руке факел, а это,
между прочим, было слабым моментом
спектакля, что и дает не самое благоприятное
представление о моей тогдашней сообразительности.
Помимо этих отдельно взятых театральных
вечеров, нашим драматическим увлечениям
способствовали также рассказы проживавшего у нас в
доме осиротевшего отцова племянника, которого
использовали в канцелярии как писца и который,
будучи намного старше нас, таким манером
самостоятельно зарабатывал себе на хлеб и
пользовался довольно-таки большой свободой. Мой
отец вообще был весьма склонен к запретам, но
11
Автобиография
не меньше был он склонен и присматривать за
нами. Этот наш родственник, не чуждый
некоторого фатовства, рассказывал нам о своих
театральных удовольствиях; наверное, благодаря ему ко
мне в руки впервые попали книги с текстами
комедий, из которых я еще помню только "Клару
фон Хоэнайхен" покойного Шписа16. Мой
отец — по видимости или на самом деле — не
замечал наших художественных устремлений, я и
вправду не помню, чтобы он соизволил хоть раз
взглянуть на наши представления. Матушку мы
перетянули на нашу сторону благодаря тому, что
наш учитель музыки Галлус, горячо
откликнувшийся на эту затею, как откликался он на всякое
ребячество, изъявил готовность украсить наши
творения увертюрой и интермедиями в виде
собственных вольных фантазий. Эти его
импровизации, которым он, когда действие приобретало
большую значительность, придавал прямо-таки
мелодраматические оттенки, сообщали нашим
нелепым выдумкам даже некоторую
торжественность. А кое-кто из любителей музыки — в их
числе престарелый барон Дюбэн, поклонник
искусства домоцартовских времен, — у которых
никогда не было возможности послушать, как
играет Галлус, собирались без его ведома в соседней
комнате и сквозь щелочку в дверях с восторгом
слушали его игру на клавире, естественно,
нимало не интересуясь нашим спектаклем, коего они
даже не видели.
Автобиография
23
Само собой разумеется, что играли мы только
рыцарские пьесы; привидения конечно же
исключались из-за отсутствия у нас должного
оснащения. Нам предстояло теперь изготовить
деревянные мечи с картонными ножнами.
Поношенные платья с буфами и пестрыми шнурами были
преобразованы в камзолы и колеты. Мне даже
посчастливилось использовать в качестве плаща
нижнюю половину старого атласного платья моей
матушки. Моему младшему брату достались
женские роли, и он собственноручно вышил себе
великолепнейшие пояса, браслеты и ожерелья.
Среднего брата пришлось чуть ли не силой
выталкивать на сцену, и он согласился играть роли
оруженосцев лишь на том условии, что ему
обрежут наполовину рукава и штаны, и таким образом
он будет расхаживать по сцене полуголый. Но и в
таком виде его почти невозможно было заставить
выступать — он бросался на свою кровать, и нам
всем объединенными усилиями приходилось его
оттуда стаскивать и выталкивать на сцену, где он
соглашался только участвовать в сражениях. Наш
кузен Альберт Колль и я делили между собой
роли героев, в основе которых всегда было
заложено соперничество за обладание персоной моего
младшего брата, которого похищали,
освобождали и без конца таскали туда-сюда по сцене.
Поскольку наша труппа была все же слишком мала,
то мы с удовольствием приняли предложение
руководителя нашего оркестра Галлуса взять на
24
Автобиография
женские роли его маленькую дочку Марию.
Девочка была очень послушная и для своего
возраста умненькая, но, к несчастью, она заметно
хромала, так что нам приходилось умерять свое
озорство. Должность драматурга выпала мне. Не в
том смысле, что я написал хоть слово или в чем-то
изменил ход действия относительно
общепринятого. Мы импровизировали, одна сцена рождала
другую, и пьеса разворачивалась по мере наших
сил и возможностей. Твердо установлен был
только исход сражений, поскольку никто не хотел быть
побежденным. Писать я решился
один-единственный раз, когда приспосабливал для нашей сцены
"Клару фон Хоэнайхен", выбросив две трети из
этой пьесы и прежде всего посчитав необходимым
изменить имя рыцаря Аделунга, которое казалось
мне невыносимо прозаическим из-за совпадения с
фамилией ненавистного мне грамматиста
Аделунга17. Наши театральные представления начались и
кончились в течение одной зимы.
Непосредственным поводом к этому послужило то
обстоятельство, что один наш весьма дальний родственник,
постарше нас годами, выманил у нас деньги из
наших копилок под тем предлогом, что приобретет на
них картонные шлемы и панцыри, а когда обман
открылся и дело дошло даже до объяснений с
отцом виновного, то мы и сами потеряли охоту
продолжать, да нам и запретил это наш отец.
Тем временем — мне шел восьмой год — я
одолел предметы немецкой начальной школы и дол-
Автобиография
25
жен был поступать в гимназию. Однако мой
отец, который не был расположен к тому, чтобы я
посещал государственную школу, особенно с
учетом моего весьма юного возраста, решил, что мы
будем брать частные уроки. Соответственно был
нанят домашний учитель. Это был один из
причудливейших людей на свете. Странная смесь
внутреннего усердия и внешнего безразличия.
В наш дом он явился как студент-богослов, но
изменил свои намерения и стал изучать медицину.
Когда я снова встретил его по прошествии ряда
лет, оказалось, что медицину он бросил тоже и
окончил юридический факультет, так что мы с
ним, невзирая на возрастную разницу почти в
двадцать лет, одновременно поступили на службу
в придворное финансовое управление как конци-
писты-практиканты18. Жажда знаний переходила
у него все границы. Так, например, однажды его
упрекнули в незнании французского языка. Тогда
он налег на этот язык с таким усердием и так
безостановочно в нем упражнялся, что, когда мы с
ним вместе служили в финансовом управлении,
он все важные разработки составлял сначала на
французском языке, а потом для служебного
употребления переводил их на немецкий. Иностранным
языком он стал владеть свободнее, чем родным.
При этом его безразличие к внешним
обстоятельствам граничило чуть ли не с тупостью,
физическим выражением которой служила сильная
близорукость. Мы быстро подметили его слабо-
26
Автобиография
сти, и шутки, какие мы над ним проделывали,
могут показаться невероятными. Так, например, он
любил утром, проснувшись, подолгу лежать в
кровати. И вот однажды я вбежал к нему в
комнату и сообщил, что пришла женщина, которая
хочет осмотреть нашу квартиру с намерением ее
снять. Тут Гертнер — такова была его фамилия —
выскакивает из кровати в одной рубашке и
прячется за портьерой, которая прикрывала
запертую дверь в соседнюю квартиру. Тем временем я
ввожу в комнату своего брата в платье нашей
матушки и прошу его присесть и подождать
возвращения наших родителей. И вот мальчонка
усаживается в кресла посреди комнаты, спиной к
портьере, и сидит там несколько часов, пока
бедняга-учитель в одной рубашке и босиком.терпит
все муки страха и холода.
Когда же этому бедолаге стало невтерпеж, он
решил наконец нас наказать. Наказание
заключалось в запрете есть за обедом четвертое блюдо.
А наш отец не терпел, чтобы мы капризничали за
столом, выказывая свое пристрастие или
отвращение к тому или иному яству. И вот, когда на
столе появлялась запрещенная еда, наказанный
отодвигал от себя тарелку. "Что это значит?" —
спрашивал отец. "Благодарю, но этого я есть не
хочу". — "Ты будешь это есть!" — приказывал
отец. Тут уж виноватый давал себе волю и ел в
охотку, торжествующе поглядывая на учителя,
который из страха перед отцом не решался ска-
Автобиография
27
зать, что здесь применяется наказание, полное
одобрение и исполнение коего в ином случае не
вызвало бы ни малейших сомнений.
Мы, братья, не так-то легко выходили из
детства. Главным зачинщиком проказ был один из
тех сыновей моего дяди, которые в Энцерсдорфе
вытаптывали цветочные грядки нашего отца.
Этот молодой человек иногда заходил к нам и,
будучи намного старше нас, пользовался
безотказной поддержкой жившего у нас родича —
Альберта Колля. Оба они беспощадно мучили
несчастного Гертнера, придумывая всякие
небылицы. Он, однако, всему верил и каждый раз
снова попадал в ловушку.
Сам я должен засвидетельствовать, что
принимал участие лишь в наиболее безобидных
проделках над Гертнером, потому что уважал его, хотя
его нелепые поступки прямо-таки подстрекали
нас что-нибудь эдакое учинить.
Мое уважение к Гертнеру основывалось на его
книгах, которые он беспрерывно читал и, по своей
небрежности, оставлял лежать на всех столах.
Среди этих книг был французский "Телемах"19 и
какой-то латинский автор, вероятно Светоний20;
обе книги были снабжены немецкими
примечаниями и подробными предметными и именными
указателями на том же языке. В примечания и
указатели я погружался всякий раз, как только
эти книги попадали мне в руки, и потому могу
сказать, что добряк Гертнер этим моим занятиям
28
Автобиография
поспособствовал, хотя по школьным предметам я
у него решительно ничему не научился.
Надо отметить, что в своей лености он дошел
до того, что даже не потрудился купить нам
учебники, хотя получил на это деньги, — позднее,
когда разразилась катастрофа, деньги нашли
нетронутыми у него в шкафу. Каждый день он
грозил нам покупкой учебников, но так этого и не
сделал. И в конце концов такое его безделье мы
и впрямь признали оправданным, как награду за
его в остальном безупречное поведение или за
оказанные им небольшие услуги. Он все бросал
как попало, шкаф свой никогда не запирал,
забывал даже задвинуть выдвинутые ящики, так что
мы без зазрения совести брали из его вещей все,
что годилось нам в игру. Извинением нам всегда
служило одно и то же: мы это нашли. Потом он
установил такой порядок: кто вернет ему какую-
то потерянную вещь, будет на этот день
освобожден от занятий. Помню, что однажды мы
вернули ему как найденное нами: один — пряжку от
башмаков, другой — вторую пряжку, а третий —
пряжку от брюк, за что все трое были
освобождены от занятий.
Так продолжалось почти целый год. Наконец в
дело вмешалась судьба. Отцу как-то
понадобилось написать письмо в Венгрию на латинском
языке, и в одном выражении он был не уверен.
По этой причине он зашел к нам в классную
комнату, куда вообще никогда не заглядывал, но тут
Автобиография
29
ему надо было справиться по моему словарю.
Однако он не нашел у нас ни словаря, ни каких-
либо учебников вообще. Был учинен большой
допрос, вследствие чего провинившийся домашний
учитель принужден был покинуть дом, и был
нанят новый — тиролец по фамилии Скарпатетти.
Однако главной трудностью оказалось теперь
то, что по окончании этого учебного года мне
предстоял экзамен. Мой отец, как он говорил, не
желал, чтобы я потерял хотя бы год. Поэтому
новый учитель получил указание за шесть-восемь
недель преподать мне все то, что следовало
выучить за целый год. Опасность, которую таил в
себе экзамен, мой отец пытался отнести за счет
того, что принимавший профессор был большим
любителем садоводства. А у отца имелось то ли
шесть, то ли восемь больших кустов олеандра в
кадках. Он пожертвовал ими ради моих успехов,
экзамен прошел благополучно, и я, пропустив
первый, поступил во второй латинский класс — в
государственную школу, куда отец, наученный
горьким опытом, решил меня определить.
Там я не без усердия выполнял новые задания,
но поскольку азов я не знал, то и делал в
школьных сочинениях несметное число ошибок, не
говоря уже об арифметике, — счет не давался мне
еще в начальной школе. Поэтому меня
причислили к самым посредственным ученикам, и это
отнюдь не подстегивало мое усердие, а скорее
ограничивало его рамками строго обязательного.
30
Автобиография
Зато теперь для меня как для подростка была
открыта библиотека моего отца. Там имелось
собрание путевых записок, из которых
кругосветное плавание Кука21 настолько меня
заинтересовало, что в Отахаити22 я вскоре чувствовал себя
увереннее, нежели в нашей собственней квартире.
А Бюффон и его всеобщая естественная история23
с ее планетами, кометами и прареволюциями чуть
не свели меня с ума. А театральная библиотека со
всеми представленными в Вене пьесами, среди
которых драм Шиллера и Гёте не было вовсе, из
Шекспира же мне попались только "Гамлет" и
"Лир" в обработке Шредера... В Лессинговом
"Натане"24 меня раздражало причудливое
разделение строк — стихи, и невнятная развязка, в чем
я, возможно, был и не так уж неправ.
"Духовидец" Чинка25. Но вершиной всего стала для меня
"Всемирная история" Гутри и Грея26 в более чем
девяноста томах, которые я, не помню как часто, не
столько читал, сколько глотал. Из настоящих
поэтов там были только Геснер и Эвальд Клейст27.
Геснер привел меня в восторг. Я с детства его не
перечитывал, однако полагаю — и порукой тому мое
первое впечатление, — что это действительно
превосходный писатель, пусть наше время с его
склонностью к насилию и не желает его признавать.
Перед Клейстом я был в растерянности.
Назначение стиха мне тогда еще не открылось.
Это чтение стало продолжением более
раннего, которому я предавался у моей незамужней
Автобиография
31
тетушки, чья библиотека состояла из семи или
восьми разрозненных томов. Самым дорогим для
меня был первый том "Тысячи и одной ночи" в
каком-то допотопном переводе28. И том Гёте,
содержавший "Геца фон Берлихингена", "Клавиш" и
"Клаудину де Виллабелла"29. Нетрудно себе
представить, что Гец и юный кавалерист Георг
приводили меня в восторг, а вот за Вайслингена и Адель-
хайд я бы и гроша не дал. В "Клавиго" я признавал
полную правоту Бомарше. Разобраться в "Клауди-
не де Виллабелла" я не мог. А ведь были еще
"Лагерь Валленштейна" и оба "Пикколомини"30,
из коих я прочитал целиком лишь первую вещь, а в
"Пикколомини" — только отдельные места,
поскольку, на мой взгляд, длинные речи ни к чему не
вели. Моим воображением всецело завладел
"Ворон" Гоцци в немецком переводе31 — я ставил его
намного выше драм Гёте, Шиллера и Шекспира.
В гости мы ходили только в дом нашей
бабушки с материнской стороны, где жила уже
упомянутая мною тетушка со своими двумя сестрами.
Я, можно сказать, был в милости у этой старой,
умной и энергичной женщины. Помню еще, как
однажды, когда моя матушка жаловалась ей на
мой замкнутый характер, она ответила: "Оставь
его в покое, у него, как у козы, все между
ногами". Видимо, выражаясь на грубоватый
старовенский манер, она подразумевала самую ценную
часть тела козы — ее вымя, которое коза носит
наполовину спрятанным между ногами.
32
Автобиография
У бабушки в доме возобновились и мои
театральные радости. Три ее незамужние дочери и
одновременно двое моих дядьев, один из которых
обладал замечательным комическим талантом, а
также некоторые друзья дома представили на
импровизированной с помощью ширм сцене
несколько комедий. Поскольку это были пьесы
легкого жанра, то меня они не особенно занимали, и
я должен сознаться, что миндальное молоко и
вкуснейший торт — в антрактах их разносили по
залу — весьма небезуспешно соперничали с
духовной усладой. Впрочем, люди ломились на эти
представления, которые они находили
превосходными, хотя мои тетушки и страдали
распространенным в бабушкиной семье дефектом речи, что
разделяла с ними также моя мать и чему в
детстве был подвержен и я. Лишь позднее, когда я
прочитал про Демосфена32, — как он
преодолевал, возможно, такой же речевой порок тем, что
набрав в рот мелких камешков, громко и подолгу
читал вслух, — и принялся ему подражать, мне
удалось перестать шепелявить.
Я отчетливо сознавал, что страдаю этим
недостатком, в отличие от моих родных, которые
болтали безо всякого смущения и даже играли в
комедиях; и возможно, что моя робость в детстве
отчасти проистекала из того, что я ужасно
смущался, когда со мной заговаривал кто-нибудь
незнакомый, а потому старался поводов к этому
всячески избегать. Мне и фамилия моя казалась
Автобиография
33
тогда такой безобразной, что я далеко не сразу
решился ставить ее на театральных программках
моих пьес.
Впрочем, об этих событиях в доме моей
бабушки я рассказываю задним числом. Став
гимназистом, я учился так, что получал более или
менее приемлемые свидетельства для продолжения
занятий. Только в первом гуманитарном классе
довелось мне получить более устойчивый стимул
к этому. Наш профессор, пожилой человек,
бывший иезуит по фамилии Вальперт, относился ко
мне так же равнодушно, как и его
предшественники. Однажды его посетила идея: задать нам
через воскресенье упражнение в ораторском
искусстве на немецком языке; тема — быстротечность
времени. То, что время проходит, я, разумеется,
понимал, но мне в голову не приходило, что еще
можно было бы сказать по этому поводу. И вот в
воскресенье утром заглядывает ко мне один
школьный товарищ, у которого был домашний
учитель и означенное школьное задание, уже
переписанное набело, лежало в кармане. Я
попросил дать мне его прочитать. Однако он побоялся,
как бы я у него не списал, и позволил мне
заглянуть только в самое начало. Там было написано:
"Где теперь Цезарь, где Помпеи?"33 Меня вдруг
осенило, что можно сказать о быстротечности
времени. Я выпроваживаю гостя, сажусь за стол
и единым духом, ничего не исправляя и не
переделывая, пишу сочинение на заданную тему, ко-
2. Ф. Грильпарцер
34
Автобиография
торое на другой день в школе удостаивается
второго места.
Первым, или, согласно школьному выражению,
наипервейшим из сочинений была признана
работа некоего Майлера, который отныне получал
привилегию считаться первым во всем. Он был сыном
мельника из Нойнкирхена и поскольку вначале
помогал в работе отцу, то своей тяге к учению
уступил сравнительно поздно. Так что будучи намного
старше нас — в то время ему шел двадцатый год, —
он был более зрелым человеком, чем мы. Главным
выигрышем от моего успеха в школе стало то, что
эта знаменитость, сидевшая за одной из первых
парт, начала обращать внимание на меня, самого
младшего в классе и постоянного обитателя
"горы", то есть задних скамеек. Вскоре мы с ним
подружились, и наша дружба крепла день ото дня.
Его влияние на меня было в высшей степени
полезным, особенно потому, что он побудил меня,
при исконно свойственной мне разбросанности,
поглубже заглянуть в самого себя, а его
серьезность, благодаря присущей мне склонности
противоречить, вызывала у меня веселье, какого я
прежде не знал. Поэтому позднее, когда мы оба
занялись поэзией и он сочинил трагедию на тему из
римской истории, я написал комедию, в которой
наши профессора с их до карикатурности
преувеличенными свойствами играли роль "несчастных
любовников". Мы оба не сомневались, что он
рожден для трагедии, а я — для комедии.
Автобиография
35
Однако покамест в школе все оставалось по-
прежнему. Прилежания у меня не прибавилось,
мой шедевр был вскоре забыт, правда, профессор
Вальперт занимался мною больше, чем раньше,
но почему-то, по престранному ходу мыслей,
намерен был обучить меня прежде всего географии.
Так дошли мы до последнего гуманитарного
класса, до "Поэзии", как мы этот класс
именовали. Однако и тогда все пошло почти что
по-старому. Когда нам объясняли античные
стихотворные размеры, я, как всегда, был рассеян, и
нарисованная раскрытая ладонь, которая должна
была уяснить нам гекзаметр с его короткими и
долгими слогами, казалась мне крайне странной.
Поэтому моя первая проба в этом размере оказалась
весьма неудачной. Нам задали в школе
выправить и отшлифовать ломаные немецкие
гекзаметры, принадлежавшие, кажется, Захарие34.
Я, знавший о немецких стихах только одно — что
строки должны рифмоваться, составил эти
злосчастные гекзаметры, исходя из привычного
созвучия конечных слов, не совсем без ритма, но
без четких признаков размера. Ко всему еще в
продиктованном нам задании промелькнуло
слово, смысла которого сам я понять не мог, а его
объяснение в школе прозевал. Дело в том, что в
Храме Сна стоял на страже "Хойян"
("Зевающий"). Мне показалось, будто я не дослышал, и,
не вдумавшись, я превратил "хойяна" в "хула-
на" — так у нас произносят слово "улан", отчего
2*
36
Автобиография
на пороге Сна у меня оказались часовые-уланы, а
это настолько смешно, что я и по сию пору не
понимаю, как это могло взбрести мне в голову.
В школе на другой день и впрямь грянул хохот, и
наш славный профессор Штайн без обиняков
заявил, что из всех его нынешних учеников я —
самый глухой к стиху.
Вскоре произошел один случай, улучшивший
его мнение обо мне. Мы получили на воскресенье
задание написать немецкие стихи —
стихотворение на свободную тему. Итак, стихотворение, а о
чем? В прозе под Геснера я мог бы излиться на
любую тему35, но стихи, и о чем? Все воскресенье
провел я в бесплодных раздумьях или, скорее, в
бездумном отупении. Наступил вечер, а я еще не
брался за перо. Оставшись один дома, — вся
остальная семья тем временем отправилась на
прогулку, — я стоял, облокотившись на подоконник
открытого окна в отцовской канцелярии, и
любовался чарующей красотой вечера. Редкостно
чистая луна сияла прямо надо мной. Тут на меня
снизошло. Стихотворение "К Луне". Не медля
записал я первую строфу:
Лейся, лейся, нежный свет,
Над полями, над лугами,
И скользи ты над волнами,
Как скользит смельчак-пловец.
Начало было достаточно хорошее. Однако на
этом весь запас идей у меня истощился, я приба-
Автобиография
37
вил к первой еще несколько неуклюжих строф и
так, по крайней мере, сделал свой урок на завтра.
К несчастью, наш профессор Штайн, у которого
хватало ума, чтобы распознать и в малом
проблески таланта, на другой день заболел. Вместо него
явился сверхштатный учитель, исполнявший
лишь самое необходимое, и о моих стихах речи не
было. Но волею судеб у меня вскоре появилась
другая возможность предстать в более выгодном
свете. До тех пор я смотрел на латинский язык,
как на печальную необходимость, но вот мы
дошли до Горация, и тут я впервые ощутил
потребность наверстать упущенное. Но прежде всего
внимание профессора привлекло ко мне то, что
мои объяснения — не языковые, а смысловые и
предметные — всегда оказывались верными.
Он часто меня спрашивал: откуда я все это знаю?
На что я ему отвечал: мне просто так кажется.
К сожалению, его интерес ко мне, как я уже
упоминал, заглушила пробудившаяся у меня и
вообще совершенно противоречившая моей натуре
склонность к насмешкам, вследствие чего я с
толком и пониманием во всеуслышание
комментировал Горация, а после этого тихонько нашептывал
сидевшим со мною рядом ребятам пародийные и
причудливые толкования текста, которые
вызывали смех и часто звучали бы безнравственно,
если бы я всегда понимал истинный смысл моих
иносказательных выражений. Когда же
профессор Штайн спросил о причине смеха и узнал как
38
Автобиография
самую эту причину, так и то, что я — зачинщик,
он пришел в ярость, которая по своей силе
равнялась его прежней симпатии ко мне, и наши
взаимоотношения так больше и не наладились.
Еще одно доказательство моей дерзости дал я
в конце того же учебного года во время
письменного сочинения, которое надо было написать в
стенах школы на тему басни Эзопа "Собака и
волк", написать на латинском языке в прозе или в
стихах — по собственному выбору. Я же
преступил поставленные условия и написал свою басню
рифмованными немецкими стихами — не самыми
лучшими, насколько я помню.
После всех этих событий я не мог
предполагать у профессора особенно благоприятного
мнения обо мне. Как же я был удивлен, или, вернее,
испуган, на следующий день, когда меня в числе
пяти лучших учеников вызвали для
коллективного экзамена. На этом предварительном
испытании нескольких избранных присутствовало
духовное лицо — советник по народному
просвещению, будущий архиепископ Зальцбурга
Грубер, чей племянник, прилежный, но немного
лицемерный молодой человек, тоже входил в нашу
пятерку.
Для меня экзамен, к собственному моему
удивлению, прошел вполне хорошо. Только когда
надо было прочитать наизусть латинские стихи из
Ars poetica36, которые я очень хорошо знал, в
строке "Romani tollunt equites peditesque cachin-
Автобиография
39
пим"* я вдруг забыл последнее слово. Профессор
другого класса, явившийся в виде почетного
эскорта господина советника по народному
просвещению, по глупости подумал, что я не знаю
текста, хотя мне не доставало всего лишь одного слова,
и чтобы вывести меня из затруднения, принялся
изображать смеющегося человека, держась за
живот и строя причудливейшие гримасы. Я же
думал, что он надо мной смеется и бросал на него
злобные взгляды, из-за чего все больше сбивался
с толку.
Но худшее было впереди. В том учебном году
мы читали в классе "Царя Эдипа" Софокла37.
Закончили мы это чтение за несколько дней до
экзаменов. Но так как часы, отведенные
древнегреческому языку, надлежало использовать
полностью, мы начали читать одну из драм Еврипи-
да. Все были уверены, что этот фрагмент,
прочитанный в такое время, когда каждый из нас уже
изо всех сил готовился отвечать на экзамене на
совершенно другие вопросы, там вообще не
всплывет. Так считал и сам профессор. Однако, к
несчастью, он, когда дело дошло до
древнегреческого, желая угодить советнику по народному
просвещению, предоставил выбор отрывка для
перевода и разбора его племяннику, и этот
лицемер, дабы показать, что он и в последние дни все
"Все римляне, патриции и плебеи, хохотали над этим"
(лат.).
40
Автобиография
слушал с обычным вниманием, вдруг взял и
выбрал ту самую сцену из Еврипида. Те, кто ему
подражал, кое-как с этим справились, я же,
вызубривший "Царя Эдипа", на Еврипиде
совершенно провалился. Таким образом то, что
должно было послужить мне к чести, обернулось к
моему посрамлению.
Здесь наступает мрачное, смутное время,
которое, к счастью, длилось всего год. Я начал
учиться в университете. Идеи академической
свободы, обуревавшие каждого, завладели мною
сильнее, нежели кем-либо другим. К сожалению,
наши профессора были такого склада, что лишь
привычка к прилежанию, мне вовсе не
свойственная, могла побудить человека усердно
заниматься. В лице профессора философии нам попался
педант, но не только в обычном смысле слова, —
это был настоящий комедийный персонаж, в нем
словно бы воплотился Dottore* итальянской сот-
media сЫГаЛе38. Он написал "Философию без
названий" как книгу для чтения вслух и почитал
себя совершенно самостоятельным мыслителем
исключительно потому, что отвергал
нововведения Канта, при этом его система была не чем
иным, как чистым вольфианизмом39. Вспоминаю,
как во время своих лекций он нередко восклицал:
"Приди, о Кант, и опровергни это мое
доказательство!" Его философия состояла сплошь из
* доктор (um.).
Автобиография
41
различий и разделений, между коими с трудом
находили себе место определения. Он так
гордился этим своим схематичным каркасом, что
разрешал ученикам во время экзаменов держать его
перед собой в виде рисунка, и те из них, кто был
наделен острым зрением, мелким шрифтом
вписывали в эту схему и определения. Но я,
страдавший такой же близорукостью, что и сам
профессор, вынужден был, к сожалению, обходиться без
этого подспорья. Все обсуждалось на кухонной
латыни, и только когда разговор шел на
повышенных тонах, наш вообще-то добрейший
профессор переходил на немецкий.
Профессор математики был не так уж плох,
только ему надо было за один год проработать
семь томов математического учебника, так что он
перескакивал с одной теоремы на другую и шел
дальше, прежде чем мы успевали усвоить первую;
таким образом, совершенно пропадала главная
польза математики: внутреннее постижение
сущности строгого доказательства.
Профессор философской филологии слыл
дельным человеком, только был до ужаса сух и
так одержим собственным переводом "Тускулан-
ских бесед"40, что, молчаливо покачивая головой,
отвергал любое выражение на эту тему, не
использованное им самим.
Больше всех нам нравился преподаватель
истории, невзирая на его крайнее фатовство. Его
манера изложения была аффектированной, но
42
Автобиография
живой. Поскольку в истории я был начитан с
детских лет, то в этой сфере чувствовал себя
наиболее уверенно. Я даже помню, что мой метод
изучения истории этот профессор рекомендовал всем
моим соученикам, потому что однажды во время
экзамена, когда речь шла о торговых путях
древних, он заметил, как я рисую пальцами на
крышке парты, и понял, что я готовился с помощью
географической карты.
Мои познания в естественной истории, тоже
почерпнутые у Бюффона, мало помогли мне в
глазах преподавателя этого предмета, поскольку он
как член Общества сельских хозяев был
сосредоточен главным образом на конфигурациях и слоях
земной поверхности, которые меня не
интересовали.
О профессоре эстетики можно сказать только
одно: он был полной противоположностью
своему предмету, что и продемонстрировал однажды
в присутствии учеников в словесной перепалке с
профессором философии, в которой спорщики
награждали один другого бранными кличками
"педант" и "невежда".
К сожалению, я перенес свое неуважение к
профессорам на те науки, какие они преподавали,
и за первые полгода, строго говоря, не выучил
решительно ничего, и это тем более трудно понять,
что по тогдашним университетским порядкам в
конце полугодия надо было сдавать более или
менее строгий экзамен. Я положился на то, что все
Автобиография
43
эти психологические перечни и логические
формулы были мне известны сами по себе, а латынью
я владел достаточно хорошо, чтобы не
провалиться по филологии, тем более что содержание тус-
куланских бесед я находил столь
незначительным, что совершенно не мог взять в толк, по
какой причине столь знаменитый человек, как
Цицерон, пожелал все это записать. Геометрия
была мне прямо-таки противна, особенно из-за ее
надругательства над фигурой, когда линии
произвольно удлинялись, разное трактовалось как
равное, а безупречные круги были обезображены
нарисованными внутри них треугольниками и
прочей ерундой. Незачем мне объяснять, как это
было глупо.
Присущая мне склонность к необузданным
увлечениям навела меня также на игру в бильярд, к
которой привлек или даже склонил меня один мой
родич и ровесник. Поскольку денег у нас обоих
было мало, мы упражнялись в задней комнате
одного кафе, где было так темно, что нам
требовалось несколько минут, дабы мы привыкли к
темноте и смогли разглядеть бильярд и шары.
В то же время — в последние гимназические
годы — мною завладела ненасытная страсть к
чтению романов, и я, в детстве читавший только
хорошие книги, теперь прямо-таки с упоением
глотал Шписа, Крамера и Лафонтена41.
Вспоминаю, как в летние ночи, при свечах, я читал до
утра, а после восхода солнца, так и не сомкнув
44
Автобиография
глаз, продолжал читать уже при дневном свете, и
ныне всякий раз, взяв в руки химическое огниво,
я испытываю чувство благодарности42, вспоминая
то время, когда я по ночам часами тщетно
пытался высечь огонь, ударяя сталью о камень.
Мои собственные художественные творения
встретили большое препятствие в лице моего
отца. Когда бы я ни показал ему какое-либо
стихотворение или что-нибудь еще сочиненное мною,
он сначала не мог скрыть некоторой своей
радости по этому поводу, однако вскоре она
неизменно переходила во все более жестокую критику,
каковая неизменно завершалась одной и той же
фразой: "От такого вздора можно подохнуть".
Объяснялось это, вероятно, вот чем: один из
братьев моей матери, приятный и толковый
человек43, не обладая настоящим талантом, тоже был
полон поэтических устремлений. Он писал стихи,
переводил с французского театральные пьесы,
хотя мало что из всего того увидело свет.
Занимаясь этим, он пренебрегал насущными
потребностями и только своей счастливой звезде и
немалой изворотливости обязан был тем, что все-таки
всегда держался на поверхности и, многократно
переменив род занятий, все еще не лишился
людского уважения и имущественного
благосостояния. Мой отец не мог предполагать у меня более
значительного таланта при, возможно, менее
счастливой звезде и, разумеется, меньшей смышлен-
ности; вдобавок, этому суровому человеку не-
Автобиография
45
стерпимо было думать, что подобные
посторонние прихоти отвлекают меня от целеустремленной
деятельности.
Его недовольство дошло до крайней степени,
когда именно в то время, после ряда неумело
проведенных кампаний, французы впервые заняли
Вену, и я, будучи по примеру отца, горячим
патриотом, не мог удержаться от того, чтобы не
выразить в одном насмешливом стихотворении, или,
скорее, в незатейливой уличной песенке, свой
протест против начавшихся наказаний. Когда я
прочитал отцу текст песенки, он побледнел от
страха, самым наглядным образом представил
мне, какой опасности могу я этими стихами
подвергнуть все свое будущее, и взял с меня слово:
хоть и не рвать написанное (чем все же выразил
известное удовлетворение им), однако никому его
не показывать. Я сдержал слово и никому этого
текста не показал, но, несмотря на это, на другой
день отец пришел из ресторанчика, где он иногда
вечером выпивал стакан пива, страшно
взбудораженный, отозвал меня в сторонку и сказал, что
один из посетителей прочитал там мое
стихотворение, снискавшее всеобщее одобрение. Вещица
эта благодаря своей безоглядной дерзости уже
обошла весь город, но, к счастью, никто не угадал
имени автора.
Это один из двух случаев в моей жизни, когда
стихотворение, которое я старательно держал в
тайне, проложило себе путь: в первый раз — к чи-
46
Автобиография
тающей публике; во второй — к своему
конкретному адресату.
Хочу привести здесь и второй случай, хоть он и
не вписывается в череду событий, которые я
излагаю, не обозначает какой-то этап моего развития
и я мог бы на этом месте легко о нем забыть.
Несколько лет спустя я влюбился в одну оперную
певицу, которая в партии Керубино в Моцартовой
"Свадьбе Фигаро"44, чудесно преображенная как
божественной музыкой, так и своей пленительной
юной красой, всецело завладела моими чувствами.
Я посвятил ей стихотворение, которое вполне
можно назвать хорошим, хотя по своей пылкости
оно было на грани безумия и даже
безнравственности. Приблизиться к ней самому мне и в голову
не приходило. Я пребывал в то время в крайне
стесненных обстоятельствах, даже мой гардероб
давал тому подтверждение, между тем как эта
знаменитая артистка, осаждаемая богатыми
поклонниками, получала как ежедневную дань
золото и шелка. Да и степень привлекательности моей
персоны не позволяла мне рассчитывать на
благоприятное впечатление. Поэтому я заканчивал свои
стихи выражением смиренных чувств, и ничто на
свете не могло бы меня заставить дать их
кому-нибудь прочитать.
Спустя изрядное время я познакомился с
одним богатым — во всяком случае, тогда еще
богатым — молодым человеком, который в дни моей
керубиниевой горячки был обласкан милостью
Автобиография
47
прелестницы, другими словами, был ее
платежеспособным любовником. Мы говорили с ним о
поэзии, и он заметил: как это странно, что
некоторые поэты, выступившие поначалу с
несомненным талантом, впоследствии совершенно
исчезают из виду. Так, во время его интрижки с той
певицей к ней в руки попало — каким образом, он
не знает, — некое стихотворение, содержавшее
страстное признание в любви, выраженное
прекраснейшими словами. Девушка чуть было не
сошла от него с ума; она приложила все усилия к
тому, чтобы разыскать автора и даже заявила,
что, если ей это удастся, она разгонит всех своих
обожателей, чтобы даровать неведомому певцу
то, о чем он так вдохновенно просит. Из-за этого
между любовниками едва не произошел разрыв.
А молодой человек не находил среди ныне
пишущих поэтов ни одного, кому бы мог он приписать
те стихи. Я попросил показать их мне — это
были мои. Каким-то доселе неведомым мне путем
они попали к ней, и пока я терзался безнадежной
тоской, прекрасный предмет сей тоски с
нетерпением ждал возможности со мною встретиться.
Но именно так и получалось у меня всю жизнь.
Неверие в себя, когда я воображал, что
произойдет, и сменявшая его заносчивость, когда меня
пытались унизить или с кем-то уравнять. Однако
ведь это — наипагубнейшая в жизни гордыня,
которая проистекает не из собственной переоценки,
а из недооценки тебя другими людьми.
48
Автобиография
Но вернусь к череде событий. Уже тогда, едва
достигнув пятнадцати лет, я возымел — то был
некий пролог к моим будущим сердечным
увлечениям — пылкую симпатию к юной актрисе и
певице, выступавшей в одном из театров венского
предместья, актрисе, которую я помнил еще как
исполнительницу детских ролей, — она,
по-видимому, была не старше меня. Я почти ясно
сознавал некоторую произвольность этой моей
симпатии и был недалек от мысли, что придаю этой
девушке, — как ее таланту, так и наружности, —
большую значимость, нежели стоит на самом
деле, тем не менее так глубоко вовлекся в эту свою
страсть, что впоследствии, когда выяснилось —
слух об этом доходил до меня и прежде, — что
отец девушки продал ее одному богатому старику,
и я увидел ее с ним в ложе театра, меня это так
потрясло, что я заболел довольно-таки сильной
нервной горячкой.
Однако все это смятение чувств отнюдь не
оказало вредного влияния на мою
нравственность. Присущая мне от природы стыдливость,
жившая у меня внутри и являвшая себя вовне,
оберегала меня от следования дурным примерам,
какие подавали мне со всех сторон мои товарищи.
Я почти не слышал того, что лилось мне в уши,
почти не видел того, что творилось у меня на
глазах. И это свойство — могу ли я назвать его
чувством законопослушания? — было таким
сильным, что я даже не позволял себе прогуливать
Автобиография
49
учебные занятия. Сколько помню, я не пропустил
ни одной лекции. Я присутствовал на всех, хотя,
случалось, и слушал вполуха или же, если было
уж слишком скучно, думал о чем-нибудь
постороннем. И вовсе не из страха перед отцом, ибо
при всем его остром и светлом уме обмануть его
было легче легкого, — ведь вся его строгость
сводилась к серьезности. Возможно, в основе была
заложена даже некая система нашего воспитания.
Так, например, во время той моей нервной
болезни, связанной с частым пребыванием допоздна на
театральных вечерах, он, вероятно, очень зорко
усматривал эту связь, но ни разу не сказал мне об
этом ни слова, а воспринимал это дело как нечто
естественное. Да и позднее, когда поводы такого
рода возникали прямо у нас в доме, он, вместо
того чтобы предостерегать, поучать, грозить,
довольствовался тем, что устранял саму причину
для этого, и опасность исчезала одновременно с
возможностью.
В конце концов наказание за все это должно
было воспоследовать само собой. Окончился
семестр, пришло время экзаменов, и я получил по
одному или двум предметам
неудовлетворительные оценки, не позволявшие мне перейти на
следующий курс. Тут опять-таки мой отец, который
как будто бы и не ведал, что состоялись
экзамены, не стал вмешиваться, матушка же всегда
питала склонность к утаиванию и сокрытию; мое
чувство собственного достоинства было возму-
50
Автобиография
щено тем, что я таким недостойным образом стал
вровень с плохими студентами и бездельниками.
Я решил положить конец этому безобразию и
слово свое сдержал. Уже в конце следующего
семестра те же профессора, которые приписывали
мне всяческие пороки, удостоили меня записи в
учебном свидетельстве: "primam cum ingenii
laude"*, и эта оценка поднималась все выше, пока
меня не сочли одним из лучших студентов нашего
курса.
Полукомическую интермедию разыграл
профессор Штайн — тот самый, что в высшем
гуманитарном классе отказал мне в способности
слышать стих. Его пригласили в университет как
профессора филологии, и он мучил себя и нас
дроблением выбранных авторов на мелкие части,
причем нас немало забавляло его изрядное
чудачество. Он заставлял нас заниматься и
стилистическими упражнениями, предоставляя выбор
предмета нам самим. И вот однажды я принес
ему довольно-таки посредственное
стихотворение "Вечер". Он с похвалой прочитал его вслух у
нас в классе, однако в его тоне сквозило
некоторое неудовольствие. По окончании учебного часа
он подозвал меня к себе и спросил, откуда я
списал это стихотворение. Я сказал, что сочинил его
сам. Тут он взорвался и выразил презрение ко
* "грамота первой степени за выдающиеся способности"
(лат.).
Автобиография
51
мне за мою лживость. Я и дальше, до конца года,
не мог его умилостивить, и лишь позднее, уже
после того как вышли в свет мои первые
драматические сочинения, он попытался любезным
обхождением со мной загладить свою
несправедливость — даже позволил мне в его присутствии
закурить сигару, что было с его стороны наивысшей
милостью, ибо он ненавидел табак во всех видах
со свойственной ему дикой чрезмерностью.
Приблизительно в это время мне впервые
попали в руки драмы Шиллера45. "Разбойников",
"Коварство и любовь", "Фиеско" я видел в
театре, "Дон Карлоса" тоже. Последняя вещь
привела меня в восторг, и я взялся тоже писать
трагедию. Для этого я выбрал из истории Педро
Жестокого убийство его супруги Бланки
Кастильской46, ее именем я и назвал пьесу. Я не
спешил и писал эту вещь довольно долго, мысленно
все время имея в виду "Дон Карлоса", с которым
ее, между прочим, роднили две ошибки: то, что,
дойдя до середины пьесы, я изменил ее план и она
сделалась такой чудовищно длинной, что ее надо
было бы играть целых два вечера подряд.
Закончив эту пьесу, я ее спрятал и никому не
показывал, тем более отцу, так как хорошо знал его
отвращение к подобным занятиям.
Тем временем, по окончании курса философии,
для меня настала пора переходить к изучению
юриспруденции. При этих обстоятельствах я
потерял своего старого товарища — Майлера, кото-
52
Автобиография
рый посвятил себя богословию, однако вскорости
умер. Долгое время единственно он осуществлял
мою связь с художественной литературой. Мы
даже собирались вместе издавать
беллетристический журнал "Ирэна", для которого я написал
одноименное вступительное стихотворение, —
впоследствии оно где-то затерялось. Однако
цензурная инстанция, которой мы представили
пробные рукописные листы, отказала нам в
разрешении на публикацию, в чем, вероятно, была
совершенно права. Впрочем, Майлер не имел
решительно никакого влияния на степень моего усердия
в занятиях, поскольку он скорее всего свыкся с
мыслью, что я — непутевый гений, причем в обоих
этих определениях он, наверное, ошибался.
К большему прилежанию в начатом мною
теперь изучении юриспруденции меня скорее
побуждало то, что мой отец был юристом,
влюбленным в свою профессию, и я прекрасно знал, что
не могу доставить ему большей радости, чем если
принесу домой отличное свидетельство. Но я это
делал чисто формально. В течение всего
полугодия я совершенно не обращал внимания на
текущие занятия, однако за шесть-восемь недель до
экзамена набрасывался на предмет со
всепоглощающим пылом, зубрил от зари до зари с таким
терпением и упорством, что хорошие оценки не
заставляли себя ждать, чему отец втайне
наверняка радовался, хотя и не подавал виду. Все мои
преподаватели уже считали меня юристом, лишь
Автобиография
53
я один знал, что это совсем не так, ибо у меня не
было ни влечения, ни любви к этому делу, а
потому не было ни чутья к нему, ни понимания.
Друг Майлер получил отныне в моей жизни
более чем десятикратную замену в лице старой
няни, которая служила сначала у нас, а потом у
надворного секретаря Вольгемута и очень меня
любила; благодаря ей меня узнали в доме
последнего. В числе его четверых детей был сын, на год
старше меня по возрасту и на один курс старше в
университете. Это был чрезвычайно прилежный,
а также весьма способный, но мрачноватый
молодой человек. У него дома бывали три-четыре
лучших студента его курса. О поэзии там речь не
шла, но науки обсуждались, прежде всего новая
для нас в то время кантовская философия, против
которой у этого юноши имелся богатый арсенал,
оснащенный критическими сочинениями и
комментариями. Я еще помню, как он, дабы
соединить приятное с полезным, сидел на шкафу,
служившем подставкой для его библиотеки, ел
краюху хлеба, читая при этом книгу по философии, и
вдобавок механически играл на скрипке. Нас как
юристов интересовало у Канта прежде всего
естественное право47, тут имел значение и Фихте48, а
в его сочинениях был особенно начитан один
невероятно прилежный, но несколько педантичный
молодой человек по фамилии Кауфман; он умер
позднее, будучи профессором римского права.
Так мы довольно бесцельно болтались, пока нам
54
Автобиография
вдруг не сообщили: приезжает Затейник! Это
был еще один молодой человек по фамилии Альт-
мюттер, бывший школьный товарищ моих новых
друзей, который, повздорив с одним из венских
профессоров, уехал в Пражский университет и
теперь оттуда возвращался. К моей великой
радости Альтмюттер еще жив и ныне является
профессором технологии в Политехническом
институте, между тем как все остальные умерли. В то
время он был юристом, а прозвище "Затейник"
получил за то, что нередко подшучивал над
своими школьными товарищами и устраивал им
всякие безобидные каверзы. Наконец тот, кого так
долго ждали, явился. Чернявый приземистый
молодой человек, отнюдь не красивый, а даже
вполне заурядной наружности, в глазах которого,
однако, по малейшему поводу вспыхивали искры
ума и лукавства. Что его притягивало ко мне, я не
знаю, могу только сказать, что буквально с
первой минуты нашей встречи мы прямо-таки горячо
друг к другу привязались. Продолжая по
прежней привычке постоянно поддразнивать своих
старых друзей, мне он ни разу не адресовал ни
единого насмешливого слова. Все наши
студенческие годы мы первую половину дня всегда
проводили в доме нашего общего друга, а каждый
вечер — четыре-пять часов без посторонних.
Сейчас я уже не припомню, о чем мы думали, что
говорили и делали в течение этих бесчисленных
вечеров и часов, дабы постоянно обновлять при-
Автобиография
55
тягательность наших сборищ, особенно учитывая
различие наших устремлений. Я довольно
беспорядочно занимался то одним, то другим; он,
оставив без внимания юридические науки, с большим
пылом набросился на химию, в которой ему,
возможно, благодаря его проницательному уму,
было предназначено занять выдающееся место.
Я знаю, что идея калийных металлоидов пришла
ему в голову раньше, чем Дэви49. Когда во время
Венского конгресса Александр Гумбольдт
приехал в Вену50, Альтмюттер передал ему на отзыв
свою работу на упомянутую тему. Однако то ли
сей знаменитый муж не нашел на это времени, то
ли счел труд Альтмюттера затруднительным для
чтения, но рукопись была возвращена автору
нетронутой. В настоящее время Альтмюттер
пользуется большим уважением как профессор
технологии, однако таланты, проявленные им в юности,
сулили ему куда более значительные достижения,
и, возможно, что его и в то время уже заметное
пренебрежение к своей наружности стало
препятствием к его продвижению. Он разом придал
жизнь и направленность научным устремлениям
нашего юношеского кружка. Мы учредили
академию наук, в которой проводились еженедельные
собрания и читались наши сочинения. Но чтобы
все это дело не стало уж чересчур серьезным, мы
основали заодно "Дневник Глупости", в который
заносилась каждая нелепица, произнесенная кем-
либо из "академиков" или представителей дома
56
Автобиография
Вольгемутов, — не без возражений данного
лица, — поскольку в ней иногда содержались
глубочайшие мысли. С письменными сочинениями в
нашей академии дело обстояло скудновато,
только наш друг Кауфман был неистощим. Так, он
изготовил нескончаемое латинское сочинение о
предустановленной гармонии51, во время чтения
коего академики удалялись один за другим,
оставался только я — из сочувствия и любопытства.
Когда же и мне стало невмоготу, он схватил меня
своей ручищей за платье, и мне пришлось
выслушать его творение до конца, причем он оказался
достаточно добродушным для того, чтобы и
самому посмеяться над своим многословием.
Альтмюттер и я были из самых ленивых, — нас
больше интересовали дискуссии. Мы гуляли по
живописным окрестностям Вены и обсуждали
наши планы на будущее, не менее чрезмерные,
нежели дерзновения нашего друга Кауфмана. Так
мы однажды оказались на Каленберге — позади
нас был пьедестал куда-то подевавшейся статуи.
Мы взобрались на эту плиту, походившую на
алтарь, чувствуя себя чуть ли не какими-то
божествами, и, обнявшись, глядели вниз, на
открывшийся нам бескрайний вид города и его окрестностей.
Незамеченный нами на эту возвышенность
взобрался также один пожилой господин, явно
приезжий из Северной Германии, и с удивлением
уставился на нас. "Да, — сказал Альтмюттер, когда
мы начали спускаться вниз, — не удивляйтесь!
Автобиография
57
Этот человек, — он указал на меня, — построит
храм, а вот я некий храм снесу!" Он имел в виду
химическую систему Лавуазье52, для того
времени новую. Незнакомец наверно подумал, что
перед ним двое сумасшедших.
Впрочем, эти временами весьма возвышенные
идеи не мешали нам предаваться вполне детским
забавам. Так, у младшего брата нашего друга
Пепи (Иозефа) Вольгемута по прозвищу Му-
керль (Иоганн фон Непомук)53, меж тем как его
старшая сестра прозывалась Ксаверль
(Франциска Ксаверия)54, был маленький детский театр, с
которым он обращался очень неумело. Мы
решили прийти к нему на помощь. Я нарисовал
декорации и фигуры, которые были наклеены на
картон и снизу снабжены деревянными стерженьками.
Роли мы, "академики", разделили между собой.
Даже педантичный гигант Кауфман взял на себя
роли стариков, в которых мы его непрестанно
высмеивали. Подруге хозяйской дочки, очень
красивой девушке, достались роли первых
любовниц. Маленький Мукерль, двигавший фигуры,
вдобавок еще играл горничных и прочих
облеченных доверием лиц женского пола, и таким
образом мы, не смущаясь, представляли перед
многочисленной публикой самые большие пьесы.
Я, как мне и полагалось, влюбился в первую
любовницу, а она была уже сговоренная невеста, и
поскольку как раз по этой причине за нею зорко
следили, то случались забавные осложнения, и не
58
Автобиография
только во время театральных вечеров.
Совершавшиеся согласно пьесам объятия и поцелуи и на
самом деле происходили в местах, где актеры были
отгорожены занавесом, и наши отношения
становились уже крайне рискованными, когда
"подружку студентов" (такое прозвище дали ей
рассерженные родственники), как и предполагалось,
насильно вытолкнули замуж, что меня, впрочем,
не особенно расстроило. Теперь ее тоже нет в
живых, как почти всех тех, кто был мне в жизни
близок, лиц и мужского, и, прежде всего,
женского пола, а ведь мне всего только шестьдесят
два года.
Главным рычагом наших квазидраматических
забав был хозяин дома, старый надворный
секретарь Вольгемут, большой любитель и
ежедневный посетитель театра в Леопольдштадте. Он и
побудил нас к попытке поставить спектакль в
настоящем так называемом домашнем театре.
Мы представили две небольшие пьесы, в одной
из них я играл офицера. Помню только, что я себя
чувствовал так, будто нахожусь в одиночестве на
острове посреди океана, — даже другие
участники представления казались мне бесконечно
далекими. Позднее я еще только один-единственный
раз сделал попытку выступить на театре, тогда
тоже из любезности, а вовсе не по собственному
желанию, хотя моей игрой все были довольны.
Продолжение того первого представления
провалилось из-за полного отсутствия актерского
Автобиография
59
таланта у хозяйского сына. Он должен был
играть всего лишь слугу, однако свой небольшой
текст бормотал так невнятно, что его отец,
любитель театра, хотя спектакль тем временем,
естественно, продолжался, упорно требовал, чтобы
юноша еще раз вышел на сцену и четко произнес
свою роль.
Впрочем, этой беззаботной и праздной жизни
вскоре суждено было нарушиться. Мой отец,
который обычно отличался железным здоровьем,
вдруг заболел. Начавшийся у него и на первый
взгляд незначительный кашель взялся лечить
один сторонник брауновского метода55, — наш
домашний врач, знаменитый в Вене доктор Клос-
сет, был в те дни тоже болен, — и лечить
довольно грубыми средствами; а когда Клоссет через
две недели приступил к лечению сам, то после
первого же визита к нам тайком сообщил
матушке, что болезнь угнездилась у отца в груди, —
налицо органический недуг. Но поскольку мой отец
к тому времени достиг сорок шестого года жизни,
то врач полагал, что при надлежащей диете он
может прожить еще много лет.
Опасность, пусть и отдаленная, всех нас
сильно потрясла, что вполне естественно. Я теперь
больше сидел дома и вообще был в грустном
настроении. Тут у меня вдруг пробудилась
склонность к музыке.
Я уже рассказывал, как в мои мальчишечьи
годы мне опротивела игра на клавире. Это отвра-
60
Автобиография
щение с годами усилилось, не превратившись,
однако, в отвращение к музыке. Ибо когда мой
средний брат, который вообще не жаловал
ученье, стремясь увернуться от ненавистной ему
игры на клавире, начал делать вид, будто бы хочет
играть на скрипке и даже получил учителя, у
которого он столь же мало чему научился, как и у
предыдущего, то я стал при каждой возможности
брать в руки его скрипку, играл гаммы и этюды и
в конце концов принялся разыгрывать с учителем
легкие дуэты, не получив предварительно ни
малейших указаний о том, как это следует делать.
Старик Деабис — так звали учителя —
приписывал мне большой талант и заклинал моих
родителей, чтобы они дали мне возможность
продолжать занятия. Тем не менее они были
прекращены, у меня даже отобрали скрипку, а поскольку
мой брат так ничему и не выучился, учителя
уволили. Дело в том, что в детстве у меня начиналось
искривление позвоночника, а при игре на
скрипке надо было приподнимать плечо, от чего
искривление только усиливалось. Моя бабушка, когда
обследовала меня по этому поводу, сказала: "Да,
он становится горбатым, но это не беда — он ведь
хочет стать священником". К счастью, не
сбылось ни то, ни другое.
То, что у меня отняли скрипку, сделало для
меня клавир еще более ненавистным. Тем не менее я
тоже должен был брать уроки, которые моему
третьему брату и мне, после того как наш преж-
Автобиография
61
ний учитель Галлус давным-давно вернулся в
Польшу, давала причудливо одевавшаяся, но в
остальном весьма дельная учительница, о
мастерстве которой свидетельствовали успехи моего
брата. Наконец мне суждено было обрести
свободу. Отец весь тот год ото всех запирался.
Однако для того, чтобы исполнить свои
общественные и семейные обязательства, он ежегодно
на масленицу давал единственный, но такой
блестящий, такой дорогостоящий бал, что о нем
судачило потом полгорода. Когда позднее мы сменили
квартиру и в новой уже не было столь огромных,
удобных для танцев комнат, какие имелись в
старой, то прежний бал распался на два-три званых
вечера с игрой и ужином, — в течение одного из
них нам с братом надлежало развлекать гостей
игрой на клавире. Мой брат Камилло снискал
всеобщее одобрение, когда же пришла моя
очередь играть, то меня нигде не могли найти. Я
забрался в кровать нашего слуги, и сколько меня ни
искали, так и не нашли. Лишь после того как
гости разошлись, вышел я из своего укрытия. Тут
отец страшно разгневался. Раз уж я не желаю
ничему учиться, то пусть, по крайней мере, не
отнимаю у брата половину учебных часов. Так с
моими уроками клавира было покончено. Лет семь-
восемь я к этому инструменту вообще не
прикасался.
В тогдашнем моем мрачном настроении я
испытывал потребность как-то отвлечься. От по-
62
Автобиография
эзии я в то время был довольно-таки далек, да и
свойственное ей чеканное выражение мыслей
было мало подходящей формой для излияния моих
смутных чувствований, устремленных в будущее.
Я предался музыке. Клавир был открыт, однако
я все забыл, даже ноты стали казаться мне
какими-то незнакомыми. Тут мне пригодилось то, что
мой первый учитель музыки Галлус, когда он как
бы в виде детской шалости заставлял меня играть
цифрованный бас, преподал мне основные
аккорды. Я наслаждался созвучием тонов, аккорды
разрешались в движения, а движения рождали
простые мелодии. Я отказался от нот и начал
играть что в голову взбредет. Понемногу я достиг в
этом деле такого совершенства, что мог
фантазировать часами. Часто я ставил перед собой на
нотный пульт какую-нибудь гравюру и затем
проигрывал изображенное на ней событие,
словно это была музыкальная композиция. Я еще
помню, как позднее, когда я служил домашним
учителем в одном знатном семействе, некий
весьма почитаемый музыкант, обучавший юного
графа игре на скрипке, однажды с четверть часа
слушал эти мои фантазии, стоя за дверью, а
потом, войдя в комнату, рассыпался в похвалах.
В имении того же графа был единственный
инструмент — старый клавир без струн; невзирая
на это, я с восторгом по полдня на нем играл и
совсем не ощущал отсутствия звука. Когда я
позднее отдался поэзии, эта способность к му-
Автобиография
63
зыкальной импровизации у меня постепенно
угасла, особенно с тех пор как я, чтобы навести
порядок в своих мыслях, стал брать уроки
контрапункта. Отныне мое развитие и продвижение
вперед были упорядочены, но вдохновение
пропало, и в настоящее время я умею не намного
больше, чем тогда, когда у меня впервые
пробудилась склонность к музыке. Мне всегда было
присуще одно причудливое свойство: если я
переносил свое внимание с одного предмета на
другой, то терял вместе с влечением к первому
также и достигнутые в нем умение и сноровку.
Я испробовал все занятия, которыми может
увлечься человек: танцы и охоту, верховую езду и
фехтование, рисование и плавание — ничего не
пропустил; все это, за исключением охоты, я
предпринимал с определенным желанием, но
вскоре забросил. Так, например, я был тогда
одним из лучших или, по крайней мере,
изящнейших пловцов, но, если бы меня сегодня бросили
в воду, я бы наверняка утонул. Вдохновение
всегда было и осталось моим богом.
Но в то время я думал единственно о музыке.
Я даже сочинял песни, которые пел своим
довольно-таки сносным тенором, в том числе и
песню на слова Гётева "Фульского короля". Этой
песни, вопреки своим привычкам, не мог вдоволь
наслушаться мой отец. Мне приходилось все
снова и снова ее играть и петь. Только когда он,
больной, был уже близок к кончине, он велел мне
64
Автобиография
сказать, чтобы я больше ее не пел, — она наводит
на него тоску.
Предсказание нашего врача Клоссета о том,
что мой отец при надлежащей диете может
прожить еще много лет, не сбылось, и не по его вине.
Хотя отец диетой и не пренебрегал, но
обстоятельства того времени ускорили течение его
болезни. Когда мы въезжали в нашу новую
квартиру, он, еще в полном здравии, потратил весьма
значительную часть своих сбережений на ее
устройство и убранство. Одни двери
замуровывались, другие прорубались, настилался паркет,
наклеивались обои, приобреталась мебель, обитая
шелком, — все это казалось странным, тем более
что к нам никто не приходил, но отец как будто
бы взял за принцип: все, что бы он ни
делал, доводить до конца. Однажды некий
недобросовестный стряпчий обманул его на
значительную сумму денег. К этой неприятности
прибавились военные события 1809-го года —
проигранные сражения, обстрел города, вступление
французов в Вену, приостановка дел, постой
солдат, военные налоги и контрибуции; но на первом
месте здесь — его сердце патриота, бесконечно
страдавшее от всех этих унижений. Во время
осады города я не мог не вступить в студенческий
корпус, занявший часть крепостных стен. По
ночам, когда беспрестанно грохотали орудия, в
воздухе пересекались гранаты и город во многих
местах горел, отец, полагавший, будто любой из
Автобиография
65
этих снарядов может угодить в меня, не находил
себе места от беспокойства. На следующее утро
после сдачи города на бастион вместе с
родственниками других сражавшихся пришла моя
матушка, она плакала и умоляла меня тотчас пойти
домой и убедить отца в том, что я жив. Он встретил
меня очень холодно, могло даже показаться,
будто бы он перелагает на меня часть вины за свой
гнев.
Что касается моего собственного поведения во
время обстрела, то оно было не особенно
мужественным, но и не боязливым. Я просто
предоставил вещам идти своим ходом. В истекшие дни,
когда мы с нашими военно-полевыми значками на
шапках ходили по улицам, я испытывал приливы
прямо-таки героической отваги. Однако этот
подъем духа у меня сразу улетучился, когда кто-
то сообщил новость (ложную), будто бы
французские кирасиры в соответствии с их новым
обмундированием носят кроме панцирей еще и
наручи. Эта сама по себе безразличная подробность
оказала весьма неблагоприятное впечатление на
мою фантазию.
В решительный день нас с наступлением ночи
привели на бастионы и уведомили о предстоящем
обстреле. Тут в наших рядах стала заметна
некоторая неуверенность, не ставшая меньше, когда
первые зажигательные снаряды прямо над
нашими головами влетели в чердачные окна
находившегося позади нас дворца герцога Заксен-Тешен-
3. Ф. Грильпарцер
66
Автобиография
ского. Однако позднее, когда французы — как
мы полагали, из неумелости, поскольку мы
считали себя их единственной целью, — стали
целиться выше и снаряды падали уже значительно
дальше от нас, наше настроение заметно улучшилось.
Начавшиеся в городе пожары, которые мы могли
видеть только как зарево в небе, мы принимали
за восход луны и радовались тому, что вскоре
сможем обозреть всю сцену. Точно так же
колебавшиеся в мерцании огней тени шестов и столбов
во рву у городской стены казались нам
подвижными фигурами множества французов, и
поскольку осады без штурма мы себе никак
представить не могли, то дали несколько залпов из
мушкетов, чем подвергли явной опасности
размещенных под нами на низком парапете солдат
ополчения. Я испытал здесь разные чувства —
только не страх. Тем не менее, когда один мой
сотоварищ и соученик, вообще весьма тихий и
спокойный молодой человек, стал настойчиво
требовать, чтобы нас вывели за городские стены, в
чистое поле, навстречу врагу, я не без
рассудительности заметил, какая это бессмыслица —
противопоставлять неопытных солдат вроде нас
такому же количеству понаторевшего в войнах
противника. Известие о сдаче города привело нас
в негодование. Я излил свои чувства в не вполне
искреннем выпаде против наших граждан, коим
их кров дороже чести, — эти слова были сразу
подхвачены нашим командиром, молодым кава-
Автобиография
67
лерийским офицером с рукой на перевязи,
писаным красавцем, а потом их повторяла вся рота.
Но, в сущности, все мы были рады снова
вернуться домой, тем более что мы уже шестнад-
цать-восемнадцать часов кряду ничего не ели.
Все эти дела, к которым прибавились еще
экономические затруднения, очень тяжело отразились
на здоровье моего отца. У меня еще сохранилась
его книга записей, куда он ежемесячно заносил
доходы и расходы. В то время как расходы по мере
роста цен все росли и росли, доходы постепенно
падали, становясь совсем ничтожными, покамест
отец в последние месяцы не вписал туда нетвердой
рукой: Nihil*. Ему пришлось даже взять денег
взаймы — это ему-то, человеку, для которого
слова "должник" и "вор" были равнозначными!
Сознавать, что город занят врагом, для отца
было пыткой, а каждый встреченный француз
был для него как нож в сердце. И все же,
вопреки своей привычке, он каждый вечер выходил на
улицу погулять, но лишь за тем, чтобы при любой
стычке между французами и венцами стать на
сторону соотечественника и помочь тому
защититься от иноземца. Битва при Асперне была
бальзамом на его раны, правда, другая — при
Ваграме56, положила конец всем надеждам, и это
было слишком отчетливо видно по упадку его
физических сил.
* ничего (лат.).
3*
68
Автобиография
Сам я был не меньшим врагом французов,
нежели отец, но невзирая на это Наполеон
притягивал меня с волшебною силой. С ненавистью в
сердце и отродясь не будучи любителем
показного воинского блеска, я тем не менее не пропускал
ни одного смотра в Шёнбрунне и на поле так
называемого Шмельца. Я до сих пор вижу, как он
скорее сбегает, чем сходит, по открытой лестнице
Шёнбруннского дворца, позади в качестве
адъютантов два кронпринца — Баварский и Вюртем-
бергский; и вот он стоит, словно каменный,
сложив руки за спиной, и неподвижным взглядом
хозяина следит за тем, как проходят мимо его
банды насильников. Его фигуру я отчетливо вижу
перед собой и по сей день, а черты лица, к
сожалению, смешались у меня в памяти со
множеством виденных мною портретов. Он околдовывал
меня, как змея — птицу. Отец, наверное, был не
слишком доволен этими непатриотичными
экскурсиями, но никогда их не запрещал.
Но вот наступил решительный момент:
заключение Пресбургского мира57. Отец тогда уже был
вынужден большую часть дня проводить в
постели. Мы, насколько могли, скрывали от него это
событие. Но он каким-то образом о нем
проведал, ибо в крайнем гневе приказал мне добыть
ему экземпляр напечатанного трактата, согласно
которому, как известно, треть монархии отходила
к Франции. Он прочел весь текст, затем отложил
его и отвернулся к стене. С этой минуты он не
Автобиография
69
произнес почти ни слова. Только когда в один из
следующих дней я, охваченный предчувствием
близкого конца, опустился на колени подле его
кровати и со слезами целовал его руку, он сказал:
"Теперь уже поздно!", чем, видимо, хотел дать
мне понять, что не совсем был доволен моим
характером и поведением.
В тот же день, в обед, мы сидели за столом как
раз, согласно его желанию, в той самой комнате,
где он лежал. Вдруг он два раза как-то особенно
глубоко вздохнул. Мы вскочили и бросились к
нему, но он был мертв.
В сущности, нежной любви к своему отцу я
никогда не питал. Он был слишком жестким. Меж
тем как он в высшей степени успешно подавлял в
себе любое проявление собственного чувства, он
делал выражение такового у всякого другого
человека почти невозможным. Лишь позднее, когда
я научился разбираться в причинах многих его
поступков, а дожившая доныне его слава прямо-
таки баснословно честного человека
преисполнила меня счастьем и, уже много позже,
вдохновила к подражанию, я воздал его памяти то, что в
свое время упустил.
Смерть отца повергла нас в почти безвыходное
положение. Надо было погасить долг, взятый им
в последние месяцы. Его собственные претензии
к клиентам были в одних случаях бездоходными,
а в других мы получили едва десятую часть. Все
остальное, что имелось в наличии, с трудом по-
70
Автобиография
крывало сумму, какая принадлежала моей матери
согласно брачному контракту. Нам, детям, не
причиталось почти ничего, но это "почти ничего"
вследствие изданного двумя годами позже, в
1811 году, финансового патента превратилось
просто в ничто. Тот же финансовый патент свел
пенсию, которую мой отец обеспечил своей вдове
ежегодными взносами в факультетскую кассу, к
девяноста гульденам ассигнациями. И на это
должна была жить мать с четырьмя детьми,
правда, на самом деле, с тремя, так как мой брат Карл
после удивительнейших событий, которые в
совокупности . могли бы составить целый роман58,
куда-то скрылся. Сам я, тогда восемнадцати лет
от роду, был на предпоследнем курсе
юридического факультета. Разумеется, я должен был
продолжать эти занятия. Моему брату Камилло
благодаря его музыкальной выучке очень повезло:
управитель одного государственного имения взял
его к себе в дом на полное обеспечение
одновременно практикантом при канцелярии и учителем
музыки для своей дочери. Мой брат Адольф,
родившийся позднее, обладал хорошим голосом, и
его уже давно обучали пению, чтобы со временем
он мог в числе других мальчиков-певчих при
дворе завершить обучение в императорском конвик-
те59. Все это были надежды на будущее, а
настоящее между тем предъявляло свои требования.
Тут мне пригодилось то, что мои профессора
считали меня хорошим юристом. Они рекомендовали
Автобиография
71
меня, — насколько я помню, без моей просьбы, —
как консультанта двум молодым кавалерам,
которые мне так хорошо платили, что эти деньги
покрывали все мои потребности и кое-что даже
оставалось для семьи. В то же время мне пришла на
ум моя забытая трагедия. Может быть,
благодаря ей удалось бы что-то заработать. С помощью
моих друзей Вольгемута и Альтмюттера я
переписал ее и передал брату моей матушки — тому
самому, чьим примером отец отпугивал меня от
поэзии и который тогда, осуществляя один из
многих пунктов своего жизненного плана, служил
секретарем Венского Придворного Бургтеатра и
ведал там литературной частью. Долго ждал я
решения; наконец мне вернули мою пьесу с
уведомлением, что театру она не подходит. Тот человек
был несомненно прав в своем суждении, тем не
менее я полагаю, что, испугавшись непомерной
длины этой вещи и отнюдь не завлекательного
почерка Альтмюттера, он или не читал ее вовсе,
или, по крайней мере, не дочитал до конца, иначе
он должен был бы заметить в ней
недвусмысленные признаки таланта, который трудно скрыть,
тем более что ему самому хватало и сердечной
доброты, и ума. Просто он был чудовищно
небрежен. Так, например, я вспоминаю, что "Вину"
Мюльнера60 он целый год продержал у себя на
конторке нечитанной, а еще он считал признаком
нелепости нашей эпохи, когда кто-то пробовал
написать пьесу "стансами" — так называл он хо-
72
Автобиография
реи. Только актер Эртёр, долго искавший пьесу
для своего бенефиса, прочел "Вину" и
осуществил ее постановку, которая произвела огромное
впечатление во всей Германии.
Мне же самому, когда мне вернули мою
трагедию, пришло на ум пророчество моего отца, и это
укрепило меня в решении навсегда распрощаться
с поэзией, прежде всего драматической. Между
тем я потерял обе свои консультации, поскольку
один из моих подопечных, юноша весьма средних
способностей, совсем перестал учиться, а другой,
остроумный молодой человек, который, правда, в
часы занятий охотнее говорил о литературе,
нежели о делах юридических, принужден был
воротиться к себе на родину, в Южный Тироль, для
управления своими поместьями. Впрочем, им
быстро сыскалась замена. Опять-таки один из моих
бывших профессоров предложил мне поступить в
некий дворянский дом на постоянную дожность.
Требовалось обучить племянника одного богатого
графа юридическим премудростям, для каковой
цели искали домашнего наставника, имеющего
возможность свободно распоряжаться своим
временем, ибо лето намеревались провести в
имениях. У молодого человека уже был гувернер, так
что заниматься с ним надо было всего несколько
часов в день, за что, правда, жалование
причиталось умеренное, однако обеспечивалось полное,
и, как в дальнейшем выяснилось, превосходное
питание. Тем временем я окончил университет,
Автобиография
73
однако испытывал отвращение к государственной
службе. Так что я принял это предложение,
главным образом ради того, чтобы избавить матушку
от постоянного беспокойства о попеременном
приращении и уменьшении моих доходов.
И вот теперь я попал в удивительный дом.
Молодой граф, приблизительно моего
возраста, — он еще жив и не обидится на меня, если я
напишу здесь, что из наших с ним занятий,
пожалуй, по обоюдной вине, мало что вышло. Его
старый дядюшка, человек в высшей степени
ограниченный, упрямый, скупой, лицемерный, был
настоящей карикатурой. Как бывший посланник
при одном из видных германских дворов и
императорский подкомиссарий61 в Регенсбурге, он
охотно рассказывал о своих миссиях. Я назвал
его скупым, он таким и был, за исключением двух
сфер: его конюшни и кухни. В первой он держал
некоторое число великолепнейших лошадей,
которыми, чрезмерно щадя их, почти не
пользовался. Кухней занимались по очереди французские и
немецкие повара высшего класса. Его
расположение я приобрел прежде всего благодаря моему в
то время изрядному аппетиту. Ежедневно между
одиннадцатью и двенадцатью часами дня он в
своем грязном шлафроке являлся ко мне в
комнату, чтобы ознакомить меня с сегодняшним меню и
составить нечто вроде плана военной кампании:
какого блюда следует съесть побольше, а какого
поменьше, в расчете на то, чтобы следующее ока-
74
Автобиография
залось вкуснее предыдущего. У него в доме я
должен был бы заделаться гурманом, тем не
менее со временем я был рад вернуться к скудному
рациону моей матушки. Впрочем, он держал меня
за якобинца — так он называл всех, кто думал
иначе, нежели он. Его жена — мы называли ее
княгиней, поскольку она была из княжеской
семьи, — проводила время в молитвах и ездила в
церковь столько раз на день, сколько ее супруг
позволял поочередно запрягать своих праздно
стоявших роскошных лошадей. Домашним
учителем там был невежественный, угодливый, но в
общем добродушный старик.
Поначалу я очень хорошо чувствовал себя в
этой обстановке. За исключением тех двух-трех
часов, когда я занимался со своим
воспитанником, и времени, отведенного на еду и непременное
чтение меню, я был хозяином своего дня. К тому
же в доме была обширная и богатая старинными
изданиями библиотека, особенно изобиловала она
английскими книгами, которые привез из
Лондона дед графа, служивший там посланником.
Кроме трудно отпиравшегося заржавевшего замка в
дверях библиотечной комнаты, ничто не мешало
мне утаскивать к себе столь многое из этого
мертвого клада, о коем никто не беспокоился,
утаскивать все, что мне вздумается, и упоенно
предаваться чтению. К сожалению, моего знания
английского языка, которым я начал заниматься еще
раньше без учителя и каких-либо пособий, было
Автобиография
75
явно недостаточно для того, чтобы в свое
удовольствие читать Шекспира в издании
Теобальда62. Что, впрочем, это побуждало меня
совершенствоваться в знании этого языка.
Так прошла зима, и наступило время
отправляться в обширные владения этой семьи в
Моравии. При отъезде заботу о юном графе
возложили на меня, и было сказано, что гувернер
приедет позже. Поселившись в великолепном
дворце, в плодороднейшей, хоть и не самой
живописной области Моравии, я тщетно ждал
приезда этого пожилого человека. Наконец от
домашнего хирурга я узнал, что гувернера,
которым были недовольны, поскольку подозревали,
будто он поддерживал покойного старшего
брата моего воспитанника в противодействии
предложенной ему женитьбе, уволили, назначив ему
пенсион.
По этой причине мое положение неприятным
образом изменилось. Если раньше я должен был
уделять моему воспитаннику всего несколько
часов, то теперь он висел у меня на шее целый день.
Я был обязан даже ежедневно сопровождать его
в церковь, куда брал с собой книжку "Векфильд-
ский священник"63, которая, из-за слова
"священник" на ее титульном листе, не вызывала в
доме сомнений, что это молитвенник или какая-то
другая религиозная книга. Точно так же я
вынужден был на всех своих поэтических или
драматических набросках, от чего я все же окончательно
76
Автобиография
не отказался, сверху писать, что это перевод с
английского или с французского, дабы они могли
сойти за языковые упражнения, ибо всякий
признак собственного поэтического дарования лишь
укрепил бы старого графа во мнении, что я —
якобинец. Я сообщаю здесь об этом для того, чтобы
после моей смерти те люди, в чьи руки попадет
мое рукописное наследие, не брали бы на себя
напрасный труд искать оригиналы этих так
называемых переводов. Впрочем, это совершенно
незначительные фрагменты, скорее плоды скуки,
нежели давно оставленного серьезного намерения.
Жизнь за городом приятна сама по себе, так
что в конце концов я с нею свыкся. Даже стал
учить чешский язык, правда, дальше названий
блюд, ругательств и охотничьих выражений я не
продвинулся. Первые я усваивал по
необходимости во время дальних экскурсий, вторые —
потому что часто их слышал, а последние черпал из
наших охотничьих забав. Старый граф был
наихудшим стрелком на свете, поэтому
одновременно с ним, якобы без его ведома, всегда стрелял
один из его заряжающих. Если пуля попадала в
цель, то это считалось выстрелом графа; если же
дичь убегала, то старый граф гневно
оборачивался на своего лейб-егеря и говорил: "Осел!"
Поскольку сам я из-за моей близорукости стрелял
плохо, а что касается юного графа, то надо было
радоваться, если он не принял тебя за куропатку
или зайца, — все охотничьи трофеи обычно при-
Автобиография
77
писывались хозяину дома, и он гордился своим
искусством.
К тому же, хотя он уже тридцать лет подряд
ежегодно по шесть месяцев проводил в Моравии,
не знал он и ни слова по-чешски. Ему было
известно, что крестьяне не понимают ни
по-немецки, ни по-французски, но он претендовал на то,
чтобы его понимали на всех других языках.
Особенно щедр он был на латинские выражения и
злился, если крестьяне не понимали, чего он
хочет.
Так прошло лучшее время года, и мы
воротились в город. Не знаю, то ли по причине
бережливости, то ли потому, что мною были так уж
довольны, но домашний учитель все еще не
появился. Для меня такое положение было
нестерпимым. Мало того что мои отношения с Альтмют-
тером были прерваны, — я тратил попусту лучшее
время моей жизни прежде всего потому, что на
двадцать первом году должен был своим
степенным поведением давать образец и пример моему
воспитаннику, бывшему всего на год моложе
меня. На мои вопросы мне отвечали, что учителя
ищут, но покамест не нашли. Это было самое
печальное время моей жизни, оно оказало
наихудшее воздействие на мое настроение и развитие в
молодые годы, и только положение нашей семьи
и настойчивые просьбы матушки удержали
меня от того, чтобы решительно сбросить с себя
это иго.
78
Автобиография
Тут мои воспоминания путаются, вероятно,
потому, что предмет их скучен. Помню только, что
в феврале 1813 года я поступил как практикант
без жалования в Венскую Придворную
библиотеку, но все же одновременно продолжал
учительствовать в доме графа. Как я сочетал то и
другое — сам не понимаю, еще меньше я
понимаю, как летом того же года я смог опять поехать
с его семьей в Моравию, вероятно, я поехал за
ними следом, лишь когда в библиотеке начались
каникулярные месяцы, а до этого дядюшка сам
исполнял роль домашнего учителя.
Вот я опять вместе с ними в охотничьем замке
в лесистой части Градишского округа. Замок
этот, сказочно прекрасный, но маленький,
одиноко стоял на сравнительно большой высоте
посреди фазаньего охотничьего парка. Между тем
миновал роковой 1812 год, поход на Москву,
разгром французской армии. Я еще помню ту
каннибальскую радость, с какою все мы — и я тоже —
слушали рассказы о бесчисленных ужасах этой
войны. Теперь в переговоры вмешалась Австрия,
и никто не сомневался, что она примет участие в
войне против Наполеона. Что в этом случае
французы вторгнутся в Богемию и продвинутся в
ней дальше, чем мы бы того хотели,
представлялось нам по прошлому опыту вполне вероятным,
и мы были все время готовы к бегству; да и
возможно, что граф потому лишь избрал своей
резиденцией замок Луков поблизости от венгерской
Автобиография
79
границы, что хотел оказаться как можно дальше
от опасности и как можно ближе к убежищу.
Но и на путях сообщения стали уже
появляться препоны. Так, например, в нашем замке, где
всего остального было в избытке, стало не
хватать колониальных товаров. Тогда старый
дядюшка приказал, чтобы его племяннику
ежедневно на завтрак подавали бы вместо кофе какое-
нибудь молочное блюдо. Мне был предоставлен
выбор: либо тоже есть это блюдо, либо пить, как
раньше, привычный кофе, пока не иссякнет его
запас. Из уважения к этим старым людям я
остановился на первом. Вероятно, эти молочные
блюда оказались тяжелыми для моего желудка и
стали одной из причин моей будущей болезни.
Наш замок, как я уже говорил, стоял на
отшибе, и ближайшая церковь Мария-Стип — место
паломничества — находилась от нас на
расстоянии получаса езды. Однако набожная княгиня
заставляла ежедневно возить ее туда и обычно
брала с собой племянника — мы, прочие,
довольствовались воскресной службой. В одно из таких
воскресений небо нависало над головой
тяжелыми дождевыми облаками. Я уже собирался сесть
вместе со старой дамой и моим воспитанником в
огромную, плотно закрытую карету, как подошел
дядюшка и попросил меня не оставлять его в
дороге одного. Дело в том, что он боялся лошадей и
ездил исключительно в низкой линейке,
запряженной парой белых лошадок, которыми он пра-
80
Автобиография
вил сам. Притом я почти всегда был его
спутником, которому он, без конца нюхая табак или
очищая свой огромный красный нос, доверял вожжи
и кнут. И всегда это происходило настолько
медленно, что лошади на время останавливались и
даже принимались щипать траву на обочине
дороги. Княгиня, которая меня любила, против
этого возражала, он же обещал, что на сей раз
"шепнет лошадям кое-что на ушко" и доставит меня в
Мария-Стип еще до дождя. Я согласился, и мы
отъехали. Мы давно уже потеряли из виду
карету княгини и находились приблизительно на
середине пути, как хлынул ливень. Когда мы,
промокнув до нитки, добрались до Мария-Стип,
я первым делом направился в те два дома, что
находились возле церкви — в дома священника и
церковного служки, чтобы сменить белье и в
крайнем случае самому надеть сутану священника.
Однако мы опоздали. Оба дома были заперты, а
их обитатели — в церкви. Мне ничего другого не
оставалось, как тоже пойти туда, хотя меня уже
основательно пробирал озноб. На другое утро я
проснулся в сильной лихорадке,
сопровождавшейся бредом и всем прочим. Дело было
нешуточное. В маленьком замке изолировать меня
было сложно, а хирург объявил мою болезнь
нервной горячкой, следовательно, она таила в себе
опасность заражения. Поэтому решено было
перевести меня в находившийся неподалеку от
церкви Мария-Стип так называемый Банный дом.
Автобиография
81.
Это название ему дали не потому, что там были
бани, а потому, что в том доме жил человек по
фамилии Банн, который зарабатывал на жизнь,
делая операции кровопускания паломникам,
прибывавшим издалека.
Там меня ежедневно навещал графский хирург,
так что врачебной помощью я был вполне
обеспечен. Замковый управитель строго воспретил
другим обитателям замка всякое общение со мной.
Невзирая на этот запрет, однажды вечером ко
мне пришла старая княгиня, села возле моей
кровати и залилась горючими слезами.
Причина ее слез открылась мне на другой
день. Графский хирург больше не явил'ся. Вся
семья уехала из Лукова, оставив меня на руках у
невежественного Банна. Здоровье мое
ухудшалось день ото дня, чему виной, кроме бездарности
лекаря, было еще и качество лекарств, —
некоторые из них (например, кору хины, насколько я
помню) надо было привозить из небольшого
местечка Градиш, а тамошней аптеке отечественная
дубовая кора была известна куда лучше, нежели
заморская хинная. У меня еще отчасти
сохранились в памяти мои тогдашние фантазии. В самом
начале болезни, пока я находился в замке, я
воображал, будто под моим соломенным тюфяком
лежит некая принцесса, и поминутно ерзал,
опасаясь придавить бедняжку. В незнакомом мне
Банном доме я все время слышал какие-то
голоса, доносившиеся снаружи; они громко изве-
82
Автобиография
щали, что ко мне едет матушка. Я через силу
поднялся и сразу понял, что все это — наваждение.
Но стоило мне от слабости упасть обратно на
подушки, как те же голоса сызнова принялись меня
звать. Тоску по родной матушке могла также
расшевелить во мне старая княгиня, и это чувство
соединялось с сознанием той жестокости, с какою
меня, молодого человека, только вступающего в
жизнь, своего домочадца, бросили здесь в таком
беспомощном состоянии.
Я был близок к смерти, понимал это и
относился к этому равнодушно. Ко мне уже приходил
священник из церкви Мария-Стип, дабы дать
мне, как умирающему, последнее напутствие. А я
отвернулся от него к стене. Тогда священник
сказал: "Он бредит", ушел и не вернулся.
Да и в остальном мне там пришлось нелегко.
Никто в Банном доме не понимал по-немецки,
разве что с грехом пополам сам Банн. Ко мне в
комнату пускали ночевать одного батрака,
который ложился и тотчас начинал храпеть, чем гнал
от меня всякий сон, вместо того чтобы мне как-то
услужить. Однажды, тоже ночью, мне
показалось, будто какая-то бабенка приближается к
моей кровати и выдвигает ящик стола, который
стоял подле меня и в котором я держал свои
деньги. Я счел это обманом чувств, но на другое утро
оказалось, что деньги у меня на самом деле
пропали. В конце концов моя молодость и отнюдь не
крепкая, но бесконечно выносливая натура одер-
Автобиография
83
жали верх. Я выздоровел. Когда я впервые
почувствовал аппетит, то мне дали как диетическую
пищу зайца с клецками, а после моего первого
выхода в сад, где стояли сливовые деревья,
сплошь увешанные спелыми плодами, мой врач
разрешил мне есть их столько, сколько я захочу,
что я и стал делать. Как я отправился в обратный
путь, вероятно, получив деньги у графского
управителя, я уже не помню. Только мнится мне,
будто бы где-то на своем пути встретил я графского
хирурга, который мне объявил напрямик, что
тогда мою смерть считали неизбежной. Также во
время этой поездки домой до меня дошло первое
известие о битве под Лейпцигом64, что чуть было
не заставило меня эту поездку отложить. Нельзя
было застать дома ни одного почтмейстера, ни
одного почтальона, ни одного трактирщика или
кельнера — все были на улицах. Люди вслух
читали газеты, пересказывали новости, обнимались,
ликовали, плакали — казалось, наступило
тысячелетнее царство.
По приезде в Вену, я выглядел как выходец с
того света. Стыда или раскаяния на лицах моих
титулованных хозяев я не заметил, но они были в
некотором замешательстве. Загадка вскоре
прояснилась. Им наконец действительно удалось
найти домашнего учителя. Мы договорились, что
я буду продолжать занятия. Но следующий
вопрос — буду ли я при этом жить у них в доме или
где-то еще — решился неожиданно: у меня начал-
84
Автобиография
ся рецидив болезни. Я попросил отвезти меня к
матушке, где меня стал пользовать тот самый
доктор Клоссет, который, к несчастью, приехал
слишком поздно для того, чтобы предотвратить
смерть моего отца. Хуже всего был не сам
рецидив, а полная потеря сил. Ночной пот бывал
таким обильным, что вывешенный на воздух
матрац за сутки едва просыхал. В конце концов
прошло и это. Доктор Клоссет не взял с меня
денег и, пожимая мне на прощанье руку во время
своего последнего визита, сказал, что мой
случай — один из немногих в его практике,
которыми он как врач может даже гордиться: он и сам не
верил в мое выздоровление.
Я продолжал теперь заниматься со своим
учеником, по-прежнему обедал вместе с графским
семейством, однако снял квартиру в другом доме.
Тут заметил я у своих знатных господ какое-то
странное раздражение, никак не вязавшееся с их
прежним, не всегда приятным, однако
доверительным тоном. Причину узнал я лишь много лет
спустя, от одного из участников произошедшего,
но сообщу о ней прямо сейчас. К домочадцам
графа в последнее время прибавилась его
племянница; до тех пор она воспитывалась в монастыре, а
теперь родные взяли ее к себе. Это была внешне
ничем не выдающаяся, однако добрая, веселая
девушка, жестоко страдавшая от притеснений
родственников. Естественно, что мы с ней часто
виделись, но не питали друг к другу особого ин-
Автобиография
85
тереса и ничего плохого не замышляли. Когда
меня перевезли к матушке и в графском доме пошли
разговоры о том, как она бедна, то юная графиня,
которой было лет шестнадцать, начитавшись в
монастыре разных книг и спутав бедность с
нищенством, упаковала немногие свои
драгоценности и вручила их камеристке, дабы та втайне и не
говоря, от кого они, передала их моей матушке.
Камеристка сочла это дело рискованным и
спросила разрешения у графа, который,
разбушевавшись, отдал прямо противоположный приказ, а
поскольку он никак не мог представить себе
подобное великодушие без особого мотива, то и
заключил, что здесь таится любовное влечение,
какового ни со стороны юной графини, ни прежде
всего с моей стороны не было и в помине.
Тем временем я трудился — чуть было не
сказал: "усеРДН0 трудился" — в Придворной
библиотеке. Особого усердия в этом учреждении тогда
вообще-то не замечалось. Его служащие, люди
почти сплошь добро душные, вели себя
приблизительно так, как инвалиды £ цейхгаузе, или как
собака на сене: хранили книги, имевшиеся в наличии,
показывали посетителям редкости, использовали
скудную дотацию на покупку всех мыслимых
изданий классиков, а все запрещенные, то есть все
новые книги по возможности держали подальше.
О библиотечной систематизации не было и речи.
Это пришлось мне весьма по вкусу. Я читал и
прорабатывал то, что привлекало меня лично.
86
Автобиография
Прежде всего я стремился совершенствовать
знание греческого языка и для этих занятий
объединился с моим тогдашним коллегой Эйхенфель-
дом. Чтобы нам не мешали, мы уходили в
кабинет рукописей и, обложившись всевозможными
пособиями, читали греческих авторов. Это
длилось некоторое время, пока старший хранитель
библиотеки, премерзкий невежда, — именно
собака на сене, как я выразился выше, — прознав
об этом и не имея сам ни желания, ни
способности воспользоваться какой-либо рукописью, но
испытывая при этом злобную зависть к
возможному ее изданию кем-то другим, не закрыл нам
доступ в кабинет рукописей.
В то же время я занимался другим языком,
основы которого освоил еще раньше и которому
суждено было оказать существенное влияние на
мою будущую карьеру. Я издавна пребывал в
убеждении, что перевести поэта невозможно.
Несмотря на свою плохую память, я, помимо
двух древних языков и обязательного
французского, овладел еще итальянским и английским, а
обратив внимание благодаря сделанному Берту-
хом65 переводу "Дон Кихота" и его
высказываниям об испанских поэтах на испанскую литературу,
еще смолоду занялся испанским. В руки мне
попала допотопная испанская грамматика,
настолько допотопная, что была даже старше языка
Лопе де Веги и Кальдерона66, так что
впоследствии мне пришлось переучиваться, отказываясь от
Автобиография
87
почерпнутых из нее форм. По недостатку денег я
не мог приобрести словарь, покамест мне не
попалась у одного букиниста книжка Собрино, в
которой, правда, недоставало всей буквы "А", но
которая зато продавалась всего за один
бумажный гульден. С такой амуницией мало что
можно было предпринять. Но тут вышли в свет
некоторые драмы Кальдерона, переведенные
Шлегелем67, из которых меня больше всего
привлекла пьеса "Поклонение кресту". Насколько
превосходным считал я перевод Шекспира,
выполненный тем же немецким писателем,
настолько же недостаточным и
неудовлетворительным показался мне его перевод Кальдерона.
Мне было ясно, что поэт, чья окрыленность,
можно сказать, превосходила самое поэзию, не
мог выражать себя такими окоченелыми и
ломаными фразами. Придворная библиотека
предоставляла все необходимые пособия, и потому я
налег на испанский язык и сразу взял быка за
рога — то есть принялся прямо за Кальдерона.
Однако для того чтобы не перемахивать с
излишним легкомыслием через трудности и
заставить себя каждое слово проверять в словаре, я
начал переводить выбранную мною пьесу
"Жизнь есть сон", расшифровав каждый ее
абзац, сразу немецкими стихами и, следуя
оригиналу, в рифму. Сколько времени возился я с этой
немыслимой работой, я не помню, знаю только,
что дошел лишь до середины первого акта. Так
88
Автобиография
или иначе, занимаясь этим пероводом, я ставил
себе целью только изучение языка.
Тут встречаю я как-то одного человека,
знакомого мне с юных лет. Мы беседуем о театре и о
том поразительном многообразии вкусовых
направлений, какое предлагается публике. Ныне
собираются даже ставить испанскую пьесу,
говорит он, — "Жизнь есть сон". Я спрашиваю, кто
переводчик. Он говорит, что фамилия его —
Вендт68, или что-то в этом роде. А я знал, что в
Лейпциге живет профессор Вендт, и что он
вполне мог бы сделать такой перевод. В ходе
разговора я сказал, что хорошо знаю эту пьесу и часть ее
перевел сам. Приятель выражает желание
почитать мою работу, на что я в конце концов
соглашаюсь. Через несколько дней он приходит ко мне
сообщить, что мой перевод необычайно
понравился не только ему самому, но и редактору
литературно-критической "Моденцайтунг", которого
он с этой работой ознакомил, и тот поручил ему
испросить у меня разрешение опубликовать в его
газете хотя бы две первые сцены.
Я всегда был противником публичности, и
кроме одного стихотворения — "Музыка",
написанного белым стихом и, уж не знаю при чьем
посредстве, без моего имени появившегося в одном
венском журнале, — раньше я никогда ничего не
печатал.
Поэтому я долго не соглашался, но в конце
концов уступил доводу, что жалко будет напрас-
Автобиография
89
но затраченного мною труда. Сейчас внимание
публики направлено на эту пьесу, и если не
теперь, то, возможно, никогда моего фрагмента не
оценят. Я согласился. Прошло много времени,
мой перевод все не появлялся, что меня
нисколько не трогало.
Наконец драма "Жизнь есть сон" была с
успехом представлена на театре, а на другое утро
"Моденцайтунг" напечатала мой фрагмент,
который, при самых высоких похвалах, был выбран
поводом для жесточайших нападок на перевод,
взятый театром. В то же время из театральной
программки я узнал, что фамилия автора той
обработки не Вендт, а Вест — под этим
псевдонимом прежде выступал в литературе заведующий
репертуаром Придворного Бургтеатра Шрейфо-
гель69.
Шрейфогель оставил по себе в нашем
семействе не самую лучшую память — из-за его ничем не
окончившегося ухаживания за сестрой моей
матушки. Однако, невзирая на затаенный страх
перед ним, я с детских лет его уважал, а
превосходный журнал "Зоннтагсблат", который он издавал
в начале века, оказал большое влияние на мое
становление: он помог мне удержаться от
глупостей, каких в то время было столько же, сколько
и в нынешнее, с тою лишь разницей, что тогда в
центре сияли, как солнце в зените, два великих
ума70, принуждая пустословов-романтиков
держаться в определенных рамках, между тем как
90
Автобиография
ныне опустевший центр позволяет каждому
взмывать кометой в бездонную пустоту.
От Шрейфогеля не укрылось мое имя,
поставленное на том фрагменте. Уже через несколько
дней после его публикации старый писарь
Придворной библиотеки Леон сказал мне, будто
Шрейфогель был очень обижен тем, что сын
друга его юных лет мог пойти на столь низкую
интригу против него. Я объяснил старику Леону, в
чем тут дело, и что я сам возмущен тем, как
злоупотребили моей работой. И вот пришел
письменный ответ: Шрейфогель сообщал мне, как он
рад, что я не виноват, и как ему хочется со мной
познакомиться. Я принял это к сведению, но к
нему не пошел. Его второе приглашение
окончилось тем же. Наконец однажды в библиотеке
Леон мне объявил, что теперь он меня не
отпустит, — я должен сейчас же пойти с ним к Шрей-
фогелю. Возразить против этого мне было
нечего, и я пошел с ним.
Шрейфогель принял меня, как отец родной.
О каких-либо извинениях не было и речи. Он сам
заявил, что мой перевод ему очень понравился, и
спросил: неужели у меня нет стремления к
собственному драматическому творчеству, — ведь в
моих к тому способностях сомневаться не
приходится. Я рассказал ему, что в мальчишеские годы
написал бесконечную трагедию, в непригодности
коей я убежден теперь и сам. С тех пор я это дело
бросил. Если я не могу создать ничего стоящего,
Автобиография
91
то не желаю, чтобы меня просто терпели. Он
продолжал расспрашивать: не обдумывал ли я в
последнее время какие-либо сюжеты — я мог бы ему
об этом рассказать. А как раз тогда у меня в
голове сложился уже вполне готовый сюжет.
Дело было вот в чем.
В истории одного французского разбойника,
по-моему Жюля Мандрена71, я прочел о том, как
его поймали. Спасаясь от погони, он укрылся в
богатом замке, где завел любовную связь с
горничной, причем та, порядочная девушка, даже не
подозревала, какого пропащего человека
впустила в свою комнату и в свое сердце. У нее в
комнате его и поймали. Зародыш трагедии в этих
отношениях, или, скорее, в этом узнавании, произвел
на меня большое впечатление.
Так же случайно мне в руки попала одна
народная сказка, в которой юная девушка,
последний отпрыск старинного рода, из-за сходства с
являвшимся призраком праматери, давала повод
для ужасающих недоразумений: например,
юноша однажды принял свою возлюбленную за
привидение, а потом, когда намеревался ее
похитить, — привидение за девушку.
Оба эти впечатления долгое время покоились у
меня в голове одно подле другого, но поодиночке
они были непригодны. Если бы я стал
разрабатывать первое, то мне бы никогда не пришло в
голову сделать вора и разбойника героем драмы; что
касается второго, то ужасу, какой наводило при-
92
Автобиография
видение, не хватало причинной связи с обычной
человеческой жизнью.
Однажды утром, когда я лежал в постели, обе
эти мысли сошлись и дополнили одна другую.
Разбойник оказался облагорожен роком,
тяготевшим над праматерью рода, к которому и он,
волею судеб, принадлежал; история с привидением
обрела искомую связь. Прежде чем я встал и
оделся, план "Праматери" был готов.
Приступить к его осуществлению мешало мне
отчасти мое решение навсегда покончить с
драматической поэзией; отчасти же чувство стыда
оттого, что я берусь за обработку сюжета, который,
казалось, предназначен в лучшем случае для
театра предместья, и низвожу себя до класса поэтов,
какой я всегда презирал, хоть я и чувствовал в
себе довольно поэзии, дабы так изукрасить
историю с привидением, что надо было быть дураком
или немецким ученым, чтобы ухитриться
выставить против нее множество возражений.
Этот сюжет я рассказал теперь Шрейфогелю,
притом так живо и с такими мельчайшими
подробностями, что он, загоревшись, воскликнул:
"Пьеса готова, вам осталось только ее записать!"
Мои возражения он счел несущественными, и я
обещал ему об этом подумать.
Между тем во внешних обстоятельствах моей
жизни произошла значительная перемена. В один
прекрасный день я закончил обучение юного
графа, чему я был искренне рад. Теперь его семья
Автобиография
93
дала мне почувствовать свою в то время
необъяснимую для меня неприязнь, отказавшись
исполнить данное мне при поступлении к ним на
службу, правда лишь устное, обещание оставить за
мной мое небольшое жалование до моего
поступления на оплачиваемую государственную
должность. Лишь вмешательство одного уважаемого в
этой семье священника положило конец этому
затруднению. В то же время одного из моих дядьев
дела привели к тогдашнему вице-президенту
финансовой придворной палаты, графу Герберштей-
ну. Герберштейн, знавший и уважавший моего
отца, осведомился об оставшейся у него семье,
узнал о нашем положении и о том, что старший сын
служит без жалования в Придворной библиотеке.
Этот деловой человек возмутился, нашел, что это
безответственно и не дает мне видов на будущее,
и пожелал со мною переговорить.
Когда я пришел, он задал мне жару, напомнил,
что мой долг — заботиться о матушке и братьях,
и прибавил, что если бы я захотел ему довериться
и перейти на службу в финансовое ведомство, то
он взял бы на себя заботу о моем продвижении.
Я был очень угнетен отвратительным характером
заместителя директора Придворной библиотеки,
новая перспектива показалась мне заманчивой, и
я согласился.
Таким образом, я должен был теперь стать
законченным камералистом72. Меня определили в
Нижнеавстрийское таможенное управление, и
94
Автобиография
мне надлежало ныне практически осваивать
работу таких отделов, как экспедиционная контора,
протокольный отдел, ведомство Главной таможни
и налога на потребление, — до тех пор пока мне,
выражая тем самым полнейшее удовлетворение
моей деятельностью, не отвели в отделе экзаме-
натуры собственный кабинет, где я
самостоятельно проверял мелких мошенников и нарушителей
закона. Не знаю — то ли новизна дела, любезное
содействие всего начальства или приятное
чувство свободы, которой я не ощущал в графском
доме, — так или иначе, я быстро со всем освоился и
даже в некотором роде повеселел. "Праматерь"
тем временем была забыта, да и у Шрейфогеля я
с тех пор не бывал.
И вот, на исходе лета, я как-то встречаю его во
время прогулки по крепостному валу. Он еще
издали мне кричит: «Как обстоят дела с
"Праматерью?"» На что я весьма уныло отвечаю: "Не
получается!"
Шрейфогель, прежде обладавший
значительным состоянием, которое он со временем потерял,
торгуя произведениями искусства, в девяностые
годы прошлого века из-за своего знакомства с
людьми, коих постигла печальная участь,
находился под подозрением, будто бы он
приверженец идей Французской революции. Хотя никаких
доказательств против него найти не смогли, все
же казалось разумным, чтобы он на какое-то
время с разрешения властей уехал из Вены. Он от-
Автобиография
95
правился в Иену и в Веймар, где прожил затем
много лет, сблизившись с тогдашними
полубогами немецкой литературы.
И вот, когда я ему пожаловался: — "Не
получается!", Шрейфогель сказал: «Такой же ответ я
однажды дал Гёте, когда он подбадривал меня,
побуждая к литературной деятельности. Гёте
сказал: "Надо только поплевать на руки, и дело
пойдет!" На этом мы с ним и расстались».
Эти слова великого мастера крепко засели у
меня в голове. Неужели другим, при всей
разнице в даровании, все дается настолько легко, что
им достаточно только "поплевать на руки",
между тем как у меня самого решительно ничего не
выходит! Я был возмущен до глубины души.
Продолжая в одиночестве свою прогулку, я стал
раздумывать о "Праматери", но не придумал
ничего, кроме восьми-десяти первых стихов, какие
произносит в начале пьесы старый граф, и
говорит он трохеями73, которые полюбились мне,
когда я занимался Кальдероном.
Из-за этого стихотворного размера, а также,
видимо, из-за так называемой идеи рока, меня
вздумали считать подражателем Мюльнера и его
драмы "Вина". А на самом деле я, наверное,
бессознательно вдохновлялся примером Кальдерона,
точнее его "Поклонением кресту". К тому же
трохей ласкал пробудившийся у меня
музыкальный слух. Однако, не будь у меня
предшественника в лице Мюльнера, я бы, вероятно, не отва-
96
Автобиография
жился вынести на немецкую сцену новый
стихотворный размер.
Придя домой и поужинав, я, не заглядывая
вперед, записал на листке бумаги те
восемь-десять строк и лег спать.
И тут я впал в какое-то странное смятение.
У меня сделался жар. Всю ночь я ворочался с
боку на бок. И при всем том ни разу не подумал о
"Праматери" — я даже отдаленно не вспомнил об
этом моем сюжете.
На другое утро я встал с ощущением
близящейся тяжелой болезни, позавтракал вместе с
матушкой, после чего воротился к себе в комнату.
Тут на глаза мне попадается тот листок с
записанными на нем, а после начисто забытыми стихами.
Я сажусь за стол и пишу дальше и дальше,
мысли и стихи приходят сами собой — я не мог бы
писать быстрее, даже если бы просто переписывал.
На другой день повторилось то же самое, и за
три-четыре дня первый акт был готов, причем я
почти ни слова не вычеркнул.
Я сразу побежал к Шрейфогелю, чтобы
прочитать ему написанное. Он остался очень доволен
и всячески настаивал, чтобы я продолжал работу.
Столь же быстро родились второй и третий акты.
Я еще помню, что большую сцену, в которой
Яромир уговаривает Берту бежать, я написал за
время с пяти часов утра до пяти вечера, ни разу не
передохнув и не взяв в рот ни крошки. Матушка
напрасно стучала ко мне в дверь в часы завтрака
Автобиография
97
и обеда. Только вечером вышел я из своей
комнаты, прогулялся по бастиону и съел на ужин
оставленный мне обед.
Тут на дворе вдруг сильно похолодало, и все
мысли у меня словно замерзли. Глубоко
опечаленный, потащился я к Шрейфогелю и пожаловался
ему: я же, мол, предсказывал, что у меня ничего
не выйдет. Он, однако, полагал, что все
восстановится. Так оно и случилось. После двух-трех дней
перерыва я закончил пьесу с той же быстротой, с
какой она была начата. Я написал ее не более чем
за пятнадцать-шестнадцать дней.
Пьеса была вручена Шрейфогелю, дабы он
решил, пригодна ли она к постановке. Когда я
через несколько дней его об этом спросил, он
ответил мне довольно сдержанно. Шрейфогель был
человек выдающегося ума, почти как Лессинг.
Однако помимо тонкости логического суждения
его роднило с последним и то, что его
эстетические принципы были у него скорее итогом
изучения образцов, нежели продуктом собственного
опыта. Он не знал, к чему причислить этого
моего недоноска, и боялся что-либо сказать. Не
потому, что отвергал пьесы с привидениями или так
называемую идею рока, — скорее, он требовал,
чтобы последняя была лучше разработана,
особенно то оставленное мною без внимания
обстоятельство, что ныне живущее поколение этой
семьи — плод греха Праматери. Когда я не
пожелал с этим согласиться, он предложил даже пере-
4. Ф. Грильпарцер
98
Автобиография
делать мою пьесу, после чего она должна была бы
появиться как наше общее произведение. Этому
я решительно воспротивился: пьеса либо не
должна была ставиться вообще, либо идти под моим
именем.
Шрейфогель уже поговорил с актерами,
которым он предназначил те или иные роли. Мадам
Шредер, только наслышанная об этой пьесе,
выбрала ее для своего бенефиса, а для себя — роль
Берты и привидения. Эртёр, которому
предстояло играть Яромира, навестил меня в моей
квартире, посреди моей, так сказать, "бедности"; он
удивился, увидев, что писатель сидит за
письменным столом в отцовском соломенном кресле, где
сиденье протерто до дыр и поверх него просто
положена доска. В этой суматохе я совсем потерял
голову. Я вносил в пьесу поправки, которые от
меня требовали и от которых она вовсе не
становилась лучше, отчасти потому, что они были чисто
поверхностными. Сразу после премьеры я
заметил, что благодаря этим "более глубоким
мотивировкам" моя пьеса из сказки с привидениями со
значительной человеческой подоплекой перешла
в тот род драматургии, в коем тогда подвизались
Вернер и Мюльнер74. В более поздних изданиях я
и сам хотел воротиться прямо к моей изначальной
рукописи. Но поскольку в ходе второго
редактирования я, как должно и положено поэту,
одновременно многое изменил в манере выражения и
в композиции пьесы в целом, — все это делалось
Автобиография
99
с оглядкой на пресловутое "расширение идеи", —
то потребовался третий вариант, создавать
который показалось мне слишком скучным.
Изначальная рукопись с замечаниями Шрейфогеля на
полях найдется в моих бумагах и послужит
подтверждением вышесказанному.
Потом начались внешние затруднения, и если
бы другие люди меня от них не избавили, то мне
прямо-таки пришлось бы забрать мою пьесу
назад. Она была представлена в цензуру и
запрещена. Ее разрешили благодаря связям артистки,
мадам Шредер, которая как бенефициантка
имела право высказать свое мнение. Однако после
первого представления пьесу опять запретили.
Тогда за нее вступился вышедший на пенсию
придворный актер Ланге, игравший графа Боротина;
он пожелал выступить в "Праматери" в свой
бенефис и до того тронул зрителей в амплуа
благородного отца, что добился разрешения еще на
один спектакль. Под конец явился владелец
театра "Ан дер Вин"75 граф Пальфи со своими
утилитарными доводами и заявил, что если ему
станут запрещать пьесы, приносящие доход, то он
будет вынужден закрыть театр. Это
подействовало, и Варавву освободили76.
Но я опередил события. Возвращаюсь
обратно. Актеры были в восторге от своих ролей.
Когда я пришел на репетицию, то меня, несмотря на
мой поношенный сюртук, встретили как
молодого полубога. Случайно, с помощью придворной
4*
100
Автобиография
актрисы мадам Шредер и вышедшего на пенсию
придворного актера Аанге, которые давали
гастроли, собрались все действующие лица, чтобы
представить пьесу так, как ее, пожалуй, больше
не ставили ни на одной немецкой сцене. Поэтому
для моего первого появления перед публикой и
был выбран театр "Ан дер Вин", а не
Придворный Бургтеатр.
Все это делалось без моего участия, даже
почти что без моего ведома. Наконец настал день
первого представления. Убедить меня напечатать на
программке мою фамилию оказалось
невозможным. "Праматерь, трагедия в пяти действиях", —
такое название без имени автора красовалось на
углах улиц. Это ничего хорошего не предвещало,
театр посещали слабо, сборы были плохие, в чем,
однако, мадам Шредер, которая действительно
нуждалась в деньгах, никогда меня не упрекала,
а, напротив, обходилась со мною так, будто я
принес ей бочки золота. Бенефициантка
предоставила мне три места в ложе бельэтажа, на
которые я усадил матушку и младшего брата, тогда
одиннадцати- или двенадцатилетнего.
Спектакль, хоть и превосходный, произвел на меня
препротивнейшее впечатление: мне казалось,
будто передо мною воплотился страшный сон.
Тогда я дал себе зарок: никогда больше не
присутствовать на представлении какой-либо из
моих пьес, зарок, который я соблюдаю по сей
день. Поведение нашего семейства было весьма
Автобиография
101
причудливым. Сам я безотчетно, вполголоса,
проговаривал весь текст. Матушка время от
времени, поворачиваясь ко мне, повторяла: "Ради
Бога, Франц, возьми себя в руки, ты же
заболеешь!", между тем как сидевший по другую
сторону от нее мой маленький братец непрестанно
молил Бога, чтобы пьеса хорошо кончилась.
Неприятное ощущение усугублялось еще тем, что на
полупустой скамье позади нас сидел какой-то
пожилой господин вполне приличного вида,
который, разумеется, меня не знал, и хотя пьеса его
как будто заинтересовала, не мог удержаться от
того, чтобы время от времени не восклицать мне
прямо в уши: "Здорово, здорово!" Публика
щедро рукоплескала, но исключительно в тех местах,
где особенно блистали превосходные актеры.
Когда по окончании спектакля я пошел на сцену,
то решительно опроверг мнение актеров, будто
бы пьеса очень понравилась публике.
Когда на следующий вечер спектакль сыграли
снова, у меня были все основания считать мое
мнение верным, ибо театр остался наполовину
пуст. Но тут артист Кюстнер сказал мне, что я их
театра не знаю. У них в предместье всегда
требуется несколько дней, чтобы среди публики
разнеслась молва об успешной постановке. Так оно и
случилось. Перед третьим представлением театр
буквально осаждали, и пьеса произвела
огромнейшее впечатление как в Вене, так и во всей
Германии77.
102
Автобиография
Несмотря на такой всеобщий интерес,
"Праматерь" принесла мне всего 500 фл.
ассигнациями78, полученными от дирекции театра, что в
сумме равняется приблизительно 400 фл. серебром.
Дело в том, что по совету Шрейфогеля я сразу
же после представления пьесы отдал ее печатать,
потому что в появившихся рецензиях ее
содержание и замысел бесстыднейшим образом
искажались. Хотя все театры Германии давали ее по
напечатанному экземпляру, и делали огромные
сборы, однако никому из постановщиков не
пришло в голову заплатить мне гонорар. Впрочем, то,
что я получил в Вене, пошло на поддержание
нашего домашнего хозяйства. Мы оплатили
набежавший долг за квартиру, а себе я оставил 80 фл.
бумажных денег, на которые приобрел браун-
швейгское издание Шекспира на английском
языке и Хайневу "Илиаду"79.
Моим главным противником среди
журналистов стал теперь, из-за того что я был заодно со
Шрейфогелем, тот самый редактор "Моденцей-
тунг", который когда-то использовал меня против
Шрейфогеля и в то время восхвалял до небес.
Он даже подбил одного популярного в
Зальцбурге поэта, Вайсенбаха, еще до того как пьеса
была напечатана, написать уничтожающую
рецензию — наобум, исключительно на основании
присланных ему писем, в чем этот честный
человек позднее мне покаялся. Эти суждения носили
неискоренимый национальный отпечаток и были
Автобиография
103
почти такими же нелепыми, какие приходится
читать в нынешних журналах, философических
размышлениях об искусстве и историях литературы.
Речь шла исключительно о роке, о том, что
преступление искупается лишь преступлением, и так
далее.
Строго говоря, идеи рока в "Праматери" нет
вообще. Если бы приговор, вынесенный
призраку этой женщины, гласил, что ей суждено
скитаться до тех пор, пока ее род не вымрет в итоге
всех своих преступлений, то в этих
преступлениях, во всяком случае, была бы какая-то
необходимость; поскольку же наказание связано лишь с
вымиранием ее рода, когда бы это ни случилось,
то и срок, и тот факт, что это свершится через
преступление, чисто случайны. То, что
действующие лица полагают, будто бы над ними, согласно
невнятной легенде о какой-то давней вине,
тяготеет рок, настолько же мало влияет на
фактическую судьбу, насколько некто невиновен лишь
потому, что выдает себя за невиновного.
Это вовсе не значит, что я распаляюсь против
Судьбы, я лишь не усматриваю ее грубого
вторжения в "Праматери". Поэзия не может
обойтись без вмешательства в человеческую жизнь
сверхчувственного начала. Поскольку наука
неспособна хоть что-нибудь нам об этом сказать, по
крайней мере что-нибудь вразумительное, а
религия живет более в сознании, нежели в убеждении,
то нам не остается ничего другого, кроме как при-
104
Автобиография
нять эту связь двух миров такой, какой она,
соответственно основной черте человеческой
натуры, представлялась во все времена и всем
народам. У древних была грандиозная фигура
Судьбы, но тоже только для поэзии. В действительной
жизни им не пришло бы в голову, оказавшись в
опасности, сидеть сложа руки, раз уж
неизбежного не избежать; равным образом судья
рассмеялся бы преступнику в лицо, если бы тот
сослался бы на Судьбу или на сбывшееся предсказание
оракула. Хоть эта великолепная фигура и
разрушена новейшими религиями, но ее обломки
неистребимо живут в виде предзнаменований и
предчувствий, как следствие проклятья или
благословения, как вера в привидения и ведьм. Как
таковую ее использовал в "Макбете" Шекспир. Если
вы мне скажете: эти ведьмы — воплощение
честолюбия героя, то я вам отвечу: откройте глаза!
То, что вы увидите перед собой — ведьмы, а не
честолюбие; так и призрак Банко — настоящий
призрак, поскольку вы его видите собственными
глазами. Между тем как придуманный
перед убийством кинжал — всего лишь
придуманный кинжал, поскольку его видит только
Макбет, а вы не видите. Если же вы думаете, что
эти фигуры ведьм обретают ценность на веки
вечные, ибо они представляют честолюбие
Макбета, то вы совершенно правы, но тогда, обращаясь
к "Праматери", вспомните библейское речение о
наказании потомков преступника до седьмого
Автобиография
105
колена — и вы увидите перед собой акт
таинственной справедливости, а не судьбы.
Основные заблуждения человеческой натуры
суть истины поэзии, а поэтическая идея — это не
что иное, как тот способ, благодаря которому
идея философская преломляется, окрашивается
и формируется через посредство чувства и
фантазии.
В ходе этих отвратительных споров речь шла
только о Вернере, Мюльнере и "Праматери", и
никто не вспомнил, что Шиллер в "Мессинской
невесте" использовал Судьбу в ее наиболее
беспощадном облике и даже теоретически ее
защищал. Я охотно верю, что Шиллер мог
заблуждаться, однако подобная опасность с удвоенной
силой подстерегает мух-однодневок в критике и в
истории литературы. В то же время хорошо бы
немцам с их занудливой основательностью
никогда не забывать о разнице между поэзией и
прозой, а также о том, что трагедия — это печальное
действо, и сколь бы ни было оно печально, оно
так и останется действом.
Я невольно разговорился, ибо во мне ожило
противное впечатление от тогдашних споров. Оно
отравило мне радость от успеха моей вещи. Но в
то же время, поскольку речь без конца шла о
разбойниках, привидениях и шумовых эффектах, я
решил, что для следующей своей драмы, если
дело когда-либо дойдет до следующей, выберу
самый простой сюжет, дабы показать себе и миру,
106
Автобиография
что я способен добиться воздействия на публику
одной лишь силой поэзии.
Такого сюжета я не нашел, возможно, лишь
потому, что не искал. Душа моя была ожесточена.
Я понял, что явился последним поэтом в
прозаическую эпоху. Шиллер был мертв; пытаясь попасть
на панихиду по нему в театре "Кертнертор"80, я
сам чуть было не погиб, когда толпа едва не
раздавила меня, прижав к полуоткрытой двери; Гёте
обратился к науке и в своем величавом квиетизме81
поощрял только все умеренное и пассивное, в то
время как во мне пылали зажигательные факелы
фантазии. Так весна и лето прошли у меня в
мечтательном бездействии. Где-то в начале осени
отправился я на прогулку в Пратер82, по берегу
Дуная. Дойдя до первых деревьев, встречаю я и
ныне здравствующего доктора Иоэля; он меня
останавливает и говорит, что капельмейстер Вейгль
страстно желает получить оперное либретто. Моя-
де поэзия в соединении с музыкой Вейгля — и так
далее. Он сам нашел превосходный сюжет для
оперы. Хотя у меня не было ни малейшей охоты
писать оперные тексты, я все же спросил, что это
за сюжет. Он назвал имя Сапфо83. Я тотчас
ответил, что это, во всяком случае, может служить
темой и для трагедии. Он возразил, что для этого
все же маловато данных. На этом мы расстались:
он направился в город, а я в сторону Пратера.
Имя Сапфо поразило меня. Это был именно
тот простой сюжет, какой я искал. Я заходил все
Автобиография
107
дальше и дальше в Пратер, и когда поздно
вечером вернулся домой, то план "Сапфо" был у меня
готов. Я только еще на другой день попросил в
Придворной библиотеке дать мне сохранившиеся
фрагменты ее стихотворений, нашел первое из
полностью уцелевших — "К богине любви", как
нельзя более пригодное для моей цели, не сходя с
места его перевел и прямо на следующее утро сел
за работу.
К тому времени мы сняли две комнаты в Шот-
тенгофе, у тоже овдовевшей, однако несравненно
лучше обеспеченной сестры моей матушки. Нас
не смутило, что комнаты эти расположены на
втором этаже прямо над пекарней жившего внизу
булочника, поскольку сын моей тетушки много
лет спал в этой комнате, ныне предназначенной
для меня. Вскоре, однако, обнаружилась
существенная разница в наших родственных нервных
системах. Дело в том, что я не мог сомкнуть глаз
из-за духоты и тихого шебуршения по ночам
пекарских подмастерьев. Тогда другая моя тетушка,
жившая тоже в Шоттенгофе, чудесная, ныне уже
престарелая женщина, предложила мне ночевать
в одной из комнат ее квартиры, какой она
пользовалась только днем. Я с удовольствием
согласился и с тех пор каждый вечер, в потемках,
когда все в доме уже спали, шествовал в свою
вспомогательную спальню, где тихонько ложился
в кровать, чтобы на следующее утро как можно
раньше встать и продолжать писать скверными
108
Автобиография
чернилами на грубой концептной бумаге84 свою
пьесу. Хотя сюжет мне нравился, я задавал себе
ежедневный урок, который исполнял
неукоснительно, тем более что наши ставшие
неотложными домашние дела требовали срочной подмоги.
"Сапфо" тоже была закончена за три недели.
Мой друг и прежний советчик Шрейфогель
все это время разъезжал по Германии, где искал
подходящих актеров для Придворного Бургтеат-
ра. Когда по его возвращении я вручил ему
готовую пьесу, он поначалу не был в особом восторге,
но постепенно все больше загорался, при том что
об изменениях и поправках не было и речи, да я
бы их и не допустил. В один прекрасный день он
мне сказал:"Вы нашли себе большого
покровителя вашей пьесы". Имелся в виду актер Моро,
который заведовал также труппой статистов, ему-
то и была передана рукопись пьесы для подбора и
подготовки необходимого числа "рабов" и
"рабынь". Он высказался в том духе, что моя пьеса
нравится ему больше, чем "Вина", что было в то
время немалой похвалой и чего Шрейфогель
пока, кажется, не думал.
Но вот дело дошло до распределения ролей.
Мадам Шредер, к амплуа которой относилась
Сапфо, вследствие своей непрестанной войны с
дирекцией театра пребывала за границей и
грозилась, что не вернется. Поэтому в театре волей-
неволей подумывали о мадам Лёве — это была
превосходная артистка на другие амплуа, но до
Автобиография
109
этой роли она не дотягивала. Фаона играл Корн.
Роль Мелитты я, ко всеобщему удивлению,
предназначил супруге последнего, которая была в
высшей степени мила в ролях так называемых
инженю85, но еще никогда не играла в стихотворных
пьесах, тем паче в трагедиях. В конце концов
воротилась мадам Шредер и взяла себе главную
роль, где она пылала неподдельной страстью и
заражала всех своим воодушевлением.
Начались репетиции. Дело с этими
предварительными упражнениями в Придворном Бургтеа-
тре в то время обстояло очень плохо. Особенно
это касалось пьес, где было всего три-четыре
роли, да и те доставались самым признанным
актерам, — в этих случаях первые две репетиции
проходили в обсуждении того, кому входить слева, а
кому — справа, кому где стоять и насколько
приближаться или отдаляться друг от друга. Роли
лишь невнятно проборматывались, тем более что
актеры к тому моменту еще не успевали их
выучить. Однако на третьей и последней репетиции
им приходилось выкладываться уже более
основательно. И тут мадам Корн в роли Мелитты
начала вытворять такие чудеса, была так манерна и
фальшива, что меня оторопь взяла. Я сидел в
одиночестве на особом месте в неосвещенном
партере и думал, что эта маленькая женщина
способна одна загубить всю мою пьесу. И вот, во
время четвертого и пятого актов, когда
требовалось несколько больше времени для подготовки
110
Автобиография
падения в море с левкадийской скалы, рядом со
мною вдруг что-то зашелестело. Подле меня села
какая-то женщина; она начинает говорить — это
мадам Корн. "Скажите мне, пожалуйства, —
молвила она, — вы представляли себе Мелитту именно
такой?" Я ответил: "Откровенно говоря, нет!" —
"Но как же иначе можно ее играть?" —
продолжает она. "Я полагал, вы будете играть ее так же, как
играете другие ваши роли". — "Но мой муж и
госпожа Шредер говорят, что в греческой трагедии
все должно быть возвышенно". — "В этом ваш
супруг и госпожа Шредер, конечно, правы, однако
стих, обстановка", — я мог бы еще прибавить: "ваш
несравненный талант", — привнесут необходимые
высокие ноты без каких-либо особых усилий с
вашей стороны". — "Но, — продолжает она, —
завтра уже премьера, как же я успею переучить всю
роль?" Этого я и впрямь не знал, но сказал, что
она должна хотя бы постараться говорить как
можно более естественным тоном. С этим она от меня
ушла, за ночь отбросила всю навязанную ей
трактовку роли и во время спектакля была так
несказанно обаятельна, что стала королевой вечера.
Пьеса произвела невероятную сенсацию. Сам
я, храня верность данному себе зароку,
находился не среди зрителей, а на сцене. Зато мою
матушку, у которой была ложа во втором ярусе,
кое-кто узнал, ее окружила публика, желавшая
поздравить ее с успехом сына, так что добрая
женщина вернулась домой, плача от радости.
Автобиография
111
С критикой я на сей раз вполне поладил. В то
время в немецкой поэзии еще господствовали
взгляды Лессинга, Шиллера, Гёте, и никому не
приходило в голову сомневаться в том, что
задачей драмы являются человеческие судьбы и
страсти. Все старинное, географическое,
историческое, статистическое, умозрительное, весь
идейный хлам, который писатель находит
готовым и привносит в свои произведения извне, по
этой причине невольно становился декорацией и
подчинялся человеческому началу. Разве что
некоторые полагали, будто пьеса не вполне
греческая, с чем я был вполне согласен, ибо писал не
для греков, а для немцев. Так же обстояло дело
и с другим упреком: я-де изобразил в Сапфо
более женщину, нежели поэтессу. Суть здесь в
том, что я всегда был противником драм о
художниках. Художники привыкли использовать
страсти как сюжет. Из-за этого истинная
любовь для них скорее вопрос воображения, чем
глубокого чувства. А я хотел сделать Сапфо
жертвой истинной страсти, а не заблудшей
фантазии. Из всех моих критиков один только
Мюльнер был обозлен и несправедлив. Ныне
принято пренебрежительно отзываться об
авторе "Вины" и "Короля Ингурда". Тем не менее
сейчас нет ни одного писателя, которого можно
было бы уподобить Мюльнеру в том, что тот
делал хорошо, к тому же он был последним
сведущим критиком в Германии.
112
Автобиография
Шрейфогель состоял в переписке с Мюльне-
ром, он послал ему рукопись "Сапфо".
И вот я получаю письмо от Мюльнера, где он
всячески восхваляет эту пьесу, но только
советует мне опустить первый акт. Я написал ему, и в
тоне, каковой подобает младшему по отношению
к старшему, изложил, почему первый акт мне
кажется необходимым. Это письмо так его разозлило,
что он поместил в своей газете "Миттер-
нахтсблат"86 критическую статью, не оставившую
от пьесы камня на камне. Чтобы оспорить мнение
этого человека его же словами, мне понадобилось
всего только опубликовать его хвалебное письмо ко
мне. Сделал я это не с перепугу — я ведь вообще
никогда не отвечал на критику, — а из презрения.
Доход от этой моей пьесы был опять весьма
незначительным. Театры в Германии платили
тогда прямо-таки нищенский гонорар, я даже
помню, как один королевский театр заплатил мне за
"Сапфо", которую во всей Германии принимали с
энтузиазмом и показывали несчетное число раз,
три — повторяю, три дуката87, от коих я не
отказался лишь потому, что таким образом
возмещалась претензия одного тамошнего поэта к
венскому Придворному театру. Напечатать пьесу
предлагало мне большинство немецких издательств,
но я отдал ее за весьма умеренный гонорар тому
книготорговцу, который напечатал "Праматерь",
отдал, главным образом, из патриотических
чувств: меня злило, что австрийскому писателю
Автобиография
ИЗ
непременно требовалась протекция извне, хотя
бы из Германии. Я был не прав, так как эта
недружелюбная венская фирма весьма мешала
распространению моих вещей в Германии.
Со временем, однако, наше материальное
положение улучшилось благодаря заботе властей.
Граф Штадион, тогдашний министр финансов,
которому были подчинены венские придворные
театры, велел Бургтеатру заключить со мной на
неопределенное время контракт, по которому
мне, до тех пор пока меня будут продвигать на
государственной службе, как драматургу
обеспечивается жалование в сумме 2000 фл. ассигнациями
в год. Сам князь Меттерних88 пригласил меня к
себе и принял наилюбезнейшим образом, причем
третьим на этой встрече присутствовал
надворный советник Гентц89. Князь похвалил меня и мою
пьесу, расспросил о моих планах и желаниях и
выразил готовность любое из них поддержать и
ему споспешествовать, насколько хватит его
влияния, как он в высшей степени скромно
выразился. Я рассказал ему о том, что уже сделал для
меня граф Штадион90, и сообщил, что я весьма
доволен. В то время вообще во всех слоях
общества царило наиблагоприятнейшее отношение ко
мне. Не напиши я никогда ничего другого,
нежели историю о том, получил ли Ханс свою Грету
или не получил, я был бы кумиром властей.
Однако стоило мне выйти за рамки подобных историй,
как начиналось преследование со всех сторон.
114
Автобиография
Граф Штадион, один из превосходнейших
людей своего времени и мой единственный
покровитель и защитник при всех обстоятельствах, тем не
менее, сам того не ведая и не желая, заложил
основу для всех дальнейших неурядиц. В то время я
служил в таможенном бюро Придворного
финансового управления. Представить себе меня среди
таможенников графу, как он выразился, было
невыносимо. Несмотря на мои протесты, он
настоял на том, чтобы перевести меня в департамент,
которому помимо других кассовых объектов
подчинялись придворные театры, при этом я должен
был ведать исключительно театральными делами.
Там у меня оказался новый начальник, не только
чуждый всякого представления об искусстве, но
решительно ничего не смысливший и в
технической стороне дела; к тому же он отличался таким
хитрым и подлым характером, что, когда
однажды обнаружилась несовместимость наших
взглядов, воспылал ко мне настоящей ненавистью и
ловил каждый случай мне навредить, что ему
даже очень хорошо удавалось.
Первым делом он попытался рассорить меня
со Шрейфогелем, которого считал энтузиастом
искусства, то есть, по его мнению,
полусумасшедшим. Когда же мы оба разобрались в его лжи и
выдуманных им якобы наших высказываниях
друг о друге, какие он нам передавал, то он
причислил меня к тому же роду людей, что и Шрей-
фогеля, и стал делать прямо противоположное
Автобиография
115
тому, что я ему советовал. Поскольку с тех пор я
по возможности уклонялся от участия в чем бы то
ни было и потому был не слишком занят, то
приобрел репутацию небрежного чиновника, между
тем как мой бывший начальник из таможенного
департамента был в отчаянии от того, что потерял
одного из своих самых дельных работников.
Тем временем я сочинил план новой пьесы, той
самой, что через много лет появилась на сцене
под названием "Сон есть жизнь"91. Сюжет я
заимствовал из одного маленького романа
Вольтера, что отнюдь не собирался скрывать, и
сохранил даже имена действующих лиц. Тем не менее
ни один из критиков этого не заметил: ведь
Вольтера больше не читают, а довольствуются тем, что
осуждают его, толком не зная. Эту пьесу,
поскольку была она фантастической, должны были
играть в театре "Ан дер Вин", а Эртёру —
артисту, так успешно игравшему Яромира в
"Праматери", предстояло исполнять роль Рустана. Негр
Цанга предназначался Кюстнеру, талантливому,
но несколько резкому исполнителю, в манере
театров предместья. Из-за него-то весь план и
сорвался. Поскольку он был чересчур доволен своей
мимикой, которая, по правде говоря, граничила с
кривляньем, то без конца приставал ко мне,
чтобы я не делал Цангу черным, ибо черная краска
лишает его игру главного ее козыря. Я же
представлял себе Цангу только черным, каким он и
предстает в рассказе. Из-за этого я потерял охо-
116
Автобиография
ту продолжать и дальше первого акта не
двинулся. Тут случилось нечто необычайное: Кюстнер
принес для своего предстоящего вскорости
бенефиса пьесу, в основе которой тоже лежал
сбывшийся сон. Не знаю, была ли то случайность или
же Кюстнер, который вообще чрезмерной
честностью не отличался, смутно помня содержание
моей пьесы, заказал похожую другому автору.
Большого впечатления она не произвела, однако
у меня все-таки отбила охоту продолжать
трудиться над собственной пьесой, поскольку вещь
утратила новизну.
Множество непривычных для меня волнений,
и в то же время все более укреплявшееся во мне
убеждение, что мои чисто художественные
взгляды прямо противоречат все шире
распространявшейся в Германии идеологии, так что на
незамутненное воздействие моих произведений
рассчитывать не приходится, существенно подорвали
мое от природы слабое здоровье. Наше
улучшившееся материальное положение делало теперь
возможным для нас пребывание за городом,
рекомендованное врачами. Мы выбрали Баден под
Веной, тем более что матушке были прописаны
тамошние ванны. В Бадене мне суждено было,
опять-таки по случайности, найти сюжет для
моего третьего драматического произведения. Мы
приехали в Баден прежде, чем прибыл наш
багаж. В комнате, которая предназначалась для
меня, вообще жил сын хозяйки, студент. Поскольку
Автобиография 117
мои книги еще не привезли, я взялся за
оставленный им на столе том в переплете из свиной кожи.
Это был мифологический словарь Гедериха92.
Перелистывая его, я наткнулся на статью "Медея".
Разумеется, я очень хорошо знал историю
пресловутой колдуньи, но никогда не встречал
рассказа о ее жизни, изложенного с такими
подробностями. С той же внезапностью, что и прежние,
отчеканился у меня в сознании и этот
грандиозный сюжет, в сущности, самый значительный из
всех, за какие когда-либо брался писатель.
Золотое руно как чувственный символ неправедного
богатства, что-то вроде клада нибелунгов93, —
хотя о кладе нибелунгов в то время никто и не
вспоминал, — было для меня весьма
притягательным. С оглядкой на этот символ, а также потому,
что меня больше всего интересовал характер
Медеи и то, каким образом подводится она к
ужасной с точки зрения нового времени катастрофе,
события следовало разделить на три части. Итак,
трилогия, хотя прологи и эпилоги мне всегда
претили. И все же меня неудержимо влекло к
разработке этой темы, и я уступил своему влечению.
И оказался вдвойне не прав. Во-первых,
трилогия, или вообще дробление драматического
сюжета на несколько частей, — форма сама по себе
плохая. Драма — это настоящее; она должна
содержать в себе все, что относится к действию.
Взаимосвязь какой-то части с другой придает
целому нечто эпическое, благодаря чему оно, воз-
118
Автобиография
можно, приобретает величие, но теряет
реальность и четкость. Трилогия Эсхила94 — это
последовательность драматически независимых одна
от другой пьес. В "Хоэфорах" появляются
совершенно новые действующие лица, а из
"Агамемнона" заимствуется только и без того уже всем
известное мужеубийство, подобно тому как
Софокл и Еврипид написали своих "Электр"95 без
пролога. "Эвмениды" — афинская
патриотическая пьеса, прославление ареопага и
национальной богини Афины; так что судьба Ореста как бы
отходит на задний план. Сквозная нить здесь
связывает, но не обуславливает. По-другому
обстоит дело в "Валленштейне". "Лагерь Валлен-
штейна" совершенно излишен, а "Пикколомини"
что-то значат лишь потому, что за ними следует
"Смерть Валленштейна". Форма порочная,
несмотря на совершенство нашего немецкого
шедевра. Помимо этих раздумий о форме, меня
должна была бы остановить оглядка на характер
моего поэтического дарования. Дело в том, что во
мне живут два совершенно разных существа. Поэт
с захватывающей, головокружительной
фантазией — и рассудительный человек, причем
предельно холодный и упорный. Уже не приходилось
надеяться, что, принимая во внимание мое шаткое
здоровье, я смогу такое длительное время, какое
предполагала эта разработка, продержаться на
исходной точке зрения, а стоило мне только
углубиться в рассуждения, как все шло прахом. При-
Автобиография
119
том тогда еще не начались те злосчастные
парализующие события, которые впоследствии
произошли, — так что я сдался, и если не сразу
приступил к работе, то лишь по состоянию здоровья,
ухудшавшегося день ото дня. Желудок и
кишечник отказывались служить; горячая голова и
холодные ноги указывали на спазмы сосудов и
такое расстройство нервов, против которого мой
врач уже никакого средства не знал. Тут в один
прекрасный день ко мне пришел тогдашний
прелат Лилиенфельда, позднее — архиепископ
Эрлау, Ладислаус Пиркер. Увидев, в каком я
состоянии, он предложил мне поехать с ним в Гаш-
тайн, куда он собирался отбыть на лечение
водами. Я спросил совета у врача, он эту идею
одобрил, и два часа спустя я уже сидел с Пиркером в
карете и мы катили в Гаштайн. Эти купанья
тогда, вероятно, спасли мне жизнь. Я воротился
домой окрепший и вполне работоспособный.
Пора было приниматься за "Золотое руно".
Я еще никогда и ни над чем не работал с таким
удовольствием. Возможно, меня привлекало
именно то, что это была длительная и трудная
работа. Первые две части надо было сделать как
можно более варварскими и романтичными
именно для того, чтобы подчеркнуть разницу между
Колхидой и Грецией, — в этой разнице и было все
дело. Я успешно держался на высоте, какую себе
задал, и уже дошел до середины второй части, так
что надеялся вскорости ее закончить. Однако
120
Автобиография
свыше было решено иначе. Пока я был в Гаштай-
не, моя матушка все время хворала. Она достигла
уже сорок восьмого года жизни и находилась в
той опаснейшей точке, в какой натура женщины
претерпевает большой перелом. Несмотря на
помощь весьма искусного врача, ее состояние день
ото дня ухудшалось; в конце концов она не могла
уже встать с кровати и даже периодически
впадала в настоящее умопомешательство. Будучи
однажды в таком состоянии перед самым
праздником Пасхи, она пожелала встать и пойти к
причастию, хотя вообще была не очень религиозна.
Когда я спросил об этом врача, он заявил, что о
самостоятельном посещении церкви для нее не
может быть и речи и что даже обряд причастия на
дому из-за сопряженного с ним волнения
кажется ему сомнительным, тем более что матушке
ведь не грозила опасность близкой смерти. Она
может, полагал врач, терзая себя и других,
прожить в своем нынешнем состоянии еще много лет.
Чтобы ее успокоить, я обещал ей на другой день
пригласить к нам священника со Святыми
дарами, при этом я надеялся, что до тех пор к ней
вернется рассудок. С этой надеждой я лег спать.
Ночью, ближе к утру, меня разбудил стук в дверь.
Это была служанка, нанятая помимо кухарки
специально для ухода за больной. Она заклинала
меня, Бога ради, последовать за ней, поскольку
госпожа ни за что не желает лечь обратно в
постель. Я поспешил в комнату матушки и увидел,
Автобиография
121
что она, полуодетая, стоит у стены в изголовье
своей кровати. Я стал умолять ее не подвергать
себя опасности простудиться и снова лечь в
постель, но не получил ответа. Я обнял ее, чтобы по
крайней мере не дать ей упасть от слабости, и тут,
при свете свечи, которую держала служанка,
увидел, что лицо ее неподвижно и безжизненно.
Я держал в объятиях мертвое тело моей матери.
Вероятно, среди ночи у нее опять возникла мысль
пойти в церковь к причастию. Когда она стала
одеваться, ее хватил удар, причем в этот миг она
спиной прислонялась к стене, а коленями
упиралась в стоявшую перед нею тумбочку, так что и
мертвая оставалась в вертикальном положении.
Можно представить себе, какой ужас овладел
мною в ту минуту. Но поскольку я надеялся, что
матушке еще можно помочь, то велел служанкам
уложить ее в постель, а сам, не мешкая, поспешил
за врачем, который, тоже не мешкая, поспешил за
мной. Когда мы пришли, оказалось, что глупые
бабы не осмелились прикоснуться к покойнице, и
она все еще стояла подле своей кровати. Мы
уложили ее туда, однако врач сразу объявил, что о
какой-либо помощи тут уже и речи быть не
может. О том, что я чувствовал, может судить лишь
тот, кто наблюдал, я бы сказал, идиллию наших с
ней отношений. С тех пор как ее собственные
средства иссякли и я один обеспечивал
потребности семьи, в моем лице соединились для нее сын
и муж. У нее не было никаких желаний помимо
122
Автобиография
моих, мне тоже не приходило в голову желать
чего-либо, чего бы не желала она. Все внешние
дела я слепо предоставил ей, зато она, со своей
стороны, равным образом воздерживалась от
всякого вмешательства в мои мысли, чувства, труды и
убеждения. Подобно своим современницам и
сверстницам, она не отличалась так называемой
образованностью — обучение представительниц
женского пола тогда особо не практиковалось,
однако артистичность ее музыкальной натуры
наделила ее чутьем ко всему художественному, и
она могла вникнуть во все, даже если чего-то не
понимала. По нашей совместной жизни я мог
заключить, что узы супружества моей натуре
отнюдь не противоречили, хоть такие узы и не
завязались. Во мне есть некая склонность к
примирению, некая уступчивость, благодаря которой
я чересчур охотно поддаюсь руководству других
людей, однако постоянных помех и
вмешательства в мою внутреннюю жизнь я не терплю, не
могу их выносить, если бы даже захотел. Мне
пришлось бы в браке научиться быть одному, буде я
забыл бы, что моя жена — это нечто другое, но
свою долю во взаимный отказ от раздражающих
моментов я внес бы с великой охотой. Однако
быть поистине вдвоем не давала мне одинокая
сущность моей натуры. Однажды мне было
показалось, будто такое может вот-вот состояться,
но оно разрушилось — видит Бог, не по моей
вине.
Автобиография
123
Ужасные, по крайней мере для меня,
обстоятельства смерти моей матушки очень тяжело
отразились на моем здоровье. Врачи
рекомендовали мне немедленно уехать из Вены. Ранняя
весна — дело было в марте — жить за городом еще
не позволяла, значит — путешествие, но куда?
Меня всегда манила к себе Италия, однако
поездка чиновника за границу была в то время
сопряжена со множеством хлопот. Надо было
подать прошение императору или его наместнику, и
только после того, как будет получено
высочайшее соизволение, изготавливался необходимый
паспорт. Дорожные возможности были в то
время тоже не так хорошо организованы, как теперь,
ехать на курьерских не позволяли мне мои
денежные средства, даже и дилижансов тогда еще не
было, а все прочие средства передвижения
действовали на здоровье человека скорее
разрушительно, нежели целительно. Тут является вдруг
ко мне мой кузен и приятель Паумгартен и
говорит: некий граф Дейм желает в собственной
карете, но на курьерских лошадях ехать в Италию; он
ищет спутника, который взял бы на себя
половину расходов.
Дело в том, что именно тогда, в 1819 году,
австрийский император с супругой и значительной
свитой отправился в Рим и в Неаполь, и в первый
из этих городов уже прибыл. Граф Дейм был
императорский камерарий, он считал своим долгом
позаботиться о столе своего повелителя на чуж-
124
Автобиография
бине и вообще предложить свои услуги. Мне
описали этого человека как чудаковатого, но
добродушного: таким он и был. Ввиду отсутствия у
меня соизволения императора на мою поездку,
министр финансов граф Штадион предложил под
свою ответственность выдать мне разрешение на
выезд, с коим я должен исхлопотать себе у
Венской полиции пропуск, а форменный паспорт
будет выслан мне вдогонку. Начальник Венской
полиции выдал мне на основании разрешения графа
Штадиона пропуск для поездок внутри страны и
запечатанное письмо, по которому мне в главном
городе любой провинции должны были
изготовить паспорт для поездки за границу. Я решился
и отправился в путь вместе с графом Деймом.
В Граце я отдал запечатанное письмо в тамошнее
полицейское управление, где его вскрыли,
прочли, запечатали вновь и отдали мне, сказав, что в
Лайбахе96 я непременно получу паспорт. В Лай-
бахе — тот же маневр. В Триесте этим отнюдь не
удовлетворились — полиция была столь любезна,
что помогла нам нанять торговый люгер для
отправки в Венецию, где губернатор, как нам
сказали, имел полномочия выдать мне паспорт для
поездки за границу. Итак, мне все еще грозила
опасность, что с границы меня могут отправить
обратно.
Если средства передвижения на суше
оказывались тогда для спешившего путешественника
слишком неудобными, то с передвижением по морю
Автобиография
125
дело обстояло еще хуже. Как раз в том году из
Триеста пустили паровой катер, однако он ходил
в Венецию лишь один-два раза в неделю и
отплыл как раз в день нашего приезда. Поэтому
нам пришлось согласиться с тем, чтобы нас
втиснули в маленький торговый люгер, насквозь
провонявший сыром и ворванью, так что тошнить
начинало еще на суше. На это судно нас
сопровождал какой-то полицейский чиновник, — уж не
знаю, зачем, — из любезности или для надзора.
Хотелось бы мне знать, что было написано в том
запечатанном письме из Венского полицейского
управления.
Наше плавание оказалось почти
невыносимым, частью из-за неудобства нашей посудины, а
частью — из-за сменявших друг друга штиля и
противного ветра. На то, чтобы доплыть от
Триеста до Венеции — расстояние, которое паровой
катер преодолевает за несколько часов, — нам
понадобилось два полных дня. К тому же меня
мучила начинавшаяся морская болезнь — недуг для
меня тем более невыносимый, что из-за
особенностей моего организма естественное облегчение
как целебное средство для меня невозможно.
В Венецию я прибыл едва живой, что, однако,
не помешало мне любоваться чудесным городом
со всем его волшебством — этой историей в
камне. Здесь позаботились также о последней части
моего путешествия: губернатор Венеции граф
Гёс, любезный, доброжелательный человек, изъ-
126
Автобиография
явил готовность выправить мне паспорт, что и
было сделано. Он неоднократно приглашал нас к
себе ужинать, даже предложил устроить мне
знакомство с лордом Байроном, который в то время
тоже находился в Венеции97. Граф хотел пригласить
его к себе через три дня, поскольку все другие
дни у него были заняты официальными зваными
обедами. "При любых других обстоятельствах, —
сказал он, — лорд Байрон это приглашение отверг
бы, но именно теперь он мне очень обязан, так
как в истории с похищением жены пекаря я
защитил его от ярости черни. Прийти он придет,
правда, говорить постарается как можно меньше, но
вы, по крайней мере, его увидите и — кто знает,
может быть, вам все-таки удастся его
разговорить". Лорда Байрона я некоторым образом уже
видел — в театре. Однако там он нарочно
садился у стенки ложи, чтобы оказаться в тени, так что
я своим слабым, хоть и вооруженным глазом
совершенно не мог его разглядеть, заметил только,
что он более полный, чем я себе представлял.
Предложение графа Гёса привело меня в большое
замешательство. С одной стороны, я все бы отдал
за то, чтобы побыть в обществе лорда Байрона; с
другой стороны, приближалась Страстная
неделя, и церковные празднества в Риме наверстать
было бы невозможно. К тому же и мой попутчик
не изъявлял особого желания пропустить ради
лорда Байрона пасхальные церемонии; так что
пришлось мне поставить крест на интересном
Автобиография
127
знакомстве, и мы в тот же вечер уехали. Я еще
помню дивное впечатление, когда, подъезжая к
Ровиго, мы наблюдали восход солнца и, меж тем
как на дорогах Каринтии и Крайны98 мы
сражались со снегом и льдом, а в Венеции не видели
ничего, кроме вечных камней и стен, нам
внезапно предстала весна с листьями и цветами. Эта
весна, правда, не помешала тому, что, когда
ночью мы переезжали через Апеннины, нам
пришлось выдержать такой холод, какого я больше
никогда в жизни не испытывал. Этот холод
вызвал даже первое и единственное состояние
беспамятства в моей жизни. Ехали мы день и ночь,
невзирая на предостережения, что на дорогах
шалят разбойники, и на строптивость кучеров.
Однако в Радикофани оказалось, что ехать
дальше никак невозможно, и мы решили там
заночевать. Услыхав вопрос трактирщика, какого бы
нам хотелось вина, мы предоставили выбор ему, и
он принес нам вино двух сортов: монтефьясконе и
лакрима-кристи в хорошо известных итальянских
оплетенных бутылках, — в этом случае за
выпивку платят в зависимости от опорожнения "фья-
ски". Мы отведали и того, и другого сорта, нашли
оба превосходными и пили подле горящего
камина до глубокой ночи, причем я не почувствовал ни
малейшей тяжести в голове. Когда же я следом за
камерарием направился к себе в комнату и вошел
в холодный коридор, то на миг потерял сознание,
хоть и продолжал механически шагать позади него,
128
Автобиография
он же, по-видимому, не заметил моего состояния.
Проснувшись на другое утро, я обнаружил, что
лежу на кровати одетый, свеча в подсвечнике
полностью выгорела, однако голова у меня не
болит, и я вполне готов ехать. В Рим мы прибыли в
четверг на Страстной неделе, так что торжества,
приходившиеся на среду, мы пропустили. Эти
торжества известны каждому по тысячекратным
описаниям. Чудесное "Мизерере" Аллегри",
исполняемое дивными голосами, при том, что по
законам театрального искусства следует дождаться
момента, когда Сикстинская капелла с
шедеврами Микеланджело100 начнет погружаться во тьму
и звуки, словно с неба, будут нисходить с
единственно освещенных хоров; омовение ног во время
папской мессы с благословением понтифика;
стремление в свободные промежутки времени для
начала хотя бы взглянуть на картины и древние
скульптуры, — все это в соединении с тяготами
поспешных сборов в дорогу и потрясшими меня
более ранними событиями оказало на меня такое
действие, которое, пожалуй, могло бы привести к
апоплексическому удару. В античных залах
Ватикана на меня напала дурнота, так что мне
пришлось принять предложение одного чиновника
Венской Государственной канцелярии отвезти
меня в его экипаже (разумеется, папском) домой.
Несмотря на это, я не мог умерить свой пыл.
С утра до вечера я находился в картинных
галереях или на экскурсиях по древним местам, причем
Автобиография
129
последние я совершал пешком, поскольку мое
прирожденное отвращение к езде подкреплялось
тем обстоятельством, что средства передвижения
были нарасхват у бесчисленных приезжих,
привлеченных в Рим присутствием австрийского
двора. Так что я без устали ходил в это время
года, уже ставшее жарким, и всегда один, потому
что с попутчиком своим уже почти поссорился.
Он требовал, чтобы экскурсии у нас были общие,
но при этом имел в виду цели
сельскохозяйственные и ремесленные, что не совпадало с моей
эстетической ненасытностью. Однако от того, чтобы
сблизиться с немецкими художниками, меня
удерживало отвращение к царившему тогда среди
них вычурному стилю, соответственно которому
они разгуливали в средневековых немецких
одеяниях, да и в своих произведениях
придерживались безвкусной нюрнбергщины, хотя и не все,
как выяснилось впоследствии, — лучшие из них
позднее сумели достохвальным образом
перестроиться. Главным пунктом программы был
поход в страшнейшую дневную жару к гробнице
Цецилии Метеллы101. У меня сделался понос.
Желая побороть его привычными мне по
Германии средствами, я выпил бутылку бордо и только
усугубил болезнь. Я жил на улице Фратина, у
крупнейшего римского жулика, адвоката,
который однажды вздумал даже продать карету
моего беспечного попутчика, да и, в сущности, уже ее
продал, — сделка сорвалась лишь потому, что он
5. Ф. Грильпарцер
130
Автобиография
хотел обмануть также и покупателя, и перед тем,
как передать ему карету, повысил условленную
цену; обман вышел наружу, и тогда я, пригрозив
ему, что доведу это дело до сведения князя Мет-
терниха, продажу сорвал. Полной
противоположностью хозяину дома были его жена и дочь
Дудурина (имя, которое я безуспешно пытался
возвести к какой-либо обозначенной в календаре
святой). Целыми днями сидели они со мною
рядом и развлекали меня разговорами, главною
темой коих, правда, было то, как много немцев уже
умерло в Риме от поноса и римской лихорадки.
Эта лихорадка не заставила себя ждать и в моем
случае. Тогда они наконец навязали мне своего
домашнего врача, некоего дона Буччолотто,
карикатуру из тех, какие встречаются у Гольдони102:
в парике и в официальном мундире с манжетами
до локтей, явно того самого, чьими услугами, как
я выяснил позднее, пользовался также Коцебу103
в дни своего пребывания в Риме. Этот врач
прописал мне микстуру в довольно большой бутылке.
Когда я его спросил, сколько ложек должен я
принимать каждый раз, он с важным
выражением лица мне ответил: "il tutto"*. Итак, я стал доб-
росовестнейшим образом принимать это питье,
но болезнь не проходила, и я начал уже
понемногу свыкаться с мыслью, что мне из Рима не
выбраться. Тут мне пришло в голову, что как и пре-
* "всё" (um.).
Автобиография
131
бывающий ныне в Риме австрийский император,
так и князь Меттерних непременно держат при
себе немецких врачей, которые смогут лучше
понять мою северную натуру, нежели этот шарлатан
Дулькамара104. Про императора мне было
известно, что его сопровождал лейб-медик,
государственный советник Штифт, который, при всех
прочих его достоинствах, как практикующий врач
особым доверием не пользовался. Значит, надо
было выведать имя врача, который сопровождал
князя Меттерниха. Случайно я узнал, что по
соседству со мной живет Фридрих Шлегель105,
которого князь взял с собой в неоправдавшейся
надежде, что тот опубликует какое-нибудь
литературное произведение об этом путешествии. В Вене
я с ним никогда не встречался, даже избегал
этого знакомства, так как вся его манера мне
претила. Теперь я обратил нужду в добродетель и
зашел к нему, что он вполне мог воспринять как
дань его славе. Дело было к вечеру, и я застал его
с женой в обществе итальянского священника,
который читал им вслух что-то из молитвенника
или какой-то другой душеспасительной книги,
причем жена слушала, молитвенно сложив
руки106, а муж с благоговением во взоре, время от
времени "подкрепляя" животную часть своего
существа ветчиной со стоявшего перед ним блюда и
вином из большой оплетенной бутыли. Мое
светское общество вскоре вынудило духовное лицо
уйти. Из последовавшего затем разговора мне
5*
132
Автобиография
легко было выяснить, что в свите князя Меттер-
ниха находится знаменитый глазной врач, по
праву высоко ценимый также в других областях
медицины доктор Фридрих Егер. На другой день я
пошел к нему. Он принял меня со своей обычной
любезностью и одним-единственным лекарством
смягчил, а за короткое время и вовсе устранил
недуг, против которого оказалось бессильным
искусство его римского коллеги. Я был на пути к
выздоровлению, когда меня посетил посланец
графа Вурмбранда, обергофмейстера
императрицы, и пригласил нанести визит его господину.
Я пошел к нему, встретил в его лице
добродушнейшего и сердечнейшего человека, а вскоре
открылась и причина приглашения. Мой кузен
Фердинанд Паумгартен, который остался в Вене и
наряду со службой в кабинете императора исполнял
также обязанности секретаря императрицы, тем
временем взял мой заграничный паспорт,
изготовленный нашими властями, а поскольку моего
адреса в Риме он не знал, то и отослал сей документ
своему начальнику, обергофмейстеру
императрицы, с просьбой разыскать меня в Риме и вручить
мне паспорт. Это и было сделано, и мы еще
немного побеседовали о том, о сем. Граф заметил, что я
плохо выгляжу, узнал причину и сказал, что я
должен как можно скорее уехать из Рима, особенно
потому, что уже дает себя знать aria cattiva*. Я был
* болезнетворный воздух (um.).
Автобиография
133
того же мнения, однако пришлось мне
задержаться, так как в связи с предстоявшим
вскорости отъездом австрийского двора в Неаполь всех
почтовых лошадей держали наготове для этой
цели, а все имевшиеся vetturini* уже укатили,
поскольку иностранцы, которых привлекло в Рим
присутствие там австрийского двора, не хотели
пропустить торжественную встречу его в
Неаполе. Когда я все это объяснил графу, он сказал:
"Могу вам кое-что предложить. Я еду в свите
императора, один в карете, запряженной
четверкой, и скучаю. Ежели вы пожелаете прокатиться
до Неаполя со мною рядом, то доставите мне
удовольствие. Ответственность за это перед двором
я беру на себя". Предложение было заманчивым,
граф мне очень нравился, и я с благодарностью
согласился. Таким образом, на другой день я
отбыл из Рима в роскошном экипаже и прикатил в
Неаполь под звон колоколов и грохот пушек. По
приезде туда я проводил графа на его квартиру в
Королевской гостинице, где для него властями
Неаполя была приготовлена за счет двора
анфилада роскошных комнат. Когда я собирался с ним
попрощаться, он спросил: "Что вы теперь
намерены делать?" "Искать квартиру", —
естественно ответил я. "Сейчас, на ночь глядя? — опять
спросил он. — А не думаете ли вы, что
иностранцы, которые в Риме оставили вас без лошадей,
* извозчики (um.).
134
Автобиография
могут в Неаполе учинить то же самое с
квартирами? Переночуйте-ка у меня, а завтра у вас будет
целый день на то, чтобы спокойно подыскать
себе квартиру". Возразить против этого было
опять-таки нечего, и я остался. На другой день,
когда мы вместе завтракали, последовало новое
предложение. "Видите вы эту анфиладу
приготовленных для меня комнат, которыми я даже не
могу воспользоваться, поскольку моя служба
целый день удерживает меня при дворе? Так
займите одну из них, и если вы полагаете, что это
любезность с моей стороны, то окажите мне
ответную и помогите привести в порядок счета
императрицы". Эти счета были наипростейшим
делом на свете. Оно заключалось лишь в том, что в
конце недели надо было подсчитать деньги,
которые граф выдавал императрице на милостыню и
на чаевые, — операция, занимавшая
каких-нибудь десять минут, однако немало затруднявшая
графа, ибо в счете он был не силен. Я далек от
мысли, что этот превосходный человек, столь
добрый ко мне, изначально таил в отношении меня
какое-то корыстное намерение, однако позднее
соображения такого рода оказались не
лишенными основания. Другой человек на моем месте, или
даже я сам, если бы я получше вдумался в это
дело, не согласился бы, однако мое природное
отвращение ко всем переговорам на квартирные
темы, вдобавок, известная мне по опыту грязь в
итальянских квартирах и жуликоватость хозяев
Автобиография
135
побудили меня принять это предложение, и все
же именно в нем, как выяснится позднее, и
заключался источник всех неприятностей, что с тех
пор так тцедро посыпались на меня.
Вообще мы с графом очень хорошо ладили,
вместе завтракали, а весь остальной день больше
не виделись, так что ничто не мешало моим
экскурсиям, какие я совершал отчасти один по
Неаполю и его галереям, отчасти по окрестностям
города в обществе нескольких соотечественников, с
которыми встретился еще в Риме и сговорился
вместе съездить на Сицилию. Впрочем, это
путешествие не состоялось потому, что как в Риме mal
aria*, так в Неаполе жара и сирокко107 донимали
меня изрядно. Некий врач-датчанин, с которым я
посоветовался (итальянские врачи внушали мне
отвращение), заявил, что в это время года
утомительная поездка на Сицилию для меня прямо-
таки губительна. Поэтому я с тяжелым сердцем
проводил своих соотечественников в порт, а сам
остался в Неаполе.
Выше я говорил, что у графа Вурмбранда не
было по отношению ко мне никакого потаенного
намерения, но вынужден отчасти это
опровергнуть, правда, намерение у него было предельно
доброжелательное, и, по его мнению, шедшее мне
на пользу. Дело в том, что он все время старался
ввести меня в круг приближенных его повели-
* вредный воздух (um.).
136
Автобиография
тельницы, императрицы Австрии. Он часто
говорил мне: императрица завтра поедет туда или
сюда, поезжайте туда тоже, я знаю, что ей будет
приятно познакомиться с вами. Однако в мои
планы совершенно не входило устанавливать
какие-то отношения с двором. Императрица, одна
из превосходнейших и образованнейших женщин,
славилась также строгостью своих религиозных
убеждений, в то время как моя собственная
религиозность не очень-то придерживалась
церковных форм. Какое бы то ни было приближение к
августейшим персонам заставило бы меня в моих
будущих трудах все время озираться, не
погрешаю ли я против взглядов моих высоких
покровителей. В то же время в свите императора
распространилось мнение, будто бы я вот-вот стану
секретарем императрицы, будто бы я, возможно,
уже им стал. Однако это место только что занял,
умножив тем самым свой доход, мой близкий
родственник и тогдашний лучший друг. Значит, я
прежде всего должен был бы выпихнуть его, что
мне, естественно, даже не приходило в голову.
Поэтому на все подстрекательские намеки графа
Вурмбранда я неизменно отвечал одно и то же:
если императрица соизволит удостоить меня
беседы, ей достаточно лишь назначить мне день и
час, однако навязываться или пытаться
сподобиться такой чести через какую-то лазейку я не
намерен — это противоречит моим принципам.
Так что за все время этого путешествия я даже ни
Автобиография
137
разу не видел ее величества, хотя в
энциклопедических словарях меня и представляют как ее
бывшего секретаря. Встретиться с нею мне однажды
довелось, но и тогда я ее не видел. Это было так:
вместе с несколькими земляками и
предполагаемыми спутниками в путешествии на Сицилию я
совершил экскурсию на Везувий, который оказал
честь австрийскому двору, продемонстрировав
ему одно из своих значительных извержений108.
После веселого и роскошного обеда в Портичи, в
котором участвовали молодой князь Эстерхази и
граф Кароли109 со своими спутниками, а также
тогдашний капитан, а ныне фельдцейгмейстер
Вохер, через которого я познакомился с
остальными; итак, после обеда, в самом веселом
расположении духа, мы верхом на ослах пустились в
путь, чтобы с наступлением ночи достигнуть
вершины. Вьючное животное, доставшееся мне,
оказалось самым ленивым из всех, и лишь с трудом,
колотя его палкой, удавалось мне стронуть осла с
места, причем он сразу же пускался рысью,
опережая всех остальных. Невдалеке от жилища
отшельника нам повстречалась кавалькада из
нескольких всадниц под вуалью, в сопровождении
свиты. По ливреям слуг я определил, что это
ехала императрица Австрии, — в тот миг я старался
прежде всего остановить моего рвавшегося
вперед осла или хотя бы согнать его с середины
дороги, что удалось мне лишь настолько, что он
встал на обочине задом к дороге, так что ее вели-
138
Автобиография
честву пришлось проехать мимо наших спин, и я
мог только снять шляпу, но увидеть ее величество
мне не довелось. Князь Меттерних тоже оказал
мне честь, пригласив меня на обед. Я упоминаю
об этом только из-за одного возникшего тогда
примечательного обстоятельства. Князь был как
всегда любезен, однако после еды, за кофе, он
стал с воодушевлением читать наизусть только
что изданную и мне еще неизвестную
четвертую песнь "Чайльд Гарольда" лорда Байрона110.
Он прочел ее на английском языке с начала до
конца, причем ему в случаях каких-либо
затруднений суфлировала его ныне покойная дочь,
графиня Эстерхази. Кроме графини там
присутствовали только ее ныне тоже умерший супруг и
доктор Фридрих Егер — последний может
подтвердить истинность моего рассказа.
После того как сорвался мой план поехать на
Сицилию, я стал готовиться к отъезду из
Неаполя, и вот однажды вечером, когда я возвращался
в нашу квартиру в Королевской гостинице, я
увидел, что площадь перед гостиницей запружена
людьми. Я спросил, в чем дело, и узнал, что обер-
гофмейстер императрицы Австрии, провожавший
своих людей на английский флагманский корабль,
по ошибке принял проходивший сквозь
корабельные люки и покрашенный белой краской
воздушный шланг за мачту; подойдя к нему слишком
близко, он провалился в нижний трюм и только
благодаря шероховатой поверхности шланга, за-
Автобиография
139
державшей падение, не разбился вдребезги. С
тяжелыми увечьями был он доставлен к себе на
квартиру. Я поспешил подняться к нему, нашел
графа среди хлопотавших над ним итальянских
хирургов; он печально, но отнюдь не малодушно
протянул мне руку и как бывший военный
сообщил о случившемся, словно о сущей безделице.
Королевские хирурги были того же мнения:
переломов у пациента нет, и дней через восемь-десять
он сможет встать. На другое утро граф выдвинул
одно предложение. Австрийский двор через
несколько дней покинет Неаполь; граф не
представляет себе, как может он, больной, остаться в
чужой стране с двумя слугами, которые не знают ни
слова по-итальянски; не могу ли я решиться
отложить мой собственный отъезд и на какое-то
время остаться возле него, пока он не наберется сил,
чтобы ехать дальше; потом он доставит меня
туда, где будет находиться двор и откуда я смогу
уже передвигаться самостоятельно. Я привязался
к этому человеку, был обязан ему за его
расположение ко мне, речь шла всего лишь о
восьмидесяти днях, так что я согласился, но при одном
условии. Мой отпуск как чиновника придворного
финансового ведомства подходил к концу.
Хлопотать о продлении отпуска я не хотел, так как
был первым кандидатом на предстоявшее вскоре
повышение по службе. Поэтому я заявил, что
если его величество император соблаговолит
разрешить мне остаться и таким образом сам про-
140
Автобиография
длит мне отпуск, то я непременно задержусь.
Соответственно я получил бумагу от верховного ка-
мерария и квартирмейстера графа Врбна, из коей
следовало, что его величество весьма одобрительно
отнесся к моему предложению остаться с
больным графом Вурмбрандом; что касается
продления моего отпуска, то необходимая для сего
бумага будет среди прочих документов отправлена в
придворное финансовое ведомство. Но как
только это произошло, и двор уехал, положение
вещей изменилось. Сразу после несчастного случая
с графом из Милана был выписан штаб-лекарь.
Он приехал, отменил методу лечения
итальянских врачей, поскольку у больного на самом деле
все-таки имелся перелом, в чем штаб-лекарь, как
показал успех его лечения, оказался совершенно
прав. Пока врачи спорили, а австрийский
военный хирург неукоснительно соблюдал свою
систему, шло время, мне пришлось провести в
Неаполе вместо одной недели три-четыре, так как
граф ни за что не хотел меня отпускать, и все это
время я, не считая квартирной платы, жил
исключительно за свой счет. Дело в том, что, по мнению
графа, двор обязан был возместить мне расходы,
но едва я впоследствии, в Вене, об этом
заикнулся, как мне сказали, что я должен предъявить
счета трактирщиков, у которых я обедал и
ужинал, так что я с отвращением эту затею бросил.
Когда граф Вурмбранд наконец был в силах ехать
обратно, оказалось, что, подобно тому как рань-
Автобиография
141
ше у меня кончился отпуск, так теперь иссякли
деньги, и я был вынужден принять его
предложение отвезти меня обратно в Вену. Мы приехали в
Рим, где графу предоставили помещение в Кви-
ринале, а он, чтобы удержать меня подле себя,
как я узнал позднее, все-таки выдавал меня за
секретаря императрицы. Соответственно, я получил
превосходную квартиру из нескольких комнат,
папский экипаж, прислугу и в качестве
сопровождающего — аббата, который служил в военном
департаменте. Однажды случилось комическое
происшествие. Придя в свои комнаты, я снял
одежду и самым тщательным образом вымыл лицо
и руки. Тем временем приехал государственный
секретарь, кардинал Консальви, дабы выказать
свое уважение обергофмейстеру императрицы; он
узнал, что в его свите пребывает секретарь ее
величества, и пожелал выразить почтение также и
этому человеку. Вдруг двери моей комнаты
открываются, папские слуги распахивают их во всю
ширь, и ко мне входит кардинал Консальви.
Я спускаю засученные рукава рубашки и
бросаюсь к своему сюртуку, который положил на стул
у дверей. Кардинал Консальви замечает мое
движение, берет сюртук и подает его мне — честь,
какой, наверно, удостаивались немногие. Второй
раз подобная честь из-за ошибочно присвоенного
мне достоинства была оказана мне в день святых
Петра и Павла в соборе Святого Петра. На
время папской мессы графу предоставили отдельную
142
Автобиография
часовню. Но в тот день он почувствовал боли в
своей еще не вполне зажившей ноге и потому
попросил меня, чтобы я один воспользовался этой
часовней. Старый папа Пий Седьмой об
отсутствии графа не знал, принял меня за него, проходя
мимо часовни, остановился и особо, по всей
форме меня благословил.
Однако я был ощутимо наказан за недостаток
церковного благочестия. Во время моего первого
пребывания в Риме австрийский посол князь Ка-
унитц111, — он и его семья оказали мне
наилюбезнейший прием, — предложил мне с еще
несколькими соотечественниками представиться папе.
Я всегда был врагом подобных показных
церемоний, но особенно отпугивало меня, должен
признаться, обязательное при этом целование руки
папе. Так что я отказался и теперь был за это
наказан. Когда я собирался в последний раз
осмотреть храм Святого Петра, я встретил графа
Шаффготше, учтивого силезского дворянина,
благолепного душой и телом. Папе он был
особенно интересен как католик в преимущественно
протестантской стране, поэтому у них состоялась
уже не одна беседа. Теперь он явился к папе с
большим пакетом под мышкой. Это были четки,
которые он накупил, а папа обещал благословить.
Мне пришло на ум, что я мог бы весьма
обрадовать такими четками некоторых знакомых дам.
Лавка, где они продавались, была невдалеке, так
что я тоже купил изрядное их количество и вме-
Автобиография
143
сте с графом Шаффготше отправился в Ватикан.
Перед графом открывались все двери, и мы с ним
прошли во внутренние коридоры, где
остановились и, расстелив на полу шелковые носовые
платки, разложили на них свои четки. Наконец,
двери папских покоев распахнулись, вошли
швейцарские гвардейцы, монсиньоры, за ними — папа,
чья достопочтенная фигура несколько странно
смотрелась в белой шелковой одежде паломника
и красной шелковой шкиперской шапке. Мы
преклонили колени, папа, идя мимо, приблизился к
графу Шаффготше, слегка кивнул ему, словно
знакомому, благословил его четки и неспешно
ступил дальше, приволокнув ногу, которую
молодой человек благоговейно поцеловал. Дойдя до
меня, кого он, правда, не знал, он тем не менее
благословил мои четки и сделал то же движение
ногой, после чего мне, дабы не быть выброшенным
из окна швейцарскими гвардейцами, не оставалось
ничего другого, как точно таким же образом
выказать свое почтение. И вот так я, не желавший
целовать папе руку, принужден был теперь
целовать ему ногу. Все в этом мире мстит за себя.
Во Флоренции мы присоединились ко двору
перед самым его отъездом и отправились уже
прямо в Вену, причем мне все-таки пришлось
нарушить мой первоначальный план и во второй раз
проехать через Венецию, хотя ехать обратно я
намеревался через Милан, Верону и по
итальянским озерам через Тироль.
144
Автобиография
По моем возвращении в Вену сразу
проявились первые печальные последствия моих
дорожных недоразумений. Среди придворных в свите,
как я уже говорил, распространилось мнение,
будто бы я стал секретарем императрицы; они
написали об этом своим знакомым в Вену, и там
этот слух разнесся широко. Отпуск,
предоставленный мне вышестоящей инстанцией, я уже
просрочил, продление оного его величеством либо не
дошло, либо послужило лишь подтверждением
слухов; короче, реальное место конциписта,
ставшее вакантным в том же департаменте, в котором
я служил,,не без участия ничтожного начальника
моего отдела, а также в связи с личной симпатией
правителя канцелярии к одному из новых
служащих было отдано этому последнему. Меня
утешали, уверяя, что это случайное недоразумение, и
следующая вакансия от меня уж наверняка не
уйдет. Однако и эта следующая была отдана
человеку, служившему в целом меньше, но именно в
придворном штате — дольше меня. Третье место
получил совершенно бездарный брат одного,
напротив, весьма даровитого надворного советника.
Я был возмущен и решил оставить
государственную службу, однако считал своим долгом
уведомить об этом моего благодетеля, министра
финансов графа Штадиона. Тот ответил, что, если я
хочу оставить государственную службу, то могу это
сделать и без его согласия, которого он мне не
даст. При засилье цензуры и прочих обстоятель-
Автобиография
145
ствах человек моего типа не сможет жить за счет
литературы. Я должен набраться терпения — о
моем благополучии он позаботится сам. Но
поскольку душевный покой, необходимый мне для
завершения поэтического произведения, в данное
время нарушен пережитыми мною служебными
передрягами, то он предоставляет мне
бессрочный отпуск, которым я могу пользоваться, пока
этого потребует моя работа. Когда я попросил его
предоставить мне этот отпуск письменно, то его
разозлило отношение подчиненной ему
Придворной палаты к его подопечному, и он поручил мне
пойти к секретарю президента этой палаты и
сказать, что министр финансов предоставил мне
отпуск, а если он в этом сомневается, то пусть
придет и спросит — ему устно все растолкуют. Я все
в точности исполнил, однако президент
Придворной палаты спрашивать ничего не стал и
впредь относился ко мне как к отсутствующему
без разрешения. Вообще я стал теперь жертвой
трений между двумя инстанциями. Министр
финансов граф Штадион, желая избавить себя от
тягостных мелочей, предоставил подчиненной
ему Придворной палате, уполномоченной
исполнять его распоряжения, полную свободу в ее вну-
трених делах. Как только в этой Придворной
палате освобождалось какое-либо место, граф
Штадион составлял министерское письмо, где
напоминал, что я мог бы это место занять.
Однако Придворная палата, дабы соблюсти самостоя-
146
Автобиография
тельность, всякий раз отдавала это место кому-
нибудь другому. Даже те надворные советники,
которые мне более всего благоволили, в силу
товарищеской сплоченности становились самыми
ожесточенными моими противниками. Лишь
через несколько лет, когда в самом Министерстве
финансов освободилось место конциписта, граф
Штадион незамедлительно предоставил его мне,
а это было наилучшее и наиболее близкое к его
особе место с соответственно более высоким
жалованием. Тем временем, однако, половина
чиновников, пришедших после меня, успели стать
надо мной, а я навсегда застрял на низших
ступенях служебной лестницы.
Примечательно вообще, что большинство моих
неудач постигло меня по вине тех людей, которые
мне сочувствовали и хотели устроить мою судьбу.
Среди них был граф Герберштейн — он снял меня
с должности в Придворной библиотеке и перевел
в финансовое управление, однако вскоре умер,
оставив меня в безбрежном море без всякой
опоры. Среди них был граф Вурмбранд, который в
Италии искренне радел о моем благе и тем вовлек
меня во все дальнейшие осложнения. И граф
Штадион, прекраснейший из людей, каких я
когда-либо встречал, который навязал мне
театральные дела и втянул в свой запутанный
конфликт с Придворной палатой — моим
непосредственным начальством. И еще четвертый, много
позже, кто письменно и устно засвидетельствовал
Автобиография
147
свою симпатию ко мне, когда я в борьбе за место
вступил в соперничество с протеже еще намного
более высокопоставленного государственного
мужа: когда его официально запросили обо мне,
он с жаром подтвердил мою пригодность к
службе и мои заслуги, однако, дабы не преграждать
дорогу ставленнику могущественного
благодетеля, прибавил, что на моем тогдашнем месте
директора архива Придворной палаты я незаменим.
Это я-то незаменим в качестве директора архива
Придворной палаты! Наблюдатель со стороны
мог бы всласть посмеяться.
В то время я пытался наилучшим образом
использовать отпуск, предоставленный мне
министром финансов, и завершить работу над "Золотым
руном", прерванную путешествием в Италию.
Но тут открылось одно печальное
обстоятельство. Из-за потрясения, вызванного смертью
матушки, сильных впечатлений от поездки по
Италии, из-за моей тамошней болезни,
неприятностей при возвращении все, что я приготовил и
заранее продумал для этой работы, было начисто
стерто. Я все забыл. Прежде всего моя основная
мысль, а также все подробности были покрыты
мраком забвения — подробности тем паче, что я
никогда не мог решиться подобные вещи
записывать. Контуры должны быть ясны заранее, а их
заполнение — рождаться в ходе работы: только
так содержание и форма, соединившись, обретут
истинную жизненную силу. Пока я тщетно рылся
148 Автобиография
в памяти, произошло нечто удивительное. В
последнее время мы с матушкой часто играли в
четыре руки произведения великих мастеров в
переложении для клавира. Под звуки всех этих
симфоний Гайдна, Моцарта, Бетховена я непрестанно
думал о своем "Золотом руне", и зародыши
мыслей сливались с музыкой в некое неразличимое
целое. Это обстоятельство я тоже забыл, или, по
крайней мере, был весьма далек от того, чтобы
искать в этом слиянии с музыкой
вспомогательное средство. Еще раньше я как-то познакомился
с писательницей Каролиной Пихлер112 и это
знакомство поддерживал. Ее дочь хорошо играла на
фортепьяно, и после ужина мы с ней иногда
садились за инструмент и играли в четыре руки. И вот
получилось так, что едва мы дошли до тех
симфоний, какие я играл с матушкой, ко мне снова
вернулись все те мысли, которые я, играя в то время
эти вещи, наполовину бессознательно в них
вложил. Я вдруг сразу вспомнил, чего хотел, и пусть
и не мог уже с полной четкостью восстановить
свою прежнюю позицию, все-таки замысел и его
развитие в целом для меня прояснились. Я засел
за работу, закончил "Аргонавтов" и перешел к
"Медее".
Но моему итальянскому путешествию суждено
было, словно ящику Пандоры, породить новое
несчастье113. В Италии я написал несколько
лирических стихотворений, одно из них было
посвящено развалинам Campo vaccino114 — я начал на-
Автобиография
149
брасывать его карандашом, еще находясь в
Колизее115, да там в основном и закончил. В сравнении
с моим восторгом перед античностью, еще
усилившееся впечатлением от статуй и монументов,
новая церковность, или, скорее, поповство,
отходили куда-то в тень. Худшее, что можно сказать
об этом стихотворении: его главная мысль была
выражена уже несчетное число раз, и новым
поворотом в нем можно назвать разве что
топографический перечень всех памятников,
воспринимаемых людьми, которые способны чувствовать.
Даже сверхкатолика графа Штольберга116 на
Campo vaccino охватило такое же чувство. Мой
венский издатель Валлисхаусер выпускал
альманах "Аглая"117 и без конца донимал меня
просьбами что-нибудь для него дать. Я дал ему эти
итальянские стихи, и они попали в руки Шрейфогеля,
который сделался цензором из любви к искусству,
то есть ради того, чтобы разрешать печатать все,
что только возможно. Он нашел что ничто не
мешает ему поставить штамп "imprimatur"*, альманах
был напечатан, переплетен, и четыреста
экземпляров уже отправлены за границу, как вдруг
поднялось литературное восстание. Только еще
зарождавшаяся церковная партия изъявила недовольство
моими "Развалинами на Campo Vaccino". На это
стихотворение был написан форменный донос, и
буря грянула со всех сторон.
* разрешено печатать" (лат.).
150
Автобиография
Император обиделся прежде всего на то, —
ведь высокопоставленным лицам никогда не
бывают известны мелкие подробности, — что, пока
ему в Риме оказывались все почести, некто,
приехавший в Рим в его свите, позволил себе такого
рода высказывания. Каким образом я оказался в
свите императора, или, вернее, в карете графа
Вурмбранда лишь при отъезде из Рима, я только
недавно здесь объяснил. Больше всех
усердствовала государственная канцелярия. Князь Мет-
терних, знавший наизусть и с восторгом
декламировавший третью песнь Байронова "Чайльд
Гарольда", где содержались вещи и почище,
стоял прямо-таки во главе этой кампании
преследования, хотя, скорее, этим занималось его жалкое
окружение, которое уготовило этому
замечательному человеку позорное падение в 1848 году.
Чтобы по возможности оправдать всех
участников этого дела, я должен привести здесь версию,
много лет спустя переданную мне одним
высокопоставленным государственным деятелем
причастного к сему иностранного двора. Мой издатель
без моего ведома или какой-либо моей в том
заинтересованности посвятил свой альманах
супруге столь же известного своими просвещенными
взглядами на искусство, сколь и своею строгой
религиозностью кронпринца одного соседнего
государства118. Последний обратил на альманах
особое внимание, поскольку мой издатель,
вероятно, намекал на золотую табакерку или что-то в
Автобиография
151
этом роде как на ответный подарок. Мое
стихотворение его до крайности рассердило и, не
задумавшись над последствиями своего поспешного
шага, он послал в высокие инстанции в Вене
письмо, в коем задавал вопрос, как это цензура
могла допустить, чтобы альманах, где напечатано
такое стихотворение (то есть мое), был посвящен
его супруге. От подобного обращения
высокопоставленной особы, да к тому же еще и
родственника, просто так отмахнуться было нельзя. Само
собой разумеется, что нижестоящее жулье и
дурачье, имевшее основания бояться, как бы я
когда-нибудь не встал им поперек дороги, делало
все, чтобы раздуть это пламя, — во всяком
случае, так я слышал.
Цензура делала все возможное, чтобы
исправить свою ошибку. Мое стихотворение было
вырвано из всех еще оставшихся в Вене
экземпляров, к большому ущербу для издателя, которому
пришлось заново переплетать альманах. К
сожалению, однако, это распоряжение не достигло
поставленной цели. Как я уже говорил, четыреста
целехоньких экземпляров были отправлены за
границу. Любители запрещенных изданий, да и
скандалов вообще, старались теперь, не щадя
затрат, вернуть их обратно. Кто не мог достать
печатный экземпляр, довольствовался тем, что
переписывал оттуда мое стихотворение, и ни одно
из моих сочинений не обрело такой популярности
у меня на родине, как это стихотворение, которое,
152
Автобиография
будь оно оставлено без внимания, достопочтенная
публика сжевала бы, как траву, даже не
почувствовав вкуса.
Но это было еще не всё. В силу
собственноручной записки некоей высокой персоны, где
меня, как в объявлениях о розыске преступника,
наградили эпитетом "небезызвестный" Грильпар-
цер, придав мне тем самым печальную
известность, начальник полиции и Придворного
цензурного комитета получил распоряжение привлечь к
ответственности меня лично. Но моя
ответственность длилась совсем недолго. Стихотворение
получило штамп цензуры: "Imprimatur", так что я
как писатель был полностью защищен. Зато вина
ложилась на цензора, моего друга Шрейфогеля, а
этого нельзя было допустить. Поэтому я написал
объяснение, которое вручил начальнику полиции,
где изложил все, что я мог сказать или привести
как довод для оправдания или смягчения моих
мыслей и выражений.
Первая вспышка этого конфликта, казалось,
миновала, к нему больше не возвращались, даже
Шрейфогеля больше не атаковали. Но с этого
момента всякое ничтожество считало себя вправе
на меня нападать, задирать меня и поносить.
Любое мое желание, любая возникавшая у меня
надежда пресекались в зародыше устоявшейся в
верхах формулировкой: "Если бы только у него не
было той истории с Папой римским" (так эти
господа изволили выражаться); меня держали, как
Автобиография
153
некогда старый граф Зейлерн, за полуякобинца,
за человека, зубоскалящего над религией, и
понадобились печальные события 1848 года, чтобы
убедить правительство119 (надолго ли?) в том, что
ни у него, ни у моей отчизны и их общего дела нет
более горячего приверженца, нежели я, который к
тому же как человек и как писатель очень хорошо
умеет различать высокие воззрения поэзии и
умеренные требования жизни.
Тогдашние неприятности отнюдь не остудили у
меня пылкого стремления завершить мою
драматическую поэму. Я еще помню, что стихи,
которые Креуза во втором акте "Медеи" произносит
как любимую песенку Ясона, были написаны
карандашом в приемной начальника полиции в
ожидании бурной аудиенции. Но поскольку я
хорошо чувствовал, что озлобленность и вызванное
ею волнение скоро разрядятся и уступят место
дурному настроению, то насколько было
возможно спешил ее закончить, и еще помню, что оба
последних акта "Медеи" написал каждый за два
дня. В конце я был совершенно измучен и, не
перерабатывая пьесу и ничего в ней не меняя, кроме
исправления ошибок, вкравшихся при первой
переписке, отнес этот неудобочитаемый набросок
Шрейфогелю. Прочитав его, тот долго хранил
молчание, но в конце концов заявил, что этой
диковинной вещи надо бы еще немного полежать.
А я с обычной моей беспечностью относительно
внешней судьбы моих сочинений пытался с помо-
154
Автобиография
шью всяких развлечений, а также чтения древних
авторов и философии Канта, с которой
познакомился лишь недавно, выбить из головы тягостные
мысли о настоящем и будущем. Вдруг ко мне
приходит Шрейфогель, обнимает меня и говорит,
что "Золотое руно" надо немедленно поставить
на сцене. Что заставило его так изменить свое
мнение, я не знаю. То ли он сначала не сумел как
следует прочесть плохо написанную рукопись и
только при повторном чтении уяснил себе мой
замысел — осуществить несомненно причудливое,
однако нарочитое смешение так называемого
романтического и классического начал, — этого я
сказать не могу, поскольку мы с ним позднее
никогда об этом не говорили. Так или иначе, этого
превосходного человека, которому я столь
многим обязан, по-видимому огорчало, что я давал
ему мои пьесы законченными и готовыми к
постановке, не подвергнув их прежде его
критическому суждению. Я был бы идиотом, если бы
замечания такого друга по поводу отдельных
деталей были мне безразличны, однако по опыту я
знал, что его desiderata* затрагивают нутро и
сущность пьес, а это я хотел сохранить нетронутым,
даже с риском допустить какой-либо промах. Из-
за того же чувства независимости я держался
на расстоянии от всех литературных котерий120.
Ни один журналист и ни одна знаменитость ни-
пожелания (лат.).
Автобиография
155
когда не получали от меня писем, за исключением
двоих, которым я ответил на письма, ранее
присланные мне ими. Я всегда стоял в одиночестве,
за это меня поначалу и подвергли нападкам со
всех сторон, а позднее игнорировали, что я
воспринимал с высокомерным злорадством, хотя
впоследствии это отравляло мне удовольствие от
моих успехов. Хочу здесь только добавить, что,
упомянув выше о смешении романтического с
классическим, я имел в виду не дурацкое
подражание Шекспиру или еще какому-нибудь поэту
Средних веков, а всю возможную разницу между
Колхидой и Грецией, в чем и состоит основа
трагизма этой пьесы, отчего в ней там и сям,
словно разные языки, употребляются свободный стих
и ямб.
Этого монстра надо было теперь представить
на сцене. Обойдя ничтожного надворного
советника по театральным делам, я обратился со
своими пожеланиями прямо к графу Штадиону,
который с готовностью пошел мне навстречу и чье
расположение ко мне после постигших меня обид,
казалось, только усилилось. Роль Медеи
досталась Шредер. Однако считать, что, работая над
пьесой, я думал о ней или, как принято
выражаться, писал эту роль для нее, смешно хотя бы
потому, что в этом случае я бы поостерегся в
обоих прологах вывести молодую и красивую
Медею, ибо Шредер приближалась к пятидесяти
годам и красивой никогда не была. На роль корми-
156
Автобиография
лицы мне требовалась особа с голосом и другими
данными еще на несколько оттенков мрачнее,
нежели сама могущественная колхидянка. Граф
Штадион разрешил мне привлечь старую
оперную певицу мадам Фогель, которая к тому же по-
настоящему хорошо играла. Для светлого образа
Креузы подходила мадам Лёве; будучи в том же
возрасте, что и Шредер, она сохранила еще
остатки неувядающей красоты. Я вообще всегда
придавал большое значение взаимоотношениям
персонажей и образности представления,
актерский талант я считаю необходимой
предпосылкой, однако физическое сходство и контраст
были для меня очень важны. Ut pictura poesism. При
этом мне пригодился мой взлелеянный в детстве
талант к рисованию, а для версификации — мой
музыкальный слух. Метрикой я никогда не
занимался.
Другие роли тоже достались хорошим
исполнителям, и пьеса была представлена на сцене в
достойном виде. Успех, возможно по
справедливости, оказался довольно незначительным.
Заключительная часть получилась благодаря
выдающейся игре Шредер; оба пролога вскоре
перестали существовать. Остальные немецкие театры
вообще изначально представили только третью
часть, поскольку всюду находилась актриса,
считавшая, что она способна сыграть Медею.
"Медея" — последняя из моих пьес,
проложившая себе путь на неавстрийские сцены нашего
Автобиография
157
немецкого отечества. То, что было принято
называть духом времени, о чем я мало заботился и
мнимый прогресс которого казался мне смешным,
но прежде всего то, что главная составная часть
искусства, фантазия, начала все чаще пропадать у
зрителей, артистов и писателей, — потеря,
каковую пытались возместить доктринерской,
спекулятивной и демагогической примесью, — все эти
обстоятельства ослабили воздействие моих
следующих пьес на зрителей в австрийских землях.
Я всегда придавал большое значение
суждению публики. Замысел своей пьесы драматург
должен продумать сам, однако удалось ли ему
отразить в персонажах их общечеловеческую
природу — на этот вопрос может ответить ему
только публика, как воплощение этой самой
человеческой природы. Публика не судья, а коллегия
присяжных, свой вердикт она выражает
одобрением или неодобрением. Ее претензия основана
не на знании закона, а на непосредственном и
естественном восприятии жизни. Эта
естественность, которая в Северной Германии вследствие
псевдообразования и попугайничанья заметно
отошла на задний план, в Австрии в
значительной мере сохранилась, соединенная с
восприимчивостью, каковая, если она должным образом
направляема поэтом, может вырасти до прямо-
таки невероятной степени понимания. Одобрение
такой публики мало что доказывает, ибо она
хочет прежде всего развлечься, а вот ее неодобре-
158
Автобиография
ние поучительно. На сей раз пьеса
удовольствовалась succes d'estime*.
Такой почет или даже пристрастие к поэту
практически сказывались очень слабо. За три моих
трагедии, поскольку в театре они занимали два
вечера, мне причитался гонорар как за две. Тут
граф Штадион еще до представления заявил, что
половину оплатит мне в обычном порядке, а что
касается второй, то он хочет вновь применить
закон о театре, изданный императором Иозефом II,
который никто не отменял, — по этому закону
при постановке новой пьесы автор имел право
выбрать либо гонорар, либо сбор от второго
представления. С помощью последнего граф надеялся
дать возможность публике, которой я доставил
столько удовольствия "Праматерью" и "Сапфо",
проявить на деле свою эстетическую и
патриотическую приверженность ко мне, во всяком случае,
в виде повышенной платы за ложи и особые
места. И вот настал назначенный день, однако из
семидесяти или восьмидесяти абонируемых лож
Придворного Бургтеатра заняты были только
три, половина особых мест пустовала, в
остальном зрительный зал был полон, но поскольку
служащие театральной дирекции не считали себя
обязанными дотошно контролировать вход в зал
ради сбора в пользу какого-то неизвестного им
успех у критики, но не у публики (букв.: почетный
успех. — фр.).
Автобиография
159
лица, то доход от этого вечера был настолько мал,
что едва достигал половины обычного гонорара.
Я упоминаю об этом лишь для того, чтобы
обратить внимание венской публики, которую я
только недавно хвалил и которая едва не винила меня
в неблагодарности за то, что я не каждый год
представлял ей по пьесе, — обратить ее внимание
на то, что она всегда оставляла меня с носом,
когда я ждал от ее преданности чего-то большего,
нежели пустые рукоплескания.
Вялый прием "Золотого руна" в той мере, в
какой он совпадал с моими внутренними
сомнениями, вообще очень плохо повлиял на мое
душевное состояние. Я отчетливо чувствовал, что
переоценил свои силы и стал терять безмятежную
уверенность в себе, с какою до тех пор брался за
свои сочинения. Поэтому я решил в своих
будущих работах точнее определять поставленную
цель, что только мешало мне, тем более что в
голове у меня вертелся сюжет, сам по себе хоть и не
такой всеобъемлющий, однако требовавший
огромной подготовительной работы. Но об этом
позже.
Тем временем основание для предоставленного
мне отпуска потеряло силу, и я вернулся к делам.
Чтобы избавить меня от соседства с враждебно
настроенной ко мне Придворной палатой, граф
Штадион взял меня, хотя и в тогдашнем моем
качестве практиканта, в один из отделов
непосредственно подчиненного ему Министерства финан-
160
Автобиография
сов. Здесь я должен вернуться к одному эпизоду,
происшедшему во время моего пребывания в
Неаполе. Когда я там находился, туда на несколько
дней приехал надворный советник из
Министерства финансов барон Кюбек, чтобы доложить
императору об одном важном деле. Мне рассказал
об этом граф Вурмбранд, равно как и о том, что
барон Кюбек говорил обо мне, так что я должен
нанести ему визит. Я сделал это на следующий
день, однако в приемной мне сказали, что барон
Кюбек занят и никого не принимает. Я счел это
естественным, ушел и больше не приходил. Через
несколько. дней, когда барон уже уехал, граф
Вурмбранд сказал мне: "Вам все же следовало
зайти к нему еще раз. Дело в том, что барону Кю-
беку требовался помощник для составления
важных официальных бумаг, и он рассчитывал на
вас". И сей добрый человек, не имевший ни
малейшего представления о делах, сообщил мне это
лишь после отъезда высокопоставленного
государственного мужа. Тем самым он лишил меня
возможности сблизиться с этим господином, а
тот, кому известны карьера и нынешнее
положение барона Кюбека, понимает, какое значение
имела бы подобная близость.
Кто заметил, как много говорю я о служебных
перспективах и о гонорарах, пожалуй, придет к
заключению, что я был лишен того высокого
понятия, каковое повелевает художнику иметь в
виду только искусство, а все остальное ни в грош не
Автобиография
161
ставить. Возможно, он прав; однако я вовсе не
хочу изображать себя лучше, чем я есть. Но коль
скоро я взял на себя бремя государственной
службы, то хотел выбиться из ряда чернорабочих
и, заняв должность получше, обеспечить себе
возможность перейти в другое ведомство,
которое больше отвечало бы моим склонностям,
нежели служба по финансовой части. В то же время
постоянное оттеснение назад и та insolence of
office*, с какою жалкие людишки с превеликой
охотой показывали мне свое служебное
превосходство, отравляли мне настроение. Когда к
этому прибавилось ослабление моей значимости в
немецкой литературе, мной овладело чувство
одиночества, которое при склонности к
ипохондрии в конечном счете становится опасным и для
того настроения, какое необходимо прежде всего
при создании поэтических произведений. Что же
касается денег и денежной стоимости моих работ,
то все это таит в себе будущее. В то время оно
мало меня заботило. Теперь же, в преклонном
возрасте, обремененный телесными недугами, я
часто слишком сильно ощущаю отсутствие тех
удобств и облегчающих жизнь средств, которые с
годами становятся прямо-таки необходимыми.
Если бы я женился, что, наверное, должен был
сделать, то мне пришлось бы заботиться еще и о
пропитании.
* начальственная наглость (англ.).
6. Ф. Грильпарцер
162
Автобиография
В моей новой официальной должности я
оказался под непосредственным началом
заведующего отделом барона Пиллерсдорфа, который в
1848 году заставил так много говорить о себе122.
Я весьма далек от того, чтобы одобрить ту роль,
какую он играл тогда, я, скорее, разделяю общее
презрение к нему. Но я еще живо чувствую то
восхищение, какое, несмотря на свою неприязнь к
официальным делам, я испытывал перед бароном
Пиллерсдорфом, когда столкнулся с ним в
деловой сфере. Такую проницательность,
спокойствие, способность во всем разобраться самому и
объяснить другим, такую твердость характера —
до тех пор, пока дело можно было решить за
письменным столом, — я впоследствии более не
встречал; и я почувствовал, что существует гений
деловитости, достойный стоять среди
человеческих способностей рядом с другими гениальными
дарованиями. Вместе с бароном Кюбеком Пил-
лерсдорф внес ясность и порядок в хаос
австрийских финансов. Под его руководством в 1830 году
в государственном бюджете впервые за
несколько десятилетий образовался перевес доходов над
расходами. В том же году был уже опубликован
патент, согласно которому процентная ставка
государственного долга снижалась с пяти до
четырех процентов, и если бы Июльская революция
во Франции произошла несколькими месяцами
позже, то эта финансовая операция была бы
необратима. Именно в 1830 году он воспротивился
Автобиография
163
увеличению затрат на вооружение, которые
ввергли страну в новые долги и через несколько лет,
когда стало ясно, что денег на это не хватит и
придется урезать бюджет, оставили государство
без денег и без солдат. Он воспротивился этой
мере, хотя и понимал, что тем самым выносит
смертный приговор своему влиянию. Его
действительно сразу отстранили от руководства
финансами и перевели в качестве вице-президента
на другую должность при дворе, где он
занимался проверкой чужих проектов и исправлением
орфографических ошибок, чему отдал восемнадцать
прекраснейших лет своей жизни. Это смещение
сопровождалось недостойными делами, которые
заслуживают быть отмеченными, но сюда не
относятся. Не посеяли ли эти события в нем жажду
мести или, с другой стороны, не вызвали ли
усталости, которая в 1848 году выразилась в
чередование слабости и вымученной энергии, — этого я
решать не берусь.
Я никогда не был в особом фаворе у барона
Пиллерсдорфа. После того как он тщетно
пытался посвятить меня в более высокие дела, он
обходился со мною уважительно, но равнодушно, тем
не менее у меня есть потребность оживить в
памяти, где всё покрывается забвением, то, что он,
о ком теперь с пренебрежением отзывается
всякий дурак, в свое время был самым выдающимся
из выдающихся и оказал нашей стране
бесчисленные услуги. Здесь мне вспоминается одна
б*
164
Автобиография
черта графа Штадиона, которую я не могу
обойти молчанием. Граф Штадион, дипломат с юных
лет, имел, как откровенно признавался сам,
весьма скудные финансовые познания. Его
противники, все время пытавшиеся ставить ему палки в
колеса, еще раньше хотели уготовить барону
Пиллерсдорфу другое назначение. А барон Пил-
лерсдорф лично был графу противен. Невзирая
на это, граф тогда заявил, что если его лишат
такого превосходного помощника, то ему придется
сложить с себя должность, ибо без этого
человека он ее далее исполнять не сможет. На мой
взгляд, это достойно восхищения. Правда, ко мне
это отношения не имеет, но я пишу воспоминания,
и мое время должно фигурировать в них так же,
как я. Или, скорее, я хочу получить
удовольствие, и меня радует возможность воздать
справедливость людям, желавшим мне добра, — таких,
что желали зла, все равно было больше.
Если попытки барона Пиллерсдорфа привить
мне интерес к делам оставались тщетными,
причиною этому было отчасти то, что меня захватил
новый драматический сюжет. Судьба Наполеона
свершилась тогда еще недавно и оставалась
памятна всем. Я старался читать почти все, что было
написано про этого необыкновенного человека им
самим и другими людьми123. Мне было жаль, что
большие промежутки между решающими
моментами делают невозможной поэтическую
трактовку этих событий не только сейчас, но, пожалуй, и
Автобиография
165
в будущем. Пока я, переполненный этими
впечатлениями, перебирал другие свои исторические
воспоминания, мне бросилось в глаза некоторое,
пусть и отдаленное, сходство Наполеона с
королем Богемии Оттокаром II124. Оба они, хотя и на
огромном расстоянии друг от друга, были
деятельные мужи, завоеватели; в сущности, не злые,
они были принуждены обстоятельствами к
суровости, даже к тирании, после многих лет счастья
их ждал одинаково печальный конец, в
довершение всего еще и то обстоятельство, что
поворотным пунктом в судьбе обоих оказалось
расторжение их первого брака и вторая женитьба. Если же
вместе с тем падение Оттокара привело к
основанию в Австрии династии Габсбургов, то для
австрийского поэта это был бесценный дар Божий,
венчавший весь замысел. Так что в лице Оттокара
я вовсе не хотел изобразить судьбу Наполеона,
однако даже их отдаленное сходство вдохновляло
меня. Одновременно я заметил в своем сюжете ту
особенность, что почти все события, какие мне
требовались, я находил в истории или в предании
уже готовыми. Чтобы не примешивать без нужды
собственные измышления, я с головой ушел в
книги, читая все, что только мог найти, о
событиях тогдашней австрийской и богемской истории.
Пришлось мне заняться даже средневерхнене-
мецким языком — в то время он еще не вошел в
моду125, и для изучения его нельзя было найти
никакого руководства, а одним из главных моих ис-
166
Автобиография
точников была прижизненная рифмованная
хроника короля Оттокара, составленная Хорне-
ком126. Тогда я был еще прилежным и без конца
конспектировал и выписывал.
Так что я стоял на почве исторической
трагедии еще до того, как Людвиг Тик127 и иже с ним
извлекли откуда-то всякие глупости на сей счет.
Поистине глупости. Писатель выбирает
исторические сюжеты потому, что находит в них
зародыш тех процессов, какие происходят с ним
самим, но главным образом ради того, чтобы
придать изображаемым событиям и действующим
лицам некую плотность, реальный центр тяжести,
дабы часть действия, почерпнутая из царства
сновидений, укоренилась в царстве
действительности. Кто мог бы выдержать выдуманного
завоевателя, который покорял бы выдуманную страну
выдуманными героическими подвигами?
Надежную точку опоры должно иметь прежде всего то,
что выходит за пределы привычного, вероятного,
иначе оно будет смешным. Александр Великий
или Наполеон, будь они выдуманы, стали бы
посмешищем в глазах всех разумных людей.
Однако истинно историческое, то есть доподлинное не
только в событиях, но также в мотивах и их
проявлениях, имеет к этому столь же мало
отношения, как если бы сегодня были найдены документы,
которые доказывали бы полнейшую виновность
или полнейшую невиновность Валленштейна, —
разве от этого шедевр Шиллера перестал бы
Автобиография
167
быть тем, что он есть и чем останется на все
времена, независимо от исторической правды?
Шекспир находил готовым то, что в те времена
называли history, и тоже это разрабатывал. Но во всех
его исторических пьесах самым интересным
является то, что он привнес в них своего: комические
персонажи в "Генрихе IV" наряду с
неподражаемым Хотспером, душераздирающие сцены в
"Короле Иоанне"128 и т.д., однако при этом надо
заметить, что если бы он не написал пьес,
основанных на новеллах и мифических преданиях, то о
его исторических драмах говорили бы мало. Что
такое история вообще? О какой исторической
личности люди судят одинаково? Историк знает
мало, но поэт должен знать все.
Это как будто бы противоречит
вышесказанному, где я подчеркивал важность того, чтобы все
события в "Оттокаре" были удостоверены либо
историей, либо, на худой конец, легендой.
Однако я привел это тоже всего лишь как любопытный
момент, хотя, с другой стороны, завершающий и
в своих последствиях по сию пору действенный
факт — основание Габсбургской династии в
Австрии — придал подлинности событий
патриотический интерес.
Сюжет пьесы постепенно расчленился,
события были выстроены, композицию я бы назвал
превосходной, тем не менее осуществление
задуманного давалось мне с трудом; ведь я имел дело
с формой, которая отнюдь не казалась мне дос-
168
Автобиография
тойной прославления, — с исторической драмой.
В своих прежних сочинениях я всегда располагал
события как можно ближе друг к другу, теперь
же мне предстояло связать такие, что лежали на
большом отдалении одно от другого. Люди немало
насмехались над тремя единствами. С единством
действия согласится каждый разумный человек.
Единство места зависит от устройства старого
театра и становится важным только если совпадает
с третьим единством. Зато это третье единство —
единство времени — чрезвычайно важно.
Формой драмы является настоящее, которого, как
известно, не существует, ибо его образует лишь
непрерывная череда происходящих событий.
Поэтому существенным признаком этой череды
становится ее непрерывность. Вместе с тем, время
это не только внешняя форма действия, оно
относится также к мотивам: чувства и страсти со
временем становятся сильнее или слабее. Если я
заставлю зрителя занять место писателя и с
помощью размышлений и воспоминаний связывать
воедино разрозненные моменты, то будет
утрачена та непосредственность воздействия, которая
обуславливает его силу и своеобразие в
настоящий момент. Правда, тщеславию нынешней
литературной публики, которая больше хочет
возбуждения, нежели удовлетворения, льстит подобное
соучастие, подобное толкование и дополнение, но
к чувству восприятия благодаря этому
примешивается нечто произвольное, противостоящее ощу-
Автобиография
169
щению необходимости, которая составляет
внутреннюю форму драмы, как настоящее время —
внешнюю. Драма приближается к эпосу.
Что касается содержания, то масса
происшествий не позволяет воздать должное каждому из
них; мотивы приходится усиливать, характеры
доводить до крайности, однако, как известно,
пестрота и аляповатость — вовсе не признаки
хорошего вкуса.
Впрочем, к своему утешению я мог считать,
что мой сюжет по меньшей мере выдвигает
требование, которое только и делает историческую
трагедию допустимой, а именно: чтобы
удостоверенные историей или легендой события способны
были оказать такое же воздействие на душу
человека, словно были изобретены специально для
этой цели.
Эти мои сомнения и это мое утешение,
разумеется, сочтут смешными те люди, для которых
история — самореализующееся понятие. Я
должен примириться с их насмешками, или, вернее,
я позволю себе отплатить им за эти насмешки
сторицею.
Конец моим колебаниям положила все
усугублявшаяся болезнь горла, заставившая меня
зимой, хоть я и не обращался к врачам, целый месяц
просидеть дома. После того как затворничество и
скука побудили меня взяться за работу, я решил
до ее окончания не покидать своей комнаты, а
обедать ходил в находившийся напротив трактир
170
Автобиография
"Охотничий рожок", но сразу же возвращался в
место своего добровольного заточения, которое
населил придуманными мною персонажами. Я не
вправе забыть и о той роли, какую сыграла в
состоявшемся прорыве книга "Mars moravicus" in
folio, взятая мною в качестве источника для "От-
токара". На титульном листе этого "Моравского
Марса"129 бог войны в полном вооружении был
изображен приблизительно так, как я
представлял себе внешний вид Оттокара. Этот персонаж
подстегивал меня придать моим фигурам
определенный внешний облик, и во время работы я тоже
возвращался к нему всякий раз, как только мои
образы, казалось, начинали расплываться. Точно
так же, когда я писал про аргонавтов, желанным
опорным пунктом для моей фантазии служила
башнеобразная винтовая лестница во дворе
старинного соседнего дома, куда выходило одно из
окон нашей тогдашней квартиры.
Но вот я положил конец своему
добровольному заточению, и моим первым выходом было
посещение дирекции театров, куда я отдал свою
пьесу в рукописи, так как, оттого что я долго
вынашивал этот материал в себе, написать весь
текст мне удалось почти без поправок. На сей раз
Шрейфогель был согласен со мной с самого
начала. Мы отдали пьесу в переписку и представили в
цензуру, со стороны коей никаких возражений не
опасались, ибо если бы царствующий дом
специально нанял льстеца, даже он не мог бы придать
Автобиография
171
действию более благоприятного оборота, нежели
тот, какой навязала ему сама драматическая
необходимость.
Благоприятный оборот наметился теперь и в
моем служебном положении. Так называемый
конципист Министерства финансов, а именно —
составитель бумаг, работавший в
непосредственной близости к министру финансов в его
собственной канцелярии, был повышен в должности, и
граф Штадион немедля предоставил мне это
место, которое предусматривало кроме обычного
оклада еще особые наградные в несколько сотен
гульденов ежегодно. Это повышение обрадовало
меня, тем более что теперь я мог также
расторгнуть с Придворным театром контракт
официального драматурга и отныне свободно
распоряжаться своими произведениями. Мои новые занятия
были крайне маловажными и приобретали
некоторое значение только в тех случаях, когда
секретарь министерства был занят чем-то другим или
болен, поскольку тогда надо было представлять
поступившие деловые бумаги лично министру,
кратко изложив содержание каждой, после чего
наиболее важные он оставлял у себя, чтобы
прочесть самому, а остальные возвращал для
распределения по департаментам. И эта часть
делопроизводства была тягостной лишь потому, что граф
Штадион еще со времен своей дипломатической
службы привык к странному смещению времени
суток. Спать он ложился лишь где-то под утро, а
172
Автобиография
вставал, когда другие люди садились обедать.
И вот после полуночи, когда он возвращался со
светских сборищ, положено было докладывать
ему о делах и документах, что в полусонном
состоянии не всегда удавалось сделать без запинок.
К счастью, секретарь министерства так ревновал
к сиятельной близости графа, что сказывался
больным крайне редко, да и отсутствие по другим
причинам себе почти не позволял. Однако когда
министр куда-то уезжал, особенно когда летом он
отбывал в свои имения, все бремя ложилось на
конциписта, который должен был его
сопровождать, — бремя, значительно утяжеленное
промежуточным положением этого человека между
приятным компаньоном и подчиненным
чиновником. Кроме этих исключительных случаев
обязанность конциписта состояла только в
протоколировании поступивших документов и
распределении их по департаментам. Мой
предшественник ухитрился напустить таинственного туману и
на эту часть делопроизводства. Он бегал туда-
сюда по десять раз на дню. Его видели
неизменно с запертым, набитым бумагами портфелем под
мышкой. Красноречивое молчание указывало на
то, что ему ведомы бог весть какие тайны.
Разумеется, в Министерстве финансов велись
чрезвычайно важные и секретные дела, однако таковые
поступали на собственный адрес и в собственные
руки министра, который был достаточно умен,
чтобы передавать их с целью внесения в протокол
Автобиография
173
только после обработки и исполнения, когда они
переставали быть секретными. Поскольку я,
когда меня спрашивали, тайны из этого
обстоятельства не делал, а свои незначительные дела
исполнял так просто и быстро, как только возможно, то
нимб вокруг моей должности скоро растаял, и
все, кто дивился на моего предшественника и
жалел его из-за перегруженности делами, обо мне
говорили: "Ему совсем нечего делать", в чем
были довольно близки к истине.
Главного преимущества моей должности —
близости к министру я вскоре лишился по
собственной вине. Наступило лето — время моей
настоящей службы: я должен был сопровождать
графа в его поместье. По натуре гуманный, он
вовлекал данного ему официального спутника в
круг своей семьи и не скрывал, как радует его
возможность представить своим близким вместо
моего ограниченного предшественника — поэта и
мыслящего человека.
В Вене существуют два прямо
противоположных мнения о моих светских талантах. Одни
находят меня весьма любезным, другие —
невыносимым. Правы ли первые, я не знаю; вторые
могут привести убедительные примеры из своего
личного опыта. Объяснить это можно только
одной причиной: страшнее всего для меня —
скука. Работа главным образом с книгами, притом с
хорошими, рождает привычный интерес к ним,
который в конце концов превращается в потреб-
174
Автобиография
ность. Я могу иметь дело даже с безмозглыми
людьми, если у них проявляется какая-либо
черта характера, какой-нибудь безобидный выверт,
образующий точку соприкосновения. При таких
обстоятельствах мне нетрудно быть веселым,
даже шутить, только бы это не длилось слишком
долго или не повторялось слишком часто, —
когда вы вволю насладились ситуацией, она теряет
свою привлекательность. Однако необходимое
для меня условие — это чтобы я мог вести себя
непринужденно и без помех, если же возникают
оглядки, стесняющие свободу движения, то для
меня такое состояние становится нестерпимым.
Я прекрасно умею справляться с
посредственными, равнодушными или даже
недоброжелательными людьми, а между переменой места
службы и хлопаньем дверью существует
множество промежуточных ступеней, коими я в
подобных случаях уже успешно пользовался. Если же
в этом участвуют добрые, благожелательные
люди, даже те, кому я обязан благодарностью,
то меня охватывает вялость, которая отличается
ото сна лишь произвольностью внешних
движений. Из-за того что я стыжусь этой
неспособности владеть своим настроением, стыжусь не
перед другими, а перед самим собой, я все глубже
погружаюсь в это состояние, меня охватывает
помрачение ума, и я уже почти не сознаю, что
делаю или говорю.
Семья графа состояла из его супруги, женщи-
Автобиография
175
ны, как говорили, аристократически гордой, но
весьма добродушной, хотя в той же степени и
ограниченной; двух взрослых дочерей, возможно
неглупых, однако в разговоре всегда державших
себя строго в рамках своего хорошего воспитания;
сестры или невестки, в манерах которой сквозило
что-то язвительное, хотя в ее натуре оснований
для этого как будто бы не было, да и выросла она
не в той среде, которая сама по себе делает людей
объектами насмешек; двоих сыновей, из которых
один позднее недолгое время играл заметную
роль, — тогда это были еще довольно-таки
неугомонные подростки четырнадцати-пятнадцати лет.
Сюда надо прибавить гувернера, достаточно
посвященного в дела семьи, чтобы иметь
возможность вставить словечко даже в самую пустую
болтовню, однако, чувствуя атмосферу, он, по-
видимому, остерегался затронуть какую-нибудь
животрепещущую тему, хотя сам и был пусть
немного беспорядочным, но действительно
незаурядным человеком. Когда приходили еще и
люди из дворянских семейств, живших по соседству,
или дипломаты второго ранга из прежнего
окружения графа, то начиналась толкотня и сутолока,
какой мои нервы просто не выдерживали.
Самыми никчемными и безмозглыми оказывались
дипломаты, и позднее я часто с огорчением
вздыхал, встречая хорошо знакомые мне имена в
числе участников политических переговоров того
времени. Они развлекали графа тривиальной
176
Автобиография
chronique scandaleuse* своего круга, но нетрудно
было заметить, что и у хозяина дома они искали
только материал для сплетен, дабы поразвлечь
тех, кого сейчас высмеивали. Граф это знал так
же хорошо, как я, но его это не занимало.
Он вообще принадлежал к числу волевых
людей и умел мастерски владеть собой. Хорошей
школой светского общения ему, надо думать,
послужила скука придворного круга и
дипломатических салонов, однако невзирая на это нельзя
было не подивиться, как он в каждой ситуации
ухитрялся найти что-то способное его развлечь,
помочь развеяться или по меньшей мере
скоротать время. Такого же самообладания, какое
отличало его самого, он по праву требовал от
каждого настоящего мужчины, и я уверен, что он
очень сердился на меня за мое мальчишеское
шатание туда-сюда, хотя и не подавал виду. Но именно
эта его доброта делала для меня невозможным
какой бы то ни было энергический рывок.
Так или иначе, но сложившиеся отношения
были для меня непереносимы, и когда следующим
летом наступило время отъезда за город, я
воспользовался своим легким недомоганием, чтобы
не ехать, — за эту возможность жадно ухватился
один нижестоящий чиновник, который не
вызывал неприязни у графа. Граф, этот замечательный
человек, простил мне мои ухищрения, наверное, в
* скандальной хроникой (фр.).
Автобиография
177
большей степени, чем я простил их себе сам.
Однако выяснить точнее, насколько они
повлияли на его расположение духа, не удалось, так как
он вскоре умер.
Я как будто пропустил здесь большой
промежуток времени со дня сдачи моего "Оттокара",
но, в сущности, никакого промежутка не было,
так как прошло два года, а я с моей пьесой все
еще не сдвинулся с места. Она была подана в
цензуру, но там пропала. Никто не знал, куда она
девалась. Сначала говорили, что ее передали в
Государственную канцелярию и она находится у
надворного советника Гентца. Тогда я пошел к
Гентцу.
Я еще помню то отвратительное впечатление,
какое произвела на меня квартира этого человека.
Пол в его приемной был устлан коврами на
подкладке, так что ты на каждом шагу словно
проваливался в болото и ощущал нечто вроде морской
болезни. На всех столах и комодах под
стеклянными колпаками стояли вазочки с вареньем, дабы
хозяин-сибарит мог безотлагательно им
полакомиться; наконец, в спальне на белоснежной
постели возлежал он сам в шлафроке из серого
шелка. Его окружали всевозможные изобретения и
удобства. Там были механические руки, при
необходимости пододвигавшие поближе перо и
чернила, конторка для письма, самостоятельно
ездившая туда-сюда, думаю, что и ночной горшок после
нажатия пружины предлагал свои услуги. Гентц
178
Автобиография
принял меня холодно, но вежливо. Мою пьесу он,
разумеется, получил и прочитал, но уже отдал.
Я ушел. Новый круговорот, новая неизвестность,
а под конец — исчезновение всех дальнейших
следов.
Каждый может себе представить, в какое
состояние это меня повергло. Мне даже не пришло
в голову искать новый сюжет, ибо если уж этот —
лояльный и патриотический — встретил
возражения, что же вообще можно было протащить.
И тут наконец пришла помощь с той стороны,
откуда ее меньше всего ждали. Нынешняя
императрица-мать, в то время — правящая
императрица, была нездорова. К ней пришел поэт Матеус
Коллин, один из учителей герцога Рейхштадско-
го130, вероятно, чтобы доложить об успехах своего
воспитанника. Тут эта образованная женщина
просит его порекомендовать ей книги для чтения.
Он называет ей несколько произведений, но она
их уже знает. "Зайдите в Дирекцию театров, —
говорит она ему, — и спросите, не лежит ли у них
какая-нибудь интересная рукопись. Тогда, если
эту пьесу поставят, я буду смотреть ее с
удвоенным вниманием". Коллин идет в Дирекцию
театров и узнает, что у них нет ничего, кроме
пустяковых фарсов, которые могут обрести какую-то
ценность только благодаря удачной постановке.
Правда, ее величество могло бы заинтересовать
"Величие и падение короля Оттокара", однако
эта вещь уже два года лежит в цензуре и, несмо-
Автобиография
179
тря на все усилия, ее никак не удается оттуда
вызволить. Коллин направляет свои стопы в
Придворный цензурный комитет, и когда там узнают,
кому понадобилась эта пьеса, рукопись
мгновенно находится.
Коллин читает пьесу императрице, и она не
перестает удивляться тому, что эту пьесу хотят
запретить. В эту минуту в комнату входит ее
супруг. Императрица сообщает ему, как она
удивлена: ведь все, что она нашла в этой пьесе,
безусловно положительно и достохвально. "Если дело
обстоит так, — говорит император, — то пусть
Коллин пойдет в цензуру и скажет им, чтобы они
разрешили представление". Коллин,
достойнейший человек, не стал делать секрета из
происшедшего, так что я тоже об этом узнал. Итак,
понадобилась случайность, чтобы произведение,
которое, не считая всего прочего, стоило мне года
исследовательских усилий, не исчезло с лица
земли.
Началась работа над спектаклем. Аншютц
очень хорошо играл Оттокара. Шредер взяла
себе маленькую роль Маргарете. Нашлись
подходящие актеры и для всех других ролей. Я еще
вспоминаю одну странность: Эртёр, игравший
Рудольфа Габсбурга и воспринимавший все
образно, по нездоровью не мог присутствовать на
чтении пьесы и через несколько дней, когда мы с
ним встретились на прогулке по городскому валу,
остановил меня, чтобы посоветоваться насчет
180
Автобиография
трактовки этой роли. "Ну, так как же вы
собираетесь играть Рудольфа?" — спросил я. Ответ
был: "Наполовину как императора Франца, а
наполовину как святого Флориана"131. "Очень
хорошо", — заметил я. Мы разошлись, и Эртёр
исполнил свою роль в высшей степени
удовлетворительно.
Когда наступил день премьеры, была давка,
какой в Придворном Бургтеатре не знали ни до,
ни после этого. К сожалению, я не мог приписать
этот наплыв зрителей исключительно себе —
причиной, скорее, послужил слух, будто бы пьеса
была запрещена цензурой, что открывало
публике виды на возможный скандал. Когда же всё
прозвучало лояльно и безобидно и даже попытки
связать давно прошедшие события с новыми и
с ныне живущими людьми по-настоящему не
удались, многие почувствовали себя отчасти
разочарованными в своих ожиданиях. Вместе с тем
форма исторической драмы в то время была еще, к
счастью, мало распространена, публика еще не
отдавала себе отчета в том, что такие вещи надо
рассматривать не как миниатюры, поднося их
близко к глазам, а как картину на потолке, то есть
на некотором расстоянии. Ситуации, доведенные
до крайности, из-за недостаточной дистанции
казались преувеличенными, людям недоставало
неуклонной и естественной последовательности
событий. Дело в том, что сама публика была еще
естественной, она еще не взобралась на ту высо-
Автобиография
181
ту, на которой ей не нравится ничего, кроме того,
что ее коробит, а ее одобрению придает
видимость высокой образованности. Была буря
рукоплесканий, точнее, поскольку давка не давала
простора для рукоплесканий, люди восторженно
кричали и топали ногами, но я заметил, что
впечатление у зрителей до глубины души не
проникло. Аплодисменты повторялись и на следующих
спектаклях, невзирая на это казалось, будто
пьеса провалилась, во всяком случае, друзья и
знакомые меня избегали, словно опасаясь разговора
о последнем театральном событии. Хуже всего
было говорить с поклонниками моей "Сапфо":
они применяли к одной пьесе то, что относилось к
другой, как будто бы не имели ни малейшего
представления о различии сюжетов, и я обходил
те немногие дома, какие до тех пор посещал, дабы
не быть вынужденным опровергать
"профессиональные" возражения.
То, о чем остальные только шептались, с
величайшим возмущением высказывали вслух
жившие в Вене богемцы. Чешская нация привыкла
рассматривать короля Оттокара как
кульминационный пункт своей истории. В этом чехи
совершенно правы, однако когда они наделяют его
сплошь похвальными свойствами, то их
опровергает уже то обстоятельство, что его новые
подданные обернулись против него, а старые его
покинули. В целом моя трактовка и с исторической
точки зрения тоже была достаточно верной. Если
182
Автобиография
же я придал Оттокару черты человека,
прошибающего стену лбом, и, как я назвал это раньше,
"человека из казармы", то сделал это потому, что
передо мной маячила фигура императора
Наполеона, однако нельзя сказать, что Оттокар таким не
был, ибо никто не знает, каким он на самом деле
был. Свидетельства о нем в высшей степени
скудны. Так как я придерживался
преимущественно австрийских источников, основная
фигура — чего, впрочем, требовала сама
драматическая необходимость, — немного отодвинулась в
тень; однако за несколько лет до этого ставилась
пьеса Коцебу "Оттокар"132, в которой герой
превратился в эдакое пугало для детей, хотя злого
умысла при этом ни у кого не было.
Впрочем, настроение богемцев сложилось не
без подстрекательства извне, и нити как будто бы
сходились к одному советнику богемского
происхождения в Государственной канцелярии,
который с самого начала внес свой вклад в цензурные
препятствия. Дело в том, что в Министерстве
иностранных дел ему поручили ведать цензурой,
ибо, как полагали, там он при своей бездарности
может причинить наименьший вред. Чтобы
обрисовать его и то, как тогда действовала цензура,
хочу привести здесь одну удачную шутку, хотя
меня самого она не касается. Барон Хормайр, у
которого было достаточно ума и остроумия,
однако недоставало добросовестности и настоящего
усердия, написал для издаваемого им историче-
Автобиография
183
ского карманного календаря статью "Филиппина
Вельзер"133. Когда эта статья попала в руки
вышеупомянутого цензора из Государственной
канцелярии, он объявил, что об этой материи судить
не может. Поскольку речь идет о мезальянсе в
императорском доме, то надо прежде всего
спросить главу дома — самого императора. "Это,
конечно, верно в том случае, — ответствовал Хор-
майр, — если вы хотите помешать эрцгерцогу
Фердинанду жениться на Филиппине Вельзер.
Поскольку же эта свадьба на самом деле
состоялась еще триста лет тому назад, то мне неясно,
что тут мог бы прибавить или убавить глава
царствующего дома".
Национальное возбуждение, возникшее в Вене
среди студентов-богемцев, докатилось до Праги.
Я получил оттуда анонимные письма с
угрозами, — одно из них я сохранил, — хамские выпады
начинались там уже на конверте, а в самом письме
мне грозили адскими муками за чудовищную
клевету. Дело дошло до того, что, когда следующей
осенью я задумал путешествие в Германию и при
этом хотел завернуть в Прагу как в один из
интереснейших городов, мои друзья решительно не
советовали мне это делать, так как усматривали в
возбуждении тамошних умов опасность для меня.
Несмотря на это возбуждение и предостережения
друзей, я поехал через Прагу и за три дня своего
пребывания там хоть и ловил на себе косые
взгляды, но больше ничего неприятного не испытал.
184
Автобиография
Какими бы смешными ни казались мне, с
одной стороны, эти преувеличенные, но в основе
своей достохвальные национальные чувства, тем
огорчительнее было для меня, именно из-за дос-
тохвальности этой основы, что я ненамеренно дал
повод досточтимому и входящему в то же
государственное объединение племени использовать
мой безобидный труд для поношений и
оскорблений. Я поистине не знал, что мне теперь делать.
Куда бы я ни пришел, я на это наталкивался, а
там, где ждал благодарности, на меня возлагали
ответственность за чужие глупости. Какое
несчастье для Австрии, что в число составляющих ее
стран входят две самые тщеславные нации на
свете, то есть богемцы и венгры. Тогда это
тщеславие еще дремало и было скрыто под стремлением
к всеобщему образованию; когда же в
дальнейшем немецкая литература принялась
превозносить национальное, но при этом не призывала
немцев к сохранению их собственного
национального характера, а пыталась навязать им
совершенно новый характер, превратить их из
спокойного, разумного, скромного, исполнительного
народа в глотателей огня и пожирателей мира, тогда
чехи и мадьяры перевели немецкую глупость
непосредственно в "богемскую" и "унгрскую",
вообразили себя оригинальными в подражании и
породили ту сумятицу идей, которая в 1848 году
проложила себе столь кровавый путь. При этом
они забыли, не считая всего остального, что на-
Автобиография
185
родность — это не народ, так же как наречие или
диалект — не язык, и кто не может быть
самостоятельным, должен к кому-то прислониться.
Поскольку при царившем тогда в Германии
ожесточении против Австрии я не мог надеяться,
что найду для моего "Оттокара", насквозь
выдержанного в австрийском духе, место на других
немецких сценах, а на родине в то же время
опасался повторных придирок цензуры, то
одновременно с постановкой на сцене отдал пьесу в
печать, причем произошло нечто примечательное:
мой издатель за один день, а именно — день
премьеры спектакля, продал девятьсот экземпляров,
правда, позднее этот уровень сбыта снизился до
обычного.
Как уже опубликованную пьесу, за которую не
надо было платить гонорар, "Оттокара" поставил
еще один венский театр — "Ан дер Вин". О том,
какой оказалась эта постановка, можно судить
вот по чему: актер, которому была поручена роль
Оттокара, господин Ротт, ныне ангажированный
в Берлине, на другой день после премьеры в Бур-
гтеатре спросил одного моего знакомого, каков
был успех спектакля, и прежде всего
поинтересовался тем, каким Аншютц изобразил Оттокара.
Когда тот сказал: "суровым, энергичным,
жестким", Ротт, еще совсем не знавший пьесы,
возразил: "Я сыграю его мягким".
Я должен привести по этому поводу еще один
анекдот, и не какой-нибудь, а цензурный анекдот.
186
Автобиография
Несколько лет спустя я однажды ехал в хит-
цингском экскурсионном экипаже из Хитцинга в
Вену. Сидел я рядом с надворным советником из
Цензурного комитета, который когда-то, будучи
начальником полиции в Венеции, оказал мне во
время моего пребывания в этом городе всяческие
любезности и до того момента был ко мне
неизменно расположен. Он начал разговор с
банальной в то время в Вене фразы: почему я так мало
пишу? Я отвечал ему: он как служащий цензуры
должен был бы лучше всех других знать причину.
«Да, — возразил он, — вот таковы вы все,
господа! Вы неизменно думаете, будто цензура в
заговоре против вас. Когда ваш "Оттокар" два года
лежал в цензуре, вы небось полагали, что
представлению этой пьесы мешает ваш злейший враг,
а знаете, кто ее придерживал? Я! Однако, видит
Бог, я вам отнюдь не враг». — "Но, господин
надворный советник, — возразил я, — что же
опасного нашли вы в этой пьесе?" —
"Решительно ничего, — сказал он, — но я подумал: кто его
знает!.." И эти слова он произнес тоном благоже-
лательнейшего добродушия, так что было
очевидно: чиновник, ведающий делами литературы, не
имеет ни малейшего понятия о литературной
собственности, равно как и о том, что труд писателя
так же имеет право на признание и возмещение,
как работа чиновника или ремесленника.
Мне становилось все яснее, что при таких
обстоятельствах в тогдашней Австрии писателю нет
Автобиография
187
места. Я все глубже погружался в состояние
ипохондрии, в котором меня не вдохновлял ранее
подготовленный сюжет, не приходил на ум и
новый, и это с тех пор стало постоянным в моей
поэтической деятельности. Однако возвращение к
старым сюжетам всегда таит в себе некоторую
опасность. Даже успехи в образовании, какие ты
тем временем сделал, становятся препятствием.
Чувствуешь себя вынужденным изменить план,
что иногда вредно отражается на законченности
формы, а иногда и на целостности восприятия.
Настроение у меня в то время было такое,
словно я уже никогда ничего не напишу. К этому
прибавились еще запутавшиеся сердечные дела.
Я решил положить конец такому состоянию, от-
правясь в путешествие.
Что касается сердечных дел, то я ни здесь, ни
в дальнейшем не стану сообщать о них в
подробностях, хотя они сыграли большую, пусть, к
сожалению, и не самую благоприятную роль в моем
человеческом развитии. Я хозяин своих секретов,
но не секретов других людей. Как любой
нормальный человек, я чувствовал
привлекательность прекрасной половины человечества, однако
был слишком недоволен собой, дабы поверить в
то, что сам я способен за короткое время
произвести сильное впечатление. Что бы то ни было —
неясное представление о поэзии и поэте или
самая тугоплавкость моей натуры, которая если не
отталкивает от себя, то именно из духа противо-
188
Автобиография
речия к себе привлекает, — но я оказывался уже
глубоко вовлеченным, когда полагал, что
нахожусь еще только на первых подступах. Тут тесно
соседствовали счастье и несчастье, хотя второго
было значительно больше, ибо моим истинным
стремлением всегда было сохранять то
неомраченное расположение духа, какое не затрудняло
бы или не делало бы вовсе невозможным
приближение к моему истинному Богу — искусству.
Путешествие — наилучшее средство против
смятения духа. На сей раз моей целью должна
была стать Германия. Великих немцев уже почти
не стало, однако один из них, Гёте, был еще жив,
и надежда поговорить с ним или хотя бы только
его увидеть заранее делала меня счастливым.
Я никогда не был, вопреки тогдашней моде,
слепым поклонником Гёте, как и любого другого
отдельно взятого поэта. Поэзия виделась мне там,
где все они сходились вместе, отдельные
отклонения придавали им отчасти прелесть
индивидуальности, отчасти же они были не избавлены от
общей участи человечества, а именно:
заблуждаться. Прежде всего, Гёте после смерти
Шиллера отвернулся от поэзии и обратился к наукам.
В то время как он делил свой пыл между слишком
многими направлениями, в каждом из них этот
пыл становился слабее, его последние
поэтические произведения были равнодушными или
холодными, а когда он, ради сохранения своей
позиции, обращался к античности, то и манерными.
Автобиография
189
Вялость чувств, которую он сообщил тогдашней
эпохе, возможно, прежде всего способствовала
упадку поэзии, ибо настежь открыла двери
следующей за нею грубости "Молодой Германии"134,
народной поэзии и средневерхненемецкой
бессмыслице; публика была довольна, что ей опять
дают погрызть нечто существенное. От этого
Гёте не перестает быть одним из величайших поэтов
всех времен и отцом нашей поэзии. Клопшток дал
ей толчок135, Аессинг указал путь, Гёте по нему
пошел. Возможно, Шиллер — более
значительное достояние германской нации, ибо народу
нужны сильные, увлекающие его впечатления,
однако Гёте, по-видимому, более крупный поэт.
Он занимает отдельную страницу в развитии
человеческого духа, в то время как Шиллер стоит
посередине между Расином136 и Шекспиром.
Сколь ни мало был я согласен с новейшей
деятельностью Гёте и едва ли мог надеяться, что он,
при его тогдашнем всеотрицающем квиетизме,
удостоит хотя бы упоминания автора "Праматери"
и "Золотого руна", мне все же казалось, что
одного его вида будет достаточно, дабы влить мне в
душу новое мужество. Dormit puer, поп mortuus est137.
Кроме этого чисто католического почитания
реликвий меня влекла в Германию еще и не
вполне осознанная мысль попробовать там
оглядеться — не найдется ли места, где можно было бы
более невозбранно предаться поэзии, чем в
тогдашней Вене.
190
Автобиография
Так что я отправился в путь, притом один, как
всегда любил. В Праге я любовался
воплощенными в камне историческими воспоминаниями
этого великолепного города, и уже готовые
сюжеты из богемской истории требовательно
заявляли о себе у меня в голове. Оттуда я через
Теплиц направился в Дрезден, в почтовой карете, —
возможности путешествовать в то время были
весьма ограничены. Впрочем, дорогу скоротал мне
один пожилой человек, ехавший вместе со своей
молодой женой и без устали превозносивший
Прагу. "Видели вы тамошнее собрание
картин?" — спросил он. Я даже не знал, что в
Праге таковое имеется. "Вот это картины! — сказал
он. — Особенно одна из них — не то Рафаэля, не
то Габриеля, как его там зовут".
В Гисхюбеле я впервые услышал от одного
знатного с виду человека саксонский диалект и
подумал, что сейчас кончусь. Австрийское
наречие — грубое, а саксонское — пошлое и
безвкусное. Еще более причудливое впечатление возникло
у меня, когда невдалеке от Мейсена я услышал,
как довольно хорошенькая официантка
произносит в разговоре с возчиками грубейшие
непристойности на чистейшем немецком языке.
В Дрездене меня так прельстила картинная
галерея, что я почти полностью посвятил ей восемь
дней моего пребывания в этом городе и только в
последний день поехал в Тарант, чтобы немного
насладиться прекрасной природой. Винклер
Автобиография
191
(Теодор Хель)138 принял меня очень хорошо.
Больше я там никого не знал, кроме Тика,
посетившего меня в Вене, и Бёттигера139, с кем я во
времена "Сапфо" однажды обменялся письмами,
причем в ответе ему я рассыпался в самых
восторженных выражениях, поскольку при своей
плохой памяти и слабом знакомстве с немецкой
литературой перепутал его с Бертухом, а сего
последнего поминал добром за его перевод "Дон
Кихота" и заметки об испанской литературе.
Пресмешно получилось, когда я заявился к нему
домой и вместо него застал там молодую
женщину, возможно его дочь, которая как раз вытирала
пыль с небольшой отцовской антикварной
коллекции. В ту минуту она держала в руках
маленькую и весьма непристойную бронзовую фигурку в
плаще, слишком коротком для того, чтобы
прикрыть срамные места, и, разговаривая со мною,
безо всякого смущения продолжала ее вытирать.
Зашел я и к Тику, который пригласил меня на
чтение одной из пьес Шекспира, состоявшееся в
тот же вечер. Читал Тик превосходно, но слушать
его было весьма утомительно, поскольку он не
делал пауз между актами и не обозначал
говоривших действующих лиц ни по именам, ни — за
исключением комических персонажей — переменой
голоса. Поэтому половина его весьма смешанной
публики дремала на своих местах и просыпалась
только заслышав аплодисменты, которые она
живо подхватывала. У меня эта читка вызвала такое
192
Автобиография
напряжение, что мне пришлось в наступавшей
ночи часок погулять на свежем воздухе, дабы
перед сном успокоить возбужденный дух. В один из
следующих вечеров выбор пьесы для чтения Тик
предоставил мне. Чтобы понять, насколько велик
его декламаторский талант, я выбрал античную
драму. Он читал "Эдипа в Колоне" Софокла.
Поразительно было, что читая название, он, в
нарушение размера и ритма, второе "о" в слове
"Колон" произносил как краткое, то есть не знал,
что по-гречески оно пишется как долгое, словно
без зазрения совести взял и подправил текст!
Невзирая на разнообразные дарования Тика, я
всегда его терпеть не мог. В
комически-пародийном жанре он иногда бывал превосходен, и если
бы не его тяготение к бесформенному, он мог бы
стать хорошим комедиографом. Все остальное у
него — вычурное и деланное. Он и Жан Поль140
принадлежат к числу самых ранних губителей
нашей литературы.
Быть может, мне стоит записать здесь мое
мнение о Жан Поле — вдруг позднее у меня не
найдется к тому повода? Жан Поль, в
противоположность Тику, обладал настоящим, искренним
чувством; однако он искал его как лакомства и
оттого впадал в чувствительность. А так как его
фантазия за нею не поспевала, то всякий раз
когда им владело чувство, его осаждали туманные
образы, и если он хотел быть объективным, то
скатывался в пошлость. Соединить чувство и
Франц Грильпарцер между 1820 и 1830 гг.
Рисунок мелом Хейнриха
3
зг
•8-
о
E
3
5
E
о
a
3
3>
a
E
Я)
о
CD <U
^ a
си a
^ с
о? д
о ^
a s
E
a
Софи Шредер в роли Медеи в трагедии
"Золотое руно".
С картины И. Краффта
Франц Грилъпарцер. 1857 г.
Литография А. Даутаге
Si
E
3
a
2<
о
X
Ä
3
О,
00
E
a
si
о
о
2ft
с
3
Франи, Грилъпарцер. 1868 г.
Литография Ф. Аксмана
00
8-
за
а
а
с
S
ж
о
§■
X
о
Автобиография
193
фантазию ему удавалось только в натюрмортах,
именно в них он превосходен.
Кому покажется чересчур суровым, что столь
одаренных писателей называют здесь губителями
искусства, тому следовало бы знать, что
губителями искусства всегда и оказываются даровитые
писатели, ибо только они способны склонить других
к одобрению или подражанию. Бездарных
высмеивают, и они не губят никого, кроме самих себя.
Из Дрездена я поехал в Берлин. Никого из
тамошних литераторов я не знал, но был знаком с
несколькими комиссарами юстиции,
превосходными людьми, которые незадолго до того
побывали в Вене. Один из них был опекуном певицы
Зонтаг141, и как раз в Берлине я и познакомился с
этой моей полуземлячкой. Кёнигштедтский театр
вообще служил тогда основным местом
развлечения. Здание Королевского драматического
театра, если не ошибаюсь, в то время — в 1827-ом
или 1828 году — было только что построено, и в
роскошном старом помещении Оперы всякие
Мильдеры и Зайдлеры уже заметно сходили на
нет. Я присутствовал в Кёнигштедтском театре,
когда там впервые после своей первой поездки в
Париж опять выступила Зонтаг. Германская
публика встретила ее свистом и топаньем. "Долой
француженку!" — орали со всех сторон. Однако
la petite morveuse* ничем нельзя было вывести из
* сопливую девчонку (фр.).
7. Ф. Грильпарцер
194
Автобиография
равновесия, она играла и пела так, словно весь
этот шум не имеет к ней никакого отношения, и
на следующий вечер уже снова была бесспорной
любимицей публики. Она и по сей день все такое
же очаровательное создание.
В литературные круги ввел меня также не
знакомый мне до тех пор литератор, первое
появление коего, однако, сопровождалось мелким и
весьма неприятным несчастным случаем. Я как
раз брился, когда служащий гостиницы "Король
Португалии", где я жил, доложил мне о приходе
какого-то офицера, который желает меня видеть.
Поэтому я быстро прикрыл бритвенные
принадлежности носовым платком и принял
незнакомого посетителя, который явился в полной форме, с
орденами и оказался не кем иным, как бароном де
Ла Мотт Фуке142. Если ныне кто-то называет
имя Фуке, то лица присутствующих кривятся в
насмешливой улыбке, тогда же его ценили так
высоко, что большая часть нации ставила его
рядом с классиком — с Гете. У меня еще
сохранился его гравированный портрет, который со всеми
надписями и эмблемами являл признаки
обожествления. Вообще немца, перешагнувшего за
шестидесятилетний рубеж, охватывает странное
чувство, когда он воскрешает в памяти бесчисленные
повороты во вкусах, непрестанную смену
философских и прочих убеждений, какие он за все это
время пережил, убеждений, сопровождаемых
чрезмерным восторгом, сулящим им вечную
Автобиография
195
жизнь, между тем как через какие-то десять лет
они испарялись без остатка. Гёте, Шиллер и Лес-
синг, пожалуй, единственные во всей нашей
литературе, кто устоял до сего дня, однако никому не
приходит в голову, что ценность этих полубогов
заключалась не только в их таланте, но также и в
тех принципах, какими они руководствовались.
Люди что-то изменяют, улучшают, шагают
вперед и всякий раз опять думают, что нашли верный
путь. И тут у стороннего наблюдателя вдруг
закрадывается сомнение: может ли быть
какой-нибудь толк от такой переменчивой нации, со столь
смутными взглядами и столь шаткой в своих
убеждениях? Это и было причиной, почему я в 1848
году... Но об этом в свое время.
А покамест я в Берлине, Фуке сидит со мною
рядом, наслаждается не совсем незаслуженной
им славой и, несмотря на это, держится так
естественно, просто и мило, как только возможно.
Мне пришлось ему пообещать навестить с ним
вместе его больного друга Франца Хорна143, а он
вызвался ввести меня в литературное общество,
собирающееся по средам144. Несчастье случилось
приблизительно через час, сразу же как он ушел.
Я хотел снова взять свой бритвенный прибор, на
который набросил носовой платок, забыл, что
бритва открыта и схватился через платок прямо
за лезвие, да так, что разрезал верхнюю фалангу
указательного пальца правой руки в аккурат
пополам. Кровь не без усилий остановили с помо-
7*
196
Автобиография
щью воды и посоветовали мне, сколько помню,
приложить к ране трут, который ее заживил,
однако палец так и оставался рассеченным. Я был
вынужден обратиться к помощи хирурга. Из
пальца снова пустили кровь, и затем, в ходе
выздоровления, он в конце концов сросся. Шрам на
нем заметен до сих пор. Эта история немного
омрачила мне пребывание в Берлине и отчасти
послужила причиной того, что я не поехал дальше, в
Гамбург, как собирался вначале.
Тем не менее я продолжал всесторонне
осваивать Берлин. Фуке отвел меня к Францу Хорну,
который лежал в постели и, кажется, превращал
свою болезнь во что-то вроде делового
предприятия. На всем, что он думал и говорил, лежал
какой-то тусклый налет, который я со временем
обнаружил и в его комментариях к Шекспиру.
Он был первым из тех комментаторов, которые,
от Тика до Гервинуса145, изо всех сил старались
сделать этого понятнейшего изо всех поэтов
непонятным. Когда я называю Шекспира
понятным, я не имею в виду, что его можно
растолковать. Растолковать какое-либо явление природы
вообще невозможно, а следовательно, не
поддается толкованию и вполне натуральный предмет
искусства. Однако того самого Гамлета, которого
Гёте тщетно пытался логически осмыслить146,
понимает портной с четвертого яруса, то есть он
находит естественным, что люди ведут себя так, а
не иначе, и почти всё постигает одним острым
Автобиография
197
восприятием. Но сопереживать поэтическое
произведение значит его понимать. Мы, мелкие
поэты, вынуждены придерживаться логики
природы; но великие поэты велики лишь потому, что
способны применить и воплотить даже то, что в
природе не согласуется.
Мне помнится, что опять-таки Фуке ввел
меня в литературное общество, собиравшееся по
средам. Собрание было немноголюдным, так как
в прекраснейшее время года большинства его
участников в Берлине не было. Я познакомился
там с Фарнхагеном и с Шамиссо147 — со своими
длинными волосами он мне очень понравился.
Фарнхаген пошел домой вместе со мной. Когда
мы подошли к дому, где он жил, он сказал, что
хотел бы познакомить со мной свою жену, — ту
позднее столь знаменитую Рахель148, о которой я,
однако, в то время ничего не знал. Я целый день
был на ногах и до смерти устал, так что очень
обрадовался, когда у дверей нам сказали, что
госпожи легационной советницы нет дома. Но когда
мы спускались по лестнице, нам встретилась эта
дама, и я покорился судьбе. И вот стареющая,
возможно никогда не блиставшая красотой,
скрюченная болезнью, немного похожая на фею,
чтобы не сказать — на ведьму, женщина начала
говорить, и я был очарован. Усталость моя
испарилась, или, скорее, уступила место чему-то
вроде опьянения. Женщина говорила и говорила, до
полуночи, и я уже не помню — то ли они меня вы-
198
Автобиография
ставили, то ли я ушел сам. Никогда в жизни я не
слышал, чтобы кто-нибудь говорил интересней и
лучше. К сожалению, это произошло к концу
моего пребывания в Берлине, поэтому я не смог
прийти туда еще раз.
Уже в первые дни после моего приезда ко мне
пришел некий Штиглиц149. Не знаю, был ли это
тот самый поэт, который позднее приобрел столь
печальную известность из-за самоубийства его
жены, или его однофамилец. Моя длящаяся по
сей день литературная невинность часто
вовлекала меня в недоразумения и путаницу. Этот
Штиглиц, как говорили, был любимым учеником
Гегеля. После обмена любезностями он спросил, не
угодно ли мне нанести визит великому философу.
Я ему ответил, что не решусь на это, поскольку
не имею ни малейшего понятия о воздействии его
взглядов и об их системе. Тут он мне сообщил,
что явился с ведома Гегеля, который хочет со
мной познакомиться. Так что я пошел с ним и
повторил учителю то, что сказал ученику: причина,
почему я не посетил его раньше, состоит в том,
что у нас дошли только до старика Канта, а
потому его, Гегеля, система мне совершенно
неизвестна. Тем лучше, к крайнему моему удивлению,
заметил философ. Казалось, будто он особенно
заинтересовался моим "Золотым руном", хотя мы
и этого, и других произведений искусства
касались только в общих чертах. Я нашел Гегеля в той
же мере приятным, разумным и миролюбивым, в
Автобиография
199
какой позднее счел его систему путаной и
неприемлемой. Он пригласил меня назавтра к себе на
чашку чая, там я познакомился с его безыскусно -
простой женой, а также встретил милейшую
госпожу Зонтаг. Так что вечер прошел среди
оживленной беседы и музыки, и никто никому
нравоучений не читал. Именно тогда я получил второе
приглашение, уж не помню на обед или на ужин,
причем Гегель заодно попросил у меня
дозволения позвать одного из моих земляков. Я ответил,
что любой человек, коему он окажет честь своим
приглашением, будет столь же любезен и мне. В на-
зваченный день выяснилось, что под "земляком"
подразумевался господин Сафир из Вены150,
который как раз тогда творил свои безобразия в
Берлине, однако по отношению в философу
держался чрезвычайно молчаливо и подобострастно.
Мне сказали, что Гегель ему покровительствует,
отчасти потому, что ему нравятся нередко
поистине удачные шутки Сафира, отчасти же ради
того, чтобы с его помощью при случае высмеивать
своих противников. Это был единственный раз,
когда я очутился под одной крышей с господином
Сафиром.
О моем телесном благополучии, не
пренебрегая и духовным, пеклись четыре или пять
комиссаров юстиции, с двумя из коих я познакомился в
Вене, с остальными же, через посредство первых
двоих, в Берлине. Один за другим звали они меня
в себе в гости, благодаря чему я мог заметить, что
200
Автобиография
хотя в повседневной жизни Берлин куда
скромнее, чем Вена, тамошние званые обеды и ужины
оставляют венские далеко позади. Поскольку
один из этих людей был содиректором Кёниг-
штедтского театра, а другой — опекуном Зонтаг,
то сама очаровательница весьма редко
пропускала эти собрания. Наиболее усердным из этих
людей был комиссар юстиции Маршан, который
вместе со своей превосходной женой осаждал
меня своими заботами. Он водил меня повсюду, где
имелась какая-нибудь местная
достопримечательность, среди прочих и в винный погребок
Лютера и Вегенера, где обычно проводил вечера
фантастический Гофман151. Сам Гофман — еще
одна несправедливо забытая знаменитость —
незадолго до того умер, и его собутыльники сидели
молча и врозь. В конце концов явился и их
матадор, актер Людвиг Девриент152. Когда меня ему
представляли, у него был какой-то
отсутствующий вид, а позднее, в ответ на мой вопрос, где он
живет, он взглянул на меня так, словно его
удивило само предположение, будто он знает, где
живет. Только после нескольких бокалов вина он
вышел из отупения. Впрочем, увидеть Девриента на
сцене мне тогда не довелось, потому что, как я
уже говорил, в Драматическом театре шло
строительство. Через несколько лет он приехал в Вену,
и тогда я тоже видел его не в самых значительных
ролях, ибо когда он играл более значительные,
театр был переполнен. Поэтому я не помню како-
Автобиография
201
го-либо собственного впечатления от его игры,
которое соответствовало бы его громкой славе.
Должен только отметить как нечто
поразительное одно физиологическое явление. Девриент
играл Франца Моора153 в театре "Ан дер Вин", и я
сидел в одной из первых боковых лож. Его и всех
других я видел, по причине своей крайней
близорукости, весьма нечетко. И вот, в сцене, когда
отец падает без чувств, а сын, полагая, что старик
мертв, с дьявольской радостью вскидывает
голову, я отпрянул назад, так как подумал, что
Девриент впрыгнет ко мне в ложу, — до такой степени
отчетливо, до малейшей черточки, увидел я вдруг
его лицо, и четкость видения претворилась в
чувство приближения.
Вспоминается мне и второй, похожий случай.
Меня интересовала одна очень красивая
женщина, которая жила в Вене на так называемой
Шток-ам-Айзенплатц, на четвертом этаже. В один
прекрасный день, когда я, пройдя по площади
Святого Стефана, находился еще довольно
далеко от важного для меня дома, то заметил в окне
четвертого этажа что-то белое, что с одинаковым
успехом могло быть мужчиной или женщиной, а
возможно, и чем-то из развешанного белья.
Однако в следующий миг я разглядел черты моей
знакомой, являвшие такое портретное сходство,
что я мог бы сразу запечатлеть их на слоновой
кости или на холсте. Это вызвало у меня
предположение, что моя близорукость объясняется не
202
Автобиография
свойством хрусталика, а слабостью зрительного
нерва, которая благодаря волнению и приливу
крови иногда перестает сказываться. Из-за
своего зрения, которому слабые стекла не помогают,
а сильных оно не переносит, я все больше и
больше отвыкал от посещения театров и в конце
концов отвык совсем. Вот уже более десяти лет, как
я совсем перестал ходить в театр.
Возможностей познакомиться с
высокопоставленными лицами было тоже немало. Меня хотели
ввести в чайный кружок одного министра, —
кажется, его фамилия была Штегеман, от чего я,
однако, отказался, поскольку не люблю ни чая,
ни министров. Меня так часто подбивали нанести
визит князю Витгенштейну, главному
смотрителю театров, что мне начинает казаться, будто бы
было намерение наладить мне связь с берлинским
театром. Однако я туда не пошел, ибо
театральная сцена вообще — это красавица, за которой я с
удовольствием буду ухаживать, но на которой
отнюдь не собираюсь жениться. Кроме того, как бы
ни понравился мне Берлин, Вену он мне заменить
не мог. Не говоря уже о красоте природы вокруг
столицы Австрийской империи, в Вене настолько
же мало образованности, насколько в Берлине ее
чересчур много. А немецкая образованность
имеет то отличие, что она чересчур охотно
отдаляется от здравого суждения и естественного чувства.
К тому же мне претило единогласие
литературных мнений. В Вене я часто радовался, когда кто-
Автобиография
203
то говорил мне, что находит Гёте скучным, а
Шекспира грубым; и радовался я не потому, что
с этим человеком соглашался, — мне было
приятно, что, задавая свой вопрос, я не мог заранее
предвидеть ответ. Ныне такое единогласие
господствует — или еще недавно господствовало —
во Франции, однако там оно вытекает из
характера нации — как некий вид естественной
необходимости; в Германии же мнения, присущие той
или иной котерии, насильно навязываются нации
в противность ее натуре — что показывают хотя
бы вечные перемены.
Раз уж я об этом заговорил, то мне хочется
задать себе вопрос: в чем, при всех
обстоятельствах, может заключаться причина этой
литературной трусости немецкой нации или, скорее,
немецкой публики, то есть так называемой
образованной части этой в столь многих отношениях
превосходной нации? Мне видится, что причина,
возможно, лежит в обусловленном климатом
отсутствии сильной натуры, в холодности, чтобы не
сказать тупости, органов восприятия и
соответствующих им желаний, вследствие чего
действительность оказывает на них лишь слабое
впечатление. Или если бы это впечатление в целом было
бы даже сильным, то здесь недоставало бы
различия составных частей, бесконечного
разнообразия, какое являет собой их соединением в целом.
В силу этого их влечет к общим местам и к
абстракциям, которые, поскольку ум не находит для
204
Автобиография
них достаточного оправдания, а в самой
действительности у них нет ни масштаба, ни контраста,
можно произвольно прибавлять или убавлять.
Как только вы, как кажется, убедили их разум, за
ним, подчиняясь ему, следует природа. Этому как
будто бы противоречит, что в эпоху Ифлан-
да—Коцебу154 именно изображение подробностей
бюргерской жизни доставляло людям счастье.
Но вместе с тем такие угнетенные умы радуются,
когда их внимание обращают на различия, от них
самих ускользнувшие: только тогда отсутствует
духовная связь, тот подъем души, какой,
собственно, и составляет истинное эстетическое
наслаждение. Эта управляемость, против которой
утверждения: "Это мне нравится" или "Это мне не
нравится" — доводами не служат, и есть то, что я
назвал трусостью немецкой публики. Однако
трусливая публика в конце концов неизбежно
порождает бесстыжую литературу.
Когда я за день до моего отъезда из Берлина
пришел попрощаться к своей землячке певице
Зайдлер, то застал у нее одного саксонского
графа, который вздумал поухаживать за этой уже
начинавшей стариться, но все еще красивой
женщиной. Он вручил ей блистательные подарки, их
она с благодарностью приняла, не подпустив его
ни на шаг ближе к себе. Когда он услышал, что я
направляюсь в Лейпциг, то вызвался быть моим
попутчиком, на что я охотно согласился. На
другой день мы отправились в дорогу, притом через
Автобиография
205
Потсдам и Сан-Суси155, посещение которых я как
раз и отложил до этого случая. Там мы хотели
собрать все воспоминания о Фридрихе Великом156,
который был мне всегда противен, но это не
помешало ему остаться великим. Особенно в
сравнении с Наполеоном, ибо величие Фридриха
ярче всего сияло в несчастье, тогда как у
Наполеона в такую пору оно всякий раз, и очень
заметно, гасло.
Оттуда мы отправились в Лейпциг. Пока у
меня хватало денег, почтовых лошадей и другие
расходы оплачивал я. Однако в середине
нашего путешествия я посчитал, что теперь пора
платить моему попутчику. Но тут-то к обоюдному
ужасу выяснилось, что у него нет ни гроша.
Дело в том, что когда в Берлине я прощался с
госпожой Зайдлер, то сказал, что должен пойти
к банкиру и взять деньги со своего счета. Но,
пересчитав свою наличность, я убедился, что на
половину дорожных расходов ее хватит, и
решил воспользоваться аккредитивом только в
Лейпциге. Мой граф, растративший свои
деньги в Берлине, услыхав, что я сказал у госпожи
Зайдлер, не усомнился в том, что я при деньгах,
и вполне по-дворянски решил до Лейпцига
оставаться моим должником. Но тут подошла
нужда, и моему спутнику пришлось пошире
раскрыть свой, как выяснилось, довольно-таки
тощий кошелек. Однако поскольку он находился у
себя на родине и принадлежал к одной из наи-
206
Автобиография
более знатных фамилий Саксонии, то один раз
нашелся почтмейстер, давший ему лошадей в
долг, другой раз — некто, ссудивший ему
несколько талеров, так что мы прибыли в Лейпциг
как два голодранца.
Там была ярмарка, и город полнился гостями.
Мой граф, однако, раздобыл мне комнатенку в
гостинице "Бавария", владельцу коего он, назвав
мое имя, отрекомендовал меня как поэта из Вены.
Но хозяин отеля знал лишь одного венского
сочинителя — остряка Кастелли157. Так что за него он
меня и посчитал, и потому выказывал мне
всяческое внимание. Я же, следуя девизу Веспасиа-
на158, с удовольствием все это принимал и при
этом прекрасно себя чувствовал.
В Лейпциге я познакомился с профессором
Вендтом, — который, из-за того что его по
причине сходно звучавших фамилий спутали с
человеком по фамилии Вест, доставил мне знакомство
со Шрейфогелем, — а также с советником
юстиции Блюмнером, человеком весьма образованным
и даже разбиравшимся в искусстве. С ними и с
моим некредитоспособным, однако отнюдь не
малообразованным попутчиком я весьма приятно
провел три дня.
Чем ближе подходил срок моего отъезда, тем
тяжелее становилось у меня на душе. Путь мой
лежал теперь в Веймар. С одной стороны, я
этому радовался, с другой — мое мнение о самом
себе, и без того не слишком высокое, падало все
Автобиография
207
ниже и ниже. Впрочем, не ехать было нельзя, и я
сел в дилижанс. В Вайсенфельзе, где жил тогда
ценимый и внушавший страх Адольф Мюльнер,
мы остановились пообедать. Я поехал дальше, не
посетив его, хотя меня подбивал это сделать даже
кельнер в трактире, подкрепляя уговоры тем, что
господин доктор весьма охотно принимает у себя
приезжих. Этот человек повел себя со мной
просто подло. Злобность Мюльнера не мешала ему
быть, пожалуй что, последним критиком,
сведущим в эстетических вопросах. Ибо с тех пор было
утрачено понятие искусства, которое Мюльнер,
по крайней мере, еще крепко держал.
Наконец я прибыл в Веймар и остановился в
известной в то время всей Германии гостинице "У
слона", словно бы передней веймарской Вальгал-
лы159. Оттуда я послал к Гёте лакея с моей
визитной карточкой и с просьбой узнать, могу ли я
себе позволить нанести ему визит. Лакей
вернулся с ответом: у господина тайного советника гости,
так что сейчас он принять меня не может. Он ждет
меня вечером к чаю.
Я пообедал в трактире; благодаря моей
визитной карточке, слух о моем приезде разнесся по
городу, так что недостатка в знакомствах я не
испытывал.
Под вечер я отправился к Гёте. В его гостиной
я застал большое общество, ожидавшее
появления тайного советника. Поскольку среди
собравшихся были те, кто присутствовал у Гёте на обе-
208
Автобиография
де — надворный советник Якоб или Якобе с
дочерью, столь же юной, сколь и красивой, и столь
же красивой, сколь образованной, той самой, что
позднее снискала себе литературную известность
под именем Тальви160, — то моя робость вскоре
прошла, и в разговоре с этой милой девушкой я
почти забыл, что нахожусь у Гете. Наконец
отворилась одна из боковых дверей, и вошел он сам.
Одетый в черное, с орденской звездой на груди,
с прямой, почти чопорной осанкой, он появился
среди нас, словно монарх, дающий аудиенцию.
Гёте перебросился несколькими словами с
некоторыми из. гостей и наконец подошел ко мне, а я
стоял на другом конце комнаты. Спросил меня, в
большом ли ходу у нас итальянская литература.
Я ему ответил правдиво, что итальянский язык у
нас, во всяком случае, очень распространен, так
что все служащие обязаны его изучить.
Итальянская литература, напротив того, никакого интереса
не вызывает, и, следуя моде, люди обращаются
скорее к английской, которая при всех ее
достоинствах все же несколько грубовата, а это, при
нынешнем состоянии немецкой культуры,
особенно поэтической, мне отнюдь не кажется
полезным. Понравилось ли ему это мое
высказывание или нет, я знать не могу, полагаю, что скорее
не понравилось, поскольку как раз в то время он
состоял в переписке с лордом Байроном. Он от
меня отошел, поговорил с другими, вернулся ко
мне, о чем-то заговорил, — уже не помню, о
Автобиография
209
чем, — потом окончательно удалился, и мы были
отпущены.
Признаюсь, что к себе в гостиницу я вернулся
с крайне неприятным чувством. Не потому, что
было задето мое тщеславие. Напротив: Гёте
обошелся со мной приветливей и внимательней, чем я
мог ожидать. Но то, что я увидел идеал своей
юности, автора "Фауста", "Клавиш" и
"Эгмонта" в облике чопорного министра, предлагающего
своим гостям чай, заставило меня свалиться с
облаков. Если бы он наговорил мне грубостей и
вытолкал за дверь, то был бы мне даже милее.
Я почти жалел о том, что приехал в Веймар.
Вследствие этого я решил употребить
следующий день на осмотр достопримечательностей
Веймара и заказал в гостинице лошадей на
послезавтра. На другое утро меня посетили самые
разные люди, в их числе — любезный и почтенный
канцлер Мюллер161, но прежде всего — мой
земляк, уже много лет служивший в Веймаре
капельмейстер Гуммель162. Он покинул Вену еще до того,
как я обратил на себя внимание своими
поэтическими трудами, так что раньше мы с ним друг
друга вовсе не знали, теперь же радость, с какою
этот обычно сухой в общении человек меня
приветствовал и мною занимался, была просто
трогательной. С одной стороны, я привез ему
воспоминания о его родном городе, покинутом против
воли, кроме того, ему, наверное, было приятно, что
в Веймаре, где ему приходилось слышать лишь
210
Автобиография
уничижительные суждения о духовных
дарованиях Австрии, его земляка славят и чествуют как
литератора. Наконец-то ему представился случай
поговорить с венцем по-венски — этот диалект он
сохранил в среде иноговорящих чистым и
неподдельным. Может быть, это сказался контраст, но
я еще никогда в жизни не слышал, чтобы кто-либо
так плохо говорил по-немецки. Пока мы
договаривались о посещении отдельных
достопримечательностей Веймара, а канцлер Мюллер, который
должно быть заметил мое упавшее настроение,
уверял меня, что натянутость Гёте — это не что
иное, как собственное смущение, охватывающее
его всякий раз, когда он впервые встречается с
незнакомцем, — вошел лакей и принес карточку с
приглашением на следующий день на обед к Гете.
Поэтому мне пришлось еще задержаться в
Веймаре и отказаться от лошадей, уже заказанных на
завтра. Утро ушло на осмотр тех мест в городе,
что получили литературную известность. Больше
всего заинтересовал меня дом Шиллера и прежде
всего то обстоятельство, что в кабинете поэта —
собственно, чердачной каморке на третьем этаже
дома — сидел глубокий старик, якобы служивший
еще при Шиллере суфлером в театре, и учил
читать мальчонку — своего внука. Открытое и
оживленное лицо ребенка порождало иллюзию, что
из рабочей комнаты Шиллера со временем мог
выйти новый Шиллер, что, однако, не
свершилось.
Автобиография
211
Что именно происходило в следующие дни, я
помню смутно. Кажется, в первый из них я
обедал у Гуммеля как единственный гость вместе с
ним и его семьей. Там я встретил его жену,
некогда такую красивую певицу мамзель Рёккель,
которая еще живо помнилась мне в костюме пажа
и туго обтягивающем шелковом трико. Теперь это
была деятельная достопочтенная хозяйка дома,
которая соперничала в радушии со своим
супругом. Я чувствовал, что к этой семье меня влечет
искренняя любовь, при этом самого Гуммеля,
несмотря на несколько ремесленный оттенок его
убеждений, я уважал и чтил как последнего
подлинного ученика Моцарта.
Вечером мы с канцлером Мюллером ходили в
театр, где давали какую-то малозначительную
пьесу, в которой, однако, играл 1рафф — первый
исполнитель роли шиллеровского Валленштейна.
Я не усмотрел в нем ничего выдающегося, и
когда мне рассказали, что после того, первого,
представления Шиллер взбежал на сцену, обнял
Граффа и вскричал: "Только теперь я понял
своего Валленштейна!" — я подумал: насколько
более великим стал бы великий поэт, если бы ему
довелось когда-нибудь хорошенько узнать
публику и настоящих актеров. Впрочем, не перестает
удивлять, как, в сущности, малообъективный
Шиллер в представлении на театре достигает
столь высокой объективности. Он становился
образным, когда сам считал себя только красноре-
212
Автобиография
чивым. Это еще одно доказательство его
несравненного таланта. У Гёте — полная
противоположность. В то время как его преимущественно
называют объективным, и он большей частью такой и
есть, его персонажи на сцене проигрывают. Его
образность пригодна только для воображения, в
действительности весь нежный поэтический
налет прямо-таки с неизбежностью пропадает.
Впрочем, это более поздние размышления,
которые сюда совершенно не относятся.
В конце концов наступил роковой день с его
обеденным часом, и я пошел к Гёте. Остальные
гости были уже в сборе, притом исключительно
мужчины, поскольку невестки Гёте, которая
позднее, как и ее рано умершая дочь, стала мне так
дорога163, в то время в Веймаре не было, а
милейшая Тальви уже наутро после описанного
вечернего чаепития уехала вместе со своим отцом.
Когда я вошел в комнату, Гёте двинулся мне
навстречу и был настолько же любезен и сердечен,
насколько незадолго перед тем был сух и
холоден. Это растрогало меня до глубины души.
Когда надо было идти к столу и человек, бывший для
меня воплощением немецкой поэзии, который в
отдалении, на неизмеримом расстоянии, стал для
меня почти мифической фигурой, взял меня под
руку, чтобы проводить в столовую, во мне снова
проснулся маленький мальчик и я расплакался.
Гёте приложил все усилия к тому, чтобы
замаскировать мою дурость. За столом я сидел с ним ря-
Автобиография
213
дом, и он был таким веселым и разговорчивым,
каким его, по позднейшим уверениям гостей, уже
давно не видели. Разговор, который он оживлял
своим участием, стал общим. Но Гёте часто
обращался лично ко мне. Однако о чем он говорил, я
уже не помню, — за исключением одной удачной
шутки касательно "Миттернахтсблатт" Мюльне-
ра. К сожалению, дневника этого путешествия я
не вел. Вернее, я начал было его вести, но когда
в Берлине поранил себе руку, то сначала совсем
писать не мог, потом делал это с трудом, и так
возник большой пробел. Это отчасти отбило у
меня охоту продолжать записывать, к тому же
затруднения при письме продолжались у меня
еще и в Веймаре. Поэтому я решил восполнить
недостающее сразу по возвращении в Вену,
пока мои воспоминания будут еще свежими. Когда
же там, как будет видно дальше, на первый план
выдвинулось другое занятие, все это забылось, и
от этого (чуть было не сказал — важнейшего)
момента моей жизни я не сохранил в памяти
ничего, кроме общих впечатлений. Из застольных
происшествий мне еще памятно только то, что,
увлеченный разговором, я в силу своей
замечательной привычки крошил лежавший возле меня
хлеб и таким образом плодил не украшавшие
стол крошки. Тогда Гете стал постукивать подле
них пальцем и собирать их в аккуратную кучку.
Я только позднее это заметил и прекратил свое
рукоделие.
214
Автобиография
Прощаясь, Гёте пригласил меня прийти на
следующее утро, чтобы позировать художнику. Дело
в том, что у него была привычка заказывать
специально приглашенному рисовальщику портреты
грифелем тех из его гостей, которые его
заинтересовали. Эти портреты затем помещались в раму,
висевшую для того в гостиной, и каждую неделю
заменялись один за другим. Мне тоже была
оказана эта честь.
Когда на другое утро я туда явился,
художника еще не было. Поэтому меня направили к Гёте,
который расхаживал взад-вперед по своему
садику. Тут мне открылась причина той застывшей
позы, какую он принимал при посторонних.
Старость прошлась по нему не бесследно. Когда он
вот так шагал по садику, были заметны его
согбенная спина и наклон головы и шеи. Это он и
хотел скрыть от посторонних глаз, отсюда — та
вымученная прямая осанка, которая производила
неприятное впечатление. Его вид в естественной
позе, одетого в долгополый домашний сюртук, в
шапочке с козырьком на седых волосах являл
собой нечто бесконечно трогательное. Он выглядел
то ли королем, то ли отцом. Мы беседовали,
прохаживаясь туда-сюда. Он упомянул мою
"Сапфо", которую как будто одобрял, что было в
некотором смысле похвалой самому себе, ибо я,
так сказать, возделывал его ниву. Когда я
пожаловался на свое изолированное положение в Вене,
он сказал то, что мы с тех пор читали в его сочи-
Автобиография
215
нениях: что человек может действовать только в
обществе равных или подобных себе. Если он и
Шиллер стали теми, кем признает их свет, то они
обязаны этим большей частью такому
поощряющему и дополняющему взаимодействию. Тем
временем пришел художник. Мы с ним пошли в дом,
где он принялся меня рисовать. Гёте удалился к
себе в комнату, откуда время от времени выходил
и убеждался в том, что работа над портретом
продвигается, — по завершении ее он остался
доволен результатом. После ухода художника Гёте
велел своему сыну принести кое-что из его
сокровищ, достойное обозрения. В их числе была его
переписка с лордом Байроном, все, что
относилось к его знакомству в Карлсбаде с
императрицей и императором Австрии, наконец, дарованная
ему австрийским императором привилегия
переиздания в Австрии собрания его сочинений.
Последней он, казалось, придавал большое значение —
либо потому, что ему нравилась консервативная
позиция Австрии, либо наперекор всем прочим
литературным событиям в этой стране — как
курьезу. Его сокровища, наполовину восточного
происхождения, были со всем, что к каждому из
них прилагалось, завернуты в шелковые платки, и
Гёте обращался с ними с неким почтением. В
конце концов со мною любезнейшим образом
распрощались.
Днем канцлер Мюллер предложил мне под
вечер нанести визит Гёте. Я застану его в одиноче-
216
Автобиография
стве, и мой визит отнюдь не будет ему неприятен.
Только позднее я догадался, что Мюллер не мог
сказать это без ведома Гёте.
Тут я сотворил мою вторую веймарскую
глупость. Я побоялся целый вечер оставаться
наедине с Гёте и после некоторых сомнений и
колебаний не пошел к нему вовсе.
Этот страх состоял из множества элементов.
Во-первых, во всем, что я знал, я не видел
ничего такого, что можно было бы преподнести Гёте.
К тому же свои собственные произведения я
научился ценить в сравнении с трудами моих
современников лишь по прошествии времени, на
расстоянии от сделанного, а уж здесь, в родном
городе немецкой поэзии, они казались мне в
высшей степени сырыми и незначительными. И,
наконец, я уже говорил, что покинул Вену с таким
чувством, будто мой поэтический талант
совершенно иссяк, и это чувство усилилось в Веймаре
до полной подавленности. Однако петь перед Гёте
жалобные песни и принимать от него ничем не
подкрепленные утешения мне все же казалось
слишком недостойным.
Впрочем, крупица смысла в этой бессмыслице
все-таки присутствовала. Мне было известно
отвращение Гёте ко всему резкому и
насильственному. Но у меня сложилось мнение, что
спокойствие и размеренность подобают только тому, кто
способен вложить в произведение столь же
огромное содержание, какое Гёте вложил в "Ифи-
Автобиография
217
гению" и в "Тассо"164. В то же время я полагал,
что каждый должен использовать те свои
особенности в которых заключена его сила. А таковыми
были у меня в то время горячее чувство и сильная
фантазия. Для того чтобы отстаивать причины
такого отклонения от его взглядов перед ним
самим, я чувствовал себя, пребывая на моей
тогдашней точке зрения непосредственного
созерцания, слишком слабым; принять же его объяснения
с лицемерным одобрением или лживым
молчанием — для этого я испытывал к нему слишком
глубокое почтение.
Как всегда, я просто к нему не пошел, и это
привело Гёте в раздражение. Он был вправе
удивиться тому, что я так равнодушно упустил
предоставленную мне возможность поговорить с ним
о своих работах и о себе самом. Или же он
оказался ближе к правде и полагал, что "Праматерь"
и пристрастие к сходным, нетерпимым для него
вспышкам во мне еще не угасла. Или он прозрел
мой образ мыслей и рассудил, что недостаточно
мужественный характер неизбежно погубит даже
значительный талант. С того дня он ко мне
заметно охладел.
Что же касается недостаточно мужественного
характера, то я признаюсь и уже признавался в
своей слабости, которая охватывает меня всякий
раз, когда я сталкиваюсь с неопределенным
множеством мелких знакомств, но прежде всего с
благорасположением, почтением и благодарно-
218
Автобиография
стью. Всякий раз, когда мне было необходимо
строго ограничить то, что для меня было
неприемлемо или отвергнуть дурное и держаться своих
убеждений, я рано или поздно выказывал
твердость, какую поистине можно было бы назвать
упорством.
Однако в общем вполне можно сказать:
только из сочетания характера с талантом получается
то, что называют гением.
В один из тех дней мне назначили аудиенцию у
великого герцога165, которого я застал в так
называемом Римском доме, во всей его простоте и
естественности. Он беседовал со мной более часа, и
мое описание положения дел в Австрии его как
будто бы заинтересовало. Не сам герцог, но
множество других людей не скрывали своего
желания заполучить меня для Веймарского театра —
этого желания я тогда еще не разделял.
Когда на четвертый день моего пребывания в
Веймаре я прощался с Гёте, он был радушен, но
холодноват. Выразил удивление, что я так скоро
покидаю Веймар, и прибавил, что если я позднее
пришлю весточку о себе, это их всех обрадует.
Итак, "их", во множественном числе, не его. Он и
в дальнейшем не был справедлив ко мне — в том
смысле, что я все-таки, при всем расстоянии
между нами, считаю себя лучшим из тех, кто
пришел после него и Шиллера. Наверно, мне
незачем говорить, что все это не уменьшило моей
любви и почтения к нему.
Автобиография
219
В день моего отъезда город Веймар задал мне
в "Доме стрелков" прощальный пир, куда Гёте
прислал своего сына. Там было очень весело,
люди охотно пили за мое здоровье и желали мне
счастливого пути. В то время я был немецкой
знаменитостью. Самым интересным для меня
оказался мой земляк Гуммель, который под конец сел
за клавир и принялся фантазировать, избрав
своей темой мелодию саксонского почтового
рожка. Я ни до, ни после этого не слышал, чтобы он
играл с таким увлечением.
Наконец я сидел в карете и катил через Иену в
Каалу. В Иене нам сменили лошадей. Но
поскольку были каникулы, мне повстречались всего
несколько студентов в их тогда еще весьма
причудливых одеяниях. Невдалеке от Каалы я чуть
было не свалился в реку Заале. С наступлением
вечера я заснул в карете, и почтальон последовал
моему примеру. Внезапно меня разбудил громкий
крик. Кричал человек, схвативший под уздцы
наших лошадей, которые передними ногами уже
ступили на высокий берег, круто обрывавшийся
в реку.
Сообщение между Каалой и Южной Германией
мне изобразили как очень простое. Между тем
мне стоило больших усилий попасть там или где-
то поблизости в прескверный дилижанс, в коем я
как единственный пассажир проследовал ночью
через Тюрингенский лес. Пришлось мне также
целый день проторчать в Кобурге, где я ужасно
220
Автобиография
скучал, не зная — при моей скудной
осведомленности в литературной топографии, — что там
живет поэт Рюккерт166, который в итоге, наверное,
на меня обиделся за то, что я его не навестил.
Наконец мне попался какой-никакой курьерский
экипаж, доставивший меня в Мюнхен.
Мюнхен тогда только создавался. Из всех
теперешних помпезных зданий готова была только
глиптотека167, однако тоже лишь снаружи. Что
касается росписи плафонов внутри здания, то ее
только начинали в Зале Богов. Я имел
удовольствие подняться на леса вместе с Корнелиусом168
и познакомиться в его лице с единственным
живописцем, которому не мешало четкое сознание
собственной самородности.
Я близко сошелся с тогдашним министром
Шенком, любезным и поэтически одаренным
человеком. В его доме, где он приютил уже не очень
молодую, но весьма привлекательную
родственницу, я пережил очень счастливые часы. Король
Людвиг ни тогда, ни позднее не изволил обратить
на меня внимание169.
Пребывание в Мюнхене и путевые
впечатления вообще положили конец моему отупению, и,
приехав в Вену, я порешил сразу же приступить к
работе над новым драматическим произведением
и хотел, вместо скучного обмена письмами,
посвятить его Гёте.
В моей литературной деятельности вообще
должна была наступить совершенно новая эпоха.
Автобиография
221
Я наметил себе довольно большое число
сюжетов, все они были продуманы и до мелочей, пусть
только в уме, драматически разработаны. За них-
то я и хотел теперь взяться, каждый год писать по
пьесе, а ипохондрическому самокопанию навсегда
положить конец.
То, что я выбрал прежде всего такой сюжет,
который сулил мне наименьшие трения с
цензурой, представляется вполне естественным,
учитывая уже накопленный мною опыт. Это была
легенда о палатине Банкбанусе170, "верном слуге
своего господина", хотя этот сюжет, возможно,
привлекал меня меньше остальных. Вот как я на
него набрел.
Когда предстояла коронация тогдашней
императрицы королевой Венгрии171, ее обергофмей-
стер граф Дитрихштейн пришел ко мне и от
имени императрицы настоятельно просил меня
написать пьесу, которую можно было бы сыграть в
Пресбурге172 в день ее коронации. Я не
почувствовал неудовольствия от того, что благодаря
нажиму извне перестану колебаться между тем или
иным сюжетом и вообще возьмусь за дело.
Поэтому я обратился к венгерским хронистам Бон-
финиусу и Иштванфиусу и вскоре нашел
подходящую фабулу. Это была история того восстания
против короля Стефана173 и его баварской
супруги Гизелы, которое было поднято отчасти из-за
усилий последней по христианизации населения,
отчасти же из-за давнишней антипатии самого
222
Автобиография
короля к немцам. В центре внимания была
королева Гизела, которая при усмирении восстания,
когда она снискала любовь народа, играла ту же
роль, какую в "Верном слуге" должен был играть
палатин Банкбанус.
Все же, когда я присмотрелся к делу поближе,
обнаружились значительные трудности.
Во-первых, могло показаться странным, что для
праздника коронации выбрали историю восстания.
Кроме того, в моей пьесе были выведены двое
календарных святых: святой король Стефан и его
сын Эмерам; это была профанация, которой
никогда не пропустила бы цензура. Поэтому я
заявил графу Дитрихштейну, когда он спросил меня,
как дела, что не нашел подходящего сюжета. Так
что для данного случая одному весьма
послушному писателю заказали другую пьесу,
содержавшую лояльные намеки, которые вызывали
бурные аплодисменты.
Читая венгерских летописцев, я натолкнулся
на палатина Банкбануса, чью историю я потому
назвал легендой, что одно и то же событие
произошло дважды, в разные эпохи, и второй
раз лишь немногим отличался от первого, а
потому оно, вероятно, есть не что иное, как
завуалированное выражение неприязни венгров к
немцам.
Пьесу упрекали в том, что это апология
рабской покорности; я же имел в виду героизм
верности долгу, ибо это такой же героизм, как и вся-
Автобиография
223
кий другой. Во французских революционных
войнах самопожертвование вандейцев174
представляется столь же возвышенным, сколь и
воодушевление республиканцев. Банкбанус дал слово
королю, что будет сохранять спокойствие в
стране, и слово свое держит вопреки всему, что
должно было его как человека потрясти и заставить
колебаться. Впрочем, его убеждения нельзя
считать убеждениями автора пьесы, поскольку
Банкбанус, при всех достоинствах его характера,
изображен в то же время как довольно-таки
ограниченный старый человек.
Цензура не ставила этой пьесе никаких
препон, и она прошла в театре на "уРа"» притом из
нее не было выброшено ни слова. По окончании
третьего действия публика стала вызывать
автора. До конца антракта, пока он не явился, не
прекращались рукоплескания и выкрики, прямо-таки
на грани неуважения к присутствию двора.
После четвертого действия меня вызвал оберкамера-
рий, а стало быть главный распорядитель театра,
граф Чернин, чтобы по поручению его величества
сказать мне, что императору моя пьеса очень
нравится и что если под конец публика снова
пожелает меня видеть, я должен ей показаться. Так и
получилось. Рукоплесканиям не было конца, я
вышел на сцену и безмолвным поклоном выразил
свою благодарность. Успеху этой пьесы я
радовался весьма умеренно, ибо моим внутренним
потребностям она не отвечала.
224
Автобиография
На другое утро я был вызван к президенту
Придворного полицейского управления графу
Зедльницки и отправился к нему, не ожидая для
себя ничего хорошего. Граф принял меня очень
радушно, но пребывал в некоторой
растерянности. Он сказал, что его величество поручили ему
сообщить мне, что их августейшей персоне
весьма понравилась моя пьеса. Я заметил, что еще
вчера узнал об этом от графа Чернин. Граф
Зедльницки продолжал: пьеса так понравилась
его величеству, что они желают быть ее
единственным владельцем. Я спросил, как следует сие
понимать? Ответ гласил: я должен отдать мой
изначальный манускрипт, у театра потребуют
вернуть суфлерские экземпляры и роспись ролей, и
все это будет содержаться в личной библиотеке
императора, который желает быть единственным
владельцем этой пьесы, поскольку она так ему
понравилась. Мне возместят весь доход, какой я
мог бы получить от постановки этой пьесы на
других сценах или от ее публикации, более того:
существует мнение, что я в своих требованиях не
должен быть слишком робок, — его величество
даже готовы к жертвам. На мое возражение:
неужто меня считают таким ничтожеством, что я
ради денег позволю одному из моих
произведений исчезнуть с лица земли, — мне ответили: "да"
или "нет" — об этом его величество не желают и
слышать, речь идет лишь о том, "как". Все это я
привожу с буквальной точностью.
Автобиография
225
Поскольку в крайнем случае у меня могли
отобрать пьесу и без моего согласия, я стал искать
выход из положения. Поэтому я сказал, и это
была правда, что я уже не^хозяин своей пьесы. Я сам
отдал свой манускрипт в переписку, в театре его
скопировали, и не один раз. Всякий знает, что
театральные суфлеры, которые ведают
изготовлением копий, втайне занимаются торговлей
беззаконно сделанными списками. Император может
потратить деньги, а пьеса все равно, и без всякой
моей вины, станет достоянием общественности.
Я видел, с какой радостью граф Зедльницки
выслушал мое заявление, да и вообще во всем этом
происшествии в равной мере усматривался грех
как цензуры, которая разрешила эту пьесу, так и
мой собственный, ибо я ее написал. Граф
потребовал, чтобы я изложил мои объяснения письменно
и вручил ему для передачи выше.
Это было сделано. Я объяснил мои внутренние
и уже названные внешние причины и отдал
записку графу Зедльницки. Когда я через некоторое
время, окрыленный успехом пьесы, несколько раз
пытался узнать о судьбе записки, то меня к нему
не пустили, хотя раньше любезно принимали. Дело
сошло на нет. Пьесу дали еще несколько раз, а
потом убрали с глаз долой. Когда я подготовил ее
к печати, то получил резолюцию "Печатать",
причем из текста не было вычеркнуто ни слова.
Что-то не понравилось императору в этой
сверхлояльной пьесе или ему что-то о ней нашеп-
8. Ф. Грильпарцер
226
Автобиография
тали уже после того, как он сам с одобрением ее
посмотрел, — для меня до сих пор остается
тайной. Люди, не принадлежавшие к ближайшему
окружению императора, но хорошо знакомые с
этим окружением, не смогли ничего разузнать.
Я знаю только одно: начальник полиции и сам
был в полном неведении, что и стало причиной
его смущения. Насколько это происшествие
могло вдохновить автора на дальнейшее поэтическое
творчество, я предоставляю каждому судить
самому.
По возвращении из Германии я возымел
намерение посвятить свое очередное поэтическое
произведение Гёте и потому, несмотря на его
позволение, не стал ему писать. Когда же теперь дело
дошло до печатания "Верного слуги", я нашел эту
пьесу слишком сырой и грубой для того, чтобы
предполагать, будто она произведет на него
хорошее впечатление. Поэтому я отказался от
посвящения, а поскольку уже упустил возможность
написать ему, то Гёте мог подумать, что мой визит к
нему в Веймаре был лишь данью моде и
любопытству и что я вовсе не питаю к нему той любви
и глубокого уважения, какие на самом деле буду
сохранять до конца моих дней. Впоследствии он
упоминал в своих произведениях и разговорах
того или другого; меня — никогда. Кажется, он
причислил меня к "прочему сброду".
Примерно в это время — в каком именно году,
я не помню, — произошла также перемена и в мо-
Автобиография
227
ем служебном положении. Я упоминаю ее только
для того, чтобы показать, как обходились со
мною в моем отечестве. Занимая должность
министерского конциписта, я подчинялся лично
министру финансов и получал в этом качестве
ежегодную надбавку к жалованию. После смерти
графа Штадиона на место министра финансов
пришел новый человек — благонравный,
добропорядочный, но весьма ограниченный, в
сущности, министр лишь по названию, в отличие от
вице-президента барона Пиллерсдорфа, который
действительно вел дела. Этот добрый человек,
благожелательный ко всем и каждому, возымел
ко мне странную неприязнь. Не знаю, было ли ее
причиной, что когда-то раньше я оказался
невольным свидетелем того пренебрежения, какое
выказывал ему его тогдашний начальник граф
Штадион, или это был отзвук одной полицейской
истории, которую выше я опустил, но теперь
должен привести как характерную для того времени.
В Вене уже много лет существовала веселая
компания, называвшая себя и место своих сборищ
"Пещерой Лудлама"175. Сложилась она
совершенно случайно, благодаря встречам нескольких
литераторов в одном трактире, но вскоре
разрослась, объединив в себе без разбора участников
самого разного толка, так что все в целом
приняло характер низменного, даже непристойного
шутовства. Лучшие из этой компании перешли в
другой ресторан, исключили паршивых овец и со-
8*
228
Автобиография
чинили так называемый устав, имевший целью
недопущение неприличия. Новое общество
приобрело большую популярность, и вскоре к нему
примкнули все лучшие живописцы, музыканты и
литераторы столицы. Эти люди, отчасти
благодаря природной склонности, отчасти благодаря
долгой привычке, обладали виртуозностью в отнюдь
не непристойных шутках, так что ничего
похожего, во всяком случае, в Германии, вероятно, еще
не было. Лекции, импровизированные пародии
на представленные в тот же вечер на театре новые
пьесы, пение, музыка, безобидные шутки
способствовали тому, что часы летели незаметно.
Художники и литераторы, бывшие в Вене проездом,
искали и находили доступ туда и еще долгое
время спустя признавались, что никогда и нигде не
проводили таких приятных вечеров. Мой
ровесник барон Цедлиц176, чьи тогдашние устремления
были еще противоположны нынешним,
дипломатическим, тоже согласился туда вступить, и
теперь все так уговаривали меня последовать его
примеру, что воспротивиться этому было бы
прямо-таки невежливо. Один раз я пошел туда
посмотреть, что это такое, путем устного одобрения
был принят в члены общества и с тех пор иногда
проводил там приятные вечера. В этом обществе
я ничего своего не читал, кроме того видения,
которое я описал во время выздоровления
императора Франца от тяжелой болезни и которое в
весьма лояльном смысле произвело невероятное
Автобиография
229
впечатление во всей монархии. Впрочем, мое
членство длилось не долее полутора-двух
месяцев, я даже думаю, что наше с Цедлицем
вступление вызвало или, во всяком случае, ускорило
катастрофу.
Начальником венской полиции в то время был
человек, которого я с полным правом могу
назвать жуликом, ибо через некоторое время он из-
за растраты денег покончил с собой. Тогда он
добивался повышения по службе, а поскольку ему
было известно отвращение императора, чтобы не
сказать страх, ко всему тайному, то он решил,
дабы обратить это себе в заслугу, объявить
"Пещеру Лудлама" тайным обществом и как
таковое упразднить. Уже тот шум, какой поднимали
"лудламовцы" на своих вечерних сборищах,
исключал всякое подозрение, что это тайное
общество. Им даже официально засчитывали
денежные суммы, какие они ежегодно переводили в
благотворительные заведения за счет избытка так
называемых штрафных денег.
Несмотря на все это, в зал для собраний в
одном из ресторанов глубокой ночью ворвалась
полиция, двери были взломаны, найденные тексты
и ноты собраны и с торжеством изъяты. В
последовавшее затем раннее утро ко многим членам
общества, — однако, заметим, только к писателям,
к коим принадлежал и я, — нагрянули
полицейские, которые опечатали рукописи, составили
протоколы и с важностью принялись вести до-
230 Автобиография
просы, словно благу государства угрожала
опасность. На следующий день мне было запрещено
выходить из квартиры, даже посылать слугу в
трактир за едой. Обед принес полицейский
служитель, и мы — я с оставшимся у меня
полицейским чиновником и мой слуга с поставленным в
передней полицейским служителем — сообща его
съели. Хотя полицейское начальство уже к
вечеру того же дня спохватилось, что сделало
глупость, оно все же довело дело до настоящего
судебного приговора, который мог повредить
служебному положению состоявших в этом
обществе чиновников, если бы они серьезно
нарушили полицейские предписания. Правда, приговор
был отменен высшей политической инстанцией
как смехотворный, но в глазах людей трусоватых
и пессимистов он навсегда остался несмываемым
пятном на тех, кто входил в это общество.
Только сейчас я вспомнил, что именно
отвращение к испытанным мною оскорблениям моего
достоинства стало главной причиной путешествия
в Германию, какое я предпринял вскоре за тем.
К числу людей трусоватых и пессимистов, о
которых я упомянул выше, принадлежал и мой
начальник — министр финансов. Во всяком
случае, когда я вызвался съездить в Брюссель, куда
надо было доставить государственные бумаги, он
заявил директору канцелярии протест, и как раз
потому, что я был членом "Лудлама". Эта
антипатия имела следствием, что в то время как всем
Автобиография
231
министерским чиновникам, бывшим прежде в
подчинении у графа Штадиона,
беспрепятственно выплачивались надбавки к жалованию, новый
министр сделал исключение только для меня, и
мне приходилось по окончании каждого квартала
искать покровителей и заступников, чтобы
получить свое. Обойтись без этой надбавки я никак не
мог, поскольку в расчете на нее взял на себя
обязательство поддерживать моего младшего брата с
семьей, который по собственной вине оказался в
прискорбнейших обстоятельствах.
Пока я метался во все стороны в поисках
выхода, умер директор архива Придворного
финансового управления. Его оклад составлял точно ту
сумму, что мое тогдашнее жалование вкупе с
надбавкой. Я счел это удобным случаем и принялся
добиваться его места, которое и получил,
поскольку никому из моих коллег оно не было
нужно. Дело в том, что, заняв его, человек
одновременно исключался из той сферы деятельности,
которая давала право на дальнейшее повышение,
как бы отсекал от себя виды на будущее. Именно
поэтому моему предшественнику в архиве
выплачивалась, кроме твердого оклада, еще и
персональная надбавка, дабы при только что упомянутых
обстоятельствах дать возможность чиновнику,
прошедшему курс философских и юридических
наук, всю дальнейшую жизнь довольствоваться
этой последней надеждой. Мне надбавка была
тоже обещана, правда, при условии, что только
232
Автобиография
после трех-четырех месяцев моей службы,
ссылаясь на проявленные мною деловые качества,
можно будет ходатайствовать об этом перед его
величеством. Так вступил я в свою новую
должность, отправление каковой было сильно
отравлено враждебным отношением моих подчиненных,
из коих некоторые старослужащие сами
претендовали на должность директора.
Когда подошло время обратиться к императору
за надбавкой, стряслось новое несчастье.
Любовь к отечеству была, можно сказать,
частью моего существа. Кроме толики этого
чувства, что естественно присуща всякому
нормальному человеку, непринужденно-веселый, не
слишком вышколенный, зато ко всему восприимчивый
нрав австрийца порождал во мне отвечающий
моим свойствам благотворно-теплый элемент.
Поэтому я и не мог по-настоящему сдружиться с
остальной Германией. Эту любовь к отечеству я с
превеликой охотой переносил и на правящее
семейство, как на его представителей. Сколь ни
мало доброго перепало мне от них до сих пор, мне
требовалось все же бесконечно долгое время,
чтобы внутренне разобраться с каждым. В то время
тяжело заболел наследный принц, будущий
император Фердинанд. Мнения об этом молодом
принце очень расходились. Одни невысоко
ставили его способности, другие усматривали в его
молчании при обсуждении в Государственном
совете непопулярных мер оппозиционные, близкие
Автобиография
233
народу настроения. В его совершеннейшем
добросердечии не сомневался никто. Теперь, когда он
лежал тяжело больной, я излил в нескольких
строфах свою озабоченность и свои надежды —
ведь у меня была такая привычка: прибегать к
лирике только как к средству для самоуспокоения,
отчего я и не могу считать себя преимущественно
лирическим поэтом. Смысл стихотворения, по
правде говоря, заключался в том, что только
будущее откроет нам духовные свойства принца, а
пока что мы счастливы сознавать, что он в полной
мере обладает высочайшим достоинством
человека — добротой, которая в своем законченном
выражении и есть сама мудрость. Я отдавал себе
отчет, что этот оборот могут истолковать в дурном
смысле; но я ведь написал это стихотворение для
себя и публиковать его не собирался. Когда оно
уже готовое лежало у меня на столе, ко мне зашел
один знакомый, который, не будучи литератором
сам, тем не менее был накоротке со всеми
литераторами Вены. Меня зачем-то вызвали из
комнаты, тем временем этот господин, не выказывая
особой скромности, прочел стихотворение,
лежавшее сверху. Он был в полном восторге,
вероятно, потому, что характеристика принца не
погрешала против истины, — именно так он и сказал
своим литературным друзьям. Они пожелали
тоже услышать стихотворение, против чего мне
возразить было нечего. Я прочитал его вечером в
ресторане, где у нашей компании был отдельный
234
Автобиография
кабинет, и после этого все — особенно редактор
тогдашнего "Венского журнала" — стали на меня
наседать, чтобы я его напечатал. С одной
стороны, одобрение всех без исключения умных
людей рассеяло мой страх перед дурным
истолкованием стихотворения, с другой, его надлежало
подать в цензуру, которая, найди она в нем что-
то злокозненное, так или иначе его бы
запретила. Поэтому мы договорились, что редактор
"Венского журнала" передаст стихотворение
одному всем нам хорошо знакомому цензору, но не
официально, а как другу, и если тот выразит
сомнения, заберет его обратно. Так мы и
поступили. Цензор, сам поэт и бывший директор театра,
заявил, что не может взять на себя разрешение
напечатать это стихотворение. Когда же
редактор журнала попросил вернуть ему текст, тот
ответил, что это противоречит его долгу, — он
должен предъявить стихотворение начальству. Было
ли это неловкой попыткой добиться публикации
или жульничеством, я не знаю. В разрешении на
публикацию было отказано, но в то же время
стихотворение разошлось по рукам в
бесчисленном количестве списков. Именно те люди,
которые были дурного мнения о принце, видели в
моих стихах намеренную издевку над ним.
Продажное жулье распространяло, опять-таки во
множестве копий, скверные вирши обо мне и о
моем стихотворении. Это был
литературно-династический бунт.
Автобиография
235
При таких обстоятельствах докладная
Придворного финансового управления с предложением
прибавить мне жалованье легла на стол к его
величеству.
В Австрии было принято, чтобы те люди, для
которых испрашивали у его величества такого рода
милость, лично являлись к императору на особую
аудиенцию. Отчасти я не мог, а отчасти, именно в
моем случае, и не хотел нарушать это
обыкновение. Мне представили дело так, будто бы
император крайне разгневан моим стихотворением. Для
меня было важно, если его величество
выскажется об этом, по возможности исправить его
ошибочное мнение.
Я попросил аудиенции, и был принят. Это
единственный случай, когда я разговаривал с
императором Францем. При моем появлении в
приемной многие зашептались; некий прелат, вообще
мой близкий друг, сделал все возможное, чтобы
избежать общения со мной; а один из гвардейцев,
поставленных у входа в кабинет императора,
наговорил много чего о дурном настроении государя
и его суровости в гневе, причем явно специально
для меня. Подобно Гётеву Георгу в "Геце фон
Берлихингене" я подумал: "Смотрите себе!"
Наконец меня впустили, — последним или одним из
последних. Император принял меня очень
благосклонно. Когда я назвал свое имя и сказал, в чем
состоит моя просьба, он спросил, хотя, вероятно,
знал это так же хорошо, как я: "Так вы и есть ав-
236
Автобиография
тор того стихотворения?" Я ответил
утвердительно и изложил свои основания и претензии на
прибавку к жалованию, положенную мне на посту
директора архива. Император спокойно меня
выслушал и сказал: "Ваша просьба вполне
справедлива, поскольку вы находитесь совершенно в том
же положении, что и ваш предшественник".
В конце концов он отпустил меня со словами:
"Будьте только прилежны и не распускайте
своих людей". Так как император о моем
стихотворении больше не упоминал, то я тоже не счел для
себя обязательным о нем заговорить и ушел.
Однако насколько мягкими были слова
императора, настолько жесткими — деяния. Он уже тогда
положил касающуюся меня докладную
Придворного финансового управления в стопку документов,
которые до конца жизни не собирался
рассматривать. Лишь более чем через год после его кончины
эту бумагу с трудом отыскали среди
неисполненных дел, скопившихся по сходным причинам. Но и
после того как докладная нашлась, один
государственный советник, тоже мой друг и покровитель на
словах, официально сорвал свою злость на мне,
или, быть может, только на финансовом
управлении, которое не продвигало его сына, как он того
хотел: вместо надбавки к жалованию он
порекомендовал повысить мне оклад, вследствие чего я
терял двести гульденов ежегодно; это была потеря,
которую мне возместили только позднее, в
бытность министром барона Кюбека.
Автобиография
237
Главное обиженное лицо — наследный
принц — тоже гневался на меня, как только
допускало его природное добродушие. В Вене тогда
находился чревовещатель Александр177, довольно
образованный человек, с которым я случайно
познакомился. Он показывал свое искусство также
при дворе и однажды, в разговоре с
кронпринцем, упомянул мое стихотворение, заметив, что,
насколько ему известно, я никакого дурного
намерения не имел. "И все же он такое намерение
имел, — сказал принц. — Ведь ему на это
указали, и тем не менее он пожелал эти стихи
напечатать". Когда Александр мне это рассказал, я опять
подумал словами из "Геца фон Берлихингена":
"Император, о император! Разбойники охраняют
твоих детей", — хотя чревовещатель, собственно,
не был разбойником. Кто внушил кронпринцу эту
злонамеренную ложь, я, право, не знаю.
И вот я оказался в наихудших отношениях как
с нынешним, так и с будущим императором, что
меня отнюдь не радовало.
Как литератор я между тем без дела не сидел.
События, связанные с моими пьесами — "Отто-
каром" и "Верным слугой", дали мне понять, что
браться в Австрии за исторические сюжеты
чрезвычайно опасно. Однако к трагедиям
исключительно о сфере чувства и страсти поэт с годами
теряет интерес. Мне могут возразить: я должен
был перешагнуть через тесные австрийские рамки
и писать для всего мира или хотя бы для Герма-
238
Автобиография
нии. Но я был завзятый австриец и каждую свою
пьесу в мыслях видел поставленной на сцене,
притом в моем родном городе. Прочитанная
драма — это книжка вместо живого действия. Лишь
немногим читателям дано объективировать
прочитанное, домысливать ту действительность,
какая составляет суть драмы, по крайней мере, ее
отличие от других родов литературы. Тут мне
как-то попал в руки первый акт моей пьесы "Сон
есть жизнь", какую я начал писать еще в молодые
годы, но отложил из-за того, что актер, которому
досталась роль Цанги, ни за что не хотел играть
негра, а только белого. Пестрый пружинящий
сюжет весьма годился для того, чтобы
расшевелить в моем унынии меня самого.
Наверное, здесь следует поговорить о тех
насильственных моментах, какие присутствуют в
большинстве моих драм, и какие легко счесть
стремлением к эффектам. Я и в самом деле хотел
произвести эффект, но не на публику, а на самого
себя. Тихой радости творчества мне не дано.
Я жил всегда среди мечтаний и замыслов и лишь
с трудом переходил к их воплощению, ибо знал,
что делаю это не себе в угоду. Беспощадная
самокритика, которая в ранние годы бралась за дело
сразу по окончании работы, теперь подступала ко
мне еще в процессе. Причиной всегда была либо
трудность задачи, либо степень накала, которая
до самого конца не давала остыть радости
свершения. В то же время я не был сторонником сов-
Автобиография
239
ременных образованных поэтов, к каковым
причислял также Гёте и Шиллера; наряду с
Шекспиром меня привлекали испанцы — Кальдерой и
Лопе де Вега; то, что рождало веру не
благодаря доказуемости, а одним своим
существованием, — это казалось мне истинной задачей
драматической поэзии. Опасное направление,
которое, возможно, было мне не под силу.
Неизменно держаться на позиции созерцателя в нашу
эпоху с ее стремлением к исследованию бывает
трудно.
Закончив своего уродца, я отдал его Шрейфо-
гелю для постановки. Расположения к этой вещи
он не питал. Сомневался, что она может
произвести эффект на театре, хотя с этой стороны у меня
все было полностью отработано, — ведь пока я
писал, я мысленно видел пьесу уже на сцене.
Недовольство Шрейфогеля было тем более
странным, что несколькими годами раньше, когда я
сообщил ему только еще родившийся замысел
пьесы, он как будто бы пришел в полный восторг.
Однако этот превосходный человек легко
пугался, столкнувшись с чем-то новым, чему он не
находил примера среди классических образцов. К
тому же его могло раздражать название "Сон есть
жизнь", поскольку оно сразу возвещало о том,
что это как бы подобие пьесы Кальдерона
"Жизнь есть сон", которую именно Шрейфогель
обработал для немецкой сцены. При его большом
и вполне оправданном почтении к Кальдерону
240
Автобиография
ему как знатоку искусства и инсценировщику
такое противопоставление могло не понравиться.
Поскольку я вовсе не собирался вступать в
конфликт со Шрейфогелем, то спокойно отложил
эту пьесу в сторону. Ведь она уже вполне
достигла своей цели — занять меня и отвлечь.
Я уже говорил, что ужасно путаюсь в
последовательности событий. Причина заключается в
том, что до настоящего момента я старался о них
забыть. Я чувствовал себя, может быть, в силу
своей ипохондрии, таким угнетенным и
стиснутым со всех сторон, что не знал иного
вспомогательного средства, кроме как порвать
мучительную нить своих мыслей и выстроить их заново.
Впрочем, это бесконечно мне повредило, сделав
исконно устойчивую основу моего существа,
говоря по-кантовски, текучей, — ведь даже моя
память, которая в юности была хорошей, стала
из-за бесконечных обрывов и завязывания новых
узлов ненадежной и слабой. Я хотел бы
посоветовать каждому, кто стремится стать дельным
человеком, додумывать неприятные мысли до их
логического конца. Нет ничего опаснее
разбросанности.
Итак, мне кажется, что именно в это время ко
мне обратился Бетховен с просьбой написать для
него оперное либретто178. Историю моего
знакомства с Бетховеном и этого оперного либретто я
изложил в отдельной статье, так что здесь
упомяну только о том, что мой издатель Валлисхау-
Автобиография
241
сер, полагавший, будто он совершает выгодную
сделку, купил у меня авторское право на это
либретто и тем дал мне возможность совершить
путешествие.
На сей раз путь мой лежал в Париж и в
Лондон. Помимо обычной цели моих путешествий —
немного проветриться, у меня еще было желание
составить себе четкое представление об этих
часто упоминаемых столичных городах. Я поехал,
опять в одиночестве, через Мюнхен, Штутгарт и
Страсбург в Париж. В Штутгарте я
познакомился с У\андом179, последним немецким поэтом,
который у себя дома столь же любезен, сколь
молчалив и сумрачен на чужбине. В Париже я
остерегался посещать французских писателей.
Эти люди невероятно много о себе думают,
поскольку еще не поняли, что тремя четвертями
своей славы они в основном обязаны тому
обстоятельству, что пишут на французском, то есть на
международном языке. Так как они при этом
ничего не знают о литературах иностранных — эти
последние, впрочем, иного и не заслуживают, —
то по отношению к ним постоянно оказываешься
в положении подмастерья, который во время
своего странствия выхваляется перед незнакомым
мастером. С Александром Дюма180 меня
познакомил один немецкий врач. Дюма пригласил меня
на завтрак, на который приглашен был и Виктор
Гюго, но он не пришел. Благодаря своей
тогдашней метрессе, а позднее жене, актрисе Иде, кото-
242
Автобиография
рая воспитывалась в Страсбурге, Дюма имел
туманное представление о "Праматери" и выказал к
этой вещи большое уважение как писатель, тоже
принадлежащий к genre romantique*. Вообще
среди собратьев он слыл знатоком немецкой
литературы. А его Эгерией181 и была та самая
мадемуазель Ида, знавшая все же несколько
немецких слов, в то время как сам Дюма не понимал ни
единого. Надо сказать, что в Париже легко
снискать репутацию знатока иностранной
литературы. Однажды я сидел в Комеди Франсез между
двумя мужчинами, которые легко узнали во мне
немца. Поэтому они заговорили о немецкой
поэзии и при этом указывали на сидевшего впереди
человека, которого называли grand connoisseur de
la litterature allemande**. Когда же они заговорили
о Шиллэре и Го-ёте, то знаток обернулся и
поправил: "On prononce Gouthe"***.
Если в Вене я совсем не ходил в театр, то в
Париже ходил почти ежедневно. Меня
интересовала разница. Комеди Франсез был тогда в
полном упадке. Тальма умер, а Рашель еще не
появилась182. Мадемуазель Марс183 играла теперь только
в особых случаях. Я видел ее в "Мнимых
признаниях"184, в одной из ее лучших ролей, однако
могу сказать, что мадам Лёве в Вене понравилась
* романтический жанр (фр.).
** большим знатоком немецкой литературы (фр.).
*** "Произносится как Гуте" (фр.).
Автобиография
243
мне больше, даже в том, что касается манеры
держаться и тонкости игры. Зато в "Слепой
Габриэли"185, где подчеркнуто юный возраст героини
должен был бы составлять кричащий контраст с
уже весьма пожилым возрастом актрисы, она
была неподражаема. Остальное было так себе, а
когда они пытались играть трагедию —
отвратительно. Аижье186 — ужасный человек. Новейшие
трагедии еще как-то им удавались, но вот пьеса
Расина, которую они представили, смотрелась
как линялый ситец.
Тем лучше были маленькие театры. То, что
француз может наблюдать сам, он изображает
мастерски, а вот стилизация и идеализация ему
совсем не удаются.
Большая опера тоже весьма интересна, хотя бы
благодаря совершенству средств, даже если вы не
всегда согласны с целью. Такого представления
"Гугенотов" Мейербера187 — оперы в то время
новой — за пределами Парижа, вероятно, нигде не
увидишь. В Вене я был вынужден делить эту
оперу на два вечера, а в Париже смотрел ее пять
или шесть раз от начала и до конца со все
возрастающим интересом. Французские исполнители
вообще не выказывают усталости. Они
переигрывают, но увлекают зрителя. Кажется, будто
рассматриваешь ландшафт через красное стекло;
цвет словно бы уже неестественный, однако
единство окраски как раз и создает гармонию.
Искусство — это нечто иное, нежели природа.
244
Автобиография
Вольтеровский genre ennuyeux обосновался в
Германии188.
Я познакомился с Мейербером, который
держался очень любезно и не раз устраивал мне
места в переполненных залах на представлениях его
"Гугенотов". Был там и Тальберг189, на мой
взгляд — пианист par excellence*.
С Александром Дюма у меня вышла
прямо-таки незадача. К тому времени уже двенадцать раз
с огромным успехом была представлена его
новейшая трагедия "Дон Хуан де Маранья". Дюма
пригласил меня на тринадцатое представление,
даже указал мне место в закрытой ложе, однако
касса с этим указанием не посчиталась. Эта
пьеса, невзирая на некоторые признаки таланта,
была самой большой нелепостью, какую только
можно себе вообразить. Сверхромантичная или
фантастичная. Изображался бал призраков —
тех, кого поубивал герой пьесы. Одна сцена
разыгрывалась на небесах, где ангелы курили
фимиам Деве Марии, которую, правда, можно было
увидеть только на первых представлениях,
позднее же предполагалось, будто она находится за
кулисами. Эта пьеса с помощью друзей и
платных клакеров190 выдержала двенадцать
представлений, прошедших с огромным успехом. На
тринадцатом же, на котором я присутствовал,
страховка аплодисментов, видимо, показалась дирекции
* истинный (фр.).
Автобиография
245
слишком дорогостоящей или вовсе излишней.
Наивная публика, заплатившая за билеты, взяла
верх, и пьеса была так ужасно освистана, что с
тех пор больше никогда не появлялась на
подмостках. Но даже этот свист был выдержан в
рамках приличий, во всяком случае, никаких
хулиганских выходок, какие бывают при подобных
обстоятельствах в Вене, не наблюдалось.
Эстетическое чувство французов не всегда следует по
верному пути, но за его погрешностями
неизменно стоит лишь искреннее заблуждение, а отнюдь
не подлость.
Из людей в Париже самыми интересными для
меня оказались двое немецких земляков — Берне
и Гейне191. С первым из них у меня завязались
почти дружеские отношения. Берне, несомненно,
был порядочным человеком, и то политическое
подстрекательство, какое содержалось в его
сочинениях, или, скорее, их чрезмерно повышенный
тон, объяснялось, вероятно, тем, что он считал
немцев чересчур толстокожими и полагал: при
желании произвести на них хоть какое-то
впечатление, без порки не обойтись. Он также считал,
что может, не подвергая опасности Германию,
юмористически предаваться тираноборчеству, но
получилось — как у крепких по натуре пациентов.
Им увеличивают дозу и* усиливают лекарства
долгое время без всякого успеха. До тех пор пока
не подействует последнее средство, а заодно не
скажется, даже с чрезмерной силой, и действие
246
Автобиография
предыдущих. Если бы он допускал возможность
Сорок восьмого года, то был бы поосторожней.
Я часто ездил к нему в Отей, а он, мне в угоду,
приезжал в Париж. Если не считать его странной
ненависти к Гёте, то мы с ним очень хорошо
ладили. Но и эта ненависть была направлена только
против так называемого аристократизма Гёте.
Именно в то время в Германии появился новый
"Фауст"192, автор прислал его Берне, и в его
возмущении тем, как этот автор противопоставлял
себя Гёте, проявилось высокое уважение, какое
Берне питал к величайшему из наших поэтов. Наши
встречи с ним отравляло то, что у него всегда
можно было застать немецких беженцев, которые
несли обычную чепуху в тоне anno Сорок восемь.
Так, однажды со мной произошло следующее:
как-то раз я излил свое недовольство обстановкой
в Австрии в присутствии одного такого
изгнанника, а на другой день весь наш разговор, с
упоминанием моего имени, появился в одной парижской
газете. Не знаю, обратило ли внимание на эту
газету австрийское посольство. Даже Берне не мог
войти в мое положение. В один прекрасный день,
когда я завтракал у него в Отее, он пригласил
меня пообедать с ним в Париже. Мы дошли уже до
входа в известный ресторан, когда он мне сказал,
что меня ждет замечательное развлечение.
Это должна быть пирушка refugies* всех нацио-
* беженцев (фр.).
Автобиография
247
нальностей. Будут произноситься речи, выпьют
за мое здоровье, провозгласят тост за
освобождение рода человеческого и т.д. На что я, прощаясь,
отвечал: пусть он наслаждается этим
удовольствием сам, я же поем в каком-нибудь другом
заведении.
Гейне я застал в добром здравии, но зато, как
мне показалось, в весьма стесненном
материальном положении. Он занимал в квартале Бержер
две маленькие комнаты; в первой из них две
бабенки возились с одеялами и подушками. Вторая,
еще меньше первой — кабинет Гейне, — из-за
скудости меблировки производила впечатление
просторной, или во всяком случае вместительной.
Всю его выставленную напоказ библиотеку
составляла одна, как говорил он сам, взятая взаймы
книга. Он принял меня сначала за писателя Кюс-
тина193, с которым мы якобы были похожи. Когда
он услышал мое имя, то выказал большую
радость и наговорил мне много лестных слов, что
через час, вероятно, забыл. Однако в тот час мы
с ним замечательно побеседовали. Я едва ли еще
когда-либо слышал, чтобы немецкий литератор
говорил настолько разумно. Но с Берне и вообще
с наиболее здравомыслящими из немцев он имел
то общее, что сколько бы ни порицал отдельные
вещи, все же питал большое уважение к немецкой
литературе в целом, даже ставил ее выше всех
остальных. Я же не знаю такого целого, которое не
состояло бы из отдельных частей. Последним,
248
Автобиография
однако, недостает самовыражения и характера.
Когда я читаю какую-либо книгу, то мне хочется
иметь дело с живым человеком. Это
самоотречение могло бы еще чего-то стоить, если бы
растворялось в каком-то предмете. Но и предмет
вырывают из его исконного контекста и возвышают до
неких воззрений, где оказываешься в
промежуточном мире, в коем тени — это духи, а духи —
тени. Я уважаю немецкую литературу, однако
когда хочу освежиться, то все же берусь за
какую-нибудь иностранную.
Насколько Гейне понравился мне в разговоре с
глазу на глаз> настолько же не понравился, когда
мы с ним два-три дня спустя обедали у
Ротшильда194. Нетрудно было заметить, что хозяева дома
боятся Гейне, а он злоупотребляет этой их
боязнью, чтобы по малейшему поводу втихомолку над
ними посмеяться. Однако не следует есть у
людей, к коим ты нерасположен, а уж если ты
какого-то человека презираешь, то тем паче не должен
у него есть. Поэтому наши отношения с Гейне
дальше и не развивались. В числе гостей
Ротшильда оказался и Россини193. Несколько лет
тому назад я мельком видел его в Италии. Теперь
он заделался настоящим французом, говорил на
иностранном языке, как местный уроженец, и
был неистощим в остротах и каламбурах. Его
гурманство общеизвестно. Будучи другом дома, он
на сей раз получил официальное приглашение на
дегустацию закупаемой хозяевами партии шам-
Автобиография
249
панского, так как слыл в этом особым знатоком.
Возвращаясь домой, мы какой-то отрезок пути
шли вместе. Я спросил его, верен ли слух, будто
бы он пишет оперу по поводу коронации
австрийского императора королем Италии196. Его ответ
поразил меня именно как ответ музыканта. "Если
вам когда-нибудь скажут, — возразил он, — что
Россини опять что-то пишет, не верьте этому. Во-
первых, я уже достаточно много написал, кроме
того, совсем не осталось людей, умеющих петь".
В остальном, я видел в Париже то, что видит
каждый, стало быть, об этом и говорить не стоит.
Когда вплотную подошло время ехать в
Лондон, у меня возникли серьезные сомнения
относительно языка. Дело в том, что английский язык
я освоил самоучкой, без преподавателя, просто
при помощи грамматики и словаря; еще ни разу
не произнес ни слова по-английски, да и слышал-
то, как на нем говорят, лишь мимоходом. В
последние дни перед моим отъездом из Вены одна
милая барышня из крута моих друзей постаралась
хоть немного познакомить меня с английским
произношением, ее усилия в известной мере
продолжил один англичанин, которого я встретил в
Париже, а знал еще по Вене. Однако все это
лишь показало мне, как бесконечно далек я от
языковой китайщины англичан. А так как все мое
существо вообще — не что иное, как сочетание
сомнений и безрассудства, то я решил научиться
плавать, для начала бросившись в реку.
250
Автобиография
Я поехал в Булонь, чтобы оттуда перебраться в
Дувр. Однако в Булони оказался английский
пароход, и капитан брался за небольшую плату
доставить путешественников прямо в Лондон.
Хотя таким образом я терял возможность
ознакомиться с частью страны между Дувром и
Лондоном, сокращение пути было все же очень
заманчивым, тем более что я все равно решил
совершить из столицы Англии несколько экскурсий
вплоть до Шотландии. Так что я сел на этот
пароход, пережил на нем не то чтобы при бурном,
но все же при изрядно взбаламученном море
целую ночь, которую провел на палубе, поскольку
спертый воздух в переполненных каютах сразу
вызывал у меня признаки морской болезни.
На следующее утро я весьма обескураживающим
образом испробовал свое английское
произношение. Я попросил подать мне на завтрак сливочное
масло, а принесли мне... воду. Бессонная ночь и
расстроенный кишечник несколько испортили
мне впечатление от понемногу приближавшейся
столицы.
Когда мы явились на таможню, произошло
новое злоключение. В Булони я договорился с
одним французом держаться вместе. Поскольку
пароход "Эсмеральда" соперничал с другим и они
попеременно снижали цены за проезд, так что эти
цены устанавливались как бы на торгах, а мой
француз вообще понимал по-английски еще
меньше, чем я, то есть вовсе ничего, то мы условились,
Автобиография
251
что я возьму билеты для нас обоих, а он зато
позаботится о нашем багаже, для чего я дал ему
карточку с моей фамилией.
На таможне путешественников одного за
другим вызывали по фамилиям и впускали в
соседнюю комнату, где они после подобающего
досмотра получали свой багаж. Вот уже мой француз, а
под конец и вся остальная компания прошли эту
процедуру, а моей фамилии все не называли. Тогда
я, увидев, что в зал входят уже пассажиры
следующего парохода, протиснулся в соседнюю
комнату к служащему, который выкликал фамилии, —
там все еще одиноко стоял мой чемодан.
Ветреный француз, вероятно, выбросил или потерял
мою карточку, по этой причине моего имени в
багажном списке не оказалось вообще. К счастью,
оно значилось на крышке моего чемодана, и его
тождество с тем, что стояло у меня в паспорте, в
конце концов вернуло мне мои пожитки, а если
знать строгость английских таможенных
предписаний, то это можно счесть немалой удачей.
Но это было еще не все. Уже в паспортном
бюро я узнал, что немец, державший пансион для
иностранцев, — у меня было к нему письмо, —
потерпел банкротство и покинул Лондон. Куда
же было мне податься в этом совершенно
незнакомом огромном городе? К счастью, я вспомнил,
что в Париже один датчанин — капитан Чернинг,
тот самый, что позднее сыграл некоторую роль в
качестве военного министра, — дал мне, как он
252
Автобиография
выразился, "на крайний случай", адрес некоей
миссис Уильяме, которая держала на Рассел-
стрит, Блумсбери-сквер, весьма скромный
пансион. Я наказал кэбмену отвезти меня туда, причем
он исколесил со мной пол-Лондона, чтобы
нагнать как можно больше денег за проезд. Я
нашел хозяйку дома и двух ее красивых дочерей
весьма приятными, беда только, что они не
понимали моего английского, а я — того французского,
на котором изъяснялась старшая дочь. Однако в
конце концов они смекнули, что мне нужна
комната, каковую я, причем наискромнейшего
размера, затем и получил.
На другой день я начал свои странствия,
притом без проводника, которого в нашем скромном
отеле получить было нельзя. Свой маршрут я
изучил по плану Лондона — соответствующую
его часть я срисовал себе на листок бумаги
величиною с ладонь. Поскольку речь шла о
лондонской артерии — широкой прямой улице, ведущей
к банку, то отыскать ее не составило труда; в
конце концов я нашел и боковую улочку — Бишоп -
гейт-стрит, где жил банкир, к которому меня
направили. Ибо моей целью прежде всего было
получить английские деньги. Однако на Бишоп-
гейт-стрит дома этого банкира никто не знал,
хотя он был одним из известнейших банкиров
Лондона. Я обратился со своим вопросом в
бакалейную лавку, но и там никогда не слыхали имен
Лаув и Сивет. Тогда хозяин лавки снял с полки
Автобиография
253
торговый справочник, и выяснилось, что контора
этого банкира находится как раз напротив. Но
никто из его ближайших соседей этого не знал.
Однако таковы англичане вообще. Каждый знает лишь
то, с чем он непосредственно соприкасается.
Житель Сити, например, где-нибудь в Вест-Энде
такой же чужак, как и только что приехавший
иностранец. Из-за этого лондонцы часто кажутся
нелюбезными. Но они и сами не знают того, о чем
их спрашивают. Правда, отказываясь отвечать,
они не рассыпаются в извинениях, а просто
отворачиваются и идут своей дорогой. То, что им
известно, они объясняют с наилюбезнейшей
обстоятельностью, не вдумываясь, впрочем, в легко
объяснимое заблуждение человека, который,
возможно по неведению, неточно ставит вопрос, —
просто отвечают на него буквально. Так
однажды я искал дворец Сент-Джеймс197, и когда
увидел в указанном мне направлении роскошное
здание, то спросил какого-то прохожего, не
дворец ли Сент-Джеймс вижу перед собой? Он
возразил, что это здание принадлежит герцогу
Сазерленду, любезно остановился, рассказал
мне о многих чудачествах владельца и в конце
концов попрощался, не сказав ни слова о том,
что тридцатью шагами дальше как раз и
находится дворец Сент-Джеймс, что я вскоре и
выяснил. Но ведь я указал на дом герцога Сазер-
ленда, поэтому сей прохожий и сообщил мне
известные ему данные, а то, что меня, в сущности,
254
Автобиография
интересует королевский дворец, ему в голову не
пришло.
Впрочем, моему знакомству с Лондоном
весьма поспособствовало то, что один молодой
человек из Вены по фамилии Фигдор, занимавшийся
для своего торгового дома сделками с шерстью,
узнал — уж не знаю как — о моем пребывании в
Лондоне, навестил меня, показал мне ближайшие
окрестности города и ознакомил с крупнейшими
промышленными сооружениями, которые, сколь
бы ни были они мне безразличны во всем
остальном мире, в Лондоне отличаются таким
великолепием и всемирным масштабом, что производят
почти эпическое впечатление. По случайности у
Фигдора как раз в то время гостили его отец и
милейшая сестра, в чьем обществе я чувствовал
себя как дома.
Фигдор-отец однажды дал повод для
комического происшествия, которое позволило мне
познакомиться с одной интересной личностью, во
всяком случае, узнать, как выглядит эта
личность. В парламенте тогда как раз обсуждался
билль об ирландской десятине198. Я не пропускал
ни одного дня или, вернее, ни одной ночи этих
дебатов, которые часто затягивались до четырех
часов утра. При моем непривычном к английскому
выговору слухе я понимал едва половину
произносившихся там речей, но даже просто смотреть
на это зрелище было увлекательно. Не знаю,
каково устройство парламента сейчас, но в то время
Автобиография
255
зал нижней палаты был длинный и сравнительно
узкий. Поэтому обе партии находились совсем
близко одна к другой, словно воюющие армии, а
ораторы выступали, как герои Гомера и метали
копья своих речей во вражеское войско. Лучше,
во всяком случае живее, всех говорил Шил.
Министр Пил говорил холодно, но без запинки и с
силой убеждения. О'Коннел и большинство
остальных199 были не столь велеречивы, как я
предполагал и как позволяли думать газетные отчеты.
Частые выкрики: hear, hear!* — которым присуще
нечто вроде мелодии, нередко выражают лишь
стремление партии прикрыть запинку оратора и
дать ему время собраться с мыслями. Все в целом
великолепно и увлекательно.
Большей частью я ходил туда один, хотя
дорогу обратно, к себе на квартиру, мог отыскать
только с помощью полисменов. Однажды
вечером меня сопровождали оба Фигдора. Была
большая толкотня, и нам пришлось долго ждать в
вестибюле. Вдруг Фигдор-отец куда-то уходит и
вскоре возвращается крайне смущенный.
Позднее выяснилось, что он подходил к швейцару и
просил пропустить нас поскорее под тем
предлогом, что среди нас находится немецкий
литератор — знакомый господина Булвера200. Я ничего
об этом не знал и будто с Луны свалился, когда
вскоре после этого швейцар подошел к нам вме-
* слушайте, слушайте! (англ.)
256
Автобиография
сте с элегантно одетым и замечательно красивым
молодым человеком и, обратись ко мне, сказал:
это господин Булвер, а тому: это немецкий
джентльмен, ваш друг. Булвер избавил меня от
неловкости, — обхватив меня за плечи, он стал
прохаживаться со мной взад-вперед по
вестибюлю и сказал: сегодня зал чересчур переполнен,
для того чтобы вводить туда меня, а вот завтра
(то есть, никогда) пусть я приду опять и т.д.
Он отошел от нас, слегка покачиваясь, и
показался мне просто пьяным. Однако вскорости я
узнал, что он прямо перед тем произнес речь, и то,
что я принял за опьянение, было лишь
следствием возбуждения жизненных сил. Я не стал
навязывать ему моего имени, тем более что он вообще
его никогда не слышал. Если немец не зовется
Шиллером или Гёте, то для всего света он
останется безвестным.
Главным предметом моего внимания и там был,
естественно, театр. В трагедиях, сплошь
шекспировских, язык не служил мне препятствием,
поскольку после многократного чтения мне было
знакомо там каждое слово. Тем меньше
нравилась мне игра актеров. Макреди201 громыхал и
преувеличивал. Один из двух Кэмблов202 — тот,
что, уже покинув театр, давал гастроль в "Юлии
Цезаре", показался мне бесцветным. Женщины и
вовсе никуда не годились. Так было в Ковент-
Гардене и в Друри-Лейне203. Только в
Английской опере я однажды видел превосходное испол-
Автобиография
257
нение в "Ромео и Юлии"204 обеих главных ролей.
Джульетту играла мисс Эллен Три, фамилию
Ромео я забыл.
Однако серьезный английский театр
неизбежно пойдет ко дну. Знатные или просто
зажиточные люди в восемь часов вечера садятся ужинать,
а театр начинается в семь. Перенести начало на
более позднее время или, поскольку обычно дают
две пьесы, показать трагедию после фарса
невозможно уже потому, что чернь не позволит лишить
ее права прийти в театр за полцены в девять
часов, права, которое она соблюдает так
неукоснительно, что с шумом вламывается в партер или в
ложи в самый трагический момент. Поэтому
пьесы Шекспира приходится показывать либо после
девяти часов вечера беспокойной и скучающей
толпе, либо, как сейчас, в семь часов
полупустому залу. При этом явно отсутствует всякий
пиетет. Так, например, я присутствовал в
Ковент-Гардене на представлении, где после
"Ричарда III" давали переделанную в драму
французскую оперу "Жидовка"205. Так как в
"Жидовке" участвуют целые эскадроны
лошадей, то на просцениуме соорудили в половину
человеческого роста барьер из толстой железной
проволоки. А поскольку это сооружение, видимо,
требовало немало усилий и времени, то оно
оказывалось на сцене еще до начала обоих
представлений, и шекспировского "Ричарда III" играли за
этим железным забором.
9. Ф. Грильпарцер
258
Автобиография
Почему простой народ по будням (по
воскресеньям там не играют вообще) так старательно
отлучают от серьезных пьес, стало мне ясно во
время представления в Духов день —
единственный наполовину свободный день в английском
календаре. На сей раз тоже давали
шекспировскую пьесу и какой-то жалкий фарс с музыкой.
Да вот беда: набежавшая по случаю
полусвободного дня толпа подняла во время представления
трагедии Шекспира такой шум, что невозможно
было не только понять, что говорят актеры, но
даже расслышать, говорят ли они вообще или нет.
Противоположные стороны галерки
переговаривались между собой над головами сидевших в
партере, бранились, кричали, требовали выгнать
из театра того или иного. Большего шума не
могло быть и в кабаке, битком набитом пьяницами.
Но стоило лишь прозвучать первым тактам
музыки ко второму представлению — жалкому
фарсу, как воцарилась мертвая тишина, которую
лишь время от времени нарушали взрывы
восторженных рукоплесканий. Англичане вообще, при
всей их немузыкальности, величайшие любители
музыки. Публичные заведения принимают все
возможные меры, чтобы не пускать к себе
простой люд. Так, владельцы zoological gardens*, как
признался мне один из его директоров, потому
лишь установили определенную плату за вход,
* зоологического сада (англ.).
Автобиография
259
что опасаются, как бы чернь не принялась
дразнить и мучить зверей и даже злонамеренно
причинять им вред. С другой стороны, все эти
ограничительные меры и весь пуританский
воскресный ритуал существуют лишь ради того, чтобы
нарочно держать эту самую чернь в ее исконной
дикости.
Чем меньше был я доволен английскими
актерами в трагедии, тем лучше, вопреки своим
ожиданиям, находил их в комедии. У них меньше
выдающихся комиков, чем у французов, зато их
комические актеры — лучше. В их капризах есть
нечто мужское: когда эти люди веселятся, то по
ним заметно, что, если надо, они могут быть и
серьезными, а это как раз и отличает юмор от
остроты и шутки. Только вот беда: поначалу я
почти ни слова не понимал из того, что они
говорили. Так что я заметил: театр как школа языка
для меня пока недосягаем.
Поэтому я стал посещать судебные заседания и
там нашел то, что искал. Адвокаты-защитники,
особенно молодые, говорят медленно, чтобы
успеть обдумать свои слова. А поскольку англичанин
к тому же гордится своим безобразным языком,
как ни одна другая нация, и потому старается
говорить как можно лучше, то зал суда стал для
меня настоящей языковой школой, и к концу моего
пребывания в Англии я добился того, что меня
понимали все и каждый, правда, я их не понимал,
если они говорили не так медленно, как те адвокаты.
9*
260
Автобиография
Но эти судебные разбирательства были мне в
высшей степени интересны и по другим
причинам. Публика посещала их, движимая не
любопытством, как во Франции, а чем-то вроде
церковного благочестия. При расследовании одного
дела о развратных действиях, которое
рассматривалось так же открыто, как и все прочие, старый
суровый судья в нахлобученном на голову парике,
стремясь уточнить плотские подробности
происшедшего, задавал свидетелям такие вопросы,
которые в любой другой стране вызвали бы
лошадиное ржание в зале. Здесь же никто не позволил
себе даже усмехнуться. Было заметно, что
духовную атмосферу этого собрания определяет
правовое чувство. И по причине этой исконной
потребности в правосудии мне очень жаль, что в моем
отечестве снова отменили суды присяжных.
Лето 1836 года выдалось одним из самых
холодных и дождливых в нынешнем столетии.
Поездка в глубь Англии стала поэтому почти
невозможной. Железные дороги находились тогда еще
в самом зачатке. Места внутри дилижанса стоили
слишком дорого, а о том, чтобы ехать снаружи,
из-за частых дождей не могло быть и речи.
Больше всего меня интересовали университеты,
представлявшие прямую противоположность
немецким, которые внушали мне неприязнь своей
погоней за всезнайством, хотя в английском принципе
сосредоточения на чем-то одном,
исключительном, тоже ничего хорошего быть не может. Одна-
Автобиография
261
ко, чтобы удовлетворить этот мой интерес,
требовались знакомства, которые я заводить не
стремился, хотя у меня не было недостатка в адресах
и рекомендациях. Осматривать замки и парковые
ландшафты мешала погода. Готические
архитектурные памятники, которыми я в юности
восхищался, мне так опротивели из-за чрезмерных
стараний моих немецких друзей, что у меня и по сей
день вид готической церкви вызывает
впечатление чего-то аскетического, инквизиторского, до
нелепости глупого. Поэтому я слонялся по
Лондону, который, в противоположность Парижу,
сначала не слишком импонирует, но постепенно
вырастает в нечто огромное и покоряющее.
Наконец наступил день отъезда. Я намеревался
осмотреть важнейшие места в Голландии, а затем
через Бельгию отправиться домой. Однако из-за
тогдашней вражды между этими двумя
странами206 пересечение границы было связано с
бесконечными трудностями. Поэтому я решил сначала
ехать в Бельгию и поплыл на пароходе в
Антверпен. Оттуда — в Брюссель и Льеж, где я впервые
проехал довольно большое расстояние по
железной дороге (в Лондоне уже имелся небольшой ее
отрезок в направлении Гринвича). Своего
дальнейшего пути я уже не помню. Кто упрекнет меня,
что я путешествую, как дорожный саквояж, не
будет несправедлив ко мне. Разъезжать мне всегда
было неприятно, удовольствие доставляла лишь
возможность позднее смаковать впечатления.
262
Автобиография
Тем временем в моем отечестве император
Франц отправился к праотцам, и на его месте
правил император Фердинанд, или, вернее, за
него правил его дядя эрцгерцог Людвиг207.
Приблизительно в это время оказалась вакантной
должность библиотекаря Венской университетской
библиотеки. Меня прельщала возможность
избавиться от возни с документами, и я стал этой
должности добиваться. В сущности, мне надо
было бы только пересесть на другое место, так
как и там, и здесь оклад был один и тот же.
Согласно сложившейся практике я должен был
лично засвидетельствовать свое почтение
наместнику императора эрцгерцогу Людвигу. Меня
заранее предупредили, что эрцгерцог имеет
привычку выслушивать просителя молча, не
произнося ни слова, но что его молчание отнюдь не
предвестие неблагоприятного решения. Поэтому
в день аудиенции я был весьма удивлен, когда
эрцгерцог вышел мне навстречу, приветливо ко
мне обратился, долго со мной беседовал и столь
же благожелательно отпустил. Однако же,
вопреки всей обнадеживающей приветливости
эрцгерцога, должность получил не я, а некий писарь
из Придворной библиотеки, у которого срок
службы и оклад были вдвое меньше моих, но его
рекомендовал один тамошний начальник,
который и сам должен был бы обзавестись
рекомендацией, прежде чем иметь право рекомендовать
кого-нибудь другого. Впрочем, этот начальник
Автобиография
263
принадлежал к числу моих восторженных
поклонников и друзей. Вообще по отношению ко
мне возобладал какой-то идиотизм: люди
почему-то считали, что, похвалив меня и выказав мне
уважение, они полностью со мной расквитались.
Так что я вернулся к своим папкам, которые с
каждым днем становились мне все противней,
хотя поначалу они меня интересовали хотя бы с
исторической точки зрения.
Нашелся при этом один новый драматический
сюжет, вернее, старый, за который я взялся
вновь: Геро и Леандр. Одна замечательно
красивая женщина вдохновляла меня на то, чтобы
провести ее образ, если не само ее существо, через
все эти перипетии. Несколько вычурно звучащее
название — "Волны моря и любви" должно было
заранее указывать на романтическую или, скорее,
общечеловеческую трактовку античной фабулы.
Мой интерес был сосредоточен на главном герое, и
потому я отодвинул остальных действующих лиц,
а к концу пьесы — и само развитие действия, в
сторону, больше чем следовало. Однако именно
эти последние акты я писал с поистине
пронизывающим напряжением, хотя опять-таки лишь по
отношению к главному герою. То, что четвертый акт
мог показаться зрителям скучноватым, даже
входило в мои намерения — ведь надо было отразить
более длительный промежуток времени. Но и
многое другое тоже получилось не так, как надо.
Человеку ведь не всегда удается то, что он хочет.
264
Автобиография
Когда состоялось представление, то первые
три акта стяжали восторженные рукоплескания,
два последних оставили публику равнодушной.
Лишь много лет спустя одной талантливой
артистке удалось воздать должное всей пьесе в целом,
впрочем, не развеяв моего убеждения в наличии
композиционных ошибок в последних актах.
В Германии эту пьесу нигде не поставили. Дело в
том, что недоставало как поэтов, так — всё более
ощутимо — и актеров, а в конце концов — даже
публики.
Дополнения
ИЗ ДНЕВНИКОВ
Июль 1808. Недавно вышел у меня с Вольге-
мутом и Альтмюттером1 спор относительно
тезиса, который я определил так: понять писателя
может только писатель. Я искренне убежден — и в
этом убеждении пребуду неизменно, — что этот
тезис верен, и ничто не в силах меня в этом
разуверить, хотя мои друзья как будто сговорились
это утверждение оспорить. Я полагаю, что
причина разногласия кроется в том, что со словами
"писатель" и "понять" они связывают неточные
представления. Под "писателем" я разумею
любого человека, который обладает достаточно
живым воображением, чтобы, имея какой-либо
повод, сочинить стихотворение: это писатель —
пусть бы он даже не написал ни строчки в прозе
или в стихах. А под словом "понять" я
подразумеваю вовсе не отгадывание смысла, а хочу этим
сказать: я стремлюсь почувствовать то, что
чувствовал писатель, когда писал свое произведение.
Думаю, что каждый человек, обладающий
сердцем и чувствами, меня поймет и со мной
согласится, хоть я сейчас и не в силах доказать это
надлежащими доводами. Но я чувствую то, что сказал.
268
Из дневников
20 июня 1810. Что касается Гёте и того
уважения, какое я к нему питаю, то я не могу и не хочу
отрицать, что сначала мое внимание к его
достоинствам привлекла всеобщая хвала, а особенно
чтение "Зонтагсблата"2 (не направляя, однако,
моего суждения и тем более его не определяя);
это, повторяю, сначала привлекло мое внимание к
его достоинствам, поскольку прежде я знал едва
ли двадцатую часть его произведений, и то, что я
читал, — должен признаться, — казалось мне
далеко не столь прекрасным, чтобы выдержать хоть
какое-то сравнение с сочинениями Шиллера.
Правда, "Гец фон Берлихинген" мне понравился,
даже привел меня в восторг, однако наивная
непринужденность, какая царит в этой драме,
побудила меня, подростка
четырнадцати-пятнадцати лет, считать: чтобы написать нечто подобное,
вовсе не требуется такой уж большой талант,
особенно если в моей фантазии, как я полагал,
найдется достаточно материала для того, чтобы тоже
изготовить что-то похожее. Переубедить меня
суждено было "Страданиям молодого Вертера"3.
Я читал эту вещь с восторгом, и душой моей
овладело неудержимое желание прочитать в полном
объеме произведения этого замечательного
человека, чье совершенство я начинал теперь
постигать, — в Вене это не так-то легко было сделать.
В Вену вошли французы, и появилось новое
издание произведений Гёте4; я приобрел эти книги так
скоро, как только мог, и с неописуемым наслаж-
Из дневников
269
дением заглядывал теперь в глубины его
невыразимо тонких чувств. Я прочитал "Фауста"5. Он
поразил меня, душа моя была странно взволнована,
однако вынести свое суждение я не смел, так как
эта драма столь неизмеримо отличалась от
единственно прекрасных в моих глазах созданий
моего безупречного Шиллера, и, быть может,
главным образом потому, что А.6, чье мнение я ценил,
отказал ей почти во всех достоинствах. Однако
довольно было прочитать драму во второй раз,
чтобы разрушить все предубеждения.
Меланхоличные и все-таки сильные черты Фауста,
небесно-чистый ангельский образ Маргариты
проплывали перед моим упоенным взором; отважный,
интересный человек, в котором я так часто
узнавал — или надеялся узнать — себя, воспламенил
мою фантазию, навсегда оторвал мою душу от
грубых, причудливых схем Шиллера и отдал мою
любовь Гёте, однако незыблемо, как утес,
утвердилась она благодаря "Тассо". Могла ли эта
поэтическая натура быть чуждой поэту? Мне
казалось, что это я сам говорю, действую, люблю от
лица Тассо; Гёте — так мне казалось — только
облек мои чувства в слова, — в каждом чувстве, в
каждой речи, в каждом слове я находил себя.
"Ифигения", "Клавиго", "Брат и сестра",
"Эгмонт"7 завершили то, что начали их
предшественники, и я молился на Гёте. И тем не менее с
этого времени начинается мое уныние, моя
меланхолия, так что, следуя обычной людской мане-
270
Из дневников
ре делать выводы, причину я усматривал в этом
событии, в чем А. меня поддерживал. Тут еще
можно с грехом пополам объяснить одно другим.
Сначала я читал Шиллера; в то время я написал
мою "Бланку"8, и мне никогда не приходило в
голову усомниться в ее совершенстве, в моем
замечательном поэтическом таланте, ибо Шиллер был
моим идолом, моим образцом, и мое чутье (а
возможно, и мое тщеславие) говорили мне, что я вот-
вот его догоню. Это, разумеется, возвышало
меня и придавало мне мужество и силы; однако
благодаря Гёте я переместился в совершенно другой
мир. Это не были уже хоть и мощные, но грубые
мазки кистью, это была, сказал бы я, не
живопись al fresco*, — я взял за образец тонкость
письма живописца-миниатюриста и почувствовал, что
рука моя для этого слишком слаба! Печальные
происшествия сделали свое дело, короче говоря,
все, что я до сих пор написал, стало мне казаться
невыносимым, топорным, невежественным;
"Бланка", которою я когда-то прямо-таки жил,
начала казаться мне невыносимой, я ее забросил,
а с ней вместе ушли и все мое счастье, и весь мой
покой. Присущая мне жажда славы была
уязвлена в самое сердце, моя фантазия, поставляющая
мне теперь только страшные картины, утратила
свою прежнюю окрыленность; мое настроение,
никогда не отличавшееся приятностью, стало не-
* по сырой штукатурке (um.).
Из дневников
271
стерпимым, короче, я впал в то состояние, в
котором пребываю теперь и из которого не могу
вырваться, хотя довольно точно знаю его причину.
О, хоть бы вернулись те блаженные часы, когда я
витал в объятиях поэзии, когда еще чувствовал
себя выше окружающего мира, когда еще не стал
несносным для своих друзей и бременем для
самого себя! Несбыточные желания!
23 июня 1810. Живительно, что произведения
Шиллера только тогда кажутся мне совершенно
несносными, когда я о них думаю, — ведь мое
неудовольствие значительно ослабевает, если я и
впрямь их читаю (за исключением немногих
вещей), а сочинения Гёте, напротив, при чтении мне
вовсе не так нравятся, как впоследствии, когда я
даю образам из этих произведений "проплыть"
через мою душу; это происходит особенно с теми
характерами, которые меня сильнее всего
задевают, как Маргарита и Клерхен9. Уж не играет ли
со мною шутку моя фантазия? Сегодня я читал
некоторые места из "Орлеанской девы"10, и они
растрогали меня до слез — от чего я уже почти
отвык. Неужели я был к Шиллеру несправедлив?
1817. Талант Гёте, на мой взгляд,
преимущественно эпический. Поэтому в его драмах мало
ощутима грубая сила. Драма вообще должна
быть зеркалом, в котором отражается живое
действие, а его драма — это живописное полотно. Гё-
272
Из дневников
те как поэт бесконечно велик во всем, что бы он
ни делал; как драматический поэт он, на мой
взгляд, совсем незначителен. С внешней стороны
драма состоит прежде всего из диалога; однако
для драматического диалога недостаточно того,
чтобы попеременно говорили разные лица; важно
другое: то, что они говорят, должно вытекать
непосредственно из обуревающей их страсти; кроме
того, в каждом слове должно ощущаться
неоспоримое устремление к цели пьесы или сцены, а вот
этого-то у Гёте большей частью и нет. Его
действующие лица обычно говорят всё, что можно
сказать значительного и прекрасного о каком-либо
предмете, и это действительно прекрасно, и я ни за
что на свете не хотел бы лишиться прекрасных
речей в "Тассо" и в "Ифигении", но они не
драматичны. Этим и объясняется то, что пьесы Гёте так
прекрасно читаются и так плохо играются. Вообще
крайне печально, что Гёте не выбрал себе какой-
нибудь великий эпический сюжет, — ведь никто
кроме него не способен был бы такой сюжет
воплотить, но воплотить непременно в строгом,
приближенном к античному стиле, — романтическая
трактовка, пожалуй, далась бы Гёте с трудом.
1819. Диковинное направление новейшего
художественного вкуса в Германии легко объяснимо
сочетанием двух факторов: исторического, даже
научно - аналитического, знания замечательных
явлений в искусстве до нас — в соединении с на-
Из дневников
273
шим собственным бессилием. Тон среди нас
задают те, кого Жан Поль называл "бабьими
гениями". Им недостает не восприимчивости или
любви к прекрасному, а силы воплотить и утвердить
его вне рамок собственного "я". Поскольку же
никто так просто не сознается в подобном
бессилии, то вместо того чтобы искать причину
неудачи в самих себе, они все время ссылаются на
исчезновение каких-то внешних условий, которые
когда-то якобы существовали, а теперь их будто
бы нет. Драматические шедевры греков и
испанцев, считают они, породила религия, а ныне
религии нет, следственно, нет и шедевров. Именно
отсюда столь сильное теперь тяготение к так
называемому романтизму, к тем предчувствиям,
томлениям и сверхчувственному созерцанию,
которым в природе нигде нет соответствия. Все
великие мастера всех времен, от Шекспира до
Мильтона11 и Гёте, были более или менее пластичны,
потому что именно эта пластичность,
обособленность в четких контурах, как самое трудное в
искусстве, удается лишь крепкому мастеру и
поэтому также является главной целью его стремлений.
1819. Что, собственно, означает выражение
"романтический"? Должно ли оно указывать на
тот характер, какой новейшее искусство
приобрело благодаря христианству, которое, подчиняя
волю человека высшей воле, полагает погружение
первой в последнюю высшей целью всех стремле-
274
Из дневников
ний, а уничижая плотское как изначально
скверное, вечно проповедует одухотворение? Тогда я
не знаю, как можно Шекспира называть
романтическим поэтом. Или это нацелено, особенно в
области драматического искусства, на форму в
широком смысле слова? Тогда, несмотря на все
художественные резоны» говорящие против
этого, мы сделаем неотесанных сочинителей пустых
моралите Средних веков основателями новой
художественной нормы, в противоположность
Эсхилу и Софоклу; ибо то, что Шекспир и
Кальдерой не создали тот род литературы, в котором они
писали, а только облагородили его, придав
значение тому, что прежде значения не имело, —
явствует из беглого взгляда на историю театра до них.
То же самое относится к смешению серьезного и
комического в произведениях этих двух мастеров.
Что же из этого следует? Что романтический род
плох и неприемлем? Из этого следует, что не
существует таких выдвижных ящиков, в которых
можно запереть и зарегистрировать, словно
коллекцию насекомых, человеческий дух и виды, в
коих он является. Что если даже эпоха какого-либо
поэта с ее взглядами, будто необходимый медиум
воздействия природы на его душу, с
неизбежностью должна повлиять на род этого воздействия,
главное здесь — восприятие самой природы, а не
медиум. Что поскольку метафизические и
религиозные идеи изменчивы, а характер Прекрасного
неизменен, то искусство, если оно хочет отразить
Из дневников
275
последнее, должно опираться на нечто более
прочное, нежели метафизические и религиозные идеи,
то есть на человека и природу; что это во всяком
случае допустимо; поскольку дело здесь не в порт-
ретировании, а в идеализации природы, то
непременно нужно добавить к чувственному что-то
сверхчувственное, однако так, чтобы это всегда
происходило в манере, соответствующей
общечеловеческой природе, общечеловеческому чувству,
в манере, которая останется субъективно
правдивой, даже когда желанная объективная правда
будет давно утрачена, так что мнения, какие всегда
существовали и, в силу не поддающейся дедукции
основной черты человеческой природы, всегда и
будут существовать, ибо, невзирая на свою
шаткость, они более пригодны для поэзии, нежели так
называемые истины, недоступные и бдительно
охраняемые пушками какой-либо философской или
религиозной системы. Посмотрите на Кальдерона.
Сотни раз использовал он католическое суеверие
(которое является не чем иным, как
замаскированным языческим или, проще говоря, человеческим)
суеверием и едва ли хоть раз — веру. И тем не
менее в поэзии это суеверие потрясает людей,
которые в религии его презирают. Объясните мне это,
вы, старые новогерманцы!
1820—1821. Германия перегрузила себе
желудок фантазиями, и теперь простота могла бы пойти
ей на пользу как лечебная диета. Мы превратили
276
Из дневников
философию и религию в поэзию и теперь хотим за
это сделать из поэзии философию и религию.
1822. То, что Гёте говорит о Виланде12, могло
бы в широком смысле подойти и к Байрону:
автору надо простить, если он язвил насмешкой то,
что люди считали истинным и достойным
уважения, тем более если он таким образом давал
понять, что это постоянно беспокоит и его самого.
1822. Поэзия и проза отличаются одна от
другой, как еда и питье. Нельзя требовать от вина,
чтобы оно утоляло также и голод, и если кто-то,
дабы этого добиться, тошнотворным образом
крошит хлеб в свое вино, то пусть сам и жрет этот
свинячий корм.
1822. Новейшие сочинения Гёте основаны на
противодействии ходу времени. Если не стать на
ту же позицию, то эти сочинения можно оценить
неверно. Однако тот, кто участвует в этом
противодействии, говорит всегда больше, чем, в
сущности, сам считает необходимым, словно бы в
убеждении, что противоположное стремление
оппонентов само уберет все лишнее. Если Гёте в своих
сочинениях призывает к сдержанности или, скорее,
к самоограничению, то он учит этому своим
примером прежде всего на тот случай, когда мы, по
мере надобности, позволим себе распуститься.
1822. Болваны те, кто не понимают, что у
поэзии Гёте, разумеется, есть центр тяжести, но не
Из дневников
277
выисканный углубленным самокопанием, не
найденный во сне, а вечно значимый, устойчивый на
все времена, вполне самодостаточный,
превосходный, великий: человечество,
действительность, факт, мир.
1823. Вечный круговорот мира, также и
драматического! Наш мир начался с Шекспира, на
Шекспире он, кажется, и намерен сгинуть.
1823. Тик — это хороший поэтический
краскотёр; будь то угодно Богу, он стал бы и живописцем!
1824. Люди зашли так далеко, что сравнивают
Вальтера Скотта13 с Шекспиром, даже ставят их
на одну доску. Безумнее этого ничего и в голову
прийти не может! Именно то, в чем мнят найти их
сродство — характерность, — обосновывает
колоссальнейшую разницу между ними. Все
характеры Шекспира наделены четко определенной
жизнью. Заглянув благодаря гениальному дару
наблюдения в сокровеннейшую мастерскую
человеческой природы, он дает им развиться как
своеобразному организму, они присутствуют; даже
свои кажущиеся противоречия сглаживают они
победной доказательной силой своего
существования. Шекспир не наделял характерами своих
действующих лиц, они представали перед ним с уже
законченными характерами. Скотт мастерит
характеры, иногда более, иногда менее умело; преж-
278
Из дневников
де чем их создать, он этого хочет, и наиболее
удавшиеся ему черты неизменно выдают
намерение. Он зоркий наблюдатель, и то, что наблюдал,
умеет представить живо и ловко. Однако если
присмотреться, то каждое из его действующих лиц
оказывается совокупностью черт, которые лишь
упорядочивающий разум привел к единству, в то
время как у Шекспира всё исходит из единства
внутреннего созерцания, и только из него
вытекает многообразие особенностей, нередко на первый
взгляд противоречащих одна ддругой. Из того, что
можно достичь благодаря знанию жизни и людей,
благодаря изучению истории и психологии,
благодаря способности к наблюдению и
проницательности, у Скотта есть всё, и хвала ему за это! Однако
его фигурам недостает истинного центра тяжести,
неизъяснимого жизненного начала, и с этой
стороны он никак не может претендовать на высшую
ступень. Поэтому кажется, будто его персонажи
обладают определенными характерами лишь пока
он их описывает, пока они пребывают в покое,
пока о них идет речь; как только они принимаются
действовать, торопливо сколоченная постройка
начинает шататься, и они все больше и больше
обличают свое происхождение: идею.
1824. До сих пор я прочитал всего двенадцать
пьес Лопе де Веги14. Если бы мне довелось ныне
сравнивать его с Кальдероном, то на его долю
выпало бы вот что: более мужественный дух,
Из дневников
279
меньше манерности, меньше пышной риторики, в
общем — меньше напыщенности; но с другой
стороны: отнюдь не такая богатая сокровищница
поэзии; бесконечно меньше искусности в
построении и расположении частей, ни следа кальдеро-
новского совершенства. У Кальдерона есть некая
корректность, что-то вроде классичности, — по
органичному развитию действия в пьесах с Каль-
дероном не сравнится ни один поэт. Разве что
Шекспир в некоторых пьесах. А среди
древних — пожалуй, "Царь Эдип".
Начало 1825. Идеализм — это, в сущности,
не что иное, как пойманный за хвост
материализм, то есть одухотворение материи, поскольку
воплощение духа не пожелало продолжаться.
Но основу христианства составляет
спиритуализм15, то есть дух и тело как по сути своей
различные факторы, объединенные непостижимым
актом Творца (harmonia praestabilita16).
1825. Какие книги захвачу я с собой в свое
поэтическое бегство? спросил бы ты. Мало и много!
Геродота17 и Плутарха18, а еще обоих испанских
драматургов19. А Шекспира — нет? Шекспира —
нет. Хотя он, наверно, величайшее из всего, что
породило новое время. Шекспира — нет! Он
тиранит мой ум, а я хочу оставаться свободным.
Я благодарю Господа за то, что Шекспир есть и
что мне выпало счастье читать его и впитывать в
280
Из дневников
себя. Теперь, однако, я устремлен к тому, чтобы
его забыть. Древние придают мне силы, испанцы
возбуждают для творчества; однако первые
отстоят от нас слишком далеко, последние же
слишком человечны со своими изъянами среди
величайших совершенств, со своей часто
утрированной манерностью, — они, как представляется,
способны были замутить истинный источник
настоящего поэта — Природу, собственную манеру
созерцания, индивидуальность восприятия где-то
у себя в душе. Но великан Шекспир сам ставит
себя на место Природы, прекраснейшим органом
коей он был, и кто ему предается, тому на
каждый заданный ей вопрос будет вечно отвечать
только он. Ни слова больше о Шекспире!
Поднявшись из него, немецкая литература сгинет в
его бездне. Я же хочу быть свободным и
самостоятельным.
Лучше червяк, который сам ищет свой листок,
чем флейтист, сотворенный Вокансоном20.
Ноябрь 1826. У Шекспира в изображении
чувства и страсти часто есть нечто символическое, он
представляет метафизику страсти21, некое precis,
abrege* чувства. У Лопе де Веги изображаемое
всегда целиком подсмотрено у Природы.
Ноябрь 1826. Кальдерон — это Шиллер
испанской литературы. Лопе де Вега — ее Гёте.
схема (фр.).
Из дневников
281
Ноябрь 1826. Кальдерой — великолепный
маньерист22. Лопе — живописец Природы.
Ноябрь 1826. Гете часто обращает слишком
мало внимания на мнение своих читателей. Он
резко возражает, дабы наверняка избежать ошибки,
не заботясь о том, не содержит ли это возражение
во всей его несмягченной резкости независимо от
противоположного мнения, — не содержит ли и
оно тоже некое заблуждение — когда чего-то
недостаточно или чрезмерно много. Гёте можно
понять, только представляя его себе в постоянной
полемике. Однако его полемика не
наступательная, а оборонительная, и в конце концов — это
всего лишь самозащита. Гёте как литератор —
законченнейший эгоист, свой собственный
придворный и домашний поэт.
1828. Я поэт дорический23. Мне наплевать на
язык лейпцигских магистров и дрезденского
певческого кружка. Я говорю на языке своего
Отечества.
1832. О той самой второй части "Фауста". Что
тут можно сказать? Гёте, отчасти из-за
преклонного возраста, но главным образом из-за
канцелярского характера своих занятий в последние
годы жизни, утратил ту
живительно-одушевляющую силу, которая одна только и рождает образы
и пробуждает интерес в душе. Поэтому фигуры,
какие он обогащает за счет сокровищ своей юно-
282
Из дневников
сти, истощились у него до степени грез и
бескровных теней, но их все еще приходится принимать,
даже ими восхищаться, не чувствуя, однако,
больше глубокого родства с ними. К этому, видимо,
прибавилось еще понятное нежелание Гёте в
последние годы жизни оставить необеспеченным
кого-либо из его духовных детей. Точно так же
это побудило его в дальнейшем стремиться
продолжать и заканчивать произведения, начатые со
всей их индивидуальной особенностью; кажется,
что это даже склонило его к тому, чтобы силой
втискивать части и обрывки в исходно не
предназначавшуюся для них связку, а заботу о создании
единого целого предоставить восхищенным
потомкам и магии своего имени. То, что явно произошло
с "Годами странствий Вильгельма Мейстера"24,
отчасти должно было случиться и с продолжением
"Фауста". По крайней мере, включенные в него
антикизирующие составные части — это явно
отрывки из трагедии "Елена", которую Гёте когда-то
начинал писать, но потом забросил.
"Классическая Вальпургиева ночь" также несет на себе
отчетливые следы древней шутки — независимо от
"Фауста" она противопоставляет средневековые
чудачества сцены на Брокене сходным уродствам
греческой эпохи. Это поэтически осуществленная
схема, какие любил создавать Гёте.
Конец 1833 — начало 1834. Стихотворения
Ленау25. Истинно поэтические, подчас глубоко
Из дневников
283
поэтические мысли. Поэтому царящая в них
меланхолия без оправдывающего ее фона действует
скорее тягостно, нежели благотворно. Слог,
особенно благодаря в высшей степени
примечательным эпитетам, живой, но, что вообще характерно
для новейших немецких стихов, скорее
заглаженный, чем завершенный. Последнее случается
всякий раз, когда мысль и форма рождаются не
одновременно, а одно вначале вынуждено
приноравливаться к другому.
Июль 1834. Неверно, что докантовская
философия не знала вещи в себе26. Если Спиноза27 во
главе своей системы ставит тезис: Бог — это
субстанция, состоящая из бесчисленных атрибутов,
из коих нам, однако, известны только два —
мышление и протяжение, то, значит, он
молчаливо признает, что бесконечная масса модификаций
этих бесконечных, неведомых нам атрибутов
вовсе не входит в число наших человеческих
представлений; да, ничто не препятствует тому, чтобы
даже в круге, который мы себе представляем,
содержались частицы тех непостижимых для нас
божественных сущностей, которые так и
остаются для нас непознанными и образуют собственно
вещь в себе, недоступную не только нашему
представлению, но даже нашему мышлению.
1834. Если кто-нибудь теперь меня спросит,
может ли и должна ли драма иметь в основе
284
Из дневников
своей идею, то я отвечу: почему нет? При
условии, что автор уверен в своей большой
одушевляющей силе, как, во всяком случае, был уверен
Кальдерой. Но остальные великие писатели прибегали в
этому редко и брались за свои свершения как их
великая наставница — Природа: возбуждая идеи,
но исходя из живого факта. В начале было дело.
1834—1835. Горе поэту, который позволяет
публике диктовать ему сюжет и трактовку оного!
Но горе и тому, кто забывает, что его задача —
сделать свое произведение доступным разуму и
чувствам общечеловеческого уровня. Мы не
знаем иного недвусмысленного выражения этой
общечеловеческой природы, нежели голос всего
человечества.
Январь 1836. Люди считали, что необходимо
положить конец безобразиям так называемой
"молодой литературы" (Гуцков, Винбарг, Лаубе и
т.д.)28 четким запретом этих подозрительных
сочинений. Это, не говоря уже о неприемлемости
подобного запрета, будет ошибкой и причинит
ущерб в литературно-человеческом смысле. Так
или иначе, эта молодая литература — чепуха,
даже безумие. Но чем же можно побороть старое
безумие, как не новым? Времена, когда разум
отвоевывает себе место, — редки, и столь же редки
мужи, сумевшие донести до общества ценность —
при внешней непривлекательности —здравого
человеческого рассудка, верного взгляда. За отсут-
Из дневников
285
ствием Лессингов29 ныне не остается ничего
другого, кроме как сдерживать одну нелепость с
помощью другой. Пустословно-средневековый,
самообольщающе-религиозный, бесформенно-
туманный тиковско-менцелевский бездарный
период30 длился достаточно долго, и так как новое
плохое всегда лучше плохого старого уже потому,
что по крайней мере срок действия последнего
прерывается протестом, то следовало бы
радоваться, обретя в бесстыдстве новых апостолов
заслон от дерзости прежних.
Сентябрь 1836. Новейшая немецкая поэзия
делится на два класса, которые я хотел бы
обозначить как шлафрочную и радикальную поэзию.
Первый класс составляют подражатели Гёте.
Заметим: подражатели, а не почитатели! Кто не
является почитателем Гёте, тому не должно быть
места на немецкой земле. Этот, возможно,
величайший из немцев, второй Наполеон,
облагородил всех своих прежде буржуазных сородичей,
всех немцев, так что им еще долго будут ради
него прощать все их глупости и всевозможные
выходки, до тех пор, пока однажды, и быть может
скоро, не угаснет тот отблеск, какой он
отбрасывал на свое окружение, а до конца времен
сохранится лишь его собственное сияние. Для его
врагов не должно быть места на немецкой земле.
Я делаю здесь исключение лишь для одного31,
чью великолепную, но одностороннюю ненависть
можно простить лишь потому, что это ненависть,
286
Из дневников
а стало быть, страсть, которая проистекает из
иных источников, и к Гёте, писателю, имеет лишь
отдаленное отношение. К тому же этот человек
сам изгнал себя из Германии.
Однако почитать Гёте и подражать ему — не
одно и то же. Шиллеру можно и должно
подражать, ибо он — высший в своем роде и потому для
всех в этом роде — образец. Гёте же, напротив
того, человек исключительный, соединение
полупротиворечивых свойств, второго такого,
пожалуй, не сыщешь на протяжении веков. Он не
принадлежит ни к какому роду, однако если захотеть
поставить его во главе такового, то род получится
довольно сомнительный, разве что сам он
окажется на бесконечно далеком расстоянии от
любого, кто следует за ним.
Начало 1837. Гёте сурово порицали за то, что
он столь упрямо противостоял так называемой
романтической школе, даже ее лучшим
достижениям — Геновевам и Октавианам32; однако он
знал, что форма, дающая материалу себя одолеть,
вместо того чтобы одолеть его самой, неизбежно
несет в себе зародыш гримасы; знал, что не
объемность, а насыщенность определяет
содержание; знал, что художники создают, а намечать и
побуждать — дело дилетантов.
Весна 1837. Каждому известна
педантичность, с какою люди относятся к грекам и
римлянам, однако о том, что можно стать педантом и по
Из дневников
287
отношению к Шекспиру, наши земляки покамест
еще, кажется, и понятия не имеют.
Итак, несамостоятельные умы могут и должны
писать, и для этого им требуются образцы —
именно потому, что они не самостоятельны.
Начало 1838. Спорный вопрос о
преимуществе классического или романтического
представляется мне похожим на то, как если бы хозяин дома
за обеденным столом спросил своих гостей, чего
им больше хочется — поесть или выпить?
Разумный человек ответит: и того, и другого.
Начало 1838. Современная литературная
эпоха может, разумеется, иметь ценность как
переходный период, словно удобрение для будущих
растений, однако тот, кто примет это удобрение
за самые розы, — все-таки изрядный дурак.
Весна 1839. К числу поразительнейших
явлений относится сравнительно малое уважение
лорда Байрона к Шекспиру — второго по значению
английского поэта к первому. Тик или подобный
ему пустомеля легко удовольствовались бы
допущением, что более мелкий ум просто не постиг
ума более высокого. Поскольку же упомянутые
пустомели уверяют, будто они понимают даже
Шекспира, между тем как до лорда Байрона им в
любом виде духовной одаренности так же далеко,
как до неба, значит, надобно поискать другую
причину этого неуважения.
288
Из дневников
И другая причина имеется. Она заключается
отчасти в духовной самостоятельности, отчасти в
абсолютно современном направлении лорда
Байрона. Упомянутая самостоятельность привела к
тому, что все его убеждения были
взаимообусловлены, и в душе у него не было ничего, что не
исходило бы от него самого. Как англичанин, он знал
древних и высоко их ценил, хотя бы благодаря
своим ранним юношеским впечатлениям, да еще и
потому, что не ценить их может только скотина.
Однако есть все основания полагать, что он их
усвоил и объяснял себе тем же общечеловеческим
образом, как это делали великие умы французской
школы33, а практичные головы английской
общественности делают и по сей день. Его почтение к
Поупу34, по-видимому, объясняет то, что он
немногое может возразить против той манеры, с
какою этот человек, руководствуясь собственным
вкусом, обращался с Гомером35. В то время как мы,
немцы, почитаем у древних преимущественно то,
чем они отличаются от нас, — что в
культурно-историческом плане, конечно, более правильно, —
другие нации подчеркивают то, что есть у них
общего с ними, благодаря чему они становятся
практически образцами и внедряются во все более
распространяющееся образование, между тем как
у немцев они некоторым образом стали
препятствием и красуются сами по себе, правда, делаясь
при этом еще прекраснее. С тех пор как
существует мир, никто (во всяком случае, за исключением
Из дневников
289
Шекспира) не был педантом в меньшей степени,
чем Байрон, и это подводит нас к его второму
свойству: его глубоко современному направлению.
Последнее же происходит оттого, что лорд
Байрон поистине поэт ощущения, — не путать с
поэтом чувства. Ибо чувство и ощущение — не
одно и то же. Чувство симпатично, ощущение —
монопатично. Первое относит всё к предмету: оно
любит или ненавидит, второе — к самому себе:
оно одобряет или отвергает. Чувство вначале
сродни способности к желанию, ощущение —
способности к познанию. Первое действует
бессознательно, второе различает моменты
впечатления. Они относятся друг к другу, словно
нечленораздельный вскрик и членораздельная речь.
Чувство принадлежит поэту как человеку,
ощущение — человеку как поэту.
Апрель-май 1839. Разница между романом и
новеллой. Новелла — это когда поэзия впервые
склоняется к прозе; роман — восхождение прозы
к поэзии. Каждую хорошую новеллу можно
переложить в стихи, в сущности, это невыраженный
поэтический сюжет; роман в стихах был бы
вздором. Поэтому в романе события многократно
опосредованы, в новелле они выступают
позитивно, так что в первом господствуют причины, во
втором — следствия. Роман психологичен,
новелла психопатична; роман, как замечал уже Гёте,
медлителен, новелла устремляется вперед.
'/2 10. Ф. Грильпарцер
290
Из дневников
1846. Народные песни все равно что полевые
цветы, которые радуют тебя, даже восхищают,
когда встретишь их на лугу, где они выросли без
попечения и ухода; а перенесенные в сад, среди роз,
гвоздик и лилий, они не намного лучше сорняков.
1849 (?). Национальная литература.
Вопли о национальности в Германии.
Того, что люди изрекают как заповедь, у них
нет. Народы, имеющие национальность, об этом
не говорят. Англичане, испанцы, французы.
Национальность у народов — то же, что
характер у отдельного человека. В характере надо
различать, — хороший он или плохой. Плохой
следует улучшить или, насколько возможно, его в
себе подавить.
Логика, право, мораль, религия требуют от
всех одного и того же. Поэтому с
распространением образования люди становятся все более
похожими друг на друга.
В то же время образованию свойственно,
насколько это возможно, усваивать все самое лучшее.
Поэтому национальность в ее наиболее резком
выражении предполагает наперед состояние
неотесанности и изоляции.
Приложения
ДЛ. Чавчанидзе
ПРАВДА И ПОЭЗИЯ
В "АВТОБИОГРАФИИ-
ФРАНЦА ГРИЛЬПАРЦЕРА
Известно, что Грильпарцер, будучи уже
немолодым, сказал: "Неважно, как протекала моя жизнь,
как продвигались мои литературные дела, — это
второстепенное. Есть мои произведения, и этого
достаточно. Творчество должно говорить само за себя"1.
Тем не менее не только издания сочинений
крупнейшего австрийского драматурга и поэта, но и
посвященные ему работы литературоведов сопровождаются
обширными биографическими сведениями. Правда,
сведения, касающиеся первой половины его
жизненного пути, продолжавшегося более восьмидесяти лет
(январь 1791 — январь 1872), едва ли существенно
дополняют его рассказ о себе, заканчивающийся 1836
годом. Писать биографический очерк о том, кто оставил
автобиографию, — задача непростая и неблагодарная:
легко разойтись с автором в толковании фактов и
невозможно осветить их ярче, чем это сделал он сам.
Один из исследователей Грильпарцера
справедливо заметил, что пишущий автобиографию упорядочи-
Цит по: Dusini А. Nachwort // Grillparzer F.
Selbstbiographie. Salzburg; Wien, 1994. S. 207.
10. Ф. Грильпарцер
294
Д~Л. Чавчанидзе
вает в своих воспоминаниях то (и так), что (и как)
считает важным и нужным, нарушая при этом
достоверность, необходимую биографии2. В результате
перед читателем оказывается своего рода вариант
психологической прозы, к которому в полной мере
можно отнести заключение Л.Гинзбург: "Некий фермент
недостоверности заложен в самом существе жанра"3.
Но биографу, призванному восстановить
достоверность — фактическую, хронологическую,
историческую, так или иначе помогает та "внутренняя"
правда о человеке, какую содержит автобиографический
текст. И если главный персонаж автобиографии, он
же автор, выступает перед нами в своем прошлом,
как изображаемый, и настоящем, как
изображающий, то жизнеописание "со стороны", с
дистанции времени, как будто раскрывает его будущее.
Грильпарцер (тут он, конечно, не составляет
исключения), вероятно, предполагал такого рода "третье
измерение", рассматривая себя сквозь призму трех
времен. В возрасте 68 лет он написал четверостишие:
Пусть спорит со мной современник —
Осилю я эту беду.
Я прошлого времени пленник,
С ним в будущее уйду4.
Это заявление было сделано вполне осмысленно.
Прочную основу многослойного духовного мира
писателя заложило время, предшествовавшее его
рождению, названное в истории Австрии эпохой йозефи-
2 Ibid.
3 Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., 1971. С. 10.
4 Перевод мой. — Д.Ч.
Правда и поэзия в "Автобиографии9 295
низма — по имени умершего в 1790 г. императора
Иозефа (Иосифа) II. Сын эрцгерцогини Марии Тере-
зри, укреплявшей в стране систему абсолютизма,
Иозеф II продолжал ее политику как просвещенный
монарх, соответствовавший представлениям
Вольтера, Монтескье, Дидро. При нем было отменено
крепостное право, были проведены реформы массовой
школы и университетов, ставших государственными,
прошла секуляризация монастырей, развернулось
строительство больниц; в католической империи
Габсбургов получило статус бюргерства еврейское
население. Как отметил A.B. Михайлов, "Просвещение,
передовая идеология XVIII века, в Австрии, запоздав
во времени, вступило в 80-е годы в небывалый союз с
государственностью"5.
Традиционная пышность венского двора,
покровительствовавшего искусству со Средних веков,
позволяла расцветать музыкальному и театральному
творчеству. При этом кайзершпили, пьесы, сочинявшиеся
членами иезуитского ордена для постановки при
дворе, быстро приобрели популярность среди масс —
культура высших слоев вольно или невольно
становилась демократической.
В год рождения Грильпарцера умер Моцарт.
Судьба его "Волшебной флейты", которую
называют лебединой песней масонства за явно масонскую
тематику6, отразила судьбу просветительского воль-
Михайлов A.B. Эдуард Ганслик: К истокам его
эстетики // Советская музыка. 1990. № 3. С. 67.
Сам Моцарт, как известно, был членом масонской ложи
с 1784 г.
10*
296
ДЛ. Чавчанидзе
нодумствао— взлет, затем спад, последовавший за
смертью Иозефа И. Если Мария Терезия в свое
время запретила масонство, то в правление ее сына
оно стало едва ли не модой среди образованных
людей; в Вене масонские ложи превратились в
своеобразные центры просветительской пропаганды7.
Но "Волшебная флейта" появилась уже при новом
императоре Леопольде II, осенью 1791 г., когда
разгар революционных событий во Франции вызывал в
монархических кругах Европы настороженное
отношение и к масонам. В изменившейся ситуации
великий композитор мог скорее угадывать, чем видеть
отклик на свою оперу — "молчаливое одобрение
публики"8, как он писал в одном из писем. Спустя
три года после премьеры "Волшебная флейта" была
на некоторое время запрещена в Австрии; когда
постановку возобновили, ее увидел 8-летний Гриль-
парцер.
Хотя начатые Иозефом II преобразования не
нашли продолжения у его преемников, сделанное им
означало необратимый прогресс для страны; позднее
Грильпарцер высоко оценит это в стихотворении
"Памятник императору Иозефу". Однако йозефи-
низм с его реформаторскими принципами
способствовал и другому — усилению роли чиновничества, при
посредстве которого осуществлялась централизация,
появлению тайной полиции. По сути в нем сочетались
См.: Черная Е.С. Моцарт и европейский музыкальный
театр. М., 1963. С. 381.
Цит. по: Путеводитель по операм. I. Будапешт, 1965.
С. 92.
Правда и поэзия в "Автобиографии" 297
просветительские тенденции и идея единой
европейской монархии — старая идея габсбургской династии,
из которой на протяжении веков происходили
императоры Священной Римской империи германской
нации; это было "Просвещение, но австрийское"9. Его
двусторонний характер отразился в жизни Австрии и
на следующем этапе, начавшемся с назначением на
должность министра иностранных дел князя Меттер-
ниха, который стал затем канцлером; к тому времени
умершего Леопольда II сменил на престоле Франц I.
По случайному, но весьма символичному
совпадению выдвижение Меттерниха состоялось в 1809 г.,
тогда же, когда умер отец Грильпарцера, человек,
поистине воплощавший собой тип австрийца
просветительского века. Сын крестьянина, открывшего в
городе небольшое дело10, Венцель Эрнст Иозеф Гриль-
парцер стал адвокатом, написал диссертацию о новых
отношениях между церковью и государством. Именно
от отца, явно обладавшего аналитическим умом,
воспринял будущий писатель сдержанно-критическое
отношение к церкви, что не раз проявлялось
впоследствии, — этим объясняется и его отвращение к
ритуальному поклонению папе, и противопоставление
папскому Риму античного в стихотворении "Сатро
vaccino".
Politzer Н. Franz Grillparzer oder das abgründige
Biedermaier. Wien; Darmstadt, 1990. S. 27.
Не раз отмечалось, что у австрийского крестьянина в
условиях централизации государства, в отличие от
совершенно бесправного немецкого, было заметно развито
чувство личного достоинства. См., напр.: Слободкин Г.
Венская народная комедия XIX в. М., 1985. С. 11.
298
ДЛ. Чавчанидзе
Дом в Вене, где родился Грилъпарцер. Гравюра
Правда и поэзия в "Автобиографии" 299
Отцовская рациональность, внутренняя
потребность в упорядоченности бытия, сочеталась у Гриль-
парцера с обостренной эмоциональностью, с тонкой
восприимчивостью к искусству, унаследованной по
материнской линии: музыка, игра, фантазирование
были частью повседневности, окружавшей мальчика.
От родителей он перенял лучшие особенности
австрийского культурного сознания.
Между тем ему предстояло жить в новой
исторической обстановке, вызывавшей новые вопросы, более
сложные, чем те, на которые давало ответ
Просвещение: что такое свобода, какой ценой она может быть
куплена, каким образом на месте героической
личности появляется тиран. Принявший участие в
антинаполеоновском сопротивлении, он не уставал
любоваться парадами вступивших в Вену французов, а
вернее, их императором — сама по себе армейская
красивость его не привлекала. Можно предположить,
что даже Грильпарцер-старший, тяжело
переживавший поражение Австрии, готов был признать интерес
к фигуре захватчика: судя по беглому замечанию в
"Автобиографии", он не запрещал сыну
присутствовать на этих торжествах. В те же дни юноша сочинил
антифранцузские стихи, которые сразу превратились
в уличную песенку и могли стоить жизни автору, если бы
стало известно его имя. Но и родина в тогдашней
ситуации не вызывала его благоговения, "презренная
страна деспотизма и его пособников, глупых тупиц"11,
как написал он в дневнике. Впрочем, в записи,
11 Grillparzers Werke: 15 Т. Berlin; Leipzig; Wien; Stuttgart,
[O.J.]. Т. 14. S. 63.
300
Д-Л. Чавчанидзе
Вена, набережная Дуная. Рисунок
Р. Альта, литография Кс. Зандеманн
следовавшей непосредственно за этой, он выражал
сомнение, что французы или швейцарцы действительно
свободны.
Начиная пробовать свое перо в годы
наполеоновского триумфа, в размышлениях о свободе и
деспотизме, Грильпарцер по-новому осмысливал характер-
Правда и поэзия в "Автобиографии" 301
ное для немецкого Просвещения соизмерение
общественного и частного. В его юношеской драме "Бланка
Кастильская", сочиненной под влиянием шиллеров-
ского "Дон Карлоса", как и в наброске драмы о
Спартаке, сделанном тогда же, гражданские чувства
героев сталкиваются с любовью, которая должна
уравновешивать в человеке воинствующие, титанические
порывы. Проблема титанической личности уже прочно
укрепилась тогда в умах как реакция на
неоднозначный облик Наполеона.
Подобно большинству писателей периода
Реставрации Грильпарцер оценил феномен Наполеона
только после его окончательного падения. Но
стихотворение "Наполеон", написанное им в год смерти
французского императора (1821), отличается от всего, что
было сказано другими в стихах и прозе. Присущий
романтическому веку мотив драматичной
двойственности исключительной, яркой натуры (Наполеон как
будто был рожден стать примером таковой) переходит
у Грильпарцера в тему мирового несовершенства. Не
испытывая любви к Наполеону, поэт призывает
отнестись к нему справедливо и задуматься: исчезла ли
вместе с тираном и тирания? Утвердилась ли на земле,
с тех пор как его не стало, свобода мысли и слова?
И разве до Наполеона не оказывались залиты кровью
поля? Грильпарцер утверждает, что этот человек был
"лихорадкой больного времени", которую сочли
причиной болезни. Ныне же в мире, "наполненном
маклерами, писаками и попами", уже нет и не будет
великих, и Наполеона можно сравнить только с
Александром Македонским и Цезарем: они стали священной
собственностью истории. В итоге поэт делает вывод
о
со
x
3
ж
E
E
О)
vi
a
2<
Правда и поэзия в "Автобиографии" 303
не столько о самом легендарном герое, сколько о
мире, в котором тот явился: "Он велик, потому что мир
ничтожен". Опубликовать стихотворение разрешили
спустя ровно 30 лет.
Представление о посленаполеоновской эпохе в
общеевропейском масштабе, об эпохе Реставрации,
связано с именем Меттерниха, которое вошло в историю
как синоним гонения на свободомыслие. Именно мет-
терниховский режим имел в виду Грильпарцер, когда
написал в своих "Воспоминаниях о революционном
1848 годе": "Деспотизм разрушил мою жизнь, во
всяком случае мою литературную жизнь..."12. Лично
знакомый с Меттернихом, писатель имел
возможность составить о нем собственное мнение. В его
дневниковых записях и поздних заметках оценка,
выносимая австрийскому канцлеру, в целом негативная,
однако в них гораздо важнее неожиданная трактовка
чисто человеческой психологии Меттерниха. Следуя
за Грильпарцером, можно заключить, что первейший
из деятелей Священного Союза разделял то
настроение своих современников, которое кратко и точно
охарактеризовал Пушкин: "Мы все глядим в Наполеоны".
По-видимому, ему, как и многим, была внутренне
близка личность недавнего возмутителя спокойствия
Европы, врага его государя. Одна из самых ярких
сцен "Автобиографии" свидетельствует о восхищении
Меттерниха другим "властителем дум" — Байроном,
по-своему заявившим приоритет яркой
индивидуальности: он увлеченно читает наизусть только что
появившуюся четвертую песнь "Паломничества Чайльд
12 Ibid. S. 181.
304
ДЛ. Чавчанидзе
Гарольда". И Грильпарцер находит прямой отсвет
этих симпатий в его должностном поведении —
притязания на собственную исключительность и величие.
Раскрывая их беспочвенность, писатель возвращается
к мысли, высказанной им в стихотворении
"Наполеон": сравниться с Наполеоном не дано никому. Если
для великой личности желание заявить о себе миру
естественно13, то у Меттерниха подобное — лишь обман
и самообман. Его стремление подменить своей
деятельностью целую государственную систему
Грильпарцер считает равнозначным антицентрализаторской
дворянской вольнице.
По сохранившимся свидетельствам можно
заключить, что Меттерниха, фактически гонителя идеи
свободы, тем не менее привлекали разные формы ее
выражения. Кроме Байрона его любимыми авторами
были Вольтер, Монтень, Мармонтель, Жан Поль,
позднее в их число вошел язвительный Гейне. "Как
государственный деятель он подходил к литературе
исключительно с политических, реакционных
позиций, как частное лицо он находил в поэзии
разрядку"14, — пишет немецкий литературовед Г. Зайдлер.
В противоречивом существе этого человека по-своему
отразилась атмосфера того исторического этапа, когда
13 Мысль, возможно восходящая к "Феноменологии духа"
Гегеля, впрочем, к моменту написания статьи достаточно
расхожая. О том, что Грильпарцер, до конца жизни не
признававший учение Гегеля, испытал некоторое его
влияние, в частности влияние его эстетики, пишет Г.
Зайдлер. См.: Seidler Н. Osten-eichischer Ybrmärz und die
Goethezeit. Wien, 1982. S. 296.
1« Ibid. S. 140.
Правда и поэзия в "Автобиографии" 305
Европа, признав идеологию нового столетия,
пыталась сопротивляться пугающим общественным
переменам, которые последовали за победой этой идеологии.
В Австрийской империи, где от просветительского
периода остались большие культурные достижения,
на фоне всех общественных поворотов и смещений
единственно устойчивой областью должна была стать
культура — то, что бесспорно способствует
достойному самоопределению нации. Именно это имел в виду
Гуго фон Гофмансталь, когда утверждал, что "в
1809 году (год появления у власти Меттерниха! —
Д.Ч.) Австрия... ощутила в себе брожение дремавших
до тех пор, ей самой неведомых сил, и чувство своего
призвания вновь пробудилось в ней"15. Несмотря на
строгий государственный режим, жесткую цензуру,
выходили газеты и журналы, живо общались между
собой деятели и почитатели литературы и искусства.
Вена притягивала многих из лучших представителей
литературной Европы.
Говоря о пробуждении национального
самосознания страны в начале XIX в., Гофмансталь упоминает
в качестве идеолога образованных австрийцев графа
Филиппа Штадиона, покровителя Грильпарцера, как
мы узнаем из "Автобиографии". Основатель газеты
"Отечественные листки", он был одним из самых
ярких представителей партии реформаторов, к которой
принадлежали и два эрцгерцога, отличавшиеся от
правившего брата прогрессивными взглядами. Именно
граф Штадион впервые собрал литераторов у поэтес-
15 Гофмансталь Г. Австрийская библиотека // Гофман
сталь Г. Избранное. М., 1955. С. 630.
306
ДЛ. Чавчанидзе
Титульный лист первого издания трагедии
"Праматерь9
Правда и поэзия в "Автобиографии" 307
сы Каролины Пихлер, положив начало кружку,
снискавшему известность за пределами Австрии; Гриль-
парцер стал вхож туда после успеха "Праматери".
Постоянными членами кружка были замечательный
комедиограф Фердинанд Раймунд и драматург
Генрих Иозеф фон Коллин. Создатель "драмы высокого
стиля", Коллин пропагандировал и некоторые
эстетические воззрения "новой школы" — так в Вене
вначале называли романтизм. В кружке сохранялся интерес
к литературе Восточной Европы, возникший еще при
Марии Терезии, когда предполагалось создание
Восточной академии. Здесь постоянно появлялись
Бетховен и Шуберт. Один из шведских путешественников,
побывавший в Вене, писал, что город имеет две
достопримечательности — собор Св. Стефана и дом
Пихлер. Вслед за этим салоном, где собирались в
основном дворяне, появился другой — в доме бюргера
Франца Шобера.
В 20-е годы XIX в. на страницах целого ряда
венских журналов и ежегодников оживленно
обсуждались сочинения Гёте и Гофмана, велись дискуссии по
вопросам эстетики, философии, истории.
Примечательно, что в 1818 г. К.-В.-Ф. Зольгер, выступивший
с ревизией эстетических принципов ранних немецких
романтиков, выбрал австрийский "Литературный
ежегодник" для критики лекций Августа Вильгельма
Шлегеля, прочитанных за десять лет до того в Вене.
Эти лекции были объявлены в 1808 г. в
основанном по совету Гёте журнале "Прометей" —
A.B. Шлегель прибыл тогда в австрийскую столицу
вместе с Жерменой де Сталь. Власти разрешили лекции
с некоторым промедлением, хотя венцы, не только
308
Д-Л. Чавчанидзе
Страница первого издания трагедии "Праматерь"
в переводе А. Блока. СПб., 1908 (правка 1918 г.)
Правда и поэзия в "Автобиографии" 309
университетские ученые, но и многие из дворянского
круга, сочли за честь приезд известного немецкого
профессора — такой факт как бы возвышал их город до
уровня Берлина. Число слушателей доходило более чем
до двухсот, среди них постоянно присутствовали
высокопоставленные лица, и прежде всего Меттерних.
Характерное для страны со времен Марии Тере-
зии и Иозефа II взаимопроникновение культурных и
политических тенденций, не всегда совпадавших в
целях, которые они преследовали, подтвердило
поступление на австрийскую государственную службу
Фридриха Шлегеля, имевшего вес в глазах
европейской интеллектуальной элиты. По распоряжению
Меттерниха Ф. Шлегель с 1809 г. издавал газету
"Австрийский обозреватель"; во время Венского
конгресса он разрабатывал проект немецкой
конституции, где важная роль отводилась католической церкви.
Но в "Австрийском обозревателе" Шлегель поместил
обстоятельный и оригинальный обзор немецкой
литературы, а с 1812 до 1818 г. выпускал журнал
"Немецкий музей", предназначавшийся, по его замыслу, для
объединения немецких католиков и протестантов на
общенациональной платформе. Судя по полицейским
донесениям, журнал пользовался большой
популярностью и за пределами католической Австрии.
Сблизившийся с образованным дворянством, с салоном
Каролины Пихлер, где царил культ императора16,
Ф. Шлегель видел в монархической власти естествен-
Еще в 1797 г. один из участников этого кружка сочинил
текст гимна: "Боже, храни, императора Франца...",
музыку к которому написал Иозеф Гайдн.
310
ДЛ. Чавчанидзе
Сцена из спектакля по пьесе К. Мейсля
"Черная женщина"
(пародия на трагедию "Праматерь)
ный центр и одновременно символ лучших сил
государства. Именно в Австрии он написал сочинение
"О новейшей истории", вызвавшее восторженный
отклик сподвижника Меттерниха фон Гентца,
известного тогда автора трудов по вопросам политики: "Так
по-христиански, поистине по-католически, так верно-
подданнически, так по-австрийски..."17.
Не случайно поступил на австрийскую службу и
разделявший идеи романтизма Адам Мюллер, зани-
17 Цит. по: Hecht W. Einleitung // Schlegel F. Werke:
2 Bd. Berlin; Weimar, 1980. Bd. 1. S. XL.
Правда и поэзия в "Автобиографии" 311
мавшийся теорией государства. Романтики могли
воспринимать Австрийскую империю как оплот,
противостоящий разрушительной идеологии революций.
Возможно, по этой причине Иозеф фон Эйхендорф,
один из самых вдумчивых писателей романтических
лет, посетивший Вену впервые в 1820 г., вернулся
туда в 40-е годы на длительное время.
Представление об императорской власти как о
средоточии прогресса и добра, сложившееся в стране в
условиях просвещенной монархии, не было разрушено
к тому моменту, когда вступал в жизнь Грильпарцер.
Люди, подобные графу Штадиону, не были
случайными: с государственным по-прежнему
ассоциировалось возвышенное, духовное. Поэтому в сознании
культурного австрийца художник, человек
творческий, и чиновник, человек государственный, не
составляли оппозиции.
Прочитавший "Автобиографию" не может не
заметить, что с молодых лет повседневность Грильпар-
цера распадалась надвое: творческий труд, сразу же
принесший ему славу, и будни служащего невысокого
ранга. В написанных о нем биографических очерках
иногда проскальзывает сравнение с Э.Т.А. Гофманом,
притом скорее по контрасту, чем по сходству.
Пожалуй, действительно, противопоставление здесь более
уместно, хотя обоим служба приносила подчас
большие неприятности и небольшой заработок. Для
Гофмана мир был разделен на филистеров и
"музыкантов", у Грильпарцера же в венской обстановке не было
повода рассматривать как антагонистов тех, кто по
своим взглядам и принципам мог быть причислен к
312
ДЛ. Чавчанидзе
филистерству. Это спасало австрийского писателя от
призрака собственного двойника, который так мучил
писателя немецкого. Но именно в силу достаточно
стертой границы между двумя мирами Грильпарцер
воспринимал свое служебное положение с
болезненной серьезностью, тогда как Гофман, для которого оно
само по себе было лишь вынужденным и
мешавшим, — во многом еще и иронически. После
неудачной попытки в 1836 г. получить заведование
университетской библиотекой, о чем сообщается на
последних страницах "Автобиографии", Грильпарцер спустя
десять лет так же безуспешно (уже не в первый раз)
добивался должности первого хранителя придворной
библиотеки. Г. Политцер предполагает, что при этом
писателем руководил не только материальный
интерес: он в какой-то степени любил свою службу18.
В 1847 г., став членом недавно созданной Венской
академии (что улучшало его финансовое положение) и
как будто желая утвердить другую свою сущность, он
составил просьбу к императору Фердинанду о
повышении в чине: "Я литератор и чиновник. Как
литератору мне уже воздали должное..."19 Впрочем, письмо
не было отправлено. Человек, признанный гордостью
национальной литературы, стал надворным
советником только в 1856 г., после 43 лет службы, когда по
собственному желанию выходил на пенсию.
Но как большой талант, чья слава обещала
надолго сохраниться и за пределами немецкоязычного
18 Politzer Н. Der arme Hofrat // Grillparzer Franz / Hrsg.
von H. Bachmaier. Frankfurt а. M., 1991. S. 180.
»JJirr.norlbicLS. 181.
Правда и поэзия в "Автобиографии" 313
мира20, он нашел почитателей в разных кругах.
В Академию Грильпарцер был избран одним из
первых по рекомендации императора и тогда же получил
высшую императорскую награду — орден Леопольда,
в 1860-е годы стал почетным доктором Венского
университета, почетным гражданином Вены, членом
австрийской Палаты господ. Король Баварии
Максимилиан II наградил его двумя орденами. Франкфурт -
на Майне, где родился Гете, объявил его почетным
членом своего Немецкого общества — факт,
достаточно символичный, как и другой: герцог Саксен-Вей-
марский, внук Карла Августа, покровителя и друга
Гёте, в 1862 г. поручил внуку великого поэта
сообщить Грильпарцеру, что ему очень понравилась
трагедия "Сапфо".
Судьба Гофмана явно миновала австрийского
художника, принадлежавшего уже и к иному времени,
когда стало невозможно наблюдать повороты истории
со стороны, укрываясь в кругу друзей или среди
собственных фантазий. Мечта о "башне из слоновой
кости" была чужда Грильпарцеру. Воспитанный на
понятиях служения отечеству, обществу, людям,
постоянно размышлявший над этими понятиями, он помимо
воли становился если не участником, то активным
наблюдателем и резонером происходящего.
20 Такую славу предсказал весьма строгий к своим
современникам и довольно скупой на похвалы Байрон в
1821 г.: "Прочел в итальянском переводе... немца Гриль-
парцера — чертовски трудное имя для потомков, но
придется им научиться произносить его... Я его не знаю, но
потомство будет знать" (Байрон. Дневники.
Письма. М., 1963. С. 205).
314
' ДЛ. Чавчанидзе
Французскую революцию 1830 г. он воспринял с
сочувствием. Исследователи отмечают в его
дневниках упоминание о рабочем классе21. Однако
общественные перемены, назревавшие в Европе к 1848 г.,
вызывали у него настороженность, и это сказалось на
его отношении к происшедшей революции. В
"Воспоминаниях о революционном 1848 годе", написанных
по следам событий (1848—1850), Грильпарцер
раскрывает особую сложность ситуации в австрийском
государстве, где ее во многом определяли интересы
разных народов, и прежде всего их аристократической
верхушки. Чиновничество и партия императорского
двора частично поощряли свободолюбивые
настроения, полагая, что смогут направлять их. Активно
поддержал революцию кружок барона Добльхофа, куда
входили и литераторы. Как пишет Грильпарцер,
"стремление к свободе было признано духом времени,
так что все образованные люди, если они хотели слыть
таковыми, должны были примкнуть к общему хору"22.
Вначале и он был готов участвовать в этом
движении, содействовать всем разумным преобразованиям.
Когда писатели составили просьбу о смягчении
цензуры, он подписал ее третьим. Отклоненная Меттерни-
хом, просьба распространилась в листовках, где его
подпись оказалась уже первой, — две
предшествовавшие были сняты; однако Грильпарцер никогда не
жалел об этом.
21 Lengauer Н. "Ich bin ein dorischer Dichter.." Grillparzers
Tagebuch als Ort und Methode der Publizitätsvereinigung.
Maribor, 1993.
22 Grillparzers Werke. T. 14. S. 171.
Правда и поэзия в "Автобиографии" 315
Благородство в борьбе за свои идеалы неизменно
вызывало его уважение. Вспомним высказывание в
"Автобиографии": "... самопожертвование вандейцев
представляется столь же возвышенным, как и
воодушевление республиканцев". Но картина первого дня
революции — 40—50 студентов перед резиденцией
Меттерниха — создает впечатление ничтожности и
неблаговидности происходящего. Для такой оценки
этого исторического момента у писателя были свои
причины.
В революционных тенденциях, намечавших распад
государственного единства, Грильпарцер усматривал
угрозу единству традиционно-гуманистическому,
культурному, предполагающему согласие наций.
"Смешной национальный вопрос" вызывал у него
"отвращение"23, пугали надолго затянувшиеся в
разных уголках империи вспышки, по своему характеру
мало отвечавшие идеям, выношенным некогда
замечательными людьми. Как и многие свидетели
революционной действительности всех времен, Грильпарцер
оказался бессилен перед ее диалектикой. В июне
1848 г. в стихотворении "К Радецкому"24 он
приветствовал австрийскую армию, подавлявшую
освободительное движение в Италии. В этой военной акции он
видел защиту той миссии Австрии, которую ей
отводили с первых лет Реставрации, создавая некий "габс-
23 Ibid. S .168.
24 В честь графа Иоганна Иозефа Радецкого,
генерал-губернатора австрийских земель в Северной Италии,
фельдмаршала, командовавшего армией, сочинил марш
И. Штраус-отец ("Марш Радецкого").
316
Д~Л. Чавчанидзе
бургский миф" хранительницы исконного порядка
(термин ввел итальянский исследователь австрийской
литературы Клаудио Магрис: Magris С. Der habsbur-
gische Mythos in der österreichischen Literatur.
Salzburg, 1966). "В твоем лагере — Австрия!"
провозглашал поэт, обращаясь к императорскому
военачальнику.
Стихотворение вызвало взрыв негодования.
Венские студенты требовали публичного суда над автором.
С упреками обратилась к Грильпарцеру поклонница его
таланта аристократка Элоиза Костинеску: "Хочу
напомнить, что Бог определил Вам быть первым среди
тех, кто никогда не сгибается под ярмом раба и всегда
высоко держит голову..."23 (прочитавший
"Автобиографию" не усомнится в справедливости таких слов).
Но от армейского корпуса писатель получил
позолоченный серебряный кубок, который по его завещанию
должен был быть возвращен после его смерти
командованию корпуса. Когда в XX веке персонаж романа
Иозефа Рота "Марш Радецкого", старый служака,
вспоминает Грильпарцера, он имеет в виду, конечно же,
не создателя "Сапфо", а певца австрийского воинства.
При этом сам Рот в годы разгула гитлеризма видит в
Грильпарцере пророка, предсказавшего трагическую
трансформацию европейского менталитета: "от
гуманизма через национализм к озверению"26.
Цит. по: Politzer Н. Franz Grillparzer oder das abgründige
Biedermaier. S. 183.
"Vom Humanität durch Nationalität zur Bestialität" — Рот
цитирует одну из эпиграмм Грильпарцера (см.: Roth J.
Grillparzer. Ein Porträt. Das journalistische Werk,
Правда и поэзия в "Автобиографии" 317
Поэт никогда не раскаивался, что написал
стихотворение "К Радецкому", более того, напомнил о нем
как о своей заслуге в прошении императору о пенсии,
подчеркнув, что выступил с ним не без риска для себя,
когда все австрийские литераторы отмалчивались или
поддерживали революцию. И это было не
заискиванием верноподданного в расчете на вознаграждение, а
выражением удовлетворенности человека, сознательно
и достойно исполнившего свой долг. Грильпарцер
понимал этот долг как большой художник, который
рассматривает события текущего времени сквозь призму
истории. Именно тот, кто уже создал драму "Величие и
падение короля Оттокара" и завершал работу над
"Раздором в доме Габсбургов", мог кратко высказать в
революционном 1848 году глубокую мысль:
"Хочешь свободным быть — стань сначала разумным.
Лишь разумный, поверь, может свободным стать"27.
В 1915 г. в эссе "Политическое завещание Гриль-
парцера" Гофмансталь писал: "...вероисповеданием
1929-1936 // Werke: 6 Bd. Köln, 1991. 3 Bd.
S. 744—745), о смысле которой исследователи не
перестают спорить: некоторые, в отличие от Рота, видят
здесь реакцию на национализм малых народов Австрии
(напр.: Kost J. Zwischen Napoleon, Mettemich und habs-
burgischem Mythos // Jahrbuch der Grillparzer-
Gesellschaft. Wien, 2002. Bd. 30. S. 147). Однако по
дневникам писателя можно судить, что он напряженно
следил за националистическими тенденциями и в
предреволюционной Германии, хотя с гордостью называл
себя немцем. Как бы то ни было, правоту этих слов
подтвердили полтора столетия.
Перевод мой. — Д.Ч.
318
Д~Л. Чавчанидзе
его было вольнодумство, если придать этому слову
более благородный оттенок чистоты, какой еще был
присущ ему в начале минувшего века... То, что
окружало его время, казалось ему ничтожным"28. Такое
понимание личности писателя почти через полвека
после его смерти, в полную противоречий "нервную"
эпоху, само по себе свидетельствует, что его приняло
то самое будущее, которому он, расходясь с
современностью, стремился передать лучшие идеи прошлого.
"Автобиография", найденная после смерти 1риль-
парцера, была написана в 1853—1854 гг., как
поясняет сам автор, вовсе не по его воле, а по требованию,
предъявленному Академией к своим членам. И хотя
впереди у него еще были годы и годы жизни, рукопись
осталась, как принято считать, незаконченной. Над
причинами этого стоит задуматься.
Известно, что это был не первый его опыт в
автобиографическом жанре. Уже не говоря о том, что
Грильпарцер время от времени фиксировал
запечатлевшиеся в его памяти события — воспоминания
детства (кое-что из этого вошло в книгу) или
какую-нибудь значительную встречу, он не раз предпринимал
попытки рассказать о самом себе. Первая относится
к 1812 г., когда он выбрал для своего "героя" фамилию
Фиксмильнер29. В 1814 г. он подбирал название для
автобиографического романа: "Жизнь, деяния, мне-
Гофмансталъ Г. Указ. соч. С. 668.
Фамилия известного в XVIII в. астронома, связанного с
одним из бенедиктинских монастырей Австрии, уже
обыгранная до Грильпарцера у Жан Поля (Квинтус
Фикслейн).
Правда и поэзия в "Автобиографии" 319
ния, вознесение и низвержение в ад Серафина Клоди-
уса Фиксмильнера" или "Жизнь, приключения,
фантазии, вознесение и низвержение в ад Серафина Кло-
диуса Фиксмильнера, полугения"30. За явной
подражательностью обоих вариантов31 нетрудно угадать,
что содержанием должны были явиться "личные
признания", — так определил Ф. Шлегель в самом
начале века главный творческий принцип романтиков.
Но замысел не был осуществлен. Позднее, в
дневнике 1827 г., появилась "Характеристика
Фиксмильнера", в которую, очевидно, было вложено много
личного: чувство раздражения от своей сложной фамилии,
как будто еще более затруднявшей общение с
окружающими, раздумья о литературе, о собственном
поэтическом даровании и, что особенно примечательно,
усилившееся с годами нежелание даже в стихах
раскрывать свои переживания. В 1822 г. по просьбе
Фридриха Арнольда Брокгауза, готовившего
очередное издание словаря, Грильпарцер набросал
автобиографический фрагмент, где рассказал о своих
первых впечатлениях от чтения и игры на фортепьяно,
о неудовольствии отца по поводу "художественных"
занятий сына. Набросок остался неотправленным.
В том же году писатель размышлял в связи с
"Исповедью" Руссо, насколько возможно воспроизвести не
сами факты жизни, а то, как они были пережиты, вну-
Второе имя, данное Грильпарцеру при крещении, — Се-
рафикус.
Видимо, по ассоциации с романами Л. Стерна ("Жизнь
и мнения Тристрама Шенди, джентльмена", 1767) и
Ф.М. Клингера ("Жизнь, деяния и низвержение в ад
Фауста", 1791).
320
ДЛ. Чавчанидзе
треннее я. Но перспектива раскрыть такое "я",
"увидеть самого себя"32, пугала его. Фрагмент 1835 г.,
написанный для энциклопедии в третьем лице под
названием "Начало моей автобиографии", также
остался незавершенным.
Современный австрийский литературовед А. Ду-
зини, скрупулезно исследуя текст "Автобиографии",
обращает внимание на высказанное в первом же
абзаце опасение "излагать слишком пространно" историю
своей жизни. Действительно, эти слова заставляют
задуматься, как мыслил тогда Грильпарцер писать о
себе. Готовность сократить написанное, если будет
необходимо, наводит на мысль, что автором руководит
не прежний страх "увидеть себя", а нечто иное.
Возможно, прожив более шестидесяти лет, писатель уже
не боялся своего отражения, а скорее считал таковое
излишним для "заказчика".
Между тем, как установил по документам
австрийский ученый В. Вельциг, норматив Академии
допускал, помимо сухих биографических сведений,
интересные воспоминания; вряд ли Грильпарцер не знал
этого. Очевидно, то из прошлого, о чем он был готов
рассказать, требовало такого читательского отклика,
такого сопереживания, в каком он не мог быть
уверен, как и в своих возможностях выполнить то, чего от
него ждут: "Я попробую сделать это" (курсив мой. —
Д.Ч.), — пишет он.
Не будет натяжкой предположить, что
повествование обрывается на 1836 годе по причине достаточно
32 Grillparzer F. Sämtliche Werke: Historisch-kritische
Gesamtausgabe. Wien, 1925. Abt. II, Bd. 8. S. 9.
Правда и поэзия в "Автобиографии" 321
серьезной: автору было трудно отделить важное для
него самого от предназначенного для читателя. "Лич-
ностно-субъективное начало", признаваемое одной из
главных особенностей мемуарного жанра33, как можно
заметить, имеет ограниченную вместимость: пишущий
как будто заслоняется от всего, что когда-то
причинило особую боль, опасаясь, чтобы боль не
возобновилась; так Шатобриан в "Замогильных записках"
избегает рассказывать о трагическом конце любимой
сестры. И у Грильпарцера биографы находят немало
доказательств избирательности в сообщении фактов,
неполноты освещения сообщаемых. Он обходит
молчанием обстоятельства, подавлявшие его в разные
моменты жизни, собственные поступки и чувства,
которые нелегко было бы объяснить. Например, не
говорит о том, что самый младший из его братьев,
17-летний Адольф, утопился в Дунае. Называя
"ужасными" обстоятельства смерти матери, Гриль-
парцер утаивает, что больная женщина повесилась.
Поведав мимоходом о своей романтичной
влюбленности в оперную певицу, обронив, что он хотел привезти
из Рима четки для знакомых дам, писатель никак не
упомянул о женщинах, которые действительно играли
роль в его жизни, как и о тех, в чьей жизни он сыграл
серьезную роль, а это были истории непростые. Была
любовь к Шарлотте Паумгартен, невесте, а затем
жене кузена и друга Фердинанда, которой посвящено
"Золотое руно", было увлечение женой художника
Даффингера. Он не отвечал взаимностью Мари фон
См.: Тартаковский А. Мемуаристика как феномен
культуры // Вопросы литературы. 1999. № 1. С. 37.
322
Д-Л. Чавчанидзе
Сестры Фрелих. Акварель А. фон Теера
Правда и поэзия в "Автобиографии" 323
Пико, которая была влюблена в него на протяжении
двух лет; спешившая на вечер к его родственникам,
девушка простудилась и умерла.
Зимой 1820—1821 г. Грильпарцер познакомился с
тремя дочерьми торговца Фрелиха. Музыкально
одаренные сестры, Анна, Катарина и Жозефина
(старшая давала уроки пения, к ней присоединилась и
младшая, успевшая до тех пор блеснуть талантом
певицы, но оставившая театр, чтобы не отдаляться от
сестер), навсегда заключили с писателем совершенно
бескорыстный союз. Средняя, Кати, стала его
невестой, но затем помолвка была расторгнута. Однако это
не привело к разрыву между ними, более того, с
1849 г. Грильпарцер поселился в качестве постояльца
в доме Фрелих, где был окружен всеобщей заботой.
И современники, и биографы писателя немало
раздумывали над этими отношениями. В
"Автобиографии" он обмолвился, что в молодые годы
почувствовал себя готовым к семейной жизни, в старости же,
как вспоминает австрийская писательница Мари фон
Эбнер-Эшенбах, признавался в решительном
нежелании соединить свое Я с чужим: "...для меня была
невыносима мысль, что кто-то будет иметь право войти
в мою комнату, когда ему захочется"34.
Чувство Грильпарцера к Кати едва ли может
вызывать сомнение. На первоначальную его нежность
указывает маленькая деталь: в трагедии "Величие и
падение короля Оттокара" милую девочку, дочку бюргера,
зовут Кати Фрелих. О ее особом месте в его жизни
Ebner-Eschenbach М. von. Meistererzählungen. Zürich,
1953. S. 441.
324
ДЛ. Чавчанидзе
Кати Фрелих.
Миниатюра М.М. Даффингера
говорит уже то, что ей было завещано уладить после
его смерти дела разного рода. Но при прочной
привязанности к ней Грильпарцер увлекался другими,
возможно чтобы удержаться от полного сближения с
женщиной, неординарной по своей натуре, пожалуй,
Правда и поэзия в "Автобиографии" 325
не менее чем он сам. Она была готова подчинить ему
все свои запросы. Известная актриса Софи Шредер,
увидевшая Кати в любительском спектакле,
утверждала, что ее место на сцене и отказаться от этого
значит совершить самоубийство. Грильпарцер, в то
время жених, заявил, что актриса ему не нужна, "и
самоубийство было совершено"33 — Кати сразу же
отказалась от сцены. Его же, по-видимому, не
оставляла ревность к ее интенсивной внутренней жизни;
так, при собственном в полном смысле слова
музыкальном мироощущении, он был недоволен, что
Кати забывалась в музыке "как пьяница в вине", —
как будто такая страсть мешала любви к нему. Когда
уже 80-летним он предложил ей обвенчаться, Кати
ответила, что не желает быть старой поварихой
надворного советника, и при этом оставалась рядом с
ним до его последнего часа. История, вполне
подходящая для полноценного романа, вряд ли могла
найти место в автобиографии, ожидаемой
Академией.
X. Пфотенхауэр, определяющий
западноевропейскую автобиографию как "литературную
антропологию", как "самоконструкцию под знаком
олицетворенного недоумения перед собственным бытием"36, находит
у Грильпарцера лишь неосуществленный проект этого
жанра. Исследователь утверждает, что Грильпарцер
"задался целью устранить из жизни человека все
щекотливые обстоятельства, все, что может вызывать вопро-
33 Ibid. S. 467.
36 Pfotenhauer И. Literarische Antropologie: Selbstbiographien
und ihre Geschichte. Stuttgart, 1987. S. 22.
326
ДЛ. Чавчанидзе
сы"37. У него литературная антропология подменена
"безопасным" вариантом сообщения о своем
литературном пути. Яркую противоположность этого Пфотенхау-
эр видит в "Поэзии и правде" Гёте, которую тщательно
анализирует в ее "антропологическом" дискурсе.
Эти два жанровых примера не раз вполне
оправданно сравнивали как по сходству, так и по отличию.
Отмечая бесспорно существовавшую для Грильпарце-
ра проблему автобиографического повествования,
исследователи обычно обращались к одной из записей в
его дневнике, которую можно считать ответом на
предисловие к книге Гете. Как известно, великий поэт,
будто бы по настоятельной просьбе друзей,
"постарался воскресить в памяти время и обстоятельства"38,
под воздействием которых протекало его творчество.
Двадцатитрехлетний Грильпарцер увидел в этом
тщеславное намерение "через описание своей жизни
представить свои бессмертные произведения как верх
совершенства"39; в старости, как мы знаем, он заявил,
что творчество должно говорить само за себя. Находя
оправдание в том, что он пишет своего рода
официальный отчет, Грильпарцер явно избегает стремления
Гёте: "воссоздать все свои внутренние побуждения,
извне воспринятые влияния"40, — лишь дает справки:
как он начал писать, насколько быстро было написано
то или другое сочинение, как оно было встречено
цензурой, театральными кругами, публикой.
37 Ibid. S. 216.
38 Гете И.В. Поэзия и правда. М., 1969. С. 6.
39 Grillparzer F. Sämtliche Werke. Abt. II, Bd. 6. S. 289.
40 Гёте И.В. Указ. соч. С. 38.
Правда и поэзия в "Автобиографии" 327
При этом в двух автобиографиях немало общего,
далеко не второстепенного. Оба повествователя
передают атмосферу культурной бюргерской семьи:
домашние библиотеки, самодеятельные спектакли,
заботы бабушек не только о лакомствах для внуков, но и
об их эстетическом воспитании. У обоих в
воспоминаниях о детстве рельефно выступают фигуры отцов,
каждый из которых был личностью, почти не знавшей
границ в своих (правда, несхожих) увлечениях и
антипатиях. И в обоих случаях уже зрелый мастер
освещает тот этап своей жизни, когда он начинал писать,
воспроизводя при этом картину определенного
исторического времени.
Различный характер действительности,
окружавшей Грильпарцера и Гете, отражается в детском
восприятии пространства. Квартира, где родился и рос
Франц, хотя там он немало резвился с братьями,
запомнилась ему исходившим от нее чувством печали.
"Мрачность" и "печаль" помещения — это мрачность
и печаль его детства"41, считает Дузини, предполагая,
что семейная ситуация вокруг Грильпарцера-мальчика
была напряженной. Однако в книге нет прямых
оснований для такого заключения, и влиявший на
настроение ребенка "печальный дух" квартиры, о котором
упоминается в начале "Автобиографии", наверное,
следует понимать иначе: как проникавшее в детскую
душу веяние времени, неопределимо-тревожное.
Весьма похожее описание родительского дома дается
и в тексте Гёте: "Старый сумрачный дом с
многочисленными закоулками, казалось, был создан для того,
41 Dusini А. Nachwort. S. 221
328
Д-Л. Чавчанидзе
чтобы вселять робость и страх в детские души"42. Но
затем мы находим объяснение, почему эта мрачная
обстановка не стала определяющей для
мироощущения ребенка. В век разума "держались
воспитательной максимы — пораньше отучать детей от ужаса
перед неведомым и невидимым, заставляя их свыкаться
с разными страхами"43. И дети, вспоминает Гёте, были
вполне довольны результатами этого: за побеждавшее
в них жизнерадостное здравомыслие их награждали
созревавшими в саду персиками. Спустя полстолетия,
когда рациональный взгляд на вещи уступил место
иррациональной реакции, детям уже не удавалось — или
не хотелось — преодолевать проникавшую в их души
тревогу, хотя и их, как пишет Грильпарцер, не пугали
"неведомым и невидимым". Нелепо устроенное
помещение вызывало, наверное, не только страх, но и
ощущение какой-то неразрешимой загадочности
окружающего мира, что больше волновало, чем радовало.
Зато именно здесь могли рождаться фантазии о чудесах,
в которые дети верили — "как в наивысшее из всего, до
чего мог воспарить человеческий дух". Такое
впечатление от повседневного увлекало и одновременно
усложняло мир и на всю жизнь осталось настолько сильным,
что писатель еще до работы над "Автобиографией"
записывал, как они с братом увидели привидение, сидя
под бильярдным столом, как в отрочестве ему
мерещились духи и феи в театре Леопольдштадта44.
42 Гете И.В. Указ. соч. С. 41.
43 Там же.
44 Как бы промежуточное состояние между
здравомыслием XVIII в. и признанием присутствия необъяснимо
Правда и поэзия в "Автобиографии" 329
Гёте начинает рассказ о себе, убежденный в своей
светлой судьбе: "...в полдень, с двенадцатым ударом
колокола, я появился на свет... Расположение
созвездий мне благоприятствовало..."45 Грильпарцер
лишь указывает дату своего рождения, и это
различие "исходных пунктов" повествования сказывается
и далее. Говоря о своих отроческих годах, Гёте не раз
переходит с первого лица на третье, как будто
стараясь убедить читателя в объективной передаче
происходившего. И действительно, он достаточно
объективен, когда сознается в своих поступках и
переживаниях, в своем поведении с женщинами и друзьями,
в отличие от Грильпарцера, который только скупо
сообщает о своих контактах, скорее интеллектуальных,
чем душевных. В итоге Гёте утверждает неизменное
для него чувство гармонии со всем и всеми,
"прекрасное чувство, что лишь человечество в целом и
есть истинный человек и что каждый в отдельности
должен быть рад и счастлив, если у него хватает
мужества ощущать себя частью этого целого"46.
Расставаясь с Грильпарцером 1836 года, невозможно
представить, чтобы он когда-нибудь произнес
подобное.
страшного в начале XIX отражает рассказ Шатобриана
о деистически-своеобразной позиции его воспитателей:
"Меня убеждали, что привидений не существует, меня
принудили их не бояться ...вам нечего бояться злых
духов, покуда вы чтите Господа" (Шатобриан Ф.Р.
Замогильные записки. Изд-во им. Сабашниковых. 1995.
С. 51).
45 Гете И.В. Указ. соч. С. 39.
46 Там же. С. 290.
11. Ф. Грильпарцер
330
Д~Л. Чавчанидзе
Гётевский оптимизм и открытость миру, конечно
же, имели, помимо индивидуальной психологической
природы, историческую обоснованность.
Господствовавшее в пору его юности умонастроение
предусматривало гармонию в основе всех и всяческих отношений.
Оно сказывалось, например, в глубоком уважении
читающей публики к литературному труду. Вспоминая
о выходе поэтического трактата Клопштока
"Немецкая республика ученых", Гёте подчеркивает:
"...считалось, что не так важно оплатить книгу, как,
воспользовавшись случаем, наградить поэта за его заслуги
перед родиной... даже малоимущие юноши и девушки
опорожнили свои копилки, мужчины и женщины из
высшего и среднего сословия спешили внести свою
лепту в это святое дело"47. Гармоническое слияние
людей во всеобщем благоговении перед верховной
властью, не просто верноподданническом, а
органичном, передает рассказ о коронации Иозефа II в
1764 г.: "Мы воочию видим земное величие в
окружении символов своего могущества, склонившееся перед
величием небесным. Тем самым оно как бы являет нам
единство того и другого. Ведь и отдельный человек
познает и доказывает свою родственность
божественному, лишь покорствуя ему и поклоняясь"48.
К тому времени, когда вступил в жизнь Грильпар-
цер, европейский кодекс общественного поведения
сильно изменился, все человеческие связи приобрели
новую окраску. Краткое сообщение в
"Автобиографии" о скупости богатых венских поклонников "Пра-
47 Там же. С. 376-377.
4» Там же. С. 165.
Правда и поэзия в "Автобиографии" 331
матери" и "Сапфо", не пожелавших оплатить ложи на
представлении новой пьесы драматурга, выглядит
прямым контрастом тому, что мы знаем от Гёте о
награде, выпавшей Клопштоку. И понятно, что даже в
стране, безоговорочно чтившей идею монархии, был
уже немыслим передаваемый Гёте восторг перед
явлением власти: представление о священной природе
власти было уже окончательно поколеблено событиями
Французской революции.
Но при всем различии в характере и стиле
повествования обе автобиографии построены по одному и
тому же образцу — так называемому "культурному",
когда "взлеты и падения, жизненные удачи и неудачи
осмысливаются как таковые только в культурном
контексте"49.
У обоих авторов на переднем плане оказывается
культурная атмосфера эпохи, сохранившаяся в их
воспоминаниях. Для писателя это прежде всего
атмосфера литературная, а собственная жизненная судьба —
судьба творческая. Читатель, далекий от
описываемых времен, получает возможность посмотреть на
уже известные ему ранее факты глазами
современника, правильнее понять и оценить их. Автобиография
становится историко-литературным обзором, гораздо
более богатым, чем любой традиционный обзор,
благодаря так или иначе присутствующему в ней
человеческому фактору.
Боровинская Т. Биография как автобиография: (Одна
из жанровых возможностей) // Воображаемое прошлое
Америки: История как культурный контекст. М., 2001.
С. 55.
И*
332
Д~Л. Чавчанидзе
Разворачивая в "Поэзии и правде" широкую
панораму литературной жизни времен его молодости, Гёте,
конечно же, пересматривал с позиции столетия нового
ценности прошедшего — художественные и
философские течения, отдельные дарования. Но при этом этап
литературы, свидетелем которого ему довелось быть,
получает у него полное признание: "В литературе
тогда царила прекрасная пора..."50 Верный своему
мировосприятию, автор "Поэзии и правды" не чувствует
разлада и с культурным прошлым. В
"Автобиографии" также интереснейшую часть составляет анализ
явлений и оценка значительных фигур немецкой
литературы, вошедших в ее историю. Однако здесь
повествователь заметно настроен против того, о чем
вспоминает, и более всего против романтизма, который
оказался особенно органичным для Германии, где еще
ранее наметилась традиция "размежевания двух
начал — материального и духовного — в рамках одной
мировой системы..."51
К моменту, когда создавалась "Автобиография",
идеалы и кумиры романтической поры были
основательно дискредитированы, и не надо было быть
оригинальным, чтобы оказаться среди тех, кто говорил о них
раздраженно или скептически. Но австрийский
драматург относился к ним более чем сдержанно уже тогда,
когда им поклонялась вся образованная Европа52.
В первые годы его литературной деятельности "болез-
50 Гете И.В. Указ. соч. С. 252.
51 Михайлов A.B. Языки культуры. М, 1997. С. 340.
52 Другое дело, что австрийская литература практически
отдала сравнительно небольшую на фоне других
европейских литератур дань романтизму.
Правда и поэзия в "Автобиографии" 333
ненный" романтический пафос полностью определял
общее умонастроение — нормы не только искусства, но
и повседневной жизни, вырабатывая некий стандарт
как эстетического вкуса, так и бытового поведения.
Утверждавшаяся индивидуальность художника
противилась этому; Грильпарцер почти физически страдал в
обстановке все нараставшей "идеологии": его не
устраивали ни отработанный романтиками метод
художественного изображения, ни их устойчивая проблематика,
которая постепенно утрачивала жизненную основу.
Об этом можно судить и по его равнодушию к
личному общению с теми, чьи имена сделались лозунгом
романтизма. В Венеции он отказался от возможности
познакомиться с Байроном53, потому что не хотел
опоздать на пасхальные торжества в Риме, хотя они
привлекали его не как католика, а только лишь как
туриста. Встретиться с Ф. Шлегелем в Италии его
вынудила необходимость искать доступ к врачу,
сопровождавшему Меттерниха; в Вене же Грильпарцер
"даже избегал этого знакомства". Визит к нему —
едва ли не гротескная зарисовка, где появляется и
Доротея Шлегель, которая тоже пользовалась
популярностью и как прототип героини "Люцинды" Ф. Шле-
геля, и как автор романа "Флорентин".
Протест Грильпарцера вызывают разные
положения романтической эстетики. Интерес к народному
творчеству и поэзии Средних веков он считает
"бессмыслицей", заблуждением, благодаря которому
немецкая литература, пришла в упадок. Живопись на-
В немецкоязычных странах Байрон был популярен не
менее, чем отечественные авторы.
334
Д-Л. Чавчанидзе
зарейцев с ее средневеково-религиозным колоритом
он называет "вычурной"; признавая, что среди них
немало талантливых художников, он не прощает им
"средневековых одеяний" и "безвкусной Нюрнберг -
щины" — культа немецкой старины.
Отрицает Грильпарцер и другие критерии и
авторитеты, бесспорные для литературной и
окололитературной среды Германии. Дружески посетивший его в
Берлине Тик, уже прославленный писатель,
известный в те годы и как чтец художественных текстов,
нисколько не расположил его к себе. Описывая с
нескрываемой иронией одно из выступлений Тика,
отмечая, среди прочего его плохое знание древнегреческого,
Грильпарцер категорически отказывает ему и в
литературном таланте. По его мнению, Тику,
проявившему себя в разных жанрах, отлично удавались только
комические пародии, но и здесь его подводило
тяготение к "бесформенному". Считая, что все остальное у
Тика — "вычурное и деланное", Грильпарцер
объявляет его одним из "самых ранних губителей" немецкой
литературы. Другого губителя он видит в Жан Поле,
у которого неподдельное чувство переходит в
бессмысленную чувствительность, фантазия не поспевает
за чувством, придавая его образам туманность; если
же он пытается быть объективным, то становится
пошлым. Столь суровый приговор получают мастера,
определившие рубежи одного из самых
замечательных этапов немецкой литературы. Жан Поль был
первым, у кого Ф. Шлегель нашел признаки
романтического творчества, его имя чтило не одно
поколение писателей и читателей, как и имя Тика, надолго
оставшееся живой памятью романтизма.
Правда и поэзия в "Автобиографии" 335
О критическом подходе к утвердившимся
художественным традициям ярко свидетельствует
принципиальный отказ Грильпарцера от героя, определяемого
словом "Künstler" ("художник"). Появившийся в
немецкой литературе конца XVIII в., этот тип был
утвержден и разработан романтиками. Именно на
период романтизма приходится расцвет жанров
Künstlerroman и Künstlernovelle, где часто играет важную роль
любовная линия. В трагедии "Сапфо" творческая
личность также была представлена в стихии любви, но
критика сочла, что автор показал не столько поэтессу,
сколько женщину, и нашла в этом недостаток. Гриль-
парцер же воспринял такую оценку как показатель
своей творческой удачи: он видел задачу драматурга в
изображении страстей и судьбы человека и был убежден,
что сосредоточенность на своеобразии натуры
художника отодвигает человеческое на второй план; тогда и
любовь оказывается скорее игрой воображения героя,
чем настоящим чувством. Именно поэтому он не хотел
признавать такой жанр, как Künstlerdrama. Образ
художника, олицетворявший романтический идеал,
ознаменовавший романтический метод и затем прочно
укоренившийся в немецкой литературе, в глазах
австрийского писателя не приобрел особого значения.
Нельзя не заметить, что некоторые эстетические
суждения на страницах "Автобиографии" все-таки
явно носят отпечаток романтического века. Так,
рассказывая о работе над трагедией "Золотое руно",
Грильпарцер неожиданно вспоминает как о
поэтическом эталоне об образности средневековой: золотое
руно, причина человеческих бедствий, —
"чувственный символ неправедного богатства, что-то вроде клада
336
ДЛ. Чавчанидзе
Людвиг Лёве
в роли Яромира
в трагедии
"Праматерь*.
Вена, Бургтеатр.
1825 г.
нибелунгов"). Можно предполагать, что и характер
Медеи, воплощение женской силы, ведущей к
катастрофе, связывался в его сознании с женскими образами
"Песни о нибелунгах".
Есть примеры еще более значительные. Признавая
свою историческую драму "Величие и падение короля
Оттокара" данью времени, когда судьба Наполеона
"еще оставалась памятна всем", Грильпарцер
сообщает поразивший его факт: ситуации, как будто
предназначенные для воссоздания фигуры Бонапарта, он
обнаружил в истории австрийского государства, в пре-
Правда и поэзия в "Автобиографии" 337
дании о богемском короле Оттокаре. Убежденность
писателя в такой аналогии вольно или невольно
иллюстрирует чисто романтическое понимание сущности
искусства: художественное отражение — не что иное, как
вскрытие вечных законов и закономерностей.
И, конечно же, в духе философской эстетики немецких
романтиков рассуждает драматург о приоритете поэзии
перед историей в выявлении жизненной правды:
"Что такое история вообще? О какой исторической
личности люди судят одинаково? Историк знает мало,
но поэт должен знать все". Под таким заявлением
подписались бы и основоположники теории романтизма.
При этом Грильпарцер видит "истинные глупости"
в историзме романтиков — "Тика и иже с ним", у
которых "выдуманный завоеватель" покоряет
"выдуманную страну выдуманными героическими подвигами".
Свое неодобрение изображением истории он
распространяет и на создания доромантические — на
трилогию Шиллера "Валленштейн" и даже на хроники
Шекспира, где находит интересными только
комические фигуры "Генриха IV" (вспомним, что английский
драматург в эпоху романтизма, а у немцев и еще ранее,
был признан образцом во всех отношениях).
Приверженец разумной организованности мира,
Грильпарцер придает большое значение классической
"правильности" произведения. Он считает
необходимыми для исторической драмы не раз отвергнутые в
Германии три единства, особенно единство времени.
Но примечательно, что в толковании последнего он
невольно исходит из проблемы восприятия
искусства, оформившейся именно у романтиков и
волновавшей их более, чем кого-либо: "Формой драмы
является настоящее... его образует лишь непрерывная чере-
338
Д~Л. Чавчанидзе
да происходящих событий... Если я заставлю зрителя
занять место писателя и с помощью размышлений и
воспоминаний связывать воедино разрозненные
моменты, то будет утрачена та непосредственность
воздействия, которая обусловливает его силу и
своеобразие в настоящий момент".
Первые десятилетия века кажутся Грильпарцеру
временем измельчания, обмеления немецкой
литературы. Он не находит в эту пору великих немцев и
особое обвинение предъявляет Гёте, называя его поздние
сочинения холодными, а обращение к античности —
манерностью. Он убежден, что несостоятельность
всех литературных претензий тех лет вызвала к
жизни "грубость" "Молодой Германии", движения, в
котором Грильпарцер, впрочем, усматривает одно
достоинство — ниспровержение романтизма.
Своеобразная, не приемлющая никаких шаблонов
эстетическая позиция австрийского мастера,
представляющая во многом органический синтез тенденций не
одного столетия, должна была иметь причину более
глубокую, чем индивидуальный вкус. В Австрии, где
литература и искусство всегда заметно опирались на
особые национальные традиции, романтизм не
получил такого распространения, как в других европейских
странах, не сделался "узаконенным". М. Мамарда-
швили принадлежит мысль, что "австрийская
культура — это осознание сомнительности цивилизаторской
роли закона как чего-то окультуривающего,
цивилизующего, преобразующего стихию человеческой
органики или человеческого естества"54. Для австрийца
Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М.,
1992. С. 403.
Правда и поэзия в "Автобиографии" 339
необходимо личное осмысление закона, как
нравственного, так и эстетического. Именно это сказалось в
отношении Грильпарцера к "немецкому" — к апологии
романтического, в котором видели итоговое явление
свободного творческого духа.
Нет сомнения, что писатель ни в коей мере не
отделял себя от единой немецкой культуры: его
немецкое самосознание проявляется постоянно, — когда он
не без горечи вспоминает, что ему были малодоступны
"неавстрийские сцены нашего немецкого отечества"
(курсив мой. — Д.Ч.), или заявляет, отвечая критикам
"Сапфо", что "писал не для греков, а для немцев". Его
отчужденность от "немецкого" состояла лишь в том,
что для него, в отличие от романтиков с их тяготением к
выражению субъективного и личностного, самым
главным оставался пафос всечеловеческого. Полемизируя с
канонами романтизма, он был готов оценить и принять
его обращенность к человеку — то, что находил и в
классическом, античном. На последней странице книги
он объясняет замысел своей драмы "Волны моря и
любви" как желание дать "романтическую, или, скорее,
общечеловеческую трактовку античной фабулы".
В сложных отношениях со временем, когда
происходил процесс формирования и самоутверждения
Грильпарцера, обретения им признания публики,
просматривается индивидуальность драматурга, шедшего
и в жизни и в творчестве своим особым, трудным
путем. Поэтому вряд ли так уж безусловно надо считать
оставшуюся в рукописи "Автобиографию"
незаконченной: ведь и Гёте в "Поэзии и правде" оборвал
повествование на том моменте, когда он утвердился как
художник, когда окончательно сложилась его натура,
готовая ко всему, с чем он встретится, исполненная
340
ДЛ. Чавчанидзе
оптимизма, — таким он увидел себя спустя много лет.
Грильпарцер остановился на своей очередной неудаче
в продвижении по службе и очередном творческом
рывке — так запечатлелся у него собственный образ.
И, конечно, уже невозможно решить вопрос, что
помешало ему представить свой труд Академии:
сомнение, справился ли он с поставленной перед ним
задачей, или опасение, что его жизнеописание оказалось
"слишком пространно" и требует такого понимания,
такого отклика со стороны читателя, на который вряд
ли можно рассчитывать.
«"Автобиография" Грильпарцера не закончена.
Несмотря на это, она оставляет впечатление
совершенно цельного литературного произведения; это
произведение, в котором художественный метод
обнаруживает устойчивые индивидуальные черты; это
целостность повествования в основной его
установке»55, — пишет 3aiyuep. Еще ранее австрийский
историк литературы И. Надлер предложил
рассматривать эту книгу как воспоминания, историческое
сочинение, психологическое эссе.
Такого рода "разножанровость" до некоторой
степени предусматривается самим атрибутом автобиографии.
Понятие "автобиография" утвердилось в конце
XVIII в., вытеснив мемуары — форму,
распространенную ранее. В новом столетии не нашла повторения
непосредственно авторская исповедь, оставленная Руссо, —
ее во многом, хотя и по-своему, заменила исповедь лите-
Seidler Н. Grillparzers "Selbstbiographie" als literarisches
Kunstwerk // Osterreich in Geschichte und Literatur.
1972. Jg. 16, Hf.l. S. 35.
Правда и поэзия в "Автобиографии' 341
ратурного героя: от "Рене" Шатобриана до
произведений Лермонтова. Автобиография соединила в себе
"мемуарное" с "исповедальным", составив уже иной тип
свидетельства о прошлом — о времени и о себе.
Г. Миш находит отличие этого жанра от мемуаров
в новом характере отношений между повествователем
и миром, некогда его окружавшим: "В мемуарах эти
отношения пассивные, потому что мемуаристы...
участвуют в процессах и событиях, о которых
рассказывают, главным образом как зрители"56. По сути тот
же принцип сопоставления двух жанровых
разновидностей поддерживает Б. Нойман, когда указывает,
что мемуары заканчиваются там, где начинается
автобиография. Цепи фактов, выводимой в мемуарах,
Нойман противопоставляет "цепь ощущений" в
автобиографии, стремлению мемуариста к точности —
"осовременивание"57 прошлого пишущим
автобиографию. То, что исследователь называет
осовремениванием, и есть "исповедальный" компонент: новый
взгляд на минувшее заставляет автора пережить его
заново и побуждает передать хотя бы малую часть
своих переживаний читателю — кому-то другому;
подобное состояние толкает человека к исповеди.
Этот процесс воссоздания прошлого, более
глубинный, чем в мемуарах, требует эмоциональной памяти.
А. Ассман называет ее романтической, приводя для
пояснения стихотворение Вордсворта
"Воспоминание": "...потускневшее становится свежеокрашенным,
56 Misch С. Geschichte der Autobiographie. Bd. 1—4.
Frankfurt a.M., 1949-1961. Bd. 1. S. 117.
57 Neumann B. Identität und Rollenzwang: Zur Theorie der
Autobiographie. Frankfurt a.M., 1970. S. 83-84.
342
ДЛ. Чавчанидзе
утраченное возникает вновь, боль ослабевает. Рана
давнего времени, хотя и не залечивается
воспоминанием, но все-таки не так тревожит"58. О таком
воспоминании Вордсворт говорит, что оно отличается от
обычного, направляемого разумом, как кисть (pencil)
от пера (реп).
"Кисть" — именно тот образ, который более всего
передает особенность художественной манеры,
отличающей "Автобиографию". Мы находим здесь
изображение, невозможное для "пера": броские
человеческие фигуры, выполненные то в ярких красках, то в
полутонах (домашние учителя, граф — владелец
богемских поместий, регент-эрцгерцог Людвиг и
другие) создают живописность повествования. При этом
в "цепи ощущений" автора нисколько не теряются
факты; благодаря этому картинка частной жизни
нередко приобретает масштабность, превращаясь во
фрагмент исторической картины. Вспоминая о своем
поступлении на службу к барону Пиллерсдорфу,
Грильпарцер сообщает читателю детали финансовой
политики Австрии, напоминающие едва ли не
бальзаковские страницы. За его непроизвольным
признанием в своем сложном чувстве к родине появляется
эпизод из жизни правящего семейства, члены которого
время от времени становились вершителями судьбы
сочинений писателя, — одна из примет австрийской
действительности. Беглая зарисовка: слезы старой
поварихи при звуках марша, как считалось,
сопровождавшего казнь Людовика XVI, волнение мальчика,
Assmann А. Die Wunde der Zeit: Wordsworth und die
romantische Erinnerung // Memoria: Vergessen und
Erinnern. München, 1993. S. 361-362.
Правда и поэзия в "Автобиографии" 343
который воспроизводит на фортепьяно удар палача и
падение головы, — передает сильнейшее потрясение
тех лет, на которые пришлось его детство. Грильпар-
цер понимает сам, что показывает нечто большее, чем
намеревался, и как будто пытается сдерживать свою
кисть, однако ограничивается тем, что объясняет ее
размах: "Правда, это ко мне не имеет отношения, но я
пишу воспоминания, и мое время должно
фигурировать в них так же, как я"39.
Складывающиеся из воспоминаний целостные
картины, которыми наполнена книга, позволяют говорить
не только о живописности, но и о сценичности
изображения. Зайдлер обратил внимание на художественную
завершенность сцен и связал это с талантом писателя-
драматурга. В сценической манере выдержана прежде
всего категория пространства. Как пример
пространства в "Автобиографии" обычно приводят описание
отцовской квартиры, хотя эти страницы, где
"таинственность" мира находит оформление в предметах и
линиях, напоминают скорее произведение живописи.
Но очень часто короткий абзац или даже несколько
строк представляют мизансцены: пространство
становится зримым благодаря позам и движениям,
поведению, эмоциональному самопроявлению описываемых
лиц, среди которых находится и автор. Таков рассказ
Грильпарцера о посещении рабочей комнаты
Шиллера: старик-суфлер, еще заставший в живых поэта,
Возможно, в этом сказался закон жанра, о котором
Ф. Лежен замечает: "Есть ли на свете автобиографии,
где автор и вправду говорит только о себе?" (Лежен Ф.
В защиту автобиографии // Иностранная литература.
2000. № 4. С. 115).
344
Д-Л. Чавчанидзе
учит внука читать, а лицо мальчика, открытое и
взволнованное, как будто обещает, что это будет
новый Шиллер. Мягкая ироничность следующего
затем авторского замечания: "...что, однако, не
свершилось", — не допускает в эту сцену патетику и
сентиментальность, создавая ощущение естественной
атмосферы пространства, о котором идет речь. Таким
же образом просматривается пространство в эпизоде
встречи с императрицей по дороге к Везувию, в
истории с папским благословением, в рассказе о
домашнем аресте или об английском театре и парламенте.
По наблюдению Дузини, "пространственность", т.е.
пространство как отправная точка повествования, —
черта, присущая жанру автобиографии: пишущий о
своей прошлой жизни "отыскивает ее в
пространстве, из пространства... выступают воспоминания,
которые без связи с пространством, с
определенным локализованным пространством, канули бы в
забвение"60.
"Пространственная форма героя" (слова М.
Бахтина) в автобиографическом жанре обычно как бы
раздвоена; наряду с кругозором изображаемого "я"
всегда выступает еще один, расширенный и
выправленный воспоминанием. У Грильпарцера же
повествующий, хотя и воспринимает прошлое уже достаточно
умозрительно, не высвобождается из прежнего
пространства, из неоднозначности протекавших там
событий — из сложности эмоционального восприятия
того, что переживает объект повествования.
Пользуясь опять-таки словами Бахтина, можно сказать, что
"автор непосредственно сходится с героем и его
60 Dusini А. Die Ordnung des Lebens. Tübingen. 1991. S. 11.
Правда и поэзия в "Автобиографии" 345
миром"61, занимает его позицию, когда оставляет
нерешенными проблемы, стоявшие в свое время перед
героем. В контексте такого не проясненного до конца
освещения прошлого из отдельных воспоминаний и
высказываний складываются самостоятельные
психологические новеллы.
Одна из них может быть озаглавлена "Отец".
Фигура известного венского адвоката, отца четырех
мальчиков, двое из которых не успели стать взрослыми
до его смерти, в интерпретации биографов и критиков
писателя, как правило, предстает
малопривлекательной. Дузини, как уже было сказано, прямо связывает
неуютность описанной квартиры с натурой ее хозяина,
сухого рационалиста, чуждавшегося искусства и
развлечений, неумелого в обращении с детьми. Таким он
виделся юному Францу, и уже немолодой автор не
опровергает это впечатление: "В сущности, нежной
любви к своему отцу я никогда не питал. Он был
слишком жестким".
Однако мелкие штрихи и замечания, разбросанные
по страницам, где рассказывается о детстве и юности,
составляют и другой, совершенно иной портрет этого
человека. Едва открыв книгу, мы узнаем, что он был
способен увлекаться до страсти: часами бродить по
Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
С. 171. Существует мнение, что у Грильпарцера
дистанция, разделяющая два "я", иная, чем в "Исповеди"
Руссо, гётевской "Поэзии и правде" или в
автобиографической трилогии М. Горького. См.: Welzig W. Elemente
autobiographischer Erzählung: Zu Grillparzers und Kafkas
Schriften für Akademie // Grillparzer Franz / Hrsg. von
H. Bachmaier. S. 224.
346
ДЛ. Чавчанидзе
берегам Дуная или возиться в саду, страдая из-за
сорванного цветка, самозабвенно зачитываться
рыцарскими романами. Не признавая творческих занятий и
не одобряя поэтических наклонностей сына, отец
нарочно сдерживал радость по поводу очередного его
стихотворения, чтобы сразу же начать свои порицания.
Мгновенное ощущение радости проистекало,
по-видимому, не только из отцовской гордости: тут был еще и
непроизвольный отклик на явление поэзии, пусть даже
несовершенной. Постоянно находившийся во власти
своих обязанностей, он лишь изредка позволял
вырваться наружу чувствам. Это бывало, когда Франц исполнял
песню о фульском короле, которую сочинил на стихи
Гете; перед смертью отец отказался слушать ее, что
лишь подтверждает, насколько он был восприимчив к
музыке и настоящей поэзии. Об упорно скрываемой
эмоциональности говорит и тяжелая, усугубившая его
болезнь реакция на позорное для Австрии завершение
войны с Наполеоном, непохожая на казенный
филистерский патриотизм. Испытав убийственный страх за сына
в дни обороны Вены, отец встретил его возвращение
домой с холодным недовольством, как будто не мог себе
простить, что дал волю переживаниям.
Грильпарцер не раз наводит читателя на мысль, что
холодность этого человека была внешней, а
нежелание сближаться с людьми означало ранимость,
интуитивную самозащиту, боязнь оказаться непонятым или
задетым. Можно предполагать, что отец испытывал
неудовлетворенность и в отношениях со старшим
сыном, которого, видимо, не случайно считали его
любимцем; когда Франц, стоя на коленях у постели
умирающего, целует его руку, обливая ее слезами, тот
произносит: "Теперь уже поздно".
Правда и поэзия в "Автобиографии" 347
Эта сцена раскрывает и другое: и сын
по-настоящему любил отца. Именно поэтому спустя много лет
он мог считать, что отцовская "жесткость" мешала его
любви62. Трудно согласиться, что они были чужими
друг другу, как это утверждается в обстоятельном
труде, посвященном "Автобиографии"63, и вовсе
невозможно видеть здесь параллель с известным
"Письмом к отцу" Ф. Кафки, мелькающую в
критической литературе.
Но в воссоздаваемом образе отца нет и ни
малейшей идеализации, что чаще всего следует из
"просветления", приносимого временем. Образ передает ту же
двойственность, какую ощущал отрок, юноша, и в
этом умудренный опытом автор нисколько не отстоит
от своего героя, оставляя читателя перед извечным
драматизмом оппозиции "отцы — дети".
Другая новелла должна быть названа "Гёте" —
воспоминание о встрече с великим поэтом. Как любят
повторять биографы Грильпарцера, эта встреча могла
стать одним из звездных часов немецкой литературы:
возможно, с нее могло начаться содружество
наподобие того, что когда-то составляли Гёте и Шиллер, даже
более замечательное — как символ, если не
единомыслия, то во всяком случае взаимопонимания двух
литературных поколений. Вполне вероятно, что именно
такой встречи хотели оба — молодой, хотя уже
известный драматург, ощущавший, как каждый
большой талант, духовное одиночество (на что он не
преминул пожаловаться Гёте), и патриарх поэзии, нуж-
62 О "жесткости" отца Грильпарцер вспоминал и в ранних
автобиографических набросках.
63 Dusini А. Die Ordnung des Lebens. S. 34.
348
ДЛ. Чавчанидзе
давшийся и при своем положении "в обществе равных
или подобных себе". Оба, хотя, конечно, и в разной
степени, должны были ждать личного знакомства с
некоторым волнением и неопределенной надеждой.
К тому времени Грильпарцер уже был далек от
всеобщего благоговения перед Гете, о чем можно судить
хотя бы по записи в его путевом дневнике: "...в
Веймар, увидеть старого короля поэтов, чьим
верноподданным я когда-то был"64 (курсив мой. — Д.Ч.).
Косвенное подтверждение этого есть и в
"Автобиографии": придя впервые в дом Гете, он,
разговорившись с умной и привлекательной собеседницей, к
моменту появления хозяина почти забыл, где
находится. Первый визит оставил у него чувство
разочарования — на месте поэта он увидел чопорного министра,
снизошедшего до нижестоящих.
С Гете у Грильпарцера было связано приобщение к
настоящему поэтическому творчеству, определившее
его собственную судьбу, начало начал, которое
приходится на юные годы. Он дает нам это понять дважды,
рассказывая о пребывании в Веймаре: когда
объясняет свою реакцию на фигуру министра, неожиданно
перечеркнувшую идеал его юности, а затем потрясение,
вызванное сердечным вниманием Гете при
следующем посещении: "...во мне снова проснулся маленький
мальчик, и я расплакался".
Мальчик, юноша рядом со старшим — картина,
выступающая в веймарских сценах последовательно и
четко. Взволнованный гость за обедом нервно крошит
пальцами хлеб, а сидящий рядом Гете незаметно соби-
Grillparzer F. Tagebücher und Reiseberichte. Berlin, 1980.
S. 324.
Правда и поэзия в "Автобиографии" 349
рает крошки в кучку, по-отечески стараясь загладить
эту детскую неловкость. Он выглядит "то ли королем,
то ли отцом" в саду, где сама обстановка должна
была напоминать Грильпарцеру о его отце, который
был увлеченным садоводом. Это выражение
двойственного впечатления от личности поэта в книге — не
метафора, найденная автором, а точное воспоминание.
То же определение есть в письме, отправленном после
Веймара Кати Фрелих; Грильпарцер неоднократно
варьировал его: "любящий отец", "Юпитер
всемогущий", "Зевс"65. Сложное отношение к Гете,
укрепившееся в те дни, не было "откорректировано" и спустя
десятилетия и предстало в "Автобиографии" как еще
один вариант проблемы "отцов и детей".
Для такого заключения есть все основания.
Именно сложностью взаимопонимания разных поколений
можно объяснить некоторое смущение великого вей-
марца при первой встрече с австрийским
драматургом — канцлер Мюллер, как он сообщил Грильпарцеру,
замечал за ним подобное в моменты нового
знакомства, видимо, не каждого. Для Гёте было по-своему
важно увидеть уже заявившего о себе литератора
новой эпохи, притом бесспорно своеобразного на общем
фоне, в непосредственном общении с ним найти
подтверждение тому, что привлекало в его творчестве, и
разъяснение того, что не нравилось. Грильпарцер
показался ему достаточно своим, и Гёте вполне мог
испытывать желание устранить в нем чужое,
отделявшее их друг от друга. Он дал понять молодому
австрийцу, что готов увидеться с ним снова, но, что
примечательно, не сам, а через Мюллера, — отчасти как
65 Цит. по: Dusini А. Die Ordnung des Lebens. S. 114.
350
Д-А. Чавчанидзе
отец, который, пытаясь наладить контакт с сыном,
боится быть навязчивым, отчасти как король,
уверенный, что подданные должны угадывать его
настроение и просить аудиенции.
Анализируя через много лет свой отказ от
возможности вновь поговорить с Гёте, Грильпарцер называет
это своей "веймарской глупостью", однако не
опровергает серьезности руководивших им тогда причин.
Конечно, тут был и страх потревожить "короля", и
робость от сознания своей незначительности рядом с
ним, но было и ощущение некоего внутреннего
несогласия между ними, которое могло стать очевидным.
Грильпарцер понимал, что создавший "Торквато Тассо"
и "Ифигению в Тавриде" не одобряет романтическую
"Праматерь". К гётевской похвале "Сапфо" он
отнесся скептически, заметив не без ехидства, что это было
похвалой поэта самому себе: "...я, так сказать,
возделывал его ниву". Сказывалась убежденность человека
младшего поколения в правомочности собственной
позиции, которая непременно должна раздражать
"отца".
Вместе с тем Грильпарцер испытывал горячее
желание заявить Гёте о неизбывном родстве с ним, вы-,
разить благодарность за то, что это родство
существует: так возникла мысль посвятить ему следующее
свое сочинение взамен почтительного письма,
предусматриваемого этикетом. Но то, что он создал затем
при жизни поэта, показалось ему слишком
незначительным, чтобы поставить на первой странице
сакраментальное имя; не было написано и письмо. Ответом
на эту видимость равнодушия было молчаливое
пренебрежение корифея (возможно, тоже видимое), ни
разу нигде не упомянувшего о Грильпарцере. Автор
Правда и поэзия в "Автобиографии" 351
книги отмечает это без сожаления, хотя и не без
сознания некоторой нелепости такого завершения их
отношений66.
Биографы Грильпарцера правы, когда говорят, что
его чувство к Гёте, возникшее в Веймаре, было
подобно сыновнему. Но их душевное соприкосновение
оказалось мимолетным, сближение не состоялось, — как
и с отцом, что было так же драматично и так же
закономерно.
В тексте "Автобиографии" просматривается
распространенная в литературе европейского романтизма
монодия — история одного героя. Во фрагментах
повествования, из которых складывается
самостоятельный сюжет, пишущий менее всего отдаляется от того,
о ком пишет, не позволяя читателю считать, что автор
пересмотрел и отодвинул от себя давние события и
прежнее отношение к ним. Живительно, что именно
Грильпарцер, принципиально отвергавший
романтический метод и в своей деятельности драматурга далеко
не сполна отдавший ему дань, в автобиографическом
жанре представил личность типично романтическую.
Во всем, что мы узнаем здесь о герое, ощущается
его особое Я, изолированное от окружающих без
видимых серьезных мотивов. Замкнутость и робость в
отношениях с людьми как будто определены ему от
Впрочем, Гёте отозвался о Грильпарцере в письме к
композитору Цельтеру: "...приятный, располагающий к
себе... у него безусловно врожденный поэтический талант;
не хочу говорить о том, как он им распорядится и
насколько сумеет выстоять... он показался несколько
удрученным..." (Иоктября 1826 г.). Грильпарцеру это не
было известно.
352
ДЛ. Чавчанидзе
рождения: в молодые годы он стеснялся и своей
сложной фамилии, и малозаметной шепелявости, в отличие
от родственников, имевших тот же недостаток. С
детских лет он не раз переживал "смятение чувств" —
сильное нервное потрясение. С возрастом острота его
реакции на происходящее, мучительная для него
самого, не ослабевает: любой конфликт вызывает такой
сильный натиск тяжелых мыслей, что он чувствует
себя "угнетенным и стиснутым со всех сторон".
Редкие признания повествователя в своей
неординарности, глубоко удручающей его самого, напоминают
героя Шатобриана, также страдавшего всю жизнь от
рождавшегося внутри него беспокойства — до тех пор,
пока у него не появилась возможность исповеди.
Трудно отказаться от мысли, что Грильпарцер, работая над
"Автобиографией", временами был близок к состоянию
исповеди, которое многократно запечатлели романтики:
"...ужасно путаюсь в последовательности событий.
Причина заключается в том, что до настоящего
момента (курсив мой. — ДМ,) я старался их забыть".
Но еще более очевидно, что такой тип героя, ярко
подтвержденный после Шатобриана Байроном и
ставший общеевропейским, представлен как натура
художественная (Künstler) — не принятый писателем
теоретически немецкий вариант. Тонкая
восприимчивость души часто выполняет у него роль разума. В
ответ на вопрос профессора, откуда он столько знает о
лирике Горация, юноша отвечает убежденно: "Мне
просто так кажется". Через много лет писатель
вспоминает это как обыкновенный факт своей
естественной связи с поэзией, которая определила дальнейшую
судьбу героя книги, составив основу его собственного
образного мышления.
Правда и поэзия в "Автобиографии" 353
Его фантазию, особое внутреннее зрение,
постоянно питала музыкальная одаренность. Именно в
музыке начал он выражать свойственное ему с детских лет
грустное настроение — потребность в поэтическом
самовыражении появилась позже. После безуспешного
обучения игре на фортепьяно и скрипке, почти забыв
ноты, он начал импровизировать: созвучия и аккорды,
которые слышались только ему, выливались в
мелодии, и, как можно понять, нередко замечательные.
Музыка продолжала сопровождать его и в процессе
литературного творчества. Работа над "Золотым
руном" проходила не столько за письменным столом,
сколько у фортепьяно. Мысли рождались из звуков,
когда он играл с матерью в четыре руки симфонии
Гайдна, Моцарта, Бетховена.
"Симфонии могут представлять такую пеструю,
разнообразную, сложную и хорошо разработанную
драму, какой никогда не создаст ни один поэт, ибо они
на загадочном языке раскрывают самое
загадочное..."67 — писал Вакенродер, один из
родоначальников немецкого романтизма. Забросив после смерти
матери работу над "Золотым руном" (слишком
сильным было нервное потрясение), писатель смог
вернуться к ней только тогда, когда снова стал играть на
рояле в четыре руки с дочерью Каролины Пихлер.
И произошло "нечто удивительное": образы,
наметившиеся в пору прежнего обращения к музыке,
получили завершение. Музыкальная природа героя
"Автобиографии" прямо напоминает гофмановского
Крейслера.
Вакенродер В.-Г. Фантазии об искусстве. М., 1977.
С. 196.
354
ДЛ. Чавчанидзе
Кажется парадоксальным, что романтическим
"художником" предстает в книге убежденный
рационалист, преданный идее государственности и не
безразличный к тому, как ценят эту его преданность.
Очевидно, что Грильпарцер сам ощущает такой
парадокс, когда вдруг прерывает свое повествование и
объясняет скорее себе, чем читателю: "Во мне живут
два совершенно разных существа. Поэт с
захватывающей, головокружительной фантазией и
рассудительный человек, причем предельно холодный и
упорный". В своем жизнеописании он невольно запечатлел
именно первого — по-видимому, наиболее
сокровенную свою часть.
Герой Грильпарцера состоит в прялюм родстве и с
Крейслером, и с вакенродеровским Иозефом Берг-
лингером не только по линии "музыкальной"; точек
совпадения с ними значительно больше. В условиях не
благоприятствующей ему повседневности он живет
параллельно жизнью поэта, который естественно
иронизирует — в том смысле, в каком понимали это
романтики, — любую внешнюю ситуацию: так, в
приемной полицейского начальства, в ожидании более чем
неприятного разговора, он набрасывает стихи своей
новой пьесы. Творчество важно для него как
единственная форма существования, как процесс, в котором
важным является только его завершение: Грильпарцер
говорит, что дальнейшая судьба сочинений никогда
его не заботила. Однако можно заметить, что
отношение героя (автора) книги к "потребителям" искусства
не исчерпывается равнодушием; суждения модной
театральной публики вызывают его раздражение,
аплодисменты, на которые надо отвечать "безмолвными
поклонами", не приносят удовлетворения. Как и его
Правда и поэзия в "Автобиографии" 355
предшественники в произведениях о художнике, герой
Грильпарцера хочет чувствовать, что созданное им
проникло в души; как и им, ему не часто приходится
испытывать такое чувство.
В итоге его не покидает постоянное у
романтических героев ощущение одиночества, которое
выливается в "ипохондрию", — это слово не раз повторяется
в тексте "Автобиографии". Ипохондрия рождается от
сознания, что в Австрии нет места поэту, от сомнения
в своей значимости для немецкой литературы и
усиливается давлением бытовых обстоятельств, тех самых,
которые приводили в отчаяние героя Гофмана. Гриль-
парцер делает оговорку, что понимает, как мало
должно волновать художника что-либо кроме его
деятельности, например заработок, но не пытается отрицать
злую зависимость возвышенного от низменного: "...я
не хочу изображать себя лучше, чем я есть". Читатель
понимает, каково было ему переносить эту
зависимость. Перед нами еще один романтический
"музыкант", которому суждено пройти через
"немузыкальные страдания", как определил когда-то подобное
состояние Гофман. Таким остается герой Грильпарцера и
в эпизоде, завершающем его историю, на последних
страницах книги, — одиноко противостоящим всему
окружению со своим единственным оружием —
поэтическим вдохновением.
Сюжет "Künstlernovelle", новеллы о художнике,
вырастающий в автобиографическом повествовании
из отдельных деталей и ситуаций, сливается с двумя
другими, об отце и о Гёте, в цельное произведение
о человеке, выполненное на том уровне психологизма,
какого достигла литература к моменту его написания.
Оно не оставляет впечатления незаконченного, не
356
Д-Л. Чавчанидзе
требует продолжения. Не случайно "Автобиографию"
так высоко ценили впоследствии писатели Австрии —
Гофмансталь, Кафка, Музиль, Рот: ее
художественные достоинства должны были стать особо
значительными в стране, где на пороге нового века проявился
острый интерес к скрытому, внутреннему миру
личности. Именно этот мир выступает на первый план в
повествовании Грильпарцера, более чем скупо
рассказавшего о внешней стороне своего существования.
Но в его своеобразном изображении мира
внешнего прочитывается и исторический очерк, также вполне
законченный, и оригинальный эстетический документ.
И возможно, что такая многоплановость содержания
книги явилась еще одной причиной, по которой автор
не передал ее Академии, решив, что слишком далеко
отошел от поставленной перед ним цели.
Действительно, написанное Грильпарцером выглядит
адресованным совершенно иной инстанции, видимо
присутствовавшей в его сознании даже помимо его воли, —
будущему.
ПРИМЕЧАНИЯ
АВТОБИОГРАФИЯ
Первая публикация текста "Автобиографии":
Grillparzer F. Sämtliche Werke. Historisch-kritische
Gesamtausgabe / Hrsg. von August Sauer, fortgeführt
von Reinhold Backmann. Wien, 1909-1948. 1. Abt.
Bd. 16. На ее основе текст выходил в дальнейшем в
собраниях сочинений писателя и отдельным изданием.
На русском языке печатается впервые. Перевод
сделан по изданию, восстанавливающему
правописание автора: Grillparzer F. Selbstbiographie / Hrsg. mit
einem Nachwort von Arno Dusini. Salzburg; Wien:
Residenz-Verlag. 1994.
1 ...как черная женщина с большой вуалью. — Этим
детским видением мог быть навеян облик Праматери в
первой драме Грильпарцера: женская фигура, окутанная
черным покрывалом, скрывающим лицо. Появившийся в
конце 1820-х годов фарс австрийского комедиографа
Карла Мейсля (1775—1853) "Черная женщина" был
воспринят как пародия на "Праматерь": одна из сцен —
женщина под черным покрывалом на столе — вызывает
комический испуг сидящих вокруг стола.
2 ...на некоего Иоганна Медерича, называемого также Тал-
лус. — Иоганн Медерич-Галлус (1752—1835), автор
полифонических произведений для разных музыкальных
инструментов, сочинявший музыку к театральным
постановкам, зингшпили (комические оперы со вставными
разговорными диалогами), а также церковную музыку.
358
Примечания
З...у последнего польского короля... — Станислав II
Август (Понятовский), правивший в 1764—1795 гг. до
раздела Польши между Пруссией, Австрией и Россией.
4 Аппликатура — постановка и упражнение пальцев.
5Цифрованный бас — одна из басовых партий,
исполнявшихся в XVII—XVIII вв. в сопровождении органа или
клавесина.
Ь...древний перевод Квинта Кури,ия... — Квинт Курций
Руф (ок. середины I в. до н.э.), римский историк,
написавший 10-томную историю Александра Македонского;
немецкий перевод сохранившихся 8-ми томов появился в
1720 г.
7Паралипомена — отдельные дополнения к большому
сочинению.
8Патер Кохем — капуцинский монах (1634—1712),
оставивший легенды о святых, ставшие популярными.
9...было еще живо воспоминание о казни Людовика
XVI. — Король Франции Людовик XVI был казнен в
1793 г. по решению революционного Конвента.
3 Глиссандо — исполнительский прием, быстрое
скольжение пальцев по струнам или клавишам, создающее
определенный звуковой эффект.
1 Иозефинизм — термин, утвердившийся для определения
государственных преобразований в Австрии в годы
правления Иозефа II (1772—1790), внутренней политики,
рассматриваемой в истории как австрийский вариант
просвещенной монархии.
- ...балет... "Свадьба в деревне'... — Не исключено, что
Грильпарцер ошибается и в названии, и во времени
представления: балет "Крестьянская свадьба", или "Свадьба в Ой-
цуве", К. Курпиньского и Ю. Дамсе стал известен с 1823 г.
5 ...водили в театр Леопольдштадта... — Старейший
из общедоступных театров в тогдашнем пригороде Вены
Леопольдштадте; его репертуар составляли пьесы о
рыцарях и разбойниках, фарсы и комедии из жизни
простого народа, в которых нередко играли их авторы.
Примечания
359
[ ...с участием Кесперле — Лароша. — Аналогичный
Петрушке персонаж венской народной комедии — жанра,
возникшего в XVI в., частично продолжавшего
традицию итальянской "комедии масок" (commedia dell'arte),
коронная роль артиста Иоганна Лароша (1745—1806).
"Двенадцать спящих дев" — зингшпиль Карла
Фридриха Хензлера (1759—1825), популярного автора пьес о
рыцарях и разбойниках, в начале XIX в. арендовавшего
театр Леопольдштадта.
Шпис Христиан Генрих (1755—1799) — автор пьес и
популярных романов, рыцарских и готических, в том числе
романа "Двенадцать спящих дев", сюжет которого
заимствовал Хензлер.
...ненавистного мне грамматиста Аделунга. — Иоганн
Кристоф Аделунг (1732—1806), один из
основоположников германистики, автор академического труда
"Немецкая грамматика" (1781).
Конципист — секретарь-составитель официальных
бумаг.
...французский "Телемах"... — Роман "Приключения
Телемаха" Франсуа Фенелона де Салиньяка (1651—1715)
на сюжет "Одиссеи" Гомера; написанный в 1699 г. и
запрещенный до 1717 г., по-видимому из-за достаточно
смелых для своего времени идей воспитания, стал весьма
популярным в эпоху Просвещения.
^Светоний — Гай Светоний Транквилий, римский
историк I—II вв. н.э.; из сохранившихся его трудов приобрела
славу политическая биография "Жизнь Цезаря", о
которой скорее всего идет речь.
Кук Джеймс (1728—1791) — известный английский
мореплаватель; одно из его путешествий описано немецким
писателем Георгом Форстером (1754—1794), в юности
принявшим участие в этом путешествии вместе с отцом,
естествоиспытателем Иоганном Рейнхольдом
Форстером ("Путешествие вокруг света", 1777 г. — на
французском языке, 1779—1780 гг. — на немецком).
360
Примечания
Отахаити — старое название острова Таити,
крупнейшего в южной части Тихого океана; Форстер дает
пространное описание его природы и обычаев населения.
А Бюффон и его всеобщая естественная история... —
Жорж Луи Леклерк де Бюффон (1707—1788),
французский естествоиспытатель, автор обширного труда
" Естественная история ".
В Лессинговом "Натане"... — Готхольд Эфраим Лес-
синг (1729—1781), первый писатель немецкого
Просвещения, драматург, поэт, автор трудов по эстетике;
"Натан Мудрый" — его последняя драма, содержащая идею
религиозной терпимости.
"Духовидец" Чинка. — "История одного духовидца"
Каэтана Чинка (1769—ок. 1813), одно время
принадлежавшего к нищенствующему монашескому ордену
кармелитов.
..."Всемирная история" Гутри и Грея... — "Всеобщая
история" (1764—1767) Уильяма Гутри и Джона Грея,
переведенная с английского в ряде западных стран, в том
числе в Германии.
...только Геснер и Эвалъд Клейст. — Соломон Геснер
(1730—1788), швейцарский поэт, известный автор
идиллий, написанных в ритмической прозе, сохраняющих, при
очевидном влиянии Вергилия, стиль своего времени —
рококо и сентиментализма. Эвальд Кристиан фон Клейст
(1715—1759) писал анакреонтическую лирику,
буколические идиллии, оды и патриотические стихотворения.
...первый том "Тысячи и одной ночи" в каком-то
допотопном переводе. — Появившееся в IX в. на арабском
языке собрание историй разного характера, в основном
сказочных, — предположительно перевод с персидского;
в Европе было переведено в начале XVIII в. на
французский язык. Первым автором немецкого перевода (1829)
принято считать Э. Литтмана.
И том Гёте, содержавший "Геца фон Берлихингена",
"Клавиго" и "Клаудину де Виллабелла". — Драмы мо-
Примечания
361
лодого Гете: первая — 1771 г., опубликована в 1773,
вторая (на основе мемуаров Бомарше) — 1774 г., третья —
1777 г. (переработана в 1787—1788 гг.).
30 ..."Лагерь Валленштейна" и оба "Пикколомини"... —
Первая и вторая части трилогии Шиллера "Валлен-
штейн" (1798—1799); во второй — два главных героя,
отец и сын.
31 ..."Ворон" Гои,и,и в немецком переводе... — Драма
итальянского драматурга Карло Гоцци (1720—1806),
сочетавшего в своих произведениях черты "комедии масок" с
элементами народной сказки.
32 Демосфен — афинский оратор-демократ (IV в. до н.э.),
призывавший сограждан к сопротивлению Филиппу
Македонскому.
33 "Где теперь Цезарь, где Помпеи?" — Гай Юлий Цезарь
и Гней Помпеи составили с Марком Лицинием Крассу-
сом первый римский триумвират в 60-х годах I в. до н.э.
34 Захарие — Юстус Фридрих Захарие (1726—1777),
автор басен и комического эпоса "Носовой платок",
написанного античным гекзаметром.
35 В прозе под Геснера я мог бы излиться на любую
тему... — См. примеч. 27.
36 ...латинские стихи из Ars poetica... — Стихотворный
эстетический трактат римского поэта Квинта Горация
Флакка (I в. н.э.), оказавший влияние на позднейшие
теории стихосложения.
37 ...читали в классе "Царя Эдипа" Софокла. — Первая
часть трилогии великого древнегреческого трагика V в.
до н.э.
38 ...в нем... воплотился Dottore итальянской commedia
dell'arte. — Персонаж "комедии масок", педант и хвастун.
39 ...исключительно потому, что отвергал нововведения
Канта, при этом его система была не чем иным, как
чистым вольфианизмом. — Учение Иммануила Канта
(1724—1804), как подтверждает далее сам Грильпарцер,
в Австрии было признано значительно позднее, чем в
12. Ф. Грильпарцер
362
Примечания
Германии. Кантовская "критическая философия"
(1789—1790) вытесняла утвердившиеся в XVIII в.
основы философских дисциплин, разработанные
Христианом Вольфом (1679-1745).
1 ...собственным переводом "Тускуланских бесед"... —
Труд римского политического деятеля и писателя Марка
Туллия Цицерона (I в. до н.э.), написанный им в его
поместье вблизи города Тускулана.
...с упоением глотал Шписа, Крамера иЛафонтена. —
Шпис — см. примеч. 16; Карл Фридрих Крамер
(1752—1807), переводчик с французского, оставил
путевые заметки и книгу о немецком поэте XVIII в. Клоп-
штоке; Август Генрих Лафонтен (1758—1831), автор
тривиальных романов, рыцарских, разбойничьих и
семейных историй.
...взяв в руки химическое огниво, я испытываю
чувство благодарности... — Спички впервые появились
в Европе в 30-х годах XIX в., в современном виде — с
1855 г.
...один из братъед моей матери, приятный и
толковый человек... — Иозеф Зоннлейтнер (1766—1835),
писатель, музыкант, сочинитель нескольких либретто,
служивший при этом архивистом; некоторое время
руководил венским театром "Ан дер Вин", был одним из
основателей венского Общества любителей музыки.
...Керубино в Моцартовой "Свадьбе Фигаро"... —
Партию Керубино в опере Моцарта "Свадьба Фигаро"
исполняла Генриэтта Тайлер.
...мне впервые попали в руки драмы Шиллера. —
"Разбойники" (1781), "Заговор Фиеско в Генуе" (1782),
"Коварство и любовь" (1783), "Дон Карлос"
(Драматическая поэма, 1787) долгое время входили в репертуар
австрийских театров.
...из истории Педро Жестокого убийство его супруги
Бланки Кастильской... — Педро I, король Кастилии
(середина XIV в.), жестоко расправился со своей моло-
Примечания
363
дой женой французской принцессой Бланкой Бурбон-
ской, чтобы вернуться к прежней возлюбленной.
1 ...интересовало у Канта прежде всего естественное
право... — Исходная предпосылка этики Канта,
сложившаяся под влиянием теории "естественного человека"
Жана Жака Руссо: личность — всегда самоцель и не
может быть использована как средство для какой-либо
другой цели.
К..тут имел значение и Фихте... — Иоганн Готлиб
Фихте (1762—1814), немецкий философ, представивший
диалектическую основу субъективного идеализма.
}...идея калийных металлоидов пришла ему в голову
раньше, чем Дэви. — Сэр Хамфри Дэви, английский
физик и химик, открывший в начале XIX в. элементы калия
и натрия.
1 Когда во время Венского конгресса Александр
Гумбольдт приехал в Вену... — Александр фон Гумбольдт
(1769—1859), естествоиспытатель и географ, изучавший
природные и исторические условия разных стран, посетил
Вену в 1815 г. вместе с братом Вильгельмом
(1767—1835), лингвистом, культурологом и дипломатом,
прибывшим на конгресс в качестве прусского посланника.
...латинское сочинение о предустановленной
гармонии... — Понятие "предустановленная гармония",
введенное Готфридом Вильгельмом Лейбницем
(1646—1717) в книге "Новая система природы" (1695),
означает соответствующую божественному замыслу
мироздания согласованность монад — самодостаточных
действующих атомов природы, что предполагает взаимо-
связанность и согласованность всех мировых причин и
явлений.
...химическую систему Лавуазье... — Французский
химик Антуан Лоран Лавуазье (1743—1794), признанный
одним из основоположников современной химии.
Иоганн фон Непомук — (из Непомука), генеральный
клирик в пражском епископстве, святой, покровитель
12*
364
Примечания
Богемии и Карлова моста в Праге, с которого был
сброшен по приказу короля Венцеля I (XVI в.).
^ Франциска Ксаверия — от имени католического святого
Франциска Ксаверия (Франсуа Ксавье), одного из
основателей ордена иезуитов (середина XVI в.).
...один сторонник брауновского метода... — Джон
Браун, шотландский медик, живший в XVIII в.,
предлагал лечение в зависимости от степени возбудимости
нервной системы больного.
>Битва при Лсперне... другая — при Ваграме... —
Сражения с Наполеоном под Веной весной-летом 1809 г.; в
первом австрийской армии удалось выстоять, второе
стало ее поражением.
...заключение Пресбургского мира. — Грильпарцер
ошибочно называет Пресбургским Шенбруннское
соглашение с Наполеоном (Вена, 1809 г.). По Пресбургскому
миру (1805 г.) Австрийская империя отказывалась от
Венеции и Тироля, по Шенбруннскому — от Зальцбурга
и от всего адриатического побережья.
'...мой брат Карл после удивительнейших событий,
которые... могли бы составить целый роман... — По
сведениям биографов (см., напр.: Fink Н. Franz Grillparzer.
Innsbruck, 1990. S. 14), второй сын в семье (на год
моложе Франца) отличался болезненной робостью в
сочетании со вспыльчивостью и строптивостью. Поступив на
военную службу, не сделал карьеры, но прошел через
множество приключений; позднее вступил в
Иностранный легион, собранный во Франции после Июльской
революции из деклассированных и преступных элементов.
...завершить обучение в императорском конвикте. —
Школа-интернат при дворе для мальчиков-певчих.
'..."Вину" Мюльнера он целый год продержал у себя... —
Драма Адольфа Мюльнера (1774—1829),
представителя "трагедии рока" — жанра, возникшего в античности
("Царь Эдип" Софокла) и нашедшего продолжение в
творчестве романтиков.
Примечания
365
Императорский подкомиссарий — чиновник по особым
поручениям Министерства иностранных дел.
'... Шекспира в издании Теобальда. — Одно из ранних
научных изданий, предпринятых в XVIII в. в Англии.
;"Векфилъдский священник' — вышедший в 1776 г.
роман английского писателя Оливера Голдсмита
(1728—1774), один из популярнейших в эпоху
Просвещения и в начале XIX в.
L. первое известие о битве под Лейпцигом... — "Битва
народов" в октябре 1813 г. — разгром войска Наполеона
объединенными силами России, Пруссии, Австрии,
Швеции.
...благодаря сделанному Бертухом переводу "Дон
Кихота"... — Фридрих Юстин Бертух (1747—1822),
книготорговец, автор малозначительных драм и оперных
текстов, переводил на немецкий произведения испанской и
португальской литературы; в 70-е годы XVIII в. перевел
роман Сервантеса. В начале XIX в. "Дон Кихот" был
заново переведен писателем-романтиком Л. Тиком
(1773-1853).
*... даже старте языка Лопе де Беги и Кальдерона... —
Лопе Феликс де Вега Сарпио (1562—1635), испанский
драматург и поэт, автор пасторальных романов,
заложивший традицию испанского национального театра. Дон
Педро Кальдерон де ла Барка (1600—1681), драматург,
яркий представитель барокко — направления,
повлиявшего на последующую австрийскую драматургию,
отчасти и на творчество Грильпарцера.
... некоторые драмы Кальдерона, переведенные Шле~
гелем... — Переводы A.B. Шлегеля (1767—1845)
выходили в Берлине в 1803—1809 гг. под названием
"Испанский театр"; его же переводы Шекспира
печатались в первые годы XIX в. в альманахе "Оры",
издававшемся Шиллером; отдельным изданием переводы
Шлегеля были выпущены в 1833 г. дополнившим их
Тиком.
366
Примечания
^Вендт Иоганн Амадей Вендт (1783—1832), профессор
философии.
69...заведующий рецертуаром Придворного Бургтеатра
Шрейфогель. — Иозеф Шрейфогель (1768—1832),
австрийский драматург, в конце 90-х годов XVIII в. —
сотрудник Шиллера по "Иенской литературной газете".
Бургтеатр был основан императрицей Марией Терезией в
1741 г.
70...тогда... сияли, как солнце в зените, два великих
ума... — Подразумеваются Гёте и Шиллер.
71 ...французского разбойника, по-моему Жюля Мандре-
на... — Грильпарцер имеет в виду Луи Мандрена, героя-
разбойника из французских народных песен и легенд.
72Камералист — чиновник в финансово-экономическом
ведомстве.
73 Трохей — хорей, стихотворный размер, характерный для
песенной лирики.
74...в коем тогда подвизались Вернер и Мюльнер. — За-
хария Вернер (1768—1823), немецкий драматург, ярко
представивший жанр "трагедии рока" ("24-е февраля"),
который не одобряет Грильпарцер. О Мюльнере см.
примеч. 60.
75 ...владелец театра "Ан дер Вин... — Дословно "На
реке Вене"; театр, основанный в 1801 г., ставивший
драмы и оперы, в том числе "Волшебную флейту" Моцарта
и "Фиделио" Бетховена.
76...м Варавву освободили. — Варавва, разбойник,
судимый вместе с Иисусом и затем освобожденный.
77 ...пьеса произвела огромнейшее впечатление как в Вене,
так и во всей Германии. — В 1830 г. трагедия Грильпар-
цера под названием "Прародительница" была поставлена
в Петербурге в переводе литератора П.Г. Ободовского и
актера В.А. Каратыгина. Новый перевод сделал в 1908 г.
А. Блок, озаглавивший пьесу "Праматерь"; постановка
состоялась в январе 1909 г. в театре В.Ф. Комиссаржев-
ской, декорации были выполнены А. Бенуа.
Примечания
367
78..."Праматерь" принесла мне всего 500 фл.
ассигнациями... — Флорин, золотая или серебряная монета (в
XIII—XVI вв. во Флоренции), денежная единица,
принятая во многих европейских странах в XIX в.; в Австрии
(затем в Австро-Венгрии до 1892 г.) — то же, что гульден.
79...ы Хайневу "Илиаду". — Христиан Готлоб Хайне
(1729—1812), профессор филологии в Геттингене, в
1804 г. выпустил перевод "Илиады" Гомера.
80...в театре "Кертнертор"... — Придворный оперный
театр в Вене.
81 .Гете... в своем величавом квиетизме... — Возникшее в
конце XVII в. в рамках католицизма
религиозно-этическое учение квиетизм утверждало как основу
мировосприятия созерцательность и всеприемлемость, что могло
означать известное равнодушие к добру и злу. Так
оценивает Грильпарцер утвердившийся в мировоззрении Гете
на рубеже веков пантеистический принцип единства
человека и природы, согласно которому человеческая душа
равно открыта всем жизненным явлениям и
переживаниям разного рода.
82...отправился я на прогулку в Пратер... — Парк в
Вене между Дунаем и Дунайским каналом, впервые
упоминается в 1162 г. как место охоты.
83Сапфо (Сафо) — греческая поэтесса с о-ва Лесбос
(VII-VlBB.Ä0H.8.).
84...на грубой концептной бумаге... — Канцелярская
писчая бумага.
85...в ролях так называемых инженю... — Сценическое
амплуа (фр. "наивная"), роль наивной молоденькой
девушки.
86...в своей газете "Миттернахтсблат"... — Одна из
газет Мюльнера ("Полуночный выпуск"), содержавших
театральную критику, выходила в 1826—1829 гг.
87Дукат — в XIX в. то же, что гульден (см. примеч. 78).
88Сам князь Меттерних... — Князь Клеменс Меттерних
(1173—1859), с 1809 г. фактический глава правительства
368
Примечания
Австрии, с 1821 г. австрийский канцлер. После Венского
конгресса (1815) — один из организаторов Священного
Союза, виднейший политический деятель Европы (см.
статью в наст. изд.). В ходе мартовской революции
1848 г. был отстранен от власти.
1...надворный советник Генти,. — Фридрих фон Гентц,
прусский чиновник; несмотря на свои либеральные
взгляды, выступал как публицист против Французской
революции. С 1802 г. — на государственной службе в
Австрии; сподвижник Меттерниха (см. статью в наст. изд.).
1 ...граф Штадион... — Иоганн Филипп граф фон Штадион
(1763—1824), занимавший высокие должности при
Иосифе II, сохранял и в дальнейшей своей деятельности
принципы йозефинизма (см. статью в наст. изд.). В начале XIX в.
был послом в России. В 1805—1809 гг., находясь на посту
министра иностранных дел, подготавливал
антинаполеоновское движение; министром финансов стал в 1815 г.
...под названием "Сон есть жизнь". — Сюжет,
заимствованный Грильпарцером из произведения Вольтера
"Черный и белый", имеет ряд аналогий с драмой Кальде-
рона "Жизнь есть сон".
...мифологический словарь Гедериха. — Беньямин Геде-
рих (1675—1748) составил, наряду с немецко-латинским
и латинско-немецким словарями, греческо-латинский
словарь.
Золотое руно... что-то вроде клада нибелунгов... —
По греческому мифу об аргонавтах, руно волшебного
барана, которым овладел в Колхиде Ясон с помощью
полюбившей его Медеи, что затем окончилось для обоих
трагически. В древнегерманском сказании о нибелунгах
перешедшее к Зигфриду сокровище побежденного им
дракона стало после смерти героя причиной жестокой
борьбы, завершившейся всеобщей катастрофой.
Трилогия Эсхила... — Трилогия "Орестея" афинского
трагика VI—V вв. до н.э.: "Агамемнон", "Хоэфоры",
"Эвмениды".
Примечания
369
95 ...как Софокл и Еврипид написали своих
"Электр"... — Греческие трагики V в. до н.э., каждый
из которых написал трагедию "Электра", — о второй
дочери царя Агамемнона, призвавшей своего брата Ореста
отомстить матери за убийство отца.
96 Лайбах — прежнее название города Любляна.
97 ...знакомство с лордом Байроном, который в то
время тоже находился в Венеции. — Английский
поэт-романтик Джордж Ноэль Гордон Байрон (1788—1824) в
1816—1818 гг. жил в Венеции, где шокировал общество
любовной связью с булочницей.
98 ...на дорогах Каринтии и Крайны... — Земли между
Италией и будущей Югославией, с XIV в. — владения
Габсбургов.
99 Чудесное "Мизерере" Аллегри... — ("Смилуйся" —
лат.). Положенный на музыку итальянским
композитором Грегорио Аллегри (1582—1652) 51-й псалом
(хваление Бога), традиционно исполнявшийся почти до
конца XIX в Сикстинской капелле на страстной неделе
во время утренней службы.
100 ...когда Сикстинская капелла с шедеврами Микел-
анджело... — Капелла в Ватикане, построенная
в XV в. при папе Сиксте IV, была украшена
фресками лучших художников итальянского Возрождения,
более всего — Микеланджело Буонаротти (1475—
1564).
101 ...к гробнице Цецилии Метеллы. — Согласно
преданию, захоронение замученной в Риме в III в.
христианки, католической святой.
102 ...какие встречаются у Гольдони... — Карло Гольдони,
итальянский комедиограф (1707—1793), создавший с
учетом традиций "комедии масок" и Мольера новый тип
комедии в стиле рококо.
103 ...чьими услугами... пользовался также Коцебу... —
Август фон Коцебу (1769—1819), убитый студентом
Зандтом якобы как агент российского императора, по-
370
Примечания
пулярнеишии для своего времени немецкий драматург, в
1797—1799 гг. — директор театра в Вене.
104 ...шарлатан Дулькамара. — Имя доктора из оперы
"Любовный напиток" итальянского композитора Каэта-
но Доницетти (1797—1848).
105 Фридрих Шлегель — один из ранних немецких
романтиков (1772—1829) и основоположников
романтической философской эстетики, поэт, автор романа
"Люцинда" (см. статью в наст. изд.).
106 ...причем жена слушала, молитвенно сложив
руки... — Доротея Шлегель (1763—1839), автор романа
"Флорентин", написанного в форме фрагментов.
107 Сирокко — сильный сухой ветер в Средиземноморье,
южный или юго-восточный.
108 ...одно из своих значительных извержений. — Одно из
самых мощных извержений Везувия произошло три
года спустя, в 1822 г.
109 ...князь Эстерхази и граф Кароли... — Представители
родовитого венгерского дворянства, привлекавшегося на
австрийскую службу Марией Терезией; из этой среды
позднее вышли австрийские военачальники и
дипломаты.
110 ...только что изданную... четвертую песнь "Чайлъд
Гарольда" лорда Байрона. — Первые две песни поэмы,
принесшие поэту общеевропейскую славу,
появились в 1812 г., третья — в 1817 г.
111 ...в Риме австрийский посол князь Каунитц... — По
решению Венского конгресса (1815) к Австрии отошел
ряд итальянских земель, при этом папская область
сохраняла самостоятельность.
112 ...я как-то познакомился с писательницей Каролиной
Пихлер... — Австрийская поэтесса (1769—1843),
писала также романы и рассказы дидактического характера,
драмы (некоторые ставились в венском Бургтеатре).
Оставила мемуары "Достопримечательное из моей
жизни" (см. статью в наст. изд.).
Примечания
371
... словно ящику Пандоры, породить новое
несчастье. — Пандора (греч. "всем одаренная"), смертная,
получившая от каждого из богов какой-либо дар.
Открыв из любопытства сосуд, куда Зевс поместил все
людские бедствия, выпустила их на волю, оставив
надежду, лежавшую на дне.
... было посвящено развалинам Сатро vaccino... —
Букв. "Коровий выгон" (um.), в XVI в. — рыночная
площадь в Риме, где продавали скот. В древнем Риме —
место политических собраний (Forum Romanum). Ко
времени приезда Грильпарцера раскопки античных
строений, проводившихся по распоряжению папы Пия VII,
еще не были закончены.
... еще находясь в Колизее... — Также остававшийся
тогда в руинах римский амфитеатр (I в. н.э.) на
45—50 тыс. зрителей, в центре которого папой был
воздвигнут крест в память ранних христиан-мучеников.
... сверхкатолика графа Штольберга... — Фридрих
Леопольд граф цу Штольберг-Штольберг
(1750—1819), немецкий лирик эпохи Просвещения,
писавший также драмы и романы; в ходе Французской
революции отказался, как и многие, от республиканских
идей, перешел в католицизм. Грильпарцер ссылается на
его путевые заметки "Путешествие в Германию, Италию
и Сицилию" (1794).
Мой венский издатель Валлисхаусер выпускал альма-
нах "Аглая"... — В этом альманахе Иоганна Баптиста
Валлисхаусера Грильпарцер печатал все свои
драматические произведения до 1848 г.; стихотворение "Сатро
vaccino" было напечатано в нем в 1820 г.
... кронпринца одного соседнего государства. —
Баварского королевства, двор которого находился в
Мюнхене.
... понадобились печальные события 1848 года,
чтобы убедить правительство... — Об отношении
Грильпарцера к революции 1848 г. см. статью в наст. изд.
372
Примечания
120 Котерия — кружок или группа лиц, преследующих
общие корыстные цели.
121 Ut picture, poesis — "Поэзия что живопись" (лат.) —
цитата из 2-й эпистолы (стихотворного послания)
Горация.
122 ... барона Пиллерсдорфа, который в 1848 году
заставил так много говорить о себе. — Франц барон фон
Пиллерсдорф, возглавивший австрийское правительство
в начале революции 1848 года, разработал проект
конституционной монархии, который не был принят и
привел к его отставке.
123 ... все, что было написано про этого необыкновенного
человека им самим и другими людьми. — Грильпарцер,
очевидно, имеет в виду запись рассказов Наполеона о
себе ("Мемориал св. Елены", 1823), составленную
Эмманюэлем графом де Ласказом, добровольно
последовавшим за императором в его последнюю ссылку.
124 ...с королем Богемии Оттокаром II. — Правил в
1253—1258 гг., захватил ряд немецких земель, в том
числе Австрию, потерпел поражение в битве с
Рудольфом I Габсбургским, утвердившим в Австрии господство
своей династии.
125 Пришлось мне заняться даже средневерхненемецким
языком — в то время он еще не вошел в моду... —
Основной литературный язык XII — середины XIV в;
интерес к нему возник в начале XIX в., когда романтики
обратились к национальной литературе Средневековья;
пособия по его изучению появились позднее.
126 ...рифмованная хроника короля Оттокара,
составленная Хорнеком. — Автор ряда средневерхненемецких
хроник, живший в Штирии, одной из альпийских
земель, вошедших в состав Австрии в XVII в.; известен
под именем Оттокар Штирийский.
127... как Людвиг Тик... — Один из первых немецких
романтиков (см. примеч. 65), драматург, прозаик, поэт,
переводчик; свое понятие об исторической драме изло-
Примечания
373
жил в заметках по поводу трилогии Шиллера "Валлен-
штейн", вышедших во втором выпуске сборника его
театрально-критических статей "Драматургические
листки" (1826).
...комические персонажи в "Генрихе IV"..,
душераздирающие сцены в "Короле Иоанне"... — Первая пьеса —
из серии исторических хроник Шекспира,
изображающих войну Алой и Белой розы в XIV в., вторая, не
входящая в серию, — история незаконнорожденного сына
короля Ричарда Львиное сердце (XIII в.).
1 На титульном листе этого "Моравского Марса"... —
Написанное на латыни сочинение чешского автора
Иоганна Томаса Пессины (1629—1680).
1 ...поэт Матеус Коллин, один из учителей герцога
Рейхштадского... — Матеус фон Коллин (1799—
1824), автор драматических произведений на
исторические темы (см. статью в наст. изд.). С 1815 г. —
воспитатель сына Наполеона Бонапарта от брака с
Марией-Луизой, дочерью австдийского императора
Франца I; Наполеон Франц Иозеф Карл (1811—
1832) жил при дворе деда и имел титул герцога
Рейхштадского.
...а наполовину как святого Флориана. — Мученик
Флориан, один из подвергшихся гонению в Риме в
правление императора Диоклетиана (конец III — начало
IV в. н.э.); по католическому календарю святой,
защищающий от огня.
...пьеса Коцебу "Оттокар"... — См. примеч. 103.
...для издаваемого им исторического карманного
календаря статью "Филиппина Велъзер". —
Распространенный в Германии и Австрии тип издания
маленького формата (чаще всего беллетристики). Вельзеры — в
XVI в. богатейшие купцы в Аугсбурге, оказывали
денежную помощь императору и получили от Карла V
Габсбурга в 1528 г. в качестве заклада Венесуэлу,
которой владели до 1546 г.
374
Примечания
134 ... грубости "Молодой Германии... — Литературное
движение 1830—1840 гг., возникшее под влиянием
настроений, вызванных Июльской революцией 1830 года
во Франции, активно пропагандировало идею
общественного обновления. Младогерманцы отрицали
идеалистическую эстетику и искусство классико-роман-
тического периода (конца XVIII — первой трети
XIX в.).
135 Клопшток дал ей толчок... — Фридрих Готлиб Клоп-
шток (1724—1803), поэт, обогативший немецкоязычное
стихотворство новыми приемами, автор сборника
"Оды" и эпоса "Мессиада".
136 Жан Расин (1639—1699) — французский трагик эпохи
классицизма.-
137 "Dormit puer, поп mortuus est". — "Мальчик спит, он не
умер" (лат.) — перефразированный стих из Евангелия
от Марка: "Девица не умерла, но спит" (5,39).
138 Винклер (Теодор Хель) — Карл Готлиб Теодор Винклер
(1775—1856), переводчик драматических
произведений, в 1820—1840-е годы — издатель "Абендцейтунг"
("Вечерней газеты"), одной из самых популярных
благодаря ее развлекательному характеру.
139 Бёттингер Карл Август (1760—1835) — филолог и
археолог, в 1797—1809 гг. сотрудник журнала "Немецкий
Меркурий", издателем которого был известный
немецкий писатель Кристоф Мартин Виланд (1733—1813); в
годы литературной деятельности Грильпарцера —
директор Музея античной древности в Дрездене.
140 Жан Поль — псевдоним Иоганна Пауля Фридриха
Рихтера (1763—1825), автора больших романов, в
которых сочетались и своеобразно преломлялись черты
разных направлений конца XVIII — начала XIX в.
141 Зонтаг Генриетта (1806—1854) — известная певица,
получила музыкальное образование в Праге и
дебютировала в Вене в 1823 г. в первом исполнении Девятой
симфонии Бетховена.
Примечания
375
...оказался не кем иным, как бароном де Ла Мотт
Фуке. — Фридрих барон де Ла Мотт Фуке, немецкий
писатель-романтик, исключительно популярный в
1810—1820 гг.; в многочисленных романах на сюжеты
средневекового эпоса пытался воссоздать культ
рыцарской доблести и благородства. Автор сказочной новеллы
"Ундина", переведенной в стихах В.А. Жуковским.
Франц Хорн — писатель и историк литературы
(1781—1837), издавший в начале 1820-х годов
4-томный труд "Поэзия и красноречие от -Лютера до
современности".
...литературное общество, собирающееся по
средам. — Кружок немецких литераторов, который собрал
в 1824 г. Эдуард Хитциг (1780—1849), друг и первый
биограф Э.Т.А. Гофмана (1776—1822), как
продолжение гофмановского кружка "серапионовых братьев".
Гервинус Георг Готфрид (1805—1871) — историк,
обратившийся также к истории литературы, автор труда
"История национальной поэтической литературы
немцев", встреченного Грильпарцером весьма
неодобрительно.
...Гамлета, которого Гете тщетно пытался
логически осмыслить... — Грильпарцер имеет в виду
трактовку шекспировского "Гамлета" в романе Гёте "Годы
учения Вильгельма Мейстера" (1795—1796),
воспринятую современниками как самостоятельное эссе о
Шекспире.
Я познакомился там с Фарнхагеном и с Шамиссо... —
Карл Август Фарнхаген фон Энзе (1785—1858),
литературный критик либерального направления, автор
5-томного труда "Биографические памятники"
(жизнеописания исторических лиц 1824—1830 гг.); Адельберт
фон Шамиссо (1781—1838), немецкий лирик, автор
прозаического произведения "Удивительная история
Петера Шлемиля" (1814) и книги "Путешествие вокруг
света" (1834—1835) — о кругосветном плавании на рос-
376
Примечания
списком корабле "Рюрик" (на материале путевых
дневников).
148 ...позднее столь знаменитую Рахелъ... — Рахель
Фарнхаген фон Энзе (1771—1833), хозяйка
известнейшего салона в Берлине, где собирались литераторы,
художники, ученые.
149 ...ко мне пришел некий Штиглиц. — Генрих Штиглиц
(1801—1849), известный как несостоявшийся писатель;
молва приписывала его жене, покончившей
самоубийством, намерение таким образом пробудить в муже
творческое вдохновение.
150 ...господин Сафир из Вены... — Мориц Готлиб Сафир
(1795—1858), австрийский писатель и театральный
критик, одно время издававший в Германии популярные
развлекательные газеты.
151 ...где обычно проводил вечера фантастический
Гофман. — Эрнст Теодор Амадей (Вильгельм) Гофман,
крупнейший из поздних немецких романтиков, широко
использовавший в своих произведениях фантастику как
способ передать загадочность и иррациональность мира
и человека (см. также примеч. 144).
152 ...актер Людвиг Девриент. — Знаменитый в свое
время исполнитель характерных ролей (1784—1832), друг
Гофмана.
153 Франц Моор — главный герой драмы Ф. Шиллера
"Разбойники".
154 ...в эпоху Иффланда—Коцебу... — Август Вильгельм
Иффланд (1759—1814), немецкий актер, режиссер и
драматург, автор назидательно-сентиментальных драм,
имевший в свое время большой успех, как и Коцебу (см.
примеч. 103).
155 Сан-Cycu — место резиденции прусского короля
Фридриха II, замок в стиле рококо, окруженный парком,
построен в 1745—1747 гг. архитектором Георгом фон Кно-
бельсдорфом, перестроен в итальянском стиле в
1826—1840 гг. Карлом Фридрихом Шинкелем.
Примечания
377
156 Фридрих Великий — Прусский король Фридрих II
(1740—1786), прозванный "философом из Сан-Суси"
за осуществление ряда просветительских принципов в
управлении страной, прославившийся и как военачальник.
157 ...лишь одного венского сочинителя — остряка Кас-
телли. — Игнац Франц Кастелли (1781—1862),
австрийский писатель, выступавший под разными
псевдонимами, автор оперных текстов, собрал и обработал около
200 юмористических пословиц и анекдотов (частично
перевод с французского).
138 Я же, следуя девизу Веспасиана... — "Деньги не
пахнут!" — ставшее крылатым выражение римского
императора Тита Флавия Веспасиана (I в. н.э.),
отличавшегося особой экономностью.
159 ...в известной в то время всей Германии гостинице
"У слона", словно бы передней веймарской Вальгал-
лы... — Гостиница, где останавливались все
приезжавшие с целью личного знакомства с Гете, и прежде всего
многочисленные литераторы. Вальгалла в
скандинавской мифологии — дворец бога Одина, от которого
зависела, среди прочего, и посмертная жизнь павших
воинов.
160 ...снискала себе литературную известность под
именем Тальви... — Псевдоним Терезы Альбертины Луизы
Якоб (1797—1870), писавшей рассказы и
переводившей на немецкий язык сербские народные песни.
161 ...любезный и почтенный канияер Мюллер... —
Фридрих фон Мюллер (1779—1849), с 1815 г. канцлер в
герцогстве Саксен-Веймарском, одна из главных фигур в
окружении старого Гете; оставил мемуары "Беседы Гете
с канцлером Мюллером".
162 ...служивший в Веймаре капельмейстер Гуммелъ. —
Иоганн Непомук Гуммель (1778—1837), композитор и
выдающийся музыкант своего времени.
163 ...невестки Гете, которая позднее... стала мне так
дорога... — Отилия фон Гете (урожд. фон Погвиш,
378
Примечания
1796—1872), жена сына поэта Августа, в 1839—
1866 гг. жила в Вене; на смерть ее 16-летней
дочери Альмы в 1844 г. Грильпарцер написал
стихотворение.
...столь же огромное содержание, какое Гёте вложил
в "Ифигению" и в "Тассо"'. — "Ифигения в Тавриде"
(1787) и "Торквато Тассо" (1790), классицистические
трагедии Гете, представляющие его обращение к идее
общественной и мировой гармонии.
...мне назначили аудиенцию у великого герцога... —
Карл Август, герцог Саксен-Веймарский (1758—1828),
с 1815 г. имевший титул великого герцога, покровитель и
друг Гете на протяжении многих лет.
...что там живет поэт Рюккерт... — Фридрих
Рюккерт (1788—1866), псевдоним Фреймунда Рай-
мара, лирического поэта позднего немецкого
романтизма и филолога-ориенталиста, переводившего арабскую,
персидскую, индийскую и китайскую лирику,
освоившего в своем творчестве газель — форму арабского
стиха.
Глиптотека (греч.) — один из известнейших
мюнхенских музеев — собрание гемм, резных драгоценных или
полудрагоценных камней с выпуклым или углубленным
изображением.
...подняться на леса вместе с Корнелиусом... —
Петер фон Корнелиус (1783—1867), один из назарейцев,
живописцев-романтиков (см. статью в наст, изд.),
воссоздавший в потолочных росписях мюнхенской
глиптотеки религиозные обряды и исторические фигуры; за
этот труд получил дворянство от короля Баварии
Людвига I .
Король Людвиг ни тогда, ни позднее не изволил
обратить на меня внимание. — Людвиг I отличался
вниманием к деятелям искусства и за время своего правления
(1825—1848) превратил Баварию в крупнейший
культурный центр.
Примечания
379
170 ...о палатине Банкбанусе... — Палатин в средневековых
немецких княжествах — представитель императора или
короля; в Венгрии эта должность сохранялась до 1848 г.
171 ...коронация тогдашней императрицы королевой
Венгрии... — Австрийская императрица Каролина
Августа стала королевой Венгрии в 1825 г.
172 Пресбург — прежнее название города Братислава.
173 ...короля Стефана ... — Венгерский князь Стефан
(Иштван) I Святой (ок. 970—1038), придя к власти в
997 г., успешно продолжал попытки своего
предшественника князя Геза утвердить христианство, получил от
папы римского в 1001 г. королевскую корону и
объединил венгерские племена, установив власть королевских
представителей на всей территории страны.
174 ...самопожертвование вандейцев... — Вандея (на
западе Франции) — место контрреволюционного движения
1793—1796 гг. в защиту свергнутой легитимной
монархии.
175 ...называвшая себя и место своих сборищ "Пещерой
Аудлама". — Собрания творческой интеллигенции
Вены, начавшиеся в 1817 г. и взявшие себе название по
пьесе Адама Готлоба Эленшлегера (1779—1850),
датского писателя (ранее актера), связанного со многими
известными немецкими литераторами и переводившего
свои сочинения на немецки^ язык.
176 ...барон Цедлиц — Иозеф Христиан барон фон
Цедлиц (1790—1862), австрийский лирик и драматург.
177 ...чревовещатель Александр... — Артист-мимик и
чревовещатель, имевший большой успех у широкой
публики и при дворах.
178 ...ко мне обратился Бетховен с просьбой написать
для него оперное либретто.— В 1823 г. Грильпарцер
лично познакомился с Бетховеном (1770—1827),
который искал материал для оперы и заинтересовался
"Праматерью"; по просьбе композитора Грильпарцер написал
сочинение "Мелузина" (начатое в 1817 г.) — о герое-
380
Примечания
рыцаре, ищущем правду. Бетховен, вначале принявший
"Мелузину" (в 1826 г. он договаривался о постановке
с Берлинской оперой), вскоре отказался от нее из-за
излишней "демоничности" сюжета. Воспоминание
Бетховена об этом эпизоде было опубликовано в
1841 г., в ответ Грильпарцер тогда же написал
"Воспоминания о Бетховене". Позднее либретто Грильпарце-
ра использовал композитор Конрадин Крейцер
(1780-1849).
179...я познакомился с Уландом... — Людвиг Уланд
(1787—1862), самый яркий из поэтов так называемой
швабской школы — кружка поздних романтиков,
сложившегося в Вюртемберге в 1810 г., особо
интересовавшихся средневековым наследием и фольклором.
^Александр Дюма — Дюма-отец (1802—1870),
французский писатель, принадлежавший к романтическому
направлению, популярный драматург, позднее
известный автор исторических романов.
181 Эгерия — имя покровительницы рожениц и родников в
древней Италии, по преданию, советницы римского
короля Нумы (VII в. до н.э.).
182 Тальма умер, а Рашелъ еще не появилась. — Жозеф
Тальма (1769—1826), актер парижского театра Комеди
франсез, прославившийся в Европе своим новаторством;
в годы Французской революции участвовал в создании
Театра республики. Элиза Рашель Феликс
(1821—1858), артистка Комеди франсез с 1838 г.,
известная в Европе и Сев. Америке.
^Мадмуазель Марс... — Актерский псевдоним Анн-
Франсуаз-Ипполит-Сальветат (1779—1847).
184 Я видел ее в "Мнимых признаниях"... — Пьеса Пьера
Карле Шамблена де Мариво (1688—1763),
выдающегося французского романиста, писавшего также комедии
в традиции Мольера.
185 Зато в "Слепой Габриэли"... — Под таким названием
была поставлена в Вене в 1823 г. драма "Валери" фран-
Примечания
381
цузского драматурга Огюста Эжена Скриба
(1791-1861).
186Лижье — Пьер Лижье (1796—1852), актер театра
Коме ди франсез.
187 Такого представления "Гугенотов" Мейербера... —
Джиакомо Мейербер (Якоб Либман Беер,
1791—1864), создатель жанра героико-романтической
оперы, работавший в Германии, Италии, Франции.
Опера "Гугеноты" впервые была поставлена в феврале
1836 г.
188 Вольтеровский genre еппиуеих обосновался в
Германии. — Genre ennuyeux — "скучный жанр" (фр.): Гриль-
парцер имеет в виду известный афоризм Вольтера: "Все
жанры хороши, кроме скучного".
189Был там и Талъберг... — Сигизмунд Тальберг
(1812—1871), виртуоз-пианист, ученик Гуммеля
(см. примеч. 162), гастролировавший в 1830-е годы в
Париже.
190 Клакеры — группа лиц, нанимаемых для аплодисментов
или освистывания спектакля.
191 ...двое немецких земляков — Берне и Гейне. — Людвиг
Берне (1786—1837), немецкий писатель, критик и
публицист революционного направления, в 1822 г.
эмигрировал во Францию; в своих "Письмах из Парижа"
(1832—1834) утверждал необходимость революции в
Германии. Генрих Гейне (1797—1856), крупнейший
немецкий поэт и публицист, с 1830 г. жил во Франции.
192 Именно в то время в Германии появился новый
"Фауст'... — Драма в стихах австрийского
поэта-романтика Ленау (Николаус Франц Нимбш фон Штреленау,
1802—1850), вышла отдельным изданием в 1836 г. в
Штуттгарте, где тогда он жил; издатель Котта заменил
авторское название "Картинки из жизни Фауста" на
"Фауст".
193 ...принял меня сначала за писателя Кюстина... — Ас-
тольф маркиз де Кюстин (1790—1857), французский
382
Примечания
литератор; посетив Россию, написал книгу "Россия в
1839 году".
194 ...обедали у Ротшильда. — Джеймс Мейер Ротшильд,
глава влиятельнейшего в Европе дома банкиров,
известных своим меценатством.
195 ...оказался и Россини. — Джиакомо Антонио Россини
(1792—1868), итальянский оперный композитор; свою
последнюю оперу "Вильгельм Телль" написал в 1829 г.
196 ...по поводу коронации австрийского императора
королем Италии. — См. примеч. 111.
197 ...дворец Сент-Джеймс... — Одно из знаменитых
архитектурных сооружений в Лондоне, было построено в
XVI в. как королевская резиденция.
198 ...как раз обсуждался билль об ирландской
десятине. — Эпизод борьбы католической Ирландии: по
биллю 1833 г. парламент восстанавливал отмененный в
1801 г. налог с католической церкви в пользу
англиканской (английской протестантской).
^"О'Коннел и большинство остальных... — Дэниэл
О'Коннел на протяжении многих лет возглавлял
движение ирландских католиков.
200...знакомый господина Булвера. — Эдвард Джордж
Булвер барон Литтон (1803—1873), популярнейший в
Европе в 1830-е годы писатель, драматург и прозаик,
особо прославившийся как автор криминальных романов
с идеализированной фигурой преступника.
201 Макреди Уильям Чарльз (1793—1873) — в то время
руководитель драматического Хаймаркет-театра.
2®20дин из двух Кэмблов... — Чарльз Кэмбл
(1775—1854), из известной династии английских
актеров, гастролировавшей в XVIII—XIX вв. в разных
странах Европы; наиболее ярким ее представителем
был второй из братьев, Джон Филипп Кэмбл
(1755-1823).
203...в Ковент-Гардене и в Друри-Лейне. — Оперный
театр в Лондоне (основан в 1732 г.) и лондонский музы-
Примечания
383
кально-драматический театр, где во время пребывания
Грильпарцера исполнялись в основном оратории Гайдна.
'...видел превосходное исполнение в "Ромео и
Юлии"... — По-видимому, опера "Капулетти и Мон-
текки" Винченцо Беллини (1801—1835), которая могла
быть поставлена в Лондонском театре в 1836 г. после
возвращения труппы из Италии.
...переделанную в драму французскую оперу
"Жидовка". — Опера французского композитора Жака Фро-
менталя Алеви (1799—1862).
1 Однако из-за тогдашней вражды между этими
двумя странами... — Под влиянием Июльской
революции во Франции в сентябре 1830 г. произошла
революция в Бельгии, находившейся с 1815 г. под
властью Голландии; конфликты между двумя странами
продолжались до 1839 г.
...император Франц отправился к праотцам... за него
правил... эрцгерцог Людвиг. — Франц II, отказавшись в
1806 г. от титула императора Священной римской
империи германской нации, фактически распавшейся с
середине XVII в., а формально — в ходе наполеоновских
войн, правил как император Австрии Франц I до 1835 г.
Ввиду болезненности и слабоумия сына-наследника,
будущего Фердинанда I, назначил при нем регента —
эрцгерцога Людвига. Фактическое управление страной до
1848 г. осуществлял Меттерних.
384
Примечания
ДОПОЛНЕНИЯ
ИЗ ДНЕВНИКОВ
В течение многих лет Грильпарцер фиксировал на
страницах дневника не только повседневные
события и впечатления, но и постоянные размышления
над художественными тенденциями своего времени,
что превратило эти записи в своеобразный и
содержательный эстетический документ. Они
значительно дополняют характеристику литературной эпохи,
отчетливо представленную на страницах
"Автобиографии", суждения о признанных ценностях и
авторитетах, высказанные писателем в обстоятельной
статье "К истории литературы" ("Zur
Literaturgeschichte"), в рецензиях и эпиграммах. По
дневникам можно проследить, насколько изменялись —
или оставались неизменными на протяжении жизни —
его требования к литературе и оценка того, что уже
стало ее историей.
В дневниковых записях полнее всего отразился
многоаспектный подход Грильперцера к явлениям, которые
у его современников были предметом ожесточенной
полемики, поводом для размежевания на оппозиционные
группировки: к классическому наследию, к классицизму
и романтизму, к Шекспиру и Гёте. В анализе и
отдельных фактов, и самого феномена литературы на
страницах его дневников все более утверждалась
взаимосочетаемость разных направлений и разнородных традиций,
получавших на каждом новом художественном этапе
особую трансформацию.
Примечания
385
Впервые дневники Грильпарцера были напечатаны
в 1903 г. и затем вошли в разные собрания его
сочинений. Отбор публикуемых записей сделан по
изданию: Grillparzer F. Tagebücher und Reiseberichte. В.:
Verlag der Nation, 1980.
1 ...с Волъгемутом и Альтмюттером... — Друзья
юности Грильпарцера (см. "Автобиографию").
2 ...а особенно чтение "Зонтагсблата"... — Газета,
издававшаяся Шрейфогелем (см. примеч. 69 к
"Автобиографии").
3 "Страдания молодого Вертера" — первый роман
Гете (1774), принесший поэту общеевропейское
признание.
4 В Вену вошли французы, и появилось новое издание
произведений Гёте_... — Грильпарцер говорит о
12-томном собрании сочинений поэта, выходившем в Германии
в 1806-1810 гг.
5 Я прочитал "Фауста". — К этому времени Грильпарцер
мог прочесть первую часть "Фауста" (закончена в 1806,
опубликована в 1808 г.) и фрагмент "Елена" (1800),
который затем вошел во вторую часть. Полностью
"Фауст" был завершен в 1831 г.
6 А. — Альтмюттер.
7 "Брат и сестра" (1776), "Эгмонт" (1778) —
драматические произведения Гёте.
8 ...я написал мою "Бланку"... — Трагедия "Бланка
Кастильская", написанная в 1809 г. (см. примеч. 46 к
"Автобиографии").
9 ...как Маргарита и Кяерхен. — Героини "Фауста" и
"Эгмонта".
10 ...некоторые места из "Орлеанской девы"... —
Трагедия Ф. Шиллера, написанная на историческом
материале (1802).
386
Примечания
Мильтон Джон (1606—1674) — английский поэт,
автор эпических поэм "Потерянный рай" (1667) и
"Возвращенный рай" (1671).
Виланд Кристоф Мартин (1733—1813) — немецкий
писатель, автор романов и поэмы-сказки "Оберон"; в 70-е
годы XVIII в. — издатель журнала "Немецкий
Меркурий", переводчик античных авторов.
Вальтер Скотт (1771—1832) — английский романтик,
поэт, основоположник жанра исторического романа.
...всего двенадцать пьес Аопе де Веги. — Лопе де
Вега (см. примеч. 66 к "Автобиографии") написал, как
принято считать, 1500 пьес, из которых сохранилось
500.
Но основу христианства составляет
спиритуализм... — Вспоминая о первичности духа по отношению
к материальному как о постулате христианской религии,
Грильпарцер имеет в виду, что идеализм признает
присутствие в материальном, видимом, скрытое духовное
начало.
Harmonia prestabilita (лат.) — предустановленная
гармония. См. примеч. 51 к "Автобиографии".
Геродот — греческий историк V в. до н.э., оставивший
замечательное описание греко-персидских войн.
Плутарх — греческий писатель I — начала II в. н.э.,
автор биографий выдающихся греков и римлян.
...обоих испанских драматургов. — Подразумеваются
Лопе де Вега и Кальдерой.
...флейтист, сотворенный Вокансоном. —
Автоматическая флейта, изобретенная в XVIII в. французским
механиком Жаком Вокансоном.
...представляет метафизику страсти... —
Грильпарцер называет метафизикой изображение человеческого
переживания у Шекспира как постоянного и
неизменного, хотя у него персонаж рассматривается только в
какой-то отдельный момент жизни, которым вызвано это
переживание.
Примечания
387
Калъдерон — великолепный маньерист. —
Определение связано, по-видимому, с усложненностью образов,
акцентированием диссонансов и неустойчивости мира в
произведениях Кальдерона — чертами, характерными
для маньеризма, направления в изобразительном
искусстве, возникшего в XVI в. в Италии; те же особенности
отличают и барокко, к которому принято относить
творчество испанского драматурга.
Я поэт дорический. — Дорический стиль в
древнегреческой архитектуре характеризуется строгостью линий,
создающей впечатление естественной устойчивости, — в
противоположность вычурному коринфскому стилю
(дорийцы — одно из племен Древней Греции, отличавшееся
простотой быта, дисциплиной и чувством собственного
достоинства).
То, что явно произошло с "Годами странствий
Вильгельма Мейстера"... — В этот последний свой
роман, завершенный в конце 20-х годов XIX в., Гете
включил ряд новелл, которые уже были опубликованы
ранее.
Стихотворения Ленау. — См. примеч. 192 к
"Автобиографии".
Неверно, что докантовская философия не знала вещи
в себе. — "Вещь в себе" — одно из основных понятий
"Критики чистого разума" Канта (см. примеч. 39 к
"Автобиографии"), означающее некую замкнутую
сущность, непознаваемость предметов и явлений,
воспринимаемых умом и чувством.
Спиноза Бенедикт (Барух) (1632—1677) —
нидерландский философ-пантеист, утверждал
тождественность Бога и природы, означавшую, что природа сама
является первопричиной своей сущности. Учение
Спинозы стало особенно популярным в Германии в эпоху
романтизма.
...Гуцков, Винбарг, Лаубе... — Идеологи движения
"Молодая Германия" (см. примеч. 134 к "Автобиогра-
388
Примечания
фии"): Карл Гуцков (1811—1878), автор романов, драм
и публицистических статей; Лудольф Винбарг
(1802—1872), литературный критик, представивший в
своих работах эстетические позиции младогерманцев;
Генрих Лаубе (1864—1884), автор исторических
романов, драм, политических статей, в 1849—1867 гг. —
директор Бургтеатра в Вене, первый издатель (совместно с
Иозефом Вейленом) 10-томного собрания сочинений
Грильпарцера (1872).
За отсутствием Лессингов... — Лессинг (см. примеч. 24
к "Автобиографии") выступил как теоретик нового
немецкого искусства в трудах "Письма о новейшей
немецкой литературе" (1759—1765) и "Гамбургская
драматургия" (1767-1769).
...тиковско-менцелевский бездарный период... —
Тик — см. примеч. 127 к "Автобиографии"; Вольфганг
Менцель — автор драматических произведений,
рассказов, литературно-критических статей
националистического характера, враждебно выступавший против Гёте с
обвинениями в аполитичности, нападавший и на
"Молодую Германию".
Я делаю здесь исключение лишь для одного... — Гриль-
парцер имеет в виду Л. Берне (см. примеч. 191 к
"Автобиографии").
...даже ее лучшим достижениям — Геновевам и Окта-
вианам... — "Жизнь и смерть святой Геновевы" (1800)
и "Император Октавиан" (1804) — драмы раннего
Тика.
...как это делали великие умы французской школы...
— Речь идет о французских классицистах XVII в.,
которые руководствовались античными образцами,
принципами античной эстетики.
Его почтение к Поупу... — Будучи ярко выраженным
романтиком, Байрон считал образцом лирики творчество
классициста Александра Поупа (1688—1777),
оставившего также литературные трактаты, содержащие идеи
Примечания
389
Никола Буало (1636—1711), создателя эстетической
теории французского классицизма.
...против той манеры, с какою этот человек...
обращался с Гомером. — Грильпарцер вспоминает перевод
"Илиады" и "Одиссеи" Гомера, выполненный Поупом в
1725 г., который в романтическую эпоху рассматривали
весьма критически.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Франц Грильпарцер. 1826 г. Рисунок графини Ю. фон
Эглофштейн (фронтиспис)
По тексту
Дом в Вене, где родился Грильпарцер. Гравюра 298
Вена, набережная Дуная. Рисунок Р. Альта,
литография Кс. Зандеманн 300
Кабинет князя Меттерниха. Гравюра на дереве
Дж. Аллансона 302
Титульный лист первого издания трагедии "Праматерь" 306
Страница первого издания трагедии "Праматерь" в
переводе А. Блока. СПб., 1908 (правка 1918 г.) 308
Сцена из спектакля по пьесе К. Мейсля "Черная
женщина" (пародия на трагедию "Праматерь") 310
Сестры Фрелих. Акварель А. фон Теера 322
Кати Фрелих. Миниатюра М.М. Даффингера 324
Людвиг Лёве в роли Яромира в трагедии
"Праматерь". Вена, Бургтеатр. 1825 г 336
Альбом
Франц Грильпарцер между 1820 и 1830 гг. Рисунок
мелом Хейнриха
Театральные энтузиасты. Литография К. Ланцеделли
Шуберт за роялем в одном из венских салонов
(Грильпарцер стоит справа)
Софи Шредер в р£ли Медеи в трагедии "Золотое
руно". С картины И. Краффта
Франц Грильпарцер. 1857 г. Литография А. Даутаге
Грильпарцер в своей комнате. 1861 г. Рисунок Ф. Канитца
Франц Грильпарцер. 1868 г. Литография Ф. Аксмана
Похороны Грильпарцера. Вена. 1872 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Франц Грильпарцер. Автобиография (перевод
СЕ. Шлапоберской) 5
ДОПОЛНЕНИЯ
Франц Грильпарцер. Из дневников (перевод
СЕ. Шлапоберской) 267
ПРИЛОЖЕНИЯ
Д~Л. Чавчанидзе. Правда и позия в
"Автобиографии" Франца Грильпарцера 293
ПРИМЕЧАНИЯ
Автобиография (составила ДЛ. Чавчанидзе) 357
Из дневников (составила Д~Л. Чавчанидзе) 383
Список иллюстраций 389
В оформлении использованы:
Бургтеатр в Вене. Гравюра К. Постля;
рисунок Грильпарцера к трагедии "Золотое руно"
Научное издание
Франц Грильпарцер
АВТОБИОГРАФИЯ
Утверждено к печати
Редколлегией серии
"Литературные памятники"
Зав. редакцией Е.Ю. Жолудь
Редактор ЕЛ. Никифорова
Художественный редактор Т.В. Болотина
Технический редактор В.В. Лебедева
Корректор АБ. Васильев
Подписано к печати 02.02.2005
Формат 70 X 90V32.
Гарнитура Академическая. Печать офсетная
Усл.печ.л. 14,3 + 0,4 вкл. Усл.-кр.-отт. 15,8.
Уч.-изд.л. 15,0
Тираж 1100 экз. Тип. зак. 450
Издательство "Наука"
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
E-mail: secret@naukaran.ru
Internet: www.naukaran.ru
ППП "Типография "Наука"
121099, Москва, Шубинский пер., 6
ISBN 5-02-010216-4