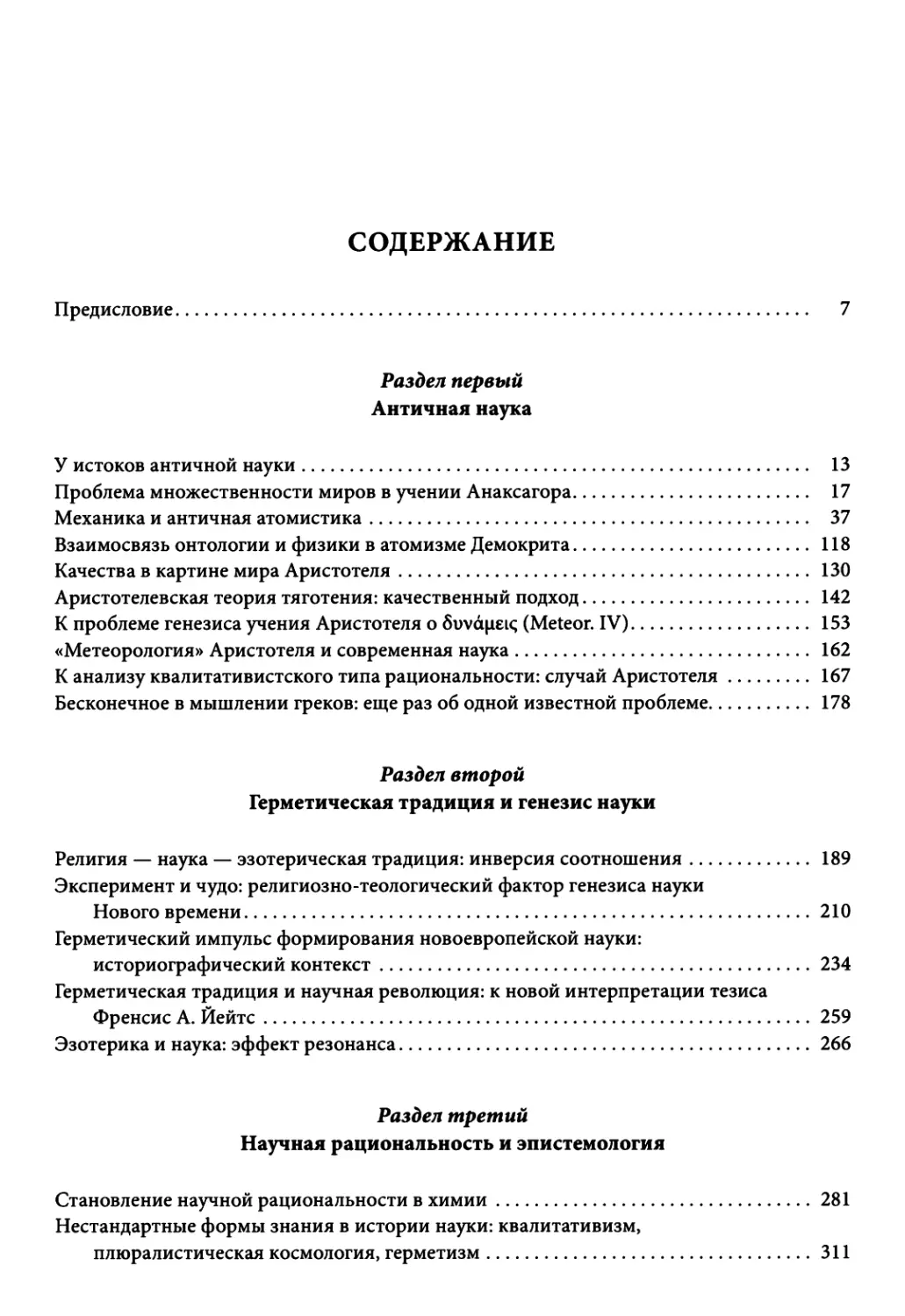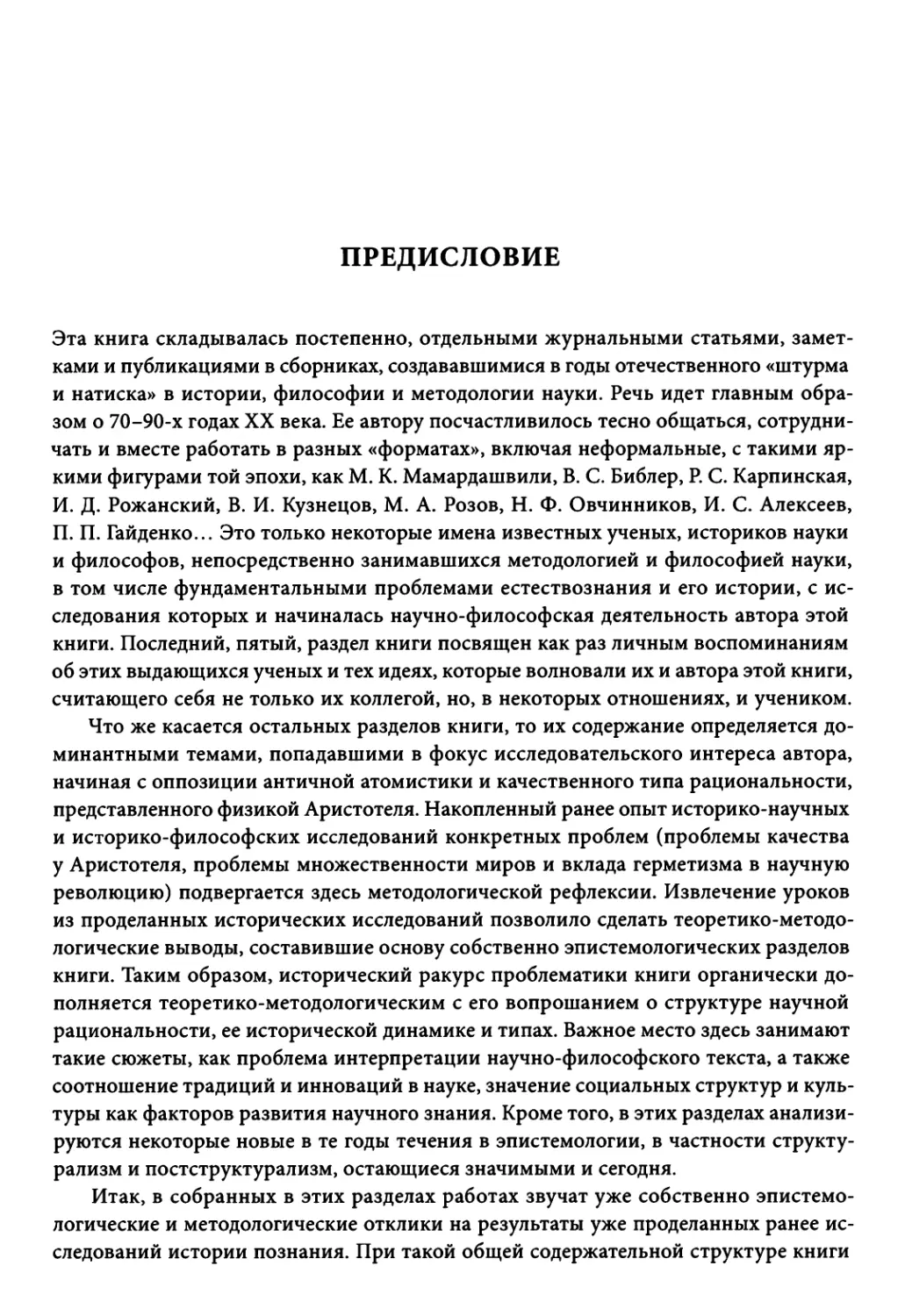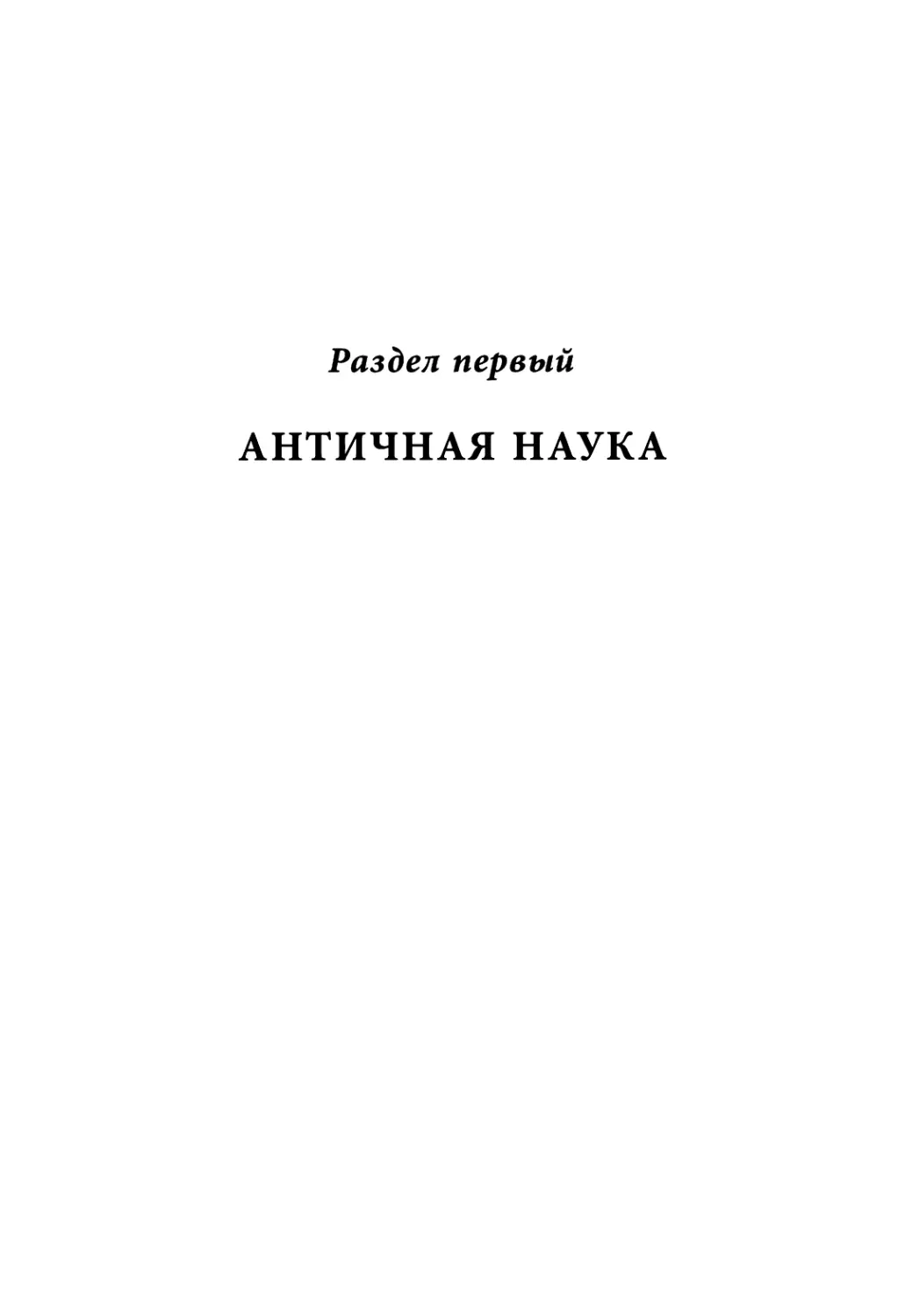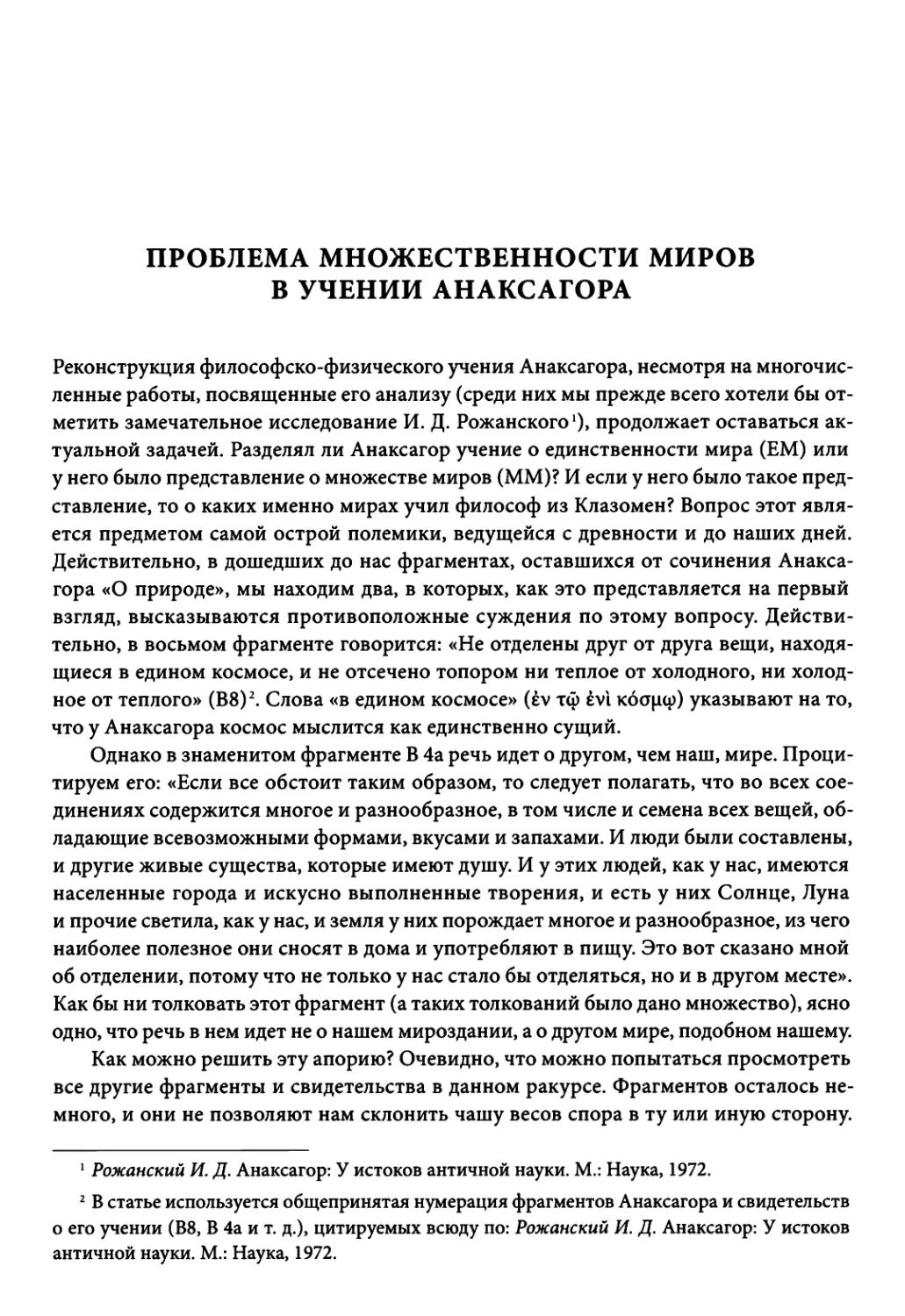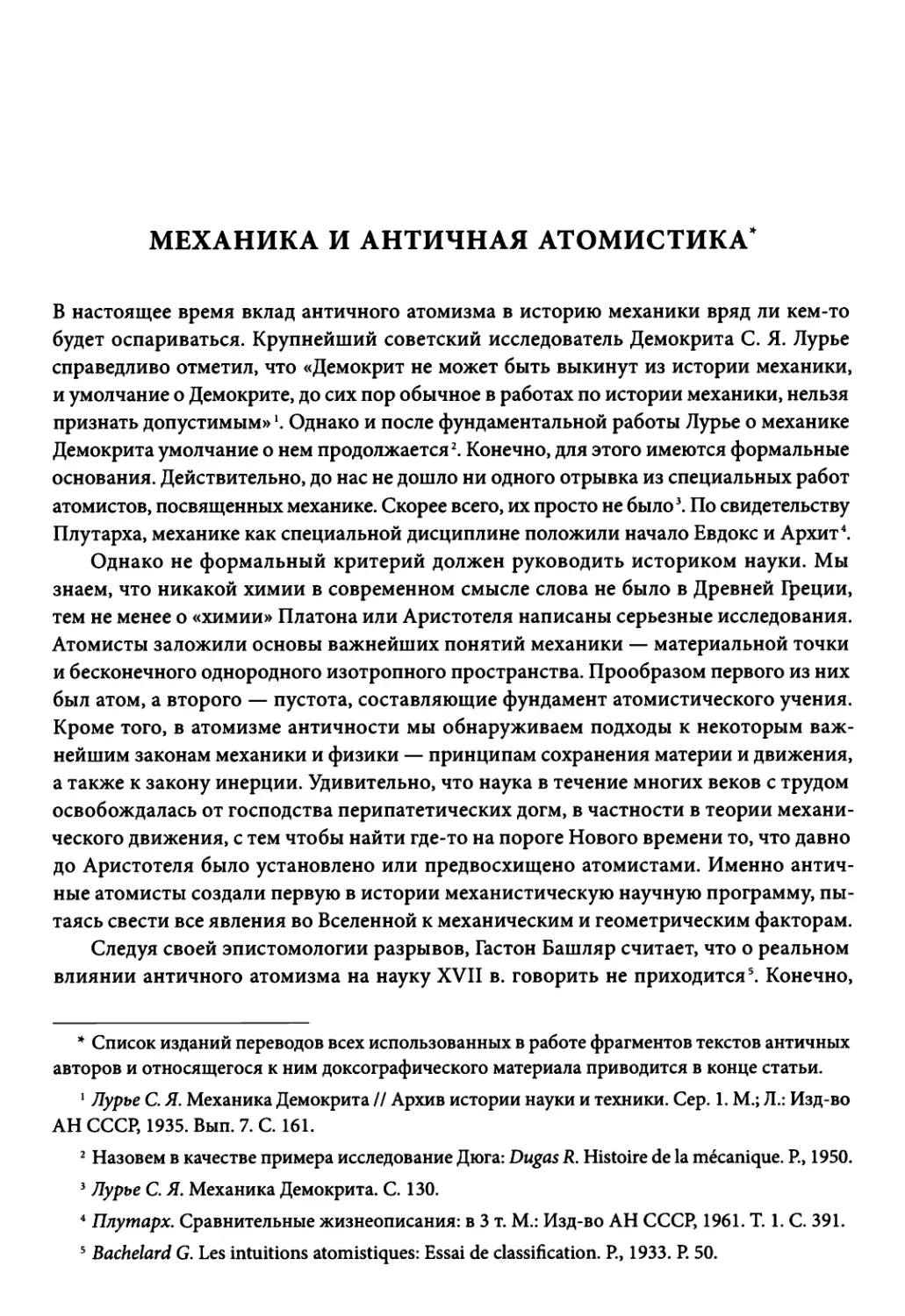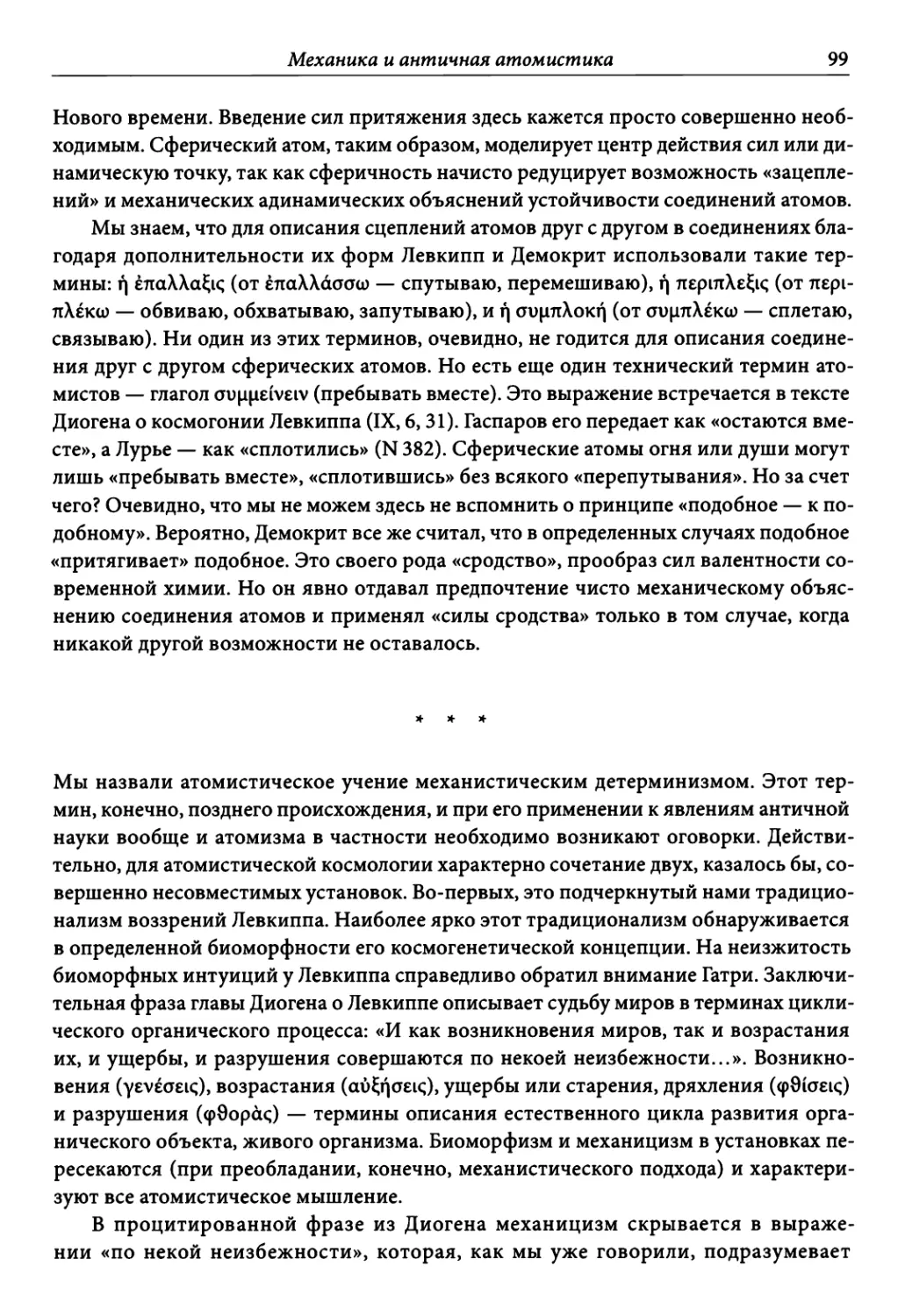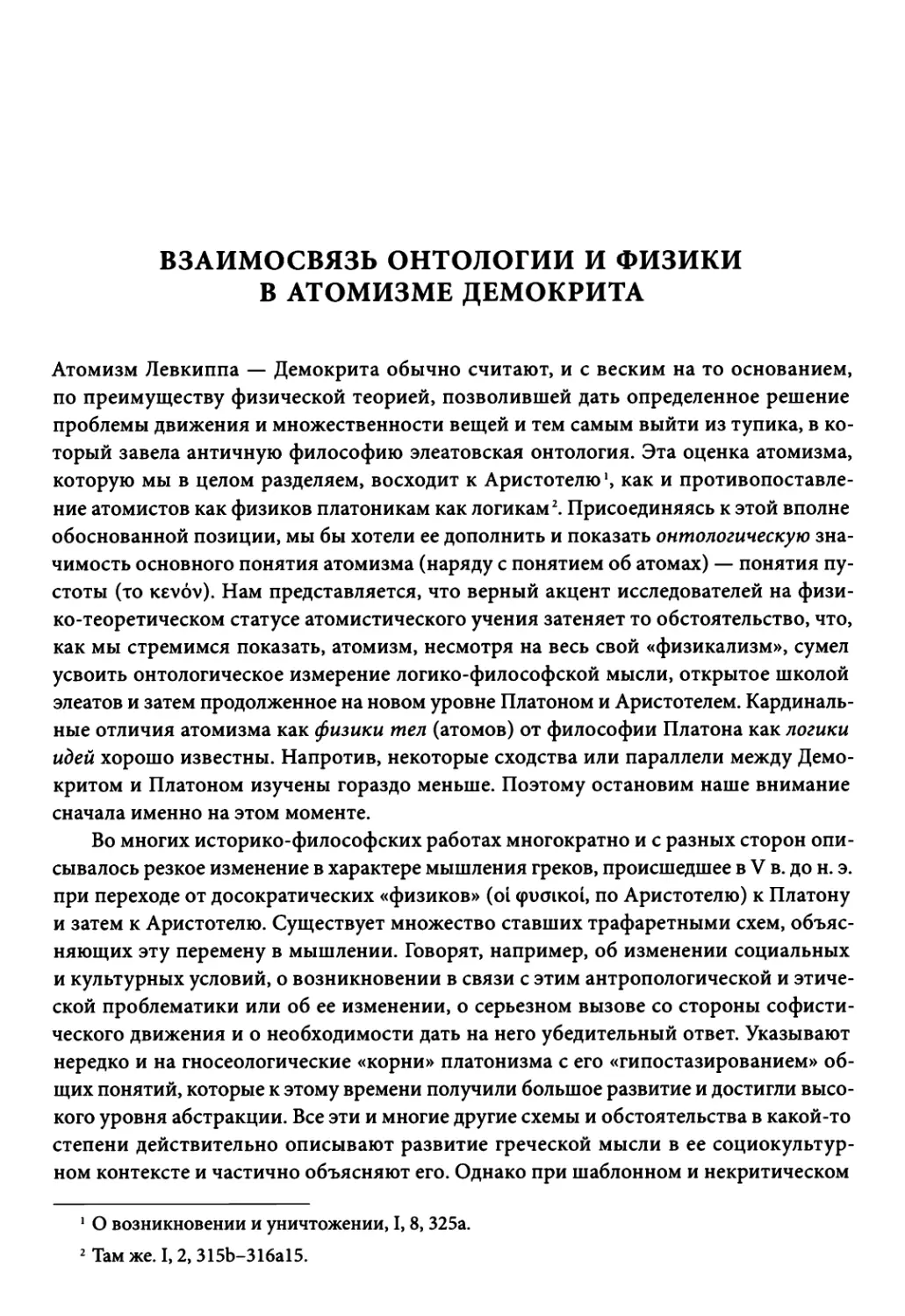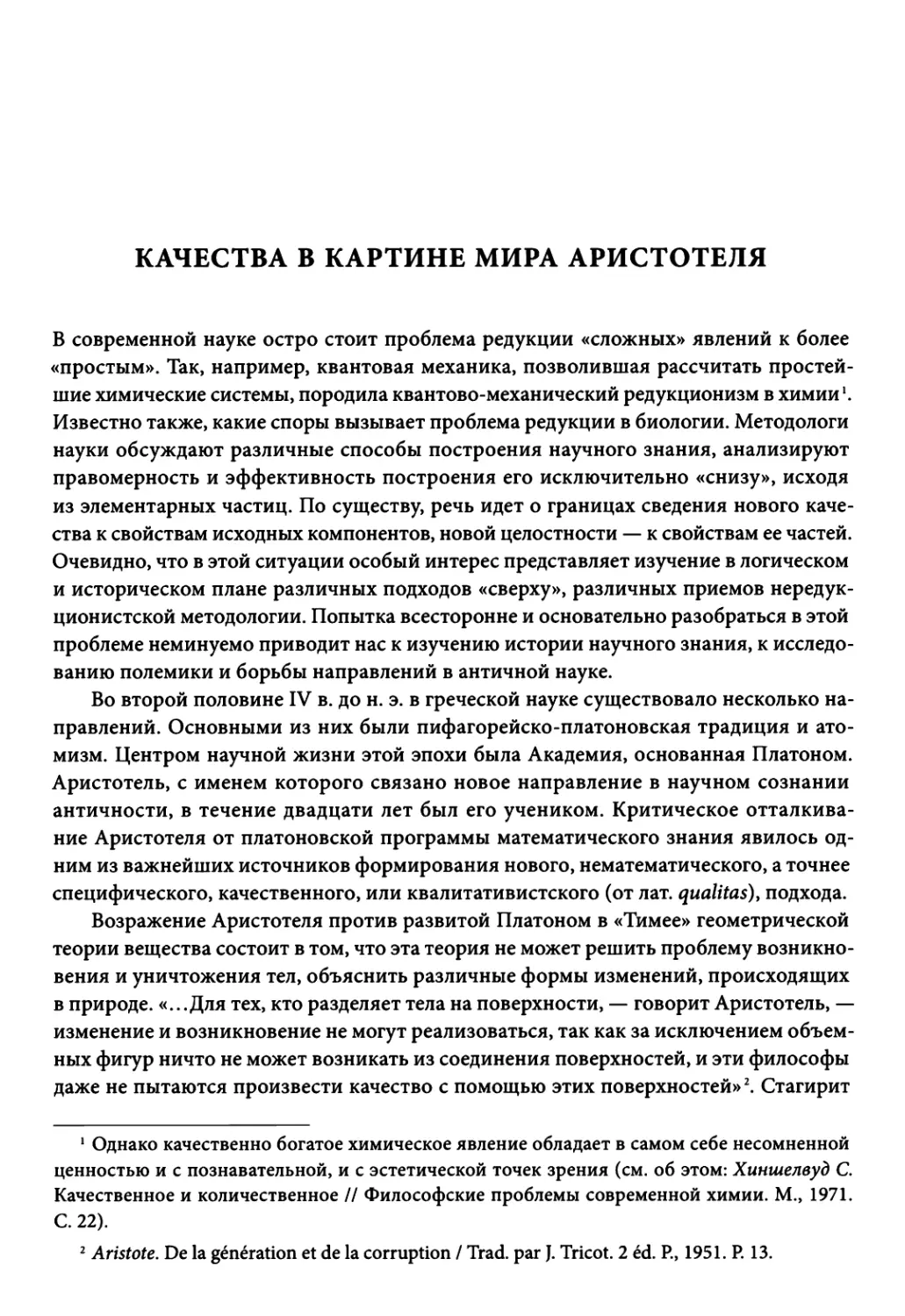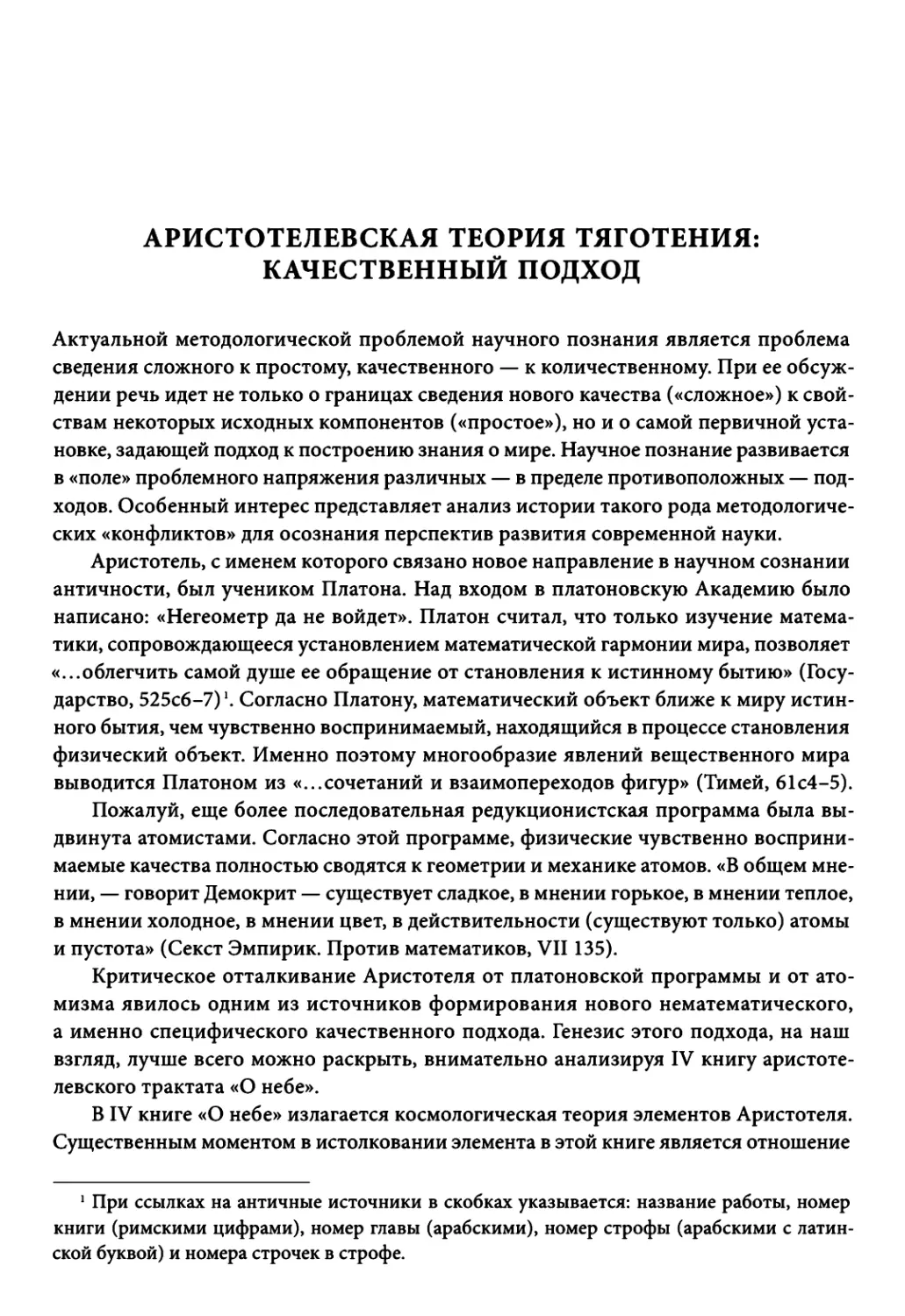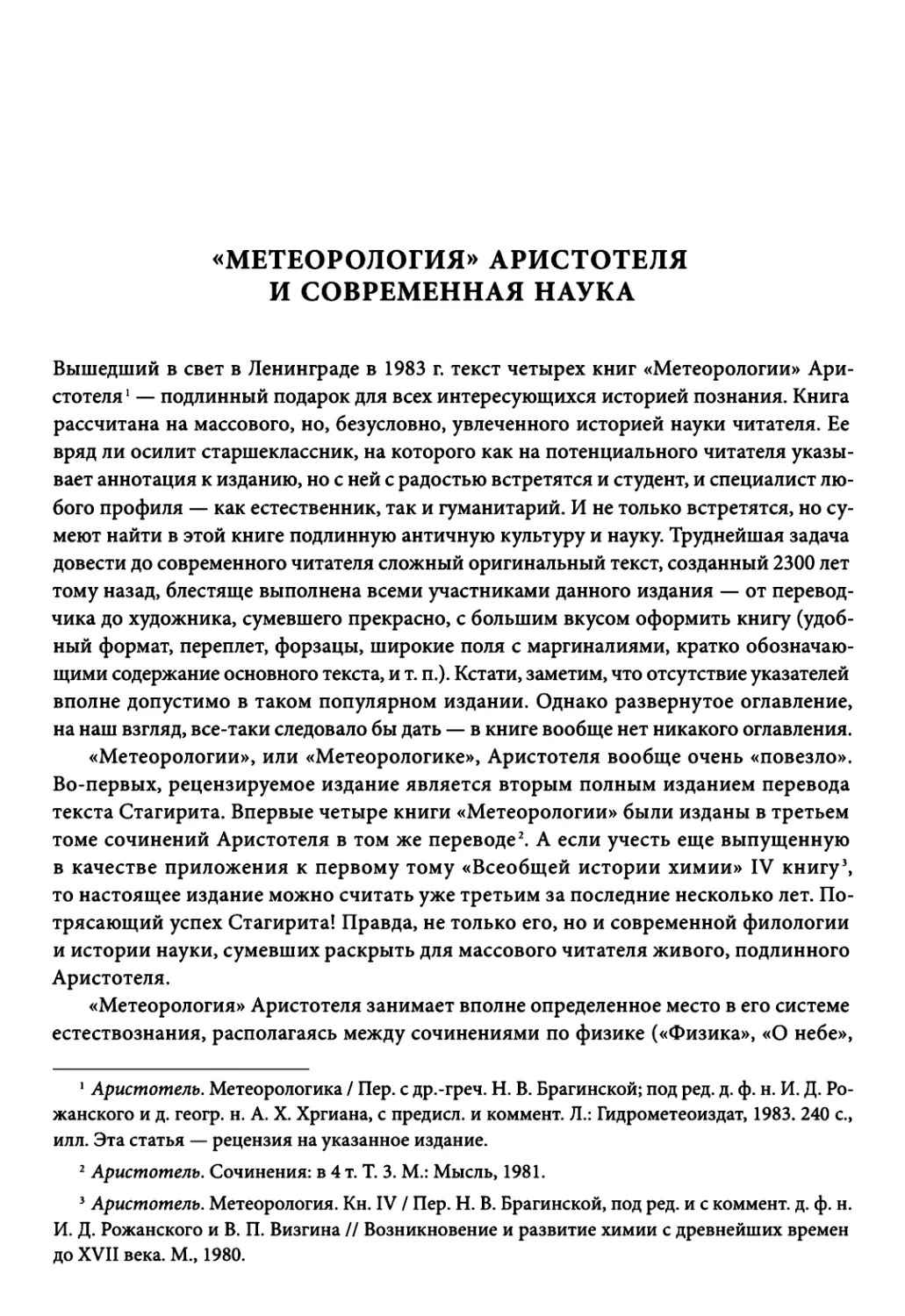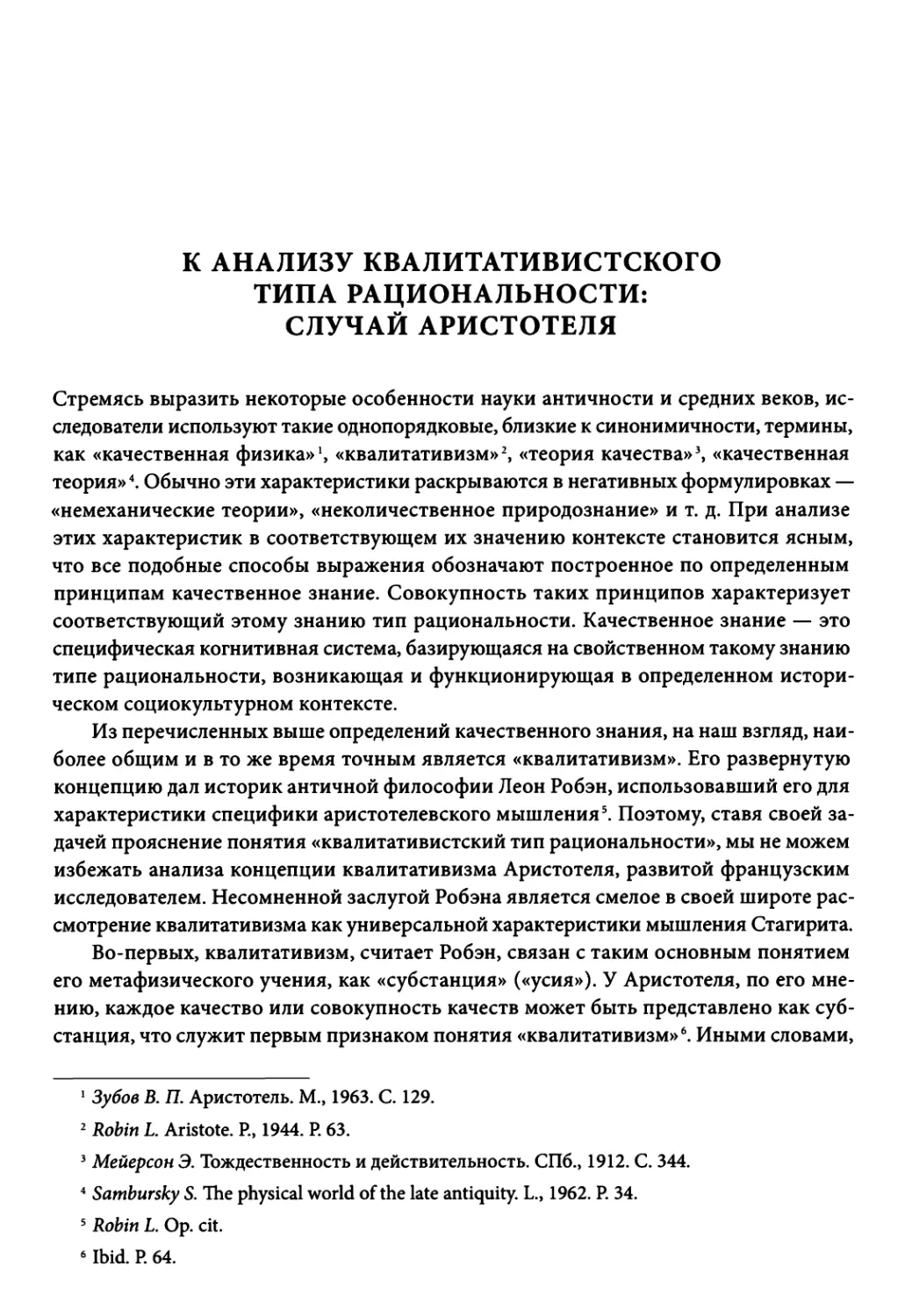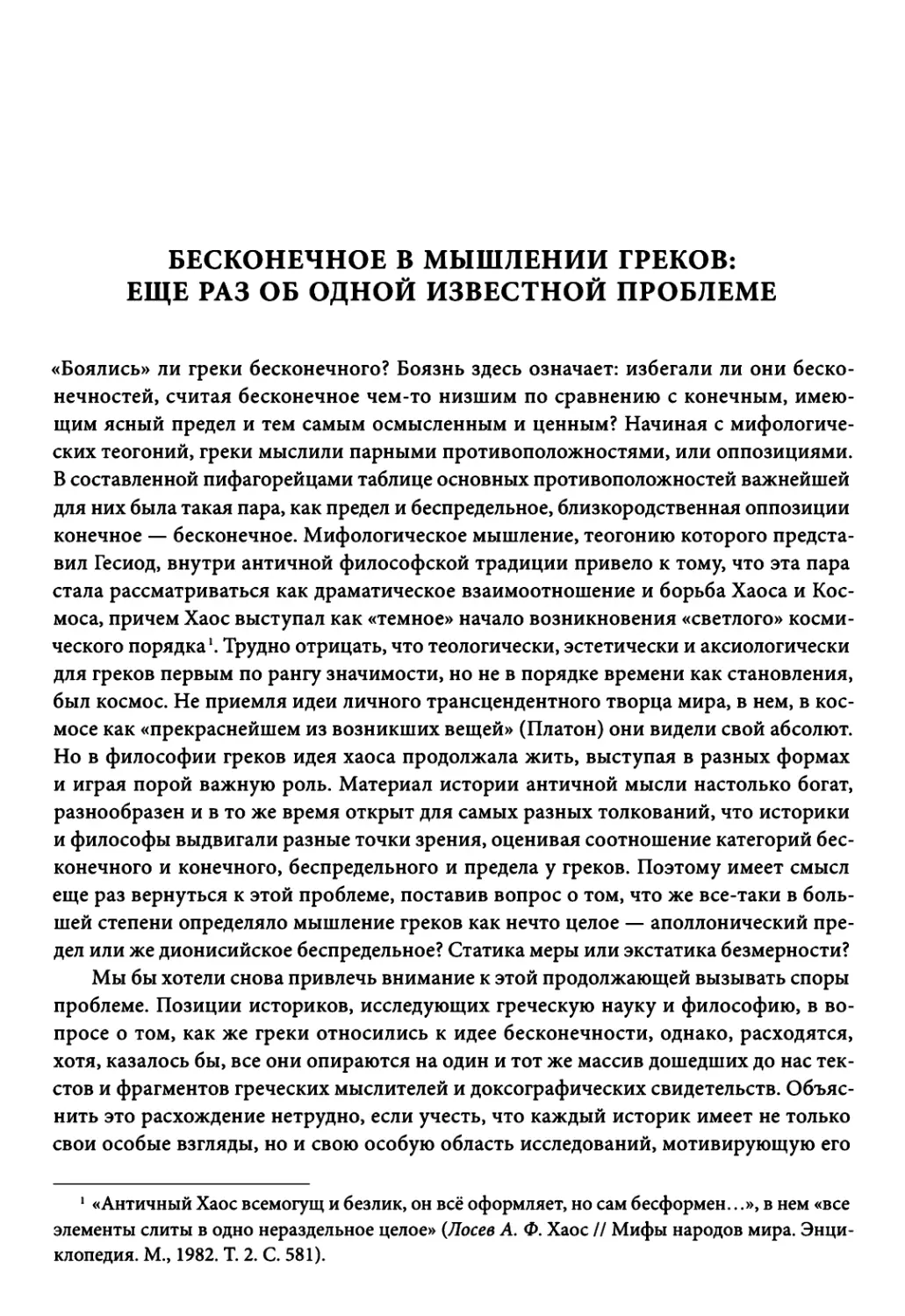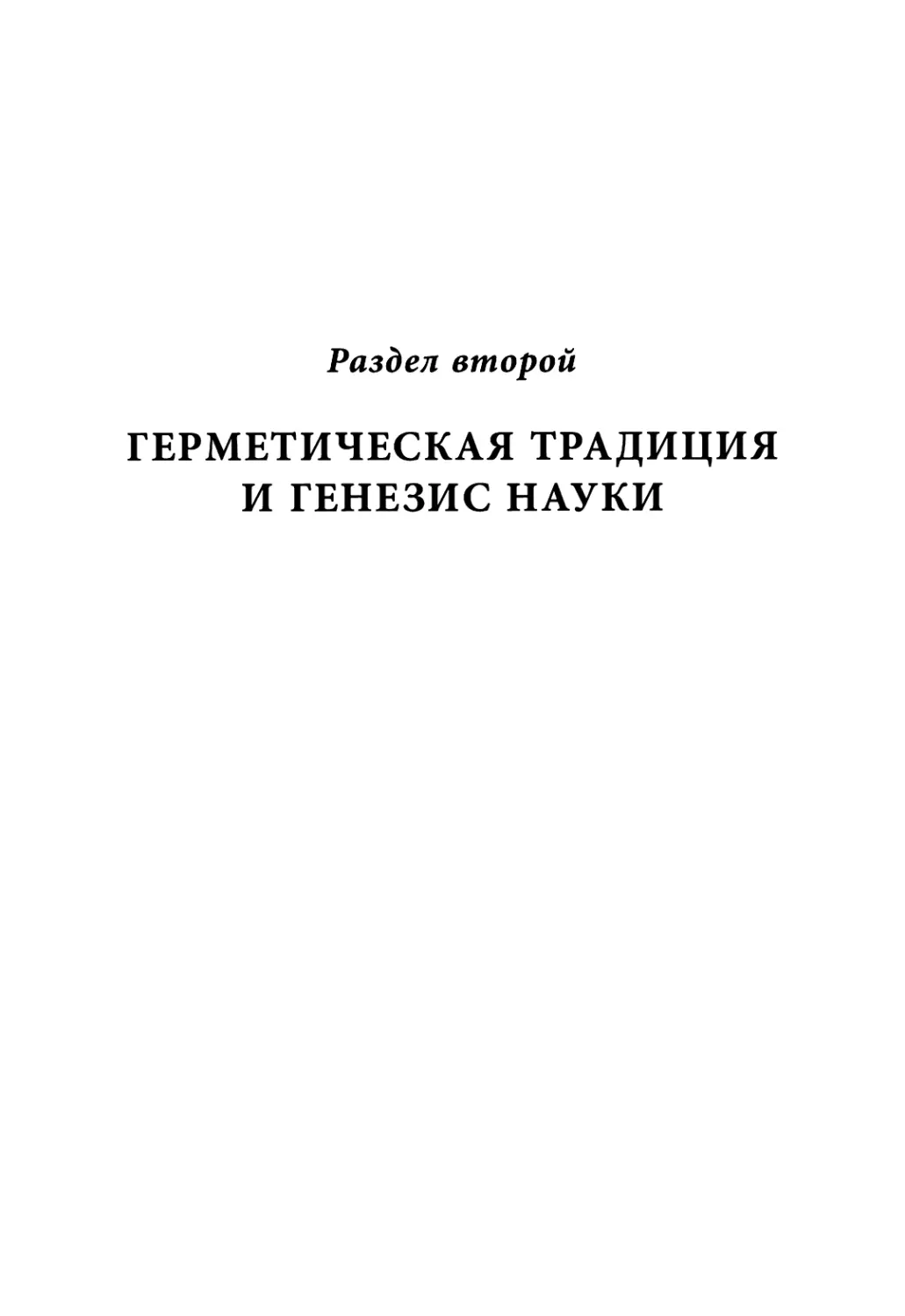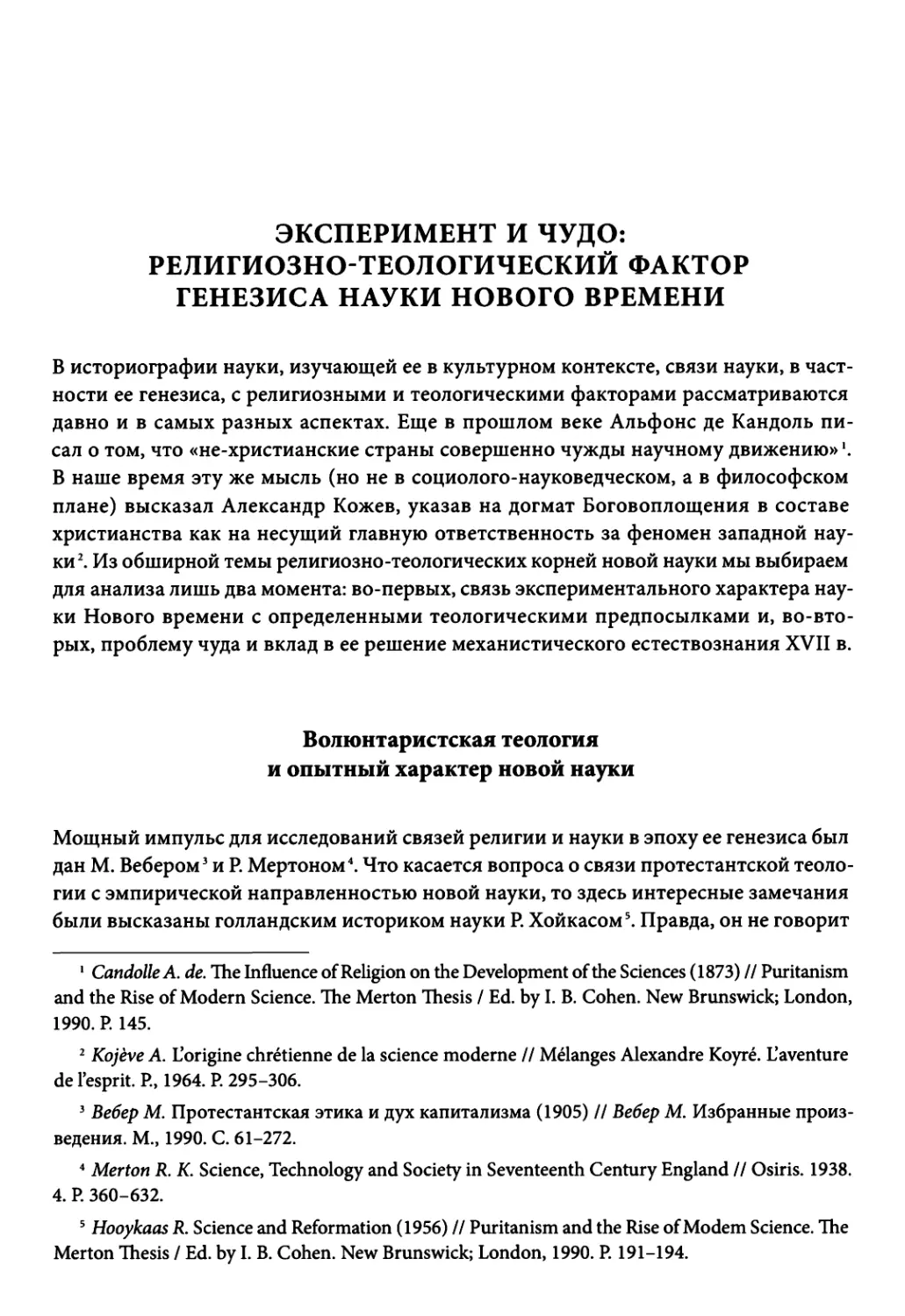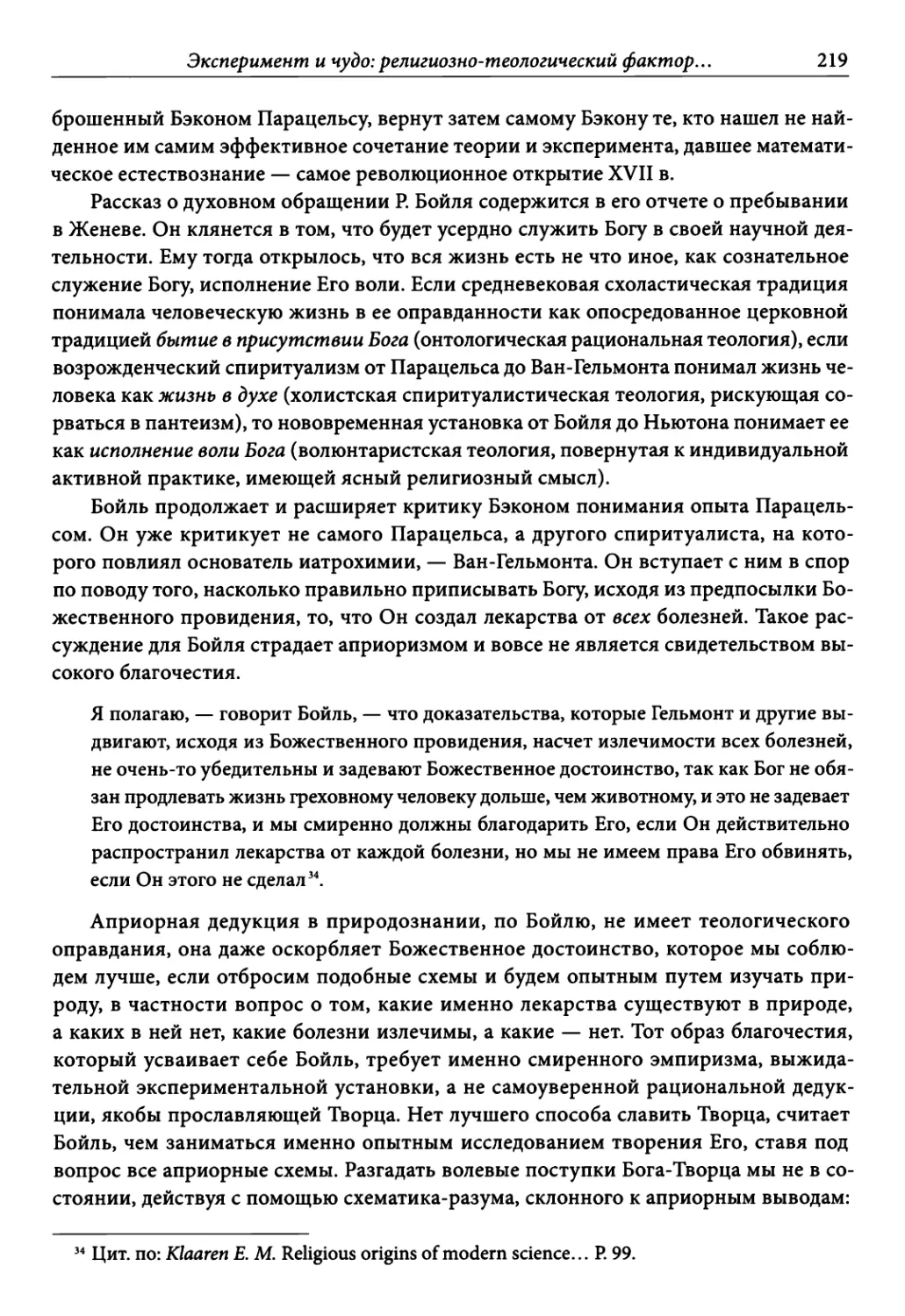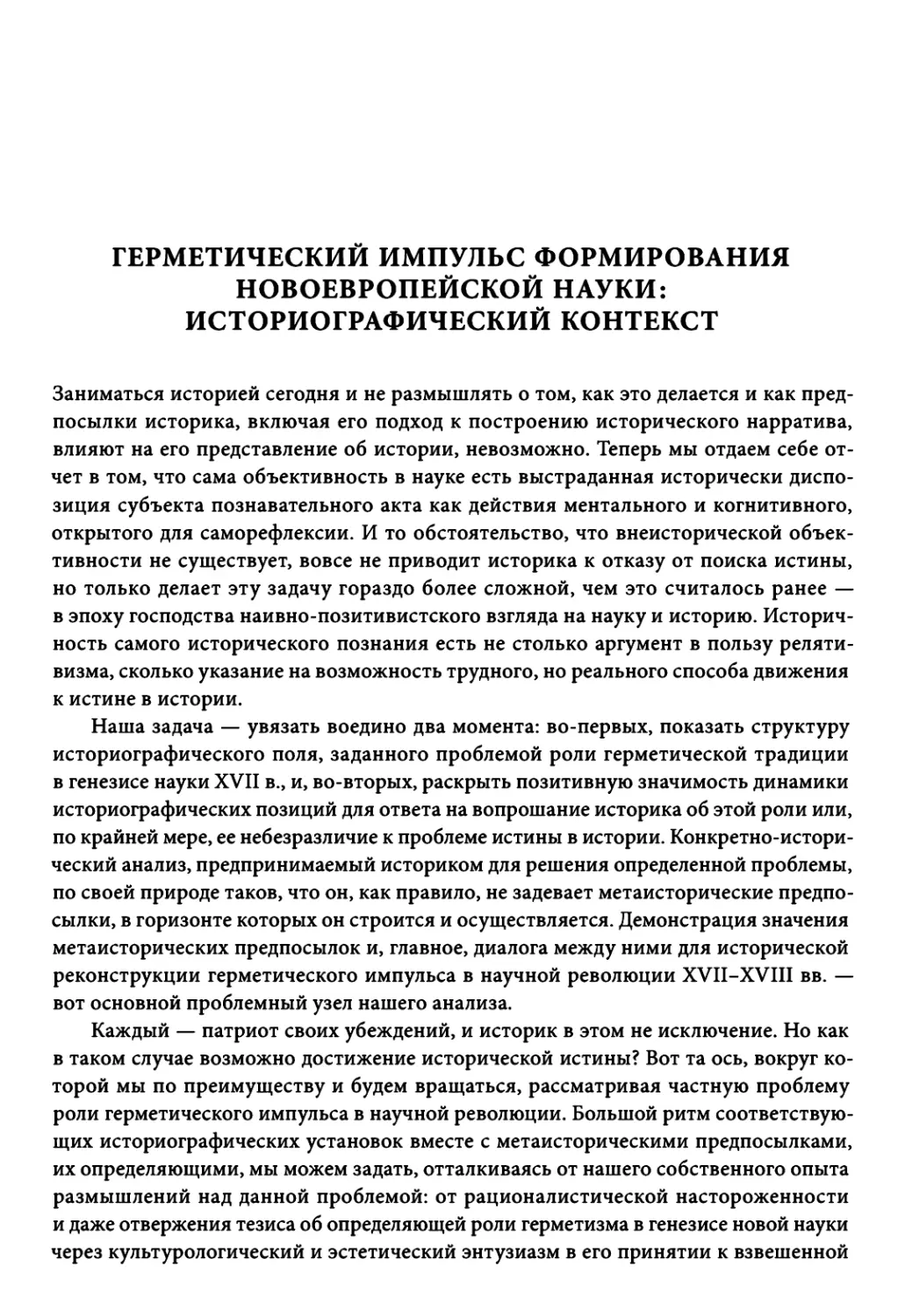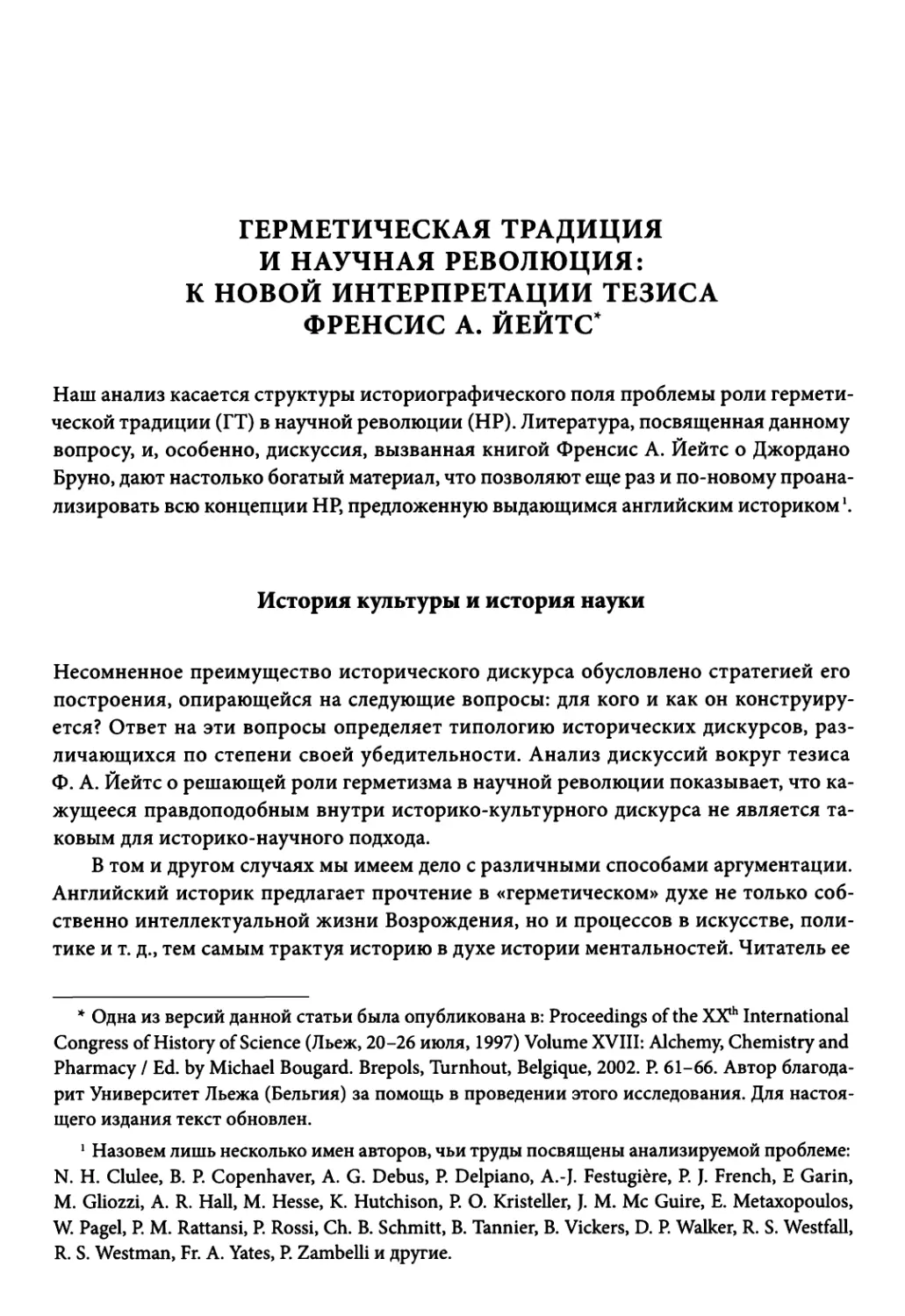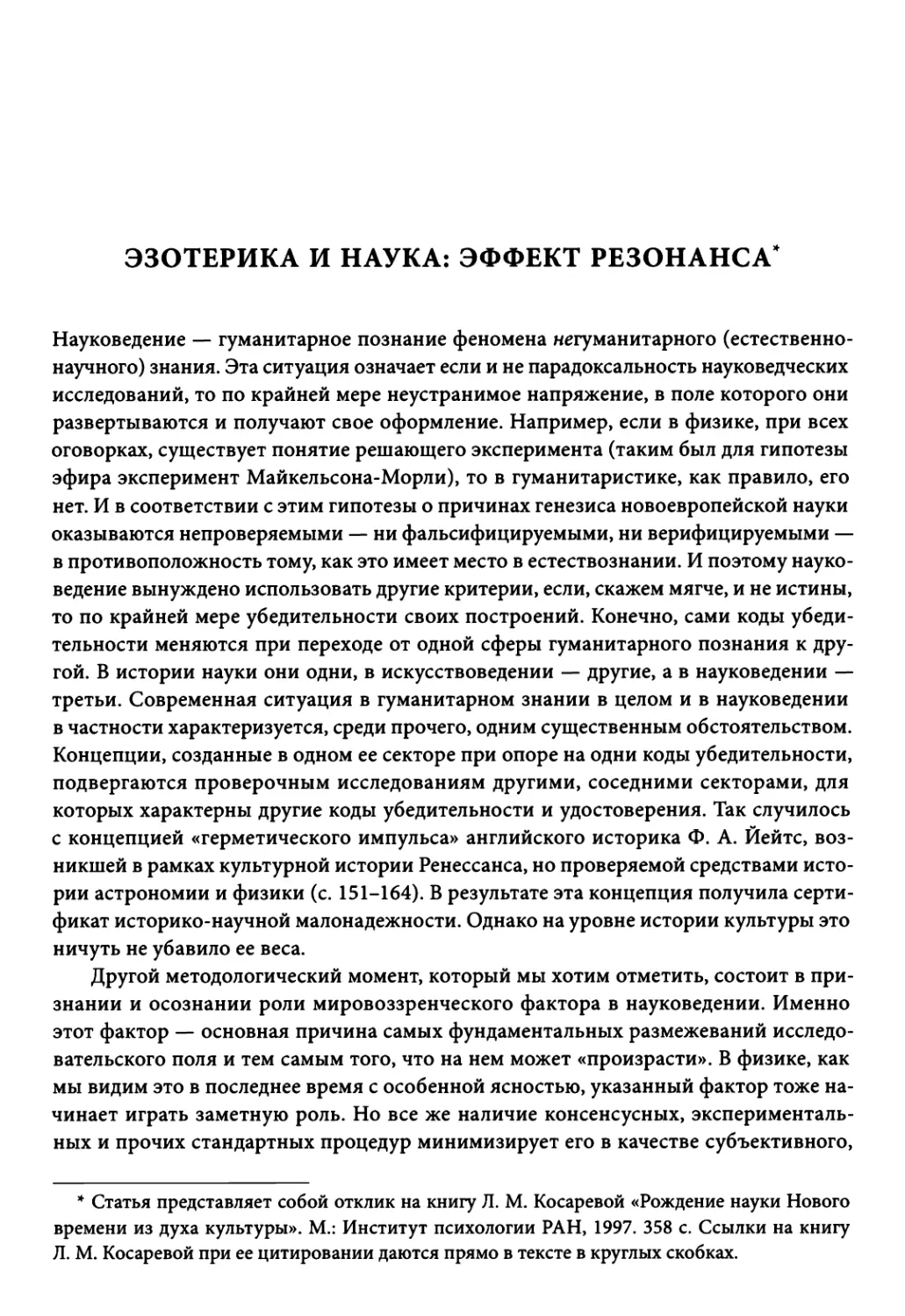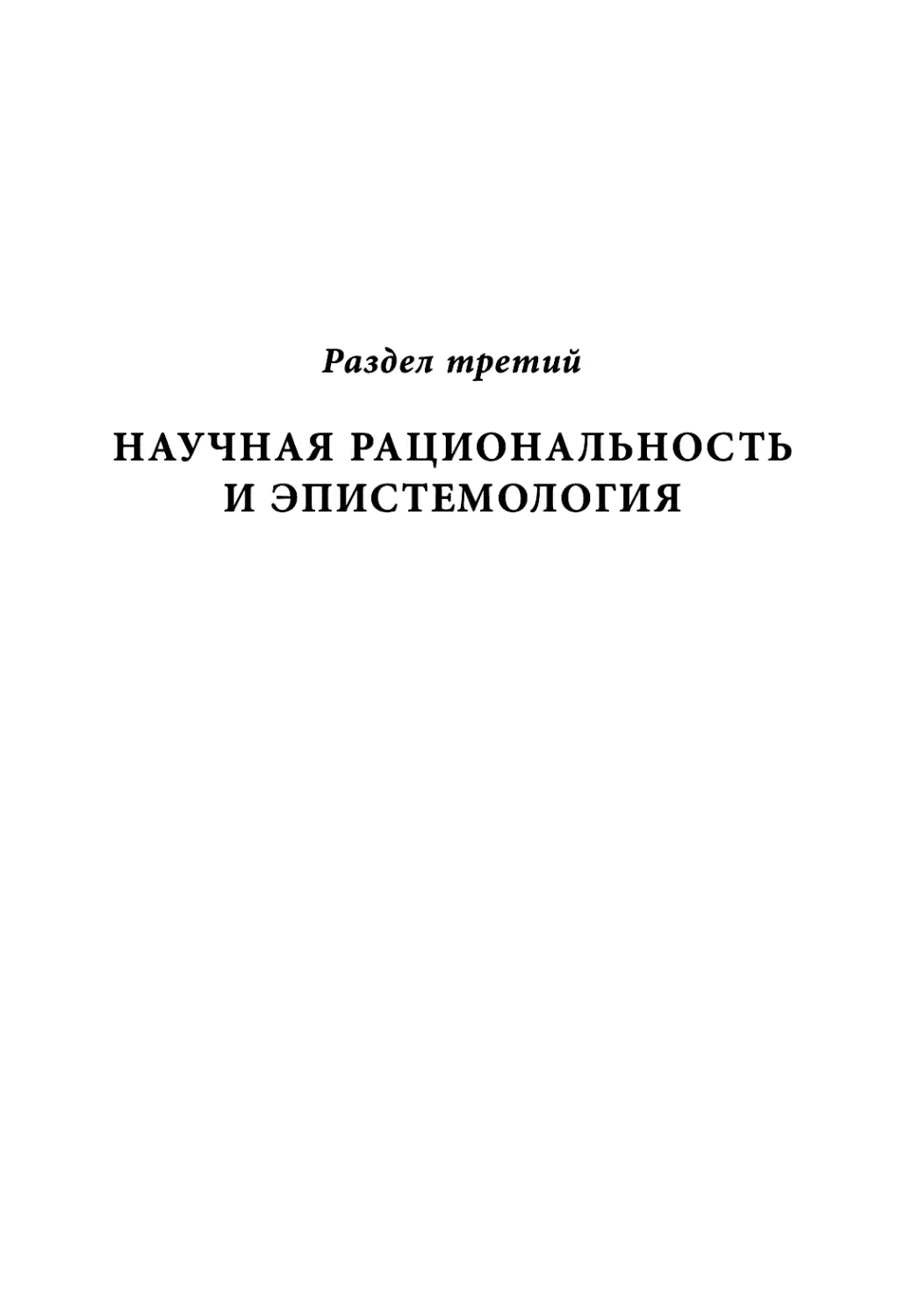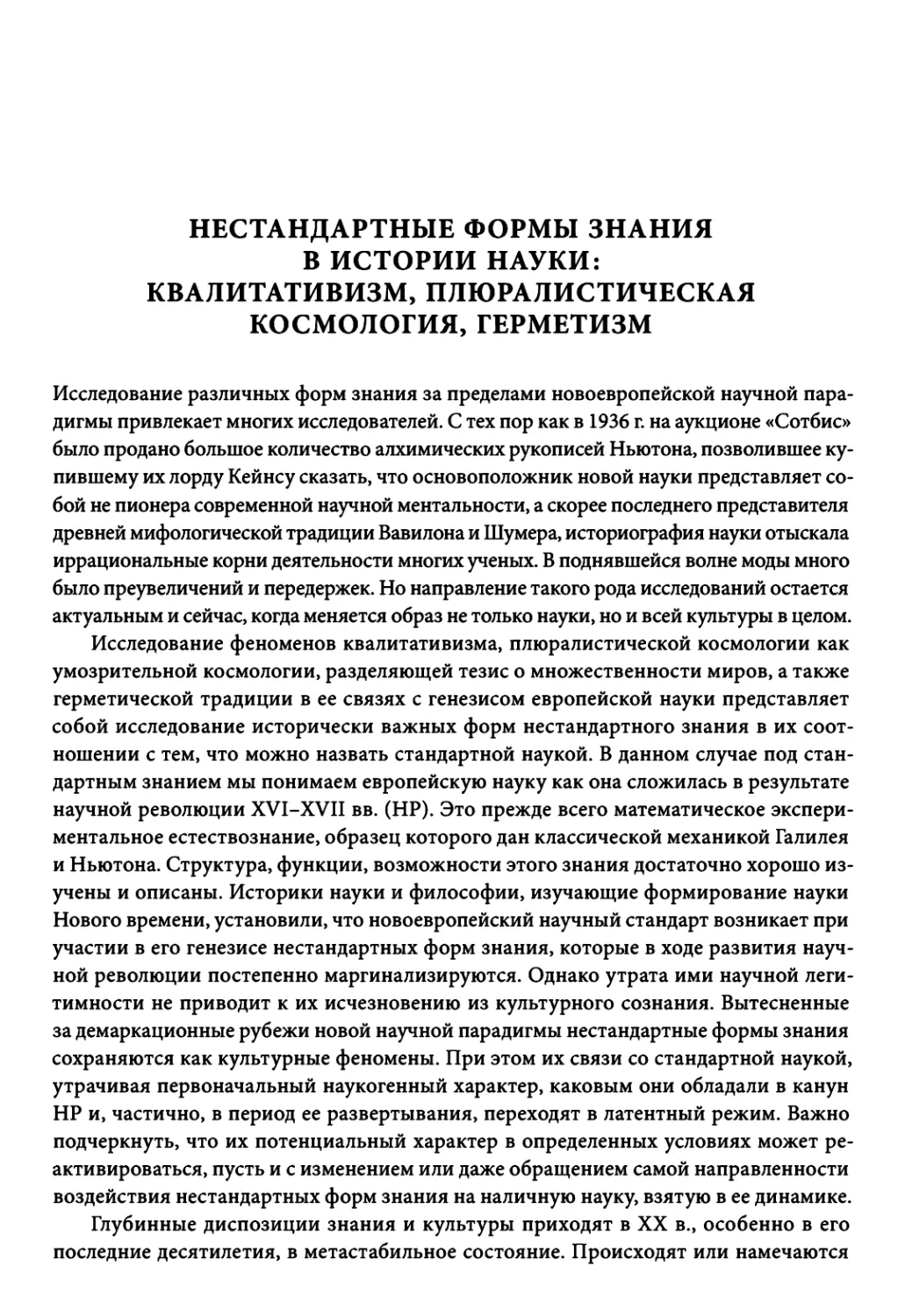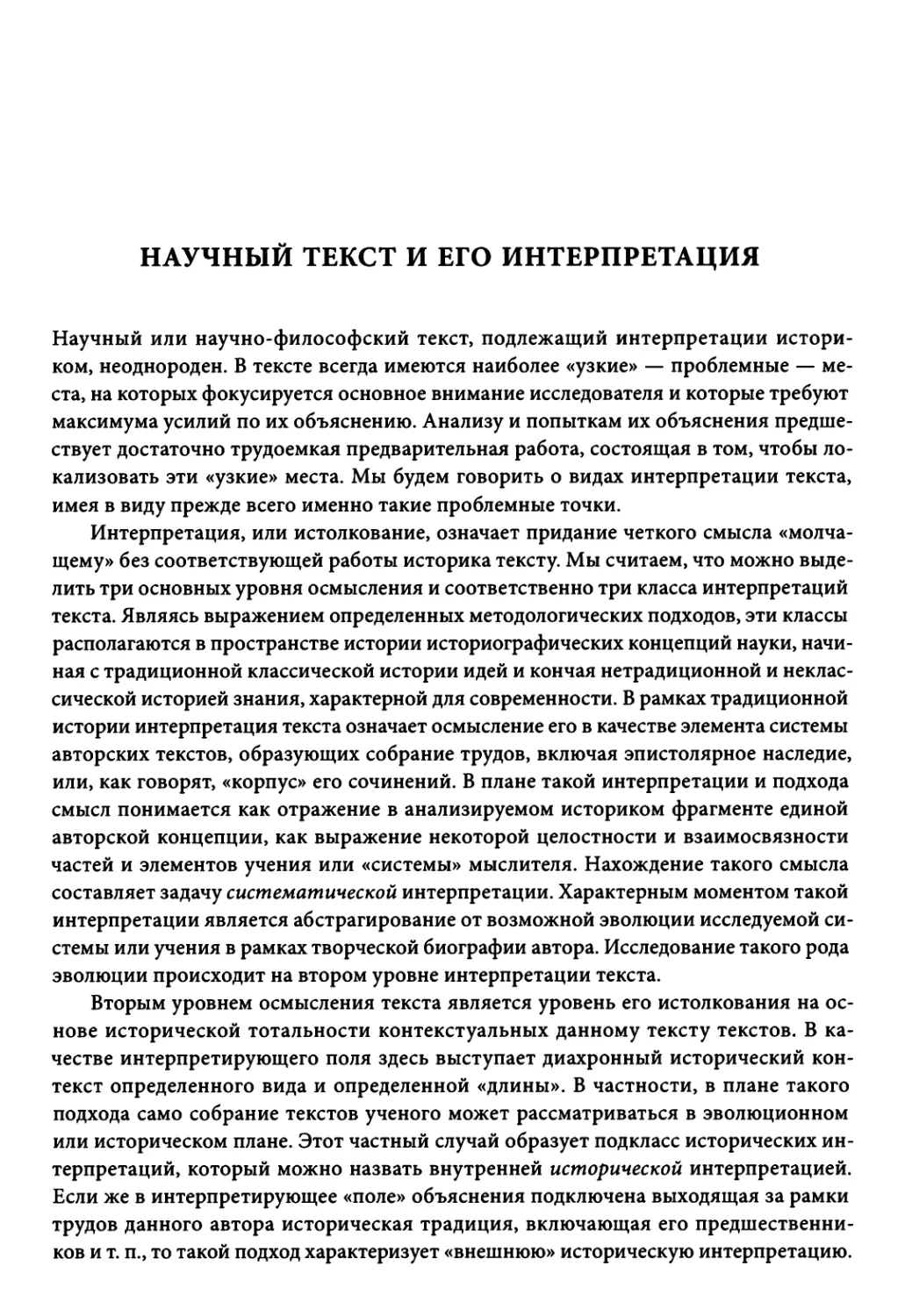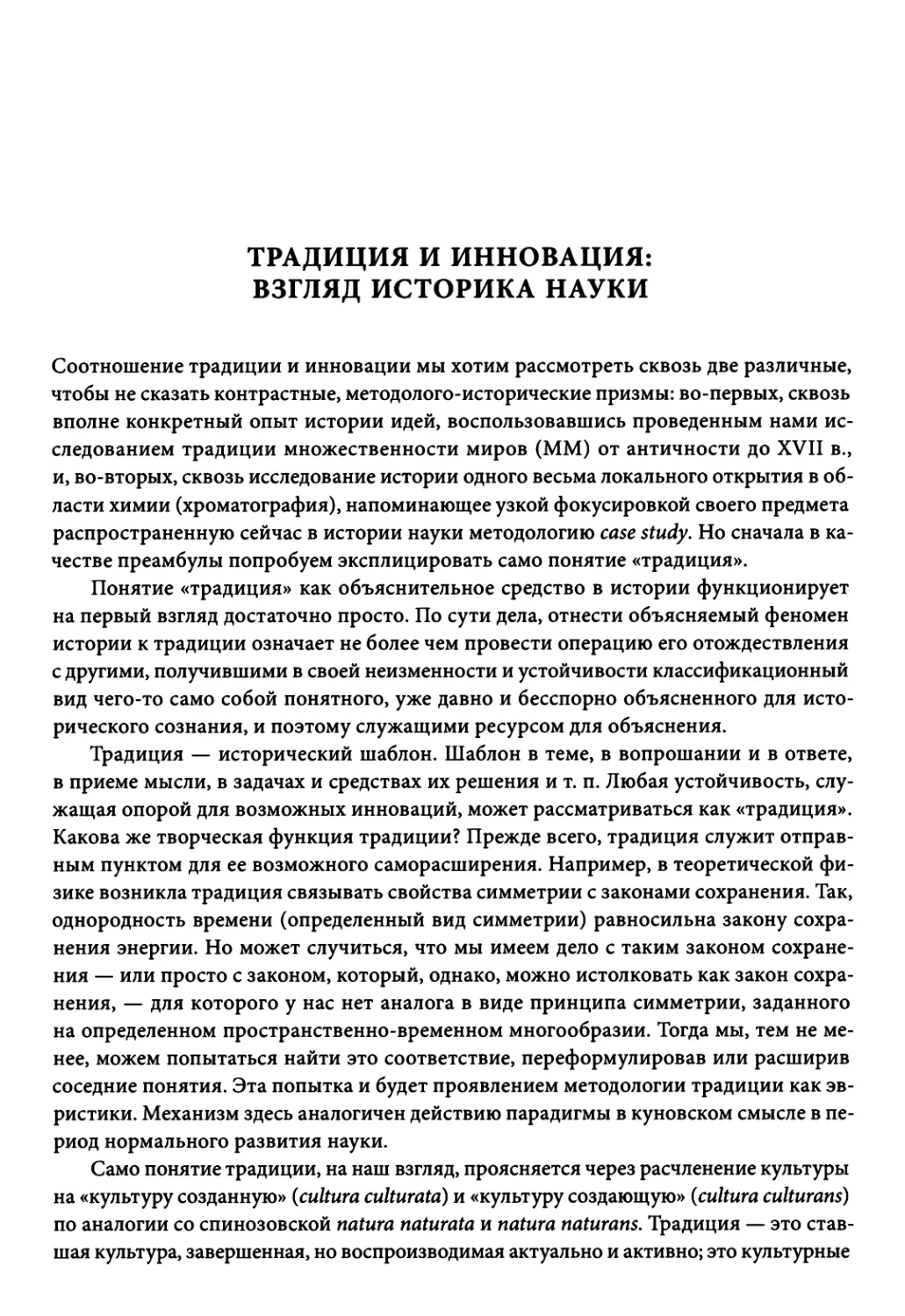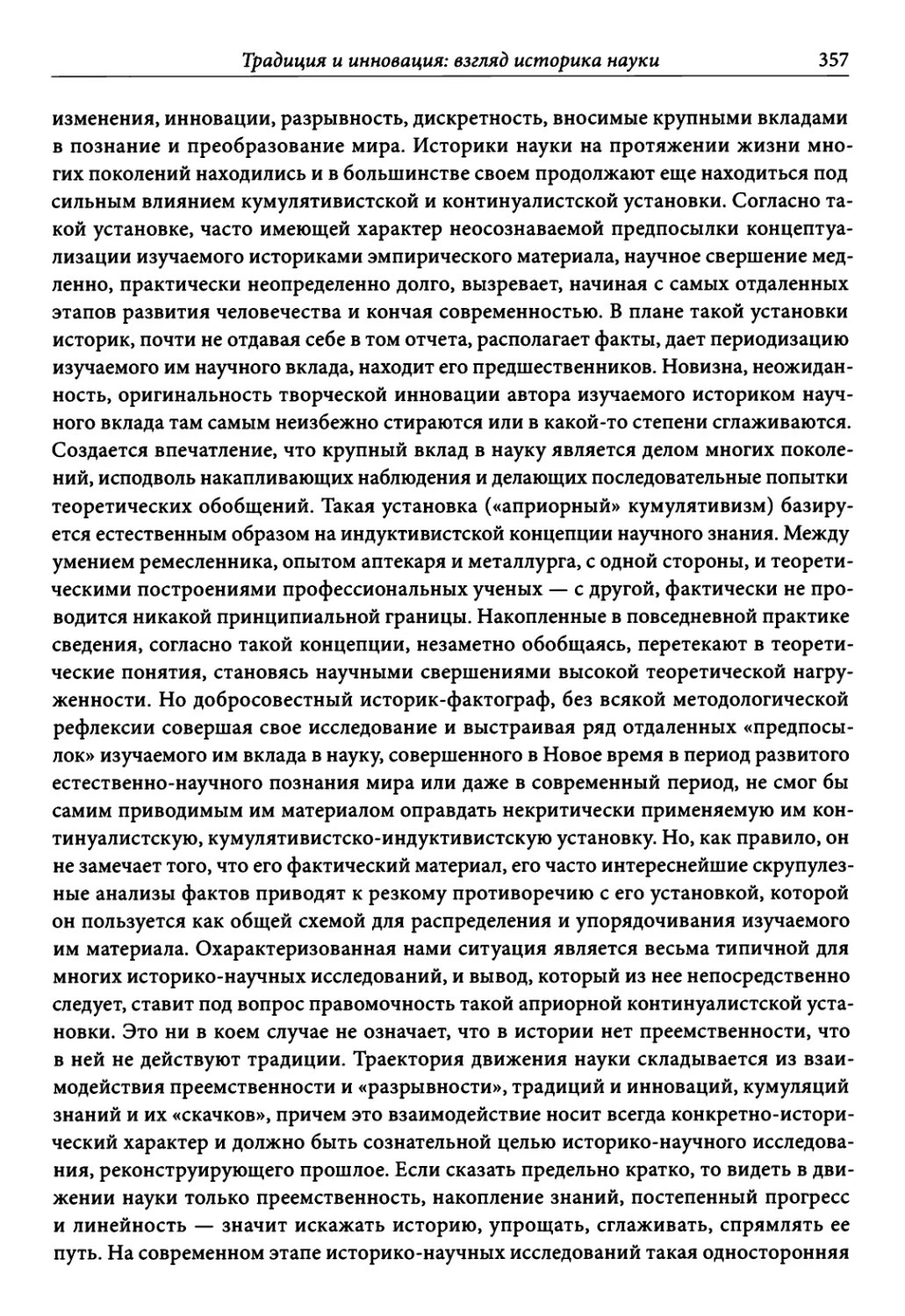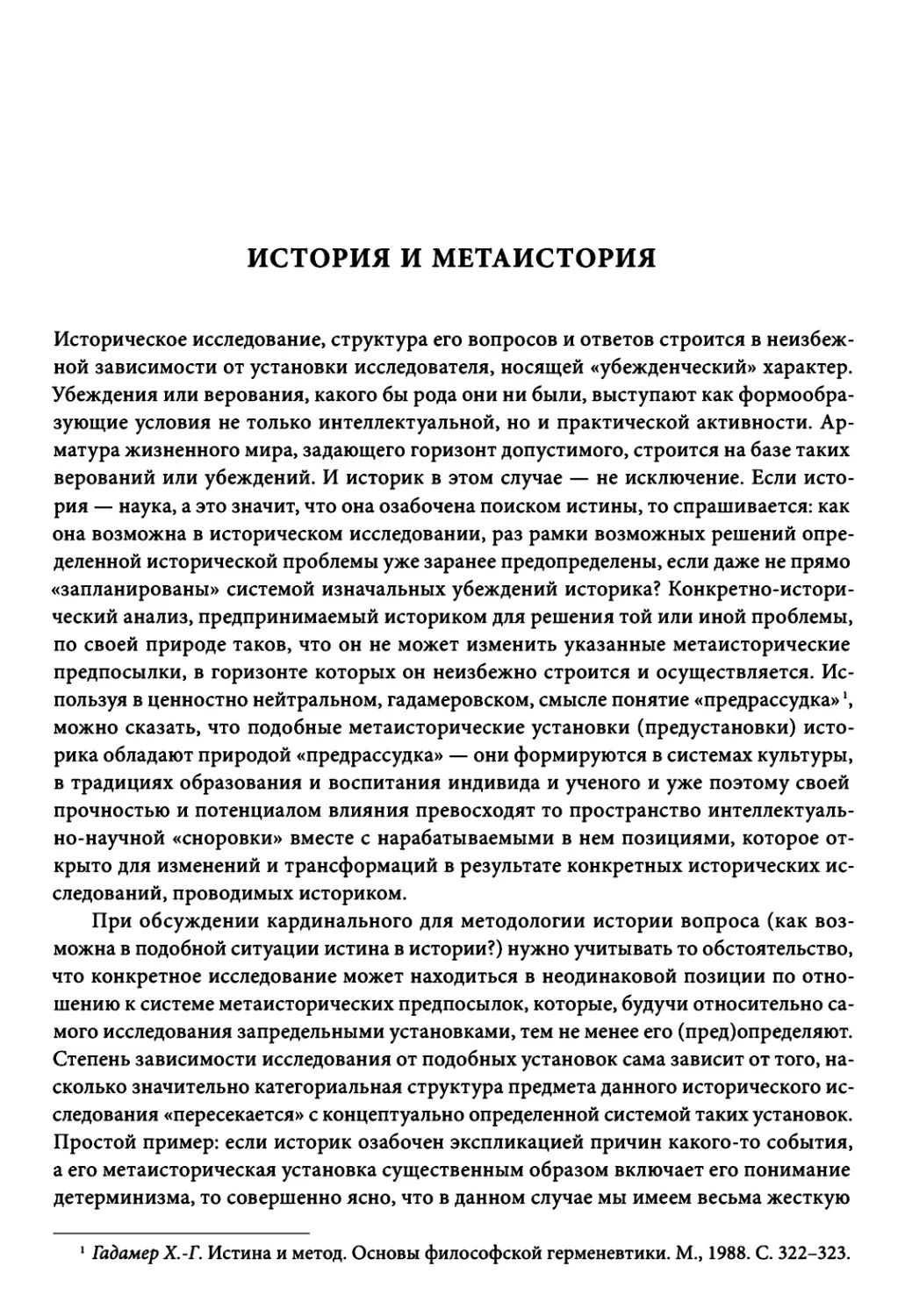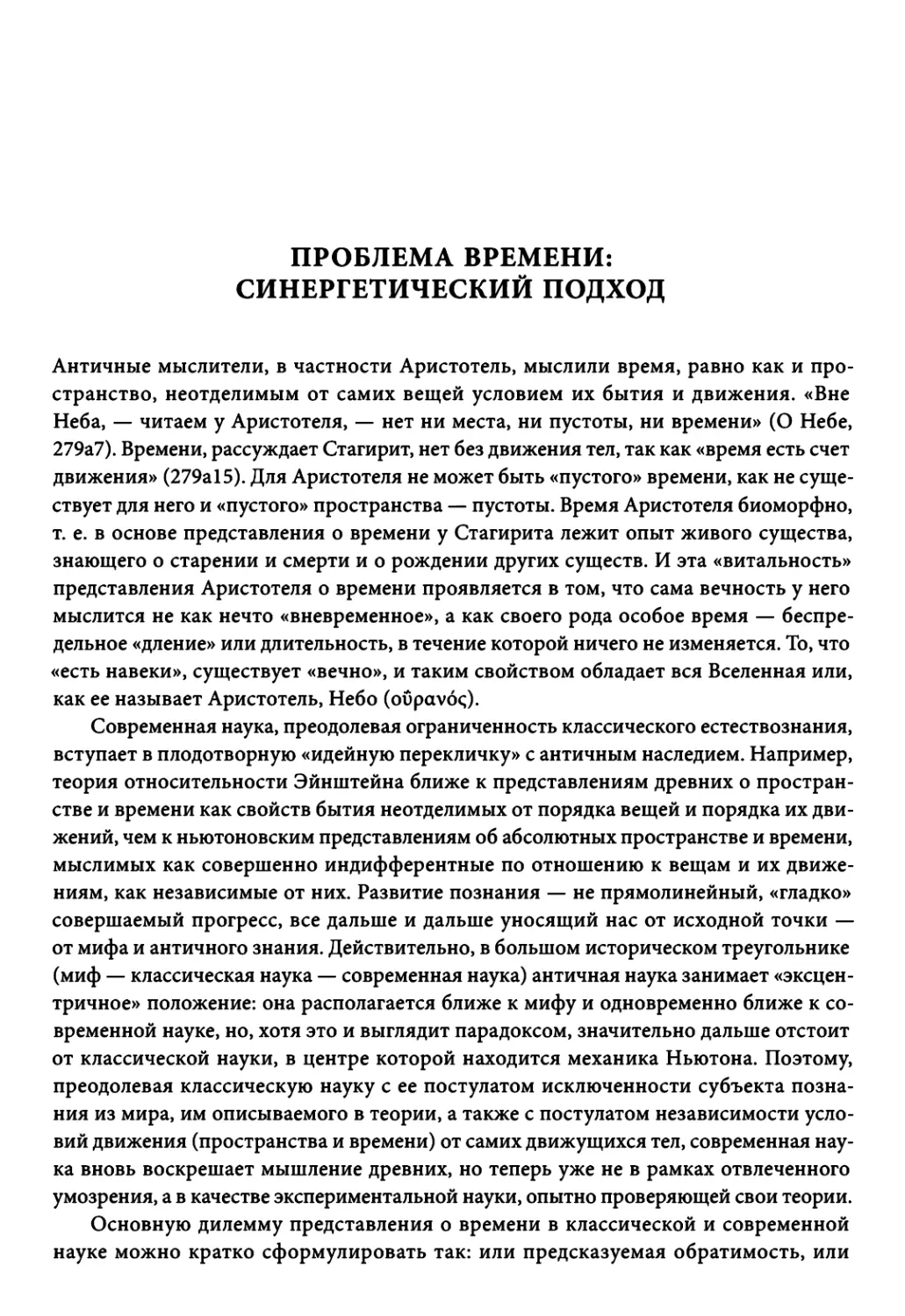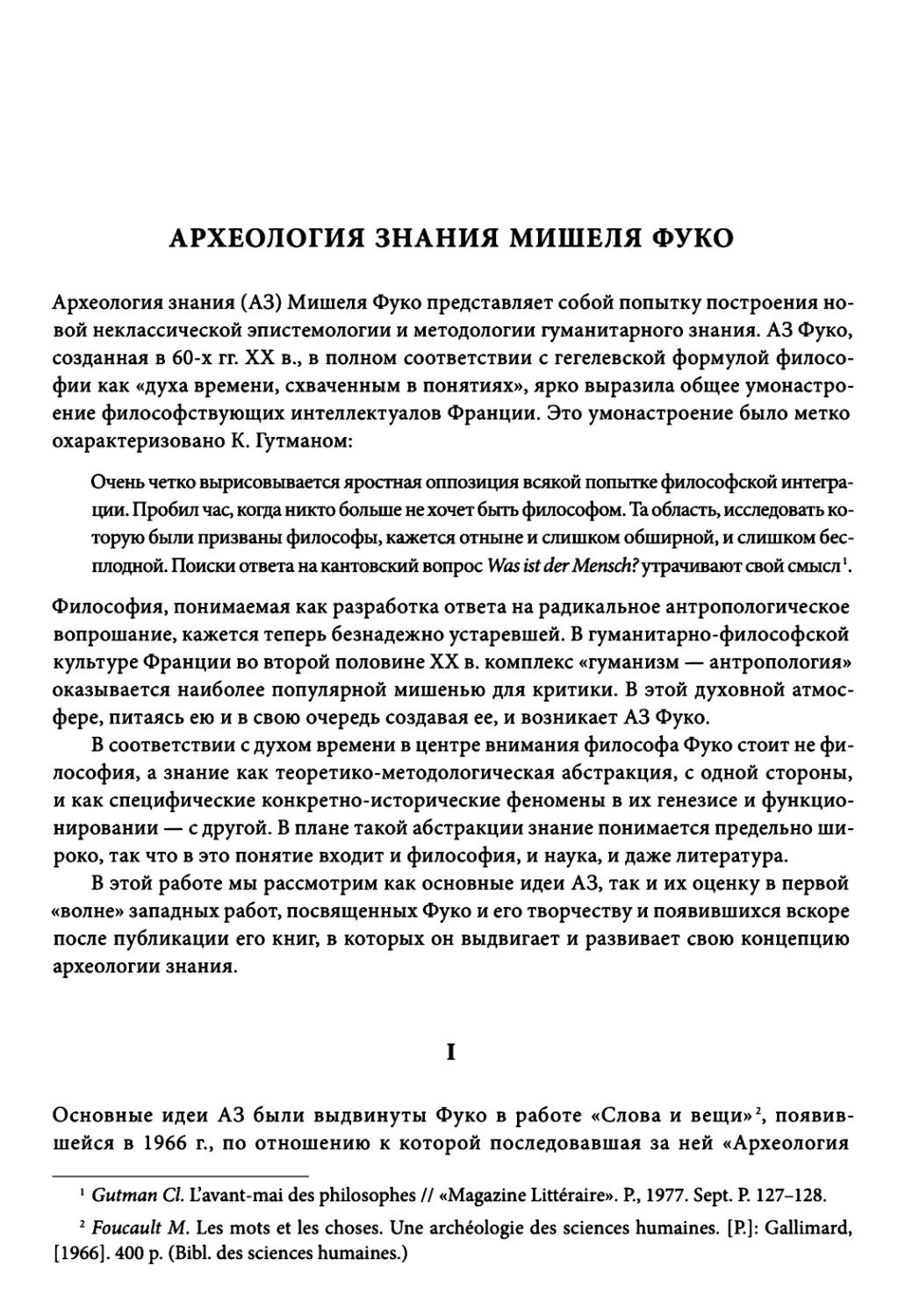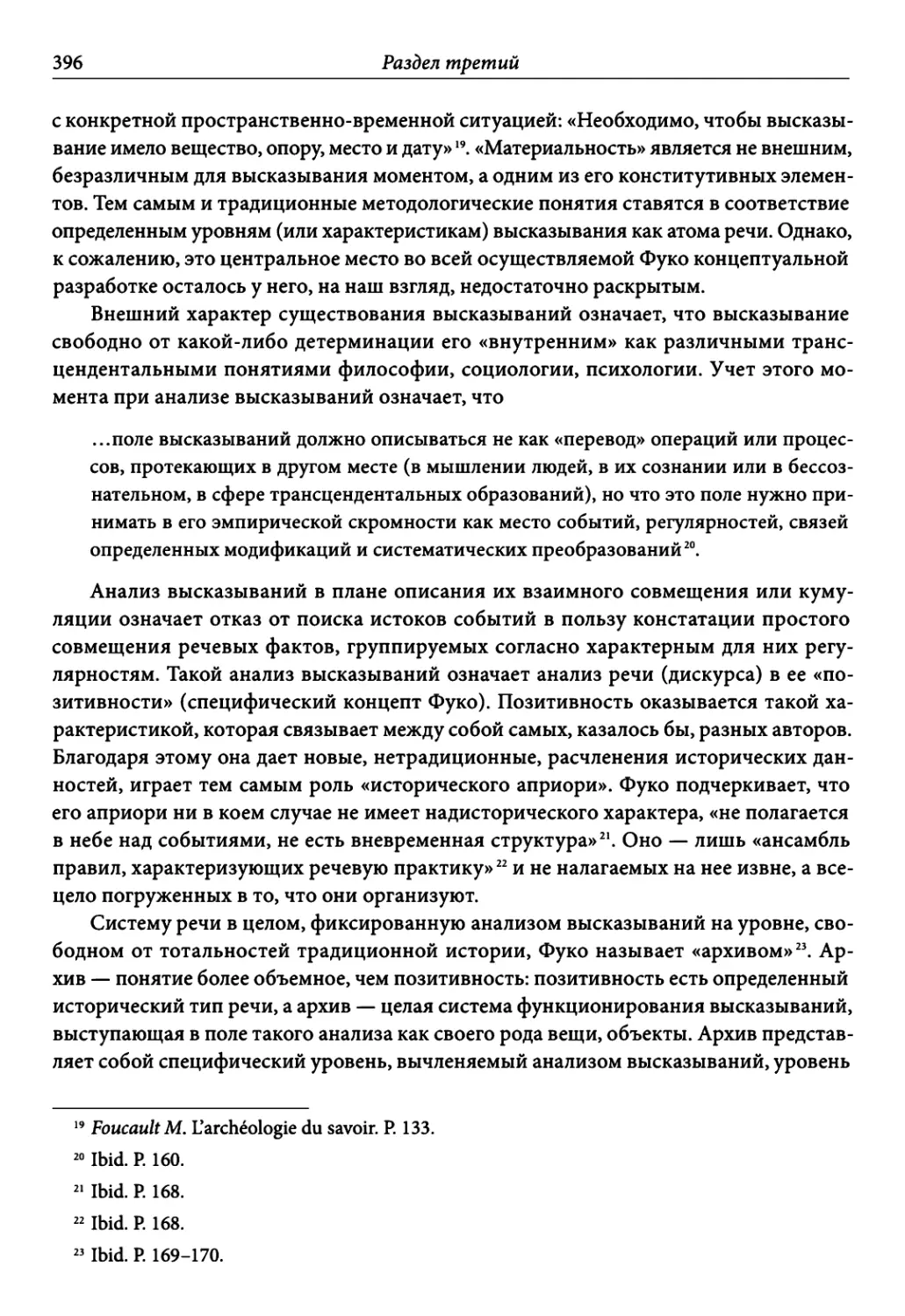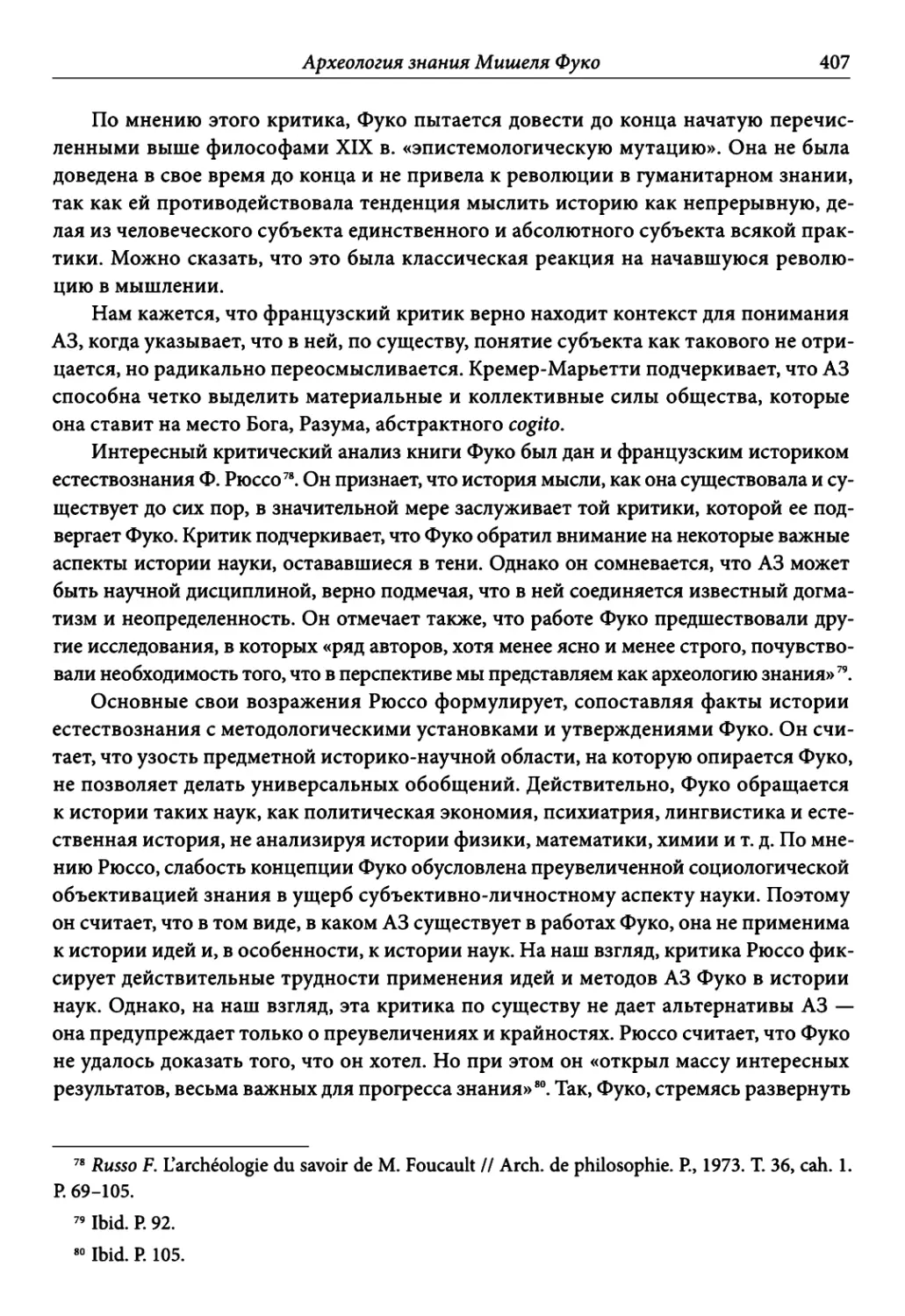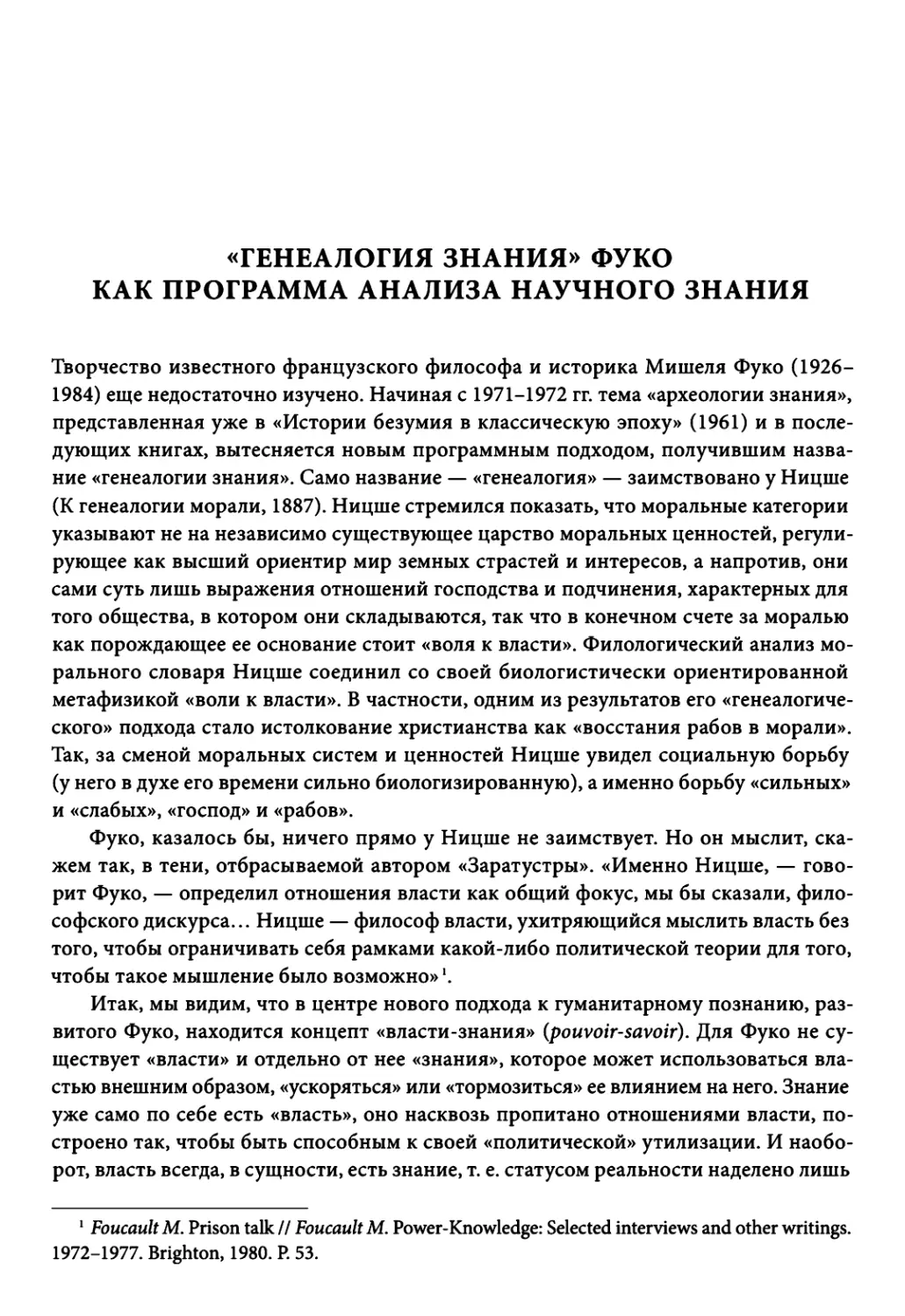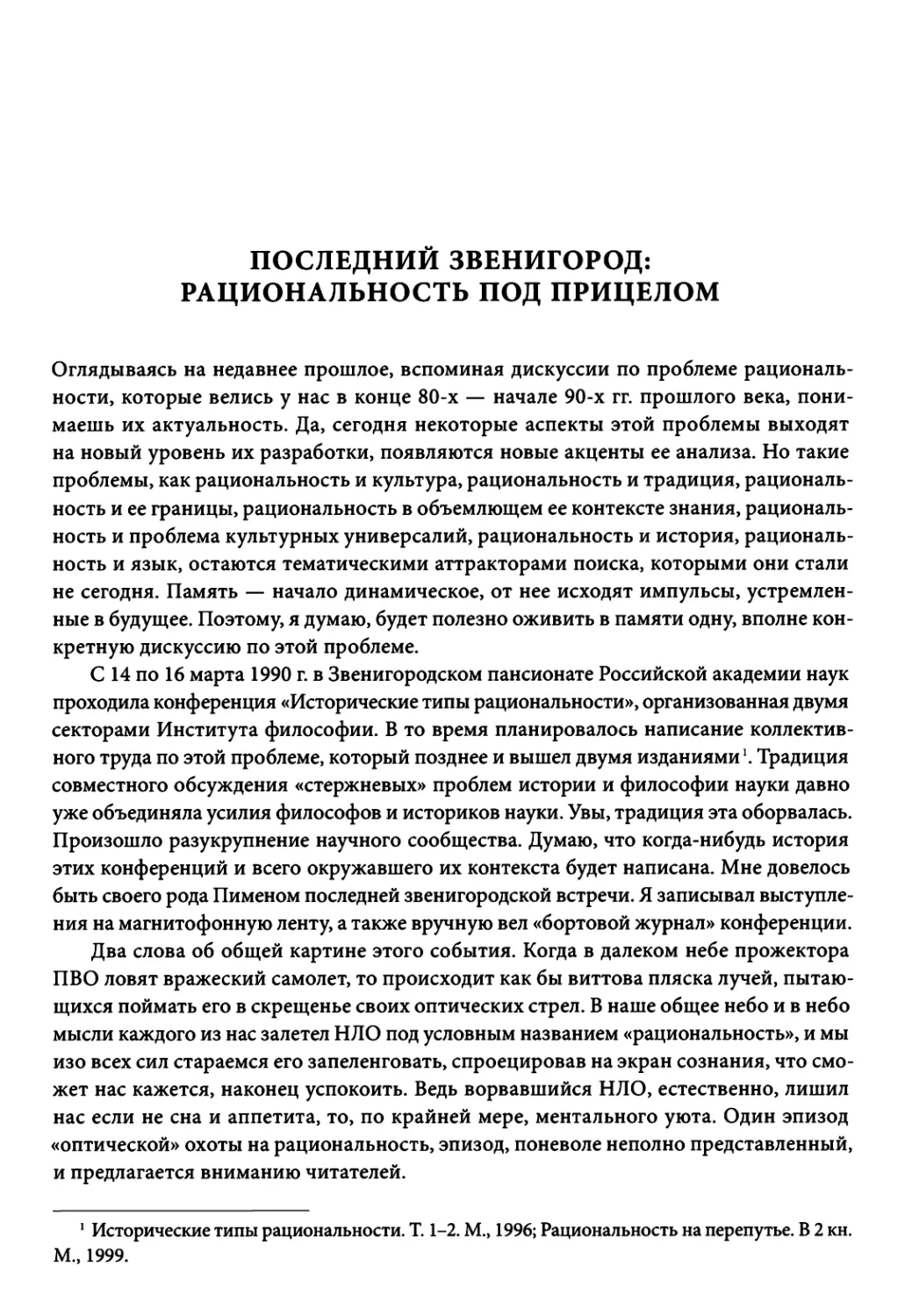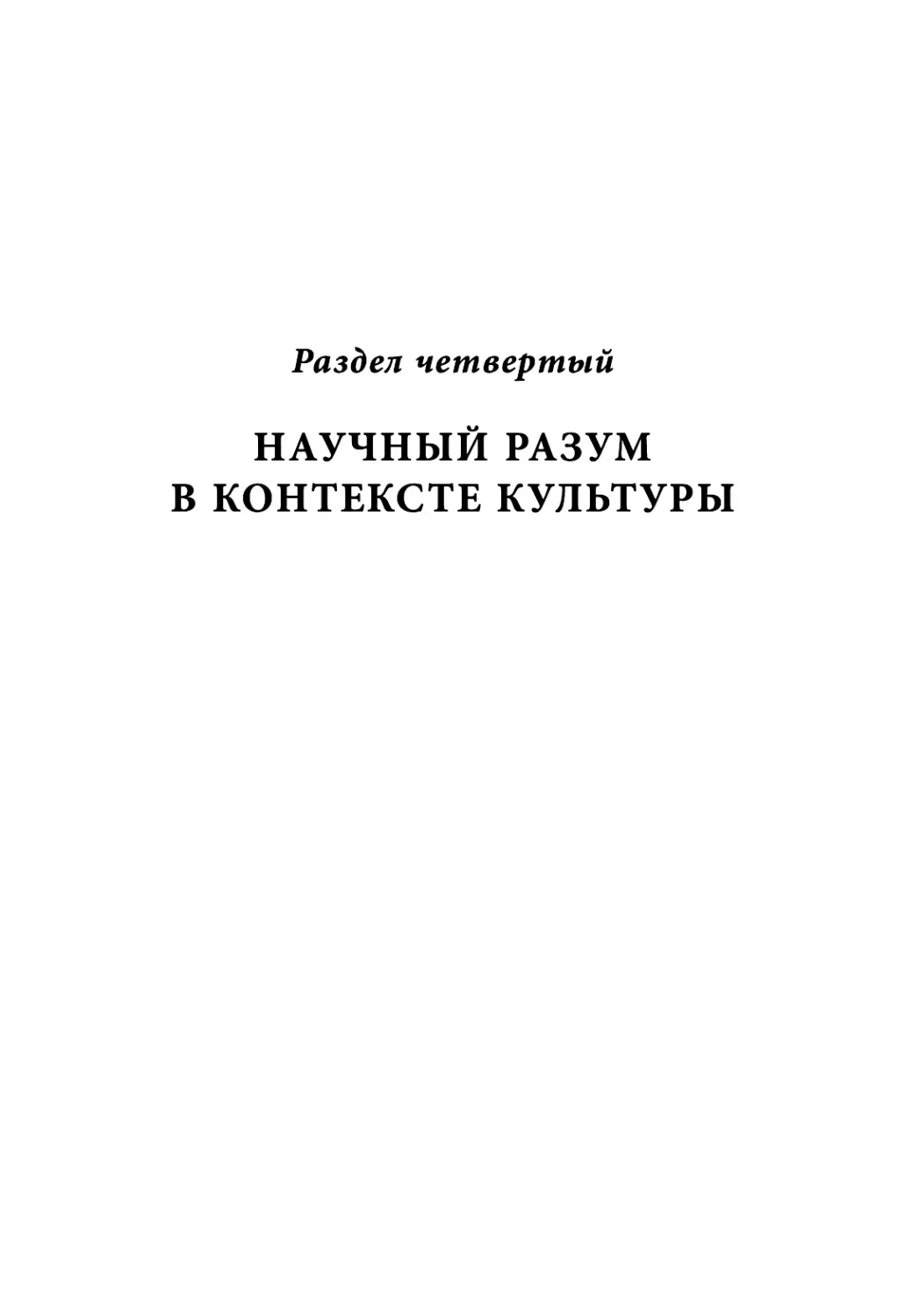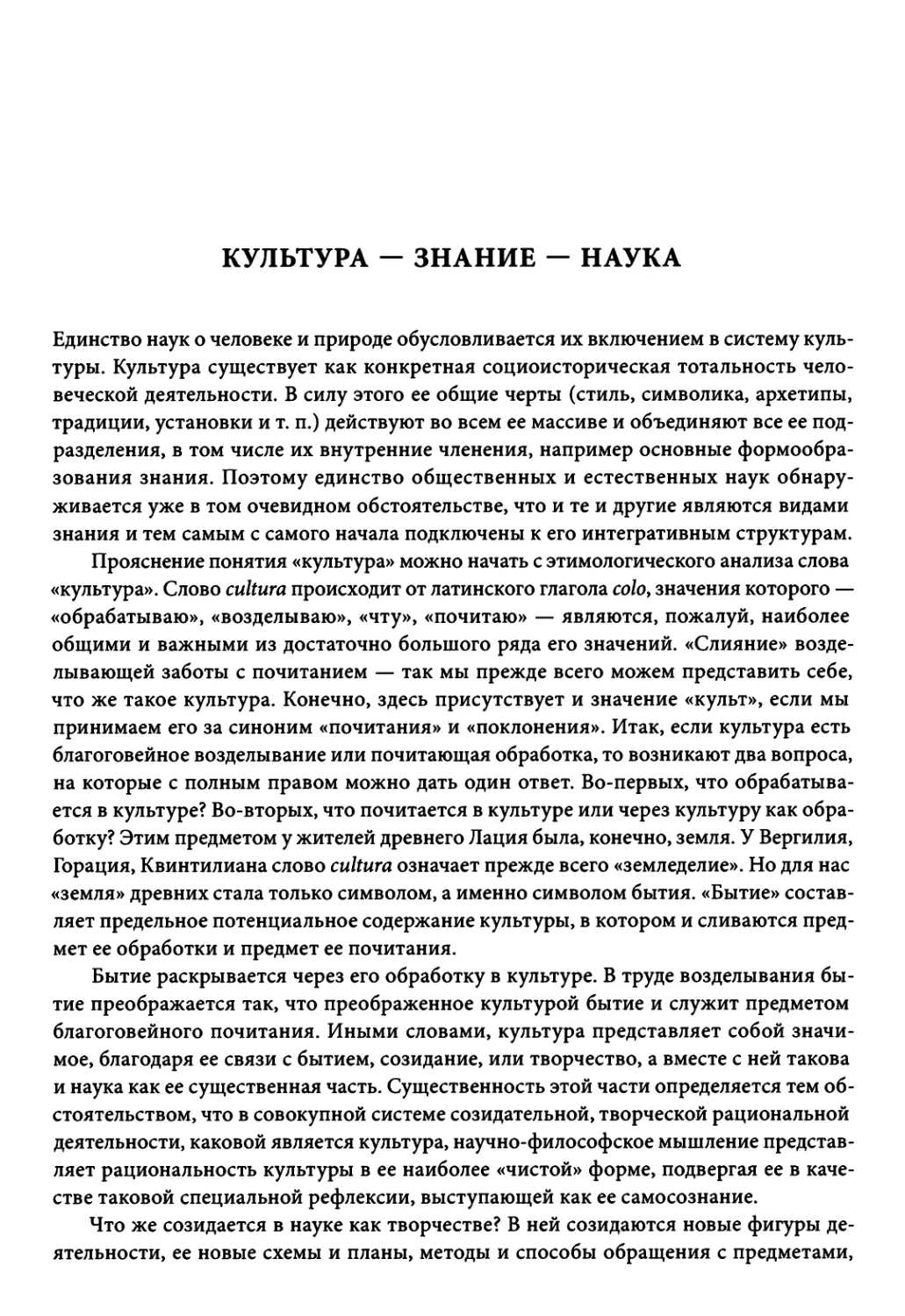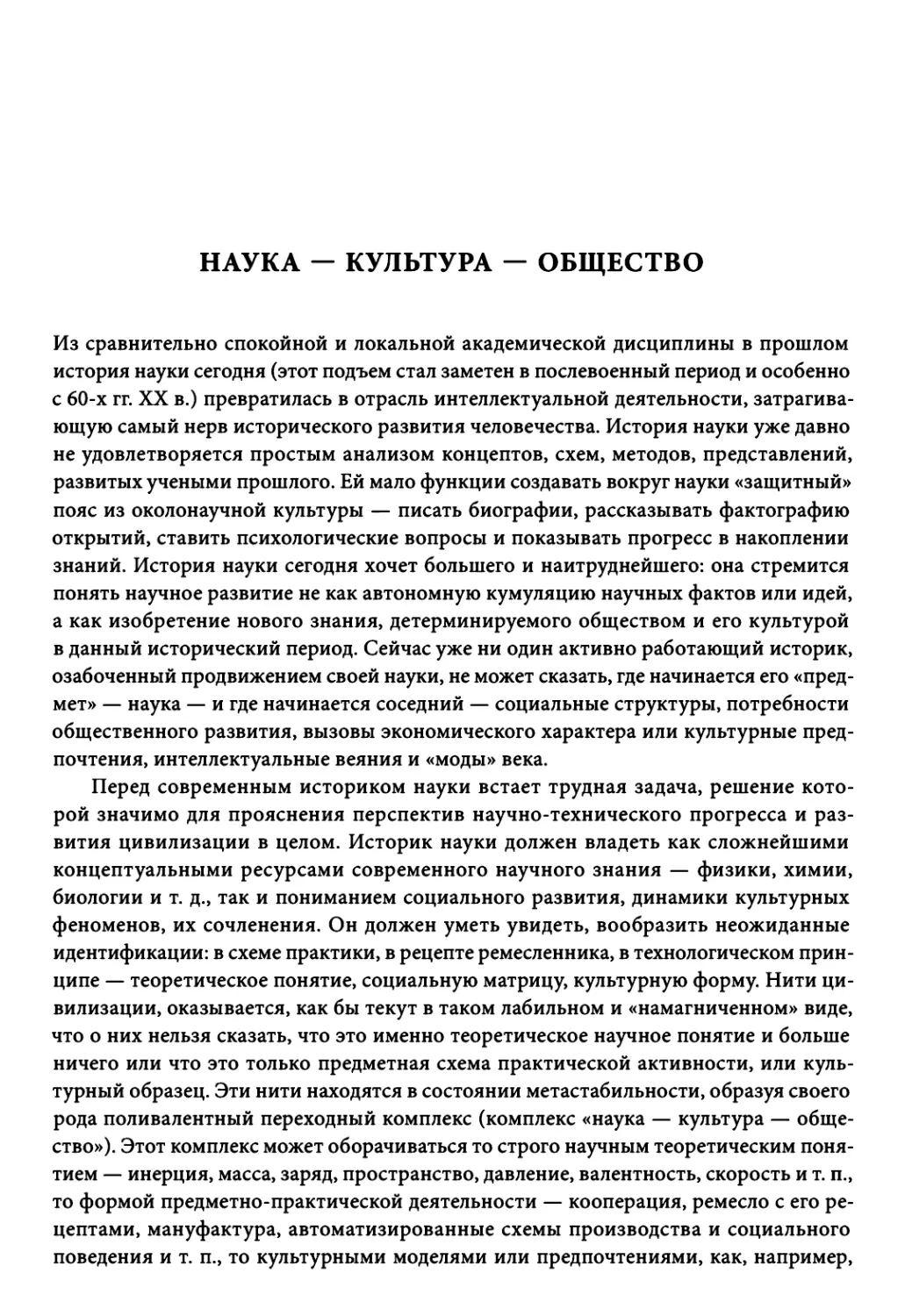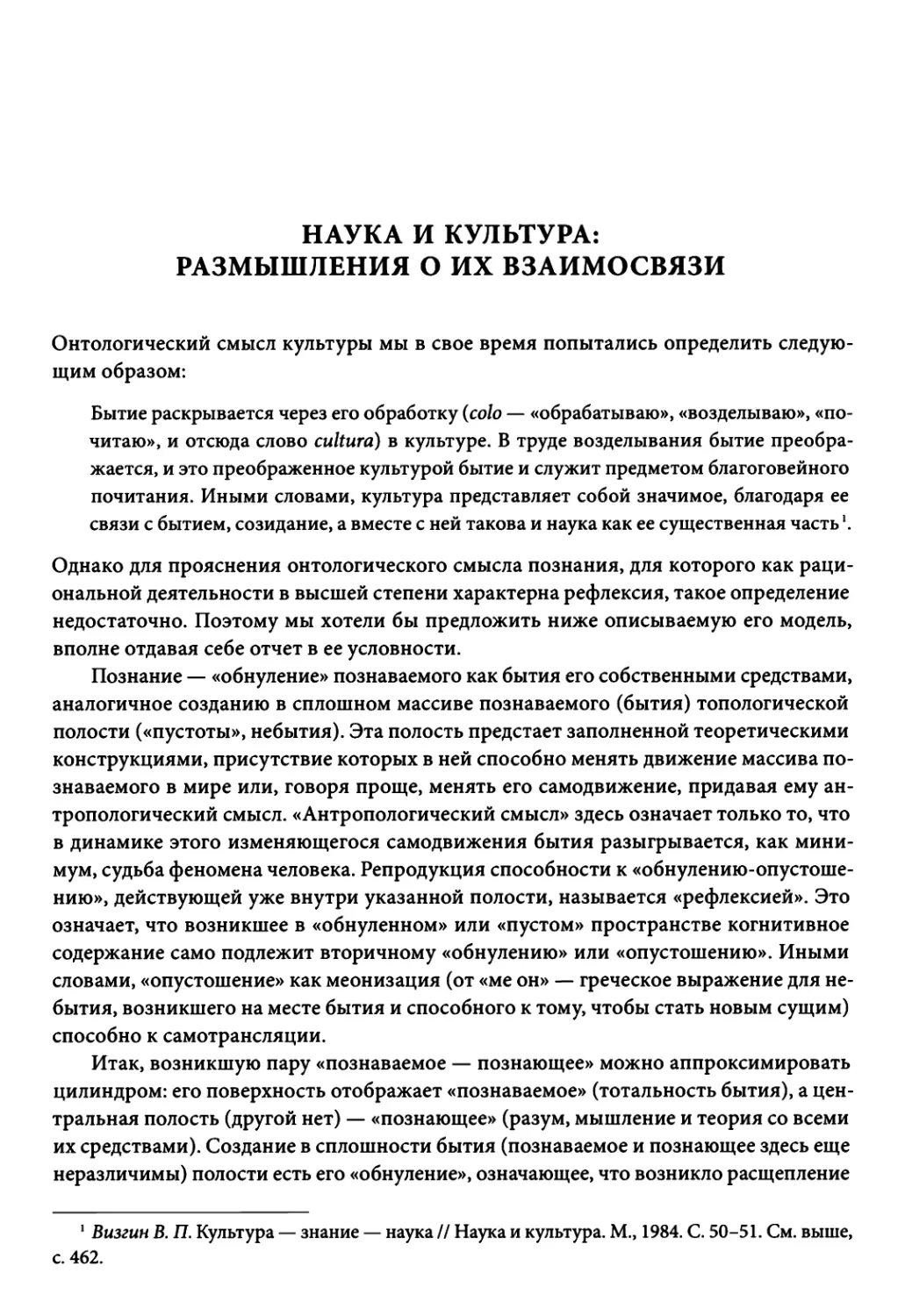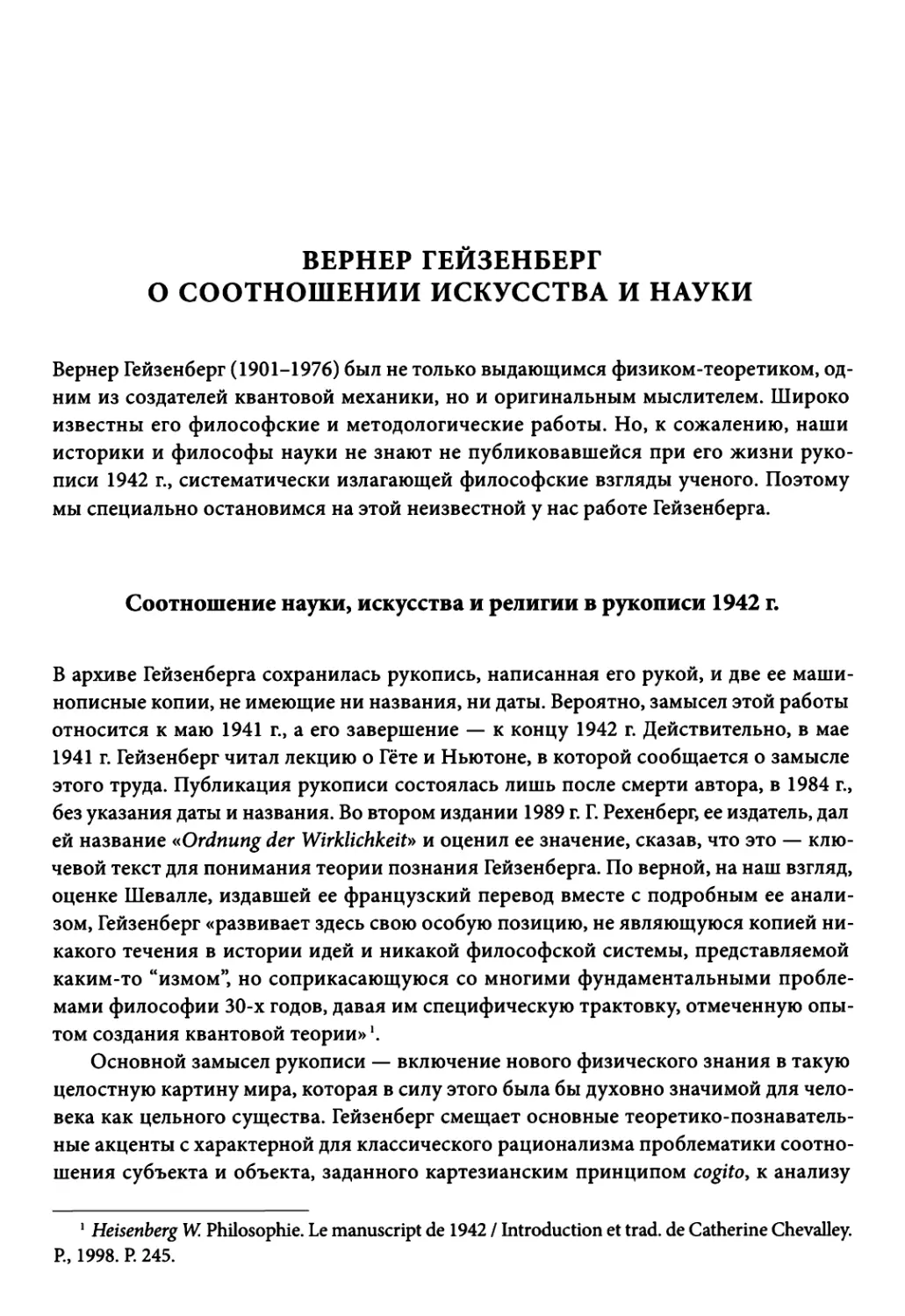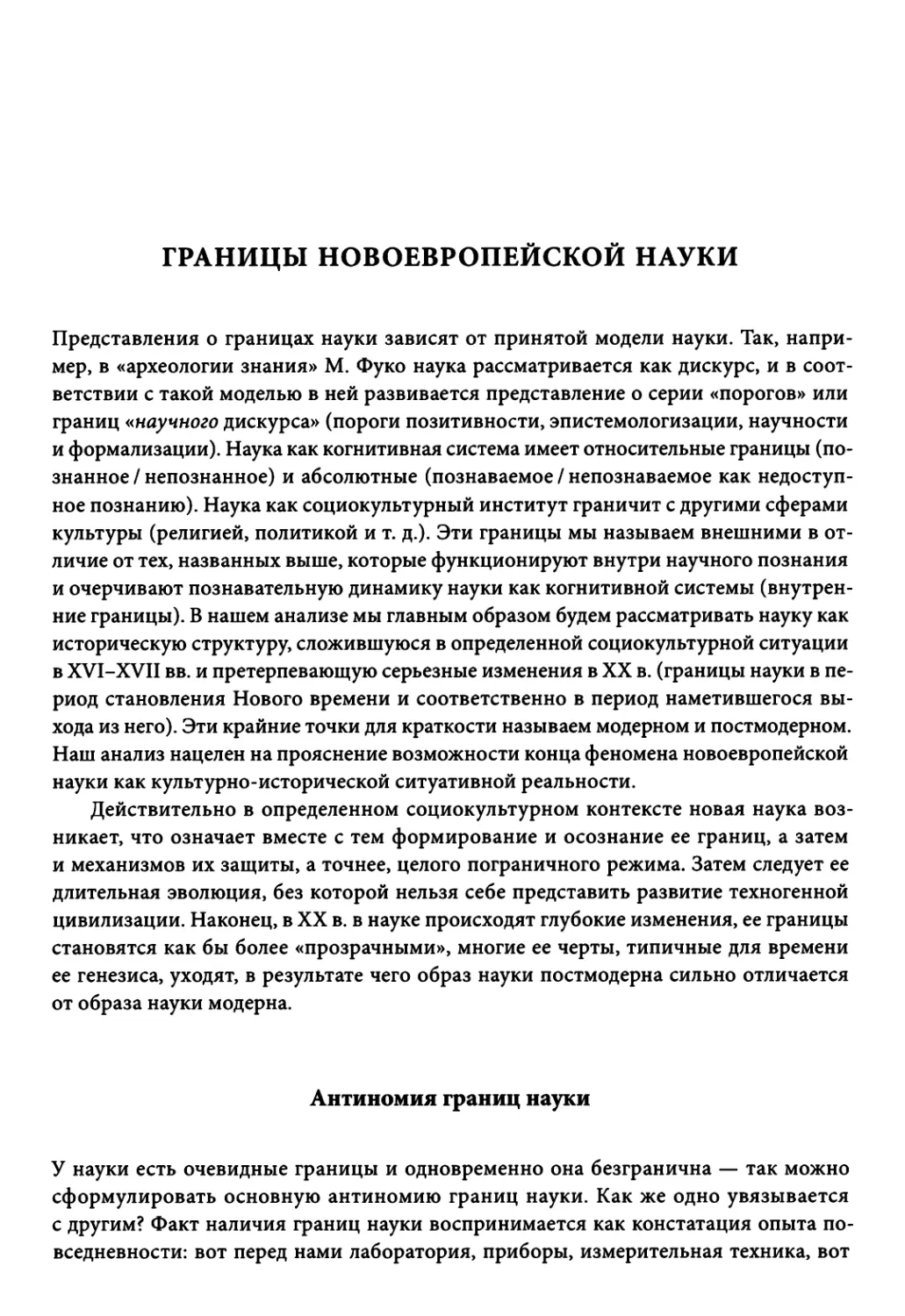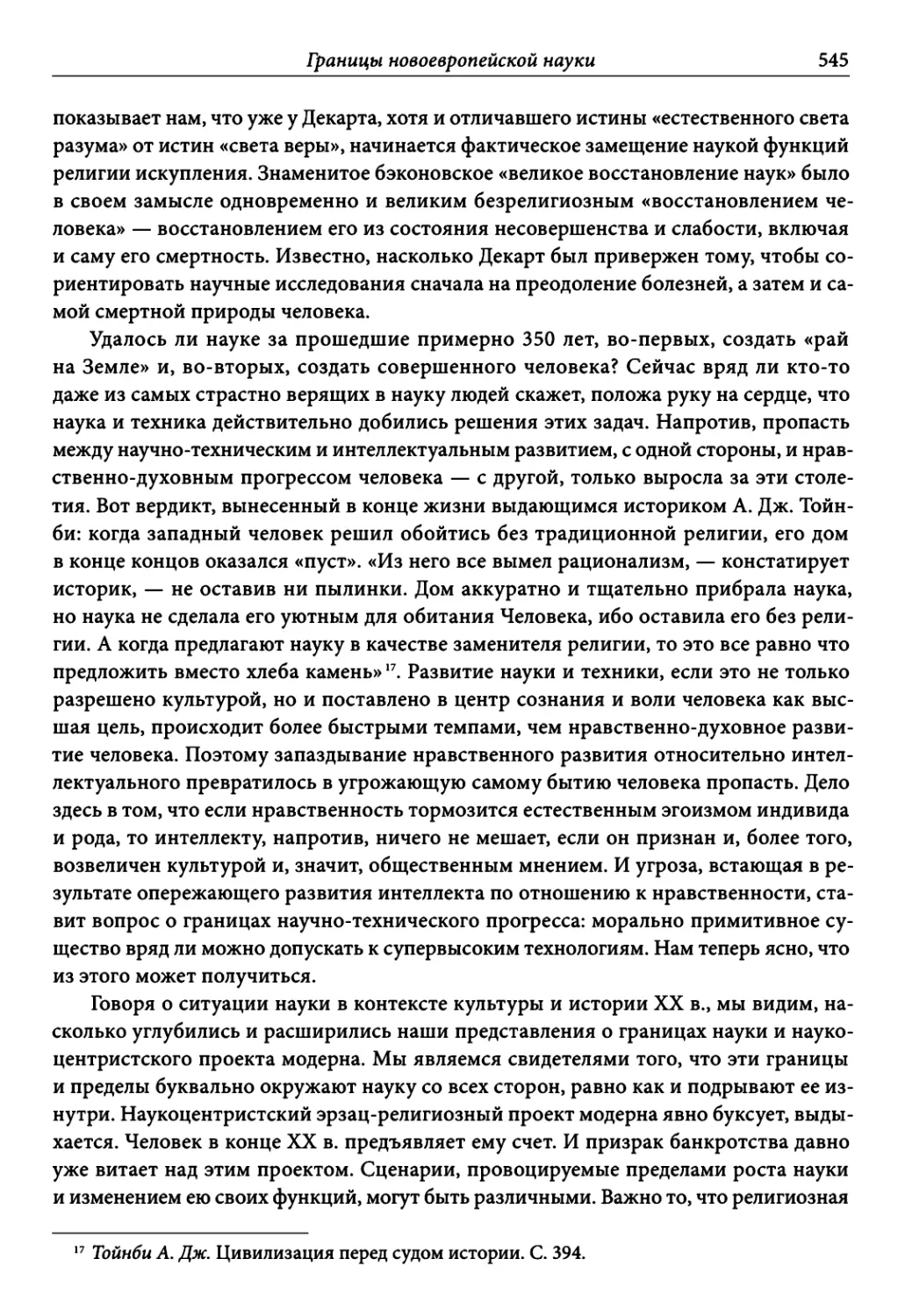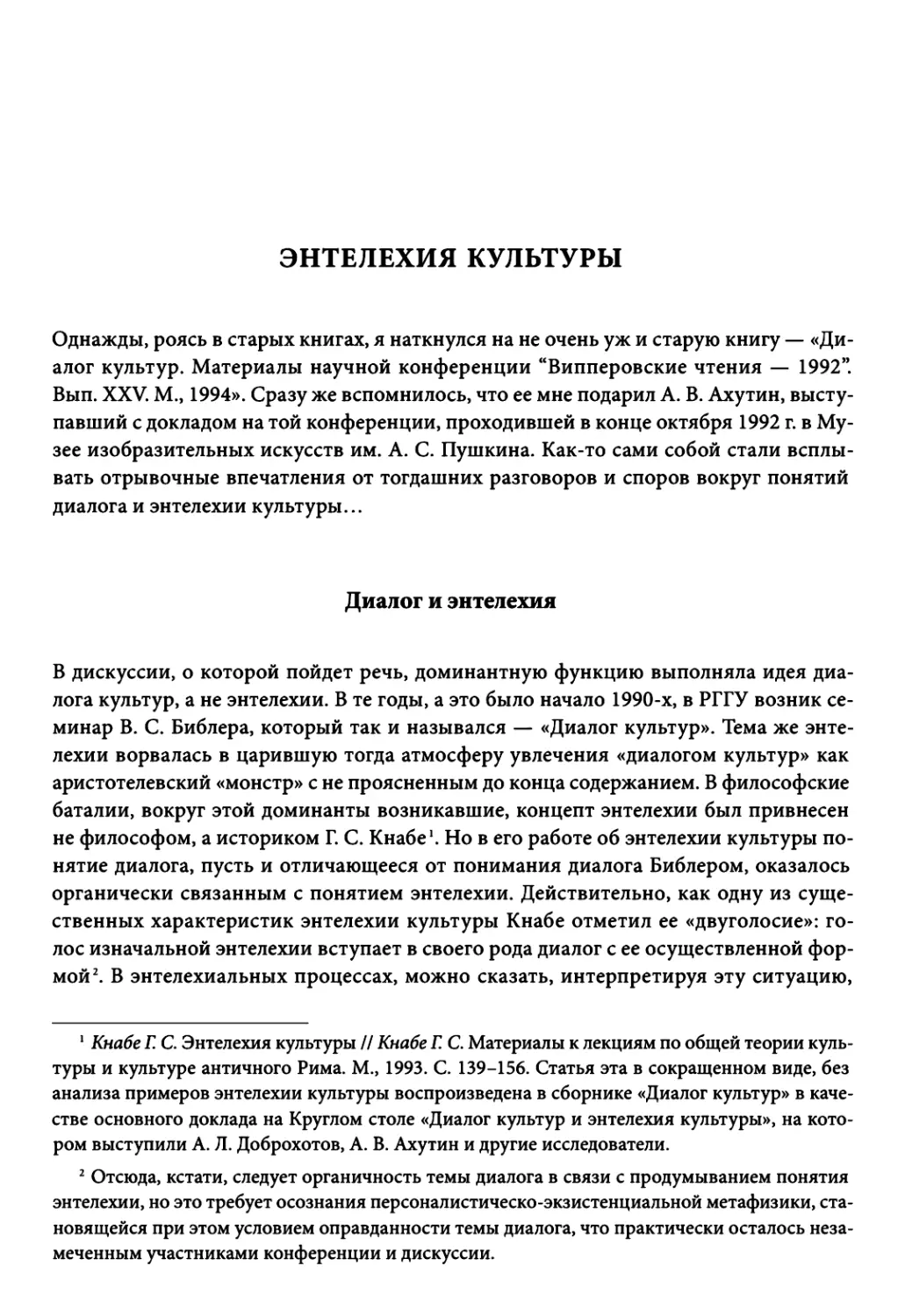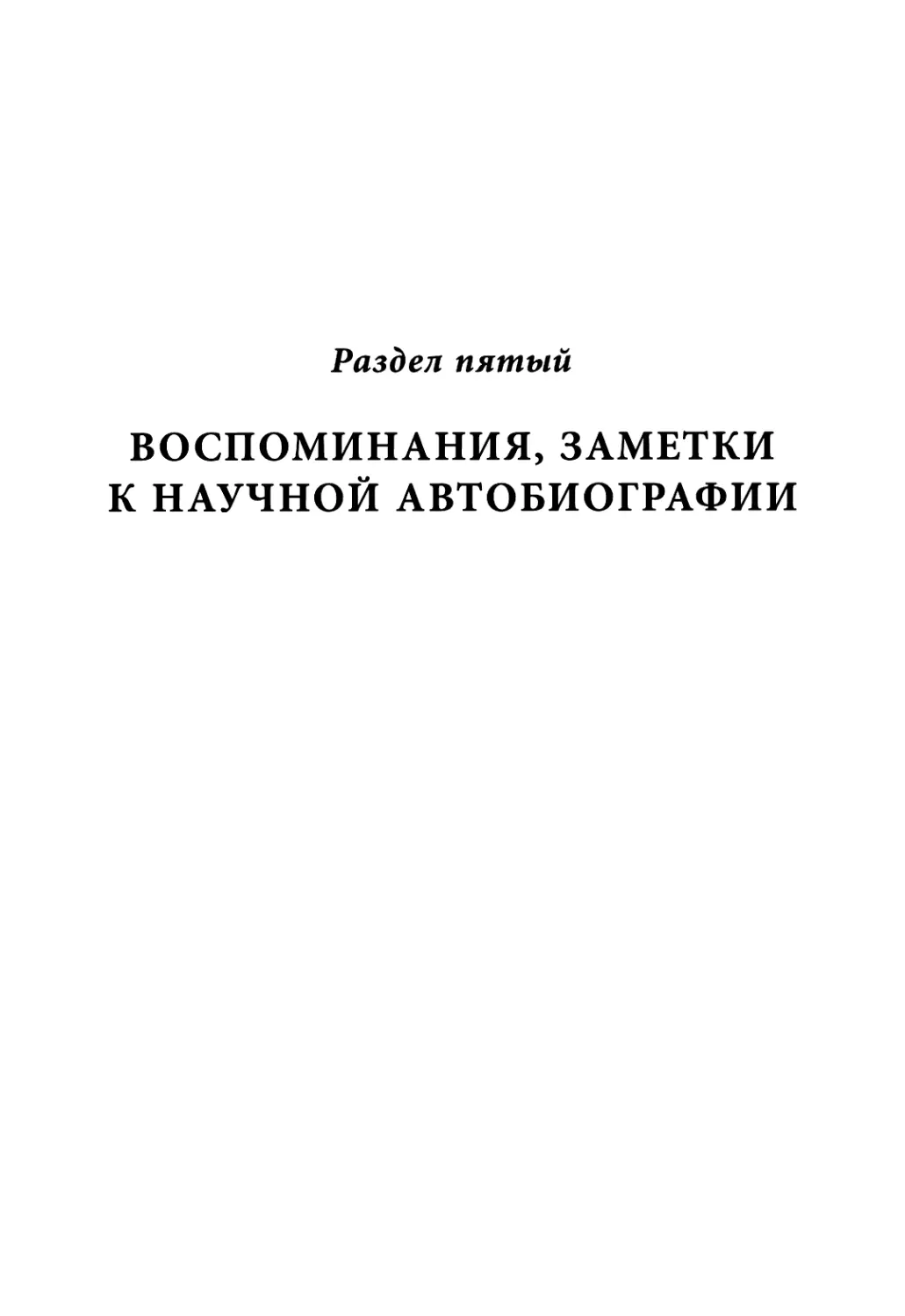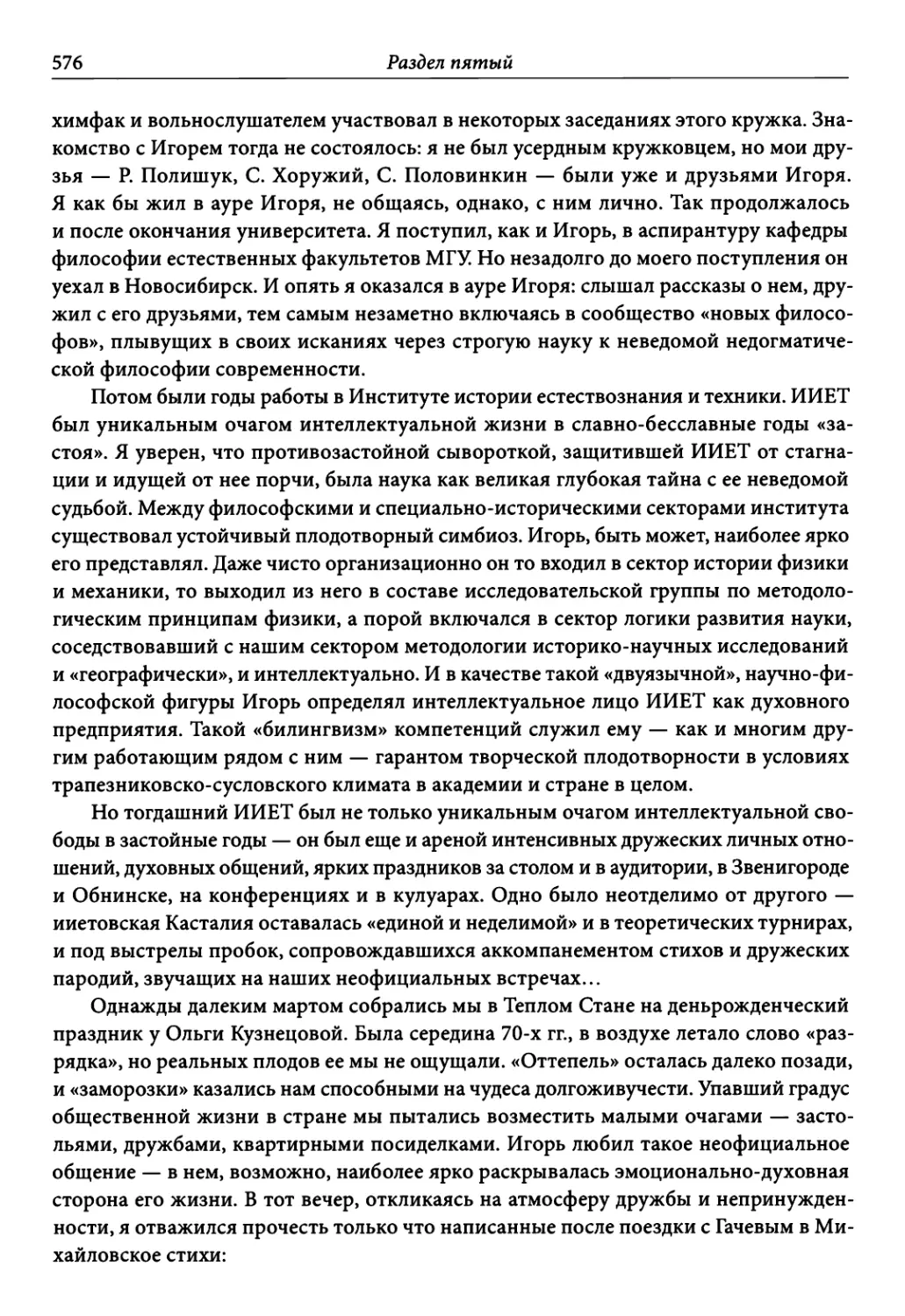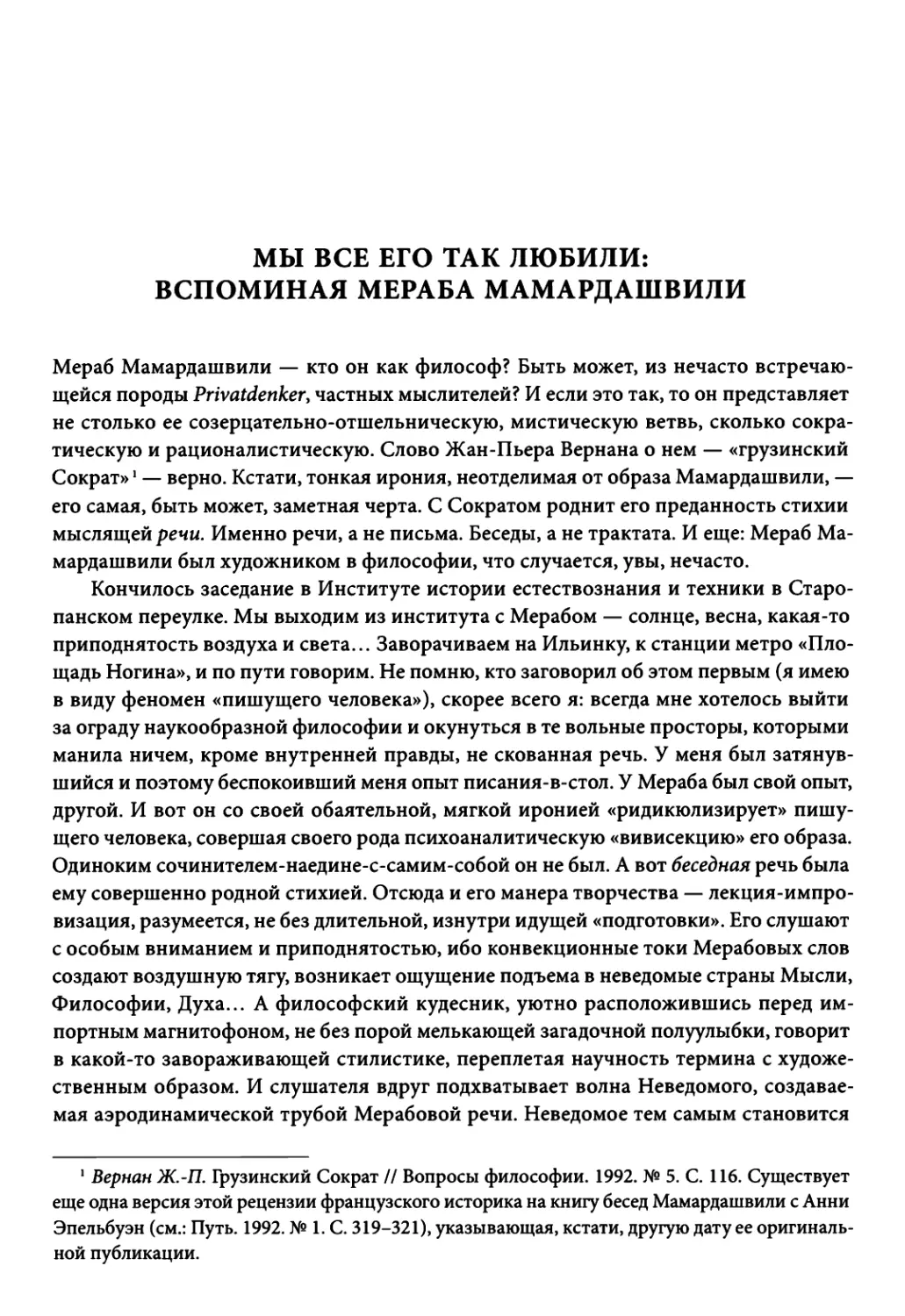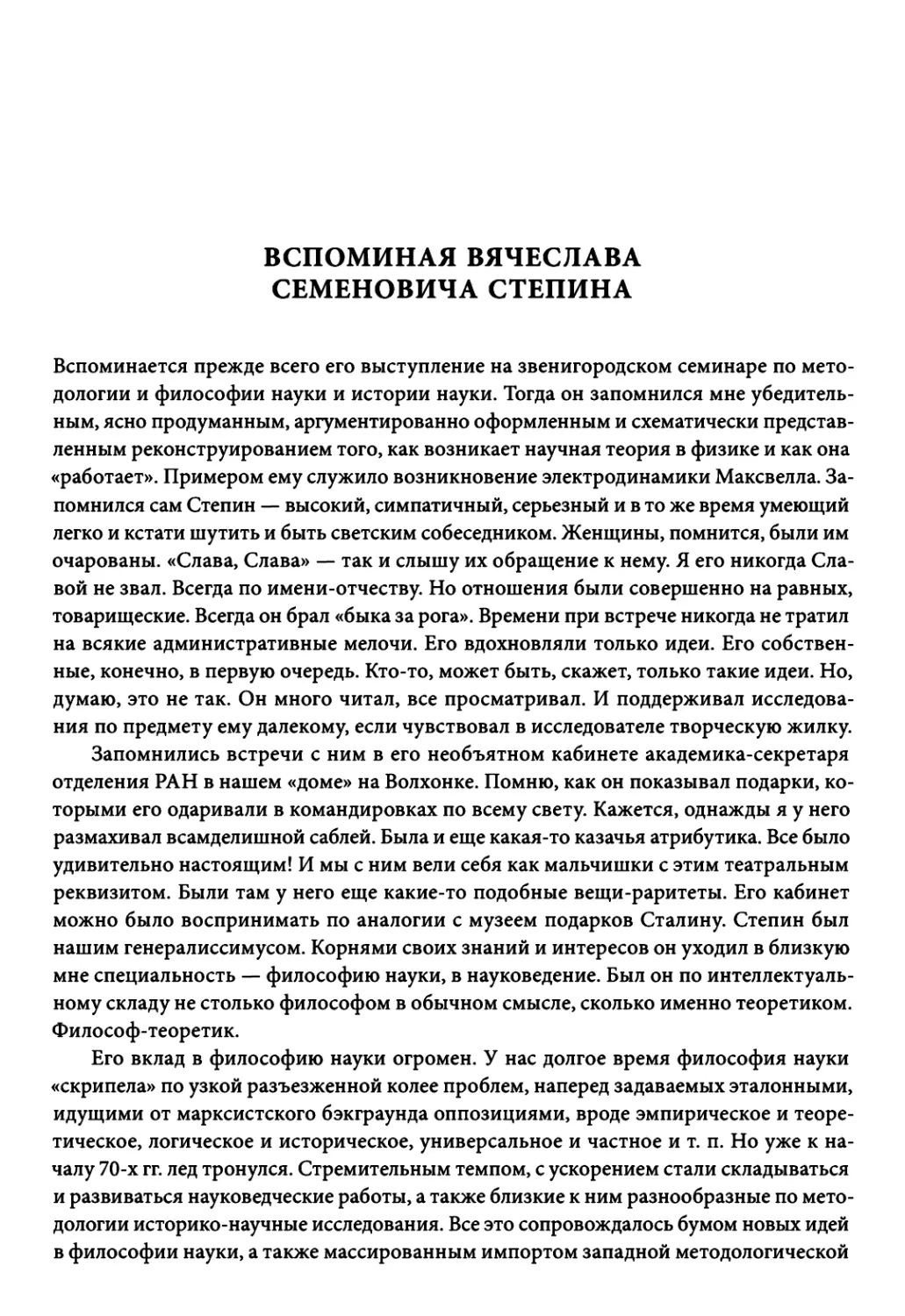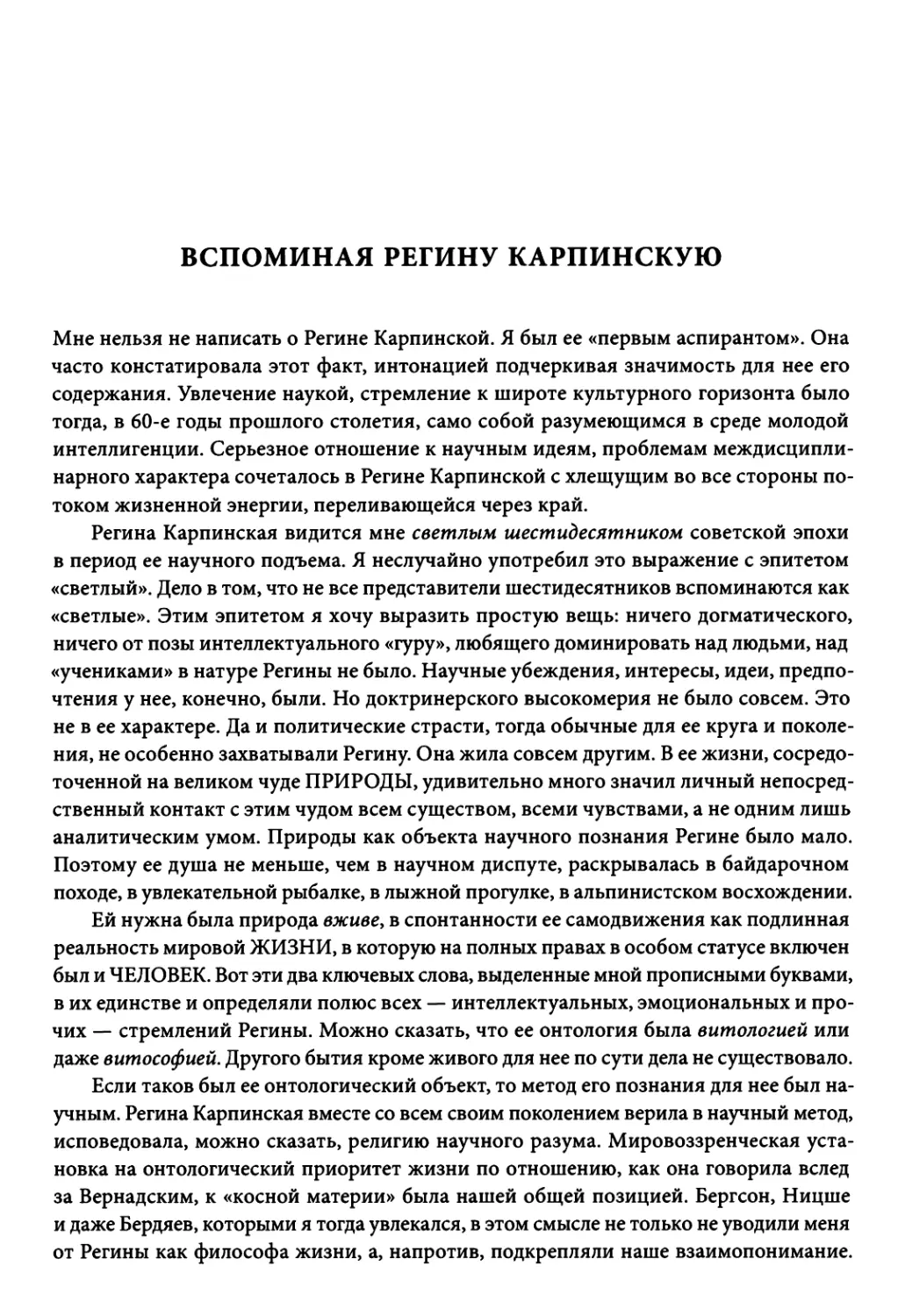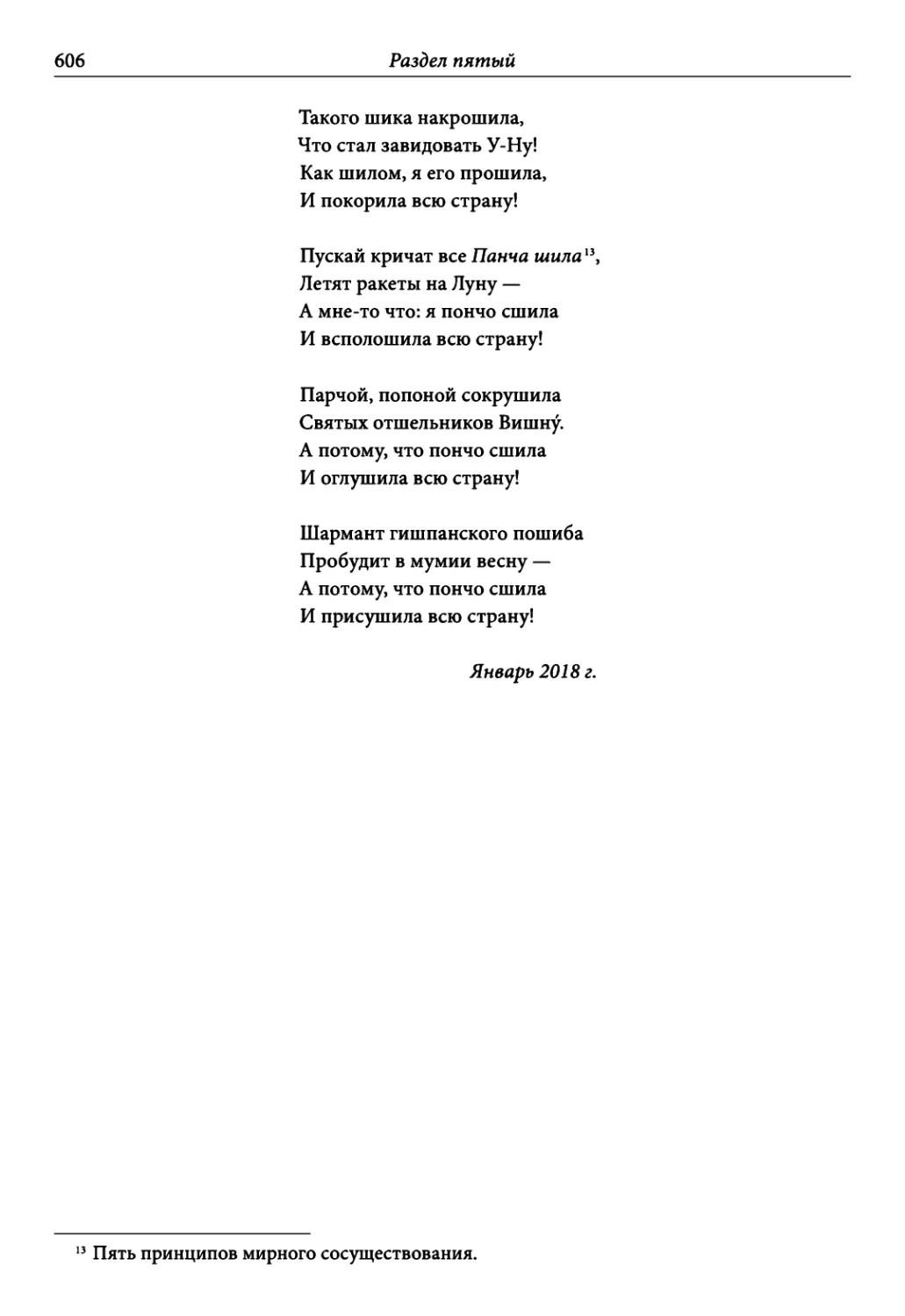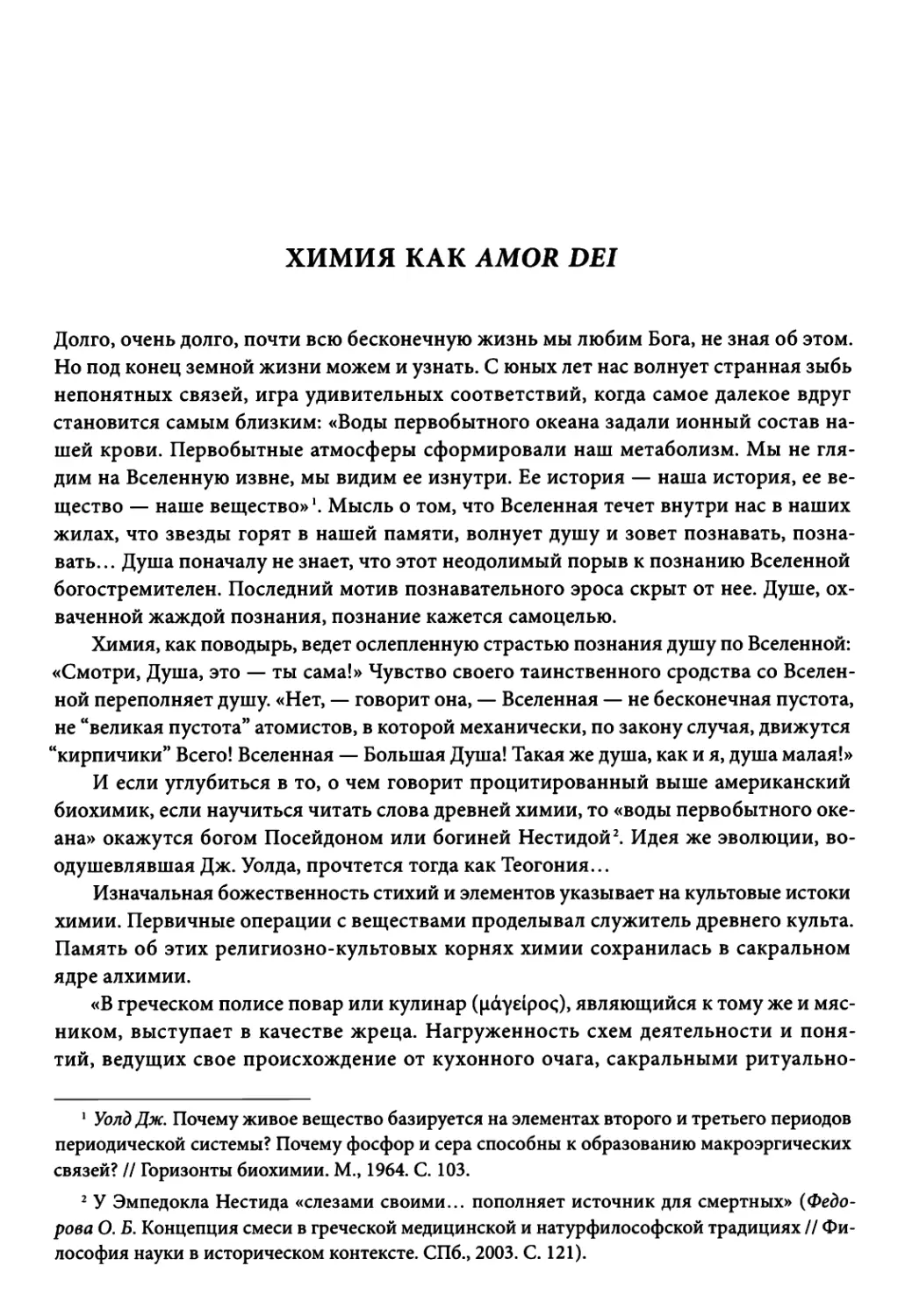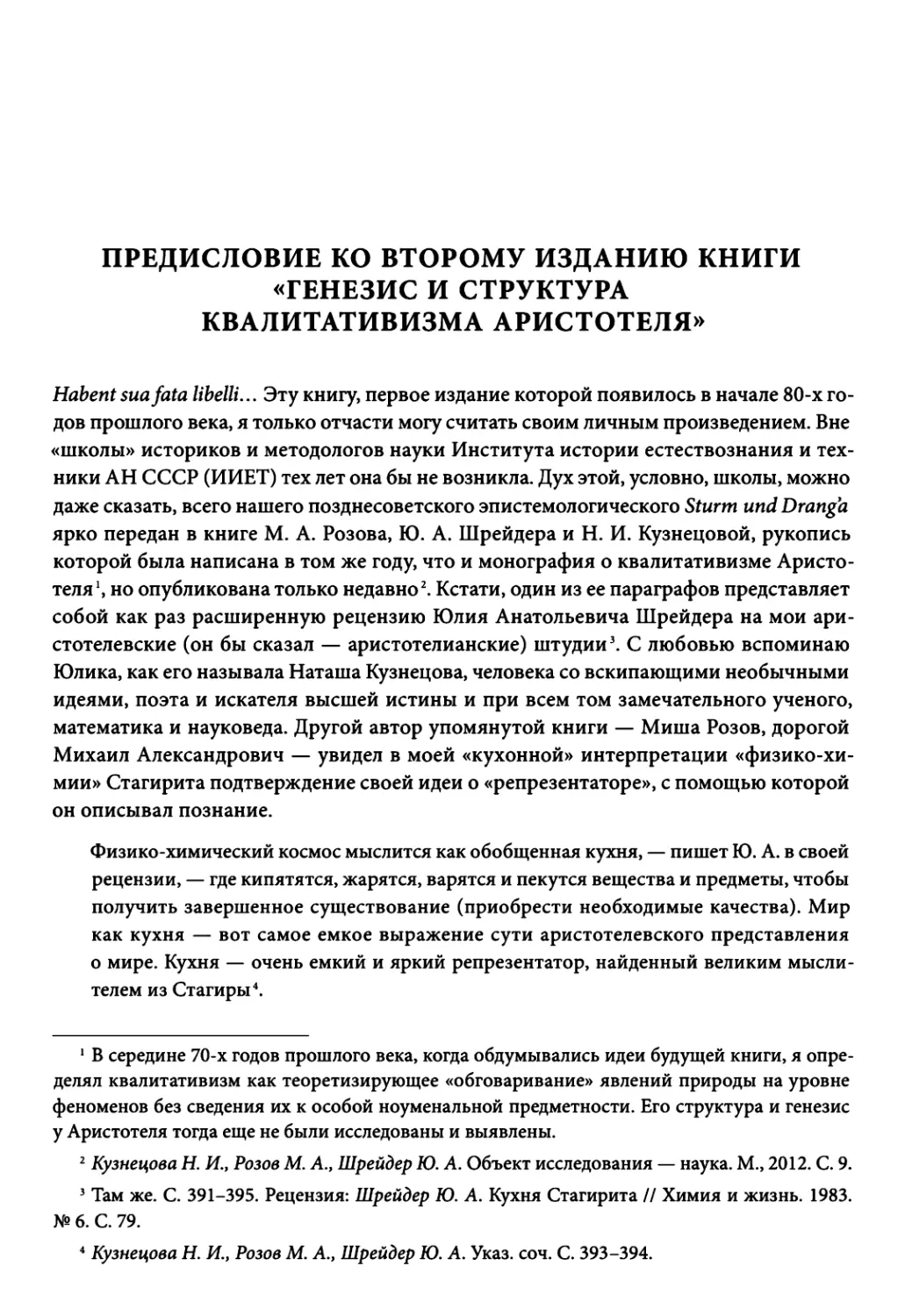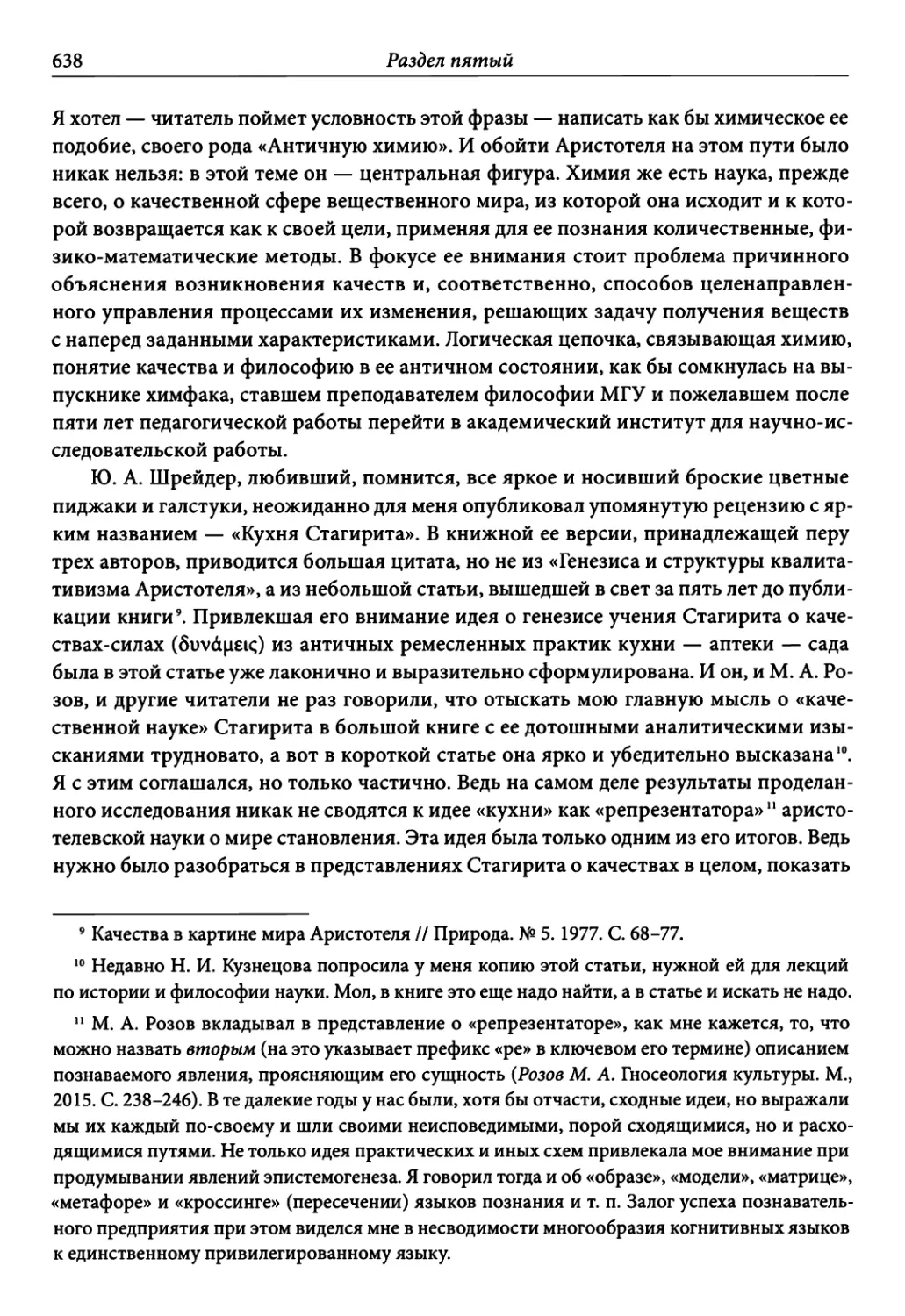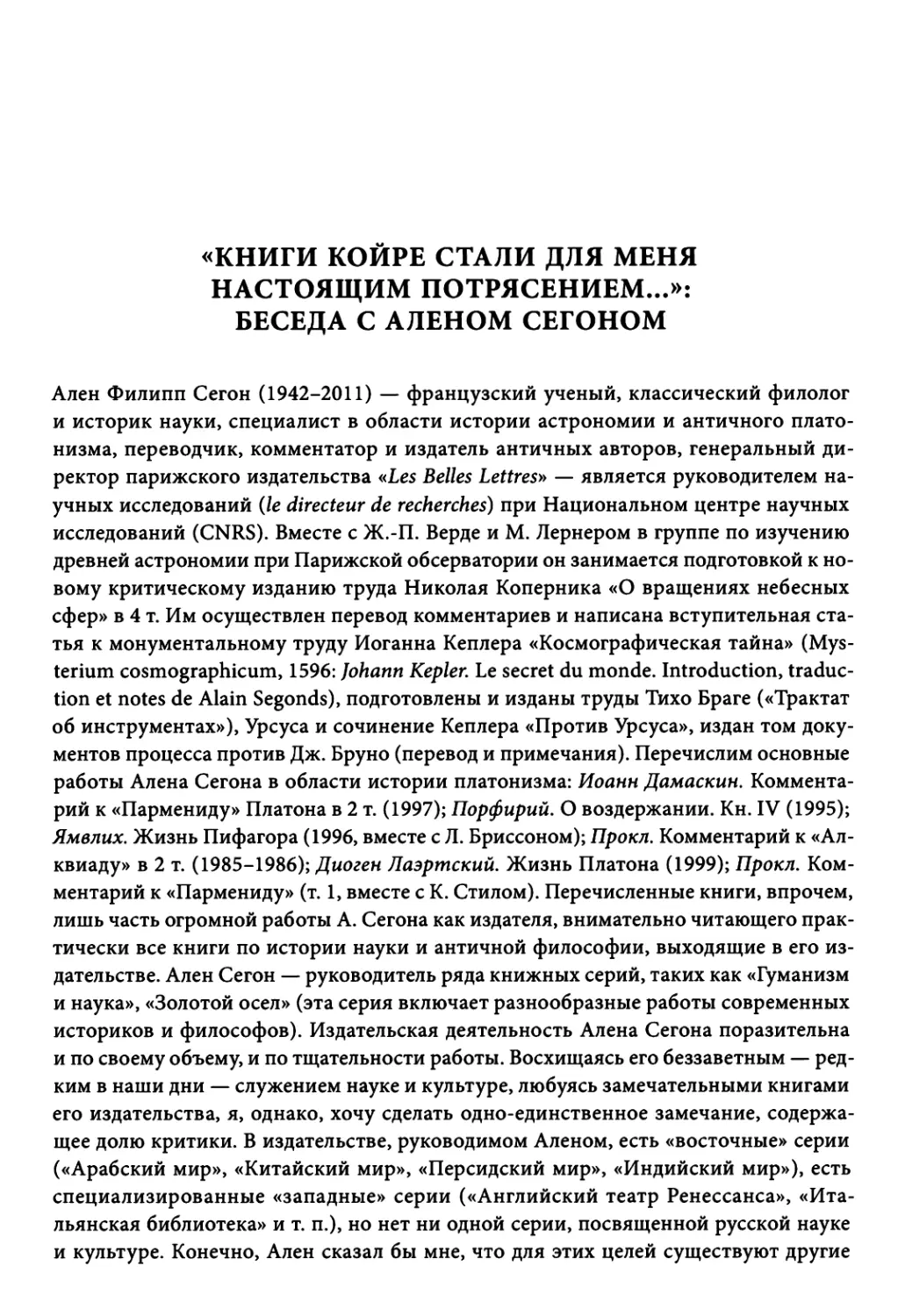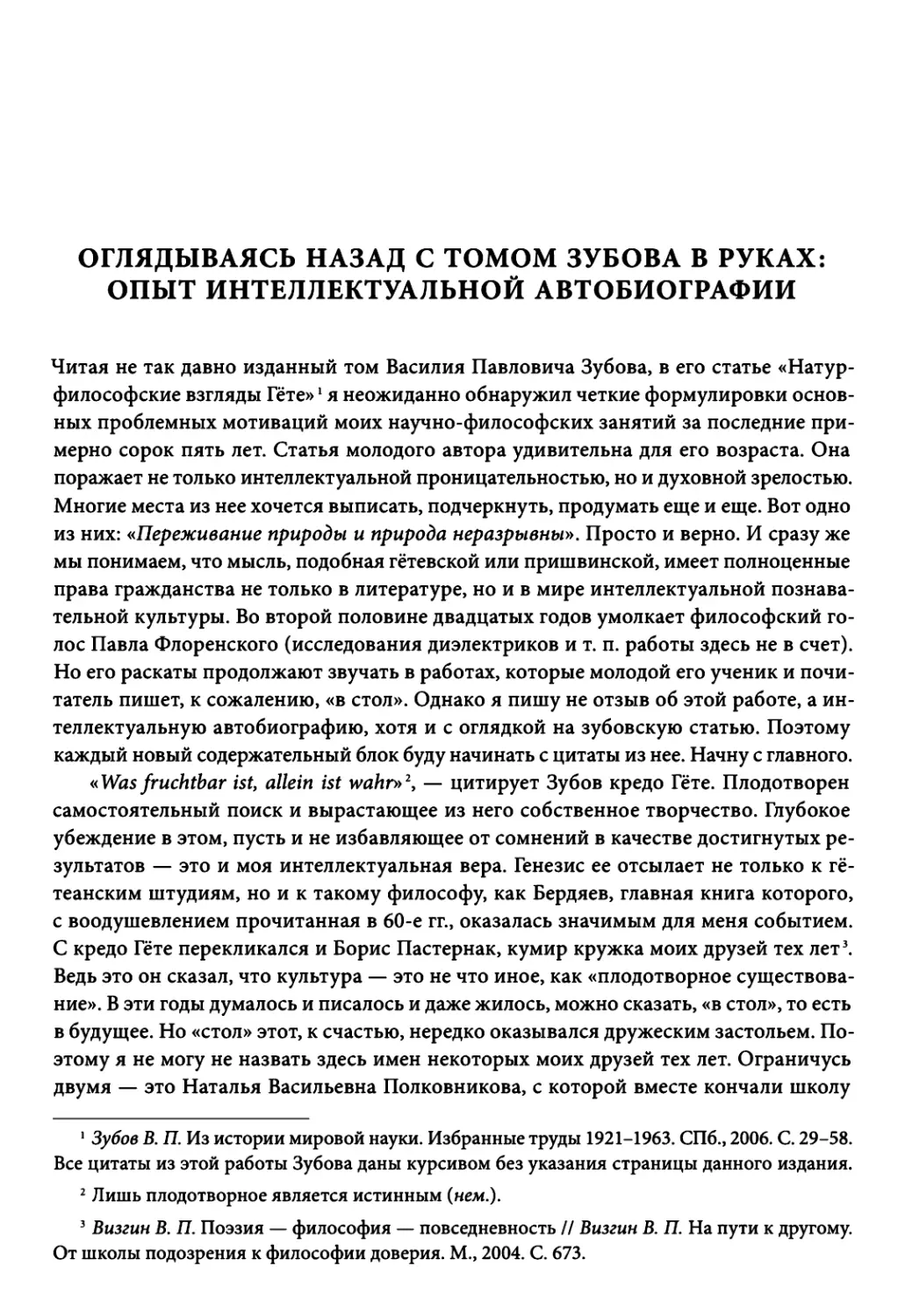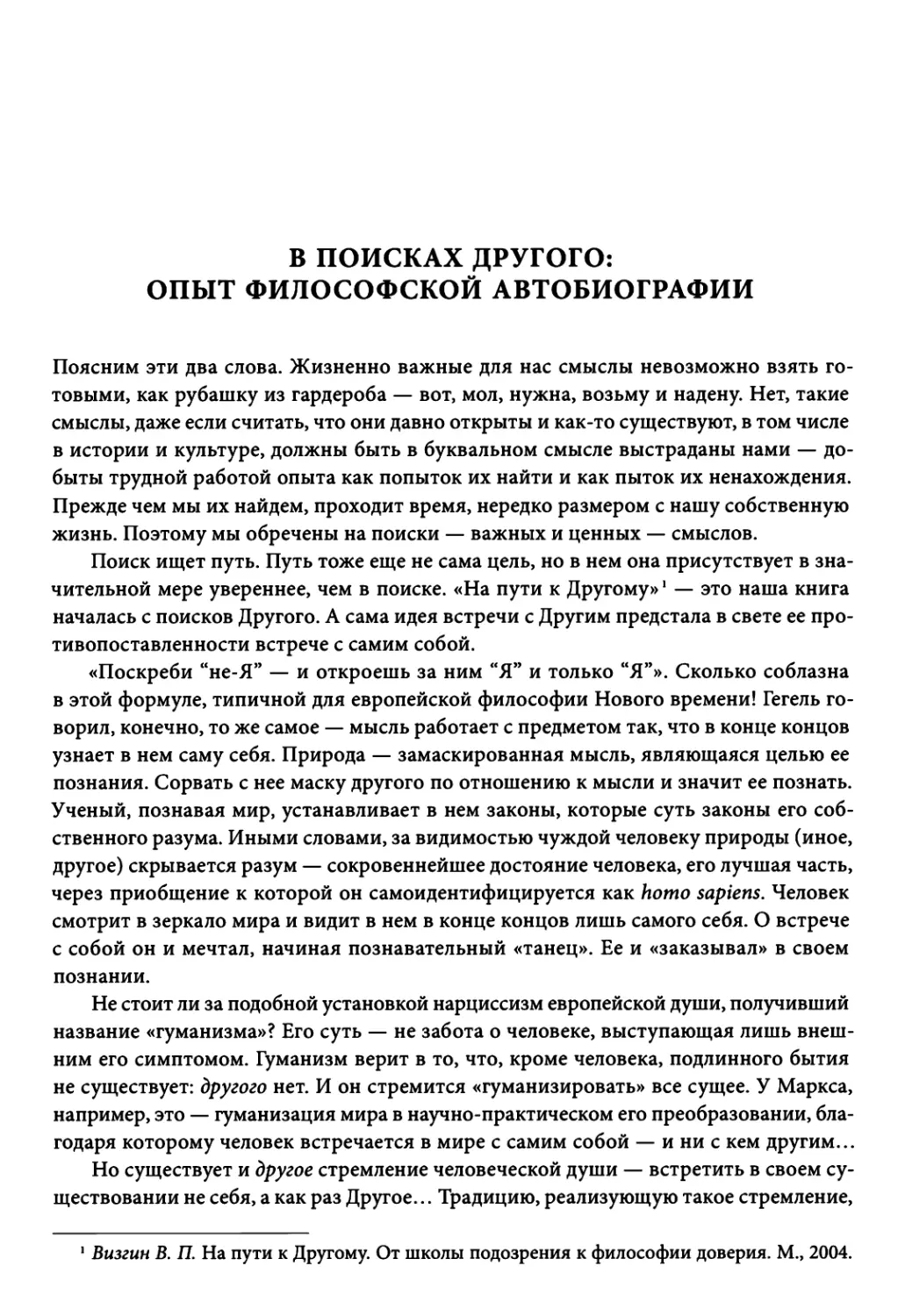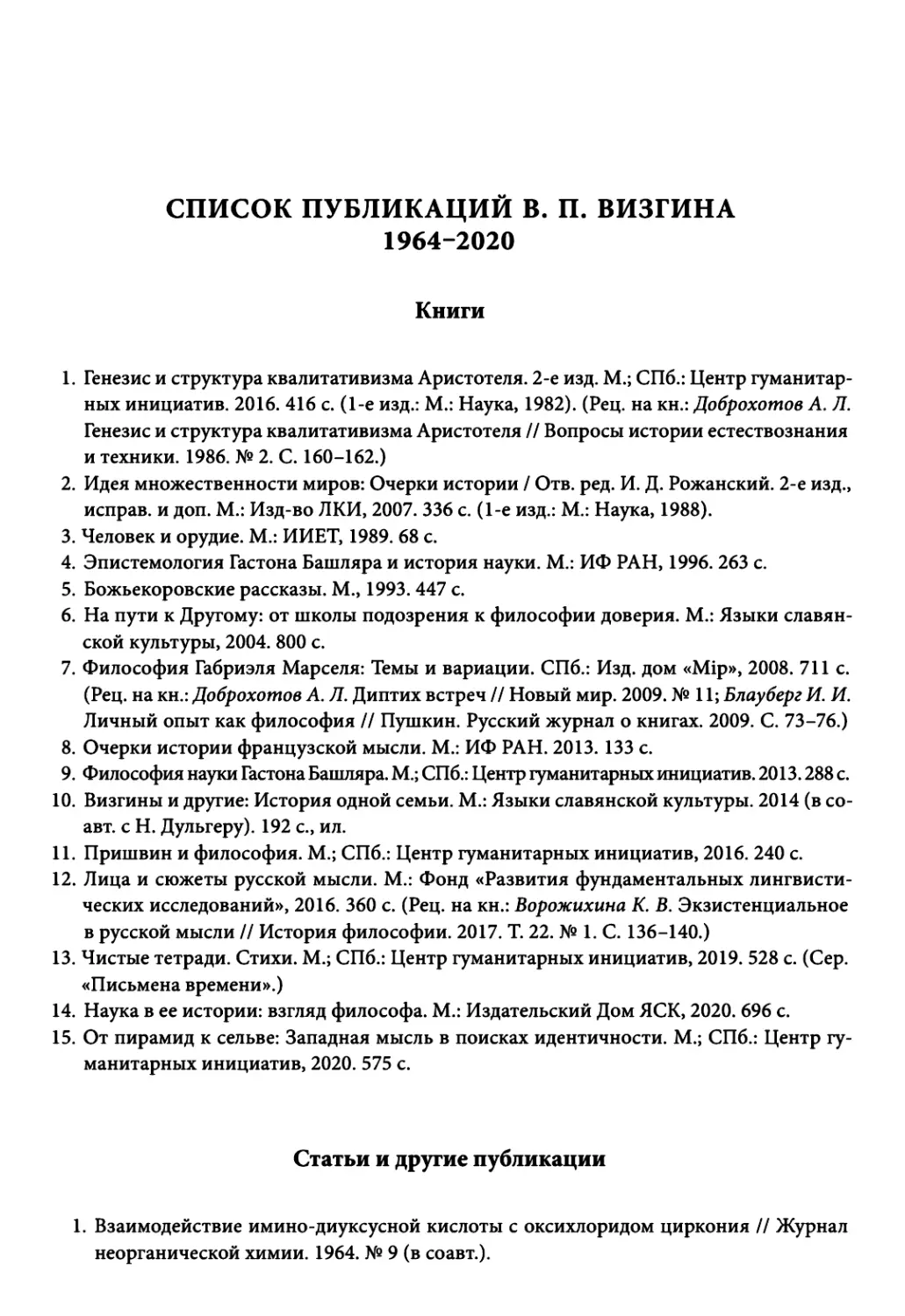Автор: Визгин В.П.
Теги: природа и роль философии история философии философия история науки
ISBN: 978-5-907290-21-1
Год: 2020
Текст
НАУКА В ЕЕ ИСТОРИИ
УДК 101.8
ББК 87.3
В 42
Визгин В. П.
В 42 Наука в ее истории: взгляд философа. — 2-е изд. — М.: Издательский Дом ЯСК,
2020. — 696 с.
ISBN 978-5-907290-21-1
В книге рассматриваются философские и методологические проблемы истории
науки. В их основу положены результаты многолетних исследований автора
категории качества в античности, а также идеи множественности миров и роли
герметического импульса в генезисе новоевропейской науки. Важное место уделено проблеме
интерпретации научно-философского текста, соотношению традиций и инноваций
в науке, значению социальных структур и культуры как факторов развития научного
знания. Последний раздел книги посвящен личным воспоминаниям об известных
советских и российских философах и ученых, занимавшихся методологией и
философией науки, с которыми автору посчастливилось вместе работать, и об
интеллектуальной атмосфере эпохи подъема отечественных исследований в области
методологии и философии науки и ее истории.
Книга предназначена для интересующихся историей и философией науки и
историей исследований ее философских и методологических проблем в нашей стране
в последние десятилетия XX века.
УДК 101.8
ББК 87.3
В оформлении переплета использована картина
Доменико Фетти «Архимед», 1620 г.
ISBN 978-5-907290-21-1
IIII I III II IIII III III III © в. п. визгин, 2020
9 V85907"290211 " > © Издательский Дом ЯСК, 2020
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 7
Раздел первый
Античная наука
У истоков античной науки 13
Проблема множественности миров в учении Анаксагора 17
Механика и античная атомистика 37
Взаимосвязь онтологии и физики в атомизме Демокрита 118
Качества в картине мира Аристотеля 130
Аристотелевская теория тяготения: качественный подход 142
К проблеме генезиса учения Аристотеля о δυνάμεις (Meteor. IV) 153
«Метеорология» Аристотеля и современная наука 162
К анализу квалитативистского типа рациональности: случай Аристотеля 167
Бесконечное в мышлении греков: еще раз об одной известной проблеме 178
Раздел второй
Герметическая традиция и генезис науки
Религия — наука — эзотерическая традиция: инверсия соотношения 189
Эксперимент и чудо: религиозно-теологический фактор генезиса науки
Нового времени 210
Герметический импульс формирования новоевропейской науки:
историографический контекст 234
Герметическая традиция и научная революция: к новой интерпретации тезиса
Френсис А. Йейтс 259
Эзотерика и наука: эффект резонанса 266
Раздел третий
Научная рациональность и эпистемология
Становление научной рациональности в химии 281
Нестандартные формы знания в истории науки: квалитативизм,
плюралистическая космология, герметизм 311
6
Содержание
Научный текст и его интерпретация 335
Традиция и инновация: взгляд историка науки 347
История и метаистория 364
Проблема времени: синергетический подход 382
Археология знания Мишеля Фуко 391
«Генеалогия знания» Фуко как программа анализа научного знания 411
Последний Звенигород: рациональность под прицелом 426
Раздел четвертый
Научный разум в контексте культуры
Истина и ценность 449
Культура — знание — наука 464
Наука — культура — общество 478
Наука и культура: размышления о их взаимосвязи 491
Вернер Гейзенберг о соотношении искусства и науки 503
Границы новоевропейской науки 525
Энтелехия культуры 553
Раздел пятый
Воспоминания, заметки к научной автобиографии
Игорь Алексеев, каким я его помню 575
Мы все его так любили: вспоминая Мераба Мамардашвили 581
Вспоминая Вячеслава Семеновича Степина 593
Иван Дмитриевич Рожанский (30.09.1913-25.08.1994) 595
Вспоминая Регину Карпинскую 597
Химия как amor Dei 607
Предисловие ко второму изданию книги «Генезис и структура квалитативизма
Аристотеля» 635
«Книги Койре стали для меня настоящим потрясением...»: Беседа с Аленом
Сегоном 642
Оглядываясь назад с томом Зубова в руках: Опыт интеллектуальной
автобиографии 659
В поисках Другого: опыт философской автобиографии 667
Список публикаций В. П. Визгина 1964-2020 679
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга складывалась постепенно, отдельными журнальными статьями,
заметками и публикациями в сборниках, создававшимися в годы отечественного «штурма
и натиска» в истории, философии и методологии науки. Речь идет главным
образом о 70-90-х годах XX века. Ее автору посчастливилось тесно общаться,
сотрудничать и вместе работать в разных «форматах», включая неформальные, с такими
яркими фигурами той эпохи, как М. К. Мамардашвили, В. С. Библер, Р. С. Карпинская,
И. Д. Рожанский, В. И. Кузнецов, М. А. Розов, Η. Ф. Овчинников, И. С. Алексеев,
П. П. Гайденко... Это только некоторые имена известных ученых, историков науки
и философов, непосредственно занимавшихся методологией и философией науки,
в том числе фундаментальными проблемами естествознания и его истории, с
исследования которых и начиналась научно-философская деятельность автора этой
книги. Последний, пятый, раздел книги посвящен как раз личным воспоминаниям
об этих выдающихся ученых и тех идеях, которые волновали их и автора этой книги,
считающего себя не только их коллегой, но, в некоторых отношениях, и учеником.
Что же касается остальных разделов книги, то их содержание определяется
доминантными темами, попадавшими в фокус исследовательского интереса автора,
начиная с оппозиции античной атомистики и качественного типа рациональности,
представленного физикой Аристотеля. Накопленный ранее опыт историко-научных
и историко-философских исследований конкретных проблем (проблемы качества
у Аристотеля, проблемы множественности миров и вклада герметизма в научную
революцию) подвергается здесь методологической рефлексии. Извлечение уроков
из проделанных исторических исследований позволило сделать
теоретико-методологические выводы, составившие основу собственно эпистемологических разделов
книги. Таким образом, исторический ракурс проблематики книги органически
дополняется теоретико-методологическим с его вопрошанием о структуре научной
рациональности, ее исторической динамике и типах. Важное место здесь занимают
такие сюжеты, как проблема интерпретации научно-философского текста, а также
соотношение традиций и инноваций в науке, значение социальных структур и
культуры как факторов развития научного знания. Кроме того, в этих разделах
анализируются некоторые новые в те годы течения в эпистемологии, в частности
структурализм и постструктурализм, остающиеся значимыми и сегодня.
Итак, в собранных в этих разделах работах звучат уже собственно
эпистемологические и методологические отклики на результаты уже проделанных ранее
исследований истории познания. При такой общей содержательной структуре книги
8
Предисловие
повторов крайне трудно избежать. Только когда материал буквально дублировался
в разных статьях, автор не включал их в книгу. Не были (за одним исключением)
включены в книгу и те статьи, которые уже публиковались не в журналах и
сборниках, а в уже вышедших монографиях автора.
Современному читателю будет, пожалуй, уместно напомнить, что теоретической
основой дискуссий по истории, методологии и философии науки в те годы была де-
ятельностная концепция творчества и развития науки. Корни ее лежали в
классическом немецком идеализме и философии Маркса. При этом никакого идеологического
догматизма среди исследователей, вовлеченных в это «кооперативно»
осуществлявшееся познание науки, не было. Напротив, присутствовала питающая творческие
возможности каждого открытость ко всем «веяниям», которые в то время были у нас
и на Западе и казались интересными и продуктивными. Максимум
исследовательской свободы от идеологических шор сравнительно с другими направлениями
тогдашней советской философии был именно в истории и методологии науки.
Вспоминая дискуссии вокруг темы рациональности и истории, которые велись
у нас в 70-х — начале 90-х годов прошлого века, понимаешь их актуальность. Да,
сегодня некоторые ее аспекты выходят на новый уровень, появляются иные, чем
прежде, ракурсы ее анализа. Но такие проблемы, как рациональность и культура,
рациональность и традиция, рациональность и ее границы, рациональность и язык,
остаются в исследовательской повестке и сегодня.
Память — начало динамическое и творческое, устремленное в будущее. Бытие
не материя, бытие — время. А потому бытие — память. Философы пришли к
ясному пониманию этого не сразу. Порой кажется, что вся философия, и не только она,
но и наука, шла к этому с самого начала своей истории. В прошлом эту мысль с
особенной силой, глубиной и определенностью формулировали такие в целом несхожие
между собой философы, как Гераклит, Бергсон и Хайдеггер. Если теперь от
философии перебросить взгляд на собственно науку, то в ней и околонаучном
методологическом и идеологическом пространстве, ее сопровождающем и поддерживающем,
эта идея стала доминировать с тех пор, как в центр исследовательской повестки дня
вышла синергетическая идея во всех ее видах.
Человек, видимо, то существо, которое особенно чутко чувствует бытийную
природу времени (или темпоральную природу бытия). Материальный мир вещественных
форм предстает для него «покрывалом» времени. Именно только само время,
скрываясь за вещами, наполняющими пространство и отсылающими на первый взгляд
лишь к «материи», которую до открытия метафизического приоритета времени
предполагали определяющей свойства и взаимодействия вещей, ставит нас лицом к лицу
с тайной существования как такового, преломленного сквозь собственное бытие
человека, его «экзистенцию», Dasein.
Эта книга по сути дела именно об этом, о том недолгом времени
интеллектуального натиска размером примерно с тридцать — сорок лет, отзвучавшем в
последней трети прошлого века. И возникала она в те годы плодотворных поисков
в истории и методологии науки, о которых в последнее время появилось уже немало
Предисловие
9
воспоминаний и даже исследований. Кстати, лучшие мемуары, написанные
мыслителями русского Серебряного века, принадлежат, на мой взгляд, Федору Степуну.
Называются они «Бывшее и несбывшееся». Так вот, в упомянутом подъеме
отечественной истории, методологии и философии науки роль скрытого генератора
интуиции и идей принадлежала, так же как у Степуна, «несбывшемуся». Внутри
времени всегда есть «сверхвремя», которое никогда до конца не реализуется. Если бы
время в своем «натиске» реализовывало бы себя всегда до конца, «до упора», то оно
остановилось бы в своем «беге», без которого нет самого времени как такового. Так
и в пережитом нашим поколением времени была некая недостигнутая до конца цель,
несбывшаяся полностью мечта, греза о каком-то необыкновенном прорыве как в
познании природы, так и в познании природы самого познания. Случилось то, что
случается всегда: время сменило свой «дух», стиль, «окраску», став другим. Возникли
другие, не ожидавшиеся нами «целостности» и «дробности», сменившие пейзаж
прежней интеллектуальной жизни. В глубине времени как бы дремлет очередная
«сингулярность». В одной из самых известных своих картин Репин отсылает зрителя
к художественному образу такой подремывающей сингулярности («Не ждали»).
Напрасно пытаемся мы исчерпать и «заклясть» эмерджентность времени, его вспышки,
дискретные «выбросы», «возвраты» и «повороты» постфактуальной линейностью
и непрерывностью. В цепи якобы континуальных причинно-следственных цепочек,
ведущих к изменениям, нам никогда не разобраться до конца. Подобная
линеаризация того, что в принципе нелинейно, нереализуема в своей полноте. Такова уж
природа времени. И бытия. Можно сказать, что у нас нет по-настоящему соразмерного
времени другого предмета познания. Все, что мы узнаём и познаём, всегда отсылает
в конце концов ко времени. И только к нему. Поэтому правыми оказываются такие
философы, как Гераклит, Бергсон и Хайдеггер. А «неподвижное солнце Любви»,
которое при этом невозможно отрицать, потому и неподвижно и вечно, что
запредельно этому миру.
Дыхание времени читатель ощутит и в этой книге. Ведь в нее помещены тексты,
написанные как в начале 70-х годов XX века, так и в прошлом году. Все они заново
считаны, слегка отредактированы, некоторые сокращены. Но в целом остались в
таком виде, в каком были созданы в то, далекое уже, время. Пусть взгляды их автора
претерпели изменения. Но подверстывать под них эти тексты я не стал. Только слегка
облегчил их понимание для современного читателя.
Хочу выразить признательность за поддержку и стимулирование моей работы
чл.-корр. РАН П. П. Гайденко, директору Института философии академику РАН
А. В. Смирнову, а также уже ушедшим из жизни коллегам и друзьям, о которых
читатель прочтет в этой книге.
Февраль 2020 г.
Раздел первый
АНТИЧНАЯ НАУКА
У ИСТОКОВ АНТИЧНОЙ НАУКИ'
Несомненным достоинством монографии И. Д. Рожанского является сочетание
историко-научного анализа с историко-филологическим методом реконструкции
текстов античных комментаторов и оригинальных фрагментов философа из Клазо-
мен. Проделанная автором критическая работа по анализу имеющихся уже
переводов сохранившихся фрагментов привела к уточнению и исправлению ряда текстов,
что является важным для понимания как отдельных моментов учения Анаксагора,
так и его взглядов в целом.
Основная задача автора состояла в изображении системы философско-физиче-
ских воззрений Анаксагора, в изучении их формирования и эволюции. Используя
как собственные исследования, так и труды предшественников, посвященные
изучению наследия Анаксагора, И. Д. Рожанский выясняет ряд спорных моментов. Так,
например, благодаря его работе мы теперь по-новому представляем себе связи
Анаксагора и древних атомистов. Автор книги убедительно развивает гипотезу, согласно
которой Анаксагор завершил разработку своей теории строения вещества,
использовав раннюю атомистику Левкиппа.
По своему жанру рецензируемая книга ближе всего примыкает к
многочисленным историко-научным исследованиям, посвященным «драмам идей». Однако
историческая реконструкция учения Анаксагора дополняется в ней раскрытием образа
личности мыслителя, анализом связанных с ним легенд. Органической частью книги
являются приложения, содержащие собрание текстов источников, относящихся и
посвященных Анаксагору, заново отредактированных и частично переведенных
автором. Те вновь вводимые автором источники, которых нет в классическом собрании
Дильса, отмечены звездочкой. Книгу завершает подробная библиография.
Обратимся к рассмотрению некоторых общих вопросов, поставленных в книге
Рожанского о древнем философе. Античная мысль ценна для нас прежде всего
раскрытием способов постановки проблемы научного познания, установлением
возможных приемов рационального отношения к бытию. С начала своего
формирования в рамках милетской натурфилософии античная мысль знала по существу
одну-единственную проблему: как возможно мыслить бытие как космос? Как
видимый мир с его многоразличием вещей и процессов сочетается в гармонически
взаимосвязное, непрерывно самоподдерживающееся, прекрасное и совершенно
* Рецензия на книгу: Рожанский И. Д. Анаксагор (У истоков античной науки). М.: Наука,
1972.
14
Раздел первый
целое — космос? Основу познавательного отношения к миру ранней греческой
мысли составляло исходное для греков постижение природы (ή φύσις) как
активной порождающей вещественной стихии, как природы творящей (ср. natura naturans
Спинозы). Поэтому всех греческих философов до софистов и Сократа Аристотель
называет «фисиологами» или физиками1. Подчеркнем, что такое исключительно
космологическое — точнее, «фисиологическое» — мышление является
изначальной формой для всей последующей научно-философской традиции. Однако после
софистов и Сократа греческая мысль, делая достаточно крутой вираж,
вырабатывает основы для логически универсального, отвлеченно категориального подхода
к миру. Такой подход предполагает не только специальные научно-философские
понятия (сущность и явление, причина и действие, количество и качество и т. п.),
но, что не менее важно, методы и приемы внутрилогической рефлексии
диалектической мысли, базирующиеся на них.
На пересечении этих направлений греческой мысли, натурфилософии и
диалектической онтологии эйдосов (идей), находится анаксагоровское понятие нуса.
Историки и философы до сих пор не нашли какой-либо однозначной
интерпретации понятия «нус». Рожанский вводит нас в эту непрекращающуюся полемику,
раскрывая глубокое своеобразие анаксагоровской мысли, послужившее, несомненно,
одной из причин этого векового спора. Действительно, что же такое на самом деле
нус* Во всяком случае у Анаксагора это внутрикосмический организующий и
движущий фактор мирообразования и, одновременно, наделенная активностью
закономерность самой природы. Нус, в конце концов, подобно логосу Гераклита, есть
имманентное космосу начало самоорганизации космического бытия2. Поэтому
реконструкцию анаксагоровой мысли в целом следует начинать не с его учения о нусе,
а, напротив, с учения об элементах как «семенах», с его физики во всем ее объеме.
Только в таком случае учение о нусе приобретает конкретно значимое,
функционально-расчлененное, конкретизируемое в составе космического бытия
содержание. Этому соответствует развитие представлений самого Анаксагора: сначала он
формулирует физические основы своей космогонии, включавшие его теорию
материи, а уже затем, говорит автор книги,«наподобие козырного туза бросает в игру нус,
указывая тем самым на скрытую пружину всего происходящего»3.
Рожанский находит яркие, выразительные формулировки для «домашнего»,
обозримо-человеческого космоса Анаксагора: «Небесные светила у него имели
земное происхождение, они были где-то недалеко и подвергались воздействию воздуха;
звезды были простыми камнями и могли от сотрясения низвергнуться вниз; Луна
имела долины, горы и равнины и, возможно, была обитаемой; Солнце было всего
лишь раскаленной каменной глыбой величиной с Пелопоннес... Это был земной
1 Рожанский И. Д. Анаксагор. С. 9.
2 Там же. С. 214-215.
3 Там же. С. 195-196.
У истоков античной науки
15
космос, в нем не было ничего божественного, сверхъестественного; в этом космосе
было что-то уютное, камерное, домашнее»4.
Такое видение мира было возможным, во-первых, потому, что вся мыслительная
энергия как милетцев, так и Анаксагора была практически освобождена от
трудоемких логико-гносеологических проблем и целиком расходовалась на хозяйски деловое
познание космоса, его генезиса и устройства, исходя из начал его бытия. А,
во-вторых, подобный образ космоса обусловливается тем обстоятельством, что ранняя
греческая физика живет в одном ритме с общественной жизнью полиса и поэтому,
по слову Рожанского, «греческий космос — это тот же полис, только переведенный
в общемировой план»5.
В оценке античного научного наследия новоевропейская наука была далека
от беспристрастия. Античное знание она судила жестким судом механистической
методологии. Однако такой масштаб оказался неподходящим ни для Анаксагора,
ни для Эмпедокла, ни для Аристотеля. В этом лежат причины дошедшей вплоть
до наших дней недооценки неатомистической традиции, от чего, к сожалению,
несвободен и И. Д. Рожанский, утверждающий, что «...античная атомистика стоит
на голову выше всех других естественно-научных построений древности (не
исключая Аристотеля)»6.
Автор книги стремится показать, что в учении Анаксагора наблюдается
невиданное больше нигде и никогда в античности богатство разнородных идей. Так,
например, Клазоменец применяет как органические, так и механические модели, хотя его
детерминизм в целом есть скорее «органический детерминизм»7. Анаксагору удалось
соединить качественное, или квалитативистское, видение космоса с традиционным
структурно-математическим подходом, идущим от пифагорейцев к Платону.
«Семена» Анаксагора наделены качествами, и поэтому они имеют значение для развития
в дальнейшем идеи химического атома и элемента, по крайней мере для их
предвосхищений в античной «химии». И если в резкой полемике с пифагоро-платоновской
и атомистической традициями Аристотель чрезмерно перегружает
функциональную познавательную значимость континуума чувственно данных качеств,
отбрасывая идею дискретности, то Анаксагор свободен и от этого одностороннего квалита-
тивизма и континуализма.
Органический детерминизм, общекосмический эволюционизм, синтез
дискретно-структурного видения природы с континуально качественным — вот важнейшие
характеристики мышления Анаксагора, которые уже в наше время конструктивно
воспроизводятся в таких быстроразвивающихся областях современного знания, как
эволюционно-химические исследования (прежде всего, эволюционный катализ),
4 Рожанский К Д. Анаксагор. С. 100-101.
5 Там же. С. 172.
6 Там же. С. 24.
7 Там же. С. 208.
16
Раздел первый
системное движение и теория неравновесных процессов. Если атомистика Левкиппа
и Демокрита была и остается эффективным фундаментом «физикализации» знания,
то элементы качественно-динамического континуализма Анаксагора и Аристотеля
являются необходимым компонентом теоретико-методологического «фона»
научного мышления, связанного с его «биологизацией». Очевидно, что значение
неатомистической традиции, освобожденной от ее заблуждений и крайностей, возрастает
в связи с кризисом механистической программы естественно-научного познания
и с развивающимся в этих условиях эволюционно-синтетическим направлением
в современной науке. Поэтому, несомненно, прав автор книги, когда он отмечает,
что «...у этого философа (речь идет об Анаксагоре. — В. В.) зачатки будущего
естествознания обнаруживаются, может быть, в большей степени, чем у любого другого
из его современников»8.
8 Рожанский И. Д. Анаксагор. С. 35.
ПРОБЛЕМА МНОЖЕСТВЕННОСТИ МИРОВ
В УЧЕНИИ АНАКСАГОРА
Реконструкция философско-физического учения Анаксагора, несмотря на
многочисленные работы, посвященные его анализу (среди них мы прежде всего хотели бы
отметить замечательное исследование И. Д. Рожанского1), продолжает оставаться
актуальной задачей. Разделял ли Анаксагор учение о единственности мира (ЕМ) или
у него было представление о множестве миров (ММ)? И если у него было такое
представление, то о каких именно мирах учил философ из Клазомен? Вопрос этот
является предметом самой острой полемики, ведущейся с древности и до наших дней.
Действительно, в дошедших до нас фрагментах, оставшихся от сочинения
Анаксагора «О природе», мы находим два, в которых, как это представляется на первый
взгляд, высказываются противоположные суждения по этому вопросу.
Действительно, в восьмом фрагменте говорится: «Не отделены друг от друга вещи,
находящиеся в едином космосе, и не отсечено топором ни теплое от холодного, ни
холодное от теплого» (В8)2. Слова «в едином космосе» (έν τω ένι κόσμω) указывают на то,
что у Анаксагора космос мыслится как единственно сущий.
Однако в знаменитом фрагменте В 4а речь идет о другом, чем наш, мире.
Процитируем его: «Если все обстоит таким образом, то следует полагать, что во всех
соединениях содержится многое и разнообразное, в том числе и семена всех вещей,
обладающие всевозможными формами, вкусами и запахами. И люди были составлены,
и другие живые существа, которые имеют душу. И у этих людей, как у нас, имеются
населенные города и искусно выполненные творения, и есть у них Солнце, Луна
и прочие светила, как у нас, и земля у них порождает многое и разнообразное, из чего
наиболее полезное они сносят в дома и употребляют в пищу. Это вот сказано мной
об отделении, потому что не только у нас стало бы отделяться, но и в другом месте».
Как бы ни толковать этот фрагмент (а таких толкований было дано множество), ясно
одно, что речь в нем идет не о нашем мироздании, а о другом мире, подобном нашему.
Как можно решить эту апорию? Очевидно, что можно попытаться просмотреть
все другие фрагменты и свидетельства в данном ракурсе. Фрагментов осталось
немного, и они не позволяют нам склонить чашу весов спора в ту или иную сторону.
1 Романский И. Д. Анаксагор: У истоков античной науки. М.: Наука, 1972.
2 В статье используется общепринятая нумерация фрагментов Анаксагора и свидетельств
о его учении (В8, В 4а и т. д.), цитируемых всюду по: Романский И. Д. Анаксагор: У истоков
античной науки. М.: Наука, 1972.
18
Раздел первый
Иначе обстоит дело со свидетельствами. Действительно, их анализ позволяет собрать
богатый материал, относящийся к нашей проблеме. Распределение свидетельств
в пользу ЕМ и ММ явно неравномерно: есть всего одно свидетельство Симпликия,
указывающее на то, что Анаксагор учил, по-видимому, о ММ: «Причиной же
движения и становления,— говорит комментатор,— Анаксагор признал разум [нус],
благодаря которому разделяющиеся вещи образовали миры и природу всего остального»
(А41). Источником этого свидетельства является сочинение Теофраста «Мнения
физиков». Следуя за Теофрастом, Симпликий подчеркивает близость Анаксагора
и Анаксимандра в плане разбираемых в данном свидетельстве вопросов. Поэтому,
имея в виду анаксимандровскую тему ММ, доксограф мог применить
соответствующую лексику и к Анаксагору. Такая интерпретация, отвергающая тезис о ММ как
собственное мнение Анаксагора, была высказана Ю. Кершенштейнер3.
Если же теперь мы посмотрим на свидетельства, подтверждающие другой
полюс анализируемой нами дилеммы, то картина будет совершенно иной. Фрагмент В8
подкрепляется целым рядом свидетельств, в которых говорится о мире в
единственном числе: А63, А64, А45, А48, А58. Приведем в этой связи наиболее характерное
свидетельство Аэтия А63: «Фалес... Анаксагор, Платон, Аристотель, Зенон:
космос един (ενα του κόσμον)». Правда, у того же Аэтия есть и другой список: «Анак-
симандр, Анаксимен, Анаксагор, Архелай, Диоген, Левкипп считали мир тленным»
(А65), но, как показали Г. С. Керк и Дж. Э. Рейвен, свидетельство это ненадежное
и Аэтий ошибается, исправляя свою ошибку в А634. Означает ли это, что проблема
решена и что мы можем со всей определенностью сказать, что тысячелетние споры
лишены всяких оснований? Ни в коем случае: этому мешает все тот же самый
загадочный из всех фрагмент В4.
Ограничимся кратким анализом причин трудностей истолкования фрагмента В4,
рассмотрим некоторые его интерпретации, представляющие, с нашей точки зрения,
наибольший интерес, и, наконец, попытаемся дать свое понимание проблемы ММ
в учении Анаксагора. Трудности, испытываемые при истолковании этого фрагмента
самим Симпликием, связаны с глубиной, сложностью и оригинальностью космолого-
физического учения Анаксагора. В этой связи приведем слова К. Рамну.
Именно это учение, — говорит она, — позволяет с наибольшей легкостью свести
его к началам и утверждениям, которые прямо противоположны друг по
отношению к другу. Он, так сказать, основал свой особый мир на противоречии. И при
исследовании этот мир открывается как один из самых сложных и самых богатых
образами, устремленными в будущее5.
3 Kerschensteiner I. Kosmos: Quellenkritische Untersuchungen zu den Vorsokratikern. München,
1962. S. 145.
4 Kirk G. S., Raven /. £. The presocratic philosophers. Cambridge, 1957. R 124, 389.
5 Ramnoux C. Les présocratiques // Histoire de la philosophie. T. 1: Orient — antiquité — moyen
âge. P., 1969. P. 435.
Проблема множественности миров в учении Анаксагора 19
При анализе проблемы ММ в учении Анаксагора вряд ли оправдано исходить
из каких бы то ни было априорных установок-решений, предполагающих у Клазо-
менца представления о ММ или, напротив, отрицающих их. У Р. Мондольфо,
увлеченного преодолением идущего от классицизма XVIII в. предубеждения, согласно
которому бесконечность была темой-табу для греков, складывается априорная
установка считать, что почти все греческие мыслители в той или иной форме допускали
актуальное бесконечное и тем самым учили о множестве одновременно
сосуществующих миров. В частности, у Анаксагора итальянский ученый находит такое
представление о бесконечности, согласно которому она обладает своего рода бесконечной
устойчивостью, противостоящей как конечным воздействиям на нее (например,
конечные вычитания из бесконечного), так даже и бесконечным воздействиям6.
Мондольфо считает, что в силу наличия у Анаксагора такой концепции бесконечности
у него, вероятно, было и учение о ММ. Правда, существуют, как он отмечает, три
основных препятствия для принятия тезиса о ММ у Анаксагора: 1) свидетельство Аэ-
тия (DK 46 В63), 2) приводимый Симпликием фрагмент Анаксагора В8 и, наконец,
3) теоретическое препятствие: вихреобразующая функция нуса не ограничена в
пространственном смысле, а это, очевидно, препятствует принятию бесконечного числа
таких космогенетических вихрей в пространстве. Действительную преграду, по
Мондольфо, представляет только третий, чисто теоретический аргумент: «Бесконечное
распространение вращательного движения из изначального центра, — подчеркивает
ученый, — представляет серьезную трудность для согласования с плюралистской
гипотезой»7. Для того чтобы преодолеть эту трудность в рамках плюралистской
гипотезы, т. е. гипотезы о ММ (а она кажется Мондольфо и текстологически
неизбежной), он вынужден принять особое допущение, согласно которому центры космо-
образований размещаются во вселенной Анаксагора на бесконечных расстояниях
друг от друга. Мондольфо сознает, что принятие такого сильного допущения
выдвигает новые трудные проблемы, но, как он считает, другого пути нет: «Очевидно, —
признает итальянский исследователь, — что подобное гипотетическое согласование
чревато проблемами и далеко от того, чтобы быть удовлетворяющим. Однако при
имеющихся в настоящее время свидетельствах оно, по-видимому, не может быть
заменено другим, более приемлемым»8.
Здесь мы сделаем два замечания. Во-первых, такое допущение действительно
чрезмерно «сильное»: почти с полной уверенностью можно сказать, что у Клазоменца
не было представления о бесконечно больших интервалах между центрами космо-
образования. На самом деле масса и объем изначальной смеси были у Анаксагора,
скорее всего, конечными величинами. Идеи бесконечно протяженного пространства
мы у него не находим. Вся его интуиция бесконечности направлена не на макромир,
6 Mondolfo R. L'infinito nel pensiero dei Greci. Firenze, 1934. P. 294.
7 Ibid. P. 296.
8 Ibid. P. 298.
20
Раздел первый
а на микромир. Бесконечное у Анаксагора — это бесконечно малые «семена» вещей,
не знающие предела своего деления. При наличии такого рода бесконечности
Анаксагору нет смысла прибегать к другому полюсу представления о бесконечном. Эту
особенность мышления Клазоменца удачно, на наш взгляд, подчеркнул Ш. Мюглер9.
Во-вторых (и это относится не только к Мондольфо, но и ко многим другим
исследователям), зачастую истолкование фрагмента В 4а в плане вопроса о ММ
ограничивают интерпретацией слова άλλη (в другом месте), задавая при этом вопрос,
где находится та область, о которой в В 4а говорит Анаксагор? Э. Целлер считал, что
единственно возможной локализацией событий, описываемых в этом отрывке,
является Луна10. Дж. Вернет же отметил, что это нелепо, так как у Анаксагора говорится,
что Луна у них, «как у нас», значит, άλλη означает «в других мирах»11. А другие
исследователи (Ф. М. Корнфорд, У. К. Ч. Гатри и др.) считали, что такой локализацией,
скорее всего, должен быть какой-то иной, чем наш, участок земной поверхности.
Но при этом все эти исследователи как бы забывали модальность, в которой излагает
Анаксагор эти сведения о «другом мире», на что со всей решительностью обратил
внимание только Г. Френкель12, подчеркнув, что оборот και άλλη (и в другом месте)
связан с оптативом, притом архаического толка. Эту форму оптатива Френкель
называет «оптативом мысленного эксперимента», т. е. в этом фрагменте, согласно
немецкому ученому, вся речь идет в модусе гипотетического допущения, а не в форме
утвердительного наклонения. Глубокий филологический анализ, данный
Френкелем, был использован И. Д. Рожанским, который и положил его в основу своей
интерпретации фрагмента.
Мондольфо, сознавая определенные трудности в своем истолковании,
отказывается от тезиса о бесконечном ММ (БММ) у Анаксагора (Дж. Вернет, А. Ко-
вотти и др.) и считает возможным говорить только о конечном ММ в учении
Клазоменца. Но эта уступка соперничающей интерпретации не меняет дела в принципе:
на нее Мондольфо идет в силу принятия бесконечных расстояний между мирами,
допущения, на наш взгляд, неприемлемого хотя бы уже в силу того, что у Анаксагора,
в отличие от атомистов, нет представления о бесконечном пространстве. Вселенная
Анаксагора беспредельна в определенном смысле, но конечна. Этим она несколько
напоминает релятивистскую сферическую модель стационарной Вселенной,
предложенную А. Эйнштейном. У Эйнштейна Вселенная конечна, но безгранична в силу
ее замкнутости (кривизна пространства). У Анаксагора же Вселенная тоже конечна,
но безгранична в качественно-инфинитезимальном плане, т. е. безграничность или
беспредельность вещей у Анаксагора определена «по множеству и по малости» (В1).
9 Mugler Ch. Le problème d'Anaxagore // Rev. étud. grec. 1956. Vol. 69. P. 321.
10 Zeller Ε. Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Leipzig, 1892. Th. 1.
H. 2. S. 1239.
11 Burnet J. Early Greek philosophy. L., 1945. P. 269-270.
12 Fränkel К Wege und Formen des frühgriechischen Denkens. München, 1960. S. 284-291.
Проблема множественности миров в учении Анаксагора 21
Проблема ММ в учении Анаксагора помимо своих филолого-текстологических
аспектов имеет и содержательную, концептуальную сторону, которая наилучшим
образом может быть прояснена сравнением атомизма и учения Анаксагора. Мы
принимаем точку зрения Ш. Мюглера, И. Д. Рожанского и некоторых других
исследователей относительно связей учения Анаксагора с атомизмом Левкиппа, который он
критиковал и старался преодолеть, хотя ряд фундаментальных черт и сближает эти
учения. Демокрит, в свою очередь, заострял свои формулировки в ответ на анакса-
горову критику левкиппова атомизма. Если кратко обозначить логические
предпосылки учения о БММ в рамках атомизма, то ими будут прежде всего учение о пустоте
и принцип изономии. Изономия приводит к принятию всевозможных
бесконечностей — бесконечности пространства, форм атомов, их числа и даже, по-видимому,
размеров. Из этого набора бесконечностей в силу принципа спонтанного
механического движения атомов возникают бесчисленные миры, которые растут, достигают
расцвета, приходят в упадок и гибнут. Постоянство Вселенной в целом, ее
космологическая стабильность поддерживается именно за счет ресурсов бесконечно
большого. У Анаксагора же проблема обеспечения устойчивости космологического бытия
решается за счет помещения его ресурсов не в область бесконечно большого, а в
область бесконечно малого. Но именно бесконечно большое с его беспредельными
ресурсами служит основанием для допущения БММ в атомизме.
Хотя мы и не можем документально доказать, что Демокрит, развивая свое
учение о бесконечно разнообразных мирах, прямо полемизирует с Анаксагором, однако
такое допущение, опирающееся на внутренние логические аргументы, весьма
правдоподобно. Действительно, текст фрагмента Анаксагора (В 4а) и текст свидетельства
Ипполита (DK 68 А40) тематически настолько близки, что их невозможно не
сравнивать и не видеть при этом во втором тексте критического ответа на первый. В этом
плане мы присоединяемся к анализу И. Д. Рожанского13.
Перед тем как изложить нашу интерпретацию фрагмента В 4а, остановимся
на некоторых, на наш взгляд, интересных его истолкованиях, выдвинутых видными
исследователями античной науки.
В основе интерпретации Ш. Мюглером загадочного фрагмента В4 лежит
предположение, что во многом космологические предположения греков вообще были
попытками развернутого ответа на вопрос об источниках космического постоянства.
Действительно, поиск ресурсов для обеспечения поддержания всей мировой
совокупности вещей в стационарном состоянии является, на наш взгляд, стержневой
проблемой космологического мышления, пожалуй, даже не только греков: эта
проблема не потеряла своей актуальности и по сей день. Эксплицитную ее развертку мы
находим и у Лукреция, который, как известно, только комментировал систему
Эпикура. По мнению Мюглера, эта проблема получила даже вид традиционной
космологической формулы: όαπειρος χρόνος (беспредельное Время)14.
13 Рожанский И. Д. Указ. соч. С. 207.
14 Mugler Ch. Kosmologische Formeln // Hermes. 1968. Bd 96. H. 5. S. 515.
22
Раздел первый
Очевидно, что поскольку Вселенная должна существовать долго, если не вечно,
а второе даже более приемлемо для греческого рационализма, постольку
обладание даже временной бесконечностью15 требует, чтобы источники поддержания
такого существования были также бесконечными. Бесконечность в следствиях должна
быть поддержана бесконечностями в посылках или, говоря в отнологическом модусе,
бесконечностями причин или начал. В таком плане постановки этой проблемы
оказывается, что различные космологические системы досократиков различаются
способами задания этих бесконечностей начал космического становления. Здесь нас
интересуют две философско-физические системы: атомизм и учение Анаксагора.
У атомистов были следующие бесконечности в качестве источников космического
становления. Во-первых, бесконечность пространства. Во-вторых, бесконечность
числа атомов и их форм. И, в-третьих, бесконечность (вечность) движения атомов,
его, если угодно, самоподдерживание. Эта «связка» бесконечностей при допущении
конечности космоса с необходимостью приводит к БММ. Устойчивость Вселенной
в целом поддерживается, таким образом, этими бесконечностями. А именно
бесконечно большое служит ресурсом для поддержания космологического разнообразия
и уровня организации космического вещества во Вселенной.
Вернемся к учению Анаксагора. В В12 говорится, что «во всем заключается часть
всего...». Это означает, что Анаксагор выдвигает идею бесконечности качеств в
бесконечно малом измерении. Иными словами, в качественном отношении мир
бесконечен в любой бесконечно малой точке: во всем есть качественно определенная часть
всего, хотя по количеству эти качества и будут сколь угодно малыми. Та же мысль
разворачивается и в В1: «Все вместе были вещи, — говорит Анаксагор, —
беспредельные и по множеству и по малости».
У Анаксагора мы не находим представления о бесконечно протяженном
пространстве, и, следовательно, его Вселенную мы должны мыслить конечной как по
геометрической характеристике — по пространственной величине, так и по
физической — по общей массе начального вещества, представляющего собой смесь всего
со всем (πάντα όμοϋ). В таком случае нетрудно видеть, что ресурсы космического
становления могут содержаться у Анаксагора только в сфере бесконечно малого.
Бесконечно малое неистощимо, поэтому возможно предложить такую модель
однонаправленного, линейно протекающего космического становления, которое
поддерживалось бы только ресурсами бесконечно малого. Именно такую модель и
предложил Мюглер. Согласно такой модели Анаксагор принимает за источник становления
свой конечный материальный субстрат, бесконечный, однако, в плане делимости
и в плане беспредельной устойчивости материи в качественном отношении.
Принцип «все во всем», таким образом, служит основой для поддержания мирового
становления. Микрофизика беспредельно дробимой в количественном плане
материи, но бесконечно сохраняемой при этом в качественном плане служит базой для
15 По крайней мере, отсутствием конца существования во времени, если даже начало и есть,
что, впрочем, нелегко грекам принять прежде всего по соображениям симметрии.
Проблема множественности миров в учении Анаксагора 23
поддержания космической макростабильности. Эти мысли и оригинальны, и полны,
как нам представляется, актуального звучания, хотя сама идея бесконечного деления
и кажется чистым анахронизмом. Интересно здесь то, что Анаксагору удалось
создать учение, в котором изнашиваемость вещей, организованных объединений,
порядков, качеств возобновлялась бы за счет беспредельного «семенного» (у
Анаксагора начала — «семена», σπέρματα) фонда. «Семенной» фонд, или «генофонд», мира
неисчерпаем, и поэтому мир воспроизводим и ему не страшны никакие диссипации
энергии, сопровождающиеся утратой качеств. При этом общая масса остается
конечной: темп космического процесса становления носит асимптотический характер.
Мюглер не без оснований указывает на аналогию между математикой
иррациональных величин (открытие несоизмеримости диагонали и стороны квадрата) и логикой
асимптотического процесса. Влияние математики на Анаксагора возможно, конечно,
и в других пунктах. Итак, любая вещь вечна, бесконечно устойчива уже потому, что
ее «генофонд» бесконечно устойчив: качества неуничтожимы, а большое и малое —
абсолютно относительные измерения и сами по себе ничего не значат. Инвариантно
качество, а не количество или величина.
Удачным выражением для характеристики соотношения систем атомистов
и Анаксагора является образ, предложенный Рамну, — братья-враги (ennemis-frères).
Действительно, мы отмечаем общность внутренней логики их мышления на уровне
принципов, проявляющуюся прежде всего в принципе изономии, или
«индифференции» (Мюглер). «Индифференция» означает, что если нет достаточного
основания для предпочтения одного другому, то оба сравниваемых термина имеют равное
право на существование. Принцип индифференции действует не только у атомистов,
но и в системе Анаксагора. Действительно, ни одно из качеств не имеет никаких
преимуществ перед другими, и поэтому существуют всевозможные качества,
качественная бесконечность начал-качеств16. Но отличие от атомистов в том, что у Анаксагора
нет предела делимости тел: противоположные математические интуиции задают
разные начала физического мира.
Итак, и Анаксагор, и еще более широко атомисты принимают за основу своих
космологических построений принцип изономии, но применяют его по-разному.
Ресурсом бесконечности процесса становления во Вселенной у атомистов, как мы
уже говорили, служат макробесконечности, бесконечности количественного плана,
а у Анаксагора — бесконечность потенций инфинитеземальной сферы
качественного плана, причем сама исходная масса вещества является у него конечной и
размещенной в конечном пространстве. Но как можно мыслить поддержку процессов
становления и развития в единственном конечном космосе? Очевидно, используя
беспредельные внутренние ресурсы, ресурсы бесконечно малого. Так именно и
поступает Анаксагор: вся его система логически понятна только при допущении ЕМ.
В данном месте нашего анализа остановимся на связи между ЕМ у Анаксагора
и единственностью и всеобщностью действия нуса. В данном контексте интересно
16 Анаксагор называет свои изначальные качества «сущими вещами».
24
Раздел первый
проанализировать фрагмент В12. Очевидно, что ММ при общем порядке связи мира
и нуса как начала космогенеза требует и множественности нусов или, по крайней
мере, локального действия нуса, его бесконечной дробности. Но ничего подобного
в дошедших до нас фрагментах Анаксагора мы не находим. Напротив, фрагмент
В12 говорит ясно о том, что нус определяет не локальное вращение и космообразо-
вание, а универсальное, охватывающее всю вселенную. Во-первых, нус один,
единствен: «нус прост и самодержавен и не смешан ни с одной вещью, но один он
существует сам по себе» (В12). И ниже Анаксагор прямо говорит: он, нус, властвует,
«будучи один и сам по себе». Во-вторых, нус определяет всеобщее вращение: «и над
всеобщим» (συμπάσης) вращением стал властвовать нус, так как он дал начало этому
вращению» (В 12).
Посмотрим теперь, как соотносятся в свидетельствах об учении Анаксагора
мир (космос) и разум (нус). Характер этого соотношения показателен для суждения
по проблеме — один мир предполагался космологией Клазоменца или же множество?
В подавляющем большинстве случаев говорится, что нус создал мир: «творец
космоса разум» (Симпликий, А45); «Анаксагор использует разум как машину для
создания космоса» (Аристотель, А47); «Анаксагор считал богом разум, создавший
космос» (Аэтий, А48). Есть только один приведенный нами контрпример (А41). В этом
свидетельстве нус признается источником «миров и всего остального». Но это —
странное сочетание. Действительно, как можно говорить о природе всего
остального, если миры исчерпывают все, что может возникнуть из начальной смеси? Что
еще, кроме мира (или миров), может создаваться в космогенезе? Поэтому само
сочетание «миров» и «всего остального» нелепо. Это место важно для анализа нашей
проблемы потому, что именно на нем О. Гигон основывает свою точку зрения о
наличии у Анаксагора концепции ММ. При этом он уклоняется от анализа ясного места
у того же Симпликия (В8), где комментатор приводит собственные слова Клазоменца.
Правда, Гигон считает, что в этом фрагменте речь идет не о единственном мире,
а о единстве мира, т. е. о глубокой связности всех вещей внутри одного мира17. Но,
на наш взгляд (мы здесь солидаризуемся с Френкелем18, с Мюглером и др.), именно
этот фрагмент надо рассматривать как весомое, если не решающее, свидетельство
в пользу ЕМ у Анаксагора: единое и единственное просто не разделяются в слове έΐς
(во фрагменте стоит έυι)19.
Если вдуматься в смысл, который, возможно, Симпликий здесь имеет в виду
(А41), то слово «космос» обозначает некую упорядоченность, какой-то локально
организованный участок, которому можно противопоставить все остальное как менее
упорядоченное образование. И, как мы уже подчеркнули, скорее всего, это какой-то
совершенно конкретный смысл, значимый в системе Анаксимандра и потерявший
17 Gigon О. Zu Anaxagoras // Philologus. N. F. 1936. Bd. 45. S. 32.
18 Fränkel К Op. cit. S. 288.
19 Дворецкий К X. Древнегреческо-русский словарь. Т. 1. М.: ГИС, 1957. С. 468.
Проблема множественности миров в учении Анаксагора 25
ко времени Анаксагора свою актуальность, хотя, очевидно, еще сохранивший свою
употребительность.
Мы не можем рассматривать и как доказательство ММ у Анаксагора
свидетельство Аэтия (А48): «Анаксагор же говорит, что вначале тела покоились,
божественный же разум привел их в порядок и осуществил рождение миров (γενεσειςτώνολων)».
Конечно, например, у Платона мы найдем слово όλος в значении «мир», «Вселенная».
Но тем не менее основное значение этого слова — «все», «полное», «целое» и т. п. Речь
идет здесь, скорее, не о космосах-мирах, а неопределенно о всех вещах (tutte le cose
уД.Ланцы20).
Итак, нам важно обратить внимание на то, что нус действует на всю первичную
смесь, вызывая ее разделение, никогда до конца не идущее, — только он один
абсолютно чист и не смешан. И в этой полноте действия нуса мы обнаруживаем
неизбежность ЕМ у Анаксагора. Отметим одно интересное обстоятельство. О единственном
мире говорил, например, и Эмпедокл (В27, В28), но говорил спокойно, в тонах
торжественной констатации, отвечающей духу его поэмы. Аналогичную картину мы
находим и у Парменида (В8, В6). Но только с Анаксагора — а это лишний раз
доказывает его заинтересованное знакомство с атомизмом Левкиппа — начинает набирать
силу в пользу ЕМ аргументация, которую развивают специально и целенаправленно.
Действительно, те аргументы в пользу ЕМ, которые, казалось бы, на первый взгляд
являются изобретением Платона и Аристотеля, видимо, содержатся, пусть и в
несколько свернутом виде, уже у Анаксагора, который их выдвигал против учения
Левкиппа о БММ. Речь идет об аргументации, использующей представление о том,
что вся мировая материя пошла на образование космоса, что поэтому никакой
другой материи при этом не осталось, так что на образование других миров просто нет
материальных ресурсов.
Если бы у Анаксагора было множество изономически соотносящихся между
собой нусов, такое же множество, каковым является множество его «семян», то
возможность ММ была бы, пожалуй, вполне реальной, даже несмотря на ограниченность
пространства Вселенной и общей массы вещества в ней. Но никакого плюрализма
на уровне нуса — на уровне мирового порядка, мировой необходимости, мирового
ритма развития — у Клазоменца мы не находим. Подчеркнем, что пространство само
по себе у него однородно, если, конечно, говорить о пространстве до всякого кос-
могенеза. Начало космогенетического процесса порывает с однородностью и вводит
четкую неоднородность — центр и периферию. Распространение ноотической кос-
могенетической волны идет так же анизотропно: от центра к периферии, и
обратимости в этом процессе нет.
Обратим наше внимание на разницу в терминологии для вихревого процесса
у Анаксагора по сравнению с атомистами. Атомисты используют термин ήδίνη или
όδΐνος, а Анаксагор говорит даже не о вихре, а скорее о «круговращении» (περι-
χώρησις). Это терминологическое отличие нам не кажется случайным: Анаксагор
Lanza D. Anassagora. Testimonianze е frammenti. Firenze, 1966.
26
Раздел первый
сознательно выбрал другой термин, чтобы показать отличие его космогенеза от лев-
киппова. Смысл единственности, кстати, четко звучит в термине Анаксагора,
напоминая о целостном круговом обходе, совокупном охвате всего массива изначального
вещества. У Левкиппа же это просто вихрь, смерч, что-то определенно локальное.
А поэтому космогенез Анаксагора уникален, а не бесконечно множествен, как у
атомистов. В этом терминологическом расхождении мы видим лишнее свидетельство,
подтверждающее тезис о ЕМ в космологии Клазоменца.
Основным текстом Анаксагора, прямо подтверждающим его учение о ЕМ,
служит фрагмент В8. Данный фрагмент интересен тем, что в нем, по-видимому,
представлена полемика с атомистическим учением о ММ. Полемику с Левкиппом здесь
видит и Э. Целлер21, и Ш. Мюглер22. Мы считаем, что полемика с атомистами
проявляется здесь не столько в шаржировании атомистических метафор, как считает
Мюглер, сколько в четком утверждении тезиса о ЕМ, что явно направлено против
атомистической доктрины.
Приписывание Анаксагору учения о БММ опирается, помимо загадочного
текста В8, на предположение о пространственной бесконечности Вселенной у
Клазоменца наподобие того, как это имеет место у атомистов. В этом пункте наша
позиция расходится с позицией Дж. Бернета23 и Ч. Фримана24.
Сложнее обстоит дело со свидетельством Симпликия, где речь идет о начале
космоса. Строго говоря, если рассуждать в рамках принципа изономии, то непонятно,
почему мир стал образовываться именно в этот, а не в какой-то другой момент
времени. Принцип изономии в его применении ко времени должен был бы привести
к отказу от нуль-пункта космической эволюции: все моменты равноправны, и
поэтому космическая эволюция бесконечна как в плане своих «истоков», так и в плане
своей длительности. Такова примерно позиция Мюглера. Но Рожанский считает, что
процесс космообразования у Анаксагора «не имеет конца, но имел начало»25.
Историк подтверждает свою позицию отсылкой к современной космологии, в которой
идея начала мира не кажется абсурдной, каковой она, несомненно, казалась греку V в.
до н. э. Но надо при этом учесть, что в современной космологии нуль-пункт
эволюции есть одновременно и начало всей пространственно-временной системы отсчета,
что первичный взрыв служит началом времени и пространства. Но Рожанский
подчеркивает, что проблемы начала времени Анаксагор не ставит, хотя об этом ясно
говорит Симпликий. В обоих случаях трудность сохраняется: трудно представить себе
допущение начала мира Анаксагором в произвольной временной точке из-за
грубого нарушения, можно сказать, врожденного грекам чувства симметрии (принцип
21 Zeller Е. Op. cit. Th. 1. H. 2. S. 1264, примеч. 4.
22 Mugler Ch. Kosmologische Formeln. S. 325.
25 Burnet J. Op. cit. P. 269.
24 Freeman С. The Presocratic philosophers. Oxford, 1949. P. 267,274.
25 Рожанский И. Д. Указ. соч. С. 215.
Проблема множественности миров в учении Анаксагора 27
изономии), но столь же трудно представить себе и то, что Анаксагор разработал
учение, согласно которому само время возникает — сотворено, как это утверждал,
по свидетельству Аристотеля, до него лишь один Платон. Поэтому, проявляя
известную осторожность в столь деликатном вопросе, мы бы присоединились к точке
зрения Мюглера, соображения которого на этот счет представляются и самому Ро-
жанскому «остроумными», хотя и «в достаточной мере произвольными»26.
Произвольность их состоит, однако, лишь в приписывании Анаксагору строгой
последовательности в мышлении, в данном случае в следовании принципу изономии, что,
как нам кажется, отвечает духу учения мыслителя из Клазомен.
Свидетельство Симпликия, который объяснял введение Клазоменцем начала
мира во времени педагогическими или дидактическими целями, кажется нам,
несмотря на доверие к нему со стороны Г. Риттера, X. А. Брандиса, Ф. Д. Э. Шлейер-
махера, а из современных историков, например, Ш. Мюглера, странным, потому
что ведь именно сама идея начала мира во времени была странной, пугающе новой
для греков той эпохи. Вечность космоса, несомненно, ближе им по духу. Но, однако,
не надо здесь смешивать две разные вещи: в смысле возникновения космоса как
порядка27 грек действительно мог опираться на свою богатую мифологическую
традицию. Непривычна и странна же была для греков эпохи Анаксагора не идея космиза-
ции аморфной смеси, а идея креационизма — сотворения мира как космологической
единицы. Поэтому, имея в виду указанную коннотацию анаксагорова термина κόσμος
(на нее указывают, например, В. Кранц28 и Ю. Кершенштейнер29 в
проанализированном нами выше В8), мы можем теперь согласиться с трактовкой Симпликия о
дидактическом, чисто педагогическом приеме Клазоменца, вводящего представление
о начале космоса. В таком случае позиция Мюглера, к которому мы осторожно
присоединились, получает дополнительное подкрепление со стороны такого достоверного
и авторитетного свидетеля, как Симпликий. Ведь логика Целлера, отбрасывающего
это объяснение Симпликия, состоит в том, что Целлер не может никак себе
представить, как же это возможно не мыслить начало космогенеза30. Но путь для такого
мышления есть: это бесконечное дробление вещества, ресурсы инфинитеземального
измерения. Если нет предела пространственной делимости вглубь, то точно так же
не должно быть и временной ограниченности: ведь это бесконечное деление,
дробящее малое на меньшее, требует временной бесконечности. Поэтому мы полагаем,
26 Романский И. Д. Указ. соч. С. 216.
27 У Анаксагора, кстати, сохраняется еще и этот оттенок смысла слова «космос», которое,
видимо, с Пифагора получает прежде всего смысл Вселенной, космологической единицы,
вместо первоначального смысла упорядоченности, порядка и строя, противоположного
состоянию хаоса и смешения.
28 Kranz W. Kosmos. Bonn, 1958. S. 41.
29 Kerschensteiner I. Op. cit. S. 224.
30 ZellerE. Op. cit. S. 1005.
28
Раздел первый
что есть основания считать, что процесс космообразования у Анаксагора мог быть
бесконечно разомкнутым во времени в обоих направлениях.
Но бесконечной делимости материи вглубь как физического основания для этого
недостаточно. Выше мы говорили, что для грека неприемлемо нарушение симметрии,
изономии. Действительно, почему космогенез начался именно в этот момент, а не в
другой? Ведь один момент времени ничем не отличается от другого. Время однородно, его
структура гомогенна. Такие же рассуждения справедливы и для пространства.
Пространство — до начала круговращения — однородно и изотропно. В нем, как и во
времени, нет никакой выделенной точки. Поэтому космогенез может начаться в любой
точке. Как же, на наш взгляд, выходил из этих апорий Анаксагор? Нам кажется, что
в ответе на этот вопрос во многом лежит разгадка его загадочного фрагмента.
Рассуждения Анаксагора могли быть в принципе такого рода. Действительно,
время и пространство обладают симметрией, к ним приложим принцип изономии.
И поэтому процесс космогенеза и сепарации мог начаться в любой момент времени
в любой точке пространства — неважно, в какой именно. Почему? Да потому, что,
когда бы и где бы он ни начался, он все равно будет происходить совершенно
одинаковым образом, так, что отличить один его результат от гипотетического другого,
начавшегося в другой момент и в другой точке, совершенно невозможно. Слова ВА
«если все обстоит таким образом, то следует полагать, что во всех соединениях (συ-
γκρινομευοις) содержится многое и разнообразное...», начинающие место, в котором
говорится о совершенно подобном устройстве «мира» в другом месте (άλλη),
по-видимому, завершали изложение общих закономерностей космогонического процесса,
совершенно независимо протекающего в любом месте и в любое время. Для
Анаксагора важно подчеркнуть непреложное тождество процесса космогенеза, что
обусловлено постоянством законов отделения и сепарации вещества первичной смеси.
Это постоянство согласуется с органическим характером детерминизма Анаксагора,
о котором убедительно говорит, например, Рожанский31, и принципиально
расходится с механическим детерминизмом атомистов, у которых возникающие миры
сильно различаются друг от друга. Органический характер детерминизма и
принципов развития дает «на выходе» абсолютное тождество результатов, тождество миров
по структуре: «и есть у них Солнце, Луна и прочие светила, как у нас», в то время
как механика атомистов «на выходе» дает поразительное, в принципе
беспредельное разнообразие структур возникающих миров.
Инвариантность структуры мира относительно времени и места в учении Кла-
зоменца указывает, таким образом, на органический характер его детерминизма
и модели мира в целом. Действительно, для организма время и место не
слишком значимы — дуб вырастает дубом независимо ни от времени начала его роста,
ни от места. Органическое вообще гораздо более независимо от внешних условий,
чем неорганическое. И именно это обстоятельство мы и обнаруживаем при анализе
принципиального различия космологии Анаксагора и атомистов.
31 Рожанский К Д. Указ. соч. С. 208.
Проблема множественности миров в учении Анаксагора 29
В В4, на наш взгляд, речь вообще не идет о плюралистической космологии: в нем
рассказывается о неумолимости законов органического роста, отделения и сепарации
качеств и «семян» (кстати, это чисто органическая лексика), о такой ее неумолимости,
которую не могут задеть никакие гипотетические изменения в месте и во времени
начала космогенетического процесса. Самой проблемы выбора между ММ и ЕМ
перед Анаксагором при такой его интерпретации просто даже и не стояло. Более того,
отталкивание от атомистики вело его с необходимостью к формулировке иных
начал — органических вместо механических, что по отношению к космологии и
проявлялось в том, что мир у Анаксагора был один. Действительно, если даже
сепарация и началась бы в другом месте, то в силу органического характера космогенеза
этот мир был бы совершенно тождествен другому. Гипотетическое предположение
другого места космообразования не дает никакого другого мира — эти миры
неотличимы. Реально сущий мир — один-единственный, именно тот, который отвечает
этим органическим законам.
Нус, не забудем, один и одноразового, но непрерывного действия. Этому, вообще
говоря, отвечает сфера: в ней место центра — выделенное место, и, строго говоря,
именно в этом месте и должен начинаться весь процесс. Но как тогда связать
сферичность исходной массы с изономией? Только в сферическом мире А. Эйнштейна,
мире с постоянной кривизной, можно это сделать. Каким бы это ни казалось
чудовищно модернизирующим нажимом, но совместить античную симметрию и
конечность мировой массы по-другому трудно. Конечно, никакой геометрии подобного
типа не было тогда выработано. Так что не только в плане «начала» мира (на
сегодняшнем космологическом языке — «Большого взрыва») Анаксагор оказывается
созвучным современности, но и в плане конечности мира при его актуальной
безграничности или, ближе к оригиналу, «беспредельности».
В таком сложном вопросе, как интерпретация фрагмцента Анаксагора, надо
твердо придерживаться тех немногих положений, которые могут быть установлены
со всей несомненностью. Из В 4а (конец) мы ясно видим, что пространство у
Анаксагора, которое, видимо, нельзя мыслить изолированно от его «наполнения»,
однородно. Подчеркивание тождественности результата космогенетического процесса
независимо от места начала его развития ясно говорит нам об этом. «Не только
у нас стало бы отделяться, но и в другом месте», — говорит Анаксагор. Во-первых,
каково условие этого явно гипотетического отделения в другом месте? Это,
очевидно, действие нуса, толчок, им совершаемый, дающий движущий импульс космо-
генезу. Но в том-то все и дело, что нус действует единожды и, раз включившись как
начальный толчок и как универсальный закон, он уже больше не может начать
второго «круговращения» в другом месте. И круговращение, и сам нус универсальны
и единственны.
Итак, мы можем заключить, что нус действует в произвольной точке
«пространства» (и, вообще говоря, видимо, и времени — никакая координата в своей
единичности несущественна именно в силу органического характера мировой
закономерности развития). Органическая природа нуса и одноразовый характер его
30
Раздел первый
действия (одноразовое включение без выключения) обусловливают то, что место
действия нуса и время его действия совершенно несущественны: результат
«наложения» нуса на первичную смесь всегда один и тот же. Об этом, по существу, и
говорится во фрагменте В4. Поэтому мы согласны с Рожанским, что «процесс кос-
мообразования не только единствен (у Анаксагора. — В. В.), но он принципиально
не мог бы протекать иначе, чем он фактически протекает в окружающем нас мире»32.
У атомистов миры возникают по необходимости логики случайных
механических процессов, это своего рода механоатомистическая комбинаторика с принципом
равноправия всех мыслимых возможных сочетаний в ее основе (изономия). У
Анаксагора же космогенез совершается по необходимости органического процесса,
процесса зарождения («семена») и роста33. Заметим, что приостановка процесса
космической эволюции могла бы иметь место у Анаксагора только в том случае, если бы
смесь была уже полностью разделена. Но это невозможно в силу самих исходных
аксиом учения: только нус один не смешан, все же остальное всегда смешано, и «во всем
есть часть всего» [В6]. Мир стремится к своей ноофикации, но это для него
запредельный рубеж. В таком плане учение Клазоменца заставляет подумать не только
о современных космогенетических построениях в астрофизике, но и о таких
концепциях, как концепции В. И. Вернадского или Тейяра де Шардена, у которого мы
находим такую же однонаправленность космической эволюции.
Итак, не является ли фрагмент В 4а всего лишь частью описания специфики анак-
сагоровского нуса, его архаического органического «детерминизма»? Не является ли
это описание гипотетического мира, целиком и полностью тождественного нашему,
способом передачи неумолимости строгой необходимости, всегда и везде
действующей одинаково? Язык и логика знают такую фигуру. Приведем только один пример.
П. Гоген так, например, охарактеризовал Пюви де Шаванна: «Такие люди в один
прекрасный день завоюют признание. Если это не произойдет на нашей планете, то
произойдет на другой, более благосклонной к красоте»34. Пюви де Шаванн талантлив,
и талант должен быть признан — это «органическая» необходимость, и она должна
проявиться здесь или там, в настоящем или в будущем, но обязательно проявится.
Примерно такую же фигуру мы находим и во фрагменте Анаксагора. Если уж нус
вступает в действие — здесь или там, неважно, — то он обязательно создает вполне
однозначный космос. Космогенетическая способность нуса обязательно должна
проявиться, а место и время этого проявления уже не важны. Задача Анаксагора —
подчеркнуть строго закономерный характер космогенеза. В этом процессе не может быть
никакой «фантазии» разнообразия и случайности, все части мироздания, начиная
32 Романский И. Д. Указ. соч. С. 211.
33 Смерть, видимо, не предусматривается этой «органикой» — процесс космогенеза,
который ведет «круговращение», замедляется (фрагмент 9), но никогда не приостанавливается
до конца.
34 РевальдДж. Постимпрессионизм. М.; Л.: Искусство, 1962. С. 290.
Проблема множественности миров в учении Анаксагора 31
с его небесной структуры и кончая деталями устройства жизни разумных существ,
могут быть только одного типа.
Уже Симпликий, комментирующий этот фрагмент, имел дело с различными его
интерпретациями. Он отстаивает свое понимание, которое сводится к тому, что
Анаксагор излагает здесь не действительно имевшее место отделение, а лишь
умопостигаемое отделение (διάκρισις νοητή). Это умопостигаемое отделение, однако, надо
только освободить от неоплатонического смысла, и тогда, в качестве синонима
универсального космогенетического закона, оно, на наш взгляд, будет адекватно
выражать мысль Клазоменца.
Кстати, Симпликий опровергает многие истолкования, которые выдвигаются
современными учеными. В частности, его критика сохраняет свою силу по
отношению к таким интерпретациям, как интерпретация Мюглера. Симпликий
говорит: «А что он имеет в виду не чувственно воспринимаемый мир,
предшествовавший во времени нашему, ясно из слов: "из чего наиболее полезное они сносят в дома
и употребляют [в пищу]"». Истолкование миров Анаксагора как гомотетических фаз
прошлой истории Земли — нашего мира в целом — конструкция изобретательная
и величественная и вряд ли может быть принята именно по этим основаниям,
указанным Симпликием. Симпликий точно так же позволяет отвести и другие
современные интерпретации, в частности интерпретацию, идущую от Φ. М. Корнфорда
к У. К. Ч. Гатри.
Итак, Симпликий, видимо, близок к действительной мысли Клазоменца.
«Умопостигаемое отделение» есть своего рода «идея» космогенеза, его общий план,
инвариантный относительно места и времени. Симметрия, однородность пространства
и времени сохраняются. Оптатив, предположенный Г. Френкелем, и «притча» о
другом мире служат средствами изображения этого универсального закона.
Анаксагор здесь развивает иную логику, чем атомисты в их учении о БММ. Если атомисты
разворачивают импликации бесконечностей пространства, числа атомов и их форм,
то Анаксагор занят экспликацией своего нуса, органической природы присущего ему
детерминизма. Мы присоединяемся здесь к Рожанскому, который, анализируя
«загадочный» фрагмент, говорит, что «анаксагоровская логика здесь крайне любопытна...
она теснейшим образом связана с проблемой нуса»35.
При обсуждении проблемы возможности наличия у Анаксагора
представления о ММ имеет значение и такой фактор, как замедление скорости круговращения,
вызванного действием нуса. По-видимому, в учении Клазоменца признавалось, что
с течением времени скорость круговращения падает. В В9 говорится: «Таким
образом, происходит вращение и отделение этих веществ под действием силы и
скорости. Скорость же их несравнима со скоростью какой бы то ни было вещи из тех, что
ныне известны людям, но безусловно во много раз больше». Конечно, идея
замедления вращения, как она здесь изложена, не совсем ясна. Более того, в ней присутствует
определенное противоречие: действительно, чем меньше радиус круговращения,
35 Романский И. Д. Указ. соч. С. 205.
32
Раздел первый
тем, как, видимо, утверждает Клазоменец, больше скорость, и притом во много раз.
Но очевидно, что линейная скорость, напротив, увеличивается с увеличением
радиуса вращения. Поэтому замедление вращения еще не означает уменьшения
линейных скоростей. Но поскольку, по-видимому, именно о таком уменьшении говорится
в В9, постольку можно предположить даже, что круговращение фактически почти
приостанавливается, хотя, конечно, и планеты, и весь видимый свод неба явно
перемещаются с вполне определенной скоростью. Эти рассуждения позволяют
предположить совершенно колоссальную скорость начального вращения.
Какое значение имеет этот вопрос для обсуждения возможности ММ? Довольно
очевидное. Замедление круговращения способно локализовать космогенетический
процесс, и тем самым в небесконечной массе первоначального вещества остается
достаточно места для возникновения в ней других миров: «Не только у нас стало бы
отделяться, но и в другом месте» (В 4а).
Это замедление, если оно действительно имеет место (а это, как мы видели,
имеет подтверждение), могло бы укрепить интерпретацию В4, данную Мондольфо.
Р. Мондольфо, в отличие от Дж. Бернета, Э. Шаубаха, О. Гигона, Ф. Леммли, признает
не БММ у Клазоменца, а конечное ММ36, что не позволяет относить его к числу
сторонников концепции, признающей БММ Анаксагора, как это делает И. Д. Рожан-
ский37. Мондольфо для обоснования своей гипотезы о конечном ММ у Анаксагора
ввел малоправдоподобное представление о бесконечно больших расстояниях, на
которых находятся по отношению друг к другу различные мировые сферы. Этого
слабого пункта в его интерпретации, однако, можно избежать, если принять куда
более вероятное представление о замедлении космического вращения. В этом случае
бесконечные расстояния не нужны — достаточно конечных расстояний, так как
благодаря сильному замедлению, при этом прогрессирующему, мир может
локализоваться в пространстве и приобрести конечные размеры. Конечно, есть такие
исследователи, которые не считают, что миры нуждаются в защите друг от друга,
которую Мондольфо предлагает, выдвигая гипотезу о бесконечных расстояниях между
мирами. Так, Ф. М. Клеве описывает совершенно гипотетическую по отношению
к Анаксагору картину пульсации миров в фазах их расширения, взаимного
соударения и затем взаимного отскока. Кстати, у атомистов, как мы видели, такое
соударение растущих миров является одним из возможных механизмов их гибели, чего
не признает за Анаксагором Клеве.
Однако все эти соображения, связанные с истолкованием В9, не меняют, по сути
дела, нашего общего отношения к проблеме, поскольку этот фрагмент примыкает
к В4 и именно от истолкования последнего прежде всего зависит решение вопроса
о том, было или не было у Анаксагора учение о ММ.
Каждая интерпретация анаксагорова фрагмента В4 содержит в себе некоторые
несомненные права на существование. Так, подчеркивание Гигоном того обстоятельства,
36 Mondolfo Я. Op. cit. Р. 297.
37 Романский И. Д. Указ. соч. С. 206.
Проблема множественности миров в учении Анаксагора 33
что фрагмент В8, говорящий о едином мире, не противоречит учению о БММ,
отчасти оправдано тем, что в этом фрагменте речь действительно идет о
неотделимости качественных противоположностей друг от друга: «Не отсечено топором ни
теплое от холодного, ни холодное от теплого». В таком контексте истолкование слова
ένι в смысле единства, связности, внутренней взаимозависимости и неотделимости
частей мира друг от друга представляется вполне естественным. Однако тем не
менее трудно себе представить, чтобы этот смысл не сопровождался другим,
неотделимым от него смыслом — смыслом единственности космоса. Немалые основания мы
находим и в интерпретации Целлера. Целлер считает, что άλλη (в другом месте)
фрагмента В4 следует толковать как Луну. Для этого есть некоторые основания. Во-первых,
у Анаксагора, видимо, имелось представление об обитаемости Луны. Луна «имеет
обитаемые области (οικήσεις), а также холмы и ущелья»38. Подобное указание находится
и у Ахилла во Введении к «Феноменам» Арата («другое обитание»— οϊκησινάλλην).
Слова же о другой Луне, как у нас (В4), могут быть, во-вторых, истолкованы как
указание на то, что Анаксагор допускал существование некоего астероида, выполняющего
при Луне ту же самую функцию, которую при Земле выполняет сама Луна39. Правда,
с Солнцем вопрос не проясняется. И приходится поэтому все же отвергнуть эту
интерпретацию: допустить второе солнце, солнце Луны, не видимое нами с Земли, мы
не можем. Наконец, интерпретация П. Леона40 и С. Я. Лурье41 также имеет свое право
на существование. Лурье, в частности, пишет: «Аэтий сообщает, что, по Демокриту,
может существовать атом величиной с целый наш мир (κοσμιαΐος), что, несомненно,
пережиток частиц Анаксагора: в каждой из которых "есть города, населенные людьми,
обработанные поля, и светят солнце, луна и другие звезды, как у нас"»42. Основанием
для представления о бесконечно малых, сколь угодно малых мирах, качественно
совершенно аналогичных нашему миру, Лурье находит в инфинитеземальной
беспредельности микромира у Анаксагора, в положениях «все заключается во всем» и «в
малом нет наименьшего, но всегда есть еще меньшее». В пользу такой интерпретации
говорят, однако, только эти общие положения физики Клазоменца. Но сам фрагмент
В4, на наш взгляд, противоречит такой трактовке уже потому, что слова «в другом
месте» вряд ли имеют смысл по отношению к сколь угодно малым частичкам,
находящимся прямо у нас под руками в нашем мире: по Лурье, эти частицы и есть миры,
но они ведь вовсе не находятся в каком-то другом месте Вселенной, чем наш мир.
Те же самые общефизические основания имеются и у сходной интерпретации
Мюглера. Мюглер считает, что существует только один мир, но, начавшись с точки,
38 Диоген Лаэртский. О жизни и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1979.
С. 105.
39 Zeller Е. Op. cit. S. 1007.
40 Leon P. The «homoiomeries» of Anaxagoras // Classic. Quater. 1927. Vol. 21.
41 Лурье С. Я. Очерки по истории античной науки. М.; Л.: Наука, 1947.
42 Там же. С. 190.
34
Раздел первый
космогенез проходит гомотетические стадии так, что на каждом уровне малости
имеется вся полнота мировой структуры, кончая разумными существами.
Последующий процесс отделения, качественно гарантируемый беспредельностью бесконечно
малого, количественно обеспечивается внешними ресурсами. Фаза — квазимир —
гибнет в ходе продолжения общего космогенеза, но возникает новая, количественно
более крупная фаза, в качественном плане совершенно подобная предыдущей.
Мюглер считает, что именно «в глубинах современной Земли, далеко под нашими
подошвами, надо искать эти другие человечества (о которых заметим, как считает Мюглер,
и говорит фрагмент 4а. — В. В.), другое солнце и другую луну, о которых и говорит
фрагмент 4»43. И Мюглеру удается найти величественные слова для создания
грандиозной картины гибели миров, в данном случае квазимиров, связанных между
собой законами подобия. Он считает, что те страницы, на которых об этом говорил
Клазоменец, утрачены, но на них сообщалось, что «наши города будут сначала
затоплены водой, а затем засыпаны землей при условии, конечно, что мы еще далеки
от предельной периферии, к которой приближаемся асимптотически»44. Эта
неуверенность Анаксагора относительно близости нашего мира к периферии выражена,
по мнению ученого, в свидетельстве Диогена Лаэртского, содержащем ответ,
данный Клазоменцем на вопрос его собеседника относительно затопления в будущем
города Лампсака45. На этот вопрос Анаксагор отвечает, что Лампсак будет затоплен,
если только время это позволит.
Но эта грандиозная изобретательная концепция встречает возражение в тексте
В4, на что указал еще Симпликий: там стоит настоящее, а не прошедшее время при
описании «другого мира». Квазимиры же в интерпретации Мюглера все в прошлом,
и от них ничего не остается — в отличие от всегда «здесь и теперь» наличных
микромиров Лурье и Леона.
Подведем итоги нашего анализа проблемы ММ в космологии Анаксагора.
Во-первых, вслед за Кершенштейнер отметим, что между Анаксагором и атомистами
существует определенная преемственность в истолковании самого понятия «космос» в его
соотношении с понятием «уранос» (небо). В этой связи существенно то, что
Анаксагор вместе с Гераклитом и Эмпедоклом фиксирует слово «космос» для обозначения
мирового упорядоченного целого, которое существует в единственном экземпляре.
Космос становится синонимом Вселенной. Коррелятивное понятие «небо»,
напротив, приобретает локальный смысл окружающей Землю звездной области, утрачивая
смысл «мира», который резервировался за этим термином Анаксимандром.
Во-вторых, мы считаем, что Анаксагор хотя, по-видимому, и не разделял точки зрения Лев-
киппа на бесчисленность миров, тем не менее, скорее, способствовал
распространению и утверждению учения о БММ, чем его критике и отбрасыванию.
43 Mugler Ch. Le problème d'Anaxagore. P. 350.
44 Ibid. P. 351.
45 Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 106.
Проблема множественности миров в учении Анаксагора 35
Рассмотрим последний пункт более подробно. Сначала только напомним об
известной гипотетичности самого рассуждения Анаксагора о многих мирах. Кер-
шенштейнер считает в этой связи, что «тем самым был сделан последний шаг
от бесчисленных "небес" Анаксимандра к бесчисленным κόσμοι»46. Но еще более
существенным, исторически существенным, было то, что все учение Клазоменца,
по сути дела, несмотря на его полемические противопоставления атомистическим
положениям, воздействовало на мышление и на умонастроение в том же плане, что
и учение самих атомистов. Действительно, Анаксагор открыл беспредельность
перспективы Вселенной в ее бесконечно малом измерении, в то время как атомисты
открыли подобную беспредельность в сфере бесконечно большого. Иными словами,
и Анаксагор, и атомисты способствовали прорыву ограниченного космологического
кругозора, вносили в мышление перспективу беспредельности и даже бесконечности.
Знаменитая формула Анаксагора «все во всем», по сути дела, способствовала
созданию того, что мы могли бы назвать эпическим или эпопейным мироощущением. Если
эпос в словесном творчестве предполагает некоторую беспредельность в локальном,
если согласно формуле эпического мышления великое находится в малом, то физика
и космология Клазоменца учили о том же самом, но уже, конечно, на языке
рациональной, свободной от мифопоэтического образа научной прозы. Нетрудно видеть,
что эпическая мыслительная установка входит в состав той духовной атмосферы,
в которой может естественным образом формироваться учение о бесчисленных
мирах. Единственный мир космологии платоновско-аристотелевского толка, напротив,
связан не с эпопейной установкой, а с традиционной мифологической,
рассказывающей о сотворении или образовании единственного мира и всех его населяющих
существ. Этот мир конечен, замкнут, хорошо обозрим, повсюду ограничен, это мир
скорее классической скульптуры, чем эпоса, где повествование может зацепиться
за любую «малость», найдя в ней целый беспредельный мир. Эпос чреват беспре-
дельностями как раз того плана, которые мы засвидетельствовали у Анаксагора в его
физике. Деталь здесь неожиданно оборачивается целой неисчерпаемой Вселенной.
Поэтому в отталкивании в эпоху Ренессанса от замкнутой Вселенной Стагирита мы
видим и определенную составляющую, внесенную учением Клазоменца. Нам
представляется, что своеобразная «эпопеизация» представлений о природе и Вселенной
является некоторой сквозной глубинной тенденцией развития научного освоения
мира. Ее мы находим, конечно, прежде всего в отказе от геоцентризма, в коперни-
канском перевороте в астрономии и мироощущении человека. Конечно, эта
тенденция сопровождается контрастной тенденцией замкнуть, закруглить мировое бытие.
Так, мы видим, как обрываются бесконечности одного рода, чтобы, однако,
установить, возможно, некоторые новые. Третий фрагмент Анаксагора провозглашает
бесконечную сложность бесконечно простого, как и бесконечную величину
бесконечно малого (хотя математического понятия бесконечно малого античная
математика не знала). Каждая вещь, утверждает в этом фрагменте Клазоменец, «и велика
Kerschensteiner I. Op. cit. S. 160.
36
Раздел первый
и мала». Анаксагор полемизирует здесь скорее всего с атомизмом Левкиппа. «Любая
вещь, какой бы малой она ни казалась, столь же сложна, что и большая», —
комментирует И. Д. Рожанский этот фрагмент47. На качественно новом уровне физической
мысли идеи такого рода высказываются современными исследователями48. Сюда мы
относим обрывы бесконечного ряда частиц, законы так называемой ядерной
демократии, которая, кстати, имеет своим отдаленным прообразом именно учение
Анаксагора. Сюда же относятся все те космологические модели, которые говорят о
конечности Вселенной в пространственном плане, о так называемой замкнутой Вселенной,
окончательно замкнуть которую, однако, не удается и вряд ли удастся. В таком
размыкании на «живую» бесконечность («эпопеизации») мы видим ведущую тенденцию.
Действительно, никакие замыкания не оказываются преградой неисчерпаемости
бытия, его нетривиальной многоплановости и сращенности бесконечно малого с
бесконечно большим. А эта фундаментальная идея об аналогии микрокосмоса и
макрокосмоса, кстати, явно была впервые сформулирована Демокритом. И в этом плане
соседство с Анаксагором, сформулировавшим принцип относительности большого
и малого, оказывается скорее сотрудничеством, чем оппозицией. Подлинной
оппозицией такому размыканию в обе беспредельности бытия было лишь учение Платона
и, особенно, Аристотеля. Кстати, подобная инфинитизация, названная нами условно
«эпопеиностью», плохо совмещается с позднейшим креационизмом христианского
толка, и именно поэтому и атомисты, да и Анаксагор, не были в почете в эпоху
средних веков, избравшую себе в качестве рациональной мироучительной доктрины
именно аристотелизм. Беспредельный, разомкнутый, неисчерпаемый, полный
неожиданных возможностей и потенций к самоизменению мир представляет собой более
адекватную модель бытия, чем замкнутый единственно сущий мир. И в создании
такой картины Вселенной, такого мироощущения сотрудничают вместе и Анаксагор,
и атомисты с их учением о бесчисленном множестве миров.
J 988 г.
47 Рожанский К Д. Анаксагор: У истоков античной науки. С. 182.
48 Марков М. А. Элементарные частицы максимально больших масс (кварки, максимионы) //
ЖЭТФ. 1966. Т. 51. Вып. 3 (9). С. 878-890; Он же. О понятии первоматерии // Вопросы
философии. 1970. № 4. С. 64-75.
МЕХАНИКА И АНТИЧНАЯ АТОМИСТИКА*
В настоящее время вклад античного атомизма в историю механики вряд ли кем-то
будет оспариваться. Крупнейший советский исследователь Демокрита С. Я. Лурье
справедливо отметил, что «Демокрит не может быть выкинут из истории механики,
и умолчание о Демокрите, до сих пор обычное в работах по истории механики, нельзя
признать допустимым»!. Однако и после фундаментальной работы Лурье о механике
Демокрита умолчание о нем продолжается2. Конечно, для этого имеются формальные
основания. Действительно, до нас не дошло ни одного отрывка из специальных работ
атомистов, посвященных механике. Скорее всего, их просто не было3. По свидетельству
Плутарха, механике как специальной дисциплине положили начало Ев доке и Архит4.
Однако не формальный критерий должен руководить историком науки. Мы
знаем, что никакой химии в современном смысле слова не было в Древней Греции,
тем не менее о «химии» Платона или Аристотеля написаны серьезные исследования.
Атомисты заложили основы важнейших понятий механики — материальной точки
и бесконечного однородного изотропного пространства. Прообразом первого из них
был атом, а второго — пустота, составляющие фундамент атомистического учения.
Кроме того, в атомизме античности мы обнаруживаем подходы к некоторым
важнейшим законам механики и физики — принципам сохранения материи и движения,
а также к закону инерции. Удивительно, что наука в течение многих веков с трудом
освобождалась от господства перипатетических догм, в частности в теории
механического движения, с тем чтобы найти где-то на пороге Нового времени то, что давно
до Аристотеля было установлено или предвосхищено атомистами. Именно
античные атомисты создали первую в истории механистическую научную программу,
пытаясь свести все явления во Вселенной к механическим и геометрическим факторам.
Следуя своей эпистомологии разрывов, Гастон Башляр считает, что о реальном
влиянии античного атомизма на науку XVII в. говорить не приходится5. Конечно,
* Список изданий переводов всех использованных в работе фрагментов текстов античных
авторов и относящегося к ним доксографического материала приводится в конце статьи.
1 Лурье С. Я. Механика Демокрита // Архив истории науки и техники. Сер. 1. М.; Л.: Изд-во
АН СССР, 1935. Вып. 7. С 161.
2 Назовем в качестве примера исследование Дюга: Dugas R. Histoire de la mécanique. P., 1950.
3 Лурье G Я. Механика Демокрита. С. 130.
4 Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 3 т. М.: Изд-во АН СССР, 1961. Т. 1. С. 391.
5 Bachelard G. Les intuitions atomistiques: Essai de classification. P., 1933. P. 50.
38
Раздел первый
генезис атомистических идей может происходить и независимо в разных культурах,
в порядке, так сказать, полифилетического развития. Однако что касается истории
европейской традиции, то, на наш взгляд, влияние идей античного атомизма на
генезис науки Нового времени несомненно. Эти идеи передавались и через сочинения
самого Аристотеля, и конечно же главным образом через блистательное изложение
атомистики Эпикура в поэме Лукреция. Можно было бы проследить историческую
жизнь этих идей и их роль в становлении классической механики в XVII в. в трудах
Галилея, Ньютона, Гюйгенса. Но мы предпочли проанализировать некоторые
основные понятия и концепции античного атомизма, в которых закладывались основы
механики как науки.
Пустота и пространство
Историки античной атомистики с несравненно большим вниманием отнеслись к
понятию «атом», чем к дополнительному к нему понятию «пустота» (το κενόν). Однако
дошедшие до нас фрагменты и свидетельства указывают, что без понятия пустоты
атомизм как доктрина невозможен. Основоначала атомизма были выдвинуты Лев-
киппом: «Левкипп из Милета говорит, — сообщает Аэтий, — что первоначалами
и первосущностями (αρχάς και στοιχεία) являются полное и пустота (το πλήρες και
το κενόν)» (Ν 186)6. Пустота выступает почти во всех дошедших до нас источниках
вместе с атомами: их характеристики взаимно дополняют друг друга. Эта
дополнительность четко сознавалась самими атомистами и их комментаторами. Так, Иоанн
Филопон в комментарии к аристотелевской «Физике» указывает, что «полное и
пустота — это противоположности, которые он (Демокрит. — В. В.) называл
"существующее" и "несуществующее", "чего" и "ничего"» (Ν188). Взаимная противоположность
характеристик атома и пустоты видна уже из этого свидетельства: атомы — сущее,
пустота — несущее, атомы — что, пустота — ничто. Если мы просмотрим весь свод
фрагментов и свидетельств, то этот список противоположных характеристик атомов
и пустоты можно продолжить. Но как первоначала атомы и пустота имеют и общие
свойства или, лучше сказать, атрибуты. Например, Аэтий свидетельствует, что
«Демокрит, Метродор и Эпикур называли атомы и пустоту не подверженными
изменениям» (Ν 193).
Но этим атрибутом неизменности и вечности общие характеристики
атомов и пустоты не исчерпываются. Кроме того, атомы и пустота вездесущи: любое
тело, любая вещь — от самой микроскопической до мира включительно — состоят
6 Доксография Левкиппа и Демокрита цитируется по изданию: Лурье С. Я. Демокрит:
Тексты. Перевод. Исследования. Л.: Наука, 1979, с указанием номера соответствующего
фрагмента. Остальные досократики, Платон, Аристотель, Эпикур, Лукреций и другие античные
авторы цитируются по переводам, указанным в списке литературы.
Механика и античная атомистика
39
из атомов и пустоты. «Демокрит говорил, — свидетельствует Асклепий, — что
существующее и несуществующее находится повсюду» (N 178). Мы уже знаем, что
«существующее» — это атомы, а «несуществующее» — пустота. Итак, атомы и пустота —
равно универсальные, одинаково вездесущие сущности. Наконец, третьим общим
атрибутом атомов и пустоты является бесконечность: «атомы бесконечны по числу,
а пустота — по величине» (N 186). Аэтий сообщает о возможности огромных
размеров и для атомов, но ни один источник нам не говорит, что допускались атомы
столь бесконечно большие, как сама пустота, или вся Вселенная. Самый большой
размер, допускаемый для атомов, это отдельный мир (N207). Итак, атрибуты
абсолютной неизменности, универсальности и бесконечности (в разных отношениях) —
вот общие характеристики атомов и пустоты как начал и первосущностей
Вселенной. В остальном атомы и пустота наделены противоположными характеристиками.
Действительно, атомы находятся в вечном движении (N 309 и др.), пустота, очевидно,
не движется (N 304). Атомы — абсолютно плотны, тверды, непроницаемы, а пустота
совершенно проницаема (N 173). В этом отношении они — противоположности,
а именно противоположности плотного и рыхлого или плотного и разреженного,
непроницаемого и проницаемого (στερεόν και μανόν), причем обе характеристики
абсолютны и не содержат в себе ничего из противоположной ей характеристики. Атомы
телесны, а пустота бестелесна. Так, обычным названием для атомов является «тела»,
или «тельца», часто с уточнением «неделимые тела» (Ν 194). Пустота же — это
«бестелесное пустое» (N193).
Очевидно, что телесность и нетелесность близко соотносятся с основными
контрастными определениями атомов и пустоты как соответственно сущего и несущего,
«что» и «ничто». Для всех досократических мыслителей — включая Левкиппа и
Демокрита — телесность была необходимым признаком существования. Так, ранние
пифагорейцы, считая началами всего числа, мыслили их протяженными и даже
телесными сущностями. Бестелесность пустоты, таким образом, оказывается просто
перефразировкой того ее определения, что пустота — «несуществующее», «ничто»,
«нуль». И конечно, вся оригинальность атомистов в том, что они такое
«несуществующее» наделили столь же полноценным существованием, каким наделены атомы,
т. е. само сущее, бытие, «что». Как же это произошло, как, на каких основаниях
«небытие» было возведено в ранг бытия, «несуществующее» было объявлено
существующим? Именно здесь, в понятии пустоты, мы видим диалектический нерв всего
атомистического учения. Анализ понятия пустоты представляется крайне важным еще
и потому, что именно это понятие явилось далеким «предшественником»
абсолютного пространства классической механики. Отмечая эту связь и одновременно
подчеркивая значительные сдвиги в содержании понятия, В. П. Зубов пишет: «"Пустота"
древних атомистов, перерождаясь постепенно в "абсолютное пространство"
Ньютона, приобрела новые метафизические и даже теологические черты»7.
7 Зубов В. П. Развитие атомистических представлений до начала XIX в. М.: Наука, 1965.
С. 206.
40
Раздел первый
Итак, главное определение пустоты, если следовать перипатетической доксо-
графии, — «пространство». Симпликий донес до нас подлинные слова Демокрита,
цитируя сочинение Аристотеля «О Демокрите» в своем комментарии к его книгам
«О небе»: «Демокрит считает природой вечного маленькие сущности, бесконечные
по числу. Кроме них, он принимает и пространство (τόπος), бесконечное по
величине. Это пространство он называет такими именами: "пустота", "нуль* (ουδέν),
"бесконечное" (άπειρον)» (Ν 172). Отметим, что здесь подлинными словами Демокрита
являются слова, взятые переводчиком в кавычки. Демокрит не употребляет термина
«пространство» ни в его аристотелевском смысле («место» — το τόπος), ни в
специфическом платоновском (ή χώρα). Подлинный термин Демокрита — «пустота» (το
κενόν), которую он иногда называет и другими именами, в том числе «бесконечным»
или «беспредельным». Это название весьма существенно для понимания демокри-
товской теории пустоты. Оно указывает на ее связь как с традицией раннего
пифагореизма, для которого значимо отождествление пустоты и «беспредельного», так
и с традицией милетцев, прежде всего Анаксимандра8.
На связь демокритовского учения о пустоте с воззрениями другого милетца,
Анаксимена, указывает использование противоположности плотного и рыхлого,
сгущения и разрежения как основной логической матрицы для образования
атомистического понятия пустоты. Аристотель подробно проанализировал способ
введения пустоты в натурфилософскую систему, исходя именно из предположения
значимости такого рода противоположностей (Физика, IV, 9). Введение пустоты в плане
такой логики опирается на определенным образом интерпретируемый опыт: «Ведь
если бы не было редкого и плотного, — говорит Стагирит, реконструируя ход мысли
такого рассуждения, — ничего бы не смогло сжиматься и сдавливаться» (Физика, IV,
216Ь25). И отсюда следует необходимость допущения существования пустоты как
предельной степени состояния разрежения вещества. Пустота, по Аристотелю, это
место, лишенное тела (Физика, I, 208Ь26), но такое «пустое место», как он считает,
не может существовать.
Итак, мы ясно видим, что введение пустоты в философско-физическое учение
атомистов было обусловлено тем, что пустота четко вписывалась в систему
определенного рода противоположностей. Использование схемы противоположностей
характеризует не только досократических мыслителей, но и самого Аристотеля. Правда,
Стагирит вполне критически отнесся к традиции досократиков и выбрал значимые
для него пары противоположностей. В частности, такая механическая пара, как
«плотное — рыхлое», «густое — редкое» или, как у атомистов, «полное и пустое»,
оказалась для него неприемлемой прежде всего из-за его квалитативистских
установок, из-за качественной ориентации его физики. Традиционные противоположности
8 А. В. Лебедев считает, что этот «термин развился внутри атомизма, а не получен в
готовом виде из традиции (разумеется, от Анаксимандра) вопреки Кану [Kahn Ch. Anaximander
and the origins of Greek cosmology. N. Y., 1960. P. 234]» (Лебедев Α. Β. To άπειρον: не Анакси-
мандр, а Платон и Аристотель // ВДИ. 1978. № 1. С. 43).
Механика и античная атомистика
41
теплого и холодного, сухого и влажного выступили у него на передний план как
в физике, так и в метеорологии и биологии. Атомисты же, напротив, стали
развивать линию пифагорейцев и тех милетцев, которые, подобно Анаксимену,
выдвинули противоположности скорее механическо-квантитативного характера. На это
прямо указывает Аристотель: «Левкипп и его сотоварищ Демокрит утверждают,
что первосущностями являются полное и пустое, причем одно называют
"существующим", а другое "несуществующим". А именно полное, твердое —
"существующее", а пустое, проницаемое — "несуществующее". Поэтому они говорят, что
существующее существует ничуть не в большей мере, чем несуществующее, так как тело
существует не в большей степени, чем пустота, и считают эти первосущности
материальной причиной существующего. Точно так же как те, которые считают
субстанциальной сущностью единое, все остальное выводят из его состояний, считая
причиной всех состояний разреженное и плотное (το μανόν και το πυκνόν), и, как
[некоторые] из математиков, тоже видят в различиях (между первосущностями)
причины всего прочего» (Ν 173).
В связи с этим высказыванием Аристотеля нельзя не вспомнить милетца Анак-
симена. У него основной парой противоположностей, объясняющей все явления
в мире, выступают именно противоположности сжатия и разрежения, которые
характеризуют единое первоначало — «воздух» (αήρ). Как и у атомистов, у Анаксимена
качественные чувственные физические противоположности теплого и холодного
сведены к механоколичественным противоположностям (DK 13 А5). Конечно, у
атомистов «механизация» природы продвинулась значительно дальше, вплоть до того, что
сам принцип противоположностей перестает у них действовать в теории движения
(бесконечность пустоты и вечность движения). Но в данном случае нам важно
зафиксировать общую традицию, к которой принадлежат атомисты. Если Аристотель
с его субстанциализацией чувственно воспринимаемых противоположностей,
прежде всего противоположностей теплого и холодного, закладывает основы для
позднейших теорий тепловой жидкости (теплорода), то Анаксимен и атомисты, равно как
пифагорейцы и Платон, стоят у истоков противоположной линии развития физики,
состоящей в том, что тепло и холод, как и другие чувственно данные
непосредственные качества вещей, суть всего лишь эффекты, зависимые от характеристик
механического и геометрического плана.
Здесь необходимо сделать еще одно замечание в связи с анализом
использования атомистами традиционной схемы противоположностей. Любая
противоположность является в определенном смысле противоположностью качественной.
Атомисты на равных правах постулируют противоположность полного (атомы) и пустого.
Эта противоположность задает качественно различный, взаимно несводимый друг
к другу характер свойств у ее носителей. Действительно, пустота — абсолютно
проницаема, предел разреженности, а полное — абсолютно плотная субстанция, предел
сопротивления и непроницаемости.
Помимо ионийской традиции, повлиявшей на выбор атомистами основных
противоположностей, необходимо указать еще на две, возможно, даже более важные
42
Раздел первый
традиции, во многом определившие атомизм. Это, во-первых, пифагореизм и,
во-вторых, элейская школа. Ведущая оппозиция пифагорейцев — противоположность
предела и беспредельного — явственно просматривается и у атомистов. Действительно,
атом воплощает в себе свойства предела, это — форма, начало определения, а
пустота, очевидно, воплощает в себе беспредельное. У пифагорейцев в их космологии
понятия беспредельного (άπειρον) и пустоты (κενόν) пересекались. От элеатов
атомисты заимствуют противоположность бытия и не-бытия, причем бытие
истолковано у них как атомы, а не-бытие — как пустота. Кроме того, многие атрибуты
единого бытия Парменида воспроизведены в характеристиках атомов. Итак, мы можем
резюмировать, что схема противоположностей, по крайней мере в своем тройном
применении, идущем от милетца Анаксимена, от пифагорейцев и от Парменида,
послужила одним из основных средств введения пустоты в атомистическую систему.
Однако генеалогия атомистической пустоты не ограничивается механизмом,
диктуемым схемой противоположностей. Необходимость допущения существования
пустоты, призванного обосновать движение и объяснить множественность явлений
физического мира, отрицаемых у элеатов, обосновывалась у атомистов также с
помощью принципа изономии9. Об этом достаточно ясно говорит Аристотель в
процитированном нами месте из «Метафизики»: «...существующее существует ничуть
не в большей степени, чем пустота (διό και ούθέν μάλλον το öv του μη οντος είναι φα-
σιν)». С помощью именно таких рассуждений атомисты обосновывали и
бесконечное число форм атомов (N2), и бесконечную множественность миров (Ν 1), и
другие основные положения своего учения. Кроме Аристотеля, о явном применении
принципа изономии для обоснования существования пустоты говорят и другие
авторы, в частности Плутарх, Асклепий, Феофраст (Ν 7). Применение этого принципа
для обоснования существования пустоты как «бестелесного» начала указывает
бесспорно на перелом в истории греческой мысли, который в полной мере отмечен
сменой досократического этапа ее развития новым этапом, начатым сократическими
школами в эпоху Демокрита. Этот перелом, конечно, был бы немыслим без
элеатов, благодаря которым греческая мысль поднялась на дотоле небывалый уровень
9 Этот принцип может обозначаться по-разному. В. П. Зубов (Зубов В. П. Развитие
атомистических представлений до начала XIX в. С. 18) и Барнс (Barnes /. The presocratic philosophers.
L., 1979. Vol. 2) называют его просто принципом ου μάλλον (не более, ничуть не больше). Лурье
называет его принципом равновероятности, или «исономии» (Лурье С. Я. Демокрит: Тексты...
С. 207), а И. Д. Рожанский — принципом достаточного основания: «почему скорее здесь, чем
там?» (Рожанский И. Д. Развитие естествознания в эпоху античности: Ранняя греческая
наука «о природе». М.: Наука, 1979. С. 333). Суть этого чисто умозрительного принципа в том,
что у разных, но однородных возможностей постулируются одинаковые права на
осуществление, если только не будет доказано обратное. См. об этом принципе: Isonomia: Studien zur
Gleichheitsvorstellung / Hrsg. von J. Mau, E. G. Schmidt. В., 1964.; Burnet /. Early Greek philosophy.
4th ed. L., 1945; Mugler Ch. Isonomie des atomistes // Rev. philol. 1956. T. 30; Sambursky S. Conceptual
developments in Greek atomism // Arch. Intern, hist. sei. 1958. No. 44. P. 251-262; Vlastos G. Equality
and justice in early Greek cosmologies // Class. Philol 1947. Vol. 42.
Механика и античная атомистика
43
абстракции. Но атомисты пошли еще дальше, хотя их учение и было прежде всего
полемическим ответом на вызов, брошенный элеатами.
* * *
Наконец, обратим внимание на третий и последний момент в нашем анализе
генеалогии атомистического понятия пустоты. Исследователи атомизма, в том числе самый
первый и самый, быть может, авторитетный из них — Аристотель, отмечают
значимость сравнения движения атомов с движением пыли, видимым в солнечном луче.
Аристотель это делает при разборе представлений его предшественников о душе.
Из атомов, имеющих бесконечное число форм, — говорит Стагирит о Демокрите, —
шарообразные он называет огнем и душою, они подобны так называемым пылинкам,
носящимся в воздухе и видным в луче, пропускаемом через окно. «Полный набор»
таких (различных атомов) он считал элементами всей природы. Подобным же
образом (рассуждал) и Левкипп... По-видимому, такой же смысл имеет и то, что
говорят пифагорейцы: некоторые из них считали, что душа — это пылинки, носящиеся
в воздухе. Другие же считали (душой) то, что движет эти пылинки. Об этих
пылинках говорилось потому, что их можно наблюдать постоянно движущимися, хотя бы
была совершенно безветренная погода (N 200).
Мы не будем анализировать значение этого сравнения для понимания
возникновения учения об атомах. Нас прежде всего интересует оставшийся в тени
вопрос о том, какие образы, чувственные модели задают матрицы не для
представления «полного» (атомы), а для представления «пустого». Сам образ пыли, носящейся
в солнечном луче, представляет собой устойчивый и очень распространенный
образ, который обдумывался в разных культурных регионах, в разные эпохи
независимо от Левкиппа и Демокрита. Образ пыли, праха, персти земной — образ
бренности, тлена всех вещей и одновременно образ их бессмертия, вечности, так как в нем
представлены неразложимые далее начала всего сущего. Но посмотрим на
коррелятивную этому образу сторону всего сравнения в целом. Прислушаемся к словам Фе-
мистия, комментирующего процитированное нами место из аристотелевского
сочинения «О душе»:
Нет ничего удивительного, — говорит комментатор, — в том, что душа невидима,
хотя она и есть тело: ведь, как замечает Демокрит, и так называемые пылинки
(носящиеся в воздухе)у которые наблюдаются в лучах (солнца), пропускаемых через окно,
невозможно было бы наблюдать, когда не сияет солнце, но воздух кажется нам
совершенно пустым, хотя он и наполнен твердыми телами (N 200; курсив наш. — 5. В.).
Фемистий, поясняя возможность сочетания невидимости души с ее телесностью
у атомистов, мимоходом отмечает, что воздух, в котором при наличии солнечного
луча пылинки становятся видимыми, в отсутствие такого луча кажется «совершенно
44
Раздел первый
пустым». Если сами пылинки служат подобием атомов — сами по себе или же в
качестве только спонтанно движущихся и невидимых при обычных условиях
объектов, косвенно указывающих на присутствие в мире атомов, толкающих эти пылинки
(по типу броуновского движения), то сам недвижный воздух служит подобием и
моделью пустоты. На этот момент обычно не обращают внимания, видимо, потому, что
это считается само собой разумеющимся, или потому, что все внимание
комментаторов и исследователей поглощено загадкой атома, а не пустоты. Однако можно
предположить, что понятие атома является менее оригинальным вкладом
атомистов в науку, чем введенное ими представление об абсолютно пустом независимо
существующем бесконечном пространстве10. В схолиях к «Метафизике» Аристотеля
(1, 4, 985Ь6) говорится, что атомисты называли «пустым — воздух, (разлитый)
повсюду, в котором эти атомы, как полагали они, носятся» (N 176). В своем
комментарии к этому свидетельству Лурье пишет: «Смешение пустоты с воздухом несомненно
было совершенно чуждо Демокриту, но так как в каждом отдельном космосе не
существует никаких промежутков пустоты, исключая чрезвычайно мелких, и так как
Демокрит объяснял движения в космосе при помощи "воздушного вихря" (αιθέριος
δΐνος)п, то это смешение у его истолкователей вполне понятно»12.
Мы согласны с тем, что смешение пустоты и воздуха было чуждо Демокриту —
отличие пустоты от воздуха было убедительно продемонстрировано известными
опытами с клепсидрами, описанными Эмпедоклом (DK 31 В100) и Анаксагором
(DK А69). В эпоху Демокрита это отличие уже прочно вошло в фонд твердо
установленного знания. Однако само объяснение, почему комментаторы приписывали
Демокриту это смешение, данное Лурье, требует, на наш взгляд, уточнений. Мы
сомневаемся в том, что в космосе, по Демокриту, нет «никаких промежутков пустоты, кроме
исключительно мелких». Сам Лурье, выделивший специальный раздел о двух видах
пустоты (пустота внешняя и пустота промежуточная), не смог привести ни одного
свидетельства в подтверждение своей точки зрения. Ни одно свидетельство ничего
нам не говорит о «чрезвычайной ничтожности» промежуточной или внутрикосми-
ческой пустоты (το μεταξύ κενόν). Свидетельства подтверждают лишь тот принцип,
что все тела без исключения перемешаны с пустотой, что все атомы, иными
словами, всегда окружены пустотой и вне пустого окружения не существуют ни в
космосе, ни вне его. Это, по сути дела, не столько узкофизическое и даже количественно
могущее быть оцененным представление (насколько малы или велики промежутки
пустоты в том или ином случае), сколько принципиальное онтологическое
положение о том, что бытие дискретно, разрывно, что сплошности, непрерывности в нем
10 Романский К Д. Развитие естествознания в эпоху античности... С. 221.
11 Слова Аристофана, пародирующего, как считает Лурье, атомистов {Лурье С. Я. Механика
Демокрита. С. 142). Если Лурье считает, что у атомистов было учение о «воздушном вихре»
(Там же), то Зубов решительно с этим не согласен (Зубов В. П. Развитие атомистических
представлений до начала XIX в. С. 31). Проблема вихря рассматривается нами ниже.
12 Лурье С. Я. Демокрит... С. 461.
Механика и античная атомистика
45
нет. Отождествление воздуха и пустоты, на наш взгляд, имеет определенные
исторические оправдания. Действительно, у ранних пифагорейцев эти понятия
отождествлялись в синкретическом понятии беспредельного (το άπειρον). И хотя в
научном мышлении эти понятия различались еще до Демокрита, возможно даже до V в.
до н. э., однако в обыденном сознании воздух мог отождествляться, и действительно
отождествлялся, с пустотой. Так, открытие не-евклидовости космологического
пространства в начале XX в. вовсе не помешало на уровне обыденного сознания
по-старому представлять себе пространство как вполне евклидово и абсолютное в
ньютоновском смысле. Обыденное сознание не может не запаздывать в своей эволюции
по отношению к научному сознанию. И эти моменты необходимо учитывать, когда
мы сталкиваемся с отождествлением пустоты и воздуха, приписываемого
атомистам. Действительно, атомистическая пустота — понятие слишком
отвлеченно-онтологическое, его самым первым определением является не-бытие. Однако
представить себе бестелесное и уже поэтому не-сущее в качестве существующего было,
особенно для грека досократической эпохи, нелегко. На помощь приходили образы
и традиция. Поэтому воздух и выступил как эквивалент пустоты в обыденном
сознании даже ученых комментаторов.
Итак, мы можем зафиксировать, что движение пыли, видимое благодаря
солнечному лучу в безветренном воздухе, позволяет нам увидеть в этом имажинатив-
ном комплексе и образ пустоты: сам неподвижный и никак не воспринимаемый
чувствами воздух и есть этот образ. Этот момент подмечен немногими, но среди
них удачно подчеркнут Гастоном Башляром: «Неподвижный воздух, — говорит
Башляр, — вот, следовательно, интуитивно данная пустота»13. Анализируя этот
образ, мы обнаруживаем некоторые свойства пустоты, точнее, мы приходим к их
пониманию, образ служит нам средством их выявления. Пустота как отрицание сущего
никак не дана чувственному восприятию. Но благодаря ей все сущее становится
доступным чувствам. Пустота дана как «ничто» зрительного ощущения. И как
абсолютное «ничто» и «нигде» она выступает в качестве условия всякого «что» и «где»,
т. е. всех возможных явлений во Вселенной.
* * *
Обратимся теперь к историографии проблемы пустоты и пространства у атомистов14.
Мы не можем рассматривать ее здесь подробно. Отметим лишь основные черты.
Прежде всего следует подчеркнуть, что со всей остротой апории
пустоты-пространства у атомистов не были осознаны историками. Во многих работах, в том числе
13 Bachelard G. Les intuitions atomistiques: Essai de classification. P., 1933. P. 39.
14 Мы знаем только одну работу, специально посвященную анализу понятия
пространства в греческой философии до Аристотеля: Deichmann С. Das Problem des Raumes in der
griechischen Philosophie bis Aristoteles. Halle (Salle), 1893.
46
Раздел первый
в фундаментальном исследовании Гатри, пустота нацело отождествляется с
пространством, а на невольно возникающий вопрос, почему же атомисты учат о
пространстве, говоря о пустоте, дается краткий ответ, что «Демокрит не проводил
различия между местом (τόπος) и пустотой (κενόν)»15. И в обоснование этого Гатри
отсылает к свидетельству Аристотеля у Симпликия (DK 58 А37; N 172) и к самому
Симпликию (Ν 250). Но эти свидетельства вовсе не говорят нам об отождествлении
самим Демокритом пустоты и пространства. Действительно, в первом из них среди
собственных выражений атомиста указано не «пространство» или «место», а
«пустота» и такие ее синонимы, как «нуль» (ούδεν), «бесконечное» (άπειρον). Ясно, что
речь здесь идет только об аристотелевском «прочтении» атомистической пустоты.
То же самое надо сказать и о втором свидетельстве. Правда, здесь Симпликий
несколько искажает своего учителя и говорит в противовес ему, что Демокрит и другие
атомисты не пространство называли пустотой, а, наоборот, «пустоту пространством
(τόπος)». И далее он буквально повторяет определение пустоты, данное
Аристотелем в «Физике» (IV, 1,208Ь26). Но сам же Гатри, говоря о другом месте из
комментария Симпликия к «Физике» (Ν 254), где комментатор приписывает четкую
дефиницию «места» Демокриту, Эпикуру и стоикам, подчеркивает, что «она выглядит как
эпикурейская и изложенная в духе аристотелевского понятия пространства» (Ν 254).
Итак, мы резюмируем: отождествление пустоты Демокрита с «пространством» — это
не Демокрит, а Аристотель и зависимый (частично) от него Эпикур.
Более глубокую трактовку проблемы атомистической пустоты дает Бейли16,
отметивший различие во взглядах на эту проблему у самих атомистов. У Левкиппа, как
он считает, можно говорить о пространстве только условно, понимая под ним
исключительно «общую сумму тех частей Вселенной, которые в данный момент не
заняты материей»17. Иными словами, основное и единственное понимание пустоты
и вместе с ним «пространства» (Бейли прав, заключая его в кавычки) состоит в том,
что она мыслится как зияния между телами, которые находятся с ними во
взаимоисключающем соотношении. Кратко: пустота-пространство Левкиппа мыслится как
пустота-зияние. У Демокрита же Бейли находит уже колебания между этой
концепцией зияний и концепцией пустоты как места или пространства, в котором атомы
существуют и которое тем самым уже не находится с ними в отношении
взаимоисключения18. Эту позицию Бейли без всяких разъяснений и без ссылки на него
повторяет А. О. Маковельский19. Керк и Рейвен в соответствии со своей общей
установкой не отделять Левкиппа от Демокрита приписывают со всей решительностью
15 Guthrie W. К. С. A History of Greek philosophy. Vol. 2: The presocratic tradition from
Parmenides to Democritus. Cambridge, 1969. P. 391, прим. 3.
16 Bailey C. The Greek atomists and Epicurus. Oxford, 1928. P. 77,119,294 if.
17 Ibid. P. 77.
18 Ibid. P. 119.
19 Маковельский А. О. Древнегреческие атомисты. Баку: Изд-во АН АзССР, 1946. С. 91.
Механика и античная атомистика
47
и однозначностью этим атомистам исключительно концепцию пустоты-зияния:
«Аристотель ошибается, — говорят исследователи, имея в виду указанное
свидетельство (N 172), — когда он называет пустоту "пространством": атомисты не имели
концепции тел, занимающих пространство, и для них пустота существует там и только
там, где нет атомов, т. е. она образует зияния между ними»20.
Эта позиция привлекает своим бескомпромиссным отметанием всех
перипатетических в своих истоках отождествлений пустоты и пространства (в смысле
вместилища тел). Однако возникает вопрос: а как же понимать в таком случае
«великую пустоту» (το μέγα κενόν), между чем «зияет» эта пустота? Не говоря и о других
моментах, по крайней мере подводящих к представлению о
пространстве-вместилище, а имея в виду только эту сторону учения о пустоте, мы бы проявили большую
осторожность, сказав, что главным значением понятия пустоты-пространства у
первых атомистов действительно было «зияние», но оно сопровождалось неразвитым и,
видимо, только намеченным у них другим значением, значением
пространства-вместилища, которое со всей определенностью появляется у Эпикура, смешивающего
их и не замечающего между ними никакого противоречия. Эта позиция —
смешение расходящихся значений пустоты при полном невнимании к возникающей
благодаря этому апории — характеризует и некоторые современные толкования
понятия пустоты и пространства у атомистов.
К позиции Бейли во многом примыкает Джеммер. Он подчеркивает значение
мутации атомизма в данном вопросе при переходе от Демокрита к Эпикуру и Лукрецию:
«Мы находим, — пишет этот исследователь о Лукреции, — в противоположность
раннему греческому атомизму четкую и явно выраженную идею о том, что тела
размещаются в пустоте, в пространстве»21. На наш взгляд, Джеммер, подчеркивая новое
значение пустоты у поздних атомистов22, забывает сказать, что старое,
традиционное атомистическое истолкование пустоты как зияния сохраняется и у поздних
атомистов. Интересным филологическим анализом двойственности понятия пустоты
у Лукреция является исследование Я. М. Боровского23. Боровский внимательно
проанализировал богатую лексику лукрециевских обозначений пустоты и обнаружил
20 Kirk G. S., Raven /. £. The presocratic philosophers: A critical history with a selection of texts.
Cambridge, 1966. P. 408.
21 Jammer M. Concepts of space: The history of theories of space in physics / Foreword A. Einstein.
Cambridge, MA, 1954. P. 10.
22 Неясно только, почему он при этом пропустил Эпикура, рассматривая исключительно
Лукреция. У Эпикура мы находим четкое указание на понимание пустоты как
пространства-вместилища всех тел: «А если бы не было того, что мы называем пустотой, местом (τόπος),
недоступной прикосновению природой, то тела не имели бы, где им быть и через что двигаться,
как они, очевидно, двигаются» (Письмо к Геродоту, 40).
23 Боровский Я. М. Обозначения вещества и пространства в лексике Лукреция //
Классическая филология. Л.: Изд-во ЛГУ, 1959 . С. 117-140.
48
Раздел первый
вслед за Гершельманом24 два аспекта пустоты (inane): пустота как пространство
вообще, или всеобщее вместилище, и пустота как пространство, незанятое телами. В
целом присоединяясь к такому вычленению двух основных значений пустоты у
Лукреция, мы не можем, однако, согласиться с тем, чтобы второе значение (пустота-зияние
в нашей терминологии) называть также «пространством», как и первое. Это вопрос,
на наш взгляд, принципиальный. Концепция пустоты-зияния целиком входит в
логику принципа противоположностей, в которую не вмещается понятие пространства.
Для того чтобы понятие пространства могло сформироваться, мышление в рамках
принципа качественных противоположностей должно было быть преодолено. Без
этого гносеологического условия категория пространства невозможна. Пространство
в противовес пустоте нельзя «вытолкнуть» или ограничить телом. Это
принципиальное различие между пустотой и пространством нельзя упускать из виду. В
противном случае, каким бы тонким и тщательным ни был филологический анализ, он
нам все равно не даст подлинной специфики атомистической пустоты.
Во многих серьезных и интересных отечественных работах по истории античной
науки, и по атомизму в частности, вообще отсутствует сама постановка этой
проблемы25. Правда, иногда она все же (но только бегло) отмечается, не превращаясь
при этом в предмет анализа26. Поэтому нам представляется актуальной задача,
имеющая существенное значение для истории формирования важнейших предпосылок
механики как науки, рассмотреть апории атомистической пустоты-пространства.
* * *
Загадочность атомистической пустоты вызвана разными причинами. В их числе надо
прежде всего отметить столкновение в поле значений атомистической пустоты двух
планов, задающих основные линии ее интерпретации. Аристотель, который уделил
много места в своей «Физике» анализу проблемы пространства (места) и пустоты,
выявляет со всей определенностью значение пустоты как места, свободного от всякого
тела. «Утверждающие существование пустоты, — говорит он, имея в виду в первую
очередь, безусловно, атомистов, — называют ее местом (τόπος), так как пустота [если бы
24 Hoerschelmann G. Observations Lucretianae alterae. Lipsiae, 1877.
25 Гайденко П. П. Эволюция понятия науки: Становление и развитие первых научных
программ. М.: Наука, 1980; Зубов В. П. Развитие атомистических представлений до начала XIX в.;
Лурье С Я. Механика Демокрита; Лурье С. Я. Очерки по истории античной науки. М.; Л.: Изд-во
АН СССР, 1947; Романский Я. Д. Развитие естествознания в эпоху античности...
26 Ахутин А. В. Атомистические учения древности // Книга для чтения по неорганической
химии. 2-е изд., перераб., доп. М.: Просвещение, 1983. Ч. 1. С. 12-25; Вавилов С. И. Физика
Лукреция // Лукреций: О природе вещей. Т. 2: Статьи. Комментарии. Фрагменты Эпикура и Эм-
педокла / Сост. Ф. А. Петровский. М.: Изд-во АН СССР, 1947. С. 9-38; Маковельский А. О.
Древнегреческие атомисты. Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1946.
Механика и античная атомистика
49
она существовала] была бы местом, лишенным тела» (IV, 1,208Ь26). Это истолкование
пустоты многократно повторяется в дальнейшем. Так, Аристотель говорит, что
«признающие пустоту считают ее как бы местом и сосудом: он кажется наполненным, когда
содержит в себе массу, которую способен вместить, когда же лишится ее, — пустым,
как будто пустое и полное место одно и то же, только бытие их неодинаково» (IV, 6,
213а15). В других местах Аристотель отождествляет место с «протяжением» или
«промежутком» (διάστημα). «Люди, — говорит Стагирит, — подразумевают под пустотой
протяжение, в котором нет никакого воспринимаемого чувствами тела» (IV, 6,213а27).
Итак, по Аристотелю, признающие существование пустоты говорят о
протяжении, наделенном длиной, шириной и глубиной (IV, 1, 209а5), существующем
самостоятельно, независимо от тел (IV, 1, 209а1). Пустота, подчеркивает Аристотель,
«должна быть местом, в котором имеется протяжение осязаемого тела» (IV, 7,214а5).
Иными словами, пустота существует, по мнению атомистов в их интерпретации
Аристотелем, как изолированное и оторванное от самих тел их свойство быть
протяженными в трех измерениях. По Аристотелю, такое абстрактное свойство не может
существовать в реальном физическом мире точно так же, как не могут существовать
сами по себе предметы математики — линии, плоскости и т. п. Пустоту в другом
месте Аристотель называет «материей величины» (О возникновении и уничтожении,
I, 5, 321а5) и говорит, что такая материя не может существовать отдельно. Вообще
для Аристотеля пустота как протяжение есть предмет математики, а математические
предметы — предметы неизменные, но не существующие отдельно (Метафизика, XI,
7,1064а30). Правда, он прямо этого не говорит, но все его рассуждения к этому
сводятся. Так, он говорит, что «место [существует] вместе с предметом, так как границы
[существуют] вместе с тем, что они ограничивают» (Физика, IV, 4, 212а30). А быть
«границами или делениями» присуще как раз математическим предметам
(Метафизика, III, 5,1002Ы0). Таким образом, тезис о несуществовании пустоты вписан у
Аристотеля в его трактовку соотношения математики и физики27.
Второй план значений, связанных с атомистической пустотой, обусловлен тем,
что в ряде контекстов она выступает как квазителесная сущность. Во-первых, сам
Аристотель подчеркивает динамический характер пространства: «Перемещения
простых физических тел, — говорит он, — например огня, земли и подобных им,
показывают не только, что место есть нечто, но также, что оно имеет и какую-то силу
(δύναμις)» (Физика, IV, 1,208b 10). Далее, говоря о пустоте Левкиппа и Демокрита, он
указывает, что она у них «разнимает всякое тело» (Там же, 6, 213аЗЗ), разрывая его
сплошность. Здесь мы находим отзвуки отождествления пустоты с воздухом.
Воздух, как прекрасно продемонстрировали опыты с клепсидрами, обладает упругостью,
и в этом своем качестве он мог бы быть такой «разнимающей» вещи субстанцией.
Анаксагор и другие опровергали существование пустоты, показывая, что то, что
считалось пустым, на самом деле заполнено воздухом (Там же, 213а25). Отождествление
27 Об этом соотношении см.: Визгин В. П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля.
М.: Наука, 1982. С. 122-145.
50
Раздел первый
воздуха и пневмы с пустотой было характерно для ранних пифагорейцев, которые
использовали это синкретическое представление для объяснения разделения чисел
(Физика, IV, 1,213Ь25).
Этот квазителесный, вещественноподобный и динамический одновременно
характер пустоты у пифагорейцев мог позволить им говорить о втягивании или
вдыхании космосом пустоты. Но как можно вдыхать пространство? Поэтому
изменение соотношения пустоты и телесного бытия в атомизме (у атомистов не пустота
втягивается в мир, а сами атомы, образующие мир, втягиваются в пустоту), на наш
взгляд, убедительно указывает на то, что субстанциальное понимание пустоты,
типичное для пифагорейцев, сменяется у атомистов истолкованием пустоты как
прежде всего пространства или протяжения. Однако какие-то обертона таких
субстанциальных и динамических значений пустоты остались и в атомизме. В чем же они
звучат, где указания на то, что атомизм еще сохраняет квазителесное истолкование
пустоты? Мы должны напомнить, что самые основные и самые достоверные
определения атомистической пустоты указывают на такое истолкование. Действительно,
пустота и атомы, или «тела», взаимно исключают друг друга. В атоме нет совершенно
пустоты. В пустоте нет ничего от свойств атома как тела — нет его абсолютной
непроницаемости прежде всего. Что значит, что в атоме нет пустоты? И как можно
было бы говорить об отсутствии в атомах пустоты, если бы она исключительно
понималась как чистое пространство? Разве атомы лишены протяженности? Нет,
конечно. Они обладают протяжением, и даже весьма значительным, по крайней мере
у Левкиппа и Демокрита, видимо, допускались атомы даже огромных размеров.
Значит, атомисты допускали пространство, лишенное пространства! Это звучит
парадоксально, но этот парадокс ясно формулирует загадку атомистической пустоты.
Может быть, ввиду такого обстоятельства можно считать, что на самом деле
пустота атомистов вовсе и не была пространством, а была очень тонкой материальной
телесной субстанцией или средой, непрерывно все заполняющей, правда, за
исключением самих атомов, их объемов? Именно к такому выводу приходит В. П. Зубов.
Он, однако, не замечает резкого противоречия между этими двумя истолкованиями
пустоты — как тела и как пространства, и поэтому внешним образом соединяет оба
значения пустоты, даже не намекая на содержащийся здесь парадокс и апорию.
Получается, что атомисты мыслили пустоту «как пустое пространство, или "место"»28,
и в то же время «на деле пустота у атомистов оказывалась некой непрерывной
тончайшей материальной средой»29. К сожалению, В. П. Зубов не развил аргументации
в пользу последнего тезиса, и единственное данное им его обоснование — «если бы
пустота была чистым "ничто", она не могла бы иметь количественных и
пространственных характеристик: все нули одинаковы»30 — неубедительно.
28 Зубов В. П. Развитие атомистических представлений до начала XIX в. С. 40.
29 Там же.
30 Там же.
Механика и античная атомистика
51
Действительно, пустота как пространство или чистая трехмерная
протяженность имеет, конечно, пространственные характеристики, в том числе величину,
и в этом смысле количественную характеристику31. Но ничего другого, кроме такой
пространственно-количественной характеристики, у нее нет. Атомисты называют
пустоту «великой», «беспредельной», и это указывает на некоторое ее
количественное определение, пусть и в чисто качественном плане. Но следует ли отсюда, что
она — «материальная среда», да еще и непрерывная? Последнее, видимо, нужно
отбросить, так как, согласно атомистам, никакой пустоты нет в атомах. Значит, пустота
скорее не непрерывна, а разрывна — ее разрывают атомы. Что же касается
материальности пустоты, то никаких прямых указаний в свидетельствах на ее
материальный, вещественный характер мы не имеем. Напротив, пустота, как мы уже
отмечали, характеризуется «нулем» физических качеств, приписываемых атомам: атомы
весомы, пустота невесома (Лукреций, I, 363), атомы абсолютно тверды, пустота
абсолютно проницаема и т. д. В ее характеристиках нет ничего общего с телами, кроме
протяжения, если не считать ее вечности и неизменности как первоначала,
равноправного с атомами.
На наш взгляд, интерпретируя атомистическую пустоту как тончайшую
материальную среду, В. П. Зубов как бы спроецировал на античность представления
XVII в. Действительно, внимательно анализируя представления о пустоте в эту эпоху,
В. П. Зубов отмечает, что «на место "пустоты", или "пустого пространства" в строгом
значении слова... ставилась тончайшая и непрерывная материальная среда,
сближающаяся с воздухом»32. И если такую среду отождествить с пространством, как его
определял Отто Герике, то вскрытая нами апория атомистической пустоты на самом деле
исчезает. Согласно Герике, пространство есть «континуум, нечто проходящее сквозь
вещи и проницающее их, объемлющее величину всех тел, существующее вокруг,
снаружи и внутри всего»33. Такое истолкование пустоты действительно снимает апорию
«пространство — тело», пронизывающую античную концепцию атомистической
пустоты. Но такого понятия пространства явно не было у античных атомистов, хотя
определенный и даже значительный шаг в этом направлении был сделан именно ими.
Весь исторический контекст античного атомизма, его рождение из апорий элеатизма,
его глубокая укорененность в досократических традициях, в частности
приверженность к логике мышления в качественных парных противоположностях, — все это
не позволяло принять такого рода представление о пустоте-пространстве. Да и
развитие математики у греков не способствовало возникновению учения о «чистом»
31 С этим не согласен С. Я. Лурье, который, следуя за Дионисием у Евсевия (N 265),
подчеркивает полную «неопределенность» атомистической пустоты в количественном плане
(Лурье С Я. Очерки по истории античной науки. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. С. 188-189).
На наш взгляд, какие бы то ни было характеристики пустота получает исключительно в связи
с атомами, а не сама по себе.
32 Зубов В. П. Развитие атомистических представлений до начала XIX в. С. 199.
33 Там же. С. 200.
52
Раздел первый
пространстве, которое можно было бы затем физикализировать, перенеся из
математики в природознание и космологию.
Итак, атомистическая пустота — тело или пространство? Нам кажется, и мы это
постараемся показать, что аристотелевская интерпретация в принципе во многом
верна и что пустота атомистов в целом — это скорее пространство, чем тело или
телесная (материальная) среда, но эта интерпретация не должна приниматься в чистом
виде и безоговорочно. Атомистическая пустота — особое пространство, не просто
пространство как таковое, а пустота-пространство34. Вскрыть специфику этого
понятия — наша прямая задача.
И это мы уже частично проделали. Действительно, мы подчеркнули решающее
значение для оформления специфики атомистической пустоты логики качественных
противоположностей. Платон в «Федоне», разбирая соотношение жизни и смерти,
указывает на общую логику взаимного поведения противоположностей. Так,
например, теплое и холодное, снег и огонь не могут взаимно пронизывать друг друга,
оставаясь самими собой (106а-Ь). Атомы и пустота ведут себя аналогичным
образом: каждый из этих первоначал имеет в другом свою абсолютную границу. У
Лукреция мы читаем: «...природа блюдет, чтоб вещей совокупность предела ставить
себе не могла: пустоту она делает гранью телу, а тело она ограждать пустоту
принуждает^ чередованьем таким заставляя быть все бесконечным» (1,1008-1011; курсив
наш. — В. В.). Там, где кончается атом, начинается пустота, и наоборот.
Взаимопроникновение их невозможно, их смешение не предполагает проникновения пустоты
внутрь атома. Но структура пространства как геометрического трехмерного
континуума не может строиться на такой логике. Здесь нет места принципу
противоположностей, качественных различий, а есть исключительно тождественность единого,
т. е. предполагается своего рода, как говорил Аристотель, математическая материя,
непрерывное как таковое, составляющее предмет математики. И если даже у
атомистов пустота и была местом и пространством, то атомы все равно обладали внутри
себя совершенно другим пространством. Этот дуализм пространств, видимо, не был
ими осознан, но именно он представляет собой важнейшую характеристику
специфичности атомистической пустоты.
Эта специфика нередко упускается из виду, и тогда атомистическая пустота
начинает казаться чуть ли не полным аналогом абсолютного пространства Ньютона.
В этой связи весьма интересны замечания Эйнштейна в его предисловии к
исследованию Макса Джеммера об истории теорий пространства в физике35. Эйнштейн не
соглашается с точкой зрения историка, считающего, что концепция пространства как
34 Термин «пространство-пустота» по отношению к Лукрецию употребляет С. И. Вавилов,
стремясь отличить атомистическое понятие пространства от ньютоновского (Вавилов С. И.
Физика Лукреция. С. 14-17). Мы предпочитаем говорить о «пустоте-пространстве»,
дополнительно подчеркивая тем самым специфику этого понятия
35 Jammer M. Concepts of space: The history of theories of space in physics / Foreword A. Einstein.
Cambridge (Mass.), 1954. P. XV.
Механика и античная атомистика
53
«контейнера» материальных тел, совершенно от них независимого, бесконечного,
самостоятельно существующего, однородного и изотропного, была развита только
после Ренессанса, фактически в XVII в. В противоположность такой точке зрения сам
Эйнштейн считает, что античная атомистическая концепция предполагает именно
тот самый тип пространства, который мы находим в механике Ньютона. Эйнштейн —
не историк, и он не входит в детали эволюции понятий пустоты и пространства в
античности. Во-первых, делая это свое замечание, он не различает этапов в развитии
самой античной атомистики. А для историка — да и не только для него — это
существенно. Во-вторых, Эйнштейн действует как ученый-эпистемолог: он намечает две
основные контрастирующие между собой типовые концепции пространства36,
отметая все переходные формы. Такой подход оправдан, но он обязательно должен
дополняться конкретным историческим анализом.
* * *
Что же такое пустота и что такое пространство для греков в досократическую эпоху?
Мы вынуждены обратиться к анализу этой нелегкой проблемы, пытаясь разгадать
загадку атомистической пустоты. Прежде всего подчеркнем, что у первых
атомистов термина «пространство», или «место», как синонима пустоты мы не находим.
Пространство как самостоятельная категория — изобретение более позднее, и,
видимо, в философию оно впервые вводится Платоном (ή χώρα), отождествляясь у него
с представлением о «материи» (термин ΰλη отсутствует у Платона и появляется у
Аристотеля). Как специальная категория понятие пространства (места) тщательно
разрабатывается Аристотелем (ό τόπος). Свидетельствуя об атомистической пустоте,
Аристотель и зависимые от него доксографы толкуют пустоту как название для
«пространства». «Демокрит, — пишет Стагирит в своей книге "О Демокрите", цитируемой
Симпликием, — ...принимает и пространство (τόπος), бесконечное по величине. Это
пространство он называет такими именами: "пустота", "нуль", "бесконечное"» (Ν172).
Гален так поясняет понятие пустоты: «Пустота — некоторое пространство (χώρα τις),
в котором носятся атомы» (Ν 185). Аристотель, для которого пространство как
«место» — вполне значимая категория философии и физики, основание его механики,
а пустота — нечто несуществующее в природе, ошибочно принимаемая его
предшественниками, по крайней мере некоторыми из них, как существующее, прямо
объявляет, что атомисты принимали за начало пространство, а пустота была лишь его
именем наряду с другими. Позиция Аристотеля содержит в себе два момента.
Во-первых, она нам подтверждает то положение, что развитие идеи пространства
действительно шло во многом в рамках развития представлений о пустоте. Но, во-вторых,
сводя нацело атомистическую пустоту к пространству, конечно в его позднейшем,
прежде всего перипатетическом истолковании, мы можем утратить атомистическую
36 Jammer M. Concepts of space: The history of theories of space in physics. P. XIV.
54
Раздел первый
специфику этого понятия, нагруженного скорее не предвосхищениями грядущего
перипатетизма, а реминисценциями и значениями понятия пустоты, присущими
ранним мыслителям, элеатам и пифагорейцем в первую очередь.
Пустота и пространство легко отождествлялись не только в досократическую
эпоху, но и гораздо позднее37. Ипполит так описывает учение Парменида: «Он
утверждал также, что Всё вечно, не возникло, шарообразно и одинаково, не имеет
пространства (τόπον) внутри себя, неподвижно и конечно» (DK 28 А23). Однородность
и сплошность Вселенной (бытия Парменида), т. е. отсутствие в ней пустоты (DK 28 В8,
6-11), описываются доксографом как отсутствие в ней места, или пространства.
Какие же основания для такого отождествления имелись в греческом мышлении? Уже
приведенный материал, в частности свидетельство Ипполита о Пармениде,
показывает нам со всей ясностью, что для греков пустота (κενόν), место (τόπος),
пространство (χώρα) были очень близкими однородными представлениями, которые
возникают и развиваются прежде всего для того, чтобы прояснить кардинальную общую
проблему разделения вещей. Как, посредством чего, благодаря каким субстанциям,
силам, условиям одни вещи отделены в мире от других, одни числа отделены от
других чисел, а одни фигуры отделены от других фигур? В мышлении ранних
пифагорейцев эта проблема выступала как единая и универсальная, так как числа, фигуры
и физические тела у них отождествлялись. То, что эта проблема была нелегкой,
свидетельствует сам факт элейской философии, решительно сказавшей «нет» всей этой
проблеме, объявив бытие абсолютно единым, сплошным и неделимым. Это
означало, что никакой множественности вещей нет, а поэтому сама проблема
разделения вещей полностью снимается, так что понятие пустоты делается совершенно
излишним. Пустоты в таком случае просто «не надо». Согласно элеатам, она не
существует, что равносильно тому, как мы видели это из свидетельства Ипполита, что
не существует и пространства, хотя сферичность бытия у Парменида и указывает
на его протяженность (пространственность). Таким образом, фундамент основной
апории атомистической пустоты (дуализм двух протяженностей) заложен уже в
философии элеатов: бытие Парменида пространственно, но лишено всякой пустоты.
Излагая учение элеатов и ответ (предложенный на вызов, ими брошенный)
атомистов, Аристотель говорит: «Множественности [вещей] не может быть, если нет
того, что отделяет [предметы друг от друга]», т. е. если нет «отдельно существующей
пустоты» (О возникновении и уничтожении, I, 8, 325а6). «Пустота» и «разделение»
(το διηιρήσθαι) выступают как полные синонимы и в другом источнике (Ν 166),
восходящем, видимо, также к Аристотелю38.
37 Поэтому, конечно, мы не можем безапелляционно утверждать, что сам Демокрит не
называл иногда свою пустоту «пространством» (τόπος), как об этом говорит Аристотель.
Никаких независимых от Аристотеля свидетельств на этот счет мы просто не имеем. Однако
совершенно несомненно, что терминировано у него было именно понятие пустоты и оно
лежало в основе его учения, а не понятие «пространство».
38 Лурье С. Я. Демокрит... С. 460.
Механика и античная атомистика
55
Итак, мы можем вычленить три основных способа решения проблемы
разделения вещей, проблемы их отдельного существования друг относительно друга.
Во-первых, это радикальное решение, предложенное Парменидом и отстаиваемое его
школой. Согласно этому подходу, вещи ничем не разделяются. Поэтому нет многих
вещей, а существует единое бытие, неподвижное и неизменное. Никакой пустоты,
пространства и т. п. нет. Во-вторых, это решение атомистов. Частично его стали
обдумывать и применять уже такие мыслители, как Эмпедокл, введший
представление о «порах» (πόροι). Согласно подходу атомистов, вещи разделяются пустотой.
Все вещи разделяются ею — от мельчайших атомов до огромнейших миров. И
наконец, в-третьих, подход Аристотеля, претендующий объяснить множественность
вещей без пустоты, используя понятие о месте. Здесь у Стагирита происходит полное
расщепление представлений о пространстве и пустоте, намеченное еще у Платона.
У Платона пустоты не существует, однако пространство (ή χώρα) представляет собой
необходимое начало, которое служит посредником между миром умопостигаемых
первообразцов (νόησις) и миром чувственно воспринимаемых явлений (αϊσθησις).
Однако у Платона понятия пространства и материи сливаются в одно
синкретическое сложное представление, полифункциональное и перегруженное значениями.
Так, например, у него пространство способно к динамическим проявлениям, к
движению и т. п. (Тимей, 52a-53b).
У Аристотеля вещи отделяются от других вещей не пустотой и даже не
пространством, а вещами же. Но при такой сплошности физического бытия у него возможно
и движение, и множественность вещей. Это достигается всей системой его
физических и онтологических принципов, введением в онтологию категории
возможности, представлением об антиперистазисе, учением о естественных местах и т. д. Мир
у Аристотеля един и единствен, как и у Парменида. Но это совсем другое единство.
В конце концов, связность многообразия природных явлений у Аристотеля
основана на единстве телеологического типа. Его система гармонически сочетает
множественность с единством, причем последний момент онтологически, конечно, более
весом. Если уж говорить о каких-то аналогах пустоты, разделяющей вещи, у
Стагирита, то, пожалуй, можно сказать, что функцию физической пустоты у него начинают
выполнять логические и онтологические принципы, такие, в частности, как
принцип несообщаемости родов, значимый не только в эпистемологии (проблема
классификации наук), но и в онтологии и физике, а также принцип ближайшей материи,
принцип конкретности сущего и др. Важнейшим физическим принципом,
заменяющим у Аристотеля пустоту как разделяющее начало, выступает система
естественных мест, приводящая к постулированию изначально разделенного на различные
участки пространства. Неоднородность и анизотропность Вселенной Аристотеля
в сочетании с другими принципами, частично указанными выше, делают излишним
самостоятельное существование пустоты как стихии разделения тел.
Итак, основная функция атомистической пустоты — это разделение тел. Об этом
хорошо сказано у Фемистия: «Пустота рассеяна среди тел, говорят Демокрит и Лев-
кипп и многие другие, и позже Эпикур. Все они считают причиной того, что тела
56
Раздел первый
отделены друг от друга, то, что они перемешаны с пустотой, так как, по их мнению,
то, что воистину непрерывно, неделимо» (N 268; курсив наш. — В. В.). Обратим
внимание на модус существования пустоты — пустота «рассеяна» среди тел или атомов,
она с ними «перемешана». Иными словами, пустота мыслится здесь как своеобразная
разделительная субстанция, препятствующая вещам быть непрерывными,
сплошными. Пустота как субстанция разделения выполняет и онтологическую, и
физическую функцию. Однако, как мы видим, в такой роли она отлична от пространства
как «поместительной» способности бытия. Пустота как разделительная субстанция
ничего в себе не помещает — она просто обусловливает раздельное бытие вещей.
Но не означает ли это, что перипатетическое истолкование атомистической
пустоты как пространства произвольно и не учитывает реального смысла
атомистической пустоты? Нет, представление о пустоте у атомистов было достаточно
сложным, уже начиная с Левкиппа. Источники указывают нам на то, что Левкипп,
Демокрит и все другие античные атомисты признавали существование пустоты
не только как условия разделения тел, как некий «промежуток» между атомами
(διάστημα), но и как внекосмическую пустоту, существующую самостоятельно. Эта
пустота получает у них наименование великой пустоты (μέγα κενόν) и внешней
пустоты. «Вне же космоса, — указывает Иоанн Филопон, — есть пустота,
существующая отдельно» (N270). Неправильно, на наш взгляд, считать, что это разные виды
пустоты. Поэтому нам трудно согласиться по этому вопросу с Лурье39.
Действительно, внешняя, великая, внекосмическая пустота также выполняет
разделительную функцию — она разделяет такие «вещи», как миры. Миры у атомистов — своего
рода сложные тела, принципиальной разницы между макроскопическими вещами
и мирами нет, так как и те и другие равным образом состоят из атомов и пустоты
и возникают в процессе вихревого движения. Тем не менее, действительно,
имеется определенное различие в функциях пустоты при всем ее единстве, и поэтому
выделение двух видов пустоты имеет под собой основание. В самом деле,
описание Диогеном образования миров показывает нам, что «великая пустота» служит
не только средством разделения тел (здесь — миров прежде всего), но и средством
их размещения вообще, т. е. выполняет и функцию пространства как «контейнера»
или «вместилища» тел.
Кстати, здесь нельзя не вспомнить, что одно из основных определений
пространства-материи у Платона — это быть «восприемницей» (Тимей, 50d). Диоген
говорит, что «тела впадают в пустоту», что они несутся «в великую пустоту» (IV, 6).
Он не говорит здесь, как Фемистий, о перемешивании, разделении, рассеивании
пустоты среди тел с целью их разделения друг от друга. Наоборот, тела скорее сами
рассеиваются в пустоте: «Легкие тела (атомы. — В. В.), — говорит доксограф, —
отлетают во внешнюю пустоту, словно распыляясь в ней» (IV, 6). Поэтому позднейшее
истолкование пустоты как пространства, безусловно, не было беспочвенным. Нам
важно отметить, что оно намечено у Левкиппа и Демокрита, выдвинуто как одно
39 Лурье С. Я. Демокрит... С. 267.
Механика и античная атомистика
57
из несомненных значений понятия пустоты у Эпикура и в ясных формах выражено
у Лукреция. Этот существенный момент — изменение концепции пустоты и
пространства в ходе развития античного атомизма — не всегда отмечается историками.
Поэтому мы позволим себе остановиться на нем.
* * *
У Левкиппа и, видимо, у Демокрита главная функция пустоты — это разделение тел,
и в этом плане пустота — зияния между телами, и там, где есть тела, нет пустоты, так
как пустота и тела соотносятся как парные противоположности, не совместимые друг
с другом. В этом аспекте, доминирующем у ранних атомистов, пустота действительно
мыслится как бестелесная разделительная субстанция, дополнительная и
контрастная к разделяемым ею телам. Мы видим, что такие характеристики пустоты делают ее
весьма мало похожей на пространство как, говоря словами Эйнштейна, «контейнер»
тел40. Пустота в этом своем значении предстает как некий бестелесный, но
выполняющий функцию тела обезвоздушенный воздух, разделяющий или даже
расталкивающий тела — атомы. Этот момент динамизма присутствует даже и в платоновском
пространстве (Тимей, 53а). Звучит он и у ранних атомистов, наследующих традиции
пифагорейцев и «физиков» Ионии. Действительно, видимо, подлинным синонимом
пустоты у Левкиппа и Демокрита был термин μανόν— редкий, неплотный, рыхлый,
пористый41, противопоставляемый термину στερεόν — твердый, жесткий, плотный,
крепкий и др.42 (Аристотель, Метафизика, II, 4,985b4). Употребление этого термина
(μανόν) показывает, что пустота, для которой он выступал синонимом, мыслилась
Левкиппом прежде всего как «промежутки» (διαστήματα) между телами или атомами,
являющимися, напротив, плотными, полными, твердыми. И мы полностью согласны
в этом вопросе с Бейли, отмечающим в ходе анализа представлений Левкиппа и
Демокрита о пустоте, что «математический смысл протяженности, хотя его иногда и
приписывают атомистам, всегда был для них слишком абстрактной концепцией» и что
атомисты «колебались в своем понимании пространства между истолкованием его
как целостной протяженной Вселенной, некоторые части которой заняты материей,
и, с другой стороны, как "пустых" частей или интервалов между телами»43. Мы уже
отметили эту двойственность в истолковании пустоты у атомистов. Однако, на наш
взгляд, у Левкиппа и Демокрита чисто пространственные функции пустоты
(«контейнер») не были основным ее значением.
40 Jammer М. Concepts of space... P. XIV.
41 Дворецкий И. X. Древнегреческо-русский словарь. M.: Гос. изд-во иностр. и нац. слов.,
1957-1958. Т. II. С. 1051.
42 Там же. С. 1503.
43 Bailey С. The Greek atomists and Epicurus. Oxford, 1928. P. 74.
58
Раздел первый
Пространственные функции пустоты у Левкиппа и Демокрита требуют своего
более пристального анализа. Прежде всего рассмотрим одно упускаемое из виду
обстоятельство. Сравним космогенетическую ситуацию в космологии ранних
пифагорейцев, с одной стороны, и с другой — аналогичную ситуацию у первых атомистов.
Пифагорейцы также утверждали, — говорит Аристотель, — что пустота существует
и входит из беспредельной пневмы (έκ του απείρου πνεύματος) в небо (у Аристотеля —
синоним космоса. — В. В.), как бы вдыхающее [в себя] пустоту, которая
разграничивает природные [вещи], как если бы пустота служила для отделения и различения
примыкающих друг к другу [предметов]. И прежде всего это происходит в числах,
так как пустота разграничивает их природу (Физика, IV, 6,213Ь22-27).
Стобей сохранил для нас цитату из утраченного сочинения Аристотеля о
пифагорейцах, в которой говорится, что у них Вселенная «втягивает из беспредельного время,
дыхание (πνοήν) и пустоту, которая определяет места отдельных [вещей]» (DK 58 АЗО).
Приведенные свидетельства ясно показывают, что мир вдыхает пустоту и этот
процесс ведет к разделению вещей, т. е. к превращению начальной Единицы
(Монады) в упорядоченный космос. В этих свидетельствах, конечно, проглядывают еще
во многом мифологические представления, отождествляющие беспредельное как
источник упорядочения и космообразования и с пустотой, и с пневмой, или
живым дыханием, или «воздухом», и даже со временем. Очевидно, что в этом
комплексе время и пространство слиты воедино. Как справедливо отмечает А. В. Лебедев,
«"время", "дыхание" и "пустота" здесь мыслятся как единый бесконечный континуум,
объемлющий небосвод извне»44. Но нас сейчас интересует не этот космогонический
синкретизм, сам по себе интересный, поучительный и значимый, в частности для
истории самых ранних представлений о пространстве и времени. Мы хотим
обратить внимание на соотношение пустоты и мира вещей. Действительно, мир, для того
чтобы иметь возможность развиваться, вдыхает в себя пустоту. Не тела входят в
пустоту, втягиваясь в нее, а, наоборот, сама пустота втягивается телами или миром.
Посмотрим на ситуацию соотношения тел и пустоты у ранних атомистов. Диоген
ясно нам говорит, что «множество разновидных тел» несется «в великую пустоту».
Соотношение мира и пустоты, тел и пустоты здесь как бы прямо
противоположное тому, какое мы отметили у ранних пифагорейцев. Действительно, у
пифагорейцев пустота втягивается в мир и разделяет вещи, числа, фигуры (они их фактически
не различали), а у атомистов, напротив, тела (атомы) устремляются в пустоту,
несутся в нее, распыляются в ней и т. п. Итак, у пифагорейцев пустота подвижна, она —
пневма, дыхание, «воздух» (совершенно особого рода). Пустота у них что-то вроде
живого ветра, вносящего порядок благодаря разделению и росту изначальной
Монады, играющей роль первосемени. У атомистов же пустота неподвижна; подвижны,
напротив, сами тела. «По их теории, — говорит Александр у Симпликия о Левкиппе
и Демокрите, — пустота неподвижна» (Ν 304). Этот адинамический аспект пустоты
Лебедев А. В. То άπειρον: не Анаксимандр, а Платон и Аристотель // ВДИ, 1978. № 2. С. 51.
Механика и античная атомистика
59
у атомистов, конечно, шаг к ее истолкованию как пространства, понимаемого как
неподвижный неизменный «контейнер» для тел. Однако опространствление пустоты
в ясной форме происходит, видимо, только у Эпикура и Лукреция.
И наконец, перед тем как перейти к анализу эпикуровско-лукрециевской
концепции пустоты и пространства, отметим еще один момент в пифагорейских
представлениях о пустоте. Стобей говорит о том, что пустота «определяет места
отдельных [вещей]». Места, или расположения (здесь категория места, очевидно, трактуется
в аристотелевском смысле), возникают благодаря действию пустоты. Пустота, таким
образом, выполняет функцию пространствообразующего фактора. Пустота
определяет пространственную диспозицию вещей, однако этим ее функции отнюдь не
исчерпываются. Иными словами, пространство выступает как бы подчиненным моментом
по отношению к пустоте в целом. По сути дела, эта зависимость пространственных
значений от пустоты как своеобразной разделительной субстанции характеризует
не только пифагорейцев, но и первых атомистов, воспринявших во многом их идеи.
У Эпикура пустота и пространство как «вместилище» всех вещей практически
нацело отождествились. Конечно, значение пустоты как контрастной
противоположности по отношению к телам, безусловно, сохраняется, и поэтому вряд ли можно
говорить о том, что между пространством Лукреция и Эпикура, с одной стороны,
и абсолютным пространством Ньютона — с другой, нет различий. Эти различия,
несомненно, есть. Но в целом шаг к превращению левкиппово-демокритовой пустоты
в абсолютное пространство сделан именно в позднем античном атомизме.
Действительно, обратимся к фрагментам Эпикура. Учение о пустоте излагается
в его письме к Геродоту. Атомы (тела) и пустота — основы Вселенной (το παν),
равноправные в своем статусе начал, существующие самостоятельно. Эпикур говорит:
«А если бы не было того, что мы называем пустотой, местом, недоступной
прикосновению природой (χώραν και άναφή φύσιν), то тела не имели бы, где им быть и
через что двигаться, как они, очевидно, двигаются» (Письмо к Геродоту, 40). Пустота
отождествлена с «местом», или «пространством», будучи определена прежде всего
как «вместилище» всех тел и условие их движения. Пустота-пространство у
Эпикура — «целая природа», т. е. самостоятельно и отдельно существующая «сущность»,
а не простое свойство тел (Там же). Бесконечному числу атомов должна отвечать
бесконечная протяженность пространства: «Если бы пустота [пустое пространство]
была ограничена, то безграничные (по числу) тела не имели бы места, где
остановиться» (Там же, 42). Об отождествлении Эпикуром пустоты с местом (τόπος) и
пространством (χώρα) говорит и Стобей45. Однако основным термином для обозначения
равноправного с атомами первоначала у Эпикура остается термин κενόν (пустота).
Действительно, Симпликий говорит, что эпикурейцы рассматривали
пространство как «промежуток между границами того, что оно окружает»4б. Эта концепция
45 Лукреций. О природе вещей. Т. 2: Статьи. Комментарии. Фрагменты Эпикура и Эмпе-
докла / Сост. Ф. А. Петровский. М.: Изд-во АН СССР, 1947. С. 652, прим. 17.
46 Bailey С. The Greek atomists and Epicurus. P. 295.
60
Раздел первый
пустоты как «промежутка», существующего там и только там, где не существует тела,
сохранилась у Эпикура и Лукреция. В частности, у последнего мы находим ее
достаточно детальную разработку. Так, например, Лукреций, как и цитированный нами
Фемистий, говорит о том, что к телам «примешана» пустота (1,368-369).
Попеременное существование пустоты-пространства и атомов-тел Лукреций связывает с их
самостоятельностью или самобытностью как начал:
Существуют они непременно вполне самобытно.
Ибо, где есть то пространство, что мы пустотой называем.
Тела там нет, а везде, где только находится тело,
Там оказаться никак не может пустого пространства.
Значит, начальные плотны тела и нет пустоты в них.
(I, 505-509)
Здесь пустота-пространство и атомы-тела функционируют в режиме
взаимоисключающих противоположностей. Однако эта концепция пустоты-пространства
вряд ли является в целом доминирующей у Эпикура и Лукреция. Наиболее часто
встречающимся определением пустоты-пространства у Лукреция выступает такое
выражение: res in quo quaeque geruntur — то, в чем все происходит (например, 1,505;
I, 482 и др. места). И хотя, как и у Левкиппа и Демокрита, у Эпикура и у Лукреция
«полное» разграничивает «пустое», а «пустое» отграничивает одно «полное» от
другого (см., напр.: 1,527 у Лукреция), однако основное значение «пустоты» — быть
«вместилищем» всех тел и всех событий Вселенной, быть, иными словами, пространством,
близким к абсолютному пространству механики Ньютона.
Действительно, какие же атрибуты этого пространства-пустоты характеризуют
его? Пространство Эпикура и Лукреция, конечно, несет все атрибуты пустоты
первых атомистов — оно неизменно, хотя является причиной и основой всех
изменений, оно неподвижно, беспредельно, вездесуще, абсолютно проницаемо для
движений тел. Кроме того, Лукреций подчеркивает невесомость пустоты-пространства:
«пустота по природе своей невесома» [I, 363]. Этот атрибут с необходимостью
появляется у эпикурейцев потому, что атомы у них обладают весом, ответственным
за их движение «вниз». Пустота и атомы — противоположности, в силу чего они
наделяются на некотором фоне общих для них как для равноправных начал всего
мироздания свойств контрастными характеристиками. Действительно, атомы — тела,
а пустота — бестелесное бытие, «недоступная прикосновению природа» (φύσις άνα-
φής — Эпикур, I, 40), или «неосязаемое пространство» (locus intactus — Лукреций,
I, 334), поэтому если «книзу давить является признаком тела», то пустота невесома.
* * *
Мы можем теперь подвести некоторые итоги нашему анализу эволюции понятия
пустоты в античном атомизме. Во-первых, решающий шаг в превращении пустоты
Механика и античная атомистика
61
пифагорейцев и других предшественников атомизма в пространство как условие
множественности вещей и их движения произошел у Левкиппа вместе с
утверждением, что «бытие существует не более чем небытие» (Аристотель. Метафизика, I, 4,
985b4). Этот революционный шаг, опирающийся на принцип изономии, означал
утверждение в правах существования наряду с телами также и пространства,
бестелесной сущности, призванной служить условием существования самих тел, их
множественности, изменчивости вообще и механического движения в частности.
Конечно, пустота несет у атомистов прежде всего значение «стихии» разделения тел.
И поэтому она мыслится в рамках традиционной логики парных качественных
противоположностей, пронизывающей все досократическое мышление, начиная с
«физиков» Милета.
Огромное значение для складывания концепции пространства на базе
традиционного представления о пустоте имело открытие того, что воздух является
телом и способен оказывать сопротивление другим телам. «Ветры — тела, но только
незримые нами» (Лукреций, I, 277)47. Отделение представления о пустоте от
представления о воздухе способствовало оформлению учения атомистов о бестелесном
начале всего сущего, начале универсальном и вездесущем. Хотя атомы и пустота
равноправны как парные противоположности, однако в некотором смысле пустота
даже фундаментальнее самих атомов, так как только она дает условие для их
существования, в то время как сама пустота для своего бытия и не нуждается в атомах.
Возможно, что такая переоценка соотношения этих противоположностей, которым
на языке пифагорейской таблицы соответствует пара «предел — беспредельное»,
привела к «буму» бесконечностей в системе атомистов: бесконечность
пустоты-пространства, бесконечность числа и форм атомов и т. п. Одна бесконечность цеплялась
за другую, и в результате возникла картина мироздания, кажущаяся совершенно
необычной для греков с их традиционным «избеганием» бесконечностей. Указанная
переоценка соотношения этих противоположностей выразилась, возможно, и в
отмеченной нами инверсии динамики соотношения космоса и пустоты в космогене-
тическом процессе при переходе от пифагорейцев к атомистам.
Пустота Левкиппа и Демокрита однородна и изотропна. В ней нет никаких
различий. Именно поэтому Аристотель доказывает, что движение в пустоте невозможно,
в противовес атомистам, полагающим вслед за элеатами, что только
существование пустоты позволяет обосновать возможность движения (Физика, IV, 8, 214Ь30).
В отличие от Левкиппа — Демокрита, пустота-пространство Эпикура и Лукреция
приобретает определенную анизотропию в связи с введением понятия веса атомов
и соответственно установлением во вселенной абсолютных «низа» и «верха».
Движение под действием тяжести, или веса, определяет движение всех атомов вниз.
Наконец, отметим последний момент. У всех атомистов сохраняется
традиционное значение пустоты как «промежутка», разделяющего тела и наделенного
47 Воздух древние вообще мыслили по преимуществу динамически, т. е. как ветер
(Bachelard G. Les intuitions atomistiques... P. 39).
62
Раздел первый
контрастными характеристиками по отношению к телам. Пустота — это промежутки,
«расталкивающие» тела, полагающие границу их непрерывности. Однако эта
концепция постепенно уменьшает свой удельный вес в общей богатой семантике
атомистической пустоты, так что у Эпикура и Лукреция на передний план выступает
значение пустоты как всеобщего пространства, служащего «вместилищем» всех тел.
Развивая дальше следствия, вытекающие из концепции пространства как
локальных промежутков, разделяющих атомы и находящихся с ними в отношениях
взаимоисключения, мы можем предложить вполне определенную модель для
понимаемого таким образом пространства и движения в нем. Обращаясь к анализу основных
предпосылок атомизма, мы задаемся вопросом о том, являются ли характеристики
атомов и пустоты совпадающими (это имеет место, например, в случае такой
характеристики, как вечность) или же диаметрально противоположными,
взаимоисключающими (атомы — «бытие», пустота — «не-6ытие»). Бытие, согласно атомистам,
дискретно. Спрашивается, дискретно ли не-бытие, или пустота?
Если между атомами и пустотой установлена строгая взаимность и
дополнительность, то, спрашивается, как ее надо мыслить в данном случае? Как дополнительность
непрерывной пустоты и дискретных атомов или как дополнительность взаимно
ограничивающих друг друга пустоты и атомов, так что пустота делает разрывным
бытие (атомы), а бытие (атомы) делает разрывной пустоту? Взаимоисключаемость
атомов и пустоты, кажется, заставляет нас предположить, что пустота так же дискретна,
как и бытие, представленное в атомах. Там, где находятся атомы, нет пустоты, и там,
где пустота, нет атомов. Но этого рассуждения все же недостаточно для
утверждения необходимости дискретного модуса существования пустоты. Дополнительным
аргументом в пользу дискретности пустоты могло бы послужить положение о
неподвижности пустоты. Действительно, такое положение мы находим у Симпликия.
Симпликий, разбирая возражения на тезис гераклитовцев о том, «что все движется»,
приводит слова Александра: «Александр же утверждает, что атомы, согласно творцам
атомистической теории, есть вечно движущиеся первопричины и для образованных
из них соединений, хотя это и ускользает от наших чувств. "Но и по их теории, —
говорит он, — пустота неподвижна" (N 304). Если допустить, что пустота
действительно мыслилась как неподвижное сущее небытие, покоящиеся зияния между
атомами и их соединениями, то как в таком случае представить себе движение атомов?
Если бы пустота была непрерывной средой, «непрерывной тончайшей
материальной средой», как это считает Зубов48, тогда движение атомов в такой среде должно
было бы сопровождаться непрерывным же заполнением этой средой «следа» от
движения атома. Но если вводится запрет на перемещение пустоты, то такое
непрерывное движение пустоты как среды также запрещается.
Остается предположить другое истолкование пустоты, а именно
дискретное ее понимание. В этом случае никакого перемещения дискретных единиц
пустоты на место ушедшего атома не требуется, поскольку уход атома с данного места
Зубов В. П. Развитие атомистических представлений до начала XIX в. С. 40.
Механика и античная атомистика
63
автоматически означает возникновение пустоты, так как пустота у атомистов — это
не более чем свободное от атомов «пространство», зияние. Но дискретная
структура пустоты означает, что она мыслится как набор «дырок», незанятых ячеек,
существующих во Вселенной наряду с атомами, которые их могут занимать. При этом
существенно, что ничем третьим эти «дырки» не могут быть заполнены, что пустота
не оказывает атомам никакого сопротивления при их движении. Так, мы видим, что
на языке современного представления о «дырках» можно выразить все учение
атомизма, прежде всего учение о движении. Дополнительным аргументом в пользу
дискретного представления пустоты и, следовательно, в пользу релевантности
«дырочной» модели движения служит и то иногда отмечаемое исследователями
обстоятельство, что атомы у атомистов движутся исключительно друг относительно друга,
а не относительно всюду присутствующего «пространства вообще»49.
Очевидно, что движение во Вселенной, согласно такой модели, можно
представить как противоток движения атомов и квазидвижения квазиатомов — «дырок»,
или «зияний» (пустот). Отсутствие трения равносильно незаполненности «дырок»
ничем третьим — об этом выразительно говорит Лукреций:
...привести ничего ты не мог бы такого.
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастно
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
(1,431-432)
Была ли действительно у атомистов теория дискретного движения,
предполагающая дискретность пространства? По-видимому, такая теория допускалась
Эпикуром. Возможно, что ее допущение связывалось им с его принципом множества
возможных объяснений, которым он широко пользовался. Несомненно, что
принцип «равноскоростности» движения, или «исотахии», он допускал. Известно также,
что допущение одинаковых скоростей движений тел рассматривалось критиками
атомизма как аргумент против их концепции (Аристотель. Физика, IV, 8, 216Ь20).
«Атомы, — говорит Эпикур, — движутся с равной быстротой, когда они несутся
через пустоту, если им ничего не противодействует» (Письмо к Геродоту, 61). Что же
касается Левкиппа и Демокрита, то нам не хватает свидетельств, чтобы утверждать,
что у них была дискретная теория движения, пространства и времени. Такая теория
была приписана Демокриту Лурье, но, как он сам справедливо отмечает, в
отношении дискретности времени нет «ни одного прямого свидетельства»50,
подтверждающего такую точку зрения. Однако и подробный разбор допущений о дискретности
пространства и движения Аристотелем, и наличие таких представлений, например,
у Диодора Крона, и конечно же весь дух атомистического учения заставляют нас
предполагать возможность различного рода дискретных представлений о
пространстве, движении и времени у атомистов.
49 Романский И. Д. Развитие естествознания в эпоху античности... С. 221.
50 Лурье С. Я. Очерки по истории античной науки. С. 181.
64
Раздел первый
Любопытную трактовку соотношения четырех взаимных синонимов для
обозначения пустоты-пространства у Эпикура (пустота — κενόν, место — τόπος,
пространство — χώρα, неосязаемая природа — αναφής φύσις) дает Секст Эмпирик. В ряду этих
синонимов он выделяет «неосязаемую природу» как общее название для начала,
выбранного вместе с атомами в качестве основ Вселенной. В зависимости от ситуации
«неосязаемая природа» получает то или иное название.
Та же самая природа, — говорит Секст, — будучи лишенной всякого тела,
называется пустотой, занимаемая телом, носит название места, а при прохождении через
нее тел зовется пространством. Вообще же природа называется у Эпикура
неосязаемой, ввиду того что она лишена свойства осязательного сопротивления (Против
физиков, И, 2-3).
В связи с этой трактовкой надо заметить, что поскольку у атомистов атомы всегда
находятся в вечном движении, даже будучи в «связанном» состоянии, т. е. находясь в
составе сложных тел, то, следуя Сексту, именно «пространство» оказывается наиболее
адекватным термином для обозначения того, в чем они движутся и что выступает
условием их движения. Кинетический характер существования атомов не только
изменяет соотношение «места» и «пространства» в пользу последнего, но и приводит к тому,
что расхождение между двумя отмеченными смыслами понятия пустоты-пространства
у атомистов в определенной мере сглаживается. Это обстоятельство отмечает Бейли:
Трудность, — говорит историк об этом расхождении, — возникает в значительной
мере вследствие нашего подхода, предполагающего мир состоящим (в основном)
из стационарных объектов; если же мы перенесемся мысленно в эпикуровский мир
вечно движущихся атомов, то противоречие между двумя точками зрения на
пространство во многом исчезает51.
Для Эпикура и Лукреция это, видимо, действительно так, но для Левкиппа и
Демокрита, у которых мы не находим четко выраженной идеи пространства как
«вместилища» тел, основным содержанием «неосязаемой природы» является ее
характеристика как пустоты, находящейся во взаимоисключающем отношении с телами.
В связи с этим обратим внимание на апории пустоты у атомистов. Абстрактная
идея чистой протяженности, трехмерного евклидова пространства у них, можно
сказать, отсутствует или только намечена. Полной развертке идеи пространства
мешает как логика качественных противоположностей, так и почти полное
пренебрежение античными математиками этой эпохи проблемой абстрактного
трехмерного геометрического пространства. В эпоху Демокрита и в последующие годы
у греков немалое развитие получила планиметрия, но не стереометрия. Укажем
в этой связи, например, на задачу удвоения куба, решение которой с помощью
планиметрии предложил Гиппократ Хиосский. Это пренебрежение стереометрией
отмечает Платон в «Государстве».
51 Bailey С. The Greek atomists and Epicurus. P. 296.
Механика и античная атомистика
65
После плоскостей, — говорит Сократ, разбирая вместе с Главконом вопрос о
соотношении геометрии и астрономии, — мы взялись за твердые тела, находящиеся в
круговращении, а надо бы раньше изучить их самих по себе — ведь правильнее было бы
после второго измерения рассмотреть третье: оно касается измерения кубов и всего
того, что имеет глубину. Это так, Сократ, но здесь, кажется, ничего еще не открыли
(Государство, VII, 528b).
Со стереометрией, или, как ее называет здесь Платон, с «наукой об измерении
глубины» ([Там же, 528d), по его словам «дело обстоит до смешного плохо».
Итак, греческая математика действительно «игнорировала геометрию
пространства»52. Поэтому разработка концепций пространства происходила прежде всего
в русле развития космологии и физики, в ходе эволюции философской мысли греков.
Учитывая это обстоятельство, мы не можем согласиться с той трактовкой
возникновения идеи пространства в античности, которую дал видный английский историк Корн-
форд53. Корнфорд считает, что атомисты физикализировали понятие абстрактного
геометрического пространства, разработанное математиками, введя в свою систему
представление о пустоте54. Этот же шаг, совершенный атомистами, может
рассматриваться как, напротив, геометризация физического представления о пустоте. Эта
геометризация, по мнению английского ученого, состояла в приписывании физической
пустоте, «расположенной вне видимого Неба, бесконечной протяженности
геометрического пространства»55. Корнфорд считает, что где-то перед Левкиппом и
одновременно с ним математики в попытках упорядочивания и аксиоматизации своих теорем
пришли к необходимости постулирования геометрического пространства трех
измерений бесконечной протяженности. Однако никаких свидетельств на этот счет
Корнфорд не приводит. Их, видимо, попросту нет. Напротив, мы привели убедительное
свидетельство Платона, что даже в его время геометрия трехмерного пространства
совершенно не была разработана, о чем Платон явно сожалеет, выдвигая ее развитие как
насущную задачу перед кругом близких к нему математиков. Однако эта разработка
происходит, вероятнее всего, уже после написания основных сочинений Демокрита,
не говоря уже о Левкиппе, концепция пустоты которого была давно уже выдвинута
и подхвачена Демокритом. Так что вряд ли можно говорить о каком-то влиянии, тем
более определяющем, математиков на становление концепции пустоты-пространства
у атомистов. Эту слабость всей концепции Корнфорда справедливо отметил Оуэн56.
52 Jammer M. Concepts of space... P. 14.
53 Cornford E M. The invention of space // The concepts of space and time: Their structure and
their development / Ed. M. Capek. Dordrecht; Boston, 1976. P. 3-16.
54 Ibid. P. 6.
55 Ibid. P. 12.
56 Owen G. E. L. Eleatic questions // Studies in presocratic philosophy. Vol. 2: The eleatics and
pluraliste / Ed. R. E. Allen, D. J. Furley. L., 1975. P. 78-79.
66
Раздел первый
Итак, о физикализации атомистами геометрического пространства речи быть
не может. Не было ее даже у Эпикура и Лукреция, хотя ко времени их деятельности
математика далеко продвинулась вперед и первые опыты аксиоматизации
геометрии уже были, в том числе у Гиппократа Хиосского. Мы в этом пункте полностью
согласны с Бейли.
Математическая концепция пространства должна быть отстранена в данном
случае, — говорит он, рассматривая концепцию пустоты-пространства у Эпикура, —
так как невероятно, чтобы она имелась в виду Эпикуром по следующим основаниям:
1) это не отвечало бы его отношению к математическому подходу в целом, 2) такая
концепция шла бы вразрез с его собственной теорией поверхности как
последовательности дискретных minima и 3) это противоречило бы многочисленным
синонимам, которые он употребляет для обозначения пространства57.
Эти же самые аргументы, может быть за исключением первого, могут быть отнесены
и к Демокриту. Но если бы даже Демокрит и хотел воспользоваться геометрическим
учением о пространстве, то он просто не смог бы этого сделать из-за отсутствия
последнего у математиков его времени. Поэтому понятие пространства
разрабатывается в натурфилософии и лишь весьма постепенно отделяется от понятия пустоты.
Особого внимания заслуживает проблема соединения идей
пустоты-пространства с идеей беспредельности. В разработке концепции беспредельности Вселенной
физики-философы, вероятно, опережали математиков. Решающий шаг в этом
развитии был сделан, вероятно, Мелиссом. Согласно Диогену, «мнение его было, что
Вселенная беспредельна, неизменна, недвижима, едина, подобна самой себе и полна» (IX,
4,24). Пустота в этой Вселенной не допускается. Мелисс — ученик Парменида,
изменивший учение своего учителя, у которого Вселенная-бытие конечна, чтобы избежать
критики. Действительно, если бы единое бытие было конечным, как у его учителя
Парменида, то оно имело вне себя другое, т. е. не было единым. Мелисс доказывал
бесконечность единого бытия-Вселенной, исходя из необходимости обеспечить его
единство в условиях, когда представления о беспредельности Вселенной приобрели
гораздо больший вес, чем в эпоху Парменида. Оуэн, возражая Корнфорду,
предположил, что не математики разработали идею бесконечного изотропного и
однородного пространства Вселенной, а элеаты — Зенон и Мелисс прежде всего58. И это,
конечно, было сделано раньше, чем предполагается схемой Корнфорда. Мы, в свою
очередь, можем допустить, что эти разработки элеатов, несомненно, как в случае
Зенона, так и Мелисса, были усвоены Левкиппом, который был, вероятно, разве что
немного старше Мелисса, безусловно младше Зенона и, возможно, сам происходил
57 Bailey С. The Greek atomists and Epicurus. P. 294. О проблеме «двойного атомизма»
(математического и собственно физического) у атомистов см.: Романский И. Д. Развитие
естествознания в эпоху античности. С. 324-327, и работу Властоса: Vlastos G. Minimal Parts in Epicurean
Atoms // Isis, 1965. Vol. 56, pt. 2. P. 121-147.
58 Owen G. £. L. Eleatic questions. P. 79.
Механика и античная атомистика
67
из Элей (Диоген, IX, 6,30) и, по свидетельству того же Диогена, был слушателем у Зе-
нона. К представлению о бесконечности-беспредельности Вселенной Мелисс мог
прийти, рассуждая и другим способом, а именно: то, что имеет середину (центр),
начала и концы (периферию), не есть единое, а поэтому подлинное бытие должно быть
беспредельным. Апории Зенона уже указывают на ясное осознание представления
о пространстве как непрерывной протяженности. Поэтому неудивительно, что в этой
позднеэлейской атмосфере могло родиться учение о беспредельной
пустоте-пространстве. Решающий и поистине революционный шаг Левкиппа состоял в том, чтобы
приписать беспредельной пустоте-пространству реальное существование.
Атомистическая пустота-пространство указывает на нематематический источник
своего происхождения уже потому, что это понятие двойственно, как мы это видели.
Двойственно оно в том смысле, что предполагает два рода протяженности:
протяженность атомов — протяженность, абсолютно плотную и совершенно не пропускающую
разделяющее воздействие извне (непроницаемость), и протяженность пустоты —
совершенно проницаемую и не оказывающую никакого сопротивления движению тел.
Протяженность в атомизме, таким образом, распадается на качественно различные и даже
противоположные друг другу разновидности, что немыслимо для математического
геометрического представления о пространстве в духе Евклида. Уже одно только это
обстоятельство отличает античный атомизм от механицизма Декарта. И прав в этом плане
Робен, когда говорит, что такая двойственность обнаруживает, что «абдеритская школа
не дошла до конца в своей количественной и геометрической концепции природы»59.
Если мы и сомневаемся во вкладе математиков в становление учения Левкиппа
и Демокрита о пустоте-пространстве, то в отношении Эпикура и Лукреция мы не
можем не предположить наряду с сильным перипатетическим влиянием, проявившимся,
в частности, во введении абсолютной анизотропии пространства и в
использовании категории «места», влияние и выдающихся математиков и механиков,
каковыми были, например, Архит Тарентский, принадлежавший к школе пифагорейцев,
и Гиппократ Хиосский. Архит вместе с другими математиками, в частности с Теэте-
том, видимо, пытался систематизировать имеющиеся теоремы. Как говорит Прокл,
благодаря их трудам «было увеличено число теорем и они были доведены до более
научного состояния» (DK 47 А6). Это «более научное состояние» геометрии, видимо,
следует понимать в том смысле, что Архит разрабатывал представления об
исходных постулатах или предпосылках доказательств. На это указывает предложенный
им аналитический метод, который, как считает Гейберг, «заключался в том, что
предложенную задачу считают уже решенной и затем шаг за шагом переходят обратно
к необходимо получающимся отсюда предпосылкам, пока не дойдут до такой,
правильность или неправильность которой уже твердо установлена»60. Для нас не менее
59 Robin L. La pensée grecque et les origines de l'esprit scientifique. P., 1923. P. 139.
60 Гейберг И. Я. Естествознание и математика в классической древности / С прил. ст. Ш. Рю-
елля, П. Таннери, С. Рейнака; пер. С. П. Кондратьева; под ред. и с предисл. А. П. Юшкевича.
М.; Л.: ОНТИ НКПТ СССР, 1936. С. 39.
68
Раздел первый
важно и то, что именно Архит «первый упорядочил механику, приложив к ней
математические основы, и первый свел движение механизмов к геометрическому
чертежу» (Диоген, VIII, 4, 83).
Другим важным моментом является вклад Архита в учение о беспредельном
пространстве. Его известное рассуждение, доказывающее беспредельность пространства
Вселенной (DK 47 А24), несомненно, было известно Лукрецию, который его
воспроизводит в основных чертах:
Кроме того, коль признать, что пространство Вселенной конечно,
То если б кто-нибудь вдруг, разбежавшись в стремительном беге,
Крайних пределов достиг и оттуда, напрягши все силы,
Бросил с размаху копье, то — как ты считаешь? — оно бы
Вдаль полетело, стремясь неуклонно к намеченной цели,
Или же что-нибудь там на пути бы ему помешало?
То иль другое признать придется тебе неизбежно,
Но ни одно не дает тебе выхода, и согласиться
Должен ты, что без конца распростерто пространство Вселенной.
(1,968-976)
На наш взгляд, в полной мере евклидовость пространства классической
механики была осознана вовсе не атомистами, которые, конечно, во многом
способствовали формированию такого представления о пространстве, и даже не самим
Евклидом, как это считает, например, Эддингтон61. Евклидовость пространства была
действительно осознана в своей специфике только с созданием неевклидовых
геометрий и с опытом их проецирования на физическое пространство. До этого времени
евклидовый характер пространства казался естественным и абсолютным,
исключающим какой-либо другой. Эта оппозиция (евклидовость—неевклидовость) стала
расхожим методологическим членением фактически лишь после создания теории
относительности. И такой видный историк, как Корнфорд, принимает эту
оппозицию как имеющую историческую значимость в античности. Но подобного рода
сопоставления представлений о пространстве у античных философов-физиков с его
евклидовыми и неевклидовыми характеристиками в современном смысле являются
довольно грубой модернизацией, могущей завести в тупик историческое
исследование, как это фактически, пусть отчасти, и произошло с работой самого Корнфорда.
Конечно, неевклидовость в историческом плане выступает как доевклидовость,
однако имеющая, по сути дела, ту же нагрузку — служить альтернативой евклидовому
характеру пространства.
Однако эта альтернатива совсем иная, чем та, которая содержится в современных
представлениях о неевклидовых пространствах в геометрии и космологии. Так,
наличие сферических конечных моделей Вселенной в античности (например, у Парменида
или Аристотеля) абсолютно исключает любое представление о кривизне пространства.
61 Eddington A. The expanding Universe. Cambridge, 1932. P. 40.
Механика и античная атомистика
69
Что же касается самого Евклида, то, по справедливому замечанию Джеммера,
у него «стереометрия была развита в самой незначительной степени», ее
техническая терминология не была стандартизирована, а система прямолинейных координат
в трехмерном пространстве вообще отсутствовала у греков62. Евклидово
пространство как бы осталось за кадром системы геометрии, созданной Евклидом. И свойства
этого пространства мы должны реконструировать, отталкиваясь от наличного в
«Началах» учения. Так, например, такое важное свойство пространства, как
бесконечность, мы можем предполагать, читая определение, даваемое Евклидом
параллельным линиям: «Параллельные — суть прямые, которые, находясь в одной плоскости
и будучи продолжены в обе стороны неограниченно (εις άπειρον), ни с той ни с другой
стороны между собой не встречаются»63. «Неограниченность» и означает, что
пространство следует считать беспредельным. Физикализации пространства у атомистов
не могло быть вопреки мнению Корнфорда, так как само пространство как
работающее понятие механики, астрономии и космологии не было геометризовано греками64.
* * *
Учение атомистов о пустоте-пространстве трудно переоценить. Независимо
существующее, бесконечное, однородное, изотропное (у Левкиппа — Демокрита),
неизменное, неподвижное пространство (пустота) атомистов, частично заполненное
вечно движущимися атомами, послужило исторической основой для абсолютного
пространства Ньютона. В плане такой исторической преемственности выдающуюся
роль сыграло возрождение физической атомистики античности у Пьера Гассенди.
Немалое значение в этом процессе имели идеи Патрици о природе пространства,
утверждавшие приоритет пространства над веществом. Кстати, эта идея в
античности содержаласьу Архита, как об этом свидетельствует Симпликий65. В неявной
форме ее можно предполагать и у поздних античных атомистов, так как пустота,
получившая статус пространства как «контейнера» всех тел, по крайней мере
имплицитно, начинает мыслиться как условие всякого телесного бытия. У Гассенди эта идея
оформляется как тезис не только о логическом, но и о временном приоритете
пространства по отношению к веществу.
62 Jammer M. Concepts of space... P. 23-24.
63 Евклид. Начала Евклида / Пер. с греч. Д. Д. Мордухай-Болтовского. М.; Л.: Гостехиздат,
1950. Кн. 1-6. С. 14.
64 Jammer M. Concepts of space... P. 24.
65 В своих комментариях к «Категориям» Аристотеля он сообщает о том, что у Архита было
специальное сочинение о природе пространства, которое он цитирует: «Так как то, что
движется, движется в определенном месте, а действие и претерпевание также являются
движениями, то ясно, что место, в котором действующее и претерпевающее существуют, имеет
приоритет перед вещами» (Jammer M. Concepts of space... P. 8).
70
Раздел первый
Гассенди соединил учение о беспредельной пустоте Демокрита и Эпикура с
представлениями Гильберта и Кеплера о том, что силы связаны не с пространством, а
исключительно с одной лишь материей. «И именно Ньютон, — говорит Джеммер, — включил
теорию пространства Гассенди в свой великий синтез, создав концепцию абсолютного
пространства»66. Влияние атомистики Эпикура на Ньютона не подлежит сомнению.
Одним из конкретных исторических путей такого влияния был английский
эпикуреизм XVII в., в котором видную роль играл Ральф Кедворт. Его воздействие на Ньютона
было изучено Койре67. Конечно, эпикуреизм Ньютона, как справедливо подчеркивает
Герлак, был «христианизированным»68. Но Ньютон во многом следовал за античным
атомистическим образцом физического мышления. Так, например, в своей полемике
с Декартом, отрицавшим существование пустоты, он доказывал его, опираясь на
распространенные еще в античности и широко использованные атомистами аргументы
в его защиту. После выхода в свет «Начал» Ньютон развивает свое учение о
пространстве, дополняя эпикуровскую концепцию теологическим истолкованием пространства
как Чувствилища (Sensorium) Бога, служащего проводником его активного воздействия
на движение всех тел. По сути дела, у позднего Ньютона мы находим своеобразную
теорию нематериального агента, ответственного за гравитацию и движение. В
соответствии с этим бесконечное пространство заполняется особым эфиром. Как
считает Герлак, внимательно исследовавший эволюцию взглядов Ньютона, этот шаг в
направлении ревизии прежней точки зрения был сделан для того, чтобы «освободить
древнее учение об атомах и пустоте от опасной концепции самодвижения материи»69.
Таким образом, это был шаг в направлении усиления христианизации эпикуреизма.
Атомистическую концепцию пустоты-пространства мы можем резюмировать
следующим образом. Пространство у атомистов сочетает в себе две диаметрально
противоположные его трактовки: во-первых, его континуальную трактовку как
вместилища («контейнера») всех вещей во Вселенной, как абсолютного условия
существования тел и движений и, во-вторых, как сумму дискретных «промежутков»
(διαστήματα), как отдельные пустоты, разделяющие все тела, как набор таких дискретных
пустот. Идея непрерывности и вездесущности пространства, столь близкая к
пониманию его в XVII в., и в том числе Ньютоном, сочетается у античных атомистов с идеей
пространства как конечного дискретного промежутка между телами, как локального
зазора, ничем не заполненного. Именно наличие в античной атомистике этого
дискретного представления о пространстве сближало атомистику с теми, по сути дела,
противоположными ей доктринами, которые в своих объяснениях конкретных
физических явлений использовали принцип пористого строения вещества (Эмпедокл,
Стратон, Аристотель в IV книге «Метеорологии»).
66 Jammer М. Concepts of space... P. 92.
67 Koyré A. Du monde clos à l'univers infini / Trad. R. Tarr. P., 1962.
68 Guerlac H. Newton et Epicure. P., 1963. P. 10.
69 Ibid. P. 34.
Механика и античная атомистика
71
Дискретная концепция пространства вытекала из всей досократической
традиции с ее принципом качественных противоположностей и с учением о пустоте как
своего рода квазивещественной субстанции, несовместимой с собственно веществом
или телами (взаимовыталкивание пустоты и тел). Сама по себе эта специфическая
дискретная концепция пространства вводится в атомизм вместе с его основными
постулатами, определяющими в качестве равноправных первоначал
противоположности пустого и полного, пустоты и атомов. Дискретная концепция
пространства развивалась исторически раньше, чем концепция непрерывного бесконечного
однородного пространства. «Промежуток», «полость», «зазор» и тому подобные
локальные «разрежения» вещества были осознаны и введены в круг обобщений и
объяснений явлений природы раньше, чем абстрактное чистое непрерывное и
бесконечное пространство.
В концепции пространства у атомистов пересеклись его локальные и глобальные
интерпретации, традиция и новаторство, повседневный опыт и смелое
захватывающее дух умозрение. Концепция бесконечного непрерывного однородного и
изотропного пространства складывалась в рамках учения о пустоте, которое, развиваясь,
преодолевало концепцию локальных пор, с одной стороны, а с другой — освобождалось
от пифагорейской трактовки пустоты с ее отождествлением пустоты и воздуха, в
рамках которого пустота мыслилась как своего рода разделяющая вещи и числа
квазисубстанция, способная к перемещению. У атомистов пустота начинает превращаться
в неподвижный и всеохватывающий «контейнер» тел, в который они устремляются
в своем движении, вместо того чтобы самим втягивать в свои агломераты пустоту
извне. Если по привычке новоевропейской науки, от Галилея и Ньютона до Эйнштейна,
считать пространством только непрерывный континуум координат движения, то
атомистическую концепцию пространства надо считать концепцией
пустоты-пространства, имея в виду сочетание в ней непрерывных и дискретных представлений.
Представление о дискретных локальных ограниченных промежутках между
телами кажется вполне «работающим» в случае состояния равновесия. Такой случай
представляется реализованным для сложившегося космоса, когда вещи
образовались и существуют в стационарном режиме. Но как быть с дискретностью в случае
«свободных» атомов, носящихся в «великой пустоте»? А свободные атомы
предполагались, как мы знаем, любой формой античного атомизма.
Ведь в этом случае промежутки между атомами меняются в силу движения
атомов относительно друг друга. Указанная трудность может быть прояснена, если мы
вспомним, что в истории были концепции, предписывающие изменение самим
формам атомов. Атомы и пустота — коррелятивные, дополнительные понятия, и если
возможно мыслить «меняющиеся» атомы, то не менее возможно мыслить и
изменение форм пустых промежутков между ними. Кстати, уже само по себе изменение
форм атомов означает одновременно, так сказать автоматически, и изменение форм
пустых промежутков между ними.
Такая теория, предусматривающая изменение форм атомов, была предложена
в XVII в. автором известного тогда сочинения «Воскресший Демокрит» (Париж,
72
Раздел первый
1646) Жаном-Кризостомом Маньяном, который, помимо занятий медициной и
философией, интересовался также механикой и баллистикой70. Маньян основывался
на неравенстве площадей различных изопериметрических фигур, перенося эти
закономерности на атомы, толкуемые им скорее в духе Платона, чем Демокрита. Так,
«явления разрежения и сгущения объясняются у Маньяна изменением формы
атомов»71. Очевидно, что при этом меняется и структура промежутков. Изменение форм
и величин пустых промежутков без изменения форм и величин атомов — в
античном атомизме, в отличие от атомистики Маньяна, они неизменны — равносильно
случаю движения атомов. Если при этом в ходе анализа движения мы отвлечемся
от представлений о непрерывном пространстве и будем представлять себе движение
только в рамках концепции дискретных промежутков, тогда, очевидно, само
движение получает характеристику дискретности. Атомы переходят от одной диспозиции
промежутков к другой скачком в силу конечности своих размеров, причем этот
скачок может быть просто огромным, так как и сами атомы могут быть огромными —
вплоть до величины отдельного космоса.
Итак, дискретный характер движения атомов можно представить связанным
с конечностью величины формы атома. Дискретность движения атомов в данном
случае следует, иначе говоря, из необходимости соблюдать строгую корреляцию
между такими дополнительными понятиями, как атомы и пустота. Если бы пустота
как промежуток менялась непрерывно, то соответствие между атомами и пустотой
было бы утрачено. В этих рассуждениях структура промежутков определяется
формами и величиной (структурой) атомов, и при фиксированной форме набора
атомов фиксированы и формы промежутков — они не могут быть меньше
минимальной величины атомов в данном наборе. Ведь промежуток — это отсутствие атома,
и не может быть, например, «половины» отсутствия. Иными словами, промежутки
всегда должны быть величинами, кратными величинам самих атомов, промежутки
между которыми имеются в виду.
Но вся эта логика, вполне строгая в своих границах, должна быть дополнена
другой альтернативной логикой, обосновывающей, напротив, не дискретность
пространственных и временных (это связанные представления) характеристик
движения, а тем самым и самого движения, а их непрерывность. Действительно, атомы
и пустота мыслятся как контрастные по своему содержанию понятия. Атомы —
абсолютно плотны и непроницаемы, а пустота — совершенно проницаема и не
оказывает никакого сопротивления движению атомов. Исходя из этого, задаваемого
атомистами парнопротивоположного характера атомов и пустоты, можно предположить,
что атомам как дискретным частицам телесного начала соответствует пустота как
непрерывность бестелесного начала. Чтобы образовалось «целое» (το πάν), нужны
обе противоположности — и дискретное и непрерывное начало. Первое воплощают
атомы, второе — пустота как пространство-контейнер.
70 Зубов В. П. Развитие атомистических представлений до начала XIX в. С. 201-203.
71 Там же. С. 202.
Механика и античная атомистика
73
Итак, в соответствии с указанной принципиальной двойственностью
пространственных представлений движение в атомизме может истолковываться двойственно:
и как дискретный процесс с конечными кинемами, и как непрерывный процесс,
соответствующий бесконечному и непрерывному пустому пространству.
* * *
Проделанный нами анализ понятий пустоты и пространства позволяет сделать такой
вывод. Взаимодействие физики и математики уже в досократический период и
впоследствии носило «челночный» характер. Что же касается формирования понятия
пространства, то, как уже сказано, мы считаем, что здесь физика и философия
опережали математику. Уже у ранних пифагорейцев «беспредельное», некоторая
синкретическая материя, питающая растущий космос, выступало внутри космоса как
«пространство», точнее, как пустота-пространство, служащее для разделения и
физических тел, и чисел, и геометрических фигур. Пустота и воздух, геометрия и
арифметика, физика и космология здесь еще не были разделены. Но в дальнейшем такое
разделение постепенно развивается. И вместе с ним формируется идея
пространства как простого вместилища тел.
У первых атомистов эта идея только зарождается в виде представления о
«великой пустоте», так как основная смысловая нагрузка в их концепции
пустоты-пространства лежит в ее определении как такой «сущности», которая существует там
и только там, где нет «полного» (атомов). Иными словами, пустота ограничивает
атомы, разделяет их, но атомы не находятся в пустоте как простом
пространстве-вместилище. Со всей ясностью это значение пустоты как универсального и однородного
пространства-вместилища прочитывается только у Эпикура и затем у Лукреция.
Видная роль в становлении идеи пространства принадлежит Платону. По его
беспокойству отставанием стереометрии от планиметрии и по его заинтересованному призыву
к математикам развивать теорию трехмерного пространства и трехмерных
геометрических тел мы можем предположить, что в его время действительно геометрия
еще не создала (по крайней мере, четкой и однозначной) непротиворечивой
концепции трехмерного пространства. Поэтому те черты пространства геометров, которые
вместе с атомистической пустотой и своеобразным динамизмом в духе Архита
содержатся в платоновском пространстве, видимо, будут еще извлечены в
абстрактной форме геометрами. Так что не столько «физики» физикализировали
пространство геометров, сколько геометры математизировали пространство «физиков»72.
Хотя терминологически пустота и пространство нередко перекрывались у
греков, однако идея пустоты и идея пространства развивались частично независимо
друг от друга, и их развитие отвечало различным познавательным контекстам.
Действительно, представление о пространстве в своем развитии опирается на долгий
72 «Физиками» (οι φυσικοί) называет натурфилософов VI-V вв. до н. э. Аристотель.
74
Раздел первый
практический опыт в таких сферах деятельности, как, например, земледелие,
землемерие, описание земной поверхности и т. п. Это подтверждается употреблением
слова χώρα73.
Развитие представлений о пространстве протекает при попытке категоризации
опыта, имеющего дело с заполненным пространством. Эти попытки выражаются
в позиционных трактовках пространства, понимаемого как диспозиция тела среди
других тел. Наоборот, семантика слова το κενόν (субстантивированное
прилагательное, «пустое») показывает, что это слово употреблялось исключительно в ситуациях
освобождения чего-то от находящегося там, в ситуациях отбрасывания, отнятия,
лишения, опустошения, покидания, оставления, удаления, изымания и т. п. И конечно,
достойно внимания, что пифагорейцы сделали пустое своего рода сущностью, правда,
в комплексе с «беспредельным» и «воздухом». Пустота, обозначенная субстантивом,
стала субстанцией, некой универсальной материей разделения. В идее пространства,
пожалуй, главное — это ее освобождение от зависимости от идеи тела. И именно
развитие представлений о пространстве в форме представлений о пустоте
позволило достичь утверждения пространства на равных правах с телами в плане
независимого самостоятельного существования. Именно атомисты первые решили дать
пустоте ровно такие же права на существование, как и самим телам. Никто на это
не осмеливался в их эпоху. И это, по сути дела, и было подлинным рождением
понятия пространства.
Представления о пространстве фиксировали положение тел, их взаимную
диспозицию и, конечно, протяжение тел, их размеры в отношении ширины, глубины,
длины. Представления же о пустоте фиксировали разобщение тел, их разделенное
существование, наличие зазоров, промежутков, зияний между телами. Конечно,
у тех же пифагорейцев эти идеи и соединяются. Вдыхая пустоту, космос-монада
обретает протяженность, трехмерную структуру, числа растут или множатся,
потенции, заложенные в монаде-семени, как мы скажем, реализуются в конкретном
пространстве, в развитой структуре космоса. Попавшая в растущий космос
пустота наполняет «тела» геометрических фигур «пространством»: здесь она
выступает как «пустошь», невозделанное пространство, окаймленное границами фигур74.
«Пустошь», лежащая за границей (ορός), называется χώρα — термин для категории
пространства наряду с «местом» (τόπος). Элементарный геометрический смысл
пустоты состоит в том, чтобы быть «пустошью» фигур, находящейся за их гранями,
вне и внутри них75.
73 Дворецкий К X. Древнегреческо-русский словарь. Т. 2. С. 17-92.
74 Όρος — геометрический термин для границ фигуры взят из практики землемерия, как
отмечает Прокл в своем комментарии к Евклиду (Cornford F. Λί. The invention of space. P. 9).
75 Конфорд считает, что «в этом аспекте Пустота была геометрическим
пространством» (Cornford Ε M. The invention of space. P. 9). Однако, на наш взгляд, здесь имеется
скорее только возможность понятия геометрического пространства, только его «зародыш».
Все внимание еще обращено на сами фигуры, а остальное, можно сказать, отброшено как
Механика и античная атомистика
75
Итак, у пифагорейцев пустота, вошедшая в космос, оборачивается пустотой-
зиянием между арифметическими «точками» (не забудем о конкретно
геометрическом характере пифагорейских чисел) в числовом ряду, пустотой-пространством
между границами геометрических фигур и, наконец, пустотой-воздухом между
физическими телами. Значит, в своей функции разделения вещей и объектов
математики пустота наиболее плотно перекрывается с пространством при отделении одних
частей геометрической фигуры от других ее частей и всей фигуры от другой. Чтобы
ввести пространство в физику, надо было освободить от разделительной функции
воздух, отличив его от пустоты. Это было сделано до атомистов и ясно осознано
в опытах с клепсидрами, о чем свидетельствуют фрагменты Эмпедокла и
Анаксагора. Но физические тела в пифагорейски ориентированных умах, а также,
по-видимому, у Левкиппа, по сути дела, мыслились не как геометрические объекты (это
было у Платона), а как числа. И поэтому именно идея пустоты-зияния стала
ведущей идеей первых атомистов. И быть может, именно Платон потому ввел в
философию категорию пространства (Тимей, 52b), что он был сторонником
геометрической теории строения вещества.
Философское систематическое осмысление пространства как
фундаментальной категории бытия и познания, видимо, впервые было дано Платоном еще и
потому, что только в свете допущения существования непротяженного бытия со всей
остротой встал вопрос о его соотношении с протяженными физическими телами.
«Пространство, — справедливо говорит о платоновской категории пространства
Гайденко, — лежит как бы между этими мирами в том смысле, что оно имеет
признаки как первого, так и второго»76. Только тогда, когда греческая мысль допустила
в онтологию непротяженное, она впервые с полной ясностью осознала чистое
протяжение как таковое.
Итак, пустота — стихия разделения, своего рода пневма, или воздух, а
пространство — протяжение, универсальная характеристика порядка размещения вещей
среди вещей. Они развиваются относительно самостоятельно, но иногда
перекрещиваются друг с другом, как это мы только что показали. И раз пустота мыслится
существующей наравне с телами, то волей-неволей в силу логики ранней греческой
мысли вообще она мыслится так же, как протяженная «вещь», хотя и определена
как «не-вещь» (абсолютно проницаемое, невесомое, как «ничто» и «нуль»). Именно
«вещное» функционирование пустоты как «не-вещи» определяет специфику
атомистической пустоты, отличающей ее от пространства как безразличного к вещам
вместилища всех тел. Это значение, безусловно, также присутствует в атомистической
пустоте, но только частично. Действительно, пустота-пространство и тела-атомы
существуют как равноправные начала Вселенной. Но пустота двоится в своем статусе
«пустошь». Равноправие и равнодостоинство пространства как пустоты и фигур как атомов
мы находим только у атомистов.
76 Гайденко Я. Л. Обоснование научного знания в философии Платона // Платон и его эпоха:
К 2400-летию со дня рождения. М.: Наука, 1979. С. 125.
76
Раздел первый
независимого от тел существования, так как она определяется как зияния между
телами. Печать пустоты-зияния на пустоте-пространстве характеризует специфику
атомистической пустоты от Левкиппа до Лукреция, хотя у последнего осознано и
подчеркнуто значение пустоты как пространства-вместилища.
Механика атомов и миров
В школе элеатов утверждалось, что движения нет потому, что пустоты не существует.
Во фрагменте Мелисса мы читаем такое рассуждение о необходимой связи пустоты
и движения: «Пустоты нет вовсе. Ибо пустота — ничто. Итак, то, что есть ничто,
существовать не может. Равным образом нет движения, ибо [сущему] некуда отойти,
но [всё] полно. В самом деле, если бы существовала пустота, то [сущее] отступало бы
в пустое [пространство]. Но раз пустоты нет, ему некуда отойти» (DK В7(7)). И еще
в Солее сжатой форме это рассуждение резюмируется так: «Итак, если нет пустоты,
то [сущее] должно быть полным. Следовательно, если оно полно, то движения нет»
(DK В7(10)). Пустота мыслилась элеатами как источник всех движений и изменений
сущего вообще. Но пустота определялась ими как не-существующее, а по Пармениду,
не-бытия не существует. Значит, отрицание пустоты автоматически влекло
отрицание всякого движения и всякой множественности в бытии. Бытие сплошно или
полно, едино, неподвижно, неизменно. Эта логика мышления сохраняется и у
Левкиппа и Демокрита с тем лишь принципиальным отличием, что атомисты допустили
не-сущее (пустое) существовать с тем же статусом, как и само «полное» (атомы). Это
означало, что раз пустота есть вечно существующее наряду с атомами начало всего,
то движение существует также извечно. Вечность движения вытекала из признания
пустоты как вечного начала Вселенной.
Однако эта логика мышления, жестко, напрямую связывающая пустоту и
движение, была чужда Аристотелю, оставившему для нас самые достоверные и полные
свидетельства об учении атомистов. «Вопрос о движении, — говорит Аристотель
об атомистах, — откуда или каким образом оно у существующего, и они, подобно
остальным, легкомысленно обошли» (Метафизика, 1,4, 985b20). Аристотель в
«Физике» говорит: «Причиной движения они считают пустоту как то, в чем
происходит движение» (IV, 7, 214а25). Но такое истолкование связи движения и пустоты
означает, что пустота может и не рассматриваться как причина движения, а только
как его условие, пусть даже необходимое. Эту трактовку принимали и некоторые
современные исследователи, как, например, Бригер77 и Липман78. Но сами
атомисты, видимо, иначе смотрели на эту проблему. Вряд ли они были «легкомысленны»
77 BriegerA. Die Urbewegung der Atome und die Weltentstehung bei Leukipp und Demokrit. Halle
(Salle), 1884.
78 Liepmann Я. С Mechanik der Leukippisch-Demokritischen Atome. Leipzig, 1886. S. 37.
Механика и античная атомистика
77
в отношении такого важного вопроса, как вопрос о начале или причине движения.
Кстати, заметим, что для них начало (αρχή) и причина (αίτιον) совпадали, так как
в слове αρχή содержится представление о причине плюс представление о начале
во временном смысле, равно как и об источнике движения. Поэтому пустота как
αρχή действительно воспринималась ими как вполне продуманная причина
движения и его источник.
Сам Аристотель в других местах указывает, что пустота принималась
атомистами за причину их вечного движения. «Она кажется причиной движения по
отношению к месту, — говорит Стагирит, — но она не такова» (Физика, IV, 8,214Ы6).
Он просто не согласен с атомистами, что пустота есть причина движения, но что
они так считали, в этом он не сомневается. В той же «Физике» он более определенно
повторяет эту мысль, указывая, что атомисты «не признают ни одной из этих
причин, — Аристотель имеет в виду такие движущие причины, как Любовь и Вражда
у Эмпедокла и Разум у Анаксагора, — а утверждают, что движение происходит из-за
пустоты» (VIII, 9,265b25; вст. курсивом наша. — В. В.). Надо подчеркнуть, что
Аристотель и следующие за ним ученые не могли оценить глубины этой мысли
атомистов. Действительно, с точки зрения Аристотеля, причина движения есть прежде
всего его цель (τέλος) и форма (είδος). Целевая причинность и формальная
поставлены им в основу причинного истолкования природы. У атомистов же природа
мыслится совершенно иначе. Так как вечно существует пустота, то вечно существует
и движение. Предыдущее движение в каждом конкретном случае может
рассматриваться как движущая причина последующего движения. Так возникает концепция
чисто механического детерминизма, несравненно ближе стоящая к новой механике
Галилея и Декарта, Ньютона и Лапласа, чем аристотелевская телеология.
Вечность движения атомов следует не только из логических предпосылок,
фиксирующих необходимую связь движения и пустоты, но и из основного матричного
образа всей атомистики — образа пылинок, пляшущих в солнечном луче в
неподвижном воздухе. Если сами пылинки представляют аналог атомов, если
неподвижный воздух — аналог пустоты-пространства, то беспорядочное дрожание пылинок
есть точный аналог вечного движения атомов. Видимых «причин» для такого
движения нет, но оно тем не менее не прекращается. Логическая необходимость получает
таким образом имажинативное подкрепление и как бы эмпирическую поддержку.
Интересно, что этот же образ применялся и пифагорейцами для
демонстрации, что же такое душа (Аристотель, О душе, I, 2, 404а17). Душа рассматривалась
как самодвижущаяся сущность таким видным пифагорейцем, как Алкмеон. «Он
утверждает, — излагает Аристотель учение Алкмеона о душе, — что она бессмертна,
потому что сходна с бессмертными существами. А бессмертие ей присуще, поскольку
она находится в постоянном движении. Ведь все божественное находится всегда в
непрерывном движении: Луна, Солнце, звезды и все небо» (Там же, 405а30).
Атомисты также отмечали повышенную способность души к движению,
приписав атомам души сферическую форму, так как такая форма обладает наибольшей
проникающей способностью, подвижностью и способна лучше передавать движение
78
Раздел первый
(Аристотель, О душе, I, 2, 404а52). Но атомисты пошли дальше и распространили
свойство самодвижения на все без исключения атомы. Если посмотреть на это
учение атомистов о вечном движении атомов глазами пифагорейцев, то можно сказать,
что атомисты как бы одушевили весь универсум или даже уподобили всю материю
божественной субстанции. Такой ход мысли, принимающий самодвижение за
синоним души и божества, позволяет рассматривать атомистов как своего рода античных
предшественников позднейшего пантеизма. И действительно, казалось бы, сугубо
механистическое учение атомистов в истории нередко соединялось с
противоположным механицизму подходом — с анимизмом, как это было, например, в XVI в.
у Дж. Бруно, создавшего оригинальный вариант анимистической атомистики.
Конечно, одно только самодвижение не может моделировать души, и смысл
атомистического учения был, естественно, не в одушевлении всей материи, а, напротив, в
механистическом и материалистическом подходе к явлениям психической жизни, что
прекрасно документируется обширной критикой атомизма, начиная с Аристотеля.
Модель пылинок указывает на характер движения свободных атомов в пустоте.
«Эти {тельца), — говорит Левкипп, — парят в пустоте, беспрестанно двигаясь,
и носятся туда и сюда, как видимые в лучах солнца мельчайшие пылинки» (N 302).
Движение атомов в пустоте характеризуется отсутствием преимущественного
направления. В любом произвольно выбранном направлении движется примерно
одинаковая доля атомов. Иными словами, пространство изотропно. Это означает,
говоря аристотелевским языком, что атомы не обладают естественным движением,
а Вселенная не содержит естественных мест, определяющих анизотропию ее
пространства. Такая трактовка движения была абсолютна неприемлема для
Аристотеля. Он считал, что теория движения без постулата об естественных движениях
невозможна, потому что в противном случае все движения были бы
насильственными и при объяснении причин движения получался регресс в бесконечность, так
как причина движения всегда была бы внешней и находилась позади движущегося
тела (Физика, III, 2, 300b5).
Вероятно, Демокрит возразил бы Аристотелю, указав на то, что внешней
является только причина изменения движения, а не причина самого движения, которое
вечно и причина которого — пустота, начало всей природы наравне с атомами. Ле-
венгейм79 и Лурье80 сочли возможным отнести содержащееся у Аристотеля
определение силы как «начала изменения» (αρχή μεταβλητική) к Демокриту (Метафизика, VIII,
8,1049b). «Демокрит считал самую постановку вопроса о причине вечного
неизменного движения незакономерной», — говорит Лурье81. Однако мы не можем
последовать за Лурье: вечность движения не препятствует мыслить его начало в постулате
79 Löwenheim L. Die Wissenschaft Demokrits und ihr Einfluss auf die modern Naturwissenschaft /
Hrsg. L. Löwenheim. В., 1914. S. 27.
80 Лурье С. Я. Демокрит... С. 485; Лурье С. Я. Механика Демокрита. С. 139-141.
81 Лурье С. Я. Механика Демокрита... С. 139.
Механика и античная атомистика
79
пустоты. Кроме того, нам кажется рискованным проецировать аристотелевские
рассуждения о «способности» (δύναμις) на досократовских «физиков». Однако,
действительно, для изменения движения Демокрит, видимо, мог указать специальные
причины: пустота была только общей онтологической причиной-началом. В чем же
состоят эти специальные причины изменения вечного «первоначального»
движения атомов? Отметим, что в чистой форме первоначального движения актуально
не существует во Вселенной атомистов, так как вечность существования движения
необходимо привела его к тому, что оно уже изменилось. Изменяется же движение
в силу соударений атомов друг с другом.
Александр Афродисийский говорит, что у Левкиппа и Демокрита «атомы
движутся, ударяясь и сталкиваясь друг с другом» (Ν 323). Такие соударения
происходят всегда в силу равномерного распределения движущихся атомов по всем
направлениям. Кроме того, есть основания предполагать атомы движущимися с разными
скоростями. Поэтому они могут догонять друг друга и сталкиваться даже при
движении в одном направлении. Это предположение основывается на применении к
скоростям принципа изономии, который, вне всякого сомнения, широко применялся
Демокритом и был, по свидетельству Секста Эмпирика, типичным приемом мысли
абдеритской школы (Пирроновы положения, 1,213).
Преобразование движения атомов совершается через «удар» (πληγή):
«...различную силу движения имели атомы у Демокрита и Эпикура, — говорит Цицерон, —
у Демокрита — силу толчка, которую он называет ударом, а у тебя, Эпикур, — силу
тяжести и веса» (Ν 307). «Удар» у Демокрита мог быть, говоря современным языком,
как бы упругим или неупругим. При упругом ударе атомы отскакивали друг от друга
и продолжали двигаться порознь в различных, но изменившихся направлениях.
Так, у Галена мы читаем: «Эти тела, носясь, сталкиваются и отскакивают» (Ν 323).
Неупругое соударение атомов означает, что атомы вступают в определенную связь
благодаря различиям в своих формах.
Причину того, что первосущности некоторое время пребывают неизменно вместе
друг с другом, — говорит Аристотель у Симпликия о Демокрите, — он видит в
сцеплении и сплетении тел. Ведь одни из них изогнутые, другие якореобразные,
третьи вогнутые, четвертые выпуклые, а другие имеют еще и иные бесчисленные
различия. Он считает, что они сцеплены друг с другом и пребывают неизменно вместе
лишь до тех пор, пока какая-нибудь более сильная необходимость,
присоединившаяся из окружающего мира, не разбросает их и не рассеет в разные стороны (Ν 293).
Подчеркнем, что никаких «сил сцепления» атомистами не предполагалось:
теория образования соединений была чисто механической. Это важный момент,
имеющий общее значение. Вся механика атомистов строилась без всякого
предположения о действии «сил» на расстоянии: никакого дальнодействия атомизм Демокрита
не допускал, и в этом состоит его одно из основных отличий от механики
Ньютона. Только у Эпикура, внесшего, видимо, под влиянием Аристотеля с его
критикой атомизма представление о верхе и низе в абсолютном смысле для бесконечной
80
Раздел первый
Вселенной и соответственно приписавшего атомам силу тяжести или вес, возникает
своего рода аналог дальнодействия.
Таким образом, мы видим, что в атомизме Левкиппа — Демокрита движение
всегда преобразуется, но как вечный атрибут атомов оно может, по всей
вероятности, считаться неизменным. Иными словами, картина Вселенной первых атомистов
предполагает не только принцип сохранения материи (неуничтожимость и непо-
рождаемость атомов), но и принцип сохранения движения. Конечно, идея
сохранения движения не формулируется в явном виде, понятно, что ей не придана и
количественная форма. Однако она явно предполагается, так как движение включено в саму
сущность природы, являясь вечным атрибутом атомов, размещенных в пустоте82.
* * *
С вечностью движения в однородном и изотропном пространстве-пустоте связано
и другое важное предвосхищение атомистов — предвосхищение ими принципа
инерции. В таком пространстве, по Аристотелю, движение вообще невозможно: «Ведь
подобно тому как, по утверждению некоторых, — говорит Аристотель, явно имея в виду
Анаксимандра, — Земля остается неподвижной из-за ее симметричного положения,
также необходимо должно отсутствовать движение и в пустоте, ибо нет оснований
двигаться сюда больше, а сюда меньше» (Физика, IV, 8,214Ь31-33).
Любопытно, что Аристотель применяет здесь для опровержения
атомистического тезиса типичный как раз для атомистов принцип изономии. Но самими
атомистами изономия применялась не так. Она применялась для введения пустоты
в картину Вселенной, а пустота в силу элеатовской логики связи движения и пустоты
приводила к необходимости признания атомов вечно движущимися. Если атом
движется в пустоте с какой-то скоростью, то у него нет причин изменить движение, если
только он не столкнется с другим атомом. Инерционный характер движения атомов
вытекает из отсутствия у пустоты какой бы то ни было способности оказывать
сопротивление движущимся телам и из однородности пространства и его
изотропности, отсутствия в нем «естественных» мест для атомов. Согласно перипатетической
теории, движение тела прекращается естественным образом в «естественном»
месте. Если вообразить себе в бесконечной пустоте атом, который получил каким-то
образом скорость, то он должен будет «нестись в бесконечность, если только этому
не воспрепятствует что-нибудь более сильное» (Физика, IV, 8, 215а20-22).
Аристотель здесь как бы формулирует принцип инерции, рассуждая атомистически.
Конечно, он говорит, что в пустоте движение вообще невозможно, так как «в ней нет
различий» (Там же, 215а1). По Аристотелю, невозможно построить теорию
движения без принципа противоположностей, без фиксации определенных качественных
различий как в самом движении, так и в пространстве.
Романский И. Д. Развитие естествознания в эпоху античности... С. 334.
Механика и античная атомистика
81
Здесь мы подходим к глубокому контрасту мировоззрения атомистов и
Аристотеля. По Аристотелю, порядок природы — порядок абсолютных качественных
противоположностей. Мыслить какой-то другой порядок он не может. Вечное
движение во всех направлениях для него есть синоним беспорядка, беспорядок не может
быть первичнее порядка. Увидеть за этим беспорядком новый порядок, порядок
механических необходимостей, свободный во многом от традиционной качественной
логики, Стагирит не мог. Эту позицию атомизма хорошо выразил Симпликий,
подчеркнув, что атомисты «считали противоестественное (т. е. вечное хаотическое
движение атомов. — В. В.) более первичным, чем естественное» (N 305). Под
естественным же Симпликий понимает относительно упорядоченное движение тел в вихре,
где различные тела двигаются в силу своей природы, например массивные (тяжелые)
занимают место в центре вихря. По Аристотелю, естественным, в конце концов,
является фактически только покой, но не движение. Естественное движение ведь имеет
своей предпосылкой насильственное воздействие на тело, выводящее его из его
естественного места. У атомистов, напротив, естественно движение, а не покой. И в этих
исходных предпосылках мы не без оснований видим в атомизме намек на
возможность принципа инерции. Действительно, мы не можем говорить об осознании его
в явной форме, но мы не можем и не отметить его логической необходимости,
скрытой в самых основных постулатах атомизма Левкиппа — Демокрита. Произвольное
отклонение (παρέγκλισις), введенное Эпикуром, недаром было воспринято как
явный отход от учения Демокрита. Такое отклонение, конечно, делало невозможным
принцип инерционного движения.
На наш взгляд, в вопросе о прообразе принципа инерции в атомизме
Левкиппа — Демокрита нельзя ни недооценивать действительной основы для
диктуемого этим принципом понимания движения, ни преувеличивать степень
разработки механики у Демокрита, модернизируя его натурфилософско-онтологическое
представление о движении атомов в пустоте, физические и механические
определения которого были, видимо, действительно разработаны очень незначительно.
Поэтому мы не можем согласиться с В. П. Зубовым, когда он говорит, что в образе
пылинок, «непрерывно движущихся даже при полном безветрии, можно, если угодно,
видеть далекий прообраз закона инерции, но не с большим правом, чем в πάντα ρεΐ
Гераклита или в представлениях о вечно возвращающихся космических циклах,
прерываемых "мировыми пожарами"»83. Нам думается, что учение Демокрита о
движении дает для этого все же несколько больше оснований, чем натурфилософия Ионии.
И такие основания были как в понятии беспредельной однородной и изотропной
пустоты-пространства, так и в понятии атома, служащего далеким прообразом
понятия материальной точки в классической механике. Такой контекст учения о
движении, освобожденного от всякого гилозоизма и анимизма (если не считать,
конечно, метафорики и лексики), несомненно, гораздо ближе к науке XVII в., чем
теории ионийцев.
Зубов В. П. Развитие атомистических представлений до начала XIX в. С. 27.
82
Раздел первый
* * *
Важнейшей и специфической характеристикой эпикуровского атома, отличающей
его от атома Левкиппа — Демокрита, является упомянутое нами спонтанное
отклонение (παρέγκλισις, clinamen). Бей ли предполагает, что отрывок с изложением учения
о спонтанном отклонении утрачен в письме Эпикура к Геродоту84. Имеются
достаточно веские свидетельства в пользу того, что это учение было сначала выдвинуто
Эпикуром, а затем подробно развито Лукрецием (II, 216-293)85. Видный эпикуреец
Диоген из Эноады, критикуя воображаемого сторонника Демокрита, говорит: «Вы
не знаете, кто бы вы ни были, что в атомах имеется также свободное движение, не
открытое Демокритом, но выявленное Эпикуром, движение "отклонения", которое он
доказывает, исходя из явлений»86. Понятие спонтанного отклонения Лукреций
выражает в следующих стихах:
...уносясь в пустоте, в направлении, книзу отвесном,
Собственным весом тела изначальные в некое время
В месте, неведомом нам, начинают слегка отклоняться...
Если ж, как капли дождя, они вниз продолжали бы падать,
Не отклоняясь ничуть на пути в пустоте необъятной,
То никаких бы ни встреч, ни толчков у начал не рождалось
И ничего никогда породить не могла бы природа.
(11,217-224)
Лукреций четко определяет отклонение как случайное и самопроизвольное, в
неопределенном месте и в неопределенный момент времени происходящее
изменение прямолинейной траектории движения атомов вниз под действием силы
тяжести, которое необходимо для порождения всех вещей, так как в противном случае
не было бы соударений, встреч и образования агрегатов атомов.
Неизбежность введения спонтанного отклонения в атомистическую систему
обусловлена тем обстоятельством, что все атомы обладают одинаковой скоростью
независимо от различий в весе (исотахия). Очевидно, что поэтому они не могут догонять
друг друга и, соударяясь, образовывать соединения. Поэтому спонтанное отклонение
представляется совершенно необходимым допущением. Вторым обстоятельством,
84 Bailey С. The Greek atomists and Epicurus. Oxford, 1928. P. 316.
85 К. Маркс, сопоставляя таких комментаторов эпикурейского учения о спонтанном
отклонении атомов, как Цицерон и Бейль, с одной стороны, и Лукреций — с другой,
подчеркивал, что «у Лукреция, который вообще из всех древних один только постиг эпикуровскую
физику, мы найдем более глубокую трактовку вопроса» (Маркс К. Различие между
натурфилософией Демокрита и Эпикура // Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.: Госпо-
литиздат, 1956. С. 41).
86 Цит. по: Bailey С. The Greek atomists and Epicurus. Oxford, 1928. P. 317.
Механика и античная атомистика
83
вынуждающим принять это допущение, является несомненная очевидность наличия
свободной воли у живых существ. Произвольный характер движения живых существ,
движения «согласно ума побужденью», а не по необходимости «рок» законов требует
того, чтобы такого рода движение было допущено на атомарном уровне строения
веществ. Это стремление ограничить необходимость составляет центральный
стержень всего эпикуровского учения как моральной доктрины по преимуществу.
Согласно Эпикуру, «необходимость есть бедствие, но нет никакой необходимости жить
с необходимостью» (Ватиканское собр. изречений А IX)87. Натурфилософское
обоснование этой позиции и дается в учении о спонтанном отклонении атомов. Маркс
в своей диссертации «О различии натурфилософии Демокрита и Эпикура»
отметил и другой существенный момент этого учения, подчеркнув, что оно явилось
завершением развития идеи атома в рамках античности: «...атом, — писал он, —
отнюдь не завершен, пока в нем не проявилось определение отклонения. Спрашивать
о причине этого определения все равно, что спрашивать о причине, превращающей
атом в принцип, — вопрос, очевидно, лишенный смысла для того, для кого атом есть
причина всего, и, следовательно, сам не имеет причины»88.
* * *
Движение свободных атомов в пустоте, регулируемое только случайными
столкновениями, во вращающихся вихрях (οι δΐνοι) приобретает новые черты. Вихрь
образуется спонтанно, когда собирается вместе множество атомов, получающих в силу
столкновений вращательное движение. Образование вихрей ведет к возникновению
множества миров, рассеянных в беспредельной пустоте. Вот как описывает
возникновение вихря и движение в нем атомов Диоген Лаэртский:
Возникновение миров происходит так. Из беспредельности отделяется и несется в
великую пустоту множество разновидных тел... а в нем, сталкиваясь друг с другом и
всячески кружась, разделяются по взаимному сходству. И так как по многочисленности своей
они уже не могут кружиться в равновесии, то легкие тела отлетают во внешнюю пустоту,
словно распыляясь в ней, а остальные сбиваются в общем беге и образуют таким
образом некоторое первоначальное соединение в виде шара. Оно, в свою очередь,
отделяет от себя как бы оболочку, в которую входят разнообразные тела (IX, 31; DK 67 AI).
87 Фрагменты Эпикура и его письма цитируются в переводе С. И. Соболевского по
изданию: Лукреций. О природе вещей. Т. II: Статьи. Комментарии. Фрагменты Эпикура и Эмпе-
докла / Сост. Ф. А. Петровский. М.: Изд-во АН СССР, 1947. Это собрание переводов писем
и фрагментов в несколько измененном виде воспроизведено в издании: Материалисты
древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. М.: Гос. изд-во полит,
литературы, 1955.
88 Маркс К. Различие между натурфилософией... С. 42-43.
84
Раздел первый
Значение свидетельства Диогена — мы процитировали только часть его — в том, что
это «единственный текст, — как справедливо подчеркивает Альфиери, — дающий
подлинное изложение космогонии Левкиппа и Демокрита»89. И в рамках
космогонии мы находим интересные представления о механике движения атомов и сложных
тел в вихре и в космосе как его результате. Прежде всего обратим внимание на
самое начало образования вихря — на «отделение из беспредельности» исходной
совокупности атомов.
Объяснений требует специальный термин «беспредельность», из которой
«отделяется и несется в великую пустоту множество разновидных тел». Это «отделение
от беспредельного» (κατά αποτομήν έκ της απείρου) вызвало много споров среди
ученых. Бейли считает, что употребление понятия беспредельного как самостоятельного
объекта, терминированного в форме субстативированного прилагательного,
указывает на консерватизм и приверженность основоположника атомизма традиции90. Гом-
перц пытался прочесть это место как отделение от «бесконечной пустоты»91. Однако
Бейли считает, что «беспредельное» в данном контексте надо понимать как плотную
массу вещества, как это имеет место, согласно ему, в теориях Анаксимандра и
Анаксагора. Он предполагает, что Левкипп придерживался того взгляда, что в докосмиче-
ском состоянии атомы находились в плотной компактной массе и двигались вместе
с ней, причем вся масса и называлась у Левкиппа «беспредельным». Это понятие он
считает нехарактерным для атомизма, так как в последующих атомистических
учениях атомы будут мыслиться уже свободно двигающимися в беспредельно пустом
пространстве. Этот первичный агрегат атомов, согласно Бейли, содержит пустые
промежутки между атомами и тем самым не является абсолютно плотным. От него
время от времени отделяется достаточно большая часть атомов и устремляется в
«великую пустоту», образуя сначала вихрь, а затем благодаря ему мир.
Выражения Диогена, — говорит Бейли, — заставляют предположить, что он
цитирует здесь слова самого Левкиппа, причем идея разламывания массы атомов
напоминает еще раз анаксимандровское выделение противоположностей из
«беспредельного» и еще более близко напоминает разделение «семян» в теории
Анаксагора92.
К интерпретации Бейли близок и Бернет93.
Но как показал Биньоне, эта интерпретация основывается на ошибочном
приписывании Левкиппу эпикуровского места (DK 67 А24) и на следующем отсюда
89 Alfieri V Ε. Gli Atomisti: Frammenti e testimonianze / Trad, e note V. E. Alfieri. Bari, 1936. P. 2,
прим. 4.
90 Bailey C. The Greek atomists and Epicurus. P. 92.
91 Ibid. P. 92, прим. 2.
92 Ibid. P. 92.
93 Burnet J. Early Greek philosophy. P. 340-341.
Механика и античная атомистика
85
неправильном истолковании понятия άπειρον у Диогена94. Мы присоединяемся к этой
критике и считаем, что в космологии Левкиппа и Демокрита отсутствует
внутрисистемная необходимость во введении такого специального объекта, как
«беспредельное»95. Бейли, возможно, прав в том, что считает Левкиппа озабоченным приг-
нанностью своей новой смелой теории к уже наличным и ставшим традиционными
доктринам. Традиционные досократические мотивы действительно присутствуют
в этом тексте, входя в содержание космогонического учения атомизма. Таким
моментом можно считать идею первоначального разобщения начал (атомов и пустоты),
а затем их смешения, ведущего к образованию вихря. Но как мы уже видели, это
смешение полного и пустого есть в то же самое время возникновение различий среди
полного, т. е. взаимная сепарация атомов и возникающее на ее основе внутреннее
структурирование мира. Традиционна и сама идея вихря, присутствовавшая,
например, у Анаксагора. Но еще более распространенными у досократовских мыслителей
были представления о стремлении подобного к подобному, разделявшиеся и Эмпе-
доклом, и Анаксагором. И. Д. Рожанский считает, что в атомистической космогонии
основным фактором сепарации и космообразования был именно механизм
стремления подобного к подобному, а не принцип вихря, которого мы не находим в таком
детальном изложении атомизма, как поэма Лукреция96.
Теория вихря Левкиппа — Демокрита представляет значительный интерес для
реконструкции атомистического учения, демонстрируя прежде всего его глубокую
укорененность в традиции, идущей от ионийцев к Анаксагору. Традиционна здесь
как сама проблема (космогенез как сепарация исходной докосмической смеси), так
и подход к ее решению (кинематика и динамика вихревого движения). В
частности, традиционен используемый здесь принцип стремления подобного к подобному,
94 Bignone Ε. La dottrina epicurea del «clinamen», su formazione e sua cronologia in rapporto con
la polemica con le scuole awersarie. Atene; Roma, 1940. P. 180.
95 Гатри считает, что ввиду женского рода (της απείρου) здесь, «несомненно, должно
прочитываться χώρας, и он ссылается на Галена (DK 68 А49), который определяет пустоту
Демокрита как «некоторое пространство (χώρα τις)» (Guthrie W.K.C.A History of Greek philosophy.
Vol. 2: The presocratic tradition from Parmenides to Democritus. Cambridge, 1969. P. 406, прим. 4).
Такая точка зрения отвечает общей позиции Гатри не делать различия между понятиями
«пустота» и «пространство» у Демокрита (Ibid. Р. 391, прим. 1). Однако мы придерживаемся иного
взгляда и считаем, что Гален в указанном свидетельстве явно зависит от перипатетической
концепции и, как верно заметил Альфиери, «ввиду эпикуровской интонации всего
свидетельства нельзя переоценивать определения пустоты как пространства (τοδέ κενόν χώρα τις)»
(Alfieri V. Ε. Gli Atomisti... P. 95, прим. 214). Эта фраза («из беспредельности отделяется»)
близко напоминает выражение Эпикура из письма к Пифоклу (И, 88: «отрезок от
бесконечности» — άποτομήν έχουσα από τοϋ απείρου). Керк и Рейвен считают, что Диоген мог взять это
выражение у самого Демокрита, но столь же возможно, что оно было просто заимствовано
у Эпикура (Kirk G. S., Raven /. Ε. The presocratic philosophers: A critical history with a selection
of texts. Cambridge, 1966. P. 411, прим. 1).
96 Рожанский И. Д. Анаксагор: У истоков античной науки. М.: Наука, 1972. С. 85.
86
Раздел первый
который звучит и во многих других фрагментах атомизма, в частности у Демокрита
(N315-318). Одна из вероятных эмпирических моделей процесса сепарации атомов
в вихре — это просеивание семян при помощи сита. Об этом говорит, например,
Секст Эмпирик97. Какое же именно сходство? Сходство по форме и размеру, причем
размер принадлежит к компонентам формы. Эффект сортировки зерен поясняется
сравнением с сортировкой камешков морским прибоем. О разделении «по
взаимному сходству» говорит и Диоген Лаэртский (IX, 6, 31). В обоих случаях это
разделение основывается на подобии форм и размеров. Модель сортировки при помощи
сита, видимо, фигурирует и в тексте Диогена98. Употребленное Диогеном
выражение ώσπερ διαττώμενα, согласно Гатри, указывает на четыре процесса: 1)
фильтрование жидкости; 2) размельчение и дробление твердого тела с целью превращения его
в порошок; 3) просеивание; 4) провеивание зерна99. Хотя трудно точно определить,
какое же именно движение имеет здесь в виду Диоген, однако ясно, что это одно
из движений, ведущее к сепарации тел или частиц. И поскольку у Диогена
описание явно строится в терминах атомов, постольку о таком движении, как дробление,
вряд ли может идти речь.
В процессе вихревого генезиса мира и вещей, в нем содержащихся, мы можем
наблюдать действие трех его основных механизмов. Во-первых, это сепарация
атомов на основе принципа стремления подобного к подобному. Подобие атомов, как
мы уже сказали, оценивается в первую очередь по их первичным свойствам — форме
и размеру. Во-вторых, атомы сближаются и соединяются благодаря взаимному
соответствию своих форм, а также их положению и порядку. Если первый процесс
сближает сходные атомы по форме, то второй приводит в соединение атомы со
взаимно дополнительными элементами их форм. Этот процесс описан у Диогена более
бегло по сравнению с первым процессом: «...остальные (атомы. — В. В.)у —
говорит он, — остаются вместе, сцепляютсяу сбиваются в общем беге и образуют таким
образом некоторое первоначальное соединение в виде шара» (курсив наш. — В. В.).
Здесь Диоген описывает второй процесс образования вещей как сцепление атомов.
Он не раскрывает подробнее его факторов, которые описываются другими доксо-
графами, например Симпликием:
Эти-то атомы носятся в бесконечной пустоте, будучи отделены друг от друга и
отличаясь формой, величиной, положением и порядком; настигая друг друга, они
сталкиваются, и одни отталкиваются куда попало, а другие переплетаются между
собой (περιπλέκεσ9αι — тот же глагол, что и у Диогена) в зависимости от соответствия
97 «При вращении сита происходит сортировка и чечевичные зерна располагаются около
чечевичных, ячменные около ячменных... как будто сходство между предметами заключает
в себе нечто притягивающее их друг к другу» (Лурье С. Я. Механика Демокрита... N 316).
98 «Легкие тела отлетают во внешнюю пустоту, словно распыляясь в ней (ώσπερ διαιττόμενα)»
(IX, 6, 31).
99 Guthrie W.K.C.A History of Greek philosophy. P. 407.
Механика и античная атомистика
87
их форм, величин, положения и порядка и пребывают соединенными. Так
совершается возникновение сложных тел (N 295).
Так создаются — в этом же самом, вихревом, процессе — не только сложные тела,
но и миры, бесчисленное множество миров. Это, в отличие от Симпликия, не
забывает отметить Дионисий у Евсевия:
Эпикур и Демокрит, — пишет доксограф, — говорят, что атомы носятся в пустоте
как попало; сталкиваясь между собой спонтанно (т. е. без вмешательства
провидения) вследствие беспорядочного устремления (намек на вихрь. — 5. В.) и
переплетаясь вследствие разнообразия форм, они зацепляются друг за друга и таким образом
создают мир и все, что в нем, вернее — бесчисленные миры (N 299).
Наконец, третий механизм в общем процессе образования сложных тел и миров
совсем кратко обозначен Диогеном: атомы «сбиваются в общем беге». Представления
об этом механизме соединения атомов будут развиты Эпикуром в теорию
кинематических факторов образования сложного соединения (άθροισμα, concilium),
которую можно обозначить как теорию консилиума.
* * *
В письме к Геродоту Эпикур кратко излагает свою теорию соединения атомов (1,43-
44). Он различает атомы, вошедшие в соединение, прежде всего по их взаимному
расстоянию друг от друга. Сокращение расстояний между атомами обусловлено
сплетением атомов (περιπλοκή), которое играет двойную роль: во-первых, атомы
благодаря сплетению испытывают вибрацию (παλμός — традиционный
атомистический термин), а во-вторых, сплетение покрывает и задерживает атомы, попавшие
в его орбиту. Анализ этой теории раскрывает эпикуровскую классификацию
сложных тел, основанную на структурном критерии их различения. Атомы, которые
далеко отстоят друг от друга, образуют такие сложные тела (соединения), как
солнечный свет и воздух (aera гагит Лукреция), т. е. те тела, которые мы бы сейчас назвали
газообразными. Большие расстояния между атомами еще не означают, что между
ними нет никакой связи: они образуют соединение, но с очень редкой структурой.
Атомы, охваченные взаимным сплетением, находятся на значительно более близких
расстояниях друг от друга и образуют тем самым как твердые тела, так и жидкости
со значительно более плотной структурой. Твердые тела отличаются от жидкостей
способом действия сплетения: непосредственное сплетение атомов характерно для
твердых тел, в жидкостях же атомы удерживаются вместе «крышкой» оплетающих
их атомов (σΐεγάζον). Таким образом, классификация соединений, по Эпикуру,
оказывается, говоря современным языком, классификацией основных агрегатных
состояний тел. Причем нужно подчеркнуть, что между этими тремя типами сложных
тел возможны самые различные промежуточные образования.
88
Раздел первый
Самые разреженные соединения — это воздух и огонь, который еще менее
плотен. Атомы, союз которых требует внешней «крышки» оплетающих их атомов, — это
вода. Наконец, атомы, тесно переплетенные между собой, — это земля, пускающая
из себя «корни камней» и железа. Таким образом, все четыре элемента Эмпедокла —
Аристотеля получают у Эпикура строгое структурно-механическое истолкование.
Эпикур не признает элементарность этих элементов, они для него вообще не
являются простыми телами, это сложные тела, которые различаются друг от друга
структурой образующих их атомов.
Сложное тело рассматривается Эпикуром и Лукрецием не как простой агрегат
атомов, свойства которого являются лишь суммой свойств составляющих его
компонентов. Сложное тело — это, по Эпикуру, новая целостность, новая ступень в
организации вещества, наделенная ранее отсутствовавшими у ее компонентов свойствами.
Атомы не смеются, не гневаются, не обладают цветом, запахом, вкусом,
ощущениями и т. д., но человек, составленный из атомов, способен ко всему этому и ко
многому другому. При этом все эти свойства в отличие от атомизма Демокрита столь же
реальны, как и характеристики самих атомов.
Какой же природы это новое целое сложного тела, что сплачивает атомы
воедино и придает их соединению новые свойства? Массой пытался ответить на этот
вопрос, проинтерпретировав эпикуровскую теорию консилиума как концепцию
«химического соединения» 10°. Возникновение новых свойств у соединения атомов, как
и в химическом соединении, исследуемом современной химией, связано с утратой
индивидуальности атомов, его образующих. Бейли справедливо заметил, что такая
интерпретация ошибочна потому, что античный атом неизменен, а химическое
соединение современной химии предполагает изменение образующих его атомов101.
Действительно, если индивидуальность атома может измениться в результате его
вхождения в соединение, то атом изменяем, т. е. не вечен, что противоречит
концепции античного атомизма.
Эпикур, однако, пытается преодолеть эту невозможность совмещения атомизма
с идеей «химического соединения». В строгом смысле, конечно, он не решает этой
проблемы: в рамках античной теории и практики это было просто невозможно.
Но в нестрогом смысле и, можно сказать более резко, в плане умозрительного
эклектизма он предвосхищает будущий научный синтез этих идей.
Концепция консилиума Эпикура — Лукреция не выходит за рамки механики
атомов. Но в этих рамках она делает все возможное (и невозможное тоже,
свидетельством чему является clinamen)y чтобы обосновать образование новой целостности
с новыми качествами. Эпикур и Лукреций детально разрабатывают кинетику
движения атомов, и именно в ней они находят это искомое обоснование. Демокритовской
дополнительности форм атомов явно недостаточно для сплочения их в единое
целое: для этого нужна гармония, согласованность, связность, когерентность движения
100 Masson /. Lucretius: Epicurean and poet. L., 1907. P. 129.
101 Bailey C. The Greek atomists and Epicurus. P. 348.
Механика и античная атомистика
89
атомов, образующих консилиум, «сочетание с другими в движеньи», как переводит
это выражение Лукреция (consociaremotus) Петровский (II, III). Проблема
новообразования свойств вещества рассматривается Эпикуром как проблема гармонизации
движений атомов, образующих это вещество. Эта кинетическая гармония отличает
новообразованное сложное тело от других вещей и от свободных атомов. Не
каждый атом может вступить в определенное соединение, а лишь тот, движение
которого «подходит» к движениям других. Если же такого соответствия нет, то атом
отскакивает или проходит по касательной, минуя данное соединение.
Рассмотрим один пример анализа природы консилиума у Лукреция. Характерно,
что важнейшим консилиумом, являющимся, по существу, моделью для образования
и других сложных тел, выступает у него душа. Обосновывая смертность души
невозможностью ее самостоятельного существования вне тела и используя при этом
доказательство от противного, Лукреций говорит:
Телом ведь станет тогда и живым существом будет воздух,
Коль удержаться душе в нем возможно и все те движенья
В нем заключить, что вела она в мышцах и в теле пред этим.
(III, 573-575)
Фактором, сплачивающим атомы души в живое единство, выступает не только
«раковина» тела, но и согласованность движений, определенное кинетическое
единство («все те движения в нем заключить»), которое в других условиях невозможно.
Гармония атомных движений в консилиуме динамична, так как между
консилиумом и внешней средой происходит непрерывный обмен атомами. Одни атомы
благодаря спонтанному отклонению теряют эту гармонию кинетического целого,
а другие ее приобретают и замещают атомы, уходящие из консилиума. Консилиум
существует как определенное кинетическое равновесие, которое в конце концов
нарушается, и тогда он распадается. Этот динамизм концепции консилиума ясно
выражен критиком атомизма Плутархом.
Мы действительно, — говорит Плутарх, — должны вообразить непрерывное
обновление вещества в соединении благодаря игре потери и приобретения, и будет
почти верным сказать, что в сложной форме Эпикура элемент постоянства
превалирует над материей. Крайний пример этой концепции находится в эпикуровском
объяснении физической структуры богов, но если кто не принимает этого всерьез,
то пусть вспомнит, что тот же самый принцип, хотя и в меньшей степени, верен для
каждого сложного тела102.
Анализ эпикуровской концепции консилиума показывает, что новые свойства
в сложном теле создаются благодаря его кинетико-фигурной целостности. Природа
атомов, входящих в соединение, не меняется, меняется только акцидентальная
характеристика их движения. Поэтому логично предположить, что новое, возникающее
Bailey С. The Greek atomists and Epicurus. P. 351.
90
Раздел первый
при этом, есть тоже новое механическое движение сложного тела. В этом смысле
Эпикур, конечно, не выходит за рамки механической концепции вещества.
Эпикуровская теория консилиума всегда вызывала критические возражения,
хотя, может быть, и не в такой степени, как его учение о спонтанном отклонении
атомов. Современный исследователь эпикуреизма Буайансе отмечает
неудовлетворительность этой теории в связи с ее претензией объяснения возникновения
живого из неживого103. Буайансе не удовлетворяет абстрактный подход Эпикура к этой
проблеме. Согласно теории консилиума, не любое соединение атомов отвечает
условиям жизни, но только вполне определенное кинетико-фигурное единство
наделено свойствами живого. Но в чем именно состоят эти условия, остается у Эпикура
совершенно неопределенным. На наш взгляд, эта критика неправомочна по
отношению к Эпикуру, который в своей теории консилиума высказал интересные, хотя
и весьма далекие от логической безупречности идеи, конкретная разработка
которых оказалась возможной лишь в Новое время. В теории консилиума наглядно
обнаруживается эклектический характер эпикуровской натурфилософии, что ни в коем
случае нельзя принимать как ее чисто негативную оценку. В теории смеси Эпикур
в буквальном смысле слова «смешал» аристотелевскую и демокритовскую
концепции сложного тела. От Аристотеля к Эпикуру перешел принцип реальности
качественно новых образований вещества. Но аристотелевский принцип немеханической
целостности Эпикур соединяет с механической, по существу, установкой демокри-
товского атомизма, полагающего атомы лишенными качеств и наделенными
способностью только к механическому перемещению в его разных видах.
* * *
Теория консилиума Эпикура и Лукреция имеет своим прообразом, как мы отметили,
космогонию Левкиппа, а именно то самое «сбивание в общем беге» атомов в вихре,
о котором говорит Диоген. В учении о вихре проявляется специфический характер
всего атомистического учения. Возникновение миров, их рост и гибель, говорит
Диоген, «совершаются по некой неизбежности (κατά τίνα ανάγκην), но какова она, Лев-
кипп не разъясняет». Заключение Диогена звучит несколько странно, если принять
во внимание весь предшествующий ему текст, целиком посвященный как раз
разъяснению причин возникновения миров, их роста и разрушения. Слова Диогена могут
быть поняты лишь в том случае, если мы отдадим себе отчет в том, что Диоген и
другие доксографы привыкли к совсем иным объяснениям физических явлений, чем те,
которые даются в атомизме. Неизбежность или необходимость Левкиппа —
Демокрита выступает как итоговое понятие, фокусирующее в себе атомистические
принципы и их функционирование. Прежде всего речь идет о том, что источник
движения в атомизме не связывается с какой-либо сознательной силой и антропоморфной
Boyancé P. Lucrèce et Tépicurisme. P., 1963. P. 128.
Механика и античная атомистика
91
сущностью (как, например, Любовь и Вражда у Эмпедокла или Нус у Анаксагора).
Движение является изначально данным атрибутом атомов.
В отличие от Эпикура, который ввел в теорию вес для объяснения причин
движения атомов, у Левкиппа и Демокрита атомы подвижны сами по себе, а не в силу
каких-либо их свойств или внешних факторов. Изначальное движение атомов —
вибрация (παλμός). Так, Аэтий говорит: «Демокрит признавал один род движения —
движение вибрации (κινήσεως το κατά παλμόν)» (Ν 311)104. Вибрация — это «трясение»
атомов во всех направлениях, которое не имеет внешних причин и происходит
спонтанно. Как современная физика говорит нам, что даже при абсолютном нуле
движение частиц не прекращается полностью и они сохраняют минимум энергии, точно
так же движение атомов у атомистов — их внутренняя неизбежность, или
необходимость. На такое понимание движения и необходимости прямо указывает,
например, фрагмент из Суды: «Демокрит сказал... те мельчайшие тельца, явным образом
носящиеся, вибрирующие вверх и вниз, переплетающиеся между собой и
расходящиеся и носящиеся вокруг в силу необходимости (έξ ανάγκης)» (Ν 312). А согласно
Аэтию, необходимость у Демокрита — это «взаимоотталкивание, движение и удар
материи» (Ν 323). Свидетельствуя о космогонии Демокрита, Диоген Лаэртский прямо
называет вихрь необходимостью: «Все возникает по неизбежности: причина всякого
возникновения вихрь, и этот вихрь он называет неизбежностью (ην ανάγκην λέγει)»
(IX, 45). Вихрь называется необходимостью, потому что в нем проявляется действие
механических закономерностей движения и соударений атомов, их сцеплений и
взаимных сепарации.
Но с истолкованием изначального и вихревого движения атомов как
необходимости не согласны все те мыслители, которые считают, что гармония, порядок, красота
и устойчивость мира не могут быть объяснены без введения телеологического и
разумного начала, воплощающего в себе эти атрибуты. Аристотель, Плутарх, Цицерон,
Секст Эмпирик, как и христианские апологеты и философы (Лактанций и Августин),
в первую очередь и наиболее остро критикуют атомизм именно в данном пункте.
Рассмотрим прежде всего критику этой позиции Левкиппа и Демокрита (ее
можно назвать механическим детерминизмом) Аристотелем. Суть этой критики
четко выразил Симпликий, излагая взгляды Аристотеля. Атомы Демокрита,
говорит комментатор, «...сталкиваются и образуют такого рода переплетение, что оно
вынуждает их касаться друг друга и находиться вблизи друг друга, но тем не менее
не рождается из них никакой в истинном смысле единой природы» (Ν 293). Единство,
т. е. новая целостность, как считает Симпликий, не может возникнуть на основе
механического движения и механического соединения атомов. Такой подход Аристотель
считает логически необоснованным, причем его критика направлена в данном случае
также и на пифагорейцев, к которым он присоединяет здесь Левкиппа и Демокрита
104 То же самое высказывает и Симпликий: «.. .они (т. е. атомисты. — В. В.) считали это
движение ("вибрацию" — В. В.) не только первичным, но и единственным движением
элементов» (N313).
92
Раздел первый
(О небе, III, 4,303а 3-11). Подобно тому, как из пифагорейских единиц-точек нельзя
образовать континуума, точно так же из дискретных единиц атомистов — атомов —
нельзя образовать целостных тел.
Аристотель критикует механический детерминизм атомистов с позиций своей
органической и континуалистской концепции генезиса. Как любая вещь является
у атомистов механическим соединением атомов, точно такими же по характеру
соединениями являются и миры. По Аристотелю, атомистические миры не обладают
единством: сцепление атомов просто не может его создать. Целое в атомизме
истолковано через часть, мир — через атом, а все явления и движения в мире сведены к
механическому движению и форме атомов. Часть абсолютно доминирует над целым.
Не целое предписывает поведение частям, не законы целого ограничивают
движение частей и управляют им, а, наоборот, часть и ее законы всецело управляют тем,
что из частей возникает. И возникают поэтому лишь механические агрегаты частей
(атомов), начиная от любой вещи и кончая миром. Но целое, порядок, гармония мира
не могут быть выведены из беспорядочного движения атомов, лишенных всякого
телеологического фактора. Так считают все критики атомизма, следующие за Платоном
и Аристотелем. Атомизм кажется Аристотелю неприемлемым, так как он отрицает
разумное упорядочивающее начало. «Нелепо допускать, — говорит Аристотель, —
что тела имеют беспорядочное движение. Ничто не происходит как попало» (N 305).
Для критиков атомистического учения олицетворением случайности,
допущенной, как они считают, атомистами в фундамент природы, выступает вихрь.
Неразумно (объяснять возникновение мира) вихрем и необходимостью, —
говорит Секст Эмпирик. — Если движение беспорядочно, то оно не могло бы приводить
что-либо в движение закономерным образом. Если же что-либо вызывает
движение, сопровождающееся порядком и гармонией, то эту силу придется признать
божественной и сверхъестественной: если бы она не была разумной и божественной,
она никогда не могла бы двигать Вселенную столь закономерным и благодетельным
образом. Но если бы она была такой, то она не была бы уже «вихрем». Ведь вихрь
отличается беспорядочностью и непродолжительностью. Следовательно, мир не
может, по-видимому, двигаться в силу необходимости и вихря, как утверждали
последователи Демокрита (N 308).
Вихрь — беспорядочен, непродолжителен, а космос — упорядочен и устойчив.
Поэтому вихрь не может быть причиной космогенеза, рассуждает Секст. Однако в
отрицании всяких антропоморфных — телеономных — упорядочивающих факторов
обнаруживается одна из наиболее характерных и глубоких черт атомистического
мышления. Действие вихря, как это показывает текст Диогена Лаэртского,
вовсе не беспорядочно. В вихревом движении происходит сепарация атомов, что
в конечном счете приводит к определенной структуре мира. Величина, форма
и кинетические характеристики атомов действуют как своего рода имманентные
упорядочивающие космообразующие факторы. Продолжительность вихря
измеряется временем внутреннего структурирования возникающего мира. После
Механика и античная атомистика
93
возникновения структуры вихревое движение выступает в виде стационарного
кругового движения небесных тел. Для христианских мыслителей позиция
атомистов неприемлема, так как у них «...нет разумного замысла провидения... Все
происходит по необходимости, само собой» (N 591). Это слова христианского писателя
Лактанция, жившего в III—IV вв. н. э., «крупнейшего церковного идеолога Констан-
тиновской империи»105.
* * *
Механическое движение атомов наряду с формой, величиной и их относительным
положением и порядком выступает основным конструктивным принципом всей
атомистической системы. При внимательном анализе характеристик левкиппо-де-
мокритовского атома нельзя не обратить внимания на то, что он как бы специально
предназначен быть идеальным носителем движения. На атом переносятся
характеристики элеатовского единого бытия: абсолютная непроницаемость, или плотность,
неизменность — и тем самым, благодаря, конечно, введению коррелятивного понятия
пустоты, он становится идеальным носителем движения. Действительно, благодаря
таким характеристикам все, что может происходить с атомом, строго ограничено
только его пространственным перемещением. Никаких дополнительных процессов
(например, качественного изменения, роста и т. п.) с атомом происходить не может.
Всеми своими характеристиками атом «повернут» исключительно к возможностям
одного лишь пространственного перемещения. Такая «чистота» атома как начала
и позволяет нам говорить об идеальности его в качестве носителя механического
движения и прообраза понятия материальной точки. Этот существенный для всей
атомистической доктрины момент подчеркнут Аристотелем.
Они говорят, — свидетельствует он об атомистах, — что движение природы — это
движение в отношении места... Они думают, что ни одно из прочих движений
не присуще первым телам, а только тем, которые состоят из них, так как рост, убыль
и качественное изменение они приписывают соединению и разъединению
неделимых тел (Физика, VIII, 9, 265b28).
Принцип формы не нарушает «чистоты» атома как кинематического объекта,
а скорее только подчеркивает ее, так как позволяет построить картину сложной
физической реальности без введения представления о каких-либо силах сцепления.
Любопытно, что устранение фигурности атома вызвало бы необходимость в особой
динамике, так как из одних бесфигурных точек нельзя построить сложных тел: нужно
обязательно ввести специальное представление о силах. Такой шаг был
осуществлен в XVIII в. в механике Бошковича. Но античный атомизм Левкиппа и Демокрита,
105 Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии: Латинская патристика. М.:
Мысль, 1979. С. 403, прим. 16.
94
Раздел первый
сохранив фигурность атома, избежал необходимости дополнения кинематики
представлением об особых силах, являющихся причиной сцепления атомов, так как
фигурность атома, включая в нее его размер, служила фактором, вносящим
разнообразие в вечное движение атомов, и объясняла образование всех сложных тел.
Проблема сил в атомизме всегда вызывала и до сих пор вызывает споры.
Рассмотрим ее для двух состояний атомов. Во-первых, для атомов в довихревом
состоянии и, во-вторых, для атомов, вовлеченных в процесс вихревого вращения.
Свободные атомы движутся вечно, соударяясь, испытывая удары и отскоки. При
благоприятных условиях (взаимное соответствие в формах, размерах, движениях,
положениях) они могут вступать в соединения. Абсолютные свойства свободного
атома — форма и величина. «Вес» атомов никак не проявляется в их свободном
беспорядочном движении. Конечно, атомы различаются размерами, и при абсолютном
тождестве «материи» они отличаются «массой». Но никаких предположений о связи
поведения атомов при ударе с их массой мы сделать не может за отсутствием
всякой информации на этот счет. Точка зрения, согласно которой «до своего
включения в вихрь атом никак не обнаруживает действия веса»106, сейчас принята
большинством исследователей. Речь, конечно, идет в данном случае только об атомизме
Левкиппа — Демокрита107.
Кроме «веса», другим динамическим компонентом атомизма выступает принцип
стремления подобного к подобному108. Гатри называет это «кардинальным законом
атомизма»109. Действительно, этот принцип, бесспорно, фокусирует в себе
представления атомистов о движущих силах поведения как микротел, так и макрообъектов,
включая живые организмы. Действие этого принципа требует скопления атомов
в определенный агломерат, и, по-видимому, только вихрь создает условия для его
проявлений. В поведении свободных атомов, беспорядочно мечущихся в пустоте, мы
не усматриваем никакого стремления подобного к подобному, так как об этом
источники нам ничего не сообщают. Правда, Лурье считает возможным распространить
106 Kirk G. S., Raven /. Ε. The presocratic philosophers... P. 416.
107 Согласно другой точке зрения, атомизм Левкиппа и Демокрита рассматривался в одном
ряду с атомистикой Эпикура в этом вопросе и атомам приписывалось равномерное
движение «вниз» под действием веса или тяжести (Zeller Ε. Die Philosophie der Griechen in ihrer ge-
schichtlichien Entwicklung. Erste Theil. II Hafte. 5-te. Aufl. Leipzig, 1892. S. 1084). Некоторые
ученые, как, например, Лурье, стоят на промежуточной позиции, принимая тяжесть как одно
из «потенциальных свойств атома независимо от его нахождения в вихре» (Лурье С. Я.
Механика Демокрита. С. 147). (Об истории этой проблемы см.: Guthrie W. К С. A History of Greek
philosophy. P. 401.)
108 Некоторые исследователи пытались истолковать вес атомов, основываясь на наличии
принципа стремления подобного к подобному у атомистов (Alfieri V. £. Atomos idea. Firenze,
1953. P. 87-95). Однако, на наш взгляд, нет данных, говорящих о действии этого принципа,
равно как и «веса», в довихревом состоянии.
109 Guthrie W.K.C.A History of Greek philosophy. P. 409.
Механика и античная атомистика
95
зону действия этого принципа и на свободные атомы, утверждая, что им присущи
и силы притяжения, и силы отталкивания110.
Следуя известному нам из сообщений доксографов о динамике атомистов, мы
можем утверждать, что стремление подобного к подобному проявляется в вихре.
Подобие охватывает и форму, и величину атомов — обе их фундаментальные
характеристики, хотя основной источник по теории вихря, свидетельство Диогена Лаэртского,
говорит нам скорее только о значении величины атомов в действии этого принципа
(IX, 6,31). Вторым несомненно присутствующим у атомистов моментом в трактовке
этого принципа является учение о действии подобного на подобное. Этот момент
четко зафиксирован Аристотелем:
Он утверждает, — говорит Аристотель о Демокрите, — что воздействующее и
подвергающееся воздействию — это одно и то же и подобное, потому что разные и
непохожие друг на друга [предметы] не могут испытывать воздействие друг от друга,
и даже когда разные [вещи] как-то действуют друг на друга, то это бывает с ними
не в силу того, что они разные, а в силу того, что им присуще нечто тождественное
(О возникновении и уничтожении. I, 7, 323Ы0-15).
Наконец, третьим важным, но спорным моментом в представлениях
атомистов о динамике движения несвободных атомов является вихрь. Нам ничего не
известно о причинах его образования. Нам кажется, что следует иметь в виду прежде
всего несомненно установленные принципы мышления атомистов при попытке
реконструкции возможного объяснения причин возникновения вихрей.
Во-первых, несомненно, что умозрение здесь опирается на богатый материал наблюдений
за смерчами в воздухе и на воде, за различного рода водоворотами и тому
подобными явлениями, безусловно хорошо известными грекам, мореплавателям и
путешественникам. Во-вторых, что касается теоретического и логического фундамента
теории вихря вообще, то его мы можем, пусть частично, усматривать в принципе изо-
номии. Действительно, случайные сочетания всевозможных движений атомов при
их случайных столкновениях могут приводить к самым различным общим
движениям единой массы. По принципу изономии ни одно из таких результирующих
общих движений не имеет никаких преимуществ перед другими.
Однако, видимо, только вращательное движение включает в действие особые
силы. Здесь начинает работать аналогия вихревого вращения атомов и водоворота,
устремляющего массивные и тяжелые тела к центру вращения, а более подвижные
легкие тела — к его периферии. Поэтому из всех возможных результирующих
движений только вращательное приводит к последовательно протекающему процессу
упорядочивания исходного атомарного материала, заканчивающегося
формированием космоса с определенной стационарной структурой, в том числе с
определенным набором небесных тел. Видимо, круговое движение рассматривалось как
самоподдерживающееся. Недаром для разрушения мира требуется, скорее всего, внешнее
Лурье С Я. Механика Демокрита. С. 136.
96
Раздел первый
воздействие (N 349, 351). Но, строго говоря, водовороты, казалось бы, не могут
служить действительной моделью для атомистического вихря, так как последний есть
вращение атомов в пустоте, а обычный водоворот предполагает непрерывную
материальную среду, которая и передает движение «плавающим» в ней телам таким
образом, что тяжелые скапливаются в центре111. Однако пустота не помешала атомистам
использовать аналогию между вихрями атомов и водоворотами, как об этом
сообщает Аристотель (О небе, II, 13, 295а, 10-15). Нам кажется, что из действия
принципа стремления подобного к подобному действительно с необходимостью
следовало разделение атомов по признаку их сходства в отношении прежде всего размеров,
но местоположение в вихревой структуре разделившихся фаз из одного только этого
принципа не вытекало. Аналогия с водоворотами, эмпирические наблюдения,
конечно, подсказывали в качестве естественного решения размещение массивных
атомов внизу или в центре, а мелких — на периферии. И возможно, эти эмпирические
соображения были определяющими. Об этом мы можем предположительно судить
уже по тому обстоятельству, что в соперничающей с атомистической системе
Анаксагора, исключающей пустоту, результат расслоения вещества был тем же самым —
тяжелое вещество собиралось в центре, легкое — на периферии.
С уверенностью мы можем утверждать, что Демокрит учитывает эффект
действия больших масс, «больших чисел»: «...так как по многочисленности своей они
(атомы. — Б. В.) уже не могут кружиться в равновесии (ίσορρόπως), то легкие тела
отлетают во внешнюю пустоту» (Диоген Лаэртский, IX, 6,31). Об эффекте «толпы» у
Демокрита говорят и Фемистий, и Симпликий (Ν 256). О возникновении «ветра» при
условии хаотического движения больших масс дискретных частиц в тесном
пространстве, используя подобную аналогию с толпой, говорит применительно к Демокриту
и Сенека (N371). Критическое количество атомов (объектов вообще) нарушает
равновесие, бывшее при меньшем количестве частиц. Ну, а результат действия
возникающего «ветра», видимо, не всегда предсказывался теоретически строго. Текст Диогена
нам ничего не говорит о том, почему нарушение равновесия «гонит» мелкие атомы
вверх. Здесь открывается поле для различного рода гипотез, которых было высказано
немало112. Мы можем высказать и свою гипотезу, сводящуюся к тому, что именно
многочисленность атомов, приобретших унитарное вращательное движение, может
приводить к тому, что они имитируют действие непрерывной среды, вращающейся на
манер воды в водоворотах и гонящей тяжелые тела в центр. А конкретный механизм
этого действия, видимо, действительно описан в «Механических проблемах» (гл. 35)пз.
111 Решительно отвергает по этим соображениям аналогию атомистических вихрей и
водоворотов В. П. Зубов (Зубов В. П. Развитие атомистических представлений до начала XIX в.
С. 31). На совершенно другой позиции стоят С. Я. Лурье (Лурье С. Я. Механика Демокрита.
С. 141-142) и Гатри (Guthrie WKC.A History of Greek philosophy. P. 410).
112 Alfieri V. E. Gli Atomisti. P. 4, прим. 12; Лурье С. Я. Механика Демокрита. С. 143;
Guthrie W.K.C.A History of Greek philosophy. P. 409, прим. 1.
113 Лурье С. Я. Механика Демокрита. С. 143-144.
Механика и античная атомистика
97
Очень важным моментом является то ясно фиксируемое свидетельствами
обстоятельство, что все атомы стремятся в центр (эффект «толпы», нарушения
равновесия из-за огромного множества атомов, принявших участие в вихревом
движении), но только самые массивные оседают там, так как более легкие выталкиваются
ими и оттесняются на периферию. Этот мотив борьбы и конкуренции атомов очень
характерен для атомизма. Аристотель через Симпликия донес до нас, видимо,
подлинное выражение Демокрита: глагол στασιάζειν, означающий «вести борьбу, спор,
тяжбу», — термин, заимствованный из лексики судебных разбирательств в
греческих полисах114. Это выражение описывает взаимодействие атомов при их встречах:
«Они вступают в столкновение между собой (στασιάζειν) и носятся в пустоте
вследствие несходства и других указанных выше различий» (Ν 293). Существенно, что
тяжесть выступает как универсальное свойство всех атомов и всех тел. Это означает,
что нет, вопреки Аристотелю, тел по природе легких и по природе тяжелых.
«Сторонники Демокрита, — говорит Симпликий, — думают, что все тела имеют тяжесть,
но огонь, так как он имеет меньший вес, будучи выталкиваем телами, занимающими
передние места, уносится вверх и поэтому кажется легким. По их мнению, существует
только тяжелое и оно всегда движется к центру» (DK 68 А61). Такая позиция вводит
количественный масштаб для оценки свойства тяжести и ставит Демокрита гораздо
ближе к новой физике, чем Аристотеля с его чисто качественной теорией тяготения115.
Действие основного динамического закона — принципа стремления подобного
к подобному — требует определения условий его проявления. Прежде всего
обратим внимание на связь этого принципа с движением. Секст Эмпирик, рассказывая
о понимании этого принципа Демокритом, говорит:
При вращении сита происходит сортировка и чечевичные зерна располагаются около
чечевичных, ячменные около ячменных, пшеничные около пшеничных... при
движении волны продолговатые камешки отталкиваются в то же место, что и другие
продолговатые, круглые же к круглым, как будто сходство между предметами заключает
в себе нечто притягивающее их друг к другу (N316).
Обратим внимание на два момента в этом тексте. Во-первых, оба примера действия
принципа «подобное — к подобному» указывают на движение сортируемых тел как
на необходимое условие его проявления. Чтобы этот принцип действовал,
необходимо некоторое регулярное движение — будь то периодическое движение волны
для сортировки камешков или движение сита при сортировке семян. В таком
чисто механическом прочтении этого традиционного принципа, восходящего к мифу
и гомеровскому эпосу, состоит специфика его функционирования в атомизме.
Действительно, у Гомера нет никаких указаний на то, что для его проявления нужно
механическое движение. «Галка близ галки садится» и «равного с равным сводят всегда
114 Ахутин А. В. Атомистические учения древности. С. 401.
115 Визгин В. П. Аристотелевская теория тяготения: Качественный подход // Природа. 1982.
№ 1. С. 97-104. См. в данном издании с. 140-150.
98
Раздел первый
бессмертные боги», — говорит Гомер, которого цитирует Аэтий в своем сообщении
о Демокрите (N 316). И только животные, наделенные самодвижением, не нуждаются
во внешнем механическом движении, чтобы обнаружить действие принципа
стремления подобного к подобному: «Ведь и животные собираются в стаи вместе с
животными одного с ними рода, например голуби с голубями, журавли с журавлями,
так же обстоит дело и с другими животными» (N316).
Второй момент, на который мы обращаем внимание, — это признание того, что
на самом деле в эффекте стремления подобного к подобному, видимо, не
обнаруживается никаких специальных сил притяжения. Доксограф подчеркивает кажимость
этого представления о силе. «Как будто, — говорит он, — сходство между
предметами заключает в себе нечто притягивающее их друг к другу». На самом деле
сходство не заключает в себе какой-то особой силы, способной порождать движение.
Наоборот, движение, как мы видели, является необходимым условием расположения
подобного рядом с подобным. Если правильного воспроизводящегося регулярного
движения нет, то действие этого принципа не обнаруживается. Именно так обстоит
дело в «великой пустоте» с несвязанными хаотически движущимися атомами116.
И только возникновение регулярной системы внешнего движения, что происходит
в вихре, «включает» этот принцип, и он проявляется в стратификации однородных
атомов. Так возникает макроструктура космоса.
Однако вычеркнуть принцип «подобное — к подобному» из атомистической
динамики нельзя. Как известно, Демокрит, в отличие от Платона, не приписывал
различным элементам (стихиям) атомов определенной формы, правда, за одним
исключением. Атомам огня и души он приписал сферическую форму, аргументируя
этот выбор максимальной подвижностью и проникающей способностью этих
атомов. Но как, спрашивается, в этом случае могут образовываться соединения
подобных атомов? Огонь есть макротело со специфическими вторичными качествами,
которые, следуя основным принципам атомизма, должны объясняться формой,
величиной, положением атомов, связанных в данный комплекс. Но как могут
соединиться сферы, лишенные всяких «выступов», «крюков» и тому подобных
характеристик формы? Именно в данном случае атомизм приближается к механике и физике
116 Другой точки зрения придерживается Лурье. «Однородные атомы, — говорит он, —
находясь на расстоянии, стремятся друг к другу, а будучи отделены друг от друга только пустотой,
притягивают друг друга» (Лурье С. Я. Механика Демокрита. С. 137). На наш взгляд, ни один
из известных нам источников не указывает на то, что атомы в пустоте вне вихря движутся
вследствие притяжения подобных атомов к подобным. Удар, отскок и вечное изначальное
движение — вот «необходимости», обусловливающие движение несвязанных в вихрь
атомов. Их соединение, если оно происходит, определяется скорее дополнительным характером
их форм (механическое зацепление формы за форму), чем принципом стремления подобного
к подобному. Наша позиция в этом вопросе близка к точке зрения Керка и Рейвена (Kirk G. S.,
Raven J. Ε. The presocratic philosophers: A critical history with a selection of texts. Cambridge, 1966.
P. 413, прим. 2, p. 420).
Механика и античная атомистика
99
Нового времени. Введение сил притяжения здесь кажется просто совершенно
необходимым. Сферический атом, таким образом, моделирует центр действия сил или
динамическую точку, так как сферичность начисто редуцирует возможность
«зацеплений» и механических адинамических объяснений устойчивости соединений атомов.
Мы знаем, что для описания сцеплений атомов друг с другом в соединениях
благодаря дополнительности их форм Левкипп и Демокрит использовали такие
термины: ή έπαλλαξις (от έπαλλάσσω — спутываю, перемешиваю), ή περιπλεξις (от
περιπλέκω — обвиваю, обхватываю, запутываю), и ή συμπλοκή (от συμπλέκω — сплетаю,
связываю). Ни один из этих терминов, очевидно, не годится для описания
соединения друг с другом сферических атомов. Но есть еще один технический термин
атомистов — глагол συμμείνειν (пребывать вместе). Это выражение встречается в тексте
Диогена о космогонии Левкиппа (IX, 6,31). Гаспаров его передает как «остаются
вместе», а Лурье — как «сплотились» (Ν 382). Сферические атомы огня или души могут
лишь «пребывать вместе», «сплотившись» без всякого «перепутывания». Но за счет
чего? Очевидно, что мы не можем здесь не вспомнить о принципе «подобное — к
подобному». Вероятно, Демокрит все же считал, что в определенных случаях подобное
«притягивает» подобное. Это своего рода «сродство», прообраз сил валентности
современной химии. Но он явно отдавал предпочтение чисто механическому
объяснению соединения атомов и применял «силы сродства» только в том случае, когда
никакой другой возможности не оставалось.
* * *
Мы назвали атомистическое учение механистическим детерминизмом. Этот
термин, конечно, позднего происхождения, и при его применении к явлениям античной
науки вообще и атомизма в частности необходимо возникают оговорки.
Действительно, для атомистической космологии характерно сочетание двух, казалось бы,
совершенно несовместимых установок. Во-первых, это подчеркнутый нами
традиционализм воззрений Левкиппа. Наиболее ярко этот традиционализм обнаруживается
в определенной биоморфности его космогенетической концепции. На неизжитость
биоморфных интуиции у Левкиппа справедливо обратил внимание Гатри.
Заключительная фраза главы Диогена о Левкиппе описывает судьбу миров в терминах
циклического органического процесса: «И как возникновения миров, так и возрастания
их, и ущербы, и разрушения совершаются по некоей неизбежности...».
Возникновения (γενέσεις), возрастания (αυξήσεις), ущербы или старения, дряхления (φθίσεις)
и разрушения (φθοράς) — термины описания естественного цикла развития
органического объекта, живого организма. Биоморфизм и механицизм в установках
пересекаются (при преобладании, конечно, механистического подхода) и
характеризуют все атомистическое мышление.
В процитированной фразе из Диогена механицизм скрывается в
выражении «по некой неизбежности», которая, как мы уже говорили, подразумевает
100
Раздел первый
закономерности механического движения и соединения атомов, сводящиеся к тому,
что возникновение миров и вещей совершается по некой необходимости, т. е. на
основе внутренних закономерностей беспредельной Вселенной, без всякого разумного
промысла. Саму эту необходимость можно трактовать как вечное движение атомов,
которое только меняет свой характер: то атомы, отделяясь от беспредельного,
несутся в великую пустоту, то они образуют в ней вихрь и т. д. Преобразование
движений атомов и возникновение на этой основе благодаря многообразию форм атомов
(здесь не сказано, что число атомов, как и форм, бесконечно, а сказано только, что
их «много» — πολλά) сложных тел и миров — вот та самая необходимость, о которой
говорится в конце этой главы. «Те, которые утверждают, — говорит Стагирит, имея
в виду атомистов, — что миры бесконечны по числу (причем одни из миров
возникают, а другие гибнут), утверждают, что движение вечно (ведь им необходимо, чтобы
возникновение и уничтожение были связаны с движением)» (Ν 300). Возникновение
и уничтожение миров необходимо обусловлено вечностью движения. О связи
движения с возникновением и уничтожением вещей говорит и Симпликий в своем
комментарии к «Физике» Аристотеля: «...без движения не может быть возникновения
и гибели» (Ν 300). А без вечного движения не может быть возникновения и гибели
бесчисленных миров. Вечности движения отвечает бесчисленность миров.
Наличие биоморфных интуиции в атомистическом мышлении может частично
объяснить, почему текст Диогена о Левкиппе местами так сжат. Действительно, то,
что требует развертки при последовательно механистическом подходе к объяснению
явлений, может опускаться при использовании органических метафор или аналогий.
Так, описывая процесс генезиса миров в терминах органических циклических
процессов, мы невольно опускаем детали процессов, которые потребовали бы своей
экспликации при их механистическом рассмотрении. Биоморфизм в установках
свертывает процесс, а механистический подход, напротив, требует построения механизма
его осуществления, т. е. последовательного ряда причинно связанных ступеней.
Конечно, ведущей интенцией атомистического мышления была попытка приложить
к органическим процессам масштаб и мерило неорганических, а именно
механических процессов. В этом подходе и был весь смысл демокритовской идеи о человеке
как микрокосмосе (DK 68 В34). Но сам язык, сжатость стиля диогеновского текста
(выше мы привели только один пример) говорят о сохранении в мышлении
атомистов традиционной биоморфной установки. Так, еще одним ярким примером
является термин ύμήν — «мембрана» или «оболочка». Именно таким термином
обозначается защитная оболочка, окружающая эмбрион, находящийся в утробе. Как отмечает
Гатри, употребление Левкиппом этого термина, как и употребление им и
Демокритом термина χιτών (покрывало, хитон) (DK 67 А23), может указывать на аналогию
орфического толка, уподобляющую мир изначальному космическому яйцу117. Таким
117 «Здесь, — говорит Гатри, — видимо, работает аналогия, изображающая Вселенную
наподобие яйца: скорлупа так относится к яйцу, как внешнее небо ко всей Вселенной» (Guthrie W. К. С.
A History of Greek philosophy. P. 408, прим. 1).
Механика и античная атомистика
101
образом, биоморфизм атомистов, возможно, орфического происхождения,
сочетается у них с четкой механицистской установкой.
Это сочетание вносит свой склад в специфику античного атомизма и позволяет
нам правильно оценить данную ему характеристику как механистического
детерминизма. Однако это сочетание не есть соединение равномощных тенденций:
механистическая тенденция, несомненно, доминирует в атомизме над биоморфизмом.
Использование биоморфной терминологии при ясно осознанной установке на механистическое
объяснение всех явлений природы показывает нам, что устоявшейся механической
терминологии в эпоху Демокрита еще не было. Она только нащупывалась и
создавалась. Поэтому на помощь и приходили сравнения и аналогии биоморфного
происхождения, тем более что они давно использовались досократовскими «физиками».
* * *
Мы рассмотрели механику возникновения миров в атомизме. Перейдем к
анализу процессов, ведущих к их гибели.
Основным свидетельством о механизмах гибели миров в атомизме Левкиппа —
Демокрита является отрывок из сочинения Ипполита (N349; DK 55А40). Но
прежде чем приступить к его обсуждению, отметим саму необходимость гибели миров
в атомизме Демокрита. Об этом недвусмысленно говорится у Симпликия,
цитирующего Александра Афродисийского:
Александр говорит: под теми, которые считают мир возникшим и подверженным
уничтожению, подобно всякой другой из возникших вещей, следует, по-видимому,
понимать последователей Демокрита. Ведь, по их мнению, подобно тому как любая
из других вещей возникает и уничтожается, так возникает и уничтожается и
каждый из бесконечных миров (N 343).
Здесь дважды подчеркнуто, что мир необходимо должен погибнуть, потому что он
подобен любой возникшей вещи. Основанием необходимости гибели мира служит
аналогия мира и вещи.
Учитывая разнообразие миров, так выразительно представленное Ипполитом
(N 349), мы можем предположить, что, возможно, существует не один механизм
их разрушения, а несколько. Однако такое предположение, видимо, противоречит
известному нам о механизме возникновения миров, в единственности которого у нас
нет оснований сомневаться. В силу этого вполне резонно предположить, что и гибель
миров, подобно их возникновению, происходит по одному общему для всех миров
механизму. Действительно, у Демокрита полностью отсутствует эпикуровская
множественность в смысле равновероятных объяснительных гипотез. У него, напротив,
предполагается, что разум однозначно познает саму необходимость вещей, если он
стоит на правильном пути «законнорожденного мышления». В случае возникновения
миров эта необходимость тождественна с вихрем. А в случае гибели? Таков вопрос,
102
Раздел первый
который надо поставить перед тем, как говорить о множественности механизмов
гибели миров. Будем искать необходимость, заставляющую миры с неизбежностью
гибнуть, а уже по ходу анализа этой необходимости посмотрим, как обстоит дело
с конкретным механизмом гибели и каким здесь является состояние свидетельств.
Три места в отрывке из Ипполита свидетельствуют о гибели демокритовских
миров, причем только в одном из них говорится о конкретном механизме этого
процесса: «Одни миры увеличиваются, другие достигли полного расцвета, третьи же
уменьшаются (τοις δε φθίνειν). В одном месте миры возникают, в другом — идут
на убыль (τήι δ'έκλείπειν). Уничтожаются же они, сталкиваясь друг с другом». Первые
два места сообщают разными словами об одном и том же — об уничтожении миров,
их неминуемой гибели вообще, ничего не сообщая нам о ее механизмах. И только
третье место сообщает что-то определенное о таком механизме. Но такое
распределение этих мест относительно информации о механизмах гибели само есть всего
лишь гипотеза, хотя, безусловно, очень правдоподобная. Дело в том, что контекст
первого места ставит мир в перспективу естественного процесса возникновения,
роста, достижения расцвета, а затем упадка и гибели. Уже в этом ряду можно видеть
ясный намек на возможный механизм гибели: миры — органического рода
образования в том смысле, что они сами по себе претерпевают своего рода жизненную
эволюцию с ее основными тремя стадиями (возникновение и рост, зрелость и
расцвет, упадок и гибель). Этот органический способ мышления не должен нас удивлять
в механицисте Демокрите. Мы уже отметили у великого атомиста биоморфные
модели. Биоморфный язык проникает и в сравнительную космографию, содержащуюся
в тексте Ипполита. Так, Гатри подчеркивает, что слово άκμάζειν (достигать зрелости,
расцвета) дважды используется Ипполитом118. Но не есть ли все-таки биоморфизм
Демокрита скорее лингвистического толка, чем концептуально-содержательного?
Не является ли биоморфный язык лишь средством описания вполне механических
по сути дела процессов?
В тексте Ипполита, кстати, есть еще одно место, которое может быть отнесено
к информации о гибели миров и об ее механизмах: «Космос находится в состоянии
расцвета до тех пор, пока он уже не может присоединить к себе ничего извне».
Гатри его комментирует так: «Здесь опять можно обнаружить эхо других космогонии,
основанных на концепции мира как живого существа и растущего организма,
наподобие идеи "питания" звезд у Гераклита и космоса у Филолая»119. «Тем не менее, —
заключает он, — сохранение этой модели для роста мира не должно приводить нас
к забвению того, что для атомистов мир уже не был больше живым существом» 12°.
Почему мы так пристально присматриваемся к соотношению органики и
механики у Демокрита, анализируя проблему механизма гибели атомистических миров?
118 Guthrie WKC.A History of Greek philosophy. P. 408, прим. 2.
119 Ibid. P. 412.
120 Ibid.
Механика и античная атомистика
103
Да потому что именно биоморфный язык описания миров Демокрита позволил
Бейли предположить, что миры Демокрита гибнут из-за того, что в ходе роста
одного мира он «напирает» на соседний мир и разрушает его, если соотношение
размеров и сил ему это позволяет. Рассмотрим эту интерпретацию гибели миров
более подробно.
Бейли гораздо смелее, чем Гатри, принимает биоморфизм Демокрита и не
считает, что здесь возникают серьезные трудности в смысле его согласования с
механическим подходом. Более того, он видит в процитированной нами фразе из текста
Ипполита «зародыш всех позднейших теорий роста и упадка», прежде всего, конечно,
описанных у Лукреция (II, 1105 и далее).
Идея, что миры могут расти в одной части (Вселенной. — В. В.) и приходить в
упадок в другой, как мне кажется, — говорит Бейли, — является характерной
особенностью Демокрита, хотя должно быть несколько затруднительно понять ее исходя
из атомистических принципов, однако она служит дальнейшим доказательством
живости воображения Демокрита в принятии различий в условиях существования
бесчисленных миров ш.
Аргументация Бейли в пользу его гипотезы захватывает самый центр
космологического мышления Демокрита. Действительно, гибель миров через процесс
«органически» обусловленного давления одного — растущего — мира на соседний мир
служит одним из проявлений принципа разнообразия, которому подчинено
описание миров у Ипполита. Вот как излагает эту проблему Бейли:
Окончательное разрушение мира может происходить как результат продолжения
процесса упадка, что имеется в виду в сообщении Ипполита, но Демокрит в полете
воображения принимает другую возможность: огромный организм мира может быть
разломан соударением с другим миром так же, как обычное соединение атомов
может быть разрушено «ударом», рассекающим сплетение их атомов122.
Но здесь еще нет той самой гипотезы Бейли, о которой мы говорили и которая
породила споры, нами сейчас обсуждаемые. Она излагается им ниже.
Эта идея, — говорит ученый, — не вполне ясна, мы, однако, по всей вероятности,
не должны понимать миры так, что они движутся в пространстве, для чего нет
доказывающих это свидетельств, но миры нужно скорее понимать растущими в их массе
до тех пор, пока они не будут налезать на соседние миры. Такова, видимо, картина,
которую дает другое сообщение (имеется в виду сообщение Аэтия. См. (N 353). — В. В.):
мы можем даже представить себе, что большой мир поглощает атомы меньшего и
усваивает их в своем организме123.
121 Bailey С. The Greek atomists and Epicurus. P. 147.
122 Ibid. P. 148.
123 Ibid.
104
Раздел первый
Здесь Бейли полностью разыгрывает биоморфную «карту» — в его гипотезах нет
и следа той осторожности, которую мы обнаружили у Гатри.
Но даже не столько эти гипотезы, до предела обыгрывающие биоморфизм языка
свидетельств о мирах Демокрита, вызывают наши возражения, сколько другой
момент. Бейли, описывая виды механических движений во Вселенной Демокрита,
говорит о «движении каждого агрегата как целого»124, хотя для этого и нет прямых
доказательств, но он исключает из этого класса движения вещей миры. Однако миры — это
в принципе такие же агрегаты, как и вещи. И если вещи движутся в пространстве,
то почему же миры исключены из такого рода движений? Вот, на наш взгляд,
главный уязвимый пункт во всей аргументации Бейли. «Это истолкование, —
справедливо говорит Альфиери, — согласно которому миры якобы неподвижны в
беспредельном пространстве, лишено оснований»125. Движение миров, видимо, аналогично
движению атомов в пустоте.
Действительно, предположение о неподвижности миров Демокрита
противоречит двум ведущим аналогиям в их истолковании, подтверждаемым имеющимися
свидетельствами: во-первых, аналогии мира и вещи, а во-вторых, аналогии мира и атома.
Обе аналогии эффективно «работают» в атомистическом учении.
Другим слабым местом в рассуждениях Бейли, на наш взгляд, является его
утверждение о том, что Демокрит отбросил возможность объяснения гибели миров
через процесс внутреннего старения миров, выбрав механизм давления одного мира
на другой в ходе его роста и увеличения массы. Такое предпочтение нам непонятно,
так как весь текст Ипполита и логика мышления Демокрита говорят о том — и это
выявляет и сам Бейли, — что Демокрит описывает максимальное разнообразие
условий существования миров, включая и условия их гибели. Кстати, принятое Бейли
взаимодействие миров вполне понятно при условии отсутствия пустоты и при
соответствующем принятии континуалистской картины Вселенной. Так действительно
и обстоит дело, например, у Фонтенеля в его описаниях множественности миров.
Но совсем иное положение мы находим у Демокрита, у которого Вселенная мыслится
как совокупность двух начал — атомов и пустоты. Вместо континуалистской
картины мы имеем здесь картину движения дискретных начал — атомов — в пустоте.
И непонятно, почему миры должны быть исключены из такого движения.
Если подытожить весь спектр точек зрения, то мы можем сказать, что мыслимы
два сорта возможных механизмов гибели миров согласно Демокриту. Во-первых, это
внутренние механизмы, основанные на процессах независимой эволюции каждого
мира. Мир в таком плане рассмотрения выступает действительно как некий
квазиорганизм. Он возникает, растет, достигает расцвета и затем приходит в упадок,
уменьшается и, наконец, рассеивается, разрушается, распадается на составляющие его
атомы так же, как растут, достигают зрелости, а затем упадка и распада живые тела.
Во-вторых, имеется, на наш взгляд, более надежно подкрепленная свидетельствами
124 Bailey С. The Greek atomists and Epicurus. P. 138.
125 Alfieri V E. Gli Atomisti... P. 116, прим. 292.
Механика и античная атомистика
105
возможность внешних механизмов гибели миров. Сюда относится механизм,
предложенный Бейли, который для нас неприемлем, если только он выставляет своим
непременным условием невозможность движения миров. Но как частный случай он
также может быть допущен. Действительно, строго говоря, и мы об этом уже сказали,
«раздавить» один мир с помощью другого, растущего мира возможно только в случае
отсутствия пустоты и сплошности Вселенной. Ведь «напирание» мира на мир, о
котором говорит Бейли, может привести к летальному для одного или даже для двух
миров исходу только в том случае, если мир прочно фиксирован на некой стенке. Такой
стенкой могли бы быть третьи миры, вплотную окружающие меньший мир,
подвергаемый давлению. И весь процесс действительно приводил бы к гибели миры, если
они плотно прилегают друг к другу (своего рода модель панкосмической Ходынки).
Но такое предположение, мягко говоря, не слишком согласуется с принципами
атомизма. Хотя Бейли и прав в том общем плане, что в силу принципа максимума
разнообразия условий существования миров такой механизм допустим.
Действительно, мы читаем у Ипполита, что плотности миров в разных районах
Вселенной разные и не исключено, что возможны такие флуктуации плотностей
миров, что они могут превысить некоторое критическое значение. Тогда модель
Ходынки окажется релевантной и действительно сможет обусловливать гибель миров.
Но этот механизм, безусловно, скорее исключение, чем правило.
Мы видим, насколько многообразны пути вероятных истолкований вопроса
о гибели миров у Демокрита. Свидетельства слишком бедны, чтобы внести полную
ясность и однозначность в эту проблему. Свидетельство Ипполита дает нам одно
слово для обозначения конкретного механизма гибели миров — προσπίπτειν (Ν 349).
Но это слово указывает на встречу (один мир «припадает» к другому), сближение
миров и ничего не говорит о том, является ли эта встреча результатом внешнего
механического движения миров в беспредельном пространстве или же она вызвана
давлением одного растущего мира на другой, находящийся в другой фазе своей
эволюции. Однако в силу общей аналогии между миром и вещью, между миром и
атомом мы считаем, что прежде всего надо иметь в виду, безусловно, внешние
механические причины гибели миров, а не органические, которые в лучшем случае служат
лишь отголосками более старых космогонии.
Но исследователями были предложены и другие возможные механизмы гибели
демокритовских миров. Интересную гипотезу, основанную на вероятном допущении
Демокритом атомов любой величины, высказал Мюглер126. Огромные атомы
величиной, например, с наш мир могут отрываться от своих миров и устремляться в
пространство «великой пустоты». Они могут сталкиваться с мирами, которые находятся
в том же интервале размеров. Так как такие атомы вполне могут заменить мир в его
функции мироразрушения, то, как говорит Мюглер, «нет необходимости в
соударении миров: достаточно группы больших атомов или даже одного гигантского атома
126 Mugler Ch. L'invisibilité des atomes: A propos d'un passage d'Aristote // Rev. études grecques.
1963. T. 76. P. 397-403.
106
Раздел первый
для разрушения мира, созданного из более мелких атомов»127. Если гигантский атом
размером с мир сталкивается с нашим миром, то его гибель произойдет мгновенно
вместе со всей биосферой, ему присущей. Но если мир будет обстреливаться
атомными болидами меньших размеров, то картина, согласно Мюглеру, будет еще более
устрашающей:
Невидимые бесшумные болиды обрушатся однажды из глубин бесконечного
пространства на мир, находящийся в процессе формирования, расцвета или упадка,
и с быстротой молнии пробьют в нем, во всей его толще, глубокие пробоины,
дырявя небеса, уничтожая поля и леса, сметая горы и долины. Единственное, что
будет зримо и слышимо, так это грохот ломки и разрушений, отмечающих пробег
этих призрачных снарядов (projectiles fantômes), и те из одушевленных существ,
которые переживут первый удар, не видя причины этих ужасных явлений, умрут
затем в ужасном ощущении себя жертвами врага, не принадлежащего к чувственно
воспринимаемой реальности128.
Мы отметили, что картина, предложенная Мюглером в качестве
реконструкции демокритовских представлений о гибели миров, не лишена оснований. Правда,
и у гипотезы Бейли, и у гипотезы Мюглера есть один общий для них пункт,
который мы принять не можем: оба исследователя считают предлагаемый ими механизм
в качестве единственного, принимавшегося Демокритом, имея в виду свою
трактовку. С такой позицией, утверждающей только один механизм гибели миров, мы
и не можем согласиться. Свидетельства не позволяют нам, по всей вероятности,
однозначным образом выбрать из всех возможных механизмов гибели миров один-
единственный, который был бы самым вероятным и который мы могли бы считать
действительно содержащимся в учении Демокрита. Поэтому, принимая во
внимание принцип разнообразия в описании миров как в плане их внутреннего строения,
так и в плане их внешнего облика и судьбы, мы считаем, что надо учитывать все
возможные механизмы гибели миров, если, конечно, они предлагаются на основе
достаточного подтверждения свидетельствами.
Итак, нам остается теперь дать классификацию всех возможных способов
разрушения демокритовских миров. Все такие механизмы или даже теории гибели
миров делятся на три класса: 1) механические теории; 2) органические теории; 3) ор-
гано-механические теории. К первому классу относятся все механизмы внешнего
механического разрушения миров — с помощью столкновения мира с миром, или
мира с атомными скоплениями, или даже с отдельным гигантским атомом. Это
наиболее вероятные механизмы гибели миров. Ко второму классу относятся теории
внутреннего органического упадка или старения миров, причем никакие механические
внешние соударения во внимание здесь не принимаются. Наконец, третий класс —
смешанный, здесь органический упадок и рост сочетаются с внешним механическим
127 Mugler CL· L'invisibilité des atomes: A propos d'un passage d'Aristote P. 401.
128 Ibid.
Механика и античная атомистика
107
давлением мира на мир. Это как раз случай механизма, предложенного Бейли. Он,
как мы видели, сочетает в себе органику процесса упадка или уменьшения мира, его
внутренне обусловленный распад и органику роста или увеличения размера и массы
мира с механическим давлением растущего мира на мир, находящийся в фазе
своего упадка, или просто на мир значительно меньшей массы. Эту же классификацию
можно представить и несколько иначе, а именно: 1) теории внешней гибели миров;
2) теории внутренней гибели миров; 3) теории смешанного типа. На наш взгляд,
механические теории предпочтительнее других, так как именно они в большей степени
отвечают духу атомистического учения и надежно подтверждаются свидетельствами.
Своеобразный специфически античный механический детерминизм,
содержащийся в учениях атомистов, на наш взгляд, кроме отмеченных особенностей,
может быть полнее раскрыт, если мы обратим внимание на роль количественного
фактора в атомистических космологических концепциях. Мы уже говорили об эффекте
«толпы» как модели для пояснения действия больших количеств скопившихся
вместе атомов для смещения равновесия в вихре и начала процессов сепарации
вещества. Проанализируем этот момент подробнее.
«Скапливаясь, — говорит Диоген об атомах разных форм, — они образуют
единый вихрь, а в нем, сталкиваясь друг с другом и всячески кружась, разделяются
по взаимному сходству» (IX, 6, 31). Здесь мы находим конкретное указание на
главный фактор космогонического процесса — образование, как мы привыкли говорить
в современной науке, критической массы движущихся атомов. «Скапливаясь, —
говорит доксограф, — они образуют единый вихрь». Скопление атомов происходит,
видимо, флуктуативно — о причинах скопления атомов мы ничего не знаем. Наша
догадка о значении количественного фактора для начала космогенеза
подтверждается далее словами Диогена: «И так как по многочисленности своей они уже не
могут кружиться в равновесии, то легкие тела отлетают во внешнюю пустоту, словно
распыляясь в ней, а остальные сбиваются в общем беге и образуют таким образом
некоторое первоначальное соединение в виде шара» (IX, 6, 32; курсив наш. — В. В.).
Благодаря скоплению атомы образовали единый вихрь, а благодаря их
многочисленности в этом скоплении начинается космогоническое структурирование, состоящее
прежде всего в распределении тел (атомов) по зонам на основе их подобия. Можно
предположить, что решающим «пусковым» фактором для процесса космообразо-
вания служит некоторая критическая величина количества скопившихся вместе
атомов. Важное значение, придаваемое количественному моменту, отвечает меха-
ницистско-квантитативному стилю мышления атомистов и сближает его с наукой
Нового времени.
Какие же следствия можно извлечь отсюда? Очевидно, что миры не могут
содержать меньшее число атомов, чем их критическое количество, необходимое для
пуска в ход космогонического вихря и процессов сепарации вещества внутри него.
Это существенный вывод. Можно предположить, что в атомистическом учении
существует своего рода константа, определяющая минимальное число атомов, которое
может содержать мир. Мы не можем, конечно, со всей определенностью утверждать,
108
Раздел первый
что у Демокрита была такая константа, что он четко и недвусмысленно говорил о ней.
Прямые свидетельства такого рода отсутствуют, как и во многих других аналогичных
случаях. Однако мы считаем, что исходя из духа и буквы атомистического учения
трудно представить себе какой-либо иной механизм начальной стадии космогенеза.
Текст Диогена по крайней мере дважды, как мы видели, указывает на
количественный фактор, определяющий старт космогонического процесса. При реконструкции
атомистических учений крайняя бедность дошедших до нас свидетельств заставляет
исследователя использовать метод экстраполирующих рассуждений, продолжающих
логику рассуждений атомистов. Естественно, что желательно при такого рода
процедуре иметь какие-то отправные точки в сохранившихся текстах. Именно так мы
и поступили, предположив наличие такой космогонической константы у атомистов.
Вывод о наличии константы, определяющей минимальное число атомов, которое
может содержать любой произвольно взятый мир, не является единственным
выводом, который можно сделать, пытаясь охарактеризовать атомистическое понятие
о мире, отталкиваясь от анализа атомистической космогонии. Ко второму выводу мы
можем прийти, рассматривая все тот же текст Диогена. «Легкие тела, — говорит док-
сограф, — отлетают во внешнюю пустоту, словно распыляясь в ней». «Легкие тела» —
это атомы относительно небольших размеров, которые в механике вихря
оттесняются скоплениями более крупных атомов вовне. Как говорит Диоген, самые легкие
распылятся во внешней пустоте, покидая тем самым космогонический конгломерат.
Что же означает, что такое выталкивание самых мелких атомов неизбежно
происходит в каждом из бесчисленных космогонических вихрей? Это означает, что внутри
космогонического конгломерата остаются атомы, находящиеся в определенном,
видимо, достаточно узком интервале размеров атомов. Мы, конечно, ничего
определенного не можем сказать о ширине этого интервала. Но мы считаем, что он
предполагался, по крайней мере имплицитно, в учении Левкиппа и Демокрита и что он
тоже был примерно константным для множества миров. Относительная
константность ширины диапазона величин атомов, образующих мир, вытекает как из
наличия константы, определяющей минимальное число атомов в мире, так и из закона
выталкивания самых мелких («легких») атомов за пределы космогонического
конгломерата. Какие дополнительные соображения мы можем привести в пользу
такого вывода? Эти соображения связаны с третьим моментом, который мы находим
в космогонии атомистов.
Наличие определенного диапазона размеров атомов, образующих мир,
обусловлено тем, что для образования сложных тел, в том числе космологических структур,
необходимо какое-то соответствие в величинах вступающих в связь атомов.
Поскольку атомы сцепляются механически и образуют относительно устойчивые
соединения главным образом в силу дополнительности их форм (например, «крючки»
одних атомов зацепляются за «выступы» других), то, очевидно, для того чтобы этот
процесс мог происходить, необходимо, чтобы величины атомов лежали в некотором
не слишком широком интервале, так как атомы, сильно различающиеся по своим
размерам, не смогут вступать в соединение: «крючки» одних просто не войдут
Механика и античная атомистика
109
в «полости» других. Итак, наличие определенного диапазона атомных размеров
является условием образования сложных тел, т. е. структурирования начального
конгломерата атомов.
Если у Демокрита можно предположить существование нижнего, выраженного
в количественной форме, предела, определяющего минимальное число атомов,
необходимое для начала космогонического процесса, то верхний предел такого рода
у него, видимо, отсутствует. Однако, как мы видели, космогенез, начинающийся
при некотором критическом числе скопившихся атомов, приводит к отделению
самых мелких атомов за пределы космогенетического конгломерата. Можно
предположить, что отброс мелких атомов определяется величиной диапазона атомов,
могущих вступать друг с другом в различные соединения. Очевидно, что такой диапазон
будет лимитировать максимальное число атомов в космогенетическом конгломерате
и, следовательно, в мире. Значит, мы поправляем наше начальное суждение: верхний
количественный предел множества атомов в мире, видимо, так же существует в
атомистической системе, как и нижний.
Интересно, что абсолютный размер атомов здесь не играет роли. В системе
атомистических постулатов Демокрита величина атомов, видимо, не лимитировалась,
Об этом говорит свидетельство Диогена: «Демокрит считал, что... атомы
бесконечны и по величине и по числу» (IX, 7,44), а также и такое надежное свидетельство,
как высказывание Симпликия в комментарии к сочинению Аристотеля «О небе».
Атомы, говорит Симпликий, «имеют самый различный вид и самые различные
формы и всевозможные различия по величине» (N204). Свидетельство Аэтия:
«Демокрит утверждает... что может существовать и атом, величиной равный всему
нашему миру» (N 207), и свидетельство Дионисия, приводимое у Евсевия в его
«Введении в Евангелие»: «Демокрит же допускал и существование чрезвычайно больших
атомов» (N 207), подтверждают сообщения Диогена и Симпликия.
Однако вопрос о размерах атомов достаточно сложен, что вынуждает нас
остановиться на нем и рассмотреть его более пристально. У Симпликия, который в данном
месте своего комментария дает выписки из сочинения Аристотеля «О Демокрите»,
впоследствии утраченного, говорится: παντοίας μορφας και σχήματα παντοία και κατά
μέγεθος διαφοράς. В переводе Лурье этого места добавлен квалитатив «всевозможные»
в качестве характеристики различий атомов по величине. Маковельский не делает
этого, как и другие переводчики, и дает такой перевод: «У них (у атомов. — В. В.)
разнообразные формы и разнообразные фигуры, и они различны по величине»129. В
качестве примера иностранных переводов приведем перевод Альфиери: «ogni génère
di figure (e forme) e differenze digrandezza» 13°. Лурье никак не объясняет своей вставки.
Однако можно предположить, что он просто подвел под общий знаменатель различия
атомов по форме и их различия по величине. Однако это, казалось, не столь
существенное изменение смысла текста приводит к весьма существенным выводам в его
129 Маковельский А. О. Древнегреческие атомисты. N 47.
130 Alfieri V E. Gli Atomisti.
по
Раздел первый
интерпретации. Действительно, следуя Лурье, мы склонны видеть в тексте Симпли-
кия подтверждение неограниченности вариаций размеров атомов и считать, что они
столь же беспредельно разнообразны, как и их формы. Но, не принимая эту в целом
вряд ли оправданную вставку, мы приходим к противоположному выводу:
различия атомов по формам отличаются от их различий по величине. Именно такой
вывод и делает Мюглер, говоря, что «Симпликий применяет απειρία только к области
σχήμα, которой его ограничивал Левкипп»131.
Вопрос о Левкиппе непрост. Мюглер приходит к такому выводу об отличии его
взглядов от мнений Демокрита по этому вопросу, сопоставляя тексты Диогена Ла-
эртского о Левкиппе и, соответственно, о Демокрите. Атомы Левкиппа Диоген
называл лишь σώματα παντοία τοις σχήμασιν — «множество разновидных тел» (IX, 6,
31), а атомы Демокрита он характеризовал как άπειρους... κατά μέγεος και πλήθος —
«атомы тоже бесконечны по величине и количеству» (IX, 7, 44). Однако сам же
Мюглер дезавуирует свой вывод, говоря не без резона, что на основании сопоставления
двух мест из Диогена нельзя еще делать таких выводов, которые он все же делает.
«Диоген, — справедливо замечает исследователь, — возможно, просто опустил
выражение και τοις μεγέθεσιν по отношению к Левкиппу, как он опустил κατά είδος по
отношению к Демокриту»132.
Мы не можем взять на себя смелость на основании такого сопоставления делать
вывод о различии позиций Левкиппа и Демокрита по вопросу о размерах атомов,
но, напротив, склонны полагать — до тех пор, пока не будет действительно
убедительно доказано обратное, — что Левкипп и Демокрит занимали идентичную
позицию в отличие от Эпикура. Наша аргументация проста: Левкипп, несомненно,
разрабатывал прежде всего ту перспективу видения физической реальности, которую
мы, следуя в определенной мере за Мюглером, называем мегадиакосмической
перспективой. Кстати, ведь именно ему приписывается теофрастовской традицией
авторство сочинения «Большой Мирострой» (Μέγας διάκοσμος), в котором эта
перспектива разработана. Есть много и других веских соображений сближать позиции
Левкиппа и Демокрита по фундаментальным вопросам, особенно что касается
космогонии и учения об атомах и пустоте. Наоборот, попытки резко противопоставить
позиции обоих атомистов часто приводили к натяжкам, отбрасываемым историками
как необоснованные.
Противоречивость свидетельств о величине атомов у Демокрита вызвала
различные попытки своего объяснения. Каждый исследователь подходит к этому вопросу
со своих позиций. Так, Лурье в соответствии со своей интерпретацией Демокрита,
приписывая ему учение об амерах, что не может быть строго доказано133, считает,
131 Mugler Ch. Les théories de la vie et de la conscience chez Démocrite // Rev. philol. 1959. T. 33,
fasc. l.R 10.
132 Ibid. P. 9.
133 Зубов В. П. К вопросу о математическом атомизме Демокрита // ВДИ. 1951. № 4.
С. 204-208; Рожанский И. Д. Развитие естествознания в эпоху античности... С. 324-329;
Механика и античная атомистика
111
что смешение и путаница возникли из-за того, что и сам Демокрит «вряд ли с
достаточной отчетливостью проводил границу между физическими и математическими
атомами», а тем более в этом запутались позднейшие доксографы, начиная с
Аристотеля. Свойства амер переносились на свойства атомов, считает Лурье, вследствие
чего малость амер оказалась однозначно приписанной атомам в качестве
объяснения причины их чувственной невоспринимаемости134.
На иной позиции стоит, например, Мюглер, с которым мы частично
солидаризируемся 135. Он считает, что четкое суждение Демокрита о беспредельном диапазоне
различий атомов по величине было впоследствии размыто в силу господства
представлений о единственности мира, получивших большое распространение, начиная
с Платона и Аристотеля. Очевидно, что в такой Вселенной, конечной и единственной,
не может быть места смелому представлению о беспредельности различий атомов
по их размерам. Действительно, очевидным абсолютным пределом величины атомов
в такой космологии является размер Вселенной. Отсутствие бесконечности у
Вселенной не может быть сопряжено с беспредельностью размеров атомов. Как и
Лурье, Мюглер допускает, что сам Демокрит мог дать толчок к такого рода неясностям,
как только он оставил перспективу «большого мироустроения» и перешел к учению
о нашем мире. С этим замечанием нам трудно согласиться, так как мегадиакосмиче-
ская перспектива у Демокрита вряд ли полностью «забывалась» в его микродиакос-
мических построениях: принципы атомизма пронизывают все учение Демокрита,
и в малом у него не утрачивается большое. Общим знаменателем обоих планов
выступают постулаты атомизма: беспредельное пустое пространство и атомы,
беспредельно разнообразные по своим формам и неограниченные по числу и величине.
Из проанализированных нами свидетельств следует, что миры могут быть как
достаточно больших размеров, так и достаточно малых, и что сам по себе абсолютный
размер не играет принципиальной роли в механике образования мира и всех
структур, в нем возникающих. Надо учитывать, что, как мы уже отмечали, у Демокрита
существует универсальная (универсум — Вселенная) перспектива, задаваемая
бесконечным множеством миров, сосуществующих в беспредельной Вселенной,
возникающих и гибнущих. В свете такой перспективы и при учете атомистических постулатов
мы можем прийти к пониманию того, что многие константы выступали в атомизме
Демокрита как индивидуально-мировые, т. е. константы, характерные только для
данного мира, но не для всех миров. Диакосмическая перспектива, таким образом,
приводит к тому, что одни константы характеризуют только данные, определенные
миры, а другие — всю Вселенную в целом, все миры. Из наличия диапазона размеров
Зубов В. Л. Развитие атомистических представлений до начала XIX в. С. 90-91; Furley D. /.
Twostudiesinthe Greekatomists. Princeton, 1967. P. 101; Mau J. Zum Problem des Infinitesimalen
bei den antiken Atomisten. В.: Akad.-Verl., 1954. S. 24; Гайденко П. П. Эволюция понятия науки...
С. 82-85.
134 Лурье С. Я. Демокрит... С. 464.
135 Mugler Ch. Les théories de la vie et de la conscience chez Démocrite. P. 10.
112
Раздел первый
атомов для каждого данного мира следует, что для каждого мира существует свой
предел малости атомов и свой предел их величины. Но сама по себе шкала размеров
атомов для всей Вселенной разомкнута; это означает, что таких величин, как
наименьший атомный размер или наибольший атомный размер, вообще (или для всей
Вселенной) просто не существует.
Не существует также в атомизме Левкиппа — Демокрита (но не в атомизме
Эпикура и Лукреция) и такой общей для всей Вселенной величины, как порог
чувственного восприятия: пороги восприятия являются константами для каждого мира.
Порог восприятия, — как справедливо замечает Мюглер, — который
основоположники атомизма, по-видимому, фиксировали в качестве верхнего порога размера
атомов, на самом деле является только относительным пределом, имеющим значение
только для определенного, а именно для нашего мира, и лишен всякого значения
для других миров136.
Приписывание присущего человеку порога восприятия всей бесконечной
Вселенной является своего рода антропоцентризмом, с которым атомизм Левкиппа —
Демокрита порывает, может быть, наиболее радикально по сравнению с любым
другим античным учением. Не без влияния Платона и Аристотеля с их телеологизмом
и антропоцентризмом в атомистике Эпикура появляется единый для всей Вселенной
порог восприятия, характерный для человека: человек действительно становится
мерой всех вещей, как об этом учили софисты, прежде всего младший современник и,
возможно, ученик Демокрита, также абдерит, Протагор.
Очевидно, что поздняя атомистика под пером перипатетически ориентированных
доксографов, следующих за Теофрастом, главой аристотелевской школы, наложила
свой отпечаток на дошедшие до нас свидетельства о первых атомистах. В результате
до настоящего дня не смолкают споры исследователей, вызванные противоречивыми
свидетельствами об атомизме Левкиппа — Демокрита. Однако свидетельства о
размерах атомов мы не считаем в действительности непримиримо противоречащими
друг другу. Как мы уже отметили, ограничение верхнего предела величины атомов
порогом восприятия и в соответствии с этим объяснение невидимости атомов
Левкиппа — Демокрита их малостью, как считает Аристотель в книге «О возникновении
и уничтожении» (325а30), не противоречит приведенным нами свидетельствам о
неограниченности величины атомов. Видимость противоречия между этими
свидетельствами исчезнет, если мы один ряд свидетельств будем рассматривать в перспективе
нашего мира137, а другие свидетельства (N 204, N 207) будем оценивать в контексте
136 Mugler Ch. Sur quelques particularités de Tatomisme ancien // Rev. philol. 1953. T. 27, fasc. 2.
P. 144.
137 Точнее говоря, вообще любого определенного мира, но естественно, что у Аристотеля
и у других доксографов, следующих за ним, наш мир выступает как единственно сущий, что,
в свою очередь, также не могло не приводить к возрастанию путаницы в свидетельствах
поэтому вопросу.
Механика и античная атомистика
113
диакосмической или вселенской перспективы, явно присутствующей у Демокрита.
Если порог восприятия и средний размер атомов являются константами,
специфическими для каждого отдельного мира, то, очевидно, отношение этих
индивидуально-мировых констант является общевселенской универсальной константой.
Вариации миров по разным характеристикам с необходимостью сопровождаются
определенными инвариантами — подобное отношение вариантных и инвариантных
величин мы находим и в современной физике. Мюглер называет такую
интерпретацию атомистического учения о множестве миров «релятивистской»138. И в этой
«модернизирующей» на первый взгляд характеристике есть свой рациональный смысл.
Релятивизации в демокритовской перспективе бесконечного множества миров
подвергается в первую очередь наш собственный мир, наши земные оценки и привычки.
Весь багаж человеческих привычных установок, в свете которых незаметным
образом совершается экстраполяция человеческого мира на всю бесконечную Вселенную,
имеет в плане перспективы только локальное значение и никоим образом не может
претендовать на общевселенский статус.
Наличие диакосмической перспективы не означает, что самих физик, как и
миров, становится бесконечно много. Нет, этого не происходит, потому что у
Демокрита начала всех миров существенно одни и те же: атомы и пустота, причем эти
начала подчинены универсальным механическим законам движения и
взаимодействия. Таким образом, физика, или, точнее, механика, существует только одна для
всех миров, для всей беспредельной Вселенной. Но конкретные физические,
биологические, метеорологические и тому подобные феномены варьируют от мира к миру.
Единообразие основных принципов «на входе» атомистической системы
дополняется органически связанным с ним потрясающим разнообразием явлений
чувственно воспринимаемого плана «на выходе». Такое соотношение единообразия
и разнообразия говорит об эвристической и объясняющей мощи атомистических
постулатов и свидетельствует об их высоком рациональном статусе, что и
проявляется в поразительной долгоживучести и универсальности атомистического
мышления в истории139. Кстати, подобная долгоживучесть тем более поразительна, что
атомизм на протяжении очень долгого времени был преследуемой доктриной. Видимо,
уже в III в. н. э. сочинения основоположников атомизма были уничтожены140. Тем
не менее развитые соображения можно подкрепить достоверными доксографиче-
скими свидетельствами. Среди них своей полнотой и насыщенностью информацией
138 Mugler Ch. Sur quelques particularités de latomisme ancien. P. 145.
139 «Разве современное атомистическое учение, — говорит Курно, — не есть повторение
теории Левкиппа и Демокрита? Из нее оно произошло и есть плоть от плоти ее» (Cournot A. Traité
de l'enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l'histoire. P., 1911. T. 1. P. 245).
Этим высказыванием начинает свою статью «2400 лет квантовой теории» Эрвин Шредингер
(Шредингер Э. 2400 лет квантовой теории // Шредингер Э. Новые пути в физике: Статьи и речи.
М.: Наука, 1971).
140 Nisan P. Les matérialistes de l'antiquité. P., 1938. P. 35.
114
Раздел первый
о космологии атомистов выделяется свидетельство Ипполита. Описывая структуру
миров, Ипполит обращает внимание на то, что в одних мирах «солнце и луна больше,
чем у нас» (N 349). Если мы теперь учтем, что законы космогенеза существенно едины
для всей Вселенной, то естественно предположить, сообразуясь с логикой атомизма,
что размеры светил прежде всего объясняются размерами составляющих их атомов.
Законы сепарации вещества включают лишь относительные характеристики атомов:
более громоздкие и «тяжелые» остаются в центре вихря, а более мелкие, подвижные
и «легкие» выталкиваются вверх, а самые «легкие» из них совсем покидают
космический конгломерат.
Имея в виду такой механизм образования миров, можно предположить, что
более крупные объекты (Луна, Солнце и т. п.) возникают потому, что атомы данного
мира более крупные, чем атомы другого мира, с которым сравнивается первый мир.
Очевидно также, что подобным образом варьируют и размеры миров в зависимости
от размеров составляющих их атомов. С увеличением средних размеров атомов,
составляющих мир, и соответствующим увеличением размера мира происходит и
пропорциональное увеличение порога восприятия у одушевленных существ, могущих
населять данный мир. Поэтому положение о том, что атомы незримы и чувственно
невоспринимаемы в силу того, что они меньше, чем порог восприятия, сохраняет
свою силу, однако при этом порог восприятия мыслится как характеристика,
специфическая для каждого индивидуального мира, а не для всей Вселенной. В мирах
больших, чем наш мир, будут более крупными все его образования, как
неодушевленные (Луна, Солнце и т. п.), так и одушевленные, если по условиям данного мира
они возможны. Соответственно с этим и порог восприятия будет выше, чем в нашем
мире, состоящем из более мелких атомов.
Сходство между перспективой бесконечного множества миров у Демокрита
и некоторыми эйнштейновскими идеями тем более примечательно, что
«релятивизм» атомистов радикально отличен от софистического субъективистского
релятивизма, ставящего в центр «системы отсчета» человека, его субъективность. У
атомистов таким центром являются всеобщие механические законы Вселенной в целом.
Картина, рисуемая Ипполитом, действительно заставляет нас вспомнить
специальную теорию относительности. Бесчисленные миры атомистов выступают как своего
рода бесчисленные системы отсчета, как эйнштейновские инерциальные системы.
Многие константы, как мы это показали, являются инвариантами только в пределах
данного мира и не являются инвариантами для всей Вселенной. Более устойчивыми
величинами, как и следовало ожидать, оказываются не сами эти величины, а их
отношения. Так, за релятивизацией размеров, форм и динамических величин—
скоростей, направления и т. п. — стоит абсолютизация некоторых величин и
соотношений (например, критическое число атомов, начиная с которого возможен процесс
вихревого космогенеза, или отношение среднего размера атомов для данного мира
к порогу восприятия, характерному для него).
Хотя в атомизме Демокрита Земля сохраняет свое центральное положение,
но это положение является центральным только для нашего мира. Перспектива
Механика и античная атомистика
115
бесчисленного множества миров делает этот геоцентризм весьма ослабленным,
можно сказать относительным или условным. По существу же, в концепции
бесчисленного множества миров в ее демокритовском варианте заложены мощные
импульсы, опрокидывающие геоцентризм, что и обнаружилось впоследствии.
Релятивизация пространственных направлений, учение об изотропности и однородности
Вселенной имели большое значение для геометрии, космологии, физики и механики.
Интересный вопрос заключается в том, почему у Демокрита в каждом мире атомы
оказываются меньше, чем порог чувственного восприятия существ этого мира. И
конечно, мы ничего не поймем в демокритовской трактовке этого вопроса, если скажем,
что атомы просто настолько малы, что не воспринимаются чувствами. Они,
напротив, как свидетельствует тот же Симпликий, могут быть всяких размеров. Очевидно,
что правильный ответ на этот вопрос состоит в том, что средний атомный размер,
характеризующий данный мир, определяет и результаты эволюции, приводящей при
наличии определенных условий (среди них важнейшим Демокрит считал наличие
воды) к возникновению живых организмов, или одушевленных существ (έμψυχα).
Действительно, не атомы «ориентируются» в своих характеристиках на
определенные живые существа, а, наоборот, возникающие в процессе эволюции организмы
сообразуются с наличными характеристиками атомов, в том числе и с их величиной.
В чем же в самом общем виде состоит эта адаптация возникающих организмов
к наличным размерам атомов, характерным для данного мира? Она определяется
в первую очередь требованием стабильности возникающих организмов. А это
означает, что органы чувств организмов не должны быть чувствительны к
изолированным атомам, в противном случае организм был бы подвержен самому хаотическому
натиску атомов. Жизнь вряд ли оказалась бы возможной, если бы живой организм
вынужден был реагировать на каждое соударение с каждым индивидуальным
атомом. Кстати, об этом условии живого по отношению к атомам и к их размерам
писал Эрвин Шредингер, который так высоко оценивал античный атомизм Левкиппа
и Демокрита141. Среди историков античной науки на это обстоятельство обратил
внимание Мюглер. «Если бы, — говорит он, — отдельные атомы были воспринимаемы,
то это создало бы впечатление невообразимого и непоправимого хаоса (dun chaos
irrémédiable)»142. Живое вряд ли смогло бы выдержать этот хаос. Поэтому эволюция
и пошла другим путем, а именно создавая такие организмы, которые могут
воспринимать атомы только в их упорядоченных ансамблях. У атомистов такие ансамбли,
если верить доксографам, называются «истечениями» (N428).
Рассмотрим вопрос еще об одной константе, носящей универсальный характер.
Выше мы предположили, опираясь на текст Диогена, что в атомизме Левкиппа и
Демокрита существует константа, характеризующая минимальное число атомов в
конгломерате, начиная с которого возможен космогонический вихрь. Если мы снова
вернемся к этому фундаментальному тексту, то можем заметить, что космогенез
141 Шредингер Э. Что такое жизнь с точки зрения физики? М.: Изд-во иностр. лит., 1947.
142 Mugler Ch. Sur quelques particularités de latomisme ancien. P. 145.
116
Раздел первый
сопровождается ростом оформляющегося в упорядоченное целое конгломерата
атомов. Так, у Диогена мы читаем: «...окружающая оболочка росла, в свою очередь,
за счет притока тел извне», а в конце отрывка говорится о «возрастаниях» миров,
за которым следуют «ущербы» и «разрушения». Естественно предположить, что
существует и такая константа, как максимальное число атомов в мире, находящемся
в точке своего акме (расцвета). Если предположение о наличии минимального числа
атомов, представляющего критическую величину «пуска» в ход космогенетического
механизма, сделано нами, то наличие указанной максимальной величины было
предположено Мюглером. «Если имеются миры различной величины, — говорит Мю-
глер, — то эти различия только во вторую очередь происходят от неравенства числа
атомов, образующих данные миры». «Можно даже предположить, — заключает
историк, — что в мышлении Демокрита предельное число атомов, характеризующее акме
космоса, является тем же самым для всех миров данного космологического типа» 14\
Правда, универсальность этой константы Мюглер ограничивает типом, к которому
принадлежит рассматриваемый мир.
Что здесь понимается под типом мира? Это понятие объединяет все миры,
которые обладают одинаковой структурой. У Ипполита, как мы помним, говорится
о мирах различной структуры: «...в одних из них нет ни солнца, ни луны, в
других — солнце и луна большие, чем у нас, в третьих — их не по одному, а несколько»
(N 349). Здесь указаны типы миров, разнящиеся по такому параметру, как число
солнц и лун, характерное для данного мира. Кстати, различие миров одинаковой
структуры по размеру («в других — солнце и луна большие, чем у нас») не создает
нового типа мира: именно такие миры принадлежат к одному типу. Различие в
размерах миров обусловливается различием в средних размерах атомов, из которых они
состоят. Естественно допустить, как это и делает Мюглер, что такие миры будут
характеризоваться одинаковым количеством атомов в период своего акме. Очевидно,
что ограничение универсальности такой константы типом миров обусловлено
предположением, что динамика роста мира зависит от его структуры или типа. Однако
такое предположение трудно доказать. Если же мы не будем себя им связывать, то
данная константа получит вполне универсальное значение, что, на наш взгляд, лучше
согласуется с исходными чисто механистическими и квантитативными принципами
атомизма Демокрита. Ведь структура — качественный фактор, и мы не можем,
следуя духу атомистического учения, предположить, что качественные факторы играют
столь существенную роль в атомистическом мышлении, хотя в некоторых других
случаях они, несомненно, проявляются. Именно поэтому мы и приняли,
анализируя текст Диогена, существование минимального числа атомов, начиная с которого
космогенетический вихревой процесс может начаться. Максимальное число атомов,
после достижения которого мир неминуемо приходит в упадок и начинает
разрушаться, видимо, связано с минимальным числом атомов, пускающим в ход космо-
генетическую «машину». В силу такой связи можно предположить, что и эта вторая
Mugler Ch. Les théories de la vie et de la conscience chez Démocrite. C. 12.
Механика и античная атомистика
117
величина является независимой не только от размеров мира, но и от его типа, и тем
самым представляет собой еще одну константу в учении Демокрита о
множественности миров. Все эти константы можно назвать латентными, имея в виду то
обстоятельство, что мы ничего не знаем (и, кажется, вряд ли вообще узнаем) о том,
осознавалось ли наличие подобных констант в учении греческого атомиста им самим
или ближайшими его учениками. Скорее мы склонны предполагать, что греческий
атомизм содержал в себе труднообозримый ресурс следствий из его постулатов,
который мы только гипотетически можем частично приоткрывать.
Издания переводов античных авторов
Аристотель. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1975. Т. 1; Т. 2. 1978; Т. 3. 1981.
Диоген Лаэртский. О жизни и изречениях знаменитых философов / Общ. ред. и вступит,
ст. А. Ф. Лосева; пер. М. Л. Гаспарова. М.: Мысль, 1979.
Лукреций. О природе вещей / Ред. лат. текста и пер. Ф. А. Петровского. М.: Изд-во АН
СССР, 1946. Т. I; Т. II: Статьи. Комментарии. Фрагменты Эпикура и Эмпедокла / Сост.
Ф. А. Петровский. 1947.
Маковельский А. О. Досократики: Первые греческие мыслители в их творениях, в
свидетельствах древности и в свете новейших исследований. Казань, 1914-1919. Ч. 1-3.
Платон. Сочинения: в 3 т. М.: Мысль, 1968-1972. Т. 1-3.
Секст Эмпирик. Сочинения: в 2 т. / Общ. ред., вступит, ст. и пер. с древнегреч. А. Ф.
Лосева. М.: Мысль, 1975. Т. 1; Т. 2. 1976.
Фрагменты — Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1: От эпических теокосмого-
ний до возникновения атомистики. М.: Наука, 1989.
DK — Die Fragmente der Vorsokratiker griechisch und deutsch von H. Diels. 16. Aufl. / Hrsg.
von W. Kranz. Bd 1-3. Dublin; Zürich, 1972.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОНТОЛОГИИ И ФИЗИКИ
В АТОМИЗМЕ ДЕМОКРИТА
Атомизм Левкиппа — Демокрита обычно считают, и с веским на то основанием,
по преимуществу физической теорией, позволившей дать определенное решение
проблемы движения и множественности вещей и тем самым выйти из тупика, в
который завела античную философию элеатовская онтология. Эта оценка атомизма,
которую мы в целом разделяем, восходит к Аристотелю1, как и
противопоставление атомистов как физиков платоникам как логикам2. Присоединяясь к этой вполне
обоснованной позиции, мы бы хотели ее дополнить и показать онтологическую
значимость основного понятия атомизма (наряду с понятием об атомах) — понятия
пустоты (το κενόν). Нам представляется, что верный акцент исследователей на
физико-теоретическом статусе атомистического учения затеняет то обстоятельство, что,
как мы стремимся показать, атомизм, несмотря на весь свой «физикализм», сумел
усвоить онтологическое измерение логико-философской мысли, открытое школой
элеатов и затем продолженное на новом уровне Платоном и Аристотелем.
Кардинальные отличия атомизма как физики тел (атомов) от философии Платона как логики
идей хорошо известны. Напротив, некоторые сходства или параллели между
Демокритом и Платоном изучены гораздо меньше. Поэтому остановим наше внимание
сначала именно на этом моменте.
Во многих историко-философских работах многократно и с разных сторон
описывалось резкое изменение в характере мышления греков, происшедшее в V в. до н. э.
при переходе от досократических «физиков» (οι φυσικοί, по Аристотелю) к Платону
и затем к Аристотелю. Существует множество ставших трафаретными схем,
объясняющих эту перемену в мышлении. Говорят, например, об изменении социальных
и культурных условий, о возникновении в связи с этим антропологической и
этической проблематики или об ее изменении, о серьезном вызове со стороны
софистического движения и о необходимости дать на него убедительный ответ. Указывают
нередко и на гносеологические «корни» платонизма с его «гипостазированием»
общих понятий, которые к этому времени получили большое развитие и достигли
высокого уровня абстракции. Все эти и многие другие схемы и обстоятельства в какой-то
степени действительно описывают развитие греческой мысли в ее
социокультурном контексте и частично объясняют его. Однако при шаблонном и некритическом
1 О возникновении и уничтожении, I, 8, 325а.
2Тамже.1,2,315Ь-316а15.
Взаимосвязь онтологии и физики в атомизме Демокрита 119
использовании подобных схем история мысли греков невольно модернизируется,
так как в нее вносятся такие в принципе чуждые ей категории, как, например,
материализм и идеализм, гилозоизм и механицизм и т. п. Правда, давно уже привыкли
принимать эти категории в их отнесении к античности сит grano salis. Тем не менее
само их употребление, на наш взгляд, уже затрудняет понимание оригинальности
и своеобразия греческой мысли. Поэтому мы постараемся избегать этих
выработанных в Новое время категорий истории идей.
Обратимся теперь к сопоставлению в некоторых моментах Платона и Демокрита.
Этико-политические и социально-утопические сверхзадачи платоновской мысли
несомненны. Ее глубинные связи преемственности с пифагорейской традицией тоже
хорошо изучены. Однако ее связь с другими традициями досократической мысли,
на наш взгляд, требует дополнительного прояснения. Досократическая мысль
неоднородна. Поворотным моментом в ее истории выступила школа элеатов во главе
с Парменидом. Именно с него начинается развитие, шедшее под знаком выдвинутой
им онтологической проблематики. Знаменитые апории его ученика Зенона задели
всех мыслящих людей Греции. Практически все мыслители размышляли над ними
и пытались как-то ответить на прозвучавший в них вызов. Нет никакого сомнения,
что Платон с полной серьезностью отнесся к Пармениду и к Зенону, что явствует уже
из его диалога «Парменид», где два знаменитых элеата выступают в качестве его
персонажей. Как мы уже сказали, ответить на элеатовский вызов попытались по-своему
все крупные мыслители — как досократические (Эмпедокл, Анаксагор, атомисты),
так и постсократические (Платон и Аристотель). Несомненно, что постэлеатовское
развитие греческой философии вообще и философии природы в особенности
сосредотачивалось на проблематике, впервые выдвинутой элеатами. В этой связи важно
оценить отношение досократовской физики к Платону и Аристотелю. Известно, что
Аристотель частично реабилитирует некоторые важные мотивы и приемы
досократической мысли «физиков». Позитивную же связь с ними Платона увидеть трудно:
Платон на них почти совсем не ссылается, напротив, он явно демонстрирует свой
радикальный разрыв с ними3. Ссылок же на Демокрита у Платона вообще нет, как
если бы этот крупный мыслитель, его старший современник, вовсе не существовал.
Напротив, по отношению к Пармениду у Платона чувствуется глубокое уважение.
Совершенно ясно, что он изучал его философию. Так, например, Платон впервые
всерьез занялся анализом проблемы природного бытия в Софисте «в связи с
необходимостью опровергнуть учение Парменида о несуществовании небытия: небытие
существует как "природа" иного, то есть как инобытие»4.
Обратим внимание на направление критики Платоном Парменида. Платон в
противовес элеатам отстаивает принцип существования не-сущего. Небытие, как
считает Платон, нельзя считать несуществующим, как полагали элеаты, оно существует,
3 Федон, 96-97.
4 Шичалин Ю. А. Платон // Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 497
(курсив наш. — В. В.).
120
Раздел первый
хотя и в особом модусе бытия. Характерно, и на это стоит указать, что Платон
отвергает у Парменида тот же самый тезис, что и Демокрит (Демокрит в этом следует
за основоположником античной атомистики Левкиппом).
Присмотримся к этому моменту основательнее. Действительно, основная
оригинальность атомистической теории состояла в том, чтобы в противовес элеатов-
скому положению о небытии небытия, диктуемому строгостью логического подхода
к мыслительным актам, выдвинуть положение о том, что «бытие существует не более,
чем небытие» (μάλλον το μη οντος είναι φασιν). Если у Платона небытие существует
в порядке природы «иного», то у Демокрита оно существует как пустота (κενόν).
Пустота атомистов — «ничто» (ουδέν), которое уже не Демокрит, а Аристотель и
идущие вслед за ним комментаторы отождествили с «пространством» или «местом»
(ό τόπος). Принимая сказанное выше во внимание, мы можем сказать, что
первичные онтологические структуры природознания у Платона в Тимее и у Демокрита при
всем их глубоком различии, если не контрасте, оказываются сопоставимыми.
Действительно, началами понимания чувственно данного мира у Платона признаются
два рода: образцы-идеи и материя-пространство. Следуя традиции немецких
истолкователей Платона в позапрошлом веке, мы привыкли ядро платоновского учения
отождествлять с теорией идей, а тем самым приписывать великому греческому
философу их «единоначалие» — «объективный идеализм». Однако, как справедливо
подчеркивает Ю. А. Шичалин, «во всех античных изложениях философии Платона
идея и материя в одинаковой мере суть начала (αρχή)»5.
При таком видении учения Платона о началах его связь с досократической
мыслью в целом и с атомизмом в особенности становится очевидной. Действительно,
у Демокрита началами выступают аналогичные «сущности» — не-сущее,
существующее как «пустота», и сущее, или атомы, называемые также и «идеями», видимо,
самим Демокритом, у которого, кстати, по свидетельству доксографов, было
сочинение Об идеях. Процитируем в этой связи Плутарха6: «Что говорит Демокрит? —
спрашивает Плутарх. — Субстанции бесконечные по числу... Вселенная — это
неделимые идеи (т. е. формы), как он их называет»7. Плутарх не сомневается, что
название «идей» для обозначения атомов давалось самим Абдеритом.
Аналогичное свидетельство имеется и у Гесихия8. Видимо, можно согласиться с Лурье, что
термин «идея» для атомов был выбран Демокритом ввиду того, что именно форма
или «вид» — самое важное и существенное определение атома.
Не вдаваясь здесь в полемику ученых по вопросу о том, взял ли или же нет
Платон у Демокрита само наименование «идей» для обозначения своих «начал»,
укажем только на то, что на такой позиции, признающей подобное заимствование,
5 Шичалин Ю. А. Платон (курсив наш. — В. В.).
6 Против Колота, 8.
7 Лурье С. Я. Демокрит. Тексты. Перевод. Исследования. Л., 1970. N 198 (курсив наш. — В. В.).
8 Там же.
Взаимосвязь онтологии и физики в атомизме Демокрита 121
стоят К. Гёбель и С. Я. Лурье9. Виламовиц ничего не говорит о таких
заимствованиях Платона, но подчеркивает, что обозначение атомов как «идей» было для
Демокрита обычным10. С такой позицией не согласен Альфиери, считающий, что
весь этот сюжет порожден свидетельством Гесихия, которому, однако, нет
оснований доверять. И в соответствии с этим он допускает, что если наименование
«идей» для атомов и было у самого атомиста, то в совершенно случайном и
необязательном порядке11.
Оставляя этот спор без его обсуждения, подчеркнем, что для нас здесь важны
только два момента. Во-первых, несомненно, что движения мысли Платона и
Демокрита, усвоивших пифагорейскую традицию и отталкивающихся от Парменида и его
школы при пересмотре элеатовского тезиса о несуществовании небытия, в
известном смысле подобны друг другу, представляя как бы вариации одного и того же
отказа от характерной для элеатов логики онтологической мысли. Во-вторых, для того,
чтобы новый тезис — и у Демокрита, и у Платона — не противоречил логике с ее
принципом запрета противоречия (этот принцип составляет основу рефлексивной
мысли, и его полное осознание мы находим именно у элеатов), само понятие бытия
должно мыслиться полисемантически, как единая, но многоуровневая структура.
Подобное вычленение из единого, но внутри себя еще недифференцированного
понятия бытия его различных смыслов характерно, кстати, уже для самих элеатов, хотя
за миром «мнения» и «возникновения» и отрицается статус бытия. Демокрит же
делает решительный шаг в направлении раскрытия сложной структуры
онтологических значений или уровней. У него мы можем различить два основных смысла
понятия существования (бытия). Это, во-первых, существование в смысле «имеется»,
причем подобным онтологическим статусом обладает у него «пустота». И, во-вторых,
«существовать» в его учении означает занимать место в пространстве и
удовлетворять некоторым характеристикам элеатовского бытия (кроме единства), отличаясь
от него многоразличием форм и движением. Таким онтологическим статусом у него
обладают только атомы. Структура основных значений бытия у Платона еще
сложнее. В Тимее он говорит о трех родах сущего: идеи — материя — чувственно данные
вещи (порядок их у Платона иной12: «тождественная идея, нерожденная и негибну-
щая» — «подобное этой идее и носящее то же имя — ощутимое, рожденное» —
«пространство: оно вечно... но само воспринимается вне ощущения, посредством
некоего незаконного умозаключения»)13.
9 Göbel К. Die vorsokratische Philosophie. Bonn, 1910. S. 313; Лурье С. Я. Цит. соч. С. 463.
10 Wilamowitz-MoellendorffW. von. Platon. Berlin, 1929. Bd 1. S. 346.
11 Alfieri V E. Gli atomisti. Bari, 1936. P. 99 (n. 225).
12 Тимей, 52a-b.
13 Анализ «тонкой» структуры платоновской онтологии в целом и в особенности той, что
содержится в Тимее, дан в работе: Гайденко Я. П. Эволюция понятия науки. М., 1980. С. 142-
178; 224-232, а также в работах: Бородай Т. Ю. Семантика слова chora у Платона // Вопросы
122
Раздел первый
Вернемся к Демокриту. Вводя в свое учение указанные смыслы понятия
существования, Демокрит избегает специальной апории Зенона для места14, так как
существованием, связанным с местоположением в пространстве, обладают только
атомы. Но неужели пустота обладает существованием только в рамках мыслимого
«имеется»? Нет, ведь, согласно самим элеатам, утвердившим принцип
отождествления мыслимого и сущего, пустота, раз она допущена к мыслимости, обладает и
определенным реальным существованием. Тем не менее это существование отличается
от существования самой реальности, каковой в учении Демокрита наделены только
атомы. Понятие реальности здесь явно раздвоилось, с одной стороны, на
реальность физическую (существующие в пространстве тела — атомы) и, с другой
стороны, на реальность бестелесного чистого пустого протяжения, лишенного главного
признака телесности — непроницаемости. У пустоты, кстати, нет и некоторых
других признаков атомов как «маленьких телец»15, а именно у нее нет формы или
облика, вида. Пустота, правда, как и атомы, вечна, неизменна, беспредельна по
величине (атомы же беспредельны или бесчисленны не только по числу, но и по форме).
Этими чертами, общими для атомов и пустоты, их сходство как начал
исчерпывается. Итак, принципиально важно само раздвоение реальности, причем на самом
фундаментальном онтологическом уровне, не в сфере «мнения» (докса), а в сфере
именно истинного бытия.
И все же у атомистической пустоты есть еще одно свойство, сближающее ее
с телесным бытием (атомы в атомизме): пустота, как и физическое тело, обладает
протяженностью. Именно поэтому комментаторы соответствующих текстов
античных авторов, где она упоминается, отождествили ее с пространством. У самого же
Демокрита, в отличие от Платона, не зависимого от пустоты понятия
«пространства» (χώρα) не было. Его пустота лишь впоследствии была проинтерпретирована
как пространство16. Действительно, пространство — это та категория, которая
выпадает из системы парных противоположностей, принимаемой Демокритом, как
типичным досократиком. Полное — пустое, густое — редкое и т. п. — вот те пары
противоположностей, входящие в традицию мышления досократовских «физиков»,
которые входят в систему Демокрита. Именно опираясь на них, он вводит в свое
учение понятие «пустоты»». Однако у него это понятие приобретает не только
физическое, но и онтологическое значение. Кстати, отметим, что «беспредельная
пустота» атомистов ближе к пифагорейскому понятию «беспредельного» (άπειρον),
классической филологии. 1984. № 8; Доброхотова А. Л. Категории бытия в классической
западноевропейской философии. М., 1986. С. 43-84.
14 Аристотель. Физика, IV, 3,210b24 и др.
15 Гесихий: атом — это то ελάχιστον σώμα, мельчайшее тело.
16 Аристотелю, видимо, можно верить в том, что, согласно его свидетельству, атомисты
свою пустоту называли пространством или местом (ό τόπος — Физика, IV, 1,208b26 и 213а 15).
Но он вряд ли прав, считая, что «место» они называли пустотой (Лурье С. Я. Цит. соч. N 172;
здесь Симпликий излагает Аристотеля).
Взаимосвязь онтологии и физики в атомизме Демокрита 123
соединяющему в себе и пустоту, и время, и «дыхание»17, чем к аристотелевскому
«месту» или «пространству».
Подведем краткий итог. Несмотря на свой достаточно радикальный разрыв с до-
сократовской мыслью как дорефлексивной натурфилософией, платоновская
философия, на наш взгляд, подключается к тому развитию поздней постэлеатовской до-
сократики, которое в своих логических измерениях продолжается и после Сократа.
Избавиться от противоречий, связанных с телесностью начал, радикально можно
было, только избрав нетелесное начало, по крайней мере утвердив его статус на
равных правах с телесным началом. Пусть при этом нетелесное начало и мыслится как
своего рода «протяжение» (у Платона, правда, «пространство», или «протяжение»,
мыслится динамическим началом и в этом смысле совсем непохоже на пассивную
материю-протяженность у Декарта). Для идей как нетелесных формообразующих
потенций-образцов не существуют противоречия движения, присущего «телам».
Правда, диалектика элеатов задевает и сферу идей. Но это — диалектика единого
и многого, подробно анализируемая Платоном в Пармениде, которой мы здесь не
касаемся18. Поскольку апории Зенона были направлены именно против понятия
движения, а также против самого понятия пространства как такового и представления
о его непрерывности и дискретности, постольку резонным ответом на них было
решение вообще оставить «зыбкую» почву телесности и пространственности, чего
последовательно и до конца не сделал и сам Парменид. Кстати, это означало, что
разрушительная логика Зенона, его ученика, била и по нему. Но важное решение сбавить,
по крайней мере, накал логических затруднений, вскрытых Зеноном, с помощью
тезиса о существовании нетелесного бытия особого рода было именно тем самым
выбором, по которому пошли параллельно и Демокрит (раньше), и Платон, который
в этом отношении, на наш взгляд, зависел от него, если даже в терминологическом
заимствовании («идеи») мы и можем сомневаться.
Заключая все это рассуждение, мы бы хотели подчеркнуть, что, на наш взгляд,
неверно интерпретировать Демокрита исключительно как чистого физика в духе
ранних милетцев. Мыслитель-атомист V в. до н. э. создал универсальную систему,
в основе которой лежала новая концепция бытия. Не оспаривая физической
ориентации теорий великого атомиста античности, следует заметить, что чрезмерная фи-
зикализация его учения облегчала его перипатетическим критикам их работу.
Противоречия между такими характеристиками атомов как чисто физических тел, как,
с одной стороны, их фигурность, а с другой — их неизменность, использовались для
критики атомизма уже самим Аристотелем. Конечно, основания для этого, видимо,
дал сам Демокрит, так как у него онтология и физика оказались в позиции взаимного
наложения, если не прямого смешения, что не могло ускользнуть от более
рафинированной рефлексивной мысли, нацеленной на четкую дифференциацию понятий.
17 Аристотель. Физика, IV, 6,213b22-27.
18 Она была специально рассмотрена в упомянутой нами работе П. П. Гайденко; см.: Гай-
денко П. Я. Цит. соч. С. 145-163.
124
Раздел первый
Теперь присмотримся ближе к атомистической «пустоте» и к ее онтологическим
значениям. Первые атомисты19 онтологизировали в духе элеатов физические начала,
элементы-стихии ионийцев и, одновременно, физикализировали онтологическое
мышление элеатов, резко противопоставивших бытие и небытие. Вместо огня,
воздуха, воды, земли — физических элементов ионийской физики — атомисты ввели
отвлеченные онтологические начала (атомы и пустоту), которые по отношению к
«сущему» и «не-сущему» элеатов выступают, напротив, как их явная физикализация.
Как остроумно заметил Л. Робен, атомисты это — «полуэлеаты Абдеры». Мир
ионийского становления и мир италийского бытия они сумели соединить в
оригинальном синтезе. В его основу ими был положен тезис о существовании не-сущего в
качестве «пустоты», в которой пребывают в вечном движении «неделимые», или атомы.
Атомизм Левкиппа и Демокрита характеризуется относительно устойчивым
равновесием онтологии и физики. Пожалуй, такой их гармонии мы не найдем у элеатов,
у которых мир бытия совершенно разошелся с миром становления, то есть
онтология разошлась с физикой. У милетцев же еще нет онтологии как логически
выявленной, рефлексивно оформленной теории бытия, хотя в неявной форме универсальной
физики и космологии такая теория содержится, что затем и обнаружилось в
последующем развитии философской мысли.
Онтология задает, или определяет, физику. Действительно, пустота как «нигде»
есть условие всякого «где», то есть положения в пространстве, любой
пространственной определенности физических тел. Это надо понимать в том смысле, что
пустота выступает как онтологическое условие пространства, без которого
невозможна и пространственная определенность, требующая, однако, пространства в его
структурированности, или неоднородности, задающей устойчивую систему отсчета.
Поэтому пустота есть необходимое, но недостаточное условие пространственной
определенности. Пустота же как «ничто» есть условие всякого «что», то есть всякого
конкретного тела. От онтологии пустоты мысль последовательно шла к физике и
геометрии пространства. Это движение к формированию понятия геометрического
пространства мы находим прежде всего у Платона20.
Онтология элеатовского единства находится в конфликте с физическим
многообразием природных явлений. Для преодоления такого рода конфликта атомисты
вводят многообразие в онтологию. Поэтому их теоретико-философский синтез
условно можно назвать физикой онтологического многообразия.
Позитивная связь онтологии и физики становится возможной в силу развития
прежде всего самой онтологии. Мы уже говорили о том, что такое развитие
предполагает формирование достаточно сложных структур онтологических
представлений, включающих введение разных степеней и смыслов существования, разных
модусов бытия, его иерархии и т. п. Начало этому процессу положили сами элеаты,
19 Начиная с Левкиппа, специфическое место которого в истории атомизма мы не
обсуждаем.
20 Гайденко П. П. Цит. соч. С. 174-175.
Взаимосвязь онтологии и физики в атомизме Демокрита 125
оформляя в логике мысли понятие «не-сущего» (которому, однако, они не дали
места в иерархии бытийных смыслов). Атомисты же делают дальнейший шаг именно
в этом направлении, признавая равное, хотя и другое по характеру, чем
существование собственно сущего, существование не-сущего. Если понять этот особый
статус существования не-сущего, то мы поймем тем самым и что такое атомистическая
пустота в ее онтологическом измерении.
Онтология пустоты — онтология инобытия в его возможностях относительно
бытия. Речь идет о целом ряде тех возможностей, которые создаются в бытии в
результате введения в его сферу при содействии понятия пустоты категории
движения. В понятии атомистической пустоты как бы набрасывается проект будущих
онтологических категорий — возможности, акциденции (в мире парменидовской
онтологии акциденция невозможна) и др. Нарочито модернизируя ситуацию с
атомистической пустотой, можно спросить, а атрибутом какой субстанции могла бы
выступать пустота? Такой вопрос не без основания может показаться незаконным,
так как сами атомисты называли свою пустоту «небытием». Но вспомним, что само
это «небытие» они называли сущим, или бытием. Пустота, таким образом, — это
парадокс бытия небытия. И поэтому, имея в виду весь объем ее парадоксальности,
такой вопрос все же может иметь некий экспериментальный или эвристический
смысл, позволяющий лучше понять эту парадоксальную онтологию (и физику).
Предваряя ответ, можно сказать, что пустота есть атрибут бытия в целом.
Действительно, если мы присмотримся к свидетельствам об атомистах, то увидим, что
самостоятельным статусом существования наделяется у них «великая пустота»21.
«Они утверждали, — говорит Симпликий, — что не только в космосе есть
некоторая пустота, но и вне космоса; ясно, что эта пустота уже не только место, но
существует сама по себе»22. Космосов у атомистов бесчисленное множество, и поэтому
«великая пустота» есть атрибут бытия как бесчисленного множества миров. Она
разделяет миры точно так же, как внутрикосмическая пустота разделяет атомы.
Онтологическая функция пустоты — служить универсальным средством
разделения сущего. Действительно, у атомистов пустота выступает как синоним
понятия разделения. Например, об этом свидетельствует Горгий у Псевдо-Аристотеля:
«Горгий утверждает это... говоря вместо "пустота" разделение»23. В более полном
переводе это место у Лурье выглядит так: «Горгий говорит, что в тех местах
существующего, где (тела) отделены друг от друга, отсутствует (присущее содержание),
причем вместо "пустота" он говорит "отделены друг от друга"»24. Это означает, что
пустота — совершенно необходимое в логике атомизма концептуальное средство
для описания множественности на уровне бытия. Свидетельство Горгия, видимо,
21 Диоген Лаэртский, IX, 6,31.
22 Лурье С. Я. Цит. соч. N 270 (курсив наш. — В. В.).
23 Там же. N 166.
24 Там же. N 252.
126
Раздел первый
восходит к Аристотелю25. Действительно, излагая учение элеатов и ответ, данный
атомистами на вызов, в нем содержащийся, Аристотель говорит:
«Множественности (вещей) не может быть, если нет того, что отделяет (предметы) друг от друга,
то есть если нет "отдельно существующей пустоты"»26.
Итак, основная функция атомистической пустоты — разделение тел. Об этом
говорится и у Фемистия: «Пустота рассеяна среди тел, говорят Демокрит, и Левкипп,
и многие другие, и, позже, Эпикур. Все они считают причиной отделенности друг
от друга то, что они перемешаны с пустотой, так как, по их мнению, то, что воистину
непрерывно, неделимо»27. Обратим внимание на такие выражения Фемистия —
пустота «рассеяна» среди тел, или атомов, она с ними «перемешана». Иными словами,
пустота мыслится здесь как своеобразная разделительная квазисубстанция,
препятствующая вещам быть непрерывными, сплошными. Пустота как такая
квазисубстанция выполняет и онтологическую, и, одновременно, физическую функцию.
Однако, как мы видим, в такой функции, или роли, она отличается от пространства
как «поместительной» (а не «разделительной») способности бытия. Ведь пустота
как разделительная способность ничего в себя на самом деле не помещает — она
только обусловливает раздельное бытие вещей, поддерживает их взаимную
обособленность друг от друга.
Но означает ли это, что в атомистической пустоте не было значений, из
которых затем развилось представление о пространстве? Нет, не означает. Обращаясь
к тексту Диогена об атомистах, можно ясно видеть, что «великая пустота» служит
не только средством не дать мирам «слипнуться» в единый ком, но и вместилищем
для них. Действительно, Диоген говорит, что «тела впадают в пустоту» (IX, 6,30), что
они несутся в «великую пустоту» (IX, 6, 31). В отличие от Фемистия, он не говорит
о перемешивании тел с пустотой, о разделении и рассеивании их с помощью пустоты.
Напротив, тела, скорее, сами рассеиваются в пустоте: «Легкие тела, — говорит
Диоген, — отлетают во внешнюю пустоту, словно распыляясь в ней» (Там же). Поэтому
позднейшее истолкование пустоты как пространства, безусловно, не было
беспочвенным. Описание Диогеном образования миров у атомистов ясно показывает нам,
что атомистическая пустота выполняет не только функцию разделения,
«расталкивания» тел, но и функцию их «вместилища». Развитие греческой мысли внутри
атомистической традиции (но не только в ее рамках) вело к повышению значимости
пространственных смыслов атомистической пустоты, которая вначале понималась
прежде всего как пустота-зияние, служащая активным средством разделения тел.
Эти коннотации пустоты идут во многом от традиции ранних пифагорейцев, на что
прямо указывает Аристотель: «Пифагорейцы также утверждали, — говорит Стаги-
рит, — что пустота существует и входит из беспредельной пневмы (έκ του απείρου
25 Лурье С. Я. Цит. соч. С. 460.
26 О возникновении и уничтожении, I, 8, 325а6.
27 Лурье С. Я. Цит. соч. N 268 (курсив наш. — В. В.).
Взаимосвязь онтологии и физики в атомизме Демокрита 127
πνεύματος) в небо, как бы вдыхающее (в себя) пустоту, которая разграничивает
природные (вещи), как если бы пустота служила для отделения и различения
примыкающих друг к другу (предметов). И прежде всего это происходит в числах, так как
пустота разграничивает их природу»28. Кроме того, Стобей сохранил для нас
цитату из утраченного сочинения Аристотеля о пифагорейцах, в которой говорится,
что у них вселенная «втягивает из беспредельного время, дыхание (πνοήν) и пустоту,
которая определяет места отдельных (вещей)»29.
Обратим внимание на только что процитированное свидетельство: не тела
входят в пустоту как вместилище, для них существующее, а, напротив, сама пустота
втягивается телами с тем, чтобы они могли существовать раздельно, образуя
гармоничное и развитое целое. Однако есть и немалое различие в трактовке пустоты
пифагорейцами и атомистами. Если у первых пустота явно активна, подвижна,
выступает как своего рода «пневма», дыхание, дух, особый «воздух», то у вторых она
обретает значение неподвижности (несутся в ней атомы). «По их теории, — говорит
Александр у Симпликия о Левкиппе и Демокрите, — пустота неподвижна»30.
Появление статического значения у понятия пустоты в атомизме следует оценивать как
один из первых шагов к пониманию ее как неподвижного и неизменного
«контейнера» для тел, то есть как пространства в позднейшем смысле слова. Однако такое
«опространствление» пустоты в явной форме в атомистической традиции
происходит, видимо, только у Эпикура и Лукреция.
Другой путь к выявлению онтологических значений пустоты в связи с ее
физическими значениями — это анализ пустоты как противоположности атомам как
«формам». Имея в виду именно этот аспект указанных понятий, Аристотель трактует
пустоту у атомистов как «лишенность»31. В этом же плане анализа понятию пустоты
соответствует понятие «беспредельного», которому в таблице пифагорейских
противоположностей противостоит понятие «предела». Сюда же следует отнести те
значения платоновской «хора», выступая в которых она противостоит миру
идеальных образцов-эйдосов. Мифологические корни понятия пустоты, рассматриваемого
в таком аспекте, можно найти в древних представлениях греков о «хаосе».
Характеризуя эти представления, А. Ф. Лосев пишет: «Хаос все раскрывает и все
развертывает, всему дает возможность выйти наружу, но в то же время он и все поглощает,
все нивелирует, все прячет вовнутрь»32. Хаос предстает как страшно зыбкая, темная
неоформленность бытия, лишенная предела, основания, света. Отметим при этом,
что хаос в его греческом прочтении воспринимается именно через призму, условно
28 Физика, IV, 6,213Ь22-27.
29 58А30, Die Fragmente der Vorsokratikern griechisch und deutsch von H. Diels. 16 Aufl. / Hrsg.
von W. Kranz, Dublin; Zurich, 1972. Bd. 1-3.
30 Лурье С. Я. Цит. соч. N 304.
31 Там же. N 249.
32 Лосев А. Ф. Хаос // Мифы народов мира. М., 1982. Т. II. С. 580.
128
Раздел первый
скажем, пространственных коннотаций, явно нагруженных, однако, активным
динамическим смыслом. Действительно, слово «хаос» происходит от χάσκω — 'зеваю,
разеваю'. «Хаос поэтому, — пишет Лосев, — означает прежде всего "зев", "зевание",
"зияние"»33. В русском языке корневая генетическая близость этих значений
воспроизводится в близости самого их звучания («зевание» и «зияние»). «Зевание-зияние»,
сочетающее в себе прапространственность и активность, указывает на тот
первоначальный смысл атомистической пустоты, который мы можем обнаружить у
пифагорейцев. Это «шевелящееся зияние» (вспомним Тютчева с его «шевелящимся
хаосом» 34) — мифологическая прародина и платоновской «хора», и атомистического
«кенон». Таким образом, мифологические корни атомистической пустоты
скрываются скорее в традициях хтонической дионисийской Греции, чем в классической
Элладе с ее культом предела, света, формы, завершенности.
Возможны ли онтология и физика без пустоты, позволяющие решить, однако,
проблемы движения и множественности вещей? Да, конечно, и эта возможность
была реализована прежде всего Платоном и Аристотелем. Скажем об
аристотелевском варианте этого решения, поскольку именно Аристотель как никто из античных
авторов занимался анализом атомистического учения и критикой его, подводя тем
самым к своей концепции бытия и природы. Кратко говоря, исключение пустоты
из онтологии и физики требует, по Аристотелю, включения в онтологию категорий
качества, возможности, принципа непрерывности. В качестве физической категории
пустота, по-видимому, возникает как обобщение или предельная абстракция таких
наблюдаемых свойств, как рыхлость тел, их проницаемость, податливость и т. п.35
Но свойства, представленные в этих качествах тел, можно объяснить и по-другому,
можем сказать мы, как бы реконструируя один из возможных ходов мысли
Аристотеля, отказывающегося от понятия пустоты как одного из главных понятий для
понимания природы. Действительно, эти свойства и вытекающие из них физические
явления (заполнение пор, проникновение тел в эмпирические наличные тела и т. п.)
можно объяснить, если допустить, что существует не бесконечное множество одно-
качественных по субстанции тел (атомов), а множество разнокачественных тел,
сохраняющих свою качественную определенность. Тогда такие качественные
различия тел, несводимые друг к другу, и будут объяснять нам мир физических явлений
(подъем одних тел вверх, падение других вниз, сжатие тел, их растворение и т. п.).
Такой ход мысли был уже у Анаксагора, предложившего своего рода качественную
атомистику для решения проблем, поставленных элеатами. Если начала качественно
однородны (атомизм), то требуется пустота для того, чтобы объяснить их движение
33 Лосев А. Ф. Хаос. С. 579.
34 Напомним, что у поэта, слушающего вой ночного ветра, «мир души ночной... с
беспредельным жаждет слиться». И поэт, смущенный его «страшными песнями», заклинает ночной
ветер: «О, бурь заснувших не буди — / Под ними хаос шевелится!»
35 Эмпирический аргумент в пользу существования пустоты высоко ценил Аристотель,
хотя принять его он не мог (Физика, IV, 6,213Ы-22).
Взаимосвязь онтологии и физики в атомизме Демокрита 129
и физические явления вообще. Но если начала мыслятся качественно разнородными
(как, например, аристотелевские стихии, идущие от Эмпедокла), то пустота
оказывается ненужной. Важнейшим физическим принципом, выполняющим у Аристотеля
функции атомистической пустоты как начала движения и разделения тел,
выступает принцип естественных мест для элементов-стихий, приводящий к
неоднородности и анизотропности его Вселенной. При этом тела у него разделяются не
пустотой, а другими телами36.
Последнее замечание, которым мы хотели бы завершить наш анализ, относится
к отмеченному выше переносу центра тяжести в составе понятия пустоты от
значения «зияния» к значению «вместилища» (пространства). Рост значимости
пространственного смысла атомистической пустоты и сам обусловлен ростом удельного веса
физики в целостном комплексе «онтофизики» (онтология плюс физика) и, в свою
очередь, способствует возрастанию значимости физики в атомистическом учении в
целом. Это и происходит в истории атомизма при переходе от Левкиппа и Демокрита
к Эпикуру и Лукрецию. Удаление от элеатовской онтологии и пифагорейской
космологии как бы восполняется событием эпикуровской физики, являющейся на
самом деле теоретической «подпоркой» для практической этики, в которой и кроется
весь пафос поздней атомистики.
36 Подробнее об этом см. выше в этой книге в работе Механика и античная атомистика.
КАЧЕСТВА В КАРТИНЕ МИРА АРИСТОТЕЛЯ
В современной науке остро стоит проблема редукции «сложных» явлений к более
«простым». Так, например, квантовая механика, позволившая рассчитать
простейшие химические системы, породила квантово-механический редукционизм в химии \
Известно также, какие споры вызывает проблема редукции в биологии. Методологи
науки обсуждают различные способы построения научного знания, анализируют
правомерность и эффективность построения его исключительно «снизу», исходя
из элементарных частиц. По существу, речь идет о границах сведения нового
качества к свойствам исходных компонентов, новой целостности — к свойствам ее частей.
Очевидно, что в этой ситуации особый интерес представляет изучение в логическом
и историческом плане различных подходов «сверху», различных приемов
нередукционистской методологии. Попытка всесторонне и основательно разобраться в этой
проблеме неминуемо приводит нас к изучению истории научного знания, к
исследованию полемики и борьбы направлений в античной науке.
Во второй половине IV в. до н. э. в греческой науке существовало несколько
направлений. Основными из них были пифагорейско-платоновская традиция и
атомизм. Центром научной жизни этой эпохи была Академия, основанная Платоном.
Аристотель, с именем которого связано новое направление в научном сознании
античности, в течение двадцати лет был его учеником. Критическое
отталкивание Аристотеля от платоновской программы математического знания явилось
одним из важнейших источников формирования нового, нематематического, а точнее
специфического, качественного, или квалитативистского (от лат. qualitas), подхода.
Возражение Аристотеля против развитой Платоном в «Тимее» геометрической
теории вещества состоит в том, что эта теория не может решить проблему
возникновения и уничтожения тел, объяснить различные формы изменений, происходящих
в природе. «...Для тех, кто разделяет тела на поверхности, — говорит Аристотель, —
изменение и возникновение не могут реализоваться, так как за исключением
объемных фигур ничто не может возникать из соединения поверхностей, и эти философы
даже не пытаются произвести качество с помощью этих поверхностей»2. Стагирит
1 Однако качественно богатое химическое явление обладает в самом себе несомненной
ценностью и с познавательной, и с эстетической точек зрения (см. об этом: Хиншелвуд С.
Качественное и количественное // Философские проблемы современной химии. М., 1971.
С. 22).
2 Aristote. De la génération et de la corruption / Trad, par J. Tricot. 2 éd. P., 1951. P. 13.
Качества в картине мира Аристотеля
131
не останавливается на констатации этой неудовлетворяющей его редукции качеств
к геометрии и дает ей объяснение, считая, что причиной ее является
«недостаточность опыта». Выдвижение таких принципов, как принципы атомизма и
геометрической теории Платона, Аристотель связывает со злоупотреблением отвлеченными
рассуждениями. Этому подходу он противопоставляет физический подход. В
рамках такого подхода рассуждения исследователя опираются на наблюдение явлений
природы и удовлетворяют «обширной цепи» явлений. Те, кто разделяет физический
подход, по Аристотелю, «живут вблизи явлений природы». Эта жизнь вблизи
явлений природы, их наблюдение и изучение характеризуют аристотелевское
понимание опыта.
Физик, в отличие от математика, прежде всего должен быть человеком опыта.
Опыт же приходит с возрастом; по Аристотелю, в молодые годы нельзя стать ни
дельным политиком, ни мудрецом, ни физиком. Поэтому математическая программа
Платона не отвечала аристотелевскому пониманию значения опыта в науке и не могла
быть эффективным инструментом в конкретно-физических исследованиях,
ведущихся в новых условиях прогрессирующей дифференциации научного знания.
Отталкиваясь от платоно-пифагорейской традиции и атомизма, Аристотель
присоединяется к ионийской традиции «фисиологов» с ее динамическим взглядом
на мир, сближающим понятия сипы как источника движения, качества и вещества
как субстрата качеств. Корни этой традиции уходят в дофилософское и донаучное
мифологическое мышление, в котором качества связывались с определенными
телами и элементами (так, например, солнце — светлое и горячее, дождь — темный
и холодный). Качества при этом рассматривались как нечто самостоятельно
сущее, как субстанции, а не как простые свойства этих тел и элементов. Такое
отношение к качествам составляет, грубо говоря, остов квалитативистского подхода
в физике и в течение длительного времени развивалось внутри
медико-биологического знания.
Учение о качествах как о динамических субстанциях, определяющих процессы
изменений в подлунном мире, с наибольшей полнотой изложено Аристотелем
в книге IV «Метеорологии».
Объясняя процессы становления, Аристотель основное внимание уделяет тем
из них, началом («стартом») которых являются гомеомерные тела, т. е. однородные
составные вещества, стоящие в иерархии организованных тел на одну ступеньку
выше простых (первотел или элементов). Многообразные процессы изменения
таких тел зависят от действия активных качеств (тепло и холод) на пассивные (сухое
и влажное). «...Воздействие происходит благодаря теплу и холоду, а качество
производится присутствием или отсутствием тепла или холода, но то, что испытывает
воздействие, образовано из влажного и сухого»3. Качества, таким образом, образуют
определенную систему: основные четыре качества (δυνάμεις) и вторичные^ или
производные от них, качества (δίαφοραί).
3 Aristote. Les Météorologiques / Nouv. trad, et notes de J. Tricot. P., 1941. P. 252.
132
Раздел первый
Активным началом является преимущественно тепло. «Холод, — говорит
Аристотель, — активен лишь в качестве фактора разложения»4. Кроме того, холод
активен постольку, поскольку он концентрирует и отражает тепло. При формулировке
этой концепции Аристотель не ссылается на своих предшественников: он вводит эти
представления, аргументируя их прежде всего эмпирическими соображениями,
ссылаясь на опыт и индукцию. «Действительно, — пишет он, — во всех случаях видно,
что холод и тепло разделяют, соединяют и изменяют гомогенные и негомогенные
тела, увлажняют их, высушивают, делают твердыми и мягкими»5. Итак, тепло и
холод — это эмпирически, по аналогиям опыта устанавливаемые активные факторы
изменений тел (они соответствуют аристотелевскому понятию «формы»), а сухое
и влажное — пассивные факторы (соответствуют аристотелевской «материи»). Все
изменения задаются в качественных характеристиках. Конечно, для получения
определенного качественного эффекта количественное соотношение компонентов играет
определенную, порой важную роль. Аристотель говорит, что от преобладания одного
элемента над другим зависит общий ход процесса. Однако он никогда не указывает
точных количественных соотношений и не дает никаких средств для их
определения. Количественный аспект выступает в качественной и динамической форме: для
Аристотеля существенно отношение доминирования одного элемента над другим,
а не точно выраженная пропорция. Таким образом, качества — начало и конец всего
процесса, причем совокупность действующих, пассивных и возникающих качеств
образует систему, служащую основой для классификаций веществ.
Тепло и холод как активные силы не являются конечными причинами изменения
тел. Аристотель подчеркивает, что высшее формирующее начало вещи выражается
в ее функции: «Вещь всегда определена ее функцией, так как вещь есть поистине то,
что она есть, когда она может выполнять свою функцию, например, глаз есть глаз,
когда он может видеть»6. Интересно, что телеологический (целевой) подход в
известном смысле ограничивает квалитативистский. И Аристотель в принципе признает
значимость целевой причины даже для низших уровней организации материи,
однако он подчеркивает, что в этом случае функциональные или телеологические
определения установить трудно, так как функции низкоорганизованных тел
трудноопределимы. Иногда он говорит еще резче, подчеркивая, что ангомеомерные (сложные
составные тела с более высоким уровнем организации, чем гомеомерные)
отличаются от гомеомерий именно тем, что у них наличествует функциональное
определение, и одного лишь анализа качеств недостаточно при изучении таких, например,
ангомеомерных образований, как глаз или рука. Причем «физика качеств»
ограничивается и со стороны человеческой деятельности, в результатах которой
функциональное определение вещей очевидно.
4 Aristote. Les Météorologiques / Nouv. trad, et notes de J. Tricot. P., 1941. P. 253.
5 Ibid. P. 226.
6 Ibid. P. 296.
Качества в картине мира Аристотеля
133
Крайнюю негативную границу возможных изменений гомеомерных тел образует
гниение, которое «есть разрушение внутреннего и естественного тепла,
содержащегося в каждом влажном предмете посредством внешнего тепла, т. е. посредством
тепла внешней среды»7. Внутреннее тепло «изгоняется» из тела внешним теплом
и забирает с собой влажность: сгнившее тело — сухое и холодное. Изменение тела —
в данном случае негативное — объясняется перемещением основных качеств: тело
стало сухим, потому что внутреннее тепло, уходя, увлекло с собой и влагу.
Позитивный полюс мира возможных изменений Аристотель называет пепси-
сом (πέφις). «Пепсис — это приготовление, причиной которого является
внутреннее естественное тепло тела, действующее на пассивные противоположные качества,
которые есть не что иное, как материя данного тела»8. Пепсис — актуализация
возможностей данного тела. Осуществление пепсиса означает, что вещь действительно
достигла своего завершения. Основной причиной его является тепло.
В виде пояснения Аристотель приводит действие теплых ванн, способствующих
перевариванию пищи, — частному виду пепсиса. Пепсис охватывает очень широкий
и разнообразный круг явлений: это — созревание плода в саду, превращение сусла
в вино, образование слез, созревание нарыва с выделением гноя и т. д. Пепсис —
проявление господства оформляющего принципа над материей: «Во всех телах пепсис
происходит всегда, когда материя, иначе говоря, влажность, преодолевается
(естественным теплом)»9.
Пепсису противостоит апепсия — «несовершенное состояние, обусловленное
недостатком тепла, присущего телу»10. Аристотель различает три вида пепсиса: пепсис
созреванием, пепсис кипячением, пепсис жарением. Каждому виду пепсиса
соответствует вид апепсии.
С помощью этих понятий и учения о динамических качествах-субстанциях
Аристотель описывает и объясняет многообразные процессы, известные из различных
сфер опыта. Для современного ученого эта «мифология качеств» (по выражению
современного биолога Г. Кюри ") представляется малопонятным смешением обильного
и внешне разнородного материала эмпирических наблюдений с кажущимися
совершенно произвольными спекулятивными конструкциями. Как же можно проникнуть
в эту странную «мифологию качеств», объяснить ее?
Прежде всего, обратим внимание, что при построении этой «мифологии»
Аристотель широко использует свой универсальный прием: он проводит аналогию между
искусством (то, что, по Аристотелю, мы знаем больше) и природой (то, что мы знаем
7 Aristote. Les Météorologiques. P. 29.
8 Ibid. P. 233-234.
9 Ibid. P. 235.
10 Ibid. P. 236.
11 Сигу G. Comment pouvons-nous juger aujourd'hui la biologie d'Aristote? // Association
Guillaume Budé. Congrès de Lyon, 1958. Actes du Congrès. P., 1960. P. 161.
134
Раздел первый
меньше, но что, по Аристотелю, первично и гораздо существеннее). В первой книге
«Физики» Аристотель говорит: «Лежащая в основе природа познаваема по аналогии:
как относится медь к статуе, дерево к ложу или материя и неоформленное вещество
до принятия им формы ко всему, обладающему формой, так и лежащая в основе
природа относится к сущности, определенному и существенному предмету»12.
Аристотель широко использует эту аналогию. Исходя из искусства, Аристотель делает
заключение о природе, так как порядок и закон у них один и тот же13.
С полной нагрузкой, но, конечно, в специфическом «ключе», который нам
предстоит сейчас проанализировать, работает эта аналогия и в разбираемой нами
IV книге «Метеорологии». Описав пепсис посредством кипячения, Аристотель
заключает: «Таков вид пепсиса, известного под именем пепсиса посредством
кипячения, и процесс одинаков, производится ли он с помощью искусственных орудий
или же посредством естественных, так как причина одна и та же во всех случаях»14.
Какие же это искусственные инструменты, с помощью которых осуществляется
приготовление продуктов кипячением? Очевидно — инструментарий кухни. Введя
понятия, которые обычно переводятся как «варка», «жарка», «недоварка», «недо-
жарка» и т. д., Аристотель специально оговаривает: «Мы должны признать, что эти
термины не выражают вещей в точности: они не всеобщи, следовательно, их нужно
рассматривать не в буквальном смысле, но как нечто приблизительное»15.
Действительно, пепсис созреванием — это понятие, взятое из языка садовника, а «варка»
и «жарка» выражают, очевидно, практику кухни. Схема деятельности по
приготовлению, хранению и переработке продуктов питания, охватывающая целый мир
античной кухни в широком смысле слова (сад — кухня — столовая — аптека),
является, таким образом, определенной матрицей, исходя из которой мы можем лучше
понять всю эту «мифологию качеств».
Барьер между искусством (τέχνη) и природой, между кухней и космосом
фактически только словесный. Аристотель легко преодолевает его, придавая терминам,
взятым из языка кухни и сада, несравненно более широкое значение. «Пепсис
посредством жарения и посредством кипячения — виды искусства. Но, как мы
говорим, его форма является всеобщей и таковой же она существует в природе»16.
Изменения тел, производимые над кухонным очагом или под солнцем, «являются
схожими, хотя и иначе называются». Языковый барьер преодолевается
универсализацией языка искусства, искусства кухни прежде всего. Аптека, сад — это как бы
разновидности кухни. Ведь приготовление лекарств осуществляется по тем же
законам воздействия активных качеств на пассивные, что и процессы варки пищи или
12 Аристотель. Физика. М., 1937. С. 23-24; 191а8-12.
13 Там же. С. 45; 199а16-20.
14 Aristote. Les Météorologiques. P. 243.
15 Ibid. P. 233.
16 Ibid. P. 245-246.
Качества в картине мира Аристотеля
135
усвоения ее организмом. Созревание плодов также обусловлено действием внешнего
тепла солнца (изоморфного кухонному очагу) на влажное и сырое семя.
Аристотель приводит процесс пищеварения к «кухонному общему знаменателю»:
«...переваривание пищи в теле, — говорит он, — подобно пепсису кипячением, так как оно
производится во влажной и теплой среде и имеет своим агентом тепло тела»17.
Основанием таких уподоблений разных процессов выступают всеобщие определения
процесса становления. Короче говоря, это обработка влажного теплом. И для
выражения этой универсальной сути процессов язык кухни — с соответствующими
образами и символикой — очень удобен и эффективен.
Действительно, образом античной кухни пронизан весь текст IV книги. Даже там,
где речь идет о сухом и влажном как об элементах и материальных началах и где,
казалось бы, можно найти другие сравнения, Аристотель как бы невольно опять дает
«кухонное» сравнение: «Так как влажное легко ограничивается, а сухое, напротив,
плохо, то их взаимное соотношение подобно связи блюда с его приправами»18. Это
сравнение показывает, что образ кухни был сквозным «матричным» образом при
создании учения о динамических качествах как о факторах изменения гомеомерных тел.
Этот образ прямо и содержательно связан с текстом трактата, так как он адекватно
выражает всеобщность тех процессов, анализ которых является предметом и целью
«Метеорологии». Аристотель таким сравнением как бы говорит нам, что тела
подлунного мира, являющиеся смесью элементов, выступают как своего рода готовые или
приготовляемые продукты питания, где основной компонент (влажное) соединен
с приправой (сухое). Таким образом, весь подлунный мир мыслится как своего рода
накрытый стол, кухня, где производятся кушанья, и, наконец, как само пиршество.
Солнце у него перекликается с теплом и, соответственно, с кухонным очагом. Эту
перекличку отлично улавливает русский язык: действительно, мы говорим «солнце
печет», т. е. солнце «печет» плоды, как печь на кухне печет пирожки. Луна, очевидно,
перекликается с холодом. Активность холода вторична и зависит от изначальной
активности тепла19. Если солнце — это очаг подлунного мира, приводящий его тела
к пепсису, то луна — это холодильник. Как обжигающее действие холода —
действие отраженного и сконцентрированного им тепла, так и свет луны —
отраженный ею свет солнца.
Таким образом, мы убеждаемся в том, что аристотелевская квалитативистская
теория представляет собой специфическое теоретизирование, базирующееся
прежде всего на проанализированных выше схемах деятельности20. Подчеркнем, что
17 Aristote. Les Météorologiques. P. 236.
18 Ibid. P. 248.
19 Ibid. P. 253.
20 Конечно, эти схемы не единственные. Определенный вклад в формирование квалитати-
вистского мышления вносят и схемы языка (например, при выработке концепции
качественного изменения), и схемы, в которых фиксируется жизнедеятельность организмов.
136
Раздел первый
античная кухня предстает как деятельность, замкнутая внутри сферы чувственно
воспринимаемых качеств. Эти качества образуют «вход» и «выход» такой системы.
Между ними развертываются различные процессы качественного изменения.
Качества на «входе» — это первичные качества (тепло, холод, влажное, сухое), качества
на «выходе» — это вторичные качества (сладкое, горькое, кислое, соленое, мягкое,
гладкое и т. д.). Вторичные качества придаются исходным продуктам, что и является
целью процесса. Воздействия активных качеств на пассивные, смешение качеств
составляют бесструктурный «механизм» этих процессов. Количественный фактор
подчинен качественному, одни качественные характеристики замкнуты на другие
качественные характеристики21. Анализ IV книги мы резюмируем в схеме:
активные силы («форма»)
холодильник — луна
холод
пепсис
трех видов
Ψ
апепсия
трех видов
гниение
Рост совершенства продуктов
г
*
о
3
г
S
'S
о
H
СО
Анализируя схему, мы можем вычленить основные характеристики квалитати-
вистского подхода, которые, таким образом, получают свою интерпретацию и
определенное объяснение. Во-первых, мы замечаем, что качества выступают как
вещественные стихии, как субстанции, не предполагающие «ниже» себя никакого другого
субстрата, никакой первоматерии. Во-вторых, существенная особенность этого
подхода состоит в том, что воздействие качеств происходит благодаря их перемещению.
Действительно, тепло солнца или очага передается нагреваемому телу, влага
покидает тело и т. п. И наконец, в-третьих, мы обнаруживаем, что в системе деятельности
по приготовлению, хранению и переработке продуктов питания нет разрывов между
ее «этапами», между «входом» и «выходом»: воздействия, которые ведут (или порой
не ведут) к желаемой цели (к получению продуктов с наперед заданными свойствами
или качествами), сами заданы в терминах качеств и качественных изменений
(нагревание, охлаждение, увлажнение, высушивание). Описание «входа» и «выхода» системы,
21 Robin L. Aristote. P., 1944. P. 139.
Качества в картине мира Аристотеля
137
а также воздействий их друг на друга производится однопорядковым —
гомогенным — языком. Эта гомогенность на уровне определенной предметно-практической
схемы деятельности позволяет нам понять гомогенность и на уровне
теоретико-познавательных обобщений, которые мы обнаруживаем в других сочинениях Стагирита.
Мы уже отметили, что первой важной чертой квалитативистского подхода
является превращение чувственно воспринимаемых качеств в самостоятельно
действующие субстанции. Это смешение качества и субстанции имеет свои определенные
философские предпосылки, одна из которых связана с критикой Аристотелем Пар-
менида. Согласно Пармениду, сформулировавшему основные положения школы эле-
атов, бытие (Единое) вечно, однородно, непрерывно, неделимо, абсолютно плотно
и подобно совершенному шару. Физические же явления, резко противопоставленные
Парменидом как многое единому бытию, напротив, изменчивы, преходящи, делимы.
«Первые философы, — говорит Аристотель, имея в виду Парменида и его учеников, —
стали утверждать, что многое не существует, а есть только само сущее». Тем самым
они, как считает Аристотель, «...устранили всякое возникновение»22.
«Спасая» возникновение, Аристотель приходит к признанию такого вида бытия,
как акцидентальное, случайное бытие, или бытие «по совпадению». Утверждение ак-
цидентальности идет у Аристотеля параллельно с утверждением существования
качественного изменения как самостоятельного вида изменений в природе, которое
отрицается элеатами, в чем их и упрекает Аристотель23. Модель Парменида для
Аристотеля слишком груба, слишком однозначна, чтобы быть истинной: он с помощью
логико-лингвистического анализа находит, можно сказать, трещины — не-сущее,
движение и многое — в «абсолютно» плотном, неизменном, едином и
неподвижном бытии Парменида.
Так обстоит дело на «входе» принципов аристотелевской физики. На их «выходе»,
однако, обнаруживаются не менее сильные напряжения, чем те, которые раскололи
бытие Парменида. Отстояв автономию качественного изменения, Аристотель
предельно сближает, а порой и просто отождествляет генезис и качественное
изменение, хотя он и хочет их различить. Действительно, генезис первотел,
первоэлементов (земля, вода, воздух, огонь) в процессах их взаимопревращений оказывается
изменением соответствующих им элементарных качеств. Таким образом, попытка
радикальной реабилитации генезиса на путях коренного преодоления элеатовской
логики мышления приводит Аристотеля к фактическому растворению генезиса в
качественном изменении, «спасение» генезиса на «выходе», в плане следствий,
вытекающих из исходных аксиом, оказывается его непредусмотренной — и
нежелательной — «гибелью» в качественном изменении. Субстанция «съедается» акциденцией.
Это действительно тупик, главная апория квалитативистского варианта
преодоления элеатовской концепции. Вот краткий обзор этой апории: элементы-стихии
признаны субстанциями, их превращения признаны в качестве генезиса, но субстанции
22 Аристотель. Физика. С. 24,25; 191Ы0-12.
23 Там же. С. 11.
138
Раздел первый
и генезис оказываются растворенными в качествах и качественном изменении.
Невольно возникает мысль, что только атомизм «спасает дело», являясь более удачным
вариантом преодоления элеатовской концепции.
Из сказанного ясно, что квалитативистский подход в значительной мере связан
с концепцией качественного изменения, как особого самостоятельного вида
движения. В «Физике» Аристотель именно так и рассматривает качественное движение.
Правда, более высоким видом движения, движением по преимуществу24, он считает
перемещение, которое является условием и предпосылкой качественного
изменения25. Тем не менее Аристотель не сводит качественное изменение к перемещению:
он сохраняет его как особый класс движений. Но концепция качественного
изменения приводит к тому, что у него не оказывается никакого критерия для определения
того, какие качества являются существенными. Как справедливо замечает Морроу,
«.. .самая серьезная трудность у Аристотеля в том, что его выбор качеств,
дифференцирующих первотела и определяющих их генезис, рискованным образом замкнут
на качественном изменении, от которого он хочет его отличить»26.
Другая связка трудностей и противоречий квалитативизма как способа
теоретизирования кроется в понятии переноса (перемещения) качества как субстанции
к другой субстанции, «в рамках» которой наблюдается определенное «качественное
изменение», подлежащее объяснению. Момент перемещения качества — основное
ядро объяснительной функции квалитативистской теории — остался, насколько нам
известно, недостаточно проанализированным. Хотя именно в этом пункте
сосредоточена принципиальная антиномия квалитативистского теоретизирования. Раскроем
эту антиномию в основных чертах.
Квалитативизм обычно понимается как альтернатива механическому подходу,
причем оба подхода удовлетворяют принципу причинности, но по-разному.
Механический подход за изменением качеств видит изменение структуры и движения
частиц, а квалитативизм это же самое изменение объясняет переносом качества,
возникновение которого можно наблюдать. Например, механический подход объясняет
нагревание тела увеличением скорости механического движения частиц, а
квалитативизм — контактом с «незримой» квалитет-субстанцией тепла, «переместившейся»
в данное место. Механическое перемещение представляется самым понятным, самым
рационально «прозрачным» из всех изменений потому, что в нем всегда очевидным
образом положено тождество предмета движения с собой, т. е. реализован в своей
чистоте принцип причинности. Изменение («не-тождество») сведено здесь к тождеству:
причина равна (тождественна) действию, но в то же время это тождество
сопровождается изменением, которое тем самым становится «понятым».
24 Аристотель. Физика. С. 69.
25 Там же. С. 190.
26 Morrow G/. R. Qualitative Change in Aristotle's Physics // Naturphilosophie bei Aristoteles und
Theophrastus. Verhandlungen des 4. Symposium Aristotelicum veranstalt in Göteborg. Aug. 1966.
Heidelberg, 1966. S. 159.
Качества в картине мира Аристотеля
139
Таким образом, для нас именно механическое перемещение есть своего рода
каноническое воплощение причинности как «тождества во времени» (Э. Мейерсон).
Но что такое перемещение квалитет-субстанции? Даже при ближайшем
рассмотрении мы натыкаемся здесь на «клубок противоречий». Если субстанциализированное
качество перемещается в пространстве, то как это может быть согласовано с таким
существенным определением квалитет-субстанции, как непрерывность?
Пространственные характеристики, оказывается, трудно согласовать с квалитет-субстанцией,
в которой обобщено как раз не пространство, а наполненное интенсивностью
чувственно воспринимаемого качества («ощущение») время. Но если качества — это
интенсивности, то перемещаться они могут лишь условно и в условном пространстве,
но не в том, где перемещаются «атомы».
В механическом теоретизировании (в пределе, в потенции) дифференцирующий
фактор, т. е. фактор, определяющий разнообразие и изменение на уровне явлений,
выступает исключительно как пространство (эту чистоту механического подхода
в истории науки мы находим, пожалуй, только у Р. Декарта). Скорости, частоты
соударений и другие характеристики перемещения в пространстве объясняют
явление. В качественном подходе дифференцирующим фактором, а значит и
объяснительным фактором по отношению к «становлению», выступает сам «верхний слой»
объяснительной схемы, т. е. сами качества. Иначе говоря, квалитативистское
теоретизирование максимально (и в конце концов «чрезмерно») использует
«объясняющие» возможности самого объясняемого явления, мимо чего проходит
механический подход. «Горячее нагревает», — говорим мы. Здесь качественный феномен
(нагревание) мыслится не как голый результат чего-то иного, каких-то
фиксированных пространственных характеристик и закона их изменения, а как в себе самом
активное, самодействующее явление — сущность. Переходы элементарных качеств как
процессы, непосредственно данные в актуальном ощущении, не требуют никакого
опосредования пространством: они представляют собой просто смены интенсив-
ностей (холодное нагревается, влажное сохнет и т. п.). В качественном изменении
пространство «снято», для фиксации качественного изменения «достаточно» нуля
пространства — точки; вся его эволюция разыгрывается во времени. Как же в этом
случае понимать «пространственное перемещение» качества, его трансляцию? Только
вводя каким-то образом прерывность и переходя тем самым к механизации квали-
тативизма, можно сохранить эту характеристику, а тем самым и объяснительную
функцию квалитативистской теории.
Наконец, третьей характерной особенностью квалитативистского подхода,
вокруг которой группируются специфические для него трудности и противоречия,
является познавательный принцип объяснения подобного через подобное. Если
у Эмпедокла этот принцип формулировался как элементное соответствие между
объектом и органом его познания (земля познаётся землей, огонь — огнем,
содержащимся в органе зрения, и т. д.)27, то у Аристотеля он получает общую форму
27 Маковельский А. О. Досократики. Казань, 1914. Т. I. С. 217 (фрагмент 109).
140
Раздел первый
и касается соответствия объяснительного принципа и объекта объяснения.
Наиболее развернутая формулировка этого принципа дается Аристотелем в III книге
трактата «О небе». В книге он критикует платоновскую теорию элементов, в
соответствии с которой один из элементов — земля — выпадает из круга
взаимопревращений элементов. Причина, по Аристотелю, — в использовании неправильных
принципов. «Действительно нужно, по-видимому, чтобы чувственно
воспринимаемые вещи имели чувственно воспринимаемые принципы, а вечные вещи — вечные
принципы, вещи переходящие — переходящие принципы, и, вообще, принципы
должны быть той же самой природы, что и их объекты»28 (выделено нами. — Б. В.).
Это требование однородности, или гомогенности, объясняющего начала и
объясняемого явления приводит к трудностям и противоречиям. С одной стороны,
в нем содержится определенный критический «заряд» по отношению к
механическому, редукционистскому подходу. Но, с другой стороны, принцип гомогенности
объяснения при построении картины мира оборачивается своего рода
феноменалистским редукционизмом, т. е. механизмом навыворот. Этот аспект принципа
гомогенности объяснения, предписывающий в качестве онтологического требования
сплошное и безразрывное бытие, плохо совместим с аристотелевским иерархизмом,
с его классификацией движений, в которой устанавливается неоднородность одних
видов движения по отношению к другим (например, принципиальное отличие
генезиса от качественного изменения, примат перемещения перед качественным
изменением, подчеркиваемый в «Физике»). Вся процедура объяснения, очевидно,
ставится под угрозу, когда уровни объясняющего принципа и объясняемого явления
отождествляются: исчезает момент «трудности» объяснения, момент
опосредования различных уровней — сущности, с одной стороны, и явления — с другой.
Очевидно, что с этим прямо связаны и те трудности, о которых мы уже говорили,
подчеркивая произвольность выбора существенных атрибутов среди эмпирических,
чувственно данных качеств.
Мы проанализировали некоторые основные характеристики квалитативист-
ского подхода, вскрыли его апории и тупики, наметили пути возникновения квали-
тативистского подхода у Аристотеля, который, отбросив математическую программу
Платона, обратился при решении конкретно-физических проблем к использованию
определенных схем практической деятельности человека и отказался от редукции
мира непосредственно данных качеств. Нам представляется возможным обобщить
и «экстраполировать» полученные выводы, связав все двухтысячелетнее развитие
квалитативистских теорий с определенным набором ремесленно-бытовых практик,
характерных для античности, средневековья и Возрождения. Мы считаем, что квали-
тативистский подход в естествознании тесно связан с преобладанием в системе
общественного производства именно таких практик. Он представляет собой
специфическое натурфилософское теоретизирование, осуществляющееся на базе этих практик
и, в целом, вполне им адекватное. Однако при сопоставлении с новым типом научной
28 Aristote. Traité du Ciel / Trad, par J. Tricot. P., 1949. P. 149; 306a8-ll.
Качества в картине мира Аристотеля
141
теории, возникшим в XVII в., квалитативистская теория предстает как
поверхностная и утилитарная квазитеория. Действительно, качество «практичнее», «операцио-
нальнее» количества в том смысле, что не требует специальных инструментов,
точных измерений при проведении тех или иных процессов. Практически действующий
субъект (ремесленник), наделенный органами чувств, использующий почти
исключительно язык непосредственно воспринимаемых качеств, имеет возможность
прямого контакта и «контроля» над операциями. Квалитативистское мышление в этом
смысле более утилитарно и прагматично, ближе к нуждам эмпирии бытовых
ремесел (медицина, сад, кухня и некоторые другие), чем, скажем, атомизм или
математический подход к физике, выдвинутый Платоном. Однако это не означает, что
такое мышление бесплодно в теоретическом плане. В области современных поисков
новых теоретических представлений критический методологический анализ
принципов качественной физики Аристотеля играет определенную эвристическую роль.
АРИСТОТЕЛЕВСКАЯ ТЕОРИЯ ТЯГОТЕНИЯ:
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД
Актуальной методологической проблемой научного познания является проблема
сведения сложного к простому, качественного — к количественному. При ее
обсуждении речь идет не только о границах сведения нового качества («сложное») к
свойствам некоторых исходных компонентов («простое»), но и о самой первичной
установке, задающей подход к построению знания о мире. Научное познание развивается
в «поле» проблемного напряжения различных — в пределе противоположных —
подходов. Особенный интерес представляет анализ истории такого рода
методологических «конфликтов» для осознания перспектив развития современной науки.
Аристотель, с именем которого связано новое направление в научном сознании
античности, был учеником Платона. Над входом в платоновскую Академию было
написано: «Негеометр да не войдет». Платон считал, что только изучение
математики, сопровождающееся установлением математической гармонии мира, позволяет
«...облегчить самой душе ее обращение от становления к истинному бытию»
(Государство, 525С6-7)1. Согласно Платону, математический объект ближе к миру
истинного бытия, чем чувственно воспринимаемый, находящийся в процессе становления
физический объект. Именно поэтому многообразие явлений вещественного мира
выводится Платоном из «...сочетаний и взаимопереходов фигур» (Тимей, 61с4-5).
Пожалуй, еще более последовательная редукционистская программа была
выдвинута атомистами. Согласно этой программе, физические чувственно
воспринимаемые качества полностью сводятся к геометрии и механике атомов. «В общем
мнении, — говорит Демокрит — существует сладкое, в мнении горькое, в мнении теплое,
в мнении холодное, в мнении цвет, в действительности (существуют только) атомы
и пустота» (Секст Эмпирик. Против математиков, VII 135).
Критическое отталкивание Аристотеля от платоновской программы и от
атомизма явилось одним из источников формирования нового нематематического,
а именно специфического качественного подхода. Генезис этого подхода, на наш
взгляд, лучше всего можно раскрыть, внимательно анализируя IV книгу
аристотелевского трактата «О небе».
В IV книге «О небе» излагается космологическая теория элементов Аристотеля.
Существенным моментом в истолковании элемента в этой книге является отношение
1 При ссылках на античные источники в скобках указывается: название работы, номер
книги (римскими цифрами), номер главы (арабскими), номер строфы (арабскими с
латинской буквой) и номера строчек в строфе.
Аристотелевская теория тяготения: качественный подход 143
Аристотеля к вполне определенному виду механического движения. Это является
новым моментом, так как в теории элементов («корней») Эмпедокла элементы не
связывались с определенными космическими движениями. Известная корреляция
элементов и движений была, правда, внесена Платоном. У Платона огонь более подвижен,
чем земля и вода, воздух же обладает промежуточной подвижностью. У Платона эти
кинематические свойства стихий вытекали из его геометрической теории вещества
(Тимей, 55е). У Аристотеля же мы находим чисто феноменологическую теорию
тяжелого и легкого, совершенно свободную от всяких соображений о структуре
стихий, включая математические соображения об их строении.
Аристотель строит свою космологическую теорию элементов, отталкиваясь
от критикуемого им математического подхода Платона, с которым он сближает
также и атомистов. Критика этого подхода, содержащаяся в книге «О небе»,
заканчивается таким общим выводом, предваряющим анализ элементов в плане
исследования основных космологических свойств — легкого и тяжелого:
Таким образом, — заключает Аристотель, — различие между элементами
обусловливается не фигурами, как это ясно из сказанного нами. Так как наиболее
фундаментальными различиями являются различия, касающиеся свойств, воздействий
и сил, то нашей первой задачей должно быть исследование этих определений,
после чего мы сможем понять те различия, которые отличают одно [тело] от другого
(О небе, III, 8, 307Ы8-26).
В этом тексте, после которого Аристотель прямо переходит к исследованию свойств
или качеств легкого и тяжелого, он противопоставляет платоновский
геометрический подход своему нематематическому подходу. Согласно Аристотелю, наиболее
фундаментальные определения — это не фигуры и не числа, а качества, функции
или действия вещей и соответствующие им силы или потенции.
Тяжелое и легкое — это и качества, и, одновременно, силы, выражающиеся
в определенных действиях или движениях. Само вычленение этих качеств из
многообразия качеств, присущих вещам, обусловлено потребностями понимания феномена
движения. Проблема движения ставится здесь в специфическом космологическом
плане: как движутся вещи в космосе, как нужно «строить» сам космос — порядок
вещей и порядок их движений? Аристотель прямо говорит, что различие тяжелого
и легкого порождено анализом проблемы движения: «Изучение этих вопросов, —
подчеркивает он, — относится, собственно говоря, к обсуждению проблемы
движения, так как мы называем вещь тяжелой или легкой, отталкиваясь от того
обстоятельства, что она способна естественно двигаться определенным образом» (Там же,
IV, 1, 307b29-33). Тяжелое и легкое могут рассматриваться как внутренне присущие
вещам подлунного мира начала их космической подвижности.
Исходным и основополагающим моментом в аристотелевской теории
тяжелого и легкого является различение двух смыслов этих понятий: абсолютного
и относительного. Новизна аристотелевского подхода к этой проблеме связана
именно с утверждением абсолютности этих качеств, притом обоих в равной мере.
144
Раздел первый
Определение качеств абсолютно тяжелого и абсолютно легкого предваряется
абсолютным различением космического пространства. Аристотель рассматривает
космос как «конкретное» неоднородное пространство, структура которого задается
наличием абсолютного центра и периферии. Эта структура мира, задаваемая
оппозицией «центр — периферия», обосновывается общефизическими и даже
метафизическими представлениями Аристотеля о недопустимости актуально бесконечных
космических тел, о необходимой конечности всех физических процессов, всякого
движения. Движение мыслится Аристотелем в свете принципа
противоположностей, традиционных представлений, приписывающих противоположностям
фундаментальную роль в строении мира. Очевидно, что принцип противоположностей
означает необходимость конечности движения, о которой как о предпосылке
дихотомии мира на центр и периферию Аристотель говорит в тексте IV книги «О небе».
«Никакое движение, — подчеркивает Аристотель, — не может продолжаться до
бесконечности» (Там же, 4, 311b32). Поэтому, заключает он, должен быть абсолютный
«конец» движения — центр космоса. Периферия же выводится на основе
применения схемы противоположностей.
Заметим, что Аристотель восстанавливает эту традиционную схему в правах,
критикуя, в частности, редукцию одной противоположности к другой. Фактическое
устранение этой схемы Аристотель подвергает критике и у атомистов, и у Платона.
Аристотель критикует этих философов за отрицание ими наличия в космосе абсолютного
центра и абсолютной периферии. «Действительно, — говорит Аристотель, — абсурдно
думать, что Небо не содержит ни верха, ни низа, как это некоторые утверждают»
(1, 308а16-17). Аристотель имеет в виду, видимо, как ранних философов, таких как
Анаксимандр, так и Демокрита и Платона. Вселенная у этих философов однородна.
Он специально подчеркивает этот момент, противопоставляя этой вселенной свой
неоднородный, анизотропный и конечный космос.
Согласно Аристотелю, направления в мире неравноценны, так как
неравноценны полюса его структуры: «верх» является более изначальным и более
«ценным» по природе, чем «низ», так же как правое по отношению к левому, что
отмечает в своем комментарии Симпликий. В космологическом мышлении Стагирита
мы видим ту черту, которую можно обозначить как принцип конкретности или
предметности. У Аристотеля все — конкретно: конкретно число, которое всегда
мыслится как число чего-то, каких-то определенных сущностей, конкретно
пространство, которое мыслится как «естественное место» конкретного физического
тела, конкретно направление в пространстве, которое мыслится как направление
к «верху» или к «низу». Интересно заметить, что в этом принципе конкретности
Аристотель в известном смысле «отступает» назад. Так, например, в чем-то его
понимание числа ближе к пифагорейцам, чем к Платону2. Но одновременно Аристотель
2 Этот момент аристотелевской трактовки числа подчеркивает Ж. Маркович: Markovié Ζ.
Les mathématiques chez Platon et Aristote // Bull, intern. del'Acad. yougoslave des sei. et des beaux
arts; classe des sei. math, et natur. 1939. T. 37. P. 18.
Аристотелевская теория тяготения: качественный подход 145
делает предвосхищающий дальнейшее развитие шаг «вперед». Так, например,
английский историк науки Т. Хит обращает внимание на то, что в замечании
Аристотеля о предпочтительности в геометрии гипотезы о конечных, но сколь угодно
длинных прямых линиях гипотезе о бесконечных прямых линиях содержится
своего рода предвосхищение «римановской тенденции»3.
К этому можно добавить, что принцип конкретности, диктующий
необходимость телесно-физическим образом мыслить пространство и геометрию мира
в целом, стоит ближе к современной релятивистской космологии, чем, скажем,
атомизм, допускающий существование беспредельного пустого пространства,
взаимодействие которого с веществом полностью исключается. Конечно, в общей
теории относительности связь гравитации и геометрии мыслится совсем иначе,
чем у Аристотеля. Однако здесь нам важно подчеркнуть само наличие такой связи
у Аристотеля, обратив при этом внимание на ее отсутствие как у атомистов, так
и у Платона. Абсолютные «верх» и «низ» следуют с необходимостью из наличия
абсолютных центра и периферии: «Очевидно, — говорит Аристотель, — что
поскольку Небо содержит периферию и центр, то имеются также верх и низ» (Там же,
308а22-24).
Исходя из этих космологических предпосылок, Аристотель строит
классификацию естественных движений: «Имеются вещи, — говорит он, — которые по природе
движутся от центра, и другие вещи, которые всегда движутся к центру» (Там же, IV,
1,308а14-16). Эти естественные движения и составляют содержание понятий легкого
и тяжелого. «Под абсолютно легким мы понимаем, — говорит Аристотель, — то, что
движется к верху, к периферии, а под абсолютно тяжелым то, что движется к низу,
в направлении к центру» (Там же, 308а29-30).
Свой подход к истолкованию свойств легкости и тяжести тел Аристотель
формулирует, критически отталкиваясь от платоновской теории тяжести, изложенной
в «Тимее». Чтобы не быть зависимым от аристотелевского прочтения «Тимея»,
обратимся непосредственно к Платону. Платон считает вес функцией количества
вещества или массы тел, т. е. количественной функцией тел: «Когда одна и та же сила, —
говорит он, — поднимает в высоту две вещи, меньшая вещь по необходимости больше
повинуется принуждению, а большая — меньше, и отсюда большое именуется
тяжелым и стремящимся вниз, а малое — легким и стремящимся вверх» (Тимей, 63с).
Тяжелое, по Платону, это то, что труднее поддается «насилию», смещающему тело
из сродственного ему местонахождения, а легкое — поддается этому внешнему
воздействию легче.
У Платона, таким образом, легкость и тяжесть — это всегда относительные меры
сопротивления тел внешним воздействиям, выводящим их из «родственных» им
сред, в которых им свойственно по природе находиться. Меньшие части легче, чем
большие, уступают насилию, — говорит Платон. Поэтому тяжесть для него
зависит от массы тел или количества частей, некоторых однородных и весомых частей,
3 Heath Th. A History of Greek Mathematics. Oxford, 1921. V. 1. P. 343.
146
Раздел первый
образующих тела. Именно этот момент прежде всего вызывает критические
замечания Аристотеля.
Характерно, что Аристотель ничего не говорит о том, чем он обязан Платону
в своей теории веса. Из приведенного нами отрывка видно, насколько —
несмотря на серьезные расхождения — Аристотель сохраняет — в переосмысленном
виде — некоторые существенные моменты платоновской теории, в частности идею
«естественности» движений. У Платона, по существу, есть понятие о естественном
движении тел и элементов. Так, например, он говорит: «...если мы стоим на земле
и отделяем части землеподобных тел, а то и самой земли, чтобы насильственно и
наперекор природе ввести их в чуждую среду воздуха, то обе стихии проявят тяготение
к тому, что им сродно, однако меньшие части все же легче, нежели большие,
уступят насилию и дадут водворить себя в чужеродную среду» (Тимей, 63d). Однако, как
показывает этот отрывок, «естественное» движение Платон понимает совсем иначе,
как иначе у него понимается и то, что называет «естественным местом» Аристотель.
Это отличие Платона от Аристотеля (помимо уже отмеченного выше
преобладания количественного и относительного начала у Платона) составляет принцип
стремления подобного к подобному, который имеется у Платона. Этот
традиционный принцип, идущий от ранних досократиков, сохраняется у Платона, но
отбрасывается Аристотелем. После отмеченной выше чисто количественной трактовки
легкого и тяжелого данный принцип является второй важной характеристикой
платоновской теории веса, или «тяготения». Рассмотрев разнообразие явлений тяжести,
Платон говорит: «...но одно остается верным для всех случаев: стремление каждой
вещи к своему роду есть то, что делает ее тяжелой» (Там же, 63е).
Обобщая эти два принципа, платоновскую теорию можно резюмировать так: тела
тяготеют к подобным им телам пропорционально количеству однородных частей,
из которых все они состоят. Идея естественности движения и места у Аристотеля,
однако, сильно отличается от ее платоновского прототипа. Если у Платона
естественность целиком укладывается в рамки принципа стремления подобного к подобному,
то Аристотелем она мыслится как чисто космологическое определение, как система
естественных мест, присущих элементам. «Если, — говорит Аристотель, используя
яркий пример для иллюстрации своей мысли, — поместили бы Землю туда, где
сейчас находится Луна, то никакие части Земли не стали бы двигаться к ней, но она бы
двигалась именно туда, где сейчас находится Земля» (О небе, IV, 3, 310Ь2-5).
Эффект тяготения, по Аристотелю, не эффект стремления подобного к подобному; это
не большая масса земли притягивает другие части земли, «оторванные» от нее.
Тяготение состоит в стремлении Земли к своему естественному месту, находящемуся
в центре мира и обусловливающему ее естественное движение.
Сопоставляя платоновский и аристотелевский подходы к проблеме веса, мы
замечаем, что у Платона причудливо сочетаются наиболее далекие идеи: идея
количественной природы свойства весомости, и поэтому его относительности, с
«архаической» идеей о сродстве тел, об обусловленном их родовой общностью притяжении.
У Аристотеля мы не находим ни первой идеи, ни второй. Поэтому теория веса
Аристотелевская теория тяготения: качественный подход 147
Стагирита, видимо, оказалась в принципе более живучей: она была более
стабильной из-за ее внутренней «умеренности».
Рассмотрим теперь критику Аристотелем количественной трактовки веса
более подробно. В этом моменте раскрывается специфика нематематического
подхода Аристотеля. Аристотель считает, что именно количественный подход Платона
является основным пунктом его разногласий с ним. Излагая Платона, Аристотель
говорит, что у него «...численное превосходство частей в каждом случае есть
превосходство в весе» (О небе, IV, 2, 308Ь8). Численным превосходством, большим
количеством одинаковых частей объясняется большая тяжесть свинца по отношению
к дереву. В теории Платона, продолжает Аристотель, «все тела образованы из
одинаковых частей и из одной материи, в противоположность обычным мнениям» (Там же,
308Ы1-12). Такой подход, справедливо замечает Аристотель, имеет дело только с
относительным значением понятий легкого и тяжелого и «ничего не говорит о легком
и тяжелом в абсолютном смысле» (Там же, 308ЫЗ). Но, обращает внимание
Аристотель, ссылаясь на опыт, наблюдения и общепринятые взгляды, «огонь всегда
легок, всегда движется кверху» (Там же, 308b 14). Он отталкивается от
количественного подхода прежде всего потому, что в нем нет места для абсолютных значений
легкого и тяжелого, количественная трактовка веса означает выбор относительного
смысла этих понятий. Выдвижение идеи абсолютности качеств тяжести и легкости
равносильно выдвижению неколичественного или качественного подхода:
качественные различия в весе неуничтожимы никакими вариациями количеств тел, они
абсолютны. Абсолютность и качественность выступают как «синонимы», одно
необходимо предполагает другое, переходит в другое. Действительно, абсолютность
космологической структуры, на базе которой основывается определение
Аристотелем легкого и тяжелого, оказывается предпосылкой его качественной теории веса.
Но какая же функция в этой качественной теории отводится Аристотелем
количеству? Согласно Аристотелю, количество — это второстепенный вспомогательный
фактор, способствующий лучшему выявлению абсолютной качественной природы
тел. Опять, ссылаясь на наблюдение, Аристотель говорит, что платоники неправы,
потому что в логике их теории, при варьировании количества вещества, можно
заставить, например, огонь падать вниз, так как большая масса огня, по их взглядам,
должна быть тяжелее, например, малой массы воды. Нет, возражает своим
противникам Стагирит, «чем больше количество огня, тем выше его легкость, тем быстрее
его движение кверху» (Там же, 308Ы9-21). «Очевидно, что огонь, каким бы ни было
его количество, движется вверх, если при этом ничто извне ему не препятствует,
а земля — вниз» (Там же, 311а19-21).
Количественный подход угрожает снять и даже перевернуть качественные
абсолютные различия элементов. Это для Аристотеля совершенно неприемлемо,
так как, по его мнению, не согласуется ни с опытом, ни с общепринятыми
взглядами. Апелляции к наблюдению и здравому смыслу у него не прекращаются, пока
он критикует количественный подход и формулирует свой собственный. Итак,
количественный фактор — это лишь вспомогательный момент, лучше оттеняющий
148
Раздел первый
абсолютную — и неустранимую никакой игрой количеств — качественную
природу тел. Аристотель варьирует эти возражения: «Всегда, — говорит он, возражая
Платону, — большее количество воздуха движется кверху более быстро, и, вообще,
всякая часть воздуха, поднимается, исходя из воды» (Там же, 308Ь27-29). Факты
эмпирического наблюдения абсолютны, они не зависят ни от каких количеств
гипотетических частиц, «треугольников» Платона или «атомов» Демокрита. Мы видим,
как опорой качественному подходу служит феноменологическое описание
процессов, основанное на абсолютизации качественных различий.
Форма (фигура) тел, так же как и количество вещества или масса тела, является
второстепенным фактором по отношению к качественной природе тела. «Фигура
тела, — говорит Аристотель, — не является причиной их движения вверх или вниз
абсолютным образом, но лишь причиной их более быстрого или более медленного
движения» (Там же, 6, 313а14-15). Влияние фигуры тел несомненно для
Аристотеля. Опыт с очевидностью свидетельствует об этом. Например, тяжелые тела
дискообразной формы плавают на поверхности легких тел. Иголка скорее тонет, чем
диск, будучи сделанной из того же материала, так как она легко расслаивает свою
среду и внедряется в нее при падении благодаря своей форме. Таким образом, фигура
тела, т. е. геометрический фактор движения тел, подобно количественному —
числовому — фактору, является лишь вспомогательным моментом по отношению к
качественной определенности тела, определяющей — абсолютным образом — характер
его естественного движения. Фигура, как и число (масса), может способствовать или
препятствовать их движениям, но не может изменить сам характер этого движения.
Количественный подход в глазах Аристотеля разнообразен. Подробнее всего он
останавливается на платоновской теории, затем критически разбирает
атомистическую, используя ту же систему опровергающей аргументации. В целом Аристотель
различает три основных разновидности количественного подхода к проблеме веса
тел: платоновский, атомистический и, наконец, представления, использующие фактор
величины частиц (Там же, IV, 2). Сюда можно еще добавить количественный подход
в его чисто макрогеометрическом варианте, сводящий различия в весах к различиям
в фигуре тел (Там же, 6). Все эти варианты имеют одно общее основание, выделяемое
в ходе их анализа Аристотелем: «Действительно, — говорит он, резюмируя анализ
различных вариантов количественного подхода, — если имеется только одна
материя, то не будет ни абсолютно тяжелого, ни абсолютно легкого» (Там же, 309b34-35).
Если тела составлены из частиц одной и той же материи, то они будут обладать
только относительными свойствами, зависящими от числа этих частиц. По
Аристотелю же, качества нельзя оторвать от материи, материя разнообразна по качеству
и эти качественные различия абсолютны и несводимы к количественным различиям
однородной — ив перспективе — бескачественной материи. «Нелепости, — говорит
Аристотель, — возникают всегда, как только приписывают всем телам одну и ту же
материю» (Там же, 2, 309Ь34-35).
Несомненно, что принцип единства и материальной однородности мира,
выдвигаемый оппонентами Аристотеля, куда более радикально порывал с традиционными
Аристотелевская теория тяготения: качественный подход 149
мифолого-религиозными представлениями о структуре мира (дуализм «земля —
небо»), чем качественные космология и физика Аристотеля, по сути дела дающие
этим представлениям солидное теоретическое оправдание. Поэтому не случайно,
что творцы науки Нового времени (XVI-XVII вв.) так резко полемизировали именно
с Аристотелем, находя в атомизме и, особенно, в платонизме историческую
традицию, адекватную своим новаторским задачам. Вместо представлений об однородной
и единой для всех тел материи, количество и форма частиц которой обусловливает
все их свойства и качества, Аристотель вводит представление об абсолютно
качественно различных телах: одни — абсолютно по природе легки, другие — тяжелы.
Эти их различия несводимы, неуничтожимы: увеличение их количества способствует
лишь более яркому проявлению их неизменной качественной природы.
Перечислим основные моменты аристотелевской критики количественного
подхода. Во-первых, это принцип абсолютности качественных различий, во-вторых, это
опора на свидетельства эмпирического наблюдения и здравого смысла и, наконец,
опора на принцип противоположностей. Действительно, атомисты приписывают
атомам тяжесть, но легкость — противопонятие тяжести — исчезает в таком
случае из их системы. Аристотель сохраняет и «реабилитирует» традиционный
принцип противоположностей, по которому был нанесен удар именно количественным
подходом в широком смысле слова. И у Платона, и у атомистов одна
противоположность (тяжелое) поглотила другую (легкое). Основная тенденция такого подхода —
это сведение многообразия качеств к возможно минимальному числу исходных
качеств, стремление вывести как можно больше качеств из исходных предпосылок,
из вариаций количества, геометрических форм, структуры. Относительность
легкого и тяжелого означает, что объективное значение имеет одна лишь тяжесть:
легкость выводится как относительно меньшая тяжесть. У Аристотеля подход совсем
иной: противоположные качества равноценны и в равной степени «объективны»,
они неустранимы ни ссылкой на субъект восприятия, ни игрой количеств или форм
частиц. Говоря об атомистах и Платоне, оставивших из оппозиции «легкое —
тяжелое» только тяжелое, Аристотель ссылается на опыт, согласно которому со всей
очевидностью имеется тело, движущееся вверх во всех стихиях, — огонь.
«Следовательно, — заключает Аристотель, — это тело не может быть тяжелым, если только
не существует тела, в глубину которого оно бы опускалось» (Там же, 4, 311Ь24-25).
То, что существует абсолютно легкое тело, есть такой же факт наблюдения
у Аристотеля, как и существование абсолютно тяжелого тела.
Феноменологическое описание свидетельств обыденного опыта, его наблюдений подкрепляет
общую схему противоположностей, как, впрочем, видимо, существует и обратный
эффект: традиционная схема сама влияет на направленность наблюдений и их
описание. Вообще качества, а в частности качества легкого и тяжелого, задаются
Аристотелем как констатации феноменологического описания свидетельств
обыденного опыта. Например, вода и воздух являются постольку легкими или содержат
легкое, поскольку любая наобум взятая их часть поднимается выше поверхности
земли (Там же, 311а25-26).
150
Раздел первый
Итак, Аристотель критикует атомистов и Платона как трезво мыслящий эмпирик,
оспаривающий выводы смелой теоретической спекуляции. Теоретическое
мышление может обойтись без этой фатальной, в глазах Стагирита, редукционистской
тенденции, без сведения одной противоположности к другой. Конечно, это будет иное
теоретическое мышление, находящееся в ином отношении к «эмпирии». Согласно
Аристотелю, это будет действительно физический подход, который он
противопоставляет чисто логическому подходу (О возникновении и уничтожении, I, 2, 316а).
В контексте аристотелевского анализа свойств легкости и тяжести, в контексте
космологического анализа проблемы движения, существенную роль играют понятия
формы и материи: нижнее относится к верхнему, как материя к форме. Естественное
место, по сути дела, понимается Аристотелем как собственная форма
соответствующей стихии. Поэтому движение тела к его естественному месту есть его
самореализация, осуществление его собственной формы, содержащейся в нем потенциально,
что и обнаруживается в самом акте естественного движения. Таким образом,
механизм движения стихий объясняется как на языке понятий «материя — форма», так
и на языке понятий «потенция — акт» в полном соответствии с общим пониманием
движения как «энтелехии подвижного» (Физика, III, 2).
Элемент, благодаря естественному движению, достигает актуализации своей
природы и своей формы: естественное место и есть его форма, как сосуд есть форма
в нем находящегося (жидкого) тела. Только находясь в своем естественном месте, он
является самим собой, и только это стремление к самоактуализации есть, по
Аристотелю, теоретически ясная причина явлений тяжести. «То, что производит
движение вверх и вниз, — говорит Аристотель, — есть то, что производит легкое и
тяжелое, и то, что движется, является в потенции легким или тяжелым, и перемещение
каждого тела к своему естественному месту есть движение к его собственной форме»
(Тамже,310аЗО-310Ы).
Одной из важных задач, решаемых аристотелевской теорией веса, является
дедукция четырех элементов. В основании этой дедукции лежат космологические
предпосылки, которые, как мы уже это видели, составляют основу различия абсолютно
тяжелого и абсолютно легкого.
.. .Тяжелое и легкое, — говорит Аристотель, — существуют как два тела, так как
имеются два места, центр и периферия. Отсюда следует, что существует также
промежуточная область между двумя этими местами, которая получает каждое из своих
двух определений по отношению к другому крайнему месту: так как то, что является
промежуточным между двумя крайностями, является сразу и периферией и центром
(Тамже,1У,4,312а7-10).
Аристотель здесь формулирует космологические предпосылки для последующего
вывода на их основе необходимости существования двух промежуточных по
свойствам легкости и тяжести тел. Характерной особенностью этого рассуждения
является то, что оно содержит ярко выраженный принцип космологической
детерминации тел и их свойств: специфическое тело, обладающее определенными свойствами,
Аристотелевская теория тяготения: качественный подход 151
существует как функция системы естественных космологических мест. Таковы
прежде всего огонь и земля, которые являются абсолютно легким (огонь) и абсолютно
тяжелым (земля) именно в силу существования абсолютного центра и абсолютной
периферии. «Место» мыслится Аристотелем вполне конкретно — это место как
собственная форма тела или элемента.
Отличие аристотелевской дедукции элементов от соответствующей дедукции
Платона (Тимей, 31b-32b) состоит в том, что она свободна от математических
соображений. У Платона четырехэлементный состав космоса обосновывается
соображениями числовой пропорции между стихиями, так как только в этом случае
космическая связь стихий оказывается «прекраснейшей». У Аристотеля же мы находим
не математические соотношения, а феноменологическую аналогию на базе
качественных космологических допущений, основу которых составляет понятие естественного
места. Как справедливо отмечает американский историк древней науки Ф. Сольм-
сен, сравнивая характер платоновской и аристотелевской дедукций элементов,
вывод стихий у Платона носит скорее физико-математический, чем космологический
характер4. К этому замечанию мы должны только добавить, что сам космологический
подход Стагирита является качественным подходом. Действительно, свойства
легкости и тяжести выступают как основные космологические качества. В этой теории
тяжести, являющейся продолжением анализа проблемы движения, качества сильно
объективированы. Даже у Платона мы видим, что дедукция элементов предполагает
субъективный характер основных качеств космоса. Космос, по Платону, есть
прекрасное тело, которое должно быть видимым и осязаемым (Тимей, 31b-c). Из
необходимости быть видимым следует стихия огня, а из необходимости быть
осязаемым — стихия земли.
У Аристотеля такой «субъективности» в качествах мы не находим. Во-первых,
кинематический угол зрения (проблема движения) приводит к абстрагированию
от большинства качеств, обычно связываемых с элементами и телами. «Исчезают»
даже такие качества, как теплота огня и холод земли, как влажность и сухость,
которые составляют основу теории элементов в книгах «О возникновении и
уничтожении». Все эти качества не соответствуют космолого-кинематическому видению
мира, которое здесь выражено. Аристотель упрощает качественное многообразие,
оставляя в поле зрения только два качества-свойства — тяжелое и легкое. Космоло-
го-кинематический подход придает этим качествам вполне объективное
содержание: указанные качества представляют собой универсальные характеристики
конкретного космологического движения.
Отмеченные нами моменты говорят о том, что качества у Аристотеля
подвергнуты строгой селекции, объективированы и представлены в виде определенной
системы, имеющей четкий космологический и физический смысл. Аристотель целиком
подчиняет количественный фактор (в данном случае это масса элемента)
качественной природе элемента. Качественные различия (легкое — тяжелое) выступают у него
4 Solmsen F. Aristotle's System of the Physical World. N. Y., 1960. P. 285-286.
152
Раздел первый
как абсолютные различия: они несводимы им к чему-либо другому, ни к количеству
и фигуре, ни друг к другу.
Итак, теперь мы можем перечислить основные черты качественного подхода
Аристотеля, ярко проявившегося в его теории веса: отбор и объективизация
качеств, абсолютность и взаимная несводимость отобранных качественных различий,
концепция противоположностей и, наконец, специфический универсальный
понятийный аппарат (форма — материя, потенция — акт), сочетающийся с
сознательной опорой на эмпирическое наблюдение и феноменологическое описание явлений.
К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕЗИСА УЧЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ
О δυνάμεις (Meteor. IV)
Учение Аристотеля о δυνάμεις как о своеобразных качествах-силах, действующих
без какого-либо материального субстрата или первоматерии (πρώτη ΰλη), интересно
для исследователя прежде всего тем, что содержащиеся в нем представления о
качествах значительно расходятся с учениями о качествах, излагаемыми в «Метафизике»
и в «Категориях». Это расхождение, кратко говоря, выражается в том, что качества
как δυνάμεις выступают относительно самостоятельно, в то время как обычно
качества у Аристотеля, во-первых, абсолютно зависят от сущности (ουσία) и, во-вторых,
не действуют без материального субстрата. Попытка объяснения специфического
статуса качеств в учении о δυνάμεις привела нас к предположению, что в данном
случае анализ Стагирита ориентирован не схемами языка, а схемами1
определенного рода ремесленной практической деятельности (сад — кухня — аптека)2. В
настоящей статье мы хотим продолжить обсуждение проблемы генезиса учения
Аристотеля о δυνάμεις, введя в план исследования историческую традицию, которая
могла бы послужить основой для этого учения.
Такой исторической традицией нам представляется прежде всего гиппократов-
ская медицина. Для того чтобы убедиться в этом, проанализируем представления
о качествах-силах (δυνάμεις), содержащиеся в Corpus Hippocraticum. Из всего гип-
пократовского собрания, насчитывающего 72 произведения (Дильс), мы выбираем
только два произведения, с нашей точки зрения наиболее важные: «О природе
человека» — De nature hominis (NH) и «О древней медицине»— Deprisca (vetera) medicina
(VM). Медицинское знание, представленное в гиппократовской литературе, можно
схематически подразделить на три типа: во-первых, тексты, в которых явно
преобладают умозрительные гипотетические построения, мало чем отличающиеся от
натурфилософии; во-вторых, эмпирические подходы и разработки, критикующие
плодотворность философского умозрения в медицине; наконец, ряд промежуточных между
этими двумя полюсами подходов, где теоретическое конструирование носит
специально медицинский характер и озабочено его «пригнанностью» к врачебному опыту.
Именно к этому последнему типу принадлежат построения, развиваемые автором NH.
1 Понятие «схемы» здесь употребляется в том смысле, который был разработан по
отношению к науке Аристотеля Лё Блоном (Le Blond J.-M. Logique et méthode chez Aristote. P., 1939;
2 éd. 1970).
2 См. выше работу Качества в картине мира Аристотеля.
154
Раздел первый
Природа человека понимается автором трактата как, во-первых, составленная
из элементарных качеств-сил теплого, холодного, сухого и влажного (сокращенно
ТХСВ), а во-вторых, как набор четырех компонентов3: крови, слизи, желтой и
черной желчи. В плане специально медицинских начал алкмеоновской мотив изономии
(DK24 В4) получает дополнительный акцент количественной пропорции: тело
бывает «наиболее здоровым тогда, — говорит автор NH, — когда эти части соблюдают
соразмерность во взаимном смешении в отношении силы и количества» (δυνάμιος
και του πλή9εος — «когда гуморы находятся в точной пропорции между ними как
в качественном, так и в количественном отношении», — переводит это место Жак
Жуанна4). Здесь алкмеоновская изономия уже разложена на качественную и
количественную проекции. Характерно, что детализация происходит именно на специально
медицинском уровне теоретизирования и практически отсутствует или выявляется
гораздо слабее на философском уровне, где говорится о силах теплого, холодного,
сухого и влажного. Понятно, что этого требовала сама лечебная практика и она же
давала средства для этого (врачебный рецепт, ремесло аптекаря). Эти два плана подхода
к природе человека объединяются с помощью метеорологии или, точнее, анализа
времен года с точки зрения преобладания в них каких-то сил-качеств из ТХСВ. Учение
о сезонной доминации гуморов плюс естественные представления о преобладании
разных качеств-сил в разные времена года дает базис для согласования общей
философской основы и специально медицинской теории гуморов. Поэтому о
несоединимости {inconciliable, — говорит Ж. Жуанна) этих позиций, видимо, вряд ли можно
говорить. Можно сказать, что теплое, холодное, сухое и влажное — это начала
порождения тела, генетическая природа человека: «Когда тело человека умирает,
необходимо, чтобы каждое из этих начал возвращалось в свою природу, именно: влажное
к влажному, сухое к сухому, теплое к теплому, холодное к холодному» (NH, 3). Тела
живых существ возникают из этих начал и к ним же возвращаются. Такого
соотношения нет в случае гуморов. Правда, когда человек умирает, мы можем видеть, что
он «исходит» кровью или другим гумором. Однако эти наблюдения автор не считает
дающими основания для вывода о том, что природа человека и есть, например, кровь.
Неправильно, настаивает он, что «человек и есть одно из тех веществ, после
очищения которого они видели смерть человека» (NH, 6). Здесь критикуется монизм в его
медицинской форме, так как, по убеждению автора, человек одновременно содержит
все гуморы. Однако не этот смысл гуморов как элементов занимает автора NH в
первую очередь: главное значение гуморов в том, что они, будучи хорошо смешанными
и уравновешенными, являются основой здоровья. Видимо, их можно считать той
формой четырех качеств-сил, которая организует конкретное протекание жизненных
3 Характерно, что автор ни разу не употребляет термин «гумор» (χυμός или ίκμάς) для
обозначения этих начал: он прибегает к парафразам типа τα έν τω σόματι ένεόντα «в теле
содержащиеся». См.: Hippocrate. La Nature de l'homme / Ed., trad., et comment, par J. Jouanna. В., 1975. P. 33.
4 Hippocrate. La Nature de l'homme. P. 173 и ел. Гиппократовские авторы даются нами в
переводах Б. И. Руднева по изданию: Гиппократ. Избранные книги. М., 1936.
К проблеме генезиса учения Аристотеля О δυνάμεις (Meteor IV) 155
процессов, болезни и выздоровления тела. Медицинский опыт устанавливает
корреляцию гумора с элементарным качеством-силой: «...Увидишь на опыте, — говорит
автор, — что слизь наиболее холодна» (NH, 7). А «зимою, — продолжает автор,
увеличивается в человеке количество слизи, так как она из всех элементов,
существующих в теле, наиболее подходит к природе зимы, будучи весьма холодна» (Там же).
Так прочерчивается корреляция гуморов и элементарных качеств через посредство
четырех времен года: зима — слизь, весна — кровь, лето — желтая, осень — черная
желчь. Круговорот сезонов приводит к циклическому изменению в соотношении
гуморов: «Все эти элементы (имеются в виду гуморы. — В. В.) содержатся постоянно
в теле человека, но только вследствие перемен года они то увеличиваются, то
уменьшаются» (Там же). Интересно, что двигателем гуморов выступает Солнце с его
периодичностью. Это положение мы найдем и у Аристотеля по отношению ко всем
процессам становления в подлунном мире.
Элементарные качества ТХСВ являются динамическими началами: «Одно будет
брать верх над другими, более сильное над более слабым» (NH, 3). Этот динамизм
проникает и в гуморы. Однако здесь он приглушен вещественным мотивом: гуморы
прежде всего выступают как вещественные компоненты, хотя они и наделены
качествами-силами и действуют посредством их. Теплое, холодное, сухое и влажное
скорее обладают силами, проявляя их в действии порождения тел, чем сами являются
силами. На это указывает основной текст для понимания смысла понятия δυνάμεις
в ΝΗ: «Необходимо, — говорит автор, — .. .чтобы человек не был что-нибудь единое,
но чтобы каждое из того, что содействует рождению, имело в теле такую силу,
какой оно содействовало» (ΝΗ, 3). Это означает, что сила качества сохраняется после
порождения организма, и та сила, с какой качество содействовало вместе с другими
при рождении, та же самая сила сохраняется в порожденном теле. Сила выступает,
таким образом, как инвариантная характеристика начал-качеств. Инвариантность
сил, видимо, обусловлена их взаимной поддержкой: они «питают друг друга взаимно»
(ΝΗ, 7). Эту инвариантность динамического аспекта по отношению к изменчивости
вещественного воплощения мы обнаруживаем в том, что силы сохраняются, хотя
вещественное их представление меняется. Действительно, описываем ли мы процессы,
протекающие в организме, на языке гуморов врачей или на языке стихий
философов (огонь, воздух, вода, земля), силовой аспект этого описания остается
неизменным. Именно это позволило Г. Пламбёку утверждать, что здесь впервые «понятие
dynamisa используется для определения действия как такового и притом в рамках
определенной теории»5.
В отличие от автора NH, автор трактата «О древней медицине» (VM)
принадлежит к медикам эмпирического направления. «Эмпирическое» здесь не означает,
что в его рассуждениях, всегда исходящих от самого врачебного опыта, нет
теоретических предположений. Однако их выдвижение сопровождается сознательным
5 Plamböck G. Dynamis in Corpus Hippocraticum // Akad. Der Wissenschaften und Literatur
in Mainz. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwiss. Kl., Jg. 1964. 2. S. 16.
156
Раздел первый
отталкиванием от натурфилософских гипотез, несогласующихся с повседневной
практикой медицины. Если автор NH принимает в качестве философского фундамента
учение о четырех элементарных качествах, то автор VM именно его и отвергает:
«Действительно, — говорит он, — ...не теплое имеет великую силу, а терпкое, безвкусное
и все прочее, о чем я говорил, как в человеке, так и вне человека, среди тех веществ,
которые поступают в пищу или питье, или снаружи втираются и прикладываются»
(VM, 15). Теплое, холодное, сухое и влажное не действуют сами по себе: действуют
силы питья, пищи, притираний, в которых эти силы всегда выступают совместно.
Опыт показывает, что самыми сильными веществами являются не теплые вещества
или холодные и т. д., а терпкие, острые, безвкусные и т. д. Вместо основных
тактильных пар четырех основных качеств автор VM выдвигает набор качеств вкусового
порядка, ближе стоящих как к практике врача, так и к практике повара. И в самом деле,
если в трактате NH мы не находим понятий, ведущих свое происхождение от
кухонного очага, сада и аптеки, то здесь эти понятия (πέψις и родственные ему) занимают
очень значительное место. Именно с помощью таких понятий автор VM «побивает»
терапию, основанную на выдвижении в качестве начал качеств ТХСВ. Автор так
обобщает эту терапию: «В самом деле, если вредит одно из них (из четырех основных
качеств-сил. — В. В.), то подобает облегчить противоположным...» (VM, 13). Но возьмем
конкретный случай, говорит автор, «человека по природе не из крепких, но из более
слабых; пусть он ест сырую и необработанную пшеницу... а также сырое мясо и пьет
воду. Вследствие такого образа жизни этот человек... будет терпеть многие и тяжкие
расстройства...» (Там же). Как же лечить его? Теплым, холодным, сухим, влажным?
Нет, отвечает наш врач, «самое верное и очевидное здесь лекарство — это, отнявши
те яства, которыми он пользовался, предложить ему вместо пшеницы хлеб и вместо
сырого мяса вареное...» (Там же;разрядка наша. — В. В.). Значит, правильный
подход, по мысли автора VM, состоит в «умеривании» и преобразовании сил-качеств
пищевых продуктов с помощью приготовляющей обработки, в частности варки (πέψις).
Далее он подробно рассматривает, в чем же эти процессы «пепсиса» состоят. Опять
он берет не «пепсис» вообще, а конкретный случай: приготовление хлеба,
замешивание теста и его выпечку. В этом процессе на сырую пшеницу воздействует много
средств, каждое из которых в отдельности имеет собственную силу и природу
(δυνάμεις και φύσιν). В результате такого сложного процесса часть своих качеств-сил
пшеница теряет, а часть приобретает. Следующую главу автор начинает с удивительно
детализированного перечня разных способов и условий выпечки хлеба. В этих
условиях значимы и качественные факторы (очищенное от шелухи зерно или нет берется
за основу) и количественные (количество воды при приготовлении теста). «И в
каждом из этих условий существуют, — говорит автор VM, — великие силы и притом
нисколько между собой не схожие» (Там же, 14). И эти-то силы, как он говорит ниже,
разнообразны по своему роду, по своей величине и бесконечны по числу.
По поводу трактовки этого места нам бы хотелось высказаться подробнее.
Приведем его целиком: «Есть в человеке, — говорит автор VM, — и горькое, и соленое,
и сладкое, и кислое, и жесткое, и мягкое, и многое другое в бесконечном
К проблеме генезиса учения Аристотеля О δυνάμεις (Meteor IV) 157
числе, разнообразное по свойствам, количеству и силе» (άλλα μυρία παντοίας
δυνάμιας έχοντα πλήθος και ίσχύν; разрядка наша. — В. В.). Властос, разбирая вопрос
о статусе анаксагоровских качественных противоположностей, рассматривает гип-
пократовские тексты, и в частности трактат YM, и говорит, ссылаясь на разбираемое
место, что «обиходный термин для "качества" был dynamis, сила»6. На это Гатри ему
возражает: «.. .но в месте в VM, к которому он (Властос. — В. В.) отсылает, говорится,
что качества не есть силы, но что они обладают силами» (παντοίας δυνάμιας έχοντα)7.
Нам кажется, что Властос не настаивает на том, что качества есть силы в
противовес тому, что они ими обладают. Скорее он подчеркивает, что эти аспекты (быть
и обладать) здесь еще не слишком отчленены друг от друга. «Сила» для него есть
свойство веществ, имеющих одинаковое имя с качеством, которым они обладают.
А эта общность имени (одно имя и для качества и для его «носителя») и вводит здесь
в заблуждение. Превосходное исследование Джонса проясняет этот вопрос. Джонс
показывает, что в VM сам автор называет качества силами и в то же время говорит
о том, что силы присущи качествам, что качества ими обладают8. Так, например,
в XVII главе VM холодное (το ψυχρόν) есть сила, а в XV главе теплое (τόθέρμόν)
обладает силой. Это легко понять. Термины το ψυχρόν, το θέρμόν —
субстантивированные прилагательные, и в качестве таковых они в равной мере называют вещество,
которое является холодным или теплым, и сами качества холода и тепла. Поэтому как
обозначения веществ они вступают в отношение к силам как к тому, чем они
обладают. Но как обозначение самих качеств они относятся к силам как к тому, чем они
сами непосредственно являются. Так что правы оба, и Гатри и Властос: в данном
месте «качества» выступают как название вещей («многие другие» вещи), и «силы» им
действительно присущи в других местах, где «качества» называют не своих
носителей, а сами свойства, они тождественны «силам».
В реальной практике и, соответственно, в теоретизировании, эту практику
выражающем и организующем, динамический аспект несомненно преобладает над
вещественным. Не вещества сами по себе, но силы — вот истинные причины всех
заболеваний. «Все причины страданий, — говорит автор VM, — сводятся к одному
и тому же: самое сильное больше и очевиднее всего вредит человеку» (VM, 6).
Вредоносное действие любая сила оказывает тогда, когда она превышает пределы
человеческой природы, ее собственные силы усвоения и сопротивления. Чтобы быть
здоровой, природа человека должна превозмочь «грубые и сильные» вещества.
Грубость превозмогается «варкой», а сила послабляется, умеривается смешением (VM, 3).
В VM явно доминирует динамический подход к природе человека и мира вообще.
Мир воздействует на человека, а человеческая природа борется с воздействиями:
6 Vlastos G. The Physical Theory of Anaxagoras // The Pre-Socratics. A Collection of Critical
Essays / Ed. by A. P. D. Mourelatos. Princeton (New Jersey), 1974. P. 471.
7 Guthrie W.K.C.A History of Greek Philosophy. Cambr., 1965. Vol. 2. P. 286. Not. 1.
8 Jones W. H. S. Philosophy and Medicine in Ancient Greece, with an Edition of Περί άρχαίης
ιητρικής. Baltimore, 1946. P. 93.
158
Раздел первый
борьба сил, их взаимодействие, уравновешивание или разбалансировка, смешение
и выделение в чистом виде — вот основные факторы, определяющие состояние
человеческого тела и других тел. По справедливому замечанию Миллера, этот принцип
динамизма «является основой всего медицинского мышления автора (VM. — В. В.)
и несомненно он был общим базисом для всей эмпирической медицины с самых
ранних времен»9. Этот момент важен для нас: динамическое понимание мира,
выражение его на языке самостоятельно действующих и взаимодействующих сил-качеств
лежит в основе эмпирической медицинской традиции, относительно независимой
от философской традиции. У ранних философов мы очень редко обнаруживаем
термин δύναμις. Например, у Парменида (В9) слово δύναμις используется для
обозначения качественных противоположностей, характеризующих две основные «формы» —
свет и тьму. Но у медицинских писателей, начиная с Алкмеона, это слово обозначает
ведущее понятие, развертывающееся в целую динамическую концепцию. Если у
философов вещи образуются из стихий, хотя и наделенных активностью и
динамизмом, то у врачей начала природы суть сами силы: вещественный момент здесь
отступает на второй план. Этот динамизм, безусловно, связан с тем, что медицина есть
искусство (τέχνη) (VM,1). Медицина — это не умозрение, но искусство, «которое
существует на самом деле и которым все пользуются в делах весьма важных и в
котором чтут хороших практиков и мастеров» (VM, 1). Как искусство медицина имеет
дело практически только с воздействием разного рода. Эти воздействия, как
и «центры», откуда они исходят, фиксируются в качеств ах-силах. Примат силы над
веществом Пламбёк называет «основополагающей теоремой» (massgebende Theorem)
концепций VM: «...действует не соленое, — говорит он, — излагая эту теорему, —
а присущая ему сила, что, естественно, тождественно другим утверждениям о том,
что всякое действие исходит от действующих сил»10. Впрочем, мы бы не стали
настаивать на «чистом» динамизме автора VM, как то делает Пламбёк. Конечно, понятие
силы выдвигается автором VM на передний план. Можно сказать, что для него
понятие «природы» в значительной мере исчерпывается понятием «силы». «Они не
думали, — говорит автор VM о своих предшественниках, к мнениям которых он
присоединяется, — что человеку вредит сухое или влажное, теплое или холодное или
что-либо другое подобное...а вредит то, что в каждом предмете есть слишком
сильного, превышающего природу человека, что не может ею быть осилено»
(VM, 14; разрядка наша. — В. В.). Обратим внимание, что автор VM здесь не просто
отвергает ТХСВ как начала, стремясь заменить их другими подобными
качествами (горьким, соленым, сладким и т. д.), но он вообще отвергает все
качественные противоположности в роли вещественных конституентов, с тем чтобы
заменить их одними лишь силами, или просто силой, которой обладает каждый предмет
независимо от его качества.
9 Miller К W. «Dynamis» and «Physis» in «On Ancient Medicine» // Transactions and Proceedings
of the American Philological Association. 1952. 83. P. 187.
10 Plambock. Op. cit. S. 27.
К проблеме генезиса учения Аристотеля О δυνάμεις (Meteor. IV) 159
В этом высказывании мы действительно видим серьезный шаг к динамическому
воззрению (δύναμις-Anschauung, как говорит Пламбёк). Однако анализ текста VM,
взятого в целом, не позволяет нам согласиться с выводами Пламбёка, которые, на наш
взгляд, переоценивают эту тенденцию и в конце концов приводят к некоторой
модернизации воззрении гиппократовского врача.
Действительно, в главе XIX, разбирая причины лихорадок и подобных болезней,
автор VM говорит: «...всё... вредящее человеку, всё происходит от сил». Силы же —
это качества теплого, холодного, сухого и влажного, а также такие качества, как
горькое, соленое и т. д. Но далее он приводит пример, где называет не качество-силу,
а вещество, наделенное определенной силой (горечью): «Вот, например, — говорит
он, — если разольется некоторая горькая влага, которую мы называем желтой
желчью, какое беспокойство, жар и слабость овладевают тогда». Сила здесь «обернулась»
своей вещественной проекцией. А далее он уже рекомендует лечение: «...до тех пор,
пока все это поднимается в теле, непереваренное, несмешанное, нет средства
прекратить боли и лихорадку». «Сварить» субстанцию-качество-силу, получив хорошее
смешение, значит ослабить ее вредоносное действие и тем самым вылечить человека.
Отсутствие догматического динамизма подтверждается и другим текстом
из XXII главы: «Следует, мне кажется, — говорит автор, — знать и то, какие
страдания происходят у человека от сил, какие — от фигур» (разрядка наша. — В. В.).
Хотя в главе VI говорится, что силы обнимают все причины болезней, однако
причины болезней ими не исчерпываются. Этот неожиданный мотив вполне понятен
в контексте искусства, ремесла медицины и кухни, где имеют дело, конечно, не только
с качествами-силами веществ, ноис посудой, с сосудами и их формой, чему также
придается значение. В контексте умозрительной философии этот ход мысли был бы
непонятен: а как же «принцип» динамизма, как же «основополагающая теорема»
динамического подхода (Пламбёк)? Но контекст мышления, вплетенного в
практику искусства, делает этот ход вполне понятным. Очевидно, что значение формы,
в частности формы органов живого тела, было замечено в медицинской практике
при анатомировании тел, начатом, видимо, Алкмеоном. Конечно, между языком сил
и языком форм нет большого расхождения: формы тоже динамичны. Какая форма
лучше втягивает влагу? — спрашивает автор VM. И заключает, отвечая на этот
вопрос, что та форма, где полое и широкое стянуто в узкое. Автор VM и различает
силы и формы, и сближает их, так как формы проявляют свои специфические силы
(втягивание влаги, например).
Рецепты, даваемые искусством врача, вполне аналогичны по своей структуре
рецептам искусства приготовления пищи: в своих основаниях это, можно сказать, одно
искусство. Мы уже видели, каковы познания нашего автора в хлебопекарном деле
и какое значение придает он нюансам обработки пищевых продуктов в патологии
и терапии. Мы бы хотели подчеркнуть, что насыщение медицины понятиями и
приемами мышления, сформировавшимися в деятельности по переработке,
приготовлению и использованию продуктов питания, характеризует не одного только автора
VM, а всю гиппократовскую литературу. Приведем пример из сочинения «О воздухах,
160
Раздел первый
водах и местностях». О дождевой влаге здесь говорится следующее: «Самое же светлое
и легкое в ней остается и, будучи согрето и сварено солнцем, получает сладость» (гл. 8).
В этом же трактате мы найдем и такой оборот медицинской речи: «У кого
желудки крепки, — говорит автор, — и легко сжигают пищу, для этих полезны воды
самые сладкие и легкие...» (гл. 7). Итак, солнце переваривает, а желудок жжет и
сжигает. Они легко обменялись своими функциями, так как для гиппократовских врачей
функции космического тела и телесного органа — идентичны, процесс здесь в
принципе один и тот же.
В заключение анализа VM рассмотрим вопрос о связи «качества» и «силы».
Прежде всего заметим, что категории качества у нашего врача нет. В медицину это
понятие проникает только после Аристотеля. Поэтому, говоря о качестве в рамках
гиппократовской медицины, мы имеем в виду конкретные специфические
противоположности, в которых содержатся все три аспекта будущих «качеств»,
«веществ» и «сил», но берем эти противоположности не в их «вещественной» проекции,
а в аспекте их свойства, их своеобразия. В этом смысле качество и есть сила: сладкое
сластит, теплое греет, и самое сладкое, т. е. самое качественное из сладкого, сластит
сильнее всего. Чем чище качество, тем оно сильнее. Очевидно, что эти связи можно
изложить и на языке веществ. Силы в концепции VM являются компонентами
природы, и чем они «чище», чем изолированнее они выступают, тем они «сильнее».
Подводя итоги нашему анализу исторических истоков аристотелевского учения
о самостоятельно действующих качествах-силах, мы прежде всего хотим сравнить
традицию использования сил у медицинских писателей с их использованием у до-
сократовских натурфилософов. Во-первых, отметим фигурирующий в рамках обеих
традиций синкретизм трех «понятий»: вещества, качества и силы. Однако если у
гиппократовских писателей мы видим тенденцию к акцентированию именно
динамической составляющей этого триединства, то у досократовских философов при
наличии того же самого синкретизма мы отмечаем акцент скорее на вещественном начале,
чем на силе. У медицинских писателей подчеркивается, что природа обнаруживается
только в активности тел, т. е. в их «силах», что, только зная силы и условия воздействия
на них, можно управлять природой организма. Сравнивая вклад медиков и
философов в разработку учения о качествах-силах, об активности и пассивности во
взаимодействии тел, Сольмсен, на наш взгляд, справедливо отмечает, что «как
предшественники платоновской темы» способного действовать и испытывать воздействие
«медицинские писатели более ближе подходят к этой концепции, чем досократовские
физики» п. Медицинские писатели выработали понятие «силы» и ввели
соответствующий технический термин. Как показал Суйле12, разработанная ими специальная
концепция «сил» проникает в философию при посредничестве софистов.
11 Solmsen Ε Aristotle's System of the Physical World. A comparison with his predecessors. N. Y.,
1960. P. 360.
12 Souilhe L Étude sur le terme «dynamis» dans les dialogues de Platon. P., 1919.
К проблеме генезиса учения Аристотеля О δυνάμεις (Meteor. IV) 161
Другое отличие медицинской традиции от философской традиции состоит в том,
что динамический подход, вырастая на почве медицины как искусства, связывается
с целым рядом соответствующих «технических» понятий, главными из которых
являются πέψις и κράσις. Органические концепции смешения, развитие которых мы
находим у Аристотеля, возникают и развиваются скорее на почве медицинской
традиции, идущей от Алкмеона, чем у философов, у которых преобладает
«механическая» трактовка смешения. Что же касается понятия πέψις, то оно является, видимо,
исключительным достоянием медико-биологической традиции.
Правда, и у досократовских философов мы встречаем истолкование качеств как
самостоятельно действующих сил, что, однако, не становится у них основой всех
их построений, чего нельзя сказать о медицинских писателях. Интересно, что такое
истолкование качеств формируется у ранних натурфилософов в связи с разработкой
проблемы роста и питания тел. Так, у Эмпедокла, который сам был врачом,
основателем сицилийской медицинской школы, качества частично связываются с
элементами, а частично выступают как самостоятельно действующие силы именно в связи
с анализом питания. В своей поэме Эмпедокл описывает процесс питания на языке
качеств-сил: «Так сладкое стало хвататься за сладкое, горькое устремилось на
горькое, кислое набросилось на кислое, теплое совокупляться с теплым» (В90, пер. Г. Яку-
баниса). Мы можем заметить по поводу этого фрагмента, что «субстанциализация»
качеств, осуществляющаяся через понятие «силы», легко происходит в
медико-биологических контекстах, в частности при разработке теории питания. Если учесть при
этом, что такие качества-силы, как сладкое, горькое, кислое и т. п., являются
качествами, с которыми имеет дело прежде всего врач, а затем и сам пациент, что кроме
врачебного ремесла эти качества, очевидно, важны в ремесле садовника и повара,
то отсюда мы можем заключить, что существует комплекс связей между миром
«аптеки», «кухни», «сада» и понятийной схемой самодействующих качеств-сил.
Мы обнаружили эту связь при анализе гиппократовских трактатов. Сейчас она
выступила в философском тексте поэмы Эмпедокла. Это позволяет нам говорить
об устойчивости данной связи, т. е. о ее существенном характере. Эта связь
воспроизводится и в текстах Аристотеля.
Принимая во внимание проделанный анализ, мы можем предположить, что
использование качеств-сил у досократовских философов и у медицинских писателей
было историческим источником соответствующей концепции у Аристотеля, причем
вклад гиппократовских врачей был в этом отношении более значительным.
«МЕТЕОРОЛОГИЯ» АРИСТОТЕЛЯ
И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
Вышедший в свет в Ленинграде в 1983 г. текст четырех книг «Метеорологии»
Аристотеля 1 — подлинный подарок для всех интересующихся историей познания. Книга
рассчитана на массового, но, безусловно, увлеченного историей науки читателя. Ее
вряд ли осилит старшеклассник, на которого как на потенциального читателя
указывает аннотация к изданию, но с ней с радостью встретятся и студент, и специалист
любого профиля — как естественник, так и гуманитарий. И не только встретятся, но
сумеют найти в этой книге подлинную античную культуру и науку. Труднейшая задача
довести до современного читателя сложный оригинальный текст, созданный 2300 лет
тому назад, блестяще выполнена всеми участниками данного издания — от
переводчика до художника, сумевшего прекрасно, с большим вкусом оформить книгу
(удобный формат, переплет, форзацы, широкие поля с маргиналиями, кратко
обозначающими содержание основного текста, и т. п.). Кстати, заметим, что отсутствие указателей
вполне допустимо в таком популярном издании. Однако развернутое оглавление,
на наш взгляд, все-таки следовало бы дать — в книге вообще нет никакого оглавления.
«Метеорологии», или «Метеорологике», Аристотеля вообще очень «повезло».
Во-первых, рецензируемое издание является вторым полным изданием перевода
текста Стагирита. Впервые четыре книги «Метеорологии» были изданы в третьем
томе сочинений Аристотеля в том же переводе2. А если учесть еще выпущенную
в качестве приложения к первому тому «Всеобщей истории химии» IV книгу3,
то настоящее издание можно считать уже третьим за последние несколько лет.
Потрясающий успех Стагирита! Правда, не только его, но и современной филологии
и истории науки, сумевших раскрыть для массового читателя живого, подлинного
Аристотеля.
«Метеорология» Аристотеля занимает вполне определенное место в его системе
естествознания, располагаясь между сочинениями по физике («Физика», «О небе»,
1 Аристотель. Метеорологика / Пер. с др.-греч. Н. В. Брагинской; под ред. д. ф. н. И. Д. Ро-
жанского и д. геогр. н. А. X. Хргиана, с предисл. и коммент. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 240 с,
илл. Эта статья — рецензия на указанное издание.
2 Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1981.
3 Аристотель. Метеорология. Кн. IV / Пер. Н. В. Брагинской, под ред. и с коммент. д. ф. н.
И. Д. Рожанского и В. П. Визгина // Возникновение и развитие химии с древнейших времен
до XVII века. М., 1980.
«Метеорология» Аристотеля и современная наука
163
«О возникновении и уничтожении») и сочинениями биологического цикла. Именно
у Аристотеля мы впервые встречаем сам термин «метеорология» (I, 338а25).
Предметом метеорологии в аристотелевском смысле выступает чрезвычайно
широкая и, по нашим представлениям, совершенно гетерогенная область: от небесных
и атмосферических явлений (Млечный Путь, кометы и т. п., а также снег, дождь, град,
иней, роса и т. п.) до различных геологических и географических процессов, а также,
как показывает IV книга, и всех тех явлений, относящихся к процессам становления
в «подлунном мире» и охватывающих то, что сегодня изучается физической,
органической химией и биохимией, биологией, сельскохозяйственными науками и другими
дисциплинами. Если мы даже выделим особую IV книгу и будем говорить только
о первых трех, то и тогда нас поразит объем той массы разнородных явлений,
которые с единых позиций рассматривает Аристотель. Уже одно только это
обстоятельство — попытка с единых позиций объяснить массу разнородного материала, как
справедливо отмечает в предисловии А. X. Хргиан, — вызывает интерес у
современного читателя (с. 9).
Как же это делает Аристотель? Он проявляет типичную для него гибкость мысли,
способность видоизменять свои общие установки, приспосабливать их для
объяснения конкретных случаев, специфических проблем. Действительно, общее
учение о четырех стихиях (земля — вода — воздух — огонь) он искусно видоизменяет
с тем, чтобы оно могло эффективно объяснять мир «метеоров» — всего, что
происходит в земной атмосфере (сам термин «атмосфера» отсутствует у Аристотеля,
но фактически Аристотель излагает нам здесь свое учение об атмосфере и ее
строении) и на земной поверхности. Такой теоретической основой, являющейся
модификацией его общефизического учения об элементах, выступает в «Метеорологии»
учение о двух видах испарений, поднимающихся с поверхности Земли под
действием тепла Солнца — водного, парообразного и огненного, или дымообразного
(I, 341b5-25). Парообразное испарение более тяжелое и поэтому занимает нижний
слой атмосферы, а более сухое «пневмообразное» испарение из-за своей близости
к огню легче и поэтому помещается Аристотелем в ее более высокий слой.
Аристотель выдвигает теорию двух испарений в поисках ближайшей материальной
причины для объяснения метеоявлений. Он сам ясно об этом говорит: «Пар — как бы
вода в возможности, а испарение (имеется в виду сухое. — В. В.) — как бы огонь
в возможности» (340Ь29). И далее он, как и следует из его общефилософского
учения о материи и форме, возможности и действительности, идущего в своих основах
от его учителя Платона, отождествляет эти виды испарения с материальной
причиной (342а22). Иными словами, Аристотель конкретизирует применительно к
«метеорам» свое философское учение о четырех причинах и основных категориях бытия.
Интересно, что кроме материальной причины в данном контексте он называет только
движущую причину — «верхнее обращение небес» (Там же) и «уплотнение
сгущающегося воздуха» (Там же), но ничего не говорит о целевой причине, обосновывая это
своим замечанием в конце IV книги: «Там, где преобладает материя, всего труднее
увидеть целесообразность» (IV, 12,390а5). И в области атмосферных и им подобных
164
Раздел первый
явлений, составляющих предмет первых трех книг, материальное начало явно
преобладает, по мысли Стагирита, над формальным и целевым. Но уже в IV книге, где
предмет исследования приближается к биологическому, целесообразность
проступает более отчетливо.
Комментируя учение Аристотеля о двух испарениях, автор примечаний замечает:
«Будучи по существу совершенно неверной, она (т. е. теория двух испарений. — В. В.)
тем не менее часто используется Аристотелем для объяснения разнообразных
метеорологических и даже астрономических (кометы) явлений» (с. 209).
Комментарий звучит странно, можно подумать, что Аристотель, будто бы зная о
«совершенной ложности» этого учения, все-таки по какому-то злокозненному пристрастию
к ошибке все равно использует его! Это недоразумение. Во-первых, ясно, что данное
учение казалось Аристотелю верным и плодотворным, и он действительно мог
связать его с наблюдениями и «объяснить» (пусть и неправильно с современной точки
зрения) самые разные явления. А во-вторых, комментатор ничего не сообщает
читателю о том, почему же Аристотель создал это учение, в чем причина его
«пристрастия» к нему. Выше мы кратко показали, почему Аристотель выдвинул такое
учение и почему ничего другого он выдвинуть и не мог, оставаясь греком IV в. до н. э.
и Аристотелем из Стагиры.
Подобного рода модернизацию, проекцию современной науки на науку
Аристотеля мы находим и в другом комментаторском замечании относительно так
называемой кухонной терминологии в IV книге. Однажды нам уже приходилось подробно
говорить об этом4. Аристотель, вводя три вида «варки» (πέψις) и обозначая их как
«незрелость», «недоварение», «обжигание» (о последнем мы скажем особо), замечает:
«Следует иметь в виду, что, говоря так, мы используем слова не в обычном их
значении. Однако общепринятых названий для вещей подобного рода вообще не
существует, и поэтому перечисленные виды надо считать не тем, что обозначают сами
слова, но чем-то сходным» (IV, 2 379Ы5-17). Комментарий к данному месту такой:
это важное замечание, показывающее, что Аристотель прибегает к «кухонным»
терминам из-за отсутствия научной терминологии, которая могла бы служить для
описания процессов и превращений, имеющих в сущности химический характер (с. 237).
Вряд ли отсутствие современной научной терминологии может нам что-то
объяснить в мире античной науки вообще и науки Стагирита в частности. Аристотель
вводит «кухонную» терминологию не потому, что он не знает современной
химической, а потому, что в тогдашнем обыденном греческом языке не было слов для
обозначения тех классов явлений, которые он умозрительно и, соотносясь в то же время
с опытом своего времени, вычленяет. Ниже он указывает обстоятельства,
обусловливающие применение такой терминологии: «Изменения (в природе. — В. В.) сходны
(с данными, т. е. с встречающимися в мире ремесла-искусства. — В. В.), но названия
они не имеют, между тем искусство подражает природе» (IV, 3 381b6). Речь у
Аристотеля не идет об отсутствии какой бы то ни было «научной» терминологии для
4 Визгин В. П. Качества в картине мира Аристотеля // Природа. 1977. № 5. С. 68-77.
«Метеорология» Аристотеля и современная наука
165
естественных процессов, имеемых им в виду. Он констатирует отсутствие
обыденных названий для них, но подчеркивает, что так как «искусство» (τέχνη) подражает
природе, то резонно использовать для их обозначения именно те названия, которые
в обыденном — не в научном! — языке существуют для аналогичных процессов,
совершаемых в ремесле-искусстве, прежде всего именно в практике кухни. И
основанием для создания такой «кухонной» терминологии выступает в глазах Стагирита
тождество сущности процессов в мире природы и мире искусства, что он много раз
подчеркивает (например, здесь же: 381b5). И если природа имитирует искусство в
названиях, то только потому, что искусство имитирует природу по сути дела.
В связи с «кухонной» терминологией у нас есть одно замечание к переводу.
Аристотелевский «кухонный» термин στάτευσις переведен как «обжигание» в
соответствии со словарем Дворецкого5.
Однако, на наш взгляд, более удачным был бы перевод этого выражения так,
чтобы при его передаче сохранялось стилевое единство всех трех терминов,
обозначающих три вида «недоварения» (апепсии): «незрелость» или, еще лучше, «недосоз-
ревание», «недоварение» и, наконец, «недожарка». Термин «обжигание» (вместо него
мы предложили «недожарка») неудобен еще и потому, что в современном русском
языке он полностью отождествлен со специальным технологическим термином
«обжиг»6. А термин «обжиг» как раз никак в данном аристотелевском контексте не
подходит, так как он обозначает вполне завершенную химико-технологическую
операцию, а не то неполное, не ведущее продукт обработки к готовности использование
огня, которое имеет в виду Аристотель.
Наше последнее замечание относится к проблеме эксперимента у Аристотеля.
Автор предисловия считает, что у Аристотеля есть «идея физического эксперимента»
(с. 12), что Стагирит сам ставил опыты, которые он и описывает в книгах
«Метеорологии», например фильтрацию морской воды через пустой восковой сосуд (359а).
«Аристотелю, — пишет автор предисловия, — не было чуждо понятие об опыте в его
современной форме — как о специально задуманном и искусственно организованном
мероприятии, помогающем более глубоко проникнуть в свойства явлений. Наиболее
интересен в этом смысле его опыт с фильтрацией воды» (с. 14). Опять-таки, на наш
взгляд, модернизация Аристотеля. Если внимательно прочитать весь контекст
описания Аристотелем фильтрации соленой воды восковым сосудом, то станет ясно, что
это скорее всего передача наблюдений, которые делались многими практиками, чей
голос так четко и внушительно здесь звучит. Действительно, Аристотель тут же
рассказывает о том, как моряки замечают, что груженые корабли в пресной воде сидят
несравненно глубже, чем в морской, что в соленой воде яйца плавают. Он замечает,
что незнание этих свойств соленой воды «дорого обошлось» корабельщикам (359а10).
5 Дворецкий И. X. Древнегреческо-русский словарь. М., 1958. Т. 2. С. 1498.
6 Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1982. Т. 2. С. 531. На наш взгляд,
традиционный латинский перевод assatio imperfecta, означающий букв, 'несовершенная жарка', вполне
точен.
166
Раздел первый
Аналогичные описания наблюдений встречаются в тексте всех четырех книг. Но
описание наблюдений — еще далеко не современный физический эксперимент. И если
даже редкие спорадические «опыты» в смысле искусственно создаваемой
ситуации Аристотель и проводил сам или был их свидетелем, то все равно они вовсе еще
не были тождественны современному эксперименту хотя бы потому только, что
совершенно не были осознаны в качестве основания науки. Экспериментальная наука
возникает значительно позднее, с XVII в., и она ставит эксперимент на
определенное и решающее место в системе установления научной истины о природе. Кстати,
описание восковой вазы в морской воде, как отмечает сам автор предисловия,
отвечает такому «опыту», который «никому еще не удавалось воспроизвести, что
объясняется, возможно, какой-либо ошибкой переписчика» (с. 15). Но, на наш взгляд,
дело не в переписчике. Многие «опыты», приводимые Стагиритом, принципиально
невоспроизводимы, так как являются описанием наблюдений бывалых людей,
которые никто сознательно и не ставил своей задачей проверить, без чего, однако, нет
физического эксперимента в смысле науки Нового времени. Французский
исследователь опытной, эмпирической стороны аристотелевской науки П. Бурже
специально занимался этим описанием «фильтрующей вазы» и пришел к выводу, что здесь
нет никакого строгого позитивного исследования7. Аристотелеведение8 в основном
приняло такую точку зрения, отказавшись от той историографической концепции,
согласно которой Аристотель был почти современным экспериментатором, как это
утверждал, например, Мийо9.
На наш взгляд, аристотелевская «Метеорология» имеет такой успех у
современного читателя не потому, что ее автор не чужд новой экспериментальной науке,
а потому, что читающий ее находит у него богатство оригинальной и мало похожей
на современную науку мысли, однако плодотворно питающей ее именно в силу своей
исторической уникальности, широты и смелости.
7 Bourgey Ρ Observation et expérience chez Aristote. P., 1955. P. 142.
8 Le Blond J.-M. Logique et méthode chez Aristote: Etude sur la recherche des principes dans
la physique aristotélicienne. 2 éd. P., 1970.
9 Milhaud G. La pensée scientifique chez les Grecs et les Modernes. P., 1911. P. 261-262.
К АНАЛИЗУ КВАЛИТАТИВИСТСКОГО
ТИПА РАЦИОНАЛЬНОСТИ:
СЛУЧАЙ АРИСТОТЕЛЯ
Стремясь выразить некоторые особенности науки античности и средних веков,
исследователи используют такие однопорядковые, близкие к синонимичности, термины,
как «качественная физика»1, «квалитативизм»2, «теория качества»3, «качественная
теория»4. Обычно эти характеристики раскрываются в негативных формулировках —
«немеханические теории», «неколичественное природознание» и т. д. При анализе
этих характеристик в соответствующем их значению контексте становится ясным,
что все подобные способы выражения обозначают построенное по определенным
принципам качественное знание. Совокупность таких принципов характеризует
соответствующий этому знанию тип рациональности. Качественное знание — это
специфическая когнитивная система, базирующаяся на свойственном такому знанию
типе рациональности, возникающая и функционирующая в определенном
историческом социокультурном контексте.
Из перечисленных выше определений качественного знания, на наш взгляд,
наиболее общим и в то же время точным является «квалитативизм». Его развернутую
концепцию дал историк античной философии Леон Робэн, использовавший его для
характеристики специфики аристотелевского мышления5. Поэтому, ставя своей
задачей прояснение понятия «квалитативистский тип рациональности», мы не можем
избежать анализа концепции квалитативизма Аристотеля, развитой французским
исследователем. Несомненной заслугой Робэна является смелое в своей широте
рассмотрение квалитативизма как универсальной характеристики мышления Стагирита.
Во-первых, квалитативизм, считает Робэн, связан с таким основным понятием
его метафизического учения, как «субстанция» («усия»). У Аристотеля, по его
мнению, каждое качество или совокупность качеств может быть представлено как
субстанция, что служит первым признаком понятия «квалитативизм»6. Иными словами,
1 Зубов В. Л. Аристотель. М., 1963. С. 129.
2 Robin L Aristote. P., 1944. P. 63.
3 Мейерсон Э. Тождественность и действительность. СПб., 1912. С. 344.
4 Sambursky S. The physical world of the late antiquity. L., 1962. P. 34.
5 Robin L· Op. cit.
6 Ibid. P. 64.
168
Раздел первый
качества, хотя в принципе они (в онтологии) зависят от субстанций и определены
как их атрибуты, выступают (например, в биологических трактатах Стагирита и,
частично, в физических) субстанциально. Такой статус качества Робэн обозначает
понятием «квалитет-субстанции». Указанную особенность качественного знания мы
можем определить как субстанциализацию качества, что близко к тому, что Эмиль
Мейерсон при характеристике немеханических теорий называет гипостазирова-
нием качества. «Качественные теории, — говорит Мейерсон, — предполагают, что
само качество предсуществует, что оно перемещается в более или менее
гипостазированной форме»7.
Во-вторых, квалитативизм Робэн связывает с логикой мышления Аристотеля.
Это представляется нам более интересным потому, что упомянутая выше связь
качества и субстанции отмечалась много раз и задолго до французского историка.
Квалитативистский характер, считает Робэн, присущ логике самой мысли
Стагирита. Заметим, что, следуя традиционному истолкованию аристотелевских
«Аналитик» как чисто логических трактатов, Робэн упускает немаловажное
обстоятельство: во «Второй аналитике» излагается не столько логика научного знания, сколько
эпистемология, т. е. его теория. Правда, говоря о логике Аристотеля в разбираемом
нами контексте, Робэн имеет в виду прежде всего силлогистику. Однако немалый
интерес в данном аспекте представляет собой анализ и других сочинений
«Органона», в особенности трактата «Об истолковании», в котором дается
аристотелевская теория суждения. Что же такое, как говорит Робэн, «логика концептуального
качества»8, т. е. квалитативизм самого мышления безотносительно к его предмету?
К сожалению, у Робэна при ответе на этот вопрос преобладают негативные
формулировки, согласно которым квалитативистская логика есть «чистая» логика, «чисто»
логическое (главным образом, силлогистическое) связывание иерархизированных
сущностей, каковыми являются сами понятия качества и субстанции. Что же такое
«логика концептуального качества», мы узнаем из контрастного
противопоставления Робэном аристотелевскому силлогистическому мышлению, оперирующему ква-
литет-субстанциями, платоновского мышления с его геометрическим, механострук-
турным объяснением качеств. Значит, «чисто логические» связи, конституирующие
понятие «аристотелевский квалитативизм», означают, мягко говоря (а Робэн говорит
гораздо жестче), недостаток экспликации качеств в механоструктурных понятиях.
Однако сравнение Аристотеля с Платоном, на наш взгляд, проведено Робэном
не вполне корректно. Поэтому искомого прояснения понятия «логика
концептуального качества» не получилось. И не потому, что негативной формулировке самой
по себе недостает определенности, хотя это, несомненно, и так. Контрастное
сопоставление Платона и Аристотеля французский ученый проводит на примере
объяснения ими смерти человека или смерти живого организма вообще. Однако если в случае
Платона он рассматривает физическую (механоструктурную по своему характеру)
7 Мейерсон Э. Указ. соч. С. 366.
8 Robin L. Op. cit. P. 65.
К анализу квалитативистского типа рациональности: случай Аристотеля 169
теорию смерти, изложенную в «Тимее» (89с), то в случае Аристотеля он берет
сомнительный (в качестве аристотелевского) классический перипатетический
силлогизм с терминами «Сократ» — «человек» — «быть смертным». Действительно, этот
перипатетический силлогизм, как показал Лукасевич, «не обязательно
аристотелевский» 9. Такой силлогизм в форме вывода встречается впервые у Секста Эмпирика.
Для разбираемой проблемы этим историческим уточнением можно и пренебречь,
хотя оно немаловажно в других отношениях. Но допустим, что у Аристотеля был
такой силлогизм: дело здесь, однако, не в нем, а в силлогизме вообще, который
подобным сравнением возводится в ранг предметного теоретического знания. Правда, то,
что подлинный аристотелевский силлогизм не был выводом, существенно и для
нашей проблемы, но в первом приближении от этого можно отвлечься.
Однако независимо от этого обстоятельства оригинальная и глубокая мысль о
логических корнях квалитативизма была высказана. Правильное сопоставление двух
величайших мыслителей античного мира мы бы получили в том случае, если бы
указанную теорию Платона сравнили с действительно изоморфной ей, т. е. с
аналогичной физической же теорией смерти организма у Аристотеля. Такое сравнительное
исследование, предпринятое нами, позволяет уточнить различие в логике
мышления Аристотеля и Платона, а кроме того, способствует уяснению понятия
квалитативизма10. Поэтому сосредоточимся теперь именно на этом.
Аристотелевская теория смертности организмов восходит к досократической
традиции, к Эмпедоклу. Кстати, именно у Эмпедокла мы находим формулировку
основной идеи аристотелевской физической теории смертности организмов. Аэ-
тий говорит: «По мнению Эмпедокла, живые существа питаются тем, что им сродно,
возрастают благодаря присутствию тепла, а вырождаются и гибнут вследствие
недостатка того и другого» (DK А77)п. Однако, в отличие от Эмпедокла, у Аристотеля
эта идея уточнена и развита (см. в «Parva naturalia» трактат «О юности и старости,
о жизни и смерти», гл. IV, § 4,5 и гл. V, и в особенности трактат «О дыхании», гл. XVII,
§ 2, а также гл. IV, № 4-6, где дается критика демокритовской теории смерти12).
В своей физической или физиологической теории смерти Аристотель отклоняется
от вербально-логического или, точнее, метафизико-эйдетического квалитативизма13.
9 Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной
логики. М., 1959. С. 33.
10 Визгин В. П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля. М., 1982. С. 396-399.
11 Маковельский А. О. Досократики: Первые греческие мыслители в их творениях, в
свидетельствах древности и в свете новейших исследований. Казань, 1915. Ч. И. С. 161.
12 Aristote. Parva naturalia. Petits traits d'historié naturelle / Texte établi et trad, par R. Mugnier.
P., 1953.
13 В аристотелевском квалитативизме как в гетерогенном, структурно оформленном
образовании мы выделяем три его типа: метафизико-эйдетический, или метафизический, физико-
эйдетический, или физический, и физико-динамический, или динамический. Обоснование
такой типологии квалитативизма Стагирита развито в нашей книге: Визгин В. П. Генезис
170
Раздел первый
Платон же, напротив, в своей теории не физической смерти, а бессмертия души
приближается к нему. Это означает, что основной контрастирующей оппозицией к
аристотелевскому квалитативизму в целом выступает скорее не Платон, а атомизм.
Итак, Робэн подчеркнул связь силлогистики с квалитативизмом Аристотеля. Как
он считает, квалитативистское мышление вполне эффективно в онтологии, но
малопригодно в физике. В контексте его концепции это объясняется тем, что онтология
не требует никакого иного способа развертывания своего предмета, кроме логической
дискурсии в силлогизмах, в то время как физика немыслима без «сверхлогических»,
т. е. не чисто логически-вербальных, обоснований связи эксплананса и экспланан-
дума, а обоснования их, например, числом, мерой, фигурой. Несомненно,
открывающиеся на этом пути аналогии представляют интерес. Дело в том, что само
субъект-предикатное построение силлогистической процедуры коррелирует с основной
схемой квалитативизма: «загрузка» субстанций как своего рода субстратов
(носителей качеств) различными качествами в ходе их трансляции от субстанции к
субстанции. Поэтому квалитативистскую модель рациональности мы можем представить
в первом приближении как силлогистически правильное, логически
нормированное «обговаривание» подлежащих в сказуемых, субъектов в предикатах, субстанций
в атрибутах и акциденциях или вещей и явлений в качествах. Основная
характеристика такого мышления — отказ от опосредования связи сущности вещи с ее
явлением с помощью механоструктурных определений. Незначительность (если не полное
отсутствие) подобного опосредования приводит к тому, что одни исследователи
(например, В. П. Зубов14), говоря об Аристотеле, считают, что квалитативизм был у него
не объяснением, а лишь описанием, что типично квалитативистские рассуждения
греческого мыслителя сводились к феноменологическим констатациям. Другие же
исследователи (Мейерсон, Робэн) признают объяснительную функцию квалитативи-
стского мышления и именно с ней имеют дело. Не произнося окончательных
суждений по этому вопросу, мы бы хотели подчеркнуть, что у Аристотеля, на наш взгляд,
имеют место обе указанные функции качественного типа знания. У Робэна (как,
впрочем, и у Мейерсона) квалитативизм рассматривается как концепция причинного
объяснения. Связь же объяснения и описания, согласно его концепции квалитативизма,
состоит в том, что описательный метод вводится там, где квалитативистский тип
рациональности испытывает затруднения. А такие затруднения он испытывает там, где
познание имеет дело с первичным рационализированием эмпирии, например в
области истории, как натуральной, так и социальной. Однако ограничение сферы действия
квалитативизма (он хорош, говорит Робэн, по существу только в онтологии) плохо
согласуется с им же выдвинутым принципом его универсальности. Действительно,
в соответствии с этим принципом Робэн не устает находить квалитативистские
мотивы у Аристотеля везде: в теоретической физике, в этике, в риторике и эстетике.
и структура... С. 406-414. Сжато изложено в статье: Vizguine V P. La structure du qualitativisme
aristotélicien // Les Etudes philosophiques. 1991. No. 3. P. 364-367.
14 Зубов В. П. Указ. соч. С. 130.
К анализу квалитативистского типа рациональности: случай Аристотеля 171
Трудности интерпретации квалитативистского мышления вообще и
аристотелевского в частности, противоречия в высказываниях о нем разных исследователей
в значительной степени преодолеваются, если мы вместо недифференцированного
и аморфно-унитарного представления о квалитативизме введем его четко
определенную типологию или структуру, о которой мы уже упомянули. Это позволяет ясно
установить в каждом конкретном случае, какой же именно тип квалитативизма
имеется в виду15.
Что касается Робэна, то у него аристотелевский квалитативизм отождествлен
с его метафизико-эйдетическим типом16. Основная антиномия качественного
теоретизирования кроется в фундаментальном для него понятии переноса, трансляции
или перемещения качества от одной (квази)субстанции к другой, в которой
наблюдается определенное «качественное изменение», подлежащее объяснению (теплое
нагревает и т. п.). Этот момент перемещения качества отмечают в квалитативизме
многие исследователи, но он остался, насколько нам известно, не проанализированным.
А именно в этом пункте сосредоточена принципиальная антиномия качественного
теоретизирования, квалитативистской рациональности как таковой.
Раскроем эту антиномию в ее основных чертах. Начнем с того, что
квалитативизм обычно понимается как альтернатива механическому подходу, причем оба
подхода удовлетворяют принципу причинности, но разным образом: механицизм
за изменением (качеств) видит изменение структуры и движения частиц
(«атомов»), а квалитативизм это же самое изменение объясняет простым переносом
качества, возникновение которого наблюдается. Пример: нагревание тела.
Механицизм объясняет его увеличением скорости механического движения частиц тела,
а квалитативизм — контактом с незримой квалитет-субстанцией тепла,
«переместившейся» в данное место. Механическое перемещение нам представляется
самым понятным, самым рационально «прозрачным» из всех изменений потому, что
в нем всегда — и очевидным образом — положено тождество предмета движения
с собой, т. е. реализован в своей простоте и чистоте принцип причинности,
положено «тождество тождества и нетождества», говоря гегелевским языком.
Изменение («нетождество») прозрачным образом сведено здесь к тождеству: причина равна
(тождественна) действию, но в то же время это тождество сопровождается
изменением, которое тем самым «понято». Таким образом, именно механическое
перемещение есть своего рода каноническое воплощение причинности как «тождества
во времени» (Мейерсон). Но как тогда можно мыслить паритетность и автономию
квалитативизма как «качественного» способа объяснения по отношению к
механическому подходу, если в фундаменте его объяснительной фигуры лежит
механическое перемещение квалитет-субстанции («флюида» физиков, например
позднейшего «теплорода», или «элементарного качества» химиков)? Что такое вообще
перемещение квалитет-субстанции?
15 Визгин В. П. Генезис и структура... С. 406-414.
16 Там же. С. 391-392.
172
Раздел первый
Даже при ближайшем рассмотрении мы натыкаемся здесь на «клубок
противоречий». Если субстанциализированное качество перемещается в пространстве, то как
это может быть согласовано с таким существенным определением квалитет-субстан-
ции, как непрерывность? При более пристальном рассмотрении обнаруживается,
что трудно согласовать пространственные характеристики вообще с квалитет-суб-
станцией, в которой обобщено как раз не пространство, а наполненное
интенсивностью чувственно воспринимаемого качества время («ощущение»). Но если качества
суть интенсивности, то перемещаться они могут лишь условно и в условном
пространстве, но не в том, где перемещаются «атомы». Этот беглый анализ позволяет
нам найти более глубокие спецификации квалитативизма как типа рациональности.
В механическом теоретизировании (в пределе, в потенции) дифференцирующий,
т. е. определяющий разнообразие и изменение на уровне явлений, фактор выступает
исключительно как геометрический, пространственно-подобный (эту чистоту
механического подхода в истории мы находим, пожалуй, только у Декарта). Скорости,
частоты соударений и другие характеристики перемещения заполняют поле
оператора объяснения (эксплананса) в механическом подходе. В качественном же знании
дифференцирующим, а значит, и объяснительным фактором по отношению к
становлению выступает «верхний слой» объяснительной схемы, т. е. сами качества или,
в конце концов, время. Иначе говоря, качественное теоретизирование максимально
(и, в конце концов, чрезмерно) использует экспликативные возможности самого
объясняемого явления, мимо чего проходит механицизм.
Горячее нагревает, говорим мы. Здесь качественный феномен (нагревание)
мыслится не как голый результат чего-то иного по отношению к нему, как его чистое
«вне-себя-бытие», простая неподвижность положенности пространственных
характеристик, а как в себе самом активное, самодействующее начало, как
нелинейный самодлящийся процесс. Переходы элементарных качеств как процессы,
непосредственно данные в актуальном ощущении, не требуют никакого опосредования
их пространством, его развертки: они представляют собой просто смены интенсив-
ностей (холодное нагревается, влажное сохнет и т. п.). В качественном изменении
пространство «снято», для фиксации качественного изменения достаточно нуля
пространства — точки, так как вся его эволюция разыгрывается во времени. Как же
в этом случае понимать «пространственное перемещение» качества, его трансляцию?
Нет ли в таком типичном и общепринятом истолковании квалитативизма его
«прочтения» механицистскими глазами?
Очевидно, что, только вводя каким-то образом прерывность и переходя тем
самым к механизации квалитативистской модели, можно сохранить характеристику
перемещения. Но тогда она не будет характеристикой подлинного, не вырожденного
и не смешанного с механицизмом квалитативизма.
Мейерсон не замечает, что он, определяя квалитативизм через перемещение
и присоединение качественной субстанции к данному телу17, противоречит своему же
17 Мейерсон Э. Указ. соч. С. 343.
К анализу квалитативистского типа рациональности: случай Аристотеля 173
собственному утверждению о том, что «гипостазированные качества» по существу
своему непространственны и не могут быть таковыми18. Поэтому нам представляется,
что одна из основных характеристик качественного знания раскрывается в том, что
качество мыслится как феномен: «Не только каждое качество, как сказал Юм, но
каждый оттенок качества или, вернее, ощущения... есть нечто законченное и
довлеющее себе»19. Однако понятие феномена, видимо, также плохо согласуется с
непрерывностью квалитет-субстанции. Непрерывность же — и здесь мы можем согласиться
с Мейерсоном— представляет собой отличительную черту качественных теорий.
Ряд исследователей (Таннери, Бурже) склонны рассматривать в качестве
ведущей характеристики квалитативизма сенсуалистические позиции в гносеологии,
сенсуализм вообще как познавательную ориентацию в широком смысле слова. Эта
ориентация очевидным образом связывается с доверием к представлениям
здравого смысла, и в этом видят основную причину «пороков» квалитативизма. В
качестве модели квалитативизма берется опять-таки аристотелевская наука. У Таннери
квалитативизм выступает как сенсуалистически-эмпирическая тенденция,
противоположная рационализму.
Таннери говорит, что, с одной стороны, имеется «тенденция примкнуть к
явлениям, поскольку они открываются нам нашими чувствами при помощи
поверхностного и грубого наблюдения, можно даже сказать, ясно выраженное признание
популярных воззрений, поскольку они явно ошибочны, с другой стороны, существует
тенденция возможно выше и скорее подняться в ряду причин, но посредством лишь
простого анализа понятия, не обращаясь снова к опыту»20.
Аристотель сам ясно осознавал связь своего квалитативизма с эмпиризмом.
В первой книге «О возникновении и уничтожении», критикуя атомистов и Платона,
он говорит:
Те же, кто доводят деление до плоскостей, делают [всякое объяснение]
невозможным... Причина того, что они в меньшей степени способны обозреть
общепризнанные [факты], заключается в недостатке опыта. Поэтому те, кто лучше знает
природные [явления], скорее могут делать предположения о первоначалах, позволяющих
связать вместе многое. Напротив, те, кто [чрезмерно] предаются пространственным
рассуждениям и не наблюдают за тем, что присуще [вещам], легко обнаруживают
узость своих взглядов (De gen. et corr. 316a2-10)21.
Аристотель противопоставляет логическое рассуждение, опирающееся на диалектику
и абстракцию, физическому', стремящемуся сохранить специфические особенности
18 Мейерсон Э. Указ. соч. С. 372.
19 Там же. С. 368.
20 Tannery P. Les principles de la science de la nature chez Aristote / Mémoires scientifiques publiées
par J.-L. Heiberg. Toulouse; P., 1925. T. VII. P. 214.
21 Аристотель. Сочинения: в 4 τ. M., 1981. T. 3. С. 385.
174
Раздел первый
вещей, их чувственно воспринимаемые качества. Однако хотя корреляция между
сенсуализмом в гносеологии и эмпиризмом в практике науки с квалитативистским
типом рациональности несомненна, тем не менее нельзя отождествлять квалитати-
визм с сенсуализмом. Действительно, в платоновском рационализме в целом и в его
теории идей в частности мы находим типичные черты «логики концептуального
качества», логики квалитативистского мышления. С другой стороны, у Аристотеля мы
обнаруживаем критическое отношение к непосредственному чувственному опыту
и здравому смыслу. Интересно, что сам Бурже, считающий источником
аристотелевского квалитативизма сенсуалистическую установку, приводит множество
примеров, демонстрирующих рационалистический критицизм Аристотеля.
Ощущение прежде всего принадлежит к сфере качества, а в рамках обыденного
опыта оно не дает точных процедур, но дает впечатления, обнаруживает способы
бытия. И в этом, говорит Бурже, источник квалитативизма аристотелевской науки22.
Ряд «смешных» (с точки зрения современного студента) ошибок Аристотеля, в
особенности в его биологических сочинениях, можно объяснить как раз (чрезмерным)
доверием к обыденному опыту, отсутствием разработанных приемов научного
наблюдения. Правда, такое «объяснение» само еще надо объяснять: отсутствие строго
научного в новоевропейском смысле наблюдения не может быть причиной, будучи
именно отсутствием, а не позитивным бытийным определением аристотелевской
«эпистемы» или ее культурного контекста. Более содержательную характеристику
мы обнаруживаем, замечая сходство античного, аристотелевского в частности,
любопытства (интерес к экзотике, к деталям, к пикантным подробностям) и
возрожденческой «неразборчивости» в натуральной истории (например, у Альдрованди). Как
подчеркивает Бурже, любовь к курьезам приводит Аристотеля — иногда — «даже
к разрушению требований его системы». Но этот дух ничем не сдерживаемого
любопытства вовсе не угашает рационалистического подхода, формулирующего те
условия, при которых ощущение может быть достоверным. Так, например, Аристотель
различает восприятие как достоверное ощущение от иллюзорной кажимости
представления (Met. IV, 5,1010Ь2-4)23.
Мы не можем согласиться с Бурже потому, что элементы физического и
динамического квалитативизма Аристотеля, такие, например, как число и характер
первичных качеств и элементов, существование естественных мест для элементов,
не основаны исключительно на обыденном опыте. Они дедуцируются
Аристотелем, опосредуются логическими связями, извлекаются не столько из
непосредственного опыта, сколько из определенной научной традиции, выбор которой вполне
рационально обоснован в рамках его системы в целом. Этой, в определенном смысле
слова, рационалистической струи Бурже не замечает24. По-видимому, Аристотель
22 Bourgey L. Observation et l'expérience chez Aristote. P., 1955. P. 80.
23 Аристотель. Сочинения. M., 1975. T. I. С 137-138.
24 Bourgey L. Op. cit. P. 44.
К анализу квадитативистского типа рациональности: случай Аристотеля 175
в разработке своего подхода и своей системы в целом шел одновременно в двух
направлениях, стремясь найти максимально гибкую эпистемологическую форму,
могущую свободно совмещать опыт в его непосредственности, с одной стороны, и разум
с его универсальным логическим опосредованием — с другой.
У Аристотеля мир качеств как многообразие качественно оформленных
субстанций упорядочен в строгую иерархическую систему. Прежде всего качества проходят
проверку на фундаментальность (элементарность). Критически-рациональное
начало смешивается здесь с наивно-сенсуалистическим подходом, что, впрочем, и
характеризует Аристотеля как «реалиста». Это обычная, можно сказать, общепринятая
среди исследователей характеристика Аристотеля25, гомологичная его
характеристике, данной Расселом («разбавленный здравым смыслом платонизм»26) и Гомпер-
цом («смесь платоника и асклепиада»27).
Нужно заметить, что сама дедукция элементов и последующих ступеней
восхождения подлунного бытия обусловлена биоцентристской установкой Аристотеля
(точно так же, как платоновская космология обусловлена нуждой в человеке как
носителе государственности). Таким образом, мы должны констатировать (совершенно
оставшуюся в тени у Мейерсона, Робэна, Бурже) связь квалитативизма с
биологизмом или, лучше сказать, телеологизмом Аристотеля. Действительно, существенное
определение предмета, по Аристотелю, — это его функциональное, целевое
определение. За недостаток такого определения природы Аристотель критикует даже
Платона, у которого он сам научился этому подходу. Проиллюстрируем это примером.
В трактате «О дыхании» Аристотель упрекает Платона в том, что он не указывает
цели дыхательных функций. Аналогичный упрек он делает и в адрес демокритов-
ской теории28. Но функция предмета и его качество — одно и то же по Аристотелю.
Обыденный язык ясно фиксирует тождество качества и функции. Действительно,
мы говорим, что X приехал в столицу государства Ζ в качестве посла государства Υ.
«В качестве посла» равносильно «в функции посла»: быть послом — это качество
человека, его функция в некоторой системе (государства Υ).
Требование функционального определения предмета Аристотель выдвигает как
в «Метафизике», так и в последнем параграфе IV книги «Метеорологики», этого
самого квалитативистского (в смысле физико-динамического квалитативизма), хотя
и со значительными механицистскими вкраплениями, сочинения Аристотеля.
Однако это только одна сторона дела. Другая же сторона, напротив, состоит в
ограничении и даже в отбрасывании динамического квалитативизма стихий (δυνάμεις)
телеологическим принципом, в частности функционализмом биологических
организмов и более высокоорганизованных (разумных) целостностей. Дело в том, что
25 См., например: Mansion S. Jugement de l'existence chez Aristote. Louvain, 1946.
26 Рассел Б. История западной философии. M., 1959. С. 182.
27 Gomperz Th. Griechische Denker. Leipzig, 1909. Bd 3.
28 См.: Aristote. Parva naturalia.
176
Раздел первый
элементарные стихии-качества онтологически располагаются ниже сферы целевых
отношений, которые в них еще только пробиваются. Напротив, организмы содержат
эти отношения как определяющее их бытие. Поэтому в функциональном подходе,
когда он применяется к неорганическому миру, содержится как бы некий «аванс»,
который надо еще суметь реализовать.
В своем квалитативизме Аристотель присоединяется к ионийской традиции
в греческой философии, для которой характерен динамический и синкретический
взгляд на мир, сближающий понятие силы как источника движения, понятие
свойства (и качества) и понятие первовещества как их субстрата в одно нерасчлененное
целое. В русле этой традиции, корни которой уходят в дофилософское и донаучное
мифологическое мышление, качества связывались с определенными телами и
элементами (например, солнце — светлое и горячее, дождь — темный холодный),
рассматривая^ при этом как нечто самостоятельно сущее, как субстанция, а не как
простые свойства этих тел и элементов. Такая субстанциализация и динамизация
качеств (что и составляет, грубо говоря, остов упомянутого выше
физико-динамического квалитативизма) в течение длительного времени развивались внутри
медико-биологического знания29. Так что в историческом плане связь биологизма с ква-
литативизмом несомненна. Определенная связь этих понятий в логическом плане
нами уже была отмечена. Добавим, что между элементарно-качественной схемой
трансформаций элементов в физике и биологическим метаболизмом также есть
известная взаимосвязь. Виталистическое или, точнее, биоморфное мышление типично
для космологии греков вообще, для Платона и для Аристотеля в частности, хотя,
конечно, наряду с этим подходом, мы находим развивающийся
структурно-механический подход, зарождающийся в той же Ионии и достигающий своей возможной для
античности зрелости в атомизме.
Идея иерархической системы качеств интересна тем, что в ней можно, не
прибегая к «некачественным» объектам, конструировать такие типично научные
процедуры, как описание и объяснение. По существу, здесь мы имеем дело с
моделированием исключительно на языке качеств основных познавательных и
эпистемологических форм. Например, здесь существует даже своего рода редукция,
а именно — вторичных качеств к первичным. Конечно, имеются свои
принципиальные ограничения, определяющие пределы качественного знания вообще.
Видимо, одним из таких «лимитирующих» моментов является то, что идея
инварианта требует «сверхкачественных» отношений: измерения (метризм) и геометрии
(графизм). Сохранение элементарного качества — умозрительный постулат квали-
тативистской физики (впрочем, имеющий свои «рациональные зерна»), а не
верифицируемое в числе и образе утверждение. Очевидно, что квалитативизм воздвиг
немалые барьеры на пути рационального установления инвариантных
определений. В частности, одним из таких барьеров в теории элементов служит путаница,
29 См. выше в работе «К проблеме генезиса учения Аристотеля о δυνάμεις (Meteor. IV)»,
с. 151-159.
К анализу квадитативистского типа рациональности: случай Аристотеля 177
вызванная расхождением между «принципиальным» качеством и
«непринципиальным» качеством, носящим то же самое название в обыденном языке. Такое
запутывание научного языка, обусловленное и слишком тесными связями, и прямыми
заимствованиями из языка обыденного, имелось и у Аристотеля. В частности,
идеальный элемент, например вода как суперпозиция элементарных качеств холодного
и влажного и реальная вода в море были разными вещами, хотя они и могли легко
замещать друг друга (что и происходило на практике) уже вследствие одного только
тождества имени.
«Идеальный» состав стихий мог игнорироваться Аристотелем, когда речь шла
о каком-либо реальном конкретном явлении, например физиологическом процессе
дыхания. Так, он говорит, что животные могут охлаждаться, извлекая холод из
воздуха (см. об этом в сочинении «О юности и старости, о жизни и смерти», гл. VI, § З30).
Но, строго говоря, холод как элементарное качество не входит в «состав»
«идеального» воздуха. Логика Аристотеля мало похожа на нашу логику, которая обязывает
считаться с элементарным составом тел и в рамках которой немыслимо извлекать
из тела тот элемент, который в нем не содержится.
Однако большой и интересный вопрос о границах и функциях качественного
знания выходит за рамки настоящей статьи. Отметим лишь, что не только измерение,
требующее введения понятия величины, не только связанное с этим геометрическое
представление предмета, но также и то, что можно назвать «научным наблюдением»
и «научным описанием», например, в анатомии является реальным ограничением,
полагающим предел квалитативистскому типу рациональности. Добавим, что и этот
последний, уже неквалитативистский способ построения знания был знаком
Аристотелю, мэтру квалитативизма. Речь идет прежде всего о недошедших до нас
сочинениях Аристотеля по анатомии, упоминаемых в списках его трудов. Бурже
переводит название этих сочинений как «Анатомические рисунки» и пишет, что «интерес
"Анатомических рисунков" состоял в замещении объяснения, даваемого в рассказе
или рассуждении, являющихся собственным предметом "Истории животных",
знанием, непосредственно основанным на зрении, требующим, по крайней мере, у того,
кто его устанавливает, гораздо более значительного стремления к точности»31.
30 Aristote. Parva naturalia.
31 BourgeyL. Op. cit. Ρ 91.
БЕСКОНЕЧНОЕ В МЫШЛЕНИИ ГРЕКОВ:
ЕЩЕ РАЗ ОБ ОДНОЙ ИЗВЕСТНОЙ ПРОБЛЕМЕ
«Боялись» ли греки бесконечного? Боязнь здесь означает: избегали ли они
бесконечностей, считая бесконечное чем-то низшим по сравнению с конечным,
имеющим ясный предел и тем самым осмысленным и ценным? Начиная с
мифологических теогонии, греки мыслили парными противоположностями, или оппозициями.
В составленной пифагорейцами таблице основных противоположностей важнейшей
для них была такая пара, как предел и беспредельное, близкородственная оппозиции
конечное — бесконечное. Мифологическое мышление, теогонию которого
представил Гесиод, внутри античной философской традиции привело к тому, что эта пара
стала рассматриваться как драматическое взаимоотношение и борьба Хаоса и
Космоса, причем Хаос выступал как «темное» начало возникновения «светлого»
космического порядка1. Трудно отрицать, что теологически, эстетически и аксиологически
для греков первым по рангу значимости, но не в порядке времени как становления,
был космос. Не приемля идеи личного трансцендентного творца мира, в нем, в
космосе как «прекраснейшем из возникших вещей» (Платон) они видели свой абсолют.
Но в философии греков идея хаоса продолжала жить, выступая в разных формах
и играя порой важную роль. Материал истории античной мысли настолько богат,
разнообразен и в то же время открыт для самых разных толкований, что историки
и философы выдвигали разные точки зрения, оценивая соотношение категорий
бесконечного и конечного, беспредельного и предела у греков. Поэтому имеет смысл
еще раз вернуться к этой проблеме, поставив вопрос о том, что же все-таки в
большей степени определяло мышление греков как нечто целое — аполлонический
предел или же дионисийское беспредельное? Статика меры или экстатика безмерности?
Мы бы хотели снова привлечь внимание к этой продолжающей вызывать споры
проблеме. Позиции историков, исследующих греческую науку и философию, в
вопросе о том, как же греки относились к идее бесконечности, однако, расходятся,
хотя, казалось бы, все они опираются на один и тот же массив дошедших до нас
текстов и фрагментов греческих мыслителей и доксографических свидетельств.
Объяснить это расхождение нетрудно, если учесть, что каждый историк имеет не только
свои особые взгляды, но и свою особую область исследований, мотивирующую его
1 «Античный Хаос всемогущ и безлик, он всё оформляет, но сам бесформен...», в нем «все
элементы слиты в одно нераздельное целое» (Лосев Α. Ф. Хаос // Мифы народов мира.
Энциклопедия. М., 1982. Т. 2. С. 581).
Бесконечное в мышлении греков: еще раз об одной известной проблеме 179
отношение к этой проблеме. Приведу пример. Ученый, занимающийся античным
платонизмом, может смотреть на проблему статуса бесконечности в мышлении
греков совсем по-другому, чем исследователь атомизма. Для него нет особой натяжки
в том, чтобы в таком глубоком и плодотворном явлении, как платонизм, видеть
магистральный путь развития всей греческой мысли. Платон и его школа решительно
не принимали атомистическое учение о бесконечном множестве миров, в котором
такое видное место занимает как раз идея бесконечности (учение о беспредельной
вселенной, о «великой пустоте», о бесчисленности атомов и т. п.). У атомистов
действительно «атомы, пустота, вселенная и миры — все эти объекты или бесчисленны
или бесконечны и беспредельны»2. Атомистическая бесконечность, или
беспредельность вселенной, неприемлема для Платона из-за требования совершенной красоты
и разумности мирового целого, или космоса. Один первообразец — один
прекрасный космос. Такова логика Платона, содержащая убедительные аргументы в пользу
существования одного-единственного мира. Космогония «Тимея» в целом строится
совсем иначе, чем космогония атомистов. Для Платона неприемлемо у них, прежде
всего, отсутствие эстетико-телеологической оправданности космогенеза. Отдать
его на волю хаотически крутящихся вихрей атомов, образующих в своем движении
в «великой пустоте» бесчисленные миры, он не мог, потому что в его глазах
категории части и случайности не могут иметь приоритет по отношению к категориям
целого и необходимости, в метафизической иерархии онтологических категорий они
располагаются на более низкой, чем они, позиции. С натурализмом «физиков»,
который еще допускал это, было покончено уже Сократом (Федон, 96с). Теперь, в
сократических школах для всего сущего нужно было указать ясное, разумное
обоснование его целесообразности, его предельный raison ây être.
Кроме специальной области исследований дифференцирующим позиции
историков фактором выступает и метаисторическая позиция ученого3. Как бы критически
мы ни относились к таким мировоззренческим антитезам, как, например, «идеализм»
и «материализм», но подобные расхождения универсальных ориентации сознания
действительно имеют место. Они не могут не вносить своего вклада в определение
позиции историка относительно статуса идеи бесконечности в мышлении греков.
Полемика с тезисом о бесконечном множестве миров уже в античности велась порой
на повышенном градусе страстности. Причина тому в том, что, по слову Шарля Мю-
глера, «в системе Демокрита за ее чисто научным и теоретико-познавательным
содержанием видится нечто морально опасное и неугодное»4. Подобная эмоциональность
в обсуждении этой проблемы воспроизводилась и в спорах современных историков.
После этих вводных замечаний рассмотрим основные позиции,
принимаемые исследователями античности по вопросу о роли и месте идеи бесконечности
2 Визгин В. П. Идея множественности миров: Очерки истории. М., 1988. С. 10.
3 См. ниже статью «История и метаистория», с. 362-379.
4 Mugler Ch. Kosmologische Formeln // Hermes. 1968. Bd 96. Hf. 5. S. 523.
180
Раздел первый
в мышлении греков. Можно выделить три таких позиции. Во-первых, это установка,
согласно которой обращение греков к идее бесконечного минимально и может
считаться чем-то случайным, во всяком случае нетипичным, и поэтому им можно
пренебречь, говоря о греческом мышлении в целом. Во-вторых, это противоположная
ей установка, согласно которой идея бесконечности образует пусть и не
единственную, но уж точно одну из самых характерных особенностей греческой ментальности.
Наконец, в-третьих, существует примиряющая указанные крайности установка,
согласно которой само понятие бесконечного должно рассматриваться
дифференцированно и во взаимосвязи с противоположным ему понятием. При этом не допускается
абсолютное доминирование одной из вступающих в спор категориальных позиций.
Проиллюстрируем каждый из этих типов на материале, предоставляемом
известными исследователями античности, историками и философами. Первую из
указанных точек зрения демонстрируют работы П. П. Гайденко. Историю философской
мысли, в том числе греческой науки и философии, она рассматривает с позиций
«онтологизма»: архитектонику мышления греков определяет интуиция бытияу лежащая
в его основе. Парадигму греческой онтологии задал Парменид:
Бытие — это шар потому, что он есть самая совершенная фигура (...) он есть нечто
равное себе, являет чистую самотождественность. Но не только: шар завершен,
ничего нельзя ни прибавить к нему, ни от него убавить, не нарушив его совершенства
и целостности: он полностью самостоятелен, довлеет себе и, что самое главное, без
чего не может быть шара — он ограничен пределом; бытие — это не беспредельное,
а определенное, определенное же имеет границу5.
Иными словами, парменидовское бытие, задающее горизонт всему греческому
мышлению, помыслено как определенное или определенное в самом себе, то есть как
нечто имеющее предел, и в этом смысле конечное, а не бесконечное. Это означает, что
бесконечное как беспредельное лишается онтологического статуса. Антитеза предела
и беспредельного, или конечного и бесконечного, на уровне гносеологии предстает
как противопоставление умозрения и чувственного представления. Бытие доступно
только умозрению, способному созерцать бытие-предел, бытие-шар, в то время как
чувственное представление
...берет все явления, так сказать, под углом зрения беспредельного, для которого нет
нигде завершенного, ибо всегда существует все «дальше и дальше», за одним
предметом — другой, третий и т. д. до бесконечности, т. е., говоря словами Платона, все время
предстает «иное и иное», и нет ему конца. Пространство же Платоном было обозначено
как образ беспредельного, а само беспредельное для Парменида — это как раз небытие6.
Подобным образом мыслили и пифагорейцы.
5 Гайденко П. Я. Волюнтативная метафизика и новоевропейская культура // Три подхода
к изучению культуры. М., 1997. С. 12 (курсив автора. — В. В.).
6 Там же. С. 13.
Бесконечное в мышлении греков: еще раз об одной известной проблеме 181
Эту онтологическую схему нарушают лишь атомисты, поскольку у них
«небытие-пустота все-таки есть»7. Здесь мы сталкиваемся с неразрешимой, казалось бы,
апорией: то, чего однозначно нет, все-таки есть! Но атомисты вынуждены были
ввести эту апорию ради того, чтобы преодолеть апории элеатов, сформулированные Зе-
ноном. Нарушение онтологии предела атомистами, однако, не меняет общей картины
греческой философии, несомненную основу которой, согласно этой точке зрения,
образует линия Парменида — Платона — Аристотеля — неоплатоников.
Неоплатониками завершилось все развитие греческой мысли. И с ними платонистская
концепция абсолютного онтологического доминирования предела над беспредельным
вошла в основное русло традиции европейской мысли следующих за античностью
эпох. Пусть Аристотель и полемизирует с Платоном и пифагорейцами по поводу
бесконечного, «тем не менее, определяя бесконечное как нечто неопределенное (...), он
остается на почве характерной для греков, в том числе и для Платона, "боязни
бесконечного"»8. В результате делается такой итоговый вывод: «В древнегреческой
философии понятие бытия, как и понятие совершенства, связано с принципом предела,
единого, неделимого; определенность и форма суть условия мыслимости сущего,
познаваемости его. Напротив, беспредельное, безграничное осознается как хаос,
несовершенство, небытие»9. «Боязнь бесконечного» рассматривается, таким образом, как
характерная черта всей греческой интеллектуальной культуры.
Противоположную точку зрения разделяет Родольфо Мондольфо (1877-1976),
итальянский историк античной философии. Теме бесконечности в культуре и
философии греков посвящены многие его труды. Итогом их можно считать его
монографии «Бесконечное в мышлении греков» (1934) и «Бесконечное в мышлении
классической античности» (1956), на которые мы и будем опираться при изложении его
взглядов на эту проблему. Наши отечественные исследователи, как правило,
оставляли его работы без внимания, отдавая предпочтение немецким, французским и
англоязычным авторам.
В книге «Бесконечное в мышлении классической античности» Мондольфо,
отвечая на критику, вызванную его первой книгой, раскрывает мотивы своей
позиции. Свою задачу он видит в том, чтобы показать, что греческий дух в своей
целостной полноте никак не исчерпывается такими несомненно присущими ему
чертами, как культ меры и гармонии, предела и формы. Несмотря на новые
исследования, такое толкование греческой культуры, развивавшееся классицизмом и
неогуманизмом, начиная с Лессинга, Винкельмана, Шиллера и Гете, оказалось
чрезвычайно живучим. Даже после Ницше на греческую культуру продолжали смотреть
сквозь «призму Аполлона», как бы забывая о ее «хтоических» дионисийских корнях.
Мондольфо считает, что неогуманистическая «легенда» о «боязни бесконечности»
7 Гайденко П. Я. Волюнтативная метафизика и новоевропейская культура. С. 13.
8 Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. М., 1980. С. 317.
9 Гайденко П. П. Волюнтативная метафизика. С. 23.
182
Раздел первый
у греков основывалась на своего рода «географическом детерминизме»: мол, сам
климат и ландшафт Эллады настолько пронизаны солнечным светом, настолько чист
в ней воздух и так четки контуры классических форм ее храмов и, демонстрируя
умеренность во всем, всех зримых вещей вообще, что сама мысль о беспредельном
и бесконечном невольно уходила на задний план как несущая с собой нечто
туманное, смутное, неопределенное. Такую концепцию, в частности, выдвигали историки
Альфред и Морис Круазе. Гомперц, говорит Мондольфо, тоже не был ей чужд, хотя
и ограничивался в ее применении только афинянами. Этим авторам, апеллирующим
к естественности для греков «боязни бесконечного», Мондольфо отвечает сходной
по типу аргументацией, но направленной в точности к противоположному тезису.
Он вспоминает, что, согласно египетским источникам второго тысячелетия, ахейцы
назывались «народом моря, а такой народ, — говорит итальянский ученый, — ведь
не может не быть обращен к бесконечному». Внутренняя связь моря с бесконечным
была к тому же прочно усвоена романтиками, в частности великим романтическим
поэтом Италии Дж. Леопарди. Это тоже надо нам учитывать при оценке позиции
Мондольфо и ее генезиса. В конце концов, главным тезисом его аргументации
выступает признание за греками неудержимой спонтанной потребности в обновлении
мира, в познаниях и открытиях. Греки, рассуждает он, чрезвычайно
предприимчивый, любознательный, активный народ. Например, в образах Эдипа и Одиссея мы
находим «неистощимую любознательность и притяжение ко всему загадочному»10.
Об этом итальянский историк говорит для того, чтобы убедить своих читателей, что
греческому духу не может быть чуждо чувство бесконечности, вкус и интерес к ней.
Моя цель, пишет Мондольфо, «восстановить более конкретный и более отвечающий
действительности образ» греческой культуры. Неогуманистический классицизм,
продолжает ученый, «забыл о невозможности унифицировать в гармонических чертах
столь сложное и многообразное образование, полное контрастов, каким являлся
греческий народ в античную эпоху»11.
Итальянский ученый рассматривает разные смыслы и разнородные контексты
употребления греками идеи бесконечности. В результате складывается совсем другая
картина, чем рисуемая неогуманистически ориентированными авторами, пишущими
об античности. Существенной чертой греческого духа, — говорит ученый, —
«является его чудесная многовалентность (poliedricità — букв, 'полиэдричность'. — В. В.):
открытость и готовность к принятию бесконечного не менее, чем меры и предела»12.
По Мондольфо, эллинский дух открыт ко всем возможностям мышления, поэтому
у него нет «боязни бесконечного». И отсюда вывод: «Чуждость, или отталкивание
эллинского духа от понятия бесконечности — легенда». В силу этого для греков
«глубокое этическое и эстетическое осознание категории предела на самом деле не означало
10 Mondolfo R. L'infinito nel pensiero dei Greci. Firenze, 1934. P. 12.
11 Mondolfo Я. L'infinito nel pensiero dellantichità classica. Firenze, 1956. P. 552.
12 Mondolfo Я. L'infinito nel pensiero dei Greci. P. 410.
Бесконечное в мышлении греков: еще раз об одной известной проблеме 183
их неспособности оценить значение бесконечного»13. И это он иллюстрирует даже
на примере Аристотеля, решительно расходясь тем самым с позицией П. П. Гайденко:
«Таким образом, актуальная бесконечность была явно признана, причем устами
самого непримиримого критика бесконечности, как внутренне присущий высшему
совершенству, т. е. Богу, его атрибут»14.
Особое место, считает Мондольфо, в переориентации мысли на бесконечное
занимают неоплатоники, прежде всего Плотин. Итальянский ученый указывает
на одно место из «Эннеад», где говорится о «бесконечном начале, которое не
нуждается в форме, но из которого возникает любая умная форма» (Энн. V, 7,32)15. Не
выражен ли именно здесь примат беспредельного над пределом, трансфинитного над
любой финитной структурой, формой? Этот ракурс проблемы мы бы хотели
пояснить. Такая концепция бесконечности, которую мы находим в позднем греческом
мышлении, расходилась с перипатетико-птолемеевской финитной космологией.
Апорию их расхождения античность передала Возрождению, когда возник своего
рода «бум» инфинитизации картины мира и мышления в целом. Атомисты,
включая Метродора Хиосского с его тезисом о том, что «где бесконечны причины, там
бесконечны и их продукты»16, вместе с платониками сыграли роль катализаторов
радикального обновления европейского сознания. Аристотель повлиял на Эпикура,
который и был (через Лукреция) автором-атомистом, стимулировавшим
новаторскую мысль деятелей Ренессанса. Метродоровские причины стали у Эпикура
единой причиной, названной Цицероном summa vis infinitas (совокупной силой
бесконечности) 17, которая как причина мыслилась уравновешенной лишь аналогичной
бесконечностью следствий18.
В атомизме беспредельность вселенной конституируется через
уравновешивание соотносительных пределов, данных в ее первоначалах. Так, атомам предел
ставит пустота, а ей в свою очередь предел полагают атомы. В результате игры пределов
возникает актуальная беспредельность мироздания. Из принципа исономии,
широко применяемого в античности, в частности, для обоснования учения о
множественности миров, следует не только бесконечность космосов, но и бесконечность
форм атомов, их числа и размеров, фигур возникающих и гибнущих миров, а также
бесконечность кинетических характеристик атомов и миров. Таким образом, мы
13 Mondolfo R. L'infinito nel pensiero dei Greci. P. 410.
14 Ibid. P. 411.
15 В переводе Малеванского это место дается несколько иначе, но суть сохраняется: речь
идет о самом высшем начале, о красоте самой красоты как о верховном Творце всего
умопостигаемого мира красоты. Величие Творца бесконечно, и он свободен от определенной формы:
«сама красота свободна от формы» (Плотин. Избранные трактаты: в 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 81).
16 Diels-Kranz. DK 57 А6.
17 De nat. deorum I, 50.
18 Визгин В. П. Идея множественности миров. Очерки истории. М., 1988. С. 48.
184
Раздел первый
можем констатировать, что установка классического греческого ума на идеал
гармонии, меры, предела, запечатленная в принципе исономии19, приводит буквально
к «вихрю» бесконечностей. Эта вполне диалектическая ситуация заслуживает того,
чтобы на нее обратить внимание.
В «Истории античной эстетики» ее фиксирует Алексей Федорович Лосев,
работы которого дают нам иллюстрацию третьей позиции по проблеме «боязни
бесконечности» у греков. Эта позиция по сути дела выступает синтезом двух первых,
отношение между которыми можно определить как отношение тезиса и антитезиса.
Символом этой синтетической позиции могут служить такие его слова: «Конечное
несет на себе семантическую нагрузку бесконечного и без него немыслимо; а в
бесконечном мы созерцаем конечное, и оно немыслимо, несозерцаемо без конечного.
Следовательно, конечное есть символ бесконечного, а бесконечное есть символ
конечного»20. Итак, диалектико-символическая взаимоуравновешенность этих
противоположностей, считает русский философ, характерна для ранней классической
греческой культуры. В такой позиции нет речи о «боязни бесконечного» у греков,
нет речи и о том, что, напротив, интуиция бесконечности пропитывает изнутри
их мышление и, можно сказать, в некотором смысле даже превалирует над
интуицией конечного и предела.
Но в ранних работах русского мыслителя мы прослеживаем несколько другую
установку. Формулировку ее в «Очерках античного символизма и мифологии» Лосев
начинает такими словами: «Античность есть интуиция заполненного и
завершенного в себе конечного тела. Новая Европа имеет интуицию бесконечного
пространства. Греция живет конечным и строго оформленным телом. Ей чуждо
новоевропейское учение о бесконечности и новоевропейская интуиция бесконечности»21. В таком
суждении позиция Лосева кажется даже тождественной первой из представленных
нами выше установок. Что бы Лосев ни говорил о своей независимости от
Шпенглера, которого он здесь излагает, но в начале 20-х гг. XX в. Шпенглер оказался в
фокусе увлечений интеллектуалов, и совершенно не попасть под его чары было тогда
трудно. Работы А. Ф. Лосева, безусловно, способствовали распространению такого
подхода, сформулированного нами в качестве первой позиции, среди отечественных
исследователей античности. Но его интегральная точка зрения на проблему
бесконечности у греков была все-таки другой — можно сказать, более уравновешенной,
как об этом мы уже сказали. Действительно, в этом же труде он пишет:
Основная интуиция античности есть интуиция тела. Но это тело есть живое,
одухотворенное тело. Оно есть не только нечто конечное (...). В нем есть вообще
становление и вечная жизнь, но это становление и жизнь не уходят в неопределенную
19 Лурье истолковывает смысл греческого слова «исономия» как «гражданское
равноправие», «равновероятность».
20 Лосев А. Ф. История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963. С. 516.
21 Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 39.
Бесконечное в мышлении греков: еще раз об одной известной проблеме 185
бесконечность, без цели и смысла, но планомерно вращаются сами в себе. На нашем
теперешнем математическом языке это называется актуальной бесконечностью22.
В поздних работах акцент на равноправии в обращении греков как к идеям фини-
тизма, так и к категории бесконечного усиливается, причем, возможно, даже и не без
воздействия исследований Мондольфо, внушительный список которых дан Лосевым
в конце первого тома его «Истории античной эстетики». Впрочем, настаивать на этой
попутно высказанной нами гипотезе мы никак не станем: Лосев слишком мощная
и оригинальная фигура, чтобы его определял своими идеями какой-то другой
современный автор, будь-то Шпенглер или Мондольфо. Широта и глубина лосевских
античных штудий, сочетающих историческую работу с умозрением философа, скорее
заставляют признать, что его позиция по данной проблеме имеет несомненную
весомость и, на наш взгляд, лучше отвечает реалиям греческой культуры, чем
«крайние» точки зрения, рассмотренные нами выше. Показательны здесь финальные слова
первого тома его «Истории античной эстетики», которыми мы и закончим наш
анализ этой старой проблемы:
О разных пониманиях античности, как с точки зрения ее пластической
скульптурной, наивной, простой и строгой формы, так и в аспекте ее темной, бурной,
клокочущей и экстатической основы писал А. Ф. Лосев в книге «Очерки античного
символизма и мифологии», т. 1. М., 1930, стр. 7-96. С тех пор в классической филологии
утекло много воды, но эти две стороны античности в их диалектическом единстве
остаются незыблемыми23.
Лосев А. Ф. Очерки... С. 60-61 (курсив автора. — В. В.).
Лосев А. Ф. История античной эстетики (ранняя классика). М. 1963. С. 574-575.
Раздел второй
ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
И ГЕНЕЗИС НАУКИ
РЕЛИГИЯ — НАУКА - ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ:
ИНВЕРСИЯ СООТНОШЕНИЯ
Кончилось ли Новое время (модерн)? И если да, то что это значит и откуда ясно, что
это действительно так? Для прояснения этих вопросов сопоставим соотношения
таких культурных феноменов, как религия, наука и эзотерическая традиция, в эпоху
«входа» в Новое время (модерн) и, соответственно, в эпоху наметившегося к концу
XX в. «выхода» из него (постмодерн). Ситуацию начала эпохи модерна можно
представить как постепенно «охлаждающийся» союз религии и механистической науки,
совместными усилиями оттеснивших с авансцены культуры эзотерическую
традицию Ренессанса, внесшую свой вклад в генезис новой науки. При формальном
доминировании в культуре кануна модерна религии в формируемом в это время
проекте (проекте модерна) центром нового культурного поля фактически становится
наука. Она наделяется сверхзадачей, носящей эрзац-религиозный характер и
определяемой как совершенствование человека и общества, ведущего к установлению
«царства человека» ! на Земле на основе неуклонного прогресса знаний и их
практического применения.
Ситуация постмодерна характеризуется инверсией соотношения указанных
культурных феноменов. Действительно, человек постмодерна стремится к новым смыс-
лообразующим горизонтам, не отказываясь при этом от науки. Но в глубине своего
существа он уже не склонен со всей однозначностью наделять науку своего рода
религиозной миссией, возлагая на нее и только на нее надежду на преодоление
противоречий своего времени. Напротив, религия, «перезимовавшая» суровое для нее
время казавшейся неодолимой секуляризации, превращающей ее в лучшем случае
в Privatsache, надеется играть более значительную роль в обновленном культурном
ансамбле нового тысячелетия. Что же касается эзотерической традиции, также
испытывающей несомненный подъем в эпоху постмодерна, то ее функции в культуре
по отношению к науке не только меняются, но и прямо инвертируются. В самом деле,
теперь эта давняя традиция вносит свой вклад в изменение образа науки,
воздействуя стимулирующим образом скорее на ее созерцательную сторону, чем на прак-
тическо-утилитарную, как это было в период ее генезиса в канун модерна. Эзоте-
ризм и неоязыческие доктрины пытаются при этом изменить менталитет «научного
1 Концепцию «царства человека» (regnum hominis, the kingdom of man) развивал Φ. Бэкон:
«Пусть вход в царство человека, основанное на науках, будет почти таким же, как вход в
Царство Небесное...» (Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 33).
190
Раздел второй
человека» с тем, чтобы «экологизировать» его сознание, развив потенции «мягкого»
диалога с природой, установив своего рода новый антропокосмический союз.
Сделаем предварительные замечания, носящие общий методологический
характер. Мы отличаем явный «текст» культуры определенной эпохи (он выступает как
нечто статическое) от ее «подтекста», который динамичен, но в качестве «подтекста»
менее очевиден. Действительно, в канун Нового времени даже явно синтетические
формулы («текст») в конечном итоге вели к дифференциации указанных
культурных феноменов («подтекст»). В эпоху же наметившегося конца Нового времени даже
видимое и привычное разобщение указанных культурных явлений, сам давно
ставший нормой «специализм» ведут, напротив, к схождению этих культурных миров,
в том числе, возможно, благодаря как раз гипертрофированному развитию
дифференциации и специализации.
В нашем сопоставительном анализе соотношения религии, науки и эзотерической
традиции в двух базовых точках (модерн — постмодерн) язык кинематики
(схождение — расхождение, интеграция — дифференциация и т. п.) не означает, что сами
сходящиеся / расходящиеся культурные феномены остаются, как в механике, константами.
Нет, вся эта кинематика (термин здесь метафоричен), как и ее инверсия (это наш
главный тезис), обусловлена качественными преобразованиями как самих данных
культурных явлений, так и культурного поля в целом. Иными словами, анализ, ведущийся,
казалось бы, в формальных терминах, выражает процессы качественных
содержательных мутаций культуры и изменения характера самой переходной эпохи в целом.
Мы фокусируем внимание не столько на самих культурных функциях, т. е. на
религии, науке, эзотерических движениях как таковых, сколько на их
«дифференциалах», на направленности их изменчивости, на векторе их текучести. Культура, по
нашему мнению, — нелинейно действующий, а значит, самодействующий организм. В ее
строении поэтому можно различить по меньшей мере как бы два слоя: наружный
интегральный и внутренний дифференциальный. Мы будем акцентировать
внимание на втором. И затем соотношение этих «дифференциалов» сравним на «входе»
в Новое время и, соответственно, на «выходе» из него.
Концепция, предлагаемая читателю, основана на анализе творчества Ф. Бэкона
(1561-1626), Р. Декарта (1596-1650), Я. А. Коменского (1592-1670), Р. Флудда (Я. Fludd)
(1574-1637), M. Мерсенна (1588-1648) и других деятелей кануна модерна. В
концептуальном и историографическом плане в ней использованы работы М. Фуко, К. Хюб-
нера, А. Дж. Тойнби, Ф. А. Йейтс и других историков и философов.
Ситуация кануна модерна
Считавшийся вечным и казавшийся наделенным божественными санкциями
порядок в науках и образовании, построенных на традициях средневекового аристо-
телизма, рухнул. Европа нетерпеливо ожидала нового порядка. Требование нового
Религия — наука — эзотерическая традиция: инверсия соотношения 191
порядка такого же масштаба — главный императив эпохи. Поиски его — ответ на этот
вызов. В этих поисках смелые новаторы — Ф. Бэкон, Р. Декарт, Я. А. Коменский —
во многом движутся по сходным траекториям, что не отменяет, впрочем,
существенных различий между ними. На подобный поиск устремляются и такие не менее
образованные и динамические натуры, как М. Майер (1569-1622), Р. Флудд, И. В. Андреэ
(1586-1654), продолжающие традиции герметического и мистического эзотеризма.
Обозначенные этими именами линии поисков можно условно назвать рационали-
стическо-экзотерическим и, соответственно, герметическо-эзотерическим
направлениями. В начале XVII в. непроходимой пропасти между этими направлениями еще
не возникло. В проектирование образа будущего порядка внесли свой вклад все
перечисленные выше деятели, хотя постепенно устанавливающийся новый порядок
и развел их по совершенно разным секторам культуры. Мистико-герметическая
традиция, внеся свой вклад в создание новой науки, ушла в культурный андерграунд,
утратив при этом даже намек на научную легитимность.
Со стремлением к новому порядку связана и ключевая идея эпохи, которую
разделяли практически все ее видные представители, — идея правильного пути или
метода. Действительно, из состояния хаоса и беспорядка (а это было для всех
чутких людей эпохи несомненным) нужно было найти выход, вступить на верный путь.
В согласии с его греческим значением слово «метод» (ή μέθοδος) и есть путь, путь,
ведущий к цели. Кратко говоря, старый беспорядок и новый искомый порядок
связывает путь-метод. Найти его, четко определить с тем, чтобы практически
применять во всех сферах деятельности (не только в познании и науках) — вот главная
задача эпохи. Конечно, самая, быть может, важная функция этой идеи состоит в том,
что она направляет поиски на нахождение средств совершенствования ума, на
овладение приемами очищения интеллекта, расчистки завалов, оставленных старым
путем-методом, который признан не только неэффективным, но и просто ложным
(заблуждением). Поэтому неудивительно, что учение о методе лежит в основе
размышлений и Ф. Бэкона, и Р. Декарта, да во многом о том же говорит и Я. А.
Коменский, стремившийся соединить, если не слить воедино, метод познания с методом
правильного обучения. У него когнитология и педагогика совпали. В этом
специфическая особенность его учения.
Ситуация кануна модерна характеризуется бурным ростом знаний,
поддерживаемым широким распространением книгопечатания и книготорговли. Книг стало
слишком много, говорит, например, Коменский, а поэтому реформа знаний «более
чем необходима»2. Психологически это обнаруживается как распространение
всепоглощающей жажды знания, причем знания «сильного». К «сильной науке» еще
в середине XVI в. стремился Г. К. Агриппа (1486-1535), влиятельный представитель
оккультной магико-герметической традиции3. От знания теперь ожидали не столько
2 Коменский Я. А. Избр. педагогические сочинения: [в 2 т.]. М., 1982. Т. 1. С. 486.
3 По оценке Йейтс, «цель Агриппы в том, чтобы дать технические возможности и
процедуры для достижения более сильной, "творящей чудеса" философии... включающей в себя
192
Раздел второй
просветления души, созерцательной настроенности ума, риторической и
софистической ловкости, сколько реальных достижений — победы над болезнями, помощи
в делах, улучшения материального благосостояния и т. п. Именно всё это обещали
все реформаторы века — от «розенкрейцеров» до Коменского и Декарта. Поэтому
и неудивителен ажиотаж, прокатившийся по всей Европе в связи с так
называемыми розенкрейцеровскими манифестами, в создании которых активно
участвовал И. В. Андреэ и его единомышленники из протестантских университетских
кругов Тюбингена4.
Импульсы и мотивы, действующие в указанных поисках, при всем их
многообразии можно свести к их нескольким основным разновидностям. В охваченных
Реформацией странах Европы религиозно-мистический импульс, нередко
перекрывающийся с герметическим, играет главную роль. Ожидания конца света и второго
пришествия Христа здесь особенно сильны. Это ожидание — типичная
психологическая примета времени. «Ныне все мы ждем, — говорит Коменскому его
собеседник, канцлер Швеции, — пришествия Христа на суд»5. Характерен для духа времени
и такой вопрос, который он обратил к Коменскому: «Ныне, когда все на свете
находится в крайнем противоречии, откуда у тебя надежда на столь всеобъемлющее
примирение?» А примирение, предлагавшееся Коменским, было действительно
предельно всеобъемлющим. Такой полноты реформаторской мысли Европа больше уже
не знала. Грандиозная всеохватность проектируемой реформы (новой, наконец,
победоносной) была следствием того, что царящий в мире беспорядок воспринимался
как поистине ужасающий. И ответ Коменского, о котором он в своей
«Автобиографии» ничего конкретно не сообщает, кроме содержавшейся в ней ссылки на
Священное Писание и доводы разума, состоял, как это можно предположить, в том, что
установления нового порядка ждет от человека сам Бог, что это дело «небесного
разума», «соработничества» человека с Творцом6. Вера и разум у чешского мыслителя без
герметически-каббалистическое ядро» (Yates Ε A. The occult philosophy in the elizabethan age.
London, 1979. P. 46).
4 Впервые розенкрейцеровские манифесты появляются в рукописном виде в 1610 г. («Fama
Fraternitatis...»), а с 1614 г. — в печатной форме. Переводы двух из них на русский язык см.:
Йейтс Ф. Розенкрейцерское просвещение. М., 1999. С. 411-442. Хотя сам Андреэ признавал
себя автором только одного манифеста («Химическая свадьба»), однако его участие в их
создании было гораздо большим. Сам он вскоре откажется от литературной игры (ludibrium)
в тайное общество с его особым миром и придет к более эзотерическому, окрашенному в
мистические тона и христиански ориентированному утопическому мировоззрению. Новейшие
исследования розенкрейцеровской проблемы отражены в кн.: Edighoffer R. Les Rose-Croix
et la crise de conscience européenne au XVIIe siècle. Paris, 1998.
5 Коменский Я. A. Цит. соч. Т. 1. С. 41.
6 Идея «соработничества» человека с Богом проводится в книгах «Всеобщего совета об
исправлении дел человеческих» (Панавгия IV, 2, Панортосия V, 18 и др. места). Всеобщее
исправление дел, по Коменскому, «будет произведено Христом, однако требует человеческого
Религия — наука — эзотерическая традиция: инверсия соотношения 193
видимых противоречий входят в состав мотивов проектируемого великого
преобразования, что удачно выражает упомянутое выше выражение («небесный разум»)7.
Конечно, импульсы реформаторской мысли Р. Декарта были другой
тональности. Для основателя новой науки в моральном плане характерна опора на
рациональную этику в духе стоиков при сохранении верности своему королю и католической
церкви. У Декарта научный импульс доминирует надо всеми прочими. «Книга мира»
(le grand livre du monde) влечет его любопытство ученого. Он явно настроен на то,
чтобы научиться правильно читать эту книгу и тем самым приспособиться к миру.
Декарт хочет рационально выверенным образом, без ошибок, надежно устроиться
в этом мире, разработав для этого «чудесную науку» (la science admirable)^
способную беспредельно улучшать жизнь человека, даже совершенствовать его природу,
а не только побеждать болезни и нищету8.
Сравним Декарта с Коменским. Оба пережили политические смуты и
смертельные опасности времени. Но если Коменский свой личный опыт встречи со смертью
без прикрас и иллюзий переживает как точку поворота от «земли» к «Небу»,
пытаясь вырваться из тьмы «мира» на спасительный свет (идея «Лабиринта мира и рая
сердца»), то Декарт вообще не включает религиозно-экзистенциальное измерение
в свой проект. Его встреча в 1642 г. с Коменским в Голландии четко выявила их
разногласия. Для него подход чешского реформатора был слишком уж глобалистским,
всеохватывающим, ибо в научно-рациональную конструкцию своего проекта
славянский мыслитель включал и религию. Как сообщает нам сам Коменский, Декарт,
прочитав его «Предвестник всеобщей мудрости» (1639), «выразил свое несогласие,
увидев здесь примесь теологии»9. Если Декарт сознательно ограничивал свой
проект рамками «естественного света» разума, развивая его целиком в границах
научно-философского дискурса, то Коменский был устремлен к полному синтезу науки,
философии, религии и практической жизни. Поэтому образ его не может не двоиться.
Действительно, с одной стороны, мы не можем не видеть в нем приверженца новой
механистической философии (в духе того же Декарта), а с другой — он предстает
соработничества» (Коменский Я. А. Цит. соч. Т. 2. С. 454). О синергетике у Коменского см.:
Funda О. А. Der Gedanke des Synergismus in der Theologe von J. A. Comenius // Comenius als
Theologe. Prag, 1998. S. 155-159.
7 Коменский Я. А. Цит. соч. Т. 1. С. 85.
8 В марте 1637 г. Декарт пишет Мерсенну о своем главном сочинении, подготовленном
к печати: «Оно будет состоять из четырех трактатов на французском языке с общим
названием "Проект Универсальной науки, могущей возвысить нашу природу на высочайшую
ступень совершенства"» (Descartes. Œuvres et Lettres / Textes présentés par A. Bridoux. Paris, 1953.
P. 958). Однако затем он дал своему сочинению другое, более скромное название
(«Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках»).
9 См.: Коменский Я. А. Цит. соч. Т. 1. С. 31. О встрече Коменского с Декартом см.:
Коменский Я. А. Цит. соч. Т. 1. С. 36, а также: BlekastadM. Comenius. Versuch eines Umriss von Leben,
Werk und Schicksal des J. A. Komensky. Oslo; Praha, 1969. S. 338-339.
194
Раздел второй
перед нами как теолог и религиозный мистик характерного реформаторского склада10.
Для него мир, в котором мы живем, выступает как гигантский часовой механизм,
но в то же время этот же мир — настоящий гимн Славе Божией. Можно сказать, что,
по Коменскому, мир — это часы, играющие хвалу Творцу, и уже поэтому часы, если
так можно выразиться, еще не окончательно обездушенные (о принципе аналогии
в его понимании природы мы скажем ниже). Итак, если в пансофии Коменского
реализуется синтез науки, философии и религии, то у Декарта в его учении
синтезируются только наука и философия (и притом особым, так сказать,
трансцендентально-механистическим образом).
В соответствии с этим у Коменского, в отличие от Декарта, большую роль в
построении его проекта играют библейские тексты. Назовем только два из них:
во-первых, знаменитое пророчество из книги пророка Даниила (12:4), на которое в своем
устремлении к универсальной реформе знаний опирались и другие деятели эпохи
(например, Ф. Бэкон), и, во-вторых, не менее популярное утверждение из книги
«Премудрости Соломона» о том, что Творец все в мире «расположил мерою, числом
и весом» (11: 21)и. Существенно то, что указанные библейские тексты толковались
каждым крупным мыслителем эпохи по-своему. Ф. Бэкон, например, подчеркивал
в пророчестве Даниила предвидение великих географических открытий,
раскрывших перед изумленным человеком многообразие Земли и населявших ее народов.
Общим же у Коменского и Бэкона было прочтение в этом пророчестве предсказания
о наступающем грандиозном преумножении знаний. Необыкновенно быстрый рост
знаний и острая потребность в их реформировании ими осознавались в равной мере.
Устройство мира по мере, весу и числу, подтверждаемое авторитетом Библии,
Коменский понимал по-своему, в далеком от буквализма истолковании этого текста.
Не разбирая здесь этого специально, можно сказать, что он рассматривал указанное
триединство (мера — число — вес) как синтетическую метафору эффективного
познавательного акта, формулируя на ее основе конкретные указания для реформы познания.
В рамках типичной для эпохи библейской экзегетики понимался и весь
формулируемый великими реформаторами классического века проект модерна,
базирующийся на идее возврата человека к состоянию райской невинности, чистоты и
связанного с ними его изначального господства над всем сотворенным миром. Этот
возврат, по Коменскому, должен был произойти благодаря универсальной реформе
знаний и образования, всего человечества и культуры в целом. По сути дела, ядро
проекта модерна можно представить как секуляризацию и рационализацию
религиозного сотериологического мифа. У Ф. Бэкона роль автономного разума в этом
10 О Коменском как теологе в свете современных глобальных проблем говорится в трудах
конференции, посвященной его 400-летию (Commenius als Theologe: Beitr. Zur Internat. Wiss.
Konferenz «Commenius Erbe u. die Erziehung des Menschen fur 21. Jahrhundert» (Sekt. VII) / Hrsg.
von Dvorak u. J. B. Lasek. Prag, 1998).
11 «Нужно все исчислять, измерять и взвешивать, пока глазам нашим не откроется
всеобщая гармония» (Коменский Я. А. Цит. соч. Т. 1. С. 499).
Религия — наука — эзотерическая традиция: инверсия соотношения 195
«возвращении», пожалуй, еще значительнее, чем в учении Коменского, для которого
подобная сотериология немыслима без акта искупления, совершенного Иисусом
Христом, и без благодатных сил Неба. Поэтому он говорит о «соработничестве» или, как
сейчас любят говорить, «синергии» человека и Бога в свершении земной и небесной
драмы, в доведении ее до окончательного итога. В отличие от теолога Коменского
с его всеохватным универсализмом, Ф. Бэкон, как и Декарт (но по-другому),
поглощен по преимуществу задачей реформирования разума с тем, чтобы он эффективно
работал, подчиняя природу целям человека.
Антрополого-метафизическое основание проекта Коменского, особенно в той
форме, в какой он реализовался во «Всеобщем совете об исправлении дел
человеческих», состоит в допущении возможности для человека как конечного «тварного»
существа вместить всю полноту божественного идеала. По сути дела, Коменский
считает человека «микробожеством». В «Панавгии» (часть «Всеобщего совета...»)
он полагает возможным, что тот свет истины, «который показал бы людям всё
их благо, причем всем и всецело, вне всякого самообмана и заблуждения»12, может
быть полностью достигнут. Слабый свет способен превратиться в «мощное
свечение» 13. Это и означает, что весь идеал доступен для воплощения всеми и целиком.
А это и есть презумпция «микробожия» человека, если и не «человекобожия».
Бесконечное и абсолютное, полагает Коменский, может стать уделом конечного и
относительного, каким является человек как сотворенное, или «тварное», существо.
Можно предположить, что Коменский принимает это основное свое допущение
потому, что на самом деле считает человека в принципе богоравным. И если
актуально, в данный момент, человек не богоравен, то это преодолимо с помощью
средств, предлагаемых Коменским. Причем уравняться с Богом человек может,
развивая активность разума, поддерживаемую верой (в этот союз Коменский верил).
И если богоравенство доступно для человека, то тогда понятно, что и вмещение им
всей полноты идеала тоже возможно. Поэтому можно сказать, что весь проект
Коменского держится на его уравнивающей человека и Бога антропологии: разрыв
между ними минимизирован, пусть формально он и заявлен, как того требует
исповедание христианской веры. Такое абсолютное слияние со всей полнотой идеала
называется у Коменского Панавгией, «сиянием всеобщего света»14. Такова, на наш
взгляд, основная предпосылка его учения.
От «Лабиринта мира и рая сердца», в котором мощно звучит христианская натура
его автора, Коменский переходит к последней стадии своей пансофии во «Всеобщем
совете...», где христианские мотивы несколько стушевываются, так что на
переднем плане начинают проступать контуры будущей утопии чисто
рационалистически обосновываемого рая на земле или рая мира. Обратим внимание в связи с этим,
12 Коменский Я. А. Цит. соч. Т. 2. С. 313.
13 Там же. С. 311.
14 Там же. С. 313.
196
Раздел второй
что у деятелей Просвещения и затем у Маркса соотношение «лабиринта» и «рая»
по отношению к Коменскому инвертируется, если сравнивать соответствующие
содержательные аналоги этих понятий-образов. Действительно, у просветителей
и у близкого к ним по пафосу основоположника марксизма речь идет уже не о
«лабиринте мира», а, наоборот, о (будущем) «рае мира» (или разума) и, соответственно,
не о «рае сердца», а, напротив, о (прошлом) «лабиринте сердца» (или веры).
«Лабиринт» и «рай» полностью обменялись своими значениями в ходе утверждения и
доведения до логического конца того, что было заложено в изначальном проекте модерна.
Можно сказать, что великая метафора Коменского выворачивается наизнанку его
отдаленными просветительскими и сциентистскими последователями,
превращающими его проект с его христианским ядром в радикально-атеистическую утопию.
Поэтому свершившийся в наше время крах утопического мышления такого типа
означает, что первоначальный проект модерна должен быть заново продуман, причем
именно в его ранних редакциях, когда он был еще тесно связан с религиозным
духом и философской метафизикой.
Многочисленные сочинения Коменского оставляют двойственное чувство. С
одной стороны — горячая искренность, подлинность его устремлений, глубина
пережитого опыта и несомненная актуальность его проекта (экуменизм, универсальность
разума, идея всемирного совещания и сотрудничества в осуществлении главных
целей человечества и т. п.). Создается даже впечатление, что современные глобальные
процессы идут по прописям Коменского, более того, он им указывает и
направление, и сам характер их развертывания. С другой стороны, в его творчестве ощутим
привкус оккультизма, утопизма, утраты чувства истории, реализма и меры, а
главное — чувства трагедии человеческого бытия и его таинственной свободы. Иными
словами, ощущение постоянной теософической взвинченности, если не соблазна,
не покидает читателя его сочинений. Чувствуется, что все эти грандиозные и
одновременно рациональные по мысли и тону фантазии составлялись задолго до Канта
с его критикой разума. Ощущается атмосфера фантазийно-мистического
«розенкрейцерского просвещения» (выражение Йейтс), пусть Коменский и преодолевает
эзотеризм и тайнознание последнего. Все это несколько приглушает изначально
христианское звучание мысли Коменского.
Влияние розенкрейцеровской литературы на Коменского несомненно. Но столь же
бесспорно и то, что он не нашел в ней той великой истины, которую искал. Итог
своему «роману» с розенкрейцерами Коменский подвел в «Лабиринте...», написанном
после трагических событий 1620-1622 гг. Он прежде всего отмечает необыкновенное
возбуждение, произведенное их манифестами: «Каждый, — говорит Коменский, —
просто горел желанием пробраться к ним»15. Видимо, желание вступить с ними в
контакт сжигало и его самого, а также, весьма вероятно, и Декарта16. Однако прошения
15 Коменский Я. А. Цит. соч. Т. 1. С. 115.
16 Основной источник для обсуждения влияния розенкрейцеровской литературы на
Декарта — его биография: BailletA. Vie de Monsieur Des-Cartes. Paris, 1691. См. также: Yates Ε Α.
Религия — наука — эзотерическая традиция: инверсия соотношения 197
многих страждущих о принятии их в тайное общество универсальных
реформаторов, как пишет Коменский, оставались без всякого ответа. В результате все
заинтригованные искатели тайной мудрости устыдились «своих надежд и напрасных трудов».
Общая идея розенкрейцеров и Коменского — идея «второго рождения»,
рождения в духе, идущая из герметической традиции, но существующая и в собственно
христианской культуре. Излагая алхимический миф о втором рождении,
Коменский пишет: «Зажигался в членах какой-то огонь, который преобразовывал
человека»17. В «Лабиринте...» «новым рождением» названа точка радикального поворота
от мира-во-тьме к Отцу светов и «раю сердца». Несмотря на большое впечатление,
произведенное на него розенкрейцеровской литературой, включая и сочинения Ан-
дреэ, написанные после манифестов («Civis christianu$...»y «Peregrinus...»)y
Коменский пошел своим путем. «Если они уверены в своих знаниях, — говорит
Коменский о розенкрейцерах, — почему же смело не выступят на свет, а свищут откуда-то
из-за углов, из тьмы, как летучие мыши?»18. Именно розенкрейцеровская установка
на тайнознание, на эзотеризм секты «посвященных» становится для него
совершенно неприемлемой.
Рассмотрим теперь более пристально соотношение интеграции и
дифференциации культурных феноменов в канун модерна. Несомненно, магико-герметическая
традиция Ренессанса, еще очень активная в первой четверти XVII в., предоставляла
возможность соединения многих явлений культуры, вплоть до политики, но,
разумеется, на своем специфическом оккультном и эзотерическом основании. По
самому типу культуры мысли эзотеризм естественным образом тяготеет к подобной
культурной «синтетике». Правда, в действительности производимые на его базе
попытки синтеза оказывались, строго говоря, парасинтезами, не могущими
удовлетворить ни научно ориентированный разум, ни опирающееся на традицию религиозное
сознание. Например, подобный парасинтез, предлагаемый Р. Флуддом, не устраивал
ни ученых нового типа, ни представителей традиционной религии (и тех и других
представлял, например, М. Мерсенн). То, что предлагал в канун модерна эзотеризм,
было скорее алхимической «смесью» религиозности, науки и философии, чем их
настоящим синтезом.
В конце концов, спиритуалистически и герметически ориентированная
тенденция к синтезу «работала» не на интеграцию различных подразделений культуры, а,
напротив, на их дифференциацию. Можно говорить о своего рода «оборачивании»
первоначальной интенции в ее результатах. Механизмы такого оборачивания можно
показать, анализируя воздействие «герметического импульса» (выражение Йейтс)
Giordano Bruno and the hermetic tradition. Chicago, 1964. P. 452-45; Jama S. La nuit de songes
de René Descartes. Paris, 1998. P. 210-217; Визгин В. П. Герметизм, эксперимент, чудо: три
аспекта генезиса науки нового времени // Философско-религиозные истоки науки. М., 1997.
С. 105-107.
17 Коменский Я. А. Цит. соч. Т. 1. С. 173.
18 Там же. С. 115.
198
Раздел второй
на Ф. Бэкона или Р. Декарта. В итоге в выдвинутых ими вариантах проекта модерна
религия отслаивается от науки и философии. Более того, у Бэкона даже философия в
какой-то мере вытесняется из сферы научного дискурса или, скорее, подчиняется ему,
почему энциклопедисты XVIII в. и считали его, а не Декарта, основателем новой науки.
В это переходное время основу динамики культурных процессов образует
напряженная конкурентная борьба за лидерство в культурном ансамбле19,
развернувшаяся прежде всего между магико-герметической традицией Ренессанса и набирающей
силы новой наукой с соответствующим ей типом сознания. От Ф. Бэкона и до Комен-
ского универсалистские проекты модерна создавались под воздействием
герметической традиции. В связи с этим обратим внимание на два момента. Коменский строит
свою пансофию на принципе аналогии, понимаемой им как онтологическое и
эпистемологическое начало. Но именно аналогия как форма подобия лежала в основе
эпистемы Ренессанса20. Подобным же образом Ф. Бэкон строит свой проект
Великого Восстановления Наук (Instauratio Magna Scientiarum)9 исходя из понятия формы,
принадлежащего также веку уходящему — традиции средневекового аристотелизма.
Итак, наиболее представительные, влиятельные и универсальные варианты
проекта модерна, строго говоря, в его эпистему не вмещаются, демонстрируя типичный
стиль переходной эпохи. Мы приходим к выводу, что самый мощный пафос
универсализма в канун модерна исходил не от самих «модернистов», а от «архаистов».
Напротив, мыслители, наиболее полно воплощавшие новый научный дух, особым
универсалистским пафосом не отличались. Таков, например, Декарт. Универсализм его
проекта ограничен рамками науки, которую он не отличал от философии21. Декарт
устремлен к созданию универсального научного метода, к реформе наук, к
достижению ими практической эффективности. И в этом смысле его проект безусловно
лежит в русле реформаторской мысли времени наряду с проектами более
универсальными и одновременно более утопическими, как у Ф. Бэкона и тем более у Коменского.
Итак, самый радикальный проект модерна был выдвинут теми мыслителями,
которых мы не можем отнести к «модернистам» из-за преобладания в их «наукоучении»
архаической парадигмы. Радикальность проекта здесь понимается как всеохватность
прокламируемых в нем задач и, соответственно, как признание неограниченности
возможностей человека. Этот радикализм имеет свои корни в
магико-герметической традиции уходящего Ренессанса. Как мы уже подчеркивали, проект Коменского
во многом зависит от позднейшей, розенкрейцеровской, разновидности
герметической традиции. Что же касается Ф. Бэкона, то радикализм его проекта подразумевает
19 К. Хюбнер вводит понятие «исторического системного ансамбля» (Хюбнер К. Критика
научного разума. М., 1994. С. 159). Мы предпочитаем говорить о культурном ансамбле,
имеющем свое историческое измерение.
20 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977. С. 66-68.
21 «Я не выйду за пределы философии, следовательно, у меня будет лишь часть того, что
у тебя будет целиком», — сказал Декарт Коменскому во время их встречи, о которой мы уже
говорили выше {Коменский Я. А. Цит. соч. Т. 1. С. 36). Философия здесь не отличается от науки.
Религия — наука — эзотерическая традиция: инверсия соотношения 199
исчерпывающее познание сущности всех природных процессов, овладение ими с
помощью знания, полное восстановление которого, а тем самым и самого человека
должны привести к возвращению его господства над всем тварным миром, которое
он утратил в результате грехопадения. Мы уже говорили о роли библейских сюжетов
в построении проектов модерна, предоставлявших емкие и всем понятные культурные
формулы, применявшиеся для осмысления ситуации не только в философии и науке.
Ф. Бэкон считал, что за освобождением, исправлением и очищением разума
.. .неизбежно последует улучшение положения человека и расширение его власти над
природой. Ибо человек, пав, лишился невинности и владычества над созданиями
природы. Но и то и другое может быть отчасти исправлено и в этой жизни, первое —
посредством религии и веры, второе — посредством искусств и наук. Ведь
проклятие не сделало творение совершенно и окончательно непокорным22.
Хотя радикализм проекта здесь слегка смягчен («отчасти исправлен», говорит
Бэкон), но он безусловно включен в религиозный контекст, на который последователи
Бэкона и особенно его ревностные почитатели среди энциклопедистов станут
обращать все меньше и меньше внимания.
Эсхатологический пафос в проекте универсального «исправления дел
человеческих» у Коменского звучит еще сильнее, чем у Ф. Бэкона. Важным моментом
у чешского реформатора выступает, как мы уже говорили, идея «соработничества»
человека и Бога в осуществлении выдвигаемого им проекта. «Соработничество» —
синергийная активность человека, вступающая в резонанс с Божественной
энергией. В отличие от Ф. Бэкона, проект Коменского продуманно строится максимально
полным, всеохватывающим образом. Начинается он с «панегерсии», или всеобщего
пробуждения, и заканчивается «панортосией», или всеобщим исправлением. У
Бэкона же, хотя у него и есть незавершенная попытка целостного представления
проекта «нового человека» («Новая Атлантида», 1627), мысль сосредоточена по
преимуществу на его научно-эпистемологическом измерении. У Декарта же религиозное
и политическое наполнение проекта вообще отсутствует, что явно расходится с тем,
как проект универсальной реформы мыслился в эзотерической традиции, например
у розенкрейцеров. Импульс к всеобъемлющей новой Реформе (старая, лютеровская,
казалась тогда во многом неудавшейся) исходил прежде всего из мистически
настроенных, герметически и оккультно ориентированных протестантских кругов, к
которым принадлежал, в частности, И. В. Андреэ. Коменский признавал его огромное
воздействие на свою пансофию23. Возбуждение умов, спровоцированное манифестами
розенкрейцеров, видимо, повлияло, как мы уже сказали, и на Декарта. Но в силу
своего традиционализма и консерватизма он придал этому герметико-розенкрей-
церовскому импульсу подчеркнуто научное воплощение. А Бэкон в это время был
22 Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 213.
23 От него, пишет он Гезенталеру в письме от 1 сентября 1656 г., «я почерпнул почти все
первоначала моих пансофических размышлений» (Коменский Я. А. Цит. соч. Т. 2. С. 516).
200
Раздел второй
уже слишком стар, чтобы «загореться» от поднятого «розенкрейцерами» ажиотажа.
Правда, в его последнем, неоконченном сочинении следы этого воздействия можно
обнаружить, о чем писала, в частности, Ф. Йейтс24.
В связи с этим укажем на определенную перекличку тем и мотивов у Бэкона и Ко-
менского только на одном примере. Для обоих мыслителей ключевой фигурой,
обеспечивающей переход от мира неподлинности, тьмы и маскарада, от мира неразумия
и беспорядка к миру истины, света и нового порядка, охватывающего всю
совокупность вещей, выступает библейский царь Соломон. У Коменского он — истинный
пансоф, срывающий маски с лицемеров и лицедеев, разоблачающий Королеву Мира,
олицетворяющую у него псевдомудрость. У Бэкона же научная организация
островитян Бенсалема называется Домом Соломона, или «Коллегией Шести Дней
Творения»25, целью которой является установление «царства человека» (Regnum Hominis).
Мы можем констатировать, что стремление к синтезу религии и науки исходит
скорее из мистико-эзотерических кругов, чем от новонаучных, выполняющих
программу Ф. Бэкона или Декарта. Правда, здесь надо подчеркнуть, что отсутствие
противоречия между новой наукой и старой религией усиленно подчеркивалось такими
деятелями, как Мерсенн. Но осознание их взаимной связи было направлено прежде
всего на реабилитацию науки, а именно механистического естествознания как
законного спутника религии, оказывающего ей поддержку в борьбе с общим врагом —
герметической традицией. Главной же целью того же Мерсенна или Ф. Бэкона было
развитие наук, организация планомерного производства научных открытий и
распространения информации о них. Ими и их окружением было ясно осознано, что
синтез науки и религии на базе оккультизма опасен и для настоящей науки, и для
полноценной религии. Это осознание вело, скажем так, к «прохладному» союзу
религии и науки, позволяя избежать «горячего» их синтеза в «герметической реторте».
Для судеб Европы, для сохранения ее культурной идентичности такой союз был
спасительным. В это время стала выясняться неэффективность решения затянувшегося
религиозного конфликта, вызванного Реформацией, средствами самого же
религиозного поля культуры. Осознание этого вело к «мягкой» постановке в центр всей
культуры науки с ее обязательным для всех объективным способом установления истины
о мире. При этом рамочное оправдание новой науки средствами традиционной религии
(как реформированной, так и нет) сохраняется, но одновременно набирает силу как раз
внерелигиозное или, точнее, преображенно герметическое ее оправдание26. У Ф. Бэкона,
24 См.: Йейтс Ф. Розенкрейцерское просвещение. М., 1999. С. 230-237. «Мы собрали
достаточно подтверждений тому, — пишет английский историк, — что он (Ф. Бэкон. — В. В.) был
знаком с розенкрейцерским мифом и использовал его в своей притче» (Там же. С. 233-234).
25 Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 500.
26 Оправдание науки тем, что она ведет к безграничному могуществу человека, мы находим
и у Ф. Бэкона («расширение власти человека над природою, покуда все не станет для него
возможным» (Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 509)). Истоки этой легитимации науки
скорее герметико-гностические, чем христианские. О герметическо-каббалистических корнях
Религия — наука — эзотерическая традиция: инверсия соотношения 201
да и у Декарта, хотя по-разному и в разной степени, присутствует и то и другое. В
частности, у Бэкона наука — путь раскрытия всемогущества Творца в природе через
реализацию рационально-практического всемогущества человека. У Коменского ситуация
подобная, но у него образом Творца наделен только человек, а не природа. И именно
отсюда проистекает потребность не останавливаться на одной науке и
мировоззренческом натурализме, а, сделав определенную ставку на науку, развивать
христианскую культуру, которая учит человека духовно-нравственному смыслу и хранит его.
Освобождающая от религиозной санкции система аргументации в пользу
науки постепенно набирает обороты. В ее основе — простые и понятные человеческие
цели земного благоденствия, победы над болезнями, установления, как говорил
Бэкон, «царства человека» на основе реформы познания и практического применения
новых знаний. Эти цели с их гуманистическим пафосом еще могут сочетаться с
привычной конфессиональной религиозностью. Отсюда объясним столь значительный
факт эпохи — неприятие и непонимание «Всеобщего совета...» Коменского в
середине XVII в.27 Этот факт говорит нам о том, что начинается новая, классическая, эпоха.
Ее устраивает как раз дифференциация культурных явлений, в частности религии
и науки, равно как и сосуществование различных христианских конфессий. А что
касается их синтеза, то он принимается, но в механистической форме, как
неизбежность ограничения индивидуалистических эгоизмов в своего рода «общественном
договоре». У Коменского же универсалистская синтетика, напротив, была не
механистической, а духовно-органической и даже религиозной, близкой по типу к
последующему пиетизму28. Но эта линия была маргинализирована окрепшими механицизмом
антропологии Пико дела Мирандола, речь которого «О достоинстве человека» является в этой
связи образцом для этой тенденции, см.: Yates Ε A. Giordano Bruno and the hermetic tradition.
Chicago, 1964. P. 102-111.
27 «Самый тяжелый удар по "Всеобщему совету.. Г и перспективам его полного издания
нанес, — говорит В. В. Бибихин, комментировавший этот текст, — бывший друг Коменского гро-
нингенский богослов Самуил Маресий (1593-1673)... В 1669 г. С. Маресий, знакомый со всем
сочинением в рукописи, публично выступил с жестокими нападками на "Всеобщий совет...",
обнаружив там, с одной стороны, хилиазм, т. е. учение о надвигающемся царстве Христовом на земле,
а с другой — вредоносные политические тенденции, способствующие революции! Помимо этих
пороков Маресий находил во "Всеобщем совете.. Г и некоторое сходство с Кампанеллой, а
следовательно, близость к католикам, и атеизм, выражающийся в сосуществовании христиан всех
конфессий, и язычество (в приставке "Пан-егерсия..." ему послышалось имя языческого бога
Пана), и фанатизм, и визионерство, и одержимость» {Коменский Я. А. Цит. соч. Т. 2. С. 510).
28 «Настоящая теология», по Коменскому, должна быть не столько умным, сколько
«трогательным» делом, во всяком случае «более трогательным, чем принято думать» (Коменский Я. А.
Цит. соч. Т. 1. С. 189). Истинное благочестие, считает Коменский, захватывает всего человека,
а не только ум. Этот акцент у Коменского разовьется затем в швабском пиетизме. Отметим
перекличку такого настроения с русской философской традицией. Кстати, и отзыв
Коменского об Андреэ ставит на первое место не достоинства его ума, а качество души: «Человек
пылкой души и выдающегося ума», — говорит о нем Коменский (Там же. С. 517).
202
Раздел второй
и классицизмом. Однако ее жизнь продолжилась затем в романтическом движении,
у Гете, позднего Шеллинга, в мистике и эзотеризме.
Повторим еще раз: универсализм и синтетизм проектируемой реформы
максимален в «донаучной» предмодернистской и предклассической культуре, на пределе ее
развития, вблизи точки ее перехода в рационалистическую классическую культуру
Нового времени. То же самое можно выразить и так: тенденция к объединению
религии и науки (последняя еще не отделена от философии) типична для магико-гермети-
ческой эзотерической традиции, которую в 10-20-х гг. XVII в. представляет движение
розенкрейцеров. Но уже к середине указанного века эта традиция маргинализиру-
ется, и вместе с нею и вся синтетическая тенденция если и не уходит с культурной
авансцены, то теряет свой радикализм. Эту тенденцию можно также обозначить как
имплозивную и холистскую в противовес возобладавшей эксплозивной и
механистической тенденции ко всеобщей дифференциации культурных форм. Тенденция
к «разбеганию» культурных миров набирает силу и становится доминирующей (порой
при сохранении универсалистской лексики). В конце XVII в. еще как-то удерживается
единство науки и философии как метафизики, но скоро и оно распадется под
напором нарастающего позитивистского духа, склонность к которому можно обнаружить
уже у Мерсенна. Успехи науки только облегчают этот процесс. Этому же
способствовала и победа ньютонианства над картезианством с его метафизикой. Казалось, что
само время устремилось к наукоцентристскому обоснованию всех культурных
подразделений и цивилизационных противоречий. Поэтому универсалистский,
исходящий во многом из христианских интуиции проект Коменского уже в середине XVII в.
казался странным и неприемлемым. Ему предпочитали наукоцентризм,
дополняемый привычным со времен Реформации конфессиональным партикуляризмом,
который думали ввести в «берега» с помощью социальной и политической «механики».
Заключая наш анализ ситуации рубежа модерна, сделаем выводы.
Научно-религиозный, тяготеющий к глобальному реформизму утопический проект модерна
(Ф. Бэкон, Коменский, Андреэ) претерпевает метаморфозу. Из него, утилизуя его
главные темы и интенции, постепенно вымывается религиозная и спиритуально-хо-
листская компонента. В результате универсалистская научно-религиозная утопия
становится арелигиозной сциентистской утопией. Окончательно эта мутация
оформляется в эпоху Просвещения. Век утвердившегося модерна устраивала
дифференциация во всем, компенсируемая механистической интеграцией секторов
культурного поля с наукой в его центре.
Ситуация постмодерна
Постмодерн — канун того, что нам неизвестно. Известно только то, что это время,
по-видимому, действительного выхода из модерна. Мы сопоставляем два кануна —
канун модерна и его «антиканун», или выход из него. Сравнение двух канунов
Религия — наука — эзотерическая традиция: инверсия соотношения 203
позволяет выявить много общего в том, как они воспринимались современниками.
Так, например, для Коменского первая половина XVII в. — это книжная, бумажная
эпоха, время невероятной избыточности печатного слова. Книги нередко покупают
только ради указателей — библиографических и др. Их уже не читают и не
продумывают. И Коменский не без сожаления и не без упрека в адрес своей эпохи говорит:
«Если древние хранили мудрость в сердцах, то мы — на бумаге»29. Нам кажется, что
это сказано о нас. Правда, сейчас бумагу во многом заменили компьютеры.
Сама оппозиция «модерн / постмодерн» явно асимметрична. Действительно,
модерн — это прожитое время европейской культуры, а поэтому эпоха с проявившими
себя, сложившимися характеристиками. Постмодерном же называют еще не
сложившийся в строго очерченную культурную форму наметившийся выход из модерна
или, еще мягче, потерю им своей идентичности, по крайней мере частично. Поэтому
сравнение этих двух эпох содержит ощутимый момент условности, который
необходимо иметь в виду.
Мы говорили об участии в проекте модерна религии, науки, эзотерической
традиции. Мотивы и импульсы, приведшие к его созданию, в наше время утрачивают
свою силу и свежесть. Такой религиозно накаленный познавательный оптимизм,
какой был у пионеров новой науки, сейчас трудно встретить. Даже если человек
постмодерна и не хочет расставаться с проектом модерна, так как любой стабильный
и апробированный уже проект лучше, чем его отсутствие, то все равно тень
утомления от него, неверия в него легла на дух культуры.
Человек сегодня, отчасти пусть и неявно, предъявляет счет содержащимся в этом
проекте обещаниям и не может при этом не испытывать некоторого разочарования.
О каких же обещаниях конкретно идет речь? Проект модерна был сциентоцентрист-
ским проектом, включающим в себя четыре основных обещания: а) обеспечить
полное искоренение невежества через всеобщее восстановление наук, а также всеобщее
и абсолютное (в смысле Я. А. Коменского) обучение новым наукам; 6) обеспечить
благодаря такому восстановлению полное господство человека над природным
миром, позволяющее достичь всеобщего процветания и благоденствия; в) достичь
благодаря перечисленному в пунктах а) и б) полного искоренения болезней и
приблизить человека к достижению им необыкновенного долголетия, а в пределе, возможно,
бессмертия; г) создать совершенного человека, совершенное общество и привести
человечество окончательно к вечному миру. С тех пор, как прозвучали эти
обещания, прошли три с половиной столетия. И ни одно из этих обещаний не реализовано.
Этот факт выступает основой исторического изживания проекта модерна. В начале
XXI в. это явно, а скорее неявно, осознаётся. Поэтому если у человека начала
Нового времени основной его пафос, несмотря на сохранявшуюся тогда традиционную
религиозность, был направлен на науку и на базирующийся на ней проект
универсальной реформы, то теперь с пафосом или вообще плохо или он, несмотря на
относительную эффективность научно-технической цивилизации модерна, сочетается
29 Коменский Я. А. Цит. соч. Т. 2. С. 302.
204
Раздел второй
не с наукой или не только с ней. Поэтому постмодерн как время утраты
самоуверенности модерна несет в себе потенцию обратной динамики соотношения
рассматриваемых нами культурных феноменов.
После «расколдовывания мира», о котором как о сущностной характеристике
Нового времени писал М. Вебер30, происходит «расколдовывание» самого
проекта модерна. Чары его теряют былую силу. Во всяком случае, религиозная миссия,
да во многом и мировоззренческая, возлагаться на науку теперь уже не может.
Место науки в складывающемся в наше время культурном ландшафте более скромное,
чем во времена Ф. Бэкона, Декарта и Ньютона, несмотря на потрясающие успехи
науки и техники и, казалось бы, сплошную сциентификацию и технологизацию всей
нашей жизни.
Глубина экологических проблем, наконец, нарастание признаков системного
кризиса глобальной наукогенной цивилизации в целом показали, что религиозная
функция науки, составляющая основу проекта Нового времени, должна быть
пересмотрена. В философии и истории науки это привело к новым концепциям, серьезно
потеснившим старые теории науки, основывавшиеся на сциентизме и позитивизме.
Происходящий в обществе рост сомнений во всемогуществе науки парадоксальным
образом сочетается с сохранением ее эрзац-религиозной функции.
В наше время наука, — констатирует К. Хюбнер, — компетентна во всех вопросах
и судит обо всем на свете. В прежние времена священники благословляли важное
предприятие, теперь такое благословение дает ученый. Если раньше считалось, что
нельзя спасти душу без наставлений священника, то теперь полагают, что только
университетский диплом может сделать человека полноценным31.
Вера в возвышающую и спасающую человека миссию науки, которую разделяли
Ф. Бэкон и Декарт, сохраняется и по сей день, несмотря на то что она подорвана
в своих основаниях. Ситуация стала действительно парадоксальной, в чем,
собственно, и находит свое проявление дух постмодерна. Скепсис перемешан с верой
по отношению к науке.
Пренебрежение логикой есть симптом переходной эпохи, получившей название
постмодерна. Недаром в этом названии значимо отрицание — мы говорим о нашей
эпохе, подчеркивая, что она не есть Новое время. Но какое же тогда это время? Этого
мы пока не знаем. Об этом и идут споры. Неопределенность и даже сознательная
всеядность и всесмешение, ее усиливающие, — приметы этого времени. Ситуация
неопределенности и сознательно не устраняемой двусмысленности составляет
характерную черту постмодернистского сознания. Но это не классическое «несчастное
сознание», которое знало о своей саморазорванности и трагически переживало ее.
Похоже, что постмодернистское сознание — это счастливое «несчастное сознание»,
саму свою надорванность принимающее легко. Человек постмодерна, однако, прежде
30 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 342.
31 Хюбнер К. Критика научного разума. М., 1994. С. 156.
Религия — наука — эзотерическая традиция: инверсия соотношения 205
всего растерян. Он ни в чем не уверен по-настоящему. И менее всего в себе самом.
Отсюда вымученные легкость и веселость, ирония и самовышучивание, хотя
ситуация предельно серьезная: ведь зашатались самые основы представлений человека
об истине и смысле. Человек постмодерна все еще опирается на науку, но
по-настоящему в нее уже не верит. Такая ситуация приводит к тому, что место надорванной
веры в науку начинают занимать оккультные и мистические учения, бросающие
вызов науке на рынке идей и интеллектуальных услуг. Астрономы с тревогой говорят
о росте интереса к астрологии. Правда, они подчеркивают, что в прямой спор с нею
они вступить не могут, ведь, как говорит один известный астрофизик, «астрология
не имеет ко мне никакого отношения, ибо не является наукой»32. Наделенные
психотерапевтическими символическими функциями эзотерические доктрины заполняют
вакуум, оставленный упадком традиционных религий с высокоразвитой
символикой. Вакуум, оставляемый уходящим «науковерием», частично заполняют
оккультные эзотерические дисциплины.
Кризис науки как рационального предприятия по производству знания нужно
отличать от кризиса науки как эрзац-религиозного мировоззрения.
Несостоятельность науки как заместителя религии, претендующего не только на осмысление всей
полноты бытия, но и на возвышение человека и преобразование природы, не
означает неудачу науки как познания. Попытавшись заместить собой религию и
метафизику, наука превысила свои возможности. Пусть сциентистские иллюзии все еще
широко распространены, но «науковерие» как монополия науки на мировоззрение
терпит явную неудачу. Наука по-прежнему, правда, считается последним арбитром
в делах истины, в том числе религиозной. Как пишет Рормозер, «у нас же и поныне
полагают, что нужно отвергнуть реальность воскресения, поскольку естественные
науки не могут дать тому подтверждения»33. Здесь науке явно передоверяют те роли
и функции, которые она по природе своей выполнять не в состоянии. Ведь сферу
религиозного опыта и истин откровения она не может «курировать», как это
понимали Ф. Бэкон и Декарт, сделавшие, однако, серьезные шаги к тому, чтобы
передоверить функции религии именно науке. Но вместе с тем сегодня крепнет и сознание
того, что научное знание само рискует впасть в заблуждение, если оно не оставляет
в бытии тайны, не принимает ее и не хранит.
Эрзац-религиозное научное мировоззрение не удалось потому, что культурная
традиция не была полностью уничтожена, как того хотели радикал-революционеры
со своими «единственно верными» «научными» мировоззрениями. Постмодерн
продолжает наступление на традицию. Правда, в нашу эпоху происходит и некоторый
возврат к ней, ее сознательное и ответственное восстановление. Именно подобная
разнонаправленность процессов, смешение противоположно ориентированных
течений, культурных форм и образцов и характеризует постмодерн.
32 Характерно само название публикации: Грядет ли великое примирение астрономии
и астрологии? Интервью с Юбером Ривом // Известия. 19 марта 1994.
33 Рормозер Г. Кризис либерализма. М., 1996. С. 226.
206
Раздел второй
Постмодернистское самосознание науки с его релятивизмом, сменяющим
«монархизм» классического декартовского рационализма методологическим
«анархизмом» в духе Фейерабенда, способствует росту «когнитологической» энтропии,
открывая «зеленую улицу», в частности, оккультно-эзотерическим формам знания.
Само понятие объективной истины, независимой от исторического контекста,
многими теоретиками науки рассматривается как метафизическая химера,
принадлежащая прошлому. Постструктурализм, воскрешающий ницшевскую онтологию воли
к власти и присоединяющий к ней некоторые модифицированные спекулятивно
используемые конструкты квантовой физики и молекулярной биологии, сводит
вопрос об истине к вопросу о средствах ее социально и информационно значимой
имитации. Истина при этом выступает как понятие с пустым значением, которое,
однако, ценится, так как способно внести свой вклад в баланс сил, пронизывающих
современный мир как борьбу за власть над ним. В соответствии с таким переносом
внимания ищутся не условия того, чтобы наши суждения о мире соответствовали
самому миру, а чтобы они лишь выглядели как истинные* воспринимаясь таким
образом безотносительно к тому, какова же их связь с реальностью вещей на самом
деле. В результате воля к истине как орудие воли к власти обнаруживает себя как
воля ко лжи, что, однако, маскируется самодовольным утверждением о
преодолении самой оппозиции «истина/ложь». В постмодерне действует, быть может, даже
не столько чистая воля ко лжи, мимикрии, имитации и подделке, сколько воля все
хаотически смешать, с тем чтобы вопрос об истине больше уже вообще не возникал.
Культура постмодерна такова, что мы отовсюду получаем как бы шифрованные
сигналы, своего рода знамения конца модерна, но при их расшифровке у нас не
возникает однозначной ясности. Пожалуй, именно этим и характеризуется
постмодерн как культурная эпоха — выходом за классические парадигмы модерна, однако
без того, чтобы на смену им шел законченный образ новой культуры.
Представляющиеся нередуцируемыми плюрализм и индивидуализм интерпретаций и моделей
мира больше всего поражают в постмодерне. Целое культурного мира Европы
распалось. В эпоху Возрождения распадалась целостность антично-средневековой
культуры. В XVII в. оформилась новая культурная целостность, стержнем ее стал
научно-технический прогресс, в фокусе которого сошлись основные культурно значимые
смыслы и утопии западного европейца, включая прежде всего секуляризованное
христианство. А теперь и это единство разрушается, и, скорее всего, необратимым
образом. Диспропорции в развитии, упадок высших религий, непомерно высокая
оценка материальной стороны цивилизации и многое другое способствуют
распылению культурных образцов, создавая обилие остаточной культурной «пыли»,
буквально захлестывающее общество постмодерна. Сегодня мы присутствуем при
невероятно быстром росте культурной энтропии. И все попытки приостановить ее рост,
как кажется, лишь способствуют тому, что она растет еще больше. Подобной эрозии
подвержена и наука. И не безответственность отдельных теоретиков тому
причиной, а сама долговременная логика развития — теоретического и технологического,
социального и культурного.
Религия — наука — эзотерическая традиция: инверсия соотношения 207
Существенный исторический факт, который нужно в нашем анализе принять
во внимание, состоит в том, что пик секуляризационнои динамики, по-видимому,
пройден. После головокружительных кульбитов философского богоборчества
такого «каскадера» культуры, как Ницше, радикальный атеизм в XX в., например в духе
Сартра, воспринимается уже как эпигонство. Эпоху теоретического и практического
«теоцида» Европа, похоже, уже пережила. Время воинствующего атеизма, видимо,
завершается, сменяясь временем индифферентизма, усталого скепсиса,
вялотекущего агностицизма и психологического нигилизма. Но не того героического
нигилизма силы, о котором мечтал певец «Заратустры», а скорее презираемого им
нигилизма и пессимизма слабости, находимого им в выцветшей учености Д. Ф. Штрауса
или в квазибуддистском эскапизме Шопенгауэра. Испытание предельными
нагрузками богоборческой динамики, накопленной с эпохи Ренессанса, выдержала прежде
всего Россия, а в ее лице и весь культурный мир, некогда называвшийся
христианским. В результате намечается и уже происходит как бы вторичное узнавание
человеком этого мира своих культурных корней. История тем самым дает Европе шанс
на сохранение и развитие ее культурной идентичности, которая, как и в XV-XVII вв.,
в канун модерна, подвергается серьезному испытанию в эпоху постмодерна.
Сравнивая модерн и постмодерн, мы можем сказать, что наука и религия как бы
обмениваются своими ролями в культурном ансамбле. Действительно, в канун
модерна делают ставку на науку, возлагая на нее все надежды на достойный ответ на
вызов времени. Но при этом и не порывают с религией, вступая с ней в «прохладный»
союз, оправдываемый ее позитивно-социальными и моральными функциями.
Таков во многом Ф. Бэкон. Он даже вырабатывает знаменитую формулу о том, что
мало знания, или философии (a little philosophy), уводит от религии, а много—
напротив, приводит34. Он еще колеблется между оправданием физики библейским
откровением и полным разведением сфер компетенции науки и теологии, склоняясь
больше ко второму решению. Первая позиция была характерна для парацельсистов,
продолжателей традиций алхимии и герметизма. Вторую разделяли такие ученые,
как Декарт. Схематично это представлено в учении о двойственной истине —
истине естественной и истине откровенной, причем в это время откровенная истина
признавалась, как правило, рангом выше естественной. Однако акцент был сделан
именно на науке, что будет впоследствии и обнаружено. Иными словами, в паре
«наука — религия» ведущая роль в культурном ансамбле de facto закрепляется за наукой.
Обмен ролями между наукой и религией намечен, но не закреплен в постмодерне,
так как всякой централизованной системе ценностей эта эпоха противится,
предпочитая ситуацию их квазиэгалитарного «смешения».
В эпоху постмодерна изменение отношения к религии не означает, что человек
этой эпохи стремится совсем отказаться от науки. Нет, он ее сохраняет и
оправдывает, как Ф. Бэкон и тем более Вольтер — религию, прибегая к привычной
утилитаристской аргументации. Но непомерных надежд на нее он уже не возлагает. Будут
34 Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. М., 1971. Т. 1. С. 93.
208
Раздел второй
побеждены одни болезни — придут другие. Неустойчивость прогресса уже ясно
осознана: он легко может смениться регрессом. Привести человека к нравственному
совершенству (а об этом мечтал и Декарт) наука явно не может, и в ее способность
совершенствовать души людей уже мало кто верит.
Таким образом, соотношение религии и науки за протекшее время модерна
инвертируется, по крайней мере, на уровне тенденции. Модернистская легитимация
религии принимается в постмодерне, но направляется уже на науку. Подобная
инверсия характеризует и связи эзотерической традиции с наукой. Если в канун
модерна она давала импульс к практической направленности знания, к превращению
его в «сильную науку» (о чем мечтал еще Агриппа), то теперь эзотерика,
напротив, скорее выполняет обратную функцию — добавляет элемент созерцательности
в чрезмерный практицизм исследований, в их околонаучное сопровождение. Если
раньше эзотеризм, парацельсизм и подобные течения питали науку того времени
своего рода спиритуализированным натурализмом, способствуя формированию
новой, практически, эмпирически и экспериментально ориентированной
деятельности в области науки, то теперь, напротив, эзотерика, восточные духовные
течения вносят свой вклад в созерцательное углубление современного знания, стремясь
придать ему холистскую направленность. Функция эзотеризма как проводника
новых синтезов и перемен, который затем, как катализатор, выходит из запущенной им
культурной «реакции», сохраняется и в ситуации постмодерна. Но направленность
работы такого «катализатора» инвертируется, становится антисимметричной тому,
как это было в канун модерна.
Из «троянского коня» реформаторского синтетического универсализма с его
религиозно-мистическим ядром вышла тенденция к дифференциации основных
культурных подразделений (наука — религия — эзотерика). На излете модерна
происходит инверсия подобной констелляции указанных культурных феноменов.
В его высокодифференцированной культуре начинают проявляться, а со временем,
возможно, станут и преобладать синтетические тенденции. Инверсия
дифференциальной динамики соотношения культурных феноменов связана с износом, если
не крахом всего проекта модерна: она и отражает его, как следствие отражает свою
причину.
В связи с этим отметим и некоторую инверсию эпистемологических мод в науке.
В канун модерна даже такой рационалист, как Декарт, мечтал об обширных
опытных исследованиях и подчеркивал, что его жизни и имеющихся у него помощников
мало, чтобы проделать все нужные эксперименты. Что уж говорить о Ф. Бэконе,
который и умер в результате простуды, полученной при эксперименте по заморозке
продуктов. Тогда без эксперимента науку не мыслили. Пафос экспериментального
испытания вещей был передовым лозунгом времени. Сейчас же нередко слышишь
о том, что теория переходит в состояние «эмпирической невесомости», что физика
(особенно на стыке с космологией) постепенно растворяется в метафизике. Только
ленивый не твердил в наши дни о том, что любой опыт и эксперимент нагружены
теорией и т. п. Здесь опять мы отмечаем инверсию тем и мотивов уже внутри науки.
Религия — наука — эзотерическая традиция: инверсия соотношения 209
В результате всех этих процессов ситуация постмодерна напоминает ситуацию
кануна рождения новой науки, но осуществляющуюся в антисимметричной,
точнее, в инверсионно ориентированной констелляции динамики выделенных нами
для анализа культурных факторов. Действительно, разрыв с традиционной
религией (типичная черта модерна) заменяется попытками оформления их нового
союза. Раскрываются границы науки и по отношению к оккультным течениям, как
это было в XVI и начале XVII в. Но теперь герметический эзотеризм передает науке
не импульс к практической направленности, провоцирует не активизм и прагматизм
«сильного» знания, а скорее, напротив, созерцательность и самоуглубленность,
заботу о самосовершенствовании, о духовном единстве с природой и космосом,
который снова, как у герметиков и платоников, начинают мыслить как целостный
живой организм, включающий человека. В отношениях с религией, как мы заметили,
также происходят процессы, ориентированные противоположным образом, чем
это имело место в конце Ренессанса и в начале Нового времени. Если тогда религия
выталкивалась из науки, то теперь она стремится сблизиться с ней. Если тогда сама
наука брала на себя функции религии, то теперь они возвращаются самой религии.
Если в XVII в. речь шла о том, как за счет традиционной религии дать место науке
как новому лидеру в целостном культурном ансамбле, то теперь думают о том, как,
не потеряв ценности науки как познания, вернуть роль культурообразующего
начала традиционной религии, возможно, с ее трансформацией, с поворотом к нуждам
и проблемам времени. Сама неудача науки как заместителя религии требует такого
возврата. Конечно, человек постмодерна должен при этом сохранить и науку, пусть
и без ее прежних, оказавшихся непомерными амбиций. На заре возникновения
новой науки ей помог ее союз с христианством. Возможно, новый союз такого же типа
сможет ей помочь и сейчас, в период мировой смуты постмодерна.
Однако изжит ли на самом деле проект модерна?
«Что мешает нам, — писал Коменский во "Всеобщем совете...", — надеяться, что
в конце концов все мы станем единым благоустроенным сообществом, скрепленным
узами одних и тех же наук, законов и истинной религией?»35. Не есть ли таким
образом формулируемый проект модерна как раз то, что реализуется сейчас, в период
постмодерна? Что более точно описывает проект и миф нашего времени — глоба-
листский, экуменический, универсалистский, мондиалистский и
космополитический, — чем эти слова великого педагога и мыслителя, далеко опередившего свое
время? Дело обстоит как будто так, что, несмотря на наступивший, казалось бы,
постмодерн, проект модерна все еще остается реализовать. Если это, однако, возможно...
Образ проекта модерна в наши дни двоится — он и исчерпан, не исполнив
обещанное, и не исчерпан, так как не осуществлено то, что было в нем заложено...
И то и то верно.
Коменский Я. А. Цит. соч. Т. 2. С. 305.
ЭКСПЕРИМЕНТ И ЧУДО:
РЕЛИГИОЗНО-ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
ГЕНЕЗИСА НАУКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
В историографии науки, изучающей ее в культурном контексте, связи науки, в
частности ее генезиса, с религиозными и теологическими факторами рассматриваются
давно и в самых разных аспектах. Еще в прошлом веке Альфонс де Кандоль
писал о том, что «не-христианские страны совершенно чужды научному движению»1.
В наше время эту же мысль (но не в социолого-науковедческом, а в философском
плане) высказал Александр Кожев, указав на догмат Боговоплощения в составе
христианства как на несущий главную ответственность за феномен западной
науки2. Из обширной темы религиозно-теологических корней новой науки мы выбираем
для анализа лишь два момента: во-первых, связь экспериментального характера
науки Нового времени с определенными теологическими предпосылками и,
во-вторых, проблему чуда и вклад в ее решение механистического естествознания XVII в.
Волюнтаристская теология
и опытный характер новой науки
Мощный импульс для исследований связей религии и науки в эпоху ее генезиса был
дан М. Вебером3 и Р. Мертоном4. Что касается вопроса о связи протестантской
теологии с эмпирической направленностью новой науки, то здесь интересные замечания
были высказаны голландским историком науки Р. Хойкасом5. Правда, он не говорит
1 CandolleA. de. The Influence of Religion on the Development of the Sciences (1873) // Puritanism
and the Rise of Modern Science. The Merton Thesis / Ed. by I. B. Cohen. New Brunswick; London,
1990. P. 145.
2 Kojève A. L'origine chrétienne de la science moderne // Mélanges Alexandre Koyré. L'aventure
de l'esprit. P., 1964. P. 295-306.
3 Вебер M. Протестантская этика и дух капитализма (1905) // Вебер М. Избранные
произведения. М., 1990. С. 61-272.
4 Merton R. К. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England // Osiris. 1938.
4. P. 360-632.
5 Hooykaas R. Science and Reformation (1956) // Puritanism and the Rise of Modem Science. The
Merton Thesis / Ed. by I. B. Cohen. New Brunswick; London, 1990. P. 191-194.
Эксперимент и чудо: религиозно-теологический фактор... 211
о волюнтаристском характере этой теологии, но зато подчеркивает ее
антирационализм: «Для протестантов в их антирационализме дух Реформации и дух
экспериментальной науки обнаруживали тесное родство»6. Причем сами теологи сознавали
это родство, рассматривая экспериментальную науку как деятельного помощника
религии. Именно антирационалистическая установка, считает историк, вела Ф.
Бэкона, испытавшего влияние пуритан, к его апологии эмпирического исследования,
так как разум считался задетым грехопадением и впавшим в результате в
непомерную гордыню, загораживая своими грубыми схемами реальность вещей, которую
следовало бы, согласно Бэкону, внимательно исследовать в благочестивой
настроенности эмпирически, потому что они были созданы не по рациональным схемам, а как
Богу было угодно7. Здесь уже проглядывает за теологическим антирационализмом
волюнтаризм, который не только санкционировал акцент на эксперименте и опыте,
но и сам получал от них дополнительный импульс. В частности, великие
географические открытия этой эпохи, обнаружив неслыханное разнообразие и чудесность мира
и посрамив при этом умствования отвлеченных теоретиков, «подтвердили
признание бесконечной мощи Бога»8. Теологически фундированный эмпиризм вел ученых
к «умеренному скептицизму даже по отношению к их собственным теориям»9, что
укрепляло методологическую парадигму новой науки в ее имманентной
обращенности на сверхтеоретический авторитет.
О связях пуританского менталитета с экспериментальным подходом к изучению
природы говорит и английский историк науки Ч. Вебстер:
Кальвинистский Бог, — подчеркивает он, — был далек и недосягаем, но прилежное
применение точных методов экспериментальной науки, постепенно проникающих
в область вторичных причин вещей ради покорения природы, представляет собой
ту форму интеллектуальных и практических склонностей (endeavour)y которая
наиболее полно отвечает пуританскому менталитету10.
Мысль о связи так называемой волюнтаристской теологии с экспериментальным
характером науки Нового времени, таким образом, не нова, но высказывалась она, как
правило, в неявной форме. В достаточно явной форме она была высказана Робером
Леноблем в его фундаментальном исследовании роли Марена Мерсенна (1588-1648)
в рождении механицизма Нового времени11, а в последнее время также и в книге
6 Hooykaas R. Science and Reformation (1956). P. 191.
7 Ibid.
8 Ibid. P. 192.
9 Ibid.
10 Webster Ch. The greate instauration: Science, medicine and reform 1626-1660. N. Y., 1976.
P. 506.
11 Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P., 1943.
212
Раздел второй
Клаарена12. Правда, и в этих работах указанная связь тем не менее не стала
предметом специального анализа, проскользнув в них, так сказать, en passant Начнем
поэтому с самой сути дела, как она нам представляется, а именно с логики указанной
связи. Прежде всего заметим, что различия между экспериментом и опытом при
этом не проводится, и мы не будем его проводить, так как сам обсуждаемый тезис
состоит в констатации транстеоретического и трансдедуктивного «заземления»
познавательной процедуры, вытекающего из волюнтаристской установки в теологии.
Признание наличия подобной теолого-эпистемологической связи означает, кратко
говоря, что эксперимент оказывается неотъемлемой конститутивной частью
нового естествознания, логически необходимой его характеристикой, если весь мир,
все явления в нем мыслятся определенными в конечном счете абсолютно свободной
во всем, и прежде всего в том, что касается творения мира, рационально
непостижимой Божьей волей. Последнее утверждение и составляет основу как раз той
теологической установки (присущей целой исторической традиции и не ограниченной
какой-то определенной конфессией), которую Клаарен назвал волюнтаристской
теологией творения13. Речь идет фактически о синтезе двух основных моментов,
составляющих данную установку: во-первых, это примат воли Бога над Его разумом и,
во-вторых, это фокусировка теологической мысли на творении — как процессе и как
результате. Обратим прежде всего внимание на сам принцип creation ex nihilo
(творения из ничего), предполагающий, что Бог творит мир именно из ничего^ т. е. не имея
никаких предзаданностей, никаких разумных оснований, никаких сущих до
существования мира идеальных форм, никакой первоматерии, времени и пространства.
Волюнтаристская установка в теологии переносит центр тяжести с разума Бога
на Его волю, понимаемую как основное определение природы Бога как Творца
и не вытекающую с необходимостью из разума, к которому в какой-то мере прича-
стен и человек как разумное существо. Что касается структуры религиозного
сознания, формируемого такой установкой, то на передний план в ее составе выступает
не столько спасение как высшая цель, сколько переживание динамической
творческой воли Божьей, интуиция ее беспредельной мощи, явленной во всем сотворенном
ею мире. При этом типичная для схоластической традиции рациональная
онтология отступает на второй план. «Реальность Творца, — говорит Клаарен,
характеризуя эту установку, — встает с такой силой, что нет больше необходимости в
онтологии» 14. Очевиден глубоко мистический дух этой установки, который в русской
философской традиции ярче всех выразил, пожалуй, Н. А. Бердяев с его принципом
примата свободы над самим бытием. Мысль о рационально организованном
иерархическом порядке бытия (линия рациональной онтологии, идущая от Аристотеля
12 Klaaren Ε. M. Religious origins of modern science: Belief in creation in XVII-th century thought.
Grand Rapids (Mich.), 1977.
13 Ibid.
14 Ibid. P. 47.
Эксперимент и чудо: религиозно-теологический фактор... 213
к Фоме Аквинскому и продолжающаяся у Лейбница, а в русской традиции,
например, у Н. О. Лосского) затеняется при этом напряженным чувством
провиденциальной работы Бога. В соответствии с такой установкой Бог дан не столько в
величественном, устойчивом и разумном порядке мира, сколько в живом опыте личности,
в ее внутренней активности, направленной на мир и его преобразование. Бог дан,
таким образом, скорее практически, т. е. как воля, чем теоретически, как разум,
философскую кодификацию чего мы находим у Канта, являющегося, по мысли А. Ко-
жева, первым последовательно христианским мыслителем15.
Итак, мы видим, что волюнтаризму в теологии отвечает своеобразная
экзистенциальная настроенность в философской рефлексии, что было ярко показано,
например, в книгах Льва Шестова, сделавшего своей монотемой противопоставление личной
воли безличному разуму, безосновной («беспочвенной») свободы — необходимостям
рациональных оснований. Шестов показал и главных героев волюнтаристской
традиции от Тертуллиана и Лютера до Кьеркегора. У истоков ее стоит прежде всего
Августин, заложивший теологические основы западной христианской традиции, отделив
ее как от античной традиции с ее тезисом о несотворенности мира, так и от
ветхозаветной религиозности с ее креационизмом, вписанным в сотериологию избранного
народа. Важным рубежом в становлении традиции волюнтаристской теологии стали
осуждения парижским епископом Э. Танпье (Tempter) аверроистско-томистских
тезисов, ограничивающих свободу воли Бога-Творца (1277), давшие импульс для
выдвижения новых подходов к познанию мира16, в частности допустившие возможность
множественности миров17. В результате в культуре позднего средневековья усилилось
то течение, которое затем привело к крушению аристотелианско-томистской
картины мира. В этом направлении действовало, прежде всего, номиналистическое
течение (Оккам, Орем, Буридан и др.). И именно на этом пути оформляется традиция
волюнтаризма в теологии. По оценке Э. Жильсона, «лучшим резюме этого интереса
к свободе Бога и к случайности Его творения было осуждение той точки зрения, что
"Бог необходимым образом производит то, что непосредственно следует от Него"»18.
Иными словами, указами епископа Парижа было подчеркнуто, что Бог творит мир
совершенно свободно, а не по рациональной необходимости.
Волюнтаристская установка согласуется с библейским рассказом о сотворении
мира (Бытие, 1,3-25). Действительно, Бог свободно творит элементы мира и только
затем оценивает сотворенное им как благое («хорошо»). Этому теологическому
15 Kojeve A. L'origine chrétienne de la science moderne... P. 301.
16 Койре, в отличие от Дюгема, сдержанно оценивает значение этих указов и особенно
подчеркивает вклад такого «волюнтаристского» теолога и математика, как Т. Брадвардин, вин-
финитизацию Вселенной (Койре А. Пустота и бесконечное пространство в XIV в. // Койре А.
Очерки истории философской мысли. М., 1985. С. 74-108).
17 Duhem P. Études sur Leonard de Vinci. P., 1909. V II. P. 411; Визгин В. П. Идея
множественности миров. М, 1988.
18 Gilson Ε. History of Christian Philosophy in the Middle Ages. N. Y., 1959. P. 729.
214
Раздел второй
волюнтаризму и креационизму противостоит античная рационалистическая
традиция объяснения мироустроения, представленная, например, Платоном в его рассказе
об устроении космоса демиургом («Тимей»). Здесь все акты оформления
изначального хаоса мотивированы рационально, все мировое устройство вплоть до деталей
определено благом, совершенством, красотой как конечными целями, как тем
объективным разумом, который станет «достаточным основанием» у Лейбница,
повернувшим от волюнтаризма к рационально-онтологической традиции19. «Дабы
произведение, — говорит Платон устами Тимея, — было подобно всесовершенному живому
существу в его единственности, творящий не сотворил ни двух, ни бесчисленного
множества космосов: лишь одно это единородное небо...» (Тимей, 31b). Все акты
устроения мира определены здесь вполне понятными, «прозрачными» для
человеческого разума рациональными основаниями или мотивами — самим вечно сущим
разумом или знанием того, что является лучшим в себе, благом perse: «Пожелавши,
чтобы все было хорошо, чтобы ничто, по возможности, не было дурно, Бог
позаботился обо всех видимых вещах, которые пребывали не в покое, а в нестройном и
беспорядочном движении, Он привел их из беспорядка в порядок, полагая, что второе,
безусловно, лучше первого»20. И поэтому греческий космос в высшей степени
рационален, являясь совершенным воплощением ума, блага и красоты (что для греков
сливается в едином идеале каллокагатии). Мир же библейского креационизма,
продолжающийся в волюнтаристской теологической традиции, напротив, непредсказуем
рационально, являясь ареной прежде всего творческой воли Бога. Парадоксальный
сплав несплавляемого — библейского волюнтаризма и греческого рационализма —
дал жизнь европейской культурной традиции, став источником ее удивительного
динамизма и внутренней напряженности.
Наличие в греко-языческой культуре безусловной рациональной мотивировки,
предваряющей акт творческой воли демиурга, означает, что предполагается
существующим некий неизменный идеальный объективный мир — мир вечных
канонов блага, добра, красоты, умный мир совершенных форм или эйдосов, с которым
не может не считаться даже Бог и который, по сути дела, определяет его
«миротворческую» деятельность. В библейском же мировоззрении такого особого или отдельно
(χωρισμοζ по Платону) сущего и независимого от Божественной воли мира не
существует. Если в определенных исторических условиях на передний план в составе
европейской культурной традиции выступает античная традиция рациональной
онтологии, то и познавательная установка при этом приобретает особые характеристики.
Действительно, если все в мире есть воплощенный разум, объективированная цель,
зримое благо, то тогда и познание такого мира должно быть познанием в высшей
19 «Бог, — говорит Лейбниц, — ничего не делает без оснований» {Лейбниц Г. Т. Сочинения:
в 4 т. М, 1982. Т. I. С. 451). По Лейбницу, необходимость для Бога действовать, исходя из
«разумных оснований», вытекает из его совершенства (Там же. С. 470). Бог определяется им как
субстанция, которая есть достаточное основание для всего разнообразия мира (Там же. С. 419).
20 Тимей, 30а; курсив наш. — В. В.
Эксперимент и чудо: религиозно-теологический фактор... 215
мере рациональным, дедуктивным, умозрительным или «теорийным» (в греческом
смысле). Если же, напротив, все в нем определено в конце концов исключительно
Божьей волей, не знающей никаких пределов и превосходящих ее разумных
оснований, тогда, чтобы понимать такой мир, необходим прежде всего опыт, эксперимент,
испытание (себя и природы).
В начале XVII в. теологическая карта Европы была чрезвычайно пестрой, и это
порождало конкуренцию различных теологических установок и вело к тому, что
возникающая новая наука формировалась полифилетически, на путях разных
традиций или программ, отвечающих разным религиозным самоопределениям.
Например, в Англии преобладала волюнтаристская установка в теологии, причем в самой
радикальной форме, и это отвечало особенностям английской истории и культуры.
«На континенте, — говорит Клаарен, — религиозные устремления направлялись
на порядок, компромисс, стабильность, и целью было спасение. В Англии же
сильнее проявилась реформаторская суть кальвинизма... и в центре внимания оказалась
именно творческая функция Бога, а не спасающая...»21. Английский протестантизм,
особенно кальвинистские течения, был, пожалуй, самым динамическим и
эсхатологически насыщенным из всех форм протестантизма в тогдашней Европе. Среди
этих течений преобладала интенция на преобразование мира — общества,
государства, наук, культуры, образования, всего бытия. В высшей степени это стремление
к решительной и универсальной реформе характерно для пуританского
менталитета. Именно поэтому пуритане с такой уверенностью захватывали государственную
власть, пробуждали преобразующую жизнь социальную активность, не без их
влияния выдвигались планы великого восстановления наук (Ф. Бэкон) и строились
проекты нового естествознания, в которых библейская эгзегеза органически
дополнялась бы эгзегезой научно-эмпирической и экспериментальной (Р. Бой ль). Нельзя
сказать, что на континенте мы не видим проявлений такой же динамики, не находим
волюнтаристской установки в теологии. Нет, ее мы находим, например, и у Декарта,
и у Мерсенна, и у Гассенди22. Но в целом волюнтаризм континентальной теологии
умеривается большой дозой рационализма, с которым связана другая теологическая
установка, нацеленная на рациональный порядок и стабильность существующей
иерархии бытия и общества.
21 Klaaren Ε. M. Religious origins of modern science... P. 49-50.
22 Христианизируя эпикуровский атомизм и опровергая в связи с этим аргументы
Эпикура в пользу тезиса о смертности души, Гассенди явно опирается на волюнтаристскую
установку в теологии («действия Бога не являются необходимыми»). И отсюда он заключает, что
если творческое деяние Бога не ограничено пределами понимания для человека, для его ума
и воображения, то Бог мог бы сотворить, вопреки мнению Эпикура, сущность бестелесную,
но не являющуюся пустотой, чего древние атомисты не могли допустить, деля все сущее
на атомы и пустоту (см. об этом: Osier М. J. Baptizing Epicurean atomism: Pierre Gassendi on the
immortality of the soul // Religion, science, and worldview. Essays in honor of Richard S. Westfall.
Cambridge; N. Y.; Melbourne, 1985. P. 168).
216
Раздел второй
В рациональных онтологиях и теологиях от Фомы до Лейбница Божественный
разум поставлен иерархически выше воли Бога. В плане такой теологической
установки закон природы истолковывается как правило или инвариант ума, как его
имманентное определение. Самым очевидным правилом ума является закон запрета
противоречия, который и выступает первым ограничителем для проявлений Божьей
воли в теологии. Но в радикально проведенной волюнтаристской теологии Божья
воля не ограничена этим логическим законом. Сама возможность подобного рода
ограничений возникает при установлении терминологического различения двух
Божественных потенций —potential absoluta и potential ordinata. Волевая мощь Бога как
potential absoluta в силах опрокинуть любой порядок природы, преодолеть любой
естественный закон, сделать, как это любит повторять Шестов, невозможное
возможным (например, вернуть Регину Ольсен ее жениху Сёрену Кьеркегору). В качестве
абсолютной мощи Бог не обязан подчиняться никакому природному, разумному,
моральному и прочему закону или необходимости23. Но у многих ученых, разделявших
принципы теологии воли, творческая мощь Бога все же как-то ограничивалась.
Например, Бойль ограничивал ее законом противоречия: Бог не может одной и той же
вещи в одно и то же время придать прямо противоположные характеристики.
Волюнтаристская установка в теологических предпосылках характеризует
прежде всего представителей механистической программы — Декарта, Гассенди, Мер-
сенна, Бойля, Ньютона — ив разной мере у каждого из них легитимизирует
экспериментальный подход в концепции науки. Однако и при других теологических
установках возможность эмпиризма, направленности на опытное исследование
природы, не исключается в силу того, что исторические феномены синкретичны
и не укладываются в жесткие логические схемы. Правда, при иных установках в
теологии и в иных традициях этот экспериментализм не получает статуса той
методологической базы знания, который он имеет в новой механистической науке, когда
теория и эксперимент смыкаются в единое целое, как это продемонстрировал,
прежде всего, Галилей. Так, видный представитель спиритуалистического направления
мысли, питаемого герметической и неоплатонической традициями, получившими
второе дыхание в эпоху Возрождения, И. Б. Ван-Гельмонт (1577-1644) известен
своими опытами, предназначенными доказать его умозрительные теории природы
(в частности, теорию воды как первоэлемента). Однако его представление о Боге
не укладывается в схему волюнтаристской теологии24. По Гельмонту, не воля главное
23 Примером такого радикализма в волюнтаристской теологии выступает Петр Дамиани
(1007-1072): «Кто властвует над сотворенными вещами, — говорит он в своем трактате Ό
божественном всемогуществе", — тот не подчинен законам творца... тот легко может, если
хочет, уничтожить эти законы природы» (цит. по: Шестов Л. Киркегард и экзистенциальная
философия. М., 1992. С. 290).
24 Бог у английского гельмонтианца Томаса Шерли подобен платоновскому демиургу:
«Бог, — говорит Шерли, — подобно живописцу постигает своим разумом прежде всего
духовную Идею картины, которую он затем намерен создать с помощью особых движений руки,
Эксперимент и чудо:религиозно-теологический фактор... 217
в Боге, а дух. Именно поэтому творческий дух в человеке рассматривается им как
подлинный образ Божий. По Гельмонту, налично данный разум человека,
являющийся плодом грехопадения, должен быть преодолен творческим духом, свободным
от горделивых замашек разума. Как пишет Клаарен, «Гельмонт находит религиозно,
морально и научно предосудительной способность разума к почти неограниченному
продуцированию все новых и новых мыслей»25. Такое отношение к вербалистиче-
ски-схоластическому разуму дополняется у него ориентацией на опытное
исследование природы, особенно в том, что касается ее химизма, понимаемого предельно
широко, как продолжение Божьего творения, описанного в книге «Бытие». Пара-
цельсовскую иатрохимию Гельмонт расширяет во всеохватывающую философию,
называя ее то «естественной», то «химической», то «христианской»26. Эпитет
«христианская» неслучаен: для многих спиритуалистов создаваемая ими натуральная
философия казалась именно христианской — в противовес языческим спекуляциям
Аристотеля и Га лена27. Сомнение в христианской аутентичности схоластической
традиции укрепилось со времени упомянутых нами указов епископа Парижа (1277).
И поиски философии, отвечающей новому чувству христианской истины,
разными путями вели к тому перевороту, который ознаменовался рождением новой
науки и созданием впоследствии на ее основе современной техногенной цивилизации.
Христианская направленность знания теперь — у Ван-Гельмонта, у его учеников,
у Р. Бойля и других ученых XVII в. — формулируется как прославление Творца в
исследованиях Его творения, приносящих практическую пользу людям28. XVII в. — век
гениев, век порога новой эры — полон рассказов о духовных опытах, обращениях
и переворотах. Одним из его типичных жанров оказываются опыты (эссе) и
исповедь (как и в век Августина). Но если исповедь Августина обозначила выбор
христианской веры на фоне языческих культов и гностических течений, то исповеди XVII в.
(Ван-Гельмонт, Бэкон, Бойль, Декарт в его «Рассуждении о методе» и др.) обозначают
выбор новой философии и науки, понимаемых как подлинно христианское
мировоззрение. Сам переход от отвлеченных умозрений схоластики к практически
значимому знанию оценивается как христианизация науки: «Первая глава,
открывающая исповедь у Ван-Гельмонта в "Oriatrike", — свидетельствует историк, — призывает
руководимой этой Идеей, с тем, чтобы получить Совершенную вещь, отвечающую тому
образцу, который он имел в своем уме» (цит. по: Kearney Η. Ε Science and change 1500-1700. Ν. Y;
Toronto, 1971. P. 129).
25 Klaaren E. M. Religious origins of modem science... P. 78.
26 Ibid. P. 79.
27 Ван-Гельмонт «не допускал, что Бог открыл тайну исцеления языческим авторам.
Поэтому любой сторонник "языческих школ" исключался им из числа обладателей "истинных
принципов лечения"» (Kearney Η. Ε Science and change 1500-1700. P. 127).
28 По P. Мертону, такая направленность отвечает «главным постулатам пуританского этоса»
(Merton R. К. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England. 4, гл. IV).
218
Раздел второй
отказаться от личного "Я" и приписывать всю славу только Богу, практикуя химико-
медицинскую натуральную философию ради "пользы ближнего"»29.
Рассказ о духовном перевороте Бэкона содержится в его неопубликованном
произведении «Masculin Birth of Time» (1605). Тональность обретенной истины здесь
согласуется со свидетельством Ван-Гельмонта, Бойля и Декарта, который говорит о
необходимости «найти практическую философию», с тем чтобы «сделаться хозяевами и господами
природы» и приносить людям пользу, причем среди разных благ первым Декарт, вполне
в духе Гельмонта, признает здоровье, тем самым выше всех знаний ставя медицину30.
Другим общим полюсом всех этих духовно-религиозных и мировоззренческих
переворотов и обращений является тема опыта, эксперимента. Каждый мыслитель
толкует ее по-своему. Так, Бэкон вступает в спор с Парацельсом — одним из
столпов спиритуалистической традиции:
Смешением божественного и естественного, профанного и священного, ересей и
мифов ты, о богохульный обманщик, нанес вред сразу и человеческой и религиозной
истинам... Если софисты забросили опыт, то ты его предал. Очевидное, добытое
из вещей, подобно маске, скрывающей реальность, нуждается в осторожном и
тщательном отборе, а ты подчинил его приготовленной заранее схеме истолкования31.
«Софисты», упомянутые здесь, это представители школьной мудрости,
схоластической традиции. И то, что они считаются чуждыми идее опытного познания,
неудивительно32. Но и сам Парацельс, отвергший вербальную псевдонаучность схоластов,
Аристотеля и Галена и призвавший черпать знание из раскрытой книги природы,
оказывается, по Бэкону, недостаточно правильно понимающим опыт,
подчиняющим его готовым схемам, предзаданным конструкциям. Именно здесь и надо видеть
развертку настоящего понятия опыта и эксперимента в мысли XVII в.: опыт это то,
что позволяет осуществлять направленное на более достоверное знание движение
в области теоретического конструирования предмета познания. Эксперимент в
новом естествознании это такая сфера активности познающего разума, в которой
осуществляется спор теорий, а также их оценка и проверка и происходит
обоснованный выбор теоретической конструкции, это точка трансформации теории33. И упрек,
29 Klaaren Ε. M. Religious origins of modern science... P. 81.
30 Декарт P. Избранные произведения. M., 1950. С. 305.
31 Цит. по: Klaaren £. M. Religious origins of modern science... P. 99.
32 В аристотелизме XVI-XVH вв. однако существовало и эмпирическое направление,
отвечающее подходу к изучению природы и самого Стагирита (особенно в его биологических
сочинениях). Самым известным представителем аристотелевского эмпиризма этой эпохи был
падуанец Джакомо Забарелла (Kearney К Ε Science and change 1500-1700. P. 78).
33 «Эксперимент, — справедливо подчеркивает А. В. Ахутин, — отвечает необходимости
одному понятию отстаивать себя перед лицом предмета от другого возможного понятия»
(Ахутин А. В. История принципов физического эксперимента. М., 1976. С. 183).
Эксперимент и чудо:религиозно-теологический фактор... 219
брошенный Бэконом Парацельсу, вернут затем самому Бэкону те, кто нашел не
найденное им самим эффективное сочетание теории и эксперимента, давшее
математическое естествознание — самое революционное открытие XVII в.
Рассказ о духовном обращении Р. Бойля содержится в его отчете о пребывании
в Женеве. Он клянется в том, что будет усердно служить Богу в своей научной
деятельности. Ему тогда открылось, что вся жизнь есть не что иное, как сознательное
служение Богу, исполнение Его воли. Если средневековая схоластическая традиция
понимала человеческую жизнь в ее оправданности как опосредованное церковной
традицией бытие в присутствии Бога (онтологическая рациональная теология), если
возрожденческий спиритуализм от Парацельса до Ван-Гельмонта понимал жизнь
человека как жизнь в духе (холистская спиритуалистическая теология, рискующая
сорваться в пантеизм), то нововременная установка от Бойля до Ньютона понимает ее
как исполнение воли Бога (волюнтаристская теология, повернутая к индивидуальной
активной практике, имеющей ясный религиозный смысл).
Бойль продолжает и расширяет критику Бэконом понимания опыта Парацель-
сом. Он уже критикует не самого Парацельса, а другого спиритуалиста, на
которого повлиял основатель иатрохимии, — Ван-Гельмонта. Он вступает с ним в спор
по поводу того, насколько правильно приписывать Богу, исходя из предпосылки
Божественного провидения, то, что Он создал лекарства от всех болезней. Такое
рассуждение для Бойля страдает априоризмом и вовсе не является свидетельством
высокого благочестия.
Я полагаю, — говорит Бойль, — что доказательства, которые Гельмонт и другие
выдвигают, исходя из Божественного провидения, насчет излечимости всех болезней,
не очень-то убедительны и задевают Божественное достоинство, так как Бог не
обязан продлевать жизнь греховному человеку дольше, чем животному, и это не задевает
Его достоинства, и мы смиренно должны благодарить Его, если Он действительно
распространил лекарства от каждой болезни, но мы не имеем права Его обвинять,
если Он этого не сделал34.
Априорная дедукция в природознании, по Бойлю, не имеет теологического
оправдания, она даже оскорбляет Божественное достоинство, которое мы
соблюдем лучше, если отбросим подобные схемы и будем опытным путем изучать
природу, в частности вопрос о том, какие именно лекарства существуют в природе,
а каких в ней нет, какие болезни излечимы, а какие — нет. Тот образ благочестия,
который усваивает себе Бойль, требует именно смиренного эмпиризма,
выжидательной экспериментальной установки, а не самоуверенной рациональной
дедукции, якобы прославляющей Творца. Нет лучшего способа славить Творца, считает
Бойль, чем заниматься именно опытным исследованием творения Его, ставя под
вопрос все априорные схемы. Разгадать волевые поступки Бога-Творца мы не в
состоянии, действуя с помощью схематика-разума, склонного к априорным выводам:
34 Цит. по: Klaaren Ε. Ai. Religious origins of modern science... P. 99.
220
Раздел второй
воля Бога выше Его разума, и этому их соотношению в Боге отвечает примат
экспериментального исследования в человеческом познании природы. Так, исходя именно
из волюнтаристской ориентации в теологии, Бойль критикует Ван-Гельмонта, у
которого тоже можно заметить движение к эмпиризму, за его непоследовательность
в этом движении. Итак, волю Бога (например, в конкретном вопросе о том, сколько
и какие лекарства существуют в природе) можно узнать, в конце концов, опираясь
на опытное исследование, а не на склонный к дедукциям из принципов разум.
Основной принцип Бойля, диктуемый ему его теологической установкой, его
пониманием христианского благочестия, состоит именно в этом.
Познавательный приоритет опыта по отношению к притязаниям
теоретической дедукции Бойль защищает, споря и с Декартом. Декартов теологический
волюнтаризм ограничен его рационалистической метафизикой, стремлением из простых
первопринципов, данных нам как нечто предельно ясное и отчетливое, вывести
содержание всех явлений мира. Декарта можно считать создателем нового —
механистического — мировоззрения. Проявляя чувство меры или здравого смысла, он
избегает крайностей как радикального эмпиризма (Бойля и Локка), так и радикального
рационализма (характерного, например, для Лейбница). Декарт понимал роль опыта
в новой науке, не умаляя, конечно, значения теоретической дедукции из принципов,
которая у него, однако, фактически доминирует над экспериментальным познанием.
«Что касается опытов, — говорит он, — то я заметил, что они тем более необходимы,
чем дальше мы продвигаемся в познании»35. По Декарту, опыты значимы тогда, когда
из принципов следует несколько решений. В начале исследования еще незачем
прибегать к опытам: здесь работает дедукция, рациональная дискурсия. Однако
могущество природы (и Бога, за ней стоящего) настолько велико, рассуждает Декарт, что
приходится ставить опыты, чтобы установить однозначные связи явлений. Итак,
опыт приходит на помощь там, где нужно выбрать конкретный механизм
определенного явления: дедукция дает несколько возможных механизмов, и правильный
механизм можно установить, производя опыты36.
Связь нового экспериментального механистически ориентированного
естествознания с волюнтаристской установкой в теологической ориентации еще
определеннее, чем у Декарта, обнаруживается у Мерсенна. Мерсенн критикует Аристотеля
за то, что он «не признавал свободы первой причины»37. Первопричина, перводвига-
тель или Бог Стагирита сам подчинен универсальной необходимости —
рациональному аналогу судьбы в языческом религиозном мировоззрении. Мерсенн
восторгается св. Фомой за то, что он в этом важнейшем пункте исправил Аристотеля, признав
абсолютную свободу Божественной первопричины. В этом отношении Мерсенн
следует за схоластической традицией. Но он с нею и расходится, поскольку последняя
35 Декарт Р. Избранные произведения. С. 306.
36 Там же. С. 307.
37 Цит. по: Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P. 275.
Эксперимент и чудо: религиозно-теологический фактор... 221
в своем рационалистическом реализме делает, как он считает, чрезмерный акцент
на разуме, раскрывающем внутренние формы вещей как их интеллигибельные
телеологически активные сущности. Для Мерсенна же рациональная метафизика
вообще оказывается излишней. «Согласно Мерсенну, — говорит Ленобль, —
познание реальности не является больше умозрением, но есть дело опыта»38. В
результате Мерсенн создает такую концепцию науки, которая приближается к
канонам позитивистского образа знания. Как устроены вещи на самом деле, мы никогда
не узнаем в нашей земной жизни — мы можем узнать об этом, говорит Мерсенн,
только на небе. И эта возможность, кстати, — мощный дополнительный импульс
для любознательного ума туда стремиться, исполняя предписания религии и морали.
Такая трактовка знания прямо связана с волюнтаризмом в теологии. Мерсенн
считает, что мир и все вещи в нем созданы свободной волей Бога, которая в своем
творчестве не подчинялась никаким необходимостям, никаким разумным
основаниям, которые бы стояли выше ее. Этой теологической ситуации отвечает в
эпистемологии принцип эксперимента, вытекающий из учения об абсолютной свободе
воли Творца как его главное следствие. Законы природы при этом «упираются» как
в свое последнее основание в безосновность Божьей воли, их создавшей. В этом
смысле они иррациональны или случайны, и устанавливать их оказывается
возможным только при условии обращения к эксперименту. Единственным
теологически понятным основанием для них выступает «удовольствие Бога-Творца»,
поступившего при их создании исключительно по своему желанию. «Omnia quaecum
que voluit, fecit», т. е. «все, чего Бог хочет, все это Он и делает», — говорит Мерсенн39.
И поэтому адекватным языком для описания такого Бога в его отношениях с
миром становится язык политического абсолютизма, установившегося, кстати, тогда
во Франции: «Сest le maistre, cest le Roy absolu et souverain de tous les corps et de tous les
esprits»40, — говорит о Боге Мерсенн41. Поэтому нечего спрашивать о последних
основаниях физики мира, нечего допытываться до его окончательного устройства —
за миром ничего, кроме воли Бога, Его «хочу так», не стоит. Поэтому, считает
Мерсенн, искать знания о мире надо прежде всего с помощью опытов, позволяющих
законосообразно связывать явления, строя гипотезы об их связях с помощью
математически оформленных построений, не претендующих на метафизическую
окончательность. Многие ученые, с которыми вступал в полемику Мерсенн, напротив,
считали, что в мире действуют целевые причины, присущие ему как его
умопостигаемые активные формы. Так считали, прежде всего, те, кто остался на позициях ари-
стотелизма, хотя некоторые из них и пытались выйти за его пределы. Так считали
38 Цит. по: Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P. 273.
39 Цит. по: Ibid. P. 264.
40 «Это — господин, абсолютный Монарх, суверен надо всеми телами и всеми умами» (пер.
с франц.).
41 Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P. 264.
222
Раздел второй
и оппоненты аристотелизма — спиритуалисты и герметисты, хотя они и давали
своему финализму скорее неоплатоновскую и неопифагорейскую, чем
аристотелевскую, трактовку. К первым принадлежал, например, Жан Рей (1593-1645), врач
из Монпелье, предвосхитивший Лавуазье, опубликовавший интересные
наблюдения о падении тел, заинтересовавшие Мерсенна. Ко вторым относится знаменитый
английский герметист, тоже врач, Р. Флудд (1574-1637). В полемике с ними обоими
в качестве основного аргумента Мерсенн выдвигает теологический принцип
свободы воли Бога-Творца, делающий излишними, как он считает, любые
предположения о финализме самой природы: раз природа мыслится как механизм или машина,
созданная волей Бога, то в ней нет никакой автономии, никаких имманентных
целей, оснований или причин, которые бы ограничивали волю Бога и не зависели бы
от нее. Единственное, что нам доступно в области познания природы, считает
Мерсенн, это постижение закономерной механической связи явлений благодаря опыту
и его математическому описанию. Узнать же, как устроена природа сама по себе
или «в себе», мы никогда в этой жизни не сможем, да это и не нужно нам на Земле,
ибо цель знания — служение благу людей, в чем тоже проявляется забота Бога о нас.
«Науки, — говорит Мерсенн, — неполноценны, если они не применяются в
практической жизни, так как Бог дал их нам для того, чтобы ими пользоваться»42. Ученый,
по Мерсенну, это инженер-механик, конструктор-практик, и в этом он подражает
Богу — величайшему Инженеру, Творцу машины мира.
Спиритуалисты магико-герметической традиции перипатетический финализм
сменили на анимистический или панпсихический. Споря с Аристотелем, они
приняли доктрину его учителя Платона, неоплатоников и пифагорейцев. Так, Флудд,
исходя из соотношений музыкальной гармонии, предписывает планетам их
взаимное расположение. Тем самым умозрительный принцип гармонии ставится им
выше воли Бога. Так же поступают Бруно и другие натурфилософы Возрождения,
понимая гармонию по типу финализма, заложенного якобы в действии магнита,
в силах симпатии и антипатии. Аргументация Бруно в пользу бесконечности
Вселенной строится аналогично аргументации Платона в «Тимее»: сначала осознаются
вечные каноны блага и красоты, а затем по ним создается мир. «Весь этот
финализм, основанный на необходимости, — говорит Ленобль, — исчезает из системы
Мерсенна»43. Настоящей аподиктичности в финалистских заключениях, считает
Мерсенн, нет и быть не может, потому что воля Бога-Творца абсолютно свободна.
И поэтому единственной подлинной необходимостью в сфере познания остается
опыт. Так, например, Мерсенн признает, что Бог может создать бесконечное
множество миров. Но решить этот вопрос, исходя из априорных соображений, считает
он, невозможно. Нужен опыт. И, например, телескоп, столь замечательно
усовершенствованный Галилеем, может нам сказать, существуют ли на самом деле
другие миры или же нет.
42 Цит. по: Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P. 265.
43 Ibid. P. 273.
Эксперимент и чудо: религиозно-теологический фактор... 223
Подводя итоги рассмотрению связи волюнтаристской установки в теологии
и экспериментального характера новой науки у Мерсенна, нужно подчеркнуть, что
у него речь идет об определенном типе науки, а именно о механистическом
естествознании. Тот эмпиризм, который содержался в конкурирующих с механицизмом
программах — в перипатетической традиции, а также и в анимистических натурфи-
лософиях Возрождения, — не составлял основополагающего, методически
поставленного элемента этих познавательных систем, в частности и потому, что
теологический контекст, с ними связанный, не включал в себя, как правило, волюнтаристскую
установку (creation ex nihilo и принцип свободы воли Бога-Творца), а если и включал,
то в редуцированной форме из-за присущего этим программам финализма.
Проблема чуда
Натурфилософия Возрождения, столь характерная для культуры Европы на ее
переломе от средних веков к Новому времени, и религиозно, и научно была
амбивалентным феноменом. Известно, какое место в ней занимала магико-герметическая
традиция, воскрешающая атмосферу гностицизма первых веков христианской эры,
преодолевая которую оформлялось догматическое ядро христианской традиции.
Хотя и существовали течения христианской каббалы, а спиритуалистические
учения натурфилософов, как правило, открыто не порывали с христианством, а
иногда даже их представители искренне, как, например, Ван-Гельмонт, стремились к
новой христианской науке, однако весь этот, философски выражаясь, натурализм был
окрашен пантеистически, а магия и оккультизм, в нем содержащиеся, не отвечали
нормам христианской религиозности и ортодоксальной теологии.
Такое же, по меньшей мере двусмысленное, отношение связывало
натурфилософскую традицию Ренессанса и с зарождающимся математическим естествознанием.
С одной стороны, натурализм Возрождения был средством для того, чтобы
расшатать авторитет схоластической традиции, перипатетической науки университетов.
На этом пути натурфилософы выдвигали порой новые идеи, поддерживая смелые
научные новации (например, инфинитист Бруно был пламенным пропагандистом
коперниканства44). Но, несмотря на это, натурфилософия Возрождения в целом
представляла собой скорее «эпистемологическое препятствие» (выражение Башляра)
новой науке, чем служила ее развитию и оформлению. Как ни критиковали
натурфилософы Аристотеля, однако их собственная физика оставалась квалитативист-
ской, как и у самого Стагирита. Этот сложный узел взаимных отношений и острых
44 Вплоть до Галилея коперниканская система была принята (и с энтузиазмом) только
представителями неоплатонической магико-герметической традиции (Kearney H. R Science and
change 1500-1700. P. 104), что является, кстати, косвенным указанием на ту традицию, к
которой принадлежал и сам Коперник.
224
Раздел второй
противоречий между ортодоксальным схоластическим рационализмом,
зарождающейся новой механистической наукой и натурфилософской спиритуалистической
традицией со всем драматизмом завязывается уже в XVI в.
Действительно, в этом столетии магико-герметическая традиция, усвоив
каббалу, переживает свой расцвет, получив мощный импульс от работ М. Фи-
чино и Пико делла Мирандола, в трудах Агриппы, Рейхлина, Джиорджио и
других представителей оккультной науки. Расцветает и натурфилософия, тесно
связанная с указанной традицией (Помпонацци, Нифо, Телезио, Кардано, Патрици,
Бруно и др.). Но одновременно набирает силу и антимагическое,
антигерметическое течение (Дель Рио, иезуит, выступивший с огромным фолиантом против
магии в конце века, протестант Иоганн Виер, стремившийся к полному очищению
религии от магии, Томас Эраст, присоединившийся к нему в этом отношении, и др.45).
Прежде чем перейти к анализу этой антимагической атаки, бьющей и по
натурфилософам, посмотрим, как ставилась и решалась такая важная для выяснения
всех этих сложных взаимосвязей проблема, как проблема чуда, в
натурфилософской традиции Возрождения. Наиболее известным сочинением, посвященным
этой проблеме, был трактат Пьетро Помпонацци (1462-1525) «О причинах
естественных явлений или о чародействе» (Basel, 1556), законченный автором к 1520 г.
и распространявшийся сначала в рукописных списках. Моделью чудесного явления
в этом трактате выступает излечение словом (или заклинанием — название
трактата можно перевести и как «О заклинаниях»), приводящее на ум мысль об
участии в этом процессе сверхъестественных сил. Ответу на вопрос о чуде и
чудесном и посвящен этот трактат.
Разбирая в связи с этим большой материал, накопленный с античности
касательно различных чудес, чар, заклинаний, магических операций, Помпонацци
приходит к однозначному выводу, что все эти явления, во-первых, действительно
существуют, а во-вторых, все они могут получить совершенно естественное истолкование,
и поэтому нет никакой нужды, как это часто делается, обращаться при попытке
их объяснения к сверхъестественным сущностям — демонам, ангелам и т. п.
Например, известный чудотворец Аполлоний Тианский мог видеть (как это следует из его
биографии46) на огромном расстоянии. Помпонацци утверждает, что это так и было
на самом деле, но не благодаря магической силе Аполлония, а в силу естественных
причин: «Ибо явления земного мира, — говорит он, — распространяют свои образы
по воздуху и вплоть до неба, как бы от одного зеркала к другому, и таким образом, эти
предметы могут быть видимы издалека»47. Для всех необыкновенных явлений или
чудес Помпонацци находит естественное объяснение — то это деятельность
45 Yates Ε A. Giordano Bruno and the hermetic tradition. Chicago; London; Toronto, 1964.
P. 157-159.
46 Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души». «О причинах естественных явлений или
о чародействе». М., 1990. С. 224.
47 Там же. С. 152.
Эксперимент и чудо: религиозно-теологический фактор... 225
«жизненных духов», вполне природных, то сила воображения и психического
внушения, но, в конечном счете, во всех этих явлениях обнаруживается влияние звезд.
Астрология у Помпонацци оказывается главной наукой, дающей итоговое
объяснение всей природе, в том числе и ее чудесным проявлениям.
Пусть же, — говорит философ из Мантуи, — прибегающие к существованию
демонов обратят внимание на низвержение царств, возвышение империй на месте
неисчислимых пришедших в упадок, на бедствия от воды и огня, на столь удивительные
события во Вселенной, совершаемые силой небесных тел: никто, в том числе и они
сами, находясь в здравом уме, не станет и не посмеет отрицать, что
рассматриваемые явления могут быть совершены небесами, ибо это свидетельствовало бы о
скудоумии и полном отсутствии прозорливости48.
Что же происходит у Помпонацци? Истечения или испарения, жизненные духи
и тому подобные естественные факторы привлекаются им при рассмотрении
чудесных явлений, для объяснения которых не надо больше обращаться к богам,
демонам и прочим сверхъестественным сущностям. Магия, таким образом, натурали-
зируется, чудо ставится в разряд природных явлений, быть может, отличающихся
от обычных явлений только более редкой периодичностью49. Магическая
беспредельность возможностей (в принципе для мага нет невозможного), отнятая у
профессиональных магов и колдунов, с одной стороны, у демонов и ангелов — с
другой, приписана самой природе. В результате магия не изгоняется из мира, а делается
еще более обоснованной, будучи прочно вписанной в сам природный фундамент
мироздания.
Рассмотрим в качестве примера только одно чудо — воскрешение из мертвых
и его трактовку, с одной стороны, Помпонацци, с другой — Мерсенном.
Помпонацци стремится к тому, чтобы и это чудо из чудес сделать обычным
естественным явлением. В частности, он говорит, что воскрешения, приписываемые
Аполлонию Тианскому, ничего невероятного в себе не содержат, будучи естественными
явлениями50.
Если Помпонацци стремится расширить понятие естественного за счет
утверждения такого всемогущества природы, для которого и воскрешение не есть чудо,
то Мерсенн озабочен как раз противоположным — тем, как ограничить область
естественных явлений, сделав категорию природы четко определенной и строго
ограниченной. На этом пути он подвергает критике различные рассказы о подобного
48 Помпонацци Я. Трактаты... С. 277.
49 «Не потому это чудеса, что происходят полностью вопреки природе и помимо порядка
движения небесных тел, но потому они именуются чудесами, что необычны и чрезвычайно
редки и происходят не по обычному ходу природы, но с весьма долгой периодичностью» (Гор-
функелъ А. X. Постоянство разума (свободомыслие Пьетро Помпонацци) // Помпонацци Л.
Трактаты... С. 17).
50 Помпонацци П. Трактаты... С. 224.
226
Раздел второй
рода чудесах. И если величайшие законодатели действительно совершали такие
чудеса (как Моисей и Иисус Христос), то потому только, говорит Мерсенн, что в них
действовала воля Божья. Чудо — проявление сверхъестественного, Божественного
начала. Природа не знает чудес — она характеризуется строго очерченными
пределами, невозможностями, диктуемыми принципом запрета нарушить ее законы.
И Мерсенн готов признать такие чудеса, как воскрешения, но при одном лишь
условии: если они будут знаком Божественной благодати, объяснение которой входит
в религию и теологию. «И если религия и говорит нам, — пишет Ленобль, излагая
Мерсенна, — о некоторых воскрешениях, то пусть она и объясняет их нам. И лучше
отнести их на счет Божественной свободы, чем искажать понятие естественной
причинности»51. В этих словах — суть спора новой механистической науки с
натурфилософией Возрождения, которая, беспредельно расширяя естественную причинность
и область естественного вообще, искажает, деформирует само понятие природы.
Новая же наука, напротив, стремится жестко ограничить понятие природы, сведя его
к механическим закономерностям52.
Врагом религиозно значимого чуда, таким образом, выступает чудодейственность
природыу питаемая прежде всего астрологическим магизмом — верой в то, что все
необыкновенные силы камней, трав, стихий, животного мира и человека происходят
от звезд, от их влияний. Борьба конкурирующих познавательных программ в XVI-
XVII вв. неотделима от борьбы религиозных и теологических установок, с этими
программами связанных53. Барьер на пути безудержной экспансии магико-натуралисти-
ческой концепции природы был поставлен не столько в силу эпистемологического
предпочтения конкурирующих с ней концепций или программ, сколько в результате
самозащиты христианских ценностей европейской культуры.
Магическая концепция природы характеризует и других натурфилософов
Возрождения, в частности такого влиятельного, как Парацельс. Именно Парацельс
был главным объектом критики со стороны Иоганна Либера (его литературное
51 Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P. 121.
52 Аналогичным образом Мерсенн критикует и Дж. Кардано (1501-1576): «Он (Кардано. —
В. В.) говорит о пришествии нашего Господа, о христианском законе, который Он установил,
так, как если бы звезды были причиной всего этого, смешивая тем самым Творца и
творение и делая все сверхъестественное и чудесное следствием естественных причин» (цит. по:
Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P. 122).
53 Основными научными программами (и традициями) в эту эпоху были: 1)
органическая или перипатетическая, 2) магическая или спиритуалистическая, 3) механистическая
(Kearney Я. Ε Science and change 1500-1700. P. 17-48). M. Ослер выделяет из
спиритуалистической традиции парацельсовскую (OsierМ. /. Baptizing Epicurean atomism... P. 163), возможно,
под влиянием работ Ч. Вебстера и А. Дебаса (Webster Ch. From Paracelsus to Newton. Magic
and the making of modern science. Cambridge University Press, 1982; Debus A. G. The English
paracelsians. London, 1965; Debus A. G. Chemistry, Alchemy and the New Philosophy, 1550-1700.
London, 1987).
Эксперимент и чудо: религиозно-теологический фактор... 227
имя — Томас Эраст), швейцарского врача и теолога (1524-1583). Сочинение Эраста
против Парацельса («Disputationum de medicina nova Philippi Paracelsipartes quatuor»,
Basel, 1572-1573) использовалось Мерсенном в его решительной борьбе с
анимистической натурфилософской традицией. Для Эраста неприемлемой оказывается
сама суть парацельсовского природоведения — магическая концепция природы,
ее анимизм и спиритуализм. В натуральном магизме Помпонацци или Парацельса,
по сути дела, исчезало само понятие чуда как сверхъестественного нарушения
природной регулярности. Размывание чуда в натуралистической всевозможно-
сти угрожало основам христианского мировоззрения, хотя Парацельс был
верующим христианином, да и Помпонацци стремился все-таки провести грань между
чудесами религии, с одной стороны, и чудесами магии — с другой54, возможно
скрывая свои настоящие убеждения и маскируя их
«ортодоксально-благочестивым обрамлением»55. С целью спасения чуда от натуралистической его редукции
Эраст обращается к Аристотелю, у которого главным в его природоведении было
утверждение строгой регулярности порядка природы, его органической
правильности. Достается от Эраста и самому Помпонацци, а также и другим
натурфилософам, как новым, так и древним — Плутарху, Альберту Великому, Р. Бэкону,
М. Фичино, Пико... Сама идея магии — будь то магии демонической или,
напротив, натуральной — вызывает у него безусловное отрицание. Те чудеса, о которых
сообщает Библия, считает Эраст, ничего общего с магическими чудесами не имеют.
Нет магии и в церковных ритуалах: они лишь обозначают таинственное действие
благодати сообразно с богооткровенными установлениями, и никакой магической
операциональной эффективности в жестах и словах церковных обрядов нет.
Против Парацельса и натуральных магов, использующих каббалу, Эраст выдвигает
номиналистическую теорию знаков. Христианское благочестие, по Эрасту,
стремится к тому, чтобы природа рассматривалась как игра сил, господином над
которыми выступает один лишь Бог, управляющий миром согласно строгому порядку,
а не по произволу фантазии. Однако для конкретного определения такого порядка
Эраст мог предложить только перипатетическую качественную физику,
противоречия которой уже начали раскрываться пытливым ученым. Поэтому стремление
спасти саму возможность чуда, опираясь на упорядоченность природы, на ее
законы, вело к Аристотелю, а от него к новому порядку природы — к порядку
механистическому, более стабильному и объективному, чем порядок, устанавливаемый
качественной физикой. Основу такого порядка природы составил закон инерции
прямолинейного равномерного движения. Поэтому те ученые и теологи, которым
был близок пафос Томаса Эраста в его борьбе с магико-натуралистическим
размыванием понятия чуда, впоследствии опирались уже не на Аристотеля в своей
апелляции к регулярности природы, а на Галилея. Надежной опорой в борьбе с
магией физика Аристотеля в это время быть уже не могла. Это и показал весь опыт
54 Помпонацци П. О бессмертии души... С. 166.
55 Горфункелъ А. X. Постоянство разума... С. 16.
228
Раздел второй
полемики Эраста. «Эрасту не удалось, — пишет Ленобль, — поставить барьер
анимизму в сфере физики качеств, из чего Мерсенн извлек урок: науку от магии
может спасти только новая физика»56.
Итак, мы видим, что в вопросе о чуде наука и религия идут рука об руку:
христианской ортодоксии было необходимо отстоять идею чуда, а науке нужно было
покончить с магией и анимизмом. Интересы новой — механистической — науки и
христианской религии здесь совпадали. И лучше всего, пожалуй, это совпадение реализовалось
в такой типичной для первой половины XVII в. фигуре, как Марен Мерсенн, видный
ученый и монах католического ордена минимов (les minimes)57.
Мы можем сформулировать суть этого взаимодействия теологии и науки в
вопросе о чуде таким образом: защита чуда — пусть это и покажется кому-то
парадоксом — оказалась и защитой науки от возрожденческого паннатурализма с его
естественной магией. И у религии, и у науки в это время был общий сильный противник,
несущий угрозу им обеим. По сути дела, Помпонацци и другие натурфилософы
рассматривали природу не столько как рациональный порядок (это было у Аристотеля
и сохранялось в схоластической традиции), сколько как волюнтаристский произвол
симпатий и антипатий, подобий и отталкиваний, аналогий и влияний. Панпсихизм,
принцип аналогии микрокосма и макрокосма, мировая душа и жизненные духи —
весь этот типичный для натурфилософии Возрождения ресурс мышления не мог
служить базой для установления постоянно действующих законов природы,
постулирование которых является необходимым условием для того, чтобы было возможно
само чудо как их нарушение. Поэтому для теологов, борющихся с магией, на помощь
приходил Аристотель, проявлявший сдержанность по отношению к чудесному в
природе58. Но аристотелизма в это время было недостаточно. Авторитет Аристотеля —
как и сам принцип авторитета — уже был расшатан. И для того чтобы противостоять
наплыву возрожденческого иррационализма, нужен был новый рационализм и более
строгое и объективное понимание закона природы, чем у перипатетиков. Его и дали
Коперник, Кеплер и, особенно, Галилей... И поэтому апология христианства у Мер-
сенна не случайно сливается с апологией новой механистической науки. Для него
56 Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P. 605.
57 Приведем данный Леноблем психологический портрет Мерсенна: «Скромный по
характеру и по духу, глубоко честный в своем поиске, любознательный без меры и
просвещенный во всех науках своей эпохи, достаточно проницательный, чтобы понять эволюцию
своего времени и в ней участвовать, но при этом слишком уж забавляющийся деталями
в ущерб интересу к системе — таким был Марен Мерсенн» (Lenoble R. Mersenne ou la naissance
du mécanisme. P. 80).
58 Помпонацци, будучи аристотелианцем падуанской школы, считал, что сам Аристотель
ничего не говорит о чудесах и что поэтому разумно рассуждать о них можно, лишь исходя
из духа его философии природы (Помпонацци П. Трактаты... С. 126; Miller R. The manifestation
of occult qualities in the scientific revolution // Religion, science, and worldview. Essays in honor
of Richard S. Westfall. Cambridge; N. Y.; Melbourne, 1985. P. 192).
Эксперимент и чудо: религиозно-теологический фактор... 229
Помпонацци и Бруно, Кампанелла и Флудд в равной мере представляют собой и
антирелигию, и антинауку.
Основу для сближения интересов новой науки и религии составляло
стремление отстоять (в религии) или выдвинуть (в науке) такое понимание самой идеи
природы (естественного), которое четко было бы противопоставлено сверхприродному
началу. Концептуально природа может быть вразумительно определена, если
определено со всей ясностью и недвусмысленностью противопоставление естественного
и сверхъестественного. Натуралистическая же концепция отличалась, напротив, как
раз предельным смешением этих категорий — у представителей магико-герметиче-
ской традиции отличить естественное от сверхъестественного (или Божественного)
было невозможно. Развитие этой традиции вело к тому, что Льюис назвал «приро-
доверием»59, к пантеизму и даже прямому атеизму, в котором фактически все
функции Бога (в том числе и те, которые касаются чудотворчества) несет на себе эта
беспредельная, самодостаточная, самодвижущаяся и себя сама оформляющая природа.
Очевидно, что эта тенденция, по сути дела, восстанавливает дохристианское
язычество в мире верований, реабилитирует тот не созданный, самодвижущийся космос,
о котором учили греки.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что одновременно с тем, как в
экстенсивном плане понятия мира и природы, начиная особенно с Коперника, постоянно
расширяются, в интенсивном плане, напротив, происходит концептуальное сужение
этих понятий благодаря возникновению механики и ее экспансии в область
мировоззрения. Эталоном естественности, образцом для понимания того, что есть природа,
выступает при этом закон инерции: инерционно движущиеся тела — вот природа
согласно новому мировоззрению, природа per se. Когда к этому закону были
добавлены и другие основные механические законы, то тем самым обрисовался и в
принципе замкнулся круг природного бытия, схваченного в научных понятиях. И это
означало конец того, что понималось под природой в натурфилософиях Возрождения,
продолжавших магико-герметическую традицию.
В магической традиции наука и религиозность (нередко явно нехристианского
толка) смешивались. И именно это смешение сделалось теперь (в начале XVII в.
особенно) неприемлемым, так как представляло угрозу как для религии откровения —
христианства, — так и для новой экспериментально-математической науки. В конце
концов, Новое время стремилось к тотальной дифференциации во всем60, в том числе
к тому, чтобы отделить науку от религии. И не было лучшей возможности для этого,
чем новое механистическое естествознание. Оно четко и недвусмысленно
определило, что такое естественное, что такое природа. Религии в качестве ее
привилегии, которую она ни с кем разделять не хотела, осталось определение Бога или
59 Льюис К. С Чудо. М, 1991. С. 7-27.
60 Эта характеристика Нового времени как его специфика была рассмотрена Клаареном
(Klaaren Ε. M. Religious origins of modern science... P. 96-97).
230
Раздел второй
сверхъестественного. И чудо в такой системе дифференциаций стало элементом
исключительно религиозной системы, покинув область природознания61.
61 Такая трактовка чуда содержится, например, в поэтическом комментарии Пастернака
к евангельскому рассказу о смоковнице, осужденной на мгновенное засыхание Иисусом
(От Матфея, 21,19):
Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
(Пастернак Б. Избранное: в 2 т. М., 1985. Т. I. С. 414)
Данное поэтом толкование чуда предполагает, что и свобода природы (здесь
вспоминается Тютчев с его утверждением свободы природы (Тютчев Ф. К Лирика. М., 1965. Т. I. С. 81)),
и ее законы характеризуют мир в его падшем, т. е. обезбоженном, состоянии (природа
сопротивляется Божьей воле с помощью своей свободы, оформленной в ее законах и поэтому
тождественной со своеволием). Эта трактовка подчеркивает главный момент в понятии чуда —
теистический тезис в теологии. При его отрицании (например, у пантеиста Спинозы) чудо
делается невозможным, «так как природа, — говорит философ, — следует постоянному и
неизменному порядку» (цит. по: Kearney Η. Ε Science and change 1500-1700. P. 226).
Но можно и иначе представить себе это понятие, понимая по-другому и свободу природы,
и ее законы. Мы можем истолковать чудо так. В его понятии соединены два момента. Во-первых,
момент сверхъестественного, Божественного вмешательства. Но, во-вторых, поскольку чудо
касается вещей этого мира, то логично допустить, что оно может протекать только по законам
природы. Таким образом, чудо — сверхъестественное, но инструментализированное естественными
законами вмешательство в природу. Например, было замечено, что колокольный звон
способствует тому, чтобы ненужные дожди прекращались, так как дождевые тучи рассеивались (этот
случай анализирует Мерсенн). Простой народ при этом говорил: «Чудо!» «Воля звезд», —
говорил ученый натурфилософ типа Помпонацци. «Воля Божья», — говорит теолог и монах Мерсенн,
но как ученый он тут же спрашивает: а не действует ли воля Бога, в этом явлении
обнаруживаемая, с помощью законов движения жидкостей и газов? И если допустить это, то возникает
возможность и сохранить религию, и дать место механистической науке... Свобода природы при
этом истолковывается не как характерное для падшего состояния ее своеволие, противящееся
Божьей воле, а как не задетая грехопадением ее первосуть, продолжающая пребывать в Боге.
Возможность такого толкования чуда допускал и Павел Флоренский. В своих
«Воспоминаниях» он дает, так сказать, дольнюю интерпретацию горнего зова, позвавшего его лунной
ночью во дворе его тифлисского дома летом 1899 г. Не отрицая «небесных внушений и
голосов, лишенных физической основы» (Флоренский П. А. Детям моим. Воспоминанья прошлых
дней. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание. М., 1992. С. 216), он
тем не менее объясняет этот эпизод с помощью физических посредников, понимая при этом,
что все физическое или дольнее, протекающее по законам этого мира, определялось миром
горним, «который и направил все внешние обстоятельства так, чтобы наиболее доступным
мне образом пробить кору моего сознания» (Там же). Глубокий анализ чуда в категориях
личности и символа, как «мифической целесообразности» дает А. Ф. Лосев (Лосев А. Ф. Из
ранних произведений. М., 1990. С. 535-581).
Эксперимент и чудо: религиозно-теологический фактор... 231
Если мы теперь посмотрим на взаимосвязи и противостояния различных
традиций с точки зрения христианства, с позиций, например, Мерсенна как католического
теолога, то нам станет ясно, что магическая традиция, расцвет которой приходится
на конец XVI в.62, была для него религиозно значимым соперником, и притом весьма
грозным (косвенно об этом свидетельствует и влияние герметизма вплоть до XVII в.
включительно). Поэтому для того же Мерсенна существовал очевидный
религиозный стимул для борьбы с магией и натурфилософским анимизмом. Но это
стремление совпадало и с его научными ориентациями и симпатиями, фокусировавшимися
на архимедовой, механистической, математической традиции. Явственно также
проступает как у него, так и у других ученых (например, у Бэкона) и стремление спасти
новую науку от обвинений в магии, что было типичной ситуацией в контрреформа-
ционной Европе и заставляло многих ученых открещиваться от магии и герметизма,
даже если они и не принадлежали к магической традиции: природознание в
общественном сознании не отделялось тогда от оккультизма и магии.
Но если мы теперь посмотрим на того же Мерсенна как на ученого, как на
человека в высшей степени любознательного, заинтересованного в познании мельчайших
деталей природы (акустика, механические явления, астрономия, баллистика и т. п.),
причем в познании их, исходящего из парадигмы механико-математического
естествознания, то нам станет понятной и чисто научная мотивация в пользу
ортодоксального христианства, в союзе с которым, «под крылом» которого новая наука,
казалось, надежно защищена.
Конечно, в XVI и XVII вв. существует еще и другая антимагическая традиция —
это скептицизм и течение «либертинов» или вольнодумцев (от Рабле до Сирано).
Но это течение склонно было вообще отрицать все чудесное — ив самом
христианстве тоже, несмотря на некоторую вполне понятную осторожность в выражениях.
Но «ставить на одну доску Аполлония Тианского и Иисуса Христа Мерсенн
отказывается»63. Ибо для него как для убежденного католика, пусть и погруженного больше
в науку, чем в теологию или мораль, чудо чуду рознь, и нужно уметь отделять
«истинные» чудеса от «ложных». А для этого нет лучшей основы, чем новое
механистическое естествознание, формулирующее ясные, однозначные, экспериментально
верифицируемые законы.
XVII в. — век высокой религиозной активности и одновременно век научных
гениев, эпоха самого продуктивного в истории, быть может, напряжения научного
разума. И оба этих энтузиазма — религиозный и научный — сливаются в едином
порыве, результатом которого стал мощный вклад в научную революцию,
оформившую начало переворота в культуре Европы, в этом столетии свершившегося.
Угроза христианству была действительно велика, особенно в конце XV в., когда
устраивались культы Венере и Марсу, а Гермесу Трисмегисту поклонялись в такой
степени, что его изображением украсили кафедральный собор (Сиена, 1488), когда
62 Kearney К Ε Science and change 1500-1700. P. 4L
63 Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P. 94.
232
Раздел второй
верховным властителем человека снова становятся звезды и все сущее попадает в
тиски астрального детерминизма. Это был возврат язычества, греческих мойр,
восточных культов, гностицизма. И видное место в этом религиозном откате занимала
как раз возрожденческая натурфилософия64. Но и угроза науке при этом была
немалой. Причем — разнообразной. Науке угрожали пантеистический и панпсихиче-
ский натурализм и магия, но ей не в меньшей мере угрожала и жесткая реакция
западного христианства на эти же самые угрозы в его адрес, особенно усилившаяся
в эпоху Контрреформации и подогретая, конечно, его расколом. Итак, мы можем
заключить, что кризис культуры и общества в XVI-XVII вв. был тотальным и
глубоким: под вопрос было поставлено духовное единство европейского человечества —
как его христианское ядро, так и его традиционный рационализм. И тот союз науки
и христианства, который тогда оформился, явился спасительным для судеб
европейской культуры, для преодоления кризиса ее самотождественности.
Нередко, следуя традиции, идущей от просветителей, натурфилософов
Возрождения оценивают как предшественников новой науки, как провозвестников
научной революции (у нас, например, Горфункель65, на Западе — Бюссон66, Бланше67 и др.).
Католически ориентированные историки придерживаются, правда, иного мнения,
считая, что такие натурфилософы, как Помпонацци, напротив, делают шаг назад
по сравнению со схоластической традицией как традицией рационалистической68.
Во всяком случае, ясно, что полный разрыв с традиционным европейским
рационализмом не привел бы нас к нашей науке. Сама же позиция натурализма Возрождения
по отношению к Аристотелю как патрону схоластики была амбивалентной.
Настоящей полновесной концептуальной альтернативы аристотелизму натурфилософия
предложить не могла. Мы уже показали это на примере полемики Эраста с Пара-
цельсом — у всех возрожденческих натурфилософов, как и у их перипатетических
оппонентов, остается непреодоленным аристотелианский предел мысли:
качественная физика, квалитативистская парадигма.
Подводя итоги нашего анализа проблемы чуда, мы бы подчеркнули то
обстоятельство, что антихристианство вовсе не есть магистральный путь к науке Нового
времени. Да, магико-герметическое течение, столь широко распространенное и
развившееся в эпоху позднего Возрождения, многие представители которого религиозно
были ориентированы или индифферентно, или антихристиански (Кардано больше,
чем Помпонацци), сыграло роль в подготовке научной революции и негативно,
64 «Теперь не христианский Бог занимается людьми, — говорит о Помпонацци Ленобль, —
а звезды» (Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P. 116).
65 Горфункель A. X. Постоянство разума...
66 Busson H. Introduction // Pomponazzi Ρ Les causes des merveilles de la nature ou les
enchantements / Trad, française avec une introduction et des notes par H. Busson. P., 1930.
67 BlanchetL Campanella. P., 1920.
68 Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P. 118.
Эксперимент и чудо: религиозно-теологический фактор... 233
в качестве противника схоластической традиции, и, в известной мере, позитивно69.
Но, тем не менее, от спиритуализма, анимизма и натуральной магии не было пути
к новой науке, даже если бы вместе с этими учениями развился не только пантеизм,
но и крайний атеизм. Антихристианство послужило всеобщему брожению умов
и душ в эпоху Ренессанса, но науки не создало и не могло создать. Поэтому тезис
Ф. Йейтс об определяющей роли «герметического импульса» в генезисе науки нового
времени70 должен быть скорректирован или, точнее говоря, дополнен выявлением
других, в том числе даже противоположных, импульсов71. И нет, пожалуй, более
удачного материала для этого, чем анализ тех полемик и споров, которые вел Мерсенн.
69 См.: Kearney Η. Ε Science and change 1500-1700; Визгин В. П. Оккультные истоки науки
нового времени // ВИЕТ. 1994. № 1. С. 150-151.
70 Yates Ε A. Giordano Bruno and the hermetic tradition. P. 450.
71 Подчеркнуто католическую версию генезиса науки дает С. Яки. В противовес Йейтс и
отчасти в противовес ученым, подчеркнувшим роль протестантизма в формировании науки
(Вебер, Мертон, Вебстер), Яки считает основой для возникновения новой науки христианство
вообще и схоластику в частности (главный герой у него Бури дан). Он отрицает значение
традиции греческого рационализма. Фразу из книги «Премудрости Соломона» (11, 20) об
упорядочении Богом мира мерою, числом и весом он считает несравненно более важной в этой
связи, чем творчество Архимеда (Яки Ст. Л. Спаситель науки. М., 1992. С. 118). В результате
такой унификации всех разнородных рационалистических традиций исключительно
традицией христианского рационализма, во-первых, стушевывается классический греческий
рационализм, вся эллинская наука, а во-вторых, исчезает сложная ситуация Ренессанса с его явно
нехристианской магико-герметической традицией. Концепция Яки, на наш взгляд, слишком
проста, чтобы быть верной. Из существования в истории веры в разумность мира еще вовсе
не следует, что она обязательно должна быть христианской (такая вера существовала и в
языческой Греции), а из наличия ее еще не следует с неизбежностью новая экспериментальная
наука. Наша позиция (отвлечься от нашего пребывания на Восточно-Европейской великой
равнине с ее восточнохристианской традицией мы не можем, если бы даже хотели того), может
быть, как раз удачна для того, чтобы при анализе проблемы генезиса новой науки не впасть
в односторонность. Герметический импульс расшатал традиционное христианство Запада,
но наука возникла потому, что антихристианского срыва в восточный гностицизм при этом
не произошло. И в этом уникальном событии свою роль сыграли и герметисты, и пуритане,
и католики.
ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС ФОРМИРОВАНИЯ
НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ НАУКИ:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Заниматься историей сегодня и не размышлять о том, как это делается и как
предпосылки историка, включая его подход к построению исторического нарратива,
влияют на его представление об истории, невозможно. Теперь мы отдаем себе
отчет в том, что сама объективность в науке есть выстраданная исторически
диспозиция субъекта познавательного акта как действия ментального и когнитивного,
открытого для саморефлексии. И то обстоятельство, что внеисторической
объективности не существует, вовсе не приводит историка к отказу от поиска истины,
но только делает эту задачу гораздо более сложной, чем это считалось ранее —
в эпоху господства наивно-позитивистского взгляда на науку и историю.
Историчность самого исторического познания есть не столько аргумент в пользу
релятивизма, сколько указание на возможность трудного, но реального способа движения
к истине в истории.
Наша задача — увязать воедино два момента: во-первых, показать структуру
историографического поля, заданного проблемой роли герметической традиции
в генезисе науки XVII в., и, во-вторых, раскрыть позитивную значимость динамики
историографических позиций для ответа на вопрошание историка об этой роли или,
по крайней мере, ее небезразличие к проблеме истины в истории.
Конкретно-исторический анализ, предпринимаемый историком для решения определенной проблемы,
по своей природе таков, что он, как правило, не задевает метаисторические
предпосылки, в горизонте которых он строится и осуществляется. Демонстрация значения
метаисторических предпосылок и, главное, диалога между ними для исторической
реконструкции герметического импульса в научной революции XVII-XVIII вв. —
вот основной проблемный узел нашего анализа.
Каждый — патриот своих убеждений, и историк в этом не исключение. Но как
в таком случае возможно достижение исторической истины? Вот та ось, вокруг
которой мы по преимуществу и будем вращаться, рассматривая частную проблему
роли герметического импульса в научной революции. Большой ритм
соответствующих историографических установок вместе с метаисторическими предпосылками,
их определяющими, мы можем задать, отталкиваясь от нашего собственного опыта
размышлений над данной проблемой: от рационалистической настороженности
и даже отвержения тезиса об определяющей роли герметизма в генезисе новой науки
через культурологический и эстетический энтузиазм в его принятии к взвешенной
Герметический импульс формирования новоевропейской науки... 235
его оценке, ищущей корректировок и дополнений этого тезиса ввиду создания в
будущем синтетической, возможно более полной, картины формирования новой науки.
Герметический импульс: тезис Ф. А. Йейтс
Герметизм, или магико-герметическая традиция, ведущая мифологический отсчет
своего происхождения от легендарного Гермеса Трисмегиста, включает в себя, с одной
стороны, практическую магию и такие оккультные науки, как алхимия и астрология,
а с другой — эклектические доктрины фи лософско-теологического плана, близкие
к гностицизму. На первый взгляд, ничего общего у этой традиции с новой наукой
быть не может, и поэтому, казалось бы, расцвет герметической традиции накануне
научной революции XVII в. не более чем исторический курьез, никак не связанный
с возникновением новоевропейской научной ментальности. Такая точка зрения,
наследующая традиции Просвещения, сохраняется до сих пор. Правда, в последние
30 лет ситуация существенно изменилась, что заставляет вновь поставить вопрос:
чем же была герметическая традиция для генезиса новоевропейской науки, какую
роль она играла в процессе ее формирования? Вопрошание это не ново. В
сообществе историков науки оно приобрело особую актуальность после появления книги
английского историка, исследователя культуры Возрождения Френсис Амелии Йейтс
(1899-1981) «Джордано Бруно и герметическая традиция»1. Историку науки,
погруженному в специальные проблемы своей дисциплины, трудно воссоздать картину
того широкого исторического контекста, внутри которого возникает новая наука,
находя в нем поддерживающие ее импульсы и мотивы. Поэтому ясно, что проблема
генезиса науки требует к себе внимания со стороны историков культуры. И книга
Йейтс о Бруно — лучший тому пример. Для нее главное в феномене возникновения
науки в XVII в. — новое направление воли европейца, ведущее его к радикальному
преобразованию интеллектуальной картины мира. «За возникновением новой
науки, — говорит Йейтс, — стояло новое направление воли, ее обращение к миру, к его
чудесам, к таинственным явлениям, страстное желание и решимость объяснить эти
явления и практически воздействовать на них»2.
Историки науки — П. Дюгем, А. Койре, А. Кромби и другие — многое сделали
для того, чтобы показать преемственность научных традиций, идущих от
античности и средних веков к творцам новой науки. Все они, как правило, разделяли
1 Yates Ε A. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Chicago, 1964. Реферат работы в кн.:
Герметизм и формирование науки. М.: ИНИОН, 1983. С. 71-95. Историографический обзор
данной проблемы дан в работе: Косарева Л. М. Проблема герметизма в западных
исследованиях генезиса науки // Вопросы истории естествознания и техники. (Далее: ВИЕТ.) 1985. № 3.
С. 128-135.
2 Yates Ε Λ. Giordano Bruno... P. 449.
236
Раздел второй
интерналистский подход в историографии: наука — автономная
саморазвивающаяся система рационального познания природы, основанием ее исторических
изменений выступает внутренняя логика развития научных идей. В частности, Кромби
писал: «На начальных стадиях своего развития научная революция совершается
скорее путем систематического изменения интеллектуальной картины мира, чем
благодаря росту технического инструментария. Почему такая революция в методах
мышления должна была произойти, остается неясным»3. Йейтс в качестве историка
Возрождения и решила выявить именно мотивы научной революции, ее причины,
скрытые в культуре этой эпохи: «Историки науки, — говорит она, — могут
проследить различные стадии развития, ведущие к рождению новой науки в XVII в., но они
не могут объяснить, почему это случилось именно в это время, почему вдруг возник
столь интенсивный новый интерес к миру природы и ее явлениям»4. Вывод Йейтс
о формировании нового направления воли человека позднего Возрождения под
воздействием магико-герметической традиции, расцвет которой приходится именно
на это время, был подготовлен ее исследованием таких сложных фигур той эпохи,
как Джон Ди (1527-1608) и, особенно, Джордано Бруно (1548-1600).
Йейтс отдает себе отчет в том, что содержательно научные понятия отличаются
от оккультных и магических представлений. Однако она сознательно ставит вопрос
не столько о концептуальной преемственности между ними, сколько о
преемственности воли и стимулов к познанию. Мог ли практико-волевой импульс к овладению
миром природы придать новое дыхание научным исследованиям, способствуя, например,
освобождению от старых, схоластических, и новых, гуманистических, пут? Иными
словами, мог ли герметический импульс работать не только на магию, но и на новую
науку? Йейтс отвечает положительно на этот важный вопрос, ею же и
сформулированный. И то, что сначала у нее было гипотезой в случае с анализом творчества Дж. Ди,
у которого занятия научной математикой соединяются в одно целое с самой настоящей
магией, с попытками умилостивить ангелов с помощью практической каббалы, то
постепенно, в результате фундаментальных исследований жизни и деятельности Бруно,
превращается в стройную и логически связную концепцию научной революции.
Почему же и в каком историческом и культурном контексте возникает это
новое направление воли человека в XVI-XVII вв.? Кратко ответ можно свести к
одному главному, по ее мнению, фактору — к герметической традиции. Что же
понимает историк под этой традицией?
Сюда я включаю, — говорит она, — герметическое ядро фичиновского
неоплатонизма, синтез герметизма и каббалы у Пико, направление внимания на Солнце как
источник мистико-магической силы, магическое одушевление всей природы,
которой маг стремится овладеть и управлять, концентрацию внимания на числе как
пути к тайнам природы, философию (представленную как в учебниках практической
3 СготЫА. С From Augustine to Galileo. L., 1961. Vol. II. P. 122.
4 Yates Ε A. Giordano Bruno... P. 447.
Герметический импульс формирования новоевропейской науки... 237
магии, например в «Picatrix», так и в философских герметических сочинениях),
согласно которой Все есть Одно и поэтому практикующий маг может положиться
на универсальную значимость тех процедур, которые он применяет; наконец, и это
неким образом самый важный пункт, то обстоятельство, что герметическая
традиция была христианизирована (благодаря историческим ошибкам)5.
Магико-герметическая традиция выходит на поверхность общественной и
интеллектуальной сцены с особенным размахом в конце XV в., после перевода Фичино
сочинений «Герметического корпуса» (1471). Вытесненное на периферию,
преследуемое официальными институтами, герметическое движение становится, можно
сказать, если не доминирующим, то во всяком случае мощно присутствующим,
завоевывающим широкое признание:
Ранее жестоко преследуемые учения натуральной магии, астрологии, каббалы,
алхимии занимают общественную сцену. Герметическое движение бросает вызов
препятствиям, воздвигнутым на его пути церковными и гражданскими институтами
средневекового общества. Следуя стратегии включения оккультных наук в несколько
успокоительный контекст христианского мистицизма неоплатонического толка, это
движение в силу динамики своего развития приходит к требованию свободы
критики. У самых радикальных представителей этот освободительный порыв получает
подчеркнуто антихристианскую окраску. Символом радикальных ориентации
герметического движения можно считать «египтианизм» Дж. Бруно, заплатившего за свою
смелость собственной жизнью6.
Герметизм участвовал в формировании науки нового типа главным образом, считает
Йейтс, как мощный энтузиастический импульс. Так, магический ореол над обычной
механикой вел Паолини, автора известного в конце XVI в. трактата «Hebdomades»,
к его увлечению технологией в духе Герона Александрийского7. Многие ученые,
интересовавшиеся механикой как прикладной наукой, склонны были отождествлять
механическое движение неодушевленных устройств и движение одушевленных тел,
считая, что в обоих случаях действует душа мира (anima типах).
Итак, основу концепции научной революции у Йейтс составляет гипотеза о
причине поворота воли европейского человека в XVI-XVII вв., приведшего к
возникновению новой науки. «Магия, — пишет Йейтс, кратко формулируя свой основной
тезис, — ведет к гнозису, поворачивающему волю в новом направлении»8. Экспери-
5 Yates Ε A. Giordano Bruno... P. 448.
6 Metaxopoulos £. A la suite de F. A. Yates: Débats sur le rôle de la tradition hermétiste dans
la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles // Rev. de synthèse. P., 1982. T. 103. No. 105. P. 53-65.
7 Yates Ε A. The Hermetic Tradition in Renaissance Science // Art, Science and History in the
Renaissance. Baltimore, 1967. P. 260.
8 Yates Ε A. Giordano Bruno... P. 156.
238
Раздел второй
ментализм, конструктивизм, утилитаризм новой науки оказываются в силу таких
допущений тесно связанными с традицией ренессансного герметизма.
Герметический импульс: pro et contra
Историки науки, взявшиеся после выхода в свет работы Йейтс о Бруно за проверку
выдвинутой в ней концепции, ограничивались основным содержанием ее тезиса.
Однако в ее работах он содержал некоторые уточнения, смягчающие ригоризм его
основной идеи. Согласно Йейтс, научная революция делится на два больших периода.
Первый из них характеризуется концепцией анимистической вселенной,
управляемой магом, второй — созданием образа механистической вселенной, подчиненной
законам механики, которые познаются математическим естествознанием, в силу чего
такая вселенная управляется не магом, а ученым и инженером. Однако суть мысли
Йейтс состоит не столько в утверждении наличия таких периодов, сколько в том,
что, как справедливо подчеркивает Метаксопулос, специально исследовавший
дебаты, вызванные концепцией английского историка, между ними имеется
«фундаментальное единство»9. Действительно, замена анимизма на математику, а магизма
на механику не меняет общей сути дела — единого, магико-научного, можно
сказать, замысла контроля над природой ради достижения целей, определяемых
человеком. Этот проект управления силами вселенной на его первой стадии сформирован
в традиции герметической магии, а вторая стадия его реализации только наполняет
его новыми, механоматематическими смыслами. Мотивационное утилитарное ядро
всего предприятия при этом сохраняется. Магические операции замещаются
механическими, учитывающими законы механики, а вместо анимистических связей
природы устанавливаются математические, но все эти замены вводятся лишь для того,
чтобы лучше достичь все той же цели управления природой. Итак, если отказаться
от непрерывности между этими двумя фазами научной революции, то главный
тезис Йейтс повисает в воздухе.
Доказала ли, однако, Йейтс концептуальную преемственность этих двух стадий?
Как считает Метаксопулос, нет, не доказала.
Ее анализы, — говорит историк, — позволяют предположить, что речь идет скорее
о преемственности социальной (секты, тайные общества и т. п.), а также о
политической и идеологической подготовке второй фазы научной революции, которая,
по-видимому, имела место во время «магической» фазы эпохи Возрождения. И
поэтому лишь в силу принципа «экстерналистской» перспективы историки науки
находят в этом почву для размышлений10.
9 Metaxopoulos Ε. Op. cit. P. 54.
10 Ibid. P. 55.
Герметический импульс формирования новоевропейской науки... 239
Концептуальные связи преемственности исторических форм научного знания
изучаются обычно историками науки интерналистской ориентации, выявляющими
внутреннюю содержательную логику интеллектуальной эволюции. Для историков же
экстерналистского направления главным фактором детерминации научного
развития выступает социокультурный контекст науки, анализ которого является
сильной и оригинальной стороной работ Йейтс. На наш взгляд, в замечании верно
схвачено слабое звено аргументации английского историка культуры. Йейтс не является
специалистом в области истории науки. Детали концептуальных ходов мысли не
являются предметом ее анализа, чего нельзя сказать, однако, об уровне менталитета,
культурных ориентации воли познающего — в этих параметрах науки она хорошо
ориентируется, раскрывая культурные смыслы науки и магии. И именно на этом
культурно-мотивационном уровне они если и не отождествляются, то практически
близки друг другу. Для исследований Йейтс действительно характерна, условно, эк-
стерналистская перспектива, а не интерналистско-концептуальная, привычная для
историков науки. Этот фактор нельзя не учитывать при анализе реакции историков
науки на концепцию Йейтс.
Как же конкретно прочерчивает Йейтс преемственность между
магом-оператором, с одной стороны, и ученым новой, механистической формации — с другой? Она
считает, что основные характерные черты ученого XVII в. содержатся уже в фигуре
позднеренессансного мага. Так, интерес, который такой маг питает к
механистическим искусствам, лежит и в истоке новой механистической философии, приведшей
в XVII в. к созданию новой механики. Механика включалась в магические науки
представителями магико-герметической традиции (Кампанеллой, Флуддом и др.).
Условно этот момент Метаксопулос, используя анализы английского историка,
называет «новой антропологией» в духе Пико делла Мирандолы. Его возражение на
попытку прочертить преемственность между магом и ученым сводится к тому, что
«такая антропология не является универсальной и если она и применима к особому
типу ученого, то лишь к ученому типа "виртуоза" Королевского общества» ". В этом
замечании есть резон, но типология ученых, релевантная для эпохи научной
революции, требует дополнительных исследований, для того чтобы можно было с
уверенностью ею оперировать.
Проводимая Йейтс мысль о том, что тайные общества розенкрейцеров и иных
оккультных сект служат зародышевыми формами будущих научных обществ
(например, академий и им подобных организаций), также является недостаточно
доказанной. В частности, работы П. Росси, за которым следует Метаксопулос, показывают
явный разрыв между этими двумя видами социальных структур. Тайные общества
ориентируются совсем на иные принципы, чем общества научные, где господствует
принцип демократизма (критическая атмосфера, принцип открытости и
доступности знания, опытная верификация претендующих на научность суждений и т. п.).
Конечно, многое, что подметила на уровне возможной социальной преемственности
11 Metaxopoulos £. Op. cit. P. 56.
240
Раздел второй
и связи между магами и учеными Йейтс, заслуживает внимания и дополнительного
изучения (в частности, то обстоятельство, что среди членов, например,
Королевского общества было немало представителей тайных обществ). Но и резоны Росси
также должны учитываться. В итоге мы начинаем в полной мере отдавать себе
отчет в том, насколько научная революция — сложное, поликонфликтное и
многофакторное событие, формирование которого происходило в разных условиях, со своей
спецификой в каждой стране. Поэтому нельзя не согласиться с Дж. Рэнделом,
изучавшим вклад падуанской школы в научную революцию: «Теперь стало ясно, —
говорит историк, — что возникновение современной науки было чрезвычайно
сложным предприятием, включающим в себя великое разнообразие факторов»12.
Второе замечание в связи с тезисом Йейтс таково: она не настаивает на том, что
герметизм и только герметизм есть единственная причина мутации ренессансного
знания в новоевропейскую науку. Правда, делает она это не в своей вызвавшей споры
книге о Бруно, а в статье, появившейся три года спустя. Йейтс стремится учитывать
сложность реальной истории, не сводя ее к упрощенным схемам. В этом ее сила как
историка. Действительно, в статье «Герметическая традиция в науке Возрождения»
она обращает внимание на то, что в переориентировке воли человека участвовал
не только герметизм, но и неоплатонизм и некоторые другие течения мысли
подобного типа, идущие из средневековой культуры (неопифагорейство, каббала и др.).
Весь этот комплекс и предопределил поворот к науке Нового времени, о котором мы
уже говорили. Правда, главной компонентой в таком комплексе она признает именно
герметическую традицию. Это уточнение ее позиции важно потому, что многие
критики Йейтс не принимают его во внимание и пытаются опровергнуть концепцию
историка указанием на то, что, мол, на самом деле на формирование новой науки
повлиял не столько герметизм, сколько неоплатонизм. Подобную
историографическую стратегию мы описываем как своего рода «ловушку» для тезиса Йейтс. Так
поступают, например, известные историки физики и астрономии Макгуайр и Уэстмен13.
Но Йейтс готова признать и нечто большее, чем ограничение всесильности гер-
метизма как фактора генезиса новой науки. «Явление Галилея, — констатирует
историк, — происходит из непрерывного развития в средние века и в эпоху Возрождения
рациональной традиции греческой науки»14. Феномен Галилея возникает вне
герметического импульса и его влияния на формирование науки, по крайней мере вне его
прямого воздействия. А это весьма существенно, потому что среди пионеров новой
науки Галилей в самой чистой, быть может, форме олицетворяет дух и стиль новой
науки как математического естествознания. Йейтс немало говорит о герметических
12 Randall /. Y The School of Padua and the Emergence of Modem Science. Padua, 1961. P. 118.
13 Westman R. S. Magical Reform and Astronomical Reform: The Yates Thesis Reconsidered //
Westman R. S., Mc Guire J. E. Hermeticism and the Scientific Revolution. Los Angeles, 1977. P. 1-91;
Mc Guire /. E. Neoplatonism and Active Principles: Newton and the «Corpus Hermeticum» //
Westman R. S., Mc Guire J. E. Hermeticism and the Scientific Revolution. Los Angeles, 1977. P. 93-142.
14 Yates Ε A. Giordano Bruno... P. 447.
Герметический импульс формирования новоевропейской науки... 241
моментах у Ф. Бэкона, Кеплера, Гильберта, Коперника, даже Ньютона, но ничего
подобного она не говорит о Галилее. Единственное, что можно здесь сказать, пытаясь
и в данном случае провести тезис Йейтс, это то, что само обращение к греческой
рационалистической традиции в эпоху Возрождения не было свободно от
герметического импульса, хотя по текстам самого Галилея это и незаметно. Однако заметно,
скажем, для такой фигуры, как Леонардо, что отмечает Йейтс, и не без основания,
о чем мы еще скажем ниже.
Йейтс не историк науки в узком смысле, она историк культуры, ее основные
работы посвящены малоизученным проблемам культурной истории Ренессанса.
Поэтому неудивительно, что когда ее тезисы стали апробироваться специалистами в
области истории науки, то в большинстве случаев последние пришли к сомнениям
в убедительности предложенной ею концепции.
Вызванная книгой Йейтс дискуссия, однако, приняла несколько неадекватный
характер, потому что концепция историка культуры стала проверяться
специальными историко-научными исследованиями. В результате у некоторых историков
науки вполне естественно возникло чувство дефицита убедительности выводов Йейтс,
которая в данном случае разошлась, пусть и частично, с убедительностью истори-
ко-научной. В качестве характерного примера можно сослаться на основательные
«проверочные» исследования упомянутых выше историков Уэстмена и Макгуайра,
выпустивших книгу «Герметизм и научная революция». Изучив восприятие коперни-
канства известными герметистами — Дж. Бруно, Франсуа де Фуа де Кандалем (1512-
1594), Дж. Ди, Фр. Патрици (1559-1597), Т. Кампанеллой (1568-1639) и Р. Флуддом
(1574-1637), — Уэстмен пришел к выводу, что «герметическая традиция сама по себе
не создала ни "атмосферы", ни связной аргументации, достаточных для того, чтобы
склонить принадлежащих к ней деятелей к принятию гелиоцентрической
альтернативы» 15. Более того, не отрицая присущей ей возможности служить для
формирования науки «скромной поддержкой», историк астрономии подчеркивает, что
«значительные физические и математические прозрения Бруно и других признанных
герметистов идут от их индивидуальных творческих интуиции и часто под
влиянием учений, впервые сформулированных еще в средневековой натурфилософии
и независимо от их приверженности герметическим доктринам»16. Здесь мы
сталкиваемся с тонко нюансированной позицией историка науки, признающего как
позитивное влияние герметизма на формирование научных концепций, пусть и в форме
слабой поддержки в качестве культурного «фона», так и, одновременно, его
тормозящее воздействие на формирующуюся науку (наука возникает не столько благодаря
контактам с герметизмом, сколько вопреки им).
Макгуайр, изучивший связи Ньютона с «Герметическим корпусом», пришел
к выводу, что вообще нельзя говорить о герметизме как самостоятельном идейном
течении:
15 Westman R. S. Op. cit. P. 53.
16 Ibid. P. 72.
242
Раздел второй
Герметизм не был ни независимой исторической силой, ни обособленной
интеллектуальной традицией, ...он был почти всегда консолидирован и организован
неоплатонизмом и распространялся благодаря оживлению последнего, так что
неоплатонизм существует как независимая историческая реальность, чего нельзя сказать
об интеллектуальных элементах герметизма17.
Кембриджские платоники, действительно повлиявшие на Ньютона, скептически
относились к герметической магии, если не сказать больше, следуя в этом традиции,
начало которой было положено Августином. Интеллектуально-теологическая
аргументация против магии, выдвигавшаяся ими, состояла в том, что содержащаяся
в ней уверенность во всеохватном натуралистическом детерминизме угрожала
тезису о свободе воли. Кроме того, принципы герметической магии натурализовали
чудотворение и предоставляли его возможность стоящим вне христианской
традиции операторам, что, безусловно, подрывало христианское учение о чудесах. Мак-
гуайр в поисках истоков некоторых научных представлений Ньютона не склонен
вообще разыгрывать герметическую «карту», выбирая в качестве фактора генезиса
науки традицию «волюнтаристской теории творения» (исследованную в связи с этим
Клаареном18) и неоплатонизм.
Негативное отношение к тезису Йейтс, если подвести его под единое основание,
базируется, в конце концов, на традиции рационализма достаточно радикального типа,
выступающего как метаисторическая установка. Особенно сильной эта традиция была
именно в историографии науки. Покажем это на примере работ А. Койре (1892-1964),
крупного историка науки, который, правда, не знал работы Йейтс (он умер в год
появления ее знаменитой книги о Бруно), но решал, как и она, тот же самый вопрос об
отношении магико-герметической традиции к генезису науки. Эти два замечательных
историка расходятся в оценке Дж. Бруно. Если Йейтс на первое место в ряду
характеристик мировоззрения Бруно ставит его магическую составляющую, то Койре
предпочитает говорить не столько о магизме Ноланца, сколько о его витализме. Кроме
того, если Койре исключает из своего анализа космологии Бруно его витализм и
магию как не имеющие, как он считает, никакого научного значения факторы, не
оказавшие позитивного воздействия на его мировоззрение, проложившее путь к
космологической революции, то Йейтс именно на этих характеристиках останавливается
в первую очередь, считая, что они демонстрируют воздействие герметического
импульса на науку. Итак, Койре, анализируя космологию Бруно, ее новаторский
характер, сознательно оставляет в стороне его витализм и склонность к магии. «Мой очерк
его космологии, — пишет он, — неполон и односторонен: его концепция мира
виталистическая и магическая, его планеты — это одушевленные существа, свободно
движущиеся в пространстве согласно их собственным желаниям, как это было у Платона
17 Me Guirel Ε Op. cit. P. 127.
18 Klaaren E. M. Religious Origines of Modem Science: Belief in Creation in XVIIth Century
Thought. Grand Rapids (Michigan), 1977.
Герметический импульс формирования новоевропейской науки... 243
или Патрици»19. Позитивное влияние Бруно на научное мировоззрение, как считает
Койре, преодолевает эти ненаучные компоненты его мышления, оно столь
значительно, несмотря на них. Йейтс же говорит прямо противоположное: влияние Бруно
столь велико именно благодаря герметизму и магии. Это изменение на
противоположную принятой оценки роли магии и герметизма в генезисе науки и оказалось
одним из провоцирующих историко-научную мысль моментов, внесенных в
интеллектуальный оборот работой Йейтс.
Если Койре считает, что в анализе вклада Бруно в формирование новой науки его
магизмом и даже витализмом можно пренебречь, то Йейтс уверена как раз в
обратном. Она с аргументами в руках доказывает, что Бруно был верующим герметистом,
что именно как яркий и вдохновенный представитель ренессансной магико-герме-
тической традиции он и внес свой вклад в формирование новой науки.
Ясно, что за такими прямо противоположными выводами историков стоят
различные метаисторические предпосылки и историографические программы. В
частности, Койре стоит на позициях интернализма, правда допуская влияние на науку
философских идей. В остальном же этот выдающийся историк науки считает, что
наука развивается как рациональное предприятие, следующее внутренней логике
решения своих проблем. Напротив, Йейтс как историк культуры не так сильно
привязана к ценностям научного рационализма. Она считает, что наука — часть культуры
и поэтому проявляющийся в ней менталитет, фиксируемый традициями и
социально представленный в движениях и сообществах относительно однородно
мыслящих людей, определяет формирование науки и ее образ. Духовная культура как
внешний фактор развития науки в таком подходе выступает как решающий. Это
если и не редукционистский экстернализм (как в случае, например, экономического
материализма), то все же вид «мягкого» экстернализма (культурологического,
ментального, духовного).
Аналогичную картину расхождения взглядов историков на возможность
позитивных связей магико-герметических представлений с научным развитием мы
находим, рассматривая фигуру Леонардо да Винчи в истории науки. Действительно,
такой крупный историк науки, как В. П. Зубов (1899-1963), как и его современник
Койре, выступает как ангажированный рационалист, представляющий традицию ин-
терналистской историографии науки. Читая рукописи великого ученого-художника,
он находит в них явные следы анимизма и герметизма. Но как он их истолковывает?
С эпохи Просвещения идет мощная рационалистическая, сциентистская в основе
своей, традиция представлять «титанов Возрождения» как героев и мучеников
науки. Это относится и к Бруно, являющемуся, как показала Йейтс, напротив, скорее
мучеником магии, чем науки, и к Леонардо. Именно в русле такой традиции
работают и Койре, и Зубов. Леонардо, считая Землю живым организмом, описывал
геологические процессы как своего рода витальные, органические процессы. Например,
движение соков вверх у растений он считал однородным с движением паров воды
19 Koyré A. Du monde clos à l'univers infini / Trad, de 1 anglais par R. Tarr. P., 1962. P. 58.
244
Раздел второй
вверх от поверхности Земли. Ясно, казалось бы, это — анимизм неоплатоновского
или иного спиритуалистско-герметического толка. Но Зубов настаивает на том, что
такой анимизм или витализм условен и относителен.
Назовем ли мы за это Леонардо виталистом? — спрашивает он и отвечает, — Нет,
нельзя этого делать без больших оговорок. Действительно, нельзя забывать, что
Леонардо прибегал к «душе» и «жизненной силе» тогда, когда он не мог найти
удовлетворительного объяснения, сводимого к принципам механики его времени, или же
тогда , когда он не был в состоянии искусственно воспроизвести с помощью
механических средств сложные движения живых тел20.
В своей книге о Леонардо историк еще более категоричен: «Химерическим
сновидением, — пишет он, — была для Леонардо вера в магию»21. И, несмотря на явные
виталистические пассажи великого ученого, он говорит, что Леонардо отрицает
существование духов22.
Если мы теперь раскроем работы Э. Гарэна, то увидим прямо противоположную
оценку взглядов Леонардо. Вот как он решает проблему его отношения к
существованию духовных сил, комментируя фрагменты великого художника: «Здесь
прочитывается, — говорит Гарэн, — что дух есть не что иное, как витальный порыв (soffio vitale),
сила и энергия (и в этом смысле Леонардо называл силу духовной), и здесь же
прочитывается старый образ разума, замкнутого в недрах природы, как в глубокой пещере»23,
причем при истолковании образа пещеры историк отсылает к VIII трактату
«Герметического корпуса». По Гарэну, леонардовская концепция духовных сил «имеет мало
общего с рациональной механикой, но тесно связана с идущей от М. Фичино
герметической темой универсальной жизни и всеобщей одушевленности»>>24. Согласно же Зубову,
Солнце для Леонардо — лишь аллегория, но никак не символ для обозначения
тайных сил, тогда как для Фичино оно «было именно символом, ведущим мысль к
"сверхнебесному свету"»25. «Подобная гелиософия, — говорит историк, — характерная для
флорентийского неоплатонизма, осталась чуждой Леонардо». Точка зрения Гарэна
конечно же находит полную поддержку у Йейтс. «Его (Леонардо. — В. В.) строго
техническая направленность, — подчеркивает она, — несвободна от магии и теургии, а его
механика и математика имеют своим основанием анимистическую концепцию мира»26.
20 Zubov V. P. Le soleil dans lbeuvre scientifique de Léonard de Vinci // Le soleil à la Renaissance.
Sciences et mythes (Colloque international, avril 1963). Bruxelles; Paris, 1965. P. 177-198.
21 Зубов В. П. Леонардо. M.; Л., 1961, С. 121.
22 Там же. С. 124.
23 Garin Ε. La cultura filosofica del Rinascimento italiano. Ricerci e documenti. Firenze, 1979.
P. 399.
24 Garin E. Scienza e vita civile nel Rinascimento italiano. Bari, 1965. P. 71.
25 Zubov V R Op. cit. P. 182.
26 Yates Ε Α. The Hermetic Tradition... P. 261.
Герметический импульс формирования новоевропейской науки... 245
Такую двойственную его интерпретацию оправдывает до известной степени
и сам Леонардо, который как типичный деятель итальянского Ренессанса свободно
совмещал магию и науку. Да, прав Зубов, Леонардо издевается над некромантами
и им подобными магами, но в то же время прав и Гарэн, который пишет, что «если
мы еще раз бегло просмотрим с самого начала текст Вазари (как свидетельства о
Леонардо. — В. В.), то легко обнаружим в нем все необходимые элементы для создания
портрета мага»27. А среди этих элементов он отмечает и «характерные герметико-алхи-
мические приемы», и даже «теургическую практику, и умение дарить жизнь образам».
Аналогичное расхождение позиций мы можем обнаружить и в интерпретациях
такой фигуры, как Ф. Бэкон, например, у П. Росси, с одной стороны, и у Ф. Йейтс —
с другой. Но вот по поводу Дж. Ди больших споров нет. Дело здесь, на наш взгляд,
в том, что именно включенные в список героев науки мыслители вызывают такое
резкое расхождение в их оценках, но те, кто давно и твердо был исключен из него,
попав в черный список магов (как Ди), конечно, споров и не должны вызывать.
Рационалистическая традиция оберегает свои легенды и каноны. И поэтому книга
Йейтс не могла не вызвать защитной реакции, когда именно эти каноны были
подвергнуты пересмотру.
Итак, мы видим, что исторический нарратив строится в зависимости от
исходных философских и мировоззренческих ориентации историка. Само по себе
историческое исследование, изучение источников, поиск новых данных не могут
поколебать эти предпосылки метаисторического плана, предопределяющие характер
ответа на те вопросы, которые ставит историческое познание. Достаточно
оппоненту не ответить только на один вопрос оспаривающего его позицию и выводы
исследователя, чтобы представленная им аргументация приняла для него вид
решающей. На самом же деле само понятие «решающая аргументация» проблематично
для истории. Покажем это на примере спора вокруг тезиса Йейтс, согласно которому
именно герметическая традиция Ренессанса способствовала повороту менталитета
европейцев в сторону экспериментального и технического освоения природы.
Занимаясь исследованием космологии Бруно, мы изучили книгу Йейтс о нем и
пришли к выводу о неубедительности ее аргументации28. Приведем в качестве примера
наше относящееся к 1985 г. рассуждение, стремящееся опровергнуть главный тезис
английского историка.
Действительно, суть драматически напряженного спора, открытого книгой Йейтс,
такова: благодаря или вопреки герметизму и оккультному знанию возникает
новоевропейская наука? Спор этот серьезен и затрагивает сами основания историко-
научной мысли. Аргументы Йейтс в пользу тезиса о герметизме как главном
позитивном факторе в процессе возникновения науки Нового времени показались нам
27 Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986. С. 243.
28 Визгин В. П. Герметическая традиция и генезис науки // ВИЕТ. 1985. № 1. С. 56-63.
Негативная позиция по отношению к концепции Йейтс впоследствии была нами пересмотрена.
См.: Визгин В. П. Оккультные истоки науки нового времени // ВИЕТ. 1994. № 1. С. 140-152.
246
Раздел второй
тогда несостоятельными, в частности основной ее аргумент, сводящийся к указанию
на практическую направленность, присутствующую в герметической традиции,
которая могла бы привести к отбрасыванию умозрительной схоластики перипатетиче-
ско-томистской мысли и установлению нового отношения к миру, в центре которого
стояло бы практическое и экспериментальное к нему отношение. Так, стопроцентный
«герметист» Бруно поражает отсутствием у него какой-либо практической
ориентации, и если, например, до него и после были попытки разработки, пусть даже
утопические, технологии полетов человека около Земли и между мирами (вспомним
Леонардо, Годвина, Сирано де Бержерака), то у него они как раз отсутствуют полностью.
И это понятно. Зачем разрабатывать механическую технологию полетов, если миры —
живые существа и сами в силу своей биоморфной природы могут сближаться и даже
соединяться друг с другом, причем такое соединение носит витальный характер и
подобно половому размножению животных? Способствуют ли анимизм и магия
развитию практико-технологического отношения к миру? Из этого примера видно, что они
скорее препятствуют возникновению необходимости обращения к развитию
рациональной техники и, соответственно, науки как способа ее теоретического обоснования.
Этот аргумент казался нам решающим. Но он был таковым лишь в рамках мета-
исторической настороженности по отношению к концепции Йейтс как демонстрации
«воскрешения оккультизма» (revival deVoccultismo, по выражению П. Росси).
Историческая ткань поливалентна, позволяя строить аргументацию в пользу каждой из
спорящих позиций. Дж. Ди был заподозрен в чернокнижии из-за того, что ради забавы
сконструировал в Тринити-колледже Кембриджа механического скарабея. «Для Ди, —
пишет Йейтс, — его занятия механикой и математикой принадлежат к тому же
самому мировоззрению, что и его попытки заклинать ангелов с помощью
каббалистической нумерологии»29. А у Агриппы (1485-1535) механика рассматривалась как один
из видов математической магии. И, приведя ряд других подобного рода наблюдений,
Йейтс приходит к выводу: «Тем самым герметическое движение благоприятствовало
развитию настоящих прикладных наук, включая механику». Какие же наблюдения
и аргументы весомее? Дело в том, что сам историк еще до детального ознакомления
с аргументацией того или иного рода уже стоит на определенной метаисторической
позиции и именно она будет определять его отношение к аргументации и к выбору
«фактов». Установка историка по сути дела предопределяет саму историческую
реальность, как она видится ему, по крайней мере, в ее главных контурах. Структура
исторического знания, включая и его метаисторическое основание, может быть
представлена как ряд взаимосвязанных уровней, и мы можем сказать, что воздействие
аргументации историков, стоящих на противоположных метаисторических позициях,
неизбежно ограничено достаточно поверхностным слоем такой структуры. Йейтс
может приводить сотни примеров в пользу тезиса об определяющем влиянии
герметического импульса на развитие практической ориентации познания. Но одного
убедительного аргумента может оказаться вполне достаточно, чтобы подтвердить совсем
29 Yates Ε A. The Hermetic Tradition... P. 259.
Герметический импульс формирования новоевропейской науки... 247
другую позицию, полагая, что в герметизме вовсе нет достаточного позитивного
импульса для движения в направлении к научной революции и что, помимо его вклада
в расшатывание официального аристотелизма, он мало что сделал для формирования
новой науки. Если мы считаем, что разум развивается автономно, что рациональное
познание имеет собственные традиции, идущие из древности, если в их возрождении
мы видим основу и для формирования новой науки в XVI-XVII вв., то никакой
самой богатой аргументации, как это делает Йейтс, в пользу противоположного тезиса
не будет достаточно для того, чтобы нас переубедить. Сдвиг в убеждениях возможен,
но он, скорее, носит транснаучный характер, так как убеждения, как правило, не
меняются под воздействием прочитанных книг историков, мыслящих иначе, чем мы.
Обратимся снова к фигуре Дж. Бруно. Это ум, в высшей степени далекий от норм
рациональности механико-математического знания. Его отношение к математике,
качественный и анимистический взгляд на природу, допущение магии и астрологии,
некритические установки по отношению ко всему неофициальному средневековому
багажу идей, вдруг получивших возможность распространения в ренессансном
обществе, — все это говорит о том, что новая наука в процессе своего возникновения
должна была не только подвергнуться мощному освобождающему влиянию идей
Бруно, его интуиции беспредельного и однородного космического пространства,
но и преодолевать, отталкивая от себя, возрожденческий пафос философии
великого Ноланца. Как пишет Койре,
Бруно никоим образом не является современным умом. И тем не менее его видение
мира, его представление о бесконечности Вселенной столь могуче и пророчески
весомо, столь глубоко обосновано и поэтически выражено, что им можно только
восхищаться. И оно, по крайней мере что касается его общей структуры, глубоко
повлияло на науку и философию нового времени30.
Но откуда, спрашивается, происходит сама идея бесконечной Вселенной? Читая
тексты Бруно, нетрудно определить по меньшей мере как герметический источник
для этого, так и рационалистический, а именно эпикуровский атомизм в изложении
Лукреция, поэма которого была хорошо известна Ноланцу. Но что значит
доказательство в истории идей? Йейтс различает непосредственные источники и источники
косвенные. Она признает, что непосредственным источником для революционных
инфинитистских идей Бруно была поэма Лукреция.
Что же касается непосредственного источника нового видения мира, — пишет она, —
то относительно него не может быть сомнений. Бруно нашел концепцию
бесконечного пространства и бесконечного множества миров, населенных подобно нашему,
в поэме Лукреция «De rerum natura», которую он часто цитирует в данной связи
в диалоге «De Tinfinito universo е mondi» и в других местах31.
Koyre A. Op. cit. Р. 58.
Yates Ε Λ. Giordano Bruno... P. 246.
248
Раздел второй
Но как это верное замечание согласуется с ее главным тезисом о том, что
«эмоциональной движущей силой интенции Бруно, преодолевающего свой собственный
коперниканский гелиоцентризм и устремленного к бесконечной Вселенной,
населенной бесчисленными мирами, был герметический импульс»?32 Такое согласование
возможно, очевидно, в том случае, если мы эти два источника разведем по разным
уровням: герметизм — косвенный источник, определяющий направленность воли,
ее психологическую и идейную мотивацию, а античный атомизм —
непосредственный источник, становящийся активным лишь при условии соответствующей моти-
вационной ориентации, за которую отвечает, по мнению Йейтс, герметизм.
Держатель рациональных аргументов нередко успокаивается в чувстве своей
научности, в которой он отказывает своему оппоненту, имеющему также
рациональные аргументы в пользу своей интерпретации истории. Если только такой
рационалист убедился в рациональной весомости хотя бы одного своего аргумента, то он уже
склонен безапелляционно считать своего оппонента сторонником ненаучной
идеологии, якобы однозначно препятствующей развитию научного дискурса. Однако
его собственная позиция, пусть это и радикальный рационализм, является не менее
«идеологической» уже только потому, что она предваряет исследование, а не следует
из него. Но иначе, увы, в исторических науках и быть не может. Как же может быть
тогда поставлен вопрос о достижении истины в историческом исследовании?
Каков возможный выход из этого, казалось бы, тупика? На наш взгляд, следует указать
по меньшей мере два пути возможного преодоления этой апории исторического
познания. Во-первых, надо признать: эксклюзивные держатели исторической истины
столь редки (если вообще существуют), что практически следует считать, что
«местом» возможности исторической истины является целая система исторических
дискурсов, спорящих и опровергающих или, мягче, дополняющих и уточняющих друг
друга. Сюда же надо отнести и признание того обстоятельства, что только
полномасштабная дискуссия, строящаяся рационально, но без шор узкого
рационалистического догматизма, может помочь в освещении контуров того дискурса, в рамках
которого историк может надеяться на обретение большей полноты истины об
исторической реальности, чем это возможно в пределах, заданных одной из
противоборствующих позиций. Если историческое исследование в своих результатах зависит
от исходных мировоззренческих и философских установок историка, то стратегия
воли к истине в истории должна проходить через структуры дискуссий, диспутов,
споров, полемик, когда одна и та же проблема решается многими исследователями.
Это создает объемный контекст и выправляет односторонности, связанные с
идеологической и методологической ангажированностью историка.
Во-вторых, следует признать, что существует, по крайней мере в
методологической теории, образ «идеального историка», который следует принять за образец.
Это — модель историка, как бы нейтрального по отношению к той или иной мета-
истории.
Yates Ε A. Giordano Bruno... P. 156.
Герметический импульс формирования новоевропейской науки... 249
Историку (в идеале) должны быть профессионально близки все жесты истории,
не только тот, что маркирует начало его собственной эпохи, но и тех эпох, что
оказались «побежденными» ею. Историк в некотором смысле обязан быть «над
схваткой» исторических эпох и сил. Быть «патриотом» своей эпохи — это обычное дело
каждого образованного человека. Но только историк призван быть «патриотом» всех
эпох, всей мировой истории. Это очень трудно, практически даже едва ли возможно,
но как идеал, как точку, фиксирующую полюс стремлений историка, нужно
обозначить. И хороший историк в большой степени обладает этим качеством. «Идеальный
историк» обязательно должен принять во внимание контрпример, особенное
внимание обращать на моменты, говорящие не в пользу его рабочей гипотезы, а
против нее. И если он это во всем доступном ему объеме делает, то его исторический
нарратив будет обладать некоторыми признаками дискурса, нагруженного большей
истинностью, чем дискурсы сторонников наперед заданных доктрин и установок,
не утруждающих себя такими нормами.
Выше мы уже говорили о том, что в развертывании своего основного тезиса
Йейтс указывает и на контрпример по отношению к нему (случай Галилея), и на
действие сопутствующих факторов, не входящих в сам «герметический импульс»
непосредственно, но действующих в том же направлении (например, неоплатонизм). Все
это позволяет нам обоснованно говорить о том, что фигура «идеального историка»,
о которой мы сказали выше, действительно служит для нее нормативным образцом.
Однако мы не должны забывать, что ее основной тезис остается достаточно
жестким и что в этом тоже, кстати, признак хорошего ученого (четкость формулировки
основной идеи способствует эффективной работе с ней).
В свое время мы пришли к выводу, что
...генезис науки в XVI-XVII вв. должен был пройти буквально сквозь игольное
ушко, минуя Сциллу официального схоластико-аристотелевского мировоззрения
и Харибду неофициального герметического мироотношения. В этом движении
высочайшей информационной емкости, и поэтому крайне трудном для историко-
научных реконструкций, и состояла траектория акта рождения новоевропейской
науки. Описывая эту траекторию, представляя себе ее повороты и динамику, мы
не можем, однако, упускать из виду того обстоятельства, что неофициальный гер-
метизм в широком смысле слова (алхимия, астрология, магия, другие оккультные
науки и, конечно, то, что можно назвать герметическим мировоззрением) в
качестве оппонента официального аристотелизма способствовал ослаблению его
влияния на общество и его культуру. В высшей степени это и происходит в эпоху
Возрождения33.
Этот вывод был нами сделан в рамках принципиального несогласия с
основным тезисом английского историка, обусловленного ангажированностью иной, чем
у Йейтс, метаисторической установкой. Впоследствии изменение этой установки
33 Визгин В. П. Герметическая традиция и генезис науки. С. 61.
250
Раздел второй
и накопление опыта изучения культуры в ее связях с наукой позволили нам принять
концепцию Йейтс, что, впрочем, никак не означало нежелания ее дополнить и
скорректировать, что затем и произошло.
На пути к синтетической концепции научной революции
Убедительность исторической реконструкции зависит от того, как и для кого она
организована. Существует множество типов исторической убедительности,
которые вовсе не обязательно согласуются между собой. Опыт изучения дискуссий
вокруг концепции Йейтс говорит нам о том, что в данном случае убедительность
историко-культурная и эстетическая разошлась с убедительностью историко-научной.
Не каждый историк науки восприимчив к культурно-эстетическим аспектам
духовной жизни того времени, которое он изучает в качестве историка, например
гидравлики или небесной механики. Коды убедительности для историков культуры, с одной
стороны, и историков специальной научной дисциплины — с другой, разные. Но,
конечно, и историк науки может, преодолев притяжение своей специализации, принять
и этот, казалось бы, чуждый ему вид убедительности. Правда, для этого нужно
серьезно заняться культурными аспектами истории, почувствовать их атмосферу,
особую иерархию символов. Действительно, в своих работах Йейтс дает герметическое
истолкование различным фактам не только интеллектуальной, но и
художественной истории Ренессанса, включая живопись Боттичелли, мозаику Сиенского собора,
украшенного фигурой Гермеса Трисмегиста, стоящего рядом с Моисеем. Это —
символы и образы, убеждающие сильнее, чем отвлеченная логическая аргументация. Это
сама реальность ренессансной жизни, ее ментальности. И, прочитав работы Йейтс
глазами именно историка культуры, уже не сомневаешься: герметический «шифр»
действительно адекватен культурному «посланию» этой странной эпохи глубоких
перемен, переведшей стрелки часов европейской истории от традиционного
средневекового мира к Новому времени с научным мировоззрением во главе.
Когда историки астрономии и физики принялись за проверку главного тезиса
Йейтс, то в большинстве своем они пришли к несогласию с ней, подчеркнув, что
Йейтс недооценивает концептуально-физическую аргументацию Бруно, а также
те влияния на него, которые необязательно исходят от «Герметического корпуса».
Анализируя эти работы, вчитываясь в полемику и дискуссии, вызванные книгой
Йейтс, убеждаешься в одном: для историка науки его герой, как бы по определению, —
ученый. Кем бы ни был Бруно — мистиком, неоплатоником, герметистом,
стопроцентным магом самого радикального агрипповского толка, миссионером египетской
религии, пантеистом, виталистом, луллистом и т. п., для историка физики он —
физик. И уже поэтому все мистические, магические, герметические смыслы,
фиксируемые для его «опознания» и значимые в большом историко-культурном
контексте, оказываются для него, как физика, прежде всего чужеродными, посторонними.
Герметический импульс формирования новоевропейской науки... 251
И неудивительно, что тезис Йейтс нашел куда больше поддержки (если говорить
только об историках науки) не у историков физики или астрономии, а у историков
медицины и химии (Дебас, Вебстер и др.). Такая структура реакции на книгу Йейтс
понятна: ни химия, ни медицина не были столь суровы по отношению к герметизму,
как механика или астрономия, а в XVI-XVII вв., да и в XVIII в. тоже, они еще во
многом не отделились от него. Историки этих дисциплин были даже раздражены
самонадеянной экспансией историко-научного физикализма при объяснении научной
революции. Действительно, панегирики и исследования посвящались, как правило,
творцам механики, астрономии, открывателям математических методов, но не
врачам и химикам, которые в XVII в., говоря языком позитивистов и физикалистов
от истории науки, еще «барахтались в мутных водах» парацельсизма, алхимии,
спиритуализма, мистики и магии. Однако, как показали перечисленные выше историки,
парацельсисты сыграли свою позитивную роль в формировании научной революции
по всему фронту наук. Для своего времени парацельсисты и гельмонтианцы
выступали носителями новой ментальности, их внимание к библейской экзегезе отвечало
их стремлению избавиться от язычников Стагирита и Галена, сблизить враждующие
христианские конфессии и создать истинно христианскую науку, свободно
сочетающую библейское откровение и новые медицину и химию.
Механистический редукционизм обедняет образ научной рациональности.
Но механоцентризм уже тогда, в период создания механистической картины мира,
оспаривался химиками и теми, кого называли «герметическими философами»,
а мы привыкли называть алхимиками. Как и «чистые» герметисты (вроде Бруно
и Флудда), парацельсисты не были в полном смысле слова ни «новыми», ни
«древними» (мы имеем в виду, быть может, главную оппозицию той переходной эпохи,
представленную как спор между защитниками «древних» и апологетами «новых»
по поводу того, кто же кого превосходит по культурной значимости)34. Они
выполняли функции посредника между теми и другими, выступая в роли катализатора
нового интеллектуального синтеза.
В плане историографических стратегий выдвижение на передний план в
исследовании научной революции парацельсистского движения и всей традиции
возрожденческой ятрохимии, а также других подобных явлений, относящихся к близкой
к герметизму спиритуалистической традиции, служит своего рода дополнительной
поддержкой для тезиса Йейтс, которому угрожают такие «ловушки», как
дезавуирование герметизма в пользу неоплатонизма. Тем самым Дебас, Пагель, Вебстер
«подстраховывают» тезис Йейтс, но ценой его уточнения и расширения. Можно сказать, что
в общей «экономии» проблемы научной революции в связи с герметической
традицией неоплатоническая «ловушка» для тезиса Йейтс, применяемая в основном
историками точных наук, уравновешивается своего рода парацельсистской
«антиловушкой», выдвигаемой на передний план историками медицины и химии. В результате
34 Jones R. Ancients and Moderns: A Study of the Rise of Scientific Movement in Seventeenth
Century England. N. Y., 1961.
252
Раздел второй
мы получаем историографическое поле, насыщенное провоцирующими
исследовательскую мысль потенциалами, что способствует в перспективе созданию более
полной, синтетической картины научной революции.
Историографическое поле данной проблемы определяется, таким образом, как
общей методологической установкой историка (главная оппозиция здесь не только
интернализм / экстернализм, но и «жесткий» рационализм / «мягкий» рационализм),
так и дисциплинарной принадлежностью историка науки (точные науки / науки «па-
раточные», или «бэконианские», по определению Т. Куна). Действительно,
исследования Дебаса, Вебстера, Пагеля и других историков медицины, химии и биологии
внесли существенные поправки, уточнения и дополнения к концепции Йейтс,
обнаружив явный разрыв между сторонниками Парацельса и «магами»
флорентийского неоплатонизма. Парацельсисты — активные практики, противники
гуманистической учености университетов, и уже поэтому они ближе к духу новой науки,
чем созерцатели-платоники, такие как Фичино или Пико, на которых делает особый
упор в своей концепции английский историк. Именно парацельсистский целитель
как распорядитель природных сил лучше воплощает ключевой для самой Йейтс
образ мага-ученого, типичного для первой стадии научной революции. Парацельсизм
был влиятельной идеологией, мощным духовно-интеллектуальным течением, в
которое вошли многие элементы герметизма, хотя и в переработанном виде.
Анализ формирования биомедицинского цикла наук дает, кроме того, и
несколько иную перспективу для истории самого герметического движения. Если Йейтс
его упадок жестко связывает с установлением И. Казобоном в 1614 г. научно
обоснованной датировки создания «Герметического корпуса», то Дебас относит его уже
к 1660 г. (реставрация королевской власти в Англии, вместе с которой радикальные
пуритане-парацельсисты покидают авансцену политической и культурной жизни).
П. Росси растягивает это время еще дальше, ограничивая зону влияния герметизма
на науку серединой XVIII в.
Превосходство парацельсистов как представителей герметического движения
перед флорентийскими неоплатониками Метаксопулос фиксирует в понятии
«эмпирический платонизм». Эмпирический платонизм выступает как особое движение или
традиция, идущая от Р. Бэкона с его идеей scientia mathematica experimentalise
выступающей целью для многих ученых и философов. По мнению историка, именно
данная традиция является первостепенной важности фактором в формировании новой
науки. В XVI-XVII вв. эмпирический платонизм быстро распространяется по Европе
прежде всего благодаря движению английских парацельсистов. «Именно в этом, —
говорит Метаксопулос, — можно увидеть образование связей преемственности
между современными научными обществами в их зародышевом состоянии и
представителями той культуры, источники воодушевления которой, по крайней мере
частично, являлись герметическими»35. Иными словами, с
институционально-социологической точки зрения именно кружки эмпирических платоников и парацельсистов
Metaxopoulos Ε. Op. cit. P. 58-59.
Герметический импульс формирования новоевропейской науки... 253
выступают более вероятными зародышевыми ячейками будущих научных сообществ
и организаций, чем указываемые Йейтс тайные общества герметистов.
Представление об эмпирико-платонической традиции позволяет провести
определенную демаркацию среди позднеренессансных ученых. Так, известный своими
герметическими взглядами Р. Флудд, по мнению Метаксопулоса, выходит за рамки
протонаучного слоя ученых, преодолевающих, пусть частично, пределы магико-гер-
метического образа мира. Но вот фигура Дж. Ди уже подпадает под определение
эмпирико-платонистской учености. «Астрология, — пишет историк, — служит ему
для целей навигации, а аналогия между микрокосмом и макрокосмом — для
переосмысления архитектурных теорий Витрувия и Альберти»36. Т. Харриот и У.
Гильберт также могут рассчитывать на зачисление их в категорию
эмпириков-платоников. На наш взгляд, все эти демаркации, однако, условны. Ведь изгоняемый из слоя
протоученых эмпирико-платонистского типа Флудд отстаивал теорию
кровообращения Гарвея («De motu cordis», 1628) в то время как механицист и атомист Гассенди
выступал против нее, оставаясь на галенистских позициях. Формально Флудд входил
в сообщество английских медиков, интересовался экспериментами Гильберта,
разделяя с ним некоторые общие идеи. Тем не менее нюансы в демаркации важны, так
как они позволяют построить своего рода шкалу степеней «отмывания» ренессанс-
ного мага, пределом для которой выступает новый ученый. И действительно, цели
деятельности Флудда всегда герметические, хотя научные приемы, им применяемые,
вполне органично могут инкорпорироваться в их реализацию, играя определенную
демонстрационную роль.
В это переходное время существовала целая серия смешанных категорий
учености, благодаря которым, в согласии с концепцией Йейтс, герметическая традиция
весьма непрерывным образом переходила в новую науку. Но и разрывы (что не устает
подчеркивать П. Росси) также имели место, обозначившись в серии полемик
(Кеплер — Флудд, Мерсенн — Флудд и вся герметическая традиция). Платонистский
эмпиризм, конечно, не был строго научным направлением. Но, что важно, он не был
и чужд науке. Историческое исследование выполняет здесь функцию тонкого
анализатора, позволяющего построить общую синтетическую картину научной
революции как многофакторного и поликонфликтного процесса, идущего с разными
скоростями и в различных формах в разных европейских странах. Так,
ученый-платоник эмпирической ориентации характерен для Англии и для биомедико-химиче-
ского цикла знаний. Во Франции же длительное время доминировали другие типы
ученого, в частности тип картезианца-механициста.
Ни надменно-рационалистическое отталкивание концепции Йейтс, ни
восторженное ее принятие, на наш взгляд, не отвечают смыслу свершаемого в
интеллектуальной области при формировании науки Нового времени. Взвешенный подход
к проблеме демонстрирует П. Росси. Он практически согласен с основным
содержанием тезиса Йейтс. «Установки магов, алхимиков, парацельсистов, последователей
36 Metaxopoulos £. Op. cit. P. 59.
254
Раздел второй
герметизма, несомненно, существенно повлияли, — пишет он, — на процесс
проникновения в мир культуры нового отношения к практике, к действию, к
оперированию с вещами»37. Но, считает Росси, и в этом его основное возражение в адрес Йейтс,
нет исторического основания для того, чтобы позитивистскую преемственность или
континуализм сменить континуализмом мистическим, настаивая на живучести тем,
типичных для мистицизма. И он показывает, в чем же состоит главное отличие
мировоззрения ученых Нового времени от мировоззрения герметического.
Оккультное знание — знание для посвященных, оно требует особой процедуры посвящения:
Мистицизм неоплатоновского толка институализирует «тайное». Прошедшие
инициацию выступают как каста избранных, они рассматриваются как
предназначенные — обычная формула в магической традиции Ренессанса, являющаяся
выражением пифагорейской легенды. Например, каббалист вступает в заговор с Богом,
причем буквы и их сочетания ему сообщают, что же Бог хотел сказать «правоверным»
(gentiles) при условии, однако, их молчания об этом. Тайное знание высказывается
в криптоязыке, выражающем вечную сущность совершенного языка, отражающего
саму суть вещей. Противясь лингвистическому уклону в искусственность, типичному
для аристотеликов, применяя каббалистические техники, некоторые неоплатоники
стараются открыть этот язык. Но это попытки, строго запрещенные для профанов38.
Итак, герметическое знание — знание мистическое и «трудное».
Познать сущность вещей, постичь гармонию мира «трудно». Напротив, главная
социальная идея механицизма — идея естественного равенства в познании — означает,
что познание доступно всем. Естественного разума, в равной мере разделяемого
ремесленником и ученым, — излагает основную идею Росси Метаксопулос, — в
высшей степени достаточно для того, чтобы иметь доступ к познанию вещей. Более того,
знание есть знание лишь постольку, поскольку оно публично, поскольку оно
сообщается. И именно в этом состоит принцип образования научных обществ,
решительным образом отделяющий их от магических сект, от алхимических групп,
таких как, например, легендарное общество розенкрейцеров. Между «героическим
энтузиазмом» бруновского толка, воодушевлявшим протестантские секты,
воплощавшие утопическую мечту Ренессанса, и программой социализации знания,
которая воодушевляла научные общества, имеется очень мало точек соприкосновения39.
Но так ли это? Во всяком случае, на наш взгляд, Йейтс бы с этим не согласилась. Ее
мысль состоит как раз в том, чтобы показать связь тайных обществ,
энтузиастических групп с кругами радикальных протестантских сект, которые часто давали приют
новой науке, пусть поначалу она и выглядела слишком герметической и магической.
37 Rossi R Immagini della scienza. Roma, 1977. P. 157.
38 Metaxopoulos Ε. Op. cit. P. 63.
39 Ibid.
Герметический импульс формирования новоевропейской науки... 255
Но именно в этих кругах вращались У. Гильберт, Дж. Ди, их не чуждались и другие
ученые переходного типа, причем разной степени этой «переходности».
Бэконианского типа ученый — это реформированный, т. е. прежде всего
очищенный от гностико-герметической эзотерической заносчивости и повернутый к
открытому для всех рациональному характеру научной культуры, маг-ученый. Здесь важно
учесть новую, пуританского происхождения духовную струю в моральном
менталитете ученого сословия Англии времен Ф. Бэкона. Именно под ее воздействием позд-
неренессансный маг-ученый (сначала фичино-пиковского, а затем и
розенкрейцерского толка) постепенно превращается, как бы «отмываясь» от «черноты» своего
магизма, в скромного ученого-экспериментатора в духе Р. Бойля. Та
научно-эмпирическая аскеза, которую нам с такой силой демонстрирует Бойль, отвечает
глубокому морально-религиозному настроению уверенности в спасении именно через
нее, через прогресс научных знаний, обращенный к тому же на помощь
страждущему человеку. Для самого Ф. Бэкона как идеолога движения научного эмпиризма
на английской почве горделивые и самонадеянные фантазии ренессансных магов
представляются как бы вторым падением человека, вместе с которым он может
утратить плодоносный для него и его спасения контакт с матерью-природой. И искупить
этот грех, данный в образе зазнавшихся магов, можно только скромным и
смиренным служением науке как методическому эмпирическому исследованию,
нацеленному на благо людей, на установление их господства над силами природных стихий.
Примером такого неприемлемого для Ф. Бэкона мага был Дж. Бруно, рядом с
которым великий реформатор наук ставит Патрици, Гильберта, Кампанеллу. Для Бэкона
настолько неприемлем весь этот тип мага-ученого, что он, как говорится, вместе с
водой выплескивает и ребенка — отвергая Бруно, он отказывается и от
пропагандируемого им гелиоцентризма, а отталкиваясь от мага-математика Дж. Ди,
пренебрегает в своей концепции научного метода самой математикой! Конечно, дух времени
добавлял масла в огонь, и чтобы самозащититься, ученые (они тогда действительно
для публики не отличались от магов) должны были с особым нажимом
подчеркивать свое расхождение с ними. Только в этом случае они могли защитить
рождающуюся науку от атаки со стороны религиозных институтов.
Весь этот процесс рождения новой науки можно схематически представить
как работу своего рода «химического» реактора, действующего по принципу
противотока. Представим себе, что из толщи средневековой культуры движется
поток традиций и движений, рвущих с аристотелизмом университетов и церкви
во имя спиритуальной целостности человека и Вселенной, организованной на
основе магико-герметических законов всеобщей одушевленности. Перечислим
некоторые из этих потоков, входящих в такой «реактор»: спиритуализм, неоплатонизм,
традиции неопифагорейства, каббалы, герметизма и оккультных наук... В
«реактор» входят и рождающиеся тут же или идущие из древности традиции и движения
не эзотерического, а, напротив, экзотерического плана: разные виды рационализма,
эмпиризм и экспериментализм, пуританская аскеза в исследовании и
технических ремеслах и т. п. И в результате мы видим, как постепенно в зоне слияния этих
256
Раздел второй
противонаправленных потоков происходит своего рода великое «отмывание»
средневекового и ренессансного мага. Сначала грубый средневековый маг превращается
в благородный тип фичиновского мага, еще очень далекого, правда, от
экспериментальной рациональной науки. Затем через привнесение каббалистических элементов
возникает более приближенный к науке, благодаря возросшему интересу к
математике, тип мага, олицетворенный фигурой Пико. А затем получаем уже достаточно
«отмытого» мага, в котором признаем ученого нового типа — сначала это У. Гильберт
и сам Ф. Бэкон, а затем Р. Бойль и, наконец, Ньютон... Мы упустили множество
важных имен, но зато дали саму схему этой «большой стирки», в результате которой
примерно за 150 лет плеяда темных магов была «отмыта» до светло-научной кондиции,
дав тем самым генерацию позитивных ученых, пусть еще и интересующихся
«герметическим искусством», как великий Ньютон, но уже не афиширующих свой
интерес, так как в общественном сознании герметическая магия проиграла и уходит
в культурное «подполье» (в форме тайных обществ розенкрейцеров и затем масонов).
Какой же момент всей проблемы, на наш взгляд, упущен как в работе Йейтс, так
и в интересных, дополняющих и корректирующих ее концепцию работах П. Росси?
Нам представляется, что при обсуждении проблемы связи научной революции
с герметической традицией нельзя обойти вниманием и прямо противоположный
герметизму импульс, без которого новая наука не возникла бы. Речь идет о
христианстве и том рациональном мышлении, которое через перипатетизм и
схоластику с ним было тесно связано. Изучение деятельности М. Мерсенна (1588-1648),
движения парацельсистов и гельмонтианцев с их явными попытками
христианизации знания, а также анализ проблемы чуда в контексте натурфилософии
Возрождения40 (и не только это, конечно) указывают на христианский импульс в
составе мотиваций научной революции. Известно, что вне христианских стран наука
в новоевропейском смысле не возникла. Христианский импульс носил
разнообразный характер. Его наличие в спиритуалистической, в частности парацельсистской,
традиции неоднократно отмечалось историками. Так, Ван-Гельмонт парацельсов-
скую ятрохимию расширяет до всеохватывающей философии, называя ее то
«естественной», то «химической», то «христианской». Последний эпитет не случаен:
для многих последователей Парацельса создаваемая ими натуральная философия
казалась именно христианской — в противовес языческим спекуляциям
Аристотеля и Галена. Сомнение в христианской аутентичности схоластической традиции
укрепилось еще со времени указов епископа Парижа Э. Тампье, осудившего
аристотелевские догмы во имя утверждения тезиса о божественном всемогуществе
(1277). И поиски философии, отвечающей новому чувству христианской истины,
разными путями, в том числе и окольными, вели к тому перевороту, который
ознаменовался рождением новой науки и созданием на ее основе современной
техногенной цивилизации.
40 Визгин В. П. Эксперимент и чудо: религиозно-теологический фактор генезиса науки
нового времени // ВИЕТ. 1995. № 3. С. 3-20. См. выше, с. 208-231.
Герметический импульс формирования новоевропейской науки... 257
В магической традиции наука и религиозность (нередко явно нехристианского
толка) смешивались. И именно это смешение стало в начале XVII в. особенно
неприемлемым, так как представляло угрозу как для христианства, так и для возникающей
экспериментально-математической науки. В конце концов, Новое время стремилось
к тотальной дифференциации во всем, в том числе и к тому, чтобы отделить науку
от религии. И не было лучшей возможности для этого, чем новое механистическое
естествознание. Оно четко и недвусмысленно определило, что такое естественное,
что такое природа, являющаяся его предметом. Религии и теологии в качестве их
привилегии, которую они ни с кем разделять не хотели, осталось определение Бога или
сверхъестественного.
Если мы теперь посмотрим на взаимосвязи и противостояния различных
традиций с позиций, например, Мерсенна, то нам станет ясно, что магическая традиция
была для него религиозно значимым соперником, и притом весьма грозным
(косвенно об этом свидетельствует и влияние герметизма до XVII в. включительно).
Поэтому для Мерсенна существовал очевидный религиозный стимул для борьбы с
магией и натурфилософским анимизмом. Но это стремление совпало и с его научными
ориентациями и симпатиями, фокусировавшимися на архимедовой,
механистической, математической традициях. Явственно также проступает как у него, так и у
других ученых (например, у Ф. Бэкона) стремление спасти новую науку от обвинений
в магии, которые были типичны для контрреформационной Европы, что заставляло
многих ученых открещиваться от магии и герметизма, даже если они и не
принадлежали к магической традиции: природознание не отделялось тогда от оккультизма
и магии общепринятой социокультурной демаркацией.
Но если мы теперь посмотрим на того же Мерсенна как на ученого в высшей
степени любознательного, заинтересованного в познании мельчайших «деталей»
природы (акустика, механические явления, астрономия, баллистика и т. п.),
опирающегося при этом на парадигму механико-математического естествознания, то нам
станет понятной и чисто научная мотивация в пользу ортодоксального христианства,
в союзе с которым, «под крылом» которого новая наука, казалось, надежно защищена.
Соотношение герметического и христианского импульсов в процессе научной
революции можно себе представить таким образом: герметический импульс
приводит к повороту воли человека в сторону практической ориентации знания, а
христианский импульс маргинализирует само герметическое движение в то время, когда
возникает новое механистическое естествознание, уже «заряженное» утилитарной
перспективой. После того, как герметический импульс выполнил свою роль,
христианский импульс наносит ему coup de grace: мавр сделал свое дело...
Кризис культуры и общества в XVI-XVII вв. был тотальным и глубоким: под
вопрос было поставлено духовное единство европейского человечества — как его
христианское ядро, так и традиционный рационализм. И тот союз, пусть даже
временный и условный, науки и христианства, который тогда сформировался, явился
спасительным для судеб европейской культуры, для преодоления кризиса ее
самотождественности. Без верности творцов новой науки христианской традиции
258
Раздел второй
с усвоенным ею из античного наследия рационализмом наука Нового времени не
возникла бы. Верующее сердце даже таких сомнительных, казалось бы, христиан, как Па-
рацельс, сдерживало провоцируемый магико-герметическим импульсом возможный
срыв ренессансного ума в дохристианские анимизм и гностицизм41. Да, магико-герме-
тическое течение, столь широко распространенное и развившееся в эпоху позднего
Возрождения, многие представители которого религиозно были ориентированы —
или индифферентно, или антихристиански (Кардано больше, чем Помпонацци), —
сыграло свою роль в подготовке научной революции и негативно, в качестве
противника схоластической традиции, и, в известной степени, позитивно. Но тем не менее
от герметизма, спиритуализма, анимизма и натуральной магии не было пути к новой
науке, даже если бы вместе с этими учениями развился не только пантеизм, но и
крайний атеизм. Антихристианство послужило всеобщему брожению умов и душ в эпоху
Ренессанса, но науки не создало и не могло создать. Поэтому тезис Йейтс об
определяющей роли «герметического импульса» в генезисе науки Нового времени должен
быть скорректирован или, точнее говоря, дополнен выявлением других, в том числе
противонаправленных, импульсов. Герметический импульс расшатал
традиционное христианство Запада, обновил присущую ему волю к истине, придав ей
мощную практическую направленность, но наука возникла потому, что
антихристианского срыва в восточный гностицизм при этом не произошло. И в этом уникальном
событии свою роль сыграли и герметисты, и пуритане, и католики.
Об этом убедительно написал К. Г. Юнг. См.: Юнг К. Г. Соч. М., 1992. Т. XV. С. 28-29.
ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
И НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ:
К НОВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕЗИСА
ФРЕНСИС А. ЙЕЙТС*
Наш анализ касается структуры историографического поля проблемы роли
герметической традиции (ГТ) в научной революции (HP). Литература, посвященная данному
вопросу, и, особенно, дискуссия, вызванная книгой Френсис А. Йейтс о Джордано
Бруно, дают настолько богатый материал, что позволяют еще раз и по-новому
проанализировать всю концепции HP, предложенную выдающимся английским историком1.
История культуры и история науки
Несомненное преимущество исторического дискурса обусловлено стратегией его
построения, опирающейся на следующие вопросы: для кого и как он
конструируется? Ответ на эти вопросы определяет типологию исторических дискурсов,
различающихся по степени своей убедительности. Анализ дискуссий вокруг тезиса
Ф. А. Йейтс о решающей роли герметизма в научной революции показывает, что
кажущееся правдоподобным внутри историко-культурного дискурса не является
таковым для историко-научного подхода.
В том и другом случаях мы имеем дело с различными способами аргументации.
Английский историк предлагает прочтение в «герметическом» духе не только
собственно интеллектуальной жизни Возрождения, но и процессов в искусстве,
политике и т. д., тем самым трактуя историю в духе истории ментальностей. Читатель ее
* Одна из версий данной статьи была опубликована в: Proceedings of the XXth International
Congress of History of Science (Льеж, 20-26 июля, 1997) Volume XVIII: Alchemy, Chemistry and
Pharmacy / Ed. by Michael Bougard. Brepols, Turnhout, Belgique, 2002. P. 61-66. Автор
благодарит Университет Льежа (Бельгия) за помощь в проведении этого исследования. Для
настоящего издания текст обновлен.
1 Назовем лишь несколько имен авторов, чьи труды посвящены анализируемой проблеме:
N. Н. Clulee, В. P. Copenhaver, A. G. Debus, P. Delpiano, A.-J. Festugière, P. J. French, Ε Garin,
M. Gliozzi, A. R. Hall, M. Hesse, К. Hutchison, Р. О. Kristeller, J. M. Me Guire, E. Metaxopoulos,
W. Pagel, P. M. Rattansi, P. Rossi, Ch. B. Schmitt, В. Tannier, В. Vickers, D. P. Walker, R. S. Westfall,
R. S. Westman, Fr. A. Yates, P. Zambelli и другие.
260
Раздел второй
работ, обращая больше внимание на содержащиеся в них захватывающие образы
и символы, а не на логику аргументации, присущую традиционной истории науки,
больше не сомневается, что герметический код действительно присущ культурному
посланию этой неустойчивой, переходной эпохи.
Но, в конечном итоге, действительно ли герметизм является основной
тенденцией культуры Возрождения? Это действительно важный вопрос, поскольку
сомнения остаются, даже если — подчеркнем еще раз — мы читаем работы Ф. А. Йейтс
через призму истории культуры, а не истории науки.
Когда историки астрономии, механики и физики предприняли верификацию
концепции, предложенной Ф. А. Йейтс, отношение к ней в большинстве случаев
оказалось отрицательным. Остановимся только на двух моментах ее критики. Первое
возражение касается того, что Ф. А. Йейтс недооценила концептуальную
аргументацию, присущую всякой науке. Второе — практически полное игнорирование
тенденций и традиций за пределами герметического круга, т. е. тех, которые не
«привязаны» напрямую к Corpus Hermeticum. Если обобщить эту критику, можно определить
точку расхождения дискурсивных стратегий, присущих указанным типам истории:
для историка науки (в отличие от историка культуры) его героем a priori является
ученый. Поэтому все характеристики, которые могут быть значимы в рамках
историко-культурного контекста, как бы моментально стираются, исчезают, как только
ученый становится объектом историка науки.
Возьмем, к примеру, Джордано Бруно: он мог быть мистиком, неоплатоником,
герметистом, магом, практикующим более чем подозрительные ритуалы,
виталистом, анимистом, луллистом и т. д. и т. п. Но для историка физики он — физик.
Подведем сказанному итог: хотя историко-научный подход является законным для
верификации историко-культурной концепции, по крайней мере в той степени, в какой
он касается историко-научных сюжетов, однако его самого по себе нельзя считать
в данном случае достаточным для того, чтобы последнее слово оставалось за ним.
Ловушка платонизма и парацельсистская поддержка:
две противоположные стратегии
Стратегия, которую мы назвали «ловушка платонизма», может быть выражена
словами Дж. М. Мак-Гвайра: «Герметизм не был ни независимой исторической силой,
ни отдельной интеллектуальной традицией, но... практически всегда он возникал
и распространялся на почве возрождения неоплатонизма. Неоплатонизм был
независимой исторической реальностью, чего нельзя сказать об интеллектуальных
элементах герметизма»2. Выраженная в этих словах критическая стратегия, направленная
2 Me Guire /. Ε. Neoplatonism and active principles: Newton and the Corpus hermeticum // West-
man R. S., Mc Guire J. E. (eds.). Hermeticism and the Scientific Revolution. Los Angeles, 1977. P. 127.
Герметическая традиция и научная революция... 261
против истории, ставящей в центр объяснительной конструкции герметизм (histoire
hermétisante), уже была сформулирована А. Ж. Фестюжьером: «[Из герметического
корпуса] невозможно извлечь некое единое учение, которое можно было бы
обозначить как герметизм»3. Ч. Б. Шмитт соглашается с Д. М. Мак-Гвайром, когда он
говорит: «Важно подчеркнуть тот факт, что базовой структурой Герметического корпуса
(и лежащей в его основе метафизики) является неоплатонизм»4. Хотя Ф. А. Йейтс
и не отрицает гетерогенную структуру Герметического корпуса, по ее мнению,
взаимосвязь между неоплатонизмом и герметизмом выражается в высказываниях,
противоположных тем, которые употребляет Дж. М. Мак-Гвайр. Комментируя его
интерпретацию герметической традиции как наследия легендарного Гермеса Трисмегиста,
она говорит: «Я включаю в это понятие герметическое ядро неоплатонизма Фичи-
но»5. Согласно этому утверждению, возможный положительный вклад
герметической традиции в научную революцию обеспечивается именно неоплатонизмом
(например, роль активных начал при построении динамики Ньютона).
Ловушка неоплатонизма, в которую рискует попасть тем самым герметико-центри-
стский подход, уравновешивается поддержкой тезиса Ф. А. Йейтс, даваемой ему в
рамках историографии идущего от Парацельса течения мысли6. Поэтому неудивительно,
что историки химии или медицины более позитивно настроены по отношению к
концепции Ф. А. Йейтс, чем их коллеги, занимающиеся такими точными науками, как
математика, астрономия, физика или механика. Причина очевидна: эти дисциплины ближе
к анимистической и герметической ментальности, чем к ментальности механистической
или математической. Тем не менее они сыграли весьма значительную роль в научной
революции в целом, что и продемонстрировали нам упомянутые историки этих наук.
Метаисторические установки
Признание или опровержение тезиса Ф. А. Йейтс обусловлено философскими
позициями, которые, как правило, остаются неизменными на протяжении всей работы
историка и поэтому могут быть названы метаисторическими. В историографии
науки, естественно, очень сильна традиция научного рационализма. Сама дихотомия
«история культуры — история науки» может быть представлена как обусловленная
3 Corpus hermeticum. 7е éd. T. 1 / Texte établi par A. D. Nock et traduit par A.-J. Festugière. Paris,
1991. P. 85.
4 Schmitt Ch. B. Reappraisals in Renaissance Science // Studies in Renaissance Philosophy and
Sciences. 1981. P. 207.
5 Yates Fr. A. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Chicago, 1964. P. 448.
6 Мы имеем в виду работы таких авторов, как W. Pagel, A. G. Debus, Ch. Webster и
некоторых других.
262
Раздел второй
расхождением базовых метаисторических установок историков. А. Койре и В. П.
Зубов, к которым мы обращаемся, — наиболее показательные представители
традиции научного рационализма, исследовавшие науку Возрождения в связи с проблемой
HP. В самом деле, анализируя космологию Д. Бруно, А. Койре сознательно оставляет
в стороне склонность своего героя к витализму и магии. «Действительно, — пишет
историк, — мой эскиз его космологии немного односторонний и отнюдь не полный:
концепция мира Бруно виталистична и магична; его планеты — это живые
существа, которые свободно движутся в пространстве по собственному желанию, так же
как и планеты Платона или Патрици»7. Однако, как считает Койре, влияние Бруно
на научную космологию преодолевает подобные герметические рудименты его мысли,
даже если они и не исчезают у него полностью. Ф. А. Йейтс, напротив, утверждает, что
вклад Бруно в научную революцию огромен именно благодаря элементам герметизма.
То же расхождение метаисторических установок мы видим, когда сравниваем
интерпретацию образа Леонардо у В. П. Зубова и у Э. Гарэна. В размышлениях
Леонардо Зубов отмечает типично герметические моменты. Но русский историк
постоянно стремится свести их значимость к минимуму:
Можем ли мы из-за этого характеризовать Леонардо как виталиста? Только с очень
серьезными оговорками. Не следует забывать, что Леонардо прибегал к понятиям
«душа» и «жизненная сила» всякий раз только тогда, когда не находил подходящего
объяснения жизненных явлений с помощью принципов механики или когда
оказывался не в силах посредством механических средств искусственно воспроизвести
сложные движения и изменчивость живых существ8.
Кроме того, В. П. Зубов подчеркивает принципиальную разницу между Леонардо
и Фичино в их отношении к значимости Солнца: «В конечном счете, — говорит
он, — Солнце для Фичино было не более чем символом, направляющим его мысль
к "сверхнебесному свету". Подобная гелиософия, характерная для флорентийского
платонизма, была чужда Леонардо»9.
Эудженио Гарэн, историк культуры Возрождения, напротив, говоря о проблеме
существования жизненных или духовных сил у Леонардо, решает ее совсем
по-другому: «Он считал, — говорит он, — что дух есть не что иное, как дыхание жизни, сила
и энергия (и именно в этом смысле Леонардо называет силу духовной); и в этом
находил он высокий образ "разума", сокрытого в лоне природы как в глубокой
"пещере"» 10. Кроме того, в образе пещеры он видит влияние VIII трактата Герметического
корпуса. В противовес мнению Зубова, Гарэн говорит: «Эта концепция духовной силы
7 Koyré A. Du monde clos à l'univers infini / Trad, de l'anglais par R. Tarr. 1962. P. 58.
8 Zoubov V P. Le soleil dans lbeuvre scientifique de Léonard de Vinci // Le Soleil à la Renaissance.
Science et mythes. Bruxelles; Paris, 1965. P. 192.
9 Ibid. P. 182.
10 Garin E. La cultura filosofica del Rinascimento italiano. Ricerche e document!. Firenze, 1979. P. 399.
Герметическая традиция и научная революция...
263
имеет очень мало общего с рациональной механикой, в то время как самым
непосредственным образом она связана с темой жизни и универсальной
одушевленности в духе Фичино и герметизма» ". Позиция итальянского историка культуры в этом
плане совпадает с точкой зрения Ф. А. Йейтс: «Исключительные достижения
Леонардо будут, согласно гипотезе Гарэна, еще одним доказательством того, каким
импульсом к новому виденью мира обладал герметизм»12. И несколько дальше она
добавляет, что анимистическая концепция мира является основополагающей как для
механики Леонардо, так и для его математики.
Такое двойственное прочтение науки Леонардо продиктовано особенностями
самой его фигуры как человека эпохи Возрождения, для которого соединение маги-
ко-герметической традиции с рациональной наукой совершенно органично и
естественно. Но мы усматриваем и другую причину для такого двойственного прочтения,
скрытую в ментальных установках упомянутых нами историков. Отметим, что все
представители рационалистического подхода являются при этом историками науки,
в то время как исследователи, разделяющие «иррационализм», пусть, так сказать,
«слабый», являются историками культуры. Иными словами, указанное расхождение
позиций вытекает из расхождения метаисторических установок. А. Койре и В.
Зубов — историки науки и в то же время убежденные, можно даже сказать, «жесткие»
рационалисты. А. Э. Гарэн и Ф. А. Йейтс, являющиеся историками культуры, заметно
менее привязаны к ценностям воинствующего и, возможно, поэтому несколько
ограниченного научного рационализма. Последнее замечание, впрочем, в большей
степени по понятным причинам относится к В. Зубову, чем к А. Койре.
Теперь рассмотрим другой тип характерных расхождений в обсуждаемом нами
историографическом поле проблемы роли ГТ в HP. Джордано Бруно —
стопроцентный герметист, согласно Ф. А. Йейтс — поражает нас как отсутствием какой-либо
практической или технической ориентации в своем видении мира, так и своей
смелой и поэтически выраженной концепцией множественности миров. Примечательно,
в частности, отсутствие у него каких-то, пусть в чисто гипотетическом виде, в форме
набросков, технологических проектов путешествий из одного мира в другой. Ведь
подобные проекты уже существовали в его эпоху, и даже раньше (Леонардо, Годвин,
Сирано де Бержерак). И действительно, зачем разрабатывать технику космических
полетов, если миры, то есть все небесные тела, согласно Бруно, суть существа
одушевленные и, как следствие, могут сближаться между собой посредством
собственных жизненных сил, в точности так, как это делают земные существа? Из этого мы
делаем заключение, что, вопреки мнению Ф. А. Йейтс, герметический анимизм
скорее мешает развитию техники и науки.
Тем не менее — ив этом парадокс, который нам особенно интересен, —
наблюдения и даже выводы Ф. А. Йейтс и сторонников ее тезиса также верны. Первое
11 Garin Ε. Scienza е vita civile nel Rinascimento italiano. Bari, 1965. P. 71.
12 Yates Fr. A. The Hermetic Tradition in Renaissance Science // Art, science and history in the
Renaissance. Baltimore, 1968. P. 261.
264
Раздел второй
наблюдение данного типа таково: «Для Ди, — справедливо отмечает английский
историк, — его механические операции... были частью того же мировоззрения, что и его
попытки призывать ангелов с помощью каббалистической нумерологии»13. Другое
верное наблюдение: у Агриппы механика была одним из типов математической
магии. И третье: технические изобретения, как у Герона Александрийского,
обусловлены волнующим смешением магии и науки. Именно так обстоит дело в случае Фа-
био Паолини, автора трактата «Hebdomades»14. Парадоксы этого типа ставят, с одной
стороны, проблему истины в историческом исследовании, а с другой — следующий
вопрос: каким образом герметическая традиция влияла на научную жизнь и в
каком направлении? Мы уже больше не можем изолировать историю науки от
истории философии, как это было справедливо подчеркнуто Ч. Б. Шмиттом в
отношении процитированной выше статьи Дж. М. Мак-Гвайра15.
Подведем итоги. Итак, историографическое поле рассматриваемой проблемы
структурировано следующими главными оппозициями:
1) история культуры / история науки;
2) история точных наук / история «бэконовских» наук (согласно Т. Куну);
3) жесткий рационализм / мягкий рационализм как две метаисторические позиции.
Религиозный фактор
Поскольку в своих истоках герметизм является «языческим гностицизмом»
(Ф. А. Йейтс), безоговорочное одобрение анализируемого тезиса может привести
к заключению, что решительный отказ от христианства благоприятствовал
рождению современной науки. Но анализ сложной и конфликтной исторической ситуации
показывает наличие довольно большого и важного социокультурного пространства,
где интересы религии и зарождающейся науки сходились перед вызовом герметизма.
Действительно, натурализм Возрождения, близкий к герметической традиции,
расширяет область естественного, практически стирая расстояние между природным
и божественным. В таком натурализме поэтому скрывалась общая угроза и для
религии, и для науки. Напротив, новая наука стремилась ограничить понятие
естественного и способствовала тому, чтобы религия ставила барьеры для естественной,
или натуральной, магии, характерной для герметической традиции в целом. В таком
контексте механическая наука казалась способной преградить дорогу герметизму —
и антихристианскому, и антинаучному одновременно.
13 Yates Fr. A. The Hermetic Tradition in Renaissance Science. P. 259.
14 Paolini F. Hebdomades. Venise, 1589.
15 Schmitt CL· В. Op. cit. P. 213-214.
Герметическая традиция и научная революция...
265
Итак, герметическая традиция ориентировала волю человека к новой
практической и активистской установке сознания, тогда как христианская традиция маргина-
лизировала герметизм, способствуя появлению современной науки. Хотя
герметическая традиция играла свою определенную и положительную роль в этом процессе,
христианство, обновившееся в эпоху Контрреформации, нанесло ей последний,
решающий удар, постепенно вытесняя ее из публично признанного пространства
знания в культурный и социальный «андерграунд», характерный для оккультных
течений последних столетий.
ЭЗОТЕРИКА И НАУКА: ЭФФЕКТ РЕЗОНАНСА*
Науковедение — гуманитарное познание феномена негуманитарного
(естественнонаучного) знания. Эта ситуация означает если и не парадоксальность науковедческих
исследований, то по крайней мере неустранимое напряжение, в поле которого они
развертываются и получают свое оформление. Например, если в физике, при всех
оговорках, существует понятие решающего эксперимента (таким был для гипотезы
эфира эксперимент Майкельсона-Морли), то в гуманитаристике, как правило, его
нет. И в соответствии с этим гипотезы о причинах генезиса новоевропейской науки
оказываются непроверяемыми — ни фальсифицируемыми, ни верифицируемыми —
в противоположность тому, как это имеет место в естествознании. И поэтому
науковедение вынуждено использовать другие критерии, если, скажем мягче, и не истины,
то по крайней мере убедительности своих построений. Конечно, сами коды
убедительности меняются при переходе от одной сферы гуманитарного познания к
другой. В истории науки они одни, в искусствоведении — другие, а в науковедении —
третьи. Современная ситуация в гуманитарном знании в целом и в науковедении
в частности характеризуется, среди прочего, одним существенным обстоятельством.
Концепции, созданные в одном ее секторе при опоре на одни коды убедительности,
подвергаются проверочным исследованиям другими, соседними секторами, для
которых характерны другие коды убедительности и удостоверения. Так случилось
с концепцией «герметического импульса» английского историка Ф. А. Йейтс,
возникшей в рамках культурной истории Ренессанса, но проверяемой средствами
истории астрономии и физики (с. 151-164). В результате эта концепция получила
сертификат историко-научной малонадежности. Однако на уровне истории культуры это
ничуть не убавило ее веса.
Другой методологический момент, который мы хотим отметить, состоит в
признании и осознании роли мировоззренческого фактора в науковедении. Именно
этот фактор — основная причина самых фундаментальных размежеваний
исследовательского поля и тем самым того, что на нем может «произрасти». В физике, как
мы видим это в последнее время с особенной ясностью, указанный фактор тоже
начинает играть заметную роль. Но все же наличие консенсусных,
экспериментальных и прочих стандартных процедур минимизирует его в качестве субъективного,
* Статья представляет собой отклик на книгу Л. М. Косаревой «Рождение науки Нового
времени из духа культуры». М.: Институт психологии РАН, 1997. 358 с. Ссылки на книгу
Л. М. Косаревой при ее цитировании даются прямо в тексте в круглых скобках.
Эзотерика и наука: эффект резонанса
267
подавляя мощью объективирующих дисциплинарных механизмов. Столь важная
для культурологии и науковедения антитеза экзотерики и эзотерики присутствует
и в современной физике. Действительно, есть некая, условно говоря, магистральная
официальная физика, а есть физика маргиналов. Но, возвращаясь мыслью к
науковедению: как быть с этой ситуацией мировоззренческого плюрализма, раз
исследования науки претендуют на научность, т. е. ищут истину о своем предмете? Эту
апорию мы уже разбирали для исторического познания, причем сформулированный
результат может быть отнесен и к науковедению1. Одним из выводов, полученных
из ее анализа, было требование диалога исследователей, занятых одной проблемой,
но исследующих ее с различных позиций. Другим требованием был фактор
«времени и судьбы» — гуманитарию важно самому пройти через точки «мыслепере-
мены» («метанойи»), через события смены мировоззрения и базовых философских
позиций, для чего, естественно, требуется время. В таком случае его потенциал как
историка, науковеда и т. п. лишь возрастает.
И последний методологический момент. Ситуация, обрисованная выше,
получает еще один дополнительный фактор усложнения: эзотерика порой
непредвиденным образом способна к превращению в экзотерику. Приведем один пример.
Интересоваться в начале XX в. проблемами гравитации было явной «маргиналистикой»
и «эзотерикой». Но когда в 1919 г. А. Эддингтоном были получены эмпирические
подтверждения общей теории относительности как теории гравитации,
выдвинутой А. Эйнштейном в 1916 г., то маргинальное стало (пусть и не сразу)
магистральным, а эзотерическое обернулось экзотерическим, войдя затем в учебники физики.
Другой пример такого превращения эзотерического знания в экзотерическое — это
разглашение тайны иррационального числа (несоизмеримости диагонали квадрата
с его стороной) пифагорейцем Гиппасом из Метапонта. По преданию, он был
жестоко наказан, но тайнознание стало в результате «явнознанием».
Сепарирование культуры на «экзотерику» и «эзотерику» с ценностным
«раскрашиванием» полученных «зон» немыслимо без определенного мировоззренческого
выбора. Но разделяющий определенное мировоззрение «прирастает» к нему так, что
не может от него «отслоиться», встать по отношению к нему во внешнюю позицию,
ибо это означает разрыв с собственными верованиями, а, по слову Ортеги, в
верованиях человек живет, это его «дом», а из дома, как известно, уходят только «блудные»
дети. В книге Йейтс «Дж. Бруно и герметическая традиция» реабилитируется
маргинальное и эзотерическое течение, целый «подводный» пласт оккультных наук, в эпоху
Возрождения вышедший на поверхность культуры и общества и занявший в них такое
важное место2. В книге M. М. Бахтина о Рабле подобным же образом
реабилитируется карнавальная смеховая народная «субкультура», причем ее реабилитация
происходит, на наш взгляд, с некоторым перекосом оценки по отношению к ее
официальному противовесу, который изображается как нечто принципиально бестворческое,
1 Визгин В. Я. История и метаистория // Вопросы философии. 1998. № 10. С. 98-111.
2 Yates Ε A. Giordano Bruno and the hermetic tradition. Chicago, 1964.
268
Раздел второй
застывшее, лишенное потенциала обновления и саморазвития3. В обоих случаях
относительные истины и правды, особенно не у самих пионеров гуманитарной мысли,
а у их последователей, легко превращаются в односторонности, в идеологемы. Одним
словом, если обобщить интенции или пафосы обеих указанных книг, возникает гер-
метико-анархистская утопия или плебейско-иррационалистическая мифология,
раскрашивающая свою особую культурную «зону» в цвета общечеловеческие и самые
привлекательные (снятие «отчуждения», творческий «порыв» и т. д.). Но в
гуманитарном познании вообще и в науковедении в частности, как и в механике Ньютона,
действие уравновешивается противодействием. И например, на концепцию научной
революции (HP), разделяемую А. Койре, отвечает антиконцепция Ст. Яки,
последователя П. Дюгема4. В результате проблема генезиса новоевропейской науки попадает
под какие-то зашкаливающие потенциалы напряжений в самих своих основаниях.
В книге Л. М. Косаревой нигде прямо не говорится, что она предпочитает
позиции Койре или Йейтс позициям Дюгема и критиков английского историка, но роль
эзотерики как наукогенного фактора в социальных условиях XVI-XVII вв.
отчетливо в ней прослеживается. Дело еще и в том, что представленные в книге работы —
по своему жанру в большинстве своем научно-аналитические обзоры, пусть и никак
не сводящиеся к изложению точек зрения зарубежных и отечественных
исследователей, а проводящие авторскую позицию. Тем не менее обзор все же порой сковывает
автора в открытом и тем более развернутом выражении своих взглядов. Они
остаются как бы упрятанными в анализе концепций других авторов. Однако если
исходить из содержания основных проводимых в этой книге тезисов, то их суть весьма
близка к формуле Койре: научная революция XVII в. — это реванш Платона в союзе
с Демокритом5. Здесь важна интенция, содержащаяся в самой этой формуле,
исторически, конечно, не вполне точной. Так, например, как это справедливо подчеркивает
Косарева, не только античная атомистика и Платон, «возрождаемые» в XVI-XVII вв.,
открыли путь для новой науки, но и стоицизм, и тот же герметизм, который все же
от неоплатонизма отличается. Если формула Койре указывает на то, что
аристотелевская картина мира средних веков была разрушена благодаря восставшим из
культурной «тени» платонизму вместе с атомизмом, то Йейтс, в отличие от Койре,
выдвигает на первый план именно герметизм в качестве основного источника науки Нового
времени. Соединяя тезисы о главных факторах наукогенеза XVII в., прозвучавшие
у Койре и Йейтс, мы получим обобщенную формулу: новая наука XVII в. возникла
прежде всего благодаря эзотерическому фактору в культуре.
Такое объединение подходов Койре и Йейтс (несмотря на существенные
расхождения между ними в других отношениях) Л. М. Косарева, как нам это кажется, вполне
3 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса.
М., 1965. С. 12-13 и ел.
4 Яки Стэнли 77. Спаситель науки. М., 1992.
5 Койре А. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий // Койре А.
Очерки истории философской мысли. М., 1985. С. 19.
Эзотерика и наука: эффект резонанса
269
приняла бы. В «эзотерику» она включает не только герметизм с неоплатонизмом,
но и позднеантичные философские традиции, такие как эпикуреизм, стоицизм,
скептицизм. И это — безусловно, верный шаг, уводящий от той явной односторонности,
которая легко может возникнуть, если сосредоточиться только на «герметическом
импульсе» и забыть о других факторах, воздействовавших на процесс «рождения»
новой науки. Хотя Косарева действительно ставит проблему генезиса новой науки
шире, чем Йейтс и Койре, тем не менее полноты охвата релевантного ей культурного
контекста она все же не достигает, оставляя «линию» Дюгема за кадром своих
работ. Речь идет о вкладе в генезис новой науки как раз официальной аристотелизи-
рованной научной культуры. То обстоятельство, что она не была полностью
вытеснена герметическим и позднеантичным «импульсами», явилось одним из условий
возникновения новоевропейской науки как рационального предприятия,
продолжающего традицию античного рационализма.
Работы Л. М. Косаревой писались в 1980-е гг., когда тема «постмодерна» у нас еще
не слишком волновала ученых. Она не ставит новоевропейскую науку в перспективу
соотношения «модерн — постмодерн», сосредоточиваясь всецело на анализе перехода
от позднего Возрождения к Новому времени. Это, безусловно, оправданно и ведет
к тому, что пристальное внимание может уделяться мыслителям переходной эпохи,
поэтому позволяет выявить важные каналы воздействия социокультурного контекста
на становление новой науки. Однако, на наш взгляд, в плане метаперспективы такое
сопоставление все же необходимо для того, чтобы снять оттенок сциентистского
триумфа при анализе возникновения новой науки. Для более взвешенной оценки самого
феномена новоевропейской науки необходим анализ целостной культурной
стратегии, которая стояла за возникшей наукой. Иными словами, исследование тех же
процессов наукогенеза и тех же его героев (Ф. Бэкон, Р. Декарт и др.), но не в терминах
только знания (философского и научного), а в терминах целостного проекта —
антропологического, социального, религиозного, политического, образовательного и т. п. —
представляется нам необходимым, причем такое исследование уже нельзя
абстрагировать от сопоставления культуры модерна с культурой постмодерна.
Поэтому основной вопрос, на который отвечают исследования, проделанные
Л. М. Косаревой, мы формулируем так: как всплывшая на поверхность культурной
сцены в XV-XVI вв. эзотерика вошла в проект модерна, формулируемый, скажем,
у Декарта? Она сказалась в нем и как осознание и обеспечение практического
измерения новой науки (ее вещная технологичность), и как осознание ее возможностей
для совершенствования человека и преобразования его души (антропологическая
технологичность). Известно, что «великое делание» алхимиков, этих эзотериков без
кавычек («герметических философов», по другой терминологии), как раз и
содержало, причем в тесной взаимосвязи, именно оба указанных измерения. Только
механизм их связи в рамках «герметического искусства» был иным, чем в механике
нового типа, ставшей основой для экспериментальной науки Нового времени.
Какой же подход развивает Л. М. Косарева к изучению генезиса
новоевропейской науки? Она сама называет его «социологическим» (с. 231). Однако правильнее,
270
Раздел второй
на наш взгляд, считать его социокультурным анализом науки, особенно плодотворно
действующим, как она сама и отмечает это, в период решительных преобразований
общества, культуры и науки. Если рассмотреть соотношение трех основных
факторов наукогенезиса, упоминаемых в ее книге (экономический, социальный,
культурный), то наиболее исследованным из них выступает, несомненно, культурный, или
культурологический, аспект феномена науки и ее генезиса. Экономические факторы
упоминаются, пусть и довольно часто, но отсылки к ним достаточно декларативны.
Мелькают выражения типа «раннекапиталистические», «раннебуржуазные»
отношения или способ производства и т. п. Но проработанного и оригинального
анализа связи этих факторов с наукой и ее мутациями в работе нет. В то же время
экономические детерминизм и редукционизм оцениваются критически, в результате
чего создается впечатление, что автор выбирает позицию «мягкого» варианта социо-
экономического детерминизма по отношению к культуре и науке, подчеркивая, что
«материальный базис» воздействует на эти сферы опосредованно. В частности,
воздействие на науку оказывается опосредуемым «призмой» культуры.
Итак, суть развиваемого Л. М. Косаревой подхода можно выразить таким
образом: содержание сдвигов в научной методологии, гносеологии, а также в
фундаментальных понятиях научного знания сначала вызревает внутри культуры,
оформляясь в качестве ее категорий (с. 144), а уже затем передается науке, запечатлеваясь
в ее структурах, стиле мышления и т. п. Если на уровне понятий и можно говорить
о временном разрыве между культурным вызреванием наукозначимого
концептуального сдвига и его собственно научной реализацией, то на уровне субъекта,
подчеркивает Косарева, такого зазора во времени нет:
Эмпирическое бытие личности, попавшей в условия раннебуржуазной
действительности, являлось разорванным, мозаичным, лишенным цельности. В новых
социальных условиях от отдельной личности требовалось то, что прежде осуществляла
традиция, а именно: выстраивание осмысленного жизненного континуума... Тип
теоретика в экспериментальной науке и новый тип нравственного бытия человека
рождаются в культуре Нового времени одновременно, вырастая из единого
социокультурного корня (с. 270, курсив мой. — В. В.).
Такой подход несомненно преодолевает односторонность экономического и даже
социологического редукционизма по отношению к науке. Остается только неясным
определение «социокультурного корня» в его конкретности. И здесь у нас с автором
порой возникают разногласия. Например, смену научной эпистемологии Л. М.
Косарева выводит, следуя марксистскому канону, из «непредсказуемой стихии рынка»
(с. 197), бурно развивавшегося в это переходное время. Однако, на наш взгляд, сам
проект модерна с его наукоцентристским ядром явился, скорее, ответом на неудачные
попытки найти на религиозно-теологической почве межконфессиональный синтез
и примирить «развоевавшуюся» Европу, столкнувшуюся с непреодолимостью
религиозных конфликтов и войн. Растянувшиеся почти на двести лет попытки
объединения Европы с помощью межконфессионального синтеза и примирения (от Николая
Эзотерика и наука: эффект резонанса
271
Кузанского до Бруно) привели к полному разочарованию в них, а вместе с тем и в
религии вообще. В результате фокусом упований европейца стал не религиозный,
а научно-технический универсализм. Вот как пишет об этом А. Дж. Тойнби: «После
сотни лет бесконечных кровавых гражданских войн под знаменами различных
религиозных течений западные народы почувствовали отвращение не только к
религиозным войнам, но и к самой религии»6. Но чем в таком случае можно было заменить
религию, вера в которую серьезно надломилась? Была сделана попытка заменить ее
наукой, нацеленной на земное обустройство человека с помощью зависимой от нее
техники. Этот проект, выдвинутый Р. Декартом, Ф. Бэконом и другими новаторами
XVII столетия, и стал проектом Нового времени, или модерна.
Научно-культурный проект Бэкона и Декарта взамен хаоса мнений,
нескончаемых теологических споров, ведших к необратимым конфликтам, предлагал создать
такое общезначимое рациональное предприятие, как новая экспериментальная наука,
практиковать которую могли бы все люди независимо от их конфессий,
национальностей и социального статуса, следуя «естественному свету» разума, которым
обладает, как подчеркивал Декарт, любой человек (за исключением, правда, безумцев7)·
О глубоких причинах генезиса науки Нового времени, на мой взгляд, больше, чем
экономический анализ (например, Маркса), говорит история (например,
цитированный выше Тойнби). Та «неустойчивость», из которой у Л. М. Косаревой выводится
в качестве ее специфического преломления концепция темпоральной дискретности,
вряд ли может быть однозначно идентифицирована как неустойчивость
капиталистического рынка. «Неустойчивость» бытия человека в XVI-XVII вв. была глубже
неустойчивости чисто экономической. Действительно, рынок был всегда. В
развитом виде и в последующие столетия он будет характеризовать европейские общества
(и не только европейские). Однако наука нового типа возникает в Европе не раньше,
но и не позже, чем она возникла, а именно в период от середины XVI до середины
XVII в. И ситуацию, на наш взгляд, лучше обозначить как тотальный кризис
общества и его ценностей. В этих условиях ориентация на новую науку была выбором
эффективного способа преодолеть хаос, найти новую культурную форму для
консенсуса, для того, чтобы решать проблемы экономические, демографические,
политические и т. д., что и стало осуществляться в европейской истории с XVII столетия
и привело затем к Просвещению.
Итак, в целом для работ Л. М. Косаревой, представленных в данной книге,
характерно наложение марксистского канона в его «мягкой», просвещенной версии
на концепции генезиса науки такого типа, которые предлагает, например, Ф. А. Йейтс.
Действительно, английский историк построила концепцию решающего вклада маги-
ко-герметической традиции в генезис новоевропейской науки. Л. М. Косарева
внимательно рассматривает концепцию Йейтс и отклики на нее, но остается при этом
6 Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М.; СПб., 1996. С. 179.
7 О связи безумия с декартовским cogito. См.: Визгин В. П. Декарт: Ясен до безумия? //
Бессмертие философских идей Декарта. М., 1997. С. 111-132.
272
Раздел второй
в рамках аналитического обзора, избегая ясного обнаружения своей собственной
позиции (с. 151-164). Правда, базовая оппозиция «экзотерическое vs эзотерическое»,
проходящая красной нитью по всем ее работам и составляющая основу подхода
автора к объяснению HP, указывает на то, что перед нами, по сути дела, обобщенный
вариант концепции Йейтс. Действительно, в «эзотерический» фактор Л. М.
Косарева включает, как мы уже сказали, более широкий диапазон традиций, чем это
делает английский историк, и весь этот внутри себя неоднородный «подводный» блок,
вытесняемый официальной культурой с господствующим в нем аристотелико-то-
мистским мировоззрением, всплывает на поверхность общества и культуры в эпоху
Возрождения, становясь мощной силой культурных перемен, захватывающих и
собственно науку. Сходство обеих концепций очевидно. Но тем не менее марксистский
канон сохраняет у Косаревой свое присутствие, пусть в значительной степени и
декларативное, что не может не производить впечатления некоторой эклектики. «Идея
вторжения человека в естественный порядок вещей, — пишет автор книги, — своим
появлением обязана социальным условиям раннебуржуазной действительности»
(с. 147). Очевидно, не культурный «эзотеризм» имеется в виду под этими
«условиями», но социоэкономический аспект генезиса науки, остающийся практически без
проработки. Если Йейтс пыталась вывести феномен HP и — более узко —
практическую, утилитарную направленность новой науки из герметического мировоззрения
с его магическим активизмом, то Косарева именно эту характеристику рождающейся
науки и соответствующего ей мировоззрения связывает с социоэкономическими
условиями «раннебуржуазной эпохи».
В результате такого смешения складывается впечатление, что просвещенный
советский марксизм под влиянием западной историографии науки, особенно
постпозитивистской и даже «иррационалистической» ориентации, «плывет» в
знакомую нам всем как модный тренд «культурологию». Плюсы такого перехода всем
хорошо известны. Поэтому отметим некоторые менее очевидные минусы.
Современная «культурология», вводимая сейчас повсеместно, как пресловутая картошка
при Екатерине Великой, представляет собой крайне эклектичную
интеллектуальную сферу — в отличие от лучших образцов просвещенного советского марксизма.
Но та культурология генезиса новоевропейской науки, некоторые моменты
которой ярко и убедительно раскрываются в рецензируемой монографии, отличается,
напротив, большой собранностью и сосредоточенностью. Аморфной
«культурологии» в работах Л. М. Косаревой как раз и нет. У нее есть своя концепция (пусть в нее
как бы уходящей тенью и входит марксистский канон), которую условно можно
назвать концепцией обобщенного эзотерического импульса как фактора HP.
Рассмотрим ее теперь подробнее.
Основу подхода Л. М. Косаревой к проблеме генезиса новоевропейской науки
составляет идея о том, что все главные мировоззренческие, эпистемологические,
методологические и содержательно-понятийные сдвиги, без которых она не смогла бы
«родиться», сначала апробировались в культуре и, лишь при условии «резонанса»
с нею, получали свое специально научное оформление. Культура в такой «оптике»
Эзотерика и наука: эффект резонанса
273
выступает своего рода промежуточной инстанцией между социальными
условиями, с одной стороны, а с другой — собственно наукой как относительно
автономной когнитивной сферой.
Европейская культура XVI-XVII вв., — пишет автор книги, — осознает реальность
дискретности времени вначале в сфере бытия человека, «выброшенного»
социальными потрясениями из колеи традиционного уклада жизни, из реки непрерывного
социального времени. И лишь затем культура XVII в. «учится» применять эти идеи
темпоральной дискретности в математике, в физике, в механике, заново открывая
для себя мир атомарных движений в дискретном пространстве и времени с
присущими этому движению свойствами изотахии, кекинемы и реновации (с. 271-272).
Культура вместе с ее социальным бытием выступает, таким образом, «учебным
полигоном» для новой науки.
Другой существенной чертой развиваемого автором рецензируемой книги
подхода является жесткое разведение экзотерических и эзотерических течений и
традиций, причем первые из них связываются с культурой традиционалистской,
официальной, характеризуемой как господствующая культура «докапиталистических
обществ», а вторые, напротив, с культурой неофициальной, «подпольной», в
которой человек ищет спасения от «отчуждения» в рамках первой культуры. При этом
так называемой экзотерической и традиционалистской культуре отказывается в
каком-либо творческом потенциале. Творчество — это «феномен, — подчеркивает
Л. М. Косарева, — не свойственный для традиционализма экзотерической культуры
докапиталистических обществ, а систематически реализовавшийся лишь в рамках
эзотерических течений» (с. 273). Нам этот тезис представляется не
подтверждаемым историей и поэтому ошибочным. По своему происхождению это
просвещенский «догмат», попавший в оборот нашей гуманитаристики через посредство
марксизма с его дифирамбом Возрождению и отповедью «темному» средневековью. Его
широкое и некритическое распространение было подкреплено также и авторитетом
M. М. Бахтина с его концепцией смеховой карнавальной народной культуры,
говорящей о том же самом ценностно окрашенном соотношении официальной и
неофициальной культур. Исследования науки и культуры средних веков и Возрождения
от Дюгема до Кладжета и Йейтс опровергают этот тезис. Хотя, конечно, как и почти
под каждой ошибкой, в нем скрывается некоторое «рациональное» зерно. Но в
работах Косаревой оно, на наш взгляд, преувеличено. Укажем в связи с этим на значение
европейского средневекового аристотелизма для удержания ценностей европейской
рационалистической традиции в эпоху Ренессанса и в начале XVII в., что сыграло
свою роль и в генезисе новой науки. Правда, католически ориентированные
историки науки, например Ст. Яки, в пику своим оппонентам явно преувеличивают роль
отдельных представителей этой почтенной традиции (в частности, Ж. Буридана8).
8 По Яки, Буридан предвосхитил первый закон Ньютона в своих комментариях к «Физике»
и «О небе» Аристотеля. Согласно Буридану, небесные тела получили инерциальное движение
274
Раздел второй
И еще один момент в связи с этим. Л. М. Косарева связывает творческий
потенциал «эзотерики» с тем, что в ее лоне практиковались техники
самосовершенствования в форме духовных упражнений, нацеленных в итоге на преображение
человеческой природы, на сотериологические цели. Человек в рамках эзотеризма оказывался
практикующим «искусство самосборки», как мы могли бы лаконично это определить.
Это во многом действительно так. Хотя само противопоставление «эзотеризм — эк-
зотеризм» нам не представляется безупречным в том смысле, в котором оно
выступает в рецензируемой книге. Действительно, применение понятия эзотерики к
античному атомизму весьма условно. Между ним и магико-герметической традицией,
которая составляет, видимо, ядро этого эзотеризма, немного общего. Кроме того,
понятие эзотеризма смешано с понятием «мистики» и «мистицизма». И маргиналь-
ность доктрины в определенных социокультурных условиях (например, физической
атомистики древних в средние века) еще вовсе не означает ее «эзотеризма», под
которым все же следует понимать прежде всего тайнознание для посвященных,
каковым подчеркнуто рационалистический атомизм вряд ли может считаться.
Кроме того, «духовные упражнения» разрабатывались не только в «андергра-
унде» «эзотерических» течений, но и внутри культурного «официоза». Мы имеем
в виду, например, знаменитые «духовные упражнения», систему которых разработал
основатель ордена иезуитов св. Игнатий Лойола, кстати упоминаемый в книге. Так
что существовала не только реформационная «эзотерика» (о ней много говорится
в книге), но и контрреформационная. Практики самосовершенствования не были
чужды и якобы «стерильной» по части творчества католической реакции.
Приходится сожалеть, что работы крупного историка античной философии
П. Адо9 остались неизвестными Л. М. Косаревой. Она была почти всецело поглощена
миром англоязычной литературы, а при ее жизни Адо на английский еще не
переводили. Дело в том, что концепция Пьера Адо позволяет уточнить и углубить
понимание духовных практик как основы философии как феномена культуры, что дает
иное освещение и для науки, поскольку, начиная с античности, в культуре которой
научное измерение органически входило в религиозно-философский комплекс
(например, у пифагорейцев, причем именно Пифагору и Гераклиту приписывают
употребление термина «философия» впервые)10. Учитывая работы Адо и размышляя
в виде импетусов, данных им Богом. См.: Яки Ст. 77. Спаситель науки. С. 72. Это
предвосхищение, считает американский историк науки, дает основание рассматривать его как
свидетельство о рождении ньютоновской и современной науки (Там же. С. 68).
9 Адо Я. Плотин, или Простота взгляда. М., 1991; Адо Я. Что такое античная философия? М.,
1999; Hadot Ρ La citadelle intérieure. Introduction aux «Pensées» de Marc Aurèle. P., 1992; Hadot R
Exercices spirituels et philosophie antique. Paris, 1981; Hadot R The Spiritual Exercises from Socrates
to Foucault. Oxford, 1995. О понятии духовной практики у Адо и Фуко см.: Визгин В. П. Эпи-
строфический порыв: прошлое и настоящее // Вопросы философии. 2000. № 3.
10 «Устойчивая традиция передает, что Пифагор "первым ввел в Элладу философию" (Исо-
крат, "Бузирис", 28)» (Шичалин Ю. А. Эпистрофе, или феномен «возвращения» в первой
Эзотерика и наука: эффект резонанса
275
над ними, многое можно уточнить и в концепции Косаревой, которая независимо
от французского философа развивала в некоторых отношениях сходные взгляды,
формулируя их в виде тезиса об этической укорененности физики. Однако
подобный тезис в свете концепции Адо следовало бы несколько откорректировать: речь
должна идти не о «физико-этическом комплексе» (с. 98) только, а о
духовно-практическом единстве, органически включающем в себя все традиционное членение
философских наук (логика — физика — этика).
Другое отличие концепции Адо от подхода Л. М. Косаревой состоит в том, что
если она связывает феномен духовных практик почти исключительно с «поздне-
античными философскими течениями» (с. 97), то у французского философа
духовно-практическое ее начало определяет вообще феномен философии (правда,
в средние века, да и в Новое время эта основа философии затеняется
преувеличенной значимостью, которую в это время получает теоретический дискурс). Дело
в том, что духовно-практическая функция философии в христианской культуре
стала переходить от философских духовных практик к практике религиозной
таким образом, что почти не оставляла самой философской традиции иной
возможности развития, кроме совершенствования лишь ее
созерцательно-теоретического измерения. Это нашло свое выражение в схоластике (начатой, впрочем,
уже в позднем неоплатонизме), в школьном (университетском)
философствовании в широком смысле слова вообще, в возникновении феномена
комментирующей и профессорской философии, который в виде истории философии в наши
дни практически поглотил саму философию как духовно-практическую
активность, нацеленную на совершенную жизньу а не на отвлеченный автономный
дискурс. Но всегда в истории мысли духовно-экзистенциальное начало философии
все же прорывалось на поверхность. Его мы находим и у Декарта, и в немецком
идеализме, и, конечно, в более явном и развернутом виде у Ницше, и в
экзистенциализме. Кроме того, и в рамках античной философии нельзя, на наш взгляд,
полностью выводить за пределы духовно-практического эзотеризма Платона или
даже Аристотеля.
Подобно тому как физика эпикурейцев входила в целостный
духовно-практический мир участников этой школы, способствуя обретению тех качеств души
и установок личности, которые позволяли бы не просто правильно мыслить о
природе, но и блаженно и правильно жить, так и наука вообще должна быть увидена,
как нам представляется, в свете этой духовно-практической персоналистической
и экзистенциальной перспективы с тем, чтобы попытаться вернуть ее из состояния
объективистского отчуждения от мира человека. Такие эпистемологи и теоретики
науки, как, например, Гастон Башляр, видели в науке опыт антисубъективистской
европейской культуре. М.: ЛИА «ДОК», 1994. С. 36). Кстати, биограф Пифагора неоплатоник
Порфирий прямо говорит, что науки, в частности математика, практиковались Пифагором
ради совершенствования души (Жизнь Пифагора, 47).
276
Раздел второй
аскезы11. Наука у него выступала как своего рода религия секуляризованной
истины, а научная лаборатория замещала собой монастырскую келью. Но задачи
человека шире и глубже, чем одно лишь активное познание природы в науке, нацеленное
на его использование в технике. И сама субъективность человека не есть лишь
помеха на пути к истине. И тот «эзотерический» по своему характеру и
происхождению импульс, который питал науку в момент ее рождения, должен быть mutatis
mutandis сохранен и в наши дни.
Поясним, как мы видим эту задачу духовно-практического высвечивания науки.
Научное понятие в конечном счете (но именно с этим нужно считаться прежде всего
и с самого начала) оправдывается своими духовно-экзистенциальными значениями,
только часть которых отражается в практико-техническом их использовании.
Другая же их часть повернута к целостной личности и выступает как научная проекция
«культуры самости», говоря словами М. Фуко, который последние годы своей жизни
посвятил как раз изучению «искусства существования» в эллинистических
философских школах12, а они в книге Л. М. Косаревой включаются в «эзотерическую
традицию». На какие вопросы отвечают или пытаются дать ответ эти значения? В
частности, на такие: как научные понятия и картина мира, из них складывающаяся, служат
симфонии духовного целого? Каким образом, созерцая научную картину мира,
человек достигает согласия с миром, с самим собой и высшим началом бытия и жизни?
В составе научного понятия существенно не только то, что природа как объект «ждет»
от человека как субъекта, но и то, как в формах объективного знания просвечивает
пожелание, адресованное человеком из глубин его души самой природе и
формулирующее тот ее вид, в каком он хочет ее видеть. В науке есть не только
овеществленная и поэтому несущая «отчуждение» объективация, но и скрытая «субъективная»
компонента. В конце концов, наука — не монолог овеществленной природы с ее не-
умолимостями, а диалог человека с миром, где не менее ответов природы важны как
сами вопросы, задаваемые ей человеком, так и их интенция, нравственное и духовное
содержание. Ведь в конечном счете познание и деятельность на основе его
результатов есть сотрудничество человека с природой, это синергийный процесс, а не
односторонняя адаптация «субъекта» к неизменной логике «объекта».
На уровне своих оснований новоевропейская наука от метафизического
субъекта (Бог или природа, стоящая под знаком доступности для рационального
познания) перешла к субъекту трансцендентальному, имеющему дело не столько с бытием
как таковым, сколько с познанием бытия, с осознанием самого сознания (принцип
декартовского cogito). Поэтому наука стала понимать собственно не природу (в ее
исходном античном и «традиционном» смысле), а видимость природы, устроенную,
11 Bachelard G. La formation de l'esprit scientifique: Contribution à une psychanalyse de la
connaissance objective. P., 1938. См. об этом: Визгин В. П. Эпистемология Гастона Башляра и
история науки. М., 1996. С. 150.
12 Foucault M. Histoire de la Sexualité. V. 3. Le souci de soi. Paris, 1984. P. 57-58. На Фуко
повлияли работы Адо, на которые он здесь ссылается.
Эзотерика и наука: эффект резонанса
277
однако, рационально, по канонам новой науки, математикой функций и
бесконечностей измеряющей конечные явления (а не саму природу как их сущность, подчеркнем
еще раз)13. Истина стала пониматься через сконструированность так, что если мы
знаем, как «устроены» явления, то мы знаем их «по истине» и можем ими управлять.
Кстати, сам Декарт к тому же считал, что мы можем тогда не только управлять ими
с пользой для человека, но даже достигать совершенствования человека14. И в этом
он был еще человеком переходной эпохи, когда в душах и умах людей жили
эзотерические духовные запросы и практики, питающие проекты грандиозных реформ,
из «котла» которых во многом и родилась новоевропейская наука. Эти реформы
одушевлялись задачей целостного преображения человека, совлечения с него «ветхого
Адама» ради Адама нового. Но в конце нашего тысячелетия стало ясно, что именно
эта функция науки, родившейся в XVII в., и не смогла реализоваться. А вместе с ее
невыполнением потерпел крах и весь проект модерна, хотя бесплодным его никак
назвать нельзя.
Поэтому в наши дни вопрошание о культуре, в которой духовно-практическая
нравственно значимая функция могла бы осуществляться в новых условиях, прямо
затрагивает и размышления о науке, о ее кризисе не столько научно-содержательного,
сколько духовного плана. Именно поэтому актуальным и представляется вновь
освежить постановку тех задач, которые возлагали на науку «эзотерические» практики.
Конечно, вместе с тем встает и задача нового обоснования науки — не на классическом
философском трансцендентализме от Декарта до Канта, а, скажем условно, на прак-
тико-духовном основании, которое по-иному позволило бы взглянуть и на
классическую метафизику, оттесненную от науки Просвещением.
Античную физику пронизывали интуиции человекомерного целого, в ее центре
стояли антропологические проекты достижения лучшей жизни — блаженства,
мудрости, способности преодолевать превратности судьбы смертного. Например,
принцип множественности физических объяснений явлений был у Эпикура средством
избавить человека от давления неумолимости судьбы, которую представляли в виде
неизменного природного порядка, всеохватывающего и принудительного. В
стоицизме, напротив, был силен момент смирения, резиньяции перед мировым порядком,
который безапелляционно признавался воплощением высшего разума. Но в обоих
случаях физика выражала единое мироотношение человека, служила средством
поддержать его духовно-нравственные ориентиры. Поэтому она была особым родом
духовных упражнений, а не отвлеченным объективным познанием, не пассивной
адаптацией к неизменным «вещам». Если момент адаптации и присутствовал, то это
13 Этот сдвиг интересно проанализирован в книге: Погоняйло А. Г. Философия заводной
игрушки, или Апология механицизма. СПб., 1998.
14 Первоначально Декарт планировал свое главное сочинение «Рассуждение о методе»
назвать так: «Проект Универсальной Науки, могущей возвысить нашу природу на
высочайшую ступень совершенства» (Descartes. Oeuvres et Lettres. Textes présentés par A. Bridoux. (Bibl.
de la Pléiade). Paris, 1953. P. 958).
278
Раздел второй
было приспособление к тому, что почиталось духовно высшим, на чем лежал отблеск
своеобразной религии разума, что вызывало духовный подъем, ощутимый не только
в философии Платона, но и у Аристотеля и, конечно, в эллинистических школах.
Философии этих школ практиковались именно как философская жизнь в рамках
общины друзей-единомышленников во главе с учителем, например Эпикуром,
поощрявшим дружбу и наслаждения созерцательной и добродетельной жизнью, а не
чувственно-разнузданной, в чем обвиняли потом эпикурейцев их идейные противники.
На самом деле в любой философии большого стиля может быть обнаружена
духовно-практическая сторона. Если мы возьмем Гегеля или Маркса, то у них главным
вопросом остается вопрос о том, как человеку вмешаться в исторический процесс
с тем, чтобы помочь мировому духу или тенденциям общественного развития
воплотиться? Или как провести в очерченных этими тенденциями условиях свой
гуманитарный проект? У Кьеркегора же мы видим обратную тенденцию, но столь же
практическую: как мировым необходимостям противостоять, чтобы сохранить духовное
ядро своей личности и возможность спасения? Философы крупного стиля никогда
не ограничивались анализом историко-философских связей, а умели, каждый на свой
страх и риск, углубиться в экзистенциальный опыт, пытаясь оформить его
концептуально. Это экзистенциально-опытное духовное измерение является главным, на наш
взгляд, не только в философии, но и в понятийной работе вообще, а значит, и в науке.
Если, конечно, сама наука хочет быть не только пассивным компендиумом
объективных знаний, не просто арсеналом познавательных средств, предназначенных
для конструирования используемого человеком технического мира, но и духовным
предприятием, обращенным не только вовне, но и внутрь человека, а значит, и мира.
Итак, попытка с духовно-практической точки зрения взглянуть не только на
философскую, но и на собственно научную традицию представляет, на наш взгляд,
актуальную задачу современной философской и науковедческой мысли. Исследования
рождения науки из «духа культуры», в которых активное, стимулирующее участие
принимала Л. М. Косарева, вносят в ее решение существенный вклад.
Раздел третий
НАУЧНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ
СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ
РАЦИОНАЛЬНОСТИ В ХИМИИ
XVII столетие — век научной революции, но, как показывает анализ истории, не для
химии. Почему не для химии? Вот тот вопрос, который нам прежде всего хотелось бы
прояснить. Впрочем, имеются высказывания, оспаривающие эту достаточно
общепринятую точку зрения, согласно которой не XVII век — век химической
революции, а XVIII, причем ее творцом считается А. Л. Лавуазье. Вспомним в этой связи,
например, слова Ф. Энгельса: «Бойль делает из химии науку» \ Бой ль действительно
стоит в ряду таких ученых, как Гук, Гюйгенс, Ньютон, с которыми у него так много
точек соприкосновения. Но, увы, натурфилософский статус химии как законной
отрасли естествознания, достигнутый ею благодаря деятельности Бойля, еще не
означал, что химия вместе с ним получила свою собственную, объединяющую
многообразие опыта теорию, сформировав химически конкретизированный тип научной
рациональности Нового времени. Этого явно не произошло. Почему? Вот тот
основной вопрос, ответ на который мы и будем искать2.
Эпистемологические предпосылки
запаздывания химической революции
Мысль о том, что историческое запаздывание научного созревания химии
обусловлено ее спецификой в теоретико-познавательном отношении, была высказана
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1961. Т. 20. С. 501. В другом месте «Диалектики
природы» Энгельс иначе оценивает рождение современной научной химии: «Новая эпоха, —
говорит он, — начинается в химии с атомистики (следовательно, не Лавуазье, а Дальтон —
отец современной химии)» (Там же. С. 608). Возможно, в стремлении лишить Лавуазье права
считаться «основоположником» современной химии кроется обычная для того времени
полемика французских патриотов от истории науки с немецкими (см., например: Джуа М.
История химии. М., 1966. С. 135).
2 Частично результаты данного исследования были опубликованы сначала по-испански
(Vizguin V. Revolution quimica: factores del retraso // Revista da Sociedade de brasileira de historia
da Ciência. Janeiro-Junho. 1992. No. 7. P. 3-14), а затем и по-русски (Визгин В. П. Научная
революция в химии: факторы запаздывания // ВИЕТ. 1993. № 1. С. 3-15). Над статьей автор
работал в университете Сарагосы, и поэтому многие, особенно англоязычные, издания
фигурируют в ней в испанских версиях.
282
Раздел третий
Э. Кассирером. Кассирер считал, что идеал научности у разных наук один и тот же,
а именно подчинение математической дедукции множества эмпирических фактов.
Этот идеал, значимый для естествознания в целом, наилучшим образом
осуществлен в математической физике, где число эмпирически устанавливаемых констант
минимально, а аксиоматико-дедуктивные теоретические системы образуют основу
всего знания. По Кассиреру, химия его времени (начало XX в.) в ряде случаев уже
достигла той же эпистемологической и логической зрелости, что и физика. Это,
считает философ, видно по таким количественно сформулированным законам химии,
как правило фаз Гиббса, закон действия масс и т. п. Разница между физикой и
химией, таким образом, не в самом идеале научности, общем для обеих наук, а в том,
насколько полно он воплощен в реальность. Процесс научной рационализации
химии, считает Кассирер, задержался по сравнению с физикой потому, что
эмпирический материал химии менее «податлив» для своего рационального, т. е. математи-
ко-дедуктивного, оформления3. В чем же конкретно видит философ причины этой
меньшей «податливости»? В том, что если физика имеет своей целью и своим
предметом «чистые понятия о законах», то в химии объектом исследования выступают
не столько общие законы, сколько особенные явления, индивидуальные вещества
и их специфические свойства. Иными словами, в логической структуре предмета
химии категория особенного (и индивидуального) как бы оттесняет категорию
всеобщего, выдвигаясь на первый план. Если с таким анализом в целом и можно
согласиться, то с выводами Кассирера об отсутствии у химии эпистемологической
специфики, на наш взгляд, согласиться уже нельзя.
Действительно, как можно, определив специфику химического эмпирического
материала, а тем самым в значительной степени и самой химии, сводить ее, по сути
дела, к простой исторической акциденции, устраняемой за счет более длительного,
но в принципе эпистемологически однородного процесса рационализации? Столь же
трудно согласиться с Кассирером и в том, что энергетизм (в частности, оствальдов-
ский) следует считать наилучшим воплощением искомого химией
теоретико-познавательного идеала.
Специфику химии как науки нужно, во-первых, рассматривать на разных
уровнях и, во-вторых, анализировать ее исторически. На наш взгляд, существует
достаточно общий уровень анализа, на котором методологические идеалы у физики
и у химии действительно совпадают. Мы еще будем говорить о некоторых
конкретных, исторически устанавливаемых сторонах этого идеала, сравнивая, в частности,
представления о научном методе у Галилея, с одной стороны, и у Лавуазье — с другой.
Можно даже составить сравнительную таблицу, где были бы четко обозначены
общие характеристики таких представлений у творцов научной физики и научной
химии. Но сказанное не отменяет и явных различий этих двух наук на других уровнях,
более, так сказать, технических и специальных. И пожалуй, хорошим историческим
3 Кассирер Э. Познание и действительность. Понятие о субстанции и понятие о функции.
СПб., 1912. С. 266.
Становление научной рациональности в химии
283
аргументом в пользу этого тезиса служит то, что химики XVII-VXIII вв., как правило,
держались в стороне от механокорпускулярных обобщений, осознавая их
стерильность при рассмотрении конкретных химических проблем, рождаемых практикой
лаборатории. Именно поэтому в химии и в XVIII в. не исчезает квалитативистский
элементаризм (обновившийся в этом веке, кстати, в известной мере благодаря
развитию механокорпускулярных представлений).
Позиция Кассирера остается весьма распространенной среди методологов
и историков и в наше время. Этому в немалой степени способствовали успехи в
развитии физической химии, а в последние 50-60 лет и развитие квантовой химии.
Такая позиция формируется на вполне весомых как логических, так и исторических
основаниях. Высказывая свою точку зрения о генезисе научной химии, Кассирер
писал: «У колыбели новой химии стоит здесь — как она стояла и у колыбели новой
физики — общая пифагорейская концепция о гармонии всего. В этом отношении
Рихтера. .. можно сравнить с Кеплером»4. В качестве примера распространенности этой
позиции среди современных ученых рассмотрим взгляды Э. Фарбера, историка
химии, выступившего со своей концепцией развития химии5.
Рассматривая разные типы революций в химии и выделяя при этом такие
события в ее истории, как переход от алхимического златоделания к ятрохимии,
создание новой системы химии Лавуазье, открытие радиоактивности и некоторые другие,
Фарбер обращает внимание на иной тип революций в химии:
Но есть еще и другой тип революций в химии, — говорит он, — требующий
большего времени и протекающий в несколько стадий. Величайшей революцией этого
типа является переход от персонализированных агентов, называемых химическими
принципами, к объективным законам, конституирующим принципы химии.
Начало этой революции положено Анаксимандром, объявившим, что мы должны идти
от качеств к апейрону, а также и Пифагором, который считал, что «все есть число»6.
Самой общей и глубокой, по Фарберу, тенденцией развития химии в
крупномасштабном историческом плане оказывается ее квантификация, состоящая в замене
качественно определенных элементов, или «химических принципов», количественно
формулируемыми законами («принципы химии»). В соответствии с этой, вполне кас-
сиреровской по своей исходной интенции, установкой Фарбер реконструирует всю
историю химии. Для этого он выделяет для химии XVI-XVII вв., в частности, такие
формы реализации этой ведущей тенденции, как, во-первых, перенос внимания
химиков с изучения индивидуальных веществ на исследование общих операций
(например, у Либавия и Лемери) и, во-вторых, поиск универсальных характеристик
4 Кассирер Э. Познание и действительность. Понятие о субстанции и понятие о функции.
С. 268.
5 Farber Ε. From chemical principles to principles of chemistry // Acts of XII International
Congress of the History of Science. Paris, 1968.
6 Ibid. P. 35.
284
Раздел третий
веществ как химических индивидов. На этом пути самым важным событием
становится «деквалитатификация» химии, т. е. переход ее от качественного описания
процессов к количественному подходу. Количественный подход при этом сочетается
с развитием структурных представлений. Наглядную демонстрацию определяющей
роли в научной химии математически описываемой структуры по отношению к
чувственно фиксируемому качеству Фарбер видит в открытии явления изоморфизма
кристаллов. Анализ этого явления показывает, что общее и универсальное,
получающее количественную форму, замещает собой частное и индивидуальное. «Общие
символы, — говорит в этой связи историк, — заменяют имена конкретных
исследуемых веществ»7. Как и для Кассирера, для Фарбера образцом научности в химии
выступает «энергетика» Оствальда, подчеркивавшего, что «рациональная научная
система не вникает в свойства индивидуальных веществ»8. Кроме того, Фарбер
обращает внимание на то, что устранение качеств, сопровождающееся их заменой
количественно представляемыми структурами, нацелено на получение веществ с ценными
для человека свойствами9. Сами же качества приобретают при этом статус
количественно вычислимых свойств, таких, например, как теплоты образования
соединений, их спектры и т. п. Эти свойства выводимы из универсальных, в конечном счете
физических, законов. Присущий химии с античности динамический элементаризм
качеств заменяется, таким образом, количественно рассчитываемыми структурами.
Это «исчезновение» индивида в общей математизированной структуре нам
знакомо по философии структурализма. Кстати, работа Фарбера появилась как раз в
период взлета структуралистской волны. Что же можно сказать по поводу всей этой
схемы? На наш взгляд, в ней многое схвачено верно. И мы считаем, что «спор»
количества и качества во многом передает категориальное содержание процесса
химической революции. Но мы более «мягко» оцениваем качественную донаучную
химию, считая, что ее идейный потенциал значим и для современной науки и культуры,
в частности, ввиду кризиса техногенной цивилизации. В физикалистском
редукционизме (так можно назвать весь этот подход) отрицается специфика химии как науки.
Однако один только факт современности — экологический кризис — ставит в поле
критического вопрошания эту позицию. Осмысление причин экологического
кризиса, поиск его духовных и интеллектуальных предпосылок заставляет переоценить
феномен квалитативизма и в этой связи аристотелизма и других альтернатив меха-
ницистскому подходу.
Решительно изгнанный в широкую «дверь» новоевропейского
механистического сциентизма, Аристотель в наши дни возвращается в антикризисное,
аварийное «окно». Мы имеем в виду концепции, развивающие представления о
собственном динамизме природы, о процессах самоорганизации в неживой природе,
7 Farber Е. From chemical principles... P. 35.
8 Ostwald W. Lebenslinien, eine Selbstbiographie. Berlin, 1933. Bd. 2. S. 387.
9 Farber E. From chemical principles... P. 36.
Становление научной рациональности в химии
285
о неотъемлемых правах природных индивидов, включая и химические. Мы отдаем
себе отчет в опасности полного стирания природной индивидуальности в процессе
массированной экспансии точных наук, современной химии в том числе.
Разрабатывать сегодня историю химии, на наш взгляд, нельзя без осознания новой циви-
лизационно-духовной ситуации, порожденной кризисом техногенной цивилизации
и ее системы ценностей. И направление исторического процесса в химии (конечно,
не только в ней одной), с догматической самоуверенностью превратившее
самоактивный космос, полный качественно определенных индивидуализированных и
самодействующих веществ и существ, виды которых уникальны и взаимосвязаны,
в бескачественную и поэтому исчислимую материю, нельзя в настоящее время
безоговорочно считать единственной и неоспоримой, априорно значимой мерой
прогресса. Рассматривать это направление в истории как магистральный путь к
безусловному совершенству нашего знания и той цивилизации, которая его воплощает,
мы уже сегодня не можем, не мучаясь при этом сомнениями и поисками альтернатив.
Химическая реальность отличается от реальности астрономической или
механической. В частности, звезды издавна воспринимались как естественные объекты
математического описания, чего нельзя сказать о химических субстанциях.
Убеждение в постоянстве неба выразилось в вере в его особую, божественную природу. Это
убеждение отразилось и на перипатетической теории вещества: пятым элементом
у Аристотеля был эфир, вещество на грани невещественности из-за своей
совершенной, а тем самым недоступной изменению природы. В химии же четырех стихий,
напротив, все подлежит изменению, вещества превращаются друг в друга,
демонстрируя тем самым свое несовершенство. Как верно схвачено в перипатетическом
элементаризме, фундамент химической реальности складывается из конечного
множества простых разнокачественных субстанций. Создать строгую теоретическую
модель такой реальности труднее, чем точно описать движения небесных тел или даже
установить закон свободного падения тел, создав для этого соответствующие
теоретические идеализации, как бы «уранизирующие» наш неустойчивый земной мир
(что и было сделано Галилеем).
Революция в науке XVII в. описана и изучена с разных сторон, в том числе и в том
своем статусе, который определяет ее как революцию методологическую10. Однако
новая универсально значимая когнитивная программа материализовалась в ходе
своего генезиса как специально-научная программа — как конкретное научное
знание в механике и астрономии. Особенное научное знание выступило в качестве
всеобщей научной парадигмы. И те сектора знаний, где это совпадение в полной мере
произошло, оказались в привилегированной позиции.
Анализируя труды Галилея, одного из творцов этой программы, мы входим в
процесс созидания основ новой рациональности — ее этоса и методологии. Вместе с
Галилеем новая наука обретает свой язык, входит в социальные структуры, формируя
10 Cohen I. В. Revolucion en la ciencia. Barcelona, 1989; Kearny H. Origenes de la ciencia moderna.
1500-1700. Madrid, 1970.
286
Раздел третий
новый жизненный мир европейского человека. Научное знание раскрывается
перед мыслящими людьми XVII в. как единственно надежный источник культурного
и социального переустройства мира в борьбе с его главными конкурентами —
схоластической ученостью, оккультизмом и натурфилософией Возрождения. Новое
знание становится делом самосознающего разума, если еще и не вполне свободного,
то явно освобождающегося от власти авторитета как принципа культуры и знания,
как источника их легитимизации и трансляции. Университеты с их латиноязычным
миром традиции получают в результате активного соперника в лице
формирующегося научного сообщества, широко использующего национальные языки,
опирающегося при этом, как это было в случае Италии времен Галилея, не столько на старые
центры эрудиции и гуманитарной учености, сколько на вновь создаваемые
художественные ателье и технические мастерские, в которых возникает и развивается дух
автономного исследования проблем архитектуры, градостроительства, военного дела,
гидротехники, кораблестроения и т. п. Образ знания при этом радикально меняется.
Знание теперь — не столько готовая мудрость, которая, как привыкли считать,
содержится у отцов-основателей несущей ее традиции, сколько строгое исследование,
методически поставленный на его основе рост знания — точного, достоверного,
доступного для всех мыслящих людей независимо от их социального положения.
Рациональность знания была истолкована через его укорененность в доступном
математической обработке эксперименте, реализующем прозрачную для разума систему
теоретических идеализации предмета познания и направленном на выявление его
инвариантных определений, представленных в форме закона природы.
В мире такого знания центральное место занимает лаборатория как
испытательный стенд, провоцирующий определенную теоретическую активность. При
посредстве накопленных технических средств, как идеальных, так и материальных, природа
пытается, испытывается, искусно вопрошается, при этом происходит методически
поставленное расследование ее «деяний» наподобие того, как велись допросы в то же
самое время в трибуналах святой инквизиции («инквизиция» от inquiro — веду
расследование). Поэтому прав М. Фуко, сказавший, что вся цивилизация новой
Европы (и современная тоже) — это инквизиторская цивилизация, т. е. познающая
через дознание выпытыванием в воспроизводимом и математически оформляемом
эксперименте происходящее с вещами и людьми. Выпытанное таким образом
происходящее и называют «истиной вещей». Истина производится или «открывается»
на путях методически и технически отлаженной объективизации природных
индивидов, людей — всего сущего11. В своем переходе от мира мистически нагруженных
онтологии и космологии Возрождения к науке Нового времени знание как содержание
11 Эта концепция Фуко (Визгин В. П. «Генеалогия знания» Мишеля Фуко как программа
анализа научного знания // Исследовательские программы в современной науке. Новосибирск,
1987; Foucault M. Histoire de la sexualité. V. I. Volonté de savoir. P., 1976), которой он дал
название генеалогии знания (власти-знания), на наш взгляд, точно свидетельствует о сути
современной техногенной цивилизации.
Становление научной рациональности в химии
287
созерцания или сакрализованной традиции становится познанием или
исследованием, что выражается в его методологизации и гносеологизации.
Метафора пути, дороги замещает традиционно значимую для эпистемологии
античности метафору покоя, реализованную, например, в образе платоновской
пещеры (неподвижное солнце истины). Интересно отметить при этом, что типично
ренессансная, неоплатоновская по своим истокам метафора познавательного акта
располагается между этими крайними образцами (античность — Новое время).
Действительно, у Дж. Бруно, яркого представителя возрожденской герметической
неоплатонически окрашенной натурфилософии, мы находим как бы динамизацию
платоновской метафоры. У него одинокий героический энтузиаст-познаватель не просто
прозревает истину, пребывая в ожидающей неподвижности, не просто испытывает
необходимое для этого просветление, начиная истинно умозрительно созерцать там,
где он ничего, кроме жалких «подобий» истины, не видел, имея дело только с
тенями, с мнениями. Нет, герой познания еще и непременно восходит, поднимается,
осуществляя несомненный духовный взлет, наделенный в своем образном
переживании всеми признаками вполне посюстороннего, реализованного во плоти
движения подъема. «Подъемлюсь в бесконечность», — говорит Ноланец, фиксируя это
динамическое состояние.
Новая наука Галилея отбрасывает не только господствовавший в эту эпоху ари-
стотелизм, но и близкий ей по пафосу борьбы со школьным перипатетизмом ренес-
сансный неоплатонизм и герметизм таких натурфилософов, как Бруно и Кампанелла.
Главным при этом считается не столько духовное просветление в ходе мистического
восхождения к бесконечному светоносному эмпирею, сколько твердое следование
по методически выверенному пути в эмпирии мира, движение, поддержанное
теоретической идеализацией предмета познания, оправданной количественным
измерением и экспериментально утвержденной. При этом на первый план в системе
ценностей выдвигается не общее рассуждение, не вербальное обобщение, не
транслируемое традицией тайное знание, завещанное высшими духовными авторитетами
древности, а точный анализ фактов. «Найти даже простую истину, — говорит
Галилей в своем письме Кампанелле, — гораздо важнее, чем обстоятельнейшим образом
спорить о самых высоких материях, не добившись вообще какой-либо истины»12.
Эта установка Галилея — основа нового научного духа. Однако ее утверждение
в химии займет почти на два столетия больше времени, чем в астрономии и механике.
Лавуазье, положение которого в истории химии аналогично месту Галилея в
истории механики, сознательно уходит от споров о последних основаниях химии, о числе
и характере ее элементов. Он отказывается строить всеохватывающую,
космологически значимую систему химии, чем отличались химики XVII в.13 Однако, отказываясь
12 Galilei G. Le Opère di Galileo Galilei. Ed. Nazionale. T. IV. Firenze, 1893. P. 738.
13 «Химия, — говорит известный немецкий химик И. Кункель (1638-1703), — одно из
самых полезных искусств и не будет преувеличением назвать ее матерью или наставницей
прочих искусств, ведь лишь она помогает нам в толковании Священного Писания, благодаря
288
Раздел третий
от анализа «проклятых» последних вопросов, от претендующих на универсальность
схем, он количественно строго анализирует тот эмпирический материал, который
может получить в своей лаборатории. Вот как сам Лавуазье оценивает химическую
метафизику, т. е. идущее от античности умозрительное учение об элементах:
Все, что можно сказать о числе и свойствах элементов, сводится, по-моему, к чисто
метафизическим спорам, это неопределенные проблемы, которые люди берутся
разрешать, но которые допускают бесчисленное множество решений и относительно
которых можно с большой вероятностью утверждать, что ни одно из них не
согласуется с природой14.
Такая установка расходится не только с перипатетической доктриной, но и с
новой механистической философией — ее непримиримым противником. Поэтому
критика, адресованная Декартом Галилею, вполне могла бы быть отнесена и к
новым химикам, и прежде всего к Лавуазье15. При этом надо еще учесть, что
расстояние, отделяющее химию от механистической метафизики, в частности
картезианского толка, еще значительнее аналогичного дистанцирования такой специальной
науки, как механика, которую профессионально представлял Галилей (физика,
условно говоря, занимает в этом плане промежуточную позицию). В истории это
обстоятельство оказалось весьма существенным, и именно оно в немалой степени
способствовало «торможению» процесса превращения химии в науку с равнопо-
рядковым механике статусом научности. Химия для этого должна была не только
пропитаться духом механистической философии, ставшей знаменем передовых
людей Нового времени, но она должна была еще, увидев ее беспомощность в
объяснении химических явлений, объем которых, кстати, быстро нарастал, выработать
собственные химические теории, которые смогли бы объединить в связное целое
многообразие теоретических представлений и эмпирического материала химии
XVII в. И наконец, история формирования научной химии оказалась такой
«затянувшейся» в сопоставлении с аналогичной историей механики и астрономии еще
и потому, что первая собственно химическая, генерализирующая массу
эмпирических сведений теория — теория флогистона Шталя — оказалась, в конце концов,
как это выяснилось, несостоятельной.
В истории механики тоже были смелые попытки создания неперипатетической
динамики. Но они предпринимались значительно раньше, чем в химии. Старт
механики к статусу научности вообще проходил, так сказать, с большей «форой», если
ей проясняется для нас творение божие и мы понимаем создание мира и его материальное
устройство» (Metzger К Newton, Stahl, Boerhaave et la doctrine chimique. P., 1974. C. 95).
14 Лавуазье A. Л. Экспериментальный метод. Введение к элементарному курсу химии // Ан-
туан Лоран Лавуазье. Мемуары... / Под ред. и с предисл. М. А. Блоха. Л., 1931. С. 74.
15 В письме Мерсенну Декарт писал о Галилее: «Не исследуя первопричину природы, он
искал только оснований отдельных явлений» (Олыики О. История научной литературы на
новых языках. Т. III. Галилей и его время. М.; Л., 1933. С. 85-86).
Становление научной рациональности в химии
289
сравнивать генезис этих двух наук. Самым ярким моментом, бросающимся при этом
в глаза, служит то обстоятельство, что химия, в отличие от механики, не знала своего
Архимеда и, соответственно, всей архимедовой традиции. Но мы знаем, что Галилей,
основоположник научной динамики, совершенно сознательно следует именно по
архимедовскому пути, обогащенному как платонизмом с его особым расположением
по отношению к математическому знанию, в частности к геометрии, так и опытом
развития технических прикладных дисциплин, как, например, гидравлика.
Трамплина такой высоты химия XVII в. просто не имела.
Как и Галилей, а в его лице механика начала XVII в., химия могла опереться
в своем отталкивании от химического перипатетизма на традицию античного
атомизма, но не более того. Атомистика же XVII в. в ее преобладающей механицист -
ской версии не могла привести к эффективной, специфически химической теории.
В истории химии этого периода действуют две ключевые традиции — традиция ме-
ханокорпускулярной натуральной философии и традиция технической химии и
лабораторных исследований. Кроме того, в этот период живы были и традиции,
идущие от алхимического, ятрохимического и перипатетического прошлого. Все они
могли эффективно взаимодействовать друг с другом, трансформироваться и
адаптироваться к растущему объему и меняющемуся качеству эмпирического материала
только тогда, когда возникли институционально оформленные ячейки роста,
кумуляции и трансляции химических знаний на экспериментальной основе.
Одной из таких ячеек выступил Королевский ботанический сад в Париже, в
рамках которого в конце XVII в. были созданы две химические кафедры. По оценке
одного из современных исследователей, развивающаяся на базе этого учреждения
химия «долгое время примыкала к галенистской фармакопее, но преподавание, начатое
Дависсоном, которому факультет медицины грубо, но, впрочем, напрасно
противился, привело к созданию экспериментальной науки, возникшей на руинах старой
алхимии»16. Кстати, демонстратором Королевского сада был и Г. Ф. Руэль (1703-1770),
учивший химии Лавуазье.
Конечно, и на английской почве, например в рамках кружка Хартлиба, а затем
и Королевского общества, лабораторное экспериментирование соединилось с
химическим умозрением преимущественно механокорпускулярного толка. Правда,
в английских научных сообществах химия свободно соединялась с алхимией, так
что при этом вырабатывалась особая, химическая, алхимия. В Англии возникло
несколько крупных лабораторий, в которых экспериментирование сопровождалось
попытками по-новому теоретизировать. Назовем в этой связи лабораторию
известного алхимика и путешественника Кенельма Дигби (1603-1655), а также
лабораторию кружка Хартлиба, размещавшуюся в его саду и возглавляемую Фредериком
Клоудисом, зятем Хартлиба. Конечно, самая известная из этих лабораторий —
лаборатория Роберта Бойля.
16 Laissus Y. Le Jardin du roi // Enseignement et diffusion des sciences en France du dix-huitième
siècle. P., 1986. P. 312.
290
Раздел третий
В этой связи, говоря о процессе химизации, т. е. рационализации, алхимии,
интересно отметить роль религиозного аргумента. Этот аргумент, согласно которому
алхимия опасна для религии, так как претендует на то, чтобы предоставить
возможность спасения без веры, мы находим у Мерсенна, влияние которого на ученых
разных стран было немалым17. Друг Мерсенна, Пьер Гассенди, в свою очередь,
развивал программу христианизации античного атомизма, борясь, в качестве
католического мыслителя, с волной нового мистицизма, поднятой Реформацией. Гассенди
публично критиковал представителей мистико-герметического движения, влияние
которого на ученых, особенно в протестантских странах, было значительным.
Обратим внимание на то, что, по выводам Ф. А. Йейтс, даже Ньютон был связан с
розенкрейцерством своего времени18.
Сравнивая английскую и французскую традиции, нельзя не отметить и их
различия. Если механокорпускулярное умозрение было сильнее развито в Англии (как
и натуральная философия в целом), то систематическое преподавание химии как
самостоятельной науки, развитие аналитических методов и прикладной химии
медицинского и биоорганического направления отличали французскую традицию.
Традиции двух соседних стран, соединяясь благодаря научным связям, взаимно
обогащали друг друга. Этот фактор, конечно, не тормозил, а ускорял развитие химии.
Недооформленность химии XVII в. на когнитивном уровне дополнялась тем, что
и социальные матрицы генезиса химических знаний, а именно институциональные
формы, системы коммуникации и трансляции этих знаний, не были еще в XVII в.
таковыми, чтобы на их базе интеллектуальная эволюция пошла бы быстрее,
позволив химии уже в этом веке достичь порога научности. Действительно, технические
отрасли химии в XVII в. были еще слишком эмпирическими; а если в них и
присутствовало какое-то теоретизирование, то оно, как правило, повторяло
традиционные алхимические или ятрохимические представления. Но и другая линия развития
химии, намеченная новой натуральной философией с высокой культурой
эксперимента и применением физических методов, также не могла привести к революции
в химии в силу того, что господствующий в ней механистический корпускуляризм
сам по себе не мог дать адекватный химической эмпирии унифицирующий ее
теоретический синтез. И лишь когда возникнет социокультурное пространство,
способное обеспечить эффективное взаимодействие этих разошедшихся в XVII в.
основных линий развития химии, только тогда тот самый методологический идеал
знания, который воплощал в своих открытиях Галилей, станет рабочим
инструментом химии, позволяющим прочно устанавливать простые истины о малых вещах,
не слишком при этом заботясь (вспомним Галилея) о «высоких материях». И
поэтому не случайно Д. И. Менделеев сопоставил Галилея именно с Лавуазье, добавив
при этом, что тоже справедливо, и имя Ньютона. Простые истины о сугубо частных
вопросах, твердо установленные французским химиком XVIII в., обернулись новой
17 Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P., 1943. P. 140-150.
18 Yates Ε A. The Rosicrucian Enlightenment. London, 1972. P. 193-205.
Становление научной рациональности в химии
291
универсальной системой химии. Если путь к «Галилею в химии» оказался куда более
долгим, чем путь механики к ее преобразованию в лице автора «Диалогов», то путь
к ньютоноподобному синтезу в химии был несравненно короче аналогичного пути
в истории механики. И это понятно, так как в Лавуазье соединились обе фигуры —
и Галилея, и Ньютона химии. Действительно, мемуар, решающий фундаментальную
для основания новой химии проблему, был написан Лавуазье в 1783 г., а его
знаменитый «Элементарный курс химии», в котором дана целостная система новой науки,
был опубликован (сразу двумя изданиями) в 1789 г. — в том самом, в котором
разразилась Великая французская революция.
Подводя итоги нашему анализу историко-эпистемологических причин
запаздывания революции в химии в XVII в., мы бы отметили, что свершившейся в этом
столетии революции в механике, сформулированной и осознанной ее творцами в ее
универсальном значении, оказалось явно недостаточно для создания в химии новой
когнитивной структуры, которая бы сообщила химическим знаниям, формируемым
на ее основе, равноценный с механикой статус научности. Для этого химии
необходимо было выработать своеобразную переходную структуру, позволяющую
теоретическим конструкциям придать четкий, экспериментально значимый химический
смысл. Созданная в поисках такой когнитивной структуры первая универсальная
теоретическая химическая система — доктрина Шталя — оказалась для выполнения
этой стержневой для развития химии задачи хотя и весьма эффективной19, но
слишком квалитативистской и, главное, слишком противоречивой для того, чтобы стать
базой для новой химии. Но в конце концов поиски такой структуры увенчались
успехом и привели к новому типу рациональности в химии. Эти поиски велись и в пору
безраздельного господства в теоретическом сознании химиков флогистики.
Нужная структура была создана на основе тщательного, количественно фиксируемого
проведения экспериментов, ориентированных прежде всего на изучение
прокаливания металлов и процессов горения и использующих достижения бурно
развивающихся исследований газов. Искомая структура научной химии складывалась
постепенно. Завершающим этапом в ее формировании стали количественные законы
химии, начиная с закона постоянства веса веществ, участвующих в химической
реакции (закон сохранения материи), ставшего краеугольным камнем химии Лавуазье.
Благодаря последовавшим за пионерскими работами Лавуазье работам
Дальтона, Пруста, Авогадро и других ученых химия как эмпирическая наука получила
четкую, операционально значимую корпускулярно-атомистическую теоретическую
основу. Две идущие с античности основные линии задания химического предмета
познания — элементаризм и атомизм — наконец продуктивно соединились на базе
19 Дж. Б. Гауф говорит о «революции Шталя», по отношению к которой химия Лавуазье
является лишь завершающей стадией (Gough /. В. Lavoisier and Fulfillment of the Stahlien Revolution //
Osiris. Vol. 4 (2nd series). 1989. P. 15,31). Такой подчеркнутый гиперкритицизм мы не разделяем,
но отношение Лавуазье к Шталю действительно сложнее, чем это нередко представляют,
говоря об антифлогистонной революции, совершенной французским химиком.
292
Раздел третий
количественно точного экспериментального метода. Разобщение этих основных
линий развития химической мысли было главной эпистемологической причиной,
предопределившей донаучный характер всей химии, вплоть до Лавуазье.
Анализируя этот затянувшийся сравнительно с механикой марш химии к
научности, мы замечаем, что между установившимся характером когнитивной
структуры в плане ее пробы на научность, с одной стороны, и способностью
соответствующей социокультурной ячейки знания к эффективному эпистемогенезу — с другой,
существует определенная позитивная корреляция. Действительно, только при
условии соответствия когнитивной структуры социокультурной ячейке,
генерирующей знание, может возникнуть эффект сравнительно быстрого доведения
теоретической эволюции знания до нужной кондиции. Именно такой, описанный здесь
в общих чертах, процесс и произошел с химией во Франции в эпоху Лавуазье.
Поэтому имевшие место предвосхищения теории Лавуазье не могли увенчаться
успехом, став началом химической революции. Так, например, предвосхищение его
открытия перигорским врачом Ж. Реем (1583-1645) — установление увеличения веса
олова и свинца при их прокаливании (1630) — не было даже замечено его
современниками, и только Байен, беспокойный завистник Лавуазье20, переиздал ставшую
библиографической редкостью книгу Рея в 1777 г., сразу после публикации
основополагающих работ великого химика21. Анализируя предысторию революции Лавуазье,
мы не можем не отметить вклада в ее свершение запоздалого (по отношению к
Англии), но зато тем более мощного триумфа ньютонианства (с его антикартезианской
экспериментальной методологией) во Франции. Другим заслуживающим внимания
историческим моментом служит развитие во Франции медицинских и биологических
аспектов химии, получивших устойчивые институциональные формы. Сочетание
всех этих разнообразных факторов и позволяет прояснить как предпосылки
революции в химии, так и причины ее относительно позднего исторического свершения.
Исторические предпосылки торможения
химической революции в XVII веке
Химик XVII в. имел дело по преимуществу с различными смесями, причем
непостоянными, меняющимися по своим свойствам, а значит, и составу в
зависимости от условий приготовления своих реактивов. Достаточно строго
контролируемая воспроизводимость как экспериментальных условий химических реакций, так
и веществ, в них вовлеченных, не была достигнута. Не был также сформирован
регулярный язык описания веществ, их свойств и превращений. Более того, химиков
20 Berthelot M. Révolution chimique. P., 1902. P. 31.
21 Dujarric de la Riviere R., ChabrierM. La vie et l'oeuvre de Lavoisier d'après ses écrits. P., 1959.
P. 159-160.
Становление научной рациональности в химии
293
XVII в. это, кажется, не слишком беспокоило. Они стремились скорее к тому, чтобы
осуществить умозрительно-вербальное «вписывание» своих наблюдений в
традиционную или несколько модифицированную картину мира, которую они принимали.
Так, например, точное определение свойств веществ меньше беспокоит Н. Лефевра
(1616-1669), чем согласование его химии с принятой им космологической картиной
мира. Строгий, однозначный, всеми химиками с необходимостью принимаемый
в его результатах эксперимент еще не получил в ценностной системе химии XVII в.
заслуженного им места. Вещества, будучи далекими от чистоты, а значит, и
идентичности, как бы «плывут» в своих свойствах, в том числе и в химических. Вместе
с ними неустойчив и язык химии, а значит, и концептуализация эмпирии вообще.
Химики свободно смешивают разные теоретические системы. В частности, они
сочетают основные химические доктрины, унаследованные от прошлого —
аристотелевскую концепцию четырех стихий, спагирическую22 трехэлементную теорию и
алхимические представления. Так, например, Дависсон в своем «Курсе химии» (1635)
к четырем стихиям Стагирита добавляет три спагирических начала. Универсальной
объяснительной схемой, таким образом, у него является набор из семи элементов.
Лефевр («Курс химии», 1660) принимает пять элементов: флегму, или воду, дух, или
ртуть, серу, или масло, соль и землю. При этом он трансформирует Аристотеля.
Действительно, подобно ему приписывая космологический статус элементам, он вместо
«естественных мест», определяющих движение стихий у Стагирита, применяет
принцип «подобное стремится к подобному», уходящий своими корнями в античные
традиции. Этот пример показывает, что ведущие химики-теоретики XVII в. далеко
отошли от догматического перипатетизма. Однако они не порвали с ним окончательно.
Его влияние чувствуется не только у Лефевра, но и у К. Глазера (1663), который
учил о трех активных (спагирическая тройка) и двух пассивных (флегма, или вода,
и земля) элементах. Подобная теоретическая «магма» создавала немалые трудности
при объяснении наблюдений. Хороших лабораторий было тогда немного,
инструменты и оборудование стоили очень дорого. Опыт пытались стыковать с любой
теоретической схемой, так как стандартный язык его интерпретации отсутствовал.
Скромные на фоне космологических умозрений, но потенциально
системообразующие факты еще не были прочно установлены. А поэтому не было и надежного
каркаса, опираясь на который можно было бы наращивать объем достоверных знаний.
Заметным шагом на пути кодификации языка химии, свободного от
алхимических установок и способного к достоверному обобщению ее наличного материала,
явилась публикация «Курса химии» Н. Лемери (1675). Основой для построения своего
курса Лемери вместо неоплатонизма в духе возрожденской натурфилософии
избирает картезианский механицизм. Это было время, когда в передовых странах Европы
возникла стремящаяся к образованию и науке публика. Для ее научного просвещения
22 От греческих слов spao (отделяю) и ageiro (собираю). Для спагиристов химия
представляет собой искусство разделять и соединять тела. В XVII в. представления о трех
спагирических началах (ртуть — сера — соль) распространялись последователями Парацельса.
294
Раздел третий
лучшим средством действительно было картезианство — такое радикальное, ясное,
строгое, методически значимое и поэтому универсальное. В салонах Парижа,
ставшего одним из самых крупных научных центров тогдашней Европы, возникает мода
на новую, механистическую философию. На все эти запросы и ответил Лемери,
создав стабильный учебник химии, получивший широкое распространение по всей
Европе. Если, например, Лефевр (1660) озабочен приспособлением к химии нео-
платонистской спиритуалистической традиции, в которую вписались такие
крупные мыслители-химики, как Парацельс и Ван-Гельмонт, то Лемери, напротив, вовсе
не отсылает к этой традиции, практически ни слова не говорит об алхимии,
средневековых авторитетах и т. п. Его задача — продемонстрировать современное
химическое знание, не нуждающееся в поддержке каких либо традиционных школ. Можно
с уверенностью сказать, что преподавание химии на основе этого курса сильно
подорвало еще достаточно прочные в XVII в. позиции алхимии, которую Лемери
коротко определил как «искусство без умения».
Проблема связей алхимии с химией сложна и многомерна. Алхимические
мышление, язык и воображение представляют собой устойчивые ментальные структуры,
способные к реанимации в ответ на новые вызовы социокультурного и
психологического плана. Алхимия не бесследно исчезает в научной химии, а является, по сути
дела, ее оккультной «тенью», неотделимой от нее. Реформация в Европе подстегнула
угасавший интерес к алхимии, но вместе с тем она же и ускорила процесс ее
химизации или «кларификации», как говорит Доббс23. В ходе этого процесса алхимическое
мышление утрачивает свои позиции, но при этом его символика, превращаясь в
условный формализм, еще во многом сохраняется. Вместе с тем сохраняются и
некоторые содержательные алхимические приемы мысли. Алхимия всегда так или иначе
рационализировала (псевдорационализировала) трансмутационный миф, лежащий
в ее концептуальном основании. Ее теоретической рационализации способствовало
представление о «первичной материи», по отношению к которой все вещества
оказываются только акциденциями, способными переходить друг в друга.
Перипатетический иерархизм элементов и субстанций, а также герметизм и платонизм также
давали средства для такой рационализации, устанавливая шкалу совершенства для
различных тел. Существовали и техноэмпирические рационализации
трансмутационной веры. Одна из них, например, основывалась на том, что благородные металлы
в природе обычно примешаны к неблагородным. Если учесть слабое развитие
аналитических методов исследования веществ, то становится понятной эта
рационализация трансмутационного мифа на, так сказать, металлургической основе. Даже
механокорпускулярные учения, выступавшие наиболее непримиримыми
противниками алхимии, снабжали ее новыми оправданиями. Не отвергал идеи
трансмутации и Бойль, полагая ее возможной в силу того, что в основе Вселенной, как он
считал, лежит единая Catholick Matter (Всеобщая Материя), которая как универсальный
посредник может связать любое вещество с любым другим, обеспечивая тем самым
Dobbs В. I. Т. The Foundation of Newton's Alchemy. Cambridge, 1975.
Становление научной рациональности в химии
295
возможность потенциально неограниченной взаимной превращаемости веществ.
Подобное механокорпускулярное оправдание трансмутации металлов разделял и
Ньютон, отдавший алхимическим исследованиям много лет упорного труда. Конечно,
механицизм, в частности картезианский, нанес ощутимый удар по традиционным
вариантам трансмутационного мифа. Действительно, новая механистическая
философия устранила онтологический, а вместе с ним космологический и физический
иерархизм: одно сочетание корпускул ничуть не менее и не более совершенно, чем
любое другое. «Что касается различий между металлами, — говорит известный
пропагандист картезианства Роо, — то вообще следует сказать, что они состоят в том,
что их первые части обладают различными размерами, массой и формами»24.
Очевидно, что одна величина, протяженность или масса, взятые в их количественной
представленности, ничуть не лучше, чем другая, если только мы выходим за рамки
оккультной аритмологии неопифагорейского или каббалистического толка,
типичных для алхимии XVI-XVII вв. Материя в ее механистическом истолковании, будучи
однородной, не подчиняется принципу иерархии. Количественный язык, в том числе
и геометрический, как базовый язык новой механистической науки, не нуждается для
своего функционирования в идее совершенствования. И если алхимики, как
справедливо отмечает Э. Мецже, «предполагали в природе тенденцию к
совершенствованию, то корпускуляристы считали природу неизменной во времени»25.
Упомянутые выше алхимические штудии Ньютона показывают, что
алхимический трансмутационизм лучше стыкуется с неоплатонизмом, принципы которого
в соответствующей кембриджской редакции разделял великий ученый, чем с
картезианством. Позиция картезианца Лемери, непримиримого противника алхимии,
подтверждает такой вывод. Что же касается Ньютона, то он пытался объединить
алхимию и механистическую натуральную философию. Для этого он использовал такое
неоплатоновское понятие, как «универсальный дух», служащий источником
своеобразия всех форм материи. Кроме того, Ньютон применял и другие аналогичные
познавательные средства, например концепцию активных начал, действующих в
таких телах, как, например, сурьмяной магнит. Существенной в теоретической химии
Ньютона была также идея универсального посредника, или медиатора,
позволяющего растворять нерастворимое, осаждать неосаждаемое и т. п., т. е. позволяющего
сочетать противоположные характеристики поведения веществ. Это возможно
потому, что медиатор состоит из частиц промежуточных размеров по сравнению с
частицами веществ, фиксирующих указанные противоположности. Ньютоновское
понятие силы, заменившее собой понятие эфира, бесплодность которого для
экспериментальной натуральной философии Ньютон понял после своего увлечения им,
вводило в онтологию его механики, по сути дела, алхимическое активное начало.
Кстати, представление об активных и пассивных началах было достаточно
распространенным в химии XVII в.
24 Rohaultl. Traité de Physique. P., 1671. P. 187.
25 Metzger H. Les doctrines chimiques en France. P., 1923. P. 133.
296
Раздел третий
Исключительно важной для химической картины мира Ньютона была идея
ферментации, продуктивного «брожения». Ньютон писал: «Природа как целое,
может быть, не что иное, как эфир, конденсируемый началом ферментации (fermentai
principle)»26. Ньютон всегда считал, по-разному в разное время прорабатывая эту
идею, что вся видимая материя порождена конденсацией и ферментацией
некоторого исходного простого материала. Так, пары, восходящие от светил, считал он,
могут конденсироваться в «воду и влажные спирты», а затем, благодаря
продолжающейся ферментации, во все более и более плотные тела. Подобные рассуждения
никогда не исчезали из работ Ньютона, только в «Оптике» «пары» стали «светом»27.
Химическая алхимия Ньютона показывает значимость герметической философии
(алхимиков XVII в. называли герметическими философами) как мощного
генератора нестандартных идей, могущих (при определенных условиях) войти в состав
новой науки. Активные начала герметизма, прочитанные Ньютоном как силы
притяжения, послужили основой для его синтетических планетарно-химических
построений, с единой точки зрения представляющих устройство и неба, и скрытых
недр земли. Кроме этого синтеза алхимии и механики Ньютон по-новому
прочитывает и старые химические оппозиции, в частности спагирическую оппозицию ртути
и серы, превращая ее в пару «кислота — земля». Его теория иерархических уровней
корпускулярных структур, связанных различными по величине, но однородными
по качеству силами, превосходит, пожалуй, аналогичные бойлевские представления
в своей разработанности, а в некоторых своих аспектах кажется предвосхищающей
теорию Дальтона. Влияние Ньютона на развитие химии было значительным. Здесь
можно только напомнить, что в своем теоретико-мировоззренческом подходе к
химии ньютонианцем был и Д. И. Менделеев.
Роберт Бой ль — вершина химии XVII века
Исследования творчества Бойля в контексте истории химии XVII в.28 показали, что
без серьезных преобразований химии, происходивших в этом веке, нет и
научной революции XVII в. как целостного явления. Однако химия в этом столетии
так и не стала наукой в полном смысле слова. Она, правда, составила часть общего
процесса преобразования традиционных знаний в новую науку, и сама при этом
существенно изменилась. Однако наукой не стала. Лавуазье и связанные с ним
радикальные изменения загородили в сознании историков путь, проделанный
химией в XVII в.
26 Dobbs В. I. Г. The Foundation of Newton's Alchemy. P. 231.
27 Ibid. P. 230-231.
28 Boas M. Robert Boyle and seventeenth century chemistry. Cambridge, 1958.
Становление научной рациональности в химии
297
Перечислим некоторые из достижений химии XVII в.: более глубокое
понимание химического соединения, развитие представлений об анализе и тестировании
веществ, улучшение химической классификации, попытки объяснения химических
реакций. Эти достижения указывают на формирование нового образа химии,
развивающейся со второй половины XVII в. под воздействием новой натуральной
философии, выдающимся представителем которой был Р. Бойль. Революционная
натуральная философия Бойля изменила химию, но не смогла превратить ее в науку. Почему?
Рассмотрим вклад Бойля, пытаясь при этом прояснить причины его
недостаточности для превращения химии в науку к концу XVII в. Бойль отказывается от
оправдания химии исключительно ее полезностью. Он считает, что химия важна потому,
что дает всему естествознанию «полезные материалы для экспериментальной истории
природы, на которой со временем может быть построена прочная теория»29. Бойля
интересуют «светоносные» плоды новой науки, говоря словами его учителя в новой
философии — Ф. Бэкона30. Бойль тем самым решительно порывает с трактовкой
химии как искусства, как чисто вспомогательной или прикладной сферы деятельности.
Однако, на наш взгляд, было бы ошибкой связывать физику и химию Бойля
исключительно с программой Ф. Бэкона, безоговорочно противопоставляя при этом
методологию Бойлевой науки галилеевскому подходу, позволяющему «услышать»
голос самой природы, говорящей на языке математики. В своих исследованиях газов,
приведших к открытию известного закона (1660), в количественно проводимых
опытах с использованием весов, в работах по усовершенствованию и применению
приборов для измерения количеств газов и жидкостей (включая их градуировку) — во всех
этих направлениях своей деятельности Бойль близок к методологии Галилея, с
трудами которого он, вероятно, познакомился во время своего путешествия в Италию,
а также благодаря трудам других ученых, в частности Гоббса31. Но при этом у Бойля
не было понимания фундаментальной роли математики в экспериментальном
исследовании природы, как это было у Галилея и его сторонников на континенте. Дело здесь
частично в том, что в духе своего времени Бойль интересуется тысячами курьезных
вещей, принадлежащих тому действительно трудно математизируемому миру физики
и химии, который не был математически оформлен даже и сто лет спустя после выхода
в свет ньютоновских «Начал», давших образец такой математизации для механики.
Бойль разработал корпускулярно-механистическое учение, в основе которого
лежали представления об универсальной материи (Catholick Matter),
«протяженной, неделимой и непроницаемой»32. Эти представления ему удалось применить
29 Boas M. Robert Boyle and seventeenth century chemistry. P. 64.
30 Как справедливо замечает итальянский историк M. Джуа, «наблюдение и эксперимент
у Бойля более тесно связаны со взглядами Френсиса Бэкона, чем Галилея» {Джуа М. История
химии. М., 1966. С. 28).
31 Джуа М. История химии. С. 91.
32 Boyle К Fisica, quimica у filosofia mecânica. Madrid, 1985. P. 194.
298
Раздел третий
к задачам объяснения физико-химических явлений широкого спектра. Целью
ученого было таким образом развить язык описания механически движущихся
корпускул, наделенных различными размерами, формами и характеристиками движения,
чтобы, опираясь при этом на представления о структуре («текстуре») сложных
частиц, возникающих на базе первичных корпускул, объяснить вторичные качества
вещей, образующие непосредственный предмет физико-химических исследований.
Последовательное применение этого учения, продолжавшего традиции атомизма,
к химии привело Бойля к суровой критике всех распространенных в его время
концепций химических элементов, начиная с четырехэлементной теории Аристотеля
и кончая трехэлементной схемой Парацельса и спагириков. Все элементаристские
концепции отталкивались от непосредственно наблюдаемых вторичных качеств,
перенося их в сферу сущностей и производя при этом их определенную селекцию
и упорядочивание (квалитативистский тип рациональности). Бой ль же в
соответствии со своим учением считал, что ни перипатетическая тетрада, ни Парацельсова
триада не являются перечнем действительно элементарных, т. е. простых и
неизменных, субстанций, являясь на самом деле составными телами33.
Наряду с теоретическим механокорпускуляризмом средством опровержения
традиционных учений об элементах Бойлю служит его экспериментальная методология,
в частности методы химического анализа (открытие и применение реактивов на
кислоты и щелочи, применение индикаторов и т. п.). Бойль настойчиво подчеркивает
реальные различия тех веществ, которые элементаристские концепции обобщают
под категорией элемента (будь то «вода» Стагирита или «сера» Парацельса). Во
времена Бойля четырехэлементная теория перипатетиков оправдывалась
наблюдениями за операцией перегонки веществ или их разложения под действием огня. При
этом считалось, что огонь разлагает подвергаемые его воздействию тела до
первоэлементов, отвечающих различным фракциям результата этого процесса. Но,
возражает Бойль-аналитик, «зеленая ветка разлагается огнем не до элементов, а до
смешанных тел, распознаваемых под другими формами»34.
Своею деятельностью Бойль вписал химию в новое естествознание. В этом плане
ему были близки, пожалуй, только два других химика — Глаубер и Ван-Гельмонт.
Но они не были натуральными философами. И вряд ли Ван-Гельмонт смог бы убедить
философов-механицистов в том, что химия — такая же наука, как и та, которой
занимаются они, называя ее натуральной философией. Но Бойль добился этого — пусть
и к концу своей жизни. К тому же у этих крупных химиков века не было той новой
философии, которая была у Бойля. Его положение действительно исключительное,
так как он на равных входил в число пионеров новой науки, разделяя их программу
и участвуя в их научных спорах и экспериментах, будучи, подчеркнем, химиком.
Ясное осознание теоретической ценности химических экспериментов
обнаруживается у Бойля, например, в его отношении к спагирикам. Их он называет
33 Boyle R. Fisica, quimica у filosofia mecânica. P. 120-121,132.
34 Ibid. P. 121.
Становление научной рациональности в химии
299
«иррациональными операторами». «Их эксперименты, — говорит Бойль, — могут
быть полезны для аптекарей и, возможно, врачей, но бесполезны для Философа,
озабоченного не излечением болезней, а излечением Невежества»35. Бойль, признавая
независимый, чисто теоретический интерес за химическими опытами, вписывает
тем самым химию в прогресс разума, в новую науку, солидаризируясь с передовой
философией своего века, глядящей в век грядущий. Это — принципиально новое
отношение к химии. Бойль подходит к ней не как алхимик, не как врач, не как ятро-
химик, а как натуралист или естествоиспытатель, ищущий истину природы (или
о природе) ради нее самой, а не ради практических выгод. Свою позицию Бойль
резюмирует в концепции «химической философии» (chemia philosophica)y которую он,
к сожалению, не успел изложить в виде отдельного трактата. Быстрого и прочного
признания Бойля химическим сообществом XVII в. не произошло. А ведь такое
признание означало бы только ускорение процесса становления химии как науки. После
обсуждения его работ Французская академия наук решила, что Бойль уж в слишком
большой степени не химик, а натуральный философ. Большинство химиков XVII в.
считали, что Бойль слишком физикализирует химию, и поэтому они им скорее
восхищались, чем следовали за ним. Как ни парадоксально, но для поддержания
репутации настоящего химика в XVII в. надо было быть пусть в незначительной степени,
но мистиком, разделять, хотя бы отчасти, герметические взгляды. Натуральные
философы, со своей стороны, готовы были признать, что Бойль — исключение, что он —
действительно заслуживающий внимания химик в силу того, что он — настоящий
натуральный философ. Однако, делая как бы личную уступку Бойлю, они
отказывались признать химию законной частью натуральной философии.
Таким образом, мы видим, как действует институциональный барьер на пути
формирования новой рациональности в химии. Становящаяся наукой химия
испытывает при этом отталкивание как со стороны химиков-традиционалистов, так
и со стороны натуральных философов — новаторов естествознания. Химики этого
столетия не входили в сообщество натуральных философов. Этот дисциплинарный
барьер тормозил становление новой рациональности в химии, так как ограничивал
распространение новой экспериментальной философии среди химиков. Наличие
такого барьера не случайно. Химия XVII в. действительно еще должна была доказать
свои права для вхождения в новое научное естествознание.
В подготовку химической революции XVIII в. Бойль внес существенный вклад.
Мы имеем в виду то обстоятельство, что выработанное Бойлем новое понимание
химии при посредничестве его талантливого ученика В. Гомберга, ставшего в 1691 г.
членом Французской академии, смогло в конце концов утвердиться во Франции. Гом-
бергу удалось изменить сам стиль академических дискуссий, подчинив их духу Бой-
левой «химической философии». Этот стиль серьезно расходился со стилем Н. Ле-
мери, никогда не считавшим химию частью натуральной философии. Существенно
для истории химии то, что в Германии, напротив, бойлевский подход не утвердился.
35 Boas M. Robert Boyle and seventeenth century chemistry. P. 68.
300
Раздел третий
Хотя Бехер и Шталь читали Бойля, однако они выбрали иное направление мысли —
преформационистский элементаризм с корпускуляристскими моментами.
Химия Бойля, увы, в известной мере осталась маргинальной в научном
сообществе XVII в. Но в конце концов отдельных ученых Бойль сумел убедить в правоте
своего пути. И это были прежде всего физики и врачи Королевского общества,
внесшие ощутимый вклад в химию. Таков, например, Р. Гук, высказавший, в частности,
немало интересных идей о горении веществ в своей «Микрографии». Таков Врен,
который вместе с Гуком обсуждал химические проблемы на заседаниях Королевского
общества. Увы, на заседаниях Французской академии подобное взаимодействие
физики и химии в то время было невозможно. Трудно представить, чтобы в дискуссиях
французских химиков принимал участие, например, Гюйгенс. Этот реальный вклад
химии в новое естествознание недостаточно еще изучен. Историки привыкли
считать, что революция в химии — это XVIII в. Отсюда становится понятным
пренебрежение химией XVII в. со стороны историков, отмеченное М. Боас36.
Если сопоставить теперь труды Бойля с популярным в конце XVII в. курсом
химии Лемери, то при всем их различии бросается в глаза одно их общее
свойство. Действительно, обе представленные в них концепции химии «не дотягивают»
до эффективного теоретического объяснения эмпирического материала. В чем тут
дело? Оставляя в стороне картезианский механицизм Лемери, можно сказать, что
его трактовка химии отвечает традиции химического элементаризма,
базировавшегося в XVII в. на органоаналитическом оправдании концепции пяти элементов, в
соответствии с которым при перегонке органических веществ первая фракция
определяется как спирты, вторая — как сера или масла, третья — как флегма или вода,
а твердый остаток — как соль (его растворимая часть) и как земля (нерастворимая
часть). Эта схема, возникшая в результате наблюдений за перегонкой органических
веществ, была распространена на металлы и на минеральные вещества вообще. Хотя
этот подход до известной степени операционально оправдан, но при его реализации
возникло немало трудностей.
Однако и бойлевский корпускуляризм, в свою очередь, показал ограниченность
своих объяснительных возможностей и не мог дать такой связи теории и опыта,
которая бы позволила эффективно управлять химической практикой. Взаимная
критика этих двух противоположным образом ориентированных подходов оказалась
плодотворной для развития химии. Дело в том, что сами по себе, в своей
изолированности, они в равной степени не могли стать эффективной, объединяющей всю
химию теорией, что послужило еще одним фактором запаздывания формирования
нового типа рациональности в этой области знаний. «То, в чем нуждалась химия, —
справедливо отмечает М. Боас, — было третьей точкой зрения, воплощающей
новую концепцию, и именно поэтому химия должна была ждать ее возникновения
некоторое время»37.
36 Boas M. Robert Boyle and seventeenth century chemistry. P. 68.
37 Ibid. P. 98.
Становление научной рациональности в химии
301
Критика Бойлем элементаризма в данном случае состояла в том, что он, исходя
из экспериментальных соображений, отказывался видеть в упомянутой
аналитической процедуре «выпадение» элементов из перегоняемого вещества как из их «смеси».
Он пришел к выводу, что в ходе этого процесса происходит изменение веществ, а
поэтому бессмысленно говорить о том, что в перегоняемом теле содержатся «элементы»,
из которых оно якобы состоит. Следуя своей корпускулярно-механистической
гипотезе и опираясь на эмпирические соображения, Бойль занял позицию
решительного антиэлементаризма.
Неудачу корпускуляризма XVII в. в химии (он не привел к возникновению в этом
столетии нового типа рациональности в этой сфере знаний) можно рассматривать как
плату за неизбежный в то время радикализм такого направления. В базисной для
химии дилемме (элементаризм или атомизм) Бойль решительно выбрал атомизм. Но
отбрасывание органичного в принципе для химии элементаристского подхода не
обошлось даром. Подвергнув скепсису само понятие об элементах, Бойль столкнулся
с трудностями в определении того, какие же вещества являются действительно
простыми, а какие — сложными. А ведь именно такая классификация лежит в основании
химического мышления независимо ни от каких теорий о строении материи.
Подключив химию к новому естествознанию, прежде всего к физике, Бойль мог
рассуждать так: отказ от оккультных качеств и субстанциальных форм в физике стал
для нее большим благом. Почему же тогда подобный отказ не будет благом и для
химии? Однако каждая из этих наук отличается от другой своей своеобразной
природой, и изгнать подобным образом качества из химии оказалось гораздо сложнее.
Квалитативистский тип рациональности
и химическая революция
Почему устойчивость квалитативистского типа рациональности в химии оказалась
значительно выше, чем в механике? В квалитативистском типе рациональности мы
видим попытку сохранить объяснительный статус чувственно данного мира,
рационализировав его «мягким» по отношению к нему образом, т. е. применяя такие
способы его упорядочивания, как качественные элементология, классификация
веществ и т. п.
В методологическом плане химическая революция, связываемая главным
образом с именем Лавуазье, выступает как вытеснение (правда, не до конца) квалита-
тивистских схем мышления. Это вытеснение исторически задержалось в Германии,
где в противоположность Франции бойлевский подход не получил значительного
распространения. Видные химики Германии, И. И. Бехер (1635-1682) и Г. Э. Шталь
(1659-1734), выбрали иное, чем Бойль, направление химической мысли, которое
условно можно определить как преформационистский элементаризм с отдельными
корпускуляристскими моментами.
302
Раздел третий
В истории долавуазьевской химии Шталь, пожалуй, является центральной
фигурой. Общим у него с Бехером, придворным алхимиком, продолжателем позднере-
нессансной традиции, идущей от Парацельса к Ван-Гельмонту, был глубокий
интерес к исследованию минералов, горного дела, металлов. Парацельсову триаду Бехер
приспособил для описания мира минералов, преобразовав ее в три вида земли
(ртутная — стекловидная — горючая). Последняя, названная им «жирной», стала
прообразом для флогистона Шталя.
Королевский врач в Берлине, видный химик, оставивший множество трудов
по металлургии, пробирному искусству, по вопросам горения, брожения и т. п., Шталь
был известен также и как автор теоретических трактатов (например, «Fundamenta
chymiae dogmaticae et experimentalis», 1723). В этом трактате он определял химию как
искусство «разложения смешанных тел... на составные части», а также и
«соединения составных частей в тела»38. Из этого определения ясно видно, что основу
подхода Шталя к химическим исследованиям составляет попытка опереться на новый
(не перипатетический и не спагирический) элементаризм, приспособленный для
объяснения растущего объема знаний, получаемых благодаря исследованиям
разнообразных веществ и их превращений. В соответствии с этой в известном смысле
эмпирической установкой Шталь критикует механокорпускуляризм в духе Бойля,
считая, что механистическая философия «из фигур и движения частиц пытается
извлечь слишком уж общие и отвлеченные объяснения явлений»39. Принимая в
принципе корпускулярный подход к объяснению строения вещества, Шталь, однако,
считает, что он допускает слишком большое количество неизменных первочастиц,
в то время как для объяснения явлений достаточно немногих начал, как это следует
из древней элементаристской традиции. Что же касается кинематических
характеристик частиц, или корпускул, то, по Шталю, их механическое движение —
необходимое, но не единственное условие химических реакций. Дуализм корпускуляризма
и элементаризма воспроизводится в учении Шталя в форме представлений о
различии физических и химических начал.
Одна из основных теорий Шталя — его концепция трех видов земли —
характеризуется типичными для квалитативистской рациональности приемами мысли.
Действительно, согласно Шталю, первая земля сообщает телам тяжесть, вторая —
горючесть, а третья — блеск, ковкость и другие аналогичные качества. Все «земли»
выступают как квалитет-субстанции, или субстанциализированные качества.
Большинство минералов и металлы, считал Шталь, образуются из этих трех земель40.
Начало горючести выступило у Шталя как «флогистон», содержащийся, по его мнению,
во всех природных телах и обуславливающий не только свойства воспламеняемости
и горючести, но и множество других свойств. При прокаливании металлов флогистон
38 Становление химии как науки. Всеобщая история химии. М., 1983. С. 61.
39 Metzger К Newton, Stahl, Boerhaave et la doctrine chimique. P. 102.
40 Ibid. P. 131-134.
Становление научной рациональности в химии
303
оставляет их, давая извести («окислы», по новой терминологии). В соответствии
с этим Шталь считал, что металлы — вещества сложные, а их «извести» — простые.
В отличие от Шталя и шталианцев, элементы у Лавуазье уже не мыслятся в схемах
квалитативистской рациональности, абсолютизирующей качества и фактически
удваивающей их на уровне сущностей. Элементы Лавуазье — идентифицируемые в
количественно поставленном эксперименте простые вещества, неразложимые в любых
химических превращениях, наделенные, конечно, качествами, но специфическими,
объяснения которых уже не требуется. Если подход Бойля был механокорпускуляр-
ным редукционизмом по отношению к химической реальности, то новый подход
Лавуазье положил предел редукционистской установке, введя элементаризм простых,
химически неразложимых индивидов (элементы), при этом вся процедура их
выявления была поставлена на строгую опытную количественную аналитическую основу.
Химическая рациональность ни до революции в химии, ни после нее не
связывается с одной лишь частью дилеммы «элементаризм или атомизм», а всегда
оформляется во взаимодействии обеих ее частей, в споре этих начал «химического разума».
Поэтому после Лавуазье, преобразовавшего элементаризм, очередь наступила для
глубоких трансформаций атомистики, которая всегда была резервуаром
возможных объяснений тех необъяснимостей, которые сохранялись при любом типе эле-
ментаризма.
Между флогистикой Шталя и теорией Лавуазье существует не только резкий
и, что важно, весьма точно локализованный самим французским химиком разрыв,
но и определенная преемственность, что не так часто отмечается историками41.
Во-первых, Лавуазье отбросил флогистон как химический концепт, оставив, однако,
его физические коннотации (его концепция теплорода как материи тепла и света).
Во-вторых, в представлениях Шталя о циркуляции горючей субстанции в природе
содержится качественный аналог количественного закона сохранения материи, хи-
мическо-элементаристский смысл которого, раскрытый Лавуазье, состоит в том, что
элементы сохраняются во всех видах химических превращений42.
Только во Франции произошло накопление необходимых для революции в
химии институциональных и когнитивных факторов. Развитие эмпирических знаний
(медицина, натуральная история, геология, технические и прикладные
исследования) и дополняющие их рационализм и математизм, идущие прежде всего от Декарта,
бойлевская программа «химической философии» (т. е. физический подход к химии,
но с акцентом на механические наглядные модели, а не на математические) и
традиция шталианской химии — все это, взятое в социокультурном контексте Франции,
обусловило революцию в химии. Более того, эти особенности активно
взаимодействовали между собой. Так, например, бэконианство Бойля с его «креном» в сторону
41 Gough /. В. Lavoisier and Fulfillment of the Stahlien Revolution. P. 153.
42 Несводимость химической революции Лавуазье к антифлогистонному перевороту
анализируется И. С. Дмитриевым (Дмитриев И. С. Научная революция в химии XVIII века:
концептуальная структура и смысл // ВИЕТ. 1994. № 3. С. 24-54).
304
Раздел третий
эмпиризма было скорректировано традицией математического подхода,
требующей применения в химии количественно оформленного экспериментирования.
Самому же Лавуазье в философском плане содействовал в его революционном
преобразовании химии не столько Бэкон или Декарт, сколько Кондильяк.
Обратим внимание на изменение характера философского опосредования
процесса научной революции при переходе от XVII в. к XVIII-XIX вв. Если в XVII в.
научная революция органически вписывалась в рамки классической метафизики
(Декарт, Лейбниц), то со второй половины XVIII в. в качестве философского
контекста научного прогресса начинает действовать антиметафизически ориентированная
идеология43. Ее приходу в химию содействовало ньютонианство, вытеснившее
корпускулярную метафизику традиционного атомизма и способствовавшее
ориентации химиков на упорядочение химической эмпирии с помощью таких средств, как
таблица или матрица, способных детализированно описывать взаимоотношения
веществ (Жоффруа). В новом идеологически-философском оформлении химии (и наук
о природе в целом) Кондильяк — одна из самых показательных фигур. Его учение,
близкое по своему духу к позитивизму, способствовало формированию
методологической ориентации Лавуазье. В свою очередь, новая химия давала научную базу
для развития позитивизма в философии.
В связи с отмеченной сменой философского климата науки сделаем одно
замечание. Химик всегда стоит перед необходимостью понять или, мягче говоря, описать
не столько отдельные частицы изучаемого вещества, сколько их целостный ансамбль.
Его как химика интересует именно ансамблевое поведение вещества, т. е. вещества
в блоке микрочастиц. Даже если бы он и хотел проследить за поведением
отдельной частицы, у него для этого нет средств. Знание динамического закона,
описывающего механику частицы, мало что дает химику, так как его интересует поведение
блоков взаимодействующих веществ, к тому же и качественно разнородных. Точный
расчет химически значимых свойств — задача колоссальной сложности. Например,
на основе уравнений квантовой механики точно рассчитать удается только самые
простейшие системы, вроде атома водорода. Поэтому в силу самой специфики
своего предмета химик опирается на определенный тип феноменологического подхода.
А это, в свою очередь, требует переориентации методологии от метафизики XVII в.
(философской основы классической механики) к своего рода позитивистской
методологии науки, в которой на первый план выдвигаются такие методы, как
качественное описание, классификация, систематика, таблица отношений и т. п. Именно эта
тенденция проявилась в химии XVIII века.
Институциональная победа химии, означавшая ее утверждение в научном
сообществе как законной части натуральной философии, произошла, таким образом,
во Франции. После работ ученика Бойля В. Гомберга и других химиков, примкнувших
к этому течению, французские химики в Академии получили равный с физиками,
43 Ее предшественником в XVII в. был, например, М. Мерсенн (см.: Lenoble R. Mersenne
ou la naissance du mécanisme. P., 1943).
Становление научной рациональности в химии
305
механиками и астрономами статус, фактически соединившись с ними на базе общей
программы. В этом, в конце концов, может быть, главная заслуга Бойля.
Наш подход к проблеме химической революции отличается от подхода к ней
Т. Куна. Кун не считает, что в химии была только одна революция, благодаря
которой она достигла статуса науки. В соответствии с этим он говорит о химической
революции Бойля помимо революции Лавуазье: «Бойль был лидером научной
революции, — считает Кун, — которая благодаря изменению отношения "элемента"
к химическим экспериментам и химической теории преобразовала понятие
элемента в орудие, совершенно отличное от того, чем оно было до того, и
преобразовало тем самым как химию, так и мир химика»44. Признав Бойля творцом
химической революции, Кун обошелся с ней весьма жестко. Действительно, он почти
ничего о ней не говорит, а вся специфически куновская терминология
(парадигма, головоломка, контрпример и т. п.) проработана им на материале
революции не Бойля, а Лавуазье. Именно в связи с Лавуазье Кун рассматривает «кризис
в химии», ее предпарадигмальное состояние, говорит об уменьшении
пригодности теории флогистона в пневматохимии и о «возрастании неопределенности» при
ее применении вообще. Так, например, он считает, что увеличение веса металлов
при их прокаливании истолковывалось Пристли как «головоломка», а Лавуазье,
соответственно, оценивал это явление как «контрпример».
Опираясь на свои представления о научной революции, Кун анализирует
ситуацию с возникновением кислородной теории горения, заместившей теорию
флогистона. Однако он не ставит вопроса о научной революции в химии в целом и
ничего не говорит о том, сколько же было подобных локальных революций. Впрочем,
нет уверенности в том, что, следуя «микроподходу» к проблеме революций, нельзя
предположить существования в истории химии и других революций. Например,
поскольку флогистика Шталя рассматривается Куном как парадигма всей химии до
Лавуазье, то резонно и Шталя считать революционером в химии45.
Мы, однако, подходим к проблеме химической революции с иных позиций. В
фокус нашего подхода мы бы поставили понятие типа рациональности, понимая при
этом, насколько удобно и привычно, следуя за Куном, использовать понятие
«парадигмы» и весь связанный с ним методологический аппарат. На наш взгляд, такой
подход позволяет поставить проблему революции в химии в более емкий
социокультурный и когнитивный контекст.
Понятие «тип рациональности» мы рассматриваем в двух его взаимосвязанных
измерениях: во-первых, как общий культурный и эпистемологический тип
мышления и, во-вторых, как его модификацию, в данном случае характерную для
химии, т. е. как специфически химический тип рациональности. Если куновская
парадигма — это прежде всего доминирующая в сообществе ученых теория, дающая
санкционируемую им матрицу для научной деятельности в определенной области,
44 Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. 182.
45 См.: Gough /. В. Lavoisier and Fulfillment of the Stahlien Revolution.
306
Раздел третий
то тип рациональности — понятие иного уровня. В нем представлены в большей
степени мировоззренческое и философское измерения, дающие рамки для
определенного специально-научного теоретического выбора. Тип рациональности понимается
при этом как целая духовная и интеллектуальная формация, задающая предпосылки
для формирования специально-научных теорий, некоторые из которых могут
выступить в истории в качестве куновских «парадигм». Тип рациональности
характеризуется исторической и культурной крупномасштабностыо в отличие от такого
локально-теоретического объекта, каким является куновская «парадигма». Для типа
рациональности характерна мировоззренческая универсальность и, что существенно
для понимания исторического процесса, способность к приспособлению к новым
условиям, как культурным, так и эпистемологическим.
Такой тип рациональности в химии до Лавуазье (частично сохраняющийся
и после химической революции) мы находим в квалитативистском мышлении46,
с характерной для него субстанциализацией (или гипостазированием) чувственно
воспринимаемых качеств вещей с целью объяснения явлений, в которых они
обнаруживаются. В квалитативистском типе рациональности мы видим попытку
сохранить объяснительный статус качественного, чувственно данного мира человека.
Отсюда и типичные методы этой рационализации — качественные элементология
и классификация веществ и тел, иерархизация качеств и т. п.
Мы знаем, что аристотелевская система служила программой47 для космологии
и астрономии, для механики и физики, для химии, а также и других наук. При этом
существенно, что ее главные оппоненты — атомизм и платонизм — сами по себе
не могли привести к формированию новой науки, научной химии в том числе. Для
глубоких преобразований знания программ, наследуемых из традиций прошлого,
было явно недостаточно, хотя «полипрограммность» исследовательской
деятельности и сыграла положительную роль в генезисе научной революции.
В химии уже давно смешивались различные черты всех трех указанных программ,
но при этом долгое время доминировали перипатетическая и магико-герметическая,
или спиритуалистическая, программы, а вместе с ними — квалитативистское
мышление. Квалитативистский тип рациональности удерживался и у тех ученых,
которые принимали атомистическую или механистическую программу, например у Бойля
46 Визгин В. П. Качества в картине мира Аристотеля // Природа. 1977. № 3. С. 68-77;
Визгин В. П. Возникновение и развитие натурфилософских представлений о веществе //
Возникновение и развитие химии с древнейших времен до XVII века. Всеобщая история химии. М.,
1980; Визгин В. П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля. М., 1982.
47 Представление об устойчивых общенаучных программах, идущих от античности,
развито, например, в работе П. П. Гайденко (Гайденко П. Я. Эволюция понятия науки.
Становление и развитие первых научных программ. М., 1980). В период научной революции (XVI-
XVII вв.) список основных познавательных программ может быть представлен несколько
иначе: 1) органическая, или перипатетическая, 2) магико-герметическая, или
спиритуалистическая, 3) механистическая (Kearny H. Origenes de la ciencia moderna. 1500-1700).
Становление научной рациональности в химии
307
или Ньютона. Но в ходе революции в химии квалитативистский тип
рациональности перестает быть доминирующим типом знания.
Существенная особенность исторического процесса формирования научной
химии, выразившаяся в его относительном запаздывании, обусловлена, на наш взгляд,
тем, что несостоятельность квалитативистского мышления обнаружилась в химии
значительно позже, чем в астрономии и механике. Одна из важнейших задач
рационального описания веществ и их превращений — создание их устойчивой
классификации, типологии и номенклатуры. Однако именно здесь квалитативистское
мышление явно давало сбой. Так, например, у Аристотеля не было представления об анализе
веществ как необходимой специальной операции, производимой с ними. Скисание
молока под действием фиговой закваски, о котором говорит Стагирит, — не особая
аналитическая процедура, а обиходный естественный процесс приготовления
молочнокислых продуктов. Однако, тем не менее, фиксирующих качественные изменения
наблюдений за этим процессом оказалось достаточно, чтобы в рамках
аристотелевского квалитативизма говорить о «земляной» природе молока48. Поскольку язык
качеств и язык элементов в квалитативистском мышлении практически
отождествлялись, а одни и те же вещества наделены разными качествами, то нетрудно видеть, что
отнесение вещества к определенному классу (приписывая ему определенный
элементарный состав) с необходимостью приводит к противоречиям. Например, в средние
века в алхимии, а затем и в ятрохимии перипатетическая четырехэлементная теория
была заменена трехэлементной (ртуть — сера — соль). Между этими системами можно
установить, например, такую корреляцию: ртуть соответствует воздуху (и в какой-то
степени воде), сера — огню, а соль — земле. Эту корреляцию, в частности, мы
находим в химии Бегэна (1610)49. Какой элементный состав следует предполагать, скажем,
у винного спирта? К какому классу веществ его надо отнести, если принять эту
корреляцию элементов и качеств? Действительно, винный спирт летуч, и поэтому его,
казалось бы, следовало зачислить в класс ртутьсодержащих соединений, так как именно
ртуть воплощает начало (качество) летучести. Однако винный спирт, кроме того, еще
и хорошо горит, а качество горючести представляет сера. Значит, с другой стороны,
винный спирт надо считать сернистым веществом. Это противоречие в
классификации отмечает, например, Кристоф Глазер, королевский аптекарь50. В итоге (а случай
с винным спиртом только пример) однозначно классифицировать вещества не удается:
квалитативистская рациональность дает сбой. Нерациональности этой
рациональности будут раскрываться перед химиками со все большей силой, подталкивая их к смене
типа рациональности, к переходу к количественно-структурному подходу,
способному снять многие противоречия в системе описания веществ и их превращений.
48 Визгин В. П. Возникновение и развитие натурфилософских представлений о веществе.
С. 155-156.
49 Metzger H. Les doctrines chimiques en France. P., 1923.
50 Ibid. P. 83.
308
Раздел третий
Для химии было жизненно важным сформировать устойчивый и эффективный
язык для описания и объяснения химического опыта, иными словами, провести новое
научное мышление через «реторту» химической практики, сделав его
операциональным. По сути дела, сбросить Аристотеля с «корабля» наличной химической
рациональности, заменив его при этом Пифагором, Демокритом или Платоном, было явно
недостаточно для революции в химии. Действительно, такой взгляд упрощает
ситуацию, не замечая существенного момента, а именно сохранения «кухонно-квалитати-
вистской» модели химической практики и после революции в химии. Правда, теперь
эта модель контролируется действительно с помощью Пифагорова51 числа и
платоновской структуры. Однако именно момент удержания этой модели (при ее
существенной трансформации) характеризует тонкую структуру химической революции. Эту
ее особенность нередко упускают из виду в силу антиаристотелевского догматизма.
Такая идущая от просвещенского сциентизма установка типична не только для
многих позитивистски ориентированных историков химии прошлого века (Гефер, Бертло
и другие), но и для современных ученых, как Кассирер или Фарбер. Дело в том, что
элементаризм как исторический соперник механокорпускуляризма не был напрочь
отброшен научной химией, но получил по существу новый статус, став аналитическим
элементаризмом простых чистых веществ, чья чистота и простота, т. е.
неразложимость в химических превращениях, должны теперь устанавливаться и доказываться
с помощью количественнных методов. Пифагор, Платон и Демокрит, иными словами,
не заместили безоговорочно Аристотеля, но как символы иного подхода помогли
утвердить новый элементаризм, экспериментально верифицируемый, операционально
значимый и истолковываемый в конце концов атомистически.
Если прежде химик пытался управлять миром химических процессов,
руководствуясь прежде всего их качественным описанием, то теперь он стабильность самих качеств
как условие надежности такого управления ставит на почву количественных измерений.
Химические элементы, или химические «принципы», не устраняются при этом из
концептуального арсенала химии с тем, чтобы оставить в ней одни только принципы
химии, или математически оформленные законы. Они остаются в ней, получая при этом
статус простых чистых веществ. Чистые же вещества, как справедливо подчеркивает
Коулдин, являются основным понятием в научной химии, позволяющим
формулировать ее важнейшие эмпирические законы. «Вся химия, — говорит Коулдин, — зависит
от нашей способности выделить чистые вещества с воспроизводимыми свойствами»52.
Более того, чистые вещества сами по себе могут быть приравнены к эмпирическим
законам, характеризуясь постоянными, воспроизводимыми свойствами, не зависящими
от условий их получения и тем самым дополняющими класс обычных функциональных
51 «Пифагор» здесь только символ количественного подхода, как это видно из
цитированных выше Кассирера и Фарбера. На самом деле пифагорейское число имело явные мисти-
ко-религиозные коннотации.
52 Коулдин Ε. Ф. Научный метод и структура химии // Методологические проблемы
современной химии. М., 1967. С. 46.
Становление научной рациональности в химии
309
эмпирических законов53. Чистые вещества, классифицируемые на простые и непростые
(соединения), образуют, таким образом, каркас всей химии, являясь как бы ее
овеществленными законами. Глубокие преобразования в химии начиная с Бойля были
направлены как раз на то, чтобы de facto установить, какие вещества являются чистыми, затем
выделить из них простые (элементы) и сложные вещества (соединения), указав при
этом способы проверки их чистоты и простоты (элементарности). Этому
преобразованию способствовало торжество ньютонианской программы в естествознании, а также
развитие экспериментальной техники, а вместе с тем и установки химиков на ее
количественно значимое и воспроизводимое применение. Это и было торжеством галиле-
евского метода в химии. И его реализацию мы находим скорее не у Бойля, а у Лавуазье.
Химическая революция Лавуазье чем-то напоминает физическую революцию,
совершенную А. Эйнштейном. Действительно, в обоих случаях речь идет о
радикальном изменении самых общих и фундаментальных условий
естественно-научного опыта. В случае Эйнштейна это изменение в понимании условий возможного
физического опыта (электромагнетизм в специальной и гравитация в общей
теории относительности). В случае же Лавуазье — изменение условий возможного
химического опыта, состоящее в радикальной переинтерпретации таких основ его, как
вода, воздух, огонь, земля. И эта переинтерпретация совершилась благодаря отказу
от квалитативистских схем мышления и переходу к количественному подходу,
выдерживаемому со всей строгостью.
Итак, альтернативой квалитативистскому типу рациональности выступает
экспериментальный подход, истолковывающий химические явления через количественно
определяемые структуры и такие классификационные системы, как чистые вещества.
И хотя химик научного периода развития химии в некотором смысле и продолжает
оперировать веществами на качественном уровне, однако сам этот уровень теперь
опосредован в своей оперативности экспериментально и количественно. Истоки программы
математизации качеств уходят далеко в античность. Шаг в этом направлении был сделан
еще Иоанном Филопоном (VI в.), который как бы предвосхищает современный
физико-химический анализ (диаграммы «состав — свойства») в своем комментарии к
сочинению Аристотеля «О возникновении и уничтожении»54. Эта традиция была
продолжена Н. Оремом (XIV в.), а затем поставлена на почву экспериментального воплощения
обновляющейся химией, взаимодействовавшей для этого с физикой. Количественно
поставленные эксперименты в XVII в. проводят и ятрохимики, например
мистик-неоплатоник Ван-Гельмонт, и натуральный философ и «химик-скептик» Бойль. Однако такие
эксперименты еще не становятся от этого системообразующим центром всей химии.
Что же касается атомизма, символизируемого фигурой Демокрита, то
атомистические представления потому остаются для Лавуазье только гипотезами, что в XVIII в.
они не смогли еще получить экспериментально-количественного подтверждения.
И поэтому не эти представления определяют его специфически химический поиск.
53 Коулдин Ε. Ф. Указ. соч. С. 51.
54 Романский И. Д. История естествознания в эпоху эллинизма. М., 1988. С. 440-442.
310
Раздел третий
Атомизм как химически работающая теория вошел в состав новой химии только
вместе с Дальтоном и Авогадро, а почву для этого события готовили и Лавуазье, и
Рихтер, и Пруст, и другие. Но в решающий период химической революции не
механический корпускуляризм играл ведущую роль.
Идея геометрической структуры (у Бойля — «текстуры») была основной в
атомизме и пифагореизме, а также и у Платона. Но возможность этой идеи как таковой
стать основой операционально значимой квалификации химических явлений была
весьма ограниченной. Для достижения этой цели требовалось установление
эффективной связи теоретических идеализации и эксперимента. Однако эта идея долгое
время была умозрительной, и между нею и миром эксперимента сохранялся разрыв.
Это и создавало благоприятные условия для типично квалитативистских ходов мысли,
в том числе и при попытках реформировать химию на основе неперипатетической и
неалхимической методологии. В качестве примера можно указать на спагириков,
трехэлементная теория которых мало чем отличалась по своим методологическим
принципам от аналогичной теории Аристотеля. Подобные квалитативистские приемы мысли
мы находим и у философов-корпускуляристов, например у Бойля. Действительно, сама
идея объяснить, скажем, свойства кислот, исходя не из начала (элемента) кислотности55,
а из формы корпускул, показывает устойчивость квалитативизма даже при выборе
конкурирующей с ним программы. На самом деле, кислота считается в таком подходе
веществом с характеризующим его природу кислым вкусовым качеством потому, что
ее корпускулы предполагаются состоящими из острых колющих частиц. Чувственно
воспринимаемое качество, таким образом, как бы переносится посредством условной
макроскопической аналогии на микроуровень. Операция подобного переноса,
характеризующая некоторые антиквалитативистские программы, хотя и освобождает мир
сущностей от прямого удвоения в нем мира чувственных качеств, тем не менее строит
этот мир все еще по аналогии с нашим привычным макромиром. Шаг от
аристотелевского квалитативизма здесь, несомненно, сделан, но полного разрыва с ним все-таки
нет, так как мир корпускул остается все еще миром, скроенным по масштабам
макромира с его обыденным опытом в «пространстве» чувственно данных качеств.
Главный парадокс квалитативизма в химии, на наш взгляд, состоит в том, что
модель стабильного, эффективного управления процессами превращений веществ,
сформированная на базе квалитативизма (модель «кухни»56), не может быть на
самом деле реализована на квалитативистской основе.
Отмеченная нами долгоживучесть квалитативистского типа рациональности
придает формированию новой химии характер своеобразного «барьерного бега»,
при этом весьма затяжного. Использование представления о химической
революции как смене типов рациональности позволяет, на наш взгляд, лучше понять
причины такой «задержки».
55 Кстати, такой элементаристски-квалитативистский ход мысли использовал Лавуазье,
отождествив этот качественный элемент с вполне реальной субстанцией — кислородом.
56 См. выше в работе «Качества в картине мира Аристотеля», с. 128-139.
НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ ЗНАНИЯ
В ИСТОРИИ НАУКИ:
КВАЛИТАТИВИЗМ, ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКАЯ
КОСМОЛОГИЯ, ГЕРМЕТИЗМ
Исследование различных форм знания за пределами новоевропейской научной
парадигмы привлекает многих исследователей. С тех пор как в 1936 г. на аукционе «Сотбис»
было продано большое количество алхимических рукописей Ньютона, позволившее
купившему их лорду Кейнсу сказать, что основоположник новой науки представляет
собой не пионера современной научной ментальности, а скорее последнего представителя
древней мифологической традиции Вавилона и Шумера, историография науки отыскала
иррациональные корни деятельности μηογριχ ученых. В поднявшейся волне моды много
было преувеличений и передержек. Но направление такого рода исследований остается
актуальным и сейчас, когда меняется образ не только науки, но и всей культуры в целом.
Исследование феноменов квалитативизма, плюралистической космологии как
умозрительной космологии, разделяющей тезис о множественности миров, а также
герметической традиции в ее связях с генезисом европейской науки представляет
собой исследование исторически важных форм нестандартного знания в их
соотношении с тем, что можно назвать стандартной наукой. В данном случае под
стандартным знанием мы понимаем европейскую науку как она сложилась в результате
научной революции XVI-XVII вв. (HP). Это прежде всего математическое
экспериментальное естествознание, образец которого дан классической механикой Галилея
и Ньютона. Структура, функции, возможности этого знания достаточно хорошо
изучены и описаны. Историки науки и философии, изучающие формирование науки
Нового времени, установили, что новоевропейский научный стандарт возникает при
участии в его генезисе нестандартных форм знания, которые в ходе развития
научной революции постепенно маргинализируются. Однако утрата ими научной
легитимности не приводит к их исчезновению из культурного сознания. Вытесненные
за демаркационные рубежи новой научной парадигмы нестандартные формы знания
сохраняются как культурные феномены. При этом их связи со стандартной наукой,
утрачивая первоначальный наукогенный характер, каковым они обладали в канун
HP и, частично, в период ее развертывания, переходят в латентный режим. Важно
подчеркнуть, что их потенциальный характер в определенных условиях может
реактивироваться, пусть и с изменением или даже обращением самой направленности
воздействия нестандартных форм знания на наличную науку, взятую в ее динамике.
Глубинные диспозиции знания и культуры приходят в XX в., особенно в его
последние десятилетия, в метастабильное состояние. Происходят или намечаются
312
Раздел третий
фундаментальные изменения в образе науки, в характере ее связей с культурой и
цивилизацией. Границы науки, как некогда на заре ее становления, снова становятся
более открытыми для самых разных контактов с различными культурными
образованиями, в том числе и с теми, которые выступают как нестандартные формы знания.
Философия природы с квалитативистским и телеологическим мышлением,
плюралистические тенденции в космологии и вокруг нее, оживление холистских и
спиритуалистических тенденций, питаемое в том числе различными эзотерическими
традициями и провоцируемое экологическим кризисом, и другие подобные тенденции
к «размыванию» классической научной рациональности — все это реальность
наших дней, во многом вызванная или поддержанная попытками найти приемлемую
для человека современной техногенной цивилизации форму для своей познающей
и преображающей мир мысли. Но для того чтобы философски глубоко и научно
корректно разобраться в этих тенденциях, в их возможностях, в порождаемых ими
надеждах и рисках, необходимы целенаправленные историко-философские и истори-
ко-научные исследования нестандартных форм знания, сочетающие тщательность
анализа огромного исторического материала с осознанием современных тенденций
в науке и культуре и их философско-мировоззренческого смысла.
В ситуации постнеклассической науки возникает вполне понятная тенденция
пересмотреть резко негативное отношение к аристотелевскому научному наследию,
сложившееся в период научной революции и закрепленное впоследствии. Это, среди
прочего, связано с тем, что естественно-научные дисциплины, ранее казавшиеся
далекими от всякого историзма, начинают рассматриваться в свете эволюционной
динамической перспективы. Именно так обстоит дело в современной химии, что
отражается и в методологических поисках. А переакцентировка исследований со статики
на динамику, с неизменного бытия на мир становления ведет и к переоценке роли
и значения в познании категории качества. Такой методологический сдвиг подмечен,
например, Пригожиным, и научные следствия из него прорабатываются в его школе,
как, впрочем, и в некоторых других идущих в том же русле идей направлениях. «Мы
начинаем выходить за пределы того мира, — констатируют Пригожий и Стенгерс, —
который Койре называет "миром количества", и вступаем в "мир качества", а значит,
и в мир становящегося, возникающего»!. За повышением значимости «мира качеств»
стоит фигура Аристотеля: «Теория диссипативных структур приводит нас к
концепции, очень близкой к учению Аристотеля»2.
В историческом плане моральный «износ» квалитативизма связан с
возникновением новой науки в трудах Декарта и Галилея. Статус и содержание понятия качества
существенным образом меняются. Прежний, характерный для перипатетизма фено-
менологизм сменяется аналитико-механистической трактовкой качества. В
историческом сознании возникает и укрепляется установка, рассматривающая этот подход
1 Пригожий К, Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. M.:
Прогресс, 1986. С. 79.
2 Prigogine I, Stengers I. La nouvelle alliance. P., 1979. P. 169.
Нестандартные формы знания в истории науки...
313
как чисто негативное образование, препятствующее научному прогрессу. Однако
обнаруженные в науке XX в. тенденции (в физике частиц и в теории
относительности, в частности, устойчивость понятий поля и континуума, в химии, особенно
на ее стыке с биологией, и, наконец, в самой биологии, а также в ряде общенаучных
и междисциплинарных тенденций, таких как экология, эволюционизм, системные
исследования, синергетика и т. д.) приводят к пониманию актуальной значимости
квалитативистского мышления. Научно-философская мысль уже давно признала
и оценила значение идей античной атомистики. Но неатомистическая традиция,
в особенности аристотелевская, все еще нередко оценивается жестким масштабом
механистической методологии. Поэтому и возникает потребность в новых
исследованиях и переоценке качественной физики греков и всего феномена квалитативизма
с позиций сегодняшнего дня.
Проблема формулировки альтернатив механистически ориентированному
редукционизму в естествознании пробуждает интерес к различным формам
качественного знания. Феномен качественного знания шире по своему содержанию, чем
то явление, которое мы называем квалитативизмом. Действительно, качественное
знание может оформляться на базе альтернативных аристотелевской философии
природы программ. Например, мы знаем такой вариант качественного знания, как
качественная атомистика Анаксагора. Существуют и другие варианты качественного
знания, соединяющие механистические ходы мысли, даже элементы атомистики,
с квалитативистско-континуалистской физикой. Однако, на наш взгляд, самый
важный и представительный вариант качественного знания дан именно в квали-
тативизме, наиболее развитую и исторически влиятельную форму которого мы
находим у Аристотеля. Поэтому исследование форм нестандартного знания логично
было начать со всестороннего изучения аристотелевского квалитативизма,
результатом которого и стала наша монография «Структура и генезис квалитативизма
Аристотеля» (М., 1982).
Плюралистическая космология, или космология, включающая в себя тезис о
множественности миров, как и квалитативизм, представляет собой частный случай того,
что можно назвать натурфилософским типом знания. Онтологической основой ее
наиболее представительного варианта выступает античный атомизм, базовые
понятия которого порывают с миром качеств обыденного опыта. Поэтому такая
космология представляет собой естественного оппонента аристотелевской программе, в том
числе и космологии Стагирита, у которого, как и у Платона, мир мыслится единым
и единственным. Однако подобная неперипатетическая космология в то же время
далека и от научных космологии и астрономии, хотя и вносит свой вклад в научную
революцию. Ее отношения с научной ментальностью стандартного типа носят
амбивалентный и напряженный характер. Это мы развернуто показали на примере
учения о бесконечном множестве миров Дж. Бруно, у которого атомистические мотивы
совмещаются с натурализмом анимистического толка3.
3 См.: Визгин В. П. Идея множественности миров. Очерки истории. М., 1988. Гл. V.
314
Раздел третий
Изучая творчество Дж. Бруно, мы сталкиваемся с проблемой влияния герме-
тизма, точнее, герметической эзотерической традиции Ренессанса на
формирование новоевропейской науки. В последнее время был накоплен огромный
историографический материал по этой проблеме, в котором мы хотели разобраться.
Существенным здесь оказалось выявление конкретных линий притяжений и
отталкиваний рождающейся новой науки и магико-герметической традиции. Сама
указанная традиция выступает как двусмысленный спутник науки. Например,
астрономия не может не защищать себя от астрологии, если последняя вмешивается в то,
что она по праву считает своей компетенцией. Однако в переходные и кризисные
эпохи развития знаний этот опасный спутник может, напротив, содействовать тем
преобразованиям знания, которые назревают как в культурном ансамбле в целом,
так и в самой науке.
Все три указанные формы нестандартного знания по отношению к
новоевропейской науке выступают, если прибегнуть к некоторой метафорической
условности, в трех основных ролях — как антиподы, предшественники и спутники.
В какой-то мере все эти роли разыгрываются каждой из названных выше форм
нестандартного знания. Но тем не менее «антиподность» мы скорее связываем с ква-
литативизмом как формой перипатетического знания, отталкивание от которого
лежит в центре драмы рождения новой науки. Кстати, «антиподность» квалитати-
визма подчеркивается еще и тем, что это особый тип рациональности, в нем
действует специфическая историческая и социокультурная форма разума, в период
научной революции перестающая удовлетворять запросам общества и его
культуры. Роль предшественника больше подходит плюралистической космологии,
которая своими идеями антиаристотелевского толка предвосхищала новую науку
и содействовала ее рождению. Что же касается роли или функции спутника, то ее
мы связываем прежде всего с герметической традицией, которая как оккультная
тень сопровождала науку в ее историческом развитии, порой копируя ее стиль
и приемы аргументации.
Временной период наших исследований всех указанных форм нестандартного
знания ограничен эпохой научной революции XVII в. Его началом служит досокра-
тическая философия, давшая первые образцы качественной физики и
плюралистической космологии. Естественно, невозможно было охватить историческое время
во всей его непрерывности. Так, например, наука средних веков нами почти совсем
не затрагивалась. Античность, особенно Аристотель, Возрождение и канун научной
революции XVII в. — вот основные исторически важные для целей наших
исследований периоды. Однако проделанные исследования не были чисто историческими.
Исследуемые познавательные явления мы сопоставляли со стандартной
классической и современной наукой. Кроме того, из проведенных исследований всегда
старались извлечь конкретные методологические выводы, значимые для интерпретации
научно-философских текстов или для разработки стратегий исторического
познания в истории идей.
Нестандартные формы знания в истории науки...
315
Квалитативизм
Квалитативизмом мы называем особый нестандартный (в смысле его
несоответствия стандарту новоевропейской науки) тип знания, главной отличительной
чертой которого выступает отсутствие редукции чувственно воспринимаемых качеств
изучаемых явлений, данных в опыте, к механоструктурным и, соответственно,
количественно определяемым факторам их объяснения. Квалитативизм сохраняет свою
близость к миру обыденного опыта и выражающего его языка, начиная с периода
своего научно-теоретического оформления в античности. Различные виды такого
знания входят в более широкое, чем квалитативизм, явление качественного знания,
которое может сочетать квалитативизм с базовыми понятиями альтернативного ему
механистического мировидения. Научная революция XVI-XVII вв. постепенно мар-
гинализирует этот тип знания, лишает его научной легитимности, вытесняя за свои
пределы в культурный андерграунд. Однако в некоторых естественных науках,
особенно в химии и отчасти даже в физике, квалитативистские подходы продолжают
существовать достаточно долго и после научной революции. Близкими по смыслу
к термину «квалитативизм» служат такие выражения, как «качественная физика»
(Зубов), «качественная теория» (Самбурский), «теория качества» (Мейерсон).
Нередукционистский характер квалитативизма обусловлен прежде всего повышенным
по сравнению с количеством онтологическим статусом категории качества. Термин
«квалитативизм» был употреблен Л. Робеном для характеристики аристотелевской
науки4, однако широкого распространения и, подчеркнем, специального и
комплексного его изучения вслед за этим не последовало. Эту лакуну мы и постарались
заполнить в нашем исследовании. В частности, у Робена квалитативизм Аристотеля
берется исключительно как метафизическая онтология сущностей, носящая в
противовес платоно-пифагорейской традиции подчеркнуто вербалистский характер.
Однако, как показали проведенные нами исследования, квалитативизм как
целостная, хотя и некогерентная, система представлений Стагирита о мире качеств не
исчерпывается этим его видом.
Существенным моментом в наших исследованиях квалитативизма Аристотеля
было изучение функционирования представлений о качествах в доаристотелевской
философии. Анализ представлений о качествах до Аристотеля позволяет нам лучше
понять аристотелевское учение о качествах в целом. У Аристотеля качество
поливалентно. Оно обладает широким спектром значений, статусов или позиций.
Качества — это и ощущения, «противоположности чувственного восприятия»; качества —
это и формы («О возникновении и уничтожении», сокр. GC), и материя («О частях
животных»); наконец, качества — это и силы, действующие самостоятельно и не
нуждающиеся в специальном носителе, в какой бы то ни было не зависимой от них
материи. Фактически все эти статусы, правда в несколько ином модусе и освещении,
4 Robin L Aristote. P., 1944. P. 63.
316
Раздел третий
существовали у качеств в философии и науке и до Аристотеля. Но Аристотель как бы
собрал их все воедино. Разумеется, при этом получилось смещение каждой позиции,
вызванное прежде всего применением к качествам новых метафизических понятий,
таких как «материя» и «форма» в первую очередь. Но тем не менее главное
направление всего процесса мы видим именно в «суммировании» всех способов
применения понятия качества и его истолкований, накопленных в античности до Аристотеля.
Но Стагирит, проведя эту интеграцию, нашел для каждой позиции, в которой
выступают качества, свой контекст, место в «системе». Наконец, подчеркнем, что
важнейшей позицией, в которой качество выступает у Аристотеля, оказалось его
рассмотрение как онтологической («род сущего») и теоретико-познавательной категории.
В этом плане новаторство Аристотеля, видимо, наибольшее, хотя и здесь он
развивает представления, уже выдвинутые Платоном.
Важнейшую функцию в этой системе представлений Аристотеля о качествах
занимает понятие противоположностей. «Противоположности» действуют как
коммутатор статусов качеств, благодаря своим синкретическим и «нейтралистским»
возможностям, которые они наследуют из традиции, начиная с философов Ионии.
Качество как категория переключается в позицию конститутивного,
«материального» начала, или «формального» начала, или в позицию «ощущения», или в
позицию «силы» через его отождествление с качественной противоположностью. Так, там,
где у Аристотеля «работают» разные статусы качеств, там он широко применяет свой
коммутатор — понятие «противоположностей» (например, в книгах «О
возникновении и уничтожении»).
В литературе, посвященной науке Аристотеля, отсутствует, как мы уже сказали,
комплексное исследование его квалитативизма, анализирующее это явление как
в плане изучения его внутренней структуры, так и в плане объяснения его
возникновения. Долгое время в аристотелеведении господствовало представление о
внутренней гомогенности аристотелевского мышления. Считалось, что наследие
величайшего философа античности представляет собой когерентную, лишенную внутренних
противоречий систему, совершенную в своем универсализме, в унифицирующей
мир цельности теоретических представлений. Такое представление было
выработано и закреплено в эпоху средневековой схоластики и, несмотря на существенный
сдвиг в понимании Аристотеля, который произошел уже в XX в., сохраняется в
известной степени и до настоящего времени. В таком догматизированном, и даже
отчасти сакрализированном, Аристотеле исчезли как принципиальный проблематизм
его мышления, его апорийный и поисковый характер, так и бросающиеся в глаза
расхождения между отдельными компонентами его учений. Если у самого Стагирита
развертывание содержания его основных понятий неотделимо от конкретной
предметной проблемной ситуации и от их генезиса в ее «контексте», то в его
традиционном комментаторском прочтении внутренняя неоднородность, поисковый
динамизм его мышления часто оказывались во многом утраченными.
В XX в. исследования аристотелевского наследия привели к существенному
обновлению и углублению понимания творчества великого мыслителя. Впервые
Нестандартные формы знания в истории науки...
317
проблемный характер мышления Аристотеля как его существенная внутренняя
характеристика был зафиксирован в работе Анри Бремона.
Не будет ли истинно по-аристотелевски мудрым, — вопрошает Бремон, — изучать
Аристотеля в неопределенностях его мысли, в его движении, удачном или
безуспешном... вполне откровенно признать трудности, противоречия, по крайней мере
очевидные, его системы (иногда очень яркие), и попытаться их свести, ничем не
насилуя, к одной фундаментальной апории?5
Эту фундаментальную апорию или дилемму Бремон видит в споре платонизма
и эмпиризма внутри аристотелевского мышления. Впоследствии ряд исследователей
(Ле Блон6, Сольмсен7, Обанк8 и др.) подробно и в разных планах исследовали
проблемный характер мышления Аристотеля. С этих позиций были проанализированы
его учение о бытии, основные философские понятия и структура его научного метода.
Однако проблема качества при всей ее важности в различных отношениях не была
рассмотрена в плане такой, проблемной, интерпретации аристотелевского мышления.
Все известные нам интерпретации «качественной» ориентации
аристотелевской науки истолковывают это сложное, гетерогенное явление как простое и
гомогенное. Мы не нашли таких интерпретаций, которые расчленяли бы
аристотелевский квалитативизм на типы и объясняли бы их дифференцированно. Между тем
без такого структурного подхода генетические построения, ставящие перед собой
задачу исторического объяснения феномена аристотелевского квалитативизма,
оказываются малонадежными.
Рассмотрение структуры квалитативизма Аристотеля следует начать с метафи-
зико-эйдетического типа. Этот тип может еще быть назван формальным квалитати-
визмом, или квалитативизмом формы, выступающей как «метафизическое качество».
Действительно, форма — важнейшее понятие «Метафизики», «первой философии»
Стагирита. Редукция физических количественных и качественных различий к
метафизическому качеству составляет основу этого подхода к объяснению природных
процессов. Количественные различия (объем и масса), как и физические
качественные различия (теплое, холодное), описываются равным образом в виде
потенциальных форм одной и той же материи («Физика» IV, 9,217a27-217b2). Здесь нет редукции
количественных различий к физическим качественным различиям: последние сами
выступают как сводимые к формам в потенции, к «метафизической» качественности.
5 Bremond К Le dilemma aristotélicien. P., 1933. P. 3.
6 Le Blond J.-M. Logique et méthode chez Aristote: Etude sur la recherche des principles dans
la physique aristotélicienne. 2 éd. P., 1970.
7 Solmsen Ε Aristotle's System of the Physical World: A Comparison with his Predecessors. N. Y.,
1960.
8 Aubenque P. Le problème de l'être chez Aristote: Essai sur la problématique aristotélicienne. P.,
1962.
318
Раздел третий
Такой подход, в котором в основе объяснения явлений лежит понятие формы как
качества и обязательно присутствуют понятия материи, «потенции» и «акта», мы
назвали метафизико-эйдетическим квалитативизмом. На ведущую роль в этом подходе
понятия формы (είδος) указывает его определение как «эйдетического».
Этот подход, как и весь аристотелевский квалитативизм, противостоит не столько
количественному подходу (хотя и ему тоже), сколько механистическому способу
объяснения. Если мы присмотримся к упомянутому тексту из «Физики», то увидим, что
Аристотель здесь стремится показать, что как в случае изменения количественного
толка (рост-убыль), так и в случае качественного (нагревание-охлаждение) не
происходит механического прибавления или отсоединения чего-либо от исходного
субстрата: субстрат или «материя тела как большого, так и малого, одна и та же», —
говорит Аристотель. Одна и та же материя имеется и для качественных
противоположностей, и никакого нового тепла к уже имеющемуся теплу при нагревании
не добавляется, а просто идет переход от одной формы к другой, уже в потенции
имеющейся в той же самой материи.
Этот метафизико-эйдетический квалитативизм мы обнаруживаем в дедукции
элементов в GC, во всех формальных построениях теории элементов. Этот
формализм ограничивается там, где качество начинает выступать не как форма как таковая,
а как самостоятельная сила (физико-динамический квалитативизм). Для метафизи-
ко-эйдетического квалитативизма опорными понятиями служат понятия материи
и формы, носителя (субстрата) и качества (носимого).
Итак, первый тип квалитативизма Аристотеля — это
метафизико-эйдетический тип, в котором качество задано как форма, присущая субстрату и
анализируемая прежде всего в таких метафизических специфически аристотелевских
понятиях, как «потенция — акт».
В основе следующего типа квалитативизма лежит признание абсолютности и
несводимости качественных различий природы, прежде всего различий в
естественных движениях тел. Этот подход развивается в космологии («О небе», IV), в физике.
Существенную характеристику качественного подхода составляет несводимость
физических качественных различий к количественным. В отличие от метафизико-эй-
детического квалитативизма, который как универсальный метафизический прием
примешивается и в эти физические анализы, здесь нет редукции физических качеств
к «метафизическим» качествам, к чистому формализму. Основу этого типа
квалитативизма Аристотеля составляет представление о качестве как несводимом
физическом различии, или форме. Лучше всего этот подход выявляется в учении о тяжелом
и легком. Он имеет известное метафизическое обоснование, будучи «подготовлен»
как онтологически, так и эпистемологически. В онтологии он подготовлен критикой
элеатов, введением множественности и движения в систему бытия, а в теории
знания — принципами гомогенности объяснения и несообщаемости родов. В структуре
аристотелевского квалитативизма этот подход занимает особое место, располагаясь
между учением о качестве как категории бытия и учением о качествах как силах, в
известной мере смягчая остроту расхождения между этими учениями.
Нестандартные формы знания в истории науки...
319
Третий, и последний, выделяемый нами тип — это физико-динамический ква-
литативизм. Качества в этом подходе выступают как самостоятельно действующие
силы, не нуждающиеся в носителях, а поэтому как своего рода «субстанции» и
конститутивные начала. В отличие от всех вышеупомянутых типов, для динамического
квалитативизма характерна несовместимость с онтологическим и логическим
учениями о качествах как категориях и родах бытия. Поэтому этот тип квалитативизма
выступает обособленно от других, причем в основе такого обособления лежат
различные схемы, на которых строятся эти подходы, или типы.
Мы отмечаем достаточно резкое изменение представлений о качествах у Ста-
гирита при переходе от метафизических, логических и общефизических концепций
к конкретно-физическим и биологическим исследованиям. Действительно, IV книга
«Метеорологики» Аристотеля содержит учение о качествах-силах, действующих
самостоятельно без какого бы то ни было материального субстрата. Такое
представление достаточно резко расходится с учением о качестве как категории бытия,
которое излагается как в его «Метафизике», так и в трактате «Категории». Действительно,
в учении о бытии и его категориях качество ставится в безусловную зависимость
от сущности, являясь ее атрибутом, неспособным к самостоятельному
существованию и действию9. Наличие такого расхождения препятствует построению единой
систематической интерпретации аристотелевских представлений о качествах, что
с неизбежностью приводит к попытке объяснить указанное расхождение с помощью
исторической интерпретации. Такой ход мысли мы находим у Сольмсена10 и Хаппа11.
Однако историческая интерпретация не всесильна. Она действительно помогает
понять генезис учения о качествах-силах, хотя при этом и возникает целый ряд новых
вопросов. Благодаря применению исторической интерпретации динамический
статус качеств истолковывается как продолжение традиции досократовских «фисио-
логов», а также гиппократовских медиков, у которых качества всегда представляли
собой нечто большее, чем простые «атрибуты» «субстанций». Однако встает вопрос,
почему Аристотель присоединился именно к этой традиции в истолковании качеств,
хотя имелись и другие традиции, например пифагорейско-платоновская? И как он
мог присоединиться к данной традиции, если его собственное онтологическое
учение о качествах было совсем другим?
Сольмсен и Хапп попытались ответить на эти вопросы. Суть предложенного
ими ответа состоит в соединении двух моментов: во-первых, признания
неоспоримой эффективности представлений о качествах-силах, действующих самостоятельно,
в медико-биологических исследованиях и в соответствующей практике вообще,
а во-вторых, учета характерной для Аристотеля «департаментализации» научного
знания. В соответствии с этим мы могли бы реконструировать логику мышления
9 Метафизика, III, 6,1006а6-9; VII, 13,1038b32-34; VII, 1,1028а15-18,26-28 и другие места.
10 Solmsen Ε Aristotle's System of Physical World.
11 Happ H. Hyle. Studien zum aristotelischen Materie-Begriff. В., 1971.
320
Раздел третий
Стагирита, «реабилитировавшего» качества-силы, следующим образом: так как
качества-силы эффективны как медико-биологические понятия, а медицина и
«биология» в эпоху Аристотеля выступают как относительно самостоятельные сферы
исследований, вполне достойные иметь свои особые принципы и методы, то в силу этого
уместно и удобно применить здесь представления о качествах-силах. «Департамен-
тализация» смягчает противоречие в представлениях о качествах в учении о бытии
и категориях, с одной стороны, и в биологии — с другой, а практическая
эффективность выступает в роли побудительного мотива для формулировки такого учения
о качествах-силах и для использования при этом соответствующей традиции.
Казалось бы, вопрос достаточно освещен. Однако, на наш взгляд, такое объяснение дает
скорее картину прагматических мотивов и внешних условий, возможно
благоприятствовавших такой реабилитации качеств как сил, чем ее действительно глубокое
обоснование. Что осталось за бортом такого объяснения? Существенно важный
момент: бросающийся в глаза двойственный характер учений Аристотеля о качествах,
о котором мы говорили выше. Если всеобщие «оперативные» понятия Аристотеля,
действующие, несмотря на «департаментализацию», во всех его построениях
(понятия материи и формы, потенции и акта), не смогли интегрировать его разнородных
учений о качествах в единую внутренне согласованную систему, то это, видимо,
означает, что дифференцирующий фактор, ответственный за расслоение
аристотелевских представлений о качествах, был достаточно сильным, лежащим где-то в
более глубоком слое генезиса знания, чем механизмы его внутрисистемной унификации.
В прояснении указанной проблемы нам помогло исследование Ле Блона,
применившего представления о схемах для анализа аристотелевского мышления,
использовав такой подход для объяснения напряжений и рассогласований как внутри
понятий, так и между различными частями теоретических построений Стагирита.
Ключевые понятия Аристотеля, — говорит Ле Блон, — отсылают нас к трем поистине
основополагающим характеристикам человека, к «действию», «языку» и «жизни»,
что, хотя и отдаленно, не может не напомнить нам анализов Фуко относительно
параллелизма структур биологии, обменов и грамматики. Это разнообразие
аристотелевских схем есть источник если и не разрывов связности, то, по крайней мере,
интерференции в понятиях12.
Ле Блон показал, что генезис основных понятий Аристотеля включен в сами
понятия так, что они не могут быть отделены от него. Однако он совершенно не
исследовал интересующую нас проблему генезиса учения о качествах-силах и не дал
какого-либо объяснения расхождению в учениях Аристотеля о качествах. Но роль схем
была показана Ле Блоном, в частности схем языка. Но грамматические структуры
и — шире — структуры языка представляют собой только один тип схем, который
направлял построения Аристотеля как в учении о категориях в трактате
«Категории», так и в «Метафизике», включая, конечно, соответствующее учение о качествах.
12 Le Blond]. M. Logique et méthode chez Aristote. P. XXXV.
Нестандартные формы знания в истории науки...
321
В основе этого учения лежит субстрат-атрибутивная схема представления качества,
отражающая грамматическую структуру языка. Мы предположили, что учение о
качествах-силах строилось Аристотелем на другой «матрице», или схеме, а именно
на схеме практического управления качествами в таких сферах деятельности, как
античная кухня, аптека и садоводство. Разнородность схем, лежащих в основании
генезиса представлений Аристотеля о качествах, и явилась основной причиной их
гетерогенности и внутреннего расхождения. Действительно, в основе учения о качествах,
излагаемого в «Категориях» и в «Метафизике», лежат схемы языка, а в основе
учения о качествах как силах, излагаемых в «Метеорологике» и в биологических работах,
лежат схемы кухни и врачебно-аптекарской практики. Схемы ремесленно-бытовых
практик медицины и кухни интегрируются в план теоретического мышления
благодаря, как мы уже отмечали, аристотелевскому учению об аналогии природы и
искусства, благодаря теоретико-познавательному принципу гомогенности объясняющего
и объясняемого13, а также специфическому понятийному аппарату,
заимствованному Аристотелем из традиции досократовских физиков и гиппократовских медиков.
В рамках такой схематической интерпретации соображения, развитые Сольмсе-
ном и Хаппом, находят свое место. Действительно, широкое применение
Аристотелем учения о качествах-силах и его последующая историческая долгоживучесть могут
быть частично объяснены его «пригнанностью» к сфере медико-биологической
практики, эволюционировавшей в своем схематическом фундаменте достаточно медленно.
Конечно, динамический квалитативизм качеств-сил имеет общие черты с
другими типами квалитативизма. В этом типе качества не просто несводимы к чему-то
бескачественному, но они «субстанциализированы», замкнуты друг на друга, причем
их иерархизация возмещает расчленения, лежащие вне качества как понятия.
Например, расчленение «материя — форма» представлено в иерархии пассивных и
активных качеств. На наш взгляд, динамический квалитативизм представляет собой своего
рода «пик» аристотелевского квалитативизма в целом. Природа определяется теперь
не просто как нечто качественное, но качества и есть сама природа, сами природные
сущности. Но, с другой стороны, именно в этом типе квалитативизма открывается
возможность для квантификации качеств, так как, будучи силой, качество доступно
отношению степени, а поэтому, в принципе, измерению и количественной оценке.
Вся предлагаемая нами классификация типов аристотелевского квалитативизма
может быть представлена как последовательность трех типов: метафизико-эйдетиче-
ский — физико-эйдетический — физико-динамический или, сокращенно,
метафизический — физический — динамический. Различия между этими типами подчеркнуты
достаточно ясно. Но каковы же общие черты, присущие всем типам и
позволяющие нам говорить, что в каждом из этих трех случаев мы действительно имеем дело
с квалитативизмом как целостным явлением? Отметим в связи с этим три момента.
Во-первых, единство аристотелевского квалитативизма задается фундаментальным
13 «Принципы, — как говорит Аристотель, — должны быть той же самой природы, что
и их объекты» («О небе», III, 7, 306а8-12).
322
Раздел третий
для Стагирита неприятием механистической концепции мира. Оппозиция
«квалитативизм — механицизм» является более общей и существенной, чем, казалось бы,
более корректная оппозиция «квалитативизм — квантитативизм». Хотя
отношение к возможностям квантификации у трех типов квалитативизма разное, в то же
время все они противостоят механистическому подходу. Во-вторых, их общей
чертой является принцип противоположностей. Преодолеть или отбросить его
означало бы преодолеть аристотелевский квалитативизм в целом. Радикальным образом
это было осуществлено атомистами, менее решительно — Платоном. Атомы и
пустота — вот и все, что осталось у атомистов от принципа противоположностей,
замененного в логике их мышления принципом изономии, вводящим бесконечности
в их вселенную. И наконец, в-третьих, общей чертой всех типов квалитативизма
Аристотеля является цементирующий их универсальный понятийный аппарат,
достаточно гибкий, чтобы функционировать в каждой предметной сфере, модифицируясь
сообразно с ней.
Итак, вытекающая из всего нашего исследования структура аристотелевского
квалитативизма, понимаемая как система его основных расчленений, строится на
основе различных форм представления качества: качество как метафизическая форма
(метафизико-эйдетический тип), качество как абсолютное природное различие,
несводимое к количественному различию (физико-эйдетический тип), качество как
самостоятельно действующая сила-конституент (физико-динамический тип).
Плюралистическая космология
Выбор единственности мира (ЕМ) или множественности миров (ММ) зависит от того,
какое содержание вкладывается в понятие «мир». В абстрактном плане в семантике
этого понятия можно выделить два основных полюса: представление о всеохватном
(космологическом) единстве сущего и о частных или локальных формах
упорядоченных единств, которые также называются мирами.
В античности существовали три основные традиции истолкования понятия
мира в космологическом смысле. Во-первых, мир понимался как тотальность
видимого, «неба» и «земли». В центре такого мира находилась земля, выше — планеты,
еще выше — сфера неподвижных звезд. Мыслимый таким образом мир, нередко
называвшийся «ураносом» (небом), вмещал в себя все пространство и вещество
и считался несотворенным, вечным. Такой взгляд разделял Аристотель, учение
которого, соединившись с системой Птолемея, доминировало во взглядах на мир
вплоть до XV-XVI вв. Во-вторых, сходное понятие о мире разделяли и атомисты. Как
и у Аристотеля, мир атомистов включал в себя все видимое человеком («наш мир»).
Однако таких миров принималось ими бесчисленное множество, поскольку
допускалась беспредельная «пустота» и считалось, что если в данной ее части находится
наш мир, то в других «местах» должны находиться другие миры в силу отсутствия
Нестандартные формы знания в истории науки...
323
достаточного основания для обратного (принцип изономии — основной принцип
аргументации в пользу умозрительного тезиса о ММ). Естественно, что мир (κόσμος)
в таком случае не совпадает со Вселенной (τό πάν) в противоположность позиции
Аристотеля, у которого эти понятия совпадали. В-третьих, в рамках орфико-пифа-
горейской традиции, разделяемой Гераклидом Понтийским, Посидонием, Клеоме-
дом и др., существовало представление, согласно которому «миром» считалось
любое небесное тело, причем существенным его признаком было то, что он мыслился
населенным. В частности, Луна считалась населенной душами умерших людей. Такое
понимание мира, на долгие столетия оттесненное господством аристотелевско-птоле-
меевской космологии, возобновляется в эпоху Возрождения, не только способствуя
размыканию и гомогенизации замкнутого и иерархического антично-средневекового
мира, но и открывая путь к астрономизации проблемы ММ, о чем мы скажем ниже.
Если у Платона и Аристотеля беспорядок явно преодолевается порядком, космос
побеждает хаос, а форма торжествует над бесформенной материей, то у атомистов
ситуация обратная, несмотря на формальную равноправность их основных начал. Сим-
пликий, говоря об атомистах, выражает это так: у них «беспорядок существует
согласно природе»14. Природа как порождающее начало характеризуется отсутствием
всякой целесообразности. Этот мотив атомистических учений был совершенно
неприемлем и для Платона, и для Аристотеля, и для Августина, который принимает
аргументы Стагирита, утверждавшего, что «случайное столкновение» атомов не
позволяет понять качество вещи, ее единство и красоту (Письмо к Диоскору 118, 31. ЛД,
№ 303). Суть спора состоит в следующем: соотносится ли вещь, человек, любое
существо со смыслом целого, в которое оно включено, или же нет, поскольку нет и самого
целого как единства, а значит, нет и его смысла? Платон и Аристотель уверенно
принимали первую часть этой альтернативы, а атомисты — вторую. И соответственно
первые учили о единственности мира (ЕМ), а вторые — о бесконечной
множественности миров (БММ). Правда, в истории был осуществлен и определенный (пара)син-
тез этих базовых позиций. Его осуществил Дж. Бруно, в учении которого о БММ
неоплатонизм и герметизм соединились, пусть и не без логических лакун, с атомизмом.
По своей структуре атомистический мир близок к аристотелевскому космосу.
Действительно, в обоих случаях это геоцентрический, замкнутый и конечный мир,
ограниченный в одном случае «крайней сферой» (Аристотель), а в другом —
«мембраной» или «оболочкой» (атомисты). Но радикальное различие в
мировоззрениях и в исходных метафизических принципах приводит к тому, что Аристотель
утверждает тезис о ЕМ, а атомисты — о БММ. С развитием христианской культуры
ситуация с проблемой множественности миров (ПММ) претерпевает существенные
изменения. У Августина и других отцов церкви возникает учение, полагающее
принцип вселенского единства сущего в его божественном первоисточнике.
Если для большинства греко-языческих авторов (кроме атомистов) важно было
утвердить идею вечности мира или по крайней мере его неуничтожимости, то для
14 Лурье С. Я. Демокрит. Тексты. Перевод. Исследования. Л., 1970. № 305. (Далее — ЛД.)
324
Раздел третий
христианских мыслителей на первый план выступает задача утверждения тезисов
о сотворении мира из ничего и о действии в нем божественного промысла, которым
мир в конечном счете управляется. Так как христианское вероисповедание
объединяло мир истиной откровения, наделяя сущее смыслом, превосходящим видимый
мир как таковой, и тем самым несло с собой телеологическое миропонимание, оно
могло до известной степени находить общий язык как с платонизмом, так и с ари-
стотелизмом. В связи с этим понятно, почему именно атомизм с его учением о БММ
и отрицанием телеологии стал основным объектом критики со стороны
христианских апологетов. Ситуация изменилась после декрета от 7 марта 1277 г.,
подписанного епископом Парижа Э. Тампье и перечислявшего распространенные ошибки
в преподавании, среди которых 34-й ошибкой было признано положение «Quod
prima Causa поп posset plures mundos facere» (Первопричина не может создать
многие миры). В результате была допущена возможность сотворения ММ всемогущим
Творцом. Правда, к учению о ММ в явной форме это не привело, но дорогу к
допущению возможности такой гипотезы все-таки в значительной степени расчистило.
Истолкование понятия мира влияет как на выбор между ММ и ЕМ, так и на
конкретное содержание принимаемого тезиса. Атомистическое учение с его
положением о неизбежной гибели нашего мира не могло не приходить в конфликт не только
с христианской теологией, но и с языческой религиозностью, для которой характерно
представление о вечности «неба» и «звезд». Религиозно-моральный характер
споров вокруг ПММ убедительно раскрывается в поэме Лукреция. Мысль о
неизбежном грядущем крушении Неба, говорит поэт-эпикуреец, «всех поражает и кажется
дикой». И это потому, что люди, подобные Меммию, к которому он обращается,
«стянуты уздой религии». Именно религиозные верования не позволяют допустить,
чтобы небесные светила и даже земля и море, обладающие «божественным телом»
(V, 116), погибли. Но поэт, не разделяющий этих верований, стремится успокоить
Меммия и не только доказать ему правоту тезиса о БММ, но и дать его душе
необходимые в этом случае утешения вместо обычных религиозных. Лукреций здесь
выступает как пророк нового, атомистического и плюралистического мировоззрения.
Свои «прорицания» поэт-атомист считает «многосвященней и тех достоверней
гораздо, какие Пифия нам говорит с треножника Феба под лавром» (Там же, 111-112).
Вселенная атомистов — беспредельная по размерам «машина» (machina типах),
частицы которой, имея подходящие для взаимного сцепления фигуры, образуют
как отдельные вещи в мире, так и сами миры, которые для нас невидимы, кроме
нашего мира. Конечно, и в такой картине можно увидеть некоторый порядок. Но это
порядок атомарного эгалитаризма и механицизма. Никакой телеологии, отношения
к смыслу здесь не просматривается. Никакой структурной иерархии в подобной
вселенной нет, а структура миров лишена ценностных значений, все ее элементы
равным образом уничтожимы.
Другой особенностью атомистических концепций ММ выступает их атем-
поральность. Если мы проанализируем две основные модели античной
космологии, а именно модель вечного возвращения (ВВ) и модель множества миров (ММ),
Нестандартные формы знания в истории науки...
325
то увидим, что время в них по сути дела сведено к пространству. В концепциях ВВ
это очевидно: время здесь — не более чем однообразное кружение в том же самом.
Но и в концепциях ММ времени как драмы, как возможности уникального
события тоже нет. Мысль, допускающая БММ, не может не признавать не только
разнообразия миров, но и возможности их полного тождества.
Если теперь взглянуть на то общее, что на уровне базовых мировоззренческо-фи-
лософских установок объединяет основные традиции мышления, принимающего
ММ, то нельзя не увидеть, что их объединяет натурализм. Действительно, в
атомизме античности от Левкиппа до Лукреция основу мировоззрения составляет
механистический (в античном смысле) натурализм. Природа истолкована через атомы,
пустоту и вечное движение первых во второй. В эпоху Возрождения, когда
происходит определенный возврат к античному мировоззрению, натурализм сохраняется,
но механистический натурализм в учениях о ММ замещается, как правило,
анимистическим (например, у Дж. Бруно).
В структуре обоснования умозрительных концепций ММ от первых атомистов
античности до конца XVII в. одно из самых важных мест принадлежит принципу
изономии. Выражение Эпикура isonomia Цицерон перевел как aequabilis tributioy
т. е. «равномерное распределение», и связал его с таким рассуждением: «Поскольку
есть природа смертная, то должна быть также и бессмертная» (О природе богов I,
XXXIX, 109),— которое в другом месте уточняется так: «Из этого (т. е. из изономии. —
В. В.) следует, что если столь велико количество смертных, то и бессмертных должно
быть не меньше» (Там же, XIX, 50). Из приведенных высказываний видно, что здесь
смешаны два смысла изономии. Во-первых, изономия экзистенциальная, состоящая
в том, что вещи равным образом мыслимые или возможные наделены равным
правом на существование. И, во-вторых, изономия дистрибутивная, предписывающая
вещам, раз они уже существуют, присутствовать во Вселенной в одинаковом
количестве. Кроме того, у атомистов изономия может относиться как к объектам,
например к атомам, так и к их движению. В последнем случае мы имеем дело с
динамической изономией, «дающей право на существование всем состояниям движения»15.
Этот вид изономии важен для оформления атомистической космологии с БММ.
Изономия движений атомов и самих миров эквивалентна изотропности пространства
Вселенной. Изономия как бы транслируется с атомного уровня на космологический,
пронизывая систему Демокрита снизу доверху. Лурье называл принцип изономии
«принципом Демокрита» и подчеркивал, что в нем отождествляются возможность
и действительность, мыслимое и реально существующее, правда, существующее
не обязательно в этом мире, а в БММ. Ключевым местом для понимания изономии
он считает рассуждение Аристотеля:
А если находящееся за [небом] бесконечно, то кажется, что существуют и
бесконечное тело, и бесконечные [по числу] миры, ибо почему пустоты будет больше здесь,
15 Mugler Ch. Isonomie des atomistes // Revue de Philologie. 1956. T. XXX. P. 235.
326
Раздел третий
чем там? Таким образом, если масса имеется в одном месте, то она [находится] и
повсюду. Вместе с тем, если пустота и место бесконечны, необходимо, чтобы и тело было
бесконечным, так как в [вещах] вечных возможность ничем не отличается от бытия
(«Физика», III, 4,203b25-30).
Это рассуждение Лурье относит к Демокриту, излагаемому Стагиритом.
Итак, «арматурой» космологического эгалитаризма Демокрита выступает
принцип изономии. Он определяет его учение и косвенно, через основания системы,
в частности через введение в нее принципа пустоты и через утверждение целого ряда
бесконечностей (числа атомов каждой формы, самих форм и т. д.), формируя тем
самым представление о беспредельности ресурсов становления во Вселенной, и прямо
(если данный мир существует в данном месте, то нет оснований не существовать
другим мирам в других местах; однородность и изотропность Вселенной при этом
предполагается, что тождественно с ее изономическими свойствами). Мы считаем
учение Демокрита о БММ ярким проявлением изономического мышления в
истории, когда оно выступает полифункционально — и как природная симметрия, и как
своеобразно истолкованное тождество мыслимого и существующего, и как аналог
принципа достаточного основания, и тем самым как представление, ведущее к
картине всеохватывающего разнообразия бытия (шаг к формулировке принципа
полноты). Но принцип достаточного основания, равно как и принцип полноты,
отличается от принципа изономии, как показывает история ПММ.
С Эпикуром и Лукрецием, в частности, под воздействием аристотелевской
традиции, ситуация меняется. Сдвиги мы обнаруживаем уже в школе Демокрита, в
частности у Метродора Хиосского. У Метродора мы отмечаем роль биоморфной аналогии
в обосновании БММ. И дело не просто в такого рода сравнении — они были и у
первых атомистов, — а в том, что на первый план выступает природа в
беспредельности ее производительной мощи. Этот аспект производительности в рождении вещей
был несколько затушеван у первых атомистов в силу их механицизма. Динамизм
совокупной природы вещей ярко выступает у Эпикура и Лукреция.
В аргументации Лукреция в пользу ММ к тезисам о вечности движения атомов
в беспредельной пустоте и о бесконечно большом их числе добавлен новый: принцип
эффективности природы, ее безостановочной занятости в «труде» созидания. Как
рассуждения Лукреция, так и аргументация Метродора действительно похожи на такое
высказывание Лейбница: «...во вселенной нет ничего невозделанного или
бесплодного» (Монадология, § 69). Сопоставление с Лейбницем неслучайно: именно у него
принципы достаточного основания, полноты и непрерывности соединены в одно целое.
Итак, принцип полноты в его существенных элементах входит в аргументацию
в пользу ММ, начиная с Эпикура и Лукреция, но в полной форме он реализуется
позднее, в средние века, прежде всего в своей теологической интерпретации,
которая в эпоху Возрождения «смешивается» (в какой-то степени) с натуралистической.
Историки науки длительное время обходили тему ММ как сомнительную с точки
зрения строгой науки. И поэтому неудивительно, что она разрабатывалась главным
Нестандартные формы знания в истории науки...
327
образом историками литературы (например, М. X. Николсон) и историками
философии (например, Ш. Мюглером). Идею множественности миров обсуждали,
разделяли или критиковали в той или иной форме не только философы античности,
средних веков и Возрождения, но и творцы науки Нового времени — Коперник, Декарт,
Галилей, Ньютон, Гюйгенс. Кажется, что уже одного этого вполне достаточно, чтобы
считать анализ истории этой проблемы прямым делом не только истории
философии, но и истории науки. Но в таком случае почему же, «если споры о разумной
внеземной жизни когда-либо и затрагивались историками, то скорее с презрением, чем
с объективностью, скорее как забава, чем как анализ серьезного ученого»?16
На наш взгляд, дело здесь прежде всего в том, что современного ученого и
ориентирующегося на него историка отталкивает в концепциях множественности
миров и внеземной жизни упорное, как ему кажется, игнорирование наблюдений,
фактов, доставляемых в первую очередь быстро прогрессирующей астрономией, хотя
и не только ею. Эта позиция не беспочвенна. Действительно, концепция внеземной
жизни возникла как преимущественно умозрительная и длительное время сохраняла
такой статус. Однако еще до того, как в ночь с 8 на 9 января 1610 г. Галилей
направил на звездное небо свою астрономическую трубу и провел первые телескопические
наблюдения Луны, неподвижных звезд, Млечного Пути, а также четырех спутников
Юпитера, концепции ММ, в частности у Дж. Бруно, уже повернулись к астрономии,
раскрыв возможности влияния на них новых наблюдений. Мы называем этот
процесс астрономизацией темы (проблемы) ММ и выделяем в нем две основные
стадии: во-первых, скрытую и не осознаваемую самими мыслителями в качестве
таковой (например, у Бруно); во-вторых, ясно осознаваемую (например, у Кеплера).
В истории познания идея ММ не сразу обрела свой астрономический контекст
с соответствующей наблюдательной базой и верификацией гипотез. Тот способ
отношения к «звездной» действительности, который можно назвать астрономическим,
развивался самостоятельно и во многом независимо от умозрительной логики
рассуждений, приводящих к утверждению ММ во Вселенной. Иными словами,
развитие наблюдательной астрономии, построение на ее основе математических моделей
было слабо связано с космологической мыслью, определяемой мировоззренческими
и философскими позициями мыслителя. Это относится в первую очередь к
греческим мыслителям, прежде всего к атомистам и к тем, кто следовал за ними.
Соединение умозрительного теоретико-философского статуса дискурса о ММ с
наблюдательной астрономией происходило постепенно, в несколько стадий, и решительный
перелом в этом процессе наступил только в эпоху научной революции благодаря
работам Коперника и особенно Кеплера и Галилея.
Первая стадия астрономизации ПММ была связана с созданием
умозрительных предпосылок для ассимиляции астрономических исследований как
способа решения этой проблемы в ее уже конкретно-научной постановке. Речь идет
16 Dick S. /. Plurality of Worlds. The Origins of the Extraterrestrial Life Debate from Democritus
to Kant. Cambridge, 1982. P. 176.
328
Раздел третий
об умозрительно-теоретической подготовке к включению инструментально
обеспеченного наблюдательного знания в структуры мышления о ММ. Когда начинает
расшатываться перипатетическая физика, то задевается и соответствующая космология.
В частности, возникает представление о множественности центров притяжения в
пределах видимой Вселенной, при этом каждый такой центр мыслится как независимый
мир. Этот поворот поддерживался возрождением традиций неоплатонизма, герме-
тизма и пифагореизма в эпоху Ренессанса, а на его размах и устремленность в будущее
решительно повлиял Коперник, признавший каждую планету за автономный центр
притяжения. Всю эту эволюцию мы можем представить как изменение
господствующих понятий о мире. Сначала ММ мыслится как множество невидимых замкнутых
конечных космосов (наш мир включает в себя всю видимую нами совокупность
небесных тел), затем — как множество уже наблюдаемых землеподобных небесных тел
(Леонардо, Николай Кузанский, Бруно). Наконец, постепенно, к концу XVII в. все
больший вес приобретает представление о ММ как множестве систем, подобных солнечной.
Новое понятие о мире (мир теперь понимается как землеподобное небесное
тело, являющееся автономным центром притяжения) делает миры в принципе
открытыми для наблюдений и тем самым для решающей коррекции умозрительных
конструкций опытными данными. Хотя в эпоху Возрождения теоретическая
аргументация в пользу ММ достигает высокого уровня развития и к теологическим
аргументам добавляются натуралистические, причем все античные ходы мысли также
воспроизводятся, однако перелом в астрономизации проблемы ММ наступает только
в начале XVII в. и связан прежде всего с телескопическими наблюдениями Галилея.
Их революционное значение было ясно осознано Кеплером, который в посвящении
к селенографическому приложению к своему «Сну» подчеркивал, что возникающие
вопросы надо «решать по частям на основе наблюдений, открытых при помощи
зрительной трубы, если эти явления приведены в соответствие с заключениями,
выведенными из аксиом оптики, физики и метафизики»17. Мы видим, что в ряду
важности аргументов метафизические допущения явно оттеснены оптикой и физикой,
науками нового типа, быстро тогда развивавшимися. С этого времени начинается
прямая астрономизация проблемы ММ.
Герметизм и научная революция XVII в.
Связующим звеном между исследованиями роли герметизма в генезисе
новоевропейской науки и изучением истории идеи множественности миров послужило
учение Дж. Бруно, давшего яркий образец плюралистической космологии
Ренессанса накануне научной революции XVII в. Среди историков науки и культуры
на Западе большой резонанс вызвали работы английского историка Ф. А. Йейтс,
17 Кеплер И. О шестиугольных снежинках. М., 1982. С. 152.
Нестандартные формы знания в истории науки...
329
особенно ее книга «Дж. Бруно и герметическая традиция» (1964). Выдвинутый ею
тезис об определяющей роли «герметического импульса» в генезисе новой науки
был подвергнут плодотворному и многостороннему обсуждению, стимулируя
новые исследования этой проблемы. В нашей стране пионером в этой области была
Л. М. Косарева. Автор этой книги в начале 80-х гг. прошлого века также
подключился к исследованию данной проблематики. Эти исследования были направлены
на то, чтобы прояснить «предпарадигмальную» (предстандартную) ситуацию в
период научной революции (HP).
Герметизм, или магико-герметическая традиция, ведущая мифологический
отсчет своего происхождения от легендарного Гермеса Трисмегиста, включает в себя,
с одной стороны, практическую магию и такие оккультные науки, как алхимия
и астрология, а с другой — эклектические доктрины философско-теологического
плана, близкие к гностицизму. На первый взгляд, ничего общего у этой традиции
с новой наукой, возникшей в XVII в., быть не может, и поэтому, казалось бы, расцвет
герметической традиции накануне научной революции XVII в. не более чем
исторический курьез, никак не связанный с возникновением новоевропейской научной
ментальности. Такая точка зрения, наследующая традиции Просвещения,
сохраняется частично и до сих пор. Но исследования последних примерно 50 лет заставляют
вновь поставить вопрос: чем же была герметическая традиция для генезиса
новоевропейской науки, какую роль играла она в процессе ее формирования? Историку
науки, погруженному в специальные проблемы трансформации своей дисциплины,
трудно воссоздать картину того широкого исторического контекста, внутри которого
возникает новая наука, находя в нем поддерживающие ее импульсы и мотивы.
Поэтому ясно, что проблема генезиса науки требует к себе внимания со стороны
историков культуры. И книга Йейтс о Бруно — лучший тому пример. Для нее главное
в феномене возникновения новоевропейской науки в XVII в. — новое направление
воли человека этой эпохи, ведущее его к радикальному преобразованию
интеллектуальной картины мира. «За возникновением новой науки, — говорит Йейтс, —
стояло новое направление воли, ее обращение к миру, к его чудесам, к таинственным
явлениям, страстное желание и решимость объяснить эти явления и практически
воздействовать на них»18. Вывод английского историка о формировании нового
направления воли человека позднего Возрождения под воздействием магико-герме-
тической традиции, расцвет которой приходится именно на это время, был
подготовлен ее исследованием таких сложных фигур этой эпохи, как Дж. Ди (1527-1608)
и особенно Дж. Бруно.
Йейтс отдает себе отчет в том, что содержательно научные понятия отличаются
от оккультных и магических представлений. Однако она сознательно ставит вопрос
не столько о концептуальной преемственности между ними, сколько о
преемственности воли и стимулов к познанию. Мог ли практико-волевой импульс к
овладению миром природы придать новое дыхание научным исследованиям, способствуя,
18 Yates Ε A. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Chicago, 1964. P. 449.
330
Раздел третий
например, освобождению от старых, схоластических, и новых, гуманистических,
пут? Мог ли, иными словами, герметический импульс работать не только на магию,
но и на новую науку? Йейтс отвечает положительно на этот важный вопрос.
Почему же и в каком историческом и культурном контексте возникает это
новое направление воли человека в XVI-XVII вв.? Кратко ответ можно свести к одному
главному, по мнению английского историка, фактору — к герметической традиции.
Магико-герметическая традиция выходит на поверхность общественной и
интеллектуальной сцены с особенным размахом в конце XV в. после перевода Фичино
сочинений «Герметического корпуса» (1471). Вытесненное на периферию,
преследуемое официальными институтами, герметическое движение становится, можно
сказать, если не доминирующим, то во всяком случае мощно присутствующим,
завоевывающим себе широкое признание. Герметизм участвовал в формировании науки
нового типа главным образом, считает Йейтс, как мощный энтузиастический
импульс. Так, например, магический ореол над обычной механикой вел Паолини,
автора известного в конце XVI в. трактата «Hebdomades», к его увлечению
технологией в духе Герона Александрийского. Многие ученые, интересовавшиеся механикой
как прикладной наукой, склонны были отождествлять механическое движение
неодушевленных устройств и движение одушевленных тел как происходящие в обоих
случаях благодаря действию в них души мира (anima типах).
Итак, основу концепции Йейтс составляет гипотеза о причине поворота воли
европейского человека в XVI-XVII вв., приведшего к возникновению новой науки.
Экспериментализм, конструктивизм, утилитаризм новой науки оказываются в силу
таких допущений тесно связанными с традицией ренессансного герметизма.
Суть драматически напряженного спора, открытого книгой Йейтс, такова:
благодаря или вопреки герметизму и оккультному знанию возникает
новоевропейская наука? Спор этот серьезен и затрагивает сами основания историко-научной
мысли. Аргументы Йейтс в пользу тезиса о герметизме как главном позитивном
факторе в процессе возникновения науки Нового времени сначала показались нам
несостоятельными, в частности, основной ее аргумент, сводящийся к указанию
на практическую направленность, присутствующую в герметической традиции,
которая могла бы привести к отбрасыванию умозрительной схоластико-перипа-
тетическо-томистской мысли и установлению нового отношения к миру, в центре
которого стояло бы практическое и экспериментальное к нему отношение.
Действительно, стопроцентный «герметист» Бруно поражает отсутствием у него какой-либо
практической ориентации, и если, например, и до него, и после были попытки
разработки, пусть и утопические, технологии полетов человека около Земли и между
мирами (вспомним Леонардо, Годвина, Сирано де Бержерака), то у него они как раз
отсутствуют полностью. И это понятно. Зачем разрабатывать механическую
технологию полетов, если миры — живые существа и сами в силу своей биоморфной
природы могут сближаться и даже соединяться друг с другом, причем такое
соединение носит витальный характер и подобно половому размножению животных?
Способствует ли анимизм и магия развитию практико-технологического отношения
Нестандартные формы знания в истории науки...
331
к миру? Из этого примера видно, что они скорее препятствуют возникновению
необходимости обращения к развитию рациональной техники и, соответственно, науки
как способа ее теоретического обоснования.
Этот аргумент казался нам решающим. Но он был таковым лишь в рамках ме-
таисторической настороженности по отношению к концепции Йейтс как
демонстрации «воскрешения оккультизма» (revival del occultismoy по выражению П. Росси).
Историческая ткань поливалентна, позволяя строить аргументацию в пользу
каждой из спорящих позиций. Дж. Ди был заподозрен в чернокнижии из-за того, что
ради забавы сконструировал в Тринити-колледже Кембриджа механического
скарабея. «Для Ди, — пишет Йейтс, — его занятия механикой и математикой принадлежат
к тому же самому мировоззрению, что и его попытки заклинать ангелов с помощью
каббалистической нумерологии»19. А у Агриппы (1485-1535) механика
рассматривалась как один из видов математической магии. И, приведя ряд других подобного
рода наблюдений, Йейтс приходит к выводу: «Тем самым герметическое движение
благоприятствовало развитию настоящих прикладных наук, включая механику».
Какие же наблюдения и аргументы весомее? Дело в том, что сам историк еще до
детального ознакомления с аргументацией того или иного рода уже стоит на
определенной метаисторической позиции и именно она будет определять его отношение
к аргументации и к выбору «фактов».
Структура исторического знания, включая и его метаисторическое основание,
может быть представлена как ряд взаимосвязанных уровней, и мы можем сказать,
что воздействие аргументации историков, стоящих на противоположных метаисто-
рических позициях, неизбежно ограничено достаточно поверхностным слоем такой
структуры. Йейтс может приводить сотни примеров в пользу тезиса об
определяющем влиянии герметического импульса на развитие практической ориентации
познания. Но одного аргумента, обоснованно построенного, может оказаться вполне
достаточно, чтобы подтвердить совсем другую позицию, полагая, что в герметизме
вовсе нет достаточного позитивного импульса для движения в направлении к
научной революции XVII в. и что помимо его вклада в расшатывание официального ари-
стотелизма он мало что сделал для формирования новой науки. Если мы считаем, что
разум развивается автономно, что рациональное познание имеет свои собственные
традиции, идущие из древности, если в их возрождении мы видим основу и для
формирования новой науки в XVI-XVII вв., то никакой самой богатой аргументации, как
это делает Йейтс, в пользу противоположного тезиса не будет достаточно для того,
чтобы нас переубедить. Сдвиг в убеждениях возможен, но он, скорее, носит
транснаучный характер, так как убеждения, как правило, не меняются под воздействием
прочитанных книг историков, мыслящих иначе, чем мы. Если историческое
исследование в своих результатах зависит от исходных мировоззренческих и
философских установок историка, то стратегия воли к истине в истории должна проходить
19 Yates F. A. The Hermetic Tradition in Renaissance Science // Art, Science and History in the
Renaissance. Baltimore, 1967. P. 259.
332
Раздел третий
через структуры дискуссий, диспутов, споров, полемик, когда одна и та же проблема
решается многими исследователями. Это создает объемный контекст и выправляет
односторонности, связанные с идеологической и методологической
ангажированностью историка. Кроме того, нужно признать, что существует, по крайней мере в
методологической теории, образ «идеального историка», который следует принять за
образец. Это — модель историка как бы нейтрального по отношению к той или иной
метаистории. «Идеальный историк» обязательно должен принять во внимание
контрпример, особенное внимание обращая на моменты, говорящие не в пользу его
рабочей гипотезы, а против нее. И если он это во всем доступном ему объеме делает,
то его исторический нарратив будет обладать некоторыми признаками дискурса,
нагруженного большей истинностью, чем дискурсы сторонников наперед заданных
доктрин и установок, не утруждающих себя такими нормами.
Когда историки астрономии и физики принялись за проверку главного тезиса
Йейтс, то в большинстве своем они пришли к несогласию с нею, подчеркнув, на наш
взгляд, справедливо, что Йейтс недооценивает концептуально-физической
аргументации Бруно, а также те влияния на него, которые не обязательно исходят от
«Герметического корпуса». Анализируя эти работы, вчитываясь в полемику и дискуссии,
вызванные книгой Йейтс, убеждаешься в одном: для историка науки его герой как бы
по определению — ученый. Кем бы ни был Бруно — мистиком, неоплатоником, гер-
метистом, стопроцентным магом самого радикального агрипповского толка,
миссионером от египетской религии, пантеистом, виталистом, луллистом и т. п., но для
историка физики он — физик. Уже поэтому все мистические, магические,
герметические смыслы, фиксируемые для его «опознания» и значимые в большом
историко-культурном контексте, оказываются для него как физика, как правило,
чужеродными, посторонними. И неудивительно, что тезис Йейтс нашел себе куда больше
поддержки (если говорить только об историках науки) не у историков физики или
астрономии, а у историков медицины и химии (Дебас, Вебстер и др.). Такая
неоднородная реакция на книгу Йейтс понятна: ни химия, ни медицина не были столь
суровы по отношению к герметизму, как механика или астрономия, а в XVI-XVII вв.,
да и в XVIII в. тоже, они еще во многом не отделились от него. Поэтому
неудивительно, что историки этих дисциплин были даже раздражены самонадеянной
экспансией историко-научного физикализма при объяснении HP. Действительно,
исследования историков посвящались, как правило, творцам механики, астрономии,
открывателям математических методов, но не врачам и химикам, которые в XVII в.,
говоря языком позитивистов и физикалистов от истории науки, еще «барахтались
в мутных водах» парацельсизма, алхимии, спиритуализма, мистики и магии.
Однако, как показали перечисленные выше историки, парацельсисты сыграли свою
позитивную роль в формировании научной революции по всему фронту наук. Для
своего времени парацельсисты и гельмонтианцы выступали носителями новой мен-
тальности, их внимание к библейской экзегезе отвечало их стремлению избавиться
от язычников Стагирита и Галена и создать новую науку, свободно сочетающую
библейское откровение и новые медицину и химию.
Нестандартные формы знания в истории науки...
333
Механический редукционизм обеднял образ научной рациональности. Но меха-
ноцентризм уже тогда, в период создания механистической картины мира,
оспаривался химиками и теми, кого называли «герметическими философами», а мы
привыкли называть алхимиками. Как и «чистые» герметисты (вроде Бруно или Флудда),
парацельсисты не были в полном смысле слова ни «новыми», ни «древними». Они
выполняли функцию посредника между «древними» и «новыми», выступая в роли
катализатора нового интеллектуального синтеза.
Превосходство парацельсистов как представителей герметического движения
перед флорентийскими платониками Метаксопулос фиксирует в понятии
«эмпирического платонизма»20. Эмпирический платонизм выступает как особое движение
или традиция, идущая от Р. Бэкона с его идеей scientia mathematica experimentalise
выступающей целью для многих ученых и философов. В XVI-XVII вв. эмпирический
платонизм быстро распространяется по Европе прежде всего благодаря движению
английских парацельсистов. Представление об эмпирико-платонической традиции
позволяет нам провести определенную демаркацию среди позднеренессансных
ученых. Причем важны и нюансы в портрете каждого ученого, так как они позволяют
построить своего рода шкалу степеней «отмывания» ренессансного мага, пределом
для которой выступает новый ученый. Например, цели деятельности Флудда всегда
герметические, хотя научные приемы, им применяемые, вполне органично могут
включаться в их реализацию, играя определенную демонстрационную роль.
В это переходное время существовала целая серия смешанных категорий
учености, благодаря которым, в согласии с концепцией Йейтс, герметическая традиция
непрерывным образом переходила в новую науку. Но и разрывы (что не устает
подчеркивать П. Росси) также имели место, обозначившись в серии полемик (Кеплер —
Флудд, Мерсенн — Флудд и вся герметическая традиция). Платонистский эмпиризм,
конечно, не был строго научным направлением. Но, что важно, он не был и чужд
науке. Историческое исследование выполняет здесь функцию тонкого анализатора,
позволяющего построить общую синтетическую картину HP как многофакторного
и поликонфликтного процесса, идущего с разными скоростями и в различных
формах в разных европейских странах. Так, например, ученый-платоник эмпирической
ориентации характерен для Англии и для биомедико-химического цикла знаний.
Во Франции же доминировали другие типы ученого, в частности тип картезианца-
механициста, что проявилось и в химии. Ни надменно-рационалистическое
отталкивание концепции Йейтс, ни восторженно-мистическое ее принятие, на наш
взгляд, не отвечают смыслу свершаемого в интеллектуальной области при
формировании науки Нового времени.
Нам представляется, что при обсуждении проблемы связи HP с герметической
традицией нельзя обойти вниманием и противоположный герметизму импульс, без
20 Metaxopoulos Ε. A la suite de F. A. Yates. Débats sur le rôle de la tradition hermétiste dans
la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles // Rev. de synthèse. P., 1982. T. 103. No. 105.
P. 58.
334
Раздел третий
которого новая наука не возникла бы. Речь прежде всего идет о христианстве и том
рациональном мышлении, которое через перипатетизм и схоластику с ним было
тесно связано. Соотношение герметического и христианского импульсов в процессе
HP можно себе представить таким образом: герметический импульс приводит к
повороту воли человека в сторону практической ориентации знания, а христианский
импульс маргинализирует само герметическое движение в то время, когда возникает
новое механистическое естествознание, уже «заряженное» утилитарной
перспективой. После того как герметический импульс выполнил свою наукогенную роль,
христианский импульс наносит ему coup de grace: мавр сделал свое дело... Поэтому тезис
Йейтс об определяющей роли «герметического импульса» в генезисе науки Нового
времени должен быть скорректирован или, точнее говоря, дополнен выявлением
других, в том числе противонаправленных, импульсов.
НАУЧНЫЙ ТЕКСТ И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Научный или научно-философский текст, подлежащий интерпретации
историком, неоднороден. В тексте всегда имеются наиболее «узкие» — проблемные —
места, на которых фокусируется основное внимание исследователя и которые требуют
максимума усилий по их объяснению. Анализу и попыткам их объяснения
предшествует достаточно трудоемкая предварительная работа, состоящая в том, чтобы
локализовать эти «узкие» места. Мы будем говорить о видах интерпретации текста,
имея в виду прежде всего именно такие проблемные точки.
Интерпретация, или истолкование, означает придание четкого смысла
«молчащему» без соответствующей работы историка тексту. Мы считаем, что можно
выделить три основных уровня осмысления и соответственно три класса интерпретаций
текста. Являясь выражением определенных методологических подходов, эти классы
располагаются в пространстве истории историографических концепций науки,
начиная с традиционной классической истории идей и кончая нетрадиционной и
неклассической историей знания, характерной для современности. В рамках традиционной
истории интерпретация текста означает осмысление его в качестве элемента системы
авторских текстов, образующих собрание трудов, включая эпистолярное наследие,
или, как говорят, «корпус» его сочинений. В плане такой интерпретации и подхода
смысл понимается как отражение в анализируемом историком фрагменте единой
авторской концепции, как выражение некоторой целостности и взаимосвязности
частей и элементов учения или «системы» мыслителя. Нахождение такого смысла
составляет задачу систематической интерпретации. Характерным моментом такой
интерпретации является абстрагирование от возможной эволюции исследуемой
системы или учения в рамках творческой биографии автора. Исследование такого рода
эволюции происходит на втором уровне интерпретации текста.
Вторым уровнем осмысления текста является уровень его истолкования на
основе исторической тотальности контекстуальных данному тексту текстов. В
качестве интерпретирующего поля здесь выступает диахронный исторический
контекст определенного вида и определенной «длины». В частности, в плане такого
подхода само собрание текстов ученого может рассматриваться в эволюционном
или историческом плане. Этот частный случай образует подкласс исторических
интерпретаций, который можно назвать внутренней исторической интерпретацией.
Если же в интерпретирующее «поле» объяснения подключена выходящая за рамки
трудов данного автора историческая традиция, включающая его
предшественников и т. п., то такой подход характеризует «внешнюю» историческую интерпретацию.
336
Раздел третий
Как и систематическая интерпретация, это также достаточно традиционный
анализ, типичный для истории идей. Так, например, в Begriffsgeschichte прослеживается
«жизнь» научного или философского понятия в историческом времени. В плане
такого подхода основу осмысления исследуемого фрагмента составляет обнаружение
в нем присутствия традиции. Несовпадение между данными в традиции
концепциями и наличными у исследуемого автора допускается и обыгрывается, включаясь
в историко-научное описание. Эффект осмысления при таком подходе возникает
за счет локального отражения в исследуемом фрагменте текста целой исторической
традиции или ее какой-то части, включая внутреннюю историю текстов и
концепций ученого. Интерпретацию, нацеленную на такого рода осмысление текста, мы
называем исторической интерпретацией.
Наконец, третий класс интерпретаций принадлежит к неклассической
истории знания, формировавшейся в XX в. Существенные предпосылки для такого
подхода были заложены в XIX в., прежде всего в марксизме. Для такого рода
истории характерна установка на включение в историко-научный анализ
экстранаучных значений, связанных с такими формированиями культуры и общества в
целом, как социальные и экономические институты, политика, религия, философия,
литература и искусство, взятые в их конкретной социоисторической
определенности. В рамках такого подхода историк через анализируемый им текст соотносится
с «вне-текстовыми» реалиями. Потребность в такого рода «внешних» значениях
обусловлена всецело логикой внутреннего движения исторической мысли,
попытками более глубоко и корректно объяснить генезис знания. В качестве примера
такого рода истории мы могли бы указать на работы так называемой школы
исторической психологии, в частности на работы историка античности Вернана1. Конечно,
при таком подходе историк зачастую не может ограничиться анализом только
собственно научного текста, в поле его анализа попадают и иные тексты, выходящие
за рамки науки или философии. Осмысление исходного текста при таком подходе
означает, что текст истолковывается через определенного рода связи внутри социо-
исторического комплекса деятельности людей. Смысл здесь возникает как
отражение в исследуемом фрагменте текста частичного среза всей социокультурной
тотальности. Интерпретацию научного текста, вычитывающую в нем «вне-текстовые»
и вненаучные значения практики и культуры, мы называем схематической
интерпретацией. Это название выражает нацеленность такого анализа и интерпретации
на определенного типа схемы, являющиеся в конечном итоге схемами
деятельности. В частном случае это могут быть схемы ритуала, грамматические структуры
языка, способы воспроизводства тех или иных частей и «органов» социума и
культуры, выступающие в роли генетической матрицы в механизме производства
анализируемого историком знания.
Все три перечисленных класса интерпретаций значимы для историка науки.
Конечно, их относительное значение и роль зависят от специфики задач, стоящих перед
1 VernantJ. Ρ Mythe et pensée chez les Grecs. Vol. 1-2. P., 1971.
Научный текст и его интерпретация
337
историком, от специфики анализируемых им проблем и от самого анализируемого
материала. Во всяком случае, мы считаем, что задача анализа и объяснения генезиса
знания в той или иной форме требует выхода на третий уровень интерпретации
текста, что вовсе не лишает значимости и остальных видов интерпретации для
понимания исследуемого текста. На наш взгляд, М. Фуко, создавая свою неклассическую
методологию, по существу отбрасывает всю традиционную историю, считая, что
современная история безоговорочно порывает с историографией прошлого и что
такой разрыв надо закрепить методологически2. Подчеркнутый радикализм такого
подхода обедняет арсенал наличных методологических средств историка. Не
удивительно поэтому, что многие историки науки заняли «консервативную» позицию
в оценке археологии знания Фуко.
Другой крайностью структуралистской попытки обновления методологии
истории науки, ярко проявившейся у M. Серра (Serres)5 и М. Фуко, выступает тенденция
к полному или почти полному растворению науки в общекультурных
изоморфизмах, или «эпистемах», что приводит к утрате специфики науки как познавательной
деятельности. Семиологический культурологический подход не должен
сопровождаться устранением из анализа науки и ее понятий их отношения к
сверхкультурным и сверхнаучным «инстанциям» и тем самым устранением вопроса об
истинности теоретических систем знания4.
Понимание необходимости выхода за пределы изучаемой сферы культуры в
целях ее более глубокого и полного прояснения осознается теперь многими
исследователями как общий методологический принцип. Конечно, ясному осознанию
такого принципа, его фактическому переоткрытию немало способствовало
применение в гуманитарных науках, в том числе и в истории, структурных методов. «Если
я хочу понять изменение структур в литературе, — говорит социолог Л. Гольдманн, —
то я должен выйти за рамки литературы. Для понимания процесса
структурирования объекта необходимо выйти к более широкому полю структур»5.
Каждому уровню осмысления текста соответствует определенная модель
знания, не всегда в полной мере осознаваемая историком. В подходе, ведущем к
систематической интерпретации, предполагается, что знание является продуктом
авторского творчества. Другим важным моментом этого подхода является представление
о научно-философском знании как взаимосогласованной системе,
характеризующейся внутренней связностью и цельностью. В соответствии с таким представлением
2 Foucault M. L'archéologie du savoir. P., 1969.
3 Serres M. La distribution. P., 1977.
4 Имея в виду устранение «традиционного» вопроса об истине, Ж. Бувересс бросает такой
упрек чуть ли не всей современной французской философии: «...претенциозный и
агрессивный модернизм наших самых популярных мыслителей плохо скрывает их растущее
отставание и маргинальность» (Le Monde, 1979,18 sept.).
5 Goldmann L. Structure sociale et la conscience collective de structures: Structuralisme
et marxisme. P., 1970. P. 160.
338
Раздел третий
предполагается, что все части учения или системы ученого достаточно строго
взаимосвязаны так, что, исходя из более общих принципов этого учения, можно
объяснить все частные положения. Историческая интерпретация предполагает другой
подход и соответственно другую модель порождения знания. Знание в плане такого
подхода истолковывается уже как продукт творчества целого ряда личностей,
действовавших в известной степени когерентно и образовавших благодаря этому
традицию, научную школу или направление. В рамках такого подхода за научным знанием
признается некоторое право быть «исторической» реальностью и в качестве таковой
обладать известной гетерогенностью, не позволяющей осуществлять строгий вывод
«частного» из «общего». Такая относительная внутренняя неоднородность знания
потому и допускается, что предполагается, что обращение к анализу исторической
традиции может ее осветить и объяснить, вскрыв причины такой неоднородности
в самой исторической жизни анализируемых идей. Наконец, в модели знания,
характерного для третьего подхода с его схематической интерпретацией, значение
индивидуального авторства как бы частично отступает на задний план. Конечно, и здесь
знание выступает в его связи с личностью и с авторством, но содержательные
структуры знания оказываются не столько прямым личным изобретением, сколько
схемами культуры и деятельности «безличного» социоисторического субъекта. Впрочем,
роль личного творчества здесь вовсе не затушевывается, а скорее наоборот,
выявляется более рельефно. В плане такого подхода за знанием безоговорочно признается
право на неоднородность, на множественность теоретических конструкций,
направленных на объяснение одного и того же явления, на их конкуренцию и отбор.
Неоднородность здесь выступает как глубокая характеристика знания, не устраняемая
его исторической интерпретацией. Причины такой неоднородности, инвариантной
относительно исторической интерпретации, ищутся в сферах культуры и практики,
выходящих за пределы науки, в частности в разнородности самих действующих здесь
схем, участвующих в генезисе исследуемого знания.
Приведенная нами классификация интерпретаций, как мы уже говорили,
связана с классификацией текстов.
В первом приближении мы считаем, что для историка важны три класса текстов:
1) сам анализируемый текст, который обозначим ΤI;
2) большой текст автора ΤI. Им может быть целый «корпус» его сочинений или
его достаточно большая часть — Τ И;
3) включающий в себя все эти уровни исторический текст, или контекст — Τ III.
Сюда относятся тексты современников и предшественников изучаемого
автора текста Τ I, причем арсенал этих текстов не может быть ограничен
предметно-дисциплинарным образом, так как в принципе любые или почти любые
тексты на этом уровне могут оказаться текстами, способствующими
пониманию исходного текста ΤI.
Соответственно введенной нами классификации текстов мы имеем три
основных вида интерпретации текста:
Научный текст и его интерпретация
339
1) интерпретация Τ I через Τ II, или систематическая интерпретация;
2) интерпретация Τ I через Τ III, или историческая интерпретация;
3) интерпретация Τ I через схемы практики и культуры, или схематическая
интерпретация.
Применяемые в интерпретации схемы представляют собой обобщенные схемы
предметной деятельности, на базе которых оформляются теоретические системы
научно-философского освоения мира. Конечно, в качестве таких обобщенных
«фигур» предметной деятельности схемы не только обслуживают науку и философию,
но и выступают «генетической базой» для других форм культуры и общественного
сознания. Как активные генетические схемы они направляют движение
продуктивного воображения общественного субъекта, являясь в соответствии с кантовским
учением о трансцендентальных схемах основой для рационально-понятийного
освоения эмпирически данного чувственного многообразия явлений мира.
Понятие о схеме было выработано И. Кантом в его «Критике чистого разума»6.
«...Представление об общем способе, каким воображение доставляет понятию
образ, — говорит Кант, — я называю схемой этого понятия»7. Схема у Канта — это
такой «трансцендентальный продукт воображения», который в качестве
«чувственного понятия» или «чувственного условия» обеспечивает возможность применения
чистых рассудочных понятий к эмпирическому миру чувственно данных явлений.
Расшифровка рационального смысла кантовского трансцендентализма и
преодоление его априоризма в учении о схемах приводит в рамках марксистской
философии к существенному сдвигу в понимании схем. Если у Канта смысл схемы состоит
в обеспечении нормального функционирования рассудка, то в свете марксистского
переосмысления кантовского учения о схемах схема выступает прежде всего в ее
генетической функции по отношению к понятиям и теориям в целом. Поэтому при
теоретическом анализе проблемы генезиса знания историк или методолог не могут
пройти мимо этого понятия.
Генетическое значение схемы обусловлено тем, что в ней фиксируется метод или
способ построения явлений данного класса, охватываемого тем или другим
понятием. Иными словами, схема дает предметно-деятельностное наполнение
абстракциям теории. Она производит и воспроизводит содержательную предметность
теоретических абстракций. Принимая это во внимание, мы можем сказать, что одной
из задач историка науки является нахождение условий деятельности по
воспроизводству содержания теоретических абстракций исследуемого им знания, т. е.
обнаружение и реконструкция схем. Источником и хранилищем схем служит «большое
воображение» и «большое мышление» человеческой деятельности в целом. Поэтому
анализ генезиса научного знания, ориентированный на реконструкцию схем,
предполагает выход в метанаучные срезы пространства культуры.
6 См.: Кант К Сочинения: в 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 220-231.
7 Там же. С. 223.
340
Раздел третий
Итак, что же может дать представление о схемах историку науки?
Представление о схемах может помочь ему в анализе трудностей, возникающих при
интерпретации текстов, не устранимых обычными традиционными методами их осмысления,
включая систематическую и историческую интерпретации. Нередуцируемые
неоднородности в знании, его сложная гетерогенная структура могут быть прояснены и
получить свое объяснение, если к анализу их генезиса привлечь представление о
схемах. Таким образом, схематическая интерпретация, а вместе с ней и понятие о схеме
оказываются одним из методов историка, значимым при анализе генезиса знания.
Схемы представляют собой устойчивые структуры деятельности того или иного
рода, лежащие в основе воспроизведения множества явлений, относящихся к
определенному классу. Есть схемы речевой деятельности, «генеративные грамматики» языка
у Хомского, схемы воспроизведения и функционирования биологических объектов,
есть, наконец, схемы воспроизводства вещественного и символического состава
культуры. Таким образом, в схемах в сжатой концентрированной форме представлено
предметно-практическое освоение человеком таких «реалий», как труд, язык, жизнь,
неорганическая природа. Схемы носят характер относительно устойчивых рабочих
гипотез на уровне социоисторической ментальности и не являются продуктом
индивидуальной психологии отдельных эмпирических индивидов. Говоря иными, кан-
товскими, словами, схемам присущ статус «трансцендентальных продуктов»8.
Существенной характеристикой схем является их способность к переносу, к трансляции
на новые предметные области. Иначе говоря, схемы носят характер моделей.
По отношению к научно-философскому знанию схемы выступают как такие
культурно-практические матрицы маргинального характера, на которых как на
катализаторах происходит образование различных теоретических комплексов с их
направленным содержанием, т. е. теоретических регулярностей описания
космологических, биологических, физических или метафизических и тому подобных объектов.
Научно-философское сознание, будучи рефлексивным сознанием, частично
осознает роль схем. Так, например, в случае Аристотеля мы можем даже говорить о
создании определенных гносеологических и общетеоретических предпосылок для их
использования. В частности, Аристотель подробно развивает положение об аналогии
между искусством и природой, что, безусловно, способствует переносу схем
искусства или практической деятельности (τέχνη) в план анализа природы9. Анализ
текстов Аристотеля подтверждает предположение о таком использовании схем в
самых разных проблемных ситуациях. Об одном примере такого рода использования
схем речь пойдет ниже.
Со схемами связан еще один существенный для историка момент.
Устойчивость схем обусловлена их укоренением в целостной социоисторической
тотальности предметной деятельности. Они воспроизводятся и передаются вместе со всем
массивом культуры. Такое воспроизведение схем обеспечивает и соответствующие
8 Кант И. Сочинения: в 6 т. Т. 3. С. 223-224.
9 Физика. I, 7,191а8-14; И, 8,199b и другие места.
Научный текст и его интерпретация
341
возможности воспроизведения научно-философских конструкций, базирующихся
на данных схемах, способствуя тем самым их переносу в новые исторические эпохи,
следующие за эпохой их первоначального возникновения. Иными словами, схемы
обеспечивают возможности воспроизведения «прошлых» фигур мышления,
служат основой их актуализации, что само по себе является одной из важных
предпосылок понимания текстов прошлых эпох историком, работающим в совсем другой
эпохе. Прошлое знание оказывается приближенным к современному мышлению
благодаря его живому контакту с генеративными схемами этого, казалось бы, давно
умершего знания. В воспроизведении культурой, конечно в сжатом и
модифицированном виде, всей прошлой культуры имеется четкий рациональный смысл. Такое
воспроизведение всего массива культуры прошлого является, несомненно,
чрезвычайно трудной работой, но оно необходимо, так как заранее невозможно знать, что
и когда понадобится человеку, живущему культурой и в культуре. Таких способов
мышления и навыков деятельности, которые априорно можно было бы отбросить,
видимо, просто не существует.
Всякое понимание, понимание прошлой мысли в частности, предполагает, как
свое существенное условие, мысленное воспроизведение генезиса исследуемого
объекта. Понять — означает открыть, найти или сконструировать метод или способ
порождения или построения объекта понимания. Иными словами, понять — значит
дать схему воспроизведения объекта. Если таким объектом выступает мышление
прошлого, то реконструкция его генеративных схем является существенной
компонентой его понимания. Поскольку культура воспроизводит свои состояния и
вместе с ними эти схемы, постольку задачей историка знания является их обнаружение
и «реанимация» в собственном мышлении. Поскольку культура современной эпохи
воспроизводит схемы мышления прошлых эпох в модифицированной форме, в
частности они выступают в ней в других «контекстах»; в иной диспозиции отношений
и значений, постольку перед историком встает нелегкая задача их распознавания.
Эти схемы, способные быть осознанными в качестве актуально
функционирующих в современной для историка действительности, свободно пересекают как
различного рода тексты в прямом смысле слова, так и «не-тексты» — практику
«обхождения» с вещами или формы общения. Принимая это во внимание, можно
сказать, что понимание текста в конечном счете должно включать в себя референцию
к «не-текстовым» актуально данным по отношению к историку «реалиям»
практики и культуры. Это утверждение частично перекликается с известным выводом
Лакатоса о том, что «любая рациональная реконструкция истории нуждается в
дополнении эмпирической... внешней историей»10. Мы могли бы присоединиться
к содержащейся в таком выводе мысли, если только ее дополнить указанием на
обязательность актуального характера «внешней истории». «Внешняя история» любого
плана, для того чтобы быть средством для понимания текста, должна в какой-то мере
10 Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Структура и развитие
науки: Из бостонских исследований по философии науки. М., 1978. С. 204.
342
Раздел третий
воспроизводиться в той эпохе, в которой живет и мыслит историк. Существенно
подчеркнуть, что требование «не-текстовой» основы для понимания текста
оказывается по сути дела требованием именно внутреннего, а не внешнего его
понимания. Действительно, ведь эти не-текстовые референты содержатся, пусть только
в интенциональной форме, в самом же тексте. Историк знания вовсе не обязан
быть специалистом в экономике или социологии, хотя как гуманитарий он не может
не интересоваться и этими науками, с которыми граничит его собственная
дисциплина. Важно, что на «не-текст» указывает сам текст, исследуемый историком
знания. Понять текст и означает суметь воспроизвести это внутреннее отношение
текста к «не-тексту», данному, повторяем, конечно же средствами текста, хотя в то же
время и не ограничивающемуся ими. Принцип актуализма в генезисе знания или
эпистемогенезе связан с теми тремя классами интерпретаций, о которых говорилось
выше. В нормальной историко-научной процедуре анализа эти классы
интерпретаций должны применяться последовательно. Если исходный текст «сопротивляется»
истолкованию его в рамках систематической интерпретации, то историк пытается
применить к нему историческую интерпретацию. Какими бы ни были результаты
такой попытки, мы считаем, что такая интерпретация по своей природе неполна
и требует доинтерпретации. Обоснованием данного тезиса служит уже то
обстоятельство, что любая историческая интерпретация обречена на регресс в дурную
бесконечность: при ее последовательном применении «прошлое мышление»,
интересующее историка, отступает все далее и далее в глубь времен так, что в конце концов
все самые «ответственные» факты истории изучаемого фрагмента знания
неразличимо теряются в мифе, стоящем на историческом, да и логическом пороге
рациональности вообще. Добавим, что в каждом конкретном случае существуют особые
факторы неполноты чисто исторической интерпретации, требующие ее
дополнения «актуализирующим» анализом, характерным для схематической интерпретации.
Рассмотрим теперь несколько подробнее сам принцип актуализма в его
применении к истории науки. Как известно, принцип актуализма был выдвинут в
геологии, где он успешно «работает» при объяснении динамики геологических структур.
Обсуждая этот принцип, Тейяр восклицает: «Сколько сил мы считали беспробудно
спящими в природе, а они, как показал более тщательный анализ, продолжают
находиться в действии!» " Но точно так же обстоит дело не только с неживой, но и с
живой природой. Так, например, силы возникновения жизни действуют и по сей день,
однако наличие сложившейся биосферы мешает нам наблюдать их действие12.
На наш взгляд, принцип актуализма действует и в социуме, и в его культуре,
в частности в истории мысли и научного познания. «Силы» эпистемогенеза,
приведшие к возникновению знания в прошлом, как и силы геогенеза или биогенеза,
продолжают действовать и сегодня. Благодаря этому прошлое знание может
воспроизводиться в новой исторической эпохе, что является существенным моментом,
11 Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1965. С. 98.
12 Верная Дж. Возникновение жизни. М., 1969. С. 240.
Научный текст и его интерпретация
343
требующим от историка осознанной методологической установки на поиск
эффективных актуально действующих факторов генезиса исследуемого им исторического
формообразования знания. Возможно, что, подобно ситуации с актуальностью
биогенеза, в культуре общества существуют некоторые факторы, экранирующие такие
регенерации прошлых формообразований знания. Дело историка и состоит в том,
чтобы преодолеть такого рода барьеры и выявить регенеративные очаги
возникновения изучаемых им «прошлых» форм знания. Актуализирующий метод замыкает
собой последовательность способов понимания текста, начатую, как мы видели, с его
систематической интерпретации и продолженную в его исторической
интерпретации. Знание, которое для меня как его историка выступает сначала лишь как
феномен чуждого мне прошлого, благодаря возможности его регенерации на схемах
и благодаря моему актуальному подключению к нему как человека современной мне
эпохи делается, наконец, понятным для меня. Понимание есть всегда в конце концов
акт приобщенного познания, акт воспроизводства здесь и сейчас того, что
считается только бывшим там и тогда. «Отвлеченное» (для нас как представителей другой
культуры и эпохи) мышление прошлого становится таким образом «привлеченным»
мышлением самого настоящего. Принцип актуализации эпистемогенеза
обосновывает возможность понимания мышления прошлых эпох, а тем самым задача
историка науки становится в принципе разрешимой.
Эти общие соображения мы бы хотели теперь кратко проиллюстрировать на
одном примере из истории античной науки. В качестве исходного текста мы выбираем
текст IV книги «Метеорологии» Аристотеля, содержащий учение о качествах-силах,
действующих самостоятельно без какого бы то ни было материального субстрата13.
Такое представление о качествах достаточно резко расходится с учением о качестве
как категории бытия, которое излагается Аристотелем как в его «Метафизике», так
и в трактате «Категории». Действительно, в учении о бытии и его категориях
качество ставится в безусловную зависимость от «сущности», выступая ее атрибутом,
не способным к самостоятельному существованию и действию14. Наличие такого
расхождения препятствует построению единой систематической интерпретации
аристотелевских представлений о качествах, что с неизбежностью приводит к попытке
объяснить такое расхождение с помощью исторической интерпретации. Такой ход
мысли мы действительно находим у современных исследователей Аристотеля, прежде
всего у Сольмсена15 и Хаппа16. В частности, установив факт такого разрыва, Сольмсен
говорит: «Очевидно, что внутренняя последовательность является не единственной
точкой зрения, исходя из которой можно интерпретировать физическую систему
13 См.: Визгин В. Л. Качества в картине мира Аристотеля // Природа. 1977. № 5. См. выше,
с. 128-139.
14 Метафизика, III, 6,1006а6-9; VII, 13,1038b32-34; VII, 1,1028а15-18,26-28 и другие места.
15 См.: Solmsen F. Aristotle's System of Physical World. 1960.
16 См.: Happ H. Hyle. Studien zum aristotelischen Materie-Begriff. В., 1971.
344
Раздел третий
Аристотеля, и там, где систематическая интерпретация встречается с затруднениями,
на помощь ей может прийти историческая интерпретация»17. Однако историческая
интерпретация не всесильна. Она действительно помогает понять генезис учения
о качествах-силах, хотя при этом и возникает целый ряд новых вопросов. Благодаря
применению исторической интерпретации динамический статус качеств
истолковывается как продолжение определенной исторической традиции, а именно традиции
досократовских философов, или «фисиологов», в особенности традиции гиппокра-
товских медиков, у которых качества всегда представляли собой нечто большее, чем
простые свойства или «атрибуты» «субстанций». Однако встает вопрос, почему
Аристотель присоединился именно к этой традиции в истолковании качеств, хотя
имелись и другие традиции, например пифагорейско-платоновская? Какие основания
были у Аристотеля для обращения именно к этой, а не к другой традиции? И как он
мог присоединиться к данной традиции, если его собственное онтологическое
учение о качествах было совсем другим?
Сольмсен и Хапп попытались ответить на эти естественным образом
возникающие вопросы. Суть предложенного ими ответа состоит в соединении двух моментов:
во-первых, признания неоспоримой эффективности представлений о
качествах-силах, действующих самостоятельно, в медико-биологических исследованиях и в
соответствующей практике вообще, а во-вторых, учета характерной для Аристотеля
«департаментализации» научного знания. В соответствии с этими моментами мы
могли бы реконструировать логику мышления Стагирита, «реабилитировавшего»
качества-силы, следующим образом: так как качества-силы — эффективны как
медико-биологические понятия, а медицина и «биология» в эпоху Аристотеля
выступают как относительно самостоятельные сферы исследований, вполне достойные
иметь свои особые принципы и методы, то в силу этого удобно, просто
практически удобно, применить здесь представления о качествах-силах. «Департамента-
лизация» смягчает противоречие в представлениях о качествах в учении о бытии
и категориях, с одной стороны, и в биологии — с другой, а практическая
эффективность выступает в роли побудительного мотива для формулировки такого
учения о качествах-силах и для использования при этом соответствующей традиции.
Казалось бы, вопрос достаточно освещен. Однако, на наш взгляд, такое
объяснение дает скорее картину прагматических мотивов и внешних условий, возможно
благоприятствовавших такой реабилитации качеств как сил, чем ее действительно
глубокое обоснование. Что осталось за бортом такого объяснения? Существенно
важный момент: бросающийся в глаза двойственный характер учений Аристотеля
о качествах, о котором мы говорили выше. Если всеобщие «оперативные»
понятия Аристотеля, действующие, несмотря на «департаментализацию», во всех его
построениях, понятия материи и формы, потенции и акта не смогли
интегрировать его разнородных учений о качествах в единую внутренне согласованную
систему, то это, видимо, означает, что дифференцирующий фактор, ответственный
17 SolsmenE Op. cit. Р. 361.
Научный текст и его интерпретация
345
за расслоение аристотелевских представлений о качествах, был достаточно
сильным, лежащим где-то в более глубоком слое генезиса знания, чем механизмы его
внутрисистемной унификации.
В прояснении указанной проблемы нам помогло исследование Ле Блона,
применившего представления о схемах для анализа аристотелевского мышления,
использовав такой подход для объяснения напряжений и рассогласований как
внутри понятий, так и между различными частями теоретических построений
Стагирита.
Ключевые понятия Аристотеля, — говорит Ле Блон во введении ко второму
изданию своей работы, — отсылают нас к трем по истине основополагающим
характеристикам человека, к «действию» (faire), к «языку» (dire) и к «жизни» (vivre), что,
хотя и отдаленно, не может не напомнить нам анализов Фуко относительно
параллелизма структур биологии, обменов и грамматики. Это разнообразие
аристотелевских схем есть источник если и не разрывов связности, то, по крайней мере,
интерференции в понятиях18.
Ле Блон показал, что генезис основных понятий Аристотеля включен в сами понятия
так, что они не могут быть отделены от процесса их возникновения. Однако Ле Блон
совершенно не исследовал интересующую нас здесь проблему, проблему генезиса
учения о качествах-силах, и не дал какого-либо объяснения расхождению в учениях
Аристотеля о качествах. Но роль схем была показана Ле Блоном, в частности схем
языка. Вопрос о связи грамматических структур греческого языка с учением
Аристотеля о категориях в достаточной степени уже исследован19. Но грамматические
структуры и — шире — структуры языка представляют собой только один тип схем,
который направлял построения Аристотеля как в учении о категориях в трактате
«Категории», так и в «Метафизике», включая, конечно, соответствующее учение о
качествах. В основе этого учения, как это можно показать, лежит
субстрат-атрибутивная схема представления качества, отражающая грамматическую структуру языка.
Мы предположили, что учение о качествах-силах строилось Аристотелем на другой
«матрице», или схеме, а именно на схеме практического управления качествами в
таких сферах деятельности, как античная кухня, аптека и садоводство. Разнородность
схем, лежащих в основании генезиса представлений Аристотеля о качествах, и
явилась основной причиной их гетерогенности и внутреннего расхождения.
Действительно, в основе учения о качествах, излагаемого в «Категориях» и в «Метафизике»,
лежат схемы языка, а в основе учения о качествах как силах, излагаемых в
«Метеорологии» и в биологических работах, лежат схемы кухни и врачебно-аптекарской
практики. Схемы ремесленно-бытовых практик медицины и кухни интегрируются
в план теоретического мышления благодаря, как мы уже отмечали, аристотелевскому
учению об аналогии природы и искусства, благодаря теоретико-познавательному
18 Le Blond J. M. Logique et méthode chez Aristote. P., 1970. P. XXXV.
19 См.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. M., 1974. С. 107.
346
Раздел третий
принципу гомогенности объясняющего и объясняемого20, а также специфическому
понятийному аппарату, заимствованному Аристотелем из традиции досократовских
физиков и гиппократовских медиков.
В рамках такой схематической интерпретации соображения, развитые Сольмсе-
ном и Хаппом, находят свое место. Действительно, широкое применение
Аристотелем учения о качествах-силах и его последующая историческая долгоживучесть могут
быть частично объяснены его «пригнанностью» к сфере медико-биологической
практики, эволюционировавшей в своем схематическом фундаменте достаточно медленно.
Из рассмотренного примера мы можем сделать следующий вывод.
Гетерогенность внутреннего состава научно-философского знания может указывать на
гетерогенность его происхождения, на полифилетизм его генезиса, на разнородность схем
его продуцирования. Научно-философское знание содержит и развивает
собственные механизмы освоения знания, «нарабатываемого» практикой и культурой вне
его собственной сферы. Это предполагает нацеленность теоретизирующего
мышления не только на свою внутреннюю саморефлексию, но и на перевод языка практики
и культуры на свой собственный язык. Те явления, которые подчас кажутся историку
«странными» и не поддаются объяснению традиционными методами
систематической и исторической интерпретации, могут быть прояснены благодаря выявлению
роли схем в процессе генезиса научно-философского знания.
20 «Принципы, — говорит Аристотель, — должны быть той же самой природы, что и их
объекты» («О небе», III, 7, 306а8-12).
ТРАДИЦИЯ И ИННОВАЦИЯ:
ВЗГЛЯД ИСТОРИКА НАУКИ
Соотношение традиции и инновации мы хотим рассмотреть сквозь две различные,
чтобы не сказать контрастные, методолого-исторические призмы: во-первых, сквозь
вполне конкретный опыт истории идей, воспользовавшись проведенным нами
исследованием традиции множественности миров (ММ) от античности до XVII в.,
и, во-вторых, сквозь исследование истории одного весьма локального открытия в
области химии (хроматография), напоминающее узкой фокусировкой своего предмета
распространенную сейчас в истории науки методологию case study. Но сначала в
качестве преамбулы попробуем эксплицировать само понятие «традиция».
Понятие «традиция» как объяснительное средство в истории функционирует
на первый взгляд достаточно просто. По сути дела, отнести объясняемый феномен
истории к традиции означает не более чем провести операцию его отождествления
с другими, получившими в своей неизменности и устойчивости классификационный
вид чего-то само собой понятного, уже давно и бесспорно объясненного для
исторического сознания, и поэтому служащими ресурсом для объяснения.
Традиция — исторический шаблон. Шаблон в теме, в вопрошании и в ответе,
в приеме мысли, в задачах и средствах их решения и т. п. Любая устойчивость,
служащая опорой для возможных инноваций, может рассматриваться как «традиция».
Какова же творческая функция традиции? Прежде всего, традиция служит
отправным пунктом для ее возможного саморасширения. Например, в теоретической
физике возникла традиция связывать свойства симметрии с законами сохранения. Так,
однородность времени (определенный вид симметрии) равносильна закону
сохранения энергии. Но может случиться, что мы имеем дело с таким законом
сохранения — или просто с законом, который, однако, можно истолковать как закон
сохранения, — для которого у нас нет аналога в виде принципа симметрии, заданного
на определенном пространственно-временном многообразии. Тогда мы, тем не
менее, можем попытаться найти это соответствие, переформулировав или расширив
соседние понятия. Эта попытка и будет проявлением методологии традиции как
эвристики. Механизм здесь аналогичен действию парадигмы в куновском смысле в
период нормального развития науки.
Само понятие традиции, на наш взгляд, проясняется через расчленение культуры
на «культуру созданную» (cultura culturata) и «культуру создающую» (cultura culturans)
по аналогии со спинозовской natura naturata и natura naturans. Традиция — это
ставшая культура, завершенная, но воспроизводимая актуально и активно; это культурные
348
Раздел третий
акты, принявшие вид архива, запасника, вопросника и «решебника», открытого для
всех. Традиция — ставшая культура, предназначенная в своем актуальном
воспроизведении для роста культуры в целом, для преодоления ее как данности,
преобразования в культуре как творчестве, созидающем новую культуру.
В методологии исторических исследований науки «традиция» выступает
репрезентантом непрерывности. «Традиция», «влияние», «течение», «направление» и т. п.
представления фиксируют исторический процесс в терминах непрерывности,
образуя инструментарий классической методологии ее познания. Индивидуальный
акт, личное свершение ученого в такой «оптике» растворяется в универсалиях,
различное тонет в тождественном. Сами традиции выступают как якобы
самостоятельные силы, почти как «субъекты» исторического процесса. Такая методология
истории соответствует нормам классической науки. В конечном итоге такое
видение истории замыкается на предельную идентификацию ее с каким-то смыслом как
историософской «глобалии» того или иного жанра. Серьезное ограничение
категорий непрерывности, следовательно, и понятия традиции наступает тогда, когда
история начинает открываться в своем дискретном, в пределе —
катастрофическом «измерении» как бифуркация, как превращение малых событийных
флуктуации в колоссальные необратимые последствия, которые невозможно заранее
предвидеть. «Традиционное» или «традиционалистское» видение истории,
напротив, всецело детерминистично, и поэтому течение истории в этом подходе
мыслится предсказуемым.
Альтернатива «традиционизму» — представление о «зернистости» структуры
истории, причем эта «зернистость» такова, что ее отдельные точечные «зерна»
могут менять при определенных условиях все целое. Таким образом, для
исследования проблемы соотношения «традиций» и «инноваций» мы должны
обратиться к анализу связи категорий «дискретности» и «непрерывности»
применительно к истории.
Вышесказанное, однако, вовсе не означает, что категория непрерывности и
вместе с ней представление о традиции должны быть отброшены. Нет, эти понятия
остаются в методологическом арсенале историка. Но их применение нужно ставить
в контекст конкретного аналитического исследования. Это означает, что вопрос о
соотношении непрерывности и дискретности, традиции и революции, продолжения
того же самого и нововведения решается всегда аналитически, т. е. через раскрытие
конкретной структуры явления, что позволяет установить, что же именно
сохраняется в историческом преобразовании, а что рвется; что непрерывно, а что дискретно.
Дискретное и непрерывное — это всегда индивидуально определенная система,
реконструкция которой цель историка.
Что такое традиция в истории познания? Как можно себе представить ту исто-
рико-эпистемологическую реальность, которую историки, часто не задумываясь
над ее устройством, называют традицией? Можно предложить такую грубую
модель традиции: традиция — это сочленение интерна л истской эпистемологической
константы с историко-институциональной реальностью определенного рода, или,
Традиция и инновация: взгляд историка науки
349
уточняя вышесказанное, сочетание образования типа холтоновской «темы»1 с тем,
что мы называем школой. Школьно-тематическое единство, говоря предельно
лаконично, вот что такое в своем модельном задании традиция. Поэтому анализ
традиции в своем экстерналистском варианте выступает, прежде всего, как анализ школ,
а в своей историко-интерналистской проекции — как анализ тематических линий.
Сочетание школьности и определенного тематизма удобно проследить на
примере атомистической традиции. Атомизм в истории познания — это четко
прослеживаемая сквозь разные исторические периоды традиция. Например, уже в античности
существовали разные атомистические школы. Все они развивали одну и ту же тему:
дискретность, неделимость материального основания универсума, но развивали
по-разному. Школа Левкиппа — Демокрита достаточно сильно отличается от школы
Эпикура, представленной в Риме Лукрецием. Школьный аспект традиции объясняет
эффект трансляции типа знания как устойчивого тематического ядра через разные
социальные и культурные условия, включая различные эпохи, страны, даже
континенты. Внутрилогический тематический план традиции открывает возможность
понять, как могут меняться тематически однородные представления. Само
тематическое единство традиции можно представлять как соединение устойчивого
тематического ядра (основы школьных доктрин) и доступной для изменений оболочки. Так,
в атомизме и Демокрита и Эпикура сохраняются основные атомистические
постулаты: атомы и пустота, механическое, не прекращающееся движение атомов. Но при
сохранении тематического ядра изменения происходят в оболочке этих
принадлежащих к одной традиции учений: если у Демокрита число атомов и их форм бесконечно,
то у Эпикура оно огромно, но уже конечно, если у Демокрита нет, по сути дела,
самостоятельного понятия веса атомов, то у Эпикура оно вводится, в силу чего и сама
вселенная у него приобретает такие характеристики, которые отсутствуют во
вселенной первых греческих атомистов (наличие «верха» и «низа»). Этими моментами
далеко не исчерпываются отличия атомизма Демокрита от атомизма Эпикура, но нам
здесь важно показать, как устроена и работает традиция как такое соединение темы
и школы, которое обеспечивает определенную гармонию между устойчивостью
основных когнитивных структур и их изменчивостью.
Сделаем одно методологическое замечание. В работах историков такого рода
ситуация, т. е. историческая динамика школьно-тематических единств,
соединений устойчивых познавательных структур с их изменениями, обычно называется
«развитием». Примером может служить известная работа В. П. Зубова о развитии
атомистических представлений от античности до XVIII в.2 Но мы не можем пойти
за такими историками и принять для описания подобных ситуаций термин
«развитие»: он нагружен, на наш взгляд, значениями, которые в данном контексте
исторических исследований познания могут сбить с толку. Одно из таких значений мы
находим у Гегеля. Развитие понимается им как телеологический конструкт: абсолютная
1 Холтон Дж. Тематический анализ науки. М., 1981.
2 Зубов В. П. Развитие атомистических представлений до начала XIX века. М., 1965.
350
Раздел третий
идея «возвращается» в процессе своего саморазвития к себе самой, превращая свое
«в-себе-бытие» в «бытие-для-себя». В реальной истории мысли дело обстоит иначе:
современный научный атомизм вовсе не «развился» из донаучного
натурфилософского: между ними радикальный разрыв. Никакая преформистская континуалист-
ская модель здесь не адекватна сути проблемы. И конечно, нелепо говорить, что
эпикуровская атомистика является «развитием» демокритовской, что она
усовершенствует учение Абдерита, позволяя атомизму «вообще» (такого ведь не
существует, и уже в этом принципиальное отличие современной философии истории
от гегелевской) полнее осуществиться в исторической эмпирии. Никакого
органически последовательного внутреннего «роста» («развития») идеи атомизма не
происходит в реальной исторической жизни атомистических учений и школ. Атомизм
Эпикура вовсе не «улучшает» как «последующая» ступень качеств атомизма
Демокрита, а, напротив, в определенных отношениях даже делает шаг назад. Иными
словами, историзм современной истории не совместим с органицистской метафизикой
понятий (идей) в духе Гегеля.
Но как же объяснить в таком случае реальные сдвиги в когнитивных
структурах в рамках одной темы, одной традиции? Эти сдвиги объяснимы через анализ
контекстуальных ментально-исторических целостностей. В эпоху Эпикура
наступает совершенно другая духовная, культурная, социальная, политическая ситуация,
чем это было в век Перикла, в период формирования атомизма Левкиппа и
Демокрита. Эпикуреизм принадлежит к философским школам эллинистической эпохи,
в то время как демокритовский атомизм — явление высокой классики. У Эпикура
другая гносеология, другое соотношение этики и физики и т. п. Он, кроме того,
извлекает уроки из перипатетической критики атомизма, усваивая себе кое-что из
учения его основного идейного противника. Итак, оболочка традиционного учения
претерпевает мутации и изменения в силу приспособления ее ядра к новым
условиям мышления.
Понятие развития более, чем к философии, подходит, по-видимому, к
историческому анализу собственно научных знаний. Действительно, ситуацию здесь отражает
принцип соответствия, который не действует в натурфилософский период, но
действует после научной революции XVII в., давшей возможность определенной
кумуляции знаний таким образом, что последующие теоретические достижения
согласуются с предыдущими именно по принципу соответствия. Существенным моментом
в этой связи выступает, конечно, и строгая математическая форма представления
научных знаний в Новое время. В этом смысле корректно говорить о развитии
механики от Ньютона к Эйнштейну, но некорректно, на наш взгляд, считать, что
атомизм развивался от Левкиппа к Эпикуру или Гассенди. Адаптация постоянной темы
к различным социокультурным и историческим условиям как целостностям не есть
ее развитие. На наш взгляд, существуют минимум две принципиально различные
истории знаний — история знаний до научной революции XVII в. и история
научных знаний после нее. Традиции действуют и там и там, но — принципиально в
разных режимах. Об этих двух видах истории знаний мы еще скажем ниже.
Традиция и инновация: взгляд историка науки
351
Идея множественности миров как традиция
Теперь мы можем показать на еще более узком примере, чем атомизм, как действует
традиция в первой из перечисленных нами историй. Таким примером мы
выбираем исследованную нами историю идеи множественности миров от античности
до научной революции XVII в.3
Выше мы сказали, что удобно для описания действия традиции представить ее
когнитивную компоненту как композицию из устойчивого тематического ядра и
изменчивой оболочки (аналогично структуре исследовательской программы у Лака-
тоса). В случае идеи множественности миров (ММ) мы можем ввести следующие
параметры, задающие область изменений в оболочке: 1) режим функционирования
традиции (в данном случае ММ-традиции); 2) приемы обоснования ММ; 3)
представление о мире в данном учении о ММ; 4) эпистемологический статус учения о ММ.
Видимо, список этих параметров неполон, но нам его вполне достаточно для того,
чтобы увидеть, как и по каким характеристикам могут происходить изменения в
традиционно заданной доктрине, в частности такой, как учение о ММ. Раскроем теперь
конкретно значение перечисленных параметров. Режим функционирования
традиции ММ может быть следующим: бесконечная или конечная множественность
миров вообще, бесконечная или конечная множественность обитаемых миров, кроме
того, к режиму функционирования относится и такая характеристика, как
множественность миров, следующих друг за другом, или же множественность
одновременно пространственно сосуществующих миров. Все эти режимы
функционирования традиции множественности миров осуществлялись в истории4. Что касается
приемов обоснования ММ, то перечислим его основные принципы, действовавшие
в указанный исторический период; 1) бесконечность Вселенной в
пространственно-временном плане; 2) однородность Вселенной в пространственно-физическом
плане; 3) принцип изономии; 4) принцип связи свернутой и развернутой форм
бесконечности; 5) телеологический критерий (благое должно существовать); 6)
онтологический и аксиологический примат бесконечного над конечным; 7) принцип
тождества возможности и действительности; 8) принцип полноты. У первых греческих
атомистов применялись главным образом первые три принципа, а также седьмой.
3 Статус традиции у темы множественности миров признается всеми ее современными
исследователями: Визгин В. П. Идея множественности миров. Очерки истории. М., 1988;
Michael Crowe. The Extraterrestrial Life Debate 1750-1900: The idea of plurality of worlds from Kant
to Lowell. Cambridge, 1986; Steven I. Dick. Plurality of Worlds: The Origins of the Extraterristrial
Life Debate from Democriius to Kant. Cambridge, 1982 (рец. на кн.: Визгин В. П. Проблема
множественности миров как предмет историко-научного исследования // Вопр. истории
естествознания и техники. 1985. № 3).
4 Это подробно рассмотрено нами в книге: Идея множественности миров. Очерки
истории. М., 1988.
352
Раздел третий
Но уже у Эпикура начинает функционировать принцип полноты. У Николая Кузан-
ского добавляются четвертый, пятый и шестой принципы, а у Бруно мы находим все
восемь перечисленных нами принципов обоснования ММ.
Наконец, в рамках одной традиции ММ действуют разные представления о мире:
мир как замкнутая геоцентрическая космологическая система, включающая всю
совокупность видимого, в том числе и звезды (атомизм); мир как любой центр
притяжения (средние века, Леонардо); мир как планета и мир как гелиоцентрическая
солнцеподобная система небесных тел (начиная с XVII в.). Существуют, кроме того,
и разные эпистемологические статусы учения о ММ: чисто умозрительный статус
учения о ММ и соответствующего представления о мире (атомизм) или
умозрительно-наблюдательный статус вследствие астрономизации темы ММ.
Каждое значение переменной вводится в традицию ММ в силу нового
контекста условий, и только конкретный исторический анализ помогает разобраться в
причинах этих сдвигов. Такое устройство традиции ММ делает ее чрезвычайно долго-
живучей. Действительно, она вынесла все самые радикальные мировоззренческие
перевороты и научные революции. Именно благодаря гибкости своей оболочки,
нефиксированное™ основных параметров (например, понятия о мире) традицию ММ
не смогли прервать никакие мутации в общественном сознании, смены
научно-философских программ. Проиллюстрируем эти методологические соображения более
близким обращением к истории традиции ММ.
Традиция ММ имеет свои мифологические предпосылки. Для мифологических
представлений о ММ характерна неясность плана, в котором находятся миры.
Горизонтальный план легко преобразуется в вертикальный. Этот обмен планов
присущ и скандинавской, и индийской мифологиям. Важно, что инвариантом выступает
пересечение этих планов — некоторый фокальный топос, как правило
отражающий интуицию ближайшего пространства, в котором обитает данный народ,
генерирующий данную мифологию. Например, у древних египтян такой системой
отсчета выступала долина Нила. На уровне мифа космологическое сознание, в том
числе обращающееся к представлению о многих мирах, можно назвать поэтому то-
поцентристским (термин Г. М. Идлиса5). Но если сходство древних мифологий с
построением Анаксимандра нельзя не отметить, то столь же невозможно не отметить
и резкого различия между ними. У Анаксимандра топоцентристская перспектива
заменена геоцентристской, вертикальное структурирование космоса заменено
сферической структурой с использованием в явном виде принципа изономии,
объясняющего центральное положение Земли. Вместе с использованием в космологическом
сознании принципа изономии наряду, конечно, и с некоторыми другими
особенностями мысли, обнаруженной у первых греческих мыслителей из Милета, мы
вступаем на почву умозрительной теоретической космологии.
Именно на этой почве у атомистов Греции создается грандиозное по своей
смелости и цельности учение о ММ, положившее основание европейской традиции
5 Идлис Г. М. Революции в астрономии, физике и космологии. М., 1985.
Традиция и инновация: взгляд историка науки
353
множественности миров. Это учение было гениальным, опережающим время
предвосхищением, на основе которого, однако, не могла развиваться античная
астрономия в силу его исключительно умозрительного характера. Но движение истории,
прогресс в математике и механике, в технике наблюдений и ряд других факторов
способствовали тому, что проблематика ММ постепенно пропитывалась
астрономическими реалиями. Когда начинает расшатываться фундамент перипатетической
физики, то при этом затрагиваются и основы соответствующей космологии. В
частности, вместо аристотелевского учения о единственности центра притяжения (земля)
возникает представление о множественности центров притяжения во вселенной,
а каждый такой центр мыслится как автономный мир. «Вероятно, — говорит Стивен
Дик, — именно благодаря понятию о "центре притяжения" традиция
множественности миров переместила фокус своего внимания от множества аристотелевских κόσμοι
к множеству землеподобных планет. Леонардо и Николай из Кузы представляют
собой важнейший поворотный пункт в этой эволюции»6. Это безусловно
революционный сдвиг в представлениях о вселенной. Но он легко усваивается традицией
множественности миров благодаря тому, что хотя понятие о мире и переформулируется,
но сам принцип ММ при этом сохраняется. Этот поворот в философско-космологи-
ческом мышлении поддерживался различными факторами, в том числе
возрождением традиций неоплатонизма и пифагореизма в эпоху Ренессанса, а на его размах
и мировоззренческо-научное значение самым решительным образом повлиял
Коперник. В результате этого поворота традиция ММ несет с собой уже не античное
представление о космосе как конечной замкнутой геоцентрической системе,
включающей в себя все видимые небесные тела, а новое представление о мире, свободное
от конечности вселенной и геоцентризма. Так традиция ММ стыкуется с
революционным обновлением ведущих понятий космологии, физики, философии.
При этом меняется и режим функционирования традиции ММ: вместо
представления о множестве миров, в слабой степени связанных с проблемой их
населенности, возникает представление о множестве именно обитаемых миров — признак
обитаемости становится необходимым в новом понятии о мире. Это происходит
у Дж. Бруно и у Николая из Кузы. Это вполне понятный сдвиг и нововведение,
потому что при трактовке мира как землеподобного небесного тела на первый план,
естественно, выступает его аналогия с Землей — обитаемой планетой.
Важно еще подчеркнуть, что при этом развивается и новый эпистемологический
статус учений о ММ: в их состав начинает все больше и больше входить
наблюдательная астрономия. Тема ММ астрономизируется, но опять-таки сохраняется как
историческая традиция.
Можно выделить два этапа астрономизации традиции ММ. Во-первых, это
умозрительная подготовка к включению опытного и математически оформленного,
инструментально обеспеченного знания в когнитивные структуры мышления о ММ.
6 Steven I. Dick. Plurality of Worlds: The Origins of the Extraterristrial Life Debate from
Democritus to Kant. Cambridge, 1982. P. 4.
354
Раздел третий
Отмеченное нами революционное преобразование понятия о мире уже само по себе
делает миры в принципе открытыми для наблюдений и эмпирических верификаций
утверждений о них. Но в эпоху Возрождения, когда это происходит, в системе
обоснования ММ продолжают доминировать умозрение, метафизические и
теологические конструкции. Перелом наступает только в начале XVII в., когда Галилей
проводит первые телескопические наблюдения Луны, неподвижных звезд, Млечного Пути,
а также четырех спутников Юпитера. Революционное значение этих открытий было
ясно осознано Кеплером, прямо заявившим, что селенографическое приложение
к его произведению «Сон» было составлено «на основе наблюдений, которыми, —
как он пишет, — я обладаю в настоящее время»7. В посвящении к этому приложению
он говорит, что возникающие вопросы надо «решать по частям на основе
наблюдений, открытых при помощи зрительной трубы, если эти явления приведены в
соответствие с заключениями, выведенными из аксиом оптики, физики и метафизики»8.
В иерархии аргументов в пользу ММ метафизические допущения начинают
выясняться оптикой, физикой — науками нового типа, которые в это время возникают
заново или радикально преобразуются. Вот с этого времени и начинается прямая
астрономизация традиции ММ, а XVII в. и последующие века проходят уже под ее
знаком. Так, Дж. Вилкинс, автор известного трактата о ММ, стоявший, кстати, у
истоков создания Лондонского Королевского общества, утверждал, что целью его
сочинения (1638) является построение такой картины Вселенной, которая бы опиралась
на «свидетельство глаз Галилея»9. А уже в конце XVII в. Гюйгенс решительно
отбросил тезис о существовании жизни на Луне, исходя непосредственно из результатов
астрономических наблюдений, производимых им самим при помощи им же
усовершенствованного телескопа.
Традиция ММ выдерживает не только научную революцию в космологии
и астрономии, но и альтернативу в принципах обоснования учений о ММ,
возникшую после известного декрета епископа Парижа (1277), осуждающего тезис
о невозможности для Бога создать множество миров. Тогда возникли в принципе
две основные возможности в обосновании учений о ММ: 1) ММ может
создаваться беспредельной мощью Бога-Творца (теологический креационистский
подход); 2) ММ может создаваться за счет вполне автономно действующей по своим
законам природы, причем аристотелевская физика при этом отбрасывается в той
или иной мере (натуралистический физический подход). В истории были
реализованы обе стратегии. Переключение в способах обоснования учений о ММ было
усвоено соответствующей традицией. Оба подхода могли смешиваться между
собой в конкретных исторических вариантах эволюции темы ММ, что было типично
для мыслителей Возрождения.
7 Steven I. Diet Plurality of Worlds... P. 177.
8 Кеплер M. О шестиугольных снежинках. M., 1982. С. 152.
9 Steven I. Dick. Plurality of Worlds... P. 177.
Традиция и инновация: взгляд историка науки
355
Традиция ММ не только сумела ассимилировать самые разные, достаточно
глубокие нововведения и революционные перевороты в знании, но и послужила
мощным революционизирующим фактором. История позволяет раскрыть ее функцию
в преобразовании космологического сознания при переходе к новой научной картине
мира. Как показали исследования Дика, Кроу10, а также наши собственные,
традиция ММ имеет не столько маргинальный паранаучный статус, сколько внутринауч-
ный, и история ММ принадлежит не только к истории религий, мифа, литературы
и философии, но и прежде всего к истории науки. Маргинальность, междисципли-
нарность этой традиции вовсе не отнимает у нее собственно научной значимости,
что убедительно подтверждает ситуация в современной космологии. В этой
глубокой укорененности темы ММ в культуре одна из причин удивительной
исторической долгоживучести соответствующей традиции.
В истории генезиса, роста и преобразования знаний можно выделить, как мы
уже сказали, два принципиально различных вида истории. Во-первых, историю
научных знаний в собственном смысле слова, что мы обычно и называем историей
науки. Так, об истории научной химии говорят, начиная с работ Бойля или Лавуазье.
Во-вторых, существует то, что можно назвать историей натурфилософских знаний,
историей знаний, якобы «предвосхищающих» научные знания в первом смысле слова,
описываемые в истории наук. Кратко говоря, это история наук и история их
«предвосхищений». Механизмы образования знаний, механизмы их накоплений,
трансляции, механизмы традиции в этих двух видах истории существенным образом
различаются. Дело в том, что структуры «предвосхищающего» знания «вмонтированы»
в совершенно другие контексты культурно-познавательного плана. Во-первых, они
составляют, как правило, одно целое с философией, свободно пересекаясь на этих
правах и с литературой, и с теологией. Научные же знания характеризуются
достаточной культурной автономией и когнитивной жесткостью, что, конечно, нельзя
понимать в том плане, что философия или иные подразделения культуры никак
не влияют и не взаимодействуют с ними. Но отделение науки от натурфилософии
в XVII-XIX вв. — факт неоспоримый и принадлежащий к истории становления
науки в ее современной дисциплинарной структуре. История натурфилософских
«предвосхищений» переплетается самым непосредственным образом и с искусством,
и с политическим и утопическим мышлением, как это было у Платона, Кампанеллы,
Бруно. Эти две истории не находятся в отношениях временной смены
«предвосхищений» наукой — они длительное время, если не всегда, сосуществуют друг с другом
и эволюционируют на первый взгляд почти совершенно независимо друга от друга.
Действительно, мы не можем отрицать влияния натурфилософской космологии
Бруно на астрономию его времени, но оно было, видимо, очень незначительным.
Но если мы примем во внимание план «предвосхищений», то в этом историческом
10 Crows M. The Extraterrestrial Life Debate 1750-1900. The idea of plurality of worlds from Kant
to Lowell. Cambridge, 1986; Dick S. Plurality of Worlds. The Origins of the Extraterrestrial Life Debate
from Democritus to Kant. Cambridge, 1982.
356
Раздел третий
ряду влияние Бруно вполне соразмерно его гениальным и опережающим время
концепциям. Здесь следует назвать, например, Лейбница. Период научной революции
в данном аспекте представляет собой исторически исключительный период.
Действительно, в эту эпоху действуют личности, в которых перегородки между этими
двумя типами истории как бы отменяются или становятся «прозрачными». Таков
как раз феномен Лейбница, Декарта, Ньютона. Мы не назвали Кеплера и Галилея,
которые, кстати, понимали значение космологии Ноланца, о чем мы имеем
признание Кеплера в его письме к Галилею. Такая ситуация воспроизводится и в начале
XX в. у творцов новейшей научной революции. Но в периоды «нормального»
развития науки для массы ученых практически не существует истории
«предвосхищений» и ее гениальных представителей.
Для историка методологически важно закрепить это сознание об отсутствии
прямой сквозной кумулятивной связи между «предвосхищающей» историей и
историей собственно научных знаний. Но другой, не менее важный в методологическом
плане момент — момент возможной, а часто непредвиденной и поэтому иногда
кажущейся парадоксальной связи этих двух историй. В культуре нет абсолютных
перегородок, сквозь которые «осмос» был бы нацело запрещен. И задача историка
выявить порой очень трудно определимые пути такого «осмоса», благодаря которому
в конечном счете осуществляется движение науки, хотя в целом такое
контактирование ненауки и науки далеко не однозначно в плане его влияния на
непосредственный прогресс научных знаний.
Что же такое все-таки история «предвосхищений», или «предвосхищающая»
история? «Предвосхищающая» история не синоним античной или средневековой
истории знаний уже потому, что в античности были заложены основы некоторых
научных дисциплин вполне в строгом смысле слова. В частности, история античной
математики и частично история античной астрономии являются историями научных
знаний, а не историями ненаучных «предвосхищений» будущей науки. Итак,
«предвосхищения» — это вовсе не то, что просто предшествует научным знаниям по
времени, нет, это прежде всего совершенно другое по способу генезиса и
функционирования формообразование культуры, чем наука.
«Континуальное» и «дисконтинуальное»
в развитии науки: случай М. С. Цвета
Обратимся теперь к анализу истории собственно научных знаний, а именно к
одному эпизоду из истории химии.
История открытия хроматографического метода анализа (М. С. Цвет, 1903) и его
дальнейшая судьба чрезвычайно интересны для исследования таких важнейших
характеристик историко-научного процесса, как, с одной стороны, непрерывность,
преемственность и традиционность в движении знания, а с другой — революционные
Традиция и инновация: взгляд историка науки
357
изменения, инновации, разрывность, дискретность, вносимые крупными вкладами
в познание и преобразование мира. Историки науки на протяжении жизни
многих поколений находились и в большинстве своем продолжают еще находиться под
сильным влиянием кумулятивистской и континуалистской установки. Согласно
такой установке, часто имеющей характер неосознаваемой предпосылки
концептуализации изучаемого историками эмпирического материала, научное свершение
медленно, практически неопределенно долго, вызревает, начиная с самых отдаленных
этапов развития человечества и кончая современностью. В плане такой установки
историк, почти не отдавая себе в том отчета, располагает факты, дает периодизацию
изучаемого им научного вклада, находит его предшественников. Новизна,
неожиданность, оригинальность творческой инновации автора изучаемого историком
научного вклада там самым неизбежно стираются или в какой-то степени сглаживаются.
Создается впечатление, что крупный вклад в науку является делом многих
поколений, исподволь накапливающих наблюдения и делающих последовательные попытки
теоретических обобщений. Такая установка («априорный» кумулятивизм)
базируется естественным образом на индуктивистской концепции научного знания. Между
умением ремесленника, опытом аптекаря и металлурга, с одной стороны, и
теоретическими построениями профессиональных ученых — с другой, фактически не
проводится никакой принципиальной границы. Накопленные в повседневной практике
сведения, согласно такой концепции, незаметно обобщаясь, перетекают в
теоретические понятия, становясь научными свершениями высокой теоретической нагру-
женности. Но добросовестный историк-фактограф, без всякой методологической
рефлексии совершая свое исследование и выстраивая ряд отдаленных
«предпосылок» изучаемого им вклада в науку, совершенного в Новое время в период развитого
естественно-научного познания мира или даже в современный период, не смог бы
самим приводимым им материалом оправдать некритически применяемую им кон-
тинуалистскую, кумулятивистско-индуктивистскую установку. Но, как правило, он
не замечает того, что его фактический материал, его часто интереснейшие
скрупулезные анализы фактов приводят к резкому противоречию с его установкой, которой
он пользуется как общей схемой для распределения и упорядочивания изучаемого
им материала. Охарактеризованная нами ситуация является весьма типичной для
многих историко-научных исследований, и вывод, который из нее непосредственно
следует, ставит под вопрос правомочность такой априорной континуалистской
установки. Это ни в коем случае не означает, что в истории нет преемственности, что
в ней не действуют традиции. Траектория движения науки складывается из
взаимодействия преемственности и «разрывности», традиций и инноваций, кумуляции
знаний и их «скачков», причем это взаимодействие носит всегда
конкретно-исторический характер и должно быть сознательной целью историко-научного
исследования, реконструирующего прошлое. Если сказать предельно кратко, то видеть в
движении науки только преемственность, накопление знаний, постепенный прогресс
и линейность — значит искажать историю, упрощать, сглаживать, спрямлять ее
путь. На современном этапе историко-научных исследований такая односторонняя
358
Раздел третий
установка явно тормозит прогресс истории науки. В свое время она была
прогрессивным явлением, но уже в XIX в. стала обнаруживаться ее односторонность. В XX в.
ряд крупных историков и эпистемологов развили новое методологическое видение
науки и ее истории (Койре, Башляр, Кангийем и др., в том числе и советские
историки). И сегодня, когда, кажется, уже нет спора об этих основных категориях
истории науки в целом, многие историки продолжают работать по старинке,
линеаризируя историю, упрямо отыскивая «предшественников» своим героям во всех ее
периодах, соединяя — очевидно, только в своем воображении — часто просто
несоединимое, маскируя тем самым реальный разрыв, плодотворный инсайт,
оригинальный вклад-инновацию.
Современная история науки стремится к высокой степени аналитичности.
Именно аналитическая дифференцировка «профиля» предмета историко-научного
исследования позволяет найти конкретные подходы к решению общей
методологической «сверхзадачи» синтеза установок на преемственность, с одной стороны,
и на дисконтинуальность — с другой. «Непрерывность» и «дисконтинуальность»
выступают как характеристики, релевантные для разных «сечений» предмета
историко-научного исследования. И в результате сам научный вклад предстает как
уникальный синтез этих «сечений».
Покажем такое «пересечение» континуализма и дисконтинуализма в истории
науки на примере открытия Цветом адсорбционного хроматографического анализа.
Мы будем использовать непосредственно работы самого Цвета, который всегда
лаконично, но точно называет своих коллег, с работами которых связаны его
собственные. Не доверять Цвету в этом отношении у нас нет никаких оснований. Его
предельная честность, справедливость, даже щепетильность в отношении признания
заслуг других ученых, его широчайшая эрудиция и научная смелость общепризнаны.
Как известно, Цвет занимался прежде всего проблемами фитофизиологии,
и в частности такой трудной проблемой, как состав и строение хлорофилла. Уже в его
магистерской диссертации, посвященной проблемам клеточной физиологии,
центральное место занимает глава о хлоропластах. «Именно эта часть работы, —
пишут А. А. Рихтер и Т. А. Красносельская, — послужила М. С. исходной для его
дальнейших работ, она стала связующим звеном между его женевскими исследованиями
и работами последующих периодов» п. С 1901 г. перед Цветом встала конкретная
проблема: почему хлорофилл, полученный из листьев растений, нерастворим в бензине
и лигроине? Цвет занимается в эти годы (1901-1903) исключительно этой проблемой.
Вот как рисует ученый проблемную ситуацию, в которую он всецело погрузился:
Этот вопрос, далеко не безразличный для выяснения физического строения и
химического состава хлорофилльного аппарата, остается до сих пор неразрешенным.
11 Рихтер Α. Α., Красносельская Т. А. Роль М. С. Цвета в создании хроматографического
адсорбционного анализа // Цвет М. С. Хроматографический адсорбционный анализ: Избр.
работы / Ред. акад. А. А. Рихтера и проф. Т. А Красносельской. М., 1946. С. 217.
Традиция и инновация: взгляд историка науки
359
Блестящее развитие химии производных хлорофилла заслонило собой целый ряд
значительно более интересных с физиологической точки зрения вопросов. Те
немногие исследователи, которые обратили внимание на отмеченные нами явления,
предложили различные, взаимно противоречащие объяснения, не обоснованные
сколько-нибудь прочно экспериментально12.
Итак, во-первых, Цвета интересуют проблемы физиологии растений, а не химия,
получившая, как он отмечает, большое развитие в связи с исследованиями хлорофилла
и его производных. А во-вторых, Цвет стремится к решению важных для
физиологии растений проблем методами точного и надежного эксперимента. Исходя из таких
установок, Цвет начинает свои бесподобные по тщательности, изобретательности
и точности экспериментальные исследования. Конечно, у него в данном плане есть
«предшественники», и он их всех сам указывает. Это «маститый венгерский
физиолог» Визнер, описавший в 1874 г. различное поведение бензола, толуола, скипидара
и сероуглерода в качестве растворителей хлорофилла и давший поставленному
Цветом вопросу о причинах нерастворимости хлорофилла в бензине и лигроине такое
объяснение: «...протоплазма не допускает указанные растворители к хлорофиллу,
и поэтому он в них нерастворим». Это и немецкий фитофизиолог Саксе, а также
Краус, Гинье, Арно, Манна и Монтеверде, изучавшие проблему растворимости /
нерастворимости хлорофилла в петролейном эфире и бензине и давшие этой
нерастворимости разные объяснения13. Все выдвинутые этими исследователями
объяснения, по мнению Цвета, взаимно противоречили друг другу, и уже поэтому
требовалось найти новое и надежно установленное в эксперименте решение.
Опыты Цвета, начатые им в 1900-1901 гг., привели его к четкому и
экспериментально подтвержденному решению указанного вопроса: «...нерастворяемость
большей части хлорофилльных пигментов из листьев в бензине и лигроине
обуславливается не их нерастворимостью в этих жидкостях, а задерживающим
действием молекулярных сил субстрата, т. е. адсорбционным поглощением»14.
Подчеркнем, что только в ответе на этот центральный для Цвета вопрос он «вышел»
на явление адсорбции. До этого Цвет никогда не исследовал адсорбцию как
таковую и не продолжал богатую традицию ее исследования, так как не ставил
перед собой физико-химических задач, выступая, как мы это видели, как
фитофизиолог. Но раз он уже «вышел», решая свою специальную фитофизиологическую
проблему, на явления адсорбционного поглощения пигментов хлорофилла стро-
мой зеленого листа, то стал со всей тщательностью экспериментатора изучать эти
12 Цвет М. С. Физико-химические исследования хлорофилла. Адсорбции // Цвет М. С
Хроматографический адсорбционный анализ: Избр. работы. С. 31.
13 Там же. С. 31-32.
14 Цвет М. С. О новой категории адсорбционных явлений и о применении их к
биохимическому анализу // Цвет М. С. Хроматографический адсорбционный анализ: Избр. работы.
С. 12-13.
360
Раздел третий
явления на своем материале, т. е. на материале поглощения растительных
пигментов различными адсорбентами.
Доказывая свое решение вышеизложенной проблемы, Цвет построил модель
зеленого листа. Это второй важнейший шаг на пути его открытия хроматографии. Вот
как была приготовлена Цветом эта модель, которая должна была подтвердить его
объяснение наблюдаемой нерастворимости хлорофилла в бензине и лигроине:
«Извлеченный из листьев хлорофилл, нацело растворимый в лигроине, путем
выпаривания раствора в безвоздушном пространстве, в присутствии фильтровальной бумаги,
внедряется в последнюю. Окрашенная таким образом хлорофиллом бумага
относится к растворителям точь-в-точь как первоначальный зеленый лист»15. Это и есть
модель зеленого листа. Именно модель, так как сконструированное Цветом
устройство имитирует только часть исследуемых им свойств живого листа, а именно
растворимость / нерастворимость пигментов в органических растворителях. Лигроин
извлекает из этой модели только каротин, оставляя хлорофилл, а для освобождения
и перевода в раствор других пигментов требуется добавить к используемому
растворителю спирт. Заключение о физической адсорбции как механизме удержания
хлорофилльных пигментов на строме листа доказывалось Цветом тем, что
взаимодействие химического порядка между целлюлозой фильтровальной бумаги и хлоро-
филльными пигментами «в высшей степени невероятно»16.
Создав модель листа, Цвет сделал решительный шаг к открытию хроматографии.
Действительно, он открыл причину удержания стромой листа хлорофилльных
пигментов. Построив искусственный лист, он это «удержание» объяснил адсорбцией.
Целлюлозный субстрат поглощает пигменты по-разному: каротин легко извлекается
лигроином, а другие хлорофилльные пигменты — нет. Избирательная адсорбция!
Но это еще далеко не хроматография! Наблюдения над избирательными
поглощениями растворенных в различных растворителях веществ велись давно. Это длительная
историческая традиция. Уже Аристотель описывал такие случаи как в своих
«Проблемах», что отмечают Саксе и сам Цвет17, так и, как это гораздо менее известно, в своей
«Метеорологике» (II, 3,359а, 1-6)18, где он дает описание устройства для обессолива-
ния морской воды. Сам Цвет считал, что Аристотелю вряд ли можно приписать
знание поглотительных (в смысле адсорбции) свойств почв (в «Метеорологике» в
качестве очистителя описан воск). Очевидно, что далеко не всякую задержку одного
вещества в другом можно считать адсорбцией. Первая теоретическая концепция
адсорбции была создана только Т. Е. Ловицем (1790), а само название адсорбции для
15 Цвет М. С. О новой категории адсорбционных явлений и о применении их к
биохимическому анализу. С. 13.
16 Там же.
17 Цвет М. С. Хромофиллы в растительном и животном мире (1910) // Цвет М. С Хрома-
тографический адсорбционный анализ: Избр. работы. С. 82.
18 Аристотель. Метеорология // Собр. соч.: в 4 т. М., 1981. Т. 3. С. 441-558.
Традиция и инновация: взгляд историка науки
361
определенных видов поглощения одними веществами — их поверхностями —
других было дано, как это отмечает Цвет, в 1835 г. Франкенхаймом19.
Цвет не остановился на достигнутом результате, а погрузился в дальнейшие
исследования, отталкиваясь от достигнутого. Он стал методически20 изучать
пигменты хлорофилла по их отношению к различным адсорбентам в различных
ситуациях растворения и поглощения. Уже в докладе, прочитанном 8 (21) марта 1903 г.
в Биологическом отделении Варшавского общества естествоиспытателей, Цвет
указывает три разные методики, которые он применял для изучения адсорбционного
поведения пигментов хлорофилла. И одна из этих методик оказалась как раз
знаменитым в будущем хроматографическим приемом. Явление, которое Цвет
обнаружил при пропускании растворителя через инулиновый столб адсорбента с
поглощенными пигментами в поверхностных слоях, он назвал в этом докладе «особенно
поучительным»21. Это явление состояло в значительном расширении окрашенных
колец, в их распространении по всему столбу адсорбента при действии на него
потока чистого растворителя. В 1906 г. Цвет уже хорошо изучил это явление и оценил
его великолепные разделительные и аналитические возможности. «Разделение
становится практически совершенным, — указывает Цвет, — если после пропускания
вытяжки пигментов через столбик адсорбента его промывать струей чистого
растворителя. Как лучи в спектре, в столбике углекислого кальция закономерно
располагаются различные компоненты смеси пигментов, давая возможность своего
качественного и количественного определения. Получаемый таким образом препарат называю
хроматограммой, а предлагаемую методику — хроматографической»22. К этому
времени (1906) Цвету уже были ясны «необыкновенная применимость и
производительность» открытой им методики.
Фитофизиология «навела» (наведение, или индукция, — метод, описанный еще
Аристотелем) Цвета на новый подход к изучению (и применению) адсорбционных
явлений. Здесь нельзя не вспомнить «фигуру» открытия Америки Колумбом,
считавшим, что он нашел новый путь в Индию (об этой «колумбовой» логике
научных открытий удачно и в полном соответствии с нашим анализом говорят Н.
Кузнецова и М. Розов). Именно поэтому открытие Цвета в данной области выступило
как бестрадиционная инновация, не имеющая предшественников в прошлом среди
тех, кто изучал адсорбцию или занимался аналитической химией. Итак, еще раз для
ясности зафиксируем этот стержневой для нас момент: решение вспомогательной
19 Цвет М. С. Хромофиллы в растительном и животном мире. С. 83.
20 Уместно здесь напомнить приводимое Цветом в его докторской диссертации 1910 г.
«Хромофиллы в растительном и животном мире», являющейся самой полной и фундаментальной
его работой, такое изречение: «...tout progress scientifique est un progress de méthode».
21 Цвет M. G О новой категории адсорбционных явлений и о применении их к
биохимическому анализу. С. 21.
22 Цвет М. С. Физико-химические исследования хлорофилла. Адсорбции. С. 39.
362
Раздел третий
по отношению к фитофизиологии задачи из области адсорбционных явлений и стало
фокусом основной скачкообразной, «дискретной» инновации в данной области,
положившим начало новой, мощной традиции аналитической химии23.
Подведем краткие итоги. Как же сочетаются в открытии метода адсорбционного
хроматографического анализа традиции, преемственность и непрерывность
процесса научного развития, с одной стороны, и его разрывность, прерывность,
скачкообразность — с другой? Открытие элюентного, или проявительного,
хроматографического приема — действие струи чистого растворителя на адсорбированный
на поглотителе слой разделяемой смеси веществ — знаменует собой яркое
проявление скачкообразной инновации. Это, несомненно, момент радикальной новизны,
не имевший своих предшественников в прошлом. Действительно, никакие опыты,
проводившиеся в XIX в. по изучению адсорбции, не содержали в себе такого
приема или даже его «предвосхищения» — ни опыты Ф. Рунге или Ф. Гоппельсредера,
ни опыты с углеводородами нефти С. К. Квитки и Д. Дея. Открытие приема,
названного впоследствии элюентной хроматографией, является типичным примером «пре-
рыва» постепенности научного развития, внесения в него неожиданной и крупной
инновации, для которой не было предшественников и «предвосхитителей» в
прошлом. Идея элюентной хроматографии родилась в опытах Цвета и зафиксирована
в его работе 1903 г. Но если мы возьмем другие составляющие исследований Цвета,
в частности трактовку им механизмов процессов хроматографирования, то здесь
мы обнаружим совсем иную эпистемологическую картину. Сам Цвет, в частности,
истолковывал хроматограммы, им полученные, как явление адсорбционного
замещения, которое является необходимым следствием термодинамической теории
адсорбции, но на которое, однако, «не было обращено доселе должного внимания»24.
И в фитофизиологических исследованиях хлорофилла, и в физико-химических
исследованиях адсорбции, и в других направлениях работа Цвета в целом была связана
с работами других ученых, с проблемами и подходами к их решению, традиционно
разрабатываемыми в физической химии, в биохимии и физиологии растений. Для
истолкования элюентной хроматографии Цвет нуждался в массиве
физико-химических знаний самого разного плана, включая конечно же прежде всего учение о сор-
бционных процессах. И что очень важно, так это связь «дисконтинуального вклада»
(элюентная хроматография) с «континуальным вписыванием» его в «массив» науки
и техники. Действительно, после почти двадцатилетней паузы в 1931 г. начинается
бурное развитие хроматографии: «дискретный» вклад получает «континуальную»
жизнь в науке, знаменуя начало новой традиции.
23 Случай с открытием М. С. Цвета укладывается в предложенную Б. С. Грязновым схему,
согласно которой новое знание возникает как «поризм», как реализованная в продуктивном
результате непредусмотренная ранее познавательная возможность, как своего рода удачный
«шаг в сторону» (Грязное Б. С. Логика. Рациональность. Творчество. М., 1982. С. 114-116).
24 Цвет М. С. Хромофиллы в растительном и животном мире. С. 138.
Традиция и инновация: взгляд историка науки
363
Проделанный нами анализ показывает, что инновация возникает тогда, когда
одна традиция (в данном случае фитофизиологическая) «отпочковывает» через
значимый «шаг в сторону» («поризм») новую традицию в «соседней» дисциплине (в
разобранном примере — аналитико-химическую). И поэтому инновация выступает
как образование новых традиций на базе старых.
Мы можем сделать теперь такой общий вывод, сравнивая действие механизма
«традиция — инновация» в натурфилософский, «преднаучный» период истории
знаний, с одной стороны, и в собственно научный период их развития — с другой.
Традиции в первом периоде являются более устойчивыми, в высшей степени
способными к адаптациям к новым условиям, представляя собой некие глубинные, прочно
укорененные в культуре тематические ориентации мышления. Напротив, в период
собственно научной истории большую значимость приобретает инновация,
которая может послужить началом новой традиции. «Кроссинги» разных подходов,
формирующие междисциплинарные «стыки», динамизируют механизм связи традиции
и инновации.
Подведем кратко основной итог проделанному исследованию занимавшей нас
проблемы. Традиция истолковывается нами как единство научной школы и
концептуальной темы. Особое внимание мы обратили на специфику сочетания традиции
и инновации в развитии знания в период до научной революции XVII в. и после
образования дисциплинарного естествознания в XIX столетии (на примерах истории
идеи множественности миров, с одной стороны, и открытия хроматографии в
химии — с другой). Наш общий вывод состоит в том, что при рассмотрении проблемы
соотношения традиции и инновации необходим аналитический подход к
определению соотношения инвариантных и изменяющихся параметров в динамике роста
знания, при этом важную роль в появлении радикальных новаций в науке играют
«защитные механизмы» традиции и междисциплинарные «стыковки» различных
научных специализаций.
ИСТОРИЯ И МЕТАИСТОРИЯ
Историческое исследование, структура его вопросов и ответов строится в
неизбежной зависимости от установки исследователя, носящей «убежденческий» характер.
Убеждения или верования, какого бы рода они ни были, выступают как
формообразующие условия не только интеллектуальной, но и практической активности.
Арматура жизненного мира, задающего горизонт допустимого, строится на базе таких
верований или убеждений. И историк в этом случае — не исключение. Если
история — наука, а это значит, что она озабочена поиском истины, то спрашивается: как
она возможна в историческом исследовании, раз рамки возможных решений
определенной исторической проблемы уже заранее предопределены, если даже не прямо
«запланированы» системой изначальных убеждений историка?
Конкретно-исторический анализ, предпринимаемый историком для решения той или иной проблемы,
по своей природе таков, что он не может изменить указанные метаисторические
предпосылки, в горизонте которых он неизбежно строится и осуществляется.
Используя в ценностно нейтральном, гадамеровском, смысле понятие «предрассудка»!,
можно сказать, что подобные метаисторические установки (предустановки)
историка обладают природой «предрассудка» — они формируются в системах культуры,
в традициях образования и воспитания индивида и ученого и уже поэтому своей
прочностью и потенциалом влияния превосходят то пространство
интеллектуально-научной «сноровки» вместе с нарабатываемыми в нем позициями, которое
открыто для изменений и трансформаций в результате конкретных исторических
исследований, проводимых историком.
При обсуждении кардинального для методологии истории вопроса (как
возможна в подобной ситуации истина в истории?) нужно учитывать то обстоятельство,
что конкретное исследование может находиться в неодинаковой позиции по
отношению к системе метаисторических предпосылок, которые, будучи относительно
самого исследования запредельными установками, тем не менее его (пред)определяют.
Степень зависимости исследования от подобных установок сама зависит от того,
насколько значительно категориальная структура предмета данного исторического
исследования «пересекается» с концептуально определенной системой таких установок.
Простой пример: если историк озабочен экспликацией причин какого-то события,
а его метаисторическая установка существенным образом включает его понимание
детерминизма, то совершенно ясно, что в данном случае мы имеем весьма жесткую
1 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 322-323.
История и метаистория
365
связь метаистории и истории и, соответственно, первая будет «сильно» определять
вторую. Другой пример, еще более близкий к тому историческому материалу, на базе
которого мы бы хотели рассмотреть соотношение истории и метаистории в
методологии исторического познания, состоит в том, что историческое исследование
может быть озадачено проблемами истории самой новоевропейской рациональности,
возникшей в результате научной революции XVII в. (HP). В этом случае ясно, что
поле такого исследования и его возможных выводов или решений будет сильно
зависеть от мировоззренческих и философских позиций историка, которые, огрубляя
и спрямляя их спектр, можно обозначить как оппозицию «рационализм —
иррационализм». Итак, зависимость исторического исследования от метаисторических
установок в данном типе исторического поиска будет сильной. И, пожалуй, еще более
сильной она будет тогда, когда историческое исследование нацелено на прояснение
роли магико-герметической традиции Ренессанса в генезисе новой науки. В данном
случае предопределение метаисторической установкой самой истории будет
особенно сильным, так как в составе соответствующего исследования его предметом
выступает не только разум, рацио, но и его извечный антагонист — магия и
герметическая мистика. Ну а когда сходятся «лед и пламень», то известно, какая мощная
«химия» получается в результате.
В данном случае существенно то, что метаисторические установки сами
выступают как продукты исторического развития. Они, так сказать, соразмерны ему,
будучи сформированы как философские и мировоззренческие нормы исторически,
культурно и социально оформленных систем практик, в том числе и теоретических.
Таков, в частности, новоевропейский рационализм, формировавшийся вместе с
научной революцией, завершившейся в основном во второй половине XVII в. Характерно,
что к этому времени оформляется двойное выталкивание из мира культурных норм
«антиразума» — в жесте «великого заточения» умалишенных (блестяще исследовано
М. Фуко2) и в вытеснении в культурный андерграунд магико-герметического
оккультизма (исследованного, например, в работе английского историка Ф. А. Йейтс3). Под
категорию антиразума герметизм, конечно, вполне попадает, как бы мы его ни
понимали, будь то как языческий гностицизм, сложившийся в первые века нашей эры,
или как набор «псевдонаук» (астрологии, алхимии, хиромантии и т. п.) вместе с
философско-религиозными спекуляциями неоплатонического толка и т. п. Как бы
герметизм ни истолковывался, в любом случае ясно, что нормами новоевропейской
рациональности он «с порога» исключается из круга, допустимого и могущего войти
в «ковчег» наукомерного «спасения», выдвинутого как культурный идеал в проекте
модерна, сформированном именно в XVII в. В соответствии с этим формируется
и получает затем свое завершение вместе с историографической программой
Просвещения метаисторическая установка рационалистического толка, в соответствии
2 Foucault M. Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique. P., 1961. P. 54-96. Книга
переведена на русский язык.
3 Yates Ε A. The Rosencrucian Enlightenment. L., 1972.
366
Раздел третий
с которой разум и наука развиваются в истории автономно, на базе уходящих в
древность рационалистических традиций, уже тогда отталкивающих или выталкивающих
за свои пределы магию и оккультизм. Рационально-критическая ментальность,
определяемая подобным видением истории рациональности, издавна и непримиримо
соперничает с магическим менталитетом уже в недрах традиционных обществ. Формы
такого соперничества выявляются в конкретных исследованиях этнографов и
антропологов, описывающих, в частности, случаи массовых вспышек недоверия к
племенным колдунам. Однако следует подчеркнуть, что такое недоверие все же не носит
универсального характера и относится скорее к отдельным колдунам, а не к
колдовству и магии вообще как к социально-культурному институту4. Следующим
шагом в споре разума с магическим антиразумом является уже решительное сомнение
в магии, которое может развиваться в ее полное отрицание. Такая установка
характеризует уже более высокий уровень развития рационализма, и ее мы находим,
например, в афинском обществе при его переходе от традиционно-патриархального
состояния к новому устройству с демократией как формой организации
политической жизни (в середине V в. до н. э.). Радикальный критицизм в адрес магии,
развившийся в эту эпоху, был подробно исследован, например, Ллойдом на материале
анализа гиппократовского трактата «О священной болезни»5.
Подчеркнем важный момент: рациональная и магическая ментальности и
соответствующие им исторические традиции соотносятся между собой не по принципу
полного «снятия» в первой второй, а по принципу их взаимодополнения в культуре
независимо от исторической эпохи. Дело обстоит таким образом, что никогда все
возможные преимущества не скапливаются только у одной из этих спорящих
сторон. Так, если к XVII-XVIII вв. наука в том, что касается практической
эффективности, опередила магию, как бы доказав тезис о том, что магия не более чем
неудавшаяся наука, то в других отношениях тайное знание сохранило свое преимущество над
знанием явным и открытым (в психологическом плане, а также частично в
эстетическом). Например, как бы ни высмеивался такой древний принцип тайнознания, как
принцип аналогии микрокосма и макрокосма, триумфально шествующей
новоевропейской наукой, однако он всегда сохранял свое по крайней мере психологическое
значение, рационализируя чувство (столь нужное человеку особенно в наукогенной
и техногенной цивилизации) неотчужденности человеческой души от мироздания
как целого. В холистской альтернативе научному рационализму
магически-оккультная компонента всегда работала, несмотря на определенные успехи самой науки
и здесь потеснить своего вековечного конкурента. Кстати, подобного же рода
преимущество отличает и научно дисквалифицированный квалитативизм мышления
(во многом идущий от Аристотеля и перипатетизма) от новоевропейской науки,
4 Evans-Pritchard Ε. £. Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande. Oxford, 1937. P. 1183-
1185.
5 Lloyd G. £. R. Magic, reason and experience. Studies in origins and development of Greek science.
Cambridge, 1979. P. 15.
История и метаистория
367
опирающейся на математически оформляемое и экспериментально верифицируемое
познание. Действительно, субъект квалитативистского типа знания не столь резко
противопоставлен своему объекту, как субъект нового естествознания, согласуясь
с определениями его непосредственности — с миром чувственных впечатлений,
первичных образов, данных в обыденном сознании и средствами естественного языка.
Итак, каким бы образом ни определялся герметизм и его традиция, ясно, что он
исключается из мира рационального научного знания, нормы которого более или
менее окончательно сложились в эпоху HP, определяя достаточно жестко то, что
научно и ненаучно, рационально и иррационально в мире знания и культуры. В
соответствии с этим вырастает и оформляется и соответствующая метаисторическая
установка в историографии науки, согласно которой научный разум считается
автономно развивающимся независимо от всей той достаточно размытой сферы,
которую можно, глядя на нее глазами разума, обозначить как антиразум. Магико-гер-
метическая традиция, набравшая немалые «очки» в эпоху Возрождения, составляет
существенную часть этой сферы. Очевидно, что для такой рационалистической
установки в историографии герметизм выступает (и не может в ее рамках выступить
иначе) не позитивным фактором наукогенеза, а, напротив, тормозом для него. Само
вытеснение герметической магии в социокультурное «подполье» рассматривается
как необходимое условие возникновения новой науки и ее прогресса. В свете такой
установки герметизм располагается за пределами новой науки и свойственной ей
рациональности, причем подобный взгляд разделяется не только
ученым-естествоиспытателем, но и современным историком, который именно как ученый
принадлежит к той же самой мировоззренческой и интеллектуальной формации,
зародившейся в Новое время и укрепившейся в эпоху Просвещения, став особенно мощным
«предрассудком» в XIX в.
Альтернативная традиция (альтернативная рационализму) лежит в основе
герметического мировоззрения. Кратко суть ее историографического ядра состоит в том,
что развитие знаний есть попытка обрести утраченное высшее и тайное знание,
восстановить забытую традицию «древней теологии» (prisca theologia). Даже великий
Ньютон, с чьим именем связывается окончательное оформление новой механики и,
более того, всей новоевропейской научной рациональности, не был свободен от
подобной герметической трактовки знания, погрузившись в изучение алхимии и в
экзегетический поиск. И в наши дни традиция сводить научное знание к его мисти-
ко-религиозным оккультным первоосновам в полную силу присутствует в культуре
и науке. Так, например, нередко говорят, что теория относительности, квантовая
механика или такие области науки, как синергетика, возвращают нас к тому древнему
высшему знанию, которое было доступно некогда «посвященным» (мистикам и
оккультистам прошлого), как бы пребывая в нетронутости, «от века» в той сакральной
области, где такое тайнознание неотличимо от высшего бытия. Превращая
подобную установку в историографический подход, мы получаем континуализм не раци-
оналистически-прогрессистского плана, а, напротив, континуализм герметико-ма-
гический и мистический, для которого рациональное знание не более чем бледная
368
Раздел третий
абстрактная тень, отбрасываемая высшим тайнознанием. Именно игра этих
фундаментальных и выступающих альтернативными установок образует базовое поле
для всей проблемы роли герметической традиции в формировании новой науки6.
Методологическая рефлексия внутри исторического знания — не самоцель, она
предназначена для обеспечения условий лучшего понимания предмета
исторического исследования. Основными категориями исторического исследования
проблемы роли герметической традиции в HP выступают событие (прежде всего
событие HP) и традиция (прежде всего сама традиция герметизма). Научная революция
как событие — это целый период в истории Европы, который протянулся от выхода
в свет труда Коперника «Об обращении небесных сфер» (1543) до публикации
«Математических начал натуральной философии» (1687) Ньютона. Понятие HP сегодня
прочно вошло в науку, причем историки считают его столь же устоявшимся, как и,
например, понятие Возрождения. Вопрос, который исследуется в анализируемых
нами с методологической точки зрения работах историков, можно сформулировать
таким образом: как и почему произошло такое событие, как HP, и какова в нем роль
герметической традиции? Основной вопрос истории, как его сформулировал еще
Л. фон Ранке, состоит в том, чтобы узнать, как события происходили на самом деле.
Иными словами, история должна органически и рациональным образом вписать
исследуемое событие-проблему в контекст особого исторического нарратива,
снабженного определенными концептуальными структурами, обеспечивающими его
понимание историческим разумом. Сами эти структуры зависят от модальности основного
исторического вопрошания, которую кратко можно обозначить как дивергенцию его
на вопрос «как» (как произошло интересующее нас событие) и на вопрос «почему»
(почему оно произошло). История, отвечающая на первый тип вопроса, будет
развивать дескриптивный нарратив с соответствующими этому типу конструкциями
(«языком»). Второй тип вопроса, предполагающий анализ причин события, требует
иного типа нарратива, нарратива объясняющего. При этом существенно, что понятие
причины, выработанное в естественных науках, для истории не годится уже потому,
что естественно-научная причинность предполагает понятие естественно-научного
закона (его признак — стабильность связей идентично воспроизводимых природных
явлений, устанавливаемых в системах теоретических идеализации и проверяемых
экспериментально), которое нерелевантно для истории. Действительно, в ней речь
идет, напротив, об одноразовых, неповторимых событиях. Однако принцип
причинности здесь не отменяется (как иногда считают), а существенно видоизменяется
6 Укажем для начальной ориентации в необозримой литературе, посвященной данной
проблеме только некоторые отечественные работы: Герметизм и формирование науки. М.,
ИНИОН, 1983; Косарева Л. М. Проблема герметизма в западных исследованиях генезиса
науки // ВИЕТ. 1985. № 3. С. 128-135; Герметизм, магия, натурфилософия в европейской
культуре XIII-XIX вв. М.: Канон+, 1999; Визгин В. П. Герметизм, эксперимент, чудо: три аспекта
генезиса науки нового времени // Философско-религиозные истоки науки. М.: Мартис, 1997.
С. 88-141.
История и метаистория
369
по отношению к естественно-научной каузальности. Для истории больше подходит
не язык математически формулируемого закона, а, например, язык происхождения,
в том числе и особый герменевтическо-генеалогический язык в духе «генеалогии
морали» Ницше, модифицированный Фуко7.
Для выявления и формулирования такого рода «одноразовой причинности»
в историческом исследовании используется язык традиций. Традиция —
конструкция историка, важный инструмент его специфической аргументации, с помощью
которого он может конкретно ввести свою позицию в ткань исторического дискурса.
Конечно, историк должен доказывать существование той или иной традиции. В
способности делать это и проявляется, в частности, его профессионализм как историка.
Разумеется, традиция — не продукт одной лишь «ловкости рук» историка. Историк
бьется над какой-то определенной проблемой, причем ее предварительные
определения в ходе исследования доопределяются. Исследуя проблему, привлекшую его
внимание, изучая при этом уже данные другими историками ответы на занимающий
его вопрос, он прорабатывает свое собственное ее решение, формируя
представление об определенной традиции. Конструкция традиции выступает как
оригинальный вклад исследователя в данную проблему. Конструкт традиции является важным
средством исторической дискуссии, с ее помощью историк полемизирует со своими
предшественниками, формулирует свою позицию, согласует наличную
историографию вопроса со своим собственным оригинальным вкладом в нее.
Конструкт традиции служит историку для ответа на оба вопроса — и на вопрос
«как», и на вопрос «почему» произошло данное событие. Сама традиция мыслится
как серия событий. Здесь важным понятием служит именно понятие серии.
Конструируя традицию из разнородных фрагментов истории, историк сериализует
событийный мир исторической реальности. В самом же сериальном «профиле»
традиции и раскрывается «что» того события, изучение которого стоит в фокусе внимания
историка, конструирующего данную традицию как такую структуру, которая вносит
оригинальный вклад в ставшее проблемой событие. Кроме подобной
содержательной стороны в составе понятия традиции в нем содержится и своего рода
формально-динамический момент — традиция выступает как некое принуждение,
стабильное воздействие, как своего рода особая сила самовоспроизводства. В традиции
всегда предполагается ресурс самодвижения и самовоспроизводства некоторого
содержания. Иными словами, традиция это не просто данность некоторого
содержания, но и обязательно его инерция, его самодвижение. А это и означает, что в
традиции присутствует способность к производству событий. Традиция — своего рода
«генератор» исторического.
Для нашей проблемы (роль герметической традиции в HP) язык традиции
выступает как основной инструментарий ведения дискуссии. Какие традиции релевантны
для исторической реконструкции HP? Какие концептуальные средства несут с собой
7 Визгин В. П. Генеалогия культуры: Ницше. Вебер, Фуко // Постижение культуры
(ежегодник). М, 1998. № 7. С. 5-39.
370
Раздел третий
релевантные для этого традиции? Не является ли связываемое с одной традицией
содержание на самом деле привилегией другой? Нет ли дубляжа в списке релевантных
традиций? И если он действительно есть, то не следует ли применить принцип «бритвы
Оккама», сократив их список? За счет конкретно каких традиций правильнее это
сделать? Как не только отобрать, но и иерархизировать список традиций? Эти и многие
другие подобные вопросы определяют поле работы историка с концептом традиции.
Конструирование традиций в конкретном исследовательском поле зависит,
конечно, от специализации историка. В частности, конструирование релевантных
традиций при изучении проблемы связи герметизма и HP зависит от того, историк какой
именно научной дисциплины втянут в спор. Неудивительно, что историки медицины
и химии нашли совсем иные релевантные проблеме HP культурные традиции
(прежде всего, парацельсизм), чем историки механики и астрономии.
При обсуждении проблемы HP релевантны такие традиции, идущие от
античности, как атомизм, пифагорейско-платоновская традиция, неоплатонизм как ее
видоизменение, архимедовская традиция и аристотелизм. Сюда можно, и порой нужно,
добавить и некоторые другие, например стоицизм. Список традиций всегда открыт
и доступен для уточнений, комбинирований и т. п. Ведь традиции видоизменяются
в ходе истории, так, например, античный аристотелизм сменяется средневековым
перипатетизмом. А внутри больших традиций возможно образование субтрадиций
(например, в рамках аристотелизма действует традиция падуанской школы). Итак,
язык традиций — основной объясняющий, а не только описывающий язык историка.
Пытаясь ответить на вопрос, почему данное событие произошло и почему именно
в данное время, историк обращается прежде всего к языку традиций, формулируя
на нем свой подход и свое видение проблемы. Итак, традиции — не столько
«натуральная» данность истории (в истории их по большому счету и не бывает), сколько
рабочая конструкция, созданная из материалов исторического архива, меняющегося
в ходе истории, в том числе и под воздействием изменения самих вопросов,
которые историк задает истории.
Посмотрим теперь на соотношение истории и метаистории более пристально,
анализируя главным образом материал исследований, посвященных проблеме роли
герметической традиции в научной революции. Интересную для методологического
анализа часть таких исследований представляют дискуссии, вызванные книгой
известного английского историка Возрождения Ф. А. Йейтс о Дж. Бруно. Историку
науки, погруженному в специальные проблемы своей дисциплины, трудно
воссоздать картину того широкого исторического контекста, внутри которого возникает
новая наука, находя в нем поддерживающие ее импульсы и мотивы. Поэтому проблема
HP требует к себе внимания не только со стороны историков науки, но и со
стороны историков культуры. И книга Йейтс представляет собой именно опыт
подобной истории. Для английского историка главное в феномене возникновения
новоевропейской науки в XVII в. это новое направление воли человека этой эпохи,
ведущее его не только к радикальному преобразованию интеллектуальной картины
мира, но и самого человека с его «жизненным миром». «За возникновением новой
История и метаистория
371
науки, — говорит Йейтс, — стояло новое направление воли, ее обращение к миру,
к его чудесам, к таинственным явлениям, страстное желание и решимость объяснить
эти явления и практически воздействовать на них»8. Традиционная история науки,
опирающаяся на интерналистскую методологию, оставляла коренящуюся в
культуре волю человека вне своего анализа, что не позволяло ей раскрыть глубинные
причины HP, раз мы признаем, что именно в практико-активистской
направленности воли человека, оформляемой в определенной нормативной структуре связи
теории и эксперимента, и состоит ее основная пружина. Эту ситуацию отмечал видный
представитель интерналистской историографии науки Кромби: «В своих начальных
стадиях, — писал он, — научная революция совершается скорее путем
систематического изменения интеллектуальной картины мира, чем благодаря росту
технического инструментария. Почему, однако, такая революция в методах мысли должна
была произойти, остается неясным»9. Ответить на вопрос о причинах HP и
попыталась Йейтс в качестве историка Возрождения: «История науки, — говорит она, —
может проследить различные стадии развития, ведущие к рождению новой науки
в XVII в., но она не может объяснить, почему это случилось именно в это время,
почему вдруг возник столь интенсивный новый интерес к миру природы и к ее
явлениям» 10. Итак, почему же и в каком историческом и культурном контексте возникает
новое направление воли человека в XVI-XVII вв.? По мнению английского историка,
кратко ответ можно свести к одному главному, по ее мнению, фактору — к
герметической традиции. Что же понимает она под этой традицией?
Сюда я включаю, — говорит Йейтс, — герметическое ядро фичиновского
неоплатонизма, синтез герметизма и каббалы у Пико, направление внимания на Солнце как
источник мистико-магической силы, магическое одушевление всей природы,
которой маг стремится овладеть и управлять, концентрацию внимания на числе как
ключе к тайнам природы, философию... что Все есть Одно или Единое и что тем
самым маг-оператор может положиться на универсальную значимость тех процедур,
которые он применяет, и, наконец, и это неким образом самый важный пункт, то
обстоятельство, что герметическая традиция была христианизирована (благодаря
историческим ошибкам)п.
«Магия, — пишет Йейтс, кратко формулируя свой основной тезис, — ведет к гнозису,
поворачивающему волю человека в новом направлении»12.
Согласно Йейтс, HP делится на два периода. Первый из них характеризуется
концепцией анимистической вселенной, управляемой магом. Второй — созданием
8 Yates Ε A. Giordano Bruno and the hermetic tradition. Chicago, 1964. P. 448.
9 Crombi A. С Augustine to Galileo. L., 1961. Vol. 2. P. 122.
10 Yates Ε A. Giordano Bruno and the hermetic tradition. Chicago, 1964. P. 447.
11 Ibid. P. 448.
12 Ibid. P. 156.
372
Раздел третий
образа вселенной, подчиненной законам механики, которые познаются
математическим естествознанием, в силу чего такой мир управляется не магом, а ученым нового
типа и инженером. Однако мысль Йейтс состоит не столько в утверждении наличия
таких периодов HP, сколько в подчеркивании их глубокой связи. Действительно,
замена анимизма на механику, а магизма на математику не меняет общей сути дела —
единого, можно сказать, «магико-научного» замысла контроля над природой ради
достижения целей, определяемых человеком.
Преемственность общего проекта управления природными явлениями в
интересах человека еще не означает действительной концептуальной преемственности
между магией и наукой. Как справедливо замечает Метаксопулос, исследовавший
дискуссии, вызванные концепцией Йейтс,
...ее анализы позволяют предположить, что речь скорее идет о преемственности
социальной (секты, тайные общества), а также о политической и идеологической
подготовке второй фазы HP, которая последовала за «магической фазой» Возрождения.
И лишь в силу принципа «экстерналистской» перспективы историки науки находят
в этом пищу для размышлений13.
Логика концептуальных ходов мысли не является предметом анализа
английского историка, чего, однако, нельзя сказать о менталитете эпохи, определяющем
ориентацию воли познающего субъекта. На уровне социокультурных смыслов
магия и новая наука действительно имеют больше точек пересечения, чем на уровне
их концептуального строения. Для всех исследований Йейтс характерна особая эк-
стерналистско-культурологическая, а не привычная для историков науки интер-
налистско-концептуальная перспектива. Этот фактор необходимо учитывать при
попытке объяснения реакции историков науки на выдвинутую ею концепцию HP.
Но нельзя преувеличивать и социальной преемственности между тайными
обществами эзотериков и научными обществами, ориентирующимися на совсем другие
принципы (открытость и доступность знания, стандартными методами ведущаяся
его верификация, атмосфера критической дискуссии и т. п.). Учитывая все эти
соображения, яснее начинаешь осознавать, насколько HP является поликонфликтным
и многофакторным событием, динамика которого менялась достаточно резко (роль
герметической магии в формировании новой науки меняется при переходе от XVI
к XVII в. на прямо противоположную, когда она из фактора продуктивных мутаций
знания становится оплотом антинаучных спекуляций).
Реакция историков науки (во многом сдержанная и даже негативная) на
концепцию Йейтс объясняется частично и тем, что они нередко упрощали ее
позицию, сводя ее целиком к тезису о всесильности «герметического импульса» в
событии HP. Однако на самом деле английский историк отмечала и то существенное
13 Metaxopoulos Ε. A la suite de Ε A. Yates: Débats sur le role de la tradition hermétiste dans
la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles. P. 55 // Rev. de synthèse. 1982. T. 103. No. 105.
P. 53-65.
История и метаистория
373
обстоятельство, что в процессе переориентации воли человека позднего
Ренессанса участвовал не только герметизм, но и неоплатонизм и некоторые другие
традиции подобного типа, идущие из античной и средневековой культур
(неопифагорейство, каббала и др.). Именно весь этот комплекс, а не один лишь герметизм,
и предопределил поворот к науке Нового времени, хотя сама Йейтс его главной
компонентой действительно считает герметическую традицию. Это уточнение
важно для понимания той историографической стратегии, которая на передний
план среди наукогенных факторов выдвигает именно неоплатонизм. Подобную
стратегию мы называем неоплатонической «ловушкой» для концепции Йейтс, так
как герметизм с ее помощью по сути дела исчезает в неоплатонических
влияниях на науку.
Отметим еще один момент в, так сказать, тонкой структуре концепции HP,
выдвинутой Йейтс. Она на самом деле признает и нечто большее, чем отрицание все-
сильности герметизма как основного фактора генезиса новой науки среди других
течений, окрашенных мистицизмом, что практически упускают из виду ее многие
критики. «Явление Галилея, — констатирует английский историк, — происходит
из непрерывного развития в средние века и в эпоху Возрождения рациональной
традиции греческой науки»14. Действительно, феномен Галилея возникает вне влияния
герметического импульса на формирование науки, по крайней мере вне его прямого
воздействия. А это весьма существенно, потому что среди творцов новой науки
Галилей в самой, быть может, чистой форме олицетворяет дух и стиль новой науки как
математического естествознания. Йейтс немало и с пафосом говорит о
герметических моментах у Ф. Бэкона, Кеплера, Гильберта, Коперника, даже Ньютона и
Лейбница, но ничего подобного она не говорит, упоминая о Галилее. Видимо,
единственное, что можно здесь сказать, пытаясь и в данном случае провести тезис Йейтс, это то,
что само обращение к греческой рационалистической традиции в эпоху
Возрождения не было свободно от герметического импульса как общекультурного феномена,
хотя по текстам Галилея это и незаметно. Правда, в отличие от Йейтс, об этом
говорит Т. Кун, проводя различие между оккультным герметизмом и герметизмом
неоплатоническим с малой дозой мистицизма, считая при этом, что на Галилея якобы
повлиял именно этот второй тип герметизма. Подобные утверждения Куна,
понимающего герметизм столь широко, кажутся Э. Гарэну, известному историку
культуры итальянского Ренессанса, лишенными исторической достоверности15. На наш
взгляд, подводить всю неоплатоновскую традицию под понятие герметизма вряд ли
можно, как, впрочем, сомнительна и обратная процедура, когда отрицается
определенная самостоятельность самой герметической традиции, нацело растворяемой
в неоплатонизме.
14 Yaks F. A. Giordano Bruno and the hermetic tradition. Chicago. 1964. P. 447.
15 Gavin E. Divagazioni ermetiche. P. 466 // Rivista critica di storia della filosofia. A. XXXI fasc. IV,
1976. P. 462-466.
374
Раздел третий
Стратегию неоплатонистской «ловушки» для тезиса Йейтс применяют главным
образом историки астрономии, механики и физики (Уэстмен, Макгуайр и др.)16.
Характерно, что именно историки культуры широкого профиля (как, например,
Ч. Шмитт) смогли адекватно оценить подход Йейтс как представителя культурной
истории науки: «В центре интерпретации Бруно, предложенной Йейтс, — говорит
Шмитт, — стоит не наука, и я полагаю, что Уэстмен существенно исказил ситуацию,
извлекая в чистом виде научную составляющую из тонкого и сложного
исторического контекста, в котором размещается наука в работах Йейтс»17.
В плане крупномасштабных историографических стратегий выдвижение на
передний план в исследованиях HP парацельсистского движения и вместе с ним всей
традиции возрожденческой ятрохимии, а также других подобных явлений,
относящихся к близкой к герметизму спиритуалистической традиции, служит своего рода
дополнительной поддержкой для концепции Йейтс, которой угрожала стратегия
неоплатонистской «ловушки». Применяемая видными историками медицины и химии
(Дебас, Пагель, Вебстер и др.) подобная «подстраховка» концепции Йейтс сочетается
с ее уточнением и расширением. Можно сказать, что в общей «экономии» проблемы
HP в связи с вкладом в нее герметической традиции неоплатоническая «ловушка»
для тезиса Йейтс уравновешивается своего рода парацельсистской «гарантией» для
него. В результате таких разнонаправленных интерпретационных стратегий,
применяемых историками разных научных дисциплин, мы получаем
историографическое поле, насыщенное провоцирующими исследовательскую мысль потенциалами,
что в итоге способствует созданию более полной, объемной и синтетической
картины HP. Подчеркнем, методологические построения и анализы нужны именно для
этого. Таким образом, историографическое поле данной проблемы определяется как
методологической установкой историка (главная оппозиция здесь не только интер-
нализм / экстернализм, но и «жесткий» рационализм / «мягкий» рационализм), так
и дисциплинарной принадлежностью историка науки (основная оппозиция: точные
науки / науки «параточные», или «бэконианские», по определению Куна).
Историческое исследование, обогащенное методологической и философской
рефлексией, выполняет функцию тонкого анализатора, позволяющего в итоге
построить на базе его результатов синтетическую картину HP как многофакторного
и поликонфликтного процесса, идущего с разными скоростями и в различных
формах в разных европейских странах. Так, например, ученый-платоник
эмпирической ориентации характерен для Англии. Во Франции же доминировали другие
типы ученого, в частности тип картезианца-механициста. Кроме «страноведческого»
принципа для такой типологии важен и дисциплинарный принцип. Действительно,
если для биолого-медико-химического цикла знаний характерен тип
ученого-эмпирика, пусть иногда и платонистской ориентации, то для цикла астромеханических
16 Westman R. S., Me GuireJ. Ε. Hermeticism and the scientific revolution. Los Angeles, 1977.
17 Schmitt С. В. Reappraisals in Renaissance Science. P. 202 // Schmitt G ß. Studies in Renaissance
Philosophy and Science. L., 1981. P. 200-214.
История и метаистория
375
и, частично, физических знаний характерен тип картезианца-механициста. Наш
методологический анализ дискуссий и споров вокруг концепции Йейтс показывает,
что ни надменно рационалистическое ее отталкивание, ни восторженное ее
принятие на волне вдруг ставшей модной реабилитации мистики и оккультизма в глазах
научного и культурного сообщества не отвечают смыслу свершаемого в
ментальной и, уже, интеллектуальной области при возникновении науки Нового времени.
И в этой связи характерно, что такой крупный историк Возрождения, как П. Росси,
практически согласен с основным содержанием концепции Йейтс: «Установки
магов, алхимиков, парацельсистов, — пишет он, — повлияли на процесс
проникновения в мир культуры нового отношения к практике, к действию, к оперированию с
вещами» 18. Но как историк-рационалист Росси считает, и в этом состоит его основное
возражение в адрес Йейтс, что нет исторического оправдания, для того чтобы
позитивистскую преемственность рационализма сменить континуализмом мистическим,
настаивая на исторической живучести тем, типичных для мистицизма, и на их
ведущей роли в определении факторов интеллектуальной динамики.
Негативное отношение историков науки к тезису Йейтс, если подвести его разные
проявления под единое основание, базируется, в конце концов, на традиции
рационализма достаточно радикального толка, выступающего в качестве метаисториче-
ской установки. Особенно сильной эта традиция всегда была именно в
историографии науки. Покажем это на примере работы А. Койре о космологической революции.
Французский историк науки не знал книги Йейтс о Бруно (он умер в год ее
появления), но он решал, как и его английский коллега, тот же самый вопрос об отношении
магико-герметической традиции к генезису науки. Сравнивая позиции этих двух
выдающихся историков идей, мы отмечаем, что если Йейтс на первое место в ряду
характеристик мировоззрения Бруно ставит его магически-герметическую
составляющую, то Койре предпочитает говорить не столько о магизме Ноланца, сколько о его
витализме. Кроме того, если Койре, упомянув витализм Бруно, исключает его
вместе с магией из своего анализа его космологии как не имеющие, как он считает,
научного значения факторы, не оказавшие никакого позитивного воздействия на
формирование его взглядов, способствовавших космологической революции, то Йейтс
поступает прямо противоположным образом. Именно на этих характеристиках
мировоззрения Бруно она и останавливается прежде всего, считая, что они как раз и
демонстрируют позитивное воздействие герметического импульса на генезис
новоевропейской науки. Итак, Койре, анализируя космологию Бруно, сознательно оставляет
в стороне его витализм и склонность к магии. «Мой очерк его космологии, — пишет
он, — неполон и односторонен: его концепция мира — виталистическая и магическая,
его планеты — это одушевленные существа, свободно движущиеся в пространстве
согласно их собственным желаниям, как это было у Платона и Патрици»19. Влияние
Бруно на становление научного мировоззрения, как считает Койре, преодолевает
18 Rossi Р. Immagini della scienza. Roma, 1977. P. 157.
19 Koyre Λ. Du monde clos à l'univers infini / Trad, de l'anglais par R. Tarr. P., 1962. P. 58.
376
Раздел третий
эти ненаучные компоненты его мышления, оно столь значительно, несмотря на них.
Йейтс же говорит прямо противоположное: влияние Бруно на науку столь велико
именно благодаря герметизму и магии.
Ясно, что за такими противоположными выводами историков стоят различные
методологические предпосылки. В частности, Койре в историографии науки стоит
на позициях интернализма, допуская, однако, влияние на науку философских идей.
В остальном же он считает, что наука развивается как рациональное предприятие,
следующее прежде всего внутренней логике постановки и решения своих собственных
внутренних проблем. Напротив, Йейтс как историк культуры не так сильно
привязана к ценностям научного рационализма. Она считает, что наука — часть культуры,
которая и определяет ее формирование. Духовная культура как внешний фактор
развития науки в таком подходе выступает как решающий. Это если и не жесткий
редукционистский экстернализм (как это имеет место в случае, например, экономического
материализма), то все же вид «мягкого» экстернализма (ментального или духовного).
Аналогичную картину расхождения взглядов историков на возможность
позитивных связей магико-герметических представлений с научным развитием мы
находим, рассматривая и оценивая творчество Леонардо да Винчи. Действительно,
выдающийся русский историк науки В. П. Зубов (1899-1963), читая рукописи великого
ученого-художника, находит в них явные следы анимизма и герметизма. Но как он
их истолковывает? Как представитель идущей с Просвещения и особенно с прошлого
века рационалистической и даже сциентистской традиции изображать «титанов
Возрождения» как героев и мучеников науки. Это относится и к Дж. Бруно, который,
как достаточно убедительно показала Йейтс, является скорее мучеником магии, чем
науки, и к Леонардо. В русле такой традиции и до сих пор работают многие историки,
особенно историки науки. Анимистические и герметические моменты у Леонардо
неоспоримы, и их признают все. Считая Землю живым существом, великий мыслитель
Ренессанса описывал геологические процессы как своего рода витальные процессы.
Например, движение соков вверх у растений он считал однопорядковым с
движением паров воды вверх от поверхности Земли. Казалось бы, ясно — перед нами
неоплатонистский анимизм, возможно, и с герметической генеалогией. Но Зубов
упорно настаивает на том, что такой анимизм или витализм условен и относителен.
Назовем ли мы за это Леонардо виталистом? — спрашивает он, разбирая подобные
выше приведенному пассажи у Леонардо, и тут же отвечает: — Нет, этого нельзя
делать без больших оговорок. Действительно, нельзя забывать, что Леонардо
прибегал к «душе» и «жизненной силе» лишь тогда, когда он не мог найти
удовлетворительного объяснения, сводимого к принципам механики его времени, или же тогда,
когда он не был в состоянии искусственно воспроизвести с помощью механических
средств сложные движения живых тел20.
20 Zoubov V. P. Le soleil dans l'oeuvre scientifique de Leonard de Vinci. P. 192 // Le Soleil
à la Renaissance. Sciences et Mythes. Bruxelles; Paris, 1965. P. 177-198.
История и метаистория
377
Совсем иначе, чем Зубов, истолковывает взгляды Леонардо Э. Гарэн. Вот как он
решает проблему отношения Леонардо к самостоятельному существованию в мире
духовных (или витальных) сил: «Здесь прочитывается, — пишет итальянский
историк, — концепция духа как витального порыва (soffio vitale), силы и энергии (и в этом
смысле Леонардо называл силу духовной) и здесь же прочитывается старый образ
разума, замкнутого в недрах природы как в глубокой "пещере"»21, причем при
истолковании этого образа историк отсылает к VIII трактату «Герметического корпуса».
По Гарэну, леонардовская концепция духовных сил «имеет мало общего с
рациональной механикой, но зато тесно связана с фичино-герметической темой
универсальной жизни и всеобщей одушевленности»22. Согласно Зубову, Солнце для
Леонардо — лишь аллегория, но никак не символ для обозначения тайных сил, тогда как
для Фичино оно «было именно символом, ведущим мысль к "сверхнебесному
свету"»23. «Подобная гелиософия, — говорит русский историк, — характерная для
флорентийского неоплатонизма, осталась чуждой для Леонардо». Такую двойственную
его интерпретацию оправдывает и сам Леонардо, который как типичный деятель
итальянского Ренессанса свободно совмещал герметизм и науку.
Итак, мы видим, что исторический дискурс строится в зависимости от
исходных метаисторических предпосылок историка. Само по себе историческое
исследование, включающее поиск новых документов, их оценку, изучение известных уже
источников и т. п., не может поколебать эти предпосылки, предопределяющие
направление ответа на вопросы, которые ставит историческое познание. Достаточно
оппоненту не ответить только на один удачно сформулированный вопрос
оспаривающего его позицию и выводы исследователя, чтобы представленная им
аргументация приняла для него вид решающей. На самом же деле само понятие решающей
аргументации весьма проблематично для истории. Покажем это на примере спора
вокруг тезиса Йейтс, согласно которому именно герметическая традиция Ренессанса
способствовала повороту менталитета европейцев в сторону практического,
экспериментального и технического освоения природы. Действительно, стопроцентный,
согласно Йейтс, герметист Бруно поражает отсутствием у него какой-либо
практической ориентации в области, так сказать, протоастронавтики, и если, например,
и до него, и после были попытки разработки, пусть и утопические, технологии
полетов человека около Земли и между «мирами» (вспомним Леонардо, Годвина, Сирано
де Бержерака), то у него они как раз полностью отсутствуют. И это вполне понятно:
зачем разрабатывать механическую технологию полетов, если «миры» — живые
существа и сами, в силу своей биоморфной природы, могут сближаться и даже
соединяться друг с другом, причем такое соединение подобно половому размножению
21 Garin Ε. La cultura filosofica del Rinascimento italiano. Ricerchi e documenti. Firenze, 1979.
P. 399.
22 Garin E. Scienza e vita civile nel Rinascimento italiano. Bari, 1965. R 71.
23 Zoubov V P. Op. cit. P. 182.
378
Раздел третий
животных? Способствуют ли на самом деле анимизм и магия развитию практико-
технологического отношения к миру? Из этого примера следует, что они скорее
препятствуют развитию рациональной техники и, соответственно, науки как ее
систематического обоснования.
Одно время, когда мы начинали изучение космологии Бруно, такой аргумент нам
казался решающим. Но на самом деле он был таковым только в рамках метаистори-
чески обусловленной настороженности по отношению к позиции Йейтс как
демонстрации «воскрешения оккультизма» (revival delVoccultismo, по выражению Росси).
На самом же деле историческая ткань поливалентна, позволяя строить на ее основе
аргументацию в пользу каждой из спорящих позиций, имеющих разные метаистори-
ческие предпосылки. Приведем в этой связи те аргументы, которые выдвигала Йейтс.
«Для Дж. Ди, — говорит она, — его занятия механикой и математикой принадлежат
к тому же самому мировоззрению, что и его попытки заклинать ангелов с помощью
каббалистической нумерологии»24. Дж. Ди — известный маг и математик, автор
предисловия к переводу «Начал» Евклида. А у Агриппы (не менее известный автор
трактата по оккультизму) механика рассматривалась как один из видов математической
магии. Приведя ряд наблюдений подобного рода, Йейтс приходит к выводу: «Тем
самым герметическое движение благоприятствовало развитию настоящих
прикладных наук, включая механику»25. Итак, перед нами наблюдения и аргументы прямо
противоположного свойства. Какие же из них весомее? И в каком «пространстве»
их можно, так сказать, объективно взвешивать? Это — серьезная методологическая
проблема истории. Дело в том, что историк еще до детального ознакомления с
аргументацией того или иного рода уже твердо стоит на определенной метаисториче-
ской позиции, и именно она будет определять его отношение как к конкретной
исторической аргументации, так и к отбору исторического материала для ее построения.
Метаисторическая по своей природе предустановка историка по сути дела
предопределяет саму историческую реальность, как она видится им, по крайней мере в ее
главных контурах. На наш взгляд, структура исторического знания, включая и его
метаисторическое основание, может быть представлена как ряд взаимосвязанных
уровней, причем воздействие аргументации историков, стоящих на
противоположных метаисторических позициях, друг на друга неизбежно ограничено достаточно
поверхностным и наиболее подвижным слоем такой структуры. В общих чертах это
структура с «ядром» и «периферией», между которыми располагаются
промежуточные зоны или уровни. «Ядро» служит здесь метафорой для метаисторического
основания, а «периферия» описывает доступную для взаимовлияний и изменений сферу
исторического сознания. Аналогия с физикой и химией прослеживается в данном
случае достаточно жестко: как ядерные процессы не зависят от состояний
электронных оболочек, ответственных за химическое поведение атомов данного элемента,
24 Yates F. A. The hermetic tradition in Renaissance science. P. 259 // Art, Science and History
in the Renaissance. Baltimore, 1967. P. 255-274.
25 Ibid.
История и метаистория
379
так и в структуре исторического сознания метаисторическое основание не
задевается трансформациями его поверхностных уровней. Однако эта независимость ядер
от периферий как в атомной физике, так и в истории не означает, что нет обратной
зависимости динамики поверхностных слоев от состава ядра.
Вернемся к нашему примеру с тезисом Йейтс об определяющем влиянии
герметического импульса на развитие практической ориентации познания в XVI-XVII вв.
Историк может приводить множество аргументов в пользу такого утверждения.
Но одного правдоподобного контраргумента может оказаться достаточно, чтобы
подтвердить противоположную позицию, согласно которой в герметизме
отсутствует позитивный импульс для движения знаний в направлении к HP и что
помимо вклада его в расшатывание официального аристотелизма он мало что сделал
на самом деле для формирования новой науки. Действительно, если мы, будучи
воспитанными в культуре рационалистических традиций, считаем, что рациональное
познание всегда имеет свои собственные корни и традиции, идущие из древности,
в возрождении которых в эпоху Ренессанса мы и видим основу для формирования
новой науки, то никакой самой богатой аргументации, как это делает не без блеска
Йейтс, в пользу противоположной позиции не будет достаточно для того, чтобы нас
переубедить на уровне метаисторического основания. Убеждения составляют самую
устойчивую структуру ментально-жизненного мира человека, историка в том числе.
Сдвиг в убеждениях, конечно, возможен, но он скорее носит транснаучный характер,
так как они, как правило, не меняются под воздействием прочитанных книг
историков, мыслящих иначе, чем мы сами.
Держатель рациональных аргументов нередко успокаивается в чувстве своей
научности, в которой он отказывает своему оппоненту, имеющему, однако, также
рациональные аргументы в пользу своей интерпретации истории. Если только он
убедился в рациональной весомости хотя бы одного своего аргумента, то он уже
склонен безапелляционно считать своего оппонента сторонником ненаучной идеологии,
препятствующей развитию научного дискурса. Однако его собственная позиция,
пусть это и радикальный рационализм, является не менее пропитанной идеологией,
чем позиция его оппонента, уже постольку, поскольку она предваряет исследование,
предопределяя поле его возможных результатов, а не следует из него. Но иначе, увы,
в исторических науках и быть не может. Как же в таком случае возможно
достижение истины в историческом исследовании?
На наш взгляд, существуют по меньшей мере два способа если и не совсем
преодолеть эту апорию, то по крайней мере в значительной степени смягчить ее остроту
и «непроходимость». Во-первых, нужно признать, что эксклюзивные держатели
исторической истины столь редки (если они вообще существуют), что
практически следует считать, что «местом» возможности исторической истины является
целая система исторически развивающихся дискурсов, спорящих и опровергающих
и/или дополняющих и уточняющих друг друга. Сюда же надо отнести и признание
того обстоятельства, что только полномасштабная дискуссия, строящаяся
рационально, но без шор одностороннего рационалистического догматизма, может помочь
380
Раздел третий
в формировании того дискурса, в рамках которого историк может надеяться на
обретение большей полноты истины об исторической реальности, чем это возможно
в пределах, заданных одной из противоборствующих позиций. Итак, если
историческое исследование в своих результатах зависит от исходных метаисторических
предпосылок или установок историка, то стратегия воли к истине в истории должна
включать в себя развертку дискуссий и полемик, когда одна и та же проблема
решается многими различными по своим установкам исследователями. Это создает для
ее решения объемный предпосылочный контекст и способствует выправлению од-
носторонностей, связанных с неизбежной идеологической и методологической «за-
вербованностью» историка.
Во-вторых, нужно признать, что существует, по крайней мере в
методологической теории, образ «идеального историка», который следует принять за образец. Речь
идет о нормативном образе историка как бы нейтрального по отношению к той или
иной метаистории как предустановочному горизонту. В соответствии с такой
нормой историку (в идеале) должны быть профессионально близки «жесты» всех
исторических эпох, не только тот, что маркирует начало его собственной эпохи, но и те,
что знаменуют собой эпоху, оказавшуюся «побежденною» ею. «Проигранные дела»
истории в конце концов, а практически весьма быстро, находят себе среди
историков влиятельных адвокатов. Таким защитником «стертых» традиций и периодов
всегда осознавала себя и Ф. А. Йейтс, причем задолго до своей знаменитой книги
о Дж. Бруно, где она искусно провела апологию герметической традиции, забытой
под триумфальные фанфары научного рационализма. В своей книге о французских
академиях XVI в. (1947) она специально подчеркивает, что проигранные дела
непременно должны входить в поле интереса историка и что без историки таких
обреченных дел и традиций полной и правдивой истории быть не может. В частности,
история оказалась суровой к той примирительной тенденции по отношению к
распре между католиками и гугенотами, которая развивалась в недрах академического
движения под эгидой Генриха III. «Проигранные дела, — пишет Йейтс, — исчезают
из истории, вытесняемые тиранией свершившегося факта (fait accompli). Но
католицизм французских, католически ориентированных поэтов Плеяды не может быть
понятым без некоторого знания о такого рода проигранном деле»26. Только жесткие
историцистско-прогрессистские доктрины устами своих адептов говорят о «свалке
истории», об историческом ничто или чисто историческом интересе, подразумевая
под ним, что некоторая историческая жизнь полностью исчерпала себя и должна
быть вычеркнута из анналов кумулятивно растущей истины в истории.
«Заблуждения» и «предрассудки» уходят навсегда, — говорит такой историк-рационалист,
как, например, Башляр27. Но на самом деле «ничто» не существует в истории или же
вся она есть «ничто». Над символом прогресса — стрелой прямолинейно идущего
26 Yates F A. The French Academies of the sixteenth Century. L., 1947. P. 208.
27 «Выправленные мысли никогда не возвращаются к исходной точке движения» (Bachelard G.
Le rationalisme appliqué. P., 1949. P. 93).
История и метаистория
381
времени — мечом Дамокла висит круг вечного возвращения того же самого.
Историк в некотором смысле профессионально обязан быть «над схваткой»
исторических сил и эпох. Быть «патриотом» своей эпохи — обычное дело каждого человека.
Но только историк призван быть «патриотом» всех эпох, всей мировой истории.
Это невероятно трудное для осуществления требование, практически даже вряд ли
возможно достичь его реализации в полном объеме, но как идеал, как точку,
фиксирующую полюс стремлений историка, ее непременно нужно обозначить. И
хороший историк в немалой степени обладает этим редким качеством. Одним из таких
историков в XX в. был А. Дж. Тойнби, который умел писать всемирную историю
не только в качестве представителя среднего класса Англии эпохи Британской
империи, но и пером подданного Оттоманской империи, видеть ее не только из
лондонского кабинета Четем-Хауса, но и из лачуги египетского феллаха. И он сумел
высказать те истины об экспансионистской сути западной цивилизации, которые сейчас,
мягко говоря, непопулярны. Тойнби был чуток ко всем «проигранным» делам и
потерпевшим крах традициям, потому что понимал, что «традиция прошлого — это
также и волна будущего»28.
Кроме того, историк, следующий нормативу «идеального историка», обязательно
должен принять во внимание контрпример, обращая особое внимание на моменты,
говорящие не в пользу его рабочей гипотезы, которую он не спешит выдать за
концепцию и тем паче за саму историческую истину, а против нее. И если он это делает
во всем доступном ему объеме, следуя требованиям такого норматива, то его
исторический нарратив будет обладать некоторыми признаками дискурса,
нагруженного большей истинностью, чем дискурсы сторонников наперед заданных доктрин
и установок, не утруждающих себя такими нормами. Дополнительно подчеркнем
еще один момент. Историк, подобно писателю в России, должен жить долго, для того
чтобы испытать на прочность не только те суждения, что локализуются в лабильной
зоне исторического сознания, но и те, что образуют его глубинные и
малоподвижные предпосылочные слои. В таком случае он может развить способность к
перевоплощению в своих персонажей, представляющих порой самые чуждые ему по
обстоятельствам его жизни традиции и менталитеты.
Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М.; СПб., 1996. С. 272.
ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ:
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Античные мыслители, в частности Аристотель, мыслили время, равно как и
пространство, неотделимым от самих вещей условием их бытия и движения. «Вне
Неба, — читаем у Аристотеля, — нет ни места, ни пустоты, ни времени» (О Небе,
279а7). Времени, рассуждает Стагирит, нет без движения тел, так как «время есть счет
движения» (279а15). Для Аристотеля не может быть «пустого» времени, как не
существует для него и «пустого» пространства — пустоты. Время Аристотеля биоморфно,
т. е. в основе представления о времени у Стагирита лежит опыт живого существа,
знающего о старении и смерти и о рождении других существ. И эта «витальность»
представления Аристотеля о времени проявляется в том, что сама вечность у него
мыслится не как нечто «вневременное», а как своего рода особое время —
беспредельное «дление» или длительность, в течение которой ничего не изменяется. То, что
«есть навеки», существует «вечно», и таким свойством обладает вся Вселенная или,
как ее называет Аристотель, Небо (ουρανός).
Современная наука, преодолевая ограниченность классического естествознания,
вступает в плодотворную «идейную перекличку» с античным наследием. Например,
теория относительности Эйнштейна ближе к представлениям древних о
пространстве и времени как свойств бытия неотделимых от порядка вещей и порядка их
движений, чем к ньютоновским представлениям об абсолютных пространстве и времени,
мыслимых как совершенно индифферентные по отношению к вещам и их
движениям, как независимые от них. Развитие познания — не прямолинейный, «гладко»
совершаемый прогресс, все дальше и дальше уносящий нас от исходной точки —
от мифа и античного знания. Действительно, в большом историческом треугольнике
(миф — классическая наука — современная наука) античная наука занимает
«эксцентричное» положение: она располагается ближе к мифу и одновременно ближе к
современной науке, но, хотя это и выглядит парадоксом, значительно дальше отстоит
от классической науки, в центре которой находится механика Ньютона. Поэтому,
преодолевая классическую науку с ее постулатом исключенности субъекта
познания из мира, им описываемого в теории, а также с постулатом независимости
условий движения (пространства и времени) от самих движущихся тел, современная
наука вновь воскрешает мышление древних, но теперь уже не в рамках отвлеченного
умозрения, а в качестве экспериментальной науки, опытно проверяющей свои теории.
Основную дилемму представления о времени в классической и современной
науке можно кратко сформулировать так: или предсказуемая обратимость, или
Проблема времени: синергетинеский подход
383
непредсказуемая необратимость времени. Эта же дилемма может быть
представлена и по-другому: или бесконечное разнообразие несводимых друг к другу времен
(что, впрочем, не означает отсутствия глубинного единства времени), или абсолютно
единообразное для всех вещей и процессов время. К признанию и познанию
множественности времен современная наука пришла, отказавшись от абсолютного
унифицированного времени классической механики. Тезис о времени как непредсказуемой
необратимости не означает, что время непознаваемо. Нет, оно доступно познанию,
но познанию меняющемуся, вводящему в свой аппарат новые и неожиданные
категории, включающему в объективное описание природы самого познающего
субъекта, его познавательную коммуникацию. Это означает, что «объективное» время
природы включает «субъективное» время коммуникации с ней — время измерения,
время сообщения, время вопрошания природы и т. п. Такую попытку ввода времени
в саму ткань научного мышления о мире мы находим в работах Ильи Пригожина,
одного из создателей термодинамики неравновесных процессов, ищущего
теоретико-физический смысл необратимости и самоорганизации.
Пригожий стремится синтезировать в единое представление два образа времени:
время «траектуарное», время классической динамики с определяемыми ею
траекториями движения, время «внешнее» (т. е. время независимое от вещей, абсолютное
и изолированное, время идеальных часов и маятников) и время «внутреннее»,
неотрывно связанное с самими вещами, в частности с живыми организмами, которое
для них выступает как «биологическое время», как возраст, как время жизни.
Для описания зон устойчивости и равновесия достаточно внешнего времени
классической науки. Но так как для более полного описания природы требуется
рассмотрение и зон слабой устойчивости (la stabilité faible), то представление о внешнем
времени нужно, как считает Пригожий, дополнить представлением о внутреннем
времени. Реальное время слагается из совместного течения обоих видов времени,
определяя реальное становление, возникновение вещей и их преобразования. Вводя
для внутреннего времени оператор времени (Т), Пригожий приходит к квантованию
времени — идея, которая в античности была продумана и принята в физическую
систему Эпикуром и его школой.
Разрыв между человечески-реальной озабоченностью временем — когда,
например, говорят, что не хватает времени, — между раздумием о беге времени, о судьбе,
о будущем, о прошлом, о настоящем (в котором кажутся соединенными все
разошедшиеся нити времени), с одной стороны, и описанием времени в точных
науках — с другой, разрыв, короче говоря, между гуманитарным и
естественно-научным аспектами времени, казавшийся ранее непреодолимым, теперь стал заметно,
на наших глазах, сокращаться. Классическая наука говорила о времени так, что вся
ее речь казалась — и не без оснований — молчанием о самом главном во времени —
о его гуманитарной значимости. Известно, что все уравнения классической науки
и даже уравнения квантовой механики и теории относительности инвариантны
относительно обращения времени (t -> -t). Это означает, что во всех этих уравнениях
и, следовательно, можно сказать в науке вообще, за исключением термодинамики
384
Раздел третий
(лучше сказать, термодинамик с их законом роста энтропии в изолированных
системах) время обратимо, а следовательно, его фактически в ней и нет.
Действительно, время есть тогда и только для тех вещей, процессов, случаев, когда прошлое,
настоящее и будущее связаны односторонней необратимой связью — стрелой
времени. Обратимое время — это сведенное к пространственно подобным связям
квазивремя, раз можно возвращаться назад в прошлое. Без нередуцируемой к
настоящему триплетной структуры времени (прошлое — настоящее — будущее) времени,
строго говоря, нет.
Философия зафиксировала этот разрыв во множестве оппозиций, до сих пор
расщепляющих некогда единое древо человеческого познания. Именно отношение
ко времени стало решающим в возникновении двух несводимых друг к другу, если
не прямо враждебных, культур — культуры естественно-научной и гуманитарной.
Вспомним спор физиков с лириками — в нем прочитывается столкновение двух
противоположных концепций времени, а именно Ньютона и Бергсона, концепций,
которые, казалось бы, непримиримо сталкивают физика с философом, а
математика — с психологом. У Ньютона истинное время — это абсолютная, безразличная
к самим вещам равномерно текущая длительность как предельное условие их
движения, в принципе, несомненно обратимая, представленная в виде непрерывной
траектории, которая может проходиться телом как в одном, так и в другом, обратном,
направлении. У Бергсона время — «творческая эволюция», созидательный «порыв»
виталистически понимаемого бытия, стрела творчества, пронизывающая бытие
изнутри и данная каждому в его внутреннем чувстве — в интуиции длительности
и скоротечности всего сущего «под солнцем». Различие между этими двумя
установками на природу времени по-другому ярко выразил еще Спиноза в своем учении
о природе сотворенной (natura naturata) и природе творящей (natura naturans). Мир
Ньютона и выступил как грандиозный мир сотворенной готовой природы,
напоминающий гигантский часовой механизм, нуждающийся для своего движения в руке
Часовщика. В противоположность ему мир Бергсона предстает как одушевленный
мир творческого жизненного порыва, мир непрерывного становления. Если мы
спустимся еще дальше в глубь веков, то ту же самую противоположность в понимании
времени мы обнаружим, столкнув философию Парменида, отрицавшего всякое
изменение, движение, время, и философию Гераклита, учившего, что мир есть
непрерывный процесс, своего рода горение или безостановочное течение.
Итак, философия и наука нам оставили двойственность в подходе и к миру,
и ко времени: бытие или становление, завершенность или творческая
незаконченность. И самое значительное устремление современного знания мы видим в том,
чтобы на обновленной научной основе преодолеть этот тысячелетний разрыв.
Как же это возможно? Исходя из каких позиций? Обратим внимание прежде
всего на нас самих — мы представляем собой, как мы уже подчеркнули, «стрелы
времени»: каждый индивид (и все человечество) есть «стрела» Вселенной, «стрела»
космической эволюции в ее незавершенности, в ее становлении — «полете». И чтобы
нам понять время Ньютона, нам, образно говоря, нужно представить себя «стрелами
Проблема времени: синергетический подход
385
времени» с обломанными наконечниками. Действительно, ведь у Ньютона время
не стрела, а прямая линия. Образ стрелы — образ времени с необратимой и
нелинейной природой, а образ стрелы, лишенной наконечника* — образ обратимости
и линейности связей. Однонаправленный вектор, «стрела» — образ более богатый,
и, исходя из него, мы можем понять образ более простой, образ «линии». Будучи
сами необратимо вмешанными в «односторонний» поток времени, мы можем
понять и природу обратимости.
Итак, образно ситуацию с познанием времени (а познание времени лежит в
центре познавательной деятельности вообще) мы можем представить в следующем
виде. Мы сами как познающие субъекты включены во время и, фигурально говоря,
суть летящие «стрелы времени». Поэтому, познавая время, мы познаем самих себя.
Прежде всего, мы упрощаем нас самих, и тем самым, как бы отламывая наконечник
у стрелы времени, становимся способными понять линейное и обратимое время
классической науки. Но мы теперь хорошо знаем, что это время — абстракция, что
в природе и в нас самих кроется принципиальная необратимость, и мы пытаемся ее
реконструировать, и не безуспешно, так как она не является для нас непознаваемой:
ведь мы сами — необратимы, а подобное, как считали еще древние, например Эм-
педокл, познается подобным.
Если речь идет о познании времени, а именно об этом мы говорим, то обращение
к пространственному измерению мира становится неизбежным. Ключ к пониманию
пространства — в разгадке природы времени, так как изобилие пространственно
заданных форм природы не более чем «музей Времени», копилка эволюции. И
поэтому если науке удастся понять принципы становления, возникновения и
самоорганизации, то она, конечно, включит в новую науку об эволюции мир науки о
ставших предметах. Логика процесса — богаче логики завершенного предмета.
Эти принципы мы видим в действии в том проекте преобразования
теоретического естествознания, который осуществляет школа Пригожина и другие
исследователи, ищущие разгадку процессов спонтанной эволюции, стихийно идущего
упорядочивания в мире естественных процессов.
Время изучают все науки — как естественные, так и гуманитарные. Не правы
те философы-физикалисты (они принадлежат в основном к позитивистскому
направлению в философии), которые считают, что научное изучение времени есть
привилегия физики. Все науки изучают время, но изучают его не прямо, а косвенно.
Время — не вещь вроде физических тел, хотя в древности у скептика Энесидема (I в.
до н. э.) было учение, отождествляющее время с телом. Например, изучая проблемы
электродинамики движущихся тел, Эйнштейн нашел свойства времени, ранее
бывшие неизвестными.
Когда мы в обыденной жизни задумываемся над временем, то представляем себе
прежде всего единицы его измерения — секунды, минуты, часы, дни. Мы замечаем,
что в этих единицах количественно выражено дление, длительность, т. е. именно
сохранение чего-то: «длится день» — значит, он удерживает себя, сохраняется.
Дление, продление — это термины, относящиеся к сохранению, к удержанию вещи или
386
Раздел третий
процесса в тождестве с собой. Дать кому-то или чему-то продлиться — значит дать
ему сохраниться, удержаться в его тождестве с собой. Итак, мы констатируем, что
обычный анализ времени, совершаемый обыденным сознанием, говорит нам, что
время — длительность, дление. Таким же, собственно, было время и у Ньютона,
уточнившего характеристики дления. Но при этом обычно не замечают, что дление
означает сохранение чего-то, а если нечто сохраняется, то для него времени как бы
и нет вовсе. Бесконечное дление было бы полным исключением бесконечно
длящейся вещи из времени. Чистое дление — это уже «вечность» или почти вечность.
Именно так вечность и понималась, например, у Платона и у некоторых других
философов. Важен сам водораздел в подходе ко времени и вечности, возникший с
приходом в мир христианства. В языческой античности сам мир был вечен (например,
так у Аристотеля). Согласно христианскому мировоззрению, началом времени
выступает нетварная вечность Творца. Структура связей вечности и времени, с одной
стороны, равно как и подструктура самих вечности и времени, значительно
усложняется в христианской мысли по сравнению с дохристианской античностью. В
частности, христианские неоплатоники пришли к идее абсолютно вневременной вечности
как совершенно особой реальности, ничего общего с нашей реальностью,
погруженной во время, не имеющей. Иерархически сложное строение онтологии и
космологии означает и столь же сложное устроение вечности и времени. Св. Фома цитирует
такие слова блаж. Августина: «Духовные твари, что касается их состояний и умов,
измеряются временем (изменение состояния есть движение во времени). Что
касается их природы, то они измеряются веками веков; что же касается их видения славы,
то тут они сопричастны вечности»1. Не претендуя на полноту и даже на
неоспоримую точность, дадим тем не менее список основных видов вечностей и времен в
богословской мысли святых отцов: несотворенная Вечность Творца, тварная вечность
ангельского мира, сотворенное чистое время (веки веков, промежуточное между
Вечностью и временем время), тварное время до грехопадения, падшее время,
искупленное, или восстановленное, время...
Мы всерьез сталкиваемся со временем тогда, когда происходят перемены — и чем
они резче, неожиданнее, круче, тем с большей неумолимостью нам открывается
природа времени. Недаром свойство вещей находиться во времени называют
«бренностью», т. е. способностью к радикальному изменению — к исчезновению вещей
в их решительной трансмутации. И эта обыденная интуиция времени как
непредвиденного случая, как катастрофы, как неумолимого, круто меняющего все потока,
течение которого трудно, если вообще возможно, предвидеть и которым нелегко
управлять, если вообще возможно управлять, — такая интуиция глубже раскрывает
природу времени, чем интуиция чистой длительности, когда вещи или их состояния
остаются равными себе, не претерпевая глубоких изменений.
Синергетический проект понимания времени, который здесь мы в самых общих
чертах набрасываем, приводит нас к поиску соединения разных, даже разнородных
1 Св. Фома Аквинский. Сумма теологии. Ч. 1, вопросы 1-43. Киев; Москва, 2002. С. 104.
Проблема времени: синергетинеский подход
387
по природе времен. Время, изучаемое в такой науке, как, скажем, этика, и время,
изучаемое в физике, могут и должны быть постигнуты в их глубоком единстве. Мы
убеждены, что, несмотря на многообразие вещей, наук и времен, связанных с
различными вещами и процессами, время сохраняет свое внутреннее единство.
Действительно, связь времени с конкретными вещами означает, что время только в
искусственно построенной абстракции можно оторвать от пространства или пространств,
так как пространств, как и времен, тоже много. Эта принципиальная связь времени
и пространства была открыта как в физике (теория относительности), так и в
других науках (например, понятие хронотопа). Существуют и другие общие свойства
времени, которые мы постараемся выявить, возвращаясь к нашему рассуждению
о времени в физике и в этике.
Этическое пространство, в котором живет человек (хочет он в нем жить или
нет), связано с особым временем — временем как возможностью ошибки, проступка,
падения, греха и т. п. и временем как возможностью исправления ошибки —
искупления, раскаяния и т. п. Если бы человек был абсолютно совершенным существом,
тогда бы он находился вне этического времени и вне времени вообще — он был бы
не способен на ошибку и, следовательно, на ее исправление. Но человек — существо
несовершенное. Эта фраза означает не только то, что человек способен и к ошибке,
и к ее исправлению. Именно способность ошибаться — ошибаться, если угодно,
роковым образом, непоправимо, серьезно, ставя под удар свою жизнь и жизнь других, —
и совмещенная с ней способность исправления ошибки через раскаяние, через
осознание ошибки и открытие ее причин, через прояснение сознания и самоизменение
и означают, что человек как этическое существо живет в особом времени — времени
этического действия и этической ответственности.
Но как можно связать это все с физикой? Можно, потому что человек — единое
целостное воплощенное существо: физическое тело, наделенное волей, разумом,
сознанием и этическими способностями — совестью, чувством ответственности,
способностью различать добро и зло. Дело в том, что в физике и этике различны только
лингвистические средства выражения феномена времени, а выражают они одно
и то же или, во всяком случае, близкое, в принципе сопоставимое. Действительно,
в физике временной поток дан как борьба энтропийных и негэнтропийных
процессов, как борьба хаоса и порядка, структурного восхождения тел и их деградации.
Но эта оппозиция коррелирует с этической оппозицией добра и зла. Сохранение
жизни, ее развитие, ее утверждение в этике — если и не во всех этических системах,
то во многих и наиболее близких к нам и по времени, и по культуре —
ассоциируются с добром (например, этика благоговения перед жизнью А. Швейцера).
Уничтожение же жизни, ее разрушение ассоциируются соответственно со злом (например,
заповедь «не убий»). Теория необратимых процессов в физике дает нам
общетеоретический язык для описания не только физического, но и этического времени, в
особенности его «топологических» свойств: ошибки или «падения» и ее исправления
как нравственного очищения. Действительно, согласно теории необратимых
процессов, развиваемых И. Пригожиным и его школой, в «жизни» физических систем,
388
Раздел третий
периоды стабильности чередуются с периодами слабой стабильности, когда
незначительная флуктуация может привести к значительным и необратимым
преобразованиям системы — как в «положительную» сторону, т. е. в направлении
совершенствования ее структуры, повышения негэнтропии, так и в сторону ее деградации
и упадка. Системы, находящиеся вдалеке от термодинамического равновесия,
обладают памятью — их эволюция зависит от их прошлого, это, таким образом, системы,
для которых их история является глубоко значимым фактором. Поэтому такие
системы могут моделировать не только этическое «падение», но и этическое
«очищение», которое совершается в горизонте именно «памяти» и «совести» — одно
понятие не существует без другого.
Нам важно подчеркнуть следующее обстоятельство. «Выброс» физического
и этического времени, его вторжение в мир совершается именно в моменты
прохождения бифуркационных точек — точек повышенной неустойчивости, или метаста-
бильности, когда физическая система или человек стоят в позиции «решения»,
«выбора». Сам выбор или решение совершается флуктуативно в обоих случаях. И именно
эта флуктуативная природа «решающего» времени сближает время в этике со
временем в физике. И это неудивительно, так как для научного сознания человек —
высокоорганизованный физический объект, который именно в силу своей
организации и ее поддержки получает и свойства этического существа как трансфизического
субъекта. Ведь в конце концов этическое мышление совершается в человеке по
законам физики, хотя при его описании мы и не можем отвлечься от анализа общества
и культуры. Мир этики и мир физики — один мир (вопреки Канту). Это тот мир,
в котором мы живем, боремся, созидаем и умираем, передавая наше творчество, сам
его импульс и пафос новым поколениям.
Итак, мы можем подвести итоги. Время существует потому, что мир сотворен,
сложен, противоречив, и борьба в нем поэтому неизбежна. Время существует
потому, что мир несовершенен, и поэтому он по сути своей есть борьба за возможное
совершенство — за негэнтропию, за творчество, за созидание более сложных и
тонких и более невероятных и хрупких структур, за достижение моральной ясности,
глубины сознания и ответственности человека. Эта борьба и это время — время борьбы,
время ошибок и их исправлений — совершаются как единый процесс в физическом
и в этическом его измерениях.
Что же такое время? Мы уже сказали, что наиболее глубокие «слои» его природы
обнажаются тогда, когда мы — в природе или в обществе — сталкиваемся с
непредсказуемой необратимостью событий. Само мышление о времени провоцируется
именно фактом необратимости: «Порвалась связь времен», — рассуждает Гамлет
в критический период истории своей страны. Время, таким образом, раскрывается
не как равномерное «дление» или «длительность», а как именно нарушение «дле-
ния»: нарушение равновесия. Время обнаруживает себя как спонтанность с
труднопредсказуемым поведением. И это способное к катастрофам, нелинейное
«течение» самопорождающихся состояний, или «диспозиций», вещей и процессов и есть
само «тело» времени — ив физике, и в этике, и во всех остальных науках о природе
Проблема времени: синергетинеский подход
389
и человеке. Мы мало что — в пределе ничего — можем сказать о времени,
анализируя «секунду»: она относительна, зависит от состояния движения тела, от их
потенциалов гравитации и от других физических величин. В качестве же чистой
неизменной «секунды» время выступает как чистая «длительность», т. е. именно как
невремя, так как при состоянии «дления», как мы уже отмечали, вещь сохраняет
самотождественность, а без перемен — и именно радикальных перемен — времени
и нет совсем. Поэтому мы ищем природу времени в нелинейных спонтанных
процессах, в тех «местах» эволюционных траекторий, где происходит слом устоявшейся
эволюции, перемена в ритме и силе истории, крупная метаморфоза организма или
популяции. Иными словами, мы ищем природу времени в сингулярностях — как
в физических, космологических, геологических и т. д., так и в этических и
исторических. Иными словами, мы считаем, что время глубоко раскрывается именно в
«импульсах времени» — в «мертвых точках» выбора решений, неустойчивости любого
рода, захватывающих саму судьбу системы, ставящих под вопрос само ее
существование. В физике теория уже начинает давать средства для анализа таких ситуаций.
Точно так же и гуманитарное знание стремится сейчас к анализу именно таких зон
неустойчивости (теория революций — социальных и научных, концепции
этического «просветления» и т. п.).
Время глубоко связано с тем, что философы называют, начиная с Аристотеля, —
возможностью. «Темпоральная онтология», о которой много говорят особенно после
работ Хайдеггера, есть, прежде всего, онтология возможности. В чистом,
абсолютном акте, т. е. в абсолютной действительности (actus purus), времени как бренности
не существует. В мире, где есть одна «действительность», где «возможности» не
существуют, не существует и времени. Время есть труднопредсказуемое создание и
исчезновение, переоформление подвижного ибо открытого «пакета возможностей» того
или иного существования. В частности, такой важный момент жизни (времени), как
смерть живого существа, есть редукция подвижного множества его возможностей
к единице — к одному-единственному значению, к одной-единственной
возможности, а именно к возможности умереть, которая, будучи одной, тут же, став
единственной, незамедлительно превращается тем самым — в действительность.
Существо с редуцированным до единицы значением количества пакетированных в нем
возможностей немедленно умирает. Оно умирает именно потому, что жизнь —
неопределенное многообразие взаимосвязных возможностей.
Время на уровне абстрактных рассуждений есть порядок вещей и процессов при
«выключенном» пространстве, т. е. порядок как бы в «точке». Но пространство не-
выключаемо иначе чем только в мысленной абстракции — в действительности
пространство всегда «включено» в единство мира и сплетено со временем. Поэтому
реальным порядком вещей-процессов является только пространственно-временной
порядок. Точки сингулярностей есть хронотопические узлы, в которых относительно
надежная устойчивость мутирует в очень шаткую — в метастабильность, в зоне
которой возможно лавинообразное усиление самых незначительных по величине
флуктуации вплоть до полного преобразования всей системы. Физика, которая стремится
390
Раздел третий
включить в свою теорию творческие потенции природы, неизбежно сливается с
гуманитарным знанием. И это великое объединение наук возможно именно на путях
построения единой концепции времени. Начало этому, как нам кажется, положено
в неравновесной термодинамике, а также и в других направлениях, связанных с
теоретическим описанием процессов самоорганизации (синергетика, концепции
эволюции и т. п.). Тот факт, что в нашем мире существует время, равносилен тому, что
существовать в нем означает совершенствоваться с риском, пытаться
совершенствоваться в борьбе, рискуя потерять достигнутый уровень организации и совершенства.
Познание времени само совершается во времени. Это — существенно, хотя и
кажется банальностью. Ситуация напоминает вычерпывание воды из решета
решетом же. Абсолютного эталона времени нет и быть не может — все вещи и процессы
в нашем мире несовершенны, т. е. включены во время, а поэтому никакой
«внешней» позиции абсолютного наблюдателя по отношению к временным процессам быть
не может. Ньютоновское время и было такой абстракцией: будто бы в мире
сплошных «решет» был создан абсолютно непроницаемый для «воды становления»
черпак — система классической механики. Но история показала, что и он «дыряв», что
и сама классическая механика имеет вероятностную статистическую природу, а ее
системы вовсе не исключают нелинейных процессов со скачкообразной сменой
состояний в зонах метастабильности.
Итак, у нас еще есть время, чтобы подумать о времени — но его у нас не
беспредельно много. Поэтому думать, познавать, выбирать, творить, принимать решение
надо сейчас, теперь — иначе мы потеряем необратимо время — т. е. нам достанется
только Ошибка без Времени для ее исправления.
АРХЕОЛОГИЯ ЗНАНИЯ МИШЕЛЯ ФУКО
Археология знания (A3) Мишеля Фуко представляет собой попытку построения
новой неклассической эпистемологии и методологии гуманитарного знания. A3 Фуко,
созданная в 60-х гг. XX в., в полном соответствии с гегелевской формулой
философии как «духа времени, схваченным в понятиях», ярко выразила общее
умонастроение философствующих интеллектуалов Франции. Это умонастроение было метко
охарактеризовано К. Гутманом:
Очень четко вырисовывается яростная оппозиция всякой попытке философской
интеграции. Пробил час, когда никто больше не хочет быть философом. Та область, исследовать
которую были призваны философы, кажется отныне и слишком обширной, и слишком
бесплодной. Поиски ответа на кантовский вопрос Was ist der Mensch? утрачивают свой смысл \
Философия, понимаемая как разработка ответа на радикальное антропологическое
вопрошание, кажется теперь безнадежно устаревшей. В гуманитарно-философской
культуре Франции во второй половине XX в. комплекс «гуманизм — антропология»
оказывается наиболее популярной мишенью для критики. В этой духовной
атмосфере, питаясь ею и в свою очередь создавая ее, и возникает A3 Фуко.
В соответствии с духом времени в центре внимания философа Фуко стоит не
философия, а знание как теоретико-методологическая абстракция, с одной стороны,
и как специфические конкретно-исторические феномены в их генезисе и
функционировании — с другой. В плане такой абстракции знание понимается предельно
широко, так что в это понятие входит и философия, и наука, и даже литература.
В этой работе мы рассмотрим как основные идеи A3, так и их оценку в первой
«волне» западных работ, посвященных Фуко и его творчеству и появившихся вскоре
после публикации его книг, в которых он выдвигает и развивает свою концепцию
археологии знания.
I
Основные идеи A3 были выдвинуты Фуко в работе «Слова и вещи»2,
появившейся в 1966 г., по отношению к которой последовавшая за ней «Археология
1 Gutman С/. L'avant-mai des philosophes // «Magazine Littéraire». P., 1977. Sept. P. 127-128.
2 Foucault M. Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines. [P.]: Gallimard,
[1966]. 400 p. (Bibl. des sciences humaines.)
392
Раздел третий
знания»3 представляет, по замыслу автора, «технически» подробную разработку
соответствующего A3 методологического аппарата. Принимая это во внимание, мы
попытаемся обрисовать, говоря словами самого Фуко, то «пространство», в горизонте
которого разворачиваются и сцепляются его идеи. При этом нужно заметить, что
проблематика, которой занят Фуко, не является ни проблематикой теории познания
в традиционном смысле слова, ни проблематикой анализа научных теоретических
структур. В центре построения Фуко стоит проблема возникновения знания о
человеке. Знание производится мышлением в определенных условиях. Их выявление
и составляет задачу Фуко. Естественно, что он не рассматривает всей сферы,
внутри которой возникает знание, аккумулированное в науках о человеке. Чтобы
представить себе вычленяемый им сегмент этой сферы, нужно обратиться к исходным
предпосылкам его подхода.
Основная содержательная предпосылка его концепции состоит в том, что
мышление всегда есть мышление в категориях порядка, что мыслить — значит располагать
«вещи» в «словах» в определенном порядке. Согласно Фуко, есть некое
многослойное пространство возможного знания, есть определенный глубинный слой в этом
пространстве, который задает разнообразные системы порядков, характеризующие
различные эпохи. Иначе говоря, это пространство обладает возможностью
образовывать определенные «конфигурации, обусловливающие возможные формы
эмпирического познания»4. История знания, даваемая в плане эпистемы,
«эпистемологического поля» — это история возможности знаний, а не история действительных
знаний. Такая нетрадиционная история знания и есть A3.
Археология знания мыслится Фуко прежде всего как подход, противоположный
традиционной истории науки и философии. Ее задачей является не анализ
«последовательно возникающих тем, порождающих или выталкивающих друг друга», но
анализ «неповторимой сети необходимых связей», являющейся не диахронной, а
синхронной. Эта сеть, говорит Фуко, порождает исторических персонажей, опираясь
на которые обычно строит свое описание история идей и наук. Задача
археологического подхода была сформулирована французским философом таким образом:
«Нужно воссоздать всеобщую систему мышления, сеть отношений которого... делает
возможной игру одновременно высказываемых и кажущихся противоречивыми
мнений»5. Всеобщая система «глобального мышления» детерминирует все те феномены,
которые традиционная история связывает с личностями, с борьбой мнений, со
сменой понятий, тем и т. д. Говоря о формировании классической эпистемы в XVII в.,
Фуко подчеркивает, что «именно эта сеть необходимых связей породила такие
личности, как Т. Гоббс, Дж. Беркли, Д. Юм и Э. Б. Кондильяк»6. Эта, как говорит Фуко,
3 Foucault M. L'archéologie du savoir. [P.]: Gallimard, 1969. 275 p. (Bibl. des sciences humaines.)
4 Foucault M. Les mots et les choses. P. 13.
5 Ibid. P. 89.
6 Ibid. P. 77.
Археология знания Мишеля Фуко
393
«фундаментальная сеть отношений» определяет историчность знаний, его единство,
несмотря на внешнюю борьбу и кажущуюся противоречивость различных подходов
и систем. Названные выше понятия не выводятся, не опосредуются видимым
образом какими-то другими: они входят в систему постулатов A3 Фуко.
Концепция археологии знания в «Словах и вещах» была развита на основе се-
миотико-культурологического подхода. Речь (discours)y образующая само «тело»
знания, рассматривалась как ансамбль знаков, т. е. статически. Этот статико-семи-
отический подход сменяется в последовавшей за книгой «Слова и вещи» работой
динамико-деятельностным «лингвистическим» подходом. В центре концепции A3,
развиваемой в «Археологии знания», лежит понятие «речевой практики». Согласно
этой концепции знание оформляется не благодаря «застывшим» семиотическим
конфигурациям, а благодаря подчиненной определенным правилам речи как
практики. Само расчленение познавательной ситуации на «вещи» и «слова» оказывается
теперь неадекватным новому подходу: «В анализе, который я предпринимаю, —
говорит Фуко, — слова столь же отсутствуют, сколь и сами вещи»7. Конечно, речь как
речевая практика состоит из знаков, но она никоим образом не сводится к функции
обозначения вещей, она есть нечто большее: «именно это "большее", делающее речь
несводимой к языку и слову, нужно выявить и описать»8.
Переход от статики к динамике, от семиотики к анализу речи как сугубо
практической деятельности приводит к усилению социологической составляющей в
методологии Фуко. К социологическому подходу он приходит в ходе критического
переосмысления основных понятий первой версии A3, выдвинутой в «Словах и вещах».
Правда, в «Археологии знания» такой подход присутствует еще в недостаточно
четкой форме. Перенесение акцента на социологические инварианты продуцирования
и функционирования знания с полной ясностью обнаруживается в работе,
последовавшей сразу за «Археологией знания», а именно в «Порядке дискурса»9. Фуко ставит
здесь своей задачей анализ производства речей (дискурсов) в обществе, причем
различия между философией, наукой, литературой им сознательно не проводится. Он
говорит, что «во всяком обществе производство речи всегда контролируется,
отбирается, организуется и распределяется посредством ряда способов, имеющих своей
целью овладеть способностями и опасностями речи, ее последствиями, избежать ее
тяжелой устрашающей материальности»10.
Другим отличием концепции A3 в «Археологии знания» от ее первого
варианта является перенос акцента с анализа синхронных единств на анализ
исторических, т. е. в диахронии выявляемых разрывов, дисперсий и порогов. В концепции A3,
7 Foucault M. L'archéologie du savoir. P. 66.
8 Ibid. P. 67.
9 Foucault M. L'ordre du discours. Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 déc. 1970.
[P.]: Gallimard, 1971.82 p.
10 Ibid. P. 10-11.
394
Раздел третий
развитой вначале, Фуко тоже описывает переходы от одной эпистемы к другой. Эти
переходы, даже и охарактеризованные как разрывы, позволяют, однако, установить
связь и, в известном смысле, «преемственность» между эпистемами и культурами
смежных эпох. Напротив, замысел всех концептуальных построений Фуко в
«Археологии знания» состоит в разработке методологии мышления не в понятиях единства,
а в понятиях разрыва и различия. Исследование систем речи (archives)y говорит Фуко,
«устанавливает, что мы сами являемся различными, что наш разум есть различие
речей, наша история — различие времен, а наше "Я" — различие масок» п. Такая
переориентация мысли с непрерывности истории познания на анализ разрывов приводит
к тому, что сама проблема единства оборачивается проблемой «разреза и предела»12.
В этом смысле A3 противопоставляется Фуко и традиционной философии, и
традиционной истории науки. Философия, как считает Фуко, с чрезмерной легкостью
интегрирует другие отличные от нее области в свое якобы «универсальное»
мышление. Отбрасывая претензию традиционной философии на универсализм, он
стремится осуществить синтез всего гуманитарного знания на другой основе, а именно
на основе нового — археологического — анализа «речевых практик», исследования
их генезиса и функционирования совместно с «неречевыми практиками», среди
которых, как это показывают последующие работы Фуко, наиболее существенной
является система практик политического порядка13.
Инвариантное ядро всей A3 можно определить, что и сделала критика, как
«систематизм» Фуко. Этот «систематизм» самым тесным образом связан со
структуралистской традицией в гуманитарных науках. Социокультурный «систематизм» Фуко
нацелен на то, чтобы, сделав фокусом понимания безличную систему, «лишить
субъекта. .. его роли социального основания, анализируя его как изменчивую и сложную
функцию речи»14.
Какие же основные трансформации претерпевает традиционный понятийный
аппарат философии и методологии истории в поле «археологического» зрения, в ходе
анализа речевых фактов? Во-первых, объект истории (идей, наук, мышления) выступает
теперь в своей нейтральности, становясь просто «популяцией событий в пространстве
речи как таковой»15. Объект очищается от вносимых исходными понятийными
единствами идеологических оценок, пристрастий эпохи, позиций социальных групп и т. п.
Во-вторых, в поле речевых фактов идея исторического знания выступает как «чистое
описание речевых событий... как горизонт поиска образующихся при этом единств»16.
11 Foucault M. L'archéologie du savoir. P. 172-173.
12 Ibid. P. 12.
13 Foucault M. Histoire de la sexualité. T. 1. Volonté de savoir. P.: Gallimard, 1976. 211p.
14 Qu'est-ce qu'un auteur? Exposé: M. Michel Foucault. Discussion: M. de Gandillac, L. Goldmann,
J. Lacan e. a. //«Bull, de la Soc. franc, de Philosophie». P., 1969. a. 63, No. 3. P. 94.
15 Foucault M. L'archéologie du savoir. P. 38.
16 Ibid. P. 38-39.
Археология знания Мишеля Фуко
395
Однако здесь возникает серьезная опасность механического переноса в
методологию и эпистемологию всего гуманитарного знания методов и понятий лингвистики.
Правда, Фуко стремится избежать лингвистического редукционизма, подчеркивая,
что его задачей является фиксация более «глубокого» уровня языка и речи, чем
уровень, изучаемый лингвистикой. Он размещает свою «строительную площадку» для
построения концептуального аппарата A3 между лингвистикой и традиционной
философией и историей, полемически отмежевываясь от них. Традиционная
история трансцендентна по отношению к речевой стихии, считает он, занимаясь
редукцией речевых фактов к внеречевым «фикциям» (субъект, автор и т. п.) и
разрабатывая способы перехода от речи к внеречевым «тотальностям», способы «угадывания»
за текстом внетекстовых «реалий». Фуко предполагает новую ориентацию
исследования: на имманентный анализ речи как таковой. Речь описывается как данность.
Направленность анализа на фиксирование речевых формаций означает как бы
«овеществленное», «холодное» описание речевых фактов «вместо реконструкции цепей
умозаключений (как это делается часто в истории науки или философии), вместо
установления дифференцирующих таблиц (как это делают лингвисты)»17.
Попытка углубить археологический подход подобным образом делается Фуко
на том «микроуровне» анализа, на котором выявляется «атом речи» —
высказывание (énoncé). Высказывание — больше, чем ансамбль знаков, больше, чем
определенное значение, больше постольку, поскольку оно берется как практика. Именно
речь-практика осуществляет познавательную функцию. Именно в ней как
деятельности в область знания переходит то, что знанием не являлось. Главное, что
подчеркивается Фуко при характеристике высказывания, это его функциональная природа:
«Не надо удивляться, что мы не смогли найти структурных критериев единства
высказываний; высказывание не является единством в самом себе, оно является
функцией, пересекающей сферу структур и возможных единств, полагающей их вместе
с их конкретным содержанием во времени и пространстве»18. Высказывание —
неповторимо, анонимно и обладает более высокой, чем фраза и предложение,
степенью контекстуальной зависимости. Разработав такое представление о высказывании,
Фуко ставит вопрос о его методологической значимости. Основной теоретической
гипотезой всей его методологии оказывается при этом отождествление анализа
«речевых формаций» с описанием высказываний.
Все формальные определения речевых формаций по их элементам (объект, тип,
концепт, тема) получают с помощью понятия высказывания содержательную
интерпретацию. Объект интерпретируется через референт высказывания, хранящий его
неповторимость, тип — через анонимность субъекта высказывания, концепт —
через повышенную по сравнению с фразой и предложением контекстуальность (champ
associé)y а тема — через «материальность» высказывания. «Материальность» является
одной из основных характеристик высказываний, связывающей их существование
17 Foucault M. L'archéologie du savoir. P. 53.
18 Ibid. P. 115.
396
Раздел третий
с конкретной пространственно-временной ситуацией: «Необходимо, чтобы
высказывание имело вещество, опору, место и дату»19. «Материальность» является не внешним,
безразличным для высказывания моментом, а одним из его конститутивных
элементов. Тем самым и традиционные методологические понятия ставятся в соответствие
определенным уровням (или характеристикам) высказывания как атома речи. Однако,
к сожалению, это центральное место во всей осуществляемой Фуко концептуальной
разработке осталось у него, на наш взгляд, недостаточно раскрытым.
Внешний характер существования высказываний означает, что высказывание
свободно от какой-либо детерминации его «внутренним» как различными
трансцендентальными понятиями философии, социологии, психологии. Учет этого
момента при анализе высказываний означает, что
...поле высказываний должно описываться не как «перевод» операций или
процессов, протекающих в другом месте (в мышлении людей, в их сознании или в
бессознательном, в сфере трансцендентальных образований), но что это поле нужно
принимать в его эмпирической скромности как место событий, регулярностей, связей
определенных модификаций и систематических преобразований20.
Анализ высказываний в плане описания их взаимного совмещения или
кумуляции означает отказ от поиска истоков событий в пользу констатации простого
совмещения речевых фактов, группируемых согласно характерным для них регу-
лярностям. Такой анализ высказываний означает анализ речи (дискурса) в ее
«позитивности» (специфический концепт Фуко). Позитивность оказывается такой
характеристикой, которая связывает между собой самых, казалось бы, разных авторов.
Благодаря этому она дает новые, нетрадиционные, расчленения исторических
данностей, играет тем самым роль «исторического априори». Фуко подчеркивает, что
его априори ни в коем случае не имеет надисторического характера, «не полагается
в небе над событиями, не есть вневременная структура»21. Оно — лишь «ансамбль
правил, характеризующих речевую практику»22 и не налагаемых на нее извне, а
всецело погруженных в то, что они организуют.
Систему речи в целом, фиксированную анализом высказываний на уровне,
свободном от тотальностей традиционной истории, Фуко называет «архивом»23.
Архив — понятие более объемное, чем позитивность: позитивность есть определенный
исторический тип речи, а архив — целая система функционирования высказываний,
выступающая в поле такого анализа как своего рода вещи, объекты. Архив
представляет собой специфический уровень, вычленяемый анализом высказываний, уровень
19 Foucault M. L'archéologie du savoir. P. 133.
20 Ibid. P. 160.
21 Ibid. P. 168.
22 Ibid. P. 168.
23 Ibid. P. 169-170.
Археология знания Мишеля Фуко
397
речевой практики, отделенной от нас временным барьером. Архив имеет значение
для диагностики настоящего, так как позволяет, как считает Фуко, освободиться
от иллюзий нашей тождественности с предшественниками, разламывая единства
трансцендентальной телеологии и антропологического мышления.
Производным от понятия «архива» является само понятие «археологии»,
представляющей собой описание специфических речевых практик, содержащихся в
«архиве». Понятие археологии знания надстраивается, таким образом, над понятием
архива и означает его описание, работу с архивом и в архиве. Как уже отмечалось,
археология знания противопоставляется Фуко истории идей. Однако он подчеркивает
их тесную связь: «По сути дела, — говорит он, — я, может быть, только историк идей,
который захотел сверху донизу обновить свою дисциплину»24. Фуко стремится стать
радикальным реформатором методологии и самосознания гуманитарного знания.
В замысел его археологии входит стремление дать истории идей статус точной
описательной дисциплины. Археология знания, по Фуко, не ищет другой, скрытой,
речи за речью внешней, уже проартикулированной, не ищет в ней непрерывностей,
истоков. Она не является описанием учений, а только лишь анализом модальностей
речи. Она не ищет связей индивидуального и социального, не является ни
психологией, ни социологией, ни вообще антропологией творчества, в конце концов, она
есть просто «систематическое описание речи-объекта», речи как объекта25. Ее
главная цель — выявление регулярностей в речевой практике. Регулярность понимается
как неотъемлемая характеристика поля высказывания. Каждое высказывание
подчиняется определенным правилам. Поэтому принятое в традиционной истории идей
деление произведений на «оригинальные» и «банальные» в археологии знания
исчезает, так как открытие как текст не в меньшей степени подчинено правилам, чем текст,
который его повторяет. Если история идей ищет отдаленные связи событий и
устанавливает предшественников того или иного свершения или открытия, то
археология, напротив, обрывает эти чрезмерно растянутые, как она считает, нити. В плане
археологического анализа представление об историческом изменении заменяется
концепцией трансформации. Изменение, как считает Фуко, содержит
представление о цепи событий, соединенных абстрактным принципом их последовательности.
Трансформация, напротив, означает лишь смену «позитивностей» речи.
Фуко рассматривает позитивность в ее соотношении с дисциплиной и наукой.
Например, до дисциплинарного оформления психиатрии в классическую эпоху
существовала позитивность, доступная описанию, однако она не соответствовала
никакой дисциплине, сравнимой с психиатрией. Понятие позитивности не совпадает
также с понятием науки, рассматриваемой в ее становлении, так как многое из того,
что необходимо для становления науки, не входит в позитивность. Наконец,
позитивность не совпадает ни с формой сознания, ни с формой рациональности. Но что же
тогда «позитивность», каков предмет археологии? Это, отвечает Фуко, не что иное,
24 Foucault M. L'archéologie du savoir. P. 178.
25 Ibid. P. 182-183.
398
Раздел третий
как знание, т. е. «ансамбль элементов, образованных по правилам речевой практики
и неизбежно включаемых в конституируемую науку, хотя они и не предназначаются
с необходимостью для того, чтобы дать ей место»26.
Итак, Фуко в первом приближении дает ответ на вопрос о предмете археологии:
набрасываемая им археология есть археология знания. Знание определяется Фуко
через речевую практику. Он говорит, что «нет знания без определенной речевой
практики» и что, в свою очередь, «всякая речевая практика может быть определена
знанием, которое она образует»27. Наука определяется им по преимуществу только в ее
отношении к знанию. Фуко приводит пример наук (математика, физика, химия),
подчеркивая, что они обладают определенными формальными и экспериментальными
критериями, а затем рассматривает связь знания и науки. Анализ этой связи
приводит Фуко к выводу, что «речевая практика не совпадает с научной разработкой,
которой она может дать место»28. Фуко как бы очерчивает пунктиром контуры
специфического нетрадиционного и подвижного предмета, не совпадающего ни с понятием
науки, ни с понятием дисциплины, но который, однако, связан с ними и может
служить почвой для их возникновения. Наука базируется на знании, но в этой связи
нет детерминистической принудительности.
Развитие речевой практики, по Фуко, характеризуется четырьмя порогами,
преодолевая которые она приобретает определенный устойчивый характер,
позволяющий фиксировать этапы ее эволюции. Определенный характер речевой практики, ее
автономное существование среди других практик означают наличие специфической
системы формирования высказываний, достижение которой позволяет говорить
о пороге позитивности. Если же внутри речевой практики устанавливаются нормы
верификации, связности, играющие по отношению к знанию функцию модели, то это
означает, что речевая формация пересекла порог эпистемологизации. Подчинение
эпистемологической фигуры речевой формации определенному числу формальных
критериев, а также подчинение высказываний некоторым законам
пропозициональных конструкций означает преодоление порога научности. Наконец, когда научная
речь определяет собственные аксиомы, необходимые для нее элементы, законные
для нее пропозициональные структуры и приемлемые трансформации так, что при
этом возникает определенная формальная конструкция, то это означает, что
речевая формация, находившаяся на уровне научности, пересекла порог формализации.
Представление о порогах развития речевой формации дает археологии важный
инструмент для описания знания. Порядок появления этих порогов, темп их
преодоления — все эти характеристики служат важным средством археологического
описания историко-научного процесса. Фуко приводит целый ряд примеров,
показывающих различные линии развития, выраженные на языке соотношения этих
26 Foucault M. L'archéologie du savoir. P. 238.
27 Ibid. P. 238.
28 Ibid. P. 240.
Археология знания Мишеля Фуко
399
порогов. Только для одной науки язык порогов оказывается бессильным при
описании ее истории: это — математика, которая одновременно с позитивностью
достигает и эпистемологизации, и научности, и даже формализации. «Поэтому, —
говорит Фуко, — возникновение математики так загадочно»29.
Классификация порогов развития речевой формации дает Фуко основание
для типологизации истории науки. Эпистемологическая история оперирует
словарем научности (оппозиции рационального — нерационального, верного —
ложного и т. п.). И наконец, есть археологическая история науки, изучающая речевые
практики на уровне позитивности, исследуя становление эпистемологических
фигур. На этом уровне научность не служит нормой. Археологическая история — это
«глубинная» история науки, ищущая отдаленные возможности становления знания
наукой на уровне разнообразных речевых практик, еще не достигших порога
эпистемологизации. Это не «экстерналистская» история, ищущая вне науки оснований
ее развития. В этой истории исследуется эпистема, т. е. «ансамбль отношений между
науками, анализируемыми на уровне речевых практик, который может быть открыт
для данной эпохи»30. Эпистема — это подвижная лимитирующая сетка отношений
на уровне речи, позволяющая выявить определенные ограничения и принуждения,
налагаемые на речь. Это горизонт, в перспективе которого становится возможным
появление определенных эпистемологических фигур и самих наук. Эпистема,
подчеркивает Фуко, не форма сознания и не тип рациональности. Это внутриречевое
единство данной эпохи, фиксируемое анализом отношений между науками (на
разных стадиях их развития), проводимым на уровне речевых формаций,
подчиненных определенным правилам.
Фуко не дифференцирует область знания: его интенция направлена на отказ
от уже сложившихся расчленений знания и культуры. Введение предлагаемого им
археологического анализа должно, по его мысли, заменить эти расчленения новыми.
«Археологические территории, — говорит Фуко, — столь же хорошо могут
пересекать "литературные" или "философские" тексты, как и "тексты научные"»31. В таком
подходе какая-либо специфика науки, литературы и философии фактически
исчезает, растворяясь в неопределенно широкой абстракции знания как речевой
практики вообще. Тем не менее мы можем обнаружить в его концепции определенный
образ философии, ее определенное понимание. Стремясь избежать однолинейных
интерпретаций своей работы, Фуко заявляет: «Если философия есть память или
возвращение к истоку, то тогда то, чем я занимаюсь, никоим образом нельзя
рассматривать как философию, и если история мысли состоит в реанимации наполовину
исчезнувших фигур, то моя работа не является также и историей»32.
29 Foucault M. L'archéologie du savoir. P. 246.
30 Ibid. P. 250.
31 Ibid. P. 239.
32 Ibid. P. 267.
400
Раздел третий
II
Такова концепция археологии знания Фуко в ее основных и характерных чертах.
Выход в свет книги «Слова и вещи» (1966) совпал с «бумом» дискуссий вокруг
структурализма. В этих дискуссиях Фуко, как правило, рассматривался как
структуралист: «"Мушкетеры структурализма" — К. Леви-Строс, Ж. Лакан, Л. Альтюссер
и М. Фуко, — говорит Ж.-М. Доменак, — заняли в нашей культуре место,
сопоставимое с движением "нового романа" десять лет тому назад»33. Структурализм
Фуко, по Доменаку, состоит в том, что он, как и Леви-Строс, редуцирует смысл
к системе. Фуко именно в такой редукции видит отличительную черту
структурализма, считая, что «смысл» есть всего лишь поверхностный эффект, «пена», а то,
что лежит в глубине, является системой34. Фуко определяет систему как ансамбль
отношений, сохраняющихся и изменяющихся независимо от вещей, которые они
связывают. «Таким образом ясно, — заключает свой анализ Доменак, — что
мышление Фуко находит свой источник в структуралистском отрицании "смысла", даже
если, в отличие от структурализма Леви-Строса, характеризующегося крайним
рационализмом, структурализм Фуко очарован безднами невыразимого»35.
Поэтому он полагает, что археология знания является «систематизмом»36 и входит
в структуралистское направление, несмотря на «очарованность» Фуко
иррационализмом.
Иррационализм отмечается и другими интерпретаторами Фуко, например
X. Уайтом37. Сравнивая Фуко с поздним Кассирером, рассматривавшим в
«Философии символических форм»38 язык как посредника между категориями разума и
миром, данным в восприятии, Уайт отмечает, что «Фуко, в противоположность ему,
рассматривает язык как конститутивное начало категорий и восприятий, которые
упорядочиваются им. Поэтому он обращается к авторитету не философов, но поэтов,
в особенности к Ницше и Малларме... Фуко приветствует дух творческого
бес-порядка, де-струкции, не-названности»39.
33 Domenach J.-M. Le système et la personne // «Esprit». P., 1967. a. 35, No. 5. (Numero spec.)
P. 771.
34 Foucault M. Entretien. «Quinzaine littéraire», P., 1966. a. 1, No. 2. P. 214-231.
35 Domenach J.-M. Le système et la personne. P. 769.
36 Ibid. P. 769.
37 White H. V. Foucault decoded: notes from underground // «History a. theory». Middletown,
1973. Vol. 12. No. 1. P. 23-54.
38 CassirerE. Philosophie der symbolischen Formen. T. 1-3. В., 1923-1929: T. 1.1923. XII, 293 S.;
T. 2. 1925. XVI, 320 S.; T. 3.1929. XII, 559 S.
39 White H. V. Foucault decoded: notes from underground. P. 26.
Археология знания Мишеля Фуко
401
Если Доменак, Уайт и многие другие отнесли Фуко к структуралистскому
направлению, то А. Лефевр40, М. Дюфренн41, Ж. Делёз42 и другие говорят о позитивизме
Фуко. Лефевр подверг критике «фетишизм системы», выраженный, по его мнению,
в «Словах и вещах». Дюфренн расценил концепцию Фуко, изложенную в этой книге,
как запоздалый по сравнению с англосаксонскими странами приход во Францию
логического позитивизма. С. Ле Бон назвал Фуко «отчаявшимся позитивистом»,
систематизирующим готовые факты без анализа их становления43. На это замечание
Фуко ответил, что если замена традиционных понятий методами археологии как
анализа высказываний есть позитивизм, то он «пожалуй, счастливый позитивист»44.
Фуко также подчеркнул, что термин «позитивность», многократно употребляемый
им, ничуть его не смущает, хотя он, видимо, и послужил одной из причин
зачисления его в позитивисты.
Очевидно, что отмеченный Доменаком и Уайтом «иррационалистический»
мотив плохо согласуется не только со «структурализмом», но и с «позитивизмом» Фуко.
Однако Делёз нашел способ преодоления этого затруднения: он находит у Фуко
«романтический позитивизм»:
Холодное и целеустремленное разрушение субъекта, — говорит Делёз, — живое
отвращение от идей об истоках, о затерянном начале, об обретенном начале,
демонтаж унифицированных псевдосинтезов сознания, разоблачение всех мистификаций
истории, действующих во имя прогресса сознания и развития разума, — вот что
одушевляет романтический позитивизм Фуко45.
Основным ядром теоретического построения Фуко Делёз считает идею
высказывания. Именно разработка ее приводит Фуко к его «романтическому», или
«поэтическому», позитивизму, составляя всю оригинальность и глубину его вклада в
философию и культуру.
Существенное, — говорит Делёз, — состоит не в том, чтобы преодолеть дуализм
«поэзия — наука», который еще тяготеет над творчеством Башляра. Существенное
также и не в том, чтобы найти средства научного подхода к литературным текстам.
Существенное в том, чтобы открыть и промерить ту неизвестную землю, где
литературная форма, научное предложение, фраза обыденной речи, шизофреническая
40 Lefebvre H. Position: contre les technocrates. P.: Gonthier, 1967. 240 p. (Coll. Grand format
Méditations.)
41 Dufrenne M. Pour l'homme. Essai. R: Ed. du Seuil, 1968.256 p. (Coll. «Esprit». Ser. La condition
humaine.)
42 Deleuze G. Un nouvel archiviste //«Critique». P., 1970. No. 274. P. 195-209.
43 Le Bon S. Un positiviste désespéré: Michel Foucault // «Temps mod.» P., 1967. a. 22, No. 248.
P. 1299-1319.
44 Foucault M. L'archéologie du savoir. P. 184.
45 Deleuze G. Un nouvel archiviste. P. 204.
402
Раздел третий
бессмыслица и т. д. являются одинаковым образом высказываниями без общей
меры, без какой-либо редукции или речевого равенства между ними46.
Благодаря понятию высказывания A3 преодолевает альтернативу «формализм или
интерпретация». «Неизвестная ранее земля высказываний» никогда не достигалась
ни формалистами, ни интерпретаторами. Этот момент подчеркивает также и Уайт.
К полюсу формализма сам Фуко относит таких философов и ученых, как Б. Рассел,
Л. Витгенштейн, Н. Хомский, а к полюсу интерпретации, по его мнению, тяготеет
3. Фрейд, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер. Если формалисты редуцируют фразу к ее
логической или лингвистической форме, то интерпретаторы один, «явный», текст
дублируют в другом, «скрытом», тексте. Но Фуко, как подчеркивает Делёз, стремится
остаться на одном уровне — уровне высказывания, которое, по словам Фуко,
является «невидимым неспрятанным»47. Так как высказывание как дискурсивная
функция, составляющая атом речевой практики, не есть структура, то археология знания
не является структурализмом. Структура аксиоматична и целостна, в то время как
высказывание есть неповторимое множество, подчиняющееся правилам. Однако
если все это и не позволяет считать Фуко структуралистом, то тем не менее в своей
критической направленности «на разрушение историзирующего и исторического
псевдосознания, в этой "смерти человека", о которой так много говорилось,
благодаря ему...», Фуко примыкает к структурализму48.
Романтический (по Делёзу) характер «позитивизма» Фуко позволяет понять,
почему идеи Фуко не слишком взволновали представителей англосаксонской
философии. Уайт предположил, что творчество Фуко не вызовет горячего интереса
в англо-американском сообществе философов, потому что «Фуко работает в духе
великой традиции европейской континентальной философии, традиции Г. Лейбница,
Г. Гегеля, О. Конта, А. Бергсона и М. Хайдеггера», т. е. в метафизической традиции49.
В своем романтическом позитивизме Фуко стремится понять всю западную
культуру. Очевидно, что такие претензии не отвечают подчеркнуто эмпирическому духу
англосаксонской философии, уделяющей большое внимание разработке техники
познания, проблем, выдвинутых формальной логикой и анализом обыденного языка.
Фуко же, как считает Уайт, по мере появления своих книг утвердился как философ
истории «спекулятивного типа, подобно Дж. Вико, Г. Гегелю, О. Шпенглеру»50. На наш
взгляд, сравнение Фуко с Вико и Гегелем малопродуктивно, так как отсылки к
«спекулятивному духу» недостаточно для проведения интересной параллели. Однако
сравнение со Шпенглером действительно оправдано. В самом деле, характерной чертой
46 Deleuze G. Un nouvel archiviste. P. 208.
47 Foucault M. L'archéologie du savoir. P. 143.
48 Deleuze G. Un nouvel archiviste. P. 204.
49 White H. V. Foucault decoded: notes from underground. P. 49.
50 Ibid. P. 49.
Археология знания Мишеля Фуко
403
археологии знания является постулирование принципиального разрыва между
эпохами, между культурами разных эпох и соответствующими им типами знания.
Большинство критиков и интерпретаторов Фуко заметили и подчеркнули его установку
именно на разрыв исторического бытия. Процитируем еще раз высказывание Уайта,
ярко вскрывшего эту черту A3:
У Фуко нет исторического повествования... У него мы находим скорее серию
«диагнозов», которые он называет «эпистемами», санкционирующими различные
способы речи... Но эти эпистемы (функционирование которых напоминает парадигмы
Т. Куна) не следуют одна за другой диалектически, не соединяются друг с другом. Они
просто катастрофически — без всякой связи — соседствуют друг с другом51.
Эта позиция выражает не только его гносеологию, но и онтологию сознания вообще:
сознание, по Фуко (следовательно, и познание), — дискретно. Иррационализм и
«романтическая метафизика» обнаруживаются у него в том, что внутренняя связь эпи-
стем, как справедливо подчеркивает Уайт, «неизвестна и непознаваема»52.
Этот момент отмечает и П. Бюржелэн: в археологии знания «нет прогресса,
но есть лишь сосуществование во времени ряда структур»53. Однако сам этот ряд
не структурирован, что и позволило Ж. Пиаже исключить археологию Фуко из
структурализма, так как «структурализм без структур» не есть подлинный
структурализм54. Как подчеркивает Пиаже, дискретное мышление, пример которого мы
видим у Фуко, уподобляет историю разума современной генетике. Действительно, Фуко
любит генетическую терминологию («эпистемологическая мутация», «популяция»,
«множество», «выбор» и т. д.).
Интерпретация A3, проделанная американским историком X. Уайтом, в
определенной степени опровергает его же предположение о том, что идеи Фуко не
вызовут горячего интереса у англо-американских философов. Статья Уайта показывает,
что он сам глубоко и «горячо» заинтересовался концепцией Фуко и попытками ее
истолковать. Уайт считает, что поскольку французский структурализм
рассматривает все явления, связанные с человеком, «как если бы они были
лингвистическими»55, постольку в центре анализа Фуко стоит проблема языка56. Американский
теоретик истории анализирует прежде всего книгу «Слова и вещи», которую считает
ключевой для всей концепции истории Фуко, являющейся своего рода «анти-исто-
рией»57. В такой характеристике, на наш взгляд, схватываются некоторые подлинные
51 White H. V. Foucault decoded: notes from underground. P. 27.
52 Ibid. P. 28.
53 Burgelin Ρ L'archéologie du savoir// «Esprit». P., 1967. a. 35, No. 5. (Numero spec). P. 843-860.
54 PiagetJ. Le structuralisme. 2 éd. P.: Presses univ. de France, 1968.128 p.
55 White H. V. Foucault decoded: notes from underground. P. 23.
56 Ibid. P. 29.
57 Ibid. P. 23.
404
Раздел третий
пружины творчества Фуко. Действительно, его A3 «высвечивается» всем контекстом
движений против культуры, медицины, психиатрии в современном западном
обществе. В этом социокультурном контексте вполне понятны связи Фуко с движением
«нового романа» (своего рода антироманом) и с театром абсурда (антитеатром). Как
подчеркивает Уайт: «Фуко смотрит на историков так же, как Роб-Грийе на прозаиков
или Αρτο на современных драматургов. Он является таким же анти-историческим
историком, как Αρτο — анти-драматургическим драматургом или Роб-Грийе — ан-
ти-прозаическим прозаиком. Фуко пишет историю ради того, чтобы разрушить ее
как дисциплину, как способ сознания, как способ (социального) существования»58.
В книге Анны Гедез «Фуко»59 творчество и деятельность Фуко подобным
образом рассматриваются как феномен современной французской культуры,
отвечающий на вызов социальных проблем, которые общество потребления ставит перед
интеллектуалом. При этом Гедез подчеркивает, что в лице Фуко философия
становится не философствованием о гуманитарном знании, но самим гуманитарным
знанием. Слияние философии и гуманитарного знания радикально меняет, по мысли
критика, саму природу философского знания. Гуманитарное знание, представленное
в исследованиях по психоанализу (Лакан) и по этнологии (Леви-Строс), проецируясь
на философию, ведет к отказу от основных допущений классической философии —
«свободного и разумного субъекта картезианской традиции»60. Вместе с Фуко
философия отныне становится, как и все гуманитарное знание, «генеалогией» (в духе
Ницше) или расшифровкой «бессознательного» (в духе Фрейда). Другим важным
моментом, характеризующим Фуко, по мнению критика, является его сознательное
предпочтение софистов Платону. Этот оригинальный с точки зрения
традиционной истории философии выбор объясняется тем, что платонизм легко превращается
в идеологию гуманистического толка, «в то время как софистические рассуждения
являются и сознательно хотят быть лишь игрой — социальной и политической»61.
Этот момент действительно, как нам кажется, верно схватывает дух новаций
французского философа и позволяет многое понять в творчестве Фуко и в эволюции его
деятельности. Французский философ ставит своей задачей схватить речь в ее
практичности и материальности, в ее укорененности в социуме с его политикой и
вызовами. Говоря о центральном для Фуко понятии «речевой практики», Гедез цитирует
философа и социолога Гурвича: «Только красноречие индивидуально. Слова же
могут быть коллективными и не только тогда, когда они произносятся хором»62.
Гедез считает, что в A3 Фуко избегает как гуманизма, так и его противника —
структурализма, выбирая третий путь. Казалось бы, анализ знания в понятиях «разрыва»,
58 White Я. V Foucault decoded: notes from underground. P. 26.
59 GuedezA. Foucault. P.: Ed. univ., 1972.
60 GuedezA. Foucault. P. 11.
61 Ibid. P. 14.
62 Ibid. P. 94.
Археология знания Мишеля Фуко
405
«порога» должен сблизить Фуко с Башляром и структуралистами, которые
разрабатывали эти понятия. Однако, как подчеркивает Гедез, «Фуко отбрасывает "разрыв"
Башляра и структуралистов: вместо разрыва (rupture) он выбирает скорее
"вторжение" (irruption)»63. Она также считает, что Фуко не выбирает при этом
односторонним образом точку зрения прерывности, а стремится преодолеть как ложную всю
альтернативу «непрерывное — прерывное»64. Нам кажется, что такой вывод
недостаточно обоснован. На наш взгляд, критик верно подмечает, что задачи и намерения
Фуко, руководившие им при написании «Археологии знания», раскрываются в
лекции «Порядок дискурса»65. Анонимно говорящий «субъект» замещает здесь лично
мыслящего субъекта (декартовское cogito). Подчеркнем, что Фуко не уничтожает
категорию субъекта как таковую. Критики, писавшие о нем, этого важного момента
не замечают. Так, например, Гедез говорит, что в A3 речь идет «о борьбе против
категории субъекта»66. Впрочем, этот вопрос достаточно спорный, и здесь могут быть
различные интерпретации. Дело в том, что сам Фуко, объясняя, почему он отказался
от понятия «опыта», функционирующего в работе «Безумие и безрассудство.
История безумия в классическую эпоху»67, сказал, что это понятие отсылает к
«анонимному и всеобщему субъекту истории»68.
Парадоксальность мышления Фуко порой скрывает действительные трудности
его концепции. В частности, как это заметила Гедез, высказывание в качестве
элементарной несущей смысл единицы речи формируется у Фуко «анализом или
интуицией»69. Но, спрашивает она, «нет ли здесь парадокса: археология, столь заботящаяся
о том, чтобы обосновать "научным образом" каждый свой шаг, исходит из
"интуитивно" устанавливаемого единства, представляемого в собрании отобранных
текстов?»70. Анализ Гедез проливает свет и на происхождение понятия «материальности»
высказывания. Стремясь преодолеть классическую оппозицию «субъект — объект»,
Фуко выбирает вместо термина «объективный» термин «материальный». Именно
«материальность», а не, скажем, авторство или единство темы дает высказыванию его
статус. В понятии «материальности» высказывания, замечает она, Фуко возвращается
к «установленной в "Рождении клиники"71 необходимости мыслить материальность
63 Guedez A. Foucault. Р. 72.
64 Ibid. Р. 73.
65 Foucault M. L'ordre du discours.
66 Guedez A. Foucault. P. 69.
67 Foucault M. Folie et déraison. Histoire de la folieà Tâgeclassique. These principale. P.: Pion, 1961.
(Univ. de Paris. Fac. des lettres et des sciences humaines.)
68 Guedez A. Foucault. P. 69.
69 Ibid. P. 115.
70 Ibid. P. 74.
71 Foucault M. Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical. P.: Presses univ.
de France, 1963.
406
Раздел третий
речи прежде всего на институциональном уровне»72. Этим возвратом, подчеркивает
она, Фуко проводит грань, отделяющую концепцию A3 в «Археологии знания» от ее
концепции в книге «Слова и вещи».
За книгой социолога Гедез последовала книга философа Анжелы
Кремер-Марьетти. Ее работа охватывает все творчество Фуко, исследуя его исходные
философские предпосылки и прослеживая его эволюцию. Кремер-Марьетти прежде всего
включает Фуко в контекст истории современной философии. По ее мнению, он
наследует критическое мышление К. Маркса, Ф. Ницше, 3. Фрейда, пытаясь найти
ему место «в контексте и потоке нашей цивилизации»73. Особенно подробно
Кремер-Марьетти исследует параллели между Ницше и Фуко. Еще в своей рецензии
на «Археологию знания»74 она показала, что археологическое исследование
познания в принципе относится к тому же самому типу, что и исследование моральных
понятий в работе «К генеалогии морали» Ф. Ницше75. Эти понятия, согласно Ницше,
существуют не сами по себе в платоновском мире идей, а порождены борьбой
«господ» и «рабов», в частности «восстанием рабов в морали», мстящих за свою
подчиненность касте господ. И в A3 понятия и темы традиционной методологии
рассматриваются как вторичные и поверхностные явления, обусловленные системой
речевых практик. Фуко и Ницше сближаются Кремер-Марьетти как философы,
подвергнувшие критике классическое мышление с его постулатом cogito. Весь феномен,
называемый «Ницше», является фундаментальным скрытым намеком на анализ
Фуко, говорит критик. К фигуре Ницше Кремер-Марьетти присоединяет и фигуру
Фрейда, так как современная мысль пытается, как это ясно увидел Фуко, исходя
из Ницше и Фрейда, «приподнять завесу бессознательного»76. По мнению Фуко,
К. Маркс так же, как Ф. Ницше и 3. Фрейд, стоит у истоков общей
«эпистемологической мутации» мышления от классики к современности. «"Капитал" Маркса, —
подчеркивает Кремер-Марьетти, — кажется Фуко экзегезой стоимости, все
писания Ницше становятся простой экзегезой нескольких греческих слов, а работы
Фрейда — не что иное, как экзегеза немых фраз, скрытых за нашей явной речью»77.
Переход к экзегезе, или интерпретации, означает переход от господства
представления с его постулатом полной «прозрачности» языка к новому мышлению, в
котором появляются такие «непрозрачные» для классического мышления и языка
реалии, как труд, жизнь и сам язык.
72 GuedezA. Foucault. P. 74.
73 Kremer-Marietti A. Foucault et l'archéologie du savoir. Presentation, choix de textes. P.: Seghers,
1974. P. 10. (243 p.(Coll. «Philosophie».) Bibliogr.: p. 237-242.)
74 Kremer-Marietti A. Rec. on: Foucault M. L'archéologie du savoir // «Rev. de métaphysique et
morale». P., 1969. a. 75, No. 3. P. 335-360.
75 Ницше Φ. К генеалогии морали // Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 407-524.
76 Kremer-Marietti A. Foucault et l'archéologie du savoir. P. 20.
77 Ibid. P. 17.
Археология знания Мишеля Фуко
407
По мнению этого критика, Фуко пытается довести до конца начатую
перечисленными выше философами XIX в. «эпистемологическую мутацию». Она не была
доведена в свое время до конца и не привела к революции в гуманитарном знании,
так как ей противодействовала тенденция мыслить историю как непрерывную,
делая из человеческого субъекта единственного и абсолютного субъекта всякой
практики. Можно сказать, что это была классическая реакция на начавшуюся
революцию в мышлении.
Нам кажется, что французский критик верно находит контекст для понимания
A3, когда указывает, что в ней, по существу, понятие субъекта как такового не
отрицается, но радикально переосмысливается. Кремер-Марьетти подчеркивает, что A3
способна четко выделить материальные и коллективные силы общества, которые
она ставит на место Бога, Разума, абстрактного cogito.
Интересный критический анализ книги Фуко был дан и французским историком
естествознания Ф. Рюссо78. Он признает, что история мысли, как она существовала и
существует до сих пор, в значительной мере заслуживает той критики, которой ее
подвергает Фуко. Критик подчеркивает, что Фуко обратил внимание на некоторые важные
аспекты истории науки, остававшиеся в тени. Однако он сомневается, что A3 может
быть научной дисциплиной, верно подмечая, что в ней соединяется известный
догматизм и неопределенность. Он отмечает также, что работе Фуко предшествовали
другие исследования, в которых «ряд авторов, хотя менее ясно и менее строго,
почувствовали необходимость того, что в перспективе мы представляем как археологию знания»79.
Основные свои возражения Рюссо формулирует, сопоставляя факты истории
естествознания с методологическими установками и утверждениями Фуко. Он
считает, что узость предметной историко-научной области, на которую опирается Фуко,
не позволяет делать универсальных обобщений. Действительно, Фуко обращается
к истории таких наук, как политическая экономия, психиатрия, лингвистика и
естественная история, не анализируя истории физики, математики, химии и т. д. По
мнению Рюссо, слабость концепции Фуко обусловлена преувеличенной социологической
объективацией знания в ущерб субъективно-личностному аспекту науки. Поэтому
он считает, что в том виде, в каком A3 существует в работах Фуко, она не применима
к истории идей и, в особенности, к истории наук. На наш взгляд, критика Рюссо
фиксирует действительные трудности применения идей и методов A3 Фуко в истории
наук. Однако, на наш взгляд, эта критика по существу не дает альтернативы A3 —
она предупреждает только о преувеличениях и крайностях. Рюссо считает, что Фуко
не удалось доказать того, что он хотел. Но при этом он «открыл массу интересных
результатов, весьма важных для прогресса знания»80. Так, Фуко, стремясь развернуть
78 Russo F. L'archéologie du savoir de M. Foucault // Arch, de philosophie. P., 1973. T. 36, cah. 1.
P. 69-105.
79 Ibid. P. 92.
80 Ibid. P. 105.
408
Раздел третий
свой тезис о «смерти человека», фактически достигает «смерти речи», однако при
этом он выдвигает ряд понятий и развивает такие методологические разработки,
которые нельзя игнорировать историкам идей.
Критический анализ «Археологии знания» был дан также и Пьером Тюйе81. Тюйе
подчеркивает связь археологии Фуко с эпистемологией Г. Башляра82 и К. Кангийема83.
По Тюйе, Фуко — структуралист, так как он делает с анализом науки то же самое,
что структурализм делает с анализом литературы. «Результатом этого, — говорит
Тюйе, — является некий род гиперлингвистики, более обширной и более сложной,
чем лингвистика в собственном смысле слова»84. Тюйе опасается, что под
прикрытием критической научно-методологической разработки на сцену выступает
метафизический проект, а следовательно, и новый вид мифологии. Эту мифологию Тюйе
называет «анимизмом»: «...человек не выбирает, не решает, но речевые формации
сами в ходе их приключений делают выборы»85.
Тюйе анализирует также отношение археологии знания к марксизму. По
мнению критика, Маркс наделяет людей теми силами, которые отрицает за ним A3 Фуко.
Фуко, вслед за Марксом, обращает внимание на «непрозрачность» речей по
отношению к сознанию людей, подчеркивает вытекающую отсюда необходимость
критического отношения к самооценкам исторических деятелей и коллективов. Но если
у Маркса далее развивается концепция революционной практики, преобразующей
социальные отношения и снимающей эту «матовость» сознания агентов
социальных отношений, то у Фуко, по мнению критика, звучит пессимистический мотив
по поводу оценки возможности изменения мира. Тюйе отмечает также в качестве
недостатка концепции Фуко отсутствие в ней анализа недискурсивных практик,
т. е. практик, осуществляющихся в иных, чем высказывание, формах. Тюйе считает,
что археология плохо согласуется с историей как таковой, но лучше с историей идей,
так как в ней исходным материалом действительно выступают высказывания,
представляющие подходящий объект для структурального анализа.
Значительной работой о философии Фуко в целом является книга итальянского
ученого Энрико Корради. Корради в центр философских устремлений Фуко ставит
«отстранение из центра мышления субъекта (decentramento del soggetto)»*6 и в
соответствии с этим включает его в ряд мыслителей, представляющих «антигуманистическую»
81 ThuillierP. L'archéologie du savoir selon Michel Foucault // Atomes. P., 1969. H 267. P. 471-473.
82 Bachelard G. La formation de l'esprit scientifique. Contribution à une psychoanalyse de la
connaissance objective. P.: Vrin, 1938.
83 Canguilhem G. Etudes d'histoire et de la philosophie des sciences. P.: Libr. philos. (Vrin), 1968.
396 p. (Coll. «Problèmes et controverses».)
84 Thuillier P. L'archéologie du savoir selon Michel Foucault. P. 472.
85 Ibid. P. 473.
86 Corradi E. Filosofia délia «morte dell'uomo». Saggio sul pensiero di Michel Foucault. Milano:
«Vita e pensiero», 1977. (Filosofia e scienze umane. 14.)
Археология знания Мишеля Фуко
409
тенденцию в культуре, пеструю по своему составу: от русских символистов (Вяч.
Иванов) до второго поколения французских структуралистов (Альтюссер, Делёз, Дер-
рида и др.). Основными историко-философскими источниками археологии знания
Фуко Корради считает «школу подозрения» (Ницше, Фрейд, Маркс) и историческую
эпистемологию Башляра. «Школа подозрения» характеризуется тенденцией
рассматривать «каждую форму знания как продукт бессознательной (inconscia) и инородной
структуры»87. Историческая же эпистемология истолковывает эту структуру как
некоторую практику. Такой анализ ведущих предпосылок A3 нам представляется
удачным. По оценке Корради, Фуко является вторым по популярности (после Сартра)
философом Франции. Несомненно, что этому способствует как его умение
синтезировать разнообразные течения мысли и культуры, так и яркий стиль.
Третий этап археологии знания развивается в последних работах Фуко,
представляющий собой конкретные историко-культурные исследования, явно тяготеющие,
однако, к жанру философско-социологической публицистики, критикующей
современное буржуазное общество и его культуру. Наиболее показательна в этом плане
«Воля к знанию», представляющая собой первый том задуманной им шеститомной
истории сексуальности88. Основу концептуального ядра истории развития знаний
о сексуальности в Европе, начиная с Возрождения и до современности, составляет
введенное Фуко еще в его лекциях в Коллеж де Франс (1971-1977) понятие
«власти-знания» (pouvoir-savoir)89. «Власть-знание», как мы ее можем определить, это —
система полного симбиоза познавательных и социально-политических структур,
наделенная способностью к саморазвитию, причем формы социально-политической
организации управления людьми определяют познавательные формы. В своих
лекциях Фуко дает примеры совпадения этих форм: в античном обществе это — мера
(mesure), т. е. формы упорядочивания социальных отношений, оказывающиеся
матрицей математического знания; в средневековье — дознание (étiquete), служащее
средством реконструкции фактов и событий (им, кстати, в первую очередь
прославилась инквизиция: от лат. inquiro— 'ищу, разыскиваю, отыскиваю'). Фуко говорит,
что «мы принадлежим к инквизиторской цивилизации (civilisation inquisitoriale)»90y
имея в виду значение подобного рода социально-политических механизмов для
становления и развития науки, техники и цивилизации Запада в целом. В качестве
такого социоэпистемологического комплекса у Фуко выступает процедура признания
(Vaveu). В формах признания, развиваемых сначала в церковных институтах, а затем
в медицине, педагогике, юриспруденции и т. д., осуществляется как господство
общества над сексуальной жизнью (врача по отношению к пациенту, родителей по
отношению к детям и т. д.), так и накопление знаний о ней. Эта «игра» исторических
87 Corradi £. Filosofia délia «morte delTuomo». P. 28.
88 Foucault M. Histoire de la sexualité. T. 1. Volonté de savoir. P., 1976.
89 Kremer-Marietti A. Foucault et l'archéologie du savoir. P. 201-202.
90 Ibid. 204.
410
Раздел третий
отношений власти и желания обнаруживается в спектре речей о сексуальной жизни.
Смена социальной ячейки производства речей о сексуальности (переход от ячейки
«священник-прихожанин» к ячейкам «учитель-ученик», «психиатр-пациент» и т. д.)
оказывается существенной для сдвига в самом знании о сексуальности. Такой сдвиг
связан с переориентацией социальной цели: прощение или моральное порицание
заменяется стремлением знать «истину о сексе»91. Таким образом, в методологическом
аспекте археология знания становится археологией «власти-знания».
Анализ археологии знания с марксистских позиций был дан Домиником Леку-
ром92. Лекур считает, что A3 является выражением сознательного и радикального
отталкивания от позитивизма, как и концепции Башляра и Кангийема, на которые
опирается Фуко. В понятии «речевой практики» Фуко, как считает Лекур, приходит
к необходимости любую «речь» мыслить в «контексте» системы материальных
отношений, которые эту речь обусловливают и структурируют. Правила «речи»
(регулярности) означают поэтому нормы данной практики и имеют вполне определенное
объективное значение. Фуко признает, что «речевая практика» не является
совершенно автономной, что для ее понимания требуется рассмотрение практик иной,
неречевой, природы. Однако связь речевых и неречевых практик, по мнению Ле-
кура, остается у Фуко внешней; они рядоположны, между ними нет отношения
детерминации. И в этом проявляется, согласно Лекуру, непоследовательность подхода
Фуко. Понятие практики, лишенное принципа иерархизации практик разной
природы, не позволяет осознать их единство.
В заключение обзора первичного восприятия A3 нам хочется обратить
внимание на то, что когда описаны определенные регулярности в функционировании
речевых практик без обращения, как говорит Фуко, к «антропологическим
псевдоединствам» типа «субъект», «автор», «произведение», «влияние» и т. п., то во всей остроте
встает вопрос о происхождении, о причинах возникновения этого безличного,
анонимного, «вещного» состояния. В концепции Фуко этот вопрос не получает
достаточно ясного ответа. В невозможности раскрыть движущие факторы генезиса
феноменов культуры кроется принципиальная ограниченность A3. Она обусловлена
тем, что у Фуко отсутствует концепция истории, которая бы задавала единый
принцип понимания явлений культуры и познания в их динамике.
91 Foucault M. Histoire de la sexualité. P. 91.
92 Lecourt D. Pour une critique de Tepistémologie. Bachelard, Canguilhem, Foucault. P.: Maspero,
1972. (Coll. Théorie.)
«ГЕНЕАЛОГИЯ ЗНАНИЯ» ФУКО
КАК ПРОГРАММА АНАЛИЗА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Творчество известного французского философа и историка Мишеля Фуко (1926-
1984) еще недостаточно изучено. Начиная с 1971-1972 гг. тема «археологии знания»,
представленная уже в «Истории безумия в классическую эпоху» (1961) и в
последующих книгах, вытесняется новым программным подходом, получившим
название «генеалогии знания». Само название — «генеалогия» — заимствовано у Ницше
(К генеалогии морали, 1887). Ницше стремился показать, что моральные категории
указывают не на независимо существующее царство моральных ценностей,
регулирующее как высший ориентир мир земных страстей и интересов, а напротив, они
сами суть лишь выражения отношений господства и подчинения, характерных для
того общества, в котором они складываются, так что в конечном счете за моралью
как порождающее ее основание стоит «воля к власти». Филологический анализ
морального словаря Ницше соединил со своей биологистически ориентированной
метафизикой «воли к власти». В частности, одним из результатов его
«генеалогического» подхода стало истолкование христианства как «восстания рабов в морали».
Так, за сменой моральных систем и ценностей Ницше увидел социальную борьбу
(у него в духе его времени сильно биологизированную), а именно борьбу «сильных»
и «слабых», «господ» и «рабов».
Фуко, казалось бы, ничего прямо у Ницше не заимствует. Но он мыслит,
скажем так, в тени, отбрасываемой автором «Заратустры». «Именно Ницше, —
говорит Фуко, — определил отношения власти как общий фокус, мы бы сказали,
философского дискурса... Ницше — философ власти, ухитряющийся мыслить власть без
того, чтобы ограничивать себя рамками какой-либо политической теории для того,
чтобы такое мышление было возможно»!.
Итак, мы видим, что в центре нового подхода к гуманитарному познанию,
развитого Фуко, находится концепт «власти-знания» (pouvoir-savoir). Для Фуко не
существует «власти» и отдельно от нее «знания», которое может использоваться
властью внешним образом, «ускоряться» или «тормозиться» ее влиянием на него. Знание
уже само по себе есть «власть», оно насквозь пропитано отношениями власти,
построено так, чтобы быть способным к своей «политической» утилизации. И
наоборот, власть всегда, в сущности, есть знание, т. е. статусом реальности наделено лишь
1 Foucault M. Prison talk // Foucault M. Power-Knowledge: Selected interviews and other writings.
1972-1977. Brighton, 1980. P. 53.
412
Раздел третий
нераздельное целое — «власть-знание». Разделение, обособление «власти» и
«знания» всегда условно и относительно, а единство, даже тождество их, — это
вездесущая глубокая реальность.
Для того чтобы правильно понять мысль Фуко, надо хотя бы кратко сказать, как
понимает он саму власть как таковую. Французский философ стремится радикально
преобразовать традиционное или, как он говорит, чисто «юридическое» толкование
власти. Прежде всего, власть — это не некоторая отдельно расположенная в «теле
общества» субстанция или его орган, а политические отношения* пронизывающие все
общество насквозь. Эти отношения чрезвычайно разнообразны. На их базисе
делаются возможными такие особые их проявления, как «государство» и другие
политические учреждения и структуры. Фуко подчеркивает «реляционный» и
динамический характер политических институтов. Политические отношения — это как бы
«микровещество» общества, всей цивилизации Запада. Скорее даже не
«микровещество», а изначальное формообразующее «поле»: динамизм и реляционизм,
универсально проникающая способность политических отношений гораздо лучше
передаются метафорой «поля», чем «вещества», если вспомнить научно-физические
коннотации этих слов. Вместе с таким пониманием — предельно расширенным и
потому спорным — политических отношений на сцену мышления, развиваемого
французским философом, выступают такие понятия, свойственные политике, как
«стратегия», «тактика», заимствованные из лексикона военной теории.
Как же эта, казалось бы, сильно преувеличенная политизация общества и
человека может дать новый подход к истолкованию знания и его истории? Дело
облегчается тем, что «генеалогическая» программа была выработана Фуко в процессе
изучения истории таких гуманитарных дисциплин, как психиатрия, пенология
(учение о пенитенциарной системе), психоанализ, сексология. Уже в своих ранних,
чисто исторических, работах он не ограничивался изучением истории изменения
содержания научных понятий, не стремился замкнуться в анализе концептуальной
эволюции как таковой. Напротив, анализируемое им знание ставилось им сразу же
в контекст реальной истории — с борьбой социальных сил, генезисом институтов,
конфликтом идеологий, моральных установок, воздействием на познавательные
процессы обыденного сознания, практических потребностей общества. Акцент уже
в его ранних исторических работах падал на комплексный анализ конкретных
институциональных форм (приют для психически больных, клинический госпиталь,
тюрьма, школа...). Фуко с самого начала своего творчества был теоретизирующим
историком западных социальных институтов* в которых генерируются,
используются, транслируются знания и одновременно осуществляется определенная
политическая стратегия, выполняется конкретная социальная задача. Оценивая в
последние годы жизни свое раннее творчество, он считал его неразрывно связанным
с поздними устремлениями, с той лишь разницей, что до 1972 г. фокус его
исследований еще не был определен как «власть-знание».
«Выход» в его «генеалогии» на историю знаний, историю наук несомненен: Фуко
не теоретик власти как таковой, не отвлеченный политический мыслитель, он —
«Генеалогия знания» Фуко как программа анализа научного знания 413
эпистемолог, но его концепция знания это социоисторическая или даже
политическая эпистемология, ибо основное ее понятие — «власть-знание». Однако
предпочтительнее говорить не об эпистемологии французского философа, а о его
«генеалогии» как программном варианте социоисторической теории знания, потому что
фактически в ней исследуется генезис знаний на социально-исторических матрицах.
Что же это за «матрицы?» И как можно мыслить генезис знаний и
формирование научных дисциплин на базе этих матриц? Идея рассмотрения эпистемогенеза
на социоисторических — Фуко называет их даже социополитическими — матрицах
впервые четко высказана в лекциях в Коллеж де Франс в рамках курса «Пенальные
теории и институты» (1971-1972). Именно в этом курсе Фуко впервые
сформулировал свою концепцию «власти-знания» как исследовательскую гипотезу:
Рабочая гипотеза у нас такова, отношения власти (вместе с битвами, которые их
пронизывают, или с институтами, которые их поддерживают) не играют по отношению
к знанию роль лишь благоприятствующих факторов или препятствий, они не
ограничиваются тем, чтобы способствовать знанию или стимулировать его, чтобы
искажать его или ограничивать. Власть и знание не связаны между собой исключительно
игрой интересов или идеологией, поэтому проблема не только в том, чтобы
установить, каким образом власть подчиняет себе знание и заставляет служить своим
целям или как она отпечатывается на нем и налагает на него идеологические
ограничения и содержания. Никакое знание не формируется без системы
коммуникации, регистрации, накопления, трансляции, которая сама по себе есть форма
власти и в своем существовании и функционировании связана с ее другими формами.
В свою очередь, никакая власть не осуществляется без извлечения, усвоения и
присвоения, без распределения или задержки знания. На этом уровне анализа нет, с
одной стороны, познания и науки, а с другой — общества и государства, но есть лишь
фундаментальные формы «власти-знания»2.
Здесь для нас важно обратить внимание на то, что «слияние» власти и знания
представляется Фуко оправданным на уровне глубинных механизмов
социального функционирования систем получения и использования знаний. Знания
«добываются», оформляются, строятся, конструируются, размещаются всегда лишь
в определенных социальных коммуникативных системах с установленным
порядком вопрошания, категоризации вопросов и ответов, их сообщения и трансляции,
утилизации и т. п. И эти механизмы не являются «внешними» по отношению к
содержанию знаний. Это — главное. Социальные аппараты генерации и
использования знаний не только оставляют внешние «следы» на знаниях, в них
продуцируемых и ими распространяемых, они и сами знания взаимно соответствуют друг другу
и по «форме» и по «содержанию». В такой установке содержится, на наш взгляд,
определенный эвристический потенциал, хотя при анализе знания мы не можем не
принимать во внимание и то, что оно есть результат гносеологического диалога человека
2 Цит. по: Kremer-Marietti A. Foucault et l'archéologie du savoir. Paris, 1974. P. 202.
414
Раздел третий
с реальностью, с «природой», как, например, в случае естествознания. Социоисто-
рические каналы такого диалога, однако, не безразличны к структуре получаемых
благодаря ему знаний.
Исходя из этой «рабочей гипотезы», Фуко набрасывает контуры истории знаний,
понимаемой в свете такой установки. Он выделяет три основные матрицы
генерации знаний: «мера», или «измерение» (античность), «опрос», или «дознание»
(средние века), «осмотр», или «обследование» (Новое время). Что такое «мера»? «Мера» —
это всеобщий регулятор социальных отношений, основание эстетических канонов
античной Греции, представлений о стихиях-элементах как в эмпедокловской, так
и в платоновской форме, уходящее своими корнями в пифагорейское стремление
сводить сущность природы и общества, наук и искусств к пропорциям, к
правильным числовым соотношениям, к «числу и образцу», причем сам образец в конечном
счете определен числом. «Мера, — говорит Фуко, — это средство установления или
восстановления порядка, причем порядка справедливого, в столкновениях и людей,
и физических элементов, а также матрица математического и физического знания»3.
Здесь нельзя не вспомнить Гераклита с его учением о космосе как «вечно живом огне,
мерами загорающемся и мерами потухающем»4.
Историки античной науки и культуры провели целый ряд исследований — и они
продолжаются, — показывающих, что для Греции действительно было характерно
перенесение социополитических образцов на природу и космос. Укажем в этой связи,
например, на принцип «изономии» или, точнее, «исономии» (ισονομία). Этот термин
взят из политического лексикона греков, однако его функционирование охватывает
практически все виды знаний — медицину (начиная с Алкмеона), учение об
элементах, космологию, учение о пропорциях и математику в целом, и т. п. Действительно,
весь комплекс социофизического аналогизирования у греков можно сфокусировать
на понятии «меры», если брать его достаточно широко, подключая к нему и «исоно-
мию», и «симметрию», и «гармонию».
О такой матрице знаний, как «опрос», Фуко пишет более развернуто, чем о «мере»,
хотя и не так полно, как об «осмотре», который он специально исследует.
«Опрос-дознание» — это процедура установления знаний о событиях, действиях людей прежде
всего в ходе юридического разбирательства: «Опрос — средство констатации или
реконструкции фактов, событий, действий, атрибуций, прав, но также и матрица
эмпирических знаний и наук о природе»5. Фуко считает, что «опрос-дознание» как
систематическая кодифицированная процедура извлечения знаний в судах и в других
социальных институтах исторически сложился в ΧΙΙ-ΧΙΠ вв. вместе с подъемом и
ростом больших средневековых княжеств и реорганизацией церкви. В качестве такой
3 Цит. по: Kremer-Marietti A. Foucault et l'archéologie du savoir. P. 202.
4 Материалисты древней Греции: Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. М.,
1955. Фр. 30 (20).
5 См.: Kremer-Marietti A. Foucault... Р. 202.
«Генеалогия знания» Фуко как программа анализа научного знания 415
процедуры он стал зачаточной, но фундаментальной схемой или матрицей для
образования эмпирических наук о природе и обществе.
Опрос был, — пишет Фуко, — юридическо-политической матрицей для того
экспериментального знания, о котором хорошо известно, что оно было быстро
деблокировано в конце средневековья. Может быть, верно сказать то, что как математика
в Греции родилась из процедур измерения и меры, так и науки о природе, во всяком
случае частично, родились из техники опроса-дознания, в конце средних веков.
Великое эмпирическое познание, охватившее вещи мира и включившее их в порядок
неопределенного дискурса, который констатирует, описывает, устанавливает «факты»
(и это как раз в тот самый момент, когда Запад начал экономическое и политическое
завоевание этого мира), имеет, без сомнения, свою операциональную модель в
Инквизиции — этом необъятном изобретении, которое наша стыдливость упрятала в
самые глубокие тайники нашей памяти6.
В своей «Истории сексуальности» (Т. I. Воля к знанию, 1976) Фуко находит
возможным говорить о всей западной цивилизации как об «инквизиторской»
цивилизации. Науки, описывающие и классифицирующие живые существа, минералы, другие
натуральные объекты, как считает Фуко, сложились на основе матриц
«опроса-дознания», подобного тем допросам, которые вела церковная инквизиция. Методы
извлечения знаний из сознания людей о людях и их поведении были перенесены на способы
извлечения знаний о природе из природы. Недаром великий законодатель и
государственный деятель Френсис Бэкон стал одновременно и основоположником учения
об эмпирическом методе в естествознании, родоначальником новых эмпирических
наук о природе: «На пороге классической эпохи Бэкон, юрист и государственный
деятель, попытался применить к эмпирическим наукам методологию опроса-дознания»7.
Здесь, конечно, возникают вопросы: не идет ли речь о некоторой очень
отдаленной аналогии между методами извлечения знания о событиях в мире людей
средствами юридическо-политической техники, с одной стороны, и методами
эмпирического и — что более существенно — экспериментального исследования природы,
как оно было организовано, скажем, в галилеевской физике, с другой стороны? Для
Фуко это не просто отдаленная аналогия или ни к чему не обязывающее сравнение.
Он считает, что сами процедуры извлечения знания о природных телах возникли
на основе матриц для извлечения знаний о человеческих «телах» и «душах»,
разработанных в средневековых институтах, в частности таких, как суд с его
инквизиционным дознанием. Подобная юридическая матрица расставляет людей в
определенную диспозицию, она предписывает одним играть роль истца, другим — ответчика,
определяет роль судьи, свидетеля и т. д. Все эти роли, или функции, связываются
определенными правилами взаимодействия, цель которых — установление истины
о поведении или событии (сделал ли такой-то то-то тогда-то или же нет). Но в мире
6 Foucault M. Surveiller et punir: Naissance de la prison. Paris, 1975. P. 227.
7 Ibid. P. 228.
416
Раздел третий
исследования природы эпистемически значимые роли исполняют, как
представляется, не столько люди, сколько приборы и механические устройства — наклонные
плоскости, коромысла весов, грузы, жидкости, измерительные устройства и т. п.
Однако аналогия здесь действительно проглядывает: приборы, измерительные
установки и другие инструменты можно, и не без оснований, уподобить юридическим
свидетелям, ибо они подтверждают или опровергают предполагаемое о вещах,
подлежащих экспериментальному исследованию. Судьей же в конечном счете
выступает сам экспериментатор: он выносит вердикт, долженствующий раскрыть истину
о вещах, вовлеченных в процесс эксперимента.
Социальная матрица описанного вида, видимо, может служить неким
прототипом для эффективной расстановки элементов системы
опытно-экспериментального изучения природы. Действительно, природа, в отличие от людей, не говорит
на естественном языке, будучи, по Галилею, книгой, написанной на языке
математики. И потому ее, если знать ее язык, можно вопрошать на манер того, как ведется
допрос в суде. Горизонт возможных знаний о природе задан пределами самой
изначальной социоисторической матрицы. Вот это обстоятельство важно для историков
науки и эпистемологов, изучающих программу Фуко и оценивающих ее значимость
для развития исторических и теоретических исследований науки. Оно важно потому,
что позволяет объяснить «эпистемы», которые в «археологии знания» периода
написания книги «Слова и вещи» (1966) практически не объяснялись, что неизбежно
приводило к истолкованию их как априорных ментальных структур различных эпох.
В «генеалогическом» аспекте эпистемология Фуко раскрывается как социоистори-
ческая, и это, несомненно, представляет шаг вперед по отношению к семиотико-куль-
турологической «археологии знания». Грань между знанием и обществом не просто
провозглашается отмененной, но конкретно показывается, как общественное
измерение и измерение познавательное, социальное и когнитивное представляют собой
одно и то же. Это «одно и то же» есть прежде всего собрание технических средств
образования и функционирования «власти-знания»: «Какова власть, таково и знание»8.
Юридические механизмы опроса-дознания не просто нацелены на отвлеченную
истину о человеческих поступках, но ориентированы на управление обществом,
опирающееся на знание о поведении людей. «Юридическая модель опроса, — говорит
Фуко, — основывается на целой системе власти, именно эта система и определяет то,
что должно быть конституировано как знание»9. Сама структура вопроса задает
набор возможных ответов на него. В этих социокультурно заданных рамках
складывается и существует знание и одновременно осуществляется деятельность управления,
реализуются определенные политические отношения, проводятся в жизнь
специфические стратегии цивилизации и общества, ее представляющего.
Вернемся к анализу «опроса» с тем, чтобы более конкретно просмотреть, как
Фуко понимает свое центральное понятие «власть-знание» и как оно функционирует
8 Foucault M. Surveiller et punir: Naissance de la prison. P. 227.
9 Цит. no: Kremer-Marietti A. Foucault... P. 203.
«Генеалогия знания» Фуко как программа анализа научного знания 417
у него в «генеалогии знания». Само слово «опрос» (enquête) происходит от латинского
inquirOy что означает «разыскиваю» («инквизиция» буквально означает «розыск»).
«Опрос» конституируется прежде всего как судебная юридическая процедура,
нацеленная на извлечение знания строго определенным путем. Знание может существовать
только благодаря наложению «решетки» вопросов, ограничений и других его условий
на «сырой» материал действительности. «Опрос», в частности в сфере
юриспруденции, в средние века строился по схеме: (1) кто что сделал? (2) имеет ли содеянное
общественное значение? (3) каковы доказательства и примеры содеянного? (4) имело ли
место признание? Опрос развился в адвокатуре, он позволял адвокату посредством
строго организованного, методически поставленного выслушивания ответов
свидетелей и всех вовлеченных в «дело» лиц установить точность фактов с целью
смягчить вину. По сути дела, эта процедура означает новую, претендующую на большую
достоверность картину «объективных» событий, чем та, которая дана обвинением.
Поэтому процедура «опроса» имеет прямое познавательное значение. Эта процедура,
говоря словами Фуко, — стержень определенного «режима истины». Опрос прежде
всего апеллирует к истине, выступает от ее лица. Уже с XIV в. этот метод
формирования знания находится в оппозиции к знанию, опирающемуся исключительно на
авторитет традиции, на рассуждения вербально-символического порядка.
«Опрос» есть организация общения, диспозиция социальных действий,
нацеленная на знание как «истину» о «фактах». «Опрос» в качестве отработанной схемы
административно-фискальной деятельности и политико-юридической матрицы
становится основой для сбора естественно-научной, этнографической и другой
информации в эпоху великих географических открытий и при дальнейшем развитии
экономической, политической и познавательной экспансии западной цивилизации.
«Я считаю, — говорит Фуко, — что естественные науки действительно
самоутверждаются во всеобщей форме опроса, точно так же, как науки о человеке рождаются
тогда, когда устанавливаются процедуры надзора и сбора сведений об индивидах,
хотя это и было только их началом»10.
Здесь нужно заметить, что у Фуко мы находим различные теории происхождения
наук о человеке. Вообще проблема возникновения гуманитарного научного знания —
одна из центральных проблем всего его творчества. Как возможны науки о человеке,
как и почему они возникли в том виде, в каком они существуют сейчас? — эти
вопросы беспокоили французского философа с самого начала его научной
деятельности. И первой теоретической схемой ответа на этот вопрос явилась идея, впервые
четко изложенная им в работе «Рождение клиники» (1963).
Сознание, — пишет в ней Фуко, — живет постольку, поскольку оно может быть
изменено, испорчено, ампутировано, отклонено от своего хода, парализовано; общества
живут постольку, поскольку они содержат больных людей, которые чахнут, и
других, которые здоровы, находятся в полном расцвете сил; раса выступает как живое
Foucault M. Questions on geography // Power-Knowledge. P. 74.
418
Раздел третий
существо, которое видят вырождающимся, а о цивилизациях говорят, что они
обречены на умирание. И если науки о человеке возникли как естественное
продолжение наук о жизни, то это потому, что они имели медицинскую, а не биологическую
подоснову, что в самой структуре их генезиса обнаруживается рефлексия больного
человека (курсив наш. — В. В.)и.
Сама специфика наук о человеке, рассуждает Фуко, определена тем, что они
не могут быть отделены от его сущностной негативности — болезни, безумия,
социальной анормальности и т. п. Позитивное знание о человеке построено на
фундаменте негативности, только благодаря которой человек может получить
объективное знание о себе. «Патология» человека во всех видах, подчеркивает Фуко, дала
базу для объективации человека, для наук о «нормальном» человеческом существе.
Объективация больного привела к медицинским наукам, объективация
психических больных, «безумцев» — к возникновению психиатрии и, частично, к генезису
психологии вообще, объективация правонарушителя породила криминологию, пе-
нологию, внесла вклад в психологию и педагогику и т. п. Этот же опыт
объективизации гуманитарно-негативного привел к возникновению социологии, социальной
статистики, к объективации мира индивидуального, человеческого и социального
вообще. Гуманитарная негативность в болезни, безумии, преступлении и, наконец,
в смерти представляет собой как бы «естественную» самообъективацию человека,
подобно тому как для греков небо с его правильным движением звезд было своего
рода «естественным» научным объектом — устойчивым, неизменно
воспроизводящимся, отличающимся постоянством и точностью своего движения.
«Здоровье» в его «норме» неуловимо для объективного описания, но болезнь
вполне доступна позитивному, точному представлению. Словом, считает Фуко в этот
период своего творчества, гуманитарные науки построены на том фундаментальном
факте, что человек конечен, смертен, доступен негативности во всех ее формах.
Конкретные «аналитики» этой негативности и образуют спектр наук о человеке. Конечно,
и в период написания «Рождения клиники» (1961) Фуко понимал и конкретно
раскрывал значение «констелляции» политики, социальных связей, экономики,
эпистемологических процедур для генезиса знаний о человеке. Клиника у него — это как
раз такой «автоклав», где происходит взаимодействие всех социокультурных и
эпистемологических связей, благодаря чему формируется совершенно новый тип
медицинского знания — клиническая медицина, идущая на смену «классификаторской»
медицине классической эпохи. Но в этой работе еще нет теоретизации
наметившегося метода познания. Он оформляется только в начале 70-х гг., с возникновением
понятия «власть-знание».
В работе «Надзор и наказание. Рождение тюрьмы» (1975) Фуко формулирует
другую теорию генезиса наук о человеке. Набросок этой теории был им дан еще
раньше, в упомянутых выше лекциях 1971-1972 гг. Социоисторической матрицей
11 Foucault M. Naissance de la clinique: Une archéologie du regard médical. Paris, 1963. P. 36.
«Генеалогия знания» Фуко как программа анализа научного знания 419
возникновения наук о человеке выступает здесь процедура «осмотра-обследования».
Осмотр — это «средство фиксировать или восстанавливать норму, правило,
разделение, качественную характеристику или квалификацию, исключение, но он
одновременно и матрица всех психологии, социологии, психиатрии, психоанализов,
короче говоря, всего того, что называют науками о человеке»12.
«Осмотр» поставлен здесь Фуко в один ряд с двумя матрицами — «мерой»
и «опросом», которые мы разобрали выше. Каждая из этих матриц, считает Фуко,
до ее прямого эпистемологического функционирования входила в структуру
политической регуляции общества: мера выступала как средство поддержания
справедливого порядка, выполняла функцию упорядочивания социума в античности, опрос
служил механизмом укрепления централизованной власти при переходе от
средневековья к Новому времени, а осмотр был средством осуществления
социальных функций отбора, селекции индивидов и групп и исключения некоторых из них
из состава нормального «социального тела»13. Все три матрицы фиксируют
основные типы «власти-знания», складывающиеся исторически в спонтанном развитии
цивилизации Запада. Так, осмотр возникает вместе с возникновением и развитием
массовой практики интернирования, начатой с середины XVII в., с возникновением
и развитием полицейского аппарата, средства надзора и контроля над населением
в массовых масштабах14.
История и эпистемологическая функция осмотра была исследована Фуко уже
в ранней работе «Рождение клиники» (1963), в которой анализируется процесс
формирования клинического госпиталя. Развитие практики осмотра, превращение
спорадического визита врача к больному в практически каждодневный контроль
больного приводит к тому, что госпиталь из места медицинской помощи становится
важнейшим средством накопления знаний, их активного производства и
упорядочивания. Именно хорошо «дисциплинированный» с помощью интенсивно и
систематически ведущегося осмотра госпиталь становится генератором самой медицины
как «дисциплины», которая благодаря ему «черпает свои знания не столько в
традиции признанных авторитетными авторов, сколько в сфере объектов, непрерывно
доступных для осмотра и обследования»15. Лишь достижение определенных
институциональных рубежей приводит к эпистемологической «деблокировке» развития
знаний. Таким рубежом в истории медицины и была организация клинического
госпиталя, во многом построенного на систематическом использовании процедур
осмотра-обследования.
Но процедура осмотра-обследования получила свое развитие не только в
госпитале. На ее базе сложилась и система педагогического контроля в школе. Осмотр
12 См.: Kremer-Marietti A. Foucault... Р. 202.
13 Ibid. Р. 202-203.
14 Ibid. Р. 204.
15 Foucault M. Surveiller et punir. P. 187.
420
Раздел третий
здесь выступает как экзамен. Если в средние века практиковался лишь один экзамен
для всего процесса обучения (шедевр ученика должен был демонстрировать
аутентичность переданных ему мастером-учителем знаний), то начиная с XVII-XVIII вв.
он становится постоянным механизмом всей педагогической машины.
«Экзаменация» школы есть важный элемент «сциентификации» обучения. Экзамен превращает
процесс приобретения знаний в строго контролируемую, научно обоснованную
процедуру. Он поощряет приобретение нужных знаний и препятствует приобретению
ненужных, предназначенных не для ученика, а только для учителя, осуществляет
контроль за трансляцией знаний, ранжировку учащихся по уровню знаний, служит
инструментом «подхлестывания», стимулирования и контроля за всем процессом
приобретения знаний. Экзамен объективирует ученика и процесс обучения,
позволяет управлять обучением как своего рода машиной.
В военном деле экзамен — это парад, смотр, показательные учения. Первый
грандиозный военный парад в истории Западной Европы был устроен 15 марта 1666 г.
Людовиком XIV. В нем участвовало 18 тысяч человек. Смотр или парад открывает
возможность контроля больших групп людей, определения эффективности их
обучения, он вообще — а не только в армии — служит для введения сравнительного
метода в описание групп, их эволюции, позволяет характеризовать не только
индивида, но и целые коллективы, их распределение, ранжировку.
Конечно, осмотр-обследование прежде всего примечателен тем, что позволил
ввести индивидуальность в сферу объективного. Индивидуальное всегда — уже
с Аристотеля — исключалось из сферы объективного знания. Но вместе с развитием
процедур осмотра индивидуальное — в педагогике, в натуральной истории, в
медицине и т. п. — включается в эпистемологическую практику, в процесс накопления,
производства, утилизации знаний. Развитие процедур осмотра, учета, регистрации
индивидуального приводит к документализации и «формализации» индивида
внутри специфических социальных и политических отношений в рамках
определенных стратегий.
Фуко не ограничивается анализом развития этих процедур как таковых. Он
рассматривает их значение для истории наук. Для него характерен поиск тех подходов
к истории науки, которые не были раньше испробованы и были обойдены
традиционной историей:
Пишут историю опытов или экспериментов со слепорожденными, с детьми-волками
или с гипнотическими явлениями, но кто будет изучать историю более общую, более
подвижную и более определяющую, историю осмотра-обследования, историю его
ритуалов, методов, персонажей, их роль, игру вопросов и ответов, систему отметок,
классификаций? А ведь именно в этой тонкой технике скрывается целая сфера
знания, целый тип власти. Часто говорят об идеологии, которую несут с собой, скромно
или громогласно, гуманитарные науки. А сама их технология, эта
детализированная операциональная схема, имеющая столь широкое распространение — от
психиатрии до педагогики, от диагностики больных до найма рабочей силы — этот всем
«Генеалогия знания» Фуко как программа анализа научного знания 421
знакомый прием — осмотр — разве он не пускает в ход внутри одного и того же
механизма отношения власти, позволяющие извлекать и конституировать знания?
Политика внедряется не просто на уровне сознания, представлений и того, что считают
знанием, но прежде всего на уровне, делающим возможным само знание1б.
Интересна параллель с идеей исторического априори, развитой в книге «Слова
и вещи». Там историческое априори было семиологическим типизирующим культуру
образованием, «эпистемой». Здесь же Фуко анализирует политическое и социальное
априори. Сама социополитическая «установка» эпистемогенеза определяет природу
образующегося знания. Иными словами, в последний период своего творчества Фуко
раскрывает природу знания (и познания) не как культурную (и в этом смысле
автономную относительно общества) функцию, а как социополитическую функцию.
«Политизация» знания в идеологии, в «научной политике», в сфере использования
знания, в социальных дискуссиях и т. п. вторична по отношению к первичной
«априорной» его политизации в самой технологии объективации его предмета — мира
индивидуальностей. Фуко решительно порывает с традиционными представлениями
о соотношении власти и знания, политики и науки, согласно которым сначала
независимо вырабатывается «чистое», «объективное» знание, а потом, при его внедрении
в общество, возникает политический аспект его функционирования и
использования. На эту расхожую точку зрения Фуко отвечает теорией «власти-знания», согласно
которой вообще нет никакого «независимого», «чистого» знания. Существует лишь
сложный комплекс «власти-знания», при преломлении которого в реальном
историческом обществе могут возникать — и целенаправленно извлекаться — как
политические, так и эпистемологические эффекты. Отдельно «власть» и отдельно
«знание» — это только абстракции, эффекты этого целостного комплекса.
Науки, основывающиеся на введении индивидуального в документалистику
письменной регистрации, в формализм записи, Фуко называет «клиническими».
Это и клиническая медицина, и клиническая химия, и статистика, социология,
психиатрия и т. п. Одна из основных проблем образования этих наук — вхождение
индивидуальных данных (досье, анкета, анамнез и т. п.) в общее функционирование
научных построений — в теории, гипотезы, проблемы и т. п., которые относятся
уже не к индивиду, а к массе — к роду, группам, классам. Эти средства фиксации и,
шире, объективации индивидуального были в истории Запада одновременно и
средствами управления индивидами — управления их поведением, их «телами» и
средствами их познания, выявления их «природы», сущности, т. е. того, как они
существуют «сами по себе».
«Мера» или «измерение», «опрос» или «дознание», «осмотр» или «обследование»
представляют собой, как мы уже говорили, основные социоисторические
политико-юридические матрицы для формирования знаний соответственно в эпоху
античности, в конце средних веков и в начале Нового времени и, наконец, в XVIII-XIX вв.
16 Foucault M. Surveiller et punir. P. 187.
422
Раздел третий
Фуко, однако, не ограничивается ими. Он допускает возможность не только
нахождения новых таких матриц, но и их совместного действия, наложения друг на друга,
смешения в различных пропорциях при «матрицировании» различных
конкретно-исторических форм знания. Какие же новые матрицы и модели он предлагает
помимо нами уже рассмотренных? Такой моделью объявляется прежде всего
«дисциплинарное общество», сама «дисциплина». Анализу «дисциплины» и
«дисциплинарного общества» Фуко посвящает свою работу «Надзор и наказание» (1975).
«Методы, позволяющие осуществлять мелочный, детальный контроль операций тела,
обеспечивающие постоянное подчинение его сил, ставящие его в отношение
"послушание — полезность", вот что такое "дисциплина"», — говорит Фуко17.
Процедуры дисциплины известны человечеству с незапамятных времен. Они
в той или иной форме существовали, видимо, всегда. В Древнем Риме была развитая
военная дисциплина, послужившая образцом для Европы эпохи Возрождения18.
Другие развитые формы дисциплинарных процедур существовали в монастырях, в
средневековых мастерских, в армиях, в школах и судах. Однако только начиная с XVII-
XVIII вв. дисциплинарные процедуры стали «всеобщими формами господства»19. Это
связано, несомненно, с развитием новой экономической структуры и с
возникновением абсолютизма. Переломным моментом, как считает Фуко, в истории
дисциплинарных методов и процедур явилось их слияние с полезностью и эффективностью.
Именно в этом отличие становящегося (с XVII в.) дисциплинарного общества от
рабовладения античности, от средневекового крепостничества.
Экономическая эксплуатация и принуждение в эпоху возникающего и
развивающегося капитализма дополняются, согласно Фуко (который в своих анализах
частично опирается на «Капитал» Маркса), «дисциплинарным принуждением»: «Если
экономическая эксплуатация отделяет силу или способность к труду от продукта
труда, то дисциплинарное принуждение устанавливает в рамках тела
принудительную связь между повышенной способностью тела и возросшим господством над
ним»20. Иными словами, в дисциплине повышенная полезная способность тела
поставлена в связь с его усиленным и детализованным послушанием.
Фуко всесторонне исследует феномен дисциплины, показывает его
развертывание во времени и в пространстве, вводит термины «дисциплинарное пространство»
и «дисциплинарное время», наконец, рассматривает историческое становление
«дисциплинарного общества». Генезис такого общества, по его мнению, связан с историей
Европы XVI-XVIII вв., с изобретением огнестрельного оружия, с массовым
использованием ружей, с образованием регулярных армий, с победами Пруссии, с одной
стороны, а с другой — с распространением эпидемий и с развертыванием борьбы
17 Foucault M. Surveiller et punir. P. 139.
18 Ibid. P. 148.
19 Ibid. P. 139.
20 Ibid. P. 140.
«Генеалогия знания» Фуко как программа анализа научного знания 423
против них, со становлением всеобщего обучения и организацией массовых школ.
Не забывает он отметить и важность дисциплинарных методов для
функционирования мануфактуры при переходе к машинному производству. Все эти процессы —
а среди них он выделяет именно развитие регулярной, обученной армии — и ведут
к возникновению исторического феномена «дисциплинарное общество».
Какие же последствия этого феномена важны для истории науки? Прежде всего
возникает «дисциплинарная матрица», действующая по отношению к генезису
знаний наподобие вышерассмотренных матриц «мера», «опрос», «осмотр». Исчисление
бесконечно малых, развитие систематики в натуральной истории Фуко считает
«отголосками» дисциплинарных механизмов в обществе классической эпохи21. В науке
о живом образование «живых таблиц» было первым из значительных вкладов
«дисциплинарной матрицы» в развитие наук. Сама таблица выступает в XVIII в.
одновременно как форма знания и как форма власти. «Образование таблиц, — говорит
Фуко, — было одной из основных проблем научной, политической и экономической
технологии XVIII в.»22. И если в «Словах и вещах» таблица рассматривалась как
воплощение культурной эпистемы, как «априори» семиологического плана, то теперь
Фуко снимает ее априористические и абстрактно-семиологические характеристики,
считая таблицу выражением «власти-знания». Так совершается переход от
«археологии знания» к «генеалогии власти-знания». Анализ знания нашел у Фуко свой со-
циоисторический базис.
Если «дисциплинарная матрица» и вносит свой вклад в формирование наук
о природе, но все же основное ее значение в истории науки состоит в том, что она,
по мысли Фуко, послужила основой для генезиса наук о человеке. Рождение наук
о человеке «нужно, вероятно, искать в тех неприметных, лишенных ореола славы
архивах, где вырабатывалась современная система средств принуждения по
отношению к телам, жестам, поведениям»23. Дисциплинарные процедуры
объективируют индивида и тем самым вводят его в сферу знания. Индивид в
дисциплинарном пространстве-времени одновременно и объект отношений власти, и объект
знания. Если посмотреть на историю индивидуализации документалистики, то мы
увидим, что в традиционных обществах — в средние века — вхождение индивида
в индивидуальную хронику считалось величайшей привилегией. Индивидуальная
историография была символом могущества. Но начиная с эпохи Просвещения
ситуация радикально меняется. Порог историографической фиксации индивидуального
резко понижается, превращаясь из средства прославления князей и владетельных
особ в средство контроля за массой населения, за ее экономическим и
политическим использованием и одновременно в необходимый инструмент развития знаний
и оформления гуманитарных наук. Можно сказать, что в традиционных обществах
21 Foucault M. Surveiller et punir. P. 141.
22 Ibid. P. 150.
23 Ibid. P. 193.
424
Раздел третий
индивидуальная историография выступала как инструмент прославления
суверенов для будущих поколений. А теперь — с XVII-XVIII вв. — индивидуальная
историография становится рабочим документом, основой для формирования знаний
и инструментом для управления массами населения. В «дисциплинарную матрицу»
вплетены механизмы «осмотра-обследования-экзамена». «Осмотр, — подчеркивает
Фуко, — стоит в центре процедур, конституирующих индивида в качестве эффекта
и объекта власти, эффекта и объекта знания»24.
Индивидуализация в традиционных обществах (в том числе феодальном)
является «высокой», или «восходящей»: она охватывает лишь верхушку социальной
иерархии. А индивидуализация в европейском обществе начиная с VII в., и особенно
с XVIII в., приобретает характер «нисходящей индивидуализации». И это —
радикальный поворот, ибо «все науки, анализы и практики с корнем "психо"
размещаются в этом историческом развороте процедур индивидуализации»25. По сути дела,
это переход от ритуальных механизмов образования индивидуализации к
механизмам научно-дисциплинарным, переход к тому состоянию, где норма замещает
предание, измерение — статус, и именно в этот момент времени и благодаря этим
преобразованиям открывается возможность возникновения наук о человеке.
Отметим одно важное для истории науки обстоятельство в связи с концепцией
«власти-знания». Отношение естественных и гуманитарных наук к формирующим
их матрицам различно. Так, мы уже говорили, что генезис наук о природе, согласно
Фуко, по крайней мере частично зависел от таких процедур, как процедуры
«опроса-дознания». Но в дальнейшем своем развитии естественные науки весьма далеко
отошли от своей «генетической матрицы». Положение с гуманитарными науками
в этом плане иное: они продолжают опираться на механизмы своей генетической
матрицы — на механизмы прежде всего «осмотра-обследования» и на все механизмы
индивидуализации и объективации индивида в «дисциплинарном обществе».
Другими словами, науки о природе получают как бы гораздо больше
самостоятельности по отношению к своим «матрицам», хотя в принципе они и продолжают нести
в себе все следствия такой зависимости.
Укажем теперь на некоторые аспекты значения проанализированной программы
Фуко для истории науки. Прежде всего, подход Фуко заставляет гораздо более
внимательно и с большим пониманием сути дела отнестись к тому направлению в
историографии науки, который иногда называют «дисциплинарным подходом». Без
анализа истории «дисциплины» — нормативного корпуса знаний, институтов,
аппарата нормализации знания, создания специальных систем изданий и
преподавания и т. п. — история науки не сможет ничего дать для понимания процессов,
происходящих в современной науке и для их прогнозирования. Только тонкая
концептуальная история вместе с тщательным дисциплинарным и социологически
ориентированным подходом, учитывающим реальные социальные силы и противоречия
24 Foucault M. Surveiller et punir. P. 194.
25 Ibid.
«Генеалогия знания» Фуко как программа анализа научного знания 425
и их историко-культурный контекст, может быть действительно современной
историографией науки, стоящей на высоте своих задач.
Развитый Фуко подход позволяет лучше понять значение форм социальности для
генезиса наук. И в этом концепция генеалогии знания Фуко перекликается с
марксизмом. «Мое всеобщее сознание, — писал Маркс, — есть лишь теоретическая форма
того, живой формой чего является реальная коллективность, общественность»26.
Социальные формы, в частности формы социального общения, системы социально
оформленных действий, становятся у Фуко матрицами для генезиса знаний. Иными
словами, сама социальная действительность в ее историческом своеобразии служит
основой для возникновения и развития наук. Изучение ключевых для
возникновения научных знаний форм общения, форм, реализуемых в конце концов
институционально, оказывается поэтому необходимым и существенным моментом для
понимания процесса научного развития.
Дисциплинарно оформленное знание изнутри «пропитано» социальными
значениями, и поэтому на поверхности явлений оно предстает независимым от
социальных отношений, автономным устройством для получения истины о вещах, как
они существуют сами по себе. Этому поверхностному впечатлению, лежащему в
основе «интерналистской» установки в анализе науки, способствует широкое развитие
формализации внутри дисциплинарно представленного знания. Значение
«генеалогии знания» Фуко, на наш взгляд, прежде всего в том, что она может способствовать
отказу от противопоставления «экстернализм — интернализм», ставшего столь
привычным в методологии истории науки.
Маркс К, Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 590.
ПОСЛЕДНИЙ ЗВЕНИГОРОД:
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ
Оглядываясь на недавнее прошлое, вспоминая дискуссии по проблеме
рациональности, которые велись у нас в конце 80-х — начале 90-х гг. прошлого века,
понимаешь их актуальность. Да, сегодня некоторые аспекты этой проблемы выходят
на новый уровень их разработки, появляются новые акценты ее анализа. Но такие
проблемы, как рациональность и культура, рациональность и традиция,
рациональность и ее границы, рациональность в объемлющем ее контексте знания,
рациональность и проблема культурных универсалий, рациональность и история,
рациональность и язык, остаются тематическими аттракторами поиска, которыми они стали
не сегодня. Память — начало динамическое, от нее исходят импульсы,
устремленные в будущее. Поэтому, я думаю, будет полезно оживить в памяти одну, вполне
конкретную дискуссию по этой проблеме.
С 14 по 16 марта 1990 г. в Звенигородском пансионате Российской академии наук
проходила конференция «Исторические типы рациональности», организованная двумя
секторами Института философии. В то время планировалось написание
коллективного труда по этой проблеме, который позднее и вышел двумя изданиями1. Традиция
совместного обсуждения «стержневых» проблем истории и философии науки давно
уже объединяла усилия философов и историков науки. Увы, традиция эта оборвалась.
Произошло разукрупнение научного сообщества. Думаю, что когда-нибудь история
этих конференций и всего окружавшего их контекста будет написана. Мне довелось
быть своего рода Пименом последней звенигородской встречи. Я записывал
выступления на магнитофонную ленту, а также вручную вел «бортовой журнал» конференции.
Два слова об общей картине этого события. Когда в далеком небе прожектора
ПВО ловят вражеский самолет, то происходит как бы виттова пляска лучей,
пытающихся поймать его в скрещенье своих оптических стрел. В наше общее небо и в небо
мысли каждого из нас залетел НЛО под условным названием «рациональность», и мы
изо всех сил стараемся его запеленговать, спроецировав на экран сознания, что
сможет нас кажется, наконец успокоить. Ведь ворвавшийся НЛО, естественно, лишил
нас если не сна и аппетита, то, по крайней мере, ментального уюта. Один эпизод
«оптической» охоты на рациональность, эпизод, поневоле неполно представленный,
и предлагается вниманию читателей.
1 Исторические типы рациональности. Т. 1-2. М., 1996; Рациональность на перепутье. В 2 кн.
М., 1999.
Последний Звенигород: рациональность под прицелом
427
Наука и нравственность:
возможности «Вопрошающего рационализма»
В своем выступлении, во многом задавшем тон дискуссии, В. С. Степин подчеркнул,
что проблема рациональности не является чисто академической наподобие хорошо
знакомых проблем, таких как «случайность и необходимость», «единичное и
общее» и т. п. Проблема рациональности встает сейчас не как умозрительная проблема
теоретика, а как проблема жизни нашей цивилизации, подошедшей к
определенному порогу. Условно этот тип цивилизации Степин назвал «техногенной»
цивилизацией. В ее рамках складывается тип мышления, ориентирующийся на изменение
мира, понимаемого как предмет деятельности. Эта предметно-деятельностная
ориентировка замыкается на науку, объективирующую мир. Объект может переходить
от состояния к состоянию, а наука описывает регулярности таких переходов, что
необходимо для успешной деятельности по преобразованию мира. К чему бы наука
ни прикасалась, все она рассматривает только как объект, а прикасаться она может
ко всему. Однако предметно-деятельностная сущность науки не означает, что она
занята только теми объектами, которые общественная практика может в данное время
использовать или преобразовывать. Нет, наука занята и возможными мирами
будущих практик, изготовляя их наподобие сумасшедшего портного, кроящего и
шьющего одежки на вырост. Когда-нибудь наработанное в этом плане наукой сможет
пригодиться обществу. Но, разумеется, только обществу, основанному на наукомер-
ном преобразовании мира. Для институализации такой науки формируются
соответствующие ценности, создается своеобразная культура. Основными ценностями
в ней выступают ценности истины и новации, подытоживающие систему норм и
идеалов знания — доказательность, эксперимент как проверку утверждений и т. п. Все
это характеризует типичные для техногенной цивилизации формы науки. В
традиционных обществах существует лишь преднаука (рецептурные знания), но не
собственно наука. Вся европейская культура, воплотившись в техногенной цивилизации,
подошла сегодня если не к своему пределу, то к существенному рубежу. Ценностные
структуры, заложенные в эпоху Просвещения, ставятся сейчас под вопрос, их,
сказал Степин, надо пересматривать.
Вопросов к выступавшему было немного, а они возникают. Например, не вполне
ясной осталась связь кризиса (слово достаточно жесткое) техногенной
цивилизации с возникновением постнеклассической науки. Знаменует ли собой этот внутри-
научный тип рациональности начало новой, посттехногенной, цивилизации или же
только ее очередное, хотя и очень важное, рубежное видоизменение? Но этот и
подобные вопросы не прозвучали, и дискуссия пошла по другому руслу, заданному
полемическим выступлением Ю. Н. Давыдова. И в спор сразу же вступили разные
философские и мировоззренческие установки.
Давыдов обратил внимание на тот тезис Степина, что «техногенная»
рациональность функционирует так, что создаются возможные объектные миры, которые
428
Раздел третий
накапливаются впрок, дожидаясь часа своего воплощения в практике. Давыдов
поставил проблему практики как верификатора истинности возможных миров,
созидаемых научным разумом, в частности проектирующим устройство общества в целом.
Трудность, подчеркнул он, в том, что мы верим в критерий практики: раз некоторое
построение встраивается в общественную жизнь, то все, баста, значит его
эпистемологический статус в качестве объективного знания бесспорен.
Итак, работает ли критерий практики, по крайней мере в сфере социального
знания? По словам Давыдова, этот критерий вовсе не является последним, таковым
является лишь моральный критерий, который может быть сформулирован в
данном случае так: а каким числом жертв мы можем пренебречь, чтобы реализовать
наше утопически-научное знание? Если социальный реформатор располагает
соответствующими средствами и готов пойти на любые жертвы ради своей идеи, то есть
основание считать, что она из возможности превратится в действительность и тем
самым будет оправдана как «научная». Поэтому и возникает проблема иного
критерия знания, в том числе знания социально-проективного. Им может быть только
моральный критерий. Именно в русле морального вопрошания и формируется
действительный критерий рациональности. И рациональность надо мерить не
практической воплощаемостью проекта, а его социальной ценой. И чем она ниже, тем
проект рациональнее.
Выступление Давыдова ясно обнаружило линию спора: как надо относиться к
науке — подчинять ее всецело внутринаучным критериям истинности (и
рациональности), сформированным в самой научной культуре как ее идеалы, нормы,
методологические принципы, или же рассматривать ее через призму нравственных критериев?
Как же ответили на выступление Давыдова его оппоненты? Первым
выступил В. А. Лекторский. Он обратил внимание на то, что если практика как критерий
научной рациональности устраняется ради морального критерия, то столь же остро
встает в таком случае вопрос об обосновании самой морали. Да, в центре
внимания — проблема выживаемости человечества. В принципе можно уничтожить все
человечество, но, к счастью, тоталитарные режимы не столь прочны, как это
представил Давыдов. Второй момент несогласия с его позицией, прозвучавший у
Лекторского, состоит в том, что, по его мнению, Давыдов преувеличил «пластичность»
действительности, заявив, что в ней может осуществиться любая умозрительная
доктрина, если только «не постоять за ценой». Тоталитарные режимы, обратил
внимание Лекторский, гибнут необязательно по внешним причинам, они могут быть
дестабилизированы и изнутри, например благодаря определенным экономическим
обстоятельствам и т. п. Тоталитаризм может исчерпать свои возможности, в том
числе и самосохранительные, раньше прихода каких-то чрезвычайных
дестабилизирующих нагрузок извне.
Дадим наш комментарий к этому, одному из главных споров, разгоревшихся
на конференции. Давыдов считает, что коммунистическая утопия превратилась в
тоталитаризм, доказавший антигуманность принимаемого марксистами (и не только
ими) критерия практики. Поскольку эта утопия является, по его мнению, законной
Последний Звенигород: рациональность под прицелом 429
наследницей Просвещения и гуманизма с исключительной опорой человека на свой
секуляризованный разум, то ее крах означает и крах всей новоевропейской
рационалистической традиции. Основать человекоразмерную цивилизацию на самостоянии
разума, опирающегося исключительно на науку и технику, подчиняющихся критерию
практики, невозможно. Выход, по-видимому, в возврате к авторитету и
религиозной вере, регулировавшим дотехногенное общество (об этом прямо не было сказано,
но достаточно ясно было указано косвенно). Четко было заявлено, что критерием
рациональности является мораль, в центре которой стоит постулат об абсолютной
самоценности человеческой личности. Этот постулат был утвержден в системе
христианских ценностей. Кроме того, идея истины как целостного блага (а не как
полезности) была проработана еще раньше у Платона и Аристотеля. Христианская же
идея свободы и самоценности личности была философски отрефлексирована
Кантом. Поэтому современный системный кризис техногенной цивилизации должен
обрести спасительный противовес в философии морального «абсолютизма».
Рациональное переустройство общества грозит ему самоуничтожением, потому что разум,
оторвавшийся от Абсолютного (нравственная Истина), приводит к предельным
антигуманным следствиям. Подобная позиция, по сути дела, была характерна для
русской религиозной философии от Соловьева до Бердяева и Франка.
Как же можно охарактеризовать взгляды не согласившихся с этой позицией?
Точку зрения Лекторского, спорившего с Давыдовым, можно было бы назвать
вопрошающим рационализмом, не боящимся ставить под вопрос привычные догмы
прогрессистского разума. Ситуация кризиса догматическо-рационалистических
утопий в тоталитаризме и кризиса техногенной цивилизации в связи с
экологической катастрофой ставит под вопрос, считает Лекторский, само стремление к
безбрежной рационализации общества, к его «одномерному» научному
переустройству. Дело в том, подчеркнул он, что наши привычные представления об обществе,
о месте в нем науки и техники зашли в тупик, перестали работать. То, что считалось
воплощенным идеалом (и общество, и наука в нем), оказалось на поверку не только
не идеальным, а даже, может быть, кошмарным. К этой ситуации и надо
«привязывать» обсуждение проблемы рациональности.
В классической европейской традиции в разуме, согласно Давыдову, всегда
содержалось этическое измерение: разум Платона, Аристотеля... Но когда возникает
понятые рациональности, то этическое измерение элиминируется, в чем, собственно,
и состоит глубокое различие между этими понятиями. Такая точка зрения вызвала
у Лекторского позицию осторожного скепсиса: всегда ли содержался в разуме
этический компонент? Как и почему, если он действительно был элиминирован, это
произошло? В позиции вопрошающего рационализма, выраженной Лекторским,
содержится действительно больше трудных вопросов, чем ответов, в то время как
в позиции его оппонента, по крайней мере на первый взгляд, скорее доминируют
ответы, кажущиеся готовыми.
Позиция Лекторского получила поддержку со стороны Степина. Критика
рациональности, считает он, как бы запаздывает: сам научный разум меняется, и вряд ли
430
Раздел третий
оправданно записывать на счет нового разума то, что числится на счету у прежнего.
Новый научный разум, стоящий перед уникальным объектом с включенным в него
человеком, должен учитывать в его модели и человеческие ценности, цели и идеалы.
В позиции Давыдова обращается внимание на своего рода внеморальный
рациональный проект, поддерживаемый технократами-учеными. Но, например, при
разработке комплексной программы (Байкала, например) нужно учитывать гуманомер-
ные факторы, вводя их внутрь научной модели.
В связи с этой проблематикой был проявлен интерес к вопросу о том, какого рода
ограничения преобразующей деятельности и вообще наукоемкой практики
человека содержатся в самой науке. Мораль, о которой говорил Давыдов, по отношению
к науке выступает как внешний фактор. Действительно, можно говорить о проблеме
сознательного ограничения занятия наукой, об отказе от определенных
исследовательских программ и т. п., но вряд ли можно говорить об имманентной моральной
коррекции научной рациональности. Однако вопрос этот требует специального
анализа. Наука развивается как освоение возможностей мысли и действия, но она
обязательно налагает запреты на «поле» таких возможностей. Вопрос в том, насколько
эта внутринаучная «аскеза» может коррелировать с миром морали или, шире, как
одни ограничения соотносятся с другими, если вообще между ними существует
(или хотя бы мыслимо) какое-то соотношение. Нельзя, на мой взгляд, не согласиться
с позицией современного рационализма, что все эти вопросы сегодня должны быть
поставлены заново. Уязвимость радикальной антисциентистской позиции состоит
в том, что наука сама меняется. Антисциентизм действительно всегда немного
запаздывал: одно время он был реакцией на механицизм, но наука тогда уже меняла свой
облик, генерируя немеханистическое естествознание. Да, ментальность,
господствовавшая в традиционных обществах, приводила к таким формам цивилизации,
которые не вызывали тотального риска уничтожения человечества. С развитием «фено-
менотехники» (Башляр) в рамках современной техногенной цивилизации локальные
риски во многом стали глобальными. Но можно ли, исходя из этого, отказываться
от научной рациональности как таковой! На мой взгляд, нам предстоит нелегкий
избирательный синтез ценностей как традиционных, так и техногенных обществ.
Все эти вопросы требуют максимума аналитической зоркости. «Антисциентисты»
утверждали в ходе дискуссии, что если бы внутренние ограничения, идущие от
личностной целостности знания, или моральные запреты были бы «вмонтированы»
в саму научную рациональность, то «у нас не было бы Чернобыля». Предъявление
определенного счета к научной рациональности, существующей в той форме, в какой
она сложилась в Новое время, оправдано. Но анализ ее технологических издержек
должен быть корректным. Вопрошающий диалогический рационализм не является
сциентизмом, потому что хотя наука в нем и признается, но отнюдь не в качестве
тотального и единственного интегратора общества^ дающего однозначные ответы
на все вопросы. Как сказал Степин, если бы современный рационализм был таковым,
то он бы признал за наукой и способность дать каждому человеку земное счастье.
Но, как говорится, «радио есть, а счастья нет»: наука дает технические возможности,
Последний Звенигород: рациональность под прицелом 431
но не счастье. В связи с этим мы бы заметили, что этизация науки может привести
к прямо противоположным результатам, чем те, которых хотели бы ее сторонники.
Наука этична не столько в той мере, в какой она подчинена внешнему для нее
моральному контролю, легко могущему принять уже знакомые нам формы идеологического
диктата, сколько в той, в какой она остается наукой, т. е. объективным знанием,
основанным на строгих и общезначимых критериях. Именно в качестве такой
объективной эпистемологической инстанции наука выполняет социально-нравственную
функцию, позволяя очертить зону возможного консенсуса в спорах и конфликтах.
Рациональность в исторических контекстах
На семинаре шла речь и о том, что понятие рациональности может пониматься и
предельно широко благодаря включению в него любых культурных форм (мистики
Востока или европейских средних веков), так и, напротив, предельно узко (поскольку
и современное знание недостаточно рационально, не всегда достигает высокого
уровня формализации, строгой аксиоматизации своего построения и т. п.). Одни
участники конференции считали, что высшие образцы рациональности — в
прошлом, в классическом рационализме античности с его онтологией бытия-блага,
другие же, напротив, что они — в будущем, когда знание достигнет своего формального,
методического и логического, совершенства. В соответствии с такими прямо
противоположными установками одни говорили об истории познания как об упадке
идеалов высокого рационализма, усматривая в ней деградацию разума в плоской
функциональной и внеэтической рациональности. Другие же, напротив, говорили об этой
истории как о трудном, но в принципе неуклонном прогрессе рационализации, как
по масштабам предметных областей, так и по совершенствованию средств познания.
Так, в выступлении B.C. Черняка было проведено различие между философской
рефлексией науки и самой наукой как исторически определенной системой
производства знаний. Обладая преимуществом ретроспективы, мы можем оценить
степень рационализации той или иной науки, изучая ее последовательные этапы. Если
мы исследуем, например, генезис арифметики или геометрии, то нам не обойтись
без исследования дорациональных форм этих наук (практики измерения
земельных участков, счета на пальцах, абаки), а также без соответствующих
мифологических и сакральных обрамлений. По мере же все большего абстрагирования и
формализации в этих науках возрастает степень их рационализации, что и позволяет
в конечном счете ранжировать определенные периоды их развития в соответствии
с типом рациональности. Например, можно говорить об индуктивной стадии
рационализации геометрии, затем — о нестрого дедуктивной ее стадии, о более строгом
ее логическом построении по типу «Начал» Евклида и т. д. Особый интерес
представляет то, как в разных исторических контекстах фиксируется одно и то же исто-
рико-научное явление. Геометрия Евклида, например, в течение двух тысячелетий
432
Раздел третий
оставалась верной букве и духу «Начал», в то время как культурно-исторический
и идеологический фон, окружающий эту древнюю науку, претерпевал значительные
изменения. Новый контекст меняет интерпретацию «Начал». Во многом иначе
трактуется смысл аксиоматики и геометрического доказательства, иначе ставится
проблема обоснования. Изменившееся «эпистемологическое поле», в которое попадают
«Начала» Евклида, конституирует новые идеалы и нормы научности,
стимулирующие одновременно и апологетическое и критическое отношение к основаниям
геометрии и методам логического доказательства. Это обстоятельство в конце концов
приводит к неожиданному результату — возникновению неевклидовых геометрий
и к новой эпистемологической ситуации, когда становится очевидной необходимость
совершенствования логической структуры этой науки в свете новых требований
математической строгости и обоснованности.
Я могу прокомментировать это выступление так: проблему рациональности
можно анализировать, рассматривая историю науки как рост рациональности от до-
рациональных форм знания ко все более рациональным его формам, при этом отсчет
прогресса рациональности производится в соответствии с презентистской
установкой на современные представления о рациональном. В этом подходе миф, религия,
мистика, ритуал, культ рассматриваются как дорациональные и поэтому «снимаемые»
в ходе прогресса познания, как своего рода «слетающие» со строящегося здания
знания «обрамления», «леса». Но можно иначе, на другом материале и с другим
пафосом рассматривать проблему рациональности, помещаясь как бы внутрь
неевропейской традиции. Это и было продемонстрировано в выступлении Е. Н. Молодцовой.
В традиционной культуре Индии западная наука или уничтожает автохтонную
культуру, или сама вытесняется ею. Обычно происходит смешение обоих
процессов. Главный тезис Молодцовой такой: если наука будет развиваться в тех же самых
стереотипах, в которых она развивалась вчера и которые сохраняются и сегодня,
то у человечества нет будущего. Термин «рациональное» идеологически и оценочно
нагружен. Рациональное противопоставляется нерациональному, мистическому,
и поэтому в силу идеологической оценки отвергается целый пласт специфической
системы знаний, в частности принадлежащих к индийской цивилизации.
Противопоставление «рациональное — мистическое» не отвечает реальности, это
надуманное противопоставление, отражающее западноцентристскую идеологему.
Поэтому надо говорить скорее о типах мышления. Традиционные культуры
сейчас начинают выходить с нами на контакт. Обычно это эзотерические учения,
но у них существует принцип универсального сочувствия, и поэтому контакт с ними
возможен, более того, представляет собой единственно спасительный для нас путь.
И сейчас, когда они становятся для нас максимально открытыми, нужно
попробовать их выслушать. Эти эзотерические учения имеют те же объекты, что и
европейская наука, но их носители говорят, что они принципиально ничего общего с наукой
не имеют, что это совершенно другой тип знания, не совместимый с
новоевропейской наукой. И если Степин ведет речь о критериях объективности и новизны
знания как о необходимо присущих науке, то надо сказать, что в современном знании
Последний Звенигород: рациональность под прицелом
433
эти критерии начинают преодолеваться и, соответственно, что научный (западный)
тип знания себя исчерпал и ничего страшного в этом нет.
Причина чернобыльской аварии не в том, что операторы не знали принципов
работы со стержнями реактора, а в том, что по крайней мере один из них не сумел это
знание пропустить через свою личность — пережить его. Знания были внутренне
убедительны, но они не стали «плотью и кровью» оператора энергоблока.
Традиционное знание устроено так, что оно задано структурой личности^ при этом всегда
существуют ограничения для знания и его распространения. Знание необходимо
должно быть пережито, оно не может распространяться на любую личность, как это
предполагается нашим европейским идеалом знания. Личность должна быть
определенным образом структурирована, приноровлена к знанию и к личностной же
ситуации его использования. В таком случае принцип новизны знания
преодолевается, потому что новизна — гонка за знанием по прямой: не может возникнуть
никакого нового знания, к которому личность была бы не готова. Традиционное
знание открывает только тот пласт знания, который соответствует уровню развития
личности. Иными словами, здесь абсолютно доминирует личностный принцип
существования знания. Поэтому устраняется и второй принцип европейской
рациональности — принцип объективизации. Акцент, таким образом, переносится с
объекта на субъект, личность, сознание. Человек есть только частица космоса, поэтому
астрология, составляющая часть такого знания, выступает на передний план. Кстати,
и для нас астрология снова становится некоторым видом науки. Целью знания
является преобразование ментального континуума человека. Поэтому восточные
учения передаются поэтапно и лишь определенным личностям. Европейская же наука,
вырвавшись за пределы личностных ограничений, видимо, исчерпала возможности
своего развития как беспредельной гонки за новизной с ее прогрессирующей
объективацией мира. При субъективации знания дело происходит так, что
объективация радикально ограничивается — субъект никогда не может быть включен в
объективированный мир.
Восточное знание не существует в отрыве от его практического применения.
Как только его применение приводит к неконтролируемым последствиям, оно
прекращается, так как традиция это запрещает. Традиционное знание дает нам образец
знания с человеческим лицом. Когда мы говорим о науке с человеческим лицом,
подчеркнула Молодцова, то необходимо заметить, что такого не бывает: наука
(западная) строилась на абсолютно других основаниях. И если сейчас в Европе происходит
коренное преобразование типа знания, то, может быть, надо отказаться от термина
«наука», который всегда нес идеологическую нагруженность, заменив его более
нейтральным термином «мышление».
Подчеркнуто полемическое выступление Е. Н. Молодцовой, конечно, далеко
от бесспорности. Да, своеобразное личностное знание могло бы, вероятно, помочь
операторам в Чернобыле, но традиционная культура никогда не могла бы создать
АЭС. Кроме того, в европейской науке наращивание новизны знания вовсе не
означает «гонки по прямой». Путь инноваций — прихотливый и нелинейный. Трудно
434
Раздел третий
согласиться и с тезисом о том, что «человек — только частица космоса». Как бы мы
ни пытались соединить культуру, с одной стороны, и природу — с другой, наши
усилия не приведут нас к монистической космоцентрической теории человека.
Возможно, что именно так видится европейская наука представителю традиционной
индийской культуры, но это вовсе не означает, что таковой наука является и на
самом деле: партикуляризма, частичности позиции в азиоцентризме ничуть не меньше,
чем в европоцентризме.
Другую грань споров относительно понятия рациональности обозначила
проблема: а существует ли вообще то, что названо «историческими типами
рациональности»? Свою позицию по этой проблеме изложил А. В. Ахутин. Если проблема
рациональности истолковывается как вопрос о ее типах, то действительно философская
полемика вряд ли возникнет, потому что все явления в культуре можно
рассматривать как отвечающие определенному типу рациональности (западный и восточный,
античный и средневековый и т. п.). А при подведении явлений под «тип
рациональности» проблема сводится к описательной работе, которая не нуждается в
философских спорах. Поскольку все можно в какой-то степени считать рациональным,
постольку, чтобы открыть поле для глубокого спора, надо довести столь
расплывчатое понятие рациональности до более определенного понятия разумности.
Разумность — рациональность, претендующая на универсальность. Это — не просто
рациональное поведение, устроение хозяйства и т. д. Разумность — философское
мышление в его наивысших метафизических потенциях, мышление универсальное,
задающее онтологию рационализма и, соответственно, его гносеологию. Разум в
таком подходе тождествен с разумным устройством мира. Сама природа вещей
разумна. И следование ей и есть рациональность как разумность. Рациональными мы
называем те средства, которые ведут к определенной цели независимо от того,
является ли сама эта цель онтологически и универсально оправданной или нет.
Разумное же всегда таково, т. е. имеет такое оправдание.
Одна позиция такова: разум осуществился в современной науке, для которой
конститутивны эксперимент, определенные логические и методологические
критерии. Наша наука соответствует природе вещей, а эта природа соответствует разуму, и,
таким образом, мы имеем абсолютную рациональную точку отсчета. А если в
античности древние думали, что геометрия Евклида — это не столько геометрия, сколько,
скажем, космология, то это было их заблуждение. Мы же теперь знаем, как обстоят
дела в действительности, и можем судить древних и последующие поколения
относительно рациональности их построений, вычерчивая прогресс рационализации
в истории. Другая точка зрения: в античности понимали, как же обстоит дело на
самом деле (геометрия, значит, и есть по сути своей космология). И тогда мы должны
объяснить, как этот бытийный разум утратил основательность. Обе позиции
претендуют на одно и то же, и каждая считает, что только у нее есть основания на
раздачу оснований всему. Вот предельный спор о том, что такое разум. Таким образом,
философски спорить могут между собой только типы разумности^ но не
рациональности. Разумно то, что способно усомниться в самом себе. А такое самосомнение
Последний Звенигород: рациональность под прицелом
435
возможно только в том случае, если рядом стоит иной разум с претензией на такую же
истинность, онтологичность, универсальность. И только в этой ситуации мы
сохраняем позицию разумности, в противном случае, заключил Ахутин, мы ее утрачиваем.
Точка зрения, высказанная Ахутиным, вызвала споры. Центром спора стало
понятие об исторических типах рациональности. Если, по мнению Ахутина, их
признание приводит к описательности в анализе рациональности, то, по мнению В. Н. Ката-
сонова, различение таких типов как данностей оправдано. Мы обречены держаться
за идею исторической типологии рациональности, сказал выступавший, если хотим,
чтобы философия оставалась наукой. В позиции Ахутина, считает Катасонов,
содержится предпосылка, согласно которой один разум может понять полностью, до конца
другой. Казалось бы, единство разума (именно в этом пункте возник максимум
напряжения спора) определено через понятие «естественного света». Но
«естественный свет» разума понимается по-разному в разные эпохи, у разных философов. Для
Декарта, исходящего из принципа сомнения, опорной точкой является cogito. Для
него этот тезис фиксирует основание философии. Для Катасонова, как он заявил, это
не опорная точка. Есть и такой еще момент: сама обыденная жизнь полна тайн. В
бытии есть сверхрациональное начало, характеризующееся принципом тайны. Если же
мы допустим противное, то гегельянство неизбежно. Нужна особая тактичность,
сдержанность, осторожность не только при изучении живого мира, но и при
изучении философии в ее истории. Если история лишается тайны, то возникает
унитарная, якобы все понимающая концепция, которая на самом деле только имитирует
понимание. Философии поэтому не остается ничего другого, как только
приближаться к тайне, руководствуясь морфологически фундированной научной
методологией. Этот сдержанный подход, отвергающий своеобразное бесстыдство
монистического «всепонимания», нужен ради сохранности самого предмета, что немыслимо
без презумпции неизбывности тайны, в нем заключенной. Нельзя, считает
Катасонов, «снять» всю иррациональность, или сверхрациональность, истории, поместив
ее в качестве до конца рационализированной данности внутрь конструкции
единственного разума, пусть даже в форме спорящих между собой разных разумов.
Поэтому если мы все же хотим сохранить философию, а не просто мудро молчать перед
лицом другого, то мы должны признать неизбежность типологии рациональности
как своего рода морфологический факт, и тогда нам действительно нужно будет эти
типы бережно описывать.
В основе этого спора, на мой взгляд, лежат полярные методологические
пристрастия по поводу того, что является собственно философской ситуацией — состояние
тотального спора, когда сталкиваются два универсальных разума с одинаковыми
претензиями на логичность, онтологизм и т. д., или же состояние осторожного
описания одним разумом исторически иного разума (культуры). Обе позиции,
по-видимому, едины в том, что в обоих случаях отрицается монизм разума. Ведь в позиции
Ахутина сам разум в своем универсализме раздвоен и существует только как спор
своих паритетных вариантов, хотя единство его восстановлено в самом
диалогическом разуме философа-диалогиста.
436
Раздел третий
С позиции историка науки выступил А. Н. Волков. Сама ситуация
столкновения разных типов рациональности есть типичная ситуация для историка науки. Есть
разные типы культуры и, соответственно, разные типы рациональности, это как бы
разные языки, и задача историка состоит в создании своего рода словарей и
учебников этих «языков». Историк стремится отыскать такие устойчивые денотаты,
которые бы оставались неизменными и для рациональности самого историка. Ими могут
быть, к примеру, математический факт, человеческое тело, географическая реалия.
Такие денотаты и описываются в древних текстах. И тогда задача историка
выглядит как интерпретация в терминах современных представлений о данных денотатах
соответствующего текста. Но давно уже выяснили, что на таком пути нас ждет
целый ряд несообразностей. Потому что культура (и наука) построена не только снизу
вверх, исходя от элементарных сведений, но и сверху вниз.
Это означает, что знание не строится снизу из элементарных суперустойчивых
начал, а организуется сверху через целое. Так, например, в различных древних
медицинских текстах мы встречаемся с такими денотатами, которым, кажется, ничего
не соответствует в современной медицине. Таковы различные энергетические
каналы, «точки» и т. д. Примем во внимание, что и наша культура построена также
сверху вниз, а значит, что она тоже в некотором смысле «не-рациональна». Поэтому
здесь необходимо определить, что же мы интуитивно понимаем под
рациональностью. Черновик выдающегося математика может быть бессмыслицей для
школьника, но он полон смысла для историка. Это та самая ситуация, когда мудрость века
сего есть безумие перед Богом. Внутри одной культуры могут быть разные
концепции рациональности. В культуре всегда складываются техники обращения с не-ра-
циональными объектами (актуальна задача рассмотреть исторические типы
иррационального). Результатом таких техник является своего рода магическая Вселенная,
в которой субъект наделен набором методов распознавания нерациональных
объектов и работы с ними. Ситуация магической Вселенной прямо противоположна
научно-рациональной вселенной. Действительно, наша Вселенная построена из
рациональных объектов, например из атомов, подчиняющихся рациональным
законам, но у нас нет рациональных методов познания. В магической Вселенной,
наоборот, методы в высшей степени отлажены и рациональны в этом смысле, а сами
объекты (для нас) совершенно иррациональны. Причина этого, видимо, в том, что
грань между методом и объектом, как и между субъектом и объектом, достаточно
подвижна и может смещаться в ту или иную сторону. В качестве примера магической
техники можно привести аксиоматическую математику: справедливость аксиом здесь
не доказывается, методы установлены заранее, объекты как бы вовсе не обсуждаются,
а истинность теорем определяется только их соответствием аксиомам.
Единственность описания не предполагается в такой магической Вселенной. Поэтому объект
в ней многолик, многопланов. Островками иррационального являются необсуждае-
мые предпосылки культуры. Их существование сродни существованию таких
магических объектов. Поэтому рациональность культуры является в известном смысле
кажущейся. Набор иррациональностей в ходе историко-культурных разысканий
Последний Звенигород: рациональность под прицелом 437
получает как бы рационализацию, так как при этом выявляются их, этих
иррациональных оснований культуры, исторические прецеденты. Но начальное звено такой
цепочки содержит как раз некие магические техники. Это означает, что рациональное
как умопостигаемое неминуемо превращается в соотносимое. И мы, стоя вроде бы
на твердой логической почве, на самом деле находимся в бездне иррационального.
Такие магические техники работы с иррациональным существуют и в нашей
культуре, например операции табуирования по отношению к таким явлениям, как сон
или смерть. Вот и сама наша конференция имеет некоторые иррациональные
предпосылки: предполагается, по крайней мере, что рациональность существует, что
существуют ее разные исторически обусловленные типы. Но при исторической
реконструкции различных типов рациональности совершенно смазывается синхронное
существование нескольких типов. Мы на самом деле очень архаичны и постоянно
соприкасаемся в своей жизни с древностью.
Интересной мыслью, прозвучавшей в выступлении Волкова, было признание
того, что разумность вряд ли можно однозначно «читать» как «умопостигаемость»,
некую универсальную ментальную «прозрачность», ее нужно истолковывать как
фиксацию факта относительной соизмеримости и соотносимости разных культур,
в принципе каких угодно. Унитарное поликультурное и надкультурное обоснование
разума в такой «оптике» невозможно. Разум определяется операционально как
способность культур к их относительной состыковке.
Грани и границы дефиниции
Размытость понятия «рациональность» — это основной факт, с которым
сталкивается философ, сказала М. С. Козлова. Поэтому сразу же можно было бы исследовать
объем данного понятия и по возможности его сузить. Но надо учитывать, что при
столкновении с реальностью может возникнуть необходимость его расширения. Ведь
«размытость» понятия и его «работоспособность» необязательно связаны обратно
пропорциональной зависимостью. Это, условно говоря, априористский путь.
Второй возможный подход — это исторический подход, когда мы обратимся к истории
культуры, и не только опишем типы рациональности, но и посмотрим с некоторой
обобщающей точки зрения на сам феномен рациональности. Это — нормальный
плодотворный путь, по которому идут некоторые из участников данной встречи.
Но есть еще один путь, путь концептуального уяснения проблемы, герменевтико-
аналитическийу предлагаемый Витгенштейном. На этом пути философ принимает
как за данность то, что интересующее его понятие жестко задать нельзя, не меняя его
возможностей. В таком случае анализ понятия направляется на ветвящееся
семейство близких ему понятий, между которыми устанавливается определенное родство.
Что касается понятия научной рациональности, то сюда попадут логичность,
экспликация, формализация, аргументированность, доказательность, концептуализация,
438
Раздел третий
проверяемость и пр. Можно, задавая более узкие рамки, набрать другое семейство
понятий. Этот путь в принципе ясен, он дает неплохие результаты, но не жестко
прописанную концепцию, а схему. Но схемы — вещь малонадежная и очень
уязвимая. Значит, жестко теоретически выстроить концепцию рациональности вряд ли
вообще возможно. И именно в этом и состоит позиция Витгенштейна. Он проделал
громадную герменевтико-аналитическую работу, которая отучивает нас от
самонадеянных попыток жесткого концептуального задания понятий.
Рациональность, однако, нельзя приравнять к научной рациональности. Мы
должны хорошо представлять себе то «море», в котором «плавает» научная
рациональность. Рациональное — это область, ниже которой находится дорациональное.
Его невозможно до конца рационализировать (невыразимое, по Витгенштейну).
Выше рационального существует надрациональное, недоступное в еще большей мере
для рационализма, так что его нельзя даже и вербализовать. И вот что существенно:
рациональное органически связано с языковым. Эта та самая связь, которая диктует
условия самой возможности рациональности. В связи с этим лингвистическим,
условно говоря, подходом рациональное — это прежде всего вербализуемое. Первый
уровень вхождения в рациональное — язык, сама вербальная сфера. Далее мы
выделяем момент высказывания (высказывания могут быть истинными или ложными,
чего нельзя сказать о речи вообще). Рациональное уходит своими корнями в
практику. Наконец, предельное уяснение рациональности связано с тем, что человек,
осуществляя целеполагание, не только выбирает средства для определенных целей,
но и осуществляет обоснование самих целей, ищет сверхцели, учится осмысливать
целое. Это сфера идеалов, того, ради чего существует все остальное, без чего у
человека все теряет смысл. Это своего рода рациональность здравого смысла, но не в его
примитивном, а в высоком понимании, что концентрированно выражается в
творчестве больших философов. Сюда относятся такие вопросы: Зачем? Какова наша
цель? Без этой смысловыявляющей функции нам неминуемо грозит фрагментари-
зация нашего бытия и осмысленного целого может и не возникнуть. Это относится
и к обсуждению проблемы рациональности. Поэтому надо задавать себе эти
глобальные вопросы: Зачем? Какова наша цель? Иначе осмысленных результатов мы
можем и не получить.
При обсуждении проблем рациональности необходимо придерживаться более
узких и тесно связанных с наукой рамок, сказал А. В. Смирнов. Наука родилась в
Греции, когда потребовалось обосновывать утверждения о мире интерсубъективными
средствами. И наука, и рациональное мышление вообще до сих пор стоят на этом.
Сложившиеся нормы рациональной дискуссии были кодифицированы Аристотелем.
При этом надо учитывать, что не только наука была историческим источником
рациональности, но и судебная практика, ораторское искусство. Благодаря им люди
поняли необходимость убеждения не на основе эмоций, а обращаясь к
аргументации, которая может быть принята всеми. Конечно, существуют и различные
средства иррациональных воздействий. Но существуют такие ситуации, когда для
интересов самого дела необходимо отдавать предпочтение интерсубъективно значимым
Последний Звенигород: рациональность под прицелом 439
и потому определенным образом нормированным рассуждениям. Понятно,
например, когда говорят о рациональной теологии. Но невозможно понять, когда толкуют
о «рациональной мистике». Существует масса важных и интересных
иррациональных вещей, но зачем их причислять к рациональным?
Далее А. В. Смирнов остановился на проблеме рациональности в естественных
науках и в науках о духе. Если вернуться к Канту, то соотношение этих двух типов
рациональности упирается в двойственность природы человека: с одной стороны,
человек — существо природное, а с другой — существо свободное. Нельзя изучать
человека, отвлекаясь от естественно-научной рациональности. Но в то же время мы
ничего не достигнем в науках о человеке, если не будем исходить из постулата
свободы. Итак, налицо два разных принципа — принцип детерминизма и принцип
свободы, без которого мы не можем обосновать мораль, право и т. п. Спрашивается, как
совместить эти принципы? XX в. ознаменовался их углубленным осмыслением. И
сейчас ясно, что в гуманитарном знании тип рациональности иной, чем в точных науках.
Принцип причинности здесь уже не имеет первостепенной значимости. На авансцену
выдвигаются структурные принципы. Это не «вживание» или «вчувствование». Это
строгие научные методы. Как нам быть: придерживаться дуализма или же попытаться
продумать формулу нового монизма? На мой взгляд, философия не может отказаться
от попыток связать эти два мира, хотя, конечно, есть точки зрения, признающие этот
дуализм (например, Р. Рихта). Но ведь мы стремимся понять в рамках физической
Вселенной, как возможны свободные существа, хотя сама физика этого не объясняет.
По словам А. В. Смирнова, сейчас происходит двустороннее движение в попытках
преодолеть этот раскол. Имеется в виду отказ от линейности в физике, от лапласовского
детерминизма, предсказывающего будущее. Действительно, мы не можем описывать
будущие события. Это — нонсенс с точки зрения современной науки. Их в общем
случае нельзя даже предсказать. Ведь если мы допускаем нелинейность мира, наличие
бифуркаций, то само предсказание становится в высшей степени проблематичным.
Предсказывать можно только вероятностное распределение событий.
А. И. Огурцов не стал говорить о кризисе техногенной цивилизации, о чем уже
говорили выступавшие до него. Он остановился на ситуации в научной
методологии. В статье Лаудана упомянуто 88 моделей рациональности. Почему такое
внимание к этой проблеме? Этот столь интенсивно ведущийся разговор о рациональности
возник потому, что все нормы научности — доказательность, опровергаемость, под-
тверждаемость и пр., на которых строились определенные идеологемы (эмпиризма,
логицизма и т. д.), — обнаружили свою ограниченность. Действительно, эти
идеологемы строились на локально определенных нормах, принимаемых теми или иными
науками (математикой, физикой и т. п.). Но затем выяснилось, что где-то эти
претендующие на универсальность представления не работают, что и породило
современную ситуацию с проблемой рациональности. Сторонники одной идеологемы
конфликтуют с приверженцами другой, что создает ситуацию скепсиса. Как результат
возникла ситуация отказа от любых норм (Фейерабенд). Другой путь в этой ситуации
такой: надо предложить заведомо размытое понятие, многосмысленное, и понятие
440
Раздел третий
рациональности как раз удовлетворяет этим требованиям. Размытость понятия
рациональности — его плюс, позволяющий ему работать в самых разных контекстах.
Прежде всего это понятие связано с языковой коммуникацией. Модель языкового
общения, когда различие языков не уничтожает презумпцию двустороннего
наличия рационального смысла в лингвистических сообщениях и возможность его
экспликации, является основой для самого понятия рациональности.
Модели рациональности связаны с универсальностью. Но как? Например,
античная математика столкнулась с проблемой несоизмеримости диагонали квадрата и его
стороны. Несоизмеримость для канона античной рациональности — «монстр».
«Монстрами» являются порождаемые ею иррациональные числа по отношению к
принятым за норму рациональным числам. «Монстр», таким образом, это то, что не входит
в принятую модель рациональности. Другой пример: «чудо» для средневековой мен-
тальности (и рациональности) вовсе не «монстр», а для Просвещения — «монстр».
«Монстры» демонстрируют, что претензии на универсальность в данных моделях
рациональности не выдерживают столкновений с исторической практикой познания.
В. Б. Коробов (Вильнюс) остановился на проблеме воспроизведения значения.
Он выделил два основных его типа и, соответственно, рациональности:
во-первых, сотериологический тип (религия, антропософия, теософия, мистицизм и т. п.)
и, во-вторых, светский, или собственно рациональный тип. Первый тип
характеризуется воспроизведением знания через фиксированный образец, второй — через
нормы, имплицированные в речь.
Проблема рациональности — это, по сути дела, проблема воспроизведения
знаковых систем, которое невозможно без определенного способа воспроизведения
мира и образа деятельности, и если эта деятельность не задана эксплицитно через
образец, то это приводит к таким катастрофам, как Чернобыль.
Как и выступление Е. Н. Молодцовой, это выступление было направлено
против европейской рационалистической цивилизации, симптом кризиса которой был
усмотрен в чернобыльской катастрофе. Жестко ритуализированная (по тибетскому
образцу) культура предстает как сотериологическая, т. е. спасительная, в настоящей
ситуации. Техногенная цивилизация вносит в общество критическую
неопределенность, передоверяя индивиду все решения. На мой взгляд, эта цивилизация
критикуется за ее подчеркнуто индивидуалистическое отношение к свободе личности
и разума. «Бегство от свободы» (Фромм) выглядит в этом подходе как
«паломничество на Восток» (Гессе).
Если одни зовут обратить надежды на Восток, то другие участники
конференции не теряют веры в изначальные ценности европейской цивилизации, стремясь
реактивировать ее нравственно-духовные этические основы. Таков, на мой взгляд,
смысл выступления Р. Г. Апресяна, различившего два типа ментальности: 1)
сциентистский и 2) мистически-ритуальный. Второй тип развивался в рамках
религиозно-аскетического опыта. Но этот опыт игнорируется в современной этике,
и не только в отечественной, но и зарубежной, остающейся под сильным влиянием
сциентистской установки, что в этической сфере проявляется как утилитаризм.
Последний Звенигород: рациональность под прицелом 441
Современному массовому сознанию чужда этика любви, использующая этот опыт,
в котором представлен несциентистский тип ментальности. Права личности,
принцип свободы и т. д. — все это неактуально для этики любви, в которой на первый
план выдвигается милосердие, самоотречение, дарение и т. д.
Б. И. Пружинин рассказал об истории самой дискуссии по проблеме
рациональности. Каждая проблема, сказал он, проходит три основные стадии своего развития:
1) скептическую (а есть ли собственно сама проблема?), 2) стадию дивергенции
позиций, 3) возврат к истокам после того, как четко выявились основные позиции.
Прошлые дискуссии дали немало. Основные позиции можно обозначить так: 1)
жесткое понимание рациональности, строго ее связывающее с логическими структурами;
2) рациональность просматривается через ее историческое движение, при этом
акцентируется проблема смены новой рациональностью старой; 3) позиция, ведущая
к размыванию жесткого задания рациональности, что происходит благодаря тому,
что она нагружается социальными, нравственными и др. моментами; 4)
рациональность рассматривается сквозь призму диалектики разума и рассудка. Сегодня
особый интерес представляет анализ рациональности в «необычных» срезах, например
через призму астрологии. Он нужен не для того, чтобы еще раз показать
нерациональность астрологии, но затем, чтобы высветить новые грани в самом понятии
рациональности. Вообще наше обращение к таким сферам знания, как астрология,
характерно для нынешнего этапа развития исследований рациональности. При этом
выявляются некоторые грани таких проблем, как проблема тоталитарной науки,
рационального переустройства общества и т. д.
Телеология или причинность?
Проблема рациональности, сказала в своем выступлении П. П. Гайденко, ставится
в связи с кризисом индустриального общества, основанного на рациональности,
несомненно, в большей степени, чем общество традиционное. Кризис этот
обнаруживается как экологический и ядерный кризисы. Сейчас, быть может, стало легче жить,
но кризисные нагрузки на человека — предельные. Поэтому в разговоре о
рациональности речь идет о судьбе человека. В обыденном словоупотреблении рациональное
обозначает целесообразное. Соответствие средств целям означает, что имеет место
рационально организованная деятельность. Типы рациональности могут быть
разными: в науках о духе тип рациональности задается целевым отношением. В науках
о природе — причинно-следственным. Возникает вопрос: какой тип
рациональности фундаментальнее?
Понятие рациональности может применяться к самой цели, к выбору целей и т. п.
Так мы выходим на понятие самоцели. В истории философии оно развивается как
соотношение цели и блага, единство их может быть представлено как разум
онтологически укорененный. Существо разума определялось различным образом в европейской
442
Раздел третий
традиции. У Канта разум — высшее единство мышления, существующее в логической
и трансцендентальной проекциях. Последнее употребление разума связано с
идеями, фиксирующими его систематическое единство. Телеологическое единство —
высшая форма единства разума. Соответственно, целеполагание фундаментальнее,
чем причинность. Разум задает условия применения рассудка, который в свою
очередь оформляет законы природы. Высшая телеология — исток и
естественно-научного познания. Основание разума — практическое (разумная воля). Если в
теоретической сфере разум действует регулятивно, то в практической — конститутивно.
Для нее самоцель — личность.
Аналогичное понятие разума мы находим и у Аристотеля, несмотря на его
отличие от Канта. У Аристотеля природный мир, в конце концов, движим стремлением
к благу, а не детерминистски-механически. Целевая причинность у него — высшая
среди других типов причин. Ум действует телеологически в природе и в познании,
сообразуясь с высшим благом, которое есть самоцель, завершающая все виды
«дурных» бесконечностей. Если взять неоплатоновскую иерархию высших сущностей,
то можно проинтерпретировать последующее развитие европейской традиции в ее
понятиях. На ее вершине стоит Единое, затем Ум, за ним Душа и Тело. Философия
Просвещения «срезает» высший онтологический слой: ум становится на место
Единого, которое в принципе никогда до конца не постижимо умом. Эта позиция
развертывается и у Гегеля: в функции заместителя Единого у него выступает мировой дух,
не несущий в себе никакой тайны для рациональности. Эта подмена Единого умом
и человеческим субъектом и есть исток нашего кризиса. Без возврата к онтологии
древних с их соединением Блага и Бытия по принципу ens et bonum convertuntur
(бытие и благо обратимы) безблагостная природа будет уничтожаться в индустриально
устремленном разуме. Произвол субъективности может быть преодолен на путях
возврата к онтологии аристотелевского типа, подчиняющей субъекта высшим
принципам, укорененным в самом бытии. Смысловое измерение должно доминировать
над рассудочно-технической рациональностью.
В ходе обсуждения выступления Гайденко Вл. П. Визгин подчеркнул, что нельзя
представлять себе дело так, будто естествознание лишено телеологического подхода,
реализуя лишь причинно-следственный. Примером телеологии в рамках физики
является вариационный подход, предложенный еще Мопертюи. Вариационный
принцип выступает даже более общим, чем причинный, задающий лишь динамическую
закономерность. Это замечание вызвало возражение Л. Б. Баженова, отметившего,
что, по его мнению, это односторонняя трактовка экстремальных принципов.
Экстремальные принципы — математическое свойство дифференциальных уравнений.
На это Вл. П. Визгин возразил, подчеркнув, что указанные принципы — не только
математика, но и физика. Далее полемика затронула вопрос о том, что
фундаментальнее: причинность или телеология? Вл. П. Визгин считает, что вариационные
формулировки имеют более общий характер, чем аналогичные причинные. Он это пояснил
на примере теоремы Э. Нётер, из которой получаются законы сохранения, а из
инвариантности уравнений интегралы движения не получаются.
Последний Звенигород: рациональность под прицелом 443
Однако не этот спор был главным в выступлении Баженова. Основной пафос
его был в том, что все наши понятия не имеют однозначного толкования — бытие,
причина, цель, свобода. Разум человека можно понимать как частицу мирового
разума и таким путем приходить к монизму. Но при этом нельзя отрицать, что
существует и другое, не менее законное толкование: природа в своем развитии порождает
разум человека. Баженов подчеркнул, что мы не должны упрощать картину и
вводить мировоззренческую цензуру. Если в нашем прошлом и была «диктатура
материализма», то вряд ли целесообразно устанавливать теперь «диктатуру идеализма».
Единственно правильного толкования этих категорий просто нет. Г. А. Смирнов
сделал замечание, идущее в этом же направлении. Он сказал, что онтологическую
укорененность разума нельзя жестко связывать с какой-то концептуальной схемой,
например телеологической. Горизонт бытия открыт для толкований, никакая из нам
известных соперничающих схем (телеология или детерминизм, к примеру) не может
его раз и навсегда «закрыть».
В своем выступлении я, автор этого обзора, согласился с тезисом Гайденко о том,
что целевая рациональность ценностным рангом выше причинной, дав этому свою
интерпретацию. Истина имеет два основных значения: истина к&к
рационально-объективное знание и истина как дух. Устойчивые связи между вещами, фиксируемые
в качестве знания стандартными приемами и позволяющие контролировать
поведение вещей и людей, — вот что такое рациональное знание. Объективированный
мир формировался в ходе возникновения и развертывания стратегий управления.
Сейчас прогресс в объективации оценивается, в частности, по тому, как скоро
будет чистым воздух планеты. Для постижения истины как духовного целого
никаких рациональных систем объективации недостаточно. С этим значением истины
индивид имеет дело в своем личном целостном опыте, который немыслим без
соответствующей традиции духовной культуры. Если истину в первом смысле можно
определить как объективное знание о части (мира), то во втором она определяется
как субъективное знание о целом. Рациональное познание возникло в горизонте
духовного измерения, научная истина в своем генезисе производна от истины
духовной. Я также согласился с Г. А. Смирновым в том, что онтология не может задаваться
какой-то одной привилегированной концептуальной схемой, например
телеологической. Это связано с тем, что мы вышли на понимание бытия через категорию
возможности. Поэтому вряд ли можно апеллировать к бытию как унифицирующей
инстанции: множество объективации при таком допущении становится неизбежным.
Поэтому вряд ли продуктивно, следуя за Аристотелем и возвращая бытию (и
разуму) этический смысл, совершенно отказываться от языка современной философии.
Пространство современной философии не должно утрачиваться при реактивации
смысловых аксиологических ориентиров. Современная рациональность —
диалогическая. Множественность разумных миров неизбежна, как и их борьба, но
рациональность сегодня не в последнюю очередь состоит в том, чтобы приемы полемики
не переходили границы диалога с презумпцией взаимной осмысленности
высказываний всех собеседников.
444
Раздел третий
В. Н. Порус обратил внимание на то, что сравнение целесообразной
рациональности и причинной не вполне корректно, потому что если причины мыслятся
равноправными, то цели явно нет. Иерархия их неизбежна, как и борьба. Вопрос не в том,
включать или не включать благо в модель рациональности, а в том, как работает
такая модель. И модель с благом, в нее включенным, будет работать только в том случае,
если рациональность нами мыслится как многомерный феномен, психологические,
социальные, когнитивные измерения которого выступают как его частные проекции.
Уже опубликовано немало серьезных исследований по проблеме
рациональности, сказал В. П. Филатов. В них проанализированы многие концепции, но, читая эти
труды, понимаешь, что все это как-то не о нас — не о нашей науке, не о нашей
интеллектуальной жизни. В чем же дело? А в том, что Россия, когда в ней стала
складываться профессиональная наука, была, по сути дела, не «стандартной» европейской
(и значит, развитой) страной, а страной развивающейся, ставящей своей задачей
форсированную модернизацию. Значит, на образ науки, а следовательно, на образ
и понимание рациональности в нашей стране, это обстоятельство не может не
влиять. Какие же именно особенности ментальности с этим статусом России связаны?
Это, прежде всего, расщепление образа науки. В едином образе науки соединяются
две компоненты: 1) знание как незаинтересованное установление истины и 2) знание
как система, нацеленная на установление справедливого общества. Наука в таком ее
понимании оценивается не только как производство объективного знания, но и как
средство борьбы за справедливое общество. Такая установка оказалась очень
живучей, во многом определившей преобразование академического научного сообщества
в квазинаучное сообщество тоталитарной науки.
Тоталитарная наука — это постпарадигмальная законсервированная в своих
теоретических срезах наука, направленная в силу указанных особенностей и в силу
самой социальной структуры на практические задания и социальные заказы. Так,
например, у нас была законсервирована физиология в качестве павловской
физиологии, в химии были приняты «за основу» теории Менделеева и Бутлерова (при
выталкивании теории резонанса). Мертоновский этос науки разрушался, и наука если
и выжила, то с сильными деформациями.
Выступление Филатова вызвало много вопросов, некоторые из них были
обусловлены противопоставлением России и Европы. Точка зрения, скажем, спорная,
подвергнутая, кстати, критике еще в полемике Вл. Соловьева с Н. Я. Данилевским.
Гайденко, в частности, указала на ряд западных имен — Сорель, Прудон, Маркс. Эти
мыслители не отрывали науку от задач революционного переустройства общества.
Выступивший признал, что в целом картина действительно сложнее, что образ науки
в России нельзя упрощать и что он просто «пропедалировал» определенные
моменты, с которыми связана его специфика. И на Западе образы науки различаются,
но классический тип, мертоновский этос там доминирует, что трудно сказать о
России. В лоб задал свой вопрос и Вл. П. Визгин: в чем же специфика рациональности
в развивающихся странах вообще и в России в частности, если она к ним относится?
Главное здесь, ответил Филатов, слияние идеалов истины как объективного познания
Последний Звенигород: рациональность под прицелом 445
и истины как пользы-блага. Именно отсюда идет отрицание «чистых» культурных
форм — науки, искусства и др. Отсюда и деформация образа рациональности.
В общей дискуссии, завершившей семинар, Ахутин попытался предложить свой
критерий рациональности. По его мнению, суть рациональной установки состоит
в нацеленности субъекта на отчет, на держание ответа за свои суждения и поступки
перед другими. Самоотчетная культура — культура рациональная. Она стремится
объяснять свои установки и выборы и то, что из них следует. Авторитарно
организованное знание обрывает нить объяснений ссылкой на авторитет. Рациональное
знание не может этого делать, и то, что оно выдвигает в качестве основания, само в свою
очередь подлежит отчету. Рациональное, таким образом, — то, что может стать
основательным для любого человека, мир рациональности — мир взаимоотчетности.
В своем выступлении я заметил, что тема «отчета» соприкасается с тем, что в
психологии называется рационализацией. Современная психология показала, что под
«рацио» часто лежит, определяя его, «эмоцио» (выражение В. П. Некрасова).
Производитель рационализации маскирует эту базу поведения, стараясь сделать его
приемлемым для окружения. В этом плане «рационализатор» выступает как
псевдомыслитель, выполняющий не аутентичный акт мышления, а обеспечивающий «мягкую
посадку» своих эмоциональных предустановок в социум. Критика «отчетности»,
данная Пушкиным («Никому отчета не давать, / Себе лишь самому служить и
угождать»), идет в том же направлении, обнаруживая в установке на отчет зависимость,
неприемлемую для человека как творческой личности.
Заключение
Какие же основные линии размежевания позиций выявила конференция? Речь в ней
шла об отношении к новоевропейской научной рациональности в связи с кризисом
техногенной цивилизации. Можно сказать, что конференция была своего рода
интеллектуальным процессом над нею, со своими обвинителями, адвокатами и т. д. Однако
сам концепт «кризиса» не получил достаточного прояснения. Как правило,
ограничивались отдельными фактами — например, отсылкой к аварии на Чернобыльской
АЭС, — которым придавалось абсолютное знаковое содержание. Раз, мол,
произошел Чернобыль, значит, научная рациональность себя дискредитировала, кризис
налицо. Конечно, возникло разбирательство относительно «веса» в этом трагическом
событии научно-технологической компоненты, с одной стороны, и социосистемной —
с другой. Но как бы ни распределялись меры ответственности, полностью оправдать
науку, кажется, никому не удалось.
Кризис техногенной цивилизации рассматривался одними участниками
конференции как кризис рациональности, начиная с греков, т. е. как кризис всей
европейской цивилизации. Это характерно для выступавших востоковедов, для которых сам
европейский разум как таковой выглядел причиной банкротства технологической
446
Раздел третий
цивилизации наших дней. Часть выступавших заняла такую позицию: виновен
только современный научный разум, превративший единый онтологический и
космический разум античности в специализированную дегуманизированную
технологическую рациональность. Что же касается предложений по части способов
исцеления «заболевшего» европейского разума, превратившегося в узкий практицистский
технологический рационализм, то они были не столь разнообразны, как
критические дискурсы. В частности, было сказано, что современная наука сама находит
средства «терапии» своей рациональности и, значит, всей техногенной
цивилизации. Но не слишком ясна тогда роль философов, если наука естественным образом,
не прибегая к философскому полю, сама себя может «излечить». Предсказывать
будущее вряд ли дело философии и науки. Те все же делаемые прогнозы, что возможны,
те, мягко говоря, часто неинтересны, потому что ясны и так по той или иной
причине. И наша задача не гадать и не увлекаться односторонностями, а продвигать
философский поиск в союзе прежде всего с историей науки. И я полагаю, что семинар
в Звенигороде дал для этого хороший импульс, что особенно ценно еще и потому,
что он был последним.
Раздел четвертый
НАУЧНЫЙ РАЗУМ
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ
ИСТИНА И ЦЕННОСТЬ
Мощный импульс философской рефлексии понятия ценности был дан Кантом.
Не случайно именно неокантианцы создали философскую аксиологию. В докри-
тической метафизике бытие было так или иначе благом. Долженствование и
индифферентная по отношению к ценностям реальность — «равнодушная природа»
в устах поэта — были разделены и противопоставлены позднее. Но их
противопоставление только обострило саму проблему: как же соотносятся бытие и благо,
истина и ценность?
Социология знания привела к пониманию — еще, однако, далеко не
утвердившемуся — позитивной гносеологической функции социокультурной диспозици-
онности знания. В эпоху формирования новой науки, пишет Мангейм, «не
замечалось... что и сам мир чисто квалифицируемого и анализируемого мог быть открыт
лишь на базе определенного мировоззрения. Аналогично не замечалось, что
мировоззрение не всегда служит источником ошибок, но, напротив, часто оно открывает
доступ к закрытым в иных обстоятельствах сферам знания»1. Социология знания
стремится «навести мосты» между истиной и ценностью. В качестве теоретической
основы, фундирующей эти условия, лежит представление, что субъект познаний
(мы умышленно оставляем здесь множественное число) — это не «гносеологический
робинзон», а конкретное социоисторическое и социокультурное образование,
возникающее и преобразующееся в истории; это не просто объект воздействия извне,
но и активная сила, историю определяющая. Представление о социоисторической
сущности познания инкорпорировало ценностное измерение внутрь производства
истины, что не было принято со всей последовательностью даже такими
теоретиками социологии знания, как Мангейм. Правда, в дальнейшем социологи и
историки, работающие по аналогичной программе, показали, что и математическое
знание также конструируется в культурном контексте, а значит, содержит внутри себя
ценностное измерение, которое, видимо, просто невозможно отделить от
истинностного. Действительно, способы ведения доказательств, выбор предпочтительных
приемов решения задач, определение их места в системе знания, приоритеты в методах
и проблемах и т. п. — все эти моменты, внимательно проанализированные
исторически, позволили показать, что нет «чистого», совершенно независимого от
ценностей знания, в том числе это относится и к знанию математическому, казавшемуся
всегда эталоном «чистоты» и независимости от эмпирически данного общества.
1 Mannheim К. Ideology and Utopia. Ν. Y., 1936. P. 168.
450
Раздел четвертый
«Математика, — говорит Клайн, — может существовать независимо от любого
человека, но не от культуры, которая его окружает»2.
Социология знания способствовала формированию убеждения, что
социокультурная конфигурация человеческой активности является не столько помехой на пути
познания истины, сколько позитивной базой для него. В науке, таким образом, мы
можем «прочесть» не только объективные смыслы, т. е. адекватные представления
о вещах, независимо от человеческого познания существующих, но и
субъективные, свидетельствующие о самом человеке, его культуре и общественном устройстве
в их истории. Согласно социокультурному подходу к природе знания оно
формируется из хрупких «земных» материалов — из ресурсов общества и его культуры,
которые преобразуются так, чтобы выражать вещи так, как они существуют сами по себе,
независимо от человеческого сознания. В плане такого подхода науку можно
определить как социокультурно канализированное расширенное производство знаний,
необходимое для ответа на вызовы, бросаемые историей, обществом и природой.
Отметим два значения понятия «истина». Во-первых, под истиной понимается
объективное знание. Итак, первое значение истины: истина как объективное
знание. Способная к совершенствованию картина, отражающая устойчивые
отношения между вещами, для раскрытия которых в том числе применяются стандартные
приемы оперирования другими относительно устойчивыми вещами, материальными
и идеальными, имеющимися в распоряжении людей и позволяющими
контролировать поведение вещей и людей, вот что такое объективное знание. Ценность, прежде
всего надзирательно-контролирующая ценность, объективного знания в том, что
оно имеет дело с относительно устойчивым представлением относительно
устойчивых связей вещей. Объективное знание конституируется и конструируется так,
чтобы оно, это знание, не «плыло» в текучке истории, в «весне мироздания». Мир
как поток несет — до поры до времени — неизменными эти связи и отношения
вещей, уловляемые объективным знанием, его системами. Корректнее даже говорить
не об объективном знании, ибо тогда в его понятии подчеркивается идея готового
продукта, а об объективации. Объективирование вещей и людей осуществляется
в системах объективации, «поставленных» или сформированных, а точнее,
формирующихся, уточняющихся, дорабатываемых в процессе развития, аккумулированного
в истории человека. Объективированный мир как мир, увиденный сквозь призму
объективного знания, нужен для принятия решений в плане глобальных и
локальных стратегий управления в ситуации разнообразных вызовов. В ходе
возникновении «жизни» этих стратегий он «ставился», формировался и развивался.
Во-вторых, истина мыслится как фигура устойчивости в мировом потоке.
Понятая таким образом истина есть истина как духовная реальность. Для фиксации такого
значения понятия истины нет готовых систем объективации, которые существуют
как матрицы научного исследования для получения частных научных истин. Такое
значение истины предполагает длительную традицию духовной культуры, которой
2 Клайн М. Математика: Утрата определенности. М., 1984. С. 374.
Истина и ценность
451
оно поддерживается, питая творчество в его «высокопилотажном» измерении.
Истина в этом смысле — уловленный человеческим духом подвижный «абсолют»,
фигура устойчивости в мировом потоке бытия как целого. Если истину в первом
значении можно определить как объективное знание о части, то истину во втором ее
значении следует определить как субъективное знание о целом.
Итак, мы зафиксировали два значения понятия истины — истину как науку
и истину как духовную культуру. И наш тезис гласит: научная истина производна
от истины духовной, так как наука возникла в «поставе» целого и в этой
целостности развивается, то есть в исторически определенной социокультурной тотальности.
Зависимость научного познания от социокультурного его «постава» выражает тот же
самый тезис. Соотношение духовной и научной истины — соотношение сознания
и познания. Сознание — феномен целого в частном существовании индивида —
иерархически выше, чем познание и знание — феномен частного существования в
целом. Это означает, что нравственные императивы имеют онтологический приоритет
перед познавательно-научными. Наука как познание возникла в результате
оформления интенции сознания на вещь, на объект в его независимости от самого сознания.
* * *
Проблема соотношения истины и ценности, науки и ценности, знания и ценности
возникает не в последнюю очередь в силу вполне конкретных социокультурных
причин, имеющих четкую историческую «прописку». Действительно, эта проблема
во многом порождена спецификой того феномена, который мы называем
классической наукой. Классическая наука в том виде, в каком она конституировалась в
механике Ньютона, задавшей парадигму всему естествознанию вплоть до XX в. — она
и сейчас еще, эта парадигма, не исчерпала своей значимости, — строится так, как
если бы необратимость времени, спонтанность становления, наконец, сам
человеческий субъект были бы нацело выведены из ее, классической науки,
собственной сферы. Иными словами, на поверхности вещей дело выглядит так, как если бы
объективность классической науки достигалась всецело за счет негативного
процесса — удаления за ее пределы субъективного фактора, включая в него
непредсказуемость становления, необратимость времени. В результате возникновения
такого феномена — классическое естествознание — культура явным образом
раздваивается на «две культуры» (термин Ч. Сноу): на гуманитарную культуру субъекта
с его миром эмоций, художественного освоения действительности, с миром,
наконец, оценок и ценностей, и на культуру объективного знания, где действует
жесткий кодекс строгости, математической точности, эмпирической верификации
теоретических конструктов, прежде всего таких, как законы природы, понимаемые
как абсолютно независимые от субъекта представления объекта. Итак, сама
проблема соотношения научной истины и гуманитарной ценности возникает в русле
452
Раздел четвертый
конкретно-исторического социокультурного развития. Ценность определяется
через отнесение вещи как объекта к субъекту, а знание (в классическом его идеале),
напротив, через его абстракцию от субъекта.
Можно подытожить ситуацию, вызванную феноменом классического
естествознания, так: научное знание порождает удвоение единого мира целостного
субъект-объекта, или, точнее, его раздвоение на мир не-научных, не-объективных
ценностей, с одной стороны, и с другой — на мир объективного знания, не имеющего якобы
с миром ценностей никаких связей, — по крайней мере, никоим образом не
содержащего его в своем внутреннем составе. Этот радикальный дуализм внутри самого
«тела» культуры порождает целую серию производных от него дуализмов: дуализма
витализма и механицизма внутри науки, историцизма и структурализма, творчества
и воспроизведения, темпоральности и пространственности, интуиции и дискурсии,
жизни и разума и т. д. вплоть до знаменитого дуализма «лириков» и «физиков»,
закончившегося, по горькому выводу писателя В. Распутина, технократическим
триумфом, обернувшимся кризисом и окружающей человека среды, и самого человека3.
Для экспозиции проблемы соотношения знания и ценности необходимо
заметить, что классической науке пришлось потесниться и дать место науке
неклассической, в перспективе которой соотношение знания и ценности выступает уже
совсем по-другому. Вместе с весьма крутым поворотом естествознания — начиная
с работ Ж. Фурье по математической термологии, — имевшим место в первой трети
XIX в. и развившимся впоследствии (термодинамика, теория электромагнетизма),
происходит сдвиг его установок в отношении к таким категориям, как сложность,
темпоральность, необратимость становления, то есть ко всему тому, что мы
называем миром человека. В XIX в. считалось, что знание устроено вполне определенным
и неизменным образом: дать механическую модель явления — значит объяснить его
вполне удовлетворительным образом. При этом сам человек оставался как бы за
кадром униформного монодромного роста знаний, которое, как считали, означает еще
и прогресс условий человеческого существования. Эволюционизм, прямолинейный
прогрессизм, механицизм как универсальная парадигма научности — вот
некоторые типичные черты научного духа XIX в. Образ науки XX в. во многом
подготовлялся в XIX в. Открытие законов наследственности, создание термодинамики и
статистической физики, учение об электромагнетизме — все эти свершения подрывали
устойчивые стереотипы науки XIX в., но не были в то время по-настоящему поняты
большинством научного сообщества. Идеал чистого незаинтересованного абсолютно
«объективного» познания, из которого мир человека был бы полностью исключен, —
такой идеал был основательно поколеблен, чтобы не сказать более, наукой XX в. Мир
человека оказался глубоким и всесторонним образом вовлеченным в сами структуры
объективного знания и научно-технического преобразования действительности.
Вовлеченность человека в расширяющийся и обновляющийся мир науки имела
место и на другом полюсе — в сфере предметного мира человека. Только в XX в.
3 Распутин В. Что имеем... // Правда. 1987. 11 марта. С. 6.
Истина и ценность
453
человек обнаружил, что всю тяжесть и смертельную угрозу, скрытые для него в науке,
создает он сам. Социализация науки (ее глубокое проникновение в общественную
действительность, превращение ее в мощный социальный институт) и сциентифи-
кация общества — две стороны единого процесса. Традиционные общества на
спонтанные процессы, происходившие в природе, отвечали ритуалом, магией, религией
и другими близкими к ним формами освоения мира в культуре. Современная же
научно-технически ориентированная в своем развитии цивилизация отвечает на
подобные вызовы наукой, контролирующей ее связи с природой. Игра современного
человека с миром природы опосредована прежде всего наукой, в которой он видит
гаранта своего выживания, равно как и смертельную угрозу. Сциентификация
современного общества означает, что оно «работает» в режиме объективной истины:
научные знания нужны абсолютно везде, они стали самой «тканью» общественной
жизни, производства и управления. Очевидно, что для описания такой ситуации
требуется новая, неклассическая, эпистемология. Модель же, предлагаемая
классической эпистемологией с ее тезисом о «чистом», т. е. независимом от общества,
истории, культуры, познании, оказывается идеологическим продуктом того
способа производства, прежде всего способа производства знания, когда знание было
изолированным островком в «море» несциентифицированного общества. Расхожее
представление об использовании науки обществом теряет всякий смысл в глубоко
«наукоемком» обществе. Такое представление исторически оправдано только для тех
обществ, которые оставались традиционными, т. е. до- или преднаучными, и
действительно начинали применять науку как нечто им самим глубоко чуждое.
Вовлеченность человека в процесс научно-технического развития прежде всего
необычайно остро поставила вопрос о ценностях самого научного познания как такового.
Мы различаем «постав»4 и «состав» научного знания. Социокультурная, всегда
исторически определенная, структура входит именно в «постав» научного знания.
Но когда, будучи поставлено, научное знание развивает свои формальные
структуры, тогда в его составе появляется то, что кажется внешним по отношению к
самой социокультурной структуре, вошедшей в «постав» знания. Эта ситуация
приводит к ее идеологизации в эпистемологии «чистого», независимого от общества
и культуры знания. «Постав» знания может анализироваться через
фундаментальную структуру вопрошания, обращенного человеком к природе. Структура вопро-
шания — это, конечно, не просто вербальные фигуры вопросов, а особый,
многоуровневый вектор, включающий в себя язык теоретических конструктов, гипотезы,
приборы и т. д., т. е. особое целое, действующее как система. Структура
вопрошания, скрытая в «поставе» знания, ограничивает и структурирует поле возможных
ответов природы, формирует его, но не определяет однозначно определенного
ответа до конкретного исследования как диалога с природой.
Материализовавшись в «теле» культуры, идеал классической науки создал для
себя защитный пояс в лице сциентистской идеологии, воздвигшей дополнительный
4 Хайдеггер М. Вопрос о технике // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 55.
454
Раздел четвертый
редут в виде современного технократического мышления. Сциентистско-технократи-
ческая установка, возникшая на базе классического естествознания еще в XIX в., была
перенесена с минимальным косметическим подновлением ее в век XX. Рассмотрим
только один момент в этой связи. Важным результатом научного и социального
развития начала XIX в. была дисциплинаризация естественных наук — создание
экспериментальной и теоретической физики, формирование нормативно организованных
научных сообществ, поставивших системно организованный заслон компетентного
знания от некомпетентного общества. Возникла культура компетенции, культура —
и культ — экспертизы. Кстати, именно в форме компетенции знание непосредственно
сливается с социополитическими структурами, входит в систему политических
отношений. В компетенции прямо содержится ценностное измерение знания.
Действительно, по Кабанису, компетенция — это знания, опыт и признанная честность.
В форме компетенции знание готово к его социополитическому
функционированию. Компетентное знание — это социально ангажированное знание, причем сама
компетентность как характеристика ученых служит инструментом в социополити-
ческой дискуссии. Научное сообщество сегодня стало своего рода аналогом
жреческой касты традиционных обществ. Ученый — это «жрец» современного прогресса,
динамизма, развития. Мы видим в этом процессе его две, связанные одна с другой,
стороны: во-первых, наука, чтобы развиваться в качестве объективного знания,
нуждается в таком, дисциплинарном, изоляционизме от общества и общественности,
но, во-вторых, такой изоляционизм питал комплекс превосходства у ученых,
герметизировал и атрофировал их социальное мышление, делая его решения
неподконтрольными для общественности. Возникла наука «высоколобых», каста
высокопрестижных экспертов, работающих в тени, вершащих выборы тайно. Сейчас мы видим,
как институт научной экспертизы поглощается — хотя и не до конца —
ведомственными структурами с их бюрократическими интересами. В результате вместе с
писателем Распутиным мы узнаем, что главными безответственными ответчиками за
величайшие экологические катастрофы наших дней выступают самые «академические
академики», самые «специальные специалисты». Итак, мы констатируем, что
ведомственная наука, наука корпоративно-бюрократическая — это в конечном счете плата
за ту эффективную институциализацию знаний, которая вывела науку из светских
салонов и из широкой общественной дискуссии, впустив ее в престижную
резервацию «дисциплины», куда вход «непосвященным» был полностью перекрыт. Такой
«изоляционистский» шаг был нужен и науке, и обществу. Но его эффективность,
ярко проявившуюся тогда, начиная с первых десятилетий XIX в., теперь приходится
оплачивать, причем такой ценой, которую возместить нет средств у всего
совокупного человечества.
В этой связи интересна позиция такого воинствующего
философа-рационалиста, как Башляр. Он горячо приветствовал дисциплинарную герметизацию знания,
превращение физики из науки (псевдонауки, как он подчеркивал) светских салонов
в строгую науку институтов и корпораций, резко порывающую связи с миром
общественности, с атмосферой социальных дискуссий, иными словами с аксиологическим
Истина и ценность
455
миром. Башляр считал наделение научно не обоснованных концептов
повышенной оценкой («валоризация») тормозом на пути становления объективного знания.
Но девалоризация и дезаксиологизация знания уже совсем иначе воспринимаются
сегодня, учеными в том числе (пусть и не всеми, конечно), чем она воспринималась
Башляром в 30-40-е гг. нашего столетия. Наука в наши дни уже не может жить в
изоляции от общественности, она не может вершиться в закрытых от внешнего мира
сообществах специалистов — в противном случае ей грозит ведомственная асфиксия,
корпоративное усыхание. И мы теперь совсем иначе смотрим на науку светских
салонов XVII-XVIII вв., чем Башляр. Сейчас общественная дискуссия уже ничем не
угрожает истинностной специфике науки, ее статусу объективного знания — наука давно
и крепко «поставлена», дисциплинарно устойчиво сложилась, и поэтому теперь она
должна бояться не размыва ее критериев как объективного знания, а своей склеро-
тизации в изоляции от социальных дискуссий с их вопрошанием о путях
выживании человека в мире человека и о его достоинстве как разумного существа.
История участия специалистов в научно-социальных дискуссиях в последнее
время как у нас в стране, так и за рубежом показывает, что научный дискурс может
строиться различным образом, причем даже противоположные стратегии его
развертывания совместимы с критериями научности. И этот факт приводит при попытке
его анализа к изменению традиционной эпистемологии, базирующейся на
классической науке с ее постулатами независимости знания от общества. Оказывается, что
в зоне гипотез, в зоне, так сказать, активного эпистемогенеза, знание открыто для
всех культурных и социальных воздействий. Только окончательно сложившиеся
структуры знания, получившие вид устойчивых формализмов, кажутся уже
недоступными воздействию «извне». Но и они, будучи знаниями и, таким образом,
связываясь с неформальным миром оснований и гипотез, открыты для воздействия
на них мира человека. Опыт показал, что наука — вся, сплошь — деятельность
человека и что сам эффект ее объективности достигается не изоляцией от общества,
субъекта и истории, а их специфическим преломлением, позитивным
использованием их конкретных познавательных возможностей. И если бы научно-социальные
дискуссии, проблемы, которые в них возникают, можно было бы решить на путях
использования только готовых научных формализмов, то тогда идеал экспертизы
сработал бы: формальный ответ — если бы он был возможен — был бы такой искомой
«объективностью». Но этого не происходит, потому что такие дискуссии обязательно
задевают слой не только уже ставшей, но и становящейся науки. И тогда
бифуркация в научных гипотезах становится проблемой социально-нагруженного выбора.
Действительно, научно-социальная дискуссия при ее углублении выводима
на тот уровень, где нет однозначного объективного ответа на поставленный в ней
вопрос. Тогда специалисты, в нее вовлеченные, могут «спасать» лицо, симулируя
объективность, а на самом же деле проводя сквозь этот маневр вполне
определенный социальный заказ или выбор, вполне определенную политическую линию.
Так, мы узнаем, что объективная научная экспертиза считает, что
целлюлозно-бумажный комбинат не просто «безвреден» для Байкала и его экосистемы, включая
456
Раздел четвертый
людей, живущих на его берегах. Такой комбинат, говорят эксперты, в силу
минерализированное™ его промышленных стоков улучшит состав слишком уж пресной
байкальской воды и сделает ее более пригодной для употребления человеком! Эти
рассуждения — шедевр ангажированной в ведомственные интересы самой высокой
науки. Правда, в дискуссии о Байкале объективный ответ существовал, что было
признано самыми высокими решающими инстанциями, но, к сожалению,
двадцать лет спустя после ввода в действие гиганта целлюлозной индустрии. Но в
других случаях объективное решение действительно неясно. И тогда наступает
соревнование экспертов, поддерживающих то или иное решение. В этом случае важно
совместить научные гипотезы с ценностями достойного человеческого выживания
и развития. Например, выбираем ли мы гипотезу линейного накопления радиации
и ее кумулятивного биологического воздействия или признаем соответствующий
пороговый механизм? Очевидно, что в первом случае мы проявим большую
осторожность, так как будем опасаться уже и малых доз. Вопрос этот был убедительно
рассмотрен Малкеем5.
Ученый не может быть независимым, совершенно объективным, нейтральным
экспертом в дискуссиях, имеющих социально-политический смысл, не только потому,
что он — человек, член общества и открыт социополитическим влияниям. Но и
прежде всего потому, что сама наука изнутри пропитана социокультурными и социо-
политическими значениями, что особенно ярко проявляется при рассмотрении
неформализованного ядра научного знания, открытого для воздействия социальных
позиций и всего культурно-исторического контекста науки
* * *
В форме философской рефлексии ситуация культурного дуализма (вспомним «две
культуры» Сноу) была зафиксирована Кантом. При этом наука получила своего
репрезентанта в лице мира необходимости, а ненаучная компонента культуры была
обозначена как мир свободы. Дуализм необходимости и свободы, природы и
культуры, теоретического разума и разума практического, наконец, дуализм разума в
целом, с одной стороны, и морально ориентированной воли — с другой, в горизонте
этих дуализмов конституируется понятие ценности. Ценность выступила у Канта
как своего рода тень, отбрасываемая свободой на необходимость. Человек может
с полным правом рассматриваться как живой природный индивид, в этом смысле
его жизнь выступает как естественная жизнедеятельность, и в таком плане она
начисто лишена ценности. Как часть универсума природных необходимостей человек
выпадает из мира ценностей. Но человек из самой жизни делает ценность: он ее
полагает как цель нравственную и строит различные системы жизнеутверждающей
5 Малкей М. Наука и социология знания. М., 1983. С. 200-216.
Истина и ценность
457
этики, например этику благоговения перед жизнью (А. Швейцер). В таком подходе
жизнь выступает не как автоматически идущий природный процесс, а как
моральный долг живущего. Начиная с этого момента мы говорим, что в человеческом
бытии начинает функционировать свобода, осознанная моральная воля. Первым
актом жизни мира ценностей выступает запрет, табу: ценное прежде всего защищает
себя. Так устроена культура с самого ее начала: запрет конституирует мир свободы,
мир собственно человеческий. Ценность, иными словами, предназначена для обжи-
вания мира свободы, она есть инструмент установления морального порядка в этом
мире и одновременно в «равнодушном» мире природного бытия. Первой
физической моделью ценностного мира является знаменитый «клинамен» Эпикура и
Лукреция — спонтанное отклонение атомов от их представленных как необходимости
механических траекторий.
Посмотрим теперь, как в общем виде соотносятся наука и ценность. Наука как
система производства объективного знания возникает — при всех прочих
необходимых для этого условиях — тогда, когда она получает ценностный сертификат на свое
существование. Это произошло в Европе XVII в. Иными словами, чтобы быть
поставленной в систему культуры, чтобы стать ее, культуры, полноправным
феноменом, наука должна была получить ценностную апробацию, стать ценностью. Почему
это произошло в XVII в. в Европе? Общий ответ нам представляется таким. В конце
средних веков возникли такие процессы, которые подорвали равновесие
традиционных обществ Европы. Их собственных ресурсов было недостаточно, чтобы
поддерживать новое состояние равновесия. Поэтому объективное знание и получило
ценностный сертификат, ибо оно явилось способом стабилизации обществ в их
новом неравновесном состоянии (социальные конфликты, религиозные войны,
демографический рост, массовые эпидемии, сдвиги в экономике и т. п.). Социальные
процессы вышли из-под контроля механизмов саморегуляции традиционного
общества. Потребовались новые, основанные на производстве объективного знания.
В это время и зарождаются и затем развиваются системы объективации
социальных масс, их обследование, их ранжировка, происходит замена системы авторитета
новой системой — экзаменом, проверкой, конкурсом и т. п. Все это привело к
возникновению науки как социальной машины по производству объективного знания,
дало ей ценностное оправдание, идеологию и все виды поддержки, приведшие в итоге
к ее дисциплинарному оформлению и институциональному укоренению в быстро
изменяющемся нетрадиционном обществе. Режим авторитета в рамках
традиционного общества сменился режимом объективной истины, режимом научного знания.
Режим объективной истины в обществе предполагает такое его (общества)
устроение, когда для самого его функционирования производство и использование
объективного знания становятся безусловной необходимостью. Например, в мире
торговли необходимо развитие процедур счета, взвешивания, измерения емкости вплоть
до развития научной статистики и других дисциплин как теоретического
обоснования таких операций. Объективная научная истина становится ценностью
одновременно с тем, как все другие истины, все другие знания, кроме научного, становятся
458
Раздел четвертый
только «ценностными», только «валоризированными» представлениями. Иными
словами, аксиологизация научной истины разоблачает все оставшееся за пределами
объективного знания (включая традиционные формы сознания) как только
«валоризацию», как нечто незаконное с точки зрения объективной науки, как нечто лишь
субъективное, ненаучное. Таким образом, аксилогизация научной истины, т. е.
превращение ее в ценность, происходит потому, что научное знание так глубоко
внедряется во внутренние механизмы функционирования общества (от производства
до идеологии), что без него это общество уже и не может существовать. Именно тогда
объективное знание становится одной — если не самой высшей — из практических
ценностей, что и происходит со всей силой необратимого процесса только в Новое
время, начиная с XVII в. В античности возникло не объективное знание,
преобразующее общество, а теоретическое мышление с начатками наук (математика,
астрономия, статика). Традиционные общества (античные и средневековые) прекрасно
существовали без объективного знания — в них действовали иные режимы
преемственности и социальной стабилизации, чем объективная наука, а именно, традиция,
авторитет, религиозная идеология и т. д. Объективное знание, режим объективной
истины, это — способ человечества выжить в определенных условиях
социокультурного развития, сформированных в том числе и самим научно-техническим
прогрессом. И раз научная истина оказывается средством выживания, то она
автоматически становится ценностью, причем одной из самых значительных в таком обществе,
порвавшим со способом существования прежних, традиционных обществ.
В эпоху становления классической науки была сформирована такая система
отношений объективного знания, с одной стороны, и ценностей — с другой, что они
выступили как взаимовыталкивающие друг друга, как совершенно друг с другом
несовместимые. Именно так анализируются их взаимоотношения в эпистемологии
Башляра. Ценностное отношение по отношению к объективному знанию
оказывается, согласно Башляру, своего рода искажающим возмущением — не более того.
В такой «оптике» ценностное отношение выступает как деформирующее истину: оно
придает концептам и представлениям те значения, которых они не имеют и иметь
не могут в научной системе их генезиса и функционирования. Иными словами,
ценность прочно становится синонимом заблуждения, в то время как объективное
знание монополизирует истину. Нагруженное ценностями научное знание выступает
как деградированная наука — деформированная мифом, обыденным сознанием,
посторонними науке социальными интересами, культурными предрассудками, одним
словом, как искаженное «субъективным подсознанием» знание. И именно поэтому
Башляр выдвинул в качестве своей программы защиты научного рационализма
психоанализ объективного познания, долженствующий очищать знание от
вездесущих «валоризаций», идущих от постороннего науке мира — мифов, прошлой
культуры, коллективного и индивидуального бессознательного и т. п. Сама возможность
ценностного искажения научного знания возникает потому, что оно, это знание,
во многом опирается на тот же самый естественный язык, который лежит в основе
и ненаучной культуры и обыденного сознания.
Истина и ценность
459
Кроме того, у Башляра возможность ценностного искажения объективного
знания обусловлена и тем, что субъект и науки и ненауки существенным образом
один — это психологически воспринятое индивидуальное сознание, «душа». В этой
посылке — принципиальная ограниченность эпистемологии Башляра, так и не
вышедшей в социоисторическое измерение. Поэтому сама борьба за научный разум
носит у Башляра характер морального подвига, нравственной педагогики
индивидуального духа. Борьба за научность выглядит у него как долг рационалиста, даже
«сюррационалиста». Социоисторический культурный «постав» истины и
заблуждения, объективного знания и субъективной оппозиции к нему не был раскрыт Башля-
ром, оставшимся на позициях психологизма, педагогизма и морализма в трактовке
знания. Но этот морализм, моралистический пафос по отношению к объективному
знанию, который мы нашли у Башляра, разоблачает объективное знание как
действительную ценность: объективное знание и субъективные предрассудки в
одинаковой мере являются ценностями в том смысле, что они возможны при определенной
структуре общественного исторического субъекта, что они — и то и другое —
конструируются и поддерживаются определенной социальной практикой, вступая с ней
в отношения симбиоза. Позитивистские и технократические прогнозы оказались
недействительными потому, что истина и заблуждение, объективное знание и
идеология, наука и мифы, все эти оппозиции целиком воспроизводятся в исторической
практике, в ее развитии. Дело обстоит не так, что одна фаза — менее научная —
сменяется другой, более научной, как думал Конт, формулируя свой знаменитый
закон трех стадий. История показывает, что изменяются всегда оба члена такого рода
оппозиций — меняется и научность, критерии научной рациональности, и в то же
время изменяются и не-научные «контексты», пронизывающие само «тело» науки.
Разместившись в суровом пространстве дисциплины, научный разум вовсе не
может нацело экранировать себя от ценностей. Более того, то, что раньше выступало
как ценность — объективное познание и стимулируемое им безудержное
технологическое развитие, — теперь — в конце XX в. — выступает как отрицательная
ценность, и не только для «антисциентистов», но и для самих ученых, усмотревших
в кастовой изоляции дисциплинарной науки социальную опасность и научное
вырождение или даже тупик.
Классическая наука в своей картине мира рисовала природу как своего рода
совершенный механический автомат — «бездушная природа». Такая модель природы
допускала в принципе ничем не ограничиваемое технологическое вмешательство
в нее — человек как противоположность природе, казалось, был недоступен для
последствий такого вмешательства. В классическом естествознании природа
предполагалась инертной, косной. И поэтому изменения, вносимые в нее технологической
активностью человека, считались локальными, не деформирующими природное целое.
Более того, классическая концепция природы не знает нелинейностей — она не
допускала того, что малые флуктуации могут быть причинами огромных и
необратимых следствий. Классический идеал знания предполагает наличие обратимых
воздействий. Поэтому так смело человек классической эпохи устремился на наукоемкое
460
Раздел четвертый
покорение природы. Но эта активность и ее теоретическое осмысление в
результате изменили сам идеал научности — классическому подходу пришлось
потесниться. Если в классике природа выступала как обратимый объект, то в «оптике»
нового, неклассического, естествознания она выступила как необратимый субъект,
как чрезвычайно хрупкая тотальность организмического толка, в которую
включен сам человек, так что вмешательства в природу могут — и довольно легко —
оказаться причиной необратимых изменений самого феномена человека вплоть до его
полной «гибели всерьез».
Кризис классической науки, приведший к формированию неклассических
научных представлений и к их философскому осознанию, ставит задачу
переосмысления проблемы соотношения ценностей и объективного знания. Это переосмысление
подготавливается как внутри самого естествознания, так и в его науковедческой —
философской, методологической и т. п. — рефлексии. Отметим только некоторые
его моменты. Классическая наука исключала коммуникацию познающего субъекта
с объектом и связь самих субъектов как познавательно нагруженную, эпистемоло-
гически значимую. Но одним из основных моментов неклассической науки является
именно включение таких коммуникаций в саму картину физической реальности.
Очевидно, что при этом отвергаются такие постулаты классического
естествознания, как принцип абсолютного наблюдателя, полностью исключенного из
«спектакля» (эта театральная модель в высшей степени характерна для классической науки)
природного универсума. Конституирующие неклассическую науку
фундаментальные принципы запрета или «невозможности» (например, невозможность для
скоростей превышать значение скорости света) суть принципы запрета и
невозможности не «мира-в-себе», а мира взаимодействующего, коммутирующего с познающим
его субъектом. Для такого гносеологического субъекта, как «демон Лапласа», такие
запреты или ограничения, конечно, недействительны: такое воображаемое
существо может измерять явления с любой скоростью. Недаром в классической механике
действует принцип дальнодействия. Условно говоря, в классической науке познание
как диалог редуцировано до монолога: диалог между «демоном Лапласа» и
природой это, конечно, не диалог. Диалог наступает начиная с того момента, когда и
объект и субъект принимаются в их равноипостасной конечности. Та «субъективация»
знания, которую мы фиксируем в новой науке, не есть просто удаление из нее
«объективных» значений. Нет, сама эта «субъективация» строится в объективном языке.
Такова, например, квантовая механика Гайзенберга, описывающая (с помощью
матриц) наблюдаемые величины.
Описание микрообъекта через наблюдаемые субъектом величины означает, что
эта субъективизация ведется в терминах объекта. Действительно, неклассическая
наука репрезентирует то обстоятельство, что человек суть и объект и субъект, что
он сам входит в научную картину мира не как нечто «не-природное», не как что-то
«спиритуальное» (таким как раз был субъект классической науки, тот же «демон
Лапласа»), не как существо не от мира сего, а именно как конечное мирское
существо, наделенное своей мерой. Такая диалогическая и практическая включенность
Истина и ценность
461
человека в новое неклассическое знание приводит к тому, что в принципе исчезает
противоположность истины и ценности, противоположность свободы и природы,
мира сущностей и мира феноменов. Благодаря такому построению науки мы в ней
вычитываем не только знание о «вещах-в-себе» безотносительно к нам,
человечеству, но и нашу собственную ситуацию, нашу судьбу в реальном мире как природы,
так и общества, и истории.
Аксиологическую рефлексию позиции, соответствующей классической науке,
мы находим, например, у Риккерта. Фундаментальной для конструирования
понятия ценности у него выступает жесткая оппозиция природы и культуры. В плане
такой оппозиции ценность выступает как семантическая добавка к природному бытию.
Оппозиция «природа — культура» оборачивается оппозицией «бытие — значение».
Мир ценностей или значений Риккерт выводит из данностей мира культуры.
Культура (культурный человек) и мир ценностей у Риккерта взаимно полагают друг друга.
Ключевым моментом связи культуры и ценностей выступает у Риккерта понятие
нравственности. Это понятие нужно немецкому философу для того, чтобы отличить
цели индивидуально-случайные (желания, прихоти, капризы, настроения и т. п.)
от целей общественно необходимых, коренящихся в мире тотальностей государства,
церкви, традиций, искусств, наук, экономических институтов и т. п. В конце концов
риккертианская теория ценностей приводит к тому, что мир ценностей генетически
связывается с «общественным целым», видимым Риккертом во вполне конкретных
социоисторических формах «позднего капитализма» Европы конца XIX в.
Общественное целое этого социального устройства оказывается у Риккерта самоценным,
самодостаточным: под его теорией ценностей мы раскрываем идеологию умеренного
консерватизма в рамках позднекапиталистического строя.
Но что, помимо этого явного идеологического фундамента риккертианской
аксиологии, неприемлемо для нас сегодня? Прежде всего сама жесткость антитезы
«природа — культура» сегодня не отвечает нашей социокультурной
действительности. Экологический вызов, брошенный со всей силой в 50-60-е гг. XX в., показал
несостоятельность такого противопоставления природы и культуры, которое бы
ценность связывало односторонне с культурой. Экологический кризис вызвал дрейф
локализации ценности: ценностью стала именно «дикая» природа, свободная от ее
«культурации» или промышленного освоения. Экологический кризис привел к ак-
сиологизации (валоризации) мира именно не-культуры, что выразилось,
например, в концепции невмешательства человека в жизнь природы (создание
заповедников и т. п.). Классическое естествознание было доэкологическим естествознанием,
и именно его в форме философской аксиологии воспроизводит Риккерт. Образ
естествознания у Риккерта лишен исторического измерения, которое, формируясь
внутри него, превращает его из классического в современное неклассическое (теория
Пригожина, эволюционные концепции в «неисторических» науках и т. п.)
Противопоставление лишенной ценностного измерения природы культуре как его источнику
оборачивается у Риккерта тезисом аксиологической нейтральности естественных
наук. Казалось бы, этот тезис подтверждается расхожим мнением, что естествознание
462
Раздел четвертый
можно использовать во благо человеку или ему во вред. Но это мнение маскирует
реальную нагруженность естествознания культурой, а тем самым и ценностями.
Укорененность естествознания в ценностном поле связана с его историческим
возникновением, с его «поставом» в ходе развития новой цивилизации в Европе в XIV-XVII вв.
Это культурно-социальное происхождение естествознания означает его открытость
для ценностных значений — для возникновения социальных дискуссий,
идеологической борьбы, полемик внутри самого точного знания. Идея Белла о конце
идеологии в ходе развития технократического сциентифицированного общества оказалась
иллюзией. Философский фундамент этой идеи составляет подобная риккертианской
точка зрения об абсолютной исключенности мира естественно-научного
объективного знания из сферы ценностей. Крах идеи о конце идеологии означает, таким
образом, и крах такой точки зрения.
Само понятие истины «объективного знания» — понятие теоретического
мышления — возникает и развивается там, где социальные дискуссии и противоречия
особенно остры, где борьба мнений, идей, гипотез, установок, утопий и идеологий
настолько сильна, что грозит дестабилизировать социальное целое. По-видимому,
именно в условиях бурной мутации греческих городов в VI-V вв. до н. э. возникли
такие условия. (Действительно, само понятие «истины» как чего-то
противоположного «мнению» возникает у Парменида.) Перед лицом «истины» должны были
умолкать споры. И поэтому развитие инстанции истины стало делом всех течений —
различение «истины» и «мнения», конституирующее само элементарное существование
«истины», было принято всеми — и Левкиппом, и Демокритом, с одной стороны,
и Платоном и Аристотелем — с другой. Однако установка на объективную истину как
социокультурная доминанта, определяющая практику, складывается только в Новое
время. В античности были заложены лишь основы культуры теоретического
мышления. Поэтому методологически ошибочно — а так нередко поступают — брать в
качестве модели объективного научного знания античную теорию и одновременно
приводить примеры объективного знания из новоевропейской науки. В результате
такой процедуры возникает иллюзорное представление об отсутствии
радикального разрыва между познавательными практиками античности и Нового времени.
Ценность состоит в амбивалентном отношении к объективной истине.
Действительно, в «ценностном поле» знания возникают и функционируют, в нем
складываются сами механизмы и процедуры, обеспечивающие производство именно
объективного знания, его содержания, но в то же время это «ценностное поле»,
включающее в себя потребности общества, его технологические средства и задачи, его
социальные, экономические, политические и т. п. запросы и условия, будучи всегда
конкретно-историческим, налагает пределы на возможности объективно-истинностной
компоненты знаний. Именно в силу такой амбивалентности познание оказывается
не созерцанием, не откровением, а конструктивной исторической деятельностью,
складывающейся в процесс, который мы описываем, используя такие
философские абстракции, как диалектика абсолютного и относительного, объективного
и субъективного в познании. Упрек в релятивизме, которым иногда злоупотребляют,
Истина и ценность
463
справедлив только по отношению к тем концепциям, которые действительно
разделяют агностический тезис, отрицающий возможность познания вещей так, как они
существуют сами по себе. Познание объективной истины раскрывается как
парадокс: знание о вещах, существующих вне сознания (объективно), причем такое
знание, которое их представляет так, как они существуют сами по себе, в своей
сущности, возможно и действительно реализуется, но исключительно в формах всегда
социокультурно определенных, несущих на себе «отпечатки» «ценностного поля».
«Потенциал» этого «поля» способствует возникновению и конструированию
объективного знания, но он же ставит ему и пределы. И поэтому, изменяясь как целое,
общество меняет и эти «ценностные» потенциалы, которые снова выступают по
отношению к объективному знанию в своей амбивалентной функции.
Мы рассматривали знание как историческую социокультурную систему,
посредством которой общественный человек вступает в контакт с природой, преобразует
ее и воспроизводит тем самым самого себя. Знание как такая система стремится
конструировать природу из социокультурных материалов так, как она существует сама
по себе. Тем самым социально-культурная сущность знания и его гносеологическая
значимость не вступают друг с другом в непримиримое противоречие. А это
означает, что нет взаимоисключения между истиной и ценностью. И то и другое
возможно только как измерение человеческой предметной деятельности, и различие
между ними как таковыми состоит в том, что если истина, условно говоря,
фиксирует объективный, «вовне» обращенный характер человеческой рациональной
активности (в эту объективирующую «оптику» попадает и сам человек), то ценность,
напротив, фиксирует самоотнесенность этой активности, ее «привязку» к ее
субъекту. Максимальное сближение истины и ценности раскрывается в том
обстоятельстве, что сама интенция на объект оказывается формой специфического — в
историческом социокультурном плане — самоотнесения человеческой деятельности,
т. е. субъективности. Иными словами, сама объективная истина становится
ценностью и функционирует как таковая в определенном историческом социокультурном
контексте. Субъективная и объективная проекции деятельности в знании
соединяются философией и другими формами самосознания человека.
КУЛЬТУРА — ЗНАНИЕ — НАУКА
Единство наук о человеке и природе обусловливается их включением в систему
культуры. Культура существует как конкретная социоисторическая тотальность
человеческой деятельности. В силу этого ее общие черты (стиль, символика, архетипы,
традиции, установки и т. п.) действуют во всем ее массиве и объединяют все ее
подразделения, в том числе их внутренние членения, например основные
формообразования знания. Поэтому единство общественных и естественных наук
обнаруживается уже в том очевидном обстоятельстве, что и те и другие являются видами
знания и тем самым с самого начала подключены к его интегративным структурам.
Прояснение понятия «культура» можно начать с этимологического анализа слова
«культура». Слово cultura происходит от латинского глагола coloy значения которого —
«обрабатываю», «возделываю», «чту», «почитаю» — являются, пожалуй, наиболее
общими и важными из достаточно большого ряда его значений. «Слияние»
возделывающей заботы с почитанием — так мы прежде всего можем представить себе,
что же такое культура. Конечно, здесь присутствует и значение «культ», если мы
принимаем его за синоним «почитания» и «поклонения». Итак, если культура есть
благоговейное возделывание или почитающая обработка, то возникают два вопроса,
на которые с полным правом можно дать один ответ. Во-первых, что
обрабатывается в культуре? Во-вторых, что почитается в культуре или через культуру как
обработку? Этим предметом у жителей древнего Лация была, конечно, земля. У Вергилия,
Горация, Квинтилиана слово cultura означает прежде всего «земледелие». Но для нас
«земля» древних стала только символом, а именно символом бытия. «Бытие»
составляет предельное потенциальное содержание культуры, в котором и сливаются
предмет ее обработки и предмет ее почитания.
Бытие раскрывается через его обработку в культуре. В труде возделывания
бытие преображается так, что преображенное культурой бытие и служит предметом
благоговейного почитания. Иными словами, культура представляет собой
значимое, благодаря ее связи с бытием, созидание, или творчество, а вместе с ней такова
и наука как ее существенная часть. Существенность этой части определяется тем
обстоятельством, что в совокупной системе созидательной, творческой рациональной
деятельности, каковой является культура, научно-философское мышление
представляет рациональность культуры в ее наиболее «чистой» форме, подвергая ее в
качестве таковой специальной рефлексии, выступающей как ее самосознание.
Что же созидается в науке как творчестве? В ней созидаются новые фигуры
деятельности, ее новые схемы и планы, методы и способы обращения с предметами,
Культура — знание — наука
465
представленные как новые понятия, целые их системы или, говоря мягче, новые
теоретические регулярности. Но регулярности чего? Регулярности деятельности и
регулярности бытия одновременно. Подобно тому как понятие культуры соединяет
предмет обработки и предмет благоговейного почитания, точно так же в познании
и в знании как его результате соединяются деятельность и бытие.
Попытаемся теперь несколько детализировать содержательную характеристику
культуры. Но начнем с формального описания культуры. Культура может быть
определена формально, если в ней фиксируются только ее чисто функциональные
характеристики, такие как освоение, переработка, передача и хранение накопленного
опыта и информации, и не разбирается вопрос о ее содержании. Как мы уже сказали,
потенциальным содержанием культуры является бытие, с которым она соотносится
и на которое нацелена ее энергия обработки. Но ее актуальным и непосредственным
содержанием и источником выступает человеческий разум, ratioy реализующийся
во всем многообразии предметов культуры. Именно поэтому выше мы определили
культуру как совокупную систему созидательной рациональной активности
человека. Но что же такое сама рациональность? Постараемся найти некоторые самые
общие ее характеристики. Но сначала продолжим ее формальное описание, пытаясь
подойти тем самым и к ее содержательной характеристике.
Мы можем попытаться уточнить формальное определение культуры и
приблизиться к уточнению ее содержательной специфики, дав культуре такое, построенное
«негативно», определение: культура — это набор абиогенных содержаний освоения
мира человеком, которые ассимилируются, перерабатываются, хранятся и
транслируются им как субъектом деятельности. Однако такое определение остается все
еще достаточно формальным. Дальнейший шаг в определении содержательного
аспекта культуры как рациональной активности человека мы сделаем, если
подчеркнем, что культура необходимым образом полагает предел множеству
возможностей человеческой деятельности. Понятие рациональности в его логической схеме
в таком случае раскрывается через понятие предела: рационально то, что наделено
пределом, что определено. Рационально, следовательно, то, что системно, что
черпает свой смысл в замкнутой системе, находя и обнаруживая свои границы
благодаря взаимодействию с другими элементами системы. Очевидно, что только для
такого элемента и может быть дано определение в узкологическом смысле
«дефиниции». Возможно, что логическую схему понятия рациональности допустимо так
представлять. Однако, на наш взгляд, схему понятия рациональности можно так
истолковать, отождествив ее с «пределом», лишь в том случае, если понятие схемы
использовать в кантовском смысле, то есть как «априорное определение времени» \
Если же понятие схемы переосмысляется и вместо кантовского априоризма мы
принимаем апостериорное время истории и практики, тогда существенно меняется
и представление о схеме. В этом случае она становится «апостериорным» социо-
историческим определением времени в культуре, то есть определением способов
1 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения: в 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 363.
466
Раздел четвертый
и методов предметной деятельности. При таком переосмыслении понятия схемы
мы уже не можем сказать, что схема понятия рациональности исчерпывается
«пределом». Теперь она содержит в себе как «предел», так и «беспредельное». В
соответствии с этим рациональность может быть определена как такая
существенная черта человеческой деятельности, которая наряду с «пределом» описывается
и «беспредельным», т. е. возможностью выхода за пределы эмпирической данности,
всегда социоисторически обусловленной, выхода за предел наличного состояния
в деятельности и мышлении. Не разбирая это подробно, отметим лишь, что в
составе целостного античного представления о рациональности или разуме (λόγος)
участвуют оба указанных момента. В милетской космологии это обнаруживается
в «беспредельном» Анаксимандра, а у пифагорейцев и Платона — в диалектике
предела и беспредельного. Современные исследования греческой культуры
показывают, что ее рационализм и состоял как раз в том, что она знала об
иррациональном и умела по-своему с ним обходиться, хотя подчас странным и жестоким,
на наш взгляд, образом, если по решению трибунала в Гелии Гиппас из Метапонта,
согласно легенде, был утоплен в море пифагорейцами, потому что сообщил
непосвященным об иррациональности корня квадратного из двух2.
В свете такого представления о рациональности культура выступает не только
как непрерывное усилие человека по поддержанию пределов и норм деятельности,
но и как усилие по преодолению содержащихся в них ограничений, направленное
на созидание новых форм деятельности и мышления. В этом преодолении
происходит обновление разума, или «логоса», «впервые» возникшего некогда из «мифа».
Эта фигура преодоления разумом мифа остается инвариантной формой движения
культуры и знания, как гуманитарного, так и естественно-научного. Таким образом,
культура как рациональная активность человека есть не только необходимое
ограничение ее определенными заданными рамками, но и самоосвобождение в
творчестве новых «фигур» деятельности и способов отношения к бытию.
Момент рационализации мифа как ключевой момент для понимания культуры
подчеркивали такие мало схожие между собой мыслители, как Т. Манн и Ж.-П. Сартр.
В частности, Манн, объясняя читателям романа «Иосиф и его братья» его замысел,
подчеркивает, что свою основную задачу он видел в гуманизации мифа. Эта
задача решалась им на путях рационализации мифического сознания3. В плане такого
понимания рациональности культура раскрывается как напряженная диалектика
«предела» и «беспредельного», «табу» и его преодоления. Слепая верность «табу»,
2 См.: Fritz Kurt von. The discovery of incommensurability by Hippasus of Metapontum //
Annals of Mathematics. 1945. Vol. 46. P. 242-264.
3 Внедрение рационального начала в миф, сопровождающееся существенным
преобразованием самого мифа, состоит, по Манну, во «внимании к внутренним изменениям,
которые претерпевает мир, к изменчивой картине представлений об истине и справедливости»,
а также и в «послушании», «которое немедля приспосабливает жизнь и деятельность к этим
изменениям» (Манн Г. Иосиф и его братья / Пер. С. Апта. М., 1968. Т. 2. С. 913).
Культура — знание — наука
467
потерявшему свое оправдание перед лицом разума и меняющейся жизни, Т. Манн
называет «глупостью перед богом»4.
Сходную, хотя и данную в существенно иной тональности, концепцию культуры
как рациональной активности человека мы находим и у Сартра. В
автобиографической повести «Слова» ее автор описывает свой путь в литературу как
формирование своего специфического «мифа» и его преодоление в дальнейшем с помощью
самой литературы. Это миф о мироспасающем избранничестве Сартра как писателя:
«Я думал, — говорит он, — что отдаюсь литературе, а на самом деле принял постриг»5.
Позднее «кислоты» критического разума и «давление» изменяющейся жизни разъели
«панцирь» мифа о своем «избранничестве». Пришло новое, трезвое осознание
литературы, дела писателя, культуры в целом: они попросту спустились с мифических
высот на «грешную» землю, где им, конечно, нашлось свое скромное место. Если сначала
писательское перо виделось Сартру в виде шпаги героя, то впоследствии оно
принимает более свойственный ему вид: «Культура, — говорит Сартр, — ничего и никого
не спасает, да и не оправдывает. Но она — создание человека: он себя проецирует
в нее, узнает в ней себя, только в этом критическом зеркале видит он свой облик»6.
Из этих общих соображений о диалектике рациональности как содержательной
характеристике культуры следуют некоторые выводы, значимые при анализе науки.
Так, например, научные революции нередко осознаются как крах рациональности,
как взрывообразное вторжение в науку, и даже в культуру вообще,
«иррациональных» сил. Однако согласно развитым здесь соображениям в радикальных
преобразованиях науки проявляется, вопреки Т. Куну, нормальное функционирование
научной рациональности. Концепция развития науки Куна содержит слишком узкое
представление о «норме». Для Куна нет других норм, чем те, которые задаются
конкретной парадигмой. Поэтому процесс смены парадигмы выступает как
анормальный или «иррациональный». Этого не происходит, если мы принимаем во внимание
всю диалектику рациональности. Попросту говоря, рациональность — это не
данность, не подлежащая изменению. Рациональность — это процесс рационализации,
т. е. продвижения по пути объяснения и понимания того, что ранее было неясным
и непонятным. Например, для Парменида пустота «нерациональна»: рационально
только «полное», а не «пустое», только «бытие», но не «не-бытие». Но Левкипп и
Демокрит меняют это представление о рациональном: у них пустота оказывается не
менее рациональным началом, чем «полное». До возникновения теории эволюции
рациональность в биологии ограничивалась представлением о постоянстве видов.
Движение знания и состоит в этом преобразовании и расширении сферы
рационального. Но сама способность мышления мыслить новое и мыслить по-новому вполне
рациональна, и, может быть, именно она рациональна в высшей степени, потому что,
4 Манн Т. Иосиф и его братья. С. 913.
5 Сартр Ж.-П. Слова. М., 1966. С. 171.
6 Там же. С. 173.
468
Раздел четвертый
в конце концов, человеческий род выживает благодаря изобретению нового,
благодаря творчеству и прогрессу.
Итак, культура в качестве рациональной активности человека — по существу
способность выхода за пределы своего исторически данного состояния. Наука,
будучи частью культуры, выходит за свои пределы двояким образом: во-первых,
синхронно, находя матрицы и схемы для своего роста вне себя, а во-вторых, диахронно,
преодолевая свою собственную историческую ограниченность. Обратим
внимание на взаимосвязь этих двух способов выхода за свои пределы: на находящихся
вне науки матрицах и схемах может идти синтез нового научного знания,
оформление новых образований научно-философского знания. Однако это никоим образом
не означает, что наука не созидает нового, «паразитируя» на внешних схемах. Она
действительно может использовать такие схемы, но именно для формирования
новых концептуальных систем. Кроме того, наука сама создает схемы деятельности или,
по крайней мере, активно участвует в их созидании. Действительно, качественный
рост научного знания означает, что формируются и новые возможности
предметных действий, новые схемы деятельности.
В связи с этими двумя способами выхода науки за свои рамки нужно еще указать
на преодоление междисциплинарных барьеров внутри науки в целом, на
проникновение методов мышления из одного класса наук в другой. Если рассмотренные выше
способы выхода науки за свои рамки можно назвать внешней «диффузией» науки
как целостной сферы внутри пространства культуры, то преодоление внутринауч-
ных перегородок следует считать внутренним «осмосом» научного знания.
Существенно то, что междисциплинарные пересечения оказываются, как правило,
точками роста науки в целом, пунктами ее размыкания как во времени — в будущее,
так и в «пространстве», в пространстве культуры. Иными словами, внутренний
«осмос» знания при рассмотрении его с более широких позиций оборачивается
внешней «диффузией» науки.
Рассмотрим «синхронный» выход науки за свои пределы. Тот ближайший к науке
срез культуры и практики, в котором располагаются генерирующие научное знание
ячейки, мы будем называть знанием. Очевидно, что знание не является
прерогативой науки. Знание выступает как всеобщее по отношению к науке как особенному:
в пространстве знания научное знание представляет специфическое
подпространство. Эффективное поле производства и функционирования знания, совпадающее
с площадью сечения всей культуры, включает в себя как свою особенную форму
научное знание.
Связь науки со знанием по меньшей мере двойная: наука, во-первых, «питается»
стихией знания, а во-вторых, вырывается из нее, противопоставляя ей свое
собственное своеобразие и тем самым обновляя эту стихию, внося в нее новое. Консти-
туирование самостоятельности науки происходит при наложении на знание
дополнительных условий, способствующих его превращению в научное знание. Знание
можно представить как накопление, функционирование и хранение практических
и «культурных» «фигур» или схем освоения мира, которые ассимилируются наукой,
Культура — знание — наука
469
подлежа строгому отбору, очищению и преобразованию в соответствии со
специальными критериями, принципами и методологическими установками,
ориентированными на проверяемость предложений, определенность понятий,
обоснованность суждений и т. д.
Любое знание, в том числе и научное, в самом первом приближении можно
описать как процесс представления неизвестного через известное, которое выступает
как репрезентатор неизвестного7. Какими характеристиками прежде всего должен
обладать репрезентатор? Очевидно, что для представления неизвестного через
известное репрезентатор должен быть «известным», т. е. представлять собой хорошо
освоенный в культуре фрагмент реальности. Освоенность как минимум
предполагает наличие соответствующего языка. Поэтому при анализе знания нужно в первую
очередь установить наличие языка репрезентатора в составе анализируемого им
текста. Этот язык глубоко инкорпорирован в ткань текста. Вслед за фиксированием его
фрагментарных проявлений исследователи должны проникнуть в целостный язык
представляющей знание структуры и реконструировать ее. Терминологически мы
предпочитаем говорить не о репрезентаторах, а о схемах, имея в виду прежде всего
то обстоятельство, что в схеме сконцентрирован метод деятельности по
порождению идеализированной предметности понятий.
Итак, наука тесно связана со знанием, но не совпадает с ним. Различие науки
и знания отмечал, например, М. Фуко. Его «археологические» анализы нацелены
на описание сферы более общей, с более размытыми границами, чем сложившееся
научное знание, той сферы, которая может дать место науке, послужить почвой для
ее формирования, но которая при этом сама не совпадает с ней. Такую сферу в
«археологии знания» Фуко называет «знанием», истолковывая ее как «речевую
практику»: «Речевая практика, — говорит он, — не совпадает с научной разработкой,
которой она может дать место»8. На наш взгляд, здесь имеется установка,
представляющая интерес для историка науки. Выход историко-научного анализа за рубежи
собственно научного знания как предмета, подлежащего его непосредственному
исследованию, фиксирует в качестве «питательного раствора» генезиса этого знания
всю сферу культуры, но прежде всего культуру как практику «обживания» вещей
в деятельности с ними.
Однако сфера предметной деятельности широка, и историку просто не обойтись
без метода, указывающего, что с нею делать, занимаясь сугубо частной проблемой
интерпретации исследуемого им текста, попыткой понять генезис скрытого в нем
знания. Выработка этого метода связана с анализом проблемы «релевантности» или
взаимосоответствия структур практики или культуры, с одной стороны, и структур
самого текста, фиксирующего знание, — с другой. Описывая методологию
структурной лингвистики, А. Мартине указывает на сходную проблему, а именно на проблему
нахождения соответствия {pertinence) между тем, что объясняется, и тем, с помощью
7 См.: Розов М. А. Проблемы эмпирического анализа научных знаний. Новосибирск, 1977.
8 Foucault M. Archéologie du savoir. P., 1968. P. 240.
470
Раздел четвертый
чего оно объясняется9. Эта проблема, однако, хотя и является трудной, но в принципе
разрешима. Не анализируя здесь ее в деталях, отметим только два момента.
«Релевантные» структуры или схемы подсказываются, во-первых, анализом языка
исследуемого текста, а во-вторых, изоморфизмом между конструируемой схемой и
генерируемой на ее основе концептуальной системой знания.
В качестве примера можно указать на генезис понятия о качестве как силе
(δύναμις) в натурфилософии Аристотеля. В биологическом цикле сочинений Стаги-
рита и в особенности в IV книге его «Метеорологии» элементарные качества тепла,
холода, сухости и влажности выступают как активные и соответственно пассивные
агенты, ответственные за объяснение многообразия явлений подлунного мира. Эти
качества выступают без какого бы то ни было носителя, как самостоятельно
действующие силы. Такой статус качеств позволяет нам говорить, что они фактически
превращены в квазисубстанции или, иными словами, что они
«субстанциализированы». Анализ IV книги «Метеорологии» и других текстов Стагирита дает
основание утверждать, что в основе такой динамической субстанциализации качеств лежат
схемы некоторых видов практической деятельности, прежде всего античной кухни,
сада и аптеки. Деятельность в этих видах практики, как и в некоторых других,
подобных им, замкнута на качественном уровне описания процессов, достаточном для
управления ими в желательном для человека плане.
Роль схем как матриц в генезисе культурных форм не ограничивается
концептуальными системами, описывающими физический мир. Фигуры мышления,
складывающиеся на такого рода схемах, свободно проникают и в другие, отличные
от естествознания, сферы культуры. Схемы выступают, таким образом, в качестве
интегративного фактора, обусловливающего единство культуры и стиля мышления
исторической эпохи. Эти интегрирующие потенции схем связаны с их способностью
к переносу из одной области предметной деятельности, культуры и мышления в
другую. Иначе говоря, схемам присущ характер моделей.
Мы только что показали, как схемы определенной практики традиционного
толка обусловливают генезис концептуальной системы описания физического
мира (теория δυνάμεις Аристотеля). Покажем теперь, как те же самые схемы
внедряются в ткань литературного процесса и искусства, проявляясь в этих сферах
культуры как специфические стилевые приемы изображения человеческого мира.
То же самое представление о качествах как динамических субстанциях может быть
раскрыто в его изобразительных художественных возможностях. Так, у Лоренса
Стерна в его «Сентиментальном путешествии по Франции и Италии» Йорик,
предложив даме занять половину своей кареты, испытывает такие внутренние
борения: «— Тебе придется тогда взять третью лошадь, — сказала Скупость, — и за это
карман твой поплатится на двадцать ливров, — Ты не знаешь, кто она, — сказала
9 Martinet A. Le modèle linguistique est-il le modèle fondamentale des sciences humaines? //
Structuralisme et marxisme. P., 1970. P. 91.
Культура — знание — наука
471
Осмотрительность у — ив какие передряги может вовлечь тебя твоя затея, —
шепнула Трусость»10. Мы обрываем цитирование, не давая голоса Лицемерию,
Благоразумию и Низости: принцип нам вполне ясен. Что думает сам Стерн об этом
принципе, кому он дал слово во внутренней речи своего героя? Он дал слово моральным
качествам своего героя, представив их как живые, самостоятельно действующие
существа или «субстанции»: «Все грязные страсти и гадкие наклонности естества
моего, — говорит Йорик, — всполошились». «Страсти» и «наклонности» ожили,
представ перед нами как живые существа, наделенные голосом и именем. Стерн столкнул
нас с тем же самым «анимизмом» в трактовке поведения человека, который
некоторые современные логики науки находят у Аристотеля11.
Текст Стерна явно ироничен. Объектом иронии романиста и выступает как раз
сам идущий от перипатетиков прием персонифицирования качеств человека — как
дурных, так и хороших. Мы знаем, что вульгаризированный в этом приеме
аристотелевский способ объяснения до Стерна высмеивал, например, Мольер12. Но все
подобные иронизирования относятся здесь не только к естествознанию или медицине,
но и в первую очередь к самой литературе и искусству, где указанная фигура субстан-
циализации качеств превратилась в широко распространенный, давно уже ставший
шаблонным прием. В частности, таким приемом является аллегория,
гипостазирующая и конкретизирующая абстракции и превращающая при этом качества в
самостоятельно действующие существа. В этом плане ирония Стерна выступает и как
симптом исчерпания возможностей данного приема, и одновременно как поиск
новых приемов, прокладывающий путь реалистическому роману.
Для раскрытия онтологического значения знания как феномена культуры
интересно проанализировать, пусть в самых общих чертах, понятие мира. Мы уже
видели, что между схемами практики, с одной стороны, культурой и формами
знания — с другой, существуют определенные генетические связи. Покажем теперь, что
существует связь и между понятием схемы и понятием мира. Эту связь дает
возможность проследить, в частности, анализ кантовского понятия схемы13. Кант в «Кри-
10 Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Сентиментальное
путешествие по Франции и Италии. М., 1968. С. 560.
11 «Аристотель как противник Платона, — говорит, например, Поппер, — придерживался
точки зрения, близкой к анимизму, согласно которой самые существенные свойства
содержатся внутри каждого индивида или отдельной вещи, так что при объяснении этой вещи
об этих свойствах нужно только вспомнить» (Popper К. Objective knowledge: An evolutionary
approach. Oxford, 1972. P. 195).
12 Мольер Ж.-Б. Дон Жуан. Комедии. М., 1959. С. 497.
13 Основные слабости кантовской философии, априоризм и обусловленный им
агностицизм, преодолеваются при марксистском переосмыслении учения Канта о
трансцендентальных схемах. Такое переосмысление не лишено интереса уже потому, что «идея синтеза
данных чувственности и рассудка, проводимая в этом учении, — говорит В. Ф. Асмус, — весьма
ценная и глубокая» (Асмус В. Ф. Кант. М., 1973. С. 49).
472
Раздел четвертый
тике чистого разума» рассматривал понятие о мире как исключительно
космологическую идею: «...совокупность всех явлений (мир), — говорит он, — есть предмет
космологии...»14. Однако и у самого Канта термин «мир» употребляется не только
в космологическом плане, а в гораздо более широком контексте, как вообще «цело-
купность синтеза», всякое единство многообразия явлений того или иного плана
(а необязательно всех без исключения явлений вообще). Но из кантовского учения
о трансцендентальных схемах мы знаем, что единство многообразия содержаний
определенного рода обусловливается как раз именно схемами. Так, например, число,
по Канту, является чистой схемой категории количества, представляя собой «не что
иное, как единство синтеза многообразного (содержания) однородного созерцания
вообще, возникающее благодаря тому, что я произвожу само время в схватывании
созерцания»15. Таким образом, схема производства времени в схватывании
созерцания производит мир числа. Другие схемы производят соответственно другие миры:
мир качеств, мир возможностей и т. п. В понятии «схемы» содержится логически
простейшее определение мира. Какое же?
Мир как простое понятие в его простейшем определении, в его чистой схеме,
представляет собой полноту развертки проявлений одного особого принципа или
начала. Один определенный мир всегда есть полное множество вариантов лежащего
в его основании принципа. Мир — это особенное всеобщее, данное в полноте своей
развертки. Хотя выражение «особенное всеобщее» звучит парадоксально, тем не
менее именно в таком «монстре» состоит простое логическое условие возможности
множества миров. Так, например, мир кино — это все состояния кинопродуциру-
ющей активности человека. Есть мир натуральных чисел, точно так же
охватывающий все числа, подчиненные одному принципу. Веер мутовок, исходящих из точки —
хочется сказать, почки! — одного начала, образует мир. Определение понятия мира
через порождающий принцип означает, что мир всегда есть мир чего-то. Начало
выступает и как источник генезиса мира, и как его носитель: есть мир Гомера, мир
ученых (так, например, популярная рубрика «Физики шутят» представляет собой вид
репортажа из этого мира), существует мир итальянской мафии, мир футбола, мир
беспозвоночных и т. д.
Устойчивое применение термина «мир» для характеристики культуры и знания
в современной философии науки, пожалуй, впервые мы находим у Поппера:
Не принимая слова «мир» или «вселенная» слишком серьезно, мы можем различить
три мира или универсума: во-первых, мир физических объектов или физических
состояний; во-вторых, мир состояний сознания, ментальных состояний или, возможно,
предрасположений поведения к действию; в-третьих, мир объективного содержания
мышления, в частности научного и поэтического, включая и произведения искусства16.
14 Кант И. Критика чистого разума. Т. 3. С. 363.
15 Там же. С. 224.
16 См.: Popper К. Objective knowledge. P. 106.
Культура — знание — наука
473
Обратим наше внимание на то, что у Поппера слово «мир» употребляется не
«слишком серьезно», т. е. оно выступает скорее как метафора, как достаточно
расплывчатый — вспомним попперовские «облака» — образ, чем как строгое рациональное
определение, имплицирующее существенные следствия для понимания культуры
и знания. Однако интуитивное осознание скрытой серьезности такого
понимания знания обнаружилось в том, что, невзирая на «несерьезность» использования
слова «мир» у Поппера и связанное с ней отсутствие прорефлектированности
такого использования, данное словоупотребление распространилось достаточно
широко, в частности, и в нашей методологической литературе, например для
характеристики сферы теоретического мышления17. Правда, употребление слова «мир»
неизбежно несет с собой всю содержательную нагрузку соответствующего
понятия и в связи с этим встает вполне серьезный вопрос о «серьезности» такого
словоупотребления, точнее, об обоснованности приписывания культуре и знанию
природы мира.
Для рассмотрения этого вопроса, в частности, для определения и оценки
следствий, вытекающих из утверждения о том, что знание обладает природой мира,
обратим внимание, во-первых, на саму «субстанцию» знания и сопоставление ее с
«веществом» мира как познаваемой человеком реальности.
Согласно распространенному в античной Греции представлению, идущему
несомненно из мифологии и религии древних, небесные тела как тождественные
божественным сущностям состоят из особой нетленной субстанции. Это
представление, например, мы находим в учении Аристотеля о «пятом элементе». Такой
космологический дуализм проник и в теорию знания: знание стали рассматривать
состоящим, по крайней мере в его фундаменте, из абсолютно достоверных и
надежных блоков, как бы из некоторого эпистемологического эфира. Согласно установке
этого эпистемологического дуализма, знание, по крайней мере в своих основаниях,
должно быть абсолютно достоверным. Эту установку мы находим и в античности
(например, у Аристотеля) и в Новое время (например, у Декарта). Дуализм здесь
присутствует потому, что другие регионы знания могут и не обладать такой
абсолютностью достоверности (как, например, это ярко проявилось у Платона в его
приписывании «правдоподобного» статуса всему естествознанию). Хотя другие
регионы знания и не обладают такой же достоверностью, какой обладают его
основания и начала, однако исходящий от них свет (lumen naturalis в философии
Нового времени) превращает как бы все знание в божественное установление,
примыкающее к мудрости и продолжающее ее, существующее, однако, в ненадежных
руках смертных.
Последующая история знания, его рост и качественные преобразования,
сопровождающиеся углублением его осознания, привели современную
методологическую мысль к иному его пониманию. Знание по своей «субстанции» как бы
уподобляется бренному, «подлунному», говоря аристотелевскими словами, миру:
17 См.: Грязное Б. С. и др. Теория и ее объект. М., 1973.
474
Раздел четвертый
уязвимое в своих самых глубинных основаниях, никогда полностью не уверенное
в своей прочности, всегда достаточно ситуативное и относительное, но тем не
менее неизменно сохраняющее свое соотношение с бытием, что фиксируется в объек-
тивностях его содержания. В связи с этим в качестве исторических обстоятельств,
способствующих возникновению такой трактовки знания, достаточно напомнить
о перманентном кризисе оснований математического знания, об апориях и
парадоксах в фундаментальных понятиях физики и т. д. Осознание революционных
преобразований в науке, растущее понимание их укорененности в природе знания
вообще привели методологию науки к отказу от обрисованного нами выше
своеобразного эпистемологического дуализма. Теперь считается, можно сказать, нормой
построение знания не из нетленного, «надлунного», эфира абсолютной
достоверности, а из подручных и достаточно шатких самих по себе материалов, с помощью
которых, однако, должно быть выражено объективное содержание предмета
знания. В свете такого понимания научное знание осознается как в целом
эффективное и, безусловно, чудесное «устройство», поразительно невероятное как феномен
среди других феноменов большого мира, в котором оно создается человеком. Итак,
мы осознаем его как относительное, разрушимое, неизбежно обреченное росту и
изменению, подобно всем прочим телам этого мира, о которых это хрупкое, но
чудесное знание нам что-то говорит и с которыми оно приводит нас в контакт. Такое
понимание природы знания мы подытоживаем в формуле: «знание есть мир» или,
лучше, знание обладает природой мира.
Для дальнейшего раскрытия этой формулы вернемся еще раз к теории знания
Поппера. Каков же статус мира как характеристики знания у Поппера? Точно
такой же, как и статус таких сравнений и метафор подчеркнуто биоэволюционного
характера, как «сад», «дети», применяемых философом для описания
теоретического знания18. Дети как бы отпускаются родителями на самостоятельный поиск
жизненных установок и ценностей, и именно эта автономия и трансценденция
обусловливают создание нового и продвижение вперед всей системы. Иными словами,
в основе всех этих сравнений лежит аналогия в механизмах действия трансцендиру-
ющей работы биоэволюции и роста знания. Поэтому мы должны критически
отнестись к словам Поппера о «не слишком серьезном» употреблении им термина «мир»
для характеристики знания, так как такое употребление — что, правда, не
осознается им — укоренено в его биологистической философии знания, которая
неприемлема для нас прежде всего потому, что выступает как «естественная метафизика»
знания, а не как рабочая модель, не как условный и ограниченный
методологический прием. Поэтому при анализе и оценке понятия «мир» как характеристики
знания у Поппера мы должны прежде всего принимать во внимание задаваемый
биологическими аксиомами контекст его «эволюционной эпистемологии». И если
такой биологизм неприемлем в качестве основания философии знания, то
некоторые конкретные выводы, получаемые на его основе, представляются интересными,
Popper К. Objective knowledge. P. 106.
Культура — знание — наука
475
поскольку они выводят теорию знания за позитивистские рамки, обновляя
эпистемологию. К таким выводам и принадлежит сопоставление знания с миром. Два
момента, по крайней мере, делают такое сопоставление вполне независимым от
какого-либо биологизма. Во-первых, это отмеченная нами выше связь понятия о схемах
с понятием о мире, а во-вторых, это, так сказать, «мирская» природа «субстанции»
знания, которая если и присутствует в теории Поппера, однако никак не связана
с определением знания как мира. Очевидно, что и трансцендирующая функция
знания вовсе не обязательно должна моделироваться на биологических образцах: как
мы подчеркивали выше, культура как рациональная (в широком смысле) активность
человека есть самотрансцендирующая деятельность. Иными словами, на наш взгляд,
подлинным обоснованием тезиса «знание есть мир» служит вовсе не биологицист-
ская метафизика, на которой строится попперовская философия науки, а та
гносеология, которая основывается на теории предметной деятельности как основания
для понимания феномена человека как субъекта культуры.
Мир знания характеризуется определенной непредсказуемостью и
относительной самостоятельностью по отношению к продуцирующему его человеку, взятому,
конечно, не столько в его индивидуальной ипостаси, сколько в «родовых» и деятель-
ностных определениях. Знание обладает характером мира в силу его способности
к спонтанному росту освоения его возможностей и содержаний, которые
составляют предмет научного познания как в общественных, так и в естественных науках
и математике. Таковы, в частности, математические объекты.
Каждый математический объект можно аппроксимировать как двухслойную
структуру, где один слой фиксирует известное содержание данного объекта (то, что
в нем уже открыто), а второй, уходящий в неопределенность, обозначает все то, что
в нем еще может быть обнаружено познанием. Но таковы не только объекты
математики (например, натуральный ряд чисел), но и в принципе все объекты познания.
Сочетание определенного известного с неопределенно неизвестным и позволяет нам
говорить, что знание по сути дела представляет собой мир.
В понятии мира мы выделяем также по меньшей мере два слоя: во-первых, мир
есть нечто организованное, упорядоченное и в этом смысле нам известное, то, что
в какой-то степени мы можем предсказывать. Но как нечто реально сущее мир
выступает иначе, а именно как то, что может нам вообще встретиться, встречаемое как
таковое, которое обладает некоторой «непрозрачностью» для нашей
рациональности, характеризуясь как чужое, если не враждебное нам бытие. Сравнивая
структуру этих понятий — мира, с одной стороны, и объекта знания — с другой, мы
видим, что объекты знания являются мирами. Переходя от одного объекта знания
к другому, его «составляющему», мы в своем познании удерживаем вместе с тем
в каждом таком объекте потенциал неисчерпаемости его как подлинного бытия.
Итак, знание о мире — это тоже своего рода мир. Язык, знание, цивилизация и ее
проблемы, культура в целом — все это продукты деятельности человека. Но
человек никогда полностью не совпадает с ними, сохраняя несовместимость с
фиксированными результатами своего творчества. И поэтому феномен человека никогда
476
Раздел четвертый
не стоит на месте. Познание же есть рост в росте, эволюция в эволюции: нерв всего
движения феномена человека19.
Что же узнал человек в своем познании? Он узнал, что из мира исхода нет. Все
созданные им продукты, знание и культура оказались тоже мирами. Осваивая и
преодолевая мир в культуре и познании, человек не выходит из него. Непредсказуемость,
спонтанность, вязкость и непрозрачность бытия не исчезли. Они как бы из первого,
физического, мира перекочевали в ментальный мир (во многом благодаря открытию
подсознания) и в мир самого объективного знания. Человек по-прежнему окружен
миром, более того, он сам несет его в самом себе.
Проделанный анализ понятия мира и знания как мира показал нам знание
вообще и научное знание в частности как фрагмент реального бытия и в то же время
как специфическое проявление человека, т. е., иными словами, как феномен
культуры. Понятие мира выступило при этом инструментом этой своеобразной
культурологической рефлексии научного знания. Мы хотим также подчеркнуть, что именно
соотнесенность культуры с бытием придает ей ту существенную для нее
характеристику, которую мы рассмотрели на примере знания как «части» культуры. Продукты
культуры в целом, как и продукты знания, выступают как относительно
самостоятельно существующие миры, подлежащие освоению и познанию, как и сам
природный мир, служащий основой для их созидания человеком. В этом плане произведения
искусства или литературы вряд ли отличаются от продуктов знания: и те, и другие
как культурные формы бытия оказываются мирами многообразных значений,
проникновение в которые является делом их исторического освоения. В принципе
любое творение человека, выводящее человека на контакт с бытием, ведет себя как мир,
т. е. как автономное образование, наделенное бесконечностью значений, открытое
для дальнейшего освоения и бросающее своей «неисчерпаемостью» вызов человеку
как своему творцу. Бытие не «снимается» в культуре: оно продолжается в ней в
новых небывалых формообразованиях, в новых актах его освоения, опосредуемых
познанием самого знания и культуры. Подводя итог нашему анализу соотношения
культуры, знания и науки, мы можем констатировать, что связь науки с культурой
опосредована прежде всего знанием. В стихии знания наука и культура фактически
еще неотличимы друг от друга. И только возникновение на почве знания науки как
специфической, достаточно четко определенной, относительно автономной
деятельности приводит к самому различению и даже порой к противопоставлению науки
и культуры, а тем самым и к постановке самой проблемы их связи и соотношения.
Мы могли бы резюмировать наш анализ следующим образом. 1) Наука не прямо
соотносится со своим объектом — природой, бытием вообще, а через посредство
системы культуры. Посредником в этом соотношении культуры и науки выступает
знание, мир знания в целом. 2) Механизм взаимосвязи культуры — знания — науки
19 Это выражение нам представляется удачным для схватывания всей орбиты бытия,
охваченной потенциально и реально деятельностью человека. Сам термин мы позаимствовали
у Тейяра де Шардена.
Культура — знание — наука
477
может быть раскрыт в ходе конкретно-исторического анализа. Одним из условий
освоения бытия в культуре вообще и в более целенаправленно ориентированных
на познание структурах знания и науки в частности, выражающегося прежде всего
в создании нового, является подвижность и относительность всех как синхронных
так и диахронных членений системы «культура — знание — наука». Плодотворным
понятием в плане такого рода анализа служит, на наш взгляд, понятие схемы
деятельности. 3) Соотношение с бытием, придающее «бытийный» характер культуре, знанию,
науке, раскрывается в том, что все они обнаруживают себя в качестве мира, т. е.
определенного порядка, существующего всегда только на неотделимом от него фоне
неопределенности, фиксируемой как гносеологическая «неисчерпаемость». За
пресловутым разрывом «натуры» и «культуры» стоит связывающее их преображение бытия
в «феномене человека» деятельностью и творчеством людей, непрерывное в самой
своей дискретности или относительной разрывности. 4) Культура, знание, наука, сам
человек в целом могут выжить лишь благодаря постоянству творческой динамики,
так как не существует никаких «субстанциальных» или иных «метафизических»
гарантов их устойчивости.
НАУКА — КУЛЬТУРА — ОБЩЕСТВО
Из сравнительно спокойной и локальной академической дисциплины в прошлом
история науки сегодня (этот подъем стал заметен в послевоенный период и особенно
с 60-х гг. XX в.) превратилась в отрасль интеллектуальной деятельности,
затрагивающую самый нерв исторического развития человечества. История науки уже давно
не удовлетворяется простым анализом концептов, схем, методов, представлений,
развитых учеными прошлого. Ей мало функции создавать вокруг науки «защитный»
пояс из околонаучной культуры — писать биографии, рассказывать фактографию
открытий, ставить психологические вопросы и показывать прогресс в накоплении
знаний. История науки сегодня хочет большего и наитруднейшего: она стремится
понять научное развитие не как автономную кумуляцию научных фактов или идей,
а как изобретение нового знания, детерминируемого обществом и его культурой
в данный исторический период. Сейчас уже ни один активно работающий историк,
озабоченный продвижением своей науки, не может сказать, где начинается его
«предмет» — наука — и где начинается соседний — социальные структуры, потребности
общественного развития, вызовы экономического характера или культурные
предпочтения, интеллектуальные веяния и «моды» века.
Перед современным историком науки встает трудная задача, решение
которой значимо для прояснения перспектив научно-технического прогресса и
развития цивилизации в целом. Историк науки должен владеть как сложнейшими
концептуальными ресурсами современного научного знания — физики, химии,
биологии и т. д., так и пониманием социального развития, динамики культурных
феноменов, их сочленения. Он должен уметь увидеть, вообразить неожиданные
идентификации: в схеме практики, в рецепте ремесленника, в технологическом
принципе — теоретическое понятие, социальную матрицу, культурную форму. Нити
цивилизации, оказывается, как бы текут в таком лабильном и «намагниченном» виде,
что о них нельзя сказать, что это именно теоретическое научное понятие и больше
ничего или что это только предметная схема практической активности, или
культурный образец. Эти нити находятся в состоянии метастабильности, образуя своего
рода поливалентный переходный комплекс (комплекс «наука — культура —
общество»). Этот комплекс может оборачиваться то строго научным теоретическим
понятием — инерция, масса, заряд, пространство, давление, валентность, скорость и т. п.,
то формой предметно-практической деятельности — кооперация, ремесло с его
рецептами, мануфактура, автоматизированные схемы производства и социального
поведения и т. п., то культурными моделями или предпочтениями, как, например,
Наука — культура — общество
479
выбор «дискретности» вместо «непрерывности» или «тождественности» вместо
«изменчивости» и т. п. Наконец, то обстоятельство, что знание может использоваться,
перестает оцениваться как внешний для него момент и начинает рассматриваться
как фактор, определяющий его содержание.
История науки сегодня не может не быть эпистемологической историей, что
предполагает взаимную рефлексию эпистемологии и истории как способ их
продуктивного развития. История науки в этом плане оказывается подлинной
«лабораторией эпистемологии» (выражение Дикстерхойса). Эпистемология, поставляя
теоретические схемы и гипотезы, формулируя вопросы, адресуемые истории, направляет
историко-научный поиск, который в свою очередь корректирует
эпистемологические модели. История науки всегда имела скрытые эпистемологические
допущения, но сегодня эти допущения она стремится четко раскрыть и усовершенствовать.
* * *
Предмет истории науки можно кратко определить как расширенное
воспроизводство знаний. В определении «расширенное» содержатся все характеристики,
которые обозначаются как рост знания, прогресс науки и т. п. или «развитие»,
«эволюция», «накопление», «трансформация» и т. п. Расширенное воспроизводство знаний
включает их производство, создание или конструирование, их распределение,
восприятие, усвоение, их потребление и снова производство, но уже в режиме
«расширенного», т. е. модифицированного в качестве и количестве знания.
Анализируя проблему генезиса знаний на уровне ее предельно абстрактного
задания, мы прежде всего фиксируем такую дилемму: знания возникают или не
возникают? Если они возникают, то возникают в конечном счете из не-знания. А если
не возникают, то изначальное знание только видоизменяется, превращается и т. п.,
включая его рост и трансформацию всех возможных планов. На пути
возникновения знания из не-знания действует ряд промежуточных инстанций: неявное знание
со всеми градациями его «скрытости» и «неявности», сюда относятся так
называемые практические знания, навыки, схемы деятельности, не получившие своего
осознания в качестве фигур знания, и т. д. Многообразие форм знания обусловлено тем,
что знание выступает с наложением на него сознания — как предмет осознания,
рефлексии — и это наложение сознания на знание обнаруживается как один из
способов его развития. Осознание есть превращение «скрытого» знания в более «явное».
Механизм рефлексивного роста знания описан, например, Гегелем. Итак, дилемма
такова: или «эволюция» знания из некоторого протознания со всеми качественными
скачками или «революциями», или непрерывное «творение» знания из «не-знания»
по схеме, напоминающей космологическую модель Хойла. Во втором случае, как
и в геологических моделях, действуют всегда актуально данные силы эпистемоге-
неза — и знание возникает вновь и вновь.
480
Раздел четвертый
История науки изучает расширенное воспроизводство знаний: как знания
производились, распределялись, потреблялись и как эти процессы включались в
производство нового знания. Исторические циклы самовоспроизводства знания в
расширенном и преобразованном виде составляют предмет истории науки. В производство
знания включаются как знания, так и не-знания — то, что можно с той или иной
долей условности обозначить как формы «скрытого» знания, хранимые и
производимые в толще социального тела. Режимы воспроизводства знаний меняются, и это
создает трудности в определении общих закономерностей производства знаний,
верных для всех времен и стран. Возможно, что таких закономерностей и нет, хотя
в это трудно поверить, поскольку мы уверены в единстве знания, сквозь все времена
и «племена» сохраняющемся.
* * *
Философия знания колеблется между двумя полюсами определения природы знания.
1. Знание — сверхсоциальный абсолют, по отношению к которому познание в его
истории выступает только как смена способов его представления, описания, т. е. как
исключительно семиотическая эволюция, вращающаяся вокруг одного и того же
«значения» — содержания этого «абсолюта». Это своего рода гештальтэпистемология:
знание всегда охватывает целый объект, другое знание схватывает его же, но иным
способом, иным языком, что существенно может быть только для приложения
знания к практике, но не для самого знания как такового: недосягаемый для
символических орудий языков «предмет» знания — один.
Опорой для такого рода платонистской гештальтэпистемологии служит история
математики. Она, в частности, указывает на то, что некоторые «объекты» в их
целостности описывались полно уже, например, Диофантом, но на совсем ином языке,
чем это делает математика XIX-XX вв. И интерпретация текстов Диофанта состоит
в накладывании, совмещении двух языков — античного диофантова и
современного. При таком их наложении оказывается, что каждое понятие современной
математической теории получает свой аналог у Диофанта. Это все равно как если бы обе
математики — античная и современная — говорили бы на разных языках об одном
и том же и притом описывали его полно — инвариантный гештальт «объективного»
содержания знания. Диофант не «знает» алгебраической символики, но это
незнание не «предмета» или «объекта», а только языка — для буквенных коэффициентов
алгебры у него есть точный аналог в виде произвольно взятых целочисленных
множителей, в частности такую функцию выполняет двойка. Полноту объекта Диофант
описывает перечислением основных случаев задания присущего ему многообразия.
Современная математика может применять более «континуальные» средства, но
полноты это не увеличивает. Объект сохраняется. Аналогичным образом можно
рассматривать и историю естествознания: например, флогистон — аналог кислорода и т. п.
Наука — культура — общество
481
2. Знание — полностью социальная конструкция, и история знаний есть
история конструирования новых предметов знания и новых способов их представления.
Обе трактовки природы знания можно столкнуть так: а) знание — инвариантное
значение плюс исторически изменчивый знак, «язык» представлений инвариантного
«гештальта», 6) знание — конструируемый в истории и социально значимый знак,
значение которого лежит не в неизменном внесоциальном гештальт-эйдосе и т. п.,
а в изменчивом социуме с его внутренней борьбой интересов, с его балансом
стабильности и развития, со случайностями и необходимостями его исторического
открытого существования. Будучи фиксированной в историческом плане, проблема
знания и его природы осциллирует между Платоном и Фуко.
* * *
В литературе и дискуссиях нередко сталкиваются две позиции по проблеме
соотношения науки и общества: общество, его «социальные заказы» детерминируют науку
в ее развитии, определяют ее в общем и целом (часто эта позиция характеризуется
чрезмерной декларативностью и малой конструктивностью); общество
«помещается» в «тело» науки в качестве «микросообщества», внутри которого ученый ведет
содержательное движение своей предметной проблематики. Первую позицию можно
охарактеризовать как «монологическую» детерминацию научного знания
«макросоциумом», вторую — как «диалогическую» детерминацию научного знания
«микросоциумом» творцов, ученых, мыслителей. Первую позицию можно назвать
«декларативным экстернализмом», а вторую — «стыдливым интернализмом», так как ссылки
на «микросоциум», на «диалог» лишь маскируют откровенный «интернализм».
Наметим некоторые моменты, способствующие преодолению этого фатального тупика.
Во-первых, сами «экстернализм» и «интернализм» представляют собой не
просто отвлеченные подходы, непонятно откуда взявшиеся в научном багаже
историков и эпистемологов, а выражают конкретно-историческую практику генезиса
и функционирования знания в общественных структурах. Прежде всего отметим,
что следует, на наш взгляд, выделять период развития знания до его
специально-дисциплинарного оформления. Дисциплинаризация означает установление активно
действующих норм научности, препятствующих проникновению в науку вненаучных,
внешних «влияний». Например, до возникновения дисциплины «физика» в область
естествоведения входили астрология, построения, использующие различного рода
качественные представления, «теории» флюидов и т. п. Дисциплинаризация
ректифицирует корпус знаний, гомогенизирует их, благодаря чему возникает
нормативная научная культура и нормативно действующее научное сообщество
специалистов, которое организует и поддерживает защитный пояс науки, экранирующий
ее от «не-науки». В связи с такими преобразованиями внешнее влияние на дисци-
плинаризированное знание сведено к минимуму, и, более того, теперь допускаются
482
Раздел четвертый
только вполне канализованные воздействия «извне» (субсидии, премии, льготы,
конкурсы и т. п.). Содержательный состав дисциплинаризованного знания в силу
такого статуса его существования практически изъят из «экстерналистских»
претензий на детерминацию эволюции внутренней структуры знания «социальными
условиями». Ситуацию с дисциплинаризованной наукой и отражает «интерналист-
ская» установка в его анализе.
Напротив, «экстернализм» действительно имеет больше шансов на успех при
обращении к додисциплинаризованному знанию, когда оно не было соционормативно
и социокультурно фиксировано и защищено от «чуждого» ему в мире
«общественного сознания». В XVIII в. «научная физика» свободно сосуществует с «не-научной»,
более того, публикации «фантастические» (если судить дисциплинарными глазами)
встречаются чаще, чем «научные», а читающая публика вовсе не умеет их отделять
и придавать им особую значимость. Наука функционирует в общем режиме
культурных феноменов эпохи, причем влияния на нее со стороны литературы, искусства,
теологии и т. п., не говоря уже о философии, непосредственны и вполне относятся
к самому «содержанию» знаний. «Экстернализм» в определенной мере действительно
отражает положение дел в указанный период, являясь его методологической теоре-
тизацией. Закрепляя внешнее размежевание культуры и науки, науки и общества,
фиксирующееся в ходе дисциплинаризации и профессионализации знаний,
«экстернализм» усваивает атмосферу их имманентных взаимосвязей, характерных для
додисциплинарного периода.
Во-вторых, соотношение «общество — наука» есть конкретная историческая
система. Существует своего рода симбиоз научного знания, культуры и общества
(НКО-комплекс), характерный для каждой эпохи и страны. Точнее, только
конкретный исторический анализ может выяснить специфику такого симбиоза или системы.
Например, представление о силовом электрическом поле у Фарадея (и далее —
Максвелла) связано в его генезисе с романтической традицией в Англии конца XVIII —
начала XIX в. Здесь есть и свой «микросоциум», который локализован в фигурах
Деви, Колриджа и Фарадея, здесь есть и «внешние влияния» — значение
романтической метафизики единства и полярности для образования физического понятия
об электромагнитном поле, но здесь нет «дисциплинаризации» — она только-только
должна еще возникнуть вместе с концом романтического «влияния» на науку. Но все
сказанное не означает, что английский романтизм — абсолютно необходимое
условие возникновения представления о физическом (электрическом и магнитном)
поле сил. Важно только то, что в данном случае связь с тем или иным видом
динамической философии действительно необходима. И верно, набросок
представления о поле, о векторном и непрерывном его характере был уже у Гилберта (1600,
«О магните»), но у него такие представления были, естественно, связаны не с
романтизмом — романтизма еще не было, — а со специфическим английским
неоплатонизмом XVI в., аналог которого мы находим конечно же в возрожденческой
Италии (например, у Бруно, оказавшего и прямое влияние на «научное» сообщество
Англии XVI в.). Мы можем сказать, что в НКО-комплексе фиксированное значение
Наука — культура — общество
483
Η-переменной коррелирует с определенными интервалами значений двух других
переменных— К и О.
Итак, резюмируя этот пример (фактической стороной дела мы обязаны проф.
Рому Харре), мы можем сказать, что симбиотические комплексы «знание —
культура — общество» в истории трансформируются как целостности. Это означает,
что нет никакой однолинейной однонаправленной причинной детерминации
знания (и науки) ни «культурой», ни «обществом» как отдельными абстрактами: такие
абстракты — «общество без знания», «культура без знания» — просто в истории
не существуют. Анализ процесса образования симбиотических комплексов знания,
культуры и общества позволяет дать ответ на такой важный для истории науки
вопрос: почему именно в Англии первой половины XIX в. возникло научное понятие
об электромагнитном поле? Романтизм был и в других европейских странах, но в них
не сложился такого рода комплекс, на матрице которого и прошел синтез
указанного теоретического понятия. Романтики Англии были не просто
романтики-литераторы (как во Франции) и не столько романтики-метафизики (как в Германии),
а они были романтики-эмпирики, романтики-естествоиспытатели,
романтики-ученые. И именно поэтому (хотя и не только поэтому) указанный генерирующий
знание комплекс возник именно в Англии. Конечно, натурфилософские аналоги
понятия поля выдвигались и раньше, и необязательно на английской почве, например
у стоиков. Можно даже сказать, что динамическая философия была скорее
континентальной традицией, хотя и легко переплывала Ла-Манш, но там, на острове, она
приобретала действительно специфический английский колер, и он-то и
способствовал тому, что динамизм как мировоззрение внес свой вклад в создание важнейшего
понятия современной физики.
* * *
Наука — естествознание — социальная конструкция природы. Недаром мы
называем мир техники в широком смысле слова «искусственной природой», второй
природой. Поэтому ошибочно доверяться такому противопоставлению, как
противопоставление «социального» и «когнитивного». Знание социально полностью, но это
не означает, что в нем не участвует «природа», что в него она не «входит». Знание,
повторим, социальная конструкция именно природы. Поэтому ложной является
альтернатива: или истина как воспроизведение независимо существующего от социума
природного объекта, или же абсолютный социологический редукционизм и
релятивизм. Истина — именно истина о природе — и общество вовсе не находятся во
взаимоотталкивающем соотношении. Наоборот, только в обществе, только в качестве
его конструкции и может существовать истина о не-обществе (и о нем тоже), о
природе. Ложной является и попытка смешать одно и другое, а именно оставить в
диспозиции общества лишь внешние характеристики знания — скорость его роста, его
484
Раздел четвертый
объем и т. п., а природе приписать роль монопольного детерминанта внутреннего
содержания знания. Социально конструируется все знание, все его характеристики,
внешние и внутренние, содержание и форма. Конечно, нужно «эшелонировать»
проблему, рассматривать социальный план науки как сложное многоэтажное
строение. Такие штампы, как «социальный заказ», часто только экранируют проблемы
и их действительное решение.
Это, однако, не означает, что такая абстракция, как «социальный заказ»,
недействительна, нет, это вовсе не так. Нужно только соотнести ее с тем уровнем
социальной конструкции знания, на котором она в самом деле может функционировать.
Когда фундамент знания сконструирован, когда социальный аппарат по
производству знания определенного профиля уже построен, тогда к нему можно предъявлять
социальные заказы на изготовление решений, на выработку научных ответов на
определенные вопросы. Первичный — парадигмальный или эпистемический — уровень
системы производства знания является более фундаментальным, чем тот, который
включается в работу, когда вся конструкция получает социальный заказ. Так,
например, когда были выстроены, социально сконструированы, основы классической
науки — механики XVII в., — можно было давать ей социальные заказы на решение
тех или иных задач, в том числе и задач на совершенствование самой «внутренней»,
операциональной системы механики, ее аппарата.
«Знание — социальная конструкция» — этот тезис предполагает, что «сущность»
природы, суть самих вещей как они существуют «в себе», может воспроизводиться,
выражаться, кодироваться и т. п. только в социо-исторических системах
производства истины. Сам факт социального диспозиционирования познавательной
активности никоим образом не должен рассматриваться как чисто негативное
обстоятельство, как «эпистемологическое препятствие» на пути к истине, но как единственный
способ познавать, который в своей сути и по отношению к задаче познания
амбивалентен. Эта амбивалентность означает, что социальная диспозиционность (не путать
с социологическим редукционизмом и релятивизмом) является и способом
проникновения в природу «саму по себе», и способом ограничить такое проникновение,
задав ему пределы, горизонты его возможностей. А так как социальные диспозиции
меняются в истории, то меняются и познавательные установки — «эпистемы», или
эпистемические конфигурации.
Не означает ли это, что тем самым отрицается функция природы как детермина-
тора содержания знаний о ней? Нет, но признается при этом, что сама возможность
детерминации природой знания о ней исторична и формируется в определенном
социокультурном комплексе. «Служба истины», систематизировавшая,
канализировавшая эту детерминацию в рамках диалога человека с природой, получила
название экспериментальной науки Нового времени. Но и с созданием «службы истины»
однозначная во всех случаях детерминация знания природой остается
недосягаемым идеалом. И это обусловлено тем, что природе может оказаться чуждым или
малознакомым даже сам базовый язык наших вопросов, которые мы ей адресуем. Этому
нас научили научные революции вообще, а квантово-механическая в особенности.
Наука — культура — общество
485
И потому тот диалог с природой, который ведет «служба истины», только визируется
природой, но утверждается — к готовности, осмысленности — человеком.
В результате человек все время провоцируется природой на бесконечные
изобретения: на изобретение новых базовых языков (а в базовый язык входит прежде всего
сам идеал знания вместе с основными категориями), на изобретение новых
теоретических конструкций, изобретение способов их проверки и в принципе на
изобретение способов проверки способов их проверки и т. д. до бесконечности. Но реальность
не выдерживает «дурных бесконечностей», поэтому реальное, живое, земное знание
всегда недообосновано. И если поэтому сам факт знания остается чудом, то совсем
не чудесно, а вполне понятно, что знание хрупко и часто рушится, включая и самые
фундаментальные его фундаменты. Но все-таки оно держится! Поэтому знание есть
парадокс «смертного бессмертного» создания в руках смертных.
* * *
К. Мангейм в своей социологии знания был непоследователен и сдался до боя. Он
принял на веру, без критической рефлексии, что существуют «несоциальные» знания
или знания, свободные от социального контекста, назвал эти знания, явно второпях,
знаниями типа «дважды два равно четырем» и стал отстаивать социальность только
тех знаний, которые оформляют социально-политические тенденции довольно
очевидным образом, как, например, блестяще им изученное «консервативное
мышление» или его антипод — «либеральное мышление». Но есть веские соображения
в пользу того, что и любое математическое знание — это социальная конструкция
и зависит от «опыта», истории, культуры (Д. Блур, М. Клайн и др.). Способы
доказательств, рассуждения, системы исчисления и т. п. конструируются социокультурно.
Где-то становится очевидным, что математика — язык глубокого слоя
социальности. И поэтому этот язык относительно инвариантен, но не абсолютно. Вот в этой
сложной архитектонике социума в целом, в его иерархичности и сложности,
меняющейся со временем и от места к месту, и заключается возможность для путаницы —
и для истины, — для ведения «споров», полемик, стремящихся отвергнуть тезисы
социоисторической гносеологии и вернуться к старым традициям абсолютного
гносеологического субъекта, якобы существующего вне социального и исторического
пространства-времени.
Познавательные акты совершаются в том же пространстве-времени, в котором
люди рождаются, действуют и умирают. Логическое время, познавательное
пространство, гносеологический объем и т. п. — только метафоры, слоняющиеся по
закоулкам и фасаду той социальной конструкции, которой является знание. Абсолютный
гносеологический субъект классической философии был просто парафразом
божественного субъект-объекта. Половинчатая историзация его уже была намечена
самим его изобретателем — Гегелем, но по-серьезному проведена только Марксом.
486
Раздел четвертый
Иногда говорят, что наука не социальная конструкция, а рациональная,
уточняя при этом: не столько или не только социальная, сколько рациональная! Так или
иначе, но социальное противопоставляется рациональному, общество — разуму.
Но как тогда понимать разум? Или как некий биологический абсолют, или как
абсолют религиозный — знаменитый «божественный разум» метафизики XVII в. Если
не принимать всерьез тезисов современной социологии знания, то в качестве
альтернативы остается возвращение к классической, еще докантовской, метафизике или
к некоторому биологизму.
Но ведь разум сам есть социальная конструкция. Историк античной мысли
Ж. П. Вернан показал, что греческий разум был спроектирован и сооружен по
целевому заданию управлять людьми как способными к речи существами. В основе нуса
лежал логосу как он существовал в суде, на агоре, в политической дискуссии. И вплоть
до заката традиционных обществ Европы разум был ориентирован сверхзадачей
управления «говорящими орудиями». Затем сменилась ориентация, и усложнилась
задача — управление стало строиться как управление вещами и людьми постольку,
поскольку последние могут быть овеществлены или «объективированы».
Объективация, о которой говорит, например, Фуко, есть как раз именно такая
объективация — в обследованиях, в анкетах, экзаменах, смотрах и т. п.
Только крайность эвристична и продуктивна в познавательном плане. Вербально
«сбалансировать» диалектикой (псевдодиалектикой, конечно) проблему — значит
убить всякий познавательный «эрос» и отдать способность мыслить в руки
манипуляторов пресыщенным, равнодушным, омертвелым сознанием. Живое — крайне.
Остро сформулированный тезис (а тезис «знание — социальная конструкция»
именно таков) продуктивен по двум причинам. Во-первых, он провоцирует
исследование, служит его «затравкой», а во-вторых, открыт для критики, для
опровержения. Остро заточенный тезис, колючая модель, резкая постановка вопроса, четкая
гипотеза — все это характерные аутентичные проявления жизни познания, которая
умерщвляется с помощью «умеривания», выступающего от имени «полноты»,
«объективности», «целостности», всесторонности, комплексности и т. п. Идеальный
способ избежать познавательного мыслительного напряжения — смазать остро
поставленный вопрос, резко сформулированный тезис-гипотезу с помощью умеривающего
увещевания: «Преувеличиваете, батенька! Это только одна сторона вопроса, вы
впадаете в крайность, да, наука социальна, но не только: она еще и рациональна и т. п.».
Такая псевдодиалектика стоит на службе хлороформизации мысли, познавательной
жизни с ее напряжениями, поисками нового, реальной нешуточной борьбой идей.
Выступают от имени некоего абсолюта, который при этом рационально не
эксплицируется, но о котором якобы все знают, и там, в абсолюте, нет крайностей, царит
абсолютная мера: левое уравновешивает правое, мужское сбалансировано женским,
социологический редукционизм смягчен классическим гносеологическим идеализмом,
всякая автономия относительна, всего понемногу и сколько надо, чтобы мысль
после этих успокаивающих доз примирения и балансирования не чувствовала больше
никакого напряжения, никакого стремления искать истину. Это такой абсолют, где
Наука — культура — общество
487
все острое всегда, хотя бы немного, тупое. Это абсолют тупиц и лежебок, и создан
он для того, чтобы хранить «белое и пушистое» статус-кво — со всеми его
привычными, разношенными и по-домашнему теплыми привилегиями.
* * *
Могут ли системы социальных действий, значимость которых для генезиса
гуманитарных дисциплин изучена достаточно хорошо, переноситься на «природу» и тем
самым вносить свой вклад в генезис естественных наук? А почему бы нет?
Социальные матрицы в естествознании многочисленны, и некоторые из них хорошо
изучены. Например, социальные модели в теории Дарвина и т. п. Но существует другой,
более глубокий пласт социального матрицирования естественных наук, чем просто
перенос некоторых социальных схем на природу, выступающий как аналогия. Дело
в том, что в социальные действия вовлечены не только люди вместе со всеми
социокультурными, исторически изменчивыми значениями их деятельности, но и вещи,
природные тела, такие значения приобретающие в динамике их освоения.
Рассмотрим в этом аспекте дисциплинаризацию естествознания, базирующуюся на
социальных матрицах.
Что дисциплинаризирует «игру» теоретика с природой? Ну, кажется, в первую
очередь мировоззрение, господствующее в данном обществе. Иными словами, тот
социальный «слой», который себя с ним отождествляет. Дисциплинаризация физики
проходит не в одну стадию. Это и эмансипация от ограничений, налагаемых
традиционными мировоззрениями, и становление технологической дисциплины,
свойственной экспериментальному знанию, и, наконец (но, может быть, самое решающее),
дисциплинаризация в социальной институциализации, в профессионализации1. Это
существенный момент, так как две вышеназванные формы дисциплинаризации могут
иметь место без последней, например физики-любители, особенно широко и серьезно
представленные в Англии. Механическая индустрия, энергетика и кое-что еще — вот
технологически стратегические условия «постава» современной физики. Это
тяжелая индустрия цивилизации и власти: транспорт, оружие, энергия. И тогда в эпоху
индустриализации была поставлена на дисциплинарные «ноги» именно та физика
(а когда-то их было много), которая «работала», могла «работать» в этих
вырывающихся вперед стратегиях цивилизации.
Если же говорить о химии, то она существенным образом «завязана» на матрицах
наук о жизни, на медицине и именно в этом русле развития получает свою
профессионализацию и дисциплинаризацию (первая кафедра химии — кафедра ятрохимии
1 Мы не противопоставляем «дисциплину» и «профессию», как это делает, например, Тул-
мин, а рассматриваем профессионализацию знания как одно из проявлений его
дисциплинаризации.
488
Раздел четвертый
в Марбурге, 1609). Не забудем, что социализации химии способствовали врачи —
образование института аптекарей в Англии (1617), чему содействовал Фр. Бэкон. Затем
химики в свою очередь способствовали развитию клинической медицины — Бур-
гаве, клиника в Лейдене, способствовавшая распространению клиник по всей
Европе. Вводя химию в медицину (как Фуркруа), химики содействовали и
становлению биохимии как дисциплины (примерно середина XIX в.).
Дисциплинаризация знания означает его «приспособление» (а глубже —
определенное отождествление с ней) к социополитической стратегии развивающейся
цивилизации. Дисциплинаризованное знание потому и кажется независимым от
«внешнего» социума — только «внешне» и зависимым, — что оно уже отождествилось
с ним в своих самых интимных основах. Поэтому идеология специалистов как
носителей дисциплинаризованного знания — «наука для науки», лозунг автономности
исследований, независимости развития фундаментальной науки от всех форм
«внешних воздействий» — в определенной мере оправдана: такое знание уже настолько
реально зависимо, что не нуждается в банальных «зависимостях» и
вмешательствах. Теперь, дисциплинаризировав знание, общество может «экстернально» влиять
на науку — финансированием, поощрениями или, напротив, как-то ограничивать
ее развитие и влияние на ее структуру. Раз дисциплинаризация произошла, то
познание получило такой «постав», благодаря которому оно вплелось в социополити-
ческую систему, «вписалось» в стратегии функционирования и развития общества.
Дисциплинаризация — это такая постановка субъекта, его деятельности,
которая обеспечивает извлечение истины, способной быть инструментом социального
движения и управления. Знание — не просто средство контроля и, следовательно,
власти, но само по себе уже есть контроль и, следовательно, власть2. И контроль
двоякий, сразу один, хотя обращен, развернут на два «фронта»: знание — контроль над
вещами, знание — контроль над людьми. Специалист — «дисциплинарный»
человек — следует четкому «поставу», осуществленному в его дисциплине, и тем самым
он является проводником определенных политических отношений, даже если сам
исповедует откровенный аполитизм и охотно разглагольствует об автономии науки
и самоценности знания. Дисциплинаризация и установление содержания дисципли-
наризирующегося знания — единый процесс. В динамике дисциплинаризации
содержание и форма знания взаимно перекрываются, «пригоняются» друг к другу вплоть
до отождествления. Технология производства знания определяет образ истины,
характерный для данного знания. Технологический «постав» означает выбор
приоритетов в системе знания, формирование в ней отношений иерархии. Без фиксирования
процедур верификации и фальсификации интерпретационные конструкции,
определяющие содержание знания, «плавают» незакрепленными. Такое знание «недисци-
плинаризовано». Логики, принципа запрета противоречия мало для дисциплинари-
2 Концепция «власти-знания» была развита Фуко применительно к анализу генезиса
некоторых гуманитарных дисциплин. Здесь мы не излагаем эту концепцию, а стремимся, имея
ее в виду, дать наше понимание проблемы социокультурной истории естествознания.
Наука — культура — общество
489
зации знания. Логика работает и дисциплинирует знание там и тогда, где и когда уже
созданы материальные основы дисциплины — фиксированы указанные процедуры,
закреплены соответствующие им «идеальные» объекты, отработаны приемы
действий с экспериментальной техникой и т. п.
Тезис — «знание есть социальная конструкция» — становится понятным, если
мы осознаем, что наука (или знание, здесь они не различаются нами) есть сочетание
не-формальной и формальной конструкций. He-формальное охватывает
формальное, и именно в зоне не-формального контура знания происходит отождествление
социального и когнитивного. Кстати, само «формальное» измерение генетически
выросло из «не-формального», именно этот не-формальный контур, объемлющий
формальные структуры, служит генеративной ячейкой всей системы знания,
включая его формализмы. Поэтому социальные значения формальных структур знания
«прочитываются» не «в лоб», а при анализе их генезиса, прослеживающем их
формирование из не-формализованной сферы.
* * *
Не возникло ли теоретическое мышление, стремящееся к объективации и
логическому доказательству, к обоснованию определенной частной позиции методами,
предписывающими ей общезначимость и демонстрирующими ее «независимость»
от социального контекста, в условиях острого диалогического соударения точек
зрения, подходов, различных способов решения одной и той же задачи в греческом
полисе? Иными словами, не возникает ли то, что мы называем «установкой на
истину», в силу потребности и, главное, возможности обосновывать частную
социально значимую и социально ценностную позицию? И, видимо, банальная истина
о том, что в споре рождается истина, совершенно неоспорима, но не в том смысле,
что утверждения проверяются в споре, а в том, что ситуация перманентного спора,
чреватого опасной социальной нестабильностью, вызвала к жизни само понятие
истины как таковой.
Истина как всеобщее определение знания, и не только его, а всей цивилизации,
создается как регулятив и реальность особого типа в особой социокультурной
системе, в особую эпоху. Всеобщее — характеристика особенного: логика,
прослеженная Марксом в его исследованиях капиталистической экономики. Мы бы предпочли
говорить не о том, что в каждую эпоху меняется образ «одной и той же истины»,
но о том, что в определенную эпоху, нами обозначаемую как европейское Новое
время, истина становится важнейшим фактором функционирования и развития
общества. Это не означает, что истина была нацело изобретена и внедрена только
в это время. Нет, но в качестве необходимой и фундаментальной ориентации
режим объективной истины устанавливается как универсальный именно в эту эпоху.
Истина, всегда бывшая целью познания, становится ставкой в социополитическом
490
Раздел четвертый
функционировании системы, инструментом ее жизни и движения, ее извлекают или
производят специальными механизмами, имеющими все возрастающую
эффективность и универсальное применение. Истина в Новое время, иными словами,
становится важнейшим средством поддержания «нормального» функционирования
общественной системы. Истина о природе, истина об обществе, индивидах и т. п. — все
эти бесчисленные истины вырабатываются или «открываются» в специальных «ма-
шинериях» истины — в лабораториях, госпиталях, судах, в статистических бюро,
консультациях и т. п. Без создания, развития, специализации и шлифовки всех этих
институтов, составляющих систему режима истины, данное общество не может
существовать. Традиционное общество, докапиталистические формации не знали
такого положения дел, хотя истина, конечно, и тогда эксплуатировалась, но не
систематически — не на ее производстве и использовании было основано функционирование
всей общественной системы.
Традиционные общества с их фиксированной иерархической социальной
структурой не нуждались в установлении универсального режима истины, так как
иерархия лежала в основе социального механизма воспроизводства и функционирования
системы. Иерархия базировалась на наследовании, т. е. была фиксирована трансэпи-
стемологически, не зависела от процедур выявления истины в экзамене, в конкурсе,
в соревновании, в проверке и т. п. Устранение этой природно-социальной иерархии
вынудило развить режим истины с присущими ему институтами соревнования,
экзамена, конкурса, анкетирования и т. п., привело к установлению особых средств
поиска истины, в том числе и механизмов научного исследования. Дело
стратификации, упорядочивания, распределения вещей и индивидов, их усилий,
возможностей с целью их эффективного функционирования было поставлено на научную
основу. Истина вошла в средоточие социальной машины, определив тем самым судьбу
всего феномена человека. Отталкиваясь от данных Аристотелем и Фуко дефиниций
человека, мы бы сказали, что человек есть существо, ставящее под вопрос свое
родовое существование в комплексе современной цивилизации с ее «политико-эпи-
стемическим» ядром.
НАУКА И КУЛЬТУРА:
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ
Онтологический смысл культуры мы в свое время попытались определить
следующим образом:
Бытие раскрывается через его обработку (colo — «обрабатываю», «возделываю»,
«почитаю», и отсюда слово cultura) в культуре. В труде возделывания бытие
преображается, и это преображенное культурой бытие и служит предметом благоговейного
почитания. Иными словами, культура представляет собой значимое, благодаря ее
связи с бытием, созидание, а вместе с ней такова и наука как ее существенная часть \
Однако для прояснения онтологического смысла познания, для которого как
рациональной деятельности в высшей степени характерна рефлексия, такое определение
недостаточно. Поэтому мы хотели бы предложить ниже описываемую его модель,
вполне отдавая себе отчет в ее условности.
Познание — «обнуление» познаваемого как бытия его собственными средствами,
аналогичное созданию в сплошном массиве познаваемого (бытия) топологической
полости («пустоты», небытия). Эта полость предстает заполненной теоретическими
конструкциями, присутствие которых в ней способно менять движение массива
познаваемого в мире или, говоря проще, менять его самодвижение, придавая ему
антропологический смысл. «Антропологический смысл» здесь означает только то, что
в динамике этого изменяющегося самодвижения бытия разыгрывается, как
минимум, судьба феномена человека. Репродукция способности к
«обнулению-опустошению», действующей уже внутри указанной полости, называется «рефлексией». Это
означает, что возникшее в «обнуленном» или «пустом» пространстве когнитивное
содержание само подлежит вторичному «обнулению» или «опустошению». Иными
словами, «опустошение» как меонизация (от «ме он» — греческое выражение для
небытия, возникшего на месте бытия и способного к тому, чтобы стать новым сущим)
способно к самотрансляции.
Итак, возникшую пару «познаваемое — познающее» можно аппроксимировать
цилиндром: его поверхность отображает «познаваемое» (тотальность бытия), а
центральная полость (другой нет) — «познающее» (разум, мышление и теория со всеми
их средствами). Создание в сплошности бытия (познаваемое и познающее здесь еще
неразличимы) полости есть его «обнуление», означающее, что возникло расщепление
1 Визгин В. П. Культура — знание — наука // Наука и культура. М., 1984. С. 50-51. См. выше,
с. 462.
492
Раздел четвертый
мира на «познаваемое» и «познающее», на «объект» познания и его «субъект».
Возникновение познания (а значит, и науки) — топологическая катастрофа в мире,
онтологическая революция, последствия которой едва ли предсказуемы.
* * *
Речевые акты — медиаторы и провокаторы новых актов, как речевых, так и, что,
очевидно, не менее существенно, не речевых. Но это прагматическое функционирование
речи перекрывается, вплоть до совпадения, познавательным функционированием,
а именно речь как включение явления, процесса, вещи, события и т. п. в словесное
обозначение есть упорядочивание реальности, ее организация, ее рационализация,
хотя, очевидно, относительная и в принципе широко открытая для модификаций,
исправлений, уточнений, всего того, что Башляр, говоря о приближенном познании,
называет ректификацией2.
В середине октября зеленая травка блестит от снега. А может быть, от инея? Что
это, — спрашивает у матери семилетний Ваня, — первый снег или только заморозки?
Перед глазами и в тепловых ощущениях — новая данность, с ходу трудно
определимое для обыденного сознания явление природы. Куда ее поместить? В какое гнездо
рационализирующего и упорядочивающего мир словаря? Если сказать, что это
«первый снег» — это одно, такое определение предполагает определенные действия,
речевые и не речевые. Например, можно запеть песенку: Дер эрсте Шнее, дер эрсте
Шнее. Или подумать о лыжах и пойти их покупать и т. д. Ну а если это заморозки,
«только заморозки», то эти действия вряд ли возникнут. Но зато возникнут другие:
мальчик Ваня подумает, что мама его заставит надеть шапку, не пустит в школу без
пальто и т. п. Семантика словаря указывает на системы действий, «привязанные»
к каждой словарной единице. Мир, будучи обговорен, словно хищный зверь
усмирен, посажен в клетку. В клетку слов. Теперь с ним можно вроде бы обходиться так,
как надо, т. е. так, чтобы успешно сохранять свою жизнь, поддерживать системы
социума, сложившийся порядок жизни.
Человек безмерно доверяет своему словарю. И он, конечно, прав. Словарь —
почти язык — сложился в долгой истории освоения мира, в практике, он
испытал немало ректификации, и какое-то доверие ему просто необходимо оказывать.
Но есть слова, значения которых созданы не так давно, они могут быть нагружены
такими действиями, что становится страшно за «явления», получившие такое
наименование. Мы их называем ярлыками, уничтожающими ярлыками. «Яма»
значений в каждом словарном гнезде бездонна, в ней множество уровней, где хранятся
многие несовместимые друг с другом значения — разные установки действий,
разные их системы.
2 Bachelard G. Essai sur la connaissance approchée. P., 1927.
Наука и культура: размышления о их взаимосвязи
493
Успех управления деятельностью людей нередко зависит от того, как удается
управленцам срезать глубину семантики до одномерного, однозначного значения.
И тогда реакция становится и контролируемой, и желательной для них. Этому
стремлению к однозначной прагматической семантике словаря противостоит культура.
Она вместе с историей напоминает о глубине каждой словарной ниши, показывает
совершенно другие значения слов, чем те, которые распространяются в данный
момент в данном обществе. Но сама по себе культура не обладает массовидной
энергией, средствами эффективного воздействия на массовое общество. Миллионы
бегут как лунатики, как автоматы по однозначным тропкам слов-действий. Культура
при этом оказывается осмеянной, оболганной, и в лучшем случае ее терпят как
диковину, показывая в музеях как пыльную шкуру мамонта.
Язык может правильно почувствовать и описать тот, кто стоит чуть-чуть за его
пределами, на границе языка и не-языка и даже отдает предпочтение последнему,
но не настолько при этом порывает с языком, чтобы не мочь говорить и описывать
его средствами самого языка.
* * *
Для того чтобы понять соотношение культуры и науки в XX в., нужно
проанализировать их взаимодействие в прошлом. XIX век наследует идеалы Просвещения
и Французской революции, принимая их как программу, подлежащую
практическому исполнению. С другой стороны, он их подвергает критическому
теоретическому рассмотрению, делая основой для дальнейшего развития самосознания
европейской цивилизации. Идейный багаж Просвещения XIX век критикует и развивает,
но некоторые существенные его моменты сохраняются. Это сложное отношение к
наследию Просвещения связано помимо всего прочего и с тем, что XIX век наследует
ту раннюю критику буржуазной цивилизации, которую в XVIII в. дал Руссо. У него
мы находим пророчески им угаданный обобщенный символ XIX века: рассказывая
об одной из своих «прогулок одинокого мечтателя», писатель сообщает, что однажды
в горах Швейцарии он, к великому своему изумлению, вместо дикой первозданной
природы обнаружил работающую фабрику. Горное ущелье с водопадом, девственный
лес на склонах — и шумная и дымная фабрика прямо на альпийском лугу!
Странный симбиоз романтизма, идеализма, натурфилософских медитаций и быстро
развивающейся научно-технической и промышленной революции. Анализируя этот
символически нагруженный казус, мы обнаруживаем глубокий внутренний раскол
европейского духа на сентиментализм и утилитаризм, констатируем культ поэзии
и одновременно дух позитивной науки, когда необыкновенный расцвет
«спекуляции» философской дополняется спекуляцией биржевой.
После революционных событий 1848 г., потрясших всю Европу, ситуация
меняется. Уже первая половина XIX в. показала, что это столетие — век не только
494
Раздел четвертый
величайших надежд, но и глубоких разочарований. Действительно, революция
1848 г. разоблачила многие социально-политические иллюзии, привела к
отрезвлению от слишком больших ожиданий, возлагавшихся на буржуазно-демократические
революции в плане реализации основных идей Просвещения и Революции
(духовная драма, пережитая в это время Герценом, красноречиво свидетельствует об этом).
Но если социально-политические утопии, питавшие веру в близкое рациональное
переустройство общества, рухнули, то надежды, возлагаемые на науку, на ее
способность эффективно решать все проблемы человеческого бытия, сохранялись на
протяжении всего XIX в., несмотря на существование достаточно влиятельных
критических направлений антисциентистского и антикапиталистического толка, начиная
с Руссо и романтиков и вплоть до Толстого и Ницше. Кстати отметим, что весь
комплекс социокультурного критицизма, присущий XIX в., достаточно отчетливо, в
первом приближении, делится на романтический и рационалистический, образцом
которого явился марксизм.
Стиль культурной, социальной, научной жизни существенно меняется во
второй половине века. Идеализм 40-х гг. сменяется материализмом 60-х. Перемещается
и центр научной активности — в Европе на передний план выдвигается германская
наука, задающая образец для таких вступающих в экономическое и политическое
соревнование стран, как Италия3 и Россия. Научно-философская ментальность XIX в.
характеризуется начавшимся в конце XVIII — начале XX в. переходом от
статической классической картины мира, для которой характерна систематика в
натуральной истории и конечно же прежде всего механистический взгляд на мир в целом,
к динамическому образу мира (работы Кювье, развитие физиологии и
эволюционизм, становление электромагнитной теории и т. п.). Классический, гармонический
и статический образ мира как бы «протыкается» новыми научными и культурными
свершениями; неразложимые ранее понятия и представления обнаруживают свою
сложность и многомерность; «плоские» интеллектуальные проекции природы и
человека получают «глубину» динамических объемов. Так, за электростатикой
появляется электродинамика благодаря трудам Эрстеда, Фарадея, Максвелла. В познании
живого мира с презумпцией его статики обнаруживается неслыханная до того
перспектива универсальной эволюции органических видов (Дарвин), а за поверхностной
эмпирией капиталистических отношений, рисуемой в вульгарной политической
экономии, раскрывается напряженный динамизм отношений труда и капитала (Маркс).
Эти величайшие научно-мировоззренческие свершения века глубоко
пропитывают всю его культуру. Так, бум научной физиологии находит свой
литературный коррелят в творчестве Бальзака, создавшего потрясающее полотно
«человеческой комедии», представляющей глубинную «физиологию» общественных нравов.
Нельзя здесь не вспомнить и о «натуральной школе» в русской литературе, и о
натурализме в западноевропейской литературе (Гонкуры, Золя). Мы видим, что возникает
3 Belloni L. Da Fermi a Rubbia: Storia e politica del successo mondiale della scienza italiana. Milano,
1988.
Наука и культура: размышления о их взаимосвязи
495
мощный слой пропитанной научными флюидами культуры: это и развитие
научно-популярной литературы и научной фантастики (Ж. Верн), и создание «научной
поэзии» (Рене Гиль), и научно обосновываемые концепции в живописи и
изобразительном искусстве в целом (например, Ж. Сера, пуантилизм).
Картина взаимодействия науки и культуры в XIX в. складывается из двух
взаимосвязанных тенденций. Прежде всего развивается «окультуривание» науки. Это
проявляется в создании строгой научной культуры, в дисциплинаризации
знания, его институализации и социализации. Происходит образование
специализированных научных сообществ, поддерживающих определенный нормативный
режим производства и распространения знаний, создаются специализированные
журналы, кафедры и т. п. Возникают нормированные системы образования и
обучения, закрепляются дисциплинарные нормы и критерии рациональности,
фиксируемые как образцы в канонических стандартных учебниках, которые в это время
создаются. Например, трактат Био по физике (1819) был принят в качестве
канонического учебника по данной дисциплине. Создается целостная система научной
культуры, которая функционирует, передается, воспроизводится в
социально-нормированных формах, закрепляется институционально, получает общественную
и государственную поддержку. Целью создания такого дисциплинарно
оформленного научного корпуса является получение и распространение объективного
знания о мире, необходимого как для духовного и культурного, так и прежде всего
социального и индустриального развития. Научные знания, дисциплинарно
оформившись, входят в культуру и становятся отныне судьбоносными для самого
существования человечества.
Вторая тенденция может быть обозначена как «онаучивание» (сциентифика-
ция) культуры. Сциентификации подвергаются не только литература, искусство,
но и все другие формы культуры и общественного сознания, включая философию,
мораль, мировоззрение, религию. Наука проникает в производство, технику,
практику управления, в социальные отношения, стратегии экономических решений, в
социальное проектирование.
В результате такой динамически развивающейся суперпозиции науки и
культуры, науки и социальной практики, науки и техники возникает своеобразный со-
цио-техно-научно-культурный суперкомплекс, который в его целостности мы
называем современной цивилизацией. Этот суперкомплекс охватывает три других
подчиненных ему комплекса: комплекс научно-культурный, комплекс
технологический и производственный и, наконец, комплекс социальных отношений, структур
общества и власти. Именно образование такого цивилизационного суперкомплекса
порождает качественно новые, небывалые ранее возможности для универсального,
затрагивающего все сферы жизнедеятельности человека динамического развития.
Возникающий вместе с таким суперкомплексом мощный потенциал развития
приводит к тому, что история начиная с XIX в. становится поистине универсальной
всемирной историей, что в полной мере реализуется уже в следующем, XX веке.
Открывается возможность для возникновения (а в потенции и для решения) глобальных
496
Раздел четвертый
проблем, бросающих вызов всему человечеству. Благодаря возникновению такого
суперкомплекса происходит ускорение и социальных процессов: не будем забывать,
что и XIX, и XX век — это период глубоких социальных революций.
Итак, подчеркнем теперь связь этих двух тенденций. «Окультуривание» науки
обусловливает «онаучивание» культуры, которое, в свою очередь, позитивно
воздействует на укрепление дисциплинарных и институциональных основ науки. Оба
эти процесса взаимно предполагают друг друга, и такое их взаимодействие
приводит к ускоренному развитию всей цивилизации. Антисциентистское «торможение»,
возникшее уже в XVIII в., не может его остановить. Социокультурная значимость
этого «торможения» раскроется позднее, лишь в XX в., главным образом под
влиянием ядерной и экологической угроз.
* * *
Мир современного человека, названный нами «цивилизацией», устроен так, что
в нем нет чистых образцов, стопроцентно репрезентирующих такие абстракции, как
«наука», «культура», «общество», «техника». Мы можем эту ситуацию описать
следующим образом: первичный «флюид» цивилизации может существовать в различных
фазах и состояниях его разнообразных проявлений. Таким образом, нити
цивилизации оказываются как бы текущими в лабильном и «намагниченном» состоянии,
и поэтому нельзя сказать, что вот этот «идеальный объект» — теоретическое
научное понятие и больше ничего или что это — только предметная схема практической
активности, или культурный образец. Все эти нити находятся в состоянии метаста-
бильности, образуя своего рода поливалентный переходный комплекс (комплекс
«наука — культура — общество», НКО). Этот комплекс может обнаруживаться в
конкретном случае (отношении) то научным теоретическим понятием, например таким,
как инерция, масса, заряд, пространство, давление, валентность, скорость, то
формой предметно-практической деятельности (кооперация, ремесло с его рецептами,
мануфактура, автоматизированные схемы производства и социального поведения),
то культурной или интеллектуальной моделями или предпочтениями, диктующими,
например, выбор «дискретности» вместо «непрерывности» или «тождественности» —
вместо «изменчивости».
Представление о комплексе «наука — культура — общество» (НКО-комплекс)
имеет, на наш взгляд, определенный эвристический смысл. Действительно,
определенного рода симбиоз научного знания, культуры и социальных структур
характеризует данную историческую эпоху и страну. Только конкретный исторический
анализ может выяснить специфическое устройство подобного комплекса. Например,
представление о силовом электрическом поле у Фарадея и затем у Максвелла связано
в его генезисе с романтической традицией в культуре Англии конца XVIII — начала
XIX в. Ему соответствует и характерный «микросоциум», представленный фигурами
Наука и культура: размышления о их взаимосвязи
497
Деви, Кольриджа и Фарадея, тут имеется и внешнее культурное влияние, а именно
романтической метафизики единства и полярности для образования физического
понятия об электромагнитном поле, но тут нет «дисциплинаризации», которая
только-только должна еще возникнуть вместе с концом романтического и
натурфилософского в целом «влияния» на науку
Сказанное не означает, что английский романтизм — абсолютно необходимое
условие возникновения представления о физическом (электрическом и
магнитном) поле сил. Однако в данном случае связь с тем или иным видом «динамической
философии» действительно необходима. Действительно, набросок представления
о поле, о непрерывном и векторном его характере существовал уже у Гилберта (1600,
«О магните»). Но его представления были, естественно, связаны не с романтизмом —
его тогда еще не было, — а со специфическим английским неоплатонизмом XVI в.,
аналог которого мы находим в возрожденческой Италии, например у Бруно,
оказавшего прямое влияние на научное сообщество Англии XVI в. Можно сказать, что
в НКО-комплексе фиксированное (впрочем, относительно) значение Н-переменной
(наука) коррелирует с определенными интервалами значений двух других
переменных — К и О (культура и общество).
Действительно, резюмируя приведенный нами пример, мы можем сказать, что
комплексы «наука — культура — общество» в истории трансформируются как
системные целостности. Это означает, что нет никакой однолинейной
однонаправленной причинной детерминации науки ни «культурой», ни «обществом» как
отдельными «абстрактами»: такие «абстракты» — «общество без знания», «культура без
знания»— в истории просто не существуют.
НКО-комплекс не является константой, независимой от исторического
времени. Его модели (представления) для различных периодов истории, видимо,
будут различными. Диверсификация таких моделей обусловливается также и
задачами, которые ставит исследователь. Предварительные представления об устройстве
НКО-комплекса историк-эпистемолог проверяет конкретными историко-науч-
ными исследованиями, которые могут строиться, как нам представляется,
например, по типу case study.
Предложенный подход позволяет дать ответ на такой важный для истории науки
вопрос: почему именно в Англии первой половины XIX в. возникло научное
понятие об электромагнитном поле? Хотя романтизм был и в других европейских
странах, однако в них не сложился такого рода комплекс, на матрице которого и
произошел синтез указанного теоретического понятия. Романтики Англии — это не столько
романтики-литераторы (как во Франции) или романтики-метафизики (как в
Германии), сколько романтики-эмпирики, романтики-естествоиспытатели, романтики-
ученые. И именно поэтому (хотя и не только поэтому) указанный генерирующий
знание комплекс возник именно в Англии.
Итак, анализируя формирование определенного научного понятия, мы
обнаруживаем его связи как с «микрокультурой» (в данном примере это определенная
«динамическая» философия), так и с «микросоциумом» (диалогические ячейки, группы
498
Раздел четвертый
творческого общения). Такой подход позволяет фиксировать целостные «гнезда» эпи-
стемогенеза, формулировать гипотезы о конкретной связи всех трех компонент нау-
коведческого эпистемологического анализа — когнитивного содержания науки, форм
культуры и социальности — и проверять их в специальном историческом анализе.
* * *
Мы уже писали о концепции генеалогии власти-знания Мишеля Фуко4. Сейчас мы бы
хотели рассказать об одной характерной для всей его позиции особенности, что
позволит нам увидеть, как же французский философ понимал связь научного знания
и современного гуманизма, науки и культуры. Основной парадокс, бросающийся
в глаза при изучении творчества и деятельности Фуко, такой: чтобы
общественная практика стала чуточку погуманнее, надо полностью изгнать гуманизм из
теории. И конечно, этот парадокс не надуман: гуманизм как официальная идеология
давно уже служит инструментом в стратегии сохранения статус-кво, и
освобождение от него в теории позволяет пристальнее присмотреться к стратегиям и тактикам
власти и использовать их слабые места для проведения в жизнь элементарных
гуманистических проектов. Каких? Например, занять свободное жилье, которое
спекулянты недвижимостью держат незанятым в ожидании крупной поживы. Социальная
теория Фуко теоретизирует именно такого рода локальные тактики
сопротивления: в каждом волокне общественного тела проходят натяжения отношений власти,
и всюду можно вести борьбу за элементарные гуманистические ценности, но вести
ее совершенно конкретно, без всякой универсалистской общегуманистической
риторики, без глобальных социальных утопий. Захват бездомными пустующего жилья,
самоуправление рабочих на закрываемом из-за нерентабельности
капиталистическом предприятии и организация на нем труда и быта, вклад в планирование
образования со стороны тех, кто в нем задействован в качестве обучающихся, политика
экспертов и выбор научных предпосылок с целью оценки любого проекта
жилищного, дорожного и т. п. строительства, активное участие в политике здоровья, в
решении экологических проблем и т. п. Все это — элементарные локальные и сугубо
конкретные гуманистические цели. Они у Фуко сознательно не сливаются ни в
какой всеобъемлющий проект универсального общественного переустройства. Такой
проект, как он считает, неминуемо сопровождался бы созданием альтернативной
системы власти с идеологией, с бюрократизацией и со всеми теми проблемами,
которые уже встали на уровне существующей структуры общества и власти. Кажется,
что отсутствие яркой цели, глобального и привлекательного идеала — слабость
концепции Фуко. Он, собственно, никуда не зовет. У него нет своего варианта «Царства
4 Визгин В. П. Генеалогия знания Мишеля Фуко: новая программа в историографии науки //
Исследовательские программы в современной науке. Новосибирск, 1987. См. выше, с. 409-423.
Наука и культура: размышления о их взаимосвязи
499
божьего на земле». Его «дегуманизированная» социальная теория позволяет только
лучше разглядеть механику реальной власти, микроприборы нормализации и
кровеносные сосуды дисциплинарных систем. Разглядеть их в сугубо технологическом
«неглиже», без идеологических нимбов, без идеалистических туманов — просто как
вещную систему, как социальную машинерию, как своего рода топологию и
структуру, проникающую на любой уровень — вплоть до индивидуального тела.
Теоретическая проблема, встающая в связи с этим, такова: кто же субъект
сопротивления? Если все в обществе создается самим обществом как суперсистемой,
то кто же, собственно, сопротивляется и ради чего? Как возможно «иное» или
«другое» там, где запланировано и создано в порядке расширенного воспроизводства
«одно и то же»? Сексуальность, безумие — все это продукты в игре власти-знания,
в ее собственной развертке в условиях демографического роста, технологической
революции и т. п. Индивид в его конкретике — продукт той же системы в ее
саморазвитии. Так кто же, повторяю, сопротивляется и не является ли такое
сопротивление реакционным ретроградством и нежеланием идти в ногу со временем? Ведь
власть, по Фуко, прежде всего позитивна и продуктивна. Она не столько что-то
создаваемое вне ее изымает, сколько сама инициирует создание — школ,
университетов, психиатрических приютов, институтов по исследованию природы и общества,
она создает экономическую инфраструктуру, проводит демографическую политику,
организует систему здравоохранения, охраняет граждан от преступных элементов,
питает утопический проект их перевоспитания или хотя бы всемерной утилизации.
Короче, власть рационализирует и создает, приспособляя всех и каждого к нуждам
и потребностям системы в целом. Не является ли в таком случае власть фатумом
новых индустриальных или, лучше сказать, технологических обществ? И какой смысл
тогда имеет борьба, о которой столько говорит Фуко?
Но, видимо, Фуко не фаталист, и он, вместе с альтернативным движением5, с
которым у него так много точек соприкосновения, считает, что история — это
траектория, прокладываемая реализующимся в борьбе суммированием всех сил, которыми
обладают все те, кто жив и поэтому борется или терпит. История Европы, видимо,
могла пойти и иначе, если бы расклад сил в тот или иной критический момент был
чуточку иным. Фатализма в истории нет, считает Фуко.
Итак, не есть ли история, по Фуко, своего рода война всех против всех,
создающая системы контроля, надзора, наказания, утилизации всего и вся, а силы,
играющие какую-то роль в ней, не есть ли это силы только эгоистические?
Возможно, так и есть. Как и знаменитый «дискурс» Фуко, стоящий по ту сторону
истины и заблуждения, так и история, события, действия находятся по ту сторону
добра и зла в теории Фуко. Эффекты добра и эффекты зла можно извлекать из истории,
но она сама не зла и не добра. Она такова, какова она есть. И поэтому для действия
в истории нужна трезвая теория, а не идеологизированная восторженная установка,
5 Кризис буржуазной цивилизации и поиски «нового стиля жизни» // Реферативный
сборник / ИНИОН. М., 1985.
500
Раздел четвертый
пропитанная моральными понятиями и привычными мифами обыденного сознания.
Одно и то же событие можно постфактум рассматривать в разных моральных
перспективах и извлекать из него без конца и «добрые», и «злые» моменты. И в этом —
онтологичность истории в научном смысле слова. Природа тоже ведь стоит по ту
сторону моральных дихотомий, и объект науки вообще таков. Что же такое
история? В реконструируемом нами ответе Фуко на этот вопрос мы невольно ощущаем
близкую тень Ницше, у которого суровая научность — в стремлении, по крайней
мере6 — пересеклась с трагическим искусством.
Кто же самый эффективный оппонент и противник Фуко? Христианская
историософия, конечно же. Фуко удивительно мало говорит о христианстве. Как будто
говорить о нем почти что неприлично в кругах западной интеллектуальной левой
элиты. И если говорит, например, о малоизученной христианизации европейских
рабочих во второй половине XIX в., то исключительно как о морали, вводимой в
политическую стратегию власти. Христианская мораль, видимо, так он считает, лишь
одно из многих средств в технологии власти. Он даже употребляет такой термин, как
«пасторская власть». А феномен исповеди и признания рассматривает как
элементарную генеративную ячейку власти-знания, включенную в историческую жизнь
в Европе после Ренессанса.
Быть неизменно левым, быть критиком капитализма, искать пути для
изменения общества — вот инварианты творчества и личности Фуко. Своей среде, среде
левых интеллектуалов, какими бы трудными порой ни были у него отношения с ней,
он никогда не изменял. Он не пошел «вправо», куда пошли те, кто считал его своим
учителем —«новые философы», он не отбросил Маркса, а только радикализировал
его, попытавшись освободиться от погруженного в конформизм академического
догматического марксизма. И на вызов, брошенный «новыми философами»: «Маркс
умер!» — он сказал свое: «Человек идеологического гуманизма умер, а Маркс
живее всех живых!» Но Фуко не делает из Маркса икону — он использует его, как
использует и Ницше. Ведь использовать автора и означает любить его и
по-настоящему ценить.
Феномен Фуко иллюстрирует упорную верность интеллектуалов Запада
марксизму и их почти инстинктивное уклонение от христианского мировоззрения.
Общество — бездушная машина, которую надо знать холодным неэкзальтированным
зрением, знать с тем, чтобы не быть игрушкой «слепых» стратегий развития и
власти, чтобы вписать в Историю свое маленькое конкретное узколокальное
сопротивление машинному функционированию массового общества. Такова позиция
Фуко. Вдумчивый читатель французского философа не может не преклоняться
перед этой строгой и почти героической волей к познанию самого интимного круга
человеческого существования — общественной жизни людей в семье, школе,
казарме, в больнице, университете, лаборатории, министерстве или институте, на
фабрике или в суде.
6 Ницше Ф. Полное собрание сочинений. Т. 9. М., 1912.
Наука и культура: размышления о их взаимосвязи
501
* * *
Какая философия нужнее всего человеку? Раз человек смертен, конечен, живет
в историческом «человеческом, слишком человеческом» мире, то для создания
противовеса зыбкости его эмпирического существования он нуждается в философии
Абсолюта. Ему, погруженному в релятивизм истории, нужны абсолютные
координаты для компенсации своей неустойчивой позиции в мире текучем. Трудность
в реализации такого задания в том, что человек — критическое существо и склонен
«разоблачать» все абсолюты, находить за ними текучий интерес, ограниченность
ситуации, неосознанные конечные предпосылки, вытекающие из конечной быстро
меняющейся практики. Философия давно уже служит практической «школой
подозрения» (Рикёр), и она только ждет, чтобы кто-то осмелился претендовать на
абсолютность своего интеллектуального построения с тем, чтобы подвергнуть эти
притязания критическому рассмотрению.
Возможный выход из указанной апории можно увидеть в построении такого
критического рационального научного мышления, которое строит
фальсифицируемые, т. е. доступные для опровержения, дополнения и исправления модели мира
явлений и его фрагментов. Этот путь можно назвать путем формализации, и на его
пределе объективность и общезначимость результатов такого мышления принимают
характер машинно-принудительный: человеческое мышление заменяется в
тенденции исчислением. А исчисление и есть искомый, сугубо рационалистический
Абсолют. Иными словами, тяготение к устойчивости оборачивается крепнущим
стремлением к формализации и машинной объективности мышления. В уподоблении
машинам человек надеется успокоить свои капризы и обрести оплот в мире
сиюминутной изменчивости.
В формализме машины, в принудительности логики и логистики — самое
широкое поле возможностей для коммуникации людей. Все согласны в том, что дважды два
будет четыре. И когда открыто поле для исчисления, мышление достигает им же
провозглашенного идеала общезначимости, необходимости и всеобщности. Миллионы
de facto обнимаются не столько под нимбом «свободы, равенства, братства», сколько
в эфире исчислимости. Когда всем ясны и очевидны аксиомы-предпосылки, а также
способы движения от них к выводам, то все согласны и с результатами. Всеобщий
консенсус таков, что работа исчисления может производиться символом этого
всеобщего согласия людей между собой — машиной. Ведь смысл машины в том, чтобы
символизировать абсолютный консенсус людей в сегодняшнем мире
неразрешимых или трудноразрешимых конфликтов. И если мы включим машины в наше са-
пиентарное сообщество, то это дополнит его экземплярами высокого когезионного
значения — машины «сплотят» людей и, возможно, приведут их к «общему
знаменателю», правда рискуя при этом их самих «машинизировать». Итак, на
обозначенном здесь пути формализации абсолютность ищется в научности, а абсолютность
самой научности — в машинности. Капризное человеческое мышление замещается
502
Раздел четвертый
автоматизированным исчислением — для всех обязательным, всех, казалось бы,
примиряющим, вносящим взаимную коммуникацию всех со всеми в эпоху кризиса
«коммуникабельности» духовной.
В этой ситуации можно с полным правом сказать, что противоположным
полюсом вышеописанной тенденции выступает вера, религия: Бог — антиполюс
Машины. Человек современной эпохи ищет крайнего принуждения, соединяющего
его со всеми и со всем миром. Он ищет — и находит его — или в машиноподобном
мышлении (формализация проблем и перевод их в план исчислимости), или в
религиозном мышлении и в прямой религиозной вере. Ситуативный капризный
характер эмпирической истории человек может вынести, лишь обретая Абсолют и Фатум
всезначимости или в Боге, или в Машине. Традиционный англосаксонский ум с его
тяготением к эмпиризму и строгому «позитивизму» порождает всевозможные
сциентистские формализаторские проекты, а на старом континенте, в России и на
Востоке продолжаются попытки подвести человечество под божественный «общий
знаменатель». Видимо, путь современного человека обретается в таком творческом
ответе на новые вызовы, который удерживает все пространство, задаваемое
оппозицией «Бог — Машина», без элиминации какого-либо ее полюса.
Нравственно-гуманистическая позиция, сохраняющая без потерь критицизм, иронию и здравый смысл,
не угрожает ни религии, ни науке, а, напротив, наполняет жизнью обе эти формы
как формы культуры. Напротив, при принудительном отсечении одного из
полюсов, например религии, оставшийся полюс берет на себя его функции, а это
приводит к тому, что наука становится своего рода квазирелигиозной идеологией и в этом
своем состоянии оказывается антикультурной и, следовательно, антигуманной силой.
ВЕРНЕР ГЕЙЗЕНБЕРГ
О СООТНОШЕНИИ ИСКУССТВА И НАУКИ
Вернер Гейзенберг (1901-1976) был не только выдающимся физиком-теоретиком,
одним из создателей квантовой механики, но и оригинальным мыслителем. Широко
известны его философские и методологические работы. Но, к сожалению, наши
историки и философы науки не знают не публиковавшейся при его жизни
рукописи 1942 г., систематически излагающей философские взгляды ученого. Поэтому
мы специально остановимся на этой неизвестной у нас работе Гейзенберга.
Соотношение науки, искусства и религии в рукописи 1942 г.
В архиве Гейзенберга сохранилась рукопись, написанная его рукой, и две ее
машинописные копии, не имеющие ни названия, ни даты. Вероятно, замысел этой работы
относится к маю 1941 г., а его завершение — к концу 1942 г. Действительно, в мае
1941 г. Гейзенберг читал лекцию о Гёте и Ньютоне, в которой сообщается о замысле
этого труда. Публикация рукописи состоялась лишь после смерти автора, в 1984 г.,
без указания даты и названия. Во втором издании 1989 г. Г. Рехенберг, ее издатель, дал
ей название «Ordnung der Wirklichkeit» и оценил ее значение, сказав, что это —
ключевой текст для понимания теории познания Гейзенберга. По верной, на наш взгляд,
оценке Шевалле, издавшей ее французский перевод вместе с подробным ее
анализом, Гейзенберг «развивает здесь свою особую позицию, не являющуюся копией
никакого течения в истории идей и никакой философской системы, представляемой
каким-то "измом", но соприкасающуюся со многими фундаментальными
проблемами философии 30-х годов, давая им специфическую трактовку, отмеченную
опытом создания квантовой теории»1.
Основной замысел рукописи — включение нового физического знания в такую
целостную картину мира, которая в силу этого была бы духовно значимой для
человека как цельного существа. Гейзенберг смещает основные
теоретико-познавательные акценты с характерной для классического рационализма проблематики
соотношения субъекта и объекта, заданного картезианским принципом cogitoy к анализу
1 Heisenberg W. Philosophie. Le manuscript de 1942 / Introduction et trad, de Catherine Chevalley.
P., 1998. P. 245.
504
Раздел четвертый
языка во всей сложной исторической динамике его развития, к оценке его
возможностей для описания различных уровней реальности. Он указывает на два
предельных типа эволюции языка, статический и динамический. Первый тип представлен
в однозначно определенном по словарным значениям языке терминированных
формализованных систем. Язык точных наук, несомненно, тяготеет к этому типу.
Основная дилемма здесь такова: или мы стремимся к максимуму точности и однозначности
языка описания, но тогда зона реальности, для которой такое описание возможно,
будет сужаться; или мы стремимся охватить предельно широкий диапазон
взаимосвязей многоуровневой реальности, но тогда надо распроститься с однозначным точно
терминированным языком описания. Это — ситуация дополнительности,
разобранная на многих примерах в квантовой теории и осознанная как универсальный
принцип прежде всего Бором. Но это не означает, что широкие области взаимосвязей,
целостные многоуровневые реальности будут вообще недоступны познанию. Нет,
но для их познания необходимо изменить языковую стратегию и сам язык и перейти
от статического его типа к динамическому, к языку иносказания и притчи (Gleichnis).
Главное в динамическом типе языка — устремление к целому через продуктивное
движение пусть и неоднозначных, но плодотворных средств выражения.
Динамический язык не дает точного образа реальности, но зато дает «живой» ее образ, более
богатый и разносторонний. Географическое пространство, например, можно
исследовать картографически точно, применяя, скажем, аэрофотосъемку, а можно
изучать, путешествуя по местности пешком и непосредственно общаясь с ее
ландшафтами, флорой, фауной, людьми и т. д. Мы могли бы сказать, что существует два типа
знания: знание, ориентированное на протокол, и знание, ориентированное на
живое общение и личную связь с его объектом. Существенно, что поэзия
демонстрирует нам не только работу динамического типа языка, но и синтез его с элементами
языка статического (метр, ритм, рифма).
Другая основная идея рукописи, идущая от Гёте, — идея упорядочивания
реальности, которая предстает как многоуровневая, причем уровни эти ценностно
различаются, а их образы формируются в истории творческими актами самих людей,
ведомых их верованиями, сила которых в последнем счете исходит от «центрального
порядка». «Научное упорядочивание, — говорит Гейзенберг, — исходит из
повторения, из номологической регулярности»2. Идеал научного представления
взаимосвязей (Гейзенберг в позитивистском духе уклоняется от термина «вещь», предпочитая
ему термин «взаимосвязь») — объективное номологическое их выражение. Но
объект конституируется исключением субъекта. Однако Гейзенберг отдает себе отчет
в том, что в жизни, искусстве, религии это невозможно. Невозможно в полной мере
даже в таких областях науки, как квантовая механика. «Существуют, — говорит он, —
обширные области реальности, где подобная объективация невозможна»3.
2 Heisenberg W. Philosophie. Le manuscript de 1942. P. 310.
3 Ibid. P. 267.
Вернер Гейзенберг о соотношении искусства и науки
505
Сознание, мы должны отдать себе в том ясный отчет, ненаблюдаемо в принципе:
читая рукопись, приходишь к таким констатациям. Смысл жизни, можно добавить,
нельзя задать объективно: он неотрывен от свободных актов самого лица, его
устанавливающего. С повышением уровня упорядочивания солидарность живого с живым,
одного духовного существа с другим возрастает. Уточнять понятия по образу механики
здесь непродуктивно, но, напротив, продуктивен язык притч и образов, накопленных
в поэзии, мифе, религии, искусстве. Эти сферы духа служат, по Гейзенбергу,
хранителями творческих сил души. Такое их назначение, говорит он, может называться
«стремлением к счастью» или «приготовлением к достижению благодати Божией», но суть
здесь одна — не дать заглохнуть творческим потенциям, меняющим и нас, и мир.
Если в науке мы имеем дело с той областью реальности, в оформление которой
решающий вклад вносит она сама как объект познания, то в искусстве и особенно
в религии мы имеем дело с областью творческих потенций души, «где мы сами даем
форму реальности как таковой»4.
Религия — один из способов упорядочивания реальности, в котором речь идет
о последних вещах. А так как о них нельзя говорить прямо и однозначно, то здесь
действует язык притчи. Религиозный язык — язык самого глубокого уровня
взаимопонимания людей. С помощью его устанавливается понимание на уровне самых
высоких ценностей. Гейзенберг не редуцирует религию, не сводит ее к чисто
субъективному моменту, не считает ее иллюзией воображения: «Тот, кто участвовал в ди-
онисийских мистериях, — говорит он, — мог реально встретить бога»5. Верования
определяют действительный образ реальности. От трансцендентального идеализма
классической философской традиции Гейзенберг идет к исторически изменчивой
антропологии верований, сохраняя, однако, платонистские мотивы в метафизике,
особенно тогда, когда говорит о единстве «центрального порядка»,
обнаруживаемого равным образом в религии, искусстве, чистой науке, философии.
Описание отношения науки к «центральной области», или «порядку», у Гейзен-
берга характеризуется амбивалентностью.
Центральная область, — говорит он, — исходя из которой мы оформляем самое
реальное, составляет для языка науки бесконечно удаленную сингулярность, которая
в конечном счете имеет решающее значение для упорядочивания, но которая не
может быть им схвачена. И, напротив, язык верований не может судить о той области
реальности, которая является объективируемой и отделенной от нас самих6.
Гейзенберг свидетельствует здесь о дополнительности языков науки и религии; один
из них не может схватить ту область, к которой приспособлен другой. Поэтому
полное описание реальности требует применения обоих дополнительных по отношению
4 Heisenberg W. Philosophie. Le manuscript de 1942. P. 268.
5 Ibid. P. 269.
6 Ibid.
506
Раздел четвертый
друг к другу языков, причем уровни реальности, где они применимы, четко
разграничены. В частности, «центральная область» недоступна для языка науки.
Но в то же время Гейзенберг допускает, что чистая наука безусловно имеет
доступ в сферу «центрального порядка». В финале рукописи в противовес сказанному
в ней о границах применимости научного языка говорится о том, что чистая наука
безусловно достигает «центральной области» реальности, что ее язык способен
раскрывать ее скрытые гармонии и что в этом он следует не нашим прихотям, а
решениям свыше7. Именно в этом мы и видим амбивалентность в понимании Гейзенбер-
гом связи науки с «центральным порядком». Можно подумать, что, принимая тезис
о неспособности науки в целом достичь «центральной области», он делает
исключение в этом отношении для чистой науки.
В рукописи он обращает внимание на то, что роль науки еще больше возрастет
в будущем не потому, что она принадлежит к предпосылкам и условиям
политического могущества, а скорее потому, что она есть то «место» в мире, где люди нашей
эпохи встречаются с истиной. Особенно это относится к «чистой науке», в которой
истина не замутнена ни политическими идеологиями, ни желаниями людей,
стремящихся к практически значимым благам. Гейзенберг сравнивает чистую науку как
«центральную часть» всего знания с алтарной частью храма, куда нет доступа
простым мирянам. В это святилище, говорит он, тем более нет доступа сегодняшним
массам. Но сила, исходящая из этой области, подобно силе древних магов, будет
направлена ко благу, если ученый станет еще и «священником» и будет действовать
«во имя божественного начала или судьбы»8.
Гейзенберг здесь рисует своего рода сциентистскую утопию, в центре которой
стоит «чистый» ученый. Правда, не забыт и художник, что и приводит к
максимальному сближению искусства и науки. «Самыми важными, — говорит Гейзенберг, —
являются области чистой науки, где нет больше вопроса о практических приложениях,
но где чистая мысль улавливает в мире скрытые в нем гармонии. И это наиболее
внутренняя область, где наука и искусство не могут больше отличаться друг от друга»9.
Тон этого и других подобных высказываний в финале рукописи заставляет
вспомнить Гераклита («скрытая гармония лучше явной») и пифагорейцев, у которых тоже
истина, красота и религия сходились вместе.
7 В этой области «совершенно чистой истины», говорит Гейзенберг, «невозможно быть
обманутым и что именно здесь решаем не мы, а любовь Бога» (Heisenberg W. Philosophie.
Le manuscript de 1942. P. 392). Так могли бы сказать Кеплер, Ньютон или Лейбниц — великие
рационалисты и ученые эпохи научной революции и становления Нового времени, кризис
которого будет, особенно в послевоенные годы, занимать и мысль Гейзенберга. Неслучайно,
что доклад о соотношении естественно-научной и религиозной истин (Гейзенберг В. Шаги
за горизонт. М., 1987. С. 328-342.) он прочитал при получении им премии имени Р. Гвардини,
с которым у него много общего в критической оценке современной ситуации.
8 Heisenberg W. Philosophie. Le manuscript de 1942. P. 393.
9 Ibid. P. 392. Курсив мой. — В. В.
Вернер Гейзенберг о соотношении искусства и науки
507
Гейзенберг не отрицал различия между наукой и искусством. Но это различие
касается формы и языка, но не конечного содержания, или предмета, которое он
считал в принципе единым и для научного познания, и для искусства. «У
искусства, — говорит Гейзенберг, — другие задачи, чем у науки. Если наука объясняет,
делает понятным, то искусство должно изображать, просветлять и делать зримой
основу человеческой жизни»10. Эту основу или, скорее, средоточие он нередко
называет «центральным порядком», полагая, что самую глубокую и значимую связь
с ним человек находит в мире религии, хотя все сферы духовной жизни и
творчества соотносятся с нею.
Гейзенберг сближает платонистскую интуицию «центрального порядка» (Unum —
Вопит — Verum) и духовность библейской религиозной традиции.
Подлинная религия, — подчеркивает он, — говорит не о нормах, а о путеводных
образах, на которые нам следует ориентироваться в своих поступках и к которым мы
в лучшем случае можем только приближаться. И эти путеводные образы возникают
не из наблюдения непосредственно воспринимаемого мира, а коренятся в сфере
лежащих за ним структур, которую Платон называл царством идей и о которой в
Библии сказано: Бог есть дух11.
Если космологическая физическая вселенная однородна и изотропна, то
вселенная духа, или смысла, по Гейзенбергу, напротив, неоднородна и анизотропна. В
такой неоднородной и анизотропной вселенной смыслов существует «центральный
порядок» как источник осмысленности всего сущего и его поддержки. Гейзенберг
подчеркивает, что к центральной области реальности ведет не только наука (прежде
всего чистая): «.. .имеется, — говорит он, — много путей к этому центру... И наука —
только один из них»12.
Отметим один момент, дающий понять еще одну грань соотношения науки и
искусства. В искусстве, как и в религии, смысл достигается точным образом в неточном
языке притч и символов. Напротив, точные математические формы чистой науки,
если и они в конечном счете указывают на ту же область «центрального порядка»,
что и религия, и искусство, оказываются лишь неточными метафорами по
отношению к ней. При этом в коммуникативном плане научные формы доступны
пониманию лишь специалистов, в то время как религия, равно как и искусство, доступна
в принципе всем людям (что не означает, что для этого не нужны традиции,
подготовляющие к такому пониманию).
Эти рассуждения Гейзенберга о соотношении религии, науки и искусства (сюда
можно присоединить и философию) можно отобразить в схеме, ответственность
за которую мы берем на себя, ибо в таком виде ее нет в трудах Гейзенберга:
10 Гейзенберг В. Шаги за горизонт. С. 262.
11 Там же. С. 334.
12 Там же. С. 32.
508
Раздел четвертый
Характер
языка
Область духовной жизни
Наука
терминированная
рефлексия
как истина вещей
Философия
рефлексия
как
иносказание
Религия, искусство
иносказание
и
рефлексия
В любом языке прямое высказывание смешано с косвенным. Но в
последовательности наука — философия — религия (и искусство) «статистический вес»
иносказания последовательно возрастает. Поэтому в той же последовательности
возрастает значение целостности понимания, обеспечиваемой целостностью понимающего
субъекта, взятого в его интерсубъективных связях.
Выбор типа мировоззренческой ориентации зависит, на наш взгляд, от того, что
мы помещаем в фокус нашей онтологической интуиции — нас самих или
«окружающие» нас вещи (объекты). Если мы выбираем в качестве онтологического
приоритета нас самих, наши интерсубъективные связи, то мировоззрение по своему типу
будет экзистенциально-религиозным или экзистенциально-эстетическим. Если же
мы выбираем в таком качестве мир объектов, не зависимых от нас, то
мировоззрение будет эссенциально-научным или научно-натуралистическим. Гейзенберг, как мы
уже могли в том убедиться, будучи ученым, не был сциентистом, а будучи физиком,
не был физикалистом. Но и экзистенциально-религиозным или экзистенциально-
эстетическим назвать его мировоззрение мы не можем, ибо влияния на него
метафизики Платона и современной науки с сопутствующими ей, пусть только до некоторой
степени, мировоззрениями в духе позитивизма и прагматизма были значительными,
например в 20-е гг. при создании матричного варианта квантовой механики.
Внимание к языку, к символическому измерению духовной жизни, понимание
активной функции человека в формировании образа реальности сближает Гейзен-
берга с неокантианством Кассирера. Но опять: платоновское метафизическое
наследие уводит его от любой формы неокантианства. Читая рукопись, отдаешь себе
отчет в том, что основное, быть может, понятие философского мировоззрения,
понятие смысла, понимается Гейзенбергом как внутри человеческой активности
совершаемое согласие мира с самим собой. Смысл жизни и мира свершается через наше
посредничество, осуществляющее его в нашем творчестве, санкции и силы для
которого в конечном счете исходят от «центрального порядка». Иными словами, для
понятия смысла характерна неустранимость его антропологического измерения,
которое не оторвано от онтологического «центра». Смысл не может быть поэтому
обоснован чисто натуралистически.
«Центральный порядок» у Гейзенберга есть метафора единой благой и
прекрасной истины, соответствующей Единому неоплатоников, соотноситься с которой
человек может только символическим образом. В мир символического общения
с этой высшей сферой Гейзенберг включал не только философское умозрение,
художественное творчество и, конечно, чистую науку. Благодаря своей художественной
одаренности, позволившей ему создать образ целого, ему удалось, не потерявшись
Вернер Гейзенберг о соотношении искусства и науки
509
в частностях, включить науку, искусство, философию и религию в органическое
единство духовной жизни. Апофатическая символология ему была бы ближе, чем
катафатическая рациональная онтология (и теология). Он всегда стремился
использовать иносказательные, символические ресурсы языка и воображения, когда речь
шла о последних вещах, о метафизическом измерении, целостности опыта и о
«широких взаимосвязях» явлений. У него функцию метафизика выполняет скорее
ученый-художник, чем философ-рационалист, философ-систематик. Пожалуй, и
Платон ему близок еще и потому, что хранит опыт значимости художественного начала
в области высшей философии.
Прикосновение к высшему миру, пробуждающее в человеке чувство своей
причастности к нему, как говорит Гейзенберг, «сохраняет свое значение, особенно в наше
время, для многих людей, которые, не будучи принадлежащими ни к какому
определенному религиозному сообществу, встречают другой мир впервые, например, в
звуках фуги Баха или в просветлении, исходящем от научного познания»13.
Гейзенбергу были ведомы такие «прикосновения» в личном опыте. Об одном
из них он скупо сообщает в своей рукописи как об опыте духовного просветления:
«Я мог бы подумать в этой связи, — сообщает он, весьма, впрочем, сдержанно, —
об одной ночи, проведенной летом 1920 года в развалинах Паппенхейма»14. К
сожалению, в рукописи ничего конкретного об этом не говорится. Молчат и
биографы физика. Единственное, что мы можем сказать об этом событии, так это то,
что, судя по позднейшему признанию ученого, его религиозный опыт не был похож
на то, что пережил Паскаль поздним вечером 23 ноября 1654 г., описав пережитое
им в своем «Мемориале». Гейзенберг рассматривал пережитое тогда Паскалем как
пример веры в личностного Бога. «Этот текст, — говорит он о паскалевском
Мемориале, — не был бы справедлив в отношении меня»15.
Характеризуя вдруг открывшийся высший мир как мир нам изначально
знакомый, но забытый, Гейзенберг воспроизводит платоновскую тему анамнесиса —
затерянного в глубине души воспоминания о ее небесной родине, которое внезапно
пробуждается (Менон 8lb-86b, Федон 72е-76е, Федр 250b-d). И это пробуждение он
рисует на манер Пруста, когда вдруг запах или вкус (у Пруста вкус пирожного «мад-
лен») уносит нас в мир давно позабытого, которое оживает. Другой, отличный от
нашего обычного мира, мир открывается сходным образом как в религиозном опыте,
так и в опыте встречи с искусством, прежде всего с музыкальным, а также на
вершинах научного творчества. Все эти переживания-встречи, по Гейзенбергу,
указывают на один и тот же мир высших ценностей, причастность к которому, внезапно
открываемая, рождает чувство признательности и порыв служения ему, дающие
смысл всей жизни человека. Конечно, следует полагать, что в этих просветляющих
13 Heisenberg W. Philosophie. Le manuscript de 1942. P. 377.
14 Ibid. С. 375.
15 Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М., 1989. С. 327.
510
Раздел четвертый
душу человека встречах открывающийся высший мир обнаруживается своими
различными сторонами в случае собственно религиозного опыта, вдохновения,
связанного с искусством, и в случае научного творчества.
Искусство, чистая наука, религия сближаются Гейзенбергом потому, что во всех
этих областях духовной деятельности реализуется причастность человека к лучшему,
дающая ему смысл жизни. Этот платоновский пафос звучит у Гейзенберга в
заключительных словах книги «Часть и целое»:
Фон Хольст достал свой альт... И начал играть... ту написанную молодым
Бетховеном серенаду в ре-мажоре, которая бурлит жизненной силой и радостью и в которой
доверие к центральному порядку повсюду берет верх над малодушием и усталостью.
И когда я слушал ее, то она воплощала для меня уверенность, что пока существует
человек, всегда будет продолжаться это — жизнь, музыка, наука — пусть даже мы
сами лишь краткое время можем участвовать в общей работе, — по словам Нильса,
всегда одновременно и зрители, и действующие лица в великой драме жизни16.
Искусство, философия, чистая наука, религия, раскрываясь навстречу
«центральному порядку», подпитывают духовные силы человека, помогая преодолеть отчаяние.
В понимании искусства Гейзенбергом, как оно проводится в рукописи 1942 г.,
выделяются два основных момента. Во-первых, повышенный, если так можно
выразиться, символизм искусства. На вершине символической функции находятся
религия, музыка и поэзия.
Символ, — говорит Гейзенберг, — в своей изначальной форме близок к
центральной области творческих способностей: он не «обозначает» что-то определенное,
доступное для объяснения, не стремится придать нашей мысли однозначное
направление. Скорее он нас приводит в особое состояние, приготовляя к приему, встрече,
открывает для этого двери, ведущие в труднодоступные области реальности.
Говорить о нем — дело поэта17.
Гейзенберг выстраивает ряд символических форм деятельности и общения людей
в зависимости от того, насколько значимы сами по себе, взятые изолированно,
символы соответствующей формы. Так на одном полюсе этого ряда находится музыка,
ибо, подчеркивает Гейзенберг, «музыка выступает самым показательным примером
того факта, что символы, взятые сами по себе или изолированно, ничего не
обозначая, могут посредством их упорядочивания стать носителями содержания в
духовном мире»18. На другом полюсе находятся символы права и политики, потому
что здесь каждый отдельный символ несет какой-то ему одному присущий смысл.
А между этими полюсами размещаются, начиная от полюса политики и права, наука,
16 Гейзенберг В. Физика и философия. С. 355. Гейзенберг упоминает здесь Нильса Бора.
17 Heisenberg W. Philosophie. Le manuscript de 1942. P. 348.
18 Ibid. P. 360.
Вернер Гейзенберг о соотношении искусства и науки 511
затем философия и искусство (поэзия, живопись, музыка). Существенно то, что связь
между разными символическими формами обусловлена изменением в
специализации символов: рост специализации сопровождается снижением роли их
целостного упорядочивания. В музыке смысловая специализация изолированных звуков
отсутствует и, соответственно, роль разнообразных структур их связи наибольшая.
В науках символы уже весьма сильно специализированы, хотя и здесь важны их
упорядочивание, системность. «Специализм» научного символа обнаруживается как
терминированность языка науки. Иносказательность, притчеобразность языка
искусства как противоположность терминированности соответствует, так сказать, по-
тенцированности его символизма.
Второй ключевой момент в понимании искусства в его связи с наукой, как это
представлено в рукописи и в позднейших работах Гейзенберга, состоит в
фундаментальной роли симметрии и гармонии в самом бытии прекрасного как такового. Чтобы
пояснить суть того, что зовут красотой и с чем как со своей основой связано
искусство, Гейзенберг упоминает калейдоскоп, превращающий цветовой хаос в
эстетически значимый порядок одним лишь внедрением в него системы зеркал. Зеркала дают
эффект симметризации хаотического многоразличия цветов и форм. Число
зеркальных граней в калейдоскопе определяет, говоря математическим языком, порядок
возникающей при этом симметрии. Например, гексагональная зеркальная призма даст
структуры симметрии шестого порядка. Гейзенберг стремится найти элементарные
и опытно переживаемые ситуации превращения хаоса в упорядоченное
симметричное целое, которое наши органы чувств отмечают как причастное к красоте. В таком
понимании красота в искусстве определяется как математическая
пропорциональность частей целого между собой и их с самим целым. Подобные целочисленные
отношения между интервалами в октаве лежат в основе музыкальной гармонии. Наше
ухо настроено на них. И при наличии таких соотношений соответствующие им звуки
будут восприняты как музыка, а не как звуковой шум. Здесь пифагорейско-платони-
стское основание для теории искусства выступает со всей очевидностью, что,
безусловно, не может не соединять самым тесным образом науку и искусство. «Поскольку
стремление к гармоническим упорядочиваниям, — говорит Гейзенберг, — выступает
стимулом научной мысли, постольку наука всегда остается близка к искусству»19.
Однако тезис о симметрии как основе красоты не следует догматизировать,
превращая его в абсолютное правило или критерий художественной работы. В языках
искусства есть место и для асимметрии. Формальная неправильность (асимметрия)
может эстетически значить больше, чем механически проводимая регулярность:
Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне в стихах должно быть все некстати,
Не так, как у людей.
19 Heisenberg W. Philosophie. Le manuscript de 1942. P. 364.
512
Раздел четвертый
Необычность, «беспорядок» (по отношению к грубому образу порядка в глазах
людей, лишенных настоящего чувства красоты), «асимметрия» безусловно значимы
для искусства поэзии. Художественный критик начала XX в. Я. А. Тугендхольд,
отмечая влияние японского искусства на европейскую живопись, писал: «На примере
японцев французские художники поняли всю красоту асимметрии, все очарование
неожиданности, всю магию недосказанности»20. Но еще большей ошибкой было бы,
конечно, отрицать фундаментальный эстетический смысл симметрии и гармонии,
без которых нет красоты ни в природе, ни в искусстве.
Эстетика науки Вернера Гейзенберга
Рассмотрим вопрос об определении красоты, или прекрасного, в связи с наукой
у Гейзенберга подробнее. Он его затрагивает в своем докладе «Значение красоты
в точной науке», прочитанном в Баварской Академии изящных искусств (1970).
Гейзенберг приводит два основных, известных с античности определения красоты.
Первое из них определяет ее как «правильное согласование частей друг с другом
и с целым»21. О нем мы уже говорили выше. Это определение имеет четкие пифаго-
рейско-платоновские истоки и напрямую связывает прекрасное с математической
структурой, с симметрией и гармонией. В своих работах Гейзенберг нередко
употребляет выражение «математические структуры» как синоним эстетически значимых
структур. Например, определяя свой подход к поискам квантовой теории в середине
20-х гг. в отличие от подхода Н. Бора, Гейзенберг говорит: «Бор всегда пытался
приблизиться к решению путем дальнейшей физической интерпретации формул, тогда
как я был гораздо более склонен опираться на формальные математические
структуры, то есть применять в известном смысле эстетические критерии»22. Математика,
по Гейзенбергу, служит адекватным языком для выражения единства,
пронизывающего изнутри многообразие явлений природы. «Математическое отношение
способно сочетать, — подчеркивает он, — две первоначально независимые части в нечто
целое и тем самым создать красоту»23. Примеров тому можно не приводить — они
всем хорошо известны. Нам интересен философский аспект этой концепции
прекрасного, постулирующей «тесную связь между понятным и прекрасным»24.
Красота в ней интеллектуализируется, становится синонимом рационально-прозрачной
20 Тугендхольд Я. А. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. М.,
1987. С. 27.
21 Гейзенберг В. Шаги за горизонт. С. 269.
22 Там же. С. 50.
23 Там же. С. 271.
24 Там же.
Вернер Гейзенберг о соотношении искусства и науки
513
структуры, синонимом постижимости мира. Тем самым исчезает самое, быть
может, важное в ней — непостижимость, тайна, несказанность. Художественно
одаренные люди, поэты и мыслители, чуткие к красоте, это всегда осознавали — в
отличие от ученых, ориентированных догматическим рационализмом. Мы уже говорили
о том, что в искусстве значима не только симметрия, но и асимметрия. П. Валери
в своих «Тетрадях» записывает:
Назначение живописи неясно. Будь оно определенным — скажем, создавать иллюзию
видимых предметов либо радовать взгляд и сознание своеобразным мелодическим
размещением красок и форм, — проблема существенно упростилась бы и, без
сомнения, было бы больше прекрасных произведений (то есть произведений, отвечающих
конкретным требованиям), но исчезли бы вовсе творения необъяснимой красоты25.
Неясность назначения живописи и искусства в целом обусловлена его
непостижимостью в однозначных определениях, невозможностью сформулировать четко
определенные критерии красоты, которые исчерпывали бы ее. Этот момент прекрасного
глубоко понимал, например, С. Л. Франк, подчеркивавший, что то, что открывает
нам прекрасное, «не может быть выражено ни в каком понятии»26, ни в какой
математической структуре. Он, конечно, не спорит с классической эстетикой, отрицая
в прекрасном создании момент соразмерности его частей, их согласованность друг
с другом и с целым. Но он указывает на то, что другой момент феномена
прекрасного, а именно его абсолютная цельность и непосредственная данность, делающие его
«металогическим единством», данным наглядно, чувственно непосредственно,
является приоритетным по отношению к его соразмерности как упорядоченного
многообразия частей. «Везде и всегда, — говорит русский философ, — когда нам удается,
наподобие детей, без размышления жадно воспринимающих образы бытия, иметь
чистый опыт реальности вне всякого умственного ее анализа — мы воспринимаем
реальность как прекрасное»27. В прекрасном угадывается, просвечивая, бытие как
таковое, а значит, непостижимое.
Этот момент присутствует в мистической компоненте всякого подлинного
эстетического опыта. Трансрационалистическая философия, не чуждающаяся, впрочем,
рационализма, но знающая его пределы, описывает эстетический опыт как
погружение «в стихию непостижимого». Позиция Франка — не причуда русского
интуитивиста. Одушевляющий ее пафос лежит в русле тысячелетних традиций
целостного переживания опыта бытия. Пьер Адо в своей последней книге приводит ряд
высказываний, начиная от Чжуан-Цзы и кончая Рильке, Сезанном и
Витгенштейном, выражающих чувство неисчерпаемости, тайны, которое нас захватывает при
встрече-озарении с простым фактом существования. Из этого длинного списка цитат
25 Валери Я. Об искусстве. М., 1976. С. 132. Курсив автора. — ß. В.
26 Франк С. Л. Сочинения. М., 1990. С. 426.
27 Там же. С. 425. Курсив автора. — В. В.
514
Раздел четвертый
я привел бы только слова Гуго фон Гофмансталя, сказавшего, что «большинство
людей не живут живой жизнью, но пребывают в симулякре, в подобии, в своего рода
алгебре, в которой ничего не существует, в которой все только значит. Я же хотел бы
вникнуть в бытие каждой вещи...»28. В «алгебре» привычной рациональной
активности каждый знак значит нечто определенное. Но мир подобных значений есть лишь
поверхность, скрывающая океан непостижимого и прекрасного бытия.
Возвращаясь к докладу Гейзенберга, мы приходим к таким заключениям. Гейзен-
берг указывает в нем на два определения красоты. Первое — это понимание
прекрасного как согласования частей между собой и с целым, максимально сближающее его
с математической структурой. Пифагорейцы, Платон, стоики — вот традиция этого
подхода к феномену красоты. «Это не одно из определений, — подчеркивает Э. Па-
нофски, — а определение красоты, соответствующее греческой классике: от Ксено-
фонта до поздней античности оно почти полностью владеет эстетическим
мышлением»29. Другое понимание красоты восходит к Плотину, который, подчеркивает
Гейзенберг, «обходится вовсе без упоминания частей и называет красотой вечное
сияние Единого, просвечивающего в материальном явлении»30. У Плотина в «Эннеа-
дах» есть два трактата о красоте (16 и V 8), где говорится о сверхчувственной красоте.
Соотношение указанных толкований прекрасного затронуто в трактате I 6. Плотин
здесь говорит, что большинство философов (вероятно, он имеет в виду прежде всего
стоиков) считают красоту порождением соразмерности (συμμετρία) частей друг с
другом и с целым, и продолжает: «Для них ничто простое не будет прекрасным, а
необходимым образом лишь сложное» (16,1). Но выше красоты сложного стоит красота
простого. «Простая же красота цвета, — говорит Плотин, — возникает благодаря
преодолению светом темного начала в материи, ну а сам свет бесплотен, он дух и эй-
дос» (I 6, З)31. Плотин, как справедливо указывает Э. Панофски, сочетает
платоновские и аристотелевские ходы мысли32. Он объясняет проблему согласования
телесного с бестелесным в феномене созерцания красоты с помощью аристотелевского
понятия «внутреннего эйдоса» (ένδον είδος). «Каким образом, — спрашивает он, —
зодчий, сопоставив внешний вид здания с его внутренним эйдосом, говорит, что оно
прекрасно? Не потому ли, что внешний вид здания, если удалить камни, и есть его
внутренний эйдос, разделенный внешней косной материей, эйдос неделимый, хотя
и проявляющийся во многих зданиях» (16,3). Здесь платоновская «идея» согласована
28 Hadot P. La philosophie comme manière de vivre. Entretiens avec J. Carlier et A. I. Davidson.
P., 2001. P. 277.
29 Панофски Э. IDEA. К истории понятия в теориях искусства от античности до
классицизма. СПб., 1999. С. 112.
30 Гейзенберг В. Шаги за горизонт. С. 269.
31 Плотин. Эннеады. Киев, 1995. С. 16,18.
32 Панофски Э. IDEA. С. ПО.
Вернер Гейзенберг о соотношении искусства и науки 515
с аристотелевской «формой». И красота определяется Плотином как «эйдос,
связующий и преодолевающий противную ему, лишенную формы материю» (16, 3).
Световая метафора для Единого разворачивается в трактате V 8. Свет,
преодолевающий темное материальное бесформенное начало, исходит от того света,
«который есть сама красота». Здесь дается очерк красоты умного неба, где преодолевается
та множественность, которую мы созерцаем в нашем мире телесными очами. В
умопостигаемом мире реализуется принцип всеединого, который и выражает высшую
красоту сверхчувственного мира (V 8,6). Согласно этому принципу все содержится
во всем и в этом смысле часть как таковая здесь уже не имеет места, она условна в том
смысле, что есть просто то же самое единое, но в ином его «повороте». Световая
метафора в онтологической эстетике получит еще большее развитие в христианской
традиции, в частности в «метафизике света» Дионисия Ареопагита.
Итак, констатируем, что у Плотина, как и у Гейзенберга, рассматриваются те же
самые дефиниции, или трактовки, красоты, причем «светоединая»
трансрациональная трактовка, в которой целостность-единство как принцип безусловно превосходит
принцип множественности, выступает приоритетной, основной. Плотин отвергает
концепцию красоты как соразмерности частей, ибо она описывает лишь внешний
отблеск настоящей сверхчувственной красоты. Гейзенберг же показывает себя как
человека, адаптирующегося к веку сему, который, как он считает, далеко ушел от
трансрациональной мистики неоплатонизма. Если плотиновскую концепцию прекрасного
(ее вариации мы выше обозначили, цитируя С. Л. Франка и упоминая авторов,
цитируемых Адо) можно условно обозначить как мистико-романтическую и
интуитивную, то другую, на которую опирается Гейзенберг как ученый-теоретик, можно
охарактеризовать как рационально-классическую. Вот слова самого Гейзенберга:
Для некоторых важных эпох в истории искусства это определение (плотиновское. —
В. В.) подходит лучше, чем первое, и часто такие эпохи влекут нас к себе. Но в наше
время трудно говорить об этой стороне красоты (у Плотина это не «сторона», а смысл
и сущность прекрасного. — В. В.), а правило держаться нравов того времени, в
котором приходится жить, и молчать о том, о чем трудно говорить, — пожалуй, верно.
Да, собственно говоря, оба определения не так уж далеки друг от друга.
Удовольствуемся же первым, более трезвым определением красоты, имеющим безусловное
отношение и к естественной науке, и сделаем вывод, что в точном естествознании,
как и в искусстве, главный источник распространяемого света и ясности
заключается в красоте33.
Поразительные слова! Здесь и послушание «духу времени», уступка историческому
релятивизму и, если угодно, оппортунизм (сейчас, мол, трезвая эпоха и
мистические спекуляции как-то неуместны), и поразительное умение все же усесться,
пусть и несимметрично, сразу на двух стульях: ведь, в конце концов, Гейзенберг
фактически принимает отвергаемое им же определение Плотина, говоря о свете
33 Гейзенберг В. Шаги за горизонт. С. 282.
516
Раздел четвертый
и ясности и их источнике. Все это свидетельствует о тонкости вкуса у
искушенного, гуманитарно образованного ученого. Видимо, иного ждать от современного
физика просто невозможно. Хорошо, что он не отвергает «с порога» как мисти-
ко-идеалистические бредни теорию Плотина. Но фактически он «работает»
исключительно с «трезвой», рациональной, всецело «посюсторонней» дефиницией
красоты. Но все же нимб далекого, «центрального» света будет витать над ее
откровением. Мы об этом еще поговорим. Заслуживает внимания и ремарка о том,
что обе дефиниции на самом деле не так уж далеки друг от друга. Их связь
действительно существует, но важно подчеркнуть их субординацию, установить
приоритетную позицию в философии красоты. В процитированных словах Гейзен-
берга звучит, конечно, «мистический» финал «Логико-философского трактата»
Витгенштейна, который он хорошо знал34.
Соотношение пифагорейско-стоической и плотиновской дефиниций красоты
на языке метафоры можно пояснить следующим образом.
Отношение Ньютона к природе, — говорит Гейзенберг, — яснее всего описывается
известными словами о том, что он чувствует себя ребенком, играющим на берегу
океана и радующимся, если ему удается там и сям находить то гладкую гальку, то
красивую ракушку, тогда как перед ним лежит неизведанным великий океан истины35.
Здесь во взаимосвязи единого образа представлены два вида красоты — красота
неизведанного океана, красота изначальная и неисчерпаемая, с одной стороны, и
предметно определенная, математически выразимая красота «красивой ракушки»,
которую дарит великий прекрасный океан пытливому ученому, — с другой. В этом
замечательном образе наглядно раскрывается живая связь и, более того,
субординация этих основных видов красоты.
Сделаем выводы из проделанного нами сравнительного анализа двух
определений красоты и отношения к ним Гейзенберга. Математическое ее определение через
симметрию таит опасность чрезмерной интеллектуализации, рационализации и
объективации прекрасного. В результате — риск утратить главное в феномене красоты:
явление непостижимости бытия, рождающее изумление, удивление, те базовые
эстетические эмоции, которые в принципе не подлежат полному рациональному
объяснению. Иными словами, в одностороннем настаивании на верности этого
определения мы рискуем лишиться чудесного в прекрасном. Гейзенберг это интуитивно
сознает. Поэтому он и не хочет совсем распроститься с тайной прекрасного. И
последнее. Гейзенберг хотя и был физиком, но понимал, что у света, изучаемого
оптической наукой, существует не только его физический рациональный смысл, но и
метафизический и даже мистический. Как у его любимого гётевского Фауста, в нем
уживались две души — платоновско-метафизическая и позитивистско-физическая.
34 В рукописи 1942 г. Гейзенберг больше использует работы Витгенштейна 30-х гг., а не
«Трактат» (Heisenberg W. Philosophie. Le manuscript de 1942. P. 183).
35 Гейзенберг В. Шаги за горизонт. С. 291.
Вернер Гейзенберг о соотношении искусства и науки
517
Споря с одним позитивистом, он «противился тому, чтобы считать физическое
значение слова "светлый" единственным собственным значением, а все остальные
объявлять переносными»36. А это ведь значит, что и свет Единого, просвечивающий в
материи, которую он одолевает, был вовсе не чужд его эстетике.
Связь этих определений красоты может быть показана in concretoy если
проанализировать решающий шаг в открытии матричного варианта квантовой механики,
сделанный Гейзенбергом в мае 1925 г. на острове Гельголанд. Декарт знал свою
ноябрьскую ночь великого озарения (1619), случившегося с ним во сне, в городе Ульме
на берегу Дуная. У Гейзенберга была своя, майская, ночь на берегу Северного моря.
Рассмотрим свидетельство о ней, приводимое ученым в его творческой
автобиографии. К этому времени Гейзенберг твердо решил опираться в поисках
математической закономерности в атомных явлениях на одни только наблюдаемые величины.
В случае спектров — это частоты и интенсивности. Так как попытки найти
математический закон, управляющий спектрами атома водорода, оказались неудачными
из-за сложности объекта, то Гейзенберг избрал более простую механическую
систему ангармонического осциллятора, применяемую в атомной физике и
описываемую теми же наблюдаемыми величинами. В конце концов ему удалось составить
энергетическую таблицу, или матрицу энергии, для этого случая. И когда он
убедился, что она удовлетворяет требованию закона сохранения энергии, то все
сомнения разом исчезли.
В первый момент, — пишет Гейзенберг, — я до глубины души испугался. У меня было
ощущение, что я гляжу сквозь поверхность атомных явлений на лежащее глубоко
под нею основание поразительной внутренней красоты, и у меня кружилась голова
от мысли, что я могу теперь проследить всю полноту математических структур,
которые там, в глубине, развернула передо мной природа. Я был так взволнован, что
не мог и думать о сне37.
Как свидетельствует ученый, тогда ему открылся, говоря метафорически, не
более «чем освещенный солнцем край скалы в горах над Ахензее». Световое сравнение
указывает на то, что во всем этом сюжете значимо не только классическое
понимание красоты как математической соразмерности частей и целого, но и
неоплатоническое ее понимание как просвечивания Единого сквозь пелену материи. Гейзенберг
помнил древнее изречение Pulchritudo splendor veritatis ('красота — сияние истины'):
«Исследователь, — говорит он, — узнает истину прежде всего по этому сиянию, по
излучаемому ею свечению» 3\ В конце этой главы, где приводится его рассказ о
решающем шаге в открытии матричной квантовой механики, Гейзенберг вкладывает
в уста Эйнштейна явно свои (но и Эйнштейна тоже) мысли о красоте и простоте
36 Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. С. 255.
37 Там же. С. 190.
38 Гейзенберг В. Шаги за горизонт. С. 275.
518
Раздел четвертый
математической схемы как свидетельстве ее истинности. Эти слова можно и, на наш
взгляд, нужно толковать как спокойно подводимый итог событию той гельголанд-
ской ночи:
Простота и красота математической схемы, подсказанной нам здесь природой,
обладают для меня большой убеждающей силой. Ведь Вы тоже, — продолжает
Эйнштейн, обращаясь к Гейзенбергу, — должны были пережить состояние, когда почти
пугаешься от простоты и завершенной цельности закономерностей, которые
природа вдруг развертывает перед нами39.
Слово для пережитого тогда Гейзенбергом выбрано им также не случайно: «озарение»40.
Важно и другое — внезапный страх, испуг, пережитый в первый момент
озарения Гейзенбергом. Он о нем говорит дважды — в уже приведенном прямом описании
озарения и в косвенном его итоге, прозвучавшем в финале главы из уст Эйнштейна,
беседующего с Гейзенбергом. В своем докладе в Баварской Академии изящных
искусств, сделанном уже после выхода в свет книги «Часть и целое» (Мюнхен, 1969),
Гейзенберг опять возвращается к теме подобного озарения и сопровождающего его
испуга, трепета перед раскрывшейся красотой невидимого мира, таинственным
образом управляющего миром видимым. Выступая перед художниками с речью о роли
красоты в точной науке, Гейзенберг неслучайно обращается снова к воспоминанию
об озарении, посетившем его той майской ночью 1925 г.:
Говоря о развертывании прекрасной первоструктуры, мы еще не ответили на ранее
поставленный вопрос: что же просвечивает в этих структурах, что позволяет
распознать великую взаимосвязь еще до того, как она рационально понята во всех
деталях? Мы тут с самого начала должны допустить, что и такое познание может
оказаться обманчивым. Но что непосредственное познание существует, что существует
тот испуг перед прекрасным, о котором говорит Платон в «Федре», здесь,
по-видимому, не может быть никаких сомнений41.
Логическое ударение в этих словах падает на признание существования
«непосредственного познания», максимально, если можно так выразиться, эстетически
насыщенного. Оно может оказаться ошибочным, и поэтому его нужно проверять всеми
рациональными средствами, экспериментами в том числе. Но оно прежде всего есть
и связано с внезапным откровением красотыу рождающей испуг и трепет.
Почему имеет место испуг перед красотой? Зафиксированный факт испуга
рожден озарением и явлением красоты в той самой структуре, которую он увидел
как бы на дне природы памятной ночью мая 1925 г. Платоновские слова в «Федре»
(251а), к которым отсылает Гейзенберг, таковы: «Кто только что принял посвящение
39 Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. С. 196.
40 Там же.
41 Гейзенберг В. Шаги за горизонт. С. 277-278.
Вернер Гейзенберг о соотношении искусства и науки 519
в таинства, кто много узрел из явленного тогда, тот — едва увидев богоподобное лицо,
хорошо воспроизводящее ту красоту... — сперва повергается в дрожь и на него
находит какой-то страх (δειμάτων), вроде как было с ним и тогда»42 (пер. А. Н. Егунова).
Это — момент повторного приобщения души к сверхчувственному умному миру
«подлинно сущего» (Федр, 249е), миру высшему и божественному, благому и
прекрасному, который некогда душа созерцала. Душа, «хранящая память о
прекрасном» (Там же, 25Id), вдруг встречая прекрасное воплощенным, трепещет от здешней
встречи со сверхчувственным миром с его невыразимой красотой. Здесь надо
сказать, что испуг сопровождается благоговением и радостью (Там же). Но мы обратили
внимание именно на страх и испуг, потому что приобщение души к
сверхчувственному прекрасному миру начинается с него. Об этом в унисон говорят и Гейзенберг,
и Платон. Поэты и пророки, провидцы и первооткрыватели — все они знают этот
первичный испуг. Прикосновение души к божественному глаголу рождает трепет —
читаем мы и у Пушкина («но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется,
душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел»). Видимо, воплощенное
существо не может не трепетать при встрече с существом нетварным, сверхчувственным,
одним словом божественным. Поэтому мы должны сказать, что здесь имеет место
встреча с тайной, возбуждающей трепет, — с mysterium tremendumy по выражению
Р. Отто, автора книги «Das Heilige» (1917). Пойти дальше самого феномена мы здесь
не можем. «Почти головокружение», испуг «до глубины души», крайняя
«взволнованность» — все эти выражения, используемые Гейзенбергом при описании
пережитого им озарения, лишь приблизительно описывают состояние души при встрече
с миром такой красоты.
Светящийся эйдос, поразительно прекрасный, был увиден преодолевающим
хаос темной материи атомов, и поэтому здесь присутствует и плотиновское
понимание красоты. Но этот эйдос имел вид математической структуры со всеми
присущими ей элементами, позволяющими сочетать части (эмпирического мира,
например спектров атомов) в единое связное, гармоническое целое. Таким образом, был
явлен не просто поразительной красоты образ, замкнутый в самом себе, как нечто
всецело умопостигаемое и безотносительное к постигаемому чувствами. Нет, было
явлено, что открывшийся образ, или эйдос, «живет» в самих доступных
чувственному восприятию вещах. Тем самым здесь соединились Платон и Аристотель,
Плотин и стоики. Соединились, иными словами, обе трактовки красоты, о которых мы
говорили, обращаясь к Плотину и Гейзенбергу.
Мы все время говорили о красоте мира невидимого, вдруг открывающегося в мире
видимом, что порождает трепет, потрясение души и затем — благоговение. Но это
невидимое прекрасное есть и истинное, хотя, как заметил Гейзенберг, будучи
осторожным ученым, видения красоты в науках могут быть в принципе и обманчивыми. Они
должны еще «вписаться» в контекст данных и выдержать разнообразные проверки.
Но как бы там ни было, само явление красоты — сигнал о приближении к истине.
42 Платон. Федр / Под ред. Ю. А. Шичалина. М., 1989.
520
Раздел четвертый
Теперь мы понимаем, почему, будучи все же больше платоником, чем
позитивистом, Гейзенберг не мог не сближать искусство и точную науку. Нам остается
проследить, как, в каких ситуациях он проводит между ними аналогию, как он их
сближает in concrete, рассматривая как две очень близкие области духовного творчества.
Сближение это можно обозначить такими именами-символами, как Платон и Гёте.
То, что стоит за именем Платона (здесь и пифагорейцы, и Плотин), мы уже
рассмотрели в общих чертах, анализируя соотношение двух дефиниций красоты,
приводимых Гейзенбергом. Перейдем поэтому к феномену Гёте, к тому горизонту сближения
искусства и науки, который нам открывает это имя.
То, что Гейзенберг интересовался Гёте, хорошо знал его творчество еще с
гимназических лет, известно. Мы уже сказали, что в мае 1941 г. он читал в Будапеште
лекцию о Гёте и Ньютоне. Это, в частности, указывает на воздействие гётевской
проблематики на его философскую рукопись 1942 г., следы которой, как мы уже
говорили, нетрудно обнаружить. В мае 1967 г. Гейзенберг выступил в Гётевском
обществе в г. Веймаре с докладом «Картина природы у Гёте и научно-технический мир»43.
Именно это выступление позволяет нам в целостном виде и в существенных чертах
представить значение Гёте для понимания Гейзенбергом некоторых важных
аспектов соотношения точного естествознания и искусства.
Гёте рассматривал творческий процесс как существенным образом единый —
независимо от исторически обособившихся форм его протекания в искусствах и науках.
Интеллектуальное постижение и художественное восприятие, — справедливо
пишет о нем С. Л. Франк, — есть у него один и тот же творческий процесс... так что вся
двойственность между искусством и наукой, между поэтическим вымыслом и
научной изобретательностью в известном смысле погашена в нем и слита в
неразрывное единство44.
Художественно-изучающий взгляд на природу и открывает истину о ней, и
отображает ее красоту. Художественная и научная правда, красота и истина вообще у Гёте
никак не различаются. Вот его слова: «В искусстве и науке, как и в действовании, все
сводится к тому, чтобы чисто воспринимать объекты и считаться с их природой»45.
Формообразующее начало природы действует в творчестве человека, позволяя ему
раскрывать первоявления, морфологию живого и превращения форм, что
составляет и дело искусства, и задачу науки. Умного чувства достаточно и для искусства,
и для науки. Исчисление и эксперимент, по Гёте, уводят от проникновения в прафе-
номены природы, дальше которых идти в мир абстракций он считал ненужным.
Понимающая способность, по Гёте, конкретна, а не абстрактна, художественно-цельна,
43 Гейзенберг В. Шаги за горизонт. С. 306-323.
44 Франк С. Л. Из этюдов о Гёте. Гносеология Гёте // Русская мысль. Год XXXI, кн. VIII,
август. М., 1910. С. 74.
45 Там же. С. 80.
Вернер Гейзенберг о соотношении искусства и науки
521
а не аналитична. Природа «работает» гештальтами, и человек, считает поэт-ученый,
тоже должен целостно и образно — первообразно — понимать ее.
Гёте стоит в ряду классических художников-мыслителей, который можно
начать, если не брать античность, с Леонардо и Рафаэля. Следуя классической
эстетике творчества, художник, пытливо, всецело поглощенный своей натурой, изучает
ее. И в современную эпоху, как бы художники со времен романтизма ни
поддавались соблазну идеала абсолютно свободного творчества из самих себя, все равно
они достигают вершин искусства, лишь изучая природу, которая есть самый
гениальный Художник. Большой знаток искусства кн. Сергей Щербатов однажды застал
Врубеля за работой на балконе дачи, когда художник писал акварелью лиловые кам-
пулы: «Горшок с цветами стоял совсем рядом, у самого его лица, и каким пытливым
взором, смотря на них в упор, он изучал структуру цветка, чашечки лепестков,
причудливые подробности этих прелестных колокольчиков!»46. Напряженное изучение,
проникающее вглядывание в натуру у настоящего художника не отличаются от
подобной работы, например, у ученого-ботаника. Различие между ними — в обработке,
в выражении найденного. Наука классифицирует, ставит вопросы о причинах
обнаруженных явлений. Искусство же дает нам ту же природу в ее целостной жизни,
причем так, что она оказывается органически пропитанной и человеческим духом,
становясь значимой для человека не только как выражение ее как объекта, но и как
откровение его собственной внутренней жизни. Если для науки значимо
«очищение» объекта от субъекта, то искусство скорее «очищает» самого субъекта,
формируя его душу. В искусстве недействительно картезианское разделение мира на
субъективный и объективный47. Вторичные качества в искусстве первичны. И чувство
живописи развито у художника умеющего передать целостность колористического
мира, в котором жизнь цвета не только не уступает ведущей роли форме,
достигаемой рисунком, а может даже превосходить ее.
«Реализм», «романтизм» и другие подобные им слова следует употреблять крайне
осторожно: подобные абстракции чужды духу настоящего искусства. А вот слова
гениального художника и умного образованного человека М. А. Врубеля надо
обдумать и принять всерьез: «Написать натуру, — говорит Врубель, — нельзя и не нужно,
должно поймать ее красоту»48. В науке должно «поймать» объективную истину, в
искусстве — красоту. А методы, творческие кредо художников и ученых уже не так
важны, если цель при этом достигается.
Однако вернемся к Гёте и его толкованию Гейзенбергом. Ключевое слово, где,
по мысли Гейзенберга, Гёте разошелся с современной наукой, — «абстракция». «Гёте
46 Щербатов Сергей, кн. Художник в ушедшей России. М. 2000. С. 315.
47 Гейзенберг говорит о том, что религия с ее особым языком призвана «избежать раскола
мира на объективную и субъективную стороны», ибо «в самом деле, — вопрошает он, — кто
сможет утверждать, что объективная сторона более реальна, чем субъективная?» (Гейзенберг В.
Шаги за горизонт. С. 339). То же самое следует сказать и об искусстве.
48 Константин Коровин вспоминает... М., 1990. С. 89.
522
Раздел четвертый
был убежден, — говорит Гейзенберг, — что отвлечение от чувственной реальности
мира, вступление в эту беспредельную сферу абстракции должно принести с собой
гораздо больше дурного, чем доброго»49. Но естествознание с Ньютона и даже раньше
пошло, подчеркивает Гейзенберг, путем абстракции, идеализации и эксперимента,
который сам есть воплощенная предметно-деятельностная абстракция. Гейзенберг
видит абстрактность современного естествознания в двух моментах. Во-первых, в его
аналитизме, позволяющем сложное и качественное сводить к простому и
количественно выразимому. Гёте же считал, что в таких упрощающих абстракциях природа
не схватывается, а изгоняется из наших построений. Второй связанный с первым
вид абстракции в основаниях новоевропейского естествознания — математические
структуры. Математика нивелирует качественно разнородные явления, если
находит для их пестроты единые математические формы. Многое и важное в мире
истинного, считал Гёте, при этом просто становится недоступным (письмо к Цельтеру,
цитируемое Гейзенбергом50).
Не ставя своей целью подробное изложение взглядов Гейзенберга на Гёте,
отметим только самые важные для нашей темы моменты. Прежде всего, опыт
немецкого поэта ценен для Гейзенберга тем, что он заставляет призадуматься над
опасностями, которые в равной мере подстерегают и искусство, и науку при том условии,
если они порывают свою органическую связь с тем, что Гейзенберг называл
«центральным порядком», или «духовным средоточием», возможно намекая на
понятие «середины» (Mitte) у австрийского теоретика искусства Г. Зедльмайера. Кстати,
в своей философии Гейзенберг пользуется сильными и емкими метафорами
(«центральный порядок», «компас»), демонстрируя познавательную силу художественной
интуиции в целостном осмыслении мира. Так вот, Гёте, говорит Гейзенберг, не хотел
признавать той науки, которая порвала свои изначальные связи с «центральным
порядком» как с единой благой истиной (Unum — Вопит — Verumy то есть 'единое —
благое — истинное'). Тем самым она понизила присущую ей истинность до одной
лишь «правильности», ибо она уже не определяется высшим божественным
порядком или духовным сосредоточием и поэтому «рискует попасть в лапы дьявола, если
снова вспомнить "Фауста"»51. Гёте считал, что структуры «центрального порядка»,
на который человек должен ориентироваться, доступны и открываются всем
способностям человека, а не только отвлеченной абстрактной мысли. Эти центральные
структуры выявляются, говорит Гёте, «зрением, знанием, предчувствием, верой»52.
Уступкой дьяволу в сфере знания и была ньютоновская наука, считает Гёте,
а в сфере искусства — романтическое движение. Подчеркнем следующий интересный
момент: романтизм был реакцией на подъем новой науки и техники, формирующей
49 Гейзенберг В. Шаги за горизонт. С. 308.
50 Там же. С. 310.
51 Там же. С. 314.
52 Там же. С. 316.
Вернер Гейзенберг о соотношении искусства и науки
523
индустриальное общество. Гёте же не принимал ни подобной науки, ни того
искусства, которое было реакцией на нее. Он видел, несмотря на их видимую
противоположность, их единую — абстрактную — сущность.
Всякое искусство, — пишет Гейзенберг, — которое, подобно романтизму, удаляется
от мира, которое стремится выразить не реальный мир, а лишь его отражение в душе
художника, казалось ему (Гёте. — В. В.) столь же неудовлетворительным, как и наука,
которая избирает в качестве предмета не свободную природу, а особые,
изолированные с помощью приборов и в известной мере искусственно изготовленные явления53.
Это — базовая аналогия между наукой и искусством, пусть с некоторыми
существенными оговорками, о которых мы скажем ниже, принимаемая вслед за Гёте и Гейзен-
бергом. Люциферический соблазн следует из нее как опасность и для искусства —
абстрактное искусство поддалось его чарам, — и для современной, ушедшей далеко
от человека и его духовной жизни науки.
Теперь скажем об упомянутых оговорках. В отличие от Гёте, Гейзенберг высоко
ценит значение музыки, которую трудно себе представить без ее достижений в
романтическую эпоху. Как бы отнесся Гёте к романтизму, если бы ему был вполне
понятен язык Шуберта? — спрашивает Гейзенберг. Вопрос для него в известной мере
риторический, ибо сам он примиряется с романтизмом, потому что высоко ценит
этот язык, понимая его связь с «центральным порядком», для «волн» которого он
способен открывать души людей. Но принимая язык романтической музыки,
Гейзенберг, конечно, принимает (в смысле «духовно оправдывает») и язык современной
науки. В этом отличие его позиции от позиции Гёте, которая глубоко на него повлияла
и которую он не отбросил, а только смягчил, скорректировал, быть может, и не без
эклектики. Вот решающие его слова: «Та светлая сфера, о которой мы говорили выше
в связи с романтической музыкой и повсеместное присутствие которой в природе
умел распознать Гёте, — эта сфера стала зримой и в современном естествознании,
а именно там, где оно свидетельствует о едином мировом порядке»54.
Пора подвести итоги, хотя некоторые аспекты взглядов Гейзенберга на
соотношение науки и искусства остались нами незатронутыми. Но существенные моменты
его эстетики науки, полагаю, все же удалось осветить. Будучи человеком глубокой
гуманитарной культуры, тонким знатоком музыки и поэзии, Гейзенберг постоянно
сравнивает работу ученого и художника. Например, он говорит, что Н. Бор так же
пользуется данными классической и квантовой теории, как живописец кистью и
красками55. Это и подобные места в его работах можно расценить как понимание им
близости этих двух сфер деятельности. И основу для нее образует их отношение к
высшим базовым смыслам, к которым они открывают для человека доступ. Гейзенберг
Гейзенберг В. Шаги за горизонт. С. 316.
Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. С. 168.
Там же.
524
Раздел четвертый
считал, что квантовая механика существенным образом сблизила гуманитарное
познание и естественные науки. Действительно, если мы хотим говорить о
квантовом объекте на языке обыденного опыта с его схемами объективации вещей в
пространстве и времени, то нам поневоле приходится переходить к своего рода притчам
и иносказаниям, что, по Гейзенбергу, характеризует язык искусства и религии.
Вопрос, остающийся все еще предметом спора, таков: в какой мере современная наука,
в виде квантовой механики например, действительно преодолевает порог
объективации? Мы здесь не можем его рассматривать, анализируя метафизический смысл
науки и ее возможной динамики. Частично и в связи как раз с квантовой механикой
и работами Гейзенберга мы об этом говорили в другой работе56.
Духовная функция искусства несомненна. Если, конечно, оно не порывает
изначальных своих связей с «центральным порядком», со смысловым ядром мира в
целом. Фанатическая установка на индивидуальную новизну и абсолютную свободу
любой ценой приводит к падению искусства. Валентин Серов ушел из Московского
училища живописи, ваяния и зодчества (1909), потому что не выдержал массового
подражания парижской моде, когда механическое «раскручивание» готового приема
стало синонимом настоящего — «передового» — искусства57. Вопрос о падении
современной науки, видимо, сложнее. И точка зрения Гейзенберга понятна — он всю
жизнь служил чистой науке, и его опыту мы не можем не верить. А он нам говорит
о том, что и фуга Баха, и матричная механика квантовых явлений равно устремлены
к высшим духовным глубинам неисчерпаемой и таинственной реальности, в
которой, говоря словами его друга и учителя Нильса Бора, мы одновременно и зрители,
и участники ее драмы.
И последнее. Опыт ученого-творца служил ему мерилом для оценки общей
ситуации в современном искусстве. Он не отождествлял падение искусства и
состояние его разброда, той неопределенности, в которой оно находится в наши дни,
проводя аналогию между ним и состоянием физики в начале XX в. до создания теории
относительности и квантовой механики. Иными словами, Гейзенберг верил, что как
наука вышла из кризиса, совершив прорыв к новому необычному пониманию
природы, так, видимо, в будущем возможен подобный же прорыв искусства к новым
жизненно полноценным и универсальным формам.
56 Визгин В. П. Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель: резонанс творческой мысли //
Исследования по истории физики и механики 2002. М.: Наука, 2003 С. 194-196.
57 Гейзенберг вполне бы понял жест Серова: «Опыт нашей работы в науке, —
констатирует ученый, — говорит, что нет более неплодотворной максимы, чем: новое любой ценой!»
(Гейзенберг В. Шаги за горизонт. С. 267).
ГРАНИЦЫ НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ НАУКИ
Представления о границах науки зависят от принятой модели науки. Так,
например, в «археологии знания» М. Фуко наука рассматривается как дискурс, и в
соответствии с такой моделью в ней развивается представление о серии «порогов» или
границ «научного дискурса» (пороги позитивности, эпистемологизации, научности
и формализации). Наука как когнитивная система имеет относительные границы
(познанное / непознанное) и абсолютные (познаваемое / непознаваемое как
недоступное познанию). Наука как социокультурный институт граничит с другими сферами
культуры (религией, политикой и т. д.). Эти границы мы называем внешними в
отличие от тех, названных выше, которые функционируют внутри научного познания
и очерчивают познавательную динамику науки как когнитивной системы
(внутренние границы). В нашем анализе мы главным образом будем рассматривать науку как
историческую структуру, сложившуюся в определенной социокультурной ситуации
в XVI-XVII вв. и претерпевающую серьезные изменения в XX в. (границы науки в
период становления Нового времени и соответственно в период наметившегося
выхода из него). Эти крайние точки для краткости называем модерном и постмодерном.
Наш анализ нацелен на прояснение возможности конца феномена новоевропейской
науки как культурно-исторической ситуативной реальности.
Действительно в определенном социокультурном контексте новая наука
возникает, что означает вместе с тем формирование и осознание ее границ, а затем
и механизмов их защиты, а точнее, целого пограничного режима. Затем следует ее
длительная эволюция, без которой нельзя себе представить развитие техногенной
цивилизации. Наконец, в XX в. в науке происходят глубокие изменения, ее границы
становятся как бы более «прозрачными», многие ее черты, типичные для времени
ее генезиса, уходят, в результате чего образ науки постмодерна сильно отличается
от образа науки модерна.
Антиномия границ науки
У науки есть очевидные границы и одновременно она безгранична — так можно
сформулировать основную антиномию границ науки. Как же одно увязывается
с другим? Факт наличия границ науки воспринимается как констатация опыта
повседневности: вот перед нами лаборатория, приборы, измерительная техника, вот
526
Раздел четвертый
научное сообщество и научная культура, хранящие правила обращения с
необходимой для научных исследований техникой. А вот не-наука — искусство, литература,
религия, наконец, просто обыденная жизнь с ее проблемами... Иными словами, при
таком взгляде на вещи наука выступает как особая, а значит, и ограниченная
(имеющая тем самым границы) «часть» большой жизни общества и его культуры. Наука —
это особый род человеческой активности, имеющий свой смысл, свои цели (ставки),
свои обещания и угрозы, надежды и риски. Итак, непосредственно ясно, что
«научный человек» — только «часть» целого человека и, соответственно, «научный
человек» — «частичный человек». Нам трудно себе представить человека, ничем за
пределами научного отношения к действительности не обладающего. Мы интуитивно
чувствуем, что полная сциентификация человеческой жизни — не более чем сюжет
для (анти)утопии, которая вряд ли осуществима и в будущем при самых
благоприятных для науки социокультурных, экономических и других условиях.
Но в то же самое время наука не имеет границ, однако в другом смысле, чем
рассмотренный выше. В каком же? Наука не имеет границ как метод познания и
мышления, как способ представления устойчивых связей явлений, как целенаправленная
система их обработки, заменяющая мир повседневности и традиционных верований
такими конструкциями, которые позволяют контролировать явления. Наука
безгранична как универсальный метод. Яснее это можно представить, вспомнив, что
основу научного метода, предложенного одним из основоположников новой науки,
Декартом, составляла математика. Сам предмет приложения научного метода может
казаться ненаучным или на самом деле быть таковым, но все равно он к нему
может быть применен. Идет ли речь о лирической поэзии, сфере искусства или
религии — везде можно провести определенную методически организованную сциенти-
фикацию, предварительно, конечно, определив условия, при которых она возможна.
После этого в соответствующих рамках можно строить модели, искать
количественные соотношения, чертить схемы и таблицы, говорить о корреляции величин и даже
ставить вопрос о причинах наблюдаемых явлений. Конечно, в разных областях
ценность сциентифицирующих процедур будет различной. Для узких и стабильных
срезов реальности это может быть вполне успешно работающей теоретической
физикой или научной химией. Для каких-то других пластов и уровней реальности
ценность такого рода приемов может падать. И если применение научного метода к
каким-то областям и выглядит поначалу натянутым и малопродуктивным, то вовсе
не исключено, что со временем ситуация может измениться, как это не раз бывало
в истории научного познания.
Итак, наука безгранична как методическое созидание контролируемого мира.
Этот предсказуемый, пусть и не абсолютно, мир есть мир научных моделей
реальности. Следует отличать науку от «науковерия»: конструирование таких моделей,
отдающее себе отчет в том, что оно конструирует именно только модели реальности,
которые последнюю никак не исчерпывают, есть наука, научное отношение к
реальности. «Науковерие» же означает веру в то, что такие модели суть сама реальность
и что другой реальности (ненаучной) не существует вообще. Если принимается тезис,
Границы новоевропейской науки
527
что научная реальность исчерпывает реальность как таковую, то можно говорить
о «науковерии», о «сциентомонизме», если угодно. Поэтому можно сказать, что наука
конечна, но в то же время безгранична. Ситуация эта напоминает нам ту, которая
была зафиксирована в начале рождения релятивистской космологии со сферической
моделью вселенной у Эйнштейна (трехмерная гиперсфера конечна, но безгранична).
Вопрос о границах науки имеет и свое метафизическое измерение.
Всюду, где не господствует умопостигаемая необходимость, — пишет Маритен, —
и невозможно свести вывод к необходимым основаниям, то есть, иными словами,
в необъятной области свободы и случайности, в сфере единичного, взятого как
таковое, наука должна уступить место мнению, верованию, вероятностному суждению
или простым констатациям факта1.
Здесь вопрос о границах науки перенесен в область метафизических категорий и
выступает как глубокий философский вопрос. Маритен четко обозначает два
пограничных рубежа науки. Во-первых, область применимости науки не есть область
свободы, а во-вторых, наука не может быть знанием о единичном, что было выяснено
еще Аристотелем. Первый рубеж был на фундаментальном уровне прояснен прежде
всего Кантом, установившим именно здесь границу для сферы научного опыта. Мир
свободы, по Канту, остается вне схватывания наукой, выступая как основание
самой возможности морали и религиозного сознания. Наука же имеет свою
легитимную нишу в другом мире, в мире необходимостей опыта, на уровне явлений,
определяемых априорными формами чувственности и подлежащих обработке рассудком
с его категориями. Что же касается второго обозначенного Маритеном рубежа науки,
то с ним дело обстоит достаточно сложно, потому что попытки включить в сферу
науки единичное шли давно и с разных сторон — как со стороны философии и
методологии (например, у Риккерта), так и со стороны собственно науки (например,
у Пригожина). Так как все это требует специального анализа, далеко выходящего
за рамки нашей статьи, то мы оставим эту проблему без внимания, ограничившись
только одним замечанием.
На наш взгляд, любой известный нам исторически определенный тип науки —
от античной до современной — предполагает, что предмет науки может быть
представлен как мир естественно-необходимого. Понятие закона природы, пусть и
усовершенствованное и обогащенное вероятностным подходом к его представлению,
очерчивает зону доступного для выражения наличными научными средствами и
методами, что дает в результате не просто возможность высказывать общезначимые
и необходимые суждения о соответствующих явлениях, но и контролировать их,
используя для этого требуемую технику. Постоянство природы, регулярность
связей и отношений остается презумпцией науки, даже если она стремится охватить
единичные события. Правда, при такой попытке возникает мир возможных миров,
множественность виртуальных сценариев, и мы покидаем поле классической науки,
1 Maritain J. Le Songe de Descartes. P., 1932. P. 71.
528
Раздел четвертый
оказываясь в рамках науки постнеклассической. Процессуальный характер самой
науки, ее историко-культурная обусловленность, выражаемая в ее изменениях и даже
революциях, приводит нас к необходимости рассматривать вопрос о границах науки
в конкретном историческом социокультурном контексте.
Наука выступает лишь как часть такого контекста и тем самым имеет в нем
вполне ощутимые границы. Культурные традиции, нацеленные на смыслополагаю-
щие практики, на удерживание и воспроизводство целей и конечных мотивов
действий человека, фиксирующие и передающие опыт такого рода, лежат вне собственно
научных практик и тех форм деятельности с ними связанных, которые их используют.
Если бы революционерам-радикалам от Науки или Разума удалось «обнулить» в
порыве уничтожения «старого мира» именно этот массив культуры, то новый
«прекрасный» (brave) научный мир, как его описывал О. Хаксли, мог бы стать реальностью.
На уровне, условно говоря, культурной антропологии художник, поэт, священник
или даже просто верующий человек — сохранившиеся фигуры традиции,
представляющие собой запредельный для «научного человека» мир. Но именно «научный
человек» является базовым человеком проекта модерна в целом, особенно начиная
с Просвещения и вызванного им подъема сциентизма и позитивизма. Подчеркнем,
что сам этот проект родился в Европе в XVII в., так сказать, не от хорошей жизни.
Тянувшиеся целое столетие попытки преодолеть европейские междоусобицы с
помощью примирения враждующих конфессий (подобные идеи развивали и Николай Ку-
занский, и Бруно) привели к разочарованию в них, а вместе с тем и в религии вообще.
В результате главным упованием европейцев на взаимопонимание стал не
религиозный, а научно-технический универсализм. Вот как пишет об этом А. Дж. Тойнби:
«После сотни лет бесконечных кровавых гражданских войн под знаменами
различных религиозных течений западные народы почувствовали отвращение не только
к религиозным войнам, но и к самой религии»2. Но чем в таком случае была
заменена религия, вера в которую так серьезно надломилась? Она была заменена наукой,
нацеленной на земное обустройство человека с помощью зависимой от нее техники.
Этот план великого обновления, выдвинутый Ф. Бэконом, поддержанный и
развитый Декартом и др., и стал основой проекта Нового времени (модерна).
Мир современной культуры устроен как бы по принципу дополнительности
основных метафизических позиций, ни одна из которых сама по себе не может
представлять всю целостность бытия. Все в мире может быть подведено под понятие
естественной необходимости (вместе с понятием причинности, пусть и
меняющимся), и столь же все в нем может рассматриваться в свете свободы. Как
свободный субъект этически мотивированного действия человек ориентируется
нравственно-религиозным пониманием мира (это вовсе не означает отрицания возможности
добродетели без религиозной веры). В таком случае события в мире выступают
не с их научно-причинной стороны, а оказываются знаками объективного
нравственного мира, обращенными к духовному центру человека как личности. Иными
2 Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М., СПб., 1996. С. 179.
Границы новоевропейской науки
529
словами, в качестве субъекта нравственной жизни человек «читает» книгу мира,
опираясь на словарь онтологии свободы, расшифровывая ее тексты или как
свидетельства своей нравственной правоты, или, напротив, как указания на свои
нравственные ошибки. При такой установке сознания мир естественных причин как
нечто самостоятельно сущее просто не существует для человека. Однако он может для
него возникнуть, если человек определит себя как познающего, а значит, и как
субъекта науки (хотя наука и не исчерпывает собой всего познавательного отношения
к миру). В этом случае он будет видеть мир сквозь призму необходимостей разума
или законов природы (что в принципе одно и то же, определяясь в своей сущности
как совпадение бытия и мышления, без допущения которого познание оказывается
невозможным).
Ситуацию с границами науки можно выразить и так: наука безгранична, но для
постижения мира как целостности ее недостаточно. Для этого нужна не только
наука, но необходимы и искусство, литература, опыт нравственной и
государственной жизни, религия и другие сферы духовной и культурной жизни.
Вопрос о границах науки — это совсем другой вопрос, чем вопрос о границах
научного мировоззрения. На наш взгляд, научное мировоззрение в конечном счете не
отвечает самой задаче мировоззрения как такового — дать целостный единый взгляд
на всю совокупность бытия с тем, чтобы понять не только естественные
необходимости природы, но и нравственную свободу человека. Научное мировоззрение
замыкается в рамках «природоверия» или детерминистического натурализма, причем
изменение, внесенное в понятие причинности квантовой механикой, здесь оказывается
несущественным, ибо вероятностный характер законов не отменяет детерминизма
в более широком обобщенном смысле. Именно поэтому научное мировоззрение
не может объяснить фундаментальную свободу человека как субъекта
нравственности. В плане онтологической иерархии начало свободы оказывается более высокого
ранга категорией, чем противоположное ей начало необходимости. Таковы, на наш
взгляд, основания того, что научное мировоззрение как попытка ограничить
мировоззрение человека натуралистическим детерминизмом, образец для которого
заимствуется из науки, оказывается в конце концов философски несостоятельным, ибо
достичь целостности взгляда при этом не удается. Но для того чтобы наука успешно
«работала», научное мировоззрение и не нужно. Оно, строго говоря, вовсе не следует
из факта самой науки как таковой. И история идей это подтверждает. Действительно,
основатели научного метода и новой науки, как правило, не разделяли научного
мировоззрения. Например, у Декарта была теория двух истин — истины «естественного
света разума» и истины «света веры» (la lumière de la foi). При этом он с полным
осознанием их иерархии ставил вторую истину выше первой. Но уже у Деруа (1598-1679),
ближайшего ученика Декарта3, принцип двойственности истины исчезает и
возникает материалистическое и атеистическое мировоззрение, положительная
научная база которого сознательно ограничивается механистическим естествознанием.
3 Фишер К История новой философии. Декарт. СПб., 1994. С. 270-272.
530
Раздел четвертый
В этом случае мы можем сказать, что если Декарт и удерживается от соблазна,
создав основы новой науки, впасть в односторонность научного мировоззрения
механистического толка, то его ученик и последователь (он здесь — только пример для
демонстрации целой тенденции, обозначившейся с середины XVII в. и усилившейся
в век Просвещения) совершает такой переход, не являющийся, однако, научно
обязательным. Но нам важно подчеркнуть даже не это, а то, что отсутствие, строго говоря,
у Декарта научного мировоззрения вовсе не мешало ему делать выдающиеся
научные открытия, закладывая фундамент новой науки. Отметим еще один момент.
Выбор мировоззренческой ориентации мы не сможем понять, если будем иметь в виду
только интеллектуальные и научные события. На самом деле на мировоззренческие
предпочтения западных европейцев в середине XVII в. воздействовали как более
мощные, чем интеллектуальные, факторы социокультурной и политической истории,
в частности бессилие западного мира преодолеть порочный круг конфессиональных
войн и конфликтов, о чем мы уже упомянули выше. Именно неудача обрести
«вечный мир» в рамках всех устраивающей религиозной идентичности вызвала такой
непропорционально огромный интерес к попыткам найти основу для мирного
консенсуса в науке и технологии, истины которых как база для универсальной
коммуникации верифицируются общезначимым стандартным и культурно нейтральным
образом. Тем самым религиозное ядро мировоззрения стало всего лишь Privatsache.
Именно эта новая глубинная культурная диспозиция предопределила подъем
атеистического и материалистического мировоззрения, оправдывающего себя своей
якобы безусловной научностью.
Вера в науку как в единственный спасающий человечество род деятельности,
не имеющий достойных конкурентов, была серьезно подорвана лишь в XX в., хотя
всегда в Новое время существовали мыслители, понимавшие опасность
догматического «науковерия» для жизненных основ европейской культурной традиции
(таков в XVII в. Паскаль). Перейдем теперь от этих замечаний общего характера к
более конкретному рассмотрению ситуации сначала на пороге модерна, а затем в его
предполагаемом конце (постмодерн) с тем, чтобы попытаться выявить
крупномасштабную динамику пограничного режима новой науки.
Формирование границ науки в эпоху научной революции
В результате научной революции XVI-XVII вв. было создано математическое
естествознание во главе с механикой. Гуманитарное знание или сопротивлялось
монополии естественно-научной парадигмы и опирающихся на нее философий, или
подчинялось ей, пытаясь встать вровень с естественными науками благодаря
применению естественно-научных подходов. Попытки дать самостоятельный статус
гуманитарному знанию развиваются в полную меру лишь к концу XIX в. В XIX же веке
влиятельные позиции занимали как раз редукционистские подходы к специфике
Границы новоевропейской науки
531
гуманитарного знания. Понятно, что феномен современной техники также связан
с естественными науками с математикой во главе. Поэтому, говоря о науке Нового
времени, мы будем иметь в виду именно математическое естествознание, иногда
называя его как универсальную научную парадигму просто «наукой».
Научная деятельность осуществляет особого рода посредничество между
обществом и природой, целью которого является способное к росту производство
знания о ней. Это посредничество регулируется подвижной системой правил,
имеющих свои исторические и культурные истоки. Эти правила можно представить как
внешние и внутренние. Внутренние правила регулируют собственно познавательную
активность (правила теоретизирования и экспериментирования, которые
разбиваются на множество более частных правил — правила обращения с приборами,
правила измерений, обработки их результатов, правила теоретической работы и т. п.).
Внешние же правила регулируют социальное поведение ученого, определяя нормы
соотношения науки с иными прилегающими к ней секторами общества и культуры.
Соответственно такому различению правил можно говорить и о внутренних и
внешних границах науки.
Наука может рассматриваться и как система научного познания, и как
соответствующий этой когнитивной функции социальный институт. Отталкиваясь от
такого представления науки, можно определить ее внутренние и внешние границы,
Внутренние границы науки — это ее границы как знания, причем здесь
выделяются границы двух видов — познанное / непознанное и познаваемое /
непознаваемое. Внешние же границы — это границы науки как социокультурного института,
соединяющие науку с другими социальными институтами — политическими,
экономическими и т. п. — и отделяющие ее от них.
На внутренних границах науки происходит упорядочивание взаимодействия
субъекта и объекта познания, нацеленное на получение значимых результатов,
оформляющихся в новое знание. Соответственно, на внешних границах действует
режим, также направленный на эффективность науки как целостного предприятия
по производству знания, но при этом вклад в его результативность вносится
стимулирующими его связями с общественными структурами вне самой науки как
социального института. Принципиально важно то, что оба вида границ взаимно связаны,
а пограничные режимы, устанавливаемые в указанных зонах, будучи не
безразличными друг к другу, подвергаются взаимосогласованию, опять-таки
ориентированному на эффективность всего научного предприятия в целом.
Какие же задачи, говоря более конкретно, решает взаимодействие этих двух
основных видов границ науки? Главной задачей является согласование двух видов
определяющих науку контекстов — социокультурного и
познавательно-методологического. Та социокультурная диспозиция, на которой как на основании выстраивается
познавательная «машина» науки, имеет амбивалентное отношение к тому, что
принято называть научной истиной. Действительно, во-первых, подобная базовая
диспозиция предоставляет определенное поле для эффективных познавательных «игр»,
нацеленных на получение истин о природе. Поэтому такой потенциал должен быть
532
Раздел четвертый
обязательно задействован во всем его объеме. И именно поэтому всегда существует,
так сказать, минимум «прозрачности» внешних границ науки. Поле научной
культуры как ближайшее околонаучное поле, примыкающее к собственно науке, никогда
целиком и полностью не экранируется от социокультурных воздействий, сколь бы
жестким ни был пограничный режим, защищающий науку от не-науки на ее
внешних границах. Во-вторых, наука как объективное знание, оформляющее себя во
всеобщих и необходимых формах, не только позитивно использует исторически
определенный социокультурный диспозиционныи контекст, задающий ей ее горизонт,
но и стремится «стереть» его невсеобщность и относительность или временную
ограниченность. И именно этот последний момент делает возможной науку как
кумулятивно-прогрессивный преемственный процесс роста знания. Модернизаторская
или презентистская установка в историографии науки базируется как раз на этом
моменте. Действительно, без преодолевающей исторический релятивизм
объективности знания такой взгляд на науку невозможен. Напротив, спорящая с
указанной установкой пассеистская или герменевтическая установка использует первый
из вышеуказанных моментов, подчеркивая укоренение научных смыслов в
историческом социокультурном контексте.
После этого предварительного замечания об основной классификации границ
науки (внешние / внутренние) мы можем перейти к рассмотрению, пусть и в общих
чертах и не претендуя на исчерпывающее решение вопроса, к рассмотрению режима
границ новой науки в эпоху ее возникновения. Недооформленность рождающейся
науки, проявляемая в том, что она пока еще не признана в своей автономии
обществом и не получила своего ясного самосознания, равносильна тому, чтобы говорить
об особой «прозрачности» ее еще не сложившихся вполне границ. Эта эпоха
характеризуется поэтому тем, что отличить науку от не-науки, скажем от паранауки, трудно,
а порой и просто невозможно. Проследим подобный тип ситуации на примере
соотношения рождающейся науки и магико-герметической традиции.
Возникающая наука как бы «вязнет» в плотно ее охватывающем культурном
контексте, будучи не в силах до поры до времени решительно отделиться от него в
качестве автономной структуры. В этих условиях новое научное знание более-менее
свободно конкурирует с ненаучными формами знания, не имея по сравнению с ними
никаких социальных привилегий, даваемых государством или общественным
мнением. Формирующаяся наука активно использует различные свободно
проникающие в нее культурные схемы и импульсы, преобразует их, что-то при этом
отбрасывая, а что-то, напротив, усваивая. В ходе такого процесса некоторые традиции
и культурные формы, представляющиеся нам «иррациональными»,
переоформившись, включаются в новую научную рациональность или способствуют ее
итоговому конструированию и распространению. Конечно, ситуацию можно обозначить
и так: в тот период, когда наука только еще формируется, у нее нет и границ. Ведь,
действительно, они тоже только еще формируются. Стабильная демаркация
границ будет установлена лишь тогда, когда сами ученые скажут, что же такое наука
и что такое не-наука, когда, более того, возникнут объективные критерии подобного
Границы новоевропейской науки
533
различения и будут установлены институционально оформленные «фильтры» или
«мембраны» на ее границах.
Весь подобный процесс можно проследить, изучая полемики и споры настоящих
новых ученых с псевдоучеными. Правда, подобное различение как раз и будет
установлено в результате таких полемик, ведущихся открыто перед лицом
общественного мнения. Эти полемики задают как бы парадигмальную фигуру
разделительного жеста, отделяющего науку от не-науки. Внутреннее конституирующее границы
науки начало будет весьма скоро оформлено и внешним, социальным и
институциональным, образом. И вот тогда, когда возникнет регламентированно действующее
научное сообщество, когда будут основаны первые научные академии и общества
с соответствующими средствами представления научных результатов и их
циркуляции и т. п., вот тогда можно будет сказать, что в науке установлен вполне
стабильный «пропускной режим» на ее границах, как внутренних, так и внешних.
Напомним, что английское Королевское общество возникает в 1662 г., а печатный орган
его (Philosophical Transactions) начинает выходить через три года. Во Франции же
сначала был основан печатный орган новой науки (Journal des Savants, 1665), а год
спустя была образована Королевская академия наук, институализовавшая уже
существовавшие научные кружки.
Представление о культурной мембране, использующее в качестве аналогии 6а-
рьерно-пропускные функции биомембран, вводимое нами для характеристики
пограничного режима уже возникшей науки, является для нас ключевым.
Действительно, оно позволяет провести периодизацию процесса формирования новой науки.
Первый его период характеризуется «домембранным» режимом на границах науки
in statu nascendi. Становящийся наукой познавательный организм переходной эпохи
как бы «всеяден», поглощая самые разные культурные воздействия, и его поведение
на внутренних границах тоже не отличается отлаженностью и упорядоченностью.
Но затем ситуация меняется. И во втором периоде, когда устанавливаются
«мембраны» на всех границах, научный организм уже можно считать сложившимся. Одни
культурные влияния решительно отбрасываются, другие, напротив, «впитываются»
ставшим научным организмом. Такая же определенность господствует и на
внутренних границах, когда определены научные методы, правила вывода,
установлены основные аксиомы научного знания, а также правила работы в
экспериментальной области. Стабилизированный набор правил, регулирующий связи субъекта
и объекта познания, тоже ведь можно рассматривать с помощью метафоры
«мембраны» — наукогенные воздействия, идущие от объекта познания, пропускаются
и преобразуются в «тело» знания, а все прочие не допускаются в научное
производство и остаются без внимания.
Поясним некоторыми примерами «домембранное» состояние пограничного
режима становящейся науки. Для этого обратим внимание на предложенное
историками науки понятие «эмпиристского платонизма», обозначающего определенное
течение среди ученых XVI-XVII вв. Эмпиристский платонизм выступает как особая
традиция, идущая от Р. Бэкона с его идеей scientia mathematica experimentalis. Именно
534
Раздел четвертый
данная традиция явилась первостепенной важности фактором формирования новой
науки. Эмпиристский платонизм распространялся среди европейских ученых
главным образом благодаря движению английских парацельсистов. Что же собой
представляет концептуальное ядро эмпиристского платонизма?
Его типичные характеристики проясняются при сравнении парацельсизма,
в рамках которого эмпиристский платонизм распространялся, с флорентийским
платонизмом Фичино и Пико. Действительно, флорентийский платонизм — это
платонизм гуманистический, литературный, философско-отвлеченный или
умозрительный. Принципы единства микрокосмоса и макрокосмоса, всеобщей
одушевленности мира, математические гармонии, пронизывающие мироздание, и многие
другие черты платонической натурфилософии даны во флорентийском платонизме
именно в эстетическо-созерцательном плане, а не как средства практического
преобразования мира в интересах человека. Книжная гуманистическая культура
доминирует в мировосприятии флорентийских (нео)платоников. Напротив, Парацельс —
антикнижный человек, борющийся с гуманизмом литераторов и философов. И хотя
основные вышеперечисленные принципы неоплатонизма и герметизма мы находим
и у Парацельса и его сторонников, но здесь они преломлены именно через
императивы практики и живой контакт с многообразием природы. Парацельсисты ближе
к практикующим алхимикам, это — ятрохимики-практики. Эмпиристский
платонизм, таким образом, органически соединяет спиритуалъно-платонистские
принципы с подчеркнуто эмпирическим подходом к изучению природы с целью
практического воздействия на нее в интересах человека.
Представление об эмпирико-платонистской традиции позволяет провести
демаркацию среди ученых этого периода, в основу которой положена близость ученого
к новому типу учености. Как считает Метаксопулос, применивший это представление
для описания научной революции, известный английский герметист Р. Флудд (1574-
1637) выходит за рамки того слоя тогдашних ученых, которые включаются в
новонаучный «ковчег спасения»4. Он не преодолевает границ, отделяющих магико-герме-
тическую картину мира от научной (пусть еще в стадии дооформления). Но вот уже
весьма близкий к нему по духу Дж. Ди (1527-1608) попадает под определение
эмпирико-платонистской учености постольку, поскольку «астрология служит ему для целей
навигации, а аналогия между микрокосмосом и макрокосмом — для переосмысления
архитектурных теорий Витрувия и Альберти»5. Т. Харриот (1560-1621) и У. Гильберт
(1540-1603) также могут рассчитывать на зачисление их в категорию эмпирически
настроенных платоников. В целом представление об эмпиристском платонизме для
целей подобной демаркации ученых этого переходного времени «работает». Однако
все же существуют и некоторые сомнения. Действительно, ведь изгоняемый из слоя
ученых эмпирико-платонистского типа Р. Флудд отстаивал научно полноценную
4 Metaxopoulos Ε. A la suite de F. A. Yates: Debate sur le rôle de la tradition hermétiste dans
la révolution scientifique des XVI-e et XVI 1-е siècles // Rev. de synthèse. 1982. T. 103. No. 105. P. 59.
5 Ibid. P. 59.
Границы новоевропейской науки
535
теорию кровообращения Гарвея, в то время как известный механицист и атомист
П. Гассенди выступал против нее, оставаясь при всем своем «передовизме» на галени-
стских позициях. Такого рода замечания можно делать по отношению к практически
всем ученым этого времени. Тем не менее верно и то, что их ранжирование по
признаку научности не совсем бесплодно. Ведь оно позволяет нам построить своего рода
целую шкалу степеней «отмывания» «темного» ренессансного мага, конечным
пределом которой выступает ученый нового типа. И несмотря на многочисленные
сближения Флудда с новой наукой, цели его деятельности остаются явно герметическими.
В это переходное время действительно существовал ряд смешанных категорий
учености, через посредство которых магико-герметическая традиция вместе с
традициями неоплатонизма и рядом других, наличных в эпоху Ренессанса, как бы
непрерывным образом переходили в новую науку. Но, что очень важно, и разрывы
преемственности тоже имели место. И именно они набирали силу в первой трети
XVII в., обозначившись в серии показательных полемик Кеплера с Флуддом, Мер-
сенна с ним же и со всей герметической традицией. Эмпиристский платонизм
выступил важной переходной структурой. Он, конечно, не был строго научным в новом
смысле слова. Но, что существенно, он в то же время не был и чужд науке. Поэтому
он и может выполнять функцию одного из средств проведения указанной
демаркации ученых этого периода. Историкам еще предстоит построить
конкретизированную, но цельную картину формирования новой науки, а следовательно, и динамики
ее границ. Общее же направление этих процессов состоит в том, чтобы на границах
возникающей науки поставить своего рода «блокпосты», препятствующие
проникновению в нее теперь уже явно не-научных традиций и приемов мышления, прежде
всего связанных с магико-герметической и натурфилософской традициями
Возрождения. Установление такого пограничного режима шло с разными скоростями
и в различных формах в разных европейских странах. Так, например, если для
Англии ученый типа эмпирика-платониста был весьма типичной фигурой, то во
Франции преобладал тип рационалиста, выдающимся образцом которого был Декарт.
Существенным рубежом, отделяющим магико-герметическую ученость от
науки нового типа, является ее элитарный эзотерический характер. Эксперимент,
математика, логические приемы доказательства — все это в известной мере и форме
характеризует и настоящую науку, и оккультную паранауку Флудда или Ди. И
поэтому главное отличие науки от подобной паранауки состоит в программе
социализации знания, в отношении его к коммуникативному пространству, к его реальной
доступности для каждого человека. Герметическое знание — наука для избранных,
для посвященных, это мистическое и потому «трудное» знание.
Напротив, — как справедливо пишет историк, — главная социальная идея
механицизма — идея естественного равенства в познании — означает, что познание
доступно всем. Естественного разума, в равной мере разделяемого ремесленником
и ученым, вполне достаточно для того, чтобы иметь доступ к познанию вещей.
Более того, научное знание есть знание лишь постольку, поскольку оно сообщается.
536
Раздел четвертый
И именно в этом состоит принцип образования научных обществ, решительным
образом отделяющий их от магических сект, от алхимических групп, как, например,
легендарное братство розенкрейцеров. Между героическим энтузиазмом бруновского
толка, воодушевлявшим протестантские секты, воплощавшие утопическую мечту
Ренессанса, и программой социализации знания, которая воодушевляла научные
общества, имеется мало точек соприкосновения6.
Тем не менее, и мы это уже показали, такие точки соприкосновения были. Однако
в меняющемся социокультурном контексте (Контрреформация набирает силу в ответ
на подъем Реформации) легитимность магической компоненты в составе ранее
принятого образа ученого ставится под вопрос, что обнаруживается в упомянутых выше
полемиках. Но решительное размежевание между, условно, магией и наукой не падает
с неба. Еще Ф. Бэкон выступает за реформу магии, указывая на глубину и серьезность
заключенных в ее традиции знаний, но в то же время отбрасывая спекуляции на этом
знании и откровенное шарлатанство. Именно Бэкон и преодолевает горизонт узости
и сектантства в социальной проекции магического знания. Бэконианский тип ученого —
это очищенный от гностическо-герметической заносчивости эзотерика и решительно
повернутый к экзотерическому рациональному характеру научной культуры тип
ученого. Кроме того, важно учитывать и новую, пуританского происхождения духовную
струю в менталитете ученого сословия Англии времен Ф. Бэкона. Именно под ее
энтузиастическим и одновременно отрезвляющим воздействием ренессансный
маг-ученый (сначала фичино-пиковского, а затем, проходя еще через ряд влияний, розенкрей-
церовского толка) постепенно превращается в скромного ученого-экспериментатора
в духе Р. Бойля. Та научно-эмпирическая аскеза, которую нам демонстрирует Бойль,
отвечает глубокому морально-религиозному настроению уверенности в спасении
именно через прогресс научных знаний, нацеленный на облегчение страданий людей.
Для Ф. Бэкона как идеолога движения научного эмпиризма горделивые и
самонадеянные фантазии ренессансных магов представляются как бы вторым падением
человека, в результате которого он может утратить плодоносный для него и его
спасения контакт с природой, открываемый новой наукой. Искупить этот грех, по мысли
Ф. Бэкона, можно только смиренным служением науке как методическому
исследованию природы, нацеленному на благо людей. Примером неприемлемого для Ф.
Бэкона мага был Бруно, рядом с которым великий реформатор наук ставит Патрици,
Гильберта, Кампанеллу. Для Бэкона настолько неприемлем весь этот тип
мага-ученого, что он, как говорится, вместе с водой выплескивает и ребенка — отвергая Бруно,
он отказывается и от пропагандируемого Ноланцем гелиоцентризма, а отталкиваясь
от мага-математика Дж. Ди, пренебрегает в своей концепции научного метода
математикой! Условно говоря, неразборчивость жестов ученых, с помощью которых
они отмежевывались от своих магических двойников, говорит нам и о том, что наука
6 Metaxopoulos Ε. A la suite de F. A. Yates: Debate sur le rôle de la tradition hermétiste dans
la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles. P. 63.
Границы новоевропейской науки
537
и не-наука еще очень незначительно отличались друг от друга даже в сознании
ученых, не говоря уже о широкой публике, которая их просто не отличала. Кроме того,
в этой неразборчивости, как и поспешности, Ф. Бэкона мы видим отклик на
настоятельную, диктуемую временем необходимость самозащиты рождающейся науки,
угроза которой была и немалой, и разносторонней. Действительно, ей угрожали
одновременно с разных фронтов — со стороны религиозной (ведь это еще и время
Контрреформации) и со стороны магико-герметического движения. И
открещиваясь от герметизма с «пережиманием педали», ученые надеялись достичь признания
науки со стороны властных религиозных институтов.
До Нового времени наука смешивалась не только с магией и с оккультными
дисциплинами, но и с элементами религиозного мировоззрения, поскольку в те времена
наука претендовала на целостность мировоззрения, на полноту понимания бытия,
включая и сверхъестественное начало. Но к началу XVII в. такое смешение стало
особенно неприемлемым, так как представляло собой угрозу как для традиционной
религии, так и для возникающей науки. В конце концов, Новое время стремилось
к тотальной дифференции во всей культуре, везде в это время остро встает вопрос
об отделении ранее всегда выступавших вместе сфер культуры и знания. И особенно
острой была проблема автономизации науки и отделения ее от религиозного
отношения к миру. И именно механистическое естествознание, которое в это время
складывается и у Галилея, и у Декарта, позволяло это разграничение провести с полной
четкостью. Действительно, ведь механистическая наука недвусмысленно определила,
что такое естественное как таковое или природа, ставшая предметом этой науки.
Религии же и теологии при этом в качестве их привилегии, которую они по праву
ни с кем разделять не хотели (тем самым отбрасывались на культурную периферию
герметизм и возрожденческая натурфилософия), оставалась задача определения
Бога или сверхъестественного. При таком четком разделе предметов и компетенций
между наукой и религией все формы сознания и знания, которые в него не
укладывались, были решительным образом маргинализированы.
Восхождение герметически окрашенного гуманизма в XV-XVI вв. вместе с
падением чувства христиански значимой греховности человека меняли лицо как культуры
в целом, так и науки. Ситуацию можно с достаточной долей правдоподобия описать
с помощью модели культурных ансамблей (см. о ней ниже). Действительно, внутри
западноевропейского культурного ансамбля к XVI в. обнаружились существенные
противоречия и дисгармонии. Возрожденческий гуманизм, получивший исходный
неоплатонически-герметический импульс, придавал божественный статус Солнцу, что
явно расходилось с геоцентрической космологией Птолемея. Поэтому путь
последовательной гармонизации внутри культурного ансамбля с неизбежностью вел к замене
птолемеевской космологии коперниканской, а затем возникшее при этом
противоречие между новой космологией и аристотелевской физикой было ликвидировано
созданием новой механики. В результате такой «кооперативной» гармонизации культурного
ансамбля и возникла, как можно предположить, новая наука. Импульс, полученный
культурой от нового активного элемента в культурном целом (от возрожденческого
538
Раздел четвертый
гуманизма), приспосабливал к себе разные научные сектора культуры, причем
соблюдалась определенная последовательность адаптационных актов. Однако к началу
XVII в. ситуация стала меняться. Это проявилось в том, что стал обнаруживаться все
более явный разрыв новой механистической науки со всей спиритуалистическо-гер-
метической традицией Возрождения, обусловленный стремлением новой науки к
автономии по отношению к указанной традиции, способной скомпрометировать ее
в условиях Контрреформации. Возникший в этих уникальных условиях союз
христианства и науки стал, однако, довольно быстро подвергаться испытаниям, так как
образ науки стали связывать с безрелигиозным проектом модерна, в рамках которого
функции религии берет на себя сама наука. Размежевание науки с магико-гермети-
ческой традицией завершилось тогда, когда по меньшей мере две ее существенные
черты были унаследованы от этой традиции. Во-первых, это тенденция ценить в
знании прежде всего мощное средство практического воздействия на мир в интересах
человека. Действительно, подобно Агриппе (1486-1535), оккультисту XVI в., основатели
новой науки Ф. Бэкон и Р. Декарт ишут «сильную» и универсальную науку, с помощью
которой человек мог бы установить свое господство над природой. Во-вторых, новая
наука подобно оккультному знанию эзотериков осознает себя как фактор духовного
совершенствования самой человеческой природы. Именно открытость внешних
границ возникающей науки привела к тому, что она унаследовала эти важнейшие свои
характеристики от возрожденческого спиритуалистического и герметического знания.
Наука XVII в. ищет и формулирует принципы истинного метода как
правильного пути к достижению научных истин, к свершению новых открытий. Она не
сомневается в своих силах, будучи уверенной в том, что истины «естественного света
разума» ей вполне доступны. Наука в это время отделяется от религии и теологии,
равно как и от других сфер культуры. Но, оформив свои границы, она осознает
безграничность своей способности познавать и совершенствовать мир и человека.
Религиозная миссия, таким образом, возлагается на науку неслучайно и более-менее
явно, что с особой экстенсивной силой обнаруживается в эпоху Просвещения.
Если кратко выразить суть процесса формирования границ новой науки,
то можно сказать, что десакрализация и секуляризация отношения к природе как
на уровне социальном (проект «демократического», экзотерического, всем
доступного знания), так и на уровне когнитивном (концепция природы и естественного
механического закона, отвергающая действие сверхъестественного в мире
естественного), легли в основу демаркации как внешних, так и внутренних границ новой науки.
Наука постмодерна: проблема границ
За возникновением науки, завершившимся в XVII в., следует рост научных знаний,
распространение научного метода на новые области, им еще не охваченные.
Внутренние границы науки постоянно расширяются. То, что сначала было препятствием для
Границы новоевропейской науки
539
познания и вытеснялось из него, потому что средства для его научного охвата
отсутствовали, становится затем точкой роста нового знания. Иными словами,
внутренние пределы науки превращаются из ее границ в своего рода «трамплины» для ее
продвижения. Тем самым внутренние границы науки все время расширяются и
переопределяются. То, что не укладывалось, например, в рамки классической
механики, впоследствии стимулирует качественный рост знания, в результате которого
эти трудности получают объяснение. В XX в. возникает новая механика,
выступающая как более мощная, чем классическая, теоретическая система. Вот как пишут
об этом Пригожий и Стенгерс:
Речь шла даже не о том, чтобы просто найти слабые места в здании классической
физики. Парадокс времени был решен с помощью теоремы Пуанкаре, открытия
динамической неустойчивости и, как результат, отказа от отдельных траекторий. Нам
необходимо превратить этот недостаток в достоинство, превратить хаос в новое
орудие исследования ситуаций, до сих пор остававшихся вне досягаемости физики7.
Подобная досягаемость все время растет. Но и она имеет пределы или границы.
И это — новый смысл представления о границах науки, который стал фигурировать
в размышлениях о науке уже в XX веке, особенно в его второй половине. Иными
словами, в нашей классификации границ науки мы должны подчеркнуть такое членение:
границы относительные (к ним относятся вышерассмотренные границы согласно
классификации их на внутренние и внешние) и границы абсолютные. В эпоху
постнового времени (постмодерна) особый интерес вызывает вопрос именно об
абсолютных границах науки. Есть и такие вопросы в сегодняшней науке, которые
используют размытое представление о границах, когда нам действительно неясно, идет ли
речь об относительных внутренних границах (динамика познанного / непознанного)
или же о границах абсолютных (познаваемое / непознаваемое). Например, таков
вопрос о характере физического мира за пределами космологической сингулярности.
Мы имеем в виду, например, состояние вселенной до начала Большого взрыва. Как
считает Ю. С. Владимиров, «современная наука не может дать ответ» на такого рода
вопрос8. Но столь же, на наш взгляд, возможно, что наука никогда не сможет дать
ответа на такой и подобный ему вопросы.
Такова ситуация на внутренних границах науки. Но в наше время обнаружились
пределы науки и на ее внешних рубежах, относительно которых мы также не знаем,
будут ли они преодолены (в этом случае они должны быть приняты за
относительные границы) или же станут абсолютными границами науки. Действительно, в наше
время обнаружились границы науки не только как познавательного производства,
но и как технологической «машины», наделенной определенной экономической и
социальной реальностью. Например, четко выступили границы науки в связи с
непосильными финансовыми затратами, которых требуют некоторые научные проекты,
7 Пригожий И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. М., 1994. С. 262.
8 Владимиров Ю. С. Фундаментальная физика, философия и религия. Кострома, 1996. С. 173.
540
Раздел четвертый
скажем, в области физики сверхвысоких энергий. Иного рода границы, но также
с пока еще неясной природой, обнаружились и в исследованиях по генной
инженерии, в области биотехнологии и т. п. Здесь рост науки столкнулся с этико-социаль-
ными пределами. Как оказалось, наука может подорвать изнутри само
существование человеческих обществ, деформировав его этико-антропологический фундамент.
Уже сегодня некоторые значимые для продвижения науки и техники эксперименты
запрещены или близки к тому. Так, почти прекращены ядерные взрывы, в которых,
конечно, нуждаются технология и наука для своего прогресса. Давление,
оказываемое наукой и наукоемкой технологией как гигантским социо-техно-экономическим
механизмом на ресурсы выживания человеческих обществ, может оказаться таким
сильным (и уже оказывается таковым в ряде пунктов), что рост науки будет
приостановлен. И пока нам трудно сказать — навсегда или только на время. Дело в том,
что сама идея бесконечного прогресса, разделяемая большинством образованных
классов в конце XIX в., сейчас поставлена под радикальное сомнение. Именно в
таких поворотах мысли мы и видим реальные признаки постмодерна, нового
культурного самосознания.
Творцы новой науки (Ф. Бэкон, Декарт, Ньютон) не знали об этих границах науки
ровно ничего. Рост науки казался им беспредельным. Ренессансный гуманизм,
казалось, «приручил» идею бесконечности, перенеся ее с далекого божественного начала
на земного человека, вооруженного наукой и техникой. Идея бесконечности после
упомянутого нами кризиса Европы в период безысходных межконфессиональных
войн в XVI-XVII вв. перекочевала от теологии к науке и основанной на ней
философии автономного разума и прогресса. Пределы роста науки были воочию открыты
лишь в XX в. вместе с обнаружением пределов самого технологического роста в
рамках индустриального общества9. Решающим моментом здесь выступило осознание
конечности минеральных и биосферных ресурсов планеты для поддержки такого
рода неограниченного роста. Способности обратимой ассимиляции биосферой
техногенных изменений в результате такого роста также обнаружили свою конечность.
Философия XX в. открыла не только онтологическую конечность человека, но и
конечность самого основания его бесконечной гордости самим собой — научного
разума с его техногенной активностью, преобразующей мир.
Если в наши дни бросить даже беглый взгляд на литературу, посвященную
проблеме пределов научного роста, то мы увидим, что это одна из самых популярных
тем. И это не скоропреходящая и пустая мода, а выражение той глубокой
озабоченности, которую проявляют сами ученые и те, кто думает о науке как философ или
культуролог. Собравшиеся на конференции «Конец науки» ученые (октябрь 1989 г.)
заявили буквально следующее: «Поскольку мы занимаемся изучением мира сегодня,
нас не покидает все более острое ощущение того, что мы подошли к концу науки, что
9 Первый доклад Римскому клубу под названием «Пределы роста», подготовленный Д. Ме-
доузом, был опубликован в 1972 г. См.: Римский клуб. История создания, избранные доклады
и выступления, официальные материалы. М., 1997. С. 123-146.
Границы новоевропейской науки
541
наука как некая универсальная объективная разновидность человеческой
деятельности завершилась»10. Участники конференции имели в виду потерю веры в
способность науки к открытию объективной внеисторической и внесоциальной истины.
Подобный исторический и культурологический релятивизм фиксирует философ-
ско-мировоззренческие границы классического образа науки. Сегодня релятивизм
очень влиятельное умонастроение, имеющее множество своих концептуальных
вариантов. Наука сравнивается с ее соседями в мире культуры — с литературой или
мифом. Подобно тому, как априорный горизонт возможного опыта в науке задается
такими базовыми категориями, как, скажем, пространство и время, имеющими
согласно релятивизму свое основание не в абсолютной истине, а в социокультурном
контексте, являющемся исторической переменной, точно так же и горизонт
возможного в мифе или литературе задается их общей структурой, также являющейся
функцией общества и его истории. В рамках релятивизма научная истина оказывается
всецело функцией социокультурной истории, выступающей ее последним основанием.
Релятивизм нам нужно рассмотреть более пристально, потому что именно он
обосновывает возможность исторического конца науки: в одной исторической
социокультурной ситуации наука возникает, и в иной ситуации она может кончиться.
Ситуационно-историческая концепция развития науки была предложена немецким
философом науки К. Хюбнером, который рассматривает научное знание как
зависимое от системного исторического ансамбля. Согласно теории науки Хюбнера,
представления об истине, о реальности, факте зависят от исторически развивающихся
культурных контекстов или ансамблей. Наука развивается не в силу имманентной
логики — логики постановки и решения познавательных проблем, — а в силу не-
скоординированности частей социокультурного ансамбля, в который
вмонтировано научное познание. Создаваемые внутри ансамбля натяжения и ведут научную
динамику, которая может быть или «экспликационной» (аналогичной нормальной
науке, по Куну), или мутационной, когда преобразуется все системное целое знания
(научная революция). «С научной точки зрения, — говорит немецкий философ, —
само возникновение и функционирование науки должно рассматриваться как то, что
определяется историческими ситуациями» ". И хотя сам Хюбнер считает, что его
позиция не является релятивизмом, нам представляется, что это не так. Действительно,
ведь сам тезис о том, что «нет ни абсолютных фактов, ни абсолютных принципов»12,
и означает, что релятивизм принимается как базовая философская позиция.
Развиваемое при этом сравнение познания с игрой, правила которой уточняются и
видоизменяются в ее ходе, приводит к такой теории истины, согласно которой она есть
не более чем соответствие изменчивым правилам игры. Концепция Хюбнера
напоминает нам известную концепцию Фуко, изложенную им в книге «Слова и вещи»,
10 Цит. по: Пригожий И., Стенгерс И. Время, хаос, квант... С. 248.
11 Хюбнер К. Критика научного разума. М., 1994. С. 178.
12 Там же. С. 171.
542
Раздел четвертый
правда, с тем отличием, что если у Фуко исторические априори знания это —
понимаемые семиотически парадигмы культуры, то у немецкого философа
подчеркивается скорее исторический ситуационизм культурного ансамбля, напряжения в
котором определяют исторический тип научного знания. Трудно отрицать, таким образом,
что подобная теория науки не есть релятивизм, пусть и в мягкой форме.
Вопрос о релятивизме приводит к постановке вопроса о проекте модерна в
целом. Познавательная интенция западной культурной традиции, начиная с
античности, выступает в подобного рода анализах двойственной. Во-первых, существует
метафизический познавательный проект, для которого отказ от истины — объективной
и абсолютной — смерти подобен. Этот проект метафизики познания
прослеживается в греческой философии, например у Платона и Аристотеля, затем он переходит
в средневековую мысль и удерживается до новоевропейской метафизики
включительно. Во-вторых, отдельно от метафизики, но у Декарта еще в ее лоне, формируется
собственно научный познавательный проект, ориентированный не на созерцаемую
истину как высшую цель, а на конструируемую интеллектом модель природных
явлений, позволяющую поставить их под контроль. В XVII в. оба проекта еще не
разошлись, хотя признаки их расхождения уже имели место в тех случаях, когда
зарождалась позитивистская теория науки, например у М. Мерсенна, и метафизическая
физика Декарта критиковалась с позиций научного эмпиризма (как это было у
Гюйгенса, отбросившего картезианскую механику). И современный релятивизм вслед
за позитивизмом утверждает, что метафизическое понятие истины в новой науке
не работает, ставя под вопрос столь драгоценное для классического разума единство
знания. Вся эта ситуация для западного рационализма означает серьезный кризис
его собственных оснований, что и зафиксировал Гуссерль в своей известной книге.
Проект модерна характеризуется, однако, некоторым смешением
метафизического и собственно научного проектов. Ведь именно такое смешение ведет к
сциентизму, к «науковерию», к догматически формулируемому научному мировоззрению.
Согласно установке на такое смешение, например, механистическая картина мира
принимается за метафизическую истину. Именно этот тезис и составляет ядро
механицизма как научного мировоззрения.
Выразим свое отношение к проблеме абсолютности / релятивности истины.
Философские теории истины можно, на наш взгляд, свести к трем основным видам:
во-первых, к тем, которые обосновывают абсолютную достоверность знаний, апеллируя
к Богу (как, например, у Декарта), во-вторых, существуют теории, сводящие
обоснование объективности и абсолютности истины к миру объективной реальности —
материальной или идеальной (как, например, у Платона или в материализме), и, в-третьих,
существуют трансцендентально-субъективистские теории истины, согласно которым
объективность и в некотором смысле «абсолютность» (здесь ее, однако, надо ставить
в кавычки) обосновываются структурами трансцендентального субъекта, который
сам может истолковываться по-разному (как у Канта, и по-другому — в философиях
культур-исторического и социологического релятивизма). Надо прямо сказать, что
все три вида обоснования истинности знания имеют смысл, потому что схватывают
Границы новоевропейской науки
543
некоторые вполне реально присутствующие в знании и в его динамике моменты.
Для нас, однако, неприемлема догматизация вопроса об истине, которая в рамках
нашего анализа представлена именно релятивизмом и выражается, например,
процитированной выше формулой Хюбнера («нет ни абсолютных фактов, ни
абсолютных принципов»). Кроме того, нам представляется существенным различать истину
как духовную ценность, которая не может быть объективирована, спроецирована
на экран конечных вещеподобных представлений, но присутствие которой тем не
менее может быть дано с самой непреложной настоятельностью и очевидностью, и
истину как объективное научное знание, которое способно представлять устойчивые
связи вещей в конечных образах и формах13. Исторический социокультурный
контекст значим для представления обоих видов истины, но если инвариантным
стержнем первого вида истины выступает абсолютная трансценденция, то во втором случае
имманентного мира вещей, по-видимому, достаточно для выполнения подобной роли.
Хюбнер говорит, что «развитие науки есть процесс, по сути совпадающий с
возникновением идеалов Возрождения» и. На наш взгляд, вряд ли можно настаивать
на том, что главной чертой культуры Возрождения выступает «рационалистический
гуманизм». Гуманизм флорентийских платоников, в частности, был явно окрашен
в герметические тона и уже поэтому был далек от рационализма. Но обратим
внимание на другой момент. Если культурным началом новой науки следует считать
Возрождение, то как надо тогда мыслить себе ее возможный конец? «Возрождение» здесь
есть только обозначение начала эпохи Нового времени (модерна). Значит, вопрос
о конце науки встает, если модерн заканчивается и наступает постмодерн. Но
прежде чем говорить о конце науки в таком смысле, надо рассмотреть вопрос о
принципиальной трансформации социокультурного контекста науки — ведь именно в нем
скрываются факторы детерминации науки. И, возможно, скорее нужно говорить
не о буквальном конце науки (нет, скажем, больше ученых, лабораторий,
исследований и университетов), а об изменении функций науки и ее смысла.
Задача Хюбнера — подготовить сознание к тому, чтобы понять, что отказ от того
пути, на который встало европейское человечество, а затем и весь мир, следуя за ним,
начиная с эпохи Возрождения, не означает «возврата к варварству». Европеец должен
быть готовым к отказу от своего проекта модерна с наукой во главе как единоспаса-
ющей силой. Нельзя не согласиться с Хюбнером в том, что вовсе не наука составляет
основу европейской культуры в целом, что корни культурной традиции Европы —
в соединении традиций античности с иудеохристианским наследием. Новая наука —
лишь крупный, но все-таки эпизод в истории Европы. Более того, «пароксизмы
научно-технической деятельности, — пишет немецкий философ, — и связанной
с ней идеей прогресса вполне могут свидетельствовать о своего рода варварстве»|5.
13 Подробнее об этом см. выше в работе «Истина и ценность», с. 447-461.
14 Хюбнер К. Критика научного разума. С. 178.
15 Там же.
544
Раздел четвертый
«Прогрессивно-научное варварство» — вот действительная опасность для человека
в начале третьего тысячелетия. Мысль о радикальном повороте в мировоззрении,
в самом духовном ядре современного человека открывающем новый путь,
спасающий от рационалистического «варварства» неконтролируемого научно-технического
прогресса любой ценой, — эта мысль Хюбнера продолжает ту традицию
обоснованной тревоги, которая поднялась на Западе после атомных взрывов в Хиросиме и
Нагасаки и лишь усилилась с тех пор под влиянием крупных техногенных катастроф
и благодаря осознанию последствий экологического кризиса.
В проекте модерна новое естествознание понималось не только как верное
средство для достижения благополучия людей на Земле, но и как деятельность,
способная возвышать и совершенствовать человеческую природу. В марте 1637 г. Декарт
пишет Мерсенну о своем главном сочинении, которое он подготовил для печати:
«Оно будет состоять из четырех французских трактатов с общим названием:
Проект Универсальной Науки, могущей возвысить нашу природу на высочайшую
ступень совершенства»16. Декарт, однако, заменил это название на другое, более
скромное, по соображениям осторожности, как можно предположить, — «Рассуждение
о методе, чтобы верно направлять разум и отыскивать истину в науках». Ведь
приписывая своей науке способность не только преобразовывать мир в нужном для
человека направлении, но и изменять природу самого человека в направлении ее
усовершенствования, он вступал на путь соперничества с традиционной религией.
Можно также предположить, что в такой претензии звучали и ноты
«герметического искусства», которое также вместе с преображением природы претендовало
на преображение души. Убрать оттенок магико-герметических притязаний и
отказаться от соперничества с официальной религией было типично декартовским
решением, что, однако, вовсе не означало, что философ пересмотрел свое понимание
открываемой им науки. Нет, он по-прежнему оставался уверен в великой миссии
новой науки не только контролировать природу, но и совершенствовать душу
человека. И надо сказать, что подобный миссионерский ореол неотделим от образа
науки для ее пламенных адептов. Сюррационалист и романтический подвижник
великого дела науки, Гастон Башляр в первой половине XX в. разделял это
декартово убеждение, подчеркивая, что занятия науками совершенствуют нашу психику.
Подобное «сциентоверие» объяснимо, пожалуй, тем, что оно разделялось учеными
до того, как разразились главные кризисы, связанные с наукой как
социально-техническим предприятием. Характерно при этом то, что теоретические потрясения
начала XX века, в частности рождение квантовой физики, не смогли задеть этой веры
в науку. Это объясняется тем, что новое естествознание Башляр и другие
воинствующие рационалисты надеялись включить в обновленный эпистемологический
образ науки, сохраняя, однако, ее культурно-мотивационное ядро, сформированное
еще во времена античного рационализма и обновленное Декартом. Этот эпизод
16 Descartes. Œuvres et Lettres. Textes présentés par A. Bridoux / Éd. Gallimard. (Bibl. de la Pléiade).
P., 1953. P. 958.
Границы новоевропейской науки
545
показывает нам, что уже у Декарта, хотя и отличавшего истины «естественного света
разума» от истин «света веры», начинается фактическое замещение наукой функций
религии искупления. Знаменитое бэконовское «великое восстановление наук» было
в своем замысле одновременно и великим безрелигиозным «восстановлением
человека» — восстановлением его из состояния несовершенства и слабости, включая
и саму его смертность. Известно, насколько Декарт был привержен тому, чтобы
сориентировать научные исследования сначала на преодоление болезней, а затем и
самой смертной природы человека.
Удалось ли науке за прошедшие примерно 350 лет, во-первых, создать «рай
на Земле» и, во-вторых, создать совершенного человека? Сейчас вряд ли кто-то
даже из самых страстно верящих в науку людей скажет, положа руку на сердце, что
наука и техника действительно добились решения этих задач. Напротив, пропасть
между научно-техническим и интеллектуальным развитием, с одной стороны, и
нравственно-духовным прогрессом человека — с другой, только выросла за эти
столетия. Вот вердикт, вынесенный в конце жизни выдающимся историком А. Дж. Тойн-
6и: когда западный человек решил обойтись без традиционной религии, его дом
в конце концов оказался «пуст». «Из него все вымел рационализм, — констатирует
историк, — не оставив ни пылинки. Дом аккуратно и тщательно прибрала наука,
но наука не сделала его уютным для обитания Человека, ибо оставила его без
религии. А когда предлагают науку в качестве заменителя религии, то это все равно что
предложить вместо хлеба камень»17. Развитие науки и техники, если это не только
разрешено культурой, но и поставлено в центр сознания и воли человека как
высшая цель, происходит более быстрыми темпами, чем нравственно-духовное
развитие человека. Поэтому запаздывание нравственного развития относительно
интеллектуального превратилось в угрожающую самому бытию человека пропасть. Дело
здесь в том, что если нравственность тормозится естественным эгоизмом индивида
и рода, то интеллекту, напротив, ничего не мешает, если он признан и, более того,
возвеличен культурой и, значит, общественным мнением. И угроза, встающая в
результате опережающего развития интеллекта по отношению к нравственности,
ставит вопрос о границах научно-технического прогресса: морально примитивное
существо вряд ли можно допускать к супервысоким технологиям. Нам теперь ясно, что
из этого может получиться.
Говоря о ситуации науки в контексте культуры и истории XX в., мы видим,
насколько углубились и расширились наши представления о границах науки и науко-
центристского проекта модерна. Мы являемся свидетелями того, что эти границы
и пределы буквально окружают науку со всех сторон, равно как и подрывают ее
изнутри. Наукоцентристский эрзац-религиозный проект модерна явно буксует,
выдыхается. Человек в конце XX в. предъявляет ему счет. И призрак банкротства давно
уже витает над этим проектом. Сценарии, провоцируемые пределами роста науки
и изменением ею своих функций, могут быть различными. Важно то, что религиозная
17 Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. С. 394.
546
Раздел четвертый
миссия, равно как и полномасштабная мировоззренческая функция, на науку уже
не могут возлагаться, ибо с ними наука Нового времени явно не справилась.
Религиозная функция возлагалась на науку по мере того, как она отделялась
от религии и теологии и вытесняла их с центральных культурных позиций.
Одновременно с этим происходило и внутреннее отделение науки от теологии.
Характерно, что до XVII в. включительно наука входила в объемлющий ее теолого-мета-
физический контекст. Эта длительная традиция единства знания о сущем в целом
представлена учениями Платона, Аристотеля, неоплатоников, традицией схоластики.
Сохраняется она, хотя существенные изменения при этом происходят, и в научной
метафизике XVII в. у Декарта, Лейбница, Мальбранша, Спинозы. Границы науки
оформляются таким образом, что внутри нее ссылки на сверхъестественные
факторы и божественное провидение запрещаются. Однако в XVII в. мы их еще
встречаем в картезианском учении, например, в теории научного знания (последним
гарантом достоверности научного познания выступает у Декарта Бог) или в
теоретической космологии (Бог как источник движения для всей вселенной). И только
Просвещение, отворачивающееся в лице энциклопедистов от Декарта и
объявляющее родоначальником новой науки не его, а Ф. Бэкона, сознательно и
последовательно исключает из научной аргументации ссылки на божественное начало.
Примером этой установки, проводящей тем самым еще одну границу для феномена новой
науки, выступает известное высказывание Лапласа о Боге как о гипотезе, в которой
он, как ученый, не нуждается. Те же процессы происходят и в историческом знании.
Так, например, Э. Гиббон «не только представляет, толкует и объясняет все события
с позиций "естественного разума", но даже пытается направить просветительскую
критику на христианство»18. Массовой эрзац-религией наука становится в XIX в., что
подкрепляется ее успехами в создании величественных теорий, типа теории Дарвина,
которые явно претендуют на то, чтобы передать решение вопросов, ранее
считавшихся прерогативой теологии, науке, свободной от последних ее следов.
Но уже в XX в. ситуация существенным образом меняется. Прежде всего
меняется сама наука, хотя ее классический идеал и доказывает свою высокую
устойчивость, о чем свидетельствуют позиции, например, Башляра, о котором мы уже
сказали, и Эйнштейна, создавшего релятивистскую механику, но оставшегося верным
классическому научному мировоззрению. Еще сильнее, чем теория относительности,
революционизировала научное мышление квантовая механика, мировоззренческие
выводы из которой не принимались Эйнштейном. Этому процессу способствовали
открытия в области термодинамики необратимых процессов, работы по кибернетике,
синергетике и другие направления, создавшие постнеклассическую науку конца XX в.
В философии и истории науки это привело к новым концепциям, серьезно
потеснившим старые теории науки, основывавшиеся на сциентизме и позитивизме.
Происходящее в обществе разрушение веры в науку парадоксальным образом
сочетается, однако, с сохранением ее эрзац-религиозной функции:
Хюбнер К. Критика научного разума. С. 266.
Границы новоевропейской науки
547
В наше время наука компетентна во всех вопросах и судит обо всем на свете. В
прежние времена священники благословляли важное предприятие, теперь такое
благословение дает ученый. Если раньше считалось, что нельзя спасти душу без
наставлений священника, то теперь полагают, что только университетский диплом может
сделать человека полноценным19.
Вера в возвышающую и спасающую человека миссию науки, которую разделял Декарт,
сохраняется и по сей день. Но вместе с падением такой веры! Ситуация стала
действительно парадоксальной или амбивалентной, в чем, собственно, и находит свое
проявление дух постмодерна. Скепсис перемешан с верой по отношению к науке. И у одного
и того же теоретика мы сегодня обнаруживаем прямо противоположные
высказывания, при этом мало кто замечает противоречия, включая и самого автора. Приведем
только один пример. Уже упоминавшийся нами автор говорит, что науке присуще
«вечное движение», но в то же время на другой странице он пишет, что «объект
нашей теории — наука — не вечен и мог бы, например, исчезнуть в каком-либо
отдаленном будущем»20. Подобное пренебрежение логикой есть симптом переходной эпохи,
получившей название постмодерна. Недаром в этом названии значимо отрицание —
мы говорим о нашей эпохе, подчеркивая, что она не есть Новое время. Но какое же
это время? Этого мы пока не знаем. Об этом и идут споры. Неопределенность и даже
сознательная всеядность и всесмешение — характерные приметы этого времени.
Ситуация неопределенности и сознательно неустраняемой двусмысленности составляет
характерную черту постмодернистского сознания. Но это не классическое
«несчастное сознание», которое знало о своей саморазорванности и трагически переживало
ее. Похоже, что постмодернистское сознание — это счастливое «несчастное сознание»,
свою надорванность принимающее легко (take it easy — типичное словцо эпохи).
Человек постмодерна, однако, прежде всего растерян. Он ни в чем не уверен
по-настоящему. И менее всего в себе самом. Отсюда вымученная легкость и веселость, ирония
и самовышучивание, хотя ситуация предельно серьезна: ведь зашатались сами основы
представлений человека об истине и смысле. Человек постмодерна все еще опирается
на науку, но по-настоящему в нее уже не верит. Такая ситуация приводит к тому, что
место надорванной веры в науку активно начинают занимать многочисленные
оккультные и мистические учения, бросающие вызов науке на массовом рынке идей
и интеллектуальных услуг. Астрономы с тревогой говорят о росте интереса к
астрологии. Правда, они подчеркивают, что в прямой спор с нею они вступить не могут,
ведь, как говорит один известный астрофизик, «астрология не имеет ко мне
никакого отношения, ибо не является наукой»21. Психотерапевтические символические
19 Хюбнер К. Критика научного разума. С. 156.
20 Там же. С. 226,267.
21 Грядет ли великое примирение астрономии и астрологии? Интервью с Юбером Ривом //
Известия. 19.03.1994.
548
Раздел четвертый
функции, присущие астрологии, заполняют вакуум, оставленный упадком
традиционных религий и конфессий с высокоразвитой символикой. Но частично оккультные
дисциплины заполняют и вакуум, оставляемый уходящим «науковерием».
Подчеркнем еще раз: кризис науки как рационального предприятия по
производству знания нужно отличать от кризиса науки как эрзац-религиозного
мировоззрения. Неудача науки как заместителя религии, претендующего не только на
осмысление всей полноты бытия, но и на совершенствование человека и его души,
не означает неудачу науки как познания. Попытавшись заместить собой религию
и метафизику, наука превысила свои возможности, вышла за свои пределы. «Разве
наука может составлять конечную цель человечества? — размышляет С. Н.
Трубецкой. — Разве она сама по себе может дать человеку полноту блага духовного и
телесного, преобразить человека и вполне подчинить ему природу? Если нет, то не в ней
высшая цель человечества»22. Как мы видели, в рамках сциентоцентристского
проекта модерна, однако, считалось, что наука как раз может выполнить все эти задачи.
Если же на науку возлагаются такого рода функции, то к ее познавательной роли
добавляется и эрзац-религиозная миссия. Но именно в таком необычном для нее
статусе наука и испытывает кризис. Пусть сциентистские иллюзии все еще широко
распространены, но «науковерие» и монополия науки на мировоззрение терпят все более
явную неудачу. Правда, наука по-прежнему считается последним арбитром в делах
истины, в том числе религиозной. Как пишет Рормозер, «у нас же и поныне полагают,
что нужно отвергнуть реальность воскресения, поскольку естественные науки не
могут дать тому подтверждения»23. Здесь науке явно передоверяют те роли и функции,
которые она по природе своей выполнять не в состоянии. Ведь сферу религиозного
опыта и истин откровения она не может «курировать», как это понимал еще Декарт,
сделавший, однако, серьезные шаги к тому, чтобы передоверить функции религии
именно науке. Но вместе с тем сегодня крепнет и сознание того, что научное знание
само рискует впасть в заблуждение, если оно не оставляет в бытии тайны, не
принимает ее и не хранит. Сами ученые уже понимают, что бытие богаче любой
возможной науки о нем и не может быть в принципе исчерпано ею. Признак
недоступности объекта полному контролю со стороны вооруженного наукой человека служит
верным свидетельством того, что мы имеем дело с настоящей реальностью.
Уверенная подконтрольность присуща скорее нашим конструкциям, чем самой
реальности, освободить которую от тайны и непрозрачности для разума мы не можем.
Вступая фактически в спор с Декартом, эту ситуацию выразил И. В. Киреевский, сказав,
что ясность мысли означает лишь то, что она нами еще недостаточно продумана24.
О том же говорит и Бердяев: «Исчезновение тайны означает ложное познание»25.
22 Трубецкой С. Я. Сочинения. М., 1994. С. 47.
23 Рормозер Г. Кризис либерализма. М., 1996. С. 226.
24 См.: Киреевский К В. Избр. статьи. М., 1984. С. 313.
25 Бердяев К А. Из записных книжек // Мосты. Мюнхен, 1967. С. 335-336.
Границы новоевропейской науки
549
Ужас Паскаля перед лицом разверзшейся в результате триумфа новой
механики и космологии картины мира вызван не столько ощущением физической
немощи человека перед этой громадностью сил и пространств, безразличных к
человеку, сколько бессмыслицей всей этой ситуации, если считать ее последним словом
мудрости, искомой правдой о бытии. Как говорит Рормозер, в научной
интерпретации «действительность представляется лишь как бессмысленная данность»26.
Паскаль проницательно заметил, что подобного рода картины человек рисует,
преувеличивая значимость науки. «Написать против тех, кто чрезмерно углубляет науки.
Декарт», — записывает он в своих «Мыслях»27. Современная философия в таких
своих направлениях, как феноменология и герменевтика, пришла к пониманию той
внутренней границы науки, которая ставит ее вне области значимого для человека
смысла. Даже такие строгие рационалисты, как неокантианцы, признавали
подобные пределы науки. Так Кассирер писал: «Существует такой род опыта о
действительности, который остается вне формы естественно-научного объяснения. Он
лежит там, где "бытие" выступает не как бытие вещей, внешних объектов, а как бытие
живых субъектов»28. Конечно, начиная с неокантианцев, философия стремилась
рационально и, значит, научно в широком смысле слова разработать область смыслов,
мыслимую или как философия символических форм, как у Кассирера, или как
гуманитарное знание, основанное на герменевтике (понимающая психология Дильтея).
Но примечательно, что эволюция всех этих поисков привела позднего Хайдеггера
к радикальной критике науки: наука не мыслит, ибо не способна удерживать тайну.
Эрзац-религиозное научное мировоззрение не удалось потому, что культурная
традиция не была полностью уничтожена, как того хотели радикал-революционеры
со своими единственно научными мировоззрениями. Постмодерн продолжает
наступление на традицию. Правда, в нашу эпоху происходит и некоторый возврат к
традиции, ее сознательное и ответственное восстановление. Именно подобная разно-
направленность процессов, смешение противоположно ориентированных течений,
культурных форм и образцов и характеризует постмодерн.
Самосознание науки в последние десятилетия существенно меняется.
Методологический «монархизм» декартовского типа сменяется методологическим
«анархизмом» в духе Фейерабенда. Структурализм подводит науку под общий ранжир
семиотической системы наряду с мифом и литературой, о чем мы уже упоминали, говоря
о релятивизме. Наука рассматривается как исторически ограниченное и
культурологически условное явление, не способное к достижению истины, имеющей
общеобязательное значение для всех эпох и культур. Само понятие объективной истины,
независимой от исторического контекста, многими теоретиками науки рассматривается
26 Рормозер Г. Кризис либерализма. С. 211. К современной космологии, включившей в свой
состав антропный принцип, это уже нельзя отнести.
27 Pascal. Œuvres complètes. Préface d'Henri Gouhier. Présentation et notes de Louis Lafuma. P.,
1963. P. 580.
28 CassirerE. Philosophie der symbolischen Formen. В., 1929. Bd. III. S. 73.
550
Раздел четвертый
как романтическая метафизическая химера, принадлежащая прошлому.
Постструктурализм, воскрешающий ницшевскую онтологию воли к власти и присоединяющий
к ней некоторые представления, навеянные квантовой физикой и молекулярной
биологией, сводит вопрос об истине к вопросу о средствах ее социально значимой
имитации. Истина при этом выступает как понятие с пустым значением, которое,
однако, ценится, так как способно внести свой вклад в баланс сил, пронизывающих
современный мир как борьбу за власть. В соответствии с таким переносом
внимания ищутся не условия того, чтобы наши суждения о мире соответствовали самому
миру, а чтобы они лишь выглядели как истинные, воспринимались как «истинные»
безотносительно при этом к тому, какова же их связь с реальностью вещей на самом
деле. В результате воля к истине как орудие воли к власти открывает себя как воля
ко лжи, что, однако, маскируется самодовольным утверждением о преодолении самой
оппозиции «истина/ложь». В постмодерне действует, быть может, даже не столько
чистая воля ко лжи, мимикрии, имитации и подделке, сколько воля все хаотически
смешать, чтобы вопрос об истине больше уже и не возникал.
Не следует, однако, думать, что подобная деформация классического образа
науки и тем самым постановка вопроса о ее конце есть результат какой-то
злокозненной антисциентистской «диверсии» со стороны «ренегатов»-эпистемологов и
философов-релятивистов. Дело здесь в том, что сама современная наука действительно
глубоко изменилась как в своем теоретическом облике, так, пожалуй, еще сильнее
в своем техносоциальном воплощении. Приведем тому несколько примеров.
Ситуация в современной космологии, в которой сосуществуют альтернативные
космологические модели, позволяет нам говорить о двух примечательных моментах.
Во-первых, наличие подобной множественности, видимо нередуцируемой, означает, что
сама оппозиция «истина / ложь» как бы девальвируется. Ведь если равным образом
законных моделей несколько, то, казалось бы, пропадает смысл спрашивать, а
какая же из них истинная? Плюрализм моделей частично опирается на
неопределенность некоторых универсальных констант. Подобная неопределенность
воспринимается как нередуцируемая, что стало уже привычным после открытия соотношения
неопределенностей в квантовой физике. Модели в космологии должны корректно
следовать из фундаментальных уравнений, иметь эвристический смысл. Но ответить
на вопрос, какая же модель эмпирически истинна, становится в некоторых случаях
практически неразрешимой задачей.
Еще один характерный в данной связи момент состоит в том, что, преодолевая
горизонт классического идеала знания, приближаются к античному его варианту
и идеалу. Намечающийся частичный возврат к образу и приемам мысли античной
и средневековой науки выявляется по ряду признаков, хотя ни в коем случае нельзя
говорить, что такое возвращение уже произошло или что оно неизбежно. Культура
постмодерна такова, что мы отовсюду получаем как бы шифрованные сигналы,
своего рода знамения конца модерна и сложившейся в эту эпоху науки, но при их
расшифровке у нас не возникает однозначной ясности. Пожалуй, именно этим и
характеризуется постмодерн как культурная эпоха — выходом за классические парадигмы
Границы новоевропейской науки
551
культуры модерна, однако без того, чтобы на смену им шел законченный образ
новой культуры. Представляющиеся нередуцируемыми плюрализм и даже
индивидуализм интерпретаций и моделей мира больше всего поражают в постмодерне. Целое
культурного мира Европы распалось. В эпоху Возрождения распалась целостность
антично-средневековой культуры. В XVII в. оформилась новая культурная
целостность, стержнем ее стал научно-технический прогресс, в фокусе которого сошлись
основные культурно значимые смыслы и утопии западного европейца, включая
прежде всего секуляризированное христианство. А теперь и это единство разрушается,
и скорее всего необратимым образом. Диспропорции в развитии, упадок высших
религий, глобальное распространение материальной составляющей цивилизации
вместе с преувеличением ее ценностного ранга и многое другое увеличивают
распыление базовых культурных образцов, создавая обилие остаточной культурной «пыли»,
буквально захлестывающее общество постмодерна. Сегодня мы присутствуем при
невероятно быстром росте культурной энтропии. И попытки приостановить ее рост,
как кажется, лишь способствуют тому, что она растет еще больше. Подобной
эрозии подвержена и наука. И не безответственность отдельных теоретиков тому
причиной, а сама долговременная логика ее развития — теоретического и
технологического, социального и культурного.
В результате всех этих процессов ситуация постмодерна напоминает ситуацию
кануна рождения новой науки, но в условиях антисимметричного соотношения
религии, науки и эзотерики факторов. Действительно, в наше время наблюдается
не нарастающий разрыв науки с традиционной религией, а скорее попытка
оформления их нового союза. Границы науки становятся «прозрачными» и по
отношению к оккультным течениям, как это уже было в XVI и начале XVII в. Но теперь гер-
метизм передает науке не импульс к практической направленности, провоцирует
не активизм и прагматизм знания, а скорее, напротив, созерцательность и
самоуглубленность, заботу о самосовершенствовании, о духовном единстве с природой
и космосом, который снова, как у герметиков и платоников, начинают мыслить как
целостный живой организм, включающий человека. В отношениях с религией, как мы
заметили, также происходят процессы, ориентированные противоположным
образом, чем это имело место в конце Ренессанса и в начале Нового времени. Если тогда
религия отдалялась от науки, то теперь она скорее приближается к ней, если прямо
и не входит в нее (что также как тенденция имеет место)29. Если тогда сама наука
стремилась взять на себя функцию религии, то теперь они снова возвращаются ей.
Если в XVII в. речь шла о том, как за счет традиционной религии дать место
науке как новому лидеру в целостном культурном ансамбле, то теперь речь идет о том,
как, не потеряв ценности науки как цивилизационно значимого познания, вернуть
роль высшего культурообразующего начала традиционной религии, возможно, с ее
29 Укажем только некоторые работы такого рода: Панин Д. М. Теория густот. М., 1993;
Рязанов Г. В. Путь к новым смыслам. М., 1993; Гриб А. А. Космология: современность и
древность // Исследования по истории физики и механики. 1993-1994. М., 1997. С. 160-171.
552
Раздел четвертый
трансформацией, с поворотом к нуждам и проблемам времени. Сама неудача науки
как заместителя религии требует такого возврата. Конечно, человек постмодерна
должен при этом сохранить и науку, пусть и без ее прежних оказавшихся
непомерными амбиций На заре возникновения новой науки ей помог ее союз с
традиционным христианством. Новый союз такого же типа сможет ей помочь и сейчас, в
период мировой смуты постмодерна. Итак, пограничные ситуации «входа» в модерн
и «выхода» из него соотносятся между собой по принципу инверсии соотношения
между такими компонентами культуры, как наука, религия, эзотерическая традиция.
И историк должен об этом внятно сказать.
ЭНТЕЛЕХИЯ КУЛЬТУРЫ
Однажды, роясь в старых книгах, я наткнулся на не очень уж и старую книгу —
«Диалог культур. Материалы научной конференции "Випперовские чтения — 1992".
Вып. XXV. М., 1994». Сразу же вспомнилось, что ее мне подарил А. В. Ахутин,
выступавший с докладом на той конференции, проходившей в конце октября 1992 г. в
Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Как-то сами собой стали
всплывать отрывочные впечатления от тогдашних разговоров и споров вокруг понятий
диалога и энтелехии культуры...
Диалог и энтелехия
В дискуссии, о которой пойдет речь, доминантную функцию выполняла идея
диалога культур, а не энтелехии. В те годы, а это было начало 1990-х, в РГГУ возник
семинар В. С. Библера, который так и назывался — «Диалог культур». Тема же
энтелехии ворвалась в царившую тогда атмосферу увлечения «диалогом культур» как
аристотелевский «монстр» с не проясненным до конца содержанием. В философские
баталии, вокруг этой доминанты возникавшие, концепт энтелехии был привнесен
не философом, а историком Г. С. Кнабе1. Но в его работе об энтелехии культуры
понятие диалога, пусть и отличающееся от понимания диалога Библером, оказалось
органически связанным с понятием энтелехии. Действительно, как одну из
существенных характеристик энтелехии культуры Кнабе отметил ее «двуголосие»:
голос изначальной энтелехии вступает в своего рода диалог с ее осуществленной
формой2. В энтелехиальных процессах, можно сказать, интерпретируя эту ситуацию,
1 Кнабе Г. С. Энтелехия культуры // Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории
культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 139-156. Статья эта в сокращенном виде, без
анализа примеров энтелехии культуры воспроизведена в сборнике «Диалог культур» в
качестве основного доклада на Круглом столе «Диалог культур и энтелехия культуры», на
котором выступили А. Л. Доброхотов, А. В. Ахутин и другие исследователи.
2 Отсюда, кстати, следует органичность темы диалога в связи с продумыванием понятия
энтелехии, но это требует осознания персоналистическо-экзистенциальной метафизики,
становящейся при этом условием оправданности темы диалога, что практически осталось
незамеченным участниками конференции и дискуссии.
554
Раздел четвертый
существует «челночное» движение от «истока» культурного самодвижения к его
определенному результату и vice versa.
Прежде чем перейти к обсуждению концепта энтелехии применительно к
культуре, поясним это труднопереводимое выражение Стагирита. Греческая
этимология и история понятия энтелехии от Аристотеля до XX в. кратко, содержательно
и четко раскрыты в статье Т. Ю. Бородай. «В "Метафизике" и "Физике"
Аристотеля, — говорит исследователь, — энтелехия выступает в большинстве случаев как
синоним энергии»3. Тем не менее эти понятия у него не совпадают. А. Л.
Доброхотов в своей недавно изданной монографии дал такое определение этому понятию
греческой философии: «Энтелехия — неологизм Аристотеля, означающий целе-
обладание и воплощение цели в индивидуально очерченной предметности. Обе
основные интерпретации энтелехии — как обладание завершенностью и как
содержание в себе цели — предполагают внутреннюю работу цели (процесс),
приводящую к исполнению и воплощению (результат)»4. Ранее в дискуссии по теме,
о которой пойдет речь, он считал возможным говорить об энтелехии просто как
о выполненности смысла5.
Обдумывая это понятие, мы не можем не возвращаться к Аристотелю. У него
природа стоит под знаком воспроизводства ее форм, которое в принципе не может
прекратиться (тезис о вечности мира). Поэтому энтелехию мы бы определили как
такую выполненность смысла, которая действует как сила его воспроизводящегося
выполнения. Отталкиваясь от Стагирита и анализируя дифференциацию органов
в развивающемся организме и подобные процессы, представление об энтелехии
как современном научном понятии развил Г. Дриш (1867-1941). Согласно ему, как
мы его понимаем, энтелехия — это внепространственный фактор, вносящий в ходе
развития живых организмов отбор в допустимые законами природы возможности.
Мы бы сказали, что энтелехия действует как принцип осмысленного, направленного
«из будущего» органической системы ограничения формирующих ее возможностей.
Энтелехию, по Дришу, можно уподобить «демону Максвелла», поскольку она
действует как антиэнтропийная сила6.
Импульсом к дискуссии в связи с понятием энтелехии культуры, как уже ясно
читателю, стала вызвавшая большой интерес философов и других
представителей гуманитарного знания работа Г. С. Кнабе. Высказанные в ней идеи активно
обсуждались и среди участников руководимого В. С. Библером семинара. Помню,
3 Новая философская энциклопедия. Т. 4. М., 2001.С. 444.
4 Доброхотов А. Л. Телеология культуры. М., 2016. С. 527. В этой работе автор настраивается
не тему энтелехии культуры через концепты «внутренней формы» и культурной «морфемы»
(с. 165-174). Усваивая идеи Кнабе, он продвигается вперед в теоретическом рассмотрении
возникающих при этом фундаментальных проблем культурологии и философии культуры.
5 Диалог культур. Материалы науч. конф. «Випперовские чтения — 1992». Вып. XXV. М.,
1994. С. 207-208.
6 Дриш Г. Витализм. Его история и система. М., 1914. С. 260.
Энтелехия культуры
555
что мы обсуждали эту тему с А. В. Ахутиным. Он полагал, что «понятие
энтелехии доводит бытие-на-деле до предела»7. Чтобы понять данное высказывание, надо
иметь в виду ряд восходящих по уровню онтологического «веса» понятий Стагирита:
дюнамис — энергейа — энтелехия (возможность — действительность как
деятельность — энтелехия)8. Энтелехия, таким образом, истолковывается как полнота са-
моосуществленности цели или, что близко к буквальному переводу, «нахождение-в-
состоянии-полной-осуществленности»9. Но на переднем плане обсуждений стояло
не понятие энтелехии применительно к анализу культуры, а идея диалога. В
тогдашней дискуссии упор был сделан на выявлении логических смыслов исторических эпох
и на априорном механизме их смены. Эти споры, во многом проходившие под знаком
концепции «диалога культур» В. С. Библера, не показались мне столь уж
плодотворными для исследований культуры из-за своей удаленности от конкретной
эмпирической истории культуры, с ее исследовательским погружением в ее
непредсказуемый поток, а также от экзистенциально-художественно ориентированной мысли
в целом. Душа, безоглядно увлеченная одной лишь диалектикой вкупе с «диалоги-
кой» понятий, как бы испытывала головокружение, оказавшись на зыбких
вербальных канатах, удерживаемых лишь абстрактными конструкциями, и задыхалась, как
в обезвоздушенном пространстве. На мой вкус, всей этой, порой изобретательной
и даже правдоподобной, эквилибристике с концептами и претендующими на
универсальность схемами недоставало лично пережитого и потому неподверженного
колебаниям впечатления от встречи с изучаемым историческим материалом. Можно
сказать, что формальной диалектике понятий недоставало культурно-исторической
«плоти», глубоко вошедшей в душу и потому проанализированной с «родственным
вниманием»10.
Соотношение понятий энтелехии и диалога оказалось в работе Кнабе не
лишенным противоречия. С одной стороны, в явлениях энтелехии культуры, согласно
историку, действует «двуголосие» и, значит, диалог, но, с другой стороны, Кнабе отметил
теоретическую иррелевантность диалога культур энтелехии: «Диалог культур, —
говорит он, — оказывается здесь снятым — он есть, раз происходит взаимодействие
7 Диалог культур. Материалы науч. конф. «Випперовские чтения — 1992». С. 211.
8 Аристотель. Соч. в четырех томах. Т. 1. С. 478 (примечание к «Метафизике» К, 3 1047а30-35).
Различие энтелехии и энергии, по Аристотелю, в том, что если в первом понятии подчеркнута
фактическая данность осуществления возможности, то во втором акцентируется
действительность как деятельность (движение) осуществления. Еще одно важное место, где Стагирит
говорит об энтелехии — «О душе», начало 2-й книги. Самоосуществление, образец которого
дают живые существа — вот что прежде всего вызывает у Аристотеля мысль об энтелехии
(комментарий см.: Аристотель. Указ. соч. С. 501).
9 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 800. Лучше сказать, на мой взгляд,
не «нахождение», а иребыванме-в-состоянии-полной-осуществленности.
10 Концепт М. М. Пришвина. См. об этом: Визгин В. П. Пришвин и философия. М.; СПб.,
2016.
556
Раздел четвертый
разнородных сущностей, и его уже нет, поскольку их разнородность уступает
место единству» ". Единство разнородных культурных пластов и «артефактов» служит
своеобразным маркером того, что мы действительно добрались до энтелехиального
пласта культуры. Как реагировать исследователю на подобную ситуацию? На наш
взгляд, в гуманитарной сфере, тем более на такой — метафизической — глубине,
невозможно достичь однозначности в суждениях. Взаимодействие вообще и
диалог в частности предполагает антиномическое условие: взаимодействие возможно,
когда разнородность присутствует и в то же время отсутствует, приоткрывая
пространство для единства. Пробираясь труднодоступными тропами онтологической
рефлексии на такие высоты, исследователь неизбежно оказывается перед лицом
антиномий и парадоксов, что однако не должно останавливать мысль.
Подводя итоги дискуссии, Кнабе уже в ином смысле и контексте возражал
против сведения культуры к диалогу. В гуманитарной среде тех лет диалог понимался
весьма неопределенно и многозначно. На наш взгляд, можно сказать, что понятие
диалога выступало тогда как квазибахтинский субститут гегелевского «раздвоения»
единого, противоречия и борьбы противоположностей. Главной характеристикой
так понимаемого диалога считалась неустранимо конфликтующая, но в то же время
и примиряемая двойственность (шире — множественность вообще),
обеспечивающая непрерывность взаимодействия и спора, ведущих к творческому обновлению
культуры. «Культура есть там, — говорит В. С. Библер, выступая на круглом столе, —
где она диалогирует с собой, где существует несколько культур или она сама
амбивалентно понимает себя как иную культуру»12. Культура здесь функционально
приравнена к действующему лицу, наделенному голосом, обязательно двоящимся на «свой»
и «другой», что и выражается таким неологизмом, как «диалогирует с собой». Это
выражение, на наш взгляд, не слишком удачно. В нем концепт «диалога» по сути дела
поглощает понятие культуры, грозя превратиться в «отмычку» для всех
гуманитарных проблем. Хотя В. С. Библер формально и признал за энтелехией статус
предельного понятия для понимания культуры, однако оно ему оказалось не нужным,
потому что в его концепции только диалог выступает единственным действительно
фундаментальным понятием13.
Помнится, в русле увлечения «диалогизмом» возникла тогда мода на разные
неологизмы вроде «полилога» (монолог — диалог — три лог... — полилог). Греческое «диа»
было при этом принято за латинское «дуо», и слово «диалог», соответственно,
оказалось прочитанным как «раздвоенность» с ее неминуемой конфликтностью, но с
верой в диалог как гарантию примирения и — главное — прогресса. Понятно, что в 70-
80-х гг. прошлого века бум «диалогизма» такого рода у нас в стране был вызван, прежде
всего, небывалым резонансом, которым отозвалось переоткрытие M. М. Бахтина,
11 Кнабе Г. С. Энтелехия культуры. С. 153.
12 Диалог культур. Вып. XXV. С. 213.
13 Там же. С. 213.
Энтелехия культуры
557
полузабытого мыслителя, принадлежащего к традиции персоналистическо-экзистен-
циальной диалогической философии. Но, обратим внимание, в этой традиции, к
которой кроме русского философа принадлежали М. Бубер, Ф. Эбнер, Г. Марсель,
разрабатывалось не понятие «диалога культур», а понятие диалога «Я» и «Ты», диалога
личностей во всех его ракурсах и смыслах. В концепции же «диалога культур» ее
основу составляла не персоналистическая онтология экзистенциального типа, а геге-
левско-марксистский backgroundy в духе времени слегка расширенный за счет новых
философских имен. Если концептуальной ясности в этой сфере в те годы не хватало
даже у профессиональных философов, что говорить о других гуманитарных
исследователях, использовавших слово «диалог» в самых разных смыслах и значениях.
Как историк Кнабе не мог не дистанцироваться от подобного «диалогизма».
Вот его вердикт: «Сводить культуру к диалогу, т. е. к взаимопониманию — очень
распространенная сейчас мысль; она имеет корни в либерально-демократическом
мышлении, но от того не становится более верной»14. «Одна из слабостей
конференции, — продолжает он, — смешение диалога и противоречия, сведение
противоречия к диалогу. Этого делать не следует. Диалог предполагает интенцию,
которой в противоречии присутствовать не обязательно»15. Диалог в своей облегченной
и потому модной версии есть по сути дела концептуальная идиллия в духе
императива «обнимитесь, миллионы», идиллия осуществленных лозунгов Французской
революции. В этом смысле понимаемый диалог, как справедливо заметил Кнабе,
действительно неотделим от либерально-демократической утопии. И еще один важный
момент: рамки гегелевско-марксистской интеллектуальной традиции не позволяют
глубоким образом развить в ней саму тему диалога, философски и
культурологически продуктивным образом выдвинутую альтернативной ей традицией. Отсюда
и впечатление смешения диалога с противоречием.
В дискуссии критическое отношение к теме диалога, способной загородить тему
энтелехии, высказал также и В. В. Бычков: «Энтелехия, мне кажется, — сказал он, —
исключает в принципе диалогичность, то есть диалогичность здесь какой-то
вторичный, верхний слой... взаимодействие культур... происходит на каком-то более
поверхностном уровне, а не на глубинном»16. По Бычкову, диалог и энтелехия — два
различных принципа, причем из каждого можно исходить, выстраивая философское
понимание культуры. Спор возник о том, какой же из этих принципов является сущ-
ностно значимым для понимания культуры. Позицию В. В. Бычкова можно
представить примерно так: различные культуры на глубоком онтологическом уровне
существуют энтелехиально, а на более поверхностном уровне соотносятся между собой,
«диалогируют», вступая в межкультурное взаимодействие.
14 Диалог культур. Вып. XXV. С. 223. Подобное сведение, впрочем, может быть и оправдано,
но, на наш взгляд, лишь на основе такого понимания диалога, когда определяющей его
формой оказывается диалог «Я» с абсолютным «Ты».
15 Там же. М, 1994. С. 223-224.
16 Там же. С. 220.
558
Раздел четвертый
Столь же антиномически напряженное соотношение характеризует и связь
понятий энтелехии и истории. Вспомним о толковании энтелехии как «выполненности
смысла». Но как это возможно? Выполненности смысла исторически развивающейся
культуры в действительности нет и быть не может. Вопрос об энтелехии был
поставлен Кнабе как проблема познания культуры: как историку работать с
внутренним единством культуры в истории, выступающим формообразующим активным
началом? Идея энтелехии, как известно, была высказана Аристотелем. Но для
рассмотрения ее применительно к культуре важнее даже не мысли Стагирита, а
концепция энтелехии европейской культуры, набросанная Гуссерлем в его «Кризисе...».
Энтелехия европейской культуры, содержанием которой выступает абсолютная,
универсально значимая автономия научного разума, сложившаяся в главных чертах
в античности, по Гуссерлю, не столько данность, факт, сколько задание. В концепции
самодержавия разума выявляется квазирелигиозная вера немецкого феноменолога17.
Если его философскую веру обозначить как эрзац-религию разума, то можно сказать,
что он верит в энтелехию европейской культуры, заложенную в античности. Однако
вопросительный модус речи об этом у него сохраняется. Если бы это было не так,
то его незавершенный труд не назывался бы «Кризис европейских наук...». Если бы
универсальный разум, обеспечивающий полноту теоретической и практической
автономии человечества, все время действовал правильно, неуклонно осуществляя
свое воздействие в истории, то актуальное наличие энтелехии Европы (европейской
культуры) было бы фактом. Но все же это скорее лишь возможность, правда, по
Гуссерлю, способная еще осуществиться, несмотря на кризис. Если бы он в это не верил,
то и не выдвинул бы весь свой титанический проект, представленный в
завершающем все его творчество труде. Но условие, которое он выдвигает для того, чтобы
воплотить эту возможность, невозможно осуществить. Ну, действительно, как может
осуществиться и действовать универсальная система разума? Энтелехия Европы
была бы постоянно действующим фактором мирового становления,
.. .если бы, — говорит Гуссерль, — разум на деле стал полностью осознанным и явным
для самого себя в свойственной его существу форме, то есть в форме универсальной
философии, развертывающейся в последовательных усмотрениях и аподиктическим
методом нормирующей самое себя. Только тогда можно было бы решить,
действительно ли европейское человечество несет в себе абсолютную идею, а не является
лишь эмпирическим антропологическим типом, подобным «Китаю» или «Индии»,
и, с другой стороны, обнаруживает ли зрелище европеизации всех чуждых Европе
человеческих общностей некий властвующий в нем абсолютный смысл,
соотносимый со смыслом мира, а не с его исторической бессмыслицей18.
17 См. об этом: Визгин В. Я. Поздний Гуссерль: квазирелигия разума как продуктивный
тупик // История философии. 2015. Т. 20. С. 102-129.
18 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб., 2004.
С. 32-33.
Энтелехия культуры
559
Энтелехия здесь выступает как синоним абсолютной идеи, абсолютного смысла,
можно сказать, просто абсолюта. Содержание понятия энтелехии поднято на
предельную высоту универсальности и значимости. Культура тоже оказывается по сути
дела приравненной к универсуму, ибо ее судьба есть судьба всего мира. Абсолютный
смысл, наличный в мире и действующий постоянно правильным образом как
осознаваемый универсальный разум, — вот что такое, по Гуссерлю, энтелехия.
Но как историку культуры работать с таким «безвоздушным», чисто
теоретическим конструктом? Понятно, что невозможно. И Кнабе указывает два
принципиальных момента, извлекаемых им из анализа гуссерлевской концепции и
подобных философских построений. Энтелехия, говорит он, как действующее начало
не исчерпывается наличными своими актами, такое начало «продолжает
действовать, и между ним и его воплощением устанавливается определенное двуголо-
сие»19. Это важное замечание, на которое мы уже указывали, начиная наш анализ.
И в этом смысле можно сказать, что к теме энтелехии культуры тем самым
легитимно подключается тема диалога, который ведут разные культурные «голоса»,
сопоставляемые на основании определенного их единства в глубине их энтелехи-
альных «корней».
Среди выводов Кнабе обратим внимание в первую очередь на «музыкальность»
явлений энтелехии культуры. Характеристику эту Кнабе взял у Флоренского, с
большой цитаты из которого начинается его работа. Флоренский говорил о «веянии
музыки» в ноуменально-центровом, энтелехиальном для русской культуры комплексе
Троице-Сергиевой Лавры. На наш взгляд, идея «музыкальности» творческого духа
культуры, предстающего за выражением «энтелехия культуры», верно ориентирует
исследовательский поиск. «Музыкально» в данном контексте то, что логико-аналити-
чески и объективно-рационально не может быть объяснено, но в то же время
чрезвычайно важно для судеб человека и культуры. Энтелехия культуры как раз такова.
К подобным образом понимаемому тезису о «музыкальности» в творческих
глубинах культуры мы можем присоединиться, слегка его развив.
«Ускользание» энтелехии «от логической ясности и четкой однозначности»
ставит «восприятие этого феномена на грань аналитического познания и внутреннего
переживания»20. Другим символическим синонимом рациональной «матовости»
энтелехии выступает ее «музыкальность». У Флоренского, ощущавшего эту
символику «особенно остро», тема «музыки» находит себе выражение на языке
христианского платонизма (энтелехия как «сверхэмпирическая, выше-умная
духовная сущность»).
«Музыкальность» в этом контексте — конечно, метафора, но емкая и точная. Она
стоит в одном ряду с такими символическими средствами обозначения энтелехи-
альных явлений культуры, как «созвучия», «соответствия», «резонансы» и т. п. Все
они отсылают к образу «волны», к представлению о неявной «передаче» внутреннего
19 Диалог культур. С. 202.
20 Там же.
560
Раздел четвертый
культурного единства. Рядом надо поместить другие образы: «атмосфера», «климат»,
«дух», «среда» и т. п., также указывающие на неявное единство разнородного,
предполагаемого понятием энтелехии.
Недавно я встретил знакомого, впервые побывавшего в Греции. Вот его главное
впечатление: «Я понял, что если здесь я увижу кентавра, то совсем этому не
удивлюсь!» Путешественник хотел сказать, что из самого духа греческого ландшафта,
причем не только географического, но и историко-культурного, как бы «вытекает»,
то есть ожидаем и делается понятным, «кентавр» как определенный культурный
«вид», «форма». Можно сказать, что Genuis lociy дух специфического целого, и
порождает такую его характерную форму, как «кентавр». Пусть все это так и есть, но при
чем здесь, спросят, «музыкальность»? Дело в том, что в музыке, в этой вроде бы
сугубо специализированной деятельности содержится универсальный для постижения
разнородных подразделений культуры язык. Поясню, почему это так. Все виды
искусства как культурной активности совершаются во времени. Но только
музыкальное искусство имеет дело со временем в «чистом» виде, par excellence. В нем
выработан как бы естественный язык осознания и представления временных процессов
вообще. Действительно, такие «музыкальные» концепты, как «ритм», «тональность»,
«интонация», «мелодия», способны описывать явления и других культурных пластов,
в том числе философии, что еще только предстоит со всей ясностью осознать21. Уже
сейчас о «тональности» применительно к своим дисциплинам говорят с полным
самоотчетом в обоснованности такого языка не только художник, поэт, писатель,
архитектор, но и философ22.
Увлечение темой времени, причем с определенной и тем более односторонней
ее концептуализацией, однако таит в себе и опасности. Там, где спасительное, там
близко и погибельное — примерно так можно передать высказывание Гельдерлина,
часто цитируемое и комментируемое Хайдеггером. Именно так обстоит дело с
концептом времени. Эти опасности мы бы обозначили как опасности
метафизического свойства, как угрозу потерять, утратить вкус к вечности. Дело в том, что
одним из влиятельных идейных течений начиная с рубежа XVIII-XIX вв. и особенно
в XX столетии стала «десубстанциализация» и «темпорализация» мировоззрения.
Несть числа ее проявлениям. Это и апология функционализма у Кассирера, и
фундаментальная онтология Хайдеггера, и бергсонизм, по крайней мере в расхожем
прочтении (что, однако, неслучайно), и реляционизм, а также всевозможные реля-
тивизмы и редукционизмы, историцизмы, философии процесса, структурализмы
21 В своих работах последних 10-15 лет я стремился внести эти концепты в разговор о
философии и ее истории. Однако главные теоретические синтезы и анализы еще впереди.
22 Габриэль Марсель, сам тонкий музыкант и проницательный философ, не раз
демонстрировал это, на что мы уже обращали внимание. Речь у него, например, шла о тональности, с
какой Декарт высказывал свой знаменитый тезис или Сартр повторял формулу Ницше о «смерти
Бога». Интонация «устроена» так же, как и интуиция, то есть как духовная живая цельность,
не исчезающая ни на йоту ни в одной из «частей» культурного целого.
Энтелехия культуры
561
и постструктурализмы вкупе с постмодернизмом и т. п. Давно уже стала «модной»
борьба с метафизикой и «субстанциализмом» за текучесть, подвижность и
спонтанность «экзистенции», за случайность и относительность, за стохастичность,
амбивалентность и множественность против единства, за якобы «креативный» сам по себе
хаос против единящего «все и вся» логоса. И когда какой-то ученый или философ
демонстрирует в своих изысканиях безоговорочную апологию такой «десубстанци-
ализации», хочется ему сказать: «Стоп! Здесь риск, опасность!»
Флоренский дал теоретическую классификацию механизмов культурной
динамики первостепенной значимости, на основе которой Кнабе выстраивает свои
историко-культурные «казусы». Речь идет о классификации «культурных
диалогов», или «соответствий» («перекличек»), на три класса: «поверхностно-случайное
совпадение», «историческое взаимодействие», «веяние музыки» (в этом случае уже
нельзя не говорить собственно об энтелехии культуры). Кнабе рассматривает
энтелехию культуры как некоторую «устойчивую объективную структуру», наделенную
тремя характерными свойствами. Во-первых, энтелехиальный импульс «не имеет
определенного, точно выявляемого источника»; во-вторых, «отличительная черта
культурных феноменов, возникающих из энтелехии более широких и длительных
культурных состояний, заключается в том, что они характеризуют не столько
мировоззрение и творчество художника... сколько мироощущение круга, социума,
времени, настроение и тон, сквозящие в фактах культуры скорее, чем сами эти
факты»; в-третьих, «феномены культуры, возникшие из энтелехии более широких
и как бы разреженных культурных субстанций... очень скоро перестают
восприниматься в качестве изначально инородных, полностью усваиваются данной
национальной традицией»23. В этом наборе признаков явление энтелехии описано
достаточно определенно, и поэтому его можно применять при анализе культуры.
Так, например, вслед за Р. Якобсоном увидев в «Медном всаднике» Пушкина
православно мотивированное негативное отношение к искусству скульптуры, Кнабе
говорит о третьей, по Флоренскому, форме культурной «переклички»: «Перед нами
третья форма диалога культур — энтелехия духовно-исторической субстанции, как бы
зримо осуществляющаяся в творческом подсознании поэта»24. В своей поэме поэт
предваряет будущее культуры, те ее формообразования, которым развиться в
полной мере еще предстоит.
В чем же, на наш взгляд, значение этой статьи, давшей плодотворный импульс
к размышлениям об энтелехии культуры? В том, что в ней автор попытался
понять скрытую работу культуры как cultura culturans, как духовного творческого
«начала», понять ту невидимую как бы «подземную», «внутреннюю» культурную
форму или даже структуру, которая «проталкивает» наверх, в осуществленность
будущие формообразования культуры. Все это, на первый взгляд, может
показаться похожим на культурологическую «алхимию», реабилитирующую невидимые
23 Кнабе Г. С. Энтелехия культуры. Указ. соч. С. 148-150.
24 Там же. С. 148.
562
Раздел четвертый
флюиды-субстанции донаучного естествознания. Но с подобной гипотезой,
инициирующей негативную реакцию на всю эту тему, не надо спешить. Сначала следует
разобраться в конкретных примерах энтелехии, проанализированных историком.
Кнабе более всего уделил внимание «античной субстанции культуры»,
рассмотрев ее действие на примере главным образом истории архитектуры.
Подобную «музыкальную алхимию» можно найти и в том, что мы уже давно обозначаем
в своих работах как «духовные резонансы», когда скрытые волны духа, без явной
материальной передачи и в условиях ее очевидной невозможности, расходятся
по разным авторам, позволяя post factum обнаружить изоморфизм создаваемых ими
культурных явлений25. Но это не «алхимия», а, можно сказать, «духовная химия»,
доступная если и не аналитическому рассудку, то более широкому и углубленному
разуму, не чуждающемуся познания художественного. Такого рода явления на
самом деле давно наблюдаются в истории культуры, и обойти факт их присутствия
в ней невозможно. Именно в них, как говорят, ощущается присутствие единящего
разнородные культурные пласты «духа времени», «духа эпохи». Иногда подобные
энтелехиальные волны интерферируют с доказуемыми, материально
обеспеченными трансляциями «воздействий» и «влияний». Понятие «духовного резонанса»,
таким образом, отвечает именно третьему классу культурных «перекличек»
(«диалога»), то есть явлениям энтелехии, если применить общую схему классификации
культурных взаимоотношений, выдвинутую Флоренским и положенную в основу
работы Кнабе.
В дискуссии после доклада Кнабе наиболее близким к его идеям оказался анализ
творчества Андреа Палладио (1508-1580) искусствоведом В. Н. Гращенковым, четко
зафиксировавшим ситуацию, когда обращение к понятию энтелехии неизбежно:
«Ничего буквально античного, — говорит Гращенков, — нет у Палладио, но он весь
пронизан духом античности, и Палладио совершил смелую трансформацию»26. Эн-
телехиальное начало культуры античной, подчеркивает он, «просвечивает... сквозь
ткань и под поверхностью каких-то явлений уже совсем, казалось бы, чужеродных»
ему. Энтелехиальные явления культурной истории живут «не в
рационально-конечном, а в художественном и потому "неописуемом" спектре сознания», — говорит
и Кнабе, комментируя одно письмо Вильгельма Малера (1902-1976). Можно
подумать, что историк-теоретик пытается создать нечто вроде культурологии Шпенглера,
но без его слишком уж биологически ориентированной метафизики. Для этого ему
нужно было бы рационализировать автора «Заката Европы». Но такой
возможности он не видит, выбирая себе других теоретических наставников. В духе стремления
25 Например, в работе: Визгин В. П. Резонансное движение культуры: Достоевский —
Вяч. Иванов — Марсель // Вестник РХГА. Вып. 2. 2011. О понятии духовного резонанса см.:
Указ. соч. С. 171-173. Другие примеры подобного явления проанализированы нами для
таких персонажей интеллектуальной истории, как Марсель и Гейзенберг, Марсель и
Пастернак и т. д., в книге «Философия Габриэля Марселя. Темы и вариации» (СПб., 2008).
26 Диалог культур. С. 210.
Энтелехия культуры
563
к «новому рационализму» мыслили у нас в те годы, помимо Кнабе и Библера,
многие философы-шестидесятники, расширявшие марксизм и пытавшиеся применить
его к познанию культуры, отказавшись от грубого редукционизма
материалистического толка.
Энтелехия и культура
Теперь отойдем от работы Кнабе и обратимся непосредственно к обсуждаемому
в ней понятию. «Семенные логосы», производящие эйдосы, активные созидающие
формы — все эти понятия Платона, Аристотеля, стоиков нужно иметь в виду, когда
обсуждается философская сторона идеи энтелехии. Но не будем вводить их в
рассмотрение, поскольку нас здесь интересует понятие энтелехии применительно к
культуре. Что же это такое энтелехия культуры, этот трудноуловимый «музыкальный»
сюжет? Пояснить его можно указанием на такие, например, явления, как «духовный
резонанс»у когда обнаруживается определенный изоморфизм в творчестве лиц,
никак прямо и явно, через взаимодействие и контакт, друг с другом не связанных27.
Неслучайно, что самые удачные метафоры этого понятия — музыкальные. Для
иллюстрации данного тезиса обратимся к опыту русской поэзии. Иннокентий Анненский
(1859-1909), пытаясь раскрыть метафизику переживания человеком прекрасного,
говорит о шевелении «в нас сочувственных струн», имея в виду струны сочувствия
прекрасной природе как «мысли какой-то великой Души»28. Ситуация, когда «душа
с душою говорит», не вступая при этом ни в какой материально опосредуемый
контакт взаимодействия, и есть ситуация духовного резонанса. Такое явление кажется
«волшебным», таинственным, ибо не требует материальной среды коммуникации.
Можно сказать, что родственные души, не ведая об этом, пришли в резонанс в
самых глубоких своих слоях, обнаружив скрытое «родство».
При обдумывании энтелехии культуры трудно избежать таких понятий, как
«начало» и «волна». Энтелехия культуры, подобно волне, приходит и уходит, и снова
возвращается, не утрачивая при этом своей сущностной антиномии, выступающей
ее инвариантом29. Поясним ее антиномичность, снова обратившись к Анненскому.
Соотношение такого «начала» европейской культуры, как античность, с
культурой нашего времени им точно определено. Современная душа, — говорит он, —
«столь же несоизмерима классической древности, сколь жадно ищет тусклых лучей,
27 Например, Г. Марселя и В. Гейзенберга.
28 Анненский И. Ф. Избранное. М., 1987. С. 501. Здесь характерен сам образ «струны», столь
близкий немецким романтикам («в каждой вещи спит струна» — Эйхендорф).
29 Об антиномизме Кнабе не говорит, только мимоходом и косвенно упоминает о
волнообразном характере энтелехии, об «очередной энтелехии», имея в виду жизнь «чувства
античности» в европейской культуре. См.: Диалог культур. Вып. XXV. С. 148.
564
Раздел четвертый
завещанных нам античною красотою». И продолжает, имея в виду себя: «Автор
томится среди образчиков современных понятий о прекрасном, но он первый бы
побежал не только от общества персонажей еврипидовской трагедии, но и от
гостеприимного стола Архелая и его увенчанных розами собеседников с самим Еврипидом
во главе»30. Вдумываясь в эту ситуацию, мы понимаем, что излучаемые «началом»
культуры энтелехиальные импульсы несут в себе нередуцируемую антиномию, или
амбивалентность. Это означает, что стремление к античному идеалу
парадоксальным образом не может не сочетаться со столь же однозначным неприятием его
полного воплощения сейчас. От роскошного стола Архелая с самим Еврипидом в числе
участников застолья мы бы побежали сломя голову, если бы за таким столом на
самом деле оказались. Именно благодаря антиномическому модусу энтелехии
культуры в сегодняшней действительности ее волны несут живой творческий потенциал.
На острие таких парадоксов и происходит оформление энтелехиальных волн в
произведениях современной культуры. В данном случае мы говорим об «антикизирующих»
трагедиях Анненского, который такую антиномию, как мы видим, прекрасно
осознавал как мыслитель. Но и других примеров тому множество. И ряд из них привел
в своей статье Кнабе. Кстати, к подобному описанию ситуации по сути дела близок
и В. С. Библер с его концепцией «диалога культур», если только отказаться от
слишком, на наш взгляд, догматически принятых им истолкований исторических эпох
и вернуть понятие диалога в русло адекватной ему персоналистическо-экзистенци-
альной философской традиции. Освобождение от теоретического догматизма и
схематизма представляется нам необходимым условием для понимания культуры,
особенно сегодня. Его ясно осознавал Розанов: «Мне кажется, — говорит он, — эпоха
догматического существования вообще прошла и выступает эпоха скорее
художественных воплощений отношения к Богу, эпоха скорее певческая, нежели
умственно-конструктивная»31. Пение певца — это музыка и голос. Этим символам
культурного бытия как такового и отвечает традиция персоналистическо-экзистенциальной
диалогической философии.
Обратим внимание на еще один сюжет, в котором обнаруживается то, что мы
называем энтелехией культуры. «Иннокентий Анненский, — пишет Анна Ахматова, —
не потому учитель Пастернака, Мандельштама и Гумилева, что они ему подражали —
нет... но названные поэты уже "содержались" в Анненском»32. В этом высказывании
30 Анненский И. Стихотворения и трагедии. Л., 1990, С. 290. Архелай (около 413-399 гг.
до н. э.) — македонский царь, много сделавший для процветания своей страны и ее культуры.
Его резиденцию в Пелле посещали выдающиеся деятели греческой культуры, в том числе Ев-
рипид (Lexikon der Antike. Leipzig. 1977. S. 51).
31 Цит. по: Диалог культур. С. 102. Розанов, вернувшись из Италии, порывает с
наукообразием своего письма и сам становится оригинальным художником-мыслителем нового типа,
за которым мне видится будущее литературы, в том числе во многом и философской.
32 Ахматова А. А. Сочинения: в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 236. Далее Ахматова приводит тому
доказательства, цитируя Анненского и сопоставляя с этими цитатами стихи «молодого
Энтелехия культуры
565
ключевое слово — «содержались». Энтелехиально то, что внутренне полно — полно
в разносторонности, в единении разнородного. Энтелехия — ведь это и античный
прообраз гегелевской абсолютной идеи с ее синтезом противоположностей, и аналог
всеединства, этого своего рода философского «божества». Энтелехию хочется
уподобить коробочке с семенами грядущей культуры во всем «букете» ее цветущих форм.
«В "Колокольчиках" (стихотворение Анненского. — В. Я.), — говорит Ахматова, —
брошено зерно, из которого затем выросла звучная хлебниковская поэзия».
«Зерновая», «семенная» метафора неизбежна, когда мы думаем об энтелехии33. Она же
употребила еще некоторые ключевые для нашего сюжета слова, которые так или иначе
упоминались нами: «Истоки поэзии Гумилева не в стихах французских парнасцев,
как это принято считать, а в Анненском. Я веду свое начало от стихов Анненского.
Его творчество, на мой взгляд, отмечено трагизмом, искренностью и
художественной цельностью...»34. Быть же «истоком», «началом» прорастания будущего и
сохранять цельность при всей многопутейной разносторонности — в этом мы интуитивно
видим «дело» гения. Вот еще одно слово, которое здесь неслучайно напрашивается.
Мы не знаем точно, что оно означает. И наше незнание прямо относится к его
сущности. Но мы знаем, что гениальным мы назовем того, кто предвосхищает
будущее культуры благодаря тому, что не замыкается на самом себе, на своей «индиви-
дуальности-определенности-Я», прорываясь к «семенному фонду» разнообразных
культурных форм, которым еще предстоит обрести силу прорастания. Если
вспомнить, что говорит об Анненском Ахматова, то она четко проводит разделительную
черту между гением и талантом (хотя этих слови не упоминает). Анненский, в ее
глазах, — гений, ибо содержал в себе будущее русской поэзии, а упомянутые ею
Брюсов и Бальмонт — можно сказать, только таланты35. Итак, гений — энтелехиальное
явление культуры, поскольку в нем таинственно, как бы «в свернутом виде»
содержится культурное целое эпохи. В гении явлена самоцель и само движение культуры,
ее творческий исток («начало»).
У всех в памяти пушкинская фраза о несоединимости гения и злодейства. Но
гений несоединим и с талантом. Анненский, пишет, что «Л. Андреев очень талантлив,
но совершенно лишен гения — от природы»36. Гений — высочайшая
производительная сила грядущей культуры, прозябающая в недрах или даже на обочине
культуры теперешней. И еще подметила Ахматова, что Анненский «шел одновременно
по стольким дорогам!». Это тоже черта гения: идти сразу многими путями, думать
Маяковского». А можно еще привести аналогичные параллели с Гумилевым, Пастернаком,
Мандельштамом и даже Хлебниковым, что она вскользь и делает.
33 Ахматова здесь солидарна с Флоренским.
34 Ахматова А. А. Цит. соч. С. 236. Курсив наш. — В. В.
35 Вот ее слова: «Межтем как Бальмонт и Брюсов сами завершили ими же начатое (...) дело
Анненского ожило со страшной силой в следующем поколении» (Там же. С. 235).
36 Анненский И. Ф. Избранное. С. 502.
566
Раздел четвертый
многими умами, чувствовать мириадами чувств. Гений многотонален и
многоканален, его связи с миром широки, объемны и подвижны. Ему открыто многое, но он
не смешивает ранги вещей, каждой находя подобающее ей место. Все это отсылает
нас к понятию «плеромы», неотделимого от понятия энтелехии. При этом плерома
мыслится не столько как результат, но скорее как деятельность, творящая активность,
что как раз и характеризует энтелехию в ее энергийной составляющей.
Еще раз вчитаемся в признание Ахматовой: «Я веду свое начало от стихов Ан-
ненского». Его анализ поможет нам увидеть, как энтелехиальное состыковывается
с другими типами культурных взаимосвязей. Речь здесь уже не идет, как у Кнабе
или Анненского, об античном «начале» в современной культуре. Ахматова говорит
о начале собственного творчества. В данном случае глубокое воздействие учителя
на ученика (случай Гумилева и Ахматовой) совмещается с явлением духовного
резонанса (например, случай с Хлебниковым, когда говорится о его
«предвосхищении» Анненским). Можно сказать и так: энтелехиальные волны имеют разные
размерности глубины, проявляются на разных уровнях. Они могут выходить из «тени»,
из глубины на поверхность, оборачиваясь уже материально опосредованным типом
воздействия. И на этих уровнях тоже «работающей» оказывается метафора
органического роста, «семян» как начал. А где она действительна, там отсылка к энтелехии
представляется законной. И поэтому мы можем попытаться расширить выдвинутое
Кнабе понимание энтелехии культуры и отнести к ее проявлениям и другие типы
культурных воздействий. В культуре действует как бы саморазмножение «начал», ее
«семенной фонд» развивается, ветвится. Вот это и есть энтелехиальная жизнь
культуры. На наш взгляд, ее надо изучать не столько in abstracto, чрезмерно увлекаясь
логическими схемами и придавая им непосильный для них онтологический вес и при
этом, удачно или не слишком, играя словами, сколько in concrete), не зарывая
интуитивное познание культурных явлений в неплодотворный «песок» вербально-диа-
лектического движения понятий. Критические прозрения Бергсона и его учеников
служат в данном случае хорошим противоядием против подобной опасности,
угрожающей прежде всего философам.
Вернемся к анализу дискуссии о соотношении диалога и энтелехии для
подведения итогов нашим воспоминаниям и размышлениям. Если диалог означает или
только предполагает некую основу для взаимопонимания, то относительно
энтелехии в ее соотношении с «диалогом культур» диалога в результате прошедшей
конференции и дискуссии, можно сказать, не возникло. Если раньше исследователи
анализировали движение культуры с помощью понятий преемственности и
инновации, заимствования и влияния и т. п., то теперь заговорили о «диалоге культур».
Результаты дискуссии, на наш взгляд, показали, что это вряд ли действительно
помогло прояснению темы энтелехии культуры. И главную тому причину мы видим
в том, что стали смешивать несмешиваемые школы мысли. Как в мире химических
субстанций существуют несмешивающиеся между собой жидкости (вода и масло,
например), так и в мире интеллектуальной культуры существуют несмешиваемые
между собой, несоединимые линии мысли. Персоналистическо-экзистенциальная
Энтелехия культуры
567
диалогическая традиция философствования, в рамках которой понятие диалога
было выдвинуто, развито и обрело легитимный статус, не совместима не только
с гегелевско-марксистской традицией, но и — шире — со всей линией, говоря
языком Розанова, догматического «умственно-конструктивного» подхода к культуре,
противостоящего художественно и исторически ориентированному
философствованию и не сочетаемого с ним. А вот персоналистическо-экзистенциальная
традиция как раз органически сочетается с ним. Поэтому понятие диалога только чисто
вербально можно сопоставлять и ставить в какие-то отношения с понятием
противоречия. Но именно это, пусть отчасти, и произошло в ходе дискуссии и внесло
в нее, как отметил Кнабе, «философское недоразумение не только
терминологическое, но и по существу»37.
Итак, по сути дела большинство докладчиков, выступавших по теме
«Диалог культур», не использовали понятие диалога в философски корректном смысле
и не обращались к нему как необходимому конструктивному концепту, помогающему
понимать культурные явления. Однако как расхожее, с размытой сферой значения
слово обыденного языка оно, конечно, употреблялось участниками конференции
и анализируемой дискуссии, но не в качестве философского понятия. Так, например,
в докладе В. М. Живова оно употреблено дважды (на первой странице и на
последней) исключительно в целях внешней адаптации к теме чтений. Но содержание его
концепции связи культуры Руси с Византией оказалось не нуждающимся в таком
понятии. В указанном докладе речь шла не о диалоге культур, а об их взаимодействии
и возникающем при этом соотношении и своеобразии складывающихся при этом
культурных форм, характерных для их специфических носителей.
Итак, что же такое «энтелехия культуры»? Имея в виду культуру в целом, можно
сказать, что энтелехия — это даже не столько выполненность смысла, его
окончательное и совершенное воплощение-результат (хотя и этот смысл невозможно
за ней отрицать), сколько его выполнение, творческая работа, духовное усилие,
идущее из онтологических глубин. Само понятие энтелехии оказывается не
вмещаемым в рамки его понимания Аристотелем. Дело в том, что мы не можем принять
как единственно значимое и тем более как все определяющее в культуре
аристотелевское миросозерцание, поскольку оно является религиозно и концептуально
ограниченным, будучи специфически антично-языческим. Действительно, у
Аристотеля мир вечен и стоит под знаком неизменного круга, циклического
воспроизводства и завершенности. И поэтому в вечном мире Стагирита всегда уже
достигнута и столь же всегда действует полнота его смысла. У нас же, современных
37 Слова Кнабе в его заключительном слове. Но от недоразумения философского не
свободен и сам докладчик, подводивший итог дискуссии: «Противоречие, — говорит он, —
относится к диалогу, как некоторое общее понятие к более узкому понятию» (Диалог
культур. С. 223). Вот такие сопоставления, на наш взгляд, и демонстрируют, что имел место
именно этот случай — непродуктивная попытка смешения несмешиваемых
интеллектуальных традиций.
568
Раздел четвертый
европейцев, миросозерцание — хотим мы того или нет — другое. Оно порождено
христианством, укоренено в нем, и только сквозь его призму в нем преломлено
античное греко-римское наследие. У Аристотеля, повторю, универсальная
подвижность вещей мыслится замкнутой в круг, зацикленной на неизменном повторении
того же самого. В христианском же миросозерцании движение мыслится
перспективно разомкнутым, напряженно устремленным к более полному воплощению
смысла, совершенное воплощение которого в этом мире и силами лишь этого мира
мыслится недостижимым. Конечной предельной точкой исторического
напряжения в христианстве выступает второе пришествие Христа, «паки грядущего со
славою судити живым и мертвым». Поэтому мы должны освободить понимание
энтелехии культуры от ее связанности исключительно с античным дохристианским
культурным горизонтом.
Как этого можно достигнуть? Нам представляется, что оптимальные рамочные
условия для такого понимания энтелехии культуры дает мировоззрение
христианского платонизма. Именно на его позициях стоял Флоренский. Его статья «Трои-
це-Сергиева Лавра» явилась как раз тем фундаментом, отталкиваясь от которого
Кнабе начал свои исследования проявлений энтелехии культуры в истории, хотя
платонизм ее автора не был им воспринят как именно христианский38. Флоренский
в своей статье сформулировал предельные метафизические условия самого
понятия культуры, определив их как совмещение абсолютности Божественной, с одной
стороны, и абсолютной духовной ценности мира — с другой. Только совместимость
этих «предельных символов догматики» делает культуру как таковую возможной39.
Можно пояснить это так: само понятие культуры как таковой предполагает как
реальное существование высшего идеала, так и абсолютную ценность его земного
воплощения. Жизнь ценна самим ожиданием появления в ней воплощенного идеала,
и этим ожиданием живет культура как творчество. И такое ожидание метафизически
ясным образом оправдано именно в христианской догматике. Согласно Флоренскому,
русская культура, будучи укорененной в православном христианстве, оказывается
в своей религиозной сущности сочетанием таинства Св. Троицы и таинства
Воплощения, основных христианских догматов, благодаря чему реализуется
метафизическое условие понятия культуры как таковой и выявляется ее энтелехия. Тертуллиан
38 Флоренский Я. Α., свящ. Сочинения: в 4 т. М., 1995. Т. 2. С. 352-369. Статье эта,
представляющая собой своего рода идейный манифест, теоретически сконцентрированный на
понятии энтелехии культуры, была прочитана Флоренским на заседании Комиссии по охране
памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры в ноябре 1918 г.
39 Читателю этот вывод может показаться странным. Но для того, кто вдумается в стоящую
за ним логику мысли, он будет понятным. Вот ключевые слова Флоренского: «Если нет
абсолютной ценности, то нечего воплощать, и, следовательно, невозможно самое понятие
культуры; если жизнь, как среда, насквозь чужда божественности, то она неспособна принять
в себя, воплотить в себе творческую форму и, следовательно, — снова уничтожается
понятие культуры» (Флоренский. Указ. соч. С. 357).
Энтелехия культуры
569
сказал, что «душа по природе христианка»40. Флоренский в своей статье о Лавре дал
парафраз этого высказывания — культура по природе христианка. На предельной
метафизической глубине другой она просто быть не может.
Смысл, в христианском его понимании, «сверхмирен», то есть в мир, что «во зле
лежит», невмещаем. Дохристианское философское язычество не знает такой
глубины антиномизма, таких «парадоксов», которые открыло христианство. Полной
выполненности смысла мира, то есть как бы его «нормальной» энтелехии, как ее
определял Стагирит, в нем быть не может. Логос воплощен, Слово стало плотию —
вочеловечилось, но это не полное и окончательное завершение воплощения высшего
смысла. Для языческого разума Платона и Аристотеля это непостижимо, будучи
открыто христианской вере. Это и означает, что при включении в христианское
миросозерцание аристотелевского понятия энтелехии возрастает значимость его энергий-
но-восходящей компоненты. Смысл воплотился, но это сверхсобытие не окончено
еще тем самым, оно действует как самая глубокая «пружина», «мотив»
активности человека. На наш взгляд, само теоретическое понятие энтелехии, заложенное
Аристотелем, только вместе с христианством приходит к своей полной зрелости.
Смысл, воплощенный полно, все еще выполняется in actu. Выполненность смысла
(энтелехия, по Аристотелю) как задание соединяется, таким образом, с его «недовы-
полненностью», а значит, с духовным усилием выполнения, что и выражает понятие
энергии с присущим ему значением ресурса деятельности, направленной к
предельной цели. Само открытие культуры как осознанной темы-предмета,
сопровождаемое открытием исторической глубины бытия на сломе XVIII и XIX вв., описанное
Фуко как кризис классической эпистемы, говорит, на наш взгляд, об
«уравновешивании» субъективно переживаемого роста секуляризации объективной
христианизацией движущегося целого. «Рождение историзма, — описывает этот период
Доброхотов, — во многом обессмыслило старый идеал природы. Процесс
становления перестал быть несовершенным полуфабрикатом по отношению к вечному
бытию»41. А это ведь означает, что аристотелевское понятие энтелехии самим
ходом культурно-исторического развития христианизируется так, что при этом в его
составе, можно сказать, возрастает энергийная компонента. Ведь теперь энтелехи-
альное начало «спускается» в то, что в языческой античности Платона и
Аристотеля таковым не являлось. Энтелехия, можно сказать, тем самым следует кеноти-
ческим путем Спасителя. Imitatio Christi обнаруживается как самоцель (энтелехия)
становящегося объективного культурного целого под поверхностным
«обмирщением» сознания людей. В этом — оправдание кажущегося парадоксальным тезиса
о том, что культура по природе своей христианка.
40 Anima naturaliter Christiana.
41 Доброхотов А. Л. Перезагрузка или переустановка? (О чертах будущей эпохи) // Сб.
материалов XV конф. «Наука. Философия. Религия: Проблемы экологии и кризис ценностей
современной техногенной цивилизации». М., 2013. С. 112.
570
Раздел четвертый
Понятие энтелехии культуры, как мы видим, концептуально локализуемо
пересечением теологии культуры и ее телеологии. Рационалистическое направление
в философии стремится переформатировать теологическое понимание культуры и ее
энтелехии в телеологическое. По сути дела, это и происходит, когда
религиозно-философская концепция Флоренского осмысляется Г. С. Кнабе, линию размышлений
и исследований которого интерпретирует, продолжает и развивает далее А. Л.
Доброхотов. Энтелехия при этом истолковывается как событие встречи тяготеющих
друг к другу реальностей — материальной «аморфной плоти культуры» и
индивидуализированной формы42. А такие противоположности, как «подземно-скрытое» —
«ослепительно ясное», задают ритм энтелехиальных явлений43. В целом вектор
исследований Кнабе и Доброхотова, на наш взгляд, можно определить как то, что
в 60-70 гг. XX в. называлось «высоким рационализмом», за верой в который
просматривался концепт «мирового разума»44.
Тема энтелехии «гнездится» в том проблемном ареале, в котором так или иначе
ставится вопрос о самодвижении культуры, а также связанный с ним вопрос о его
смысле и единстве разнородных культурных «пластов», о самой возможности такого
единства. Вспомним, замысел кантовской третьей «Критики» складывался тоже как
попытка решить схожую задачу помыслить природу «как систему по эмпирическим
законам» для разнородных явлений45. Тогда у Канта возникло и было проработано
регулятивное по своему статусу понятие целесообразности, обеспечивающее
возможность такого единства и перебрасывающее мост между техникой и природой,
искусством и природой, рассудком и разумом. Для рационального теоретического
познания кажется естественной ориентация на замену теологии культуры ее
телеологией. Ведь самым лаконичным пояснением энтелехии является утверждение о том,
что в ней репрезентирована самоцель («самодетерминация», «самополагание»,
«самоосуществление»), когда действующая данность и задание оказываются
нераздельными, хотя и не слиянными. Нечто подобное уже содержится в античном понятии
энергии («энергейа»). Неслучайно ведь у Аристотеля энтелехия во многих случаях
отождествлена с энергией. «Энергейа» — это и действующая сила осуществления
возможного, и сама его действительность. Все это характеризует и энтелехию
Аристотеля. Но в ней по сравнению с «энергией» усилен момент субстанциальности эн-
телехиального (недаром энтелехией тела у Стагирита выступает душа как духовная
«монада», можно сказать, используя позднейшую терминологию).
42 Доброхотов А. Я. Телеология культуры. С. 169.
43 «Как не замечать эту таинственную силу, которая то неспешно роет подземные связи
культуры, как хороший крот, а то открывает ее единство в ослепительной очевидности
энтелехии?» (Доброхотов А. Л. Указ. соч. С. 174).
44 Кстати, используемая А. Л. Доброхотовым метафора «крота», неустанно вершащего свою
«подземную» работу, подтверждает этот вывод.
45 Кант К Сочинения: в 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 118.
Энтелехия культуры
571
Итак, скажем еще раз, только христианство привело к тому, что цикличность
античного космоса оказалась преодоленной. Открылась «бездна» с перспективой
трансцендирующего мир движения культуры. Это изменило сами понятия культуры
и энтелехии. При этом выполненность смысла в энтелехии, во-первых, дополняется
его выполнением как процессом, а, во-вторых, сама энтелехия отныне понимается
в свете парусии, второго пришествия Христа. Все это самым непосредственным
образом относится к энтелехии именно культуры как ведущего звена космического
преображения.
Раздел пятый
ВОСПОМИНАНИЯ, ЗАМЕТКИ
К НАУЧНОЙ АВТОБИОГРАФИИ
ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВ, КАКИМ Я ЕГО ПОМНЮ
В Игоре Алексееве я всегда прежде всего чувствовал неоспоримое присутствие
благородства во всем, начиная с внешнего облика: неторопливость, даже величавость
походки, исключительная благорасположенность к людям, честность и прямота
в суждениях, интеллектуальная трезвость и обаятельная эмоциональность — все
это было в нем и подавалось каждому как подарок судьбы, как тот чистый воздух,
цены которому нет, а мы беспечно дышим им и, не замечая его целебных свойств,
продолжаем катиться по рельсам нашей судьбы, не отдавая себе отчета в том, что
это он, Игорь Алексеев, создает нам зеленую улицу, режим наибольшего
благоприятствования...
Элегантное клетчатое пальто, аккуратная борода с ранней сединой, стройная
фигура бывшего спортсмена заставляли ассоциировать Игоря Алексеева с образом
кембриджского профессора-джентльмена. Профессором, кстати, он был
первоклассным — я имею в виду его удивительный дар лектора. Он превосходно умел
реанимировать темы, заданные стертыми идеологическими клише, демонстрируя тем самым
неистребимость живого поиска истины. От его докладов у меня сохранилось
ощущение классического искусства научного дискурса — ничто не оставлено за границей
светового конуса ясной логики, никаких импровизаций, уравновешенность,
гармония, основательность. Игорь Алексеев умел реализовать в ясной и четкой,
эстетически весомой форме свое присутствие в мире, и важной частью этой интегральной
формы был диспут, научная полемика в докладе или лекции. «Этим человеком
правит amor intellectualis Dei» — именно так думал я тогда, хотя, быть может, слов этих
применительно к Игорю в ту пору еще и не возникало.
Самым непосредственным, естественным образом Игорь создавал ауру
интеллектуальной жизни, в которой философия, история, наука могли чувствовать себя
по-домашнему комфортно, что означает — находиться в непрерывной работе
познания и критики. Он не только воплощал этос науки как честного, свободного,
открытого, демократического, «человекомерного» предприятия, но и сам его активно,
щедро продуцировал. Я не могу не сопоставить его в этом отношении с Б. С. Грязновым:
оба были рыцарями бесстрашного научного разума, свободными от всякого
философского догматизма, умевшими поддержать на высшем накале интеллектуальный
тонус в научном сообществе, являясь его живыми формообразующими центрами.
Впервые я услышал об Игоре Алексееве в начале 60-х гг., когда
интеллектуальная «оттепель» привела к созданию на физфаке МГУ философского кружка. Его
инициаторами были Η. Ф. Овчинников, И. А. Акчурин и И. С. Алексеев. Я заканчивал
576
Раздел пятый
химфак и вольнослушателем участвовал в некоторых заседаниях этого кружка.
Знакомство с Игорем тогда не состоялось: я не был усердным кружковцем, но мои
друзья — Р. Полишук, С. Хоружий, С. Половинкин — были уже и друзьями Игоря.
Я как бы жил в ауре Игоря, не общаясь, однако, с ним лично. Так продолжалось
и после окончания университета. Я поступил, как и Игорь, в аспирантуру кафедры
философии естественных факультетов МГУ. Но незадолго до моего поступления он
уехал в Новосибирск. И опять я оказался в ауре Игоря: слышал рассказы о нем,
дружил с его друзьями, тем самым незаметно включаясь в сообщество «новых
философов», плывущих в своих исканиях через строгую науку к неведомой
недогматической философии современности.
Потом были годы работы в Институте истории естествознания и техники. ИИЕТ
был уникальным очагом интеллектуальной жизни в славно-бесславные годы
«застоя». Я уверен, что противозастойной сывороткой, защитившей ИИЕТ от
стагнации и идущей от нее порчи, была наука как великая глубокая тайна с ее неведомой
судьбой. Между философскими и специально-историческими секторами института
существовал устойчивый плодотворный симбиоз. Игорь, быть может, наиболее ярко
его представлял. Даже чисто организационно он то входил в сектор истории физики
и механики, то выходил из него в составе исследовательской группы по
методологическим принципам физики, а порой включался в сектор логики развития науки,
соседствовавший с нашим сектором методологии историко-научных исследований
и «географически», и интеллектуально. И в качестве такой «двуязычной»,
научно-философской фигуры Игорь определял интеллектуальное лицо ИИЕТ как духовного
предприятия. Такой «билингвизм» компетенций служил ему — как и многим
другим работающим рядом с ним — гарантом творческой плодотворности в условиях
трапезниковско-сусловского климата в академии и стране в целом.
Но тогдашний ИИЕТ был не только уникальным очагом интеллектуальной
свободы в застойные годы — он был еще и ареной интенсивных дружеских личных
отношений, духовных общений, ярких праздников за столом и в аудитории, в Звенигороде
и Обнинске, на конференциях и в кулуарах. Одно было неотделимо от другого —
ииетовская Касталия оставалась «единой и неделимой» и в теоретических турнирах,
и под выстрелы пробок, сопровождавшихся аккомпанементом стихов и дружеских
пародий, звучащих на наших неофициальных встречах...
Однажды далеким мартом собрались мы в Теплом Стане на деньрожденческий
праздник у Ольги Кузнецовой. Была середина 70-х гг., в воздухе летало слово
«разрядка», но реальных плодов ее мы не ощущали. «Оттепель» осталась далеко позади,
и «заморозки» казались нам способными на чудеса долгоживучести. Упавший градус
общественной жизни в стране мы пытались возместить малыми очагами —
застольями, дружбами, квартирными посиделками. Игорь любил такое неофициальное
общение — в нем, возможно, наиболее ярко раскрывалась эмоционально-духовная
сторона его жизни. В тот вечер, откликаясь на атмосферу дружбы и
непринужденности, я отважился прочесть только что написанные после поездки с Гачевым в Ми-
хайловское стихи:
Игорь Алексеев, каким я его помню
577
Без вольности, без песен, без друзей
Уныла жизнь и нет к ней сожаленья,
Без музыки, без праздности затей,
Без тишины и легкого томленья...
На рынок, к быта разным мелочам,
Зовет жена, с утра гремя посудой.
А мне такое снится по ночам,
Что никогда, наверно, не забуду.
А утром я не помню ничего,
И грежу очищения обновой.
Спокойствия приподнято чело,
Но жизни рвется слабая основа.
Жена за свеклой гонит поутру,
И стынет кровь в пристанище панельном.
Доверившись воздушному перу,
Я по Москве шатаюся метельной.
Ни демонов не вижу, ни Христа —
Универмагов серые коробки,
Очередей вонючая глиста,
И вонь автомобильной пробки...
Но что душе потребно — ей дано:
В пещер печерских недра погрузиться,
Усадеб псковских старое вино
В крови моей ликует и струится.
А что душе потребно — ей дано:
Вон чернецы сосульки с крыш сбивают,
И толстый поп улыбки прибавляет,
И дребезжит вагонное окно...
Не успел я дочитать до конца, как Игорь вручает мне пародию, пародию на стихи,
которые еще звучат в воздухе:
Такая жизнь пошла теперь —
Безличная совсем...
Ассоциаций зыбкий зверь
Пленяет нас не тем.
Жена, вонючая Москва,
Религия и свекла, Вольтер,
Грузин — но все слова
При этом несколько поблекли.
Такой я интел-лек-туал,
Который из иных мотивов
578
Раздел пятый
Стихи мудреные писал,
Которым ни вино, ни пиво —
Ничто не будет нипочем:
Коль не поймете — ваш просчет.
Мгновенно сочинял он экспромты, с завидной скоростью рифмуя свои
впечатления. Не знаю, были ли у него «серьезные» стихи, но «несерьезные» он писал
удивительно легко, в чем его можно сравнить лишь, пожалуй, с Бонифатием Михайловичем
Кедровым, его шефом, возглавлявшим сектор логики развития науки. Неудивительно,
что в те годы наша логика развития науки развивалась и логично, и научно: ведь
душой ее были одаренные творческие натуры, равно способные и к блестящему вер-
сификационному экспромту, и к основательной и оригинальной историко-научной
реконструкции.
На дружеских сборах, органично дополнявших наши интеллектуальные баталии,
Игорь всегда был распахнут настежь. Он неплохо пел, любил Кима, Окуджаву — весь
тот джентльменский набор «оттепельной» песенной культуры. Помню, как Игорь,
напевая, музыкально четко репрезентирует звучание мужества и рыцарской
верности Долгу и Идеалу:
Но Франция жива — и о-ля-ля! —
И живы мушкетеры Короля!
Песни и стихи помогали ему и нам жить, сохраняя душу и ум.
Испытательным полигоном для стихов и юмора была «Вербалка», стенная газета
наших звенигородских семинаров. Стихи и юморески сочиняли для нее, как правило,
коллективно, в основном Вадим Рабинович, Толя Ахутин и я. Наше трио задавало
специфический тон ииетовского «вербалочного» юмора. Методы, этос «Вербалки»
не ограничивались газетой, под нетерпеливое ожидание засидевшихся
«семинаристов» вывешиваемой прямо в зале научных заседаний. Так, например, когда у Игоря
случился день рождения, то мы с Вадимом Рабиновичем отметили его в лучших
традициях «Вербалки», сочинив такую спич-тираду:
КАНТ-ата или О-да в несть и во имя юбилея Игоря С. Алексеева
Однажды плевелы посеяв,
Решив, что это все равно,
Взрастил пшеницу Алексеев —
Весьма культурное зерно.
И чтоб, наевшись тучной полбой,
И по лбу чтоб не получить,
В философическую колбу
Концептов надо нацедить,
А также, может быть, конструктов,
Игорь Алексеев, каким я его помню
579
Абстрактов, актов и тэ дэ,
И прагматических продуктов —
Отныне, присно и везде.
Потом поставить колбу эту
В духовку или на попа,
Добавив в меру марафету,
А также пригласив попа
С тем, чтоб поповство опровергнуть
И сциентизмом обложить,
И в алексеевщину ввергнуть,
Не дав попу и дня прожить.
Все это только предисловье,
А сказка будет впереди...
Желаем, Игорь, Вам здоровья
На Вашем жизненном пути!
В последние годы чувствовалось, что Игорь переживает глубокую духовную
трансформацию. В интеллектуальном плане она проявилась в его гуманистическом,
философско-антропологическом, можно сказать, переосмыслении философии и
методологии науки, да и мировоззрения вообще. Постфактум мне ясно, что
сегодняшний широко прокламируемый с высоких трибун «поворот к человеку» Игорь
осиливал сам и давно. В связи с этим вспоминается одно выступление Игоря. Однажды
в начале перелома нашей общественно-политической жизни, в столь неясное и
неопределенное время, когда новые принципы еще не были сформулированы, Игорь
собрал у Николая Федоровича Овчинникова близких ему людей, составлявших, можно
сказать, его референтную группу. Это были философы и ученые — Ю. А. Шрейдер,
Н. И. Кузнецова, 3. А. Сокулер, Вл. П. Визгин, М. А. Розов и другие. Выступление
Игоря тогда поразило многих. Содержащийся в нем призыв прозвучал как голос
одинокого и много пережившего человека. Голос этот говорил о самых простых
вещах, о которых в интеллектуальных собраниях говорить как-то и не принято —
о честности, о совести, об императиве «жить не по лжи»... Те, кто ждал тонких
концептуальных дистинкций, были явно разочарованы. «Неслыханная простота» того,
что хотел нам сказать тогда Игорь, адресовалась не к научному интеллекту с его
отвлеченными Кастальскими играми, а к привлеченному правдой сердцу. Это был
нравственный призыв, и звал он к очищению — задолго до абуладзевского фильма,
на который интеллигенты пошли дружным строем. Речь шла о нравственной
стойкости ученого, исследователя, философа, действующего в условиях моноидеокра-
тического общества. Стойкость нравственной позиции, интеллектуальная жизнь
не по лжи были, очевидно, главным уроком, извлеченным из тех нелегких
испытаний, которые вынес Игорь Алексеев лично. Он честно и стойко прошел путем
человеческого и научного мужества: его прямота и твердость в отстаивании истины
580
Раздел пятый
с ее многомерностью вызывали гонения, которые всегда ведь пребывают в
дежурной готовности.
Интеллект и нравственный дух были у Игоря в равной мере обостренными,
чуткими, открытыми. И в последнем периоде своей духовной эволюции он со всей
отчетливостью показал, что в иерархии ценностей нравственный дух идет впереди
интеллекта, каким бы блестящим тот ни был.
1989г.
МЫ ВСЕ ЕГО ТАК ЛЮБИЛИ:
ВСПОМИНАЯ МЕРАБА МАМАРДАШВИЛИ
Мераб Мамардашвили — кто он как философ? Быть может, из нечасто
встречающейся породы Privatdenker у частных мыслителей? И если это так, то он представляет
не столько ее созерцательно-отшельническую, мистическую ветвь, сколько
сократическую и рационалистическую. Слово Жан-Пьера Вернана о нем — «грузинский
Сократ»1 — верно. Кстати, тонкая ирония, неотделимая от образа Мамардашвили, —
его самая, быть может, заметная черта. С Сократом роднит его преданность стихии
мыслящей речи. Именно речи, а не письма. Беседы, а не трактата. И еще: Мераб
Мамардашвили был художником в философии, что случается, увы, нечасто.
Кончилось заседание в Институте истории естествознания и техники в
Старопанском переулке. Мы выходим из института с Мерабом — солнце, весна, какая-то
приподнятость воздуха и света... Заворачиваем на Ильинку, к станции метро
«Площадь Ногина», и по пути говорим. Не помню, кто заговорил об этом первым (я имею
в виду феномен «пишущего человека»), скорее всего я: всегда мне хотелось выйти
за ограду наукообразной философии и окунуться в те вольные просторы, которыми
манила ничем, кроме внутренней правды, не скованная речь. У меня был
затянувшийся и поэтому беспокоивший меня опыт писания-в-стол. У Мераба был свой опыт,
другой. И вот он со своей обаятельной, мягкой иронией «ридикюлизирует»
пишущего человека, совершая своего рода психоаналитическую «вивисекцию» его образа.
Одиноким сочинителем-наедине-с-самим-собой он не был. А вот беседная речь была
ему совершенно родной стихией. Отсюда и его манера творчества —
лекция-импровизация, разумеется, не без длительной, изнутри идущей «подготовки». Его слушают
с особым вниманием и приподнятостью, ибо конвекционные токи Мерабовых слов
создают воздушную тягу, возникает ощущение подъема в неведомые страны Мысли,
Философии, Духа... А философский кудесник, уютно расположившись перед
импортным магнитофоном, не без порой мелькающей загадочной полуулыбки, говорит
в какой-то завораживающей стилистике, переплетая научность термина с
художественным образом. И слушателя вдруг подхватывает волна Неведомого,
создаваемая аэродинамической трубой Мерабовой речи. Неведомое тем самым становится
1 Верная Ж.-П. Грузинский Сократ // Вопросы философии. 1992. № 5. С. 116. Существует
еще одна версия этой рецензии французского историка на книгу бесед Мамардашвили с Анни
Эпельбуэн (см.: Путь. 1992. № 1. С. 319-321), указывающая, кстати, другую дату ее
оригинальной публикации.
582
Раздел пятый
как бы отчасти ведомым, но не посредством силлогистической механики, а в силу
бытийного приобщения к нему...
Не все частные мыслители — светские люди. Мераб Мамардашвили, будучи
частным мыслителем, был светским человеком в лучшем смысле этого слова. В
германском мире светскость нередко выступает как чопорность или педантизм.
Светскость же par excellence расцвела в латинской ойкумене. Мерабу, кстати, близка была
не только французская культура, но и итальянская. Помню, как в те годы я, решив
изучить итальянский язык, обратился к нему за помощью, попросив каких-нибудь
пластинок для прослушивания. Он нашел кассету с записями материалов Итальянской
компартии. В те годы железный занавес, пусть и несколько продырявленный, висел
еще на рубежах СССР. Но французское в Мерабе, конечно, преобладало. Даже
внешним обликом, ритмом жестов, характером манер он напоминал мне такого глубоко
профранцуженного русского мыслителя, как Петр Чаадаев. Внушительная лысина
любимца московских салонов, ориентация на романскую, а не на германскую
культуру — такими были и Чаадаев, и Мамардашвили. Кстати, сходство здесь, хотя бы
отчасти, прослеживается и в идеях. Если, по Чаадаеву, Россия выпала из семьи
исторических народов, наследников Рима, выбрав своей религией византийское
православие, то, по Мерабу Мамардашвили, подобное выпадение действительно
случилось с ней, но позже — в октябре 1917 г.
В итальянском и испанском языках есть одно характерное слово — convivenza
(итал.), convivencia (исп.), которого нет во французском, хотя в нем остались его
«отголоски» (convier — 'звать в гости', convive — 'приглашенный к обеду'). Это слово
имеет свою философскую историю, идущую от Сократа и Платона к Габриэлю
Марселю. Напомню в этой связи, что «Пир» по-итальянски звучит как Convivio —
производное от того же корня. А корень этот можно прочитать как «со-жизнь», или
«жизнь-вместе», т. е. речь здесь идет о совместной жизни, наглядно
демонстрирующей себя, прежде всего, в застольном, праздничном пиршестве. Но это не «банкет»
в его официальном и несколько чопорном смысле, а именно дружеское вольное
застолье. А если шире, то любой род совместной жизни: сожительствование, событий-
ствование. Так вот, дух праздничной конвивенции был той аурой Мамардашвили,
которую он излучал навстречу людям. Быть рядом с ним уже означало
присутствовать на празднике жизни, будто сидишь ты за необъятным грузинским столом, над
берегом Риони, смотришь на храм Баграта и, не спеша беседуя, пьешь кахетинское...
Звучат бесконечные речи, и нет конца празднику быть и празднику мысли —
приподнятому часу быть человеком.
Грузинское жизнелюбие и гостеприимство сочетались у него с галльским «острым
смыслом». Да, он был «бонвиваном», может быть, даже «жуиром». Но в лучшем
смысле этих слов, без всякой прилипшей к ним пошлости и банальности. Каждое
мгновение жизни, казалось, он проживал полно и естественно. Жизнь не была для
него объектом рефлексии, поставщиком сырого материала для ее «сухого» анализа.
В каждое мгновение она проживалась полносоставно, цельным чувством
присутствия здесь-и-сейчас со всей возможной светоносной его приподнятостью.
Мы все его так любили: вспоминая Мераба Мамардашвили 583
Мне вспоминается один вечер, одно подобное «конвивентное» застолье на
квартире А. В. Ахутина на Кутузовском проспекте. Под зеленой лампой в кабинете, стены
которого сплошь закрыты книжными шкафами, сидит за журнальным столиком Ме-
раб Мамардашвили, вокруг роятся приглашенные «конвивенты» — наши друзья. Ме-
раб рассказывает о своей жизни в Праге, где он работал в редакции журнала
«Проблемы мира и социализма». Конкретный сюжет его рассказа не остался в памяти.
Но запомнилась атмосфера, аура, стиль его речи и мысли. Запечатлелось ясно вдруг
открывшееся в Мерабе Мамардашвили: философ эстезиса! Мыслящая чувственность,
чувственно воплощенная мысль — как еще можно назвать этот феномен мысли,
неотторжимой от чувственно-эстетического плана бытия? «Все покоится, — говорит
Мерло-Понти, — на чудесном размножении (multiplication) чувственного»2. Вот эта
изжитость абстрактного интеллектуализма в самой личности философа показалась
мне тогда удивительным явлением. Почему? Потому, что наша философская школа
была в основном школой немецкого идеализма, немецкой Науки. Гегель в одном
из своих писем не случайно назвал близкую ему самому философию
неоплатоновского толка «абстрактной»3. Несмотря на все свои дифирамбы конкретному (он его
понимал конечно же лишь как логическое, т. е. опять же абстрактное конкретное),
несмотря на присущий ему дух спекулятивного синтетизма, Гегель чувствовал свою
родственную близость именно к абстракции, к идеальным теням реального
существования. Воспитанные на немецкой абстрактной философии, мы просто забыли
о возможности другой мысли, скорее французской, чем немецкой4. И вот в осенний
тихий вечер сидит под зеленой лампой, вальяжно устроившись в кресле, философ
с трубкой в руках и демонстрирует нам воплощенную возможность как раз другой
мысли, другого ее существования.
Философски значимое культивирование sensibilité — вот что тогда
обнаружилось для меня в Мерабе Мамардашвили. Смысл этого слова нелегко кратко передать
по-русски. «Чувствительность» имеет оттенок не подразумеваемой здесь
«сентиментальности». Этого совсем не было у Мераба. Речь идет о культурно проработанном
и поэтому одухотворенном и творчески значимом для философии чувственном
начале человеческой «природы». Если я употребил слово «начало», то тем самым уже
признал вожделенно искомую философами форму всеобщности в определяемом
нами предмете. Если в мире абстрактной философии творческое начало мысли
оперировало с плоскими интеллектуальными тенями реального, то теперь нам была
воочию продемонстрирована другая философская страна, в которой это начало имеет
дело с чувственно переживаемыми «объемами» реального существования. Мысль
2 Merleau-Ponty M. Signes. P., 1960. P. 23.
3 Гегель Г-В.-Ф. Работы разных лет: в 2 т. М., 1973. Т. 2. С. 478.
4 Любопытно, что Гегель в упомянутом выше письме к В. Кузену делает ему и его стране
явно преувеличенный комплимент (комплимент, конечно, в его глазах), говоря, что
«французская публика проявляет гораздо больше вкуса к абстрактной философии, чем публика
немецкая» (Там же.)
584
Раздел пятый
здесь обнаружила себя вышедшей из абстрактной плоскостности к
выразительному, художественно схватываемому объему. Естественно, что и зона
мыслительной чувствительности теперь стала не то что шире (ведь и Гегель писал об эстетике,
и, кстати, очень неплохо), а она как бы наполнилась более реальными красками,
стала «гуще», плотнее, живее, приблизившись к повседневности, но не в банальном
смысле этого слова.
Мне скажут, что я ломлюсь в открытую дверь, ибо всем известно, что философ
Мамардашвили был феноменологом, представлял феноменологическое направление.
Я «ломлюсь», верно, туда, но как раз потому, что мне дорог сам феномен по имени
«феноменолог Мамардашвили», а не историко-философская, неизбежно абстрактная,
этикетка против его имени. Я ни разу не слышал от Мераба имени французского
феноменолога Мерло-Понти, если, правда, не считать таким «упоминанием»
переведенной на немецкий язык книги французского философа «Приключения диалектики»,
которую я получил от него. Кто знает, быть может, шедевр французской
феноменологии — книга «Феноменология восприятия» Мерло-Понти — была ему столь
дорога, что именно поэтому он и не подарил ее своим молодым друзьям?
Поясним последнюю гипотезу. Есть основания допустить, что не немцы,
а именно французы были учителями Мамардашвили в феноменологии, идеи
которой, кстати, обладают удивительной проникающей способностью. Мамардашвили
однажды обратил внимание на то, что у него лично понимание содержательной
проблематики феноменологии возникло вовсе не в результате чтения Гуссерля. И он
делает такой вывод: «Очевидно, живое существование мысли не зависит от того,
знаю ли я ее текстологически или нет»5. И далее он говорит о том, что в
отечественную философию феноменологические проблемы вошли вместе со смещением всей
проблематики философии в сторону «проблематики тела», толчок к которой, по его
мнению, дал Маркс. Да, сама атмосфера философии в нашей стране в 60-70-е гг.
была насыщена феноменологическим флюидом. Невозможно перечислить все
влияния и моменты, способствовавшие тому, что философы и ученые-гуманитарии
стали в те годы разрабатывать разные аспекты «внементальной реальности души»
(выражение Мамардашвили). Не последнюю роль в этом играли лекции и
выступления самого Мамардашвили, характеристический словарь которого
удивительным образом воспроизводит феноменологическую лексику именно Мерло-Понти,
а не Гуссерля (прозрачность / непрозрачность, сцепление, кристаллизация,
визуально-тактильная аналогия, «подвешенность» и т. д.). Мир не отделен от нашего его
«схватывания», или «понимания», акты которого включены в сам мир — вот
типичный мотив мысли и Мерло-Понти, и Мамардашвили. Одушевленное живое тело
органическим образом сочетает природу как бытие-в-себе в физическом
пространстве с культурой как бытием-для-себя в пространстве истории. Эта, на мой взгляд,
центральная интуиция феноменологии Мерло-Понти лежит в основании и
феноменологической мысли Мамардашвили.
5 Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М., 1990. С. 102.
Мы все его так любили: вспоминая Мераба Мамардашвили 585
В «Феноменологии восприятия» встречаются такие пассажи, которые
кажутся сошедшими прямо с уст Мамардашвили. Вот только один из них: «Именно
Gestalttheorie, — пишет французский феноменолог, — заставила нас осознать...
напряжения, которые наподобие силовых линий пересекают зрительное поле и
систему "собственное тело — мир", наполняя ее смутной и магической жизнью,
навязывая ей всевозможные сплетения, извивы, вспученности»6. Обратим внимание
на последнее выражение. Действительно, «вспученность» у Мамардашвили
выражает возникшую неоднородность, наведенную выделенность объекта из ряда ему
подобных натуральных предметов. Так, например, разбирая текст Пруста,
Мамардашвили говорит, что божества-аттракторы, или «богини», устремляя на нас свое
всевидящее око, «вспучивают» интенциональное поле нашего присутствия в мире.
Эта неоднородность носит внутренний характер и поэтому прямо не видна для
внешнего наблюдателя7.
Итак, перекличка, довольно плотная, двух феноменологов очевидна. Остается
выяснить, является ли она простым «резонансом» в силу известной параллельности
их мыслительных установок или же в ней прочитывается определенное воздействие
французского феноменолога на грузинско-русского. Оставим этот вопрос для
будущих исследований. Но отметим еще один момент.
Бросаются в глаза резкие выпады Мераба Мамардашвили в адрес школьной
феноменологии гуссерлевской ориентации. Для него непревзойденным
феноменологом, совершенно от подобной феноменологии независимым, был Марсель Пруст.
Он был в его глазах гением феноменологии, не знавшим об этом.
«Феноменологические задачи, — говорит Мамардашвили, — он (т. е. Пруст. — В. В.) выполнял лучше
и грамотнее многих современных ему феноменологов»8. Тональность высказываний
Мерло-Понти о Прусте совершенно подобная. Как бы сильно ни повлиял Бергсон
на французского феноменолога, но с ним он спорит (мол, он «тетичен», даже
«идеолог»), а вот с великим писателем — никогда. Для Мерло-Понти Пруст — абсолютный
свидетель нового экзистенциально-феноменологического опыта.
Прервем эту историко-философскую интермедию, возвратившись к нашему эссе
мемуарного характера. Вот что меня изумляет в Мерабе Мамардашвили: аристократ
по своим привычкам, с таким притязательным вкусом относящийся к внешней
стороне жизни и в то же время открытый настежь всему миру демократ. Посмотрите,
как он лучшим виргинским табаком набивает свою любимую трубку, как медленно,
весомыми жестами он ее раскуривает. Вот не спеша побежал ароматный дым,
особый, незабываемый, мерабовский, и раскуривший такую трубку философ-аристократ
готов для каждого встречного собеседника «ронять слова, как сад янтарь и цедру...».
Вспоминая Мераба Мамардашвили, невольно тянешься к стихам Бориса Пастернака,
6 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 81 (курсив мой. — В. В.).
7 Мамардашвили М. Лекции о Прусте (психологическая топология пути.). М., 1995. С. 376.
8 Там же. С. 379.
586
Раздел пятый
до безумия, кстати, влюбленного в Грузию и одновременно так глубоко понявшего
особую человечность французской культуры.
«Меня давно, — пишет Борис Пастернак отцу в мае 1933 г., — стала притягивать
сверходаренная человечность мужественной французской культуры, шествующей, как
воздух и свет, через все неудобства настоящей неурезанной действительности.. .»9.
Поэта привлекает во французской культуре ее гуманомерная конкретность. Творчески
и человечески выразительно «обжить» эту «неурезанную» полноту действительности
невозможно, действуя по доктринальным прописям отвлеченностей, околдовавшим
с такой силой ее зарейнскую соседку. Как и русская культура золотого века, к которой
как к путеводному маяку обращается Мамардашвили, персонифицируя ее в Пушкине,
французская культура аристократическими добродетелями вкуса и меры удерживает
ясность формы10, сквозь которую открывается «неурезанная действительность» как
последний адресат всякого творческого послания. Аристократизм на входе,
демократичность на выходе — вот лаконичная формула подлинной культуры.
Демократический аристократ, Мераб Мамардашвили пуще всего не любил
спешить, нагружаться тяжелой сумкой или портфелем, неизменно являясь на работу
в институт налегке, разве что с добротным кожаным футляром для своей трубки.
Но изысканные манеры, неторопливость, несуетливость жизненного и
мыслительного движения, как и самой физической походки, не были у него симптомами
высокомерия, гордого самозамыкания. Я не знаю человека более открытого и доступного
каждому, более способного концентрировать свое внимание на собеседнике, кем бы
тот ни был. Кстати, он любил и слово «интенсивность», и саму реальность, за ним
стоящую. И всегда жил с полнотой вхождения в «сейчасную» ситуацию, переживая ее
с открытым «забралом» всех чувств, которые у него были одновременно и органами
мысли. И поэтому пастернаковские слова о «сверходаренной человечности»
французской культуры, как влитые, ложатся на весь образ грузинско-русского Сократа.
Почему появилась эта курсивом выделенная поправка к формуле Вернана, с
которой я начал эссе? «У Пушкина, — говорит Мамардашвили, — не было школы,
потому что поэты все же не такие кретины, как ученые-философы, и торжественного
цирка не устраивают из своего ремесла»11. Так сказать может лишь человек,
выросший в русской культуре — от Пушкина и Чаадаева до Пастернака и Розанова. И
критические — порой, на мой взгляд, несправедливые — суждения Мамардашвили
в адрес русской культуры, а скорее, российского менталитета, ничего в этой
атрибуции его творческого облика изменить не могут.
«Мамардашвилизм», «мамардашвилианство» — слова эти режут не только
слух, но и здравый смысл: доктринализации Мераб Мамардашвили не подлежит.
9 Пастернак Б. Письма к родителям и сестрам. 1907-1960. М., 2004. С. 576-577.
10 Опасности французского рационализма и связанного с ним культа формы
(«формализма») — это другая тема. Мераб Мамардашвили их, к счастью, сумел избежать.
11 Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С. 20.
Мы все его так любили: вспоминая Мераба Мамардашвили 587
Не показывает ли нам явление Мераба Мамардашвили в философии то, что в ней
важнее ее самой сам философ? Говоря о Декарте, Мамардашвили замечает:
«Фактически делом философа является он сам, а не исправление других людей»12. Приоритет
личности по отношению к доктрине с ее моральными импликациями
обнаруживается в первостепенной значимости в философии устного личного слова. Если сам акт
мысли совершен, «выполнен», как любил говорить Мамардашвили, в
интерсубъективном пространстве, то не так уж важно, записан ли его результат или нет,
упорядочен он в систему или учение или же нет. Ведь акт подлинной мысли, если угодно,
вечен, длится всегда, и если он выполнен, то сам собой, так или иначе, будет
воспроизводиться. Не поэтому ли не следует «заводить архива, над рукописями трястись»?
Итак, доктринером-системоучителем Мераб Мамардашвили не был. Не был он
и педантично придирчивым к точности «факта» историком, будучи скорее поэтом
в философии, ее сказочником-импровизатором, неутомимо охотящимся за
глубокой мыслью. И он хорошо знал, что обитает она там, где мы действуем, чувствуем
и рискованно участвуем в мире, ждущем для своего свершения нашего
собственного духовного преображения, а не в школьно поставленной науке, ничего, кроме
машинообразно работающего интеллекта, от нас не требующего. Стихия устной
речи не может не быть стихией поэтической — пусть даже только в какой-то
степени. Живя и мысля в звучащем на людях слове, невозможно педантски точно
цитировать, приводить всегда выверенные исторические детали. В истории Мераб
Мамардашвили схватывал главное, запоминал и воспроизводил ее тональность и смысл.
А деталь при этом могла и слегка «плавать». Так было, например, с упоминанием
о поединке Декарта с позарившимися на его кошелек попутчиками, когда западная
Фрисландия в рассказе Мамардашвили стала Германией, а Северное море — рекой13.
В одном трудном развороте «Картезианских размышлений» он признается:
«Я сам не очень понимаю то, что говорю»14. На это признание стоит обратить
внимание. Оно показывает, что понимание никогда не было для Мамардашвили чем-то
совершенно отрезанным от тайны, недоступной прямому интеллектуальному
схватыванию. Настоящее, глубокое понимание было для него неотделимым от
интуитивного постижения, было как бы пониманием в тайне, или тайным пониманием.
И этот союз раскрытости и сокровенности он объяснял тем, что в основе
понимания, как он говорил, лежат метафизические апостериори^ а не логические допущения,
насквозь рефлексивно просматриваемые, не эссенциальные прозрачные для
интеллекта изначальные данности, а экзистенциальные «жесты» с их «тайной». Сравнение
с марселевской онтологией здесь напрашивается. Однако прямая тематизация тайны
отсутствует у Мамардашвили. Но отсвет ее принятия ложится на его понимание
12 Мамардашвили М. Картезианские размышления. С. 17.
13 Там же. С. 19. См.: Фишер К. История новой философии: Декарт, его жизнь, сочинения
и учения. СПб., 1994. С. 192.
14 Мамардашвили М. Картезианские размышления. С. 44.
588
Раздел пятый
понимания. Как бы то ни было, но понимание для него было онтологически
значимой работой, не дающей ни малейшего повода для самодовольства. В акте
понимания, как он его понимал, не было ни педантизма, ни безвопросности результата. Вот,
мол, понял что-то, и больше ничего тайного здесь не осталось. Нет, тайна-то и
высветилась в акте подлинного, глубокого и высокого понимания. Понял — значит
сознательно и цельно-бытийно вошел в тайну бытия, принял ее и личностно, и
интеллектуально. Скорее, видимо, уж так надо понимать эту связь понимания с тайной,
которая, несомненно, присутствовала в мысли Мераба Мамардашвили, хотя, быть
может, мы ее слегка и «подмарселили».
Мераб Мамардашвили любил слова «усилие», «держание», «напряжение»,
«интенсивность» 15. Мысль, познание вообще требуют усилий и напряжений — притом
не только чисто интеллектуальных. Но усилия не отменяют и какой-то блаженной
пассивности познающего, которую можно обозначить еще и такими словами, как
открытость, готовность, решимость, т. е. то, что у Марселя получило обозначение
как труднопереводимая «disponibilité»16. Вот пара значимых для мыслящего ролей —
созерцатель и участник. И глубина мысли достигается лишь при условии их
взаимной «раскрутки». Иными словами, я могу увидеть и изобразить для другого
значимую картину (мира или его аспекта) лишь в том случае, если что-то важное в мире
испытал, пережил сам как его участник. В конце концов, здесь, как и в литературе,
рассказы опытных, бывалых людей несут свою очевидную значимость. Так обстоит
дело и в философии. Приключения Декарта на море и суше, о которых мы
упомянули, вовсе не стерильны по части их внутренней связи с его умозрениями. Мысль,
как и человек, меряется, в конце концов, способностью к выполнению ею лучшего,
что мечтательно и мерцательно, урывками, можно сказать, видится нам. Во
французских метеосводках чаще всего звучит одно и то же слово — éclaircies — 'просветы'.
Вот и лучшее нам, как и голубое небо, видится просветно, «интермиттантно», как
мог бы сказать Марсель, если бы он владел еще и русским языком. В этой
безусловной ориентировке на лучшее — платоновский, можно сказать, — пафос творческой
личности Мераба Мамардашвили. И его духовный аристократизм.
Выше у меня с пера слетело такое слово, как «сказочник-импровизатор»,
которое я хотел бы пояснить. Я имею в виду исключительно Мамардашвили как автора
устных бесед-лекций, в которых его философский талант раскрылся с наибольшей
силой. Его статейно оформленные научные произведения раннего периода, когда он
во многом писал в силу внешних необходимостей своего статуса, демонстрируют нам
совсем другого автора. Это, на наш взгляд, тяжелые тексты. В них Мамардашвили
насыщает теоретический марксизм феноменологией, углубляя его, быть может,
чрезмерно. Читая их, убеждаешься, что стихия академической статьи на «заданную тему»,
15 О понятии «держания» у Мамардашвили см.: Визгин В. П. Держание: метафорика
и смысл // Визгин В. П. На пути к другому: от школы подозрения к философии доверия. М.,
2004. С. 470-493.
16 Об этом понятии см.: Марсель Г. Опыт конкретной философии. М., 2004. С. 215-216.
Мы все его так любили: вспоминая Мераба Мамардашвили 589
как это принято в научном сообществе, совсем не его «дхарма». И он это понимал
и не просто избегал таких «заданий», но и сумел решительно сойти с набитой колеи
«научного работника», создав свою собственную «нишу», свой собственный жанр,
реализовав при этом ему действительно органически присущий потенциал
сократически мыслящего философа.
Итак, «сказочник» мысли, излучающий ее волшебные флюиды, зачаровывающие
аудиторию... Но не в пежоративном смысле рассказчика «небылиц» надо понимать это
слово, а в значении мыслительного символизма, силовые градиенты которого
устремляют души слушателей к предвосхищению высшей и лучшей реальности, готовой для
них приоткрыться. И речь здесь идет скорее об экзистенциально-участном
пред-переживании преображенной реальности, чем о ее ясном интеллектуальном созерцании.
Сбыться, стать самим собой, найти себя, создав при этом свой собственный
мир, — все это, о чем он говорил в своих лекциях и беседах, бывшее, если угодно,
нравственным пафосом его послания, он сумел осуществить в своей недолгой жизни.
И если кто-то и считает его посмертную славу преувеличенной, полагая, что рядом
с ним тоже были талантливые люди, но не получившие ее в такой степени, как он,
то я с ними не соглашусь. Хотя верно, умных и талантливых людей вокруг Мераба
Мамардашвили действительно было немало. Но мало кто может с ним сравниться
в чистоте самообретения и в той силе великодушия, которые в этой
самореализации раскрылись.
Можно, видимо, сказать, что Мераб Мамардашвили дает нам поэтическую
версию философии, т. е. философии живой, личной, современной и вечной
одновременно. Да, философии феноменологической, да, философии экзистенциальной, да,
философии сознательно эстетически насыщенной, да, философии сократической
по духу своему. Но это не гуссерлева феноменология, не доктринальный
экзистенциализм и даже не сократовская манера в чистом ее виде. Нет, все эти составляющие
у него оригинально и колоритно преобразованы и гармонично «упакованы» (еще
одно типичное мерабовское выражение). Слово «поэтическая» в приложении к
философии означает, прежде всего, если следовать греческому корню этого слова,
творчески явленную мысль, даже, надо сказать, являющуюся в самый миг своего
возникновения. Кстати, этот изначальный смысл слова «поэзия» был в ходу еще, например,
у иенских романтиков, когда в их глазах «поэзия» могла покрывать собой все то, что
сейчас называют «словесностью» или даже «культурой». У Мераба Мамардашвили
мысль рождалась на живо разогретом слуху, собственном и слушателя, реакцию
которого он всегда чутко улавливал. И ему для свершения акта мысли нужен был
восприимчивый любитель «любомудрия», слушатель-собеседник. Мыслить «всухую»
на абстрактную академическую тему было, как мы сказали, не его делом.
Я уже сказал, что в философии Мераб Мамардашвили самым важным считал
самого мыслящего человека. И в этом смысле, условно, его самого можно считать
философом личности или субъекта. Действительно, структуралистско-постструк-
туралистское развенчивание-развинчивание человека и субъекта, сознания и
личности симпатии и большого интереса в нем не пробуждало. С этим обстоятельством,
590
Раздел пятый
я думаю, связано и его «прохладное» отношение к философии Мишеля Фуко,
ставшего столь модным в последнее время и, быть может, особенно у нас.
В те 70-80-е гг. я много и не без увлечения занимался Фуко. И часто
заговаривал о нем с Мамардашвили. Но Мераба Фуко не интересовал, по крайней мере тогда,
и разговора не получалось. Да, он его читал, и Мерабовы книги Фуко, в конце
концов, частично оседали у меня. Но глубокой мысли он в нем не нашел. У Мераба
Мамардашвили отсутствовал пафос «системности» и «машинности» по отношению
к человеку, которым был захвачен Фуко вплоть до своего последнего периода, когда
он повернулся к «техникам самости», к «заботе о себе» и «искусству быть». Вот этот
поворот французского философа мог бы, видимо, привлечь к нему внимание
Мамардашвили. Но, думаю, тогда Мераб уже не следил за его работами.
Выше я сказал об отсутствии у Мамардашвили пафоса системно-машинного
видения социокультурной реальности человека. Но здесь, видимо, следует уточнить:
я имею в виду относительно позднего Мамардашвили — периода лекций и бесед,
а не его ранний период с уже упомянутыми академическими текстами. В этих
неудобочитаемых работах, напротив, звучит как раз научно окрашенный пафос
постижения сложных органических систем-целостностей, провоцирующий, по мнению
их автора, разработку новой, не-классической, философии. Но, повернувшись к
Декарту и Прусту и не порывая с платоновско-кантовским наследием, Мамардашвили
вышел за пределы этого, гегелевско-марксова по своим истокам мыслительного поля.
Тонким и высоким вкусом он обладал не только по отношению к повседневной
жизненной практике, но и в мире философии. А этот вкус говорил ему, что ее
классики остаются всегда живыми. Платон, Декарт, Кант — вот самые любимые им
философские имена. А из современной мысли ему было близко, как мы уже сказали,
феноменологическое направление, сопряженное с экзистенциально-персоналисти-
ческой мыслью. Причем, как мы подчеркнули, феноменология звучала у него
скорее в ее французском варианте, чем в немецком. Я не знаю, что Мамардашвили
думал о Габриэле Марселе и его философии. Знаю только, что он его читал, когда жил
в Праге, увы, в немецких переводах17. Позволительно, на мой взгляд, допустить, что
один только этот факт мог в какой-то мере снизить впечатление от творчества
Марселя, кстати, великолепного стилиста. Однако на самом деле мир марселевской мысли,
хотя бы отчасти, близок и по духу, и по сократовскому пафосу миру мысли
Мамардашвили. И точкой их схода, помимо общефеноменологического ориентира, служит,
например, Марсель Пруст, лекции о котором принадлежат, на мой взгляд, к самым
проницательным и продуктивным анализам Мамардашвили18.
17 Boiïéssée]. Du côté de chez Gabriel Marcel. Lausanne, 2003. P. 114. Примечательно, что в эту
книгу, посвященную Г. Марселю, включен очерк-портрет Мераба Мамардашвили, с которым
ее автор был знаком лично (Op. cit. Р. 113-116).
18 Я попытался показать значимость этих лекций для разработки персоналистически
ориентированной онтологии в работе «Сериальность и уникальность бытия». См.: Визгин В. П.
На пути к другому. С. 494-515.
Мы все его так любили: вспоминая Мераба Мамардашвили 591
Философия была для Мераба Мамардашвили художеством мысли на службе
искусства быть, диктуемого задачей «сбыться» (еще одно из его любимых слов.) Ее
наукообразный теоретический дискурс он считал вторичным по отношению к этой
гуманистической, лежащей на границе с мудростью ее задаче. В философии, как ее
понимал Мамардашвили, звучал не могущий насытиться никаким ответом на него
зов, слышимый каждым: сбудься, стань, stirb und werdel
Урок Мераба Мамардашвили для сегодняшней философской мысли:
продуктивная творческая мысль сущностным образом является художественной по своей
природе. Художественная компонента в философствовании — не внешнее средство
украшения, повышающее рыночную привлекательность его продуктов, а стихия
зарождения, возникновения, жизни, развития и трансляции мысли!
Язык устных лекций Мамардашвили в этом отношении наиболее поучителен.
Метафоры и образы, им используемые, удивительно пластичны. Пластична, но не
бесформенна и мысль, выражаемая этими средствами. Поскольку она рождается по ходу
усилия сбыться, как бы примериваясь к набрасываемым для нее словам, то
неудивительно, что мыслящий выглядит порой ходящим по кругу. Кристаллизация
важнейшего растет в ритме ухода и возврата к его средоточию. Свободная «прогулка»
в большом поле продумываемого совершается на конечном «поводке», отступление
всегда сопровождается возвратным движением. Слово и мысль наращивают в этом
ритме свою точность, выявляя структуру своей цельности. Кроме того, если речь
идет о цикле лекций, то лектор в начале каждой лекции должен еще давать сжатые
обзоры продуманного и рассказанного ранее — «рекапитуляции», как мог бы сказать
в данном случае сам Мераб Мамардашвили, не боявшийся вводить иноязычные
выражения, особенно французские, которые у него всегда были на слуху.
15 сентября 1980 г. Мерабу Мамардашвили исполнялось пятьдесят лет. Событие
это разогрело мое перо, и с него слетели такие строки, которые я ему и прочитал:
Юбилейное
Мерабу Мамардашвили
Мераб — это солнце полуденных трав.
В горах он кочует, долины поправ.
Он — воздух джигитов, аэр пастухов,
С ним пить обожаю до зорь петухов.
Он ввысь нас уводит ущельем ума,
Где плавится солнцем снегов кутерьма.
И шерпом ведет нас по горным хребтам,
Платона, Декарта и Канта следам.
В нем есть упоенье растений и рос.
На даре Мераба побегом возрос
592
Раздел пятый
И маленький принц, и досужий халдей,
Чья родина — небо богов и идей.
Мы все его так любили... «Кого вы конкретно имеете в виду?» — спросит меня
придирчивый читатель. Ну, что ж, отвечу: я имею в виду прежде всего тех, кого
в Институте истории естествознания и техники причисляли к кругу философов —
не системников, не науковедов, а именно философов. Это — А. В. Ахутин, затем
автор этих строк, В. Г. Лысенко, аспирант Мамардашвили В. В. Калиниченко и те
сотрудники всех секторов, которых к философам не относили, но они просто любили
слушать Мераба.
ВСПОМИНАЯ ВЯЧЕСЛАВА
СЕМЕНОВИЧА СТЕПИНА
Вспоминается прежде всего его выступление на звенигородском семинаре по
методологии и философии науки и истории науки. Тогда он запомнился мне
убедительным, ясно продуманным, аргументированно оформленным и схематически
представленным реконструированием того, как возникает научная теория в физике и как она
«работает». Примером ему служило возникновение электродинамики Максвелла.
Запомнился сам Степин — высокий, симпатичный, серьезный и в то же время умеющий
легко и кстати шутить и быть светским собеседником. Женщины, помнится, были им
очарованы. «Слава, Слава» — так и слышу их обращение к нему. Я его никогда
Славой не звал. Всегда по имени-отчеству. Но отношения были совершенно на равных,
товарищеские. Всегда он брал «быка за рога». Времени при встрече никогда не тратил
на всякие административные мелочи. Его вдохновляли только идеи. Его
собственные, конечно, в первую очередь. Кто-то, может быть, скажет, только такие идеи. Но,
думаю, это не так. Он много читал, все просматривал. И поддерживал
исследования по предмету ему далекому, если чувствовал в исследователе творческую жилку.
Запомнились встречи с ним в его необъятном кабинете академика-секретаря
отделения РАН в нашем «доме» на Волхонке. Помню, как он показывал подарки,
которыми его одаривали в командировках по всему свету. Кажется, однажды я у него
размахивал всамделишной саблей. Была и еще какая-то казачья атрибутика. Все было
удивительно настоящим! И мы с ним вели себя как мальчишки с этим театральным
реквизитом. Были там у него еще какие-то подобные вещи-раритеты. Его кабинет
можно было воспринимать по аналогии с музеем подарков Сталину. Степин был
нашим генералиссимусом. Корнями своих знаний и интересов он уходил в близкую
мне специальность — философию науки, в науковедение. Был он по
интеллектуальному складу не столько философом в обычном смысле, сколько именно теоретиком.
Философ-теоретик.
Его вклад в философию науки огромен. У нас долгое время философия науки
«скрипела» по узкой разъезженной колее проблем, наперед задаваемых эталонными,
идущими от марксистского бэкграунда оппозициями, вроде эмпирическое и
теоретическое, логическое и историческое, универсальное и частное и т. п. Но уже к
началу 70-х гг. лед тронулся. Стремительным темпом, с ускорением стали складываться
и развиваться науковедческие работы, а также близкие к ним разнообразные по
методологии историко-научные исследования. Все это сопровождалось бумом новых идей
в философии науки, а также массированным импортом западной методологической
594
Раздел пятый
мысли. Кун, Поппер, Лакатос, Фейерабенд, Поланьи, Тулмин, потом социология
знания и науки, разные эпистемологии и т. д. — все это каскадом входило в поле
исследований, становясь в центр рефлексии. Степин здесь был центральной фигурой. Его
классификации, его таксономия стали достоянием учебных программ всей страны
и шагнули далеко в другие страны и континенты. Кто не слышал выражения «пост-
неклассическая наука»? Степин стал лидером. Его идеи и слова — важно и то и то —
вошли в резонанс с общественными трендами в интеллектуальной сфере, в
осознании феномена науки и техники, а потом и культуры и цивилизации в целом.
Вячеслав Семенович любил читать лекции и умел это делать. Помню, с какой
любовью он отзывался о своей профессорской работе на философском факультете
МГУ. И когда я там бывал, всегда глаз останавливался на его аудитории. И думалось
о нем... Читал он ясно, с четкой аргументацией и архитектоникой целого.
Удивительно светлый человек! Поскольку он был энтузиастом философской
науки, то свет высокого бескорыстного когнитивного эроса озарял его целиком.
И редко можно было встретить человека с такой доброжелательностью к людям. Он,
кажется, каждого привечал спокойным дружеским приемом. И тут же вступал с ним
в теоретический диспут или начинал очередную лекцию. Пусть и на ходу. В
коридоре или в дверях института.
Забыть такого человека невозможно!
18 декабря 2018 г.
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ РОЖАНСКИЙ
(30.09.1913-25.08.1994)
В Иване Дмитриевиче Рожанском свободно сочетались трудно соединимые
качества — удивительная отзывчивость, мягкость и плавность в обращении и манерах
со строгостью и внутренней дисциплиной подвижника науки с его решительным
отвержением всего размазанно-субъективного и необязательного для сути дела.
Типично московско-интеллигентный характер его общения в делах науки дополнялся
духом высокой интеллектуальной взыскательности и ответственности. На первом
плане его личной иерархии ценностей располагались высокие интересы служения
истине. Благородный дух теоретической аскезы был родной стихией Ивана
Дмитриевича, как и у Эйнштейна или Бора (последнего он знал лично).
Не могу не поделиться одним личным наблюдением. И. Д. Рожанский, физик
по образованию, из семьи известного русского физика Дмитрия Аполлинариевича
Рожанского, помнится, говорил мне, будучи уже в весьма преклонном возрасте,
что сейчас ничто так не занимает его мысль, как проблема времени. Со
временем время действительно неодолимо одолевает душу и ум. Другой пример: Пиама
Павловна Гайденко, с которой вместе с Иваном Дмитриевичем Рожанским мы
работали в одном секторе Института истории естествознания и техники АН СССР,
а потом в стенах ИФ РАН. Ее последняя опубликованная книга неслучайно
посвящена истории проблемы времени в философии, начиная с античности и до наших
дней. Как и Рожанского в поздние годы жизни, ее буквально захватила проблема
времени, его тайна. И если П. П. Гайденко, будучи профессиональным
историком философии, ответила на этот вызов времени, обернувшийся вопрошанием
о нем, историко-философской монографией, то И. Д. Рожанский в последние годы
жизни воспоминал свою жизнь, отца, людей и события, которых он был
свидетелем. Особенно ярко мне запомнился его устный рассказ о том, как однажды, дело
было на Харьковщине летом 1918 г., в поезде он встретился с офицерами армии
кайзера Вильгельма, которая тогда оккупировала Юг нашей страны. Отец его,
ехавший с ним, мальчиком лет пяти, разговаривал с офицерами вермахта по-немецки,
на языке, которым свободно владел и Иван Дмитриевич. А вот разговоры с Ниль-
сом Бором наших теоретиков, когда датский физик приезжал в Москву, он
переводил уже с английского, которым владел совершенно свободно, как и немецким.
На фотографиях праздника Архимеда, проходившего на ступеньках перед
физическим факультетом МГУ, можно увидеть еще молодого в то время Ивана
Дмитриевича рядом с великим физиком.
596
Раздел пятый
Интеллектуальный склад личности Ивана Дмитриевича задавался, на мой взгляд,
тремя компонентами. Во-первых, любовью к русской поэзии, в частности к
Пастернаку и Ахматовой, с которыми он был лично знаком. Во-вторых, глубоко
усвоенной германской культурой, наукой и музыкой, философией и поэзией, Гете и Рильке
(Рильке он специально изучал и переводил). В-третьих, верой в научный разум,
история которого, начиная с античности, была главным предметом научных интересов
Ивана Дмитриевича. Именно его глубокая гуманитарная эрудиция вместе с
основательным естественно-научным образованием делали его первоклассным историком
научных идей. Германистика, любовь к истории и науке, поэзии и музыке
соединились в его призвании эллиниста-историка. Действительно, вслед за Гельдерлином,
Гете и Гегелем Иван Дмитриевич смотрел на Грецию как на колыбель европейской
культуры, собственную принадлежность к которой он всегда ясно ощущал.
Русский европеец, идеалист 40-х гг. XIX в., брошенный жить и действовать в
технократический неоматериалистический XX в. — вот как можно представить себе
жизнь и судьбу Ивана Дмитриевича Рожанского. Сдержанность, лаконичность стиля,
даже как бы некоторая флегматичность, своего рода северная меланхолия — все это
говорило о нордическо-петербургской складке его природы и происхождения. А
общительность и открытость души, радушие и хлебосольство дома, любовь к долгим
серьезным разговорам, страсть к чтению и чаепитиям вместе с собеседованием —
все это свидетельствовало о московской стихии характера.
Основную идею, которую в своей деятельности воплощал Иван Дмитриевич
Рожанский, создавая, в частности, домашний семинар по истории античной науки
и философии, можно было бы обозначить как благородство разума. Его любовь к
античной культуре, приглашение к обдумыванию ее проблем осознавались как призыв
именно к вольному и благородному служению — честному и частному, личному,
содержащему в себе свою правоту.
Сказать, что Иван Дмитриевич принадлежал к лучшим представителям русской
интеллигенции — сказать мало и слишком обще. Представляя себе манеру разговора
и весь духовный облик Ивана Дмитриевича, невольно вспоминаешь круг идеалистов
XIX века. В последние годы, особенно, месяцы жизни Иван Дмитриевич проявлял
особый интерес не только к западной культуре, как это было ему свойственно всегда,
но и к русской религиозно-философской традиции. «По-моему, служить связью,
центром целого круга людей — огромное дело, особенно в обществе разобщенном
и скованном» — эти слова Герцена об Огареве, которые следует отнести и к Ивану
Дмитриевичу Рожанскому, вспоминаются, когда мы мысленно возвращаемся в 70-
80-е гг. XX в., когда работал его семинар, собиравший интересных людей,
филологов, историков и философов, идущих каждый своей дорогой в исследованиях
античной науки и философии.
1997 г.
ВСПОМИНАЯ РЕГИНУ КАРПИНСКУЮ
Мне нельзя не написать о Регине Карпинской. Я был ее «первым аспирантом». Она
часто констатировала этот факт, интонацией подчеркивая значимость для нее его
содержания. Увлечение наукой, стремление к широте культурного горизонта было
тогда, в 60-е годы прошлого столетия, само собой разумеющимся в среде молодой
интеллигенции. Серьезное отношение к научным идеям, проблемам
междисциплинарного характера сочеталось в Регине Карпинской с хлещущим во все стороны
потоком жизненной энергии, переливающейся через край.
Регина Карпинская видится мне светлым шестидесятником советской эпохи
в период ее научного подъема. Я неслучайно употребил это выражение с эпитетом
«светлый». Дело в том, что не все представители шестидесятников вспоминаются как
«светлые». Этим эпитетом я хочу выразить простую вещь: ничего догматического,
ничего от позы интеллектуального «гуру», любящего доминировать над людьми, над
«учениками» в натуре Регины не было. Научные убеждения, интересы, идеи,
предпочтения у нее, конечно, были. Но доктринерского высокомерия не было совсем. Это
не в ее характере. Да и политические страсти, тогда обычные для ее круга и
поколения, не особенно захватывали Регину. Она жила совсем другим. В ее жизни,
сосредоточенной на великом чуде ПРИРОДЫ, удивительно много значил личный
непосредственный контакт с этим чудом всем существом, всеми чувствами, а не одним лишь
аналитическим умом. Природы как объекта научного познания Регине было мало.
Поэтому ее душа не меньше, чем в научном диспуте, раскрывалась в байдарочном
походе, в увлекательной рыбалке, в лыжной прогулке, в альпинистском восхождении.
Ей нужна была природа вживеу в спонтанности ее самодвижения как подлинная
реальность мировой ЖИЗНИ, в которую на полных правах в особом статусе включен
был и ЧЕЛОВЕК. Вот эти два ключевых слова, выделенные мной прописными буквами,
в их единстве и определяли полюс всех — интеллектуальных, эмоциональных и
прочих — стремлений Регины. Можно сказать, что ее онтология была витологией или
даже витософией. Другого бытия кроме живого для нее по сути дела не существовало.
Если таков был ее онтологический объект, то метод его познания для нее был
научным. Регина Карпинская вместе со всем своим поколением верила в научный метод,
исповедовала, можно сказать, религию научного разума. Мировоззренческая
установка на онтологический приоритет жизни по отношению, как она говорила вслед
за Вернадским, к «косной материи» была нашей общей позицией. Бергсон, Ницше
и даже Бердяев, которыми я тогда увлекался, в этом смысле не только не уводили меня
от Регины как философа жизни, а, напротив, подкрепляли наше взаимопонимание.
598
Раздел пятый
Мы познакомились и почти сразу же подружились в 1960 году. Я учился на
четвертом курсе химического факультета МГУ. Регина в это время в качестве доцента
кафедры философии естественных факультетов начала читать лекции на химфаке.
Одновременно она училась на биологическом факультете. Как же все-таки мы
познакомились? Мне представляется, что посредником стала Лидия Васильевна
Николаева, тоже доцент этой кафедры. В нашей группе она вела семинарские занятия.
Лидия Васильевна была фронтовиком, работала в ЦК КПСС. Оттуда ее, как тогда
говорили, «парашютировали» на идеологическую кафедру. Философия не была ее
увлечением, больших знаний в этой области у нее не было. Зато у Лидии Васильевны
было нечто более ценное — доброе сердце, понимание людей, прямота и верность
в отношениях с людьми. Отзывчивый, чуткий человек! Видимо, во мне она
увидела тянущегося к философии студента, разглядела склонность к теоретическим
знаниям. Своего увлечения этой дисциплиной я не скрывал. И тогда, на последних
курсах химфака, передо мной открылась возможность после его окончания
поступить в аспирантуру на ту же кафедру, где работали Лидия Васильевна и Регина
Семеновна. И вот через Лидию Васильевну Николаеву я знакомлюсь с Региной
Семеновной Карпинской и становлюсь если еще не ее аспирантом, то, по крайней мере,
кандидатом на этот статус.
Посмотрим теперь на идеи и философские установки, разделявшиеся Региной
Карпинской. Пожалуй, первой такой установкой было сопротивление редукционизму
в философии науки. Оппозиция редукционизма и антиредукционизма в какой-то
преображенной форме соответствовала исторической оппозиции механицизма и
витализма. Витоцентризм Регины не позволял ей разделять жесткую редукционистскую
программу. Она хорошо понимала значение физико-химических методов для
исследования живого. Но она отдавала себе отчет в том, что жизнь как объект познания
требует целого веера самых различных подходов и методов изучения.
Для философской составляющей ее подхода очень значимой была категория
целостности^ поскольку она казалась интегрирующим и в высшей степени
характерным понятием именно для живого. О целостности шли тогда жаркие споры и
разговоры \ Нередко, помнится, они проходили у нее на квартире, на кухне, как это было
типично для тех лет. Проблема целостности обсуждалась тогда в контексте физика-
лизации и биологизации химии, выступавших как две основные тенденции в ее
методологии. Естественно, как философ биологии Регина ждала от меня прежде всего
осмысления возможности биологизации химического знания, причем и как его
метода, и как самого объекта. Этот запрос и задал тему моей кандидатской
диссертации, определенной нами как «Философский анализ проблемы химической
эволюции». Тема была новой и актуальной в условиях всплеска интереса ученых разных
1 Как раз в первые годы нашего знакомства и аспирантской работы под руководством
Р. С. Карпинской вышла в свет книга И. В. Блауберга о категории целостности в
марксистской философии. Мы ее внимательно изучали, тема эта тогда горячо обсуждалась, о чем
говорят и книги Регины, и моя диссертация.
Вспоминая Регину Карпинскую
599
специальностей к проблеме возникновения жизни, вызванного не в последнюю
очередь работами А. И. Опарина, Дж. Бернала и др. ученых.
Мне как химику категория целостности виделась, прежде всего, в аспекте
устойчивости систем. Устойчивость и развитие — вот основные фундаментальные категории,
определявшие структуру мыслительного поля наших общих с Региной Карпинской
научно-философских поисков. От нее прежде всего шли биолого-холистские импульсы,
окрашенные философски (попытка создания единой теории развития). Ведь основной
моделью природы для Регины Карпинской выступали биологические объекты. Этот
биологический и биологизирующий тренд сочетался с физико-химическим и физика-
лизирующим, который Региной доверялся мне как только что окончившему химфак.
В атомной физике, да и в других разделах физики и химии меня интересовали
принципы запрета, такие как, например, принцип Паули. Наличие фундаментальных
запретов воспринималось как элементарное проявление принципа отбора, другой
категории, импортируемой в основном из биологии и возводимой в порядке
трудной задачи на уровень общенаучной и даже философской категории. Вокруг этого
понятия во многом и сосредотачивались наши поиски и дискуссии. Понятие
естественного отбора было выработано при исследовании организмов и их популяций
в ходе создания дарвиновской теории происхождения видов. Но в центре внимания
наших поисков стояла проблема добиологинеской эволюции. Как она возможна на
химическом уровне, если добиологические системы не имеют генетических структур
устойчивости, своего сохранения и воспроизводства? Мы оба, как и многие другие
исследователи, принимали как базовую гипотезу легитимность
«общеэволюционного понимания отбора»2. Если кратко сформулировать наше тогдашнее кредо, то его
можно определить как универсальный эволюционизм, исключающий креационизм3.
В научной сфере важны не только знания тех или иных предметов, но и
развивающаяся на их основе творческая интуиция. У Регины преобладала
интуиция философствующего биолога, знающего современную биологию и потому остро
2 Карпинская Р. С. Философские проблемы молекулярной биологии. М., 1971. С. 180.
3 Я не могу не сказать, что теперь, спустя почти пятьдесят лет, позиция креационизма
мне представляется более глубокой, более обоснованной философски, чем
материалистический универсальный эволюционизм. Безысходная темпоральностъ наличного бытия,
обнаруживаемая в непосредственном жизненном опыте, говорит именно об этом. Мир
предстает мелькающей «лентой» исчезающих явлений, сменяющих друг другу. Власть перемены
не знает предела в таком мире именно потому, что он является тварным. Научные
исследования не опровергают эту позицию. Просто по определению новоевропейская наука обязана
обходиться без креационистской «гипотезы», чего, однако, нельзя сказать о философской
метафизике. Назову двух философов, у которых легко найти аргументы в пользу такого
понимания вещей. Это, во-первых, Э. Жильсон с его книгой «Дух средневековой философии» (М.,
2011), в которой такое понимание мира связывается с контингентностью всего сущего в нем,
и М. Анри с его последними работами по феноменологии жизни и теологической
феноменологии — «Материальная феноменология» (М.; СПб., 2016) и «C'est moi la Vérité. Pour une
philosophie du christianisme» (P., 1996).
600
Раздел пятый
чувствующего ее в целом. У меня же и знания и интуиция были скорее
физико-химическими. Общей философско-методологической основой, можно сказать, была у нас
обоих, помимо универсального эволюционизма или принципа развития, системная
идеология, вырабатываемая в те годы в науке и околонаучной сфере.
Регина часто приглашала меня на встречу с известными философами, обойти
которых при обдумывании этих сюжетов было невозможно. Помню, именно у нее
я познакомился с Марком Борисовичем Туровским. Однажды она пригласила меня
в «научные гости» к Эвальду Ильенкову, ее однокурснику. Тогда к нему домой,
помнится, должен был прийти Юрий Андреевич Жданов, известный исследователь
философских проблем химии в аспекте идеи развития применительно к химическим
системам. Он работал в Ростовском университете. К Ильенкову он пришел поздно,
было уже за полночь. Помню его разговор с Эвальдом на разные темы — от Гегеля
и Маркса до Вагнера, музыку которого Ильенков обожал. Немецкие цитаты из
Гегеля звучали под плеск красного вина в чешских бокалах.
Для нас значимы не только теоретические разговоры и споры, которых тогда
было немало, но и сами спорщики, горевшие познавательным эросом и во многом
определявшие интеллектуальную атмосферу тех лет. В «реакторе» таких встреч
и дискуссий рождались и уточнялись формулировки проблем и интерпретации
категорий, с помощью которых оформлялись подходы к их решению. «Отвлеченно-
стями люди не живут». Тогда я не знал этого высказывания Флоренского. Но ведь
так и было. Все отвлеченное живет и развивается в массиве глубоко задевающих
человека «привлеченностей», когда в духовную работу подключается целый
человек со всеми своими связями, способностями, надеждами. «Целостность»
неспроста была тогда горячо обсуждаемым концептом. Для Регины в нем сходилось очень
многое и важное, что ей представлялось необходимым для понимания задач
философии биологии и, шире, витофилософии как таковой. Неслучайно ее работы
нередко упирались именно в понятие целостности4. Основу смысла понятий
«органического», «живого» составляла как раз целостность того, что такими словами
обозначалось. А ведь другой философии, кроме философии жизни, для Регины
не было и не могло быть.
Однако эта категория не казалась мне столь уж доступной ясному
пониманию. Сейчас я понимаю почему. Ведь если мы осуществим экстраполяцию
тенденции, прослеживаемой в переходе от «механизма» к «организму» через «химизм»,
то придем как к ее пределу к концепту духа. А мышление, воспитанное на
образцах точных наук о природе, «с порога» отбрасывает в качестве своего такой
предмет, как духовная реальность. Очевидно, что мой естественно-научный инстинкт
сопротивлялся метафизическим чарам этой категории. Ведь, действительно,
научным способом в указанном смысле познавать «целое» представляется
невозможным. Целостность, например, личности постигается другими приемами, чем теми,
что приспособлены для познания объектов естественно-научного знания. Поэтому
4 Такова, например, книга «Философские проблемы молекулярной биологии» (М., 1971).
Вспоминая Регину Карпинскую
601
«интеграция», «целостность», «единство», «универсальность» и подобные понятия
мне казались чисто регулятивными, идеальными ориентирами, а не тем, что
доступно полноценному научному познанию. Но таков был дух того времени в
философии, обращенной значительной и самой, быть может, бурно развивающейся
своей стороной к естествознанию, особенно на стыке биологических,
физико-химических и математических дисциплин. Поэтому и Жданов, и Карпинская, и
многие другие, включая ее первого аспиранта, рассуждали об интеграции методов
разных наук, включая философию, в единое научное познание жизни. Эти ожидания
рождали соответствующую манеру мысли, про которую нельзя однозначно сказать,
что она была надуманна, что в научном познании не присутствовали «холистские»
и «интегративные» тенденции. Однако опыт целого, с которым мы действительно
можем иметь дело в нашей повседневности, на мой теперешний взгляд, не
вмещается в научный разум как таковой. Вот здесь и таилась та скрытая до поры до
времени бифуркационная точка, которая впоследствии разведет наши с Региной
интеллектуальные дороги. Но это случится значительно позже, не в 60-е годы, о которых
главным образом я и говорю здесь.
Сказанное о «редукционизме», «целостности», об «идее развития» mutatis
mutandis можно отнести и к такой важной для Регины идее, как идея коэволюции.
Она тоже «носилась в воздухе» того времени. Мощный толчок эволюционно-хи-
мическим исследованиям разного уровня и плана дала работа Александра Про-
кофьевича Руденко, известная книга которого вышла в конце 60-х годов5. Регина
была в восторге от той теории открытых каталитических систем, которую в ней
изящно и убедительно развил А. П. Руденко. Мы с Региной прочли эту книгу еще
в рукописи. Она была очарована, увлечена этой концепцией и стремилась
осмыслить ее в философском и мировоззренческом аспекте. Мы вместе не раз
беседовали с ее автором. Александр Прокофьевич ждал от нас, если угодно,
философской рекламы его идеям. Конечно, мы были философами, он оставался химиком,
специалистом по неклассическому катализу, долгие годы упорно работавшим в
лаборатории на химфаке. Но несмотря на эти различия, в манере мысли нас тогда
связывал общий эволюционистский энтузиазм. Казалось, что теория Руденко
откроет этап серьезного продвижения по пути научного понимания загадки
возникновения жизни и ее сущности. В те годы эти две взаимосвязанные проблемы
обсуждались особенно горячо.
Детализация этих идей была дана в совместно написанных с Региной
статьях6. В центре их — идея естественного отборау заимствованная из биологии,
5 Руденко А. П. Теория саморазвития открытых каталитических систем. М., 1969.
6 Карпинская Ρ С, Визгин В. П. Проблема эволюции и химическая форма движения //
Вестник Московского университета. Сер. VIII. Философия. № 3.1966. С. 35-45; О биохимическом
подходе к проблеме химической эволюции // Философские науки. 1966. № 4. С. 59-65;
Понятие отбора и процесс развития // Философские науки. 1970. № 6. С. 68-76. Неслучайно, что
замыкает этот цикл совместных работ статья, специально посвященная проблеме отбора.
602
Раздел пятый
но проведенная через современное физико-химическое знание, включая
термодинамику, синергетику, теорию информации и т. д. Регина выступала как
представитель философски осмысляемого биологического знания. Я, естественно, брал на себя
химическую сторону этих поисков. Помню, что особенно плодотворным оказалось
тщательное изучение материалов последних международных симпозиумов по
проблеме происхождения жизни7.
Мы искали универсальную (или почти) концепцию развития. Наблюдаемое
на материале химической и биологической эволюции мы стремились обобщить.
Иногда это выглядело удачно, иногда не очень. Сейчас я смотрю на этот безудержный
научный оптимизм куда сдержаннее, чем в те годы. Приведу один пример.
Периодические сужения исходных «элементарных начал» и расширения многообразий,
формируемых на основе этих начал, действительно казались отвечающими реальности
того, что нам предъявляет природа: «Из огромного многообразия атомов химических
элементов в построении живого вещества участвуют только немногие элементы.
Немногие полимерные структуры отобраны для образования биополимеров. Известно
более 100 аминокислот, но лишь 20 из них участвуют в построении белка»8. Вывод:
в эволюции происходит такое ограничение исходного многообразия, которое ведет
к расширению и подъему на более высокий организационный уровень нового
многообразия. Эволюция как бы пульсирует, поднимаясь по ступенькам организации
вверх. Вот эти чудные видения буквально витали перед нами, осмелившимися
понять саму Биту (от ν/ία), саму Жизнь!
Ars longa, Витя brevis est... Regina brevis est. А Жизнь, она и коротка, и
неисчерпаемо долга... Помнится, когда первую свою статью об этом я дал в
философский журнал, то ее там «завернули». Я показал ее Регине. Мне не забыть ее
очаровательной улыбки, когда она прочла в ней: «Как бедная Изида носится с плачем
по долине Нила в поисках разбросанных останков своего Озириса, так и
химическая эволюция собирает мертвое, чтобы соединить свои "части" и оживить
собранное...» Чем оживить, если не любовью? А как научным образом выразить любовь,
как перевести ее чудо на язык химических формул и физических величин? Все
эти вопросы тогда мы только предчувствовали... Когда пытаешься помыслить
целое, то мыслишь скорее образами, чем измеримыми величинами. Но мне виделась
и эмпирически явная трудность in vitro создать живой организм, пусть
простейший. Я хорошо помню аспирантку А. П. Руденко, которая в его лаборатории
пыталась смоделировать теоретически им описанное саморазвитие каталитических
систем. Какая в точности система стояла на ее лабораторном столе, я уже и забыл.
Но не могу забыть, что долгие годы упорнейшей работы не дали положительных
7 Происхождение предбиологических систем. М., 1966. Изучались материалы и более
ранних симпозиумов по проблеме происхождения жизни. Уже после защиты моей диссертации
вышел перевод книги М. Кальвина «Химическая эволюция. Молекулярная эволюция,
ведущая к возникновению живых систем на Земле и других планетах» (М., 1971).
8 Карпинская Ρ С, Визгин В. П. О биохимическом подходе... С. 64.
Вспоминая Регину Карпинскую
603
результатов: живого не возникло... Еще один прохладный душ на тогдашний
энтузиазм в вере в научное разрешение проблемы самопроизвольного
эволюционного возникновения жизни из неживого пролило изучение проблемы SETI-CETI
(поиска внеземной жизни и ее существования во вселенной). Я пришел к позиции,
близкой к пессимистической точке зрения И. С. Шкловского на возможность
доказать существование внеземной жизни и, более того, связаться с ее
представителями. Эти два скепсиса взаимосвязаны. Если живое возникает так, как при
определенных условиях из атомов кислорода возникает его молекула, то оно должно
возникать повсюду во вселенной. Но этого, хотим мы того или нет, как раз и не
наблюдается. Опыт учит нас сдержанности в подобном оптимизме. Древние верили
в самозарождение живых организмов. Но опыты Реди опровергли эту веру. Опыты
аспирантки А. П. Руденко, в моих глазах по крайней мере, опровергали веру в то,
что теория неклассического катализа, когда имеется приток энергии, отвод
продуктов реакции и другие необходимые для прогрессивной эволюции условия,
может экспериментально привести если и не прямиком к созданию живого организма
in vitrOy то хотя бы к заметному продвижению к протобионтам, стоящим на пороге
полноценного живого организма. Живое нам как бы говорит, что одной наукой его
не «взять»... Вот и замелькали у меня Изида с Озирисом, запрещенные кодексом
научности. После просмотра Регины статью эту пришлось переделать, убрать
египетских богов и проставить вместо них научную терминологию. Но смысл остался
инвариантным, и зародился он совсем неслучайно в видениях на мифологические
темы, а не в игре научными терминами...
Пожалуй, наиболее ярко наши идеи выразились в совместно написанной
статье «О биохимическом подходе к проблеме химической эволюции» (1966). Мы оба
тогда почти с равной убежденностью верили, что кооперативными усилиями
современной науки и диалектико-материалистической теории развития можно будет
«проникнуть в тайну самодвижения, а тем самым и в сущность развития»9. Жизнь
развеяла эту оптимистическую сциентистскую веру. Но мотивированный ею дух
идейного и научно-идеологического10 поиска не оказался бесплодным. В 50-е годы
и в начале 60-х годов XX в. проблема возникновения жизни из неживого вышла
на первый план в списке «мировых загадок». Вспомним об А. И. Опарине и его
школе. Тогда проходили международные конференции по разным аспектам этой
проблемы. В атмосфере познавательного целеустремленного подъема работала
и мысль Регины Карпинской, и ее первого аспиранта. Помнится, что когда
диссертация моя была защищена и помещена в Ленинскую библиотеку, то первым
восторженным ее читателем стала активная «опаринка» — Кира Борисовна Серебровская.
Она просила меня специально для нее изложить результаты проделанной работы.
9 Карпинская Р. С, Визгин В. Я. О биохимическом подходе к проблеме химической
эволюции // Философские науки. 1966. № 4. С. 63.
10 Научную идеологию я понимаю здесь в том смысле, который был предложен известным
философом и историком биологии Жоржем Кангилемом.
604
Раздел пятый
Энтузиастом она была потрясающим. По страстности своего отношения к науке
и «меганауке» (а проблема биопоэза была именно такой) она не уступала Регине.
Но в отличие от нее и меня, К. Б. Серебровская свято верила в коацерватную
концепцию абиогенного биогенеза. Мы же рассматривали ее наряду со множеством
других гипотез на ту же тему.
Одно не до конца проясненное понимание относительно условий
возникновения жизни из неживого давно витало во мне, но в удовлетворительной форме
так и не сформировалось. Я имею в виду, что привычная идея о том, что молекулы
возникают из атомов, а затем происходит эволюция молекул и на ее основе
надстраивается уровень предбиологических систем, неверна по сути дела. Жизнь —
космическое целостное явление, и поэтому она так не существует и не возникает.
«Развиваются» целостные блоки, вписанные в космологические данности. Жизнь
эволюционировала вместе с планетой Земля, и даже вместе с Солнечной
системой и всей Вселенной, и даже... «Мы достаточно знаем о микропробирочных
условиях возникновения жизни. Но ведь жизнь так не возникает... (опыты
аспирантки Руденко говорят именно об этом. — В. В.). Биокосмология еще только ждет
своего Ньютона»11.
Скажу о заключительном аккорде нашего научного сотрудничества. В годы
«перестройки» Регина не слишком увлекалась политическим «землетрясением»,
продолжая продумывать фундаментальные проблемы научно-биологической
философии жизни, следя за интересными публикациями в этой области знания. Эти годы,
как известно, отмечены небывалым интересом к русской досоветской философии.
Издаются практически недоступные книги русских мыслителей. Началось это с
однотомника Н. Федорова. И вместе с ним пробуждается интерес к Вернадскому,
Циолковскому, Чижевскому и другим «космистам». Тема эта у одних вызывала
неприятие, а у других, напротив, энтузиазм. Регина была одним из инициаторов составления
сборника работ по этой тематике. Она стремилась сохранять научную трезвость
и не впадать в «завихрения» на почве «русского космизма». Тема эта мне виделась
каким-то не вполне легитимным смешением философии, науки и религии. Поэтому
отношение к ней Регины мне было близким. Но я был сильнее ее заражен
политизированным духом того смутного времени. И вот Регина просит меня поучаствовать
в этом сборнике. Она пишет статью, трезво оценивающую все чрезмерные
преувеличения увлечением космизмом и глобальным эволюционизмом, когда за словами
почти исчезает научно полноценное содержание. Я же в свою очередь пишу
панегирик по-кадетски демократическому и «персоналистическому» мировоззрению
Вернадского, чуждого христианству и замещающего Бога космическим Сознанием.
Меня интересовал Вернадский как мыслитель, хотелось больше узнать о Приютин-
ском братстве, кружке идейных товарищей его молодых лет. Но статья вышла без
11 Визгин В. П. Краткий очерк истории проблемы множественности миров // Визгин В. Л.
Идея множественности миров. 2-е изд. М., 2007. С. 317. Я слегка изменил текст. Этого текста
в первом издании книги нет.
Вспоминая Регину Карпинскую
605
обращения к анализу культурного слоя «казуса Вернадского» и с такими явными
«пятнами времени», что сейчас не могу ее перечитывать без улыбки, в отличие от
статей Регины и Федора Гиренка в этом сборнике, посвященном русскому космизму12.
В 70-80-е годы наше научно-философское сотрудничество, споры и
обсуждения шли уже по нисходящей, чего нельзя сказать о дружбе туристической и
человеческой. Для Регины статус «первого аспиранта» означал его превращение
без малого в члена семьи. Помню, в конце 60-х годов или в самом начале 70-х она
снимала дачу рядом с Барвихой. И когда ей срочно нужно было ехать в Москву,
то детей, Максима и маленького Васю, она поручала «первому аспиранту». Я тогда
тоже снимал дачу в соседней деревне, в Шульгино, и ходил к Регине через поля
и перелески. Максим ужасно любил купаться. И часами плавал в близлежащем
пруду. А я сидел с Васькой на бережку и приглядывал. А как прекрасно гоняли
мы с Региной на лыжах! У нее были аккуратненькие, всегда в идеальном порядке
«лыжки», как она их называла. Уменьшительные суффиксы («одеялко» и т. п.)
безошибочно рисуют характерные черты не только речи Регины, а всего ее существа,
любящего, заботящегося обо всем, что она взяла «под свое крыло», укутав в ауру
тепла и добра. Эта мягкость любвеобильного сердца легко сочеталась с жесткой
рациональной организацией во всем. Меня с первого визита к ней поразило,
насколько она владеет собой и ситуацией — организованный, стремительно
действующий человек. Вот ушли гости и оставили гору грязной посуды. Мигом она
все перемоет, перечистит. И только тогда перейдет к интеллектуальным беседам.
А иногда, напротив, все бросит неубранным, потому что дело не ждет и надо
дорабатывать статью или продумать какой-то текст.
Боюсь, что, вспоминая Регину Карпинскую, я выйду за пределы лимита статьи.
Поэтому перейду к десерту. Осенью 1972 года, к холодам, на все руки умелица Регина
связала себе пончо, которое тогда только-только входило в моду. Ее первый аспирант
откликнулся на это чудесное событие стихами. Регина, умница, спокойно выслушала
поэтические рулады и отозвалась одним-единственным замечанием: «Пончо не шьют,
пончо вяжут». С «вязаньем», однако, стихи о пончо никак не вязались. И первый
аспирант Регины все оставил так, как ему надиктовала муза.
Регине Карпинской
На пони пусть поедет Шива,
На шинах едет пусть У-Ну —
Мне все равно: я пончо сшила,
Лишив покоя всю страну!
12 Карпинская Р. С. Натуралистическое сознание и космос // Русский космизм и
современность. М., 1990. С. 86-104.
606
Раздел пятый
Такого шика накрошила.
Что стал завидовать У-Ну!
Как шилом, я его прошила,
И покорила всю страну!
Пускай кричат все Панча шила13,
Летят ракеты на Луну —
А мне-то что: я пончо сшила
И всполошила всю страну!
Парчой, попоной сокрушила
Святых отшельников Вишну.
А потому, что пончо сшила
И оглушила всю страну!
Шармант гишпанского пошиба
Пробудит в мумии весну —
А потому, что пончо сшила
И присушила всю страну!
Январь 2018 г.
13 Пять принципов мирного сосуществования.
ХИМИЯ КАК AMOR DEI
Долго, очень долго, почти всю бесконечную жизнь мы любим Бога, не зная об этом.
Но под конец земной жизни можем и узнать. С юных лет нас волнует странная зыбь
непонятных связей, игра удивительных соответствий, когда самое далекое вдруг
становится самым близким: «Воды первобытного океана задали ионный состав
нашей крови. Первобытные атмосферы сформировали наш метаболизм. Мы не
глядим на Вселенную извне, мы видим ее изнутри. Ее история — наша история, ее
вещество — наше вещество»1. Мысль о том, что Вселенная течет внутри нас в наших
жилах, что звезды горят в нашей памяти, волнует душу и зовет познавать,
познавать... Душа поначалу не знает, что этот неодолимый порыв к познанию Вселенной
богостремителен. Последний мотив познавательного эроса скрыт от нее. Душе,
охваченной жаждой познания, познание кажется самоцелью.
Химия, как поводырь, ведет ослепленную страстью познания душу по Вселенной:
«Смотри, Душа, это — ты сама!» Чувство своего таинственного сродства со
Вселенной переполняет душу. «Нет, — говорит она, — Вселенная — не бесконечная пустота,
не "великая пустота" атомистов, в которой механически, по закону случая, движутся
"кирпичики" Всего! Вселенная — Большая Душа! Такая же душа, как и я, душа малая!»
И если углубиться в то, о чем говорит процитированный выше американский
биохимик, если научиться читать слова древней химии, то «воды первобытного
океана» окажутся богом Посейдоном или богиней Нестидой2. Идея же эволюции,
воодушевлявшая Дж. Уолда, прочтется тогда как Теогония...
Изначальная божественность стихий и элементов указывает на культовые истоки
химии. Первичные операции с веществами проделывал служитель древнего культа.
Память об этих религиозно-культовых корнях химии сохранилась в сакральном
ядре алхимии.
«В греческом полисе повар или кулинар (μάγειρος), являющийся к тому же и
мясником, выступает в качестве жреца. Нагруженность схем деятельности и
понятий, ведущих свое происхождение от кухонного очага, сакральными ритуально-
1 Уолд Дж. Почему живое вещество базируется на элементах второго и третьего периодов
периодической системы? Почему фосфор и сера способны к образованию макроэргических
связей? // Горизонты биохимии. М., 1964. С. 103.
2 У Эмпедокла Нестида «слезами своими... пополняет источник для смертных»
(Федорова О. Б. Концепция смеси в греческой медицинской и натурфилософской традициях //
Философия науки в историческом контексте. СПб., 2003. С. 121).
608
Раздел пятый
религиозными смыслами способствовала их универсализации и превращению в
своеобразные матрицы для понимания мира и стихий и качеств»3, то есть мира химии.
Ведь и сам кухонный очаг был зажжен от огня древних культов, выступив его
обмирщенным выражением. Сакральные смыслы его живут долго, хотя профанный
инструментализм современной кухни уводит человека от его собственных
бытийных корней — от себя самого. Растворяясь в «техномании»4 и утрачивая тем самым
свою сущность как homo religiosus9 становясь homo faberу homo oeconomicus, homo
instrumentaliSy homo rationalis... человек порывает родственные связи химии с
религиозным культом.
В конце XIX в. и в начале следующего произошла негромкая революция, о
которой ученые-естественники обычно молчат, потрясенные революциями в физике,
космологии, математике, химии... В это время был открыт удивительный мир
первобытных народов, их культов и культур, были заложены основания
современных антропологии, этнографии, фольклористики, отчасти лингвистики и других
гуманитарных наук. Э. Б. Тэйлор, Дж. Дж. Фрэзер и другие известные ученые
раскрыли любопытному европейцу удивительный мир «первобытной ментальности»
(la mentalité primitive)у от которого мы ушли на самом деле не слишком далеко,
увлеченные идеей прогресса. У нас в России идеи, инициированные этим
революционным поворотом в гуманитарном знании, были поэтически, научно и
философски подхвачены и осмыслены прежде всего в движении символистов (А. Белый,
В. И. Иванов, П. А. Флоренский — его теоретики и практики). В нашу, казалось бы,
бесповоротно рационализированную и технизированную повседневность
вернулись боги древнейших цивилизаций. В результате научная химия сблизилась
с химией донаучной — с алхимией древних, с герметическим искусством средних
веков и Возрождения. Манящий призрак Великого Синтеза Всего в новой
органической целостности снова замаячил в сознании самых творчески одаренных поли-
гисторов-энциклопедистов Серебряного века. Некоторым, наиболее радикальным
из них, как о. Павлу Флоренскому, казалось, что эпоха Новой Целостности не
заставит себя ждать, так как почти все необходимые для ее возникновения
материалы, как он считал, уже налицо.
Произошло ли ими предсказываемое или, как это нередко бывало, жизнь
оказалась изобретательнее самых изобретательных и пророчески настроенных умов?
И да и нет. В XX в. естествознание, прошедшее в его первой трети сквозь полосу
революций, ищет контакта с гуманитарной мыслью, тоже испытавшей ряд
революционных потрясений. Философия, как это и должно быть, стала связующим их звеном,
стимулируя их шаги навстречу друг другу. Вспомним такие имена, как А. Бергсон,
П. Тейяр де Шарден, В. И. Вернадский. Не забудем при этом и русских религиозных
мыслителей — П. А. Флоренского, Н. О. Лосского, С. Л. Франка и др. Ну а что же
химия? Химия не отставала от века сего. И гуманитарно значимое ее постижение стало
3 Визгин В. П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля. М., 1982. С. 377.
4 Выражение Габриэля Марселя.
Химия как amor Dei
609
раскрываться с подъемом историко-химических исследований, во второй половине
XX столетия стремительно преодолевающих барьер позитивистской
ограниченности. Загадки древней химии и ее исторических метаморфоз, перспективы будущей
химии — все это стало занимать историко-химическую мысль, выходящую к
широким гуманитарным горизонтам.
Здесь я не могу не сказать об одной идее, одушевлявшей мои поиски в годы
тесного сотрудничества с В. И. Кузнецовым. Согласно этой Идее — слово это я не могу
не писать с прописной буквы, ибо сокрытая в нем ипостась было для нас, ею
воодушевленных, живым и бесконечно привлекательным существом, навстречу которому
мы с трепетом устремлялись, — так вот, согласно этой Идее, развитие всей химии
фокусируется в химии развитиЯу т. е. в эволюционной химии, химии химической
эволюции. Эволюционная химия в развивающейся системе химических знаний выполняет
интегрирующую, и даже более того — телеологическую функцию, наделяющую весь
необъятный массив химических знаний единым смыслом. Предельно коротко: химия
развития — ключ к развитию химии. В. И. Кузнецовым при участии А. А. Печенкина
была разработана модель концептуальных систем в химии, с разных сторон
представленная в их работах. Будучи соединенной с указанной моделью, эта Идея была
положена в основание многотомной «Всеобщей истории химии», что вызвало среди
историков химии бурные споры. Одним из наиболее активно возражавшим против такого
подхода был Г. В. Быков. Но возражения лишь укрепляли аргументацию идееносите-
лей-концептуалыциков, противившихся чисто фактографическому, описательному
подходу к написанию такой истории химии. Философскую основу «концептуальной
канвы» для подобного издания было поручено сплести мне. Для подобного
«ткачества» программных основ всего предприятия были основания. Я был философом,
недавно защитившим кандидатскую диссертацию «Философский анализ проблемы
химической эволюции» (1968)5, вызвавшую большой интерес со стороны В. И.
Кузнецова и некоторых его единомышленников, историков и химиков, занимавшихся
проблемой «стыковки» химической и биологической эволюции, как, например,
сотрудник академика А. И. Опарина К. Б. Серебровская. На защите главным
оппонентом выступал доктор химических наук заведующий Сектором истории химии ИИЕТ
В. И. Кузнецов. Вот тогда мы и нашли друг друга. Наш философско-химический
тандем был предрешен... на небесах: уж слишком далеко в прозаическом de facto ушла
земная прагматическая химия от своего Небесного истока! Зов сверху мы слышали
один: Назад-вперед, к Истокам! Для В. И. этот зов звучал больше как вопрос,
обращенный в будущее — что там, впереди? Каким образом химия оказывается
биологией, как и когда раскроется химией тайна «оживления» неживого вещества? А я, хотя
и увлеченный идеей химического биопоэза, по мере проникновения в химию древних
все более и более углублялся в философические и исторические пракорни химии...
Над нашим с В. И. союзом витал скрепивший его дух катализа. В московской
школе № 665 (ШШП) в 50-х гг. XX в. была замечательная учительница химии — Мария
5 См. Приложение № 1.
610
Раздел пятый
Павловна. Я был старостой химического кружка и, помню, однажды выступил с
докладом на его собрании как раз о катализе. Еще более важным, провиденциальным
ликом катализ повернулся тогда, когда на химическом факультете МГУ мы с В. И.
познакомились с Александром Прокофьевичем Руденко, в начале 70-х гг. уже
создавшим основы теории саморазвития открытых каталитических систем. Помню, я
знакомился с этой теорией по рукописи его будущей книги. Все вопросы он пояснял
в личных беседах, в которых нередко участвовала увлеченная идеями А. П. Руденко
Р. С. Карпинская, бывшая моим руководителем как аспиранта, готовившего
кандидатскую диссертацию.
Поворот к натурфилософским пракорням химии я хочу прокомментировать
такими строчками:
Нас Марья Павловна послала на химфак,
Но мы презрели этот факт,
Избрав кино и журнализм,
И трали-квали-тати-визм!
Говоря о «нас», я имею в виду Славу Жвирблиса, «золотоносного» выпускника
ШШП, учившегося тремя классами впереди меня в одном классе с моим братом.
Отличников ШШП уверенным жезлом регулировщика Марья Павловна направляла
на химфак МГУ. Слава Жвирблис затем увлекся кино и журналистикой, работал
редактором журнала «Химия и жизнь», с которым я позднее сотрудничал. Так вот,
в этих строчках даны верные реалии. Что касается меня, то я действительно,
занявшись в Секторе истории химии ИИЕТ античными истоками этой науки, с
головой ушел сначала в атомистику Демокрита и Эпикура с Лукрецием, а потом —
в Аристотеля с его квалитативизмому ставшим эмблемой моей будущей первой
книги. О логике перехода от эволюционно-химической проблематики к изучению
проблемы качества у Стагирита я расскажу ниже. А сейчас продолжим разговор
о нашем с В. И. Кузнецовым тандеме.
Духовное начало в химии, как и в науке вообще, можно свести к двум его
полюсам — позитивистскому и романтическому. Если преобладает стремление оставаться
при «чистой» науке, без всякой метафизики, без всякой метанауки вообще, то следует
говорить о позитивистском духе такой ориентации. Позитивист гордится чистотой
своей научности, позитивной научности, ничего от метанаук и метацелей познания
не принимая (по крайней мере, так ему кажется, и он уверен, что этот идеал он
реализует). Лаконично, или экономно, описать явления в стройных математических
формах, обогатив при этом объем позитивных знаний — этого ему вполне достаточно.
Никакая философия позитивисту не нужна, кроме той, что содержится в самой науке.
Ему не нужна ни гегелевская диалектика абсолютного духа, ни шеллингианское
тождество, ни шопенгауэровская воля... Позитивистский дух ворвался в химию после
того, как ее союз с романтиками и метафизиками подвергся жестоким испытаниям,
которых он не выдержал. Это — долгая, затяжная история. И отголоски
романтической любви к романтизму, видимо, останутся у химии всегда.
Химия как amor Dei
611
В 70-е гг. В. И. Кузнецов и я, мы оба, были настоящими романтиками в химии
и ее истории. Химия была для нас таинственным обнаружением метанаучных
сущностей — загадочным этапом универсального развития Всего. Если угодно, то за
подобной романтикой стояли Анри Бергсон с его «творческой эволюцией» и неоплатонизм
с его идеей Всеединства. Химия для нас была живым зеркалом Целого, о котором
говорила, нередко с излишней самоуверенностью, философия. Мы на самом деле
философствовали с помощью химии, понимая ее сквозь магический кристалл
Философии, которую мы все же толковали по-разному, что, однако, до поры до времени
не мешало нашему единению. Натурфилософское умозрение с его онтологией
эволюционного космизма мы хотели плавно сочетать с теорией деятельности, с
современной социологией знания, с социальной историей науки. Мы все хотели видеть
во взаимосвязи единого Целого, за всем эмпирическим прозревать единящие его
трансэмпирические смыслы, связывающие человека и равнодушную природу,
прошлое науки и ее будущее.
В. И. с воодушевлением развивал концепцию основной проблемы химии как
задачи получения веществ с наперед заданными свойствами. В теоретическом фокусе
этой инвариантной проблемы находилось понятие реакционной способности — что
ее определяет, какими концептуальными рамками она может быть очерчена? Как эти
рамки меняются в истории? Постепенно схема «состав — свойства» усложнялась,
восходя на более высокие ступени, обретая своих более «продвинутых» гомологов.
Так, к категории состава была добавлена категория структуры, а свойства стали,
соответственно, толковаться сначала как функция, а потом как поведение.
Практический ракурс толкования основной проблемы химии В. И. Кузнецовым не внушал мне
энтузиазма. Может быть, поэтому статья, написанная мной на эту тему, не получила
достаточной поддержки Бонифатия Михайловича Кедрова и не была опубликована.
Технологический практицизм в качестве самодовлеющего устремления духа был
мне всегда органически чужд. Средство, даже эффективное, но без цели, хотя бы
чуть приподнятой над материалистическим практицизмом, не вызывало во мне
интереса заниматься им. Позитивистский технологизм был насилием над Природой,
романтизм же не мыслил познания без любви к его объекту. Древняя химия, в
отличие от замыкающейся в технологическом позитивизме современной химии, не
отделяла себя от целостного познавательного эроса. Его следов, его жизни в
современной науки я не мог не искать:
Вот идет бормочущий Древинг
В долгополом пальто до пят —
На тебя как будто издревле
Мудрецы и маги глядят.
Древинг был преподавателем физической химии на химфаке МГУ в конце 50-х гг.
Бледный, отрешенный — настоящий аскет физико-химической науки, — он как
загадочный маг-волшебник неутомимо квантифицировал упрямо склонную к ква-
литативизму химическую материю... Замечу мимоходом, что слово «маг», как это
612
Раздел пятый
смело утверждает Павел Флоренский, одного корня со словом «могучий»: маг тот,
кто могуч живым тайнознанием. В своей вербально-духовной энергетике маг
сливается с природой, внутреннюю жизнь которой образуют те же энергии, которыми
он владеет в своем тайном знании, в своих заклинаниях. Исходящий от химии и ее
настоящих адептов, каким безусловно был Древинг, магизм связывал воедино древ-
некультовые прарелигиозные истоки химии с ее современным практицизмом.
Поэтому мне бы не следовало их разобщать, что я тогда интуитивно чувствовал, но душа
лежала к умозрению, к тайнам Слова, а не Числа, на которое всегда в конечном счете
опирается любая наука, начиная с пифагорейской и кончая современной. Я слишком
был философом для того, чтобы остановиться на практических задачах управления
Природой ради... комфорта?
Далеко не все занимавшиеся химией, в том числе и на химическом факультете,
были аскетическими священнослужителями Химии, как Древинг. Но запоминались
и воздействовали только они — могуче и магически действовали лишь такие
поэты и жрецы Химии, как наш преподаватель физхимии. Священный огонь, идущий
по эстафете из глубин тысячелетий, горел в их душах, и они не могли не передавать
его нам, вчерашним московским школьникам. Древинг был алхимическим
олицетворением Химии. Физическая химия, бывшая его специальностью, нет, всесожи-
гающей страстью, — полная противоположность алхимии с ее магическим квали-
тативизмом, с мифорелигиозными сверхзадачами. Но в Древинге они загадочным
образом сливались воедино. Алхимик, выпаривая и осаждая, ищет Абсолюта,
движется к нему. Так по коридорам химфака двигался и Древинг в своем до пят пальто
или в длинном рабочем халате, воспринимаемых как древняя тога, как
священническое облачение — ничего профанного, обычного, заурядного в нем не было.
Умом мы знали: оцениваемая с позиций научности алхимия не права, права
химия. Но в душе все равно оставались устремленными к Абсолюту алхимиками —
поэтами, философами, метафизиками. Остановиться на низкорослом позитивистском
здравом смысле мы не могли. Я говорю это о себе, но сказанное, думаю, справедливо
и в случае В. И. Кузнецова, поскольку одушевление метахимией у нас было общим.
Эти слова относятся ко всем, кого можно назвать романтиками-от-химии.
В отличие от меня, В. И. верил в марксизм. Но он никогда не был догматиком —
дух поисков истины, вкус Широты и Высоты в нем всегда преобладали, горнее
побеждает дольнее, ставя его на свое место. А там, где есть чувство горнего, там
гнездится и его естественная философия — платонизм, духовный оплот романтиков,
антипод марксистского материализма.
Переход от методологии химии к проблеме качества у Аристотеля был для меня
логически неизбежным. Как методолог я, работая в Секторе истории химии ИИЕТ
под руководством В. И. Кузнецова, интересовался спецификой мышления в химии,
ее своеобразием по отношению к соседним естественно-научным дисциплинам.
Размышляя об этом, я понял, что химическое мышление есть прежде всего особая
логика качеств. У Гегеля химизм понимался как связующее звено между
механизмом и организмом. Предметность, противостоящая познающей мысли, постигается
Химия как amor Dei
613
химически тогда, когда ее связи утрачивают внешний характер по отношению к ней
самой, но еще не обретают себя в свете цели, определяясь телеологически. Таким
образом, химизм — это такая стадия восхождения духа, когда связи его объекта даны
ему изнутри, но еще не в форме собственно внутреннего, или цели. Так, например,
в кислоте содержится начало щелочи и vice versa. Противоположности химического
объекта не внешни друг другу. Но цель еще не определяет их связное развертывание
как единство многообразного. Химизм располагается между миром чистой количе-
ственности и внешности, присущих механике, с одной стороны, и
целесообразностью организма — с другой.
Почему натурфилософия в ее античной форме, прежде всего в форме
натурфилософии Аристотеля, является наиболее адекватной исторической
моделью для философского анализа специфики химического мышления? Потому, что
именно в античной натурфилософии базовые предпосылки химической мысли
могут быть прослежены в своих генетических, структурных и прочих взаимосвязях
с философско-научным контекстом, с одной стороны, и с его
культурно-историческим и социальным фоном — с другой. Позднейшее «отпочкование» от
натурфилософского целого специализированных научных областей, входящих в корпус
современной химии, маскирует, искажает живой континуум подобных связей и тем самым
затрудняет такой анализ.
Если физика, естественным для нее образом онтологически тяготея к
субстанциальному монизму (именно поэтому столько споров и попыток редукции вызвал
квантово-механический дуализм волны и частицы), методологически склоняется
к гипотетико-дедуктивной системе, то в химии ситуация иная: химия сущностным
образом плюралистична, полисубстанциальна, а дедуктивный систематизм в ней
уступает место более гибким, подвижным, более эластичным по отношению к
эмпирической сфере познавательным формам, чем те, что действуют в физике. Если
основную проблему познающей мысли, поставленную в античности, определить как
проблему единого и многого, как, условно, «саморазмножение» единого и,
соответственно, синтез многого в едином, то физика предстанет подчеркивающей полюс
единства теоретической картины мира, в то время как химия, напротив,
обнаружится как такое мышление, которое именно множество полагает внутренним
фактором своего теоретизирования. Единое при этом не исчезает, но обретает другие
формы своего обнаружения, менее номотетические, чем в физике. Но не
редуцируемое к единому многое есть не что иное, как качество. Поэтому, в
логико-методологическом плане, в химии как разновидности теоретического познающего мышления
на первое место выступает задача конкретно-предметной проработки категорий
множества и качества, данных на материале изучения поведения веществ, их внутренне
определенных взаимоотношений.
Химия, таким образом, определяется как своеобразная территория
естественно-научного диалогизма, немыслимого без указанной нередуцируемости многого
к единому. Единое, конечно, не исчезает здесь совсем, но достигается более
косвенным, более символическим и опосредованным образом, чем, скажем, в физике.
614
Раздел пятый
Говоря богословским языком, в химии момент апофатического познания более
очевиден, более развит, чем в физике, которая стремится напрямую, катафатически
выразить единое (единые теории поля, «теории всего» и т. п.). Химическая логика, или
логика мысли, в химии это — полилогия качеств. Количественный фактор
обслуживает качественное мышление, технизирует его, делает операциональным и
эффективным. В научной химии Нового времени его нельзя оторвать от
качественного фактора и противопоставлять ему, как это было в античном квалитативизме,
проявившем свою поразительную долгоживучесть именно в химии. Кстати, фактор
исторической устойчивости квалитативизма в химии и указывает на укорененность
ее базовых структур в качественном мышлении, в мышлении, действующем по
особой логике качеств. Аксиомой такой логики выступает отсутствие деления сферы
качеств на качества первичные и вторичные.
Как задать логику неустранимых различий, полагая, что логику единства и
тождества мы умеем задавать? Вот основной гносеолого-логический вопрос,
адресуемый к химии. Его мы можем уточнить таким образом: как задать полилогию качеств,
не избегая при этом количественного подхода? Ответ на этот вопрос и дан
исторически в возникновении научной химии. Если же тот же самый вопрос ставить без
обращения к количественно-структурному подходу, то химия не выйдет в этом случае
за рамки квалитативистской мысли, которая в истории будет только варьировать,
образуя разные виды алхимии, или герметического искусства, отчасти
перекрывающиеся со сферой соответствующих ремесел. Как логику нередуцируемого конечного
множества качественно оформленных начал раскрыть на языке единства, естественным
базисом которого выступает, очевидно, число? В истории науки ответ на этот вопрос
был дан физикализацией химии, приведшей к построению ее атомно-молекулярного
фундамента и объясненным благодаря ему ее основным количественным законам.
Имея в виду учение Канта о схемах категорий мысли, можно сказать, что
количество — пустое время, в то время как качество — наполненное время («схема
качества, — говорит Кант, — синтез ощущения (восприятия) с представлением о
времени, то есть наполнение времени»)6. Динамика наполненного времени мира и есть
предмет химии в теоретическом его представлении. Однако полноты наполнения
времени нет и в химии. Пополнить эту относительную ненаполненность времени —
задача химической эволюции веществ в природе, ставшей темой моей диссертации,
вызвавшей интерес В. И. Кузнецова.
Обратим внимание на еще один момент специфики химического мышления —
на тесное взаимопроникновение в предмете химии субстанции и качества, сущности
и существования. Качества в химии субстанциальны, а субстанции — качественны.
Например, у алхимиков сера — начало (элемент) горючести и т. п. «Расстояние»
между сущностью и существованием в химии, так сказать, минимально, во всяком
случае они ближе друг к другу, чем в физике, где за миром качественных явлений
стоят далекие от них сущности, этих качеств полностью лишенные.
6 Кант К Сочинения: в 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 225-226.
Химия как amor Dei
615
Еще один момент: подчеркнутый материально-практический характер химии
(идеальное конструирование в ней — лишь средство для
материально-вещественных воплощений) не без некоторой тени парадокса сближает ее с целостными
духовными практиками философии и религии. Этот важный момент химии
раскрывался в алхимии, которая была не специализированным искусством оперирования
веществами ради узкопрактических целей их использования, а опытом «великого
деланья», практикой очищения и преображения человека и мира.
Мышление в химии бифокально: элементаризм, интенция на постижение
элементов в объективном мире химии дополняется атомистическим подходом, или
видением. Соединить эффективным образом эти две тенденции, базовые для химической
мысли как таковой, удалось лишь в Новое время (знаковые фигуры здесь — Р. Бойль
и А.-Л. Лавуазье). В античности их также пытались примирить, примером чего
служит качественная атомистика Анаксагора. Но способ мышления в античности был
умозрительным теоретизированием, если говорить о натурфилософии. Причем
с практикой ремесел у него взаимного контакта не было, хотя одностороннее
усвоение опыта ремесленников теоретиками было (например, у Аристотеля).
Итак, специфику мышления в химии, равно как и ее предмет, можно задать
такой дилеммой, характеризующей логику ее начал: бескачественная субстанция или
бессубстанциальная качественность. Попытка придать качествам непосредственно
субстанциальный характер (Аристотель и учения, ориентирующиеся на него),
минимизирующая количественный подход и отрицающая за математикой
онтологическую значимость в мире природы, не позволяла прийти к научной химии.
Продуктивное русло, задаваемое спором этих тенденций, и образует магистральный путь
долгого, затяжного, по сравнению с механикой и отчасти физикой, становления
научной химии. Химическая революция Нового времени характеризуется своими
доступными для анализа факторами запаздывания7.
В результате работы под руководством В. И. и в сотрудничестве с ним в нашу
историю химии была вписана глава «Античная химия». Конечно, и раньше
встречались немногие работы с таким или подобным названием («Химия Платона», «Химия
Аристотеля»), но, как правило, это были маргинальные и немасштабные очерки,
лишенные философской углубленности. Основное русло историко-химических
исследований задавалось позитивистской парадигмой. Такова, например, «История химии»
Ф. Гефера. Французский историк отсылал Платона с Аристотелем на кафедру
философии, а если что-то и упоминал о них в своей истории химии, то почти ничего кроме
ошибок у них не находил. Аристотель сегодня, говорит Гефер, «не имеет большого
научного значения»8. Подобным «философофобским» образом был настроен и
такой выдающийся химик и историк, как Марселей Бертло. «Химия древних, — писал
он, — известна нам по сути дела лишь по нескольким статьям Теофраста, Диоскурида,
7 Об этом см.: Визгин В. П. Научная революция в химии: факторы запаздывания // Вопросы
истории естествознания и техники. № 1.1993. С. 3-15. См. также выше, с. 279-308.
8 Hoefer Ε Histoire de la chimie. 2 éd. P., 1866. Vol. 1. P. 98.
616
Раздел пятый
Витрувия и Плиния Старшего, рассматривающих медицину, металлургию и
минералогию»9. Характерно, что в этом списке нет ни одного крупного философа, если
таковым не считать Теофраста, ученика Аристотеля, вклад которого в науку касался
по преимуществу таких областей, как ботаника, минералогия, зоология, антропология.
Декабрь 2004 г.
В качестве приложения к этой статье помещены ранее не публиковавшиеся
тексты ее автора, раскрывающие затронутую в ней тему.
Приложение № 1
Вступительное слово на защите диссертации
«Философский анализ проблемы химической эволюции»
Уважаемый председатель Ученого совета!
Уважаемые члены Ученого совета!
Товарищи!
Проблема химической эволюции, философскому анализу которой посвящена
диссертация, предлагаемая вашему вниманию, привлекает к себе внимание
различных областей современного естествознания. Характерной чертой последнего
международного симпозиума, посвященного происхождению предбиологических систем,
является повышенный интерес к теоретическим и, в особенности, методологическим
вопросам исследования процессов развития в природе. Этот интерес ведущих
ученых к теории развития, к гносеологическим и методологическим аспектам его
научного исследования показывает, насколько актуальным является философский анализ
проблемы химической эволюции, представляющий интерес как для естествознания,
так и для философии.
Предлагаемая вашему вниманию диссертация состоит из трех глав, введения
и заключения. Задачей работы является анализ методологических подходов к
исследованию химической эволюции и основных понятий, лежащих в основе
эволюционной теории и имеющих непосредственное значение для философской теории
развития.
В работе дается общая характеристика понятия химической эволюции, которая
определяется как структурно-динамическое изменение химической организации
вещества в определенном комплексе условий. В этом определении подразумевается
взаимодействие микроформы эволюционирующего объекта с макроскопическими
условиями. Таким образом, рассмотрение эволюционного процесса требует
астрофизических, геохимических и биогеохимических методов его анализа. В работе
показаны взаимосвязь и познавательное значение этих методов, а также границы
9 Berthelot M. Introduction à l'étude de la chimie des anciens et du Moyen-âge. P., 1889. P. 11.
Химия как amor Dei
617
их применимости при исследовании химической эволюции. Особое внимание
уделяется биохимическому подходу, который глубже и непосредственнее, чем
перечисленные выше методы, раскрывает собственно химическое содержание эволюционного
процесса. Он позволяет исследовать взаимосвязи химических структур, развитие
механизмов сопряжения и воспроизведения, энергетики и организации химических
процессов как предпосылок биологической эволюции.
В биохимическом подходе к исследованию химической эволюции различаются
два взаимосвязанных направления: синтетическое и аналитическое. В первом
случае исследуются синтетические модели таких основных компонентов биологических
систем, как белки и нуклеиновые кислоты. Аналитический подход основывается
на экстраполяции универсальных биохимических механизмов на предбиологиче-
скую эволюцию.
Основным теоретическим понятием биохимического подхода является понятие
отбора, одно из центральных в эволюционной теории. Рассмотрение понятия отбора
в его применении к химической эволюции позволяет конкретизировать его обще-
эволюционное содержание. В работе рассматриваются и сопоставляются основные
концепции отбора, анализируется структура понятия отбора.
Исследование проблемы отбора оказывается, по существу, исследованием
проблемы направленности эволюционного процесса. Анализ проблемы
направленности требует установления критерия отбора. В связи с этим обсуждаются основные
методологические подходы, пытающиеся определить содержание такого критерия.
На эмпирическом уровне осуществляется подход, который можно назвать
структурным. При этом отыскивают критерий отбора, сопоставляя фактически
осуществленный отбор элементов и структур (отбор-результат) с их свойствами. Критерий
отбора в этом случае определяется не распространенностью элемента, а многообразием
его химических возможностей. Наряду с этим показателем для химических структур
приобретают большое значение физико-химические факторы, и содержание
критерия отбора дополняется принципом многообразия физико-химических свойств
отбираемых структур. Таким образом, становится понятным, почему углерод и
органические полимеры являются основным отобранным материалом.
Следующим подходом к решению проблемы критерия отбора является
феноменологический подход, который исследует термодинамическую возможность
различных направлений химического превращения и термодинамическую устойчивость
различных систем. В противоположность структурному подходу
феноменологический подход рассматривает отбор как процесс. Критерием отбора с этой точки зрения
является минимум удельной энтропии и максимум удельной скорости ее
производства в эволюционирующих системах. Общим содержанием определенного
различными методами критерия отбора выступает сочетание устойчивости и лабильности,
т. е. динамизация устойчивости систем, приводящая к расширению их
эволюционных возможностей.
При обсуждении термодинамического подхода нами также рассматриваются
общие проблемы соотношения тепловой формы движения материи с процессами
618
Раздел пятый
развития. Основные термодинамические закономерности могут быть совмещены
с эволюцией в природе, так как процесс развития материальных систем есть
процесс универсального взаимодействия всех форм движения и уже поэтому
целостность взаимодействия, без которого немыслима эволюция, предполагает участие
в ней тепловой формы движения, а тем самым — энтропийного фактора. Однако
любая энтропийная характеристика, являясь закономерной и необходимой,
принципиально недостаточна для создания целостной теоретической картины
эволюционного процесса.
При анализе проблемы отбора и, шире, проблемы эволюции нельзя оставить
без внимания вероятностный подход, который, несмотря на основательную
критику со стороны ряда ученых, остается широко распространенным. Это
объясняется значительными трудностями в исследовании химической эволюции. Поэтому
часто предпочитают постулировать случайное возникновение нуклеопротеидного
комплекса, сразу полагающего основу вторичной биохимической и органической
эволюции, по существу минуя слишком зыбкую почву первичной химической
эволюции. Хотя в этом методе в качестве существенного определения эволюционного
процесса рассматривается информационная характеристика, что позволяет создавать
интересные модели простейших биологических систем, однако при этом не
рассматривается отбор как организационный фактор эволюционного процесса, что
означает отрицание направленной химической эволюции до возникновения
«информационных машин» из добиологических нуклеиновых кислот.
Все эти методы находят свое место при анализе отдельных сторон целостного
процесса химической эволюции, требующего для своего всестороннего раскрытия
синтетического модельного подхода, нашедшего свое выражение в теории
саморазвития открытых каталитических систем. Каталитический подход обобщает все
перечисленные методы решения проблемы критерия отбора и дает развернутый
и конкретный его критерий, позволяющий определять как структурные
особенности отбираемых систем, так и их термодинамические и информационные
характеристики. Этот метод открывает собственно химический, или физико-химический
подход к проблеме и вызывает потребность в ее специальном изучении как
относительно самостоятельного объекта исследования. Здесь кладется в основу именно
та фундаментальная система (фермент), которая органически объединяет
химический подход с биохимическим.
Рассмотрение различных методологических подходов к исследованию
химической эволюции, анализ их взаимоотношений показывает, что общий ход познания
эволюции характеризуется постепенным переходом от односторонних и
косвенных методов исследования к синтетическим, целостным методам и раскрывается
как движение от абстрактного к конкретному, являющемуся целью познавательного
процесса. При этом основным философским понятием, требующим анализа,
оказывается категория целостности, объединяющая как гносеологический, так и
предметно-содержательный аспекты, непосредственно связывая исследование
эволюции с теорией развития. В результате применение категории целостности к анализу
Химия как amor Dei
619
проблемы отбора позволяет дать философское обобщение его критерия как
тенденции к возрастанию целостности эволюционирующих систем.
В результате анализа категории целостности раскрывается связь движения
(лабильности) с устойчивостью, опосредованная категорией организации, которая,
в свою очередь, связана с такими понятиями, как структура и функция.
Анализ проблемы химической эволюции показывает, что целостный
методологический подход к ее решению должен опираться как на философское учение о
развитии, так и на естественно-научное познание эволюции.
Спасибо за внимание.
1968 г.
Приложение № 2
К методологическому анализу эволюционного подхода в химии
Развитие естествознания и социальных наук в XIX-XX вв. продемонстрировало
значение эволюционного метода в теоретическом синтезе научных знаний.
Эволюционное учение Ч. Дарвина является общенаучным образцом такого синтеза.
Выработанные на обширном материале биологических знаний середины XIX в. понятия
теории биологической эволюции содержат потенции общеэволюционных категорий.
Как это показано в исследованиях проблемы происхождения жизни (А. И. Опарин,
Дж. Бернал, М. Кальвин, Н. Пири и др.), фундаментальное понятие дарвиновской
теории биологической эволюции, понятие естественного отбора, является
эффективным инструментом эволюционного подхода и на добиологическом уровне
развития материальных систем.
Многообразие существующих в настоящее время концепций отбора,
действующего в химической эволюции, требует методологического анализа. В результате
такого анализа понятие отбора раскрывается как расчлененная внутри себя система
(отбор-процесс, отбор-результат, уровень отбора, объект отбора, механизм отбора).
Системное представление отбора позволяет рассматривать изменение его
механизмов в ходе эволюционного процесса и тем самым более корректно сопоставлять
химический и биологический отборы.
Анализ эволюционного подхода в химии требует определения места и функции
эволюционизма в системе научных методов мышления. Нам представляется, что
эволюционный подход представляется методологически неизбежным для научного
познания. Это означает, что эволюционный подход является универсальным, хотя
и специфическим, способом теоретического представления в принципе любой
достаточно разработанной предметной области науки. Благодаря неравномерности
методологического развития наук универсальный характер эволюционного
подхода, фиксированный на его логическом срезе, лишь постепенно актуализируется
в истории развития научного познания. Если биология уже в середине XIX в. вышла
на рубеж эволюционизма, то современная химия относительно недавно начинает
620
Раздел пятый
создавать собственные эволюционные концепции. Логика развития каталитической
химии привела к созданию теории саморазвития открытых каталитических систем
(А. П. Руденко), представляющей собой по существу первую теоретически развитую
модель химической эволюции.
Возникновение эволюционных понятий внутри современного химического
мышления опосредуется существенным концептуальным и методологическим сдвигом
(статика — динамика — эволюционизм). Основу такого сдвига составляет переход
от структурных понятий к организационным (кинетический континуум, открытый
характер реакционной системы, система взаимосвязей между кинетическими и
структурными параметрами и т. д.). Возникающий внутри химического познания эволюционный
подход лишь доводит до логического завершения тенденцию динамизации основного
понятийного аппарата химии. Благодаря этому химия в своем эволюционном аспекте
актуализирует единство двух основных полюсов современного естествознания —
физики и биологии, — приобретая тем самым особый логико-методологический статус.
В связи с этим существенной задачей методологического анализа является
исследование влияния эволюционно ориентированных понятий на уже сложившиеся
понятия и методы химии. Такое исследование предполагает представление
современного химического мышления как системы, позволяя конкретизировать анализ
этого влияния и оценить его границы.
Эволюционная концептуальная система дает возможность с единой точки зрения
просмотреть историю основных теоретических представлений химии.
Рассматриваемая в логико-методологическом аспекте эволюционная химия выполняет в
развивающейся системе химического знания интегративную функцию. Благодаря этому
развитие химии раскрывается как становление химии развития.
1971 г.
Приложение № 3
От истории к теории развития химии10
Познание закономерностей развития химии представляет большой
научно-теоретический и практический интерес. Современные историко-химические и
методологические исследования вплотную подошли к этой задаче. Автор рецензируемой работы
не скрывает трудностей такого рода исследования, требующего координированных
усилий историков и методологов науки.
В центре предлагаемой автором концепции развития теоретической химии лежит
представление об основной проблеме химии, являющейся «инвариантным ядром»
всей ее истории. Это — проблема «генезиса свойства вещества, или проблема
реакционной способности» (с. 124).
10 Рецензия на книгу: В. И. Кузнецов. Диалектика развития химии. От истории к теории
развития химии. М.: Наука, 1973.
Химия как amor Dei
621
Данная проблема является сквозной проблемой химии, решения которой
определяют ее теоретическое строение в соответствующую эпоху. Способы ее решения
служат формообразующим фактором эволюции химии.
Узловые решения основной проблемы фиксируют последовательность
концептуальных систем химии. Автор использует понятие концептуальной системы,
опираясь на работы В. Гейзенберга, определившего его на материале эволюции
теоретической физики. Такая система в случае химии представляет собой относительно
замкнутую совокупность теорий, связанных единой концепцией,
интерпретирующей основную проблему химии и определяющей способ ее решения.
Основная проблема химии формируется уже в формах натурфилософского
мышления античности, где она выступает как проблема генезиса вещей, проблема
объяснения качественного многообразия видимого мира.
С возникновением научной химии, начиная с работ Р. Бойля, она оформляется
как проблема объяснения свойств вещества в зависимости от его состава. Способ
объяснения свойств вещества, исходя из его состава, лежит в основе учения об
элементах и их соединениях как первой концептуальной системы химии. На базе
первой концептуальной системы возникает вторая концептуальная система, вводящая
в круг химического теоретического мышления в качестве его основного концепта
понятие структуры (химическое строение).
Развитие представлений о структуре соединений вызвало изменение и в
содержании понятия «свойства вещества»: возникло новое понятие — понятие функции,
являющееся высшим гомологом по отношению к понятию свойства.
Дальнейшее развитие понятийного аппарата химии произошло в результате
развития учения о кинетике химических реакций. Опыт изучения кинетики
реакций показал недостаточность понятия структуры соединений для объяснения всего
спектра свойств кинетических систем. Новое понятие, которое лежит в основе
кинетических теорий, это понятие организации. Наконец, четвертой системой является
биоорганическая химия и учение об эволюционном катализе. Это концептуальная
система только еще начинает прокладывать свой путь в мире теоретической химии.
Основная проблема химии, формируемая в этой системе, может быть определена как
проблема детерминации поведения химических систем в зависимости от их
организации. Автор отмечает, что новая концептуальная система окажет свое воздействие
на весь традиционный понятийный аппарат доэволюционной химии, что позволит
глубже проникнуть в сущность химизма, лучше раскрыть роль состава, структуры
и организации в детерминации свойств, функций и поведения химических систем.
В монографии рассматривается каждая концептуальная система в отдельности
и в ее связи с другими концептуальными системами. Особенное внимание автор
уделяет вопросу о соотношении структурных и кинетических теорий, подробно
рассматривает место квантово-механической теории в химии, анализирует проблему
эволюции в ее связи с концептуальными системами химии, раскрывает понятие
химической организации вещества в связи с представлениями о его дискретном и
непрерывном характере.
622
Раздел пятый
На обширном историко-химическом и теоретическом материале современной
химии автор прослеживает такие основные тенденции развития химии, как переход
от изучения статики к анализу динамики химизма, смена господства представлений
о дискретном характере вещества синтезом их с представлениями о непрерывности
при утверждении ведущей роли последних, переход от односторонних и наглядных
моделей к сложным и разнообразным приемам химического моделирования. Эти
закономерности развития химического знания связаны с трансформацией стиля
научного мышления, характерного для науки XX в.
Достоинством рецензируемой работы является взаимосвязь историко-научной
и методологической проблематики, логики развития науки и науковедения, широта
получаемых благодаря этому обобщений.
В рецензируемой работе В. И. Кузнецова, являющейся органическим
продолжением его предыдущих работ (Развитие каталитического органического синтеза. М.,
1964; Развитие учения о катализе. М., 1964; Эволюция представлений об основных
законах химии. М., 1967), отражено современное состояние методологии химии, для
которой поиск закономерностей развития химии немыслим без анализа идеи
развития в химии, без анализа химии развития.
1973 г.
Приложение № 4
Основная проблема химии в натурфилософии Аристотеля
Историко-логический анализ античной натурфилософии показывает, что ее
проблемой был не столько генезис свойств11, сколько генезис качественно и количественно
оформленного телесного космоса. В иерархии основных онтологических категорий
категория качества занимает у Аристотеля видное место.
Новообразование качеств, возникновение новых более высоких, чем исходные,
«этажей» качественной организации материи — вот основная проблема
натурфилософской «химии» Аристотеля, анализ которой в плане исследования зарождения
основной проблемы химии представляет особый интерес. Здесь мы хотим отметить
только некоторые существенные моменты аристотелевской постановки этой
проблемы, имеющие актуальное значение как для современной химии, так и для химии
будущего.
Прежде всего, необходимо отметить, что качественный характер
аристотелевской натурфилософии в целом и элементарно-качественное рассмотрение химизма
в частности означают, что понятие качества наделяется несводимостью к чему-либо
бескачественному. Правда, у Стагирита существует определенная иерархия качеств,
11 Управляемый генезис свойств, или получение веществ с наперед заданными свойствами,
составляет, как считает В. И. Кузнецов, основную инвариантную проблему химии. См.
Приложение № 3.
Химия как amor Dei
623
где это требование несводимости как будто бы смягчается. Однако в его
иерархической системе качеств нет их сведения к чему-то бескачественному. Бескачественное
у Аристотеля — характеристика небытия, оно лишено у него позитивного
онтологического статуса. С помощью такой иерархии, которую Аристотель строит, исходя
из основных принципов античного мировоззрения и пытаясь примирить его
противоречивые проявления, известное многообразие качеств организуется в целостную
систему. Благодаря этому возникает возможность, которую Аристотель и
использует для объяснительной функции такого типа теоретизирования, который можно
условно назвать качественной физикохимией.
Подчеркнем, что проблема сведения, или редукции, качественного уровня
природы к бескачественному возникает значительно позже и во всей остроте становится
проблемой химии Нового времени. Это обусловлено тем, что если у Аристотеля
категории сущности и явления, сущности и качества, формы и свойства были
максимально сближены и зачастую практически отождествлены, то в философии и науке
Нового времени они резко разошлись. Категории сущности в химическом мышлении,
начиная с Р. Бойля, соответствовало понятие элементарного состава веществ (а
затем и строения), которое было противопоставлено понятию свойства, выводимому
из состава. Для Стагирита, напротив, авторитет качества-свойства был единственно
возможным гносеологическим и онтологическим авторитетом. В химии же Нового
времени утвердилась совершенно другая шкала ценностей, в рамках которой
количественные характеристики вещества онтологически поставлены выше его чувственно
данных свойств. Таким образом, мы констатируем, что у Аристотеля качество и
свойство — это исходные и конечные данности природы и познания, а не те явления,
которые еще надо объяснять через нечто другое. Генезис качеств (основная проблема
химии) объясняется, исходя из них самих же, благодаря упомянутой выше
иерархической их системе. Аристотель не знал и не мог знать независимой от чувственно
воспринимаемой констатации свойств процедуры определения элементарного состава
тел, скажем, с помощью весового анализа. У него элементарный состав вещества
был по существу тождественен с эмпирической констатацией набора его
качественных характеристик, обнаруживаемых во взаимодействиях с другими веществами
в какой-либо конкретной ситуации, включающей, как мы говорим сейчас, условия
среды. Понятие элементарного состава было у Аристотеля эмпирико-феноменоло-
гическим и поэтому не несло в себе чего-либо принципиально иного по отношению
к фиксируемым в чувственном опыте свойствам и качествам вещества. Если
вещество обладало свойством, совпадающим с характеристическим свойством
элемента-стихии, то этот элемент вносился в его состав. Интересен в этом отношении
случай с оливковым маслом, разбираемый Аристотелем в IV книге «Метеорологики».
Оливковое масло не затвердевает ни при действии огня, ни при действии холода. Это
означает, что оно не обладает ни земляной, ни водной природой. Но оно всплывает
в воде, как и воздух. Следовательно, рассуждает Аристотель, прибегая к аналогии,
в оливковом масле содержится воздух. Однако такому способу установления
элементарного состава тел мешало то, что у Аристотеля не было однозначных определений
624
Раздел пятый
характеристических свойств элементов. Например, у воды определение
характеристического свойства, данное в трактате «О возникновении и уничтожении», не
совпадает с его определением в IV книге «Метеорологики». В приведенном примере
характеристическим свойством оказывается не один из членов пары
конституирующих элемент первокачеств (теплое-холодное, сухое-влажное), а космографическое
свойство (легкость или тяжесть, естественное движение вниз или вверх). Очевидно,
что это два совершенно разных принципа.
Анализ текстов показывает, что основная проблема аристотелевской химии это
не генезис свойств вещества из его специальных сущностных характеристик, а
генезис, или возникновение, самих тел и, в конце концов, что важно, живых организмов
на основе динамики качеств. Таким образом, основная проблема химии в
аристотелевской ее постановке оказывается проблемой эволюционного восхождения
элементарных качественных стихий, прогрессирующей организации квалитет-субстанций,
ее преобразования и совершенствования. Наука (мы бы сказали, химия), согласно
Аристотелю, должна исследовать условия такого поступательного восхождения, его
правила. Это входит в задачу как химии элементов, так и химии миксиса (аналог
химического соединения). Интересно отметить, что в системе аристотелевского
мышления химия элементов по существу подчинена химии миксиса, ведущей к
образованию гомеомерных (однородных) тел как более высокого уровня организации, чем
простые элементарные динамические тела-качеств а. Рост формального (в
аристотелевском смысле) совершенства качественной организации материи — вот основная
проблематика химии Аристотеля. Конечно, на этом пути осуществляется и генезис
свойств. Об этом ярко свидетельствует аристотелевская химия миксиса.
Новообразование свойств имеет своим целевым назначением форму живого (душа), т. е.
генезис свойств есть, в конце концов, генезис жизни, или биогенез. В этом и состоит
существенный момент специфики аристотелевского подхода к химии и ее основной
проблеме. Качественность, которая составляет и эмпирический, и теоретический
уровень познания у Аристотеля, есть общий субстрат и движущий импульс этого
химического биогенеза, актуализирующего потенциальную биологическую психич-
ность космоса в его элементах. Сначала это качественность элементарных
субстанций, в итоге — качество целесообразной деятельности живого организма.
Отмечая роль и значение эволюционно-химических исследований в химии
сегодняшнего дня, мы констатируем, что современная химия на совершенно иной
теоретической и технологической основе подошла к возобновлению
синтетически-эволюционного понимания химизма, которое мы отметили у Аристотеля. И если давно
уже общепризнанным является значение атомистики Левкиппа и Демокрита для
становления и развития физического фундамента химического знания, то теперь пора
признать — и главное познать! — значение элементарно-динамической,
качественной натурфилософии Эмпедокла и, особенно, Аристотеля.
Какой же урок мы можем извлечь, рассматривая специфику постановки
основной проблемы химии в натурфилософии Аристотеля? Какие коррективы должны
внести в наше общепринятое и недостаточно критическое по отношению к самим себе
Химия как amor Dei
625
представление об основной проблеме химии как задаче получения веществ с
определенными наперед заданными свойствами? Во-первых, у Аристотеля вместо нашего
привычного инженерно-механистического подхода к химии мы находим
специфический эволюционно-органический подход12. В соответствии с ним основная
проблема химии состоит не в получении веществ с наперед заданными желательными
свойствами, а в раскрытии веществ как живых существ с наперед не заданными^
т. е. истинно-новыми, свойствами, бесконечно более интересными и «полезными»,
чем свойства исходных веществ. Если с точки зрения современной
механистической инженерии свойства вычисляются, исходя из потребностей создания
технических систем, нуждающихся в новых материалах, и поэтому они сами по себе не новы,
а новы только их количественные показатели, то с точки зрения телеолого-органи-
ческой мир тел и их свойств раскрывается как постепенная спонтанная
трансформация веществ в живые организмы, которые как телеоморфные матрицы определяют
природное целое с самого начала. Нахождение закономерностей этого процесса
закладывает основы биотехнологии будущего. Этим биологизирующим коррективам,
идущим от Аристотеля, соответствуют, таким образом, современные поиски в сфере
научной методологии, которые, пока что на уровне главным образом гипотез,
стремятся изменить механистические принципы технологического отношения человека
к миру на органические (системное движение, исследования процессов
самоорганизации, бионика и др.). Поэтому мы можем сказать, что основной проблемой химии
является исследование условий и практическое осуществление преобразований
вещества, ведущее к управлению процессами его химической эволюции.
1976 г.
Приложение № 5
Методологическая роль принципов симметрии в химии:
к постановке проблемы
Наука, в том числе и химия, строится на базе воспроизводимого эксперимента,
включая и наблюдение, позволяющего явления природы ввести в системы объективного,
количественного описания, освобожденного как от эмпирических случайностей, так
и от вербальных исторических наслоений по его поводу. В античности такой
фундамент для построения знаний отсутствовал. Но его отсутствие не препятствовало
тому, что он, тем не менее, приближенно воспроизводился в некоторых особых
сферах — в астрономии и математике. Действительно, предметы математики, коль скоро
достигнут уровень их теоретического представления, в том числе в плане
построения дедуктивной системы, выступают как сами по себе воспроизводимые в своей
12 Эволюционная составляющая в органическом биоморфном мышлении Стагирита,
впрочем, представляет собой спорный момент, на котором мы здесь не можем останавливаться.
Биоморфизм аристотелевской натурфилософии проявляется прежде всего как ее телеологизм.
626
Раздел пятый
идентичности или даже просто как совершенно неизменные объекты, по своей
природе свободные от случайностей чувственно данной эмпирии. А небесные тела,
в свою очередь, совершают сами по себе, без всякого искусственного вмешательства
со стороны человека, регулярные и воспроизводимые движения, делая эксперимент
излишним. Иначе говоря, звезды и числа это — естественные объекты науки, они
научны уже сами по себе, и поэтому для возникновения изучающих их наук не
требуется революция в практике, в социальной жизни и культуре, которая
потребовалась для создания как научной физики, так и научной химии.
В данной статье мы затрагиваем только некоторые вопросы методологического
порядка, связанные с принципами симметрии в химии. Принципы симметрии
понимаются нами как достаточно широкая, но тем не менее определенная общенаучная
метатеоретическая установка, явившаяся в последнее время предметом
специальной научной и философской рефлексии. Эвристические потенции этих принципов
настолько богаты, а материал, представляемый современным уровнем развития
химических наук, так огромен и многообразен, что существует целое поле еще не
раскрытых возможностей для понимания познавательной ситуации в химии, ждущее
своей разработки в свете этих принципов. В имеющейся сравнительно небогатой
литературе по философским и методологическим проблемам химии эти вопросы
по существу не ставились, если не считать отдельных упоминаний, аналогий и
беглых замечаний. Напротив, в специальных работах химики постепенно приходят
ко все более ясному осознанию важной методологической роли принципов
симметрии в химической науке.
Индивидуальная неразличимость объектов научного исследования (операция
идентификации) является фундаментальной особенностью научного познания
вообще. Что это означает? Прежде всего, с теоретико-познавательной стороны
неразличимость объектов исследования, например микрочастиц одного типа в физике,
связана с самой природой теоретического мышления как мышления посредством
идеализирующих абстракций. Чрезвычайно употребительная в науке операция
идеализации является одним из характерных проявлений абстрагирующей
деятельности теоретического мышления. В ней отчетливо выступает как ее подоперация
идентификация — наложение на конкретные объекты исследования схемы абстрактного
тождества (например, модель идеального газа и т. п.).
Принцип тождества, составляющий ядро механизма абстрагирующей
деятельности научного мышления, по существу оказывается навязанным внутренними
инвариантными отношениями самой природы как предмета человеческой практики
и познания. Зависимость логического принципа тождества от инвариантных
характеристик самих предметов познания была осознана еще Кантом13.
Из наличия процедуры идентификации в составе любой формы научного
мышления следует целый ряд следствий. Важнейшим из них является симметрия.
Важнейшим потому, что другие следствия принципа идентичности объектов, образующие
13 Кант И. Сочинения: в 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 702.
Химия как amor Dei
627
эмпирическое многообразие их свойств (например, жесткость кристалла или
эластичность каучука), подчинены симметрии. Явления симметрии, на каком бы
природном материале они ни разыгрывались, оказываются в конце концов «логическими
следствиями основного понятия идентичности»14.
В химии существует большее многообразие индивидуализированных объектов,
чем в физике (около 2,5 миллиона химических соединений и многие миллиарды
химических кинетических систем). Поэтому в химии понятие идентичности работает
под большей нагрузкой своего противопонятия — неидентичности как уникальности,
а следовательно, требования симметрии являются в ней, по-видимому, менее
сильными, чем в физике. Таким образом, понятие идентичности как бы
«деполяризировано». В образованном «деполяризацией» обширном поле промежуточных между
идентичностью и неидентичностью значений этого понятия и помещается
фактически все многообразие исследуемых химических систем. Так, например, согласно
Берналу, насчитывается 19 промежуточных состояний между жидким и
кристаллическим состоянием вещества15. Именно эта ситуация является в целом типичной
для химии и вносит существенный вклад в специфику проявления в ней принципов
симметрии. Однако увеличение разнообразия объектов в химии не означает
умаления в ней методологической роли принципов симметрии.
Превращение химии в экспериментальную и теоретическую науку Нового
времени, начатое Бойлем, было завершено примерно к концу XVIII — началу XIX в.,
когда развитие химической практики позволило фиксировать чистые вещества,
элементы и соединения, без чего было бы немыслимо установление основных законов
химии и развитие количественных методов исследования. Основные законы химии
(закон постоянства состава, закон эквивалентов и закон простых кратных
отношений) являются ее стехиометрическими основаниями и образуют инвариантный остов
всей химической практики, а следовательно, и теории, служащий своего рода
«метрическим эталоном» для описания химических превращений вещества. Эту
функцию законов стехиометрии отмечает В. И. Кузнецов: «Как бы ни изменялся порядок
реакции, какое бы влияние ни оказывали на ход реакции те или иные факторы,
отправным пунктом для осуществления любых химических процессов всегда являются
стехиометрические соотношения реагирующих веществ»16.
До тех пор пока не были фиксированы чистые вещества, идеал науки Нового
времени, афористически выраженный Галилеем — «измерять то, что измеримо, и
делать измеримым то, что неизмеримо», — в химии не мог быть реализован. Долгим
опытным путем было установлено, что из самых многообразных комплексов и
смесей веществ могут быть различными путями получены чистые вещества,
определяемые свойствами их однородности относительно пространственных перемещений
14 Верная Дж. Возникновение жизни. М., 1970. С. 339.
15 Там же. С. 349.
16 Кузнецов В. И. Эволюция представлений об основных законах химии. М.: Наука, 1967. С. 21.
628
Раздел пятый
или, иначе говоря, воспроизводимостью их химических свойств в пространстве
(пространственная инвариантность химических свойств чистых веществ), а с другой
стороны, свойствами временной однородности или, иначе говоря,
воспроизводимостью химических свойств чистых веществ во времени (временная инвариантность
химических свойств чистых веществ). К этим двум инвариантным характеристикам
с установлением закона постоянства состава (Пруст, 1799) был добавлен третий вид
инвариантности — сохранение химических свойств чистого вещества при
изменении способа его получения — операциональная инвариантность химических свойств
чистого вещества. Суперпозиция пространственной, временной и операциональной
инвариантностей задает структуру или, точнее, базовую симметрию исходного
фундаментального пространства научной химии — пространства чистых веществ.
Это пространство, дискретное и конечное, является основным эталоном,
нормирующим всю аналитическую и синтетическую работу химика. Любой
химический эксперимент начинается и заканчивается операцией такой нормировки,
идентифицирующей исходные реагенты и полученные продукты химического процесса.
Деятельность по такой нормировке опирается на целый набор физико-химических
констант, позволяющих оценить чистоту реагентов и реакционных продуктов. Без
подобной нормировки химический процесс выпадает из сферы его научной
фиксируемое™ и не может быть даже предметом научного описания, не говоря уже о
стадиях его теоретического анализа. Эта работа химика с чистыми веществами
составляет важную часть общей инструментально-измерительной работы, осуществляемой,
например, «твердыми» стержнями-линейками и другой эталонной техникой.
Поэтому понятие химической чистоты по своей функциональной методологической роли
сопоставимо с понятием длины в механике и служит источником не менее глубоких
преобразований всей химической науки, когда происходит коренной пересмотр ее
содержания. Именно такой пересмотр постепенно произошел в первой четверти XX в.,
и его наиболее ярким теоретическим выражением явилась концепция Н. С. Курна-
кова о дальтонидных и бертоллидных соединениях17.
Для выявления и формулирования на соответствующем языке свойств
симметрии эталонного пространства чистых веществ требуется анализ огромного
химического материала, взятого по возможности на самых верхних «этажах» его
теоретического представления. Каковой будет строгость полученных в результате такого
анализа теоретико-групповых формулировок, далеко еще не ясно, поскольку
попытки такой глобальной «геометризации» химии пока не имели места18. Программы
локальной «геометризации» химии, правда, уже были выдвинуты, и они, каждая
17 Курнаков К С. Введение в физико-химический анализ. М.; Л., 1940.
18 Теория групп применяется сейчас весьма широко для решения отдельных задач химии:
от определения возможных энергетических уровней молекулярных орбит (см., например: Ко-
улсон Ч. Симметрия // Успехи химии. 1969. Т. 38. № 6. С. 1132) до химической топологии,
являющейся, по словам В. Прелога, «практическим применением теории групп» (см.: Прелог В.
Проблемы химической топологии // Успехи химии. 1969. Т. 38. № 6. С. 952).
Химия как amor Dei
629
в своей области, дали немаловажные результаты, не исчерпав, однако, при этом своих
эвристических возможностей. Речь идет прежде всего о кристаллографических и кри-
сталлохимических теориях, с одной стороны, и квантово-химических теоретических
разработках — с другой. Позиция противников математизации химии, как показало
последующее развитие науки и философии, оказалась с методологической стороны
достаточно слабой, хотя и понятной с точки зрения эмоционально-психологических
и идеологических факторов своего времени. Специфика химии, которую при этом
хотели защитить, вряд ли могла быть действительно раскрыта, а тем самым и
утверждена, при зачастую нигилистической оценке многих, пусть нередко и временных,
попыток осознать и теоретически выразить радикальное преобразование
классической химии с ее незыблемыми стехиометрическими основами в новую,
неклассическую химию19. Экспериментальное подтверждение несостоятельности классических
формулировок стехиометрических законов способствовало методологическим и
теоретическим поискам и дискуссиям, что сопоставимо с ситуацией в физике,
например, после открытия несохранения четности в слабых взаимодействиях.
Оставляя задачу попытки теоретико-группового анализа за будущими
исследованиями, мы можем, пока на чисто качественном уровне, сделать несколько
предварительных замечаний, вносящих некоторую конкретизацию в представления о
структуре эталонного пространства чистых веществ. Во-первых, общей топологической
характеристикой этого пространства является его дискретность, отвечающая
многообразию известных и неизвестных пока элементов и химических соединений
(в классическом смысле). Во-вторых, это множество является, по-видимому,
конечным. На уровне химических элементов его конечность представляется очевидной,
на уровне химических соединений конечность этого множества менее очевидна.
Однако конечность числа элементов и способов их связи могут привести к хотя
и очень большому, но тем не менее определенно конечному множеству соединений.
И наконец, в-третьих, из операциональной инвариантности, заданной законом
постоянства состава, следует потенциальный характер пространства чистых веществ.
Конкретизация свойств симметрии этого пространства позволит описать
химические процессы как траектории, оставляемые в нем химическими реакциями, как
его «мировые линиии». Множество вероятных химических преобразований как бы
подытоживается в естественной интегральной «мировой линии», отвечающей
суммарной траектории химической эволюции. Что касается описанного таким
образом пространства чистых веществ, то следует подчеркнуть, что это описание носит
формально-эмпирический характер. Однако рассмотрение эвристических функций
принципов симметрии как метатеоретических принципов требует анализа
различных теоретических интерпретаций этого пространства, прежде всего анализа
соотношения классических структурных теорий и неклассических кинетических и
эволюционных теорий. В качестве предварительной метатеоретической определенности
19 См.: Кузнецов В. К, Пененкин А. А. Концептуальные системы химии (теория резонанса) //
Вопросы философии. 1972. № 5. С. 75-86.
630
Раздел пятый
этого соотношения можно отметить скачкообразное расширение структурного
принципа, а следовательно, и принципов симметрии, переводящее теоретическую
интерпретацию исходного пространства с молекулярного уровня стационарных систем
на фазовый уровень целостных кинетических систем.
Как уже было отмечено выше, функционирование в химии принципов
симметрии носит пока сугубо локальный характер. Видимо, как правило, всегда можно для
конкретных ограниченных задач, лежащих, правда, на достаточно высоком
теоретическом уровне, построить соответствующую идеализованную модель, где логика
симметрии может «сработать». Примерами такого рода модели служат различные
приближенные методы в квантовой химии, причем обнаруживается, что «большая
группа искомых результатов (приближенных решений уравнений Шредингера)
зависит от свойств симметрии рассматриваемой системы»20.
В дополнение к уже сказанному отметим, что когда мы переходим из области
физики, являющейся и по сей день образцом теоретизирования для всего
естествознания, в область химии, то сталкиваемся со своеобразием познавательной ситуации,
выражающей специфику самих химических объектов. Физическое свойство может
быть определено как измеримое в гораздо большей степени, чем химическое
свойство. Фундаментальное химическое свойство — реакционная способность
вещества — не может быть отождествлено с какой-нибудь одной величиной, доступной
для процедуры однозначного измерения. Для количественной оценки этого
свойства используется целый ряд различных величин, которые при определенных
условиях могут быть измерены. Поэтому реакционная способность вещества выступает
не как его наличное свойство, а как конечная познавательная цель химического
исследования.
Своеобразие перехода от физики к химии не имеет аналогов внутри самой
физики. Иногда, правда, пытаются провести такую аналогию, рассматривая переход
от фундаментальных физических представлений к их приложению, например, к
области физике твердого тела. Однако подобные аналогии не схватывают специфики
познавательной ситуации в химии по сравнению с физикой. Отсутствие
однозначных процедур измерения основных химических свойств, выражающихся в
реакционной способности вещества, приводит к своеобразию построения идеализованных
моделей в химии. Идеализация, заданная не через измерение собственных ведущих
свойств химического объекта, а через измерение косвенных, влияющих на них
факторов, не позволяет поэтому получить однозначных количественно определенных
инвариантов, относящихся к собственно химическим свойствам вещества. Именно
поэтому химия «ускользает» от глобальной геометризации в духе Эрлангенской
программы, предполагающей полностью квантифицируемый объект. По-видимому,
в такой ситуации возможны два пути геометризации химии: во-первых,
дальнейшая методологическая и теоретическая разработка самого подхода, выдвинутого
Эрлангенской программой, в направлении его еще большей теоретико-познавательной
Эринг У, Уолтер Д., КимбаллД. Квантовая химия. М., 1948. С. 229.
Химия как amor Dei
631
универсализации, а во-вторых, путь приспособления уже имеющихся средств и
приемов геометризации к специально химическим задачам.
Возвращаясь к формально-эмпирическому рассмотрению пространства чистых
веществ, к трем его основным свойствам можно добавить открытость для его
расширения, которая в силу его конечности также не является бесконечной. Интересно
сопоставить свойства пространства чистых веществ химии с «пространством»
естественных видов в биологии. Биологическое «пространство», вместо
потенциальности пространства чистых веществ химии, характеризуется памятью, означающей,
что способ образования биологических видов является по отношению к ним
дифференцирующим фактором. В связи с этим отметим, что сравнительный
методологический анализ теоретических разработок в современной биологии и химии может
оказаться более плодотворным для реконструкции специфики химического
мышления в целом и в частности для раскрытия своеобразия проявления в нем принципов
симметрии, чем более привычный путь, отвечающий уже давно сложившейся
традиции «физикализации» химии.
Классическим примером продуктивности структурного принципа, а вместе с ним
и принципов симметрии в химии, явилось создание теории химического строения.
Уже тогда понятию состава, игравшему исключительную роль в теоретической
интерпретации химических явлений, пришлось потесниться, освободив место для
понятия структуры, которое, объяснив явление изомерии, показало существенное
значение геометрического фактора на уровне молекулы. Те коренные
преобразования в химии, о которых уже упоминалось выше, связаны не с отрицанием
структурного принципа, незыблемость которого обнаружилась вместе с обнаружением
ограниченности классического положения об универсальности молекулярной формы
вещества, а с его расширением и развитием. Поэтому понятию состава пришлось
снова потесниться, причем теперь расширенный структурный принцип послужил
для объяснения таких аномалий, как нарушение стехиометрии в кристаллах,
растворах и т. п. Новый, неклассический геометрический фактор структуры реальной
кристаллической решетки позволил, например, объяснить то, что невозможно было
объяснить при помощи состава и классического структурного принципа. Так,
например, как было отмечено В. К. Семенченко в дискуссии по определению понятия
химического соединения, резкие изменения свойств в кристаллических фазах «...
вызываются не образованием соединений с ясно выраженной химической связью,
а образованием более симметричных решеток, дающих возможность осуществить
более длинные транссвязи»21. Поэтому, исходя из этих соображений, дилемма
«химия или геометрия», которую в ходе этих дискуссий выдвигали некоторые
участники22, вряд ли является оправданной. Таким образом, можно отметить, что в ходе
21 Доклады на совещании по определению понятия химического соединения. Изд-во АН
СССР, М., 1953. С. 48.
22 Ормонт Б. Ф. Современное учение о химическом индивиде и некоторые основные
законы химии // ЖНХ. 1956. Т. 1. № 7. С. 1457-1472.
632
Раздел пятый
исторического развития химии наблюдается расширение действия принципов
симметрии, которые на всех уровнях химической организации вещества определяют
совместно с другими фундаментальными категориями, в первую очередь состава, его
химическое функционирование.
Расширение сферы действия принципов симметрии можно проиллюстрировать
на примере развития кристаллографических и кристаллохимических исследований.
Эти исследования, наряду с квантовой химией и химической термодинамикой,
являются областью, в которой принципы симметрии находят свое эффективное
применение. Классическая геометрическая кристаллография Федорова — Шенфлиса
устанавливает 32 типа симметрии, постулируя при этом невозможность осей
симметрии 5-го порядка, а также осей симметрии выше 6-го порядка. Эта чисто
теоретическая дисциплина с открытием в 1912 г. диффракции рентгеновских лучей на
кристаллической решетке получила мощный экспериментальный метод. Дальнейшее
развитие исследований геометрии как кристаллов, так и некристаллов обнаружило
недостаточность классических кристаллографических представлений. В частности,
развитие химии полимеров и дисперсных систем выявляет новые возможности
геометрического мышления в химии. Ограниченность классической кристаллографии
связана прежде всего с тем, что в ней исследуется идеальная симметрия абсолютно
идентичных частиц в трехмерном евклидовом пространстве. Химия и биология уже
открыли и продолжают открывать и исследовать такие виды симметрии, которые
не предусмотрены классической кристаллографией. Характерным примером
является симметрия морского ежа с осью 5-го порядка.
В связи с этим расширением представлений о возможных симметриях Берна-
лом был предложен вариант обобщенной кристаллографии23, в которой
рассматриваются, во-первых, не только трехмерные структуры, но и цепи (линейное строение)
и слои (плоское строение), а во-вторых, и это самое главное, понятие абсолютной
идентичности заменяется более общим понятием относительной идентичности, или
квазиидентичности. Таким образом, происходит типичная процедура теоретического
обобщения, в результате чего новая, неклассическая концепция оказывается тесно
связанной с исходной классической концепцией (принцип соответствия).
Действительно, формулируя условия предельного перехода для неклассического варианта,
мы получаем, как его результат, классический вариант. Тем самым сама
геометрическая кристаллографическая теория поднимается на новый уровень,
характеризуемый расширением теоретически возможных видов симметрии, не предусмотренных
классической теорией. Таким образом, развитие теории геометрической
кристаллографии идет в направлении определенного снятия «вырождения» в более емкой и
богатой возможностями концепции.
Итак, обобщенная кристаллография возникает, несомненно, под давлением
новых фактов проявления порядка и симметрии, не вмещаемых представлениями
23 БерналДж. Обобщенная кристаллография // Возникновение жизни. М.: Мир, 1969. С. 336-
350.
Химия как amor Dei
633
классической кристаллографии (как, например, α-спираль полипептидов, спирали
полинуклеотидов, структуры фагов и других химических и биологических систем).
Введение вместо понятия абсолютной идентичности понятия о квазиидентичности
приводит к появлению таких параметров симметрии, которые отсутствуют в
классической концепции. Так, например, в квазикристаллических образованиях
координационное число, характеризующее плотно упакованную структуру, падает от 12
до 9. Как уже подчеркивалось, идентичность объектов лежит в основе симметрии
образуемых ими систем. Замещение простого нерасчлененного понятия об
абсолютной идентичности степенным рядом, представляющим понятие относительной
идентичности, дает иерархизированную градацию симметрических образований,
причем с убыванием степени идентичности симметрия как бы уменьшается. В процессе
такого преобразования понятия идентичности, а тем самым и понятия симметрии,
познание приближается к реальной ситуации, возникающей в современной науке.
Анализ идей обобщенной кристаллографии показывает, что в ходе развития
познания не происходит односторонней асимметризации, поскольку такое развитие
приводит к возникновению новых типов регулярностей и симметрии.
В связи со сказанным выше анализ действия принципов симметрии в химии
нельзя отделять от рассмотрения проблемы развития форм упорядоченности на
химическом уровне самодвижения природы. В специальной философской литературе
весьма подробно рассмотрен по существу только один небольшой, хотя и важный
аспект этой проблемы — возникновение в ходе химической эволюции оптически
активного материала. Иногда в этих работах возникает некоторая терминологическая
неясность, вызванная отождествлением знака оптической оси плоскости
поляризации и L, D-характеристик соответствующих соединений. Однако L, D-характеристики
обозначают не правое и левое вращение плоскости поляризации, а
пространственную конфигурацию соединений, связанных между собой генетическим единством,
причем одна и та же конфигурация, например D, может вращать плоскость
поляризации вправо и влево24. Помимо исследования возникновения оптической
активности в ходе химической эволюции, большой интерес представляют также
исследования других структурных характеристик, взятых на различном уровне химической
организации вещества25.
Значение принципов симметрии в химическом мышлении раскрывается
благодаря историко-логическому анализу таких фундаментальных теоретических
конструкций, как периодический закон Д. И. Менделеева26. В этой связи интересно
отметить, что, ставя перед собой задачу классификации химических элементов
на основе систематического анализа отношений их атомных весов, Д. И. Менделеев
24 См.: Химическая энциклопедия. Т. И. С. 156, а также: Волькенштейн Μ. Ф. Молекулы
и жизнь. М., 1965. С. 109.
25 См.: Происхождение предбиологических систем. М., 1966.
26 Глубокий анализ движения исследовательской мысли Д. И. Менделеева дается в работах
Б. М. Кедрова, а также А. А. Макареня.
634 Раздел пятый
в результате пришел к построению системы элементов, являющейся, по словам Ко-
улсона, «прямым результатом симметрии волновой функции»27. Это означает, что
применение методологии структурного принципа, а следовательно, принципа
симметрии, к исследовательским проблемам, взятым на определенном познавательном
уровне, является сильным эвристическим средством, способным привести к таким
решениям, которые отвечают более глубокому, чем исходный, уровню
теоретического познания.
1975 г.
27 Коулсон Ч. Симметрия // Успехи химии. 1969. Т. 38. № 6. С. ИЗО.
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ КНИГИ
«ГЕНЕЗИС И СТРУКТУРА
КВАЛИТАТИВИЗМА АРИСТОТЕЛЯ»
Habent sua fata libelli... Эту книгу, первое издание которой появилось в начале 80-х
годов прошлого века, я только отчасти могу считать своим личным произведением. Вне
«школы» историков и методологов науки Института истории естествознания и
техники АН СССР (ИИЕТ) тех лет она бы не возникла. Дух этой, условно, школы, можно
даже сказать, всего нашего позднесоветского эпистемологического Sturm und Dranga
ярко передан в книге М. А. Розова, Ю. А. Шрейдера и Н. И. Кузнецовой, рукопись
которой была написана в том же году, что и монография о квалитативизме
Аристотеля1, но опубликована только недавно2. Кстати, один из ее параграфов представляет
собой как раз расширенную рецензию Юлия Анатольевича Шрейдера на мои
аристотелевские (он бы сказал — аристотелианские) штудии3. С любовью вспоминаю
Юлика, как его называла Наташа Кузнецова, человека со вскипающими необычными
идеями, поэта и искателя высшей истины и при всем том замечательного ученого,
математика и науковеда. Другой автор упомянутой книги — Миша Розов, дорогой
Михаил Александрович — увидел в моей «кухонной» интерпретации «физико-хи-
мии» Стагирита подтверждение своей идеи о «репрезентаторе», с помощью которой
он описывал познание.
Физико-химический космос мыслится как обобщенная кухня, — пишет Ю. А. в своей
рецензии, — где кипятятся, жарятся, варятся и пекутся вещества и предметы, чтобы
получить завершенное существование (приобрести необходимые качества). Мир
как кухня — вот самое емкое выражение сути аристотелевского представления
о мире. Кухня — очень емкий и яркий репрезентатор, найденный великим
мыслителем из Стагиры4.
1 В середине 70-х годов прошлого века, когда обдумывались идеи будущей книги, я
определял квалитативизм как теоретизирующее «обговаривание» явлений природы на уровне
феноменов без сведения их к особой ноуменальной предметности. Его структура и генезис
у Аристотеля тогда еще не были исследованы и выявлены.
2 Кузнецова К И., Розов Μ. Α., Шрейдер Ю. А. Объект исследования — наука. М., 2012. С. 9.
3 Там же. С. 391-395. Рецензия: Шрейдер Ю. А. Кухня Стагирита // Химия и жизнь. 1983.
№ 6. С. 79.
4 Кузнецова К К, Розов Μ. Α., Шрейдер Ю. А. Указ. соч. С. 393-394.
636
Раздел пятый
Мне было ближе, чем представление о репрезентаторе, выдвинутое Розовым, понятие
схемы, идущее от Канта и специально разработанное для аристотелевской науки ее
исследователем Ж.-М. Ле Блоном5. Концептуальный мир Стагирита, согласно
французскому ученому, формируется на поддерживающей его схематической триаде
таких базисных структур человеческой реальности, как действие, язык и жизнь, что,
пусть и отдаленно, напоминает идеи Фуко, высказанные в его только что
переведенной тогда мною (вместе с Н. С. Автономовой) книге «Слова и вещи» (1977). Я
упоминаю об этом неслучайно: в моем тогдашнем интеллектуальном мире Мишель Фуко
с его структурализмом и затем постструктурализмом много значил и для работы
как исследователя античного знания. Ведь переводчиком его блестяще написанной
книги я стал, говоря по-аристотелевски, «ката сюмбебекос», то есть по совпадению,
а не сущностно. Ответа на вопрос о причинах обнаруженного и озадачившего меня
в то время разрыва цельности в представлениях Стагирита о качествах6 Ле Блон
не дал (ответ на этот мучавший меня вопрос вообще отсутствовал в тогдашнем ари-
стотелеведении, насколько я мог судить, просмотрев и изучив все, что мне было тогда
доступно), причем проблема качества как специальная тема вообще не интересовала
этого замечательного французского ученого. Но идея о схемах, поддержанная его
интуициями и идеями других исследователей, в том числе и Фуко, помогла мне
ответить на этот кардинальный вопрос. Выявленное расхождение удалось объяснить,
в конце концов, разнородностью схем, лежащих в основании не стыкующихся,
противоречащих друг другу представлений о качествах в Corpus Aristotelicum.
Научная философия, как и сама наука, а предпринятое исследование причин
«расходимости» в представлениях Аристотеля о качествах нужно отнести именно к ней,
делается не в одиночку, а в связке с другими, в режиме интеллектуальных
«перекличек» и «резонансов». Сеть интерсубъективных и междисциплинарных связей в те годы
была в ИИЕТе и вокруг него действительно «креатогенной». Все мы, такие разные,
были однако ориентированы одной собиравшей все наши усилия проблемой.
Перед нами стояла звучащая не только фанфарами побед, но и набатом тревоги загадка
Науки как рискованного антропологического и онтологического, космического
предприятия, генезис, структура и судьба которого нам приоткрывались как неотделимые
от судьбы самого человека как такового. И для ответа на вызов этой объединяющей нас
великой загадки у нас были давно уже апробированные научным сообществом нормы
и средства исследования. Философия тогда для большинства из нас, работавших
в ИИЕТе, означала научную философию. Я только перечислю имена некоторых ученых,
с которыми в 70-80-е годы прошлого столетия работал бок о бок, — В. И. Кузнецов,
М. К. Мамардашвили, П. П. Гайденко и В. П. Гайденко, И. Д. Рожанский, А. П.
Огурцов, Б. А. Старостин, Б. С. Грязнов, А. В. Ахутин, Л. А. Маркова, Н. И. Кузнецова...
5 В тексте журнальной рецензии Шрейдера фраза о репрезентаторе отсутствует.
6 Речь идет о расходимости между концепцией качества в «Метафизике» и «Категориях»,
с одной стороны, и теорией качеств-сил в «Метеорологии IV», а также в биологических
сочинениях — с другой.
Предисловие ко второму изданию книги «Генезис и структура...» 637
Однажды, в конце 70-х годов, я зашел в кабинет заместителя директора ИИЕТа
B. И. Кузнецова и не без чувства облегчения положил на стол объемистую рукопись:
«Вот!». И про себя подумал: «А ведь это можно представить и как докторскую
диссертацию...». Мол, запланированное исследование закончено, результаты получены
(в науке и в научной философии они обязательны и важны), «мавр сделал свое дело».
Название работы — «Генезис и структура квалитативизма Аристотеля» — оказалось
тогда неожиданностью не только для руководителей института, но и для меня самого,
правда, несколько раньше. Ведь в план-карте я писал совсем другие темы («античная
предыстория учения о химических элементах» или что-то в этом роде — точно уже
и не помню). Все ключевые слова титула рукописи и книги возникли в ходе самого
исследования, тогда, когда уже четко определилась его проблема и стали
вырисовываться пути ее решения. Термин «квалитативизм» оказался вообще совершенно
незнакомым для всех7. Было, конечно, понятно, что речь идет о качествах, но
оставалось неясным, почему автор использует этот латинский неологизм? Директор ИИЕТа
C. Р. Микулинский, человек, мягко скажем, идеологически осторожный и
недоверчивый, прежде чем провести рукопись через Ученый совет, решил отдать ее на
рецензию известным специалистам, которым доверял. Ими оказались Василий
Васильевич Соколов и Татьяна Вадимовна Васильева из Института философии. И только
тогда, когда от них были получены положительные отзывы, судьба рукописи была
решена: она станет книгой. И когда она вышла в свет, то постепенно незнакомое,
непривычное слово «квалитативизм»8, на произнесении которого многие поначалу
спотыкались, вонзая в незнакомую вокабулу лишние слоги, вошло в словари и
энциклопедии, стало обиходным термином эпистемологии, истории науки и философии.
Оглядываясь назад, нельзя не заметить, что в те далекие годы сошлось воедино
множество разнородных факторов, что и привело к рождению этой книги. В
частности, мое химическое образование сыграло здесь свою очевидную позитивную
роль. В. И. Кузнецов, мой оппонент на защите кандидатской диссертации, взял меня,
преподавателя философии МГУ, в ИИЕТ именно в сектор истории химии. Не
получив университетского философского образования, я всегда стремился пополнить
свои знания истории философии и вести исследования в этой области и поэтому
неслучайно обратился к античности, науку которой увенчивает фигура
Аристотеля. У Дильса есть книга «Античная техника», с изучения ее я и начал мои штудии.
7 «Слово вроде бы уж очень нерусское, но что здесь придумаешь — "качественничество",
что ли?» (Шрейдер Ю. А. Кухня Стагирита // Химия и жизнь. 1983. № 6. С. 79).
8 Вспоминается написанное в те годы четверостишие: «Нас Марья Павловна послала
на химфак, // Но мы презрели этот факт, // Избрав кино и журнализм // И трали-квали-тати-
визм». Мария Павловна — учительница химии московской школы № 665, журналистом
(журнал «Химия и жизнь», в котором и была напечатана рецензия Шрейдера) и киношником стал
Слава Жвирблис, окончивший несколькими годами раньше нашу любимую ШШП, а потом,
как и я, химфак МГУ Мы оба занимались в школьном химическом кружке под руководством
нашей учительницы химии.
638
Раздел пятый
Я хотел — читатель поймет условность этой фразы — написать как бы химическое ее
подобие, своего рода «Античную химию». И обойти Аристотеля на этом пути было
никак нельзя: в этой теме он — центральная фигура. Химия же есть наука, прежде
всего, о качественной сфере вещественного мира, из которой она исходит и к
которой возвращается как к своей цели, применяя для ее познания количественные,
физико-математические методы. В фокусе ее внимания стоит проблема причинного
объяснения возникновения качеств и, соответственно, способов
целенаправленного управления процессами их изменения, решающих задачу получения веществ
с наперед заданными характеристиками. Логическая цепочка, связывающая химию,
понятие качества и философию в ее античном состоянии, как бы сомкнулась на
выпускнике химфака, ставшем преподавателем философии МГУ и пожелавшем после
пяти лет педагогической работы перейти в академический институт для
научно-исследовательской работы.
Ю. А. Шрейдер, любивший, помнится, все яркое и носивший броские цветные
пиджаки и галстуки, неожиданно для меня опубликовал упомянутую рецензию с
ярким названием — «Кухня Стагирита». В книжной ее версии, принадлежащей перу
трех авторов, приводится большая цитата, но не из «Генезиса и структуры квалита-
тивизма Аристотеля», а из небольшой статьи, вышедшей в свет за пять лет до
публикации книги9. Привлекшая его внимание идея о генезисе учения Стагирита о
качествах-силах (δυνάμεις) из античных ремесленных практик кухни — аптеки — сада
была в этой статье уже лаконично и выразительно сформулирована. И он, и М. А.
Розов, и другие читатели не раз говорили, что отыскать мою главную мысль о
«качественной науке» Стагирита в большой книге с ее дотошными аналитическими
изысканиями трудновато, а вот в короткой статье она ярко и убедительно высказана10.
Я с этим соглашался, но только частично. Ведь на самом деле результаты
проделанного исследования никак не сводятся к идее «кухни» как «репрезентатора» "
аристотелевской науки о мире становления. Эта идея была только одним из его итогов. Ведь
нужно было разобраться в представлениях Стагирита о качествах в целом, показать
9 Качества в картине мира Аристотеля // Природа. № 5. 1977. С. 68-77.
10 Недавно Н. И. Кузнецова попросила у меня копию этой статьи, нужной ей для лекций
по истории и философии науки. Мол, в книге это еще надо найти, а в статье и искать не надо.
11 М. А. Розов вкладывал в представление о «репрезентаторе», как мне кажется, то, что
можно назвать вторым (на это указывает префикс «ре» в ключевом его термине) описанием
познаваемого явления, проясняющим его сущность (Розов М. А. Гносеология культуры. М.,
2015. С. 238-246). В те далекие годы у нас были, хотя бы отчасти, сходные идеи, но выражали
мы их каждый по-своему и шли своими неисповедимыми, порой сходящимися, но и
расходящимися путями. Не только идея практических и иных схем привлекала мое внимание при
продумывании явлений эпистемогенеза. Я говорил тогда и об «образе», «модели», «матрице»,
«метафоре» и «кроссинге» (пересечении) языков познания и т. п. Залог успеха
познавательного предприятия при этом виделся мне в несводимости многообразия когнитивных языков
к единственному привилегированному языку.
Предисловие ко второму изданию книги «Генезис и структура...» 639
их неоднородность, реконструировать связь категории качества с другими
понятиями, разобраться в общем строении представлений великого мыслителя о качествах,
исследовать эпистемологические, логические, онтологические аспекты того, как
мыслятся качества Аристотелем, как они «работают» в разных частях его
энциклопедического учения. Нужно было ответить и на вопрос о генезисе этих представлений,
оценить воздействие различных традиций, сложившихся до Аристотеля, в
частности, на его учение о качествах-силах и т. д. Все это не могло не означать
необходимости систематической реконструкции всего комплекса аристотелевских
представлений о качествах. Речь шла по сути дела о той философской, научной и исторической
загадке, которую мы, не задумываясь, именуем «качеством», не отдавая себе отчета
в том, как это понятие возникало и категориально сформировалось и что в нем
оказалось «закодированным».
И все же умные и чуткие читатели неслучайно обратили внимание прежде всего
именно на идею «кухни», дающую схематический «ключ» к учению Аристотеля о
качествах-силах. Как же эта идея явилась мне? Однажды, весной 1976 года, я решил
уехать из Москвы с ее рассеивающей суетой, чтобы погрузиться в аристотелевские
проблемы. Так я оказался в пансионате академии в Звенигороде, благословенном
месте наших совместных кооперативных эпистемологических «мозговых штурмов».
Отдыхавших было немного. Тишина и покой полные. Помню, местом работы я
избрал не свой тихий номер, а крышу пансионата, где не было даже шума от
утренних уборщиц. И там, созерцая макушки высоченных елей на высоком берегу реки,
слушая шум покачивающихся веток, я пытался решить загадку генезиса учения
Аристотеля о δυνάμεις в его «Метеорологике IV». И это удалось! Привлекшая
внимание Ю. А. Шрейдера, Н. И. Кузнецовой, М. А. Розова статья была написана на пан-
сионатской крыше за несколько дней. «Изюминка» была найдена значительно раньше,
чем испечена сама «булка», объемистая и в то же время плотная и местами вязкая,
так что обнаружение в ней «изюма» требует известных усилий.
В тяжелом монолите идеологически выхолощенной советской философии
«вентиляционные окна» прорубались в близкой, но не совпадающей с ней
институционально сфере — в истории и методологии науки. Этот тренд обозначился еще
в начале 60-х годов, если не раньше, и к началу 80-х, когда вышла книга, он
набрал полную силу. Молодежь, устремленная к обновлению и расширению
гуманитарного знания, не могла книги не заметить. Вскоре появились филологически
подготовленные молодые исследователи, самым непосредственным образом
продолжившие начатые автором «Генезиса и структуры квалитативизма Аристотеля»
исследования античной «физико-химии» качеств и вокруг нее. Назову в качестве
примера М. А. Солопову, переведшую трактат комментатора Аристотеля
Александра Афродисийского «О смешении» и написавшую комментарий к нему12. Это
исследование непосредственно продолжило тему «миксиса», которой посвящен раздел
12 Солопова М. А. Александр Афродисийский и его трактат «О смешении и росте» в
контексте истории античного аристотелизма: Исследование, греческий текст, перевод. М., 2002.
640
Раздел пятый
в «Генезисе...». Вещественно-качественно-динамические представления Эмпедокла
в их глубинном архаизме, отделяющим их от перипатетической традиции, были
изучены О. Б. Федоровой в стенах всё того же незабвенного ИИЕТа13. Она же
занималась и медицинскими авторами Гиппократовского корпуса, внесшими заметный
вклад в генезис аристотелевских представлений о качествах-силах. Можно назвать
и другие имена представителей пытливой, склонной к историко-филологическим
изысканиям молодежи, для которых эта книга была значимым событием. В
небогатую отечественную аристотелиану она вошла как заметное явление, что нашло
отражение в энциклопедиях и словарях, появившихся после ее выхода в свет.
Книгу заметили и за рубежом. Известное голландское издательство (Е. J. Brill),
специализирующееся в первую очередь на издании исследований по античности,
предложило ее опубликовать, полагая, что, возможно, она уже переведена у нас на
французский язык (книгу я завершил развернутым резюме по-французски). Но перевод
большой книги стоит немало, и издательство на это не пошло. Однако статья
«Структура аристотелевского квалитативизма», подготовленная на основе проделанного
исследования, была опубликована в ведущих философских журналах Франции14. По
материалам книги были и другие публикации в разных странах15.
Итак, книга вышла и пошла своим путем уже независимо от автора. Многие
спрашивали, почему я не продолжил исследование эпистемологических и
исторических аспектов «качественного знания»? Правда, несколько публикаций,
продолжающих эту тему, вышли, но уже тогда, когда интерес и внимание ее автора обратились
к другим «материям»16. Да и научное сообщество, с энтузиазмом воспринявшее
пионерскую статью в «Природе» (1977), несколько охладело к моему «квалитативизму»,
считая, что главное об этом сюжете уже сказано. Конечно, какие-то моменты при
13 Федорова О. Б. «Элементы» Эмпедокла (текстологический анализ фрагментов) //
История науки в философском контексте. СПб., 2007. С. 384-473.
14 Vizguine V. R La structure du qualitativisme aristotélicien // Les Études philosophiques. 1991.
No. 3. P. 355-368. Эта же статья опубликована и в другом журнале: Revue philosophique
de la France et de l'étranger. 1993. No. 2, av.-juin. P. 223-237 (выпуск посвящен Аристотелю).
По-русски не публиковалась.
15 Приведу некоторые из них: Hippocratic Medicine as a Historical Source for Aristotle's Theory
of the δυνάμεις // Studies in History of Medicine. 1980. V 1. IV. No. 1, march. P. 1-12; Evolucion
de la idea de sustancia quimica de Tales a Aristoteles // Llull. Revista de la Sociedad Espanola
de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. 1991. Vol. 14. P. 603-644.
16 К проблеме генезиса учения Аристотеля о δυνάμεις (Meteor. IV) // Вестник древней
истории. 1981. № 3. С. 134-141; Аристотелевская теория тяготения: качественный подход //
Природа. 1982. № 4. С. 97-104; Научный текст и его интерпретация // Методологические проблемы
историко-научных исследований. М., 1982. С. 320-335; «Метеорология» Аристотеля и
современная наука // Вопросы истории естествознания и техники. 1986. № 1. С. 157-160; К анализу
квалитативистского типа рациональности: случай Аристотеля // Историко-философский
ежегодник 96. М., 1997. С. 5-15.
Предисловие ко второму изданию книги «Генезис и структура...» 641
этом уточнялись. Но главное, но существенное было действительно сделано. И уже
только поэтому надо было менять тему, хотя неиспользованного материала по
Аристотелю у меня оставалось предостаточно. Но познавательный «эрос», обращенный
на аристотелевский квалитативизм, реализовался.
Для настоящего издания текст книги отредактирован, слегка сокращен и в то же
время незначительно дополнен за счет краткого рассмотрения апорий
аристотелевской концепции качеств-сил (гл. VI, 1).
«КНИГИ КОЙРЕ СТАЛИ ДЛЯ МЕНЯ
НАСТОЯЩИМ ПОТРЯСЕНИЕМ..·»:
БЕСЕДА С АЛЕНОМ СЕГОНОМ
Ален Филипп Сегон (1942-2011) — французский ученый, классический филолог
и историк науки, специалист в области истории астрономии и античного
платонизма, переводчик, комментатор и издатель античных авторов, генеральный
директор парижского издательства «Les Belles Lettres» — является руководителем
научных исследований (le directeur de recherches) при Национальном центре научных
исследований (CNRS). Вместе с Ж.-П. Верде и М. Лернером в группе по изучению
древней астрономии при Парижской обсерватории он занимается подготовкой к
новому критическому изданию труда Николая Коперника «О вращениях небесных
сфер» в 4 т. Им осуществлен перевод комментариев и написана вступительная
статья к монументальному труду Иоганна Кеплера «Космографическая тайна»
(Mysterium cosmographicum, 1596: Johann Kepler. Le secret du monde. Introduction,
traduction et notes de Alain Segonds), подготовлены и изданы труды Тихо Браге («Трактат
об инструментах»), Урсуса и сочинение Кеплера «Против Урсуса», издан том
документов процесса против Дж. Бруно (перевод и примечания). Перечислим основные
работы Алена Сегона в области истории платонизма: Иоанн Дамаскин.
Комментарий к «Пармениду» Платона в 2 т. (1997); Порфирий. О воздержании. Кн. IV (1995);
Ямвлих. Жизнь Пифагора (1996, вместе с Л. Бриссоном); Прокл. Комментарий к «Ал-
квиаду» в 2 т. (1985-1986); Диоген Лаэртский. Жизнь Платона (1999); Прокл.
Комментарий к «Пармениду» (т. 1, вместе с К. Стилом). Перечисленные книги, впрочем,
лишь часть огромной работы А. Сегона как издателя, внимательно читающего
практически все книги по истории науки и античной философии, выходящие в его
издательстве. Ален Сегон — руководитель ряда книжных серий, таких как «Гуманизм
и наука», «Золотой осел» (эта серия включает разнообразные работы современных
историков и философов). Издательская деятельность Алена Сегона поразительна
и по своему объему, и по тщательности работы. Восхищаясь его беззаветным —
редким в наши дни — служением науке и культуре, любуясь замечательными книгами
его издательства, я, однако, хочу сделать одно-единственное замечание,
содержащее долю критики. В издательстве, руководимом Аленом, есть «восточные» серии
(«Арабский мир», «Китайский мир», «Персидский мир», «Индийский мир»), есть
специализированные «западные» серии («Английский театр Ренессанса»,
«Итальянская библиотека» и т. п.), но нет ни одной серии, посвященной русской науке
и культуре. Конечно, Ален сказал бы мне, что для этих целей существуют другие
«Книги Койре стали для меня настоящим потрясением...» 643
издательства, например в Лозанне издательство «L'Age d'Homme»,
специализирующееся на проблемах славянской культуры вообще и русской культуры в частности.
Да, это так. Но все-таки наука и философия России мало представлены в
лозаннском издательстве. И я должен заметить, что нам гораздо лучше известны работы
французских и других западных коллег, чем наши работы известны им.
Асимметрия здесь налицо.
19 апреля 1988 г., оказавшись впервые в Париже в разгар горбачевской
перестройки, я был приглашен Центром Александра Койре на семинар профессора Ран-
для. И вот я в небольшом зале № 801 на восьмом этаже бетонного билдинга Дома
наук о человеке. Большие окна, как у нас в Гуманитарном корпусе МГУ. Внизу —
бульвар Распай, перпендикуляром протянувшийся к Монпарнасу. Профессор
истории и философии науки Кембриджского университета Ник Джардин выступает
с докладом «Как надо писать историю науки? Дебаты и споры в англосаксонском
мире». Тема эта в те годы активно и даже с энтузиазмом обсуждалась и в нашем
сообществе историков и философов науки, и мне было что сказать в связи с
прослушанным докладом. После его обсуждения ко мне подходит симпатичный
улыбающийся француз и, сказав, что ему интересно узнать, что делается у нас в истории
науки, приглашает меня к себе в гости. Это и был Ален Сегон, пришедший на
доклад своего английского друга. Так началось наше знакомство, вскоре перешедшее
в тесные дружеские отношения.
В один из последних приездов Алена Сегона в Москву мы с ним встретились
и побеседовали. Беседа состоялась в Москве 14 января 2003 г.1 Основными темами,
лучше сказать — ведущими героями нашей беседы, стали замечательные фигуры
в истории науки и философии XX в. — Александр Койре (1892-1964) и о. Андре-Жан
Фестюжьер (1898-1982).
В. В.: У нас сейчас происходит своего рода ренессанс Койре. Я имею в виду
издание для массового читателя переводов его книг. Назову эти книги: Койре А.
Мистики, спиритуалисты, алхимики Германии XVI в. Долгопрудный: Аллегро-Пресс,
1994 (пер. и автор послесл. А. М. Руткевич); Койре А. От замкнутого мира к
бесконечной Вселенной. М., 2001. Ранее был издан сборник: Койре А. Очерки истории
философской мысли: О влиянии философских концепций на развитие научных теорий.
М.: Прогресс, 1985 (пер. Я. А. Ляткера, общ. ред. и предисл. А. П. Юшкевича, послесл.
А. С. Черняка). Разумеется, все эти издания охватывают лишь небольшую часть
огромного творческого наследия Койре. Но для широкого читателя именно они,
пожалуй, наиболее интересны, чем и обусловлен их выбор. «Галилеевские этюды» или
«Астрономическая революция: Коперник, Кеплер, Борелли» у нас известны, и
хорошо известны, специалистам — историкам и философам науки. Существует
интерес массового читателя и к трудам Койре как историка русской мысли. Совсем
недавно был издан перевод его книги «La philosophie et le movement national en Russie
1 Перевод сделан мной, a госпожа Э. Анри помогла в расшифровке фонограммы.
644
Раздел пятый
au debut du XIX siècle» (P., 1929)2. Однако сама эта область у нас широко
представлена другими именами, возможно даже и более интересными, чем Койре,
нашедший себя все же в другом амплуа — как историк научных идей в их взаимодействии
с идеями философскими. Мое личное мнение таково: из работ Койре первого
периода его творческой деятельности (до 30-х годов, когда он целиком погрузился в
историю науки и особенно в проблемы научной революции XVII в.) следует прежде всего
перевести его книгу о Якове Бёме, интерес к которому сейчас у нас очевиден, но при
этом отсутствуют научные исследования его, скажем так, «экстравагантного» миро-
видения: книга Герхарда Вера «Якоб Бёме, сам свидетельствующий о себе и о своей
жизни» (1998) в известной биографической серии, издаваемой издательством «Урал
LTD», чересчур и кратка и популярна.
Ален, Койре для нас не только выдающийся французский историк научных
и философских идей, но и в некотором смысле представитель русской культурной
традиции. Людей, которые его знали, уже нет с нами. Я имею в виду прежде всего
А. П. Юшкевича, И. Б. Погребысского, В. П. Зубова... Классиков советской истории
науки, можно сказать. Поэтому я прошу тебя рассказать о своих личных встречах
с Койре, если они, конечно, были.
A. Сегон: Я видел его всего один раз.
B. В.: Только один?
А· С: Да. Он был тогда уже болен лейкемией, которая в конце концов и унесла
его в могилу. Я видел его зимой перед его смертью. Мне тогда шел 22-й год.
В. В.: Он умер в 1964 году.
А. С: Да. А я видел его зимой 63-го, когда он в последний раз читал в Париже
лекции. Один из моих друзей сказал мне, что надо пойти его послушать. Доводов
я не понял, речь должна была идти о естественной теологии английских ньютони-
анцев XVII века, — эта тема для меня была лишена абсолютно всякого интереса.
В то время, будучи классическим филологом, не больше и не меньше, я занимался
совсем другими вещами. Я слушал лекции Фестюжьера, мы с ним тогда уже работали
над Проклом, и у меня начал развиваться вкус к неоплатонизму. Я не мог тогда себе
представить, что со временем у меня появится интерес и к чему-то другому. Иначе
говоря, в душе я уже был неоплатоником. Конечно, если бы мне кто-нибудь тогда
объяснил, что английские философы, о которых должен был говорить Койре, были
кембриджскими платониками, то это меня бы заинтересовало. Но мне никто об этом
не сказал. И мой друг, посещавший лекции Койре, меня в буквальном смысле
силком затащил туда. И вот мы пришли. Был уже вечер. Лекция продолжалась с
четырех до шести в 5-й секции Высшей практической школы (Койре тогда возглавлял эту
секцию), но я пришел только к пяти. В маленькой комнатке сидело шесть-семь
человек, не больше. В первом ряду — о. Костабель и еще один монах-доминиканец, его
имя я уже не могу припомнить.
2 Койре А. Философия и национальная проблема в России в начале XIX века / Пер. с франц.
А. М. Руткевича. М.: Модест Колеров, 2003. 304 с.
«Книги Койре стали для меня настоящим потрясением...» 645
В. В.: Может быть, Франсуа Рюссо?
A. С: Нет, хотя Рюссо там был тоже. Но тогда мы с ним еще не были знакомы.
Рюссо — это настоящий гений. Он был учеником Койре на протяжении многих лет.
B. В·: Я с ним встречался и беседовал в тот же самый приезд в Париж, когда
познакомился с тобой. В его офисе на рю Месье (то есть на улице «Брата короля»). Он
произвел на меня впечатление поразительного эрудита, совершенно
исключительного, в высшей степени продуктивного, организованного и целеустремленного
служителя Науки и ее Истории. Он мне передал часть библиографии своих работ —
и каким же необъятным был этот список! Правда, в основном, помнится, это были
рецензии.
A. С: Интересно, что аудитория Койре процентов на шестьдесят состояла из
католических священников. И это по-настоящему удивительно. Притом что Койре,
я уверен, был агностиком. Я не думаю, что он был религиозен и вопросы религии
сильно его интересовали. У меня нет тому никаких доказательств, но у меня всегда
было такое впечатление. Однако его приходили слушать именно католические
священники, которые искали — в той мере, в какой это возможно — нового альянса
между наукой и верой... Среди них был о. Костабель, иезуит, о. Рюссо,
доминиканец, и много других, имен которых я уже не помню. Именно они составляли основу
аудитории Койре. И уже на этом фоне появилась парочка «нормальных»
французов, мирских. Клавлен3, например. Но в тот раз его не было. Кроме того, там бывали
и некоторые, как говорится, «случайные» слушатели, приходившие послушать три
лекции, пять лекций, десять... Среди них как раз и был мой друг, алжирец по имени
Зелик Зулим, бербер, изучавший философию в Париже. Он совершенно
самостоятельно обнаружил курс Койре и был им очарован.
Так вот, когда мой друг затащил меня туда в декабре 1963 г., я, признаюсь прямо,
ничего не понял. Койре говорил слишком тихо. Из-за болезни он был очень слаб
и бледен как покойник. Я, кажется, что-то записал, потом мы могли обмениваться
нашими записями, и таким образом я смог что-то понять, хотя не могу сказать, чтобы
меня это сильно вдохновило. Но в феврале следующего года он уже не мог
продолжать лекции и совсем уже скоро, то ли в феврале, то ли в марте, умер от лейкемии...
B. В·: Он умер 28 апреля.
A. С: Да... А я продолжил свои филологические занятия. Но тут в моей жизни
произошел внезапный поворот. Его спровоцировал Фестюжьер, убедивший меня
в том, что надо заниматься историей науки.
B. В.: Так заняться историей науки — это совет Фестюжьера?
А. С: О да! Кто бы мог подумать, что история науки стоит усилий, что в этой
области может найтись дело для молодого ученого! Но он мне рассказал о ней
столько интересного, что я вспомнил о Койре. И тогда, в 1966 г., я прочитал «Etudes
Galiléennes». Это было настоящее потрясение! Я понял, что передо мной книга
3 Морис Клавлен был профессором Сорбонны. Особого внимания заслуживает его книга
о Галилее: Clavlin M. La philosophie naturelle de Galilée. Paris, 1968.
646
Раздел пятый
абсолютно гениальная, и после этого перечитал практически все написанное Койре.
Так что, встретившись с ним один-единственный раз и почти не восприняв его слово,
я все-таки оказался под его влиянием. И он сыграл большую роль в моей жизни. Даже
две больших роли. Вторая была связана с тем, что он основал в Париже свой Центр
исследований по истории науки и техники, Центр Койре. (Изначально этот центр
существовал при 6-м отделении Высшей практической школы, а возглавляли его Рене
Татон и о. Пьер Костабель.) А интерес к истории науки свел меня в этом центре с Ко-
стабелем, и благодаря ему я начал заниматься историей астрономии, физики и
математики XV, XVI, XVII веков. И прежде всего благодаря Костабелю я понял
значение платонизма и неоплатонизма.
В. В.: В истории науки?
A. С: Да, и в особенности именно этого периода. И как раз именно в этих
науках. Костабель поймал меня на крючок, если можно так сказать.
B. В.: И тем самым ты по своим интересам и даже по убеждениям приблизился
к позиции Койре, который в своих исследованиях научной революции XVII в.
показал тождество математизации природы, математического подхода к ее познанию
и философского платонизма. Так, например, упоминая Галилея и его старших
современников, он подчеркивает, что для них «математизм был синонимом платонизма»4.
A. С: Я тоже обратил внимание, что Койре всегда настаивал на платонических
аспектах всего предприятия по математизации мира, каковым оно являлось в
астрономии, в физике, да где угодно. В этом вся сущность платонизма, тут уж ничего не
поделать, какова бы ни была его природа, его истина. Это, впрочем, совсем другая
история. А благодаря о. Костабелю произошло второе, после Прокла и неоплатоников,
важнейшее для меня открытие: а именно открытие Кеплера. Костабель познакомил
меня с его «Космографической тайной», и так я стал интересоваться Кеплером, всем
его окружением, наконец, и Коперником, и с тех пор так и пребываю в этом круге.
И не думаю выходить из него. Так что с 60-х годов я разрываюсь между античным
неоплатонизмом, включая герметизм Гермеса Трисмегиста, — то есть Проклом, Ма-
рином, Порфирием, Сирианом, Филопоном, Дамаскием, — и возрожденческим, ке-
плерианским. Кстати, сейчас меня очень увлек Тихо Браге. И я надеюсь скоро
показать, что он был не менее велик и важен...
B. В.: Хотя и менее известен, чем Кеплер и Коперник...
A. С: Он менее известен, но не менее важен. Хотя и не оставил такого
наследия, как они.
B. В.: К тому же его система была, скажем так, несколько половинчатой.
А. С: У нее есть такая репутация: дескать, ни то ни сё. И с позиций системы
Коперника, и с позиций системы Птолемея о нем говорят лишь в самых
пренебрежительных выражениях. Дело дошло до того, что в XX в. в учебниках по истории астрономии
Тихо Браге посвящали всего несколько строк. Его там представляют эдаким
чудаком, который сделал доброе дело, собрав множество наблюдений, а потом, мол, ему
4 Койре А. Очерки истории философской мысли... С. 145.
«Книги Койре стали для меня настоящим потрясением...» 647
пришла в голову счастливая мысль передать их Кеплеру. И это всё. А в
действительности это был величайший ученый, и его влияние на современников было огромно.
Что же касается моих нынешних интересов, — после того, как я изучил влияние
платонизма на Кеплера, — то это прежде всего две сверхновых. Одна из них
взорвалась в 1572, а вторая — в 1604 г. Это были два крупнейших астрономических
события в ту эпоху, которые за тридцать два года между ними совершенно преобразили
всю картину мира. Первую из них наблюдал Тихо Браге, вторую — Кеплер. Первая
дала повод для колоссальной литературы по всей Европе, ставшей теперь доступной
во многом благодаря моим переводам. Как ни странно, вторая привлекла намного
меньше внимания. Видимо, идея знака, данного Богом людям, идея некоего
предзнаменования оказалась тогда уже изжита. И если в 1572 г. практически все были готовы
искать эсхатологический подтекст появления на небе этой звезды, то в 1604-м —
желающих уже почти не оказалось. Правда, такие попытки делались, но исключительно
астрологами. Колоссальная важность этих двух сверхновых заключается именно
в том, что они стали достаточным основанием, чтобы подвергнуть сомнению и
капитальному пересмотру всю фиксистскую космологию той эпохи, а значит — дать
дорогу новым идеям.
В. В.: Идеям платоническим? Ведь небо Платона вроде бы не менее фиксировано,
неизменно и божественно, чем аристотелевский «уранос», — точнее, его надлунная
часть, имеющая «более ценную природу».
A. С: Дело в том, что для платоников все эти открытия не были столь
ошарашивающими, как для аристотеликов. Для Кеплера математические структуры гораздо
более основательны и глубоки, чем структуры восприятия, а также и гораздо
более реальны и истинны. Как следствие, на мой взгляд, для платоника тут все не так
страшно, как для аристотелика, для которого не может быть никакой скрытой
структуры. Аристотелевский образ мысли был если не вытеснен совсем, то сильно
потеснен математическим, то есть восходящим к Платону и пифагорейцам, подходом. Этот
решительный поворот произошел именно между 1572 и 1604 годами. По поводу
первой сверхновой я нашел, кажется, 90 трактатов, около 100 астрономических
сочинений и что-то порядка 80 предсказаний, истолкований и т. п.
B. В.: Ален, меня давно занимает одно противоречие, обнаруженное мною в
текстах Койре. Оно связано с вопросом о влиянии идеи множественности миров на
научную революцию XVII в. Изложу все по порядку. Сначала скажу о самом факте
такого противоречия. В его работе «Пустота и бесконечное пространство в XIV веке»,
впервые опубликованной в сборнике «Études d'histoire de la pensée philosophique» (P.,
1961. P. 33-84) и переведенной y нас в упомянутом издании (Очерки истории
философской мысли... С. 74-108), во введении речь идет о «громогласных космологических
осуждениях», прозвучавших от имени Этьена Тампье, епископа Парижа, заявившего,
среди прочего5, что существование множественности миров возможно. Осуждению,
5 Всего было осуждено 219 тезисов, которых якобы придерживались некоторые
преподаватели факультета искусств (соответствующего по нынешним представлениям философ-
648
Раздел пятый
таким образом, подверглось мнение о том, что Бог-творец не может создать
множества миров, что мир существует лишь в единственном экземпляре, что
подкреплялось авторитетом Аристотеля, отрицавшего множественность миров, принятую
атомистами. В своем исследовании проблемы множественности миров я не мог пройти
мимо этого события, и хотя я не придал ему того решающего значения, на котором
настаивал Пьер Дюэм, тем не менее в моей книге говорится, что такое осуждение,
прозвучавшее с высокой кафедры, «стало, как это ни парадоксально, официальным
приглашением ученых к критике Аристотеля с его концепцией единственного мира»6.
Понятно, что такое «приглашение», даже если на него фактически откликнулись
немногие, пусть даже единицы, не могло не содействовать (как именно и в какой
степени — это уже совсем другой вопрос) обновлению физической и космологической
мысли, а именно ее инфинитизации. Это я и признал в общих чертах в своей работе.
Теперь я возвращаюсь к Койре. На с. 78 своей статьи (в упомянутом издании),
говоря о событиях 1277 г., он замечает: «Гипотеза о множественности миров взрывала
наиболее фундаментальные устои физики; действительно, как в этом случае быть
с понятием естественного места элементов?» Но если теперь заглянуть в примечания
к этой статье, то там на с. 99 мы прочитаем следующее: «Множественность миров
и возможность движения "нашего мира"... не играли никакой роли в формировании
фундаментальных понятий науки Нового времени, какое бы значение они ни имели
сами по себе». Противоречие в высказываниях Койре кажется очевидным. Я могу
объяснить себе его только отчасти следующим образом. Койре признает «взрывной»
характер плюралистической идеи в космологии как идеи абсолютно отвлеченной, он
признает ее роль в обновлении мысли, но в чисто теоретическом плане,
аргументируя против радикального тезиса Дюэма в историческом ключе: нереальную историю
научной революции осуждения, провозглашенные парижским епископом, никакого
воздействия не оказали. Собственно, здесь и проблема: как положение о
всемогуществе Творца, столь очевидное в логическом и теоретическом плане, в
теологическом и философском, не было совершенно услышано учеными XIII-XIV веков?
Английский историк Мак-Колли говорит: «Признание мощи (potentia) божества в связи
с протяженностью и природой универсума не начинается со средневековых ученых,
хотя они и сделали из него важную и влиятельную концепцию»7. Что это — слепое,
совершенно некритическое следование за Дюэмом, и не более того? Или это
влияние не касается науки, ограничиваясь одной лишь теологией?
скому). Их полное современное издание см.: La condemnation parisienne de 1277 / Nouvelle
édition du texte latin, traduction, introduction et commentaire par David Piché. P.: Vrin, 1999.
Оценку роли Тампье в формировании «средневекового интеллектуализма» см. в: Ален де Ли-
бера. Средневековое мышление. М.: Праксис, 2004. Там же обсуждается и причастность к
осужденным тезисам Сигера Брабантского и Боэция Дакийского.
6 Визгин Buk. П. Идея множественности миров. Очерки истории. М., 1988. С. 251.
7 Me Colley G. The seventeenth-century doctrine of a plurality of worlds // Annales of Science.
1936. Vol. 1. No. 4. P. 394, n. 40. См. также: Визгин ß. П. Идея множественности миров. С. 118.
«Книги Койре стали для меня настоящим потрясением...» 649
Проверив все «досье», приготовленное Дюэмом для подкрепления своего тезиса,
Койре нашел все же одного ученого, у которого, как он пишет, ему «удалось
обнаружить последовательное и сознательное утверждение о реальности бесконечного
пространства»8. И Койре поэтому и называет его «великим мыслителем»9. Вот почему
трудно согласиться, что упомянутые осуждения не сыграли здесь ровным счетом
«никакой роли»10. Ведь Койре сам же признает, что Томас Брадвардин воспользовался
«представившимся благодаря осуждению 1277 г. случаем»11. Итак, налицо
противоречие: слова «никакой роли» явно не сочетаются со словом «лишь» по отношению
к Брадвардину. Может создаться впечатление, что Койре тезис Дюэма не устраивал,
так сказать, стратегически и идеологически. Однако, будучи выдающимся историком,
он все же признает частичную его правоту, пусть только в микромасштабе одной-е-
динственной личности12. На мой взгляд, в споре Койре с Дюэмом включились в
действие метаисторические предпосылки историка^ о чем мне приходилось размышлять13.
Разумеется, они присутствуют в полной мере и у самого Дюэма, реабилитировавшего
средневековую мысль показом ее саморазрушения, того, как она сама по себе, своими
собственными усилиями, в том числе благодаря теологам и католической церкви,
освобождалась от сковывающих научную мысль рамок аристотелизма. У Койре была
совсем другая сверхзадача (метаисторическая предпосылка), чем у Дюэма: он стремился
показать решающую роль возрождения платонизма в формировании новой науки.
Поэтому его привлекали прежде всего такие фигуры, как Коперник, Кеплер, Галилей.
Койре героев научной революции ищет среди деятелей платонизирующего
Возрождения, а Дюэм — аристотелианского средневековья. Но и те, и другие получают у обоих
историков ореол значительности через их связь с наукой, причем, конечно, новой.
Итак, Ален, я не медиевист и уже поэтому сознаю свою собственную позицию
в данном споре в значительной степени как позицию «над схваткой». Меня как
философа интересуют как раз базовые дивергенции выдающихся историков, ситуации,
8 Койре. Очерки... С. 79
9 Там же. С. 101.
10 Там же. С. 99.
11 Там же. С. 79.
12 Финал статьи, в котором он говорит о Брадвардине, красноречиво о том свидетельствует,
показывая высоту позиции Койре и ее внутреннюю убедительность: «Не под влиянием
одних лишь теологических интересов, равно как и в зависимости от одних лишь чистых
научных интересов, но как следствие столкновения в одном уме теологического понятия
божественной бесконечности и геометрического понятия пространственной бесконечности была
сформирована парадоксальная концепция реальности воображаемого пространства, в
котором три века спустя разрушились и исчезли небесные сферы, скреплявшие воедино
прекрасный Космос Аристотеля и средневековья» (С. 99). Так что слова «никакой роли», как de facto
признает сам Койре, обратившись к Брадвардину, есть не более чем свидетельство
полемического запала.
13 См. в этой книге выше статью «История и метаистория», с. 362-379.
650
Раздел пятый
подобные этой, когда то, что один историк (Койре) счел пустой, нереализовавшейся
возможностью, другой историк (Дюэм) счел, напротив, реализовавшейся
возможностью, то есть исторической действительностью. Скажи, что ты думаешь о
проблеме множественности миров в связи с указом Тампье? Кто все же, на твой взгляд,
ближе к истине в этом споре? Какие новые моменты в историографии этого сюжета
раскрылись за последние годы?
А. С: Я думаю, что замечание Койре о том, что идея множественности миров
не сыграла никакой роли, относится именно к осуждению 1277 г., в котором Пьер
Дюэм усматривал исток современной науки. И как только представился удобный
случай, Койре сразу и решительно отверг тезис Дюэма: «Идея множественности миров
никоим образом не играла никакой роли в формировании новой науки». И это
справедливо в отношении всего казуса 1277 г. Дальше, когда Койре говорит, что
«гипотеза множественности миров взрывала наиболее фундаментальные устои физики»,
он переходит уже к другому сюжету, и смысл у него уже немного другой. Но я думаю,
что его первое высказывание — что никакой роли в генезисе новой науки идея
множественности миров не сыграла — ближе к истине. Равно как и по поводу
осуждения 1277 г. я не думаю, да и никто сегодня уже не думает, что оно могло бы служить
исходной точкой для возникновения современной науки, как утверждал Дюэм. Это
полнейшая нелепица. Конечно, история этого осуждения достойна отдельной книги,
за ней стоит колоссальная литература. И дело не только в том, что монсиньор
Тампье в 1277 г. провозгласил тезисы, которые следовало бы считать еретическими...
Одна из многих проблем, скрывающихся здесь, — необходимо понять, а на каком
основании он так поступил, кто дал ему такое право? Для кого он это делал? И тут
до сих пор нет особой ясности. Значительную часть осужденных предложений
невозможно атрибутировать, а если и возможно, то с таким большим количеством
всяких «может быть», что наличие здесь серьезной исторической проблемы очевидно.
Но что меня в этой истории всегда удивляло, так это сам Дюэм. Ведь его карьера
историка начинается с книги о Леонардо да Винчи 1906 г.14 Но я знаю, что еще в 80-е гг.
XIX в. он интересовался тезисами Тампье и придавал событиям 1277 г. огромное
значение. И я никак не могу понять, почему человек такого масштаба ухватился именно
за это осуждение. Ведь он не мог не знать, что Парижский университет в средние века
не раз издавал подобные осуждения. Собранные вместе, они образуют два
громадных тома. Я обнаружил совершенно случайно, после встречи с молодым итальянским
исследователем Лукой Бьянки, направившим меня по нужному следу, что осуждение
1277 г. присутствует во всех сборниках по каноническому праву, издававшихся с XVI
по XIX в.15 Первое, на что обращал внимание католический кюре, изучающий
отношения между верой и, скажем, светской культурой, — именно это самое осуждение.
14 Речь идет о первом выпуске его «Этюдов»: Duhem R Etudes sur Léonard de Vinci: Ceux
qu'il a lus et ceux qui Tont lu. Paris, 1906.
15 Бьянки изложил результаты своих исследований в блестящей книге: Bianchi L. Il vescovo
е i filosofi: La condanna parigina del 1277 e Tevoluzione deiraristotelismo scolastico. Bergamo, 1990.
«Книги Койре стали для меня настоящим потрясением...» 651
И, просматривая каноническую литературу, выпущенную задолго до Дюэма, можно
заметить, как много там говорилось о нем. Потом по его поводу была бурная
полемика, ставившая своей целью выяснить смысл действий Этьена Тампье. Они стали
приобретать какую-то мистическую окраску. Но только сейчас, при содействии
одного молодого квебекского исследователя по имени Клод Лафлёр, наконец-то было
осуществлено вразумительное издание текста всего осуждения на основе рукописей
XIII в.16 А ведь с незапамятных времен новые издания делались со старых, и ты легко
можешь себе представить, сколько ошибок было в изданиях XIX в., когда в этом
тексте никто ничего не понимал. Так что в вопросе об осуждении 1277 г. следует быть
очень осторожным, к тому же епископы Парижа повторяли его пять или шесть раз
до 1347 г., и именно это подтверждает, что оно «никоим образом не играло никакой
роли». Действительно, тексты Аристотеля продолжали читать, уделяя особое
внимание тем местам, где он входит в противоречие с христианской идеей о сотворении
мира, бессмертии души, искуплении грехов и т. п. И Койре уже в 30-е гг. (а именно
тогда и была написана статья) начал понимать, что осуждение 1277 г. не имело того
значения, которое ему приписал Дюэм.
В. В.: Не имело такого значения — я с этим согласен. Безусловно, Дюэм, мягко
говоря, преувеличил значение события 1277 г. для генезиса новой науки. Но все же с тем,
что оно «никоим образом» не повлияло на изменение мышления, ведущее в конце
концов к его существенным преобразованиям, трудно согласиться, — тем более что сам
Койре признал такую связь, пусть в одном только случае, в случае с Брадвардином.
Однако, Ален, я думаю, пришло время перейти ко второму фокусу нашей
беседы — к отцу Андре-Жану Фестюжьеру, которого у нас знают несравненно меньше,
чем Александра Койре. Конечно, имя этого замечательного ученого-антиковеда
известно специалистам. Его книги, пусть далеко и не все, имеются в наших
библиотеках. Занимаясь проблемой вклада герметической традиции в генезис науки Нового
времени, я не мог пройти мимо них. Ну, прежде всего надо указать на его
комментированный перевод «Герметического корпуса»17, затем на его фундаментальный труд
«Откровение Гермеса Трисмегиста»18. Кроме того, я не могу не упомянуть его
прекрасной книги «Герметизм и языческая мистика»19, много мне давшей для понимания гер-
метизма как синкретического и уже поэтому очень сложного исторического явления.
Кстати, в этой книге он предложил, на мой взгляд, многое проясняющую
классификацию видов языческой мистики: мистика теоретическая (ее образец дал Плотин,
сказавший: «Я стараюсь божественное во мне вознести к божественному во Всем»); мистика
16 Имеется в виду уже упоминавшееся издание 1999 г.: La condemnation parisienne de 1277...
(см. сноску 4).
17 Corpus Hermeticum: in 2 vols / Texte établi par A. D. Nock et traduit par A.-J. Festugière. Paris,
1946.
18 Festugière A.-J. La révélation d'Hermès Trismégiste: in 4 vols. Paris, 1950-1954.
19 Festugière A.-J. Hermétisme et mystique païenne. Paris: Aubier-Montaigne, 1967.
652
Раздел пятый
иератическая, с обрядами инициации, с особыми формами ритуала, понимающая
спасение как результат внешних магически вызываемых сил; и, наконец, мистика
синкретическая, смешанная, сочетающая оба указанных типа мистики (она встречается
у Порфирия, Ямвлиха, Прокла). Фестюжьер установил, что если первый тип мистики
исходит по преимуществу от греческой философии, от философского платонизма,
то второй — от «религиозной практики восточной теософии»20. Важным моментом
у Фестюжьера было подчеркивание восточных, библейских корней науки, особенно
новоевропейской. Так, например, он показывает, что идея бесконечности, вообще говоря,
чуждая грекам, была существенным элементом библейски-восточного наследия и
перешла в европейский мир через Александрию, через Филона. Так что мы должны быть
скромнее, настаивая на абсолютной европейской автохтонности корней нашей науки.
Уже сам по себе герметизм был мощной восточной традицией, а его воздействие на
генезис науки, каким бы по значимости оно ни было, отрицать трудно, особенно после
работ Ф. А. Йейтс (хотя она и преувеличила значение «герметического импульса»).
Существенно, конечно, и понимание глубокой пропасти между герметизмом с его
религиозностью и религией христианской. Действительно, герметическая религия, как пишет
Фестюжьер, была «чистой религией ума (religio mentis)», в то время как христианство
есть существенным образом религия сердца — хотя, конечно, и не без ума, но с умом,
возведенным в сердце и просвещенным светом веры. Читая Фестюжьера, чувствуешь
очень живо эту удивительную эпоху поздней античности, когда мир менялся столь
глубоким образом, как никогда раньше и, видимо, никогда и после не будет уже
меняться. И особенно, быть может, важно открытие Фестюжьером-историком мира
языческой религиозности накануне возникновения христианства и в его ранние годы.
В связи с этим я не могу не приветствовать перевод и издание такой книги
Фестюжьера, как «Личная религия греков»21. В академическом семестре 1952-1953 гг.
он был приглашен в Беркли, где выступил с лекциями на эту тему. В 1954 г. лекции
были изданы там по-английски. В русском переводе, правда, есть досадные ошибки
и / или опечатки. Например, в аннотации Анри-Доминик Сафрей (Saffrey), ученик
Фестюжьера, крупный исследователь платонизма, назван Дюффреем (в другом
месте немного лучше — Сюффреем22). Швейцарский город Базель превращен в Баль.
Русский язык следует здесь не французскому языку, а немецкому, как и в
произношении «Эльзас», а не «Альзас». Есть и другие «странности» в передаче географических
реалий: «Пребывая на западном побережье Соединенных Штатов, — читаем в
переводе очерка Сафрея о Фестюжьере, — отец Фестюжьер встретился с Вернером Йеге-
ром»23, в то время как речь идет о Гарвардском университете, находящемся вроде бы
20 Festugière A.-J. La révélation d'Hermès Trismégiste. P. 27
21 Фестюжьер А.-Ж. Личная религия греков / Пер. с англ., коммент. и указатель С. В. Пахо-
мова. СПб.: Алетейя, 2000.
22 Фестюжьер. Личная религия греков. С. 220.
23 Там же. С. 235.
«Книги Койре стали для меня настоящим потрясением...» 653
на восточном побережье США. Впрочем, это все мелочи. Книга же Фестюжьера
интересна, как и все, что он пишет. К тому же она дополнена уже процитированным очерком
А.-Д. Сафрея «Портрет отца Андре-Жана Фестюжьера», написанным ярко и красочно.
Ален, расскажи об этом замечательном ученом, ты ведь был его учеником.
A. С: Мне жаль, что в России о работах Фестюжьера пока знают только по
одному переводу с английского. У Фестюжьера был свой особый стиль, а переводы
нередко выполняются механически. Так что я на месте издателей предпочел бы найти
французский оригинал и использовал его в качестве исходного.
B. В.: То есть эта книга была написана сначала по-французски, а потом
переведена на английский?
A. С: Он писал ее по-французски и отдал для перевода, который и был
использован в американском издании. Вообще оригиналы обладают большей ценностью,
чем переводы. А Фестюжьер, кроме всего прочего, очень хороший писатель. Его
язык обладает особым изяществом, редкой утонченностью. Эти особенности очень
трудно сохранить при переводе. Но что следовало бы перевести, так это книгу
«Эпикур и его боги»24. Но многое, на мой взгляд, перевести не удастся. Преимущественно
филологические сочинения.
B. В.: Какие именно?
A. С: Все, что он сделал по Проклу. И о позднем неоплатонизме.
B. В·: Перевод его комментария к «Тимею»?
A. С: К «Тимею», к «Государству»... Это восемь томов, каждый такого же размера,
как «Откровение Гермеса Трисмегиста». Потом он перевел «Восточных монахов»25,
и общее количество томов возросло до двадцати. А кроме того, он издал «Историю
монашества»26 и житие Иоанна Кипрского27. С большим количеством комментариев,
демонстрирующих необыкновенное знание мира восточного монашества. Он был
великим человеком! Он перевел жития всех греческих святых: Симеона Столпника,
святого Николая, святого Пахома, Косьмы и Дамиана, Феодора Сикеота...
B. В.: А как ты думаешь, молодежь сейчас читает Фестюжьера?
А. С: Ну, в основном он писал для специалистов. Но его книга о Сократе,
первая его популярная работа, написанная в 30-е гг., была переиздана три или четыре
раза общим тиражом 20-25 тысяч экземпляров28. И еще остаются люди, которые его
24 Festugière A.-J. Epicure et ses dieux. Paris, 1946.
25 Festugière A.-J. Les moines dOrient: in 4 vols. Paris, 1961-1965. В этот четырехтомник вошли
выполненные Фестюжьером переводы житий.
26 Historia monachorum in Aegypto. Сначала Фестюжьер осуществил критическое издание
греческих текстов вместе с французскими переводами в Бельгии, а потом переводы отдельно
вошли в первый полутом четвертого тома «Les moines dOrient».
27 Leontius Neapolitans. Vie de Syméon le Fou [et] Vie de Jean de Chypre / Édition commentée par
A. J. Festugière. Paris, 1974.
28 См.: Festugière A.-J. Socrate. Préface de A.-D. Sertillanges. Paris, 1934.
654
Раздел пятый
помнят. Он был не только классическим филологом, но и одним из тех, кто серьезно
пытался понять феномен религии. Причем с симпатией к нему относясь.
В. В.: Религии языческой или христианской?
A. С: Вот что мне говорил один из его коллег в Оксфорде, которого я
встретил в 60-е гг. Он мне сказал тогда: «Причина, по которой я восхищаюсь им, в том,
что и в языческих, и в христианских текстах обнаруживаемую религиозную веру
он встречает с равной проницательностью и равной симпатией». То есть так он
относился не только к христианскому тексту, по поводу которого у него всегда было
множество глубоких соображений, но и к тексту языческому, по поводу которого
интересных соображений у него было не меньше. А примеров его глубокой личной
симпатии я видел немало во время его лекций. Мы вместе с ним изучали Марина29,
а потом, также вместе, — Прокла. Это шесть лет совместных занятий. Я видел, какую
проницательность и, прежде всего, симпатию он проявлял в отношении этих
текстов, не высмеивая их, не объявляя их ни глупыми, ни абсурдными, ни смешными.
Он находил им объяснения и мог провести аналогии со своей собственной жизнью,
с жизнью христиан, показать, что содержащиеся в них проблемы были точно так же
серьезны, как и проблемы христианских авторов.
B. В.: Это действительно редкая способность, особенно принимая во внимание
конкуренцию этих религий в эпоху поздней античности.
A. С: Не случайно первая книга Фестюжьера называлась «Религиозный идеал
греков и Евангелие»30. Он написал ее в 1931 г. — то есть ему было всего 33 года. В этой
книге 400 страниц текста по очень деликатному вопросу: о соотношении между
языческой религией и христианской апологетикой того времени. Обычно исходят из
гипотезы, что в религиозном отношении греко-римский мир не имел никакого
влияния, что его религия была пустой ритуальностью. И что христианство якобы вызрело
и победило лишь благодаря слабости языческой религиозности. А идея Фестюжьера
была прямо противоположной.
B. В.: И он дал тому доказательства?
A. С: Разумеется! Большую часть его четырехсотстраничной книги занимают
цитаты, с помощью которых он показывает, что языческую душу угнетала
неутоленная религиозная и духовная жажда. Без этой жажды успех христианства не был бы
возможен, несмотря на откровение.
B. В.: Фестюжьер указал на связь между этими двумя религиями?
А. С: В конце этой книги содержится знаменитое приложение на 60 страниц о
религии и магии, в котором он методично опровергает известный тезис современных
ему социологов, что апелляция к магии возможна лишь тогда, когда религия носит
29 Marinus — философ и математик V в. н. э., ученик Прокла, самаритянин по
происхождению (родился в городе Неаполисе, в 50 км от Иерусалима, ныне — Наблус). Результатом этих
исследований стала книга: Marinus. Proclus ou Sur le bonheur / Texte établi, traduit et annoté par
H. D. Saffrey et A.-Ph. Segonds. Paris: Les Belles Lettres, 2001.
30 Festugiére A.-J. L'idéal religieux des Grecs et l'Evangile. Paris, 1932.
«Книги Койре стали для меня настоящим потрясением...» 655
чисто ритуальный характер и лишена духовного основания. Фестюжьер показывает,
что это не так, и достаточно прочитать его книгу, чтобы понять, как велик был
духовный голод, стоявший за религиозной практикой в то время.
В. В·: Существовала ли тогда унитарная языческая религия?
A. С: Нет. Более того, существовало неисчерпаемое многообразие различных
форм религиозного опыта в лоне язычества, от простого и чистого ритуализма вроде
сплевывания всякий раз, как проходишь перекресток, до совершенно духовного
отношения к себе и стремления к очищению для слияния с божеством.
B. В.: Это означает, что в язычестве тоже существовали мистические течения.
A. С: Безусловно. Причем эти течения были очень глубокими в орфизме, пи-
фагоризме. Они были, кстати, широко распространены, потому что среди людей,
не имевших ни специального образования, ни эрудиции, порой даже не умевших
читать, были сильны стремления к чистоте, к освобождению души от телесного
мира, — быть может, именно это и было самой сильной стороной в наследии
язычества. И именно это и было главным препятствием для христианства, потому что
большая часть этих людей не была заинтересована в смене своей духовной жизни,
унаследованной ими от отцов, но зато имела немало ценностей, которые
собиралась защищать. Отсюда и возник конфликт. Так что в известном смысле именно
поэтому появились все эти философы и прочие люди, которых было трудно уговорить
сменить религию. Именно они оказались одновременно и самыми близкими к
христианству, и наименее готовыми его принять. Для них христианство было, в
лучшем случае, столь же привлекательно, как и их собственная религия, а в худшем —
выступало конкурентом, лишенным авторитета старины, науки, эрудиции — всех
тех знаний, которые накопились со времен Пифагора. Переход к христианству был
колоссальной по сложности задачей. И Фестюжьер это хорошо показал. Я
прочитал практически все, что он написал, и подобный подход у него повсюду неизменно
присутствует.
B. В.: Если судить по биографическому очерку Анри Сафрея — а я других
материалов о жизни о. Фестюжьера не читал, — то одинаковость его отношения к
религиям языческой и христианской, столь ярко проявившуюся в книге «Религиозный
идеал греков и Евангелие», можно объяснить характерными для тех лет его
духовными колебаниями и сомнениями. Можно сказать, его нетвердостью в христианской
вере. «В течение всей своей долгой жизни, — пишет Сафрей, — отец Фестюжьер
терпел эту мучительную раздвоенность»31. Мистический опыт богоустремленности был
у него и раньше, в частности он его пережил, находясь в Маредсу, бенедиктинском
аббатстве в Бельгии, в 1923 г. Но, как считает Сафрей, лишь к концу жизни, когда он
заново, не спеша, читал Евангелие от Марка, переводил его и размышлял о нем (что
и составило основу его последней книги), он «окончательно утвердился в вере
Христовой» («смог поклониться Кресту Господнему как знаку своей любви», — пишет
31 Сафрей А.-Д. Портрет отца Андре-Жана Фестюжьера // Фестюжьер. Личная религия
греков. С. 223.
656
Раздел пятый
Сафрей32). Если все так и было, то тогда становится понятным его, скажем так,
подчеркнуто «на равных» отношение к язычеству и христианству.
Сказанное я бы, однако, уточнил следующим образом: структура духовной
жажды отца Фестюжьера изменилась к концу его жизни, и если прежде он, видимо,
в равной мере хотел «положить голову» на плечо как Христа33, так и Зевса, то теперь
у него осталось только первое желание. Но это вовсе не означало, что он утратил
глубокий интерес и сердечную симпатию к представителям языческой религиозности.
И вот о чем мне хочется узнать в связи с этим. Сафрей лишь вскользь
упоминает о «янсенистском воспитании» Фестюжьера. Ален, ты можешь сказать об этом
подробнее?
A. С: Его семья была религиозной и, действительно, близкой янсенистам. И Фе-
стюжьер всю свою жизнь провел в борьбе с этим наследием, отразившимся на его
воспитании. Для него янсенизм, с присущим ему представлением о Боге как
безжалостном карателе, был чем-то чудовищным34. Он сам говорит об этом в сотне мест.
Не в одном — в сотне. Например, можно сказать, что он не любил Библию, потому
что для него она была воплощением образа безжалостного Бога, посылающего людей
душить врагов. Для него это было немыслимо. Так что в его отношении была и чисто
христианская составляющая, но в большей части мы находим составляющую,
направленную против его янсенистской семейной атмосферы. Я был знаком с его семьей.
Я знал его сестер — дам и в самом деле чрезмерно ригористичных, очень холодных,
во всем противоположных самому Фестюжьеру, — лишенных всякой открытости,
очень уверенных в своей правоте, выросших и постаревших в этой уверенности.
B. В.: По-янсенистски самоуверенных?
А. С: Вроде того. Но во Франции янсенистское движение существует с XVII в.,
хотя оно и было силой искоренено, а потом сильно трансформировалось в XVIII
и XIX вв. Достаточно сказать, что движение либертинов и антиклерикализм XIX в.
зародились почти исключительно в янсенистской среде. Выходцы из той же самой
янсенистской среды поддерживали и всю антихристианскую полемику того времени.
То есть все те люди, которые страдали от преследования католической церкви, стали
преследовать ее сами. Достаточно просто посмотреть, в каких регионах достигали
высшего пика антиклерикальные настроения, — это именно те немногие регионы,
32 Сафрей Α.-Д. Портрет отца Андре-Жана Фестюжьера. С. 223.
33 По словам Сафрея, о. Ив Конгар однажды услышал от о. Фестюжьера, что он «хотел бы
положить голову на плечо Христу» (С. 221).
34 Янсений (1585-1638) был голландским богословом, профессором теологии в Лувене
(с 1636 г. — епископом). Следуя Августину, Янсений утверждал, что человеческая природа
в ее актуальном состоянии порочна, что свободы воли не существует, а спасение зависит
не от дел человека, а от божественной благодати, и поэтому спасутся только те, кто
предопределен к спасению. Его учение распространилось, в частности, во Франции, где главным
очагом янсенизма в XVII в. стал знаменитый монастырь Пор-Рояль. В янсенистскую общину
входили Блез Паскаль и Антуан Арно.
«Книги Койре стали для меня настоящим потрясением...» 657
где развивался янсенизм. Об этом известно, например, по епископальным
посланиям, в которых епископы говорят о трудностях, возникающих у них в этих регионах.
Антикатолические настроения были там очень распространены и глубоки.
Истинный янсенизм в них растворился, умерев в вольнодумстве, борьбе с католицизмом,
борьбе против иезуитов и т. п. Но в самой церкви он остался в форме
ригористического течения, очень глубокого, типичного для французской церкви, для тех
семей, которые пережили революцию. Это суровые люди, очень строгие к себе и
другим, они сумели выжить во времена террора. Именно в их руках оказалась церковь
во Франции в XIX в., и они-то и придали ей такой чрезмерно ригористический
характер, который был ей присущ до самого начала XX в. Фестюжьер, отчасти в силу
природного вкуса, отчасти в силу воспитания (ведь он учился в лицее Людовика
Великого, известном своим либерализмом), испытывал отвращение ко всякого рода
максимализму, в том числе и к янсенизму. Именно по этой причине он в конце своих
дней обратился к восточному монашеству, казавшемуся ему единственным
возможным источником возрождения католической церковной жизни. Для этого надо было
только освободиться от неправильно понятого ригоризма...
В. В·: Он искал средства против чрезмерного религиозного ригоризма на
Востоке?
A. С: А именно в духовной свободе и созерцательной жизни.
B. В·: В язычестве и платоническом мистицизме?
A. С: Разумеется. Он видел глубокую свободу в этих людях с эллинистического
Востока. Потому и написал по меньшей мере две книжки об идеале свободы у
греков. Это не случайно. И с большим религиозным смыслом.
B. В·: Когда они были написаны?
A. С: Одна из них датируется 1944 г. В этих книгах он показывает духовную
свободу у греков. В Греции религиозные люди обращались к своему богу, говорили с ним,
как, например, у Еврипида, открыто упрекали его в том, что он обманул их и вообще
поступил дурно. Для Фестюжьера в этом идеал религиозной свободы,
воплотившийся в его героях античного монашества. Они тоже напрямую обращались к
своему богу. Таков был его идеал, а вовсе не замкнутый, враждебный мир янсенизма.
Но я должен уточнить: Фестюжьер всегда был человеком религиозным. Он
принял монашеские обеты доминиканского ордена в 1920 г., будучи 22 лет от роду,
а в 1923-м он был рукоположен в священнический сан. Ему тогда было 25 лет, в
полном соответствии с каноническим возрастом. А затем он до конца своих дней
исполнял свой священнический долг. В этом он был строг и последователен. Но он
воспользовался, если можно так выразиться, своим служением, чтобы утвердить свою
индивидуальность и свою духовную свободу. И он не был изолирован в мире
доминиканцев, великих доминиканцев, подобных Мари Доминику Шеню или Иву Конгару.
B. В.: Говоря о Шеню, ты имеешь в виду историка?
А. С: Да. А о. Конгар был теологом — крупнейшим теологом на Втором
Ватиканском соборе. И большинство этих людей придерживались взглядов, во многом
аналогичных тем, что развивал Фестюжьер. Орден доминиканцев стал во Франции
658
Раздел пятый
в 40-60-х гг. XX в. проводником глубочайшего духовного и религиозного
обновления. В известном смысле о. Конгар наиболее показательный пример, потому что его
преследовали в самом ордене. Святым престолом в Риме он был смещен со своего
профессорского поста, ему запрещали преподавать в течение двадцати лет. Он вновь
появился на сцене исключительно благодаря папе Иоанну XXIII и его либеральному
окружению в церкви (замечу в скобках: состоящему исключительно из французов
и бельгийцев), собиравшемуся в Париже вокруг нунция, которому со временем
случилось стать папой Иоанном XXIII. Именно так формировалось окружение этого
папы: он жил в Париже и знал его, видел Лувен, Брюссель, другие города. И, придя
к власти, он начал проводить в жизнь свою идею скорейшего освобождения
церковной жизни от негативных последствий деятельности Пия XII. В этом была одна
из главнейших задач Второго Ватиканского собора. Надо было провести чистку,
а о. Конгар для этого подходил как никто другой. Но он тогда уже был болен и вскоре
умер от склероза.
В. В.: А как была встречена его книга «Разобщенные христиане»35?
A. С: О да, эта книга была запрещена Римом. Только из-за того, что о. Конгар
представил в ней православную церковь как сестру церкви католической. А
следовательно, имеющую равную с ней легитимность.
B. В.: Ален, увы, нам пора заканчивать беседу. Огромное спасибо! Заключая
нашу беседу, я хочу выразить надежду, что книги Александра Койре и Андре-Жана
Фестюжьера будут издаваться у нас и наше сотрудничество с французской наукой
и философией станет более разносторонним и углубленным.
Congar Y. Chrétiens désunis. Principes d'un "œcuménisme" catholique. Paris, 1937.
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД С ТОМОМ ЗУБОВА В РУКАХ:
ОПЫТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АВТОБИОГРАФИИ
Читая не так давно изданный том Василия Павловича Зубова, в его статье
«Натурфилософские взгляды Гёте»1 я неожиданно обнаружил четкие формулировки
основных проблемных мотиваций моих научно-философских занятий за последние
примерно сорок пять лет. Статья молодого автора удивительна для его возраста. Она
поражает не только интеллектуальной проницательностью, но и духовной зрелостью.
Многие места из нее хочется выписать, подчеркнуть, продумать еще и еще. Вот одно
из них: «Переживание природы и природа неразрывны». Просто и верно. И сразу же
мы понимаем, что мысль, подобная гётевской или пришвинской, имеет полноценные
права гражданства не только в литературе, но и в мире интеллектуальной
познавательной культуры. Во второй половине двадцатых годов умолкает философский
голос Павла Флоренского (исследования диэлектриков и т. п. работы здесь не в счет).
Но его раскаты продолжают звучать в работах, которые молодой его ученик и
почитатель пишет, к сожалению, «в стол». Однако я пишу не отзыв об этой работе, а
интеллектуальную автобиографию, хотя и с оглядкой на зубовскую статью. Поэтому
каждый новый содержательный блок буду начинать с цитаты из нее. Начну с главного.
«Was fruchtbar ist, allein ist wahr»2, — цитирует Зубов кредо Гёте. Плодотворен
самостоятельный поиск и вырастающее из него собственное творчество. Глубокое
убеждение в этом, пусть и не избавляющее от сомнений в качестве достигнутых
результатов — это и моя интеллектуальная вера. Генезис ее отсылает не только к гё-
теанским штудиям, но и к такому философу, как Бердяев, главная книга которого,
с воодушевлением прочитанная в 60-е гг., оказалась значимым для меня событием.
С кредо Гёте перекликался и Борис Пастернак, кумир кружка моих друзей тех лет3.
Ведь это он сказал, что культура — это не что иное, как «плодотворное
существование». В эти годы думалось и писалось и даже жилось, можно сказать, «в стол», то есть
в будущее. Но «стол» этот, к счастью, нередко оказывался дружеским застольем.
Поэтому я не могу не назвать здесь имен некоторых моих друзей тех лет. Ограничусь
двумя — это Наталья Васильевна Полковникова, с которой вместе кончали школу
1 Зубов В. П. Из истории мировой науки. Избранные труды 1921-1963. СПб., 2006. С. 29-58.
Все цитаты из этой работы Зубова даны курсивом без указания страницы данного издания.
2 Лишь плодотворное является истинным (нем.).
3 Визгин В. П. Поэзия — философия — повседневность // Визгин В. П. На пути к другому.
От школы подозрения к философии доверия. М., 2004. С. 673.
660
Раздел пятый
№ 665. В голосе «одостоевшей Наташки» (по выражению Сергея Иванова) звучал для
меня прежде всего Блок и Достоевский4. Немалый путь, начиная с химического
факультета и затем Института истории естествознания и техники АН СССР, был
пройден вместе с Анатолием Валериановичем Ахутиным, введшим меня в философские
кружки тех лет, в социальное измерение мысли, которого ранее для меня просто
не существовало. Доверие к социуму было основательно подорвано Эпикуром с его
девизом «Надо освободиться от уз обыденных дел и общественной деятельности».
К некритически воспринятому еще в школьные годы высказыванию греческого
атомиста, к счастью, жизнь сама внесла коррективы. Со второй половины 60-х гг. я стал
преподавать философию на химическом факультете Московского университета.
Полузапретные чтения и мысли сами собой проникали в лекции и семинарские занятия.
Так что говорить о полной общественной «закупорке» неформальной
интеллектуальной жизни в те далекие годы нельзя. Что же касается последовательно проводимых,
тематически организованных исследований академического толка, то тогда я их еще
не вел, если не считать работу над диссертацией.
Стремление к плодотворности существования заставило меня ценой
конфликта с заведующим кафедрой философии естественных факультетов МГУ, на
которой я тогда работал ассистентом, уйти из университета по собственному желанию
и устроиться на работу в Институт истории естествознания и техники АН СССР.
Это было в начале 1971 г. В том же году в августе в Москве проходил
Международный конгресс по истории науки. Бонифатий Михайлович Кедров, тогдашний
директор ИИЕТа, предоставил сотрудникам института возможность усовершенствовать
их знания иностранных языков. Я и ранее понимал, что без этого невозможно вести
полноценные исследования. Так произошла моя встреча с французским — причем
совершенно неожиданно, ибо я решил усовершенствовать свой английский, но при
проверке оказалось, что я его уже достаточно — для тех курсов, которые для нас
были тогда организованы, — знаю. Мне предложили идти на французское
отделение. Языка этого я не знал совершенно. Но увлекся его изучением. Мне захотелось
не только свободно читать на нем, но также говорить и думать: манил опыт другой
жизни, иного менталитета. Манил сам эксперимент. И он, кажется, оказался не
таким уж бесплодным.
Моя академическая научно-философская работа началась с исследования
проблемы качества, которая ставилась тогда в двуедином плане — в концептуальном
и историческом. И вот снова цитата из Зубова:
Весь вопрос в том, почему канонизируется, узаконивается и возводится в догмат
количественное мировоззрение? Объявить качества мифом и иллюзией, перенеся
в область субъективного, значит, отодвинуть, а не решить проблему. Достаточно
билась новая мысль над решением мнимых антитез, возникающих на почве
расщепления физического и психического! Пора вернуться к подлинному единству, когда мир
4 Н. В. Полковникой посвящена книга «Чистые тетради. Стихи». СПб.; М., 2019.
Оглядываясь назад с томом Зубова в руках...
661
физических абстракций приобретет вновь красочную яркость, а психическое
облечется в подлинную плоть.
Именно этим пафосом был увлечен и я, став сотрудником сектора истории химии
ИИЕТа. Химия — наука о качественном par excellence. Качество обладает не
редуцируемым к количеству статусом. Вот из чего я тогда исходил, занявшись истоками
химического знания в античной натурфилософии. Постепенно проблема качества
получила более четкое логическое и историческое очертание, в центре которого
оказался Аристотель. В ходе исследования проблемная тема доопределилась. И по сути
дела моя первая монография «Генезис и структура квалитативизма Аристотеля»
(1982) явилась решением этой проблемы, уточненная формулировка которой
указана в ее названии. Вопрос был задан о том, какова структура аристотелевского,
как сейчас говорят, дискурса о качествах и чем ее можно объяснить, когда она уже
в основе своей выяснена, каковы источники и механизм ее генезиса7. Ответ был
достаточно четко сформулирован в этой книге. Но рукопись получилась некраткой,
и потом мне говорили (помнится, это был Михаил Александрович Розов), что
эвристический ключ к решению этой проблемы с большей выразительностью оказался
прописанным в небольшой статье «Качества в картине мира Аристотеля»,
опубликованной в журнале «Природа».
Еще цитата из Зубова:
Цвет в известном смысле возникает при посредстве глаза, ибо существует для него —
но это еще не значит, что он только субъективен. Мы имеем дело с объективным
раскрытием сущности света через глаз. Так, исследование неорганической природы
само приходит с неизбежностью к биологии.
Зубов эту мысль высказывает к концу своей статьи. А ведь это высказывание
о гётевской хроматике вводит в тему моих занятий историей науки с самого их
начала, когда в 1971 г. я оказался младшим научным сотрудником ИИЕТа. Подробно
об этом написано в эссе «Химия как amor Dei», опубликованном в сборнике,
посвященном памяти замечательного историка химии Владимира Ивановича Кузнецова,
который и взял меня в свой сектор. Нас познакомила Регина Семеновна Карпинская,
мой научный руководитель на кафедре философии естественных факультетов МГУ.
Весь указанный пласт стремлений и занятий можно назвать проектом биологизации
химии как в теоретическом, так и в историческом плане. Его идея проста —
развитие химии фокусируется и постигается в химии развития, или в эволюционной
химии. Кузнецов увидел во мне философского гаранта этого проекта, в издательском
виде представляющего собой замысел написания коллективной монографии,
причем многотомной, по всеобщей истории химии с единым концептуальным стержнем.
Создать «концептуальную канву» этой истории мне и было поручено. Наши с ним
ориентации в философии химии удивительным образом срезонировали: я писал
диссертацию на тему химической эволюции вещества в космосе, а он, увлеченный этой
идей во всех ее аспектах, и прежде всего в историко-химическом, стал моим главным
662
Раздел пятый
оппонентом на ее защите. Поэтому неудивительно, что через два года после защиты
я оказался в руководимом им секторе истории химии ИИЕТа. Среди историков
химии тогда с особой силой стал разгораться спор. Столкнулись в данном случае в связи
с идеей биологизации химии как ключа к историко-научной реконструкции
развития химического знания, можно сказать, позитивисты с романтиками. Мы с
Владимиром Ивановичем были, конечно, романтиками. Он давно уже изучал возможную
биологизацию химии прежде всего через призму исследований явлений катализа,
что позволяло надеяться далеко продвинуться вперед в понимании того, как
неживое вещество может стать живым, как химический индивид способен обрести
биологические контуры. А я, оказавшись в секторе истории химии, устремился к
истокам этой науки в античной натурфилософии. Нам обоим казалось несомненным, что
единый «жизненный порыв» вел весь мир к совершенству его организации, включая,
конечно, и химически устроенное его вещество. Таким образом, для нас обоих
химия была обнаружением метанаучных холистских сущностей, а химизм — «этапом
универсального развития Вселенной. Если угодно, за подобной романтикой стояли
Анри Бергсон с его "Творческой эволюцией" и неоплатонизм с его идеей
Всеединства» 5. Следует при этом еще упомянуть Шеллинга с его идеей саморазвития всего
сущего как всеединства и, конечно, Гегеля.
И снова Зубов: «Зримое зрит себя в зрящем... Тождество природы и сознания —
вот из чего исходит Гёте в "Farbenlehre"». Гётеанский подтекст
антиредукционистской позиции, выразившейся в аристотелевских штудиях в связи с проблемой
качества, тогда специально не тематизировался, хотя, конечно, осознавался. Несмотря
на все уважение к строгой доказательной науке, к научному методу и естествознанию,
аурой которого я тогда был пропитан, счесть сознание, сферу эстезиса и поэзии
чистым эпифеноменом материального субстрата я не мог. Их онтологическое
достоинство, однако, скорее авансировалось, чем доказывалось и философски выстраивалось.
Во всяком случае, в 70-е гг. помимо академических исследований велась и другая,
менее организационно оформленная философская работа — чтение, беседы с
философами и прослушивание их лекций, споры с друзьями, участие в домашних семинарах.
Этот пласт наполненного времени вместе с более ранним периодом следует считать
«годами учения» — ведь методически организованного профессионального
философского образования я не получил. Химик-кустарь в философии, автодидакт в ней,
я и до сих пор некоторых важных работ не проконспектировал и не продумал, о чем,
конечно, не могу не сожалеть. Но я хотел сказать о другом. Эти занятия на самом
деле служили невидимым основанием видимых исследований, публикуемых
издательством «Наука» в виде статей и книг. С годами и они получали свое воплощение —
сначала в докладах на домашних философских семинарах (я имею в виду прежде
всего семинары В. С. Библера и И. Д. Рожанского), а затем и в публикациях в
журналах и сборниках. Тем не менее следует сказать, что затянувшиеся «годы учения»,
5 Визгин В. Я. Химия как amor Dei II История науки в философском контексте. СПб., 2007.
С. 150.
Оглядываясь назад с томом Зубова в руках...
663
которые в какой-то степени перекрывались с «годами странствий», служили живой
почвой для более нормированных исследований в стенах академического института.
Их же концептуальная содержательность зигзагами — я это подчеркиваю — уводила
от соблазна естественно-научного материализма, вполне понятного у химика,
получившего университетское образование. Материализм во всех его видах уже в те
далекие годы осознавался не только в своей шокирующей антифилософичности и
неистинности, но и в своей относительной правоте. В общем духовно-интеллектуальном
хозяйстве человека он воспринимался — во всяком случае, вне своих вульгарных
идеологических представлений — необходимым элементом для того, чтобы
платонизм не слишком зазнавался, впадая в спячку самодовольства. Я думаю, что в те
далекие годы мною недостаточно было пережито и продумано то, что называется
духом. Продумывалась эмпирия — как же иначе могло быть у естественника-химика?
Продумывалась теория, без которой нет современного естествознания, равно как
и гуманитарной науки. Продумывалась их связь. Но дух не тематизировался в своем
своеобразии как именно дух. Гегеля здесь все-таки было недостаточно, а Платон, к
сожалению, был прочитан слишком поздно — вместе с изданием его в «Философском
наследии», то есть в конце 60-х и в начале 70-х гг. Иными словами, эмпиризм
угрожал срывами в материализм фрэнсис-бэконовского толка, а теоретизм современной
науки отсылал к другой крайности — к отвлеченному интеллектуализму. К счастью,
этот недочет все же корректировался, хотя и слишком медленно. Основу такой
коррекции составляли прежде всего занятия русской философией, которые тогда, к
сожалению, были недостаточно основательными в том числе и по причине
относительной труднодоступности соответствующей литературы.
И вот опять Зубов: «Единая связь и есть prius явления... Юдно явление не
объясняет само себя и из себя"». Вот в этих словах Зубова и Гете, которого он цитирует,
и раскрывается содержание понятия духа. Возможно, что в те годы в какой-то
степени действовала «заморочка» марксистского толка, символом которой служили
бывшие тогда у всех на слуху такие слова, как «диалектика», «теория развития» и т. п.
Чрезмерно натурализируя миропонимание, они действительно препятствовали
концентрации внимания на духе, на спиритуальном измерении бытия. Предполагаемая
«диалектикой природы» всеохватная связь явлений, исходя из которой все
становится постижимым, — это и есть духовная связь, коренящаяся в глубине реальности.
Дорога к персонализму оказалась в результате слишком длинной. Тейяр и Бергсон,
которые тогда с огромным интересом изучались, не позволяли преодолеть
натуралистические рамки мысли. А изучения отдельных работ Н. О. Лосского или
Бердяева оказалось недостаточно для того, чтобы персоналистическое философствование
по-настоящему привлекло к себе внимание. Я слишком болезненно «болел» судьбой
научного знания (что само по себе понятно, если принять во внимание мое
образование и почти двадцать лет, проведенные в стенах Института истории
естествознания и техники), чтобы всецело погрузиться в чисто философские
спиритуалистические и персоналистические штудии. Персонализм же, помню, в особенности вызывал
отторжение: понятие «личности» казалось достоянием болтливых гуманитариев,
664
Раздел пятый
а не естественно-научно ориентированного исследователя. Вообще в философском
мире меня отталкивало любое внешнее давление на свободу личного решения.
Почему это я должен считать главным понятием философии понятие личности или
какое-то другое понятие, вдруг ставшее «модным» и «важным» и потому внушаемое
мне извне? Требование настоящей научности в мире философии и истории, то есть
точности, верифицируемости, доказательности, было неоспоримым императивом
того ментального мира, в котором я жил вместе со многими своими коллегами,
историками и учеными. И лишь долгие занятия гуманитарными науками, включая
философию, но особенно литературу и историю, постепенно выводили из этого
слишком тесного для свободного мировоззренческого поиска научного интеллектуализма.
Здесь, за его пределами, я прежде всего пропитывался философской эманацией
экзистенциализма, который в 60-х и в начале 70-х гг. был к тому же в фокусе
внимания образованной публики. В результате возникали окрашенные в тона
экзистенциального философствования литературные эссе, которые тогда писались, сначала
исключительно «в стол». Это были, например, отклики на пьесы Сартра, фильмы
Андрея Тарковского, Ежи Кавалеровича, Ингмара Бергмана и Феллини. Сюда же
следует отнести и относительно раннее изучение Шопенгаэура и Ницше, а также
упоенное чтение десятитомника Томаса Манна и всего с этим культурным пластом
связанного. Кстати, эссе о новелле «Смерть в Венеции» — одна из самых первых
публикаций этого рода. От ииетовской академической работы это, казалось бы,
достаточно далеко. Но на самом деле это не так. Например, исследования о Фонтенеле
и множественности миров в культурном сознании, представленные в форме эссе,
очевидным образом продолжали и завершали историко-научную и
историко-философскую работу над темой космологического плюрализма от античности до XVII в.
Но когда эти работы я принес редактору «Историко-астрономических исследований»,
то Майстров не без интереса их прочел, но все же не взял: уж слишком явно жанром
и стилем речи эта эссеистика не укладывалась в тогдашний стандарт академической
работы. Научный мундир полагалось застегивать на все пуговицы. Никаких поэти-
ко-гуманитарных метафор и оборотов тогда не дозволялось.
Снова читаем у Зубова: «Судьбы природы оказываются неразрывно связанными
с судьбами религиозного духа». Эти слова Василий Павлович Зубов говорит о
философии позднего Шеллинга и Баадера в связи с Гёте и его физикой. И делает вывод:
«Мечта Гёте о воссоединении поэзии и науки возвращается здесь в еще более
широких и грандиозных очертаниях». Эта же мечта в форме стремления к обозначенной
в ней цели так или иначе вела мои интеллектуальные поиски во всех книгах,
начиная с «Генезиса и структуры квалитативизма Аристотеля». Сейчас же она привела
к тому, что я называю экзистенциальной философией культуры, подступы к
которой приоткрыты в книге о философии Габриэля Марселя.
«Явления ничего не стоят, — цитирует Зубов Гёте, — если они не дают нам
более глубокого и богатого воззрения на природу». Если в природе мы не столько
открываем лежащие на одной ценностно-духовной высоте явления, которыми
овладеваем с практическими целями, сколько постигаем работу самовозрастающего
Оглядываясь назад с томом Зубова в руках...
665
духа, то такой вроде бы натуралистический эмпиризм оказывается уже по сути
дела «высшим эмпиризмом». На этот термин Шеллинга обратил внимание Габриэль
Марсель, почувствовав в стоящем за ним понятии внутренне близкое ему
содержание. Опыт опыту рознь. Сфера опыта не просто динамична. Нет, она еще наделена
и ценностной, в онтологическом смысле, иерархией. Тимирязев, говорит Зубов, дар-
винизирует гётевскую метаморфозу, размещая ее исключительно в плоскости
физического времени. Действительно, Гёте, уточняет Зубов, «постоянно берет
метаморфозу то в смысле метаморфозы во времени, то в смысле идеальной сверхвременной
метаморфозы». Дарвинизация Гёте означает элиминацию духовной или, в данном
случае, идеальной связи биологических видов. В своей интуиции прафеномена Гёте
вступает «в область "Erfahrungen der höheren Art"». Эти «опыты высшего рода» и
образуют то, что Шеллинг называл «высшим эмпиризмом» и что подхватил Марсель,
вступив в резонанс здесь с Гёте и Шеллингом на своей волне, а именно на волне
метафизики высших позитивных состояний человека, раскрывающихся в «касаниях
мирам иным». Поэтому и здесь Василий Павлович Зубов нашел в безмерно богатом
явлении Гёте такие черты его мысли, которые в качестве идейного стимула вели меня
в философских занятиях и в недавние годы. В ходе них ясно обнаружилось, что
долговечность и продуктивность научно-философской мысли прежде всего сообщает
ей укорененное внутри нее художественное начало.
В связи с данным утверждением, которым хочу завершить этот
автобиографический опыт, приведу одно место из Гёте. Однажды, гуляя с Эккерманом, он заметил,
что «немцам... мешают философские умозрения, которые часто придают их стилю
отвлеченный, нереальный, расплывчатый и напыщенный характер»6. Василий
Павлович Зубов прошел школу немецкой философии, но достаточно рано
дистанцировался от ее стилистики, что видно по его окрашенному мягкой иронией замечанию
о «философических рацеях», ожидавших его на заседаниях ГАХН. Гораздо жестче
высказывается Ренан. В своем отзыве об «Интимном дневнике» Амьеля,
швейцарского профессора, воспитанного в Берлине на немецком идеализме, он
радикализирует суждение Гёте: «Гегелевская школа, — говорит Ренан, — научила его (то есть
Амьеля. — В. В.) сложным приемам мышления и тем самым сделала неспособным
писать»7. Сказано, быть может, не только слишком резко, но и несправедливо. Но все же,
что прежде всего имеет в виду Ренан? «Все становится для Амьеля, — развивает он
свою мысль, — материалом для теоретической системы. Встретив, например,
красивую женщину, он весь день проводит в построении теории кокетства и неудобств,
связанных с красотой». В конце концов, гётевскому критерию правильно
проживаемой жизни Амьель, по мнению французского ученого, не удовлетворяет — его
жизнь, замечает историк, поражена «стерильностью». Скорректируем жесткость
ренановского высказывания, приняв во внимание его идейное, мягко говоря,
недопонимание философского значения Гегеля. Позитивистическая рациональность
6 Эккерман И. Я. Разговоры с Гете. М.; Л., 1934. С. 232-233.
7 Renan Ε. Feuilles détachées. Paris, 1892. P. 364.
666
Раздел пятый
французского ученого не приемлет не только свойственного немецкой традиции
априоризма мысли, но и ее спекулятивной, если угодно, мистической глубины: «Есть
в Гегеле что-то от Раймонда Луллия», — замечает Ренан, поясняя причину своего
отталкивания от традиции немецкого идеализма. Но нам важно другое — как связана
продуктивность наших интеллектуальных деяний со стилем их воплощения? Лишь
хорошо промешанный материал мысли позволяет произвести ее в ясных,
способных ее передавать в будущее формах. Гёте и Василий Павлович Зубов остаются здесь
надежными маяками.
В ПОИСКАХ ДРУГОГО:
ОПЫТ ФИЛОСОФСКОЙ АВТОБИОГРАФИИ
Поясним эти два слова. Жизненно важные для нас смыслы невозможно взять
готовыми, как рубашку из гардероба — вот, мол, нужна, возьму и надену. Нет, такие
смыслы, даже если считать, что они давно открыты и как-то существуют, в том числе
в истории и культуре, должны быть в буквальном смысле выстраданы нами —
добыты трудной работой опыта как попыток их найти и как пыток их ненахождения.
Прежде чем мы их найдем, проходит время, нередко размером с нашу собственную
жизнь. Поэтому мы обречены на поиски — важных и ценных — смыслов.
Поиск ищет путь. Путь тоже еще не сама цель, но в нем она присутствует в
значительной мере увереннее, чем в поиске. «На пути к Другому»! — это наша книга
началась с поисков Другого. А сама идея встречи с Другим предстала в свете ее
противопоставленности встрече с самим собой.
«Поскреби "не-Я" — и откроешь за ним "Я" и только "Я"». Сколько соблазна
в этой формуле, типичной для европейской философии Нового времени! Гегель
говорил, конечно, то же самое — мысль работает с предметом так, что в конце концов
узнает в нем саму себя. Природа — замаскированная мысль, являющаяся целью ее
познания. Сорвать с нее маску другого по отношению к мысли и значит ее познать.
Ученый, познавая мир, устанавливает в нем законы, которые суть законы его
собственного разума. Иными словами, за видимостью чуждой человеку природы (иное,
другое) скрывается разум — сокровеннейшее достояние человека, его лучшая часть,
через приобщение к которой он самоидентифицируется как homo sapiens. Человек
смотрит в зеркало мира и видит в нем в конце концов лишь самого себя. О встрече
с собой он и мечтал, начиная познавательный «танец». Ее и «заказывал» в своем
познании.
Не стоит ли за подобной установкой нарциссизм европейской души, получивший
название «гуманизма»? Его суть — не забота о человеке, выступающая лишь
внешним его симптомом. Гуманизм верит в то, что, кроме человека, подлинного бытия
не существует: другого нет. И он стремится «гуманизировать» все сущее. У Маркса,
например, это — гуманизация мира в научно-практическом его преобразовании,
благодаря которому человек встречается в мире с самим собой — и ни с кем другим...
Но существует и другое стремление человеческой души — встретить в своем
существовании не себя, а как раз Другое... Традицию, реализующую такое стремление,
1 Визгин В. П. На пути к Другому. От школы подозрения к философии доверия. М., 2004.
668
Раздел пятый
можно назвать традицией экзистенциального философствования. Хайдеггер,
например, говорит о Бытии, имея в виду стремление человека к приобщению к иному, его
нацеленность на встречу с Другим — с нечеловеческим бытием, с божественным
началом... Важна именно инаковость встречаемого мною по отношению ко мне.
Сейчас в мире побеждает, казалось бы, первая из обозначенных установок —
рационалистическая, идеалистическая или материалистическая, философия
«гуманизма» и «свободы». Она состоит в таком «размывании» мира, чтобы сквозь его
на первый взгляд чуждые человеку черты открылось То Же Самое — мысль
западного человека, он сам как гуманомерная форма внешнего бытия. Побеждает проект
Фихте, Гегеля, Маркса (отличия между ними здесь несущественны). В этом проекте,
завершающем новоевропейский проект, нет Другого, в том числе нет и других, не-за-
падноевропейских, культур.
Но на пути запроектированной самовстречи человека ждет самоуничтожение.
И он, в принципе, об этом знает или догадывается. Он может пойти и по другому
пути — по пути встречи с Другим, чем он сам. Это значит, что новоевропейский
проект, по меньшей мере, должен быть дополнен, условно, другим проектом,
ориентированным на встречу с Другим. Казалось бы, речь в данном случае идет о
философиях диалога, которые и хотят быть философиями нового проекта. Но здесь кроется
опасность маскировки встречи с собой под встречу с Другим, когда его полагают или
конструируют. Подлинно Другое не конструируемо диалектической мыслью — в него
веруют. Ни логика, ни разум, ни даже интенциональность сознания сами по себе
обеспечить присутствие Другого, встречу с ним не могут. Решение судьбы человека
сейчас зависит не столько от его рациональных способностей, сколько от
способностей любить и верить.
Сама идея поиска возникает потому, что уже существует Другое. Ведь именно
оно вносит в нас неудовлетворенность наличным. Другой — символ жизни,
метаморфозы, целеустремленного движения, усилия, открытости, внимания и
сосредоточения. В шкале близких к слову «другой» слов, если их выстроить в степенной ряд
уменьшения «чуждости» и, соответственно, возрастания «близости», надо выделить
значение «друг». Друг — это другой я, открывающий мое самообретение в нем как
моем другом. Вот этот ряд: чуждый — чужой — иной — другой — друг... «В
философии путь, ведущий от меня к другому, — говорит Марсель, — проходит через мои
собственные глубины». То, о чем я хочу вам рассказать, это попытка дать сжатый
очерк моих поисков другого, прежде всего другой философии...
Наукообразная литература, ориентирующаяся на учебник и монографию,
считаемая философией, без живого человеческого голоса и литературного вкуса — вот
то, от чего я рвался к другому — к другой философии. Вместе с тем я не чувствовал
себя «у себя дома» и в чистой беллетристике тем более, если она поставлена на
своего рода литературный конвейер. На мой взгляд, ее пример — многотомный
«Виконт де Бражелон» А. Дюма (в отличие, скажем, от «Трех мушкетеров»). От
опустошенного слова литературы такого рода я столь же рвался к иному, к другой, более
весомой, литературе. Главный вопрос был такой: прибавляет ли выразительность
В поисках Другого: опыт философской автобиографии 669
словесной ткани глубину, градус истины самой мысли, в эту ткань одетой? Лучше
даже сказать так: я интуитивно не верил в скучную, маловыразительную
философию, будучи не в силах отделить эстетическое измерение от смыслового и
ценностного существа мысли. И поиск другого — был поиском органического соединения
этих моментов в конкретном произведении. Проще говоря, я не представлял себе
философию, с одной стороны, и литературу — с другой, как две безразличные друг
к другу сферы. Мне хотелось обрести их живой выразительный синтез.
Опыты такого соединения, на мой взгляд, более убедительным образом и более
многогранно, чем в иных национальных культурах, представлены во французской
традиции, раз, и в русской — два. Разумеется, примеры объединения философии
и литературы имеются и в других традициях — в испанской, датской и т. п. Но,
волею судьбы, мне стала ближе русская традиция и французская.
Можно сказать и так: я всегда искал линностно наполненную философию,
живое философское слово по ту сторону безвкусной наукообразной манеры. Видимо,
дело даже было не в самом неприятии трактата как такового, а в том, что этот жанр
обслуживался во многих случаях людьми неяркими. Но нужно признать, что и сама
по себе трактатная форма, сам этот жанр представал для меня скорее как
препятствие для творческой мысли, чем как адекватная форма ее выражения, уже только
потому, что скорее отталкивал личный опыт, чем давал ему возможность
выражения. Поэтому крупные философы выбивались, пробивались за сковывающие их
талант рамки этого жанра.
Разумеется, смешно отрицать наличие мощного и значимого
учебно-профессорского начала в философском мире. Это направление имеет свои заслуги, и я не
собираюсь их отрицать. Но возникает ситуация: много историков философии, много
комментаторов — мало философов. Эту ситуацию сравнительно недавно подметил
Пьер Адо, который не мог меня тем самым не увлечь. Профессорская философия,
обогащенная профессорско-антипрофессорским своим вариантом, существовала
всегда, процветала и раньше, сохранится и в будущем. Философия ведь в обществе
действительно поставлена в двусмысленное положение, что точно описал в своих
лекциях об основных понятиях метафизики М. Хайдеггер. Двусмысленность здесь
в том, что она включается в ряд наук, скажем даже определеннее, в ряд
университетских дисциплин, но сама по себе наукой не является. Итак, поиски другого — это
поиски живого философски значимого слова за пределами как его безвкусной
наукообразной выхолощенности, с одной стороны, так и его чисто литературной
опустошенности — с другой.
Искомое другое — чем же оно оказывалось? Все, что я делал и хотел делать, было
скорее поиском этого искомого другого, чем его окончательным уверенным
обретением. Разумеется, многое из задуманного не удалось сделать. Так, не удалось
поработать над темой «Наука и литература в эпоху научной революции XVII века», вставшей
передо мной вплотную после написания книги об истории идеи множественности
миров. Тогда раскрылась роль этой идеи в жанрообразовательном процессе.
Действительно, тема множественности миров внесла весомый вклад в формирование
670
Раздел пятый
жанров научно-популярной литературы (образец дал Фонтенель, его продолжил,
например, Фламмарион) и научной фантастики. Но задача синтеза литературы,
науки и философии продолжала во мне свою внутреннюю жизнь.
Итак, были люди и обстоятельства, мешавшие этим поискам, и были
люди-помощь, люди-поддержка. И их было немало. Назову только несколько имен:
Мамардашвили, Рожанский, Михайлов. Мамардашвили — удивительный импровизатор,
мастер устного философского слова, поразительный «книгоед» и к тому же
большой любитель именно французской литературно-философской традиции. От него
многие книги переходили к нам с А. В. Ахутиным, оседали у меня. И сам он был
замечательной артистической фигурой большого плана. И хотя каких-то
специальных разговоров на темы работ, которыми я тогда был занят, с ним почти не
велось, однако незримые флюиды поддержки от него шли. Мераб Мамардашвили
создавал явно благоприятный климат для поисков живого философского слова.
Это — бесспорно.
Иван Дмитриевич Рожанский. Благородный русский интеллигент. Физик и ан-
тиковед-любитель, достигший больших высот в изучении античной науки и
философии, и в то же время замечательный германист, знаток творчества Рильке, Пастернака
и многого чего еще. Но не в многознании дело: И. Д. Рожанский был удивительно
открытый ко всему интересному в людях и в жизни человек. Он поддерживал не только
античные штудии, не только собирал вокруг себя интересных людей, занимавшихся
историей античной науки и философии, но и проявлял живой интерес к
рискованным литературным опытам. Именно он, еще в рукописи, внимательно прочитал мои
«Божьекоровские рассказы» и написал отзыв, когда они был опубликованы.
Человек строгой научной культуры, И. Д. Рожанский, как я уже сказал, был настоящим
гумантарием.
И наконец, Александр Викторович Михайлов... К сожалению, наши отношения
стали близкими только в самые последние годы его жизни. Какой же это был человек!
Он подметил особый филологический смысл в работах по истории научной мысли —
у Ахутина и у меня. Его понимание словесности было универсальным, оно включало
и точное знание, естественные науки.
Я назвал только три имени. Но людей-поддержки было значительно больше.
И прежде всего, существовал круг близких друзей и знакомых, с которыми можно
было обсуждать буквально все — и философию, и литературу, и историю, и науку, —
все, что вызывало интерес. Назову лишь некоторых из них — мой брат Вл. П. Визгин,
Г. Д. Гачев, А. В. Ахутин, А. В. Соболев, С. М. Половинкин, Р. Ф. Полищук и др. Можно
сказать, что микросоциальный плацдарм для поисков Другого у меня был. В чем-то
наши пути сходились, иногда шли параллельно, иногда и расходились.
Интересная, значимая мысль немыслима без ясной, свежей и энергичной формы
ее выражения. Высший пласт языка — естественный язык, свободный от перегрузки
обломками специальных терминологий, от пустотелых риторических трюков, от
многословия... Именно этот пласт максимально адекватен глубинным корням
личности, а значит, и философскому онтологическому пространству. Чем оригинальнее,
В поисках Другого: опыт философской автобиографии 671
самороднее мысль, тем больше форма ее выражения строится средствами именно
такого языка. Чем более заморочена голова философа, тем больше его мысль
обряжается в трудный язык спецтерминов и модных жаргонов.
Однажды Хайдеггер сказал, что уже науке не до изящества, а философии тем
более. Вот с этим я не согласился. На мой взгляд, изящество, ясность и выразительность
формы сущностным образом связаны с глубиной и подлинностью мысли. Мыслить
неизящно, безвкусно — значит мыслить плохо. Сознание нерасторжимости эстетики
формы и глубины содержания мысли было, видимо, давно мне присуще, хотя
прямой тематизации их единство стало подвергаться только в последние годы. И может
быть, поэтому ветер поисков пригнал меня к таким фигурам, как Паскаль, Декарт,
Монтень, Бергсон, и наконец — к Марселю...
В то время — это были 70-е годы, — когда в кружке В. С. Библера, активным
участником которого я был, разрабатывали диалогику логик, режиссируя
возможные диалоги между мыслителями XVII в., я с головой погружался во французскую
словесность, как литературную, так и философскую, а с еще большим
воодушевлением — в ту, в которой философию от литературы уже нельзя отделить.
В близком мне круге людей все были люди идей — научных, философских, все
они жили идеями, искали новые идеи, продумывали старые... Но идея была
безъязыким инвариантом мысли, воплотившейся, в отличие от нее, в оригинальном слове
и от него неотделимой. На живом языке исполненная мысль — акт мысли, как любил
говорить Мамардашвили — сводилась в подобном идейном редукционизме до схемы,
до составленной из одних оппозиций своей скелетики, считавшейся «сутью». Я же
почему-то не очень любил идеи:
Как жизнь, увы, я безыдеен,
Что копошится вкривь и вкось:
Лягушек в хаосе растений
Вчера увидеть довелось,
Звенят кузнечики лихие,
Щебечут птицы невпопад,
А из воды идут сухими
Утята с уткою не в ряд.
И случилось, что однажды я из кабинета философии улетел в форточку
литературы. Пик этого отлета отложился циклом «Божьекоровских рассказов», которые
смешали в себе стихи и прозу...
Когда же начался возврат к философии? Кстати, когда он начался, то
возвращаться я стал к другой философии. Это случилось после затянувшейся интермедии
с Фуко и Башляром. Потом была жизнь в Испании, путешествие по Западу Европы.
И в эти самые годы у нас возник издательский бум на русскую философию. Я
вернулся домой — во всех смыслах. Русская философия и оказалась одним из искомых
вариантов другого — другой философии, в которой углубленная медитация
соединялась с вольным литературным словом. Несмотря на значительное германское
672
Раздел пятый
влияние, для меня русская философия не отделима от галльского острого смысла
и художественно сильного слова. Так уж вышло, что кислорода для дыхания больше,
чем в научной системной философии немцев, я находил у французов или в русской
традиции.
По ту сторону схоластической учености, комментаторской эрудиции знатоков,
с одной стороны, и дремучего невежества — с другой, существует страна не-неве-
жественных простецов, культивирующих, если угодно, изящество мысли. Вот эта
страна и влекла меня. И к этой У-топии я и был устремлен в своих поисках Другого.
Страна эта интернациональна, где с американцем Торо соседствует француз Мон-
тень, почетный ее гражданин. И вот теперь на французе Монтене и французе
Марселе я бы хотел остановиться чуть подробнее.
«Читая Монтеня, — свидетельствует Эрих Ауэрбах, — и близко усвоив его
манеру выражения, я почувствовал, что слышу живую речь и вижу движения и жесты,
которыми он сопровождает свои слова. Пережить такое при чтении старых
теоретиков удается редко и, наверное, никогда в той степени, что при чтении Монтеня»2.
Не только проницательный немецкий литературовед, но и сам Монтень осознавал
эту особенность своего стиля, и не только осознавал, но и сознательно
культивировал: «Речь, которую я люблю, — пишет он в своих "Опытах", — это
бесхитростная, простая речь, такая же на бумаге, как и на устах»3. Он явно понимает ей цену,
этой, как он говорит, «непринужденной» и «нескладной» речи. К сожалению,
иногда в переводе эта особенность речи Монтеня с ее наподобие вдоха-выдоха
модуляциями, с возвратными движениями и отступлениями, характерными для устного
слова, утрачивается. Приведу пример такого «съедания» устно-речевого измерения
монтеневской манеры письма перекомпоновкой словесных блоков по стандартам
рациональной письменной редакции. Вот одно характерное место: «Les plus fermes
imaginations que f aye, et generalles, sont celles qui par manière de dire, nasquirent avec moi;
ells sont naturelles et toutes miennes»4. Определения здесь разбросаны вокруг одного
определяемого ими слова (imaginations). В этой же главе Монтень признается, что его
язык «шероховат и небрежен», что у «него (языка. — В. В.) свои прихоти, которые
не в ладу с правилами»5. Такой разброс эпитетов это и есть «шероховатость»,
проистекающая из устной манеры письменной речи. Когда мы в беседе мыслим вслух,
то, естественно, не сразу находим все нужные определения, они разбегаются по фразе,
оставляя тем самым следы рождающейся на слуху мысли. В переводе же эта
«шероховатость» исправлена: «Наиболее устойчивые и общие мои взгляды, — переводит
2 Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе.
М., 1976. С. 290.
3 Монтень М. Опыты. В трех книгах. Книга первая и вторая. 2-е изд. М., 1981. С. 160-161.
4 Montaigne M. de. Essais. T. Ill / Éd. Alcan. P., 1930. P. 652-653. Курсив мой. — В. В. Перевод
см. ниже.
5 Монтень М. Указ. соч. С. 567.
В поисках Другого: опыт философской автобиографии 673
процитированную фразу А. С. Бобович, — родились, так сказать, вместе со мной:
они у меня природные, они целиком мои»6.
Вот как Ауэрбах характеризует эту особенность стиля Монтеня:
Иной раз Монтень повторяет одну и ту же важную для себя мысль, все заново и
заново формулируя ее; каждый раз при этом он выделяет новую точку зрения, новую
черту, новый образ, так что мысль начинает испускать лучи во все стороны. Это —
такая особенность, которой, скорее, можно ждать от беседы устной с человеком,
особо наделенным умом и даром речи, а не от печатного сочинения теоретического
содержания; кажется, для того чтобы целое воздействовало именно так, совершенно
необходима живая интонация, жест, дружеская атмосфера, складывающаяся в
приятной беседе7.
Речь идет не об искусной имитации живой беседы средствами письма, а об умении
сохранить внутреннюю, автохтонную беседность мысли и слова. Благодаря такой
структуре словесной ткани читателю французского писателя приоткрывается монте-
невская интуиция целого во всем ее своеобразии, интуиция неохватного бытия,
фокусируемого личностью. Мысль сама пульсирует как живое целое, неукладываемость
которого в набор логических «выкладок» становится очевидной. Это — не препарат
мысли, а она сама — вживе и в натуре, не in vitro, a in vivo. Рациональная связность
и самоотчетность мысли, ткущей подобную текстуру, безусловно, присутствуют при
этом. Но недремлющее око разума окружено аурой рационально несхватываемого,
создающей объем и глубину восприятия. Поэтому, описывая стиль Монтеня,
приходится отсылать к образу беседы, в которой участвует не только логика аргументов,
но и жест, интонация, ритмика устно проговариваемых фраз и периодов — короче
говоря, вся практически беспредельная гамма выразительных средств живого
диалога лиц. Тем самым для читателя создается атмосфера приятной — и приватной —
беседы, выше которой, по возможностям человека прикоснуться к Целому, ничего
нет. Так что, будучи вольным дилетантом наук и словесности, но не являясь ученым
в принятом смысле этого слова, Монтень демонстрирует нам наивысший «пилотаж»
именно в области философской мысли.
В своем «Рассуждении о методе» Декарт подхватил фигуру этого «пилотажа».
Он и Монтень8, вместе с Паскалем, — вот величайшие имена французской
философской традиции. У нас, в России, однако, образованные круги, особенно научные,
6 Монтень М. Указ. соч. С. 587.
7 Ауэрбах Э. Указ. соч. С. 290-291.
8 Сам Монтень, однако, отказывается считать себя философом, если философию
понимать как искусство стоической мудрости. «Я не философ, — говорит он, — несчастья меня
подавляют» (Монтень М. Опыты. Кн. третья. М., 1981. С. 156). Подобное отождествление
философа со стоическим мудрецом — обычная риторическая фигура. Можно допустить, что
если бы Монтень специально углубился в вопрос о сущности философии, он бы не согласился
с таким ее толкованием.
674
Раздел пятый
привыкли связывать сам образ философии с немецким трактатом-системой. Не
отрицая очевидных заслуг немецкой мысли и даже признавая известные достоинства
и за системой с ее трактатной формой выражения, однако не могу не сказать, что
предельно доступные человеку высоты мысли достигаются, на мой взгляд, скорее
методом Монтеня, чем Гегеля.
Раз уж я упомянул в этой связи Гегеля, то скажу, что он считал Монтеня
представителем здравого человеческого смысла, тонкие, остроумные наблюдения которого,
по его мнению, не входят в настоящую историю философии, потому что французский
автор не делал «предметом своего исследования тот высший вопрос, который
интересует философию, и не рассуждал, исходя из мысли»9. Иными словами, Монтень,
по Гегелю, не философ, потому что не является идеалистом, то есть человеком,
решившим все сущее, всю беспредельность явлений вывести из мысли, из идеи.
Немецкий философ здравый человеческий смысл считает не совместимым с философией,
которую он не может понимать иначе, чем как идеалистическую претензию. Доводя
содержащееся в ней противопоставление здравому смыслу до противоположности,
не подчеркивает ли он тем самым, что его абсолютная мысль, во-первых, это —
нечеловеческая мысль, а во-вторых, мысль больная? Если в наш образ философии
проникло ее отождествление с нездоровой бесчеловечностью, то приходится признать,
что вклад в него внес именно Гегель и весь идеализм, им во многом олицетворяемый.
Монтень в своем способе мысли вдохновляется Сократом, принимавшим все
человеческое в полном его объеме — духовное и телесное, высокое и низкое, проводя,
однако, при этом ценностную градацию между его уровнями и полюсами. Вот этот
образ упорядоченной полноты и вел его жизнь и мысль. «Охотнее всего, — говорит
Монтень, — склоняюсь я к тем философским воззрениям, которые наиболее
основательны (les plus solides)y то есть наиболее человечны и свойственны нашей природе
{les plus humaines et nostres); и речи y меня в соответствии с моим нравом скромны
и смиренны (bas et humbles)»10. Этот взгляд на философию совпадает с гегелевским,
пожалуй, только в одном пункте — в требовании ее основательности. Но
основательность понимается ими совершенно по-разному, даже диаметрально
противоположным образом. Скромность и смирение мысли — вот, по Монтеню, самые важные
условия философской основательности. Головокружительная спекуляция
отвлеченной мысли, которая, оставаясь отвлеченной, якобы способна в силу своей
имманентной диалектики приобрести всю живую полноту и конкретность реального, — вот
идеалистическая презумпция основательности философии, по Гегелю. Монтень же
сознательно избегает всяческих, особенно претенциозных отвлеченностей, причем
не только в мысли, но и в жизни. Их он сравнивает с ходулями (eschasses)y на
которых ведь все равно передвигаться надо с помощью своих собственных земных,
9 Гегель Г В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. третья // Гегель Г В. Ф. Сочинения. М.;
Л., 1935. Т. XI. С. 195.
10 Монтень М. Опыты. Кн. третья. 2-е изд. М., 1981. С. 309; Montaigne M. de. Essais / Éd.
variorum par Ch. Louandre. Paris, s. d. T. IV. P. 333.
В поисках Другого: опыт философской автобиографии 675
натурально данных ног. Но ангельские высоты с их помощью, увы, не достигаются —
напротив, срываясь с ходулей, мы падаем ниже человеческого уровня, превращаясь
в зверей. Поэтому, по слову Монтеня, «великое и славное достижение человека — это
жить кстати (vivre apropos)» п. Жить и мыслить кстати — значит жить и мыслить
достойным человека образом в каждой конкретной ситуации.
Итак, читая Монтеня, Ауэрбах почувствовал, что он слышит живую речь. То же
самое почувствовал и я, читая Габриэля Марселя. Параллелизм между стилем
экзистенциальной философии XX в. и манерой мысли и слова Монтеня не остался без
внимания немецкого теоретика литературы, хотя на эту интересную тему мы нашли
у него только одну-единственную фразу: «Делая свои замечания о методе Монтеня, —
пишет он, — мы намеренно не пользуемся здесь терминами, которые явно
напрашиваются и которыми обозначаются современные философские методы, родственные
монтеневскому или противоположные ему. Эрудированный читатель сам восполнит
этот пробел»12. Под родственными Монтеню методами Ауэрбах как раз и понимает
приемы и стиль мысли современного ему экзистенциализма.
Восполняя этот пробел, сознательно оставленный теоретиком литературы,
прежде всего обратим внимание на его собственную манеру письменной речи. Говоря
«мы» в только что процитированном месте своего труда, Ауэрбах показывает нам,
что сам он работает в иной, не в монтеневской, стилистике. Действительно, Монтень
никогда вместо «я» не скажет «мы» — местоимение, принятое в научной, в
теоретической речи. Контраст его ученой манеры с манерой Монтеня и, что нам здесь важно
заметить, Марселя очевиден. Марсель, как и Монтень, всегда, так что порой кому-то
даже может показаться чрезмерно, использует именно местоимение первого лица.
И это не случайно, ведь главные его философские сочинения — это во многом не что
иное, как дневник, в котором он, подобно Монтеню, записывает свои собственные
«опыты». Правда, по сравнению с монтеневскими «Опытами» в них больше того, что
он называет «метафизикой», чем всматривания в свою жизнь на фоне нравов других
сословий и времен, преимущественно античных. Таким образом, ясно, что различий
между ними немало и они существенны. Но и сходство несомненно. И прежде всего,
это касается стиля речи: у Марселя он тоже приближен к манере устной беседы с
собой и читателем, тоже сознательно сократичен. Мысль при этом понимает себя как
несовершенный и незавершенный поиск, как внедряющееся в глубину проблемной
ситуации «бурение» (forage)y как рискованное предприятие.
Сопоставим некоторые установки экзистенциальной мысли, с одной стороны,
и монтеневской — с другой. Читая Монтеня, мы не можем отделаться от впечатления,
что перед нами предтеча современной, в особенности французской,
экзистенциальной философии. Почему? Потому прежде всего, что он рассматривает человека в его
целостном личностном бытии (ester universelle)y предстающим всегда в конкретной
11 Монтень М. Опыты. Кн. третья. С. 304. Перевод наш. — В. В. Оригинал: Montaigne M. de.
Essais / Éd. variorum par Ch. Louandre. Paris, s. d. T. IV. P. 324.
12 Ауэрбах Э. Указ. соч. С. 300. Курсив мой. — В. В.
676
Раздел пятый
ситуации, в определенной, вещно оформленной совокупности условий его мысли
и действия. При этом, как он говорит, chaque homme porte la forme entière de l'humaine
condition13, то есть 'каждый человек выражает человеческий удел в целом'.
Характерно, что выражение condition humaine стало расхожим знаком
экзистенциалистского умонастроения (вспомним аналогичное название романа А. Мальро), будучи
и на самом деле его специфическим концептом, означающим условия, причем
всеобщие, человеческого существования как такового.
Как и Марсель, Монтень старательно избегает духа абстракции во всех его
проявлениях. Для него, как мы видели, непереносимо ни отделение философских
вершин от жизни людей, ни разделение человека на душу и тело, дух и плоть.
Отвлеченная ученость, с одной стороны, дремучее невежество — с другой, говорит Монтень,
все это существует в избытке. Но почти нет, условно, «среднего» звена —
очеловеченной науки, живых идеалов и образцов: «Комментаторы повсюду так и кишат, —
замечает Монтень, — а настоящих писателей — самая малость»14. Если для Монтеня
дух абстракции воплощает, прежде всего, схоластическая ученость, то для Марселя —
ее отпрыск, современный идеализм. Более того, оба мыслителя имеют в виду саму
атмосферу «абстрактности», которую можно до известной степени обозначить
словом «отчуждение». Отчуждение и есть разобщение всего со всем. И именно против
этого духа выступают и Монтень, и Марсель.
Еще один момент сходства между ними. Не вещь поставлена в центр мысли и
мировоззрения, а человек как личность — вот главное, что роднит экзистенциальную
установку Марселя и мысль Монтеня. Познание личности у обоих мыслителей имеет
онтологический и гносеологический приоритет перед объективным, или «вещным»,
познанием. При этом оба философа отдают себе ясный отчет в неисчерпаемости
человека как «предмета» познания. Разумеется, экзистенциализм XX в. вносит в
философию тему вовлеченности в познаваемое самого субъекта познания. Монтень не те-
матизирует такого ракурса анализа реальности. Его, условно, протоэкзистенциализм
является позицией моралиста-наблюдателя, трезвого, умеренного, понимающего
приоритет личности, но остающегося в пределах антично-средневековой
созерцательности. Поэтому понятно, почему за Монтенем маячит, конечно, скорее фигура
Декарта, чем Кьеркегора или Ницше, который, однако, высоко ценил Монтеня.
Отметив устно-беседную стилистику Монтеня и обнаружив подобную черту
у Марселя, раскроем чуть подробнее эту особенность мыслящей речи французского
философа XX столетия. Действительно, читая Марселя, мы слышим живой
человеческий голос. Здесь, говорит он, у меня, кажется, получилось. А вот эти
рассуждения, видимо, совсем ничего не стоят, мне пока не удалось углубиться в тему. Это
беседа мысли с самой собой, мысли ищущей {itinérante)^ хрупкой, трудной. При этом
в книгах французского философа присутствует и человечески понятный фон его
мысли — эту тему дал мне мой знакомый X..., Жан Гренье попросил меня написать
13 Montaigne M. de. Essais. T. III. Éd. Alcan. P., 1930. P. 39.
14 Монтень M. Опыты. Кн. третья. С. 267.
В поисках Другого: опыт философской автобиографии 677
на тему о... и т. п. Марсель приоткрывает свою реальность мыслящего, оценивая свою
работу, ее удачи и неудачи, показывая ее связи с другими людьми и с конкретными
ситуациями на разных уровнях. Это стиль человекомерной мысли, главным
критерием ценности которой служат ее ясность и глубина, характеристики, вообще-то,
очень нелегко совмещаемые. Поэтому, в условиях таких строгих критериев, удачи
не кажутся частыми. И такой — открытой — мысли невозможно не верить,
невозможно не вступить с нею в человечески ясный контакт — что-то принять, с чем-то
не согласиться.
И последний момент. Это мысль, ищущая, как я сказал, прежде всего ясности,
самой строгой. А это невозможно без удачно подобранных и правильно
взаимоувязанных слов. Поэтому философствование Марселя есть одновременно и работа
писателя, причем драматурга, что только добавляет в его речь дополнительные устные
и диалогические интонации.
Если теперь, завершая этот опыт философской автобиографии, вернуться к его
началу, то напрашивается такое пояснение концепции нашей книги «На пути к
Другому». Ее нельзя отделить от предшествовавших ей книг — о квалитативизме
Аристотеля и об идее множественности миров15. Первая книга была поиском начал другой
науки, не знающей принятого с XVII в. разделения качеств на первичные и вторичные,
использующей аристотелианско-гетеанское наследие и одновременно в чем-то
близкой по замыслу науке «нового союза» человека с природой, о которой так ярко писал
Пригожий. Вторая из названных книг — попытка пролегомен к другому, мультивер-
сальному, мировоззрению. Наконец, последняя книга, о которой здесь идет речь, —
попытка другой философии, философии мультиверсума лиц и голосов в
пространстве культуры, философии доверия, поле для которой открывается по ту сторону
ресурса подозрения, открытого и столь выразительно использованного Ницше для
деструкции философии и традиционных ценностей. Она ставит под подозрение само
подозрение и обращается к исследованию мультиверсума беседующих в презумпции
взаимного доверия личностей. Ни другая наука, ни другое мировоззрение, ни другая
философия при этом не обрели даже признаков законченности. Но опыты, попытки,
поиски их оставили следы. «Другие по живому следу // Пройдут твой путь... » к
Другому, ибо дух метаморфозы есть и дух эстафеты.
15 Визгин В. П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля. М., 1982; Визгин В. П. Идея
множественности миров. Очерки истории. М., 1988.
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ В. П. ВИЗГИНА
1964-2020
Книги
1. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля. 2-е изд. М.; СПб.: Центр
гуманитарных инициатив. 2016. 416 с. (1-е изд.: М.: Наука, 1982). (Рец. на кн.: Доброхотов А. Я.
Генезис и структура квалитативизма Аристотеля // Вопросы истории естествознания
и техники. 1986. № 2. С. 160-162.)
2. Идея множественности миров: Очерки истории / Отв. ред. И. Д. Рожанский. 2-е изд.,
исправ. и доп. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 336 с. (1-е изд.: М.: Наука, 1988).
3. Человек и орудие. М.: ИИЕТ, 1989. 68 с.
4. Эпистемология Гастона Башляра и история науки. М.: ИФ РАН, 1996. 263 с.
5. Божьекоровские рассказы. М., 1993.447 с.
6. На пути к Другому: от школы подозрения к философии доверия. М.: Языки
славянской культуры, 2004. 800 с.
7. Философия Габриэля Марселя: Темы и вариации. СПб.: Изд. дом «Mip», 2008. 711 с.
(Рец. на кн.: Доброхотов А. Л. Диптих встреч // Новый мир. 2009. № 11; Блауберг К И.
Личный опыт как философия // Пушкин. Русский журнал о книгах. 2009. С. 73-76.)
8. Очерки истории французской мысли. М.: ИФ РАН. 2013. 133 с.
9. Философия науки Гастона Башляра. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив. 2013.288 с.
10. Визгины и другие: История одной семьи. М.: Языки славянской культуры. 2014 (в со-
авт. с Н. Дульгеру). 192 с, ил.
11. Пришвин и философия. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. 240 с.
12. Лица и сюжеты русской мысли. М.: Фонд «Развития фундаментальных
лингвистических исследований», 2016. 360 с. (Рец. на кн.: Ворожихина К. В. Экзистенциальное
в русской мысли // История философии. 2017. Т. 22. № 1. С. 136-140.)
13. Чистые тетради. Стихи. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. 528 с. (Сер.
«Письмена времени».)
14. Наука в ее истории: взгляд философа. М.: Издательский Дом ЯСК, 2020. 696 с.
15. От пирамид к сельве: Западная мысль в поисках идентичности. М.; СПб.: Центр
гуманитарных инициатив, 2020. 575 с.
Статьи и другие публикации
1. Взаимодействие имино-диуксусной кислоты с оксихлоридом циркония // Журнал
неорганической химии. 1964. № 9 (в соавт.).
680
Список публикаций В. П. Визгина 1964-2020
2. Взаимодействие тетрахлорида урана с некоторыми шиффовыми основаниями //
Вестник МГУ. Сер. IL Химия. 1964. № 4. С. 39-44 (в соавт.).
3. О биохимическом подходе к проблеме химической эволюции // Философские науки.
1966. № 4 (в соавт.).
4. Проблема эволюции и химическая форма движения // Вестник МГУ. Сер.
Философия. 1966. № 3 (в соавт.).
5. О соотношении химической и биологической эволюции // Проблема развития в
современном естествознании. МГУ, 1968.
6. Понятие отбора и процесс развития // Философские науки. 1970. № 6 (в соавт.).
7. На XIII международном конгрессе по истории науки // Вопросы философии. 1971.
№ 12 (в соавт.).
8. Развитие учения о катализе и эволюция каталитических систем // Вопросы истории
естествознания и техники. 1972. Вып. 4 (41) (в соавт.).
9. Проблема специфики химии и принцип развития // Философские вопросы химии
(материалы к совещанию). Ростов: Изд-во РГУ, 1972.
10. Совещание по методологическим вопросам химии // Вопросы истории
естествознания и техники. 1973. Вып. 4 (45).
11. Философские проблемы современной химии // Вопросы истории естествознания
и техники. 1973. Вып. 2 (43).
12. Химия и самопознание человека // Книга для чтения по неорганической химии. Ч. I.
М.: Просвещение, 1974.
13. Кожев А. Опыт систематической истории языческой философии. Т. 2.
Платон-Аристотель. Париж, 1972 // Общественные науки за рубежом. Сер. философия. ИНИОН,
М., 1974. № 2 (реф.).
14. Рожанский И. Д. Анаксагор. У истоков античной науки. М.: Наука, 1972 // Вопросы
истории естествознания и техники. 1975. Вып. 4 (49). С. 79-80 (рец.).
15. История химии на международных конгрессах по истории науки // Вопросы
истории естествознания и техники. 1974. Вып. 2-3 (47-48). С. 160-164 (в соавт.).
16. Семинар по методологии научного исследования в г. Обнинск // Вопросы истории
естествознания и техники. 1974. Вып. 2-3 (47-48). С. 198-199.
17. Кожев А. Кант. Париж. 1973 // Современные зарубежные исследования философии
Канта. М.: ИНИОН, 1975. С. 253-262 (реф.).
18. Кожев А. Опыт систематической истории языческой философии. Т. 3.
Эллинистическая философия. Неоплатонизм // Общественные науки за рубежом. Сер.
философия и социология. М.: ИНИОН, 1975. № 2. С. 319-323 (реф.).
19. Об определении предмета современной химии // Вопросы истории естествознания
и техники. 1976. Вып. 4 (53). С. 17-24. (Пер. на польск. яз.: О definiowanu predmiotu
chemii wspolczesnej // Czlowiek i swiatopoglad. 1978.10 (159). P. 121-133.)
20. Взаимодействие методов естественных наук в познании жизни // Вопросы
философии. 1977. № 12 (в соавт.).
21. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977; 2-е изд. СПб., 1994
(пер. в соавт.).
22. Качества в картине мира Аристотеля // Природа. 1977. № 5. С. 68-77. (Пер. на чеш. яз.
в издании: «Чтения по античности». Прага: Изд-во «Свобода», 1979.)
Список публикаций В. П. Визгина 1964-2020
681
23. Археология знания Мишеля Фуко // Природа философского знания. Ч. П.
Аналитическая философия и структурализм (критический анализ). М.: ИНИОН, 1978.
С. 180-213.
24. Кожев А. Опыт систематической истории языческой философии. Т. 1-3. Париж. 1968-
1973 // Современные зарубежные исследования по античной философии (PC). М.:
ИНИОН, 1978. С. 20-36 (реф.).
25. Бенуа Ж.-М. Новые примитивисты. Париж, 1977 // Новые философы. М.: ИНИОН,
1978 (реф.).
26. Artificial and natural in selection (philosophical analysis) // Natural selection. International
Symposium. Liblice 5-9. VI. 1978. Preliminary program. Praha, 1978. P. 7.
27. Романский И. Д. Развитие естествознания в эпоху античности. М.: Наука, 1979 //
Природа. 1981. № 5 (рец.).
28. Вилдар К. Французское рабочее движение знакомится с русской революцией и
советским опытом // Французский ежегодник. Статьи и материалы 1977. М.: Наука,
1979. С. 11-19 (пер.).
29. Дюфренн М. Разрушение и аномалия. Париж, 1977 // Идеологическая борьба и
современная буржуазная философия. М.: ИНИОН, 1980. Ч. I. С. 59-74 (реф.).
30. Дюфренн М. Перверсия / субверсия. Париж, 1977 // Идеологическая борьба и
современная буржуазная философия. М.: ИНИОН, 1980. Ч. I. С. 102-119 (реф.).
31. Касториадис К. На перекрестках лабиринта // Идеологическая борьба и
современная буржуазная философия. М.: ИНИОН, 1980. С. 102-119 (реф.).
32. Комментарии к трактату Аристотеля «Метеорологика IV» // Возникновение и
развитие химии с древнейших времен до XVIII века. М.: Наука, 1980. С. 343-344 (в соавт.).
33. Декомб В. Тождество и различие. Сорок пять лет французской философии. Париж,
1979 // Панорама буржуазной философии. М.: ИНИОН, 1980. С. 35-58 (реф.).
34. Возникновение и развитие натурфилософских представлений о веществе //
Всеобщая история химии. Возникновение и развитие химии с древнейших времен
до XVIII века. М.: Наука, 1980. С. 92-184.
35. Hippocratic Medicine as a historical Source for Aristotle's theory of the δυνάμεις //
Studies in History of Medicine. Vol. IV 1980. № 1, March. P. 1-12.
36. К проблеме генезиса учения Аристотеля о δυνάμεις (Мет. IV) // Вестник древней
истории. 1981. № 3. С. 134-141. (Пер. на чеш. яз. в сб.: «Чтения по античности». Прага:
Изд-во «Свобода», 1982.)
37. Научный текст и его интерпретация // Методологические проблемы историко-науч-
ных исследований. М.: Наука, 1982. С. 320-335.
38. Ботто Э. Желание революции или наука господства? Новые философы перед лицом
марксизма // Критика французской «новой философии» за рубежом. М.: ИНИОН,
1982 (реф.).
39. Аристотелевская теория тяготения: качественный подход // Природа. 1982. № 4.
С. 97-104.
40. Познание природы вещества и формирование предмета химии // Книга для чтения
по неорганической химии. Ч. 1. 2-е изд. М.: Просвещение, 1983. С. 26-30.
41. Towards the interpretation of scientific texts // Abstracts of 7th International Congress
of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Salzburg, 1983. Vol. 3. Sect. 6. P. 277-280.
682
Список публикаций В. Я. Визгина 1964-2020
42. Скарга Б. История науки и интеллектуальные формации // Новое в науковедении.
М.: ИНИОН, 1984 (реф.).
43. Культура — знание — наука // Наука и культура. М.: Наука, 1984. С. 50-63.
44. Собудъ А. Философы и Революция // Французский ежегодник. М.: Наука, 1984.
С. 138-150 (пер.).
45. Философские вопросы химии в СССР // История философии в СССР. М.: Наука,
1984. Т. V. Кн. I. С. 56-63 (в соавт.).
46. Герметическая традиция и генезис науки // Вопросы истории естествознания и
техники. 1985. № 1. С. 56-63.
47. Самбурский С. Атомизм против континуализма в древней Греции // Современные
историко-научные исследования (США). М.: ИНИОН, 1985. С. 90-96 (реф.).
48. Идея множественности миров как предмет историко-научного исследования //
Вопросы истории естествознания и техники. 1985. № 3. С. 148-150. (Рец. на кн.:
Steven J. Dick. Plurality of Words: The Origins of the Extraterrestrial Life. Debate from
Democritus to Kant. Cambridge, 1982.)
49. «Метеорология» Аристотеля и современная наука // Вопросы истории
естествознания и техники. 1986. № 1. С. 157-160. (Рец. на кн.: Аристотель. Метеорологика / Пер.
с древнегреч. Н. В. Брагинской под ред. И. Д. Рожанского, А. X. Хрчиана. Л.: Гидро-
метеоиздат. 1983. 240 с.)
50. Culture and knowledge // Social Sciences. 1986. No. 3. Vol. XVIII. P. 51-64.
51. Образ истории науки в трудах Жоржа Кангилема // Современные
историко-научные исследования. (Франция). М.: ИНИОН, 1987. С. 104-140.
52. Qualitativisme aristotélicien: genèse et structure // Abstracts of 8th International Congress
of Logic, Methodology and Philosophy of Science. 17-22 Aug. 1987. Moscow, 1987. Vol. 5.
Part 3. P. 185-186.
53. Генеалогия знания Мишеля Фуко // Исследовательские программы в современной
науке. Новосибирск: Наука, 1987. С. 267-284.
54. Историографическая программа Мишеля Фуко: от археологии к генеалогии
знания // Современные историко-научные исследования. М.: ИНИОН, 1987. С. 141-
170.
55. Наука — общество — культура // Вопросы истории естествознания и техники. 1987.
№ 2. С. 62-72.
56. Das Problem der Wissenschaftsentwicklung und die Archäologie des Wissens von Michel
Foucault // Wissenschaft — Das Plroblem ihrer Entwicklung. Berlin: Akad,-Verlag, 1987.
Bd. 1. S. 314-338.
57. Pouvoir et savoir: le problème de la contribution de Michel Foucault à l'histoire des
sciences // Материалы по истории науки и техники. Тезисы докл. советских ученых,
представленные на XVIII Междунар. конгресс по истории науки (ФРГ, Гамбург —
Мюнхен. 1-9 авг. 1989). М.: Наука, 1989. С. 150.
58. Science. Culture. Society // Science and Society. Moscow: Nauka Publishers, 1989. P. 92-107.
59. Испытание разума (к интерпретации новеллы Томаса Манна) // Красная книга
культуры. М.: Искусство, 1989. С. 148-156.
60. Философия как речь (Историко-философская концепция А. Кожева) // Вопросы
философии. 1989. № 12. С. 130-139.
Список публикаций В. П. Визгина 1964-2020 683
61. Проблема множественности миров в учении Анаксагора // Исследования по
истории физики и механики. М.: Наука, 1989. С. 5-25.
62. Иоанн Павел II. Величие Галилея совершенно очевидно // Методологические проблемы
современных исследований развития науки. М.: ИНИОН, 1989. С. 203-206 (реф.).
63. Беддони Л. От Ферми к Руббиа: История мирового успеха. Милан, 1988 // Вопросы
истории естествознания и техники. 1989. № 2 (рец.).
64. Галилей и философская культура его времени // Методологические проблемы
современных исследований развития науки (Галилей). М.: ИНИОН, 1989. С. 190-202 (реф.).
65. Technocratie et anthropocratie: qui remportera // Lettres soviétiques. 1989. No. 371. P. 140-148.
66. Как нам жить? // Теплый стан. M., 1990. С. 271-294.
67. Абсолютный рационализм и современный кризис (Беседа с Витторио Хёсле) //
Вопросы философии. 1990. № 3. С. 107-113.
68. 2375 лет со дня рождения Аристотеля // Молодежный календарь. М.: Политиздат.
1990. С. 10-11.
69. Belloni L. La vera storia della fusione nucleare fredda. Milano, 1989 // Вопросы истории
естествознания и техники. 1990. № 3 (рец.).
70. Истина и ценность // Ценностные аспекты науки. М.: Наука, 1990. С. 36-57.
71. Наука и культура: размышление о проблеме их взаимосвязи // Наука и ее место
в культуре. Новосибирск: Наука, 1990. С. 58-76.
72. Либеральный вариант русского космизма // Русский космизм и современность. М.:
ИФ РАН, 1990. С. 137-144.
73. Урок Леонардо // История науки в контексте культуры. М.: ИФ РАН, 1990. С. 118-123.
74. Статьи: Ален, Бенуа, Мальро, Кожев, Ментальность // Словарь современной
западной философии. М.: Политиздат, 1991. С. 14, 35,176-178,128.
75. Традиция и инновация: взгляд историка науки // Традиция и революция. М.: Наука,
1991. С. 187-203.
76. Evolucion de la idea de sustancia quimica de Tales a Aristoteles // Llull. Revista de la So-
ciedad Espanola de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. 1991. Vol. 14. P. 603-644.
77. La structure du qualitativisme aristotélicien // Les Études Philosophiques. 1991. No. 3.
P. 355-368. (Переизд.: Revue Philosophique de la France et de l'étranger, avril-juin, 1993.
No. 2. P. 223-237.)
78. Мировой процесс... // Михаид Чернушенко. Как нам жить. М.: Новая книга, 1991.
С. 61-63 (без названия) (отрывок из статьи «Судьба страны в руках каждого»).
79. Миниатюры // Химия и жизнь. 1991. № 6. С. 88.
80. Новая этика: солидарность «потрясенных» (беседа с А. Глюксманом) // Вопросы
философии. 1991. № 3. С. 84-90.
81. Воспоминание // Теплый стан. М., 1991. С. 433-440 (под псевдонимом Виталий
Федоров).
82. Катастрофическое сознание // Мысль изреченная. Сб. науч. статей. М. 1991. С. 167-190.
83. Revolution quimica: factores del retraso // Revista da Sociedade brasileira de Historia
da Ciência. 1992. No. 7. Jan-Junho. P. 3-14. (Переизд.: Llull. 1993. No. 31. Vol. 16.)
84. Evolucion de la idea de sustancia quimica en la Antigüedad: el caso de Epicuro // Llull.
1992. No. 29. Vol. 15. P. 415-427. (Переизд.: Revista da Sociedade brasileira de Historia
da Ciência. Julho-Dez. 1993. No. 10. P. 75-84.)
684
Список публикаций В. Я. Визгина 1964-2020
85. Начинающий (повесть-эссе) // Теплый стан. М., 1992. С. 167-228.
86. Историческая эпистемология Гастона Башляра // Принципы историографии
естествознания: теория и история. М.: Наука, 1993. С. 273-295.
87. Малабу К. Преподавание философии во Франции: прошлое и будущее //
Философские исследования. 1993. № 2. С. 81-93 (пер.).
88. Делёз Ж. Тайна Ариадны // Вопросы философии. 1993. № 4. С. 48-53 (пер.).
89. Научная революция в химии: факторы запаздывания // Вопросы истории
естествознания и техники. 1993. № 1. С. 3-15. (Переизд.: Независимый психиатрический
журнал. № 1-2. 1993.)
90. Метаморфозы абстрактной свободы: Гёц в пьесе Сартра «Дьявол и Господь-Бог» //
Новый круг (Киев). 1993. № 3. С. 192-196.
91. Ницше глазами Делёза // Вопросы философии. 1993. № 4. С. 47-48.
92. «Гуляка праздный»: Антропология орудийности и феномен искусства // Человек.
1993. № 5. С. 45-52.
93. Механика и античная атомистика // Механика в истории мировой науки. М.: Наука,
1993. С. 3-81.
94. Le problème de la qualité chez Aristote // Epistemological problems of science in the works
of Russian philosophers. Moscow, 1993. P. 40-42.
95. Оккультные истоки науки нового времени // Вопросы истории естествознания и
техники. 1994. № 1. С. 140-152.
96. Эстетизм против историзма: случай Шопенгауэра // Историко-философский
ежегодник 1992. М., 1994. С. 65-76.
97. Опыт фантасмагорического науковедения // Вопросы истории естествознания и
техники. 1994. № 3. С. 169-172.
98. Игорь Алексеев, каким я его помню // Алексеев И. С. Деятельностная концепция
познания и реальности. Избранные труды по методологии и истории физики. М.,
1995. С. 452-458.
99. Эксперимент и чудо: религиозно-теологический фактор генезиса науки нового
времени // Вопросы истории естествознания и техники. 1995. № 3. С. 3-20.
100. Мишель Фуко — теоретик цивилизации знания // Вопросы философии. 1995. № 4.
101. Стихотворения // Волхонка, 14. Стихотворения (Сборник). М.: ИФ РАН, 1995. С. 47-
60.
102. Химическая революция как смена типов рациональности // Исторические типы
рациональности. М.: ИФ РАН, 1996. Т. П. С. 173-204.
103. Путешествие через болезнь с Амиелем в руках // Контекст.
Литературно-теоретические исследования 1994,1995. М.: Наследие, 1996. С. 180-194.
104. Постструктуралистская методология истории: достижения и пределы // Одиссей
(Человек в истории). М., 1996. С. 39-59.
105. Наш стиль еще не родился // Контекст. Литературно-теоретические исследования
1994,1995. М.: Наследие, 1996. С. 163-180.
106. Памяти Ал. В. Михайлова // Вопросы философии. 1996. № 2. С. 159.
107. Башляр Г. Онирическое пространство // Визгин В. П. Эпистемология Гастона Башляра
и история науки. М.: ИФ РАН, 1996. С. 251-256 (пер.). (Переизд. в кн.: Башляр Г.
Избранное: поэтика прозы. М.: РОССПЭН, 2009.)
Список публикаций В. П. Визгина 1964-2020
685
108. Башляр Г. Художник на службе у стихий // Визгин В. П. Эпистемология Гастона
Башляра и история науки. М.: ИФ РАН, 1996. С. 257-261 (пер.). (Переизд. в кн.:
Башляр Г. Избранное: поэтика прозы. М.: РОССПЭН, 2009.)
109. Выступление на первых чтениях, посвященных М. Б. Туровскому // Постижение
культуры. Ежегодник. М., 1996. Вып. 5-6. С. 332-335.
110. Держание: метафорика и смысл // Встреча с Декартом. Философские чтения,
посвященные М. К. Мамардашвили — 1994. М., 1996. С. 151-177.
111. Декарт: ясен до безумия? // Бессмертие философских идей Декарта. Материалы
Междунар. конф., посвящ. 400-летию со дня рождения Рене Декарта. М.: ИФ РАН,
1997. С. 111-132.
112. Опыт в творчестве Павла Флоренского // П. А. Флоренский: арест и гибель. Уфа,
1997. С. 228-248.
113. Герметизм, эксперимент, чудо: три аспекта генезиса науки нового времени //
Философско-религиозные истоки науки. М.: Мартис, 1997. С. 88-141.
114. Разум на весах Откровения: Лев Шестов и современная мысль // Новое
литературное обозрение. М., 1997. № 28. С. 379-390.
115. «Жизнедискурс» в тени Ницше: случай Фуко // Новое литературное обозрение. 1997.
№ 25. С. 382-389.
116. К анализу квалитативистского типа рациональности: случай Аристотеля //
Историко-философский ежегодник 1996. М., 1997. С. 5-15.
117. Подальше от агарротадо // Вояж. Авг. 1997. С. 23-24.
118. La tradition hermétique et la révolution scientifique: vers une nouvelle révision de la thèse
de Fr. A. Yates // 20th International Congress of History of Science. Liège (Belgium) 20-
26 July. 1997. Book of Abstracts. Scientific Sections / Ed. by С Opsomer. Liège, 1997. P. 115.
119. Жизнь и культура: несколько соображений // Постижение культуры. Ежегодник.
М., 1998. Вып. 7. С. 343-346.
120. Картезианство // Исторический лексикон. XVII в. М., 1998. С. 195-198. (Переизд.:
Исторический лексикон. История в лицах и событиях XVII век. М., 2006. С. 195-198.)
121. Декарт Р. (1596-1650) // Исторический лексикон. XVII в. М., 1998. С. 191-195.
(Переизд.: Исторический лексикон. История в лицах и событиях XVII век. М., 2006.
С. 189-191.)
122. Онтологические предпосылки «генеалогической» истории Мишеля Фуко // Вопросы
философии. 1998. № 1. С. 170-176.
123. Индивидуальность и сериальность бытия // Произведенное и названное.
Философские чтения, посвящ. М. К. Мамардашвили, 1995 г. М., 1998. С. 141-165.
124. И. Д. Рожанский. Слово памяти // Философия природы в античности и средние века.
Ч. I. М., 1998. С. 7-8.
125. Переписка с М. Фуко // Вопросы философии. 1998. № 1. С. 175-176.
126. История и метаистория // Вопросы философии. 1998. № 10. С. 98-111.
127. Генеалогия культуры: Ницше — Вебер — Фуко // Постижение культуры.
Ежегодник. М., 1998. Вып. 7. С. 5-39.
128. Статьи для «Новой философской энциклопедии». М.: ИФ РАН, 2000: Мир, Квали-
тативизм, Ментальность, Эпистема, Башляр, Кангилем, Мальро, Генеалогия,
Нигилизм, Бруно, Картезианство.
686
Список публикаций В. П. Визгина 1964-2020
129. Нестандартные формы знания в истории философии и науки: квалитативизм,
плюралистическая космология, герметизм. М., 1999.41с.
130. Понятие метода в философии Гегеля // Философские исследования. 1999. № 3. С. 140-148.
131. Философия Ницше в сумерках нашего сегодня // Ф. Ницше и философия в России.
СПб., 1999. С. 179-207.
132. Две модели интеграции и исторический опыт России // Полигнозис. 1999. № 3. С. 49-56.
133. Взаимосвязь онтологии и физики в атомизме Демокрита // Философия природы
в античности и средние века. Ч. 2 . М.: ИФ РАН, 1999. С. 14-28. (Переизд.:
Философия природы в античности и средние века. М., 2000. С. 78-90.)
134. Становление научной рациональности в химии // Рациональность на перепутье. М.,
1999. Кн. 2. С. 205-245.
135. Герметический импульс формирования новоевропейской науки:
историко-философский контекст // Одиссей (Человек в истории). 1998. М.: Наука, 1999. С. 162-187.
136. Знание как мир // Науковедение. 1999. № 2. С. 223-229.
137. Эзотерика и наука: эффект резонанса // Науковедение. 1999. № 3. С. 205-217.
138. Этюд о времени // Философские исследования. 1999. № 3. С. 149-158.
139. Сон в ноябрьскую ночь // Новое литературное обозрение. 2000. № 41. С. 349-356.
140. Мнемозина и Гермес // Новое литературное обозрение. 1999. № 35. С. 387-393.
141. Идеологии уходят, любовь остается // Новое литературное обозрение. 2000. № 44.
С. 334-343.
142. Концептуальная история множественности миров // Концепция виртуальных
миров и научное познание. СПб., 2000. С. 260-291.
143. Границы новоевропейской науки // Границы науки. М.: ИФ РАН, 2000. С. 192-227.
144. Эпистрофический порыв: прошлое и настоящее // Вопросы философии. 2000. № 3.
С. 145-154.
145. В зеркале фаларийского быка // Коллаж-3. Социально-философский и философ-
ско-антропологический альманах. М.: ИФ РАН, 2000. С. 58-62.
146. Последний дюйм. Социальная критика XX века в критическом зеркале Майкла Уо-
лцера // Независимая газета. Книжное обозрение «Ex libris» 22.06.2000. С. 4. (Рец.
на кн.: Уолцер М. Социальная критика XX века. М., 1999.)
147. Двуединый образ философии (Двойное зрение культурологии. Материалы Круглого
стола) // Философские науки. 2000. № 1. С. 82-83.
148. Жизнь и ценность: опыт Ницше // Жизнь как ценность. М.: ИФ РАН, 2000. С. 7-30.
149. Бердяев и Шестов: спор об экзистенциальной философии // Полигнозис. 2000. № 3.
С. 120-127. (Переизд. в расширенном виде: Историко-философский ежегодник 2001.
М.: Наука, 2003. С. 303-324.)
150. Конфликт эстетизма и историзма в философии Ницше // Постижение культуры.
Ежегодник. М., 2000. Вып. 10. С. 190-226. (Переизд.: Историко-философский
ежегодник 99. М., 2001. С. 228-259.)
151. Наука, религия и эзотерическая традиция: от модерна к постмодерну // Дискурсы
эзотерики. Философский анализ. М.: УРСС, 2001. С. 79-99.
152. Бруно Дж. // Исторический лексикон XIV-XVI вв. Книга первая. М., 2001. С. 156-
162. (Переизд.: Исторический лексикон. История в лицах и событиях XIV-XVI вв.
М., 2006. Кн. I. С. 156-162.)
Список публикаций В. П. Визгина 1964-2020
687
153. Ищущие Града // Полигнозис. 2001. № 2. С. 82-89.
154. Двуединый образ философии // Постижение культуры. Ежегодник. Вып. 11. М.,
2001. С. 54-56.
155. Культура как искусство целей // От философии жизни к философии культуры. СПб.:
Алетейя,2001.С. 5-8.
156. На пути к Другому: размышление на заданную тему // Постижение культуры.
Ежегодник. М., 2000. Вып. 10. С. 267-284.
157. Кризис европейского духа и проблема Другого // Постижение культуры. Ежегодник.
М., 2000. Вып. 10. С. 131-135.
158. Культура сегодня: ситуация распутья // От философии жизни к философии
культуры. СПб.: Алетейя, 2001. С. 380-384.
159. Воспоминания о В. Ф. Асмусе // Вспоминая В. Ф. Асмуса. М., 2001. С. 58-62.
160. На перекрестке двух культур: читая Августина // От философии жизни к
философии культуры. СПб.: Алетейя, 2001. С. 209-220.
161. Генеалогический проект Мишеля Фуко: онтологические основания // Мишель Фуко
и Россия. СПб.; М., 2001. С. 96-110.
162. «Инварианты» культуры // Постижение культуры. Ежегодник. М., 2000. Вып. 10.
С. 182-189.
163. «Двойная звезда» Джордано Бруно // Историко-астрономические исследования. М.:
Наука, 2002. Вып. XXVII. С. 237-258.
164. Религия — наука — эзотерическая традиция: инверсия соотношения (модерн /
постмодерн) // Кануны и рубежи. Типы пограничных эпох — типы пограничного
сознания. Материалы российско-французской конф. Ч. 1. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 94-117.
165. Поэзия — философия — повседневность // Ё: Психотворец — Обуватель — Фило-
зоф. М., 2002. С. 272-289.
166. Кризис проекта модерна и новый антропотеокосмический союз // Философии науки.
Вып. 8. Синергетика человекомерной реальности. М., 2002. С. 176-200.
167. На пути к новому антропокосмическому союзу // Два града. Диалог науки и
религии: восточно- и западноевропейская традиции. М., 2002. С. 108-143.
168. Соотношение интеграции и дифференциации религии, эзотерики и науки //
Культурология: от прошлого к будущему. М., 2002. С. 121-135.
169. La tradition hermétique et la révolution scientifique: vers une nouvelle révision de la thèse
de Fr. A. Yates // Alchemy, chemistry and farmacy / Ed. by M. Bougard. Turnhout: Brepols,
2002. P. 61-66. (Переизд. в кн.: Omnia in Uno. Hommage à Alain-Philippe Segonds. Textes
reunis par Caroline Noirot et Nuccio Ordine. Préface de Nuccio Ordine. Paris: Les Belles
Lettres, 2012. P. 401-406.)
170. Религия — наука — эзотерическая традиция: инверсия соотношения // Философия
науки в историческом контексте. СПб., 2003. С. 13-46.
171. Проект модерна: возникновение и кризис // Наука — философия — религия: в
поисках общего знаменателя. М.: ИФ РАН, 2003. С. 52-80.
172. Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель: резонанс творческой мысли // Исследования
по истории физики и механики 2002. М.: Наука, 2003. С. 174-216.
173. Выступление на круглом столе «Актуальные проблемы теории литературы»
в ИМЛИ // Контекст 2003. М.: Наука, 2003. С. 14-17.
688
Список публикаций В. П. Визгина 1964-2020
174. Эстетический материализм Жака Деррида // Философские науки. 2003. № 10. С. 63-70.
175. Из записок Медитатора (О смысле писания; Яснополянский гранд-метр в зеркале
проруби, где плавает ондатра; Две прозы; Из кавказских записей) // Контекст.
Литературно-теоретические исследования. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 225-249.
176. Философия надежды // Точки (Puncta). 2004.1-2 (4). С. 122-142.
177. «Книги А. Койре стали для меня настоящим потрясением» (Беседа с Аленом Сего-
ном) // Вопросы истории естествознания и техники. 2004. № 2. С. 159-173. (Пере-
изд.: ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. Исследования по истории платонизма. М.: Круг,
2013. С. 655-673.)
178. Анри Бергсон и экзистенциальная мысль // Вопросы философии. 2004. № 10. С. 157-
165.
179. Марсель Г. Опыт конкретной философии. М.: Республика, 2004 (пер. в соавт.).
180. Марсель Π Кьеркегор в моем мышлении // Точки (Puncta). 2004. 1-2 (4). С. 143-157
(пер.).
181. Марсель Г. Философское завещание // Точки (Puncta). 2004.1-2 (4). С. 158-171 (пер.).
182. Энциклопедические статьи: Генеалогия, Ментальность, Мир, Нигилизм, Ренессанс-
ный универсализм Дж. Бруно, Ресентимент, Эпистема, Ясность разума: Декарт //
Теоретическая культурология. М., 2005. С. 423-425, 430-432, 432-434, 436-439, 439-
442, 442-447.
183. Жизнь и ценность (опыт Ницше) // Теоретическая культурология. М., 2005. С. 102-114.
184. Антропоцентрический универсальный проект Нового времени // Теоретическая
культурология. М., 2005. С. 81-102.
185. Вера и разум: заметки к теме // В перспективе культурологии: повседневность, язык,
общество. М., 2005. С. 255-278.
186. Тело и воплощение в философии Габриэля Марселя // Логос живого и герменевтика
телесности. М., 2005. С. 251-268.
187. Вернер Гейзенберг о соотношении искусства и науки // Наука и искусство. М.:
ИФ РАН, 2005. С. 95-120.
188. Немного обо Всем // Вопросы философии. 2005. № 7. С. 168-173.
189. Последний Звенигород: рациональность под прицелом // Эпистемология и
философия науки. 2005. № 4. С. 118-143.
190. Универсализм культурного сознания и история // Теоретическая культурология.
М., 2005. С. 80-81.
191. Габриэль Марсель и русская философия // Бюллетень Библиотеки русской
философии и культуры «Дом Лосева». Вып. 1. М.: Водолей Publishers, 2005. С. 24-26. (2-е изд.:
Семинар «Русская философия» 2004-2009. М.: Русский путь, 2011. С. 214-237.)
192. Антропоцентрический универсальный проект Нового времени // Теоретическая
культурология. М., 2005. С. 81-102.
193. С. Л. Франк и Г. Марсель: притяжения и отталкивания // Историко-философский
ежегодник 2002. М., 2005. С. 320-330.
194. В поисках Другого: опыт философской автобиографии // Вопросы философии. 2006.
№ 9. С. 156-164.
195. Лев Шестов и экзистенциальная мысль // Философские науки. 2006. № 7. С. 138-155.
196. Марсель Г. Моя главная тема // Точки (Puncta). 2006. № 1-2 (6). С. 122-137 (пер.).
Список публикаций В. П. Визгина 1964-2020
689
197. Марсель Г. Размышление о вере // Точки (Puncta). 2006. № 1-2 (6). С. 138-152 (пер.).
198. Христианский платоник без доктрины: Дурылин как философ // Энтелехия. 2006.
№ 13. С. 50-54. (Второе изд.: Дурылин как философ // С. Н. Дурылин и его время.
Кн. первая. Исследования. М.: Модест Колеров, 2010. С. 186-196; 3-е изд. с
небольшими изменениями // Семинар «Русская философия» 2004-2009. М.: Русский путь,
2011. С. 268-278.)
199. Габриэль Марсель и русская философия // Вестник русского христианского
движения. 2006. № 190. С. 209-236.
200. Христианский платонизм как экзистенциальный опыт (Павел Флоренский) //
Философские науки. 2007. № 1. С. 45-59. (Переизд. с изменениями: Платонизм
Флоренского как экзистенциальный опыт // Философия, богословие и наука как опыт
цельного знания. Сб. статей по итогам юбилейной конф., посвящ. П. А. Флоренскому
(1882-1937). МГУ-МДА, 2007. М., 2012. С. 77-85.)
201. Антропология орудийности и феномен искусства // Культурно-историческая
психология. 2007. № 1. С. 35-40.
202. Марсель и Хайдеггер // Вопросы философии. 2007. № 8. С. 135-145.
203. Соотношение платонистской и экзистенциальной установок в религиозной
философии Павла Флоренского // Богословские труды. 2007. № 41. С. 449-503.
(Переизд. в сокращенном виде в кн: Наука. Философия. Религия. Книга вторая. М., 2007.
С. 208-246.)
204. Ницше и Марсель: «смерть Бога» и кризис культуры // Философские науки. 2007.
№ 4. С. 36-55.
205. Химия как amor Dei II История науки в философском контексте, СПб., 2007. С. 9-48.
206. Стихотворения // Волхонка, 14. Стихотворения. Кн. П. М.: ИФ РАН, 2007. С. 49-58.
207. Выступление на круглом столе «Философские дискуссии 1970-1980-х гг. и
современная мысль» // Философская Россия (приложение к журналу). М.: РУДН, 2007. № 2.
С. 7-12. (Переизд. в кн.: Судьба европейского проекта времени. М., 2009. С. 547-551.)
208. Une proximité lointaine: Nicolas Berdiaeff et Gabriel Marcel // Bulletin de lassociation
«Présence de Gabriel Marcel». 2007. No. 17. P. 45-66.
209. Марсель L Присутствие и бессмертие. Избранные работы. M.: ИФТИ, 2007. 328 с.
(Сост., общ. ред., предисл., примеч. и пер.)
210. Феномен Лосева // Бюллетень Библиотеки русской философии и культуры «Дом
Лосева». 2007. № 6. С. 46-49.
211. Морис Мерло-Понти и Габриэль Марсель // Историко-философский ежегодник 2007.
М., 2008. С. 249-270.
212. Трансдисциплинарный межличностный резонанс: В. Гейзенберг и Г. Марсель // Этос
науки. M.: Academia, 2008. С. 432-453.
213. Гносеология мудрости // Эпистемология и философия науки. 2008. Т. XV. № 1. С. 227-
229.
214. Марсель Π Свидетельство как локализация экзистенциального // Эпистемология
и философия науки. 2008. Т. XV. № 1. С. 230-238 (пер. с примеч.).
215. Марсель Г. Ты не умрешь / Подборка и представление текстов — А. Марсель;
вступит, слово — Ксавье Тийет. СПб.: Изд. дом «Mip», 2008 (пер. кн. избр. раб. Г.
Марселя и примеч.).
690
Список публикаций В. П. Визгина 1964-2020
216. Кей П. Наука и эффективность: испытание метафизики Аристотеля архитектурной
теорией Витрувия // Вопросы истории естествознания и техники. 2008. № 3. С. 3-17 (пер.).
217. Энциклопедические статьи: Пьер Адо, Жорж Кангилем, Андре-Жан Фестюжьер //
Философы Франции. Словарь. М.: Гардарики, 2008. С. 9-10,135-137, 299-300.
218. Между понятием и образом // Башляр Π Избранное: Поэтика грезы. М.: РОССПЭН,
2009. С. 389-434.
219. Как я понимаю философию // Философский журнал. 2009. № 1 (2). С. 18-28.
220. Феномен Дурылина // Философские науки. 2009. № 6. С. 51-59.
221. Язык экзистенции в «Постскриптуме» Кьеркегора // Философские науки. 2009. № 7.
С. 34-52.
222. Мы все его так любили: Вспоминая Мераба Мамардашвили. М.: РОССПЭН, 2009.
С.17-32.
223. Проект человека и общества // Философские науки. 2009. № 8. С. 20-28.
224. Энциклопедические статьи: «Беседы о множественности миров», Квалитативизм,
Ментальность, «Новый научный дух» // Энциклопедия эпистемологии и
философии науки. М.: Канон+, 2009. С. 84-85, 356-357, 485-486,607-608.
225. Проблема времени: синергетический подход // Судьба европейского проекта
времени. М.: Прогресс-Традиция, 2009.
226. Пьер Адо о «Трагедии философии» Булгакова // Вопросы философии. 2009. № 7.
С. 153-157.
227. Адо П. Философия как тринитарная ересь (по поводу книги Сергия Булгакова
«Трагедия философии») // Вопросы философии. № 7. 2009. С. 158-170 (пер. с примеч.).
228. Пределы бергсонизма и величие Бергсона: Габриэль Марсель об Анри Бергсоне //
Логос. 2009. № 3 (71). С. 60-69.
229. Эстетический материализм Ж. Деррида и проблема времени // Судьба европейского
проекта времени. М., 2009. С. 347-353.
230. Подвижник творческой мысли // Новиков Ю. Ю. Философ рубежа веков
(посвящается 150-летию со дня рождения Бергсона). М.: Институт ноосферных разработок
и исследований, 2009. С. 1 (предисл.).
231. Комментарий на комментарий А. В. Ахутина // Судьба европейского проекта
времени. М.: Прогресс-Традиция, 2009. С. 587-595.
232. Эммануэль Левинас о различии философских взглядов Бубера и Марселя //
Историко-философский ежегодник 2009. М., 2010. С. 190-194.
233. Три силуэта в свете двойной звезды жизни и культуры. Жизнь как философская
идея: Дильтей — Ницше — Бергсон (к постановке проблемы) // Философские науки.
2010. №4. С. 5-15.
234. Силуэт первый: Вильгельм Дильтей // Философские науки. 2010. № 5. С. 5-20.
235. Силуэт второй: Фридрих Ницше // Философские науки. 2010. № 6. С. 5-20.
236. Силуэт третий: Анри Бергсон // Философские науки. 2010. № 7. С. 65-79.
237. На пути в храм философии // В. Ф. Асмус. М.: РОССПЭН, 2010. С. 164-168.
238. Николай Бердяев и Габриэль Марсель: к феномену встречи // Вопросы философии.
2010. №3. С. 110-118.
239. Мартин Бубер и Габриэль Марсель // Историко-философский ежегодник 2009. М.,
2010. С. 157-161.
Список публикаций В. П. Визгина 1964-2020
691
240. Марсель Г. Философская антропология Мартина Бубера // Историко-философский
ежегодник 2009. М., 2010. С. 162-189 (пер. и коммент.).
241. Эмманюэль Левинас о различии философских взглядов Бубера и Марселя //
Историко-философский ежегодник 2009. М., 2010. С. 190-194.
242. Философия — теоретический дискурс или образ жизни? // Антропология
субъективности и мир современной коммуникации. Сб. ст. М.: Изд-во «Известия ФГУП»,
2010. С. 271-279.
243. Латентные константы в демокритовском учении о множестве миров // Космос
и душа. Вып. 2: Учения о вселенной и человеке в античности, средние века и новое
время. М., 2010. С. 9-28.
244. Слово о Георгии Гачеве: записи вдогонку // Вестник РХГА. 2010. Т. 11. Вып. 2.
С. 102-126.
245. Александр Викторович Михайлов: штрихи к философской характеристике //
Философский журнал. 2010. № 2 (5). С. 30-48.
246. Философия причинности Габриэля Марселя // Философские науки. 2010. № 9.
С. 60-62.
247. Марсель Г. Бог и причинность // Философские науки. 2010. № 9. С. 62-71 (пер. и
коммент.).
248. Эстетический материализм Жака Деррида и проблема времени // Судьба
европейского проекта времени. М.: Прогресс-Традиция, 2009.
249. Выступление на Круглом столе «Актуальность философских дискуссий 1970-
1980-х гг. для современной мысли» // Судьба европейского проекта времени. М.:
РОССПЭН, 2009.
250. Резонансное движение культуры: Достоевский — Иванов — Марсель // Вестник
РХГА. Вып. 2. 2011. (Переизд.: Ф. М. Достоевский и культура Серебряного века:
традиции, практики, трансформации. К 190-летию со дня рождения и к 130-летию
со дня смерти Ф. М. Достоевского. М., 2013. С. 207-222.)
251. Экзистенциальный философ под микроскопом филолога // Вопросы философии.
2011. №12. С. 97-106.
252. Марсель Π Духовные искания Фердинанда Эбнера // Вопросы философии. 2011. № 2.
С. 171-179 (пер.).
253. Пьер Адо и экзистенциальная философия // Философские науки. 2011. № 11. С. 91-97.
254. Время и слово в мемуарах Шатобриана: заметки к теме // Филология: научные
исследования. 2011. № 3. С. 5-12.
255. Марсель Г. Величие Бергсона // Философские науки. 2011. № 12. С. 82-91 (пер. с
примеч.).
256. Оглядываясь назад с томом Зубова в руках: опыт интеллектуальной автобиографии //
Бюллетень библиотеки «Дом А. Ф. Лосева». М., 2011. Вып. 13. С. 94-100 (2-е испр.
изд.: Вопросы истории естествознания и техники. 2012. № 1. С. 134-140).
257. Забытый мыслитель // Вопросы философии. 2011. № 2. С. 167-170.
258. В честь юбилея Института истории естествознания и техники // Вопросы истории
естествознания и техники. 2012. № 3. С. 122-128. (2-е испр. изд. в книге: 80 лет
Институту истории науки и техники 1932-2012. История института в публикациях
журнала «Вопросы истории естествознания и техники». М., 2012. С. 280-286.)
692
Список публикаций В. Я. Визгина 1964-2020
259. Онтологические основания философии Мишеля Фуко // Метафизика. 2012. № 6.
С.107-119.
260. Франкофоб Франсуа Везен и германофилка Жермена де Сталь: к правдивой
истории франко-германского философского диалога // Вопросы философии. 2012. № 8.
С. 137-144.
261. Александр Викторович Михайлов: встреча и диалог // Философские науки. 2012.
№6. С. 112-120.
262. Философия французская и философия немецкая: заметки к теме // Философский
журнал. 2012. № 1. С. 26-39.
263. Габриэль Марсель // Большая российская энциклопедия. М., 2012. Т. 19. С. 211.
264. Именуя бесконечность // Вопросы истории естествознания и техники. 2012. № 3.
С.119-123.
265. Урок Руссо // Философские науки. 2012. № 11.
266. Созидающая верность // Созидающая верность. К 90-летию А. А. Тахо-Годи.
Бюллетень библиотеки «Дом А. Ф. Лосева». М., 2012. Вып. 16. С. 34-35. (Переизд. в кн.:
Симпосион: к 90-летию со дня рождения Азы Алибековны Тахо-Годи. М.: Водолей,
2013. С. 243.)
267. Марсель Г. Ницше: человек перед лицом смерти Бога // Философские науки. 2012.
№ 1. С. 106-114; Философские науки. 2012. № 2. С. 118-129 (пер. с примеч.).
268. Марсель Г. О смелости в метафизике. СПб.: Наука. 2013. 411 с. (пер., сост., вступит,
ст., примеч. и прилож.). (Рец. на кн.: Гуревин П. С. Интеллектуальная отвага //
Философия и культура. 2013. № 10 (70). С. 1479-1486.)
269. Герметическая традиция и научная революция: к новой интерпретации тезиса
Фрэнсис А. Йейтс // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2013. № 1.
С. 92-100.
270. Бердяев и Марсель // Николай Александрович Бердяев. М.: РОССПЭН, 2013. С. 174-194.
271. К обновлению истории философии: размышление ad hoc // Философский журнал.
2013. №2 (11). С. 70-82.
272. Левинас о различии философских взглядов Бубера и Марселя // Марсель Г. О
смелости в метафизике. СПб., 2013. С. 364-367.
273. Николай Бердяев и Габриэль Марсель: к феномену встречи // Марсель Г. О смелости
в метафизике. СПб., 2013. С. 396-409.
274. Понятие личности в философии Габриэля Марселя // Марсель Г. О смелости в
метафизике. СПб., 2013. С. 368-385.
275. Пределы бергсонизма и величие Бергсона: Габриэль Марсель об Анри Бергсоне //
Марсель Г. О смелости в метафизике. СПб., 2013. С. 385-395.
276. Экзистенциальная философия Габриэля Марселя // Марсель Г. О смелости в
метафизике. СПб., 2013. С. 5-31.
277. Философия науки Гастона Башляра. М.; СПб., 2013. 288 с. (Рец. на кн.: Гуревин П. С.
Между понятием и образом // Личность. Культура. Общество. Международный
журнал социальных и гуманитарных наук. 2013. Т. XVI. Вып. 3-4. № 83-84. С. 224-226.)
278. Актуальность философской мысли Габриэля Марселя // URL: http://www. russ.
ru / mirovaya-povestka / Aktual-nost-filosofskoy-mysli-Gabrielya-Marselya (Русский
журнал 2012).
Список публикаций В. П. Визгина 1964-2020 693
279. Рикёр Л. Марсель и феноменология // Поль Рикёр в Москве. М., 2013. С. 421-451
(пер.).
280. Бесконечное в мышлении греков: еще раз об известной проблеме // Творчество
А. Ф. Лосева в контексте отечественной и европейской культурной традиции.
К 120-летию со дня рождения и 25-летию со дня смерти. М., 2013. Ч. 1. С. 22-31.
281. Бахтин и Габриэль Марсель: к реконструкции диалога // Контекст-2013. Ежегодник
теории и истории литературы. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 12-29.
282. Кризис проекта модерна // Сб. материалов XV конф. «Наука. Философия. Религия».
Проблемы экологии и кризис ценностей современной техногенной цивилизации
(Дубна, 25-26 окт. 2012 г.). М., 2013. С. 126-157.
283. Михаил Пришвин и Габриэль Марсель // Человек. 2014. № 1. С. 137-142. (Пер. на англ.
яз.: Michail Prishvin and Gabriel Marcel // Social Sciences. Quarterly Journal of Russian
Academy of Sciences. 2014. No. 3. Vol. 45. P. 50-54.)
284. Жуковский как философ: заметки благосклонного читателя // Филология: научные
исследования. 2014. № 2. С. 168-180.
285. Русская философия: в семинаре и за его пределами // Вопросы философии. 2014.
№12.
286. Актуальность философской мысли Габриэля Марселя // Философские науки. 2014.
№ 9. С. 12-23.
287. Парадоксальность соотношения философии и ее истории // История философии:
вызовы XX века. М., 2014. С. 128-138.
288. Экзистенциализм и богословская мысль Георгия Флоровского // Философский
журнал. 2014. № 2. С. 24-37.
289. Рикёр о философии Марселя: опыт интерпретации // Поль Рикёр: Человек —
общество — цивилизация. М.: Канонн-, 2015. С. 172-192.
290. Поздний Гуссерль: квазирелигия разума как продуктивный тупик // История
философии. М., 2015. Т. 20. С. 102-129. (Пер. на англ. яз.: Social Sciences. Quarterly Journal
of Russian Academy of Sciences. 2016. No. 2. Vol. 47. P. 52-69.)
291. Поздний Шел ер о соотношении религии и философии // Топосы философии
Наталии Автономовой. К юбилею. М.: Политическая энциклопедия, 2015. С. 365-378.
292. Флоровский и Марсель: православный богослов на фоне экзистенциальной
философии // Георгий Васильевич Флоровский. М.: Политическая энциклопедия, 2015.
С. 357 (Переизд. статьи, вошедшей в книгу «Философия Габриэля Марселя: Темы
и вариации». СПб., 2008.)
293. Универсальный эволюционистский спиритуализм Бергсона: за и против // А.
Бергсон: pro et contra. СПб.: РХГА, 2015. С. 708-743.
294. Освальд Шпенглер и Мартин Хайдеггер // Философские науки. 2015. № 7. С. 68-82.
295. Гаянэ Тавризян как философ // Философские науки. 2015. № 6. С. 149-157.
296. Философия и музыка // Философские науки. 2016. № 5. С. 94-109.
297. Социальная философия Габриэля Марселя // История философии. 2016. № 21.
С. 100-106.
298. Марсель Г. Философ в современном мире // История философии. 2016. № 21. С. 107-
118 (пер. с примеч.).
299. Марсель Г. // Православная энциклопедия. М., 2016. Т. 44. С. 109-113.
694
Список публикаций В. П. Визгина 1964-2020
300. Феноменология телесности в «Метафизическом дневнике» Габриэля Марселя //
Тема «живого тела» в истории философии. М.; СПб.: Центр гуманитарных
инициатив. 2016. С. 122-142.
301. Пьер Адо // Западная философия XX — начала XXI в. Интеллектуальные биографии.
М.; СПб.: Университетская книга, 2016. С. 8-24.
302. Шестов и Марсель // Лев Шестов. М.: РОССПЭН, 2016. С. 165-182.
303. Адо, Кангилем, Сегон, Фестюжьер (статьи для словаря) // Философы Франции:
словарь. 2-е изд., испр. и доп. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. С. 10-12,
197-198, 385-387,424-426.
304. Пришвин и Дурылин о святых местах России // Философские науки. 2016. № 4.
С. 117-128.
305. Еще раз об энтелехии культуры // Философский журнал. 2017. № 1. С. 5-22.
306. Фуко М. // Большая российская энциклопедия. М., 2017. Т. 33. С. 645-646.
307. Экзистенциальные мотивы в «Дневнике» Мен де Бирана // История философии.
2017. Т. 22. №2. С. 44-55.
308. Ганге Г Д. Образы божества в культуре // Вопросы философии. 2017. № 12. С. 218-222.
309. Бердяев и Марсель в культурном контексте предвоенной Франции // Философские
науки. 2018. № 1. С. 92-115.
310. Вспоминая Регину Карпинскую // Философия в новом диалоге с природой. К
90-летию со дня рождения Р. С. Карпинской. Материалы Междунар. конф. М.: ИФ РАН,
2018. С. 133-147.
311. Марсель Г Люди против человеческого / Сост., вступит, ст., пер. с франц., примеч.
B. П. Визгина. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. 208 с.
312. Александр Михайлов: опыт философской характеристики // Жизнь в науке:
Ал. В. Михайлов — исследователь литературы и культуры. М.: ИМЛИ РАН, 2018.
C. 24-47.
313. Александр Михайлов: встреча и резонанс идей // Жизнь в науке: Ал. В. Михайлов —
исследователь литературы и культуры. М.: ИМЛИ РАН, 2018. С. 400-406.
314. Прощание с Герценом // Вестник РХГА. 2019. Т. 20. Вып. 1. С. 118-132.
315. Гачевская зима с Декартом // Ганев Г Д. Французский образ мира. Зимой с Декартом
(роман мышления). М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2019. 839с. С. 822-828.
316. От пирамид к тропической сельве: к феноменологии приключения // Философский
журнал. 2019. № 3. С. 62-75.
317. Религия и философия в дневнике Анри Амьеля // Историко-философский
ежегодник. 2019. Т. 34. С. 135-155.
318. Вспоминая Вячеслава Семеновича Степина // Человек. 2019. Т. 30. № 2. С. 89-90.
319. Читая дневник Амьеля // Вестник культурологии. 2020. № 1 (92). С. 205-219.
320. Слезы сильнее логики: персонализм Альберта Соболева // Вопросы философии.
2020. №11.
321. Мишель Фуко: Тогда и теперь // Вестник культурологии. 2020. № 1 (92). С. 81-90.
322. Картезианство // Философская антропология. 2020. Т. 6. № 1. С. 139-162.
Научное издание
Виктор Павлович Визгин
НАУКА В ЕЕ ИСТОРИИ: ВЗГЛЯД ФИЛОСОФА
2-е издание
Корректор О. Круподер
Ведущий редактор И. Богатырева
Оригинал-макет подготовлен С. Белоусовым
Подписано в печать 24.11.2020. Формат 70x100 Vi6.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Гарнитура Minion Pro.
Усл. печ. л. 56,11. Тираж 300. Заказ №
Издательский Дом ЯСК
№ госрегистрации 1147746155325
Phone: +7 495 624-35-92 E-mail: Lrc.phouse@gmail.com
Site: http://www.lrc-press.ru, http://www.lrc-lib.ru
ООО «ИТДГК Тнозис"»
Розничный магазин «Гнозис» (с 10:00 до 19:00)
Турчанинов пер., д. 4, стр. 2. Тел.: +7 499 255-77-57
itdgkgnosis@gmail.com
Оптовый отдел
Ул. Бутлерова, д. 17Б, оф. 313. Тел.: +7 499 793-58-01
sales@gnosisbooks.ru
www.gnosisbooks.ru, vk.com/gnosisbooks